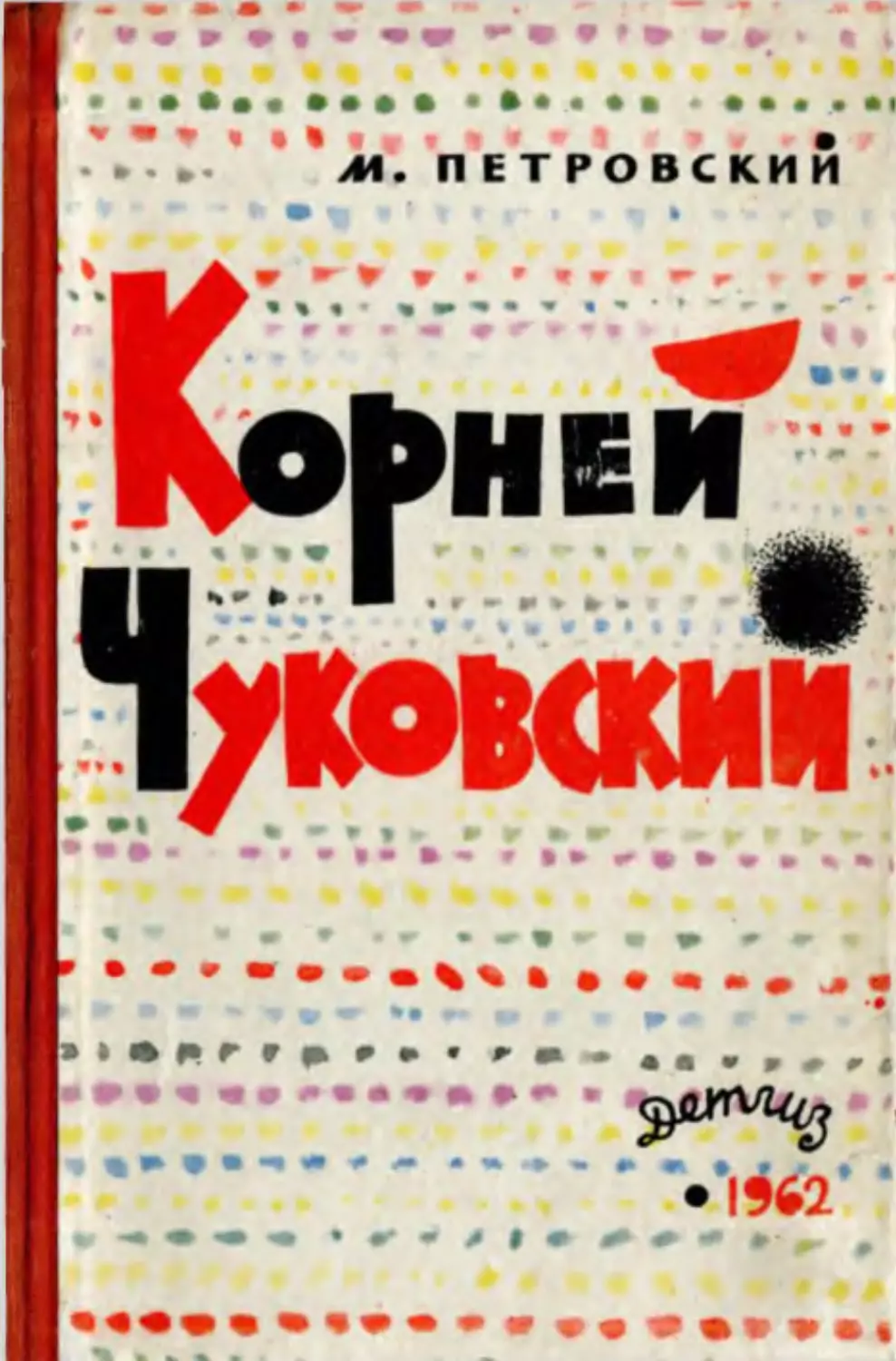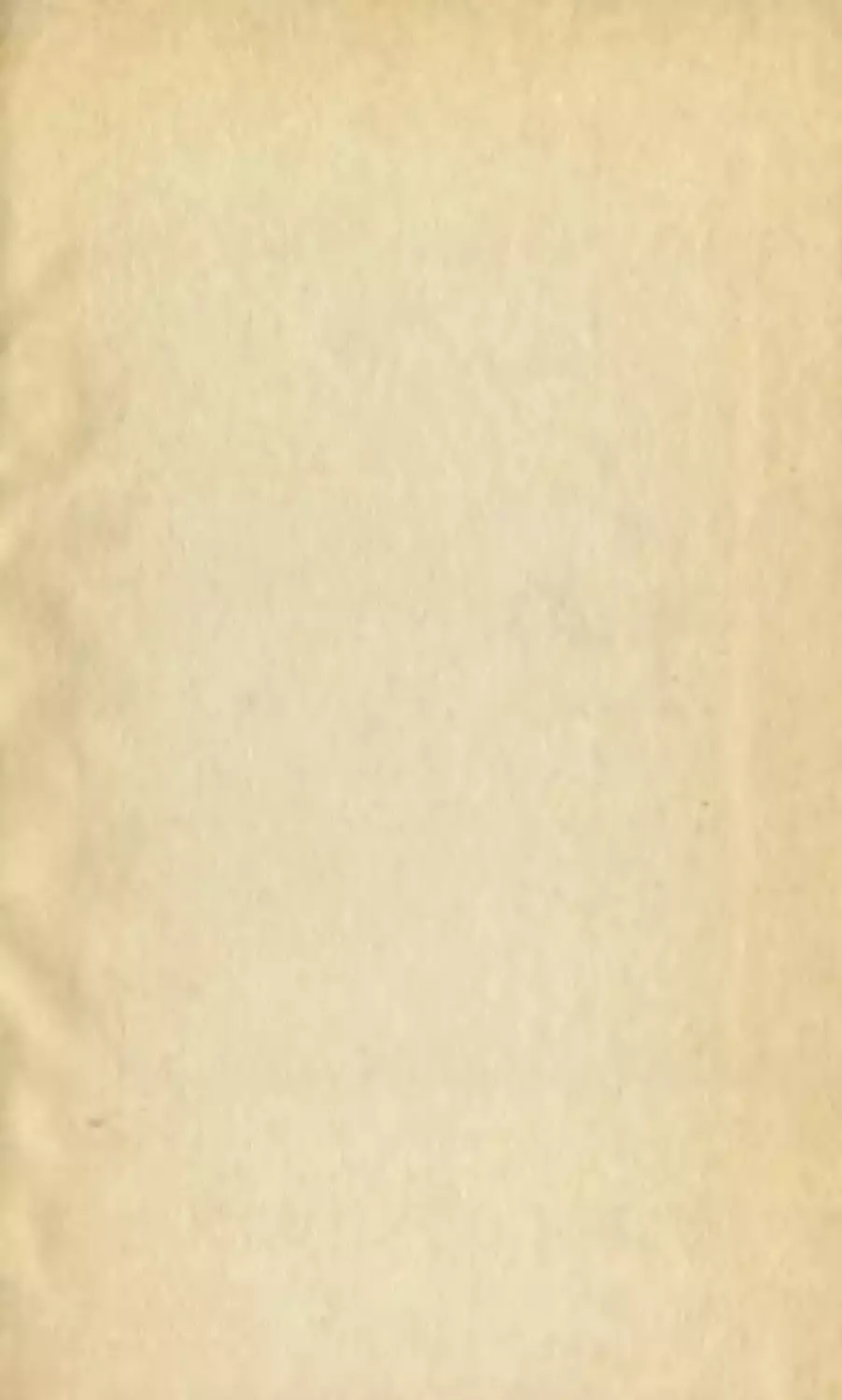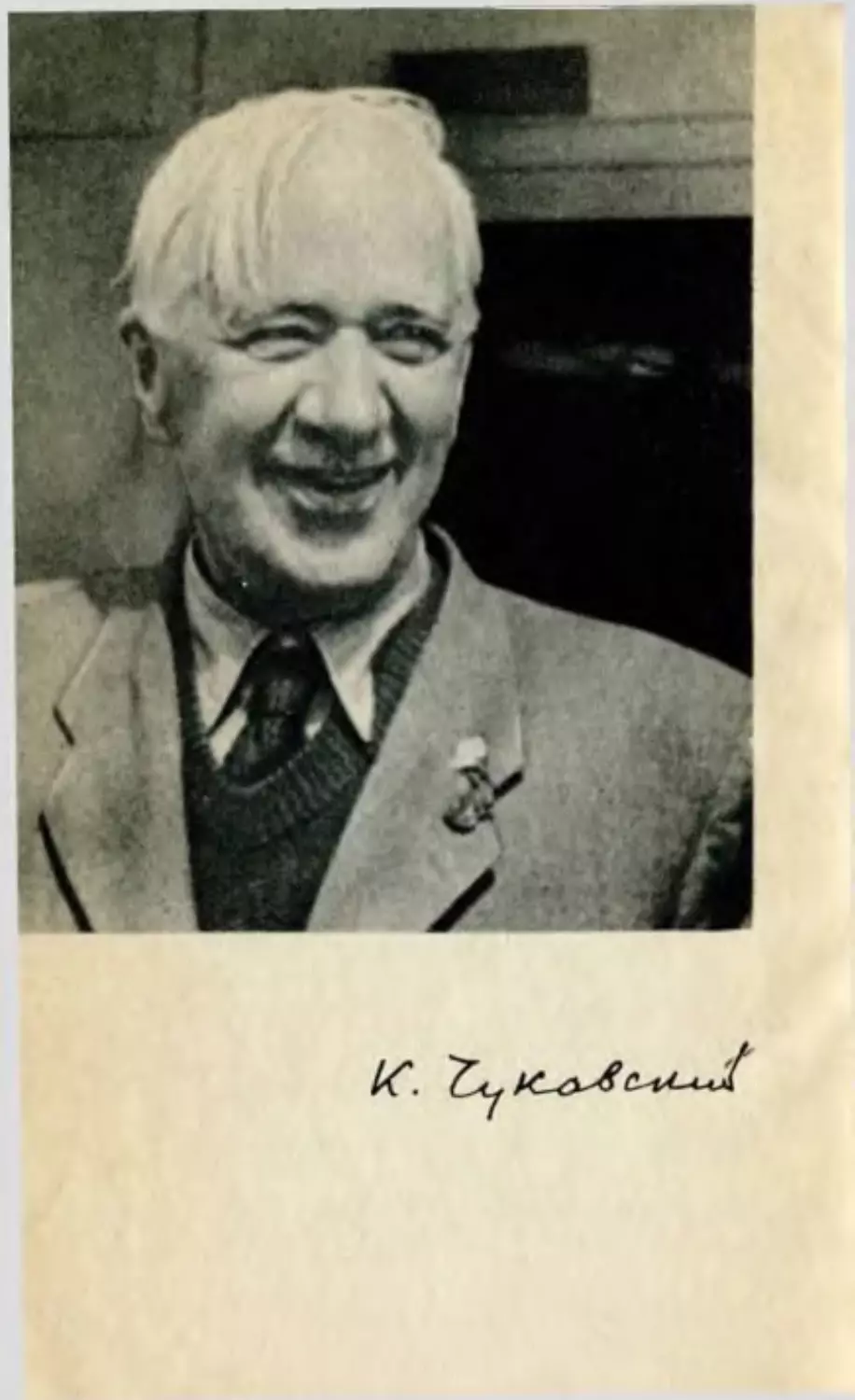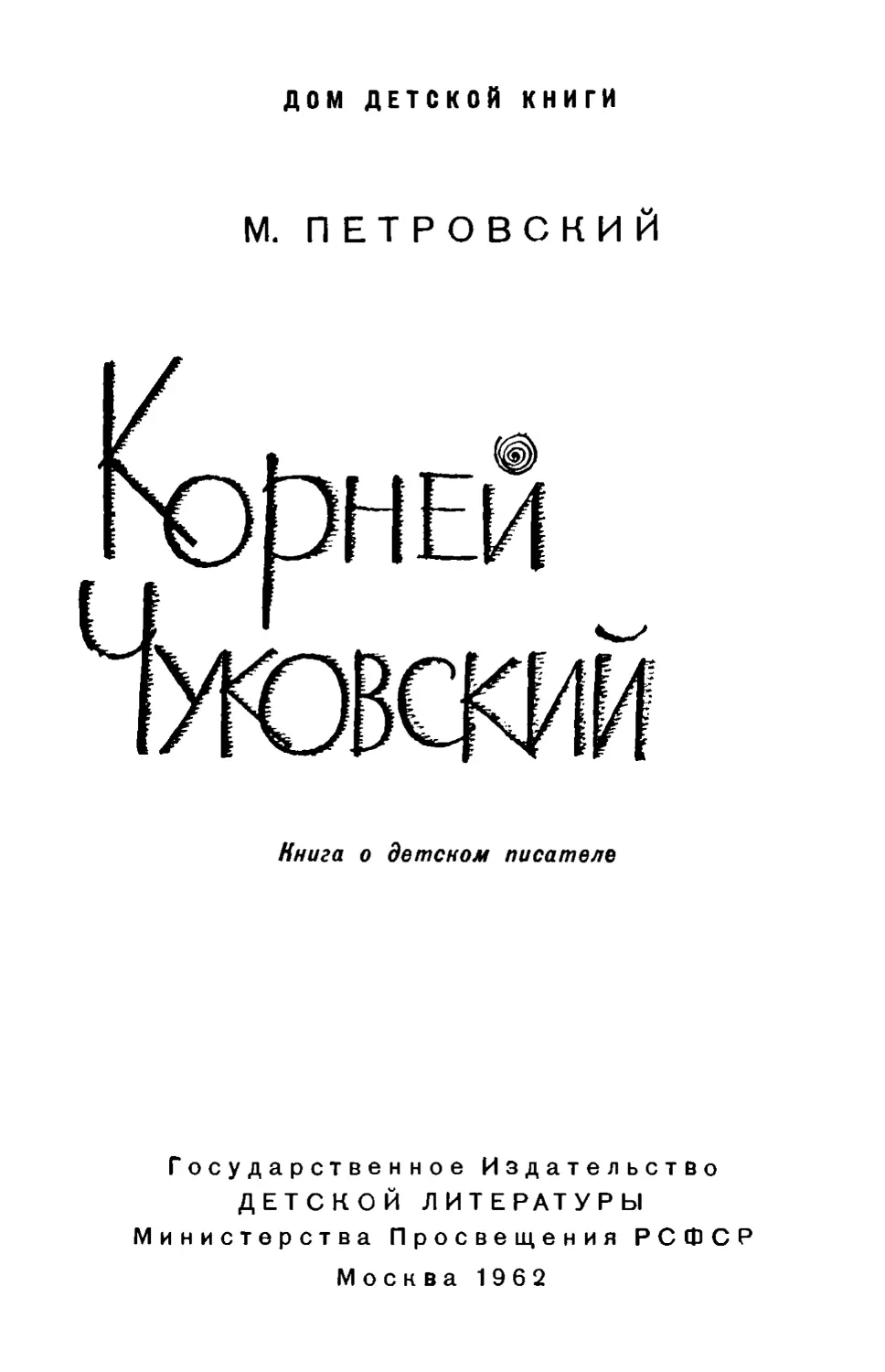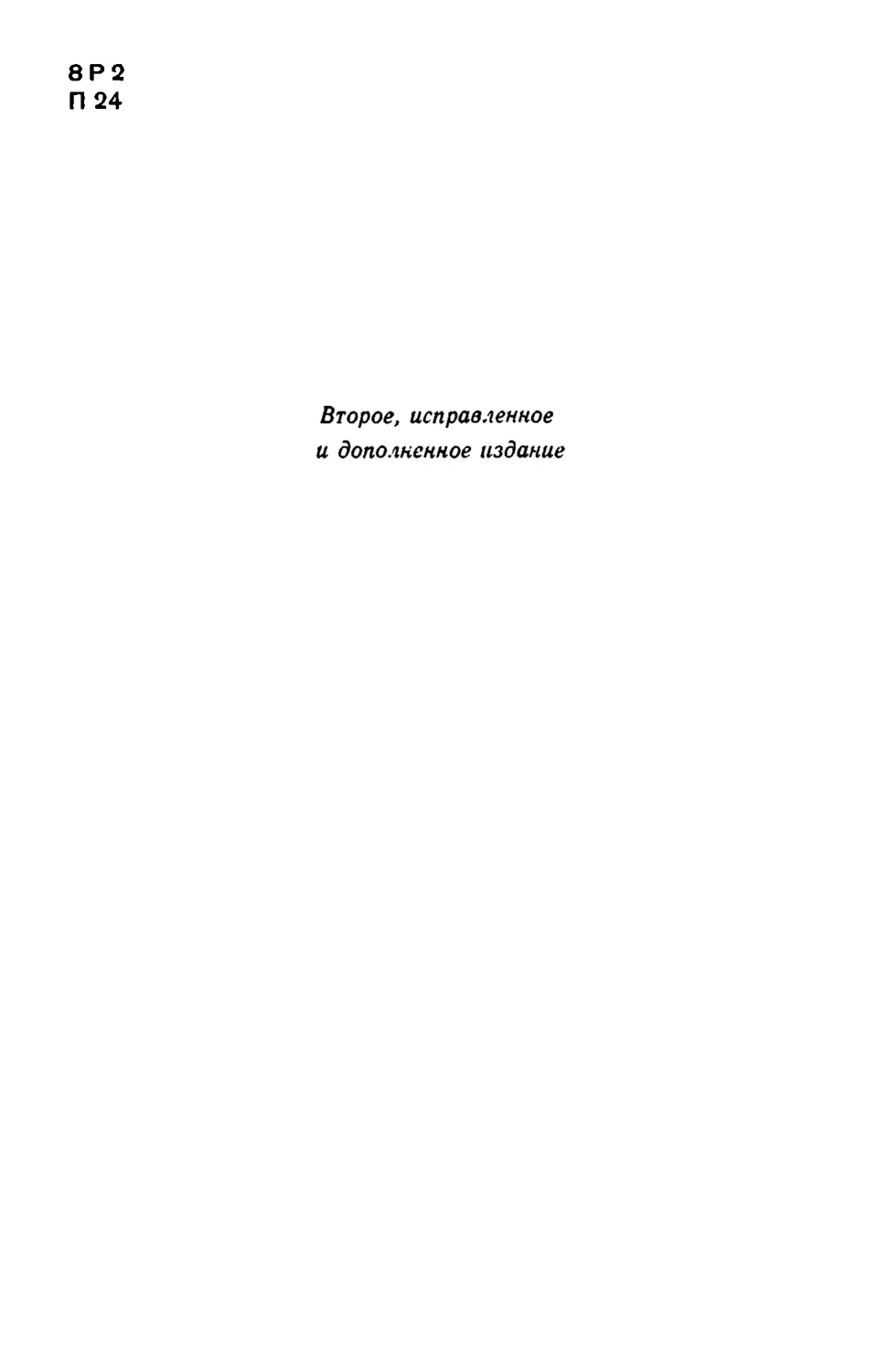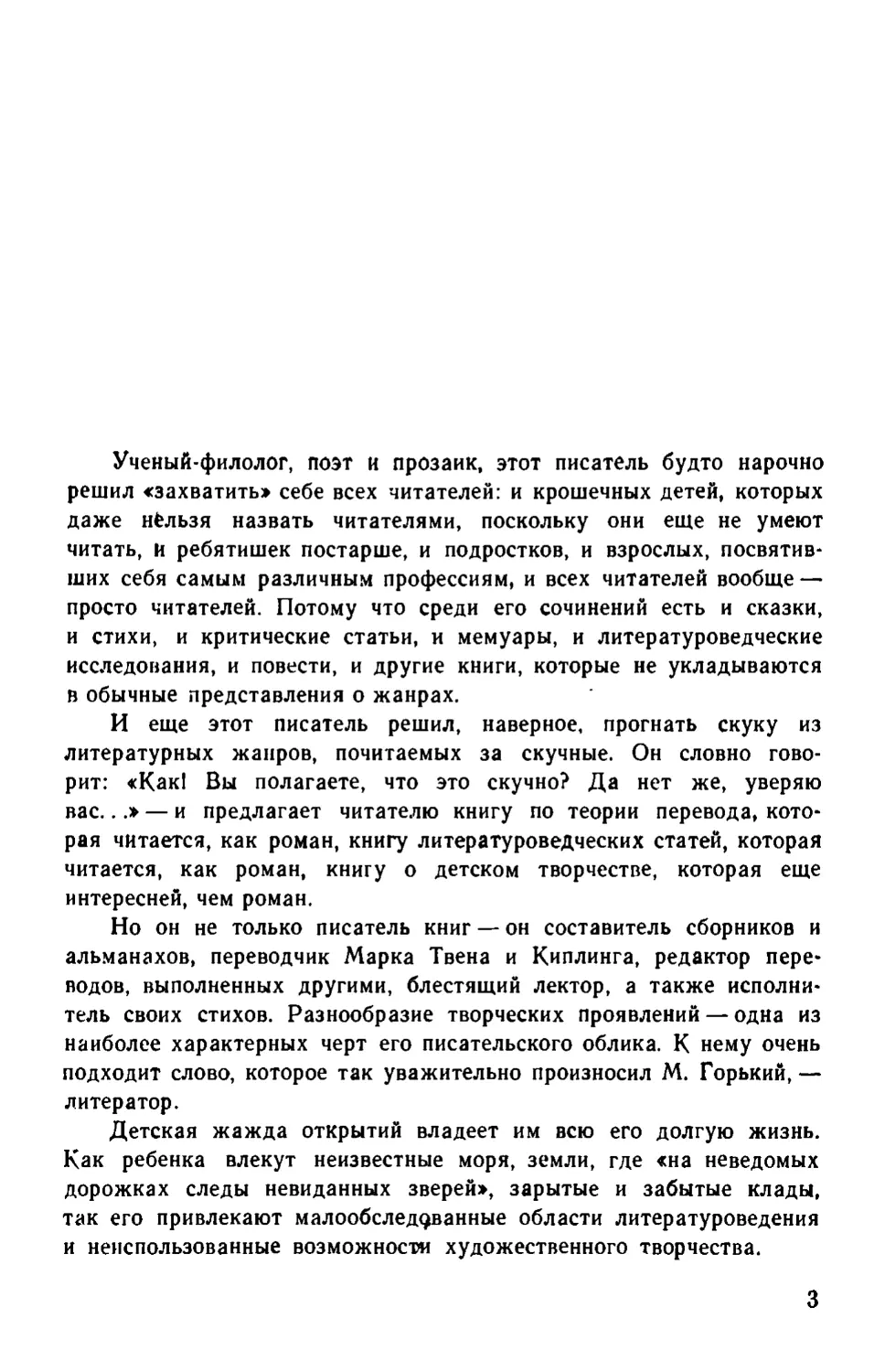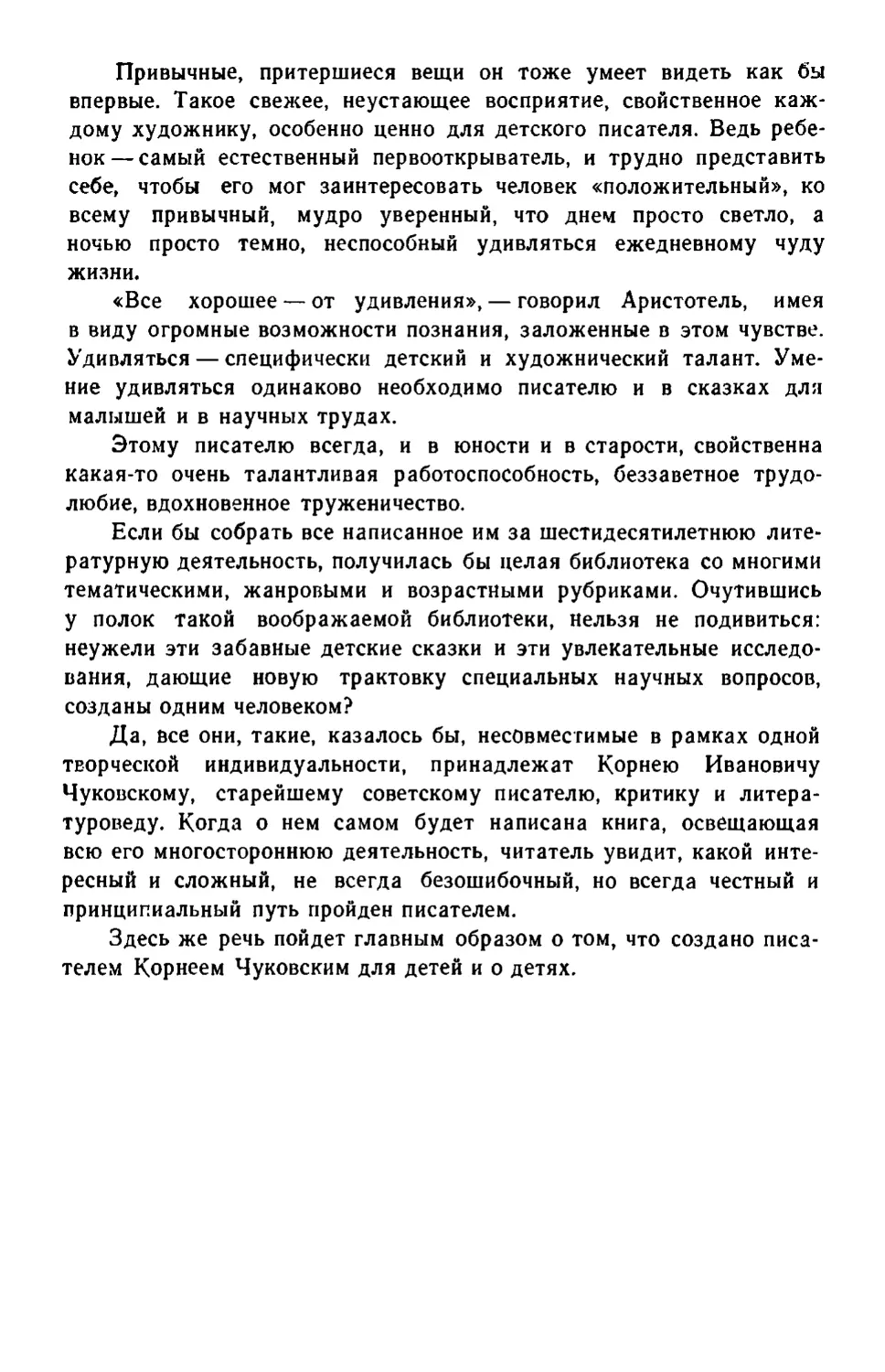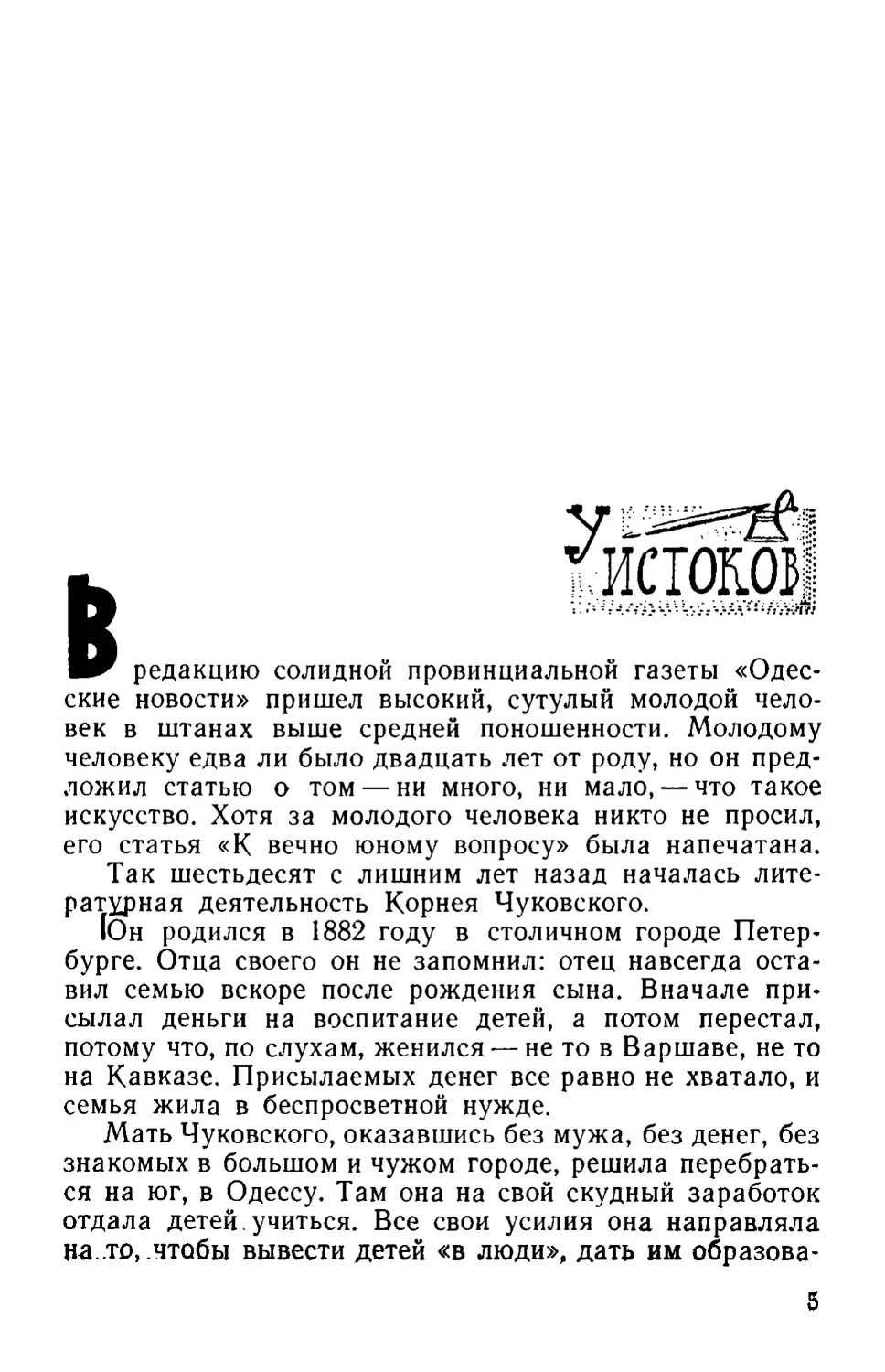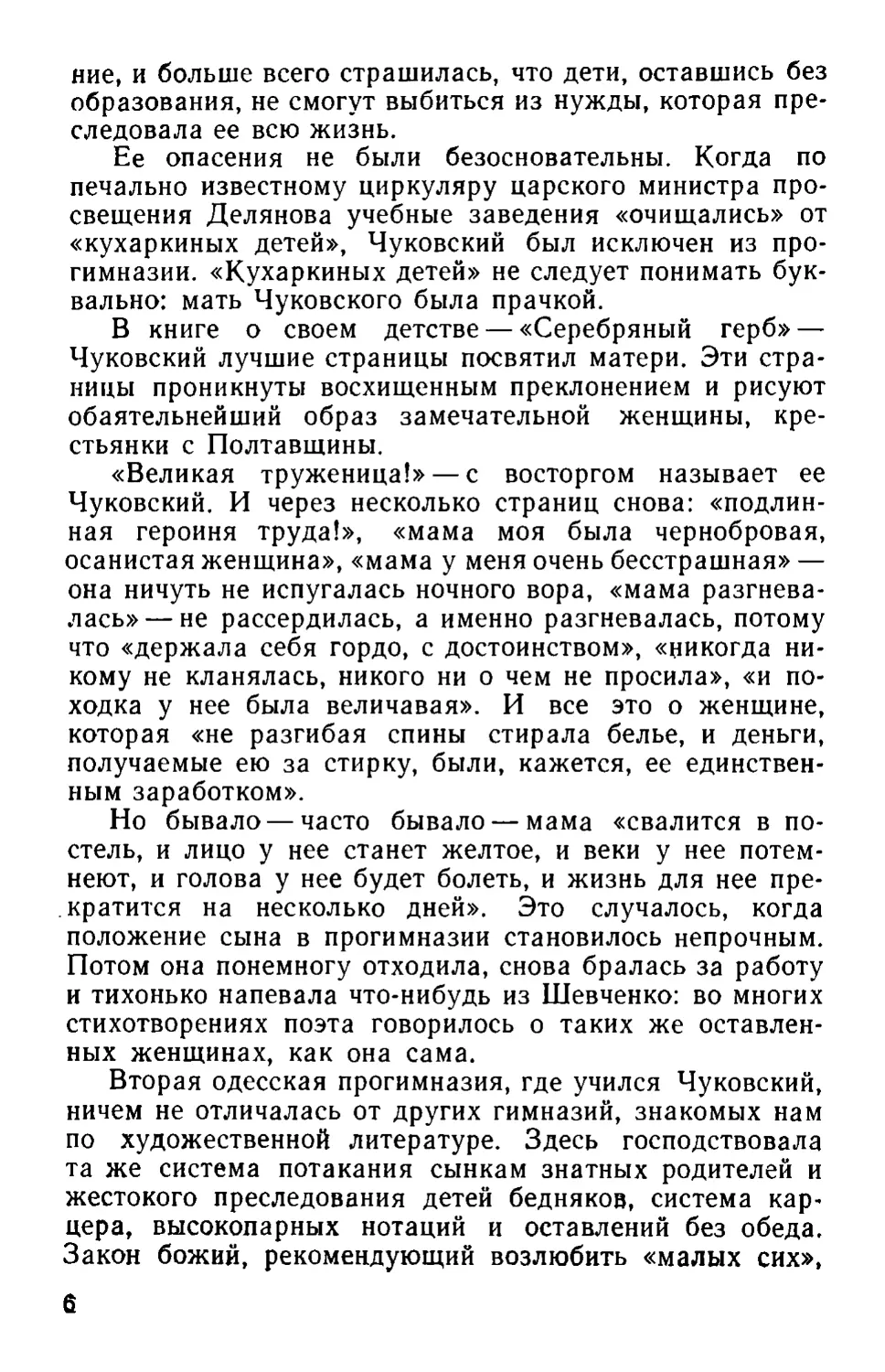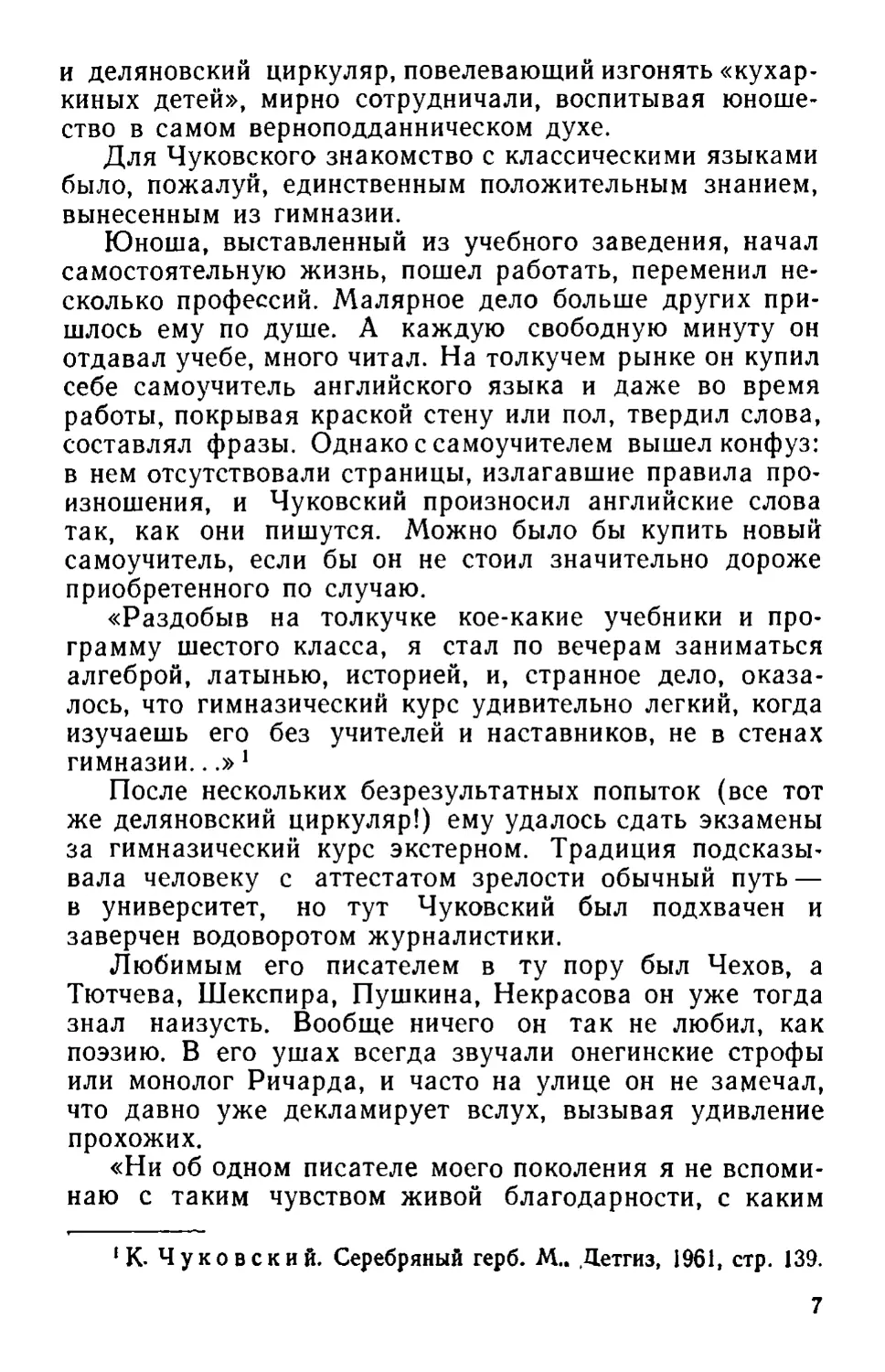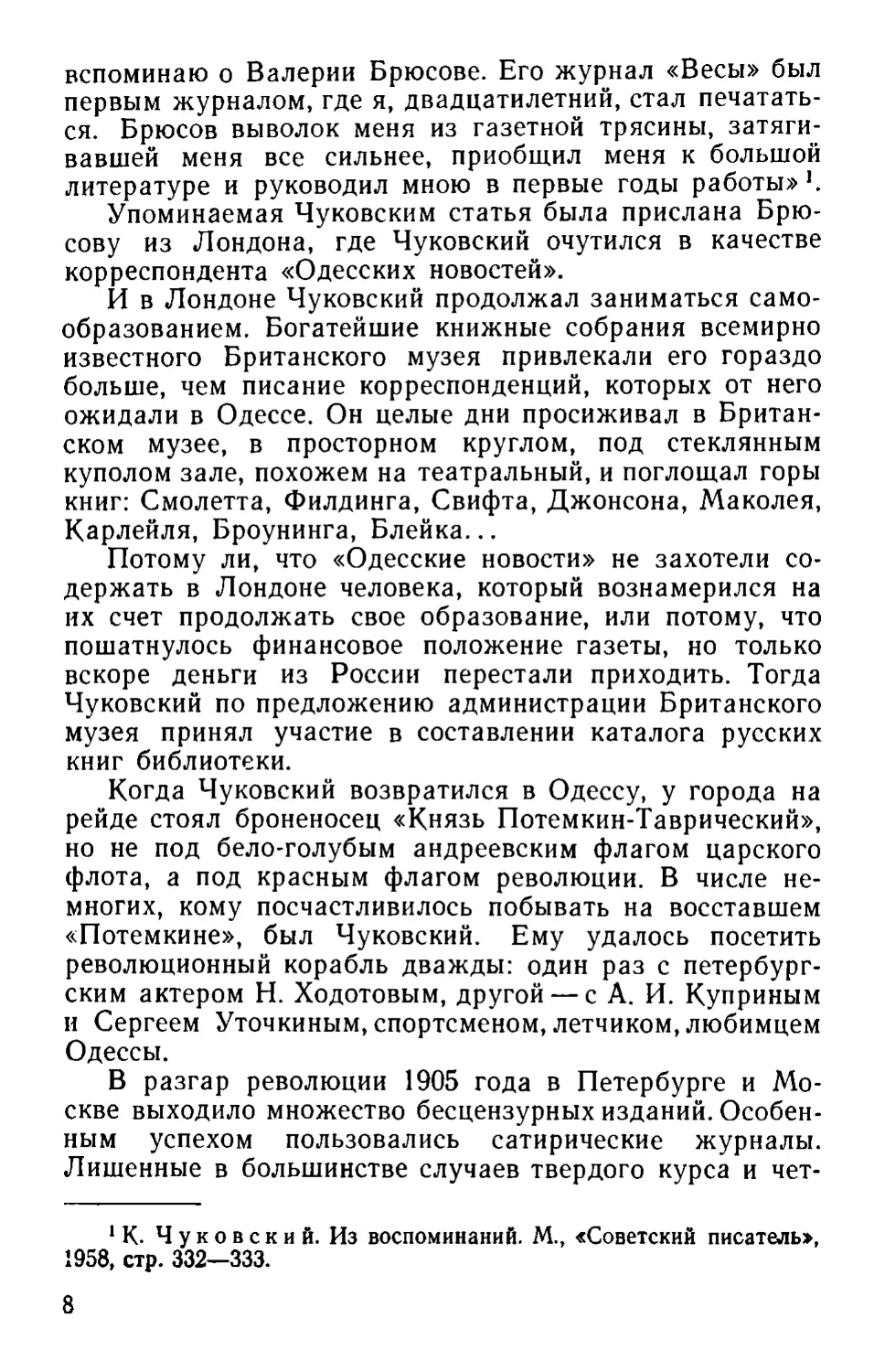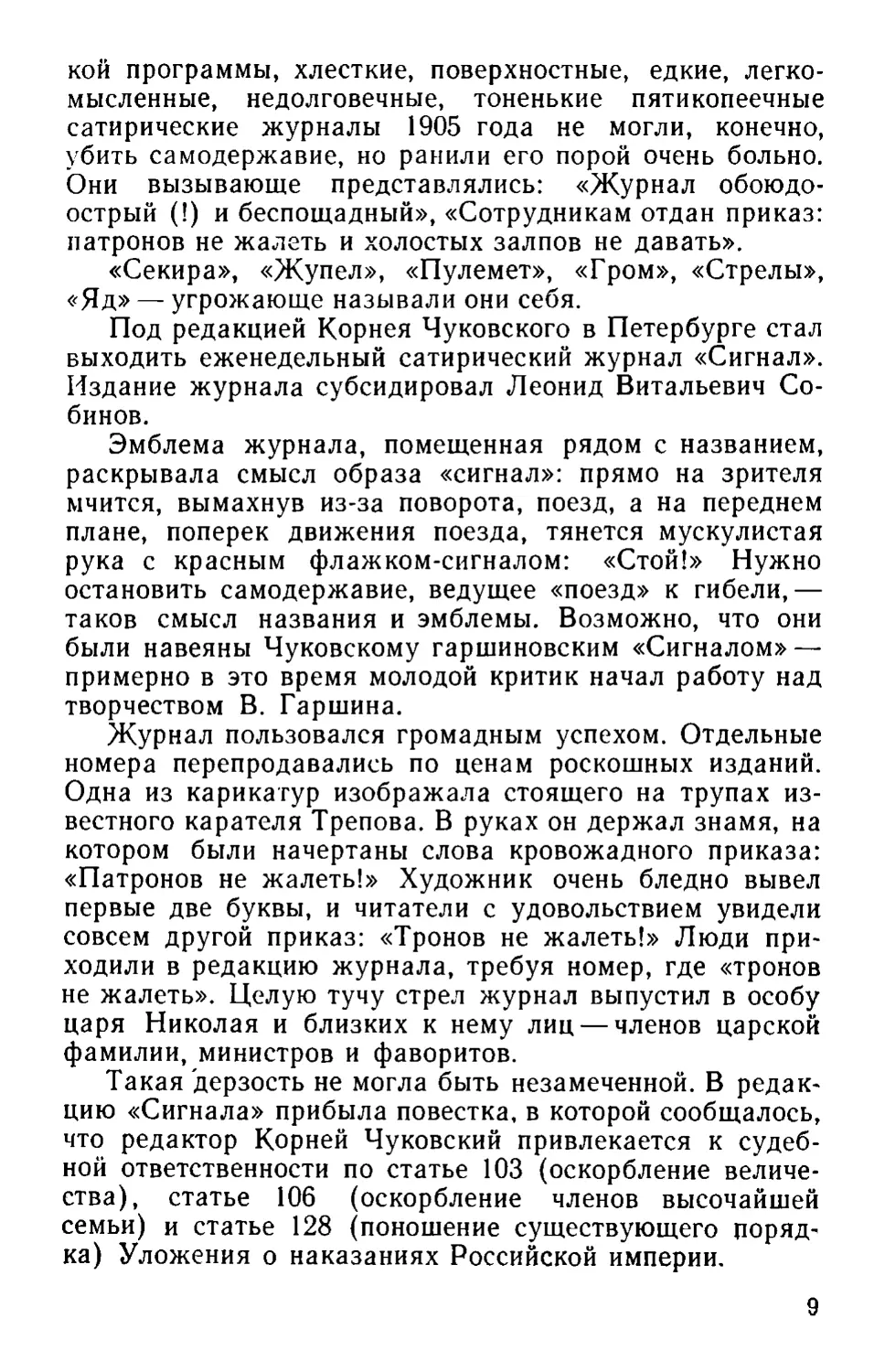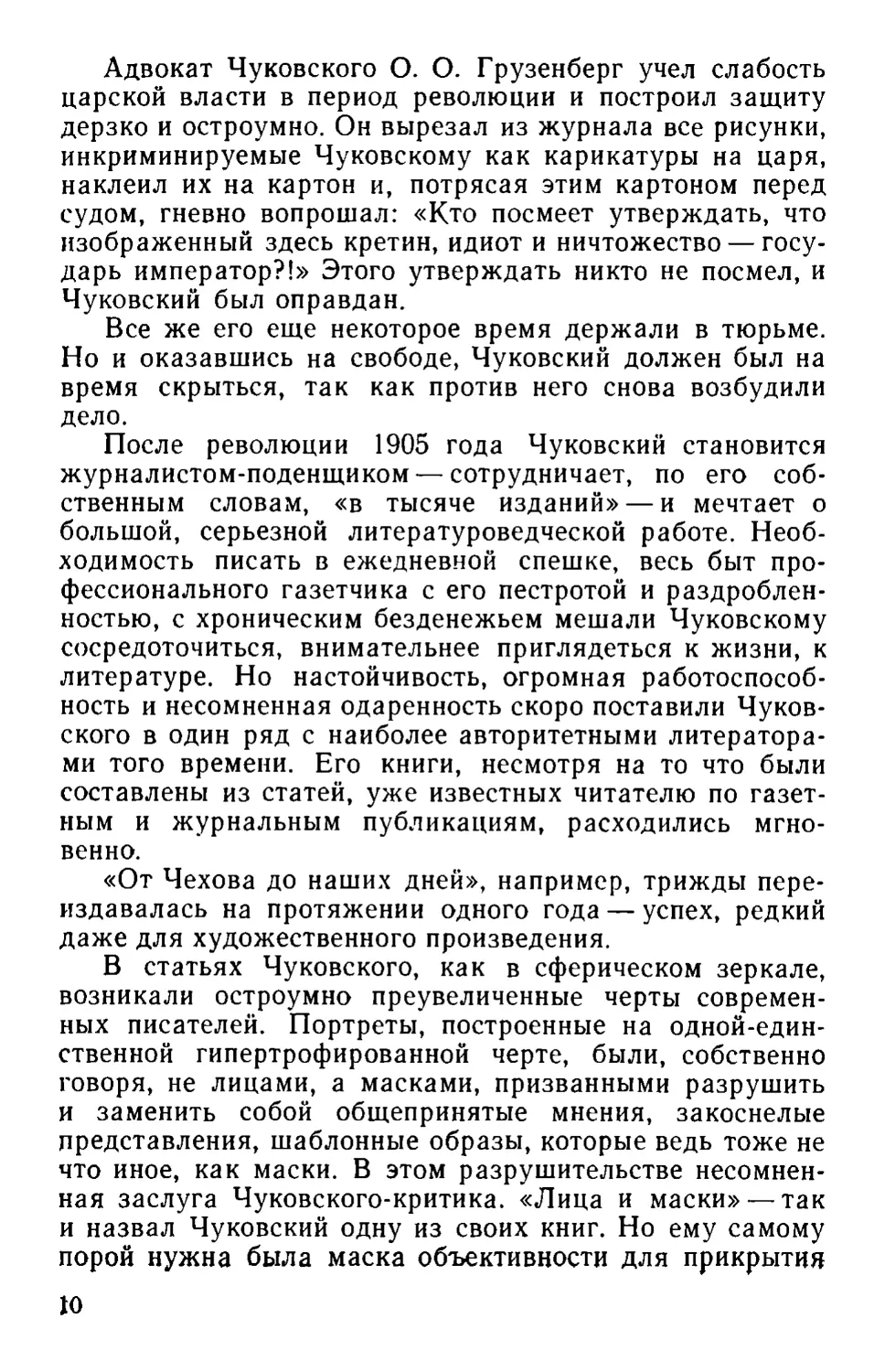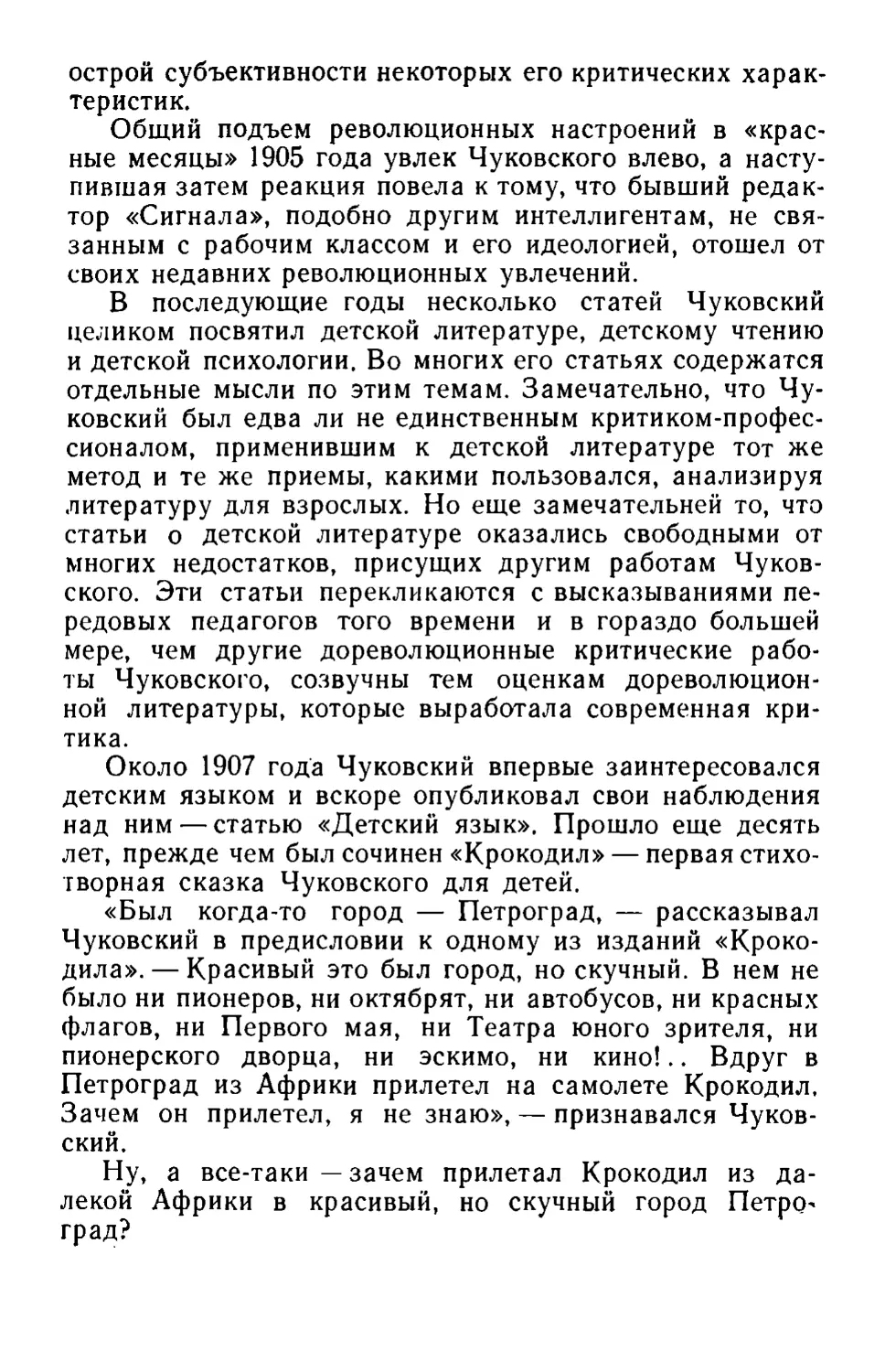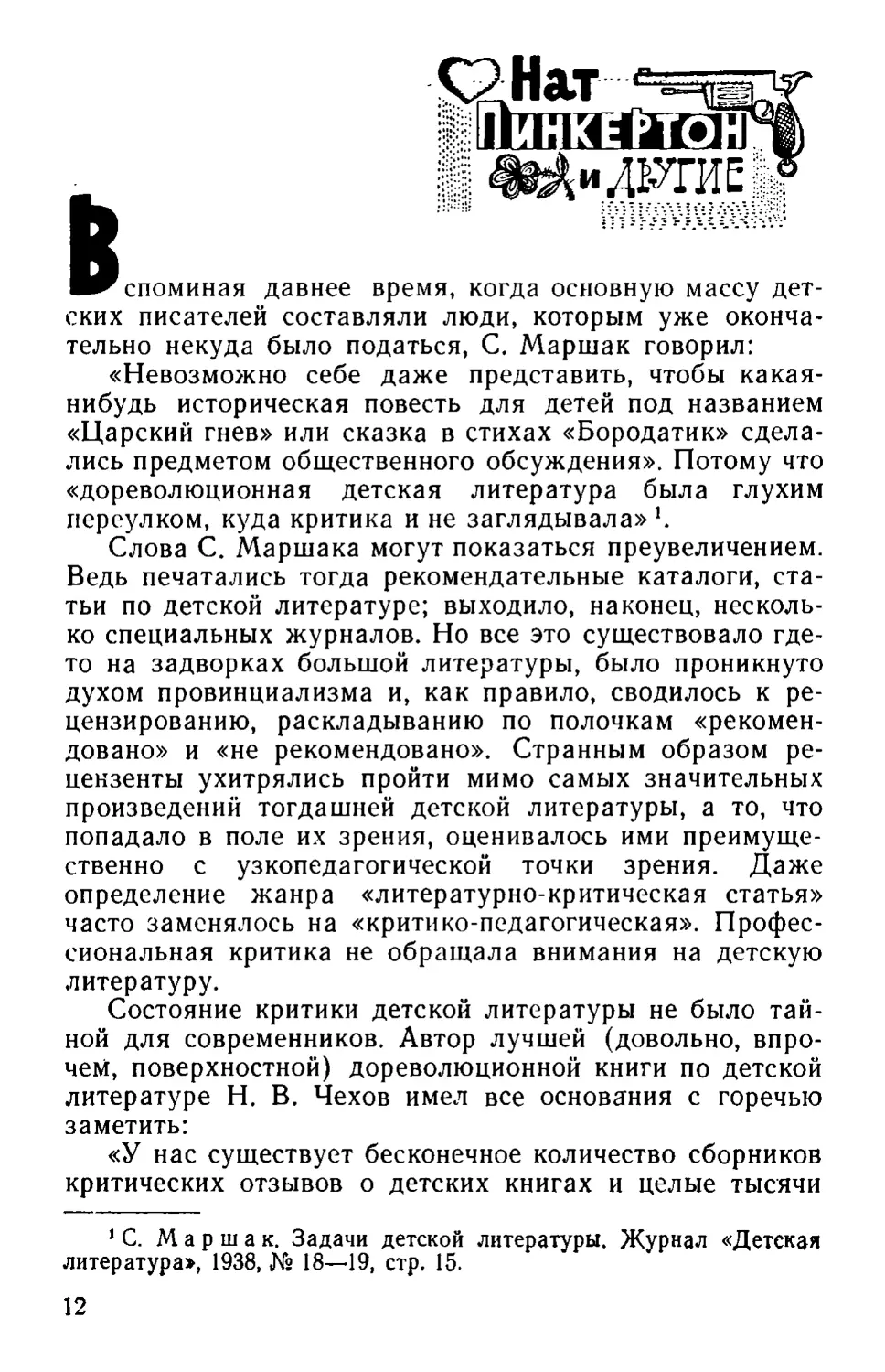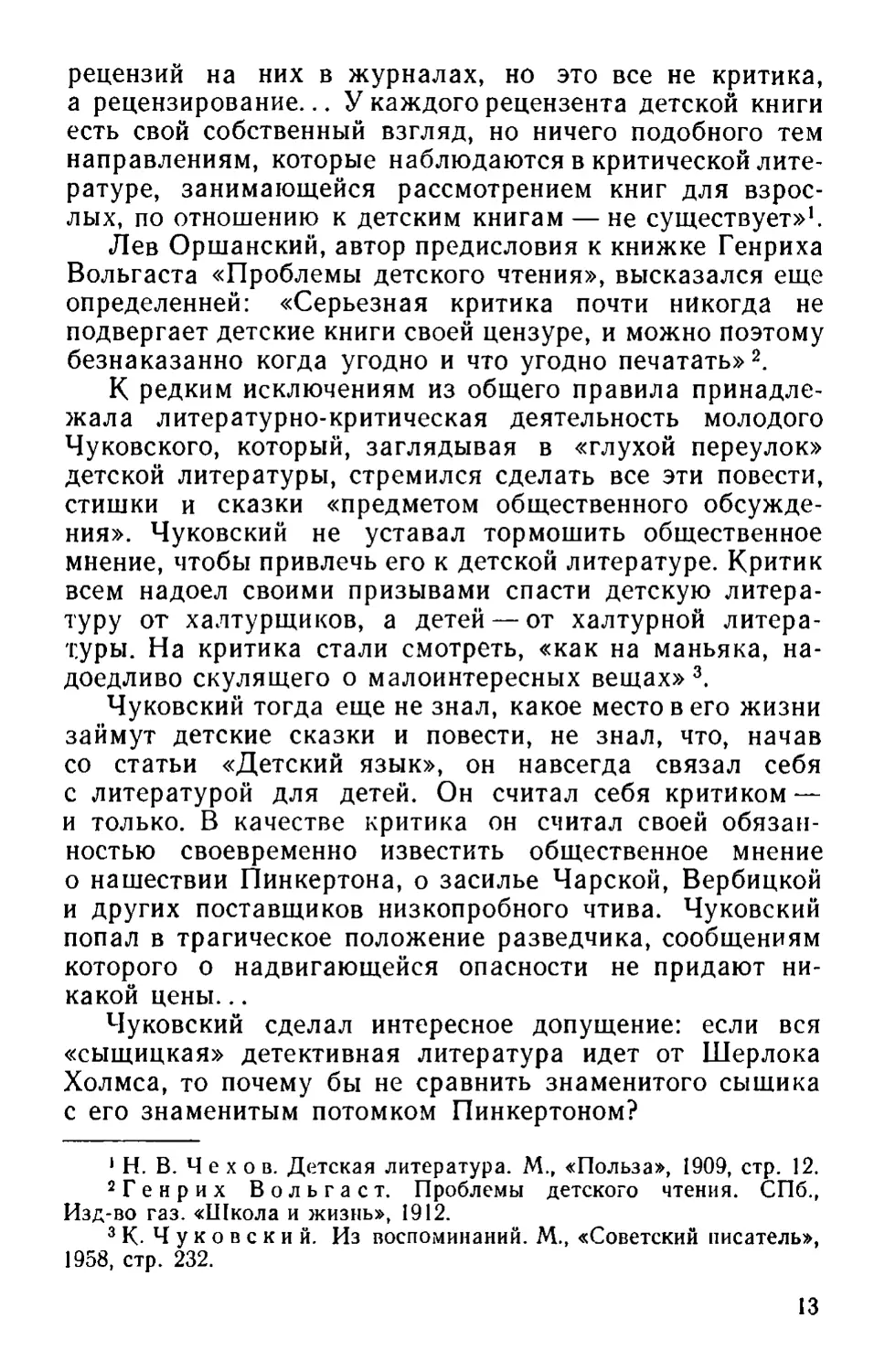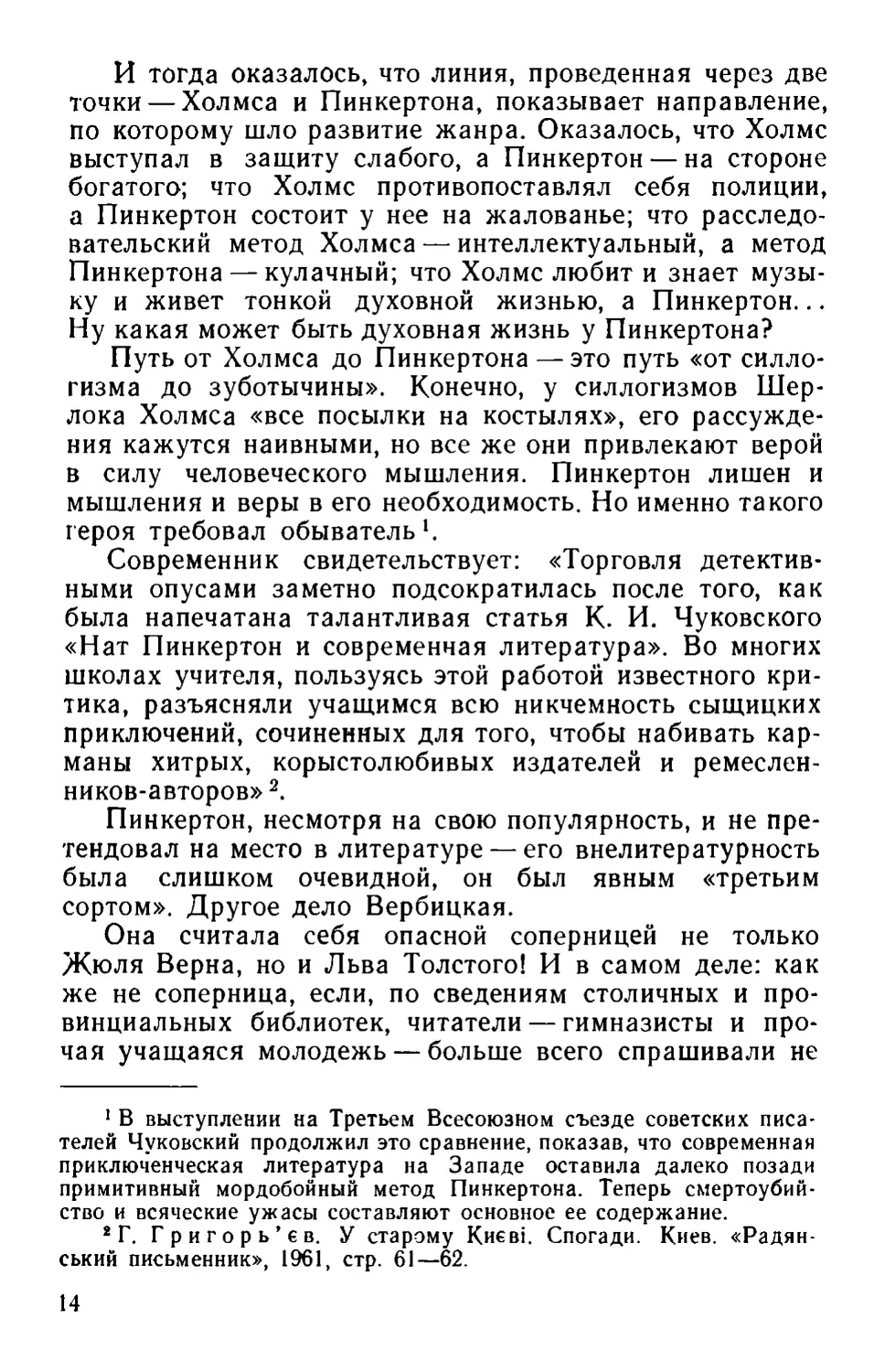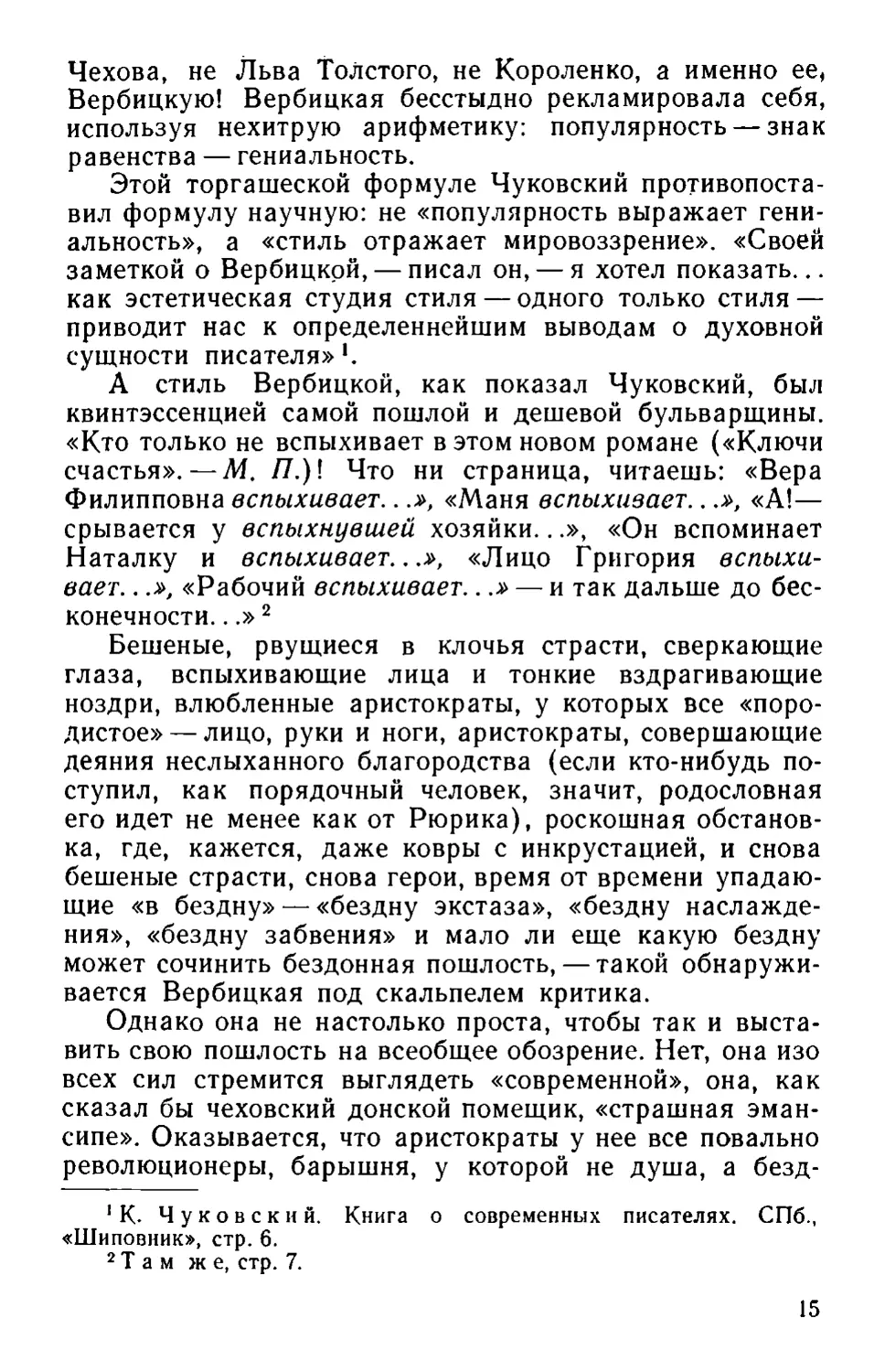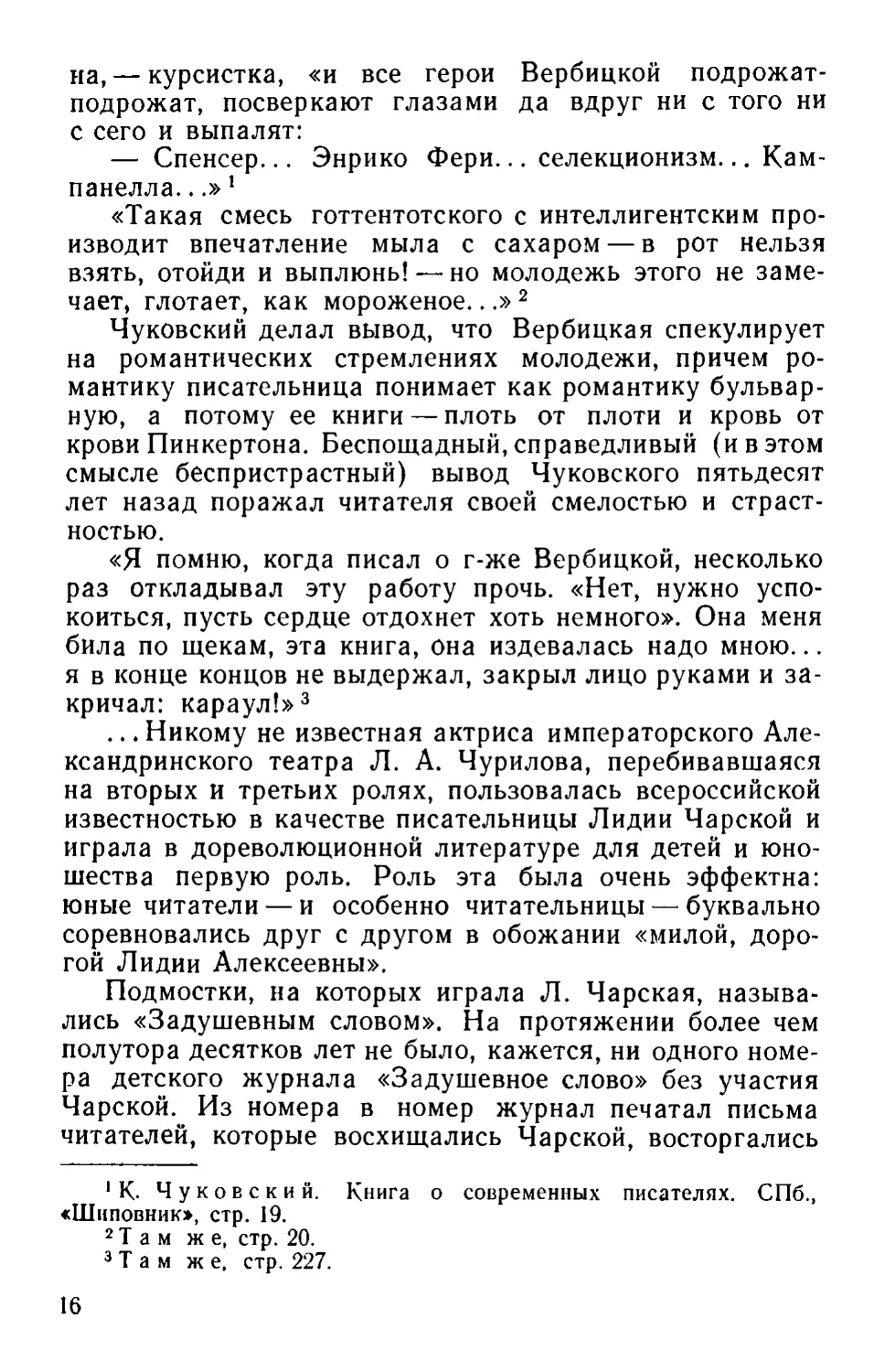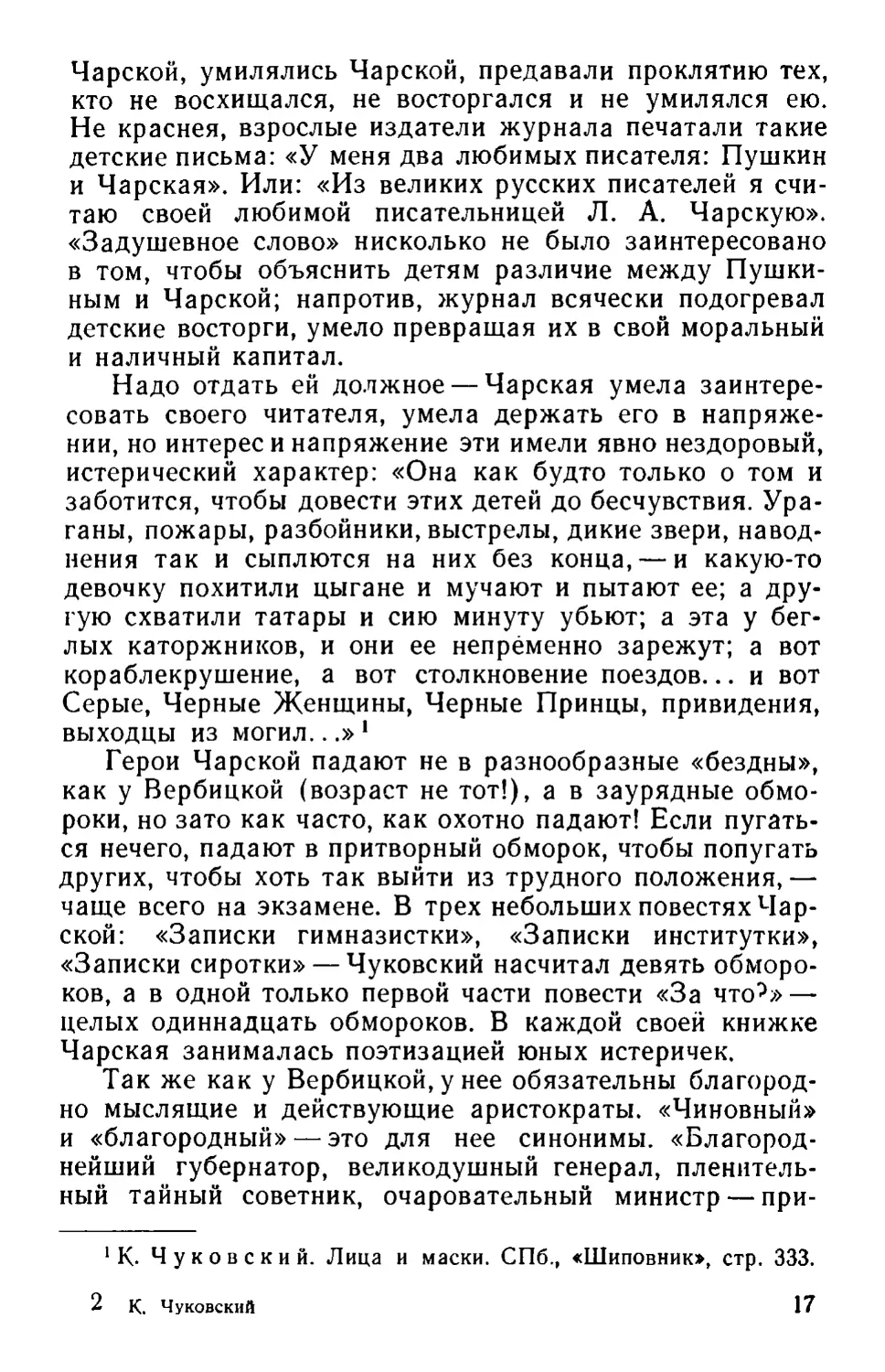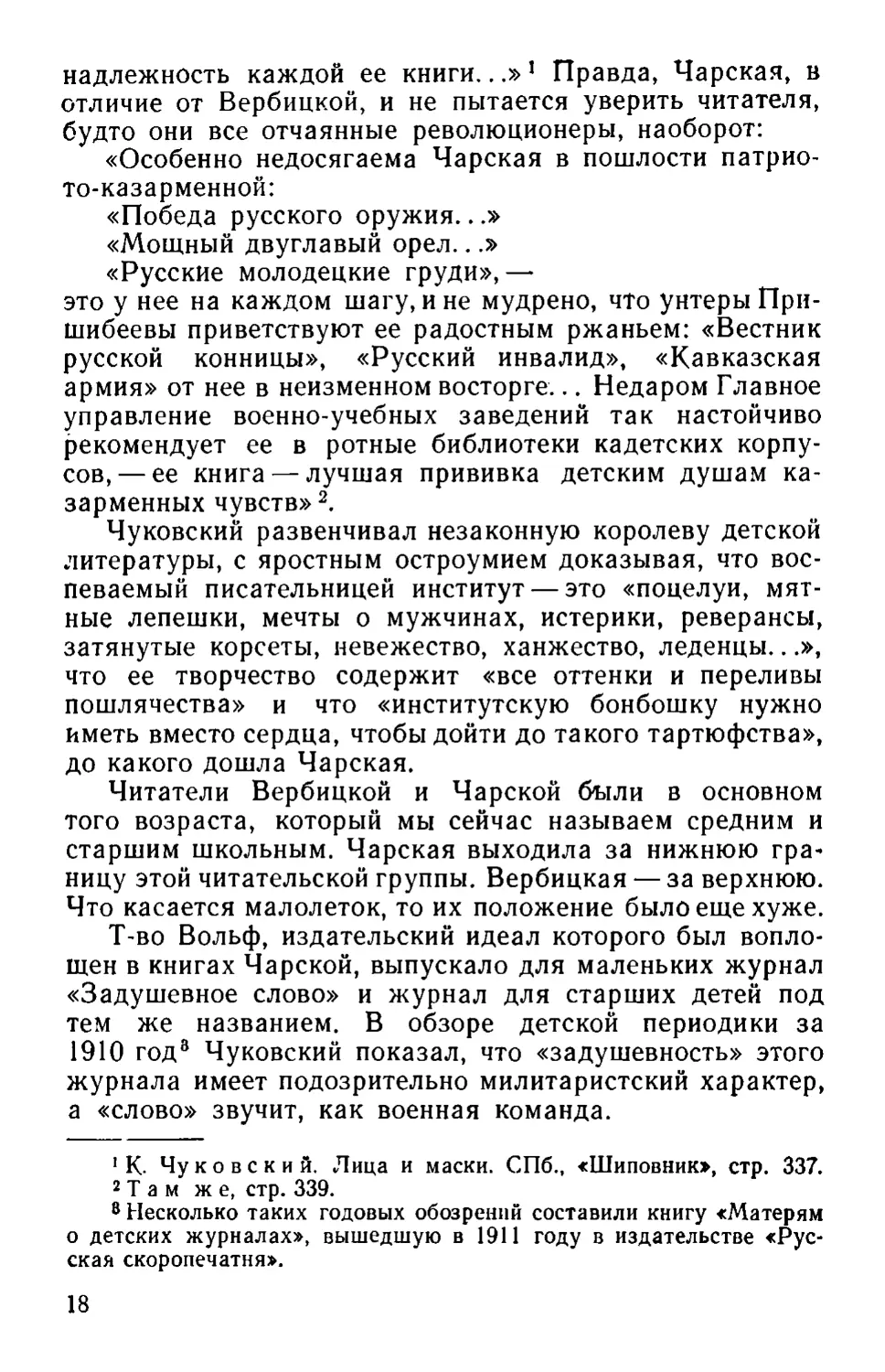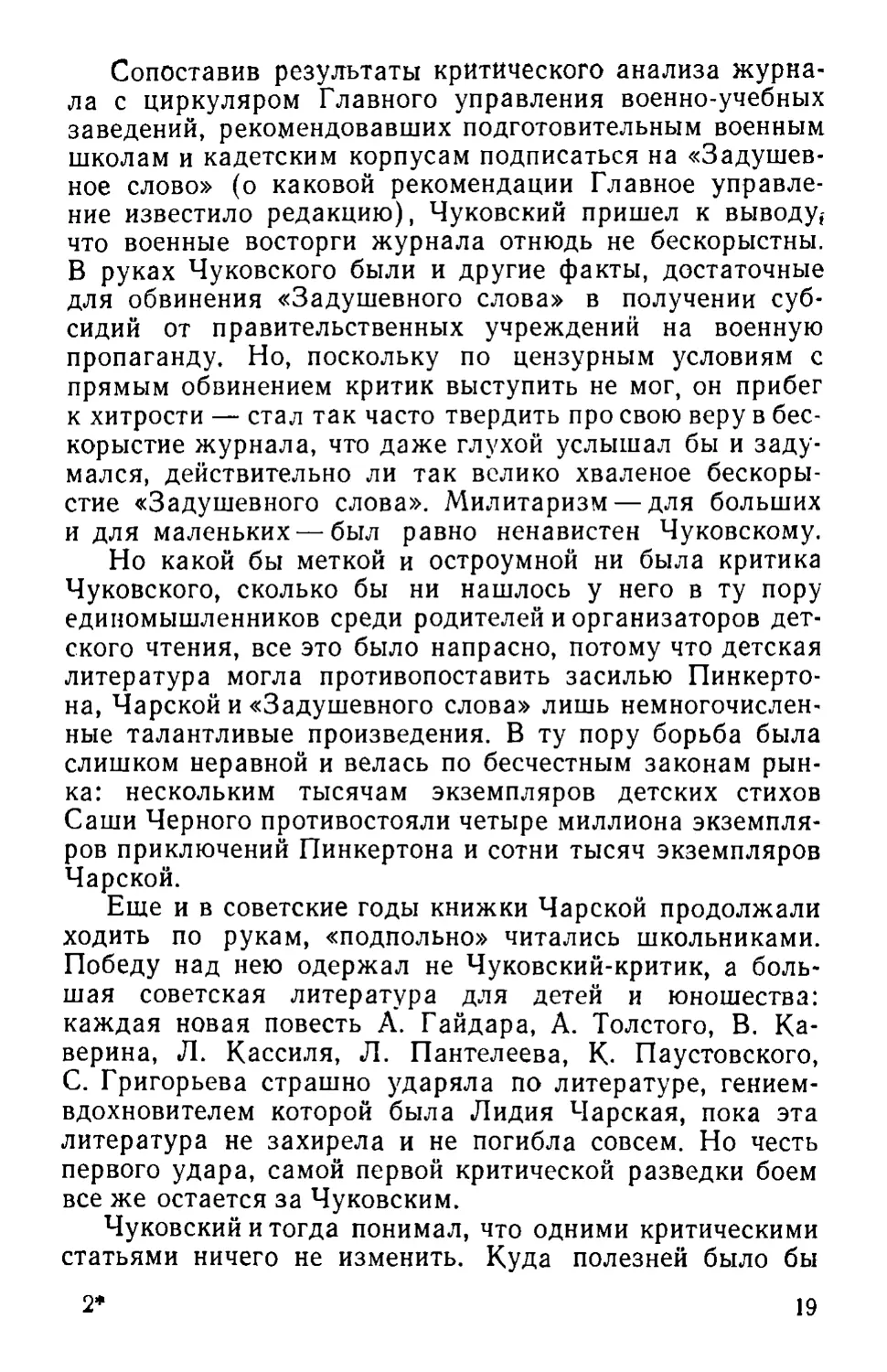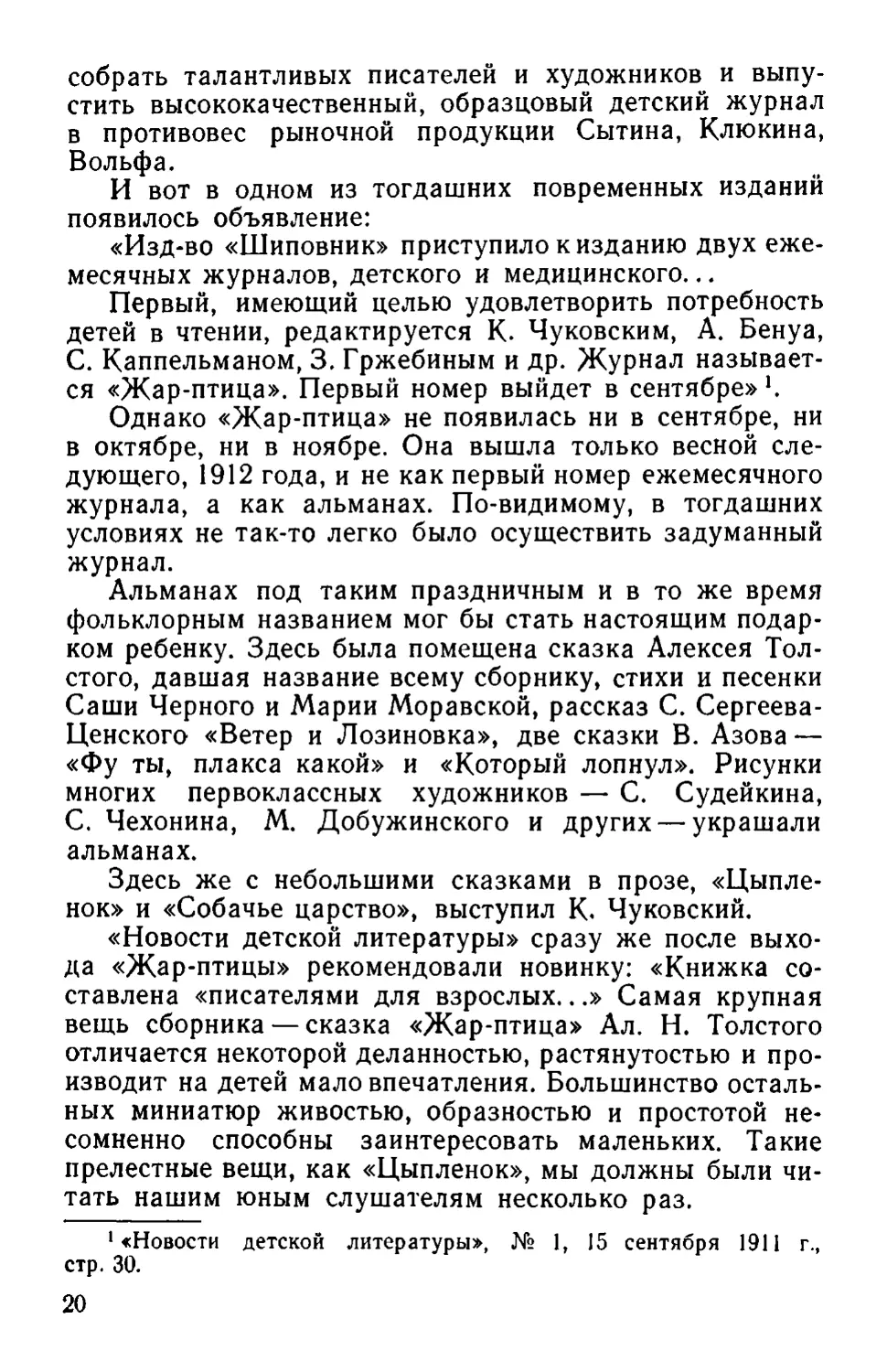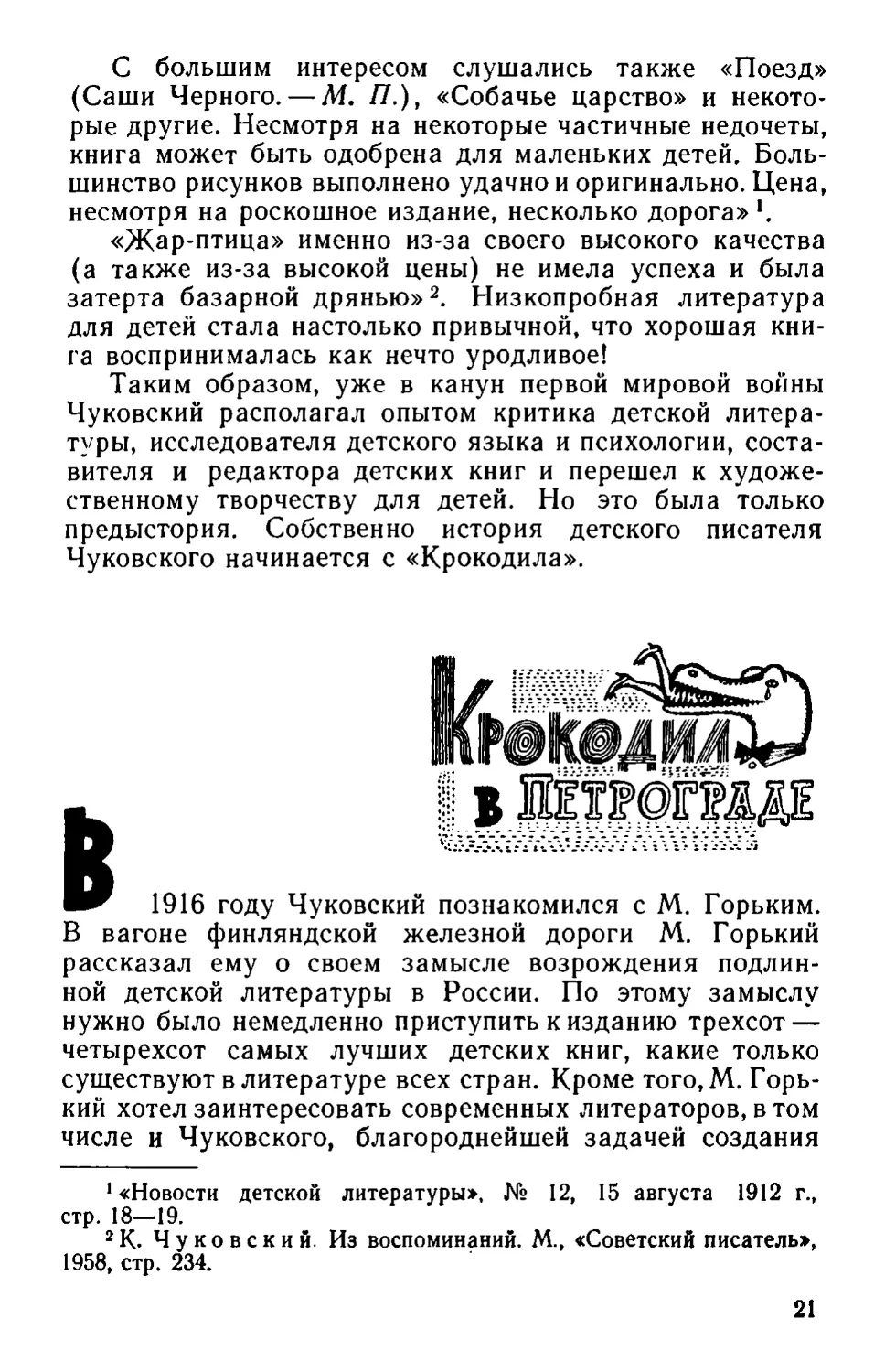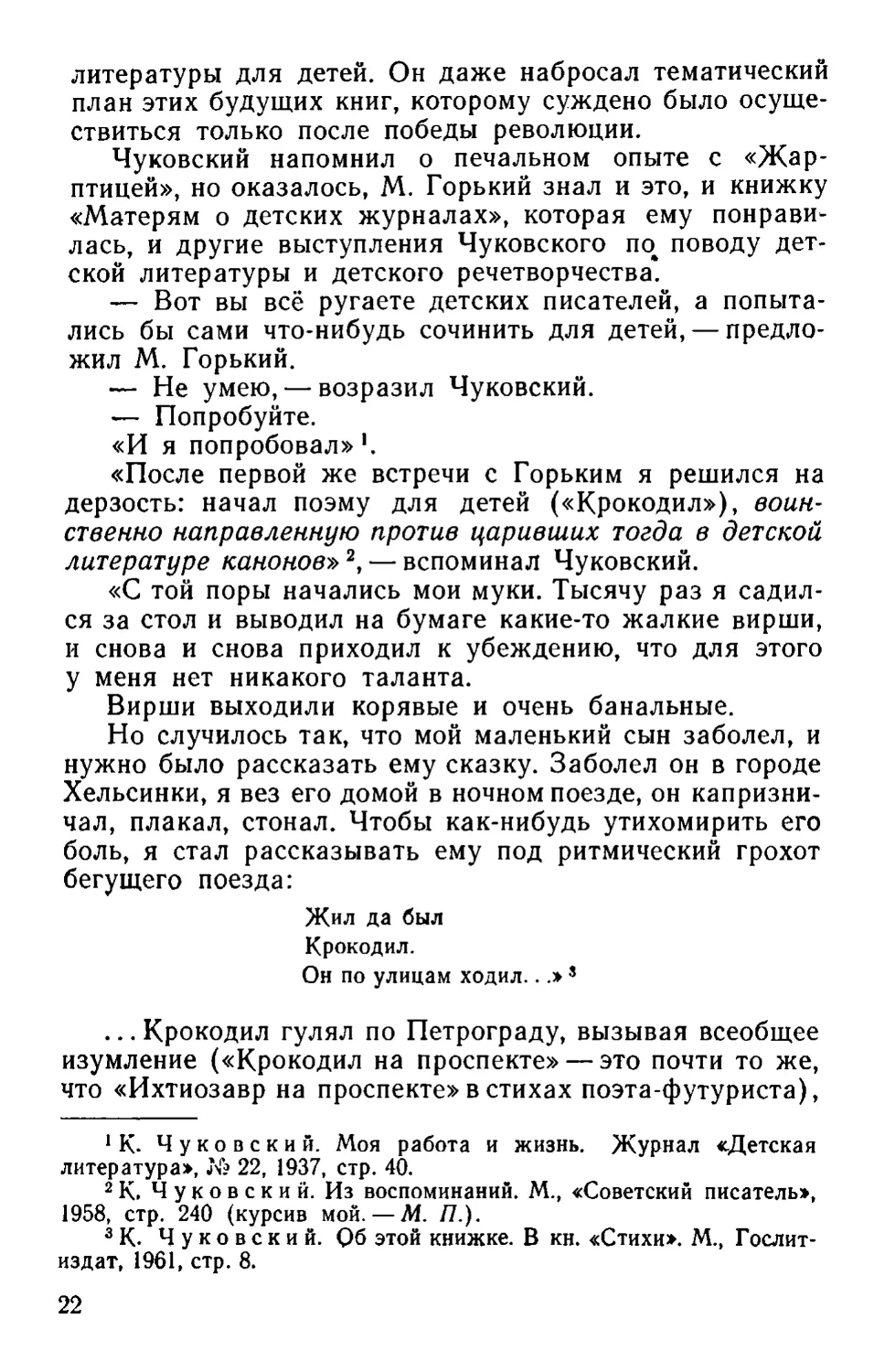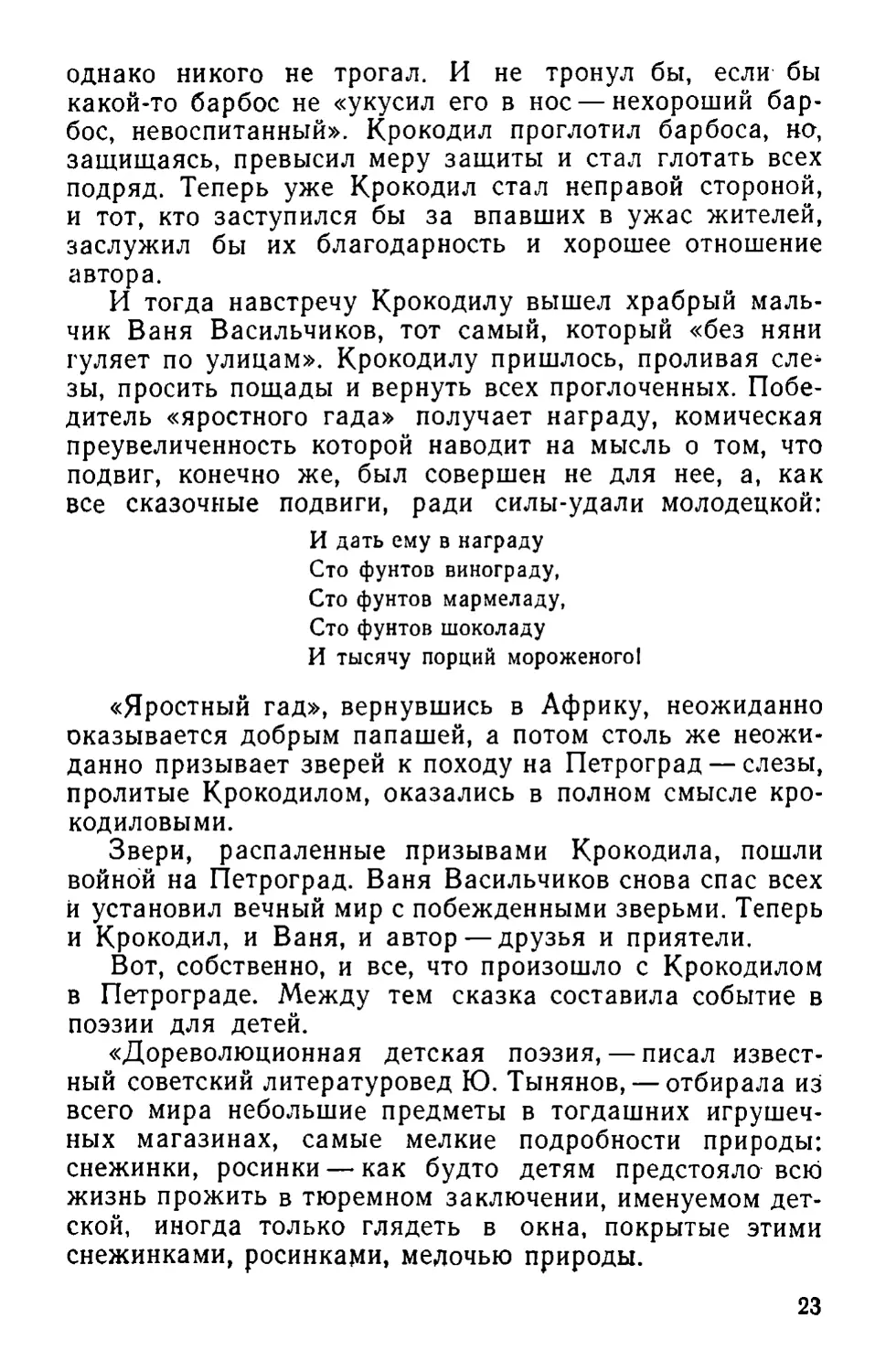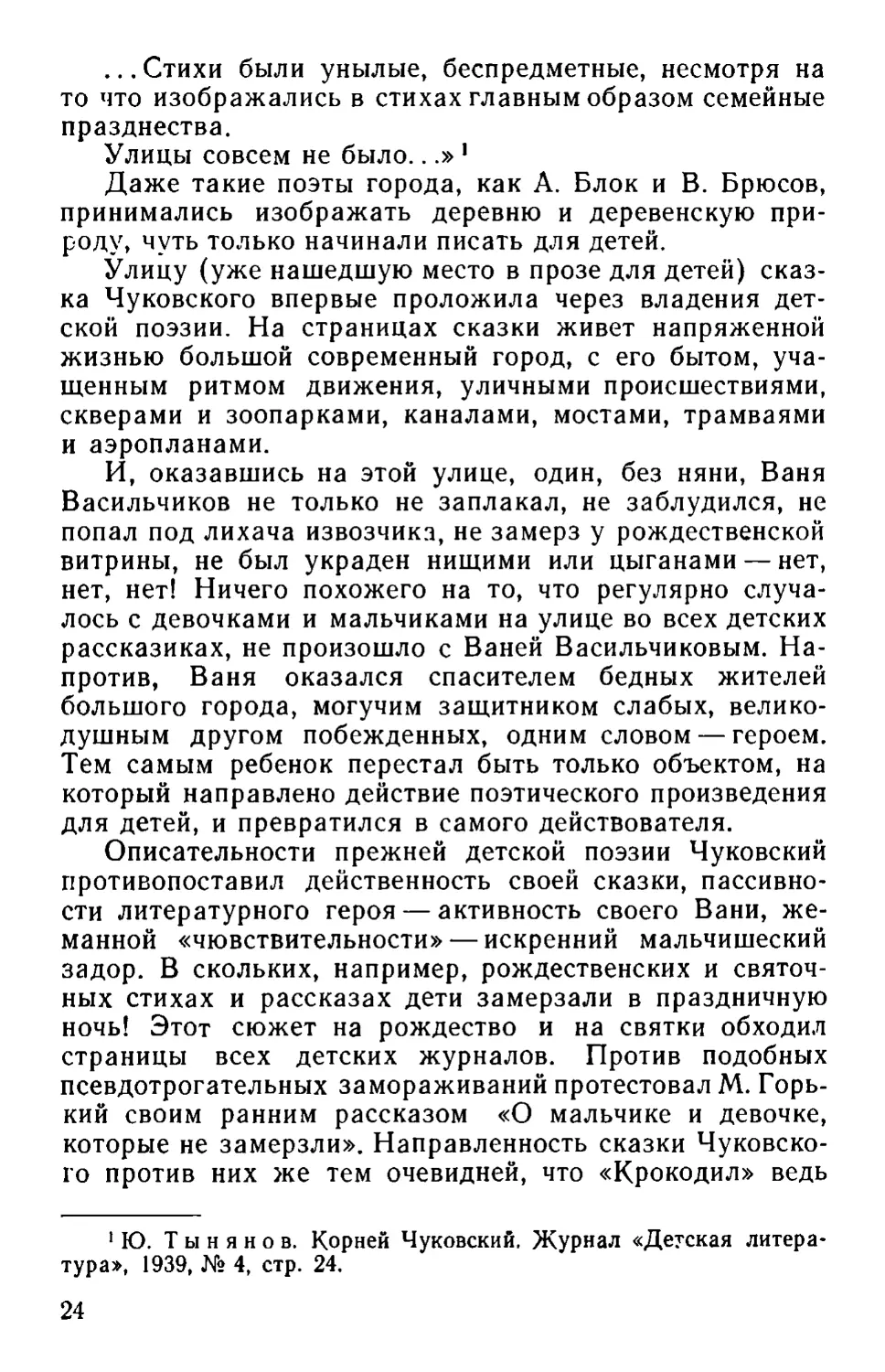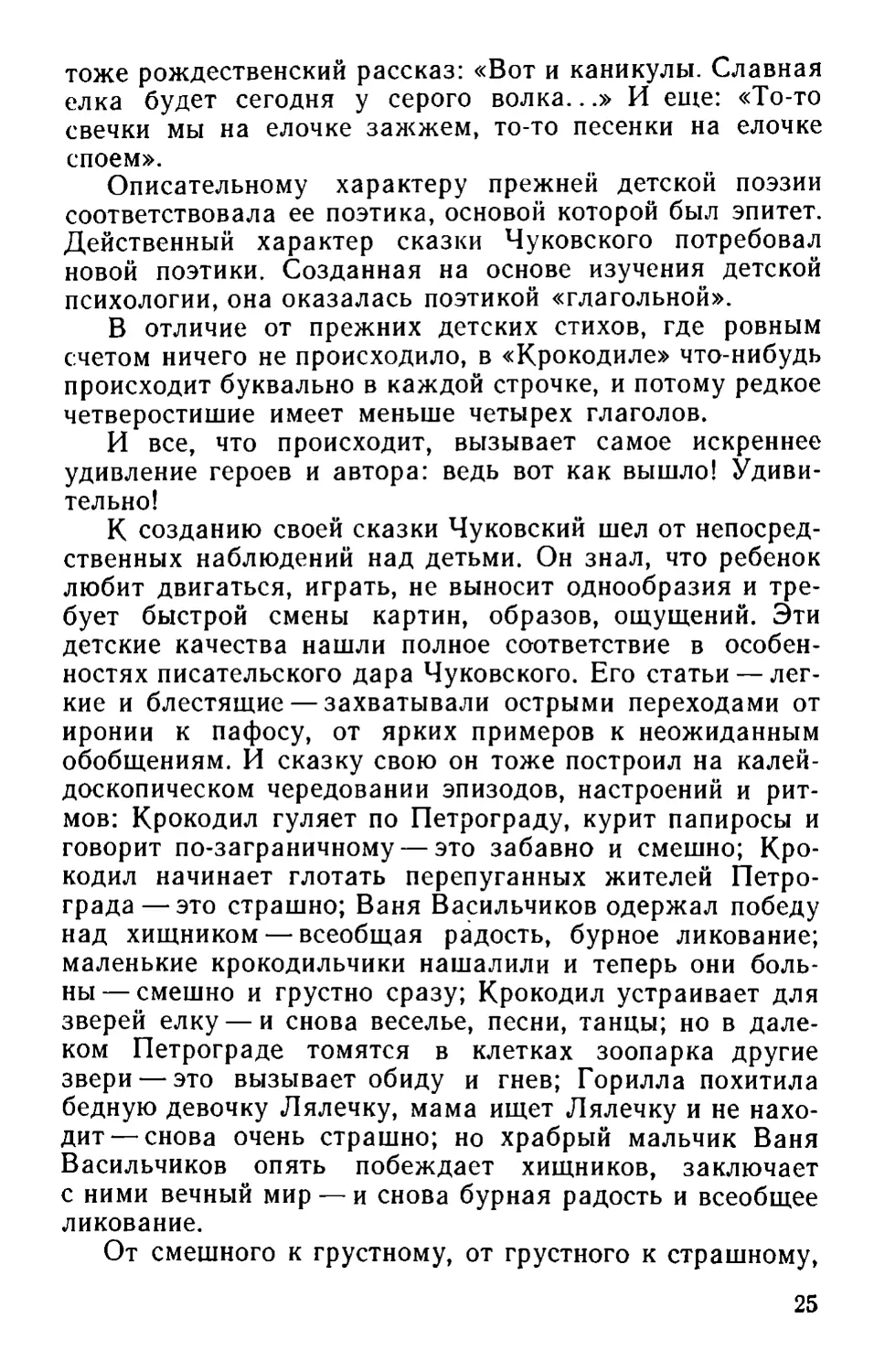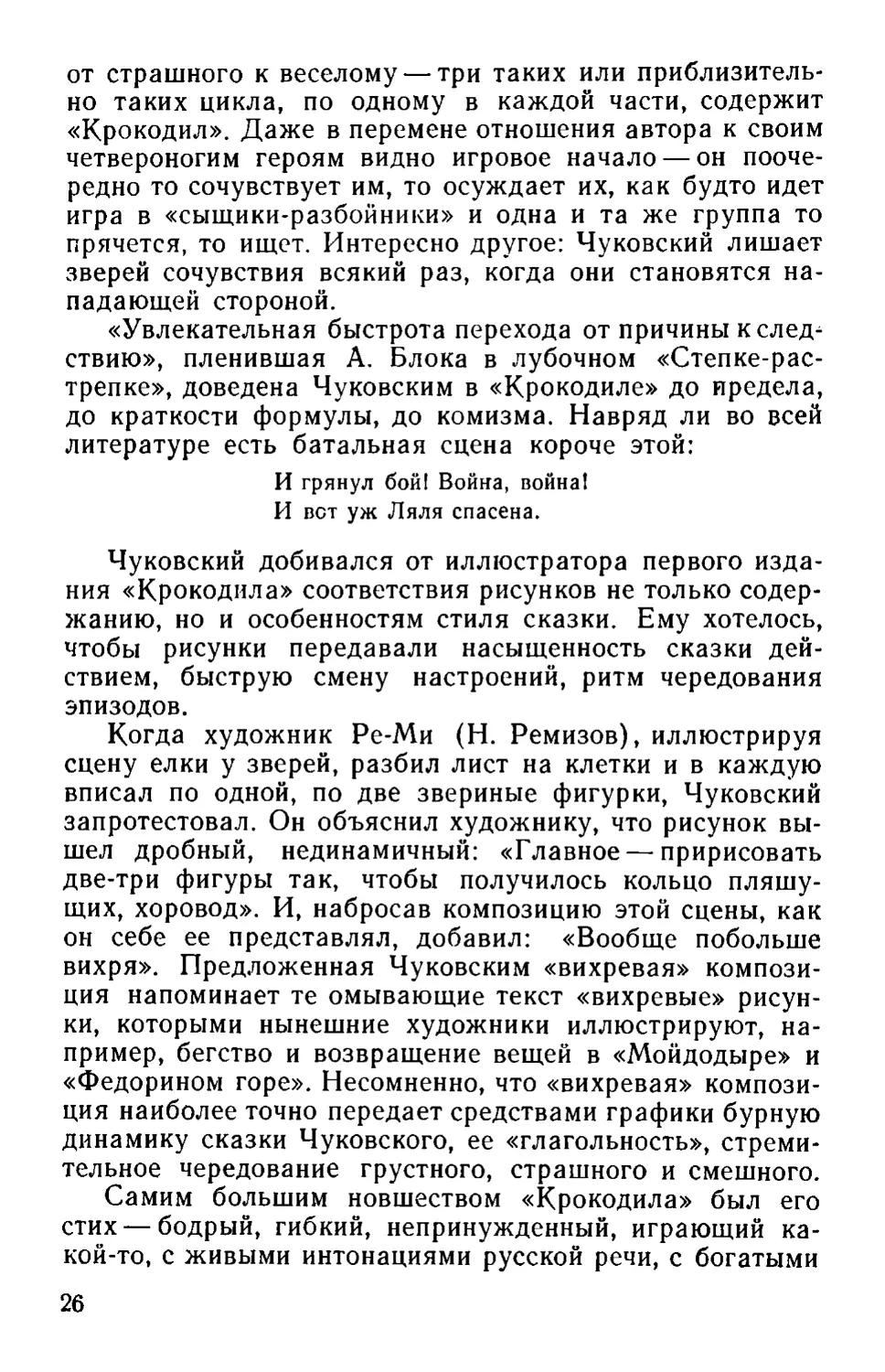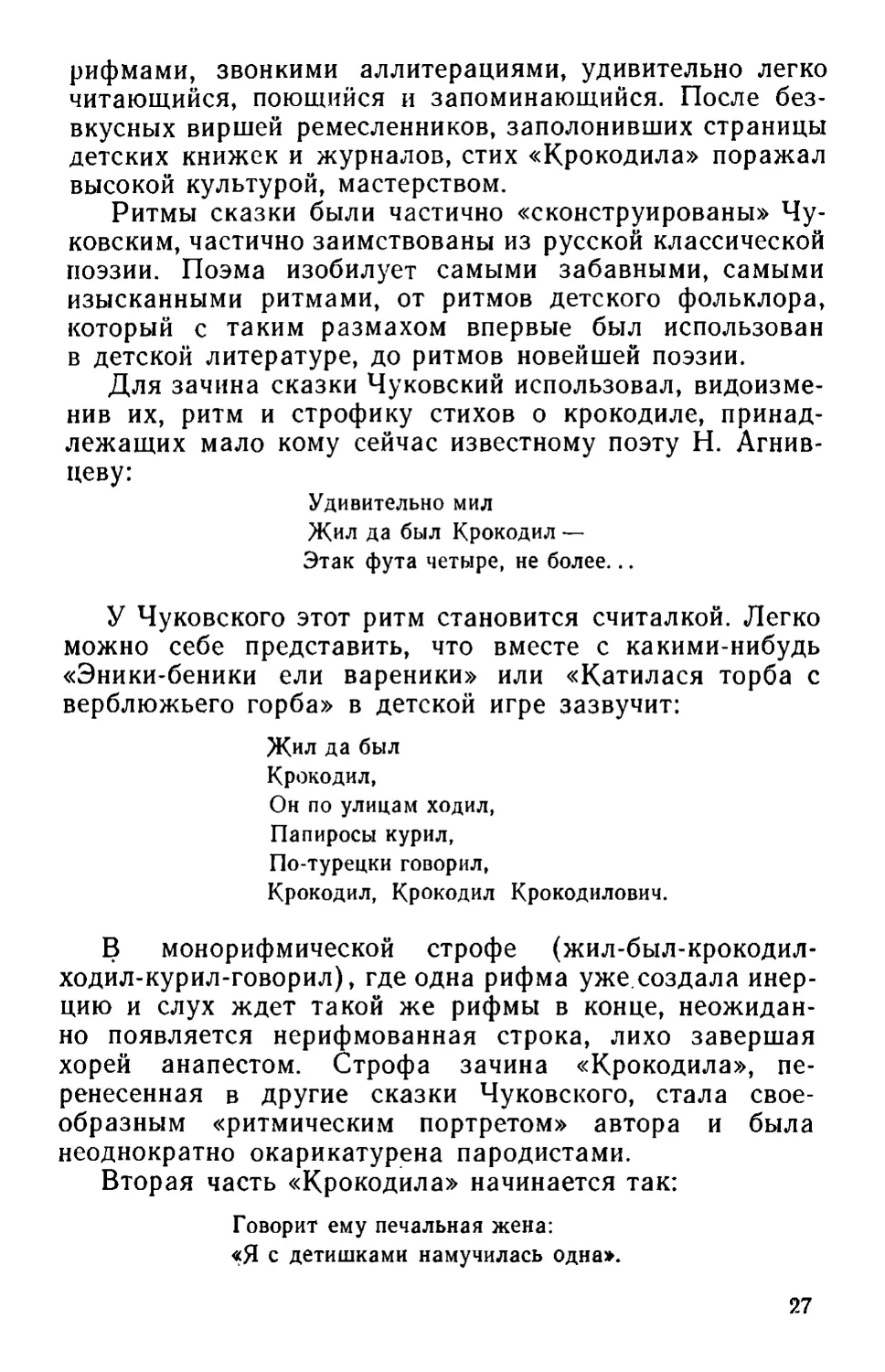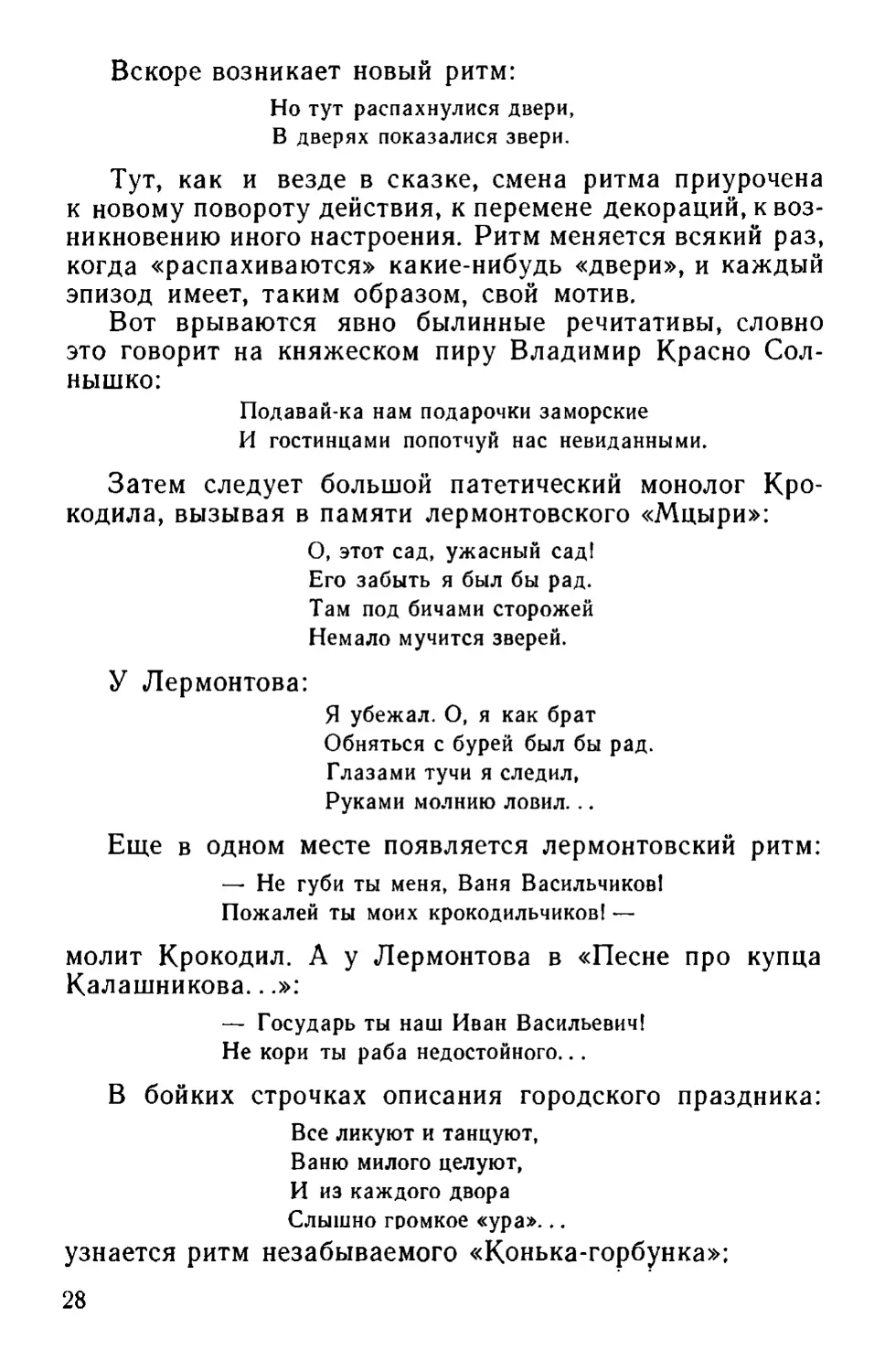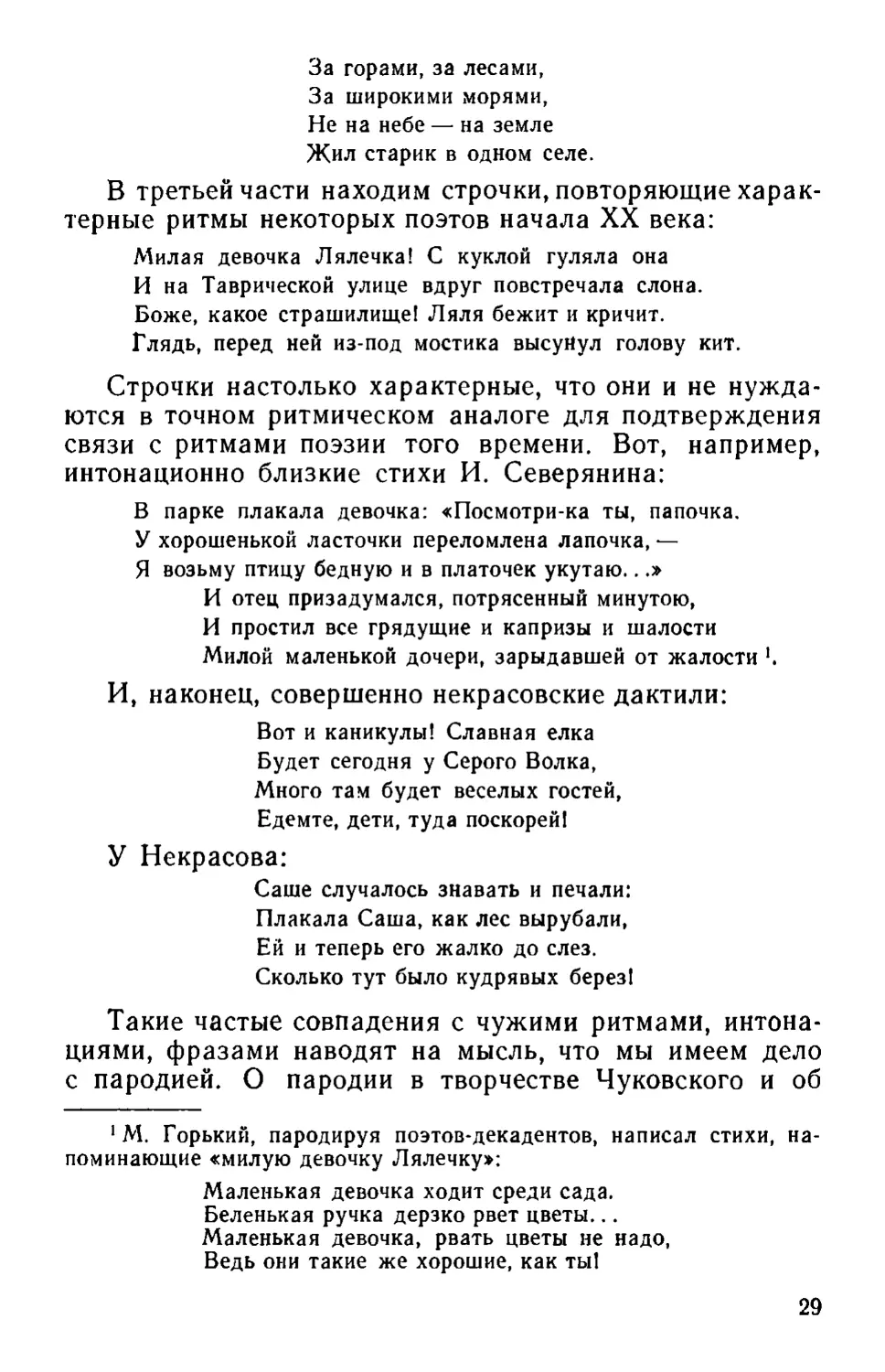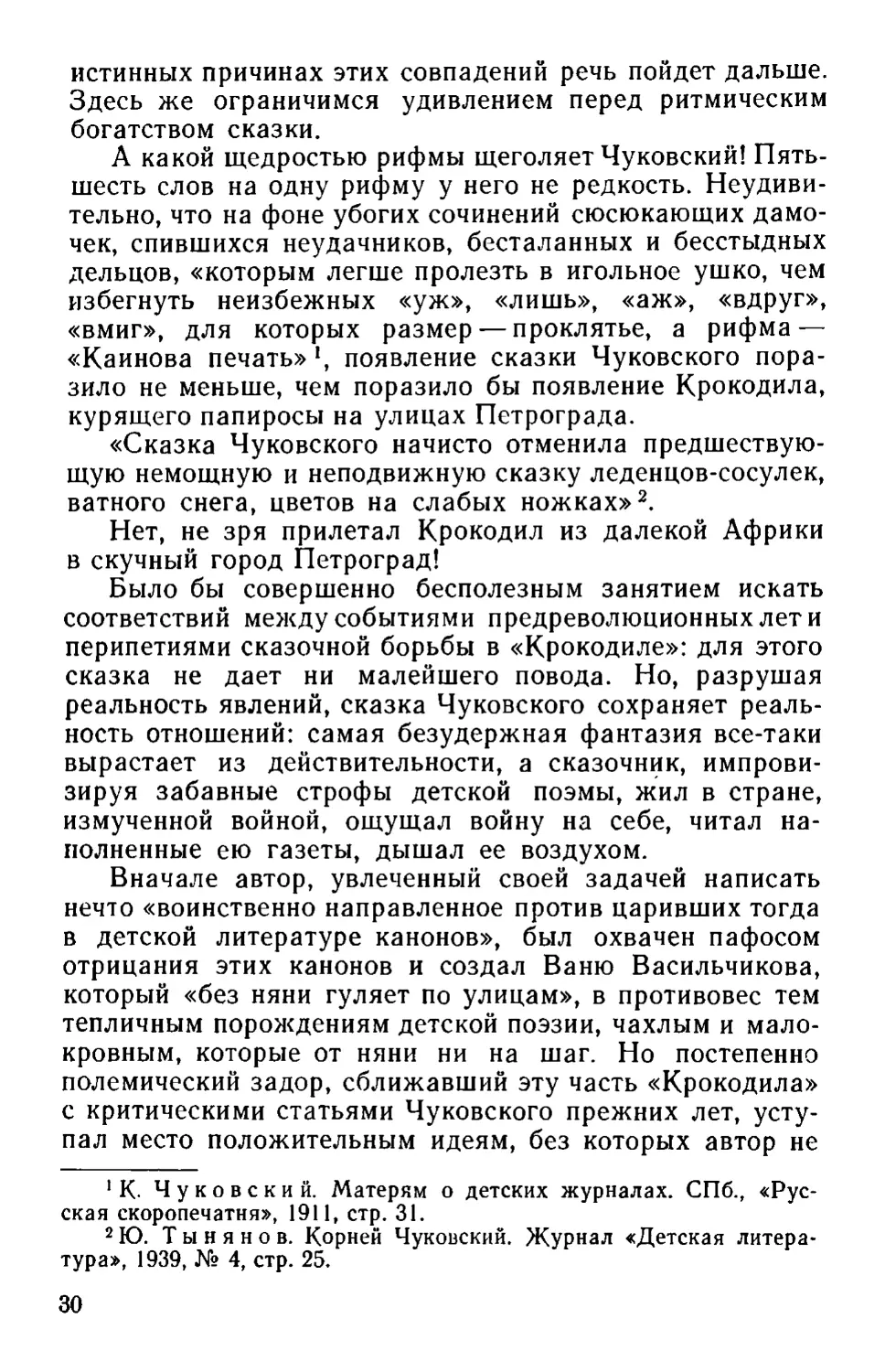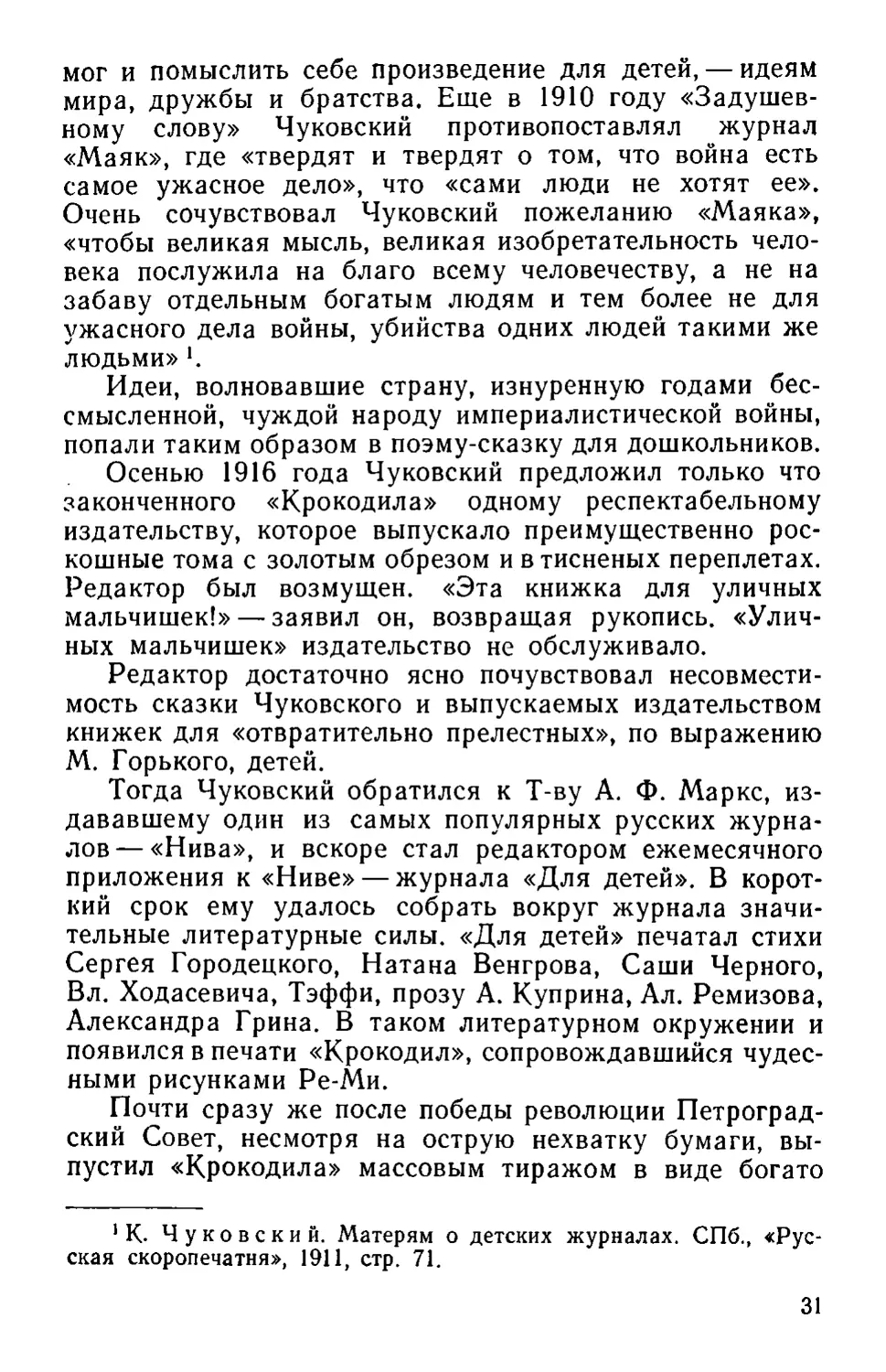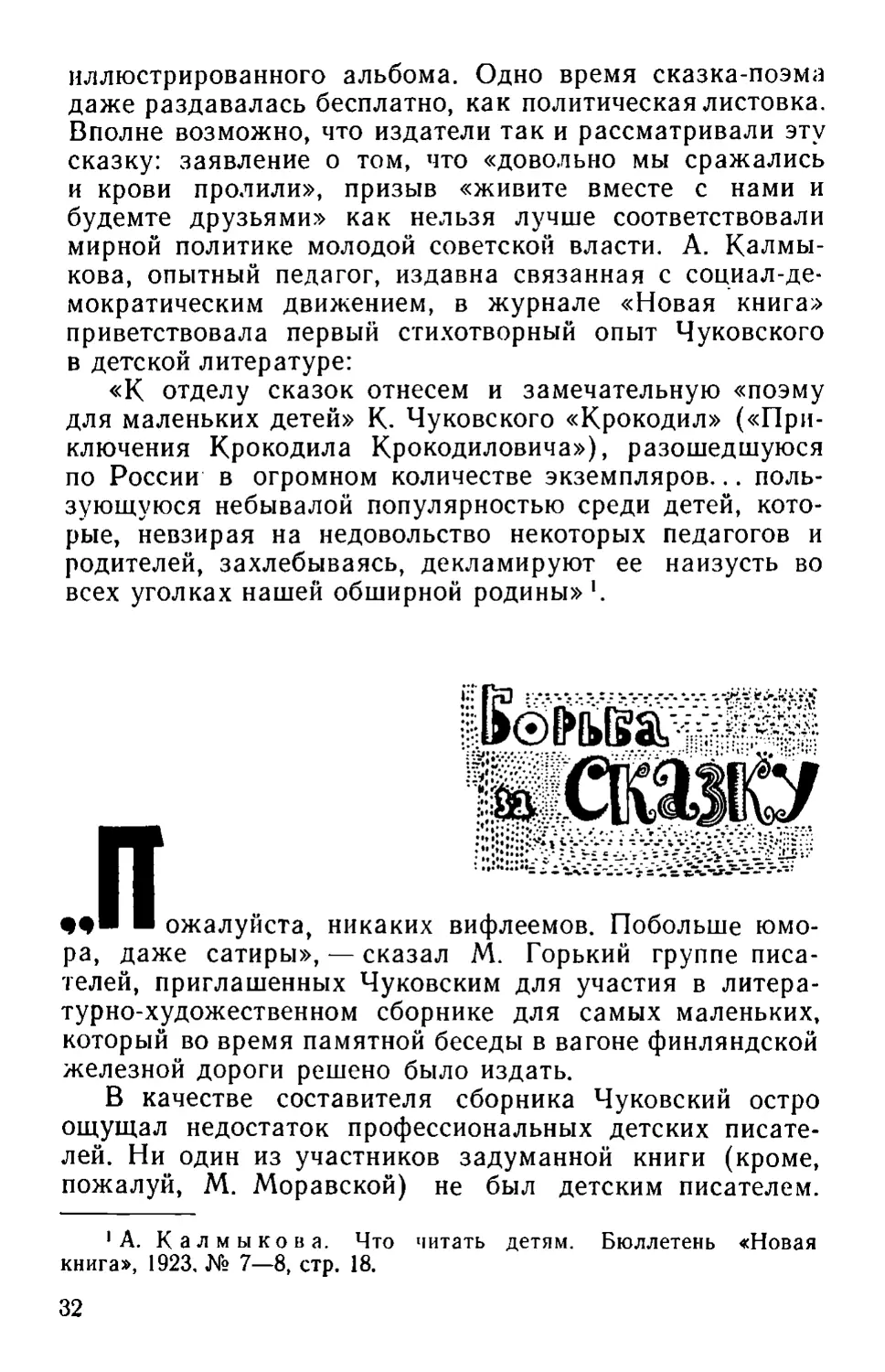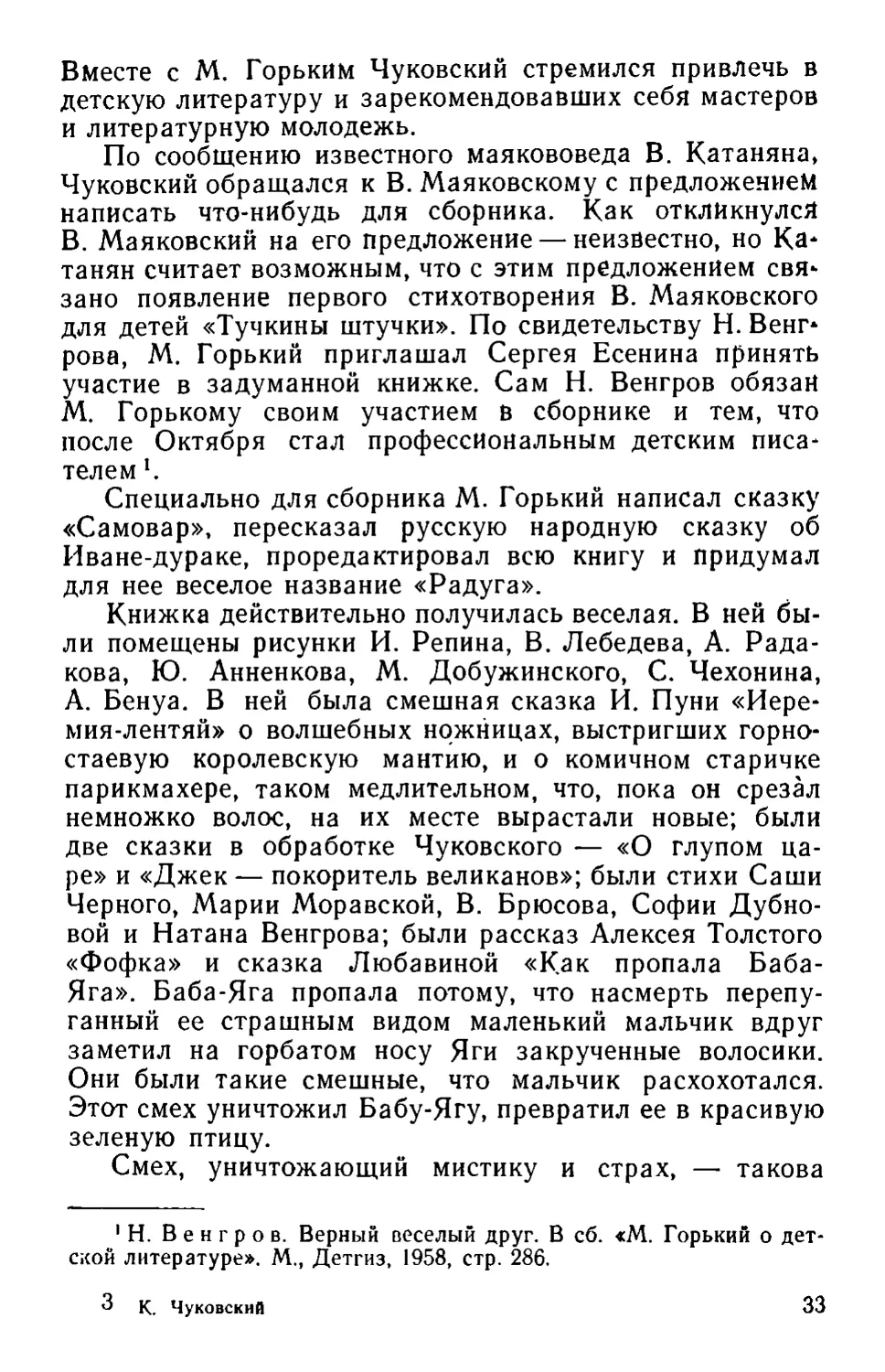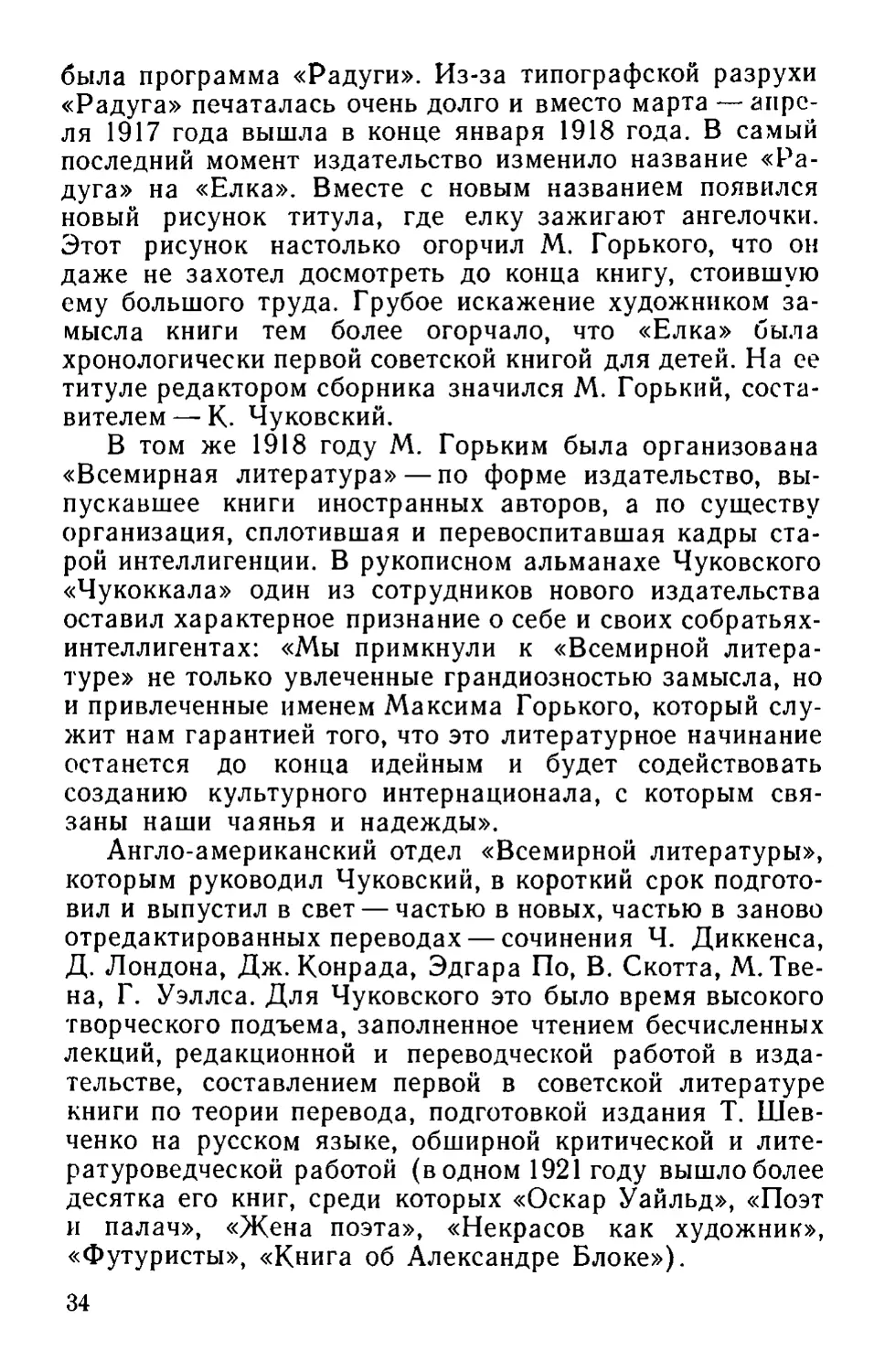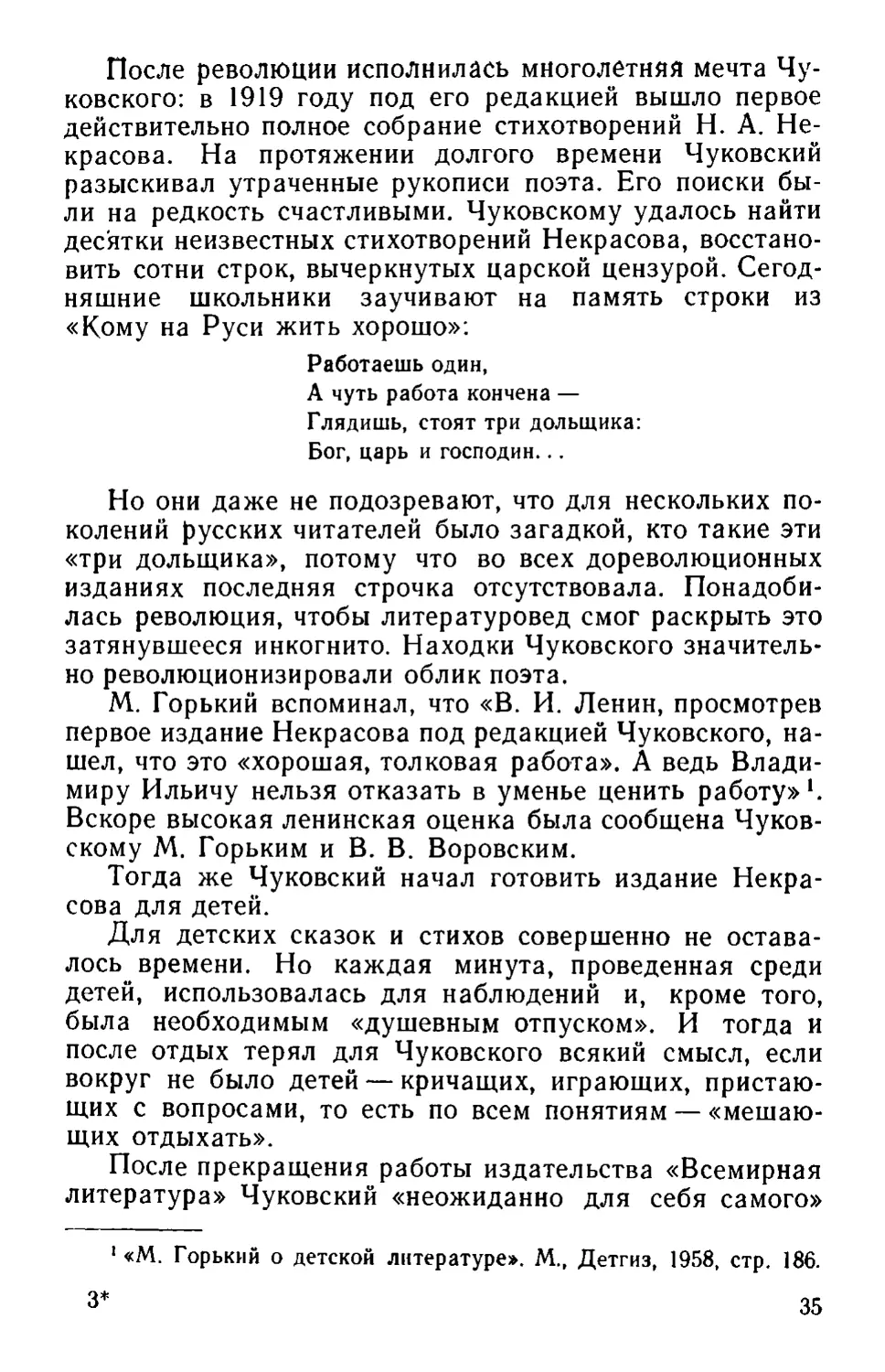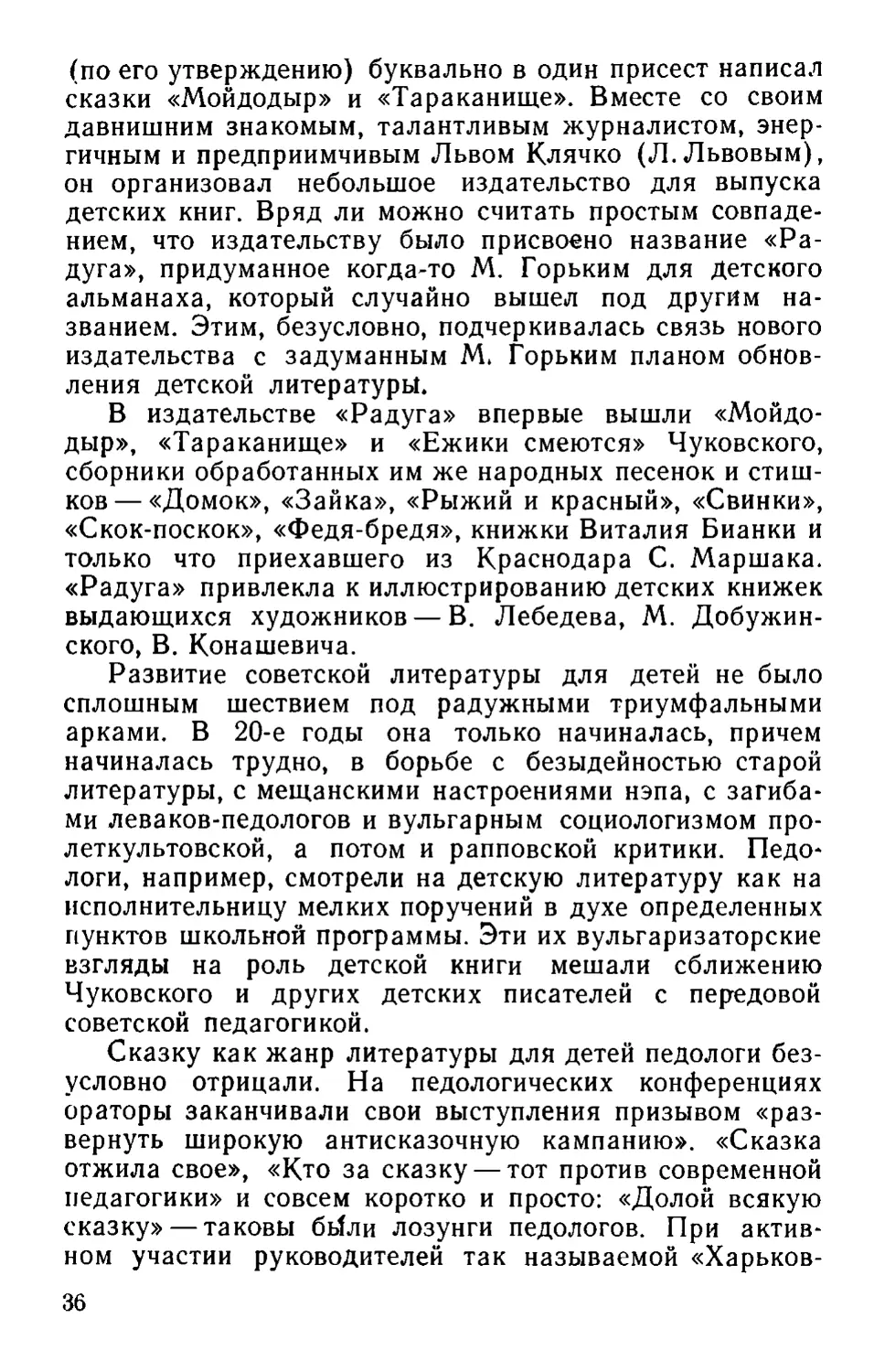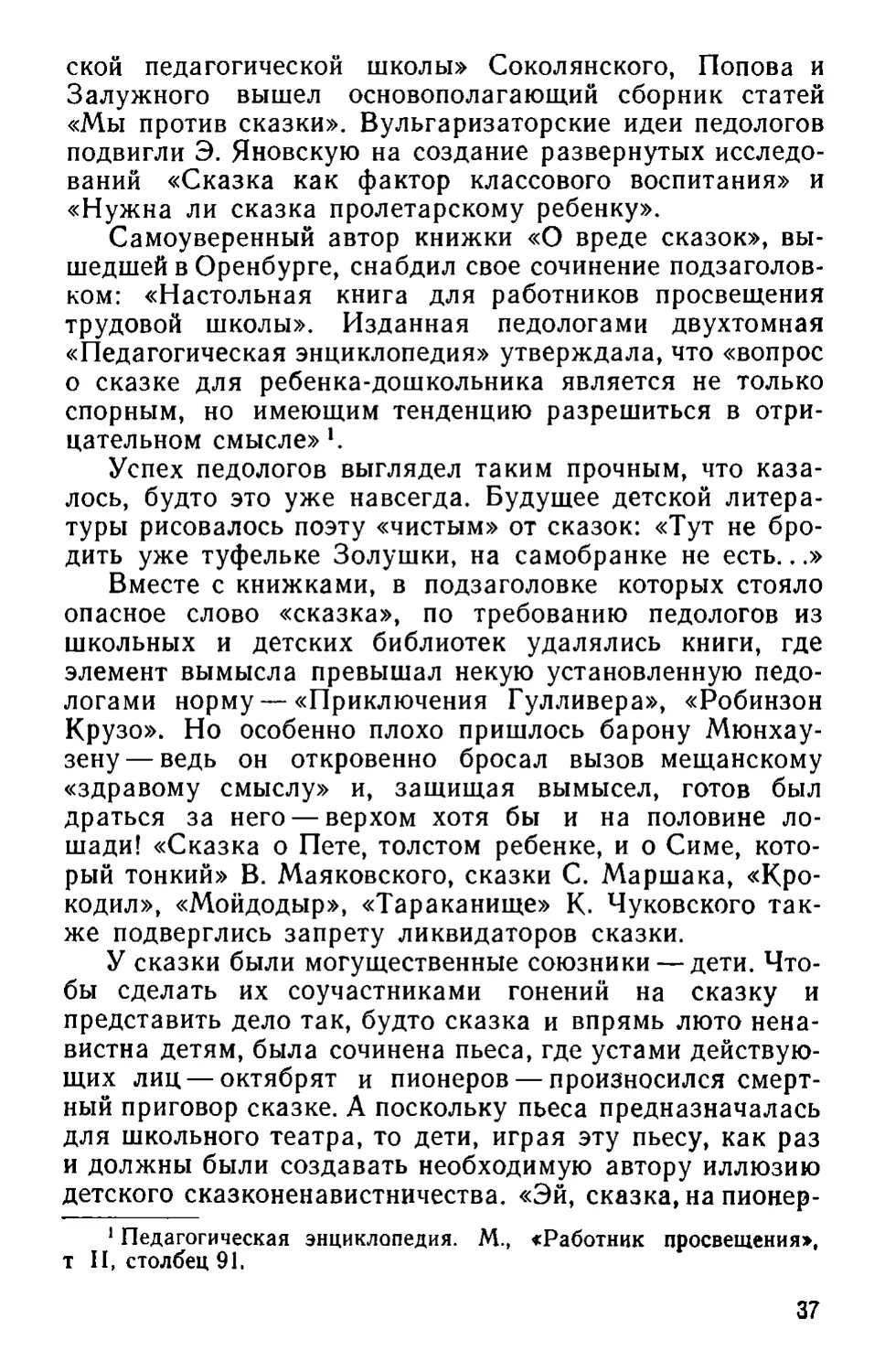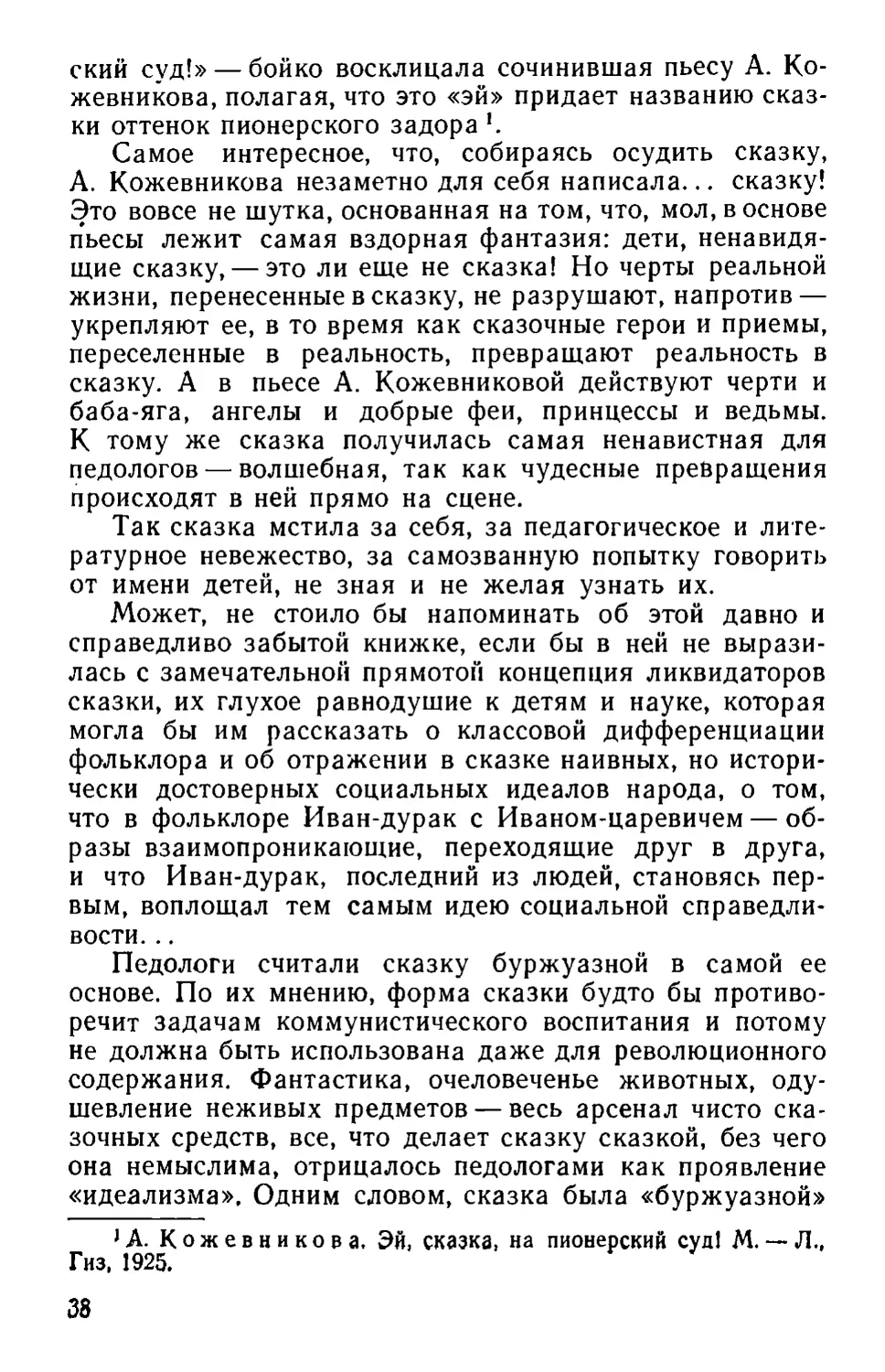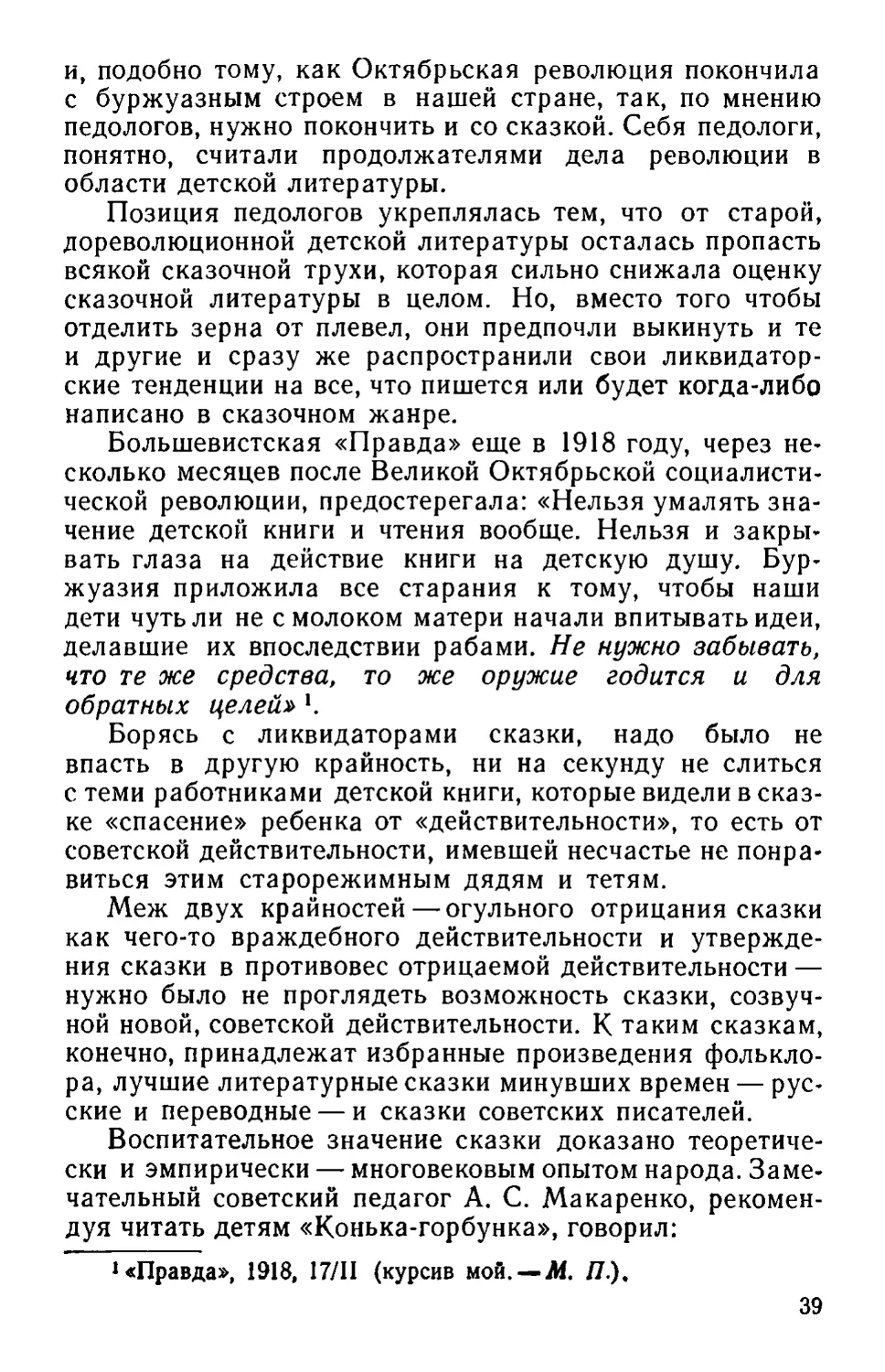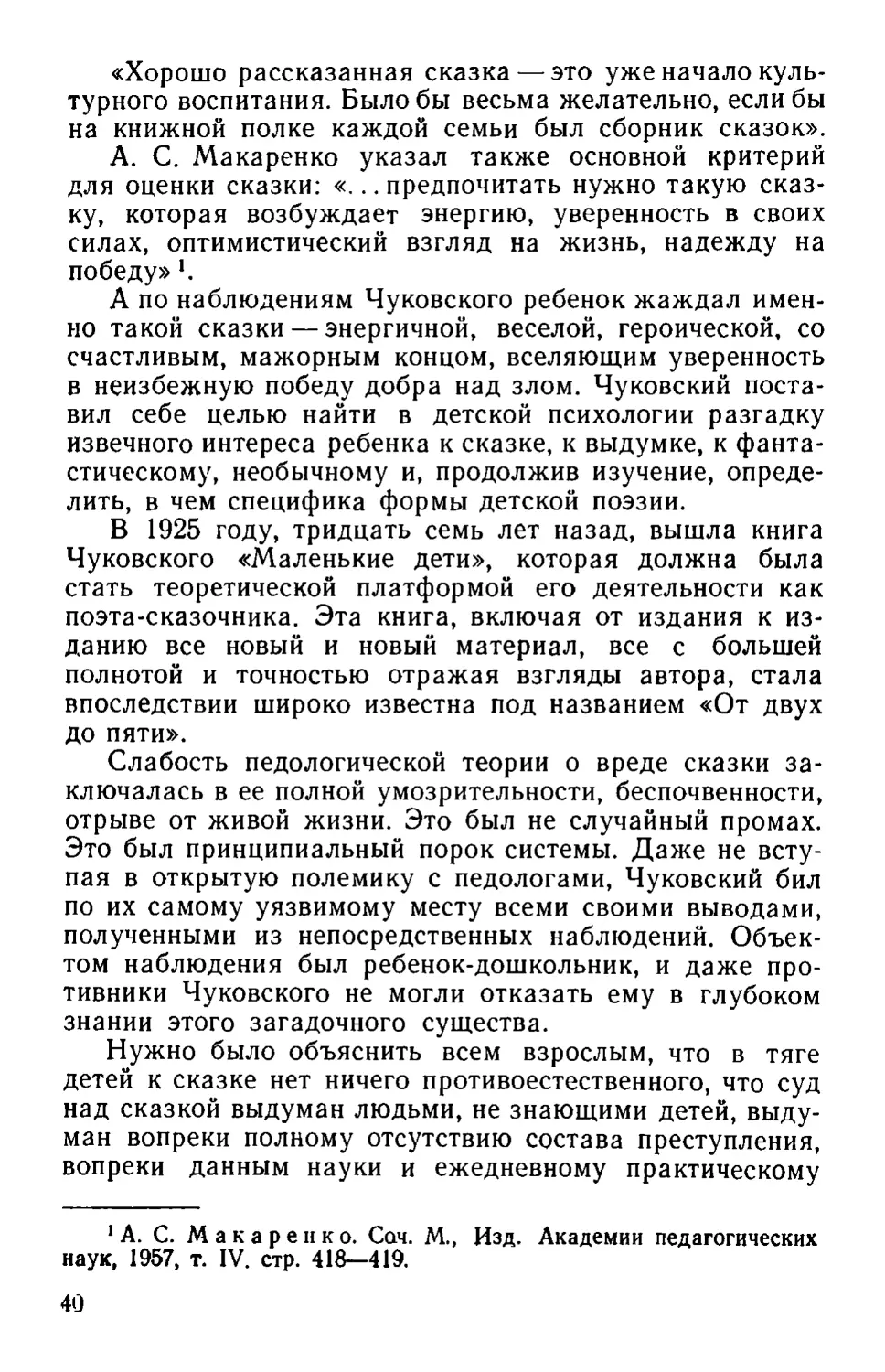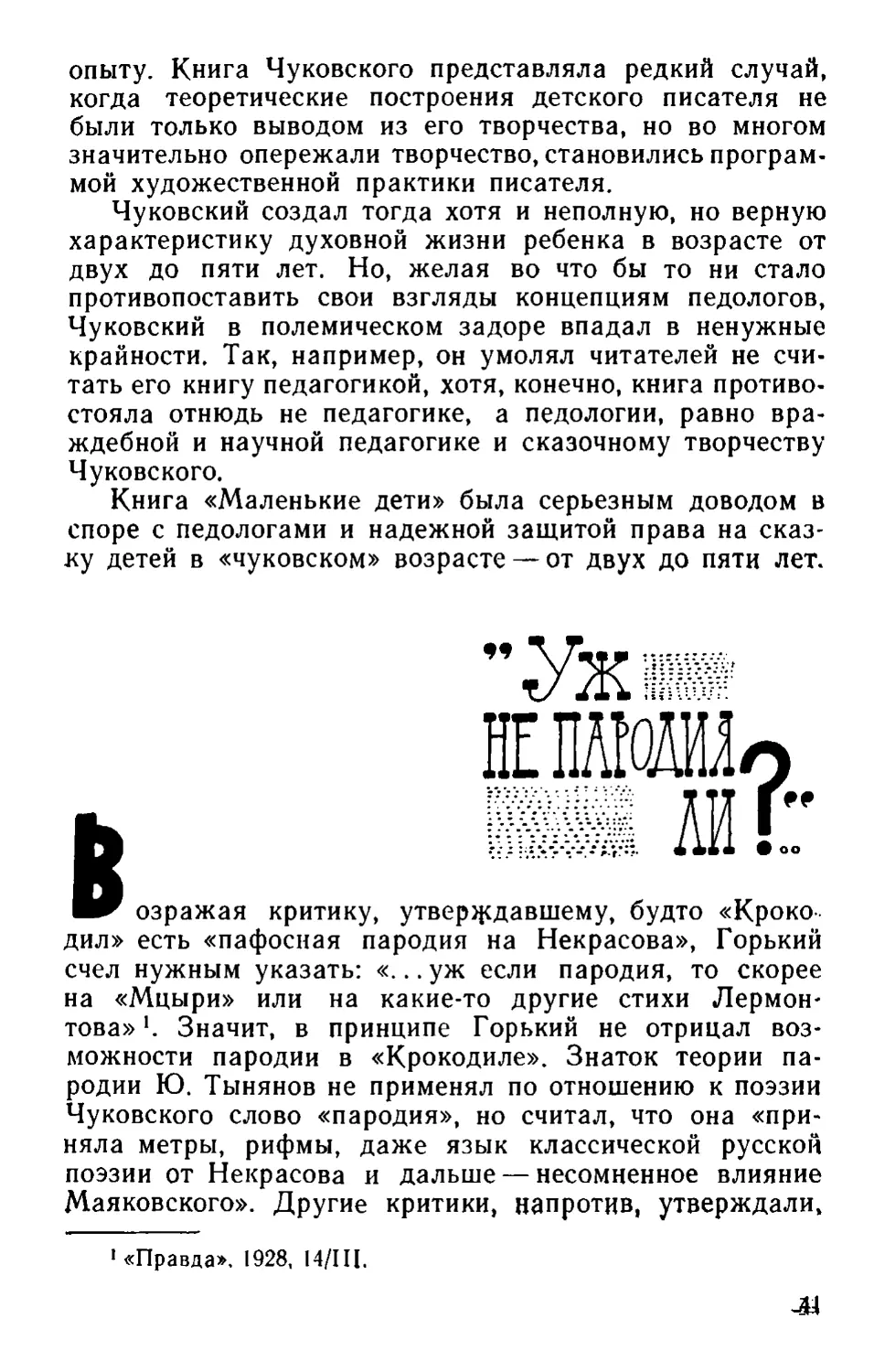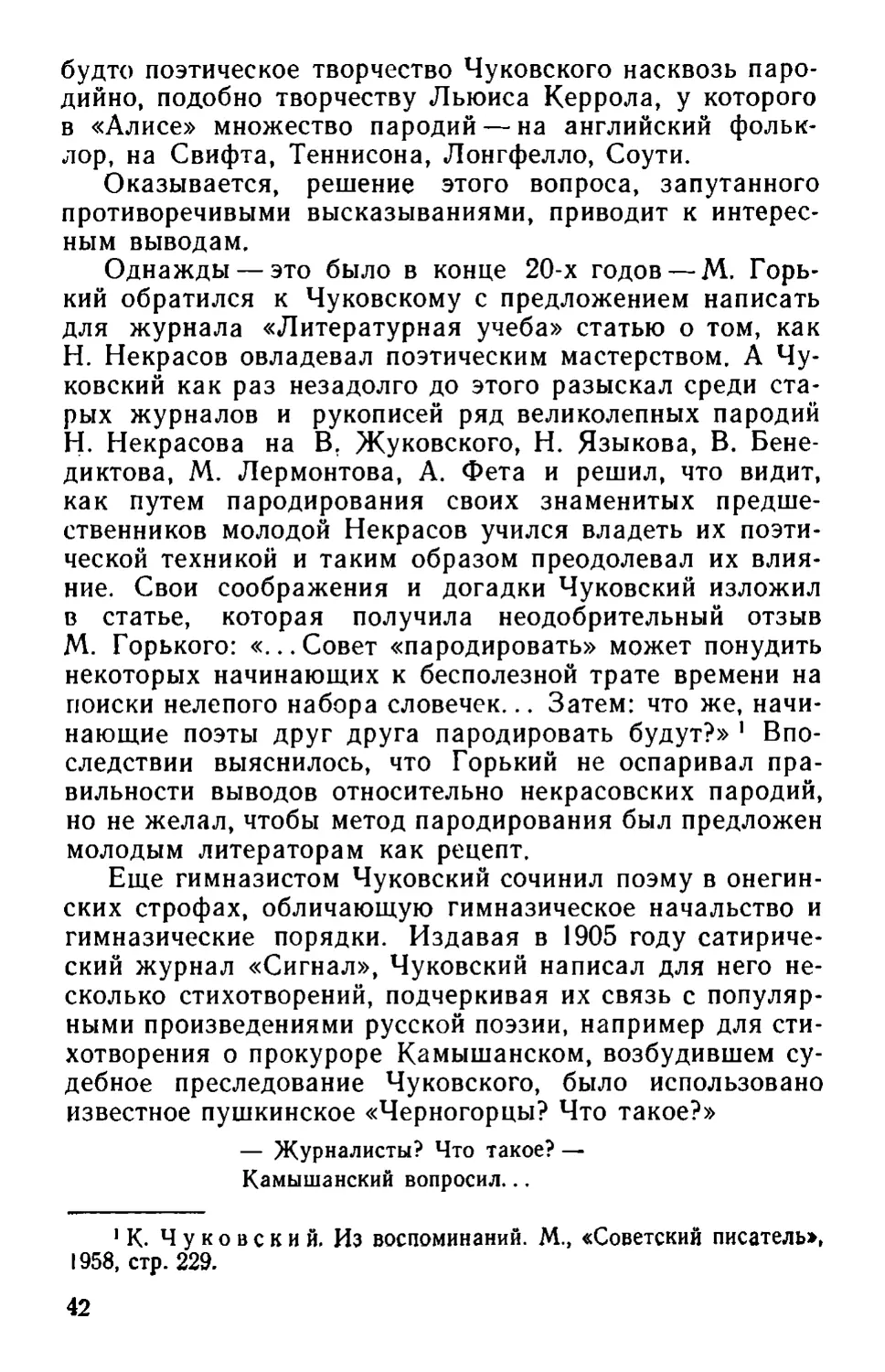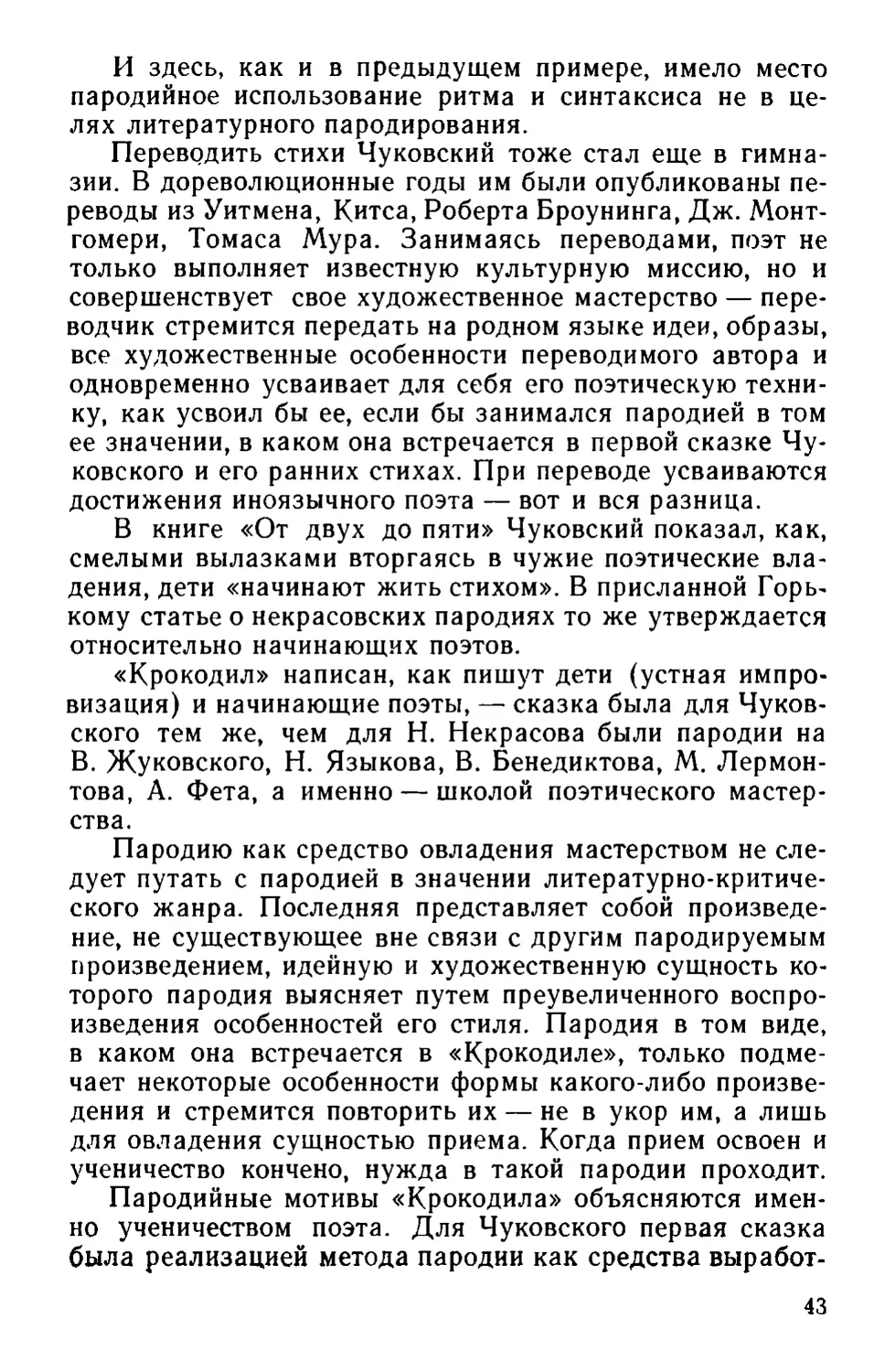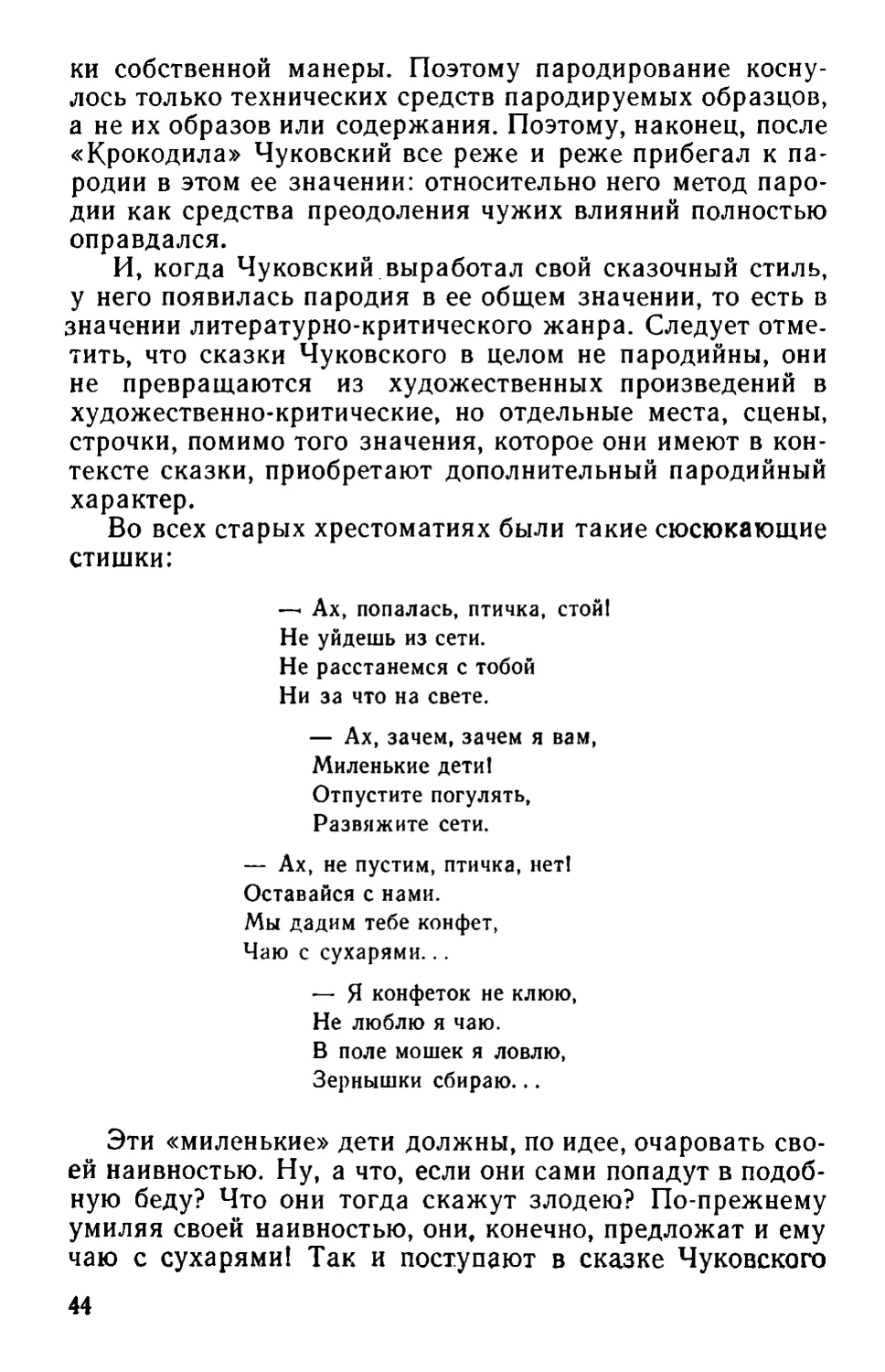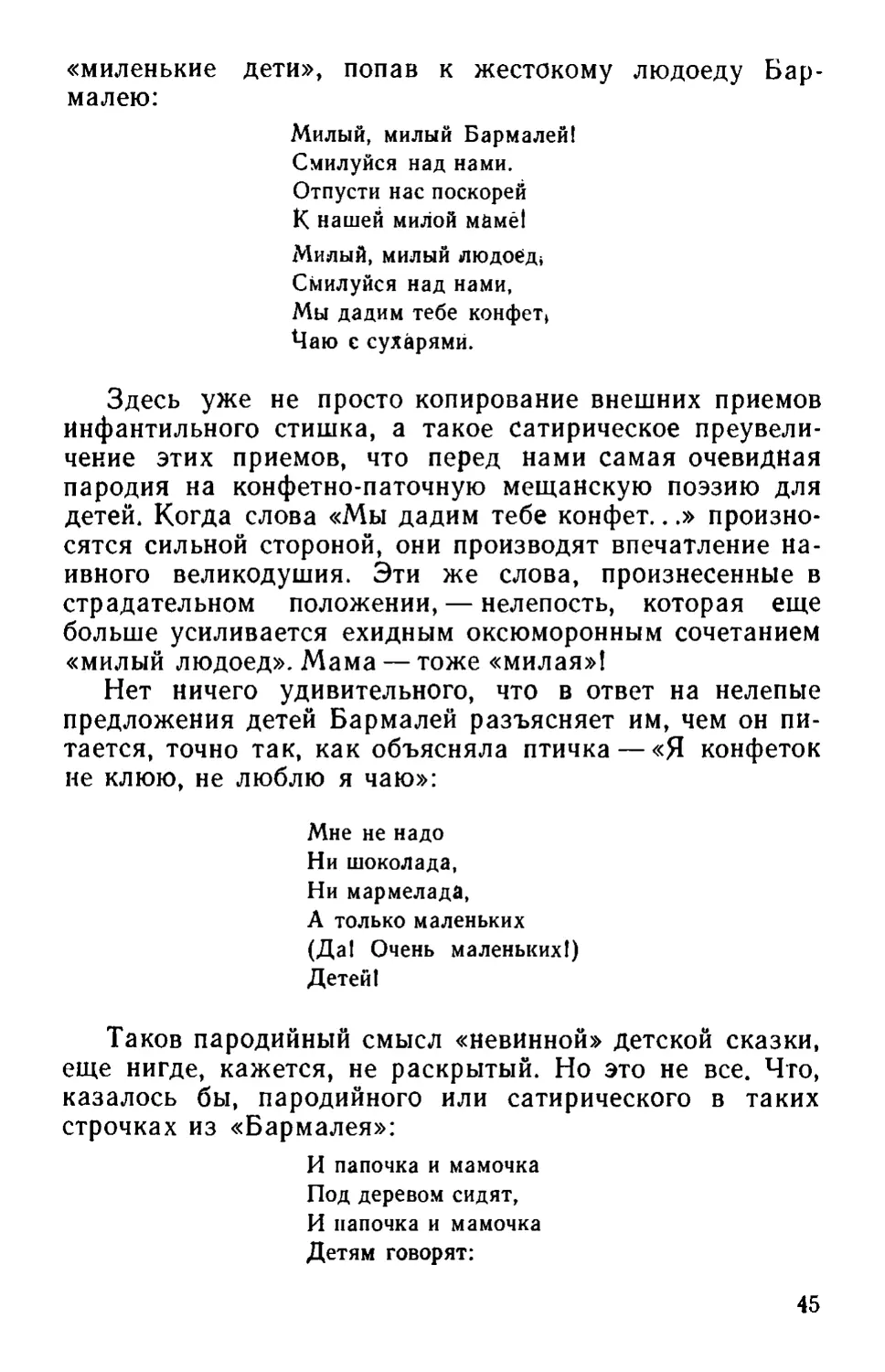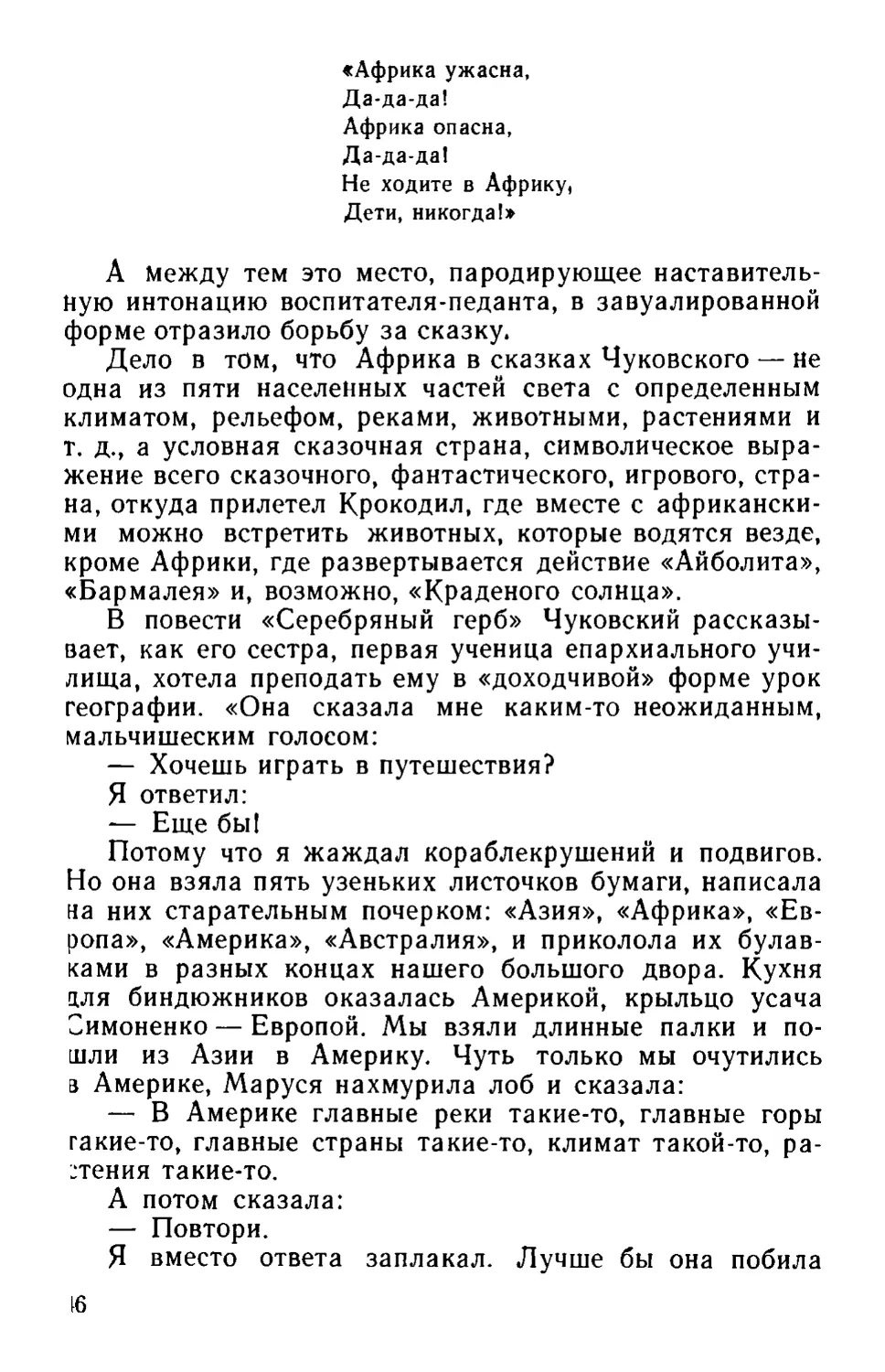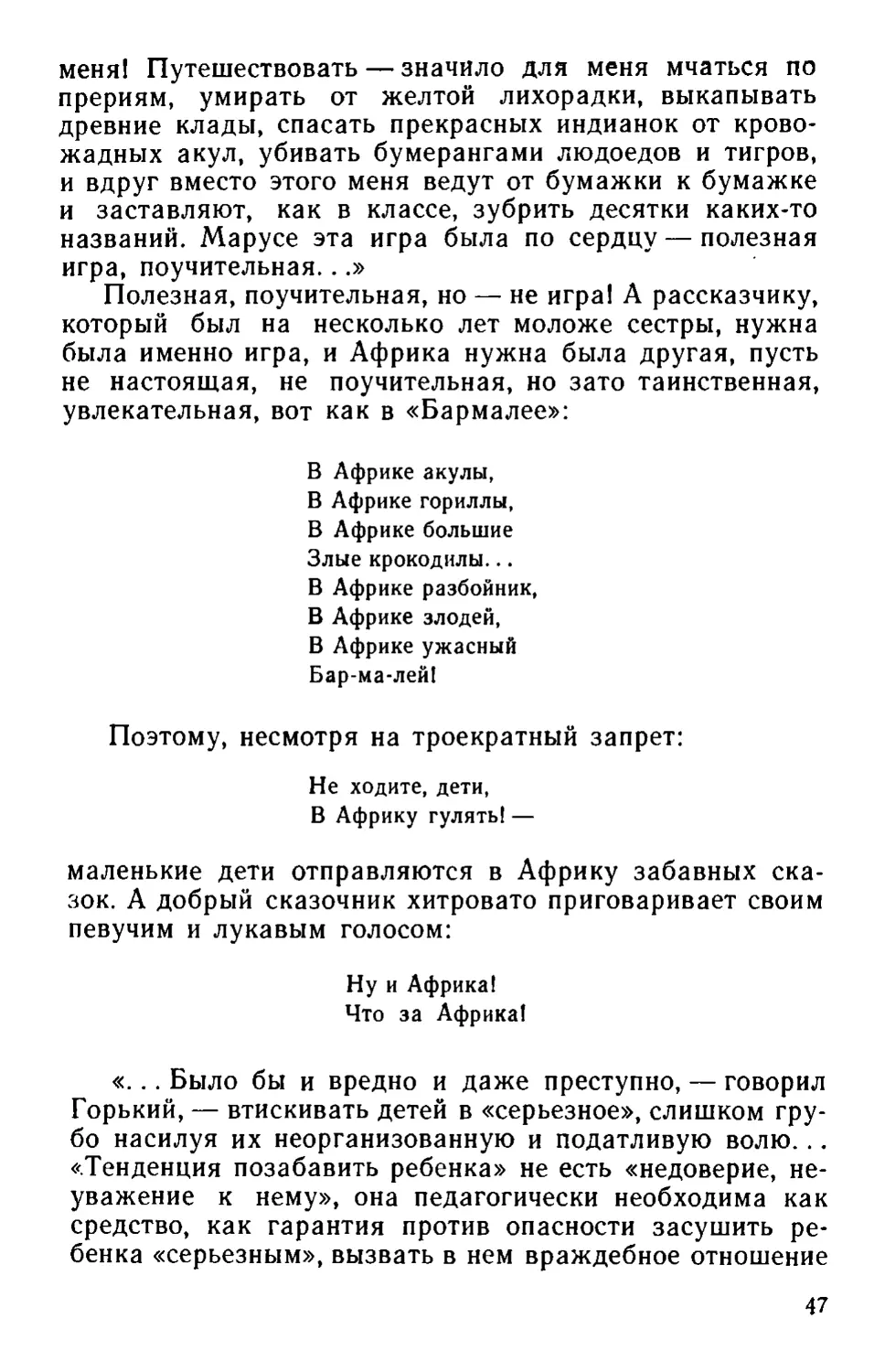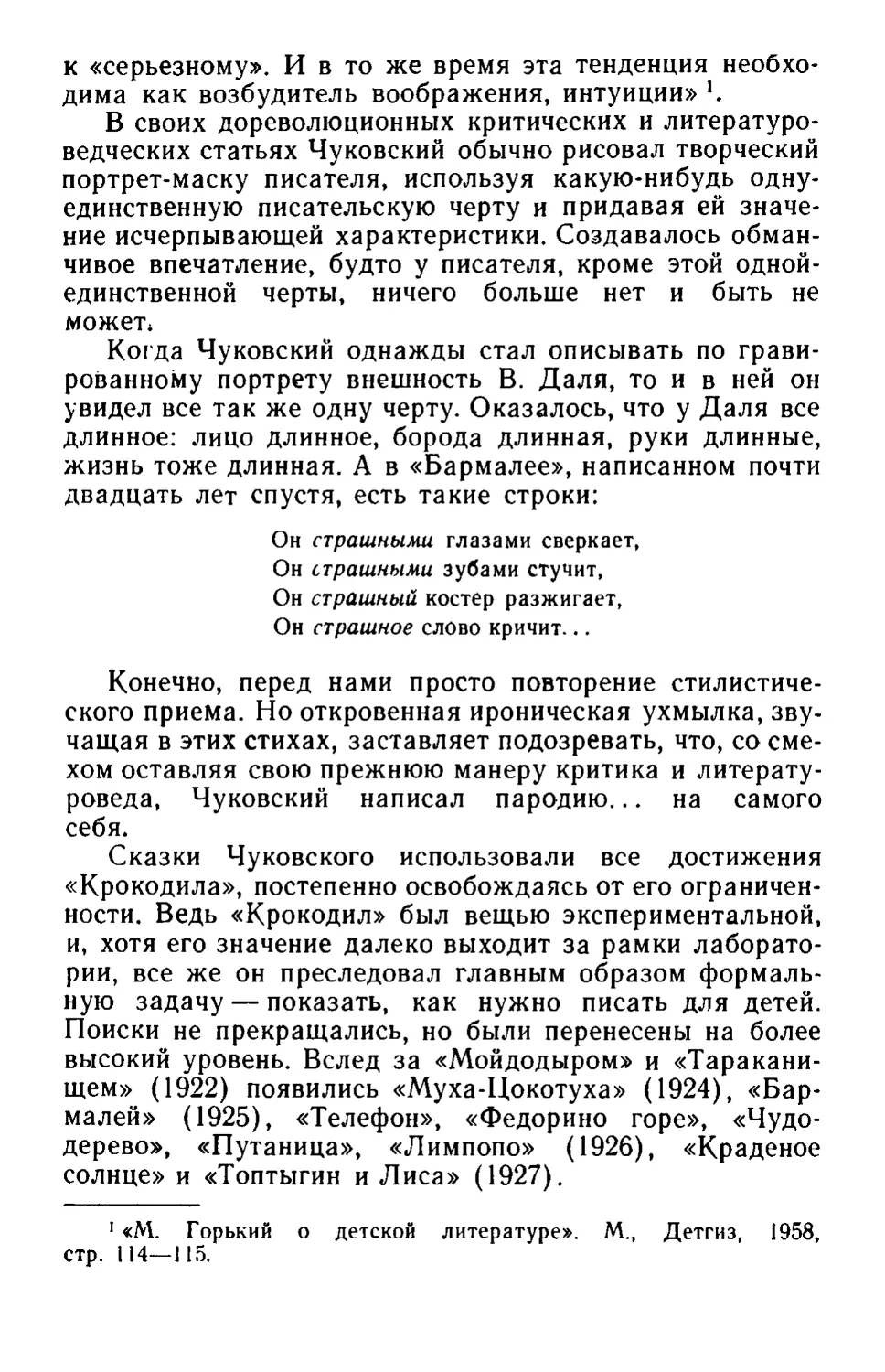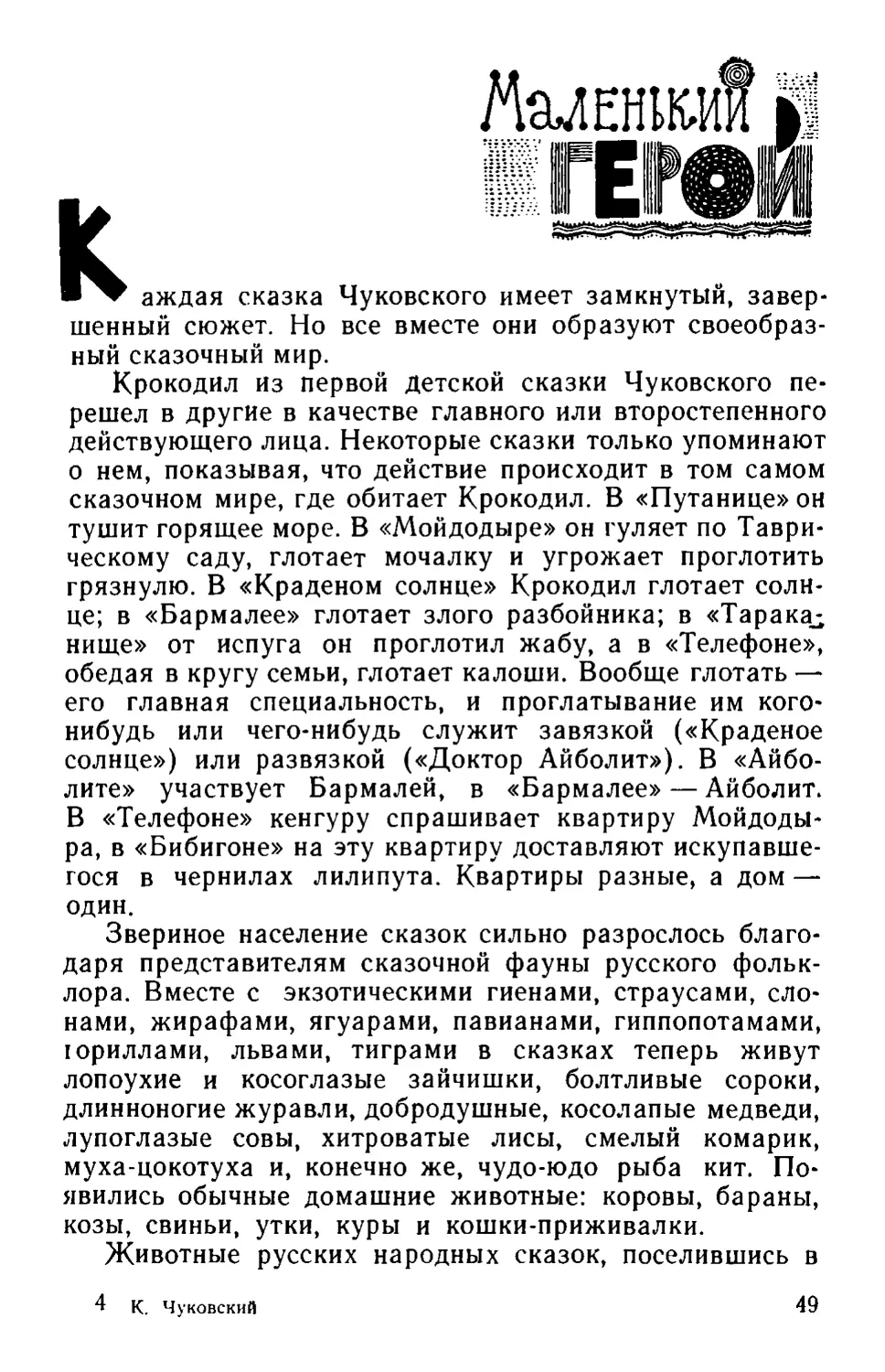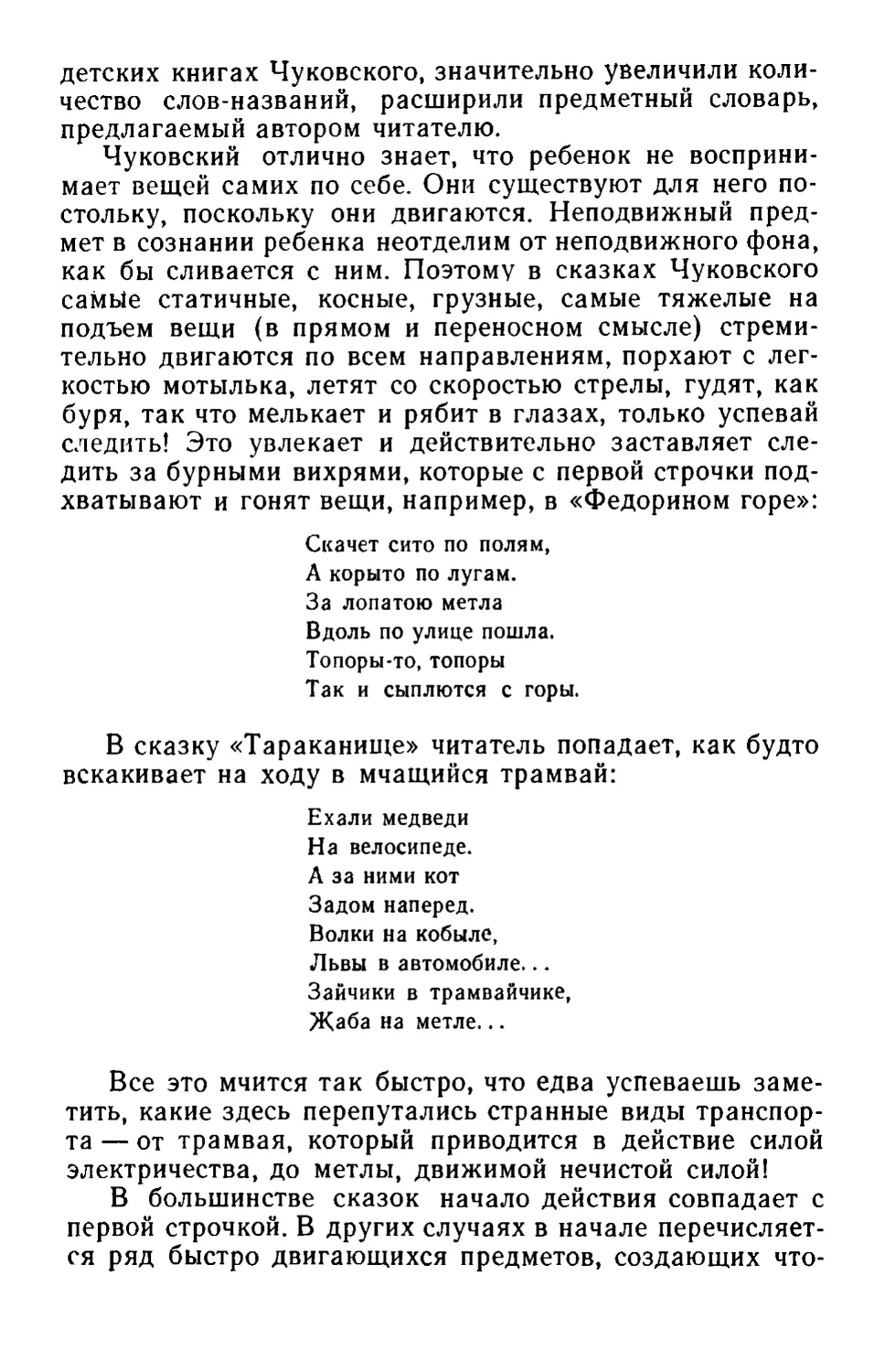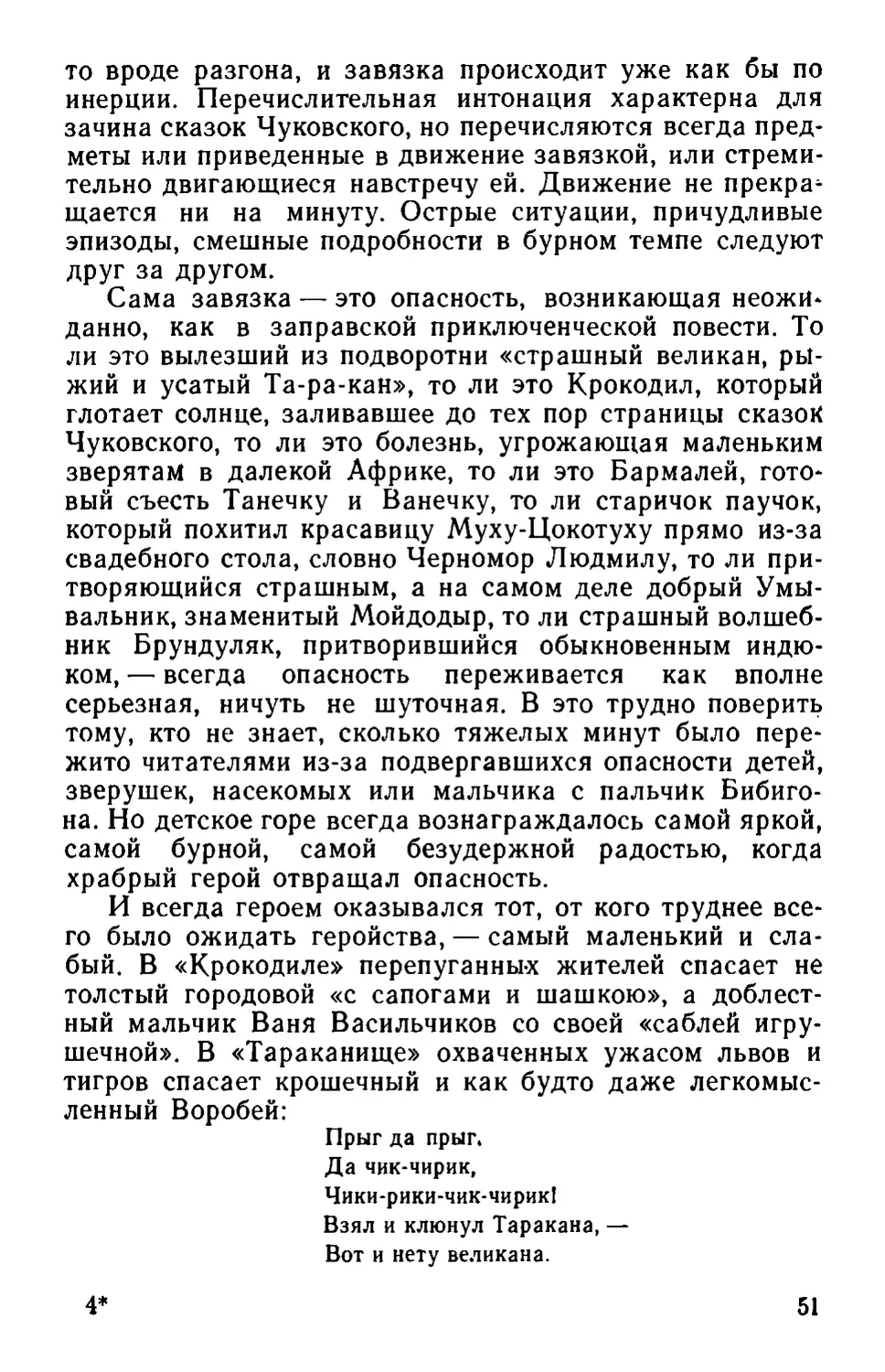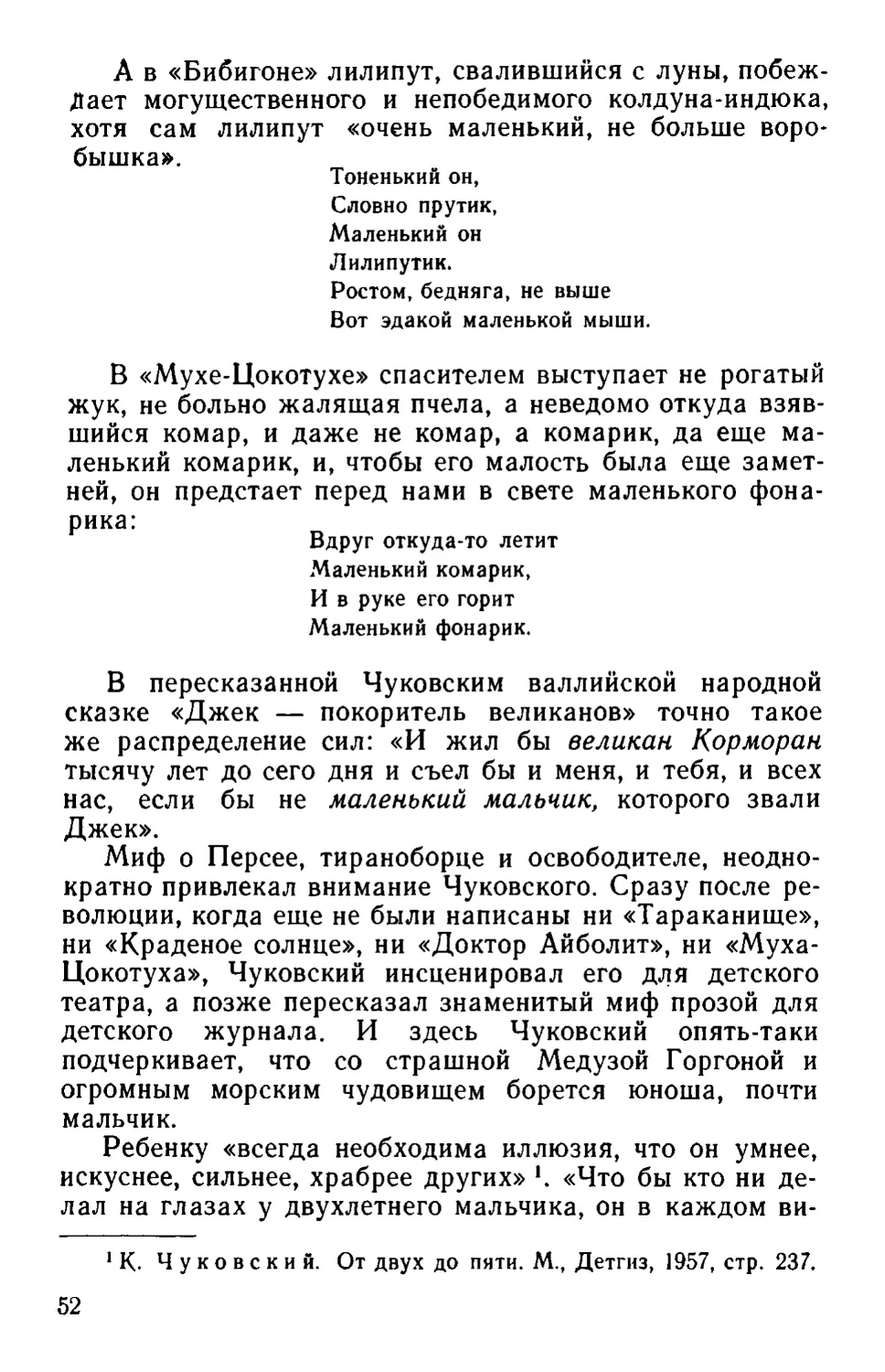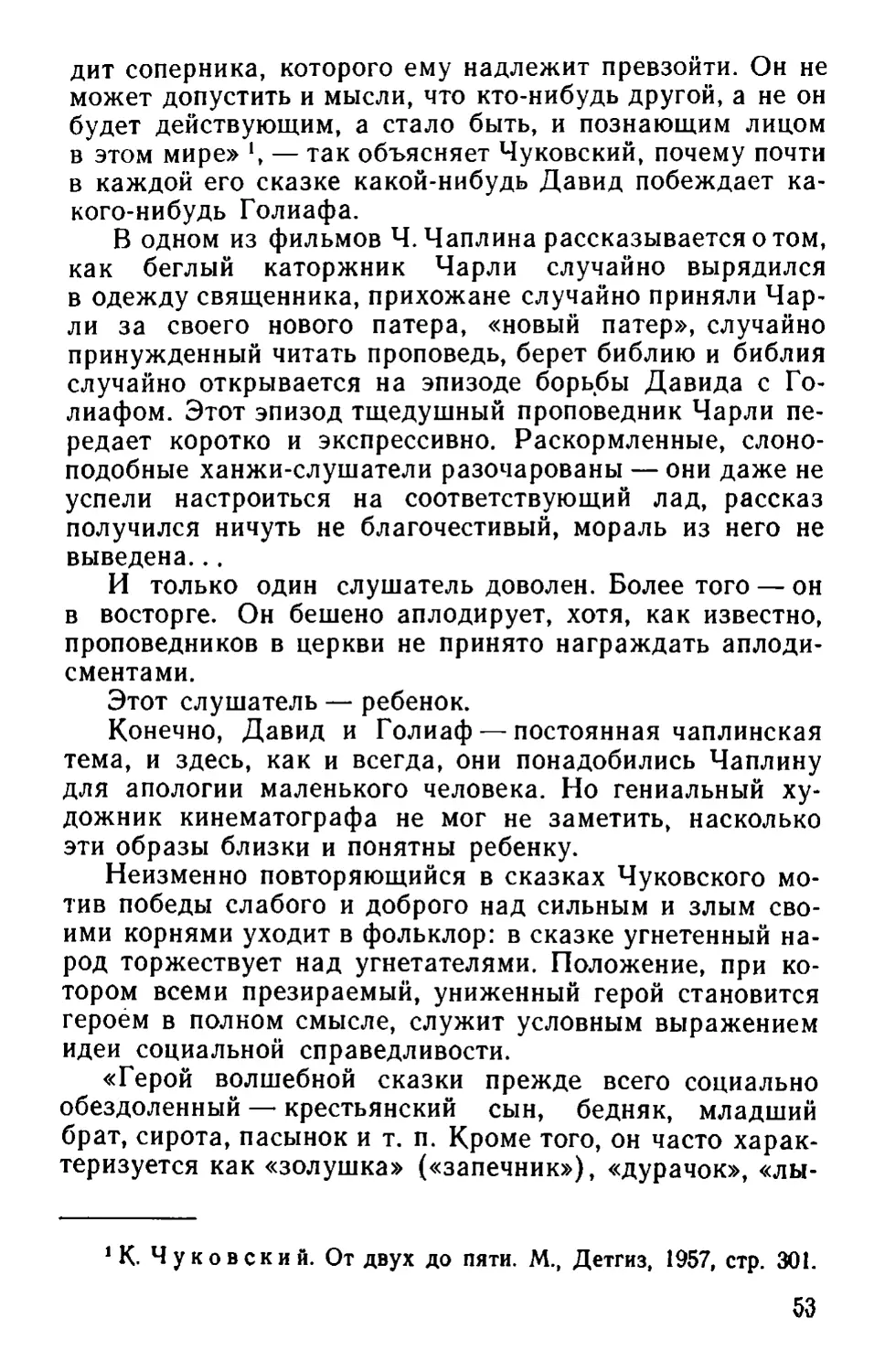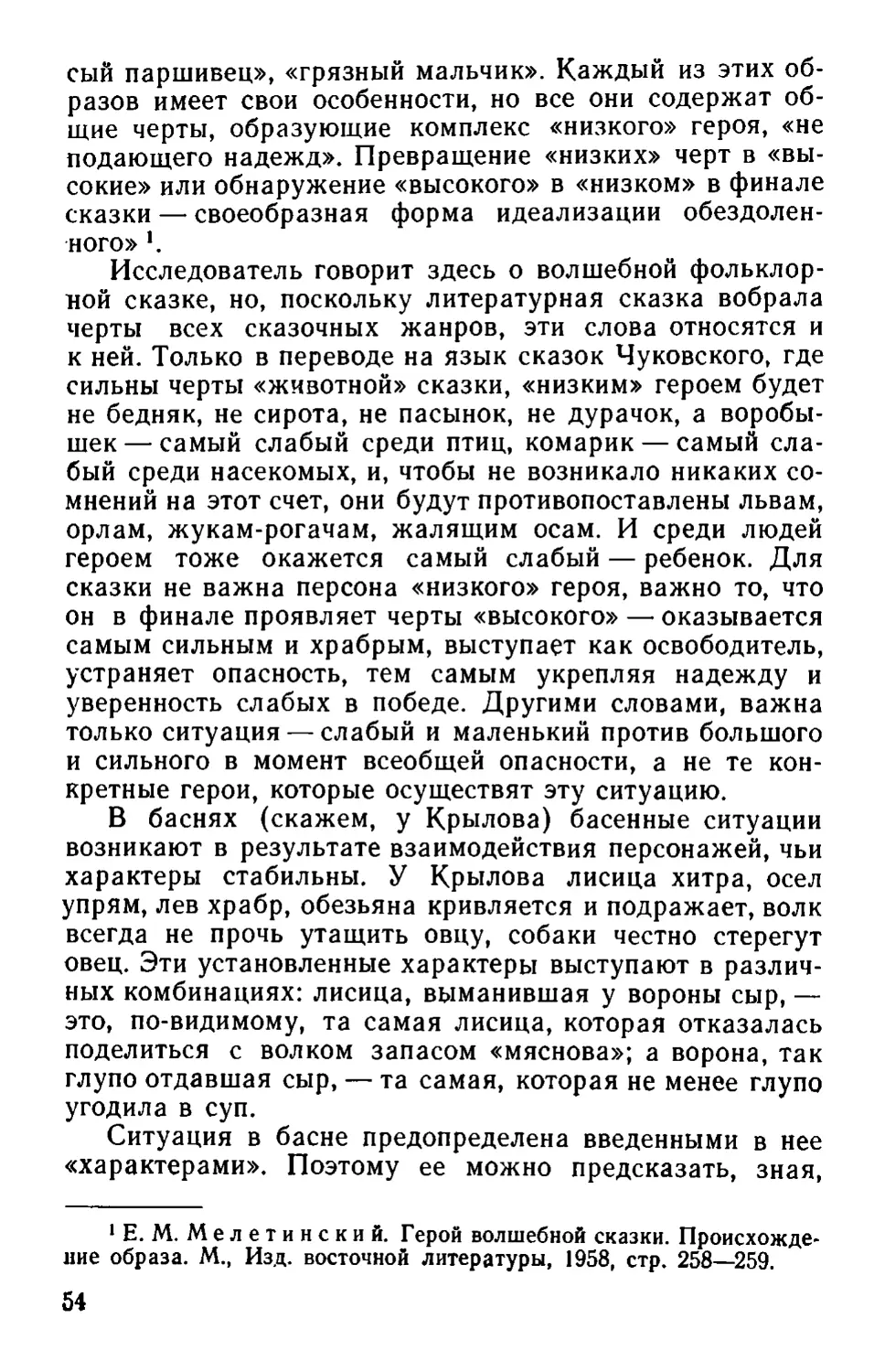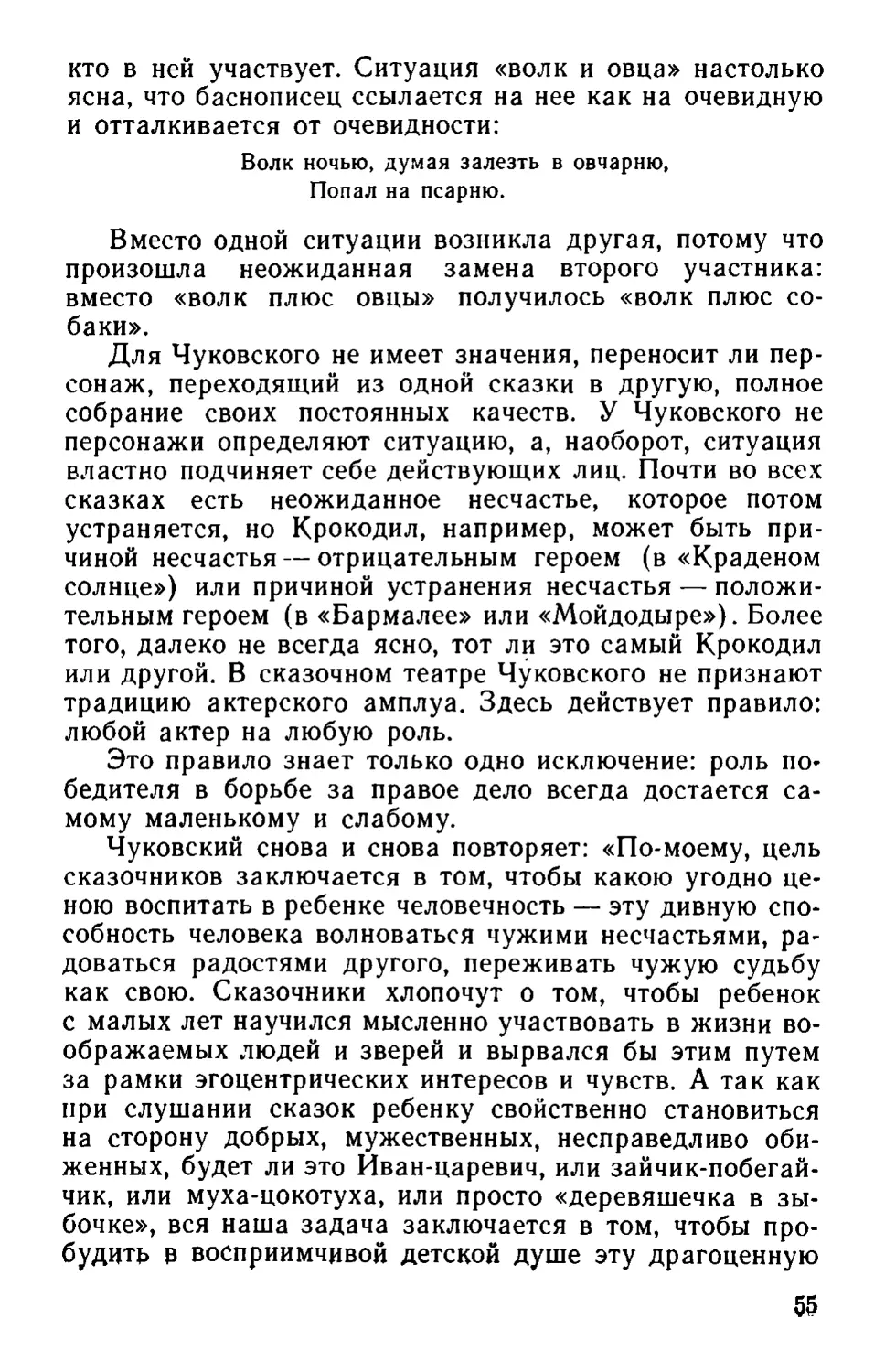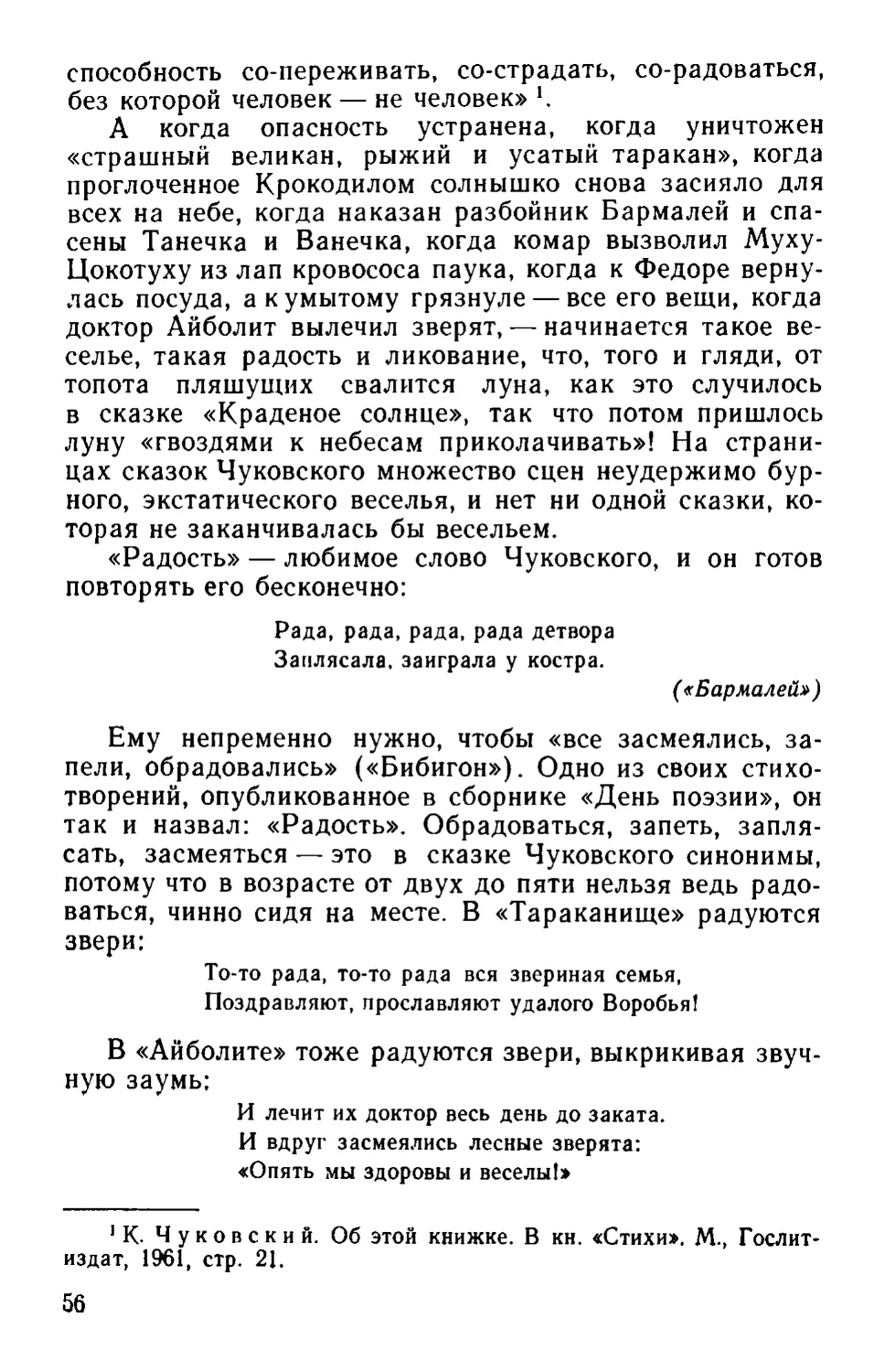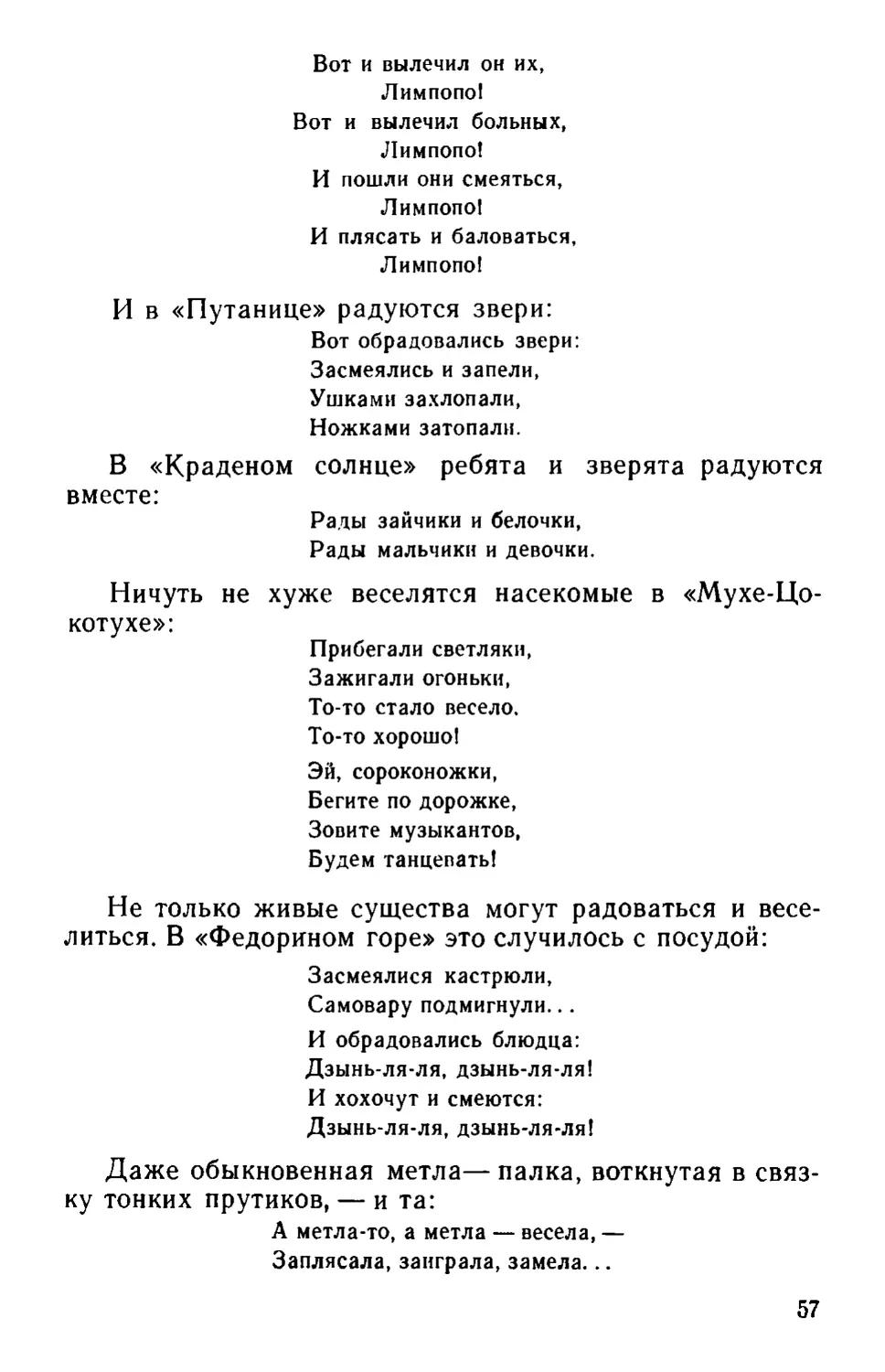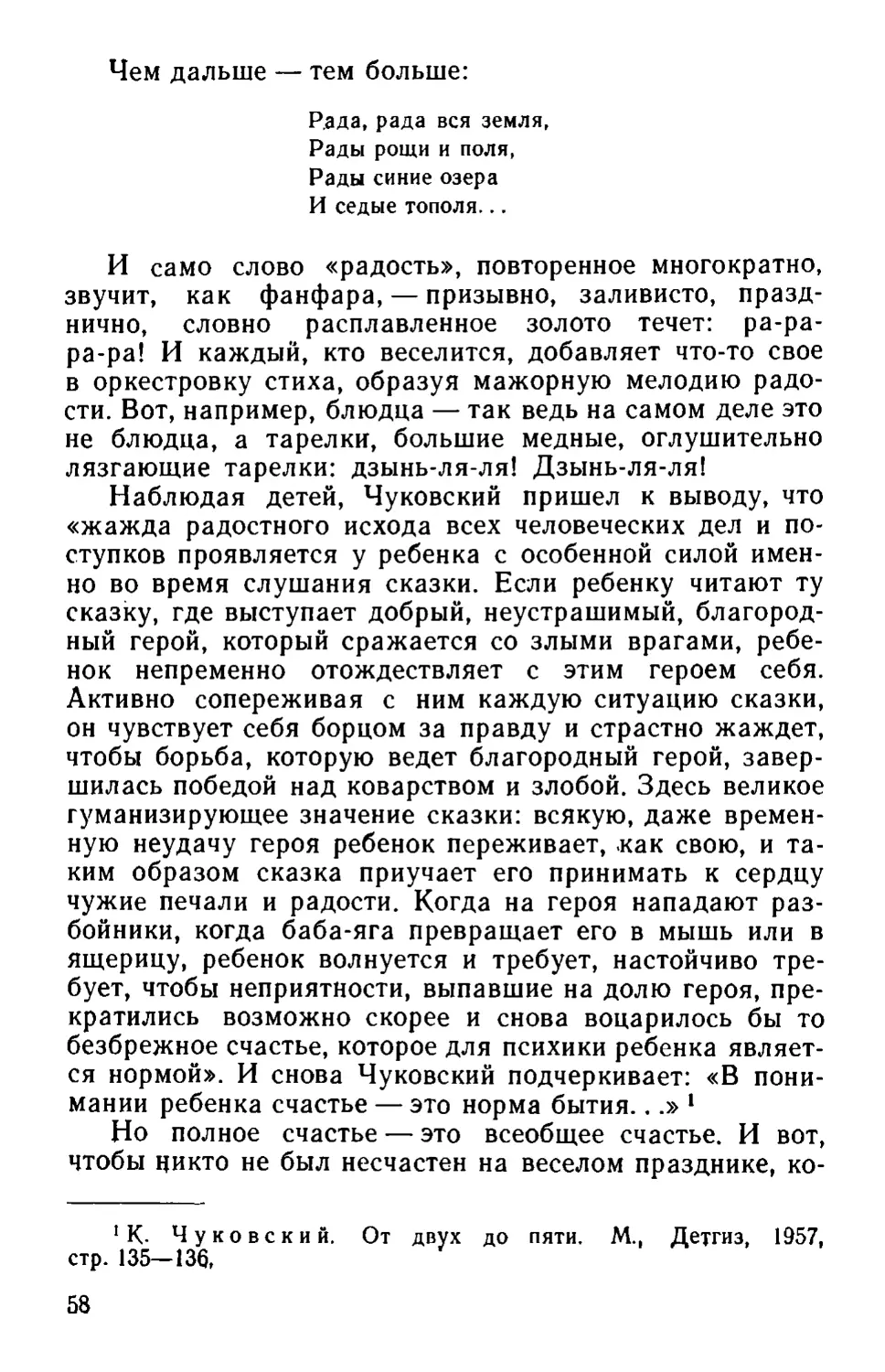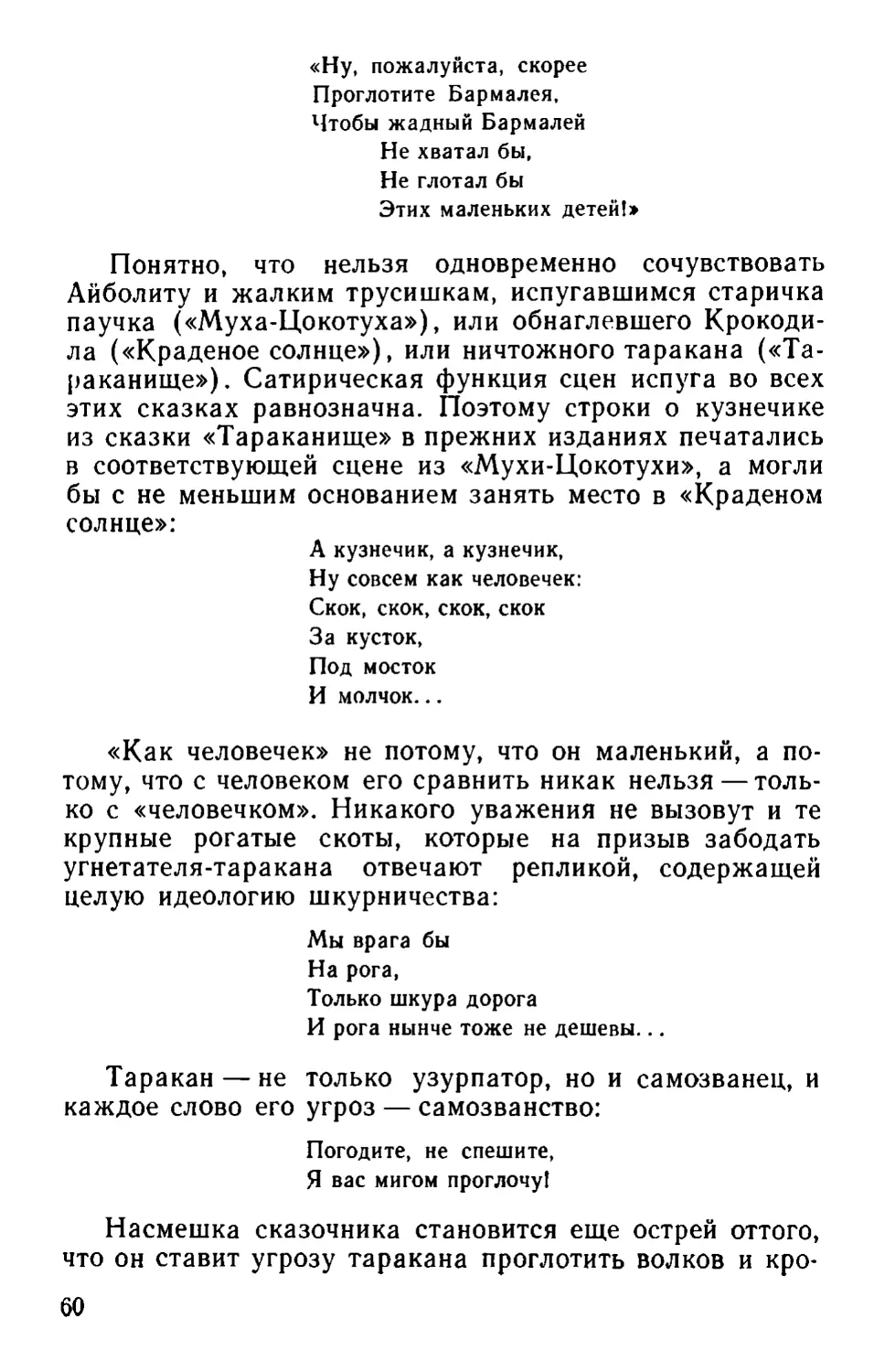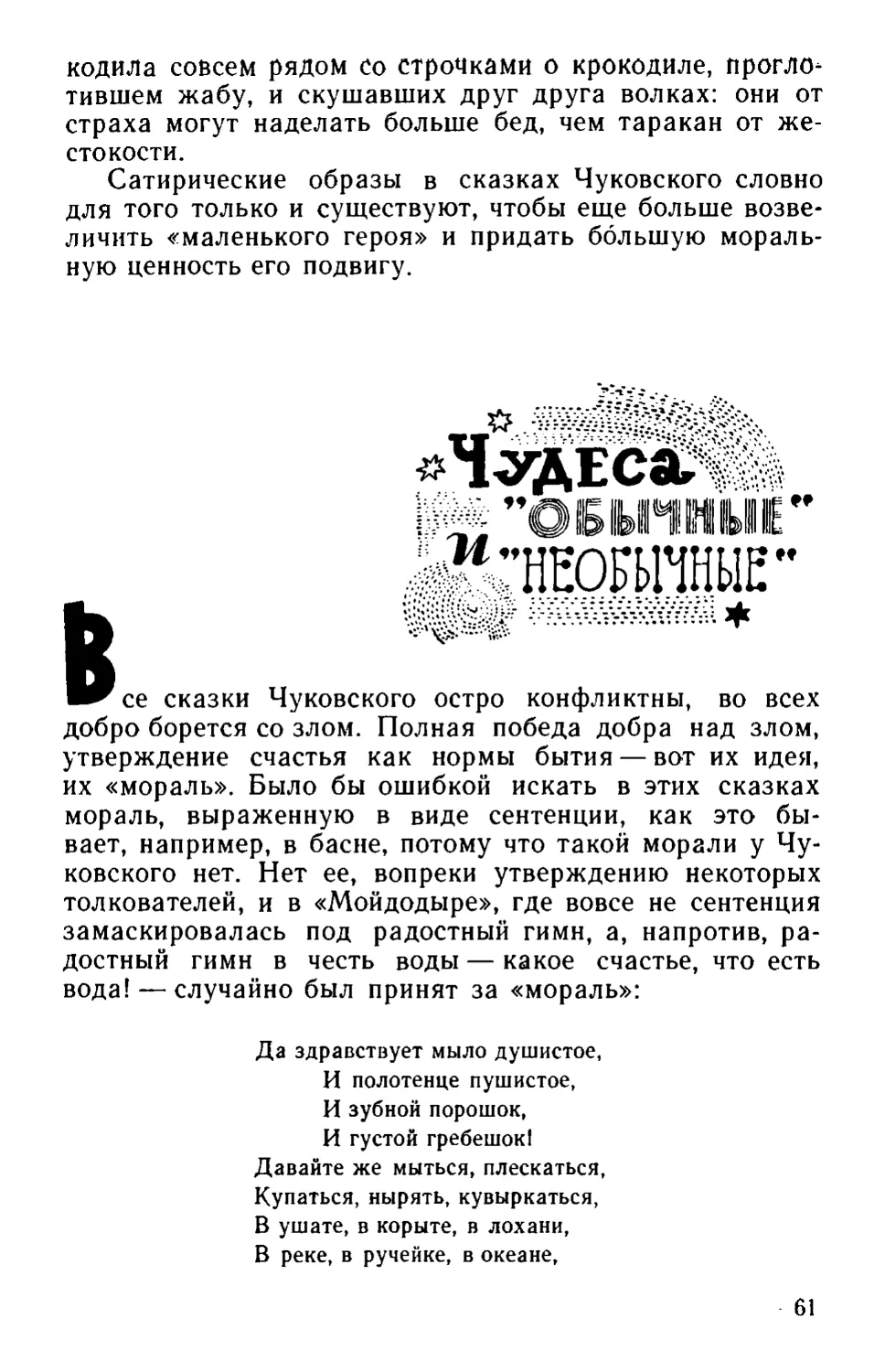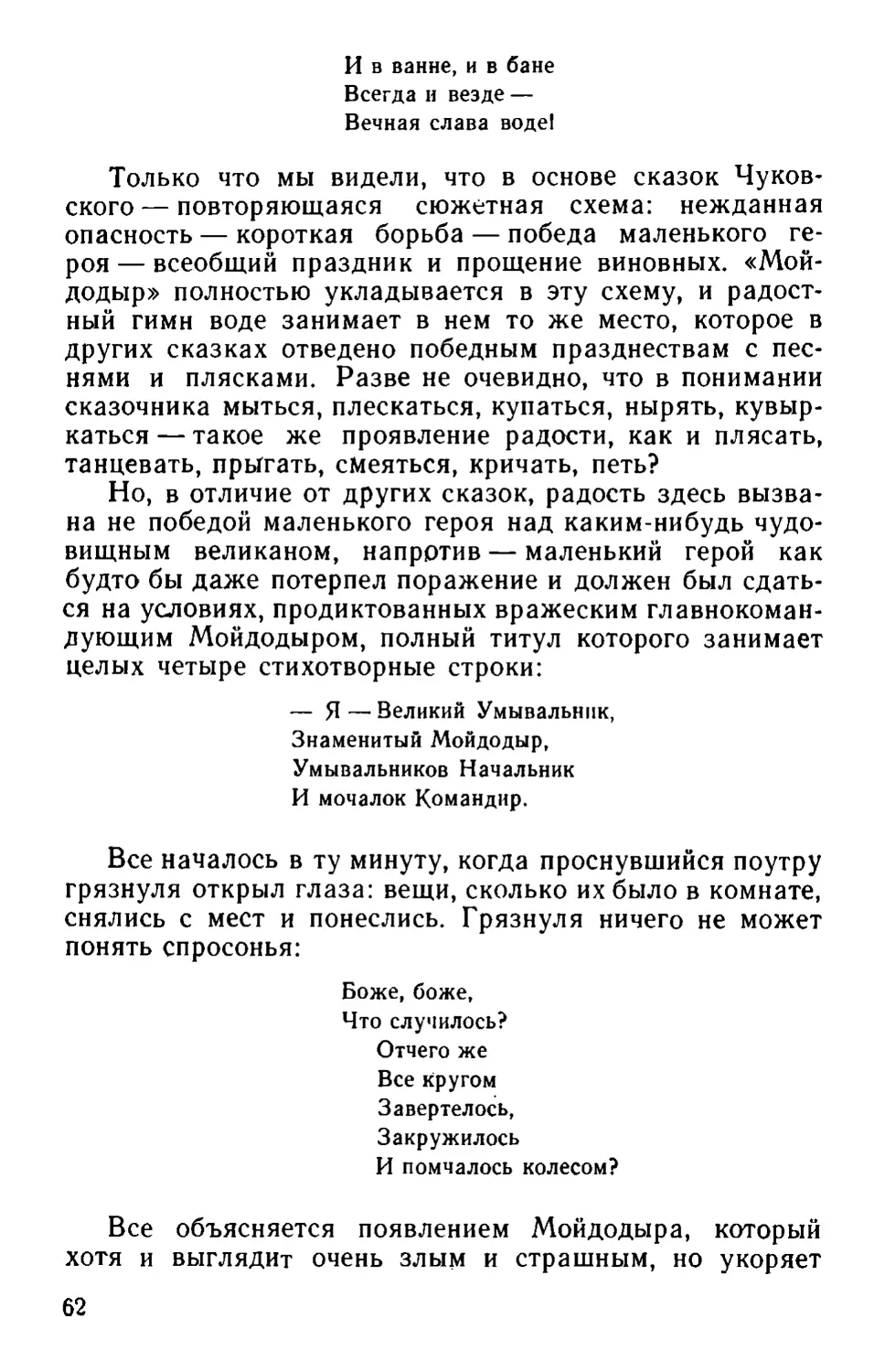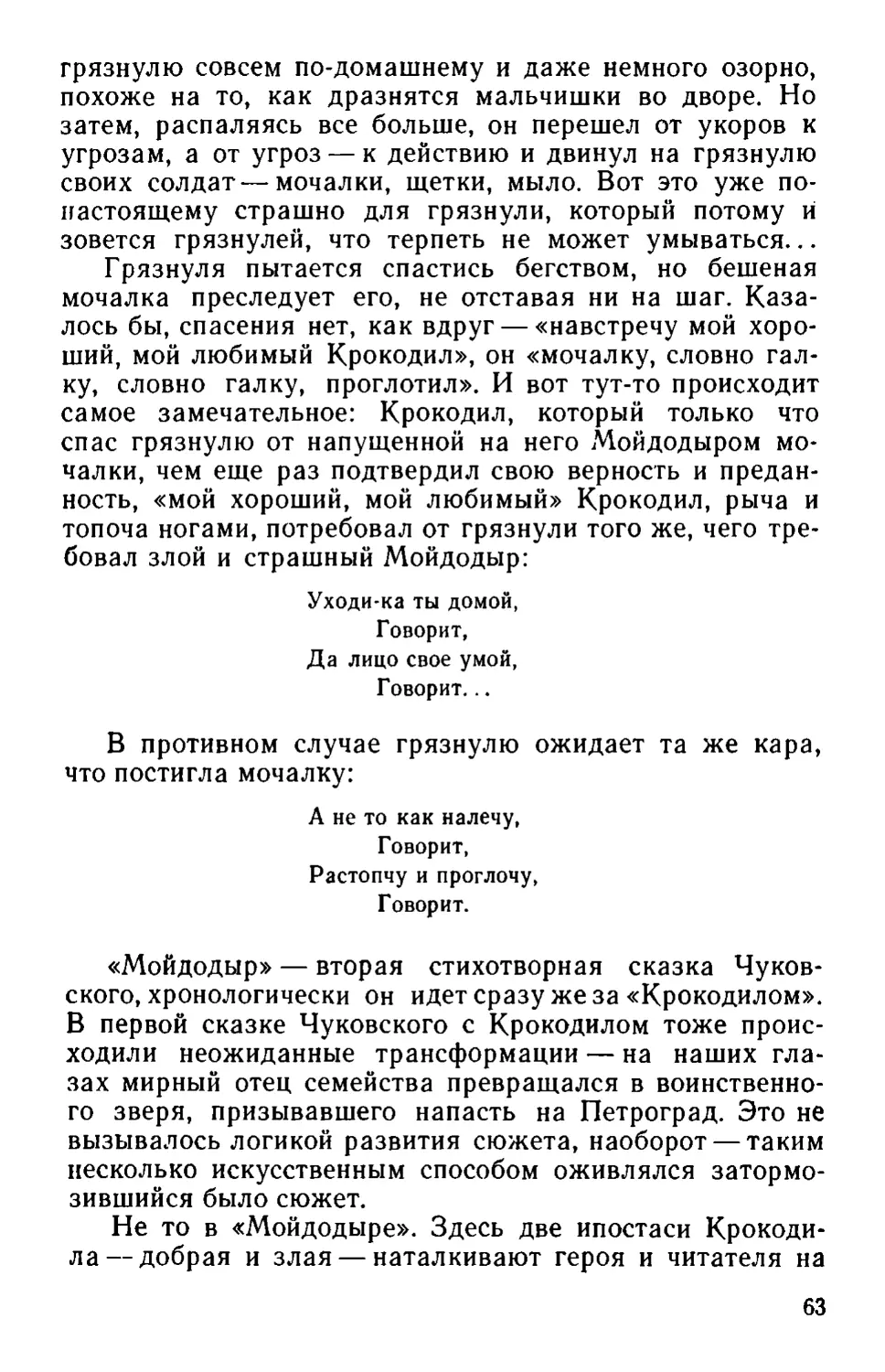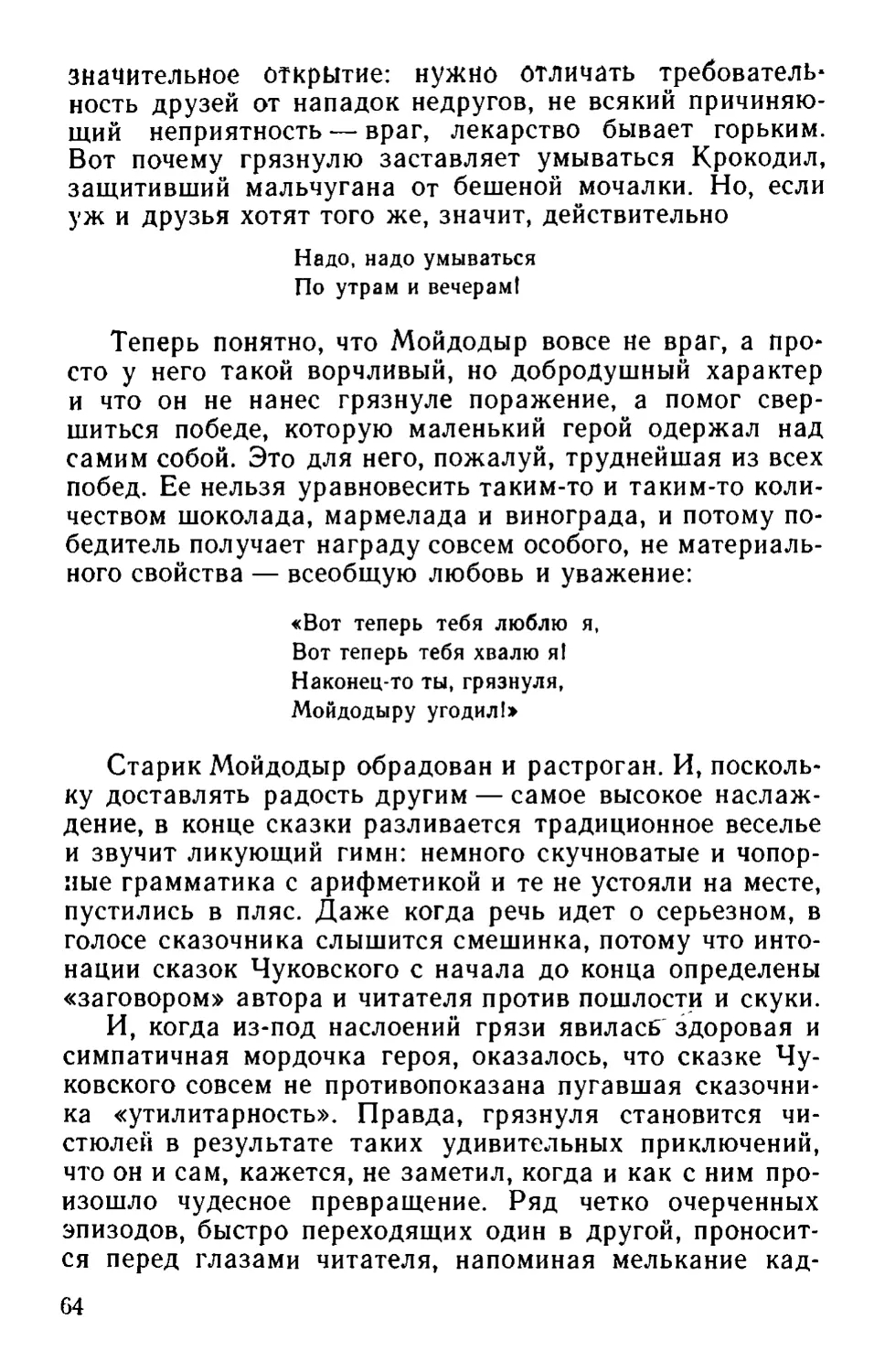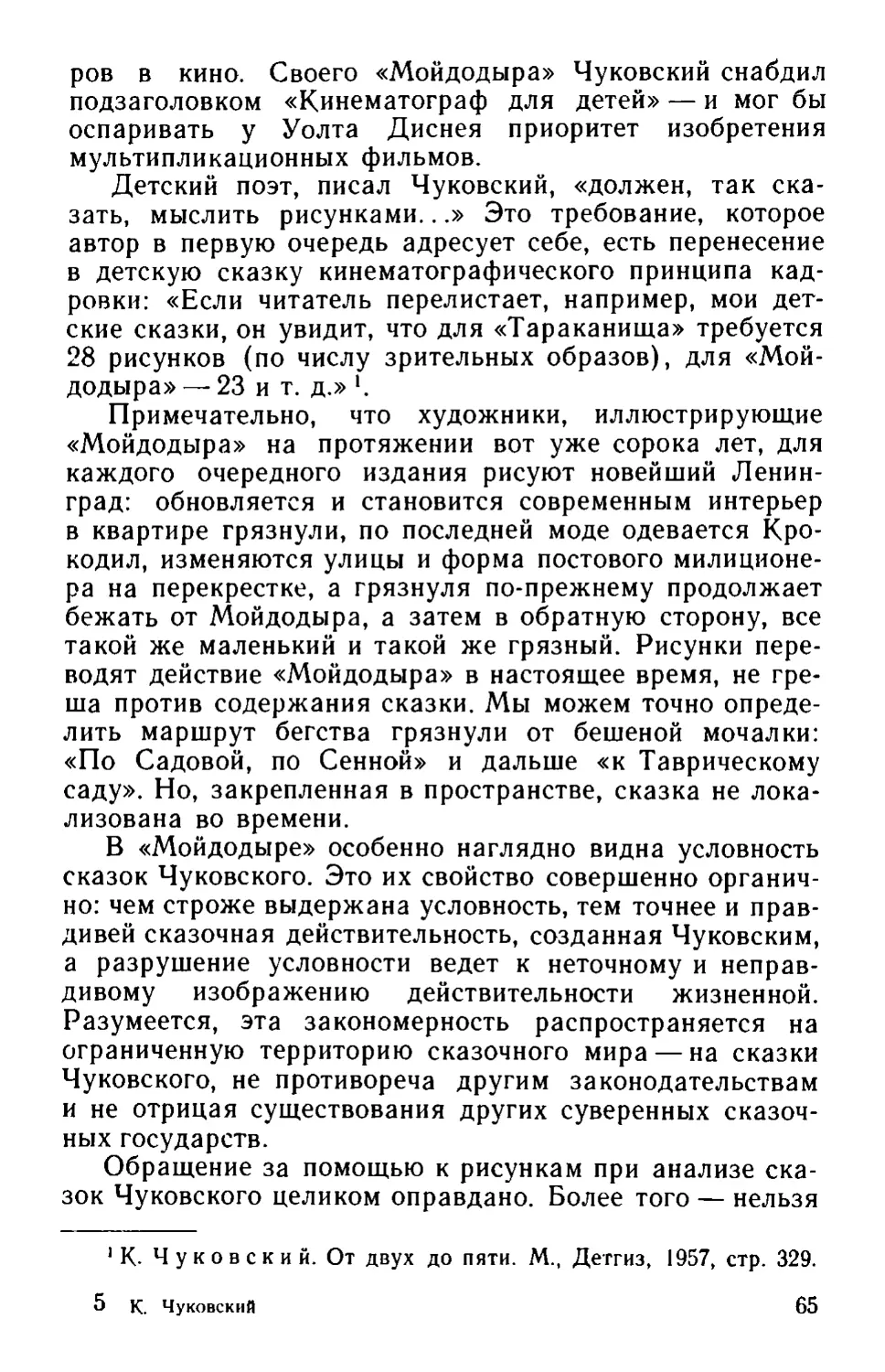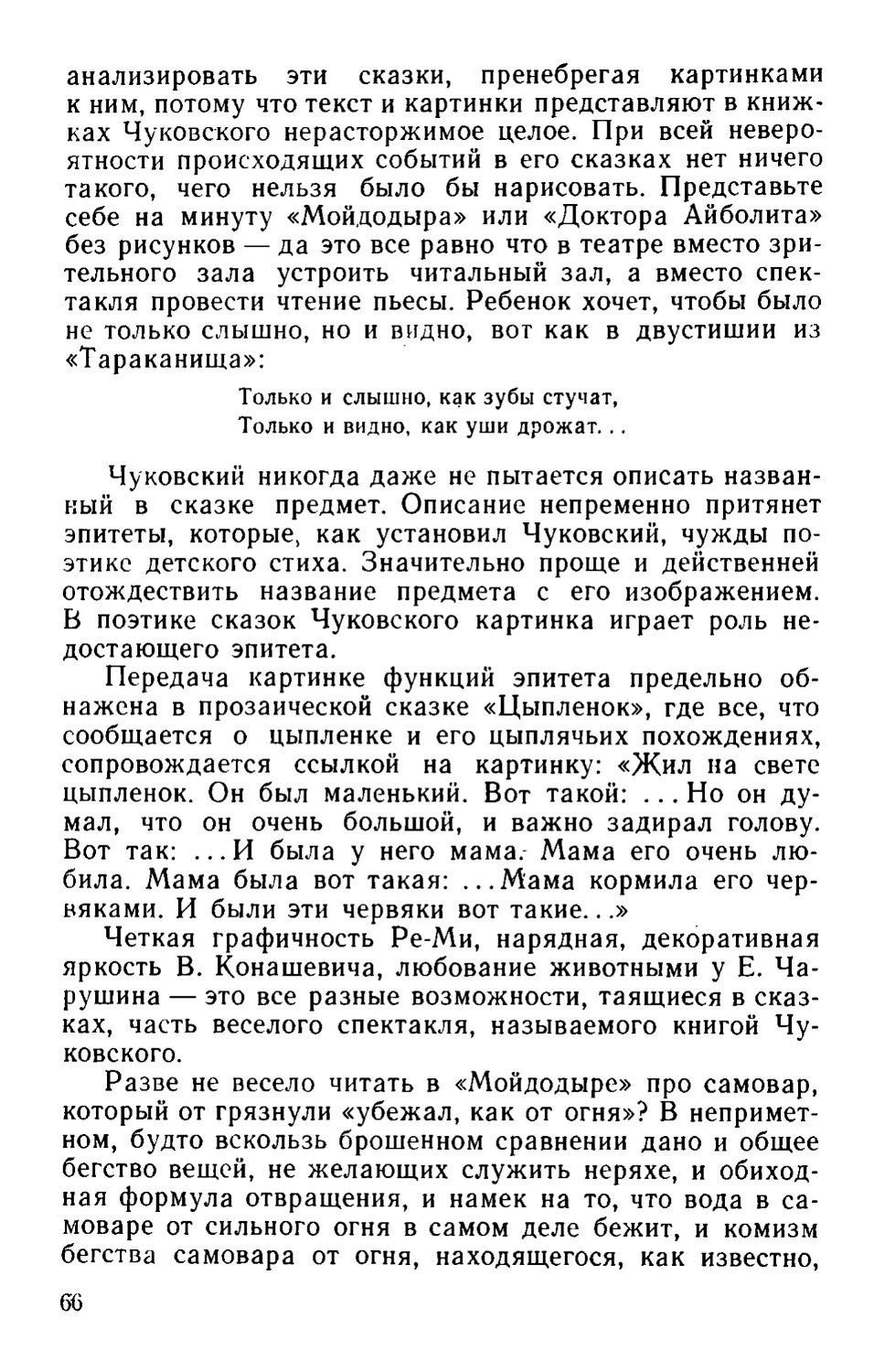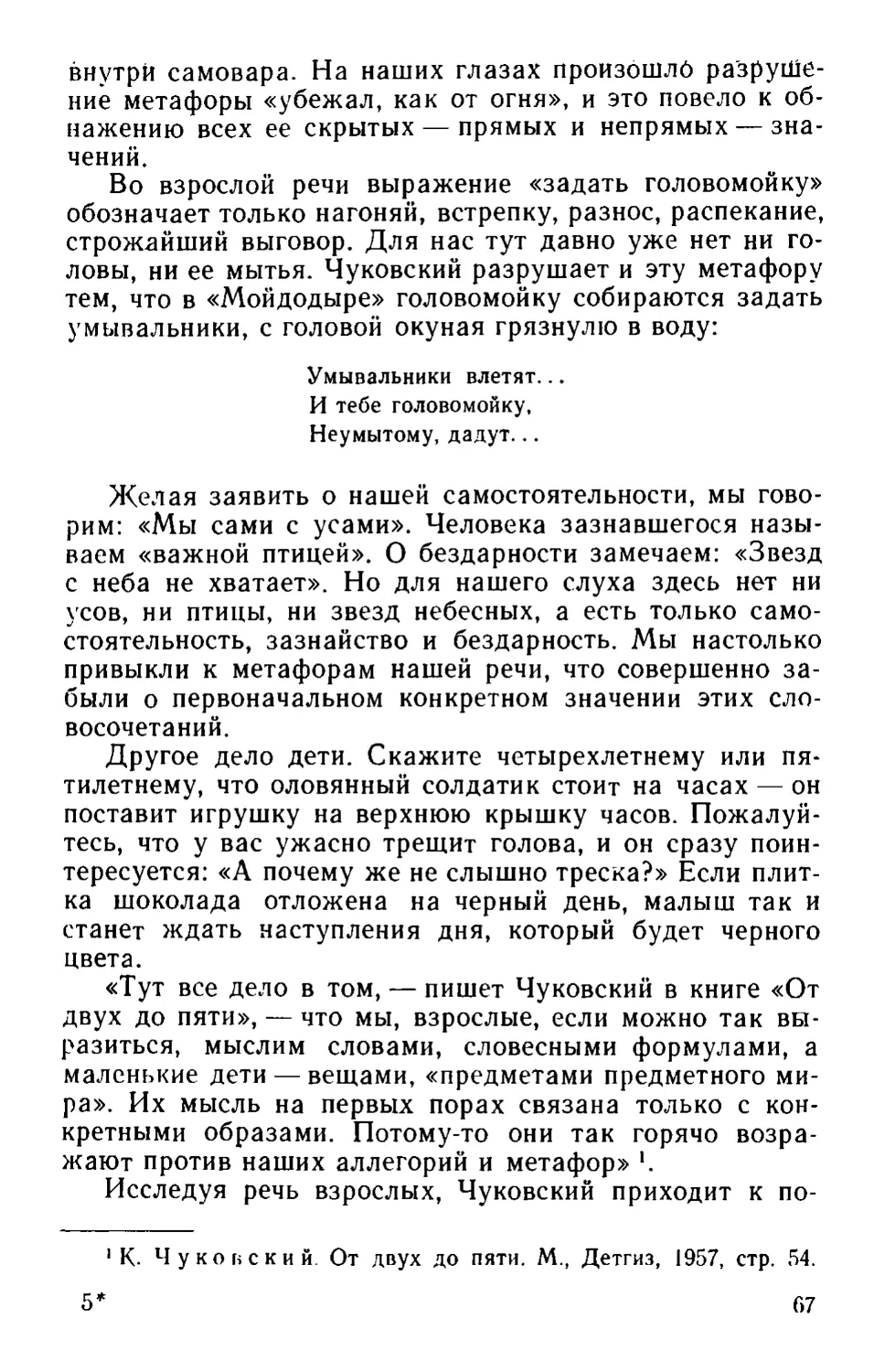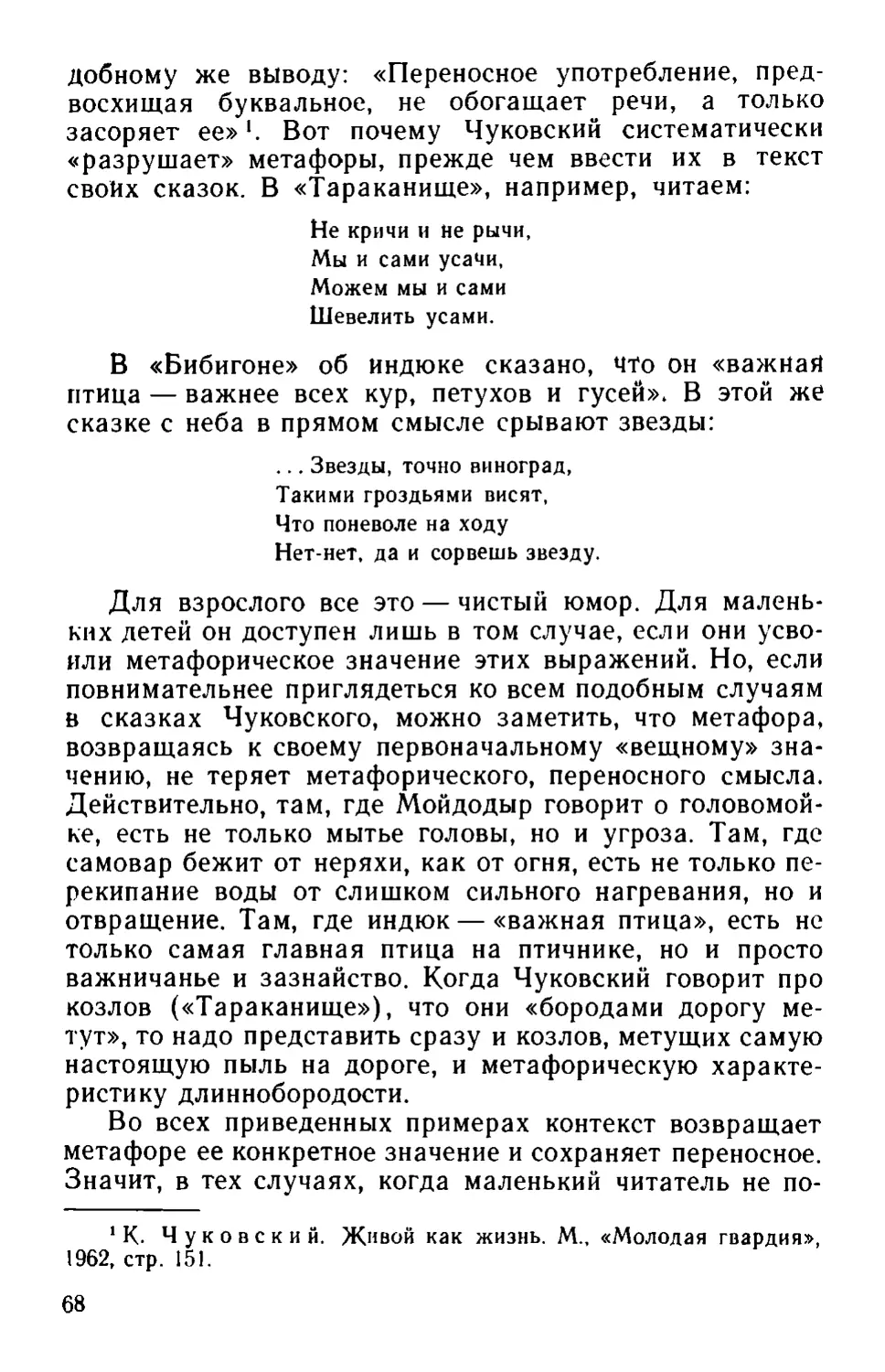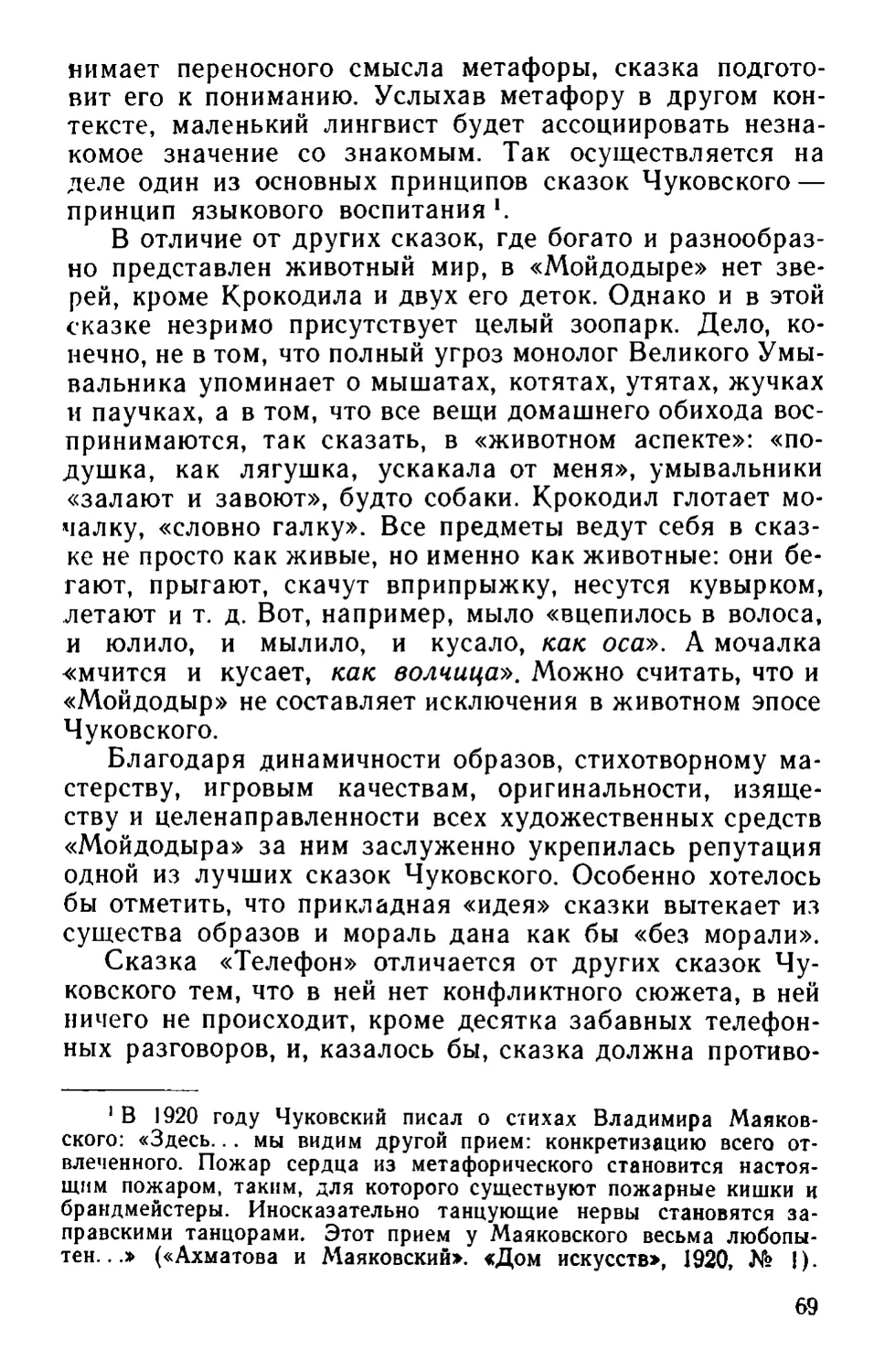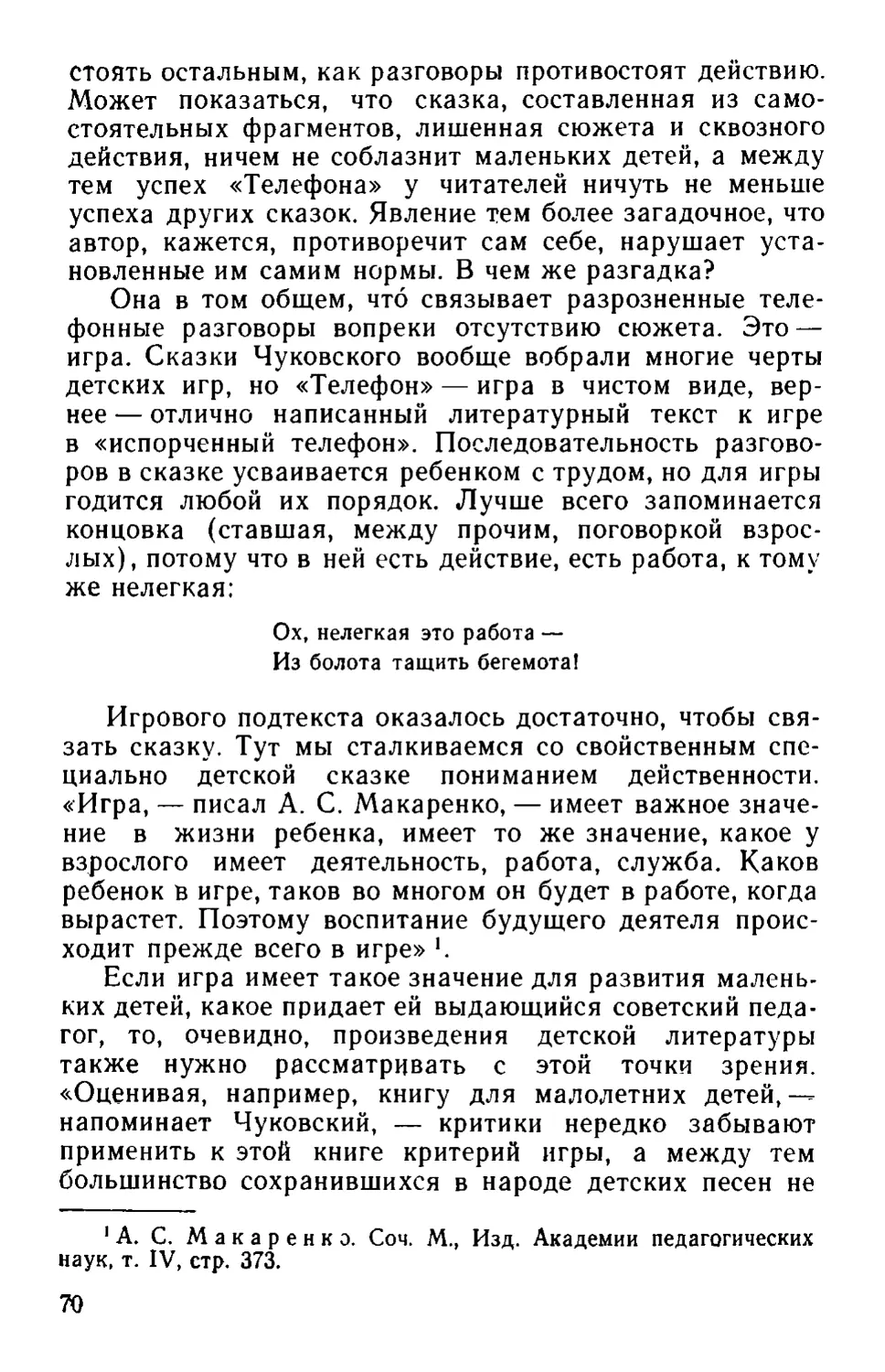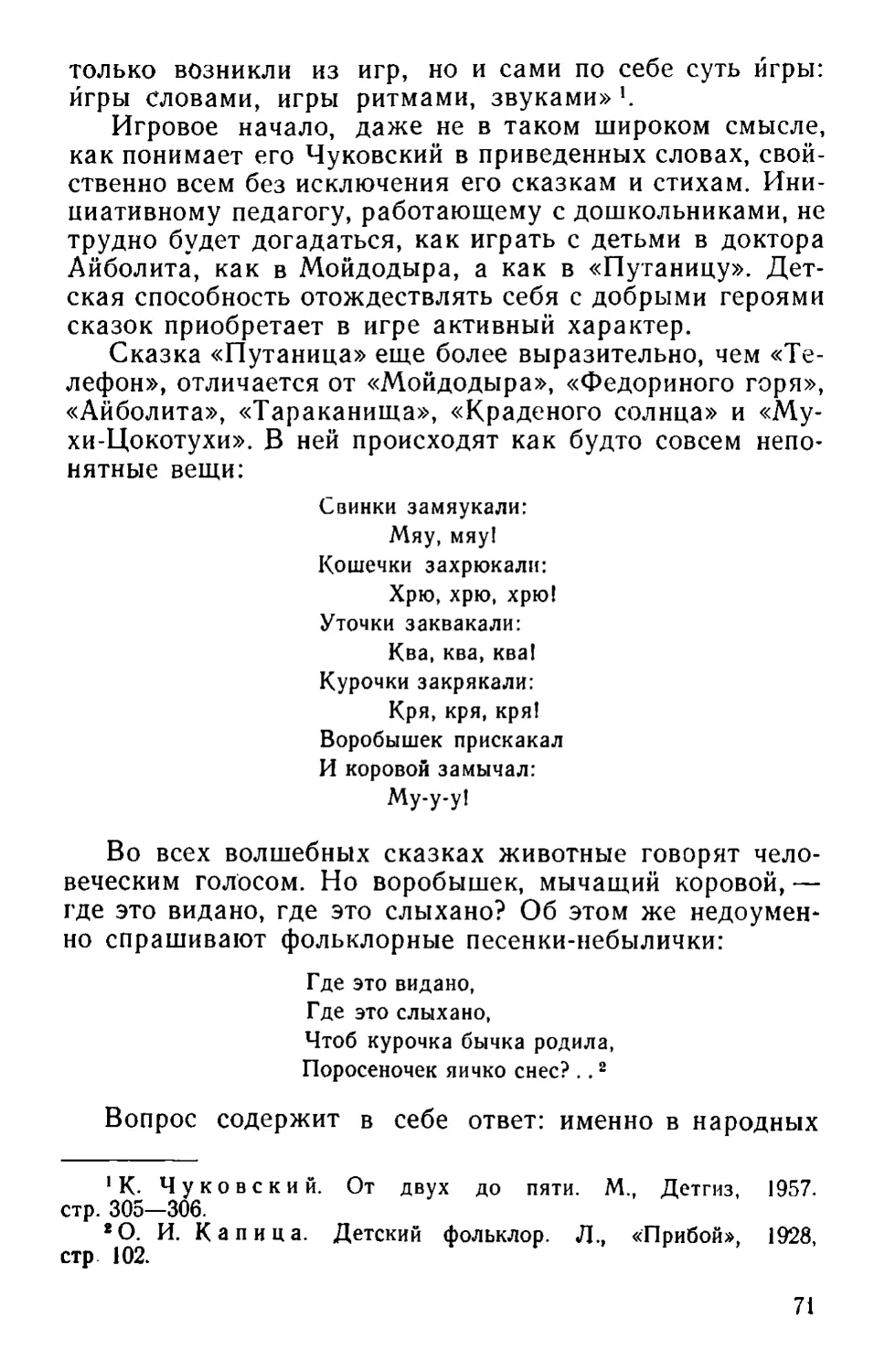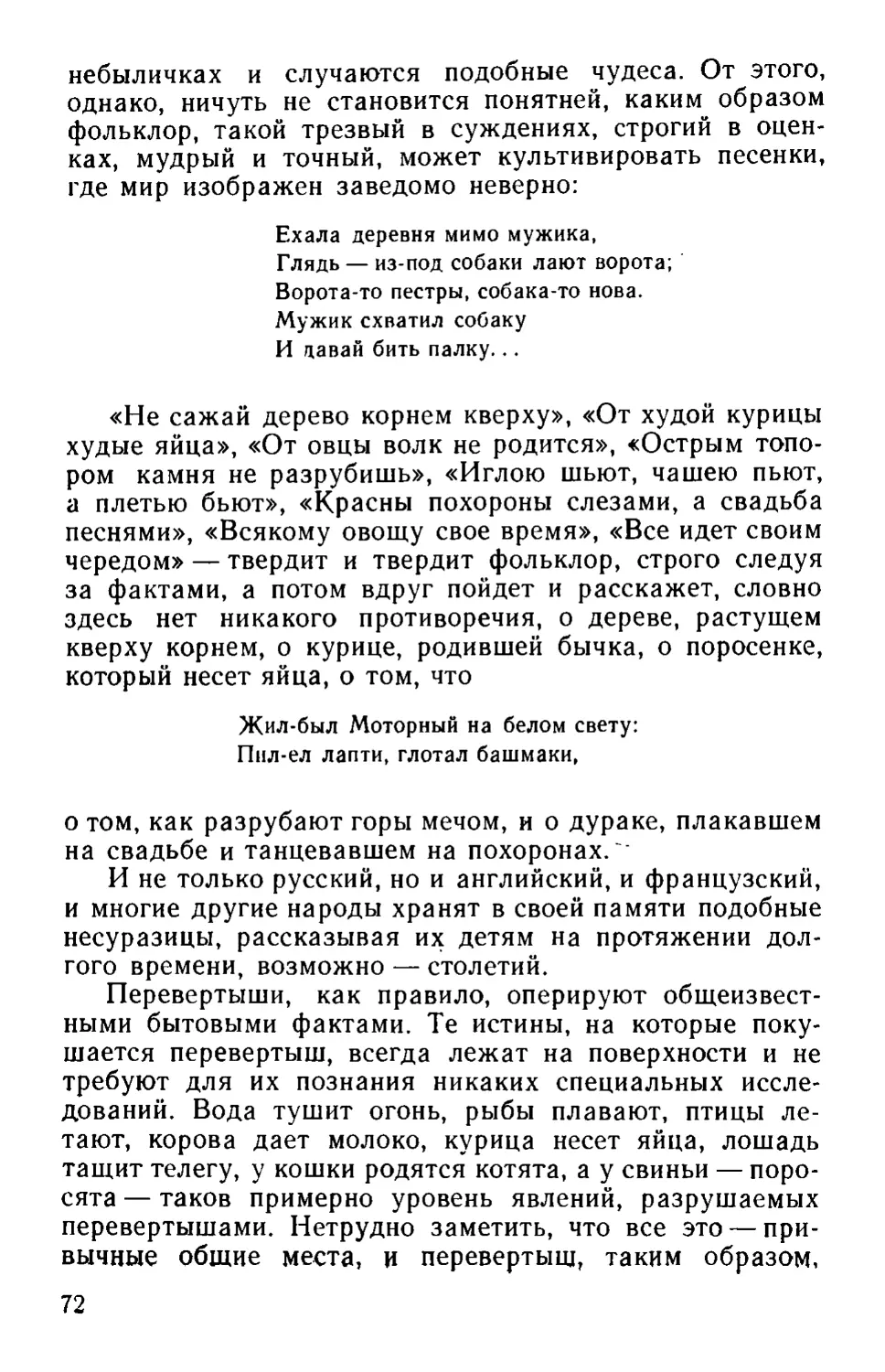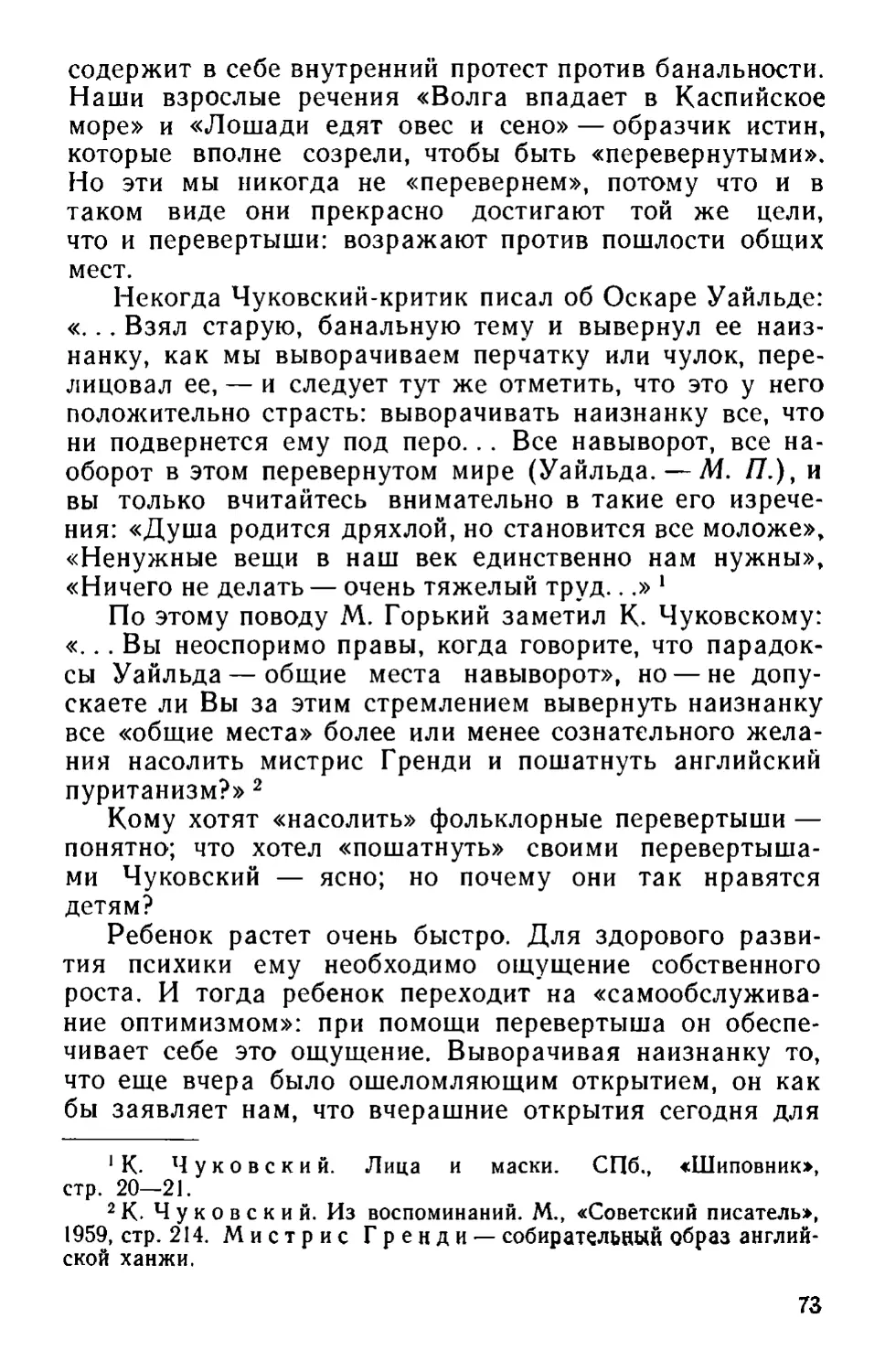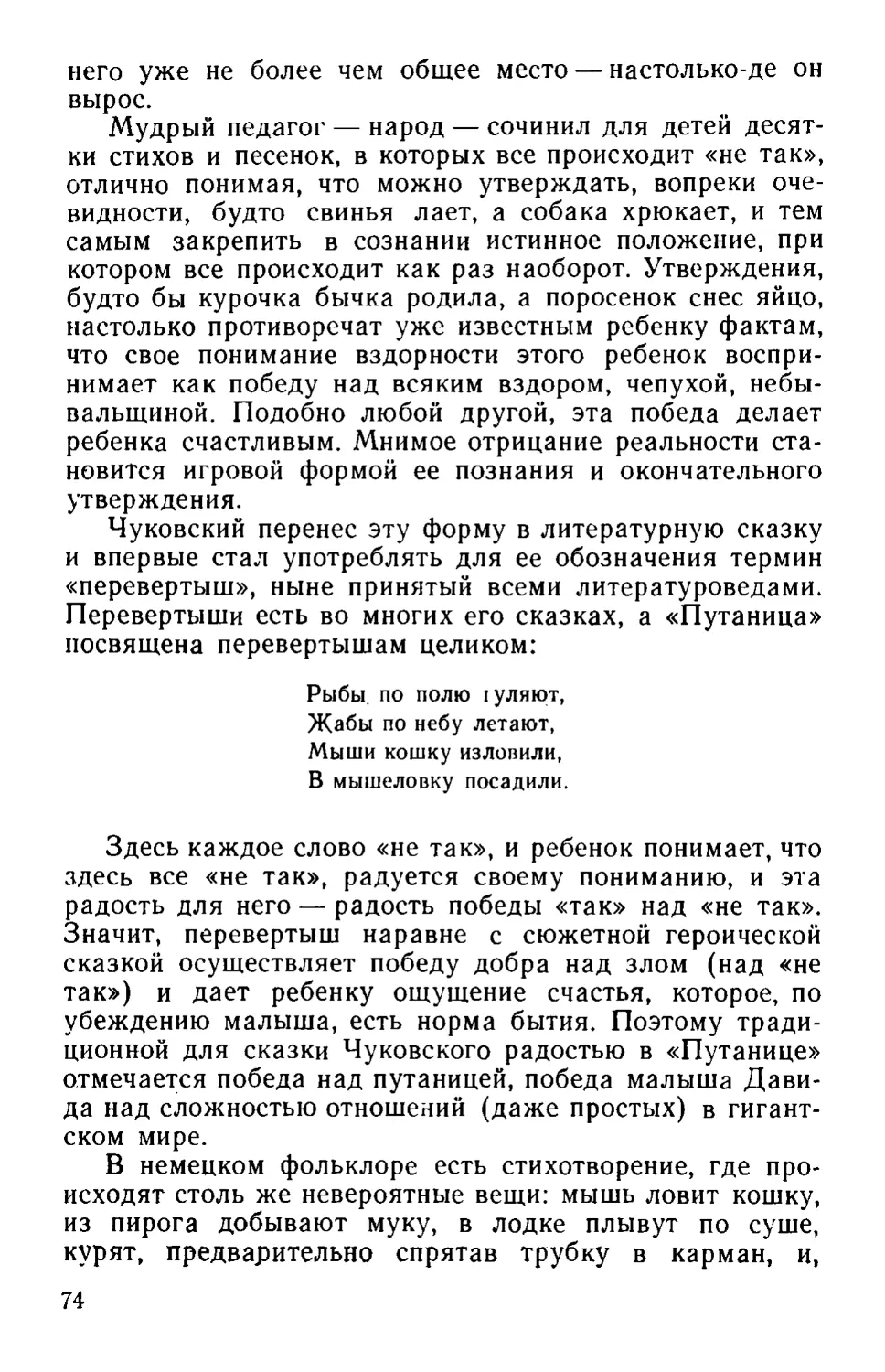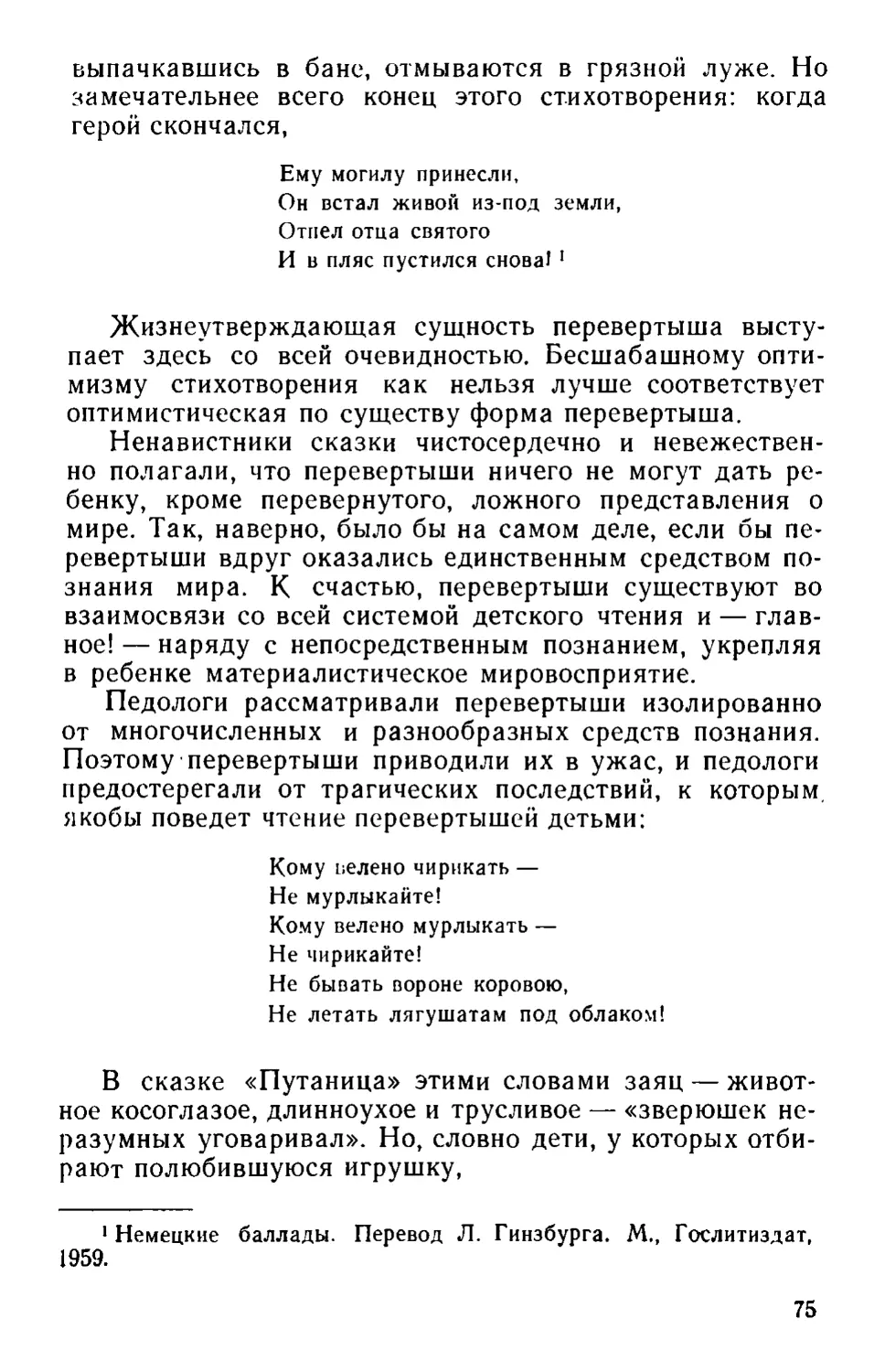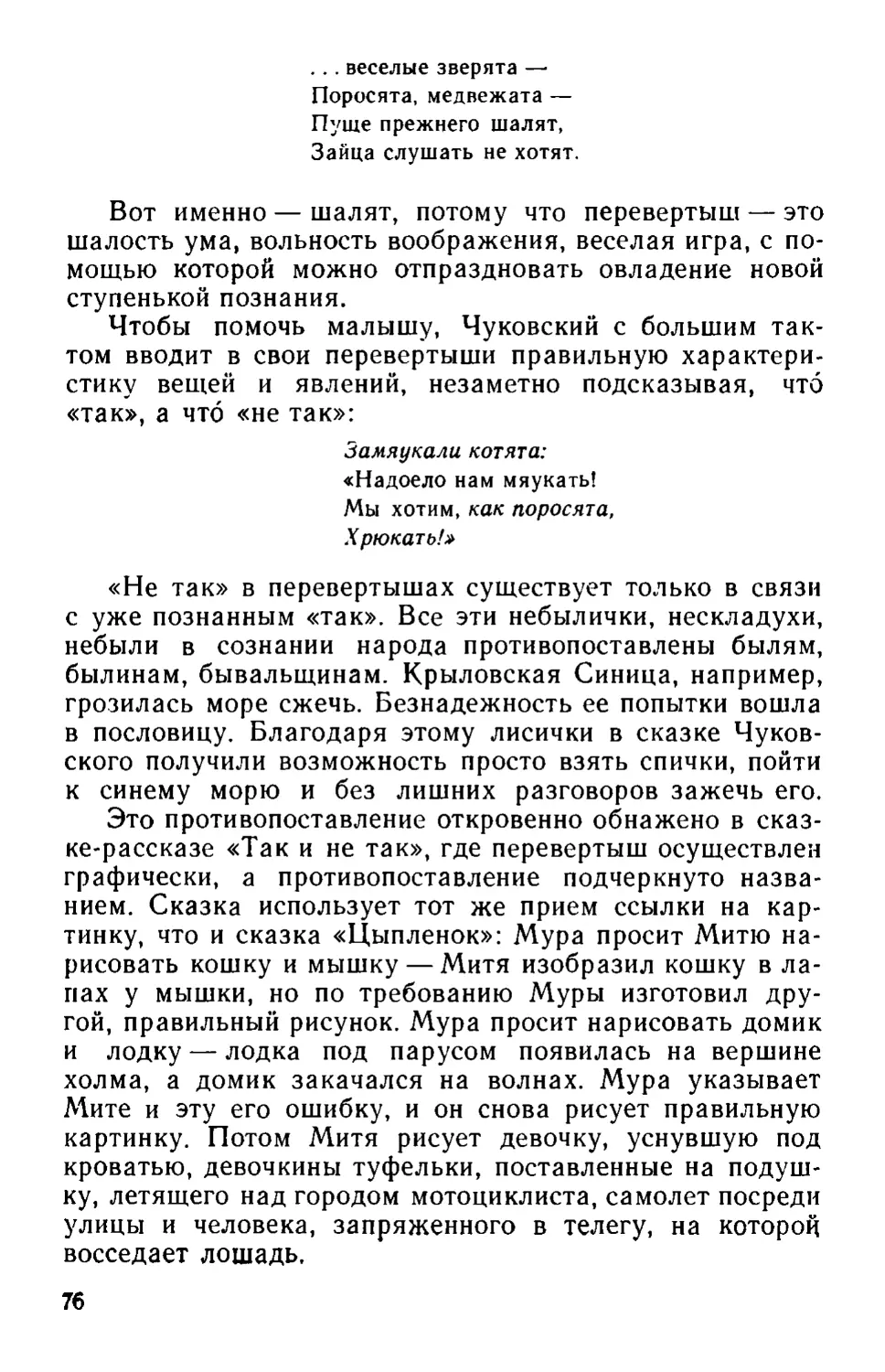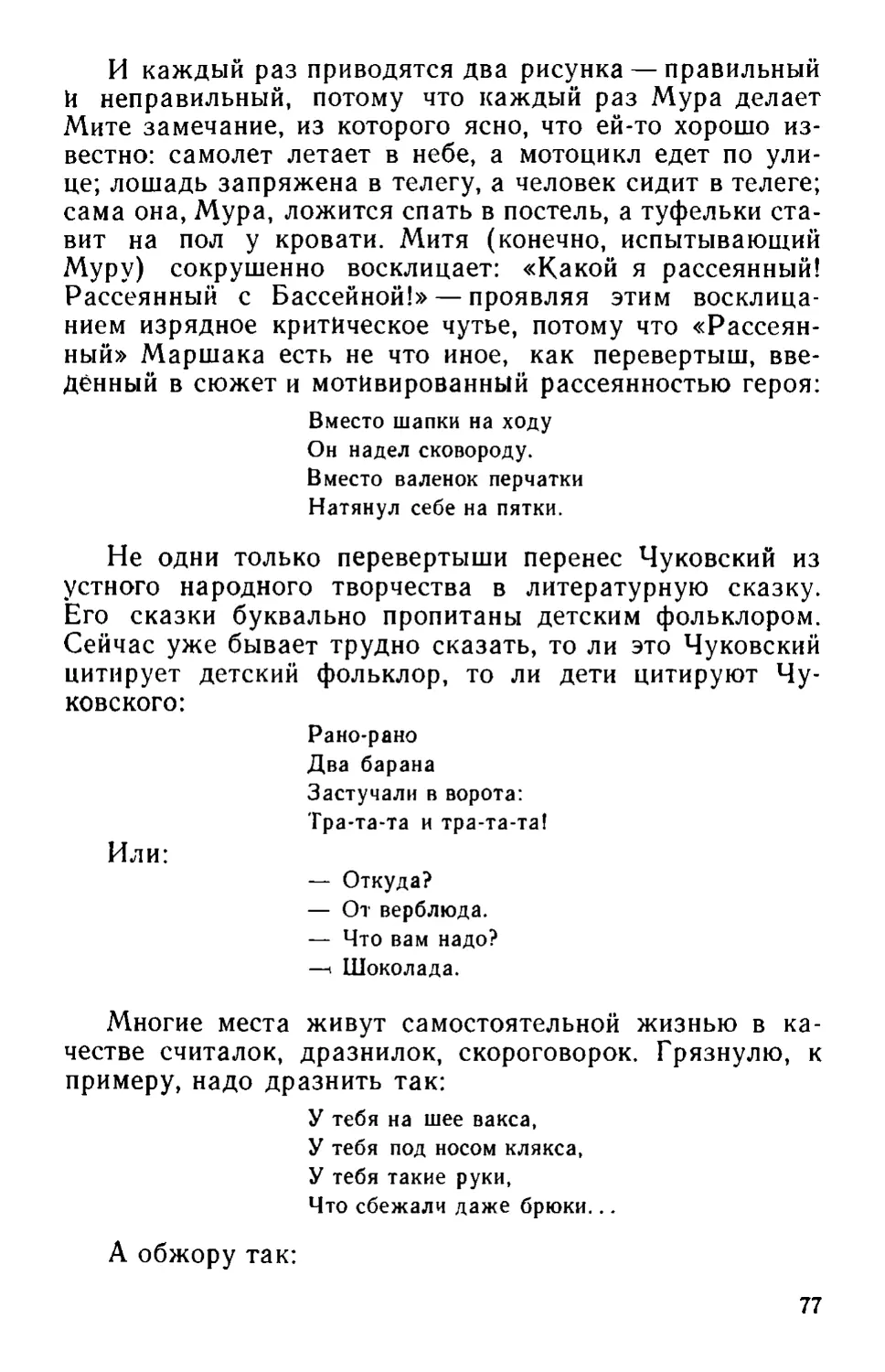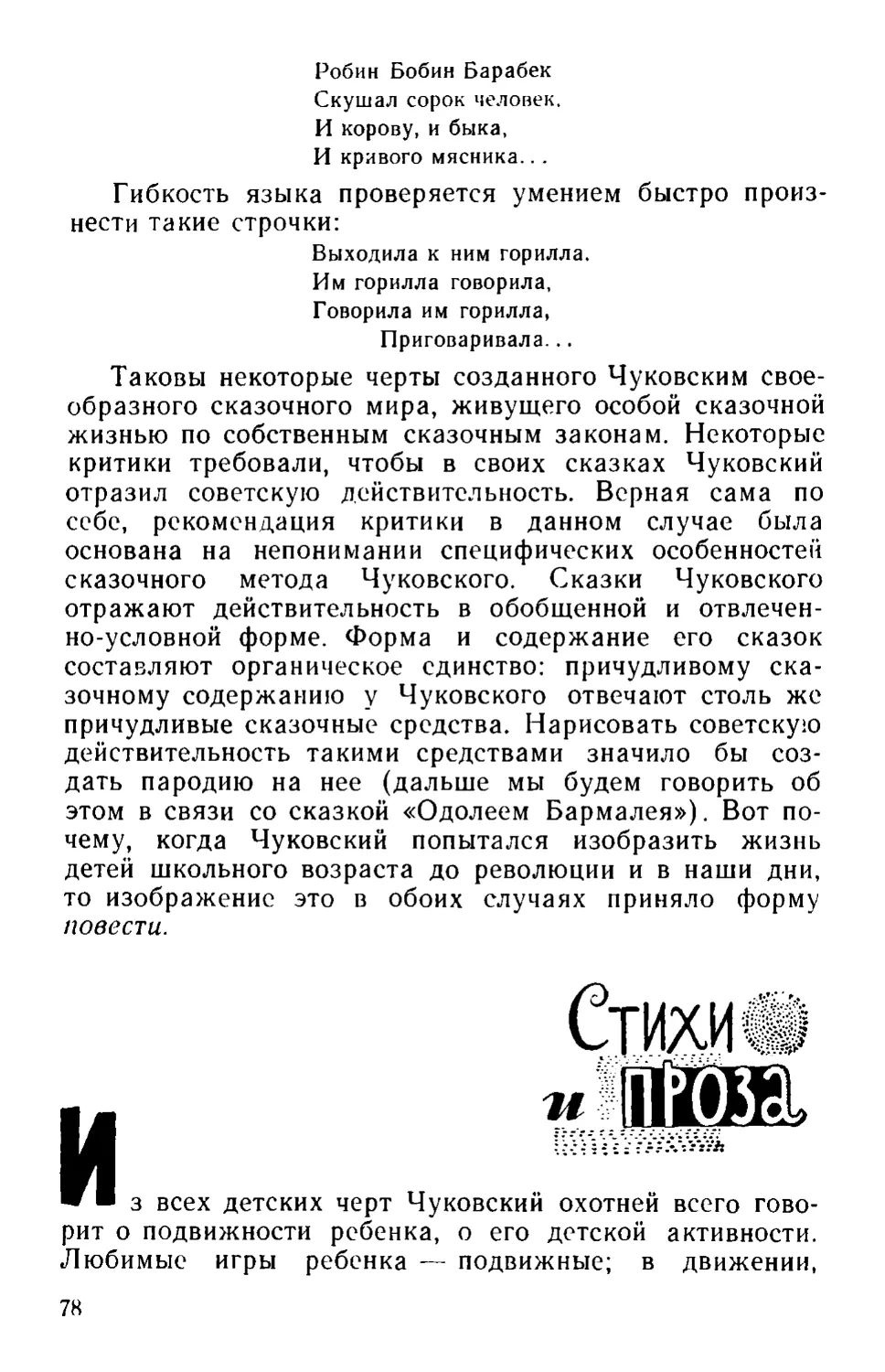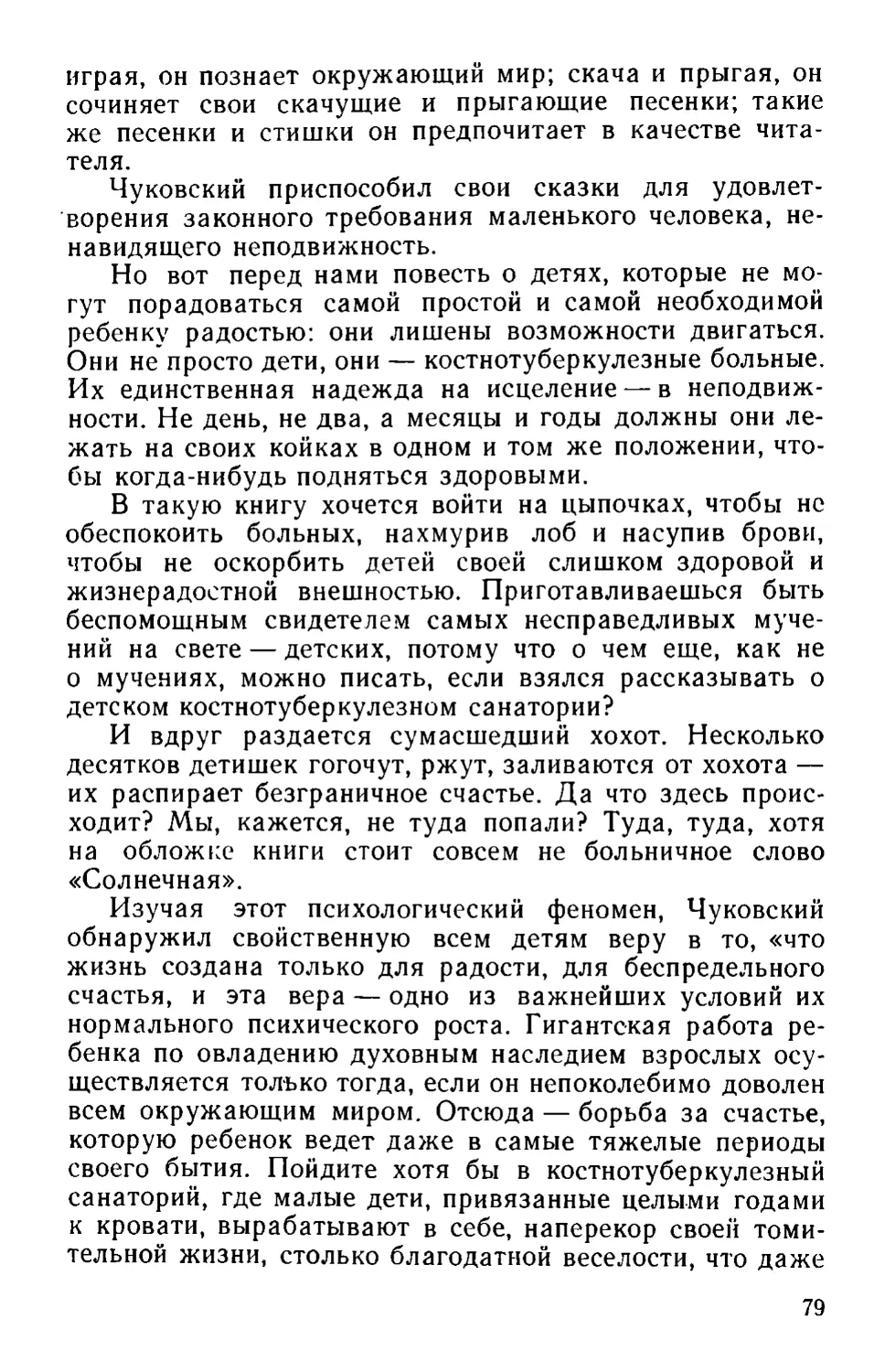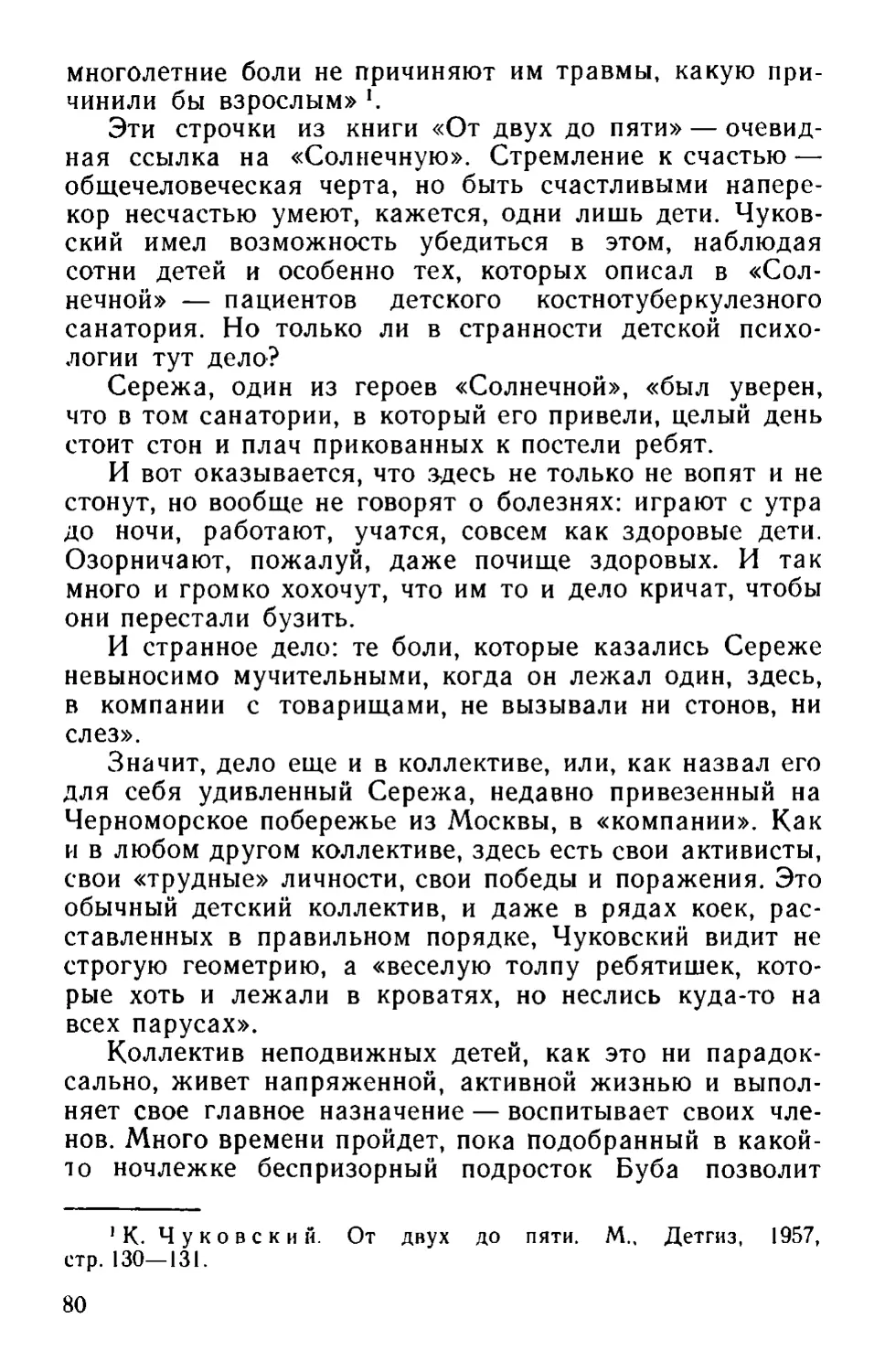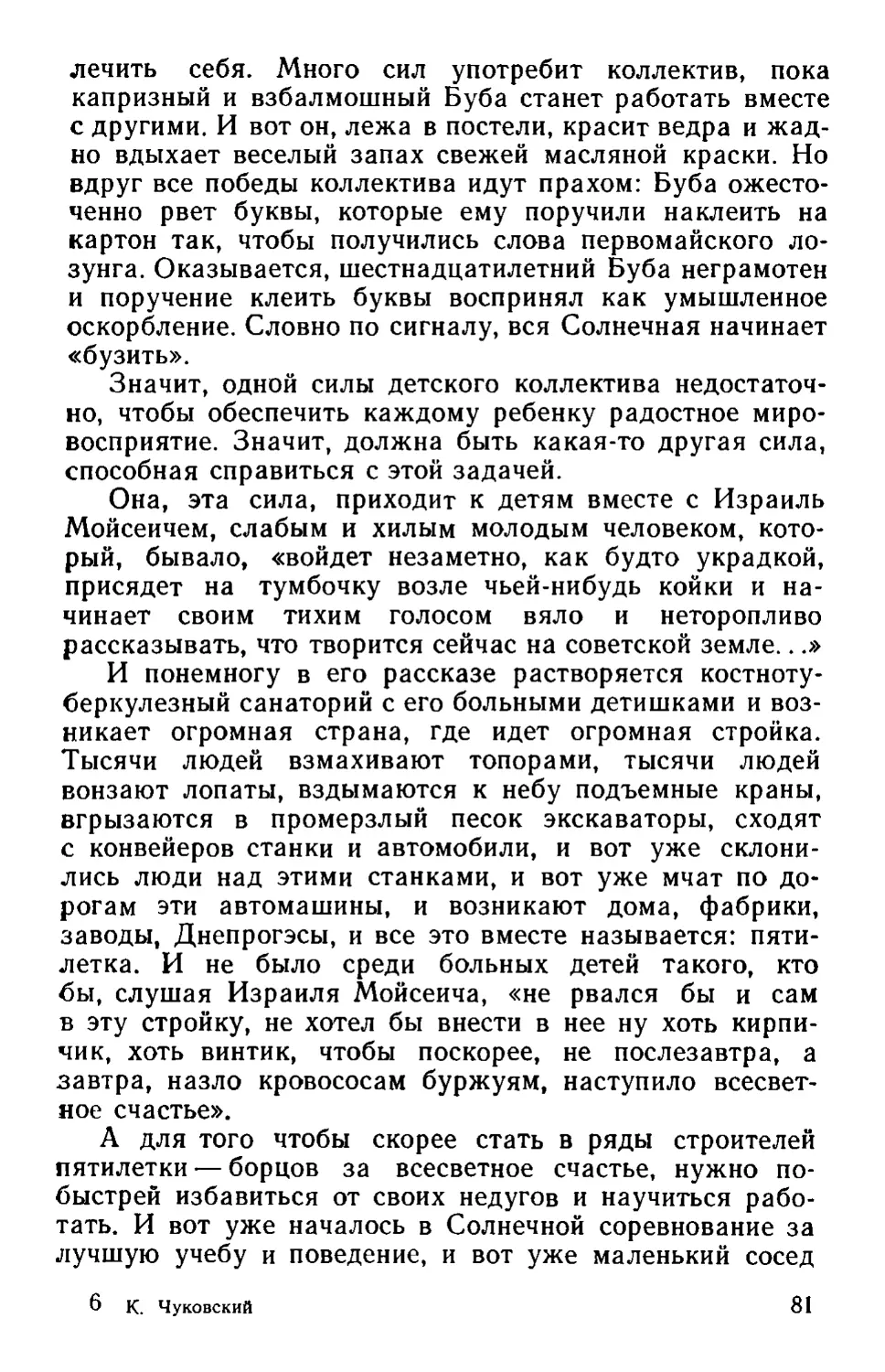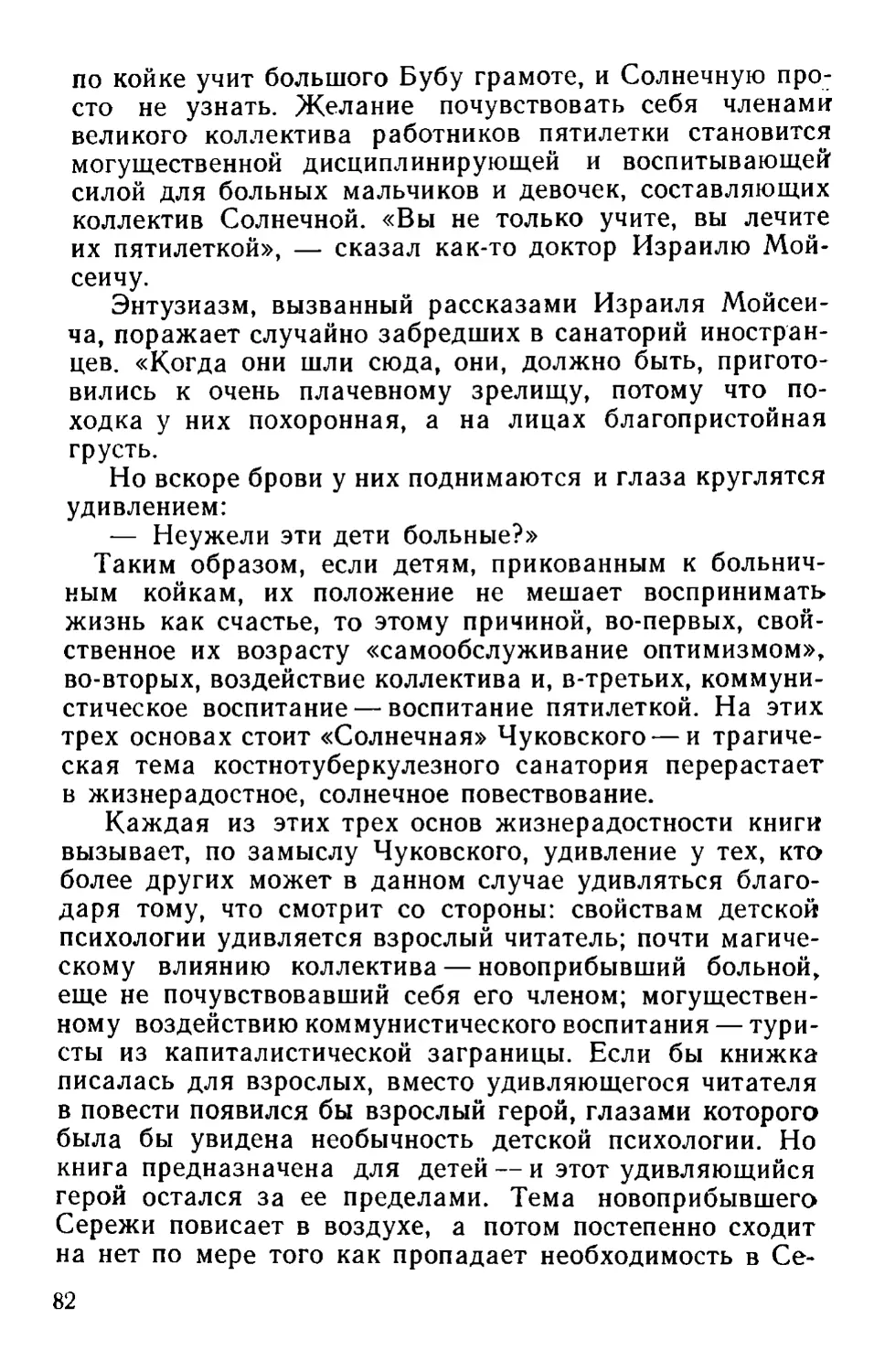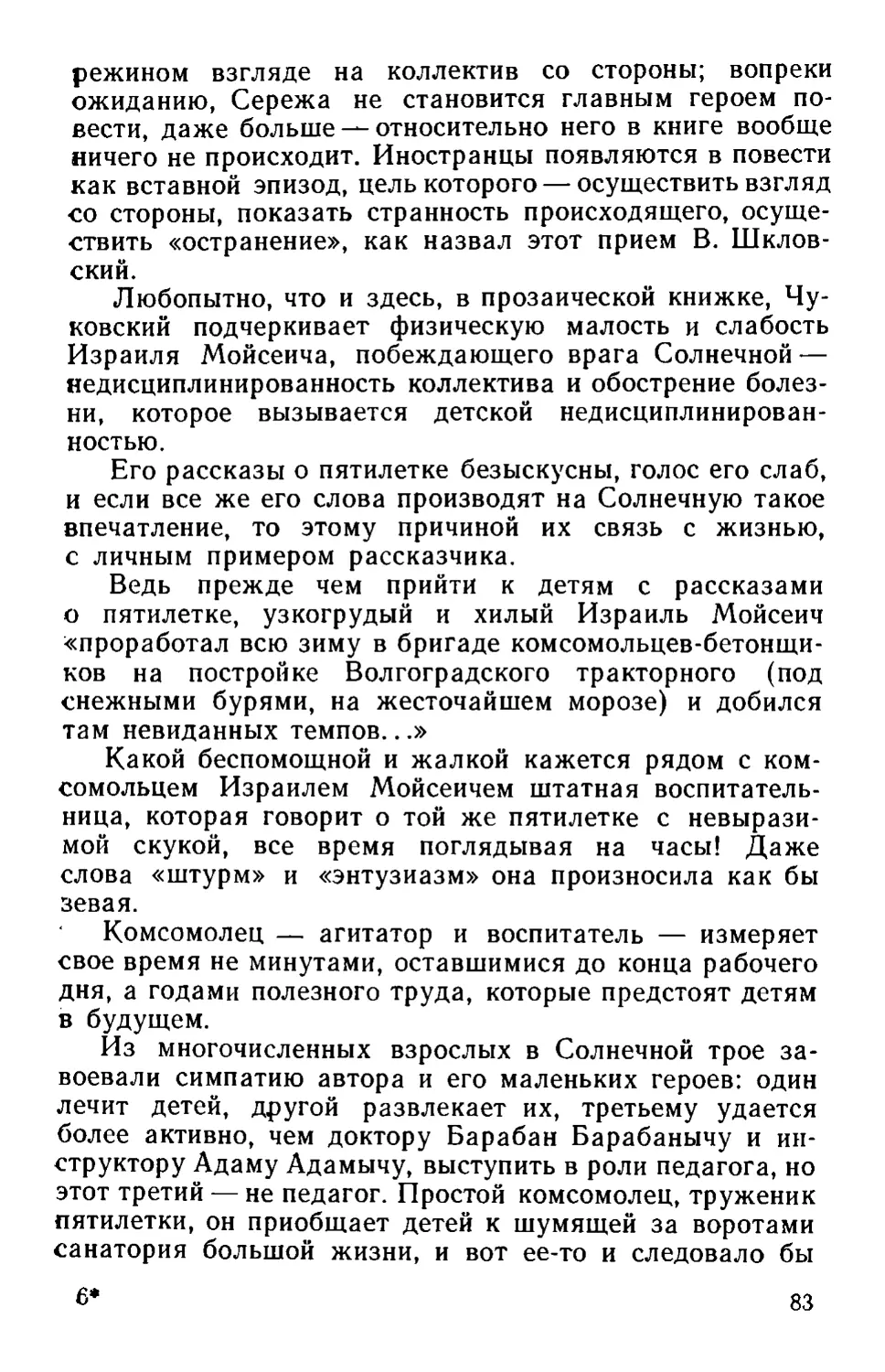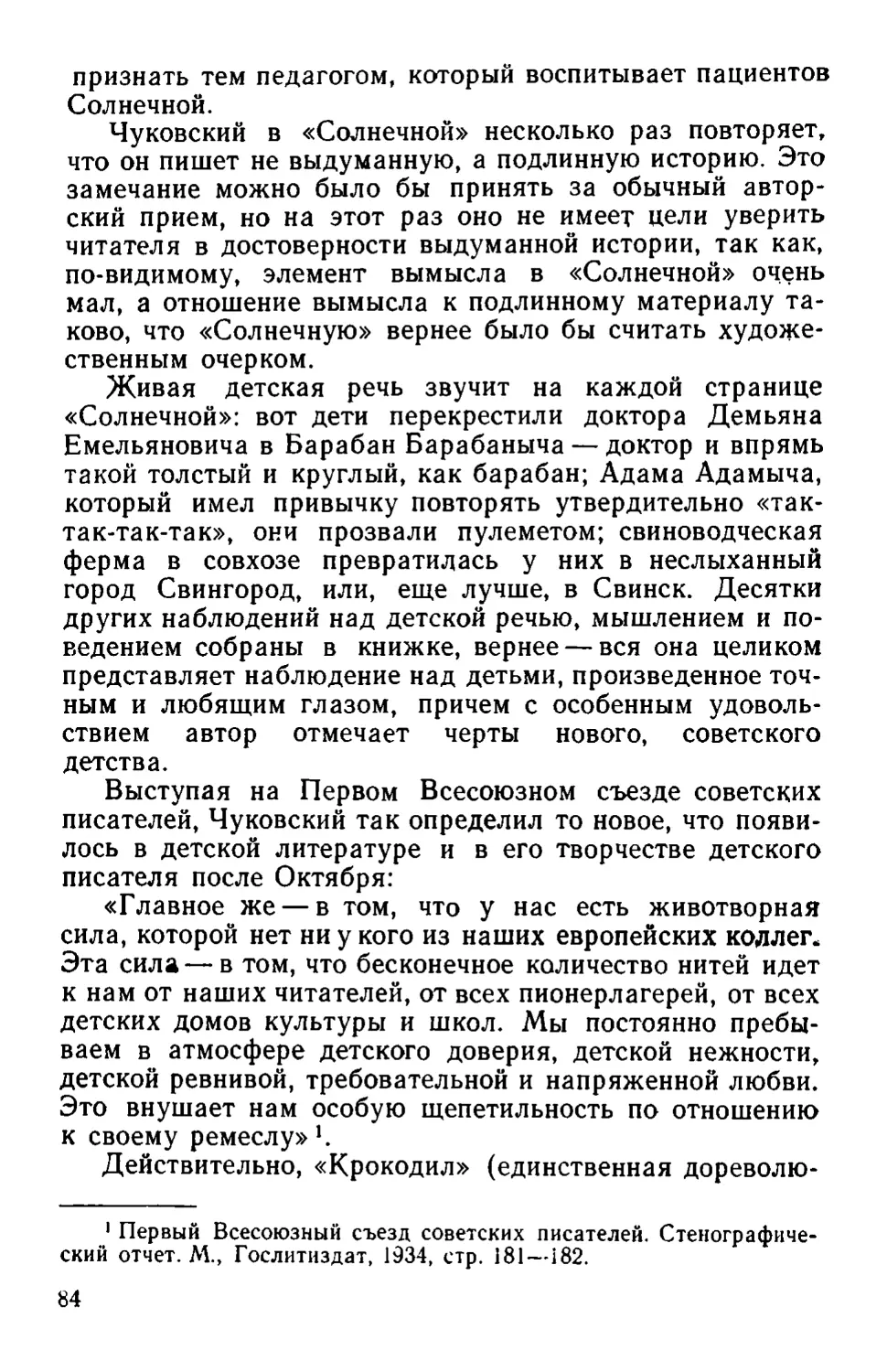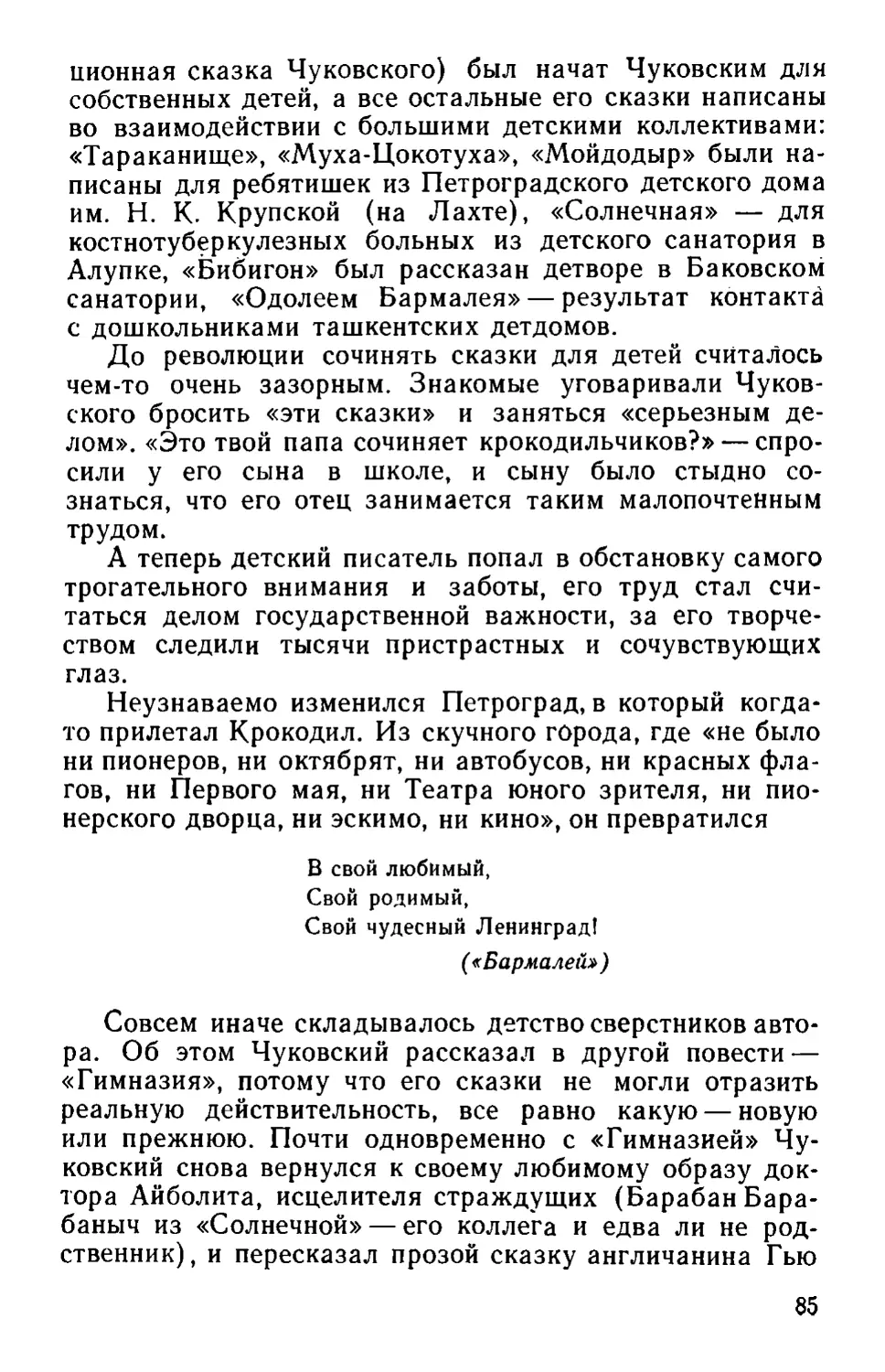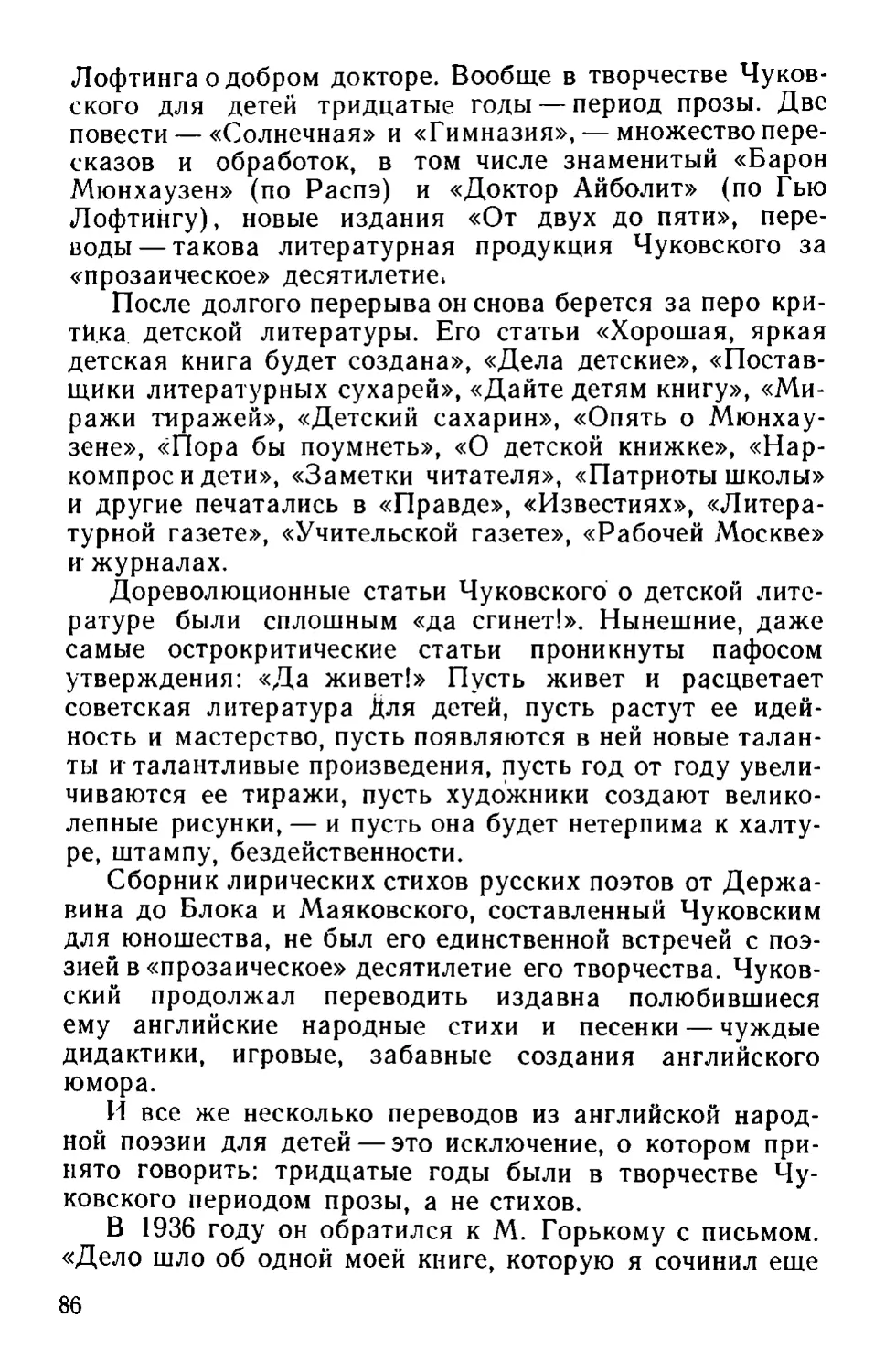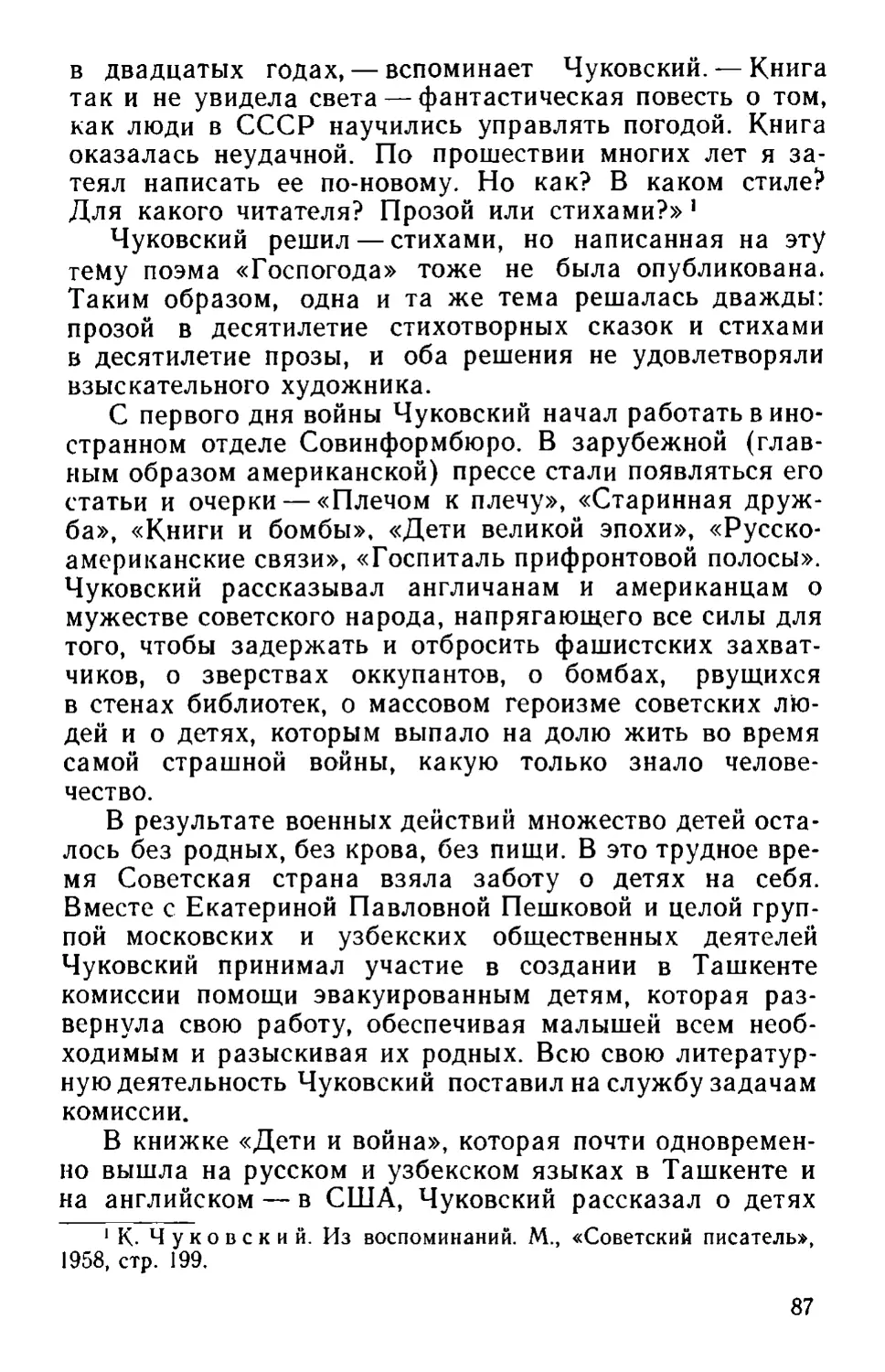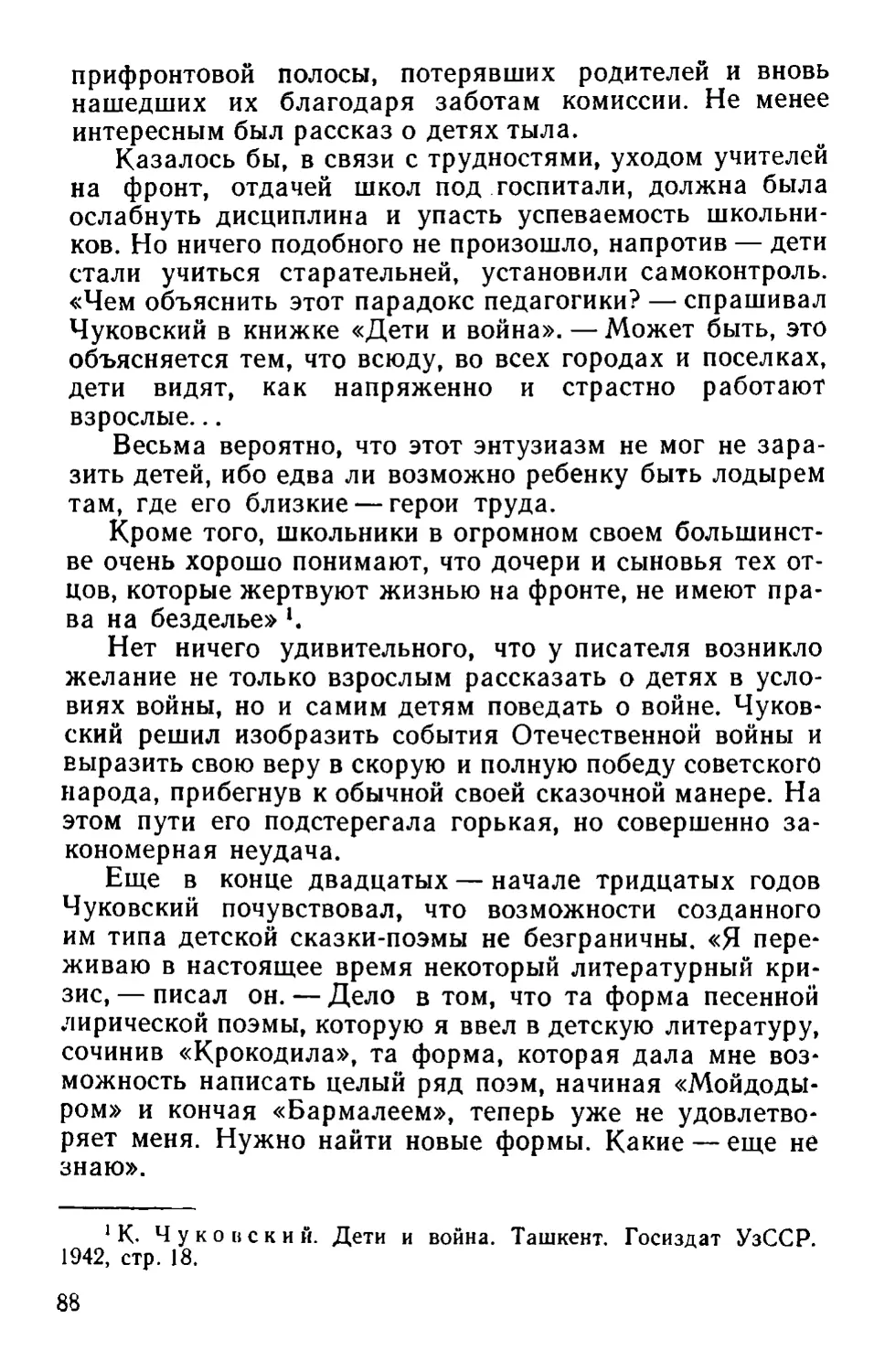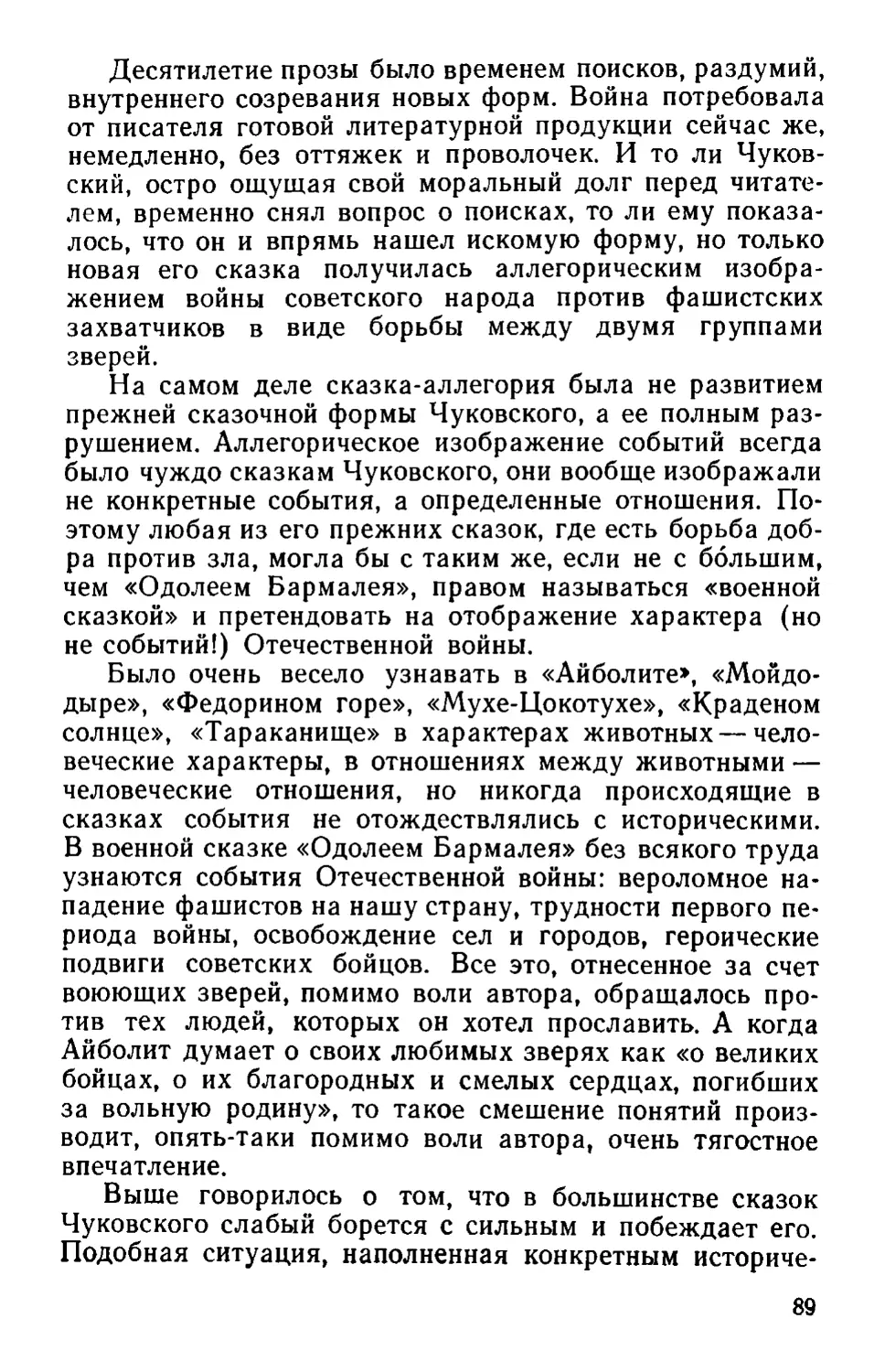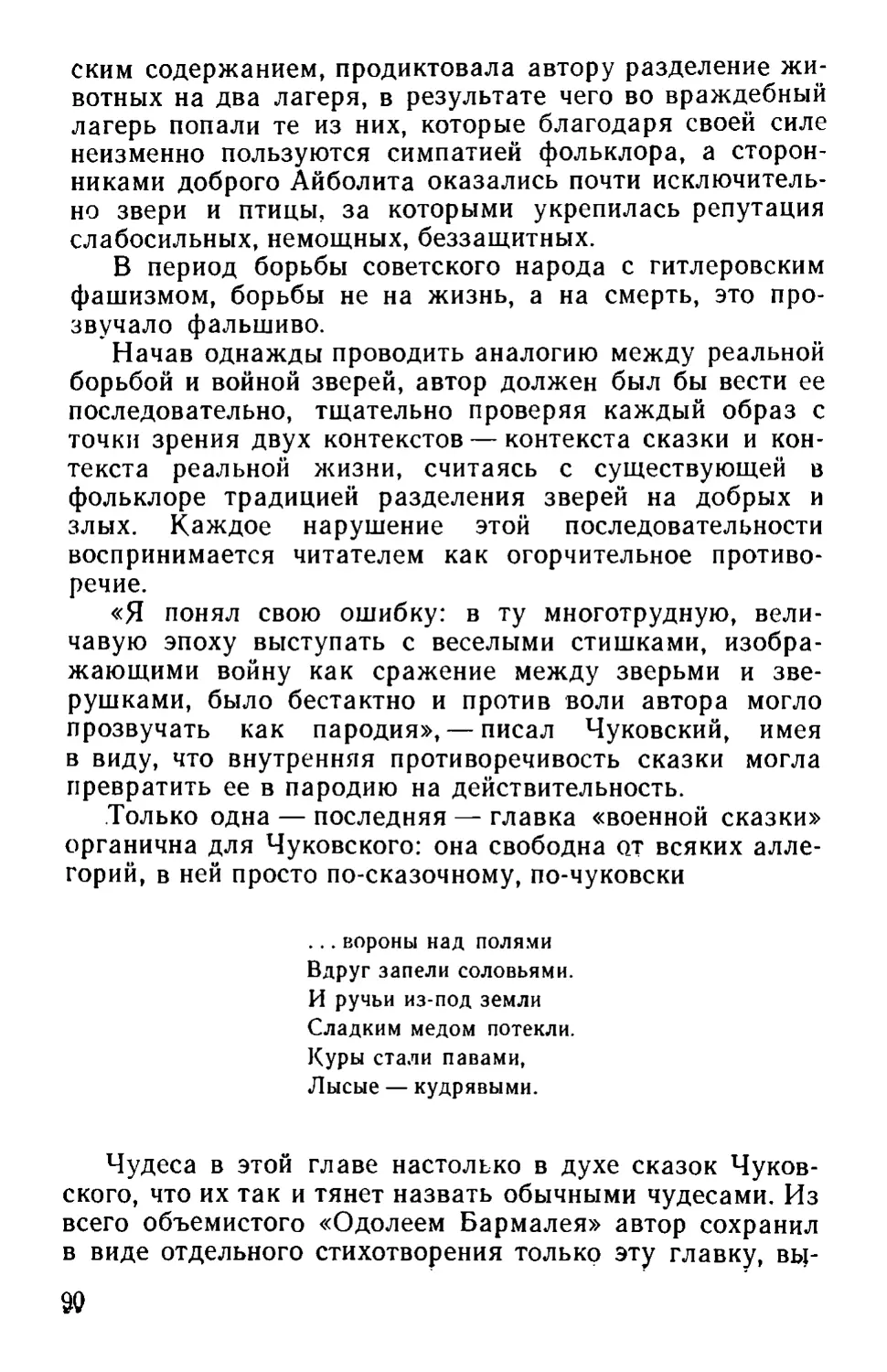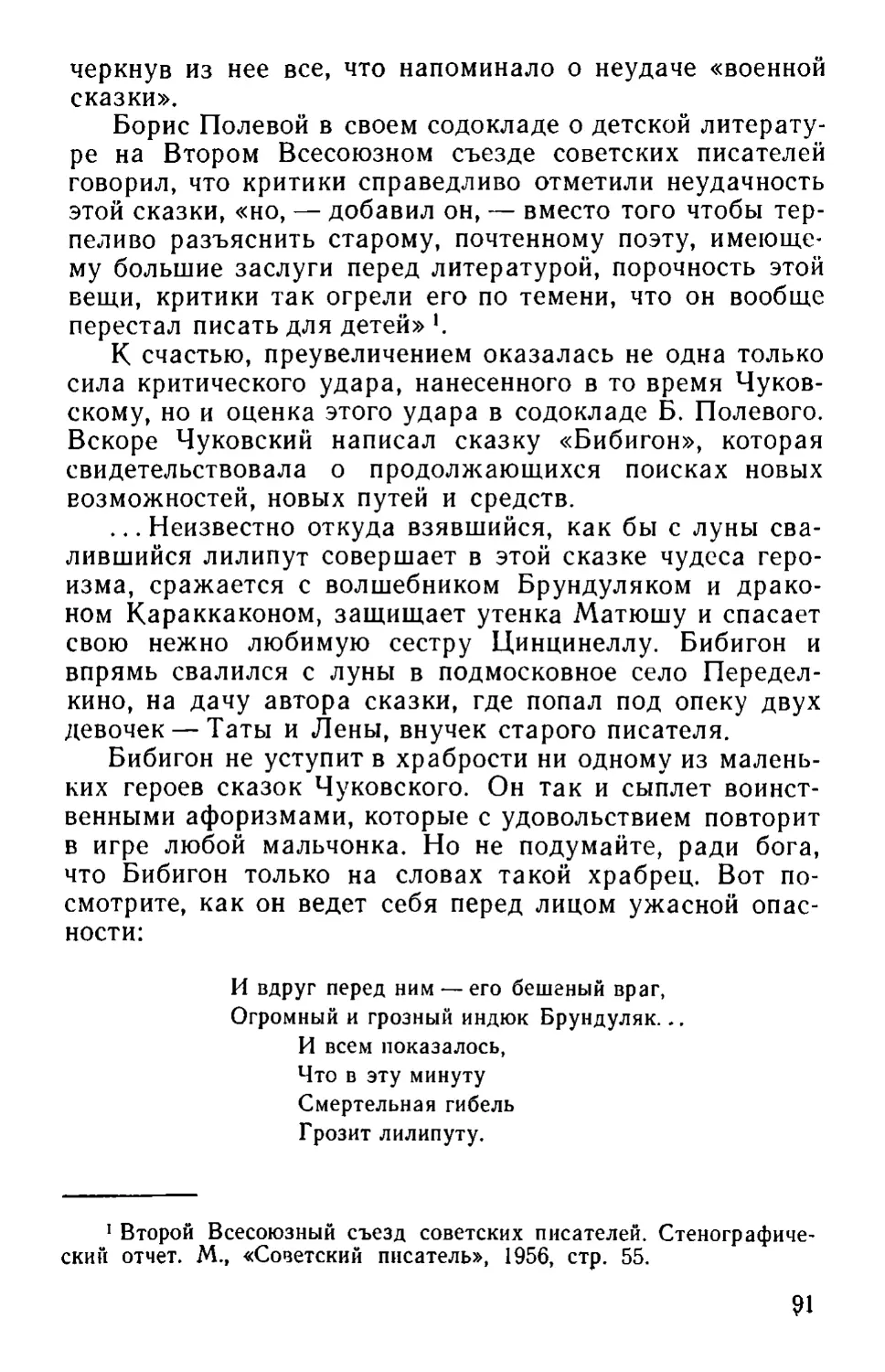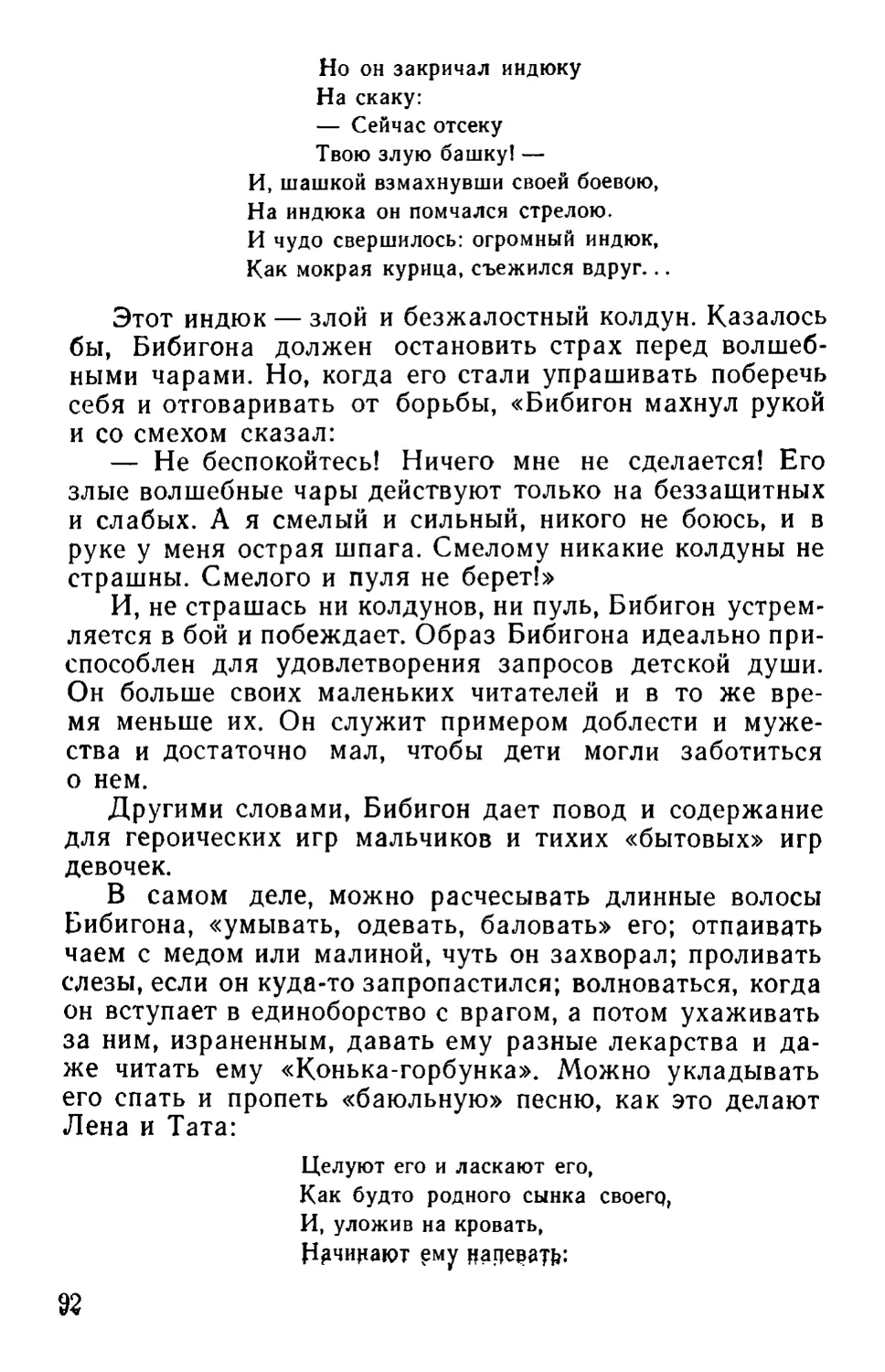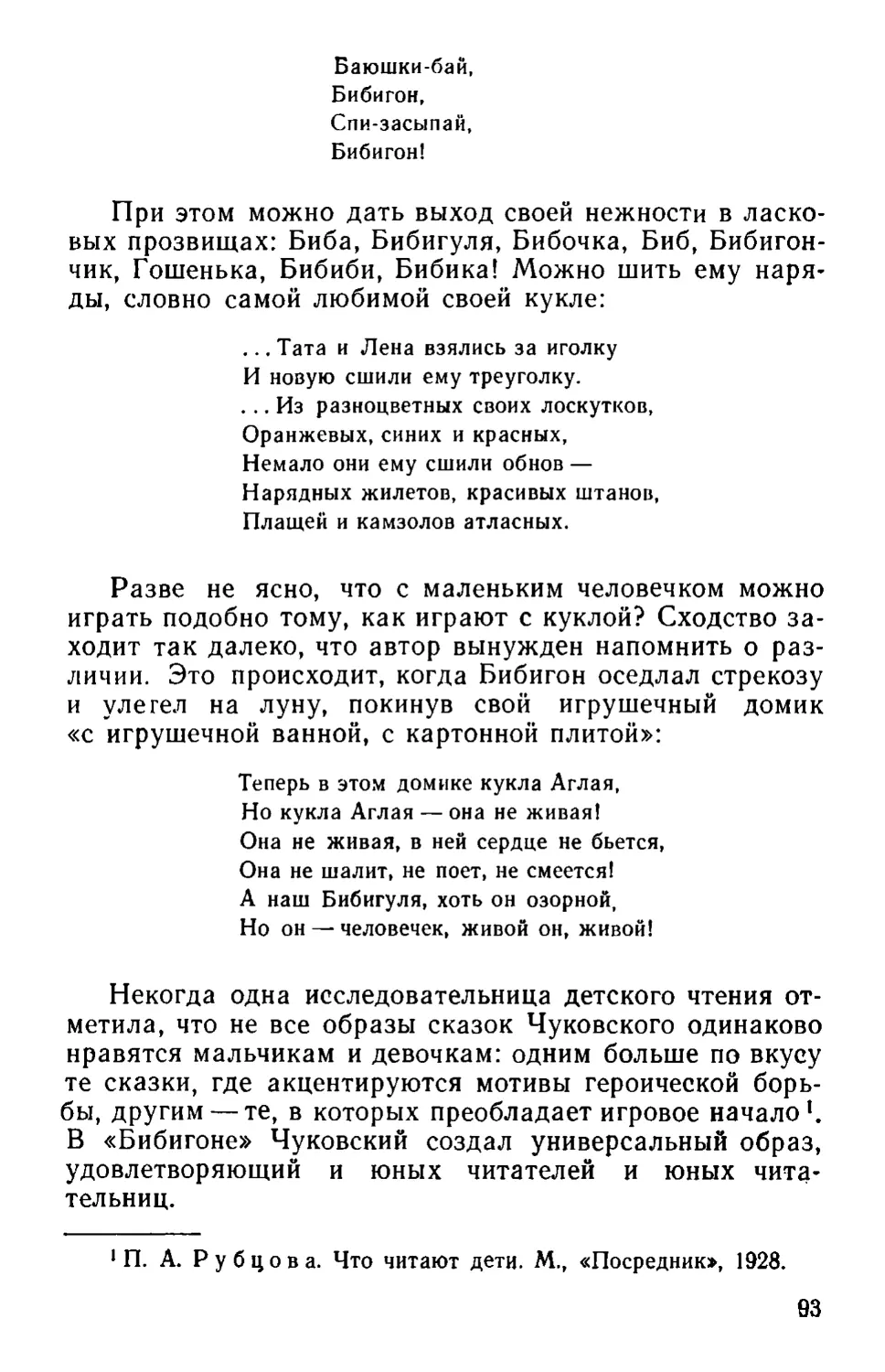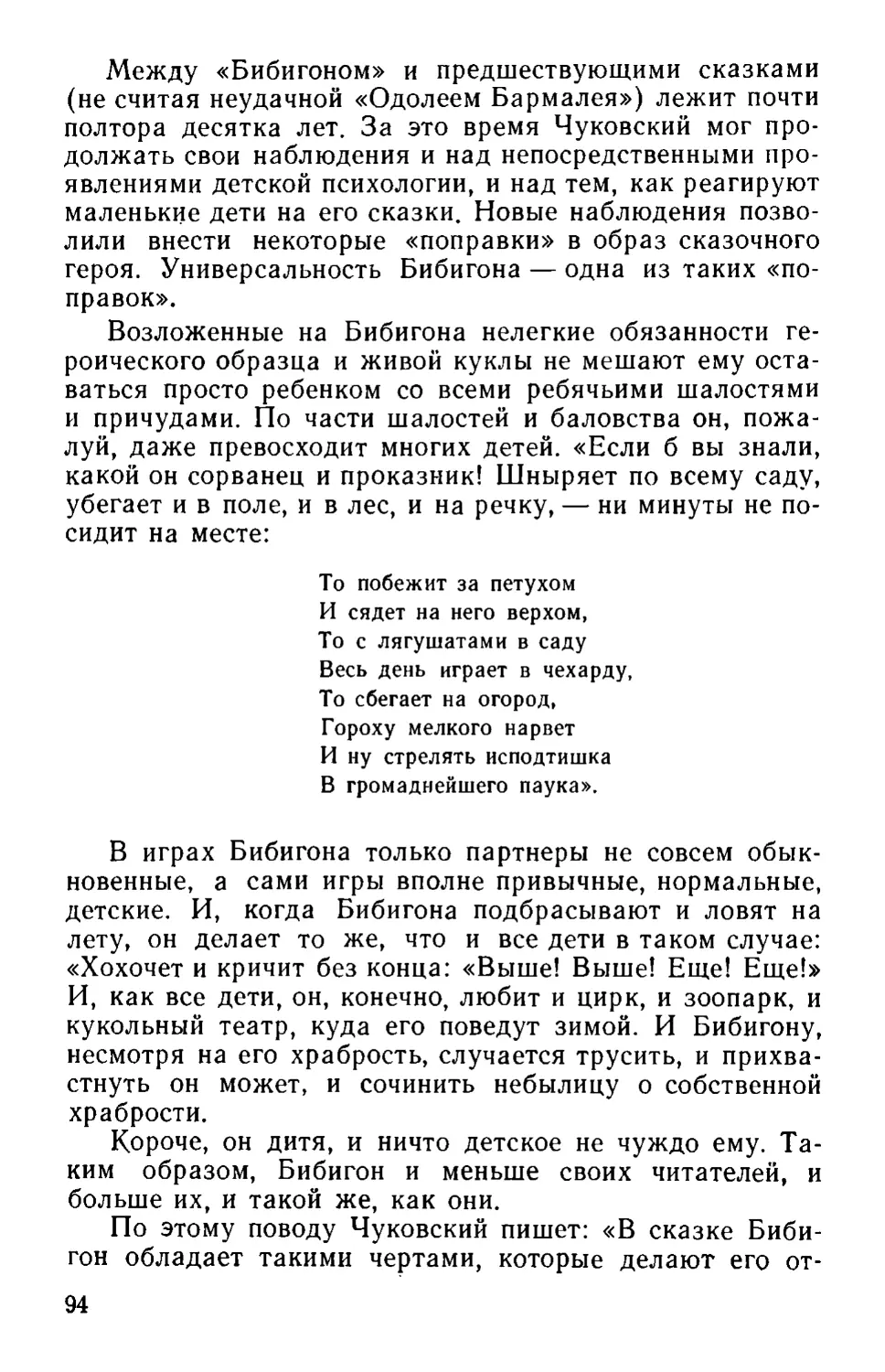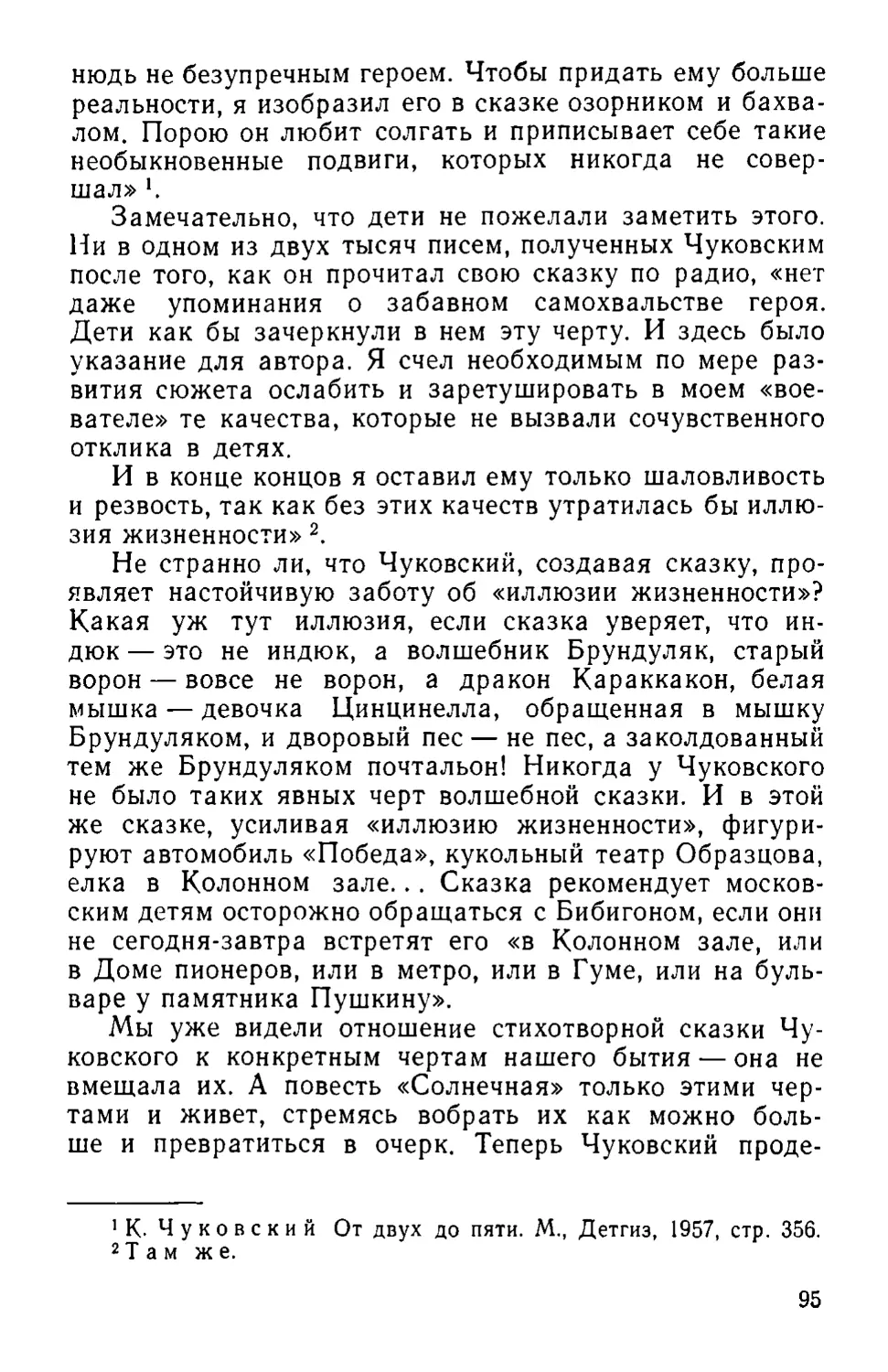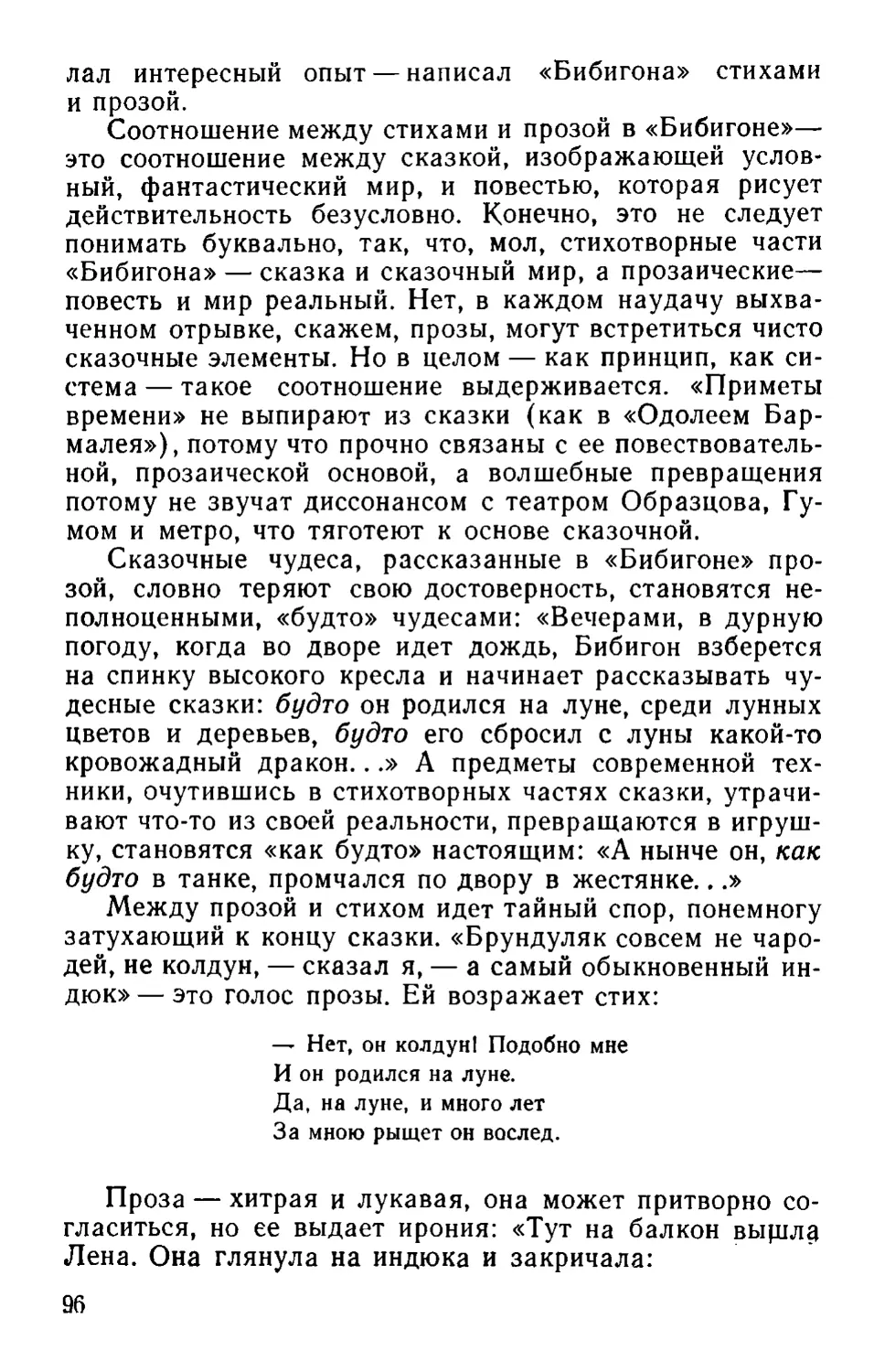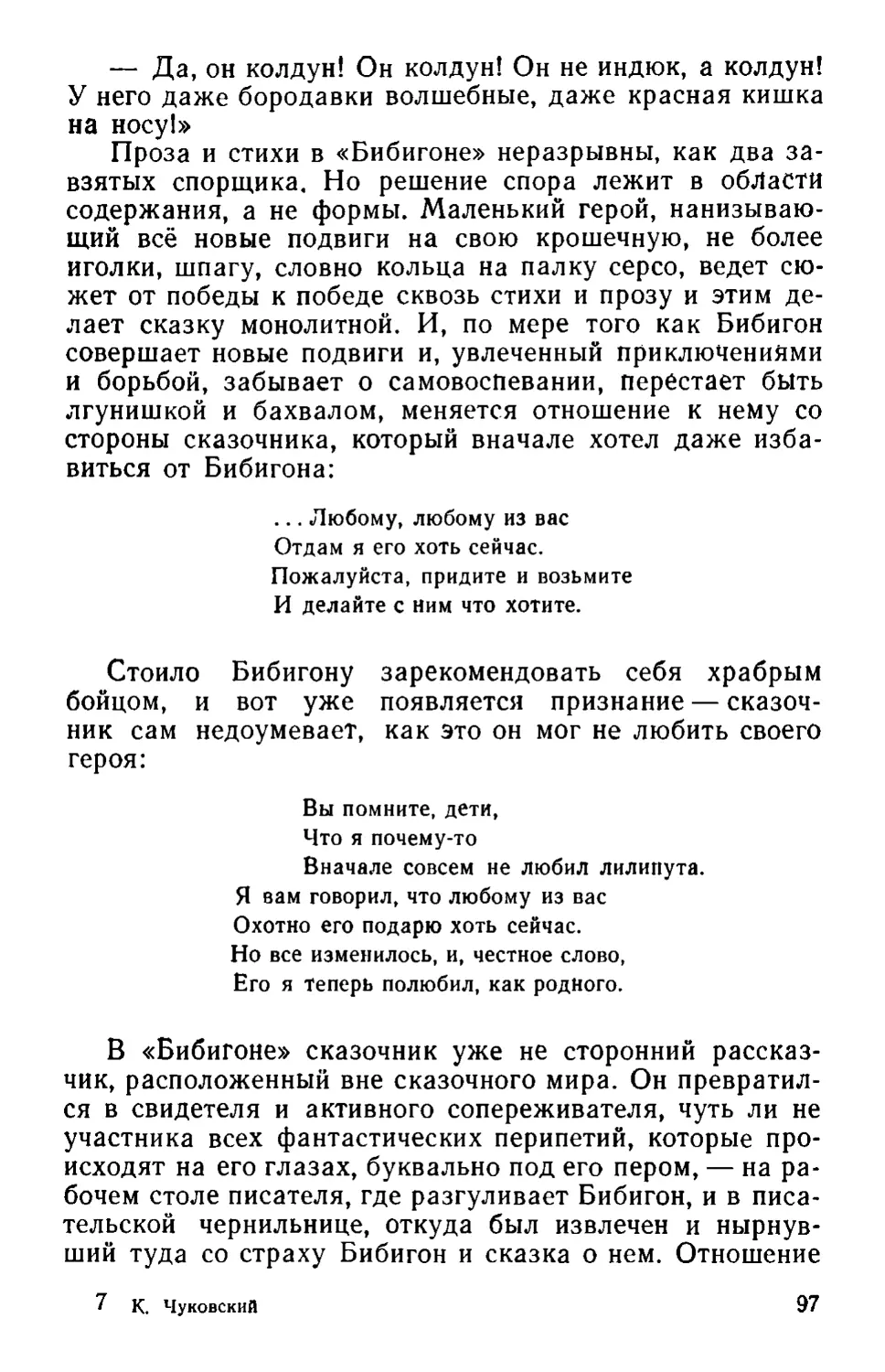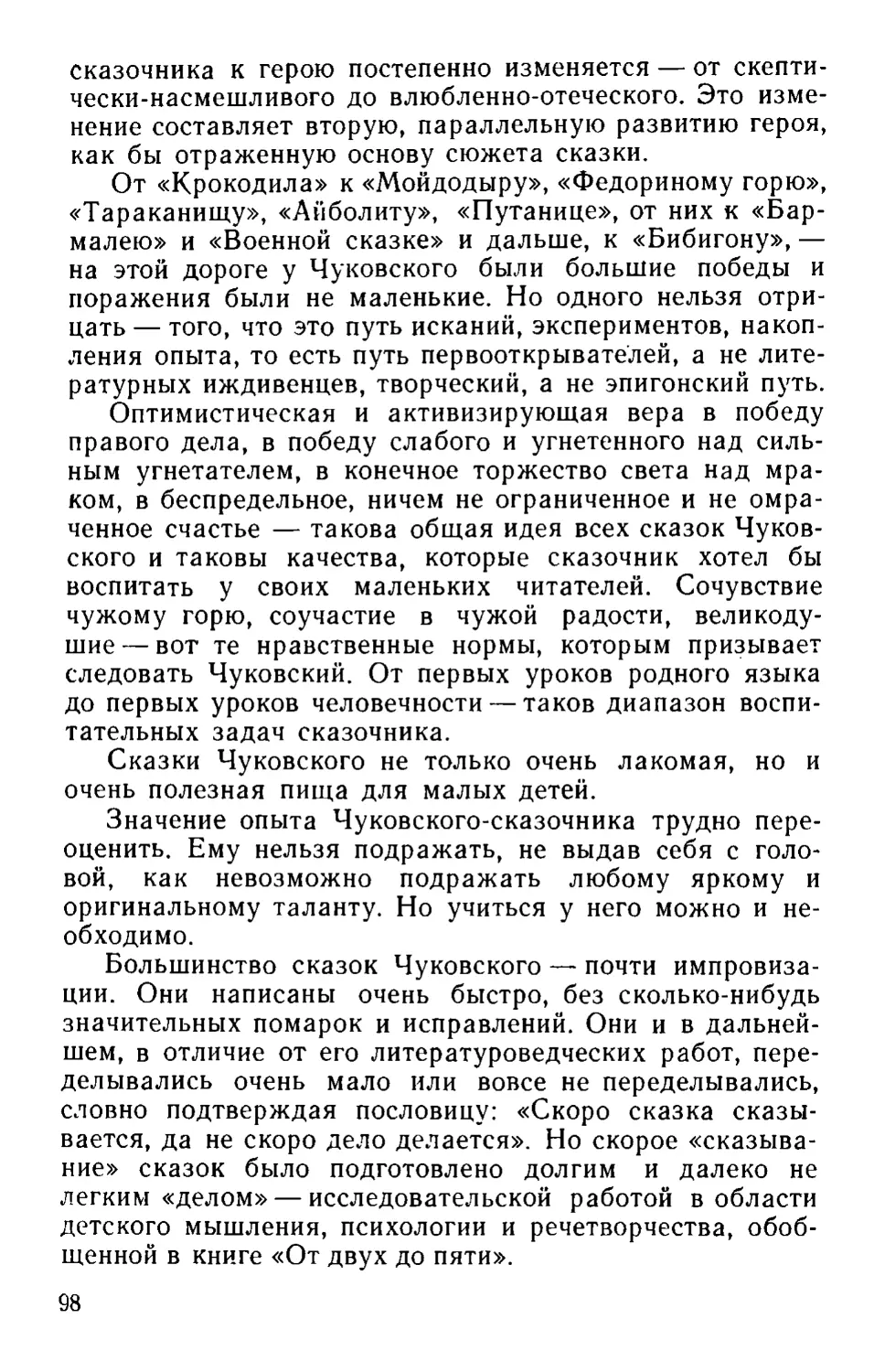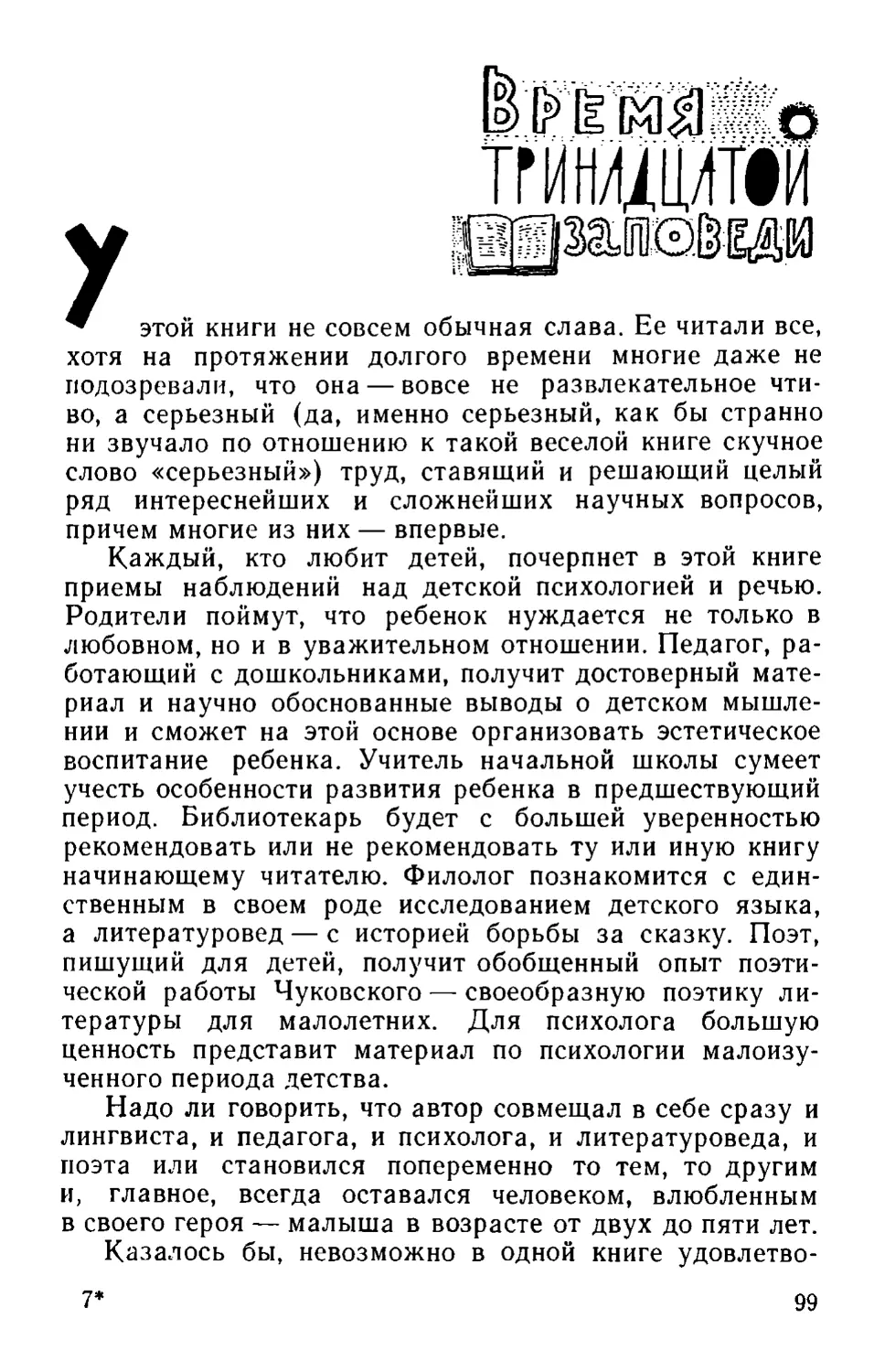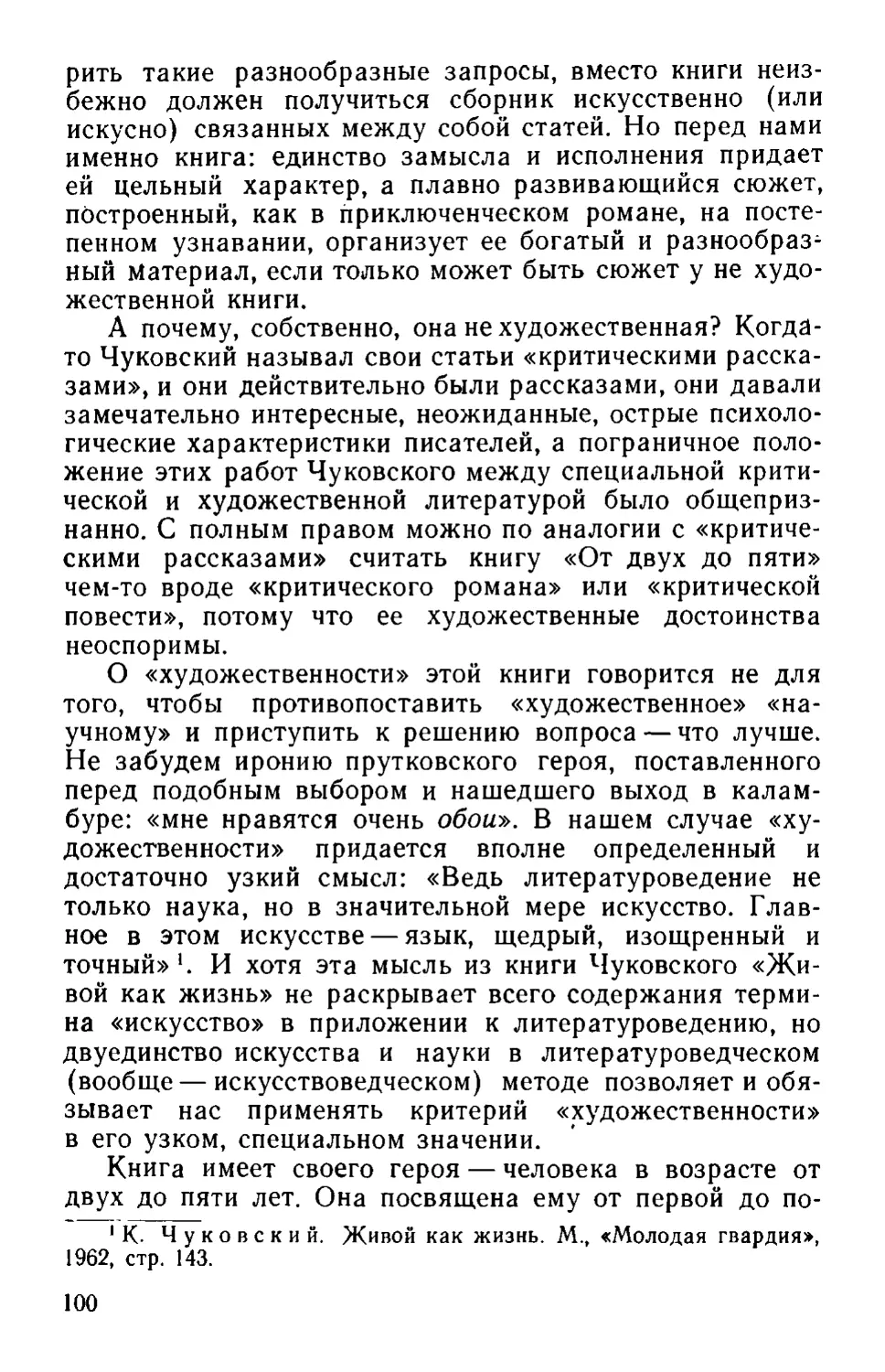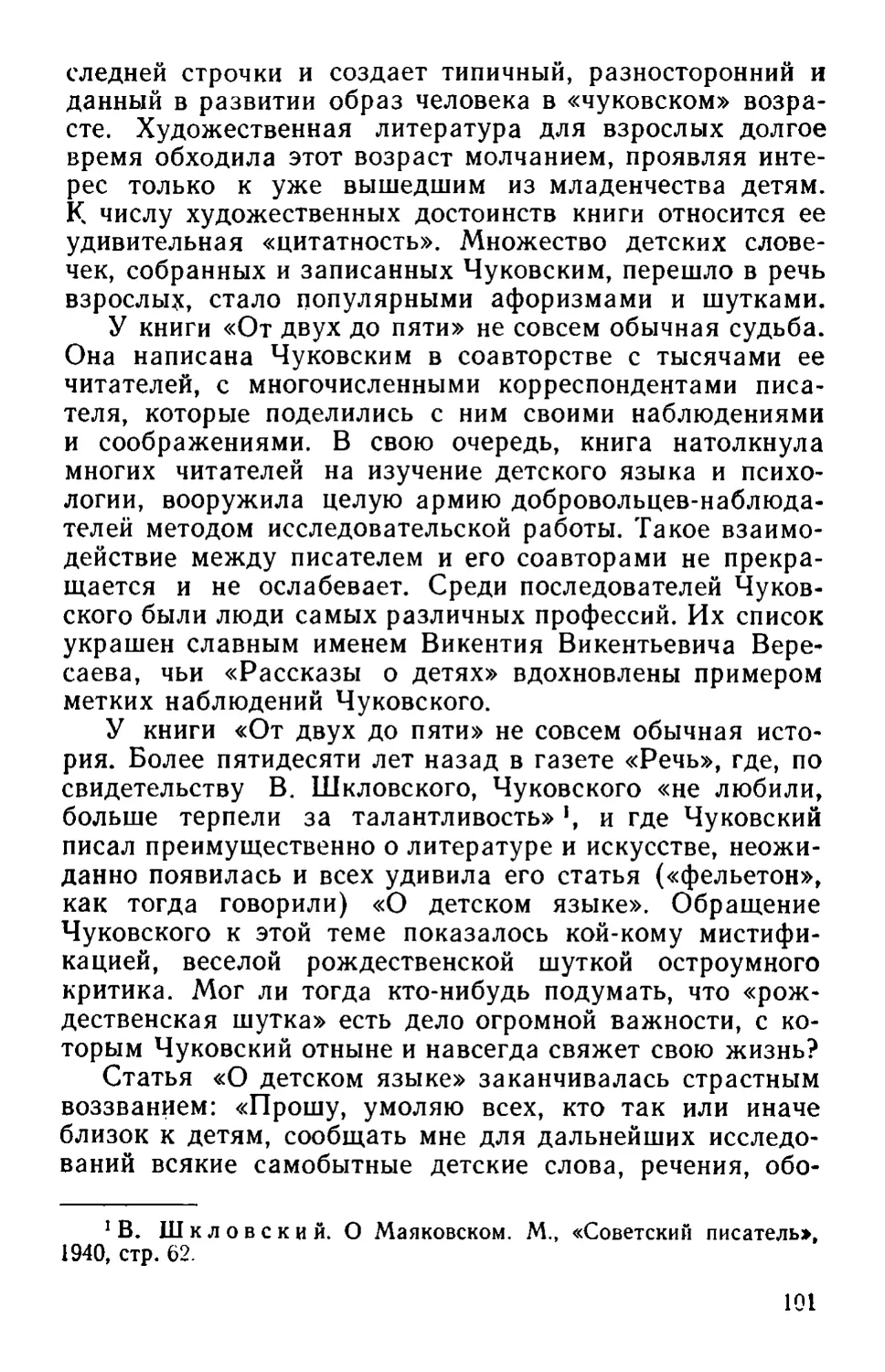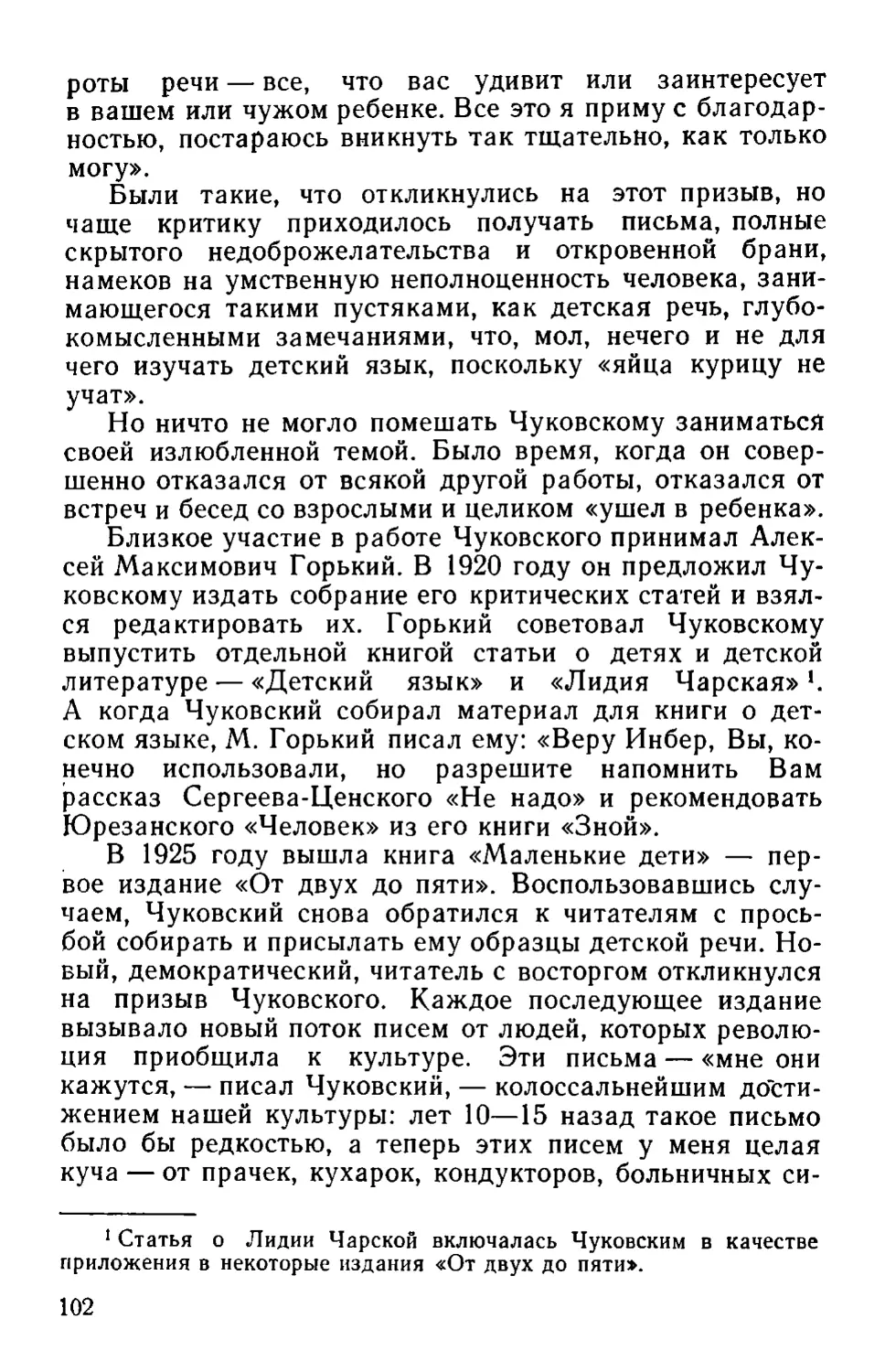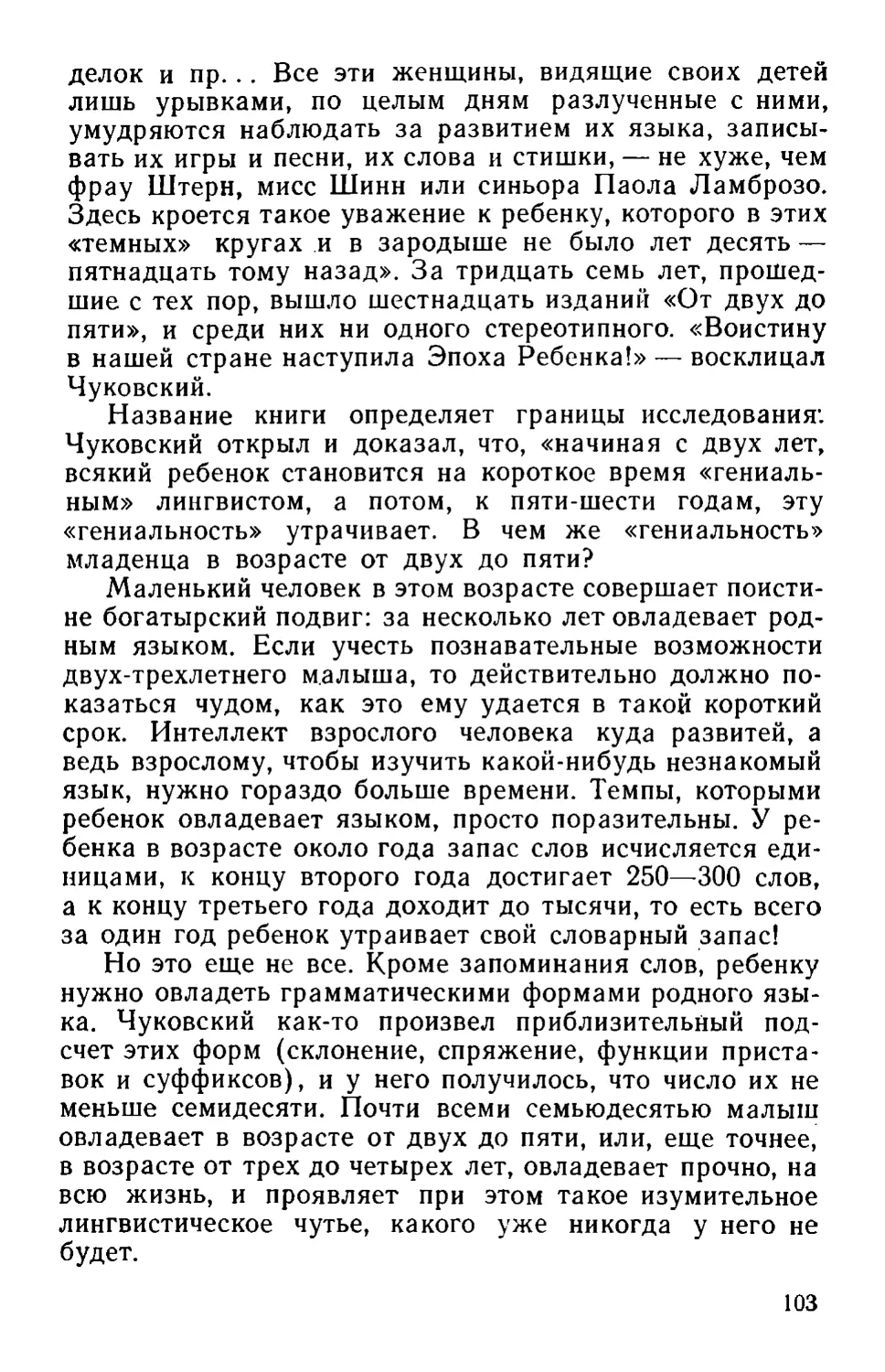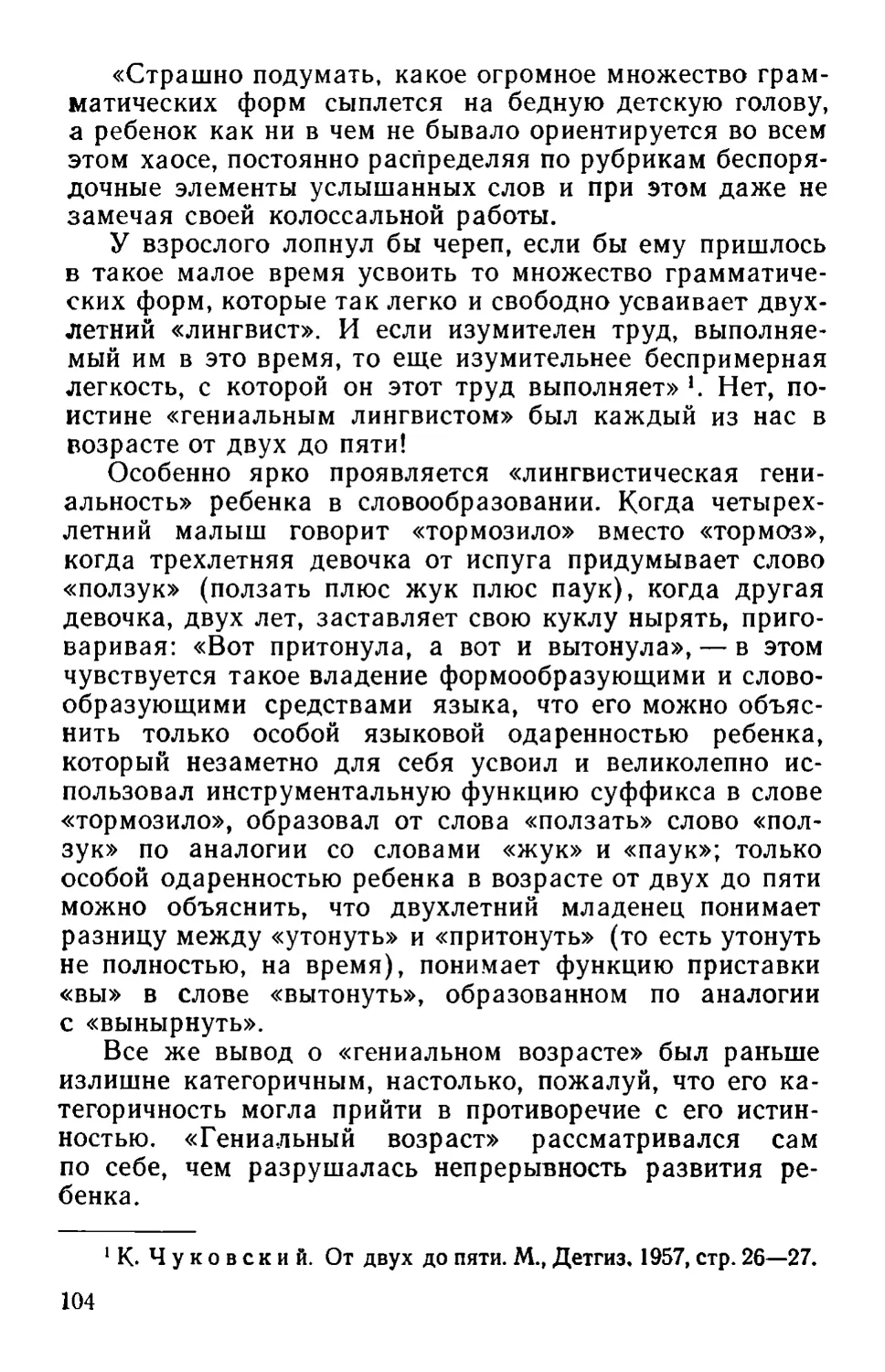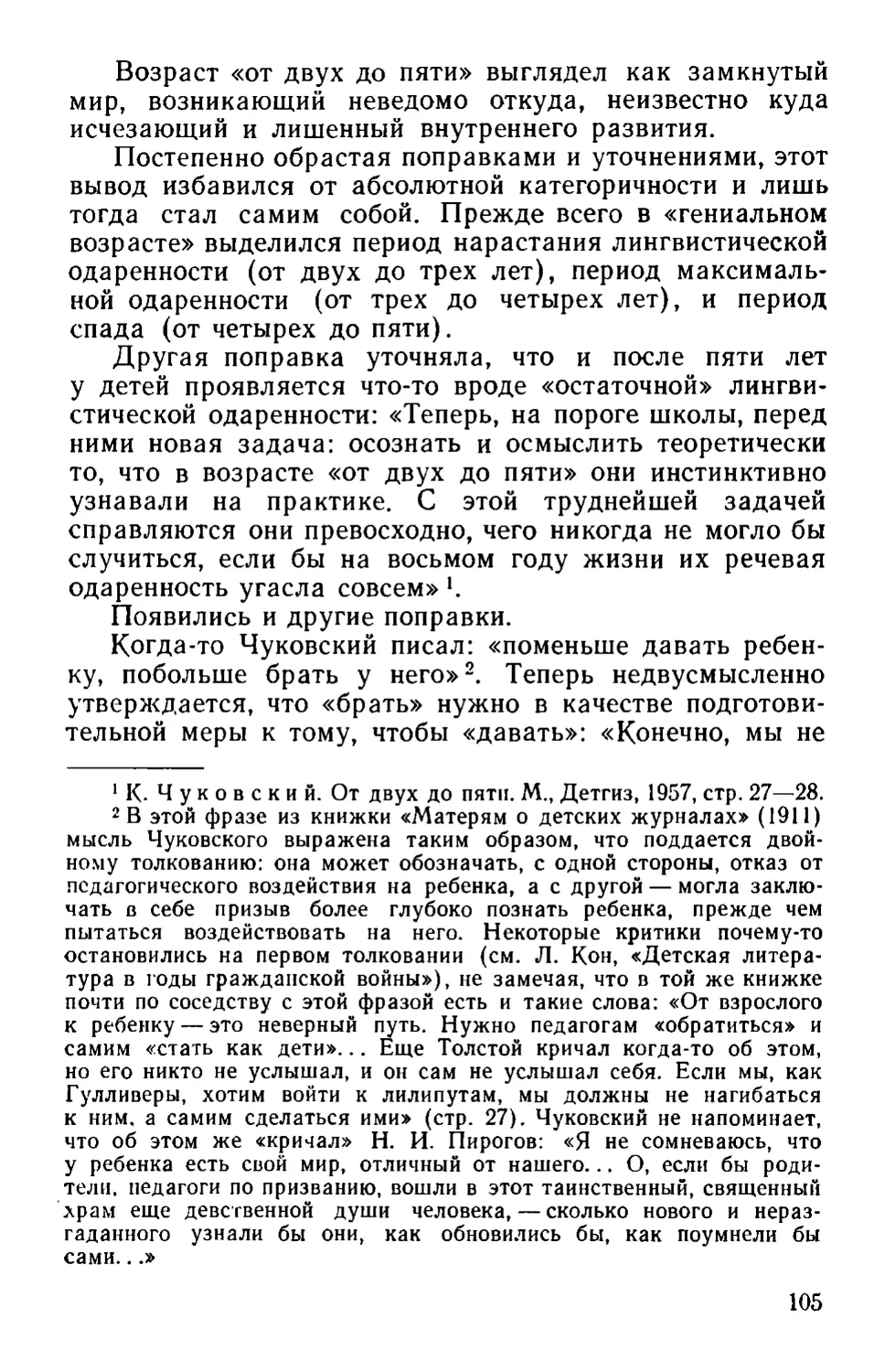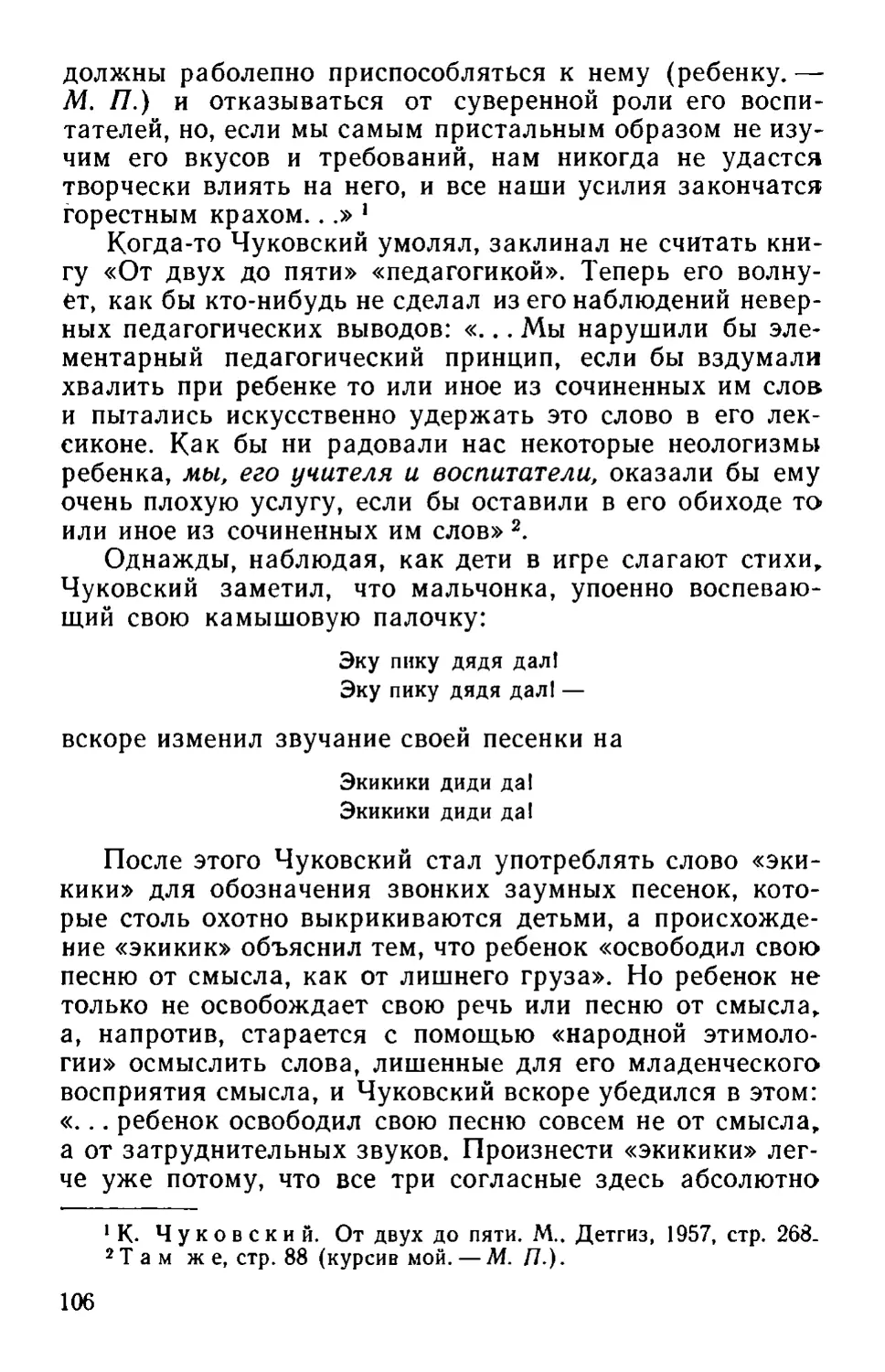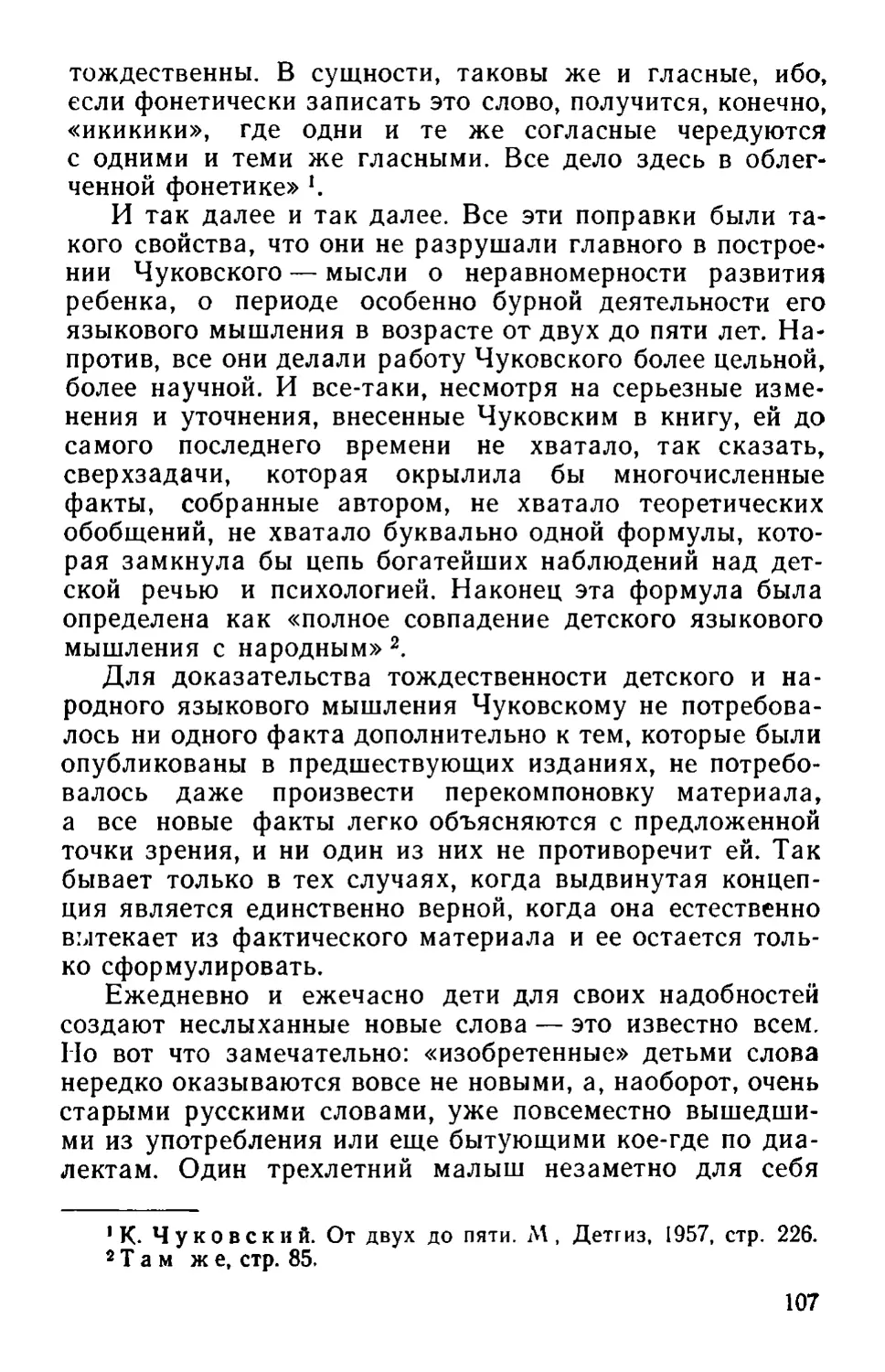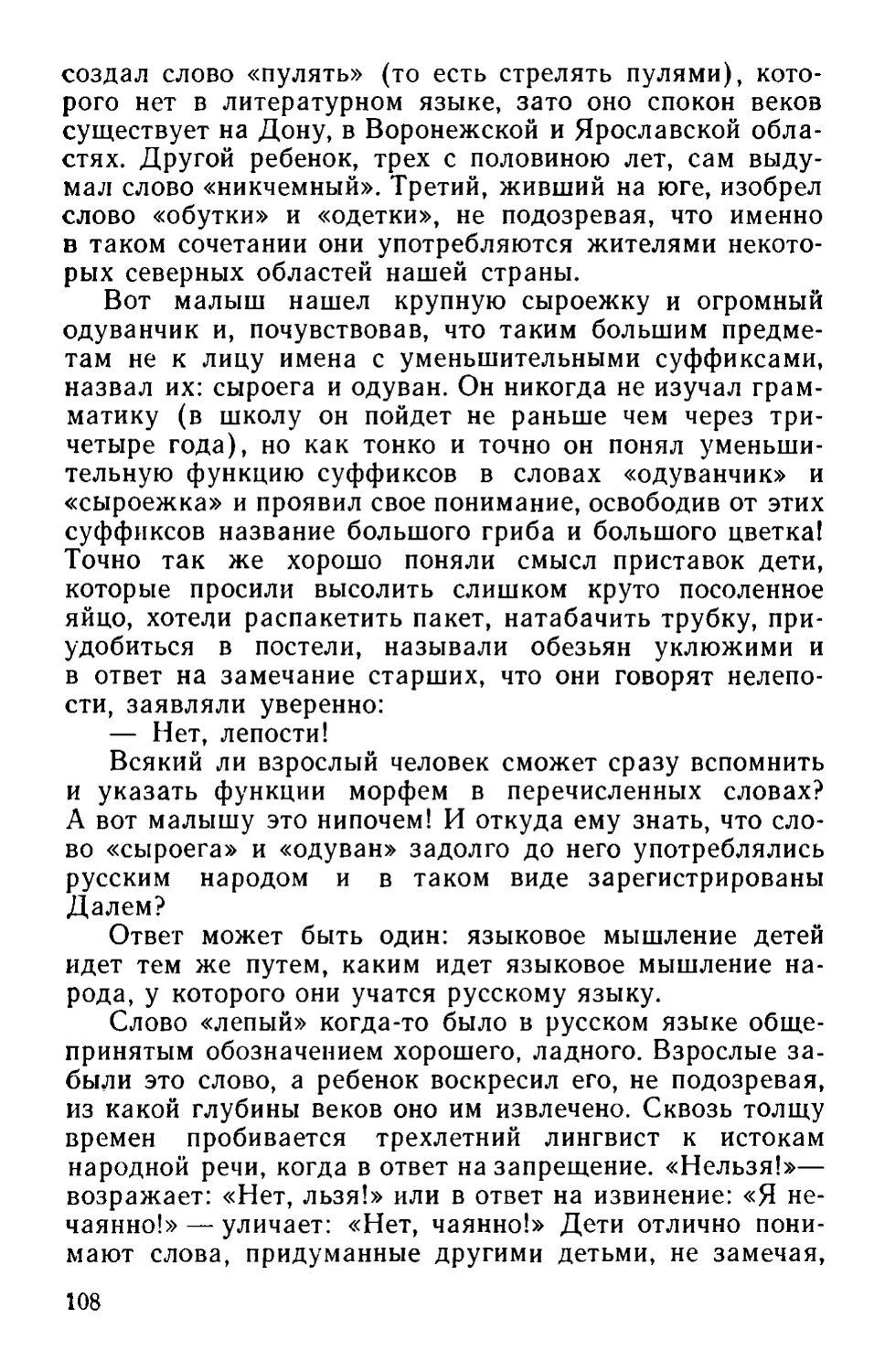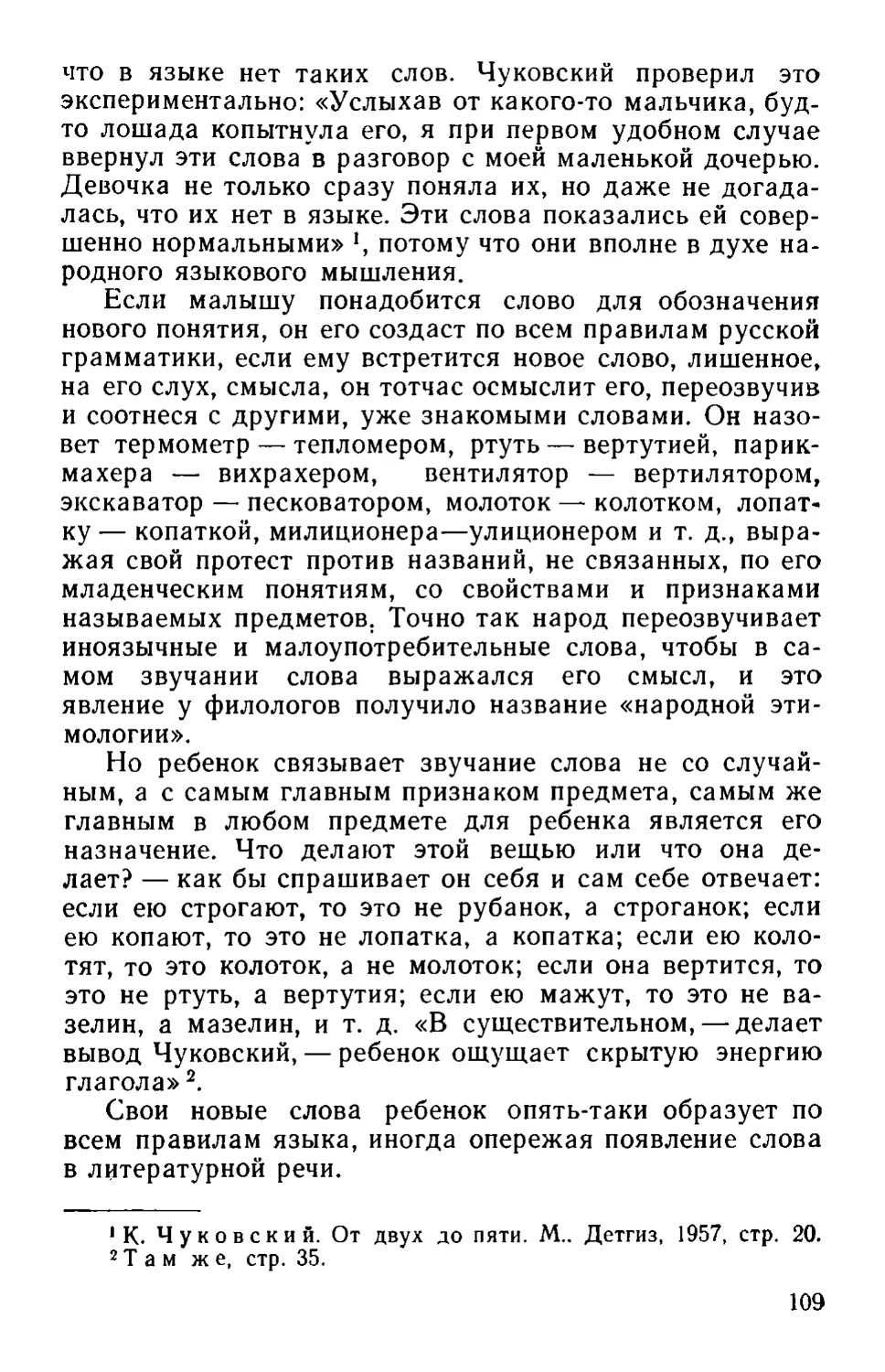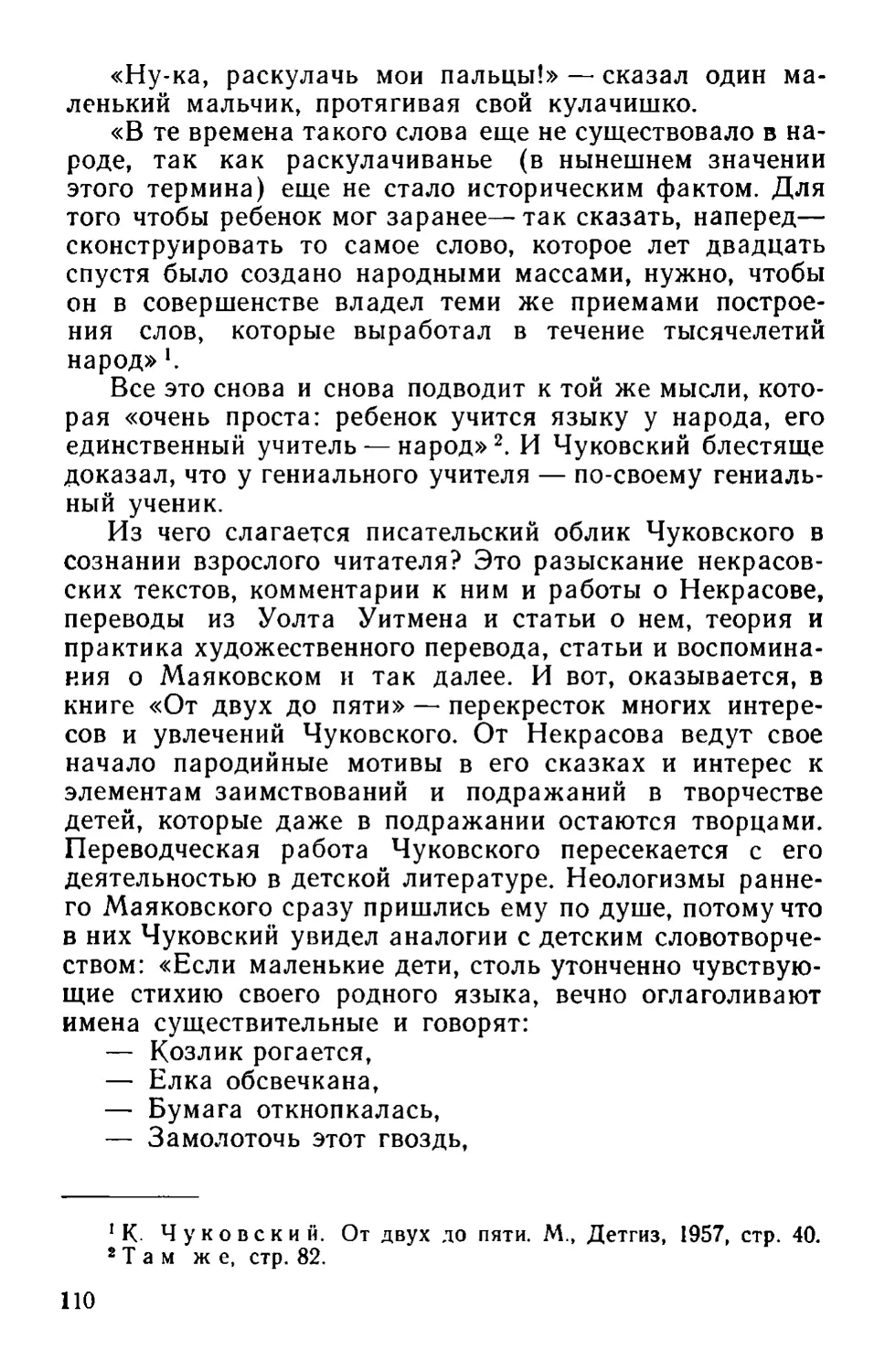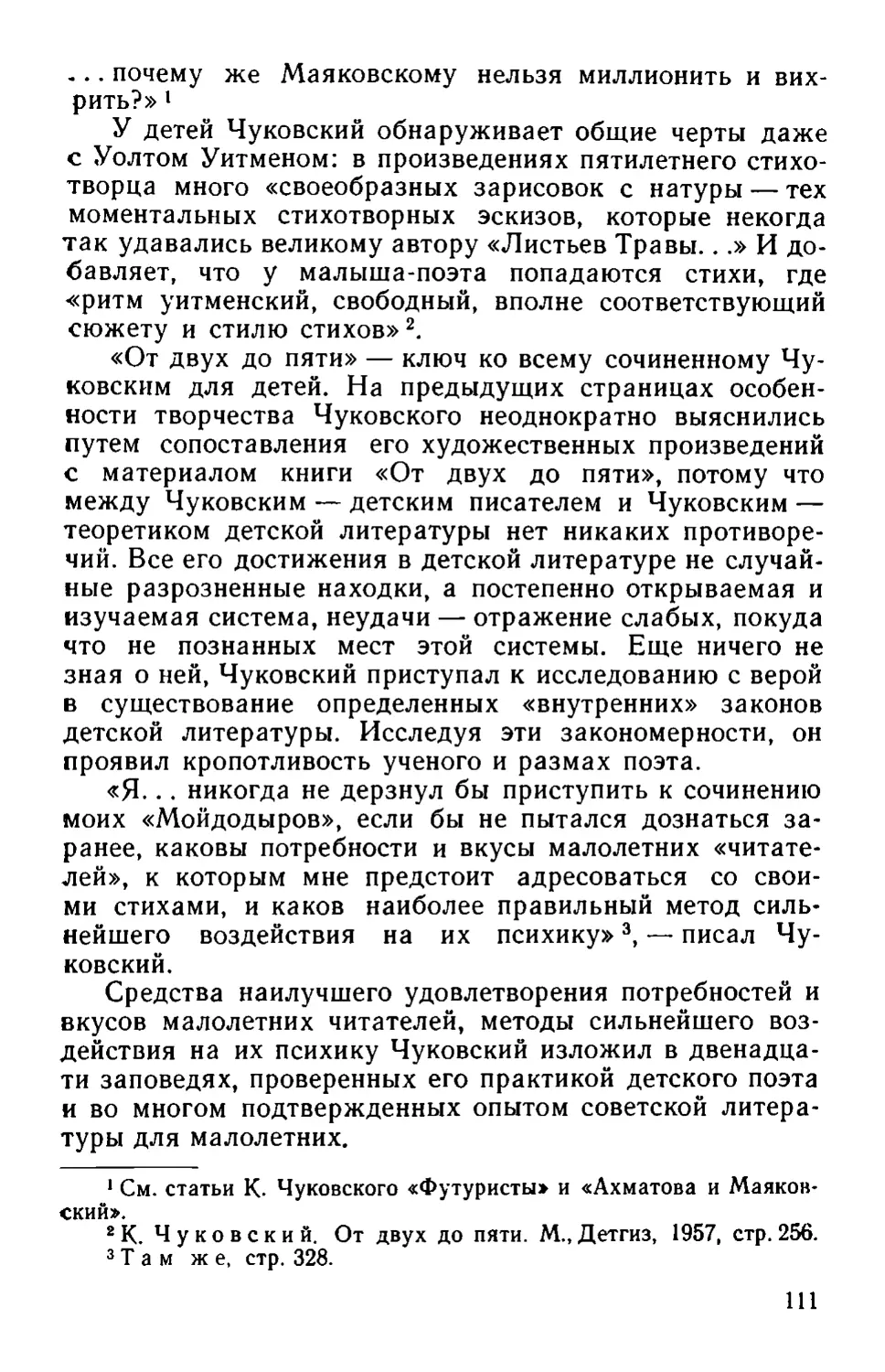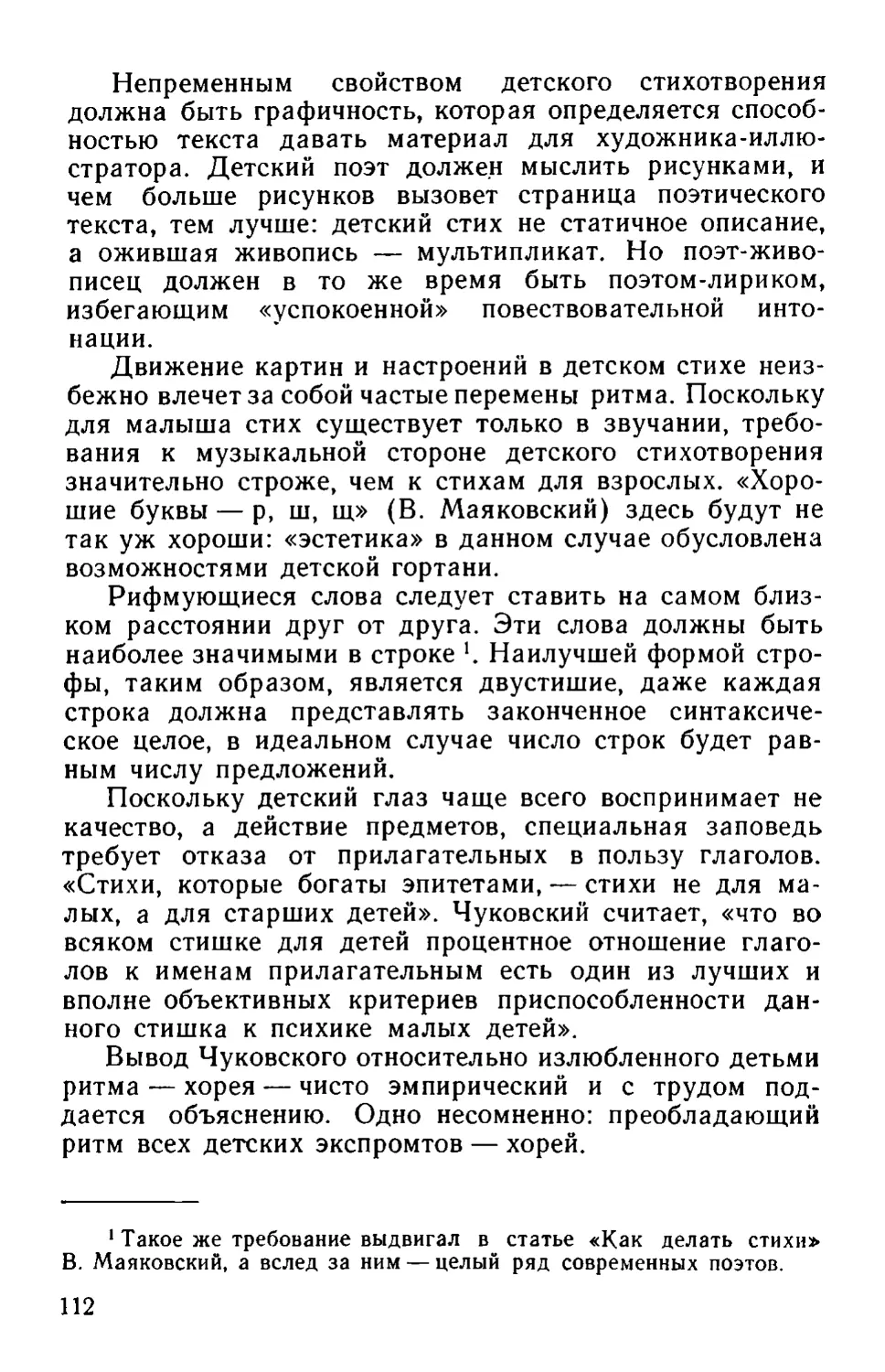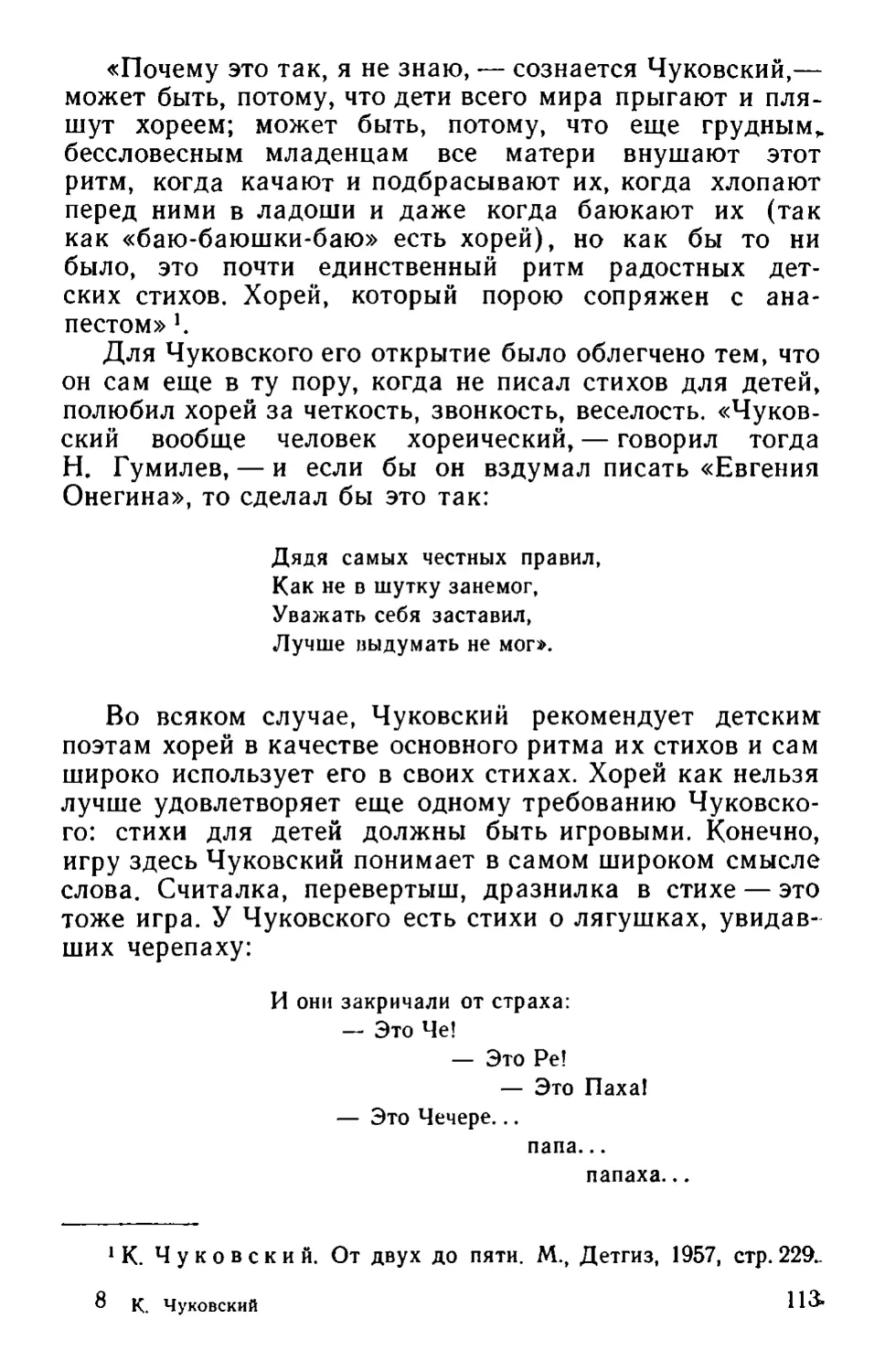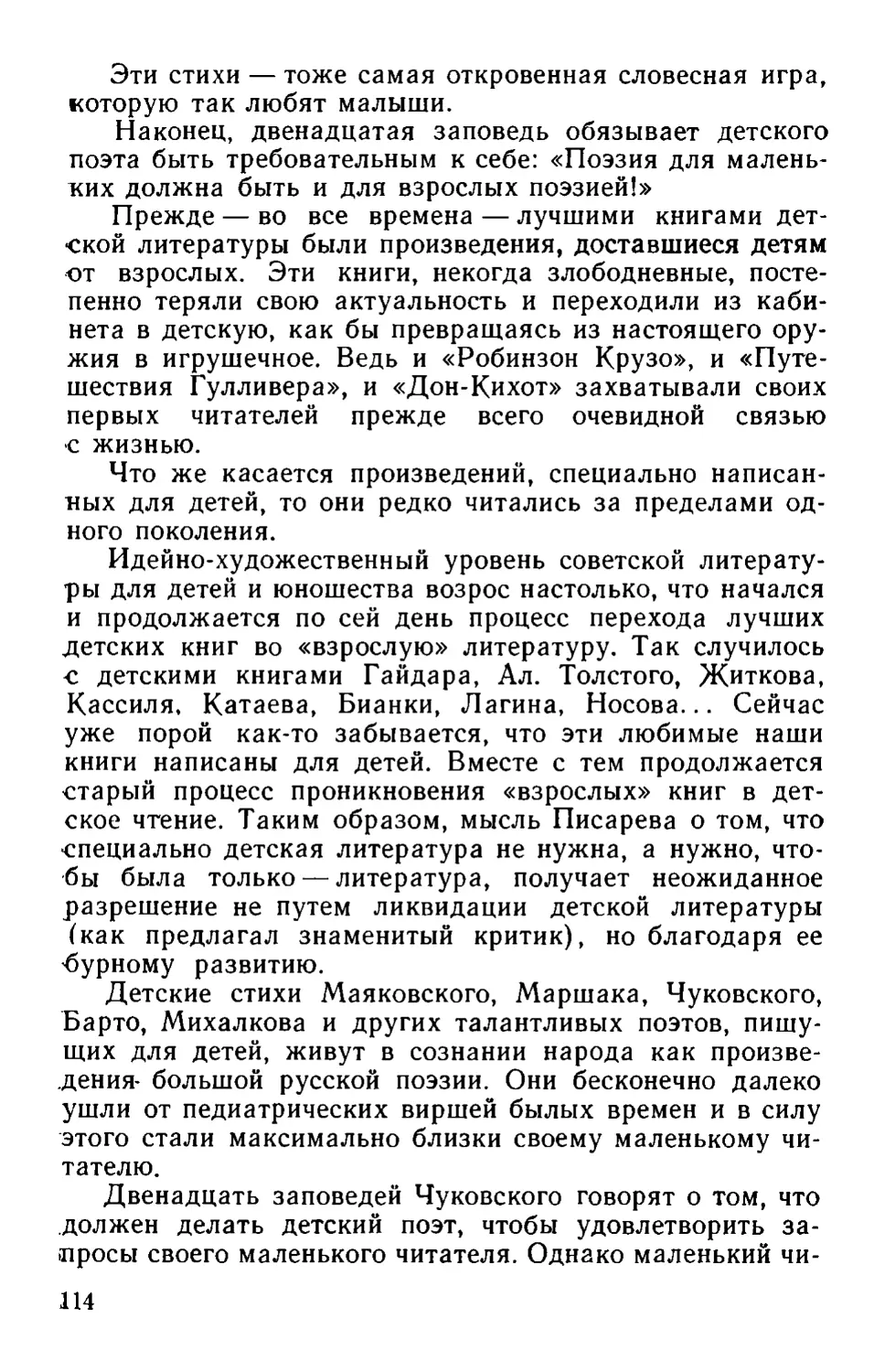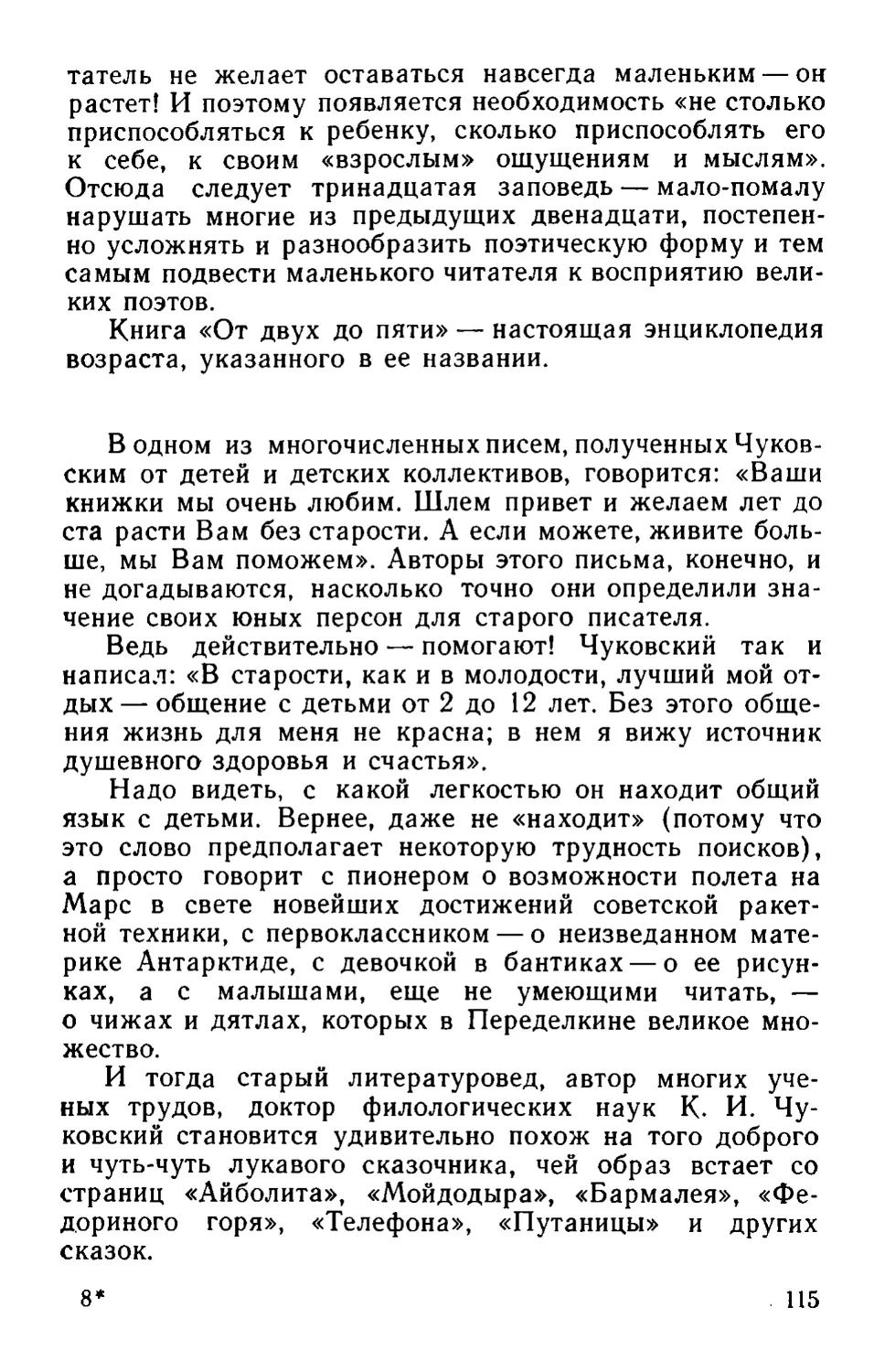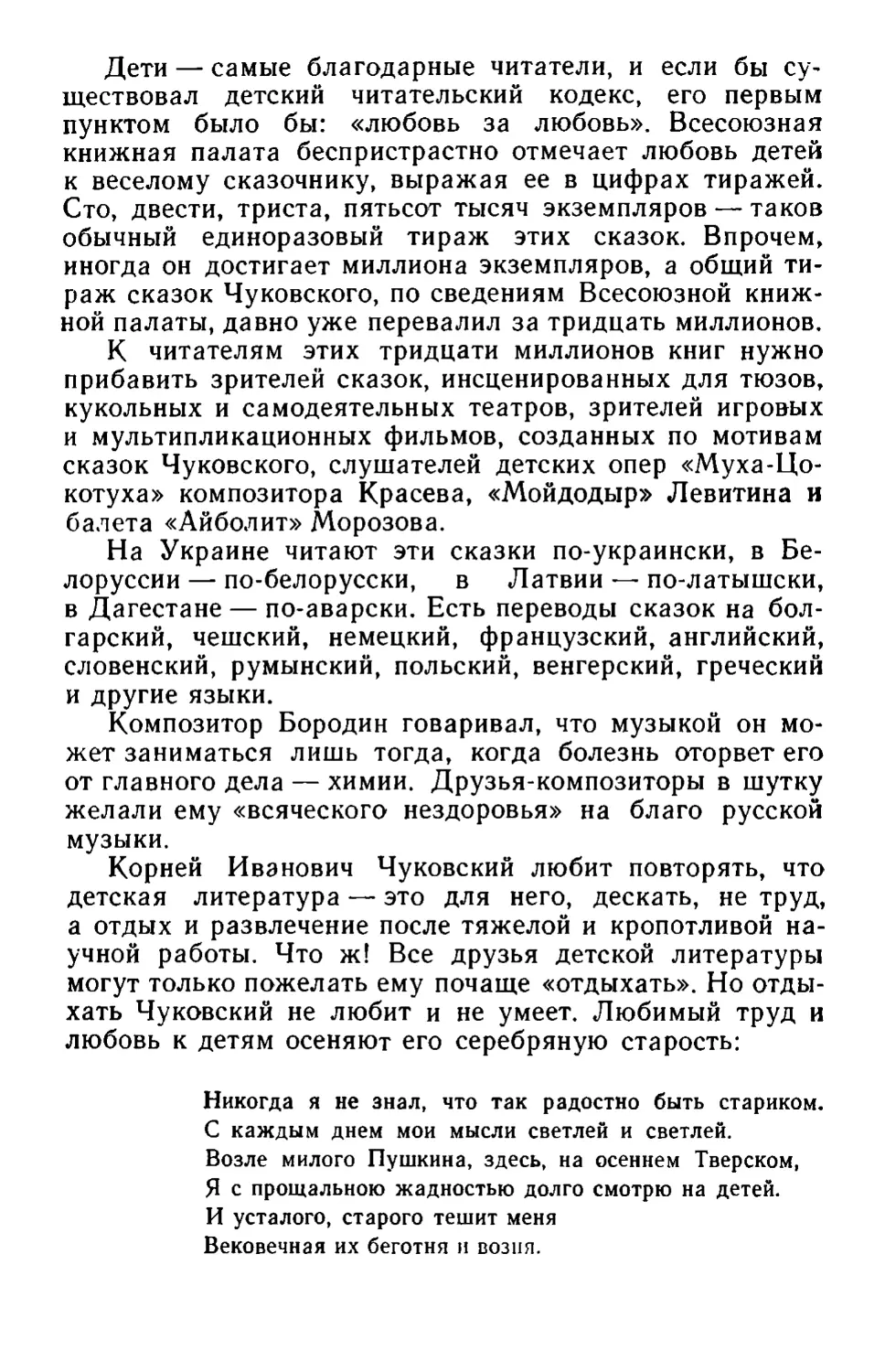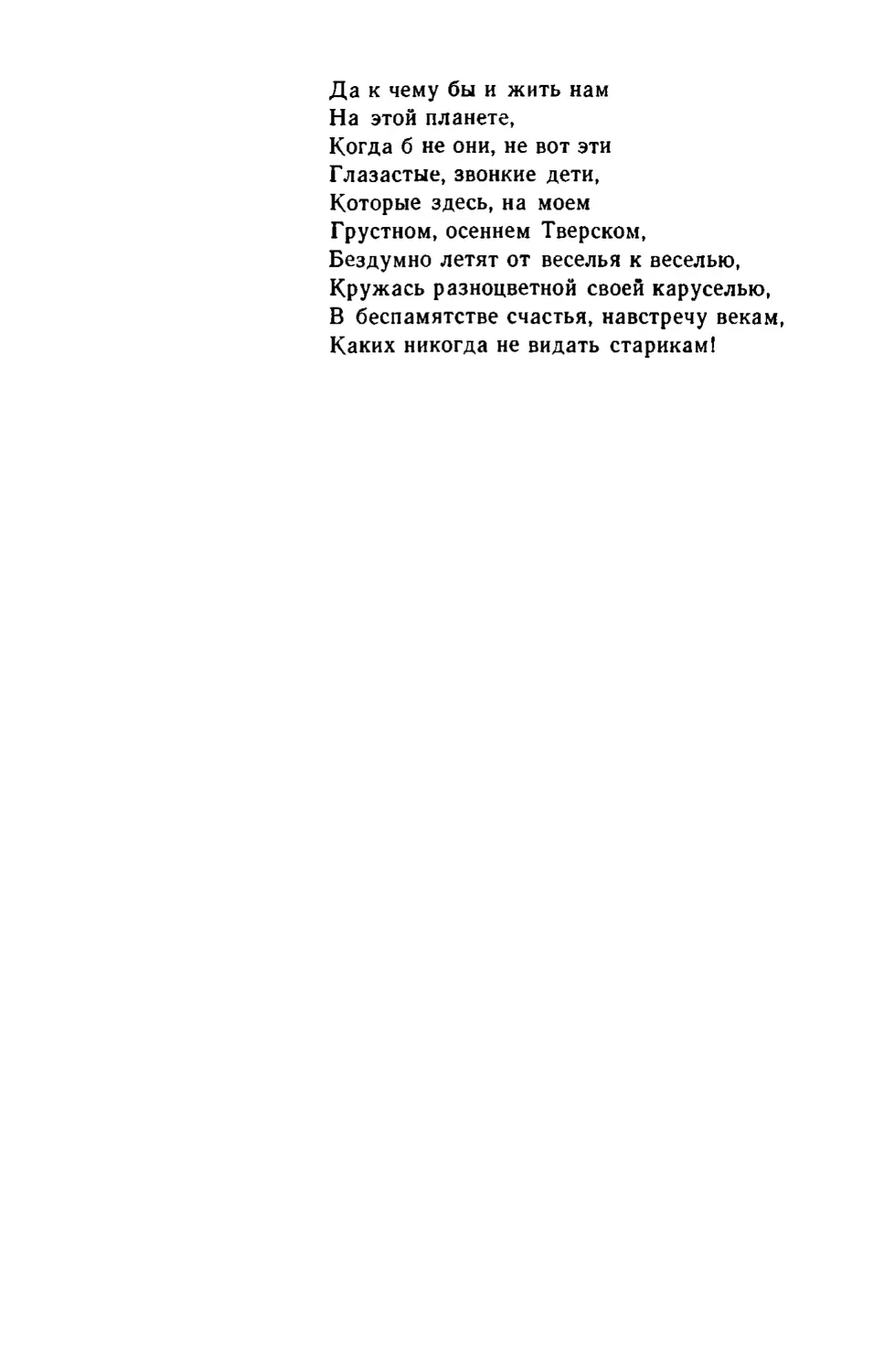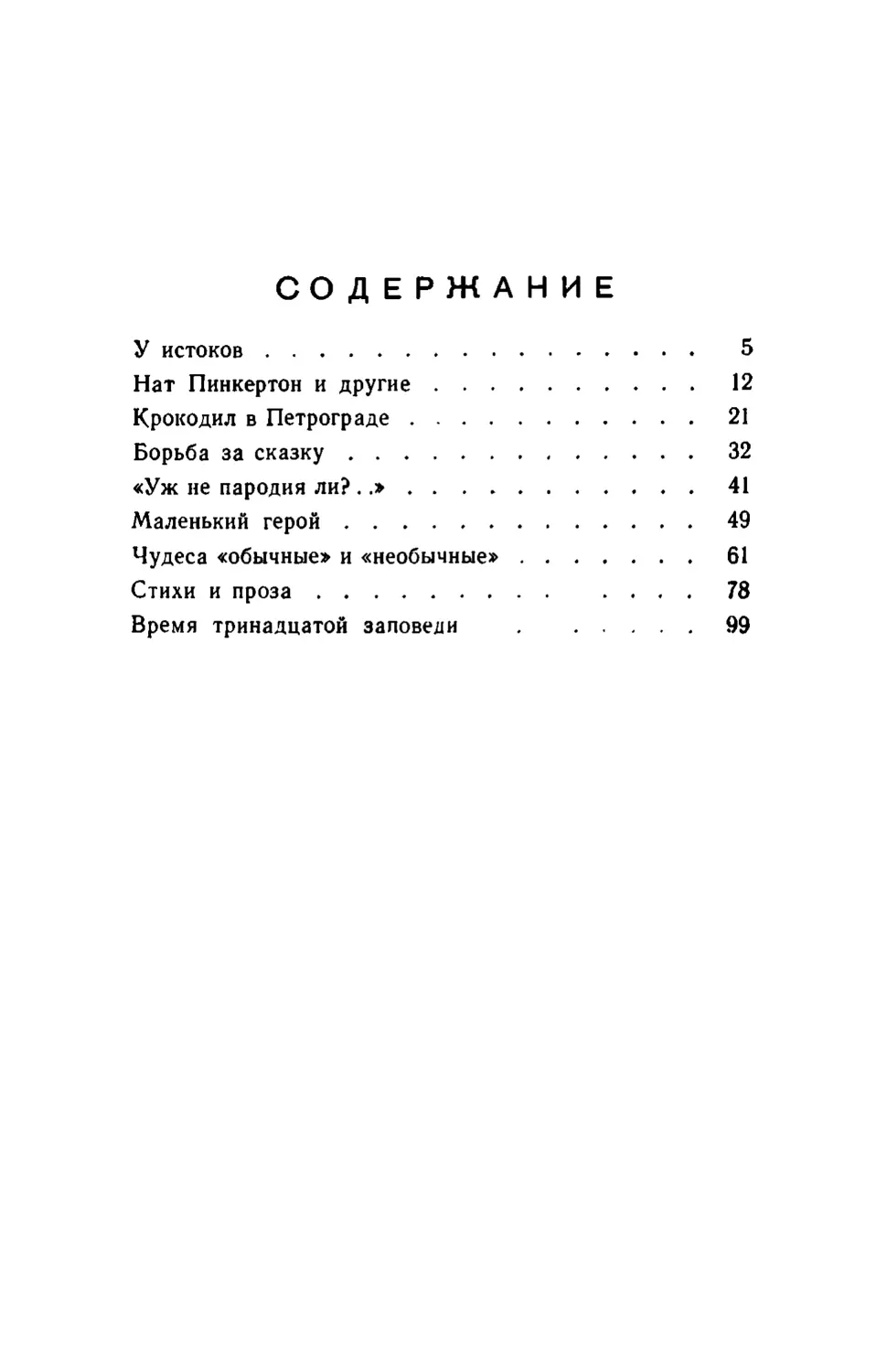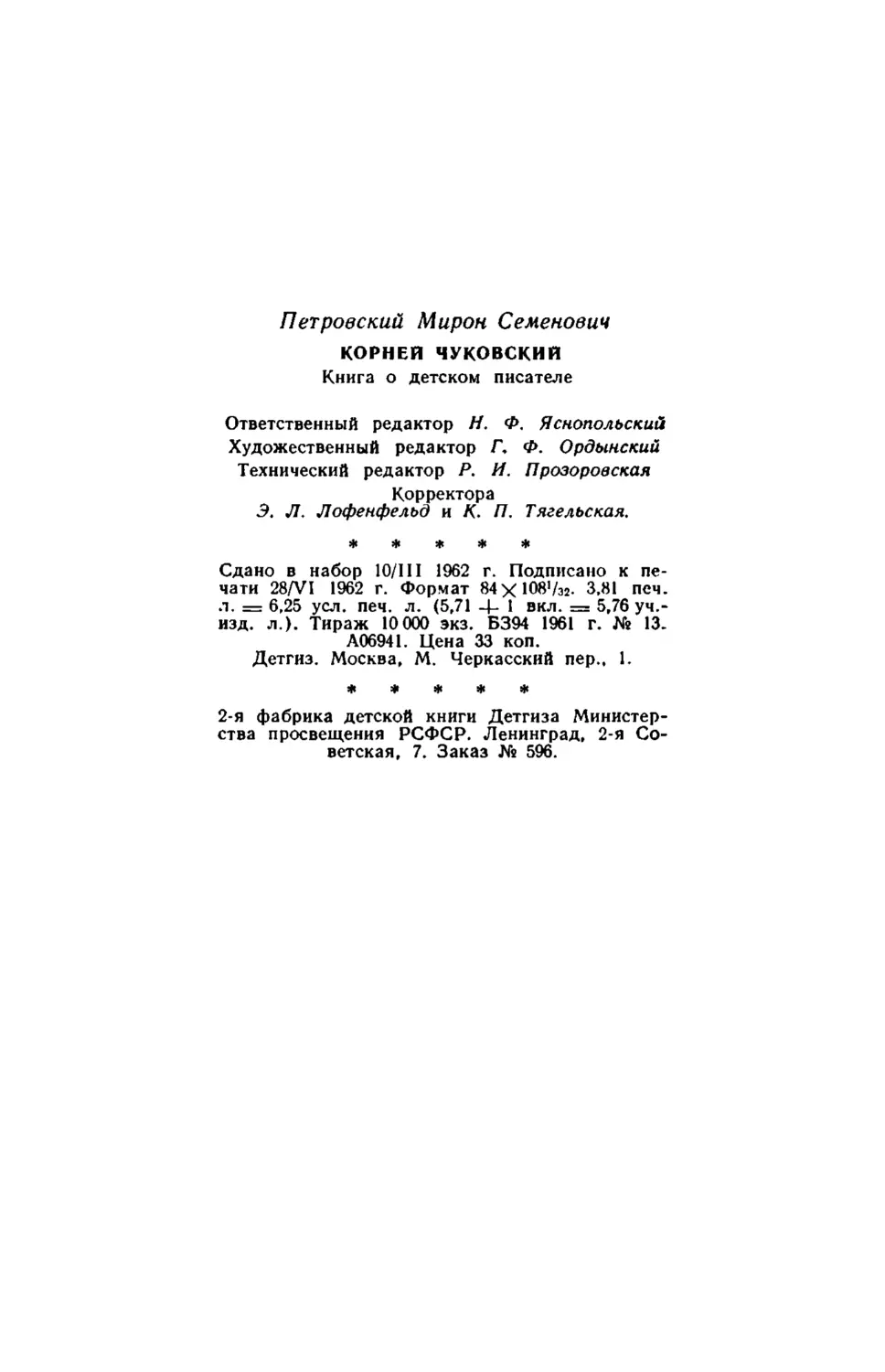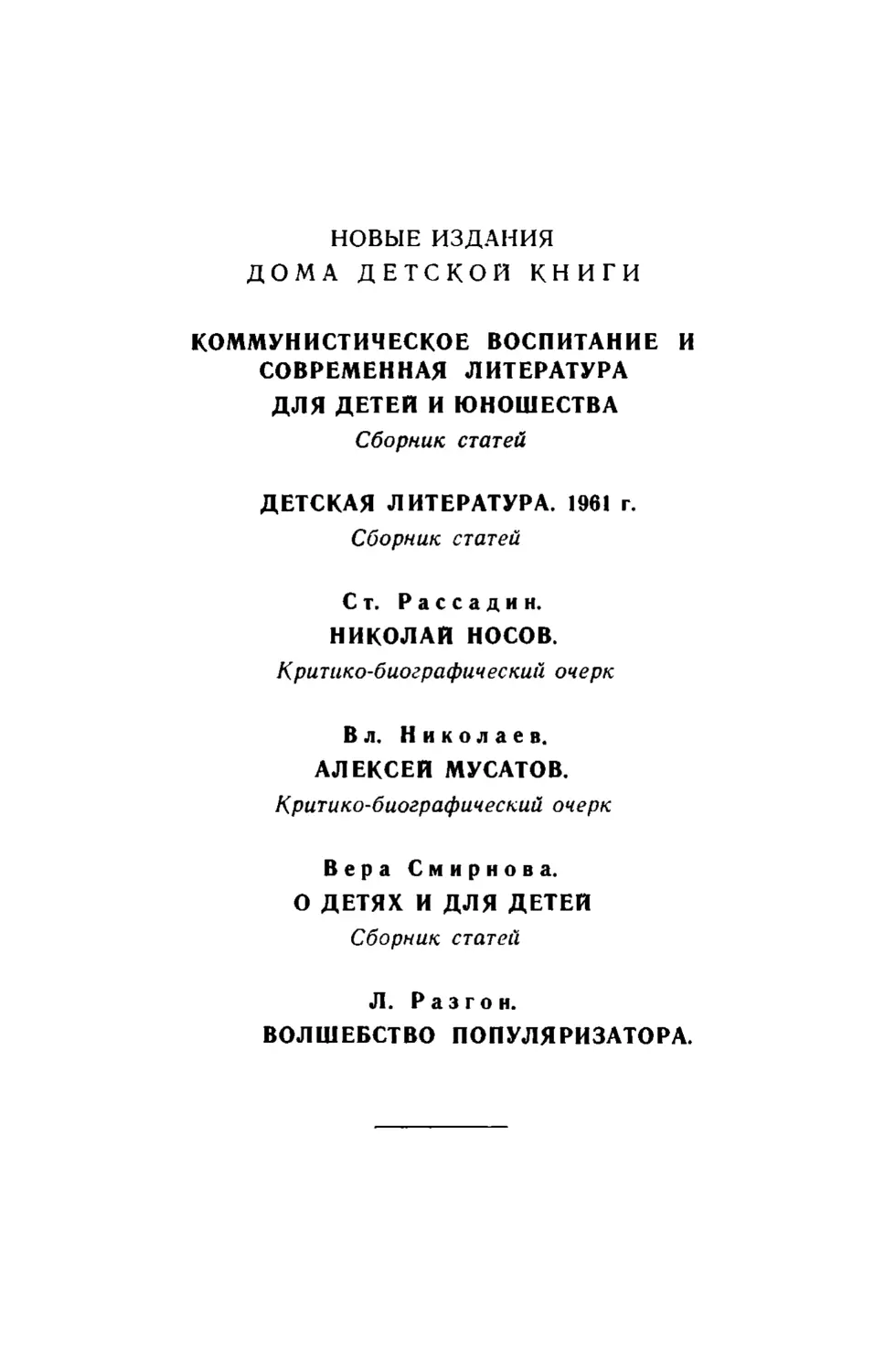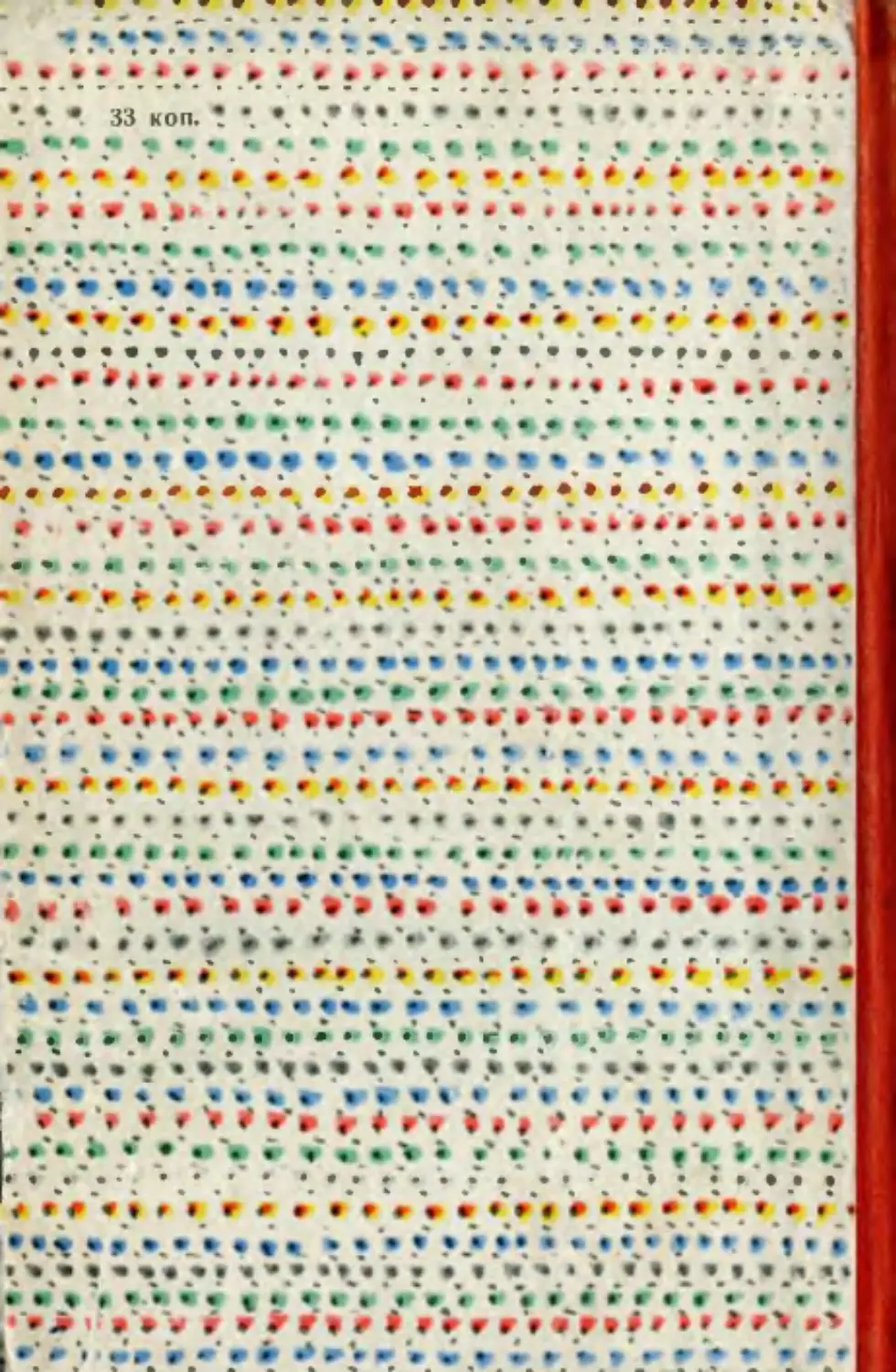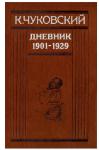Text
ДОМ ДЕТСКОЙ КНИГИ
М.
ПЕТРОВСКИЙ
Книга
о
д ет сном
писател е
Государственное
Издательство
Д ЕТСК ОЙ
ЛИТЕ РАТ УРЫ
Министерства
П росв ещен ия
РСФСР
Моск ва
1962
8P2
П
24
Втор ое ,
исправленное
и
дополненное
издание
Ученый-филолог,
поэ т
и
прозаик,
это т
писатель
б удто
нар оч но
решил
«захватить»
себе
всех
читателей:
и
крошечных
детей,
которых
даже
нельзя
н аз вать
читателями,
поскольку
они
еще
не
умеют
читать,
и
ребятишек
постарше,
и
подростков,
и
взрослых,
посвятив
ших
с ебя
самым
различным
профессиям,
и
в сех
читателей
вообще
—
просто
читателей.
Потому
что
среди
его
с очине ний
есть
и
сказки,
и
стихи,
и
крит ич еские
статьи,
и
мемуары,
и
литературоведческие
исследования,
и
повести,
и
другие
кни ги,
кот о рые
не
укладываются
в
обычные
пред ставлени я
о
жанрах.
И
еще
эт от
писатель
решил,
наверное,
прогнать
скуку
из
литературных
ж ан ров,
почитаемых
за
ск учн ые.
Он
словно
гово
рит : «Как!
Вы
по лагает е,
что
это
скучно?
Да
нет
же,
уверяю
ва с...»— и
пр ед лагает
читателю
книгу
по
теории
перевода,
кото
рая
читается,
как
роман,
книгу
лит ературо вед чески х
статей,
которая
читается,
как
роман,
к нигу
о
детском
творчестве,
ко то рая
еще
ин тере сн ей,
чем
роман.
Но
он
не
только
писатель
кн иг
—
он
состави тель
сборников
и
аль ман ахо в,
переводчик
Марка
Твена
и
Кип линга ,
редактор
пе ре
водов,
выполненных
другими,
блестящий
ле кт ор,
а
также
исполни
тель
свои х
сти хов.
Разнообразие
творческих
проявлений
—
одна
из
наиболее
харак т ерн ых
чер т
его
писательского
обл ика .
К
нему
очень
подходит
слово,
кото ро е
так
уважительно
произносил
М.
Горький,
—
ли тера то р.
Детская
жажда
от кр ытий
владеет
им
всю
его
долгую
жиз нь.
Как
ребенка
влекут
неизвестные
моря,
земли,
где
«на неведомых
дорожках
следы
нев иданных
зве рей », зарытые и забытые клады,
так
его
привлекают
малообследдванные
области
лит ератур овед ени я
и
неиспользованные
возможности
художественного
творчества.
3
Привычные,
прит ер ш иеся
вещи
он
то же
умее т
ви деть
как
бы
впервые.
Т акое
свежее,
неустающее
во спр ият ие,
свойственное
ка ж
дом у
х удо жни ку,
особ ен но
ценно
для
детского
писателя.
Вед ь
реб е
нок—
самый
естественный
первооткрыватель,
и
трудно
представить
себе,
чтобы
его
мог
заинтересовать
человек
«положительный», ко
всему
при вы чны й,
мудро
уверенный,
что
днем
просто
светло,
а
ночью
просто
темно,
неспо собн ый
уд ивл ят ься
ежедн евн ому
чуду
жизни.
«Все хорошее — от удивления», — говорил
Аристотель,
имея
в
виду
огромные
возможности
познания,
заложенные
в
эт ом
чу вств е.
Удивляться
—
специфически
детский
и
художнический
т ала нт.
Уме
ние
удивляться
одинаково
необходимо
писа тел ю
и
в
ска з ках
для
ма лыш ей
и
в
научных
тр уд ах.
Этому
пис ате лю
в сег да,
и
в
юности
и
в
старости,
свойственна
какая-то
очен ь
талантливая
работоспособность,
беззаветное
трудо
любие,
вдохновенное
труженичество.
Если
бы
собрат ь
все
напис анно е
им
за
шестидесятилетнюю
лите
рат урн ую
д еят ельн ость ,
получилась
бы
целая
библиотека
со
многими
тематическими,
жа нровыми
и
возрастными
рубриками.
Очутившись
у
полок
так ой
воображаемой
библиотеки,
нел ьзя
не
подивиться:
неужели
эти
забавные
детск и е
сказки
и
эти
увлекат ель н ые
и сследо
вания,
дающие
новую
трактовку
специальных
научных
в опросов,
созданы
одним
че лов еком ?
Да,
все
они,
такие,
казалось
бы,
несовместимые
в
рамках
одной
творческой
индивидуальности,
принадлежат
Корнею
Ивановичу
Чуковскому,
старейшему
советскому
писателю,
критику
и
литера
ту рове ду.
Когда
о
нем
самом
буде т
написана
книга,
о свещ ающ ая
всю
его
многостороннюю
д еят ельн ост ь,
читатель
ув идит,
какой
инте
ресный
и
сложный,
не
всегда
безошибочный,
но
всегда
честн ый
и
принципиальный
пу ть
прой ден
писателем.
Здесь
же
речь
пойдет
главным
о браз ом
о
том,
что
создано
писа
телем
Кор нее м
Чуковским
для
детей
и
о
детях.
Bäcfflfi
редакцию
солидной
провинциальной
га зеты
«Одес
ск ие
новости»
пр ишел
выс ок ий,
сут ул ый
молодой
че ло
век
в
штанах
выше
сред ней
поношенности.
Молодому
чел ов еку
едва
ли
бы ло
дв адц ать
лет
от
роду,
но
он
пред
ложил
статью
о
том
—
ни
много,
ни
мало,
—
что
такое
искусство.
Хо тя
за
молодого
человека
ник то
не
про си л,
его
статья
«К вечно юному вопросу»
была
напечатана.
Так
шестьдесят
с
лишним
лет
наз ад
началась
лите
ратурн ая
деятельность
Корн ея
Чуковского.
1Он родился в 1882 году в столичном городе Петер
бурге.
Отца
своего
он
не
запомнил:
отец
навс е гда
оста
вил
семью
вс коре
после
рож д ения
сына.
Вначале
при
сылал
деньги
на
во сп ита ние
детей,
а
потом
перестал,
потому
что,
по
слу хам,
женился
—не
то
в
Вар шаве,
не
то
на
Кав казе .
Присылаемых
дене г
все
равно
не
хватало,
и
семья
жи ла
в
б еспро светн ой
нужде.
Мат ь
Чуковского,
оказа вши сь
без
мужа,
без
денег,
без
знакомых
в
большом
и
чужом
городе,
решила
пер ебр ать
ся
на
юг,
в
Одессу.
Там
она
на
свой
ск у дный
за раб оток
отдала
детей,
учиться.
Все
св ои
усилия
она
на пра вля ла
на.
т о, .чтобы
вывести
детей
«в люди», дать им образова-
5
ние,
и
больше
всего
страшилась,
что
дети,
оставшись
без
образования,
не
смогут
вы бить ся
из
нужды,
которая
пре
следо в ала
ее
всю
жизнь.
Ее
опа сен ия
не
бы ли
безосновательны.
Ко гда
по
печально
изве стно м у
циркуляру
царского
министра
про
свещения
Делянова
уч еб ные
зав еден ия
«очищались»
от
«кухаркиных детей», Чуковский был исключен из про
гимназии.
«Кухаркиных детей»
не
сле дуе т
понимать
бу к
вально:
ма ть
Чуковского
была
прачкой.
В
книге
о
своем
д етс тве
—
«Серебряный герб»
—
Чуковский
лучшие
страницы
посвятил
ма тер и.
Эти
стра
н ицы
про ник ну ты
вос хищ е нным
преклонением
и
рисуют
обаятельнейший
образ
замечательной
женщи ны,
кр е
стьянки
с
Полтавщины.
«Великая труженица!» —
с
восторгом
называет
ее
Чуковский.
И
через
несколько
ст ра ниц
с но ва: «подлин
ная
героиня
т руда!», «мама
моя
была
чернобровая,
осанистая
жен щ ин а », «мама у меня очень бесстрашная»
—
она
ничуть
не
испу гала с ь
ночного
в о ра, «мама разгнева
лась»—
не
рассердилась,
а
именно
ра зг нева лась ,
потому
что
«держала себя гордо,
с
д ос т оин с тво м», «никогда ни
кому
не
к ланя л ась,
никого
ни
о
чем
не
просила», «и по
ходка
у
нее
бы ла
величавая».
И
все
это
о
жен щи не,
которая
«не разгибая спины стирала белье,
и
деньги,
пол уча емые
ею
за
стирку,
были,
к ажется ,
ее
единствен
ным
заработком».
Но
бывало
—
част о
бывало
—
мама
«свалится в по
стель,
и
лицо
у
нее
станет
ж елто е,
и
ве ки
у
нее
потем
неют,
и
голова
у
нее
бу дет
болеть,
и
жизнь
для
нее
пре
кратится
на
неско л ько
дней».
Это
с л учал ось,
когда
положение
сын а
в
прогимназии
становилось
непрочным.
Потом
она
понемногу
отходила,
снов а
бра ла сь
за
работу
и
тихонько
напевала
что-нибудь
из
Шевченко:
во
многих
стихотворениях
поэта
говорилось
о
та ких
же
ост ав лен
ных
женщинах,
как
она
сама.
Вторая
одесская
прогимназия,
где
учился
Чуковский,
ничем
не
отличалась
от
других
гимназий,
знакомых
нам
по
худож ест вен ной
литературе.
Зд есь
господствовала
та
же
сис тем а
по такани я
сынкам
зна тных
родителей
и
же сток ого
преследования
детей
бедняков,
сис тем а
кар
цера,
высокопарных
н от аций
и
оставлений
без
обеда.
Закон
божий,
рекомендующий
возлюбить
«малых сих»,
6
и
деляновский
циркуляр,
повелевающий
изг о нять
«кухар
ки ных
д ет ей », мирно сотрудничали,
воспитывая
юноше
ст во
в
само м
верноподданническом
духе.
Для
Ч ук овс кого
знакомство
с
кл асси ческим и
язык а ми
было ,
по жа луй,
е динст ве нным
положительным
знанием,
выне с е нным
из
гимназии.
Юноша,
выставленный
из
учебного
заведения,
начал
са мос тоят ельн ую
жизнь,
пошел
работать,
пер ем енил
не
сколько
профессий.
Малярное
дело
больше
других
пр и
шлось
ему
по
душе.
А
каждую
свободную
минуту
он
о тда вал
учебе,
много
читал.
На
толкучем
рынк е
он
куп ил
с ебе
с амоучи те ль
английского
языка
и
даже
во
время
работы,
покрывая
крас кой
стену
или
п ол,
твердил
слова,
составлял
фразы.
Однако
с
самоучителем
выш ел
конфуз:
в
нем
отсутствовали
страницы,
из лагав шие
правила
про
из но ш ения,
и
Чуковский
произносил
английские
слова
так,
как
они
пишутся.
Можно
бы ло
бы
купить
новый
самоучитель,
если
бы
он
не
стоил
значительно
до роже
приобретенного
по
случаю.
«Раздобыв на толкучке кое-к аки е
учебники
и
пр о
грамму
шестого
кл асса,
я
ста л
по
в ече рам
з ани мать ся
алгеб ро й,
латынью,
историей,
и,
странное
дело,
оказ а
лось,
что
гимназический
ку рс
удивительно
ле гкий,
когда
и зуча ешь
его
без
учителей
и
наставников,
не
в
стен ах
гимна зии.. .»1
После
нескольких
безрезультатных
попыт ок
(все тот
же
деляновский
ц ир ку ляр !) ему удалось сдать экзамены
за
гимназический
курс
экстерном.
Традиция
по дсказ ы
ва ла
человеку
с
аттестатом
зрелости
обычный
пут ь
—
в
университет,
но
тут
Чуковский
был
подхвачен
и
заверчен
водоворотом
журналистики.
Любимым
его
писателем
в
ту
пор у
был
Чехов,
а
Тютчева,
Шекспира,
Пушкина,
Некрасова
он
уже
тогда
знал
наизусть.
Вообще
ничего
он
так
не
любил,
как
поэзи ю.
В
его
уш ах
всег да
з вуч али
онегинские
строфы
или
мо ноло г
Ричарда,
и
часто
на
улице
он
не
замечал,
что
давно
уже
декламирует
вслух,
вызывая
удивление
прохожих.
«Ни об одном писателе моего поколения я не вспоми
наю
с
таким
чу вст вом
живой
благодарности,
с
каким
•К.
Чуковский.
Се ребря ный
ге рб.
М..
Детг из , 1961, стр .
139.
7
вспоминаю
о
Вал ери и
Брюсове.
Его
журнал
«Весы»
был
первым
журналом,
где
я,
двадцатилетний,
стал
печатать
ся.
Брюс ов
выволок
меня
из
га зетн ой
тр ясины ,
за тяги
вавшей
ме ня
все
сильнее,
приобщил
меня
к
большой
литературе
и
руководил
мно ю
в
первые
годы
работы»1.
1К.
Ч
у
к
о
в
с
к
и
й.
Из
воспоминаний.
М., «Советский писатель»,
1958, стр .
332—333 .
Упоминаемая
Чуковским
статья
была
прис лана
Брю
сов у
из
Лондона,
где
Чуковский
очутился
в
к ачеств е
корреспондента
«Одесских новостей».
И
в
Лон до не
Чуковский
продолжал
за нимат ь ся
само
об ра зо вание м.
Богатейшие
книжные
собрания
всемирно
известного
Британского
муз ея
п ривл ек али
его
гораздо
больше,
чем
пи сани е
ко рр есп онде нций,
которых
от
него
ож идал и
в
Од ессе.
Он
целые
дни
прос ижива л
в
Британ
ском
музее,
в
просторном
круглом,
под
стекл ян ны м
куполом
зале,
похожем
на
театральный,
и
поглощал
г оры
книг:
Смолетта,
Филдинга,
Сви фт а,
Джонсона,
Маколея,
Карлей ля,
Броунинга,
Блейка...
Потому
ли,
что
«Одесские новости»
не
захотели
со
держать
в
Лондоне
человека,
который
вознамерился
на
их
сче т
продолжать
свое
образование,
или
потому,
что
пошатнулось
финансовое
положение
га зеты ,
но
только
вскоре
деньги
из
России
пе реста ли
приходить.
Тогда
Чуковский
по
предложению
администрации
Британского
муз ея
принял
у ча стие
в
со став ле нии
к ата лога
русских
книг
библиотеки.
Ко гда
Чуковский
возвратился
в
Одессу,
у
город а
на
рейде
стоял
броненосец
«Князь Потемкин- Т авр ич еский»,
но
не
под
бело-голубым
андреевским
фла гом
царского
флот а,
а
под
красным
флагом
ре во лю ции.
В
числе
не
многих,
кому
посчастливилось
поб ыв ать
на
восставшем
«Потемкине»,
был
Чуковский.
Ему
удалось
пос е тить
ре во л юци онный
корабль
дв ажды :
оди н
раз
с
петербург
ск им
актером
Н.
Ход о то вым,
другой
—
с
А.
И.
К уприн ым
и
Сер г еем
Уточкиным,
спортсменом,
летчиком,
любимцем
Од ессы.
В
разгар
революции
1905 года в Петербурге и Мо
скв е
вых од ило
множество
бесцензурных
изданий.
Ос об ен
ным
успехом
пользовались
сатир и че ские
журналы.
Лишенные
в
большинстве
случаев
тв ер дого
курса
и
чет
8
кой
прог рам мы,
хл ест кие,
поверхностные,
едкие,
легко
мыс л енные ,
нед ол го вечн ые,
тоненькие
пя т ико пееч ные
сатирические
журналы
1905 года не могли,
коне чно,
убить
самодер ж ав ие,
но
ранили
его
порой
очен ь
б ольн о.
Они
вызывающе
представлялись:
«Журнал обоюдо
острый
(!) и беспощадный», «Сотрудникам отдан приказ:
патронов
не
жале ть
и
холостых
залпов
не
да ват ь».
«Секира», «Жупел», «Пулемет», «Гром», «Стрелы»,
«Яд»
—
угрожающе
наз ывали
они
себя.
Под
редакцией
Корнея
Чук овс ко го
в
Петербурге
стал
выходить
еженедельный
сатирический
журнал
«Сигнал» .
Издание
ж урн ала
субсидировал
Леонид
Витальевич
Со
бинов.
Эмблема
ж урн ала,
помещенная
ряд ом
с
названием,
р аск рыва ла
смысл
обра за
«сигнал»: прямо на зрителя
мчится,
вы ма хнув
из -за
поворота,
поезд,
а
на
пер еднем
плане,
поперек
движе н ия
поезда,
тянется
мускулистая
рук а
с
кр асн ым
флажком-сигналом: «Стой!» Нужно
ос тано ви ть
сам одер ж ав ие,
ведущее
«поезд»
к
гибели,—
таков
смысл
наз вани я
и
эмблемы.
В озмож но,
что
они
бы ли
навеяны
Ч ук овс кому
гаршиновским
«Сигналом»
—
примерно
в
это
время
молодой
кр итик
нач ал
работу
над
творчеством
В.
Гаршина.
Журн ал
пользовался
громадным
успехом.
Отдельные
номера
перепродавались
по
ценам
роскошных
издан ий .
Одна
из
карикатур
из обра жа ла
стоящего
на
трупах
из
вестного
ка рате ля
Треп ова .
В
руках
он
держал
знамя,
на
котором
бы ли
начертаны
слова
кровожадного
приказа:
«Патронов не жалеть!» Художник очень бледно вывел
первые
две
буквы,
и
чи тател и
с
удовольствием
увидели
совсем
другой
пр ик аз: «Тронов не жалеть!» Люди при
ходили
в
редакцию
журнала,
требуя
номер,
где
«тронов
не
жалеть».
Целую
тучу
стр ел
журнал
выпус т ил
в
особу
царя
Ни ко лая
и
бли зк их
к
не му
лиц
—
членов
ца рск ой
фамилии,
министров
и
фаворитов.
Такая
дерзость
не
могла
бы ть
незам еч енно й.
В
редак
цию
«Сигнала»
пр и была
повестка,
в
ко то рой
сообщалось,
что
редактор
Корней
Чуковский
привле ка е тся
к
судеб
ной
ответственности
по
статье
103 (оскорбление величе
ства),
статье
106 (оскорбление членов высочайшей
семьи)
и
статье
128 (поношение существующего поряд
ка)
Уложения
о
наказаниях
Росси йск о й
империи.
9
Адво кат
Чук овс кого
О.
О.
Груз е нбе рг
уче л
слабость
царской
власти
в
период
революции
и
построил
защиту
дерзко
и
остроумно.
Он
вырезал
из
жур н ала
все
рисунки,
ин крими н ируе мые
Чуковскому
как
карикатуры
на
цар я,
нак л еил
их
на
картон
и,
потрясая
эт им
картон ом
перед
судом,
гневно
в опро ша л: «Кто посмеет утверждать,
что
изображенный
здесь
кретин,
и диот
и
ничто же ство
—
гос у
дарь
и м п ер атор ?!» Этого утверждать никто не посмел,
и
Чуковский
был
оправдан.
Все
же
его
еще
некоторое
время
де ржа ли
в
тюрьме.
Но
и
оказавшись
на
свободе,
Чуковский
должен
был
на
время
скрыться,
так
как
против
него
снова
возбудили
дело.
После
революции
1905 года Чуковский становится
журналистом-поденщиком—сотрудничает,
по
его
соб
ст венны м
словам,
«в тысяче изданий»
—
и
мечтает
о
большой,
серьезной
литературоведческой
раб от е.
Нео б
ходи мость
писать
в
ежедневной
спешке,
в есь
быт
пр о
фессионального
газетчика
с
его
пестротой
и
разд ро блен
ностью,
с
хроническим
безденежьем
мешали
Чуковскому
сос ред от очи ться ,
внима т ель нее
приглядеться
к
жизни,
к
литературе.
Но
настойчивость,
огромная
работоспособ
нос ть
и
несомненная
одаренность
скоро
поставили
Чуков
ско го
в
оди н
ряд
с
на ибо лее
авторитетными
литератора
ми
того
вр ем ени.
Его
книги,
несмотря
на
то
что
были
составлены
из
ста те й,
уже
известных
чита тел ю
по
газет
ным
и
журнальным
публикациям,
ра сх одилис ь
мгн о
венно.
«От Чехова до наших дней», например,
трижды
пер е
издавалась
на
пр от яже нии
одного
г ода
—
успех,
редкий
даже
для
художественного
п рои звед ен ия.
В
статьях
Чук ов ског о,
как
в
сферическом
зеркале,
возникали
ос троумн о
преувеличенные
черты
современ
ных
писателей.
Портреты,
построенные
на
од но й-ед ин-
ств енн ой
гипертрофированной
черте,
были,
собственно
говор я,
не
лицам и,
а
масками,
призванными
разрушить
и
зам енит ь
соб ой
общепринятые
м нени я,
закоснелые
пр едст авл ения ,
шаблонные
образы,
которые
ведь
тоже
не
что
ин ое,
как
маски.
В
этом
разрушительстве
несомнен
ная
заслуга
Чук овс ко го- крит ика .
«Лица и маски»—так
и
назвал
Чуковский
од ну
из
сво их
кн иг.
Но
ему
самому
пор ой
нужна
бы ла
ма ска
объ ект ивн ости
для
прикрытия
10
острой
субъективности
некоторых
его
критических
харак
теристик.
О бщий
подъем
революционных
настроений
в
«крас
ные
м е сяц ы» 1905 года увлек Чуковского влево,
а
насту
пившая
зат ем
р еак ция
повела
к
тому,
что
бы вший
редак
тор
«Сигнала», подобно другим интеллигентам,
не
св я
занным
с
р або чим
классом
и
его
идеологией,
отошел
от
св оих
недавних
революционных
увл е че ний.
В
последующие
годы
несколько
стате й
Чуковский
целик ом
посвятил
детс кой
лите ра тур е,
де тс кому
чтени ю
и
детс ко й
психо ло гии.
Во
многих
его
статьях
содер жа тся
отдельные
мыс ли
по
эт им
темам.
Замечательно,
что
Чу
ков с кий
был
ед ва
ли
не
единственным
к рити ком-п роф ес
сионалом,
применившим
к
д етско й
литературе
тот
же
метод
и
те
же
приемы,
каки ми
пользовался,
анализируя
литературу
для
взрослых.
Но
еще
замечательней
то,
что
стать и
о
дет ско й
литературе
оказались
свободными
от
многих
н ед оста тков,
присущих
другим
рабо т ам
Чуков
ско го.
Эти
статьи
перекликаются
с
выс к азы вания ми
пе
редовых
педагогов
то го
времени
и
в
гораздо
большей
ме ре,
чем
другие
дореволюционные
критические
рабо
ты
Чуковского,
созвучны
тем
оценкам
дореволюцион
ной
лите р ату ры,
которые
выработала
современная
кри
тика.
Около
1907 года Чуковский впервые заинтересовался
детс ки м
языком
и
вскоре
опубликовал
свои
наблюдения
над
ним
—
стать ю
«Детский язык» .
Прошло
еще
десять
ле т,
прежде
чем
был
сочинен
«Крокодил»
—
первая
стихо
тво рна я
ск азка
Чуковского
для
детей.
«Был когда -то
город
—
Петроград,
—
р ас сказ ывал
Чуковский
в
предисловии
к
одному
из
изд ани й
«Кроко
ди ла ».—
Красивый
это
был
город,
но
скучный.
В
нем
не
бы ло
ни
пионеров,
ни
октябрят,
ни
а в тобусов ,
ни
красных
фла го в,
ни
Первого
мая,
ни
Театра
юного
зрителя,
ни
пионерского
д во рца,
ни
эскимо,
ни
ки н о!..
Вд руг
в
Петроград
из
Африки
при л етел
на
самолете
Крокодил,
Зач ем
он
прилетел,
я
не
знаю», —
признавался
Чуков
ски й.
Ну,
а
вс е-таки
—
за чем
прилетал
Крокодил
из
да
лекой
Африки
в
красивый,
но
ск у чный
город
Пет ро
град?
Вы мин ая
давнее
вре.я,
когда
основу
масс,
л ед-
ск их
писателей
составляли
люди,
которым
уже
ок он ча
тельно
не куда
было
податься,
С.
Маршак
гов ор ил:
«Невозможно себе даже представить,
чтобы
какая-
нибудь
историческая
повесть
для
д етей
под
названием
«Царский гнев»
или
сказ ка
в
стих ах
«Бородатик»
сдела
ли сь
предметом
общественного
обсуж ден и я». Потому что
«дореволюционная детская литература была глухим
переулком,
куда
критика
и
не
заг ляд ыва ла» *.
С лова
С.
Мар шака
могут
по казат ь ся
преувеличением.
Ведь
печ а талис ь
тогда
рекомендательные
каталоги,
ста
тьи
по
детс ко й
литературе;
выходило,
нак о нец,
несколь
ко
специальных
журналов.
Но
все
это
существовало
где-
то
на
задворках
большой
лите р ату ры,
бы ло
про ник нут о
духом
пр овинц иа лизм а
и,
как
правило,
сводилось
к
ре
цензированию,
р аскл ады ван ию
по
по лочка м
«рекомен
довано»
и
«не рекомендовано» .
Странным
образом
ре
цензент ы
ухитрял ис ь
пройти
мимо
самых
значительных
произведений
тогдашней
детс кой
литературы,
а
то,
что
попа да ло
в
п оле
их
зрения,
оценивалось
ими
преимуще
ст ве нно
с
узкопедагогической
точки
зрения.
Даже
определение
жанра
«литературно-к ри т иче с ка я
ст ат ья»
ч асто
з амен ял ось
на
«критико-педагогическая».
Профес
сиональная
кр итика
не
обращала
внимания
на
детскую
литературу.
Состояние
критики
д етско й
литературы
не
бы ло
тай
ной
для
современников.
Авт ор
лучшей
(довольно,
в про
чем,
поверхностной)
дореволюционной
книги
по
детской
литературе
Н.
В.
Чехов
име л
все
основания
с
горе чью
заметить:
«У нас существует бесконечное количество сборников
критических
отзывов
о
детс ки х
книг ах
и
целые
тысячи
1С.
Марш ак.
Зада чи
детской
литературы.
Журнал
«Детская
ли тера тур а», 1938, No 18—19, стр .
15.
12
реценз ий
на
них
в
журналах,
но
это
все
не
кр итика,
а
рецензирование...
У
каждого
рецензента
детско й
кни ги
есть
свой
собственный
взгляд,
но
ничего
подобного
тем
направлениям,
которые
наблюдаются
в
критической
лите
ратуре,
занимающейся
рассмотрением
кн иг
для
взрос
лых,
по
отношению
к
детс ки м
книг ам
—
не
с ущ е ству ет»1.
1Н.
В.
Ч
е
х
о
в.
Детская
литература.
М., «Польза», 1909, стр .
12.
2Генрих Вольгаст.
Проблемы
детского
чтения.
СПб.,
Изд-во
газ.
«Школа и жизнь», 1912.
3К-Чуковский.
Из
воспоминаний.
М., «Советский писатель»,
1958, стр .
232.
Лев
Орша нски й ,
автор
предисловия
к
книжке
Генриха
Вольгаста
«Проблемы детского чтения», высказался еще
о п р еде лен не й: «Серьезная критика почти никогда не
подвергает
детс ки е
кни ги
своей
цензуре,
и
можно
поэ том у
безна каза нн о
когда
угодно
и
что
угодно
печатать»2.
К
ре дким
искл юч ения м
из
общего
пр авил а
принадле
жал а
литературно-критическая
деятельность
молодого
Чуковского,
который,
за гляд ы вая
в
«глухой переулок»
детско й
литературы,
стремился
сделать
все
эти
повести,
стишки
и
сказки
«предметом общественного обсужде
ни я».
Чуковский
не
уставал
тормошить
об щест венн ое
мнение,
чтобы
привлечь
его
к
детс ко й
литературе.
Критик
всем
надоел
св оими
призывами
спасти
дет ску ю
л ит ера
туру
от
халтурщиков,
а
д етей
—
от
халтурной
лит ера
туры.
На
кр ит ика
стали
смотреть, «как на маньяка,
на
доедливо
скулящего
о
малоинтересных
вещах » 3.
Чуковский
тог да
еще
не
знал,
какое
мес то
в
его
жизни
займут
детские
сказки
и
повести,
не
знал,
что,
начав
со
статьи
«Детский язык»,
он
навс е гда
связал
себ я
с
литературой
для
детей.
Он
счи тал
себя
критиком
—
и
только.
В
качестве
критика
он
считал
св оей
об яза н
ностью
своевременно
известить
общественное
мнение
о
наш еств ии
Пин кертон а,
о
заси лье
Чарской,
Вербицкой
и
других
поставщиков
низко пр об ног о
чтива.
Чуковский
попал
в
трагическое
положение
р аз ведч ика,
сообщениям
которого
о
надвигающейся
опасности
не
придают
ни
какой
цены...
Чуковский
сделал
интересное
до пущ ение:
ес ли
вся
«сыщицкая»
детективная
литература
иде т
от
Ше рлок а
Холмса,
то
почему
бы
не
сравнить
знаменитого
сыщика
с
его
з намен и тым
потомком
Пинкертоном?
13
И
тогд а
оказалось,
что
линия,
проведенная
через
две
точки
—
Холмса
и
Пинкертона,
показывает
направление,
по
которому
шло
ра звитие
жанра.
Оказал о сь ,
что
Хол мс
выступал
в
защиту
сла бого ,
а
Пинкертон
—
на
стороне
богатого;
что
Холмс
противопоставлял
себ я
п ол иции,
а
Пинке рто н
состоит
у
нее
на
жал о ван ье;
что
расследо
вательский
мет од
Холмса
—
интеллектуальный,
а
метод
Пинкертона
—
кулачный;
что
Холмс
любит
и
знает
муз ы
ку
и
живет
тонкой
духовной
жи знь ю,
а
Пинкертон...
Ну
какая
може т
бы ть
духовная
жизнь
у
Пинкертона?
Пу ть
от
Холмса
до
П ин кертон а
—
это
путь
«от силло
гизма
до
зуботычины».
Конечно,
у
с и ллогиз мов
Шер
лока
Холмса
«все посылки на костылях», его рассужде
ния
каж ут ся
наивным и,
но
все
же
они
привлекают
ве рой
в
си лу
человеческого
мышления.
Пинкертон
лишен
и
мышления
и
вер ы
в
его
необходимость.
Но
именно
таког о
героя
требовал
обыватель
*.
1 В выступлении на Третьем Всесоюзном съезде советских писа
телей
Чуковский
п родолжил
это
сравнение,
показав,
что
современная
приключенческая
лите рату р а
на
Западе
оставила
дал еко
позади
примитивный
мордобойный
метод
Пинкертона.
Теперь
смертоубий
с тво
и
всяческие
ужасы
сост авл яю т
основное
ее
содержание.
2Г.
Григорь’бв.
У
ст аром у
Киев!.
Спо га ди.
Киев .
«Радян -
ськ ий
пи сь менн ик », 1961, стр.
61—62.
Современник
с в идет ел ь ств ует: «Торговля детектив
ными
опусами
заметно
подсократилась
после
того,
как
бы ла
напечат ан а
талантливая
стат ья
К.
И.
Чуковского
«Нат Пинкертон и современная литература» .
Во
многих
шк олах
учителя,
пользу ясь
эт ой
работой
известного
кр и
тика,
ра зъ яс няли
учащимся
всю
никчемность
сыщицких
приключений,
сочиненных
для
т ого,
чтобы
набивать
кар
маны
хитрых,
корыстолюбивых
издателей
и
ремеслен
ников-авторов»12.
Пинкертон,
несмотря
на
сво ю
популярность,
и
не
пре
тендовал
на
мес то
в
литературе
—
его
внелитературность
была
сл ишк ом
оч ев ид ной,
он
был
явным
«третьим
сортом».
Другое
де ло
Вер б ицкая .
Она
считала
себ я
опасной
соперницей
не
только
Жюля
Верна,
но
и
Льва
То лсто го!
И
в
самом
деле:
как
же
не
соперница,
если,
по
сведениям
столичных
и
про
винциальных
библиотек,
читател и
—
ги м нази сты
и
пр о
чая
учащаяся
мол од ежь
—
больше
всего
спр ашивали
не
14
Чехова,
не
Льва
Толстого,
не
Короленко,
а
именно
ее,
Верб ицк ую !
Вер бицкая
бесстыдно
рекламировала
себя,
используя
нехитрую
ари фме ти ку:
популярность
—
зн ак
равенства
—
гениальность.
Это й
торгашеской
фо рму ле
Чуковский
противопоста
вил
форм ул у
научную:
не
«популярность выражает гени
альность»,
а
«стиль отражает мировоззрение» . « Св ое й
заметкой
о
Вер биц ко й,
—
пи сал
он,
—
я
хотел
пок аз ать. ..
как
эстетическая
студия
стиля
—
одного
толь ко
стиля
—
приводит
нас
к
определеннейшим
выводам
о
духовной
сущности
писателя»*.
1К.
Чуковский.
Книга
о
современных
писателях.
СПб.,
«Шиповник», стр . 6.
2Там же,
с тр.
7.
А
стил ь
Вербицкой,
как
по каза л
Чуковский,
был
к винт э ссенци ей
самой
пош лой
и
д ешево й
бульварщины.
«Кто только не вспыхивает в этом новом романе («Ключи
счастья».—М.
П . )\ Что ни страница,
ч итае шь : «Вера
Филипповна
в сп ы хива е т. .«Маня вспыхивает...», «А! —
срывается
у
вспыхнувшей
хо з яй ки ...», «Он вспоминает
Наталку
и
вспыхивает...», «Лицо
Григория
вспы х и
вает.
.«Рабочий вспыхивает...» —
и
так
дальше
до
бес
конечности.
..»12
Бешеные,
рвущиеся
в
клочья
страсти,
св ерка ющи е
глаза,
вспыхивающие
л ица
и
тонкие
вздр аг ива ю щие
ноз др и,
влюбленные
аристократы,
у
которых
все
«поро
дистое»—
лицо ,
рук и
и
ног и,
аристократы,
совершающие
деяния
неслыханного
благородства
(если кто -ниб уд ь
по
ступил,
как
порядочный
че ло век,
з на чит,
родословная
его
идет
не
мен ее
как
от
Р юри к а), роскошная обстанов
ка,
где,
кажется,
даже
ковры
с
инкрустацией,
и
снов а
бешеные
с тр асти,
снова
герои,
время
от
времени
уп адаю
щие
«в бездну»
—
«бездну экстаза», «бездну наслажде
ни я», «бездну забвения»
и
мало
ли
еще
каку ю
бездну
может
сочинить
бездонная
пошлость,
—
тако й
обнаружи
вается
Вербицкая
под
скальпелем
критика.
Однако
она
не
настолько
проста,
чтоб ы
так
и
выста
вить
св ою
пошлость
на
всеобщее
обозрение.
Нет,
она
изо
всех
сил
стремится
выглядеть
«современной», она,
как
сказал
бы
чеховский
донской
п о м ещик, «страшная эман-
си пе». Оказывается,
что
аристократы
у
нее
все
повально
революционеры,
барышня,
у
которой
не
душа,
а
безд
15
на,
—
ку р систка ,
«и все герои Вербицкой подрожат-
подрожат,
посверкают
г л азами
да
вдр уг
ни
с
того
ни
с
сего
и
выпалят:
—
Спенсер...
Энрико
Фер и ...
селекционизм...
Кам
панелл а.
.. »1
'К.
Чуковский.
Книга
о
современных
писателях.
СП б.,
«Шиповник», стр .
19.
2Тамже,
стр. 20.
3Тамже.
ст р.
227.
«Такая смесь готтентотского с интеллигентским про
изводит
в п ечатле ние
мыла
с
сахаром
—
в
рот
нельзя
взять ,
отойди
и
выплюнь!
—-
но
мол од ежь
этого
не
заме
чает,
г лотае т,
как
морож еное .. .»2
Чуковский
делал
вывод,
что
Вербицкая
спекулирует
на
ро м а нтическ их
стремлениях
мол одежи ,
причем
ро
ман тик у
писательница
по ни мает
как
романтику
бульвар
ную,
а
пот ому
ее
книги
—
плоть
от
плоти
и
кровь
от
крови
Пинкертона.
Беспощадный,
справедливый
(и в этом
смысле
беспристрастный)
вывод
Чуко вс ког о
пятьдесят
лет
на зад
по ражал
читателя
своей
смел ост ью
и
стра ст
ностью.
«Я помню,
когда
писал
о
г- же
Верб иц кой ,
неско л ько
раз
от кл ады вал
эту
работу
про чь.
«Нет,
нужно
успо
коиться,
пусть
сердце
отдохнет
хоть
немного».
Она
ме ня
би ла
по
щекам,
эта
кн ига,
она
из девал ась
над о
мною...
я
в
конце
концов
не
вы держ ал,
закрыл
лицо
руками
и
за
кричал:
кар аул !»3
...Никому не известная актриса
императорского
Але
ксандрийского
театра
Л.
А.
Чурилова,
п ер ебивав шая ся
на
вторых
и
третьих
ролях,
пользовалась
всероссийской
известностью
в
качестве
писательницы
Лидии
Чар ск ой
и
играла
в
дореволюционной
литературе
для
детей
и
юно
шества
первую
роль.
Роль
эта
была
оче нь
эффектна:
юны е
читатели
—
и
особенно
читательницы
—
бу ква льно
соревновались
др уг
с
друг ом
в
обожании
«милой,
доро
гой
Лид ии
Алексеевны».
Подмостки,
на
которых
игр ала
Л.
Ча рск ая,
называ
ли сь
«Задушевным словом» .
На
протяж ен ии
более
чем
полутора
десятков
лет
не
было ,
кажется,
ни
одного
номе
ра
де тс кого
журн ала
«Задушевное слово»
без
уч ас тия
Чарской.
Из
номера
в
номер
журнал
печатал
письма
читател ей ,
которые
восхищались
Чарской,
восторгались
16
Чарской,
умилялись
Чарской,
предавали
проклятию
тех,
кто
не
восхищался,
не
восторгался
и
не
умилялся
ею.
Не
краснея,
вз рос лые
изд ате ли
журна ла
печ ата ли
такие
детские
пи сь м а : «У меня два любимых писателя:
Пушкин
и
Чарс кая».
Ил и: «Из великих русских писателей я счи
таю
своей
любимой
писательницей
Л.
А.
Ча рскую ».
«Задушевное слово»
нисколько
не
было
заинтересовано
в
том,
чтобы
объяснить
детям
различие
между
Пушки
ным
и
Чарской;
напротив,
журнал
вс ячески
подогревал
детские
восторги,
умело
превращая
их
в
свой
моральный
и
н алич ный
капитал.
Н адо
отдать
ей
д о лжное
—
Чарская
уме ла
заи нт ере
совать
своег о
чит ат еля,
уме ла
д ер жать
его
в
напряже
нии,
но
интерес
и
напряжение
эти
имели
явно
нездоровый,
истерический
характер: «Она как будто только о том и
заботится,
чтоб ы
до ве сти
этих
детей
до
бесчувствия.
У ра
га ны,
по жа ры,
разбойники,
выстрелы,
дик ие
звери,
навод
не ния
так
и
сыплются
на
них
без
ко нца,
—
и
к аку ю-то
девочку
похитили
цыгане
и
мучают
и
пы тают
ее;
а
дру
гую
схватили
татары
и
сию
минуту
убьют;
а
эта
у
бе г
лых
к а тор жников,
и
они
ее
непременно
за режут;
а
вот
кораблекрушение,
а
вот
столкновение
поездов...
и
вот
Сер ые,
Черные
Женщины,
Черные
Принцы,
пр и вид ения,
вых од цы
из
могил.. .» 12
>К.
Чуковский.
Лица
и
маски.
С Пб., «Шиповник», стр.
333.
2К.
Чуковский
17
Герои
Ч арс кой
падают
не
в
разнообразные
«бездны»,
как
у
Вербицкой
(возраст не тот!), а в заурядные обмо
роки,
но
зат о
как
часто,
как
охотн о
падают!
Если
пугать
ся
не че го,
падают
в
п ритв ор ный
обморок,
чтобы
попугать
других,
чтоб ы
х оть
так
выйти
из
трудного
по ложе ни я,—
чаще
всего
на
экзамене.
В
тре х
небольших
повестях
Чар
с кой : «Записки гимназистки», «Записки
институтки»,
«Записки сиротки»
—
Чуковский
насчитал
девят ь
обморо
ков ,
а
в
одной
толь ко
первой
части
пове ст и
«За что5» —
целых
од иннад ца ть
обмороков.
В
каждой
своей
книжке
Чарская
занималась
поэтизацией
юн ых
истеричек.
Так
же
как
у
В ер бицко й,
у
нее
обязательны
благород
но
мыслящие
и
дей ству ющи е
аристократы.
«Чиновный»
и
«благородный»
—
это
для
нее
синонимы.
«Благород
нейший
губ ерн а тор,
великодушный
генерал,
пленитель
ный
тайный
советник,
очаровательный
министр
—
при-
надлежность
каждой
ее
кн иг и...»1 Правда,
Чарская,
в
от ли чие
от
В ер бицко й,
и
не
пы таетс я
уве рить
читателя,
бу дто
они
все
отчаян ны е
революционеры,
наоборот:
'К.
Ч уковск и й.
Лица
и
маски.
СП б ., «Шиповник», стр.
337.
2Там же,
стр . 339.
8 Несколько таких годовых обозрений составили книгу «Ма те ря м
о
детских
жу р н ала х», вышедшую в 1911 году в издательстве «Ру с
ская
скоропечатня».
«Особенно недосягаема Чарская в пошлости патрио
то-казарменной:
«Победа русского оружия.. .»
«Мощный двуглавый орел .. .»
«Русские молодецкие груди»,—
это
у
нее
на
каждом
шагу,ине
мудрено,
что
унтеры
Пр и-
шибеевы
приветствуют
ее
радостным
рж а нье м : «Вестник
русской
кон н ицы », «Русский
ин ва л ид », «Кавказская
армия»
от
нее
в
неиз менно м
восторге...
Недаром
Главное
управление
вое нно -уч е бных
заведений
так
настойчиво
ре коме ндует
ее
в
рот ные
биб лио те ки
кадетских
корпу
сов,—
ее
книга
—
лучшая
прививка
детс ки м
душам
ка
зарменных
чув ств »2.
Чуковский
развенчивал
незак о нну ю
королеву
детской
литературы,
с
яр ост ным
остроумием
д ок азыв ая,
что
вос
п ева емый
пи сател ь ниц ей
инс тит ут
—
это
«поцелуи,
м ят
ные
лепешки,
ме чты
о
мужчинах,
истерики,
реверансы,
затянутые
корсеты,
нев еж ество ,
ханжество,
ле д енц ы...»,
что
ее
творчество
содержит
«все оттенки и переливы
пошлячества»
и
что
«институтскую бонбошку нужно
иметь
вместо
се рд ца,
чтоб ы
дойти
до
такого
тартюфства»,
до
как ого
дошла
Чар ска я.
Читатели
Вербицкой
и
Чарской
были
в
основном
того
возраста,
который
мы
сейчас
н аз ываем
средним
и
старшим
школьным.
Ча рска я
выходила
за
нижню ю
гр а
ницу
эт ой
читател ь ско й
гру ппы.
Вербицкая
—
за
в е рхнюю.
Что
касает ся
м а лолето к,
то
их
положение
был о
еще
хуже.
Т-во
Вол ьф,
издательский
идеал
которого
был
вопло
щен
в
книг ах
Чарской,
выпускало
для
маленьких
журнал
«Задушевное слово»
и
журнал
для
ста рш их
детей
под
тем
же
н азва нием .
В
обзоре
дет ско й
периодики
за
1910 год**8 Чуковский показал,
что
«задушевность»
этого
журнала
им еет
подозрительно
м ил итар ис тский
характер,
а
«слово»
звучит,
как
военная
команда.
18
Со по ста вив
результаты
критического
анализа
журна
ла
с
цирк уля ром
Главного
у правл ения
военно-учебных
заведений,
рекомендовавших
подготовительным
в ое нным
шк олам
и
кадетским
корпусам
подписаться
на
«Задушев
ное
с л ово» (о каковой рекомендации Главное управле
ние
известило
р едакци ю), Чуковский пришел к выводу, -
что
в ое нные
восторги
журн ала
отнюдь
не
бескорыстны.
В
руках
Чуковского
бы ли
и
другие
факты,
достаточные
для
обвинения
«Задушевного слова»
в
получении
суб
сидий
от
правительственных
учр е ждени й
на
во ен ную
пропаганду.
Но,
поскольку
по
цензурным
условиям
с
прямым
об вине ние м
критик
выступить
не
мог,
он
прибег
к
хитрости
—
стал
так
ча сто
твердить
про
свою
вер у
в
б ес
корыстие
журн ала ,
что
да же
глухой
усл ы шал
бы
и
за ду
мался,
действительно
ли
так
велико
хваленое
бескоры
стие
«Задушевного слова» .
Милитаризм
—
для
больших
и
для
маленьких
—
был
равно
ненавистен
Чуковскому.
Но
како й
бы
меткой
и
остроумной
ни
была
кр ити ка
Чуковского,
сколько
бы
ни
нашлось
у
не го
в
ту
п ору
единомышленников
среди
родителей
и
о рга низа то ров
де т
ск ого
чтения,
все
это
было
напрасно,
потому
что
детск ая
литература
могла
противопоставить
за си лью
Пинкерто
на,
Чарской
и
«Задушевного слова»
лишь
немногочислен
ные
талантливые
произведения.
В
ту
пор у
борьба
была
слишком
неравной
и
велась
по
бесчестным
зак о нам
рын
ка:
нескольким
тыс яч ам
экземпляров
детски х
стихов
Са ши
Черного
противостояли
четыре
миллиона
эк зем пля
ров
прик л юч ений
Пинкертона
и
сотн и
тыс яч
экземпляров
Чарской.
Еще
и
в
советские
годы
книж ки
Ча рск ой
продолжали
ходить
по
рук а м, «подпольно»
чита л ись
школьниками.
Победу
над
нею
од ер жал
не
Чуковский-критик,
а
боль
шая
советская
литература
для
детей
и
юношества:
каждая
новая
повесть
Ä.
Гай дар а,
А.
Толстого,
В.
Ка
верина,
Л.
Кассиля,
Л.
Пантел еев а,
К-
Паустовского,
С.
Григорьева
страш но
ударяла
по
лите ра ту ре,
гением-
вдохновителем
которой
бы ла
Лиди я
Чарская,
по ка
эта
литература
не
захирела
и
не
по ги бла
совсем.
Но
чес ть
пе рвог о
удара,
сам ой
первой
критической
разведки
б оем
все
же
остается
за
Чу к ов ским.
Чук овск ий
и
тогд а
понимал,
что
од ними
критическими
статьями
ничего
не
изменить.
Куд а
по лезне й
было
бы
2*
19
собрать
талантливых
писателей
и
художников
и
выпу
стить
в ы со ко качестве нн ый,
об ра зц овый
детск ий
журнал
в
противовес
рыночной
продукции
Сы тин а,
Кл юкин а,
Воль фа.
И
вот
в
одном
из
тогдашних
повременных
издан ий
появилось
объяв лен и е:
«Изд-в о
«Шиповник»
пр ист у пило
к
издан ию
дву х
еже
месячных
журналов,
детско г о
и
медицинского...
Первый,
име ющ ий
цель ю
удовлетворить
потребность
детей
в
чтении,
редактируется
К.
Чу к ов ским,
А.
Бенуа,
С.
К аппе льм аном , 3. Гржебиным и др.
Журнал
называет
ся
«Жар- птица ».
Первый
номе р
выйдет
в
сентябре»
Однако
«Жар-птица»
не
появилась
ни
в
сен тябре ,
ни
в
октябре,
ни
в
ноябре.
Она
в ышла
только
весной
с ле
ду ющег о , 1912 года,
и
не
как
первый
номе р
ежемесячного
ж урн ала,
а
как
альманах.
По-видимому,
в
тогдашних
условиях
не
так-то
легко
было
осуществить
задуманный
журнал.
Альманах
под
таким
пра здн ичн ым
и
в
то
же
время
ф олькло рным
на зва нием
мог
бы
стать
настоящим
подар
ком
ребенку.
З десь
была
поме щен а
сказка
Алек с ея
То л
сто го,
давшая
наз ван ие
в сему
сборнику,
стихи
и
песенки
Са ши
Черного
и
Марии
Мора в ской,
рассказ
С.
Сергеева-
Ценского
«Ветер и Лозиновка», две сказки В .
Азова
—
«Фу ты,
плакса
какой»
и
«Который лопнул» .
Рисунки
мног их
пе рв окла сс ных
художников
—
С.
Судейкина,
С.
Чехонина,
М.
Добужинского
и
других
—
украшали
альманах.
З десь
же
с
небольшими
с казкам и
в
пр о зе, «Цыпле
нок »
и
«Собачье царство», выступил К .
Чуковский.
«Новости детской литературы»
сразу
же
после
выхо
да
«Жар-птицы»
рекомендовали
но винку : «Книжка со
ставл ена
«писателями для взрослых... »
Сам ая
крупная
ве щь
сборника
—
сказка
«Жар-птица»
Ал.
Н.
Толстого
отличается
некоторой
деланностью,
р ас тян уто стью
и
про
и зводи т
на
детей
ма ло
впечатления.
Большинство
осталь
ных
миниатюр
живостью,
обр азн ост ью
и
простотой
не
со мн енно
способны
заинтересовать
маленьких.
Такие
прелестные
вещи,
как
«Цыпленок», мы должны были чи
т ать
нашим
юн ым
сл у шат елям
несколько
раз.
‘«Новости
детской
литературы»,
No
1, 15 сентября 1911 г. ,
стр .
30.
20
С
бо ль шим
интересом
слушались
так же
«Поезд»
(Саши Черного .
—
М.
П.), «Собачье царство»
и
не кот о
рые
другие.
Нес мо тря
на
некоторые
част ичн ые
недочеты,
к нига
может
быть
одо бре на
для
маленьких
детей.
Бо ль
шинс т во
рисунков
выполнено
удачно
и
оригинально.
Це на,
не смотря
на
роскошное
изд ан ие,
несколько
дорога»*.
1 «Новости детской литературы»,
No
12, 15 августа 1912 г. ,
стр .
18—19.
2К.
Чуковский.
Из
воспоминаний.
М., «Советский писатель»,
1958, стр.
234.
«Жар- пт ица»
име нно
из-за
своего
высок о го
качества
(а также из- за
вы со кой
цены)
не
имела
успеха
и
была
з атер та
базарной
дрянью»12.
Низкопробная
литература
для
дет ей
ст ала
настолько
п ривыч ной,
что
хор оша я
кн и
га
воспринималась
как
не что
уродливое!
Таким
образом,
уже
в
канун
первой
м иро вой
во йны
Чуковский
располагал
опытом
кр ит ика
д етско й
ли тера
туры,
исследователя
детск ог о
языка
и
психо ло гии,
сос та
вителя
и
редактора
детс ки х
кн иг
и
перешел
к
ху до же
ственному
творчеству
для
детей.
Но
это
была
т олько
предыстория.
Со бст в енно
история
детск ог о
писателя
Ч уков с кого
начинается
с
«Крокодила».
1916 году Чуковский познакомился с М.
Горьким.
В
вагоне
фи н лян дской
железной
дороги
М.
Гор ьк ий
рассказал
ему
о
своем
замысле
возрождения
подлин
ной
дет ско й
литературы
в
Рос с ии.
По
этому
зам ы слу
нужно
было
немедленно
прист у пить
к
изда ни ю
трехсот
—
четырехсот
самы х
лучших
детских
книг,
какие
только
су щест ву ют
в
литературе
всех
стран.
Кроме
того.М.
Горь
кий
хотел
заинтересовать
современных
литераторов,
в
том
числе
и
Чуковского,
бл аг ородн ей шей
з адач ей
создания
21
лите ра тур ы
для
детей.
Он
д аже
набросал
т ематичес кий
пл ан
эт их
будущих
книг,
которому
суждено
бы ло
осуще
ствиться
только
после
победы
ре во лю ции.
Чуковский
напомнил
о
печальном
опыте
с
«Жар-
пт иц е й», но оказалось,
М.
Горький
знал
и
эт о,
и
книжку
«Матерям о детских журналах», которая ему понрави
лась ,
и
другие
выступления
Чук овс к ого
по%
поводу
де т
ской
лите ра тур ы
и
детского
р ечетво р чес тва.
—
Вот
вы
всё
ругаете
детских
писателей,
а
попыт а
лись
бы
сам и
что-нибудь
сочинить
для
детей,
—
предло
жил
М.
Горький.
—
Не
умею,
—
возразил
Чуковский.
•—
Попробуйте.
«И я попробовал»1.
■К.
Чук овски й.
Моя
работа
и
жизнь.
Журнал
«Детская
литература»,
22, 1937, стр . 40.
2К.
Чуковский.
Из
воспоминаний.
М., «Советский писатель»,
1958, стр.
240 (курсив мой .
—
М.
П .).
3К.
Чуковский.
Об
этой
к ниж ке.
В
кн.
«Стихи» . М.,
Гос лит
из д ат, 1961, стр.
8.
«После первой же встречи с Горьким я решился на
дерзость:
начал
поэ му
для
дет ей
(«Крокодил»), воин
с твен но
напра вле нную
против
царив ш их
тогда
в
детской
ли тер ату ре
канонов»2,—
вспоминал
Чу ко вский .
«С той поры начались мои муки .
Тысячу
раз
я
са дил
ся
за
стол
и
выво д ил
на
бумаге
какие-то
жалки е
вирши,
и
снова
и
снова
приходил
к
убеж де нию ,
что
для
э того
у
мен я
нет
никакого
т алан та.
Вирши
выходили
корявые
и
оче нь
банальные.
Но
случилось
так,
что
мой
маленький
сын
заболел,
и
нужно
было
рас ск азать
ему
сказку.
Заб оле л
он
в
городе
Х ел ьсинк и,
я
вез
его
домой
в
ночном
по езде,
он
капризни
чал,
пла кал,
стон ал .
Чтобы
как-нибудь
утихомирить
его
боль,
я
стал
р асс казыв ать
ему
под
ритмический
грохот
бегущего
по езд а:
Жил
да
был
Крокодил.
Он
по
улицам
ходил...»3
... Крокодил
гуля л
по
Петрограду,
вы зы вая
всео бщ ее
изу мл ение
(«Крокодил на проспекте»
—
это
почти
то
же,
что
«Ихтиозавр на проспекте»
в
стихах
поэта-футуриста),
22
однако
никого
не
тро га л.
И
не
тронул
бы,
если
бы
какой -т о
барбос
не
«укусил его в нос
—
нех оро ший
бар
бос,
невоспитанный».
Крок оди л
проглотил
барбоса,
но,
защищаясь,
пр евы сил
мер у
защиты
и
ста л
глот ат ь
всех
подряд.
Теперь
уже
Кроко ди л
стал
неправой
стороной,
и
тот,
кто
заступился
бы
за
впавших
в
ужас
жи теле й,
заслужил
бы
их
благодарность
и
хорошее
отношение
ав тор а.
И
тогда
навстречу
Крокодилу
вышел
х ра брый
ма ль
чик
В аня
Васильчиков,
тот
самый,
ко то рый
«без няни
гуляет
по
улицам».
Крокодилу
пришлось,
пр ол ивая
с ле
зы,
просить
по щады
и
вер ну ть
всех
про гл оч енных .
Побе
дит ель
«яростного гада»
получает
награду,
к о м ическая
преувеличенность
которой
наводит
на
мысль
о
том,
что
подвиг ,
кон е чно
же,
был
совершен
не
для
н ее,
а,
как
все
ск азоч ные
подвиги,
ради
си лы-у да ли
молодецкой:
И
дат ь
ему
в
награду
Сто
фунтов
винограду,
Сто
фунтов
мармелад у,
Сто
фунтов
шок ола ду
И
тысячу
п орций
мороженого!
«Яростный гад», вернувшись в Африку,
неожиданно
о ка зывае тся
добры м
папашей,
а
потом
столь
же
неожи
данно
призывает
зверей
к
пох оду
на
Петроград
—
слезы,
пролитые
К рокоди л ом,
оказались
в
полно м
смысле
кро
кодиловыми.
Звери,
ра спал е нные
призывами
Крокодила,
пошли
вой ной
на
Пе тро гра д.
Ван я
Васильчиков
снова
спас
всех
й
установил
вечный
мир
с
побежденными
зверьми.
Теперь
и
Крокодил,
и
В аня,
и
автор
—
друзья
и
приятели.
В от,
собственно,
и
все,
что
произошло
с
Крокодилом
в
Петрограде.
Ме жду
тем
сказ ка
составила
событие
в
поэзии
для
детей.
«Дореволюционная детская поэзия,
—
писал
извест
ный
советский
литературовед
Ю.
Тынянов,
—
отбирала
из
всего
мира
небольшие
предметы
в
тогдашних
игрушеч
ных
магазинах,
самые
мелкие
подробности
природы:
снежинки,
рос ин ки
—
как
будто
детям
предстояло
всю
ж изнь
прожить
в
тюремном
закл юче нии ,
именуемом
дет
ской,
иногда
толь ко
гля де ть
в
ок на,
покрытые
этими
снежинками,
росинками,
мелочью
приро д ы.
23
...Ст ихи
бы ли
унылые,
бесп ред метные ,
несмотря
на
то
что
изображались
в
стихах
гла вны м
образом
семейные
пра здне ства .
Улицы
совсем
не
было...»1
1Ю.
Т ынянов.
Корней
Чуковский.
Журнал
«Детская литера
тур а», 1939, No 4, стр.
24.
Да же
таки е
поэты
горо да ,
как
А.
Блок
и
В.
Брюсов,
принимались
изображать
дере вню
и
деревенскую
пр и
роду,
чуть
тол ько
начинали
писать
для
детей.
Улицу
(уже нашедшую место в прозе для детей)
сказ
ка
Чук о вск ого
впервые
проложила
через
вла де ния
де т
ской
по э зии.
На
ст ран ицах
сказки
живе т
напряженной
жизнью
большой
современный
город,
с
его
бытом,
уча
щенным
ритмом
движения,
уличными
происшествиями,
с квер ами
и
зо о пар ками,
каналами,
мостами,
трамваями
и
аэропланами.
И,
оказав ши сь
на
этой
улице,
од ин,
без
няни,
Ваня
Вас ильч ик ов
не
тол ько
не
заплакал,
не
заблудился,
не
попал
под
лихача
и звоз чика ,
не
замерз
у
рождественской
витрины,
не
был
укр аден
нищими
или
цыганами
—
нет,
не т,
нет!
Ничего
похожего
на
то,
что
регулярно
случа
лос ь
с
девочками
и
мальчиками
на
улице
во
всех
детски х
рассказиках,
не
произошло
с
Ва ней
Васильчиковым.
На
пр оти в,
В аня
ок азал ся
спасителем
бедных
жителей
бол ьш ого
гор од а,
могучим
з а щит ником
слабых,
велик о
душным
другом
побежденных,
одним
словом
—
героем.
Тем
самым
реб ен ок
перестал
быть
только
объектом,
на
который
направлено
действие
поэтического
произведения
для
детей,
и
превратился
в
самого
действователя.
Опис ат ел ьнос ти
прежней
д етско й
поэзии
Чу ко вский
противопоставил
действенность
своей
сказки,
пассивно
сти
литературного
героя
—
активность
своего
В ани,
же
манной
«чювствительности»
—
и скр енний
мальчишеский
зад ор.
В
скольких,
например,
рождественских
и
святоч
ных
ст ихах
и
рассказах
дети
зам ер зали
в
праздничную
ночь!
Этот
сюжет
на
рождество
и
на
святки
обходил
ст ран ицы
в сех
детских
журналов.
Против
под об ных
псевдотрогательных
замораживаний
проте стов ал
М.
Горь
кий
своим
ранним
р асска зом
«О мальчике и девочке,
к оторы е
не
заме рзли ». Напр авл енн о сть
сказки
Чуковско
го
против
них
же
тем
о ч еви дней,
что
«Крокодил»
ведь
24
тоже
ро ж дест венск ий
рассказ: «Вот и каникулы.
С лавн ая
елк а
будет
сег о дня
у
серого
вол ка. ..»
И
еще: «То-то
свечки
мы
на
елочке
зажжем,
то-то
песенки
на
елочке
споем».
Описательному
характеру
пр еж ней
д етс кой
поэзии
со отве тс твова ла
ее
поэтика,
основой
кот орой
был
эпи те т.
Действенный
характер
сказки
Чуковского
потребовал
нов ой
поэт ик и.
Созданная
на
ос нове
изу чен ия
детской
пс ихо лог ии,
она
оказалась
поэтикой
«глагольной» .
В
от ли чие
от
прежних
детс ки х
ст их ов,
где
ровным
счетом
ничего
не
происходило,
в
«Крокодиле»
что-нибудь
про исх од ит
буквально
в
каждой
строчке,
и
потому
редкое
четверостишие
имеет
меньше
четырех
глаг ол ов.
И
все,
что
происходит,
вызывает
са мое
иск реннее
удивление
героев
и
авт ор а:
ведь
вот
как
вышло!
Удиви
те льн о!
К
созда нию
своей
сказки
Чуковский
шел
от
непосред
ственных
н аб люде ний
над
детьми.
Он
знал,
что
ре бе нок
любит
двигаться,
иг рат ь,
не
выносит
однообразия
и
тре
бует
быстрой
смены
кар тин ,
образов,
ощущений.
Эти
детские
качества
на шли
пол ное
соответствие
в
осо бе н
ностях
писательского
дара
Чуковского.
Его
статьи
—
л ег
кие
и
блестящие
—
захва тыв али
ос т рыми
пер ех о дами
от
иро нии
к
пафосу,
от
ярких
примеров
к
нео жи дан ным
обобщениям.
И
сказку
свою
он
тоже
построил
на
к алей
доскопическом
чередовании
эпизодов,
настроений
и
рит
мов:
Крокод ил
гуляет
по
Петрограду,
курит
папиросы
и
го во рит
по-заграничному —
это
забавно
и
смешно;
К ро
кодил
начинает
глот ат ь
перепуганных
жителей
Пет ро
града—
это
страшно;
Ваня
Васильчиков
одержал
победу
над
хищником
—
всеобщая
радос ть ,
бурное
ликование;
маленькие
крокодильчики
на шал или
и
тепер ь
они
бол ь
ны—
смешно
и
грустно
сраз у;
Крокодил
устраивает
для
зверей
елку
—
и
снова
веселье,
песни,
танцы;
но
в
дале
ком
Петр о гр аде
томятся
в
кл етк ах
зоопарка
другие
звери
—
это
вызывает
об иду
и
гне в;
Горилла
похитила
бедную
дев очку
Лялечку,
ма ма
ище т
Л яле чку
и
не
нахо
дит—снова
оче нь
страшно;
но
храбрый
ма льч ик
В аня
Васильчиков
опять
по беж дает
хищн иков ,
закл юч ает
с
ними
вечный
мир
—
и
снова
бурная
радость
и
в сео бщее
ли ко ван ие.
От
смешного
к
грустному,
от
грустного
к
страшному,
25
от
страш ног о
к
веселому
—
три
та ких
или
приблизитель
но
таких
цикла,
по
одному
в
каждой
части,
содержит
«Крокодил» . Даж е
в
перемене
отношения
автора
к
св оим
четвероногим
героям
видно
и гр овое
начало
—
он
пооче
редно
то
сочувствует
им,
то
осу ж дает
их,
как
будто
иде т
игра
в
«сыщики- р азбо й ники »
и
од на
и
та
же
группа
то
прячется,
то
ищ ет.
Интересно
другое:
Чуковский
лишает
зверей
сочувствия
всякий
раз,
когда
они
становятся
на
падающей
стороной.
«Увлекательная быстрота перехода от причины кслед^
ств и ю», пленившая А.
Блока
в
лубочном
«Степке -р а с
тре пке », доведена Чуковским в « Кр о ко ди ле»
до
предела,
до
кр атко сти
формулы,
до
комизма.
Навряд
ли
во
все й
литературе
есть
батальная
сце на
короче
этой:
И
гря нул
бой!
Война,
война !
И
вот
уж
Ляля
спасена.
Чуковский
доб ивал ся
от
иллюстратора
первого
изд а
ния
«Крокодила»
соответствия
рисунков
не
толь ко
содер
жанию,
но
и
особенностям
стиля
сказки.
Ему
хотелось,
чтобы
рисунки
п еред авал и
насыщенность
сказки
дей
ст вие м,
быструю
смену
настроений,
ритм
чередования
эпизодов.
К огда
художник
Ре-Ми
(Н.
Р е ми зов ), иллюстрируя
сце ну
елки
у
зверей,
разбил
лист
на
клетки
и
в
каждую
вписал
по
одной ,
по
две
звериные
фигурки,
Чу ко вский
запротестовал.
Он
объяснил
художнику,
что
рису но к
вы
шел
дробный,
недин ам ич ный : «Главное
—
пририсовать
две- три
фигуры
так,
чтобы
получилось
кольцо
пляшу
щи х,
хоровод».
И,
н абр осав
ко мпо зицию
эт ой
сцены,
как
он
с ебе
ее
представлял,
д о ба вил: «Вообще побольше
вихря».
Предложенная
Чуковским
«вихревая»
комп ози
ция
напоминает
те
омывающие
текст
«вихревые»
рисун
ки,
которыми
нынеш ние
художники
иллюстрируют,
на
пример,
бегство
и
возвращение
вещей
в
«Мойдодыре»
и
«Федорином горе» . Н есо мненно ,
что
«вихревая»
к омпози
ция
наиболее
точно
передает
средствами
гра фи ки
бурную
дина мик у
сказки
Чуковского,
ее
«глагольность», стреми
тель н ое
чередование
грустного,
страшного
и
смешного.
Самим
большим
н овш ест вом
«Крокодила»
был
его
ст их
—
бодрый,
гибк ий,
непринужденный,
играющий
ка
кой-то,
с
жив ыми
интонациями
русской
речи,
с
богатыми
26
рифмами,
звонкими
аллитерациями,
удивительно
ле гко
читающийся,
пою щийся
и
запоминающийся.
После
без
вкусных
вирш ей
ремесленников,
заполонивших
стр ани цы
детс ки х
книжек
и
журналов,
стих
«Крокодила»
поражал
высокой
культурой,
мастерством.
Ритмы
сказки
были
частично
«сконструированы»
Чу
ковским,
частично
заимствованы
из
русской
класси ч еск ой
поэзии.
Поэма
изобилует
самы ми
забавными,
самыми
изы сканны ми
ритмами,
от
ритмов
детского
фольклора,
кот оры й
с
таким
размахом
впервые
был
использован
в
детс кой
литературе,
до
ритмов
новейшей
поэзии.
Для
за чина
сказки
Чуковский
использовал,
видоизме
нив
их,
рит м
и
строфику
стихов
о
крокодиле,
принад
лежа щи х
ма ло
кому
сейчас
изв естно м у
поэту
Н.
Агнив-
цеву:
Удивительно
мил
Жил
да
был
К рокоди л
—
Этак
фут а
ч еты ре,
не
более...
У
Чук овс ко го
этот
рит м
становится
считалкой.
Легко
можно
себе
представить,
что
вместе
с
к акими- нибу дь
«Эники -б еник и
ели
вареники»
или
«Катилася торба с
верблюжьего
горба»
в
детс ко й
игр е
зазвучит:
Жил
да
был
Крокодил,
Он
по
улицам
ходил,
Папиросы
курил,
По -ту р ецки
го вори л,
Крокодил,
Крокодил
Крокодилович.
В
монорифмической
стр офе
(жил-был-крокодил-
ход ил -к ур ил- гово рил), где одна рифма уже.с озда ла
ин ер
цию
и
слух
ж дет
та кой
же
рифмы
в
конце,
неожидан
но
появляется
не р ифмова нна я
строка,
лихо
завершая
хоре й
ана пес то м.
Стро фа
зачина
«Крокодила»,
пе
ренесенная
в
другие
сказки
Чуковского,
с тала
свое
образным
«ритмическим портретом»
автора
и
бы ла
неоднократно
окар и кату р ена
пародистами.
Вторая
част ь
«Крокодила»
начинается
так:
Говорит
ему
печ альн ая
жен а:
«Я с детишками намучилась одна» .
27
Вскоре
возникает
новый
ритм:
Но
тут
расп ахн ул ися
двери,
В
дверях
по к азали ся
звер и.
Тут ,
как
и
везде
в
с каз ке,
смена
ритма
приурочена
к
новому
повороту
действия,
к
перемене
де к ор аций,
к
воз
ник нове нию
иног о
настроения.
Рит м
меняется
всякий
раз ,
когда
«распахиваются»
как ие -ни будь
«двери», и каждый
эпизод
имеет,
таким
об ра зом,
свой
мо тив.
Вот
врываются
я вно
былинные
ре читати вы ,
словно
это
говорит
на
княжеском
п иру
Владимир
Красно
Сол
нышко:
Под а вай -ка
нам
подарочки
заморские
И
гост ин ц ами
попотчуй
нас
невиданными.
Зате м
следует
большой
пате тич ески й
моно ло г
Кр о
кодила,
вызывая
в
памяти
лермонтовского
«Мцыри»:
О,
этот
сад,
ужасный
сад!
Его
заб ыть
я
был
бы
ра д.
Там
под
бичами
сторожей
Нема ло
му чи тся
зверей.
У
Ле рм онто ва:
Я
убе жал .
О,
я
как
бр ат
Обняться
с
бурей
был
бы
ра д.
Глазами
т учи
я
следил,
Руками
молн ию
ловил...
Еще
в
одн ом
месте
появляется
лермонтовский
ритм:
—
Не
губи
ты
меня ,
Ваня
Васильчиков!
По ж алей
ты
мои х
крокодильчиков!
—
молит
Крокодил.
А
у
Лермонтова
в
«Песне про купца
Калашникова...»:
—
Г осуд арь
ты
наш
И ван
Васильевич!
Не
ко ри
ты
раба
недостойного...
В
бойких
строчках
описания
городского
праздника:
Все
ликуют
и
танцуют,
Ван ю
м илого
целуют,
И
из
каждо го
д вора
Слыш но
громкое
«ура» .. .
уз нает ся
рит м
незабываемого
«Конька - гор бун к а»:
28
За
гор ам и,
за
лесами,
За
шир ок ими
мор я ми,
Не
на
неб е
—
на
земле
Жил
старик
в
одном
селе.
В
тр етье й
части
находим
строчки,
повторяющие
харак
терные
ритмы
некоторых
поэтов
на чала
XX века:
Ми лая
де вочк а
Лял еч ка!
С
куклой
гуляла
она
И
на
Таврической
улице
вд руг
повстречала
слона.
Боже,
какое
стр а шил ище!
Ля ля
бе жит
и
кричит.
Глядь,
пер ед
ней
из- под
мо ст ика
высунул
голову
кит.
Строчки
настолько
характерные,
что
они
и
не
нужда
ют ся
в
точном
ритмическом
ана логе
для
подтверждения
связ и
с
ритма ми
поэзии
того
вре м ени.
В от,
например,
инт она ци онно
бл изки е
стихи
И.
Северянина:
В
п арке
плакала
де вочк а : «Посмотри-к а
ты,
папочка.
У
хорошенькой
ласточки
переломлена
лап оч ка,
—
Я
возьму
птицу
бедную
и
в
пла точе к
уку та ю. ..»
И
отец
призадумался,
потрясенный
мин утою ,
И
простил
все
грядущие
и
ка п ризы
и
шалости
Милой
маленькой
доч е ри,
з ары давш ей
от
жалости
И,
нако нец,
с о вер шенно
некрасовские
дактили:
Вот
и
к анику лы!
Слав ная
ел ка
Будет
сегодня
у
Серого
Волка,
Много
там
будет
ве се лых
го стей ,
Едемте,
дети,
ту да
поск орей!
У
Н екр асо ва:
Саше
слу чалось
зна ва ть
и
печали:
Плак а ла
Саша,
как
лес
вырубали,
Ей
и
теперь
его
жалко
до
слез.
Ско л ько
тут
бы ло
кудрявых
бе рез!
Такие
часты е
совпадения
с
чужими
ритмами,
интона
ция ми,
ф разам и
наводят
на
мысль,
что
мы
имеем
де ло
с
пародией.
О
пародии
в
тво р честв е
Чуковского
и
об
1М.
Горький,
пародируя
поэт ов-д ек ад ен тов,
написал
ст ихи,
на
поминающие
«милую девочку Лялечку»:
Маленькая
де вочк а
ходит
среди
сад а.
Беленькая
руч ка
дерзко
рв ет
цветы...
Маленькая
девочк а,
рв ать
цв еты
не
надо,
Вед ь
они
такие
же
хорошие,
как
ты!
29
ист инных
причинах
этих
совпадений
ре чь
по йдет
дальше.
Здесь
же
ограничимся
уд ивл е нием
пе ред
ритмическим
бога тс тв ом
сказки.
А
какой
щедростью
рифмы
щеголяет
Чуковский!
Пять -
шесть
слов
на
од ну
рифму
у
не го
не
редкость.
Не у диви
тельно,
что
на
фоне
убогих
сочинений
сюсюкающих
дамо
чек,
спившихся
неудачников,
бесталанных
и
бе сстыд ных
де льц ов, «которым легше пролезть в игольное ушко,
чем
изб ег нуть
неизбежных
«уж», «лишь», «аж», «вдруг»,
«вмиг», для которых
размер
—
прок лят ье,
а
рифма
—
«Каинова печать» ’, появление сказки Чуковского пора
зи ло
не
меньше,
чем
поразило
бы
появление
Крокодила,
курящего
папиросы
на
улицах
Петрограда.
«Сказка Чуковского начисто отменила предшествую
щую
немощную
и
неподвижную
сказку
леденцов-сосулек,
ватного
снега,
цветов
на
слабых
но жка х »*2.
'К.
Чуковский.
Мат ер ям
о
детских
журналах.
СПб., «Рус
ска я
скоропечатня», 1911, стр. 31.
2Ю.
Тынянов.
Корней
Чуко вски й .
Журнал
«Детская литера
тура», 1939, No 4, стр. 25.
Нет,
не
зря
прилетал
Крок оди л
из
далекой
Афр ики
в
ск у чный
город
Петрог рад!
Было
бы
совершенно
бесполезным
занятием
искать
соответствий
между
событиями
предреволюционных
лет
и
перипетиями
сказочной
борьбы
в
«Крокодиле»: для этого
сказка
не
да ет
ни
малейшего
повода.
Но,
разрушая
реальность
явлений,
ск азка
Чуковского
сохраняет
реаль
нос ть
отношений:
самая
безуд ержн а я
фан тазия
в се-т аки
вы р астает
из
действительности,
а
сказочник,
импрови
зир уя
забав н ые
строфы
детс ко й
поэм ы,
жил
в
стр ан е,
измученной
войной,
ощущал
войну
на
себе,
чи тал
на
п ол ненные
ею
газеты,
дыш ал
ее
воздухом.
Внач ал е
автор,
увлеченный
своей
задач ей
написать
не что
«воинственно направленное против царивших тогда
в
детско й
литературе
кано но в», был охвачен пафосом
отрицания
этих
канонов
и
создал
Ваню
Васильчикова,
который
«без няни гуляет по улицам», в противовес тем
тепличным
порождениям
детско й
поэз ии,
чахлым
и
мало
кровным,
которые
от
няни
ни
на
ша г.
Но
постепенно
полемический
задор,
сб лижа вший
эту
ч асть
«Крокодила»
с
критическими
статьями
Чуковского
пре жни х
лет,
усту
пал
место
положительным
идеям,
без
которых
автор
не
30
мог
и
помыслить
с ебе
произведение
для
детей,
—
идеям
мира,
дружбы
и
брат ст ва.
Еще
в
1910 году «Зад уше в
ному
слову»
Чуковский
противопоставлял
журнал
«Маяк», где «твердят
и
твердят
о
то м,
что
война
есть
самое
ужасное
дело», что «сами
люди
не
хотят
ее ».
Очень
сочувствовал
Чуковский
пожеланию
«Маяка»,
«чтобы великая мысль,
вели к ая
изобретательность
чело
века
послужила
на
благ о
всему
человечеству,
а
не
на
забаву
отдельным
бог аты м
людям
и
тем
более
не
для
ужасного
дела
войны,
убийства
од них
людей
такими
же
людьми»*.
1К.
Чуковский.
Матерям
о
де тс ких
журналах.
СПб., «Рус
ская
скоропечатня», 1911, стр.
71.
Идеи,
волновавшие
страну,
изнуренную
год ами
бес
смысленной,
чуждой
народу
империалистической
войны,
попали
таким
образом
в
поэму-сказку
для
дошкольников.
Осенью
1916 года Чуковский предложил только что
законченного
«Крокодила»
одному
респектабельному
изда те льс тву,
которое
выпускало
преимущественно
рос
ко шные
т ома
с
золотым
обрезом
и
в
тис не ных
переплетах.
Редакт ор
был
возмущен.
«Эта книжка для уличных
мальчишек!»—
заяви л
он,
возвращая
рукопись.
«Улич
ных
м ал ьчи шек»
издательство
не
обслуживало.
Редактор
достаточно
яс но
почувствовал
нес о вмес ти
мость
сказки
Чуковского
и
выпускаемых
из д ате льст вом
книжек
для
«отвратительно прелестных», по выражению
М.
Горького,
детей.
Тогда
Чуковский
обратился
к
Т-ву
А.
Ф.
Маркс,
из
дававшему
оди н
из
самы х
популярных
ру сск их
журна
ло в—
«Нива», и вскоре стал редактором ежемесячного
приложе ния
к
«Ниве»
—
журн ала
«Для детей» .
В
кор от
кий
сро к
ему
удалось
собрать
в округ
журн ала
знач и
тельные
литературные
сил ы.
«Для детей»
печатал
сти хи
Сергея
Городецкого,
Натана
Венгрова,
Са ши
Черного,
Вл.
Ходасевича,
Тэффи,
прозу
А.
Куприна,
Ал.
Ремизова,
Ал ександр а
Грина.
В
та ком
литературном
окружении
и
появился
в
печа ти
«Крокодил», сопровождавшийся чудес
ным и
рисунками
Ре-Ми.
По чти
сразу
же
после
победы
революции
Пе трог ра д
ский
Совет,
несмотря
на
острую
нехватку
бумаги,
вы
пустил
«Крокодила»
массовым
тиражом
в
виде
богато
31
иллюстрированного
альбома.
Од но
время
сказка-поэма
да же
раздавалась
бесплатно,
как
политическая
ли ст овка.
Вполне
возм ожн о,
что
издатели
так
и
рассматривали
эту
ск аз ку:
заявление
о
том,
что
«довольно мы сражались
и
кр ови
про лил и»,
призыв
«живите вместе с нами и
бу дем те
друзьями»
как
нельзя
лучше
соответствовали
мирной
политике
молодой
советской
вл асти.
А.
Калмы
ко ва,
опытный
педаг о г,
издавна
связанная
с
соци ал- де
мо к р ати ческим
движением,
в
журнале
«Новая книга»
приветствовала
первый
стихотворный
о пыт
Чуковского
в
детско й
литературе:
«К отделу сказок отнесем и замечательную « по эму
для
маленьких
дете й»
К.
Чуковского
«Крокодил» («При
ключения
Крокодила
К р о ко дил о вич а»), разошедшуюся
по
России
в
ог ро мном
ко л ичест ве
экземпляров...
поль
зующуюся
небывалой
популярностью
среди
детей,
кото
рые ,
невзирая
на
недовольство
некоторых
педагогов
и
родителей,
зах л ебы вая сь,
декламируют
ее
наизусть
во
всех
уголках
нашей
об шир ной
родины» '.
йСКЖ У
П
1.
1А.
Калмык ов а.
Что
читать
детям.
Бюллетень
«Новая
к ни га», 1923. No
7—8, стр.
18.
■ ожалуйста,
ни ка ких
вифлеемов.
Побольше
юмо
ра,
да же
сатиры», —
ск азал
М.
Горький
гру ппе
писа
телей,
приглашенных
Чуковским
для
уча ст ия
в
ли тера
турно-художественном
сборнике
для
самы х
мал ень ких ,
который
во
время
памятной
беседы
в
вагоне
фи нл яндско й
железной
дороги
решено
бы ло
и зда ть.
В
качестве
составителя
сборника
Чуковский
остро
ощущал
недостаток
профессиональных
детски х
писа т е
лей.
Ни
од ин
из
участников
за дум а нной
книги
(кроме,
пожа луй,
М.
Моравской)
не
был
д етс ким
писателем.
32
Вместе
с
М.
Горьким
Чуковский
стремился
привлечь
в
детскую
литературу
и
зарекомендовавших
себя
ма сте ров
и
литературную
молодежь.
По
сообщению
и звест но го
маякововеда
В.
Катаняна,
Чуковский
обращался
к
В.
Маяковскому
с
предложением
написать
что-нибудь
для
сборника.
Как
откликнулся
В.
Маяковский
на
его
предложение
—
неиз вест но ,
но
Ка
*
танян
с читае т
в озмож ны м,
что
с
этим
предложением
св я
зано
появление
перв ого
стихотворения
В.
Маяковского
для
детей
«Тучкины штучки».
По
свидетельству
Н.
Вен г
*
рова,
М.
Гор ьк ий
пр иг лашал
Сергея
Ес ени на
пр и нять
участие
в
за дум а нной
к ни жке.
Сам
Н.
Венгров
обязан
М.
Горькому
своим
участием
в
сборнике
и
те м,
что
после
Окт ябр я
ст ал
профессиональным
детс ки м
пис а
тел ем
*.
1Н.
Венгров.
Верн ый
веселы й
друг.
В
сб.
«М.
Горький
о
дет
ской
лит ерату ре» .
М.,
Дет г и з, 1958, стр. 286.
3к.
Чуковский
33
Специально
для
сборника
М.
Гор ьк ий
на писа л
с казку
«Самовар»,
пер есказ ал
русскую
народную
сказку
об
И ване- дур ак е,
проредактировал
всю
кн игу
и
придумал
для
нее
ве сел ое
наз вани е
«Радуга» .
Книжка
действительно
получилась
в есел ая.
В
ней
бы
ли
помещены
рис унк и
И.
Репина,
В.
Л ебедева ,
А.
Рада-
кова,
Ю.
Анненкова,
М.
Добужинского,
С.
Чехонина,
А.
Бенуа.
В
ней
была
смешная
ска зка
И.
Пу ни
«Иере
м ия-л ентяй »
о
волшебных
ножницах,
выстригших
горно
ста е вую
королевскую
мант ию ,
и
о
комичном
стар и чке
парикмахере,
таком
медлительном,
чт о,
пока
он
срезал
немножко
волос,
на
их
месте
вырастали
новые ;
бы ли
две
сказки
в
обработке
Чуковского
—
«О глупом ца
ре»
и
«Джек
—
покоритель
великанов»;былистихиСаши
Черного,
Мар ии
Мора в ской,
В.
Брюсова,
Со фии
Дубно
вой
и
Натана
Венгрова;
бы ли
рас ск аз
Алексея
Толстого
«Фофка»
и
сказка
Любавиной
«Как пропала Баба -
Яг а».
Баба-Яга
пр оп ала
пот ому,
что
насмерть
перепу
ганны й
ее
страш н ым
видо м
маленький
ма льч ик
вдруг
за мет ил
на
го рба том
носу
Яги
закрученные
волосики.
Они
были
таки е
смешные,
что
ма льч ик
расхохотался.
Эт от
смех
уничтожил
Бабу-Ягу,
превратил
ее
в
красивую
зеленую
птицу.
Смех,
уничтожающий
мистику
и
страх,
—
такова
бы ла
программа
«Радуги» .
Из-за
типографской
разрухи
«Радуга»
печ ат алас ь
очен ь
долго
и
вместо
марта
—
апре
ля
1917 года вышла в конце января 1918 года .
В
самый
последний
момент
издательство
изм ени ло
наз ван ие
«Ра
дуга»
на
«Елка».
Вместе
с
новым
названием
появ и лся
нов ый
рисунок
титу ла ,
где
елку
зажиг а ют
ангелочки.
Этот
рисунок
настолько
огорчил
М.
Горького,
что
он
д аже
не
захотел
досмот реть
до
ко нца
кн игу,
ст о ившую
ему
большого
труда.
Грубое
искажение
художником
за
мысла
книги
тем
более
огорчало,
что
«Елка»
бы ла
хронологически
первой
советской
книгой
для
детей.
На
ее
титуле
редактором
сборника
значился
М.
Горький,
сост а
вителем—К.
Чуковский.
В
том
же
1918 году М.
Горьким
была
организована
«Всемирная литература»
—
по
форме
издательство,
вы
пускавшее
кн иги
иностранных
авторов,
а
по
существу
организация,
сплотившая
и
пе р евос пита вшая
кадры
ста
рой
интеллигенции.
В
рукописном
альманахе
Чуковского
«Чукоккала»
один
из
сотрудников
нового
издательства
оставил
характерное
признание
о
себ е
и
своих
собратьях-
инте лл иг ента х: «Мы примкнули к «Вс е мир ной
литера
туре»
не
толь ко
увлеченные
грандиозностью
замысла,
но
и
привлеченные
именем
Максима
Горького,
который
с лу
жит
нам
гарантией
т ого,
что
это
литературное
начинание
останется
до
конца
ид е йным
и
будет
содействовать
созда нию
культурного
интернационала,
с
которым
свя
заны
наш и
чаянья
и
на де жды».
Англо-американский
отдел
«Всемирной литературы»,
которым
руководил
Чуковский,
в
короткий
срок
подгото
вил
и
выпустил
в
свет
—
частью
в
новых,
частью
в
заново
отр ед ак тиро ва нных
переводах
—
сочинения
Ч.
Диккенса,
Д.
Лондона,
Дж.
Ко нр ада,
Эдгара
По,
В.
Ско тт а,
М.
Тве
на,
Г.
Уэллса.
Для
Чуковского
это
был о
вре мя
высокого
творческого
подъема,
заполненное
чтением
б есч исленн ых
лекций,
редакционной
и
переводческой
работой
в
из да
тельстве,
составлением
первой
в
советской
литературе
кни ги
по
теории
перевода,
подготовкой
изд ания
Т.
Шев
ченко
на
русском
языке,
обширной
критической
и
лите
ратуроведческой
работой
(водном 1921 году вышло более
деся т ка
его
к ниг,
среди
которых
«Оскар Уайльд», «Поэт
и
п а ла ч», «Жена поэта», «Некрасов
как
художник»,
«Футуристы», «Книга об Александре Блоке»).
34
Посл е
ре вол юции
исполнилась
мног ол ет няя
мечта
Чу
ковского:
в
1919 году под его редакцией вышло первое
действительно
пол ное
собрание
стихотворений
Н.
А.
Не
красова.
На
протяж ен ии
долгого
времени
Чу ко вский
раз ы скив ал
утраченные
ру ко писи
поэта.
Его
поиски
бы
ли
на
ре дко сть
счастливыми.
Чуковскому
удалось
най ти
десятки
неи звес тны х
стих от во рений
Н екр асо ва,
восстано
вить
сот ни
строк,
вычеркнутых
ца рск ой
цензурой.
Сегод
няш ние
школьники
зау ч ивают
на
память
строки
из
«Кому на Руси жить хорошо»:
Работаешь
один ,
А
чуть
работа
кончена
—
Гл я дишь,
стоят
три
дольщика:
Бо г,
ца рь
и
гос под ин. ..
Но
они
даже
не
п одоз рева ют,
что
для
нескольких
по
ко ле ний
ру сск их
читателей
было
загадкой,
кто
такие
эти
«три дольщика», потому что во всех дореволюционных
изда ниях
последняя
строчка
отс ут ст вова ла.
Понадоби
лась
ре во л юция,
чтоб ы
литературовед
смог
раскрыть
это
зат ян ув шееся
инкогнито.
На ход ки
Чуко вс ког о
значитель
но
революционизировали
об лик
поэта.
М.
Гор ьк ий
вспоминал,
что
«В.
И.
Лени н,
просмотрев
перв ое
издание
Некрасо в а
под
редакцией
Чуковского,
на
ш ел,
что
это
«хорошая,
толковая
работа».
А
ведь
Влад и
миру
Ильичу
нельзя
отказать
в
уменье
ценить
ра бот у»1.
Вскоре
высокая
ленинская
оценка
была
сообщена
Чуков
скому
М.
Горьким
и
В.
В.
Воровским.
1 «М.
Горький
о
детской
литературе».
М.,
Дет г и з, 1958, стр.
186.
Тогда
же
Чуковский
начал
готовить
издание
Нек ра
сова
для
детей.
Для
д етс ких
сказок
и
стихов
совершенно
не
остава
лось
в рем ени.
Но
каждая
минута,
проведенная
среди
детей,
использовалась
для
н аб люде ний
и,
кроме
того,
была
необходимым
«душевным отпуском».
И
тогд а
и
после
отдых
терял
для
Чуковского
всякий
смысл,
если
вокруг
не
бы ло
д етей
—
кричащих,
играющих,
пристаю
щих
с
вопросами,
то
есть
по
всем
понятиям
—
«мешаю
щих
отд ых а ть».
После
прекращения
работы
издательства
«Всемирная
литература»
Чуковский
«неожиданно для себя самого»
3*
35
(по его утверждению)
буквально
в
оди н
п р исест
написал
сказки
«Мойдодыр»
и
«Тараканище».
Вместе
со
своим
давнишним
знакомым,
талантливым
журналистом,
энер
гичным
и
предприимчивым
Ль вом
Клячко
(Л.
Львовым),
он
организовал
небольшое
издательство
для
вы пус ка
детских
кн иг.
Вряд
ли
можно
с читать
простым
с ов паде
нием,
что
издательству
было
присвоено
название
«Ра
дуг а», придуманное когда -то
М.
Горьким
для
Детского
а льман а ха,
который
случайно
вышел
под
другим
на
званием.
Эти м,
безусловно,
подчеркивалась
связь
нового
издательства
с
задуманным
М.
Гор ьк им
планом
обнов
ления
д етс кой
ли тера ту ры.
В
издательстве
«Радуга»
впервые
вышл и
«Мойдо
д ыр », «Тараканище»
и
«Ежики смеются»
Чуковского,
сбо р ники
обработанных
им
же
народных
песен ок
и
стиш
ков
—
«Домок», «Зайка», «Рыжий и красный», «Свинки»,
«Скок-по ско к», «Федя-б ре дя », книжки Виталия Бианки и
толь ко
что
приехавшего
из
Краснодара
С.
Мар ш ака.
«Радуга»
привлекла
к
иллюстрированию
детских
книжек
выдающихся
художников
—
В.
Лебедева,
М.
Добужин-
ского,
В.
Кон аше ви ча.
Развитие
советской
литературы
для
детей
не
было
сплошным
шествием
под
ра дужн ыми
три ум фальн ыми
арками.
В
20-е
го ды
она
толь ко
начиналась,
при чем
нач инал ась
трудно,
в
борьбе
с
безыдейностью
старой
литературы,
с
меща нс кими
н ас троен иями
нэпа,
с
з аг иба
ми
леваков-педологов
и
ву льгар н ым
социологизмом
про
леткультовской,
а
пот ом
и
рапповской
критики.
Педо
ло ги,
например,
смотрели
на
детску ю
литературу
как
на
исполнительницу
мелких
поручений
в
духе
определенных
пунк то в
школьной
п рог рамм ы.
Эти
их
вульгаризаторские
вз гл яды
на
роль
детско й
кн иги
мешали
сбл иж ению
Чуко вс ког о
и
других
детских
писателей
с
передовой
советской
педаг о гико й.
Сказку
как
жан р
литературы
для
д етей
педологи
бе з
усл ов но
отрицали.
На
педо ло г ич еских
конференциях
ора тор ы
заканчивали
свои
выступления
призывом
«раз
вернуть
широкую
антисказочную
к ам пан ию ». «Сказка
отжила
с вое », «Кто за сказку
—
тот
против
современной
педагогики»
и
совсем
коротко
и
про ст о: «Долой всякую
сказку»
— таковы
бь( ли
лозунги
педологов.
При
акт ив
ном
участии
руководителей
так
на зыв аем ой
«Харьков
36
с кой
педагогической
школы»
Соколянского,
Попова
и
З алужног о
выше л
основополагающий
сборник
стате й
«Мы против сказки» .
Вульгаризаторские
идеи
педологов
под ви гли
Э.
Яновскую
на
создание
ра зве рну тых
исследо
ва ний
«Сказка как фактор классового воспитания»
и
«Нужна ли сказка пролетарскому ребенку».
Самоуверенный
автор
книжки
«О вреде сказок», вы
шедшей
в
Оренбурге,
снабдил
св ое
сочинение
подзаголов
к ом : «Настольная книга для работников просвещения
трудовой
ш к олы».
Изданная
педологами
дву хт ом ная
«Педагогическая энциклопедия»
у тве ржда ла,
что
«вопрос
о
с казке
для
ребенка-дошкольника
является
не
только
сп орны м,
но
име ю щим
т енденци ю
разрешиться
в
отр и
цательном
смысле»*.
Успех
педологов
выгл яд ел
таким
прочны м,
что
каза
лось,
будто
это
уже
навс егд а.
Будущее
детс кой
лит ера
туры
рисовалось
поэт у
«чистым»
от
сказок: «Тут не бро
дит ь
уже
туф ель ке
Зол ушк и,
на
сам обр анке
не
ес ть. ..»
Вместе
с
книжками,
в
подзаголовке
которых
стояло
опасное
слово
«сказка»,
по
требованию
педологов
из
школьных
и
детских
библиотек
удалялись
книги,
где
элемент
вы мысл а
превышал
некую
установленную
педо
логами
норму
—
«Приключения Гулливера», «Робинзон
Крузо».
Но
особенно
п лохо
пришлось
барону
Мюнхау-
зену
—
ведь
он
откровенно
бросал
вызов
меща нско му
«здравому смыслу»
и,
защи ща я
вымысел,
готов
был
драться
за
не го
—
верхом
хотя
бы
и
на
пол ов ине
ло
ша д и! «Сказка о Пете,
толстом
реб енк е,
и
о
Симе,
кото
рый
тонкий»
В.
Маяковского,
сказки
С.
М а ршака, «Кро
ко д ил », «Мойдодыр», «Тараканище»
К.
Ч уков с кого
та к
же
подверглись
зап ре ту
ликвидаторов
сказки.
У
сказки
бы ли
могущественные
союзники
—
дети.
Что
бы
сд елать
их
соучас тн иками
гонений
на
сказку
и
представить
дело
так,
будто
сказка
и
впрямь
люто
нен а
вистна
детям,
бы ла
сочинена
пьеса,
где
устами
действую
щих
лиц
—
октябрят
и
пионеров
—
произносился
смерт
ный
приговор
сказке.
А
по ск ольку
пь еса
предназначалась
для
школьного
теат ра,
то
дети,
игр ая
эту
пьесу,
как
раз
и
долж ны
были
создавать
необходимую
автору
ил люзи ю
де тс кого
сказконенавистничества.
«Эй,
ска зка,
на
пи он ер-
1 Педагогическая энциклопедия .
М.,
«Работник просвещения»,
т
II, столбец 91.
37
ский
суд!»—
бойко
в о склица ла
сочинившая
пьесу
А.
Ко
ж евник ова ,
полагая,
что
это
«эй»
прид ае т
названию
сказ
ки
оттенок
пионерского
задора
*.
Самое
интересное,
что,
собираясь
осудить
сказку,
А.
Кожевникова
незаметно
для
себя
написала...
сказку !
Это
вовсе
не
шутка ,
основанная
на
то м,
что,
мол ,
в
основе
пьесы
леж ит
самая
вздорная
фантазия:
дети,
ненавидя
щие
сказку,
—
это
ли
еще
не
сказка!
Но
черты
реальной
жизни,
п еренесенные
в
сказку,
не
разрушают,
напротив
—
укр еп ляют
ее,
в
то
вре мя
как
ска зочн ые
гер ои
и
прие м ы,
переселенные
в
реальность,
превращают
реальность
в
сказку.
А
в
пье се
А.
Кожевниковой
действуют
черти
и
баба-яга,
ангелы
и
добры е
феи,
принцессы
и
ве дь мы.
К
том у
же
ск азка
по лучи ла сь
самая
нена вист ная
для
педологов
—
волш еб н ая,
так
как
чудесные
превращения
происходят
в
ней
п рямо
на
сцене.
Так
сказка
мстил а
за
себя,
за
педагогическое
и
лите
ратурное
нев еже ство ,
за
самозванную
по пыт ку
говорить
от
имени
детей,
не
зн ая
и
не
желая
узнать
их.
Может,
не
стоило
бы
напоминать
об
э той
да вно
и
справедливо
за быт ой
кни жке,
есл и
бы
в
ней
не
в ы рази
лась
с
замечательной
прямотой
кон цепц ия
ликвидаторов
ск азк и,
их
глухое
равнодушие
к
детям
и
науке,
которая
могла
бы
им
р ас ск азать
о
классовой
дифференциации
фольклора
и
об
отражении
в
сказке
наивных ,
но
истори
чес ки
достоверных
социальных
идеалов
народа,
о
том ,
что
в
фоль кло ре
Иван-дурак
с
Иваном-царевичем
—
об
раз ы
вза имоп рони кающ ие,
п ере ходящи е
друг
в
друга,
и
что
И ван- ду рак,
пос ле дний
из
людей,
становясь
пер
вым,
воплощал
тем
самы м
идею
социальной
справедли
вости.
..
Педологи
с читал и
ска зку
бу ржу а зной
в
сам ой
ее
основе.
По
их
мнению,
ф орма
сказки
будто
бы
противо
ре чит
задачам
коммунистического
во сп итани я
и
пот ому
не
должна
быть
использована
даже
для
революционного
содержания.
Фантастика,
очеловеченье
животных,
о ду
шев лен ие
неживых
предметов
—
весь
арсенал
чисто
ска
зочных
средств,
все,
что
делает
с казку
сказкой,
без
ч его
она
немы сл има,
отрицалось
педологами
как
проявление
«идеализма» .
Од ним
словом,
сказка
была
«буржуазной»
'А.
Кожевникова.
Эй,
сказка,
на
пион ерск ий
су д!
М.
—
Л.,
Ги з, 1925.
38
и,
под об но
том у,
как
Октябрьская
революция
покончила
с
буржуазным
строем
в
н ашей
стр ане ,
так,
по
мнению
педологов,
нужно
пок онч ить
и
со
сказкой.
Себя
педологи,
понятно,
считали
продолжателями
д ела
революции
в
области
д етско й
литературы.
Поз ици я
педологов
укр еп лял ась
те м,
что
от
стар о й,
дореволюционной
детс кой
литературы
осталась
пропасть
всякой
сказо чно й
трухи,
которая
силь но
сни жа ла
оц енку
сказо чно й
литературы
в
целом.
Но,
вместо
того
чтоб ы
отделить
зер на
от
плевел,
они
предпочли
выкинуть
и
те
и
другие
и
с разу
же
распространили
свои
ликвидатор
ск ие
т енд енции
на
все,
что
пиш ет ся
или
будет
когда-либо
написано
в
с ка зочном
жанре.
Бо ль шевист ская
«Правда»
еще
в
1918 году,
через
не
ск ольк о
месяцев
после
Великой
Ок тябр ьско й
социалисти
ческой
р е во люции,
пр е до с тер ег ала : «Нельзя умалять зна
чен ие
детс кой
кн иги
и
чтения
вообще.
Нельзя
и
закры
вать
гл аза
на
д ейств ие
книги
на
детскую
душу.
Бур
жуазия
приложила
все
ста ран ия
к
тому,
чтобы
наши
де ти
ч уть
ли
не
с
мо ло ком
матери
начали
впитывать
иде и,
делавшие
их
впо сле дств ии
рабам и.
Не
нужно
забывать,
что
те
же
сред ств а,
то
же
оружие
годится
и
для
обрат ны х
целей»*.
Борясь
с
ликвидаторами
сказки,
надо
было
не
впасть
в
друг ую
крайность,
ни
на
секу нд у
не
слиться
с
те ми
работниками
детс ко й
книги,
которые
видели
в
сказ
ке
«спасение»
ребенка
от
«действительности», то есть от
советской
действительности,
имевшей
несчастье
не
понра
виться
этим
старорежимным
дяд ям
и
тетям.
Меж
двух
крайностей
—
огульного
отрицания
сказки
как
чего-то
враждебного
дейс твите ль но с ти
и
утвержде
ния
сказки
в
противовес
отрицаемой
дей ствит ел ь нос ти
—
нужно
был о
не
проглядеть
возможность
сказки,
с оз вуч
ной
новой,
советской
действительности.
К
таким
с каз кам,
конечно,
при н адле жат
избранные
произведения
фолькло
ра,
лучшие
литературные
сказки
м ину вших
времен
—
рус
ск ие
и
переводные
—
и
сказки
совет ск их
пи сател ей .
Воспитательное
значение
с казки
доказано
теоретиче
ски
и
эмпирически
—
многовековым
опытом
народа.
Заме
чательный
советский
педагог
А.
С.
Макар енко ,
рек ом ен
дуя
чита ть
дет ям
«Конька -горб ун к а», говорил:
1 «Правда», 1918, 17/П ( ку р с ив
мо й,
—
М.
П. ).
39
«Хорошо рассказанная сказка
—
это
уже
начало
ку ль
турного
во спи тани я.
Было
бы
весьма
желательно,
ес ли
бы
на
кн ижной
полке
каждой
семьи
был
сбо р ник
ск азок» .
А.
С.
Макаренко
ука зал
также
основной
критерий
для
оце нки
ск аз к и: «... предпочитать нужно такую
сказ
ку,
ко тор ая
во з бу ждает
энер гию ,
уверенность
в
своих
силах,
оптимистический
взгляд
на
жизн ь,
надеж ду
на
победу»*.
А
по
наблюдениям
Чуковского
ре бе нок
жаждал
имен
но
та кой
сказки
—
эне р гичной ,
веселой,
героической,
со
счастливым,
ма жорн ым
концом,
вселяющим
уверенность
в
не избе жн ую
победу
добра
над
злом.
Чуковский
поста
вил
с ебе
целью
н айти
в
д етс кой
пс ихол ог ии
разг адк у
извечного
интереса
ребенка
к
сказке,
к
выдумке,
к
фанта
стическому,
необычному
и,
продолжив
изучение,
опреде
лить,
в
чем
специфика
формы
детско й
поэз ии .
В
1925 году,
тридцать
семь
лет
назад,
вышла
книг а
Чуковского
«Маленькие дети»,
которая
долж на
бы ла
стать
теоретической
пла тфор мой
его
деятельности
как
поэта-сказочника.
Эта
книга,
включая
от
из дани я
к
из
данию
все
но вый
и
нов ый
мат ер иал,
все
с
большей
пол нот ой
и
точностью
отражая
взгляды
автора,
ста ла
впоследствии
широко
и зве стна
под
названием
«От двух
до
пят и».
Слабость
педологической
теории
о
вреде
сказки
за
ключалась
в
ее
полно й
умозрительности,
беспочвенности,
отрыве
от
живой
жизни.
Это
был
не
случайный
промах.
Это
был
принципиальный
порок
системы.
Даже
не
вст у
пая
в
открытую
пол ем ику
с
педологами,
Чуковский
бил
по
их
самому
уязвим ому
месту
всеми
св оими
выводами,
полученными
из
непо ср едст вен ных
набл юде ний.
Объек
том
наблюдения
был
ребенок-дошкольник,
и
даже
пр о
тивники
Чуковского
не
могли
отка зать
ему
в
глубоком
знании
это го
загадочного
существа.
Ну жно
был о
объяснить
всем
взрослым,
что
в
т яге
детей
к
с казке
нет
ничего
противоестественного,
что
суд
над
ск азко й
в ы думан
людьми,
не
з на ющими
детей,
выду
ман
вопреки
полному
отсутствию
состава
пр ес тупл е ния,
вопр ек и
данным
нау ки
и
ежедневному
практическому
1А.
С.
Макаренко.
Сач.
М.,
Изд .
Академии
педа гог ич ес ких
наук , 1957, т.
IV.
стр.
418—419.
40
опыту.
Книга
Чуковского
представляла
редкий
случай,
когда
тео р етичес ки е
пост р оени я
де тс кого
писателя
не
были
т олько
вывод о м
из
его
творчества,
но
во
многом
значительно
опережали
творчество,
становились
програм
мой
художественной
пра кти ки
писателя.
Чуковский
создал
тогда
хотя
и
неполную,
но
верную
характеристику
ду хо вной
жизни
ребенка
в
воз ра сте
от
двух
до
пяти
лет.
Но,
желая
во
что
бы
то
ни
стало
противопоставить
свои
вз гл яды
ко нц епция м
педологов,
Чуковский
в
полемическом
задоре
впадал
в
нен ужн ые
крайности.
Та к,
например,
он
умо лял
читателей
не
счи
тат ь
его
к нигу
педагогикой,
хо тя,
конеч но,
книг а
противо
стояла
отнюдь
не
педаг о г ике,
а
пе дол ог ии,
равно
вра
ждеб но й
и
на уч ной
педагогике
и
ск азоч н ому
тво р честв у
Чуковского.
Книга
«Маленькие дети»
бы ла
серьезным
доводом
в
спо ре
с
педологами
и
надежной
защитой
права
на
сказ
ку
дет ей
в
«Чуковском»
возр а сте
—
от
двух
до
пят и
ле т.
озражая
критику,
утверждавшему,
будто
«Кроко
дил»
есть
«пафосная пародия на Некрасова», Горький
счел
нужным
у каз ат ь: «...уж
если
пародия,
то
скорее
на
«Мцыри»
или
на
какие-то
другие
сти хи
Лермон
то в а»1.
Значит,
в
п ринципе
Гор ьк ий
не
отрицал
воз
можности
пародии
в
«Крокодиле» .
Знаток
теории
па
родии
Ю.
Тынянов
не
применял
по
отношению
к
поэз ии
Чуковского
слово
«пародия», но считал,
что
она
«при
няла
метры,
рифм ы,
да же
яз ык
классической
русской
поэзии
от
Некр асо ва
и
даль ше
—
несомненное
влияние
Маяк ов ск ого».
Другие
критики,
напротив,
утверждали,
'«Правда» . 1928, I4/III,
будто
поэ ти ческ ое
творчество
Чуковского
насквозь
па ро
дийно,
по до бно
творче ств у
Льюиса
Керрола,
у
которого
в
«Алисе»
множество
пар о дий
—
на
анг л ий ский
фольк
лор,
на
Свифта,
Тенни со на,
Лонгфелло,
Соут и.
Оказывается,
р еш ение
этого
вопроса,
запутанного
противоречивыми
высказываниями,
приводит
к
интерес
ным
выводам.
Однаж ды
—
это
было
в
конце
20-х
годов
—
М.
Горь
кий
обратился
к
Чуковскому
с
предложением
написать
для
журна ла
«Литературная учеба»
статью
о
то м,
как
Н.
Некрасов
овладевал
поэтическим
мастерством.
А
Чу
ковский
как
раз
незадолго
до
этого
р аз ыскал
ср еди
ста
рых
журналов
и
рукописей
ряд
великолепных
пародий
Н.
Некр асо ва
на
В.
Жуковского,
Н.
Языкова,
В.
Бен е
диктова,
М.
Лермонтова,
А.
Фета
и
решил,
что
видит,
как
путем
пар од иров ания
св оих
знаменитых
предше
с т венни ков
молодой
Некрасов
учился
владеть
их
поэти
ческ ой
техникой
и
таким
образом
преодолевал
их
влия
ние.
С вои
соображения
и
догадки
Чуковский
из ложи л
в
статье,
которая
получила
неодобрительный
от зыв
М.
Горького: «...Совет «пародировать»
мож ет
понудить
некоторых
начи нающи х
к
бесполезной
трате
вр ем ени
на
поиски
нелепого
набора
словечек...
Затем :
что
же,
начи
нающи е
поэты
дру г
дру га
пародировать
будут?»1 Впо
следствии
выяснилось,
что
Горький
не
осп ари вал
пра
вильности
выводов
относительно
некрасовских
пародий,
но
не
желал,
чтоб ы
метод
пар од иро ва ния
был
предложен
молодым
литераторам
как
рец е пт.
1К.
Чуковский.
Из
воспоминаний.
М., «Советский писатель»,
1958, стр. 229.
Еще
ги мназис то м
Чуковский
с о чинил
поэму
в
онегин
с ких
стр офа х,
об л ичающу ю
ги мн азиче ско е
начальство
и
гимназические
порядки.
Издавая
в
1905 году сатириче
ск ий
журнал
«Сигнал», Чуковский написал для него не
сколько
стихотворений,
подчеркивая
их
св язь
с
по пул яр
ными
произведениями
русской
п оэз ии,
на приме р
для
сти
хотворения
о
прокуроре
Камышанском,
возбудившем
су
деб ное
преследование
Чуковского,
было
использовано
известное
пушкинское
«Черногорцы?
Что
тако е?»
—
Журналисты?
Что
так ое?
—
Камышанский
вопросил...
42
И
здесь ,
как
и
в
пр еды ду щем
примере,
имел о
место
пародийное
использование
ритма
и
синта ксис а
не
в
це
лях
литературного
пародирования.
Переводить
стихи
Чуковский
тож е
ст ал
еще
в
гимна
зии.
В
дореволюционные
го ды
им
бы ли
опубликованы
пе
реводы
из
Уи тм ена,
Китса,
Ро берт а
Броунинга,
Дж.
Монт
гом е ри,
Томаса
Му ра.
Зан им аясь
пе рев одами ,
по эт
не
т олько
выполняет
известную
культурную
миссию,
но
и
совершенствует
свое
художественное
мастерство
—
пере
водчик
стр еми тся
передать
на
род ном
языке
идеи,
об ра зы,
все
худож еств ен ны е
особенности
переводимого
автора
и
одновременно
усв аив ает
для
себ я
его
поэтическую
техни
ку,
как
усвоил
бы
ее,
ес ли
бы
зани м ался
пародией
в
том
ее
значении,
в
како м
она
встречается
в
первой
сказке
Чу
ковского
и
его
ра нних
стихах.
При
переводе
усваиваются
достижения
иноязычного
поэт а
—
вот
и
вся
разница.
В
книг е
«От двух до пяти»
Чуковский
по казал ,
ка к,
смелыми
вылазками
вторгаясь
в
чужие
поэтические
вла
ден ия,
дети
«начинают жить стихом». В п р исл анно й Горь
ком у
статье
о
некрасовских
па род иях
то
же
утверждается
относительно
начи нающи х
поэтов.
«Крокодил»
написан,
как
пишут
дети
(устная импро
в изац ия)
и
начин ающие
поэт ы,
—
сказка
была
для
Чуков
ского
тем
же,
чем
для
Н.
Некрасова
были
пародии
на
В.
Жуковского,
Н.
Языкова,
В.
Бенедиктова,
М.
Лер мо н
това ,
А.
Ф ета,
а
именно
—
школой
поэтического
м астер
ства.
Пародию
как
средство
овладения
масте рств ом
не
с ле
ду ет
путать
с
пародией
в
знач ении
литературно-критиче
ского
жан ра.
Последняя
представляет
собой
произведе
ние,
не
существующее
вне
св язи
с
другим
пародируемым
произведением,
идейную
и
художественную
су щно сть
ко
торого
пародия
выясняет
пут ем
преувеличенного
воспро
изведения
особенностей
его
стил я.
П аро дия
в
том
ви де,
в
к аком
она
встречается
в
«Крокодиле», только подме
чает
некоторые
особенности
формы
какого-либо
произве
дения
и
стр еми тся
повторить
их
—
не
в
ук ор
им,
а
лиш ь
для
овладения
сущностью
приема.
Когда
прием
освоен
и
ученичество
к онче но,
ну жда
в
такой
пар о дии
проходит.
Пародийные
мотивы
«Крокодила»
объясняются
имен
но
ученичеством
поэта.
Для
Чуковского
первая
с казка
бы ла
реал из ацией
метода
пародии
как
средства
вы работ-
43
ки
собственной
манеры.
Поэтому
пародирование
косну
лос ь
толь ко
технических
средств
па родируемы х
образцов,
а
не
их
образов
или
со де р жания.
Поэтому,
нак оне ц,
после
«Крокодила»
Чуковский
все
реж е
и
реже
прибегал
к
па
род ии
в
эт ом
ее
значении:
относительно
нег о
мет од
паро
дии
как
средства
преодоления
чужих
влияний
полностью
оправдался.
И,
когда
Чуковский
выработал
свой
сказочный
стиль,
у
него
появилась
пародия
в
ее
общем
значении,
то
есть
в
значен ии
л и те ратурно-к рити чес ког о
жанра.
Сл е дует
отме
тить,
что
сказки
Чуковского
в
целом
не
пародийны,
они
не
превращаются
из
художественных
произведений
в
художественно-критические,
но
отдельные
м еста,
сцены,
строчки,
помимо
того
значения,
которое
они
име ют
в
кон
тексте
сказки,
приобретают
дополнительный
пародийный
характер.
Во
всех
старых
хрестоматиях
был и
такие
сюсюкающи е
стишки:
—,
Ах,
попалась,
птичка,
сто й!
Не
уйде шь
из
сети.
Не
расстанемся
с
то бой
Ни
за
что
на
свете.
—
Ах,
зачем,
зачем
я
в ам,
Мил енькие
дети!
Отпустите
погулять,
Развяжите
сети.
—
Ах,
не
пу стим ,
пти чк а,
нет!
Оставай ся
с
нами.
Мы
дадим
т ебе
ко н фет,
Чаю
с
сухарями...
—
Я
конфеток
не
клюю,
Не
люблю
я
чаю.
В
поле
мош ек
я
ловлю,
Зе рны шки
сбираю...
Эти
«миленькие»
д ети
до лжн ы,
по
ид ее,
очаровать
сво
ей
наивностью.
Ну,
а
чт о,
ес ли
они
сам и
попадут
в
подоб
ную
беду?
Что
они
тогда
скажут
злодею?
По- п режн ему
умиляя
своей
наивно сть ю ,
они,
кон еч но,
предложат
и
ему
чаю
с
с ухарями !
Так
и
поступают
в
ска зке
Чуковского
44
«миленькие дети», попав к жестокому людоеду Бар
малею:
Милый,
ми лый
Бар малей !
Смилуйся
над
на ми.
От пус ти
нас
поскорей
К
нашей
милой
мймё!
Милый,
милый
людоёд.
Смилуйся
над
нами,
Мы
дадим
те бе
ко н фет,
Чаю
с
сухарям и.
Зд есь
уже
не
просто
копирование
в не шних
прие мо в
инфантильного
стишка ,
а
такое
сатирическое
преувели
чение
эти х
прие мо в,
что
перед
нами
самая
очевидная
пародия
на
ко нфет но -пато ч ную
меща нс кую
поэз ию
для
детей.
Когда
слова
«Мы дадим тебе конфет.. .»
прои зн о
сятся
сильной
стороной,
они
производят
впечатление
на
ивного
великодушия.
Эти
же
сло ва,
произнесенные
в
страдательном
положении,
—
нелепость,
которая
еще
больше
усиливается
ехидным
оксюморонным
сочетанием
«милый людоед» . Мама
—
тоже
«милая»!
Нет
ничего
удивительного,
что
в
ответ
на
нелепые
предложения
детей
Ба рмалей
разъясн яет
им,
чем
он
пи
т ает ся,
то чно
так,
как
объ ясн яла
птичка
—
«Я конфеток
не
клюю,
не
любл ю
я
чаю»:
Мне
не
н адо
Ни
шоколада,
Ни
мармелада,
А
только
ма ле ньких
(Да!
Очень
маленьких!)
Детей!
Так ов
пародийный
смысл
«невинной»
дет ско й
сказки,
еще
нигд е,
каже тся ,
не
раск рыт ый .
Но
это
не
все.
Что ,
к азалось
бы,
пародийного
или
сатирического
в
та ких
стр очк ах
из
«Бармалея»:
И
папо ч ка
и
мамочка
Под
деревом
сидят,
И
папо ч ка
и
мамочка
Детям
говорят:
45
«Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка
опасна,
Да-да-да!
Не
ходите
в
Африку,
Дети ,
никогда!»
А
Между
тем
это
место,
п арод ирующ ее
наставитель
ную
инт онацию
воспитателя-педанта,
в
завуалированной
форме
отразило
борьбу
за
сказку.
Дело
в
том,
что
Африка
в
с ка зках
Чуковского
—
не
одна
из
пяти
насе лен ны х
частей
света
с
определенным
климатом,
рельефом,
рек а ми,
животными,
растениями
и
т.
д.,
а
ус лов ная
сказочная
ст р ана,
символическое
вы ра
жение
всего
сказочного,
фа нтасти ческо г о ,
игрового,
стра
на,
отк уда
пр ил етел
Крокодил,
где
вместе
с
африкански
ми
можно
встретить
животных,
которые
водятся
везде,
кроме
Африки,
где
развертывается
действие
«Айболита»,
«Бармалея»
и,
во зм о ж но , «Краденого солнца».
В
пов ест и
«Серебряный герб»
Чуковский
рассказы
вает,
как
его
сестра,
первая
уч е ница
епархиального
учи
ли ща,
хотела
преподать
ему
в
«доходчивой»
форме
ур ок
географии.
«Она сказала мне каким- то
неожиданным,
мальчишеским
голос ом :
—
Хочешь
игра ть
в
путешествия?
Я
ответил:
—
Еще
бы|
Потому
что
я
ж аждал
кораблекрушений
и
под виго в.
Но
она
в зяла
пять
узеньких
листочков
бумаги,
написала
на
них
старательным
поч е рк о м: «Азия», «Африка», «Ев
ропа », «Америка», «Австралия», и приколола их булав
кам и
в
разных
конц ах
нашего
большого
двора.
Кухня
тля
биндюжников
оказалась
Америкой,
крыльцо
усача
Симоненко
—
Европой.
Мы
вз яли
дл инн ые
па лки
и
по
шли
из
Аз ии
в
Ам ерик у.
Чу ть
т олько
мы
очутились
в
Ам ерик е,
Мару ся
нахмурила
лоб
и
сказала:
—
В
Америке
главные
рек и
таки е- то,
главные
горы
гакие-то,
глав н ые
страны
такие -то ,
климат
такой-то,
ра
стения
такие -то .
А
потом
сказала:
—
Повтори.
Я
вместо
отве та
заплакал.
Лучше
бы
она
побила
16
меня!
Путешествовать
—
значило
для
ме ня
мчать ся
по
прериям,
умирать
от
желтой
лихорадки,
выка пыват ь
древ н ие
клады,
спасать
прекрасных
индианок
от
крово
жадных
ак ул,
уб ива ть
бумерангами
людоедов
и
тигров,
и
вдруг
вместо
это го
меня
веду т
от
бумажки
к
бумажке
и
заставляют,
как
в
классе,
зуб ри ть
де сятк и
каких -т о
названий.
Марусе
эта
иг ра
была
по
сердцу
—
поле зна я
игра,
поучительная...»
Полезная,
поучительная,
но
—
не
игра!
А
рассказчику,
ко то рый
был
на
несколько
лет
моложе
сест р ы,
нужна
была
им енно
игра,
и
Афри ка
ну жна
была
другая,
пусть
не
настоящая,
не
по учит ел ьна я,
но
зат о
та инст ве нна я,
увлекательная,
вот
как
в
«Бармалее»:
В
Африке
акулы,
В
Африке
гориллы,
В
Афр ике
большие
Зл ые
крокодилы...
В
Африке
р а з бойник,
В
Африке
злодей,
В
Африке
ужа сн ый
Бар-ма-лей!
Поэтому,
не смотря
на
тро екра тн ый
запрет:
Не
ходите,
дети,
В
Африку
гулять!
—
маленькие
д ети
отправляются
в
Африку
з абавн ых
ска
зок.
А
добрый
сказочник
хитровато
приговаривает
св оим
певучим
и
лукавым
гол ос ом:
Ну
и
Африка!
Что
за
А фрик а!
«... Было
бы
и
вредно
и
д аже
преступно,
—
говорил
Горький,
—
вти ски в ать
детей
в
«серьезное», слишком гру
бо
нас илуя
их
неорганизованную
и
податливую
волю. ..
«Тенденция позабавить ребенка»
не
есть
«недоверие,
не
у в ажение
к
не му», она педагогически необходима как
средство,
как
гарантия
против
опасности
засушить
ре
бенка
«серьезным», вызвать в нем враждебное отношение
47
к
«серьезному».
И
в
то
же
время
эта
тенденция
необхо
дим а
как
возбудитель
воображения,
интуиции»
В
своих
дореволюционных
критических
и
литературо
ведческих
статьях
Чуковский
обычно
рисовал
творческий
портрет-маску
писателя,
ис п ользуя
как ую-ни будь
од ну-
единственную
писательскую
черту
и
придавая
ей
зн аче
ние
исчерпывающей
характеристики.
Создавалось
обман
ч ивое
вп ечатле ние ,
будто
у
писателя,
кроме
это й
одной-
единственной
черты,
ничего
больше
нет
и
быт ь
не
может.
Когда
Чу ко вский
одн аж ды
ст ал
описывать
по
грави
рованному
портрету
внешность
В.
Даля,
то
и
в
ней
он
ув идел
все
так
же
одну
чер ту.
Оказ ало сь ,
что
у
Да ля
все
длинное:
ли цо
длинное,
бор ода
длинная,
руки
дл инны е,
ж изнь
тоже
дл инна я.
А
в
«Бармалее», написанном почти
дв ад цать
лет
спустя,
есть
такие
строки:
Он
страшными
гл аза ми
сверкает,
Он
страшными
зуб ами
стуч и т,
Он
страшный
костер
ра зжига ет,
Он
страшное
слово
кричит...
Конечно,
пер ед
нами
просто
повторение
сти лис тиче
ского
приема.
Но
откровенная
ироническая
ухмылка,
зв у
ч ащая
в
этих
стихах,
заставляет
подозревать,
что,
со
сме
хом
о став ляя
свою
пр ежнюю
манеру
критика
и
лите рату
роведа,
Чуковский
написал
пародию...
на
самого
себя.
Сказки
Чуковского
использовали
все
достижения
«Крокодила», постепенно освобождаясь от его ограничен
нос ти.
Ведь
«Крокодил»
был
вещью
экспериментальной,
и,
хо тя
его
значение
дал еко
выходит
за
рамки
лаборато
рии,
все
же
он
преследовал
главным
образом
форм аль
ную
зад ачу
—
показать,
как
нужно
пи сать
для
детей.
Поиски
не
прекращались,
но
бы ли
перенесены
на
более
высокий
уровень.
Вслед
за
«Мойдодыром»
и
«Таракани
щ е м» (1922) появились «Мух а-Ц окот уха » (1924), «Бар
мал ей» (1925), «Телефон», «Федорино
гор е », «Чудо-
дер ев о», «Путаница», «Лимпопо» (1926), «Краденое
солнце»
и
«Топтыгин и Лиса» (1927).
1 «М.
Горький
о
де тской
лит ерату ре» .
М.,
Детгиз,
1958,
стр.
114—115.
ЛМЕИшД
Й
■>
ГЕРОЙ
■ ▼ аждая сказка Чуковского имеет замкнутый,
зав ер
шенный
сюжет .
Но
все
вместе
они
образуют
с в оеобра з
ный
сказочный
мир.
Крокодил
из
первой
детско й
сказки
Чуковского
пе
решел
в
другие
в
качестве
глав н ого
или
второстепенного
действующего
лица.
Некоторые
сказки
только
упоминают
о
нем,
показывая,
что
дей стви е
происходит
в
том
само м
с ка зочном
мире,
где
обитает
Крокодил.
В
«Путанице»
он
тушит
го рящ ее
м оре.
В
«Мойдодыре»
он
гуляет
по
Таври
ческому
саду,
глот ае т
мочалку
и
угрожает
проглотить
грязнулю.
В
«Краденом солнце»
Крокодил
глот ае т
со лн
це;
в
«Бармалее»
глот ае т
злого
разбойника;
в
«Тарака.;
нище »
от
ис пуга
он
проглотил
жабу,
а
в
«Телефоне»,
об едая
в
кругу
семьи,
глот ает
калоши.
Вообще
глот ат ь
—
его
гла вн ая
специальность,
и
прог ла тыва ние
им
кого-
нибу дь
или
чего-нибудь
служит
завязкой
(«Краденое
сол нце») или развязкой («Доктор Айболит»), В « Ай бо
лите»
участвует
Бармалей,
в
«Бармалее»
— Айболит.
В
«Телефоне»
кенгуру
с пр ашивае т
ква ртир у
Мойдоды-
ра,
в
«Бибигоне»
на
эту
ква ртир у
дост авл яю т
иск упа вше
гос я
в
черн ил ах
лилипута.
Квартиры
ра зн ые,
а
дом
—
один.
Звериное
население
сказок
силь но
разрослось
благ о
д аря
пре д ста вите лям
сказочной
фаун ы
русского
фольк
лора.
Вместе
с
экзотическими
гиенами,
страусами,
сло
на ми,
жирафами,
ягуарами,
павианами,
гиппопотамами,
юриллам и ,
львам и ,
тиграми
в
сказках
теперь
живут
лопоухие
и
косоглазые
зайчи шк и,
болтливые
сороки,
длинноногие
журавли,
добродушные,
косолапые
медведи,
лупоглазые
совы,
хи тров а тые
л исы,
смелый
комарик,
муха-ц окотуха
и,
конечно
же,
чудо-юдо
рыба
кит.
По
явились
об ыч ные
домашние
животные:
ко ро вы,
бараны,
козы,
свиньи,
утк и,
ку ры
и
кошки-приживалки.
Животные
русских
народных
сказок,
по сел ивши сь
в
4К.
Чуковский
49
д етски х
книг ах
Чуковского,
значительно
увеличили
коли
чество
слов-названий,
расширили
пред м етны й
сло в арь,
предлагаемый
автором
читателю.
Чуковский
от лич но
знает,
что
ребенок
не
восприни
мает
ве щей
самих
по
себе.
Они
существуют
для
не го
по
стольку,
поскольку
они
двигаются.
Неподвижный
пред
мет
в
сознании
ребенка
неотделим
от
неподвижного
фона,
как
бы
сливается
с
ним.
Поэтому
в
с ка зках
Чуковского
самы е
стати ч ны е,
косные,
грузные,
са мые
тяжелые
на
по дъем
вещи
(в прямом и переносном смысле)
стреми
тельно
двигаются
по
всем
направлениям,
порха ют
с
ле г
кос тью
мотылька,
летят
со
скоростью
стрелы,
гу дят,
как
бу ря,
так
что
мелькает
и
рябит
в
г ла зах,
толь ко
успевай
следить!
Это
увлекает
и
д ейс твите ль но
заставляет
сле
д ить
за
бурными
вихрями,
которые
с
первой
строчки
под
хватывают
и
гонят
ве щи,
например,
в
«Федорином горе»:
Скачет
си то
по
полям,
А
корыто
по
луг ам.
За
лопатою
метла
Вдоль
по
улице
пошла.
Т оп оры -то,
топоры
Так
и
сыплются
с
горы.
В
с казку
«Тараканище»
читатель
попадает,
как
будто
в скакивает
на
ходу
в
мчащий ся
трамвай:
Ех али
медведи
На
велосипеде.
А
за
ними
кот
Задом
наперед.
Волки
на
кобыле,
Львы
в
ав том об ил е...
Зай чи ки
в
трамвайчике,
Жа ба
на
метле...
Все
это
мчится
так
быстро,
что
едва
успеваешь
заме
ти ть,
какие
здесь
перепутались
странные
ви ды
тр анспо р
та
—
от
трам в ая,
который
пр и во дится
в
действие
силой
электричества,
до
метлы,
дв ижи мой
не чи стой
сило й!
В
большинстве
ска зок
начало
действия
совпадает
с
первой
строчкой.
В
других
случаях
в
начале
перечисляет
ся
ряд
быстро
двигающихся
предметов,
создающих
что -
то
вроде
раз го на,
и
завязка
происходит
уже
как
бы
по
инерции.
Пе ре числ ител ьная
интонация
ха рактер на
для
зачина
сказок
Чуковского,
но
пе речи сл яются
всегда
пре д
ме ты
или
пр ив еден ные
в
движе ние
завязкой,
или
стреми
тельно
двигающиеся
навстречу
ей.
Движение
не
прекра^
щается
ни
на
минуту.
Острые
ситуации,
причудливые
эпизоды,
смешные
подробности
в
бурном
темпе
сл еду ют
друг
за
другом.
Сам а
завязка
—
это
опасность,
возникающая
неожи
данно,
как
в
заправской
пр икл юч енч еской
повести.
То
ли
это
вылезший
из
подворотни
«страшный великан,
ры
жий
и
усатый
Т а- р а-к ан», то ли это Крокодил,
кот оры й
глотает
с олнце ,
за лив авш ее
до
тех
пор
страницы
сказо к
Чуковского,
то
ли
это
болезнь,
угрожающая
маленьким
зв ерята м
в
далекой
Афр и ке,
то
ли
это
Бармалей,
гото
вый
съесть
Танечку
и
Ванечку,
то
ли
старичок
паучок,
который
пох итил
кр асавицу
Муху-Цокотуху
прямо
из- за
свадебного
стола,
словно
Черномор
Людмилу,
то
ли
п ри
творяющийся
страшным,
а
на
са мом
дел е
добрый
У мы
вальник ,
зна мен иты й
Мойдодыр,
то
ли
страшный
в олшеб
ник
Брундуляк,
притворившийся
обыкновенным
индю
ком,
—
всегда
опасность
пер ежив ает ся
как
вполн е
серь езн ая,
ни чуть
не
шуточная.
В
это
трудно
поверить
тому,
кто
не
знает,
сколько
тяжелых
минут
было
пере
жи то
чи та телям и
из-за
подвергавшихся
опасности
детей,
зверушек,
насекомых
или
мальчика
с
пальч ик
Б ибиго
на.
Но
детское
горе
всегда
воз наг раж да лось
самой
яркой,
само й
бур ной,
самой
безудержной
радостью,
когда
х ра брый
герой
отв раща л
опасность.
И
всегда
героем
оказыв ался
т от,
от
кого
труднее
все
го
бы ло
ожидать
ге ройс тв а,
—
самый
маленький
и
с ла
бы й.
В
«Крокодиле»
пер епуг а нны-х
жит еле й
спасает
не
толстый
городовой
«с сапогами и шашкою», а доблест
ный
м а льчик
В аня
Васильчиков
со
своей
«саблей игру
ше чной ».
В
«Тараканище»
охваченных
ужасом
л ьвов
и
тигров
сп асает
крошечный
и
как
будто
д аже
легкомыс
л енный
Воро бе й:
П рыг
да
прыг.
Да
чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!
Взял
и
клюну л
Таракана,
—
Вот
и
не ту
великана.
4*
51
А
в
«Бибигоне»
лилипут,
свалившийся
с
луны,
побеж
д ает
могущественного
и
непобедимого
колдуна-индюка,
хотя
сам
лилипут
«очень маленький,
не
больше
воро
бышка».
Тоненький
он,
Словно
пр ути к,
Маленький
он
Л или пу тик.
Ростом,
бедняга,
не
выш е
Вот
эдакой
маленькой
мыш и.
В
«Мухе-Цокотухе»
спас ител ем
выступает
не
рогатый
жук ,
не
больно
жаля щ ая
пчела,
а
неведомо
откуда
взяв
шийс я
комар,
и
да же
не
комар,
а
комарик,
да
еще
ма
ленький
комарик,
и,
чтобы
его
ма лост ь
была
еще
замет
ней,
он
предстает
перед
нам и
в
свете
ма лен ьк ого
фона
рика :
Вдруг
откуда-то
лети т
Маленький
комарик,
И
в
руке
его
гори т
Ма ле нький
фонарик.
В
пересказанной
Чуковским
валлийской
народной
ск азке
«Джек
—
покоритель
великанов»
то чно
такое
же
распределение
сил: «И жил бы великан Корморан
тыс ячу
лет
до
сего
дня
и
съе л
бы
и
меня,
и
тебя,
и
всех
нас,
ес ли
бы
не
маленький
мальчик,
которого
звали
Джек».
Миф
о
Пер се е,
тираноборце
и
освободителе,
нео дно
кратно
привле ка л
вни мани е
Чуковского.
Сразу
после
ре
волю ции,
когда
еще
не
были
написаны
ни
«Тараканище»,
ни
«Краденое солнце», ни « До кто р
Айболит», ни «Муха-
Цок отух а», Чуковский инсценировал его для детского
театра,
а
позже
п е реск азал
з нам ен итый
миф
прозой
для
де тск ого
журн ала .
И
здесь
Чуковский
опять-таки
подчеркивает,
что
со
страшной
Медузой
Горгоной
и
огромным
морским
чудовищем
борется
юноша,
почти
мальчик.
Ребенку
«всегда необходима иллюзия,
что
он
умнее,
и ск уснее,
сильнее,
храбрее
других» '. «Что
бы
кто
ни
де
лал
на
глазах
у
двухлетнего
мальчика,
он
в
каждом
ви-
1К.
Чуковский.
От
двух
до
пя ти.
М.,
Дет г и з, 1957, стр.
237.
52
дит
со пер ни ка,
которого
ему
надлеж ит
прев зой ти .
Он
не
может
допустить
и
мысли,
что
кт о -нибу дь
другой,
а
не
он
будет
действующим,
а
стало
быть,
и
по зн ающим
лицо м
в
этом
мире» ', —
так
объясняет
Чуковский,
почему
почти
в
каждой
его
сказке
какой-нибудь
Давид
побеждает
ка
кого-нибудь
Голиафа.
В
одном
из
фи льм ов
Ч.
Чапл и на
расска зыв а етс я
о
т ом,
как
беглый
каторжник
Чарли
сл учай но
выряд ил ся
в
одежду
священника,
прихожане
случайно
приняли
Чар
ли
за
своего
но вого
пат ера, «новый
пате р », случайно
принужденный
чита ть
проповедь,
берет
библию
и
библия
сл учай но
открывается
на
эп изо де
борьбы
Давида
с
Го
лиафом.
Этот
эпизод
тщедушный
проповедник
Чарли
пе
редает
коротко
и
экспрессивно.
Раскормленные,
слоно
под об ные
ханжи-слушатели
разочарованы
—
они
да же
не
успели
на строи ть ся
на
соответствующий
лад,
р ас сказ
получился
ничуть
не
благочестивый,
мораль
из
него
не
выведена...
И
только
оди н
слушатель
доволен.
Бол ее
того
—
он
в
восторге.
Он
бешено
аплодирует,
хо тя,
как
известно,
проповедников
в
церкви
не
принято
награждать
апл од и
сментами.
Этот
слушатель
—
ребенок.
Конечно,
Давид
и
Голиаф
—
постоянная
чаплинская
тема,
и
зд есь,
как
и
все гд а,
они
понадобились
Чаплину
для
апологии
маленького
человека.
Но
гениальный
ху
дож ник
кинематографа
не
мог
не
заметить,
на с колько
эти
обр азы
близки
и
пон ят ны
ребенку.
Неизменно
пов торяю щий ся
в
ска зках
Чуковского
мо
тив
победы
слабого
и
доброго
над
си ль ным
и
з лым
сво
ими
корнями
уходит
в
фольклор :
в
сказке
угнетенный
на
род
торжествует
над
угнетателями.
Положение,
при
ко
тором
всеми
презираемый,
униж енн ый
герой
с тано в ится
героем
в
полном
смы сле,
служит
условным
выра же ние м
идеи
социальной
справедливости.
«Герой волшебной сказки прежде всего социально
обездоленный
—
крестьянский
сы н,
бе дн як,
мл а дший
брат,
си ро та,
пасынок
и
т.
п.
Кроме
т ого,
он
часто
ха рак
теризуется
как
«золушка» («запечник»), «дурачок», «лы-
1К.
Чуковский.
От
дв ух
до
пяти .
М.,
Д е тгиз , 1957, стр.
301.
53
сый
п ар ш ив ец », «грязный мальчик». Каждый
из
этих
об
разов
имеет
свои
особенности,
но
все
они
содержат
об
щие
черты,
обр азую щ ие
комплекс
«низкого»
героя, «не
подающего
над ежд ».
Превращение
«низких»
черт
в
«вы
сокие»
или
об нару жение
«высокого»
в
«низком»
в
финале
сказки
—
сво ео браз ная
форм а
ид е ал изации
обез до л ен
ного» ’.
Исследователь
говорит
здесь
о
волшебной
фольклор
ной
ск азке,
но,
поскольку
литературная
ск азка
во брал а
черты
всех
сказочных
жанров,
эти
слова
от нос ятся
и
к
ней.
Только
в
пе рев оде
на
язык
сказо к
Чуковского,
где
сильны
черты
«животной»
ск а зки, «низким»
героем
бу дет
не
бе дн як,
не
с ирот а,
не
пасынок,
не
дурачок,
а
воробы
шек
—
самы й
слабый
ср еди
птиц,
комарик
—
самы й
сла
бый
среди
насекомых,
и,
чтоб ы
не
возникало
ни каки х
со
мнений
на
это т
сч ет,
они
будут
противопоставлены
льва м,
орлам,
жукам-рогачам,
жалящи м
осам.
И
среди
людей
героем
тоже
окажется
самый
сла бый
—
ребенок.
Для
сказки
не
важна
персона
«низкого»
ге роя,
важно
то,
что
он
в
фина ле
проявляет
черты
«высокого»
—
оказ ы вает ся
самым
силь н ым
и
храбрым,
выступает
как
освободитель,
уст р аняет
опасность,
тем
самы м
укрепляя
н а дежду
и
уверенность
слабых
в
победе.
Другими
словами,
важна
толь ко
ситуация
—
сла бый
и
маленький
против
большого
и
сильного
в
мо мент
всеобщей
опасн ости ,
а
не
те
кон
кр етны е
герои,
которые
осуществят
эту
ситуацию.
В
басня х
(скажем,
у
Крылова)
басе нн ые
ситуации
возникают
в
результате
вз аим од ейс твия
персонажей,
чьи
хар акт еры
ста б ильн ы.
У
Крылова
лисица
хитра ,
осел
упрям,
лев
храбр,
обез ь яна
кривляется
и
под ражает,
волк
всегда
не
про чь
утащить
овцу ,
соба ки
честно
стерегут
овец.
Эти
установленные
характеры
выступают
в
р азли ч
ных
комбинациях:
лисица,
вым анивша я
у
вор оны
сы р,
—
это,
по-видимому,
та
самая
лисица,
ко тор ая
отказалась
поделиться
с
волком
запасом
«мяснова»; а ворона,
так
гл упо
отда вшая
сыр ,
—
та
самая,
которая
не
ме нее
глупо
угод ила
в
суп.
Ситу ация
в
басне
предопределена
введ енным и
в
нее
«характерами» .
Поэтому
ее
мож но
предсказать,
зн ая,
1Е.
М.
Мел
ети н ски
й.
Герой
волшебной
сказки.
Происхожде
ние
образа.
М.,
Изд.
восто чн ой
литературы, 1958, стр.
258—259.
54
кто
в
ней
участвует.
Ситу ация
«волк и овца»
настолько
ясна,
что
б асно пи сец
ссылается
на
нее
как
на
очевидную
и
от т алки вает ся
от
очевидности:
Волк
но чью,
думая
залезть
в
овча рн ю,
Попал
на
пс арн ю.
Вмест о
одн ой
ситуации
возник ла
д руга я,
пот ому
что
произошла
нео жидан ная
зам ена
второго
у частн и ка:
вместо
«волк плюс овцы»
получилось
«волк плюс со
баки».
Для
Чуков ск ого
не
им еет
значения,
переносит
ли
п ер
со наж,
переходящий
из
одной
сказки
в
другую,
полн ое
собрание
с воих
пост о ян ных
качеств.
У
Чуковского
не
персонажи
определяют
ситуацию,
а,
наоборот,
ситуация
властно
п о дчиняет
с ебе
дей ству ющ их
лиц.
Поч ти
во
всех
ска зках
есть
неожиданное
несчастье,
которое
потом
устраняется,
но
Крокодил,
например,
може т
бы ть
п ри
чиной
несчастья
—
отри ц ат ельн ым
героем
(в «Кра деном
со лнц е») или причиной устранения несчастья
—
пол о жи
тельным
героем
(в «Б арм алее»
или
«Мойдодыре»). Б ол ее
то го,
дал еко
не
всегда
ясно,
тот
ли
это
самый
К рокод ил
или
другой.
В
ска зочн ом
театре
Чуковского
не
признают
традицию
актерского
амплуа.
Зд есь
действует
пра вил о:
любой
ак тер
на
люб ую
роль.
Это
п ра вило
знает
только
одно
исключение:
роль
по
бедителя
в
борьбе
за
правое
де ло
всегда
достается
са
мом у
маленькому
и
с лаб ому.
Чуковский
снова
и
снова
повторяет: «По-моему,
цель
сказочников
заключается
в
т ом,
чтобы
какою
угодно
це
ною
воспитать
в
ре бе нке
человечность
—
эту
дивную
спо
собность
человека
в олноват ьс я
чужими
несчастьями,
ра
дов ать ся
радостями
другого,
переживать
чужую
судьбу
как
свою.
Сказочники
хлопочут
о
то м,
ч тобы
ре бено к
с
ма лых
лет
научился
мы сл енно
участвовать
в
жизни
во
ображаемых
людей
и
зверей
и
вы р вался
бы
эти м
пут ем
за
рамки
эгоцентрических
интересов
и
чувств.
А
так
как
при
слушании
сказо к
ребе нку
свойственно
становиться
на
сторону
добрых,
мужественных,
несправедливо
об и
женных,
будет
ли
это
Ива н-ца ре вич,
или
зайчик-побегай-
чик ,
или
муха -ц о котух а,
или
просто
«деревяшечка в зы-
бо ч ке », вся наша задача заключается в том,
чтоб ы
про
будить
в
восприимчивой
д етско й
душе
эту
драгоценную
55
способность
со-переживать,
со-страдать,
со-радоваться,
без
кот орой
человек
—
не
че ло век» *.
А
ког да
опасность
устранена,
когда
уничт оже н
«страшный великан,
рыжий
и
усат ый
тара кан », когда
проглоченное
Крокодилом
сол нышк о
снова
засия ло
для
всех
на
не бе,
когда
наказан
разбойник
Бармалей
и
сп а
сены
Танечка
и
Ванечка,
когда
комар
вызволил
М уху-
Цокотуху
из
лап
кровососа
паука,
когда
к
Федоре
вер ну
ла сь
по су да,
а
к
умытому
гря знуле
—
все
его
вещи,
когда
доктор
Айболит
выл е чил
звер ят ,
—
начинается
такое
ве
сель е,
такая
рад ост ь
и
ликование,
чт о,
то го
и
гляди,
от
топота
пляшущих
свали тся
л уна,
как
это
случилось
в
с казке
«Краденое солнце», так что потом пришлось
луну
«гвоздями к небесам приколачивать»! На страни
цах
сказок
Чуко вс ког о
множество
сц ен
неудержимо
бу р
н ого,
эк стат ичес ког о
в есе лья,
и
нет
ни
о дной
ск азки,
ко
торая
не
закан чи в алась
бы
весельем.
«Радость»
—
любимое
сло во
Чуковского,
и
он
готов
пов торять
его
бесконечно:
Рада,
рада,
рада,
ра да
дет во ра
З ап ля сала,
заиграла
у
кост ра.
(«Бармалей»)
Ему
неп рем ен но
нужн о,
чтобы
«все засмеялись,
за
пе ли,
об ра д ова лись » («Бибигон»).
Одно
из
своих
стихо
творений,
опубликованное
в
сборнике
«День поэзии», он
так
и
н а звал: «Радость».
Обрадоваться,
запеть,
запля
сать,
засмеяться
—
это
в
сказ ке
Чук овс к ого
синонимы,
потому
что
в
воз ра сте
от
д вух
до
п яти
нел ьзя
ведь
радо
ват ься ,
чинно
сидя
на
месте.
В
«Тараканище»
радуются
звери:
То-то
рада,
то-то
ра да
вся
звериная
семь я,
Поздравляют,
про славля ют
удалого
Воробья!
В
«Айболите»
тож е
радуются
звери,
выкрикивая
звуч
ную
заумь:
И
ле чит
их
д октор
весь
ден ь
до
заката.
И
вд руг
зас мея ли сь
лесные
зверята:
«Опять мы здоровы и веселы!»
1К.
Чуковский.
Об
этой
книжке.
В
кн.
«Стихи».
М.,
Гос лит
издат, 1961, стр.
21.
56
Вот
и
вылечил
он
их,
Лимпопо!
Вот
и
вылечил
больных,
Лимпопо!
И
пошли
они
смеяться,
Лимпопо!
И
плясать
и
б ало вать ся,
Лимпопо!
И
в
«Путанице»
радуются
звери:
Вот
обрадовались
звери:
Засмеялись
и
запели,
Ушками
захлоп али ,
Ножками
з ато пали.
В
«Краденом солнце»
ребята
и
зверята
радуются
вместе:
Рады
зайчики
и
белочки,
Р ады
мальчики
и
девочки.
Ничуть
не
хуже
веселятся
насекомые
в
«Мухе-Цо
кот ух е»:
Прибегали
светляки,
Заж и гали
огоньки,
То -то
стал о
в есело.
То -то
хорошо!
Эй,
сороконожки,
Бегите
по
доро жк е,
Зовите
музыкантов,
Буд ем
тан цеват ь!
Не
только
живые
существа
м огут
радоваться
и
весе
литься.
В
«Федорином горе»
это
случилось
с
пос уд ой:
За смеял ися
кастрюли,
Са мов ару
подмигнули...
И
обрадовались
бл юдца :
Дзынь-ля-ля,
дзы нь- ля -ля!
И
хохочут
и
смеются:
Дзынь-ля-ля,
дзынь-ля-ля!
Д аже
обыкновенная
метла—
па лка,
воткнутая
в
свя з
ку
тонких
прутиков,
—
и
та:
А
метла-то,
а
метл а
—
весела,
—
Заплясала,
заиграла,
заме ла.. .
57
Чем
дальше
—
тем
больше:
Рада,
ра да
вся
земля,
Рады
р ощи
и
поля,
Рады
син ие
озер а
И
седые
тополя...
И
само
сло во
«радость», повторенное многократно,
зву чит,
как
фан фара ,
—
призывно,
заливисто,
пр азд
нично,
словно
расплавленное
золото
течет:
ра-ра-
ра-ра!
И
каждый,
кто
веселится,
доб авл яет
что-то
св ое
в
оркестровку
стих а,
образуя
мажорную
мелодию
радо
ст и.
Вот,
например,
блюдца
—
так
ведь
на
само м
деле
это
не
блюдца,
а
тар ел ки,
большие
медные,
оглушительно
лязгающие
тарелки:
дз ынь- ля-л я!
Дзынь-ля-ля!
Наблюдая
детей,
Чуковский
пришел
к
выводу,
что
«жажда радостного исхода всех человеческих дел и по
ступков
проявляется
у
реб ен ка
с
особенной
сило й
им ен
но
во
вре мя
сл уша ния
сказки.
Если
ребенку
читают
ту
сказку,
где
выступает
добрый,
неустрашимый,
благ ород
ный
герой,
ко то рый
сражается
со
злы ми
вр агам и,
ребе
нок
неп рем ен но
от о ждест вля ет
с
эт им
героем
с ебя.
Активно
соп ер еж ивая
с
ним
каждую
ситуацию
сказки,
он
чувствует
себ я
борцом
за
пр авду
и
страстно
ж ажд ет,
чтобы
бо рьб а,
которую
ведет
благ ород ный
герой,
за вер
шилась
победой
над
ков ар ст вом
и
зло бо й.
Зд есь
ве лик ое
гуманизирующее
значение
сказки:
вся ку ю,
д аже
времен
ную
не удачу
героя
ребе нок
переживает,
как
свою,
и
та
ким
образом
ск азка
приучает
его
принимать
к
сердцу
чужие
печал и
и
радости.
Когд а
на
героя
нападают
ра з
бо йник и,
когда
баба-яга
пр евр ащае т
его
в
мышь
или
в
ящер иц у,
ре бе нок
волнуется
и
требуе т,
наст о йч иво
тре
бует,
чтобы
неприятности,
выпавшие
на
до лю
героя,
пр е
кратились
возмо жно
скорее
и
снова
воцарилось
бы
то
безбрежное
счастье,
которое
для
психики
реб ен ка
явля е т
ся
нормой».
И
снова
Чуковский
подчеркивает: «В пони
ма нии
ребенка
сча с тье
—
это
норма
бытия...»1
1К-
Чу ко вски й.
От
дву х
до
пяти.
М.,
Детг и з,
1957,
стр .
135—136,
Но
полное
счасть е
—
это
всеобщее
с часть е.
И
вот,
чтобы
цикт о
не
был
несчастен
на
ве село м
празднике,
ко
58
торый
регулярно
справляется
в
конце
сказки
Чуковского,
туда
вво д ится
мот ив
прощения.
Злодеи,
по бе жден ные
в
честном
поединке,
недавние
преступники
и
нарушители
спокойствия
ска зочног о
мира,
—
все,
кто
вз ывает
о
мило
сер д ии,
могут
рассчитывать
на
снисхождение
и
в
само м
дел е,
как
правило,
амнистируются
великодушным
ска
зочником.
Победив
Крокодила,
В аня
Вас иль чи ков
не
толь ко
про
стил
е го,
но
и
подружился
с
ним.
Федорина
посуда
про
щае т
хоз яй ку
при
перв ых
признаках
раская н ия .
Мойдо-
ды р,
такой,
казалось
бы,
грозный
и
непримиримый,
дар ует
грязнуле
про щ ение,
как
толь ко
тот
умылся.
В
«Мухе-Цок о ту х е»
да же
не
ставится
вопрос
о
наказа
нии
козявочек
и
т арак ашек ,
позорно
покинувших
Му ху
в
тяжелый
час
опасн ости ,
не
ст авитс я
пот ому ,
что
прощат ь
в
веселый
час
победы
—
зак он
сказки
Чуков
ск ого.
В
«Бармалее» (в первом издании)
ж есто кий
лю
доед,
пр изна в
себя
побежденным,
тож е
пол уча л
проще
ние.
Убедившись,
что
карье ра
людоеда
ему
не
удалась,
Ба рма лей
на
глазах
изумленной
пу бли ки
переквалифи
циров алс я
в
кондитера...
Лишь
в
немногих,
самых
крайних
случаях
злодеи
в
с ка зках
Чуковского
подвергаются
физическому
уничто
жению:
Комарик
«на всем скаку голову срубает»
стар ич
ку
паучку
да
Воробей
«взял и клюнул Таракана.
Вот
и
не ту
великана».
Гораздо
стр ашне й
физического
унич
т ож ения
—
сати ри че ское
осмеяние.
Чуковский
смело
пр едл агает
ма лышу
наряду
с
улыб
чи вым
юмором
са мую
откровенную
с ати ру.
Излюбленной
ее
м ише нью
с лужат
персонажи,
которые
противопостав
ляются
дорогим
Чуковскому
геро ям
—
ма лен ьки м,
сла
бым
фи зич еск и,
но
сильным
своей
хра б рос тью
и
муж ест
вом,
гуманным
и
всегда
гот о вым
к
борьбе.
Сочувствие
читателя
отдано
маленьким
Давидам,
ка кое
бы
имя
и
обличье
они
ни
носили,
и
доброму
докт ору
Айболиту,
ко
то рый
самоотверженно
лечит
зверюшек,
забывая
про
еду
и
сон .
Доктор
Айбо ли т,
брошенный
на
костер
раз бо йни
ком
Ба рмал ее м,
и
не
ду мает
про сит ь
у
под о спевш его
на
помощь
Крокодила
избавления
от
мук.
Нет,
Добрый
д октор
Айболит
Крокодилу
говор и т:
59
«Ну,
пожалуйста,
скорее
Проглотите
Бармалея,
Что бы
жадный
Бармалей
Не
хватал
бы,
Не
глотал
бы
Эти х
маленьких
детей!»
Понятно,
что
нельзя
одновременно
сочувствовать
Айболиту
и
жалким
трусишкам,
испугавшимся
старичка
паучка
(«Муха- Цок о т уха»), или обнаглевшего Крокоди
ла
(«Краденое солнце»), или ничтожного таракана («Та
рак анищ е»), Сатирическая функция сцен испуга во всех
э тих
сказках
равнозначна.
Поэтому
строки
о
кузнечике
из
сказки
«Тараканище»
в
пре жн их
изда ниях
печатались
в
соответствующей
сц ене
из
«Мухи -Цо к от у хи», а могли
бы
с
не
ме ньш им
основанием
заня ть
место
в
«Краденом
солнце»:
А
кузнечик,
а
кузнечик,
Ну
совсем
как
человечек:
Скок,
скок,
скок,
ско к
За
куст ок,
Под
мосток
И
молчок...
«Как человечек»
не
пот ому ,
что
он
маленький,
а
по
тому,
что
с
человеком
его
с р авнить
никак
нельзя
—
толь
ко
с
«человечком» .
Никакого
ув ажени я
не
вы зов ут
и
те
крупные
рога тые
скоты,
которые
на
при зыв
забодать
у гн ет ателя-тара кан а
о тве чают
репликой,
содержащей
це лую
идеологию
шкурничества:
Мы
враг а
бы
На
рога,
Только
шкура
дорога
И
ро га
нын че
тож е
не
деш евы. ..
Т ар акан
—
не
толь ко
узу рп ат ор,
но
и
самозванец,
и
каждо е
слово
его
угроз
—
самозванство:
Погодите,
не
спешите,
Я
вас
мигом
прог лочу!
Н асмеш ка
ск аз очник а
становится
еще
острей
о ттого,
что
он
ст авит
угрозу
таракана
проглотить
волков
и
кро-
60
кодила
совсем
ряд ом
со
строчка ми
о
крокодиле,
п рогл о
тившем
жабу,
и
скушавших
др уг
др уга
волках:
они
от
страха
могут
наделать
больше
бед,
чем
тара ка н
от
же
стокости.
Сатирические
образы
в
ска зках
Чуковского
словно
для
то го
толь ко
и
су щест ву ют,
чтоб ы
еще
больше
возве
личить
«маленького героя»
и
придать
большую
м ораль
ную
ценность
его
подвигу.
*Л.удЕса,
Й » ”ОБЫМЙ1 Ы11 Е"
М”НЕОШЧНЫГ
в
се
сказки
Чуковского
остро
конфликтны,
во
всех
добро
борется
со
злом.
Полная
победа
добр а
над
злом,
утверждение
счастья
как
нормы
бы тия
—
вот
их
идея,
их
«мораль» .
Был о
бы
ошибкой
искать
в
этих
ска зках
мора ль,
выра же н ную
в
ви де
се нт е нции,
как
это
бы
ва ет,
например,
в
б асне,
потому
что
так ой
морали
у
Чу
ков ско го
нет.
Нет
ее,
вопреки
утверждению
некоторых
толкователей,
и
в
«Мойдодыре», где вовсе не сентенция
замаскировалась
под
радостный
гимн,
а,
напротив,
ра
до с тный
гим н
в
честь
вод ы
—
какое
счастье,
что
ес ть
вода!
—
сл учай но
был
принят
за
«мораль»:
Да
здравствует
мыло
душистое,
И
полотенце
пушистое,
И
зубной
порошок,
И
гус той
гребе шок!
Давайте
же
м ыть ся,
плескаться,
Купаться,
ныря ть,
кувыркаться,
В
ушате,
в
корыте,
в
лохани,
В
реке,
в
руч ейк е,
в
океане.
61
И
в
ванне,
и
в
б ане
Всегда
и
везде
—
Вечная
слава
во де!
Только
что
мы
видели,
что
в
ос нове
сказок
Чуков
ского
—
повто ря ю ща яся
сюжетная
схема :
неж данн ая
опасность
—
короткая
борьба
—
поб еда
маленького
ге
роя
—
всеобщий
пр аздни к
и
про ще ние
в ино вных.
«Мой -
додыр»
полностью
укладывается
в
эту
схему,
и
р адо ст
ный
гимн
во де
за нимает
в
нем
то
же
мес то,
которое
в
друг их
с ка зках
отв ед ено
победным
празднествам
с
п ес
нями
и
плясками.
Ра зве
не
очевидно,
что
в
п онима нии
сказочника
мыться,
плескаться,
куп ат ься,
нырять,
кувы р
кать ся—
такое
же
проявление
радости,
как
и
плясать,
тан цеват ь ,
прыгать,
смеяться,
кри ч ать,
пе ть?
Но,
в
отличие
от
други х
сказок,
радость
здесь
вы зва
на
не
победой
маленького
героя
над
каким-нибудь
чуд о
вищн ым
великаном,
напротив
—
мал ень кий
герой
как
будто
бы
да же
пот ер пел
поражение
и
должен
был
сдать
ся
на
условиях,
прод ик това нны х
вр ажеским
главнокоман
дующим
Мойдодыром,
полный
титул
которого
зани мает
целых
четыре
стихотворные
строки:
—
Я
—
Великий
Умывальник,
Зна мен ит ый
Мойдодыр,
Умывальников
Начальник
И
мочалок
Командир.
Все
началось
в
ту
минуту,
когда
проснувшийся
поутру
грязнуля
открыл
глаза:
вещи,
скол ь ко
их
был о
в
комнате,
сн яли сь
с
мес т
и
понеслись.
Грязнуля
ничего
не
может
понять
спро со нья :
Боже,
боже.
Что
случилось?
Отчего
же
Все
кругом
Завертелось,
Закружилось
И
помчалось
колесом?
Все
объясняется
появлением
Мойдодыра,
который
хо тя
и
выгля ди т
очень
злым
и
страшным,
но
ук оряе т
62
г ря знулю
совсем
по-домашнему
и
д аже
не мно го
оз орно ,
похоже
на
то,
как
дра зн ятся
мальчишки
во
дворе.
Но
затем,
рас паляяс ь
все
больше,
он
пер еш ел
от
укоров
к
угро за м,
а
от
угроз
—
к
действию
и
двинул
на
гряз н улю
своих
солдат—мочалки,
щетки,
мы ло.
Вот
это
уже
по-
настоящему
страшно
для
грязн ул и,
ко то рый
потому
и
зовется
грязнулей,
что
т ер петь
не
може т
умываться...
Грязнуля
пы та ется
спа стис ь
бегством,
но
бешеная
мочалка
преследует
его,
не
отставая
ни
на
шаг.
Каза
лось
бы,
спасения
нет,
как
вдруг
—
«навстречу мой хоро
ший,
мой
лю б имый
Крокодил», он «мочалку,
словно
гал
ку,
словно
галку,
проглотил».
И
вот
тут-то
происходит
са мое
замечательное:
Крокодил,
ко то рый
только
что
сп ас
грязнулю
от
напущенной
на
не го
Мойдодыром
мо
чалки,
чем
еще
раз
подтвердил
свою
верность
и
пр едан
нос ть, «мой хороший,
мой
любимый»
Крокодил,
рыча
и
топоча
ногами,
потребовал
от
грязнули
то го
же,
чего
тр е
бовал
злой
и
страшный
Мойдодыр:
Уходи-ка
ты
дом ой,
Говорит,
Да
л ицо
свое
умой ,
Говор ит.. .
В
противном
случае
грязнулю
ож идает
та
же
кар а,
что
постигла
мочалку:
А
не
то
как
налечу,
Г ово рит,
Растопчу
и
пр оглоч у,
Говорит.
«Мойдодыр»
—
вторая
стихотворная
ск азка
Чуков
ск ого,
хронологически
он
идет
сразу
же
за
«Крокодилом» .
В
первой
с казке
Чуковского
с
К рок оди лом
тоже
проис
ходили
неожиданные
трансформации
—
на
наш их
гла
зах
мирный
отец
семе йс тва
пре вр ащался
в
воинственно
го
зверя,
призывавшего
напасть
на
Петроград.
Это
не
вызыва лос ь
логикой
раз вит ия
сю жет а,
наоборот
—
таким
несколько
и ск усств енным
способом
оживлялся
за тормо
зившийся
было
сюжет.
Не
то
в
«Мойдодыре».
Здесь
две
ипо стаси
Крок оди
ла—
добрая
и
злая
—
нат ал кив ают
гер оя
и
чита т еля
на
63
значительное
открытие:
нужно
отличать
требователь
ность
дру зей
от
н ападо к
недругов,
не
всяк ий
причиняю
щий
неп р иятно сть
—
вра г,
лек арст во
бывает
горьким.
Вот
поче му
гряз н улю
зас тав ляет
умываться
Крокодил,
защити вши й
мальчугана
от
бешеной
мочалки.
Но,
если
уж
и
д рузья
хотят
то го
же,
з нач ит,
действительно
Над о,
н адо
умываться
По
утрам
и
веч ер ам!
Теперь
поня тно ,
что
Мойдодыр
вовсе
не
в раг,
а
про
сто
у
не го
та кой
вор ч ливы й,
но
добродушный
хар акт ер
и
что
он
не
нанес
г ря знуле
поражение,
а
помог
свер
шиться
победе,
которую
мал ень кий
герой
од ерж ал
над
самим
собой.
Это
для
него,
пожалуй,
труднейшая
из
всех
побед.
Ее
нельзя
урав нов еси ть
таким-то
и
таким-то
кол и
чеством
шоколада,
мар мел ада
и
виногр ад а,
и
потому
по
бед ите ль
получает
наг ра ду
совсем
особ ого,
не
м ате ри аль
ного
свойства
—
всеобщую
любовь
и
уважение:
«Вот теперь тебя люблю я,
Вот
те перь
те бя
хвалю
я!
Наконец-то
ты,
грязнуля,
Мойдодыру
уго ди л!»
Старик
Мойдодыр
обрадован
и
растроган.
И,
посколь
ку
доставлять
радость
другим
—
са мое
высо к ое
насл аж
дение,
в
конце
сказки
разлив ае тся
традиционное
ве сель е
и
звучит
лику ю щий
гимн:
нем но го
скучн ова ты е
и
чопор
ные
г р аммат ика
с
арифметикой
и
те
не
устояли
на
месте,
пуст ил ись
в
пл яс.
Да же
когда
реч ь
и дет
о
серьезном,
в
голосе
сказочника
слышится
смеш инка,
потому
что
инто
на ции
сказо к
Ч уков с кого
с
начала
до
конца
определены
«заговором»
автора
и
читателя
про тив
пошлости
и
скуки.
И,
когда
из-по д
наслоений
грязи
явилась
здоровая
и
симпатичная
мордочка
героя,
оказалось,
что
сказ ке
Чу
ковского
совсем
не
противопоказана
пу гавш ая
сказочни
ка
«утилитарность» .
Правда,
грязнуля
становится
чи
стюлей
в
результате
таких
удивительных
прик лю че ний,
что
он
и
сам ,
кажется,
не
зам ет ил,
ког да
и
как
с
ним
про
изошло
чудесное
превращение.
Ряд
четко
очерченных
эпизодов,
быстро
пе реходящ их
оди н
в
другой,
проносит
ся
пе ред
г л азами
читателя,
напоминая
мелькание
к ад-
64
ров
в
кино.
Своего
«Мойдодыра»
Чу ко вский
снабдил
подзаголовком
«Кинематограф для детей»
—
и
мог
бы
оспаривать
у
Уолта
Диснея
приоритет
изо бр етен ия
мультипликационных
фильмов.
Детс кий
поэт,
пи сал
Чу ко в ский , «должен,
так
с ка
за ть,
мыслить
рисунками...»
Это
требование,
которое
автор
в
первую
очередь
адресует
себе,
есть
перенесение
в
д етску ю
сказку
кинематографического
п ринц ипа
кад-
ро вк и: «Если читатель перелистает,
например,
мои
дет
ские
сказки,
он
увид ит,
что
для
«Тараканища»
тре буе тся
28 рисунков (по
чис лу
зри те льн ых
обр азо в), для «Мо й
додыра»
—
23ит.
д.» '.
Примечательно,
что
художники,
иллюстрирующие
«Мойдодыра»
на
протяж ен ии
вот
уже
сорока
лет,
для
каждого
очередного
изд ания
рисуют
новейший
Ле нин
гра д:
обновляется
и
становится
современным
интерьер
в
квартире
грязнули,
по
последней
моде
одевается
К ро
кодил,
и зме няютс я
улицы
и
ф орма
пос то вого
милиционе
ра
на
перекрестке,
а
грязнуля
по-прежнему
прод о лжа ет
бежать
от
Мойдодыра,
а
затем
в
обратную
сторону,
все
так ой
же
маленький
и
такой
же
грязный.
Рис ун ки
пере
вод ят
действие
«Мойдодыра»
в
настоящее
время,
не
гре
ша
против
сод ерж ания
сказки.
Мы
можем
точн о
опреде
лить
маршрут
бег с тва
грязн ули
от
бешеной
мочалки:
«По Садовой,
по
Сенной»
и
дальше
«к Таврическому
саду». Но,
закрепленная
в
пространстве,
ска зка
не
ло ка
лизована
во
вре м ени.
В
«Мойдодыре»
особенно
наглядно
видна
условность
сказок
Чуковского.
Это
их
сво йст во
с о вер шенно
о рга нич
но:
чем
строже
выдержана
условность,
тем
точнее
и
прав
дивей
сказочная
действительность,
с оздан ная
Чуковским,
а
разрушение
условности
вед ет
к
неточному
и
н епр ав
див ому
изображению
действительности
жизненной.
Разумеется,
эта
закономерность
распространяется
на
ограниченную
территорию
сказо чно г о
мира
—
на
сказки
Чуковского,
не
противореча
друг им
зак о но дател ьств ам
и
не
отрицая
существования
других
сув еренных
с казоч
ных
государств.
Обращение
за
по мо щью
к
рисункам
при
анализе
ска
зок
Чуковского
целиком
оправдано.
Более
того
—
нельзя
'К.
Чуковский.
От
дву х
до
пя ти.
М.,
Д етг и з, 1957, стр.
329.
5К.
Чуковский
65
анализировать
эти
сказки,
пренебрегая
картинками
к
н им,
пот ому
что
текст
и
кар тин ки
представляют
в
книж
ках
Чуковского
нерасторжимое
целое.
При
всей
неверо
ятности
происходящих
соб ы тий
в
его
ск азках
нет
ничего
так ого,
ч его
нельзя
бы ло
бы
н а рисов ать.
Представьте
себ е
на
мину ту
«Мойдодыра»
или
«Доктора Айболита»
без
рисунков
—
да
это
все
равно
что
в
теат ре
вместо
зри
тельного
зал а
устроить
читальный
зал,
а
вместо
спек
та кля
провести
чтение
пьесы.
Ребенок
хочет,
чтоб ы
было
не
толь ко
с лышн о,
но
и
видно,
вот
как
в
двустишии
из
«Тараканища»:
Только
и
слышно,
как
зу бы
стучат,
Только
и
видно,
как
уши
дрожат...
Чуковский
нико гд а
даже
не
пытается
описать
назван
ный
в
с казке
предмет.
Описа ние
непременно
пр итян ет
эпит ет ы,
которые,
как
установил
Чуковский,
чужд ы
по
этике
детско г о
сти ха.
Значительно
проще
и
действенней
отождествить
наз ван ие
предмета
с
его
изображением.
В
поэ ти ке
сказо к
Чуко вс ког о
ка рт инка
играет
ро ль
не
достающего
эпитета.
Передача
картинке
функций
эп и тета
предельно
об
нажена
в
прозаической
сказ ке
«Цыпленок», где все,
что
сообщается
о
цыпленке
и
его
цыплячьих
похождениях,
сопровождается
ссылкой
на
карти н ку: «Жил на свете
цыпленок.
Он
был
маленький.
Вот
такой:
... Но
он
ду
мал,
что
он
оче нь
большой,
и
важ но
задирал
голову.
Вот
та к:
.. .И
была
у
него
мама.
Мама
его
оче нь
лю
била.
Мама
была
вот
такая:
.. .М ама
кор ми ла
его
чер
вяками.
И
бы ли
эти
черв як и
вот
такие...»
Четк ая
графичность
Р е-Ми,
нарядная,
декор ати вная
ярк ост ь
В.
Конашевича,
любование
животными
у
Е.
Ча
рушина
—
это
все
разные
возможности,
таящиеся
в
сказ
ка х,
ч асть
веселого
спект ак ля ,
называемого
книго й
Чу
ковского.
Разве
не
весело
читать
в
«Мойдодыре»
про
самовар,
который
от
грязнули
«убежал,
как
от
о гня »? В непримет
ном ,
бу дто
вскользь
брошенном
сравнении
да но
и
общее
б егст во
вещей,
не
желающих
служить
неряхе,
и
оби х од
ная
фор мула
отвр а щения,
и
намек
на
то,
что
вода
в
са
моваре
от
сильного
ог ня
в
самом
деле
бежит,
и
комизм
бег с тва
самовара
от
огня,
находящегося,
как
известно,
66
внут ри
само вар а.
На
наших
гла зах
произошло
разруше
ние
мета форы
«убежал,
как
от
огня», и это повело к об
нажению
всех
ее
скр ыт ых
—
прямых
и
непрямых
—
зна
че ний.
Во
взрослой
ре чи
выражение
«задать головомойку»
обозначает
только
нагоняй,
встрепку,
разнос,
распекание,
строжайший
выговор.
Для
нас
тут
давно
уже
нет
ни
го
ло вы,
ни
ее
мытья.
Чуковский
разрушает
и
эту
метафору
те м,
что
в
«Мойдодыре»
головомойку
собираются
задать
умывальники,
с
гол ово й
окуная
грязн улю
в
вод у:
У м ывал ьники
влетя т. ..
И
тебе
головомойку,
Неумытому,
даду т. ..
Желая
заявить
о
нашей
самостоятельности,
мы
гов о
ри м : «Мы сами с усами».
Чело век а
заз нав шего ся
на зы
ва ем
«важной птицей».
О
бездарности
замечаем: «Звезд
с
неба
не
хватает».
Но
для
наше го
слу ха
здесь
нет
ни
усов,
ни
птицы,
ни
звезд
небесных,
а
есть
только
само
стоятельность,
заз най ст во
и
бездарность.
Мы
настолько
привыкли
к
метафорам
н ашей
речи ,
что
совершенно
за
бы ли
о
первоначальном
конкретном
з нач ении
эт их
с ло
восочетаний.
Другое
де ло
дети.
С каж ите
четырехлетнему
или
пя
тилетнему,
что
оловянный
солдатик
стоит
на
часах
—
он
по став ит
игрушку
на
ве рхн юю
крышку
часо в.
Пожалуй
тесь,
что
у
вас
ужасно
трещ ит
го лов а,
и
он
сразу
поин
т ерес уетс я: «А почему же не слышно треска?» Если плит
ка
шоколада
отложена
на
черный
день,
мал ыш
так
и
станет
жд ать
наступления
дня,
ко то рый
будет
черного
цвет а.
«Тут все дело в том,
—
пишет
Чуковский
в
книге
«От
двух
до
пят и», —
что
мы,
взрослые,
если
можно
так
вы
разиться,
мыслим
словами,
словесными
форм ула м и,
а
маленькие
дети
—
в еща ми , «предметами предметного ми
ра».
Их
мысль
на
первых
порах
связана
только
с
кон
кретными
обр азам и.
Потому-то
они
так
горячо
возра
жаю т
против
наш их
алле гори й
и
ме таф ор» *.
Исследуя
реч ь
взрослых,
Чуковский
приходит
к
по-
1К.
Чуковский.
От
двух
до
пяти.
М.,
Д етг и з, 1957, стр.
54.
5*
67
до бно му
же
в ыво д у: «Переносное употребление,
пред
восхищая
буквальное,
не
обо г ащает
речи ,
а
только
засоряет
ее »1.
Вот
почему
Чуковский
сис тем атич ес ки
«разрушает»
метафоры,
прежде
чем
ввести
их
в
текст
своих
сказок.
В
«Тараканище», например,
читаем:
Не
кричи
и
Не
ры чи,
Мы
и
сам и
усачи,
Можем
мы
и
сами
Шевелить
усами.
В
«Бибигоне»
об
индюке
сказано ,
что
он
«важная
пти ца
—
важ нее
вс ех
к ур,
петухов
и
гусей».
В
этой
же
сказке
с
н еба
в
прямом
смысле
срывают
зве зды :
... Звезды,
точно
виноград,
Та кими
гроздь ями
висят,
Что
по нев оле
на
ходу
Не т-не т,
да
и
сорвешь
зв е зду.
Для
в зрос лого
все
это
—
чистый
юмор.
Для
мал ень
ких
детей
он
доступен
лишь
в
том
случае,
если
они
усво
или
мета фори чес кое
зна чени е
э тих
выражений.
Но,
если
повнимательнее
приглядеться
ко
всем
под о бным
сл уча ям
в
ск азках
Чуковского,
можно
заметить,
что
метафора,
в озв раща ясь
к
своему
первоначальному
«вещному»
зн а
че нию,
не
теряет
метафорического,
переносного
смысла.
Действительно,
там,
где
Мойдодыр
го во рит
о
головомой
ке,
есть
не
т олько
мыт ье
го лов ы,
но
и
угроза.
Там,
где
сам о вар
б ежит
от
неряхи,
как
от
огня,
есть
не
только
пе
рекипание
во ды
от
слишком
силь но го
наг рева ния,
но
и
отвращение.
Та м,
где
и ндюк
—
«важная птица», есть не
толь ко
самая
гла в ная
птица
на
птичнике,
но
и
прос то
важничанье
и
зазнайство.
Когда
Чуковский
г ов орит
про
козлов
(«Тараканище»), что они «б о ро д ам и
дор огу
ме
ту т», то надо представить сразу и козлов,
метущих
самую
настоящую
пыль
на
дороге,
и
метафорическую
характе
ри ст ику
длиннобородоеTM.
Во
всех
п р иведен ных
примерах
контекст
возвращает
метафоре
ее
конкретное
зна чени е
и
сохраняет
переносное.
Значит,
в
тех
случаях,
когда
маленький
читатель
не
по-
■К.
Чуковский.
Ж ивой
как
жиз нь.
М., «Молодая гвардия»,
1962, стр .
151.
68
нимает
переносного
смысла
метафоры,
сказ ка
подгото
вит
его
к
по ним анию .
Услыхав
метафору
в
другом
к он
т екс те,
мал ень кий
лингвист
будет
ассоциировать
незн а
комое
значение
со
знакомым.
Так
осуществляется
на
д еле
оди н
из
основных
принципов
сказо к
Чук овс ко го
—
п ринцип
язы ковог о
во сп итани я
*.
В
отличие
от
других
сказок,
где
бог ато
и
р азн ообр аз
но
представлен
животный
ми р,
в
«Мойдодыре»
нет
зве
рей,
кроме
Крокодила
и
двух
его
дето к.
Однако
и
в
этой
сказке
незримо
присутствует
целый
зоопарк.
Дело,
ко
нечно,
не
в
том,
что
полный
угроз
монолог
Великого
Умы
валь ник а
упоминает
о
мышатах,
котята х,
утя та х,
жучках
и
паучках,
а
в
т ом,
что
все
вещи
домашнего
обихода
вос
принимаются,
так
сказать ,
в
«животном аспекте»: «по
душка,
как
лягушка,
ускакала
от
м е ня», умывальники
«залают и завоют», будто собаки.
Кроко ди л
глотает
мо
ча л ку , «словно галку».
Все
предметы
веду т
с ебя
в
сказ
ке
не
прос то
как
живые,
но
име нно
как
животные:
они
бе
гаю т,
прыгают,
ск ачут
вприпрыжку,
несутся
кувырком,
летают
и
т.
д.
Вот,
например,
мыло
«вцепилось в волоса,
и
юлило,
и
м ыл ило,
и
кус а ло,
как
оса».
А
м оча лка
«мчится и кусает,
как
в о лчи ц а». Можно считать,
что
и
«Мойдодыр»
не
составляет
иск лю чения
в
животном
эпос е
Чуковского.
Благодаря
динамичности
образов,
стихотворному
ма
стерству,
игр ов ым
качествам,
оригинальности,
и зяще
ст ву
и
целенаправленности
всех
художественных
средств
«Мойдодыра»
за
ним
заслу ж енно
укрепилась
репутация
одн ой
из
лучших
сказок
Чуковского.
Особенно
хотелось
бы
отметить,
что
пр иклад ная
«идея»
сказки
вытекает
из
существа
обр азо в
и
мораль
дана
как
бы
«без морали» .
Сказка
«Телефон»
о тлич ае тся
от
других
сказок
Чу
ковского
тем,
что
в
ней
нет
конфликтного
сю жет а,
в
ней
ничего
не
происходит,
кроме
деся т ка
забавн ы х
телефон
ных
ра згово ров,
и,
каза лось
бы,
сказка
должна
противо-
1 В 1920 году Чуковский писал о стихах Владимира Маяков
ско г о: «Здесь...
мы
види м
другой
пр ием:
конкретизацию
всего
от
влечен но го.
Пож ар
сердца
из
метафорического
становится
наст оя
щим
пожаром,
таким,
для
которого
существуют
пожарные
кишки
и
брандмейстеры.
Иносказательно
танцующие
не рвы
становятся
за
правскими
тан цор ами .
Эт от
прием
у
Маяковского
весьма
лю бо пы
т ен .. («Ахматова и Маяковский». « Д о м
ис к ус ств», 1920, No I).
69
стоять
остальным,
как
разговоры
противостоят
действию.
Мож ет
показаться,
что
сказка ,
составленная
из
сам о
сто яте льн ых
фра г мен тов,
лишенная
сюжета
и
скво зно го
действия,
ниче м
не
со бла знит
маленьких
детей,
а
ме жду
тем
успех
«Телефона»
у
читател ей
ни чуть
не
меньше
успеха
других
сказок.
Явление
тем
бол ее
загадочное,
что
ав тор,
каж ется ,
противоречит
сам
себе,
нарушает
уста
новленные
им
самим
нормы.
В
чем
же
разг ад ка?
Она
в
том
общем,
что
связ ы вает
разрозненные
те ле
фонные
разговоры
вопр е ки
отсутствию
сюж ет а.
Это
—
игра.
Сказки
Чуковского
вообще
воб ра ли
многие
черт ы
детс ки х
игр ,
но
«Телефон»
—
иг ра
в
чис том
виде,
вер
нее
—
отлично
н апис ан ный
литературный
текст
к
иг ре
в
«испорченный телефон» .
Последовательность
разгово
ров
в
сказ ке
усваивается
ребенком
с
трудом,
но
для
игры
го д ится
любой
их
порядок.
Лучше
всего
запоминается
концовка
(ставшая,
между
прочим,
поговоркой
взрос
лых), потому что в ней есть действие,
есть
ра бот а,
к
т ому
же
нелегкая:
Ох,
нелег кая
это
раб ота
—
Из
болота
тащить
бегемота!
Игрового
п о дтекста
оказалось
достаточно,
чтобы
св я
за ть
сказку.
Тут
мы
стал киваемся
со
свой ственны м
с пе
циально
детской
сказ ке
по ни ман ием
действенности.
«Игра,
—
п исал
А.
С.
Макаренко,
—
имеет
важное
зна че
ние
в
жизни
ребенка,
им еет
то
же
значен ие,
ка кое
у
взрослого
имеет
деятельность,
рабо т а,
служба.
Каков
р ебено к
в
игр е,
таков
во
многом
он
бу дет
в
работе ,
когда
вы р астет.
По это му
во спи тан ие
будущего
дея тел я
проис
ходит
прежде
всего
в
игре » '.
Ес ли
игра
имеет
такое
значени е
для
раз вит ия
малень
ких
детей,
ка кое
придает
ей
вы даю щи йся
советский
педа
гог,
то,
очевидно,
произведения
детской
литературы
также
нужно
расс мат рив ат ь
с
этой
точки
зр ения.
«Оценивая,
например,
кн игу
для
ма лолет ни х
детей,—
напоминает
Чу ко вский ,
—
критики
нередко
з абы вают
п рим енить
к
эт ой
книге
критерий
игры,
а
между
тем
большинство
сохранившихся
в
народе
детс ки х
песен
не
1А.
С.
Макаренко.
Соч .
М.,
Из д.
Академии
педагогических
наук,
т.
IV, стр.
373.
70
только
возникли
из
и гр,
но
и
сам и
по
себ е
сут ь
игры:
й гры
словами,
иг ры
р итмами,
звуками»
И гро вое
начало,
д аже
не
в
таком
широком
смысле,
как
понимает
его
Чуковский
в
пр ивед ен ных
словах,
свой
ст ве нно
всем
без
и склю чен ия
его
ска зк ам
и
стихам.
И ни
ци ати вно му
педагогу,
работающему
с
дошкольниками,
не
трудно
бу дет
догадаться,
как
игра ть
с
детьми
в
доктора
Айболита,
как
в
Мойдодыра,
а
как
в
«Путаницу» .
Дет
ская
способность
отождествлять
себ я
с
добрыми
героями
сказо к
приобретает
в
игре
акт ивн ый
характер.
Сказка
«Путаница»
еще
более
выразительно,
чем
«Те
ле фо н », отличается от « М о йдо дыр а», «Федориного горя»,
«Айболита», «Тараканища», «Краденого солнца»
и
«Му
хи-Цокотухи». В
ней
происходят
как
будто
совсем
н епо
нят ные
вещи:
Свинки
замяукали:
Мя у,
мя у!
Кошечки
захрю к али:
Хрю,
х рю,
хрю!
Уточки
за ква кал и:
Ква,
ква,
кв а!
Курочки
за кряка ли:
Кря ,
к ря,
кр я!
Воробышек
прискакал
И
коровой
замы чал:
М у -у-у!
Во
всех
волшебных
сказках
животные
гов орят
че ло
веческим
голосом.
Но
во р о бышек,
мычащий
коровой,
—
где
это
видано,
где
это
слыхано?
Об
этом
же
недоумен
но
спрашивают
фольк ло рн ые
песенки-н ебыл ичк и:
Где
это
видано,
Где
это
слыхано,
Чт об
к урочк а
бы чка
родила,
Поросеночек
яичко
снес? . .12
1К.
Чуковский.
От
д вух
до
пяти.
М.,
Детг и з,
1957.
с тр . 305—306.
2О.
И.
К апица .
Детский
фольклор.
Л.,
«Прибой», 1928,
стр
102.
Вопрос
содержит
в
себе
ответ:
име нно
в
народных
71
не были чк ах
и
случ аю тся
подобные
чу д еса.
От
этого,
однако,
ни чуть
не
становится
понятней,
каким
об ра зом
фолькло р,
тако й
тре зв ый
в
суждениях,
строгий
в
оцен
ках ,
мудрый
и
точн ы й,
может
культивировать
песенки,
где
мир
изображен
заведомо
неверно:
Ехала
деревня
мимо
мужик а,
Глядь
—
из-под
со баки
л ают
ворота;
Ворот а- то
пест ры ,
собака-то
нова.
Мужи к
схват и л
собаку
И
давай
би ть
палку...
«Не сажай дерево корнем кверху», «От худой курицы
худые
яйц а», «От овцы волк не родится», «Острым топо
ром
камня
не
р азр уби ш ь», «Иглою шьют,
чашею
пьют,
а
плетью
бьют », «Красны похороны слезами,
а
св адьба
пе с ня м и», «Всякому овощу свое время», «Все идет своим
чередом»
—
тв ерд ит
и
тве рд ит
фольк ло р,
строго
сле дуя
за
факт ам и,
а
пот ом
вдруг
по йдет
и
р асска жет ,
словно
здесь
нет
никакого
противоречия,
о
дереве,
ра сту щем
кверху
корнем,
о
курице,
родившей
бычк а,
о
поросенке,
который
н есет
яйца,
о
то м,
что
Жил-был
Мото рн ый
на
белом
свету:
Пил-ел
лапти,
глотал
ба шма ки,
о
т ом,
как
разрубают
г оры
мечом,
и
о
дураке,
плакавшем
на
свад ьбе
и
танцевавшем
на
похоронах.'
И
не
только
русский,
но
и
анг ли йский,
и
французский,
и
многие
другие
народы
хранят
в
своей
памяти
подобные
несуразицы,
расс казыв ая
их
детям
на
протяж ен ии
дол
гого
в рем ени,
возможно
—
столетий.
Перевертыши,
как
правило,
оперируют
об щеизве ст
ными
бытовыми
фактами.
Те
истины,
на
которые
поку
шается
перевертыш,
всегда
лежат
на
поверхности
и
не
тре бу ют
для
их
познания
никаких
специальных
иссле
дований.
Вода
тушит
огон ь,
рыбы
плавают,
птицы
ле
тают,
кор ова
дает
молоко,
кури ца
несет
яйца,
лошадь
та щит
телегу,
у
кошки
родятся
кот ята,
а
у
свиньи
—
поро
сят а
—
таков
примерно
уровень
явле ний ,
разрушаемых
пе рев ерты ша ми.
Н етрудн о
заметить,
что
все
это
—
при
вычные
об щие
м еста,
и
перевертыш,
так им
образом,
72
содержит
в
себе
внут р е нний
про т ест
против
банальности.
Наши
в зросл ые
ре чен ия
«Волга впадает в Каспийское
море»
и
«Лошади едят овес и сено»
—
образчик
истин,
которые
вполне
созрели,
чтобы
быт ь
«перевернутыми».
Но
эти
мы
никогда
не
«перевернем», потому что и в
таком
виде
они
прекрасно
достигают
той
же
цели,
что
и
перевертыши:
возражаю т
против
пошлости
общих
мест.
Некогда
Ч ук овск ий- кри тик
писал
об
Оскар е
Уайльде:
«... Взял
старую,
банальную
тем у
и
вывернул
ее
на из
нанку,
как
мы
вывор ачи вае м
перчатку
или
чулок,
пере
лиц е вал
ее,
—
и
следует
тут
же
отметить,
что
это
у
него
положительно
страсть:
выворачивать
наизнанку
все ,
что
ни
подвернется
ему
под
перо...
Все
навыворот,
все
на
оборот
в
эт ом
перевернутом
мире
(Уайльда .
—
М.
П.), и
вы
только
вчитайтесь
внимательно
в
такие
его
изрече
ни я: «Душа родится дряхлой,
но
становится
все
мол оже »,
«Ненужные вещи в наш век единственно нам нужны»,
«Ничего не делать
—
очень
тяже лый
труд...»1
■К.
Чу ко вски й.
Лица
и
маски.
СПб.,
«Шиповник»,
с тр.
20—21 .
2К.
Чуковский.
Из
воспоминаний.
М., «Советский писатель»,
1959, стр . 214.
Мис тр ис
Гренди
—
соб ират ел ь ный
образ
ан глий
с кой
ханжи.
По
этому
поводу
М.
Горький
заметил
К.
Чуковскому:
«... Вы
не ос пор имо
правы,
когда
говорите,
что
парадок
сы
Уайльда
—
об щие
ме ста
навыворот», но
—
не
допу
скаете
ли
Вы
за
этим
стремлением
вывернуть
наизнанку
все
«общие места»
бол ее
или
мен ее
сознательного
жела
ния
насолить
мистрис
Гренди
и
пошатнуть
английский
пури тан изм?» 2
Ком у
хотя т
«насолить»
фольклорные
перевертыши
—
поня тно;
что
хотел
«пошатнуть»
своими
перевертыша
ми
Чуковский
—
ясн о;
но
почему
они
так
нравятся
де тям?
Ре бе нок
растет
оче нь
бы стр о.
Для
здо ров ого
разви
тия
пс ихик и
ему
необходимо
ощущение
собственного
роста.
И
тогда
р ебено к
переходит
на
«самообслужива
ние
оп т им изм о м»: при помощи перевертыша он обеспе
чивает
с ебе
это
ощущение.
Выворачивая
наизнанку
то,
что
еще
вчера
было
ошеломляющим
открытием,
он
как
бы
заявляет
на м,
что
вчерашние
открытия
сегодня
для
73
него
уже
не
более
чем
общее
место
—
настолько-де
он
вырос.
Мудрый
пе да гог
—
нар од
—
с о чинил
для
детей
десят
ки
стихов
и
песенок,
в
которых
все
про исх од ит
«не так»,
отлично
понимая,
что
можно
утверждать,
вопр е ки
оче
виднос т и,
будто
свинья
лает,
а
собак а
хрюкает,
и
тем
самым
закрепить
в
со знани и
истинное
положение,
при
котором
все
происходит
как
раз
наоборот.
Утверждения,
будто
бы
курочка
бычка
родила,
а
поросенок
снес
яйцо,
настолько
противоречат
уже
известным
р ебенк у
факт ам,
что
св ое
понимание
вздорности
этого
ребенок
воспри
нимает
как
победу
над
всяким
вздором,
ч еп ухой,
небы
вальщиной.
По доб но
любой
другой,
эта
победа
делае т
ребенка
счастл ивы м.
Мнимое
отрицание
реальности
ста
но вит ся
и гров ой
формой
ее
познания
и
окончательного
утверждения.
Чуковский
перенес
эту
форму
в
литературную
сказку
и
впервые
ст ал
употреблять
для
ее
обозначения
термин
«перевертыш», ныне принятый всеми литературоведами.
Перевертыши
ес ть
во
многих
его
ска зк ах,
а
«Путаница»
посвящена
перевертышам
целиком:
Рыбы
по
полю
1уляют,
Жаб ы
по
не бу
летают,
Мыши
кошку
изловили,
В
мышеловку
посадили.
Здесь
каждое
сло во
«не так», и ребенок понимает,
что
здесь
все
«не так», радуется своему пониманию,
и
эта
радость
для
не го
—
радость
победы
«так»
над
«не так» .
Значит,
перевертыш
нар авн е
с
сюжетной
героической
сказкой
осуществляет
по беду
добра
над
зло м
(над «не
т а к») и дает ребенку ощущение счастья,
которое,
по
убеждению
малыша,
есть
норма
бытия.
Поэтому
тради
ц и онной
для
сказки
Чуков ск ого
радостью
в
«Путанице»
отмечается
поб еда
над
путаницей,
поб еда
малыша
Дави
да
над
сложностью
отношений
(даже простых)
в
гиг а нт
ском
мире.
В
нем ецко м
фольклоре
ес ть
стих о тв ор ение,
где
про
исходят
столь
же
невероятные
ве щи:
мы шь
лови т
кошку,
из
пирога
добывают
муку,
в
лод ке
плывут
по
су ше,
курят,
предварительно
спрятав
трубку
в
к арм ан,
и,
74
выпачкавшись
в
бан е,
отм ыв аю тся
в
грязной
луже .
Но
замечательнее
всего
конец
этого
стихотворения:
когда
герой
скончался,
Ему
могилу
п ри несли,
Он
вста л
живой
из-под
зем ли,
Отп ел
отца
святого
И
в
пляс
пус тилс я
сн ова !1
Жизн еутв ержд ающа я
сущность
перевертыша
высту
пает
здесь
со
всей
очевидностью.
Бесшабашному
опти
мизму
стих о тво ре ния
как
нельзя
лучше
соответствует
оптимистическая
по
существу
форм а
перевертыша.
Ненав истни ки
сказки
ч ист о серд ечно
и
неве же ствен
но
полагали,
что
перевертыши
ничего
не
мог ут
д ать
ре
бенку,
кроме
перевернутого,
л ожно го
представления
о
мире.
Та к,
наверно,
был о
бы
на
само м
деле,
если
бы
пе
ревертыши
вдруг
оказались
единственным
средством
по
знания
мира.
К
счастью,
перевертыши
су щес тву ют
во
взаим ос вя зи
со
в сей
системой
детск ог о
чтения
и
—
гла в
ное!
—
на ряду
с
непос ред ственн ым
познанием,
укрепляя
в
ребенке
материалистическое
мировосприятие.
Педологи
р ассмат рив али
перевертыши
изолированно
от
мно гоч ис ле нных
и
разнообразных
ср ед ств
познания.
Поэтому
перевертыши
приводили
их
в
ужас,
и
педологи
пре достере г ал и
от
трагических
посл ед ст вий,
к
которы м ,
якобы
по в едет
чтен ие
перевертышей
детьми:
Ко му
велено
чирикать
—
Не
мурлыкайте!
Ком у
велено
мурлыкать
—
Не
чи рик а йте!
Не
бывать
вороне
ко рово ю,
Не
летать
лягушатам
под
облаком!
В
сказке
«Путаница»
эти ми
словами
заяц
—
живот
ное
кос огла зо е,
длинноухое
и
трусливое
—
«зверюшек не
разумных
угова ривал ».
Но,
словно
дети,
у
которых
отби
ра ют
полюбившуюся
игрушку,
'Немецкие
баллады.
П ере вод
Л.
Г инзб ург а.
М.,
Гослитиздат,
1959.
75
... веселые зверята —
Поросята,
ме дв ежата
—
Пу ще
прежнего
шалят,
За йца
с луш ать
не
хотят.
Вот
именно
—
шалят,
потому
что
перевертыш
—
это
шалость
ума ,
вольность
вообр а жения,
веселая
игра,
с
по
м ощью
которой
можно
отпраздновать
овладение
новой
ступенькой
познания.
Чтобы
помочь
малышу,
Чуковский
с
большим
так
том
вводит
в
свои
перевертыши
правильную
характери
стику
вещей
и
явл ени й,
незаметно
подсказывая,
что
«так», а что «не
так»:
Замяука ли
к отят а:
«Надоело нам мяукать!
Мы
хотим,
как
поросята,
Хрюкать!»
«Не так»
в
перевертышах
су ществу е т
только
в
св язи
с
уже
по знанны м
«так».
Все
эти
небылички,
нескладухи,
неб ыли
в
со знан ии
народа
противопоставлены
былям,
былинам,
бывальщинам.
Крыловская
Си ниц а,
например,
гр оз илась
мор е
сжечь .
Без надеж но ст ь
ее
попытки
вошла
в
пос л ов ицу.
Благодаря
этому
лис ичк и
в
сказке
Чуков
ского
получили
возможность
просто
вз ять
спички,
пойти
к
синему
мор ю
и
без
ли шних
ра зго вор ов
зажеч ь
его.
Это
противопоставление
откровенно
об наже но
в
сказ
ке-рассказе
«Так и не так», где перевертыш осуществлен
графически,
а
противопоставление
подчеркнуто
назва
нием.
Сказка
использует
тот
же
прием
ссылки
на
кар
тинку,
что
и
ска зка
«Цыпленок»: Мура просит Митю на
рисовать
кошку
и
мы шку
—
Ми тя
изобразил
кошку
в
ла
пах
у
мышки,
но
по
требованию
Мур ы
изготовил
дру
гой,
правильный
рисунок.
Мура
просит
нарисовать
дом ик
и
лод ку
—
лодка
под
парусом
появилась
на
верш ине
холма,
а
домик
закачался
на
волнах.
Мура
указывает
Мите
и
эту
его
ошибку,
и
он
снова
рисует
правильную
карти нку.
Потом
Ми тя
рисует
девочку,
уснувшую
под
кроватью,
девочкины
туфе льк и,
поставленные
на
подуш
ку,
летящего
над
городом
мотоциклиста,
самолет
посреди
улицы
и
человека,
запряженного
в
телегу,
на
ко то рой
восседает
лошадь.
76
И
каждый
раз
при в одят ся
два
рисунка
—
правильный
И
неправильный,
потому
что
каждый
раз
Мура
дел ает
Мите
за ме ча ние,
из
которого
ясно,
что
ей-то
хорошо
из
вестно:
самолет
летает
в
небе,
а
мотоцикл
еде т
по
ули
це;
лошадь
запряжена
в
телегу,
а
чело в ек
сидит
в
телеге;
с ама
о на,
Мура,
ложится
спать
в
постель,
а
туфе ль ки
ста
вит
на
пол
у
кр о вати.
Ми тя
(конечно,
испытывающий
Муру)
сокрушенно
вос кл иц ает : «Какой я рассеянный!
Рассеянный
с
Ба ссейно й!» —
проявляя
э тим
во скли ца
нием
изрядное
критическое
чутье,
потому
что
«Рассеян
ны й»
М а ршака
есть
не
что
иное,
как
перевертыш,
в ве
денный
в
сюжет
и
мотивированный
рассеянностью
героя:
Вместо
шапки
на
хо ду
Он
надел
сковороду.
Вместо
валенок
перчатки
Натя н ул
се бе
на
пятки.
Не
од ни
толь ко
перевертыши
п еренес
Чуковский
из
устного
народного
творчества
в
ли тера ту рную
сказку.
Его
сказки
буквально
пропитаны
д етски м
фольклором.
Сейчас
уже
бывает
труд но
с казать ,
то
ли
это
Чуковский
цитирует
детский
фольк ло р,
то
ли
дети
цитир ую т
Чу
ковского:
Рано-рано
Два
барана
Застучали
в
ворота:
Тра-та-та
и
тра -та-та!
Ил и:
—
Откуда?
—
От
верблюда.
—
Что
вам
надо?
—।
Шок олад а.
Мно гие
места
живут
са мос тояте льн ой
жизнью
в
ка
честве
считалок,
дразнилок,
скороговорок.
Грязнулю,
к
примеру,
надо
дразнить
так:
У
тебя
на
шее
вакса,
У
тебя
под
носом
кл як са,
У
тебя
такие
рук и,
Что
сбежали
д аже
брюки...
А
обжору
та к:
77
Роб ин
Бобин
Барабек
Скушал
сорок
человек.
И
корову,
и
быка,
И
кривого
мясника..
.
Гибкость
языка
проверяется
умением
быстро
произ
нест и
такие
строчки:
Выходила
к
ним
горилла.
Им
г ори лла
говорила,
Говорила
им
горилла,
Приговаривала...
Таковы
некоторые
чер ты
соз дан н ого
Чуковским
свое
образного
ска зочног о
мира,
живущего
особой
сказочной
жизнью
по
собственным
сказочным
законам.
Некоторые
кр ит ики
требовали,
чтобы
в
своих
сказках
Чу ков ский
от р азил
советскую
дейс твите ль но с ть.
Верная
сама
по
себе,
рекомендация
критики
в
данном
случае
был а
основана
на
не по нима нии
специфич еских
особенностей
ска зочног о
метода
Чуковского.
С казки
Чуковского
отражают
действительность
в
обобщенной
и
отвл еч ен
но- ус л овной
форме.
Форма
и
содержание
его
сказок
составляют
органическое
единство:
причудливому
ска
зочному
содержанию
у
Чуковского
отвечают
столь
же
причудливые
сказочные
средства.
Нарисовать
советскую
действительность
такими
средствами
значило
бы
соз
да ть
пародию
на
нее
(дальше мы будем говорить об
этом
в
св язи
со
сказкой
«Одолеем Бармалея»), Вот по
чем у,
когда
Чуковский
попытался
изобразить
жизнь
детей
школьного
возраста
до
революции
и
в
наши
дни,
то
изо бра же ние
это
в
обои х
случаях
приняло
форму
повести.
Стихи-.
птоза!
з
всех
детски х
черт
Чуковский
охотней
всего
гово
рит
о
по дви жно сти
ребенка,
о
его
детс кой
активности.
Любимые
игры
ребенка
—
подвижные;
в
движении,
78
играя,
он
познает
окружающий
ми р;
скача
и
прыг ая,
он
со ч иняет
свои
скачущие
и
прыгающие
песенки;
такие
же
песенки
и
стишки
он
пре дпочи тае т
в
качестве
чита
теля.
Чуковский
пр испо со бил
свои
сказки
для
удо в лет
ворения
законного
требования
ма лен ьк ого
человека,
не
навидящего
неподвижность.
Но
вот
пе ред
нам и
повесть
о
детях,
которые
не
мо
гут
порадоваться
сам ой
про ст ой
и
самой
необходимой
ре бе нку
радостью:
они
лиш ены
возможности
двига ть ся.
Они
не
просто
дети,
они
—
костн отубе ркул езн ые
больные.
Их
единственная
на деж да
на
и сцел ение
—
в
неподвиж
нос ти.
Не
день,
не
два,
а
месяцы
и
годы
должны
они
ле
жать
на
св оих
койках
в
одном
и
том
же
по ло жен ии,
что
бы
когда-нибудь
подняться
здоровыми.
В
та кую
к нигу
хочется
войти
на
цыпочках,
чтобы
нс
обеспокоить
бо льн ых,
нахмурив
лоб
и
насу пи в
брови,
ч тобы
не
оскорбить
детей
св оей
с лиш ком
здоровой
и
жизнерадостной
внешностью.
Приготавливаешься
быть
беспомощным
свидетелем
самы х
несправедливых
муче
ний
на
све те
—
детских,
пот ому
что
о
чем
еще,
как
не
о
мучениях,
можно
писать,
ес ли
в зялся
рассказывать
о
д етско м
к остн отубе ркул езн ом
санатории?
И
вдруг
разд а ется
с у масше дший
хохот.
Несколько
десятков
детишек
г огочу т,
ржут ,
за лив аю тся
от
хохота
—
их
распирает
безграничное
счасть е.
Да
что
здесь
проис
ходит?
Мы,
каж ется ,
не
туд а
попали?
Туда,
ту да,
хо тя
на
обложке
книги
стоит
совсем
не
больничное
слово
«Солнечная».
Изучая
этот
психологический
фено ме н,
Чуковский
обнаружил
свойственную
вс ем
детям
вер у
в
т о, «что
ж изнь
соз дана
только
для
радости,
для
беспредельного
сч аст ья,
и
эта
в ера
—
одно
из
важнейших
ус ло вий
их
нормального
психического
роста.
Гигант ск ая
работа
ре
бенка
по
овладению
духовным
наследием
взрослых
осу
ществляется
только
тогд а,
ес ли
он
непоколебимо
доволен
всем
окружающим
миром.
Отсюда
—
борьба
за
счастье,
которую
ре бено к
ведет
да же
в
самые
тяжелые
пе риод ы
своего
бытия.
П о йдите
хотя
бы
в
костнотуберкулезный
санаторий,
где
малые
дети,
привяза нные
це лыми
годами
к
кр о вати,
вырабатывают
в
себе,
наперекор
своей
томи
тельной
жизни,
столько
благодатной
весел о ст и,
что
да же
79
многолетние
боли
не
причиняют
им
травмы,
какую
пр и
чинили
бы
взрослым» ’.
Эти
строчки
из
кни ги
«От двух до пяти»
—
очевид
ная
сс ылка
на
«Солнечную».
Стремление
к
счастью
—
общечеловеческая
черта,
но
быть
счастл ив ы ми
напер е
кор
несчастью
умею т,
каже тся ,
одн и
лишь
дети.
Чуков
ск ий
имел
возможность
убедиться
в
этом,
набл юдая
сотни
д етей
и
особенно
тех,
которых
описал
в
«Сол
не чной»
—
пациентов
детско г о
костнотуберкулезного
санатория.
Но
толь ко
ли
в
стр анн о сти
детской
психо
лог ии
тут
дел о?
Сер еж а,
один
из
героев
«Солнечной», «был уверен,
что
в
том
санатории,
в
который
его
п рив ели,
целый
день
стоит
с тон
и
плач
прикованных
к
постели
р ебят.
И
вот
ока зы вает ся,
что
здес ь
не
толь ко
не
во пят
и
не
стонут,
но
вообще
не
говор ят
о
болезнях:
играют
с
ут ра
до
ночи,
работают,
у ча тся,
совсем
как
здоровые
дети.
Озорничают,
пожалуй,
да же
почище
здоровых.
И
так
много
и
громко
хохочут,
что
им
то
и
де ло
кричат,
чтобы
они
перестали
бузить.
И
стр анно е
дело:
те
бо ли,
которые
казались
Сереже
не вы нос имо
мучительными,
когда
он
лежал
один ,
здесь,
в
компании
с
това р ищами,
не
в ызыв али
ни
стонов,
ни
слез».
Зна чит,
дело
еще
и
в
ко лл екти ве,
ил и,
как
на звал
его
для
себя
уд ивл енны й
Сережа,
недавно
пр иве зенны й
на
Черноморское
побережье
из
Мо сквы ,
в
«компании».
Как
и
в
любом
другом
ко лл екти ве,
здесь
есть
свои
активисты,
св ои
«трудные»
личности,
свои
победы
и
пора жени я.
Это
обы чн ый
детск ий
ко лл екти в,
и
д аже
в
р ядах
коек,
рас
ставленных
в
правильном
по р ядке,
Чуковский
вид ит
не
строгую
геометрию,
а
«веселую толпу ребятишек,
кото
рые
хот ь
и
л ежали
в
кроватях,
но
н есл ись
куда-то
на
всех
парусах».
Колле кт ив
неподвижных
детей,
как
это
ни
парадок
сал ь но,
живет
напряженной,
активной
жизнью
и
выпол
няе т
свое
гла вно е
на значе ние
—
воспитывает
св оих
чле
но в.
Много
времени
пройдет,
пок а
подобранный
в
какой-
то
но члежк е
беспризорный
подросток
Буба
позволит
1К.
Чуковский.
От
дву х
до
пяти.
М„
Детг и з,
1957,
стр .
130—131.
80
лечить
с ебя.
Мно го
сил
употребит
коллектив,
по ка
капризный
и
взбалмошный
Бу ба
станет
работать
вместе
с
другими.
И
вот
он,
лежа
в
постели,
красит
ве дра
и
жад
но
в дых ает
весел ый
запах
свеж ей
масляной
кр аски.
Но
вдруг
все
победы
кол лек ти ва
и дут
п рахом :
Бу ба
ож есто
ченно
рвет
буквы,
которые
ему
пор уч или
нак ле ить
на
картон
так,
чтобы
получились
слова
первомайского
ло
зунга.
Оказывается,
шестнадцатилетний
Буба
неграмотен
и
пор уч ение
клеить
буквы
воспринял
как
умышленное
оскорбление.
Словно
по
сигналу,
вся
Сол нечна я
начинает
«бузить» .
Значит,
одной
си лы
детского
ко ллек ти ва
недостаточ
но,
чтобы
об еспеч ить
каждому
ре бе нку
радостное
миро
во сп р иятие.
Зна чит,
должна
бы ть
какая-то
друг ая
сила,
способная
справиться
с
этой
задач ей.
Она,
эта
сила,
приходит
к
детям
вместе
с
Израиль
Мойсеичем,
слабым
и
хил ым
молодым
человеком,
кото
рый ,
бывало,
«войдет незаметно,
как
будто
украдкой,
пр исядет
на
тум боч ку
возле
чьей-нибудь
койки
и
на
чинает
с воим
тихим
голосом
в яло
и
неторопливо
р асс казыв ать,
что
творится
сейчас
на
советской
земле...»
И
понемногу
в
его
рас ск азе
растворяется
костноту
беркулезный
са на торий
с
его
больными
детишками
и
воз
никает
огром на я
стр ана,
где
ид ет
огромная
стройка.
Тысячи
лю дей
взмахивают
топорами,
тысячи
людей
вонз аю т
л опа ты,
вздымаются
к
небу
подъемные
кр аны,
вгрызаются
в
промерзлый
песок
экскаваторы,
сходят
с
конвейеров
станк и
и
автомобили,
и
вот
уже
склони
лись
люди
над
этими
станками,
и
вот
уже
мчат
по
до
рогам
эти
ав томаши ны ,
и
возникают
дом а,
фабрики,
заводы,
Днепрогэсы,
и
все
это
вместе
наз ы вает ся:
пяти
летка.
И
не
был о
сред и
больных
дет ей
т ак ого,
кто
бы,
слушая
Израи ля
Мойсеи ча,
«не рвался бы и сам
в
эту
стройку,
не
хотел
бы
внести
в
нее
ну
хо ть
кирпи
чик,
хоть
винтик ,
чтобы
поскорее,
не
послезавтра,
а
за вт ра,
назло
кро во сос ам
буржуям,
наступило
всесвет
ное
счастье».
А
для
того
чтобы
скорее
стать
в
ряды
строителей
пятилетки
—
борцов
за
всесветное
счасть е,
нужно
по
быстрей
изба вит ьс я
от
с воих
нед уг ов
и
научиться
раб о
тать.
И
вот
уже
началось
в
Солнечной
соревнование
за
лучшую
учебу
и
поведение,
и
вот
уже
маленький
сосед
6К.
Чуковский
81
по
койке
у чит
большого
Бубу
грамоте,
и
Солнечную
про ;
сто
не
у зн ать.
Желан и е
почув ств ова ть
себя
членами
вели к ого
коллектива
работников
п ятил етки
становится
могущественной
дисциплинирующей
и
во с питы ваю щей
сило й
для
больных
ма льчи ков
и
девочек,
составляющих
коллектив
С ол неч ной.
«Вы не только учите,
вы
лечите
их
пяти летко й », —
сказал
как-то
доктор
Из раи лю
Мой-
се ичу.
Энтузиазм,
вызванный
расс ка зам и
Из раиля
Мойсеи-
ча,
поражает
случайно
забр едш их
в
санаторий
иностран
цев.
«Когда они шли сюда,
он и,
долж но
быть,
пригото
вились
к
очень
плачевному
зрелищу,
потому
что
по
ход ка
у
них
похорон на я,
а
на
ли цах
благопристойная
грусть.
Но
вскоре
брови
у
них
поднимаются
и
гла за
круглятся
удивлением:
—
Не уже ли
эти
дет и
больные?»
Таким
образом,
если
детям,
прикованным
к
больнич
ным
ко йк ам,
их
положение
не
мешает
воспринимать
жи знь
как
счасть е,
то
этому
причиной,
во-п ервых ,
свой
ственное
их
возрасту
«самообслуживание оптимизмом»,
во-в то рых ,
во здейс твие
кол лек ти ва
и,
в-третьих,
коммуни
стическое
воспитание
—
во спи тани е
п ятил етко й.
На
этих
тре х
основах
стоит
«Солнечная»
Ч уков с кого
—
и
трагиче
ска я
тема
костн отубе ркул езн ог о
санатория
п ер ера стает
в
жизнерадостное,
солнечное
повествование.
Каждая
из
этих
трех
основ
жизнерадостности
кн иги
вызывает,
по
замыслу
Чуковского,
удивление
у
тех,
кто
более
друг их
может
в
данном
случае
уд ивлят ьс я
благо
дар я
тому,
что
см отри т
со
стороны:
свойствам
детской
психологии
удивляется
взрослый
читатель;
почти
магиче
скому
вл ияни ю
ко ллек ти ва
—
новоприбывший
больной,
еще
не
почувствовавший
себ я
его
членом;
могуществен
но му
во здей ств ию
коммунистического
вос пита ни я
—
тури
сты
из
кап итал и ст ическ ой
за гра ницы.
Если
бы
книжка
п иса лась
для
взрослых,
вместо
удивляющегося
читателя
в
пове с ти
по явилс я
бы
взрослый
герой,
гла зами
которог о
была
бы
ув иде на
необ ы чно сть
детско й
пс ихо логи и.
Но
к нига
пр едназн ачена
для
д етей
—
и
э тот
удивляющийся
гер ой
ост ал ся
за
ее
пределами.
Тема
новоприбывшего
Сер ежи
повисает
в
воздухе,
а
потом
пос т епе нно
сходит
на
нет
по
мере
то го
как
пропадает
необходимость
в
Се
82
ре жино м
в згля де
на
коллектив
со
стороны;
вопр ек и
ожида нию ,
Сережа
не
становится
главным
героем
по
вести,
д аже
больше
—
относительно
него
в
книге
вообще
ничего
не
происходит.
Иностранцы
появляются
в
пове с ти
как
вст авно й
эп изо д,
цель
которого
—
осуществить
взг ляд
со
стороны,
пок азать
странность
происходящего,
осуще
ствить
«остранение», как назвал этот прием В.
Шклов
ский.
Любо п ытно ,
что
и
зд есь,
в
прозаической
к ни жке,
Чу
ко вск ий
подчеркивает
физическую
ма лост ь
и
слабость
Израи ля
Мойсеича,
побеждающего
врага
Солнечной
—
недисциплинированность
ко лле к тива
и
обострение
б олез
ни,
которое
вызывается
детс кой
недисциплинирован
н ос тью.
Его
расс ка зы
о
пятилетке
безы ску сны ,
голос
его
слаб,
и
ес ли
все
же
его
слов а
производят
на
Солнечную
такое
впечатление,
то
это му
причиной
их
связь
с
жизнью,
с
личным
примером
рассказчика.
В едь
пр ежде
чем
прийти
к
детям
с
ра сска за ми
о
пяти ле тке ,
узкогрудый
и
хи лый
Изр аиль
Мойсеич
«проработал всю зиму в бригаде комсомольцев -бе тон щ и
ков
на
постройке
Во лгогр ад ск ого
тракторного
(под
снежными
бурями,
на
жесточайшем
морозе)
и
добился
там
невиданных
т е мпо в...»
Какой
беспомощной
и
жалкой
каж ет ся
ряд ом
с
ком
сомольцем
И зраи лем
Мойсеичем
штатная
воспитатель
ница ,
которая
говорит
о
той
же
пятилетке
с
невырази
мой
скукой,
все
время
поглядывая
на
час ы!
Даж е
слова
«штурм»
и
«энтузиазм»
она
произносила
как
бы
зевая.
Комс омол ец
—
агитатор
и
воспитатель
—
измеряет
свое
вре мя
не
минутами,
оставшимися
до
ко нца
рабочего
дня,
а
годами
полезного
труда,
которые
предстоят
детям
в
будущем.
Из
многочисленных
вз ро слых
в
Солнечной
трое
за
вое вали
сим па тию
автора
и
его
маленьких
гер о ев:
один
лечит
детей,
другой
разв ле ка ет
их,
третьему
удается
более
актив но ,
чем
докт ору
Барабан
Барабанычу
и
ин
структору
Адаму
Адамы чу ,
выступить
в
рол и
педагога,
но
этот
третий
—
не
педагог.
Простой
комсомолец,
труженик
пятилетки,
он
приобщает
дете й
к
шумящей
за
воротами
санатория
большой
жизни,
и
вот
ее-то
и
следо вал о
бы
6*
83
пр изна ть
тем
педагогом,
ко то рый
воспитывает
пациентов
Солнечной.
Чуковский
в
«Солнечной»
несколько
раз
пов торяет,
что
он
пиш ет
не
выдуманную,
а
п од линную
ис тор ию.
Это
замечание
можно
было
бы
при нять
за
обычный
автор
ский
прие м,
но
на
этот
раз
оно
не
имеет
ц ели
уве рить
читателя
в
достоверности
выдуманной
истории,
так
к ак,
по-видимому,
элем е нт
вы мысл а
в
«Солнечной»
очень
мал,
а
отношение
вымысла
к
подлинному
мат ер иалу
та
ково,
что
«Солнечную»
вернее
бы ло
бы
считать
художе
ст венны м
очерком.
Живая
д етс кая
речь
звучит
на
каждой
странице
«Солнечной»: вот дети перекрестили доктора Демьяна
Е м елья новича
в
Барабан
Барабаныча
—
доктор
и
вп рямь
так ой
толстый
и
круглый,
как
ба раба н;
Адама
Адамыча,
который
имел
привычку
пов торять
утвердительно
«так-
та к- так- т ак», они прозвали пулеметом;
свиноводческая
ферма
в
совхозе
пр евр ат илась
у
них
в
неслыханный
город
Свингород,
или,
еще
лучше,
в
Свинск.
Десятки
других
наблюдений
над
детс ко й
речью,
мышлением
и
по
в еде нием
собраны
в
книжке,
вернее
—
вся
она
целиком
представляет
наблюдение
над
деть м и,
произведенное
точ
ным
и
любящим
глазом,
причем
с
особенным
уд оволь
ств ием
автор
отмечает
черты
нов ого,
советского
детства.
Выступая
на
Первом
Всесою зн ом
съезде
советских
писателей,
Чуковский
так
определил
то
новое,
что
появи
лось
в
д етско й
литературе
и
в
его
тв орче ств е
детского
писателя
после
Октября:
«Главное же
—
в
то м,
что
у
нас
есть
животворная
си ла,
которой
нет
ни
у
кого
из
наш их
европейских
коллег.
Эта
сил а
—
в
том,
что
беско неч но е
количество
нитей
идет
к
нам
от
наших
чита тел е й,
от
вс ех
пионерлагерей,
от
всех
детских
домов
кул ьт уры
и
школ.
Мы
пост о янно
пребы
ваем
в
атмосфере
детского
доверия,
детско й
нежн о сти,
детс ко й
р е внивой,
требовательной
и
напр яже нной
любви.
Это
внушае т
нам
особую
щеп етил ь но сть
по
отношению
к
своему
ремеслу»1.
1 Первый Всесоюзный съезд советских писателей.
Стенографиче
ский
отчет.
М.,
Г ослит и здат , 1934, стр.
181—182.
Де й стви т ельн о , «Крокодил» (единственная дореволю
84
ционная
ск азка
Ч ук овск ого)
был
начат
Чуковским
для
со б ст венных
детей,
а
все
остальные
его
сказки
написаны
во
взаимодействии
с
большими
детскими
коллективами:
«Тараканище», «Муха -Цок отуха», «Мойдодыр»
были
на
писаны
для
ребятишек
из
Петроградского
детского
дома
им.
Н.
К.
Крупской
(на Лахте), «Солнечная»
—
для
костнотуберкулезных
больных
из
детского
санатория
в
А л упк е, «Бибигон»
был
рассказан
д е творе
в
Вак овс ком
санатории,
«Одолеем Бармалея»
—
результат
кон та кта
с
дошкольниками
ташкентских
детдомов.
До
революции
сочинять
сказки
для
дет ей
считалось
чем-то
очень
зазорным.
Знакомые
уго вар ива ли
Чуков
ского
бр о сить
«эти сказки»
и
заняться
«серьезным де
ло м». «Это твой папа сочиняет крокодильчиков?» —
спро
сили
у
его
сы на
в
школе,
и
сыну
было
стыдно
со
знаться,
что
его
отец
занимается
таким
мал опо ч тенны м
трудом.
А
теперь
детск ий
писатель
попал
в
обстановку
самого
трог ат ел ьн ого
внимания
и
з або ты,
его
труд
стал
счи
таться
дел ом
государственной
важности,
за
его
творче
ством
следили
тысячи
пристрастных
и
сочувствующих
гла з.
Неу зна ваемо
изменился
Петроград,
в
ко то рый
когда-
то
приле та л
Крокодил.
Из
скучного
г орода ,
где
«не было
ни
пионеров,
ни
октябрят,
ни
автобусов,
ни
красных
фла
гов,
ни
П е рвого
мая,
ни
Театра
юного
зрителя,
ни
пио
нерского
двор ца,
ни
эскимо,
ни
ки но», он превратился
В
свой
люб имый,
С вой
родимый,
Свой
чудесный
Ле ни нгра д!
(«Бармалей»)
Совсем
иначе
склады вало сь
детство
сверстников
авто
ра.
Об
этом
Чуковский
рассказал
в
другой
пов ес ти
—
«Гимназия», потому что его сказки не
могли
отразить
реал ь ную
действительность,
все
ра вно
какую
—
новую
или
пр ежн юю.
Почти
одновременно
с
«Гимназией»
Чу
ковский
снова
вернулся
к
своему
любимому
о бразу
док
тора
Айбо л ита,
исцелителя
стр ажду щи х
(Барабан Бара -
бан ыч
из
«Солнечной»
—
его
ко лле га
и
едва
ли
не
род
с т венник ), и пересказал прозой сказку англичанина Гью
85
Ло фтинг а
о
добром
докторе.
Вообще
в
т ворче ств е
Чуко в
ского
для
детей
тридцатые
годы
—
период
прозы.
Две
повести
—
«Солнечная»
и
«Гимназия», —
множество
пере
ск азов
и
обработок,
в
том
числе
знам ен иты й
«Барон
Мюнхаузен» (по Распэ)
и
«Доктор Айболит» (по Гью
Лофтингу),
новые
изд ания
«От двух до пяти»,
пере
воды—
так ова
литературная
продукция
Чуковского
за
«прозаическое»
десятилетие.
После
долгого
перерыва
он
снов а
берется
за
перо
к ри
ти ка
детско й
литературы.
Его
статьи
«Хорошая,
яркая
дет ская
книг а
будет
с о зд а на », «Дела детские», «Постав
щик и
литературных
с у х ар ей », «Дайте детям книгу», «Ми
раж и
т ира ж ей», «Детский сахарин», «Опять о Мюнхау -
зе не », «Пора бы поумнеть», «О детской книжке», «Нар-
ко мпр ос
и
де т и», «Заметки читателя», «Патриоты школы»
и
другие
печатались
в
«Правде», «Известиях», «Литера
турной
га зете », «Учительской газете», «Рабочей Москве»
и
журналах.
Дореволюционные
статьи
Чуковского
о
д етс кой
лите
ратуре
б ыли
сплошным
«да сгинет!».
Ныне шни е,
даже
са мые
острокритические
статьи
проникнуты
пафосом
утве ржд ения: «Да живет!» Пусть живет и расцветает
советская
литература
Для
детей,
пусть
растут
ее
ид ей
ность
и
мастерство,
пусть
по являю тс я
в
ней
но вые
талан
ты
и
талантливые
произведения,
пусть
год
от
году
увели
чива ются
ее
ти раж и,
пусть
художники
создают
велико
лепные
рис унк и,
—
и
пусть
она
бу дет
нетерпима
к
халту
ре,
штампу,
безд ейст вен нос т и.
Сборник
ли р ически х
стихов
ру сск их
поэтов
от
Держа
ви на
до
Блока
и
Маяковского,
составленный
Чуковским
для
ю но шест ва,
не
был
его
единственной
встречей
с
поэ
з ией
в
«прозаическое»
десятилетие
его
творчества.
Чуков
ский
продолжал
пер е во дить
издавна
полюбившиеся
ему
анг л ий ские
народные
стихи
и
пес е нки
—
чуждые
дидактики,
игро вые ,
забав н ые
создания
английского
юмора.
И
все
же
несколько
переводов
из
английской
народ
ной
поэзии
для
д етей
—
это
исключение,
о
котором
п ри
н ято
говорить:
тридцатые
годы
были
в
творче ств е
Чу
ковского
периодом
прозы,
а
не
ст ихо в.
В
1936 году он обратился к М.
Горькому
с
письмом.
«Дело шло об одной моей книге,
которую
я
соч ин ил
еще
86
в
двадцат ы х
годах,
—
вспоминает
Чуковский.
—
Книга
так
и
не
уви де ла
света
—
фан таст ич еская
повесть
о
том,
как
люд и
в
СС СР
научились
управлять
п огодо й.
Книга
оказалась
неудачной.
По
прошествии
многих
лет
я
за
теял
написать
ее
по-новому.
Но
ка к?
В
к аком
стиле?
Для
какого
читателя?
Прозой
или
стихами?»1
1К.
Чуковский.
Из
в оспо минан ий .
М., «Советский писатель»,
1958, стр.
199.
Чуковский
решил
—
стихами,
но
написанная
на
эту
тем у
поэма
«Госпогода»
тоже
не
была
опубликована.
Так им
образом,
одна
и
та
же
те ма
р еш алась
дваж ды:
прозой
в
десятилетие
стихотворных
сказок
и
стихами
в
десятилетие
про зы,
и
оба
ре шен ия
не
уд овле творя ли
взыскательного
художника.
С
перв ог о
дня
вой ны
Чук овск ий
начал
рабо т ать
в
и но
странном
отделе
Совинформбюро.
В
зарубежной
(глав
ным
образом
американской)
пр ессе
стали
появляться
его
статьи
и
очерки
—
«Плечом к плечу», «Старинная друж
ба», «Книги и бомбы», «Дети великой эпохи», «Русско-
американские
с в язи», «Госпиталь прифронтовой полосы».
Чуковский
ра сс казыв ал
англичанам
и
американц ам
о
мужестве
со вет ско го
н ар ода,
напря гаю ще го
все
сил ы
для
того,
чтоб ы
задержать
и
отбросить
фашистских
захват
чико в,
о
зверствах
оккупантов,
о
бомбах,
рвущихся
в
стен ах
биб лио те к,
о
массовом
героизме
со вет ских
лю
дей
и
о
детях,
которым
вып ало
на
долю
жить
во
в ремя
самой
страшной
войны,
какую
только
зн ало
че лове
чество.
В
результате
вое нных
д ейст вий
множество
детей
оста
лось
без
род ных ,
без
кров а,
без
пищи.
В
это
трудное
вре
мя
Советская
страна
в зяла
заботу
о
детях
на
с ебя.
Вместе
с
Ек ате рин ой
Павловной
Пешковой
и
целой
гр уп
пой
московских
и
узбекских
общественных
деятелей
Чу ко вский
принимал
у ча стие
в
создании
в
Ташкенте
коми с сии
помо щи
эвакуированным
детям,
ко тор ая
раз
в ерн ула
свою
работу,
обеспечивая
малы ш ей
всем
необ
ходимым
и
ра зы скив ая
их
родных.
Всю
свою
литератур
ную
деятельность
Чуковский
поставил
на
службу
зад ач ам
комиссии.
В
книжке
«Дети и война», которая почти одновремен
но
вышла
на
русском
и
уз бек ском
языках
в
Ташкенте
и
на
английском
—
в
США,
Чуковский
рассказал
о
детях
87
прифронтовой
поло с ы,
потерявших
родителей
и
вновь
на шед ших
их
благодаря
заботам
комиссии.
Не
менее
интересным
был
расс ка з
о
д етях
тыла.
К азалось
бы,
в
св язи
с
трудностями,
уходом
учителей
на
фронт,
о тд ачей
школ
под
госпитали,
должна
была
ослабнуть
дисциплина
и
упасть
успеваемость
школьни
ков .
Но
ничего
подобного
не
произошло,
напротив
—
дети
стали
учиться
старательней,
установили
самок онтрол ь .
«Чем объяснить этот парадокс педагогики?
—
спр ашива л
Чуковский
в
книжке
«Дети и война». —
Может
быть,
это
объ ясн я ется
тем,
что
всюду,
во
вс ех
г ород ах
и
поселках,
д ети
видят,
как
на пря же нно
и
страстно
работают
взрослые...
Весьма
вероятно,
что
это т
энтузиазм
не
мог
не
за ра
з ить
детей,
ибо
едва
ли
во змо жно
ре бе нку
бы ть
лодырем
там,
где
его
бл изк ие
—
гер ои
труда.
Кроме
т ого,
школьники
в
огромном
своем
большинст
ве
очень
хорошо
понимают,
что
дочери
и
сыновья
тех
от
цов ,
которые
же ртв уют
жизнью
на
фро нт е,
не
имеют
пра
ва
на
безделье»*.
1К.
Чуковский.
Д ети
и
война.
Та шкен т.
Госи зд ат
УзССР.
1942, стр.
18.
Нет
ничего
удивительного,
что
у
писателя
возникло
же лан ие
не
только
в зрос лым
р ас ск азать
о
детях
в
усло
виях
войны,
но
и
самим
детям
поведать
о
войне.
Чуков
ск ий
решил
изобразить
со бы тия
От еч ест венно й
вой ны
и
выразить
св ою
вер у
в
скорую
и
по лную
по беду
советского
нар ода,
прибегнув
к
обычной
своей
сказочной
манере.
На
эт ом
пути
его
п о дстер егала
горькая,
но
совершенно
за
кономерная
неудача.
Еще
в
конце
дв адц атых
—
начале
трид ца тых
годов
Чуковский
почувствовал,
что
возможности
созданного
им
тип а
детско й
сказки-поэмы
не
безграничны.
«Я пере
жи ваю
в
настоящее
время
некоторый
литературный
кри
зис ,
—
писал
он.
—
Де ло
в
то м,
что
та
фор ма
песенной
лирической
поэм ы,
которую
я
вв ел
в
детску ю
лите ра туру ,
сочинив
«Крокодила», та форма,
которая
дал а
мне
воз
можность
написать
целый
ряд
поэм ,
начиная
«Мойдоды-
р ом»
и
кончая
«Бармалеем», теперь уже не удовлетво
р яет
меня.
Нужно
найти
нов ые
формы.
Как ие
—
еще
не
зн аю».
88
Десятилетие
прозы
бы ло
вр ем енем
поис ко в,
раздумий,
вну тр еннего
созревания
новых
фор м.
Войн а
потребовала
от
писателя
готов ой
литературной
продукции
сей час
же,
нем едл енно ,
без
оттяжек
и
проволочек.
И
то
ли
Чуков
ский,
остро
ощущая
свой
моральный
до лг
перед
читате
лем,
временно
с нял
вопрос
о
поисках,
то
ли
ему
показа
лось,
что
он
и
вп рямь
нашел
искомую
форму,
но
только
новая
его
сказка
получилась
алле гори чес к им
из обра
жением
войны
советского
народа
против
фашистских
захватчиков
в
виде
борьбы
между
дву мя
группами
зверей.
На
само м
дел е
сказк а-аллег ор ия
была
не
развитием
прежней
сказочной
формы
Чуковского,
а
ее
пол ным
ра з
рушением.
Аллегорическое
из обр ажени е
со б ытий
всегда
был о
чуж до
ска зк ам
Чук ов ск ого,
они
вообще
изображали
не
ко нкр етн ые
события,
а
определенные
отношения.
По
это му
любая
из
его
прежних
сказок,
где
есть
борьба
доб
ра
против
зла,
могла
бы
с
таким
же,
ес ли
не
с
большим,
чем
«Одолеем Бармалея», правом называться « вое н ной
сказкой»
и
претендовать
на
отображение
характера
(но
не
со б ыт ий!) Отечественной войны.
Бы ло
очень
весело
узна вать
в
«Айболите», «Мойдо-
д ыре», «Федорином горе», «Мухе- Ц око т у х е», «Краденом
с ол нце», «Тараканище»
в
хара кте рах
жив отн ых
—
чело
в еческ ие
характеры,
в
отношениях
между
животными
—
человеческие
отношения,
но
никогда
происходящие
в
ск азках
со быт ия
не
отождествлялись
с
историческими.
В
военной
ска зке
«Одолеем Бармалея»
без
всякого
труда
узнаются
события
Отечественной
войны:
вероломное
на
па ден ие
фашистов
на
на шу
страну,
трудности
первого
пе
ри ода
войны,
освобождение
сел
и
городов,
героические
под виги
советских
бо йцо в.
Все
эт о,
отнесенное
за
счет
вою ющ их
зверей,
помимо
в оли
авт ор а,
обращалось
пр о
тив
тех
лю дей,
которых
он
хотел
пр осла в ить.
А
когда
Айболит
думает
о
своих
любимых
зв ерях
как
«о великих
бойцах,
о
их
бла город н ых
и
смелых
сердцах,
поги бш их
за
вольную
ро ди ну », то такое смешение понятий произ
водит,
оп ять- та ки
пом имо
воли
авт ор а,
оче нь
тяго стн ое
впечатление.
Выш е
говорилось
о
то м,
что
в
большинстве
сказо к
Чуковского
слабый
борется
с
си ль ным
и
по беж дает
его .
Подобная
ситуация,
на полне нная
конкретным
историче
89
ск им
содержанием,
продиктовала
авт ору
разделение
жи
вот ных
на
два
лагеря,
в
результате
чего
во
враждебный
лагерь
попали
те
из
них,
которые
благодаря
своей
си ле
неизменно
пользуются
симпатией
фольклора,
а
ст орон
ни ками
доброго
Айболита
оказали сь
почти
исключитель
но
звери
и
птицы,
за
которыми
укрепилась
репутация
с лаб ос иль ных,
немощных,
беззащитных.
В
период
борьбы
советского
народа
с
гитлеровским
фашизмом,
борьбы
не
на
жизнь,
а
на
смерть,
это
про
зв уч ало
фальшиво.
Начав
одн ажды
проводить
аналогию
ме жду
реальной
борьбой
и
войной
зверей,
автор
должен
был
бы
вести
ее
по сле дов а тел ьно,
тщательно
п ровер яя
каждый
об раз
с
точки
зре ния
двух
контекстов
—
ко нте кста
сказки
и
к он
текста
реальной
жизни,
считаясь
с
существующей
в
фоль клор е
традицией
раз дел ения
зверей
на
добрых
и
злы х.
Каждое
нарушение
это й
последовательности
вос при ни мает ся
читателем
как
огорчительное
противо
речие.
«Я понял свою ошибку:
в
ту
многотрудную,
вели
чавую
эпоху
выступать
с
веселыми
стишками,
из обра
жающими
войну
как
сраж ение
между
зверьми
и
зв е
рушками,
бы ло
бестактно
и
против
воли
автора
могло
пр озву чат ь
как
пародия»,—
писал
Чуковский,
име я
в
виду,
что
внутренняя
противоречивость
сказки
могла
превратить
ее
в
пародию
на
действительность.
Только
о дна
—
последняя
—
главка
«военной сказки»
органична
для
Чуковского:
она
свободна
от
вс яких
ал ле
гор ий,
в
ней
просто
по-сказочному,
по-чуковски
...вороны
над
пол ями
Вдруг
зап ели
соловьями.
И
ручьи
из-под
земли
Сладк им
медом
потекли.
Куры
стали
па ва ми,
Лысые
—
кудрявыми.
Чудеса
в
этой
главе
настолько
в
духе
сказок
Чуков
ского,
что
их
так
и
тян ет
н а звать
обычными
чудесами.
Из
всего
объемистого
«Одолеем Бармалея»
автор
сохранил
в
ви де
отдельного
стихотворения
толь ко
эту
гла вк у,
вы
90
черкнув
из
нее
все,
что
напоминало
о
неу д аче
«военной
ска зки ».
Борис
Полевой
в
своем
содокладе
о
детской
лит ерату
ре
на
Втором
Всесоюзном
съезде
со вет ских
писателей
го вори л,
что
кр итик и
справедливо
отметили
неудачность
э той
сказки, «но,
—
добави л
он,
—
вместо
того
чтобы
тер
пе ливо
разъяснить
с тарому,
по ч те нному
поэту,
и м еюще
му
бо ль шие
з ас луги
перед
литературой,
порочность
этой
ве щи,
кр ит ики
так
огрели
его
по
темени,
что
он
вообще
перестал
писать
для
дете й» '.
К
счастью,
преувеличением
оказалась
не
одна
только
сила
критического
удара,
нанесенного
в
то
время
Чуков
скому,
но
и
оценка
этого
удара
в
содокладе
Б.
Полевого.
Вскоре
Чуковский
написал
с казку
«Бибигон», которая
свидетельствовала
о
продолжающихся
по исках
новых
возможностей,
новых
путей
и
сред ст в.
... Неизв естн о
отк уда
взявш и й ся,
как
бы
с
лу ны
сва
ли вши йся
лилипут
совершает
в
это й
сказ ке
чудеса
гер о
изма,
сраж ается
с
волшебником
Брундуляком
и
драко
ном
Караккаконом,
за щищ ает
у тенка
Матюшу
и
спасает
свою
не жно
любимую
сестру
Цинцинеллу.
Би биг он
и
впрямь
сва лилс я
с
лу ны
в
подмосковное
село
Передел-
кино,
на
д ачу
автора
сказки,
где
попал
под
опеку
двух
дев о чек
—
Та ты
и
Лены,
внучек
ста ро го
писателя.
Бибигон
не
уступит
в
хра брос ти
ни
одному
из
мал ень
ких
герое в
сказо к
Чуковского.
Он
так
и
сып лет
воинст
венными
афоризмами,
которые
с
удовольствием
повторит
в
игр е
любой
ма льч он ка.
Но
не
подумайте,
ради
бога,
что
Биб иг он
только
на
сл овах
так ой
храбрец.
Вот
по
смотрите,
как
он
вед ет
себя
перед
лицом
ужа сной
оп ас
ности:
И
вдруг
пер ед
ним
—
его
бешен ый
враг,
Огр омн ый
и
грозный
индюк
Брундуляк...
И
в сем
показалось,
Что
в
эту
минуту
Смертельная
гибель
Грозит
лил ипут у.
1 Второй Всесоюзный съезд советских писателей.
Стенографиче
ски й
отчет.
М., «Советский писатель», 1956, стр.
55.
91
Но
он
закричал
индюку
На
скаку:
—
Сейчас
отсеку
Т вою
злу ю
башку !
—
И,
шашкой
взмахнувши
своей
бое вою ,
На
индюка
он
помчался
стрелою.
И
чудо
свершилось:
огро мны й
индюк.
Как
мокрая
курица,
съежился
вд руг. ..
Это т
индюк
—
злой
и
безжалостный
ко лд ун.
Казалось
бы,
Бибигона
дол жен
ос тано ви ть
стр ах
перед
во лше б
н ыми
чарами.
Но,
когда
его
стали
у пра шиват ь
поберечь
себя
и
отговаривать
от
бо рь бы, «Бибигон махнул рукой
и
со
смехом
с казал:
—
Не
беспокойтесь!
Ничего
мне
не
сделается!
Его
злые
волшебные
чары
действуют
только
на
беззащитных
и
слабых.
А
я
смелый
и
сильный,
ни кого
не
боюсь,
и
в
руке
у
меня
острая
шпага.
Смелому
ни ка кие
колдуны
не
страшны.
Смелого
и
пу ля
не
берет!»
И,
не
стр аш ась
ни
колдунов,
ни
пуль,
Бибигон
устрем
ляется
в
бой
и
побеждает.
Об раз
Бибигона
ид еа льно
при
способлен
для
удовлетворения
запросов
д етско й
души.
Он
больше
своих
маленьких
читателей
и
в
то
же
вре
мя
меньше
их.
Он
служит
примером
доблести
и
муж е
с тва
и
до ста то чно
мал ,
чтобы
дети
мо гли
за бот ит ься
о
нем .
Другими
словами,
Бибиг о н
дает
повод
и
содержание
для
героических
игр
ма льчи ков
и
тих их
«бытовых»
игр
дево ч ек.
В
самом
деле ,
можно
расчесывать
длинн ы е
волосы
Би биг о н а, «умывать,
одевать,
баловать»
его ;
отпаивать
ча ем
с
медом
или
малиной,чуть
он
захвор ал;
проливать
слезы,
если
он
куда-то
запропастился;
волноваться,
когда
он
вступает
в
единоборство
с
вра г ом,
а
потом
ухаживать
за
ним,
израненным,
давать
ему
разные
лека рства
и
да
же
ч итать
ему
«Конька-г орб ун к а».
Можн о
укл ады вать
его
спать
и
про пет ь
«баюльную»
песню,
как
это
делают
Лена
и
Тата:
Целую т
его
и
ласкают
ег о,
Как
буд то
ро дно го
с ынка
своего,
И,
уложи в
на
кровать,
Начи наю т
рму
наперать:
9?
Ба юшки -ба й,
Бибигон,
Спи-засыпай,
Бибигон!
При
этом
мож но
да ть
выход
своей
нежности
в
ласко
вых
прозвищах:
Биба,
Бибигуля,
Бибочка,
Биб ,
Би биг он-
чи к,
Гошенька,
Б иб иби,
Би бика !
Можно
шить
ему
наря
ды,
словно
самой
любимой
своей
кукле:
... Тата
и
Ле на
взяли сь
за
иголку
И
новую
сшили
ему
треуголку.
... Из
разноцветных
свои х
лоскутков,
Оранжевых,
синих
и
красных,
Нема ло
они
ему
сшили
обнов
—
Нарядных
жилетов,
красивых
штанов,
Плащей
и
кам золо в
атласных.
Ра зве
не
яс но,
что
с
маленьким
человечком
мо жно
играть
подобно
тому,
как
играют
с
куклой?
Сходство
за
ходит
так
далек о,
что
ав тор
вынужден
напомнить
о
раз
личии.
Это
происходит,
когда
Бибигон
оседлал
стрекозу
и
улегел
на
луну,
пок ину в
свой
игрушечный
домик
«с игрушечной ванной,
с
картонной
пли той »:
Теперь
в
это м
домике
кукл а
Аглая,
Но
кукла
Аг лая
—
она
не
живая!
Она
не
живая,
в
ней
сердце
не
бьется,
Она
не
шал ит,
не
поет,
не
с меется!
А
наш
Би би гуля,
хо ть
он
озорной,
Но
он
—
человечек,
живой
он,
живой!
Не когд а
од на
исследовательница
детско г о
чтения
от
метила,
что
не
все
образы
сказо к
Чуковского
одинаково
нравятся
ма льчик ам
и
девочкам:
од ним
больше
по
вкусу
те
сказки,
где
а кц ен тируютс я
мот ивы
героической
борь
бы,
другим
—
те,
в
которых
пр еобл адает
и гр овое
начало
*.
В
«Бибигоне»
Чуковский
создал
универсальный
образ,
удовлетворяющий
и
юных
читате лей
и
юных
чита
тельниц.
*П.
А.
Рубцова.
Что
читают
дети.
М., «Посредник», 1928.
93
Между
«Бибигоном»
и
пр едшест ву ющи ми
с казками
(не считая неудачной « Од ол е ем
Б а рма ле я») лежит почти
полтора
деся т ка
лет.
За
это
время
Чуковский
мог
про
д олжа ть
сво и
наблюдения
и
над
непосредственными
про
явл ен иями
д етс кой
психологии,
и
над
тем,
как
реаг и руют
маленькие
дети
на
его
сказки.
Новые
наблюдения
позво
лили
внести
некоторые
«поправки»
в
обр аз
сказочного
героя.
Универсальность
Бибигона
—
одна
из
таких
«по
правок».
Возложенные
на
Бибигона
нелегкие
обязанности
ге
роического
образца
и
живой
куклы
не
ме шают
ему
ос та
ваться
просто
ребенком
со
всеми
ребячьими
шалостями
и
причудами.
По
части
шалостей
и
бало вст ва
он,
пожа
луй,
даж е
превосходит
многих
детей.
«Если б вы знали,
ка кой
он
сорванец
и
проказник!
Шны р яет
по
всем у
саду ,
убегает
и
в
поле ,
и
в
лес,
и
на
речку,
—
ни
минуты
не
по
с идит
на
месте:
То
побежит
за
петухом
И
сядет
на
нег о
верхом,
То
с
лягушатами
в
сад у
В есь
день
играет
в
чехарду,
То
сбегает
на
огород,
Гороху
мелкого
нарвет
И
ну
стрелять
исподтишка
В
гр о мадне йше го
п ау ка».
В
иг рах
Бибигона
только
партнеры
не
совсем
обык
новенные,
а
сам и
и гры
в полне
привычные ,
нормальные,
дет ски е.
И,
когда
Бибигона
подбрасывают
и
ловят
на
лету,
он
дел ает
то
же,
что
и
все
дети
в
таком
случае:
«Хохочет и кричит без конца: «Выше!
Выше!
Е ще!
Еще!»
И,
как
все
дети ,
он,
кон ечн о,
лю бит
и
цирк ,
и
зоопарк,
и
кукольный
театр,
ку да
его
поведут
зим ой.
И
Бибигону,
несмотря
на
его
хра брос ть,
случается
трусить,
и
пр их ва
стнуть
он
может,
и
со чинит ь
небылицу
о
собственной
храбрости.
Коро че,
он
дитя,
и
ничто
детс кое
не
ч уждо
ем у.
Та
ким
образом,
Бибиг о н
и
меньше
св оих
чита тел е й,
и
больше
их,
и
так ой
же,
как
они.
По
этому
поводу
Чук овск ий
пишет: «В сказке Биби
гон
о блад ает
такими
чер тами ,
которые
делаю т
его
от
94
нюдь
не
безупречным
героем.
Чтобы
придать
ему
больше
реальности,
я
изобразил
его
в
сказ ке
озорником
и
бахва
лом .
Пор ою
он
любит
со лга ть
и
приписывает
себе
такие
необыкновенные
под виги,
которых
ни ко гда
не
совер
шал»*.
1К.
Чуковский
От
двух
до
п яти.
М.,
Д етг и з, 1957, стр.
356.
2Там же.
Замечательно,
что
дети
не
пожелали
заметить
этого.
Ни
в
одн ом
из
двух
тысяч
писем,
пол уч енных
Чуковским
после
того,
как
он
прочитал
свою
с казку
по
р ад ио, «нет
даже
упоминания
о
з абавн ом
самохвальстве
героя.
Дети
как
бы
зачеркнули
в
нем
эту
чер ту.
И
здесь
было
у каз ание
для
авт ора .
Я
счел
необходимым
по
мере
ра з
вит ия
сюжета
ослабить
и
заретушировать
в
мо ем
«вое -
вателе»
те
качества,
которые
не
вызвали
сочувственного
отк лик а
в
детях.
И
в
к онце
концов
я
оставил
ему
толь ко
шаловливость
и
резвость,
так
как
без
э тих
к ачеств
утратилась
бы
илл ю
зия
жизне нно ст и» 12.
Не
странно
ли,
что
Чуковский,
создавая
сказку,
про
являет
насто йч ивую
забо ту
об
«иллюзии жизненности»?
Какая
уж
тут
иллюзия,
ес ли
сказка
уверяет,
что
ин
дюк
—
это
не
индюк,
а
волшебник
Брундуляк,
старый
во рон
—
вов се
не
во рон,
а
дракон
Каракка кон ,
белая
мышка
—
де во чка
Цинцинелла,
о бр ащен ная
в
мыш ку
Брундуляком,
и
дворовый
пес
—
не
п ес,
а
заколдованный
тем
же
Брундуляком
почтальон!
Никогда
у
Чуковского
не
было
таких
явных
черт
волшебной
сказки.
И
в
этой
же
сказке,
ус илива я
«иллюзию жизненности», фигури
ру ют
ав то моби ль
«Победа», кукольный театр Образцова,
ел ка
в
Кол онно м
за ле. ..
Ска зка
рекомендует
москов
ск им
детям
осторожно
об ра щат ься
с
Бибигоном,
ес ли
они
не
сегодня-завтра
встретят
его
«в Колонном зале,
или
в
До ме
пионе р ов,
или
в
метро,
или
в
Гуме,
или
на
буль
вар е
у
пам я тника
Пу шк ину».
Мы
уже
видели
отношение
стихотворной
сказки
Чу
ковского
к
конкретным
че ртам
нашег о
бытия
—
она
не
вмещала
их.
А
повесть
«Солнечная»
только
эти ми
чер
тами
и
живет,
стремясь
воб ра ть
их
как
можно
боль
ше
и
превратиться
в
очерк.
Теперь
Чуковский
проде
95
лал
интересный
опы т
—
на писа л
«Бибигона»
стихами
и
прозой.
Соо т нош ение
между
стихами
и
прозой
в
«Бибигоне» —
это
соотношение
м ежду
сказкой,
изображающей
ус лов
н ый,
фантастический
м ир,
и
повестью,
которая
рисует
действительность
безусловно.
Конечно,
это
не
следует
понимать
буквально,
так,
что,
мол ,
стихотворные
части
«Бибигона»
—
ск азка
и
сказочный
м ир,
а
прозаические—
повесть
и
мир
реальный.
Нет,
в
каждом
нау дач у
вых ва
ченном
отрывке,
скажем ,
про зы,
могут
встретиться
чис то
ск азо чные
элементы.
Но
в
целом
—
как
пр инцип,
как
си
стема
—
тако е
соотношение
выдерживается.
«Приметы
времени»
не
выпирают
из
сказки
(какв «Одолеем
Ба р
м ал ея»), потому что прочно связаны с ее повествователь
но й,
прозаической
осн ов ой,
а
волшебные
пре вра ще ния
потому
не
звучат
диссонансом
с
те ат ром
Обр азц о ва,
Бу
мом
и
мет ро,
что
тяготеют
к
основе
сказоч но й .
Сказочные
чуд еса,
рассказанные
в
«Бибигоне»
про
зо й,
словно
теряют
св ою
достоверность,
стан овя т ся
не
пол но це нны ми, «будто»
чудес ами : «Вечерами,
в
дурную
пог оду ,
когда
во
дворе
ид ет
дождь,
Бибигон
взберется
на
спинку
высокого
кресла
и
начинает
расс казыв ать
чу
десны е
сказки:
будто
он
род илс я
на
луне,
среди
лунных
цветов
и
деревьев,
бу дто
его
сбросил
с
луны
како й- то
кро вожа дн ый
дракон...»
А
п р едметы
совр ем енно й
тех
ни ки,
очутившись
в
стихотворных
частях
сказки,
утрачи
ва ют
что-то
из
св оей
реал ь н ости,
превращаются
в
игруш
ку,
становятся
«как будто»
настоящим: «Анынче он,
как
будт о
в
танке,
промчался
по
двор у
в
жестянке...»
М ежду
прозой
и
стихом
идет
тайный
спор,
понемн ог у
затухающий
к
ко нцу
с к аз ки . «Брундуляк совсем
не
ч аро
дей,
не
колдун,
—
сказал
я,
—
а
самый
обыкновенный
ин
дюк»
—
это
голос
прозы.
Ей
возражает
стих:
—
Нет,
он
ко лду н!
Подо бно
мне
И
он
род ился
на
луне.
Да,
на
луне,
и
мн ого
лет
За
мно ю
рыщет
он
во с лед.
Проза
—
хитрая
и
лукавая,
она
может
притворно
со
г ла сить ся,
но
ее
выдает
иро ния : «Тут на балкон выщла
Л ена.
Она
глянула
на
индюка
и
з акр ичал а:
96
—
Да,
он
колд ун !
Он
колд ун !
Он
не
индюк,
а
колдун!
У
не го
да же
бородавки
волшебные,
да же
кра сная
киш ка
на
носу!»
Проза
и
стихи
в
«Бибигоне»
неразрывны,
как
два
за
взятых
спорщика.
Но
ре шение
спора
лежи т
в
о бл асти
содержания,
а
не
формы.
Маленький
герой,
наниз ы ваю
щий
всё
новые
под виг и
на
свою
крошечную,
не
более
иго лк и,
шпагу,
словно
кольца
на
пал ку
серсо,
ведет
сю
жет
от
победы
к
победе
сквозь
стихи
и
прозу
и
э тим
де
лает
сказку
м оно лит ной.
И,
по
мере
то го
как
Би биг он
совершает
но вые
под виги
и,
увлеченный
приключениями
и
борьбой,
заб ыв ает
о
самовоспевании,
перестает
бы ть
лгунишкой
и
бахвалом,
мен яетс я
отношение
к
нему
со
стороны
ск аз очник а,
который
в начал е
хотел
даже
изба
виться
от
Бибигона:
... Любому,
любому
из
вас
Отдам
я
его
хоть
сейчас.
Пожалуйста,
придите
и
возьмите
И
д елайт е
с
ним
что
хо ти те.
Стоило
Бибигону
зарекомендовать
себ я
хра б рым
бойцом,
и
вот
уже
появляется
признание
—
с казоч
ник
сам
недоумевает,
как
это
он
мог
не
любить
своего
героя:
Вы
помните,
дет и,
Что
я
почему-то
Вн ач але
совсем
не
любил
лилипута.
Я
вам
говорил,
что
любому
из
вас
Охотно
его
подарю
хоть
сейчас.
Но
все
изменилось,
и,
че стн ое
слово,
Его
я
теперь
по люб ил,
как
родного.
В
«Бибигоне»
сказочник
уже
не
ст о ронний
рассказ
ч ик,
расположенный
вне
сказочного
мира.
Он
превратил
ся
в
свидетеля
и
активного
сопереживателя,
чуть
ли
не
участника
всех
фантастических
пе рипе тий,
которые
про
ис ходя т
на
его
гла зах,
буквально
под
его
пером,
—
на
ра
бочем
столе
писателя,
где
разгуливает
Бибигон,
и
в
пис а
тельской
чернильнице,
отк уда
был
извлечен
и
ны рнув
ший
туда
со
страху
Бибиг о н
и
ска зка
о
нем .
Отношение
1К.
Чуковский
97
сказочника
к
геро ю
постепенно
изменяется
—
от
скепти-
чески-насмешливого
до
влюбленно-отеческого.
Это
изме
не ние
сост ав ля ет
вторую,
пар алл ельн ую
развитию
героя,
как
бы
отраженную
основу
сюжета
сказки.
От
«Крокодила»
к
«Мойдодыру», «Федориному горю»,
«Тараканищу», «Айболиту», «Путанице», от них к «Ба р
малею»
и
«Военной сказке»
и
дальше,
к
«Бибигону», —
на
э той
дороге
у
Чуковского
бы ли
большие
победы
и
поражения
были
не
маленькие.
Но
одного
нельзя
отр и
цать —
того,
что
это
путь
искани й,
экспериментов,
накоп
ления
опыта,
то
ес ть
пут ь
первооткрывателей,
а
не
лите
ратурных
иждивенцев,
творческий,
а
не
эпиго нск ий
пу ть.
Опти ми сти ческ ая
и
активизирующая
ве ра
в
победу
правого
дел а,
в
победу
слабого
и
угнетенного
над
си ль
ным
угнетателем,
в
конечное
торжество
света
над
м ра
ком ,
в
беспредельное,
ничем
не
ограниченное
и
не
омра
ченное
счасть е
—
такова
общая
и дея
в сех
сказок
Чуков
ского
и
таковы
качества,
которые
сказочник
хотел
бы
воспитать
у
своих
маленьких
читателей.
Сочувствие
чужому
горю,
соучастие
в
чу жой
радости,
великоду
шие
—
вот
те
нравственные
нормы,
которым
призывает
следовать
Чуковский.
От
перв ых
уроков
ро дно го
языка
до
первых
уроков
человечности
—
таков
диапаз о н
воспи
тательных
задач
сказочника.
Сказки
Чуковского
не
только
очень
л аком ая,
но
и
оч ень
полезная
пища
для
малых
детей.
Зна че ние
опы та
Чуковского-сказочника
трудно
пере
оценить.
Ему
нельзя
подражать,
не
выдав
себя
с
голо
вой,
как
невозможно
п од ражать
любому
яркому
и
оригинальному
таланту.
Но
учиться
у
не го
можно
и
не
обходимо.
Большинство
сказо к
Чуковского
—
почти
импр овиза
ции.
Они
написаны
очень
быстро,
без
сколько-нибудь
значительных
помарок
и
исправлений.
Они
и
в
даль не й
шем,
в
отличие
от
его
литературоведческих
работ,
пере
д елы вали сь
очень
ма ло
или
вовсе
не
переделывались,
словно
подтверждая
пос л ов ицу: «Скоро сказка сказы
вае тс я,
да
не
скоро
дело
делается».
Но
скорое
«сказыва
ние»
ска зок
было
подготовлено
долгим
и
далеко
не
легким
«делом»
—
исследовательской
работой
в
о бл асти
детского
мышления,
пс ихо ло гии
и
ре четво р честв а,
обо б
щенной
в
книге
«От двух до пяти».
98
IPlg ImI^I 0
ТГЙШЯЯ1И
У
ДЗДМСЕШМ
”
этой
кн иги
не
совсем
обычная
слава.
Ее
читал и
все,
хотя
на
протяжении
долгого
времени
многие
даже
не
подозревали,
что
она
—
вовс е
не
развлекательное
чти
во,
а
серьезный
(да,
име нно
серьезный,
как
бы
странно
ни
зву ча ло
по
отношению
к
такой
веселой
кн иге
ск у чное
сло во
«серьезный») труд,
ставящий
и
ре шающий
целый
ряд
интереснейших
и
сложнейших
научных
вопросов,
причем
многие
из
них
—
впе рвые .
Каждый,
кто
любит
детей,
почерпнет
в
это й
кни ге
прием ы
н абл юден ий
над
детс ко й
психологией
и
речью .
Родители
поймут,
что
ре бен ок
ну ждает ся
не
только
в
любовном,
но
и
в
уважительном
о т нош ении.
Пе да гог,
ра
бо тающи й
с
дошкольниками,
получит
достоверный
мате
ри ал
и
научно
обоснованные
вывод ы
о
детск ом
мышле
нии
и
сможет
на
эт ой
ос нове
организовать
эст етич еск ое
воспитание
ребе нка.
Уч ит ель
начальной
школы
сум еет
учесть
особенности
развития
ребенка
в
предшествующий
пе риод .
Библиотекарь
бу дет
с
бо ль шей
уверенностью
рекомендовать
или
не
рекомендовать
ту
или
иную
кни гу
начинающему
читателю.
Филолог
познакомится
с
еди н
ственным
в
своем
роде
исследованием
детского
языка,
а
ли терат у р овед
—
с
историей
борьбы
за
сказку.
Поэт,
пишущий
для
детей,
полу чит
обобщенный
опыт
поэти
ческой
ра боты
Ч уков с кого
—
своеобразную
п оэт ику
ли
тературы
для
мал ол етн их.
Для
психолога
большую
ценность
представит
материал
по
психологии
малоизу
ченного
пер ио да
детс тв а.
Н адо
ли
говорить,
что
автор
совмещал
в
с ебе
с разу
и
лингвиста,
и
педагога,
и
психолога,
и
литературоведа,
и
поэта
или
становился
попеременно
то
те м,
то
другим
и,
главное,
всегда
оставался
человеком,
влюбленным
в
своего
героя
—
малыша
в
воз ра сте
от
двух
до
п яти
лет.
Казалос ь
бы,
невозможно
в
о дной
книге
удовлетво
7*
99
р ить
такие
разнообразные
зап росы ,
вместо
кни ги
не из
бежно
должен
получиться
сбо р ник
искусственно
(или
искусно)
связ а нных
между
соб ой
статей.
Но
пер ед
нами
име нно
книга:
единство
замы сл а
и
испол нения
придает
ей
цель ный
характер,
а
плавно
развивающийся
сюжет,
пос т ро енный,
как
в
приключенческом
романе,
на
по сте
пенном
узнавании,
организует
ее
богатый
и
разнообраз
ный
материал,
если
только
мож ет
быть
сю жет
у
не
худ о
жес тве нн ой
кни ги.
А
почему,
собственно,
она
нехудожественная?
Когда-
то
Чуковский
назы ва л
свои
стать и
«критическими расска
за ми », и они действительно были рассказами,
они
да вали
замечательно
интересные,
неожиданные,
острые
психоло
гические
характеристики
писателей,
а
пограничное
поло
жение
эти х
рабо т
Чуко вс ког о
между
специальной
крити
ческой
и
художественной
литературой
было
общеприз
нанно.
С
полным
правом
можно
по
аналогии
с
«критиче
скими
р ассказ ами»
счи т ать
книгу
«От двух до пяти»
чем-то
вроде
«критического романа»
или
«критической
пов ес ти », потому что
ее
художественные
до сто инс тва
неоспоримы.
О
«художественности»
эт ой
кни ги
говорится
не
для
т ого,
чтобы
противопоставить
«художественное» «н а
учно му »
и
прист у пит ь
к
решению
вопроса
—
что
лучше.
Не
з абу дем
иронию
прутковского
героя,
поставленного
перед
под о бным
выбором
и
наше дшег о
выход
в
калам
бу р е: «мне нравятся очень обои» .
В
нашем
случае
«ху
дожественности»
придается
вполне
определенный
и
достаточно
уз кий
смы сл: «Ведь литературоведение не
только
наука,
но
в
значительной
мере
искусство.
Глав
ное
в
этом
иску сст ве
—
язык ,
щедрый,
из ощ ре нный
и
т очн ый»1.
И
хот я
эта
мысл ь
из
кн иги
Чуко вс ког о
«Жи
вой
как
жизнь»
не
рас кр ывае т
всег о
соде рж ания
терми
на
«искусство»
в
приложении
к
литературоведению,
но
двуединство
искусства
и
науки
в
литературоведческом
(вообще
—
искусствоведческом)
методе
позвол яе т
и
обя
зы вает
нас
применять
критерий
«художественности»
в
его
узком,
специальном
значении.
Книга
имеет
своег о
героя
—
че лове ка
в
возрасте
от
двух
до
пя ти
лет.
Она
посвящена
ему
от
пе рвой
до
по-
'К.
Чуковский.
Живой
как
жиз нь.
М., «Молодая гвардия»,
1962, стр.
143.
100
с ледн ей
строчки
и
соз дает
типичный,
разносторонний
и
данный
в
развитии
о браз
человека
в
«Чуковском»
возра
сте.
Художественная
литература
для
взро слых
до лгое
время
обходила
это т
возраст
молчанием,
проявляя
инте
рес
только
к
уже
вы ше дшим
из
младенчества
детям.
К
числу
художественных
до сто ин ств
кни ги
относится
ее
у д ивител ьная
«цитатность» .
Множество
детских
слове
чек ,
собранных
и
записанных
Чук овск им,
пе решл о
в
речь
взрослых,
стало
популярными
афоризмами
и
шутками.
У
кни ги
«От двух до пяти»
не
совсем
обычная
су дьб а.
Она
напи сан а
Чуковским
в
соавторстве
с
тысячами
ее
чита тел е й,
с
мно го чис ле нными
корреспондентами
пи са
теля,
которые
поделились
с
ним
своими
наблюдениями
и
соображениями.
В
свою
очередь,
книг а
нат ол кну ла
мног их
читате лей
на
изучение
детского
языка
и
психо
логии,
воор уж ила
целую
армию
добровольцев-наблюда
телей
методом
исследовательской
работы.
Такое
взаи мо
действие
м ежду
писателем
и
его
соавторами
не
п ре кра
щается
и
не
осл абевает .
Ср еди
последователей
Чуков
ского
были
люди
самых
различных
про фе сс ий.
Их
список
украшен
славным
именем
Ви ке нтия
Викентьевича
Вере
са ева,
чьи
«Рассказы о детях»
вдохновлены
примером
метких
набл юде ний
Чуковского.
У
кн иги
«От двух до пяти»
не
совсем
обычная
исто
рия.
Более
пят и дес яти
лет
на зад
в
газ ете
«Речь», где,
по
свидетельству
В.
Шкловского,
Чук овс к ого
«не любили,
больше
терпели
за
талантливость» ',
и
где
Чуковский
писал
преимущественно
о
литературе
и
искусстве,
неожи
данно
поя вилас ь
и
всех
уд ивила
его
статья
(«фельетон»,
как
тогд а
го в о р ил и) «О детском языке».
Обращение
Чук овс ко го
к
э той
теме
показалось
кой-кому
мис тиф и
кац ие й,
веселой
рож д еств ен ской
шуткой
остроумного
кри тика.
Мог
ли
тогд а
кт о -нибу дь
подумать,
что
«рож
дественская
шутка»
есть
де ло
огромной
важности,
с
ко
торым
Чуковский
отныне
и
навсегда
свяжет
св ою
жизнь?
Статья
«О детском языке»
закан чи в алась
страс тн ым
воззва нием : «Прошу,
умол яю
всех,
кто
так
или
и наче
близок
к
детям,
сообщ ать
мне
для
дальнейших
исследо
ваний
всякие
самобытные
детск ие
слова,
ре чен ия,
обо -
1В.
Шкловский.
О
Маяковском.
М ., «Советский писатель»,
1940, стр. 62.
101
роты
реч и
—
все,
что
вас
удивит
или
заинтересует
в
ваше м
или
чужо м
ре бенк е.
Все
это
я
приму
с
благодар
н ос тью,
постараюсь
вникнуть
так
тща тел ьно,
как
толь ко
мог у».
Были
такие,
что
откликнулись
на
это т
призыв,
но
чаще
к рит ику
приходилось
получать
пись ма ,
пол ные
скрытого
недоброжелательства
и
откровенной
брани,
на ме ков
на
умственную
неполноценность
человека,
зани
мающегося
такими
пус тяк ами,
как
де тска я
речь,
глубо
комысленными
замечаниями,
что,
мол ,
нечего
и
не
для
чего
изу чат ь
д етски й
язык,
поскольку
«яйца курицу не
учат».
Но
ни что
не
могло
п оме шать
Чук овс ком у
заниматься
своей
излюбленной
темой.
Было
вре мя,
ког да
он
совер
шенно
отк азалс я
от
всяко й
другой
раб от ы,
отказался
от
встреч
и
бесед
со
взрослыми
и
целиком
«ушел в ребенка».
Бли зко е
у ча стие
в
работе
Чуко вс ког о
принимал
А лек
сей
Максимович
Горький.
В
1920 году он предложил Чу
ковскому
издать
собрание
его
критических
стате й
и
взял
ся
редакт ир ов ать
их.
Гор ьк ий
советовал
Чук овс ком у
выпустить
отдельной
книгой
стать и
о
детя х
и
детс ко й
литературе
—
«Детский язык»
и
«Лидия Чарская»1.
А
когда
Чуковский
собирал
материал
для
кн иги
о
де т
ском
языке,
М.
Горький
писал
е му: «Веру Инбер,
Вы,
ко
не чно
использовали,
но
разрешите
напомнить
Вам
расс каз
Сергеева-Ценского
«Не надо»
и
рекомендовать
Юрезанекого
«Человек»
из
его
книги
«Зной» .
1 Статья о Лидии Чарской включалась Чуковским в качестве
приложения
в
некоторые
издания
«От двух до пяти».
В
1925 году вышла книга «Ма лен ьки е
дети»
—
пер
вое
из д ание
«От двух до пяти».
Воспользовавшись
с лу
чае м,
Чуковский
снов а
обр ат ился
к
читателям
с
прось
бой
собирать
и
присылать
ему
обр азц ы
детско й
реч и.
Но
вый,
демократический,
читатель
с
восторгом
откликнулся
на
при зыв
Чук ов ског о.
Каждое
последующее
из д ание
вызывало
нов ый
поток
писем
от
людей,
которых
револю
ция
приобщила
к
культуре.
Эти
письма
—
«мне они
к ажутся,
—
писал
Чуковский,
—
колоссальнейшим
дости
жением
нашей
культуры:
лет
10—15 назад такое письмо
было
бы
редкостью,
а
тепер ь
эти х
писем
у
меня
це лая
куча
—
от
прачек,
кухарок,
кондукторов,
больничных
си
102
дело к
и
п р...
Все
эти
жен щин ы,
видящие
сво их
д етей
ли шь
урывками,
по
целы м
дням
разлученные
с
ними,
умудряются
наблю дать
за
развитием
их
язык а,
записы
ват ь
их
игр ы
и
песни,
их
слова
и
стишки,
—
не
хуже,
чем
фр ау
Штерн,
мисс
Ши нн
или
синьора
Паола
Ламброзо.
Зд есь
кро етс я
тако е
уважение
к
ре бен ку,
которого
в
этих
«темных»
кругах
и
в
зародыше
не
был о
лет
десять
—
пя тн адцат ь
тому
назад» .
За
трид ца ть
семь
ле т,
прошед
шие
с
тех
пор,
вышло
шестнадцать
изданий
«От двух до
п яти », и среди них ни одного стереотипного.
«Воистину
в
нашей
стране
наступила
Эпо ха
Ребенка!»—
восклицал
Чуковский.
Название
книги
опре д еля ет
границы
ис сле д ов ания'.
Чуковский
открыл
и
доказал,
ч т о, «начиная с двух лет,
всяк ий
ре бе нок
становится
на
короткое
вре мя
«гениаль
ным»
лингвистом,
а
пот ом,
к
пяти-шести
годам,
эту
«гениальность»
утр ач ивае т.
В
чем
же
«гениальность»
младенца
в
возр а сте
от
д вух
до
пяти?
Маленький
человек
в
эт ом
воз ра сте
совершает
п оист и
не
богатырский
под виг:
за
несколько
лет
овлад ева ет
род
ным
язык ом.
Если
учесть
познавательные
возможности
дв ух- тре хле тне го
малыша,
то
действительно
должно
по
казаться
чудом,
как
это
ему
удается
в
такой
короткий
срок.
Интеллект
взрослого
человека
ку да
развитей,
а
ведь
в зрос л ому,
чтобы
изучить
какой-нибудь
незнакомый
язык ,
нужно
гораздо
больше
вр ем ени.
Темпы,
которыми
ребенок
овлад ева ет
язык ом,
просто
поразительны.
У
ре
бенка
в
возрасте
около
г ода
запас
сл ов
исчисляется
еди
ница ми ,
к
ко нцу
второго
го да
достигает
250—300
слов,
а
к
концу
тре тьег о
года
дох оди т
до
ты сяч и,
то
есть
всего
за
оди н
год
р ебено к
утраивает
св ой
словарный
зап ас!
Но
это
еще
не
все.
К роме
за по мина ния
слов,
ребенку
нужно
ов ладет ь
грамматическими
ф орма ми
ро дн ого
я зы
ка.
Чуковский
как-то
произвел
приблизительный
п од
счет
эт их
форм
(склонение,
спряжение,
функции
пр ист а
вок
и
с уф фик с о в), и у него получилось,
что
чис ло
их
не
меньше
семи де сяти .
Почти
вс еми
семьюдесятью
малыш
овлад ева ет
в
во зраст е
от
дв ух
до
пят и,
или,
еще
точн е е,
в
возрасте
от
тре х
до
четыр ех
лет,
овладевает
про чн о,
на
всю
жизнь,
и
проявляет
при
эт ом
такое
изумительное
ли нг вис тическо е
чуть е,
какого
уже
никогда
у
него
не
будет.
103
«Страшно подумать,
ка кое
огромное
множество
гра м
матических
форм
сыплется
на
бедну ю
детску ю
голову,
а
ребенок
как
ни
в
чем
не
бывало
ориентируется
во
всем
эт ом
хаосе,
постоянно
расп р едел яя
по
рубрикам
беспоря
дочные
элементы
услышанных
слов
и
при
этом
даже
не
замечая
св оей
кол осса льн ой
работы.
У
взро слог о
лопнул
бы
череп,
если
бы
ему
пришлось
в
такое
ма лое
время
усвоить
то
множество
грамматиче
ских
форм,
которые
так
легко
и
свободно
усваивает
дв ух
летний
«лингвист».
И
ес ли
изумителен
труд,
выполняе
мый
им
в
это
время,
то
еще
изумительнее
беспримерная
лег кос ть,
с
ко то рой
он
это т
труд
выполняет»*.
Н ет,
по
истине
«гениальным лингвистом»
был
каждый
из
нас
в
возрасте
от
дву х
до
пят и!
Особенно
яр ко
проявляется
«лингвистическая гени
альность»
ребенка
в
словообразовании.
Когд а
четырех
летний
ма лыш
говорит
«тормозило»
вместо
«тормоз»,
когда
трехлетняя
девочка
от
испуга
придумывает
слово
«ползук» (ползать плюс жук плюс паук), когда другая
девочка,
двух
лет,
заставляет
сво ю
куклу
ны рять,
приго
в а рив ая: «Вот притонула,
а
вот
и
вытонула», —
в
этом
ч увс тв уется
такое
владение
формообразующими
и
сло во
образующими
средствами
языка,
что
его
можно
об ъяс
нить
тол ько
особой
языковой
одаренностью
ребенка,
который
незаметно
для
себ я
усвоил
и
великолепно
ис
пользовал
инструментальную
функцию
суффикса
в
слове
«тормозило», образовал от слова « по л за ть»
сло во
«пол
зу к»
по
аналогии
со
словами
«жук»
и
«паук»; только
особой
одаренностью
ребенка
в
возр а сте
от
дву х
до
п яти
можн о
объяснить,
что
двухлетний
младенец
по ним ает
разницу
между
«утонуть»
и
«притонуть» (то есть утонуть
не
полностью,
на
в р ем я), понимает функцию приставки
«вы»
в
слове
«вытонуть», образованном
по
аналогии
с
«вынырнуть» .
Все
же
вывод
о
«гениальном возрасте»
был
раньше
изл и шне
категоричным,
на с только ,
пожа луй,
что
его
ка
тегоричность
могла
прийти
в
противоречие
с
его
истин
нос тью .
«Гениальный возраст»
рассматривался
сам
по
себе,
чем
разрушалась
непрерывность
развития
ре
бенка.
1К.
Ч
у
к
о
в
с
к
и
й.
От
дв ух
до
пя ти.
М., Детгиз.
1957, стр . 26—27.
104
Возраст
«от двух до пяти»
выгл яд ел
как
замкнутый
мир,
во зни ка ющий
неведомо
откуда,
неизвестно
куда
и сч езающий
и
лише нный
внутреннего
развития.
Постепенно
о брас тая
попра вка ми
и
уточнениями,
этот
вывод
избавился
от
абсолютной
категоричности
и
ли шь
тогда
ст ал
сам им
собой.
Пр ежде
всего
в
«гениальном
возрасте»
выделился
период
нар аст ани я
лингвистической
одаренности
(от двух до трех лет), период максималь
ной
одаренности
(от трех до четырех лет), и
период
спада
(от четырех до пяти) .
Другая
поправка
уточняла,
что
и
после
пят и
лет
у
детей
проявляется
что- то
вроде
«остаточной»
ли н гви
стической
о д аре нно сти : «Теперь,
на
пороге
школы,
перед
ними
новая
задача:
осознать
и
осмыслить
теоретически
то,
что
в
возрасте
«от двух до пяти»
они
инстинктивно
узнавали
на
практике.
С
эт ой
тру д ней шей
з адач ей
справляются
они
превосходно,
че го
ни ког да
не
могло
бы
сл учи ть ся,
если
бы
на
восьмом
го ду
жизни
их
речевая
одаренность
уга сла
совсем»*.
1К.
Ч
у
к
о
в
с
к
и
й.
От
дву х
до
пяти.
М., Детгиз, 1957, стр. 27—28.
2Вэтойфразеизкнижки«Матерям
о
де тс ких
журналах»(1911)
мысль
Чуковского
выраж ен а
так им
образом ,
что
поддается
двой
ному
то лко в анию:
она
мож ет
обо зн ачат ь,
с
одн ой
стороны,
отказ
от
педагогического
воздействия
на
ребенк а,
а
с
другой
—
могла
заклю
ча ть
в
себе
призыв
более
гл убо ко
позна ть
ребенка,
прежде
чем
пытаться
воздействовать
на
не го.
Некоторые
крит ики
п оч ему-то
остановились
на
пе рвом
толковании
(см.
Л.
Кон , «Детская литера
ту ра
в
г оды
гражданской
во йны»), не замечая,
что
в
той
же
книжке
поч ти
по
соседству
с
эт ой
фразой
ес ть
и
т акие
сл ова : «От взрослого
к
ре бен ку
—
это
неверный
путь.
Нужн о
педагогам
«обратиться»
и
самим
«стать как дети» . ..
Еще
То лсто й
кричал
когда-то
об
этом,
но
его
никто
не
услышал,
и
он
сам
не
услышал
себя.
Если
мы,
как
Гулливеры,
хотим
войт и
к
лили пут ам ,
мы
должны
не
н аг ибат ься
к
ним .
а
самим
сделаться
ими» (стр .
27).
Чуковский
не
напоминает,
что
об
этом
же
«кричал»
Н.
И.
П и ро го в: «Я не сомневаюсь,
что
у
ребе н ка
есть
свой
ми р,
отличный
от
нашег о. ..
О,
е сли
бы
роди
тели,
пе да гоги
по
призванию,
в ошли
в
эт от
та инс тв енный,
священный
храм
еще
девс тв енно й
души
челов ек а,
—
сколько
нового
и
нераз
гаданного
узна ли
бы
он и,
как
обновились
бы,
как
поу мнели
бы
сами...»
Появились
и
другие
поправки.
Ко г да-то
Чуковский
пи сал : «поменьше давать ребен
ку,
побольше
брат ь
у
него»12.
Теперь
недвусмысленно
утверждается,
что
«брать»
нужно
в
качестве
подготови
тельной
ме ры
к
тому,
чтобы
«давать»: «Конечно,
мы
не
105
до лжны
раболепно
приспособляться
к
нему
(ребенку.
—
М.
П.)
и
отказываться
от
суверенной
ро ли
его
воспи
тателей,
но,
если
мы
самым
пристальным
об ра зом
не
изу
чим
его
вкусов
и
требований,
нам
нико г да
не
удаст ся
творчески
влия ть
на
него,
и
все
на ши
усилия
закончатся
горестным
крахом...»1
1К.
Чуковский.
От
д вух
до
пя ти.
М..
Д етг и з, 1957, стр.
268.
2Там же,
стр . 88 (курсив мой.
—
М.
П. ).
Ког да -то
Чуковский
умолял,
заклинал
не
считать
кни
гу
«От двух до пяти» «пед аг ог ико й» .
Теперь
его
волну
ет,
как
бы
кто-нибудь
не
сделал
из
его
наб люде ний
невер
ных
педагогических
выво до в: «... Мы нарушили
бы
э ле
ментарный
педагогический
пр инцип,
ес ли
бы
вздумали
хв ал ить
при
ре бе нке
то
или
ино е
из
с о чине нных
им
слов
и
пытались
искусственно
у дер жать
это
слово
в
его
лек
сик оне .
Как
бы
ни
рад овал и
нас
некоторые
неологизмы
ребенка,
мы,
его
уч и теля
и
воспитатели,
оказали
бы
ему
оч ень
п лохую
услугу,
ес ли
бы
оставили
в
его
обиходе
то
или
иное
из
сочиненных
им
слов»2.
Одна жды ,
наблю дая,
как
дети
в
игре
сла гают
стихи,
Чуковский
за ме тил,
что
мальчонка,
упо енн о
воспеваю
щий
свою
камышовую
палочку:
Эку
пику
дядя
дал!
Эку
пику
дя дя
да л!
—
вскоре
и зм енил
звучание
св оей
песенки
на
Эки ки ки
диди
да!
Эки ки ки
диди
да!
Посл е
этого
Чуковский
стал
употреблять
слово
«эки
кики»
для
обозначения
звонких
заумных
песенок,
кото
рые
столь
охотно
выкрикиваются
деть м и,
а
происхожде
ние
«экикик»
объяснил
тем,
что
реб ен ок
«освободил свою
песню
от
см ысла,
как
от
лишнего
груз а».
Но
ребенок
не
толь ко
не
осв о бож дает
св ою
ре чь
или
песню
от
см ысл а,
а,
напротив,
старается
с
пом ощ ью
«народной этимоло
гии»
осмыслить
слова,
лиш енны е
для
его
младенческого
восприятия
смы сла ,
и
Чуковский
вскоре
убедился
в
этом:
«... ребенок освободил
сво ю
песню
совсем
не
от
см ысл а,
а
от
за труд нит ельных
звуков.
Пр о изнес ти
«экикики»
ле г
че
уже
потому,
что
все
три
согласные
здесь
абсолютно
106
тождественны.
В
сущности,
таковы
же
и
гласные,
ибо ,
ес ли
фонетически
записать
это
слово,
получится,
конеч но,
«икикики»,
где
од ни
и
те
же
согласные
чередуются
с
од ними
и
теми
же
гласными.
Все
дело
здесь
в
обл ег
ченной
фонетике»
И
так
да лее
и
так
далее.
Все
эти
поправки
был и
та
кого
свойства,
что
они
не
разрушали
главного
в
построе
нии
Чук овс ко го
—
мысли
о
неравномерности
развития
ребенка,
о
периоде
особенно
бурной
деятельности
его
языкового
мышления
в
во зраст е
от
д вух
до
пя ти
лет.
На
против,
все
они
дел али
работу
Чуковского
более
цельной,
более
научной.
И
все-таки,
несмо тр я
на
серьезные
изме
не ния
и
ут оч нени я,
внесенные
Чуковским
в
кн игу,
ей
до
самог о
по сле днег о
времени
не
хватало,
так
ска зать,
сверхзадачи,
которая
ок рыли ла
бы
многочисленные
фак ты,
собранные
автором,
не
хватало
тео р етич е ских
о бо бщен ий,
не
хв ат ало
буквально
одной
формулы,
кот о
рая
з амк нула
бы
цепь
богатейших
наб люде ний
над
де т
ской
речью
и
психологией.
На к онец
эта
ф орм ула
была
определена
как
«полное совпадение детского языкового
мышления
с
народным»12.
1К.
Чуковский.
От
дву х
до
пя ти.
М,
Д етг и з, 1957, стр.
226.
2Та м же,
стр .
85.
Для
док аза тельств а
тождественности
детско г о
и
на
родного
языкового
мышления
Ч ук овск ому
не
потребова
лось
ни
одного
факта
дополнительно
к
тем,
которые
бы ли
опубликованы
в
пр ед шеств ую щих
изд ания х,
не
по тре бо
валось
да же
пр о извест и
перекомпоновку
матери ала,
а
все
новые
факты
легко
объясняются
с
предложенной
точки
зрения,
и
ни
один
из
них
не
противоречит
ей.
Так
бывает
т олько
в
тех
случаях,
ког да
выдвинутая
концеп
ция
являетс я
еди нствен но
верной,
ког да
она
естественно
вытекает
из
фак тич ес кого
материала
и
ее
остается
толь
ко
сформулировать.
Ежедневно
и
ежечасно
дети
для
св оих
надобностей
создают
неслыханные
новые
слова
—
это
и зв естно
всем.
Но
вот
что
за ме ча те ль но: «изобретенные»
деть ми
слова
нередко
оказываются
вовсе
не
новыми,
а,
наоборот,
оче нь
старыми
ру сски ми
словами,
уже
п овсе местно
вышедши
ми
из
употребления
или
еще
бытующими
кое-где
по
ди а
лектам.
Од ин
трехлетний
мал ыш
незаметно
для
себ я
107
созд ал
сло во
«пулять» (то есть стрелять пулями), кото
ро го
нет
в
литературном
языке,
за то
оно
спокон
век ов
существует
на
Дону,
в
Воронежской
и
Ярославской
обла
ст ях.
Другой
ре бено к,
тре х
с
половиною
лет,
сам
вы ду
мал
сло во
«никчемный» . Т ре т ий,
живший
на
юг е,
изобрел
сл ово
«обутки»
и
«одетки», не подозревая,
что
именно
в
таком
сочетании
они
употребляются
жите ля ми
неко то
рых
сев ер ных
областей
наш ей
страны.
Вот
мал ыш
нашел
кр упну ю
сыр оежк у
и
огр ом ный
одуванчик
и,
почувствовав,
что
таким
большим
пре дме
там
не
к
лицу
имена
с
уменьшительными
суффиксами,
назвал
их:
сыроега
и
одуван.
Он
никогда
не
изучал
гра м
матику
(в школу он пойдет не раньше чем через три -
четыре
года ), но как тонко и точно он понял уменьши
тельную
функцию
суффиксов
в
словах
«одуванчик»
и
«сыроежка»
и
прояв ил
свое
по ним ан ие,
освободив
от
этих
суф фи ксов
название
большого
гриба
и
большого
цв ет ка!
Точно
так
же
х орошо
поняли
смысл
приставок
дети,
которые
просили
высолить
сл ишк ом
круто
посоленное
яйц о,
хотели
распакетить
пакет,
натабач ит ь
труб ку ,
при -
удобиться
в
постели,
наз ы вали
об езь ян
укл южи ми
и
в
ответ
на
замечание
старших,
что
они
говор ят
нелепо
ст и,
за явля ли
уверенно:
—
Нет,
леп ост и!
Всяк ий
ли
взрослый
ч ел овек
сможет
сразу
вспомнить
и
ука за ть
фун кц ии
морфем
в
перечисленных
словах?
А
вот
ма лышу
это
нипочем!
И
отк уда
ему
знать,
что
сло
во
«сыроега»
и
«одуван»
задолго
до
не го
употреблялись
ру с ским
народом
и
в
таком
виде
зарегистрированы
Далем?
О твет
може т
быт ь
один:
язык овое
мышление
детей
идет
тем
же
путем,
к аким
идет
язык овое
мышление
на
рода,
у
которого
они
уч атся
русскому
язык у.
Сло во
«лепый»
когд а- то
было
в
русском
языке
общ е
при няты м
обозначением
хорошего,
ладного.
Взрослые
за
бы ли
это
слово,
а
ребе нок
воскресил
его,
не
подозревая,
из
какой
гл уб ины
веков
оно
им
извлечено.
Сквозь
толщу
времен
пробивается
тре х л етний
лингвист
к
истокам
народной
речи ,
когда
в
о твет
на
запрещение. «Нельзя!»—
в озр ажае т: «Нет,
л ьзя!» или в ответ на извинение: «Я не
чая нно!» —
ул и чае т: «Нет,
ч ая нно!» Дети отлично пони
ма ют
слова,
придуманные
другими
деть ми ,
не
замечая,
108
что
в
языке
нет
таких
слов .
Чуковский
проверил
это
экспериментально: «Услыхав от какого-то
мальчика,
буд
то
лошада
копытнула
его,
я
при
первом
уд обн ом
случае
ввернул
эти
слова
в
ра згово р
с
мо ей
маленькой
дочерью.
Девочка
не
тол ько
сраз у
по няла
их,
но
даже
не
догада
лась,
что
их
нет
в
язык е.
Эти
слова
п о казал ись
ей
совер
шен но
нормальными» ’, потому что они вполне в духе на
ро дно го
язы ковог о
мышления.
Если
малышу
понадобится
слово
для
обозначения
нов ого
понятия,
он
его
создаст
по
всем
пра вила м
ру сск ой
гра мм а тики,
если
ему
в с трети тся
но вое
слово,
лишенное,
на
его
слух,
см ысла ,
он
тотчас
осмыслит
ег о,
переозвучив
и
соо тн еся
с
другими,
уже
знакомыми
словами.
Он
назо
вет
тер мо метр
—
тепломером,
ртуть
—
вертутией,
парик
махера
—
вихрахером,
ве нтил ято р
—
вертилятором,
э кскав ато р
—
песковатором,
молоток
—
колотком,
лопат
ку
—
копаткой,
милиционера—улиционером
и
т.
д ., выра
жая
св ой
протест
против
наз ва ний,
не
связанных,
по
его
младенческим
понятиям,
со
св ой ств ами
и
пр изна кам и
называемых
предметов.
Точно
так
народ
переозвучивает
ино я зыч ные
и
мал оупо тре би те льны е
сло ва,
чтоб ы
в
са
мом
звучании
слова
выражался
его
смысл ,
и
это
явлен и е
у
филологов
пол уч ило
наз вани е
«народной эти
мологии».
Но
ре бе нок
связывает
звучание
слова
не
со
слу ч ай
ным,
а
с
самым
главным
при знак ом
предмета,
самы м
же
глав н ым
в
любом
предмете
для
ребенка
является
его
назначение.
Что
делают
эт ой
вещ ью
или
что
она
де
лает ?
—
как
бы
с пр ашивае т
он
с ебя
и
сам
себ е
отвечает:
если
ею
строгают,
то
это
не
рубанок,
а
строганок;
ес ли
ею
копают,
то
это
не
лопатка,
а
копатка;
если
ею
коло
тят ,
то
это
колоток,
а
не
молоток;
ес ли
она
вертится,
то
это
не
ртуть,
а
вертутия;
если
ею
мажут,
то
это
не
ва
зел ин,
а
мазелин,
и
т.
д.
«В существительном,
—
де лает
вывод
Чуковский,
—
ребенок
о щуща ет
скрытую
эне рг ию
глаг ола»12.
1К.
Чук овски й.
От
д вух
до
пяти .
М..
Дет г и з, 1957, стр.
20.
2Там же,
стр .
35.
Свои
новые
слова
ре бено к
опять-таки
образует
по
всем
правилам
языка,
иногд а
опережая
появление
слова
в
литературной
речи.
109
«Ну-к а ,
раску лач ь
мои
пальцы!»—
ск азал
оди н
ма
лен ьк ий
мальчик,
пр от ягива я
св ой
кулачишко.
«В те времена такого слова еще не существовало в на
роде,
так
как
раскулачиванье
(в нынешнем значении
этого
термина)
еще
не
стало
историческим
ф ак том.
Для
того
чтоб ы
ре бен ок
мог
заранее—-так
сказать ,
наперед—
сконструировать
то
самое
слово,
которое
лет
дв адц ать
спустя
было
создано
народными
массами,
нужн о,
чтоб ы
он
в
совершенстве
владел
теми
же
при ема ми
построе
ния
сл ов,
которые
выработал
в
течение
тыс ячел ети й
народ»*.
1К.
Чуковский.
От
двух
до
пяти.
М.,
Дет г и з, 1957, стр.
40.
2Там же,
ст р. 82.
Все
это
снов а
и
сно ва
по дво дит
к
той
же
мыс ли,
кот о
рая
«очень проста:
ребенок
учится
языку
у
народа,
его
единственный
учитель
—
нар о д»12. И
Чу ко вский
блестяще
доказал,
что
у
гениального
учителя
—
по-своему
гениаль
ный
ученик.
Из
ч его
слагается
писательский
облик
Ч уков с кого
в
сознании
взрослого
чит ате ля?
Это
разыскание
н екрасо в
ск их
тексто в ,
комментарии
к
ним
и
ра боты
о
Некрасове,
перев од ы
из
Уолта
Уитмена
и
статьи
о
нем ,
теория
и
практика
художественного
перевода,
статьи
и
воспомина
ния
о
Ма яко вс ком
и
так
д алее.
И
вот ,
ока зы вает ся,
в
к ниге
«От двух до пяти»
—
п ере кре сток
многих
интере
сов
и
увлечений
Чуковского.
От
Некрасова
вед ут
св ое
начало
пародийные
мо тивы
в
его
ск азках
и
ин тер ес
к
элементам
заимствований
и
подражаний
в
тво р честв е
дете й,
которые
да же
в
по драж ании
ос таю тся
творцами.
Пер ево дч еская
работа
Чуко вс ког о
пересекается
с
его
деятельностью
в
детс кой
лите ра ту ре.
Неологизмы
ран не
го
Маяковского
сразу
пр ишл ись
ему
по
ду ше,
потому
что
в
них
Чуковский
увидел
аналогии
с
детс ки м
словотворче
ст во м : «Если маленькие дети,
столь
утонченно
чувствую
щие
стихию
своего
родного
языка,
вечно
оглаголивают
имена
существительные
и
говорят:
—
Козлик
рога е тся,
—
Ел ка
обсвечкана,
—
Бу мага
откнопкалась,
—
Замолоточь
этот
гвоздь,
110
-..
почему
же
Маяковскому
нельзя
миллионить
и
вих
рить?»1
1 См.
статьи
К.
Ч ук овс кого
«Футуристы»
и
«Ахматова и Маяков
ский».
2К.
Чуковский.
От
дву х
до
пяти .
М., Детгиз, 1957, стр. 256.
3Там же,
стр . 328.
У
д етей
Чуковский
обнаруживает
общие
черты
да же
с
Уолто м
Уитменом:
в
произведениях
пя тил етн его
стихо
творца
мн ого
«своеобразных зарисовок с натуры
—
тех
моментальных
стихотворных
эскизов,
которые
неко гд а
так
удавались
великому
авт ору
«Листьев Травы. . .» И до
ба вля ет,
что
у
малыша-поэта
попадаются
стихи,
где
«ритм уитменский,
своб о д ный,
вполне
соответствующий
сюжету
и
стилю
сти хов »2.
«От двух до пяти»
—
клю ч
ко
всему
сочиненному
Чу
к овс ким
для
детей.
На
предыдущих
ст ра ницах
осо бе н
ности
творчества
Чуковского
неоднократно
выяснились
путем
сопоставления
его
художественных
пр о изведени й
с
материалом
книги
«От двух до пяти», потому что
м ежду
Чуковским
—
детски м
писателем
и
Чуковским
—
теоретиком
дет ско й
литературы
нет
никаких
пр оти во ре
чий.
Все
его
достижения
в
детс ко й
литературе
не
слу ч ай
ные
разрозненные
нах о дки,
а
постепенно
от кр ы ваемая
и
изучаемая
с ис тема,
неу д ачи
—
отр а жение
сла бых,
покуда
что
не
познанных
мест
этой
системы.
Еще
ничего
не
зная
о
ней,
Чуковский
приступал
к
исследованию
с
верой
в
суще ств ов ани е
определенных
«внутренних»
законов
детс ко й
литературы.
Исследуя
эти
закономерности,
он
проявил
кропотливость
ученого
и
разм ах
поэта.
«Я...
нико г да
не
дерзнул
бы
приступить
к
сочин ени ю
моих
«Мойдодыров», если бы не пытался дознаться за
ранее,
каковы
потребности
и
вкусы
малолетних
«читате
лей », к которым мне предстоит адресоваться
со
свои
ми
стихами,
и
ка ков
наиболее
правильный
метод
силь
н ейшег о
воздействия
на
их
психику»3, —
писал
Чу
ковский.
Средства
наил у чшег о
удов л етворе ни я
потребностей
и
вкусов
ма лолет ни х
читателей,
методы
сил ьн ейшег о
воз
де йст вия
на
их
пс ихику
Чуковский
изложил
в
двенадца
ти
заповедях,
проверенных
его
практикой
детско г о
поэт а
и
во
многом
подтвержденных
опытом
советской
л ит ера
туры
для
малолетних.
111
Непременным
свойством
детского
стихотворения
долж на
быт ь
графичность,
ко тор ая
определяется
спо соб
ностью
текста
давать
материал
для
худ ожника - иллю
стратора.
Детский
поэт
должен
мыслить
рисунками,
и
чем
больше
рисунков
вызовет
страница
поэтического
текста,
тем
лучше:
детск ий
ст их
не
статичное
описание,
а
ожившая
живопись
—
муль тип лик а т.
Но
п оэт- живо
писец
должен
в
то
же
вре мя
быт ь
поэтом-лириком,
избегающим
«успокоенной»
повествовательной
инто
на ции.
Движение
карти н
и
наст ро ени й
в
д етско м
стихе
неиз
бежно
вл ечет
за
соб ой
часты е
пер ем ены
ритма.
Поскольку
для
малыша
ст их
с уще ств ует
толь ко
в
звучании,
тр ебо
вания
к
музыкальной
стороне
детско г о
стихотворения
значительно
строже,
чем
к
стихам
для
взрослых.
«Хоро
шие
буквы
—
р,
ш,
щ» (В.
Маяковский)
здесь
будут
не
так
уж
хороши : «эстетика»
в
данном
случае
обу слов лен а
возможностями
д етс кой
гортани.
Рифмующиеся
слов а
сле дуе т
ст ави ть
на
самом
близ
ком
р ассто яни и
дру г
от
друга.
Эти
слова
должны
быт ь
наиболее
значимыми
в
строке
'. Наилучшей формой стро
фы,
таким
образом,
является
двустишие,
д аже
каждая
ст рока
долж на
представлять
законченное
синтаксиче
ское
целое,
в
идеальном
случае
чис ло
строк
бу дет
ра в
ным
числу
предложений.
Поскольку
д етски й
гл аз
ча ще
всего
воспринимает
не
качество ,
а
действие
предметов,
спе циаль на я
запо ведь
требует
отказа
от
прила га те льных
в
пользу
глаг ол ов.
«Стихи,
которые
богаты
эп ит етами ,
—
стихи
не
для
ма
лых,
а
для
старших
детей».
Чуковский
сч ита ет, «что во
всяк ом
стишке
для
детей
процентное
отношение
глаго
лов
к
именам
прила га те льным
есть
оди н
из
лучших
и
вполне
объективных
критериев
приспособленности
дан
ного
стишка
к
пс ихик е
ма лых
детей».
Вывод
Чуковского
относительно
излюбленного
детьми
р итма
—
хорея
—
чисто
эмп ири ческ ий
и
с
трудом
по д
д ается
об ъяс нени ю.
Одно
несомненно:
преобладающий
рит м
всех
детских
экспромтов
—
хорей .
112
1 Такое же требование выдвигал в статье «Ка к
делать
стихи»
В.
Маяковский,
а
вслед
за
ним
—
целый
ряд
современных
поэ то в.
«Почему это так,
я
не
знаю ,
—
сознается
Чуковский,—
может
быть,
пот ому,
что
д ети
всего
мира
прыгают
и
пля
шут
хореем;
мож ет
быть,
п от ому,
что
еще
грудным,
бессловесным
младенцам
все
матери
внушают
э тот
ритм,
когда
качают
и
подбрасывают
их,
когда
хлопают
пер ед
ни ми
в
ладоши
и
да же
когда
баюкают
их
(так
как
«баю -ба юш ки -баю »
есть
хорей), но как бы то ни
было,
это
почти
единственный
ритм
радос тны х
дет
ских
ст ихо в.
Хоре й,
который
порою
со пряже н
с
ана
пестом»
Для
Чуковского
его
открытие
был о
облегчено
тем,
что
он
сам
еще
в
ту
пору,
ког да
не
писал
стихов
для
детей,
полюбил
хоре й
за
четкость,
звонкость,
веселость.
«Чуков
ск ий
вообще
человек
хореический,
—
говорил
тогда
Н.
Гумилев,
—
и
если
бы
он
вздумал
писать
«Евгения
Онегина», то сделал бы это так:
Д ядя
самых
ч ест ных
правил,
Как
не
в
шутку
занемог,
Ува жа ть
себя
заставил,
Лучше
выд умат ь
не
мо г».
Во
всяком
слу ча е,
Чуковский
рекомендует
дет ским:
поэтам
хорей
в
качестве
основного
ритма
их
стихов
и
сам
широко
использует
его
в
своих
стихах.
Хорей
как
нельзя
лучше
удовлетворяет
еще
одному
требов а нию
Чуковско
го:
сти хи
для
детей
до лжны
быт ь
игр овыми.
Коне чно,
иг ру
здесь
Чуковский
понимает
в
само м
широком
смысле
сло ва.
Считалка,
перевертыш,
дразнилка
в
стихе
—
это
тож е
игра.
У
Чуко вс ког о
есть
стихи
о
лягушках,
уви да в
ших
черепаху:
И
они
зак ри чали
от
страх а:
—
Это
Че!
—
Это
Ре!
—
Это
Паха!
—
Это
Чечере...
пап а. ..
папаха...
1К.
Чуковский.
От
двух
до
пя ти.
М.,
Детг и з, 1957, стр. 229.
8К.
Чуковский
113-
Эти
сти хи
—
т оже
самая
откровенная
словесная
игра,
которую
так
любят
малыши.
Н аконе ц,
двенадцатая
запо вед ь
обязывает
детско г о
поэ та
быт ь
требовательным
к
се б е : «Поэзия для малень
ких
должна
быть
и
для
в зрослых
поэзией!»
Прежде
—
во
все
времена
—
лучшими
книгами
дет
ск ой
литературы
бы ли
прои зве ден ия,
до ст авшиес я
детям
от
взрослых.
Эти
книги,
некогда
злободневные,
посте
пенно
те ряли
св ою
актуальность
и
переходили
из
каби
нет а
в
детск ую ,
как
бы
пре вр аща ясь
из
на ст оящ его
ору
жия
в
игрушечное.
Ведь
и
«Робинзон Крузо», и « Пу т е
ш еств ия
Гулливера», и «Дон-Кихот»
з ахва тыв али
своих
первых
читател ей
прежде
всего
очевидной
св язью
с
жизнью.
Что
же
ка сается
пр о изве ден ий,
специально
н аписан
ных
для
детей,
то
они
редк о
читались
за
пределами
од
ного
пок о ления .
Идейно-художественный
уровень
советской
лите рату
ры
для
детей
и
юношества
возрос
настолько,
что
н ач ался
и
продолжается
по
сей
ден ь
процесс
перехода
лучших
детск их
книг
во
«взрослую»
лите ра ту ру.
Так
случилось
-с
детскими
книг ам и
Га й дара,
Ал.
Толстого,
Житкова,
Кассиля,
Катаева,
Бианки,
Лагина,
Носов а. ..
Сейчас
уже
п орой
как-то
забывается,
что
эти
лю би мые
на ши
кн иги
написаны
для
детей.
Вместе
с
тем
продолжается
старый
процесс
пр о никно вен ия
«взрослых»
к ниг
в
дет
ское
чте ние .
Таким
образом,
мысл ь
П исарев а
о
то м,
что
с пециал ьн о
детс ка я
литература
не
нужна,
а
нужно,
что
бы
была
только
—
литература,
получает
неожиданное
разрешение
не
путем
ликвидации
д етско й
литературы
(как предлагал знаменитый критик),
но
благ од аря
ее
■бурному развитию.
Детские
сти хи
Маяковского,
Марша ка ,
Чуковского,
Барто,
Михалкова
и
других
талантливых
п оэт ов,
пишу
щих
для
детей,
жи вут
в
сознании
народа
как
произве
дения-
большой
русской
поэзии.
Они
бесконечно
далеко
ушли
от
педиатрических
вир шей
былых
времен
и
в
с илу
этого
стали
ма к сима льно
близки
своему
маленькому
чи
тател ю.
Две на дц ать
заповедей
Чуковского
гов орят
о
то м,
что
должен
делать
детский
поэт,
чтоб ы
удо вле тв ори ть
за
просы
своего
мал ен ько го
читателя.
Однако
маленький
чи-
114
т атель
не
желае т
ост ав ат ься
навсегда
маленьким
—
он
растет!
И
поэтому
появляется
необходимость
«не столько
приспособляться
к
ребенку,
с к олько
п ри сп особл ять
его
к
себе,
к
св оим
«взрослым»
ощущениям
и
мыслям».
Отсю да
следует
три над ца тая
заповедь
—
мало-помалу
нарушать
многие
из
предыдущих
двенадцати,
постепен
но
усложнять
и
разнообразить
поэтическую
форму
и
тем
самым
подвести
маленького
чита т еля
к
в осп рият ию
вели
ких
п оэт ов.
Книга
«От двух до пяти»
—
настоящая
энциклопедия
возраста,
указанного
в
ее
названии.
Водном
из
мно го чис ле нных
писем,
п олу че нных
Чуков
с ким
от
детей
и
д етс ких
коллективов,
говорится: «Ваши
книжки
мы
очень
люби м.
Шлем
привет
и
желаем
лет
до
ста
расти
Вам
без
старости.
А
ес ли
мо же те,
живите
бол ь
ше,
мы
Вам
по м о же м ». Авторы этого письма,
коне чн о,
и
не
догадываются,
насколько
то чно
они
определили
зна
чение
своих
юных
персон
для
ста ро го
писателя.
Ведь
действительно
—
помогают!
Чуковский
так
и
напис ал : «В старости,
как
и
в
молодости,
лу чший
мой
от
дых—
об щение
с
детьми
от
2до12
ле т.
Без
этого
общ е
ния
жизнь
для
меня
не
к р асна;
в
нем
я
виж у
ист очни к
душевного
здоровья
и
счасть я».
На до
виде т ь,
с
како й
легкостью
он
находит
об щий
язык
с
детьми.
Вернее,
даж е
не
«находит» (потому что
это
слово
пр едпол аг ает
некоторую
трудность
поисков),
а
просто
говорит
с
пио не ром
о
возможности
полета
на
Ма рс
в
све те
нов ейш их
д о стиже ний
советской
раке т
ной
техники,
с
пе рвокл а ссни ком
—
о
неизведанном
мате
рике
Антарктиде,
с
девочкой
в
бантиках
—
о
ее
рисун
ках,
а
с
малышами,
еще
не
умеющими
читать ,
—
о
чи жах
и
дятлах,
которых
в
Пе ре де лкине
великое
мн о
жество.
И
тогд а
ст арый
литературовед,
автор
мног их
уче
ных
трудов,
доктор
филологических
нау к
К.
И.
Чу
ковский
становится
удивительно
похож
на
того
доброг о
и
чуть-чуть
лукавого
сказочника,
чей
об раз
встает
со
страниц
«Айболита», «Мойдодыра», «Бармалея», «Фе
дориного
го ря », «Телефона», «Путаницы»
и
других
сказок.
8*
115
Де ти
—
са мые
благо дар ные
чи тател и,
и
ес ли
бы
су
ществовал
д етск ий
читательский
кодекс,
его
первым
пунктом
был о
б ы: «любовь за любовь».
Всесоюзная
книжная
пал ата
беспристрастно
отм еч ает
любовь
д етей
к
веселому
сказочнику,
выражая
ее
в
цифрах
ти раж ей.
С то,
д вест и,
триста,
пятьсот
тысяч
экземпляров
—
таков
об ыч ный
единоразовый
тираж
этих
сказок.
Впрочем,
иногда
он
достигает
миллиона
экземпляров,
а
общий
ти
раж
сказок
Чуковского,
по
сведениям
Всесоюзной
книж
ной
палаты,
д авно
уже
перевалил
за
тридцать
м илл ио нов.
К
чит ате лям
этих
тридцати
миллионов
к ниг
нужно
прибавить
зри те лей
сказок,
инсценированных
для
тюзов,
кукольных
и
самодеятельных
театров,
зрите л ей
игровых
и
мультипликационных
фильмов,
созданных
по
мотивам
сказок
Чуковского,
слушателей
детс ки х
опе р
«Муха-Цо
котуха»
композитора
К р асева, «Мойдодыр»
Левит ина
и
балета
«Айболит»
Мороз ова .
На
Укра ин е
читают
эти
сказки
по-украински,
в
Бе
лоруссии
—
по-белорусски,
в
Латвии
—
по-латышски,
в
Дагестане
—
по-аварски.
Ес ть
переводы
сказок
на
бо л
гарский,
чешский,
н емецк ий,
французский,
английский,
сл ове нский,
румынский,
пол ьс кий,
в енг ер ский,
гр еческ ий
и
другие
языки.
Композитор
Бородин
го вари вал,
что
музыкой
он
мо
жет
заниматься
лишь
тогда,
когда
болезнь
оторвет
его
от
главного
дел а
—
химии.
Друзья-композиторы
в
шутку
жела ли
ему
«всяческого нездоровья»
на
благо
русской
музыки.
Корней
Иванович
Чуковский
лю бит
повторять,
что
детская
литература
—
это
для
него,
дескать,
не
труд,
а
отдых
и
ра звле чение
пос ле
тяжелой
и
кропотливой
на
учной
работы.
Что
ж!
Все
друзья
дет ско й
лите ра тур ы
могут
толь ко
пожелать
ему
почаще
«отдыхать» . Но отд ы
хат ь
Чуковский
не
любит
и
не
умеет.
Любим ы й
труд
и
любовь
к
детям
ос еня ют
его
с ере бряную
старость:
Никогда
я
не
знал ,
что
так
р адост но
быть
стариком.
С
каждым
днем
мои
мыс ли
светлей
и
светлей.
В озле
мило го
Пушкина,
здесь,
на
осен не м
Тверском,
Я
с
прощальною
жадностью
долго
смотрю
на
детей.
И
уст ало го,
с т арого
те шит
ме ня
Вековечная
их
беготня
и
возня.
Да
к
че му
бы
и
жить
нам
На
этой
планете,
Когда
б
не
он и,
не
вот
эти
Г л азастые,
зв о нкие
дети,
Которые
здесь,
на
моем
Грустном,
осеннем
Тверском,
Бездумно
ле тят
от
веселья
к
в есель ю,
Кружась
разноцветной
сво ей
каруселью,
В
бе сп ам ятстве
счастья,
навстречу
векам,
Каких
никогда
не
видать
старикам!
СОДЕРЖАНИЕ
У
ис токо в
......................................................................
5
Нат
Пинкертон
и
другие..........................................
12
Крокоди л
в
Петрограде....................................................21
Борьба
за
сказку.............................................................. 32
«Уж не пародия ли? ..».................................................... 41
Маленький
герой...............................................................49
Чуд еса
«обычные»
и
«необычные». .. ... ... .. ... ... .. ... ... .. ... ... .61
Стихи
и
проза......................................
....
78
Время
тринадцатой
заповеди
............................
99
Петр ов ский
Мирон
Семенович
КОР НЕЙ
Ч УКОВ СКИЙ
Книга
о
дет с ком
писателе
Ответственный
ре дак тор
Н.
Ф.
Яснопольский
Художественный
редактор
Л
Ф.
Ордынский
Технический
ре дак тор
Р.
И.
Прозоровская
Корре к то ра
Э.
Л.
Лофенфелъд
и
К.
П.
Тягельская.
*
♦♦**
Сдано
в
набор
10/1II 1962 г .
Подп исан о
к
пе
чати
28/VI 1962 г .
Формат
84 X 1О8’/э2- 3,81 печ.
л. = 6,25 усл.
печ.
л.
(5,71 4- 1
вкл. = 5,76уч.-
из д.
л. ).
Т ираж
10 000 экз.
Б394
1961 г.
No
13.
А0 69 41.
Ц ена
33 коп.
Детгиз.
Москва,
М.
Черкасский
пер., 1.
♦****
2-я
фабр ик а
дет с кой
книги
Детгиза
Министер
ст ва
просвещения
РСФСР.
Ленинград, 2-я
Со
ветска я, 7. Заказ No 596.
НОВЫЕ
ИЗ ДА НИЯ
ДОМ А
ДЕТС КОЙ
КНИГ И
КОММУНИСТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
И
СОВРЕМЕННАЯ
Л ИТЕРАТ УРА
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
И
ЮНОШЕСТВ А
С бор ник
статей
ДЕТСКАЯ
ЛИ ТЕРАТУ РА. 1961 г.
С борн ик
статей
Ст.
Рассади н .
НИКОЛАЙ
НОСОВ.
Критико-биографический
оче рк
Вл.
Николаев.
АЛЕ КСЕЙ
МУСАТОВ.
Критико-биографический
очерк
Вер а
Смирно ва .
О
ДЕТ ЯХ
И
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
Сборн ик
статей
Л.
Ра з гон.
ВОЛШЕБСТВО
П ОПУЛЯРИ ЗА ТОРА.
33 коп