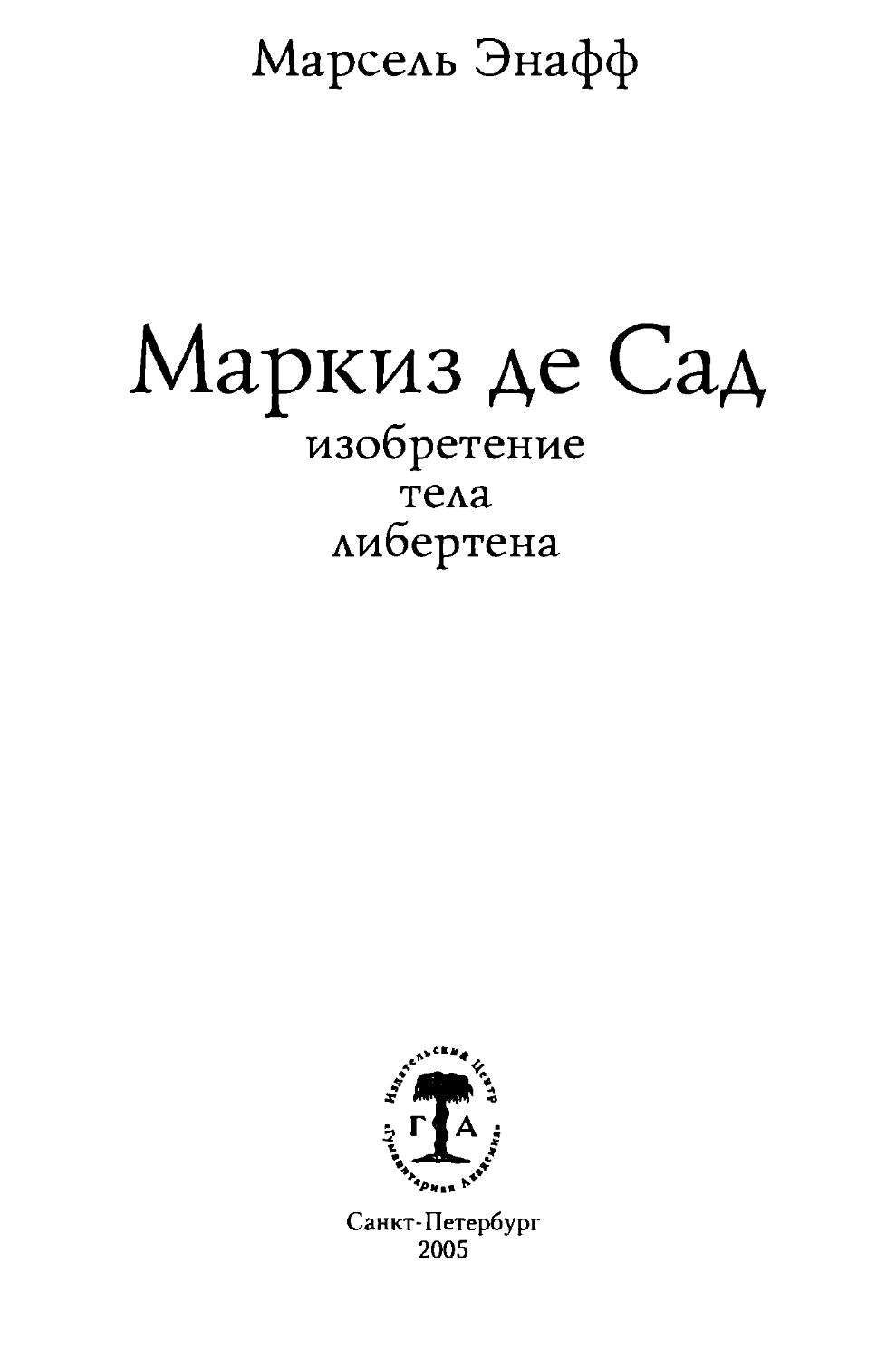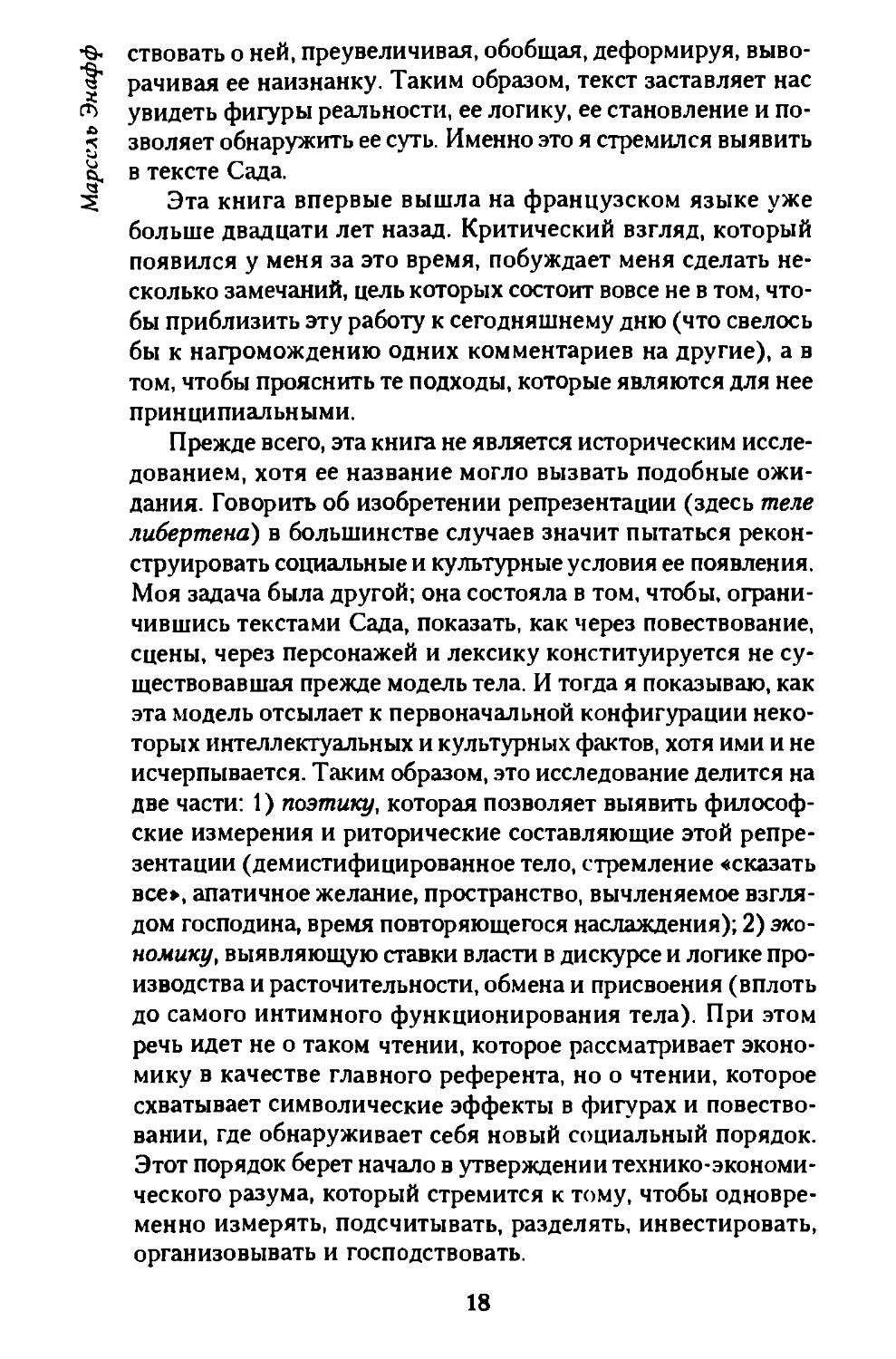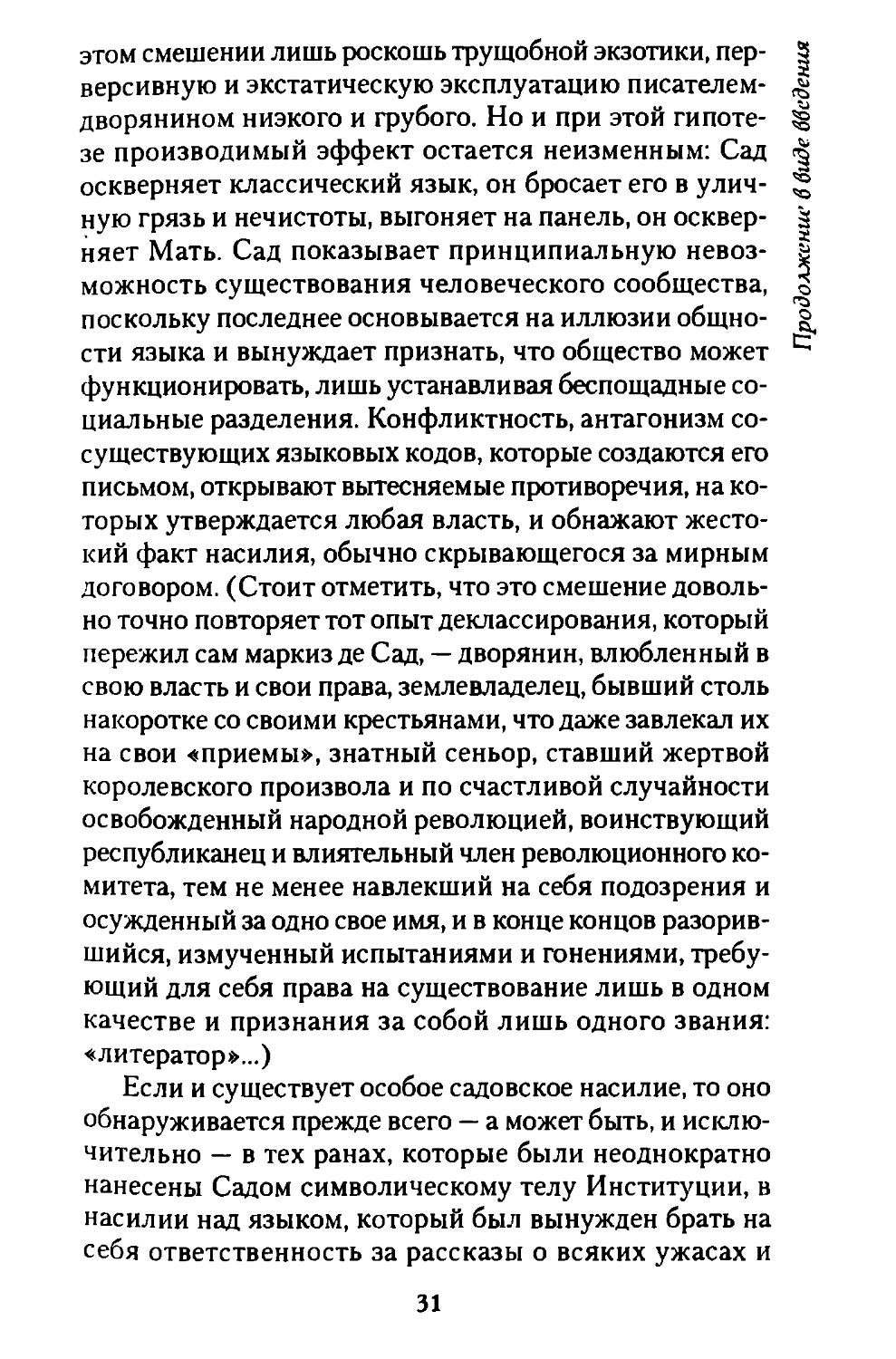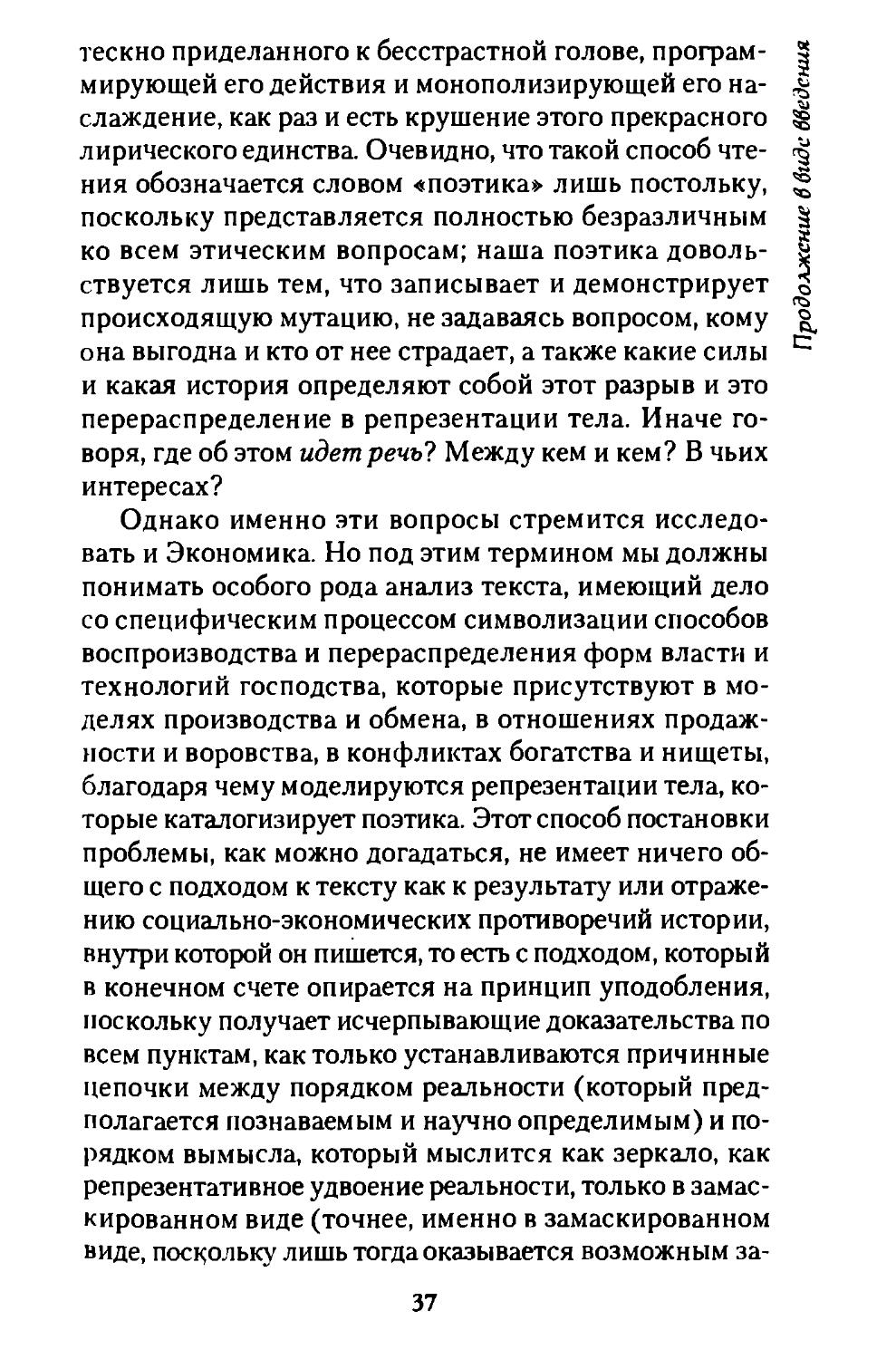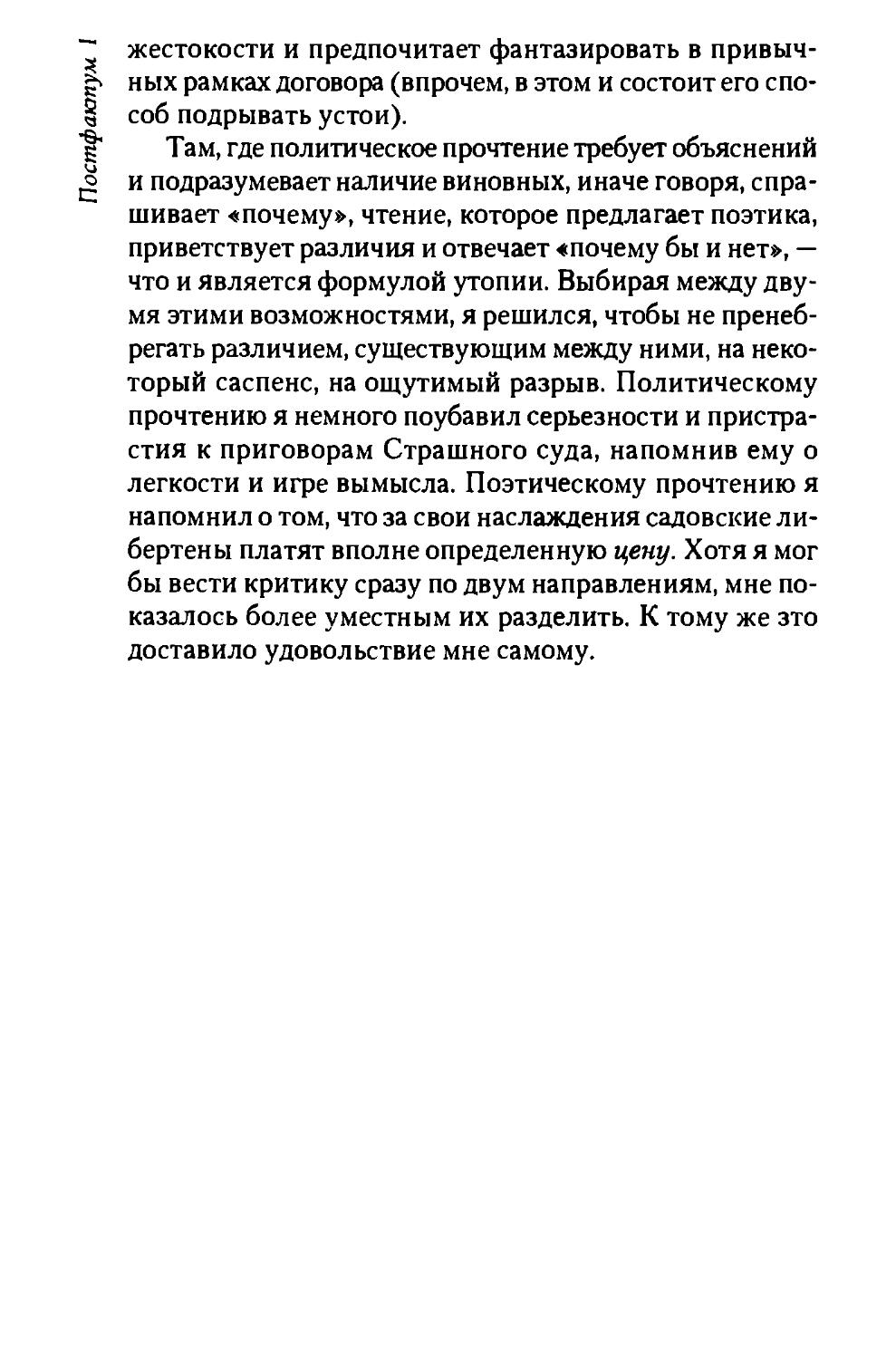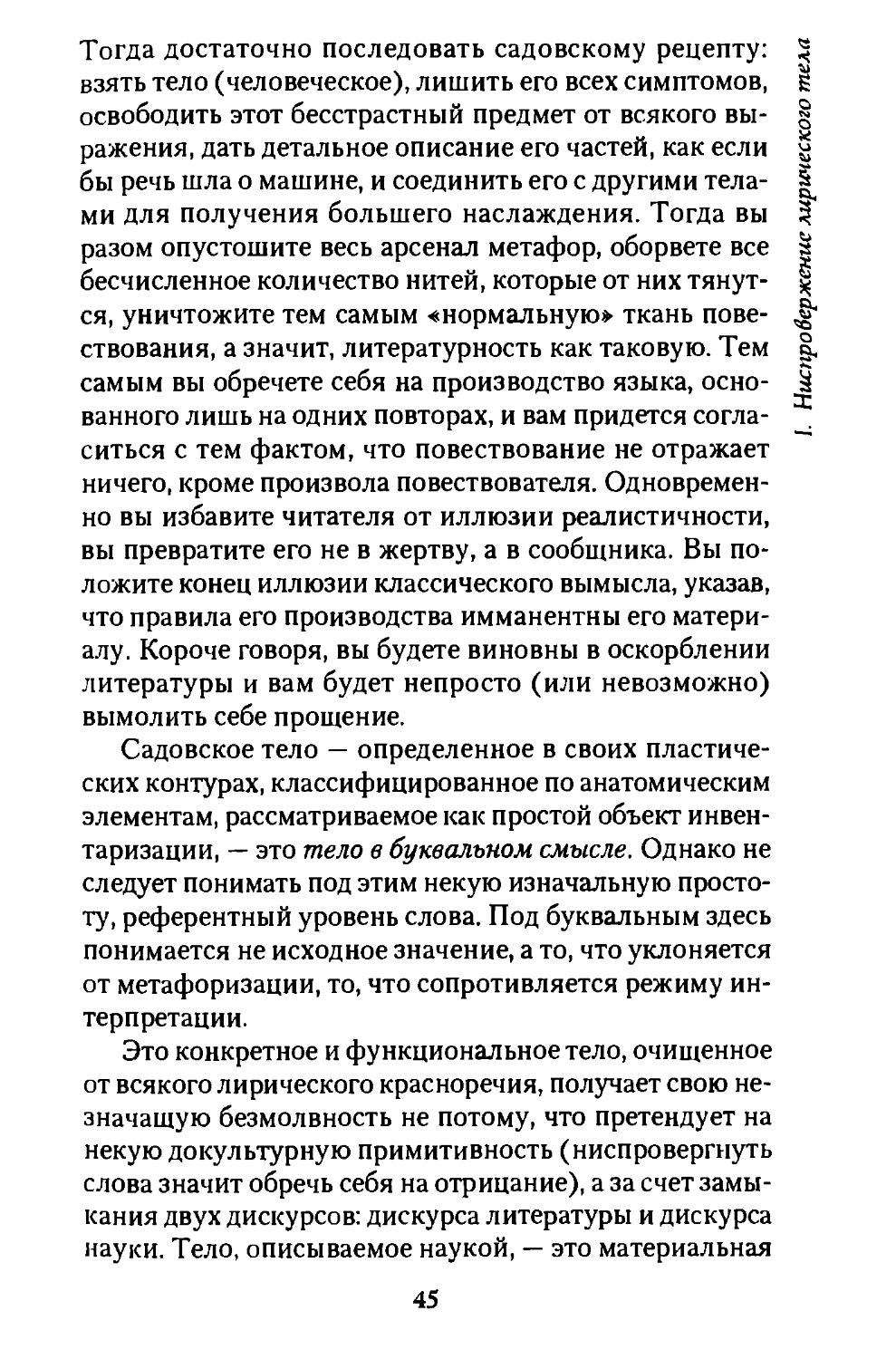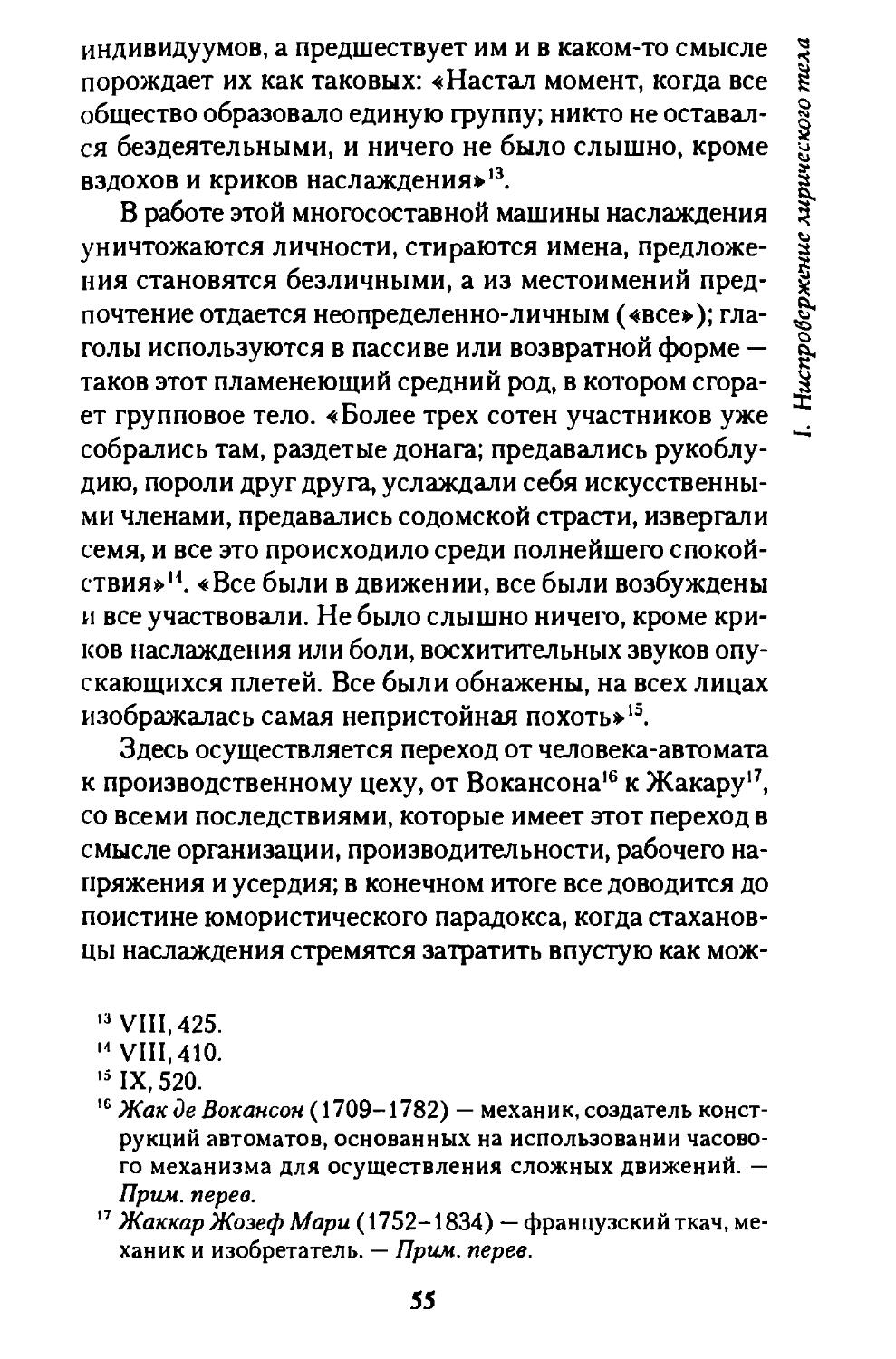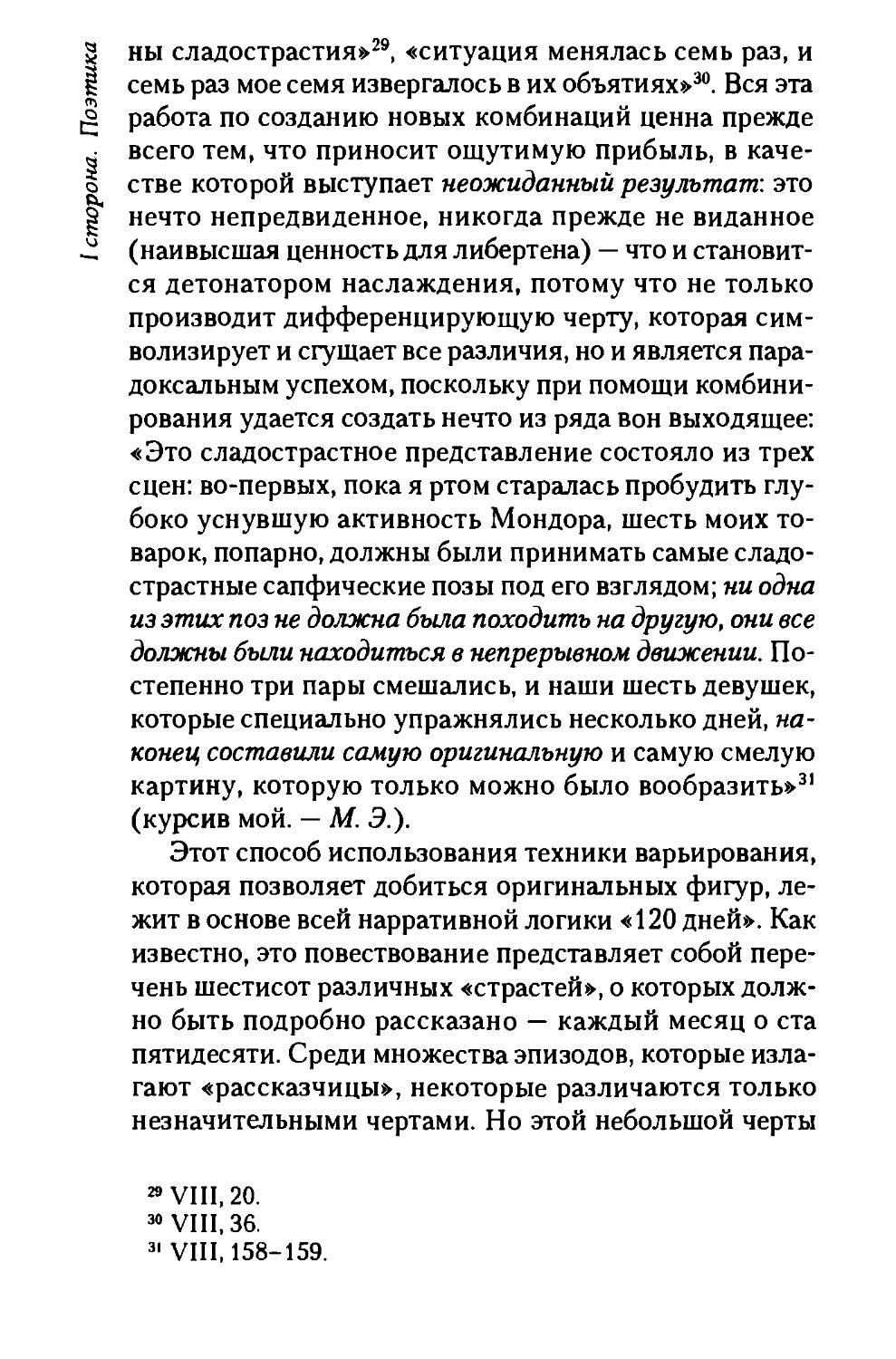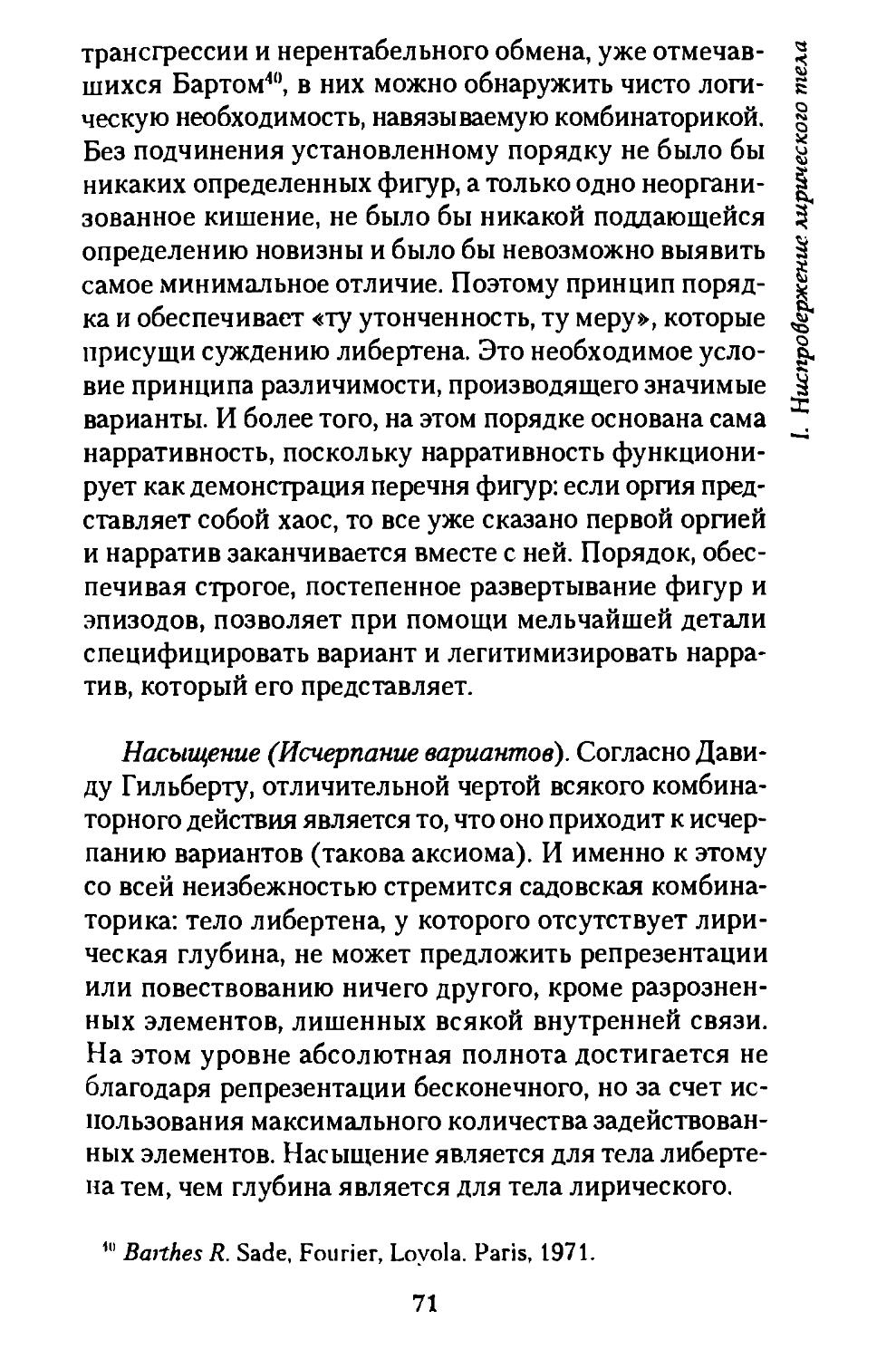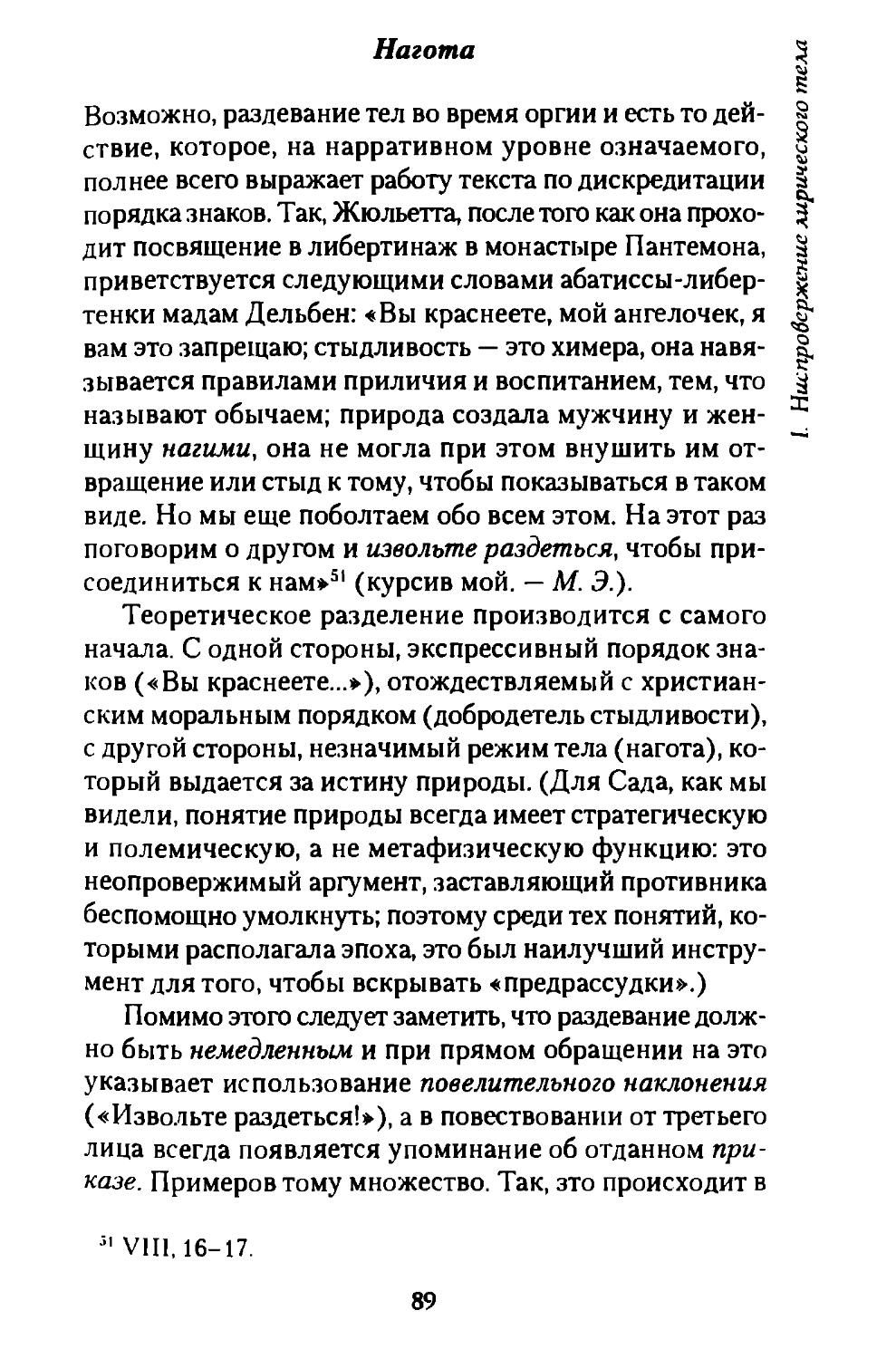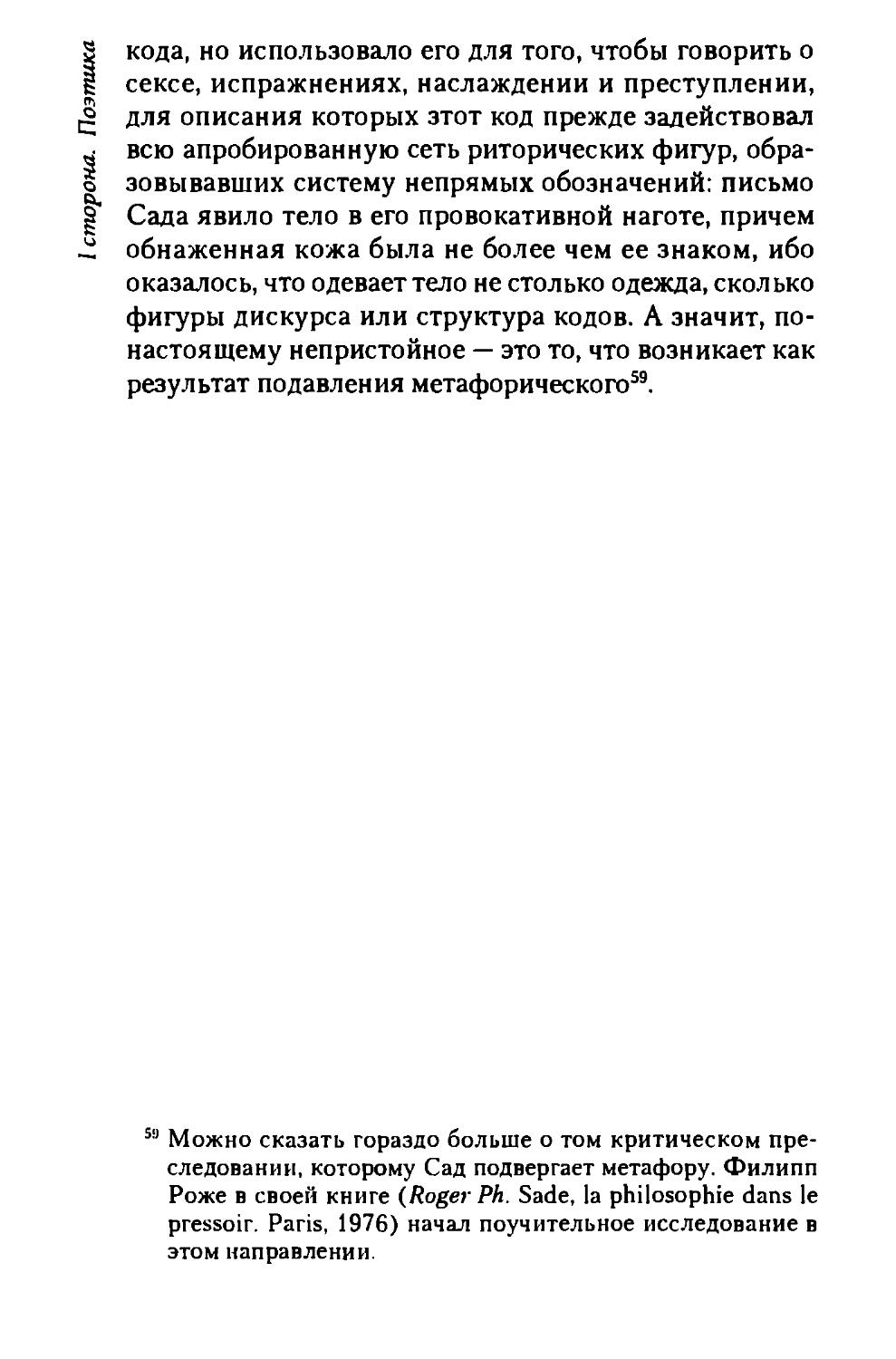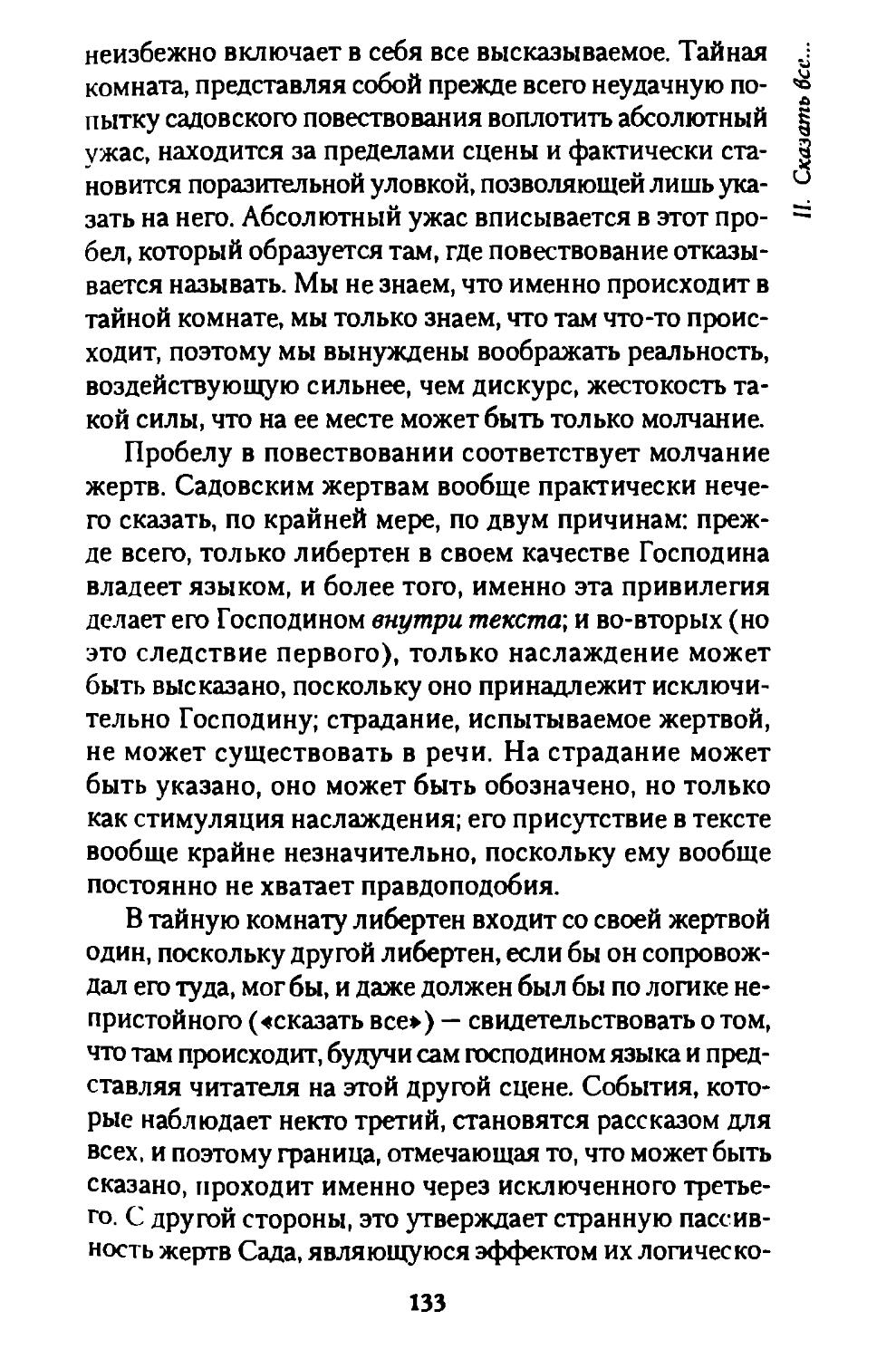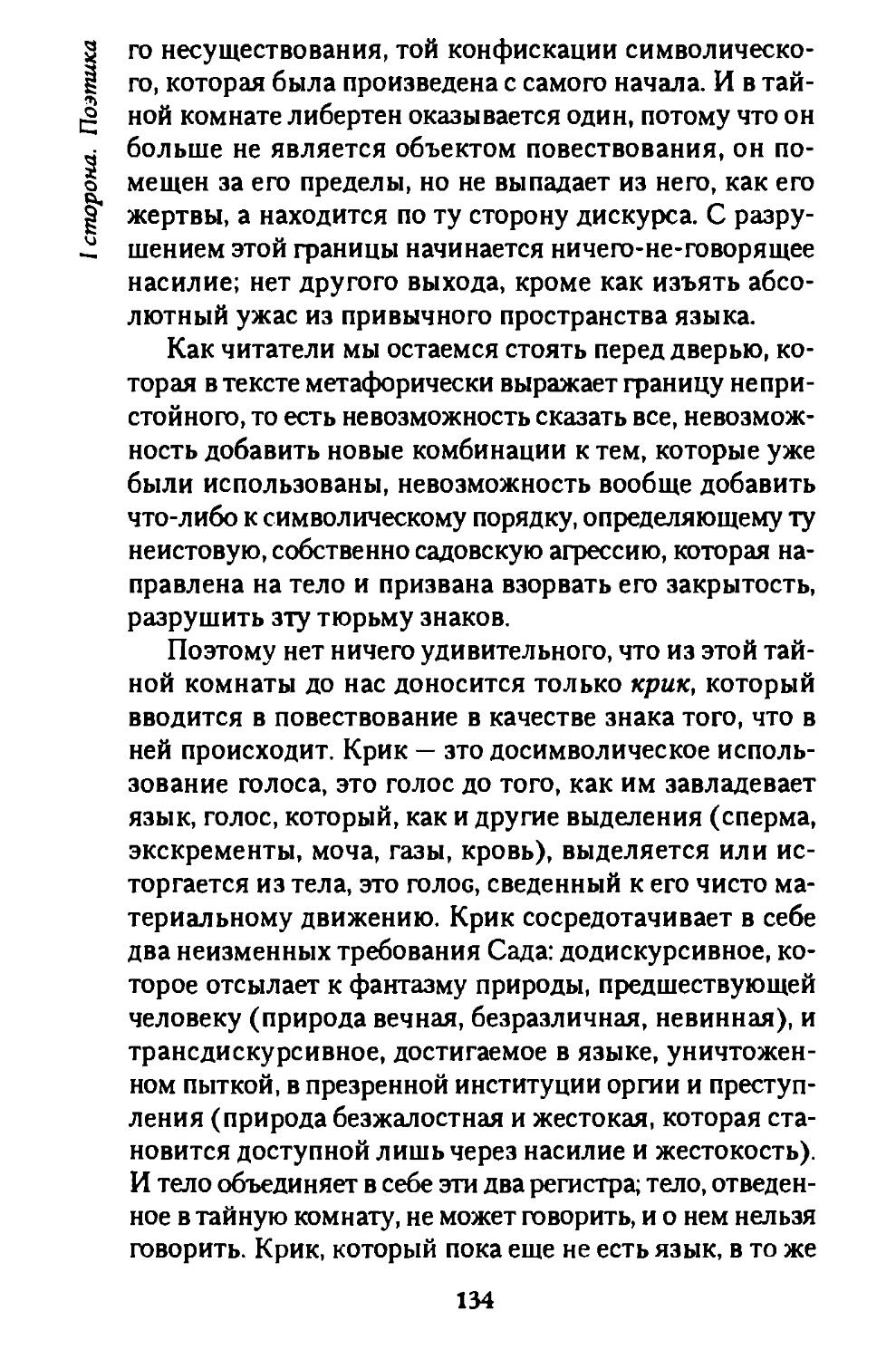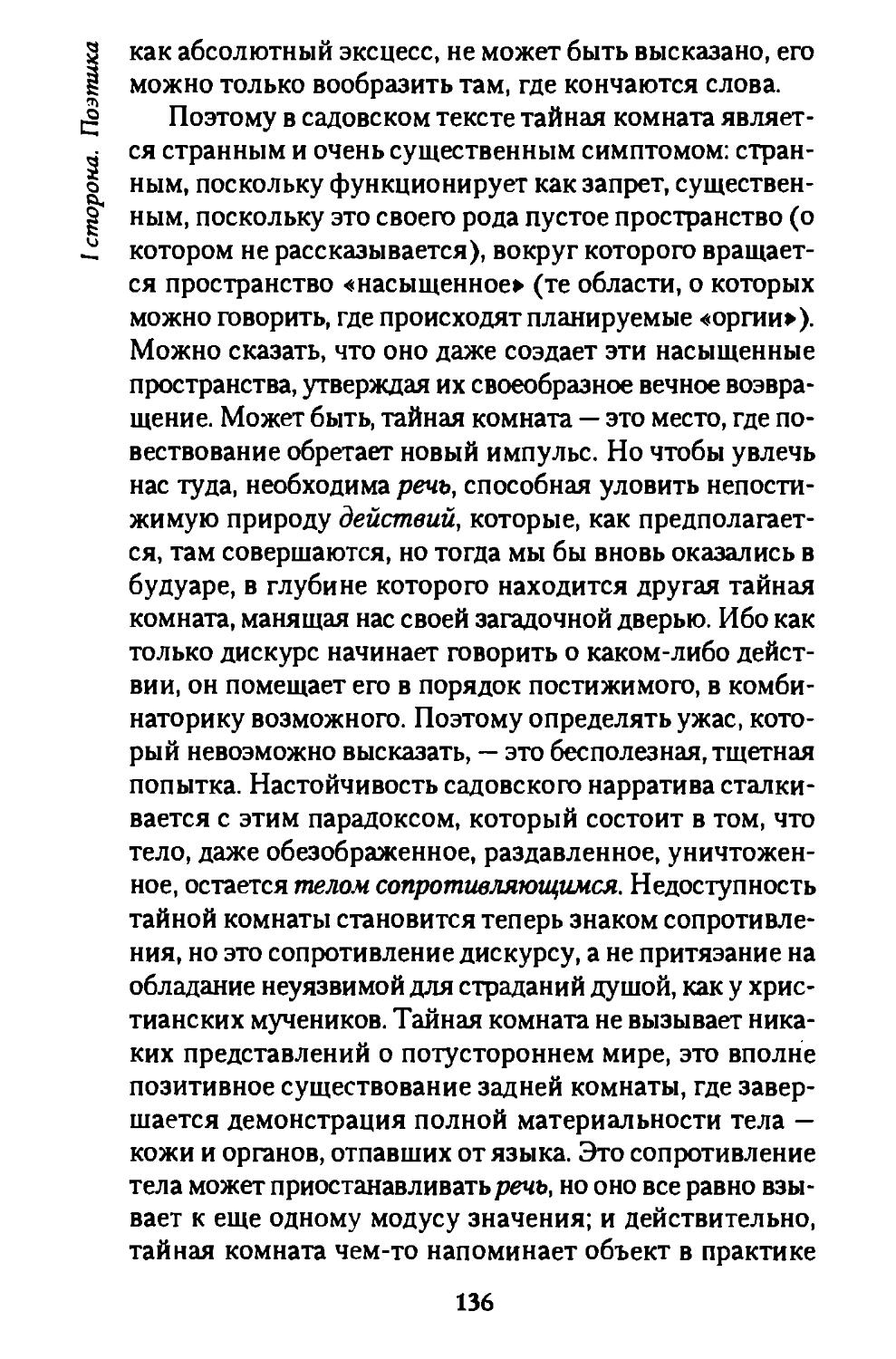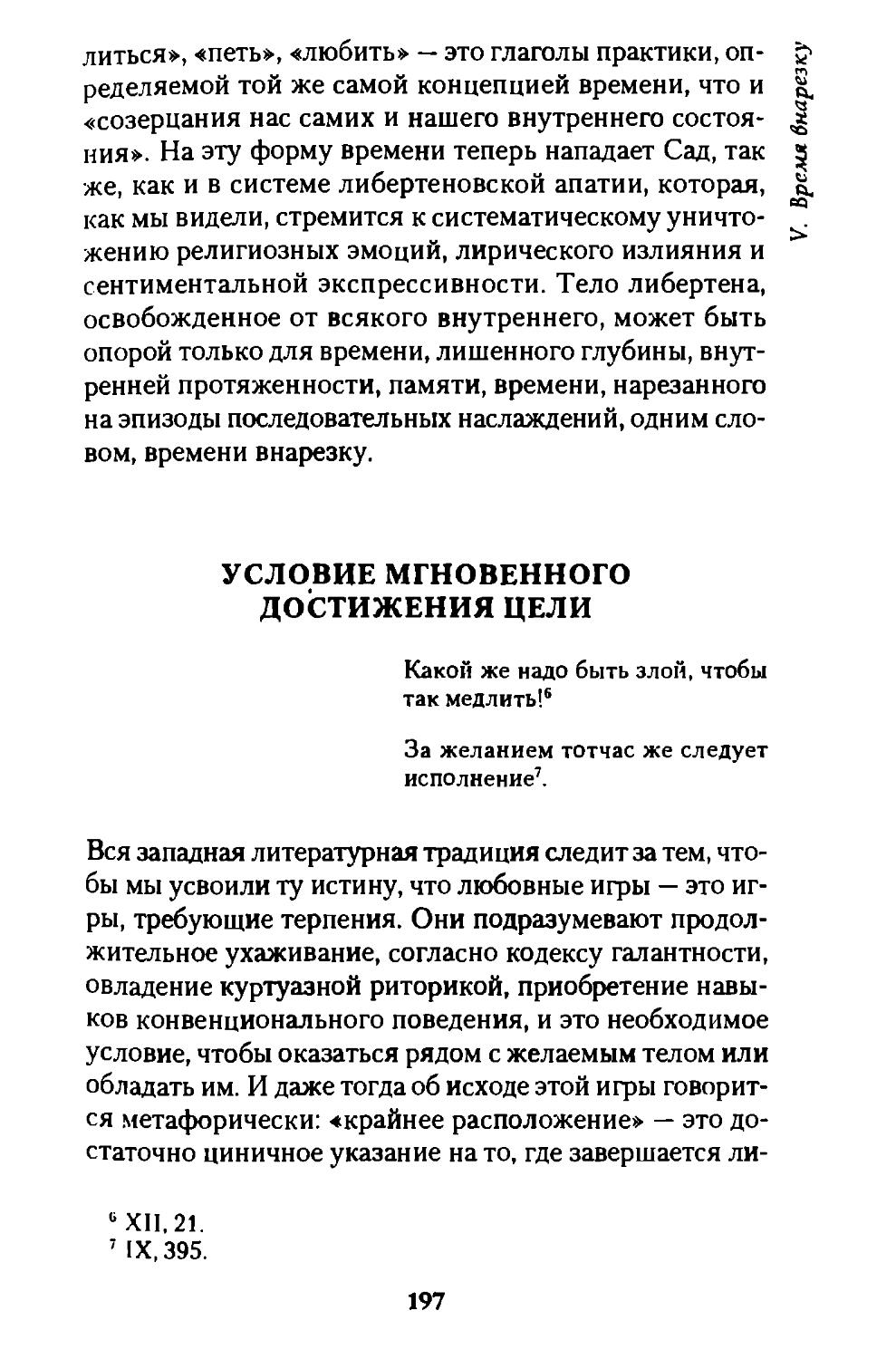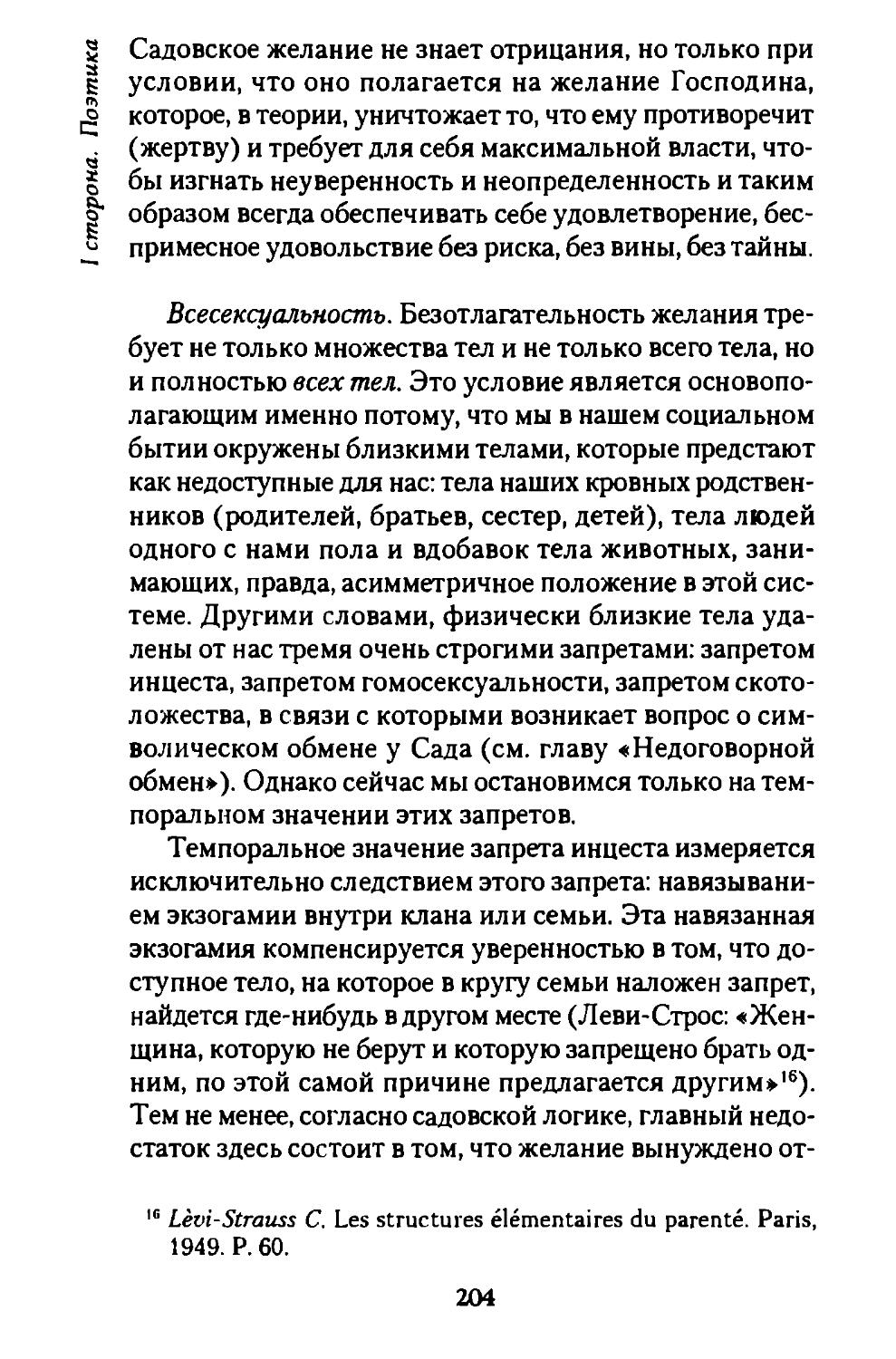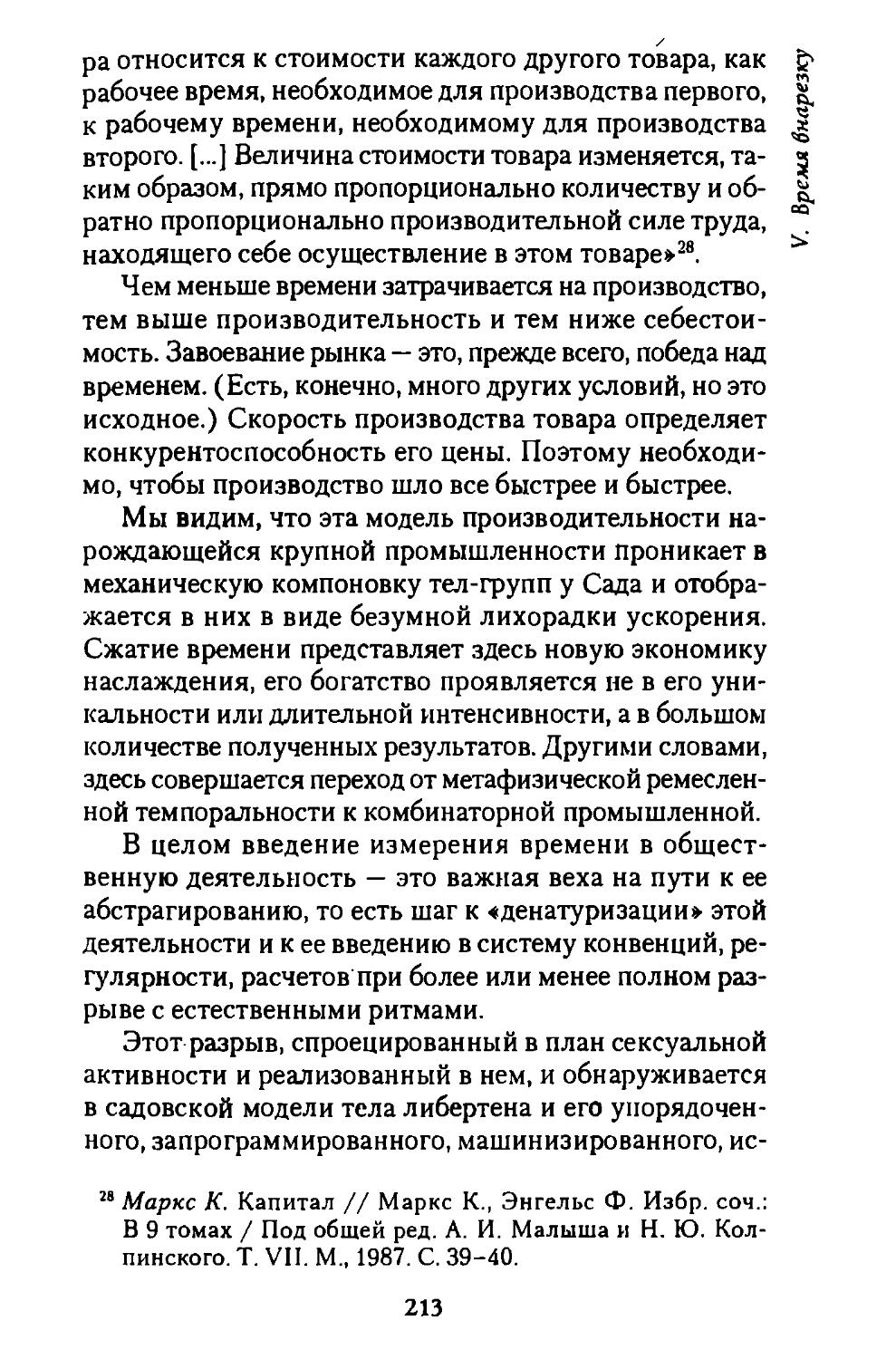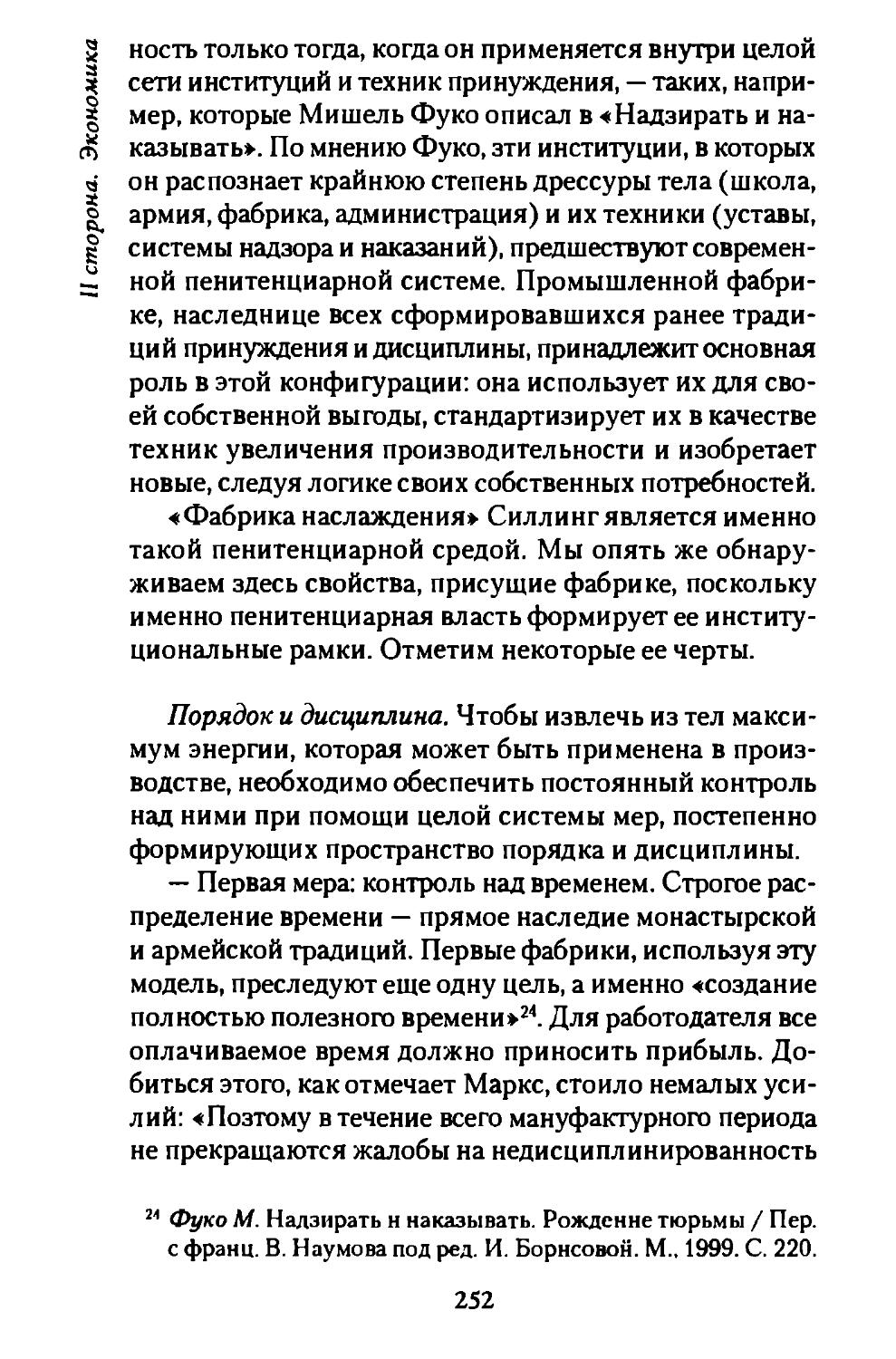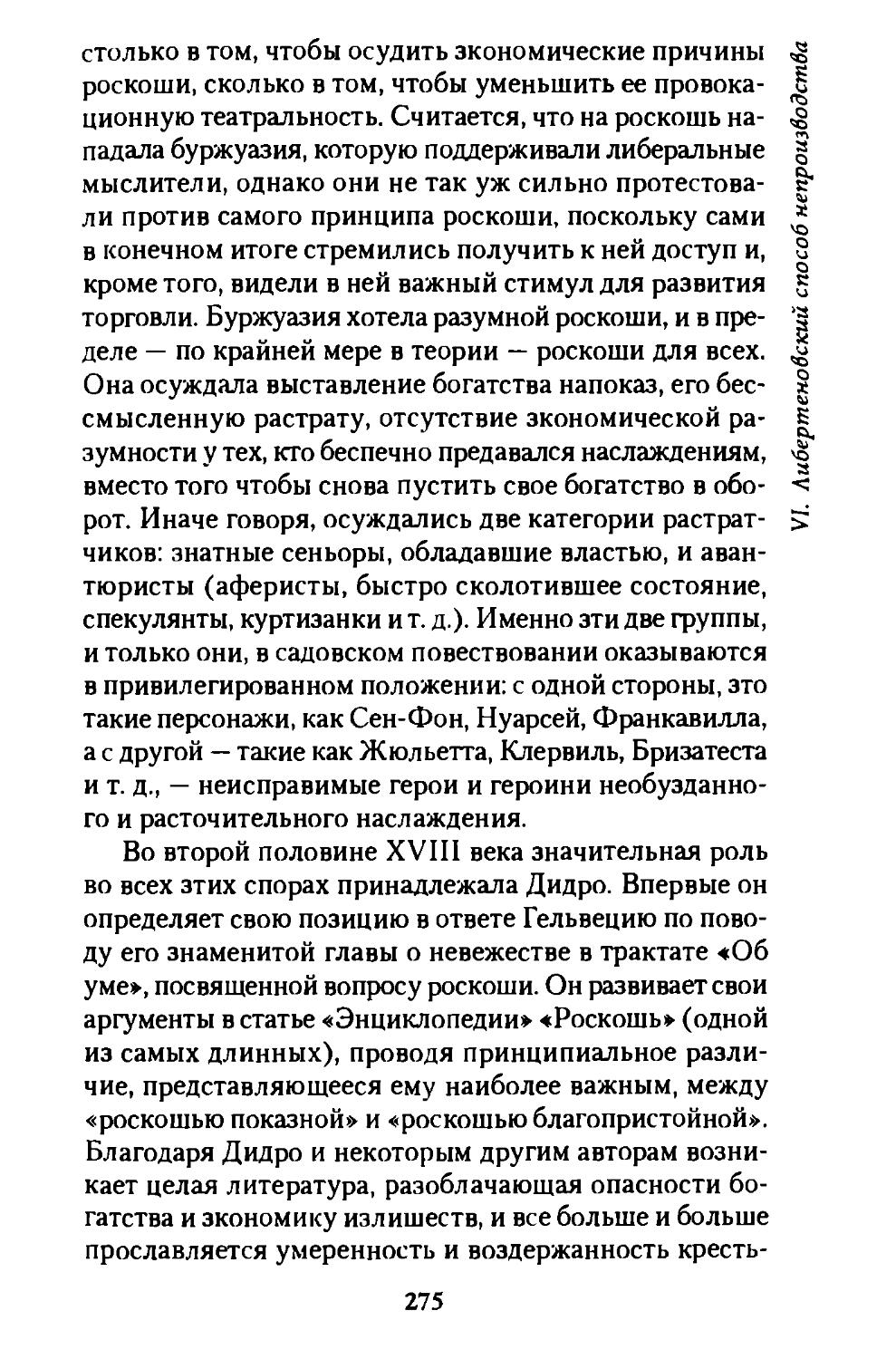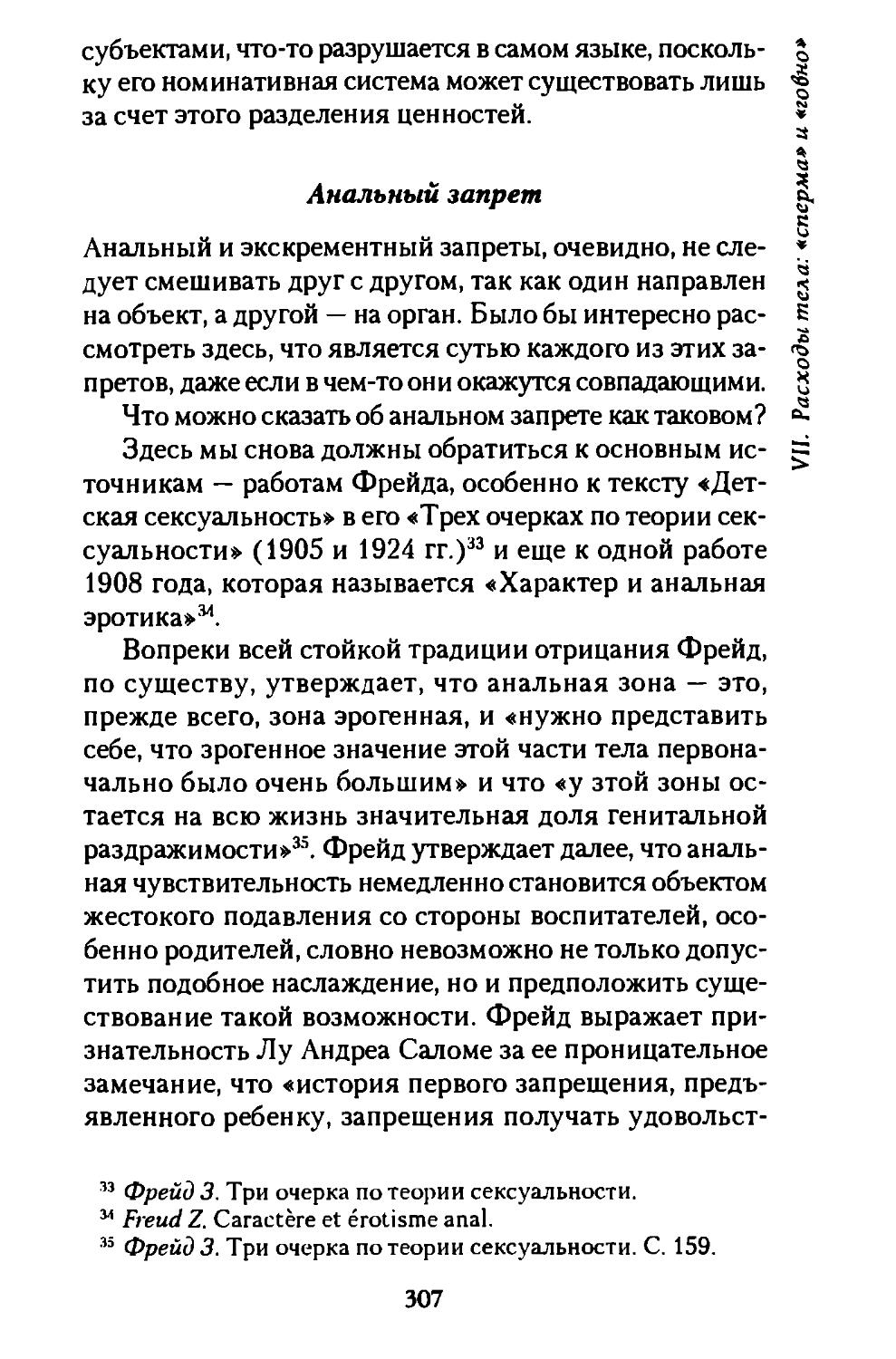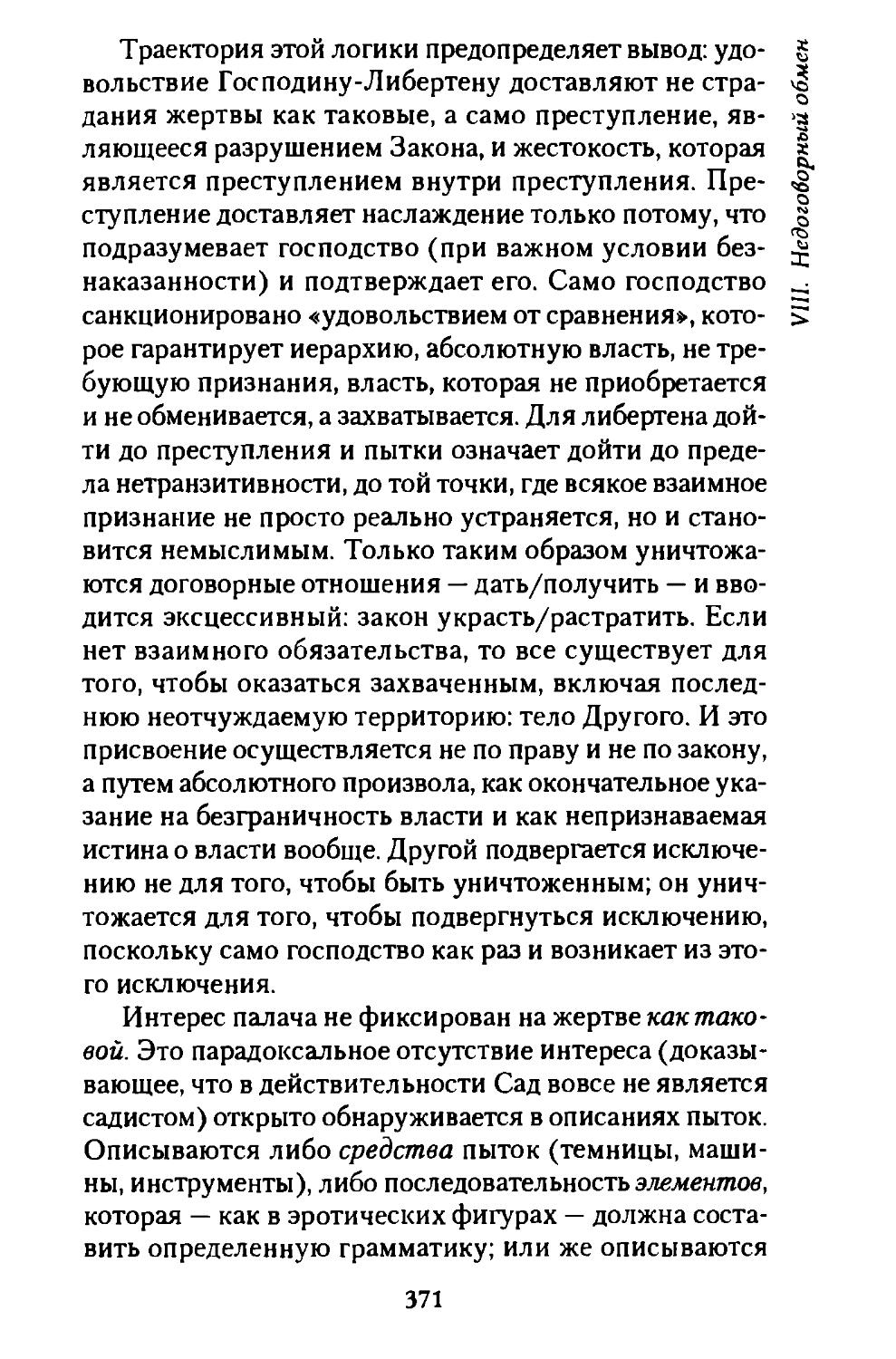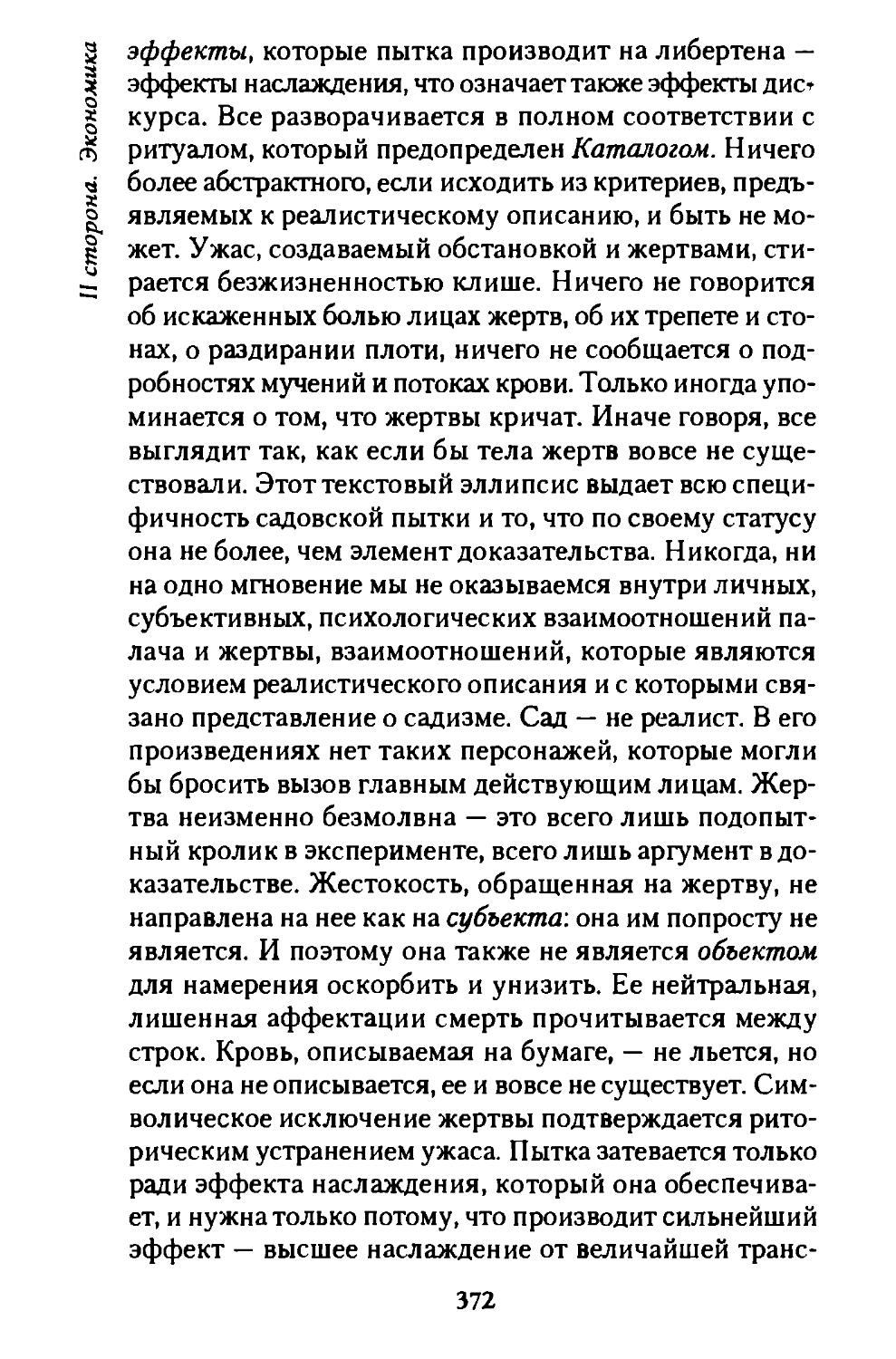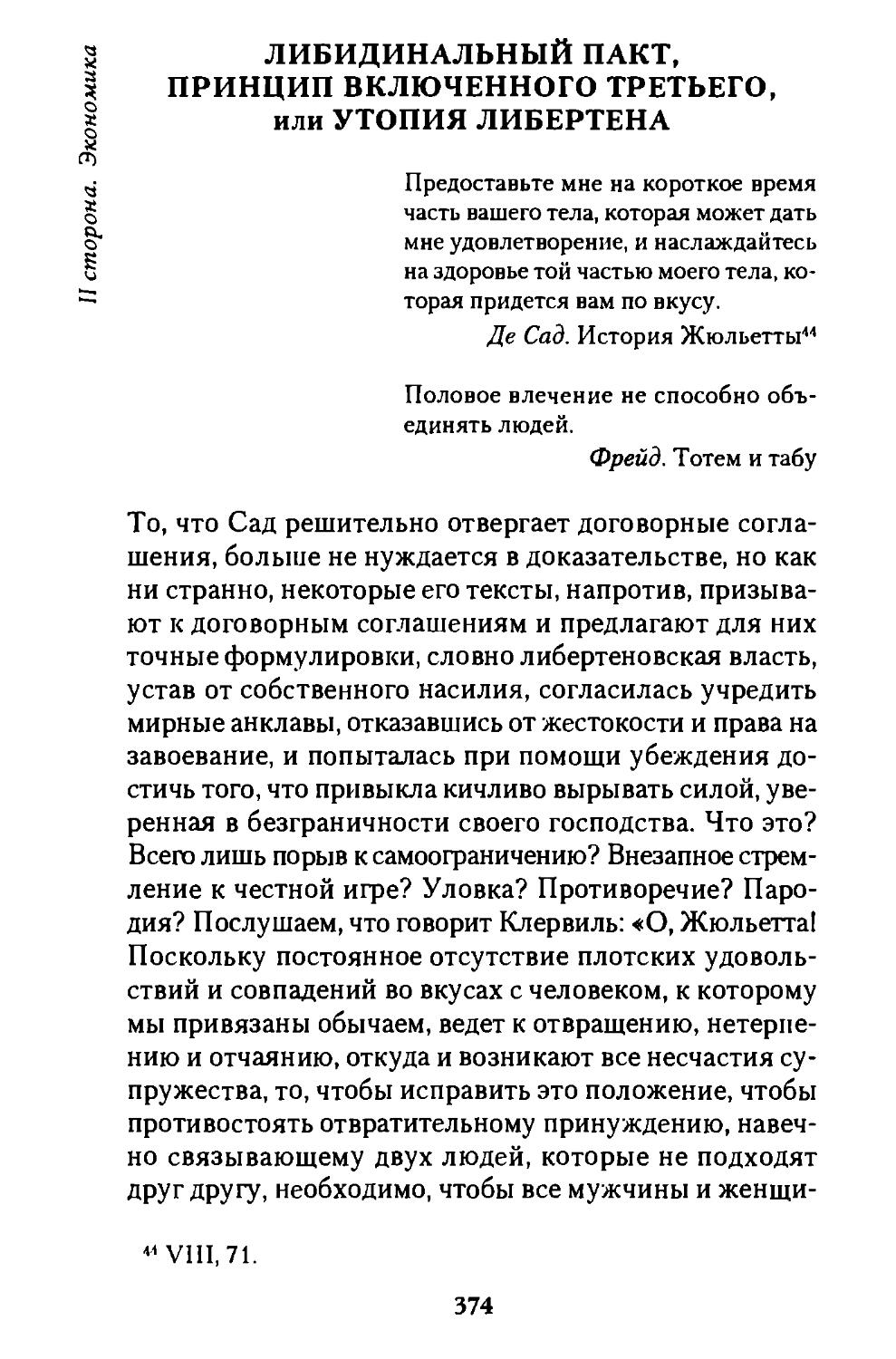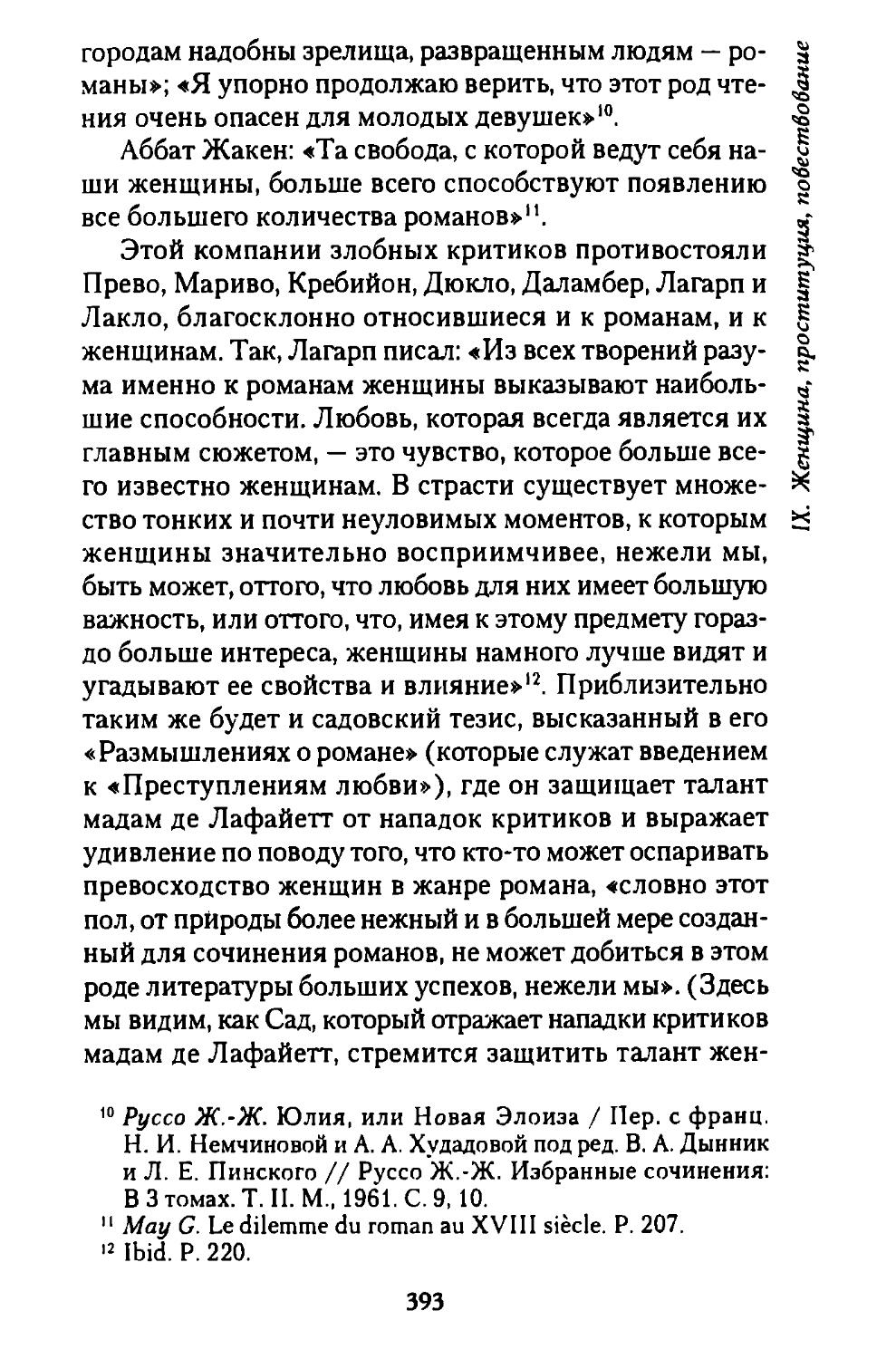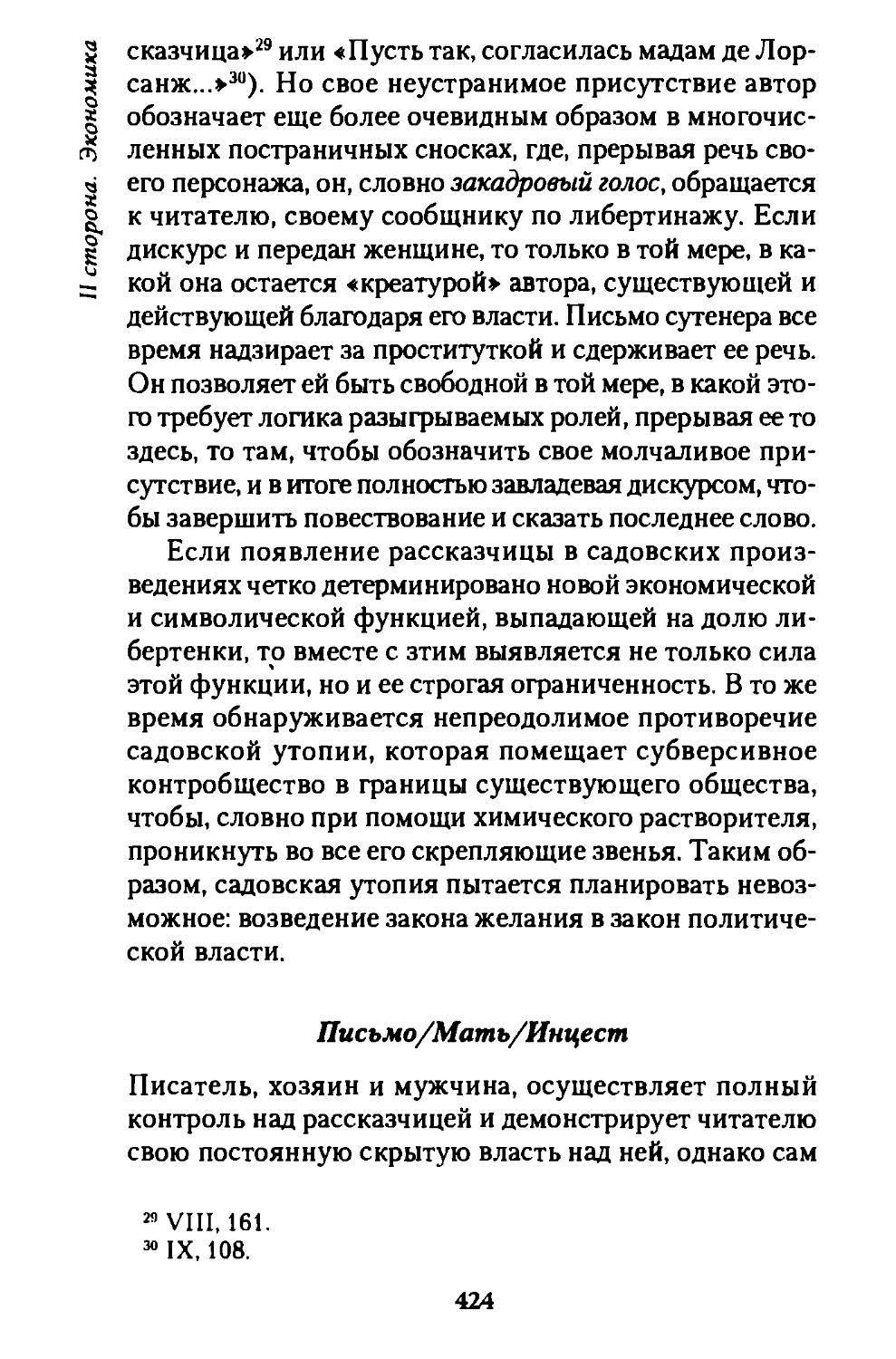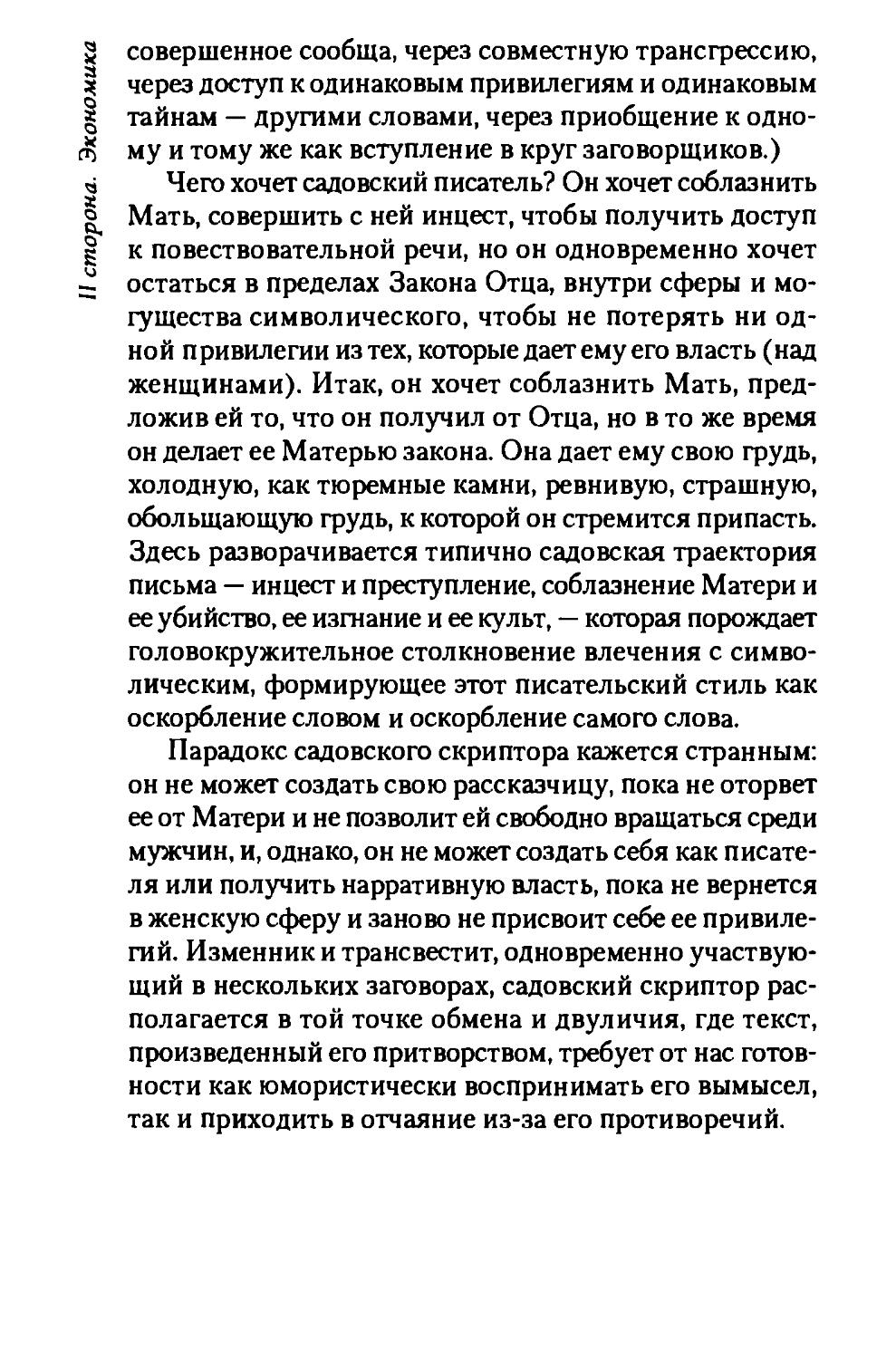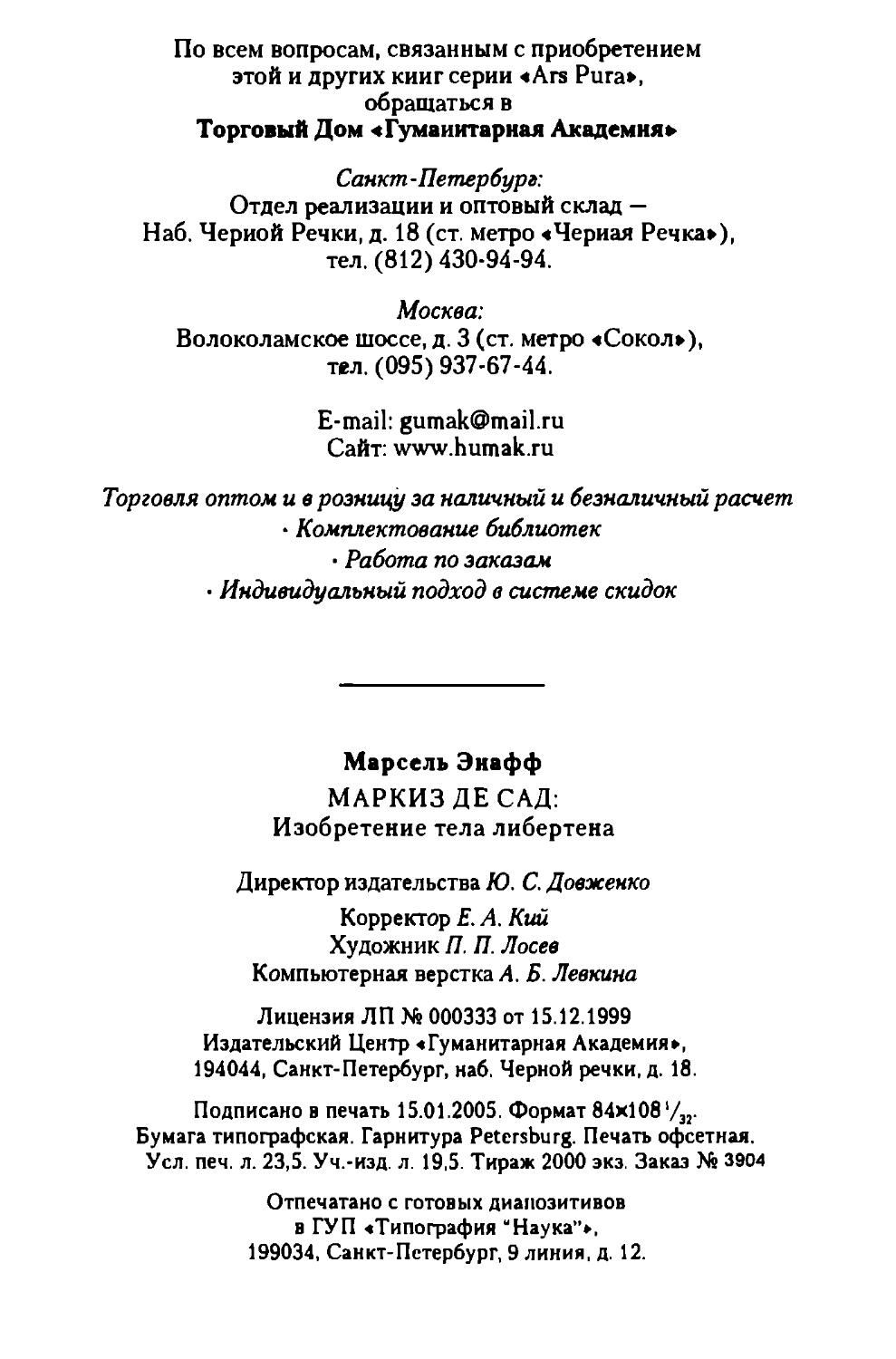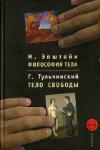Author: Энафф М.
Tags: французская литература литература франции философия
ISBN: 5-93762-043-7
Year: 2005
Text
а
ФРАНЦУЗСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Marcel Henaff
Sade
l'invention
du corps
libertin
Saint-Petersbourg
2005
Марсель Энафф
Маркиз де Сад
изобретение
тела
либертена
±
*Г|А
Санкт-Петербург
2005
УД К 821.133.1.09
ББК 83.3(4Фра)
Э61
Энафф Марсель
Э61 Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена / Пер.
с франц. Н. С. Мовниной; отв. ред. Д. Я. Калугин. —
СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2005. — 448 с. —
(Серия «Ars Рига. Французская коллекция»).
ISBN 5-93762-043-7
Впервые издаваемая на русском языке книга
известного французского философа, культуролога и антрополога,
ученика Жиля Делёза Марселя Энаффа представляет
собой оригинальное прочтение основных текстов маркиза де
Сада — «Жюстина, или Несчастия добродетели»,
■♦История Жюльетты», «Философия в будуаре», «120 дней
Содома» и др. В процессе исследования репрезентации «тела
либертена» автор реконструирует философские,
риторические и экономические модели, лежащие в основании
садовского письма. Сочетая различные подходы
(социологическую методологию, литературоведческий анализ,
семиотику текста, фрейдовский и лакановский
психоанализ, историю власти Фуко, философские идеи Делёза и
Батая), Энафф открывает в де Саде изнанку философии
французского рационализма, рассматривая его как
наиболее радикального критика западноевропейской
цивилизации и проекта Просвещения в целом.
Книга М. Энаффа бесспорно должна привлечь
внимание не только специалистов по французской литературе
XVIII века, но и всех интересующихся современной
французской философией.
ISBN 5-93762-043-7
© Marcel Henaff, 2005
© Н. С. MoHiiiiiia. перевод, 2005
© Издательский Центр «Гуманитарная
Академия». 2005
<Jn
785937И620439
Маркиз де Сад —
классик Просвещения
А что если бы Александр Сергеевич Пушкин прочитал
Маркиза де Сада? Быть может, он отреагировал бы аффективнее,
чем Бунюэль, прочитавший «120 дней Содома»: «Как же мог
я ничего не знать об этой удивительной книге, которая
анализировала общество со всех точек зрения! ... Для меня это
был сильный шок. Значит, в университете мне лгали»1. А
каков был бы «Герой нашего времени» знай Лермонтов
философию де Сада? А если бы Розанов прочитал его романы?
Достоевский же Сада прочитал в юности и в его
произведениях образы, созданные французским писателем, означали
предел человеческого «падения». Русская же натура в силу
присущей ей тяги к крайности проявляла свои негативные
качества настолько ярко, что уже маркиз де Сад мог бы, по
мнению Достоевского, поучиться у Ставрогнна разврату
души. С другой — французской — стороны, Марсель Пруст
тоже читал Сада. Но в своем культурном контексте он
воздействует иначе. И мы едва ли замечаем присутствие
последнего в «поисках утраченного времени».
Отечественному читателю имя Марселя Энаффа
неизвестно (в русскоязычном интернете его имя я встретил лишь
дважды) и, полагаю, широко известно не будет. По крайней мере,
более широкому кругу, нежели тем искушенным, кто читал не
только Маркиза де Сада, но и аналитические работы о его
произведениях. Энафф — ученик и достойный продолжатель
линии французской мысли. Он признан в кругах специалистов
по французской литературе, его числят в рядах
интеллектуалов Калифорнии. Принимая во внимание маргинальный
предмет исследования, предсказывать широкую
популярность его книге, по меньшей мере, наивно. И все же.
Кто же он — Марсель Энафф? Интеллектуальная
биография его богата привходящими обстоятельствами: учился
философии в Лионе, культурной антропологии — в
университете Абиджана (Берег слоновой кости). Магистерская
работа «Гегель и греческая трагедия» защищена в неспокой-
' Бунюэль о Бунюэле. М., 1989. С. 239.
5
^ ный 1968 год. Далее — агрегация в Париже, встреча с Жилем
<| Делёзом, под влиянием которого у Энаффа возникает ин-
<-> терес к Саду, докторская диссертация в Копенгагенском
i университете на кафедре французского языка («Сад: изоб-
3 ретение тела либертена» (1980)). Потом по восходящей: ис-
£ч следователь Национального Филологического Центра в
Париже (1983-84), директор программы Международного
Философского Коллежа в Париже (1985-88);
приглашенный профессор в Балтиморе, в Сан-Диего, в Киото. И,
наконец, с 1989 года — постоянный профессор в университете
Калифорнии (Сан-Диего), успевающий читать лекции в
Париже, Марселе, Нью-Йорке и т. д.
Его диссертационное исследование «Сад: изобретение
тела либертена*2, изданное отдельной книгой, актуально по
сей день. Книга в обойме самых цитируемых в «садоведении»;
ее перевели на английский и испанский языки. Теперь
очередь русского. Не опоздали ли мы? Ведь появись этот
перевод сразу же после выхода французского издания в 1978 году,
более чем вероятно, что он лишил бы актуальности многие
тексты, в которых анализировалась проблема телесности.
Быть может, книга Энаффа была бы прочитана более
восторженно и некритично; быть может, — что кажется не
менее вероятным, — была бы взята за образец и причислена к
исследованиям, основополагающим для отечественного
дискурса о телесности. С другой стороны, у нее не было бы
такой вдумчивой и знающей аудитории, подготовленной
публикациями философских учителей Марселя Энаффа, и в
первую очередь — Делеза, Фуко, Лакана.
2 Переводчик и издатели сочли необходимым несколько
изменить в переводе название книги Марселя Энаффа, которое в
оригинале выглядит так: «Sade, l'invention du corps libertin»,
поскольку на русском языке имя «Сад» включается в
омонимическую игру Сад/сад, что искажает восприятие ее
названия. Чтобы избежать этого, потребовалось восстановить
социальные аспекты имени «Сад», подчеркнув, что речь идет
именно о маркизе де Саде. Однако, сам Энафф в начале
своей книги (в главе «О превратно понятом имени»)
принципиальным образом разводит две эти категории: Имя и личное
имя. Первое обозначает определенный тип письма или,
говоря словами автора, «тело письма», второе представляет
собой личное имя человека, указывает на его персональную
историю и место в социальной иерархии.
6
Заметим, что автореферат диссертации назывался «Логи- 3
ка нарративного корпуса», что явно выдает структуралист- «
скую позицию автора. Последние две монографии Энаффа з
называются «Клод Леви-Стросс и структурная антрополо- g
гия» (первое издание 1991 г.; второе, расширенное — 2000 г.) с-*
и «Цена истины. Дар, деньги, философия» (2002 г.). За по- *
следнюю он получил Гран-при по философии Французской у
Академии за 2002 год. В своих публикациях и лекциях Энафф j
наиболее часто обращается к Леви-Строссу, Руссо, Саду, |
Кристевой. Есть у него и курс лекций «Пруст и внутренняя <ъ
книга» (1994 г.). Для философа интересна статья в журнале <->
«Esprit» (№ 2, 2002 г.) «От философии к антропологии: не- «ъ
реговоры», в которой автор все философские вопросы рас- §
сматривает сквозь призму проблемы человека, взятого в §*
модусе антропологии. ^
Важно иметь в виду следующее: в «садоведение» Марсель
Энафф пришел тогда, когда уже вышли канонические
тексты Батая, Барта, Бланшо, Делеза, Клоссовского и др.
Поэтому он начинает не с вопроса: как возможно читать и
анализировать Сада вне рамок этического отношения, но почему его
надо читать, невзирая на тотальную непристойность и
абсолютное бесстыдство, с которыми тот изображает секс и кровь.
Читая Сада концептуально, Энафф работает в
пространствах его «текста» — культурного, мифического,
символического. Нельзя не заметить, что исключен традиционный для
западной метафизики опыт психологической рефлексии:
опыт включения/вовлечения себя самого в мыслительную
процедуру, опыт постановки под вопрос границ своей
экзистенции. Приоткрыв завесу, скрывающую в тексте Сада
механизм производства воображения, Энафф ставит читателя
перед необходимостью коррекции своего личного
отношения к произведениям Сада. Логика борьбы с властью
наивного — по терминологии автора, «слишком серьезного» —
чтения Сада воспроизводит логику борьбы с властью в
любой форме ее проявления. В согласии с этой логикой
строятся «археология знания» или «политическая технология тела»
(М. Фуко), «деконструкция» (Ж. Деррида), «либидональ-
ная экономика» (Ж.-Ф. Лиотар), «теория
интертекстуальности» (Ю. Кристева), «шизоанализ» (Ж. Делез и Ф. Гватта-
ри). В этом философском контексте отечественный читатель
может увидеть, как истоки подхода Энаффа, так и его
оригинальность. Верный последователь той определенной тра-
7
^ диции фра! v3ckoh философии XX века, которая сближает
^> философии. тературу (статья 1973 г.: «Литературы не
и существует? и, одение в семантический анализ Кристевой»),
g Энафф размышляет о литературном тексте как тексте фило-
Ц софском в первую очередь, в котором как в зеркале
отразись лись события, предваряющие французскую революцию.
Читателя, взявшего в руки эту книгу, не может не
заворожить холодная отстраненная аналитическая интонация, за
которой позиция автора едва различима, словно исследователь
реализовал методологическую установку Фуко — «писать,
как бы не имея лица», развив ее путем добавления: «а также
не имея моральных принципов и классового чутья на
проявления социальной несправедливости». Механический взгляд
на тело человека усилен методологическим приемом
научного, внеличностного суждения о действиях либертенов. Ни
сентиментальности, ни цинизма, ни сочувствия нет в интонации
автора, что, в принципе, бесконечно чуждо отечественной
традиции. Или, по крайней мере, было чуждо до недавнего
времени. Ныне эволюция отечественной литературы и
популярность текстоцентричных стратегий, впитавших достижения
западной мысли, привели к языку повествования типа Саши
Соколова, Владимира Сорокина, фильмов некрореалиста
Евгения Юфита, травмирующих неподготовленного или — что
едино — подготовленного в рамках классической литературы
читателя. Авторскую позицию отличает размеренное
движение по поверхности текста в том состоянии апатии,
которого требует Жюльетта от либертена: «ваши черты выражают
спокойствие и безразличие», «вы хозяин своей мимики».
Иное именование такого состояния — «маска», принцип
которой культивировали идеологи дендизма: Уайльд, Бодлер,
Беньямин, Юнгер. Эту невозмутимость «маски» сегодня
эксплуатируют кино-герои, топ-модели, политики и т. д.
Приверженность к своей традиции имеет оборотную
сторону — невнимание к другой. В частности, Марсель Энафф
игнорирует критику насилия Вальтера Беньямина, который
противопоставляет чистое божественное насилие
(неподвластное критике, так как его инстанция недосягаема для
суда земного) и насилие мифическое (римское право), а
также опирающуюся на маркиза де Сада критику Просвещения
М Хоркхаймера и Т. Адорно. Здесь интуиция сюрреалиста
Бунюэля, увидевшего в произведениях Сада беспощадный
анализ буржуазного общества, совпадает с мнением основа-
8
ч
,<3
телей франкфуртской школы: Сад выступает радикальным §
критиком философии субъекта, буржуазного общества и идео- £
логии разума («Творчество маркиза де Сада показывает о
"рассудок, не пользующийся руководством со стороны дру- g
гого", то есть освобожденный от опеки буржуазного субъек- t~-
та»3). Русскоязычному читателю дается пример трактовки ^
французской традиции в качестве судьбы европейской и —
шире — западной цивилизации, которую Энафф, по инерции $
европоцентризма, называет «нашей». Ее особенность видит
ся ему в создании в XVIII веке «не существовавшей прежде ib
модели тела»4, которая все же унаследовала достижения и
предыдущего XVII века, пришедшего, согласно Ю. Хабер- <ъ
масу, к пониманию того, что создатели подлинного порядка g
могут игнорировать нравственное общение и ограничить §*
себя созданием обстоятельств, в которых люди принуждают- ^
ся к предсказуемому и контролируемому поведению, то есть
ведут себя подобно объектам природы.
Последовательно вписывая Сада в традицию западной
культуры, Энафф связывает воедино ее разрозненные нити:
под его пером Сад сближается то с христианскими
мистиками, например, с Игнатием Лойолой — на основе
использования метода медитации, упорядочивающей воображение
адепта (христианства, либертинажа, гештальтпсихологии);
то с Декартом — на основании общности рационализации
судьбы европейского cogito; то с Гегелем, у которого с Садом
есть «тождество процедуры (писать, читать, перечитывать)»'.
И все-таки центром тяжести или, лучше сказать, точкой
постоянного возвращения размышлений Марселя Энаффа над
сочинениями Сада является сам процесс означивания,
описания, высказывания. Опорным тезисом Энаффа выступает
следующее: желание конституирует субъект также как
конституирует его декартовское cogito. И здесь Энафф, опираясь
на Сада, настаивает на отсутствии предпочтения одного
перед другим. В европейском тексте речь так или иначе идет о
судьбе индивидуума, но определяющие эту судьбу силы
скрыты в воле богов (античность), своеволии субъекта
(Просвещение) или в желании (XX век). Однако экологическое благопо-
3 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения.
Философские фрагменты/Пер. М.Кузнецова. М.; СПб., 1997. С. 110.
1 См. с. 18 настоящего издания.
1 См. с. 154 настоящего издания.
9
лучие желания — и не в последнюю очередь сексуального —
ныне под вопросом. На фоне назойливости рекламы виагры
и подобных ей препаратов, (овременный читатель Сада не
может не удивляться тому избытку сексуальных актов,
количеству семяизвержений, числу партнеров и сложности
акробатических фигур, выполняемых либертенами. Но как
объясняет Сад избыточность, расточительство, трату? После
М. Мосса и Ж. Батая, разговор о трате может показаться
излишним, однако есть один момент, требующий концентрации
внимания. Он касается сдвига в понимании природы от
Аристотеля к Руссо, которого Сад читал самым внимательным
образом. У Аристотеля physis (природа) и techne (техника,
искусство) существуют одно ради другого, т. е. находятся в
гармонии. У Руссо же physis становится средством для techne,
природа попадает в зависимость от техники и культуры. При
этом природа есть, прежде всего, «скрытая актуальность,
тайный резерв», а также «неограниченный ресурс сил». Доверив
себя природе (в том числе природе своих желаний) и
выступая от ее имени, либертен переприсваивает ее
неограниченные возможности. Именно неограниченность естества
позволяет ему безудержно тратить, так как он знает, что всегда
может восстановить свои силы. Заметам, у Маркса природа
также неисчерпаема. На этой основе можно было
«надстраивать» общество, лишенное классовых противоречий: ресурсов
для удовлетворения потребностей хватит на всех.
Представив проект Сада как инверсию классического
субъекта Декарта, Энафф избегает метафизического ужаса
перед естеством, заставив «разум признать, что ужас — не
внеположен разуму, а напротив, является его неизменным
следствием»6, или, иначе, Сад «показал разуму, что тот, кого
он считает своей противоположностью, иррациональным и
злым началом, этот монстр всегда порождался им самим»7.
На подобную инверсию разума обратил внимание немецкий
философ и социолог Дитмар Кампер*. Название капричос
№ 43 Гойи «Сон разума рождает чудовищ», в подлиннике
звучит так: «El suefio de la razon produce monstruos».
Испанское sueno означает «видение, грезы, мечты, сон». В угоду
6 См. с. 431 настоящего издания.
7 См. с. 431 настоящего издания.
8 KamperD. Hieroglyphen der Zeit. Texte vom Fremdwerden der
Welt. Munchen; Wien, 1988. S. 134-135.
10
I
.«
5
идеологии Просвещения не с грезами и мечтами разума, но
со сном разума (отказом от разума) связывается проявление
чудовищного, чрезмерного. Известно же, что чем чище
рефлексия, тем более загрязнена окружающая среда, чем после- £
довательнее воплощаются идеалы, тем более тираничный и [ц
тоталитарный порядок создают их приверженцы, действуя, *
в конечном счете, подобно либертенам. Не потому ли, дейст- и
вия либертенов нуждаются в разумном обосновании? При £
этом следует отметить, что «Сад не нападал на философов Про- |
свещения... Он только еще дальше продлил луч Просвещения, <ъ
оказавшись его самой крайней точкой*9. Фабрикация ужас- и
ного происходит в условиях господства разума. Неразумие и
безумие становятся его синонимами. В европейской
философской традиции ужас сублимировался в «страхе» Кьеркегора J"
или «экзистенциальном ужасе» Хайдеггера; психоаналитики
истоки феномена ужаса обнаруживают в бессознательном.
Результат анализа произведений Сада — «оправдание»
желания, наслаждения и суверенной воли. Воля не унижает
другого, скорее использует его для достижения своих целей.
И действует она подобно «природной силе», у которой нет
персонального выбора, распоряжается случай, выбросивший
тело жертвы в поле действий либертена, наделенного
желанием и волей. Отсутствие симпатии в изначальном смысле ело- *
ва с избытком компенсируется речевой активностью. На
вопрос, почему так много «рассуждают» либертены, мы получим
ответ: просто едва ли они размышляют в том понятийном и
идейном поле, которое принято обозначать «чистой» мыслью.
Хотя в то время «философ» и «либертен» означало почти
одно и то же. Утратив инстанцию морали, опирающейся на
религиозную веру, либертены заполняют образовавшуюся
пустоту речью10. Они декларируют свое понимание есте-
9 См. с. 431 настоящего издания.
10 Необходимо заметить, что подобная речевая активность
возникает в эпоху Ренессанса, когда центр тяжести
переносится на отдельную личность, ее героическое
самоутверждение. Ренессансную личность отличает «непрерывное
разрастание риторического дискурса ... совершенная свобода
языка, подчиняющая себя влечению к удовольствию и
прославлению человеческого бытия в любых его проявлениях»
(Сергеев К. А. Ренессансные основания антропоцентризма.
СПб., 1993. С. 124).
11
ственного желания и обосновывают свои принципы, аппели-
руя к разуму, а их жертвы — кричат, это единственное, что им
позволено, чего от них ждут. И не важно, крики наслаждения
или боли они будут издавать. Собственно говоря, то же самое
излагает устами Ивана Карамазова Ф. М. Достоевский: «Для
каждого частного лица, например как бы мы теперь, не
верующего ни в Бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон
природы должен немедленно измениться в полную
противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм, даже до
злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже
признан необходимым, самым разумным и чуть ли не
благороднейшим исходом в его положении».
В анализе текстов Сада Марсель Энафф виртуозно
использует все легитимные для постструктурализма концепты:
пустота, поверхностность тела, отсутствие глубины и
внутреннего измерения, тело-машина, или «"машина" из
мускулов и нервов, сосредоточенная на собственных функциях,
благодаря которым любая страсть сводится к тому или
иному состоянию желез и нервов»", машина наслаждения.
Функция души равна нулю. Исследователь соотносит
возникновение в XVIII веке концепции тела-машины (с наибольшей
полнотой воплотившейся в книге Ж. О. Ламетри «Человек-
машина») с процессами капитатзации, с ростом
производства и экономической эксплуатации. Здесь интересны
параллели французских и немецких мыслителей. В начале XX века
Эрнст Юнгер дал «образ» рабочего, который, согласно
современному дискурсу телесности, можно назвать «телом в
условиях промышленного производства». Юнгеровский Рабочий
сформировался, прежде всего, на идеологическом основании,
поэтому его тело социальное, технологическое и, в конечном
итоге, надприродное. Особенность его — в отсутствии
суверенного желания. XX век произвел на свет механистическое,
деперсонифицированное и нечувствительное к боли тело.
Вспомним, что садовские тела — и либертена, и его жертвы, —
напротив, обладают исключительной чувствительностью.
Не стоит забывать, что Сад был человеком своего века,
называемого «столетием философии», в просвещенных
слоях которого атеизм был нормой. В обществе господствовали
идеи, что человек подобен механической машине и что надо
всем властвует разум, который сам оказывается «разновид-
11 См. с. 49 настоящего издания.
12
ностью страсти». Привычные нам противопоставления (чело- §
века — машине, естественного — искусственному, природы — 2
разуму) входят в противоречие с садовским «телом либер- ?Г
тена», совмещающим в себе несовместимое: тело-машину и g
природное тело. «Эти тела-машины отвергают и игнорируют t§*
любой человеческий закон, отстаивая животную реальность «
и требуя невинности, жестокости и безответственности чис- &
той природы»12. Не образ ли мыслей и поведения подобных g
тел-машин рисовался в сознании Достоевского, когда он вы- |
водил знаменитую формулу: если Бога нет, то все позволено? <ъ
Из той же посылки Лакан, подтверждая гегелевскую логику и
тождества, заключает: «тогда ничего не позволено». <§
Осуществляющему «чистое» насилие либертену «неве- g
дом конфликт между желанием и законом»13. В реконструк- §■
ции его позиции нужно иметь в виду то, что Маркиз де Сад ^
жил в эпоху, сохранившую память о феодальном праве
суверена распоряжаться, в том числе, и телами поданных.
Современные интеллектуальные адепты Сада опираются на
имманентную человеку потребность в зависимости, то есть
в тех состояниях, которые «забыты» в демократическом
обществе. Но, на фоне прогресса цивилизации, настойчиво
соблазняющей симулировать жизнь (компьютерная техника и
телевидение весьма способствуют этому), реальное бытие
культуры указывает на стихийное образование ситуаций, в
которых один человек оказывается в личной зависимости от
другого, несет бремя усилий по производству иерархии на
микроуровне. Человек не хочет и не может жить в
стерильных условиях. У него есть нереализованная потребность в
сильных эмоциях и насыщенных переживаниях.
Опосредованная многочисленными институтами, адаптированная к
политической корректности и обставленная множеством
гуманистических ловушек, власть провоцирует бунт тела,
которое сражается за зоны зависимости, за зоны свободного
воле- и кровеизъявления. Люди идут к экстрасенсу, к гуру,
сбиваются в плотную «душевную» массу на сеансах
психотренинга или в группах восточных единоборств. Ради
свободы, т. е. ради избавления от мучительного процесса
принятия решения, люди стремятся к психоаналитику; за плотным
и цельным ощущением себя, своего тела (пусть и через
u См. с. 80 настоящего издания.
" См. с. 78 настоящего издания.
13
^ боль), за радостью идентификации идут в садо-мазохист-
<| ский клуб; отказываясь от своей независимости, порожда-
u ющей острое чувство одиночества, они объединяются в «кол-
'з лективное тело» футбольных или рок-фанов, сбиваются в
Й плотную массу сообщества, стихийную форму которых опе-
сч ративно переприсваивает современная индустрия
развлечений; люди культивируют «новую» искренность.
Произведения Сада — демонстрация «чистоты» и беспредельности
божественной власти. В них власть суверена выступает
заместителем чистого божественного повеления.
Призывая читать Сада иронически, Марсель Энафф
ставит знак равенства между эстетической и этической оценкой
эротических и гастрономических фантазий, которые открыл
нам Рабле. Исподволь происходит странное, но странное лишь
на первый взгляд, разрушение иерархии пороков, среди
которых пищевая «зависимость» — на фоне нарко- и табако-
зависимости — оценивается как «простительная слабость».
Последовав совету иронически читать Сада, мы не можем не
увидеть в словах последнего издевательства над гурманами,
откармливающими гусей для изготовления печеночного
паштета или рождественскую индейку — орехами, для
улучшения вкуса: «Этим утром, после некоторого изучения
испражнений наших субъектов, предназначенных для развратных
целей, было решено прибегнуть к тому, о чем рассказывала
Дюкло: я имею в виду исключение хлеба и супа из рационов
всех, кроме господ. То и другое было исключено, и заменено
птицей и дичью. Не прошло и недели, как они заметили
существенную разницу в экскрементах: они стали более сочными,
мягкими и приобрели чрезвычайно изысканный вкус»14.
Уделяя внимание испражнениям, Сад пишет об их
консистенции, вкусе, но не упоминает о запахе, который стоит первым
при их характеристике в современной западной культуре.
Это, впрочем, отметил Р. Барт: «описанное в тексте дерьмо
не пахнет». Дело в том, что в XVIII веке отвратительные
запахи были повсюду, но о них не писали; они был
повседневностью, общим местом и естественной средой обитания.
Расположение предмета — это одновременно и
расположение человека к предмету. В одной восточной притче
рассказывается о прекрасной шкатулке, которая была
подарена некоему человеку с единственным условием: поставить ее
м См. с. 315 настоящего издания.
14
5
в комнате, сориентировав строго на восток. Через некоторое §
время хозяин стал ощущать дисгармонию расположения шка- 1
тулки с ближайшими вещами. Сориентировав по-другому с
стол, на котором она стояла, он по прошествии времени уви- g
дел, что нужно изменить местоположение и остальной мебели, [S*
и наконец почувствовал непоправимую дисгармонию распо- §
ложения в окружающем пространстве самого дома. В резуль- ц
тате этот человек был вынужден отказаться от подарка. g
Не вторгается ли книга Энаффа, подобно такой шкатулке, |
в структуру нашей чувственности, в механизмы реагирова- ^
ния, в оценочные суждения, в сферу производства желаний? <->
Не может не вторгаться, но все-таки мало на что влияет, по- ^
скольку это далеко не первый задевающий нас текст. Ибо |
когда сталкиваются «человек из подполья» с «человеком- J*
машиной», то найти общий язык им непросто. Поскольку и
для французского интеллектуала маркиз де Сад — вечный
вызов, а, к слову, для немецкого философа Хартмута Бёме
он — «общеевропейский скандал», вызываемый не «потоком
спермы, но философским дискурсом»15. Постоянное
возвращение к текстам Сада, попытки вписать его в литературный
и философский пантеон с помощью изысканных методов
текстуального анализа еще и еще раз говорят об актуальности
письма Сада. Для теории языка книга Энаффа — пример
бескомпромиссного движения к реальности текста. Исходя из
текстового универсума, значение риторических фигур столь
же важно, как гильотинирование короля или четвертование
стрельцов. Непристойность языка есть результат «вторжения
плебса в аристократическое пространство»,с, «признание
инородности как крепнувшей силы народа». Современная
норма употребления ненормативной лексики в отечественной
литературе имеет иные истоки: не вторжение народности в
лексику власти, но лексика радикалов и нонконформистов,
возникшая в условиях сопротивления власти языка
«победившей революции», власти, которая породила и узаконила
разрыв сознания, не имевший аналога на Западе.
Марсель Энафф по-новому открывает нам Сада:
«Изменник и трансвестит, одновременно участвующий в нескольких
13 Boehme H. Umgekehrte Vernunft. Dezentrierung des Subjekts
bei Marquis de Sade // Boehme H. Natur und Subjekt.
Frankfurt am Main, 1988.
16 См. с 304 настоящего издания.
15
^ заговорах, садовский скриптор располагается в той точке
"о обмена и двуличия, где текст, произведенный его притвор-
и ством, требует от нас готовности как юмористически воспри-
з нимать его вымысел, так и приходить в отчаяние из-за его
^ противоречий»17. (Замечу, что отечественный структуралист
и Вл. Пропп также полагает: «Изображение человека как
вещи комично»18.) Энафф, работая с произведениями Сада с
академической обстоятельностью, показывает возможность
их научного, литературоведческого анализа. Он
демонстрирует как новые возможности, которые дает
пост/структуралистский метод при анализе того, что другими методами
не «берется», так и — по прошествии времени это
становится особенно заметно — его ограниченность. Книга Марселя
Энаффа позволяет иначе читать современные произведения
художественной литературы и философские тексты.
Возвратимся к вопросу: почему к текстам Сада
сохраняется такой устойчивый интерес, особенно среди
исповедующих постструктурализм? Очевидно не только в шокирующей
откровенности его текстов, но и — в немалой степени — в
том, что тексты Сада — это не столько литература, сколько
философия, а его герои говорят языком пира, на котором в
молодые годы следовало бы побывать каждому
интеллектуалу. Сада необходимо читать как Вольтера, Дидро, Гольбаха,
Руссо, относя его к философии и критики мировоззрения, а
также, как утверждает философ Марсель Энафф, к
ведомству Энциклопедии — открытия XVIII века, — поскольку он
создал «самый безумный, самый предосудительный... словарь
"перверсий"»10. Полагаю, что непреходящий интерес к
творчеству маркиза де Сада рано или поздно приведет к тому, что
в XXI веке он по праву окажется в одном ряду с
французскими энциклопедистами XVIII века и войдет в «сонм»
классиков философии Просвещения.
Валерий Савчук
17 См. с. 426 настоящего издания.
'" Пропп В. Проблема комизма и смеха. М., 2002. С. 52.
19 См. с. 101 настоящего издания.
ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Существует, несомненно, несколько способов не понять
Сада. И как минимум, две крайности, которых следует
избегать в первую очередь: относиться к Саду слишком
серьезно и слишком легкомысленно. Относиться к нему слишком
серьезно значит читать его так, как если бы описываемые им
сексуальные безумия и убийства составляли программу
действий, которую может отнести к себе каждый (в этом случае
чтение Сада схоже с тем, как его воспринимают наивные
почитатели и нетерпимые критики). Но утверждать, что все,
что описывает Сад, просто игра воображения, что речь идет
не более чем об эксцессивной разновидности либертенов-
ских рассказов, которыми переполнено XVIII столетие, —
значит относиться к Саду слишком легкомысленно. Это
значит уклоняться от вопроса о том, что же делает возможным
появление столь экстремальных и столь шокирующих нас
повествований.
Эта книга предлагает нечто иное. Прежде всего она
исходит из признания, что текст Сада является вымыслом и в
качестве такового представляет собой эксперимент в области
создания возможных миров, один из способов исследования
пределов языка и репрезентаций. Этот текст не
предписывает ровным счетом ничего: ни того, что надо делать, ни того,
как надо мыслить. Он просто стремится, благодаря той
свободе, которую вымысел открывает языку и повествованию,
дать нам шанс воспринять невозможное и даже невыносимое.
Человек есть животное, способное к вымыслу, и некоторые
рассказы, некоторые моменты нашей истории призваны
напомнить о том, что значит эта способность. Они говорят нам,
что не только рай, но и ад есть наше собственное изобретение,
и от нас зависит не смешивать то и другое с нашим обычным
миром. Текст, основанный на вымысле, избавлен от
необходимости хранить верность реальности, и именно поэтому
лучше, чем любой теоретический дискурс, может свидетель-
17
•6- ствовать о ней, преувеличивая, обобщая, деформируя, выво-
1" рачивая ее наизнанку. Таким образом, текст заставляет нас
<ъ увидеть фигуры реальности, ее логику, ее становление и по-
5 зволяет обнаружить ее суть. Именно это я стремился выявить
а. в тексте Сада.
^ Эта книга впервые вышла на французском языке уже
больше двадцати лет назад. Критический взгляд, который
появился у меня за это время, побуждает меня сделать
несколько замечаний, цель которых состоит вовсе не в том,
чтобы приблизить эту работу к сегодняшнему дню (что свелось
бы к нагромождению одних комментариев на другие), а в
том, чтобы прояснить те подходы, которые являются для нее
принципиальными.
Прежде всего, эта книга не является историческим
исследованием, хотя ее название могло вызвать подобные
ожидания. Говорить об изобретении репрезентации (здесь теле
либертена) в большинстве случаев значит пытаться
реконструировать социальные и культурные условия ее появления.
Моя задача была другой; она состояла в том, чтобы,
ограничившись текстами Сада, показать, как через повествование,
сцены, через персонажей и лексику конституируется не
существовавшая прежде модель тела. И тогда я показываю, как
эта модель отсылает к первоначальной конфигурации
некоторых интеллектуальных и культурных фактов, хотя ими и не
исчерпывается. Таким образом, это исследование делится на
две части: 1) поэтику, которая позволяет выявить
философские измерения и риторические составляющие этой
репрезентации (демистифицированное тело, стремление «сказать
все», апатичное желание, пространство, вычленяемое
взглядом господина, время повторяющегося наслаждения); 2)
экономику, выявляющую ставки власти в дискурсе и логике
производства и расточительности, обмена и присвоения (вплоть
до самого интимного функционирования тела). При этом
речь идет не о таком чтении, которое рассматривает
экономику в качестве главного референта, но о чтении, которое
схватывает символические эффекты в фигурах и
повествовании, где обнаруживает себя новый социальный порядок.
Этот порядок берет начало в утверждении
технико-экономического разума, который стремится к тому, чтобы
одновременно измерять, подсчитывать, разделять, инвестировать,
организовывать и господствовать.
18
Именно к этому порядку, пародируя его, отсылают реп- 8
резентации Садовского тела либертена, столь отличающиеся |
от репрезентаций двух предшествующих столетий. Любов- 1
пое желание покинуло очарованный мир куртуазной любви ^
и галантности, чтобы присвоить и поставить себе на службу g
го, что несли в себе картезианский механицизм и калькули- У
рующий разум. Другими словами, разум, казавшийся ра- ».
дикально противопоставленным древним ритуалам соблаз- ^
нения, открывает путь новым эротическим играм — играм, *
вовлекающим комбинаторность и автоматы. Здесь, мне ка- 5
жется, и может быть обнаружена оригинальность Сада. Его <§
произведения представляют собой парадоксальное и почти ^
невыносимое слияние, с одной стороны, ценностей еще
вполне аристократического мира, а с другой — репрезентаций
тела, которые заимствуют свои схемы из навязывающего
себя технико-экономического универсума. Ибо этот
универсум содержит в себе зачатки предельного, еще невиданного
насилия; и текст Сада улавливает эту логику и, самое
главное, демонстрирует ее связи с желанием. По этой причине
садовские произведения не только оказываются наиболее
значимыми симптомами своей эпохи, но за счет своих
невыносимых эксцессов представляют собой одно из наиболее
загадочных и беспокоящих свидетельств о судьбе нашей
цивилизации. Вот что интересует меня в Саде. И именно так
я предлагаю его читать, чтобы этот вымысел дал нам силы
взглянуть в лицо реальности.
Вот почему — и об этом я, собственно, стремился сказать
выше — было бы полной нелепостью понимать Сада
буквально. И тем не менее в некоторых интеллектуальных (или,
скорее, малоинтеллектуальных) кругах именно так и
продолжают к нему относиться. Известные в Соединенных
Штатах критики недавно даже рекомендовали вычеркнуть Сада
из списка канонических авторов. Неужели эти критики не
понимают, что Сада можно читать, только осознавая его
иронию? Его необходимо читать так же, как мы читаем Рабле
(автор, которого Сад боготворил). И если наша эпоха вновь
видит в Саде опасность, то не означает ли это, что опасность
скрывается в самой нашей эпохе? Текст Сада —
безжалостное зеркало. Можно, конечно, повернуть это зеркало к
стене. Но если Сад не заставит вас рассмеяться и задуматься,
бросьте его кни ги в огонь. Это будет для них более завидной
19
•^ участью, чем морализаторское и поверхностно реалистиче-
« ское прочтение. Я не хотел бы глубже вдаваться в скучные
о дебаты о новейшей цензуре, которая говорит нам не более
g чем о личных и коллективных страхах новых цензоров, по-
а, разительным образом повторяя общие места благонамерен-
5 ной критики XIX века.
С другой стороны, я не пытался для этого русского
издания сделать обзор тех многочисленных, и замечательных
исследований, посвященных как самому Саду, так и
проблематике тела в XVIII столетии, которые появились за
последние годы. Некоторые из авторов этих работ ссылаются и
на эту книгу. Было бы противоестественно обсуждать их
сегодня, словно эта книга, которая им предшествовала,
писалась одновременно с ними. Эти новые исследования только
указаны в общей библиографии (в которой, увы, отсутствуют
издания на восточноевропейских и азиатских языках).
Вернувшись сейчас к своему тексту, я ограничился несколькими
чисто косметическими штрихами и дополнительными
пояснениями относительно тех понятий, которые в первом
издании были несколько поспешно сочтены хорошо известными.
В заключении этого предисловия я бы хотел
поблагодарить переводчика Наталью Мовнину за вдумчивую и
высокопрофессиональную работу. Я также выражаю свою
благодарность Юрию Довженко, чья исключительная настойчивость
позволила осуществить публикацию этой книги. Я
благодарю моего друга Аркадия Драгомощенко, которому я обязан
незабываемыми поэтическими впечатлениями во время
наших встреч в Калифорнии и который помог мне установить
свярь с издательством «Гуманитарная Академия». Наконец,
как увидят читатели, я посвятил этот труд Жилю Делезу. Он
был моим наставником в то время, когда я изучал философию
в университете. Именно он пробудил у меня интерес к Саду.
Именно он открыл молодому несведущему студенту, каким
я был в те годы, таких авторов, как Клоссовски, Батай, Блан-
шо (не говоря уже о Спинозе и Ницше); именно он обратил
мое внимание на семинары Барта и Фуко — других двух
мыслителей, которым столь многим обязана эта книга.
Сан Диего, Калифорния, весна 2002
Памяти Жиля Делеэа,
моего наставника в философии,
посвящается эта книга,
столь многим ему обязанная.
М.Э.
Постфактум I
ПРОДОЛЖЕНИЕ В ВИДЕ ВВЕДЕНИЯ
Об одном превратно понятом имени
Не отделаться так просто от имени — Сад. Сам маркиз
давным-давно реабилитирован, и оснований для этого
предостаточно: ему было не занимать ни смелости, ни
дерзости, он претерпел достаточно несправедливых
гонений, немало лет провел в заключении и при этом не
утратил великодушия — все это само по себе достойно
восхищения и уж тем более самого безусловного
оправдания. Но при всем уважении к его ревностным
биографам вопрос об имени — совершенно иного порядка. Да
и вряд ли оно принадлежало тому телу, которое им
исторически и индивидуально обозначалось, ведь в
семейном кругу обычно используют личное имя. Мир праху
твоему, Донасьен-Альфонс-Франсуа. Но нет и не будет
успокоения имени Сад, оно по-прежнему невыносимо —
и поэтому продолжает нас интересовать. Оно не будет
здесь оправдано. И не будет предано проклятью. Мы
будем называть этим именем то, что оно обозначает на
самом деле — тело письма, которое по-прежнему
притягивает (неважно, вызывая восхищение или
отвращение) и по-прежнему остается превратно понятым.
Дело в том, что имя Сада, нравится нам это или нет,
принадлежит не только к сфере чтения, предполага-
21
~ ющего некоторую искушенность, но также, а может
£• быть, прежде всего, к области слухов, причем слухов
ч скандальных. Между этими сферами сложилось опре-
Е деленное соотношение, которое превратилось в тра-
[2 дицию. В результате вопрос состоит не только в том,
как надо читать Сада (что было бы вполне естественно
спросить о Данте, Расине, Стендале или, например, о
Джойсе), но и в том, почему его вообще надо читать?
Вся мощь его имени состоит в этом «почему». И наш век,
со всем тем, что составляет современную эпоху, понял
это лучше любого другого: нет ничего сильнее имени,
ничто не способно так противостоять времени, ничто с
такой силой не порождает столько мифов, соблазнов,
ошибок, страхов, а стало быть, самых разнообразных
эпитетов. В случае Сада историческое лицо, некогда
названное этим именем, — лицо, черты которого мы
надеемся обнаружить, — освобождается от собственной
биографии, чтобы из лона легенд и фантазмов еще раз
родиться во всей своей угрожающей чудовищности.
Биограф может сколько угодно протестовать,
убеждая нас в том, что реальный Сад был совершенно
другим. Он может доказывать, что это был
чувствительный и ласковый ребенок, шаловливый и умный
подросток, знатный сеньор-либертен, неисправимый атеист и
яростный прожигатель жизни и, в конце концов,
жертва собственной тещи, высокомерной ханжи, что он был
заключен в тюрьму по именному повелению короля,
причем за такие пустяки, которые при других
обстоятельствах вызвали бы лишь улыбку монарха. И
несмотря на все это, Сад остается для нас именем, которое, в
свою очередь, понимается исходя из закона Отца,
железного закона принуждения — не такого, которое
заставляет выбирать одно из двух, а такого, которое не
оставляет никакого выбора. В контексте тех слухов,
которые его окружают, имя Сада навязывает нам один-
единственный способ прочтения, потому что само это
имя и заставляет нас читать. Это о том, «почему» мы
22
его читаем. Но одновременно при чтении и перечитыва- §
нии текстов Сада слухи рассеиваются и отделяются от ,§
его имени, так что письмо вновь обретает свою телес- ^
ность. И дело здесь не в том, что зло изгоняется или на- <ъ
силие, совершаемое письмом, уменьшается, а в том, что ^
оно прочитывается по-другому и в нем можно увидеть з
что-то помимо самых кошмарных сцен, которые, как ъ
мерещится нашему вуаиеристскому и не признающему 5
ограничений желанию, можно наблюдать безнаказан- ^
но. И тогда вопрос о том, как читать Сада, изменит преж- ^
нее превратное понимание, содержащееся в вопросе
«почему», и увлечет нас в то пространство тишины, где
смолкают слухи, где преображаются первопричины
соблазна, где вне отношений причины и следствия, вне
всяких референций просвечивает логика самого текста.
И тогда вопрос уже будет состоять не в том, -«виновно
или не виновно» имя Сада, а в том, что работает и что
не работает в тексте, обозначенном этим именем, что в
нем открывается взгляду, а что утаивается, что
соблазняет, а что шокирует и что — начиная с самых
невыносимых высказываний и до самых очевидных
противоречий — демонстрирует и разрушает общепринятые
коды? Иначе говоря, что на сцене письма принуждает
нас к экстремальному видению — непристойному,
нестерпимому и оскорбительному — того, что, возможно,
является самой обычной человеческой судьбой.
Понятно, что вопрос этот — вопрос о литературе,
поэтому Сад для нас будет просто именем писателя и
ничем другим. Для нас он не будет ни монстром, ни
жертвой, ни преступником, ни невиновным, ни мрачным
пророком, ни даже теоретиком -анархистом, а будет
только писателем, то есть изобретателем симуляционной
машины, которая показывает, спрашивает, будоражит,
экспериментирует... Что же было такого особенного в
этой удивительной машине по имени Сад? Что
происходит внутри нее? И если мы захотим заглянуть внутрь,
чем это может обернуться для нас?
23
~ Но действительно ли Сад — писатель? Почтенные
ь стилисты уже наверняка потянулись за своими крас-
ч ными карандашами. И возможно, они действительно
"f* смогут доказать нам с примерами в руках, что письмо
£ Сада подчас банально, небрежно, полно штампов и т. д.
и что оно ни в какое сравнение не идет с тонким,
изобретательным, сложным письмом Дидро или Лакло, если
ограничиться только его современниками. Но разве
письмо — это всего лишь стилистические изыски? И разве сам
стиль — это всего лишь счастливо обретенная форма?
Сад разочаровывает читателя-эстета, вероятно, потому,
что он разочаровывает саму Lalitterature. Обозначим
так (по образцу лакановского lafangue), сращением
определенного артикля с существительным,
демонстрирующим абсолютность заявленных притязаний и заведомое
превосходство определенной позиции, окостеневшую
институцию Изящной Словесности, весь корпус
предписаний, норм, самоочевидностей, иначе говоря, некое
непоколебимое знание. Если смотреть на Сада с высоты
этой железобетонной конструкции, то он остается среди
писателей чужаком. Но именно благодаря этой своей
отстраненности и именно потому, что он кого-то
разочаровывает и предает, Сад лучше, чем кто-либо другой,
может заставить нас воочию убедиться в лицемерии
Lalitterature и, что самое главное, — задуматься над тем,
что есть настоящая литература, осмыслить то, что
современная эпоха называет текстом.
Что касается превратного понимания или, скорее,
превратного чтения текста Сада, то оно, вероятно,
проистекает из странного наложения двух различных
способов чтения. Мы могли бы почти с уверенностью сказать,
что Сад вообще не пишет — все происходит слишком
быстро. У текста нет времени прихорашиваться, он
никого не пытается соблазнить, говоря «посмотрите, как
я хорош». Мы даже не видим письма, настолько оно
напряженное, денотативное, функциональное, настолько
оно захвачено буйством иллюстративности, которое
24
делает его безразличным к своим собственным эффек- §
там. Оно никогда не позволит уличить себя в желании ,|
покрасоваться. Форма никогда не является объектом ^
рефлексии, как если бы для Сада речь шла лишь о том, <|
чтобы, с маниакальным упорством повторяя одни и те ^
же аргументы, убеждать, и никогда о том, чтобы нра- |
виться: так пишут молотом, работают кувалдой... Одно- |
временно то, о чем он говорит, становится ловушкой о
для нашего желания. Видно лишь голое содержание: ^
непрерывные преступления, оргии, секс, кровь — слов- С:
но сама жестокость тематики делает язык еще более
тонким, еще более невидимым, еще более бесплотным.
Форма текста словно поглощается предметом описания.
Бесспорно, Сад (если говорить только о его либертенов-
ских текстах) нисколько не заботится о
стилистической изысканности (если у Сада и существует какой-то
стиль, то мы видим его в избитых, условных, расхожих
риторических фигурах, в спешке извлеченных из
общедоступного арсенала), словно то нетерпение, с
которым он говорит, делает абсурдной работу над письмом.
Поверхность стирает то, что является ее носителем;
зрительный образ заполняет собой всю сцену, причем
он настолько яркий, отчетливый и подробный, что,
увидев так много, мы готовы сделать вид, что ничего не
читали. Строгость цензуры связана с этим первичным
отрицанием. Цензор, чтобы наказать собственную
завороженность прочитанным, удваивает требовательность
к форме, и его суждение нельзя понимать буквально:
например, утверждение «Сад не писатель» должно
означать: «Я прочитал, но ничего не видел». Текст исчезает.
Так, Нодье1 в 1831 году писал: «У меня нет ясного
представления, о чем он пишет. Я не столько пролистал его
книги, сколько бегло просмотрел из конца в начало и
1 Нодье Шарль (1780-1844) — французский писатель,
прославившийся своими романами и фантастическими сказками,
которые проложили дорогу сюрреализму. — Прим. перео.
25
~ убедился в том, что их наполняют сплошь одни преступ-
ь ления. От этих чудовищных мерзостей у меня осталось
| смутное ощущение изумления и ужаса...»)-
f" Однако точно гном из «Ночного кошмара» Фюссли2,
а выскакивающий верхом на коне из тела спящей
женщины, от этого почти исчезнувшего, растворившегося
текста остается мерзкий монстр, сгусток всего того, что
осело в памяти цензора и что принято обозначать
словом непристойность. Именно в нем концентрируются,
им оправдываются все проклятия и репрессии, которые
навлекло на себя имя Сада, само ставшее синонимом
скандала.
Но действительно ли скандала? Может, речь идет,
скорее, о нанесенной ране! Скандал, театрализуя
желание, всегда имеет своих скрытых или явных
приверженцев и потому приносит удовлетворение, а также
выгоду. А рана причиняет лишь страдание и создает
вокруг пустоту. Ну а тот, кто ее бередит, не заслуживает
прощения и не получает его никогда. Рана
равнозначна оскорблению.
Какую же рану Сад нанес Lalitterature, которая
главным образом и была им задета? История болезни
обширна, и нам достаточно взять только несколько самых
примечательных страниц.
На первой и, возможно, самой обличительной мы
могли бы прочитать, что этот текст невыносим в первую
очередь из-за того, что в нем с абсолютным,
бесстыдством изображаются секс й кровь — другими словами,
из-за полного отказа от метафор в их изображении.
Секс и кровь? От «Илиады» до рыцарских романов, от
Библии до классической трагедии только об этом и идет
речь. Однако кровь всегда проливалась ради чего-то,
например, во имя чести, справедливости, любви, веры,
2 Фюссли Иоганн Генрих (1741-1844) — швейцарский
художник, в творчестве которого преобладают
фантастические и гротескные образы. — Прим. перео.
26
государства, как следствие, порождающееся какой-то |
причиной, которая «возвышает» его и придает ему «за- ,§
конность». Но Сад, создавая текст, галлюцинирующий ^
сексом и кровью, включая секс и кровь в повествова- <|
ние, без всяких мотивировок связывая их только с ними ^
самими и постулируя эту самодостаточность как острое §|
наслаждение, разоблачает метафорическую хитрость, §
благодаря которой работает весь риторический меха- §
низм Lalitterature. Этот механизм демонстрирует пора- ^
зительную способность (не в этом ли его назначение?) С:
приручать ужасное, социализовать недопустимое,
выражая их невинными эвфемизмами, смягчая их
разными уловками, компромиссными образованиями, когда
обычный невроз умерщвляет свое наслаждение отказом.
Садовское непристойное порождается прежде всего
этим бесстыдством, этим коротким замыканием
метафорического. (Это не означает, что в экономике текстов,
представляющих собой разрыв с традицией — как и в
соответствующих фрагментах любого другого текста, —
нет места необычайной силы метафорам, не означает
это и того, что садовский текст разворачивается в
примитивном буквализме; скорее, это означает, что буква
текста существует как результат или как предел
процесса истощения и уничтожения метафорического).
И что еще хуже, это бесстыдство соотносится не с
воображаемыми мирами, не с обществом, удаленным в
пространстве и времени — утопическим или
экзотическим, — но показана как реальная практика общества,
исторически опознаваемого как современное автору.
А поскольку Lalitterature верит в наличие референта,
она бдительно следит за его неточными копиями и
карает их со всей суровостью.
Вторая страница этой истории болезни могла бы
быть озаглавлена так: «Упорный отказ от спасения».
Мы знаем, что в каждом нарративе злодей в конце
должен быть побежден, даже если его падение оплачено
смертью положительного героя, одного из его товари-
27
"Z щей или каким-либо страданием. Недавние
каррагена логические исследования совершенно ясно показали,
| как работает такая система компенсации. Поражение
"я добра всегда временное, и всякая утрата «земных» благ
о должна возмещаться приобретением духовных
сокровищ, образцовой метаморфозой, вознаграждением за
моральную твердость. Каким бы извилистым и
сублимированным ни был этот путь, победа неизменно
оказывается на стороне знака «равенства». Качество
обретаемого спасения или, скорее, мера принуждения к
нему, прямо пропорционально интенсивности
инсценированного «эксцесса». Равновесие всегда
восстанавливается. Эксцесс приводит нарратив в движение,
направляет его и порождает сюжет, но сам нарратив
опознается и прочитывается как таковой лишь при
условии, что в финале эксцесс устраняется, аннулируется.
Таким образом, нарратив повторяет скрытую
стратегию искупительной жертвы (в ее ритуально
кодированных формах): нарратив и жертвоприношение говорят,
что мир представляет собой гомеостаз и что
нарушенный порядок должен быть восстановлен любой ценой.
Сам Сад в первой редакции «Жюстины»
(предназначавшейся для более широкой публики) не стеснялся
платить эту цену (пусть и не всерьез): удрученную и
кающуюся Жюльетту он отправляет в монастырь. Но в
следующих своих либертеновских нарративах Сад
отказывается от этого, больше никто ни за что не платит
зло (убийство, насилие, грабеж, пытка, предательство)
торжествует окончательно. А поскольку нарративный
договор имитирует и подтверждает договор
общественный, это означает невосполнимый убыток для такого
типа репрезентации. Текст обременяет себя безмерным
долгом, и ничего удивительного, если в конце концов
является толпа читателей-кредиторов, желающих
получить то, что им причитается.
Случается порой, что в литературе на роль
положительного героя выдвигают какого-нибудь преступника
28
или «отверженного» (благородного разбойника, спра- |
ведливого мятежника), но происходит это только при ,§
условии, что в финале он погибнет или раскается. Ни- ^
когда прежде злодей, циник, убийца не преуспевал без- <|
наказанно до самого конца, а добродетельный, невинный, ^
честный герой не объявлялся врагом (за исключением, ^
быть может, жанра «черного юмора», при условии, од- §
нако, что сам жанр заявляет о себе как таковом и посто- 5
янно подает соответствующие знаки, как, например, у §_
Томаса де Куинси в его трактате «Об убийстве как об ^
одном из изящных искусств»). Ни до, ни после Сада
ничего подобного больше не было. Бланшо прав, когда,
хотя и по другому поводу, говорит о тексте Сада как о
своего рода абсолюте в истории литературы.
Оскорбление безмерно, и зло не искуплено.
Тем не менее все равно кто-то должен платить. И
если автор не хочет, чтобы расплачивался его персонаж,
то неизбежно платить придется ему самому. А это
означает, что имя Сада стоит дорого. Тем более, что с
самого начала согласно одному из условий литературного
пакта положительный герой всегда является
выразителем позиции автора, его глашатаем, его заместителем в
тексте. Когда герой закоренелый преступник, то
можно представить себе, какие обязательства это налагает
на того, кто за него расписывается. Мысли Нерона, как
ни банально об этом говорить, никогда не
инкриминировались Расину, а мысли Вотрена не вменялись в вину
Бальзаку, в то время как высказывания Сен-Фона, Нуар-
сея, Жюльетты и Бланжи постоянно отождествляются с
философией самого Сада. Это странное и удивительно
наивное заблуждение все еще руководит самыми
тонкими критиками, сбитыми с толку ошеломляющим
разрывом Сада с нарративным договором и с той
естественной связью, которая подразумевается между автором
и положительным героем. Недоброжелательному
критику по имени Вильтерк, впавшему в подобное
заблуждение относительно только что вышедших «Преступ-
29
лений любви» (где расплата все-таки имеет место, но
слишком нарочито в самую последнюю минуту), Сад в
резкой форме напоминает такую непреложную истину:
«Знай же, гнусный невежда, что каждый актер в
драматическом произведении должен говорить языком того
персонажа, которого он играет, и что говорит это
персонаж, а не автор, и разве непонятно, что в таком
случае персонаж, повинуясь своей роли, может говорить
вещи прямо противоположные тому, что сказал бы
автор, говори он сам? [...] Ах, господин Вильтерк, до чего
же вы глупы!»3
Посмотрим еще одну страницу истории болезни,
содержащей полный перечень нанесенных ран. Эту
страницу можно было бы озаглавить так: «Смешение
кодов*, иначе говоря, грубое вторжение слов,
считающихся низкими, в пространство классического
языка, вторжение, которое тем более борсается в глаза, что
оставляет в неприкосновенности синтаксис этого
языка. Именно это сосуществование является
труднопереносимым, поскольку смешение кодов осознается как
смешение классов. Действительно, если классический
язык создавался как язык элитарный, как код двора,
привилегированный код дворянской и буржуазной
интеллигенции, то присутствие в нем грубых, вульгарных
слов, слов vulgus'a, простонародья, принимает
характер провокации, как если бы для черни распахнулись
двери великосветской гостиной. И здесь мы
обнаруживаем новую фигуру непристойного, наиболее
радикальную из всех, поскольку она вписана в саму форму
высказывания и включена в состав означающего — того,
что обычно является самым стабильным и устойчивым
элементом любого порядка. Мы могли бы увидеть в
3 X, 513. Здесь и далее тексты Сада цитируются по изданию:
Sade D. A. F. de. Oeuvres completes. Paris, 1966-1967. Две
цифры, которые следуют за цитатами из Сада, отсылают
соответственно к тому и странице этого издания.
30
этом смешении лишь роскошь трущобной экзотики, пер- |
версивную и экстатическую эксплуатацию писателем- ^
дворянином низкого и грубого. Но и при этой гипоте- §
зе производимый эффект остается неизменным: Сад <|
оскверняет классический язык, он бросает его в улич- ^
ную грязь и нечистоты, выгоняет на панель, он осквер- з
няет Мать. Сад показывает принципиальную невоз- а
можность существования человеческого сообщества, о
поскольку последнее основывается на иллюзии общно- §^
сти языка и вынуждает признать, что общество может ^
функционировать, лишь устанавливая беспощадные
социальные разделения. Конфликтность, антагонизм
сосуществующих языковых кодов, которые создаются его
письмом, открывают вытесняемые противоречия, на
которых утверждается любая власть, и обнажают
жестокий факт насилия, обычно скрывающегося за мирным
договором. (Стоит отметить, что это смешение
довольно точно повторяет тот опыт деклассирования, который
пережил сам маркиз де Сад, — дворянин, влюбленный в
свою власть и свои права, землевладелец, бывший столь
накоротке со своими крестьянами, что даже завлекал их
на свои «приемы», знатный сеньор, ставший жертвой
королевского произвола и по счастливой случайности
освобожденный народной революцией, воинствующий
республиканец и влиятельный член революционного
комитета, тем не менее навлекший на себя подозрения и
осужденный за одно свое имя, и в конце концов
разорившийся, измученный испытаниями и гонениями,
требующий для себя права на существование лишь в одном
качестве и признания за собой лишь одного звания:
«литератор»...)
Если и существует особое садовское насилие, то оно
обнаруживается прежде всего — а может быть, и
исключительно — в тех ранах, которые были неоднократно
нанесены Садом символическому телу Институции, в
насилии над языком, который был вынужден брать на
себя ответственность за рассказы о всяких ужасах и
31
~ вбирать постыдные слова, в провокационных повест-
jb вованиях о конечной победе зла и в неметафорическом
I изображении запретного. По этой причине текст де-
g лает невозможной всякую идентификацию и систе-
о матически уничтожает любую возможность признания;
он идеальный оператор жестокости. И возможно,
таким образом он доводит до предела логику барочной
траты, если согласиться с Борхесом, что барокко — это
«стиль, который сознательно исчерпывает (или
стремится исчерпать) все свои возможности и граничит с
пародией на самого себя... финальная стадия развития
любого искусства, когда оно выставляет напоказ и
бездумно растрачивает свои средства»4.
Можно подумать, уже самой жестокости этого
текста (то есть, другими словами, его экстремального
юмора) было бы достаточно, чтобы четко отделить пустую
болтовню по его поводу от всего прочего, что о нем
говорится. Однако есть и более изощренные способы
проходить мимо его сути, и два из них заслуживают
особого упоминания. Первый имеет своим основанием
поэтику и строится согласно следующей аксиоме: Сад —
это текст, и ничего кроме текста, то есть сплошное
означающее, чьи механизмы и структуры (нарративные,
риторические, тематические) могут быть выявлены и
продемонстрированы. Подобные работы обычно пишутся
в снисходительной манере «серьезной науки», или
иногда это тщательный демонтаж сложного и
интересного объекта в жанре легкого, порой даже
юмористического саспенса. В методологическом отношении садов-
ский текст получает здесь свое оправдание, поскольку
он в конечном счете рассматривается только как
языковая сущность, со своими специфическими чертами,
внутренними конфликтами, законами организации дис-
А BorgesJ. L. Prologue de 1954 // Borges J. L. Histoire de l'in-
famie. Histoire de l'eternite / Trad, par R. Caillois et L. Guille.
Paris, 1964.
32
курса и оригинальными фигурами. Этот способ анали- |
за действует в строго очерченном поле соответствия ^
объекту, вне которого все остальные подходы представ- ^
ляются неадекватными и неэффективными, примером г|
чему может послужить этическое прочтение — другой, ^
хотя и совершенно противоположный способ упускать ^
главное. Этик (если можно так выразиться) восприни- I
мает садовское высказывание непосредственно, во о
всей его жестокости, во всей его скандальной провока- g_
тивности, во всей его подстрекательской энергии. Ему с:
нет дела до интертекстуальных тонкостей и соблазнов
механизма означающего; он видит лишь содержание и
его последствия, послания и ответственность за них,
действия и их результаты. Можно сказать, что это
философское прочтение, причем инспирированное самим
Садом, стремившимся получить признание в качестве
мыслителя или, на худой конец, в качестве
распространителя идей. В зависимости от того, вызывает ли
Сад одобрение или осуждение, он оказывается либо
пионером материалистической критики и борцом с
предрассудками (сексуальными, законодательными,
религиозными...) либо, наоборот, опасным
извратителем общепринятых представлений о любви,
социальных связях и долге перед истиной, хотя — все-таки
интеллект обязывает — обычно воздерживаются от
того, чтобы видеть в нем сатанинского мастера пытки
и убийства.
Самое примечательное в этих двух прочтениях то,
что они могут осуществляться только с двух
взаимоисключающих и взаимоуничтожающих позиций, точно
так же как нельзя себе представить взгляд изнутри и
снаружи одновременно. Не отрицая специфики
вопросов, поднимаемых каждым из этих прочтений, я
попытался нарушить это исходное деление и
преодолеть этот односторонний паралич, рискнув соединить
в двойном прочтении «поэтику» и «экономику».
Непримиримые в своих исходных посылках, оба этих спо-
2 Зак .1904
33
соба прочтения пребывают здесь в конфликте, но
будучи связаны в своем взаимоотрицании, они образуют,
благодаря этому конфликту, то антагонистическое
единство, которое, возможно, кому-то напомнит некое
удивительное существо о двух головах.
Если здесь речь идет об изобретении тела либер-
тена5, то это означает, что помимо тела,
существующего в качестве смелого и оригинального тропа, именно
тело — обращение с ним, его функционирование, его
судьба — станет главным знаком, через который будут
читаться все остальные знаки и их отношения. Но
почему именно тело выступает в качестве
привилегированной точки отсчета? Надо признать, что именно здесь
мы сталкиваемся с источником тех проблем, которые
пронизывают беспокойством всю современную эпоху.
От Фрейда до Гуссерля и от Ницше до Фуко тело
обозначалось как место, где сходятся все интересы, управ-
•' В мои настоящие намерения не входит детальное изучение
истории понятия «либертинаж» со времени его появления
в начале XVII века, когда оно обозначало движение
интеллектуального сопротивления и вольнодумства по
отношению к навязываемой религиозной догме (например, у Гас-
сенди), и вплоть до его превращения в первой половине
XVIII века в название философского течения
материалистического и сенсуалистического характера (как, например,
у Ламетри), а в конце того же века — в обозначение
практики развратного поведения, которая, однако, в философском
плане по-прежнему соединялась с отказом от религиозных
и моральных принципов. Садовский текст инсценирует эту
третью стадию либертинажа, которая и станет здесь
предметом нашего исследования. Словарь «Литтре» в статье,
озаглавленной «Либертинаж», сводит историю
либертинажа к следующим двум определениям: «вольномыслие,
отвергающее религиозную веру» и «человек распущенного
поведения». Поданному вопросу отсылаю к таким авторам,
как Р. Моэи (Mauzi R. L'ldee du bonheur au XVIII-e siecle.
Paris, 1960), П. Нажи (Nagy P. Libertinage et revolution.
Paris, 1975) и Г. Шнайдер {Schneider G. Der Libertin.
Stuttgart, 1970).
34
ляющие распределением сил, власти и кодов. Тело од- 3
повременно представляет собой место их пересечения ,§
и конкретного действия, оно одновременно осуществ- §
ляет их множественные обмены и является моделью их <|
протяженности, в нем концентрируется как их приме- ^
нение, так и их кризис. Если тело резюмирует в себе §
некую историю, оно будет говорить и о ее конце. На са- |
мом деле, как только мы начинаем видеть тело, мы уже §
не видим ничего другого — не из-за притягательности {^
тела, взятого в качестве темы, но потому что в нем мы С:
действительно видим все.
У Сада тело понимается и читается отнюдь не
только как палимпсест, скрытый под другими словами, его
всеприсутствие поразительно, как если бы реально
принадлежащая ему роль главного персонажа была
симптомом обретенного им ныне статуса навязчивого
объекта власти, знания и желания.
Тот способ, которым тело либертена утверждает
себя, вводит себя в игру, подвергает риску,
наслаждается и вступает в отношения обмена, говорит о
нескольких вещах: о разрыве с прежним восприятием
знаков, характерном для материализма XVIII века, о
постановке вопроса о знании как источнике
наслаждения, о новой организации восприятия пространства и
времени, но, помимо этого, о радикальном разрыве в
способе производства и технологии господства и,
наконец, о противоречивом,неистовом,перверсивном
сопротивлении тела всему, что замышляется в
отношении него, против него. Неустранимый парадокс
заключается в том, что это либертенное тело соединяет
в себе господина и раба и пытается совершить
невозможное, вовлекая в свой мятеж ту часть себя, которую
оно уничтожает ради получения наслаждения.
Восставая против власти, либертинаж сам страстно ее
желает. Проявляется ли в этом досадная ограниченность
Сада или реальное противоречие, которое Сад просто
демонстрирует лучше, чем кто бы то ни было другой?
35
"I Обнаруживается ли здесь частичная слепота Сада или
&> предельный вызов и жестокость этого литературного
| вымысла?
5 В поисках ответа на этот вопрос мы прибегнем к двум
о способам прочтения текста: поэтическому и
экономическому — и сможем таким образом прояснить его на
двух уровнях.
Начнем с поэтического, или с Поэтики. Сразу же
оговоримся, что мы не намерены применять здесь
набор технических понятий, которые и принято сегодня
называть «поэтикой» в строгом смысле. Мы не будем
кропотливо анализировать функционирование текста
или нарративные структуры и конструировать модели,
способные дать «окончательное» прочтение
Садовского текста (модели, очень часто помогающие прочесть
лишь самих себя). Предоставим эту нелегкую работу,
немыслимую без непоколебимой веры в науку,
инженерам текста. Тот тип поэтики, который здесь
намечается, предполагает, что подобные результаты уже
получены (или могут быть получены без особых усилий).
Наша поэтика, анализируя некоторые неочевидные
акценты садовских текстов и вскрывая разнообразные
навязчивые формулы, предлагает по-другому
организовать понимание текста. И даже более широко: наша
поэтика предлагает обнаружить нити заговора против
экспрессивного тела, того самого тела, которое в
соответствии с классическими теориями субъективности
гарантирует себе органическое единство и
формируется в обмене словами и в транзитивности взгляда,
допускает себя в качестве посредника, обнаруживающего
или скрывающего определенную глубину. И эта
глубина в соответствии с ценностями тайны, интимности
и самости есть то место, где сосредоточена истина
тела, где в памяти и ожидании зреет субстанция любви.
То, чему мы становимся свидетелями в ужасающем
выставлении напоказ десакрализованного,
механизированного, расчлененного, исчисленного тела,гро-
36
тескно приделанного к бесстрастной голове, програм- |
мирующей его действия и монополизирующей его на- ^
слаждение, как раз и есть крушение этого прекрасного ^
лирического единства. Очевидно, что такой способ чте- г$
ния обозначается словом «поэтика» лишь постольку, ^
поскольку представляется полностью безразличным §
ко всем этическим вопросам; наша поэтика доволь- §
ствуется лишь тем, что записывает и демонстрирует 5
происходящую мутацию, не задаваясь вопросом, кому §_
она выгодна и кто от нее страдает, а также какие силы ^
и какая история определяют собой этот разрыв и это
перераспределение в репрезентации тела. Иначе
говоря, где об этом идет речь? Между кем и кем? В чьих
интересах?
Однако именно эти вопросы стремится
исследовать и Экономика. Но под этим термином мы должны
понимать особого рода анализ текста, имеющий дело
со специфическим процессом символизации способов
воспроизводства и перераспределения форм власти и
технологий господства, которые присутствуют в
моделях производства и обмена, в отношениях
продажности и воровства, в конфликтах богатства и нищеты,
благодаря чему моделируются репрезентации тела,
которые каталогизирует поэтика. Этот способ постановки
проблемы, как можно догадаться, не имеет ничего
общего с подходом к тексту как к результату или
отражению социально-экономических противоречий истории,
внутри которой он пишется, то есть с подходом, который
в конечном счете опирается на принцип уподобления,
поскольку получает исчерпывающие доказательства по
всем пунктам, как только устанавливаются причинные
цепочки между порядком реальности (который
предполагается познаваемым и научно определимым) и
порядком вымысла, который мыслится как зеркало, как
репрезентативное удвоение реальности, только в
замаскированном виде(точнее, именно в замаскированном
виде, поскольку лишь тогда оказывается возможным за-
37
~~ бвение и воображаемое примирение с ней). Главное,
&> что неприемлемо в таком подходе, — инструментали-
| зация языка как нейтрального посредника: историче-
f4 ский материализм, подключенный к языковому идеа-
о лизму, обеспечивает эффективность такого механизма.
(Именно поэтому «идеологическая» критика так часто
бывает похожа на социологию литературы.)
Экономика текста, напротив, предполагает показать,
что вписывание истории в вымысел происходит по
законам специфического языкового означивания
вообще, и в частности, в тех операциях с языком, которые
осуществляет текст. Отношения между историей и
вымыслом не являются, в отличие от отношений между
реальностью и образом, отношениями причинности
(предполагающими приоритет или предшествование).
Текст всегда уже является самой историей, текст — это
место, где история сама себя вопрошает, проверяет,
испытывает, где инсценируются и ставятся под сомнение
коды, структурирующие язык, и силы, которые их
наполняют или производят. Именно таким образом,
будучи переписанными, раздробленными, перемешанными,
смещенными, пропущенными через фильтры, эти коды
открываются взору. Вымысел функционирует как
бессознательное истории, а каждый текст — как ее
записанный сон, поэтому мы обнаруживаем одни и те же
законы в вымысле и сне: смещение, сгущение,
парадоксальное сосуществование противоположностей. Текст,
прочитанный таким образом, является прекрасной
машиной для демонстрации противоречий, если только
аналитик настроен их воспринимать.
История, таким образом, полностью
обнаруживается в тексте, но не как референция истины или истина
референта, а как нечто, чьим голосом и симптомальным
телом является текст — своего рода резонансная
камера, попав в которую противоречия истории
обновляются, меняют обличье и возвращаются к нам усиленные
тем, что стали другими.
38
Возможно, что мы хотим от вымысла слишком мно- |
гого, но если он не в состоянии дать нам это, то он ни на ^
что не годен. После Брехта об этом уже знают все. §
И еще одно: называя наше прочтение экономикой, <§
не поддаемся ли мы иллюзии, что в современном мире ^
именно экономистам, словно хранителям высшего зна- §
ния, принадлежит последнее слово о «реальности»? ц
В самом вопросе уже сквозит желание заменить одну §
теологию на другую. Чтение, которое здесь предлагает- §_
ся под именем экономики, по сути дела является поли- п:
тическим; и если политика, как мы постоянно слышим,
присутствует во всем, то ее невозможно выделить как
отдельный объект, изолировать как особую тему, она
выводится из всех отношений, которые ею затронуты,
из всех сил, которые ее составляют, и прежде всего из
экономики — из той экономики, в которой видят ключ
к власти, а власть и является ее навязчивой целью, ее
универсальным условием, обладая уникальной
возможностью оставлять отметины на телах. Наша эконо-
мика будет прочтением инсценировки экономики в
пространстве вымысла.
Части диптиха, которые образуют эту книгу, не
дополняют друг друга и тем более не образуют никакой
иерархии. Вторая часть открывает истину не больше,
чем первая. Части не относятся друг к другу как
структура и история, игра и трагедия, поверхность и глубина.
Можно даже представить себе, что модель тела, которая
обрисовывается в первой части, очарует того (или ту),
кто узнает здесь риторические фигуры своего
собственного желания, хотя необязательно это прояснит
условия их функционирования в садовском универсуме.
Искусство комбинирования, безумство вариаций, фраг-
ментирование тел, вкус к новым зрительным
перспективам, сегментация времени — вот то множество
«вообразимого», которое можно встретить и в любовной
утопии Фурье, хотя тот полностью абстрагируется от
39
"3 жестокости и предпочитает фантазировать в привыч-
Ь ных рамках договора (впрочем, в этом и состоит его спо-
§ соб подрывать устои).
f Там, где политическое прочтение требует объяснений
а и подразумевает наличие виновных, иначе говоря, спра-
"~ шивает «почему», чтение, которое предлагает поэтика,
приветствует различия и отвечает «почему бы и нет», —
что и является формулой утопии. Выбирая между
двумя этими возможностями, я решился, чтобы не
пренебрегать различием, существующим между ними, на
некоторый саспенс, на ощутимый разрыв. Политическому
прочтению я немного поубавил серьезности и
пристрастия к приговорам Страшного суда, напомнив ему о
легкости и игре вымысла. Поэтическому прочтению я
напомнил о том, что за свои наслаждения садовские ли-
бертены платят вполне определенную цену. Хотя я мог
бы вести критику сразу по двум направлениям, мне
показалось более уместным их разделить. К тому же это
доставило удовольствие мне самому.
I сторона
ПОЭТИКА
Глава первая
НИСПРОВЕРЖЕНИЕ
ЛИРИЧЕСКОГО ТЕЛА
Никто по сей день не определил
того, что может тело.
Спиноза. Этика (III, 2)
Тело — буквально
Что есть в литературе влюбленное тело? Хор
бесчисленных голосов, подвижная мозаика знаков, сигналов,
симптомов. Кожа, руки, глаза, лицо каждое мгновение
что-то выражают, жесты что-то означают, одежда что-
то символизирует и даже само молчание о чем-то
говорит. Все состояния души, все ее волнения и перепады
(сомнение, ревность, счастье, отчаяние, нежность), вся
гамма чувств — все должно обозначить себя на теле,
должно проступить на нем, ибо тело — тот
необходимый экран, на который все проецируется: оно —
единственно возможное место встречи и соединения, через
которое может протянуться нить повествования или
метафоры стихотворения. Для них тело — постоянный
медиум, неизменное место синтеза. Контрапункт
повествования — всегда история этих множащихся языков.
Мы назовем лирическим тело, насыщенное знаками,
которое всеми своими изменениями, движениями,
выражениями свидетельствует, заявляет и одновременно
скрывает свидетельства о фигурах речи и энергиях, при
помощи которых текст инсценирует состояние любви
и любовные отношения.
Лишенное этой лирической ауры, исключенное из
этой системы выражения, садовское тело не скрывает-
43
3 ся и не выставляет себя напоказ. Оно далеко как от гер-
S меневтического кокетства, так и от истерической напы-
g щенности, оно показано так, как изображаются тела на
^ анатомических рисунках: холодно и точно. Лишенное
о знаков, избавленное от симптомов, садовское тело за-
2 ставляет умолкнуть классическое повествование, ко-
^ торое обусловливается множеством значений,
выражаемых телами персонажей. Упорствовал бы де Грие в
своей любви к Манон, если бы ее простодушный взгляд
не поддерживал его иллюзий? («Ради тебя я погублю и
свое состояние, и доброе имя, предвижу это; читаю
судьбу свою в твоих прекрасных очах...»)1. Как бы Сен-Пре
догадался о любви Юлии, если бы не жесты и взгляды,
которые выдавали ее волнение? («Подчас наши взоры
встречаются; подчас мы одновременно вздыхаем или
украдкой утираем слезы... О, Юлия! Что, если такое
сродство ниспослано свыше... предназначено самим
небом», «Отвратите от меня свой взор, нежный взор,
несущий смерть; скройте от меня свои прелестные черты,
лицо, руки, плечи, белокурые волосы, весь свой легкий
стан, обманите мои дерзкие ненасытные глаза»'-'.) Речь
влюбленных — это прежде всего гадание: нужно
правильно расшифровать знаки, которые подает любимое
тело, чтобы понять намерения, которые им движут.
Таким образом симптомальное тело устанавливает
особый метафорический порядок, созидающий то, что мы
привыкли называть литературой. Ничего
удивительного, если архонты решили, что Саду в ней не место. Не
угодно ли и вам навлечь на себя подобное проклятие?
1 Прево А.-Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско /
Пер. с франц. М. Петровского // Прево А.-Ф. История
кавалера де Грие и Манон Леско; Лакло Ш. де. Опасные
связи. М., 1985. С. 51.
2 Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиза / Пер. с франц.
Н. И. Немчиновой и А. А. Худадовой под ред. В. А. Дынник
и Л. Е. Пинского // Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения:
ВЗт.Т. II. М., 1961.С. 15.
44
Тогда достаточно последовать садовскому рецепту: ^
взять тело (человеческое), лишить его всех симптомов, 5
освободить этот бесстрастный предмет от всякого вы- §
ражения, дать детальное описание его частей, как если у
бы речь шла о машине, и соединить его с другими тела- |_
ми для получения большего наслаждения. Тогда вы ^
разом опустошите весь арсенал метафор, оборвете все |
бесчисленное количество нитей, которые от них тянут- |
ся, уничтожите тем самым «нормальную» ткань пове- J"
ствования, а значит, литературность как таковую. Тем §.
самым вы обречете себя на производство языка, осно- i
ванного лишь на одних повторах, и вам придется
согласиться с тем фактом, что повествование не отражает
ничего, кроме произвола повествователя.
Одновременно вы избавите читателя от иллюзии реалистичности,
вы превратите его не в жертву, а в сообщника. Вы
положите конец иллюзии классического вымысла, указав,
что правила его производства имманентны его
материалу. Короче говоря, вы будете виновны в оскорблении
литературы и вам будет непросто (или невозможно)
вымолить себе прощение.
Садовское тело — определенное в своих
пластических контурах, классифицированное по анатомическим
элементам, рассматриваемое как простой объект
инвентаризации, — это тело в буквальном смысле. Однако не
следует понимать под этим некую изначальную
простоту, референтный уровень слова. Под буквальным здесь
понимается не исходное значение, а то, что уклоняется
от метафоризации, то, что сопротивляется режиму
интерпретации.
Это конкретное и функциональное тело, очищенное
от всякого лирического красноречия, получает свою
незначащую безмолвность не потому, что претендует на
некую докультурную примитивность (ниспровергнуть
слова значит обречь себя на отрицание), а за счет
замыкания двух дискурсов: дискурса литературы и дискурса
науки. Тело, описываемое наукой, — это материальная
45
g данность, определенный набор органов, система функ-
1 ций — короче, это анатомия и физиология. Литература
g не может принять это тело как свой обычный объект, и
^ еще меньше она может принять его как объект
исклюем чительный, поскольку в этом случае ей придется отка-
| заться от превращения его в «персонаж» — выразитель-
^ ное, а значит, пригодное для повествования существо,
ей придется отказаться от того, чтобы быть
литературой. Тем не менее именно это тело Сад принуждает к
литературному существованию, совершая радикальный
выбор, который продолжает считаться неприемлемым.
Логическое следствие этого выбора состоит в том, что
отношения между телами должны возникать только на
уровне телесных функций. Это бесспорная
необходимость, перед которой отступает любая претензия на
обладание смыслом. (Понятно, какие здесь возникают
вопросы: как же можно повествовать о теле, которое не
имеет никаких секретов, никаких тайн? Как создать
сюжет поиска без любовного мотива? Как заставить
говорить знаки на теле, которое ничего не выражает? И,
более широко, можно задаться вопросом, каким образом
тот или иной тип повествования связан с тем или иным
типом монтажа телесных знаков в тексте, и наоборот.)
Таким образом, тело в буквальном смысле
производит свое письмо, свою «букву». Букве ничего не
предшествует, письмо возникает именно из нее. Нулевая
степень, но не в смысле генезиса, а как материя и процесс.
Буква сохраняется, не давая себе раствориться в
собственном контуре. В конце повествования Жюльетта
не меняется, ее тело содержит в себе не больше памяти,
чем в начале повествования, — буква может
бесконечно повторять себя. Ради правдоподобия Жюльетта
стареет и все. Она не превращается ни в «честную
девушку», ни в еще более изощренную либертенку, как это
полагается в романе воспитания. Ей просто удается
приблизиться к насыщению системы возможностей, а
ее тело собрало на себе максимальное количество отме-
46
тин, соответствующих его функциям. Время повество- ^
вания совпадает с временем высказывания, исчерпы- S
вающего ту большую синтагму, которая эмблематизи- §
рует ее тело. Тело, которое ничего другого не выражает, у
которое демонстрирует в повествовании следы испы- |^
тайных наслаждений. Повествование могло бы продол- ^
житься и могло бы начаться снова. Конец так же произ- |
волен, как и любой из его эпизодов. Так автор/скриптор, ^
чтобы закончить повествование, решает обречь это тело ^
на молчание, исчезновение — то есть на самоустране- §,
ние от возможности письма: «Смерть мадам де Лор- §
санж [Жюльетты] стала причиной ее исчезновения со
сцены мира, как обыкновенно исчезает все, что
некогда блистало на земле; эта необыкновенная женщина
умерла, не оставив никаких записей о последних
событиях своей жизни, так что ни один писатель не сможет
поведать о них читателям»3.
РАЗДЕЛКА
Дон Жуан еще был мечтателем. Он еще хотел
соблазнять, хотел, чтобы его любили ради него самого. Он еще
был способен трепетать под взглядом Другого.
Несмотря ни на что, он сохранял ностальгию по куртуазной
любви. Он еще был рыцарь в душе, посреди совсем
новой, размеченной и организованной техническим и
индустриальным разумом, территории. Он еще не
понимал тех изменений, «оторые влекли его, хотя уже был
одержим страстью больших чисел. В этом отношении
ему недоставало средств для осуществления своих
желаний. Эти средства ему даст Сад. Сад изобретет для
либертена тело, соответствующее тем фантазмам,
которые породил новый порядок вещей. Чтобы достичь
этого, он подвергнет тело радикальной процедуре раз-
3IX, 587.
47
3 делки (в двух смыслах — придания определенной гео-
Е метрической формы и расчленения). Он сведет тело к
3 системе органов, лишенных внутреннего единства, к на-
^ бору шестеренок, к бухгалтерии свойств, к игре програм-
о мируемых вариантов и комбинаций. В общем, здесь
| имеет место четырехсторонняя редукция, и в простран-
^ стве текста проясняется и подтверждается тот самый
философский переворот, который предписывает эту
редукцию: полное отрицание гипотезы о
существовании души. Тело подвергается чудовищному
абстрагированию — членению, упорядочению, сегментации,
классификации, — в ходе которого изгоняются все
чары, жесты, оттенки (ласки, ароматы, игры, знаки,
намеки), которые составляют суть тела влюбленного и
любовных отношений. Отныне всегда и везде будет
происходить отбор подходящих моделей, оценка всех
работающих частей, повторение одних и тех же жестов,
навязывание определенного набора фигур — и все это
при неизменной вере в существование некой
неоспоримой силы, которая всем этим управляет. Как если бы
сам секс не являлся реальной целью этих связей, если
бы он был, благодаря той энергии, которую несет в себе,
и тем диспозициям, которых требует, лишь тем, что
выступает средством или посредником чистого
наслаждения, получаемого от комбинирования, варьирования,
изобретения множества ранее невиданных поз, другими
словами, от самой грамматики тел, от их конституирова-
ния в дискурс или, скорее, в матезис, призванный
подчинить их субстанцию дискурсу разума «до такой
степени, что сама организация в конечном итоге кажется
более важной составляющей эротического действа, чем
плоть, то есть тот материал, который должен быть
организован. Это в равной мере справедливо для всей
литературы, которая достойна называться этим именем»4.
1 Robbe-Grillet A. Preface // Sade D. A. F. de. La Nouvelle
Justine. Paris, 1979.
48
Психологическая/хирургическая %
редукция 1
Что остается от субъекта, когда отвергается гипотеза о у
существовании души, если не его тело, организм, опи- |^
санный физиологами и препарированный хирургами? 3
Здесь Сад выступает в роли строгого последователя |
ятромеханики, посткартезианской медицинской тра- |
диции, которая невозмутимо развивала все следствия, J"
вытекавшие из модели тела-машины. Агностицизм а,
XVIII века находит в ней свое полное материалистиче- ^
ское оправдание. Более того, эта модель открыла Саду
возможность рассматривать природу в качестве
основания физики влечений и логики деструкции.
Первым следствием физики влечения было полное
пренебрежение симптоматологией функционирования
тела. В самом деле, симптоматология не могла
существовать без гипотезы о psyche; если отбросить эту
гипотезу, то от тела останется только «машина» из мускулов
и нервов, сосредоточенная на собственных функциях,
благодаря которым любая страсть сводится к тому или
иному состоянию желез и нервов. Вот, например, какое
объяснение получают преступные страсти герцога де
Бланжи: «Он заметил, что сильное смятение, в которое
мы повергаем любого соперника, отдается в наших
нервах вибрацией, и эта вибрация, вызывая животные духи,
текущие внутри наших нервов, заставляет их давить на
эректильные нервы и порождать после этого
потрясения то, что называется похотью»5.
Что такое боль? Сен-Фон отвечает: «Скажу лишь,
что боль — это следствие некоторого воздействия
посторонних объектов на молекулы, из которых мы
состоим»6. Сад призывает к тому, чтобы симптом был
заменен вибрацией или секрецией, благодаря чему тело
5 XIII, 10.
6 VIII, 255-256.
49
перестает быть местом переплетения знаков,
приписываемых некой тайной силе, чьим посредником оно
выступает, а утверждается лишь как набор материально
воспринимаемых, четко определенных функций,
которые никогда ни к чему не отсылают, кроме как к
физиологической организации как таковой. Ведь симптом
классической психологии влюбленного — это, конечно,
безмолвный язык тела, который означает, что в теле
обитает «голос» (истины, осознания чувства или самой
природы). Этого нежеланного жильца, этого паразита,
отравителя удовольствия и изгоняет из себя тело ли-
бертена. Тело либертена может допустить Другого
внутри себя только ценой потери своей власти (а значит, и
своего наслаждения). Двум хозяевам нет места на
одной территории. Тело либертена не может содержать в
себе никакого секрета, никакой загадки, то есть
никакой внутренности, на которую указывали бы внешние
телесные изменения. Симптом не может устоять
против гипотез материалистического механицизма. Но
еще в большей мере дискредитирует симптом то, что он
образует немой язык. Но ведь и хранить молчание,
когда хочется говорить, — это отличительная черта
жертвы, таково несчастье добродетели. А быть либерте-
ном — значит отождествлять язык с дискурсом, то есть
властвовать над словом, артикулированным в двух
формах, которые представляют собой
кульминационную фазу его развития в западной культуре: в форме
истории и понятия, повествования и дефиниции
(отсюда у Сада постоянное чередование сцены и
рассуждения). Вот почему либертинаж — весь «в голове», весь
в дискурсе (а значит, в апатии); что касается кожи и
органов — им нечего сказать, а потому они должны
только делать; если же им вдруг вздумается заговорить,
они перестают делать: краснеть, бледнеть и т. д.;
короче говоря, выражать — значит быть в плену
внутреннего голоса, в плену чувствительности. Симптом —
составная часть комплекса Жюстины, он указывает на
50
суть невроза: отрицание. Будучи языком тела жертвы, ^
симптом можно точно определить по фрейдовской тер- 5
минологии как субститутивное или компромиссное об- |
разование, безмолвно сигнализирующее о смещении у
подавляемого влечения. Поэтому тело жертвы находит- S
ся в двойной зависимости: от иллюзии голоса, который ^
противоречит его желанию, и от дискурса другого тела, а
тела либертена, которое навязывает телу жертвы ис- %
тину своего желания как смертоносное возвращение J"
вытесненного. §,
Но симптом является лишь крайней точкой, наибо- S
лее ярким проявлением того, что составляет обычный
режим тела, в рамках традиционной метафизики. Это
режим выражения, основной гипотезой которого
являются оппозиции внутреннее/наружное и тело/душа.
Выражать — значит пропускать первый элемент пары
через второй, читать одно через другое, утверждая таким
образом органическое и значимое единство. От Гуссерля
до Мерло-Понти феноменология верила, что это эйфо-
рическое понятие содержит возможность восстановить
телесное мышление как противоположность
интеллектуализму, не отдавая себе отчета в том, что это понятие
унаследовало все самые стойкие предрассудки
идеализма и продолжает отстаивать дуализм знака и
инструментальный характер языка. Мы по-прежнему увязаем
здесь в этике vouloir-dire и эстетике проявления
сущности (скрытое/явленное, глубинное/произнесенное и
т. д.), которые идут еще от Канта и Гегеля.
Полностью исключенное из всяких отношений
выражения, сведенное к своей анатомической
материальности садовское тело в конечном итоге моделирует себя
как тело без кожи, как тело, препарируемое в
прозекторской. Поэтому неудивительно, что оно выставлено
напоказ, препарировано и инвентаризовано. Именно
поэтому оно с такой легкостью передается в руки палачу.
Либертен, который расчленяет тело своей жертвы,
совершает во имя своего желания то, что хирург считает
51
себя вправе совершать во имя знания. С той лишь
разницей, что первый скандальным образом признается в
получаемом от этого наслаждении. Пытка, к которой
прибегает либертен, развивает строго научную логику
анатомической/хирургической редукции тела и
доводит ее до предела. В физиологической теории и в
хирургической практике содержится отложенная агрессия,
опосредованная академической/гуманистической
легитимностью (знать/лечить), которую либертен
присваивает и показывает такой, какая она есть на самом деле, —
в виде сильного, жестокого, первичного влечения.
Всякое знание и всякая техника, выбирающие тело в
качестве объекта, возникают лишь при условии вытеснения
того самого наслаждения, благодаря которому они и
возникают и исчезают. Хирург-либертен Роден
высказывает это напрямую: •«Любое страдание, которое я причиняю
другим, используя хирургическое искусство, бичевание
или вивисекцию, приводит мое семя в возбуждение,
превращающееся в зуд и непроизвольную эрекцию,
которая, помимо меня самого, быстрее или медленнее
переходит в семяизвержение, в зависимости от степени
страдания, причиняемого субъекту»7.
Механическая редукция
Человек-машина Ламетри (произведения которого Сад
с увлечением читал) представляет собой идеальную
модель механизма из хорошо пригнанных друг к другу
органов, которым является тело, лишенное души.
Превращение тела либертена в машину для наслаждения
имеет по крайней мере четыре преимущества. Тело,
понимаемое как машина, уже не подотчетно никакой
трансцендирующей его инстанции (совести, душе): «Мы
встречаем возражение, что материализм видит в
человеке не более чем машину и что поэтому он бесчестит
7 VI, 263.
52
человеческий род, но к чести ли человека будет сказа- ^
но, что он подчиняется таинственным импульсам духа i
или даже не знаю чего именно, что требуется для того, |
чтобы вдохнуть в него жизнь непонятно каким обра- у
зом?»8 Освобождаясь от души, машина также избав- |^
ляется от предрассудков морали; недоступная угры- ^
зениям совести и жалости, недосягаемая для сознания а
вины, она в конечном итоге утверждает, что если души |
не существует, то все позволено. <§"
С другой стороны, машина — это устройство, кото- |.
рое, начав работу, перестает быть хозяином собствен- §
пых движений: они определяются лишь конструкцией
машины и запасом энергии. Движения однажды
запущенного механизма уже не поддаются коррекции,
результат функционирования машины всегда неизбежен
и предопределен. Уделом тела-машины становится
своего рода «судьба влечений». Исключается всякая
возможность существования воли, готовой взять на себя
ответственность; остается лишь данность слепого
материального порядка, называемого «природой», которому
благоразумно подчиниться, сохраняя при этом чувство
юмора. Именно об этом говорит Ламетри: «Мы же не
будем претендовать на власть над тем, что управляет
нами, не будем ничего предписывать нашим
ощущениям, признавая их власть и наше рабское подчинение
им; мы постараемся только сделать их приятными для
нас, будучи убеждены, что в этом состоит счастливая
жизнь»9. «Завися от стольких внешних причин и еще
больше от множества внутренних, как можем мы не
быть тем, кто мы есть? Как можем мы управлять
силами, о которых ничего не знаем?.. Когда я творю добро
или зло, когда я утром добродетелен, а ночью предаюсь
пороку, что же является тому причиной как не моя
8 VIII, 55.
9 Ламетри Ж. О. Сочинения / Пер. с франц. Э. А. Гроссман и
В. Левицкого под ред. В. М. Богуславского. М., 1983. С. 242.
53
§ кровь, которая благодаря этим силам густеет, застыва-
5 ет, разжижается, бежит быстрее»10. Сад подтверждает
[2 это: «Все эти вещи зависят от нашего сложения, от на-
^ ших органов, от того, как они влияют друг на друга, и
о изменить наши вкусы не более в нашей власти, чем из-
| менить форму нашего тела»11.
Ji Отношения с другими, будучи отношениями
механическими, полностью очищаются от всякой
психологии и особенно сентиментальности. Для либертена
другой — это прежде всего система органов, подключенная
к его собственной системе. То, что либертен считает
наиболее важным в теле другого, — это органы, призванные
гарантировать наилучшую связь между двумя
системами. Сначала оцениваются и описываются части тела, а
затем разрабатывается программа их
функционирования. Язык в данном случае — это язык технологии
наслаждения; именно под этим углом зрения следует
читать «программы», подобные следующей: «Слушайте
меня: Жюльетта ляжет на эту кровать, и каждая из вас
по очереди испробует с ней наслаждение по своему
вкусу; я, наблюдая эту сцену, буду обладать вами, по мере
того как вы будете отходить от нее, и наслаждения,
начатые с нею, будут заканчиваться со мной; но я не буду
спешить, мое семя извергнется не раньше, чем я смогу
овладеть всеми вами»12. Что может быть менее
романтичным? Во всех этих диспозициях нет никакой
возможности лирического созерцания друг друга. Есть
только части тела, которые соединяются, и
удовольствие, которое извлекается из них.
Кроме того, группа, расположенная таким образом
для оргии, должна производить эффект полной
деперсонализации: здесь возникает безличный ансамбль,
объективный механизм, который не является суммой
10 Ламетпри Ж. О. Сочинения. С. 242.
11 XIII,42.
12 VIII, 34.
54
индивидуумов, а предшествует им и в каком-то смысле ^
порождает их как таковых: «Настал момент, когда все i
общество образовало единую группу; никто не оставал- §
ся бездеятельными, и ничего не было слышно, кроме У
вздохов и криков наслаждения»13. |
В работе этой многосоставной машины наслаждения ^
уничтожаются личности, стираются имена, предложе- а
ния становятся безличными, а из местоимений пред- jj
почтение отдается неопределенно-личным («все»); гла- J"
голы используются в пассиве или возвратной форме — |,
таков этот пламенеющий средний род, в котором сгора- §
ет групповое тело. «Более трех сотен участников уже
собрались там, раздетые донага; предавались
рукоблудию, пороли друг друга, услаждали себя
искусственными членами, предавались содомской страсти, извергали
семя, и все это происходило среди полнейшего
спокойствия»11. «Все были в движении, все были возбуждены
и все участвовали. Не было слышно ничего, кроме
криков наслаждения или боли, восхитительных звуков
опускающихся плетей. Все были обнажены, на всех лицах
изображалась самая непристойная похоть»15.
Здесь осуществляется переход от человека-автомата
к производственному цеху, от Вокансона16 к Жакару17,
со всеми последствиями, которые имеет этот переход в
смысле организации, производительности, рабочего
напряжения и усердия; в конечном итоге все доводится до
поистине юмористического парадокса, когда
стахановцы наслаждения стремятся затратить впустую как мож-
п VIII, 425.
и VIII, 410.
13IX, 520.
1С Жак де Вокансон (1709-1782) — механик, создатель
конструкций автоматов, основанных на использовании
часового механизма для осуществления сложных движений. —
Прим. перев.
17 Жаккар Жозеф Мари (1752-1834) — французский ткач,
механик и изобретатель. — Прим. перев.
55
3 но больше энергии: вот вам «холостая машина», если
5 бы такая существовала...
g Групповое тело наилучшим образом воплощает тело
^ либертена в том смысле, в каком говорят о дипломати-
I ческом или армейском корпусе: речь идет о собрании
| индивидов, которые за счет выполнения общих функ-
" ций превращаются в институцию. Теперь понятно,
почему это составное тело составляется из индивидов, чье
механическое функционирование является
исполнением служебного долга (труд, необходимый для
производства роскоши наслаждения) или, хуже того, сводится к
осуществлению пассивной функции. Тогда мы имеем
тела-мебель, подобные тем, которыми ублажает себя
людоед-либертен Минский: «Предметы мебели,
которую вы здесь видите, — сказал нам наш хозяин, —
живые. Они двигаются по малейшему сигналу». Минский
делает знак — и стол придвигается, он стоял в углу
комнаты, а оказался на середине; вокруг него
размещаются пять кресел; две люстры спускаются с потолка и
повисают над столом.
«Эта механика совершенно проста, — говорит
гигант, позволяя нам вблизи рассмотреть, как сделана эта
мебель. — Вы видите, что этот стол, эти люстры, эти
кресла сделаны из искусно расположенных групп
девушек, мои кушанья будут подаваться на спинах этих
созданий»18.
Жертва отличается тем, что ее использование в
качестве мебели (инертного, пассивного,
инструментального, страдающего тела) ставит под угрозу ее работу
как машины (активного, производящего,
наслаждающегося тела). Либертен никогда не опускается до
подобной функции, которая всегда означает рабство, труд,
уничтожение (о прислуге говорится так: «часть
движимого имущества» или «продается вместе с мебелью»).
Быть мебелью — это основное состояние тела жертвы.
1(1 VIII. 562.
56
Арифметическая редукция %
Садовское тело — расчлененное, выставленное напоказ, а
механизированное, — подлежит еще и количественной §
оценке. Количество использованных органов, количе- g
ство приведенных в действие тел, масштаб состоявшей- |"
ся оргии всегда сообщаются в самых точных цифрах. §
Эта практика сводится к четырем основным операци- 1
ям, результат которых можно назвать арифметической 8"
редукцией: ^
— измерение органов, |
— подсчет количества тел, ^
— подсчет актов, ^
— подведение итогов.
Измерение органов. Если описание органов тела,
предназначенных для наслаждения, всегда
сопровождается количественной оценкой их качеств, то это
происходит потому, что высказывание о размерах
называемого объекта определяет его ценность. Так это
происходит в отношении мужских половых органов
(мужская сила упивается цифрами). У Нуарсея,
например, «инструмент семи дюймов в обхвате и
одиннадцати дюймов в длину», у Сен-Фона: «его мужская сила
могла достигать семи дюймов в длину и шести в
обхвате», у Минского: «восемнадцать в длину и шестнадцать
в окружности».
Вероятно, кроме Сада только Фурье умел возвести
эту манию подсчетов на уровень либидинального
бреда и превратить ее в основную черту письма. Постоянное
упоминание о размерах нужно Саду для того, чтобы
подчеркнуть тождество между желаемым телом и
механизмом, состоящим из перечня частей, из чего может быть
извлечено детально описываемое наслаждение.
Варьирование или уточнение цифр направлено на то, чтобы
ввести какую-то особую новую деталь там, где сам нар-
ратив предлагает лишь повтор. Это требование подроб-
57
ностей открыто формулируется в тексте, как
рассказчиком или рассказчицей, которые стремятся
удовлетворить этому требованию, так и слушателями,
настаивающими на соответствующих подробностях. Но надо
отметить, в качестве подробностей всегда
предлагаются цифры или, по крайней мере, измеряемые
количества. Здесь возникает странное несоответствие между
общим характером описаний мест, людей, действий и
предельной точностью цифровых данных
относительно органов и актов оргии, как если бы эта чрезмерная
точность должна была компенсировать некоторый
недостаток правдоподобия в других отношениях. Однако
в этом чувствуется величайшая ирония, поскольку
подобная точность означает вторжение предельного
реализма в область, в которой литературный код не
допускает никакого прямого высказывания. Таким образом
возникает сильнейшее несоответствие между этой
числовой оценкой и садовским способом повествования, в
котором эмблематический антураж всегда берет вверх
над реалистическим описанием, но это несоответствие
особенно несообразно, когда оно относится к той
части тела — половому органу, — который повествование
обычно позволяет себе обозначать только путем
метафорических уловок.
В общем садовское удовольствие исчисления — это
удовольствие, присущее исключительно либертену.
Прежде всего, на эксплицитном уровне, поскольку это
означает вести подсчеты там, где подсчеты не
делаются, там, где правилами дискурса о наслаждении
предписываются скромность, намек или
риторический обходной путь. У Сада мы даже приближаемся к
чистому наслаждению от чисел, как это
обнаруживается в восклицании Дольмансе, которого пользует его
слуга Огюстен:
«Дольмансе: О черт возьми! Вот это палица! Мне
не доводилось испытывать ничего подобного... Эжени,
сколько дюймов осталось снаружи?
58
Э ж е н и: От силы два. 5|
Дольмансе: Значит, одиннадцать у меня в задни- 1
це!.. Какое блаженство!..»19 |
На более имплицитном уровне удовольствие, полу- у
чаемое от исчислений, является следствием той неве- |_
роятно абсурдной измерительной работы, благодаря ^
которой добываются эти точные цифровые данные |
(если только не предположить, что благодаря огромно- |
му опыту у либертена прекрасный глазомер). Если в ре- ,§*
алистическом тексте деталь служит системе денотации, |.
предназначенной скрывать порядок дискурса под по- §
рядком референции, то здесь действует совершенно
другая экономика: у Сада подробности, будучи
выражены в цифрах, создают правдоподобие лишь постольку,
поскольку насмехаются над ним и в конце концов
подрывают саму идею правдоподобия, служа тому, что с
ним несовместимо: непристойности.
Мы можем задаться вопросом, не находит ли этот
метод выбора и оценивания частей тела точного
соответствия в фетишизме? Садовское желание
избирательно и в своих предпочтениях не допускает исключений:
имеет значение не только размер пениса, но и форма
зада, белизна кожи, упругость груди и т. д. Вплоть до
того, что изображение персонажа часто
ограничивается изображением этих элементов или превознесением
одного из них. На первый взгляд это не что иное, как
фетишизм — и тем не менее нет ничего более
далекого от него, чем желание либертена, каким его
показывает Сад. Селективное вычленение фрагментов
желаемого тела, которое осуществляет глаз, отмечено вовсе
не фетишистской фиксацией внимания, а скорее
строгостью таксономии. Предпочесть какой-то элемент —
значит выбрать наилучший способ соединения двух тел,
рассматриваемых как механические устройства. Такой
элемент, всегда один и тот же, вписан в серию других
'411,455.
59
5 элементов, осуществляющих ту же функцию. Другими
5 словами, все эти части тела, выбранные в качестве при-
£ вилегированных объектов желания, образуют класс и
^ выделяются у всех персонажей, которые населяют по-
§ вествование. Они напоминают собой таблицу элемен-
| тов в химии желания, элементарные знаки его алгебры.
i Они с самого начала принадлежат порядку
символического. Именно по этой причине здесь не может стоять
вопрос о фетишизме, основная черта которого
состоит в фиксации на предмете сугубо индивидуального
пользования. Фетиш имеет ценность только для
субъекта, который его выбирает; он остается вне процесса
коммуникации и бесполезен для других.
Фетишистский объект (часть тела, деталь одежды)
абсолютизируется, на нем сосредотачиваются все энергии
влечения. Таким образом, фетишизм радикалиэует процесс
порождения метафор и метонимий, поскольку с
маниакальной настойчивостью часть здесь принимается
за целое, так что все либидинальные серии сводятся к
одному знаку и этот знак возводится в ранг
субститута (во фрейдовской терминологии Ersatz) самого
тела. Однако эта операция неприемлема для Сада,
поскольку для него тело определяется в качестве того,
что не подлежит замещению, не может быть ни
делегировано, ни репрезентировано. Скопическое
вычленение не изолирует эрзац, но усиливает след буквы
желания, утверждая материальность обозначаемого
органа.
Подсчет количества тел. Количество поистине
разжигает воображение либертена («Ничто не
возбуждает так, как большие числа»), и, вероятно, на это
имеется несколько причин. Количество означает роскошь,
изобилие, а следовательно, экономическое и
политическое могущество. Более того, оно есть гарант желания:
не только не должно быть ни малейшего недостатка в
объектах наслаждения, но даже после самых чрезмер-
60
ных трат (энергии, содомитов, девственниц, жертв) за- S|
пасы должны оставаться как будто нетронутыми. I
У нас еще будет возможность рассмотреть это требо- |
вание с экономической точки зрения, а пока просто у
приведем числовые данные: сколько, например, тел тре- |_
буется (или рекрутируется) для оргии, и отметим, что *
сами оргии, как правило, проходят в местах, где уже а
собрано большое количество людей (это монастырь в |
Пантемоне, кармелитский монастырь в Париже, мона- J*
стырь в Болонье), или в помещениях, где может на- |,
ходиться много людей, например, в замках, подвалы §
которых представляют собой настоящие хранилища
«объектов вожделения» (например, поместье Друзей
Преступления, замки Сен-Фона и Минского, папский
дворец или дворец, принадлежащий королю Неаполя и
т. д.). И здесь опять же перечень состоящих в наличии
тел подкрепляется точными цифрами:
— В замке Общества: «Членам Общества
предоставляются два сераля... Один состоит из трехсот
мальчиков от семи до двадцати пяти лет, другой из
аналогичного числа девочек от пяти до двадцати одного
года»20.
— Минский: «У меня есть два гарема: в первом
двести девочек от пяти до двадцати лет [...] во втором
двести женщин от двадцати до тридцати лет... Пятьдесят
слуг обоего пола надзирают за этим немалым числом
предметов вожделения; для их пополнения сто агентов
разослано по всем крупным городам мира»21.
— Бризатеста в Константинополе: «...Я познал более
трех тысяч людей обоего пола за тот год»22.
Количественные отношения не оставляют никакой
возможности для отношений любовных: мы
оказываемся здесь внутри порядка эаместимости, безразличия
20 VIII, 408.
21 VIII, 559.
22IX, 300.
61
g субъекта к другим и других по отношению к нему. Само
g собой разумеется, что ничего похожего на встречу не
5 может произойти в этом мире приятного и бесстрастно-
^ го подсчета.
X
о
| Подсчет актов. Если можно сосчитать тела, то мож-
^ но сосчитать и оргии, в которых они участвуют, или, по
крайней мере, учесть любовные акты, сведенные к
сексуальным отношениям. Здесь опять лирическое
отступает под натиском арифметики. Огромное наслаждение
не есть результат обольщения и согласия, которые
долго ожидались, подготавливались и в конце концов были
получены, это число раз, которое герой «кончил» в
данном месте и в данный промежуток времени.
Прямо в разгар оргии с Клервиль в кармелитском
монастыре Жюльетта предается подсчетам: «Каждая
команда из восьми человек выпустила два заряда, взяв
под прицел сначала одну из нас, потом другую и меняя
каждый раз позиции... Так, Клервиль овладели еще
десять раз обычным способом, пятнадцать раз в рот и
тридцать девять в зад; а мной — сорок шесть в зад, восемь
в рот плюс еще десять обычным способом; итого по
двести раз каждой»23. К этому Сад прибавляет следующее
бесценное замечание: «Таким образом, два этих
достойных создания получили удовлетворение как обычным
способом, так и в зад, не считая того наслаждения
(недостаточно сильного), которое они испытали через рот:
Клервиль сто восемьдесят пять раз, а Жюльетта сто
девяносто два. Мы сочли необходимым привести здесь
эти подсчеты, чтобы избавить дам от нужды прерывать
чтение и делать их самим, как в противном случае они
бы не преминули поступить»2,1. Подсчитывается даже
количество извергнутой спермы: «Сила этих мужчин, —
продолжал король [Неаполя], — по крайней мере не
23 VIII, 468.
и VIII, 468.
62
уступает великолепию их членов; каждый из них спо- ^
собен совершить пятнадцать или шестнадцать семяиз- 1
вержений, и каждый теряет не меньше десяти или две- |
надцати унций спермы за один раз: это истинный цвет у
моего королевства»25. §
Подведение итогов. Хорошо известно, что стремле- я
ние подводить итоги — это определяющая черта обсес- ^
сивных ритуалов, описываемых, как правило, под руб- J*
рикой аналъности. Это тем более справедливо, что |<
при такого рода подсчетах измеряется не столько то, §
что составляет предмет этих подсчетов, сколько
степень господства как такового. Если либертен
осуществляет такие скрупулезные, с точностью до единицы,
подсчеты, математические операции, то только потому,
что его наслаждение порождается самой этой
точностью (какой бы произвольной она ни была) и
высказыванием о ней, а не большим или меньшим
количеством самих действий. Он наслаждается не только
подсчетом тел и «количеством раз» прямо на месте, но
и продлевает свое наслаждение постфактум, подводя
итоги оргии. Этот итог по-настоящему венчает
наслаждение, делая его окончательным (подсчет закончен),
блистательным (результат огромен) и, главное,
контролируемым (счет известен):
— в монастыре Болоньи «через наши руки прошли
все послушницы, множество монахинь, пятьдесят
пансионерок, всего сто двадцать женщин»26;
— итог убийственной оргии во дворце короля
Неаполя: «всего мы израсходовали тысячу сто семьдесят
шесть жертв, что составило по сто семьдесят восемь на
каждого, и среди них шестьсот девочек и пятьсот
семьдесят шесть мальчиков»27.
25 IX, 402.
26 VIII, 550.
27IX, 412.
63
Среди множества итоговых подсчетов, которыми
изобилуют тексты Сада, вероятно, самый удивительный,
как по своей скрупулезности, так и по способу
выражения, заимствованного из бухгалтерских формуляров, —
тот, что включен в «120 дней Содома». Этот уникальный
в своем роде документ заслуживает того, чтобы мы
процитировали его полностью, но мы ограничимся только
его заключительной частью: «В этой таблице
приведены данные об использовании всех субъектов, общее
число которых составляло сорок шесть человек:
Господа 4
Старухи 4
Кухонная прислуга 6
Рассказчицы 4
Содомиты 8
Мальчики 8
Жены 4
Девочки 8
Итого: 46
Из коих тридцать были умерщвлены, а шестнадцать
вернулись в Париж.
Окончательный итог:
Зарезанных в оргиях до первого марта 10
Зарезанных после первого марта 20
Возвратились 16
Всего 46»28.
Комбинаторная редукция
Этот тип редукции представляет собой своего рода
сгущение предшествующих. Поскольку тело
расчленено, механизировано и просчитано, любовные
отношения оказываются лишь комбинациями и могут реали-
28 XIII, 429-431.
64
зовываться лишь через построение системы вариантов, ^
предназначенной установить максимально возможное S
число сочленений между имеющимися в наличии тела- §
ми. А поскольку наслаждение принадлежит к порядку у
количества, то именно комбинаторная операция пред- =[
ставляет собой наилучшее логическое решение в поис- ^
ке оптимальной эффективности имеющегося телесного |
механизма. ^
Любая комбинаторная операция (игра, например) J"
предполагает, по крайней мере, наличие двух условий — |.
элементов или единиц, которые образуют комбинации, §
и правил их комбинирования, благодаря чему
создается своего рода огороженное пространство, внутри
которого совершаются действия и где они засчитываются.
В садовских оргиях комбинируемыми элементами
являются тела и их органы, правилами — протоколы и
программы. Каковы же основные операции
комбинаторной редукции? Они могут быть сформулированы
следующим образом: планирование, исполнение,
варьирование и исчерпание.
Мы уже достаточно хорошо знакомы с первыми
двумя операциями, так что нам нет необходимости снова о
них говорить. Как же обстоит дело с двумя другими?
Варьирование. Обычно само изложение программы
указывает на последовательность вариантов, которые
надлежит осуществить различным телам. В ходе
выполнения программы, однако, механизм группового тела,
подобно настоящей кибернетической машине, может
изменить или обогатить ее, чтобы приспособить к
любому новому телу или фантазиям того или иного либер-
тена. На самом деле практически каждое выполнение
намеченного выходит за рамки первоначальной
программы, поскольку неограниченная способность к
наслаждению, которая присуща телу, может выражаться
в неограниченном прибавлении комбинаций: «И вот мы
втроем благодаря тысяче новых поз погрузились в безд-
3 Зак 3904
65
g ны сладострастия»29, «ситуация менялась семь раз, и
1 семь раз мое семя извергалось в их объятиях»30. Вся эта
[2 работа по созданию новых комбинаций ценна прежде
^ всего тем, что приносит ощутимую прибыль, в каче-
о стве которой выступает неожиданный результат: это
| нечто непредвиденное, никогда прежде не виданное
2i (наивысшая ценность для либертена) — что и
становится детонатором наслаждения, потому что не только
производит дифференцирующую черту, которая
символизирует и сгущает все различия, но и является
парадоксальным успехом, поскольку при помощи
комбинирования удается создать нечто из ряда вон выходящее:
«Это сладострастное представление состояло из трех
сцен: во-первых, пока я ртом старалась пробудить
глубоко уснувшую активность Мондора, шесть моих
товарок, попарно, должны были принимать самые
сладострастные сапфические позы под его взглядом; ни одна
из этих поз не должна была походить на другую, они все
должны были находиться в непрерывном движении.
Постепенно три пары смешались, и наши шесть девушек,
которые специально упражнялись несколько дней,
наконец составили самую оригинальную и самую смелую
картину, которую только можно было вообразить»31
(курсив мой. — М.Э.).
Этот способ использования техники варьирования,
которая позволяет добиться оригинальных фигур,
лежит в основе всей нарративной логики «120 дней». Как
известно, это повествование представляет собой
перечень шестисот различных «страстей», о которых
должно быть подробно рассказано — каждый месяц о ста
пятидесяти. Среди множества эпизодов, которые
излагают «рассказчицы», некоторые различаются только
незначительными чертами. Но этой небольшой черты
29 VIII, 20.
30 VIII, 36.
31 VIII, 158-159.
достаточно, чтобы создать разницу, чтобы обозначить ^
оригинальную «страсть». Малейшее отличие, если толь- I
ко оно создает новое качество, сообщает уникальность |
полученной фигуре, позволяет включить ее в подсчет и у
тем самым увеличить сумму. Отсюда следующий пара- |[
доке: количество имеет большое значение, но оно по- 3
рождается качеством. Желание либертена не может на- §
сытиться вариантами; оно уступает лишь под напором |
числа; но каждый вариант должен иметь хоть какую- ^
нибудь только ему присущую особенность. Этому двои- |,
ному требованию, которое кажется противоречивым и §
невыполнимым, чувственность либертена умудряется
удовлетворить благодаря своей способности ощущать
даже в самых незначительных отличиях значимую
разницу. Вступление к «120 дням» призывает читателя
именно к такому тонкому восприятию различий: «Что
же до многообразия, то оно, можешь быть уверен,
несомненно; изучи внимательно ту страсть, которая при
первом рассмотрении кажется тебе совершенно
похожей на другую, и ты увидишь, что различие
существует, и что каким бы незначительным оно тебе ни
показалось, оно обладает именно той утонченностью, именно
той мерой, которая отличает и характеризует тот род ли-
бертинажа, которым мы здесь занимаемся»32.
Другими словами, мы имеем здесь эротический
эквивалент лейбницевского принципа различия (или,
иначе говоря, принципа индивидуации): «Ибо если любая
часть материи не отличается от другой, равновеликой
ей и подобной [...] и если, далее, состояние мира в один
момент отличается от состояния его в другой момент
лишь перемещением равновеликих, подобных и во всем
сходных частей материи, то отсюда, очевидно,
вытекает, вследствие возможности взаимного замещения
неразличимых вещей, что состояния телесного мира
в различные моменты никоим образом не могут быть
12 XIII, 61.
67
отличены друг от друга»33. Именно поэтому и следует
предположить, что качественное различие лежит в
основе уникальности каждой субстанции, и признать, что
«решительно нигде не бывает полного сходства (это,
однако, из новых и важнейших моих положений)»34,
или же что «две субстанции не могут быть совершенно
сходны друг с другом и различаются только нумериче-
ски»35. Таким образом, качество есть внутренний
принцип изменения, но этого недостаточно: «Кроме начала
изменения необходимо должно существовать многораз-
личие того, что изменяется, которое производит, так
сказать, видовую определенность и разнообразие
простых субстанций»36.
Вопрос Сада носит, видимо, совсем другой характер,
но его логическое решение — того же порядка. Для Сада
«многоразличие того, что изменяется» и есть то, что
обеспечивает спецификацию каждой страсти (заменим
лейбницевское понятие субстанции словом страсть —
и у нас получится текст Сада В «Жюльетте» и «120 днях»,
откуда, из первого рассказа в замке Силлинг, взята
следующая цитата, постоянно акцентируется потребность
в этой дифференцирующей детали: «Дюкло, —
вмешался здесь президент, — разве мы не предупредили вас, что
ваши рассказы должны содержать самые
многочисленные и самые подробные детали? Что мы будем судить о
том, как страсть, о которой вы рассказываете, связана с
33 Лейбниц Г. В. О самой природе, или Природной силе и
деятельности творений / Пер. с франц. В. П.
Преображенского под ред. В. В. Соколова // Лейбниц Г. В. Сочинения:
В4т.Т.1. М., 1983. С. 302.
34 Там же. С. 303.
35 Лейбниц Г. В. Рассуждение о метафизике / Пер. с франц.
В. П. Преображенского под ред. В. В. Соколова //
Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. Т. I. M., 1983. С. 132.
36 Лейбниц Г. В. Монадология / Пер. с франц. Е. Н. Боброва
под ред. В. В. Соколова // Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т.
Т. I.M., 1983. С. 414.
68
нравами и человеческим характером, в зависимости от ^
того, насколько вам удастся не изменить ни одного об- I
стоятельства? И что мельчайшее обстоятельство спо- §
собно оказать огромное влияние на то чувственное воз- у
буждение, которое мы ожидаем от ваших рассказов»37 |^
(курсив мой. — М. Э.). По отношению к генезису того ^
дифференцирующего элемента, который создает раз- S
личие, Сад выступает как последовательный лейбни- §
цианец, пусть даже смещенным и перверсивным об- ^
разом, однако очевидно, что он принимает совершенно Е.
противоположную точку зрения на принцип, необхо- §
димый для развития комбинаторной операции,
принцип, который можно назвать принципом
максимального усложнения. Для Лейбница подлинным бытием
является «простое», монада, — вплоть до того, что
всякая сложность или множественность оказываются
только феноменальными или случайными и должны в
конечном счете сводиться к простому (см. «Монадологию»),
Для Сада же, напротив, именно сложное в большей
степени подходит мышлению либертена, и это связано с
тем, что «простое» соотносится у него с душой, а
«сложное» — с телом. В проблематике Лейбница тело,
строго говоря, не есть субстанция, поскольку оно
организовано по принципу механизма, того, за счет чего сложное
имитирует внутреннюю гармонию простых
субстанций. В то же время, как мы уже видели, механизм — это
именно тот модус существования, который
постулируется Садом для тела, но только с той разницей, что он
решительно отказывается придавать ему душу. Лейб-
ницевское «простое» делает душу сердцевиной
человеческой монады, что, с точки зрения Сада, тянет за собой
шлейф моральных понятий метафизики, таких как
чистота, добродетель, добро, справедливость, правда и т. д.
На другой стороне тогда окажутся безобразие, порок,
преступление, вероломство — короче говоря, ценности
"XIII, 79.
69
2 отверженного тела. Чем дальше мы удаляемся от прос-
| того и чем сложнее становятся вещи, чем глубже мы по-
g гружаемся в пространство монструозного и экстраор-
^ динарного, тем более невиданными и стимулирующими
§ становятся отклонения-отличия, которые при этом про-
| изводятся: «Вероятно, дисгармония в природе заклю-
^ чает в себе нечто такое, что воздействует на нервы с не
меньшей и даже большей силой, чем самая безупречная
красота [...] Впрочем, красота — это нечто простое и
обычное, тогда как безобразие — нечто экстраординарное,
поэтому неудивительно, что всякое пылкое воображение
для целей наслаждения предпочитает экстраординарное
простому»3*. Поэтому у Сада «многоразличие того, что
изменяется», не является, как у Лейбница,
спецификацией качества, находящегося в одном ряду с
«простым»; напротив, это постоянно усложняющееся
умножение комбинируемых элементов. В целом лейбницевское
«многоразличие» является продуктом метафорической
операции, потому что «каждая сотворенная монада
представляет весь универсум» и «сложное выражает себя
через простое»39: такова логоцентрическая система. У
Сада, напротив, детали принадлежат порядку метонимии,
поскольку обеспечивают своего рода усложнение,
возрастающее за счет накопления, порождая децентрирован-
ное и неупорядоченное движение. Качественная деталь
не выражает никакого сущностного единства, она лишь
увеличивает сумму, количество, она питает
комбинаторное действие и таким образом увеличивает шансы
желания (что надо понимать в статистическом смысле теории
игр). Наконец, можно указать третий принцип,
управляющий производством вариантов: мы можем назвать его
принципом порядка. Он формулируется в начале каждой
оргии: «Давайте внесем порядок в наши удовольствия».
Помимо содержащихся в этом требовании коннотаций
38 XIII, 41-42.
19 Лейбниц Г. В. Монадология. С. 424.
70
трансгрессии и нерентабельного обмена, уже
отмечавшихся Бартом40, в них можно обнаружить чисто
логическую необходимость, навязываемую комбинаторикой.
Без подчинения установленному порядку не было бы
никаких определенных фигур, а только одно
неорганизованное кишение, не было бы никакой поддающейся
определению новизны и было бы невозможно выявить
самое минимальное отличие. Поэтому принцип
порядка и обеспечивает «ту утонченность, ту меру», которые
присущи суждению либертена. Это необходимое
условие принципа различимости, производящего значимые
варианты. И более того, на этом порядке основана сама
нарративность, поскольку нарративность
функционирует как демонстрация перечня фигур: если оргия
представляет собой хаос, то все уже сказано первой оргией
и нарратив заканчивается вместе с ней. Порядок,
обеспечивая строгое, постепенное развертывание фигур и
эпизодов, позволяет при помощи мельчайшей детали
специфицировать вариант и легитимизировать
нарратив, который его представляет.
Насыщение (Исчерпание вариантов). Согласно
Давиду Гильберту, отличительной чертой всякого
комбинаторного действия является то, что оно приходит к
исчерпанию вариантов (такова аксиома). И именно к этому
со всей неизбежностью стремится садовская
комбинаторика: тело либертена, у которого отсутствует
лирическая глубина, не может предложить репрезентации
или повествованию ничего другого, кроме
разрозненных элементов, лишенных всякой внутренней связи.
На этом уровне абсолютная полнота достигается не
благодаря репрезентации бесконечного, но за счет
использования максимального количества
задействованных элементов. Насыщение является для тела
либертена тем, чем глубина является для тела лирического.
1,1 Baithes R. Sade, Fourier, Loyola. Paris, 1971.
71
2 Действие осуществляется на двух уровнях: на одном
S уровне речь идет о насыщении тела; на другом уровне —
,S об исчерпании предикатов действия тела.
^ Максимально насытить тело — это прежде всего на-
I питать все его эрогенные зоны: «не желая видеть неза-
| нятой ни одной части своего тела»41; «не оставалось ни-
2j чего, что не было бы мной испробовано, ни одна часть
моего тела не избежала осквернения»42; «когда мы
приходим за тем, чтобы нас ублажили, то хотим, чтобы ни
одна часть тела не осталась неиспользованной»''3.
Максимально насытить тело — значит связать его с
максимальным количеством других тел, то есть создать
групповое тело. Садовское удовольствие, поскольку
исчерпание вариантов является его главным
признаком, не может обойтись без группы; пара участников
представляет собой исключение; она появляется
только в совершенно особых ситуациях: при первой
встрече, заключении соглашения, посвящении в тайну, перед
началом пытки — то есть она появляется всякий раз,
когда уменьшение степени наслаждения может быть
компенсировано дискурсивным или воображаемым
удовольствием. Такая ситуация носит всегда
промежуточный характер; ситуация tete-a-tete — позор для
настоящего либертена, поскольку предполагает отношения,
присущие добродетельной любви.
На втором уровне исчерпание вариантов касается
предикатов телесного действия, и речь здесь идет о
чисто лингвистическом удовольствии, заключающемся
либо в накоплении различных предикатов,
относящихся к одному субъекту, либо в перемещении одного и
того же предиката между различными субъектами.
Накопление различных предикатов при одном и том
же субъекте есть удовольствие, получаемое от сгуще-
11 VIII, 139.
" VIII, 425.
11 VIII, 437.
72
<u
a:
ния или, как пишет Барт44, от омонимии: «Наконец-то §
я совершенно удовлетворен, — говорит либертен,
когда весь его сложный замысел был исполнен, — мной |
овладели сзади, я, в свою очередь, сзади овладел дев- У
ственницеи, и то же, по моему желанию, сделали с моей jj[
женой. Поистине, нет ничего такого, чего бы недостава- ^
ло моему удовольствию»45. «Меня осыпали прокляти- з
ями, я был виновен в отцеубийстве, инцесте, убийстве, %
содомии, сводничестве, проституировании! О Жюль- J"
етта, Жюльетта, никогда я не был так счастлив за всю 8.
мою жизнь» (подчеркнуто Садом)46. J
Это удовольствие, как уже говорилось, дополняется
удовольствием противоположного характера: речь идет
о перемещении одного и того же предиката между
различными субъектами. Так, в Силлинге четыре либер-
тена устраивают свадебные церемонии, женясь
поочередно на своих дочерях, прислужниках-содомитах и на
своих мальчиках, а затем заставляют их всех
пожениться между собой. Таким образом предикат «свадьба»
полностью утрачивает определенность, как это происходит
с предикатом «половая принадлежность» при другом
перемещении: «В тот вечер каждая четверка детей
получила признаки противоположного пола: все девочки
были одеты как матросы, все мальчики как гризетки. Это
произвело восхитительный эффект; ничто так не
подогревает желание, как эта небольшая, но возбуждающая
перемена: какое наслаждение обнаружить в мальчике то,
что делает его похожим на девочку, а девочка гораздо
и Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P. 160-161: «Сложение
удовольствий создает дополнительное удовольствие,
удовольствие сложения [...] Это высшее удовольствие предельно
формализовано, поскольку его происхождение чисто
математическое и является удовольствием языковым:
развертывание преступного акта в различные имена
существительные».
43 VIII, 138.
411 VIII, 245.
73
§ интереснее, когда ради нашего развлечения она наделя-
5 ется чертами пола, который мы хотим в ней увидеть»'17.
g Эту методичную технику перемещений лучше всего
^ демонстрируют те свадьбы, которые после своего вос-
о соединения с Жюльеттой планирует сыграть Нуарсей:
| «Это самая необыкновенная фантазия, которая не по-
^ кидает меня уже долгое время, Жюльетта... Я хочу
жениться, дважды жениться в один и тот же день: в десять
часов утра я, одетый женщиной, хочу вступить в брак с
мужчиной, в полдень, в мужской одежде, я хочу взять
в жены мальчика, одетого в женское платье. И еще... я
хочу, чтобы женщина сделала то же самое, а какая
женщина, кроме тебя, может участвовать в этой фантазии?
Ты, одетая мужчиной, должна вступить в брак с
девушкой на той самой церемонии, на которой я, переодетый
женщиной, стану супругой мужчины; затем, ты, в
мужской одежде, должна вступить в брак с другой девушкой
в одежде мужчины в тот самый момент, когда я в своем
обычном наряде сочетаюсь браком с мальчиком,
переодетым девушкой»4". Нуарсей, признавая, что он лишь
подражает выдумкам Нерона, говорит, что добавляет
к ним два новшества собственного изобретения: это,
прежде всего, двойное вступление в брак в один и тот
же день и желание видеть, как ему подражает
Жюльетта, но в особенности оригинален его выбор женихов и
невест: его женихами будут двое его сыновей, а
невестами Жюльетты будут ее дочь и воспитанница.
Все построено так, чтобы ни одно перемещение не
оказалось бы соответствующим какой бы то ни было
норме:
— Все союзы гомосексуальны, гетеросексуальные
союзы не предлагаются даже под покровом травестии.
Нуарсей вступает в брак только с мужчинами,
Жюльетта только с женщинами.
47 XIII, 138.
"IX, 569.
74
— Все союзы также являются инцестуозными, по- ^
скольку эти браки соединяют отца с сыном и мать с до- |
черью (воспитанница Жюльетты совершенно очевидно |
имеет статус ее дочери). В результате, когда Нуарсей и у
Жюльетта возвращают себе свой «нормальный» пол во |_
время второй свадебной церемонии, эта нормальность ^
улетучивается за счет союза с супругом, переодетым в |
платье противоположного пола. Неотразимый эффект |
этой системы субституций заключается в неизбежном J"
хиазме всех связей, когда автоматически они оказыва- g.
ются полностью разлаженными. §
— Насыщение означает осуществление не всего
множества логически возможных связей, но только тех из
них, которые принадлежат логике трансгрессии и
посягают на институализованные законы обмена. Так,
Жюльетта и Нуарсей не должны вступать в брак друг с
другом, даже переодевшись, поскольку такая связь
будет все еще соответствовать гетеросексуальной норме.
Пределы насыщения как исчерпания вариантов,
следовательно, определяются необходимостью оставаться в
пространстве перверсии. Иными словами, необходимо
достичь полного насыщения перверсии.
Свадьбы Нуарсея доводят «комбинаторную
редукцию» до своего рода логического совершенства.
Несмотря на очарование игры, мы должны понимать, какова ее
ставка: речь идет о силе критического импульса (нечто
подобное мы найдем только у Фурье); помещая каждую
«страсть» — перверсию, порок, фантазию — внутрь
перечня, утверждая их все как легитимные и
осуществимые, Сад устраняет парадигматическую границу, а
вместе с ней и разделение ценностей, размещающихся но
обе стороны бинарного противопоставления
(нормальное/патологическое, добродетель/порок, позитивное/
негативное...). Комбинаторика устраняет эту границу и
своими модуляциями и метонимическими движениями
бесконечно расширяет поле возможностей. Если, как и
любая другая система, эта операция имеет свои фор-
75
3 мальные пределы, то они принадлежат не порядку За-
I кона (как принудительно установленные ограничения),
[2 а порядку насыщения, то есть порядку языка и наслаж-
^ дения: конец наступает тогда, когда «все сказано» и ког-
I да наслаждение испытано вполне.
| В этом пространстве, где отсутствуют норма и иерар-
Ji хия, мы уже не имеем дело с перверсией в строгом
смысле, поскольку это понятие неизбежно подразумевает
раскол на нормальное и патологическое. Сад решительно не
согласен с тем, что желание необходимо обуздывать: все
его формы, даже самые экстравагантные, легитимны и
осуществимы. (Разумеется, это сразу же подрывает
основы всякого психоаналитического лечения,
представляющего собой, даже в своих самых либеральных формах,
жесткую ортопедию. Как бы далеко
психоаналитическое лечение ни отодвигало границу нормальности, оно
обязано сохранять ее, если дорожит легитимностью
собственных оснований. Как известно, невозможно быть
последовательным психоаналитиком и «выносить»
Сада — так же, как, впрочем, и Фурье.)
Но самая скрытая хитрость обращения к механике и
комбинаторике состоит в том, что, в сущности, не
отвергаются и те практики, которые считаются
нормальными. Отвергнуть их значило бы наложить на них запрет,
то есть попросту перевернуть оппозицию, поменять
местами негативное и позитивное. Придать социально
допустимой практике или страсти статус одного из
элементов — значит довести иронию до такой точки, где
нормальность становится особым видом перверсии.
Таким образом, удается избежать опасности нового
раскола на оппозиции, и поскольку референтных норм
уже не существует, то в качестве исходного момента
утверждается отклонение от нормы, отличие.
Исходного, но не изначального, а это значит, что, поскольку
отличия устанавливаются только по отношению друг к
другу, а не по отношению к какому бы то ни было
центру, попасть внутрь этой системы можно совершенно
76
беспрепятственно, все начала возможны, все элемен- 3
ты равны между собой. Эта начальная множествен- I
ность равнозначна крушению закона. Садовская ком- |
бинаторика по-своему свидетельствует о конце эпохи ij
бинарности. |
I
3
НЕГОДНЫЙ СУБЪЕКТ 1
Безразличие психоаналитиков к текстам Сада или раз- §.
дражение, которое он вызывает у них (ощутимое даже §
у Лакана в его ■♦Канте с Садом»), скорее всего,
объясняется тем, что его тексты подразумевают отсутствие
того, в чем главным образом нуждается и чем
интересуется психоаналитик: отсутствие субъекта. Сада
подозревают в том, что он избавился от него как-то слишком
быстро. В книгах Сада даже не успевает произойти
расщепление субъекта: с уничтожением гипотезы
субъективности он уже заранее оказывается устранен, с
самого начала изгнан при помощи операции, которая сводит
индивида к статусу механизма, машины,
предназначенной думать и наслаждаться («голова и яйца», как прямо
говорит Сад), голова, которая ни в коей мере не
является замещением cogito, но выступает просто в качестве
инструмента, выполняющего внутри всего механизма
двойную функцию — говорить и воображать — и
позволяющего таким образом усиливать, утончать и
умножать воздействия на нервную систему.
Это отсутствие субъекта озадачивает: ведь текст
Сада представляет собой инсценировку наслаждения, а
значит, его конфликтных отношений с законом. Для нас
именно субъект является средоточием, где
формируется противоречие между желанием, с одной стороны, и
социально-исторической означивающей активностью, с
другой. Именно субъект вписывает гетерогенность
влечения в процесс объективации, и влечение всегда
обнаруживает себя как напоминание об этом процессе, как
77
§ его неразложимый осадок. Оно всегда есть то, что
OTIS сутствует в продукте означивающих практик, и вместе
3 с тем то, чье настойчивое отсутствие запускает сам про-
^ цесс означивания.
о Ощутив это противоречие, Сад как будто избегает и
| разрешает его, упраздняя один из его полюсов. Он про-
^ пускает влечение через символическое — разумеется,
при условии, что само это символическое перверсивно,
что оно потрясено до основания изобретением инсти-
туалиэованной перверсии, созданием контробщества, у
которого нет других законов, кроме законов желания
либертена. И если это желание требует
ниспровержения целых стран, всего мира и далее вплоть до самой
природы, то происходит это из-за того, что
гетерогенность может появиться только извне, может быть
порождена только как движение объективности; она не
есть знак противоречия, отмечающий неуказуемое
место субъекта, она — программа разрушения, призванная
осуществиться в том внешнем пространстве, которое
должно быть приведено в соответствие с желанием.
Поэтому безумие влечений должно всегда
проявляться в виде социальной системы, институализо-
ванного кода, и во время самых расточительных
эротических и преступных оргий именно этому служат
изложение программ и объявление правил, как если бы
их функция состояла в том, чтобы предотвратить
соскальзывание в неконтролируемое безумие. Внутри
того пространства, над которым он господствует, ли-
бертену неведом конфликт между желанием и законом.
Но именно поэтому он и должен выступать
исключительно в качестве Господина: гетерогенность может
осуществляться только как его повеление. Но ценой
нового противоречия — между либертеном и жертвой.
Единственная возможность избежать первого
противоречия — это впасть во второе. Трансгрессия либертена,
как только она начинает стремиться к институализа-
ции, воспроизводит, пусть и в смещенном виде, логику
78
властных отношений (иерархии, подавления, эксплуа- ^
тации). И если попытка Сада кажется нам чудовищной i
и неприемлемой, то причина этого состоит в том, что со |
времен Сада мы открыли более гибкие, чтобы не ска- у
зать — более изощренные, способы участия гетероген- =[
ности в наших кодах; мы можем помыслить сочетание ^
нас самих и другого внутри единого поля субъекта; мы ^
можем выдержать вмешательство внешнего простран- ^
ства во внутреннее, не подвергаясь риску немедленно J>"
ощутить его как знак безумия (то есть приняв его за §.
проявление не поддающегося сообщению, строго инди- §
видуального кода).
Для Сада все это было не так просто, он мог
действовать только в теоретическом поле классического
субъекта: субъекта cogito и субъекта права; его
рациональная непротиворечивость, его понимание себя как
духовной субстанции находились в прямом
соответствии с его юридическим и социальным статусом и
определяли порог нормальности, за пределами которой
были возможны только животное состояние или
безумие. Это деление было абсолютным, граница
непроходимой, и именно с этим «или ... или» и должен был
иметь дело Сад. Он мог либо оставаться в поле
классического субъекта, наследником которого он и был,
подобно всем своим современникам, а значит, терпеливо
сносить все последствия, моральные и теологические
(бессмертие души, добродетель, добрые чувства,
отречение от тела, подчинение законам общества и т. д.).
Либо он мог бескомпромиссно и одним махом
разделаться со всем этим и противопоставить этому
субъекту первичность материи, самодостаточность тела, его
наслаждение, его бунт: тело-машину, тело без души,
которое счастливо быть таковым. Субъективность была
раздавлена, уничтожена этой анатомической и
психологической наготой тела; наслаждение обернулось
одним только органическим возбуждением,
компенсируя многократностью повторений устраненную эмо-
79
g циональную глубину. Рискованная игра, равнозначная
1 прыжку за пределы теоретического и социального про-
.2 странства разума. И Сад, не высказывая этого прямо,
^ хорошо понимал, какова здесь ставка: либо его жест
о будет расценен как безумие, либо он сможет отыграть-
| ся, воспроизведя на этой запретной территории логику
" «нормальности», только вывернутую наизнанку; его
дискурс, нисколько не потеряв в ригористичности,
выиграет от того, что будет превозносить то, что другие
дискурсы стараются не замечать. Теперь очевидно, что
ради того, чтобы гетерогенность, — немыслимая
внутри строя субъекта, — стала распознаваемой,
артикулируемой в теоретическом пространстве классического
разума, пришлось пойти на изобретение чудовищного
контробщества (но все же общества, то есть допустить
существование порядка, кода, закона).
Неосязаемый, прочно стоящий на своих позициях
субъект cogito не оставлял никакой возможности
поколебать его основания или пробить брешь в его
укреплениях. Единственно возможная стратегия состояла в том,
чтобы обойти его, оставить позади себя. И таким
образом — за его пределами и как его «изнанку» —
реализовать именно то, отказ от чего определяет и
гарантирует позицию этого субъекта. Поэтому контробщество
населено негодными субъектами, антисубъектами —
наслаждающимися и страдающими телами, которым
больше неведомо существование души и ее состояний.
Эти тела-машины отвергают и игнорируют любой
человеческий закон, отстаивая животную реальность и
требуя невинности, жестокости и безответственности
чистой природы как предельного обозначения устранения
субъективности.
Мы можем сказать, что радикальная природа садов-
ского выбора (тело-машина, устранение субъекта) была
навязана ему теми ограничениями, которые коне
'татуировали классическое теоретическое поле.
Ограничениями, которые имели характер вызова, если не шантажа
80
(или/или). Сад принял вызов и попытался осущест- ^
вить невозможное — помыслить «изнаночную» сторо- s
ну, используя категории «лицевой» стороны. Именно |
отсюда в его текстах возникает очевидная дихотомия, у
новый дуализм, который мог бы причинять те же не- |^
удобства, что и прежний, если бы не тот явственный ^
разрыв, который позволяет нам увидеть его принципи- |
альное отличие от хитроумных компромиссов предше- ^
ственников (Дидро и Гольбаха, не говоря уже о Воль- J"
тере), которые постоянно лавировали между деизмом и §,
атеизмом, апологией буржуазных добродетелей и ра- §
зоблачением христианской морали.
В садовское повествование это движение переходит
в виде изображения каждой из двух сторон этого
противоречия: Жюстина/Жюльетта.
— Жюстина, или отстаивание права оставаться
добродетельным, виновным, покорным теологическим
субъектом.
— Жюльетта, или утверждение свободы тела, его
наслаждения, его животного эгоизма, его бунта.
Нам следовало бы писать эти два имени как одно —
Жю(стина/льетта), вписывая противоречие прямо в
ономастическое означающее и признавая его
дихотомическое, а тем самым недиалектическое разрешение.
Соединив два этих имени, мы получим одного
«подходящего» субъекта (что-то вроде Жюльенны?)'19, в
котором соединятся порок и добродетель, жестокость и
нежность, цинизм и раскаяние — но это опять вернет
нас к безумной карусели, где бесконечно сменяют друг
друга перверсивная виновность и бесстыдная
добродетель. Это будет означать возврат к классическому
1!) Эта самая Жюльенна уже какое-то время существовала в
моем тексте, когда я с радостью узнал о появлении у нее
сестры-близняшки — «Жюлпны», о чьих приключениях
поведала нам Ноель Шатле в журнале «Obliques». См.:
ChateletN. // Obliques. 1977. № 12/13 (специальный номер,
посвященный Саду).
81
з противоречию, которое и составляет красоту трагедии.
1 Мы будем иметь перед собой душу, раздираемую стра-
|2 стями, и расщепленную субъективность. Короче гово-
^ ря, получится смесь греческого с христианским. Эту зо-
* лотую жилу вскоре начнут разрабатывать старатели от
| романтизма.
^ А пока это время не наступило, Сад по крайней мере
дал ясно понять, что стоит на кону, и если его дихото-
мизм нас смущает, то прежде всего потому, что он так
бесцеремонно обращается с хорошо знакомыми нам
понятиями, вокруг которых кристаллизуют себя наши
телесные фантазмы.
Более того, это «классическое противоречие», о
котором только что шла речь, имеет отношение и к
неврозу, который Фрейд четко определял как то, что
помещает желание между двумя несовместимыми объектами,
один из которых неизбежно аннулирует другой; таким
образом, чтобы обладать тем и другим, прибегают к
отрицанию: вкладывают «да» в «нет» и «нет» в «да». От
этого либертен избавлен с самого начала, поскольку его
выбор сразу фиксирован и определен. Его цель и
программа — «сказать все», и то же самое аналитик
требует от пациента на психоаналитическом сеансе (Фрейд:
Alles sageri). Но что пациент невнятно бормочет,
либертен без колебаний и в полном объеме вводит в дискурс.
Оказывается, у плохого, негодного субъекта легкое
бессознательное. Ибо если бессознательное, как
утверждает Фрейд, формируется под действием
«первоначального вытеснения», в результате которого в психике
образуется зияние {Spaltung), соответствующее зоне
субъективности и обусловливающее замедленное
порождение речи через блуждание путями
символического, по лабиринтам воображаемого, то
применительно к либертену следует говорить о «первоначальном
раскрепощении», которое сразу же открывает
возможность говорить в неистовом стремлении сказать все —
стремлении, которое по жестокости сравнимо с непри-
82
стоиным и его парадоксальным законом: это рискован- ^
ная игра в развертывание запретного через сеть дис- б
курса. Анализ, с одной стороны, бесконечный, но, с дру- |
гой стороны, немедленно заканчивающийся. Если для у
либертена исходный пункт — символическое господ- |^
ство, то для пациента — это результат долгого поиска, <
кропотливого и болезненного распутывания перепу- |
тавшихся и завязавшихся узлом нитей его желания. |
Иными словами, Сад полагает проблему решенной (и ^
ничто не препятствует этому в области литературного 8.
вымысла) при одном простом условии: необходимо из- §
бавиться от воображаемого и аннулировать время (или,
по крайней мере, замкнуть его). Там, где
заканчивается история невротика, начинается деятельность
плохого, негодного субъекта. Избавленный от
пресмыкательства перед историей, он рожден с дискурсом и
внутри него. У него нет ни памяти, ни прошлого (у са-
довского персонажа не бывает детства). Для него все
происходит тотчас же и очень быстро: он рожден
взрослым, без предрассудков, без вины, без эдипова
комплекса и без сверх-я. Нам, с нашими ожиданиями
исторической и психологической глубины, он кажется
плоским, одномерным. Но, по крайне мере, он ставит
нас перед вопросом, из каких посылок исходит наше
желание глубины? Каким образом глубина
конституировалась в позитивную ценность? Кто это сделал?
Для кого?
ТЕЛО НИЧЕГО-НЕ-ГОВОРЯЩЕЕ
Не -значимость
Если, как мы предположили ранее, действительно
существует внутренняя связь между текстовым способом
существования тела и соответствующей нарративной
системой, которая его порождает, то можно предполо-
83
3 жить, что тело, соответствующее романному повество-
1 ванию (а оно представляет собой лишь один из возмож-
3 ных нарративных типов), это тело — передатчик знаков,
^ тело экспрессивное. До предела насытив знаками тела
о персонажей, а также тела предметов и мест действия, пи-
| сатель традиционно с помощью этих знаков создает сеть
" подсказок, из которых вырастает загадка, куда, как в
ловушку, заманивается желание читателя: желание
читать соединяется теперь с желанием узнать — к
удовольствию от приближения к разрешению загадки
примешивается тревога.
Поэтому важно, с одной стороны, расположить знаки
по местам, а с другой — перемешать их, сделать
двусмысленными и неопределенными, либо путем их
умножения, либо путем сверхдетерминации, и тогда
приключения персонажа оказываются обречены на то, чтобы стать
упражнением в интерпретации. Романное
повествование прежде всего порождает герменевтику, и степень ее
сложности определяет то, насколько притягательна
будет загадка. Избыток знаков является как приманкой,
так и ключом. Эта амбивалентность определяет как
неведение персонажей, так и неведение читателя (и в
тексте неведение персонажей представляет неведение
читателя, подобно тому как писатель занимает место
Господина, который решает, что значимо, а что нет).
Но нас здесь интересует прежде всего то, что тело в
повествовании является преимущественно средством
передачи знаков-подсказок. Тело сигнализирующее,
передающее, обменивающее, катализирующее смыслы, —
это постоянный и неустранимый транслятор диегезиса,
поскольку именно тело организует романное
пространство, саму возможность его существования. Сеть
телесных знаков, создающих повествовательные подсказки,
такие как, например, выражения лица (равнодушие,
удивление, радость, смущение, разочарование,
подозрение, соучастие) или жесты, выражающие нервозность,
властность, бессилие, определяет порядок действий
84
или приоткрывает какой-то аспект загадки, иначе гово- J{
ря, определяет ситуацию, отношения между персонажа- I
ми и их реакции, подтверждает или аннулирует другие |
знаки, слова и т. д. у
Всякое романное письмо основывается на том, что |^
из тел, о которых сообщает повествование, оно создает ^
язык сигналов и производит упорядоченные трансфер- |
мации в этом механизме знаков. Делая ставку на бес- |
страстное, незначащее тело, Сад разом избавляется от <§"
всей системы герменевтического нарратива; он перекры- §.
вает его источник. Тело, которое представлено с само- §
го начала (при первом описании персонажа) как схема
общих черт, предназначенных лишь для того, чтобы
классифицировать его в соответствии с какой-либо
известной морфологической и социальной категорией,
перестает быть транслятором знаков. В соответствии со
своей классификацией, оно действует (или над ним
совершают действия) и говорит (или его заставляют
говорить), но оно ничего не выражает. Мы сразу же узнаем
о нем все. (И если повествователь действительно
занимает место Господина, то, значит, Сад приглашает
читателя разделить с ним это Господство).
Нарратив определяется программой. Создание
программы — действие, противоположное интерпретации.
Создавать программу — значит определять диегезис с
помощью плана, в котором уже распределены все роли.
Неожиданностям нет места: есть либо жертвы, либо их
палачи, либо добродетельные, либо либертены. На
долю жертв и благочестивых выпадают злоключения
добродетели, мучителям и либертенам же удается
блаженствовать в пороке.
Все карты открыты: результат известен заранее, он
установлен с самого начала, до всякого развития
событий. Значение имеет не открытие нового, а
возобновление исходного, его бесконечное повторение. Если быть
либертеном — значит всегда все знать заранее, то
рассказывать — значит производить описание известного
85
S мира, удостоверять, что он действительно таков, каким
Б он был определен. Движущая сила нарратива, таким об-
5 разом, заключена не в амбивалентности знаков, вы деля-
j емых телом и составляющих загадку, а в необходимости
о привести тело в соприкосновение с материками, обще-
| ствами, местами, где разворачиваются события, чтобы
^ увидеть подтверждение тезиса, высказанного вначале.
Функция повествования состоит в том, чтобы подробно
обосновать этот тезис и снабдить его печатью и
структурой буквы, чтобы в конце концов через это испытание
реальностью подтвердить истинность знания, которое
высказывается в данном тезисе.
Интерпретировать, напротив, значит уже быть
жертвой: это не только доказательство того, что кто-то не
обладает знанием и находится вне игры, это неизбежно
означает ошибочное восприятие знаков, непонимание
их функции приманки, неведение того, что они по
определению условны и лицемерны. Знаки существует
лишь затем, чтобы пренебрегать ими; они пусты. Их
функция состоит исключительно в компенсации: они
здесь лишь для того, чтобы «заменять» мораль,
порядок, ценности50. Таким образом знаки отделяют
простецов, которые верят в них и подчиняются им, от
искушенных, которые используют знаки и насмехаются
над ними. И Жюстина, образец наивности, все время
попадает в ловушку: на лицах, на телах она читает
добро, жалость, честность или признательность, чтобы в
конце концов обнаружить, что они ничего не значили,
что на самом деле они скрывали прямо
противоположное: жестокость, либертинаж, обман, эгоизм. Воистину
знаки-перевертыши.
•'" Возможно, это и было одной из причин охлаждения
специалистов по грамматике и лингвистов XVIII века к кон-
венционалистской теории знаков. Поиски более надежных
оснований велись в русле теории мимесиса; отсюда
возвращение к кратилиэму, проанализированное Жераром Же-
неттом (Genette G. Mimologiques. Paris, 1976).
86
Таким образом, мы опознаем в качестве жертвы преж- ^
де всего того, кто ловушку конвенций принимает за i
язык истины, играя в герменевтику и читая на телах |
знаки души и ее ценностей, тогда как на самом деле су- у
шествуют только «знаки-накладки», скрывающие тело §
и его логику. Функция этих «знаков» (в отличие от ^
функции всякого «настоящего» знака) является не эк- я
спрессивной, а чисто стратегической: они образуют ^
покров видимостей, расположенных pro forma, смехо- ^
творную дань, воздаваемую Институции, они не созда- |.
ют кажимости, транслирующей реальность, посколь- §
ку структура этих «знаков» не отсылает к референту,
но производит дизъюнкцию (наивные vs искушенные,
благочестивые vs либертены). Это не просто
переворачивание значения, это его повреждение, его
дезинтеграция.
Понимая, что небеса становятся пустыми, когда
пустеют знаки, Жюстина держится за знаки, чтобы не
потерять небеса. И чем больше пустота вокруг нее, тем
очевиднее, что эта пустота ничего не значит, и тем
отчаянней она направляет свою волю на то, чтобы
требовать объяснений, используя их, чтобы наполнить
ими призрачные знаки и остановить исчезновение
смысла, ничего не желая знать о явной
бессмысленности и пытаясь любой ценой сохранить неведение о тех
постоянных опровержениях, с которыми она все время
сталкивается. Это полезное неведение поддерживает
ее невротичное упорство и дает ей возможность
получить удовольствие от отрицания. (И именно благодаря
этому противоречивому по своей природе
удовольствию, столь близкому тому, которое обычно
испытываем мы сами, то упорство, с которым Жюстина дает себя
обмануть, испытывая при этом наслаждение, кажется
скорее патетическим, чем достойным жалости, скорее
волнующим, чем заслуживающим презрения, тем более
что оно невозмутимо сохраняется во всей своей
убийственной логике.)
87
Жюльетта, напротив, любую ситуацию прочитывает
совершенно правильно. Она понимает тела буквально,
через букву их желания и их функций. Она сразу
классифицирует и расставляет тела, организуя действие —
оргию — на основании качеств выбранных и
инвентаризованных тел. Она извлекает из них все, что только
можно извлечь из их физической природы: не
экспрессию или чувства, но ласки, семя, вздохи, выделения,
крики — иными словами, наслаждение. Успешное
функционирование механики тел напрямую зависит от
уничтожения игры знаков и принципа субъективности,
который они подразумевают.
Нарративная инстанция романа, столкнувшись с
этим лишенным аффектов и ничего не означающим
телом, утратив возможность рассчитывать на то, что
оно будет передавать подсказки и выражения, и
лишившись таким образом этого челнока, ткущего ткань
текста, обречена на деформации и в высшей степени
неортодоксальные преобразования, вынуждающие ее
создавать повествование при помощи моделей,
которые не являются собственно романными: таких как
басня, сказка, миф, эпос. Отсюда, конечно, и возникает
тот дискомфорт чтения, который отмечали
многочисленные комментаторы садовского романа, тот
раздражающий гибрид, в котором от романа сохраняются
только общие схемы, заполняемые такими нарратива-
ми, которые не имеют ничего общего с тем, что мы
привыкли называть романом. В них полностью
отсутствует психологическое измерение (и теперь мы знаем
почему), относительно качества, сложности и
«тонкости» которого и выносятся обычно приговоры
страшного суда литературы. Нетрудно догадаться, насколько
болезненно воспринимался этот недостаток
традиционным читателем, принуждаемым к отказу от того, что
он привык получать от чтения: воображаемой
идентификации с персонажами.
88
Нагота %
5
Возможно, раздевание тел во время оргии и есть то дей- |
ствие, которое, на нарративном уровне означаемого, 3
полнее всего выражает работу текста по дискредитации а
порядка знаков. Так, Жюльетта, после того как она прохо- 3,
дит посвящение в либертинаж в монастыре Пантемона, з
приветствуется следующими словами абатиссы-либер- jj
тенки мадам Дельбен: «Вы краснеете, мой ангелочек, я JJ"
вам это запрещаю; стыдливость — это химера, она навя- §.
зывается правилами приличия и воспитанием, тем, что ^
называют обычаем; природа создала мужчину и жен- ^
щину нагими, она не могла при этом внушить им от- ""
вращение или стыд к тому, чтобы показываться в таком
виде. Но мы еще поболтаем обо всем этом. На этот раз
поговорим о другом и извольте раздеться, чтобы
присоединиться к нам»51 (курсив мой. — М. Э.).
Теоретическое разделение производится с самого
начала. С одной стороны, экспрессивный порядок
знаков («Вы краснеете...»), отождествляемый с
христианским моральным порядком (добродетель стыдливости),
с другой стороны, незначимый режим тела (нагота),
который выдается за истину природы. (Для Сада, как мы
видели, понятие природы всегда имеет стратегическую
и полемическую, а не метафизическую функцию: это
неопровержимый аргумент, заставляющий противника
беспомощно умолкнуть; поэтому среди тех понятий,
которыми располагала эпоха, это был наилучший
инструмент для того, чтобы вскрывать «предрассудки».)
Помимо этого следует заметить, что раздевание
должно быть немедленным и при прямом обращении на это
указывает использование повелительного наклонения
(«Извольте раздеться!»), а в повествовании от третьего
лица всегда появляется упоминание об отданном
приказе. Примеров тому множество. Так, это происходит в
51 VIII, 16-17.
89
подземельях монастыря Пантемон, где Жюльетта
сталкивается с двумя священниками: «...Дельбен тут же
приказывает Вольмару меня раздеть*5,2 (курсив мой. —
М. Э.). В правилах Общества Друзей Преступления
состояние наготы даже оговаривается отдельным
пунктом: «12. В часы, отданные совместному наслаждению,
все братья и все сестры будут являться нагими, они
будут соединяться и наслаждаться друг другом без
предпочтений и различий, и никто не сможет отказать
другому в доставлении удовольствия»53 (курсив мой. — М. Э.).
А вот как приветствуют Жюльетту на празднестве по
случаю ее принятия в Общество: «Президентша велела
мне подняться на возвышение напротив нее, туда, где
балюстрада отделяла меня от всего многочисленного
собрания, и приказала меня раздеть: двое слуг
подошли и менее чем за три минуты освободили меня
от всей одежды»54. Во время своего путешествия по
Италии Жюльетта все время слышит приказ раздеться
(Минский, Апеннинский великан, требует от нее:
«Разденьтесь донага!»). Пока не останавливаясь на этом
подробно, отметим, что первое значение
повелительного наклонения или указания на отданный приказ
состоит в том, чтобы вписать желание в отношения
господства. Приказ категоричен даже в том случае, когда тела
дают свое согласие, словно его предназначение
состоит в том, чтобы любой ценой предотвратить ту
извечную опасность, которая угрожает желанию либертена —
получить отказ другого или испытать чувство
неуверенности, возникающее в момент ожидания ответа, а
следовательно, необходимость ухаживания, ожидания,
уловок, которые могут в итоге закончиться полной
неудачей. Повелительное наклонение свидетельствует
здесь о том, что желаемое тело обязательно оказывает-
52 VIII, 64.
51 VIII, 403.
51 VIII. 411.
90
ся доступным, оно должно все время оставаться тако- ^
вым и у него не остается больше защиты, никакой воз- i
можности укрыться: тело нищее в своей наготе. §
Тело, раздетое донага, являет собой только то, что у
оно открывает взгляду и ради чего оно было обнаже- |^
но: систему функций, присущих определенному полу, ^
имеющихся в наличии для наслаждения. Лишение тела |
одежды означает: «Ты здесь только для моего наслажде- |
ния, и только для этого ты существуешь». Об этом сви- J"
детельствуют описания, которые обычно следуют за раз- 8,
деванием: взгляд немедленно устремляется к тому, что I
представляет для него сексуальный интерес и что будет
функционально использовано. Взгляд либертена с
мастерством и проворством мясника отделяет «хорошие
куски» и не обращает внимание на «требуху», так что
остается только своего рода тело-остов (напоминающее
изуродованные временем античные статуи): голова,
грудь, зад, половые органы; ничего не говорится об
опорно-двигательных частях тела, руках, плечах, ногах,
ступнях и т. д. Действительно, чтобы вложить в них желание,
нужно быть законченным фетишистом (а как мы
видели, либертен не интересуется эрзацем, поскольку имеет
беспрепятственный доступ к «самой вещи»). Вот
типичный портрет: «Невозможно найти столь же
совершенную красоту: высокая грудь, восхитительные
формы, ослепительная кожа, упругое тело, грация и
мягкость членов, небесная красота лица»55. Или другой
пример: «Никогда я не видел таких чудесных форм,
тела столь сладостного и подробностей столь
притягательных, такого прелестного узкого лона, такого
округлого зада, такой нежной и прекрасной груди, и я
совершенно хладнокровно могу вас заверить в том, что Аглая
была самым божественным созданием из всех, с
которыми я когда-либо имел дело»56.
55 VIII, 462.
5С IX, 56-57.
91
§ Отметим конструкции, с помощью которых указы-
5 вается высшая степень качества («никогда я не видел
[2 [...] такого сладостного тела, такого узкого лона»), а так-
^ же самый абстрактный характер описаний («чудесные
I формы», «фация и мягкость»), среди которых выделя-
| ются единственные названные части тела — те, которые
Ji очевидно сексуальны («кожа», «грудь», «лоно», «зад»).
Так вписывается в текст желаемое и доступное тело.
Более того, в немедленном раздевании происходит
падение другой важной составляющей экономики
традиционного нарратива, а именно такого нарративного
мотива, который ценится выше всех прочих: секс как
загадка. Секс как цель поиска, цель непристойная,
может указываться только косвенно. Поскольку эта цель
запретна, поскольку путь к ней лежит через
препятствия, нарратив превращается в долгое движение по
обходному пути, используя разнообразные уловки, игру
в лабиринт, изощренную работу мысли и дешифровку.
И когда в конце концов сексуальное наслаждение
достигается (как, впрочем, и в случае неудачи), то чаще
всего его скрывают, заменяя другим словом, другой
целью. Загадка секса призывает повествование
заполнить и сократить разрыв между желанием и его
объектом, постепенно ослабить тревогу в связи с
неизбежностью признания, вплетая его в ткань высказывания.
Невозможность назвать неназываемое. Здесь со всей
очевидностью вступает в игру вопрос о кастрации: как
назвать объект, который может ощущаться только в
качестве утраченного?
Сад позволяет себе рискованное удовольствие
отвергнуть именно это категорическое требование нарратива,
и поскольку секс представляется почти что
единственной темой садовского повествования, о нем говорится
совершенно открыто. С самого начала повествования
загадка, а вместе с ней вся метафорическая продукция
с позором изгоняются, поскольку назвать секс
буквально и означает впасть в непристойность. Если дело уже
92
не в недоступности секса (поскольку секс вводится в ^
повествование сразу и тело немедленно полностью об- i
нажается), то как же построить нарратив, как заполнить §
время поиском? у
Принцип этого поиска состоит в том, что он полно- |^
стью выворачивается наизнанку: ищется не единствен- 3
ное незаменимое тело, обладание которым легитимиру- |
ется любовным чувством, а множество тел, отвечающих |
потребностям влечения. Точнее говоря, поскольку тела ^
изначально даны либертену-господину, постольку важ- |,
но увеличить их разнообразие, ощутить их различия, §
испытать их как машины из плоти. Глаголы, которые
описывают деятельность либертена, главным образом
следующие: варьировать, комбинировать, устранять,
начинать снова. Повествованию дает силу уже не
загадка, а необходимость инвентаризации. Все, что еще
только должно произойти, на самом деле уже «произошло»;
все уже дано, и задачей становится только
верификация. Мы уже знаем все возможности тела, которые, при
всем их разнообразии, поддаются исчислению (его
можно раздевать, ласкать, бичевать, возбуждать, в него
можно проникать, его можно мучить, калечить, оно
может испытывать оргазм, есть, испражняться...). В «120
днях Содома» открыто ставится задача
классифицировать и составить перечень всех вообразимых вариантов
основных «страстей». Таким образом, нарративное
время движется вперед уже не за счет накопления знаков
и постепенного раскрытия тайны, но за счет
необходимости осуществления программы, которая должна
охватить все тела. В пределе нарратив служит просто
средством для ее изложения, самым простым способом
придать таксономии линейный характер, разыгрывая
ее внутри правдоподобного повествования. Мы можем
сказать, что раздетое нагое тело (классифицированное
и функциональное) является не только эмблемой
этого ничего не выражающего тела-машины,
произведенного работой текста, но что оно эмблематично также
93
2 по отношению к самой форме садовского нарратива.
1 Быстрое и немедленное раздевание — Blitzentkleidung —
[2 подражает, на уровне означаемого тела, тому нарратив-
у ному принципу, на котором основан роман. Барт это
§ анализирует следующим образом: «У Сада нет стрип-
| тиза... и, возможно, вот по какой причине. Стриптиз —
- это повествование: он разворачивает во времени
элементы (классемы) кода, который является кодом
Загадки... У Сада же нет никакой тайны тела, которую надо
разгадывать, есть только практики, которые надо
осуществлять...»57
Садовское тело: тело ничего-не-говорящее.
ТЕЛО/ТЕКСТ
Не подозревайте меня здесь ни в
восторженности, ни в желании
говорить метафорами.
Де Сад. История Жюльетты5"
Гипотеза, что каждый способ инсценирования тела в
тексте определяет собой способ «воплощения» самого
этого текста, была рассмотрена исходя из садовского
повествования не потому, что эту гипотезу невозможно
с тем же успехом рассмотреть на других нарративах, а
потому что садовский нарратив, функционирующий
как всеобщая изнанка этих других нарративов,
обладает тем преимуществом, что заставляет нас задаться
именно этим вопросом. Сказать, что текст — в своих
собственных структурах, на уровне означающего, —
подражает тому, что он говорит о теле на уровне
означаемого, значит предположить не просто
гомологическое соучастие, а то, что между двумя этими планами
37 Barthes R. Sade, Fourier, Lovola. P. 161-162.
3" IX, 56.
94
существует значимое напряжение, артикулированное ^
в самом акте письма как анафорическом производстве. I
Репрезентируемое тело возвращается нам в качестве |
означающего, будучи помещено в ту форму, которая у
его репрезентирует; оно метонимически представляет §_
текст; тело текста реализует означаемое тело. <
Это может быть подтверждено еще двумя тезисами: |
— во-первых, тело без симптомов находит свое соот- |
ветствие в тексте с недостаточной детерминацией; J*
— во-вторых, классифицированное и расчлененное §.
тело находит свое соответствие в прерывистом и раз- -Ц
дробленном повествовании.
Второе из этих утверждений будет развернуто
позже, в связи с вопросом о времени; а сейчас рассмотрим,
что означает первое.
Текст слабодетерминированный
Поскольку телу нечего сказать, оно исключено из
режима выражения и помещено в режим действия, его
повествовательная функция сводится к
дискурсивному изложению. Таково знаменитое, почти
автоматическое чередование сцен и рассуждений, которое
кажется следствием схематизма, чтобы не сказать
слабости, повествования, но которое логически
необходимо при таком апатичном статусе тела. «Сказать
все» — слишком важное дело, чтобы доверить его
реакциям эпидермы. Отсюда отношение дизъюнкции
между дискурсами и кожным покровом. Чем
молчаливее кожа, тем больше голова контролирует свои
собственные высказывания. Нагота означает молчание
тела (молчание природы, молчание животности). Чем
больше покровов сбрасывает с себя тело, тем больше
оно отвергает выражение и приглашает «голову» к
рассуждениям; и наоборот, чем больше говорит тело
(как в случае жертвы), тем меньше действует голова.
Так почти всегда во время оргии обнаженные либер-
95
8 тены развивают свои главные теории. Обнаженное тело
Е одновременно удостоверяет и представляет на практи-
g ке чистую материальность, по поводу которой теоре-
^ тизирует голова.
о Не является ли в таком случае «голова» преемни-
| цей картезианского cogito? He является ли она только
^ иным воплощением все той же христианской души?
Не имеем ли мы здесь дело с простым смещением, с
переодетым дуализмом? На первый взгляд эта идея
может показаться соблазнительной, и тогда надо будет
признать, что садовский «субъект», как и субъект
науки, исключен из своих собственных высказываний.
Но это значило бы недооценить сложность данной
системы, поскольку «голова» действует и как вполне
материальный элемент тела-машины. Она
одновременно является фильтром и катализатором, источником
энергии и контролирующим центром. «Быть телом
либертена» — это тезис либертинажа,
реализующийся только в дискурсе, который его высказывает. Вот
почему голова должна освобождать, организовывать,
приводить в движение. Садовское тело, соединенное
со страстной, ведущей беседу «головой», должно при
этом оставаться немым и бесстрастным. Незначимость
кожи пропорциональна сверхзначимости головы;
таким образом вся полнота смысла должна попасть в
дискурс, все скрытое должно быть приведено на уровень
явного. Безмерная претензия, претензия Господина.
В режиме выражения скрытое как результат
исходного подавления, будучи изгнано из сферы
символического, возвращается в тело в форме симптома и
демонстрирует свое принципиальное согласие с
метафорической операцией. Это язык жертвы.
Для Сада, напротив, в теле либертена не может быть
ничего скрытого, поскольку тело, согласно исходной
гипотезе, захватывается стремлением «сказать все»,
которое освобождает и выставляет напоказ всю
тотальность желания. Этот эксгибиционизм проявля-
96
ется в провокационном высказывании всех фантазмов, ^
что должно исключить всякую возможность укрыть- I
ся в неэксплицированном. Все может быть названо и |
исчислено, поскольку бесконечность желания суще- у
ствует как числовая бесконечность. Если все может |
быть сказано, то не остается места для симптома и во- Sj
обще для субститутивных образований. Кожа текста, а
как и кожа тела, не трепещет от эмоций, оговорок или %
скрытых значений. Короче говоря, недостаточно де- ,§"
терминированный, апатичный либертеновский (са- §.
довский) текст может быть противопоставлен сверх- §
детерминированному, нагруженному симптомами
психологическому тексту. Конечно, надо заметить, что
это возможно лишь ценой тотального исключения
субъективности субъекта наслаждения, исключения,
которое обозначает себя как в дизъюнктивной
оппозиции «головы» и «кожи», так и в противопоставлении
палача и жертвы. Допустим, именно такова цена, но
наш вопрос находится за пределами гравитационного
поля данной реальности и состоит в следующем:
какого рода текст нам это предлагает и какие смещения
при этом производятся?
Действительно, это выглядит так, как если бы
неэкспрессивная модель тела подстраивала под себя саму
форму письма, которое производит его в качестве
повествовательного тела литературного вымысла; как
если бы стремление оторвать тело от всякой тайны,
всякого укрытия, всякого запрета вынуждало само письмо
отказаться от хитрости и обмана, отказаться от
техники аллюзии или парафразы — другими словами, раз
и навсегда отказаться от метафоры. Бесчувственность
садовского письма определяется неэкспрессивностью
либертеновского тела.
Разумеется, тонкость линий и холодная чистота
этого письма достигаются во многом благодаря
прозрачности литературного кода, принятого в ту эпоху; садов-
ское письмо заимствовало строгую элегантность этого
4Зак 3904
97
кода, но использовало его для того, чтобы говорить о
сексе, испражнениях, наслаждении и преступлении,
для описания которых этот код прежде задействовал
всю апробированную сеть риторических фигур,
образовывавших систему непрямых обозначений: письмо
Сада явило тело в его провокативной наготе, причем
обнаженная кожа была не более чем ее знаком, ибо
оказалось, что одевает тело не столько одежда, сколько
фигуры дискурса или структура кодов. А значит, по-
настоящему непристойное — это то, что возникает как
результат подавления метафорического59.
59 Можно сказать гораздо больше о том критическом
преследовании, которому Сад подвергает метафору. Филипп
Роже в своей книге (Roger Ph. Sade, la philosophic dans le
pressoir. Paris, 1976) начал поучительное исследование в
этом направлении.
Глава вторая
СКАЗАТЬ ВСЕ,
или ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭКСЦЕССОВ
Философия должна сказать все до
конца.
Де Сад. История Жюльетты1
Если не будет сказано все и не все
подвергнется кропотливому
анализу, то можешь ли ты рассчитывать
на то, чтобы мы догадались, что
больше всего тебе подходит?
Де Сад. 120 дней Содома2
Насилие несет в себе то неистовое
отрицание, которое кладет конец
всякой возможности дискурса.
Батай. Эротизм
ВСЕ И СЛИШКОМ МНОГО
«Сказать все»: такова бесстрашно провозглашенная и
кажущаяся невыполнимой задача, которую ставит перед
собой садовский дискурс и в соответствии с которой
он себя строит. Сама формулировка обезоруживающе
проста, но в то же время, если пристальнее
вглядеться в нее, в высшей степени парадоксальна. На самом
деле здесь переплетаются два противоречащих друг
другу смысла.
1 IX, 586.
2 XIII.
I — Первый смысл — тотальность: «сказать все»
S означает энциклопедический проект охвата означа-
g емых, сбора данных, накапливания аргументов. С этой
^ точки зрения «сказать все» равнозначно изнуряющей
| фундаментальной задаче сказать обо всем; это был бы
| уже вполне гегелевский проект.
^j — Второй смысл — эксцесс: «сказать все» в этом
случае связано с твердым намерением ничего не утаивать,
открывать все, как, например, в тех случаях, когда
(подчас с угрозой) человек заявляет: «Я все скажу»; есть
здесь и намек на сообщничество, которое
устанавливается между садовским персонажем и его
собеседниками, когда он намеревается поведать им историю
своих злодеяний: «Я чувствую, что я вам могу сказать
все»3. Здесь задача состоит в том, чтобы взломать
запреты, избавиться от цензуры, выявить то, что было
подавлено; «сказать все» — это в буквальном смысле задача
фрейдизма, фундаментальный принцип психоанализа
как техники, направленной на то, чтобы узнать и
признать желание.
«Сказать все» для Сада, таким образом, означает
одновременно и тотальность и эксцесс; в этом и
состоит его вызов, поскольку от дискурса всегда
требовалось выбирать между двумя этими качествами.
Требование одновременно того и другого, возможно,
составляет фундаментальную апорию говорения,
поскольку дискурс тотальности может
конституироваться, только забывая о запрете, позволяющем его
ограничить и отвергающем саму возможность того, что что-то
останется за его пределами. Все обеспечивается только
за счет упразднения понятия слишком; сталкиваться с
запретом и преодолевать его — это и есть само
движение эксцесса, которое опрокидывает разделения,
размывает границы и делает любую тотальность
невозможной и даже смехотворной.
ЧХ.219.
100
Тотальность и эксцесс, полнота и чрезмерность:
вопрос опять стоит «или/или». Обычно оба этих
требования не могут быть выполнены одновременно, чтобы при
этом дискурсу не угрожал паралич или, в лучшем случае,
заикание. Невозможно внутри одного и того же
дискурса находиться одновременно по обе стороны запрета.
Но именно эту апорию стремится поддержать садов-
ский дискурс, представляя то, что можно назвать
энциклопедией эксцессов, соединяя два противоречащих друг
другу значения в игре смещений, постоянного
чередования теории и повествования, «рассуждений» и •«сцен»,
обходя логические препятствия «или/или». (К этой
стратегии — избегать как формы трактата, так и
чистого повествования, искажать одну форму за счет другой,
создавать эту странную теоретико-повествовательную
смесь — у нас еще будет возможность вернуться.)
Энциклопедический обзор был страстью XVIII века,
ставшего свидетелем невиданного распространения
словарей — словарей идей, языков, цивилизаций, искусств,
техник; в создании этих словарей принимали участие
не только ученые и специалисты, но и большинство
известных философов и писателей, включая Вольтера,
Дидро, Гольбаха, Руссо и других.
Ко всем этим словарям Сад добавил еще один,
самый безумный, самый предосудительный, не
претендующий ни на название словаря, ни на его форму и не
сохраняющий даже его структуры: словарь «перверсий».
Это пародийный словарь, вплетенный в ткань
повествования, захваченный литературным вымыслом,
который освобождает его от всех ложных «научных»
гарантий, чтобы лучше обозначить то, что здесь вовлекается
в игру: не знание, а желание или, вернее, желание,
содержащееся внутри знания.
Из всех произведений Сада лучше всего этот замысел
воплощают «120 дней Содома». Сад сам высказывает два
принципа, организующие его текст: это создание перечня
«страстей», в котором каждый читатель сможет найти то,
101
что ему по вкусу, и встраивание этого перечня в
повествование, так, чтобы каждый элемент был
проанализирован в конкретной ситуации, то есть в его реализации.
Перечень: «Несомненно, многие из тех причуд,
которые я намереваюсь здесь изобразить, тебе не
понравятся, это вполне понятно, но среди них найдутся несколько
таких, которые разгорячат тебя настолько, что будут
стоить тебе некоторого количества семени, и это, читатель,
все, что нам от тебя нужно. Если не будет сказано все и не
все подвергнется кропотливому анализу, то можешь ли
ты рассчитывать на то, чтобы мы догадались, что больше
всего тебе подходит? Твое дело выбрать то, что тебе по
вкусу, и оставить в покое остальное, другой читатель
поступит так же, и мало-помалу все получат удовольствие»4.
Повествование: «Более того, мы распределили эти
шестьсот страстей по историям рассказчиц. Это еще
одна вещь, о которой надо предуведомить читателя.
Чтобы не перечислять их монотонно одну задругой, мы
включили их внутрь повествования»"'.
Обоснование включения перечня в повествование:
«Но поскольку какой-нибудь читатель, не слишком
искушенный в такого рода предметах, может спутать
означенные страсти с приключением или просто каким-то
случаем из жизни рассказчицы, каждая из этих
страстей предусмотрительно отмечена чертой на полях, над
которой помещено название, подходящее для
обозначения данной страсти. Черта на полях указывает начало
рассказа об этой страсти, а конец абзаца всегда
отмечает, где рассказ о ней заканчивается»6.
Усилия, направленные на то, чтобы сохранить
эффективность и структуру словаря под «телом»
повествования, доходят до маниакального дидактизма и указаний
относительно правил пользования данным сочинением:
1 XIII, 61.
5 XIII, 61.
СХШ,61.
102
«Но поскольку в этой драме особого рода участвует
множество персонажей, то, несмотря на внимание,
которое было уделено здесь тому, чтобы их всех описать
и назвать, мы поместим таблицу, которая будет
содержать имя и возраст каждого действующего лица вместе
с его кратким описанием. В случае, если читатель
встретит имя, которое вызовет у него затруднения, он
сможет обратиться к этой таблице или к более полным
портретам, приведенным в начале книги, если наброска,
данного в таблице, окажется недостаточно»7. Далее
следует список персонажей, где, как в картотеке,
перечислены их главные характеристики: возраст, социальное
положение, общие физические данные, сексуальные
наклонности, особые пристрастия и т. д.
Это сводное представление персонажей, так же как
и продуманное расположение текста на печатной
странице («черта на полях», «абзац»), направлено на то,
чтобы достигнуть того удобства, которое определяет
обращение со словарем. И поскольку все словарные
статьи содержат достоверную и полную информацию,
их можно читать в каком угодно порядке. Важнее
всего точно знать, где именно ты находишься в настоящий
момент, чтобы никогда не путаться, какие
характеристики к кому относятся. Вот почему всегда должна быть
возможность свериться с «указателем». Мы знаем, кто
есть кто, кто на что способен, у кого какие желания и
т. д. Все определено с самого начала, и нет ни одной
детали, сколь бы незначительной она ни была, которая бы
оставалась неопределенной.
И в то же время этот необычный словарь вместо
дефиниций предлагает истории, вместо алфавитной
классификации — логическую, основанную на постепенном
восхождении от простого к сложному. Скорее это симулякр
словаря, поскольку от него остается только план, только
формальный проект, пренебрегающий его содержанием.
; XIII,61-62.
103
Необычно здесь также и само повествование («драма
особого рода»), которое отменяет всякий саспенс,
открывает все карты с самого начала и сообщает план, которого
собирается придерживаться. Следует оценить
парадоксальный характер нарратива, начинающийся с введения
(где представляются персонажи, их цели и намерения).
Введение — это преамбула, больше подходящая
трактату, чем рассказу, поскольку здесь демонстрируются
объект и метод дискурса. Традиционная уловка
нарратива, напротив, состоит в том, чтобы оставлять эту
информацию между строк, в разрывах диегезиса или
переносить ее на нарративную структуру. Именно этому служат
знаки-указатели, информанты и описания. Эта
информация соединяется и сливается с нарративным
элементом в такой мере, что перестает существовать как таковая,
так что происходит оптимальная «натурализация»
нарратива. Вхождение в вымышленный мир должно быть
мгновенным, а референтные знаки должны распределяться
вдоль нарративной цепочки таким образом, чтобы их
развертывание было невидимым. Сам «автор» должен
удалиться из повествования, чтобы оставить своим
«персонажам» все преимущества реального существования.
Таковы несколько элементарных правил игры,
которыми в «120 днях Содома» пренебрегает Сад. Например,
он подменяет искусство имплицитной, непрямой
передачи информации дидактическим вступлением, в котором
сразу сообщаются все подробности. С другой стороны,
увеличивается количество прямых обращений к
читателю, чем подчеркивается вымышленный характер текста
и подрывается эффект иллюзии («напомним еще раз для
удобства читателя»8, «я оставляю воображению
читателя представить себе...»9, «постараемся как можно лучше
описать для читателя каждого из наших четырех героев» ш
8 XIII, 3.
8 XIII, 4.
10 XIII, 7.
104
и т. д.) Читатель узнает все сразу, и, поскольку его вве- J
ли в курс дела, ему же и предлагается верифицировать "=
полученную информацию. Можно задаться вопросом, не |
исходит ли от дидактической инстанции (такой как ело- |
вари, трактаты и т. д.) какая-либо угроза и не может ли и
она парализовать инстанцию нарративную? Не объяс- ^
няется ли то, что Сад достаточно парадоксальным
образом вводит в текст «120 дней» целую серию
энигматических предложений (обращений к читателю с просьбой
проявить терпение, обещаний раскрыть тайну в
будущем), тем, что он хорошо осознавал такую опасность?
Подобные фразы позволяют энергично внести
диахроническое начало в чрезмерный синхронизм
вступительного изложения, а также использовать старую
герменевтическую уловку, управляющую всяким настоящим
саспенсом: «Но не будем спешить; эта утонченность
объясняется некоторыми деталями, которых мы пока не
будем касаться»11. «Дюрсе [...] тем временем втихомолку
продолжал предаваться гнусностям, которые нам еще не
пришло время открыть»12.
Это обращение к герменевтическому аргументу
тайны настолько здесь очевидно, что манипулирование им
происходит совершенно открыто и оказывается крайне
далеко от того развертывания системы знаков, которая
искусно пронизывает диегезис во всех тщательно
выстроенных нарративных конструкциях. Здесь, напротив,
апелляция к тайне сопровождается настойчивым
самовыдвижением писателя за счет подчеркнутого
использовании дидактического «мы» и его прямых обращений
к читателю. Эти просьбы к читателю проявить терпение
определяются не столько нарративной техникой,
сколько методологическим императивом и не выполняют
компенсаторных функций по отношению к слабой нарра-
тивности, поскольку, по всей видимости, полностью
" XIII, 6.
12 XIII, 138.
105
3 принадлежат категории трактата. Вводные предло-
S жения, распределенные вдоль всей цепочки повество-
,а вания, служат не столько тому, чтобы обнаружить некую
^ тайну или скрытую истину, а, скорее, чтобы тщательно
о соблюсти логическую последовательность изложения, ка-
g кой она была установлена с самого начала и какой она
^ возникает из таких «энигматических» заявлений:« К
несчастью, последовательность изложения, которую мы
установили для себя изначально, вынуждает нас
несколько отдалить то удовольствие, которое читателю
несомненно доставит изучение деталей этой религиозной
церемонии; однако, разумеется, наступит момент, когда мы
сможем открыть их»13 (курсив мой. — М. Э.). «Мы в
отчаянии из-за того, что порядок нашего плана не
позволяет нам до определенного времени описать эти
сладострастные экзекуции, но это не восстановит против нас
наших читателей; они понимают нашу неспособность
дать им полное удовлетворение в настоящий момент, но
они могут быть уверены, что они ничего не потеряют»™
(курсив мой. — М. Э.). Действительно, по мере того как
в соответствии с порядком, изложенным во вступлении
и являющимся также порядком демонстрации, план
постепенно осуществляется, информация, которая скорее
просто придерживалась, чем скрывалась, — делается
доступной: «Чем дальше мы продвигаемся, тем больше мы
можем прояснить некоторые факты, которые были
вынуждены утаивать в начале нашей истории. Теперь,
например...»15 и т. д. Инстанция и структура рассуждения,
равно как конструирование по образцу таблицы,
неизменно сохраняются под симуляцией энигматического
кода. Это одновременно и словарь и нарратив — и в то
же время ни то ни другое: апория «или-или»
соскользнула в игру чередований между «и-и» и «ни-ни».
11 XIII, 148.
11 XIII, 153.
15 XIII, 171.
106
Словарь, как и трактат, принадлежит к сфере серьез- J
ного, к академической солидности науки. Серьезная нау- &
ка «страстей» может быть вписана только в нормативные |
и в конечном счете морализаторские формы метафизи- §
ческого дискурса, а перечень перверсий может прини- и
мать лишь форму бесцветного претенциозного дискурса s
медицины. В своей классической форме словарь неуклюж,
невыразителен, неспособен выявить тот оттенок,
который и составляет специфику каждой страсти; он
обобщает и лишает напряжения. Но у него есть одно
преимущество: он называет, и поскольку его функция состоит
в перечислении имен и экспликации их смысла, ему
принадлежит неограниченное право на инвентаризацию —
даже того, что может классифицироваться как
«скабрезное». Считается само собой разумеющимся, что булимия
накопления данных, которой страдает наука,
совершенно невинна: исследовано и названо должно быть все. Вот
ценная привилегия словаря, которая и будет
использована Садом.
Нарратив, напротив, конкретизирует «страсть»,
наделяя ее очень четким референтом, инсценирующим
признаки ее специфичности; однако традиционно эта
инсценировка ничего не называет: она действует
суггестивно; чем больше страсть приближается к
запретному, тем метафоричнее становится нарратив. Отсюда
возникает альтернатива:
— словарь имеет право называть свой объект, но не
способен его конкретизировать;
— нарратив осуществляет эту конкретизацию, но
ценой введения цензуры при назывании объекта.
Используя одновременно потенциал словаря и нар-
ратива, замыкая их друг на друга, Сад получает
техническую возможность сказать все. Следует, однако,
заметить, что использование нарративной формы не сводится
к оживлению номенклатурного перечня,
направленного только на то, чтобы разогнать скуку, а является
ответом на более существенное требование, связанное с тем,
107
что не бывает словаря (и даже, как говорит Лакан,
науки) наслаждения. Сад нуждается в неком роде письма,
посредством которого тело оставляло бы след в языке.
И тело оставляет этот след в соответствии с
репрезентацией истории, в которую вписано постоянно
повторяемое событие наслаждения. Ставкой здесь является
опыт тела, которое, будучи захваченным
приключением, преодолевает и разрушает все классификации (вот
почему Путешествие для Сада является своего рода
априорной необходимостью инсценировки желания).
Итак, словарь и нарратив — отношение, которое (как
и любая парадигматическая структура) связывает
взаимоисключающие элементы, неизбежно несет в себе соблазн
для либертена, желание которого состоит в том, чтобы
превратить словарь в нарратив и навязать нарративу
строгую упорядоченность словаря, что значило бы
ниспровергнуть одно с помощью другого и заставить их
поменяться местами: нарратив теперь может называть
вещи своими именами, словарь может их инсценировать.
Мы обнаруживаем здесь тот же самый подход, который
легитимизирует инцест, — смешение институализован-
ных различий, нагромождение противоречащих друг
другу предикатов, относящихся к одному и тому же
субъекту, и т. д. Садовский текст порождает этих гибридов, этих
монстров: философа-авантюриста, академию-бордель,
науку-разврат, рассуждение-оргию. Только после того,
как осмелишься сказать слишком много, оказывается
действительно возможным сказать все; единственная
возможная энциклопедия — это Энциклопедия Эксцессов.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ИСТОЩЕНИЕ:
МАНИЯ ОСТАТКА
Если «сказать все» понимать как претензию на то,
чтобы сказать обо всем, то такую задачу может поставить
перед собой только параноик. Каким же образом ее мож-
108
но выполнить применительно к перверсии? Путем
замены синтеза (недифференцированного,
обобщающего) кропотливым прохождением через все поле знания
и все возможные ситуации. Для этого необходимо и
достаточно расчленять, подразделять, повторять.
Последовательность эпизодов, их варианты, распределение
аргументов и их повторение имеют следствием то, что
нарративное тело как бы распластывается (подобно
тому, как взгляд либертена членит и дробит желаемое
тело), а инвентаризация подразумевает и расчленение,
и бесконечное развертывание.
На самом деле энциклопедический проект в его догеге-
левском смысле представлял собой именно такое
методичное перечисление, был работой по классификации и
упорядочению, аналогичной в области научного знании
тому, чем были великие морские экспедиции (плавания
Бугенвиля, Лаперуза и т. д.) для исследования планеты:
инвентаризацией известного мира и присвоением мира
нового. Все заканчивалось или все должно было в
будущем закончиться тщательным занесением в реестры.
Книга уже не представлялась воображению загадочной
шкатулкой, скрывающей тайну всех знаний (миф,
аналогичный мифу о философском камне). Теперь она оказалась
безграничной поверхностью письма, фиксирующего
полученные знания и перечисляющего реальные объекты
наподобие бесконечно разворачиваемой карты знаний.
Поверхность книги, земли, тела: кожа, изобилующая
складками, зонами, которые надо пройти, внести в
перечень, заполнить, изменить; дискурс, путешествие,
наслаждение запечатлевают одно и то же движение в различных
реестрах, представляющих собой тщательно
составленный, подробнейший перечень, имплицитно
подразумевающий то, что представлялось фундаментальной
материалистической гипотезой, а именно, что мир конечен и
может быть полностью инвентаризован. Нет больше
областей, которые бы остались не охваченными этим
перечнем, а следовательно, нет больше запретов. Отказать-
109
ся от какой-либо части знания — значит превратить эту
часть в тайну, в табу, сотворить божество на месте
пробела, тем самым разом сведя на нет все остальные
познания. Ставка здесь все или ничего, и Сад совершенно
ясно говорит об этом: «Пока не узнаешь всего, не будешь
знать ничего»16. Здесь он имеет в виду желающее тело во
всех его формах и его особое отношение с телом
страдающим, то есть, другими словами, он устанавливает связь
между сексом и кровью, между наслаждением и
преступлением — двумя главными запретами, на которых
основывается всякое сообщество, то, о чем нельзя говорить
под страхом подвергнуться остракизму, черный ящик
всякого знания, последняя terra incognita,
вдохновляющая все путешествия, первым отважным
исследователем которой был, как настаивает Сад, он сам. Он не
сомневается, что, когда закончит свой обзор, все будет
действительно сказано и перечень будет полон.
Но поскольку это таблица эксцессов, нельзя быть
уверенным в том, что перечень полон; всегда можно
вообразить новый эксцесс. Парадокс Сада заключается здесь
в попытке дать систематическое описание того, что
может быть определено только как ускользающее от
системы. Причем неудача в создании исчерпывающего
перечня будет означать отречение от всего замысла из-за
неустранимости невысказанного, отказ от того, чтобы
действительно сказать все. Эта обеспокоенность тем, что
какой-то элемент может оказаться пропущенным, что
может быть оставлен какой-то пробел, запускает всю
механику повторения, обеспечивающую постоянное
возвращение к одним и тем же сценам, рассуждениям
и доводам. Мы являемся здесь свидетелями
настоящего ритуального заклинания обсессивного типа, с его
манией возвращения назад и потребностью
удостовериться в том, что ничто не осталось незамеченным, ничто не
позабыто, со стремлением оглядываться на собствен-
"•VIII, 29.
110
ные следы, на всю проделанную работу, все заранее
подготовленные результаты. Другими словами, дело здесь в
том, чтобы получить полный перечень, исключающий
возможность «остатка», чтобы слишком вошло во все.
Но не выдает ли это нарративное упорство, это
постоянное возвращение к одним и тем же рассуждениям,
то, насколько непросто Саду овладеть тотальностью и,
пройдя до конца, упомянуть обо всем? Не
обнаруживаем ли мы здесь те же самые энциклопедические
притязания, которые воплощаются в романтической мечте об
абсолютном знании, начиная от незавершенной попытки
Новалиса до монументальной гегелевской
Энциклопедии (монументальной не по числу томов и не по
количеству собранных сведений, но по сугубо
архитектоническому характеру и всеохватности ее логики)? Может
статься, что и нет, потому что для Гегеля «сказать все» не
означает пройти до конца весь перечень, или охватить
всю огромную территорию известного, или двигаться
туда-сюда по поверхности, к которой все
присоединяется, где все следует друг за другом, теряется, а потом
появляется вновь; нет, это значит сказать обо «всем» как
о целом в каждой части, изложить его развитие от
зарождения до последней принимаемой им формы. У Гегеля
путешествие неподвижно, это метаморфоза
субстанции, становящейся субъектом, посредством чего каждая
стадия этого развития погружается в память: в ее
глубине полностью удерживается каждое мгновение,
благодаря постоянной работе негативного, позволяющей
каждой преодоленной форме сохраняться в качестве ин-
териоризованной, то есть как сущности последующей
формы. Снятие (Aufhebung) предстает тогда
удивительным механизмом безотходных трансформаций,
накапливания без остатков и производства без
неожиданностей, поскольку финальное поглощение уже вписано в
самый первый момент и каждое событие уже понято
как необходимость дискурса. Когда в дело вступает
дедукция, нет нужды перемещаться.
111
У Сада, напротив, остаток не редуцируется, а
сохраняется в своем отличии, и сама невозможность
негативности, а значит, диалектической ассимиляции
(поскольку в негативности не может быть противоречия)
сохраняет чистую гетерогенность моментов, их
последовательность без внутреннего единства или логической
интеграции, их искусственное накопление, их
неустранимую уникальность. Но если что таким образом
утверждается и сохраняется, так это подлинное удовольствие от
путешествия, а именно моментальное и последовательно
возобновляемое на протяжении путешествия
удовольствие от неожиданности. Это все, чего требует либертен,
который не ищет никакой внутренней метаморфозы и не
признает никакой субъективности в себе самом.
Субстанция никогда не станет субъектом, она может лишь
пребывать в своей необъятной развернутости, открытая
для перемещения. Тела никуда не исчезают, культуры
продолжают оставаться гетерогенными (и самые
древние и примитивные из них могут оказаться более
развитыми и притягательными, чем наша собственная),
желания не поддаются трансцендированию, время остается
последовательностью отдельных мгновений.
Развертываясь, книга не обнаруживает ничего «внутри», мы
всегда снаружи, всегда на поверхности. Бесконечность была
лишь иллюзией необъятности, «внутреннее» было
только эффектом плотности поверхностей.
ГОСПОДИН ДИСКУРСА,
ЕГО СООБЩНИК И ЕГО ДРУГОЙ
Не существует Другого Другого.
Жак Лакан
Прохождение маршрута должно быть исчерпывающим,
и прежде всего для того, чтобы не оставалось места для
запрета, а главное — чтобы не оставалось никакой воз-
112
можности противоречить, к чему обычно склонен недоб- J
рожелатель или кто-то вроде «злого гения», от которого ^
Сад, по недостатку проницательности или наивности, |
не избавился при помощи какой-нибудь технической |
хитрости с самого начала и с которым он теперь обре- °
чен сталкиваться на протяжении всего путешествия. =
Но кто может быть этим невидимым надоедливым
соперником, если не Другой Господина? Может ли им
быть изнанка его самого, то есть раб, жертва?..
«Сказать все» — исключительная претензия
Господина, это привилегия его сущности, его сеньориальное
право на речь. Если все сказано, дискурс не терпит
возражений: всякий, кто смеет противоречить, лишается
слова. Когда все сказано, сказать больше нечего.
Развернув свои доводы, Господин требует только согласия.
Это устранение возможности противоречить ставит
противника в положение жертвы и тем самым лишает его
права на речь («насилие доказательством», как точно
говорит об этом Жиль Делез). Заметим, что речь идет
не о том, что жертва могла бы противоречить
Господину — скорее, само желание ему противоречить
обрекает на статус жертвы и тем самым лишает способности
сказать хоть что-то.
Когда все сказано, Господин остается один: его
дискурс не имеет остатка, а он сам не имеет Другого. Со
всеми жертвами покончено, и повествование завершается
(так, в «Истории Жюльетты» последняя и самая
стойкая жертва — Жюльетта, которая претендовала на
дискурс). Единственным вообразимым Другим тогда
может быть лишь тот, кому адресовано повествование и
его доказательства: читатель. Но весь механизм
Садовского вымысла направлен именно на то, чтобы
превратить читателя в сообщника, который входит в
избранный круг Господ — единственное место возможной
взаимности; таким образом устраняются все
претензии на любой другой дискурс, который был бы
дискурсом Другого. Соучастие читателя исключает послед-
113
§ нюю возможность противоречить, это полная победа.
Е Она, однако, далеко не столь самоочевидна; согласие
[2 читателя на соучастие может считаться полученным
^ только тогда, когда оно становится неизбежным, то
о есть когда согласие (как согласие на истину у Спи-
| нозы) безоговорочно следует после исчерпания всех
Л доводов и всех возможных ситуаций. И тогда по ходу
бесконечного развертывания доказательств
непомерно длинным повествованием и по мере того как
исчезают тела жертв, образуется тело Читателя, Господина-
соучастника, тело, порожденное Текстом.
Именно это отношение к читателю сообщает садов-
скому дискурсу постоянные колебания между
подозрением и соблазном. Подозрение (формальное, тактическое)
состоит в том, что читатель еще не покорен выдвинутым
доводом, так что доказательство данного утверждения
должно быть предложено ему снова: сомнение
символизируется в повествовании собеседником, к которому
обращено рассуждение и который, провоцируя это
сомнение, притворяется не сведущим относительно какого-
то положения теории или демонстрирует свою
неуверенность в его ценности или в точности формулировки.
Соблазн, в свою очередь, должен поймать читателя в
момент его собственного желания и заставить его признать
тот вклад, который его желание вносит в весь этот
дискурс или даже во все дискурсы. (Таким образом,
отношение сцена/рассуждение — это не просто игра,
основанная на обмене: немного секса в обмен на немного
философии. Это внутритекстовое подтверждение ли-
бидинального воздействия доказательства.)
Надо заметить, что прямое обращение к читателю
было очень распространено в нарративах XVIII века,
которые таким образом открыто признавали свой
статус вымыслов (довольно скоро реалистическое
повествование будет строиться на отрицании вымыслов).
Поэтому кажется, что Сад просто следует
распространенной традиции. Тем не менее, как мы видели, исполь-
114
зование им этого приема вызывается логической
необходимостью совершенно особого рода: читателя надо
превратить в Господина для того, чтобы Садовскому
Господину не угрожало присутствие Другого. Для
Другого не остается места, потому что оно целиком занято
Господином.
Что касается жертв, то они не создают проблемы
Другого: лишенные слова, отторгнутые от
символического порядка, жертвы, строго говоря, не являются
вообще чем бы то ни было. Для Сада не существует
отношений Господин-Раб гегелевского типа, то есть
отношений, принимающих диалектическую форму,
потому что садовским Господином становятся не в ходе
«борьбы на смерть», но по рождению и по величине
состояния, доставшегося в наследство или украденного.
Не может быть никакого столкновения лицом к лицу,
никакого противостояния, кроме как с другими
Господами внутри пространства власти, куда попадают
обычно с помощью убийства и предательства. Господин
рожден в дискурсе, там он и остается; жертвы не могут
ему противостоять, поскольку, пребывая вне дискурса,
они остаются без средств и посредничества, обреченной
на молчание и неспособной восстать анонимной
массой. Беспредельное владычество Господина отчетливо
уподобляется необъятности не терпящего возражений
дискурса. Единственно возможное возражение — это
возражение со стороны Читателя, которое и является
тем, что форма — а точнее, стратегия — нарратива
призваны устранить.
Писателя и читателя, то есть Господина и
Господина, связывает не договор, а сообщничество. Читать уже
означает вступать в заговор. Таким образом, принцип
«сказать все» репрезентирует не мудрость, а власть,
разделить которую предлагается читателю — либерте-
ну и сообщнику, как по исходному предположению, так
и по окончательному выводу. Читать — значит уже
входить в круг избранных.
115
НАСЛАЖДЕНИЕ
ОТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
Сила говорения осуществляет то,
что должно быть осуществлено.
Гегель. Феноменология духа
Говорить в момент наслаждения:
этому нельзя помешать, но это
запрещено одобрять.
Филипп Соллерс. Письмо Сада
Ах, черт возьми, я кончаю! Вы
заставили меня умирать от наслаждения!
Теперь присядем и побеседуем.
Де Сад. История Жюльетты17
Если стремление «сказать все» как энциклопедическая
задача направлено на достижение полноты Перечня, то
в смысле эксцесса задача «сказать все» означает само
высказывание наслаждения. Садовское тело, рожденное в
языке и постоянно находящееся под его воздействием,
остается телом либертена, лишь связывая свои
действия с дискурсом, который их называет, программирует,
определяет и который повествует о них. И не только
потому что не существует наслаждения, не соединенного
с дискурсом, а прежде всего потому, что не существует
наслаждения, которое не было бы высказано, которое
бы не выговаривало само себя. Выражение, симптом и
жест остаются безмолвными языками, обозначающими
тело жертвы. Но тело либертена как таковое должно
непрерывно говорить о том, что оно делает, должно
дублировать свои действия высказываниями о них.
Высказываемый дискурс, знак господства, становится
элементом наслаждения. Желание либертена определяется
только при прохождении через язык. Но верно также и
17 VIII, 68.
116
1
I
то, что желание существует лишь в той мере, в какой J
оно порождается языком. Садовское пространство — ^
это место, заполненное и окруженное словами. Главные |
эрогенные зоны тела либертена — это ухо и рот. Вот как g
в введении к «120 дням» описывается то наслаждение, и
которое участники испытывают от слушания: «Среди ^
истинных либертенов существует мнение, что
сведения, полученные из первых уст с помощью органов
слуха, тоже в высшей степени возбуждают и дают самые
живые впечатления. Наши четыре либертена,
пожелавшие вкусить порок во всей его полноте, придавали
слушанию особое значение. Вот почему и зашла речь о том,
чтобы освоить все способы сладострастия и все
возможные его разновидности и оттенки, словом, о самом
глубоком постижении самого языка порока»18. Это
превосходство слуха над другими чувствами, конечно же,
является следствием превосходства самого языка. Для
Сада существует одно-единственное наслаждение, то,
которое идет от «головы», то есть наслаждение
репрезентацией. Либертинаж, подчиненный закону языка,
проникает в область разума, овладевает им, мобилизует
его структуры и механизмы (такие как порядок,
классификация, систематизация). Закон языка — это и есть
сам Закон. Вот почему желание, оказываясь внутри
языка, находится на своем месте. И если Сад
превращает повествование, а следовательно, удовольствие,
доставляемое слухом, в удовольствие, идущее от головы,
от знания и в конечном итоге от воображения, то
происходит это потому, что он обращается не к
воображаемому (к порядку фантазма и идеального
удовлетворения желания), а к тому, что можно было бы назвать
вообразимым (то есть к порядку тех возможностей,
которые могут быть классифицированы в дискурсе).
Не исключено, что именно в этом отношении Сад
чем-то напоминает Гегеля, правда, совсем немного: не
'"XIII, 27.
117
S считая вопроса о языке, ничто так не нестерпимо для
5 садовского мышления, как логика опосредствования.
g Гегель в «Эстетике» отмечает, что только два наших
^ чувства позволяют создавать произведения искусства:
* это зрение и слух. «Чувственное в искусстве касается
| только тех наших чувств, которые имеют интеллекту-
^ альный характер — зрения и слуха, и не касается
обоняния, вкуса и осязания. Ибо обоняние, вкус и осязание
имеют дело только с материальным и его
непосредственно чувственными качествами»19. Три последних не
способны создавать устойчивых форм, то есть не в
состоянии сохраняться в пространстве и времени и
фиксировать их. Таким образом, искусства оказываются
связаны либо исключительно со зрением (архитектура,
скульптура, живопись), либо со слухом (музыка,
поэзия). Однако поэзия — самое совершенное из всех
искусств, поскольку создается внутри стихии языка, то
есть единственной материальной стихии, внутри
которой сознание может достичь самопознания; язык в
самой своей форме осуществляет присутствие
универсального, то есть понятия.
Слух, язык, понятие: движение осуществляется от
органа к сущности, которая таким образом тоже
оказывается задействованной. Садовская мысль, следуя здесь
за философами Просвещения, соглашается с подобной
логикой, открыто этого не признавая. Удовольствие
слушать — это прежде всего удовольствие понимать.
Поэтому дело не столько в удовольствии говорить,
сколько в том, чтобы держать речь, рассуждать; как бы ни
был велик поток слов, важной оказывается сама
теоретическая форма изложения. Язык — это место желания,
но объектом желания является рассуждение (discours).
Это желание рассуждения, если мы обратим
внимание на то, как традиция артикулирует эти два слова,
"' Гегель Г. В. Ф. Эстетика. Т. I / Пер. с нем. Б. Г. Столпнера
под ред. М. Лифшица. М., 1968. С. 63.
118
образуют совершенно оригинальный принцип.
Действительно, между двумя этими элементами всегда
устанавливалось отношение дизъюнкции.
С одной стороны — знание, рассуждение, работа,
скука.
С другой — удовольствие, беззаботность, отдых,
праздник.
И вокруг этой парадигмы роли распределяются в
виде антагонистических пар: ученый и художник,
эрудит и представитель богемы, профессор и танцовщица.
Другими словами, под оппозицией между занятиями
наукой и досугом скрывается, хотя это и не признается,
оппозиция между разумом и сексом. Сад бесцеремонно
избавляется от этого старого противоречия. Он
утверждает, что изложение теории, «рассуждение», является
не просто возбудителем, а прямой причиной
семяизвержения. Но, очевидно, только в той степени, в какой
подлинный либертинаж связан с проблемами метода и
понимания. Произошло нечто, что размыло границу между
знанием и желанием: философия преподается в
будуаре, теория излагается во время оргии. Но это только
первый уровень — определяемый ситуацией уровень
смешения. На более глубоком уровне две эти различные
сферы начинают сообщаться друг с другом, потому что
объект, с которым они имеют дело, изменил свою
природу или, по крайней мере, свою функцию: желание
полностью овладевает речью, и единственный ее эффект,
который теперь имеет значение, — это наслаждение,
поскольку всякое знание касается непосредственно тела
и без тела как такового невозможно никакое знание.
Именно так следует понимать сочленение рассуждений
и сцен: будучи скреплены, оба элемента взаимно
обусловливают свои эффекты.
У Сада телу самому по себе нечего сказать, и,
конечно, оно ничего не «выражает». В сферу желания его
вводит то, что о нем говорится. Либертена возбуждает
не нагота, которая либо выдвигается в качестве усло-
119
вия, либо уже дана с самого начала; она означает лишь
состояние непосредственной доступности,
предполагаемое господством. Тело, обнаженное и
безмолвное, становится телом желающим и желаемым только
тогда, когда оно одевается в слова: «Эжени [...] Вот, я
перед вами совершенно нагая. Рассуждайте обо мне
сколько вам заблагорассудится»20. Вся работа
учителей в будуаре состоит прежде всего в том, чтобы
называть и классифицировать. Посвящать в язык, в
знание и в желание — одна и та же операция. Воспитание
Эжени — это посвящение в телесное наслаждение как
практику языка.
Вот почему либертену никогда не надоедает
рассуждать. Каким бы длинным или абстрактным ни было
рассуждение, оно никогда не может вызвать скуку или
раздражение, поскольку оно уже есть наслаждение и
одновременно условие его интенсивности. (Так Жюль-
етта, несмотря на свое нетерпеливое желание
предаться разврату с Папой, предварительно заставляет его
полностью изложить его размышления о
необходимости убийства.) Ощущение скуки при слушании речей
обозначает и характеризует жертву: «Во время этого
ученого рассуждения мадам Нуарсей и юноши уснули.
"Вот они, слабоумные существа, — сказал Нуарсей, —
это машины, предназначенные для нашего наслаждения,
но все-таки их бесчувственность меня просто
поражает"»21. Таким образом, мы отчетливо видим, как
связаны друг с другом знание и наслаждение. Рассуждение,
каким бы теоретическим оно ни было, всегда связано с
воображением, то есть с мышлением трансгрессиями и
с перечнем их возможностей. Интенсивность и
широта воображения определяют границу между логофоб-
ским телом жертвы и логофильским телом либертена.
Мыслить — значит чувствовать и воображать, и поэто-
2" III, 383.
'" VIII, 147.
120
му теория вызывает телесные эффекты и неизбежно
касается наслаждения. Это резюмируется так: «Тот, кто
обладает более высоким умом, более склонен к
удовольствиям сладострастия»22.
Время, отводимое рассуждению, не сокращает
времени, отводимого наслаждению, поскольку является
его частью и, более того, представляет собой момент
нарастания энергии. Подобно тому как перерыв на еду
восстанавливает телесную энергию, «перерыв на беседу»
обеспечивает восстановление работы воображения.
Накапливание энергии ведет к ее интенсивному
растрачиванию, что обозначается лексикой, связанной с огнем
(«воспламенять», «разжигать», «электризовать») или
опьянением («кружить голову», «пьянящий восторг»...).
Рассуждение, будучи не чужеродным наслаждению,
утверждает его исключительно в качестве наслаждения,
идущего «от головы», и позволяет физическому
разврату, который воображается и программируется
рассуждением, получить доступ к истинному либертинажу,
вписывая разврат в пространство языка. И наоборот,
рассуждение имеет физические эффекты,
определяемые теми же самыми законами, которые управляют
физическими эффектами тела: «О, сладострастное создание:
в какое волнение приводишь ты мои любовные соки, как
заставляют их извергаться твои рассуждения и твой
пышущий жаром зад!»23 Но еще больше, чем в этой
метонимической контаминации, отношение между речью
и наслаждением обнаруживается в тождестве операций.
Садовский парадокс состоит главным образом в том, что
высказывание выводится на сцену именно тогда, когда
словами обычно не пользуются или когда они
становятся бессильны: при совершении насилия или при
получении наслаждения. Насилие, совершаемое во время
преступления, и особенно во время пытки, как со всей
п VIII, 61.
21 111,455.
121
очевидностью показал Батай, — безмолвно, поэтому са-
довские палачи немыслимы в реальности. Но это также
означает, что садовское преступление, равно как и
наслаждение, действует только через язык. Поместить речь
на место, маркированное молчанием, означает не
просто изгнать невыразимое и распространить господство,
это значит указать на то, что сама речь заставляет
испытывать наслаждение. Вот почему речь расходуется на
восклицания: «Ах, я кончаю!.. Боже мой, я умираю! Ах,
какой восторг! Черт возьми! Вот это экстаз!» И если
говорить значит наслаждаться, то ясно, что перед нами
замечательная разновидность перформатива: действие
исчерпывается высказыванием, и продолжительность
его совпадает с продолжительностью высказывания о
нем. Такой перформатив требует повествования от
первого лица, так называемого Я повествовательного, и
постоянного вторжения диалога в нарратив. Он также
требует заявлений во весь голос, как при публичном
выступлении, так, чтобы охватывалось все сценическое
пространство. (О Сен-Фоне так и говорится: «Он
произносил самые неистовые проклятия, причем весьма
громко».)-'1 Громкий голос наслаждения и
непристойности противопоставлен тихому голосу стыда и тайны,
внутреннему голосу совести и добродетели.
ГРЯЗНОЕ, НЕПРИСТОЙНОЕ,
ПОДРОБНОСТИ
Итак, существует садовский энциклопедический
проект, который понимается как вызов, поскольку область,
отводимая господству дискурса, определяется как то,
о чем запрещено говорить. Странное господство,
основанное на том, что обычно господство подвергает
исключению. Сказать все, о чем надлежит молчать, значит
24 VIII, 210.
122
порвать с законностью. Цель этой трансгрессии, этого
посягательства на границы — разрушение последнего
убежища тайны, последней возможности запрета. Все
должно быть сказано, чтобы у невысказанного не
осталось ни малейшего шанса. Пока не высказано то, что
вызывается эксцессом, еще не сказано все и, значит, не
сказано вообще ничего — по принципу, что мы не
знаем ничего, пока не знаем всего25. «Не должно остаться
ни одного наслаждения, которого бы мы не
испробовали, ни одного ужасного злодеяния, которого бы мы не
совершили»26. Это «все», связанное с эксцессом,
трансформирует саму природу знания: теперь это не просто
знание объектов, но переживание наслаждения,
которое превращает «нормальное» тело в тело либертена.
То, что открывается в эксцессе и через него, не просто
добавляется к другим видам знания, а радикально
переворачивает их, демонстрируя вытесненное
содержание их работы: насилие и желание. Осуществить эту
демонстрацию и заставить признать непризнаваемое,
гразное — возможно, самый опасный шаг, самый
радикальный акт агрессии против любого социального
порядка, если верно, что общество, как считал Фрейд,
основано на коллективном преступлении, о котором мы
ничего не должны знать: «Каждое общество покоится
на преступлении, совершенном сообща»27. Всякому
установлению социального порядка предшествует как
подавление анархического насилия, так и особых
влечений индивидов или групп. Отречение от этого насилия
достигается через жертвоприношение28, которое его
25 VIII, 29.
20 VIII, 301.
21 Фрейд 3. Тотем и табу. Психология первобытной культуры
и религии / Пер. с нем. под ред. Е. Н. Лычагиной. СПб.,
1997. Гл.4.
28 Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с франц. Г. Дашев-
ского. М., 2001; также: KristevaJ. La revolution du langage
poetique. Pt. I. Paris, 1974.
123
S имитирует, чтобы заклясть его и овладеть им, и таким
S образом зло, содержащееся в нем, оказывается ограни-
•2 ченным, опознанным и побежденным. Это отречение по-
у рождает символический порядок, конвенцию обмена —
о или, другими словами говоря, систему договора, кото-
§ рая делает возможным существование человеческого
^ сообщества. (Как пишет Марсель Мосс: «Возможно, нет
такого жертвоприношения, которое в чем-то не было
бы договором»29.) Любой порядок ценностей, как и
любая организация знаний, основывается на этом
компромиссе, который также является первоначальным
запретом, организующим этот порядок. Не разбудить спящее
и прирученное чудовище, любой ценой сдержать хаос,
которым грозит освобождение тех самых сил, которые
благодаря жертвоприношению и договору удалось
нейтрализовать и вывести из обращения и дискурса, — вот на
что направлена постоянная бдительность порядка,
возникающего из этого запрета.
Это непосредственно указывает на то, что всякое
знание имеет политическое происхождение и что знание
получает признание только предъявляя свои
договорные верительные грамоты, будучи знанием порядка (вот
почему академизм и косность закономерны и
являются знаками неизбежного изнашивания этой структуры;
то же относится и к глупости). От знания требуется не
знать или, точнее, ничего не знать о влечении,
поскольку оно несет в себе желание и насилие, секс и кровь —
блудливого и жестокого зверя — две скрещенные
поворотные оси хаоса.
Секс включен в систему различий и запретов,
конституирующих семью; насилие — главным образом,
убийство — институализируется и регулируется в
структуре государства (например, в праве вести войну и в
праве применять смертную казнь), которое
превращает насилие в отличительный знак его власти.
29 Mauss M. Oeuvres completes. T. I. Paris, 1968.
124
Такова ставка в этой игре, и Сад, отчетливо это осо- J
знавая, мог оценить всю невероятную смелость своего *°
вторжения в «основополагающую тайну». Он смог дерз- |
ко обозначить своим повествованием пределы того, что |
может быть высказано: «А теперь, друг-читатель, ты дол- и
жен приготовить свое сердце и свой ум для самого не- ^
пристойного рассказа, который кому-либо доводилось
слышать с сотворения мира. Ни у древних, ни у
современных авторов не встретишь ты ничего подобного»30.
Извлечь на свет невыразимый ужас — это значит
ввести его в дискурс, являющий собой одну из форм
договора, — в этом состоит парадокс и вся невероятность
Садовской затеи: сказать от лица власти то, против чего и была
направлена ее институализация. Точнее говоря, вызов
был брошен не той форме, в которой существует власть,
это даже невозможно было помыслить; классический
французский язык, унаследованный как природная
данность, не оставлял возможности для альтернативного
высказывания. Вопрос был не в том, чтобы отвергнуть
классический язык, а в том, чтобы заставить его
высказать то, что противно его природе и что его дезавуирует,
вписать в его тело все запретные Означаемые, которые
он призван был вытеснить (секс, кровь, экскременты,
преступление, ложь). Сад не видит того, что сам язык
является не чем иным, как абсолютной формой запрета,
абсолютной формой Закона. Мы обязаны этим
прозрением Соссюру и Фрейду, но в XVIII веке взгляд смотрел
сквозь язык и видел природу: в дискурсе
воспринимался только референт. Поэтому агрессия не могла
направляться на означающее, остававшееся слепым пятном.
Классический язык казался легким эфиром, надежным
проводником высказывания, плотным прозрачным
покрывалом. Таким образом, единственным оружием
против него оставалась лексика: составлять и переделывать
словари — эта стратегия сохранялась на протяжении все-
'" ХШ, 60-61.
125
3 го столетия (мир переделывали, меняя старые определе-
Е ния и применяя к нему новые). Поэтому Сад нападает
g именно на слова; нарушить их благопристойное исполь-
^ зование, сместить их конвенциональное употребление,
о смешать их с запрещенными («вульгарными») слова-
| ми — значило атаковать само значение. Вопрос никогда
^ не стоял о том, чтобы усомниться в самой структуре
языка (поскольку она оставалась невидимой); действовать
против языка означало переполнить его
высказываниями, которые он был призван исключить. Эффект
непристойности состоял в осуществлении разрыва между
традиционной синтаксической (риторической) формой
и означаемым порока, подразумевающим общество (с
его собственными ценностями, правовыми структурами
и т. д.), которое не должно было говорить на языке
порядочных людей и изящной словесности. Именно это
соучастие, это тайное соглашение и ощущалось как
недопустимое и скандальное. Политическое и литературное
устрашение классического языка было направлено на
то, чтобы сделать такое соглашение немыслимым;
непростительный (и так и не получивший прощения)
вызов Сада заключался в том, чтобы сделать эту практику
возможной. Вот почему трансгрессия у Сада
оборачивается необходимостью «сказать все»: доказать
посредством письма, что полученный в наследство язык
действительно способен сказать все, чего говорить не
должен. Для этого нужна была особая смелость.
Гипотеза, ради которой рисковал Сад, состояла в том, что не
существует никакого отклонения, каким бы перверсивным
оно ни было, о котором было бы невозможно сказать.
Ограничение воспринимается теперь как то, что
существует в воображении, а не в структуре языка; надо
освободить воображение и полностью вернуть ему его
пространство. Вот почему высказывание должно было
дойти до своих пределов, кропотливо передать каждый
оттенок, уловить тончайшие различия, осветить и тем
самым освободить абсолютно все означаемые, — другими
126
словами, двигаться в особом направлении — в направле- J
нии подробности. Это требование детали постоянно при- *»
сутствует на протяжении всего повествования, и именно |
в подробностях реальное застает врасплох воображение. §
В этом путешествии по разврату, где действия и ситуа- ^
ции в целом предсказуемы, подробности представляют ^
собой знаки неожиданного, они суть черты, которые
придают всему специфичность и в то же время
расширяют границы насыщаемого, заполняемого
пространства. В перечне эксцессов они указывают на
изобретательность желания. И если желание изобретательно
именно в подробностях, если желание
сосредотачивается на краях, отходах и осадках дискурса, то только
потому, что оно удалено со сцены (официальной)
признанных общих мест. Везде, где последние не попадают
в цель, обнаруживается разрыв, который стимулирует
изобретательность желания. Вот почему
высказывание о деталях всегда связано с непристойным, то есть со
скандальностью наслаждения: «До какой же степени
возбуждают меня эти подробности». Изложение
подробностей — это испытание особой либертеновской
претензии на то, чтобы сказать все, поскольку именно здесь
речь начинает оказывать сопротивление.
Это и имел в виду Фрейд, когда требовал от
пациентов, чтобы они сказали все (Allessagen) —
фундаментальное правило, определяющее высказывание анализанта,
тогда как внимание к деталям — правило для
аналитика: «Эти психоаналитические предметы можно понять
только в том случае, если они будут представлены
относительно полно и во всех подробностях, точно так же,
как сам анализ возможен только в том случае, если
пациент переходит к мелким деталям от замещающих их
абстракций» (Письмо к Фистеру, 1910). Именно в
подробностях проявляется «оно», именно там ослабляется
цензура, создаваемая вторичными образованиями, а
влечение дает о себе знать симптоматическим увеличением
количества ошибок и оговорок, поскольку именно здесь
127
§ испытывается наслаждение (так же, как это происходит
S в шутке) и говорит бессознательное («все это опять-таки
g лишь мелочи, но при всем том они указывают на проис-
^ хождение острот из бессознательного»)31. В этой работе
о необходимо идти до конца, ничего не оставлять за пре-
| делами высказывания: «Анализ нельзя считать закон-
.ii ченным, пока не поняты все неясности данного случая,
не заполнены все пробелы в воспоминаниях, не найдены
все поводы к вытеснениям»32. Фрейдовское
противопоставление «мельчайших деталей» и «замещающих
абстракций» замечательным образом применимо к
экономике, построенной на принципе «сказать все». В
самом деле, выражение «замещающие абстракции»
адекватно определяет уровень договорного обмена, когда все
предсказуемо и сводимо к общей норме, то есть некий
средний уровень поведения, исключающий всякие эксцессы,
всякую бессмысленную трату. Выражение «мельчайшие
детали» определяет уровень своеобразия, где главное не
обмен, а производство уникального различия,
отсутствие эквивалента, другими словами, каждая новая фигура
перверсии, будучи не соотносима ни с какими
замещающими знаками или структурами, открывает
возможность наслаждения как чистой невосполнимой траты.
В этой связи Фрейд пользуется термином
«локализованное накопление» (localisierte Ersparung), но такая
характеристика недостаточно выражает то, что
происходит; нагрузка детали такова, что в ней следовало бы
скорее видеть полный крах накопления: экономика
желания утверждает себя именно как расточительная, и
даже разорительная, никогда не возмещающая своих
потерь, поскольку суть ее как раз и состоит в том,
чтобы избавиться от «замещающих абстракций», от все-
■'" Фрейд 3. Остроумие и его отношение к бессознательному //
Фрейд 3. Художник и фантазирование / Пер. с нем. под
ред. Р. Ф. Додельцева. М., 1995. С. 95.
12 Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции / Пер. с нем.
Г. В. Барышниковой М., 1989. С. 290.
128
общих эквивалентов (понятий, денег, то есть системы
обмена вообще). По верному замечанию Люс Иригарэ,
целью здесь является разрыв: «Правило сказать все (tout
dire) на самом деле активизирует запрет (l'inter-dit).
Непроизносимое выводится из подспудных слоев
дискурса на его поверхность»33.
ТАЙНАЯ КОМНАТА,
или КАК ВЫСКАЗАТЬ НЕВЫСКАЗЫВАЕМОЕ
Преступление ищет укромные места,
и тем ужаснее нам кажется все, что скрыто от глаз.
В той ночи, которую оно открывает нашему страху,
мы вынуждены воображать самое худшее.
Жорж Батай. Процесс Жиля де Ре
Рядом с общим залом для наслаждений
находятся тайные комнаты, куда можно
удалиться, чтобы предаться в уединении
■"-ем изощрениям либертинажа.
Де Сад. История Жюльетты*1
Ничто не сравнится с преступлением,
совершаемым в уединении.
Ibid.35
В «120 днях Содома», как и в «Жюльетте», все
происходит на сцене Повествования; все, что можно увидеть,
может быть и высказано. Пространство непристойного
определяется этим беззастенчивым разоблачением, этим
ничем не сдерживаемым выставлением напоказ. Это
стремление настолько радикально, что оно все время
действует на пределе своих возможностей. В то же время
благодаря этому Сад хорошо чувствует, что место
тотальной демонстрации всего не может быть местом бес-
33 Irigaray L. Le sexe fait «comme» signe // Langages. № 17.
Mars. 1970. P. 42.
31 VIII, 404.
35 VIII, 474.
5 Зак. 3904
129
3 конечного эксцесса. Каждое место, то есть каждое мар-
1 кированное пространство определяет аксиоматику, а
g значит, и комбинаторику, конечный набор детермина-
^ ций, насыщаемую систему. Насыщение как цель оргии
I напрямую связано с общим требованием порядка, де-
| лающего возможным исчерпание вариантов соедине-
^ ния тел, удвоение наслаждения посредством
высказываний, тотальность зрелища.
Тогда пытка представляется средством разомкнуть
систему для новых возможностей; расчленение тел
нарушает комбинаторику, полностью перестраивает
пространство наслаждения, где начинает действовать новое
и более сложное соединение. Теперь наслаждения
подключаются к страданиям, и крики наслаждения
переплетаются с криками боли. Важнее всего, однако, то, что
тела жертв включаются в цикл ужасных метаморфоз,
которые ведут к полной утрате формы, к превращению
в неорганическое месиво: до крови исхлестанные, с
содранной кожей, изрезанные, сожженные, расчлененные,
искалеченные тела. На каждом этапе своего разрушения
они принимают формы, определяющие новые
комбинации, а соответственно, и новые наслаждения. Новое
пространство, наполненное криками и залитое кровью,
предлагает конфигурации еще более радикальные,
поскольку они еще более невероятны и хаотичны. Для
этого надо было вскрыть тела, разорвать их на части, содрать
с них кожу, выставить на всеобщее обозрение их органы
и внутренности. Однако обнажившись, тела и их органы
становятся еще более поверхностны и непристойно
показывают себя, то есть открываются в абсолютной
наготе, в поверхности без глубины. Под кожей нет ничего
такого, чего не было бы на коже. «Добавка» состоит в
самом процессе перехода от того, что лежит на
поверхности, к тому, что скрыто под ней; тело, подвергаемое
пытке, корчится в муках, а значит, принимает
неожиданные позы. Таким образом пытка достигает своей цели:
она создает новое, приводит в действие небывалые цик-
130
лы возможностей и открывает совершенно новые
наслаждения для зрения, слуха, осязания и воображения,
причем оргазм совпадает с последним вздохом жертвы.
Теперь система опять закрыта, и все можно начинать
сначала. Пытка раздвигает границы, увеличивая
количество перверсивных комбинаций; все мыслимые
жестокости оказываются вписаны в истязаемое тело, не
становясь эксцессом, полностью устраняющим границы.
Но как возможно такое? Может ли повествование об
оргии, не упраздняя себя в качестве такового, выйти за
пределы пространства и тел, образующих ее сцену?
Существуют тысячи видов безумия и тысячи жестокостей,
но они возможны только потому, что их можно
исчислить. Садовское повествование тянется, длится, без
устали возвращается к самому себе, чтобы совпасть с
окончательной суммой, чтобы подсчеты сошлись. То, что эта
сумма конечна, известно заранее. Путешествие имеет
свой неизбежно положенный конец. Повествование
должно завершиться, чтобы трансгрессия не оказалась
беспредельной, а безумие безмерным: «Мой замысел
всегда в тысячу раз превосходит то, что мне удается
осуществить [...] В этом мире существует всего два или три
преступления, достойные того, чтобы их совершить;
приведя их в исполнение, к ним уже нечего прибавить; все
остальное настолько ниже их, что перестаешь что-либо
чувствовать. Сколько раз я желал, черт возьми, напасть
на солнце, вырвать его из вселенной или употребить его
на то, чтобы сжечь мир. Вот это были бы преступления,
не то что те маленькие проступки, которые совершаем
мы, довольствуясь тем, что в течение года превращаем в
прах дюжину человеческих существ»36. Если бы было
возможно такое преступление, оно было бы
совершено в самом начале, и тогда никакого повествования не
было бы вообще. Повествование начинается лишь как
желание того, что могло бы его уничтожить, оно про-
* XIII, 165.
131
должается лишь потому, что ему не удается исполнить
это желание, и оно завершается отказом от него.
Сладострастное перебирание ограниченного набора
возможностей, пределы которого известны, само могло бы стать
удовольствием от нарратива. Ибо этот конечный набор
очень велик и чрезвычайно богат всякими
неожиданностями и возобновлениями: п + 1 до бесконечности.
Появление новых имен персонажей и мест является
достаточным условием, чтобы дать начало новым историям,
даже со старыми действиями и теориями, которые уже
высказывались; достаточно лишь соединить имя с
какой-нибудь деталью, вариацией, с + 1, создающим новые
комбинации. Вот почему все время необходимо
возвращаться к тому, что уже было сказано: набор вариаций,
теоретически конечный, на самом деле неисчерпаем.
Поэтому внутри сцены должна быть найдена «точка
схода» перспективы, где не говорится о том, что видит
глаз, и не рассказывается о том, что происходит.
Существует нечто, благодаря чему непостижимое и
невыразимое может открыть воображению (а следовательно,
желанию) возможность бесконечного расширения, не
препятствуя наслаждению следовать по пути,
намеченному повествованием. Эта точка схода — тайная
комната, место, где происходят ужасы, не имеющие
названия: «Браччиани, Олимпия и я удалились в тайную
комнату принцессы, где были совершены новые
мерзости, и я краснею, признаваясь вам в них...»37; «Мне
никогда не удавалось узнать, что происходит в этих
адских комнатах»38.
Это место ужаса и тайны держит знание в
неопределенности. Это место остатка, где имеет место все
остальное. Оно находится за пределами будуара, который
является центром повествования, рассуждения, эротической
практики, видимого — другими словами, сцены, которая
37IX, 148.
м XIII, 297.
132
неизбежно включает в себя все высказываемое. Тайная
комната, представляя собой прежде всего неудачную
попытку садовского повествования воплотить абсолютный
ужас, находится за пределами сцены и фактически
становится поразительной уловкой, позволяющей лишь
указать на него. Абсолютный ужас вписывается в этот
пробел, который образуется там, где повествование
отказывается называть. Мы не знаем, что именно происходит в
тайной комнате, мы только знаем, что там что-то
происходит, поэтому мы вынуждены воображать реальность,
воздействующую сильнее, чем дискурс, жестокость
такой силы, что на ее месте может быть только молчание.
Пробелу в повествовании соответствует молчание
жертв. Садовским жертвам вообще практически
нечего сказать, по крайней мере, по двум причинам:
прежде всего, только либертен в своем качестве Господина
владеет языком, и более того, именно эта привилегия
делает его Господином внутри текста; и во-вторых (но
это следствие первого), только наслаждение может
быть высказано, поскольку оно принадлежит
исключительно Господину; страдание, испытываемое жертвой,
не может существовать в речи. На страдание может
быть указано, оно может быть обозначено, но только
как стимуляция наслаждения; его присутствие в тексте
вообще крайне незначительно, поскольку ему вообще
постоянно не хватает правдоподобия.
В тайную комнату либертен входит со своей жертвой
один, поскольку другой либертен, если бы он
сопровождал его туда, мог бы, и даже должен был бы по логике
непристойного («сказать все») — свидетельствовать о том,
что там происходит, будучи сам господином языка и
представляя читателя на этой другой сцене. События,
которые наблюдает некто третий, становятся рассказом для
всех, и поэтому граница, отмечающая то, что может быть
сказано, проходит именно через исключенного
третьего. С другой стороны, это утверждает странную
пассивность жертв Сада, являющуюся эффектом их логическо-
133
го несуществования, той конфискации
символического, которая была произведена с самого начала. И в
тайной комнате либертен оказывается один, потому что он
больше не является объектом повествования, он
помещен за его пределы, но не выпадает из него, как его
жертвы, а находится по ту сторону дискурса. С
разрушением этой границы начинается ничего-не-говорящее
насилие; нет другого выхода, кроме как изъять
абсолютный ужас из привычного пространства языка.
Как читатели мы остаемся стоять перед дверью,
которая в тексте метафорически выражает границу
непристойного, то есть невозможность сказать все,
невозможность добавить новые комбинации к тем, которые уже
были использованы, невозможность вообще добавить
что-либо к символическому порядку, определяющему ту
неистовую, собственно садовскую агрессию, которая
направлена на тело и призвана взорвать его закрытость,
разрушить эту тюрьму знаков.
Поэтому нет ничего удивительного, что из этой
тайной комнаты до нас доносится только крик, который
вводится в повествование в качестве знака того, что в
ней происходит. Крик — это досимволическое
использование голоса, это голос до того, как им завладевает
язык, голос, который, как и другие выделения (сперма,
экскременты, моча, газы, кровь), выделяется или
исторгается из тела, это голос сведенный к его чисто
материальному движению. Крик сосредотачивает в себе
два неизменных требования Сада: додискурсивное,
которое отсылает к фантазму природы, предшествующей
человеку (природа вечная, безразличная, невинная), и
трансдискурсивное, достигаемое в языке,
уничтоженном пыткой, в презренной институции оргии и
преступления (природа безжалостная и жестокая, которая
становится доступной лишь через насилие и жестокость).
И тело объединяет в себе эти два регистра; тело,
отведенное в тайную комнату, не может говорить, и о нем нельзя
говорить. Крик, который пока еще не есть язык, в то же
134
время указывает на то, что языка здесь уже нет, что он
был разрушен, что повествование должно отступить и
что в предельном одиночестве палача то
исключительное насилие, которое совершается над телом, полностью
уклоняется от всякой формы дискурсивности. Тело
наконец сводится к своему «естественному состоянию», то
есть, следуя схеме Ламетри, к его чистейшей
материальности: масса плоти, нервная система, поверхность кожи,
из которых пытка ради наслаждения либертена
извлекает последнее дыхание жизни.
Крик ничего не меняет в молчании жертв, потому
что он подтверждает и усиливает их исключение из
языка. Крик никоим образом не является речью, он только
извержение звуков, струя голоса, примешивающаяся к
струе крови.
В противоположность обычным оргиям, то, что
происходит в тайной комнате, никогда не планируется,
поскольку очевидно, что запланированное совпадает с тем,
что может быть рассказано. Каждая программа
начинается с повелительного призыва: «Давайте внесем
порядок в наши оргии!» — то есть давайте создадим
аксиоматику, повествование и впридачу давайте бросим вызов
закону, заставив его служить тому, что он запрещает.
Тайная комната, напротив, — это место беспорядка (ли-
бертены выходят оттуда в растрепанном и обезумевшем
виде), это место, находящееся за пределами
повествования и поэтому полностью алогичное, безумное, место,
где не существует никаких правил, это хаос тел в
разрыве дискурса. Здесь начинает заявлять о себе предел, а
может быть, и неудача, садовской трансгрессии;
действительно, обеденное, представляющее собой
агрессию языка и против языка, формулировалось как
вызов, как «сказать все». Но как выразить в языке то, что
может стать нарративом, только когда речь прерывается,
когда исчезает повествование, соответствующее языку?
Язык продолжает функционировать только внутри
порядка или как пародия на него. Безумие, понимаемое
135
как абсолютный эксцесс, не может быть высказано, его
можно только вообразить там, где кончаются слова.
Поэтому в садовском тексте тайная комната
является странным и очень существенным симптомом:
странным, поскольку функционирует как запрет,
существенным, поскольку это своего рода пустое пространство (о
котором не рассказывается), вокруг которого
вращается пространство «насыщенное» (те области, о которых
можно говорить, где происходят планируемые «оргии»).
Можно сказать, что оно даже создает эти насыщенные
пространства, утверждая их своеобразное вечное
возвращение. Может быть, тайная комната — это место, где
повествование обретает новый импульс. Но чтобы увлечь
нас туда, необходима речь, способная уловить
непостижимую природу действий, которые, как
предполагается, там совершаются, но тогда мы бы вновь оказались в
будуаре, в глубине которого находится другая тайная
комната, манящая нас своей загадочной дверью. Ибо как
только дискурс начинает говорить о каком-либо
действии, он помещает его в порядок постижимого, в
комбинаторику возможного. Поэтому определять ужас,
который невозможно высказать, — это бесполезная, тщетная
попытка. Настойчивость садовского нарратива
сталкивается с этим парадоксом, который состоит в том, что
тело, даже обезображенное, раздавленное,
уничтоженное, остается телом сопротивляющимся. Недоступность
тайной комнаты становится теперь знаком
сопротивления, но это сопротивление дискурсу, а не притязание на
обладание неуязвимой для страданий душой, как у
христианских мучеников. Тайная комната не вызывает
никаких представлений о потустороннем мире, это вполне
позитивное существование задней комнаты, где
завершается демонстрация полной материальности тела —
кожи и органов, отпавших от языка. Это сопротивление
тела может приостанавливать речь, но оно все равно
взывает к еще одному модусу значения; и действительно,
тайная комната чем-то напоминает объект в практике
136
дзэн или у античных стоиков: о нем ничего нельзя
сказать, его нельзя описать, но его можно обозначить; это
анафорическое измерение, вписывающее в письмо
нередуцируемость самого тела, вторжение жеста,
отмечающего пробел в тексте, где насилие палача
нейтрализуется молчанием жертв.
Можно было бы сказать, как Л. Витгенштейн в
своем «Логико-философском трактате»: «То, что может
быть показано, не может быть сказано» и «о чем
невозможно говорить, о том следует молчать»39, что
демонстрирует соединение исчерпания логики с
молчанием преступления: «Насилие несет в себе то неистовое
отрицание, которое кладет конец всякой возможности
дискурса»40.
Что тогда еще остается сказать?
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПИСЬМА
Как нам, писателям, писать таким
письмом, чтобы оно убивало?
Б. Брехт
Итак, в порядке означаемого, то есть в порядке
нарративного высказывания, больше сказать уже нечего.
Дискурс эксцесса уже назвал все, что только можно
было назвать, в театре преступления уже сыграны все
сцены. Но в этом и состоит стратегия, или сила, письма:
если о последнем преступлении ничего нельзя сказать,
то тогда сама речь должна стать непрерывным
преступлением. Если язык — это форма закона, если благодаря
ему конституируется всякое общество и если
общество в свою очередь производит язык и предельно строго
39 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат //
Витгенштейн Л. Философские работы / Пер. с нем. Асеева Ю. С,
Козловой М. С. Ч. I. M., 1994. С. 25,73.
А0 Bataille G. L'Erotisme. Paris, 1957. P. 209.
137
следит за ним, то всякое оскорбление, наносимое
языку, оказывается тождественно самой возможности
совершения преступления, его матрицей, его чистой
моделью. Таково «преступление против нравственности,
преступление, которое совершается через письмо» и
которое Жюльетта рекомендует Клервиль, выражающей
следующее желание: «Мне бы хотелось отыскать такое
преступление, которое продолжало бы совершаться
даже тогда, когда я уже не прилагаю для этого никаких
усилий, чтобы, таким образом, в каждое мгновение
своей жизни, даже во время сна, я продолжала бы служить
источником несчастий, которые, распространяясь,
могли бы навести на мир абсолютную порчу или вызвали
такой беспорядок, который бы продолжался даже
тогда, когда меня уже не будет в живых»'11.
Именно это преступление письма, конечно, и есть то
преступление, которое намерен совершать Сад, следуя
своему принципу «сказать все». Этот принцип, являясь
попыткой называния и исчерпывающего разыгрывания
всех означаемых разврата, убийства, жестокости, —
создает письмо непристойности, которое существует как
двойное предательство: несоблюдение кодов
исключения, устраняющих из языка коммуникации
употребление вульгарных слов, используемых простонародьем
и, главным образом, «чернью», и несоблюдение кодов
литературного языка, которое происходит за счет
решительного отказа от использования метафор и
поддерживающей их конвенции. Будучи предательством
сословности и культуры, выражающемся в общем растлении
языка, принцип «сказать все» действительно является
преступлением, которое порождает все те
преступления, о которых он говорит. Это садовское преступление
parexellence. Впрочем, никакого другого преступления
он и не совершал.
" VIII, 503.
Глава третья
АПАТИЯ ЛИБЕРТЕНА,
или НАСЛАЖДЕНИЕ ОТ МЕТОДА
Стать хозяином собственного
внутреннего хаоса, подчинить собственный хаос
форме, действовать логически, просто,
категорически, математически,
самому себе быть законом: вот величайшая
претензия.
Ницше. Веселая наука
Только когда мы достигаем
бесчувственности н извращенности, природа
начинает открывать нам свои тайны, и
только оскорбляя ее, мы способны ее
разгадать.
Де Сад. История Жюльетты1
Инсценирование в тексте тела либертена наталкивается
на своеобразный парадокс. С одной стороны, будучи
телом, расчлененным на части, телом с
запрограммированными действиями, телом без тайны, без
«внутренности», оно полностью открыто скальпелю
классифицирующего разума. Но с другой стороны, поскольку это
тело либертена, о нем можно сказать, что это тело
желающее, тело — вместилище страстей. А страсти суть
то, что разум менее всего способен помыслить. Это
безупречно продемонстрировал Декарт: ему удалось
выдвинуть принцип Cogito и вывести из него уверенность
в существовании Бога и математических истин, не
сделав никаких предположений относительно существо-
1 IX, 115.
139
вания тела и его чувств; в дальнейшем ему
потребовалась немалая логическая работа (вся вторая часть
«Размышлений»'), чтобы снова поместить тело в залитое
светом пространство мысли. Что касается чувств
(эмоций, ощущений, страстей), ему пришлось объяснять их
воздействие на душу чуть ли не божественным
вмешательством.
Ни в коей мере не отрекаясь от претензий разума (а
как раз напротив), мысль либертена стремится
преуспеть там, где картезианство потерпело поражение. Она
хочет говорить в режиме рациональности о том, что,
казалось, по самому своему определению ускользает
от него. Разум тогда еще терялся перед лицом страсти,
в которой видел свой собственный предел. Он
по-прежнему мыслил себя как субстанцию, противостоящую
другой, предположительно гетерогенной, субстанции.
Затем (главным образом благодаря Канту) разум узнал,
что он является формой — универсальной формой,
способной запечатлевать себя на любой субстанции и
навязывать себя ей. Например, субстанции страсти.
Если страсть неуправляема и напоминает бурный
поток, разум должен приручить ее, подчинить строгости
своих операций. Разум должен сделать страсть
рациональной. Для этого ему необходимо рассматривать ее
как аналог силы, которая опасна из-за импульсов,
приводящих ее к сжатию или к взрыву, и которую
достаточно разделить, разложить на составные части, чтобы
получить возможность управлять ею. Такова задача
апатии либертена: расчленить ядро влечения, сделать
его более изысканным и разнообразным в ходе своего
рода крекинг-процесса. Страсти выйдут из него
очищенными, они будут распределены в соответствии с
точно указанными целями в программе наслаждений.
Ими можно будет оперировать. Однако пройдя через
этот рациональный реактор-размножитель, страсти не
останутся неизменными, и их новый способ
функционирования не останется без последствий: предлагая те
140
или иные средства, разум всегда навязывает свои цели.
В этом прохождении через апатию, по-видимому,
обнаруживает себя проект безграничного, смертоносного
господства.
АПАТИЯ/СТРАСТЬ:
ПОИСК ИНВАРИАНТОВ
Apatheia: это слово принадлежит аскетической
традиции, вокруг него формируются принципы этики стоиков.
Эпикурейство также выдвигает apatheia своим
требованием, но лишь в той мере, в какой, отказываясь от своих
изначальных убеждений, оно пытается придать
моральный характер скандальному требованию удовольствия,
используя софистический довод, что apatheia, будучи
состоянием безразличия по отношению к страсти, а
следовательно, отсутствием боли, является наиболее
совершенной формой счастья; другими словами, apatheia
свойственна эпикурейству лишь в той мере, в какой
последнее переходит в стоицизм. В обоих случаях цель
одинакова: господство над влечениями через
достижение аскетической мудрости.
Когда Сад перехватывает это понятие, оно
подвергается у него радикальной трансформации. Апатия
мыслится уже не как конечное состояние,
подразумевающее отсутствие страстей, или, говоря словами Фрейда,
как сублимация, но, напротив, как техника усиления и
умножения страстей. Она является условием для
высшей эротики, идущей от головы: эротики настоящего
либертена. Апатия — это тот трансформатор, который
превращает материю влечений — «раздражение
множества нервов» — в «картины» воображения, то,
благодаря чему секс подключается прямо к мозгу, желание
овладевает языком, влечение вписывается в
символическое. Как техника движения вхолостую (которая
является не отрицанием, а временным прекращением про-
141
дуктивнои деятельности) апатия позволяет выделить
из влечения первичное возбуждение, освобождая
инвестирование влечения от диктата социальной нормы при
выборе своего объекта, чтобы сделать влечение
открытым для бесконечной поливалентности комбинаторики
желания. Но как возможно такое парадоксальное
соединение апатии и либертинажа? Как можно, однажды
изгнав страсть, потом вернуть ее обратно?
Когда Сад противопоставляет апатию страсти, кое-
что сразу вызывает удивление: страсть всегда
утверждается в качестве естественного движения индивида и
таким образом обосновывает необходимость
сексуальных эксцессов и ужасных преступлений. Тем не менее
тот, кто просто отдается этому движению, уже
предназначен быть жертвой или, по крайней мере,
исключается из общества подлинных либертенов, подвергая
себя смертельному риску оказаться одним из
предметов для составления «картины», одним из
«любопытных случаев», который будет подвергнет изучению
(истязанию). Тогда могло бы показаться, что этот вопрос
должен формулироваться в виде дизъюнктивного
противопоставления: апатия или страсть — две оси, по
которым должны были бы распределяться палачи и
жертвы. Однако мы не наблюдаем ничего подобного. При
всей своей апатии либертен не становится менее
страстным. Как он преодолевает эту апорию? Этот вопрос
как раз обсуждается в диалоге Жюльетты и Делькура,
нантского палача. Жюльетте, которая признается в
своем убеждении, что палач полагает хладнокровие
необходимым для выполнения своей задачи лишь
потому, что связывает убийство и наслаждение, потому что
«находится в возбуждении либертинажа», Делькур
отвечает следующее: «Невозможно отрицать, мадам, что
либертинаж ведет к убийству. Хорошо известно, что
человеку пресыщенному требуется восстановить свои
силы путем совершения того, что глупцы называют
преступлением: когда мы причиняем кому бы то ни
142
было страдание, оно сильнейшим образом отдается в
наших нервах и мы восстанавливаем все силы, которые
до того растратили в излишествах. Поэтому убийство —
этр, разумеется, одно из самых приятных средств
либертинажа, но неверно думать, что для совершения
убийства надо обязательно находиться в возбуждении
либертинажа. Доказательством тому служит то крайнее
хладнокровие, с которым делают свое дело все мои
коллеги, движимые при этом страстью совершенно иного
рода, нежели та, которая одушевляет либертена. Как и
эта, последняя, в свою очередь, отлична от страсти тех,
кто убивает из желания возвыситься, из мести или из
алчности или просто по причине крайней жестокости,
не будучи вынуждаем к этому никакой иной страстью.
Это означает лишь то, что существует несколько
классов убийств, а либертинаж является только одним из
них»2. Либертинаж обозначает здесь страсть par
excellence, тот тип страсти, который определяется как
сексуальное желание. Жюльетта говорит о том, что эта
страсть должна быть признана причиной другой:
страсти, которая определяется как желание преступления.
«Либертинаж ведет к убийству» — таков ее тезис. Она
имеет в виду, что убийство служит либертинажу, а
тогда вся привлекательность убийства сводится к
«разрядке», которую оно вызывает. Убийству отводится
инструментальное положение, оно служит
посредником наслаждения и, следовательно, его желают не ради
него самого, поскольку его функция подчиняется
другой, воспринимаемой в качестве цели. В этом
Жюльетта проявляет себя еще новичком в «философии»: она
настаивает на иерархии причин, поэтому нантский
палач и преподает ей урок апатии, совершая это в два
этапа: сначала он показывает относительность серии
причин, а затем устраняет само представление о причине.
Тезис Жюльетты не отвергнут, но сведен к частному
2 VIII, 298.
143
g случаю: убийство может быть совершено человеком, на*
Е холящимся во власти многих разных страстей, отлич-
3 ных от страсти либертена: честолюбия, мести, алчно-
^ сти: «Это означает лишь то, что существует несколько
I классов убийств, а либертинажу принадлежит только
| один из них». Мы оказываемся, таким образом, перед
" таблицей возможностей, которая, однако, немедленно
перестает быть областью причин, как только в нее
проникает апатия (а вместе с ней и ее практический
эквивалент — хладнокровие), так что сама идея причинной
связи теряет силу. Убийство уже не должно быть
связано с той или иной страстью, оно утверждается само
по себе, как то, что убийцы совершают «просто по
причине крайней жестокости, не будучи вынуждаемы к
этому никакой иной страстью».
Жюльетта усваивает этот урок, но сохраняет свое
убеждение о существовании обязательной связи между
убийством и либертинажем (слово «либертинаж» часто
используется в этом тексте как синоним «вожделения»
или «сладострастия»), однако с этого момента «либер-
тинаж» упоминается уже не в качестве принципа
причинности, а как нечто совершенно иное, что, быть
может, позволит преодолеть апорию апатия/страсть.
Жюльетта признает за убийством статус
автономной страсти, но ей все-таки удается заставить Дельку-
ра признать, что либертинаж, то есть вожделение, не
является просто страстью среди прочих: «Для страстей
вожделение есть то же самое, что нервный флюид для
жизни: оно является их опорой. А следовательно, все
страсти могут проистекать из вожделения»3.
Хотя кажется, что Жюльетта сохраняет свое
убеждение и даже укрепляется в нем, тем не менее она говорит
уже нечто совсем иное, она поняла «метод Делькура»,
который состоит в том, чтобы придать всем переменным
величинам таблицы (всем видам страсти) общий коэф-
'VIII, 298.
144
фицент, инвариант — апатию, которая их разъединяет,
помещает в автономные серии и делает их
нетранзитивными. Апатия действует как то, что «растворяет»
каузальность, она является не какой-то одной серией среди
прочих, а элементом, который циркулирует между ними,
чтобы оторвать их друг от друга и в то же время
упорядочить их на поверхности таблицы возможностей.
Относительность обесценивает отношения.
Именно этот особый статус апатии как внесерийного
элемента и создает для Жюльетты модель, применимую
к понятию либертинажа. Жюльетта остается
последовательницей либертинажа, но несколько видоизменяя это
понятие. Она уже не настаивает, что либертинаж —
достаточная причина для убийства, что это оправдание
убийства, она требует, чтобы либертинаж, как и апатия, был
метасерийным элементом, за счет которого
трансформируются, усиливаются и возвеличиваются все страсти.
Имеется, таким образом, растворитель (апатия) и
активатор (либертинаж), то есть принцип ясности и
принцип экзальтации. Апатия способствует определению
элементов, их совмещению, точности их анализа, или,
иными словами, она устанавливает топику.
Либертинаж заставляет элементы циркулировать, доводит их до
максимальной интенсивности, иначе говоря, отвечает
за энергетику.
Поэтому либертинаж больше не является банальной
страстью, но вместе с апатией он образует две оси, в
соответствии с которыми создается таблица других
страстей, каждая из которых, какой бы особой ни была ее
природа, находится под воздействием этих двух
факторов. Таким образом, мы видим, как разрешается
рассмотренная вначале апория апатия/страсть. Апатия
становится условием силы желания в той мере, в какой она
делает его безразличным к мотивам и к последствиям
его безумия, разыгрывающегося на телах других, и, в
конце концов, безразличным ко всем кодам
нормальности. С другой стороны, желание усиливает апатию,
145
g устанавливая необратимое метонимическое отношение/
5 между преступлением и наслаждением, ведущее к прак/
3 тике чистой жестокости, то есть к полному устранение
^ всякой каузальности. /
АСКЕЗА ЛИБЕРТЕНА,
или КРИТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Для либертена апатия есть метод как таковой. Это
безупречный метод, поскольку он представляет собой как
практику, так и критику и одновременно управляет как
движением желания, так и суждением разума.
Действительно, как показал Бланшо, апатия в
практическом плане есть необходимое средство господства
над доступными индивиду силами и энергией, а также
средство их концентрации, поскольку она позволяет
индивиду отбрасывать ничтожные объекты
(ничтожные, поскольку иллюзорные), над которыми
совершается грубый разврат: «Сад требует: чтобы страсть
стала энергией, надо провести ее через сжатие, надо, чтобы
она опосредовалась, пройдя через неизбежный момент
нечувствительности; тогда она достигнет
максимальной степени»4.
Апатия не убивает желание, напротив, она его
усиливает, создавая вокруг него вакуум знаков. Во всяком
случае, апатия — это квазимистическая тайна метода,
которую Жюльетта доверяет своей подруге (и будущей
жертве), мадам де Дони: «Проведите целых пятнадцать
дней, не предаваясь сладострастию, занимайте и
развлекайте себя чем-нибудь другим, в течение всех пят-
* «Сад требует: чтобы страсть стала энергией, нужно, чтобы
она сконцентрировалась, чтобы она опосредовалась,
проходя через необходимый момент нечувствительности; тогда
она станет максимальной» (Бланшо М. Сад / Пер. с франц.
В. Лапицкого // Маркиз де Сад и XX век. М., 1992. С. 83).
146
надцати дней не допускайте никаких мыслей о либер-
тинаже. По истечении этого времени ложитесь одна, в
полной тишине и темноте; вспомните все мысли,
которые вы отгоняли в прошедшие дни, лениво и небрежно
предайтесь порочному удовольствию, искусством
которого вы владеете с неподражаемым совершенством.
Потом дайте волю вашему воображению и позвольте
ему нарисовать перед вами одну за другой и со все
большим размахом самые разнообразные картины разврата;
задержитесь на деталях каждой из них; еще раз
пересмотрите их все поочередно; убедитесь в том, что ваша
власть над миром безраздельна, что вам принадлежит
право изменять, разрушать, уничтожать, калечить
любые живые существа, какие вы только пожелаете. Вам
нечего здесь опасаться: выбирайте то, что доставляет
вам удовольствие, но ничего не избегайте, не делайте
никаких исключений; никому не оказывайте
предпочтения; не допускайте, чтобы какая-либо связь завладела
вами, чтобы что-то оказалось у вас на пути; оставьте все
на откуп вашему воображению и старайтесь избегать
всяких поспешных движений: пусть вашими пальцами
управляет ваша голова, а не ваши чувства. Вы и не
заметите, как из всех различных картин, которые пройдут
перед вашим взором, одна захватит вас более сильно,
нежели остальные, так что вы не сможете ни
избавиться от нее, ни заменить какой-либо другой. Полученная
таким способом идея полностью овладеет вами, огонь
захватит ваши чувства, и вы "разрядитесь", как
Мессалина. Как только это произойдет, зажгите свечи и
подробнейшим образом опишите картину, которая вас так
воспламенила, не упуская ни малейших обстоятельств,
способных усилить ее детали; потом идите спать,
продолжая размышлять об этом. Перечитайте ваши
записи на следующий день, и, возобновив свое занятие,
добавьте все то, что сможет подсказать вам ваше
воображение, уже отчасти пресыщенное той идеей, которая
стоила вам нескольких "извержений", но что способ-
147
но еще подогреть ваше возбуждение. Теперь придайте
вашей идее окончательный вид, продумав все
последние штрихи, и снова добавьте эпизоды, которые
придут вам в голову. Затем исполните все это, и вы
обнаружите, что именно эта разновидность порока подходит
вам больше всего и именно от этого вы будете получать
величайшее наслаждение. Мой рецепт, надо признать,
немного преступен, но он совершенно надежен, и я бы
не стала его рекомендовать, если бы сама успешно его
не испробовала»5.
Сразу же возникают вполне справедливые
подозрения, что в этом тексте пародируются определенные
мистические практики. Сад кое-где почти дословно
приводит предписания из «Духовных упражнений» Игнатия
Лойолы6. Подобно последователю Лойолы, аскет-ли-
бертен (если мы рискнем соединить эти два слова)
следует трем важнейшим условиям, призванным создать
оптимальное состояние для желания и наслаждения:
— Условия места: укромное пространство,
затемненное, недоступное внешним раздражителям и
воздействиям.
— Условия времени: период подготовки установлен
очень точно — пятнадцать дней; это строгое
ограничение работает как вызов, то есть как механизм,
провоцирующий эффекты и оказывающий давление на знаки;
затем следует момент медитации с ее работой
воспоминания и повторения, после чего наступает пора
осуществления.
— Условия дискурса: полная приостановка речи при
полном уединении в тишине и обращение к письму как
5IX, 47-48.
6 Здесь уместно напомнить, что четыре года (в возрасте с
одиннадцати до пятнадцати лет) Сад был учеником
иезуитов в Луи-леТран, где, вероятно, наряду с другими
учениками осваивал религиозную практику медитации и
уединения в духе Лойолы, обязательную во всех иезуитских
учебных заведениях.
148
способу фиксирования мыслей, перечитывания и
сравнивания их (приостановка речи ради того, чтобы
открыть себя тому, что диктуется желанием).
Как и в случае лоиоловского уединения, все эти
условия подчинены цели создания того, что Барт называет
«полем исключения»7.
Но речь приостанавливается только в той мере, в
какой инстанция дискурса смещается, чтобы
возникнуть на другом материале, более далеком, чем речь, а
именно на материале установок и условий медитации,
протокол которой имеет форму предложения,
драматически репрезентирующего высказывание, которое
появляется лишь тогда, когда заканчивается давление,
направленное на знаки. Медитирующий отказывается
от речи, но для того, чтобы заставить говорить знаки,
чтобы другой голос мог ответить на его призыв: для
Лойолы это голос Бога, для Сада это голос желания.
Примечательно, что и у святого отца-иезуита, и у
писателя-либертена воображение необходимо в
качестве медиума и инструмента этой операции. Может
показаться, что для Сада это обращение к воображению
представляется само собой разумеющимся. В случае
Лойолы это более удивительно, поскольку здесь
предполагается полный разрыв с предшествующей
кастильской и рейнской мистической традицией, где идеал
«созерцания в Боге» требует исключения всех
возможных референтов, всех материальных посредников. На
смену этому негативному мышлению теперь пришел
новый порядок знаков с его требованием
классификации и перечня позитивностей. Лойоловское
воображение уже стояло на пороге этой новой эпохи, садовское
воображение знаменует ее окончательное воплощение.
' Banhes R. Sade, Fourier, Loyola. Paris, 1971. P. 55. Барт
рассматривает трех этих «логотетов» по-отдельности, мне же
показалось плодотворным проследить точки
соприкосновения двух из них, тематически не имеющих ничего общего.
149
На смену видению, которое не поддается выражению,
приходят сцены, образы, картины. Но хотя два этих
подхода мобилизуют одну и ту же способность, не
только их объекты (как и можно было бы предположить),
но и процессы, которые при этом возникают,
оказываются глубоко различны, хотя в каждом из этих случаев
мы можем заметить тождество формальной цели:
вопрошать и фиксировать. Игнатий Лойола, как
объясняет Барт, трактует воображение как полностью
волюнтаристское и избирательное: «Представляя собой
деятельное проявление воли, лойоловское
воображение может и должно прежде всего иметь апотропа-
ическую функцию, то есть обладать способностью
выталкивать чужие образы; [...] именно на обретение этой
способности к отрицанию нацелена сосредоточенность
как главная составляющая медитации: "созерцание",
"фиксация", "представление себя при помощи
воображения", "созерцание глазами воображения" — это
прежде всего значит исключение, постоянное
исключение; только на первый взгляд мысленная фиксация
объекта нужна для обретения позитивной энергии, на
самом деле суть заключается в получении неисчеза-
ющего остатка в результате целой серии активных
исключений, совершаемых со всей возможной
бдительностью...»8 Избирательная бдительность должна быть
тем более строга, что воображение, — сколь бы
необходимым оно ни было для конкретной репрезентации
действий в подражание Христу и воображаемой
идентификации, которую эти акты должны предопределить
в субъекте oratio, — воображение остается
двусмысленной, склонной к заблуждениям способностью,
подвергающейся нападению искушающих образов. Вот почему
фиксация неотделима от изнуряющего процесса
исключения: правильный образ может удержаться только в
пустоте, создаваемой вокруг него. Это, конечно, уже не
" Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P. 57.
150
проблема воображения либертена, открытого ко всем
перверсивным воздействиям, для которого вопрос
состоит не в том, чтобы исключать, а только в том, чтобы
обозначить свое предпочтение, изобрести процедуру,
позволяющую выбрать среди всех остальных тот
единственный образ, который сможет утвердить себя как
наиболее сильный, наиболее сладострастный,
способный в наибольшей степени завладеть энергией желания
и направить ее в нужном направлении.
Таким образом, в движении от предписаний Лойо-
лы к предписаниям Сада утрачивается
волюнтаристская позиция. Единственное решение, которое
требуется от медитирующего либертена, состоит, если можно
так выразиться, в том, чтобы активно предаться
состоянию пассивности, подготовиться внимательно читать
то, что происходит внутри него. Действительно, этот
процесс требует минимальных условий, первое из
которых — решение либертена удалиться в свои покои, где
в течение пятнадцати дней подготовки
предполагается не борьба, а просто приостановка желания
посредством игрового отклонения внимания на другие объекты,
другими словами, где имеет место вполне
гедонистический аскетизм. Второе состоит в том, чтобы
уединиться и лечь «в тишине и полной темноте», чтобы
возбуждаться и свободно отдаться потоку своего воображения.
(Наличие дивана, темноты, свободных ассоциаций
сближает практику либертинажа с ситуацией
фрейдовского психоанализа, за исключением того, что в первом
случае отсутствует перенос, что уже составляет
огромную разницу.) Начиная с этого момента процесс идет
уже от третьего лица, как если бы он настигал
медитирующего извне: от того лишь требовалось создать
условия — установить camera obscura, — а затем самому
же стать вуайером того спектакля, который он создал
собственными усилиями. Этот спектакль удивительно
близок к тому, чем сегодня может являться просмотр
отснятой пленки, когда возможны остановка, возвра-
151
2 щения назад, добавления элементов из других лент,
g короче говоря, возможен монтаж, который, собственно,
g и называется созданием фильма, поскольку виды дея-
^ тельности третьего этапа уже представляют собой эту
о работу: последовательное представление образов, дета-
| лизация, повторный просмотр. Эти виды деятельности,
^ в какой-то степени подражающие практикам Игнатия
Лойолы, предстают как первая серьезная попытка
организовать фантазматический материал, или, иначе
говоря, суть этого шага заключается в том, чтобы
превратить этот материал в высказывание (последовательное
представление образов), и еще, помимо этого, придать
ему фактуру реальности (детализация) за счет
максимально конкретной репрезентации. Однако на самом
деле для Сада, как и для Лойолы, эта концентрация
воображения имеет своей целью не что иное, как
галлюцинирование референта, в реальное присутствие
которого необходимо верить. (Игнатий Лойола: «Во время
трапезы полагай, что видишь, как Христос наш
Господь преломляет хлеб со своими учениками — как он
пьет, смотрит, говорит — и пытайся подражать ему».)
Для Сада эта дискурсивная работа представляет собой
операцию фильтрации и отбора. Она не имеет ничего
общего с борьбой или исключением; достаточно
наложить эту тройную структуру (последовательное
представление образов, детализация, повторный просмотр)
на поток воображения, чтобы наилучший образ, самый
настойчивый (или устойчивый), самостоятельно
выделился (можно вспомнить здесь об эксперименте
гештальтпсихологии). Этот процесс является строго
объективным, и уже не субъект должен зафиксировать
картину, а картина должна зафиксировать субъекта,
завладеть им, увлечь его: «Вы и не заметите, как из
всех различных картин, которые пройдут перед вашим
взором, одна захватит вас более сильно, нежели
остальные, так что вы не сможете ни избавиться от нее,
ни заменить какой-либо другой». Все происходит так,
152
как если бы медитирующий либертен создавал
необходимые условия, чтобы быть выбранным своим
собственным желанием, как если бы он настраивал
механизм, принуждающий самое сильное, самое дикое
желание проявить себя, спроецировать себя на образ,
в котором, в свою очередь, вырисовывается субъект:
иконофания становится эрофанией. При помощи
своего артефакта субъект вынуждает то, что исходит из
него самого, захватывать его таким образом, как если
бы это приходило откуда-то извне; он
удовлетворяется работой записи процесса, сквозь него проходящего.
Цель уединения и медитации состоит в том, чтобы
принудить знаки говорить, и тогда либертен сможет
позволить себе говорить через них. Влечению надо придать
образ судьбы.
Примечательно, что эта работа записи, как мы
обозначим четвертый шаг, отождествляется с письмом:
«Как только это произойдет, зажгите свечи и
подробнейшим образом опишите картину, которая вас так
воспламенила, не упуская ни малейших обстоятельств,
способных усилить ее детали; потом идите спать,
продолжая размышлять об этом. Перечитайте ваши
записи на следующий день и, возобновив свое занятие,
добавьте все то, что сможет подсказать вам ваше
воображение, уже отчасти пресыщенное той идеей, которая
стоила вам нескольких "извержений", но что способно
еще подогреть ваше возбуждение. Теперь придайте
вашей идее окончательный вид, продумав все последние
штрихи, и снова добавьте эпизоды, которые придут вам
в голову»9 (курсив мой. — М. Э.) Помимо все еще
очевидной отсылки к Лойоле, включение письма в этот
механизм удивляет своим сходством с гегелевским
«рецептом» выявления всеобщего в чувственном
ощущении, описанном в первой главе «Феноменологии духа»:
«На вопрос: что такое "теперь"? мы, таким образом,
MX, 47-48.
153
ответим, например: "теперь" — это ночь. Чтобы
проверить истину этой чувственной достоверности,
достаточно простого опыта. Мы запишем эту истину; оттого,
что мы ее запишем, истина не может проиграть, как не
может она проиграть от того, что мы ее сохраняем. Если
мы опять взглянем на записанную истину теперь, в этот
полдень, мы должны будем сказать, что она выдохлась»10.
Из этого опыта Гегель извлекает истину
опосредствования («Это сохраняющееся "теперь" есть поэтому не
непосредственное "теперь", а опосредствованное») и
заключает: «...Следовательно, всеобщее есть то, что
истинно в чувственной достоверности. Мы и о
чувственном высказываемся как о чем-то всеобщем [...] Но язык,
как мы видим, правдивее: в нем мы сами
непосредственно опровергаем свое мнение (Meinung)*".
Не будем пункт за пунктом сравнивать эти тексты,
поскольку они ни в коей мере не ставят общих проблем
и рассматривают различные объекты, но через
тождество процедуры (писать, читать, перечитывать) укажем
их формальное различие, проявляющееся как в акте,
так и в функции письма.
Если действительно уместно по отношению к
гегелевской процедуре говорить о «рецепте», то
использование письма остается здесь совершенно
несущественным и даже эксплицитно сведено до минимума
(«оттого, что мы ее запишем, истина не может
проиграть, как не может она проиграть оттого, что мы ее
сохраняем»). Здесь у письма сохраняется его
инструментальный статус, его вспомогательная роль — роль
нейтрального посредника; письмо фиксирует нечто, но
не вносит никаких изменений, оно выполняет чисто
регистрационную функцию и не обладает никакой
собственной энергией.
10 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г. Г. Шпе-
та. Отв. ред. М. Ф Быкова. М., 2000. С. 56.
" Там же. С. 55.
154
Для Сада, напротив, ставка значительно серьезнее;
истина существенно меняется от того, что оказывается
записанной, и значительно выигрывает от
перечитывания. Речь идет не о случайной процедуре, но о выборе
метода как чистом акте воли. Прежде всего, письмо
вводится не только для того, чтобы зафиксировать
ощущение или пережитый опыт, но чтобы сохранить
энергию (момент возобновления письма будет усилен этой
сохраненной энергией, и таким образом произойдет
экспоненциальное накопление). Но в еще большей
степени писать — значит вводить фантазм в практику,
подчинять его схватыванию реальности («Теперь
придайте вашей идее окончательный вид»), вписывать его в
социальность (социальность языка) и режим
объективности (режим символического). Писать, другими
словами, значит «совершать» («Затем исполните все это, и
вы обнаружите, что именно эта разновидность порока
подходит вам больше всего»).
Если для Гегеля написанное — это незаметный,
устранимый инструмент операции опосредствования,
если это только не заслуживающий внимания
посредник, то дело в том, что в нем сохраняется не сам момент,
с его собственной фактурой и единственным в своем
роде ощущением, а небытие этого момента.
Свидетельствуя против момента, написанное приветствует
истину всеобщего; проходя через время, содержание
написанного лишается ценности. Для Сада, напротив, даже
спустя время написанное вновь репрезентирует
неповрежденное, и даже усилившееся, возвращение своего
содержания. Мы видим, что между двумя этими
методами разыгрывается непримиримый конфликт двух типов
мышления: для Сада мышление связано с повторением
желания и его интенсивностью, для Гегеля — с
опосредствованием желания, то есть с желанием, приносимым
в жертву понятию.
Гегелевская ночь, ночь небытия, ведет к смерти
ощущения и к подавлению непосредственно данного: таким
155
8 образом заявляет о себе закон отречения от желания.
g Напротив, ночь Сада действует в направлении интен-
,2 сификации желания и подготовки его смертоносного,
у убийственного возвращения. Гегелевская ночь — та,
I где «субстанция становится субъектом», где отрицание
| момента предшествует истине дня и узнаванию Дру-
^ гого. В садовской ночи ничто не опосредствуется, там
лишь повторяется наслаждение и усиливается
господство, исключающее всякую инаковость. («Убедитесь в
том, что ваша власть над миром безраздельна, что вам
принадлежит право изменять, разрушать, уничтожать,
калечить любые живые существа, какие вы только
пожелаете».)
В садовском механизме полностью отсутствует
возможность переноса; Другой не имеет даже
воображаемого статуса, которым его наделяет Лойола, — статуса
фигуры Бога, фигуры, которая излучает знаки,
порождаемые, собираемые и интерпретируемые
соответствующим механизмом, каковым является Упражнение.
Садовский механизм, напротив, предполагает полную
имманентность и нетранзитивность излучающего знаки
источника — желания, вот почему это не столько
механизм чтения, сколько практический отбор. Это не
столько вопрос узнавания некоего неопределенного голоса,
сколько утверждение логики категорического выбора.
В обоих случаях, однако, внимание привлекает именно
создание этого механизма утверждения, связанного с
соответствующей обстановкой, временем, жестуаль-
ным кодом, использованием воображения и в
особенности с методическим производством пустоты (тел,
знаков, дискурсов), которая должна принудить
искомый элемент навязать себя в своей властной истине.
Мы видим, таким образом, что практика апатии как
oratio libertina — это, главным образом, практика
определенного метода диакритического прояснения
суждения, высвобождения либидо, метода, который
одновременно утверждается как искусство усиления на-
156
слаждения — чередование импульсов недо/перена-
грузки. В этой разреженной среде, скорее отрицающей,
нежели отрицательной, в этом происходящем в
уединении опустошении кодов повседневности энергия
собирается, конденсируется и принуждается к
произведению главного акта, акта суждения, и осуществлению
необходимого выбора.
Поэтому тот артефакт, каким является пустота
апатии, — никоим образом не уничтожение страсти, а,
напротив, утонченная техника ее усиления. Вот почему
Бланшо прав, рассматривая апатию как средство
увеличения количества энергии. Речь, если быть точным,
идет о концентрации страсти, о том, чтобы
сфокусировать ее в одной точке («именно эта разновидность
порока подходит вам больше всего»). Движение
вхолостую и методическая нечувствительность
подготавливают взрывные и бурные сгущения наслаждения.
Тем не менее, когда Бланшо пишет: «Апатия — это
дух отрицания, приложенный к человеку, который
выбрал для себя быть сувереном»12, он притягивает Сада
к проблематике, которая ему не свойственна. Ибо
апатия — это совсем другое, нежели отрицание. В той мере,
в какой отрицание является либо актом логического
суждения, либо диалектической операцией Aufhebung,
оно не объясняет апатию как аффективный акт, как
операцию, благодаря которой либидинальная энергия
лишается своих обычных объектов. Речь здесь идет не
об отрицании, а о «разъединении», апатия не
подавляет знаки, она лишает их всякой интенсивности, перед
лицом серьезности отрицания апатия сохраняет саспенс
юмора. Другими словами, ее действие состоит в
дистанцировании, понимаемом как совершенная техника дез-
аффектации: задача состоит в том, чтобы освободить
аффект от иллюзии, на которую он себя расходует.
Точнее говоря, критическая операция апатии позволяет
12 Бланшо М. Сад. С. 82.
157
S отделить влечение (количество энергии) от сентимен-
1 тального (иллюзии, которая присоединяется к либидо).
Э Действительно, очевидно, что для Сада сентименталь-
^ ное является местом идеологического par excellence, то
§ есть всего того, что в XVIII веке обозначалось словом
| «предрассудок». Мы еще увидим, почему сентимен-
^ тальное так легко предоставляет себя для проявления
идеологического. Пока только зададимся вопросом, как
избавиться от предрассудка, не уничтожив при этом
страсть. Функция апатии как раз и будет состоять в
том, чтобы произвести это разделение, а затем
правильную сортировку, поскольку страсть становится
по-настоящему страстью либертена только тогда, когда она
отделяется от сентиментального, то есть когда
высвобождается в качестве чисто энергетического элемента
или, иначе говоря, выступает в качестве действующего
начала могущества, а значит, наслаждения. Но в этом
случае речь пойдет уже о наслаждении, идущем от
«головы», то есть наслаждении дискурсом и в конечном
итоге репрезентацией.
ЭНТУЗИАЗМ, ПРИЧИНЫ
И ЖЕСТОКОСТЬ
Быть может, следствия не
нуждаются в причинах.
Де Сад. История Жюльетты13
В произведениях Сада существует фигура
неудавшегося либертена, который не довел до конца критику
причин, либертена, который, несмотря на все совершенные
злодеяния, разврат и насилие, все еще поддается
энтузиазму (такова, например, Олимпия Боргезе,
которая, несмотря на свои кровавые подвиги, так и не изле-
13IX, 14.
158
чилась от этой слабости и в конце концов оказывается
жертвой Жюльетты и Клервиль). Энтузиазм — это все
еще эмфатическая привязанность к какой-то особенной
страсти, неспособность к апатическому отстранению,
зависимость от власти мотивации, это действие «во имя
чего-то»... Вести себя таким образом значит
возвратиться к симптому, характеризующему жертву, это
значит рисковать оказаться следствием и выражением
игры неконтролируемых сил, оказаться вписанным в
качестве одного из «случаев» в Сцену, попасть в нее как
в ловушку, вместо того чтобы быть тем, кто эту сцену
создает, кто владеет дискурсом и управляет всей его
логикой.
Страсть, завлеченная энтузиазмом в ловушку
каузальности, лишенная инварианта «апатии» и,
следовательно, критической дистанции, ведет к умножению
иллюзорных фигур, таких как иллюзии любви,
религии, человеколюбия. Мысль либертена занята их
жестоким и методичным ниспровержением.
Любовь? «Я никогда не думал, что за соединением
двух тел должно последовать соединение двух
сердец»1,1. «Из всех страстей человеческих любовь — самая
опасная, от которой следует уберегаться с особым
тщанием. Не является ли достаточным доказательством
слепота влюбленного или та фатальная иллюзия,
которая заставляет влюбленного наделять воображаемый
объект такой притягательностью?»15 Либертен
апеллирует к физике наслаждения, чтобы противопоставить ее
метафизике чувства (как уже говорилось, это связано с
ниспровержением лирического тела), но прежде всего
он со всей страстью борется с вторжением новой
морали, которую новая буржуазия исподтишка
проводила в жизнь во имя «естественных» добродетелей
народа против развращенности аристократии.
м IX, 148.
15 VIII, 447-448.
159
3 Вера? Бог — не более чем «химера», выдуманная для
1 «энтузиастов, женщин и невежд»16. Религия — это спле-
g тение выдумок, гигантский механизм обмана и эксплуа-
у тации, созданный священниками и законодателями.
§ Как ученик Гольбаха, Сад все время пытается увидеть
| за иллюзией иллюзиониста, за эффектами — стратегию.
^ Согласно Гольбаху, «религия — это всего лишь
искусство отравления людей энтузиазмом, чтобы помешать
им заняться теми бедами, которыми обременяют их те,
кто управляют ими здесь, внизу»17. Но согласно Саду,
этот обман действует только потому, что находит
плодородную почву в чувствительности, поддерживаемой
предрассудками человеколюбия.
Любовь к ближнему, сострадание? Вот, должно
быть, прибежище последней, самой устойчивой, самой
универсальной иллюзии. Ведь лишившись иллюзий
относительно любви или религиозной веры, человек
не становится в меньшей степени человеком, то есть
менее человечным, а значит, сохраняет способность
признать в другом человеке себе подобного. Не это ли
последний бастион чувствительности, тот, перед
которым бессильно оружие апатии? В самом деле, как
можно штурмовать его, не поставив под угрозу самого
себя, не разорвав все связи с обществом, — даже не
столько в их институциональных формах, сколько в
самой возможности их существования, — и тем самым
подчиниться жестоким условиям войны, мести всех
против всех?
Господин-либертен не сомневается: разрушение
должно зайти именно так далеко, до отрицания всякой
человечности, до разрушения всех форм признания и
взаимности. Это абсолютный разрыв, последний
предел; и самое леденящее и ужасающее в апатии то, что
она ведет к хладнокровному и беспричинному убий-
" VIII, 440.
17 Holbach P. H. de. Le christianisme devoile. P. 131.
160
ству, или, по крайней мере, к убийству, у которого нет
других мотивов, кроме как удостоверить разрыв всех
связей, причем сам либертен становится
бестрепетным палачом, бестрепетным потому, что внутри него
пустота, крипта, в которой установлен мозг,
управляющий представлениями [representations] и
осуществляющий перенесение наслаждения на дискурс. Разум
завершил свое завоевание страстей, он запечатлел в
них свою форму и упорядочил их субстанцию: разум
теперь и есть то, что наслаждается интенсивностью,
которую излучают страсти, и объектами, которые они
нагружают.
Как добиться этой страшной пустоты, этого
радикального искоренения всякой чувствительности, этого
антарктического оледенения сердца? Только
методически нападая на то чувство, которое Руссо считал
альфой и омегой всякой человечности, ее неоспоримым
основанием, — чувство сострадания. «Несмотря на
свои моральные принципы, люди навсегда остались
бы не чем иным, как чудовищем, если бы природа не
дала им сострадания в помощь разуму [...] уже из
одного этого качества возникают все общественные
добродетели»18. «Таков чисто естественный порыв,
предшествующий всякому размышлению, такова сила
естественного сострадания, которое самым
развращенным нравам еще так трудно уничтожить» [...]
«Добродетель эта тем более всеобъемлюща и тем более
полезна для человека, что она предшествует у него всякому
размышлению»19.
Это тонкое и парадоксальное рассуждение Руссо
должно показать, что благодаря воображению жалость
берет начало в любви к себе. В жалости я представляю
18 Руссо Ж.-Ж. Рассуждение о происхождении и основаниях
неравенства между людьми // Руссо Ж.-Ж. Трактаты /
Пер. с франц. А. Д. Хаютина. М., 1969. С. 66.
19 Там же. С. 65.
6 Зак 3904
161
себя в другом, я узнаю себя в нем, я люблю его как свое
alter ego. Воображение раскалывает изолирующую
раковину любви к себе («тот, кто ничего не воображает,
чувствует лишь себя самого»), и, открывая эту
возможность, утверждается как знак человеческой природы:
одновременно оно кладет начало языку, мышлению,
социальным связям и способности к совершенствованию.
Но оно также создает опасность любовной страсти и
эгоистического погружения в себя, которое
соответствует другой стороне человеческой природы —
области необходимости и разума («именно разум заставляет
человека уйти в себя», «именно философия разрушает
связи с другими людьми»). Жалость предназначена
восстановить первый естественный импульс,
противостоящий этой перверсии, которая вписывает себя в
историю как несправедливость и упадок.
Именно эту сложную и тонкую теорию
происхождения жалости Сад легко и непринужденно
выворачивает наизнанку. Он просто меняет местами серии
понятий, которые относятся к природе и истории и берут
начало в любви к себе. Серию воображение-страсть-
наслаждение-жестокость он приписывает истине
природы, а в серии воображение-жалость он различает
знак истории, то есть относительности культур и
присущих им предрассудков: «Что вы называете жалостью?
Разве это чувство, которое охлаждает желания, может
найти доступ в железное сердце? И когда преступление
меня восхищает, разве может меня остановить жалость,
самое ничтожное, самое глупое, самое бесполезное из
всех душевных движений? [...] Разве растения и
животные знают жалость, общественный долг, любовь к
ближнему? И разве в природе мы видим другой закон,
кроме закона эгоизма? Величайшее несчастье всего этого
состоит в том, что человеческие законы — это плоды
невежества и предрассудков»20.
2" IX, 290.
162
Если учесть, что Сад исходит из того же пункта, что
и Руссо — любви к себе, — ему достаточно иронически
противопоставленного использования понятия
природы (этого безусловного референта классической эпохи),
чтобы перевернуть все доказательство. Но в то время как
все понятия Руссо сформированы двойственностью,
которая объясняет их парадоксальную эволюцию, понятия
Сада выстраиваются по обеим сторонам разделительной
линии, проведенной непрерывным и неограниченным
императивом наслаждения. Мы не находим здесь ни
диалектики деления и восполнения, ни амбивалентности.
Теория приобретает здесь характер переворота. (Но
необходимо иметь в виду, у Руссо и Сада locus
высказывания полностью различен: у Руссо это действительная
социальность, у Сада это литературный вымысел.)
То, что критик-либертен хочет поразить в самое
сердце и уничтожить путем разоблачения жалости, — это
сама возможность социальной связи. Устанавливая
социальную связь в природе, жалость одновременно
устанавливает Закон, которому позволяет претендовать на
укорененность во всеобщем, и тогда желание делается
относительным и вынуждено признать свои границы
перед существованием и свободой socius. Жалость ввиду
всего того, что артикулируется внутри нее и
развивается из нее, конечно, кажется последним препятствием для
насилия и господства либертена; ее искоренение
распахивает все двери жестокости, жестокости
немотивированного, равнодушного, легко совершаемого убийства,
оторванного от всякого референта и всякой
каузальности: «Самые приятные преступления — те, которые не
имеют никакого мотива: жертва должна быть
совершенно невинна; если она причинила нам вред, это дает
нам право совершить то же в отношении нее, что
лишает нас удовольствия творить несправедливость безо
всякой причины»21.
'" IX, 108.
163
3 Убийство теперь уже нужно не для того, чтобы вы-
5 звать наслаждение, оно становится наслаждением само
£ по себе, или, скорее, преступление и страсть нераэрыв-
^ но слиты в холодном накале апатии, в том союзе «жес-
I токости и вожделения», интенсивность которого пре-
| подносится как откровение высокого образа мыслей
^ либертена, того самого, в котором Жюльетта
наставляет свою потрясенную слушательницу: «О, Жюльетта,
искра, которую ты заронила в мою душу, ее
воспламеняет: ты разом, одним словом, пробудила тысячу
мыслей... Я была просто ребенком, я ничего не понимала,
теперь я это вижу».
«Любовь моя, — сказала она мне, вся пылая от
возбуждения, — я понимаю теперь, какое это
божественное чувство — лишить одного из подобных тебе
созданий самого дорогого из сокровищ, которыми он
обладает. Уничтожить... разорвать связи, соединяющие его
с жизнью... и только ради того, чтобы испытать
наибольшее наслаждение. О, этот удар по нервам,
который вызывает боль, испытываемую другими, я так
хорошо это понимаю, и у меня нет сомнений, что
соединение этих вещей должно привести к настоящему
экстазу богов»2-.
Закон либертена, управляющий наслаждением, —
это закон абсолютного отрицания солидарности со всем
человечеством. И прежде всего поэтому либертенов-
ский закон наслаждения обожествляет. Апатия
создает чудо бесконечной отъедиценности. Победа головы
означает, что тело дано теперь лишь как возможность
наслаждения для ума. Это и есть «настоящий экстаз
богов»: экстаз господства над причинами, полного
бесстрастия перед всем существующим. Странный гно-
зис: либертеновская апатия порождает мистического
убийцу.
22IX, 72-73.
ГОСПОДСТВО, РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ,
СМЕРТЬ
Рассмотрев механизмы и эффекты либертеновской
апатии, мы видим, что она оказывается удивительно
последовательным и строгим методом. Мы можем
восхищаться ее безупречным устройством и функционированием,
нас могут соблазнять четко отрегулированные
взаимодействия, которые она устанавливает в пространстве
текста. Но подобное восприятие либертеновской апатии,
подразумевающее легкомыслие литературного
вымысла, не может помешать увидеть в ней то, что внушает
серьезное беспокойство: а именно, что она
представляет собой симптом воли к власти, который
свидетельствует о все большем господстве Разума,
преодолевшего еще одну ступень в своем восхождении.
Как будто Разум (претендующий на то, чтобы быть
областью репрезентаций и порядка), столкнувшись с
Природой (представляющей собой область страстей и
энергий), обнаружил, что от победы его отделяет
барьер чувствительности, как будто эта чувствительность
стала последним укромным прибежищем тени и тайны,
противопоставляющим себя сверкающему и
всепоглощающему свету знания, как будто это последнее
осквернение было необходимо, чтобы сделать господство
полным: «Только когда мы достигаем бесчувственности и
извращенности, природа начинает открывать нам свои
тайны, и только оскорбляя ее, мы можем ее разгадать»23.
Задача апатии, таким образом, состоит в том, чтобы
преодолеть этот барьер, для того чтобы форма Разума
смогла запечатлеть себя в этой Природе, чтобы страсти могли
быть распределены по категориям в качестве
репрезентаций, чтобы энергия могла быть проникнута порядком
и в конечном итоге каждая субстанция могла войти в
дискурс и подвергнуться классифицированию, катало-
"IX, 115.
165
3 гизации, матезиа/. Тогда страсти, очищенные и лишен-
1 ные аффектов при помощи апатии, сведенные к чисто-
[2 му количеству энергии, могут присоединиться к таб-
^ лице репрезентаций. Понятно, какое преимущество из
о всей этой колонизации извлекает дискурс: он предлага-
| ет рациональную форму страстям, но только для того,
Ji чтобы присвоить себе их энергию. И более того, дискурс
хочет быть тем, чего желает страсть, он хочет не только
господствовать, но также и быть любимым за это. Вот
почему для дискурса важно вписать каждое желание в
рубрику репрезентации. Именно здесь либертеновская
эротика может хвалиться тем, что является эротикой,
идущей от головы, признающей наслаждение только
как наслаждение языка (в двойном смысле этого
родительного падежа). Садовское господство порождается
внутри дискурса: оно успешно реализует свою
программу, только когда ему удается свести само наслаждение
к дискурсу. Садовское господство требует, чтобы
апатия осуществила это трудное задание, трудное,
поскольку оно состоит в том, чтобы производить жар из
холода, «разжигать», «воспламенять», «распалять»
голову подсчетами, репрезентациями и решениями,
порожденными самой холодной бесчувственностью и
самым жестоким бесстрастием, то есть преступлениями,
совершаемыми именно при полном «хладнокровии».
Дискурс матезиса полагает этот процесс
неумолимой дезаффектации необходимым для
методологического создания своего объекта путем выведения субъекта
из игры. Однако, решив распространить свои
процедуры на страсть и чувствительность, он становится
безжалостным структурным и догматическим
исключением Другого, который#является причиной желания, так
что единственным оставшимся желанием оказывается
желание, вызванное репрезентацией. Вот почему
уничтожение Другого должно быть прокламировано
бесконечное число раз: дискурс господства, ненасытный
Молох, не перестает требовать себе трупов; он жаждет
166
опустошения, гибели всего населения (Сен-Фон
мечтает истребить почти всю Францию) и единственный
конец, о котором он может мечтать, это конец света:
«Сколько раз я желал, черт возьми, чтобы можно было
напасть на солнце, вырвать его из вселенной или
употребить на то, чтобы сжечь этот мир!»24 Для Господина,
сформированного этим летальным дискурсом,
исключенного из всякой совместности и взаимности, остается
только противоборство, говоря словами Гегеля, с
«Абсолютным Господином», со смертью, его собственной
смертью. Но последний вызов (или уловка) либертена
будет состоять в том, чтобы объявить смерть желанной,
чтобы требовать ее как последнего наслаждения: «в
умирании есть свое удовольствие»25, «смерть
заставляет меня содрогаться от вожделения»26 — таков
параноидальный призыв, логично замыкающий проект ли-
бертеновской апатии.
-" XIII, 165.
" IX, 437.
-6IX, 444.
Глава четвертая
ПРОСТРАНСТВО КАРТИНЫ
И ВООБРАЗИМОЕ
Ах! Эту сладострастную и
божественную сцену невозможно
описать словами, ее мог бы передать
только резец гравера.
Де Сад. История Жюльетты'
...Отношение языка к живописи
является бесконечным отношением
[...] Сколько бы ни называли
видимое, оно никогда не умещается в
названном; и сколько бы ни
показывали посредством образов, метафор,
сравнений то, что высказывается,
место, где расцветают эти фигуры,
является не пространством,
открытым для глаз, а тем пространством,
которое определяют синтаксические
последовательности.
М. Фуко. Слова и вещи2
Места, где разворачивается действие, у Сада
чрезвычайно разнообразны, и это разнообразие связано с теми
странствованиями, в которые отправляется либертен,
движимый своим номадичсским желанием. Было бы
достаточно легко составить типологию этих мест: замки,
дворцы, монастыри, гостиные, будуары, сады, подзе-
'VIII, 213.
2 Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук /
Пер. с франц. В. П. Визгпна и Н. С. Автономовой. СПб.,
1994. С. 47.
168
мелья... Однако такая работа была бы полезной только §
в том случае, если бы нам удалось показать, что опре- 3
деляет организацию всех этих локусов, а именно то жи- §.
вописное и театральное измерение, которое лексически §
выражается следующим образом: «выстраивается сце- *
на», «вырисовывается картина» (например: «Это сладо- |
страстное действие состояло из трех сцен...»3, «Спек- |
такль был столь же долгим, сколь изысканными были «■
его картины»4). Q
Каким бы ни было само место, значение имеет орга- S
низация пространства как картины (tableau), причем в §
двух смыслах этого слова: в смысле гравюры и сцены, g
Можно, однако, основываясь на эпистеме XVIII века, ^
допустить, что не исключается и третье значение слова ^
«tableau» — классификационная схема, каталог. ^
TABLEAU:
ГРАВЮРА, СЦЕНА, СХЕМА
Tableau в смысле гравюры и сцены может в целом
рассматриваться, прежде всего, как указание на
расположение тел в пространстве взгляда: это пространство
первичного членения, которое желание, в его
фетишистской составляющей, производит на тех частях тела,
которые предназначены для наслаждения или должны
подвергнуться насилию. Это первичное членение
предвосхищает то, еще более жестокое и кровавое, которое
реализуется в пытке. Но все выглядит так, как если бы
этот переход от скопического членения тела взглядом к
расчленению тела жертвы во время оргии имел своей
целью разрешение апории, выражаемой словами сцена
и гравюра, за которыми стоят одушевленное и
инертное, движение и смерть.
п VIII, 158.
Will, 215.
169
S Прежде всего необходимо отметить, что тело, только
| наблюдаемое и описываемое, принадлежит инстанции
о гравюры, то есть вообще картины, представляющей
собой фиксацию черт, поверхность репрезентации цен-
§ ностей (эстетических или эротических). Положение, в
о" котором находится тело на картине, предполагает со-
^ хранение дистанции и недоступность, имеющую
значение запрета, соединенного с любой репрезентацией. Вот
почему устранение этой дистанции отождествляется с
тем вторжением, которое заставляет нарисованное
двигаться, черты оживать, органы действовать (рот, руки,
гениталии: соответственно слова/крики, ласки/удары,
наслаждение/страдание). Картина становится сценой;
живописное превращается в театральное, неподвижная
картина — в живую картину: «На этом месте Кюрваль
захотел перед ужином представить обществу как
реальную сцену ту картину, которую только что описала
Дюкло»3. Но это движение, оживляющее картину,
останавливается дважды: в первом случае, когда речь идет
о жертвах, в другом — о либертенах.
— Если говорить о жертвах, то сцена вновь
превращается в картину, когда изрубленные на куски тела
возвращаются в инертное состояние и обретают
дистанцию — то, что характеризовало скопическое членение.
Здесь, однако, расчленение является необратимым,
окончательным и полностью исчерпанным. Теперь
желание удалилось от объекта: обезображенному,
истощенному телу (истощенному в том смысле, в каком мы
говорим о денежных фондах или залежах руды)
больше нечего выражать, и остается только избавиться от
него. Картина требует своего собственного устранения.
— Если речь идет о либертенах, то здесь остановка в
движении вызвана удовлетворением: оргазм кладет
конец движению (отсюда у Сада вся его стратегия
сдерживания и фантазм потери, которые надо понимать как
3 XIII, 253.
170
попытку продлить сценическую фазу, попытку сохра- о
нить картины живыми). s
Вот почему вопрос о tableau обнаруживает здесь свое §,
двойное значение — движения и неподвижности. Ис- §
полнение желания, завершающее сцену, угрожает roc- ^
подству либертена смертью, которую он в то же время |
пытается всецело обратить на тело жертвы. |
Другими словами, в наслаждении все движется слиш- §*
ком быстро. Здесь начинается бег наперегонки со смер- о
тью, и художники, возможно, знают это лучше других, S
поскольку хотят передать движение, а фиксируют лишь §
неподвижность. Однако вина за это — как в греческой g
традиции — лежит на самом объекте: он становится не- ^
подвижным, прежде ч"ем художник успевает его схва- ^
тить. Осуществление желания, как и смерть, кладет ^
конец сцене.
Парадокс желания либертена становится
парадоксом его репрезентации: «Ах! Эту сладострастную и
божественную сцену невозможно описать словами, ее мог
бы передать только резец гравера. Но сладострастие так
быстро увенчало наших актеров наивысшим
наслаждением, что художнику не хватило бы времени, чтобы
запечатлеть это зрелище. Искусству, лишенному
движения, нелегко воплотить происходящее, в котором
движение является душой; это и делает живопись
самым трудным и неблагодарным искусством»6. Хотя
может показаться, что только кинематограф способен
удовлетворить подобное желание быстроты, это не
совсем так: удовольствие, возможно, как раз и
заключается в том «опоздании», которое фиксирует художник.
В конце концов, здесь и таится угроза статусу палача,
который рискует оказаться приравненным к жертве.
У1 роза эта тем более неизбежна, что желание с самого
начала сводится к репрезентации; тело по-прежнему
помещено в сеть конвенциональных ценностей и рефе-
G VIII, 213.
171
§ рентов. Другими словами, оно по-прежнему подчиня-
5 ется гипотезе и ипотеке культурного кода («рот, до-
о стойный кисти художника», «красота Венеры вместе с
^ очарованием Минервы», «стан Аполлона»). Как бы ра-
£ дикален ни был жест Сада, он происходит в закодиро-
|" ванном пространстве театра и в условности декораций;
^ отсюда двусмысленность трансгрессии,
совершающейся под надзором театральной инстанции. Но, возможно,
именно таким образом трансгрессии удается избежать
реалистического порядка референции, и она
оказывается способной подчинить себя иронической логике си-
мулякра. У нас еще будет повод вернуться к этому.
Tableau (в значении таблицы) является еще и
каталогом, а также классификационной схемой, то есть
оказывается разделенной на квадраты поверхностью,
предназначенной для записывания всех отношений,
способных охватить поле отличия (в данном случае поле
отличия желания). В восемнадцатом веке (во времена
Бюффона, Линнея, Адансона, Бонне и т. д.) такой
принцип лежал в основе составления каталога природных
существ (минералов, животных, растений), который,
получив название естественной истории, был в
конечном счете только перечнем форм и их трансформаций,
их расположением в таблице (системе тождеств и
различий), характерным образом, по наблюдению
Мишеля Фуко, заявлявшем о себе в устройстве ботанических
садов или зоологических коллекций: «В эпоху
Возрождения необычность животного была предметом
зрелища; она фигурировала в празднествах, состязаниях на
копьях, в реальных или фиктивных сражениях, в
сказочных представлениях, в которых бестиарий
развертывал свои исконные фабулы. Кабинет естественной
истории и сад, в том виде, в каком их создают в
классическую эпоху, замещают круговое расположение вещей
по ходу "обозрения" установлением их в "таблице". То,
что проникло между этим театром и этим каталогом, —
это не желание знать, а новый способ связывать вещи
172
одновременно и со взглядом, и с речью. Новый способ §
создавать историю»7. а
В этой работе по созданию классификаций или таб- §,
лиц значение придается именно визуальному миру (в §
отличие от мира тактильного и воспринимаемого слу- *
хом), и именно он подлежит инвентаризации: «Естест- |
венная история — это не что иное, как именование ви- |
димого»8, что подразумевает «почти исключительное §•
предпочтение зрения, являющегося чувством очевид- о
ности и протяженности, и, следовательно, анализ partes |
extra partes, принятого всеми»9. В науках, основанных §
на наблюдении, знание оказывается связанным с точно- I"
стью ёидения (если не производится им). Вот почему §,
живописная или сценическая картина (tableau) (сама с
появившаяся как результат длительного процесса фор- ^
мирования восприятия форм и научной перспективист-
ской традиции) начинает рассматриваться как
семантический эквивалент таблицы или tableau как схемы либо
каталога, которая под различными типами знаков и
названий предлагает универсальную картину
естественного мира. Здесь, за тем исключением, что таблица
ученого-натуралиста создается из слов, существует полная
эквивалентность; именно так модель таблицы
начинает вырабатывать форму самого дискурса.
Еще важнее, однако, то, что здесь обнаруживается
разрыв между знаками и вещами. До классической эпохи
знаки принадлежали вещам и были их частью.
Впоследствии они стали репрезентировать вещи: «Вещи
подступают к самым границам дискурса, ибо они
оказываются в глубине представления»10. «Теория естественной
истории неотделима от истории языка», что
подразумевает «фундаментальную диспозицию знания, предпи-
7 Фуко М. Слова и вещи. С. 161.
8 Там же. С. 162.
а Там же.
'"Там же. С. 159.
173
2 сывающую познанию существ возможность их пред-
5 ставления в системе имен»11.
* Отделение, и даже отрыв, знаков от вещей, произво-
^ димый таблицей естественных таксономии, открывает
g новую эру дискурса, эру его автономного могущества.
|* Все теперь происходит в дискурсе и посредством дис-
^ курса. Безграничность того, что может быть
репрезентировано лингвистическими знаками, должна была
соблазнить Сада и создать опасность полного разрыва
между дискурсом и нормами, опутывавшими и
ограничивавшими то, что может быть сказано.
Придать форму таксономической таблицы тому, что
может вообразить желание, значит метонимически
сообщить ему реальность и строгость этой таблицы; это
означает подчинить его барочную риторику (риторику
театральную и живописную) дисциплине создания
науки, интегрировать многообразие перверсий в четкую
систему исчислимых вариантов.
Гравюра, сцена, схема: все эти инстанции
утверждаются в тексте Сада и способствуют тому, чтобы сделать
его пространство сверхдетерминированным
многообразной активностью видения (взгляд художника,
зрителя, ученого), определяющего горизонт говорения:
полнота одного вкладывается в полноту другого.
СКАЗАТЬ ВСЕ, УВИДЕТЬ ВСЕ:
ЭРОТИЧЕСКИЙ ПАНОПТИКОН
Принцип «сказать все», определяемый и как
энциклопедическое требование, и как вызов непристойного,
неотделим от принципа «увидеть все», нигде открыто не
высказанного, но имплицитно столь же неоспоримого.
Господство в дискурсе подразумевает господство в
видении; в наслаждении от высказывания всегда содержит-
" Фуко М. Слова и вещи. С. 187.
174
ся и наслаждение от видения. Другими словами, мы име- §
ем двойное (и единое) господство, двойное (и единое) >[
наслаждение, которые охватывают одно и то же поле. JJ,
Голос Господина устанавливает закон на всем про- §
(транстве, вычленяемом его взглядом. От его взгляда *
ничто не может ускользнуть по той причине, что гипо- |
тетически все должно быть сведено в tableau, которая |
совпадает с Системой, то есть с тотальностью дискурса. §•
Все, о чем можно сказать, должно быть видимым, и на- о
оборот. Взгляд охватывает все, и возможность суще- £
ствования неподконтрольного остатка устраняется иде- §
ей «тайной комнаты», тем, что нельзя увидеть, но что 5
можно обозначить, поместить в границы вообразимого, §^
а значит, создать резерв для будущего высказывания. С:
Отсутствие всякой возможности укрыться за преде- ~
лам и tableau, требование тотального показа — все это и
есть непристойное, пространство, охватываемое
взглядом всевидящего Господина (и его требование
немедленного обнажения повторяет — на уровне
означаемого сцены — формальное требование дискурса).
Что касается остального, то у Сада нет какого-либо
специфического использования вуайеристских
моделей, поскольку Господин является всевидящим; в
повествовании о «Жюльетте» или в картинах «120 дней»
вуайеризм фигурирует как одна из многих «страстей»,
не имеющая особого значения (в лучшем случае это
повод для рассказа о сценах, которые «рассказчица»
только наблюдала со стороны). Поскольку у Сада все
оказывается принципиально видимым, вуайеризм не является
собственно садовской перверсией; все должно
открываться взгляду непосредственно, без сопротивления,
будь то картина или сцена. Среди либертенов «видеть»
означает в то же мгновение становиться видимым.
Скрещением этих визуальных векторов, при которых
становится невозможен ни остаток, ни тень, достигается
своего рода общая точка зрения и всевидение: «Группы
были расположены так, что каждый наслаждался зре-
175
2 лищем удовольствия другого»12. «Больше никакой обо-
Е собленности, никаких разговоров наедине, — сказал ко-
о роль, — отныне мы должны действовать только на гла-
^ зах друг у друга»13. «Благодаря тому, что боскеты были
| расположены столь искусно, не было ни одного стола,
|" из-за которого нельзя было бы видеть всех других, и та-
^ ков был цинический дух, руководивший устройством
всего этого места, что все сладострастные удовольствия
здесь, в столовой, были доступны взгляду наблюдателя
ничуть не меньше, чем в гостиной»14.
Пространство, организованное таким образом,
представляет собой своеобразный эротический панопти-
кон15, где все, что имеет отношение к телу, оказывается
открытым, где не существует никаких тайных мест, где
напоказ выставлено все: «и этот мерзавец, который
засаживает всем подряд, которому засаживают и который
смотрит, как это делают остальные»16, «я бы хотел,
чтобы весь мир видел меня в этом состоянии блаженства»17.
Таким образом организуется своеобразный театр, где
осуществляется совершенная циркуляция, где не толь-
"IX.
13IX, 408.
н VIII, 424.
15 Это аллюзия на Паноптикон Бентама (1791) — механизм
надзора и дисциплинарного контроля, замечательно
проанализированный Фуко в книге: Foucau.lt М. Surveiller et
punir. Naissance de la prison. Paris, 1975 (рус. пер.: Фуко М.
Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с франц.
В. Наумова под ред. И. Борисовой. М., 1999); его основное
преимущество состояло в том, что взгляду наблюдателя
было доступно все, тогда как он сам оставался невидимым.
«Всевидение», которым у Бентама наделялся полицейский
или тюремный надзиратель, становится эротическим у
Сада за счет устранения единого центра наблюдения:
каждому телу предоставлена возможность наслаждаться видом
всех других тел.
1,1 VIII, 138.
17 IX, 69.
176
ко уничтожаются различия сцена/зал и актеры/зрите- о
ли, но происходит постоянная смена ролей: бичующий >j
подвергается бичеванию, содомит сам попадает в руки §,
содомита, мастурбирующего мастурбируют т. д.». Об- §
щий принцип этой перемены ролей провозглашается в *
ходе каждой оргии: «Сделай со мной то же, что я сделал |
с тобой»18. Этот язык перестановки ни в коем случае не |
я вляется языком обмена (ничто не может быть дальше от §■
садовского образа мыслей, чем взаимность, подразуме- о
ваемая договором). Поменять местами — значит прежде S
всего поменять атрибуты, разделить то, что существует §
как связанное, связать то, что утверждается как отдель- g
ное. Не выходя за пределы классифицируемых элемен- ^
тов, комбинаторная операция становится перверсивной с
уже за счет того, что устанавливает непредусмотренные, ~
и даже исключенные, отношения (совокупность этих
исключений очерчивает пространство Разума).
Расширение перечня означает перестановку всех элементов
без ограничений, логика при этом сохраняется, но
необратимо освобождается от всех рамок. Перечень — это
театр неограниченного обмена ролями и позициями.
Однако что касается скопического наслаждения, то
либертены получают его главным образом за счет
непрерывных перестановок и прежде всего благодаря
суммированию возможных точек зрения. Разумеется,
каждый либертен имеет только одну ограниченную точку
зрения, но к концу оргии различные положения и роли
дают ему возможность наблюдать картину под всеми
углами зрения и во всех ее конфигурациях. Здесь,
разумеется, нет ничего такого, что можно было бы
сопоставить с лейбницевским Богом, абсолютным центром
видения, совершенной разверткой всех точек зрения;
скорее, сама группа образует своеобразное единое Тело
со множеством глаз, рук, гениталий, тело, полностью
захваченное наслаждением, но не имеющее субъекта
,а VIII, 61.
177
2 (поскольку наслаждение остается для Сада абсолют-
Е но индивидуальным, не подлежащим обмену). В этом
о теле-группе, в этой машине плоти не остается места для
любовного взгляда, для какой-либо субъективной ин-
§ станции. Круговой характер зрелища никоим образом
§" не подразумевает транзитивности взглядов, которая
^ возможна лишь в порядке экспрессивного и
лирического тела, то есть за счет восстановления инстанции
воображаемого при инстанции символического. Такое
восстановление исключено для Сада, поскольку для
него сохранение чистой позитивной инстанции
символического есть условие успешного функционирования
комбинаторной операции, уничтожить которую может
воображаемое.
Кроме того, у Сада можно видеть тела и их части
(включая глаза), но никогда нельзя, например, поймать
взгляд. Поймать взгляд — значит поставить себя в
ситуацию обмена, где выражаются любовные состояния,
их степень, глубина, их тревога... Лирический взгляд
выражает движение «души», он безмолвно
высказывает скрытые чувства: именно это герменевтическое
отношение упраздняется логикой либертена. В
пространстве непристойного ничто не остается скрытым, здесь
всякое желание сводится к инвентаризованным
страстям, направленным на точно такие же
инвентаризованные объекты. Все можно выставить напоказ, разложить
на части и снова соединить.
Поэтому глазам просто нечего сказать. Если они и
упоминаются, то в качестве таксономического
элемента в риторике портрета, сведенного к самым общим
характеристикам («голубые», «черные»,
«выразительные» и т. д.).
Каким бы ни было то единственное в своем роде
различие, которое могут передавать глаза, в tableau они
просто перечисляются, и ничего больше. Даже если о
них говорится, что они «выразительные», мы никогда
не увидим, что они выражают.
178
ЗЕРКАЛО/TABLEAU §
ВООБРАЖАЕМОЕ/ВООБРАЗИМОЕ |
Подчеркнутое присутствие лексики, связанной с tab- ^
leau, следует противопоставить отсутствию лексики, свя- ■§
занной с зеркалом. Это не значит, что зеркала вообще не S
упоминаются в тексте (например, особо отмечено и опи- §
сано зеркало в будуаре Долмансе, описываются зеркала ^
в нишах либертенов в Зале Рассказов в Силлинге), но *
мы никогда не видим (или видим очень редко), чтобы ^
они функционировали как зеркала в эротических сце- *
нах или, шире, в экономике повествования. Отсутствие |.
тем более знаменательное, что увлечение — даже чрез- g
мерное — эффектами, связанными с глубиной или амби- с*
валентностью зеркал, так удачно называемых «psyche», ■>.
является одной из типичных черт эротической литера- ~~
турной традиции, например в литературе барокко: мы
можем увидеть, как работают фантазмы зеркала у ее
главных представителей (Сент-Амана, Спонда,
Тристана Лермита, Т. де Вио, О. д'Юрфе...)19, фантазмы, в
отношении которых Ж. Женетт-" говорит о «комплексе
Нарцисса», где переплетаются темы двойника, бегства
и отражения. Зеркало (и прежде всего то естественное
зеркало, которое представляет собой водная гладь)
становится привилегированным инструментом для
изображения метаморфоз неустойчивого, ускользающего
субъекта, неуверенного в своей идентичности и
потерявшегося в своих образах. Отражающая поверхность
становится ловушкой, скрывая за собой глубину: «Самая
невинная водная поверхность скрывает под собой без-
13 Речь идет о французских авторах эпохи барокко: Марке
Антуане де Сент-Амане (1594-1661); Жане де Спонде
(1557-1595); Тристане Лермите (1601-1665); Теофиле де
Вио (1590-1626); Оноре д'Юрфе (1567-1625).
2(1 Женетптп Ж. Фигуры: Работы но поэтике. В 2 т. / Пер. с
франц. под общей ред. С. Зенкина. Т. I. М., 1998. С. 66-72.
Можно вспомнить также, что один из текстов Тристана
Лермита имеет характерное название: «Волшебное зеркало».
179
2 дну, прозрачная гладь позволяет ее увидеть, мутная —
Е напоминает о ней, тем более опасной, что она скрыта.
о Находясь на поверхности, мы бросаем вызов глубине,
^ плавая по ней, мы рискуем утонуть»21. «В пасторалях
g колдун, к которому обращаются, чтобы узнать правду о
|" любви, показывает ее в зеркале, инструменте выбора
^ магического знания. [...] Водное зеркало являет
невидимое присутствие, скрытые чувства, тайну души»22.
В стиле барокко всякая поверхность оказывается
текучей, всякое отражение указывает на бездну. Подобно
колодцу, зеркало в своей бездонной темноте является
местом, где открывается истина; оно дает голос тому,
что находится с той стороны зеркальной поверхности.
В конце концов, если и существует персонаж барокко,
присутствующий во всех тропах, то это душа — psyche, —
то есть та фантастическая сущность, которая живет в
отражениях и образах, опознается в двойниках,
конкретизируется как средоточие и как форма того, что
приписывается неуловимой зеркальной глубине (в этом
отношении душу можно даже считать обозначением
фантазма, определяющегося как то, что появляется на
месте и вместо отрицаемого разрыва; душа — это точка
на плоскости и свод всех возможных отрицаний).
От этого зеркального безумия Сад избавляется
самым положительным образом. Отнюдь не отказываясь
от зеркала, этого классического аксессуара разврата, он
сохраняет его, но при этом освобождает от привычных
значений, демистифицирует, изгоняет из него фантомы,
инструментализирует его, помещая среди остальных
доступных предметов. На смену барочной текучести
приходит плотность картины, текучее зеркало
сменяется зеркалом-машиной, иллюзорная поверхность —
поверхностью перемещения и перечня. Сад превращает
зеркало в устройство, производящее определенные, ис-
21 Женетт Ж. Фигуры. Т. I. С. 69.
22 Там же. С. 70.
180
числимые эротические эффекты. Во всяком случае, о
вместе со всем остальным из него изгоняется то, что со- -И
здает главный эффект барочного зеркала: душа. По это- S,
му поводу Ролан Барт пишет: «Запад превратил зерка- §
ло, о котором говорится всегда в единственном числе, *
в настоящий символ нарциссизма (символ "я", отра- з
женного единства, обретенной целостности тела). Зер- |
кала (во множественном числе) — это совершенно дру- §•
гая тема, идет ли речь о двух зеркалах, расположенных о
друг напротив друга (образ дзэн), так что в них не отра- Б
жается ничего, кроме пустоты, или о множестве зеркал, §
поставленных вплотную друг к другу и окружающих S
субъекта со всех сторон круговым отражением, которое §_
нисколько не меняется от приближения или удаления. с
Именно таковы зеркала у Сада»23. ~
ИГРА ЗЕРКАЛ,
или МАШИНА ДЛЯ УМНОЖЕНИЯ КАРТИН
Мадам де Сент-Анж, воспитывая Эжени и посвящая ее
в либертеновскую философию будуара, развивает
теорию зеркал, точнее, теорию игры зеркал:
«Э ж е н и: О Боже, какая чудесная ниша, только
зачем здесь все эти зеркала?
Мадам де Сент-Анж: Дело в том, что,
повторяя наши позы тысячью различными способами, они
бесконечно умножают одни и те же наслаждения перед
глазами тех, кто предается им на этой оттоманке. Тем
самым ни одна часть тела не может оставаться скрытой.
Все должно быть открыто взорам; эти образы
окружают тех, кто предается наслаждению, и, повторяя их,
являют восхитительные картины, которыми упивается их
сластолюбие и которые доводят его до экстаза»24.
" Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. Paris, 1971. P. 142-143.
2411,387.
181
3 Это и есть теория игры зеркал, ибо для садовской
g мысли существенно именно то, что их много. Принцип
о этот заключается не в том, чтобы встретить
собственный взгляд в нарциссическом соблазне, и не в том, что-
§ бы встретить взгляд другого в лирическом соблазне
|* глубины; речь идет о том, чтобы привести в действие
^ машину, умножающую картины.
Зеркало-машина, замещающее зеркало-псише,
действует только во множественном числе, выполняя при
этом две главные функции:
— создание множественности эффектов:
«...Повторяя наши позы тысячью различными способами
[...] они до бесконечности умножают одни и те же
наслаждения»;
— достижение тотальности видимого: «...перед
глазами тех, кто вкушает их на этой оттоманке. Тем самым
ни одна часть тела не может оставаться скрытой. Все
должно быть открыто взорам» (курсив мой. — М. Э.).
Функции этого механизма, таким образом, состоят
в том, чтобы создавать идеальное круговое
пространство всевиденья, гарантировать закрытость сцены, а также
обеспечить господство над ней взгляду либертена. Этот
механизм служит не только воображению в его работе
по изобретению картин, он также является своего рода
моделью практической реализации воображения,
объективной проекцией внутренних структур воображения.
Как будто зеркало в самом деле уже не выполняет
функции зеркала, оно нужно лишь для производства картин,
как будто оно является только отражающей машиной,
которая, следуя за движением взгляда, копирует части
сцены, образуемой сплетенными телами. Это
подвижная гибкая машина с мгновенными эффектами:
благодаря ей мимесис становится автоматическим.
И фа зеркал поэтому ни в коем случае не должна
стать инструментом иллюзии реальности, пассивным
проецированием фантазмов или даже сном наяву,
короче говоря, ничем, что могло бы санкционировать со-
182
X
скальзывание в воображаемое. Эта игра не должна по- §
глощать реальность сновидением или растворять тела а
в тумане своей бесконечности; напротив, она возвраща- §,
ет все воспринимаемое пространство действующим ли- §
цам сцены, разбивая это пространство на множество кар- ^
тин, которые совмещают все возможные точки зрения
перед взглядом Господина. Это пространство насыще- |
но, заполнено без остатка, исхожено вдоль и поперек. §•
Если бы лейбницевская монада оказалась во власти о
разврата, она неизбежно стала бы садовской. S
Иными словами, беспокоящая глубина исчезает, по- §
а,
скольку она оказалась сведена к поверхности и выстав- 5
лена напоказ как сеть отношений: зеркало очищено от §_
своих теней и тайн, перестроено в соответствии с мыш- ^
лением эпохи Просвещения, из которого, если так мож- ^
но выразиться, вылущена всякая метафизика. Помимо
того, игра зеркал довершает эротический паноптикон,
реализованный вначале как система взглядов на тела,
размещенные и соединенные в пространстве
различным образом. Благодаря этой игре все сводится к
имманентности взгляда либертена: зеркала обеспечивают
проекцию метазрения на пространство сцены. Двойник,
предстающий в зеркалах, ни в коем случае не есть
непостижимый Другой, а всего лишь воспроизведение
других точек зрения, представленных присутствующими
телами. Вот почему зеркало здесь отнюдь не
размыкает систему, а наоборот, подкрепляет ее закрытость, ее
доступную классификации конечность.
Итак, Сад говорит о зеркалах. Помимо простого
указания на их присутствие он даже стремится
эксплицитно, как мы только что видели, определить их функцию.
Но это определение играет роль только на уровне
означаемого сцены и больше нигде. Роль зеркала никогда не
акцентируется в качестве темы повествования, и оно
никогда не участвует в нарративной аргументации.
Отказ от использования зеркала может показаться
удивительным не только потому, что их игра присутствует
183
3 в возможных комбинаторных операциях перверсии, но
g еще и потому, что зеркало, поскольку оно умножает об-
о разы, должно, как представляется, вполне удовлетво-
. рять садовскому желанию создавать до предела насы-
§ щенные картины и исчерпывающие перечисления тех
|" элементов, из которых они состоят.
^ Но тогда речь шла бы именно об образах и ни о чем
другом, поскольку в данном случае тело материально
отсутствует в той сцене, которая разыгрывается в
зеркале. Тело в зеркале не может ни наслаждаться, ни
страдать, оно нематериально, недоступно, оно почти
превратилось в душу: это преданное, идеализированное
тело, недоступное для желания либертена. Поэтому
зеркала присутствуют и функционируют лишь в той мере,
в какой сцена, которую они схватывают и которая в них
отражается, заполнена реальными телами,
находящимися в распоряжении либертена. Зеркальный образ
умножает не тела, а лишь точки зрения на них и на
образуемую ими сцену.
Умножать количество тел — дело не зеркала, а
власти, которая дается богатством или тиранией и которая
позволяет иметь в своем распоряжении неисчерпаемый
запас жертв. Чтобы создать живую картину, либертену
не нужны образы тел, ему нужны сами тела.
Кроме того, зеркало за счет своей способности
воспроизводить процесс первичной идентификации
продолжает поддерживать фантазмы слияния, например,
такой как лирическая иллюзия, возникающая при
встрече взглядов, а лирическая иллюзия у Сада смешивается
с иллюзией религиозной. Любовный взгляд, как и
экстаз, безмолвен: они останавливаются перед барьером
символического, и символическое тогда неизбежно
становится тем, что уничтожает то и другое. Жюстина
взывает к своему внутреннему голосу как к единственному
аргументу против развернутых доказательств ее
мучителей, и за это расплачивается ее тело: оно как бы
растворяется в дискурсе либертенов. Можно тогда предпо-
184
ложить, что тело жертвы призвано играть для либерте- §
нов роль отвергнутого зеркала: на уровне первичного Щ
процесса та часть силы влечения, которая не может быть §,
захвачена очарованием зеркала, в поисках другого вы- §
хода переносится на объект, выпадающий из порядка ^
символического, — тело жертвы. Этот избыток силы, эту |
первичную агрессию, которой должно управлять симво- |
лическое (по своей договорной природе взаимного при- §*
знания и социального структурирования), Сад отказы- о
вается связать с воображением, поскольку это возможно Б
только ценой перверсии, ценой искажения самого сим- §
волического, так как символическое конституируется е
лишь ответом Другого. У Сада же не предполагается от- ^
вета Другого; Господин дает ответ вместо него, поэто- ^
му символическое и есть то, чем он завладевает (как, ^
например, языком и институциями), заставляя его
служить исключительно наслаждению. Господин — это
завоеватель-грабитель, он всегда приходит в самом
конце, чтобы захватить то, что было произведено другими,
и подчинить это своему закону. Символическое,
подчиненное насилию, создающему Господина как такового,
теряет свою функцию договора, свою ценность пакта
взаимного признания и становится ловушкой,
используемой властью либертена. Символическое перестает
действовать как ограничитель чрезмерности насилия.
Напротив, оно включает его в свою собственную
извращенную сеть и предлагает ему вместо
зеркального/воображаемого удовлетворения «реальный» объект, взятый
из сферы Другого: живое тело, обнаруживающее, что
вследствие выбора, который на него пал, ему навязан
статус жертвы. Тело жертвы неизбежно появляется на
месте и вместо отсутствующего зеркала.
На сцене повествования либертен должен избегать
соскальзывания в воображаемое, поскольку это будет
стоить ему реальности желания, точно так же, как
этого должен избегать читатель в своем формальном
отношении к тексту. Всякий вымысел предлагается для
185
3 зеркальной проекции, то есть для получения читателем
Е удовлетворения «по доверенности» через текст, где
о влечение сублимируется в представляемой сцене. Тре-
^ бование избегать воображаемого полностью меняет от-
| ношение между текстом и читателем. Перенос меняет
Э" направление. Сад не ждет от читателя, чтобы тот погру-
" зился в текст и растворился в нем; такова классическая
уловка вымысла: приостановить реальное время, введя
его в иллюзорное пространство, что позволит влечению
разрядиться в воображаемом. Для Сада, напротив,
вопрос состоит в том, как текст может воздействовать,
нападать на тело читателя и производить в нем какие-то
изменения. Зеркало, устраненное из повествования в
качестве специфического объекта, также устранено как
функция текста.
Это устранение функции-зеркала (в единственном
числе) у Сада прямо пропорционально вычеркиванию
воображаемого. И наоборот, модель, предлагаемая
картиной, отсылает к тому, что можно было бы назвать
вообразимым, то есть тем, что принадлежит
одновременно порядку лейбницевского виртуального
(совокупности реализуемых «(возможностей) и кантовского
схематизма (порядку чувственной реализации
понятия). Это значит, что садовский текст отвергает все
эффекты идентификации, но стремится запечатлеть на
теле — «захватить» — все возможности дискурса. Этот
принцип текстовой эффективности был очень верно
определен как «эффект Сада»25: картина предлагается
не как поверхность репрезентации, но как инструмент
воздействия на того, чей взгляд по ней движется. Это
воздействие имеет отношение к неиллюзорной
возможности реализации желания, которую Сад высказывает
следующим образом: «Несомненно, многие из тех
причуд, которые я намереваюсь здесь изобразить, тебе не
понравятся, это вполне понятно, но среди них найдут-
25 Tort M. L'effet Sade // Tel Quel. № 28. 1967.
186
ся несколько таких, которые разгорячат тебя настоль- §
ко, что будут стоить тебе некоторого количества семени, 3
и это, читатель, все, что нам от тебя нужно»26. Испыта- §,
ние воздействия литературного текста на тело читате- §
ля вызвано отнюдь не заботой об эффективности или ^
организации некоего кода поведения. Здесь действует s
уже не этика, пусть и вывернутая наизнанку, пусть и из- |
вращенная, но лишь логика: логика воображения как §•
механизма программирования, который обеспечивает о
переход от чистой «компетентности» к конкретному S
использованию, трансформируя фантазии в практику §
особого рода. Определенные вообразимые отношения g
tableau как таксономического ансамбля проецируются §,
на определенную картину-сцену, реализующую ориги- с
нальную фигуру, способную затронуть определенного ^
читателя или удовлетворить определенный «вкус»
любого читателя. Если всякая идея либертена, всякий
преступный каприз требует изложения программы
прежде, чем она будет воплощена, то, конечно, причина этого
состоит в необходимости стратегии (либертинаж —
слишком серьезная вещь, чтобы доверить его случаю) и
метода (последовательного исчерпания перечня возможных
фигур с подтверждением новизны каждой прелагаемой
фигуры). Однако в первую очередь речь здесь идет о
том, чтобы подчинить тело дискурсу, сделать
тождественным высказыванию, привести отдельные безумства
в соответствие с порядком символического, тем самым
порядком, который во время оргии выступает в
качестве условия наслаждения.
Это воображаемое, всегда преследуемое языком и
всегда трансформируемое в вообразимое, имеет, таким
образом, настолько странный статус, что, как замечает
Барт, «можно было бы сказать, что под словом
"воображение" Сад подразумевает язык»27. В результате экс-
26 XIII, 61.
27 Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P. 136.
187
g прессивистская субъективность устраняется, а утверж-
5 дается тезис, кататоническая позитивность, словно
° жесткость структуры призвана заклясть рыхлость суб-
^ станции. И третьего не дано.
§ В чем же преимущество такого деления?
I" Вероятно, оно состоит в том, что созданными разу-
j^ mom структурами завладевает самый дикий бред, чтобы
вынудить разум нести все расходы. Точнее, бред,
предлагая себя в качестве tableau, то есть как Отличие {Са-
racteristique)™ «страстей», представляет себя как
рациональный порядок, как систему возможностей. Таким
образом, разуму предлагается опознать себя в бреде и
распространить себя до границ этого бреда. Когда вся
совокупность классифицируемых фантазмов
совпадает с Отличием, воображаемое исчезает: все, даже
запретное, сказано, за пределами tableau ничего нет. То,
что можно пожелать, совпадает с тем, что можно
помыслить.
В этом заключена также и причина того, что Сад, в
отличие от большинства писателей-либертенов своего
времени (таких как Кребийон, Дюкло, д'Аржан, Ла Мор-
лиер, Баре), отказывается от обращения к фантастике
и ко всему, что с ней связано: чудесному,
аллегорическому, легендарному и т. д. Мы даже не находим у него
утопии в строгом смысле этого слова (Юбер Дамиш:
«Вымысел не служит тому, чтобы отвлекать человека
от его желания, замысел Сада не имеет ничего общего
с утопией, и воображение не берет на себя
диалектической функции в его творчестве, которое тем не менее
строится на вымысле»)29. Итак, у Сада нет никакой
фантастики, нет ничего двусмысленного, неясного или
28 В данном случае, конечно, подразумевается аллюзия на
Лейбница, для которого понятие отличия (Caracteristique)
выступает в качестве принципа комбинаторного
упорядочивания нематематических знаков.
29 Damish H. L'ecriture sans mesure // Tel Quel. № 28. 1967.
188
странного: для всего этого потребовалась бы симпто- §
матология, то есть мотивировка действий персонажей 3
должна была стать психологической, а психология — §,
как раз то, что отвергается Садом. В садовских нарра- §
тивах мы находим пещеры, подземелья, уединенные и *
мрачные замки, но их главная функция — создавать и |
гарантировать уединение и безопасность, способные |
придать правдоподобие всему, что там происходит. §*
Сами же эти места не несут в себе никакого специфи- о
ческого нагнетания страха или тревоги, в тот же пери- S
од культивируемого «черным романом», где фетишизи- §
руются сатанизм, таинственность и оккультизм. е
Для Сада важно, чтобы безусловность желания ста- ^
ла возможной структурой «реального мира», то есть ^
чтобы она была вписана в исторически установившие- ^
ся социальные формы. Даже в самых безумных
программах (как у либертенов в Силлинге и в
неаполитанских и римских оргиях Жюльетты) границы разума —
то есть референта — не нарушаются, порядок
сохраняется: он используется, направляется на другие цели.
Порядок классифицируемых кодов никогда не
упраздняется, и в их структуру вписывается все: персонажи,
условия, практические средства, инструменты,
одежда, — все, что было представлено в воображении.
Воображаемое никогда не выходит за пределы
вообразимого, то есть в конечном итоге того, что могло бы быть
высказано. Весь бред остается программируемым,
благодаря чему он удерживается в границах системы. Они-
рическое было бы предательством желания,
соскальзыванием в иллюзию, воображаемой компенсацией. На
это точно указывает Бланшо: «Поскольку его [Сада]
собственная эротическая греза состоит в том, чтобы
проецировать на не грезящих, но реально действующих
персонажей ирреальное движение своих наслаждений,
[.] то, чем в большей степени этот эротизм является
грезой, тем более он требует вымысла, из которого греза
была бы изгнана, в котором разврат был бы реализован
189
3 и пережит»30. А Делез интерпретирует это так: «Что ха-
g рактеризует садовское использование фантазма, так это
S агрессивная неистовая сила проекции параноидального
^ типа, посредством которой фантазм становится оруди-
§ ем радикального и стремительного изменения в объек-
I" тивном мире»31.
^ Но этот объективный мир не перестает быть
заключенным в границы текста и производится им как
референтная фотопленка, необходимая для вмещения
повествования в кадр.
ТЕАТРАЛЬНОСТЬ:
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕЧЬ
Садовский персонаж не более подчинен законам
психологии, чем места и ландшафты — принципам
индивидуализирующего описания. У Сада пространство всегда
имеет форму театральной картины XVIII века, из чего
можно сделать вывод, что любая обстановка и любые
ландшафты выступают в ней только в качестве
декораций. Другими словами, речь идет о серии раскрашенных
панно, всегда готовых опуститься на сцену для
обрамления повествования. Таким образом, повествователь
располагает подвижным задником, состоящим из
взаимозаменяемых элементов, призванных с использованием
минимума средств обозначить референт — то небольшое
количество реальности, которое необходимо и в то же
время достаточно для репрезентации мира, где
находятся персонажи. Отсюда возникает сильное
противоречие с привычными установками чтения, поскольку со
30 Бланшо. Сад. С. 71.
31 Делез Ж. Представление Захер-Маэоха // Венера в мехах.
Л. фон Захер-Мазох. Венера в мехах. Ж. Делез.
Представление Захер-Мазоха. 3. Фрейд. Работы о мазохизме / Пер.
с нем. и франц. А. В. Гараджи. М., 1992. С. 252.
190
времен бальзаковского романа читателю требуется мак- о
симальная плотность референта. Мы хотим, чтобы текст i
романа заставил нас забыть о том, что это вымысел, что- §,
бы он подавал себя как исторически (а также социаль- §
но или индивидуально) правдивый рассказ. Отсюда его ^
постоянные попытки стереть артефакт, который он сам |
же и создает, наивно стремясь аккумулировать знаки |
правдоподобия, чтобы полностью воспроизвести то, что §"
полагает в качестве реального. В этом отношении са- о
довское повествование все еще является средневеко- 5
вым: подобно средневековым мистериям, оно выводит §
на сцену эмблематические фигуры. Суть такой техни- I*
ки состоит в том, что вымысел не скрывает, что являет- ^
ся вымыслом, и не претендует на то, чтобы воспроизво- ^
дить какую бы то ни было реальность, заимствуя из нее ~
определенное количество значимых элементов, чтобы
показать, как они действуют. Тем не менее, в то время
как средневековая мистерия отсылает к бесконечности
Священного Писания и догматической истине, садов-
ские эмблемы существуют в качестве исчислимых и
комбинируемых элементов конечной системы, системы,
лишенной последней истины. Раскрашенные
декорации говорят нам, что не существует никакой глубины
(fond), есть только театральный реквизит, а
повествование (как и сам театр) не замещает «реальность», но
является машиной симуляции, экспериментальным
артефактом, где испытывается, показывается,
предлагается для понимания читателю/зрителю нечто
исторически и социально «реальное», предлагается таким
образом, который позволяет зрителю избежать
гипнотической ловушки воображаемой идентификации. Вместо
этого от читателя требуется ответ, практика,
вовлекающая его собственное тело («эффект Сада»),
Таким образом, садовские типологии, независимо от
того, используют ли они сельские ландшафты
(французскую деревню, Альпы, Апеннины, римскую деревню,
Везувий, Шварцвальд, Сибирь...), города (Париж, Лион,
191
3 Турин, Флоренцию, Венецию, Рим, Неаполь, Москву...)
S или персонажей (королей, принцев, герцогов и любую
j2 другую знать, судей, финансистов, прелатов, прости-
^ туток, сводней, сутенеров, мальчиков, девственниц...)
§ действуют в этой системе эмблематической инсцениров-
о ки и открыто признаваемого вымысла. Как в комедии
^ делъ'арте, каждый элемент существует в качестве
определенного типа; меняются только их комбинации, и их
варьирование обусловливает новизну каждой ситуации.
У Сада сценографическое изображение, строго
выверенные программы, установка декораций, создают
псевдопространство, опирающееся только на свои
tableaux, и псевдовремя, являющееся только суммой
повторений, — короче говоря, такой мир, которому
серьезно недостает «реального», мир в условном наклонении.
Однако эта нехватка ведет к коллапсу и уничтожению
перенасыщенных кодов здравого смысла,
утверждающих нагромождение своих банальностей в качестве
реальности. И тогда сразу становится очевидным, на
что делает ставку любой текст: ставится эксперимент
над возможностями языка, над границами того, что
вообще может быть сказано посредством языка,
учитывая, что они одновременно являются границами
цензуры, ибо, очерчивая то, что может быть сказано,
очерчивают пределы Cite (города и политической власти).
А это значит, что вопрос о языке — это всегда вопрос
политический.
Глава пятая
ВРЕМЯ ВНАРЕЗКУ
И поскольку такие особы
удовлетворяют свои желания не
мешкая, они тотчас же доставили себе
это наслаждение.
Де Сад. 120 дней Содома'
Невозможно передать ту
быстроту, с которой все эпизоды в
определенном порядке следовали один
за другим.
Де Сад. История Жюльетты2
Через всю европейскую философскую традицию
проходят три сквозных мотива, связанные с проблемой
времени, во всем своем аспектном многообразии:
— мотив срока (ожидание, терпение);
— мотив действия в обход (опосредствование, труд);
— мотив внутреннего (память, глубина).
То в контрапункте, то в диссонансе с основными
постулатами и категоричными выводами разных,
зачастую противоборствующих философских школ, эти
мотивы позволяют различить контуры общих для этих
школ исходных предположений и самоочевидностей.
Так, например, в греко-римской или христианской
античности время, независимо от того,
воспринималось ли оно негативно, как знак выпадения из
вечности, или позитивно, как подготовка к вечной жизни, —
' XIII, 181.
- VIII, 160.
7 Зак .1904
193
3 во всех случаях может быть определено в соответствии
S с категорией срока. Жить во времени — значит жить в
о ожидании, идет ли речь о возвращении к истоку вре-
^ мени или о Втором пришествии. Этот метафизический
§ тезис трансформируется в этику терпения, в соответ-
|" ствии с которой анафеме предается то, что по сути сво-
^ ей терпению противоположно: страсть. Этика терпения
становится механизмом обезвреживания желания,
поскольку желание никогда ничего не хочет откладывать,
оно требует наслаждения немедленно, а потому
склонно забывать о начале и конце.
Всякий подход (независимо от того, как
расценивается время — позитивно или негативно), при котором
ожидание принимает форму трансцендентальной
структуры темпоральности, утверждает последнюю в качестве
чистого запрета. Время мыслится как то, что
преграждает путь желанию, а ожидание — как то, что «гасит»
искушение. Закон времени становится абсолютной формой
закона. Все онтологии времени, таким образом,
маскируют изощренные системы регулирования либидиналь-
ной энергии, подавления желания.
Вот, вероятно, почему вопрос о времени так четко
поставлен у Сада: утверждение желания либертена
вступает в открытый конфликт с темой срока.
Тем более, что тема срока реконституируется и
снова эадействуется (но теперь на более глубоком уровне
или еще более перверсивно) как тема действия в обход,
когда время мыслится как отрицание мгновенного.
Мгновенное, как то, что не оставляет следов, как полное
отсутствие труда, — это время, которое не простирается во
времени. Исходя из этого классический подход
сталкивается с необходимостью утвердить само время в
качестве того, что упраздняет мгновенность момента и при
этом утверждает не-мгновенное, то есть вечное. Никто
лучше Гегеля не сформулировал это требование
философской традиции в отношении времени, которое в
«Энциклопедии» рассматривается в качестве формы
194
самоотрицания, самодвижения отделения, как «бы- £>
тие, которое, существуя, не существует и, не сущест- ^
вуя, существует»3. Здесь у Гегеля вполне обоснованно ,*
возникает образ Кроноса: время пожирает то, что оно з
порождает — мгновения. Само для себя оно является «1
определением отрицательного («положенная таким
образом для себя, эта отрицательность есть время»)4.
Вот почему время определяет структуру самой
диалектической операции, которая начинается в
сдерживании (Hemmung), а заканчивается в снятии (Aufhebung).
Момент отрицательного запрещает желанию исчерпать
себя в потреблении своего объекта и позволяет
объекту сохраниться для опосредствующей деятельности —
труда, который рождает произведение. Как известно,
у Гегеля это обретение произведения через труд
является истиной и местью раба, а Господин, пойманный в
ловушку своей бездеятельностью, позволяет миру
формироваться без своего участия, в результате чего он
постепенно утрачивает над ним власть.
Итак, мы обнаруживаем, что либертен Сада,
Господин по определению, принимает это отсутствие
деятельности и требует ее в качестве практического и
необходимого условия для своего наслаждения. Вполне очевидно,
что, используя все средства власти, он следит за тем,
чтобы удерживать раба в его зависимости, ибо Господин, в
свою очередь, ничего не хочет знать об
опосредствовании и необходимости затрачивать усилия на достижение
цели обходным путем и, следовательно, об отказе от
немедленного наслаждения объектом.
Таким образом, разрывая связь с образом Кроноса,
в соответствии с которым мгновения отрицаются в
пользу трансцендентного, всеохватывающего времени, са-
1 Гегель Г. Ф. В. Энциклопедия философских наук. Т. II:
Философия природы / Пер. с нем. Отв. ред. Е. П. Ситковский.
М., 1975. С. 52.
1 Там же. С. 53, 51.
195
S довский текст устанавливает модель времени, понима-
| емого как серийная последовательность наслаждений,
о то есть как череда мгновений, соотносимых всякий раз
^ с новой, особой единицей измерения (это могут быть
| разные места, тела, имена, действия, эпизоды). В этой
I" разнородной конструкции не может быть и речи о по-
^ следнем синтезе, о конечном единстве: время стойко
сопротивляется всякому снятию (Aufhebung).
В самом деле, когда речь идет о времени, мы видим,
что постулируемое единство функционирует всегда в
паре с утверждением внутреннего (это наш третий
мотив). В «Критике чистого разума» Кант резюмирует эти
отношения в известной формуле: «Время есть не что
иное, как форма внутреннего чувства, т. е. созерцания
нас самих и нашего внутреннего состояния»5. На
страницах «Трансцендентальной эстетики» Кант только
предельно рационализирует то, что высказывалось и
заявляло о себе в христианских темах глубины и
самопогружения, где познание себя отождествлялось с
памятью о себе. Идентичность личности гарантировалась
внутренним восприятием временного континуума,
которое собирает последовательные субъективные
состояния в едином акте субъекта. Время тогда
полагается как необходимый фактор трансцендентального
единства «я мыслю». Именно в этом единстве
оказываются спаяны понятия времени и внутреннего.
Однако внутреннее никогда не появляется одно, оно влечет
за собой все ценности «сознания» и «души» (причем
именно «благородной души»): индивидуальность,
глубину, сокровенность, искренность. На основании этих
ценностей моделируются образы восторженных
идеалистов, которыми являются созерцательный
христианин, лирический поэт, влюбленный руссоист. «Мо-
5 Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосско-
го, сверен и отредактирован Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Ит-
киным. М„ 1994. С. 56.
196
литься», «петь», «любить» — это глаголы практики, оп- {$>
ределяемой той же самой концепцией времени, что и §,
«созерцания нас самих и нашего внутреннего состоя- J
ния». На эту форму времени теперь нападает Сад, так з
же, как и в системе либертеновской апатии, которая, Л
как мы видели, стремится к систематическому
уничтожению религиозных эмоций, лирического излияния и
сентиментальной экспрессивности. Тело либертена,
освобожденное от всякого внутреннего, может быть
опорой только для времени, лишенного глубины,
внутренней протяженности, памяти, времени, нарезанного
на эпизоды последовательных наслаждений, одним
словом, времени внарезку.
УСЛОВИЕ МГНОВЕННОГО
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Какой же надо быть злой, чтобы
так медлить!6
За желанием тотчас же следует
исполнение7.
Вся западная литературная традиция следит за тем,
чтобы мы усвоили ту истину, что любовные игры — это
игры, требующие терпения. Они подразумевают
продолжительное ухаживание, согласно кодексу галантности,
овладение куртуазной риторикой, приобретение
навыков конвенционального поведения, и это необходимое
условие, чтобы оказаться рядом с желаемым телом или
обладать им. И даже тогда об исходе этой игры
говорится метафорически: «крайнее расположение» — это
достаточно циничное указание на то, где завершается ли-
6 XII, 21.
7 IX, 395.
197
3 рический поиск. Метафора здесь приподнимает маску,
5 которую сама же и изготовила, признавая одновремен-
° но, что это расположение крайнее, потому что за ним
^ нет ничего, кроме другой крайности — «крайнего надру-
§ гательства», посредством которого насилие восполня-
|" ет для желания отсутствие согласия другого. Любовный
^ поиск — это, возможно, всего лишь история
хитроумных интриг, искусного лицемерия, изощренного
притворства, терпеливого хождения вокруг да около,
которые навязывает Закон. Сам маркиз де Сад наверняка
знал это лучше, чем кто-либо другой: его обольщающие
письма, его «любовные записки», которые
представляют собой образчики конвенциональной любовной
риторики, где цена высокопарных заявлений («Я
безумно влюблен», «Я не могу без вас жить», «Позвольте мне
умереть у ваших ног»3, — из письма к мадмуазель Коле)
снижается той быстротой, с какой они должны быть
благосклонно приняты («Я буду ожидать Вашего
ответа завтра»). Столкнувшись с сопротивлением
интересующей его женщины, претендент, чье нетерпение
достигает предела, прибегает к заклинанию временем: «Как
жестоко с вашей стороны откладывать мгновение
моего счастья. Я не живу, я больше не существую. Пусть
это будет сегодня в 4 часа! Какой же надо быть злой,
чтобы так медлить\ Вы хотите моей смерти, это
несомненно. Вы еще можете известить меня, можете ли вы
сегодня...*9 (курсив мой. — М. Э.).
Итог: просителю отказано.
Уловки, предписанные кодом, унизительное
ожидание, муки завуалированной любви, риск отказа — от
всего этого Сад намерен освободить своих персонажей.
Либертеновская система получения удовлетворения
служит главным образом сокращению временного
промежутка между желанием и его осуществлением. Важ-
8 XIII, 19.
3 XII, 21.
198
нее наслаждения только возможность не дожидаться s?
его получения. Наслаждение можно получить только ^
при условии мгновенного достижения цели. Поэтому ,*
важно обеспечить практические условия этой немед- §
ленности. Назовем этот набор условий системой име- о.
ющегося в распоряжении, доступного (что современные
эротоманы называют on the hand, под рукой), в которой
можно выделить три главных положения:
— запасы: возможность постоянного доступа ко
множеству тел;
— нагота: возможность непосредственного доступа
ко всему телу;
— всесексуальность: возможность неограниченного
доступа к любым телам (инцест, бисексуальность, бес-
тиальность и т. д.).
Запасы. Худшее, что может произойти с желанием
либертена, — это ситуация, в которой он столкнется с
дефицитом, окажется обреченным на домогательства
без гарантии успеха, окажется в зависимости от кодов
ожидания и изнурительных уловок обольщения.
Таким образом, самая первая забота желания
либертена — любой ценой предотвратить риск дефицита тел
при помощи двух главных средств — насилия и пакта.
При внимательном чтении текста садовское насилие
оказывается не слишком садистским: оно прежде всего
является функциональным. Тирания и принуждение
необходимы в качестве простейших, если не самых
быстрых, средств, обеспечивающих доступ к телам, которые
Закон удерживает на расстоянии или делает
недоступными. Если власть, и прежде всего власть денег, влечет
к себе, зачаровывает, то только потому, что она
позволяет мгновенно устранить дистанцию, установленную
между желанием и его объектом. «Ангел мой! Как мы
будем богаты! [...] Какие наслаждения нас ждут! Только
один закон будет над нами — наши желания и не будет ни
одного, которое мы не смогли бы удовлетворить немед-
199
S ленно\*10 (курсив мой. — М. Э.). Прежде всего, деньги
5 позволяют создавать запасы тел, наподобие тех, которы-
g ми располагало Общество Друзей Преступления или
. великие либертены (гарем Минского, пленники Бриза-
| тесты). Помимо этих тайных запасов существуют еще
!* и публичные запасы, которые институция невольно пре-
jj доставляет в распоряжение либертенов: это монастыри.
В том случае, если либертен является принцем или
прелатом, предполагается, что все подчиняющиеся ему
субъекты потенциально должны быть готовы к
сексуальным услугам. И именно потому, что запасы такого рода
теоретически являются неисчерпаемыми, либертен
должен либо обладать политической властью, либо быть ей
причастным. Непредсказуемость деспотизма реализует
идеальное отношение между желающим и желаемым
телом, поскольку власть, исключая все сомнения в
согласии другого, уничтожает всякую временную
неопределенность и всякую трату энергии. Любое желание имеет
неоспоримость приказа и должно исполняться как
приказ. По малейшему знаку деспота-либертена желаемые
тела должны быть собраны вместе и готовы ему служить.
Модель этого дается в неаполитанской оргии:
«Пусть каждый в свою очередь, — сказал нам Фер-
динан, — выберет себе жертву из тех, кто изображен на
пятидесяти портретах, которые его окружают, и дернет
за шнурок, который соответствует выбранному им
объекту: тотчас же указанная жертва будет
предоставлена в его распоряжение»11.
Наряду с подобной откровенно циничной практикой
имеется*еще более субверсивное решение,
представляющее собой первый элемент утопии либертена, а
именно — либидинальный пакт. Вот как он формулируется
в «Жюльетте»: «Какое зло я причиняю, какое
оскорбление наношу, если говорю повстречавшемуся мне
10IX, 414.
11 IX, 410.
200
прелестному созданию:" Предоставьте мне часть ваше- £
го тела, которая может дать мне мгновенное удовлетво- §,
рение, и наслаждайтесь той частью моего тела, которая J
вам нравится". Что оскорбительного для этого созданья з
в моем предложении? Какой ущерб оно понесет, если 8,
примет его? Если во мне нет ничего притягательного,
то пусть материальный интерес заменит удовольствие
и пусть тогда, договорившись о возмещении, это
создание без промедления предоставит мне наслаждаться его
телом, а у меня будет полное право применить силу и
все необходимые средства принуждения, если, получив
от меня удовлетворение в соответствии с моими
возможностями, при помощи кошелька или моего тела, это
создание осмелится не дать мне мгновенно того, что я
вправе от него потребовать»12.
Помимо преобладающей здесь лексики договора (к
которому мы еще вернемся ниже, когда будем
рассматривать вопрос о недоговорной форме обмена), внимания
заслуживают и указания на время: •«мгновенно», «без
промедления» — все это включает в договор
обязательное условие его немедленного исполнения.
Недостаточно только предоставить себя в распоряжение, надо
сделать это немедленно: быстрота ответа должна
соответствовать неотложности желания. В то же время договор
неизбежно должен принимать в расчет сопротивление
другого, границы его желания и, следовательно,
предусматривать его отказ; стратегия либертена тогда будет
состоять в том, чтобы ввести в сам договор условия
тиранической власти: деньги и насилие. Даже в утопии ли-
бидинального пакта насилие остается самым надежным
гарантом незамедлительного наслаждения, лучшим
средством против медленного посредничества закона.
Нагота. Если избыток имеющихся в запасе тел
обеспечивает ту скорость, которая требуется для неотлож-
l2VIII,71.
201
g ного исполнения желания, то и сами предоставляемые
5 тела должны предъявлять доказательства своей доступ-
Ь ности. Таким доказательством является нагота. Мы уже
видели, какое значение имеет нагота в рамках нелири-
§ ческой эротики (сведенной к одной только сексуальной
о" функциональности). Мы также говорили о том, что по-
^ чти постоянное использование императива (или слов,
указывающих на приказ), чтобы добиться раздевания,
выражает как требование незамедлительности, так и
требование подчинения. Нагое тело — это в той же мере
тело, которое признается сексуальным (нагота тема-
тизирует желание), сколько и тело, лишенное защиты
(нагота подтверждает господство).
Именно здесь Сад с особой силой нападает на то, что
защищает тело лучше одежды, что препятствует
желанию сильнее всякого явного запрета и что моральная
традиция с редким единодушием объявила одним из
первичных чувств, классифицируемых как «естественные»,
а именно на стыд. Очевидно, что Сад пункт за
пунктом развенчивает теорию Руссо (выдвинутую в
«Эмиле»), в соответствии с которой стыд рассматривается
как восполнение внутри культуры того целомудрия,
которое естественным образом существует среди
животных и при котором самка отвергает самца после
того, как желание было удовлетворено: «Что же
заменит женщинам этот инстинкт воздержания, если вы
отнимете у них стыдливость?»13 Но как раз стыд и есть
перверсия, отвечает Сад, а нагота и желание —
естественны; стыд вовсе не замена воздержания, он
представляет собой в высшей степени расчетливую женскую
уловку, чтобы разжечь и поймать в ловушку желание
мужчины: «Стыд, отнюдь не являясь целомудрием, был
только одним из первых приемов женского кокетст-
п Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Пер. с франц.
Е. Н. Бируковой под ред. Л. Е. Пинского // Руссо Ж.-Ж.
Избранные сочинения: В 3 томах. Т. I. M., 1961. С. 548.
202
ва»1,1. «Стыд — это смешной предрассудок, абсолютно i?
противоречащий природе»15. (Таким образом, и Руссо ^
и Сад именно в женском желании стремятся расслышать J
голос и истину природы. И если один из них слышит s
деву-мать, а другой либертенствующую проститутку, то а,
потому, что сам их слух определяется противоречиями
мужской власти и ее фантазмами; см. ниже, гл. IX, где
речь пойдет о женских ролях в мизансценах Сада.)
Отождествляя стыд с культурой (и поэтому с
искусственным), а бесстыдство с природой, Сад не
удовлетворяется только их иронической перестановкой, он
полностью перепутывает их, поскольку разделение
между ними было произведено тем самым запретом,
который эта перестановка отвергает (очевидная
слабость всех инверсий в том, что они вынуждены
сохранять сами члены противопоставления, которые они
меняют местами, однако наша задача в том, чтобы
увидеть то, как инверсия их искажает). В той ярости, с
которой Сад нападает на «предрассудок» стыда,
необходимо, конечно, видеть логическую цель: она в том,
чтобы вырвать наготу из области запрета и доказать,
что ничто не должно препятствовать постоянному и
мгновенному доступу к телу другого.
Это условие мгновенности (которое, как мы видели,
выражается оборотами «тотчас же», «без промедления»,
«мгновенно», «не позже чем через три минуты» и т. д.)
должно ознаменовать победу желания над временем и
поэтому направлено на то, чтобы опровергнуть древнее
определение желания через отрицание, согласно
которому желание существует только как неудовлетворенное и
рождается только вследствие отдаленности его объекта
во времени. Напротив, в перспективе садовской
механики тел желание отождествляется с влечением, то есть
утверждается как неограниченная позитивная энергия.
11III, 499.
15 VIII, 71.
203
S Садовское желание не знает отрицания, но только при
S условии, что оно полагается на желание Господина,
о которое, в теории, уничтожает то, что ему противоречит
^ (жертву) и требует для себя максимальной власти, что-
g бы изгнать неуверенность и неопределенность и таким
I* образом всегда обеспечивать себе удовлетворение, бес-
^ примесное удовольствие без риска, без вины, без тайны.
Всесексуалъность. Безотлагательность желания
требует не только множества тел и не только всего тела, но
и полностью всех тел. Это условие является
основополагающим именно потому, что мы в нашем социальном
бытии окружены близкими телами, которые предстают
как недоступные для нас: тела наших кровных
родственников (родителей, братьев, сестер, детей), тела людей
одного с нами пола и вдобавок тела животных,
занимающих, правда, асимметричное положение в этой
системе. Другими словами, физически близкие тела
удалены от нас тремя очень строгими запретами: запретом
инцеста, запретом гомосексуальности, запретом
скотоложества, в связи с которыми возникает вопрос о
символическом обмене у Сада (см. главу •«Недоговорной
обмен»). Однако сейчас мы остановимся только на
темпоральном значении этих запретов.
Темпоральное значение запрета инцеста измеряется
исключительно следствием этого запрета:
навязыванием экзогамии внутри клана или семьи. Эта навязанная
экзогамия компенсируется уверенностью в том, что
доступное тело, на которое в кругу семьи наложен запрет,
найдется где-нибудь в другом месте (Леви-Строс:
«Женщина, которую не берут и которую запрещено брать
одним, по этой самой причине предлагается другим»16).
Тем не менее, согласно садовской логике, главный
недостаток здесь состоит в том, что желание вынуждено от-
16 Levi-Strauss С. Les structures elementaires du parente. Paris,
1949. P. 60.
204
кладывать свое удовлетворение и что от него требует- j?
ся научиться терпению, действию в обход или, иначе §,
говоря, опосредствованию. Все это приводит к пережи- J
ванию времени через отрицание (по Гегелю) или через g
отказ (по Фрейду), что означает навязывать желанию &
испытание отрицанием или предполагать в нем
структуру отрицания — теория, неприемлемая для садовской
проблематики, которая в таком случае рассматривает
предполагаемую универсальность запрета инцеста так
же, как она рассматривает универсальность,
приписываемую стыду, рассматривая желание как природное
начало и требуя для него полной непосредственности:
«Если и есть на свете что-то простое, так это инцест: он
в самой основе естества, природа сама подталкивает к
нему»17. Новелла «Эжени де Франваль» из
«Преступлений любви» полностью строится на этом тезисе,
сформулированном отцом, вступающим в инцестуозную связь
со своей дочерью: «Хорошенькая девушка не может
быть моей только потому что я совершил ошибку
произведя ее на свет? Обстоятельства, кои еще сильнее
должны привязать меня к ней, становятся причиной
моего от нее удаления?.. [...] Ах, какая бессмыслица...
какой вздор!»18 Этот отказ от дистанцирования —
лучшее свидетельство того, что практика инцеста — это
прежде всего гарантия доступности, что инцест
обеспечивает сексуальную близость с телом и наслаждение
телом, которое является «естественным образом»
самым близким — телом кровного родственника.
Аналогичное требование управляет практикой
гомосексуальности, если только этот термин применим к
садовской мысли. На самом деле все его персонажи
являются одинаково гетеро- или гомосексуальными.
В отношении их этот вопрос даже не возникает: они
безразличны к сексуальным различиям, которые анну-
17 VIII, 422.
" X, 444.
205
3 лируются в содомитском желании, где все тела уравни-
5 ваются под знаком анальности. Садовская гомосексуаль-
о ность, даже если она растворяется в содомитской
бисексуальности, функционирует прежде всего как наруше-
§ ние запрета, исключающего возможность желать тело
2* своего пола. И это нарушение неотъемлемо от императи-
^ ва неотложности желания либертена, для которого
самым подходящим для наслаждения телом является тело,
находящееся ближе всего, вне зависимости от того,
какого оно пола: первое предложение — лучшее,
поскольку оно первое. Так, когда Бризатеста оказывается в
тюрьме, он легко обеспечивает себе сексуальное наслаждение
со своими товарищами по заключению; когда он
оказывается на свободе, он не испытывает недостатка в
женщинах, но оставляет при себе Карль-Сона, своего
верного компаньона и участника его гомосексуальных
развлечений, которым он предается в промежутках между
мастурбациями или оргиями. Точно так же Жюльет-
та обеспечивает себя без разбору как мужчинами, так
и женщинами, а в перерывах ей оказывают интимные
услуги ее девушки-компаньонки. Таким образом
оказывается, что преимущество гомосексуальности состоит в
том, что она превращает дружбу и сообщничество,
возникающие между людьми одного и того же пола, в
постоянную сексуальную доступность. Так обеспечивается
бесперебойность наслаждения либертена.
Что касается так называемой «бестиальности»
(скотоложества), то оно не является постоянной практикой
Садовского либертена, и не без причины: садовскому ли-
бертену, всегда обладающему властью и богатством, нет
необходимости обращаться к той форме сексуальности,
которая обычно связана с дефицитом человеческих тел.
Если скотоложество все же время от времени возникает
в ходе оргий, то это перверсивное излишество,
единственная функция которого заключается в демонстрации
того, что область доступных тел не может быть
ограничена только человеческими телами, что не существует
206
никакого препятствия нетерпеливости желания: все тела jj*
неизбежно становятся его жертвами. «Этот проклятый &,
Боргезе обладал всеми пороками и предавался самым ,*
извращенным фантазиям: евнух, гермофродит, карлик, 3
женщина восьмидесяти лет, индюк, обезьяна, огромный в,
дог, коза и мальчик четырех лет, внук старухи, — таковы
были объекты разврата, представленные нам дуэньями
принцессы»19. В этой череде крайностей (старуха,
ребенок) и аномалий (евнух, гермафродит) тело животного
уже не кажется инородным рядом с человеческими
телами, оно нарушает норму наравне со всеми другими
крайностями просто за счет того, что оказывается не на
своем месте; поэтому оно является знаком трансгрессии,
которая одновременно приносит удовлетворение
комбинаторному воображению и дает уверенность в
неограниченном господстве над всеми телами, имеющими пол.
Таким образом, посредством тщательно
детализированных процедур, образующих систему доступности,
реализуется условие мгновенного достижения цели как
утверждение абсолютного отказа от ожидания, как
предельная попытка вывести желание за пределы
культуры, то есть освободить его от посредников и границ,
налагаемых на него всякой социальной системой.
При этом обращение к понятию природы
оказывается стратегической операцией, благодаря которой Саду '
удается доказать, что запреты обычно приводят к
противоположным эффектам (так стыд становится
перверсией). Понятие природы — это своего рода концепт-экран,
причем экран защитный, поскольку, будучи емким и
наглядным символом, он обеспечивает всем фантаз-
мам трансгрессии идеальное происхождение и
легитимность, позволяя им обрести символизацию в виде
зеркала и компендиума. Похоже, это понятие, на уровне
достаточно наивных представлений, играет ту же роль,
которую на критическом уровне у Фрейда выполняет
19IX, 148-149.
207
3 понятие бессознательного как сферы первичных про-
| цессов: требование наслаждения утверждается как
о изначальное и внеположное реальности. После этого
. стоит ли удивляться, что «природа», по Саду, как и бес-
| сознательное, по Фрейду, «игнорирует время».
ПРИНЦИП УСКОРЕНИЯ
Важно не только исключить ожидание, которое
заставило бы желание прибегнуть к уловкам, а значит, стать
опосредствованным и отсроченным, но необходимо также
внутри времени оргии (времени, которое уже
запрограммировано, а потому защищено от неприятных
неожиданностей и помех) еще более упрочить свое господство
путем максимального сжатия времени. Другими
словами, необходимо исключить ожидание в самой
последовательности наслаждений при переходе от предыдущего
к последующему. Вот почему, когда процесс
наслаждения начинается, он должен идти все быстрее и быстрее.
Садовское время, как мы видели, конструируется из
серии мгновений, и чем больше мгновений, тем больше
наслаждений; короче говоря, ускорение для времени есть
то же, что заполнение для пространства. Подобно тому,
как группа полностью оккупирует вычленяемое ею
пространство, а также телесные зоны, которыми она
наслаждается, действия группы полностью заполняют время
оргии. Скорость повторения создает на поверхностном и
количественном уровне иронический эквивалент
упраздненной непрерывности и полноты. Каким бы быстрым ни
было это движение, пунктир никогда не превратится в
сплошную линию. Остается только накопление
отдельных моментов в произвольности скачков и смещений.
Одно из самых невероятных ускорений мы находим в
описании знаменитой оргии, устроенной принцем Фран-
кавилла: «Тогда принц Франкавилла подал знак.
Четыре девственницы пятнадцати лет тотчас же ввели в ком-
208
нату четырех прекрасных юношей, уды которых были £
немедленно введены в наши задницы. Как только эти §,
четверо пришли в негодность, их тотчас сменила дру- J
гая четверка. |
Невозможно представить, с какой легкостью и с ка- а.
кой скоростью эти сцены сменяли друг друга: мы не
ждали ни одной минуты. Лона, уды, задницы следовали друг
за другом со скоростью наших желаний; как только все
эти устройства, которые мы старательно возбуждали,
теряли свою силу, появлялись новые. Столь же быстро
сменяли друг друга те, кто обслуживал нас дилдами, а
наши зады никогда не оставались без дела. По крайней
мере, за те три часа, которые продолжалось это безумие,
задница каждой из нас была атакована не меньше сотни
раз, и столь же часто дилды погружались в наши лона.
Я была вне себя от восторга»20 (курсив мой. — М. Э.).
Подобным образом описывается оргия в «120 днях
Содома»: «В комнату по трое входят пятнадцать
девушек, одна из которых начинает его сечь хлыстом, другая
сосать, а третья испражняться на него; потом та, которая
до этого испражнялась, берет в руки хлыст, та, которая
сосала, начинает испражняться, а та, которая была с
хлыстом, начинает сосать. Это повторяют все
пятнадцать девушек, и происходит это шесть раз в неделю.
(Это действительно великолепно, и я рекомендую вам
это испробовать. Только необходимо, чтобы все
происходило как можно быстрее)*21 (курсив мой. — М. Э.).
Требование, чтобы все происходило как можно
быстрее, выдвигается в качестве обязательного условия
практически в каждой оргии, например, в той, которая
планируется для старого либертена Мондора: «Вы не
можете себе представить ту быстроту, с какой
происходили все эти задуманные эпизоды, и не было ничего
приятнее, чем слышать все эти звуки, возникающие в
20IX, 377.
21 XIII, 359.
209
2 воздухе одновременно, эти звуки исходящих газов, вздо-
Е хов и выделений»22 (курсив мой. — М. Э.).
о В этой системе ускорения обращает на себя внима-
^ ние то, в какой степени скорость следования одного за
g другим призвана создать эквивалент одновременности
|" («О друзья мои, кончим вместе, это единственное счас-
^ тье в жизни!»)23. Другими словами, речь идет о переносе
пространственных прерогатив на время (если верно, как
показал Кант, что время — это порядок
последовательности, а пространство — это порядок одновременности).
Время оргии должно быть собрано, сжато, если не до
полного исчезновения, то по крайней мере до
«компактности», подобной выдержке при фотосъемке. В
движении ускорения тело-группа достигает кажущейся
неподвижности ротационного механизма, работающего
на максимальной скорости. (Сад на самом деле
постоянно помещает эту скорость на грань вообразимого и
даже за его пределы: «Вы не можете вообразить», «Вы
не можете себе представить...»)
Во всяком случае существует пространственная
одновременность тех серий, которые определяются
эротической активностью каждой зоны тела (рук, половых
органов, ануса, рта), но существует и последовательная
замена тел или групп тел, которые вызывают
наслаждение, испытываемое в этих зонах; и именно этот
интервал, этот «простой», возникающий из-за
необходимости замены, надо исключить. Замена тел гарантирует
наслаждение, постоянно вводя в него различие, но
необходимый для этой замены перерыв мог бы разрушить
наслаждение, если бы скорость операции не устраняла
эффекта прерывности: скорость восстанавливает
пространственную одновременность, которой угрожает
временная последовательность, и ускорению удается даже
привести время почти на грань конденсации и сверты-
22 VIII, 160.
"111,456.
210
вания. Серии сменяются так быстро, что наслаждение ^
длится практически без перерыва, не переставая изоб- ^
ретать все новые варианты перверсии, которые его га- ^
рантируют. Получается своего рода стробоскопическая з
машина, где скорость преломляет, унифицирует, объ- ^
единяет серии и делает их неподвижными. Сад открыто
демонстрирует эту модель: «В течение всего часа наши
распутники развлекались, пробуя таким образом эти
четыре задницы, передавая их по кругу с такой
скоростью, что они походили на крылья ветряной мельницы.
Такое название — "ветряная мельница" — они и дали
этой позиции, которую мы рекомендуем испробовать
каждому либертену»24. Итак, на пределе ускорения
парадоксальным образом возникает фантазм
неподвижности, напрямую связанный с логикой господства:
необходимо сделать территорию закрытой, чтобы ее
контролировать; недопустимо никакое движение, кроме
внутреннего, выполняющего чисто служебные
функции, а потому всерьез и не признаваемого движением.
Иначе говоря, либертен ставит перед собой задачу
решить проблему вездесущести: как быть сразу везде
и как наслаждаться всем сразу. (Жюльетта: «В то
время, как я быстро переходила от одних прелестей к
другим, мне все время казалось, что я могла бы еще
помедлить над теми, от которых мне приходилось
отрываться для новых и не менее восхитительных»25.) Отсюда
возникает неизбежное требование желания либерте-
нов: иметь все, все сразу и одновременно; не просто
избежать ожидания, и не просто все больше и больше
ускоряться, но также доставить себе все удовольствия
сразу. Наслаждение — это симфония, и групповое
тело — это тело-оркестр («и не было ничего приятнее, чем
слышать все эти звуки, возникающие в воздухе
одновременно, эти звуки исходящих газов, вздохов и выде-
21 VI, 273.
" IX, 57.
211
2 лений»)26 (курсив мой. — М. Э.). Если приемы наслаж-
S дения (как четверка или трио из предшествующих ци-
0 тат) разворачиваются по аналогии с искусством фуги
. (•«одна [...] начинает его сечь хлыстом, другая сосать, а
1 третья испражняться [...] потом та, которая до этого
g" испражнялась, берет в руки хлыст, та, которая сосала,
" начинает испражняться, а та, которая была с хлыстом,
начинает сосать»27), то в конечном итоге целью
является мультифония системы перкуссии, посредством
которой темпоральные серии могут максимально
приближаться к пространственной одновременности. Это
машина наслаждения, машина интегрирования и
преломления значений или, иначе говоря, — центрифуга
действий, стробоскоп ощущений, музыкальный
волчок — неподвижный, быстрый, одинокий.
Однако этот монтаж системы ускорения,
предназначенной для максимального концентрирования времени,
заключает в себе нечто большее, чем просто
поверхностное наслаждение одновременностью. На самом деле мы
видим здесь экономическую модель в действии:
машина наслаждения доказывает свою мощность за счет
своей производительности, количеством единиц
наслаждения, которые она вырабатывает. Как отмечал Маркс,
производительность определяется главным образом
отношением к фактору времени («Капитал»).
Действительно, если определение стоимости вещи сводится к
определению его меновой стоимости по отношению к
другим вещам, то есть к измерению количества
затраченного на него труда, то само это количество — не что
иное, как общественно необходимое рабочее время:
«Итак, величина стоимости данной потребительской
стоимости определяется лишь количеством труда, или
количеством рабочего времени, общественно
необходимого для ее изготовления. [...] Стоимость одного това-
26 VIII, 160.
27 XIII, 359.
212
pa относится к стоимости каждого другого товара, как £>
рабочее время, необходимое для производства первого, ^
к рабочему времени, необходимому для производства J
второго. [...] Величина стоимости товара изменяется, та- з
ким образом, прямо пропорционально количеству и об- ^
ратно пропорционально производительной силе труда, вд
находящего себе осуществление в этом товаре»28.
Чем меньше времени затрачивается на производство,
тем выше производительность и тем ниже
себестоимость. Завоевание рынка — это, прежде всего, победа над
временем. (Есть, конечно, много других условий, но это
исходное.) Скорость производства товара определяет
конкурентоспособность его цены. Поэтому
необходимо, чтобы производство шло все быстрее и быстрее.
Мы видим, что эта модель производительности
нарождающейся крупной промышленности проникает в
механическую компоновку тел-групп у Сада и
отображается в них в виде безумной лихорадки ускорения.
Сжатие времени представляет здесь новую экономику
наслаждения, его богатство проявляется не в его
уникальности или длительной интенсивности, а в большом
количестве полученных результатов. Другими словами,
здесь совершается переход от метафизической
ремесленной темпоральности к комбинаторной промышленной.
В целом введение измерения времени в
общественную деятельность — это важная веха на пути к ее
абстрагированию, то есть шаг к «денатуризации» этой
деятельности и к ее введению в систему конвенций,
регулярности, расчетов при более или менее полном
разрыве с естественными ритмами.
Этот разрыв, спроецированный в план сексуальной
активности и реализованный в нем, и обнаруживается
в садовской модели тела либертена и его
упорядоченного, запрограммированного, машинизированного, ис-
28 Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.:
В 9 томах / Под общей ред. А. И. Малыша и Н. Ю. Кол-
пинского. Т. VII. М., 1987. С. 39-40.
213
2 числимого и подсчитанного наслаждения. Здесь ока-
5 зывается определен новый вид счастья: счастье апатии,
о счастье количеств, счастье антилирическое, повторя-
^ ющееся, абстрактное. Исходя из этого возникает воз-
§ можность еще одной интерпретации программы, управ-
1* ляющей этой эротической активностью:
^ — Эта программа оказывается средством,
позволяющим свести к минимуму время, необходимое для
производства наслаждения, и, следовательно, извлечь
максимальный эффект из затраченного времени, прежде
всего, исключив «простой» и не допуская, чтобы паузы
нарушали темп работы. Запрограммировать систему —
значит подчинить ее непреложности принудительного
регулирования и устранить всякую возможность
неожиданности. Но прежде всего это значит сделать эту
систему оптимально рентабельной и принимать ее за то,
чем она, собственно, и является, — за систему функций.
— Наряду с этим программа отвечает одному из
основных законов производительности труда в
промышленности: закону разделения труда. Составитель
программ у Сада просто распределяет задания; он указывает
каждому его действия, его функции, в соответствии с
которыми затем «все исполняется». Это уровень
крайнего абстрагирования, где каждый эротический акт
ограничен и направлен на достижение эффективности
на определенном фрагменте тела или фрагменте серии
актов, чтобы в дальнейшем соединиться с другими
актами в соответствии с заданной программой (в главе VI
этот вопрос рассматривается более подробно, в
параграфе «Мануфактура наслаждения»).
АМНЕЗИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ
Если верно, что память — это та область, где под знаком
Мнемозины произрастает поэзия и процветает
лирическое славословие, то надо сказать, что нет ничего более
214
непроницаемого для поэзии, чем садовское повествова- ^
ние. Мы уже говорили раньше о том, что это повествова- §,
ние определяется не герменевтическим принципом за- ^
гадки, а энциклопедическим принципом перечня. В этом s
случае нарратив структурируется не неожиданностью, g,
а верификацией. Движение нарратива — это просто
развертывание веера картин, перелистывание тома
иллюстраций. Единственное, что связывает один эпизод с
другим, — это необходимость исчерпать систему
вариантов. Последовательность — не что иное, как
необходимость распределить во времени письма/чтения все
картины, которые по существу остаются одновременными.
В результате возникает максимальная прерывистость,
которой искусственно придано легато в той мере, в
какой это удовлетворяет требованиям жанра. Это
довольно странная последовательность, воспринимающаяся
как паллиатив для идеальной одновременности.
Садовские сцены — это словно прямые стежки («short
cuts»), каждый из которых прибавляет черту,
релевантную для всей серии. Но как и части тела, сцены
остаются membra disjecta, разъединенными фрагментами,
сопротивляющимися любой органической интеграции,
наскоро сметанными грубой ниткой.
Эта «грубая нитка» особенно заметна в той
небрежности, с которой производятся переходы. «Хороший»
рассказчик узнается по искусным переходам, они и
служат проверкой его мастерства. Это искусство состоит в
том, чтобы использовать знаки для подготовки
перехода, сделать его сначала вероятным, а потом неизбежным,
так, чтобы порядок повествования за счет создания
дискурсивной необходимости полностью стер лежащие в
его основании конвенции и представил себя как
естественную необходимость — то есть как универсальную
истину объективности (таков хорошо известный
невроз мимесиса — говорить: «я не артефакт, а сама вещь,
res ipsa»). В таком случае одна из главных проблем для
рассказчика заключается в следующем: как исходя из
215
одной ситуации, то есть когерентной организации
знаков, получить другую, не уничтожив при этом первую,
как, иначе говоря, изменить, не разрушив, как
произвести новое, не утратив то полезное, что было получено,
то есть как наделить нарратив внутренней памятью.
Отсюда весь механизм предваряющих и повторяющихся
знаков, которые превращают все повествование как
таковое в постоянное transitio, а искусство повествования
в конечном итоге — в искусство достижения
непрерывности, в выстилание причин.
Именно с этим искусством так бесцеремонно
обходится Сад, но не потому, что неспособен овладеть им
(напротив, в таких нелибертпеновских рассказах, как
«Маркиза дю Ганж», он показывает себя вполне
квалифицированным в этом отношении), а потому что по-
вествовательность в либертеновском тексте — это всего
лишь оправдание для картины, инструмент для ее
введения, ее соблазняющая оболочка. Это прямо признается
во «Введении» к «120 дням»: «Мы смешали эти 600
страстей с историями рассказчиц. Об этом тоже надо
предуведомить читателя, было бы слишком монотонно
описывать их одну за другой, не поместив внутрь истории»29.
«Монтаж» «120 дней» открыто демонстрирует и
легитимизирует прерывистость повествования, его
членение на отдельные фрагменты (последовательность
месяцев и дней, внутри которых друг на друга
накладываются общая презентация повествования, истории
рассказчиц и комментарии либертенов). Но в
«Истории Жюльетты», авантюрном романе-путешествии,
который соответственно должен репрезентировать
непрерывность, все обстоит иначе. В «Истори Жюльетты»
каждая остановка на пути или каждый большой город
представлены как тпопос в серии актов и дискурсов, как
место, где пишется отдельная глава Энциклопедии
Эксцессов. Проблема тогда заключается в том, как поки-
20 XIII, 61.
216
нуть один топос, чтобы перейти в другой, и как обосно- jj>
вать уход? Как максимально быстро расположиться в §,
другом топосе? Как правило, предлог — это ограбление J
хозяина и бегство. Этот момент transitio, который не з
объявляется заранее и по-настоящему не обосновыва- &,
ется, но подается как внезапно возникшая критическая
ситуация, делает очевидным авторский произвол и
является откровенным признанием той нарративной
условности, с помощью которой производится этот переход
(и которая оставляет «ограбленным» не только
покинутого персонажами хозяина, но и читателя).
Это в ряду прочих хорошо демонстрируют два
примера: бегство из логова Минского и отъезд из Рима.
У Минского, апеннинского великана, Жюльетта и ее
спутники чувствуют, что им угрожает опасность, и
решают подсыпать ему сонный порошок, чтобы ограбить и
бежать, заручившись содействием его управляющего,
который думает, что его хозяин отравлен. «Этот человек,
словно околдованный, во всем оказывал нам полное
содействие, во всем принимал участие и, без сомнения, был
сполна вознагражден за все великаном, который после
пробуждения обнаружил нанесенный ему убыток и наше
бегство»30. Такая же стремительная концовка следует
после ограбления папской сокровищницы в Риме: «Брас-
ки [Пий VI] не заметил этой кражи или почел за лучшее
притвориться, что ее не замечает. Я больше не видала
Его Святейшества, возможно, ему показалось, что мои
визиты обходятся ему слишком дорого. После этого я
сочла благоразумным уехать из Рима»31.
В этом ускоренном нарративе нас очевидно смущает
то, что причинные связи не успевают сформироваться:
цепочки действий и изменения в поведении настолько
стремительны, что с такой же легкостью могло бы
произойти все что угодно. Перед таким всесилием каприза
30IX, 19.
31 IX, 209.
217
§ (привилегией автора и страстью либертена) иллюзия
g внутренней необходимости исчезает и нарратив денату-
3 рализуется. Тот, кто ведет игру, выкладывает свои кар-
^ ты и говорит: «Какая разница, начнем другую партию».
§ В конечном итоге это уклонение от переходов демон-
о" стрирует, что ценность нарративности (которая как раз
^ и несет в себе темпоральность) чисто инструментальная,
она служит средством распределения во времени того,
что не может быть представлено сразу; за этим
минимальным введением последовательности по существу
сохраняется модель таблицы, фиксированная система
вариантов, идеал словаря. Отсюда часто возникает
полная независимость одного эпизода от другого вплоть до
того, что можно опустить тот или иной эпизод и это не
повлияло бы на иллюзию непрерывности: изъяв одно
звено, можно снова соединить цепочку (именно этим
объясняется легкость, с которой один рассказ может
включаться в другой, таковы, например, истории Кле-
ман в «Жюстине» и Бризатесты в «Жюльетте»).
Персонажи являются как бы эмблемой этой
автономности эпизодов. Их появление всегда неожиданно;
они возникают перед нами внезапно во всем
ослепительном блеске своего невероятного разврата или
невиданной красоты, а затем (за исключением главных
персонажей, переходящих из эпизода в эпизод, таких как
сама Жюльетта, Клервиль, Нуарсей, Олимпия, Ла Дю-
ран), исчезают, чтобы никогда больше не появиться
(как Делькур, Дорваль, Мондор, сам Сен-Фон, мадам де
Дони, Альбани, Берни, Пий VI, неаполитанский
король, Корделли и др.). Эти персонажи не более
жизненны, чем их имена, то есть лишь в той мере, в какой они
являются воплощением определенных типов в списке
перверсий и в системе принципов. В действительности
личное имя — это лишь развернутая теорема. Оно
пропадает в люке с надписью «что и требовалось доказать».
Вопрос о персонажах позволяет нам вернуться к
вопросу о нарративном эпизоде, который на уровне означае-
218
мого выражает судьбу персонажа. Персонаж является ^
на зов автора, чтобы заявить о себе внутри серии и ос- §-
тается там только в течение времени, необходимого для ,*
того, чтобы развернуть доказательство, а затем исчеза- з
ет (его просто бросают, отблагодарив, а иногда казнив), а,
В качестве характерного случая персонаж привлекает
максимум нарративного интереса в течение
временного отрезка, требуемого для его изучения, после чего
навсегда покидает текст. Причина этого состоит в том, что
садовское повествование ставит своей целью не
создание копии исторического мира или правдивого
портрета общества, а только демонстрацию правильности
практики (в данном случае либертеновской),
использовав для этого некоторое количество типов, которые
распределены по множеству нарративных эпизодов.
Реалистическое повествование, напротив,
предполагает органический, связный мир, единое целое, где все
находится в постоянной коммуникации, где приход и
уход персонажей является знаком внутренней
непрерывности этого целого, его постоянства,
сохраняющегося при всех изменениях и неожиданностях, другими
словами, знаком того, что история имеет ценность для
индивидуального сознания, что она собирается воедино,
подчиняясь сюжету. Вот почему в повествовании
такого рода важно, чтобы персонажи (как и автор) имели
долгую память. Забывчивость, выражающаяся в
изолировании эпизодов, равнозначна началу распада.
Необходимо аккумулировать все посредством интериоризации,
иначе утраченное время обернется утраченным миром.
Утомительная задача, рабский труд. Гегель прав: нет
ничего сложнее, чем сохранять единство целого.
В этом отношении либертеновский повествователь
своей невинностью и своим бессознательным подобен
больному амнезией. Для каждого нового мгновения он
жертвует всем прошлым. В конечном итоге формула
Садовского времени — это программа. Программа
означает, что все продумано заранее и находится под конт-
219
3 ролем, что не произойдет ничего неизвестного. Каждый
S либертен, который программирует свой «вечер», повто-
° ряет жест автора, конструирующего модель своего по-
^ вествования (черновики Сада свидетельствуют о тща-
§ тельной продуманности всех положений, а пометки,
|" адресованные им самому себе во втором лице множе-
^j ственного числа — «измените это», «дайте
подтверждение» — являются строгим приказом, который должен
быть выполнен). Программа — это формула
Садовского времени именно потому, что его повествование — это
не искусная инсценировка раскрытия тайны, а
развертывание уже известного, его проецирование в
последовательный ряд.
Для изложения системы истин достаточно
рассуждения, но как заставить его слушать, не облачив в
«человеческое, слишком человеческое» нарративного
метода? Глубокое недоверие Сада к этому методу
основывается на его очевидном сговоре с логикой (или скорее
с этикой) отсрочки и достижения цели в обход.
Напротив, рассуждение говорит все и сразу, достигая
немедленного наслаждения от высказывания и призывая
читателя перейти к действию, чтобы на собственном теле
и на собственной практике удостовериться в силе и
истине высказанных принципов («эффект Сада»).
Рассказывать — значит стремиться сказать то же самое,
терпеливо развертывая это в последовательность и
подтверждая эффективность принципов внутритекстовой
моделью. Поэтому, согласно требованиям жанра,
необходимо достичь правдоподобия в развитии событий,
разместить знаки-подсказки, согласовать нити
отношений. Другими словами, необходимо пойти по пути
вынужденного опосредствования и — что наиболее
мучительно — согласиться на отсрочку удовлетворения.
Мы все время чувствуем, что садовский текст готов
нарушить все правила, но удерживается на грани
технической ошибки — это придает ему ритм напряженного
вибрирования между прямолинейностью и усмешкой.
220
Именно поэтому в движение текста программа входит ^
как особый и чисто либертеновский момент счастья: g.
время будет определено, организовано, расчленено, J
сконденсировано. И ускоренное исполнение, которое за 5
этим последует, станет лучшей местью за долгие обход- §,
ные пути, которые навязывал нарративный закон. Эта
мечта о скорости проецируется на своего рода
нарративную поспешность, символом которой являются
стробоскопические действия в ходе оргий (например,
«мельница»). В своем пределе движение
оборачивается фиксированным образом картины. Это сгущение
времени и является прежде всего целью программы. Но
кроме того, оно проясняет то, как соотносятся фрагмен-
тированное время и расчлененное тело, тело-машина.
Подобно тому, как не может существовать
органического единства тела, не может быть и временного
континуума. Из одного следует другое. Наслаждение, всегда
производящееся частями, определяется возбуждением
тех или иных элементов тела или их механическим
соединением. У каждой части — свое особое наслаждение
и свой временной фрагмент. Время здесь не
объединяет, а разделяет. Каждая цель наслаждения, определяя
то, как будет расчленена сцена, активизирует и
усиливает этот разделяющий характер времени.
Время у Сада (точно так же, как пространство и
зеркало) лишено глубины и резонанса: оно совершенно
нелирическое. Повествование не сохраняет памяти о
собственных эпизодах, событиях, действующих лицах.
Эта амнезия является условием повторения
наслаждения, которое существует только здесь и сейчас. Как
только наслаждение достигнуто, оно должно начаться
снова, поскольку память наслаждения не испытывает.
Это событие, которое не оставляет следов, поскольку у
него нет (метафизического) субъекта, который бы его
вспоминал и продлевал бесконечно. Утраченное время
действительно утрачено, поскольку нет того
«внутреннего», которое могло бы его вбирать, углублять, транс-
221
S цендировать. Таким образом, нет процесса обучения, то
S есть нет изменения. Нет ничего похожего на Aufhebung.
о Абсолютная противоположность христианской эпохе
^ «откровения». Нет ничего, что аккумулировалось бы в
§ стратах интериоризирующей памяти — Erinnerung. Все,
о" что есть, это демонстрация, которая должна быть про-
2j изведена, система, в которой должны быть
осуществлены все варианты и в которой имена и события — это
только ориентиры в этом топологическом заполнении.
Вот почему садовское повествование (что бы о нем
ни говорили) на самом деле не является плутовским
романом, то есть романом воспитания. Либертен не-
воспитуем или, если угодно, неисправим. Он не объект
становления, а инструмент неустанного повторения
доказательства. Он по-настоящему не сталкивается с
хитростью, злодейством или обманом. Он не подвергается
риску со стороны Другого. Он движется в рамках гаран-
•тированной безопасной судьбы. Его программа уже
всегда намечена. Его противник проиграл с самого начала,
и наоборот, Жюстина уже заранее дана как
проигрывающая либертену, она остается такой же неизменной, как
и он. Все должно постоянно начинаться заново.
Поразительное упорство, в котором заключено требование
повествования. Дело не в обогащении памяти, а в
маркировании тел, в поверхностных эффектах, вехах пути, в
конце которого мы имеем не воспоминания, а принципы,
не мечты, а решения, не сожаления, а подсчеты
(накопленных богатств и встреченных тел) вместо
расплывчатости памяти, обремененной состояниями души, — тело,
татуированное множеством наслаждений, живой
каталог, включающий все вообразимые эксцессы.
Изобретение тела либертена — перечень всех знаков, оставляемых
на нем либертинажем. Когда испытаны все наслаждения,
тогда и оказывается, что все сказано.
II сторона
ЭКОНОМИКА
Глава шестая
ЛИБЕРТЕНОВСКИЙ СПОСОБ
НЕПРОИЗВОДСТВА
Общество создало общественный
фонд, которым в течение шести
месяцев распоряжался каждый из
четверых. Суммы,
предназначавшиеся только для удовольствий, были
огромны. Это невероятное
богатство делало для них доступными
самые необычные вещи, и читатель
не должен удивляться, когда ему
скажут, что два миллиона ежегодно
расходовалось на одни только
удовольствия и услаждение похоти.
Де Сад. 120 дней Содома1
Богатство представляется
приобретением в той мере, в какой
богатый человек приобретает власть, но
в то же время оно полностью
ориентировано на потерю, поскольку
власть, которую оно дает,
рассматривается как способность терять.
Только через потерю слава и честь
связываются с богатством.
Ж. Батай. Понятие траты
Внимательно изучая тексты Сада, мы не найдем в них
модели общества, — это будут исключительно модели
контр- или параобщества. Цель либертена состоит не в
изменении универсальных структур общества, а в том,
чтобы воспользоваться ими, что в большинстве случаев
' XIII, 4.
8Зак 3904
225
3 означает заставить их работать на свою собственную
at выгоду. Речь здесь идет совсем не об изменении условий
§ производства, а об извлечении из них максимально воз-
ст$ можной прибыли. Как всегда у Сада, причины не имеют
4 значения, в счет идут только следствия, но осуществить
<^ это присвоение, не затрагивая status quo, не означает со-
| хранить систему в неприкосновенности — как раз на-
^ против, поскольку все конечные результаты, на которые
направлена работа этой системы, присваиваются либер-
теном ради их недопустимого использования. Отметим
сразу, что работа этой системы направлена на свое
собственное воспроизводство за счет накопления излишка,
который вновь и вновь в нее инвестируется. Стратегия
либертена заключается в том, чтобы перехватить этот
процесс до того, как он вступит в фазу своего
воспроизводства, то есть в тот самый момент, когда богатство
произведено и может быть присвоено, а затем и растрачено
ради одной-единственной цели — наслаждения. Либер-
тен превращает свое тело в фантастическую машину
потребления и траты при полном безразличии к
предполагаемым расходам, последовательно отказываясь
от всего, что могло бы иметь хоть какое-то отношение
к логике производительности. Либертеновское
наслаждение увенчивает собой пирамиду, которую образуют
эксплуатируемый труд, незаконное присвоение
богатства и полное игнорирование принципа рентабельности.
Не существует, стало быть, садовской модели
производства, существует только стратегия незаконного
присвоения, которая определяет собой всю структуру
контробщества. Это присвоение имеет свою четкую логику,
и его можно было бы в насмешку (или сочувственно)
назвать либертеновским способом непроизводства; здесь
раскрывается то, чем в действительности является это
присвоение: продуктом вымысла. Того вымысла,
который инсценирован не в мире фантазмов, но внутри
текста, внутри практики означивания, где работает и
заявляет о себе логика исторических процессов. Таким
226
образом, неудивительно, что в этом «либертеновском спо- ^
собе непроизводства» мы обнаруживаем набросок того Ё
способа производства, который развивается и насажда- <§
ется в Европе в конце XVIII века, — способа произвол- §
ства нарождающейся капиталистической промышлен- с*
ности. На самом деле, этот способ существует у Сада в vs
переплетении с предшествующими формами экономи- S
ческой организации и эксплуатации, такими как фео- ~
дальный (и его разновидность — монастырский) способ 'jjj
производства. Экономическая теория, управляющая са- ^
довским либертинажем (теория, которую инсценирует §
и подвергает испытанию текст), — предстает, таким об- £
разом, с точки зрения генеалогии настоящей и прошлой vo
истории отношений, которые устанавливаются между "=
желанием, с одной стороны, и экономической властью >:
и условиями ее отправления в рамках заданных
институциональных практик — с другой.
ЗАМОК,
или ФЕОДАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
Наиболее предпочтительным местом для садовского
либертинажа является замок. «В универсуме романа,
где сама по себе живописность не представляет
интереса, замок — единственный элемент декораций, который
описывается исключительно подробно. Замок не
просто декорация, это само пространство желания»2.
Обозначая дворянство par excellence, замок одновременно
репрезентирует избранный класс либертенов вместе с
их правами, привилегиями и притязаниями. Некоторые
из описываемых замков — обычных мест для
«увеселений» (parties fines) — обладают изяществом и
открытостью сооружений XVIII века, но, как правило, речь
2 Didier В. Le chateau interieur // Didier B. Sade, une ecriture
du desir. Paris, 1973.
227
2 у Сада идет о средневековых крепостях с эшелонами
I толстых стен в несколько рядов, с непреодолимыми рва-
| ми, с внутренними помещениями из голого камня,
Котону рые перегорожены железными решетками и скрывают
ч множество подземелий. Таковы замки Роллана, Мин-
■^ ского и Бризатесты, но особенно это относится к Сил-
| лингу, их совершенной модели: он находится в самой
~ глуши Шварцвальда, его защищают пропасти и высокие
стены, в него можно попасть только с проводником и
только пешком. Словно всего этого недостаточно,
отдается приказ разрушить мост, ведущий к замку, как
только четыре господина со своими слугами прибывают на
место: «Но это еще не все. Герцог, осмотрев местность,
решил, что поскольку провизии в замке предостаточно
и нет никакой необходимости выходить из него за чем
бы то ни было, то следует предотвратить нападение
извне, хотя его едва ли можно было опасаться, а также
сделать невозможным побег из замка, вероятность
которого была еще меньше. Посему следовало замуровать все
двери, через которые можно было проникнуть во двор,
и запереться в замке, как в осажденной крепости, дабы
ни враг, ни дезертир не отыскали себе лазейки. Это
указание было исполнено, после чего уже невозможно
было догадаться, где раньше находились двери»3.
Имитация осадного положения («как в осажденной
крепости») позволяет собрать воедино все знаки
феодальной крепости с ее историческими импликациями.
1. Военные знаки присутствуют в указаниях на
систему обороны, замурованные входы и выходы,
неприступность замка. Подобное обращение к военным знакам,
несмотря на их полную ненужность (поскольку
нападение крайне маловероятно, как это парадоксальным
образом признает сам автор: «чтобы предотвратить
нападение извне, хотя его едва ли можно было опасаться»),
показывает, что речь идет о феодальной системе в той
3 XIII, 49.
228
мере, в какой она возникла из военной власти, истори- <§
чески обеспечивающей ее легитимность. §
2. Политические знаки обнаруживают себя в произ- £
воле господ. Осадное положение влечет за собой введе- §
ние чрезвычайного положения; замок, отрезанный от ё"
внешнего мира, не знает другого закона, кроме закона J
его хозяина (или хозяев). Хозяева Силлинга предельно 5
эксплуатируют свое неограниченное право на произвол, g
Крепость становится тюрьмой для жертв «доброй воли». '3
Силлинг напоминает Бастилию, но эта Бастилия, как ^
мы с самого начала узнаем из речи герцога де Бланжи, 1
обращенной к заключенным, бесконечно страшнее: £
«Вы заперты здесь в неприступной крепости. Ни одна <|
душа не знает, где вы находитесь, вы оторваны от ваших ■<
друзей и близких. Вы уже мертвы для мира, и если вы £
еще дышите, то только для нашего наслаждения»''.
3. Экономические знаки включают в себя два
элемента: автаркию и роскошь. Осадное положение предельно
мобилизует всю модель функционирования
феодального владения, цель которой, с одной стороны, состоит в
том, чтобы обеспечивать самодостаточность
производства, а с другой, в том, чтобы гарантировать господам
потребление избытка благ, произведенных сервами.
Находясь в состоянии воображаемой осады, Силлинг
обречен жить исключительно за счет собственных
запасов, которые потребляются в невероятном количестве:
это не только обильная еда и великолепные напитки, но
вдобавок, как мы увидим, — рассуждения и тела.
Текст Сада, оказавшегося современником
Революции 1789 года, пришелся на ту эпоху, когда начал
обнаруживаться разрыв между стремительно
развивавшимся капиталистическим способом производства и теми
элементами феодального способа производства,
которые еще продолжали существовать и которым
соответствовали определенные политические формы, а имен-
1 XIII, 57-58.
229
2 но монархия, власть дворянства и власть церкви. Начи-
3 ная с эпохи Регентства Филиппа Оранского и на про-
| тяжении всего XVIII века появляется все больше зна-
m ков, указывающих на осознание дворянством своего
4 необратимого упадка и, как следствие этого, на упорное
^ и отчаянное стремление любой ценой удержать приви-
§ легии, над которыми нависла угроза, и во что бы то ни
^ стало наслаждаться ими до конца. На фоне этого
последнего вызова агонизирующей системы Сад и
создает фигуры своих либертенов, наделяя их тем типом
власти и привилегий, который невозможно вообразить вне
феодализма. Даже если разбогатевшие простолюдины и
получают доступ к либертинажу (поскольку деньги
всегда ведут к власти), то подлинными виртуозами в этом
оказываются все же прямые наследники феодализма,
то есть благородное сословие. Так обстоит дело и в Сил-
линге: замок принадлежит Дюрсе, банкиру, который
представляет возрастающую власть капитала, но
по-настоящему как дома здесь чувствует себя герцог де Блан-
жи. Он ведает средствами защиты замка, он бесспорный
лидер: именно он отдает приказы и произносит
приветственные речи, наконец, сексуально он сильнее и
одареннее остальных. Из дочерей четырех Друзей только
его дочь, действительно доказавшая свое либертенство,
будет спасена: таковы солидарность и привилегия
класса. Эта логика действует безотказно.
Таким образом, если мы вкратце вспомним основные
черты феодальной системы, то сможем понять и
исходные параметры той экономической и политической
гипотезы, которую предполагает функционирование
Садовского либертинажа в качестве модели социума.
Господство, эксплуатация
Исследования феодального периода и
характеризующего его способа производства выявили три основные
особенности:
230
— общественные отношения данного способа про- ^
изводства определяются главным образом земельным §
характером собственности (это прежде всего аграрная <g
экономика); §
— собственность на землю сохраняется за иерархией к-
сеньоров; те, кто работает на земле, имеют право толь- *
ко пользоваться ею, находясь в зависимости от сеньо- S
о
ра, наделенного правом присваивать продукт их труда; «
— иерархические отношения построены по модели 'Ц
личной зависимости (крепостных от сеньоров, сеньоров J
между собой). |
В данном случае речь идет о наиболее развитом типе Б
феодализма и наиболее общих данных, которыми мы \|
располагаем. Если же мы обратимся к истокам фео- <
дальной системы, то главным окажется военный харак- 5
тер его организации. Власть сеньора — это прежде всего
власть оружия. В эпоху постоянных войн крестьянам,
которым завоеватели-варвары сначала принесли
свободу, оставалось только одно — отдаться под защиту
военных вождей, которые взамен требовали признания
«эминентного» (а позже фактического) права
собственности на земли, находившиеся под их
протекторатом. Происхождение феодализма «коренится в
организации военного дела у завоевателей во время самого
завоевания, и эта организация развилась в настоящий
феодализм лишь после завоевания благодаря
воздействию производительных сил, найденных в
завоеванных странах»5.
Символ военной власти сеньора — средневековый
замок с его укреплениями — оказывается
двусмысленным, поскольку, с одной стороны, представляет собой
убежище для крестьянской общины в случае набега или
нападения извне, а с другой — выражает безграничное
5 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К.,
Энгельс Ф. Иэбр. соч.: В 9 томах / Под общей ред. А. И.
Малыша и Н. Ю. Колпинского. Т. II. М., 1985. С. 68.
231
3 господство сеньора над его подданными, вследствие ко-
| торого большинство из них пребывает в полурабском
| состоянии, получившем название серважа.
m Сада интересует именно этот символ (и этот инст-
« румент), поскольку он вводит в повествование и обес-
§^ печивает, пусть даже фиктивно, отношения господства.
| И хотя серваж практически исчез к XVIII веку, сред-
^ невековый укрепленный замок по-прежнему
оставался главным знаком дворянской власти и ее
высокомерия, именно на него шли приступом революционеры
1793 года (Сад все это испытал на себе, поскольку его
крестьяне, возглавляемые, кстати, наиболее
зажиточными, полностью разрушили его средневековый замок
в Лакосте). Так, в «Новой Жюстине», когда либертен
Жером разрабатывает свой план покупки владения, он
хочет, чтобы оно в точности соответствовало
владению феодальному:
«Моему банкиру я поверил свое желание купить
сеньориальную землю на значительные средства,
которые оказались в моем распоряжении.
— В этих местах, — сказал я этому достойному
человеку, — феодальные порядки соблюдаются со всей
строгостью, поэтому я и решил здесь обосноваться: я хочу
одновременно повелевать людьми и возделывать землю,
господствовать над своими полями и своими вассалами.
— В таком случае, — ответил мой собеседник, — вы
не найдете лучше места, чем Сицилия; жизнь и смерть
тех, кто обитает на этой земле, находится во власти их
сеньора.
— Это как раз то, что мне нужно, — ответил я»6.
Используя замок как место разврата, Сад
стремится разом задействовать всю подразумеваемую здесь
систему феодализма, то есть прежде всего феодальный
способ производства и вытекающий из него тип
отношений. Эти отношения характеризуются локально-
6 VII, 22.
232
стью политических и юридических связей, а точнее, не *g
столько локальностью, сколько их личным характе- 5
ром: отношения крепостной зависимости, как и от- <§
ношения сеньора и сюзерена, связывают конкретных §
людей. Это личная связь, которая по мере усиления про- й1
извола феодальной власти оборачивается правом на ^
тело серва, а знаменитое «право первой ночи» предста- S
ет лишь распространением этого права на сферу сек- §
суальных отношений. Деспотическое тело живет, по- '3
требляет, наслаждается и умирает, сохраняя при этом ^
полный физический контроль над порабощенным те- х
лом, которое совпадает с феодальным ленным владени- Е
ем: земля, замок, сервы образуют, благодаря строго за- vo
данному эндогенному отношению головы к остальным <
частям тела, единое тело сеньора. >:
Непроизводительное потребление
Между историками ведется серьезный спор, была или не
была Революция 1789 года антифеодальной, то есть
сохранился ли феодализм до конца XVIII века. Для
некоторых англо-саксонских историков (таких, как А. Коб-
бэн) феодализм — это в основном явление XIII века,
которое в любом случае заканчивается вместе с эпохой
Средневековья. Строго говоря, сеньориальная
структура последующих веков уже не была феодальной и
должна определяться в соответствии с другим критериями. На
это «социальные историки» (Лефевр, Блок, Собуль и
т. д.) возражают, что хотя феодализм в его чистой
форме (или, по крайней мере, в его юридическом аспекте)
исчез, поскольку серваж был официально упразднен,
тем не менее феодальная реальность сохранялась в виде
множества податей (оброк, барщина, налог на
пользование печью, мельницей, мостами, право на охоту),
которыми сеньор мог по-прежнему облагать крестьян,
даже если они стали независимыми землевладельцами.
Накануне революции эти различные подати составля-
233
§ ли около трети дворянских доходов, то есть их очень
| значительную часть. Такие историки, как Собуль, пред-
* лагают говорить о предшествующем Революции пе-
m риоде как о «феодализме Старого Порядка», главной
<з экономической характеристикой которого были «фео-
§_ дальные подати»7. Поэтому хотя феодализм и трансфор-
| мировался, наложившись на новые формы торгового
s капитализма и централизованную королевскую
администрацию, взимавшую свои собственные налоги (что
еще более усугубляло положение крестьян по
сравнению с эпохой Средних веков), французское
крестьянство вплоть до XVIII века продолжало нести на себе все
тяготы феодальной системы.
Парадокс стойкого выживания феодализма вплоть
до XVIII века определяется глубоко иррациональным
характером его экономики. Именно это со всей
очевидностью и подталкивало крестьянские массы к взрыву
1789 года, а также подогревало недовольство
поднимавшейся буржуазии, которая уже не могла терпеть
расточительство, абсолютную непроизводительность и
торможение экономического развития, которыми
оборачивалась феодальная система. «В этой экономике, где
земельный капитал был главным источником
сбережений, феодальная рента не инвестировалась, а
потреблялась привилегированным сословием в виде предметов
роскоши и услуг. Экономика, таким образом, состояла
на службе у двора, дворянства, крупной буржуазии...
то есть у тех категорий, которые были чужды какой бы
то ни было производительной деятельности, которые
действительно жили как паразиты на социальном теле,
то есть паразитировали на крестьянстве [...]
Сельскохозяйственный продукт в конечном счете уходил на
содержание слишком многочисленной домашней при-
7 Soboul A. La Revolution frangaise et la feodalite: la prele-
vement feodale // Soboul A. Sur le feodalisme. Paris, 1974.
P. 83.
234
слуги, на демонстративную роскошь, на непродуктив- <§
ные расходы»8. §
о
а
Вопрос, который Собулем здесь так и не поднимает- <§
ся и которого всегда избегают историки и экономисты, |
состоит в следующем: почему знать с таким упорством |"
отказывалась инвестировать свою ренту? В чем была ^
причина этого расточительного потребления, этого раз- 8
гула избыточных трат и показной роскоши? Какова
была внутренняя потребность, логическая необходи- '§
мость такого поведения, когда разумному компромис- ^
су предпочитался риск экономического самоубийства? g
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть роль Б
неэкономического элемента, который можно обозна- vo
чить как принуждение кода. В самом деле, известно, "Ч
что код дворянского поведения подразумевал
множество обязанностей, от которых зависело признание
данного статуса другими, и тот, кто отказывался от их
строгого исполнения, утрачивал право называться
аристократом. Так, военная служба — долг каждого
дворянина по отношению к королю — представляла собой
реликт и эквивалент тех функций, из которых возникло
и получило свою силу и власть подлинное дворянство,
«дворянство шпаги»: обеспечение военной
безопасности. В соотнесении с этой обязанностью
устанавливался полный запрет на какую-либо деятельность, будь то
ремесленная, промышленная или банковская.
Привилегия ношения шпаги категорически исключала
возможность обращения с орудием труда; работа означала
утрату статуса. Разбогатевшие простолюдины
(например, банкиры, магистраты) могли стать дворянами, но
ни один дворянин по рождению, если только он
сознательно не желал отказаться от признания себе равных,
не мог и не должен был заниматься трудом, даже если от
этого зависело его выживание. Что же касается его со-
8 Soboul A. La Revolution franchise et la feodalite: la preleve-
ment feodale. P. 84-85.
235
3 стояния, то все, на что он мог рассчитывать, это дохо-
з| ды от возделывания своих земель (или от их продажи).
| Именно это исключительное могущество кода, воз-
m можно, позволяет лучше понять то слепое упорство дво-
<э рянства, с которым оно держалось за свои феодальные
^ привилегии. Выбор происходил между утратой стату-
| са и экономическим выживанием; и принуждение кода
^ победило. Очевидно, что для историков непросто
размышлять о столь иррациональном поведении, как
сохранение праздности невзирая даже на то, что это
грозит гибелью. Но если собственно исторических теорий
на этот счет и недостает, мы можем прибегнуть к
помощи таких, считающихся маргинальными, авторов, как
Торстейн Веблен («Теория праздного класса») и Жорж
Батай («Проклятая доля»), чей анализ поможет нам
понять, каким образом феномен самоубийственной траты
управляет не только эксцессами либертена, но,
возможно, любым способом производства, какой бы строгой ни
казалась его рациональность. Мы еще вернемся к
этому (см. далее в этой главе «Экономика излишеств»).
МОНАСТЫРЬ,
или МОНАСТЫРСКАЯ МОДЕЛЬ
Если обычной обстановкой, в которой пребывает
сообщество либертенов, является феодальный замок со
всем, что он репрезентирует в плане безопасности
группы и сеньориального статуса ее членов, то надо
отметить, что сама жизнь в замке организована в точности
по монастырской модели. Самым очевидным
свидетельством этого является устав, регулирующий права,
обязанности и отношения гостей Силлинга и членов
Общества Друзей Преступления.
Поскольку речь идет о Саде, мы неизбежно должны
отметить пародийный и богохульный характер этого
использования знаков монастырской жизни для орга-
236
низации •«общины» либертенов. Однако хотя это объ- <g
яснение и относится к существу дела, оно все же недо- §
статочно. Дальше нам станет ясно почему. Пока же еле- <§
дует отметить важность для садовского повествования g
монастырской обстановки как таковой и сделать следу- §"
ющие наблюдения: ^
— рассказ Жюльетты начинается с описания ли- 8
бертеновского воспитания, полученного ею в монас- §
тыре Пантемон, возглавляемом нечестивой и бесстыд- '3
ной аббатисой мадам Дельбен. Каждое пребывание ^
Жюльетты в монастыре (Кармелитском монастыре в *
Париже или женском монастыре в Болонье) сопровож- |
дается оргиями, вызывающими у нее исключительный *|
энтузиазм; ■*;
— что касается Жюстины, ее пребывание в монастыре £:
Святой Марии-в-лесах, где живут монахи-либертены,
является центральным эпизодом в ее злоключениях;
— наконец, в «120 днях Содома» истории Дюран
начинаются с воспоминаний о том, как девочкой она
распутничала с монахами соседнего монастыря.
Во всех монастырских эпизодах примечательно то,
что сцены разврата моделируются в строгом
соответствии с ритуалами религиозной жизни: все знаки и
структуры монастырской системы тщательно
сохраняются, как если бы они не только не ограничивали ли-
бертинаж, но, напротив, благоприятствовали ему.
Если допустить, что стремление к богохульной
иронии — лишь наиболее очевидный мотив превращения
монастыря в место для разврата, то как объяснить
интерес Сада, при всем крайнем атеизме последнего, к
такому образу жизни, который он должен был бы отвергать
или презирать? Откуда эта парадоксальная
снисходительность? Возможный ответ состоит в том, что
монастырская структура как на институциональном уровне,
так и на уровне социальных отношений предлагает
наиболее приемлемую модель того, что соответствует его
237
g представлению о сообществе либертенов (что касается
3 экономических условий монастырской жизни, то они бо-
* лее или менее близки экономическим условиям фео-
m дальнего производства).
g^ а) Институциональный уровень: устав, огоражива-
| ние, молчание.
^ Жизнь любого монастыря по существу определяется
уставом (в строго историческом смысле это, например,
бенедиктинский устав, августинский устав,
доминиканский устав и т. д.). Этот устав представляет собой
систему, которая подчиняет день ритуалу и членит его в
соответствии с определенным распорядком (часы подъема,
отхода ко сну, трапезы, работы), предписывает
определенное поведение телу (одежда, походка, молчание),
определяет использование монастырских территорий в
зависимости от часа дня (сад, монастырский двор,
трапезная, кельи, часовня и т. д.) и обязывает к
употреблению конвенциональных формул приветствия, просьбы,
выражения благодарности, подчеркивания отношений
субординации. Короче говоря, в монастырском уставе
оказывается притягательной его способность
производить порядок, не зависящий ни от какой внешней
необходимости и равнозначный Порядку вообще
(разумеется, теология стала бы оправдывать существование
подобного порядка необходимостью послушания,
отречением от воли, подчинением Богу и т. д.). Поэтому
необходим устав, который организовал бы пространство,
время, поступки и движения как дискурс, как строгую
грамматику, какими бы произвольными ни были ее
правила (и чем более они произвольны, тем более порядок
ощущается как автономное требование, как
необязательная причина обязательных следствий). Словом,
непрерывное и пустое садовское время организуется
уставом, оно разделено на составляющие, которые
можно комбинировать и которыми соответственно можно
манипулировать по капризу желания (здесь и возника-
238
ет взаимная игра двух видов произвола: произвола рас- ,§
порядка дня, устанавливаемого уставом, и произвола В
настроений желания; порядок оказывается на службе у ,§
непредсказуемости). |
Второй важный элемент монастырской институ- к1
ции — огораживание. Под этим подразумевается суще- ^
ствование границ, за которые монах не может выходить 8
без особого разрешения. Огораживание в принципе со- g
впадает со стенами монастыря, но создает прежде всего '|
символическое принуждение, которое может действо- ^
вать и там, где нет никакой видимой физической грани- |
цы и которое является пространственным воплощением Б
того модуса принуждения, что вводит устав, отграничи- vo
вая внутреннее пространство от внешнего, сакральную -^
территорию от профанной, тайную сторону от публич- 5
ной. На более глубоком уровне огораживание
знаменует отречение от мирской жизни и ее искушений; герцог
де Бланжи встречает узников Силлинга словами, с
которыми обычно обращаются к принимающим постриг:
«Вы уже мертвы для мира»...
Мы можем догадываться, в какой мере эта
физическая маркировка пространства служит у Сада поиску
подчиненного коду, тайного, защищенного места,
поскольку именно такое место способствует
производству комбинаторных эффектов. Помимо того, здесь
играет важную роль особое преимущество исторического
характера, состоящее в том, что территория
монастыря — это место, закрытое для светской власти, и все,
что происходит внутри, находится исключительно в
церковной юрисдикции. Следовательно, именно
монастырская модель являет собой модель общества внутри
общества, каковым и стремится быть ассоциация ли-
бертенов. Это парадоксальное общество властно
сохранять свою тайну, не будучи тайным обществом. И даже
больше того: ему удается сделать так, что гражданская
власть относится к нему с уважением и заискивает
перед ним. Саду для своих либертенов большего и желать
239
S нельзя, и поскольку добиться невероятных привилегий
* монахов невозможно, он переворачивает проблему и де-
§ лает либертенами самих монахов. ,
£, Наконец, еще один важный элемент — императив
ч молчания. Этот императив рассматривается в качестве
<^ условия сосредоточенности, духовных занятий и в ко-
| нечном счете поддержания порядка в монастыре, но,
^ возможно, главный его эффект состоит в депсихологи-
зации отношений и удерживании тела на расстоянии,
создаваемом ритуализированными действиями и
абстрактностью их символов. Молчание — это не
отсутствие произносимого слова, а скорее искусство
освобождения места для того единственного слова, которое
считается живым и действенным: слова Божьего,
публично возвещаемого во время чтения Библии или
повторяемого при медитации.
Саду достаточно заменить слово Божье
рассуждением либертена, чтобы заставить молчание выполнять ту
же самую функцию, превратив его в искусство
поддержания порядка и внимания, в равной мере
необходимых для наслаждения. Один из пунктов устава Силлин-
га официально запрещает «малейший смех» во время
оргий. Здесь требуется полная сосредоточенность, о
которой Жюльетта говорит следующее: «Все оргии
начинались с установления полной тишины, как если бы
участники хотели вкусить все наслаждение без
остатка и боялись за разговорами упустить даже ничтожную
его часть. Мне сказали, что я должна наслаждаться со
всем вниманием, чтобы потом сравнить свои
ощущения. Я была в безмолвном экстазе»9.
Ь)Уровенъ отношений: община, целибат,
разделение полов.
Монастырская жизнь — прежде всего определенная
разновидность общинной жизни. Последняя возможна
лишь при соблюдении устава, то есть она существует
9 VIII, 65.
240
о
лишь как следствие кода (и именно это и будет прежде <2
врего интересовать Сада). Более того, эта община дер- и
жится на солидарности, предваряющей сообщничество ,§
либертенов: общее владение имуществом предвещает |
общее владение телами. е"
Но, возможно, больше, чем что-либо другое в монас- ^
тырском образе жизни, либертеновскому мышлению 3
оказывается близка идея целибата — чисто моральное g
решение не иметь потомства. Своим отказом от потом- '§
ства и воспроизводства семьи монах опять же может ^
служить моделью для либертена. Отношение мужчина— §
женщина существует для монастыря только под знаком £
дизъюнкции: либо община мужчин, либо община жен- vo
щин — смешанная община немыслима, потому что, со- <
гласно христианским представлениям, плотское иску- S
шение может быть только гетеросексуальным, а значит,
представляет угрозу для отцовства или материнства
высшего порядка — Божьего. Чтобы исключить эту
опасность, монастырская система парадоксальным
образом подвергает себя плотскому искушению другого
рода — тому, которое осуждается гораздо строже:
искушению гомосексуальности. Гомосексуальность,
независимо от того, практикуется она или нет, —
единственно возможный выход для сексуальных стремлений
в пределах монастырской ограды.
Другими словами, весь способ организации
монастырской жизни и все структуры этой жизни
чрезвычайно легко поддаются переворачиванию,
демонстрирующему их перверсивную направленность, как если бы
либертен, реализуя эту перверсивность, показывал, что
вся монастырская система является тщательной, хотя
и упорно не признаваемой реализацией тех самых
условий, которые открыто провозглашает либертинаж. Это
особенно заметно в общем эффекте, которого
достигает любая монастырская система, в той цели, ради
которой создаются все ее структуры: речь идет об
организации и оправдании того, что входит в понятие otium, —
241
3 не праздность, не лень, а, скорее, своего рода аристс/-
3 кратический покой, прославление незанятости трудов,
§ бесполезности всякого усилия. Эту незанятость трудом
& монах оправдывает необходимостью молитвы, что
означь чает возвеличивание слова, единственным назначени-
g_ ем которого является угождение Богу. В то время как
| сеньор продолжает выполнять определенные функции
й (защищать, сражаться), монах присваивает себе право
совершать нечто абсолютно бесполезное (созерцать,
просто повторять молитвы). Монах — доверенное лицо: он
молится и ходатайствует за других.
Либертен также обеспечивает себе этот otium, с
одним только небольшим отличием: на месте молитвы
оказывается наслаждение. Либертен наслаждается за
других и вместо других в роскоши, созданной их трудом.
Этот абсолютный паразитизм, сопоставимый только с
паразитизмом тибетских монахов, о котором пишет Ба-
тай, рассматривая его как решение проблемы
потребления излишка: «Монашество представляет собой способ
расходования избытка, изобретенными не самим
Тибетом, — и в ряде прочих места он использовался наряду
с другими формами выводами энергии. В Центральной
Азии крайнее решение состояло в том, что весь избыток
отдавался монастырям»10.
Либертен — лама наслаждения.
ФАБРИКА,
или ПРОМЫШЛЕННАЯ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Если модель феодальной крепости создает декорации
для наслаждения и действующих форм власти, если
монастырская модель определяет образ жизни и органи-
10 Батай Ж. Проклятая доля / Пер. с фр. Б. Скуратова. Под
ред. К. Голубович, Ю. Подороги. М., 2003. С. 97.
242
зацию сообщества либертенов, то общие принципы его 4?
экономического устройства предоставляет фабричная §
модель. Это совершенно особая фабрика — фабрика <g
наслаждения (то есть, как мы увидим, фабрика чистой |
траты), однако мы со всей определенностью обнаружи- s*
ваем здесь те же самые черты, что и в промышленной ^
фабрике, а именно: 8
а) Вложение капитала: Силлинг, как и загородный g
дом Общества Друзей Преступления, — предприятия, '|
«основанные» по инициативе очень состоятельных пред- ^
ставителей высшей знати или крупной буржуазии. Так, а
«J
с самого начала четыре либертена из «120 дней» опи- |
сываются и предстают перед нами как потрясающие vc
мошенники, обладатели огромного капитала, «инвес- "ч
тируемого» ими в фантастический разврат, которому >:
предстоит продлиться четыре месяца в их замке
Силлинг11. Помимо постоянного капитала,
соответствующего этому вложению, указывается и переменный капитал
и то, как им распоряжаются: «Общество создало
общественный фонд, которым в течение шести месяцев
распоряжался каждый из четверых. Суммы,
предназначавшиеся только для удовольствий, были огромны. Это
невероятное богатство делало для них доступными
самые необычные вещи, и читатель не должен
удивляться, когда ему скажут, что два миллиона ежегодно
расходовалось на одни только удовольствия и услаждение
похоти»12. В руководство этого предприятия могут
избираться только те, кто в состоянии внести достаточно
" «Многочисленные войны, которые пришлось вести
Людовику XIV во время своего правления, истощив
государственную казну и возможности народа, открыли пути
обогащения огромному количеству кровопийц, всегда готовых
обратить народные бедствия себе на пользу. <...> Было бы
заблуждением считать, что этими поборами занимались
лишь люди низкого звания; во главе их стояла самая
высшая знать» [XIII, 1].
12 XIII, 4.
243
2 капитала, а неспособность выполнить это условие мо-
| жет даже стать основанием для отказа принятия в чле-
* ны общества: «В общество не принимаются те, кто не
m может предъявить по крайней мере двадцать пять тысяч
ч ливров ренты, учитывая, что ежегодные расходы каждо-
<^ го члена общества составляют десять тысяч франков»13.
| Ь) Запасы сырья, под этим, конечно, подразумевает-
^ ся то огромное количество тел, которые будут
использованы и «обработаны» во время оргий. Серали и гаремы
представляют собой склады этой эротической фабрики.
c) Рабочая сила: с одной стороны, речь идет о
домашней прислуге, выполняющей самые разные
работы (кучерах, камердинерах, поварах), чье анонимное и
редко отмечаемое присутствие в тексте обеспечивает
гладкое течение празднеств. С другой стороны, рабочая
сила — это сами жертвы, которые ради развлечения
господ помимо собственно эротической функции часто
выполняют обязанности домашних слуг (так, в Силлинге
девочки и мальчики должны обнаженными
прислуживать за столом).
d) Штат управляющих, он включает в себя,
во-первых, бесчисленное количество сводней и вербовщиков,
обеспечивающих «сырье», а также палачей, рассказчиц
и посредниц, другими словами, все то промежуточное
звено, которое не принадлежит к привилегированному
кругу либертенов (избираемых при наличии
соответствующего капитала), но и не относится к обреченному
кругу жертв. Как и в отношении любых других
«кадровых специалистов», критерием при их наборе являются
знания и опыт. И этим уже обусловлена их
принадлежность сфере власти с ее безнаказанностью. Так, четырем
«рассказчицам» в Силлинге обещано, что они вернутся
в Париж живыми, и это обещание выполняется.
Поварихи ввиду важной эротической функции еды тоже
переводятся в ранг управляющих и остаются в живых, в то
13 VIII, 402.
244
время как все их помощницы гибнут. Заметим, что уч- <§
реждение «фабрики наслаждения» предполагает нали- §
чие одного важного условия, определяющего, согласно <§
Марксу, переход от ремесленного производства к ману- |
фактурному, когда «в одной мастерской под командой I"
одного и того же капиталиста объединяются рабочие ^
разнородных самостоятельных ремесел»14. Это из- 2
менение технического и социального статуса рабочих, g
связанное с радикальным изменением технологии — с '|
механизацией, — обеспечивает капитал, одновременно ^
добивающийся механизации и зависящий от нее. Таким я
образом, фабрика наслаждения воспроизводит произ- |
водственную модель нарождающейся промышленно- vo
сти, перенося ее на сцену отношений желания, сущест- <
вующих между телами, точнее сказать, здесь перед нами £:
нечто вроде преломляющей призмы или даже макета
условий промышленного производства. В то же время
фабрика наслаждения лишь потому столь удачно
воспроизводит эту модель, что является ее составной
частью, то есть сама принадлежит к условиям
воспроизводства этих новых производственных отношений.
Хозяева капитала
и пролетариат либертинажа
Если садовский либертен по определению должен
непременно быть или, по крайней мере, стать невероятно
богатым, происходит это потому, что богатство
рассматривается в качестве основного источника власти.
Поэтому богатство является необходимым условием для
удовлетворения капризов воображения либертена: оно
обеспечивает неограниченный доступ к желаемым
телам, создает их запасы, позволяет манипулировать ими,
м Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: В 9
томах / Под общей ред. А. И. Малыша и Н. Ю. Колпинского.
Т. VII. М., 1987. С. 315.
245
§ создает практические условия для наслаждения этими
а; телами (защищенный дом, комфорт, обильную пищу,
| праздность).
$ Здесь Сад ничего не выдумывает: он фиксирует ис-
<з торические факты и вписывает отношения желания в
§_ отношения власти, демонстрируя их безжалостную ис-
| торическую логику, вплоть до ее самых радикальных
^ следствий, и в той мере, в какой его повествование
призвано удовлетворять требованию правдоподобия, ему
надо только вообразить фантазии либертена в
жестокой реальности существующего соотношения сил.
Необходимость сохранять правдоподобие влечет за
собой ряд следствий, касающихся возраста и вкусов ли-
бертенов. Они, как правило, находятся в пожилом или
зрелом возрасте, поскольку власть и богатство приходят
поздно (либертен — это геронтократ), когда
сексуальная сила слабеет, так что обычных ощущений уже
недостаточно и требуется прибегать к крайним перверсиям
и сильным ощущениям. Таким образом, все
криминальные эксцессы оказываются следствием логики, первым
звеном которой является экономическое устройство.
Возможность активности либертена зависит от
другого звена в этой логической цепи: презумпции
безнаказанности. Речь идет о привилегии, которой открыто
радуются ее обладатели и которая возникает из
соединения богатства и политической власти. Богатство
обеспечивает соучастие власти, а что касается монархов, то
они обладают и тем и другим. Произвол, порождаемый
безнаказанностью, свидетельствует о том, что власть
основывается на насилии и что, издевательски
выворачивая закон наизнанку, она признает его лишь в
качестве ловушки для тех, кто лишен власти и кого закон
заставляет почитать власть, утверждая себя в качестве
реального посредника между индивидами и
правителем. Поскольку те, кому принадлежит государство,
считают закон ничтожным и пустым, необузданность
либертена была бы немыслима без полного совпадения
246
интересов хозяев капитала и хозяев государства. Либи- <§
динальная экономика демонстрирует здесь вытеснен- I
ное содержание политической экономии. ^
Это полное совпадение интересов, разумеется, воз- §
никло до появления экономики капиталистического ти- к*
па; проявление власти в осуществлении господства над ^
желаемыми телами также относится к докапиталисти- S
ческой эпохе. То новое, что пришло вместе с этим типом g
экономики, — возможность строить отношения господ- '2
ства по модели отношений, существующих на главной £
сцене капиталистического производства — на фабри- §
те-ив соответствии с установленными на ней поряд- £
ками. Возможность, так до сих пор и не реализованная, \о
поскольку она грозит разоблачением истинной сути всей <
этой циничной системы. Признание этой связи могло бы >:
оказаться невыносимым, возможно, за ним последовало
бы нечто, похожее на «120 дней Содома».
Силлинг, действительно, можно рассматривать как
знак чего-то еще совершенно нового: особый характер
этого места наслаждения определяется тем, что оно
возникает вследствие решения нескольких владельцев
капитала сконцентрировать внутри замкнутого
контролируемого пространства некоторое количество тел, от
которых в течение ограниченного времени и вплоть до
полного истощения их возможностей ожидается
производственная деятельность, прибавочная стоимость
которой будет состоять в сексуальном удовлетворении
хозяев. Господство, которое они устанавливают над телами
(посредством требования порядка, подчинения,
выполнения расписания, выработки продукции, придания
телам инструментального статуса), в точности
соответствует системе господства, имеющей место на фабрике —
еще одном месте массовой концентрации тел. Силлинг,
скорее всего, был бы немыслим до рождения
промышленного капитализма. Он проецирует на отношения
желания тот же самый закон эксплуатации тел, который
царит на фабрике. Он выдает постыдную тайну этого
247
3 способа производства, состоящую в том, что хозяева ка-
3 питала благодаря фабричной системе становятся хо-
* зяевами тел и что сексуальная эксплуатация этих тел
ст) представляет собой лишь логическое следствие их про-
4 мышленной эксплуатации. Наслаждение хозяев воз-
g^ можно только за счет страдания этих тел.
в Таким образом, существует самый настоящий про-
^ летариат либертинажа, о котором можно говорить, по
крайней мере, на двух уровнях:
— На первом уровне (косвенно)15 — это трудящиеся
массы, которые производят богатство, присваиваемое
либертеном. Этот пролетариат никогда не появляется
в тексте, поскольку его существование не признавалось
никакими экономистами той эпохи (пришлось ждать
Маркса, чтобы труд был признан источником всякого
богатства). В тексте на подобную трудовую
деятельность указывает наличие огромного штата прислуги, чей
труд, состоящий в услугах и заботах о Господине,
осуществляется в непосредственной близости от его тела
или, по крайней мере, в его доме, полностью
обеспечивая его праздность: от туалета до кухни, от приемов до
путешествий. Постоянный незаметный труд, почти не
обозначенный в тексте, поскольку, смешиваясь с
«естественностью» кодов, он едва пробивается в пассиве
глаголов («была подана великолепная еда») или в
замечаниях, мелькающих в нарративной ткани («нас
встретил слуга», «пятьдесят камердинеров самой приятной
внешности»...).
— На втором уровне (непосредственно)
пролетариат либертинажа — участники наслаждений Господина.
Сюда входят те, кого называют «объектами сладостра-
15 Пьер Клоссовски (Klossowski P. La monnaie vivante. Paris,
1970) подчеркивает важность этой эксплуатации, которая
в конечном счете лежит в основании деятельности либерте-
на. См. также комментарии Жана-Франсуа Лиотара (Lyo-
tardJ.-F. economie libidinale. Paris, 1975. P. 105 ss.).
248
стия», или, иначе говоря, те, кто образует совокупное <§
5
жертвенное тело на сексуальной службе у тела либер
тена — пролетаризированное тело, которым манипули- <§
руют, наслаждаются, которое калечат, мучают, истоща- |
ют и, использовав, отбрасывают, когда его эротическая а"
отдача равна нулю. ^
«Человеческий материал» (по выражению Маркса) 8
ничего не стоит Господину: с помощью капитала он лег- §
ко добывает его из обнищавших классов, а если же речь '3
идет о суверенном правителе, то любой его подданный ^
теоретически считается доступным сексуальным мате- §
риалом. Бордели мадам Дювержье полны нищих под- j^
ростков, готовых продать себя везде, где только есть ка- v©
питал, поэтому здесь и оказывается Жюльетта, после ■<
того как ее родители разорились: именно перед лицом 5
нужды она начинает свою карьеру развратницы. Точно
так же серали остальных либертенов (Сен-Фона, Нуар-
се, Минского, Папы, Бризатесты и других) наполняют
девочки и мальчики, проданные или похищенные, при
условии той гарантированной безнаказанности,
которую дают богатство и власть.
Когда Жюльетта и ее спутники прибывают к
неаполитанскому королю, все население королевства
поступает в их распоряжение. Збригани, их мажордом,
немедленно приступает к набору лучшей рабочей силы:
«У меня двенадцать поставщиков в деревнях, и я буду
следить за тем, чтобы каждое утро вам представляли
две дюжины самых красивых юношей от 18 до 25 лет»16.
Когда речь идет о выборе проводника для загородной
прогулки, то эта вакансия, словно на бирже труда,
предлагается присутствующей здесь же в избытке рабочей
силе: «Итак, — сказал Олимп, закрывая дверь, после
того как дюжина этих плутов вошла в нашу комнату, —
мы решили удостоить чести послужить нашим
прихотям того, кто обладает самым великолепным оруди-
'ЧХ,344.
249
2 ем. Покажите, чем вы можете похвастаться, а мы сде-
* лаем выбор.
* Все соглашаются на сделку. Мы снимаем с них шта-
m ны и, возбудив, вызываем удостояние. Шестеро
признака ются достойными экстаза, а обладатель самого боль-
|^ шого члена, забавный паренек в лохмотьях, чье орудие
| достигает 13 дюймов в длину и 9 в обхвате, ублажает
^ нас троих и получает привилегию стать нашим
чичероне»17. Иначе говоря, прежде чем нанять рабочих, им
устраивается экзамен, определяющий их способности.
Безработица достаточно высока, и работодатель
обладает полной свободой в выборе наиболее эффективной
рабочей силы. Образ мыслей, определяющий собой это
(сексуальное) господство и эксплуатацию обездоленных
масс, отчетливо выражается в словах неаполитанской
королевы накануне празднества, где запланировано
присутствие нескольких сотен жертв: «Чего стоит жизнь
всего этого сброда, — сказала Шарлотта, — когда речь
идет о наших удовольствиях? Если мы вправе
перерезать им горло, преследуя наши собственные интересы,
отчего не позволить себе это во имя наслаждения?»18
Такой же запас энергий и тел угнетенных классов,
который служит здесь удовольствию господ,
эксплуатируется капиталом и в фабричном труде: «Требуется
12-15 мальчиков в таком возрасте, чтобы они могли
сойти за 13-летних»19, — это объявление, которое вполне
могло бы принадлежать либертеновскому вербовщику,
Маркс прочитал в отчете английского фабричного
инспектора середины XIX века. Использование женского
и детского труда в ту эпоху представляет собой
решительную попытку капитала заполучить всю энергию,
которую только можно выжать из «человеческого
материала». Как замечает Маркс, «в Бетнал-Грине, печально
17IX, 355.
18IX, 399.
|!1 Маркс К. Капитал. С. 370.
250
известном районе Лондона, каждый понедельник и втор- ,§
ник утром совершается открытый торг, на котором дети I
обоего пола, с 9-летнего возраста, сами отдают себя вна- <§
ем на лондонские шелковые мануфактуры [...] Сцены и |
язык на этом рынке поистине возмутительные. В Англии с"
до сих пор еще случается, что женщины "берут мальчи- ^
ков из работного дома и отдают их внаем какому угод- 8
но покупателю по 2 шиллинга 6 пенсов в неделю"»20. §
Новое в промышленной эксплуатации рабочей силы 'j|
по сравнению с эксплуатацией предшествующего пе- ^
риода заключалось в том, что она предполагала прямое §
посягательство на тело рабочего, а также полное равно- £
душие к потере человеческих жизней: «Мы уже раньше vo
указывали на физическую деградацию детей и подрост- ■=
ков, равно как и жен рабочих, которых машина подчиня- 2
ет эксплуатации капитала сначала прямо — на фабриках,
возникающих на ее базисе, — а потом косвенно — во всех
других отраслях промышленности. Поэтому здесь мы
остановимся только на одном пункте, на колоссальной
смертности детей рабочих в первые годы их жизни»21.
Безжалостный прожорливый монстр, капитал
развивается за счет разрушения эксплуатируемых тел, и
среди прочего, как отмечает Маркс, за счет
«превращения незрелых людей в простые машины для
производства прибавочной стоимости»22 и вообще низведения
всех рабочих до состояния «человеческого материала
эксплуатации», из которого он «выкачивает жизненную
силу»23. Этот анализ без каких бы то ни было
дополнений дает точное описание вампирской технологии
Силлинга.
Остается только уточнить, почему общий принцип
эксплуатации энергий и тел приобретает эффектив-
20 Там же. С. 370.
21 Там же. С. 371.
22 Там же. С. 372.
23 Там же. С. 369.
251
2 ность только тогда, когда он применяется внутри целой
s| сети институций и техник принуждения, — таких, напри-
| мер, которые Мишель Фуко описал в 4Надзирать и на-
$ называть». По мнению Фуко, эти институции, в которых
ч он распознает крайнюю степень дрессуры тела (школа,
g_ армия, фабрика, администрация) и их техники (уставы,
| системы надзора и наказаний), предшествуют современ-
^ ной пенитенциарной системе. Промышленной
фабрике, наследнице всех сформировавшихся ранее
традиций принуждения и дисциплины, принадлежит основная
роль в этой конфигурации: она использует их для
своей собственной выгоды, стандартизирует их в качестве
техник увеличения производительности и изобретает
новые, следуя логике своих собственных потребностей.
4Фабрика наслаждения» Силлинг является именно
такой пенитенциарной средой. Мы опять же
обнаруживаем здесь свойства, присущие фабрике, поскольку
именно пенитенциарная власть формирует ее
институциональные рамки. Отметим некоторые ее черты.
Порядок и дисциплина. Чтобы извлечь из тел
максимум энергии, которая может быть применена в
производстве, необходимо обеспечить постоянный контроль
над ними при помощи целой системы мер, постепенно
формирующих пространство порядка и дисциплины.
— Первая мера: контроль над временем. Строгое
распределение времени — прямое наследие монастырской
и армейской традиций. Первые фабрики, используя эту
модель, преследуют еще одну цель, а именно «создание
полностью полезного времени»24. Для работодателя все
оплачиваемое время должно приносить прибыль.
Добиться этого, как отмечает Маркс, стоило немалых
усилий: «Поэтому в течение всего мануфактурного периода
не прекращаются жалобы на недисциплинированность
и Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер.
с франц. В. Наумова под ред. И. Борисовой. М., 1999. С. 220.
252
рабочих. [...] Начиная с XV столетия и вплоть до эпохи ^
крупной промышленности капиталу не удавалось под- и
чинить себе все то рабочее время, каким располагает ,§
мануфактурный рабочий»25. §
Знаком рентабельности времени выступает стро- а"
гость. Фуко приводит пример из регламента фабрики в J
1809 году: «Строго запрещается во время работы раз- S
влекать товарищей жестами или иным образом, играть §
в игры, есть, спать, сплетничать и смешить»26. С произ- '2
водственными обязанностями не шутят, как не шутят в ^
Силлинге с исполнением службы либертинажа: «Ма- §
лейший смех или невнимание, малейшее проявление S
неуважения или неподчинения во время оргий будут >|
считаться тяжелейшими провинностями и караться "5
наиболее жестоко»27. Что касается времени обитателей £
замка, то оно четко распланировано и подчинено
строгому расписанию («ровно в шесть часов», «ровно в два
часа»), так что исключается всякая возможность
распоряжаться собственным временем, вплоть до
отправления естественных потребностей (в отношении чего, как
мы увидим, присутствует и другая логика).
— Вторая мера: спецификация детали. Требование
порядка никогда бы не могло ограничиться одними
общими предписаниями. Сеть дисциплинарных мер
должна быть сплетена так плотно, чтобы ни капли энергии не
ушло в «свободное плавание». Эта сеть должна
создаваться как совокупность мельчайших обязанностей, не
оставляющих ни одно действие без
регламентирующего определения. Требование порядка превращается в
экономику детали: «"Малое" издавна было категорией
теологии и аскетизма.. Детализированность правил,
придирчивость инспекций, надзор над мельчайшими
фрагментами жизни и тела вскоре породят в рамках школы,
25 Маркс К. Капитал. С. 345.
26 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. С. 220.
" XIII, 55.
253
g казармы, больницы или фабрики секуляризованное
а; содержание, экономическую или техническую рацио-
| нальность для этого мистического исчисления
бесконечен но малого и бесконечного»28.
ч Именно это имеют в виду хозяева Силлинга, про-
g_ возглашая правила, программирующие и навязыва-
| ющие поведение, предусмотренное в различных ситуа-
^ циях, например, в следующем случае: «Девушки должны
усвоить привычку вставать на колени каждый раз,
когда они видят или встречают Друзей, и должны
оставаться в такой позе до тех пор, пока Друзья не позволят
им подняться»29.
— Третья мера: иерархическая организация.
«Искусство ранга», как его называет Фуко, в дополнение к
незапамятной практике ранжирования в армии (начиная
со вполне совершенной ее модели в римских легионах),
поразительно широко распространяется в иезуитских
коллежах начиная с XVII века, достигая кульминации
в полностью военизированном наполеоновском лицее.
«Организуя "кельи", "места" и "ранги", дисциплина
создает комплексные пространства: одновременно
архитектурные, функциональные и иерархические, которые
обеспечивают фиксированные положения и
перемещения. Они обозначают индивидуальные сегменты и
устанавливают операциональные связи. Они отводят места
и определяют ценности. Они гарантируют повиновение
индивидов, но также лучшую экономию времени и
жестов»30. Эти технологии подчинения отчетливо видны
в фабриках начала XIX века. Они, как отмечает Маркс,
«создают казарменную дисциплину, которая
развивается в завершенный фабричный режим и доводит до
полного развития уже упомянутый труд надзора, а вместе
28 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы.
С. 204-205.
29 XIII, 50.
30 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. С. 216.
254
с тем и разделение рабочих на исполнителей и надсмотр- <|
щиков за трудом, на промышленных рядовых и про- §
мышленных унтер-офицеров»31. .§
Это иерархическое распределение хорошо видно в |
Силлинге. Степени иерархии располагаются по нисхо- е"
дящей в следующем порядке: либертены, рассказчицы, J
прислужники-содомиты, дуэньи, мальчики, девочки, 8
жены (поварихи имеют особый статус, непосредственно §
не связанный с сексуальной службой). Этой иерархии '|
соответствуют права и обязанности (решать, наслаж- ^
даться, наказывать, уничтожать и т. д.). |
Надзор и наказание. Это пространство дисциплины |
и порядка предполагает целый набор контролирующих \|
действий: власть над группой устанавливается только за ■<
счет осуществления постоянного надзора, в сочетании 5
с целой системой наказаний. И опять же применение
различных средств или техник обеспечивает
бесперебойное функционирование всего предприятия.
1) Огораживание. Огораживание, как мы видели,
важная структура монастырского пространства, но оно
свойственно всякой дисциплинарной институции, от
фабрики до тюрьмы, от коллежа до казармы. Огораживание
определяет территорию, где выход и вход находятся под
контролем, где правит иной закон, отличный от
общепринятого, или, вновь цитируя Фуко, •«место отличное
от всех других и замкнутое в самом себе»32. Таким
образом, «завод явственно уподобили монастырю, крепости,
закрытому городу»33. Это могло бы стать определением
самого Силлинга, который, как и все садовские места,
отличается параноидальной закрытостью, вплоть до того,
что двери здесь даже замуровываются, чтобы «не
осталось лазейки ни для врага, ни для дезертира»34.
31 Маркс К. Капитал. С. 394.
32 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. С. 206.
33 Там же. С. 207.
м XIII, 49.
255
g 2) Дисциплинарный надзор. Господствовать над те-
sj лами — значит установить неотвратимый, постоянный
* и незаметный надзор. Для этого достаточно привести
m механизмы контроля над группой в соответствие с ар-
ч хитектурнои планировкой, предписывая находиться в
<^ одних местах и запрещая находиться в других, связы-
| вая определенные места с определенным видом одеж-
^ ды и всегда располагая сведениями о том, кому где
положено или не положено находиться. В «Жюстине»
обитатели монастыря Святой Марии-в-лесах
подчинены именно такой системе отличий: «Как ты видишь, мы
поделены на классы и всегда носим одежду того
класса, к которому принадлежим. До конца дня ты получишь
одежду того класса, в который будешь включена. Мы
должны причесываться либо самостоятельно, либо
причесывать друг друга. Модели нам даны, они меняются
каждые два месяца, причем у каждого класса свой
образец»33. Такое пространство становится «диаграммой
власти, действующей путем организации общей и
полной видимости»36 — это одновременно экономический
оператор производительности и незаменимое средство
дисциплинарного контроля. Паноптическая модель
наблюдения, придуманная Бентамом, лишь доводит до
предела эту власть надзора. Силлинг, хотя и не
достигает такого совершенства, организуется тем не менее
именно как пространство надзора: функции надзирателей
берут на себя для своего удовольствия четыре либертена,
всегда ищущие повода наказать любой проступок; эти
функции возлагаются на дуэний; к их исполнению
побуждаются и все обитатели замка, вплоть до того, что
им вменяется в обязанность доносить друг на друга.
3) Наказания. С увеличением количества правил и
запретов одновременно увеличиваются возможности
их нарушать. Так возникает новый вид наказания, оп-
35 VI, 357.
36 Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. С. 251.
256
ределяемый не через нарушение закона, а через наруше- ,§
ние нормы, и с этих пор «наказанию подвергается вся I
неопределенная область несоответствующего поведе- <§
ния»37. У Сада существует вполне отчетливое восприя- |
тие перверсивного отношения правила/нарушения, я"
проходящего через все институции. Нарушения сущест- ^
вуют только в соотношении с количеством предписан- S
ных правил, последние же в конечном счете вводятся §
только для того, чтобы обеспечить и гарантировать воз- '3
можности их нарушения и таким образом обеспечить ^
виновность подчиненного как дополнительную гаран- §
тию его повиновения. Либертен овладевает этой логи- Б
кой, чтобы до предела эксплуатировать ее следствия, vg
Это со всей ясностью высказывает у Сада одна из жертв ■*:
монастыря Святой Марии-в-лесах: «Дело не в том, что £
этим либертенам нужны все эти формальности, чтобы
обрушить на нас свой гнев, но им приятно иметь
предлог. Эта видимость законности подогревает их
сластолюбие, в ней есть очарование, поскольку те, кто менее
всего почитают законность, оказываются теми, кто в
своем распутстве хочет более всего к ней
приблизиться»38. За этим последним замечанием, принадлежащим
дискурсу жертвы, немедленно следует подстрочный
комментарий автора: «В данном случае очарование
исходит не от законности, но от похищения ее прав,
совершаемого либертеном»39.
Невозможно яснее выразить, насколько
пародийный характер носят все установления господ либерте-
нов. Эта пародия позволяет увидеть произвол власти,
а также паранойю надзора и административного
контроля — все то, что обычно выдает себя за
непоколебимую реальность, то есть маскируется в качестве
принципов, необходимых для поддержания порядка и
17 Там же. С. 261.
18 VI, 362.
10 VI, 362.
9 Зак 390-1
257
3 нормальности. «Книга санкций» замка Силлинг и «пе-
3 речень наказаний» монастыря Святой Марии-в-лесах
| (в котором определено даже количество ударов кнутом
$ или уколов булавкой, предусмотренных за ту или иную
4 провинность) позволяют соотнести фабрику удоволь-
<=_ ствия с дисциплинарными моделями, свирепствующими
| на фабриках промышленного капитализма и продемон-
~ стрировать их безумный произвол. С полным
основанием можно говорить о существовании пролетариата
либертинажа не только потому, что наслаждение
хозяев капитала подразумевает присвоенное богатство и
рабский труд, но и потому, что это порабощение
осуществляется по новым техникам дрессуры тела и при
использовании таких методов увеличения
производительности, которые развивает или изобретает этот новый
способ производства.
Два этих регистра эксплуатации тела садовский текст
обнаруживает, однако, только благодаря тому, что
делает очевидной подавленную перверсивную
составляющую этой эксплуатации и даже отводит ей главную роль:
технологическая и дисциплинарная власть над телами
одержима жгучим желанием, но сама строгость закона
неограниченной производительности преграждает и
смещает это желание, препятствуя непосредственному
обладанию и тираническому наслаждению этими телами.
(Во многих своих метафорах Маркс дает почувствовать
этот капиталистический вампиризм, не указывая,
однако, каковы его следствия.) Промышленник-капиталист
может наслаждаться только репрезентацией своей
власти над угнетаемыми и эксплуатируемыми телами. Его
собственная логика обрекает его на опосредствование,
он вынужден отодвигать свое наслаждение на задний
план. Напротив, либертен устанавливает предел и цель
своего желания, соотнося со своим телом и
наслаждением все новые техники господства. Деспотизм либертена
высказывает невыговаримую истину о
капиталистической эксплуатации.
258
Выработка наслаждения <§
5
В садовском тексте выведение тела на сцену знамену- <§
ет собой, как мы видели, полный распад органической §
модели (то есть модели индивидуального тела, структу- с"
рированного в соответствии с его представленностью ^
самому себе). Этот распад влечет за собой освобожде- 8
ние от субъективности путем четырехсторонней редук- g
ции (анатомической, механической, арифметической и '|
комбинаторной), представляющей собой радикальную ^
критику метафизической традиции, точнее, метафизи- к
ческой традиции в ее аристотелевской версии. По су- £
ществу, то, что Аристотель теоретически разрабатывает *о
как органическое тело, представляет собой тело, кон- <
ституированное ремесленной практикой, понимаемое >:
как единство взаимодействия органов — как между
собой, так и в соотношении с орудиями труда.
Эта модель тела сохранялась столько, сколько
существовала ремесленная практика (понимаемая как
производственная деятельность, интегрированная в единство
индивидуального тела), и достигла пика своего развития
в эпоху гегемонии ремесленного производства, в эпоху
средневековой корпорации. Самим словом
«корпорация» уже сказано все: производственное тело (corps)
продолжает и воспроизводит органическое тело.
Но капитализм взрывает и то и другое.
Дезинтеграция происходит постепенно, посредством внедрения
технологии, которую одновременно требует, развивает
и навязывает новый способ производства. Интересно
поэтому посмотреть, как это изменение модели
откликается в современном ему садовском вымысле. Мы
можем исследовать то, как в нем используется и
представляется этот распад тела, правда, в совершенно иных
целях, чем это делала сила капитала.
Маркс показал, что капитал осуществил
ликвидацию средневековой корпорации в три стадии: в
незаметном переходе от кооперации к мануфактуре, а затем
259
к фабрике. Кооперация не затронула ремесленную
деятельность, но уже появилось то, что должно было ее
* уничтожить — «командные функции осуществляются
m держателем капитала». Именно капиталисту предстояло
ч собрать представителей разных ремесел в одном месте,
<^ основав таким образом гетерогенную мануфактуру.
Решающий переход к серийному производству через
специализацию и разделение труда представлялся как
необходимость рационализации: виртуозная обработка
детали уменьшает время производства и,
следовательно, увеличивает производительность. Средневековая
корпорация умирает, унося с собой в могилу и модель
органического тела. Переход к фабрике вводит еще один
разрыв уже иного масштаба: расчлененное тело теряет
свою ценность даже как производительная сила.
Производство передается машине, а рабочий становится
всего лишь ее помощником. Таков гениальный переворот,
который капитал осуществил за счет развития
механизации40. Индивидуальное тело как органическое тело
больше не фигурирует как таковое в процессе
производства, теперь есть только система
дифференцированных сил, из которых процесс производства может
выбирать ту или другую.
Революционное открытие Маркса состоит в том, что
это развитие ни в коем случае не может быть
объяснено автономной и необходимой эволюцией технологии
(в этом заключается величайшая наивность всех
сциентистских историй науки), а происходит за счет
методического овладения капитала процессом производства.
Капитал определяет и производит технологическое
изменение, управляя формами, которые оно принимает и
которые позволяют ему всесторонне контролировать
процесс производства, сводя рабочего к членимой,
исчислимой, абстрактной силе. С эпохи протокапиталис-
тической стадии кооперации начинает действовать сле-
10 Guerry F. Le corps productif. Paris, 1972.
260
дующая формула: «Кооперация наемных рабочих есть ^
только результат действия капитала, применяющих этих §
рабочих одновременно. Связь их функций и их един- ^
ство как производительного совокупного организма ле- |
жит вне их самих, в капитале, который их объединяет е*
и удерживает вместе. Поэтому связь их работ противо- *
стоит им идеально как план, практически — как автори- 8
тет капиталиста, как власть чужой воли, подчиняющей g
их деятельность своим целям. Таким образом, если по '2
своему содержанию капиталистическое управление ^
носит двойственный характер, соответственно двои- я
ственности самого подчиненного ему производственно- |
го процесса, который, с одной стороны, есть обществен- »|
ный процесс труда для изготовления продукта, с другой ■<
стороны — процесс возрастания капитала, то по форме 5
своей капиталистическое управление деспотично»11.
Именно благодаря «единству производительного
совокупного организма», сочетающего в себе внешнюю
«связь», «чужую волю» и «деспотизм» управления — все
эти черты присущи той фабрике наслаждения, каковой
является Силлинг, — обеспечивается (более, чем
просто метафорически) выработка наслаждения.
Избавленное от своего субъекта, наслаждение представляет
собой не более чем исчислимый, количественно
определяемый результат, полученный в итоге
технико-экономического процесса производства. На этом стоит
остановиться подробнее.
Прежде всего, стоит указать на тождественность
функций организатора оргий у Сада и инженера в
капиталистическом производстве. Появление этой новой
фигуры, инженера, свидетельствует о разрыве,
учреждаемом капиталом, между знанием и практикой, между
мозгом и рукой, — двумя инстанциями, которые
внутри корпорации были интегрированы в одно «умение».
Отныне появляется тот, кто продумывает, програм-
11 Маркс К. Капитал. С. 310.
261
2 мирует, направляет, унифицирует при помощи знания
а; и контроля процесс производства, осуществляемый в
| виде отдельных, следующих в определенном порядке
m действий конвейера. Инженер воплощает в себе
монома полизацию знания, осуществляемую капиталом, и при-
о_ своение унифицирующей функции, поскольку задача
| инженера состоит в том, чтобы осуществить синтез рас-
^ члененных сегментов производства.
Тогда становится понятна исключительная
функция головы, о которой так часто с восхищением
вспоминает Сад. Голова мыслит, программирует и вносит
порядок в исполнение. Если инженер оргии требует
строгого порядка и точного исполнения своей программы,
то только потому, что, согласно промышленной логике,
связность и непрерывность являются условиями
эффективности процесса производства и, следовательно,
гарантией получения того, что она должна произвести:
наслаждения. Недаром расположение группы либер-
тенов напоминает конвейер, где функции строго
распределены в соответствии с моделью разделения труда,
предполагающей виртуозность каждого движения
(входят пятнадцать девушек по трое в каждой группе: одна
хлещет его, другая сосет его, третья испражняется"2).
Все описания оргий по сути представляют собой
инсценировку такой специализации при распределении
заданий. Одно из наиболее поразительных описаний —
празднество, устроенное Франкавиллой, в связи с
которым Ролан Барт говорит о «ленте конвейера». Еще
точнее здесь можно говорить о фабричной поточной
линии: «Франкавилла явил нашему взгляду самую
поразительную задницу в мире. Двум детям, поставленным
возле нее, было доверено раздвигать ягодицы, хлестать
их и направлять в анус члены чудовищной величины,
которые дюжинами стремительно погружались в это
святилище. Двенадцать других детей готовили новые
12 XIII, 359.
262
а
члены. Я никогда не видел, чтобы работа спорилась так <§
ловко. Подготовленные таким образом, эти великолеп- Ё
ные члены переходили из рук в руки, пока не попадали ^
к тем, кому надлежало их вводить; после чего они ис- §
чезали в заднице пациента, затем извлекались и сме- е-
нялись новыми. Все это происходило с легкостью и про- J
ворством, которые невозможно передать»'13. S
Позже, по ходу празднества, механизм усложняет- g
ся благодаря введению «механизации» — иными слова- '3
ми, здесь произошел переход от мануфактуры к фаб- £
рике. В этой «мастурбационной» или «отсасывающей» §
машине соединяются человеческие агенты, у которых £
видна только та часть тела (рука, пенис, рот, анус), vo
которая обеспечивает нужное действие. Как только ^
этот механический комплекс (с его пружинами,
люками, блоками, руками и гениталиями) устанавливается
и приводится в готовность, запускается поточная
линия наслаждения со всем своим техническим
оснащением: смазкой, кунилингусом, размещением членов и
их умащиванием. Тело либертена, движущееся вдоль
этой поточной линии, последовательно подвергается
специальным операциям, за счет которых
производится конечный продукт: тело, наслаждающееся в оргазме.
«Мы не ждали ни минуты. Вагины, члены, зады
сменяли друг друга перед нашим ртами со скоростью наших
желаний. С другой стороны, как только те приборы,
которые мы приводили в возбуждение, разряжались, их
тотчас заменяли новыми, наши ебарессы сменялись с
такой же скоростью, и наши задницы ни мгновения не
оставались без дела»'4.
Кроме всего прочего здесь получает свое
определение и сам принцип производительности, то есть
соотношение между временем и трудом. В промышленности
время экономится за счет специализации и совершен-
43IX, 366-367.
" IX, 377.
263
3 ствования орудий труда и машин — это максимально на-
3 полненное время, время без потерь, без пауз и, по вы-
* ражению Маркса, «без пустот»: именно такая скорость
m и требуется для либертеновской поточной линии. По-
4 скольку наслаждение является объектом выработки,
^ его стоимость, как и стоимость любого другого продук-
| та, будет измеряться количеством «общественно не-
^ обходимого рабочего времени изготовления»-'15.
Производство наслаждения, как и производство на фабрике,
должно идти все быстрее и быстрее, поскольку «все, что
сокращает время, необходимое для воспроизводства
рабочей силы, расширяет область прибавочного труда»46.
То, что наслаждение производится, то есть является
количеством, а не состоянием и обладает свойством
накапливаться, означает, что оно, как и любой другой
объект выработки, существует только в качестве
«общественного продукта», то есть вследствие наличия
общественного совокупного жуира, точно так же, как и
промышленный объект представляет собой
«общественный продукт» и возникает вследствие наличия
«общественного совокупного рабочего». Таким образом, мы
видим, что механизм садовской оргии оказывается
необходимым техническим условием фабрики
наслаждения: наслаждение подразумевает механическую сборку
тел, преобладающей формой которой является вполне
объективный и безличный организм «огромного
автомата» (Маркс) — то есть бесстрастное
функционирование безличного группового тела.
Таким образом, вполне очевидно, что для Сада
производство наслаждения имеет характер поточной линии
со всем, что отсюда следует как в отношении социально-
экономических условий, так и в отношении статуса
тела. Однако мы сразу же должны отметить, что
импортирование этой модели влечет за собой целую серию
"5 Маркс К. Капитал. С. 324.
« Там же. С. 329.
264
парадоксов. Первый из них состоит в том, что эта мо- ^
дель максимальной производительности используется S
для производства того, что исключается самим трудом: <§
производства наслаждения. Вследствие этого либертен, |
в отличие от хозяина-капиталиста, сам и по вполне по- с"
нятнои причине принимает участие в работе поточной ^
линии: именно его собственное тело подвергается транс- 3
формации, производимой промышленным механиз- g
мом. От модели остается только ее форма: все ее функ- '3
ции искажаются и фальсифицируются. ^
Второй парадокс состоит в полной социализации на- §
слаждения, которое уже неможет быть ни частным, ни Б
интимным, ни уникальным, поскольку вырабатывается \о
множеством агентов и становится, как и любой другой <
вырабатываемый продукт, стандартизированным пуб- >:
личным объектом, рыночным товаром, связанным с
телом, которое само оказывается выставленным напоказ,
расчлененным, раздробленным.
Наконец, надо сказать, что модель никогда не дается
в чистом виде: в соответствии с обстоятельствами, она
может принимать вид либо серийной, либо гетерогенной
мануфактуры и иногда даже частичного возвращения к
корпорации (например, когда группа либертенов не
располагает рабочей силой, собранной в одном месте при
посредстве их капитала, и должна ограничиваться
услугами нескольких компаньонов или компаньонок). В
целом мы имеем дело со смешением и наложением форм,
сменявших друг друга в ходе исторического развития,
которыми, удваивая их, искажая и сгущая, жонглирует
садовская эротика, вероятно, первая так решительно и
радикально перенявшая телесную модель и модель
производственных отношений промышленного
капитализма. Таким образом, даже тогда, когда текст Сада
вписывается в определенную историю, мы обнаруживаем,
что, благодаря тому смещению, которое переворачивает
и смешивает исторические факты, он пишется в
совершенно ином пространстве.
265
ЭКОНОМИКА ИЗЛИШЕСТВ:
РОСКОШЬ И РАСТОЧИТЕЛЬСТВО
Я даю вам миллион в год на эти
ужины, но помните, что они должны
поражать своим великолепием. Там
должна быть самая изысканная еда,
самые редкие вина, самая
диковинная дичь и самые экзотические
фрукты. Обилие блюд должно впечатлять
не меньше их изысканности, чтобы и
полусотни их казалось мало, ужинай
мы даже только вдвоем.
Де Сад. История Жгольетты1"
Садовский либертинаж, основываясь на идеях
богатства и господства (то есть предполагая как
предшествующую себе, так и параллельно идущую
безжалостную эксплуатацию пролетаризованного труда), черпает
наслаждение из прибавочной стоимости, то есть из
растраты излишка, определяемого тем способом
производства, внутри которого она функционирует и
которая является его наиболее ярким симптомом. Иначе
говоря, либертены представляют собой наиболее яркий
пример того, что Веблен именует праздным классом™,
а в своих роскошных оргиях потребляют то, что Батай
называл проклятой долей™. Для них недостаточно, что
деньги и власть обеспечивают им фантастические
количества тел и полную свободу безнаказанно
манипулировать этими телами. Нужно не только
мобилизовать все знаки роскоши и изысканности, необходимо
в первую очередь, чтобы оргия сопровождалась
невообразимым перерасходом всевозможных товаров и
47 VIII, 224.
ш Веблен Т. Теория праздного класса / Пер. с англ. С. Г.
Сорокиной. Общ. ред. В. В. Мотылевой. М., 1984.
15 Батай Ж. Проклятая доля.
266
о
I
о
§■
S
о
энергий. Короче говоря, оргия должна быть мертво- ,§
приношением. 5
Ничто не демонстрирует это лучше, чем удивитель- ^
ное празднество в Неаполе, устроенное принцем Фран- §
кавилла: «Ничто во всей Италии не сравнится с рос- к"
кошью и великолепием Франкавиллы. Ежедневно у ^
него накрывают стол на шестьдесят человек, за кото- S
рым подают двести слуг самой приятной наружности, g
Для нашего приема принц воздвиг храм Приапу среди '|
дерев своего сада. Таинственные аллеи апельсиновых ^
деревьев и миртов вели к этому великолепно освещен- I
ному храму. Колонны, сплетенные из роз и лилий, под- Б
держивали купол из жасмина, под которым, справа, \|
находился алтарь из травы. Слева стоял стол, накры- -«г
тый на шестерых, в центре огромная корзина цветов, £
их побеги и гирлянды, увитые цветными
лампочками, поднимались до самого купола. Различные группы
почти что совсем обнаженных мальчиков, числом три
сотни, занимали все свободные пространства, а на
вершине травяного алтаря был виден Франкавилла,
стоявший под эмблемой бога Приапа, в святилище
которого мы собрались. Группы детей по очереди подходили,
чтобы поклониться принцу»50. В религиозном и
барочном обрамлении этой сцены доминирует мотив
жертвоприношения, который воплощается в устройстве
пира: «Величайший ужин, когда-либо
устраивавшийся на свете, был накрыт Ганимедами. Шесть приборов
были поданы для короля, королевы, принца, двух
моих сестер и меня. Невозможно описать изысканность
и великолепие трапезы: блюда и вина из всех стран
мира подавались с невероятной расточительностью и,
как будто свидетельствуя о невиданной мной
роскоши, ничто из того, что ставилось на стол, потом не
убиралось, едва только пища или вино появлялись на
столе, ими тотчас же наполняли огромные серебряные
50 IX, 366.
267
2 сосуды, не имевшие дна, и все, что в них оставалось, вы-
* ливалось на землю.
§ — Эти остатки могли бы достаться беднякам, — ска-
(т$ зал Олимп.
« — Для нас не существует бедняков, во всем мире
§_ есть только мы, — ответил Франкавилла, — мне нена-
| вистна сама мысль, что кто-то еще может получать удо-
^ вольствие от того, что служит мне.
— Его сердце так же черство, как необъятна его
задница, — заметил Фердинан.
— Мне не приходилось встречать такой
расточительности, — сказала Клервиль, — но она мне по душе.
Идея отсылать эти остатки другим охлаждает
воображение. Во время подобных оргий наслаждение должна
приносить восхитительная мысль, что ничье
существование больше не имеет значения.
— Какое мне дело до каких-то бедняков, если у меня
самого нет ни в чем недостатка, — сказал принц, — их
лишения только добавляют остроты в мои
удовольствия. Мое счастье было бы неполным, не будь у меня
сознания того, что вблизи меня кто-то страдает.
Половина удовольствий в жизни происходит из этого
выгодного сравнения»51. Как видим, здесь присутствуют и
инсценирование бессмысленной траты,
проанализированное Батаем, и наслаждение сравнением,
отмеченное Вебленом.
Батай, черпая свое вдохновение в «Эссе о даре»
Марселя Мосса, видит модель этой траты или
непроизводительного расхода в потлаче,
поединке-празднестве, устраиваемом некоторыми индейскими племенами
Северной Америки, во время которого уничтожается
огромное количество добра (животные, пища,
украшения, одежда), что обязывает почетного гостя
(например, вождя другого племени) ответить на вызов
устроением еще более дорогостоящего празднества,
21 IX, 368.
268
сопровождающегося еще более удивительным расто- ^
чительством. б
та
В оргии жертвоприношений и чрезмерности пол- <§
ностью упраздняется, с одной стороны, рациональная |
форма обмена и, особенно, симметричные договорные с"
отношения, а с другой — всякая возможность капитали- ^
стического накопления. Такой экономикой на глубин- S
ном уровне управляет принцип непроизводительной g
траты, потребления, предпочтение праздника и расто- '|
чительности выгоде и экономии. Конечно, обязатель- ^
ство ответить одним потлачем на другой подразумевает х
своего рода отношения взаимности.« Идеалом, — как пи- §
шет Мосс, — было бы одарить потлачем, который было 4Г
бы невозможно возвратить»52. Именно так и обстояло *ч
дело с празднествами, которые во времена античности £
и в Средние века устраивались наиболее
состоятельными гражданами, исполнявшими своеобразный долг,
который обусловливался их статусом (что можно
трактовать как искусный процесс саморегуляции группы, как
способ ограничить накопление). Даже если потеря
является абсолютной и дар остается без ответного дара, это
вовсе не значит, что он не приносит той неоценимой
выгоды, которая заключается в приобретении высокого
положения, престижа. «Богатство, — пишет Батай, —
предстает как приобретение в качестве власти,
приобретенной человеком, но оно целиком предназначено для
потери в том смысле, что эта власть характеризуется как
власть терять. И только благодаря потере с богатством
связана честь и слава. [...] Субъект обогащается за счет
своего презрения к богатству, и то, в чем проявляет его
скупость, является следствием его щедрости»53.
Путь к ни с чем не соизмеримой славе лежит через
дар, то есть чистую потерю, но именно таким способом
52 Мосс М. Очерк о даре. Цит. по: Батай Ж. Проклятая доля.
С. 194.
31 Батай Ж. Проклятая доля. С. 195, 61.
269
3 само богатство наделяется легитимностью, которая
55 обычно обеспечивалась личной доблестью и сакраль-
* ностью, связанной с потреблением «проклятой доли».
m Первоначально, согласно Веблену, доблесть определя-
4 лась как физическая храбрость, которая проявлялась на
|^ охоте или войне и которая позволяла принести добычу,
| захватить у врага трофеи, пленников и пленниц. С пере-
^ ходом к оседлости и собственности доблесть все
больше соотносится с приобретением благ, и экономический
успех начинает цениться сам по себе: на смену древним
подвигам на охоте и войне приходят финансовые
достижения, и тем не менее «жажда свершений и неприятие
бесполезности остаются лежащим в основе
экономическим мотивом». Чрезмерное расточительство
празднества постфактум подтверждает теорию, согласно
которой доблесть находится у истоков богатства (следствия
здесь реинвестируются в причины), а очевидное
расточительство празднества наделяет его аурой
«ритуального покера» (Батай), притягательностью риска и
вызова. Вот почему расточительство всегда определяет то,
что Веблен называет invidious comparison и что
обычно переводится как «выгодное», «лестное»,
«провоцирующее» сравнение, соответствующее присущему пот-
лачу желанию ошеломлять, о котором пишет Батай:
«Исступление самого праздника неизменно
сопутствует изничтожению собственности и нагромождению
даров, цель которых произвести впечатление».
«...Когда ресурсы израсходованы, остается
приобретенный расточителем престиж. Для этой цели
мотовство расточает напоказ, ради превосходства, которое
оно таким образом обретает над другими»54.
Обретенное право на высокое положение в итоге
основывает иерархию, или, точнее, сакральный порядок.
Доблесть, богатство, расточительство — вот
непременные составляющие дворянского статуса в Европе вплоть
51 Батай Ж. Проклятая доля. С. 193-194, 65.
270
О
(*>
а
о
I
о
и
О
К
и
■а
U
до победы буржуазии в XIX веке. Невозможно понять
феодальный способ производства, включая его
поздние формы, не признавая основополагающую важность <§
обязательств, накладываемых дворянским кодом пове- |
дения. Именно они позволяют понять запрет на труд,
который, воздействуя на дворянство, одновременно
накладывал на него обязательство жить в праздности и 8
роскоши. «В привычном мышлении людей в условиях 5
хищнической культуры труд начинает ассоциировать
ся со слабостью и подчинением хозяину. Труд, следова
тельно, является показателем более низкого положения р
и становится недостойным высокого звания челове- £
ка»55. Уже в греко-римской античности отчетливо на- \о
блюдается различие между благородным и неблагород- •<
ным, высоким и низким, — другими словами, между 5
праздностью и трудом, различие, подхваченное
воинственными Средними веками и воскрешенное новыми
«промышленными магнатами»: «Сама по себе
праздная жизнь (и все с ней связанное) облагораживает
человека и является прекрасной в глазах всех
цивилизованных людей [...] Демонстративное воздержание от
труда становится, таким образом, традиционным
признаком превосходства в денежных успехах»36. Отсюда
возникновение целой серии знаков, которые
расцениваются как свидетельство социального и
экономического отличия: архитектурный декорум, одежда, этикет,
язык, «хорошие» манеры, домашняя прислуга,
«представительская» праздность жен, — короче, все, что в
конечном итоге «свидетельствует [...] в пользу того
факта, что декорум является продуктом жизни праздного
класса и ее показателем, в полной мере расцветающим
лишь в условиях системы, построенной на положении
в обществе»57.
55 Веблен Т. Теория праздного класса. С. 84.
50 Там же. С. 85,89-90.
"Там же. С. 91-92.
271
2 Все это так... и, пожалуй, сказано даже слишком мяг-
5; ко. Действительно, существует глубинная логика, по-
g зволяющая праздному классу (главным образом, на той
$ стадии, когда его представляет дворянство) потреблять
<з излишек на легитимных основаниях, которые восхо-
•^ дят к идеалу доблести и подкрепляются риском поте-
| ри, демонстрируемым праздничным расточительством;
^ однако следует признать, что право на высокое
положение, славу и власть исторически выродилось в
произвол и безжалостную эксплуатацию рабского труда.
Такой, во всяком случае, была ситуация во Франции
до 1789 года. И эту двойственность мы должны
различать в инсценировании садовских празднеств: с одной
стороны, блистательный и роскошный потлач, а с
другой — извращение его эффектов в практике классовой
эксплуатации.
Так, упоминавшееся выше празднество, устроенное
Франкавиллой, прочитанное главным образом как
вызов и жертвоприношение, оказывается поражающим
расточительством имущества и энергии: это праздник
потребления, блестящее зрелище суверенного акта
уничтожения, полное презрение к экономии и
накоплению и т. д. Конечно, можно читать его только таким
образом и отстаивать именно эту точку зрения. Но
тогда пропадает та всепоглощающая ирония, которая
присутствует в садовской демонстрации, как, впрочем, и
признание цинизма, присущего богатству и власти,
которые делают возможным этот потлач.
Действительно, мы сразу можем заметить, что
празднество уже не имеет здесь того публичного, народного
характера, каким оно представлялось Батаю. Оно
развертывается внутри закрытого пространства, в которое
(помимо безмолвной и механизированной прислуги)
допускаются только привилегированные обладатели
власти. Зрелищное расточительство при этом уже не
должно обеспечивать доступ к славе и легитимации
высокого положения. Оно только подтверждает для господ
272
несомненность приобретенных ими богатства и власти. ,§
Оно не дарует статус, оно указывает на него. Празд- Е
нество реализует сгущение всех знаков, способных вы- <§
ражать привилегии праздного класса. Зрелище стало |
полностью нетранзитивным: оно больше не несет в се- §"
бе риска, связанного с присутствием зрителей, оно не ^
должно порождать событие. Оно ценится само по себе, S
как престижное следствие вышедших из употребления g
практик, замещает их и пожинает их плоды. Будучи эре- '|
лищем понарошку, празднество на уровне симулякра ^
воспроизводит чреватый опасностями процесс рожде- §
ния власти и грандиозное расточительство, диктуемое Б
логикой дара. Но при этом нисколько не утрачивается vo
его отчетливо выраженная классовая функция. В про- <
тивовес буржуазной бухгалтерии оно демонстрирует £
презрение к пользе и экономии, в противовес
недовольству трудовых классов (ремесленников и крестьян) оно
выставляет напоказ проматывание излишка,
взимаемого с их эксплуатируемого труда.
Так что празднество, с его бесчинствами, расправой
над жертвами, роскошью, прежде всего подразумевает
ограниченный доступ: господа счастливы, потому что
кроме них здесь никого нет, потому что только они —
«немногие избранные», которым открыта привилегия
наслаждения, возрастающего от неоспоримости
сознания этого факта. Чем больше расточительства,
праздности, беззаботности здесь, тем больше нищеты, труда,
покорности где-то там.
Отсюда глубокое изменение принципа «выгодного
сравнения», который Веблен видит в прежних
практиках демонстративной праздности: агонистический
вызов, открытые притязания занимать высокое
положение становятся циничным подсчетом несчастий тех, кто
не был допущен на праздник, извращенным
наслаждением неравенством. «Если вид несчастных должен
непременно довершать наше счастье сравнением между
ними и нами, то надо воздерживаться от того, чтобы
273
g облегчать их страдания. Ибо оказывая им помощь и
щ. избавляя их от участи класса, который служит вам для
| этого сравнения, вы лишаете себя этого сравнения, а
m значит, и того, что усиливает ваше наслаждение»58.
ч Сад с провокативной иронией, на которую только
g^ способен литературный вымысел, лишь доводит до пре-
| дела тезис, защищаемый со всей теоретической серь-
^ езностью теми, кто имеет репутацию либералов. Вот,
например, Вольтер: «На нашей несчастной земле люди,
живущие в обществе, не могут не делиться на два
класса: богатых, которые повелевают, и бедных, которые им
служат...Человеческий род, такой, какой он есть, не в
состоянии выжить без бессчетного числа людей,
находящихся в услужении и лишенных какой бы то ни
было собственности»59. А вот Гольбах: «В обществе, как
и в природе, устанавливается необходимое и законное
неравенство между его членами. Это неравенство
справедливо по той причине, что оно основано на
неизменной цели общества, я имею в виду его сохранение и его
счастье»6".
Текст Сада в силу своей эксцессивности
обнаруживает во вполне расхожем тезисе о «справедливом»
неравенстве его вытесненный эротический компонент,
знание того, что это неравенство приносит
наслаждение: наслаждение властью, привилегией, праздностью,
роскошью.
В философских кругах XVIII века споры о
неравенстве велись как раз вокруг вопроса о роскоши. Было
понятно, что напряженность в вопросе о неравенстве
порождалась роскошью, но не потому что роскошь была
причиной неравенства, а потому что была ее зримым
свидетельством. Таким образом, вопрос заключался не
38IX, 556.
й Voltaire F.-M. A. Egalite // Voltaire F.-M. A. Dictionnaire
philosophique. Paris, 1994.
60 Holbach P. H. de. La politique naturelle. Discours I.
274
столько в том, чтобы осудить экономические причины <2
роскоши, сколько в том, чтобы уменьшить ее провока- Ё
ционную театральность. Считается, что на роскошь на- <§
падала буржуазия, которую поддерживали либеральные §
мыслители, однако они не так уж сильно протестова- к"
ли против самого принципа роскоши, поскольку сами ^
в конечном итоге стремились получить к ней доступ и, S
кроме того, видели в ней важный стимул для развития g
торговли. Буржуазия хотела разумной роскоши, и в пре- '§
деле — по крайней мере в теории — роскоши для всех. ^
Она осуждала выставление богатства напоказ, его бес- х
смысленную растрату, отсутствие экономической pa- S
зумности у тех, кто беспечно предавался наслаждениям, >с
вместо того чтобы снова пустить свое богатство в обо- <
рот. Иначе говоря, осуждались две категории растрат- >:
чиков: знатные сеньоры, обладавшие властью, и
авантюристы (аферисты, быстро сколотившее состояние,
спекулянты, куртизанки и т. д.). Именно эти две группы,
и только они, в садовском повествовании оказываются
в привилегированном положении: с одной стороны, это
такие персонажи, как Сен-Фон, Нуарсей, Франкавилла,
а с другой — такие как Жюльетта, Клервиль, Бризатеста
и т. д., — неисправимые герои и героини
необузданного и расточительного наслаждения.
Во второй половине XVIII века значительная роль
во всех этих спорах принадлежала Дидро. Впервые он
определяет свою позицию в ответе Гельвецию по
поводу его знаменитой главы о невежестве в трактате «Об
уме», посвященной вопросу роскоши. Он развивает свои
аргументы в статье «Энциклопедии» «Роскошь» (одной
из самых длинных), проводя принципиальное
различие, представляющееся ему наиболее важным, между
«роскошью показной» и «роскошью благопристойной».
Благодаря Дидро и некоторым другим авторам
возникает целая литература, разоблачающая опасности
богатства и экономику излишеств, и все больше и больше
прославляется умеренность и воздержанность кресть-
275
2 ян (удобный миф для поднимающейся буржуазии, ко-
* торый позволял одновременно осуждать дворянский
* декаданс и закрывать глаза на нищету деревень). Все
m это привело к выдвижению нового понимания богат-
« ства, не выставляемого напоказ: достатка и даже про-
§_ славления «счастья в умеренности». «О счастливая уме-
§ ренность! ты уберегаешь человека от суровых уроков
= нищеты и от опасных рифов богатства!» — восклицал
буржуазный писатель со вполне говорящей
фамилией61. Очевидно, что в этом проявляется основной закон
капитала. Избыток, который непроизводительно
растрачивался на наслаждения знатных сеньоров,
необходимо с максимальной полнотой вложить в
производство, а также выработать универсальную идеологию
экономии, умеренности желаний, серьезного
отношения к труду, аскетической дисциплины и, наконец,
почтенности денег самих по себе. Система неравенства,
несмотря на опущенную планку, оставалась не менее
жестокой, но она научилась осторожности и
скромности. Для нее было важно положить конец зрелищным,
провокационным знакам богатства, чтобы сделать
неравенство выносимым. Эпоха эксцесса объявлялась
законченной. Наслаждению предстояло научиться
помалкивать и не попадаться на глаза или, по крайней
мере, спрятаться куда-нибудь подальше. И оно
справилось с этой задачей.
Именно этот уход в сторону, эту «нормализацию»
Сад яростно отвергает своими текстами, присоединяя
свой протест к модели экономики излишеств со всеми
ее социальными импликациями. Мы могли бы сказать,
что исторические требования «вообразимости» и прав-
61 Beausobre. Essai sur le bonheur. P. 25. (Фамилия автора
означает «постник». — Прим. перев.) Наряду с другими
многочисленными примерами подобного рода цитируется
в: Mauzi R. V Idee du bonheur au XVIII-e siecle. Paris, 1960.
P. 175. Ch. IV «Bonheur et condition sociale».
276
доподобия изображаемого не оставляли ему другого <§
выбора. Вполне возможно, что так оно и было. Но если и
бы даже выбор и был, вопрос не в этом: нечто, принад- <§
лежащее совершенно иному порядку вещей, вышло на g
сцену текста и проникло в его логику. История, сколь с"
бы настойчиво она ни заявляла о себе и сколь бы вели- *
ко ни было ее давление, подвергаясь монтажу литера- 8
турного вымысла, неизбежно оказывается объектом ра- §
боты смещения и фигурации. Остается увидеть, что все '|
это в итоге дает. £
о
ж
и
Е
МИМЕСИС, ^
или СИСТЕМА НЕПРОИЗВОДСТВА "
Если экономика садовского либертинажа оказывается
в конечном итоге экономикой расточительства, то, как
мы видели, это выявляется благодаря демонстрации в
действии трех различных моделей, структурированных
за счет совмещения различных пластов:
— военной модели феодального замка;
— религиозной модели христианского монастыря;
— промышленной модели капиталистической
фабрики.
Иными словами, мы имеем дело с археологическим
«конденсатом» форм различных способов
производства, к которым отсылают эти модели.
Взаимоналожение их особенностей наиболее очевидно
проявляется в семантических повторах трех видов, касающихся
в основном описаний сексуальной активности:
военный язык (атака, штурм, битва, выпад, победа);
религиозный язык (жертвоприношение, фимиам, алтарь,
культ, святилище, храм); технологический язык
(прибор, орудие, инструмент, действовать, размещать,
налаживать). Если верно, что место, где разворачиваются
сцены либертинажа, структурировано в соответствии с
тремя указанными моделями, то будет еще правильнее
277
S сказать, что оно не тождественно ни одной из них, по-
* скольку только реактивирует их знаки и присваивает
§ их себе, освобождая от всякой референциальной
pern альности или причинности. Силлинг функционирует
« как крепость, как монастырь, как фабрика, но на деле
^ он является только местом либертинажа. Это «как»
к тем не менее весьма существенно, поскольку демонст-
5 рирует, что основная цель использования данной
модели состоит в овладении ее эффектами и искажении
их (причины, согласно садовскому принципу, о
котором часто упоминалось, не важны). Результатом
оказываются следующие своеобразные иронические
заимствования.
— От феодального замка (помимо использования
его в качестве декораций) заимствуются властные
отношения (власть абсолютная и личная), превосходство
дворянского имени, а также экономическая теория
эксплуатации рабского труда, делающая возможной
расточительную праздность. В то же время устраняется
обязанность выполнения воинского долга или соблюдение
требования кодекса чести.
— От монастыря берется общинная организация:
порядок, устав, дисциплина, гомосексуальная структура,
священная праздность, при полном исключении
требования аскезы (целомудрия, воздержания, покаяния) и
молитвы.
— От фабрики заимствуется право неограниченной
эксплуатации энергий и тел (низведение тел до
статуса инструментов; подчинение и производительность).
Однако устраняется производство товаров рыночного
обмена.
Замок не осаждают, в монастыре не молятся, на
фабрике не производят никаких изделий. Все три модели
только имитируются и задействуются для
структурирования пространства либертеновской системы. Таким
образом, это пространство оказывается своеобразным
театральным пространством, машиной симуляции,
278
где путем экспериментального монтажа совмещают- <£
ся следствия разнородных причин, чье перенесение в с
чужеродную среду обнажает их структуры и выявляет ,§
принцип действия исходных моделей. Театральный §
артефакт либертеновской обстановки функционирует s*
как машина для демонстрации того, что внутри сек- ^
суальных отношений и создаваемых ими фантазмов 8
имплицитно содержатся и воспроизводятся все обще- g
ственные отношения в их исторических формах и про- '2
тиворечиях. £
Таким способом садовскому тексту удается пред- |
стать тем, чем он и является на самом деле: литератур- £
ным вымыслом, функция которого заключается нев «
том, чтобы убеждать, судить, проповедовать, диктовать ■«;
законы, а лишь в том, чтобы показывать. Он показывает S
изнанку знаков и кодов, их вытесненные ставки,
ловушки, их скрытую связь. Перед нами работа по
деконструкции, безжалостная игра, и если действительно
существует садовская жестокость, то ее надо искать здесь, а
не на репрезентативном уровне означаемого, где ее
поджидает и выслеживает наивное воображаемое
читателя, привыкшего к «реализму». Кроме того,
литературный артефакт может быть прочитан не только в плане
извращения моделей, но и как их контрадикторное
наложение. Так, расточительство феодальной модели
оказывается несовместимо с экономической
рациональностью промышленной капиталистической
модели. И тем не менее обе одновременно приводятся в
действие. То, что историческая логика может лишь
разделять, логика текста может совмещать,
конденсировать, соединять одно с другим, что удается ей в той
мере, в какой она извращает модели, отрывая их от
всякой реальной функции (здесь логика текста
становится похожей на логику сновидения в описании Фрейда).
Так, техники порабощения тела, используемые в
отношении фабричной модели, приобретают совершенно
иной характер в либертеновской обстановке, вовлека-
279
2 ясь в процесс эротизации тела жертвы, поскольку это
as тело оказывается желанным благодаря своей пассивно-
* сти, своей зависимости, своей виновности. Правила и
$ наказания, которые инспирируются существующими
<з институциями и как будто воспроизводят их цели, нуж-
^ ны только ради имитации, ради того, чтобы они послу-
| жили элементом в перверсивнои игре, организованной
^ для наслаждения противоречием.
И если для Сада желание связано с властью, то не
потому что власть желанна, а потому что устойчивость и
правдоподобие воображаемых эксцессов по
необходимости зависит от власти. На самом же деле власть здесь
в силу странного противоречия постоянно
оказывается под вопросом: деспотические искатели наслаждения
хотя и являются хозяевами государства, неизменно
поддерживают субверсивно-анархический дискурс его
разрушения (против закона, собственности, религии,
потомства, брака — и за преступление, инцест, адюльтер,
кражу и т. д.). Противоречие, которое текст переносит
тем более легко, что постоянно ставит свои собственные
эксцессы в прямо пропорциональную зависимость от
бесчинств своих персонажей. Отсюда, внутри всего того
правдоподобия, которое текст возлагает на себя, тот
радикальный антиреализм, в котором он разворачивается.
Ибо Сад в этом галлюцинирующем сексом тексте
рассказывает не об обществе, а о наслаждении.
Персонажи, ситуации, места, модели функционирования — это
различные предикаты, организованные вокруг
единственного субъекта: тела либертена. Наслаждение
телами — единственное событие, разворачивающееся среди
множества имен, эпизодов и вариантов. Они служат для
того, чтобы это событие обрамлять, детализировать,
планировать и обеспечивать его нарративную легитимацию.
Но наслаждение становится литературой, то есть
превращается в рассказ, только тогда, когда окружается
практическими условиями великолепия: богатством,
властью, расточительством. Для особого блеска требу-
280
ются роскошь обстановки (дворцы, сады), мест (зна- ^
мснитые города и пейзажи), условий жизни (дворяне, В
принцы, прелаты, банкиры), тел (их количество, но так- ^
же и их имена, если это титулованные имена), празд- |
неств (еда, декорации) и, наконец, речей (рассуждения к"
во время оргий). Предельное наслаждение, поскольку ^
оно есть разрушение и губительное расточительство, S
вызывает исступление жертвоприношения. «
В конечном счете все социальное, политическое и '3
экономическое инсценирование садовского либертина- ^
жа конструируется как механизм, цель которого состо- §
ит в превращении тела либертена в фантастическую Е
машину расточительства и наслаждения этим расточи- vo
тельством. Но тогда оказывается, что эта система непро- <
изводства принадлежит тексту и является его законом 5
траты и эксцесса («сказать все», исчерпать
вообразимое, нарушать запреты на говорение), его законом
нетранзитивности (все происходит внутри языка). И
таким образом этот текст с той же отчетливостью, с какой
он рассказывает свою историю, внутрь которой он
вписан, демонстрирует, что сам он является повторением
истории, но в соответствии с уже иной логикой,
логикой мимесиса, которая смещает исторические формы,
делает их неразрешимыми, пародирует их, играет с
ними, даже искажает их и этим истреблением формы
выставляет напоказ структуры и коды истории,
утверждая себя таким образом в качестве письма. В этом
отношении текст Сада доводит до предела импульс
барочной экономики, которую Северо Сардюи определяет
следующим образом: «Растрачивать средства языка
исключительно ради удовольствия, — а не для передачи
информации, как в обыденном употреблении, значит
покушаться на моралистический, естественный
здравый смысл, на котором основывается вся идеология
потребления и накопления»62.
С2 SarduyS. Ваггосо. Paris, 1974. Р. 109.
Глава седьмая
РАСХОДЫ ТЕЛА:
«СПЕРМА» И «ГОВНО»
Чтобы не растрачивать силы,
наши мужчины воздерживались от
оргазма.
Де Сад. История Жюльетты1
Мне не приходилось есть более
восхитительного говна, могу
поклясться в этом перед кем угодно.
Де Сад. 120 дней Содома
Наслаждение либертена, помимо того что оно требует
определенных социальных и экономических условий,
которые бы обеспечивали саму его возможность,
одновременно задействует модель тела, структурированную
в соответствии с системой этих условий, модель,
которая символически и как бы в уменьшенном виде их
повторяет. Выглядит это так, как если бы тело на уровне
своих энергетических затрат или различных видов
активности воспроизводило логику социальной траты,
обеспечивающей ему статус либертенного тела. Тогда
может возникнуть предположение, что общая
экономическая система, в соответствии с которой
функционирует либертинаж и которая принципиально
ориентирована на избыточные траты, должна репрезентироваться
на телесном уровне как момент «разрядки*, как «поток
спермы». Однако все оказывается не так просто:
«сперма» либертена (совсем другое дело — обслуживающие
его «содомиты») тратится отнюдь не бездумно — наобо-
1 IX, 392.
282
рот, она даже, скорее, экономится — и к тому же эта £
«потеря» постоянно (или почти постоянно) ставится в <|
пропорциональную зависимость от «потери» экскре- *
ментов. Поэтому при анализе экономической модели, *
организующей эти траты, не только не следует отделять 3
одно от другого, но надлежит выявить необходимость
связи между ними, пусть и с риском разочаровать тех, *
для кого включение в систему наслаждения Сада аналь- «
ного и экскрементного измерения представляется лишь Б
досадной промашкой автора. <ё
ЭЯКУЛЯЦИЯ («РАЗРЯДКА».):
ПОТЕРЯ, РЕЗЕРВЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Фундаментальная проблема садовского нарратива
состоит в том, что, как отмечалось выше, единственным
его предметом является тело либертена. К нему
сводится все: путешествия, разговоры, встречи, события.
Повествование никогда не стремится реконструировать
эпоху, описать среду, разрешить загадку, вскрыть
политическую авантюру и т. д. Его единственная цель —
инсценировать либертенное тело и текстуально
аккумулировать в нем всю сумму вообразимых
наслаждений. Варианты ситуаций (касающиеся персонажей и
обстановки) лишь умножают возможности
наслаждения и всякий раз демонстрируют что-либо совершенно
неповторимое из всей той суммы возможностей,
которые представлены в перечне извращений. В
конечном счете все виды разврата похожи друг на друга, и
только комбинаторика вариантов позволяет отличить
один от другого в череде почти тождественных
ситуаций и действий.
Поскольку либертеновское тело является главным
предметом повествования, возникает проблема
нарративной логики, проблема, которую можно было бы
сформулировать следующим образом: по какому
принос
283
S ципу возможно создавать все новые ситуации для субъ-
3 екта, с которым теоретически может до бесконечности
| происходить лишь одно и то же? Но этот вопрос вклю-
m чает в себя другой, еще более значимый и относящий-
4 ся к символической экономике: какими средствами
1^ должно располагать тело либертена (единственным со-
| бытием для которого является наслаждение), чтобы со-
^ хранять свое могущество и оставаться субъектом этого
уникального в своей повторяемости действа? И
поскольку всякое наслаждение определяется
интенсивной растратой и гибельным разрушением, сможет ли
либертеновское тело располагать достаточными
запасами энергии для осуществления все новых и новых
расходов?
«Прочитывающаяся» без труда строгость
нарративной логики (ее систематическая связность и степень
правдоподобия) будет поэтому формально зависеть от
того, как на глубинном уровне текстуально
инсценируется символическое функционирование экономики, в
соответствии с которой распределяются,
вкладываются, тратятся и восстанавливаются силы тела.
Непрерывно стремясь к наслаждению, тело
сталкивается с угрозой энтропии, энергетического
истощения, что в конечном итоге могло бы выразиться в
крушении самого нарратива. Поэтому чтобы
повествование могло существовать, продолжаться и
возобновляться, необходимо, чтобы тело сопротивлялось
истощению. Однако эта необходимость не выражена явно
как таковая, ее симптомы проявляются в серии
навязчиво повторяющихся формул, отталкиваясь от которых
можно реконструировать набор исходных посылок,
позволивших символически отождествить тело с некоей
экономической единицей, в отношении которой
уместно поставить вопросы о потере, резерве,
восстановлении, имея в виду вещи, хорошо известные под другими
названиями: капитал, расход, воспроизводство.
284
Фантазм потери и приостановка %
Обращает на себя внимание то, что для обозначения *
эякуляции («разрядки») Сад почти всегда использует *
глаголы «терять» или «тратить» (сперму), в то время 55
как глагол «проливать» встречается довольно редко. §
Эта семантическая устойчивость имеет прямое отно- *
шение к функционированию садовской либидиналь- 3
ной экономики и демонстрирует ее парадоксальный ха- Е
рактер. Действительно, все происходит так, как если бы <€
либертен, потратив все свои усилия на приведение в го- 2
товность механизма наслаждения, с не меньшей твер- °-
достью и в тот самый момент, когда уже собраны все ~=
элементы, необходимые для реализации его желания,
постарался отложить его исполнение.
Это странное поведение, особенно если учесть то
требование незамедлительности исполнения желания,
которое управляло всеми отношениями либертена с
объектом его желания. Ведь прежде всего необходимо
выиграть время, победив сопротивление Другого,
отсюда формулы: «Я хочу вас немедленно», «Разденьтесь»,
вынуждающие к рабскому подчинению и наготе. Но
как только это сопротивление устранено, необходимо
выиграть время у смерти.
В самом деле, тело либертена остается в
одиночестве, перед лицом собственной смерти, без партнера, то
есть без какого бы то ни было посредничества.
Устранение Другого (одновременно это устранение закона и
запрета, то есть всех видов социального
сопротивления) оставляет тело либертена, пусть это тело
господина и победителя, один на один с той единственной
угрозой, которая предшествует всякой институции, —
угрозой биологического конца. Смерть здесь
становится тем более угрожающей, что устранение Другого
избавило ее от всех диалектических уловок. Она
предстает как чистая, неизбежная, безупречная «природа».
И здесь снова обнаруживаются характерные для мане-
285
2 ры Сада радикальная конфронтация, риск столкнове-
э; ния и головокружение, которых ему удается избежать
* не в символическом договоре, а в его симулякре, в его
m извращении.
ч На самом деле, тело либертена удивительным обра-
<^ зом оказывается пойманным в ловушку своего соб-
| ственного господства. Ирония оказывается тотальной,
^ поскольку низведение Другого до статуса чистого
несимволического инструмента делает возможным
безудержное наслаждение, а следовательно, влечет за
собой растрату сил и фатальное истощение тела, чему при
«нормальном» режиме могло бы помешать признание
Другого (а значит, и его сопротивление), влекущее за
собой экономию и отсрочку. Тогда вызов либертена
будет заключаться в том, чтобы, сохраняя требование
незамедлительности, свое безраздельное господство, и
оставаясь под непосредственной угрозой смерти, в то
же время не быть затронутым процессом уничтожения.
(Это отождествление наслаждения с уничтожением,
и даже смертью, — древний фантазм, проходящий
через весь фольклор и всю литературу, и, как известно,
Фрейд видел в нем одну из форм комплекса кастрации.)
У Сада глагол «терять» нередко чередуется с
глаголом «тратить»; это одно из самых симптоматичных
Садовских словоупотреблений, поскольку потеря спермы
уподобляется утрате ценности. В то же время подобное
употребление означает, что сперма, прежде чем
происходит ее потеря, фантазмируется в качестве резерва,
или, точнее, банковского капитала. Вся либертеновская
экономика тела моделируется в соответствии с
экономикой либертеновского общества: так же как
богатство накапливается ради наслаждения, получаемого от
траты, сперма накапливается ввиду ее потери во
время оргазма. Празднество, где неизмеримо возрастают
расходы на обстановку, кухню, одежду, объекты
разврата, жертвы, — это социальный оргазм, а оргия,
которая за ним следует или его сопровождает, — это избы-
286
точный расход тел. Оба этих вида трат не просто упо- £
добляются друг другу: это одна и та же экономика, в ко- <|
торой сексуальные траты не мыслятся без социальных *
и наоборот. *
Если наслаждение отождествляется с потерей как *
таковой, то со стороны либертена можно было бы ожи- с
дать неистового расточительства, постоянного стрем- *
ления к разрядке, поскольку вся садовская стратегия *
нацелена на полное исключение всего, что могло бы £
о
блокировать желание или хотя бы отложить его, выну- <€
дить к промедлению. Действительно, вся либертенов- g
екая система стремится к тому, чтобы сделать тела и их
наготу доступными для наслаждения так быстро,
насколько это только возможно; поэтому может
показаться странным, что, когда начинается оргия, либертен
прилагает все свое искусство, чтобы отсрочить столь
желанное удовлетворение. Едва ли не каждая сцена
оргии у Сада включает это условие отсрочки: «Киджи,
который был скуп на сперму, так и не кончил»2;
«Поскольку они не установили ограничений с самого
начала, то к концу праздника ощутили крайнюю нужду в
семени и были вынуждены стать бережливее»3;
«Президент, приведенный в отчаяние потерей спермы»'1;
«Совершение всех этих мерзостей обошлось только в один
оргазм»5. В этой связи можно было бы говорить о
настоящем наслаждении от приостановки, наслаждении,
обусловленном бесконечным множеством факторов,
поскольку оно функционирует одновременно на
нескольких уровнях. Прежде всего приостановка снова
вводит в пространство трансгрессии старый запрет,
вынуждающий откладывать исполнение желания.
Реанимация этого запрета носит здесь совершенно паро-
2 X, 150.
3 XIII. 261.
1 XIII, 135.
5 XIII, 253.
287
3 дийный характер, поскольку происходит внутри оче-
* видности переживаемого наслаждения и вводит в эту
| очевидность игровое затруднение. Эта чисто интеллек-
$ туальная операция на самом деле является одной из
4 уловок воображения, все старания которого направле-
§_ ны на то, чтобы актуализировать осознание необходи-
| мости «отклонений». Бланжи в «120 днях» ясно форму-
^ лирует этот принцип: «Мы должны поступать мудро:
вынуждая себя откладывать наши удовольствия, мы
делаем их еще более восхитительными»6. А Дюрсе
говорит об этом так: «Счастье не в удовлетворении
желания, а в самом желании»7.
Но вероятно, еще более важным является то, что в
этом сдерживании присутствует наслаждение
скупостью, которая является предметом гордости для ли-
бертенов и которая неизменно пробуждается в них при
виде золота: «Друг мой, — сказал я Папе, — мне
остается обозреть твои сокровища. У тебя должно быть
золото, я знаю, что ты скуп, я тоже, ничего на свете я не
люблю так, как золото, я хочу хотя бы на мгновение
вместе с тобой погрузить руки в груды этого металла»8
(курсив мой. — М. Э.). Золото и сперма связаны с
одним и тем же процессом сдерживания, как если бы на
символическом уровне их репрезентативные функции
имели идентичные или по крайней мере
взаимозаменяемые свойства. Как если бы золото, будучи
концентрированным воплощением власти, становилось
чистой репрезентацией всех вообразимых благ, как если
бы удерживаемая сперма становилась чистой
репрезентацией всех возможных наслаждений. В обоих этих
случаях сама дефицитность того, о чем идет речь,
сообщает им функцию субститута, всеобщего
эквивалента: они замещают собой все остальное и определяют
6 XIII, 290.
7 XIII, 163.
8IX, 165.
288
само наслаждение репрезентации: «В форме универ- &
сального субститута ценности Сад наслаждается не <|
тем или иным конкретным благом, он наслаждается *
общей возможностью наслаждения, поливалентной *
властью, он наслаждается потенциальным всемогу- 55
ществом, которое предоставляется всеобщим эквива- g
лентом»9. *
Поэтому нельзя интерпретировать то сдерживание, 3
к которому прибегает либертен, как заботу о взаимно- Б
сти, эффективности или же как стремление достигнуть <§
наивысшей интенсивности (как, например, это практи- 2
куется в таоизме). Его надо интерпретировать исключи- «2
тельно как символическое выражение экономического g
процесса, в котором накопление резервов превращает
анальное наслаждение в наслаждение ценностью как
таковой, и под знаком дефицитности усиливает это
наслаждение за счет ощущения его исключительности и
недоступности для других.
Репрезентация еды
Обильное испражнение возможно
лишь после обильной еды.
Де Сад. История Жюльетты10
Как отмечает Барт, «еда у Сада функциональна и
системна. Но этого недостаточно, чтобы ее романизировать.
Сад вводит дополнительное описание: он придумывает
подробности, называет блюда»". Возможно, надо
уточнить, что это «дополнительное описание» встречается
довольно редко, тогда как общее указание — «потом
9 GouxJ.-J. Calcul desjouissances//GouxJ.-J. Les jouissances.
Paris, 1978. P. 204. (Я еще вернусь к другим аспектам этого
проницательного исследования.)
10 VIII, 246.
11 BarthesR. Sade, Fourier, Loyola. Paris, 1971. P. 128.
ЮЗак. 3904
289
S они отправились обедать», «они сели за стол» — неиз-
| менно появляется в описании каждой оргии. Для хода
* повествования это указание малоэффективно и никак
<?, не развивается. Потребление пищи персонажами мог-
4 ло бы подразумеваться само собой и приниматься чи-
§^ тателем на уровне референции. Есть много повествова-
| ний, в которых «биологические потребности» (еда, сон,
5 дефекация и так далее) не описываются (или не
нуждаются в описании) даже для поддержания
правдоподобия. Читатель мог бы охотно предположить, что садов-
ские либертены не умирают с голода, а если принять во
внимание их доходы, совсем наоборот. Следовательно,
если Сад упорно сообщает нам об этом, другими
словами, если существует текстовая необходимость
упоминаний о еде, то это не имеет никакого отношения к
заботе о реализме, но напрямую связано с экономикой
либертеновского тела. Действительно, еда помогает
восстановить силы, потраченные в оргии, и поэтому
сообщения о потреблении пищи становятся такими же
необходимым, как описание сцен наслаждения. Принятие
пищи — это не второстепенный, декоративный элемент
повествования: напротив, это один из его важнейших
узлов, поскольку единственным субъектом
повествования является либертеновское тело. Говорить о еде,
представлять ее — значит говорить об одном из
фундаментальных способов репрезентации этого тела и
обеспечивать его текстовую жизнестойкость, так как
любая из возможных историй, связанных с этим телом,
представляет собой лишь повторение наслаждения,
получаемого вновь и вновь благодаря восстановлению
сил. Вводимые в текст упоминания о еде «спасают» тело
и тем самым «спасают» текст.
Существует, таким образом, формальная
(текстуальная, нарративная) необходимость изображений
трапез, но в то же время это еще и экономическая
необходимость, поскольку еда восполняет запасы, как только
они тратятся. Мадам Дельбен идеально выражает этот
290
принцип: «Восхитительная еда, которую мы вкушали, |
будучи абсолютно нагими, вскоре возвратила нам силы, ■§
необходимые для того, чтобы начать все заново»12. *
а
Наслаждение, деструкция §.
«
Существует наслаждение от сдерживания, но суть на- *
слаждения — потеря. Потеря губительна, ибо тело исто- к
щается в тот самый момент, когда достигает наивысше- £
го наслаждения. Если «природа» (и в этом ее жестокость <ё
и чудовищность) подстраивает нам эту ловушку, то g
следует пойти на хитрость и противопоставить ей «под- °-
вешивание» ситуации в сочетании с принятием пищи ~j
для восстановления сил. И возможно, еще в большей
степени необходимо иметь власть над смертью или по
крайней мере помешать ей путем отвлечения ее
внимания на жертву. Что же именно достигается таким
смещением?
Для Сада, как мы видели, исключено
опосредствование желания, то есть отказ желания от своего
собственного движения и импульса в результате его
инвестирования в некий промежуточный объект. Зачем же тогда
это сдерживание? Ведь сдерживание (Hemmung), по
Гегелю, является условием опосредствования, оно
спасает объект, блокируя деструктивное движение
желания. Сила в чистом виде, противополагая себя Mitte
(среде, средству), через именование, порождения или
производство образует слово, ребенка или орудие и в
целом систему языка, общества и вещей.
Желание либертена, замыкая на себя любое Mitte,
само находится под угрозой смерти в той же степени,
в какой оно угрожает своему объекту. Этим и
обусловлено «подвешивание», то самое либертеновское
сдерживание, которое позволяет желанию выиграть время
и сфокусировать всю агрессивность на объекте: жерт-
12 VIII, 119.
291
2 ве. Находясь в подвешенном состоянии, жестокость
| только увеличивает свой разрушительный потенциал.
| Именно в этот момент принимается решение о пытках
m и планируются их формы. Сдерживание дает время для
ч того, чтобы сместить всю смертельную нагрузку
желаем ния на жертву, и делает возможным господство апатии,
| благодаря чему отводится угроза смерти, нависающая
^ над субъектом желания, поскольку тот избавляется от
унизительного прохождения через опосредствование,
первая фаза которого сначала симулируется, а затем
полностью извращается. Пытка жертвы
представляет собой богатую дань смерти, это идеальная смерть,
поскольку она не оставляет следов. Расходуется все —
новые жертвы будут погублены ради новых желаний, и
при этом не может быть никакого опосредствования,
так как жертва — servus — не может быть спасена. Не
остается ничего, кроме самого желания, энергии либер-
теновского тела. Восстановленное едой, либертенов-
ское тело теперь готово возобновить свое губительное
наслаждение.
Вот почему у Сада, помимо стратегии наведения
порядка, создающего, организующего и
контролирующего это наслаждение, присутствует и настоящее
инсценирование беспорядка (хотя на это и мало обращают
внимание). Беспорядок связан с резким увеличением
затрат, которое провозглашает и реализует наслаждение:
«И тогда мы, не соблюдая никакого порядка,
бросаемся на первого, кто подвернется: мы кому-то
засаживаем, нас имеют»-13. Беспорядок может вылиться в
зрелище хаоса: •«Пресытившись убийством и бесстыдством,
мы в конце концов засыпаем среди трупов, потока вин и
разных напитков, говна, спермы и кусков человеческой
плоти>м. Такой распад группы (обычно находящейся
под строгим контролем и следующей собственной про-
'ЧХ.408.
"IX, 324.
292
u
о
грамме) оказывается на первый взгляд весьма далек от £
того господства апатии, без которого немыслим под- "»
линный либертинаж. Словно Сад, увлеченный необхо- *
димостью придать наслаждению эксцессивный харак- *
тер, не мог больше следовать тем принципам, которым *
подчинил наслаждение с самого начала. Как если бы по- g
рядок, с самого начала заявленный в качестве обяза- *
тельного условия, неизменно требуемое хладнокровие *
и тщательная организация поз и действий служили ис- S
ключительно достижению равновесия, обреченного на <ъ
разрушение, которое и гарантирует наслаждение. Либер- £
тинаж создает порядок только затем, чтобы его
уничтожить. Правила, которые он налагает на беспорядок,
создаются им для того, чтобы отказаться от них в великой
необузданности, заявляющей о себе в оргазме,
отождествляемом с потлачем энергий, моментом взрыва,
высвобождения и тотальной расточительности,
разрушительная логика которой неизбежно включает в себя
убийство: «Человек достигает последнего
пароксизма сладострастия только в приступе ярости; он грозит,
сквернословит, он полностью теряет чувство меры и
контроль над собой, в этот критический момент он
проявляет все симптомы жестокости; еще шаг — и он
варвар; еще один — и он убийца»15.
В садовских повествовательных парадоксах
немаловажным моментом является то, что оргазм, наиболее
частое и в то же время наиболее обычное из состояний
либертена, в то же время фантазмируется как
состояние совершенно исключительное. Этот парадокс
можно понять только в его связи с той экономической
логикой, которая им управляет и согласно которой
единственное наслаждение — это наслаждение от потери.
Иначе говоря, потеря и есть само наслаждение:
расточительное распутство, в котором экономика и
эротика неразделимы.
15IX. 343.
293
3 Таким образом, организация, метод, сдерживание и
| господство, которые нас так поражают в садовских про-
* изведениях (и как правило замечаются всеми, кто пишет
m о Саде), даны только для того, чтобы быть растраченны-
4 ми. И когда это растрачивание — кратковременное, ин-
<^ тенсивное и немедленное — завершится, цикл (рассуж-
| дения, программы, контроль и т. д.) начнется заново, но
^ точно так же вновь увенчается растратой. Нетрудно
тогда понять, почему пароксистическая репрезентация
оргазма вызывает образы чего-то из ряда вон
выходящего — экстаза, безумия, чудовищности, животности,
катастрофы или же опьянения, бреда, бешенства,
насилия, извержения вулкана, потопа.
И неудивительно, что в этот момент безумия,
катаклизма и разрушения наиболее примечательным знаком
крушения порядка является полная потеря
дискурсивного языка: в оргазме крик вытесняет
высказывание («жуткий крик возвещает о его экстазе, слышатся
чудовищные ругательства»)16. Надо заметить, что крик,
как правило, является единственной речью,
разрешенной жертве; жертвы — это те, кто молчит, когда ли-
бертены рассуждают. Крик жертвы раздается после ее
долгого молчания, как последняя точка,
закономерный итог ее языкового бесплодия и одновременно как
последний удар, который добивает ее растерзанное
тело. Крик боли принадлежит экономике истощения
не-дискурса. Совершенно иной является экономика
крика наслаждения. Он раздается в конце либертенов-
ского дискурса (неважно, носит ли этот дискурс
теоретический характер рассуждений или это
практический дискурс эротических поз) как восклицательный
знак, как то, что завершает дискурс, поглощая,
уничтожая его систему. Если крик жертвы указывает на
невозможность говорить, то крик либертена неистово
растрачивает резервы языка. Наслаждение, переходя
16 VIII, 564.
294
в крик, становится асимволическим, но это отсутствие £
смысла, это разрушение порядка предстает как рос- *§
кошь бешеной растраты, которую позволяет себе Гос- *
подин дискурса. *
ЭКСКРЕМЕНТНЫЙ ЦИКЛ у
Я люблю говно до безумия. £
Де Сад. Новая Жюстина" <ъ
н
Каким бы изощренным ни был ритуал растраты «спер- °-
мы», какой бы оригинальной ни была экономическая g
схема (сдерживание, потеря и восстановление), все же
этого недостаточного для того, чтобы это действо
стало по-настоящему либертеновским. Скандальный и
трудноопределимый характер садовской либидиналь-
ной трате придает то, что она неизменно связывает
сексуальное наслаждение как таковое с наслаждением от
испражнения. Она предполагает не просто
одновременность двух этих видов наслаждения, но и их
жесткую корреляцию. В одном и том же механизме
оказываются соединены тело благородное, обладающее
ценностью тело (половая и нервная системы) и тело
презренное, обесцененное (системы пищеварения и
дефекации). Здесь мы видим смешение того, что
утверждается как стихия жизненная, творческая, с тем, что
отвергается как стихия мертвая, как отбросы (что на
уровне письма означало бы смешение классического
языка с грубой лексикой). Иначе говоря, это означает
соединение тела фаллического и анального; вместе с
опрокидыванием самого мерила ценности происходит
полное перераспределение энергий, высвобождение
которых порождает специфическое наслаждение ли-
бертенного тела.
17 VII, 199.
295
2 Стоит заметить, что читатели, чье восхищение
Cast дом столь же воинственно, сколь и безоговорочно, тем
* не менее охотно демонстрируют свою критическую по-
ст) зицию, заявляя о крайне сдержанном отношении к тем
ч скатологическим практикам, которые Сад вносит в пе-
§^ речень развратных действий, в чем, по их мнению, по-
| винны непростительные изъяны его вкуса. Так, Жиль-
^ бер Лели, наиболее лирически настроенный из этих
читателей, пишет о «120 Днях», что «одна постоянная
ошибка... во многих случаях уменьшает дидактическую
ценность его произведения — а именно то чудовищно
преувеличенное место, которое автор отводит
извращению копрофагии, доведенному до крайнего бесчинства
[...] правдоподобие очень часто нарушается совершенно
излишним изображением уродливых отклонений, на
месте которых могли бы с успехом оказаться многие
другие эротические по своей сути подробности.
Помимо ощущения однообразия и отвращения, которые
возникают из подобного злоупотребления... и т. д.»
(курсив мой. — М. ЭУ8.
Помимо трогательной наивности, позволяющей
выносить суждения о тексте с точки зрения нормативных
представлений («Саду следовало бы писать по-другому
или о другом*), а также определять степень
приемлемости извращений исходя из степени их
распространенности («копрофагия может рассматриваться лишь
как одно из наименее распространенных извращений»),
самая забавная вещь в комментарии Лели, который в
ужасе и с дидактической миной отшатывается от того,
что является как раз самой смелой и самой
бескомпромиссной дерзостью Сада. Ибо открыть пространство
языка ужасу отвратительного и низкого, — другими
словами, ужасу экскрементного, — означает прикоснуться
18 Lely G. Vie du Marquis de Sade, avec un examen de ses ouv-
rages//Sade D. A. F. de. Oeuvres completes. T. II. Paris, 1966.
P. 256-257.
296
I
a
о
к табу более строгому, чем запрет на секс и убийство,
запрет, к которому неизменно взывает риторика
желаемого и возвышенного. Впрочем, любая цивилизация в
той или иной степени признавала свою связь с сексуаль- *
ным или телесным насилием: сакральные оргии, риту- *
альная или легализованная проституция, человеческие g
жертвоприношения, войны, погромы, пытки, публич- *
ные телесные наказания и т. д. Это вытесненное содер- к
жание продолжает оставаться замечательным образом Б
очевидным, намечая в высшей степени диалектичное <€
поле негативного: на карнавалах, празднествах, публич- 2
ных казнях — в этих организованных трансгрессиях все
без труда переходит в свою противоположность. Секс
и кровь неизменно получают общественное признание,
а ужас, с ними связанный, достигает высот поэзии или
трагического театра.
Но отходы жизнедеятельности тела остаются за
пределами всякого обсуждения, это нечто
непроизносимое. Ни одна поэтика не могла бы овладеть ими, не
разрушив себя, потому что их изначальное неприятие и
является условием ее существования. Телесные
отходы вряд ли можно включить в какую-нибудь
тератологию, поскольку они даже не обладают
привлекательностью чудовищного. Они вызывают тусклый,
будничный ужас низкого, ничтожного и презренного. То есть
«говна* — так при помощи грубого слова
подчеркивается это радикальное исключение. Из всех исключений,
на которых основывается культура, это наиболее
насильственное, а поэтому наиболее необходимое. Оно
не должно оставлять за собой никаких следов и
никакой памяти, оно вне истории и растворено в полной
амнезии. Оно не принадлежит даже порядку негативного,
так как у него нет противоположности. Скорее, это
«дизъюнктивная изнанка»19 культуры. И все же имен-
19 Finzi S. Le рёге anal // Finzi S. Psychanalyse et politique.
Paris, 1975.
297
2 но здесь, на краю этой темной ямы отвращения, субли-
3 мированный лик культуры представляется в наиболее
* выгодном свете.
*
2 Экскрементный запрет
§.
I Возникновение культуры неотделимо от установления
:- ряда запретов. Эти запреты достаточно хорошо
изучены и классифицированы этнологами; напомним хотя
бы запреты инцеста и каннибализма, обязанность
погребать мертвых, и т. д., строгость и функции которых
варьируются в зависимости от той или иной
социальной группы и могут сочетаться с другими, более
специфическими (пищевыми, территориальными,
гигиеническими и т. д.). Но любопытно, что существует один
запрет, действие которого столь же универсально, сколь
и сурово, которому следовало бы стать объектом
особого внимания антропологов и который тем не менее если
и не был полностью обойден молчанием, то, по крайней
мере, отмечался и исследовался недостаточно — а
именно экскрементный запрет.
Выглядит это так, как будто знание об этом запрете
само по себе запретно, — словно даже говорить об этом
запрете означает нарушать его, и словно возможность
дискурса основывается на решительном вытеснении не
только объекта этого запрета, но и слов, способных его
определить.
Ученый, соприкасающийся с этим запретом,
чувствует себя в опасности даже на территории
собственного дискурса, причем в такой мере, что не хочет
ничего знать об этом запрете, чтобы не поставить под удар
все остальное. Заслуга Фрейда состоит уже в том, что
он попытался подойти к этому вопросу с теоретической
точки зрения (особенно в четвертой главе работы
«Неудовлетворенность культурой»). Правда, он, как
известно, делает это в примечании, — в той части текста,
которая обычно читается с меньшим вниманием, где
298
разрешаются всякого рода дополнения и смелые ги- |
потезы. В этом примечании, указав на то, что формиро- ^
вание прямохождения у человека сделало видимыми »
его гениталии и положило начало феномену стыда, за- *
менившему ту защиту, которая на физическом уровне *
обеспечивалась согнутой позой, Фрейд выдвигает ги- е
потезу, что, после того как голова человека оторвалась *
от земли, зрение стало развиваться в ущерб обонянию, «
значение которого определялось согнутым положени- {=
ем тела. Именно преобладание визуального аспекта над <€
обонянием сыграло главную роль в установлении экс- 2
крементного запрета: «Тяга к чистоплотности возника- °-
ет от побуждения устранить экскременты, ставшие не- g
приятными для чувственного восприятия. Мы знаем,
что дело обстоит иначе в детской. Экскременты не
вызывают у ребенка никакого отвращения и, видимо,
дороги ему как отделившаяся часть его тела. В этом случае
воспитание особенно энергично форсирует
предстоящий ход развития, призванный сделать экскременты
никчемными, мерзкими, отвратительными и
предосудительными... Итак, анальная эротика пала жертвой
прежде всего "органического вытеснения",
проложившего путь к культуре... Неопрятный человек, то есть
тот, кто не скрывает свои экскременты, тем самым
оскорбляет другого, не уважает его, и об этом,
безусловно, свидетельствуют самые сильные употребительные
ругательства»20.
По глубокому замечанию Мелани Клайн,
«бессознательное не делает различия между субстанциями
тела»21, что происходит, возможно, по тем же причинам,
по которым, согласно Фрейду, оно не знает ни времени,
20 Фрейд 3. Неудобства культуры // Фрейд 3. Художник и
фантазирование / Пер. с нем. под ред. Р. Ф. Додельцева.
М., 1995. С. 315-316.
21 Klein M. La psychanalyse des enfants / Trad, par J. B. Bou-
langer. Paris, 1975. P. 226.
299
2 ни отрицания. Некоторое время это неразличение по-
51 зволяет бессознательному преобладать в ребенке, преж-
* де чем язык и социальная среда полностью овладеют им
$ и сообщат ему культурные навыки. До тех пор, говорит
ч Фрейд, он является «полиморфно-перверсным», что
§^ проявляется главным образом в полном отсутствии сты-
g да по поводу собственных экскрементов, которые он,
^ напротив, воспринимает как чудесный продукт своего
тела и делает из них «подарок» семейному окружению
или преподносит этот подарок кому-то одному22.
Требование чистоты ребенок переживает
достаточно болезненно, как притеснение, против которого он
неизменно бунтует в своем неудержимом стремлении
себя запачкать (Фурье, что замечательно, также
понимал это). Чистоплотность — это всего лишь установка,
которая приходит не только с опозданием, но и носит,
как об этом говорит Фрейд, компенсаторный характер:
«Чистоплотность, аккуратность и внушающий доверие
вид производят впечатление реактивного образования,
направленного против интереса к тем вещам, которые
нечисты, создают беспорядок и не должны быть на теле.
Dirt is matter in the wrong place (Грязь — это вещество
не на своем месте)»23. Исключительный интерес этих
аналитических наблюдений состоит в том, что они со
всей очевидностью указывают на то, что экскремент-
ный запрет — это, возможно, главный или, во всяком
случае, наиболее архаичный запрет, на котором
«цивилизованный» порядок стоит так «прочно», что
вытесняется само знание об этом запрете, словно недопустимо
напоминать, даже путем отрицания, о том, к чему
отсылают экскременты и животное начало (к незатронутой
22 Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности // Фрейд 3.
Психология бессознательного / Пер. с нем. под ред. М. Г. Яро-
шевского. М., 1990. С. 160.
23 Freud Z. Caractere et erotisme anal // Freud Z. Nevrose, psy-
chose et perversion. Paris, 1974.
300
«
реальности биологических потребностей). Как если бы
культуре в ее сублимированном состоянии (чистота,
прозрачность, отсутствие запаха, духовность) ни в коем
случае нельзя было выдать то самое сокровенное, от
чего она стремится очиститься (грязь, зловоние, экс- 3
кременты), и признаться в том, что она получает свое |
определение только за счет этого исключения. *
Всякое знание, всякий порядок и детерминации лю- •<
бого объекта создаются только этой операцией исключе- Б
ния, посредством которой все, что является известным, <ё
что утверждается и выдвигается, становится таковым $
лишь за счет отказа, устанавливающего и определя- °-
ющего то, что является недопустимым и не признава- g
емым. Порядок существует только через утверждение
своей противоположности. Обсценное — только
следствие этого раскола. Отбросы существуют только
потому, что они отброшены. Красивое, возвышенное и т. д.
существует лишь за счет того, что они отрицают
уродливое, низкое, презренное, ничтожное: «говно».
Таким образом, вопрос об экскрементах находится в
центре древнейшего разделения ценностей, в
соответствии с которым мы продолжаем действовать (мы
больше чем когда-либо живем в асептической цивилизации):
высокое и низкое, небо и земля, зрение и обоняние,
изысканное и вульгарное, великое и ничтожное,
человеческое и животное. Это разделение является не таким
простым, каким оно кажется на первый взгляд, поскольку
номинации, которые оно использует, обозначают
только отрицание, которым это разделение создается.
Когда речь идет об экскрементах — и, шире, об
отбросах и грязи, проблема заключается именно в языке.
Ибо экскрементный запрет — это прежде всего запрет
языковой. В самом пространстве языка
осуществляется разделение между тем, что может и что не может
быть высказано, что может и что не может быть
произнесено, и в конечном счете между прекрасным и
безобразным. Следовательно, экскременты отнюдь не яв-
301
3 ляются чем-то непроизносимым, наоборот, они есть то,
at что предоставляет себя для наименования, очерчи-
§ вающего отброшенную часть языка. Но как эта часть
р5 отбрасывается? Ведь это не происходит само собой,
4 как, например, болезнь: язык-пария предполагает на-
§_ личие Господина, который производит это исключение
| и который благодаря этому господству полагает себя в
^ своем отличии. Признаваемая идентичность объекта
(I'objet) утверждается отрицанием идентичности
отвратного (1'abject). Это разделение дискурса впрямую
соотносится с классовым разделением.
Экскрементное, как и сексуальное, является
объектом метафорического и медицинского именования.
Метафора избегает экскрементного за счет смещения
образа, а медицинская терминология дезинфицирует
экскременты позитивностью медицинского знания. Если
медицина может говорить об этом объекте, не роняя
своего «достоинства», то, без сомнения, это происходит
потому, что отвращение вызывает не вещь сама по себе, а
слово. Грубость именования состоит не в чем ином, как
в использовании «вульгарных» слов, слов vulgus'a:
простонародья, плебса. Понижение слова в его правах
является его классовым признаком. Для Господина на
самом деле непристоен раб как таковой, возникающий
перед ним как инородный элемент, как полная его
противоположность, и именно поэтому Господин отводит
ему место мертвеца. Воспринимаемый в таком
качестве — то есть как труп — раб источает зловоние и
внушает страх; он омерзителен, этот ходячий мертвец, от
которого столько шума. Он, по определению
безмолвствующий (простому народу или нечего сказать, или за
него говорит его представитель), вдруг становится
говорящим, но только иным образом2*. Между общепри-
и См. об этом классическую книгу Бахтина: Бахтин М. М.
Творчество Франсуа Рабле и народная культура
Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
302
нятыми и навязываемыми лингвистическими норма- s
ми — нормами господствующего класса — и формой и <§
экономикой языка раба лежит непреодолимая про- *
пасть. Инородность, присутствующая и заявляющая о
себе в его языке, — это инородность грозной и отверг- *
нутой силы, которая может обернуться бунтом. Таким g
образом, экскрементное становится отвратительным, *
только когда оно высказывается грубо, «по-народному». «
Соответственно возникают характерное круговое дви- Б
жение между запретом на экскременты, революцион- <£
ной инородностью и обеденным языком. Существует, g
таким образом, глубинная логика в том, что для просто- "2
го народа выражать несогласие, говорить «нет» равно- g
значно тому, чтобы произносить слово «говно».
Лишение этого языка законной силы нацелено только на то,
чтобы отлучить раба от языка вообще, чтобы заставить
его хранить молчание или стыдиться того, что он
говорит, словно его неспособность говорить может
гарантировать его неспособность действовать. Для
привилегированного обладателя власти, языка и знания народное
восстание, по мнению Батая, непристойно, как
переливающаяся через край выгребная яма.
Введение в садовское повествование скатологиче-
ского элемента может рассматриваться как
парадоксальным образом репрезентируемое сомнение в могуществе
либертенов, поскольку именно через экскременты
вводится угроза их власти и отрицание ее. Во всяком случае,
заслуживает внимания, что Сад, перед лицом
тотального исключения экскрементного со всеми его
значениями омерзительного, грязного, презренного
осмеливается навалить, так сказать, «кучу» прямо посреди текста.
Он никогда не использует таких риторически
допустимых или разрешенных медициной слов, как задний
проход, экскременты, фекалии, газы, дефекация, или
мочеиспускание, а только жопа, говно, пердеж, сратъ, ссать
и т. д. — непристойный язык, который воспринимается
в качестве такового только потому, что не может быть
303
3 репрезентирован в том языке, который его отвергает.
I Эффект грубости состоит именно в выходе на поверх -
* ность этой недопустимой инаковости.
(f Садовское предательство аристократического языка
■а может выглядеть как совершенно неожиданный вызов.
^ Тем не менее было бы неверно рассматривать его про-
| сто в качестве провокационной вульгарности или не
^ особенно изощренного подрыва норм, так как на более
глубоком уровне оно указывает на то, что наслаждение
приходит к телу только через неудержимое
нарушение сковывающих его классовых кодов и через
уничтожение языка, который его определяет и конституирует.
(Надо также отметить, что внедрение непристойных
слов в классический язык, означающее на уровне
процесса символизации вторжение плебса в
аристократическое пространство, имеет еще исторический смысл,
связанный с участием Сада в революции. Сад, в качестве
«маркиза Санкюлота» (как его удачно именует Ж. Ше-
рас25), дважды подчеркивает свою обсценность, дважды
демонстрирует нам свой «зад» (cul): один раз как ли-
бертен, второй раз как революционер. Он утрачивает
свою классовую позицию, превращая себя в
«гражданина Луи Десада», так же как Исидор Дюкас пародийно
повышает свой статус, превращая себя в графа Лотреа-
мона. Таким образом, в одном и том же действии Сада
сочетаются два логических момента: не-отрицание
непристойного в языке и признание инородности как
крепнущей силы народа.)
Именно потому, что так высока ставка в этой игре
символического, Сад — главным образом в «120 Днях
Содома» — со злым юмором инсценирует ненасытный,
если так можно выразиться, скатологический инстинкт.
Его практика — это прежде всего трансгрессия
(«большие удовольствия рождаются только из побежденного
23 CherasseJ. A., Guicheney G. Sade, j'ecris ton nom Liberte.
Paris, 1976.
304
отвращения»26), но еще и анамнез (копрофагические |
игры Бланжи и Дюрсе он комментирует следующим <§
образом: «Они, как я говорил, были друзьями с детства, »
и с тех пор никогда не переставали напоминать друг *
другу о своих школьных удовольствиях»27). *
Это удовольствие в Силлинге доведено буквально с
до своего пароксизма, поскольку «субъектам» практи- *
чески запрещено подтираться или без непосредствен- «
ного разрешения испражняться куда-либо, кроме как в £
рты четырех Друзей: «Вам прекрасно известно, что мы <€
готовы потреблять говно в любой час дня или ночи»28, g
Наличие «испачканной говном жопы» (как неожидан- "2
но для себя узнает Жюльетта от Сен-Фона, который g
осматривает ее собственный зад), становится
отличительным знаком либертинажа: «Значит, Нуарсей не
сказал вам, в каком виде я желаю получать ваш зад?
— Нет, сударь.
— Мне нравится, чтобы он был весь в говне [...]
чтобы он был совершенно грязным [...] а свежесть вашего
просто приводит меня в отчаяние»29.
Отвращение, утверждает Сад, не связано ни с каким
«естественным» импульсом, но является следствием
«предрассудков» воспитания (Фрейд исходит из
аналогичной посылки). Свое доказательство Сад
осуществляет путем переноса свойств питания на экскременты,
создавая своего рода кулинарию несъедобного:
«Ничто не прививается так легко, как привычка услаждать
себя нежным ароматом дерьма, на вкус же оно просто
восхитительно: напоминает оливки»30. (Для нас вся
пикантность этого описания состоит в неожиданной и
совершенно южной по характеру детали, которая при-
26IX, 441.
27 XIII, 225.
28 XIII, 293.
и VIII, 210.
™ VIII, 161.
305
S дает этому фантазму крупицу реальности.) Поэтому
as «поедание говна» позволяет совместить в себе два удо-
* вольствия: удовольствие пробовать вкусное блюдо и
(Т) удовольствие есть то, что не предназначено для еды,
ч ту пищу, которая выбрасывается организмом, — удо-
g_ вольствие от парадокса, специфическое удовольствие
| либертена:
~ «В пяти белых фарфоровых чашах находилось
двенадцать или пятнадцать изысканных по форме и в
высшей степени свежих кусков дерьма.
"Вот каким мороженым я завершаю свой обед, —
сказал нам великан, — нет ничего полезнее для
пищеварения, и к тому же ничто не доставляет мне такого
удовольствия. Это говно вышло из лучших задниц
моего гарема, и его можно есть без опаски"»31.
Потребление экскрементов является высшим моментом
эротического пиршества, язык, который используется для
описания, — язык хорошего стола и отменного
пищеварения; возникает полное отождествление: «Я никогда
не ел более восхитительного говна, могу поклясться в
этом перед кем угодно»32.
Произошло полное выворачивание наизнанку:
подлое стало благородным, отвратительное — изысканным,
презренное — достойным поклонения, низкое —
высоким. В Силлинге знаком этого переворачивания
является устроенный в часовне замка «гардероб» (то есть
туалетные комнаты). Место славы господней, душа
здания, место священнодействия становится
пространством, используемым для ритуала дефекации, и, как
издевательство, право облегчиться называется
«отпроситься сходить в часовню». Когда говно
становится божественным, распределение ценностей полностью
переворачивается с ног на голову: свойства начинают
свободно циркулировать и смешивать субстанции с
31 VIII, 565.
12 XIII, 190.
306
субъектами, что-то разрушается в самом языке, посколь- %
ку его номинативная система может существовать лишь *§
за счет этого разделения ценностей. *
Анальный запрет g.
с
Анальный и экскрементный запреты, очевидно, не еле- *
дует смешивать друг с другом, так как один направлен «
на объект, а другой — на орган. Было бы интересно рас- £
смотреть здесь, что является сутью каждого из этих за- <ё
претов, даже если в чем-то они окажутся совпадающими, g
Что можно сказать об анальном запрете как таковом? ^
Здесь мы снова должны обратиться к основным ис- g
точникам — работам Фрейда, особенно к тексту
«Детская сексуальность» в его «Трех очерках по теории
сексуальности» (1905 и 1924 гг.)33 и еще к одной работе
1908 года, которая называется «Характер и анальная
эротика»34.
Вопреки всей стойкой традиции отрицания Фрейд,
по существу, утверждает, что анальная зона — это,
прежде всего, зона эрогенная, и «нужно представить
себе, что эрогенное значение этой части тела
первоначально было очень большим» и что «у этой зоны
остается на всю жизнь значительная доля генитальной
раздражимости»35. Фрейд утверждает далее, что
анальная чувствительность немедленно становится объектом
жестокого подавления со стороны воспитателей,
особенно родителей, словно невозможно не только
допустить подобное наслаждение, но и предположить
существование такой возможности. Фрейд выражает
признательность Лу Андреа Саломе за ее проницательное
замечание, что «история первого запрещения,
предъявленного ребенку, запрещения получать удовольст-
33 Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности.
м Freud Z. Caractere et erotisme anal.
35 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности. С. 159.
307
§ вие от анальной функции и ее продуктов, является
peal шающей для всего его развития. Маленькое существо
* должно при этом впервые почувствовать враждебный
$ его влечениям окружающий мир, научиться отделять
ч свое собственное существо от этого чуждого ему мира и
<^ затем совершить первое "вытеснение" возможного для
| него наслаждения. С этого времени "анальное" остает-
^ ся символом всего, что необходимо отбросить,
устранить из жизни»36.
Этот остракизм, которому подвергается анальная
зона, тем более примечателен, что ему никогда не
подвергалась зона оральная, на удовольствия которой
(сосать, целовать, есть, курить и т. д.) накладываются лишь
весьма незначительные ограничения.
Что касается эдипального запрета, хорошо
отлаженного структурного механизма, представляющего
собой уловку культуры в чистом виде, то он несет в себе
и программирует свое собственное разрешение за счет
разделения, производимого им между законом и его
изнанкой; он компенсирует исключенное
(полиморфную извращенность), придавая особую значимость
тому, что сам предлагает и навязывает:
соответствующий генитальный объект. Только анальное остается
полностью вытесненным, лишенным какого бы то ни
было субститута, инвестирования извне, даже за счет
смещения. Анальному не остается ничего, кроме ауто-
эротического удовлетворения, то есть выбора нарцис-
сического объекта: «Дети, которые пользуются
эрогенной раздражимостью анальной зоны, выдают себя
тем, что задерживают каловые массы до тех пор, пока
эти массы, скопившись в большом количестве, не
вызывают сильные мускульные сокращения и при
прохождении через задний проход способны вызвать
сильное раздражение слизистой оболочки [...] Воспитатели
опять-таки поступают правильно, называя плохими де-
зв Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности. С. 160.
308
тей, которые "прячут для себя" выполнение этой функ- J
ции»37. Можно сказать, что, удерживаясь от опорож- <|
нения кишечника, ребенок протестует прежде всего *
против родительской агрессии, которая неявно, но тем *
не менее неизменно стремится подавить эрогенность 3
анальной зоны. g
Здесь нам необходимо быть очень точными, отве- *
3
чая на вопрос, что имеется в виду, когда говорится об <<
анальности? Идет ли речь о реактивном образовании, £
известном как «сдерживание», или анальном влечении <§
со своей собственной эротической нагрузкой? Если под 8
словом аналъностъ мы подразумеваем оба аспекта ера- а-
зу (как это часто бывает в психоаналитической литера- g
туре), тогда оказывается, что одним и тем же понятием
мы обозначаем два взаимно противоречащих аспекта;
отсюда крайняя путаница, постоянно сопровождающая
обсуждение этого вопроса. Фрейд, однако, четко
разграничил анальный характер и анальную эротику. Первое
понятие, относящееся к задержке фекальных масс как
реактивному образованию, имеет три главные
составляющие: пристрастие к порядку, скупость и упрямство.
Второе понятие относится к первичному процессу
сексуального влечения, почти не подвергавшемуся
анализу, поскольку является полностью вытесненным и как
бы угасшим у взрослых: «Мы должны допустить, что
анальная зона потеряла свою эротическую значимость
в ходе развития и что постоянное проявление этой
триады свойств [порядок, скупость, упрямство] в
характере [взрослого] может быть связано с угасанием [...]
анальной эротики». И наоборот, «можно ожидать, что
черты "анального характера" будут слабо выражены у
людей, которые сохранили эрогенное свойство
анальной зоны во взрослой жизни, как, например, некоторые
гомосексуалисты»38. Другими словами, чем меньше
37 Там же. С. 159.
38 Freud Z. Caractere et erotisme anal. P. 144.
309
3 вытесняется анальная эротика, тем меньше проявляет-
st ся анальный характер. У нас еще будет возможность за-
| даться вопросом о том, верно ли это в отношении садов-
(^ ского либертена.
4 Но прежде всего следует отметить, что Фрейд, хотя
§_ и до некоторой степени прояснил эрогенный характер
| анальной области, не проявил интереса к тому, почему
^ анальность подвергается такому беспощадному
изгнанию. Почему так страшно допустить развитие анальной
эротики? Ответ кажется очевидным: пугает дегенита-
лизация сексуальности. Для социальной группы
анальное наслаждение равнозначно угрозе бесплодия,
опасности биологического исчезновения.
Фрейд имплицитно дает именно такое объяснение,
когда в «Трех очерках» связывает вопрос анального
наслаждения с удовольствием мастурбации. В этом
обнаруживается его проницательность, поскольку для группы
эти две разновидности наслаждения окружены
одинаковым позором. В обоих случаях важно предотвратить
аутоэротическое удовлетворение, обесценивающее
выбор объекта и не заинтересованное в репродуктивной
генитальности. Та же самая логика и тот же самый
интерес обнаруживается в том, чтобы приписывать
исключительную ценность гетеросексуальности и строго
порицать практики содомии (даже внутри гетеросексуальной
пары). Речь идет о том, чтобы воспрепятствовать
мерзости игровой или перверсивной сексуальности, не
озабоченной воспроизводством и не заинтересованной в
биологическом выживании группы. Анафема,
объявляемая практике содомии (даже между супругами),
направлена на устранение опасной конкуренции, которую
анус может составить вагине, а значит> матке. Ибо
помимо бесплодия, гарантируемого этим отказом от
воспроизводства, богохульство состоит еще и в соединении
«влаги жизни» с «мертвой материей» (по старинной
церковной терминологии). Сперма, смешанная с
экскрементами, — это чудовищный союз жизни и отбро-
310
I
о
сов, это победа последних, это стерилизация и упадок
того, что называется креативным процессом.
Под знаком этой угрозы происходит то, что можно *
назвать символическим компромиссом между аналь- *
ным и фаллическим: откажись от первого, чтобы на- *
слаждаться вторым (то, что на эмпирическом уровне g
означает: откажись от говна, если хочешь сохранить *
пенис); если одно заклеймишь как низменное — полу- «
чаешь гарантию, что противоположное будет призна- Б
но достойным; если откажешься от неопределенности, <ё
хаоса, клоаки, в обмен получишь порядок, систему, £
идентичность.
Выпрямленное (при прямохождении) положение
тела, как и эрекция фаллоса, являются победой,
одержанной над беспомощностью тела, скорченного, как у
животного или как у испражняющегося человека, и
экскрементов, воспринимаемых как то, что падает вниз
на землю. Это двойное выпрямление разом учреждает
как саму культуру, так и мужское господство. Таким
образом, получается, что женщине — точно так же
подвергнутой исключению и лишенной притязаний на
фаллическую эрекцию — остается либо превратить в
фаллос в качестве объекта соблазна все свое тело, либо
стать отбросом. Возможно, ее отверженное положение
и превращает ее как раз в то, посредством чего
совершается посвящение в анальность (о чем узнал и поведал
нам президент Ш ребер)39.
Однако возможно, еще более существенно, что
фаллос получает свое властное положение (как это хорошо
известно после Лакана и несмотря на него) благодаря
тому, что является основой символического порядка
(хотя бы и в качестве отсутствующего означающего), то
есть системы признания и договора. Эта система не
существует без своей собственной «дизъюнктивной
изнанки»: а именно анального, отпавшего от символиче-
3D SchreberD. Memoires of My Nervous Illness. Cambridge, 1988.
311
g ского, находящегося у его границ, предаваемого прокля-
* тию, неспособного включиться в диалектику призна-
* ния — а тем более утверждать ее, — анальное остается по-
$ терянным, незначащим элементом, ценным лишь для
а его обладателя, подобно ничем не примечательному,
<^ изолированному, неуместному объекту, совершенно не
| пригодному для обмена, иначе говоря, совершенно при-
~ ватному (за счет чего он в то же время открыт
фетишизации в качестве уникального, личного и неизвестного:
объект фаллического презрения возвращается как
объект поклонения). Именно здесь пересекаются анальный
и экскрементный запреты. Анус обозначает место
телесного ничтожества. Он осуждается как отверстие для
отбросов, «дырка для говна» (Арто), постыдная изнанка
прекрасного тела, эмблема его смерти, бессилия и
бесплодия. Анус — это то, что придает каждой изнанке
постыдные коннотации, делает ее отвратительной. Вот
почему величайший страх перед Отцом — Главой — в том,
чтобы не выдать свое анальное падение,
скрывающееся за фаллической высотой. Король не может иметь ни
зада, ни ануса: тому порукой — его скипетр.
Господин анального,
заставляющий сдерживаться
Существенный парадокс садовского мышления
состоит в том, что либертен, чья сила устанавливается
дискурсивной властью, помимо всего прочего
осмеливается без стыда, не рискуя при этом потерпеть неудачу,
противостоять низости анального и одновременно тому
плебейскому элементу, который ставится под запрет
языком и который если и не способен разрушить
фаллический порядок символического, то, по крайней
мере, создает для него ощутимые помехи.
Делая анус публичным, вырывая его из
приватности, в которую он был помещен, либертен совершает
поистине бесстыдное деяние. Если все должно быть вы-
312
сказано, тогда анус должен присутствовать в высказы- |
о
вании больше, чем что-либо другое, потому что он под
вергается самому большому вытеснению в дискурсе. S
И если анус — этот предел интимности и приватности, *
наименее демонстрируемый орган, — выставляется на- *
показ, то уже ничто не может ускользнуть от внесения §
в перечень высказанного, и больше не остается никако- *
го укрытия. Рушится барьер между фаллической пуб- к
личностью и анальной интимностью. S
Излишек власти, достающийся либертену, выража- <£
ется в том, что он отваживается выставить напоказ свое 2
анальное наслаждение, избегая, таким образом, ловуш- °-
ки отрицания. Когда прятать уже нечего (и особенно не ^
приходится прятать «зад»), все получает свое место в
высказывании, даже отбросы. Тогда либертен и
набрасывается на символическое с тыла. Более того, этот тыл,
эти зады он преподносит символическому в качестве
лицевой стороны — то есть требует от дискурса принять
то, что отвергается им в своем основании. Тем самым
экскременты и анус освобождаются из гетто
фетишизма и открываются пространству комбинаторного.
Излишек власти либертена выражается в том, что,
радостно принимая на себя отвратительное,
отброшенное, доводя его до непристойности, он гарантирует себе,
что ничто не может быть обращено против него. Он
полностью защищен, занимая неуязвимую позицию силы.
Он всегда играет разом на лицевой стороне и на
изнанке, стремясь устранить собственное внутреннее
противоречие. По крайней мере, это и есть его стратегия.
Напротив, жертву (Жюстина предстает здесь ее
совершенным типом) конституирует отказ от
наслаждения, и от анального наслаждения в особенности. Таким
образом, положением жертвы определяется обычное
состояние общего невроза; жертва одновременно и его
результат, и его симптом. Жертва навлекает на себя
мщение со стороны того, что она осуждает, она навлекает на
себя либертена-палача, который обрушивает на нее бо-
313
g готворимый ею Закон в форме насилия и обращает
прозе тив нее отвергаемую ею анальность, репрезентирующую
| ожесточенное господство и губительное подавление.
о? (Мы видим, что у Сада нет и не может быть никакого
в воспитания жертвы, поскольку против орто-доксии нет
|^ убедительных аргументов, здесь действует только без-
| жалостное уничтожение; противоречие исчезает с устра-
^ нением противоречащего.) Либертен, завладевающий
символическим порядком в пользу своего наслаждения
и принимающий его подавляемую экскрементность и
анальность, одновременно утверждает себя и в
качестве того, кто говорит, и в качестве того, кто
заставляет сдерживаться. Соответственно жертвой признается
тот, кому запрещено говорить и запрещено
испражняться. Именно потому что жертва ничего не хочет знать об
анусе и вообще не может ничего знать, ее уста
замкнуты; она не может играть с законом, ибо в законе
находит свое определение. Знать Закон и манипулировать
им означает демистифицировать его через его
смехотворную анальную изнанку.
Господин, который заставляет сдерживаться,
принимая решения о дефекации жертвы, утверждает свою
власть над наиболее приватным местом тела, над
которым индивид исходно ощущает репрессивный
контроль группы и где его протест принимает форму
симптома: сдерживаемое испражнение представляет собой
безмолвный язык тела, когда речь для выражения
протеста оказывается недоступна. Господин анального
простирает свою власть именно до этого предела: жертва
является совершенной жертвой, когда даже удержание
фекальных масс находится в чьей-то посторонней
власти. Пользуясь терминологией Фрейда, можно сказать,
что либертен возлагает на себя черты анального
характера (пристрастие к порядку, скупость, упрямство),
чтобы заставить жертвы подчиняться и перенаправить
на свое собственное тело все то анальное наслаждение,
из которого жертвы исключены. Анальное господство
314
над телом жертвы осуществляется в Силлинге в coot- J
ветствии со строгим методом, в котором преобладают <|
три следующие процедуры: *
1. Контроль за ритмом дефекации (императив сдер
ч
о
живания): «Подданным обоего пола категорически за- Л
прещалось ходить в туалет для опорожнения кишечни- «
ка, не получив на то особого разрешения, чтобы таким *
образом сохраненная субстанция могла послужить удов- «
летворению тех, кто изъявит к тому желание. Был вве- Н
ден обход спален, чтобы удостовериться, не пренебрег <§
ли кто этим приказом; каждый из Друзей на протяже- й
нии одного месяца внимательно проверял все горшки,
стоявшие под кроватями, и если он обнаруживал, что
один из них полон, виновник немедленно вносился в
журнал наказаний»40.
2. Контроль за характером экскрементов (рацион
питания): «Этим утром, после некоторого изучения
испражнений наших субъектов, предназначенных для
развратных целей, было решено прибегнуть к тому, о
чем рассказывала Дюкло: я имею в виду исключение
хлеба и супа из рационов всех, кроме господ. То и
другое было исключено и заменено птицей и дичью. Не
прошло и недели, как они заметили существенную
разницу в экскрементах: они стали более сочными, мягкими
и приобрели чрезвычайно изысканный вкус»'11. Этот
безупречный режим, которому Докур, любовник мадам
Дюкло, заставил следовать свою возлюбленную,
излагается «рассказчицей» на двенадцатый день: «Я была
обречена есть четыре раза в день, исключив множество
вещей, которые так любила: рыбу, устрицы, соленья,
яйца и все молочное... Основу обычной трапезы
составляло огромное количество цыплячьих грудок и
очищенной от костей дичи, представленных под видом
самых разных блюд, немного мяса, ничего жирного, очень
10 XIII, 171.
11 XIII, 171.
315
g мало хлеба и фруктов... Результатом этой диеты, как пред-
а; видел мой любовник, явились два горшка в день очень
* мягкого, нежного, самого восхитительного стула»42.
<ъ 3. Контроль за прерыванием сдерживания: анальное
ч господство простирается вплоть до удовлетворения
g^ прихотей, касающихся частоты испражнения жертв, то
| есть до провоцирования дополнительных, незаплани-
^ рованных испражнений с помощью искусной техники,
вызывающей кишечное расстройство: «Услышав во
время оргий, что господа рассуждают об
упоминавшемся выше новом режиме питания, цель которого
состояла в том, чтобы сделать дерьмо более обильным и
более изысканным, Дюкло сказала, что ей было крайне
удивительно узнать, что такие знатоки не подозревают
о настоящем секрете того, отчего кал делается
обильным и вкусным. Когда же ее спросили о способах,
которыми этого можно достигнуть, она сказала, что дело
здесь только в одном: следует добиться у жертвы
легкого несварения, не заставляя ее при этом есть то, что не
доставляет удовольствия или вредит здоровью, но
принуждая есть поспешно и нерегулярно; тогда желаемые
результаты не заставят себя ждать... С этого времени не
проходило и дня, чтобы Друзья тем или другим
способом не вызывали легкого расстройства у девочек или
прелестных мальчиков: результаты превзошли самые
смелые ожидания»43.
Короче говоря, тело жертвы — это система,
подключенная к телу либертена, пассивный придаток, тело,
источник воли которого находится вне его самого и внутри
другого. Тело жертвы, подключенное к телу либертена,
оказывается наделено всеми служебными функциями,
позволяющими телу либертена получать чистое
наслаждение безо всяких усилий. Тело жертвы — это трудовое
тело, работающее на предупреждение и удовлетворение
«XIII, 191.
" XIII, 258-259.
316
о
желаний праздного тела. В конечном счете это не что |
иное, как порабощенная система, машина для произ- <§
водства эротической субстанции, настраивающаяся и *
перенастраивающаяся по прихоти пользователя и под- *
чиненная технологическому знанию, которое гаран- *
тирует ожидаемые результаты (количество, качество и к
производительность) и в особенности обеспечивает *
власть над временем, которая так важна для желания *
либертена: техника несварения обеспечивает немедлен- £
ную доступность желаемого продукта. Таким образом, <€
тело либертена предполагает у своих границ наличие 5
класса тел, работающих на производство
экономической прибавочной стоимости и позволяющих телу
либертена быть праздным, наслаждающимся телом.
Внутри самой этой праздности необходим еще класс тел,
работающих для доставления наслаждения как
такового и существующих исключительно ради этого (эти
тела не служат для исполнения таких рабских задач,
как работы по хозяйству или на кухне; в крайнем
случае, они прислуживают за столом, что приобретает
характер эротического ритуала).
Тело либертена появляется в конце цепочки
постепенных освобождений от всех видов трудовой
деятельности, включая минимальный труд, необходимый для
получения наслаждения. Тело жертвы, напротив,
аккумулирует предикаты рабства и зависимости, вплоть до
того, что перестает распоряжаться своими
пищеварительными функциями и у него отбирается все
интимное, — оно полностью лишается собственности.
В противоположность гегелевскому рабу, у садов-
ской жертвы нет шанса обратить этот процесс себе на
пользу за счет труда, поскольку данная его
разновидность не находится в основании экономических
процессов и не производит прибавочную стоимость
товаров. Труд жертвы представляет собой службу
Господину в фазе потребления, а в качестве прибавочной
стоимости производит наслаждение — то есть нечто
317
2 непригодное для любого вида опосредствования и, сле-
3 довательно, в долгосрочной перспективе для любого из-
* менения власти. Жертва обречена на гибель, она
доджей на исчезнуть в расточительности наслаждения, кото-
<а рому служит. Ее разрушение безмолвно, окончательно
§_ и необратимо.
о
В
о
~ Пищеварительный тракт,
или Чрево Силлинга
Действие произведений Сада часто разворачивается
в подземельях. Все главные места, где происходят
оргии, имеют свои подвалы, темницы и подземные ходы.
Именно здесь, «в чреве земли», по точному выражению
заплечных дел мастеров, производится самое ужасное
и самое возбуждающее — пытки и казни. Тела,
которые расходуются на наслаждение, превратившись в
отбросы, оказываются в подземных тюрьмах. То, что
происходит между входом в замок и этой выгребной
ямой, напоминает то, что происходит между ртом и
анусом: подобно пищеварительному тракту тела,
существует пищеварительная система садовского замка.
Происходящее там разжигает предельную
необузданность разврата. Замок, Тело: знаки и предикаты того
и другого взаимозаменяемы. Внутренности,
несомненно, один из главных садовских фантазмов, но фантазм,
воплощающийся в соответствии с определенной
логикой и экономикой.
Рот — анус: проклятая ось. Между ртом и анусом и
наоборот в Силлинге осуществляется странный
пищеварительный цикл, подразумевающий совершенно
отличную от общепринятой модель тела, которая
основывается на таких благородных элементах, как кости,
мышцы, артерии и нервы, вызывающих к жизни
сублимирующие метафоры архитектурного,
технологического, военного, политического и другого порядка, а также
на господствующей над ними величественной древо-
318
подобной колонне, позвоночном хребте, который при- J
дает телу вертикальное, прямое, устойчивое и одухо- <|
творенное положение. «Хотя внутри тела, — пишет Ба- *
тай, — кровь течет вниз и вверх в равном количестве, *
предпочтение отдается всему, что поднимается, и чело- *
веческая жизнь ошибочно рассматривается как возвы- ~
шение»'и. Главным исключением из этой классической *
модели является орально-анальная ось, пищеваритель- <
ный и кишечный тракты. Это скрытое, урчащее, оттал- £
кивающее тело, состоящее из внутренностей («потро- <ъ
хов»), замаскировано и неузнаваемо под безупречной 2
анатомической пластичностью. Именно это тело про- <2
славляет эротизм Силлинга. g
Прежде всего, это осуществляется за счет прямого
подключения ануса ко рту, включения их в
непрерывную циркуляцию, когда линейное однонаправленное
движение пищеварительного тракта
трансформируется в круговое, идущее в обратном направлении.
Становясь экскрементами, пища проходит еще раз через
рот и заново проделывает весь путь. Естественно, такой
механизм предполагает взаимодействие множества
отверстий, то есть множественное тело становится телом-
группой.
Таким образом, рот лишается своей естественной
функции. Рот, созданный для того чтобы говорить и
есть, теперь становится перевернутым анусом, глотая то,
что им выбрасывается. В результате пища также
подвергается перверсии: она усваивается только для
производства экскрементов и вынуждена делить с ними
органы пищеварения. От рта до ануса тело теперь не что
иное, как колонна «говна», экскрементная ось, которая
заполняет пищевод и желудок, проходит через
кишечник и ставит привилегированный статус позвоночника
под вопрос. Это проклятая, противоестественная ось,
и Bataille G. Documents // Bataille G. Oeuvres completes. T. I.
Paris, 1970. P. 200.
319
S смешивающая высокое и низкое, является артефактом
as либертинажа.
* Еще более серьезным представляется то, что такая
m телесная модель полностью уничтожает разницу полов.
ч Ось рот — анус присуща как мужской половине, так и
g_ женской. Это бесполое — или двуполое — тело наслаж-
| дения, неважно, мужское или женское, в дырки кото-
^ рых вставляются как естественные, так и
искусственные органы (пенисы, дилдо, руки, языки, экскременты).
Порядок различий и траекторий движения
нарушается именно потому, что анальное, лишенное
символической определенности и структурной расчлененности,
допускает любые сочетания и соединения. Это не не-
дифференцированность «тела без органов», о котором
Делез и Гваттари говорят в «Анти-Эдипе», а перверсия
органического, регулируемая посредством умножения
и взаимозаменяемости органических функций.
Изобилие: запасы и траты. Как мы видели, сперма,
с одной стороны, обладает высокой ценностью, с другой
стороны, может растрачиваться. Она существует в
режиме дефицита. Ее производство ограничено, оно имеет
индивидуальные отличия и уменьшается с возрастом.
Следовательно, потеря спермы допустима, только если
существует уверенность, что момент для этого
подходящий и причины уважительны. В конце концов она все
равно будет потрачена и первоначально удерживается
именно для того, чтобы быть потраченной с толком. Ее
дефицит требует самой твердой стратегии
апатического господства.
Говно, напротив, доступно в больших количествах.
Его поступление остается постоянным и даже может
быть увеличено (за счет чрезмерного питания и
расстройства желудка). Отождествляемое с изобилием,
говно удовлетворяет стремление либертена к роскоши
и немедленной доступности: его всегда будет навалом.
В силу собственного изобилия оно является
своеобразной местью дефициту спермы. Но его изобилие со-
320
о
провождается парадоксом, усиливающим наслаждение: |
«говно» в принципе не может быть объектом потери, *§
поскольку оно уже потеряно. Как отброшенный эле- *
мент пищеварительного цикла, оно уже не представ- *
ляет никакой пищевой ценности. Удаленное из тела, *
так же как из культурных кодов, оно всегда находится g
в сфере мертвого, бесплодного и ничтожного: нулевая *
степень материи. Но так как эта материя трансформи- к
рована телом, она таким образом уже эротизирована. S
И менно эта н ичтожность и непроизводительность неот- <€
вратимо делают ее исключительно ценной и желанной 2
для либертинажа. Это наиболее совершенная уловка "2
либертинажа: то, что ничтожно, но имеется в изобилии, g
наделяется сверхценностью, оставаясь в изобилии.
Выигрыш полный, почти магический. Это перверсивная
месть престарелых либертенов ограничениям,
наложенным природой.
Это также и гарантия бесконечности наслаждения,
так как изобилие в данном случае является еще и
запасом. Колония подчиненных тел создает огромный банк
экскрементов, банк, откуда либертен имеет постоянное
и неограниченное право их изымать. Точнее, группа тел
представляет собой одновременно и систему
производства, и место для хранения запасов — нечто наподобие
улья. Это тело-машина и тело-сундук, производящее и
хранящее богатство Силлинга.
Таким образом, мы можем сказать, что
удерживанием спермы и потреблением экскрементов
замечательным образом символизируются две главные стадии
развития капитализма. Это, с одной стороны, первичная
стадия накопления, отмеченная необходимостью
экономии, точного подсчета производительности и
строгого отказа от любых избыточных трат. С другой
стороны, это стадия развитого потребления, когда сами
возможности производства оказываются вторичными
по отношению к многообразию рынков, и необходимо
не просто производить товары одновременно с жела-
11 Зак 3904
321
2 нием их потреблять, но также, и даже еще решительнее,
3 необходимо заставить желать саму форму обращения
* капитала, то есть, как говорит Маркс, должно сущест-
m вовать желание меновой стоимости, как если бы это
4 была потребительная стоимость. Это желание самих
§^ денег выражается в том, что они фетишизируются в зо-
| лоте и в символах роскоши. Иными словами, речь идет
^ о желании потребления универсальных эквивалентов,
самих знаков ценности, воплощенных в своеобразном
культе знаков обмена, которые представляют собой
окончательный результат логики капитала,
возвращающейся к практикам Римской империи времен упадка,
таким, например, как (упоминаемая Марксом)
практика есть жемчужины в салате, практика, о которой
Ж. Ж. Гу писал следующее: «Желание потреблять
жемчужины вызывается представлением о них (как об
общей форме богатства), а не их материальным
существованием; их универсальным характером, а не
количественно ограниченной меновой стоимостью или
качественно ограниченной потребительной стоимостью.
Желание потреблять жемчужины — это желание
потреблять их как абстрактную возможность всех
наслаждений [...] В капитализме фетишистским объектом,
воображаемой причиной удовлетворения должна стать
общая меновая стоимость, или ликвидность, а не
ограниченные и частные потребительные стоимости.
Причина этого очевидна и хорошо известна: если говорить
о производстве, то капиталиста не интересует
потребительная стоимость (если перефразировать
отточенный язык Маркса, капиталисту абсолютно плевать на
то дерьмо, которое он производит); его интересует
исключительно меновая стоимость»'15. Этим для Сада и
определяется статус и функции говна, смысл его
накопления и потребления: золота, говна или любой другой
ценной субстанции, в которой фетишизирована цен-
45 GouxJ.-J. Calcul des jouissances. P. 208, 210.
322
о
ность. С точки зрения капитала либертены, которые по- |
глощают экскременты, подражают поедающей жемчуг <|
римской знати. Так что растрачивание средств и непро- *
изводительное потребление, которые в крайних своих *
проявлениях идеально символизируются потреблением 3
экскрементов, возможно, не отсылают к предшеству- §
юшему способу производства (то есть к феодальному), *
а, напротив, довольно точно представляют состояние 5
развитого капитализма. S
Такое прочтение, безусловно, уместно, если только tS
не забывать о многочисленных искажениях и сверх- 2
детерминациях, производимых текстом, за счет
которых модели вступают во взаимные обмены,
перекрывают друг друга, упраздняются и искажаются, позволяя
проникать в себя совершенно чуждым инстанциям.
Любая односторонняя интерпретация становится
односторонне недостаточной, открываясь бесконечному
опровержению в непримиримом полилоге противоречащих
друг другу определений.
Вот почему хорошо известное тождество,
существующее между экскрементами и деньгами,
установленное Фрейдом, принимает в Силлинге куда более
сложную форму, поскольку касается не только
конечного продукта, но и производственного процесса. Экс-
крементный цикл, представленный телами либертенов
и их жертв, в миниатюре, на символическом уровне
воспроизводит генезис капиталистической фабрики.
Хозяин капитала отождествляется с Господином
анального. Но особенности этой системы имеют прямое
отношение к избыточному потреблению феодального
типа, поскольку капиталистический механизм
напрямую связывается с механизмом деспотическим.
Отношения между хозяином и производителями остаются,
вплоть до физической зависимости, глубоко
индивидуальными: тело жертвы присоединяется
непосредственно к телу либертена, и система стремится к
функционированию в совершенной автаркии. В течение ста
323
S двадцати дней ничто не проникло в Силлинг извне и ни-
* что не вышло наружу. Инцест, эндогамия, эндофагия:
* циклы самотождественного концентрически сжима-
m ются. Экскрементныи цикл замыкает круг: мало-пома-
« лу все, что выходит из тел, возвращается в них снова.
g_ Запасы и траты сливаются внутри одного сегмента
| большого цикла, проходящего через тела от рта к ану-
^ су и от ануса ко рту. Ось высокого/низкого (рот/анус)
переходит от линейного функционирования к
круговому движению, в котором накладываются и
смешиваются элементы, которые никогда не должны были ни
встретиться, ни вернуться обратно. Этот процесс
больше не соответствует никакой модели, понятия
постоянно меняются местами и наслаиваются друг на друга.
Причинности и эквивалентности подвергаются
мутациям, которые делают их неопределенными:
испражняться одновременно означает производить, терять и
накапливать. Власть капитала превращается в скато-
логический вампиризм.
БЕСПЛОДНОЕ СОВОКУПЛЕНИЕ
Для Сада тело представляет собой что-то вроде
невероятного эротического трансформатора. Если
экскременты становятся субстанцией, которая нагружена
сексуальными значениями в еще большей степени, чем еда,
и которая утверждается как бесконечно желанная
(настолько, что ее лицезрения или поедания достаточно,
чтобы вызвать оргазм), то причина этого состоит в том,
что экскременты представляются чистым продуктом
тела эротического. Пища, независимо от того,
насколько она важна для восстановления сексуальной энергии,
остается в основном функционально значащей
ценностью. Свою славу она обретает за счет того, что
проходит через тело и превращается в отбросы, связанные с
наслаждением в той мере, в какой последнее оказыва-
324
ется нефункциональным, то есть представляет собой £
чистую трату, избыток, роскошь. Но испражнения осо- <|
бенно перенагружены и отмечены трансгрессивной цен- *
ностью наложенного на них запрета, поскольку
являются непристойным объектом (ср. «Экскрементный =1
запрет») и выделяются через постыдное отверстие (ср. g
в
и
о
«Анальный запрет»). Наслаждение оказывается пре- *
дельным там, где закон непреклонен и запрет строг. 3
Тело, это магическое преобразующее устройство, не Б
только эротизирует производимые им субстанции, но и <ё
является механизмом, прославляющим отбросы в той §
мере, в какой оно есть некое вместилище, размеченное
запретными (а следовательно, сакральными) местами:
то, что из него исходит, становится тем желаннее, чем
более оно отталкивающе.
Поэтому необходима вся пошлость эстетизирующего
и морализирующего прочтения (подобного тем крикам
негодования, которые мы приводили в начале книги),
чтобы оставаться слепым к реальности такого текста,
как «120 дней» (то есть к его работе по инсценировке
процесса символизации), отсюда идут истошные
призывы избавить нас от этого «говна», вызванные
непониманием того, что все дело здесь — в логике желания.
Эта логика, осуществляющаяся внутри безумной
репрезентации ценности, доводится до своих самых
крайних следствий и радикальным образом обнаруживает
свои самые неблаговидные результаты. Можно
заметить, конечно, как делает Барт, что «описанное в тексте
дерьмо не пахнет», и таким образом обозначить границу
между порядком референции и порядком вымысла, но
необходимо видеть и то (мы пытались выполнить здесь
эту задачу), что дерьмо, о котором написано, может быть
лишь частью дискурса и объектом экономически
обусловленной значимой игры.
Эту игру, которую описывает Сад, можно
представить как процесс спаривания «спермы» и «говна»
внутри одной системы. Ограниченная первым элементом па-
325
2 ры, трата, сколь бы чрезмерной она ни была, свелась бы
Л к описанию обычного тела и нормативной сексуально-
* сти, к нормальности органов и гетеросексуальной бипо-
ст) лярности (мужчина/женщина, пенис/вагина) в рамках
ч репродуктивной легитимности. Но когда эта трата не-
о_ изменно связывается с анальным наслаждением и ког-
| да экскременты становятся объектом желания, в схему
ji наслаждения вводится сила нетранзитивности.
Превратить возбуждение от экскрементов в причину
«разрядки» означает связать благородное с низким,
плодоносное с бесплодным. Это означает нарушить фаллическую
организацию анальным асимволизмом,
продемонстрировать то, что тело либертена остается совершенно
невосприимчивым ко всем видам сублимации и что
осуществляемая им система остается упорно
непроизводительной системой, «холостой машиной»,
находящейся в состоянии полной дисфункции относительно
производства и кодов воспроизводства (семьи,
культуры, власти и т. д.). Наслаждения либертена являются
безоглядными тратами тела.
Глава восьмая
НЕДОГОВОРНЫЙ ОБМЕН
О вы, взявшиеся управлять людьми,
избегайте налагать оковы на живое
существо. Позвольте ему обходиться
без посторонней помощи, позвольте
ему самому искать то, что ему
подходит, и вскоре вы обнаружите, что
дело пойдет гораздо лучше.
Де Сад. История Жюльетты1
На принцип договора Сад
обрушивает весь свой сарказм.
Ж. Делез. Представление
Захер-Мазоха
Вся экономика либертинажа, инсценируемая текстом
Сада — экономика излишеств, расточительства, логика
которой распространяется на функционирование
органов тела и изображение наслаждения, —
непрерывно преследует и стремится подорвать то, в чем видит
свою обратную сторону и угрозу своему
существованию: рыночную экономику, регулируемую договорным
обменом.
От Локка до Руссо, от Гоббса до Юма, от Канта до
Гегеля политическая мысль XVIII века вела споры и
определяла свои позиции, отталкиваясь от проблемы
договора. В политической теории использование
понятия «договор», если внимательно приглядеться к его
истории, окажется удивительным и даже парадоксаль-
1 VIII, 72.
327
S ным. Начать с того, что оно восходит не к публичному,
э| а к частному праву. Договор, определенный еще в древне-
* римском праве, вошедший впоследствии в кодекс Юс-
m тиниана и сохранявшийся на протяжении всего Средне-
ч вековья вплоть до эпохи юрисконсультов XVII века,
о_ представлял собой форму обязательства, принимаемо-
| го на себя партнерами, относительно сделок, займов и
^ заключения союзов. Первоначально, в Риме, договор
представлял собой торжественное обязательство,
данное в присутствии свидетеля; развитие обмена привело
к упрощению и умножению его форм.
Тем не менее нигде — ни в античном, ни в
средневековом праве — мы не находим такого положения вещей,
при котором отношения граждан между собой или
граждан с суверенной властью (будь то власть индивида —
верховного правителя или политического коллектива —
сената) принимали бы форму такого специфического
соглашения между индивидами, каким является
договор. Ни древнегреческая, ни римская, ни тем более
средневековая политическая философия никогда не
рассматривали принцип договора в рамках своей
теории, поскольку суверенность мыслилась только как
трансцендентная индивидам, образующим коллектив.
Как известно, теории договора появляются только
после того, как в достаточной мере развились некоторые
схожие по характеру феномены. Один из таких
феноменов принадлежит собственно политическому порядку и
связан с поисками новых истоков и оснований
суверенности. Это были смелые вопросы, особенно если учесть,
что для традиционной — и официальной —
христианской мысли ответы не должны были вызывать сомнений
и содержались в изречении апостола Павла: •«Всякая
власть от Бога» {Omnispotestas a Deo). Начиная с
эпохи Возрождения эти вопросы ставились
несхоластической философией, а позже с особой силой выразились
в протестантизме. Эти чисто политические поиски, без
сомнения, не были бы возможны без тех культурных из-
328
менений, которые произошли в обществе в целом и были £
связаны с более решительным утверждением прав инди- v|
вида и формированием индивидуалистических практик. >а
Отныне проблема состояла не в том, чтобы выяснить, Ц
как происходит интеграция индивида в сообщество, а в <§
том, чтобы понять, как возможно существование об- §
щества, полагающегося на индивида. Как только во- ^
прос о происхождении общества был поставлен таким _^
образом, стал формулироваться иначе и вопрос о су- 5
веренности. Теперь он звучал так: как произошло, что
индивиды, согласившиеся жить вместе, установили над
собой суверенную власть? Понятие суверенности уже
не постулировалось, а выводилось. Исходя из этих
оснований, теории договора, долго существовавшие в
частном праве, были теперь призваны на помощь и
перенесены в право публичное.
Надо также заметить, что среди множества
юридических форм договора одна более всех прочих
вдохновляла юрисконсультов XVII века. Действительно, во
времена Юстиниана, в золотой век переосмысления римского
права, различались три главные категории договора:
1) официальные торжественные договоры,
заключавшиеся на основании вопросов и ответов — церемонии,
происходившей по старинным ритуалам; 2) реальные
договоры, предполагавшие не взимание процента, а
возвращение взятого (например: mutuum, или депозит),
где слово «реальный» означало только то, что
предметом договора были вещи (res — лат.) и товары; 3) кон-
сенсуальные договоры, самые распространенные и по
времени самые поздние, касающиеся продажи, сдачи
внаем, делегировании власти или полномочий. Именно
в этой категории мы обнаруживаем совершенно особый
тип договора, называемый общественным, или
партнерским, договором, который и будет нас здесь
интересовать: по всей видимости, именно из него черпали
вдохновение создатели политических теорий, чему до сих
пор не уделялось должного внимания.
329
S Современный исследователь описывает этот тип до-
а; говора следующим образом: «Договор общества предпо-
* лагает, что двое или несколько участников
соглашаются ся сделать нечто общим во имя достижения легитимной
ч цели и извлечения взаимной выгоды»2. Этот вид кон-
•^ тракта предполагает одновременное участие несколь-
| ких лиц, и принцип заключения договора состоит в том,
~ что, несмотря на различие характера вкладов (это
могут быть услуги, товары, деньги), последние должны
быть равноценны; прибыли и убытки также должны
быть одинаковыми для всех, если в договоре не
оговорено обратное, как, например, в том случае, когда один
из участников при согласии остальных делает больший
вклад. Соответствующим образом прибыли, так же как
и убытки, должны были быть пропорциональны
вкладам (если группа соглашается на более благоприятные
условия для одного участника, договор будет
называться «кабальным»). В данном случае договор, конечно,
носит экономический характер, но его особенность
состоит в том, что он предполагает соглашение не двух, а
одновременно нескольких партнеров. Каждый
участник такого societas вступает в партнерские отношения
с каждым другим участником, поскольку изначально
предполагаются его партнерские отношения с ними
всеми. Каждый партнер фиксирует свое участие, добавляя
свою подпись к тексту, описывающему группу и
прокламирующему ее цели и статус. Таково это societas,
существующее исключительно как следствие
выраженного формальными средствами взаимного признания.
Действительно, здесь присутствуют все те
формальные элементы, которые войдут в определение договора,
лежащего в основании гражданского общества. Эта
генеалогия, похоже, также осталась вне поля зрения
историков политической мысли. Тем не менее она
очевидна. Данная модель стала играть исключительно важ-
2 ImbettJ. Le droit antique. Paris, 1961. P. 112.
330
ную роль начиная с эпохи Возрождения и особенно в |
XVII веке, и этот факт не будет казаться столь удиви- *1
тельным, если заметить, насколько активно распростра- >а
няются индивидуалистические теории в это время, я
Значимость этой модели возрастет еще больше, когда <§
во внимание будут приниматься интересы в качестве g
важнейшего легитимизирующего фактора социальной ^
и политической организации3, предполагающего, что ^
существование общества является результатом реше- 5
ния, принятого индивидами, изъявившими желание
объединиться при условии, что это принесет им
выгоду. Очевидно, что именно древнеримский договор о
заключении партнерства был взят в качестве образца,
когда в основание человеческого общества легла идея
договора-контракта.
Эту модель мы обнаруживаем у Гоббса, Локка, Пу-
фендорфа, Бурламаки и, наконец, у Руссо, несмотря на
существующие между этими авторами значительные
расхождения. Так, Руссо решительно противостоит
Гоббсу, но так же как Гоббс и другие контрактуалис-
ты, он может развивать свои взгляды только при
наличии двух основополагающих допущений: во-первых,
под «природой» или «естественным состоянием»
человека здесь понимается независимый индивид, свободный
и равный всем прочим; во-вторых, общество
существует только как добровольная ассоциация индивидов,
определяемых таким образом4. Контрактуалистское мыш-
3 HirshmannA. The Passions and the Interests. Princeton (N. J.),
1977.
4 Локк: «Поскольку люди являются, как уже говорилось, по
природе свободными, равными и независимыми, то никто
не может быть выведен из этого состояния и подчинен
политической власти другого, без своего собственного
согласия» (Локк Д. Два трактата о правлении // Локк Д.
Сочинения: В 3 томах. Т. III / Пер. с англ. и лат. под ред.
А. Л. Субботина. М., 1988. С. 317). Руссо: «Вхождение в
ассоциацию граждан есть самый добровольный акт в мире;
331
3 ление понимает под истинной природой в качестве изна-
ss чал ьно данного то, что на самом деле является результа-
| том длительного исторического развития — современно-
m го автономного индивида. Как не раз отмечалось в
« классической социологии (в работах М. Вебера, Г. Зим-
<^ меля, Э. Дюркгейма, а позже Л. Дюмона), такой индивид
| обязан своим возникновением городской буржуазии,
^ в особенности ремесленным и торговым ассоциациям.
Наиболее радушный прием контрактуалистская теория
происхождения общества встретила, разумеется,
именно в этих социальных кругах.
Против этой концепции происхождения общества и
политического порядка то явно, то скрыто выступает
Сад. Почему? Велик соблазн предположить, что со
стороны Сада это неприятие носит по сути дела
аристократический характер. Однако сделать такое
предположение значит пренебречь тем фактом, что большая часть
аристократии приняла контрактуалистскую теорию, по
крайней мере, в том виде, в каком она была
сформулирована Гоббсом и Пуфендорфом. Позиция Сада
гораздо сложнее и развивается им на двух уровнях.
На первом уровне Сад придерживается четкого
убеждения (на манер платоновского Каликла), что власть
определяется только через силу и что всякая сила
порождает господство. Реальна только сила, все
остальное — манипуляции, направленные на то, чтобы
добиться признания этой силы. Таким образом, партнерский
договор либо является средством, при помощи
которого слабые стремятся завладеть силой сильных,
подчинив их контролю большинства, либо приводит к
заключению «кабального» договора, который заставляет
поскольку всякий человек рождается свободным и
хозяином самому себе, никто не может ни под каким предлогом
подчинить его без его согласия» {Руссо Ж.-Ж. Об
общественном договоре, или Принципы политического права /
Пер. с франц. А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова //
Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. Кн. 4. Гл. 2. С. 230).
332
большинство подчиниться власти более сильных, на- g
правивших свою силу на достижение всеобщего согла- ч>
сия. В том и другом случае договор является лицемери- >а
ем. Позиция либертена заключается, следовательно, в §
том, чтобы утверждать неприкрытую, незамаскирован- <§
ную силу, или, напротив, открывать ее везде, где она вы- S
нуждена действовать скрыто. ^
Но есть и другой уровень неприятия. Он связан с _^
садовской концепцией обмена. Всякий обмен, согласно §:
Саду, оказывается агонистическим и является — или
должен являться — вызовом. Взаимность не есть
полюбовное соглашение участников, точно и справедливо
определяющих вклад каждого. Это не «мягкая
коммерция», превозносимая мыслителями Просвещения. Это
воинственный обмен, взаимность партнеров,
участвующих в дуэли. Это логика дара и ответного дара в ее
крайней форме потлача или реванша.
С этой точки зрения отношения договора — это либо
отречение от силы, либо попытка ее подчинения. Ли-
бертен может только с максимальной энергией
противостоять этим отношениям. Таково первое условие,
благодаря которому становятся возможными игра и
наслаждение. Именно поэтому единственная форма
партнерства, которую рассматривает Сад, имеет в качестве
цели не всеобщее объединение людей, а отказ от него и
его высмеивание. Такое партнерство должно позволить
участникам объединиться ради утверждения своей
силы и своего наслаждения, направленного против всех
остальных. Это партнерство преступников,
партнерство, устанавливаемое либертеновским пактом,
представляющим собой абсолютную насмешку над так
называемым общественным договором. Как мы увидим,
общественному договору Сада противопоставлен
заговор Господ (пункт за пунктом отрицающий всю
логику контрактуальных связей).
Остается, наконец, еще один аспект садовского
неприятия договора. Это неприятие его регламентиру-
333
2 ющего характера, его способности блокировать дей*
* ствие, ставить заслон непредвиденному. Действительно,
§ контрактуальная связь — самая странная форма
добрось вольного взаимного подчинения. Является ли ее целью
ч всеобщая свобода? Или в действительности цель отно-
^ шений, основанных на договоре, заключается в том,
| чтобы в наибольшей степени утвердить принудитель-
~ ную зависимость друг от друга? Цель договорных
отношений состоит в том, чтобы не существовало никакой
деятельности, никакого поведения, которое не было бы
закреплено и не регулировалось бы статьей закона, а
следовательно, не было бы определено как взаимное
соответствие прав и обязанностей.
Эта система принуждения в той мере, в какой она
моделируется по образцу рыночных отношений,
становится постоянным объектом критики со стороны
Сада5. Это была именно система принуждения,
поскольку новое развивающееся право стремилось
выступать посредником во всех мыслимых отношениях,
определяя их и блокируя всякую возможность
импровизации, а также любую попытку самостоятельного
принятия решений. Она требовала добродетели, но не
5 В * Представлении Захер-Мазоха» Делез очень точно
говорит о Саде, что он «высказывает безграничную
враждебность по отношению к договору, ко всякой апелляции к
договору, ко всякой идее или теории договора. На
принцип договора Сад обрушивает весь свой сарказм».
Договор, отмечает Делез, порождает закон, чтобы затем ему
подчиниться, поэтому Сад противопоставляет ему
институцию, определяющую поле деятельности, но не
связывающую индивидов: «Именно здесь и проявляется
политическое мышление Сада, в том, как он противопоставляет
институцию закону, а также институциональное
основание республики основанию договорному» (Делез Ж.
Представление Захер-Маэоха //Л. фон Захер-Мазох. Венера в
мехах. Ж. Делез. Представление Захер-Мазох. 3. Фрейд.
Работы о мазохизме / Пер. г нем. и франц. А. В. Гараджи.
М., 1992. С. 256-257).
334
в смысле virtus (смелость, решительность, изобретатель- £
ность), а в смысле следования многочисленным прави- *1
лам. Примечательно, однако, то, что развитие юриди- >а
ческих и дисциплинарных структур происходило под £
знаком рыночных отношений, под видом точного, про- <§
граммируемого рыночного обмена, охватывающего аб- g
солютно все сферы. В этом обмене формировался новый ^
универсум: универсум экономии, накопления, прибы- _;
ли и бесконечного инвестирования. Универсум нехват- £:
ки и скаредности. Здесь осуждались именно праздные
траты — то есть бессмысленное расточительство и,
кроме того, непредсказуемость желания.
Дело, однако, совсем не в том, что Сад
противопоставляет системе договорного обмена ценность
дворянского кодекса чести, гостеприимства, великодушия,
храбрости и силы, даже если он и заимствует некоторые
элементы этого кодекса. На самом деле в его критике
намечается попытка радикальной регрессии к миру,
предшествующему всякому закону и любой
кодификации, к джунглям, где право победителя не имеет границ,
где позволено все и где каждый создает свой
собственный закон и испытывает собственную силу — с той
лишь оговоркой, что те, кто устремляется в эти
джунгли, уверены в своей власти в мире, каким он
существует. Отсюда специфический анархизм либертенов: ни
Бог, ни народ, ни честь, ни договор, а война против всех
форм установленного порядка, стремление к
господству над другими и к безграничной эксплуатации их
тел, сексуальная эксплуатация которых — только
наиболее радикальное воплощение этого стремления. Как
будто эти завоеватели, эти циничные варвары, были
призваны разоблачить истину о насилии и
наслаждении, которая является истиной о любой власти под
покровом ее основополагающих алиби.
335
КРАЖА, ПРИСВОЕНИЕ /
Я не придаю значения тому, что мре
отдают, а ценю лишь то, что беру садоа.
Де Сад. История ЖюльетТы6
Красть — это очень просто.
Ibid.7
Было бы упрощением приписывать западной
буржуазии изобретение договорного торгового обмена: этот
вид обмена, видимо, возник так же давно, как и сами
рыночные отношения. Но изобретение буржуазии
заключается в том, что она, произведя генерализацию этой
модели, распространила ее на всю сферу
экономической практики, а также на сферу связанных с ней
символических отношений. Мы видим, что не только любой
продукт сводится к его меновой стоимости,
заслоняющей собой производительный труд и
производительные силы, но и одновременно весь порядок знаков и
символической собственности сводится к их функции
участия в обмене, к их способности обозначать все без
исключения, тогда как их эквивалентность измеряется
в соответствии с универсальным порядком,
абстрактным представителем любой ценности — деньгами8.
Видимо, будет ошибочным считать, что буржуазия
изобрела такую модель, которая сводит производственные
отношения к обмену: скорее, сама буржуазия явилась
порождением этой модели, одним из ее следствий. В
конце XVIII века во Франции это следствие возобладало
над всеми остальными, и, как результат, буржуазия
осознала, что ей действительно принадлежит власть, что
'• IX, 403.
7 VIII, 199.
8 Анализ этой проблемы см., помимо первого тома
«Капитала», в исследованиях: GouxJ.-J. Marx, Freud. Economieet
symbolique. Paris, 1973; BaudrillardJ. Pour une critique de
1'economie politique du signe. Paris, 1974.
336
она должна создавать и контролировать институцио- £
нальные формы этой власти. v|
\ Именно этот подъем буржуазии, прямо не выска- >з
зйваясь о нем, улавливает Сад, и именно такое измене- *
нир символических отношений, связанное с этим про- <§
цеоеом, отвергается тем способом мышления, который 8
воплощается в фигурах и логике его повествования. £
Этот отказ, однако, формулируется не в перспективном ^
плане, как будущее революционное освобождение про- ?
изводительных сил, но регрессивно и анахронично, как
крайнее утверждение архаичных, захватнических,
воинственных отношений, предшествующих всякому
обмену и упраздняющих какой бы то ни было вид
взаимности и торгового права. Однако садовский протест не
лишен определенной логики. Двойной операции
рыночного обмена, определяемой как «дать/получить» или
«продать/купить», управляемой транзитивными
отношениями эквивалентности, компромисса и
формального равенства, он по аналогии отвечает другим двойным
действием, нетранзитивным, противоречивым,
самоуправным и эксцессивным: «украсть/растратить».
Украсть — значит присвоить имущество
посредством грабежа, хищения, вымогательства, мошенничества,
то есть, как правило, при помощи насилия, презрев
закон и частную собственность.
Растратить — значит одаривать безвозмездно
расточительным и великодушным даром сеньора. Это
праздничная демонстрация, чистый, бесполезный расход.
«Растрата» определяет собой тот способ, которым ли-
бертен пользуется всеми своими богатствами.
Двойное действие «украсть/растратить» неизбежно
отменяет действие «работать/накапливать»,
поскольку экономика последнего регулируется рыночным
обменом. Этот обмен, благодаря своей договорной
форме, предполагает эквивалентность и единство позиций
участников обмена: отдать означает немедленно
получить, члены этого силлогизма обратимы по отношению
337
2 друг к другу. Мы оказываемся в режиме равенства, где/
i как предполагается, никто никого не ущемляет и никто
g не получает преимуществ. Обмен, по крайней мере фор-
m мально, ставит своим условием абсолютное равновесие.
ч Весы — его символ. /
§_ Действие либертена разрушает эту линейность и об-
| ратимость: отдающий не получает взамен ничего, а по-
^ лучающий лишь потребляет. Это движение является
полностью нетранзитивным и асимметричным, не
подчиняющимся никакой законности или конвенции: оно
непредсказуемо и нерационально.
Мы уже видели, в какой мере это чрезмерное
расточительство определяется ценностями дворянства и
производится феодальной моделью. Но
предполагаемые им воровство и грабеж доводят регрессию до еще
более архаичной сферы: сферы охоты, до незанятых и
неразмеченных территорий, где все дозволено,
поскольку ничто не кодифицировано, где единственные
законы — хитрость и сила. Украсть для либертена значит
подтвердить, что мир — это джунгли, где ничто не
может быть гарантировано, где не установлены никакие
законы и где взаимность не вменяется в обязанность.
Это значит поднять на смех любые знаки закона и
сказать, что война возобновлена и право на стороне
сильного. Украсть — значит снова ввести артефакт «природы»
в сердцевину «культурного» общества. Либертен Дор-
валь доказывает это следующим образом:
«Единственное, друзья мои, чем различались люди в те давние
времена, когда общество еще не вышло из младенчества,
это сила. Всем людям природа дала землю, чтобы жить
на ней, но поскольку сила была распределена между
ними неодинаково, то и земля была поделена не
поровну. Однако мог ли раздел этот быть иным, если все
решала одна только сила? Итак, вначале была кража, ибо
неравенство этого раздела неизбежно предполагало
нанесение ущерба слабому со стороны сильного. И это
нанесение ущерба, эта кража, установлена и разрешена
338
самой природой, ибо природа наделяет человека тем, |
что неизбежно должно привести к ней»9. Аргумент при- *5
роды, который здесь приводится, служит только алел- >а
ляцией к нулевой степени законности. Благодаря ис- §
пользованию понятия силы возрождаются ценности <§
риска и доблести. Отсюда увлечение Сада разного рода S
авантюристами: ворами, разбойниками, куртизанками, -£
великими бродягами и преступниками, грабящими госу- _;
дарей, разоряющими целые фамилии и высмеивающи- >
ми законы и обычаи. В противоположность ценностям
оседлого общества — работе, торговле и власти ими
ценится архаичное благородство присвоения имущества
путем захвата. Как отмечает Веблен, «собственность
сначала была трофеем, свидетельством удачного
набега»10 и «наконец, оказывается, что единственным
достойным способом приобретения имущества для
человека высокого положения является насильственный
захват»11. Именно поэтому кража у Сада никогда не
бывает финансовой спекуляцией или долгосрочным
предприятием, это всегда — захват. Подсчеты,
отсрочки, посредники — все это свойственно
судопроизводству и буржуазной торговле.
Таким образом, садовскую критику собственности,
критику, постоянно переходящую в прославление
кражи, надо понимать именно как превознесение
авантюры и захватнического набега. Собственность
обеспечивает легитимацию власти у оседлых народов, законное
распределение и приобретение путем торговли.
Кража, напротив, восстанавливает ценности свободы,
инициативы и даже истинной справедливости: «Если мы
обратимся к античности, мы увидим, что кража была
разрешена и даже поощрялась всеми греческими рес-
11 VIII, 117.
10 «Имущественная собственность появилась, когда добыча,
захваченная в ходе успешных набегов, стала выступать в
качестве трофеев» {Веблен Т. Теория праздного класса. С. 76).
1' Веблен Т. Теория праздного класса. С. 76.
339
S публиками; Спарта открыто ее поощряла; некоторые/
ss другие народы рассматривали ее как военную доблесть^
* несомненно, однако, что кража воспитывает смелости
m силу, ловкость, одним словом, все добродетели, полез-
ч ные для республиканского правительства. Ответьте
1^ же теперь беспристрастно: если кража ведет к более
к равномерному распределению богатств, то какое зло
д причиняет она правительству, цель которого —
установление равенства?»12 Эта возможность первобытной
справедливости четко противопоставляется
несправедливости договора, несправедливости «абсурдной
клятвы уважать собственность», клятвы, принесения
которой только что потребовал Конвент и которая
«предписывает тому, у кого нет ничего, уважать того,
у которого есть все». Буржуазный закон — это
сплошной обман, поэтому на него следует отвечать
издевкой: «Накажите человека, столь беспечного, что он
позволяет себя обворовать; но объявите свободным от
наказания того, кто крадет»13. Эта аргументация из
текста «Французы, еще одно усилие» (как и
аргументация, защищающая убийство, инцест, клевету и т. д.)
взывает к немыслимому — узаконить то, что любой
закон стремится полностью искоренить.
Специфический парадокс этого текста заключается в том, что
основными социальными принципами он делает
требования либертена, определяемые уклонением от всего
социального.
Но издевательство над законом на этом не
заканчивается и усиливается тем, что совершаемая либертеном
кража не имеет никаких утилитарных намерений, не
служит приобретению богатства, — другими словами,
она практикуется просто так. Если при этом
происходит чье-то обогащение — это только дополнительный
выигрыш, но далеко не главное. Кража либертена —
11III, 496.
13111,397.
340
акт чистого мимесиса. Ее цель заключена в ней самой §
как знаке ниспровержения рыночного и институцио- v|
нального порядка. Она не преследует накопления, не >з
создает торгового или инвестиционного резерва. Она §
ценна сама по себе, как знак авантюры, свободы, силы <§
и упразднения закона. Поэтому кража может культи- g
вировать парадоксы беспричинности: хорошо украсть ^
у богатого, но еще лучше украсть у бедного; совершен- ^
но естественно украсть, когда в этом есть нужда, но £
кража возвышенна, если вы купаетесь в роскоши:
«Ничто не забавляет меня так, как кража чужой
собственности; и хотя мой доход превышает сто тысяч ливров
в год, ни дня в моей жизни не проходит без того,
чтобы я не украл что-нибудь ради удовольствия»14. Эта
избыточность маркирует потребности либертена. Вся
сага о Жюльетте может быть прочитана как
методическое обучение немотивированному воровству, как
если бы эта практика, еще до преступления и секса,
представляла собой характерную особенность ли-
бертинажа. Действительно, куда бы ни направилась
Жюльетта, ее главная забота состоит в том, чтобы
оценить состояние своих хозяев, любовников,
поклонников и систематически их обирать. Так, например, это
происходит во время путешествия Жюльетты по
Италии, где число ее жертв возрастает и среди них
оказываются король Пьемонта, флорентийские сеньоры,
римские кардиналы, папа и король Неаполитанский.
В последних четырех случаях организация кражи
становится такой же важной нарративной темой, как и
устройство оргий, а наслаждение от кражи
представляется даже более важным, поскольку из двух либер-
тенов больший либертен тот, который грабит другого.
Удовольствие, которое доставляет кража,
настолько сильно, что может приравниваться к сексуальному
наслаждению или определять его: «Когда я ворую, то
ч IX, 486.
341
2 испытываю то же, что обычно чувствует женщина, ког-
ге да ее возбуждают»15. Не обусловленная никакой при-
§ чинностью кража — это акт, возможный лишь при выс-
$ шей степени апатической отрешенности: «Заявляю
ч тебе, что будь у меня два миллиона в год ренты, я бы
^ все равно воровал из пристрастия к либертинажу»16.
| Кража, представляя собой наслаждение чистой транс-
^ грессией, — это наслаждение, идущее от головы. Его
сила состоит в сгущении: кража связывает вместе,
репрезентирует, подразумевает множество трансгрессий
(или, вернее, саму их возможность), так как
подрывает рыночные отношения, расшатывает и разрушает всю
этику, порожденную этими отношениями, этику,
которую превозносит буржуазия и которая выражает себя
в ценностях честности, равенства и взаимности (как
известно, у Канта долг возвращения доверенного
имущества приводится в качестве основного примера
императива взаимности, которым должен
руководствоваться практический разум). Вот почему кража со всей
очевидностью является преступлением, посвящающим
в либертинаж, она утверждает его и предстает мерилом
успешности либертена. Чем более немотивированна
кража, тем более эффективно она функционирует в
качестве чистого символа трансгрессии. Для кражи не
нужна причина; она довольствуется собой как следствием.
Чем менее она утилитарна, тем более она знаменует
статус, положение и выбор. Осуществляемая «как бы
понарошку*, кража обладает магической властью
производить и одновременно репрезентировать
уничтожение целой системы экономического и символического
обмена. Эта операция усиливается другой практикой
либертинажа — ложью.
15IX, 414.
•ЧХ.414.
342
ИЗМЕНА СЛОВУ £
Для таких людей, как мы, никакие °
узы не являются священными17. 2
§■
Вопрос, волновавший либеральную мысль XVIII века *§
(то есть буржуазию того времени), заключался в следу- г§
ющем: если власть больше не имеет трансценденталь- а:
ного основания, если время монархий, опиравшихся на =:
«божественное право», прошло, если, иначе говоря, ■*"
Бога больше нет, то, следовательно, Истина лишается
своего последнего основания, слово больше не
священно, выполнение обещаний не гарантировано, честность
совершаемых обменов ничем не подкреплена. Однако
даже без Бога — без помощи абсолюта — необходимо,
чтобы слово держалось, обязательства выполнялись,
чтобы роли были распределены в соответствии с новой
постфеодальной иерархией, порядок (заново
созданный) поддерживался и был устойчивым. Другими
словами, социальные связи должны быть постижимыми и
узаконенными. Если Высшего Судии, некогда
устанавливавшего законы и сулившего воздаяние, больше нет,
а его слово, провозглашавшее греховность лжи и
предательства, утратило свою силу, то должен быть найден
другой принцип, способный обуздать, а главное
предотвратить эти грехи.
Вот почему по мере отказа от идеи Бога буржуазия
изобретает совесть. Но Богу не позволили исчезнуть
слишком быстро: в роли Высшего Существа он все еще
мог принести немало пользы, и поэтому от Вольтера до
Наполеона, не исключая также эпоху якобинской
революции, грозный Судия по-прежнему нес свою службу.
И если мораль, основанная на понятии совести,
помогала ему выполнять эти функции, то отныне это
происходило совершенно иным образом: совесть
представляла собой не интериоризацию божественных заповедей,
17 XIII, 58.
343
2 а интроекцию закона как результата гражданского со-
* гласил. Отныне признается, что свободный договор
* связывает каждого гражданина со всеми, а нейтраль-
$ ная третья сторона, берущая на себя роль арбитра и вы-
4 ражающая общую волю, Государство, будет контроли-
^ ровать соблюдение этого договора. На смену личным,
| вертикальным, феодальным отношениям, основанным
5 на слове чести и предполагавшим религиозную веру и
священный порядок, придут абстрактные,
секуляризованные, тщательно выверенные отношения,
основанные на договорных обязательствах. Здесь мы
вступаем в имманентность великой синтагматики.
В этих огромных изменениях прочитывается
появление и укрепление либеральной капиталистической
буржуазии. Политическая логика этого процесса
выражена главным образом Руссо, но, по всей видимости,
именно Кант наиболее последовательно
сформулировал его моральную необходимость и легитимность. Он
достиг этого, связав внутри каждой этической нормы
формальный долг перед самим собой (каждый
является носителем универсального разума) с формальным
долгом перед другими (как членами разумного
сообщества, то есть общества, основанного на идее права).
Договор — это воплотившийся разум, регулируемый
обмен разумных субъектов. Отныне ужас вызывают не
столько отклонения, встречающиеся в природе,
сколько индивиды, исключающие себя из правовых
отношений, на основании которых они только и могут быть
признаны разумными существами. Основанный на
договоре порядок со всеми своими императивами,
отождествляясь со сферой разума, становится эффективной
заменой рухнувшего порядка, основанного на вере. Но,
сделавшись имманентным, закон не становится от
этого менее принудительным. Как мы видим у Канта,
закон больше не принимает во внимание исключительных
«случаев» (предмета казуистических споров), в связи с
которыми богословы признавали мотивирующееся осо-
344
быми обстоятельствами право отступить от его соблю- §
дения. Там, где бесконечность Бога могла вынести от- J
клонения и компромиссы и одновременно остаться не- >з
вредимой, логика договора рисковала быть полностью х
уничтоженной. <§
В своем знаменитом примере18, где непогрешимость g
этой логики как будто доводится до абсурда, Кант ^
утверждает, что необходимо сказать правду убийце, _;
спрашивающему, где прячется намеченная им жерт- 5
ва. Пример Канта вызвал возражение Бенжамена Кон-
стана, указавшего на то, что правда может быть
открыта лишь тому, кто ее достоин, и, следовательно, можно
солгать убийце на абсолютно законных основаниях.
Кант отвергает этот аргумент19, указывая, что правда
как таковая — это не вопрос права, поскольку не
принадлежит к сфере воли, и что вопрос заключается в том,
что быть правдивым — это долг каждого, на чем
основано право на правдивость. (И здесь мы видим обе
стороны кантовского разума, сущность которого
обнаруживается в субъекте, а реальность — в socius, за счет чего
этический принцип, или принцип формального долга
перед собой, обретает завершение в правовом
принципе, или принципе формального долга перед другими.)
Поэтому «правдивость в показаниях, которых никак
нельзя избежать, есть формальный долг человека по
отношению ко всякому, как бы ни был велик вред,
который произойдет отсюда для него или для кого
другого»20. Поставив во главу угла категорическое «все или
ничего» «формального долга», Кант, казалось бы,
больше не обязан был делать никаких добавлений, примеча-
18 Кант И. Метафизика нравов // Кант И. Собр. соч.: В 8
томах. Т. VI / Пер. с нем. под общ. ред. А. В. Гулыги. М., 1994.
19 Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия (1797) //
Кант И. Трактаты и письма / Пер. с нем. Отв. ред. А. В. Гу-
лыга. М., 1980. Кант сам приводит текст Констана.
20 Там же. С. 293.
345
2 тельно, однако, что он подкрепляет этот пункт аргумен-
1 том договора. Ложью, пишет он, «поскольку это от меня
| зависит, я содействую тому, чтобы никаким показани-
<т) ям (свидетельствам) вообще не давать никакой веры и
ч чтобы, следовательно, все права, основанные на
логову ворах, разрушались и теряли свою силу; а это есть не-
§ справедливость по отношению ко всему человечеству
s вообще»21. Если это справедливо в отношении прав, то
точно так же это справедливо в отношении
обязанностей: «Тот, кто лжет, какие бы добрые намерения он
при этом ни имел, должен отвечать даже и перед
гражданским судом и поплатиться за все последствия, как
бы они ни были непредвидимы; потому что
правдивость есть долг, который надо рассматривать как
основание всех опирающихся на договор обязанностей, и
стоит только допустить малейшее исключение в
исполнении этого закона, чтобы он стал шатким и ни на что
не годным»22. Таким образом, Кант считает
компрометацию договорных отношений наиболее тяжким
последствием лжи. Однако если внимательно проследить
за ходом его рассуждения, то окажется, что это
«последствие» фактически берется в качестве предпосылки,
что может быть переформулировано следующим
образом: поскольку требуется любой ценой спасти договор
(новую социальную скрепу и одновременно основу
политической власти), постольку ложь абсолютно
недопустима. Здесь мы сталкиваемся с паралогизмом
договорного разума, который ускользнул от придирчивого
взгляда критика «чистого разума». Не менее
замечателен тот факт, что в отношении нарушителей
договора немедленно применяется насилие власти (тот самый
«гражданский суд»), какими бы добрыми ни были их
намерения. Предполагается, что закон основан на
моральном принципе, а власть на законе, однако факти-
21 Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия. С. 293.
22 Там же. С. 294.
346
чески власть всегда готова пресечь все отступления от g
морального принципа. Наказание, грозящее субъекту, v|
«помогает» ему воспринимать себя в качестве разум- >а
ного существа, который определяется «формальным ж
долгом» перед самим собой и перед другими. Под этой <§
безупречной логикой угадывается realpolitik совершен- S
но иного происхождения. ^
В свете этих радикальных теорий о правдивом (спра- ^
ведливом, искреннем, верном) слове, подкрепляемом 5
договором, и должен восприниматься разгул садовской
иронии — с ее циничной проповедью лжи, лицемерия,
клеветы, лжесвидетельства, неблагодарности и
предательства. Ирония Сада безошибочно находит свою
цель: все эти «отклонения» метят в теорию разумной
взаимности, в порядок обмена, регулируемый
договором. Таким образом, Сад наносит удар по самому
уязвимому месту новой развивающейся социальной ткани,
по самым недавним ее притязаниям. Для Сада речь
идет не о банальном замещении добродетелей
пороками, а о том, чтобы радикальным образом поставить под
сомнение отношения в социуме, которые
определяются понятиями добродетели, и безжалостно разрушить
веру читателя в справедливую общую власть,
поддерживаемую договором. «Управлять людьми можно лишь
обманывая их, а чтобы обманывать их, необходимо
лгать. Лживость — единственный ключ к
человеческому сердцу»23. «Применяйте лицемерие, в этом мире без
него не обойтись»24. «Поэтому не будем подвергать
гонениям клевету»25. «Совершенно естественно желать
смерти своему благодетелю, обязательства перед
которым еще не выполнены, и даже рассчитаться с ним,
отправив на тот свет»26.
23 VIII, 459-460.
24 IX, 44.
25111,495.
2fi VIII, 474-475.
347
8 В этом нагнетании нетранзитивности, возникающей
as в результате развенчания «честного слова» и высмеи-
| вания «праведного» деяния, ставится под сомнение
ъ взаимность, понимаемая как исполнение долга, а зна-
ч чит, как добродетель. Истина и справедливость явля-
^ ются лишь легализующими и идеальными инстанция-
| ми порядка равноправного обмена (дар/ответный дар,
^ заем/возврат). Поэтому господин-либертен
разоблачает этот порядок как видимость, как механизм создания
иллюзии, под прикрытием которого реальная власть
по-прежнему не затрагивается. Ведь власть не может
происходить из разумного соглашения и
добровольного договора: власть — это всегда отношения,
основанные на силе. Договор не кладет конец состоянию войны;
он цинично им управляет. Здесь, с точки зрения Сада,
очевидно подтверждается правота Гоббса.
Если договор — это иллюзия, тогда все позволено,
то есть ничто больше не вменяется в обязанность — ни
правда, ни признание, ни честное слово. И сразу же
обнаруживается поражение либеральной мысли как
таковой, ибо в договоре либеральная мысль нашла свой
религиозный принцип, то есть замещающий
сакральное принцип всеобщей связи. Но под прикрытием
закона, который либеральная мысль утверждает и
прославляет как выражение общей воли, Сад обнаруживает
оставшийся неизменным диктат сильнейшего;
договор, неумолимым образом контролирующийся
сувереном, наделенным властью, реализует подчинение всех
каждому. Провозглашая, что война так никогда и не
прекращалась, либертен возвращает себе право
завоевателя и вынуждает признать то, что мир на все
времена поделен между сеньорами и вассалами, господами
и жертвами.
В результате оказывается, что слово — как и
богатство — не является предметом переговоров. Его
присваивают и возвращают не иначе, как в расточительной
трате. Надо заметить, что на самом деле отношения,
348
основанные на обмене, отнюдь не выносятся полно- g
стью за пределы универсума либертена: к обмену при- >©
бегают почти постоянно. Однако построен он вовсе не >а
на долге, предполагающем эгалитарные отношения, §
учет и выплату сполна, а на реванше: в результате та- *§
кой обмен превращается в состязание, в великолепное s
жертвенное расточительство (которое Батай усматри- -Ц
вает в практике потлача). (Таким образом формула, ^
часто встречающаяся в ходе оргий: «сделай со мной то 5
же, что я сделал с тобой», — предполагает этот агонис-
тический ответ и расточительное стремление
превзойти другого, которое бросает партнеров в
головокружительные траты энергии и эротических фигур.)
Более того, необходимо отчетливо осознавать, что
обман ожиданий и даже полная отмена договорных
отношений в этом обмене-поединке возникает как
следствие того, что обмен рассматривается как прихоть,
как своевольная игра. Это, главным образом,
означает то, что форма этой игры никогда не зависит ни от
какой внешней инстанции и что участники обмена
каждый раз устанавливают правила, определяют
продолжительность обмена и его модальность: обмен не только
не гарантирован, но и не определен. Здесь заявляет о
себе двойное неприятие контрактуального мышления,
для которого характерны, помимо прочего, следующие,
отчетливо выраженные Кантом, черты27. Во-первых,
это «возможность принуждения», а значит, признание
обеими сторонами, заключающими договор, власти
третьей стороны, которая получает от них полномочия
на применение силы и от которой требуется неусыпный
надзор за исполнением договорных обязательств. Во-
27 Кант по поводу правдивости пишет следующее: «Это —
священная, безусловно повелевающая и никакими внешними
требованиями не ограничиваемая заповедь разума: во всех
показаниях быть правдивым» {Кант. И. О мнимом праве
лгать из человеколюбия. С. 294).
349
2 вторых, это последовательное перекраивание времени,
* уничтожающее эмпирические колебания, которые мо-
| гут закрасться в промежуток между обещаниями и
$ подписями той и другой стороны (таким образом, до-
« говор, постулируя идеальную одновременность обяза-
^ тельств, устраняет угрозу таких колебаний и довер-
| шает на институциональном уровне ту связь времен,
s- которую категория «формального долга» обеспечила на
уровне морали).
Противопоставляя себя главной опасности,
прихоти, система договора предстает совершенной
системой, безупречной гарантией взаимности. Однако она
безупречна лишь с той оговоркой, что при этом
необходимо верить в существование долга, или, иными
словами, необходимо желание рассматривать разум в
качестве порядка взаимности и воспринимать самого
себя как субъекта этого порядка. Иначе говоря, это
конвенция, которой достаточно стать Законом, чтобы
обрести истину и реальность. И поскольку Сад
ощущает всю очевидную относительность этой конвенции,
он препарирует ее в своем литературном вымысле:
немного лжи, немного клятвопреступления, клеветы и
предательства — и вся конструкция подрывается, весь
порядок рушится.
Блестящая уловка договорного разума заключается
в том, что он полагает свою легитимность в
трансцендентной инстанции истины, тогда как истина, в свою
очередь, может устоять, только апеллируя к сакрально-
сти договора. Подобное переворачивание порождает
целую этику. Все эти понятия — честность, правдивость,
благодарность, искренность — сформированы в
соответствии с требованием надежности, которое
предусматривается торговыми отношениями внутри акта обмена.
Здесь истина вменяется в обязанность, а слово должно
выступать в качестве гарантированно неподдельного
товара. В войне с ложью подвергается осуждению
прежде всего то, что ложь — это фальшивая монета: «le men-
350
songe ne paie pas» (враньем не расплатишься). За
этими возвышенными принципами — мелочность расчетов
и прозрачность интересов. Сад выражает это с
максимальной отчетливостью, в которой сквозит все его
презрение к договорной взаимности: «Что совершенно
обесценивает в моих глазах чувство добродетели, так это не
только то, что она далека от первого естественного
импульса, но и то, что она по своей сути является
импульсом низким и корыстным. Даю тебе, чтобы ты мне
вернул»2* (подчеркнуто Садом).
НЕТРАНЗИТИВНЫЙ СЕКС
Среди отношений, основанных на договоре,
привилегированное положение принадлежат отношениям
сексуальным. Брачный договор, как со всей своей неподкупной
категоричностью заявляет Кант, является
«необходимостью, возникающей из закона человеческой
природы, то есть если мужчина и женщина стремятся ко
взаимному наслаждению друг другом согласно
свойствам своего пола, они должны вступить в брак,
каковой является необходимостью в соответствии с
правовыми принципами чистого разума»29. Чтобы избавить
половые отношения от искушения неограниченной
растраты, чтобы перенаправить их динамизм на интересы
политической власти, чтобы обеспечить над ними
контроль, чтобы разрешить их индивидам только в качестве
заслуженной привилегии — другими словами, чтобы их
а VIII, 143-144.
п Этот текст вдохновил Гегеля на следующее замечание:
«Нельзя подводить под понятие договора брак; такое, надо
сказать, позорное подведение, дано у Канта» {Гегель Г. В. Ф.
Философия права / Пер. с нем. Б. Г. Столпнера и М. И.
Левиной под ред. Д. А. Керимова и В. С. Нерсесянц. М., 1990.
С. 129).
351
о
2 сделать полностью цивилизованными — необходимо
3 ввести их в кодифицированную систему обмена, пре-
| вратив их как в цель этого обмена, так и в его средство.
m Половые отношения полностью вписываются в сферу
<з договорных отношений, однако это происходит ценой
^ наложения строгих запретов: на инцест, содомию, ма-
| стурбацию. Логика садовского текста последователь-
^ но уничтожает эти запреты, противопоставляя им не
практики, изъятые из отношений обмена, а, напротив,
необменные обмены, бесплодные, расточительные,
нетранзитивные.
Инцест:
непосредственный обмен
Нет ничего более естественного,
чем инцест.
Де Сад. История Жюльетты30
В садовском тексте инсценирование инцеста является
как предметом страстных рассуждений, так и
навязчивого желания великих либертенов: Сен-Фон, Нуарсей,
четыре Друга из Силлинга — предаются наслаждению
со своими дочерьми, Клервиль — вступает в отношения
со своим братом, Жюльетта соблазняет своего отца и
т. д. Во многих новеллах из «Преступлений любви»
(например, «Флорвиль и Курваль», «Эжени де Фран-
валь») инцест оказывается главной темой. Но на
удивление, постоянное упоминание инцеста — нечто большее,
чем просто одна из тем. Здесь имеет место
последовательное доказательство, логическую структуру
которого можно пункт за пунктом сопоставить с той, которую
Леви-Строс разрабатывает в «Элементарных
структурах родства». Как объясняет Леви-Строс, структуры
родства могут быть вычленены и поняты только исхо-
30 VIII, 422.
352
дя из общей организации системы обмена, которая в g
«примитивных» обществах полностью зависит от за- <1
прета на инцест. (Таким образом, все попытки био- >а
логического или психологического объяснения запре- §
та на инцест исключаются с самого начала.) Согласно <§
Леви-Стросу, решающим в этом запрете является пара- g
доксальный характер его одновременной принадлежно- ^
сти к двум взаимоисключающим порядкам реальности: ^
природы (запрет на инцест, в качестве универсальной 5
данности) и культуры (запрет на инцест — это
социальное правило). Поэтому запрет на инцест — нечто
шокирующее или, скорее, загадочное. «Запрет на
инцест является загадкой в том смысле, что никогда не
обнаруживается на уровне эмпирически
детерминированных поверхностных структур. Но это оператор,
приводящий в действие культуру, понимаемую как
коммуникация, оператор всеобщего обмена, чей инвариант
состоит в том импульсе, который направляет этот обмен:
в соединении разъединенного, разъединении
соединенного, разъединении разъединенного. Это оператор
и система правил, которые должны способствовать
выходу за пределы обычных отношений между природой
и культурой, жизнью и инертной материей»31. В том,
что касается соединения мужчин и женщин, природа,
предписывая союз между полами, не указывает, кто с
кем должен соединяться; запрет на инцест призван
установить правила допустимых и недопустимых союзов.
Таким образом он приводит к возникновению нового,
неупразднимого порядка: человеческого порядка как
такового. Другими словами, до запрета на инцест
«культура еще не появилась как таковая; с появлением
запрета прекращается суверенное господство природы над
человеком. Запрет на инцест является процессом,
посредством которого природа преодолевает саму себя»32.
31 BenoistJ.-M. La revolution structurale. Paris, 1975. P. 147.
32 Ibid. P. 31.
12 Зак Л904
353
2 Таким образом, запрет на инцест маркирует само воз-
э; никновение культуры через подчинение элементов при-
* родного порядка правилам. Этот запрет, сочленяя оба
m указанных порядка, не отождествляется ни с одним из
ч них; он выполняет функцию перехода от одного
порядок ка к другому.
| Теперь надо точнее сформулировать вопрос, кото-
^ рый отныне будет звучать так: «чему служит», а не «что
означает» запрет инцеста? Почему этот запрет
исключает одни союзы, но допускает другие? Ответ Леви-
Строса таков: запрет на инцест делает возможной
социальную жизнь группы. «Запрет на инцест, подобно
экзогамии, которая является его расширенным
социальным выражением, есть правило взаимности.
Женщина, которую не берут и которую запрещено брать
одним, по этой самой причине предлагается другим»
[...] «Содержание запрета не исчерпывается фактом
запрета: последний вводится, чтобы гарантировать и
утверждать обмен, прямо или косвенно, опосредованно
или непосредственно»33.
На этом уровне возникает следующий вопрос:
почему принцип всеобщего обмена выражается через
принцип обмена женщинами? Леви-Строс отвечает на
это следующим образом: «...с одной стороны, это
происходит потому, что женщины — это имущество par
excellence, но, и это самое главное, женщины
изначально являются не знаком социальной ценности, а
естественным средством возбуждения того
единственного инстинкта, удовлетворение которого может быть
отсрочено, и, следовательно, единственного инстинкта,
для которого в акте обмена и через осознание
взаимности, возможна трансформация от средства
возбуждения к знаку, которая, будучи определена в качестве
фундаментального процесса, знаменующего переход
33 Levi-Strauss С. Les structures elementaires du parente. Paris,
1949. P. 60.
354
от природы к культуре, развивается в Институцию»3^, g
В результате запрет на инцест одновременно устанав- J
ливает и связывает символический и социальный по- >а
рядок. Более того, запрет на инцест работает таким об- S
разом, что позволяет сделать вывод о существовании <§
ментальных структур, которые, подобно самому этому £
запрету, имеют универсальный характер: «Их, по всей ^
видимости, три: требование правила как правила; поня- _;
тие взаимности, рассматриваемое как наиболее непо- 5
средственная форма интегрирования
противопоставления себя и других; и наконец, синтетический характер
Дара, то есть тот факт, что добровольная передача
ценности одним индивидом другому превращает этих
индивидов в партнеров и добавляет новое качество
переданной ценности»35.
Таковы, если говорить кратко, основные выводы, к
которым приходит этнология Леви-Строса, и этот
обзор имеет для нас значительный интерес, поскольку
именно на данный набор структур, связанный с
запретом на инцест, обрушивается Сад. Развенчание и
уничтожение этого запрета означает также разрушение всей
системы, которая от него зависит.
Первым подвергается нападению анализ оппозиции
природа/культура — то есть мир необходимости/мир
правил, или, другими словами, нейтральная
универсальность материи/комическая относительность
институций. Для Сада момент принципиальной важности,
который всегда находится в центре его доказательств,
состоит в том, что любая система правил неизбежно
произвольна, иррациональна и тривиальна, а
следовательно, никакое правило не обязательно и единственным
значимым понятием оказывается «природа» в ее
нейтральном, аморальном, жестоком и невинном движении.
Возникновению культуры, отождествляемой с систе-
м Ibid. P. 80.
35 Ibid. P. 108.
355
3 мой правил, Сад противопоставляет погружение в при-
| роду, практикуя все то, что культурой отвергается (убий-
* ство, воровство, ложь, инцест и т. д.). Понятие природы
М становится для Сада синонимом уничтожения запретов.
4 Сад признает, что возникновение культуры, — а зна-
g^ чит, «правила ради правила» — связано изнутри с фак-
| том запрета инцеста и с подразумеваемым им законом
^ взаимности, обмена и даже экзогамии. Для либертена
примат наслаждения и неотложного исполнения
желаний отменяет все обязательства, принятые под
давлением правила. Наслаждение поэтому не допускает
никакой взаимности и никаких субститутов своим
требованиям. Наслаждение убивает обмен: «Что такое все
земные существа в сравнении с одним-единственным
желанием либертена? Наш долг перед другими
исчезает в тот момент, когда мы находим силы отказаться от
того, что мы от них ожидаем». Каким образом инцест
стал основополагающим принципом эгоизма? Ответ
содержится в следующих словах: мы не
обмениваемся, не отдаем, мы берем все, что кажется нам желанным,
и прежде всего то, от чего нас хотят заставить
отказаться во имя установления обмена, — наших дочерей
и сестер. Таким образом, для Сада первый аспект
вызова, которым является эндогамия, состоит в
радикальном отказе от системы взаимности, то есть в
невозвратности дара.
Более того, сила этого отказа может быть понята
исходя из другого замечания Леви-Строса
(практическим опровержением которого этот отказ является), что
учреждение символического порядка, утверждающего
порядок обмена, зависело от «единственного инстинкта,
удовлетворение которого может быть отсрочено»:
сексуального влечения. Отсюда и берется этот особый
запрет, отличающийся от всех других, поскольку он
представляет собой условие перехода сексуального влечения
от «возбуждающего средства к знаку», перехода,
который, «будучи определен этим фундаментальным про-
356
цессом, знаменуя собой переход от природы к культу- *
ре, развивается в Институцию». Для Сада это означает, vo
что Институция и культура — то есть язык — возника- >а
ют ценой сексуального запрета: но эта цена непомерно х
высока, и платить ее нельзя. С этой точки зрения либер- 4>
тен будет тем, кто не откладывает свои желания и не со- £
глашается вписываться в систему обмена, а значит, в ^
систему опосредствовании и обходных маневров. Ин- ^
цест для Сада означает, если говорить конкретно, еле- S
дующее: я овладеваю той женщиной, которая
находится ближе всего ко мне, поскольку могу ее получить
быстрее всего.
Напротив, требование экзогамии, связанное с
признанием запрета на инцест, отдаляет женщину во
времени и пространстве, вынуждая мужчину преследовать,
умолять и ждать. Оно унижает, контролирует и
усиливает желание, доводя его до отчаяния. Другими словами,
экзогамия есть мерзость опосредствованного,
окультуренного, управляемого желания. Инцест, напротив,
непосредственное наслаждение, но одновременно и
разрушение того, что устанавливалось запретом: системы
различий, образующих культуру. Инцест стирает
установленные различия, порождая различия, которые не
могут вступать в обмен, «монстров», impossibilia
вместо compossibilia. Он уничтожает иерархию поколений
и соединяет предикаты, которые должны быть
разъединены, другими словами, инцест реализует утопию мира
без правил, который, представляясь призывом к
естественному состоянию, в действительности является
лишь порождением «разлаженного» мира как
априорного условия всякой «разлаженности».
В самом деле, эндогамия, дезорганизуя систему
обмена, открывает тем, кто ее практикует, пространство
мистерии посвящения: мистерии посвященных в инцест.
Инцест становится обрядом посвящения в избранный
круг либертенов, тех, кто, совершая эту трансгрессию,
более не отступят ни перед каким иным преступлением,
357
2 поскольку отныне весь универсум правил оказывает-
а; ся разрушенным. Эта избранная группа образует класс
* аристократии зла, совпадающий в какой-то степени с
m дворянским сословием (к которому принадлежит Сад),
ч который постепенно вытесняется буржуазией (опира-
<^ ющейся на торговлю и обмен) и последним прибежищем
| которого является усиление эндогамии, замыкающей в
^ себе пространство роскоши, траты, эксцесса и
недоступности для других.
Содомия:
бесплодный обмен
Хотя практика инцеста имеет целью спутать порядок
социально признанных союзов, она, даже в самой
своей чрезмерности, по-прежнему подтверждает
нормальность гетеросексуальных отношений. Вот почему
задачу усилить вызов, брошенный системе договорной
законности, берет на себя другая практика —
содомия, — усугубляющая нетранзитивность сексуальных
отношений.
Мы уже видели, что у Сада, строго говоря, нет
гомосексуальности, во всяком случае, в современном
понимании, то есть как эмоционального инвестирования,
отрицающего каноничность гетеросексуальных
любовных отношений. У Сада содомия должна пониматься в
первую очередь как то, что представляет ценность для
доказательства и полемики, как методическая
практика опровержения императива воспроизводства. За
восхвалением содомии неизменно следует обличение
«размножения». Содомия — это выбор бесплодного ануса
вместо репродуктивной вагины, выбор
расточительного, бесцельного, нерегулируемого наслаждения
вместо включенности в религиозно-семейно-супружеский
порядок. Итак, для Сада спор по поводу «размножения»
и прославление содомитских добродетелей
доказывают одно и то же: «Нет в мире уголка, где так называ-
358
емое преступление содомии не имело бы своих святынь g
и своих приверженцев»36; «Нет в мире наслаждения *1
более предпочтительного; я поклоняюсь ему без раз- >а
личия полов»37. Таким образом, в этом вопросе цивили- §
зация и желание как будто совпадают, поэтому «раз- £
множение никоим образом не является целью природы; g
она его просто терпит... Эжени, будь же непримиримым -JJ
врагом этого надоедливого деторождения»38. Хотя в не- ^
которых случаях содомия у Сада и отдает приоритет го- §
мосексуальным отношениям, в принципе она
абсолютно бисексуальна. Различия между мужским и женским
уничтожаются в тождестве ануса. Хотя содомитские
отношения между мужчинами представляются более
показательными для демонстрации бесплодной природы
этого вида обмена, в действительности
исчерпывающим доказательством является анус женщины, так как
он никогда не может быть предложен без
одновременного отрицания репродуктивной матки. Наслаждение
женским анусом — это наслаждение непосредственным
отрицанием его обязательной альтернативы. Если
женщина, в той мере,"в какой она полагается инструментом
и знаком нормативного обмена, откажется от своей
функции во имя своего желания, ее отказ еще с
большей безусловностью может именоваться
«естественным». Отсюда потребность в дилдах: женщины должны
вступать в содомитские отношения друг с другом, пусть
даже искусственным способом, чтобы доказать
абсолютное первенство ануса. Как дополнительное
следствие перверсии сама вагина в сочетании с нейтральным
бесплодным протезом участвует в анальном
упразднении различий и может предлагаться, не вызывая
подозрений. Под знаком нетранзитивного ануса
договорная цель, управляющая отношениями полов, в конце
16III, 460.
37111,414.
38III, 432.
359
2 концов предается забвению. (Однако надо сразу же
* добавить, что это подведение женской сексуальности
| под знак ануса должно пониматься как воля к власти
tf либертена-мужчины, с его стремлением признать жен-
ч щину только как пособницу его собственного желания,
^ и, следовательно, сделать ее принудительный отказ от
§ своего отличия как условием посвящения в либерти-
й наж и его привилегии, так и доступа в содомитский
заговор отцов и сыновей, см. главу IX «Женщина,
проституция, повествование»).
Мастурбация:
отвергнутый обмен
Мастурбация в садовском контексте может показаться
парадоксальной практикой, поскольку традиционно
она воспринимается как практика замещения,
паллиатив при дефиците тел. Однако, как известно, изобилие
тел — это неизменная предпосылка либертинажа; ли-
бертеном может быть только тот, кто является
Господином и располагает всеми объектами своего желания. Но
дело в том, что садовская мастурбация редко
практикуется в одиночестве. Это просто одна из многих фигур
эротической комбинаторной операции. Тем не менее
она является объектом совершенно особого внимания.
В Силлинге четверо Друзей лично берут на себя
обучение «субъектов» мастурбированию. Что касается ли-
бертенов, появляющихся в историях Дюкло, почти все
они «разряжаются» исключительно таким способом.
Но они поступают так еще и в соответствии с
принципом репрезентации: они возбуждают себя путем того,
что представляют свои фантазмы в виде картин и
приводят их в движение. Мастурбация, таким образом,
выступает как наиболее перверсивная и
нетранзитивная форма сексуальности, связанная с эротикой,
идущей от головы; чтобы ее спровоцировать, достаточно, к
примеру, одного только проекта преступления (Жюль-
360
етта: «Я чудесно ласкала себя при этой мысли»). На $
этом уровне самодостаточности, сексуальное наслажде- v^
ние, устраняя всякую социальность и всякий гипотети- «а
ческий контроль, осуществляет полное зеркальное за- *
ключение субъекта в его фантазме. <§
Рассматривая эту систему в целом и вновь обращаясь g
к ее членению в соответствии с тремя уровнями обмена, .ц
определяемыми антропологами, — обмен имуществом, ^
обмен информацией и обмен женщинами, — можно ска- 5
зать, что первый тип обмена разрушается воровством,
второй — ложью, а третий — инцестом. Пункт за
пунктом, и в каждом из пунктов Сад методично
выстраивает систему контраргументов перверсии.
ПЫТКА И ДОЛГ
Когда совершаются
преступления, они должны, по крайней
мере, совершаться с
удовольствием, поскольку более ничего
хорошего в них нет: и, кроме
удовольствия, им не может быть ни
малейшего оправдания.
Стендаль. Красное и черное
Рыночные отношения, постулируя как необходимость
эквивалентности в социальных отношениях, так и
строгое соответствие в способе их кристаллизации,
одновременно учреждают возможность долга. И
наоборот, любой долг вновь подтверждает власть
договорных отношений, которая распространяется на само
насилие и гарантирует его законное применение. Если
мы обнаружим эту логику и ее переворачивание в са-
довской инсценировке пытки, это, возможно,
позволит интерпретировать ее совершенно иначе — с точки
зрения притягательности ужасного.
361
2 Habeas corpus
a
=j
| Любая пытка легитимизируется только Законом и на
m этом основании прикрывается этикой. Это означает, что
ч пытка возможна только за счет ее вписывания в поря-
^ док тех целей и намерений, которые отсылают к транс-
| цендентности понятий, служащих для ее оправдания.
^ В данном случае можно предположить, по крайней мере,
два из них:
- понятие правды, которое обеспечивает пытке
легитимность в качестве способа получения признания
(инквизиция, полиция);
- понятие справедливости, которое узаконивает
пытку как необходимую меру наказания или способ
возмещения ущерба.
Вписанная таким образом в общие критерии права,
пытка представляется избавленной от произвола и
включается во всеобъемлющую систему должным образом
кодифицированных и каталогизированных функций.
Пытка оказывается там, где Закон встречается с
насилием и демонстрирует способность овладеть
избытком насилия — то есть использовать его в своих целях,
и прежде всего против любого непредвиденного
экзогенного насилия.
В нормальном функционировании закона этим
двойным Aufhebung пытки вытесняется одно из ее неприэна-
ваемых следствий, своего рода прибавочная стоимость —
наслаждение, которое входит составной частью в
насилие как таковое, тогда как правда и справедливость
служат ему только прикрытием. Как если бы под видом
права разворачивалась другая сцена, сцена
недопустимая и обсценная, постоянно подвергающаяся цензуре
и вытеснению, но тем не менее реально действующая:
сцена взаимного порождения насилия-наслаждения.
Сад открыто высказывает это: «Во все времена
человек испытывал удовольствие, проливая кровь себе
подобных, скрывая эту страсть то под покровом справед-
362
ливости, то под покровом религии. Но основным содер- £
жанием и целью всегда оставалось это странное удо- vS
вольствие». Однако это взаимное порождение являет- «а
ся неприемлемым, поскольку то, что делает насилие £
легитимным, признает только два принципа: правды и <§
справедливости, — ибо под этими двумя масками скры- S
вается принцип самой политической власти. Допус- ^
тить, что за этой видимостью скрывается наслаждение ^
и что насилие напрямую связано с желанием, значит 5
заставить закон состроить странную гримасу. Но
закон может вынести сколько угодно подобных гримас,
если такова цена веры в его авторитет, поскольку для
него стратегически необходимо помешать
обнаружиться наслаждению как таковому и открыто проявиться
насилию. Другими словами, необходимо помешать
дискурсивному оформлению конститутивных
отношений между насилием и наслаждением, то есть не
позволить им овладеть символическим порядком,
посредством которого учреждается и выражается сама форма
социальности.
Крайний вызов Сада, его непримиримый
радикализм, заключается как раз в том, что он учреждает
дискурс цикла насилие/наслаждение и сводит к этому
самому циклу всякий возможный дискурс. Таким образом,
дискурс придает безумию статус разума, а перверсив-
ному желанию — место Закона, за счет чего
непристойность вытесняемого устанавливается как перверсивная
нормальность, как общая структура объективности.
Лишить жестокость всякой трансцендентной
каузальности и, следовательно, всякой легитимации, связав ее
исключительно с сексуальным наслаждением,
означает разрушить порядок Закона как такового и, хуже того,
заменить его симулякром порядка закона, который в
буквальном смысле неуловим, поскольку операция,
которая производится в данном случае, — это не операция
отрицания, а операция разложения. Жестокость пытки,
сведенная исключительно к наслаждению, изымается
363
2 из экономики договора и оказывается в одном ряду с
а; самодостаточностью зрелища; она перестает быть по-
§ казательной и нормативной. Она разоблачает себя как
m чистое насилие и произвол, а значит, отвечает закону
ч повторения удовольствия, что означает разрушение лю-
^ бой целенаправленности.
| То, с чего начинается договор и что в конце концов
^ он защищает, — это само тело, понимаемое как
последняя собственность. Habeas corpus — последнее
прибежище обвиняемого и последний вызов Закона
произволу деспота, поскольку это последняя гарантия
символической идентичности субъекта права.
Классическая мысль простодушно признается в этом устами
такого авторитета, как Декарт: «Не без причины
считал я, что тело, по совершенно особому праву
называемое мной моим собственным, более непосредственно
относится ко мне, чем все остальное»39 (курсив мой. —
М. Э.). В основе этого замечания Декарта лежит
хорошо известный принцип jusfruendi — право
пользования, связанное с частной собственностью как
таковой. Именно это подчинение пользования телом
правовому порядку, обеспечивающее ему статус частной
собственности, садовский текст, прибегая к логике
пытки, показывает во всей его смехотворности. Речь
идет о том, чтобы показать, что вытесняется этим
отрицанием, чтобы посредством насилия над телом
продемонстрировать, какое абсолютное, чистое
наслаждение, не имеющее оснований и законов, порождаемое
лишь насилием, скрывается под так называемым
правом пользования.
Пытка всего лишь завершает экспроприацию тела
жертвы, начавшуюся с превращения жертвы в чистый
механизм и лишения ее какой бы то ни было формы
субъективности. Однако уничтожение понятия души
39 Декарт Р. Размышления о первоначальной философии /
Пер. с лат. М. М. Позднева. СПб., 1995. С. 135.
364
не принесло бы никакой критической пользы, если бы £
определяющие ее атрибуты были втихомолку приви- v|
ты к самому телу под прикрытием таких понятий, как >з
«собственное», «мое», «тайное» или «интимное». Имен- я
но с этой последней попыткой утаивания сокровенно- <§
го, с этим последним его прибежищем непримиримо 8
борется садовская критика посредством насилия над ^
телом. Любая форма интериорности должна исчезнуть, ^
будь то даже физическое нутро внутренних органов и S
секреции. Все должно выступить наружу, выставить
себя напоказ, проявиться, выйти на свет,
каталогизироваться и получить имя; глубина должна показаться на
поверхности и раскрыться partes extra partes, так чтобы
не осталось никакой загадки, чтобы все было сказано,
все стало известно и ничто не оказывало
сопротивления. Это и есть самый дальний форпост
господствующего разума, галлюцинаторная несгибаемость логики
либертена, приводящая к тому, что пытка выступает в
качестве вывода из неумолимого, безупречного
силлогизма, который, помимо отрицания понятия души,
пытается противостоять и преодолеть еще более глубокий
и более прочный запрет, связанный с сакральностью
самой жизни. Ибо запрет, защищающий жизнь, — это
запрет проливать кровь (так же, как запрет на инцест
защищает семью). Еще больше, чем сперму, тело
удерживает кровь, потеря которой смертельна. Но закон
охраняет кровь бдительней, чем сама природа.
Именно это последнее препятствие, последнее
укрытие «внутреннего», последнее сопротивление
«самости» и стремится уничтожить право либертена на
убийство. Наслаждение приносит не убийство, а тот способ,
которым убийство утверждается как последняя
победа над стремлением тела укрыться в себе, над его
притязанием на тайну, его требованием «собственности я»
как тела, принадлежащего субъекту права. Убийство
означает, что не существует никакой
неприкосновенности Другого и никакого мыслимого применения к
365
3 нему habeas corpus. Убийство как не-признание ста/
а! новится концом знания. (
о
S
о
^ Палач-кредитор
§^ Но давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны.
| Почему либертены Сада непременно являются пала-
~ чами? Почему для Сада наслаждение неотделимо от
жестокости, совершаемой в отношении других? А если
посмотреть еще шире, то нам следует задаться
вопросом, что делает Господина палачом, а раба — жертвой.
Существует попытка теоретического ответа на этот
последний вопрос (от которого зависит и первый), и ее
предпринимает Ницше в начале второй части
«Генеалогии морали»'10.
Ницше задается вопросом, как удалось сделать
человека животным, способным давать и выполнять
обещания (а следовательно, выполнять договор). Он дает
следующий ответ: за счет того, что обещание оказалось
связано с насильственным клеймением тела и с
телесным наказанием за нарушение обещания, наказанием,
которое может быть доведено до увечья. Кредитор в
качестве компенсации за невозвращенное имущество
имеет право применить к должнику пытку, как если
бы причиняемая боль была эквивалентна утраченному
имуществу. Затем Ницше спрашивает: «Откуда
получила власть эта незапамятная, закоренелая, должно
быть, нынче уже неискоренимая идея эквивалентности
ущерба и боли? Как уже было показано выше, из
договорного отношения между заимодавцем и должником,
которое столь же старо, как и "субъекты права", и
восходит, в свою очередь, к основополагающим формам
купли, продажи, обмена и торговли»'".
10 Ницше Ф. К генеалогии морали / Пер. с нем. К. А. Свасья-
на // Ницше Ф. Сочинения: В 2 томах. М., 1990.
11 Там же. С. 444.
366
Чтобы предоставить гарантии серьезности своего *,
обещания и обязать себя к его выполнению, должник, ^1
объясняет Ницше, не останавливается перед тем, что- >а
бы заложить, помимо своего имущества, то последнее, я
чем он еще обладает: свою семью, свою свободу и, на- <§
конец, последнюю собственность — свое тело. Тогда в 8
соответствии с законами кредитор получает возмож- ^
ность подвергнуть пытке ту или иную часть тела долж- ^
ника пропорционально величине непогашенного долга. 5
Но что означает такая практика? «Уясним себе логику
всей этой формы погашения: она достаточно
необычна. Эквивалентность устанавливается таким образом,
что вместо выгоды, непосредственно возмещающей
убыток (стало быть, вместо погашения долга деньгами,
землей, имуществом какого-либо рода), заимодавцу
предоставляется в качестве уплаты и компенсации
некоторого рода удовлетворение — удовольствие от
права безнаказанно проявлять свою власть над
бессильным, сладострастие "творить зло ради удовольствия
его творить", наслаждение в насилии: наслаждение,
ценимое тем выше, чем ниже и невзрачнее место,
занимаемое заимодавцем в обществе, и с легкостью смогшее
бы показаться ему лакомым куском, даже
предвкушением более высокого положения. Посредством
"наказания", налагаемого на должника, заимодавец
причащается права господ: в конце концов и он приходит к
окрыляющему чувству дозволенности глумления и
надругательства над каким-либо существом, как
"подчиненным", — или, по крайней мере, в случае если
дисциплинарная власть, приведение приговора в действие,
перешла уже к "начальству", — лицезрения, как
глумятся над должником и как его истязают. Компенсация,
таким образом, состоит в ордере и праве на жестокость»42.
В этом анализе Ницше открывается следующий
двусторонний процесс порождения: с одной стороны, кре-
42 Там же. С. 445.
367
S дитор => палач => господин; с другой стороны, долж-/
| ник => жертва => раб. Таким образом, изначально су/-
* ществует долг, и именно он учреждает как право на
$ жестокость, так и иерархическое превосходство. /
ч Можем ли мы найти аналогичный процесс у Сада?
§^ Выступает ли у него долг предварительным условием,
| благодаря которому либертен утверждается в роли па-
^ лача? Похоже, что нет, и вследствие этого весь процесс
у Сада полностью меняет направление, а долг
появляется только в конце, как следствие господства — как
симулякр долга, задним числом оправдывающий право
палача. В самом деле, садовскому либертену нет нужды
становиться Господином: гипотетически, будучи либер-
теном, он и есть Господин. Его господство изначально
дано ему за счет выбора зла и насилия,
сопровождающегося полным презрением к жизням других и
отказом от какой бы то ни было взаимности, определяемой
договором, — и благодаря этому он возносит себя над
Законом и отстаивает свое иерархическое
превосходство над теми, кто подчиняется закону и блюдет его.
Либертен становится палачом именно в силу
своего господства: мучения, причиняемые жертве, служат
прежде всего удостоверению иерархического различия,
его подтверждению, которое и доставляет наслаждение.
Удовольствие доставляет не само страдание жертвы
(как в расхожих представлениях о садизме), а
утверждение жертвы в качестве жертвы, производимое самим
фактом исходного отказа господина-либертена от
Закона, отказа, за счет которого он приобретает право
быть палачом.
Право выполнять функции палача обычно
устанавливается и регулируется Законом исходя из
трансцендентного основания правды и справедливости.
Либертен сам себе дает такое право исходя из имманентного
основания наслаждения и произвола. Отсюда
возникает угроза самой возможности существования
Закона, поскольку это означает устранение причин во имя
368
(вытесненных) следствий и даже помещение след- g
ствия на место причин. *о
1. Господин => Палач => Кредитор
2. Раб => Жертва => Должник
мнимый
«долг»
Здесь долг становится уже не причиной, а
следствием. Это симулякр долга, получаемый за счет
высмеивания каузальности в соответствии со знаменитым
садовским изречением «причины не важны для
следствий», что является также определением самого «си-
мулякра» (если еще точнее, то мы должны увидеть, что
симулякр — это продукт девиации, осуществленной при
помощи уловки метонимического силлогизма:
Господин => Палач => Кредитор и, следовательно, Долг).
о
§■
о
О
\ Так либертен узурпирует и извращает право на пыт- >а
кус он фальсифицирует и лишает силы всеобщую связь х
с Законом. Но еще перверсивнее оказывается то, что он <§
фальсифицирует и упраздняет связь с договором — в §
особенности за счет присвоения себе роли кредитора, ^
взимающего мнимый долг. ^
В действительности, то, что господин должен быть §
палачом, — это своего рода предикат, заключенный в
самом субъекте. Но палач по Закону, как правило,
является кредитором или его представителем.
(Кредитором может быть индивид, ссужающий в долг, или
социальная группа, созданная на основании
соглашения-договора.) Либертен-Господин-Палач утверждает
себя в качестве Кредитора как бы в дополнение,
вдобавок к двум первым титулам: он провозглашает, что все
его потенциальные жертвы находятся перед ним в
общем долгу, оправдывая таким образом посредством
прерогатив (пародируемого) Закона свое право на
жестокость. Так он приобретает абсолютную власть над
другими и в особенности над последней
собственностью жертвы: ее телом.
Таким образом, здесь открывается следующий
двусторонний процесс порождения:
369
3 Либертену нет необходимости быть кредитором, чтобь/
* стать палачом; но поскольку он обязательно является
| палачом, он может вдобавок надевать маску
кредитует, ра, чтобы извлечь проистекающие из этого сладостраст-
-з ные следствия, а именно доставить себе удовольствие
§_ действовать по видимости Закона, даже действуя вне
| закона и против него.
^ Итак, мы имеем два порядка порождения связки
Палач—Кредитор:
— порядок каузальности (как его анализирует Ницше),
— порядок симулякра (как его представляет Сад).
Отправной точкой порядка каузальности является
реальное начало, социально и юридически
установленный факт: мы оказываемся здесь среди устойчивой
непрерывности, гарантированной нормы, вот почему
эффект прибавочной стоимости сам по себе остается
контролируемым и ограниченным. В основании
порядка симулякра нет ничего, кроме разрыва с Законом —
то есть агрессивного порождения различия^
постоянно повторяющегося в каждый момент своего
возникновения, поскольку каждый из этих моментов
удерживается в состоянии вне-законности, из которого
оно происходит, так что сам «долг», будучи лишь
мнимым, остается вне каузальности, в позиции нелепого
прибавления.
В первом случае, поскольку долг выступает в
качестве реальной причины, господство является суммой
предсказуемого набора законно связанных следствий и
поэтому является малым господством за счет простого
проективного участия (как очень точно пишет Ницше,
«кредитор разделяет право господ»). Во втором случае
господство — реальное, ранее приобретенное силой,
насилием, и каждое из его следствий воспроизводит
этот акт, этот скачок. Вот почему долг здесь не
является следствием произошедшего ранее, а декретируется
и оправдывается постфактум выгодой
метонимического обмана.
370
Траектория этой логики предопределяет вывод: удо- g
вольствие Господину-Либертену доставляют не стра- J
дания жертвы как таковые, а само преступление, яв- >s
ляющееся разрушением Закона, и жестокость, которая »
является преступлением внутри преступления. Пре- <§
ступление доставляет наслаждение только потому, что g
подразумевает господство (при важном условии без- ^
наказанности) и подтверждает его. Само господство _;
санкционировано «удовольствием от сравнения», кото- 2
рое гарантирует иерархию, абсолютную власть, не
требующую признания, власть, которая не приобретается
и не обменивается, а захватывается. Для либертена
дойти до преступления и пытки означает дойти до
предела нетранзитивности, до той точки, где всякое взаимное
признание не просто реально устраняется, но и
становится немыслимым. Только таким образом
уничтожаются договорные отношения — дать/получить — и
вводится эксцессивный: закон украсть/растратить. Если
нет взаимного обязательства, то все существует для
того, чтобы оказаться захваченным, включая
последнюю неотчуждаемую территорию: тело Другого. И это
присвоение осуществляется не по праву и не по закону,
а путем абсолютного произвола, как окончательное
указание на безграничность власти и как непризнаваемая
истина о власти вообще. Другой подвергается
исключению не для того, чтобы быть уничтоженным; он
уничтожается для того, чтобы подвергнуться исключению,
поскольку само господство как раз и возникает из
этого исключения.
Интерес палача не фиксирован на жертве как
таковой. Это парадоксальное отсутствие интереса
(доказывающее, что в действительности Сад вовсе не является
садистом) открыто обнаруживается в описаниях пыток.
Описываются либо средства пыток (темницы,
машины, инструменты), либо последовательность элементов,
которая — как в эротических фигурах — должна
составить определенную грамматику; или же описываются
371
2 эффекты, которые пытка производит на либертена —
| эффекты наслаждения, что означает также эффекты диет
* курса. Все разворачивается в полном соответствии с
m ритуалом, который предопределен Каталогом. Ничего
« более абстрактного, если исходить из критериев, предъ-
§_ являемых к реалистическому описанию, и быть не мо-
| жет. Ужас, создаваемый обстановкой и жертвами, сти-
^ рается безжизненностью клише. Ничего не говорится
об искаженных болью лицах жертв, об их трепете и
стонах, о раздирании плоти, ничего не сообщается о
подробностях мучений и потоках крови. Только иногда
упоминается о том, что жертвы кричат. Иначе говоря, все
выглядит так, как если бы тела жертв вовсе не
существовали. Этот текстовый эллипсис выдает всю
специфичность садовской пытки и то, что по своему статусу
она не более, чем элемент доказательства. Никогда, ни
на одно мгновение мы не оказываемся внутри личных,
субъективных, психологических взаимоотношений
палача и жертвы, взаимоотношений, которые являются
условием реалистического описания и с которыми
связано представление о садизме. Сад — не реалист. В его
произведениях нет таких персонажей, которые могли
бы бросить вызов главным действующим лицам.
Жертва неизменно безмолвна — это всего лишь
подопытный кролик в эксперименте, всего лишь аргумент в
доказательстве. Жестокость, обращенная на жертву, не
направлена на нее как на субъекта: она им попросту не
является. И поэтому она также не является объектом
для намерения оскорбить и унизить. Ее нейтральная,
лишенная аффектации смерть прочитывается между
строк. Кровь, описываемая на бумаге, — не льется, но
если она не описывается, ее и вовсе не существует.
Символическое исключение жертвы подтверждается
риторическим устранением ужаса. Пытка затевается только
ради эффекта наслаждения, который она
обеспечивает, и нужна только потому, что производит сильнейший
эффект — высшее наслаждение от величайшей транс-
372
грессии, от самого чудовищного эксцесса, немыслимый £
перерасход и спермы и жертв, причем в прямо пропор- *2
циональной зависимости. Таким образом, пытка не >а
имеет отношения к долгу или обязательству, она явля- х
ется утверждением эксцесса. Это критическая точка, от- <g
куда нельзя повернуть назад, где опосредствование g
любого рода становится невозможным. Воздействие на ^
тело не преследует воспитательных целей или телесной _;
дрессуры, как в культурном поведении, которое анали- 5
зирует Ницше. Раны, кровь и смерть не образуют ни
памяти, ни позитивности и ничего не искупают. Нет
ничего, что могло бы обеспечить Aufhebung. Нет
причины, которую надо защищать, и нет цели, которую надо
достичь. Но есть избыток потери и непомерность
наслаждения, бездонная пропасть перед лицом смерти.
Все жертвы бесцельно поглощаются ею, и последняя
уловка господина состоит в том, чтобы в качестве
предельного проявления своего господства желать своей
собственной смерти, господство растрачивается
впустую, как и все остальное, ибо, как и все остальное, оно
не подлежит обмену. «Мы не только уже не должны
смотреть на смерть с отвращением, но теперь
несложно доказать, что на самом деле смерть — это не что иное,
как чувственное наслаждение. Любая жизненная
потребность доставляет удовольствие. Следовательно,
удовольствие есть и в умирании»'13. Превратить саму смерть
в высшее наслаждение — значит сказать, что никакое
будущее не стоит труда и что либертеновское
господство не стремится завладеть ничем из того, что
принадлежит цивилизации или истории, что оставляет после
себя след или приносит прибыль. Господство
разворачивается в противоположность выгодам, которые
извлекаются из занесения в анналы; оно наслаждается
абсолютной роскошью потерять все, даже самое себя.
В его собственной смерти истребляется все.
" IX, 437.
373
ЛИБИДИНАЛЬНЫЙ ПАКТ,
ПРИНЦИП ВКЛЮЧЕННОГО ТРЕТЬЕГО,
или УТОПИЯ ЛИБЕРТЕНА
Предоставьте мне на короткое время
часть вашего тела, которая может дать
мне удовлетворение, и наслаждайтесь
на здоровье той частью моего тела,
которая придется вам по вкусу.
Де Сад. История Жюльетты44
Половое влечение не способно
объединять людей.
Фрейд. Тотем и табу
То, что Сад решительно отвергает договорные
соглашения, больше не нуждается в доказательстве, но как
ни странно, некоторые его тексты, напротив,
призывают к договорным соглашениям и предлагают для них
точные формулировки, словно либертеновская власть,
устав от собственного насилия, согласилась учредить
мирные анклавы, отказавшись от жестокости и права на
завоевание, и попыталась при помощи убеждения
достичь того, что привыкла кичливо вырывать силой,
уверенная в безграничности своего господства. Что это?
Всего лишь порыв к самоограничению? Внезапное
стремление к честной игре? Уловка? Противоречие?
Пародия? Послушаем, что говорит Клервиль: «О, Жюльетта!
Поскольку постоянное отсутствие плотских
удовольствий и совпадений во вкусах с человеком, к которому
мы привязаны обычаем, ведет к отвращению,
нетерпению и отчаянию, откуда и возникают все несчастия
супружества, то, чтобы исправить это положение, чтобы
противостоять отвратительному принуждению,
навечно связывающему двух людей, которые не подходят
друг другу, необходимо, чтобы все мужчины и женщи-
м VIII, 71.
374
х
3
о
ж
о
X
(Г)
•а
X
о
о.
о
S
ны объединились в "клубы". Сотня мужей и сотня от- g
цов, объединившись со своими женами или дочерьми, \|
получат там все, чего им не хватает. Когда я уступаю >а
своего мужа Климене, она получает все, что ее собст- ж
венный муж не может ей дать, а из ее мужа, которого <§
она предоставляет мне, я извлекаю все удовольствия, S
которые мой муж не способен дать мне. Эти обмены ^
множатся и, как понимаешь, за один вечер каждая ^
женщина получает наслаждение от сотни мужчин, а 5
каждый мужчина — от такого же количества женщин.
При этом развиваются характеры и каждый может
лучше узнать себя самого, здесь царит абсолютная свобода
во вкусах: мужчина, не любящий женщин,
наслаждается только себе подобными, женщина, предпочитающая
свой пол, равным образом удовлетворяет свои
фантазии; здесь нет места ни принуждению, ни стыду. Одно
лишь желание усилить наслаждения заставляет
каждого предложить остальным все свои сокровища.
Посему общий интерес поддерживает пакт, а частный
интерес прямо совпадает с общим, что делает
неразрывными узы, связующие общество: наше общество
существует пятнадцать лет, и за все это время я ни разу
не наблюдала ни малейшей ссоры, ни даже тени
дурного настроения. Такие соглашения истребляют
ревность и навсегда уничтожают страх перед изменой, —
эти две самые пагубные отравы в жизни, — уже по этой
причине их следует предпочесть тем однообразным
союзам, в которых муж и жена, всю жизнь томящиеся друг
подле друга, обречены либо на вечную скуку и
взаимное раздражение, либо на страдание от
невозможности расторгнуть брак, кроме как ценой позора для
обоих. Пусть наш пример убедит человечество поступать
так, как мы»^5.
Это уже поразительно фурьеристский текст, в
котором мы находим все элементы гармоничного
обществу!!!, 285-286.
375
3 ва и все мечты о нем — бесконечность возможных ком-
* бинаций и обменов («Эти обмены множатся и, как ты
* понимаешь, за один вечер каждая женщина получает
m наслаждение от сотни мужчин, а каждый мужчина —
4 от такого же количества женщин»); взаимное обуче-
g_ ние («При этом развиваются характеры и каждый мо-
| жет лучше узнать себя самого»); свободу перверсий
^ (инцест, гомосексуальность); развитие ограниченных
сообществ («клубов», как называет их Сад);
совместное владение имуществом («одно лишь желание
усилить наслаждения заставляет каждого предложить
остальным все свои сокровища»); групповое либидо,
основанное на страстном влечении («когда я уступаю
своего мужа Климене, она получает все, чего ее
собственный муж не может ей дать, а из ее мужа,
которого она предоставляет мне, я извлекаю все
удовольствия, которые мой муж не способен дать мне»);
полное отсутствие агрессии в отношениях («я ни разу не
наблюдала ни малейшей ссоры, ни. даже тени дурного
настроения»).
Эта игра обменов имеет четкую форму пакта. Но
пакт понимается именно как ответ и альтернатива
договорным отношениям, он заключается для того, чтобы
«противостоять отвратительному принуждению,
навечно связывающему двух людей, которые не подходят
друг другу». Комбинаторный поливалентный характер
пакта, открытого для любых третьих лиц, предстает как
спасительное средство от двустороннего, строго
бинарного, закрытого, исключающего посторонних
характера договора. Оппозиция пакт/договор очевидным
образом связана с оппозицией институция/закон (которая
была замечательно проанализирована Жилем Делезом).
Пакт — это пространство изобретения отношений
между телами; каждый, исходя из своего желания, заново
создает всю сеть связей. Существует столько же связей,
сколько существует субъектов, мгновений, капризов
воображения, а поэтому не существует ни компромис-
376
са договора, ни абстрактной всеобщности закона; но §
всякий раз для каждого возникает микрогенез его от- >о
ношений с другими в рамках постоянно возобновля- >а
ющегося признания друг друга. Компромисс, лежащий §
в основе договора (согласно Руссо), заключается в еле- <§
дующем: часть моей свободы в обмен на всеобщее при- 8
знание — отсюда, необходимость абстрактного посредни- ^
чества закона. Ответ либидинального пакта Сада таков: _j
вся полнота моей свободы, открытая желанию всех, и 5
всеобщее желание моей полной свободы желать. (В
общем виде этот пакт напоминает формулу
бессознательного, поскольку, подобно бессознательному, он не знает
отрицания, а желание, являющееся здесь только
влечением, замещает закон; недаром же утопия — это
общество мечты...)
Эта констелляция тел, эти бесчисленные связи,
которые создаются, распадаются и создаются вновь, этот
свободный обмен полами и фантазиями, по всей
видимости, и есть то, что предлагается в трактате
«Французы, еще усилие, если вы хотите стать республиканцами»:
«В городах будут созданы чистые, просторные,
надлежащим образом меблированные и во всех отношениях
безопасные помещения; прихотям либертенов, которые
придут сюда за наслаждениями, будут предложены
лица всех полов, всех возрастов, всевозможные созданья,
и для всех представленных индивидов будет
установлено правило, гарантирующее самое полное подчинение;
малейший отказ или непокорность будут немедленно
наказаны потерпевшей стороной по ее собственному
усмотрению»'16.
А что хорошо для мужчин, то хорошо и для женщин:
«Я хочу, чтобы законы позволяли женщинам
отдаваться такому количеству мужчин, которое они сочтут для
себя подходящим; я хочу, чтобы законы позволяли им
наслаждаться всеми полами и получать наслаждение
46III, 500.
377
3 от всех частей тела, так же, как и мужчинам; и в особом
3 параграфе, предписывающем им отдаваться всем, кто
g их пожелает, женщинам должна быть гарантирована
$ такая же свобода наслаждаться всеми, кто, как они по-
<з лагают, может их удовлетворить»47.
|^ Перед нами как будто то же самое предложение, но
| что-то поменялось в тоне. То, что присутствует в первом
^ тексте, но исчезло во втором — это условие насилия,
такое желанное для власти либертена («будет правилом
самое полное подчинение», «малейший отказ или
непокорность будут немедленно наказаны потерпевшей
стороной по ее собственному произволу»). Что же
произошло? Можно ответить, что при переходе от
первого текста ко второму меняется тип общества. В первом
тексте мы имеем частное сообщество, клуб; во
втором — политическое общество, организованное
наподобие государства. Желая привить государству
структуры клуба, Сад оказывается в плену непреодолимого
противоречия. Политическая сфера, существующая
исключительно в терминах государственного порядка,
ipso facto ведет к договорам и ограничениям, то есть к
насилию. Истинная утопия либертена кончается там, где
начинается классическая политическая сфера. Сад не
мог продумать этот вопрос до конца, но благодаря
открывшимся противоречиям он ясно обнаруживает
радикальный разрыв между этими двумя перспективами.
Нетрудно уловить либидинальное происхождение
консенсуса, существующее внутри либертенного
сообщества-клуба, поскольку вхождение в группу уже
предполагает полное согласие со свободой желаний. Таким
образом, наблюдаемое здесь чудесное соответствие
общих и частных интересов становится почти плеоназмом.
Это покой оазиса, утопия, закрытая со всех сторон. Но
этот покой достигается ценой вынесения за скобки двух
реальных условий ее существования, двойного отри-
17 III, 504-505.
378
цания. Прежде всего, предполагается, что все пробле- g
мы, связанные с потребностями, решены. Практику- v|
емый здесь коммунизм носит абсолютно эстетский ха- >з
рактер: имущество находится в совместном владении, но §
это становится возможным только потому, что все богат- <§
ства были произведены в другом месте, кем-то другим, £
чтобы в избытке потребляться здесь. Конечно, утопия ^
либертена может только оставаться слепой к антагониз- ^
му, возникающему из этого изначального и неизбежно- 5
го вопроса о неравенстве. Второе вынесенное за скобки
условие связано с первым и относится к форме
политической власти в обществе, за пределами которого и
организуется клуб. Если либидинальный пакт не создает
никакой властной инстанции или иерархии, то потому,
что вся власть уже задана извне и до него и
сохраняется нетронутой за пределами круга, который
очерчивает для себя клуб. Клуб приспосабливает свою
исключительность к существующему status quo.
Вторая возможность состоит в том, что свобода
отношений желания распространяется на все общество,
политически организованное в форме государства. Здесь
мы имеем дело не с избранной группой, а с абстрактной
универсальностью, объединяющей всех граждан. Нет
более предварительного согласия, которое гарантирует
доступность всего того, что предоставляется каждым
участником в распоряжение клуба, нет также границы,
обозначающей привилегированное пространство либи-
динального консенсуса. Следовательно, граница
должна неизбежно пройти через каждого, а поскольку она не
может стать результатом выбора, то должна стать
долгом. Граница такого рода имеет имя: закон. Вместе с ней
вновь неизбежно возникает принуждение в форме
взаимности, то есть в форме договора. Не ставя под
сомнение структуру государства, Сад не может уйти от нее, в
результате чего возникает странный парадокс:
принуждение используется для создания абсолютной свободы в
отношениях желания. Так, по поводу тех женщин, кото-
379
2 рые из верности или стыдливости могли бы уклонить-
э; ся от исполнения долга, предписывающего быть доступ-
g ными, Сад вкладывает в уста Дольмансе следующие сло-
m ва: «Бесспорно, мы имеем право устанавливать законы,
в которые принуждают женщину уступать порывам того,
g_ кто ее пожелает; само насилие — только следствие это-
| го права, и мы можем применять его законно»48. Это уже
^ очень далеко от свободного страстного влечения.
Однако, переходя от клуба к государству, мы также
переходим от либидинального согласия к договору
проституции. Государство непременно влечет за собой закон
и легализованную взаимность, а вместе с тем и
насилие, которое стоит на страже исполнения того и
другого. Уловка либертена состоит в том, чтобы заставить
государство признать, что речь идет именно о насилии, и
предложить государству внедрить программу
эротического деспотизма, что может быть воспринято
только как оскорбительная насмешка или крайнее
легкомыслие, ибо это, конечно, означает требовать от государства,
чтобы оно работало на свое собственное уничтожение.
Эти две формы утопии практически не имеют точек
соприкосновения, но сама эта неудача предстает как
один из способов сказать, что желание не может быть
политически социализировано. Это означает признать
правоту Фрейда: половое влечение неспособно
объединять людей, если только, конечно, сам секс не
становится основой объединения привилегированной группы,
защищенной от нужды (как в случае с «клубом» Сада).
Но это ни в коей мере не влияет на установленный
политический порядок, поскольку желание
распространить эту эротическую утопию на государство означает
не превращение последнего в клуб любви, а
огосударствление эроса, его поглощение и разрушение
отношениями законности и принуждения: двойную
неполноту, double bind.
<" 111,502-503.
380
Для либертеновской утопии остается другой путь, 5
практикуемый наиболее часто: не срединный, а смещен- J
ный и непрямой, который заключается в том, чтобы >а
взять немного согласия и немного насилия, сочетать i
убеждение — желательное — с насилием в том случае, *§
когда оно необходимо. Предлагается нечто вроде кратко- §
временного соглашения, привносящего немного утопии ^
в существующий социальный порядок и открывающего ^
либертену территорию власти, временным законода- 5
телем которой он становится. Вот как об этом говорит
мадам Дельбен: «Что плохого я делаю, что за вред я
причиняю, когда, встречая привлекательное создание,
говорю ему: "Предоставьте на короткое время мне
часть вашего тела, которая может дать мне
мгновенное удовлетворение, и наслаждайтесь себе на здоровье
той частью моего тела, какая придется вам по вкусу".
Что оскорбительного для этого созданья в моем
предложении? Какой ущерб оно понесет, если примет его?
Если во мне нет ничего притягательного, то пусть
материальный интерес заменит удовольствие и пусть тогда,
договорившись о возмещении, это создание без
дальнейшего промедления предоставит мне наслаждаться
его телом, а у меня будет полное право применить
силу и все необходимые средства принуждения, если,
получив от меня удовлетворение в соответствии с моими
возможностями, при помощи кошелька или моего тела,
это создание осмелится не дать мне мгновенно того, что
я вправе от него потребовать»'19 (подчеркнуто Садом).
Рассуждение, обосновывающее утопию, неизменно
приводит к насилию, которое ее учреждает. Конфликт
между договором и желанием остается незатронутым, если
только договор не превращается в пародию, а желание
в неумолимое влечение, утверждающее закон о
несуществовании Другого.
49 VIII, 71.
381
S ЗАГОВОР: СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА
| ГОСПОД-ЛИБЕРТЕНОВ
о
х
о
ъ Бросая вызов обществу, основанному па договоре,
« садовский вымысел противопоставляет ему общество
g^ заговора. Это означает, что не существует садовского
| проекта общества; это всегда контр-проект. Клуб — это
^ тайное общество, и заговор указывает нам на то, что
программа либертена будет обязательно тайной, суб-
версивной, оборонительной и избирательной. Именно
это с такой очевидностью утверждается в уставе
Общества Друзей Преступления: «Общество защищает
всех своих членов; оно гарантирует им любую помощь,
кров, убежище, протекцию, финансовые средства, все
необходимое, чтобы противодействовать закону;
общество принимает под свою защиту всех, кто
преступает закон»50. Взамен оно требует от своих членов
полного сохранения тайны перед лицом существующего
порядка и невмешательства: «Ни под каким видом
Общество не должно вмешиваться в дела правительства.
Политические речи строжайше запрещены. Общество
уважает то правительство, которое находится у
власти»51. Оно помещает себя над законами и презирает все
принципы морали, но только под непроницаемым
покровом тайны внутри собственных стен: «Внутренние
раздоры никогда не должны доходить до подчиненных
и правителей»52.
Можно тогда сказать, что если Сад бросает вызов
всем обычным разновидностям договора, то делает это
ради продвижения той единственной разновидности,
которая им признается и от могущества которой
зависит несущественность всех прочих: того договора,
который связывает между собой господ-либертенов. Но,
50 VIII, 401.
51 VIII, 408.
52 VIII, 408.
382
если точнее, этот союз отнюдь не представляет собой £
договора (если только не рассматривать это понятие в v|
широко фигуральном смысле), поскольку не имеет ни «а
формы обязательства, ни системы гарантий. Договор- ж
ное обязательство сосредотачивается на внешних уело- <§
виях, во имя абстрактной конвенции, которая форми- g
рует их символическую систему; в противоположность ^
этому заговор возрождает архаическую солидарность _;
клана или семьи: «Члены Общества, объединенные в S
одну большую семью, делят друг с другом все свои
трудности и удовольствия»53; «Между братьями царит
самое полное доверие». Формы обращения здесь те,
которые существуют между кровными родственниками,
«братьями» и «сестрами», а следовательно,
подчеркнуто близкие: «Друг к другу надо обращаться только на
ты». Все внешние признаки иерархических различий
стираются: «Между теми, кто входит в состав братства,
нет никаких различий»51. Формальное обязательство,
гарантированное третьей стороной, уступает место
доверию: «Когда расходы превышают доход, каждый
вносит свою долю, чтобы возместить издержки казначею,
слову которого в подобных случаях всегда верят
безоговорочно»55. Что касается соглашений в целом, то,
подобно тому, как древние подписывались кровью, связывая
тела тех, кто вступает в обмен, либертены
подписываются спермой. Когда Жюльетта заставляет Клервиль
принести клятву, что она введет ее в клуб, последняя
скрепляется «любовным соком»56; когда обе они
заключают соглашение об участии в оргии с
братьями-кармелитами, оно подписывается теми же «чернилами»: «Все
участники сделки подписываются спермой»57.
33 VIII, 403.
54 VIII, 401.
55 VIII, 402.
50 VIII, 286.
57 VIII, 472.
383
g Таков либертеновский способ обмена, такова «чест-
* ность развратников», о которой говорит Эжени. Од-
* нако она ценится только в пространстве клуба или во
m всех пространствах наслаждения, которое предпола-
« гает сотрудничество желаний. За пределами такого
^ пространства никакая солидарность не гарантирована
| даже между господами-либертенами. Взаимное призна-
^ ние возможно лишь в той мере, в какой другого считают
столь же извращенным и преступным; на дискурс
возлагается задача каждый раз доказывать это. Между
господами-либертенами все происходит так, как если бы
взаимное выживание достигалось лишь ценой
постоянного дискурсивного вызова, в бесконечном
стремлении превзойти друг друга в выражении сути либер-
тинажа. Этот смертельный потлач, этот теоретический
максимализм имеют одну особенность: при первых
признаках слабости сообщник превращается в жертву.
Начинается игра в чистки: Сен-Фон выносит Жюльетте
приговор за то, что она содрогается, когда он
посвящает ее в свой план отравить пол-Франции (но, конечно,
повествование, поскольку оно должно продолжаться,
спасает ее). Сам Сен-Фон, по своему образу мыслей
близкий к «черной теологии», устраняется более
радикальным материалистом Нуарсеем. Жюльетта и Клер-
виль приходят к тому, что казнят свою любимую
сообщницу Олимпию, которая оказывается повинна в
излишней восторженности. Саму же Клервиль,
наиболее радикальную и непримиримую безбожницу,
устраняет более сильная Дюран, которая убеждает Жюльет-
ту казнить ее.
Либертен принимает эту безжалостную логику
уничтожения; более того, он желает ее; она присуща его
радикальному отрицанию всех связей («Для таких
людей, как мы, никакие узы не являются священными»).
Каждый вступающий в заговор либертен — уже
предатель. Заговор несет в себе принцип одностороннего
расторжения. В противоположность целям договора
384
он не дает никаких гарантий относительно действий и |
мыслей другого. Он создает подобие интимности и со- \о
лидарности среди заговорщиков и постоянно требует >а
от них быть на высоте. Но заговор открыто запреща- |
ет всякую взаимность: каждый либертен ценит в дру- <§
гом то, что он культивирует в себе самом и что его on- g
ределяет: абсолютный эгоизм. Следовательно, заговор ^
включает подозрение, угрозы и непредсказуемость. ^
Множество раз в ходе оргий Жюльетта видит себя об- 5
реченной на смерть, и само ее удовольствие основано
на этом риске, ибо либертен постоянно утверждает и
сохраняет для себя самого, как бы высока ни была
цена, тот принцип, что все отношения суть отношения
силы, всякая встреча — вызов, ничто не может быть
обеспечено наверняка, размечено или гарантировано,
и, таким образом, область приключения, которая и
является областью желания, остается бесконечно
открытой и доступной.
Но, представляя этот заговор как заговор только
богатых и могущественных, Сад стремится показать,
что договор — это притворство, и именно договор
больше всего ненавидят, когда обладают властью, и, хотя к
власти приходят благодаря гарантии договора,
остаться у власти и наслаждаться ею можно лишь участвуя в
заговоре. Спрятанные за механизмами закона и
договора, обеспечивающими мирное производство и
обмен, гарантирующими порядок и безопасность тем, кто
подчиняется, господа, которые приводят в движение
эти механизмы, разыгрывают между собой странную
партию в покер: партию высшего наслаждения и
смертельного риска. Не борьба насмерть за власть, потому
что власть им уже дана, но игра со смертью за
наслаждение. Игра, являющаяся отличительной чертой чисто
либертеновского господства и предстающая как
крайнее утверждение роскоши, как риск, без которого
недостижима абсолютная привилегия подвергнуться
прямому воздействию грубой силы при отсутствии всякой
ПЗак. 3904
385
S помощи и всяких гарантий. Ставкой здесь является дис-
* курс: дискурс максимальной интенсивности в выраже-
| нии преступления и ужаса. Именно эта интенсивность
$ определяет жизнь или смерть игроков, как если бы по-
ч среди сфер кодифицированной, легализованной, орга-
§_ низованной активности господа-либертены, собранные
| внутри сферы заговора как места, где все другие сферы
^ аннулируются, как развертка и негатив их
функционирования, подтверждали свою абсолютную суверенность
быть теми, с кем безграничная свобода желания
выживает не иначе как в постоянном смертельном риске,
которому эти господа подвергают себя в соответствии с
собственным выбором. Заговор предлагает последнюю
роскошь самого смертоносного расточительства.
Глава девятая
ЖЕНЩИНА, ПРОСТИТУЦИЯ,
ПОВЕСТВОВАНИЕ
Три рассказчицы, великолепно
одетые, как девушки из парижского
высшего общества, сели на диван,
специально поставленный у самого
подножья трона, и мадам Дюкло,
рассказчица месяца, в весьма
откровенном, но очень элегантном
одеянии, нарумяненная и украшенная
бриллиантами, устроившись на
возвышении, так начала историю о том,
что случалось в ее жизни...
Де Сад. 120 дней Содома'
Хотя экономика играет значительную роль в
повествовании и отчасти обусловливает его логику, главное
состоит в том, что она подводит нас к пониманию
генезиса экономики самого повествования. Сказать так —
значит предположить, что в каждом тексте имеется
особая фигура или некий элемент, функционирующие в
качестве символа и одновременно генератора этой
экономики, выступающие в любом высказывании в
качестве означающего, в том числе и по отношению к
структурирующим условиям самого высказывания. Если
задаться самим этим вопросом о взаимосвязи
экономики нарратива с экономикой в нарративе на примере
текстов Сада, вырисовывается следующая гипотеза:
именно женщина держит и поддерживает
повествование, именно она является его необходимой социальной,
1 XIII, 74.
387
2 экономической, а следовательно, логической фигурой,
* и в то же время, благодаря ей, возникают странные от-
* ношения между пишущим (скриптором) и презира-
m емой фигурой Матери. Словно Мать, будучи той-кото-
ч рая-исключена-из-текста, продолжает удерживать, если
1^ уже не у своей груди, то, по крайней мере, возле себя,
| мятежного, зачарованного, «инцестуозного» и «пре-
^ ступного» сына, который пишет только, чтобы,
оскверняя, желать ее и, подчиняя, соблазнять.
Было бы легко принять за чистую монету, то есть за
мнение автора, те мизогинные утверждения, которые
отпускают те или иные герои-либертены садовских
текстов, и видеть в самом Саде неистового
женоненавистника. Может быть, так оно и есть, но совсем по другим
причинам. При таком прочтении критик не видит текста
там, где последний обнаруживает свою работу, и не
слышит его там, где он говорит. Хотя одна вещь в конечном
счете должна была бы несколько насторожить таких
читателей/читательниц, или, говоря шире, любых
истолкователей вообще: помимо того, что два главных садовских
персонажа — Жюстина и Жюльетта — являются
женщинами (мы не находим сопоставимого с ними героя-
мужчину), только женщинам дана привилегированная
функция повествующего я, привилегия, настолько
маркированная Садом, что эта функция отождествляется с
единственной в своем роде фигурой, которую он
называет Рассказчицей. Подобная роль в садовских
повествованиях никогда не принадлежит мужчине, и даже если
ему и случается рассказать свою историю, то при этом он
никогда не называется рассказчиком.
Эта разница в статусе является немаловажной. Она
происходит из неумолимой логики, порожденной
практической/символической целью, в соответствии с
которой исторически определяется социальная роль
женщины и ее зависимость от мужчины, который, от брака
до проституции, полагает ее в качестве объекта и
знака социального обмена. Эта цель, благодаря несколько
388
парадоксальному смещению, проблематизируется са- §
довским текстом не в качестве одной из тем, но как эле- J
мент, ставящий под вопрос саму форму повествования 4»
и его экономику. §
ч>
о
К
САД И ПИСАТЕЛЬНИЦЫ-РОМАНИСТКИ |
ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА |
о
Давно уже повелось, что лучшие из js"
наших французских романов пи- ч
шутся девушками или женщинами, а
Бейль2 ?
$k
Невозможно понять исключительные нарративные при- SS
вилегии, предоставляемые Садом женщинам, если мы
не поместим их в контекст знаменитых споров, которые
велись на протяжении XVII—XVIII веков в
литературной критике, пытавшейся ответить на вопрос,
является ли роман «по своей природе» тем жанром, к
которому женщины (в отличие от мужчин) имеют особую
склонность3. Постепенно в этих спорах выявились два
основных тезиса, которые могут быть сформулированы
следующим образом:
— поскольку роман — это жанр несерьезный,
сочинением романов занимаются женщины, в чем и
преуспевают, будучи сами столь же несерьезными;
— поскольку роман повествует о любовных
страстях, то женщины, подверженные им в большей
степени, чем мужчины, способны описать этот предмет более
подробно и изящно.
2 Bayle. Virgil // Bayle. Dictionnaire historique et critique
(1697).
3 Подробнее об этой дискуссии см. очень интересную книгу:
May G. Le dilemme du roman au XVIII siecle. Paris, 1963
(особенно: гл. VIII «Feminisme et roman»).
389
S Вокруг всего этого набора следствий, возведенных на
3 уровень причин, поляризовались сторонники и против-
g ники романа: первые не видели разницы между
романсе ным жанром, опасностями любовных страстей и жен-
4 скими чарами и поэтому отрицали роман, другие также
<^ не видели никакой разницы и поэтому роман защищали.
| Эта полемика может показаться странной, если не
^ знать того, с какими великими трудностями роман
утверждался на протяжении всего XVIII века. Со стороны
официальных критиков — писателей и «знатоков»
литературы — на роман обрушился настоящий шквальный
огонь, главная цель которого состояла в том, чтобы
уничтожить жанр, растущий успех которого представлял
серьезную угрозу для гегемонии жанров, считавшихся
каноническими, таких как трагедия, лирическая и
эпическая поэзия. Многочисленные нападки на роман
сводились к двум наборам аргументов. Первый касался
эстетической стороны дела: чтение романов портит вкус,
стилистическая свобода и композиция романов плохо
влияет на другие литературные жанры. Даже авторы
«Энциклопедии» нелестно отзывались об этом жанре (см.
статью «Роман»), а Вольтер в 1733 году решительно
заявил: «Если некоторые новые романы и продолжают
выходить в свет, если они на время и составляют
развлечение для ветреной молодежи, то истинные литераторы их
презирают» («Эссе об эпической поэзии»). К
эстетической критике прибавлялась и моральная аргументация:
чтение романов угрожает нравственности. Иезуит Порэ
в своей знаменитой речи 1736 года громогласно
возвещал об опасности, исходящей от романа, и старался
доказать, что «романы наносят нравам двойной урон,
внушая вкус к пороку и уничтожая семена добродетели»4.
В этих баталиях церковь заручилась поддержкой
многих писателей и таких ученых мужей, как Брузен
де ла Мартиньер, который в 1731 году предостерегал
1 May G. Le dilemme du roman au XVIII siecle. P. 9.
390
против чтения романов: «Романы портят вкус, они со- §
обтают ложное представление о добродетели, они на- J
полнены непристойными образами, романы незаметно <§
входят в привычку и ослабляют нас своим искушаю- |
щим языком страстей»3. Романы — легкомысленные, *
фривольные, распущенные, заурядные и даже непри- «
стойные — обвинялись во всех смертных грехах циви- *
лизации, и оставалось сделать лишь один шаг до того, §
чтобы возложить на них ответственность за всеобщее §
падение нравов. §,
В 1760 году Дидро, указывая на это ожесточение в-
критиков, с грустью отмечал, что «под словом "роман" I
до сих пор понимали вереницу фантастических и лег- g
комысленных событий, читать о которых опасно для %
вкуса и нравов»6. Й
К 1784 году эта ситуация не претерпела
решительных изменений, поскольку еще в это время Лакло мог
написать, что «из всех жанров, существующих в
литературе, мало таких, которые ценились бы столь же
низко, как роман»7.
Понять всю эту ситуацию можно, только если
вспомнить о враждебном отношении церкви и философов-
моралистов первой половины века к развитию
романного жанра, которое было столь сильным, что привело
даже (или возможно, привело, поскольку, несмотря на
множество доказательств, у нас все-таки нет полной
уверенности) к чрезвычайной мере: тайному
королевскому указу, запрещавшему печатание романов или, по
крайней мере, ограничивавшему его лишь романами
назидательного характера8.
5 Ibid. P. 8.
с Дидро Д. Похвальное слово Ричардсону // Дидро Д.
Эстетика и литературная критика / Пер. с франц. под ред.
М. Черневич. М„ 1980. С. 300.
7 Laclos Ch. de. Oeuvres completes. Paris, 1967. P. 523.
8 May G. Le dilemme du roman au XVIII siecle. Ch. III.
391
2 Таким образом, если роман стал государственным
а* делом, то произошло это потому, что проблема романа
х оказалась связанной в первую очередь с проблемой се-
$ мьи — институции, через которую государство осу-
« ществляет свое воспроизводство, через которую оно
§_ воспитывает и благодаря которой интериориэуется.
| Опасение вызывало то, что женщина, являвшаяся, по
;, общему мнению, хранительницей очага, потеряет
интерес к семье, требуя себе свободы слова (публичного и
публикуемого) и свободы в любовных отношениях
(пренебрегая своими матримониальными добродетелями и
материнскими обязанностями).
Вдобавок недовольство жанром романа, помимо того,
которое выражалось от имени искусства (роман —
несерьезный жанр) и добродетели (роман опасен),
осложнялось еще одним досадным обстоятельством: роман —
это жанр, в котором наибольших успехов достигли
именно женщины. Некоторые знатоки литературы без
малейших колебаний пришли к выводу, что не нужно искать
других объяснений тому, почему роман — это -«низкий
жанр». За исключением Фенелона, великими
романистами семнадцатого века были женщины (мадмуазель
де Скюдери, мадам де Лафайетт), и в первой половине
восемнадцатого столетия, несмотря на таких авторов,
как Лессаж, Прево и Мариво, были две женщины,
которые благодаря своим романам снискали себе
подлинный успех: это мадам де Граффиньи и мадам Риккобони.
Несомненно, существовало что-то вроде союза между
романом и женщинами, не случайно хулители романа
и женоненавистники оказались в одном лагере.
Вольтер: «Именно женщины сделали модными эти
произведения, занимающие их той единственной
вещью, которая только и представляет для них интерес»9.
Руссо, в первом и втором введении к Новой Элоизе:
«Целомудренная девица романов не читает»; «Большим
9 Voltaire F.-M. A. La Gazette litteraire. 1764.
392
городам надобны зрелища, развращенным людям — ро- §
маны»; «Я упорно продолжаю верить, что этот род чте- J
ния очень опасен для молодых девушек»10. <§
Аббат Жакен: «Та свобода, с которой ведут себя на- у
ши женщины, больше всего способствуют появлению 1
все большего количества романов»11. --
Этой компании злобных критиков противостояли j*
Прево, Мариво, Кребийон, Дюкло, Даламбер, Лагарп и |
Лакло, благосклонно относившиеся и к романам, и к §
женщинам. Так, Лагарп писал: «Из всех творений разу- |.
ма именно к романам женщины выказывают наиболь- ч-
шие способности. Любовь, которая всегда является их |
главным сюжетом, — это чувство, которое больше все- g
го известно женщинам. В страсти существует множе- *■
ство тонких и почти неуловимых моментов, к которым й
женщины значительно восприимчивее, нежели мы,
быть может, оттого, что любовь для них имеет большую
важность, или оттого, что, имея к этому предмету
гораздо больше интереса, женщины намного лучше видят и
угадывают ее свойства и влияние»12. Приблизительно
таким же будет и садовский тезис, высказанный в его
«Размышлениях о романе» (которые служат введением
к «Преступлениям любви»), где он защищает талант
мадам де Лафайетт от нападок критиков и выражает
удивление по поводу того, что кто-то может оспаривать
превосходство женщин в жанре романа, «словно этот
пол, от природы более нежный и в большей мере
созданный для сочинения романов, не может добиться в этом
роде литературы больших успехов, нежели мы». (Здесь
мы видим, как Сад, который отражает нападки критиков
мадам де Лафайетт, стремится защитить талант жен-
10 Руссо Ж.-Ж. Юлия, или Новая Элоиэа / Пер. с франц.
Н. И. Немчиновой и А. А. Худадовой под ред. В. А. Дынник
и Л. Е. Пинского // Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения:
В 3 томах. Т. II. М., 1961. С. 9, 10.
" May G. Le dilemme du roman au XVIII siecle. P. 207.
12 Ibid. P. 220.
393
S шины-романиста, но его аргументы, как и аргументы
as большинства его современников, не выходят за преде-
§ лы предрассудка о женской предрасположенности к
$ писанию романов, который, несмотря на свою полез-
ч ность, все еще остается предрассудком: «Этот пол от
°_ природы более нежен...»13. Но если в декларациях Сада
| не стоит искать особой глубины, то совершенно иное
~ измерение имеет его теория тяготения женщин к
роману и вообще к нарративному дискурсу. Текст Сада
испытывает эту теорию на практике, и нам предстоит
выявить ее логику, благодаря чему мы, вероятно, сможем
глубже разобраться в существе дела, нежели это
удавалось историкам литературы.)
Вторжение женщин в сочинение романов может
быть объяснено на нескольких уровнях. Например,
можно сказать, и об этом уже говорилось, что
поскольку роман был новым жанром, не подчиненным строгим
канонам, он представлялся в качестве новой,
требующей освоения, территории, в качестве еще не
размеченного и не структурированного законами жанра
пространства, поэтому в него можно было легко проникнуть
без необходимости немедленного подчинения
вердиктам ревнителей традиции. С помощью романа женщины
смогли решительно войти в общественную и
культурную жизнь, не боясь посягнуть на установленные
привилегии, как это могло бы произойти в случае с другими
литературными жанрами. К этому первому объяснению
может быть добавлено и другое: требование равенства
полов было созвучно требованию равенства всех людей
вообще, знаменовавшему социальное восхождение
буржуазии. Как известно, развитие романа совпало с
периодом подъема буржуазии и закрепило ее ценности и
притязания. Дворянство описывало свою судьбу в
трагедиях, в великих драмах крови и государства, тогда как
буржуазия начала писать свою собственную историю в
13 X, 9.
394
виде романа (драма индивида, стремящегося к власти, §
деньгам, признанию и наслаждениям). J
Кажется вполне очевидным, что феминистское тече- <§
ние XVIII века было связано с прогрессивным либераль- §
ным течением, воплотившимся в этом взлете буржуазии *§
и в ее мыслителях, и все же не менее очевидно, что это «
замечательное вторжение женщин в литературу, и осо- *
бенно в роман, не может объясняться только лишь их |
временным сообщничеством. Появилось нечто иное, что §
шло наперерез движению истории, нечто иное, чем клас- в.
совая борьба, а именно борьба полов (следует заметить, ч-
что большинство женщин-романистов принадлежали §
тогда к благородному сословию). Это нечто было свя- х
зано с противоречием, существовавшим между тем ста- %
тусом женщины, который навязывался ей семьей и
государством, и тем, что артикулировалось той формой
письма, которая стала возможной благодаря роману.
Критики романа высмеивали в нем и предавали
проклятию то, о чем, главным образом, шла речь и то, что
мужчины, хранители политической власти и стражи
закона, подавляли: наслаждение. Когда Вольтер,
уверенный в своей непогрешимости, говорил, что «именно
женщины сделали модными эти произведения, которые
занимают их единственной вещью, представляющей
для них интерес», он, по существу, настаивал на том,
что сексуальное удовольствие не следует называть
своим именем, и именно поэтому он, Вольтер, пишет
трагедии. А когда Руссо, склонный к морализаторству не
меньше монастырского духовника, отмечал: «Я упорно
продолжаю верить, что этот род чтения очень опасен
для молодых девушек», то это означало, что девушкам
не следует знать о наслаждении.
Появление романа знаменовало также появление
субъективности, интереса к становлению личности,
настойчивое требование того, чтобы у субъекта как
такового была история и чтобы эта история была историей
его желания. Это было провокационное требование пе-
395
2 ред лицом того мужского порядка, каким был порядок
| государства и его сублимированной репрезентации,
| порядка, который мог поддерживаться только при ус-
m ловии, что сексуальные отношения, а вместе с ними и
« сама женщина, изгонялись из публичного пространства
§_ агоры в приватную сферу дома, где женщина низводи-
| лась до средства, обеспечивающего сексуальные от-
^ ношения и обретавшего свою легитимность на уровне
воспроизводства.
Таким образом, мы видим, сколько опасностей
таили в себе развитие романной формы и ее апроприация
женщинами-авторами: то, что должно было оставаться
в тайне, вошло в язык, великое политическое,
сексуальное и вербальное разделение было поставлено под
сомнение, закону правителя, так же, как и закону Отца,
был брошен вызов. Аббат Жакен недаром бил тревогу:
«Романы не просто намерены разрушить семейный
мир; они также нарушают тот порядок, который более
всего необходим для сохранения общества». Это
перехватывание дискурса ощущается как его узурпация и
искажение. Через женщину зло входит в язык так же,
как оно вошло через нее в мир. Женщина не только
пишет романы, но и романы пишутся только о ней. В
качестве автора романа или его героини она вновь
обретает силу в образе соблазнительницы.
В контексте этих дебатов и в движении этой
истории нам прежде всего и следует рассматривать ту
нарративную привилегию, которую признает за
женщинами Сад. Исходя из этого, мы можем оценить парадокс
автора-мужчины (возможно, одного из первых, кто
совершил такую попытку), допустившего в свой текст
женское повествующее я, как если бы сам автор за
маской Рассказчицы должен был стать женщиной, чтобы
создавать повествование, как если бы повествование
было неразрывно связано с чем-то, что относится
только к женщинам, как если бы женщины знали больше о
том, что интересует мужчину в его собственном же-
396
ланий. Благодаря этому и возникают фигуры таких не- а
утомимых повествовательниц, как Жюстина и Жюль- ^
етта, а также рассказчицы из замка Силлинг, не гово- <§
ря уже о появлении в их собственных рассказах таких 5
удивительных женщин, как Клервиль, Дюран, Дюбуа, 1
Олимпия, Шарлотта и т. д. Это не означает, что наблю-
выдается нехватка персонажей-мужчин, таких как Сен- ?
Фон, Нуарсей, Брессак, Ролан, Жером, Минский, Бри- §
затеста, Бланжи и т. д., но о них всегда рассказывается ~
в третьем лице, или они рассказывают о себе (как, на- |.
пример, Жером и Бризатеста) внутри больших «жен- ч-
ских» повествований. Странно, однако, что ни один из а
садовских романов не описывает инициацию или при- g
ключения юноши-либертена и ни один из его мужских ^
персонажей не соответствует таким героям плутовско- ц
го романа, как Том Джонс, Барри Линдон, Жиль Блаз
или Кандид. Другими словами, в романах Сада нет
такого персонажа-мужчины, который был бы сопоставим
с Жюльеттой по множеству своих приключений и
обладал бы привилегией выступать в роли рассказчика,
что довольно удивительно, поскольку все эти
повествования кажутся выстроенными вокруг мужского
господства, как экономического и политического, так и
дискурсивного.
В самом этом выборе и ограничении присутствует
необходимая логика, которая не исчерпывается спором
феминизма и романа для понимания. Разгоревшийся в
XVIII веке спор стал лишь в небольшой степени
выражением того, что ускользнуло от него самого и что са-
довский текст представил так отчетливо: речь идет о
противоречивом отношении между желанием
женщины и миром мужчин, о ее попытке выйти за пределы
семейного уклада, изменив вечным функциям матери и
жены и овладев дискурсом, из которого она была
исключена. Вопрос теперь стоит так: какую цену ей
приходится платить за эту смену статуса, и не либертен ли
контролирует этот процесс?
397
S НАРРАТИВНАЯ СДЕЛКА
§ Начнем с гипотезы (или тезиса), на чьих следствиях нам
.* предстоит сосредоточиться в дальнейшем: привилегия
^ женщины вести повествование от первого лица в садов-
| ских текстах достаточно четко детерминирована тем эко-
|" номическим и политическим статусом, которым наделяет-
^ ся женщина в типе общества, инсценированном в текстах
~" Сада, но в поразительно трансформированном виде.
Здесь нам прежде всего необходимо вспомнить об
экономических ставках любого повествования, чтобы
понять, каким образом позиция женщины, а не мужчины,
оказывается уникальной с экономической точки зрения.
Следующий отрывок из Барта позволит нам лучше
понять суть обсуждаемой проблемы: «В основе
рассказа всегда лежит желание. Вместе с тем, чтобы создать
рассказ, желание должно обладать изменчивостью,
способностью включаться в ту или иную систему
эквивалентных и метонимических отношений; или так: чтобы
создаться, рассказ должен владеть умением обмена,
умением подчиняться определенной экономической логике
[...] Так что же, рассказ — это монета, передаваемая из
рук в руки, предмет сделки, выгодный заклад, короче,
товар [...] На что обменивается рассказ? Сколько он
"стоит"?.. Благодаря хитроумнейшей уловке рассказ
становится репрезентацией той самой сделки, которая и
лежит в его основе: в этих рассказах-образцах
повествование превращается в теорию (экономическую)
повествования: здесь рассказывают не для того, чтобы
"развлечь", "наставить" или удовлетворить человеческую
потребность в некоем смысловом моционе;
рассказывают для того, чтобы, в обмен на что-то, нечто приобрести;
в рассказе как раз и изображается этот обмен: рассказ —
это одновременно и процесс производства, и его
продукт, товар и торговля, залог и держатель залога...»м
м Барт P. S/Z / Пер. с франц. Г. К. Косикова и В. П. Мурат.
М., 1994. С. 105-106.
398
Если верно, что любой рассказ одновременно явля- §
ется обменом и инсценировкой этого обмена, и если ,g
действительно «рассказывают для того, чтобы, в обмен <§
на что-то, нечто приобрести», то вопрос, который тре- у
буется прояснить в отношении текстов Сада (в которых 1
договор «рассуждение в обмен на оргию», подчеркну- »
тый Бартом, является только одним аспектом сделки), *
состоит в том, почему именно женщине достается эта |
привилегированная позиция в игре обменов и заключе- §
ний контрактов, позиция, которая гарантирует ей свое- §,
образную монополию на повествование или, другими ч-
словами, которая делает ее повествователем par exel- a
lence, или, как ее очень точно называет сам Сад, рас- *
сказчицей историй. ^
МУЖСКОЕ ГОСПОДСТВО,
или ЗАГОВОР ОТЦОВ
В «Происхождении семьи, частной собственности и
государства» Энгельс указывает (и он был, безусловно,
одним из первых, кто так последовательно подошел к
решению этого вопроса), что исторический факт
господства мужчин над женщинами имеет место в
отчетливо улавливаемые моменты изменения
экономических условий общества. Основные тезисы его книги
можно резюмировать следующим образом:
— Природа семейных и политических отношений
всегда отражает уровень технологического развития
внутри данного способа производства.
— Моногамия является поздним институтом,
который появляется одновременно с частной
собственностью и денежным обменом.
— Появление моногамии привело к порабощению
женщин мужчинами, утрате женщинами
материнского права и сексуальной свободы, их заточению в домаш-
399
g нюю сферу, которое следует считать «всемирно-исто-
а; рическим поражением женского пола... Женщина была
* лишена своего почетного положения, закабалена, пре-
m вращена в рабу его желаний, в простое орудие деторож-
« дения»15. «Единобрачие появляется в истории отнюдь
^ не в качестве основанного на согласии союза между
| мужчиной и женщиной и еще меньше в качестве выс-
^ шей формы этого союза. Напротив, оно проявляется
как порабощение одного пола другим, как
провозглашение неведомого до тех пор во всей предшествующей
истории противоречия между полами»16. Но у этого
рабства есть еще и своя генеалогия, оно может быть
обнаружено еще раньше, в самой структуре всякого
общества как символической организации,
управляемой запретами, то есть в качестве культурной
реальности, отделенной от непосредственности природы. Так,
Леви-Строс, показывая в «Элементарных структурах
родства», что запрет инцеста является универсальным
принципом исключения и разделения, определяющим
собой весь синтаксис родственных отношений,
обращает внимание, между делом, на следующий довольно
неприятный факт: «Отношение обмена, которое
конституирует брак, устанавливается не между мужчиной
и женщиной, [...] но между двумя группами мужчин,
где женщина выступает в качестве объекта обмена...»17
«В человеческом обществе [женщины] не имеют ни
равного места, ни равного социального положения.
Забыть об этом значит проглядеть тот основополагающий
факт, что именно мужчины меняются женщинами, а не
наоборот»18.
15 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и
государства // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: В 9 томах.
T.VI.M., 1987.C. 139.
16 Там же. С. 68.
17 Levi-Strauss С. Les structures elementaires du parente. Paris,
1947. P. 149.
18 Ibid. P. 147.
400
Вновь поднимая этот вопрос в «Структурной антро- а
пологий»19 и отвечая на обвинения в антифеминиэме, J
Леви-Строс уточняет, что функционирование системы <§
родства по аналогии с принципами функционирования у
языка ни в коей мере не несет в себе идеи превосход- 1
ства или неполноценности кого бы то ни было, что те- „.-
оретически ничто не мешает женщинам обмениваться гг
мужчинами, но тотчас добавляет, что этого не прои- |
зошло ни в одном человеческом обществе. Конечно, сам §
этот факт, его устойчивость и универсальность должны §.
вызывать удивления не меньше, чем запрет инцеста. J
Уже Мосс ясно осознал всю его значимость: «Разделе- I
ние полов является фундаментальным разделением, х
которое наложило такой отпечаток на наше общество, ^
о котором мы даже не подозреваем. Наша социология s
в этом отношении представляет собой нечто гораздо
меньшее, чем следовало бы [...] наша социология — это
социология одних только мужчин, а не социология
женщин или обоих полов»20.
Сколь бы «восхитительна» ни была та
рациональность, которую запрет инцеста утвердил в отношениях
индивидов, сколь необходимой ни казалась экзогамия,
знаменующая собой разрыв с порядком природы и
начало человеческого порядка как такового, платить за
все по-прежнему должны женщины. Запрет инцеста не
только производит неравное разделение между полами,
разделение в пользу мужчин, он также возводит
структурную необходимость в истину природы, возлагая на
миф ответственность за то, что все завоевания истории
относятся к ее началу, так что неравенство
соединяется с миропорядком и решениями богов. Мужчины
стали хозяевами социального порядка, имущества, языка
10 См.: Леви-Строс К. Структурная антропология / Пер. с
франц. под ред. В. В. Иванова. М., 1985. Гл. III: «Язык и
общество».
20 Mauss M. Essais de sociologie. Paris, 1971. P. 137.
401
2 только благодаря запрету на инцест, который отдает
| женщин в их руки в качестве объектов обмена и знаков
g любого обмена вообще.
(г! Сакральный характер этого запрета и серьезность
ч наказания, определенного для того, кто его нарушит,
§_ безусловно, предназначены для сохранения порядка в
| целом и для сохранения всей возможной системы раз-
^ личий (функций, обращений и т. д.), но его главной
целью в конечном счете является сохранение и
укрепление мужской власти; он гарантирует, охраняет то, что
можно было бы назвать постоянным заговором
мужчин, неприкосновенным основанием мужского
гомосексуального пакта, идеальным средством сохранения
зависимости женщин.
Возможно, именно по этой причине многие
этнологи рассматривают обряды инициации не столько как
вступление юноши в мир взрослых, сколько как
способ удаления его из того женского круга, которому
было поручено заботиться о нем в раннем детстве. Как
замечает Жолен о племени Сара, «инициальное
отделение ребенка подтверждает, что ребенок, становясь
взрослым, будет вести свое родство по отцовской
линии, и в то же время оно соответствует отделению
ребенка от матери и от материнской родни, поскольку
подтверждает, что его родство не будет вестись по
материнской линии»21.
Инициация мальчиков является в первую очередь
посвящением в их мужские привилегии. Овладение
знаниями и силами преподносится им взрослыми как
то, что недоступно женщинам, и даже более того, как
то, что строжайшим образом женщинам запрещено.
Код тайны и табуирование служат не сохранению
исключительного знания как такового, а напротив, они
21 Jaulin R., Pinton S. Gens du soi, gens de l'autre. Paris, 1973.
P. 419-420; см. об этом более подробно его же книгу:
Jaulin R. La mort Sara. Paris, 1971.
402
защищают то знание, которое получает свое могуще- §
ство за счет его недоступности для части общества, J
удерживаемой в состоянии зависимости. Инициаци- <§
онные мистерии являются не чем иным, как барьером у
кодов, учрежденных как особое знание, исключитель- ^
ность которого гарантирует обладание властью. Риту- «-
ал разом достигает двух целей: он вызывает у юноши *
ощущение его несомненного превосходства над миром |
женщин и, с другой стороны, принуждает женщин с §
благоговением или ужасом мириться со своим подчи- а,
ненным положением. Женская инициация, когда она ч-
имеет место, полностью направлена на признание жен- §
щинами того статуса, который им навязывается муж- х
чинами (женщины в подобных ритуалах усваивают %
свою «природную» неполноценность, необходимость ц
служить мужчинам, уважать табу, касающиеся
мужчин, и т. д.).
Теперь зададимся вопросом, что же общего имеет
функционирование подобных схем в так называемых
«примитивных» обществах и европейских обществах
XVIII столетия? И какова цель предпринятого нами
отступления от темы? Ответ состоит в том, что
подобное сопоставление дает нам возможность прочитать
в плане генеалогии ситуацию, которая не претерпела
кардинальных изменений: неравенство полов
по-прежнему остается не менее значительным, только оно стало
более специфичным, и в некоторых случаях даже
усилилось за счет исторических факторов, связанных с
новыми способами производства. Конец XVIII века
сочетает в себе остатки феодального права с теми новыми
отношениями, которые установились с
формированием торгового и промышленного капитализма, что
привело к концентрации всей экономической власти в семье
в руках мужчины и закрепило за женщиной функции
по ведению хозяйства и подчиненное положение по
отношению к мужу. (Энгельс: «Современная
индивидуальная семья основана на явном или замаскированном
403
3 домашнем рабстве женщины»22.) С другой стороны, вос-
as питание и образование, открывающее доступ к публич-
| ной деятельности и научным знаниям, получают толь-
m ко мальчики. Когда девочки получают образование, то
« это делается исключительно ради внешнего блеска, от-
§_ вечающего требованиям светского общества23.
| Итак, несмотря на незначительные уступки, по-
^ прежнему сохраняется заговор отцов и сыновей против
матерей и дочерей, содомитский сговор мужчин,
стремящихся удержать в своих руках экономическую и
политическую власть.
Именно благодаря тому, что власть переходит от
отцов к сыновьям без борьбы, по наследству, юноша
не является подходящим нарративным материалом, по-
22 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и
государства. С. 76.
23 Необходимо отметить, что в XVII—XVIII вв. всем, от Фе-
нелона до мадам Ментенон и от Руссо до мадам д'Эпине,
образование девочек казалось новой проблемой уже
потому, что этот вопрос даже не ставился раньше или, по
крайней мере, если он и ставился, то сразу же решался
благодаря полной «очевидности» того, что девочки не нуждаются
в том, чтобы учиться чему-либо, кроме как своим
обязанностям супруги и матери. По мнению
философов-моралистов, предоставление им доступа к знанию грозило
извращением их естественного предназначения и узурпацией
мужских привилегий. Женоненавистник Руссо не
способствовал решению вопроса, когда в Эмиле писал по поводу
воспитания Софи «Какая необходимость девочке в столь
раннем возрасте читать и писать? Разве ей придется уже
теперь вести хозяйство? Большинству девочек это
роковое знание сказывается скорее во вред, нежели на пользу»
(Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании / Пер. с франц.
Е. Н. Бируковой под ред. Л. Е. Пинского // Руссо Ж.-Ж.
Избранные сочинения: В 3 томах. Т. I. M., 1961. С. 561). За
неимением ничего лучшего, то есть в ожидании
методологически ценных трудов, многочисленные сведения по
этому вопросу см. в: Rousselot. L'Histoire de l'education des
femmes en France. Paris, 1883 (переиздана в Нью-Йорке
Бертом Франклином).
404
скольку не несет в себе никакой проблематичности, с а
ним не может произойти ничего такого, что уже не ,g
было бы заключено в его статусе, любая сфера господ- ^
ства — власть, деньги или дискурс — является тем, что у
дано ему непосредственно, в силу его полового отли- ]|
чия. Либертинаж — очевидное следствие этого отличия «
(к унаследованной свободе мужчины при моногамном *
праве и абсолютной власти сеньора в феодальной сие- |
теме добавляются право и власть банкира распоря- §
жаться всеми подходящими для обмена товарами). Быть ft
либертеном — это предикат субъекта-мужчины. Имен- ч-
но по этой причине либертен не является объектом рас- а
сказываемой истории, а является только объектом х
портретной характеристики, и именно поэтому Сад не X
написал ни одного «романа воспитания» о молодом че- а
ловеке. Для того чтобы мужчина мог стать предметом
рассказа, он должен быть поставлен в положение
женщины, не имеющей ничего и вынужденной завоевывать
все своими силами. Он должен оказаться банкротом
или деклассированным элементом, сделаться вором
или авантюристом. Так обстоит дело с героями двух
единственных у Сада «мужских» рассказов: о монахе-
либертене Жероме в «Жюстине» и о благородном
разбойнике Боршане, по прозвищу Бризатеста (то есть
Сорвиголова) в «Жюльетте». Но даже если
авантюрист и может быть хорошим «проводником» нарра-
тивности, даже если ему иногда выпадает роль
повествующего я, если он переходит из рук в руки, подобно
женщине, сам он все еще не является объектом
обмена: ему недостает способности стать знаком обмена,
воплощением денежной функции. Только женщина
способна воплощать собой отношения обмена, и
поэтому только она может поддерживать все
повествование в целом, куда рассказ авантюриста включается
только в качестве вставного эпизода. Этот рассказ
остается частью повествования, поскольку только
частично воспроизводит его условия. Повествующее я Бри-
405
2 затесты озвучивается Жюльеттой и остается ее тенью.
а? Из этого непреложно следует то, что как только женщи-
| на перестает служить обмену, как только она теряет
ст) подвижность, она немедленно перестает быть объектом
ч повествования. Именно это и происходит с Жюльет-
§_ той, которая, удалившись в свое поместье, чтобы спо-
| койно жить на ренту, теряет свою транслирующую
^ функцию, поскольку ей больше нечего сказать. Она
должна исчезнуть.
ОТВЕТ МАТЕРЕЙ
И ВОСПИТАНИЕ ДОЧЕРЕЙ
Одно из первых следствий мужского господства над
женщиной состоит в том, что главные функции
женщины оказываются связанными с ведением домашнего
хозяйства и заботой о семье. Не допущенная к
экономической власти и исключенная из публичной сферы,
женщина не располагает выбором.
Мир оказывается поделенным таким образом, что
границы совпадают с оппозицией полов: с одной
стороны, мужчины взяли на себя ответственность за
государственные дела, за работу, производство и торговлю.
С другой стороны, женщины оставлены для работы по
дому, приготовления пищи и воспитания детей,
главным образом, девочек, а мальчиков — только до тех пор,
пока они не вышли из раннего возраста (и не перешли
в руки отцов). Результатом этого, если говорить кратко,
стало появление весьма странной социальной
структуры, которая может быть охарактеризована как
политический патриархат в паре с домашним матриархатом
или, по крайней мере, с каким-то его подобием,
поскольку женщина, лишенная всякой экономической власти,
может действовать только ретроактивно и располагает
только своей дочерью, чтобы противостоять мужской
власти и мужскому деспотизму.
406
Мы можем сказать, что здесь существуют две линии §
преемственности, две независимые серии, демонстри- J
рующие эффекты, которые сопровождают противопо- <§
ложные ценности: |
— мужчины: господа, свободные (и либертены), хо- *о
зяева дискурса, политики, владельцы собственности, <*
производители товаров и торговцы; jr-
— женщины: покорные, зависимые (и добродетель- |
ные), бессловесные, деполитизированные, лишенные §
собственности и являющиеся предметом обмена. §.
Так схематично и выглядит разделение, обнаружи- „-
ваемое в большинстве известных человеческих об- §
ществ; практически невозможно назвать ни одного об- g
щества, где бы женщины не испытывали угнетения со %
стороны мужчин или, по крайней мере, не подвергались ^
ему ранее.
Тем не менее, как мы знаем, в любой притесняемой
группе неизбежно развивают компенсаторные
структуры, которые выполняют функции сопротивления и
позволяют притесняемой группе постепенно возвращать
утраченную власть, препятствовать осуществлению
насилия над собой и даже мистифицировать
угнетателей. Подобные действия являются, как правило,
асимметричными, изнуряющими и нервирующими
противника (отсюда истерия как протест женского тела, не
имеющего своего дискурса, и фригидность как
наказание, которому подвергается власть мужчин).
Лишенная экономической и политической власти,
женщина будет пытаться извлечь максимум выгоды для
себя в единственной доступной для нее сфере: в семье,
а точнее — в воспитании дочерей, которое полностью
находится в ее ведении. Таким образом, вызревает
заговор матерей, основная цель которого настроить
дочерей против мужчин — эксплуататоров и тиранов. Для
этого достаточно будет превратить ту самую
добродетель, которая требуется от жены и которая призвана
предотвратить вторжение постороннего, а также слу-
407
жить гарантией отцовского кровного права, в
инструмент отрицания и унижения желания мужчины.
Именно здесь и возникает Сад, рассматривающий
вызов матерей, которые объединяются со своими
дочерьми в их сопротивлении, в качестве репрессивного
и пуританского (не отдавая себе отчета в том, что это
есть неизбежный невротический ответ на мужское
господство). Одновременно этот вызов обусловливает
чисто литературный интерес Сада к дочерям.
Действительно, как мы уже видели, среди произведений Сада
нет романа, описывающего инициацию юного либерте-
на, поскольку он изначально получил все, что имеет, от
своего отца, и был сразу же интегрирован в мир мужчин.
Но в случае с дочерью все происходит совершенно по-
другому. Дочери, запертой в кругу семьи с ее
моральными ценностями и религиозными нормами,
наставляемой своей мстительной матерью против тиранического,
развращенного мира мужчин, всему приходится
учиться самой, все познать на собственном опыте. Но
сначала необходимо уничтожить заговор матерей, отменить
домашний матриархат и пустить дочь в свободное
обращение, однако не ограничивая при этом мужских
привилегий (для этого достаточно, чтобы дочь, в
отличие от своей матери, получила возможность разделить
привилегии мужчин). Другими словами, дочь должна
войти в мир мужчин, и этот переход называется
проституцией, а его началом чаще всего становится инцест
отца с дочерью и брата с сестрой.
Этот инцест, нагруженный множеством
детерминаций, репрезентирует уход из материнской сферы,
отказ от семейного запрета и уничтожение границ,
которые определялись как необходимый порядок обменов и
брачных союзов. Благодаря инцесту дочь превращается
в девушку легкого поведения — свободную женщину,
ничем не связанную и не обремененную никакими
обязанностями, в номадический пол, «бродячую вагину*
(по выражению Сада), и которая включена в отноше-
408
ния свободного обмена. Если садовский инцест предпо- ^
лагает наслаждение ужасающим сочетанием полового ,§
акта и обращений вроде «сестра моя», «дочь моя», то <§
все дело в том, что самого этого акта достаточно, чтобы §
упразднить все подобные обращения. При этом проис- "|
ходит разрушение семьи, и вместе с ней оказываются »
уничтоженными последние позиции материнской вла- г*
сти, поскольку инцест освобождает дочь прежде всего |
от ее матери. Этим объясняется не только необходи- §
мость инцеста, но и его функциональная ограничен- |,
ность отношениями отца с дочерью и брата с сестрой ч-
(вот почему исключаются инцестуозные отношения |
матери с сыном). *
Поскольку проблема дочерей требует своего разре- *■
шения, мы находим у Сада длинные рассуждения о вое- *
питании (или, скорее, об антивоспитании), которому
должны подвергнуться дочери, в то время как не
появляется ни малейшего намека на то, как надо
воспитывать сыновей, поскольку для сыновей проблема
решена с самого начала за счет их интеграции в отцовскую
сферу. То, что дано сыновьям, дочери должны открыть
и завоевать, и поскольку именно дочь является
субъектом становления, она оказывается объектом
повествования par exellence. Другими словами, в то время
как персонажи-мужчины заданы определением,
дочери даны через повествование и, более того, с точки
зрения Сада, на них и зиждется повествование,
инсценирующее выход из семьи, устранение подавляющей
власти матери, отношения сообщничества и
одновременно соперничества с мужчинами, обладающими
привилегиями политической и экономической власти.
Являясь ничем, дочь вследствие этого может стать всем
чем угодно, именно эта недостаточность и позволяет ей
пройти тот путь, который возлагается на нее
повествованием (и только на нее одну). Но чтобы она смогла
вести свой рассказ от первого лица, ей необходимо еще
и нечто другое.
409
МЕСТЬ ЛИБЕРТЕНОК
...Созданная для того, чтобы мстить
за свой пол и порабощать ваш...
От маркизы де Мертей
к виконту де Валъмону/Лакло.
Опасные связи, письмо LXXXI
Устранение ревнивых матерей открывает дорогу их
ловким дочерям. Это устранение не является важным
повествовательным элементом; скорее, это элемент,
делающий возможным повествование, главный предмет
которого — завоевание мужского мира. Посвящение в
либертинаж совпадает с вхождением в повествование.
И за это должны заплатить матери: таков важнейший
урок «Философии в будуаре». Посвящение Эжени, ее
превращение из несведущей девственницы в
законченную либертенку совершается за счет вмешательства
ряда персонажей, за каждым из которых строго
закреплены определенные функции. Это:
Отсутствующий (но в то же время причастный
происходящему) отец — знак ожидающего Эжени
внешнего мужского мира, где ей предстоит применять свое
новое знание и вести свое новое существование.
Наставница Эжени в либертинаже, мадам де Сент-
Анж, образец того, какой должна стать Эжени, и
одновременно образец того, какой следовало бы быть
матери. Она разоблачает тайны развратного мира мужчин,
а также посвящает Эжени в заговор свободных
женщин, которые намерены мстить своим угнетателям,
используя их в той мере, в какой позволяют мужчинам
пользоваться собой.
Философ-содомит Дольмансе, который учит Эжени
предпочитать анус вагине, философию — религии,
наслаждение — заботе о потомстве, сексуальную
свободу — семейным устоям, многообразие либертинажа —
ролям жены и матери.
410
а
о
ж
о
m
ж
о
§■
5
tu
Инцестпуозный брат, которому предстоит лишить §
Эжени девственности и вследствие этого разрушить J
семейные связи. <§
Оскорбленная мать, мадам де Мистиваль, появля- и
ющаяся для того, чтобы забрать свою дочь и вернуть ее 'о
обратно в семью (однако Эжени, попавшая в механизм, «-
уничтожающий семью и семейные ценности, готова к g-
тому, чтобы обратить свою афессию на мать, хранитель- |
ницу семьи). §
Появлению мадам де Мистваль предшествует по- а,
лучение письма от ее мужа, в котором заговорщикам ч-
Будуара предоставляется полная свобода наказать ее а
по своему усмотрению. Оскорбленная своей дочерью, х
выставленная на посмешище, униженная, она в итоге %
подвергается пытке, этапы которой призваны
продемонстрировать последовательную утрату того статуса,
на который она претендует. Сначала ее подвергают содо-
митскому соитию до тех пор, пока она не начинает
истекать кровью, что должно заставить ее признавать по
определению отвергаемое ею — анус и связанное с ним
наслаждение. Затем (через больного слугу) ее заражают
сифилисом ради того, чтобы она заплатила за свое
постоянное осуждение разврата. В итоге ей зашивают
вагину и анус: вагину — для того, чтобы уничтожить две
ее важнейшие функции: матери и жены, анус — в
наказание за то, что она ничего не желала о нем знать.
На символическом уровне эта демонстрация носит
абсолютно исчерпывающий характер. Вот почему Сад
предваряет свой текст саркастическим посвящением,
утверждая, что «матерям следует предписать это чтение
своим дочерям». Предполагается, что подобное чтение
станет губительным для системы моногамной семьи,
основанной на мужской власти и офаничивающей
женскую сексуальность необходимостью воспроизводства,
гарантировать которое призваны скромность и
верность супруги. Система может сохраняться только в том
случае, если дочери остаются в зависимости от своих
411
§ матерей, что должно подготавливать их к превращению
=5 в хороших жен для своих будущих мужей. Это важней-
g шее связующее звено и хочет уничтожить Сад, посколь-
m ку за образовавшимся разрывом должен последовать
ч распад всех связей. Если больше нет образцовых доче-
■^ рей, значит, больше нет верных супруг, семей, обяза-
| тельного воспроизводства и никаких запретов на на-
~ слаждение. И именно юная либертенка должна вызвать
этот обвал. Устранив мать и не обладая никакими
мужскими привилегиями, либертенка своими поступками
и своей историей должна обрести то, чем мужчины
владеют по праву и по наследству (о происхождении
которого Сад не задается вопросом). Другими словами, если
использовать терминологию Канта, либертинаж,
являющийся для мужчины аналитическим предикатом, для
женщины может быть только синтетическим.
История, которая завершилась для мужчины,
остается открытой для женщины. Вопрос состоит в том, что
может — что должно — произойти с ней? По сути дела,
она должна открыть мужской мир и овладеть им.
Парадокс заключается в том, что мир приключений — это мир
мужской, но только женщина имеет возможность
совершать открытия и перемещаться в нем, поскольку не
знает этого мира. Вот почему женщины, и только
женщины, выступают в роли рассказчиц.
Но это еще мир власти и денег, и его завоевание
означает для женщины узнать цену той единственной вещи,
которой она владеет: цену своего тела. Сила женщины
носит очевидно либидинальный характер, но это
поистине фантастическая сила, потому что она бесценна;
ведь самые огромные суммы — ничто в сравнении с
безмерностью мужского желания. Как только женщина
предъявляет свое тело на рынке, она обретает
возможность требовать от мужчины абсолютно всего, так как
мужчины обладают всей полнотой власти.
Следовательно, проституция, как самая дерзкая женская авантюра,
становится предметом повествования. Но это не про-
412
ституция, вызванная бедностью; это проституция ли- §
бертинажа, и это отличие полностью меняет ее статус. J
Важно отметить, что проституция является свобод- <§
ным выбором в том случае, если она демонстрирует у
распад системы принудительного, контролируемого об- ^
мена, определяющего существование семьи. И хотя *
проституция, вызванная бедностью, с ее борделями и »>
своднями встречается в произведениях Сада, она су- |
ществует только как экономическая отправная точка и §
как посвящение в практики разврата. Подлинные ли- а.
бертенки заявляют о себе тем, что обманывают своих ч-
хозяек и быстро находят богатых клиентов, добиваясь а
полной независимости, свободно переходя из рук в ру- g
ки и предлагая себя всем и каждому. У либертенок все- *;
гда покровители, а не сутенеры. Жюльетта не приносит а
никаких выгод ни Сен-Фону, ни Нуарсею; наоборот, она
выкачивает из них немалые суммы. В этом и состоит
принципиальная разница между либертенкой и
проституткой, поскольку эксплуатация последней, ее
зависимость от такой институции как бордель означает
замыкание ее в системе, дополняющей систему семьи, то есть
в системе, компенсирующей либидинальные запреты
семьи, установленные самими мужчинами. Эта
система не затрагивает синтаксис брачных союзов и порядок
договора. Но превращение проститутки в независимую
либертенку означает нападение на институт семьи и на
экономический порядок одновременно:
— на институт семьи, поскольку эта свобода
показывает, что дочь сама желает уничтожить в себе мать и
супругу, что она готова разорвать цепи брачного союза.
Проституция, представляемая в таком качестве,
отмечена подлинностью самой «природы»: «Будем торговать
собой... продавать себя... отдаваться... будем шлюхами
каждой частицей своего тела»24. «Распутство —
добродетель для женщины, ведь мы созданы только для сово-
24 IX, 70.
413
2 купления, и горе тем, кого еще сковывают глупые пред-
| рассудки добродетели»25. Либертинаж женщины яв-
* ляется обязательным моментом в переходе к респуб-
it5 ликанской утопии свободной любви, к броуновскому
ч движению желающих тел, и это доказывает, что луч-
|^ ший способ остановить обмен — это сделать его тоталь-
| ным и безразличным;
~ — на экономический порядок, поскольку только
женщина, извлекая выгоду из своего тела, может
осуществить то, что недоступно мужчинам: полную
перверсию капитала. И хотя проституция ни в коей мере не
может поколебать мужскую экономическую власть и
даже, напротив, утверждает ее, она тем не менее в
состоянии присвоить себе плоды этой власти и сделать их
неузнаваемыми. Таким образом, в одном либертенка
все же превосходит либертена-мужчину: не работая, за
счет одной своей эротической ценности, она
обеспечивает перетекание капитала из мужской сферы в
женскую. Но не для того, чтобы копировать модель
мужской экономической власти. Либертенка подделывает
и нарушает все контракты, она ничего не инвестирует,
она расточает, она лишает богатство его
производительного значения, либидинизируя весь экономический
процесс и выставляя напоказ вытесненную сексуальную
сущность всякой политической власти. Она
завладевает всем механизмом и выворачивает его наизнанку,
демонстрируя, что итог уже содержится в
предпосылках, следствия — в причинах, другими словами, что цель,
которая заключена в работе, — это наслаждение, а цель
производства — трата. Мужчина узнает это благодаря
либертенке, и здесь она идет дальше него: она
репрезентирует собой абсолютное незаконное присвоение.
Когда либертен обманывает и ворует, он всегда делает это
прикрываясь исполнением официальной функции (как
министр, президент, финансист, прелат), в то время как
25 VIII, 471.
414
либертенка делает это открыто, предлагая свое тело §
мужскому желанию. Она заставляет признать это жела- J
ние и уничтожает все его алиби. <§
Либертен, который обладает устойчивым положени- £
ем благодаря своему экономическому и социальному 1
статусу, лишен возможности обращаться внутри собст- „.-
венного поля власти. Он обрек себя на неподвижность, »■
предоставив номадическую свободу либертенке. В про- |
странстве между неизменными и институционально за- §
крепленными мужскими позициями она представляет §.
собой подвижный и неопределенный элемент, функ- «-■
циями которого становятся перемещения и передача а
желаний, богатств и слов. Однако здесь уже не действу- |
ет логика дара и ответного дара, поскольку либертен- N
ка больше не следует навязанными и ограниченными й
путями обмена (которые вели к образованию семьи и
определяли границы культурной и символической эн-
догении): она сама обменивается собой со всеми. Она
стимулирует обращение материальных ценностей, но
лишь для того, чтобы их растратить (в роскоши и
наслаждении). Она пускает в обращение речь, но только
ради того, чтобы сделать ее публичной и не имеющей
границ (принцип «сказать все* в философии либерти-
нажа). Вот почему она является повествованием. Она —
символ обращения желания и его цены, но она также
образ вездесущести множественной точки зрения (она
везде ходит, все видит, все испытывает). А поскольку она
свободно обменивает себя и по своей охоте себя
предлагает, она является приключением, которое
рассказывает само себя. Самопроституирование учреждает
повествующее я.
Необходимо поэтому признать, что женская
нарративная привилегия в садовских текстах порождается
тем логическим тупиком, в который упирается власть
мужчин, одновременно желающая сохранить свои
традиционные привилегии и отменить связанные с ними
семейные и брачные структуры. Именно это double bind
415
3 успешно распутывает либертенка, поскольку она мо-
* жет, не угрожая экономической и политической гегемо-
| нии мужчин, ниспровергнуть устои материнства. Но
m однажды войдя в мужской мир, она становится опасной
* силой. Она необходима разрушителю, но и сама несет
^ для него угрозу. Именно поэтому под внешним соуча-
| стием множатся знаки ожесточенной конфронтации,
^ если не сказать войны, полов. Образцом такой
враждебной мужчинам либертенки является Клервиль (в
конечном итоге автор заставит ее расплатиться за это и
уничтожит), и именно она призвана постоянно
напоминать другим о неустранимом конфликте. Так, Жюльет-
те, которая спрашивает ее, возможно ли обманывать
своего любовника, Клервиль отвечает: «Конечно же,
уже одно то, что он мужчина, обязывает нас поступать
с ним так, как он обычно обходится с нами; а коль
скоро ни один мужчина не искренен, с чего бы нам быть
искренними с ними? Наслаждайся вкусами своего
любовника, когда они совпадают с твоими капризами;
используй с наибольшей выгодой для себя его моральные
и физические достоинства; воспламеняйся его разумом,
вдохновляйся его талантами; но никогда ни на один миг
не забывай, что он принадлежит к полу, который ведет
войну с твоим, не забывай, что ты никогда не должна
упускать возможности отомстить за оскорбления,
нанесенные твоему полу, в ожидании которых ты сама
живешь каждый день; короче говоря, он мужчина, и ты
должна обманывать его»26. А когда Жюльетта
предлагает подвергнуть пытке женщин, Клервиль снова ей
отвечает: «Я предпочитаю пытать мужчин: я говорила тебе,
что мне нравится мстить за свой пол».
Ради своих собственных интересов либертен пожелал
произвести женщину в статус либертенки, но
одновременно утратил очевидный характер своей власти. И здесь
начинается время мужской меланхолии, которая прояв-
20 VIII, 505.
416
ляется в разочарованной реплике Нуарсея в ответ на |
вопрос Жюльетты, принимает ли он участие в собрани- ,§
ях у Клервиль: «В те дни, когда мужчины были там в <§
большинстве, — отвечал он, — я никогда не пропускал ни §
одного; но я перестал ходить туда с тех пор, как все ока- 1
залось в руках того пола, власть которого мне так не- «
приятна. Сен-Фон последовал моему примеру»27. Та- g
ким образом, неудивительно, что скрытое соперничество |
между полами ведет каждый из них к эротической автар- §
кии, к замыканию на самом себе и к угрозе полного вза- |.
имного равнодушия (либертены никогда не пускаются ч-
в путь без своих «прислужников-содомитов», а женщи- а
ны — без своих «старательниц»). Теперь гомосексуаль- |
ный пакт мужчин повторен гомосексуальным пактом *|
женщин. Первый продолжает ревниво защищать моно- ^
полию на экономическую и политическую власть,
второй представляет собой хорошо продуманную стратегию
присвоения и постепенного уничтожения преимуществ
мужского пакта. Их взаимозависимость по-прежнему
остается полной, но теперь она разыгрывается на грани
вызова. Так начинается беспощадное противостояние
завоевательниц-лесбиянок и деспотов-содомитов.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОТ ПРИРОДЫ,
или СИСТЕМА ЖЮСТИНА/ЖЮЛЬЕТТА
Если Леви-Строс прав, рассматривая запрет инцеста
как форму перехода от природы к культуре, то,
возможно, это справедливо именно в той мере, в какой запрет
соответствует резонам мужчин, то есть позволяет
удерживать женщин в сфере природы, а культуру
рассматривать как собственную привилегию. Женщины, которых
обменивают мужчины, выступают наравне с другими
«дарами природы». Но апелляция к «природе» этим не
27 VIII, 287.
МЗак 3904
417
2 ограничивается. Их «естественность», институциона-
* лизированная запретом, оказывается метонимически
| связана со всей сетью других «естественных» структур,
$ куда входят: задача биологического воспроизводства и
ч вытекающая отсюда забота о домашнем очаге, физиче-
<^ екая слабость и соответственно неприспособленность
| женщины к жизни вне дома (к охоте, войне, тяжелой
^ работе), а следовательно, к участию в общественной
жизни. Другими словами, создание общественных
институтов и оформление дискурса происходит под
знаком мужского господства и дискриминации женщин,
под прикрытием рассуждений, что так все устроено от
природы. Итак, мужчина пользуется преимуществами,
которые ему открывает принадлежность к сфере
культуры, а следовательно, к сфере артефактов,
промышленности, опосредствования, преобразований и в
конечном счете власти и разума. Как следствие этого,
женщины оказываются отброшенными в сферу
природы, естественности, непосредственности, инстинкта
и в конечном счете зависимости. Женщина — это то
«первобытное», которое преодолел мужчина, то, что он
подверг отрицанию в своей истории.
Это понимание «естественности» как следствие
исключенное™ из истории Сад никогда напрямую не
оспаривал, напротив, все меняя местами, он делает эту
«естественность» звеном в цепи своих доказательств.
Если действительно можно предположить, что через
женщину говорит природа, и если женщина
становится либертенкой, то это доказывает то, что либертинаж
естествен. В женщине и через женщину порок
обретает печать изначальное™ и непосредственности.
Либертинаж мужчины, напротив, есть нечто самоочевидное:
мужчина, который принадлежит порядку культуры,
сфере артефактов, изначально, по определению
оказывается трансгрессивным, склонным к эксцессам и
противоестественной извращенности, его либертинаж
в каком-то смысле избыточен, если не тавтологичен. Но
418
прерогатива женщин состоит в том, чтобы доказать не- §
что более важное: что сама природа — это порок, жес- ,g
токость и артефакт; через женщину либертинаж дости- <§
гает неподдельности природы. у
Именно это доказательство от природы осуществля- ]|
ется в системе Жюстина/Жюльетта. В их параллельно „-
разворачивающихся и в конце концов пересекающих- *
ся приключениях «природа» подвергается своеобраз- |
ному испытанию, проходя через «огонь и воду» нарра- §
тива, чтобы в конце концов высказать свою истину и а.
вынести приговор. ч-
Доказательство первое: Жюстина, или образ женщи- а
ны, которая осуждает порок (то есть удовольствие, пре- х
ступление, выгоду) во имя (руссоистского) голоса со- N
вести, который она принимает за голос природы. Чем £5
сильнее она в этом упорствует, тем более ужасные
события с ней происходят, события, вынуждающие ее к
пассивному соучастию, заставляющие подвергать себя
безрассудному риску, как будто ее постоянно отрицаемое
желание неудержимо влечет ее ко всему, что она
порицает. Жюстина — это всегда противоречивая,
подавляемая природа, которая утверждается в качестве негатива
той добродетели, с которой природу всегда
отождествляют. Вот почему природа мстит: Жюстина гибнет,
пораженная молнией. Природа, неспособная говорить через
нее, говорит против нее. Первый приговор вынесен.
Второе доказательство: Жюльетта, или образ
женщины, которая бросается в наслаждения, преступления
и проституцию, которая не отступает ни перед чем, что
могло бы доставить ей удовольствие, как бы ужасно это
ни было. Она удачлива, она становится богатой,
приобретает друзей и поклонников; она вся радость и
торжество, она — спонтанное движение желания.
Жюльетта — это цветущая природа. Вердикт ясен: в Жюльетте
и через Жюльетту природа позволяет нам слышать ее
подлинный и, без всяких сомнений, естественный
голос, голос женщины.
419
S Но одновременно выясняется, что природа — совсем
* не то, чем она казалась: не эталон всех норм, а, скорее,
| их молчание, не место неоспоримых целей, а место всех
m возможностей. Она не может поддерживать прежние
ч противопоставления или сохраняет их только ради того,
<^ чтобы перевернуть их ценность. Так система Жюстина/
| Жюльетта запечатлевается на телах как альтернатива
~ вагины и ануса, и эта парадигма сексуальных зон
отсылает к парадигме морального противопоставления
добродетели и порока. Вагина, как и добродетель, теперь
является только знаком псевдоприроды; то есть
расценивается как предрассудок, освященный
авторитетом религии. Вагина связана с сексуальностью супруги,
а следовательно, матери: она легитимизируется
необходимостью воспроизводства, а значит, стыдливостью и
подавлением. Бесплодный, бисексуальный анус
полностью исключает материнскую функцию, он придает
сексуальности характер чистого бесцельного
наслаждения. Под знаком ануса Жюльетта отказывается от семьи
и вступает в сообщество либертенов, свободно переходя
от одного к другому (в то время как вагина вынуждает
к матримониальной закрепленности). В то же время,
однако, сама вагина становится индифферентным
органом, эротической зоной, включенной в серию на общих
основаниях. Понятие природы подвергается полному
ироническому переосмыслению, что влечет за собой
критической пересмотр, а вслед за ним и разрыв всех
привычных связей. Очевидно, такое искажение смысла
общепринятой референции, понятия-эталона имеет
стратегический характер.
Но эта победа ануса над вагиной, возможно, не
столько победа женщин, сколько победа
мужчин-содомитов над женщинами. И если женщина может
быть признана и допущена в качестве полноправного
участника заговора мужчин, только сделавшись ли-
бертенкой, это означает также, что женщина для
этого должна стать мужчиной, усвоив мужские цели и
420
фантазмы28, отождествив себя с мужчинами, которые а
признаются господами-либертенами, и практикуя то же J
анальное господство: насилие и господство, знание и <§
апатию. Кто же она, настоящая либертенка? Это кто-то §
невероятный: господин Жюльетта. *§
РАССКАЗЧИЦА И ЕЕ СУТЕНЕР §
о
Тело Жюльетты, тело повествования я"
Тело Жюльетты, — способное продаваться, обмени- а
ваться и доставлять удовольствие до бесконечности — g
именно по этой самой причине и отличается тем, что *■
наделено ртом, способным излагать все события, про- й
исходящие с этим телом, и все мысли, которые через
него проходят. Итак, Жюльетта — это один неумолка-
ющий повествующий голос, который пронизывает
бесчисленные поступки, действия, дискурсы и аргументы
тех, кого она встречает на своем пути. Слова других
людей, их мысли и приключения постоянно живут в ее
речи, поскольку именно ее тело является всегда темой
всех этих слов и сюжетом всех приключений. Ее тело
имеет ту же протяженность, что и ее дискурс: это
сказуемое всех предложений, но также их словарь. Оно
покрыто запретными означаемыми и другими
дискурсами так же, как покрыто другими телами. Тело-агора:
рынок слов, удовольствий и денег — академия, бордель
и банк одновременно.
Конечно, необходимо иметь в виду многозначный
статус Жюльетты. Как проститутке, ей приходится
признать, что она не производит материальных ценностей,
она только может перераспределять их, вытягивая из
мужчин. Она должна согласиться с тем, что она — про-
2в См. об этом: Irigaray L. «Fran^aises» ne faites plus un effort //
Irigaray L. Ce sexe qui n'en est pas un. Paris, 1977.
421
g сто продажное тело, дискурсивный элемент, существу-
э; ющий в качестве предиката к субъекту мужчине, эле-
| мент подвижный, которым можно всячески манипулиро-
3, вать во всевозможных конструкциях желания (оргиях,
ч пиршествах, путешествиях, преступлениях...). Но так
^ как она свободная проститутка и либертенка (а иногда
| даже сводня), управляющая своим торговым предприя-
^ тием, назначающая цену и забирающая всю прибыль,
она добивается власти в своем собственном дискурсе
представлять тот объект, которым она является для
мужчин. Другими словами, она обретает возможность
само-высказывания, становясь повествующим я. И если
верно, что целью любого повествования является
обмен и повествовательная речь функционирует точно
так же, как деньги, тогда мы можем понять, как садов-
ское повествование, полагая женщину в качестве
«живых денег», отчетливо и перверсивно предъявляет ее и
как объект, и как субъект повествования
одновременно: о ней рассказывают, и она рассказывает сама.
Поэтому Жюльетта и высказывается, и является
объектом высказывания, она и активна и пассивна, создает и
создана сама, торгует собой и сама выступает
предметом торговли, она и предмет обмена, и сама участвует в
обмене, короче говоря, она совершенная
синтаксическая конструкция, куда входят все подчиненные
предложения, где выражаются все наклонения и заключена
вся лексика. Ее тело, — рот которого рассказывает о том,
что это тело делает, производя абсолютно перформа-
тивную речь, — полностью соизмеримо с тем
повествованием, которое оно производит. Ее тело —
энциклопедическая фраза, сама себя высказывающая.
Автор и сутенер
Хотя Жюльетта и обладает привилегией повествующего
я, надо признать, что это привилегия была ей кем-то
пожалована. Какова бы ни была ее независимость в каче-
422
стве повествуемого персонажа, будучи созданной пись- S
мом, она все равно остается подчиненной господину, ко- J
торый берет на себя функцию постоянно напоминать ей <§
о своей бесконечной власти. Этот верховный, неумоли- «
мый сутенер — автор (в его чистом статусе скриптора). 1
Действительно, не следует забывать, что повествова- «
ние о Жюльетте начинается там, где заканчивается по- g
вествование о Жюстине, ведущееся от третьего лица. |
(Жюстина, не будучи либертенкой, не имеет доступа к ав- §
тонаррации, которая была бы невыносимой, поскольку а.
неизбежно подвергалась бы вытеснению. Сад наделяет ч-
Жюстину автонаррацией в первых двух версиях рома- а
на, которые соответственно называются «Злоключения g
добродетели» и «Жюстина, или Несчастия добродете- *■
ли», но в конечном итоге, и это вполне логично, лишает а
ее автонаррации в «Новой Жюстине», чтобы вернуть ли-
бертинажу привилегию точки зрения и господства над
высказыванием.) История Жюльетты вписана в
пространство повествования, которое находится под
явным авторским контролем. Автор обнаруживает свое
присутствие, чтобы ввести персонажа («Жюльетта,
устроившись на оттоманке, начинает рассказывать свои
истории, с которыми читатель познакомится в
следующих томах»), и появляется, чтобы сказать последнее
слово («Так мадам де Лорсанж [Жюльетта] завершила
историю своих приключений...»). Жюльетта опять
попадает в подчинение третьему лицу, но она не просто
возвращена своему господину, но затребована им в
качестве своей исключительной (авторской)
собственности: «Эта необыкновенная женщина умерла, не
оставив никаких записей о последних событиях своей
жизни, так что ни один писатель не сможет поведать о них
читателям». Эту претензию автора на власть можно
обнаружить не только в начале и конце повествования:
всякий раз, когда повествование Жюльетты
прерывается одним из ее слушателей, про нее опять говорится
в третьем лице («Конечно же, продолжала наша рас-
423
S сказчица»29 или «Пусть так, согласилась мадам де Лор-
55 санж...»30). Но свое неустранимое присутствие автор
* обозначает еще более очевидным образом в многочис-
$ ленных постраничных сносках, где, прерывая речь сво-
ч его персонажа, он, словно закадровый голос, обращается
^ к читателю, своему сообщнику по либертинажу. Если
| дискурс и передан женщине, то только в той мере, в ка-
~ кой она остается «креатурой» автора, существующей и
действующей благодаря его власти. Письмо сутенера все
время надзирает за проституткой и сдерживает ее речь.
Он позволяет ей быть свободной в той мере, в какой
этого требует логика разыгрываемых ролей, прерывая ее то
здесь, то там, чтобы обозначить свое молчаливое
присутствие, и в итоге полностью завладевая дискурсом,
чтобы завершить повествование и сказать последнее слово.
Если появление рассказчицы в садовских
произведениях четко детерминировано новой экономической
и символической функцией, выпадающей на долю ли-
бертенки, то вместе с этим выявляется не только сила
этой функции, но и ее строгая ограниченность. В то же
время обнаруживается непреодолимое противоречие
садовской утопии, которая помещает субверсивное
контробщество в границы существующего общества,
чтобы, словно при помощи химического растворителя,
проникнуть во все его скрепляющие звенья. Таким
образом, садовская утопия пытается планировать
невозможное: возведение закона желания в закон
политической власти.
Письмо/Мать/Инцест
Писатель, хозяин и мужчина, осуществляет полный
контроль над рассказчицей и демонстрирует читателю
свою постоянную скрытую власть над ней, однако сам
20 VIII, 161.
30 IX, 108.
424
он, чтобы получить доступ к письму, должен был пре- ^
терпеть странную мутацию: он должен был получить ^
признание матери и поэтому — сам стать женщиной: -»
«Писатель-романист — это дитя природы... она создала у
его, чтобы он изобразил ее своей кистью, и если он не "о
становится любовником своей матери с той минуты, «-
когда она произведет его на свет, пусть лучше никогда *
не пишет — мы не станем его читать»31. Пусть матерью |
здесь является природа, а сыном — писатель-романист §
(хотя, впрочем, конструкция предложения удивитель- §.
но двусмысленна, и речь может идти и о «родной» ма- ч-
тери), но вне зависимости от того, имеется ли в виду от- а
ношение метафорическое, логика остается неизменной: g
путь к писательству пролегает через инцестуальные %
отношения матери и сына. S
Получается, что автор как будто должен двигаться
по пути, противоположному пути рассказчицы. Будучи
либертенкой, рассказчица вырывает себя из общества
матерей и под знаком отцовско/дочернего или братско/
сестринского инцеста интегрируется в общество
мужчин, разделяя таким образом те привилегии, которые
сыновья наследуют от отцов, однако вполне
специфическим образом, за счет осуществления функции обмена.
Что касается сыновей, то для них невозможно желание
к своим матерям, ибо это означало бы их отпадение от
мужской власти и предательство заговора отцов. И все
же это предательство должно быть совершено одним из
сыновей: писателем. Если повествование — это
конститутивно женская привилегия, то, чтобы рассказать о
рассказчице, писатель должен превратить себя в женщину,
получить признание в женской сфере, которая
структурно находится под контролем матери; чтобы писать, он
должен стать ее любовником. (Обратим внимание на
то, как у Сада инцест наделяется этой функцией
признания: партнерство устанавливается через преступление,
31 X, 17.
425
3 совершенное сообща, через совместную трансгрессию,
| через доступ к одинаковым привилегиям и одинаковым
* тайнам — другими словами, через приобщение к
одного му и тому же как вступление в круг заговорщиков.)
4 Чего хочет садовский писатель? Он хочет соблазнить
^ Мать, совершить с ней инцест, чтобы получить доступ
| к повествовательной речи, но он одновременно хочет
~ остаться в пределах Закона Отца, внутри сферы и
могущества символического, чтобы не потерять ни
одной привилегии из тех, которые дает ему его власть (над
женщинами). Итак, он хочет соблазнить Мать,
предложив ей то, что он получил от Отца, но в то же время
он делает ее Матерью закона. Она дает ему свою грудь,
холодную, как тюремные камни, ревнивую, страшную,
обольщающую грудь, к которой он стремится припасть.
Здесь разворачивается типично садовская траектория
письма — инцест и преступление, соблазнение Матери и
ее убийство, ее изгнание и ее культ, — которая порождает
головокружительное столкновение влечения с
символическим, формирующее этот писательский стиль как
оскорбление словом и оскорбление самого слова.
Парадокс Садовского скриптора кажется странным:
он не может создать свою рассказчицу, пока не оторвет
ее от Матери и не позволит ей свободно вращаться среди
мужчин, и, однако, он не может создать себя как
писателя или получить нарративную власть, пока не вернется
в женскую сферу и заново не присвоит себе ее
привилегий. Изменник и трансвестит, одновременно
участвующий в нескольких заговорах, садовский скриптор
располагается в той точке обмена и двуличия, где текст,
произведенный его притворством, требует от нас
готовности как юмористически воспринимать его вымысел,
так и приходить в отчаяние из-за его противоречий.
Постфактум II
ПРОДОЛЖЕНИЕ В ВИДЕ ВЫХОДА
Если мы противопоставляем жизнь
театру, то потому, что чувствуем:
театр — это территория, которая
граничит со смертью и где дозволена
любая вольность.
Жан Жене
Жестокость вымысла:
Театр критической провокации
Можно задаться вопросом, насколько характерно для са-
довских текстов приводить в замешательство читателей
эффектом своеобразного дивергирующего страбизма.
Все происходит так, как если бы неизбежно возникали
две линии противоположных и все более расходящихся
друг с другом утверждений. С одной стороны, несмотря
на все наши методологические предосторожности,
связанные с автономным статусом текста, мы вынуждены
признать, что садовский универсум как таковой
(назовем так все, что описывается в этих текстах как
социальная система с ее властными отношениями, законами
и практиками) совершенно одиозен и невыносим.
Неприемлем безоговорочно. Однако мы должны признать
и то, что универсум Сада, данный нам в качестве
вымысла, никогда не предлагается ни как нечто истинное, ни
как объект для подражания. Зачем же в таком случае
было сделано это описание? Что означает эта
блистательная провокация? Что говорит с нами в этих
текстах и в какой степени Сад позволяет нам
отождествить этот голос с его собственным? Какой смысл в том,
чтобы стремиться к искусному сочетанию прелестей ли-
бертеновской утопии с безумием жестокости, — столь
же скучному, сколь и неправдоподобному? Следует
427
^ еще раз поднять общий вопрос о смысле этих парадок-
ss сальных текстов: что в них происходит, что приходит к
| ним извне и что они демонстрируют — или демонтиру-
"§■ ют, — доходя, возможно, до полнейшего абсурда?
о В садовских текстах мы могли бы вслед за Фуко
увидеть завершение классического мышления,
признавшего порядок репрезентации в качестве
единственно возможного: «Сад достигает предела классического
дискурса и классического мышления. Его царство у их
границ»1. Мы могли бы добавить, что эксцессивный
принцип сказать все ввел в дискурс не только его
границы, но и внешнюю сторону этих границ и что
именно благодаря своей чрезмерности Саду удалось
полностью завершить перечень.
Но это не объясняет, почему подобное предприятие
было так скупо вознаграждено и почему эти тексты
навлекли на себя так много проклятий и запретов.
Возможно, Сад, превзойдя энциклопедическую полноту
охвата, завершил классическое мышление самым
неожиданным образом, поскольку тот ужас, который
творится в его текстах, вовсе не выходит за пределы
разума, не оказывается за его гранью, а, на самом деле,
является его невероятным расширением, его
скандальным продолжением, тем, что неизбежно производит
сам разум и что он отчаянно пытается представить как
нечто внеположное себе, как свою отвратительную
антитезу. Сад совершает непростительное: он
принуждает разум признать эту изнанку в качестве конечного
пункта его программы и его логики.
Как известно, программа классической мысли была
четко сформулирована Декартом в его знаменитом
лозунге: станем господами и хозяевами природы. Таким
образом, Декарт простодушно признает, что страстно
1 Фуко М. Слова и веши: Археология гуманитарных наук /
Пер. с франц. В. П. Визгина и Н. С. Автономовой. СПб.,
1994. С 238.
428
призывавшаяся им mathesis universalis является ключом ,§
к самому что ни на есть практическому господству, а а
нерасторжимая связь между знанием и властью, кото- *
рые с этих пор объединяются в techne, уже не подверга- ^
ется сомнению. Энциклопедический проект по исчер- *
пывающему называнию и классификации природных |
явлений, жизни, труда и языка, осуществляющийся под j"j
славным именем знания (против религиозного и вар- г§
варского обскурантизма), представляется себе самому [§
настолько оправданным своими либеральными
амбициями, что даже не скрывает стремления к
радикальному и нетерпимому господству: все, без исключения,
должно быть захвачено в сети не терпящего
возражений, не допускающего сопротивления дискурса.
Именно под знаком разума как универсального
инструмента знания, как гаранта прогресса, как
фундамента права, как основания любого договора,
устанавливается над миром безжалостное господство техники.
В самодостаточности разума мы прежде всего видим
наступление новой свободы, той самой, которую разум
отвоевал у старых властителей — церкви и абсолютной
монархии. Но мы не видим — до такой степени это
самоочевидно, — что все тот же разум ответствен за развитие
товарной экономики и рождение промышленного
капитализма, что на разуме также целиком зиждется
Государство-Нация — великий уравнитель культурных и
языковых различий, идеальный инструмент, с помощью
которого новая буржуазия может придавать
универсальную ценность своим частным интересам и, эксплуатируя
этот трансцендентный символ, перемалывать
крестьянство в жерновах Наполеоновских войн.
Другими словами, этот обман развивается и
укореняется прежде всего в политической среде. Разум,
полагаемый в качестве принципа равенства и регулятора
социальных отношений, должен установить закон,
полагаемый в качестве справедливого посредника между
людьми вне зависимости от их положения и власти. Но
429
именно в этом и состоит блеф: привыкнув представлять
закон универсальным, справедливым и ощущать его
формальную власть над всеми, мы не замечаем, в чем он
выгоден лишь немногим. Сад с иронией анализирует
это в трактате «Французы, еще одно усилие» в связи с
«клятвой уважать собственность»: «Я спрашиваю вас
теперь, является ли истинно справедливым закон,
повелевающий тем, кто не имеет ничего, уважать тех, у
кого есть все?» Отношения, основывающиеся на праве,
не покорили насилие, а стали для него идеальной
маской, поскольку им в буквальном смысле удалось
заставить поклоняться себе тех, кого они обманывают.
Насилие остается в неприкосновенности, но благодаря
этому альянсу с разумом оно научилось
программировать себя, управлять собой и растворяться в
бесчисленных видах принуждения, дрессуры и санкций. Одним
словом, насилие научилось править с умом.
Задачи повышения производительности отныне
всегда будут формулироваться под этим безупречным
покровом всепоглощающей рациональности, благодаря
чему беспощадная эксплуатация «человеческого
материала» на фабриках обретет свою безмятежную
легитимность. Можно возразить, что капитал извратил techne,
поставив ее на службу своей выгоде, фальсифицировав
программу разума. Будь это справедливо, все равно
потребовалось бы объяснить, почему в профамме разума
не предполагалось ничего, что могло бы этому
противостоять, и почему само это противоречие не было
замечено с самого начала. Эта бесчеловечность либерализма
была оставлена без внимания. И если бы она не
происходила из самого поля разума, а разум был только
повенчан с либеральной мыслью, все равно остается узнать,
почему каждый, кто видит разум идущим с ней рука об
руку, находит жениха столь привлекательным. Все
философы Просвещения, за исключением Руссо (по
крайней мере, в этом вопросе), приветствовали этот брак.
Именно этот укоренившийся невидимый обман разоб-
430
лачают тексты Сада. Не порицая, но утрируя. Сад не на- ,§
падал на философов Просвещения, и он не возвещал з
пришествие иррационального, — как это слишком час- *
то опрометчиво утверждалось, — он никогда не отрицал ^
всемогущество разума. Он только еще дальше продлил *
луч Просвещения, оказавшись его самой крайней точ- |
кой. Он сделал его свет еще более жестким и резким. Он ^
показал разуму, что тот, кого он считает своей противо- с§
положностью, иррациональным и злым началом, этот ^
монстр всегда порождался им самим. Он заставил разум
признать своего незаконнорожденного ребенка и
сделал это, по существу, двумя способами: он выразил
преступление, ужас, эксплуатацию в форме разума, то есть
в его языке и его дискурсивной организации, и,
во-вторых, он выразил это в формулах разума, то есть
представил их как следствия принципов разума или как
верификацию его гипотез. В своем сверхрационализме Сад
реинтегрировал в разум то, о чем последний ничего не
желал знать, обеспечив себе, благодаря этой жертве,
этому неведению, формальную невиновность. Сад
заставил разум признать, что ужас — не внеположен разуму,
а, напротив, является его неизменным следствием.
Я читаю Сада как кошмар Канта, и он
представляется мне чревовещателем эпохи Просвещения, голосом
той ночи, которую высмеивал Гегель, видя в ней место
неразличения, где «все кошки серы», ночь, конец
которой, как ему представлялось, он приветствовал в
«величественном восходе» Французской революции,
отождествляемой с триумфальным пришествием разума. Все
так, но Гегель не признавал того, что во имя разума и под
эгидой государства, где этот разум
«объективировался», возник якобинский террор. Кошек вытащили на
свет только для того, чтобы отправить на живодерню.
И кроме того, этот террор был только наиболее
впечатляющим знаком практики, сделавшейся в дальнейшем
самой обычной, знаком того, что любой вид господства,
любая разновидность дисциплинарного воздействия и
431
= все виды «нормализации» будут сформированы в соот-
I, ветствии с самой экстремальной логикой под патрона-
а том власти, установленной разумом.
|h Этот разум, который вплоть до конца эпохи класси-
о цизма определялся в основном как мудрость, способная
модулировать и артикулировать знание, отныне
определяется как наука — mathesis universalis, то есть подсчет
и даже бухгалтерский учет, а также как техника, то есть
полный контроль и рентабельность. Сад откроет разуму
то, что в своей новой форме последний неизбежно
является инструментом эксплуатации и разрушения, и даже
более того, Сад раскроет главные составляющие этого
процесса: власть, наслаждение и смерть. Его тексты
оказываются последовательным инсценированием этих
четырех моментов, которые, как бы в уменьшенном виде,
репрезентируются в фигурах и функционировании ли-
бертеновского тела. Выставить тело напоказ, поделить
его на множество частей, соотнести его с эталоном
фаллоса, запрограммировать все позы тела и их вариации,
методично извлечь из тела все вообразимые
удовольствия, чтобы в конечном итоге получить наслаждение,
подвергая его пытке и смерти — все это является
последовательным развитием той же самой логики.
Сад показывает, что тело вступило в эпоху своего
промышленного предназначения и постлюбовных
отношений. При переходе от комбинаторного соединения
партнеров к «стаханоказановизму» наслаждения, от
стандартного тиражирования тел или их частей,
преследующего калибровку эякуляций, к амнезическому
повторению оргий — исчезает аура желания с его чарами,
его неопределенная темпоральность и его
двусмысленные знаки, то, что составляет его лирическую
бесконечность; наступает триумф либидинального techne.
Садовская чрезмерность лишь завершает
доказательство, начатое не им и до него, она устраняет
пробелы в пунктирной линии. Она извлекает новые
следствия из давно доказанных теорем. Сад делает очевидным
432
ту неумолимую непрерывность, которая идет от разры- ,§
вания органического тела, его исчисляемого и упорядо- §
ченного членения на части, к его подчинению методиче- *
скому извлечению прибыли, к его капиталистической ^
эксплуатации. Капитал делит, членит, взимает и выса- ^
сывает, его технология — это экзекуция. Тело либерте- |
на существует только ввиду этого утверждения эксплуа- ^
тации и механизации. Эротика бухгалтерского учета и с§
субституций предполагает страсть к высокой производи- ^
тельности, а абстрактная темпоральность
программирования взывает к императиву производства. На этой
фабрике наслаждения все может быть представлено и
исполнено, все, кроме любви.
Тело либертена — без симптомов, грез, сновидений,
без тайн и памяти — это мертвенно-бледное дитя
экстремистского западного разума, осадок его мертвенного
света, средоточие его головокружительной бездны. Это
глаз без века, измученный собственным взглядом и
взглядами других, это колесики, вертящиеся под
стеклянным колпаком. Его эмбрион формируется в
непредсказуемых последствиях параноидальной науки, на
самых далеких рубежах ее калькуляций, подсчетов, техник
и возможностей (эмбрион, подобный тому, которого мы
обнаруживаем в созданном доктором
Франкенштейном монстре — остроумной выдумке Мэри Шелли). Это
гладкое, апатичное тело выступает как символ
ужасающе абстрактного процесса, процесса, сигнализирующего,
что эпоха земли и ее богов, трудов и дней,
бесконечного открытого времени пространства и взгляда, ритма и
дыхания, подошла к концу (или была приведена к нему).
Здесь начинается эра артефакта и моделей, программы
и амортизации, заменяемости и кредита, универсально-
го-недифференцируемого-годного для обмена. «Ибо
земля ушла, земля исчезла, увлекая за собой спинеты,
розовые и золотые клавесины и сандаловые скрипки;
Новые Времена были уже на пороге, и Саду
предстояло стать их новым мозгом. Нет больше земли, нет Лу-
433
берона с его феями и духами, нет выжженных холмов,
только один пергамент и Сад — повелитель этого
королевства, лишенного живых существ, форм и
субстанций, и это темница, которая воплощает собой образ
исчезнувшей земли. Больше нет пространства, останется
только время, но не вечное время Матери Земли, а
чистое время, последовательность тел»2. Возможно, тело
либертена — это тело последнего человека,
танцующего на последних руинах эпохи неолита. Можно сказать,
что «История Жюльетты» в каком-то смысле является
его Евангелием, а «120 дней Содома» — его
Апокалипсисом. Лишь в каком-то смысле, и все же...
Поскольку Сад отчетливо выражает этот рубеж,
поскольку он до невероятных масштабов развил зачатки
ужаса методичности, порожденные совместными
усилиями Просвещения и промышленного капитализма,
он, в некотором смысле, явился наиболее характерным
симптомом своего столетия и одновременно его
диагнозом. В лице Сада XVIII век слышит свой собственный
голос, в нем он находит своего аккуратного и
бесстрастного летописца и в конечном счете через него
расплачивается по всем счетам. Парадокс этих исключительных
текстов, возможно, состоит в том, что они всего лишь
выражали тривиальную истину своей эпохи и довели
до предела ее обычную логику. Мы открываем, если
только сами не позволяем себя обмануть или оглушить
его трансгрессивными высказываниями, что Сад
ничего не ниспровергает и не разрушает: он укрепляет и
усиливает то, что уже есть. Провокация для него значит
обострение. Но именно это и вызывает страх и
порождает слепоту и отрицание. Этот глубокий страх не
ограничен пределами его книг, он приходит извне и детони-
руется ими. В его книгах мы видим траекторию той
убыстряющейся и открывающейся в своих основаниях
2 Buisson F. Les bougres ou les derniers archanthropes //
Obliques. № 12-13.1977 (специальный номер, посвященный Саду).
434
медленной катастрофы, которая стала нашей каждо- г§
дневной реальностью. jj
Поэтому Сад и продолжает волновать нас, и если он *
все еще нас задевает, то, возможно, вовсе не из-за того, ||
что нам кажется очевидным (секс, преступление, не- *
пристойность). Если мы научились лучше читать Сада з*
или цензура в отношении него как будто капитулиро- |
вала, то это произошло не за счет каких-то изменений в <§
литературной традиции или радикальных переворотов, ,S>
порожденных утончением литературной критики. Дело
в том (и, возможно, это более серьезно), что Сад
больше не находится перед нами; мы находимся в нем. Наш
век начал осуществлять прогнозы его столетия. То, что
возвещали и чем угрожали его тексты, реализовалось в
нашей истории. Он был в каком-то смысле
архивариусом нашего будущего. Мы оказались внутри
исправного функционирования и эффективности садовского
тела: от рынка секса до уничтожении тел в
концентрационных лагерях модальности наслаждения и
страдания приняли с какого-то момента вместо своих обычных
форм пароксизмальные формы садовского универсума.
В этом универсуме сексуальное господство над телами
играет роль последнего символа всех возможных форм
эксплуатации и любого господства, поскольку именно
сексуальное господство служит им основанием и
завершением их логики. Обыденно или трагически, в
зависимости от обстоятельств, наше гипер-Просвещение везде
открывает дорогу супер-Силингам.
И все же если Сад и удивляет нас своей ужасающей
правотой, вопрос, который вновь и вновь неизбежно
возникает в отношении его, состоит в том, чтобы
определить, за что он приветствовал этот безумный мир, до
какой степени он был соучастником мучителей-либер-
тенов, насколько он примыкал к их дискурсу или
иронично полностью отстранялся от него, и что должно
выявиться в самих эксцессах его инсценировки, в ее
критической провокации и в бесконечном накоплении
435
55 парадоксов? В большей ли степени он ответствен за тот
^ мир, который создал и описал, чем Гойя за кошмарные
| сцены Несчастий Войны или чем Пиранезе за свои
"I" Тюрьмы? Сможем ли мы не впасть в самое гротескное
| непонимание этих текстов, если уберем все кавычки,
указывающие на то, что этот текст является вымыслом,
вплоть до имени, его обозначающего? И это не пустой
вопрос, поскольку именно он определяет расхождение
между прочтениями Сада, но не между восхищением и
отвращением, а между отношением к Саду как к
основоположнику некоего учения и как к писателю.
Итак, Сад — «основоположник*? Когда мы
выдергиваем его «философские» тезисы из «Жюльетты» и
ставим их в один ряд с тезисами (или допущениями)
Локка, Руссо или Канта, мы помещаем Сада в
дискуссию, которая, безо всякого сомнения, ему чужда и
которая не может быть для него иной. Теоретическое
утверждение, которое попадает в литературный вымысел, само
становится вымыслом, и неважно, насколько
убедительным оно является. Если говорить о Саде, то это
верно даже в отношении текста «Французы, еще одно
усилие». Различие между философским трактатом и
литературным повествованием определяется иным локу-
сом высказывания. Первый находится в определенном
регистре коммуникации и ответственности.
Устанавливаемый им порядок — это порядок
сообщения-послания, он тяготеет к максимальной связанности и
однозначности; форма не является его первейшей заботой.
Мы обсуждаем его концепты и то, что он хочет сказать.
Напротив, в литературном повествовании (и во всяком
создании вымысла) главным является выбор
соответствующего языка (а если речь идет о поэзии, то и
испытание языка на прочность), оно ничего не утверждает,
а экспериментирует, исследует, перемешивает свои
референты, позволяет сосуществовать
противоположностям и играет кодами. Оно не служит никакой этике
(даже если ее находят в нем).
436
Это не значит, что не существует специфически
Садовского мышления, — просто это мысль не автора, а
текста. Это мысль заключена не в эксплицитных
высказываниях, и даже не в их исходных посылках, а в самой
внутренней логике текста, то есть в самой мизансцене:
в том, чем она обусловлена, как построена, как
разворачивается, что в ней выставлено на передней план, а что
«смазано». Именно на этом уровне нам и явлены
апатичное тело, пространство картины, ускоренное время,
экономика растрачивания, ненависть к договору,
символика экскрементов, привилегии женщины-рассказчицы
и т. д. Именно это испытывается, исследуется или
проваливается; именно это позволяет нам видеть за
фантастическим ужасом и паранойей дискурса другого Сада.
И сколь бы ни был отвратителен и омерзителен садов-
ский мир (а он, вне всяких сомнений, именно таков), он
не дает нам оснований для суждения о том, где именно
в тексте, описывающем весь этот ужас, выражена мысль
Сада. Что же касается текстомысли, то ее нужно искать
в структуре означающего и нигде более, даже если
иногда оказывается (и даже довольно часто, как было
показано в этой книге), что эксплицитные высказывания с
ней совпадают. Разыгранная в вымысле, выявляющая
себя через его логику, эта мысль предлагает нам не
тезисы, а гипотезы, не утверждения, а парадоксы, не
уверенность, а вопросы. (Мы должны быть благодарны Блан-
шо и Барту за то, что в отношении как литературы в
целом, так и Сада в частности, они замечательным
образом прояснили эти различия в постановке целей).
Надо добавить, что даже если текст оставляет
впечатление, что автор является соучастником своих персонажей,
то к этому впечатлению следует относиться как к
эффекту вымысла. И пока кавычки не закрыты, мимесис
все подчиняет закону симулякра и делает любую
позицию неопределенной. Когда мы торжественно требуем у
мимесиса отчета о себе самом, это значит, что мы
оказываемся вовлеченными в его игру, мы оказываемся на
437
— сцене, но в роли шутов, как случается иногда в театре,
!> когда воспринимающий все слишком буквально зри-
| тель присоединяется к актерам и отвечает на их репли-
■§■ ки. С этой точки зрения Сад только усложняет нашу за-
о дачу, и можно даже подумать, что он сам провоцирует
подобное непонимание. Оно возникает в первую
очередь благодаря значительному месту, занимаемому теми
бесконечными рассуждениями, которые чередуются со
сценами и которые вполне способны, если их соединить
друг с другом, образовать своего рода исчерпывающий
трактат либертеновской мысли. На самом деле,
благодаря этим своим очевидным отступлениям Сад не
только вносит несоответствие в форму повествования, он
разлагает ее, систематически размывая границы между
дискурсом и нарративом. Или же следует сказать, что
это ярко выраженное чередование двух различных
инстанций, взятых в своих наиболее чистых проявлениях,
и есть то, что конституирует специфически садовскую
форму повествования? Или опять же мы имеем дело
только с разновидностью философской притчи, где
функции повествования сводится только к иллюстрации
тезиса? Если добавить к этому все обращения к читателю
во вступлении или примечаниях, вне зависимости от
того, предназначены они для того, чтобы снабдить
читателя библиографическими отсылками, или для того,
чтобы предложить ему испытать то или иное
эротическое наслаждение самому, то, конечно, нужно признать,
что это повествование порой выглядит как
теоретическое построение, дидактический учебник, взывающий к
своему применению в реальности. Это ощущение
усиливается денотативным и деметафоризованным
характером этого письма, его отказом от внешних следов
литературной обработки. Этот текст, чуждающийся всякой
«позы», кажется сосредоточенным на форме
сообщения, на установлении транзитивной связи, а значит, на
неизбежной верификации. Этого вполне достаточно,
чтобы заставить усомниться в артефакте вымысла и об-
438
мануть нашу бдительность в том, что касается соблюде- ,§
ния всех условностей, обеспечивающих сохранение ди- §
станции между ним и нами. Надо сознаться, что нет ни- *
чего проще, чем воспринимать Сада «всерьез» и судить Is
его судом референта. ":>
И тем не менее необходимо сказать, что каковы бы ни 1
были теоретические и дидактические аспекты, которые $
нам открывает садовскии текст, он все равно остается в <§
качестве предприятия вымысла машиной симуляции, и ^
напрасно пытаться отыскать там законы или требовать
однозначности высказываний. Множество рассуждений
свидетельствует лишь о том, что дискурс, в своей
демонстративной и философской форме, сам по себе
оказывается инсценировкой, подчиненной непредсказуемой
работе этой машины, которая, накапливая высказывания,
сталкивает их между собой, заново вводит их в действие,
подтверждает и испытывает в нарративных сценариях.
Если в этом пространстве симулякра историческая
каузальность и требование строгого правдоподобия
оказываются вынесенными за скобки, то это происходит не
из-за пресловутой безответственности литературы,
которая якобы превращает в объект эстетического все, вплоть
до самого ужасного. Скорее, дело в том, что благодаря
этому отсоединению-искажению все, и в особенности
самое отталкивающее, начинает воздействовать на нас со
всей жестокостью, присущей визуализации. Так
беллетристика грубо вторгается в мирное существование тех
кодов, длительное совершенствование которых
позволяло уживаться с самым невыносимым; она заставляет их
работать в предельных режимах, на грани полного
выхода из строя. Борхес говорил о Кафке, что «его сила в том,
чтобы создавать невыносимые ситуации»; безусловно, то
же самое можно сказать о Саде. В этой чрезмерности,
которая искажает лик реальности, та открывает свои
подлинные черты — и поэтому одной из важных функций
текста становится методичное разоблачение резкого
несоответствия между изнанкой и лицевой стороной.
439
= Это разоблачение касается прежде всего того, что
^ обусловливает претензии на логическую связность и
| обоснованность, всего того, что существует благодаря
*|- прочности причинно-следственных связей, — другими
о словами, всего того, что остается управляемым лишь
при гарантии непротиворечивости. Работа вымысла
будет направлена на то, чтобы демонтировать эту
стройную систему, чтобы установить между ее элементами
отношения неопределенности, заставить
сосуществовать заведомые противоположности, сделать
невозможной любую телеологию. Таким образом, у Сада
господство поглощает знаки негосподства, и дискурс власти
также является дискурсом разрушения власти, так же
как любая свобода постулирует механизмы тирании, а
желание приводится в движение всеобщими
эквивалентами, но уступает только тому.что обмену не
подлежит. Эта инсценировка заставляет всерьез задуматься
над историей, демонстрируя ее антагонистические
крайности, но оставаясь при этом исторически немыслимой
и практически невозможной. Она плоть от плоти
письма, а потому не является ни отвратительной, ни
соблазнительной, она позволяет нам читать и видеть то, что
она искажает, усиливает и приводит в противоречие.
Скажут, конечно, что это право на
возражение-опровержение испокон века признавалось за вымыслом, что
оно стало неписаным законом, по которому вымысел
освобождается от ответственности и обладает
иммунитетом: от Аристотеля до Буало любой трактат об
«искусстве поэзии» напоминал нам, что для выражения
мимесиса нет ограничений. Все может быть высказано
при том условии, что это будет необходимо для создания
произведения искусства, то есть при уважении канонов
искусства. Но эта безграничность на деле оказывается
весьма ограниченной: эстетический пакт составлен по
модели этического. Все, что может быть сказано,
постоянно поверяется порядком закона. Тирания,
преступление, воровство и желание могут быть изображены
440
при условии, что они будут наказаны или исправлены. ,§
И именно здесь Сад проявляет особую неуступчивость, а
вдобавок разыгрывая искреннее непонимание. Он цеп- *
ляется за формальное право говорить все, отрывая это ^
право от пакта, который ограничивает его применение, ^
и решается на неслыханную авантюру, изображая с со- |
чувствием преступления, пороки и несправедливость, ^
расширяя границы дозволенного, пытаясь нащупать <§
пределы терпимого, посмотреть, как далеко может зай- ,&
ти литература в том, что она говорит. И этим он
подвергает литературу величайшему испытанию, ибо
принуждает впустить в себя то, что в обмен на признание своих
прав она запрещает себе называть или рассказывать.
Именно здесь и следует видеть садовскую жестокость,
в этой расправе над пактом; вивисекция, описываемая
в тексте, производится лишь для того, чтобы означить
эту расправу. Сад испытывает не просто пределы
литературного вымысла, но также, и в первую очередь, порог
терпимости тех институций, которые эти пределы
устанавливают. В обоих случаях эксперимент Сада
затрагивает основные формы социальной связи, весь порядок
символического, обеспечивающий единство языка и
всех его кодов (литературных, политических,
теоретических и так далее). Это единственное, с чем Сад когда-
либо жестоко обращался, но зато здесь он предстал как
безжалостный и педантичный палач. С тех пор
Политика и Литература взывают к отмщению: что ж, это в
порядке вещей, вот только фундаментальная общность их
интересов и их структурная идентичность стали после
этого лишь очевиднее. И Сад хорошо это знал.
Чрезвычайная напряженность его письма связана с тем, что это
письмо в состоянии войны: он всегда пишет против.
Вот почему чтение Сада неизбежно сводится к
полемике с ним. Но видеть в нем провозвестника сексуального
освобождения, анархиста или теоретика
фантастических безумий означает впасть в заблуждение и
оказаться в ловушке, специально устроенной Садом для своих
441
= противников. Если Сад от чего-то и освобождает нас,
й, то только от пределов произносимого вслух и от устра-
| шающей власти кодов; если он от чего-то и лечит нас
■§■ (пусть и насильственно), то только от этого застарело-
о го страха. И безусловно, что-то происходит во время
этой шоковой терапии и благодаря ей, нечто
радикальное, преодолевающее замкнутость текста с его
скромными наслаждениями означающим. Ибо одним и тем
же действием, одним и тем же движением Сад
испытывает границы вымысла и разума. В первом случае он
злоупотребляет данным ему правом до такой степени,
что добивается полного изменения природы
институции, которая его этим правом наделила. Во втором же
случае он пришпоривает логическое мышление и гонит
его к поистине чудовищному концу. Оба этих эксцесса
отзываются друг в друге, оба влекут в мрачную бездну.
Они сплетаются в тугой, жесткий узел, где берет
начало мысль текста — ее экстремальная энергия и
экстремальный юмор. Один эксцесс подталкивает
литературу к тому, чтобы стать пароксизмальным механизмом;
другой — сообщает паническое и ошеломляющее
ускорение разуму, пока тот не уподобится психозу истории.
Все происходит так, как если бы узел, образованный
двумя этими векторами, затягивался все туже оттого,
что внутри него образовывался вакуум: между игрой
текста (его желанием быть только симулякром) и его
же сверхзадачей (то есть стремлением воздействовать). _
Сюда, в пространство между этими двумя крайностями,
куда влечет сам себя садовский текст, в эту
неустранимую брешь устремляются и слухи, мифологизирующие
его тематику, и прочтения, которые перемалывают его
смысл, ведь именно там упорно пребывает то, что дает
пищу и слухам, и прочтениям: то самое имя, за которое
приходится расплачиваться, точнее, имя, превратно
понятое. И не оставляющее в покое.
Избранная библиография
1. Бабенко В. Г. Прекрасный полоумный маркиз Донасьен
де Сад: Жизнь. Страсти. Творчество. М., 1999.
2. Батай Ж. Сад / Пер. с фр. Н. В. Бунтман // Батай Ж.
Литература и зло. М., 1994.
3. Бовуар С. де. Нужно ли жечь книги Сада? //
Философские науки. 1992. № 1.
4. Викторов А. Философия просвещенного эротизма. В кн.:
Сад Д. А. Ф. де, маркиз. Философия в будуаре. М., 1991.
5. Гуревич П. Философия изысканного сладострастия.
В кн.: Сад Д. А. Ф. де, маркиз. Соперница собственной
дочери. Тинэр М. Мадам де Помпадур. М., 1993.
6. ДелезЖ. Представление Захер-Мазоха/ Пер. с фр. А. В. Га-
раджи. В кн.: Захер-МазохЛ. фон. Венера в мехах. М., 1992.
7. Ерофеев В. В. Метаморфоза одной литературной
репутации. Маркиз де Сад, садизм и XX век // Вопросы
литературы. 1973. № 6.
8. Ерофеев В. В. Мой Сад, мой современник. В кн.:
Сад Д. А. Ф. де, маркиз. Собрание сочинений в 10 томах.
Т. 1. М., 1998.
9. Иеронова И. Ю. Поэтика зла в романе де Сада «Жюсти-
на, или Несчастья добродетели» // Художественное
мышление в литературе XVIII-XX вв. Калининград, 1996.
10. Максимов В. Между рококо и романтизмом по ту
сторону добра и зла. В кн.: Сад Д. А. Ф. де, маркиз. Насмешка
судьбы. СПб., 2001.
11. Максимов В. Оправдание Маркиза де Сада. В кн.:
Сад Д. А. Ф. де, маркиз. Жюстина. СПб., 2000.
12. Маркиз де Сад и XX век: Сборник / Пер. с фр., сост.,
вступ. ст. и коммент. М. К. Рыклина. М., 1992.
13. Морозова Е. Маркиз де Сад и его книги. В кн.:
Сад Д. А. Ф. де, маркиз. Преступления любви. СПб., 2000.
14. Муравская Г. Маркиз де Сад и его читатели // Проблема
права и художественная литература: Сборник. Самара,
2001.
15. Разумовская М. Жизнеописание маркиза де Сада //
Аврора. 1991. №9.
16. Рыклин М. Литература без литературы (заметки садо-
веда) // Русская альтернативная поэтика. М., 1990.
443
§ 17. Тимофеева Н. В. «Философия в будуаре» маркиза де
"§■ Сада — «апокрифическое евангелие» индивидуализма //
й* Время. Личность. Культура. СПб., 1997.
з 18. Томас Д. Маркиз де Сад: Ил. биогр. / Пер. с фр. А. Ва-
^§ сильковой. М„ 1998.
*? 19. Airaksinen Т. The Philosophy of the Marquis de Sade. Lon-
§ don and New York, 1995.
§ 20. Apollinaire G. L'oeuvre du Marquis de Sade. Introduction,
vo" essai bibliographique et notes. Paris, 1909.
S 21. Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. Paris, 1971.
22. Bataille G. L'erotisme. Paris, 1957.
23. Belaval Y. Sade le tragique // Cahiers du Sud. 1947. Vol. 26,
no. 285.
24. Blanchot M. Sade et Lautreamont. Paris, 1963.
25. BrochierJ.-J. Sade et la conquete de l'unique. Paris, 1966.
26. Carter A. The Sadean Woman: An Exercise in Cultural
History. London, 1979.
27. Chanover P. The Marquis de Sade Bibliography. Metuchen;
N.J., 1973.
28. ChateletN. Systeme de l'agression. Paris, 1972.
29. CroslandM. The Passionate Philosopher: A Marquis de Sade
Reader. London, 1991.
30. Damisch H. L'ecriture sans mesure // Tel Quel. 1967. No. 28.
31. DidierB. Sade, une ecriture du desir. Paris, 1973.
32. Fauskevaag S. Sade dans le surrealisme. Oslo, 1982.
33. Fink B. Sade and Cannibalism // Esprit Createur. Vol. 15,
1975. No. 4 (зима).
34. Frappier-Mazur L. Writing the Orgy: Power and Parody in
Sade. Philadelphia, 1996.
35. Gallop J. Intersections: A Reading of Sade with Bataille,
Blanchot and Kiossowski. Lincoln, 1981.
36. Gorer G. The Life and Ideas of the Marquis de Sade. London,
1934.
37. HarariJ. Sade, Exogamy and Incest: Sade's Structures of
Kinship // MLN 88:1212-37, 1973.
38. Hayes J. Identity and Ideology: Diderot, Sade and the
Serious Genre. Chapter 4 «Sade». Philadelphia, 1991.
39. Hayman R. De Sade: A Critical Biography. New York, 1978.
40. Heine M. Le Marquis de Sade. Paris, 1930.
A\.Henaff M. Mechanization of the Libertine Body and the
Crisis of Reason // Technology, Democracy, and the Politics
of Knowledge. Bloomington, 1995.
444
42. Henaff M. Oedipus, Baroque Portrait with a Woman's §
Face // The Libertine Reade. New York, 1997. ■&
43. Henaff M. The Naked Terror // Substance. No. 86. 1998. &•
44. Huet M.-H. Mourning Glory: The Will of the French Revo- я
lution. Philadelphia, 1997. *§
45. Hunt L. The Family Romance of the French Revolution. *°
Berkeley, 1992. |
46. Hunt L. The Invention of Pornography: Obscenity and the §
Origins of Modernity 1500-1800. New York, 1993. v§"
47. Klossowski P. Sade mon prochain. Paris, 1947. s
48. Laborde A. Les Infortunes du Marquis de Sade. Paris, 1990.
49. LacanJ. Kant avec Sade // Ecrits. Paris, 1966.
50. Lacombe R. Sade et ses masques. Paris, 1974.
51. Laugaa-Traut F. Lectures de Sade. Paris, 1973.
52. Le Brun A. Sade: A Sudden Abyss. San Francisco, 1990.
53. Lefort С Le Boudoir et la Cite // Ecrire, a l'epreuve du
politique. Paris, 1992.
54. Lely G. The Marquis de Sade: A Biography. New York, 1962.
55. Le Marquis de Sade. Actes du colloque d'Aix. Paris, 1966.
56. Mengue Ph. L'Ordre sadien: loi et narration dans la
philosophic de Sade. Paris, 1997.
57. Michael С The Marquis d'Sade: The Man, His Work and His
Critics: An Annotated Bibliography. New York, 1986.
58. Miller N. K. French Dressing: Women, Men, and Ancien
Regime Fiction. New York, 1995.
59. PaulhanJ. Le Marquis de Sade et sa complice. Paris, 1951.
60. PauvertJ.-J. Sade vivant. Paris, 1986-1989.
61. Praz M. The Romantic Agony. London, 1933.
62. Reichler С L'Age libertin. Paris, 1987.
63. Roger Ph. Sade, la philosophic dans le pressoir. Paris, 1976.
64. Roger Ph., Camus M. Sade: Ecrire la crise. Paris, 1983.
65. Shattuck R. Forbidden Knowledge: From Prometheus to
Pornography. New York, 1996.
66. Sichere B. Histoires du Mai. Paris, 1995.
67. Sellers Ph. Sade dans le texte // Tel Quel. 1967. No. 28 (зима).
68. Sellers Ph. Sade contre l'Etre Supreme. Paris, 1996.
69. Seifert H.-U. Sade: Leser und Autor. Frankfurt, 1983.
70. Spencer S. French Women and the Age of Enlightenment.
Indiana, 1984.
71. Thomas С Sade. Paris, 1994.
Содержание
В. Савчук. Маркиз де Сад — классик Просвещения 5
Предисловие к русскому изданию 17
Постфактум I. Продолжение в виде введения 21
I сторона
ПОЭТИКА
Глава первая. Ниспровержение лирического тела 43
Разделка 47
Негодный субъект 77
Тело ничего-не-говорящее 83
Тело/текст 94
Глава вторая. Сказать все,
или Энциклопедия эксцессов 99
Все и слишком много 99
Перемещение и истощение: мания остатка 108
Господин дискурса, его сообщник и его Другой 112
Наслаждение от высказывания 116
Грязное, непристойное, подробности 122
Тайная комната,
или Как высказать невысказываемое 129
Преступление письма 137
Глава третья. Апатия либертена,
или Наслаждение от метода 139
Апатия/страсть: поиск инвариантов 141
Аскеза либертена, или Критико-практический метод 146
Энтузиазм, причины и жестокость 158
Господство, репрезентация, смерть 165
Глава четвертая. Пространство картины и вообразимое .. 168
Tableau: гравюра, сцена, схема 169
Сказать все, увидеть все: эротический паноптикон ... 174
Зеркало/tableau. Воображаемое/вообразимое 179
Игра зеркал, или Машина для умножения картин .... 181
Театральность: экспериментальная речь 190
Глава пятая. Время внарезку 193
Условие мгновенного достижения цели 197
Принцип ускорения 208
Амнеэическое время 214
II сторона
ЭКОНОМИКА
Глава шестая. Либертеновский способ непроизводства... 225
Замок, или Феодальная модель 227
Монастырь, или Монастырская модель 236
Фабрика, или Промышленная капиталистическая
модель 242
Экономика излишеств: роскошь и расточительство .. 266
Мимесис, или Система непроизводства 277
Глава седьмая. Расходы тела: «сперма» и «говно» 282
Эякуляция («разрядка»): потеря, резервы,
восстановление 283
Экскрементный цикл 295
Бесплодное совокупление 324
Глава восьмая. Недоговорный обмен 327
Кража, присвоение 336
Измена слову 343
Нетранэитивный секс 351
Пытка и долг 361
Либидинальный пакт, принцип включенного третьего,
или Утопия либертена 374
Заговор: смертельная игра господ-либертенов 382
Глава девятая. Женщина, проституция, повествование... 387
Сад и писательницы-романистки
эпохи классицизма 389
Нарративная сделка 398
Мужское господство, или Заговор отцов 399
Ответ матерей и воспитание дочерей 406
Месть либертенок 410
Доказательство от природы,
или Система Жюстина/Жюльетта 417
Рассказчица и ее сутенер 421
Постфактум II. Продолжение в виде выхода 427
Избранная библиография 443
По всем вопросам, связанным с приобретением
этой и других книг серии «Are Рига»,
обращаться в
Торговый Дом « Гуманитарная Академия»
Санкт -Петербург:
Отдел реализации и оптовый склад —
Наб. Черной Речки, д. 18 (ст. метро «Черная Речка»),
тел. (812) 430-94-94.
Москва:
Волоколамское шоссе, д. 3 (ст. метро «Сокол»),
тел. (095) 937-67-44.
E-mail: gumak@mail.ru
Сайт: www.humak.ru
Торговля оптом и в розницу за наличный и безналичный расчет
• Комплектование библиотек
• Работа по заказам
• Индивидуальный подход в системе скидок
Марсель Энафф
МАРКИЗ ДЕ САД:
Изобретение тела либертена
Директор издательства Ю. С. Довженко
Корректор Е. А. Кий
Художник П. П. Лосев
Компьютерная верстка А. Б. Левкина
Лицензия ЛП № 000333 от 15.12.1999
Издательский Центр «Гуманитарная Академия»,
194044, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 18.
Подписано в печать 15.01.2005. Формат 84x108'/3J.
Бумага типографская. Гарнитура Petersburg. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 23,5. Уч.-изд. л. 19,5. Тираж 2000 экз. Заказ № 3904
Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография "Наука"»,
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12.