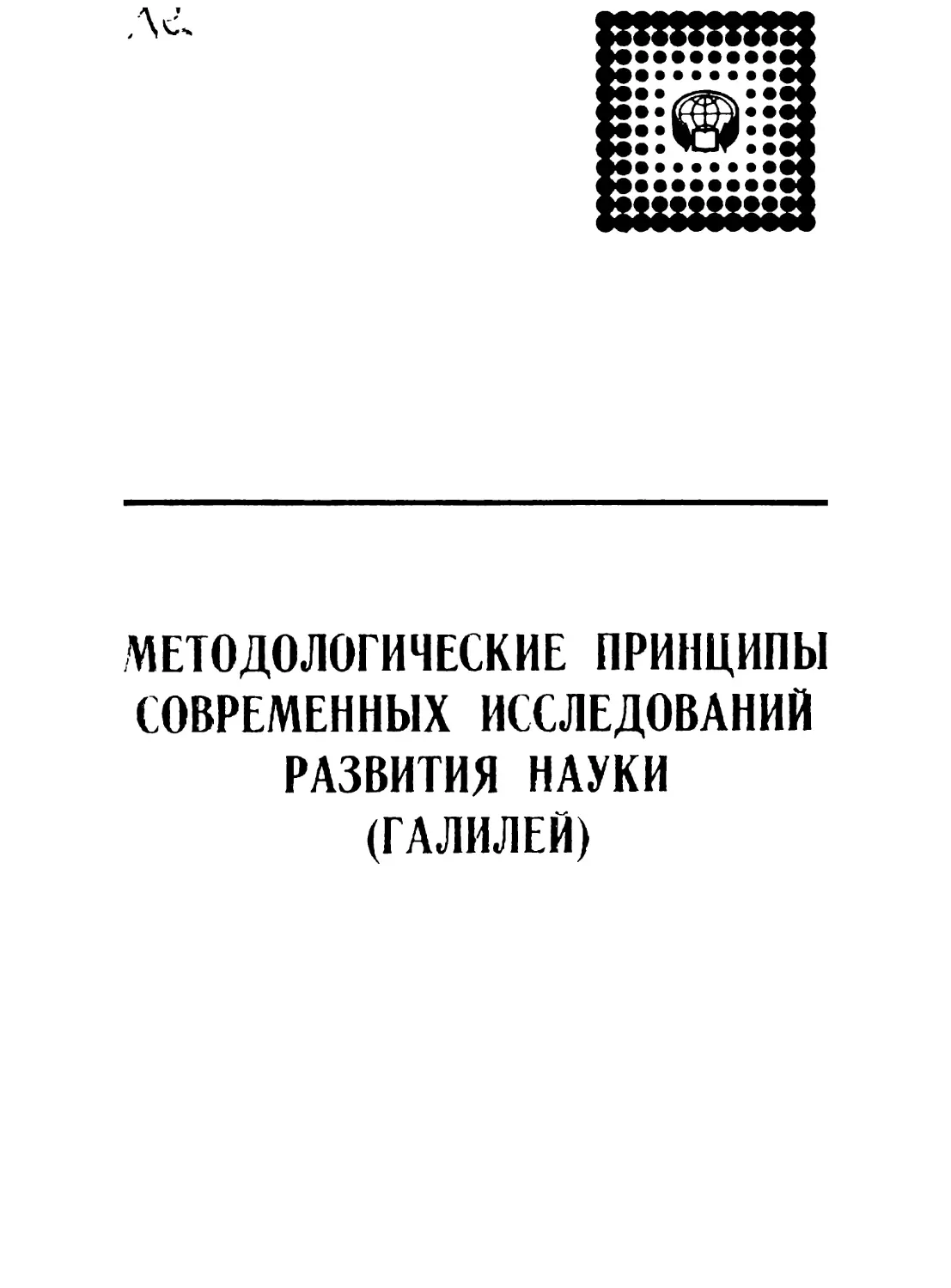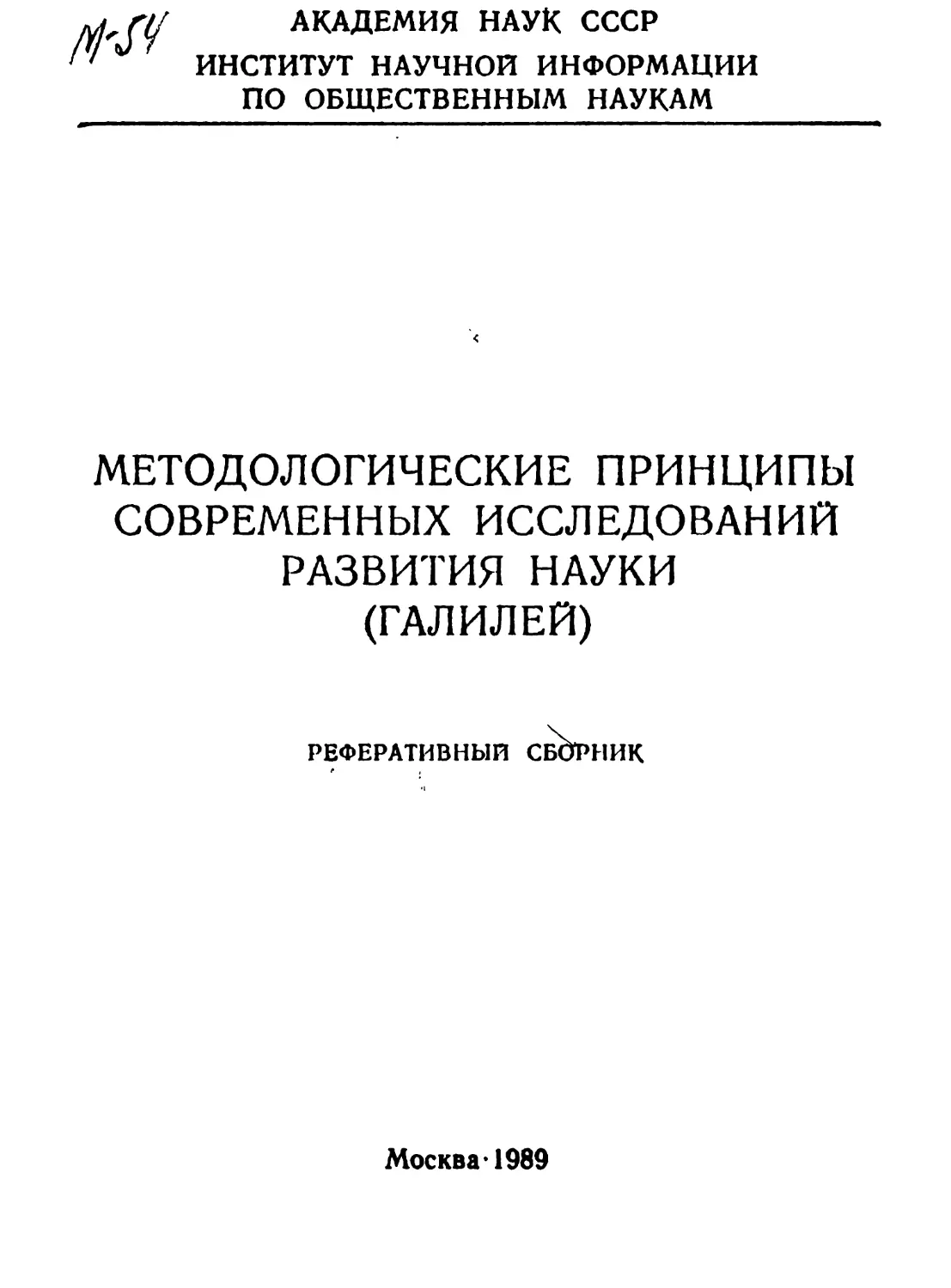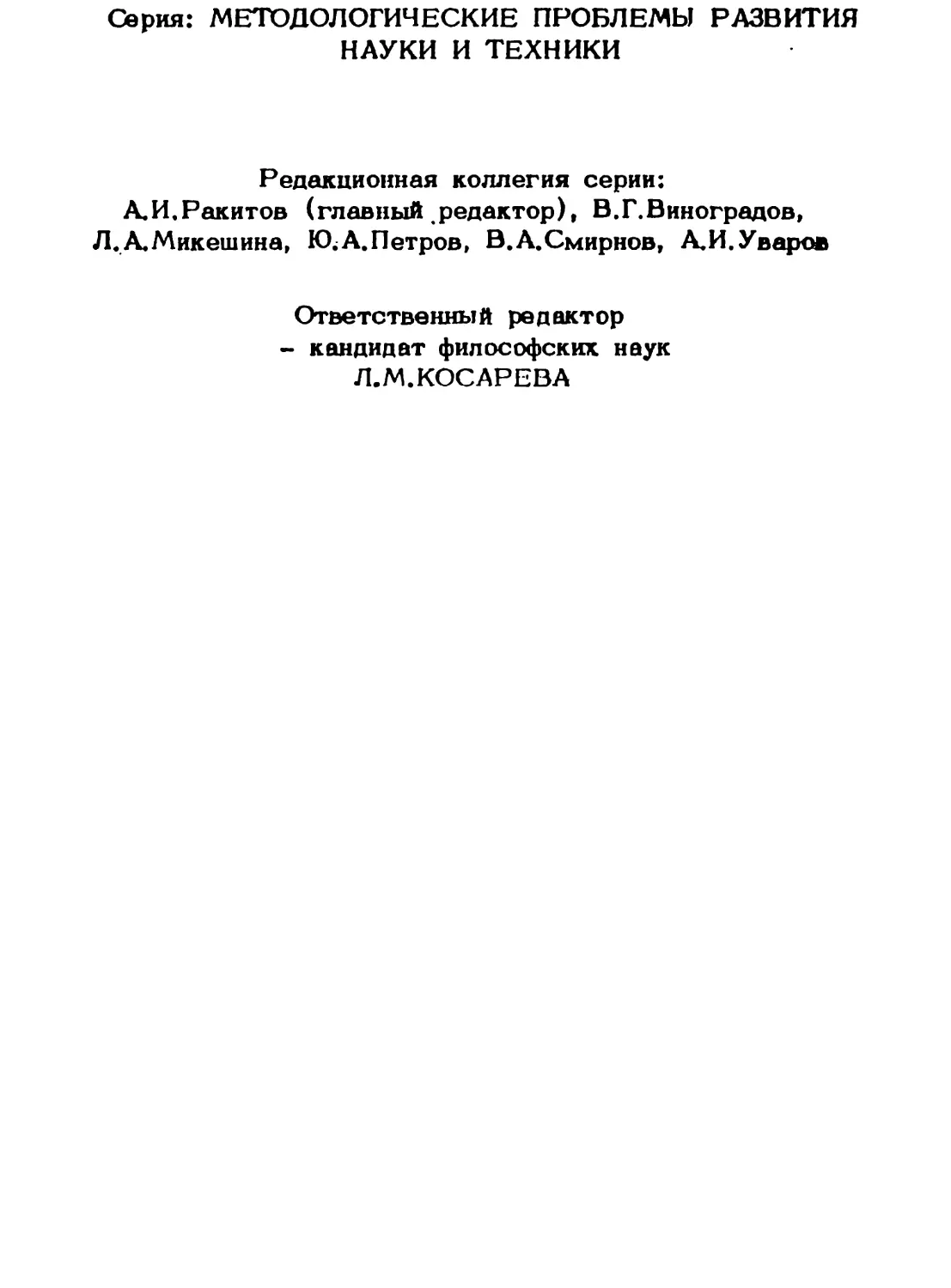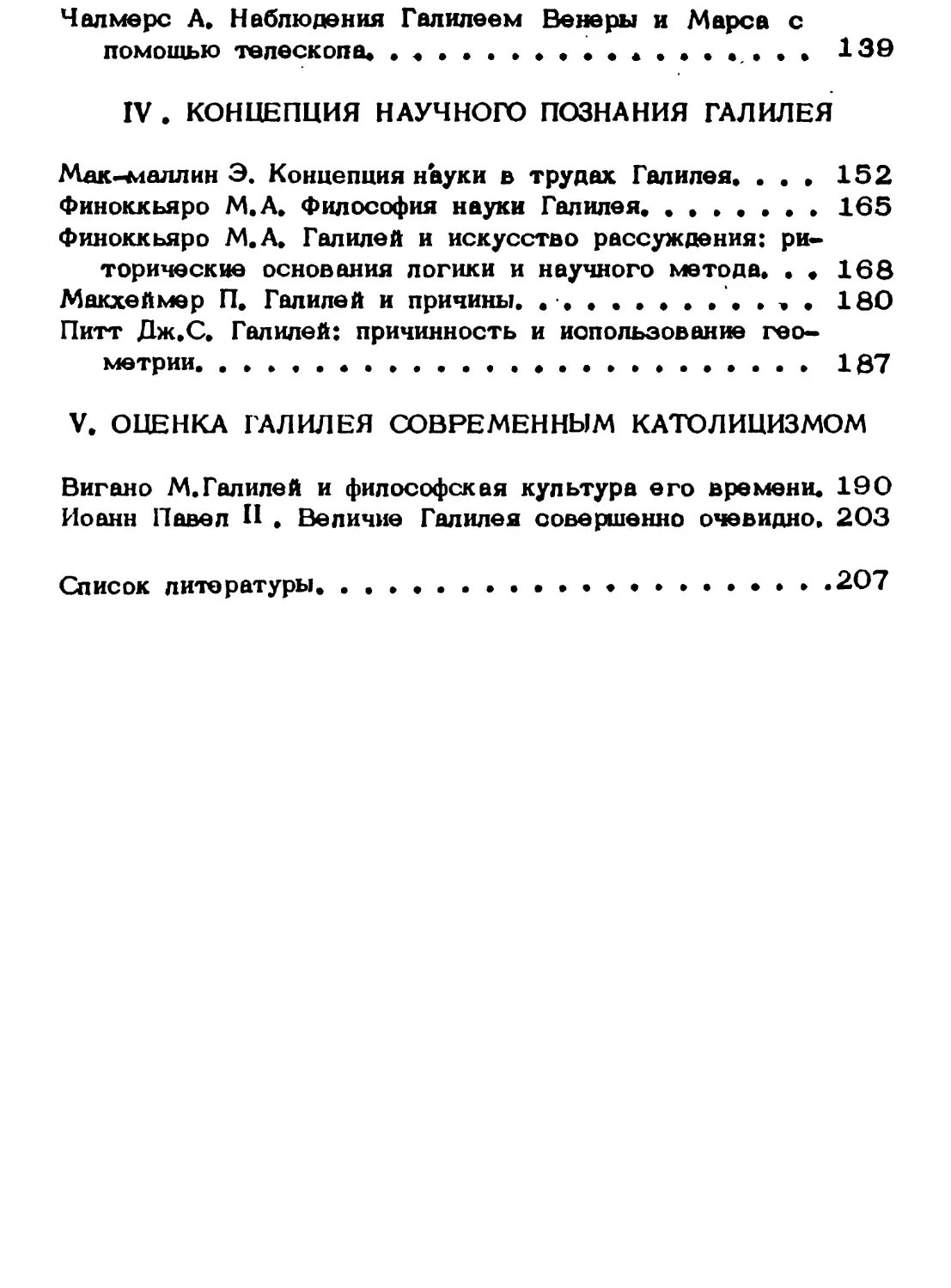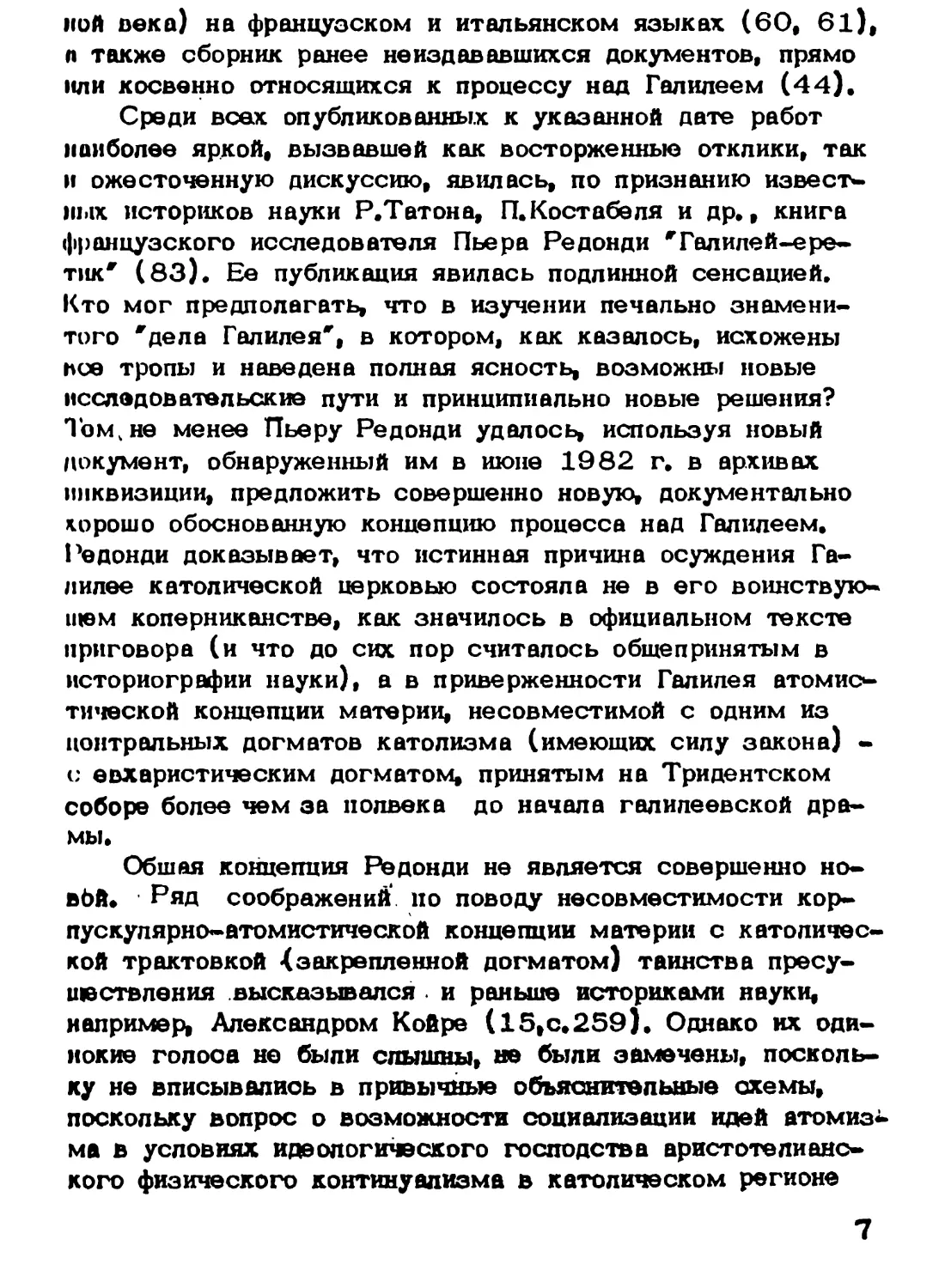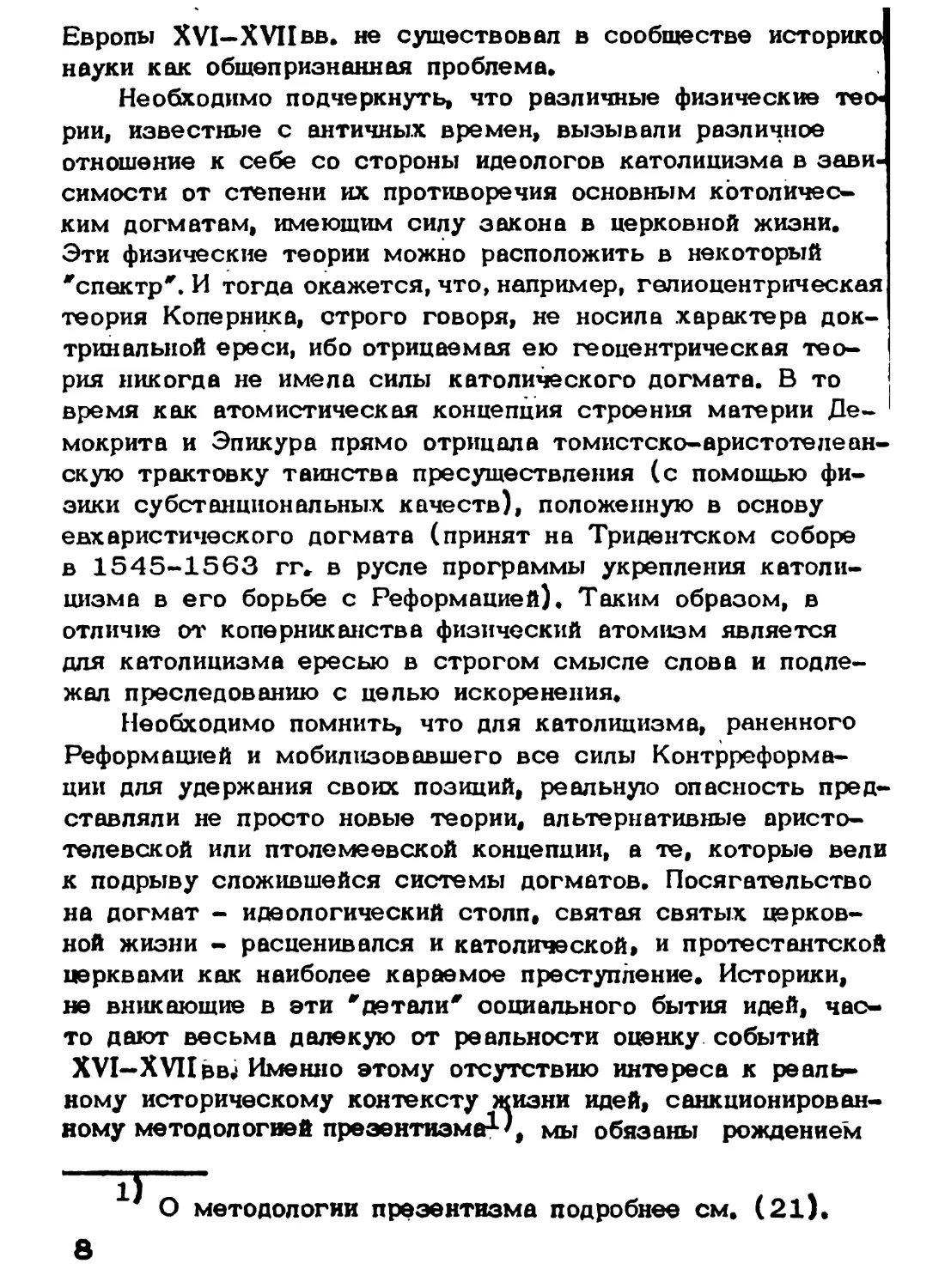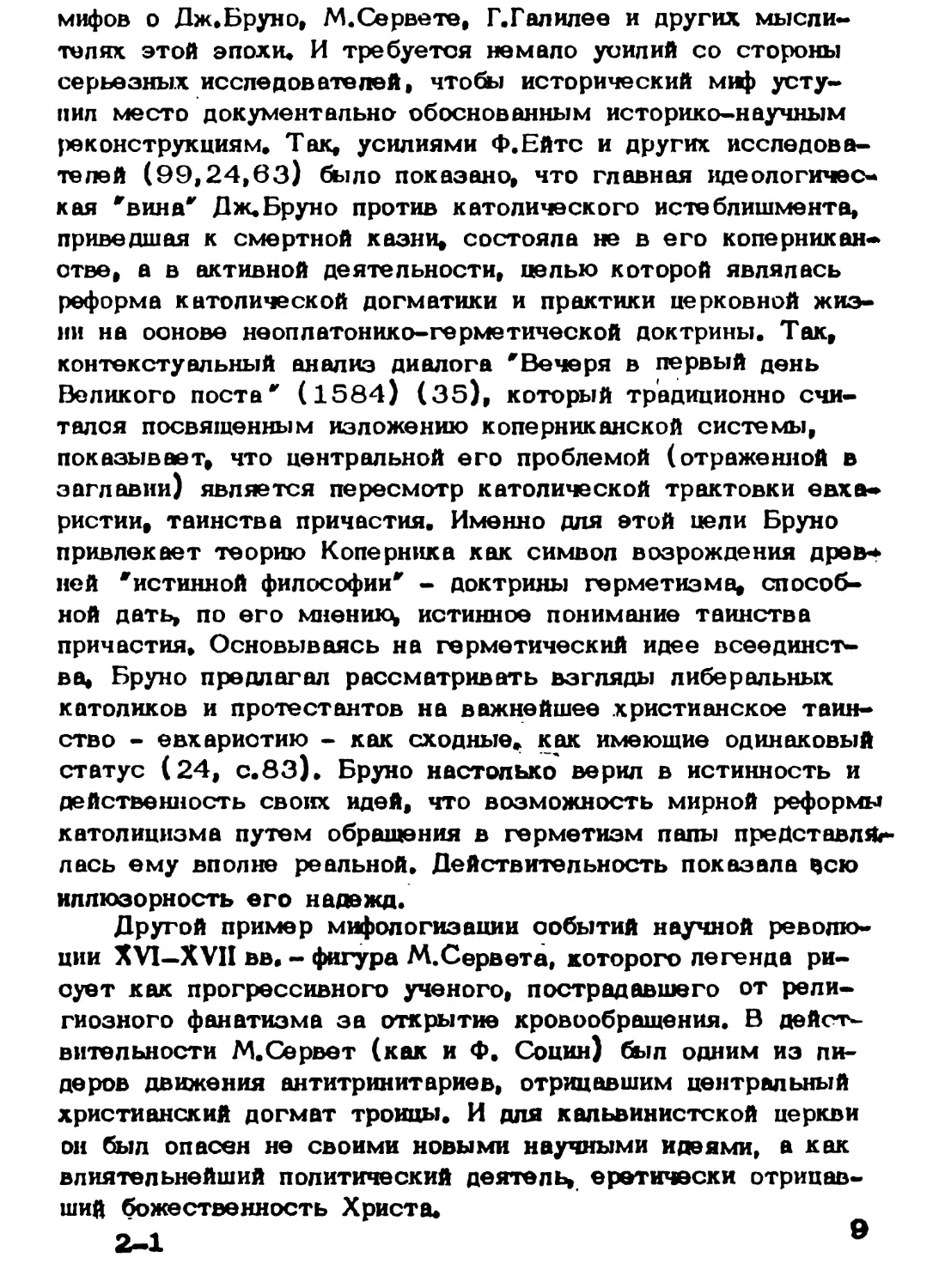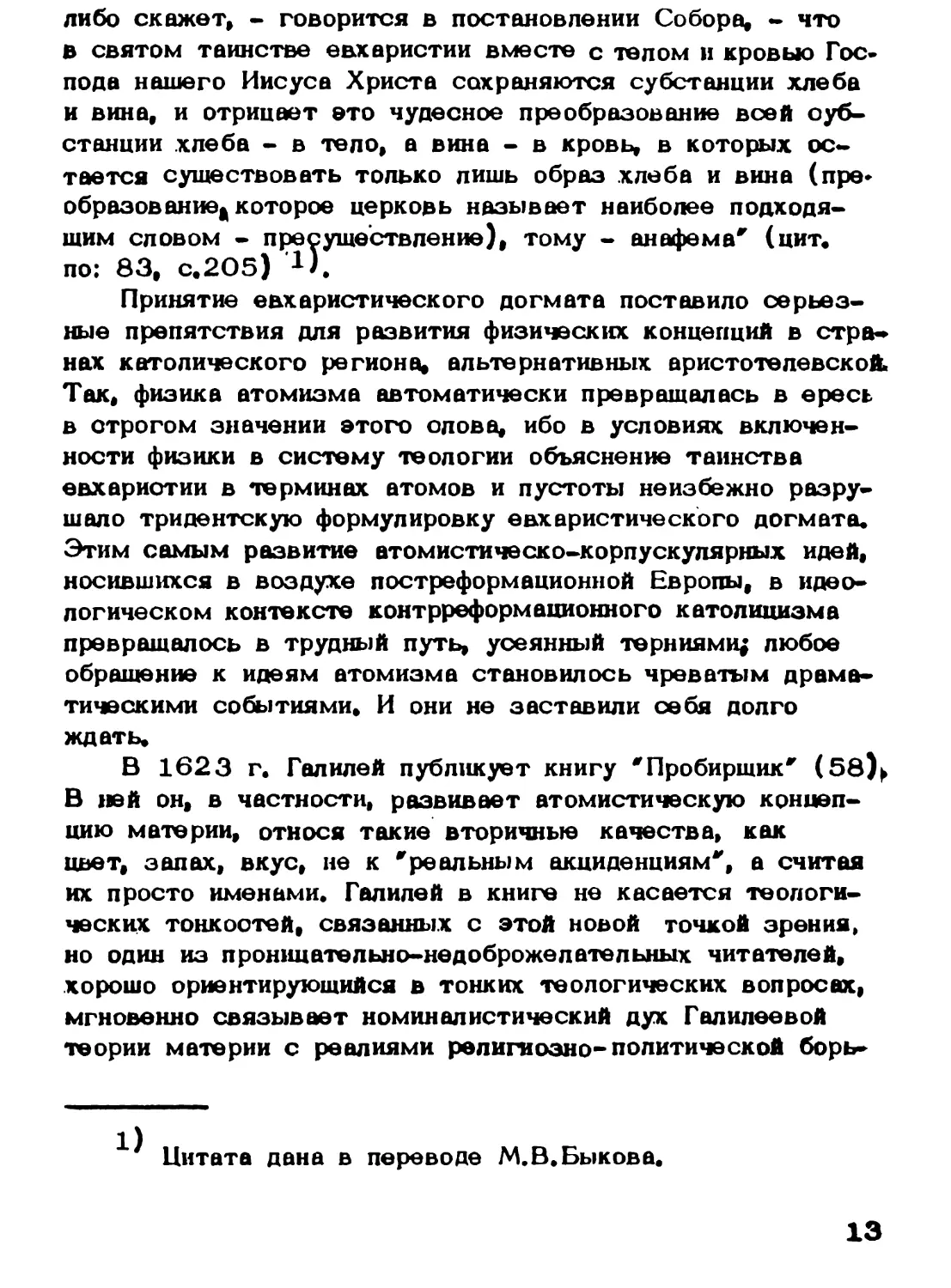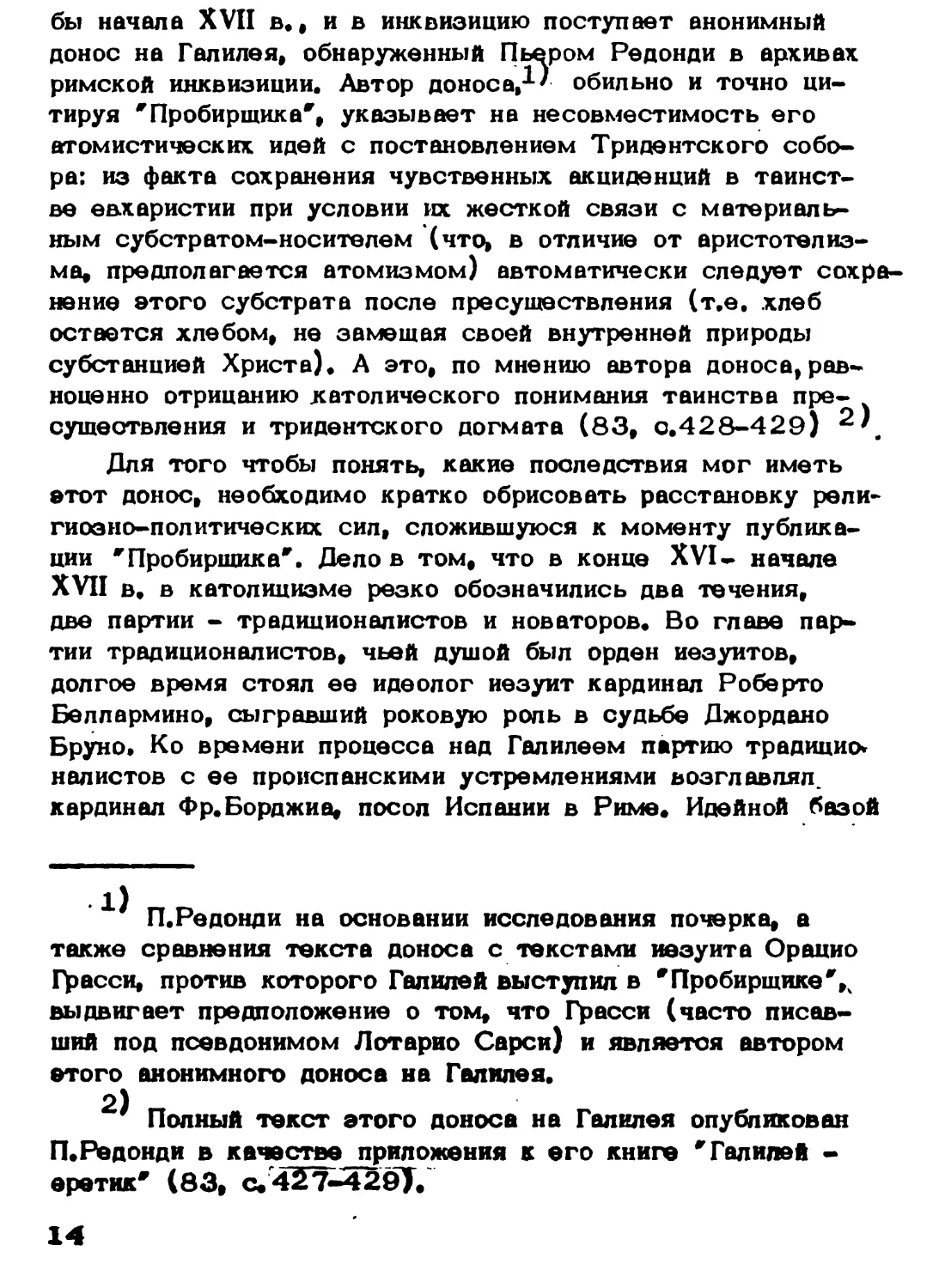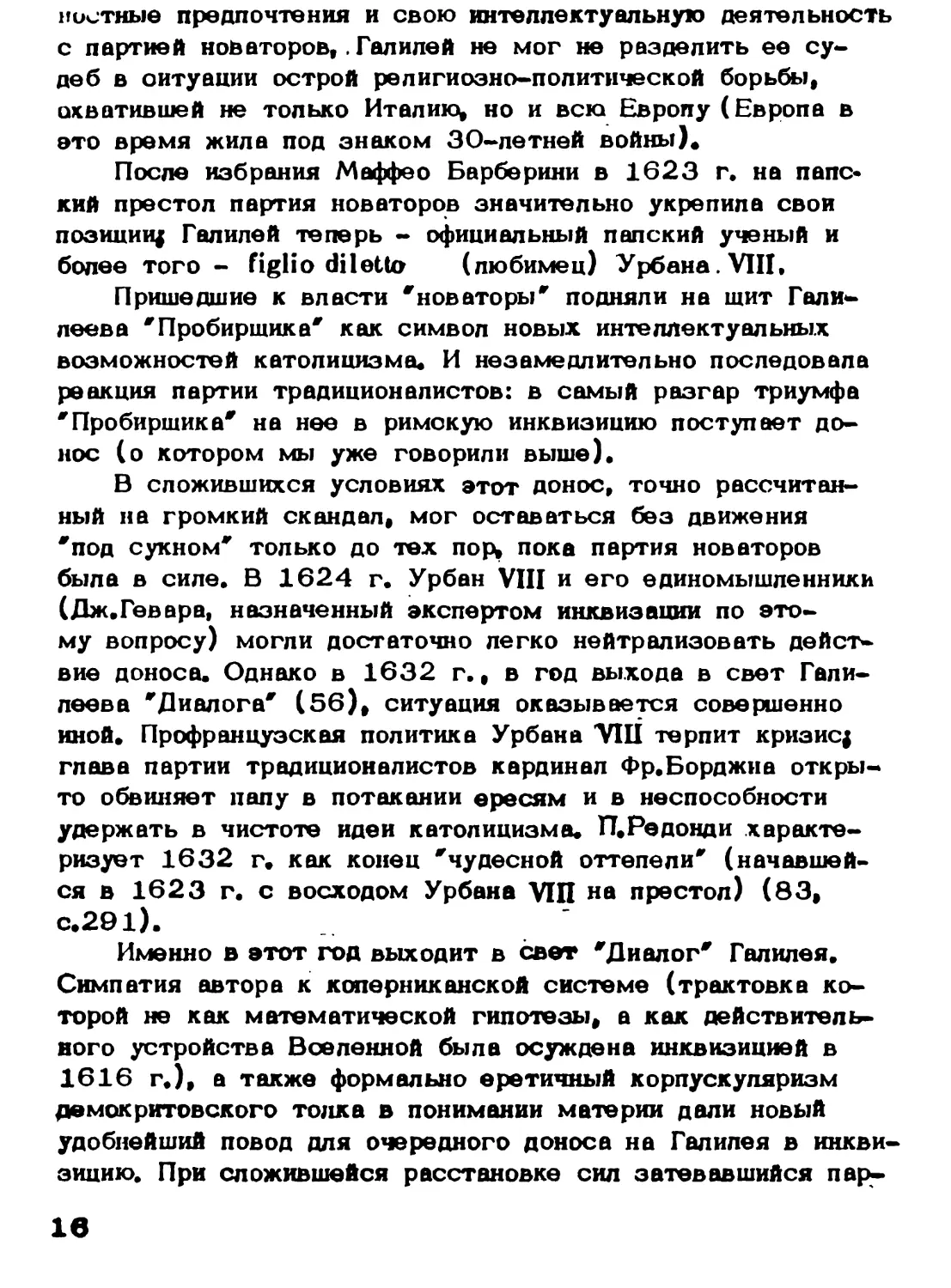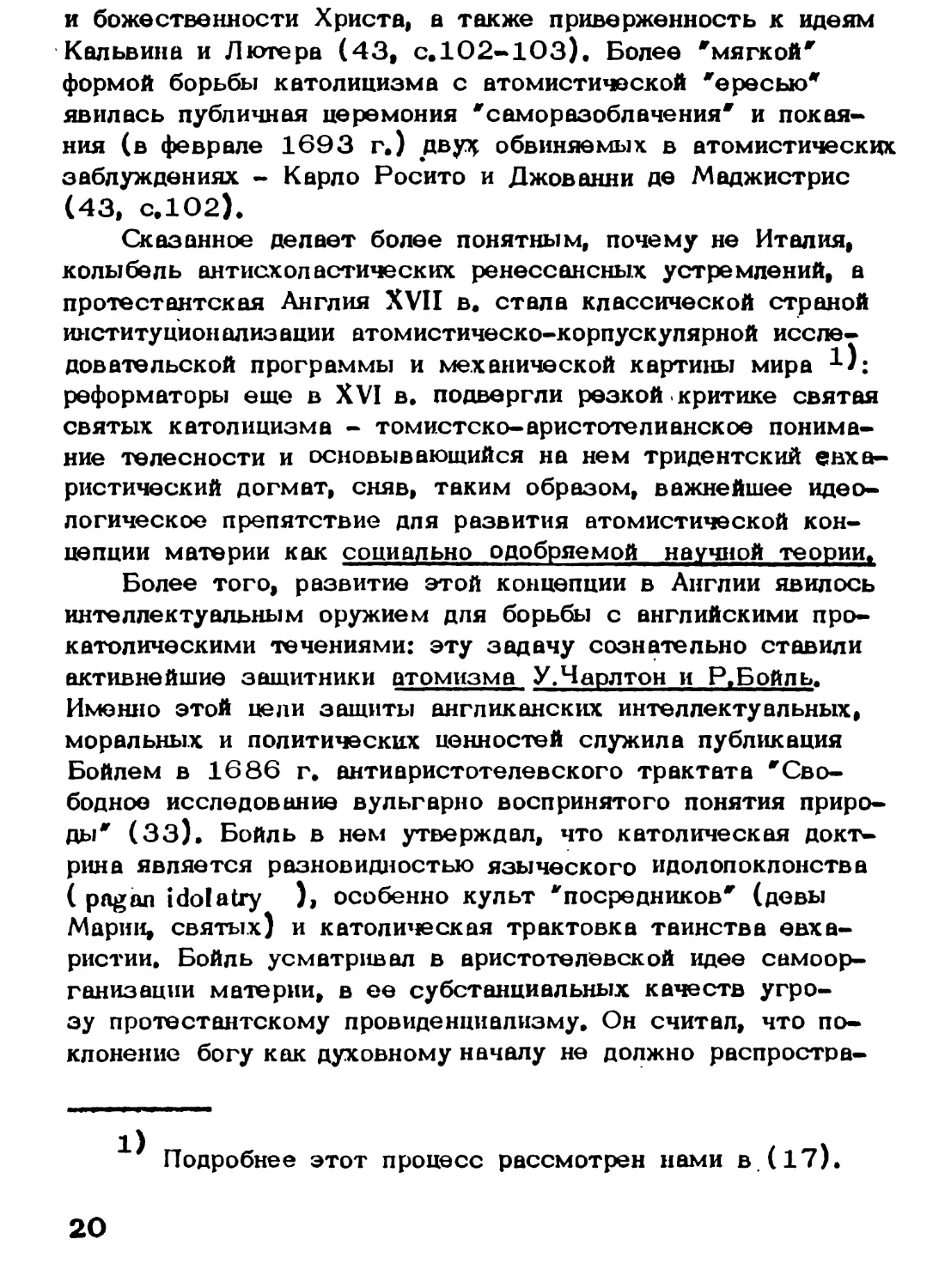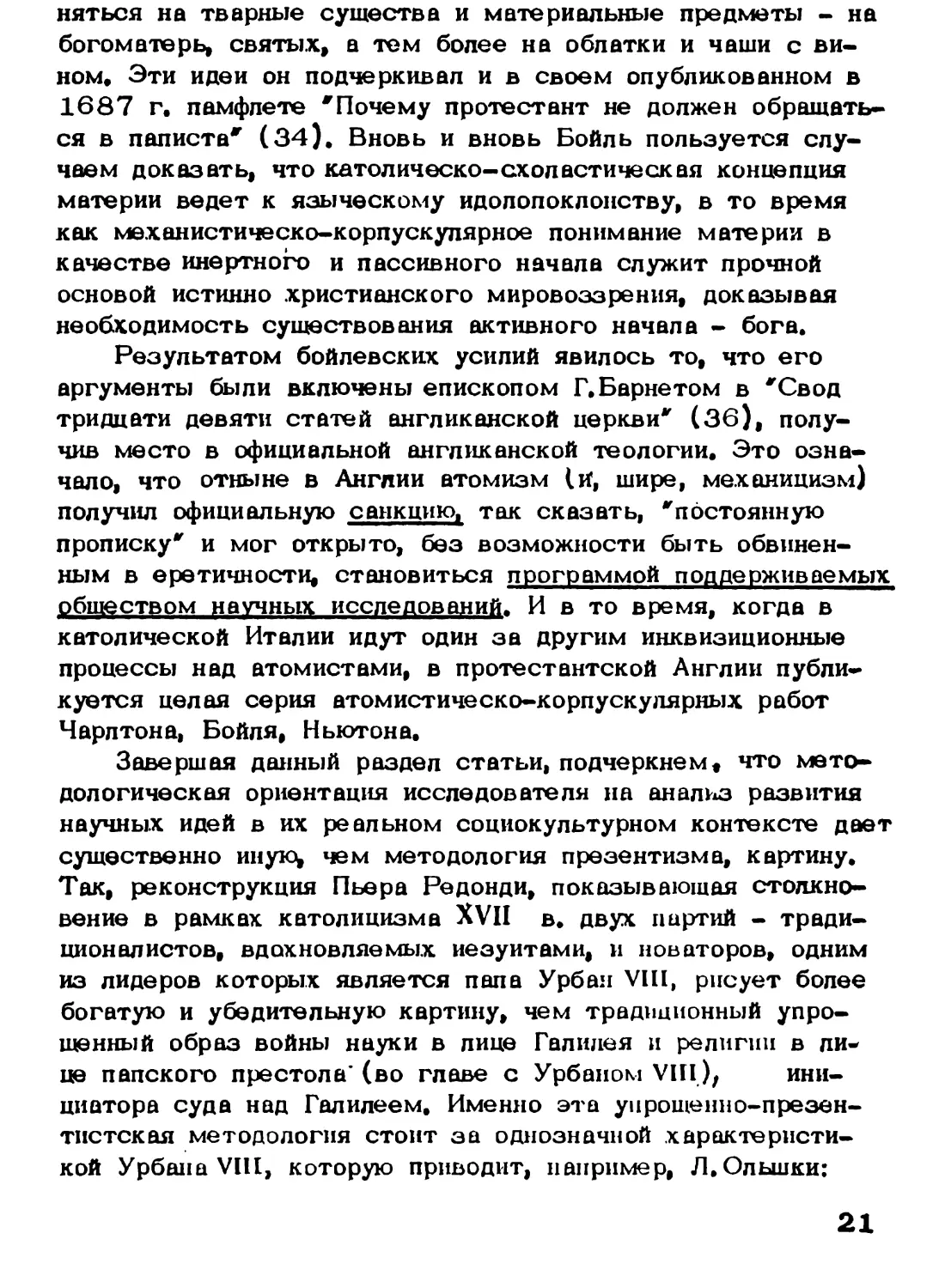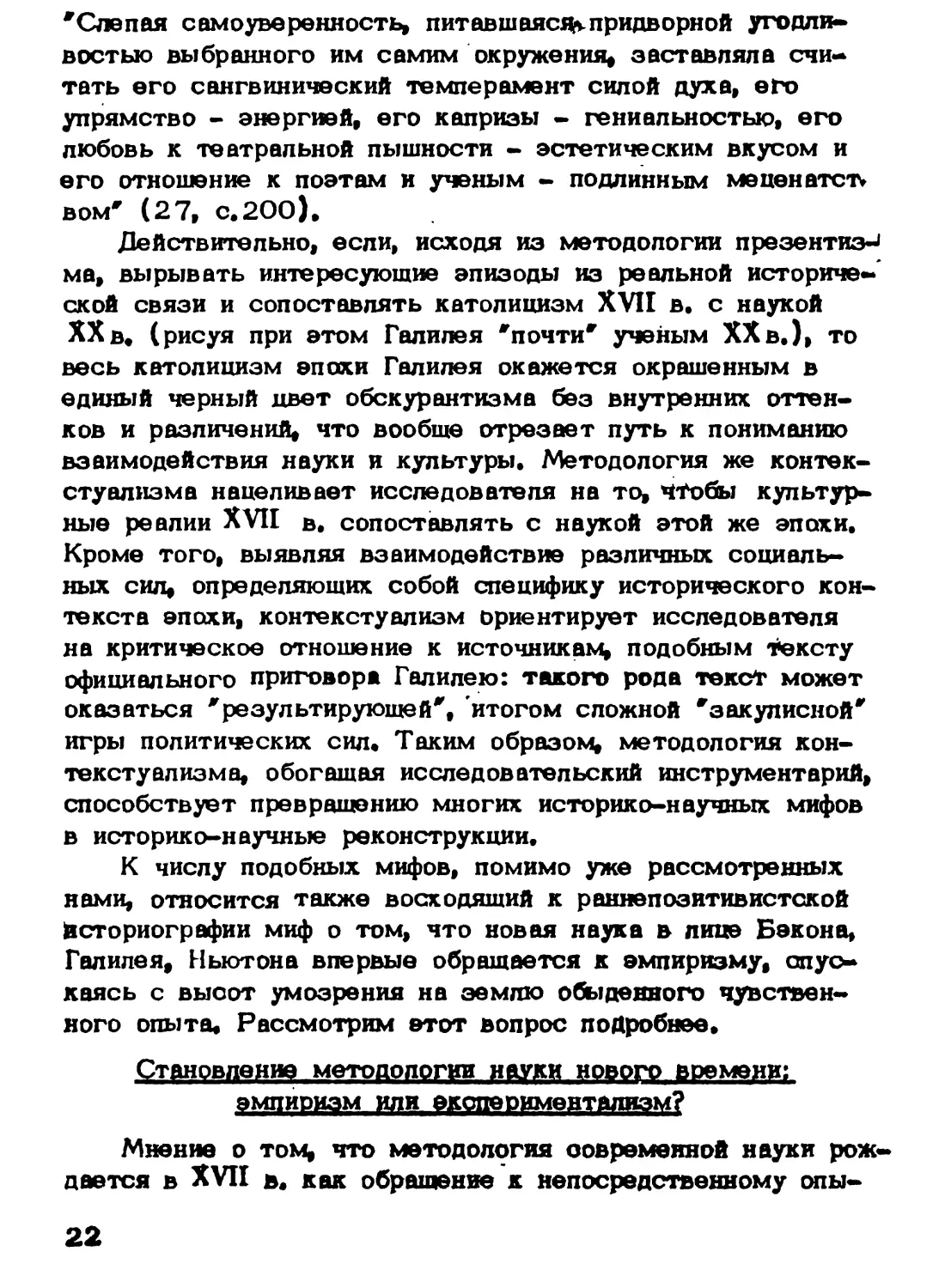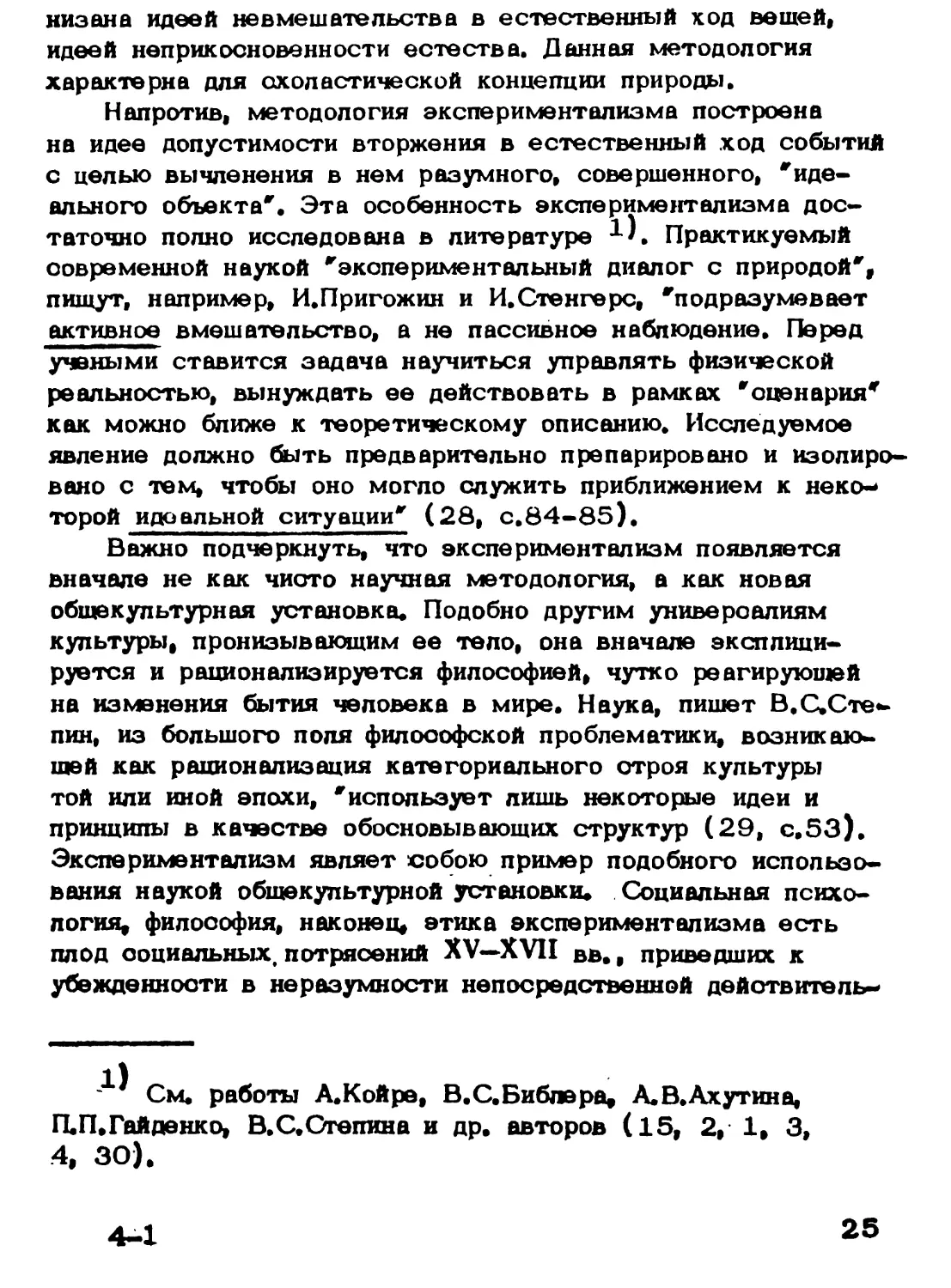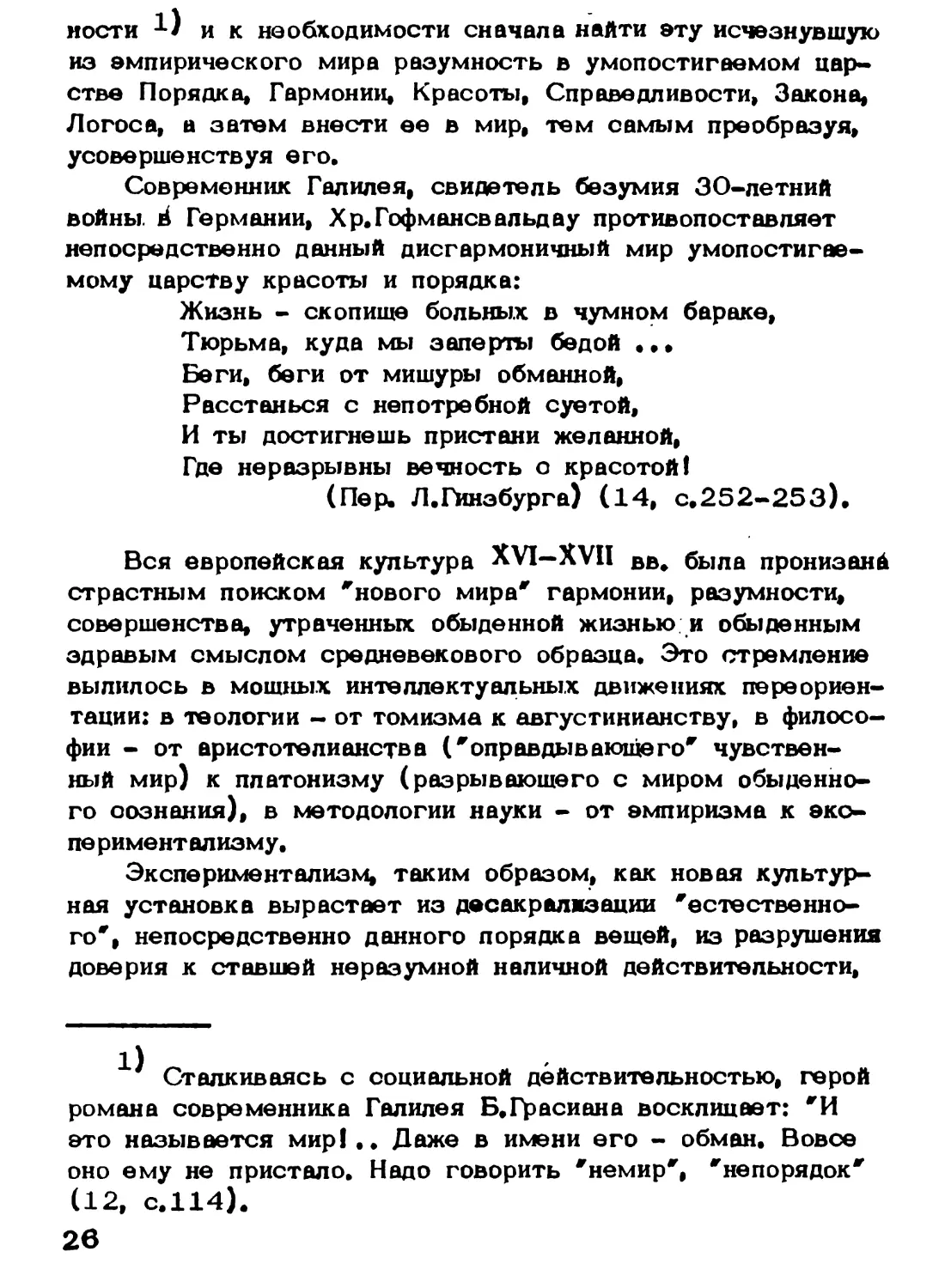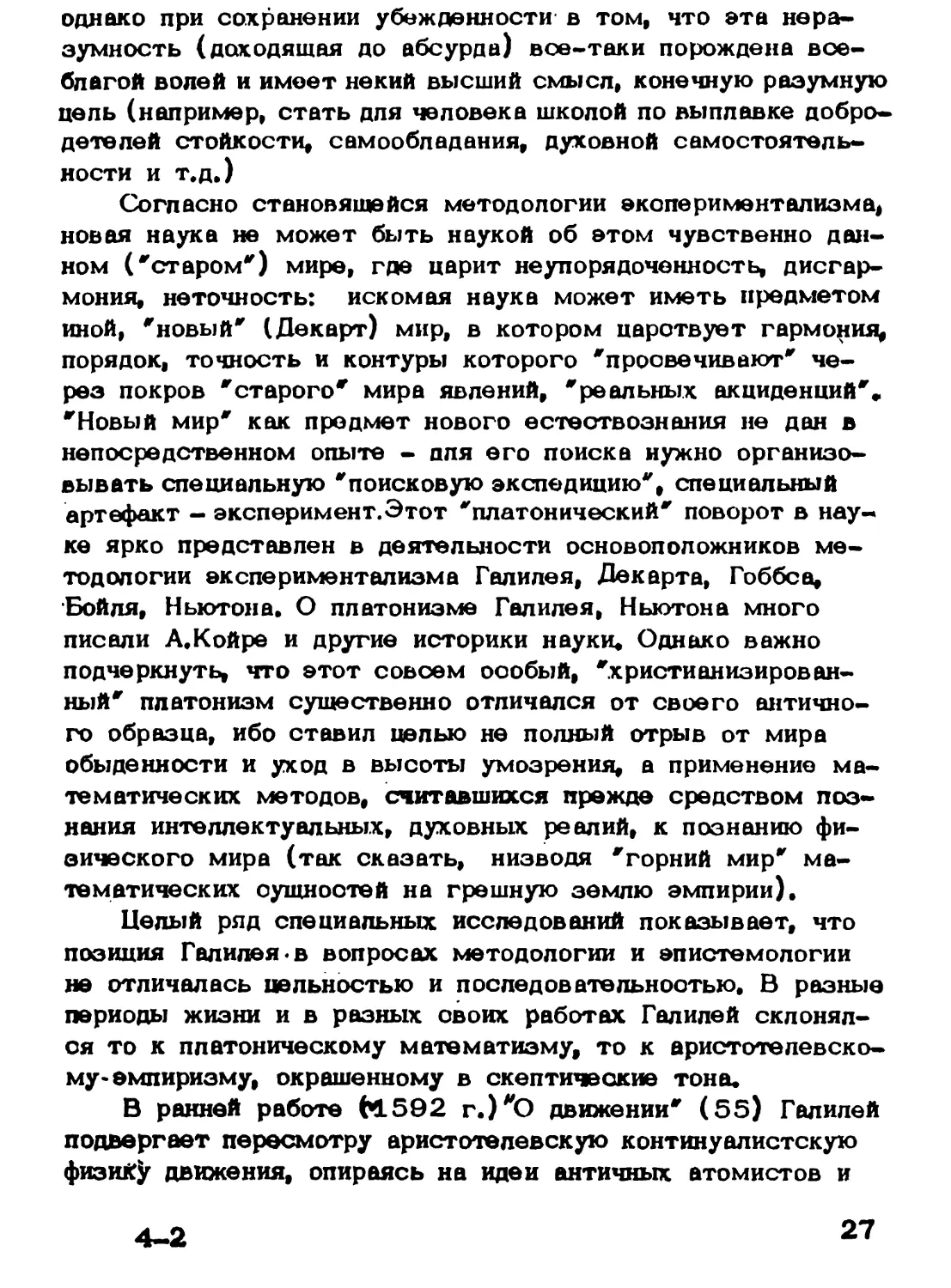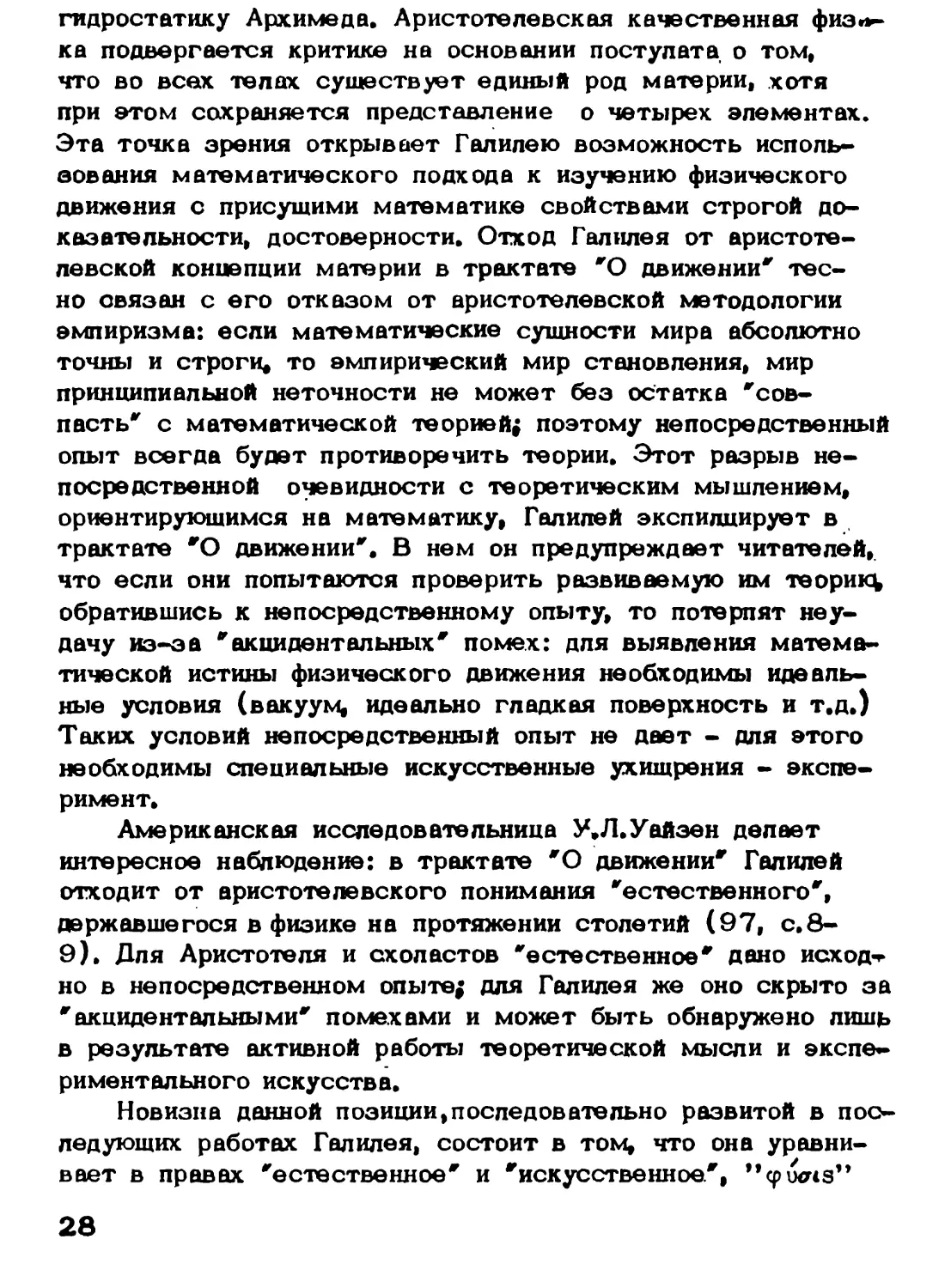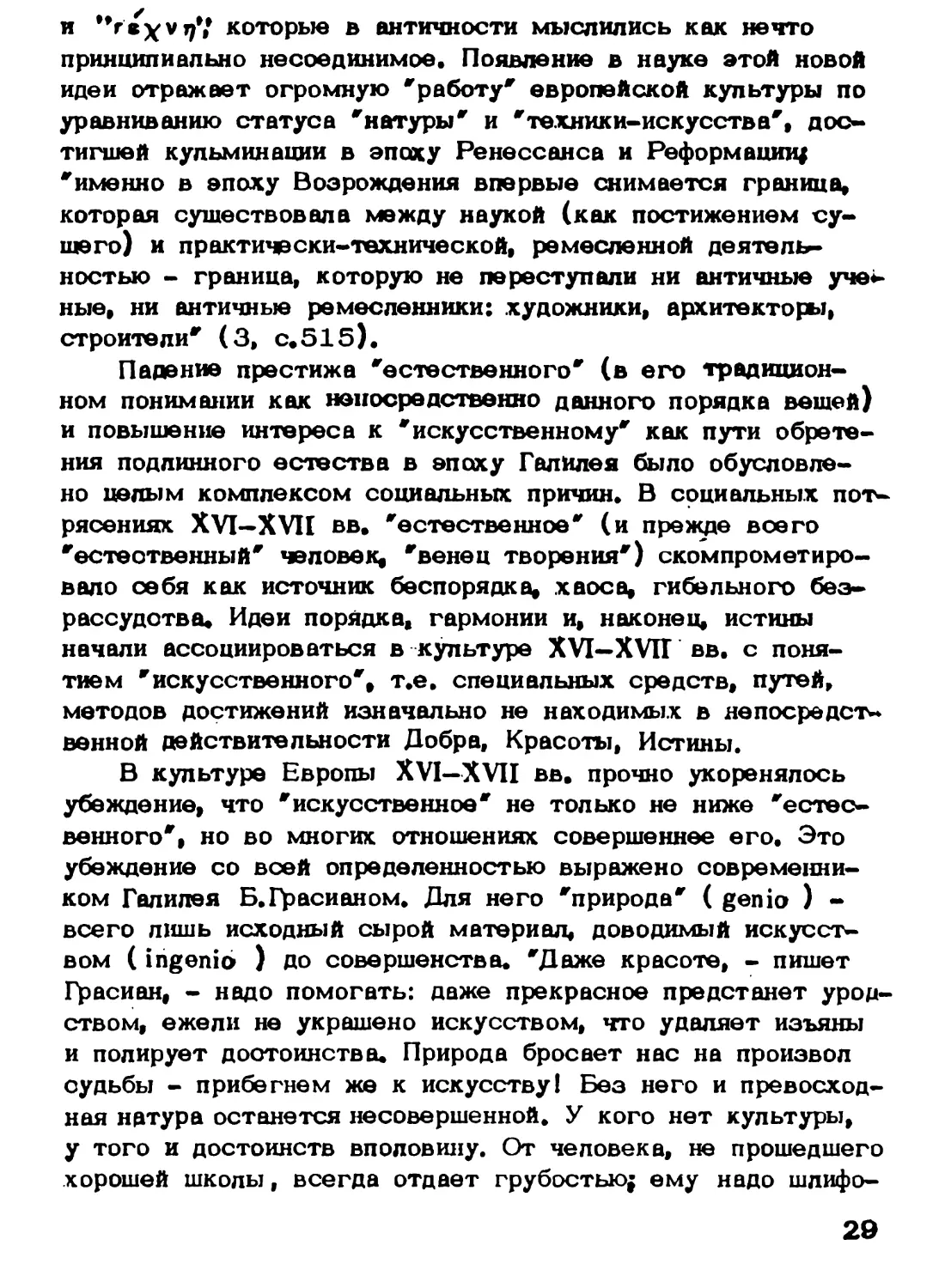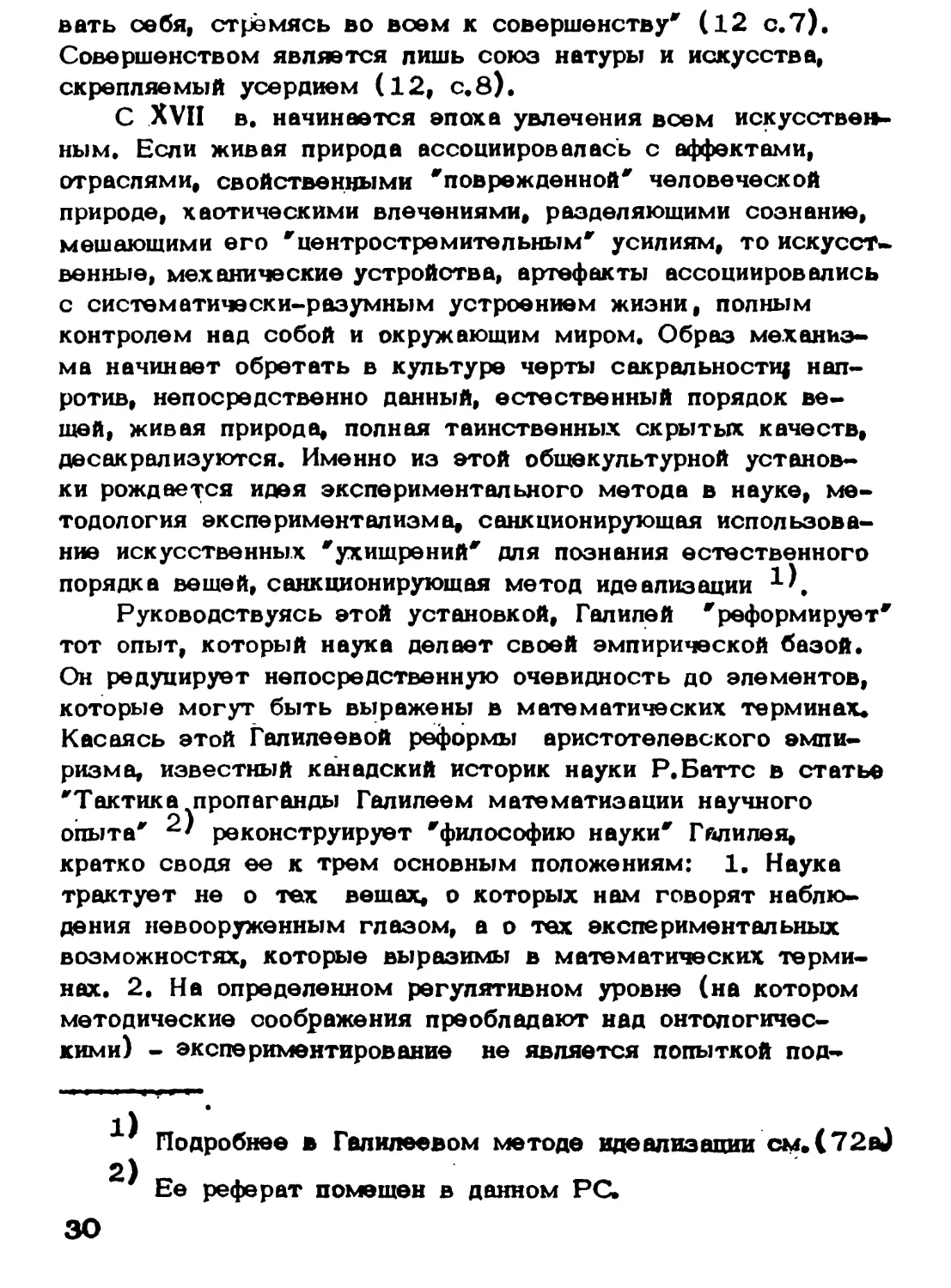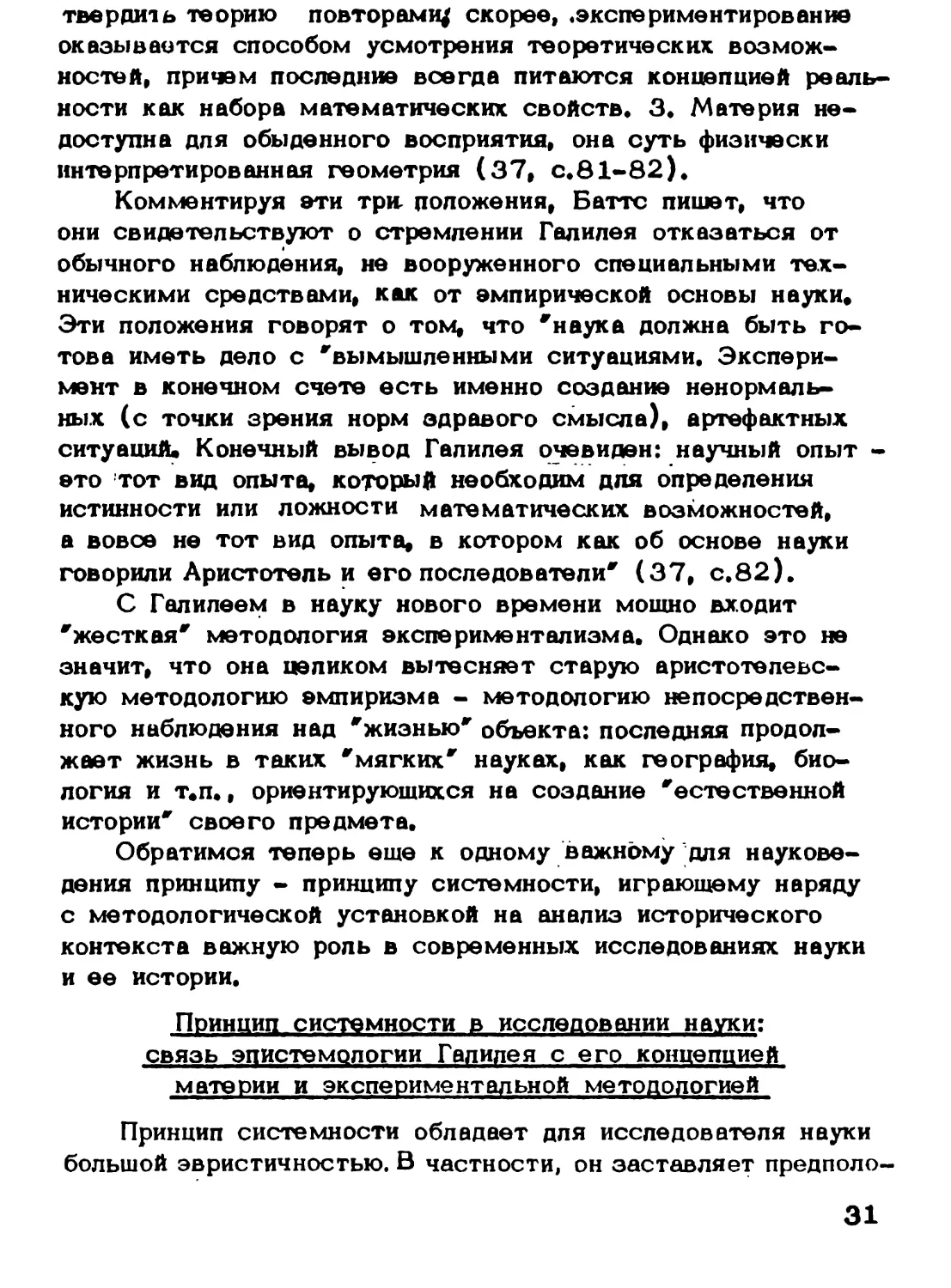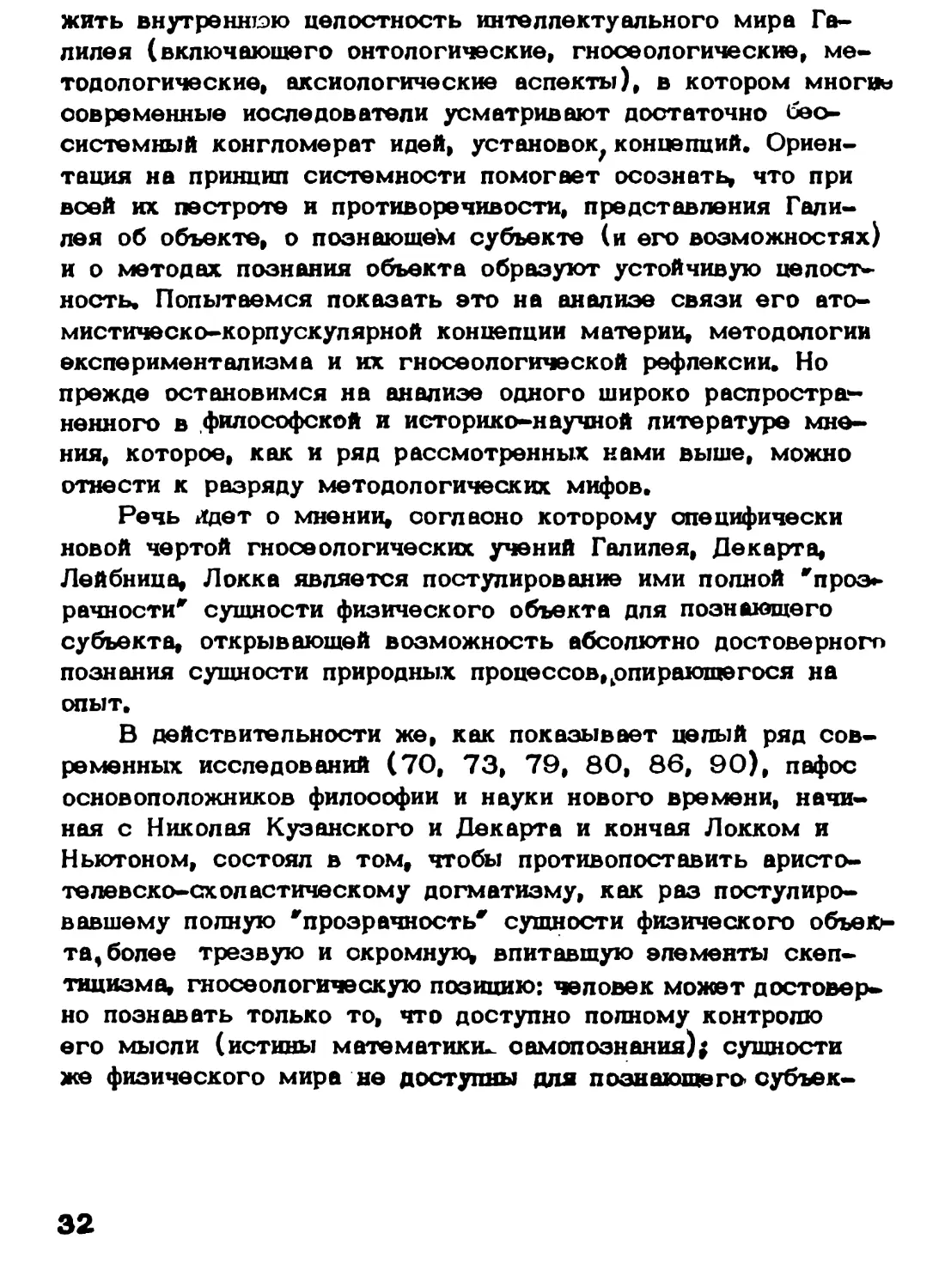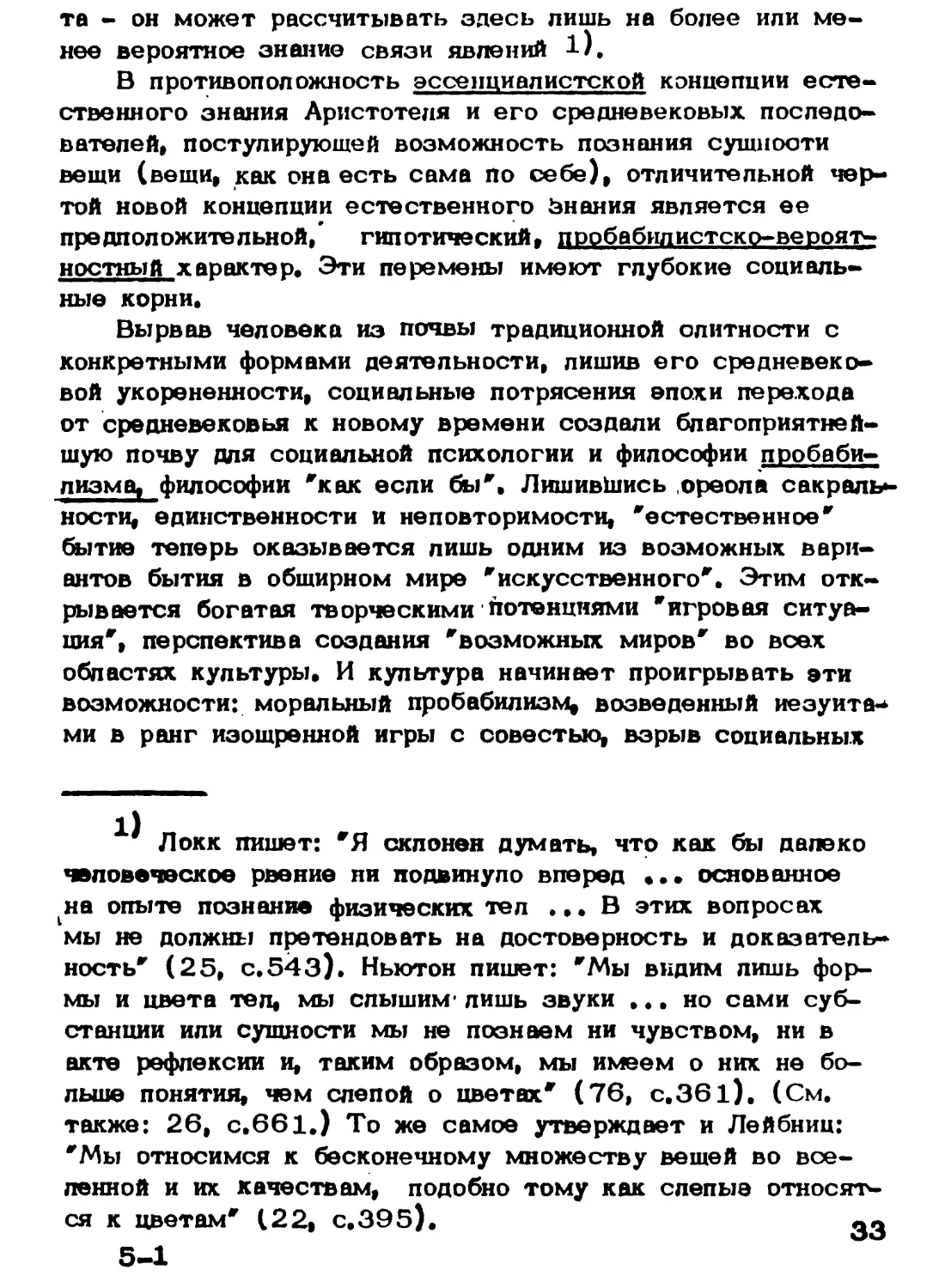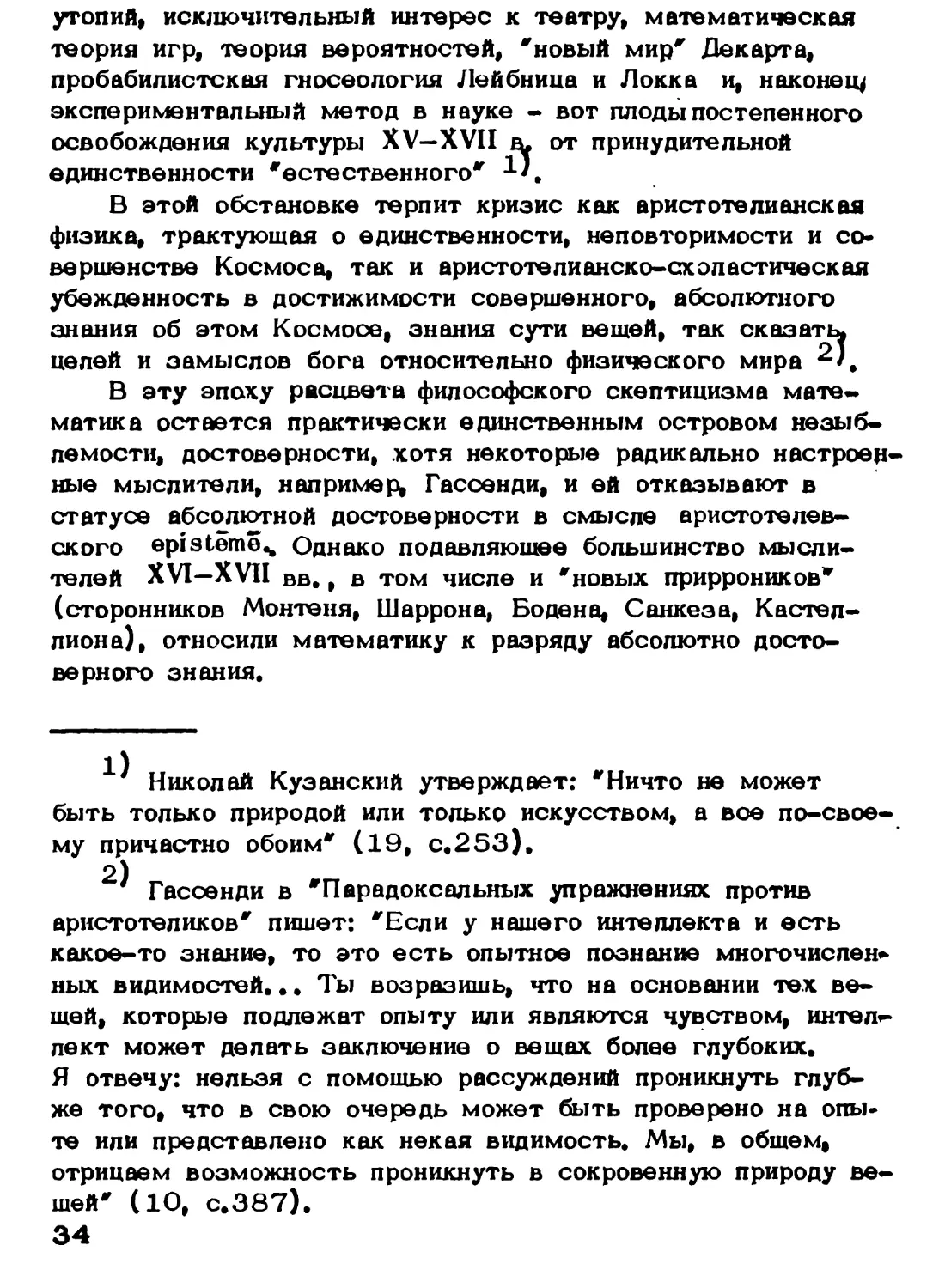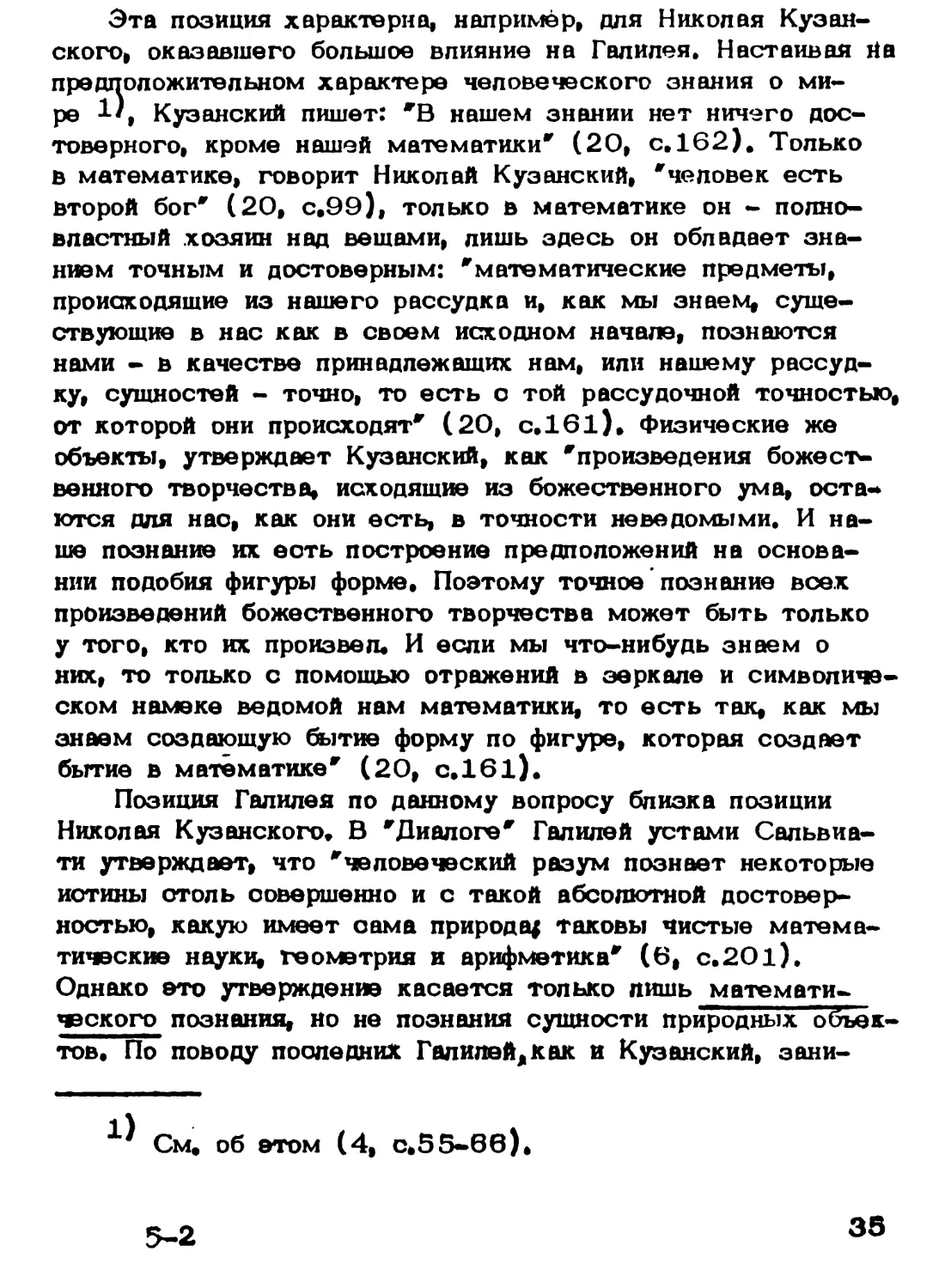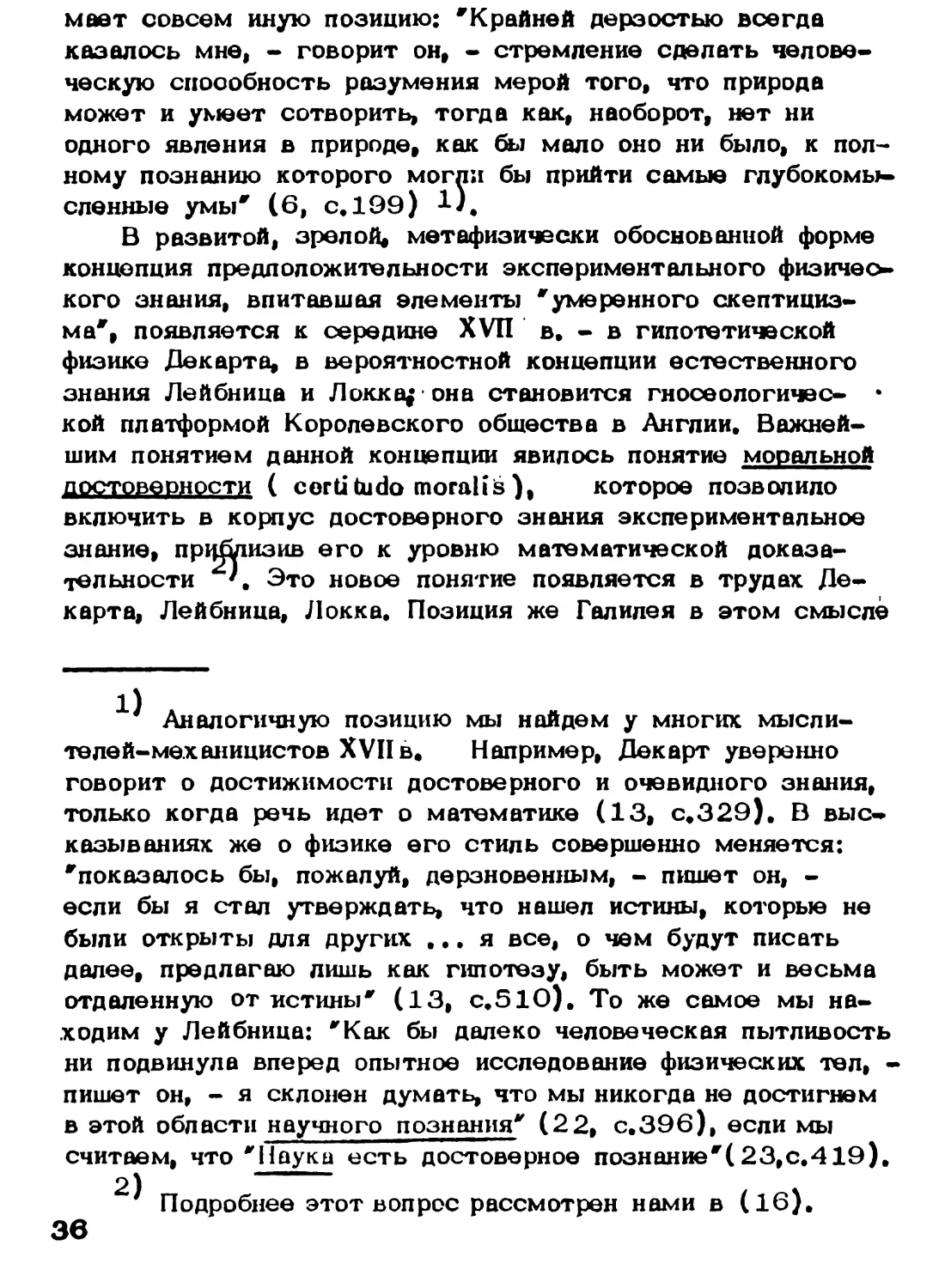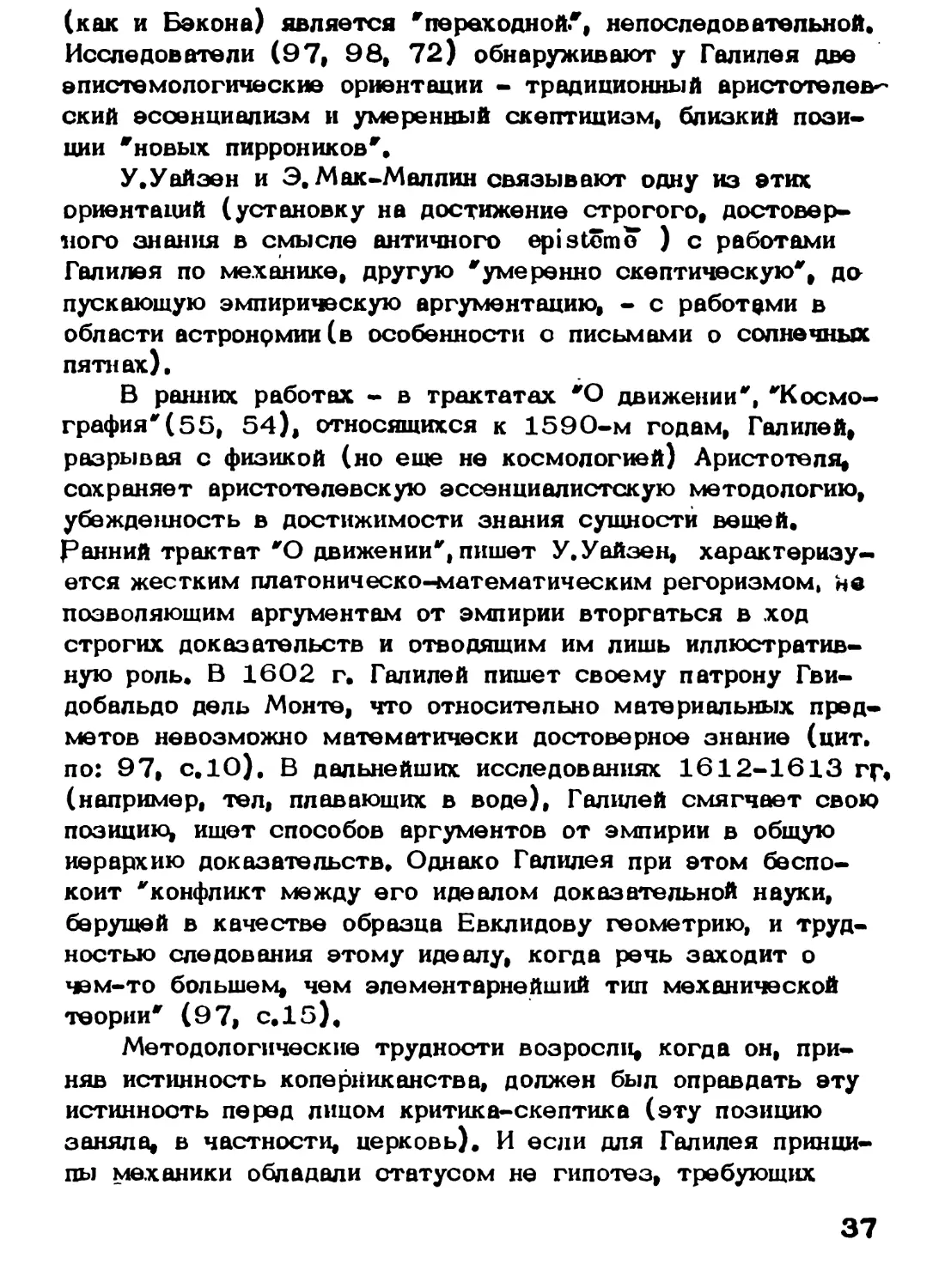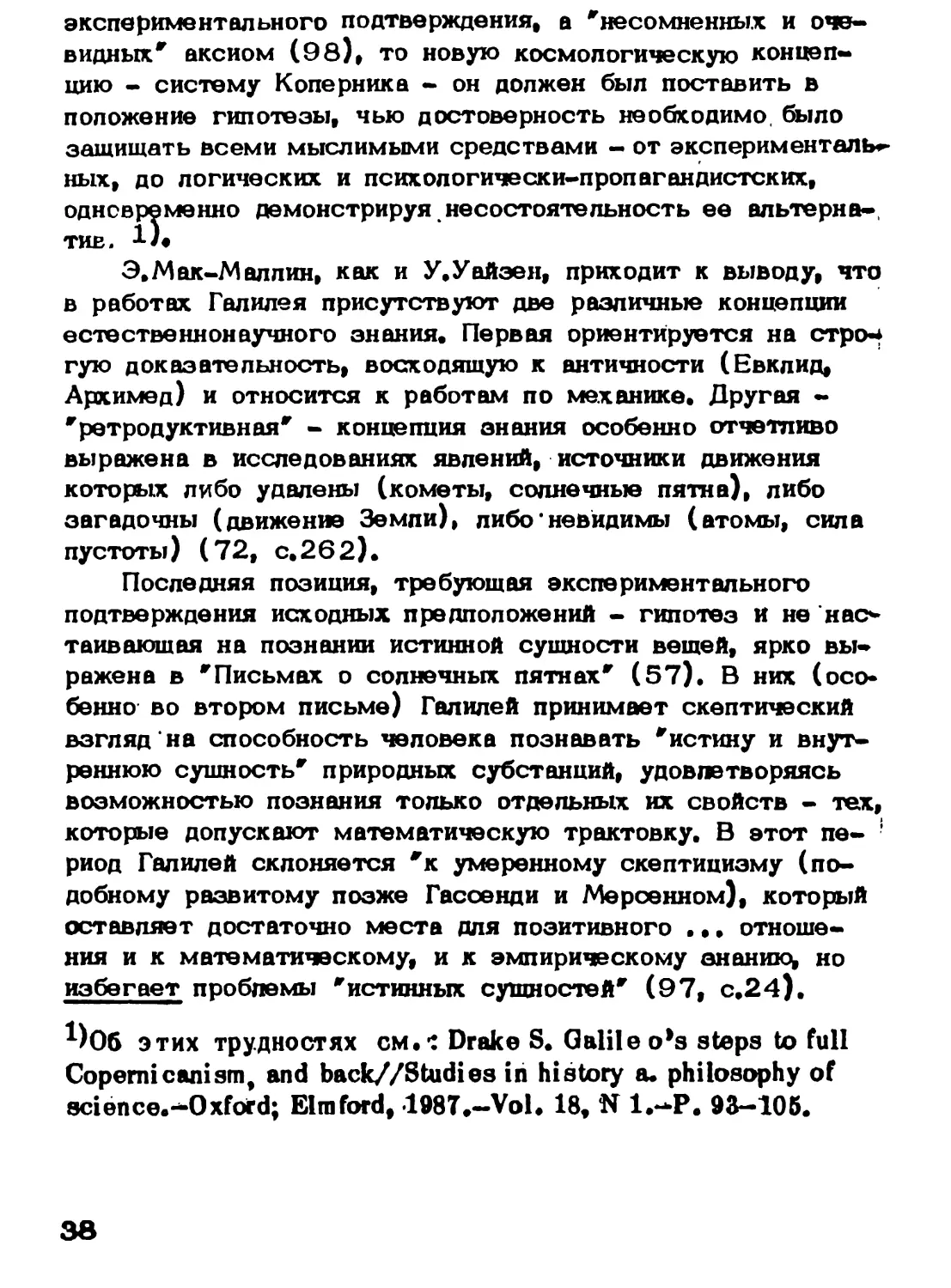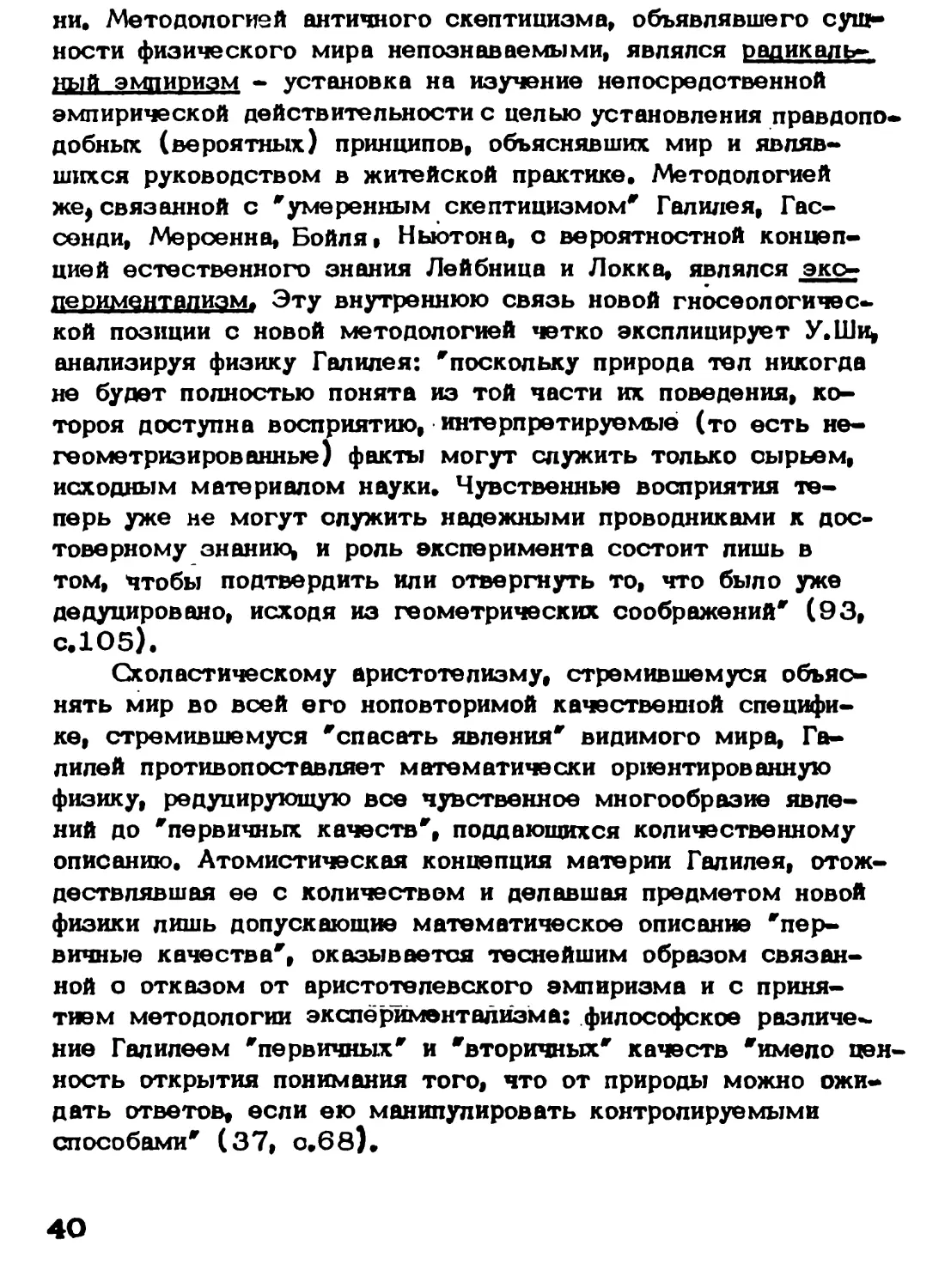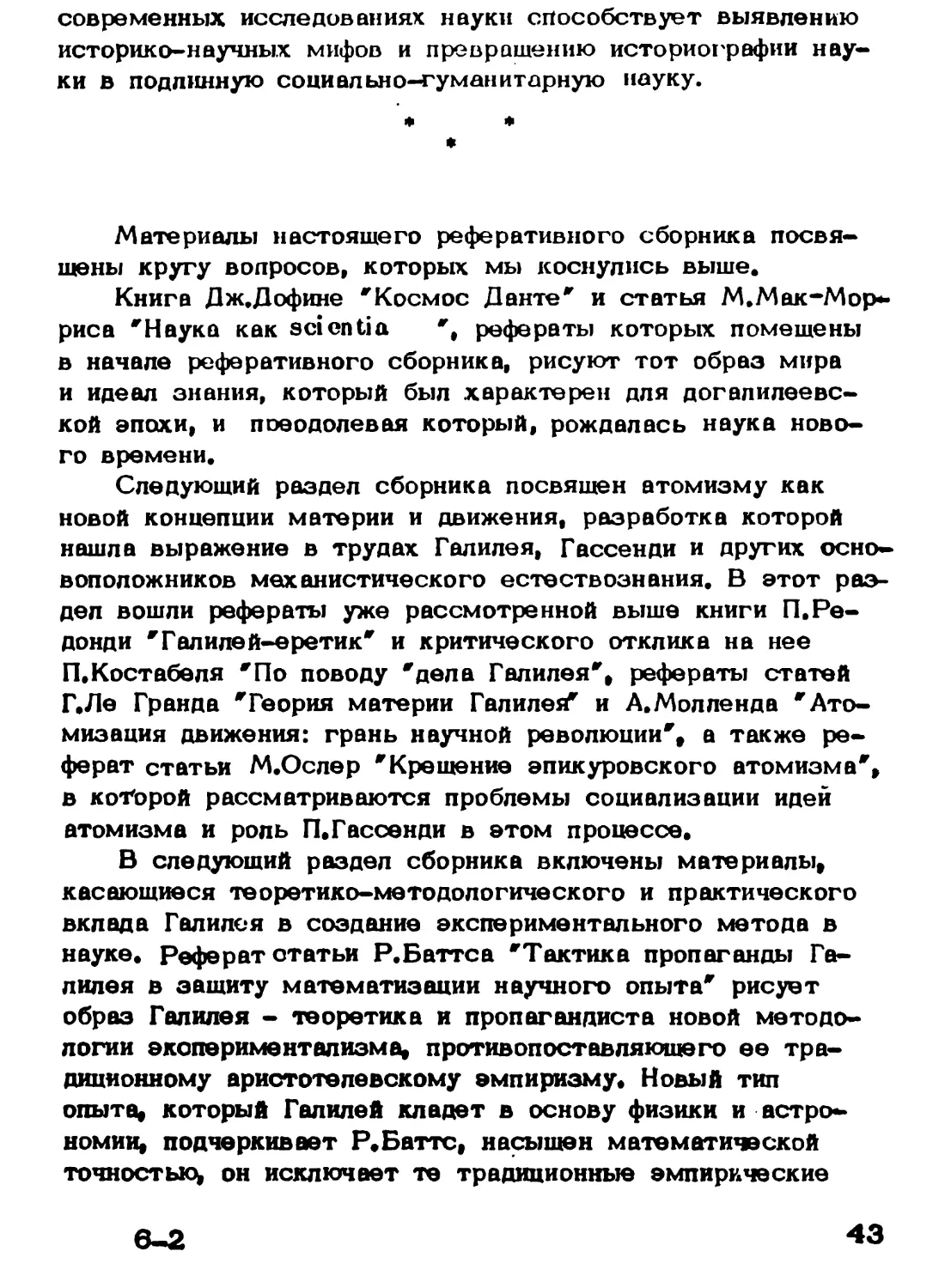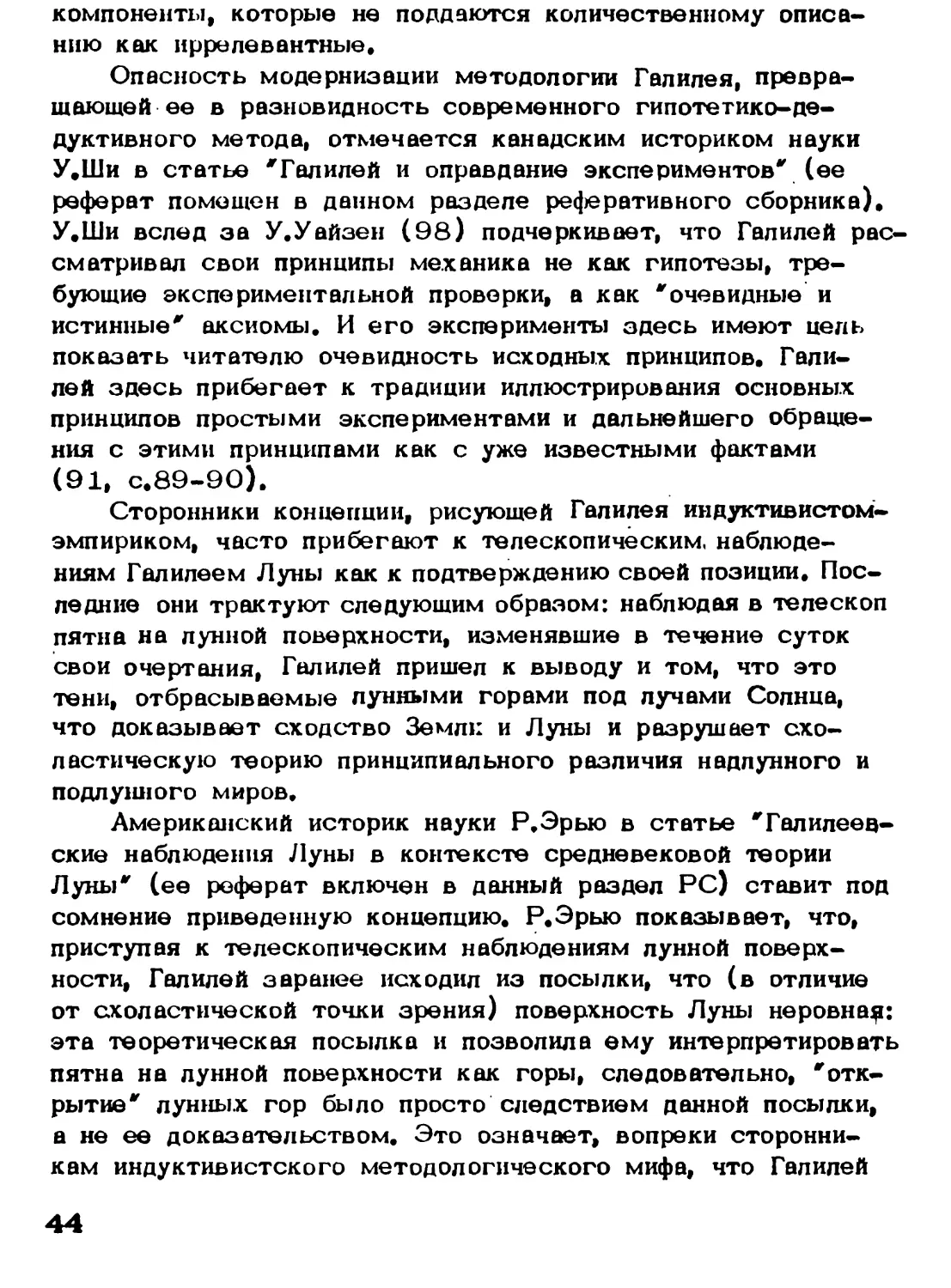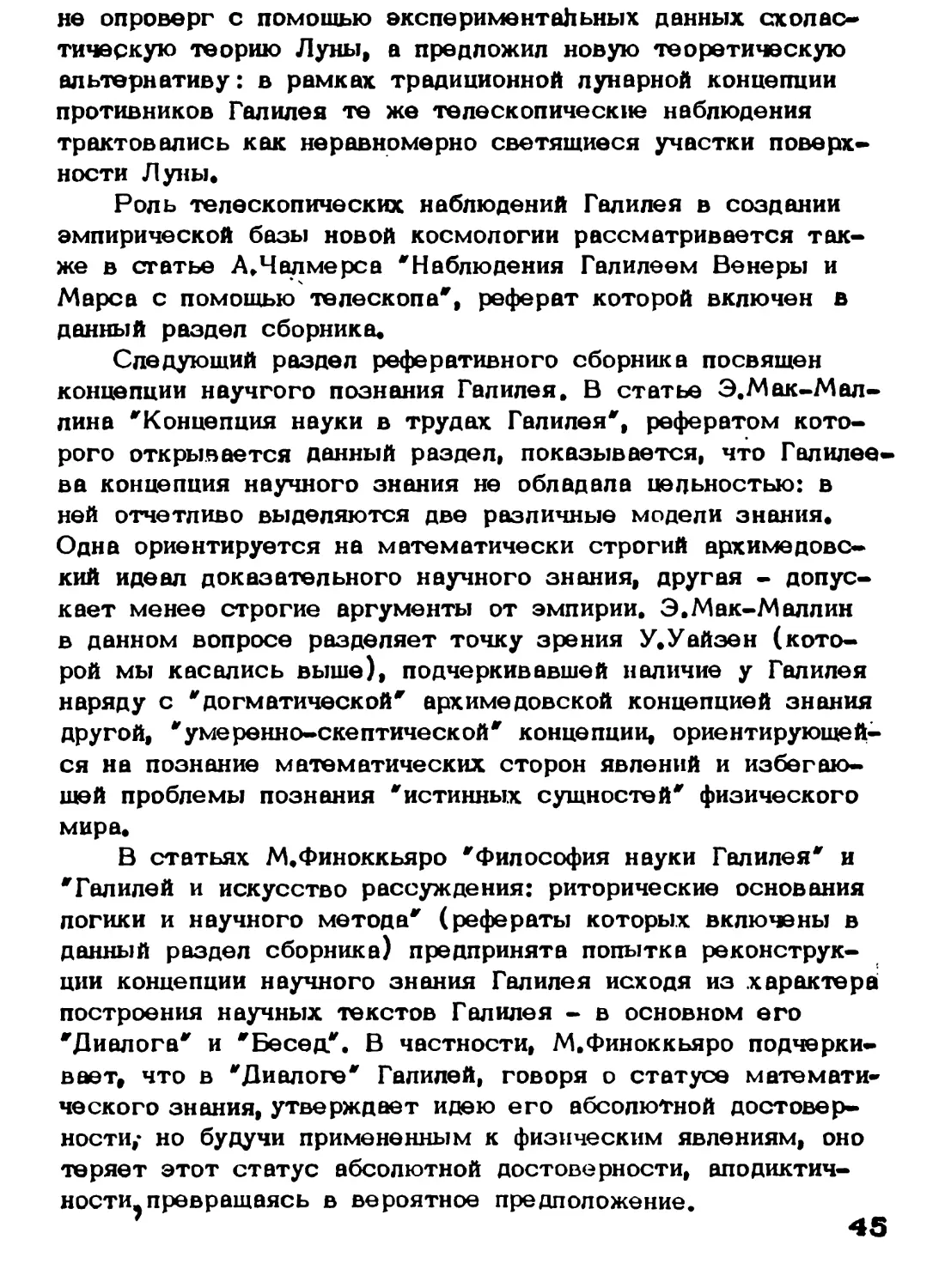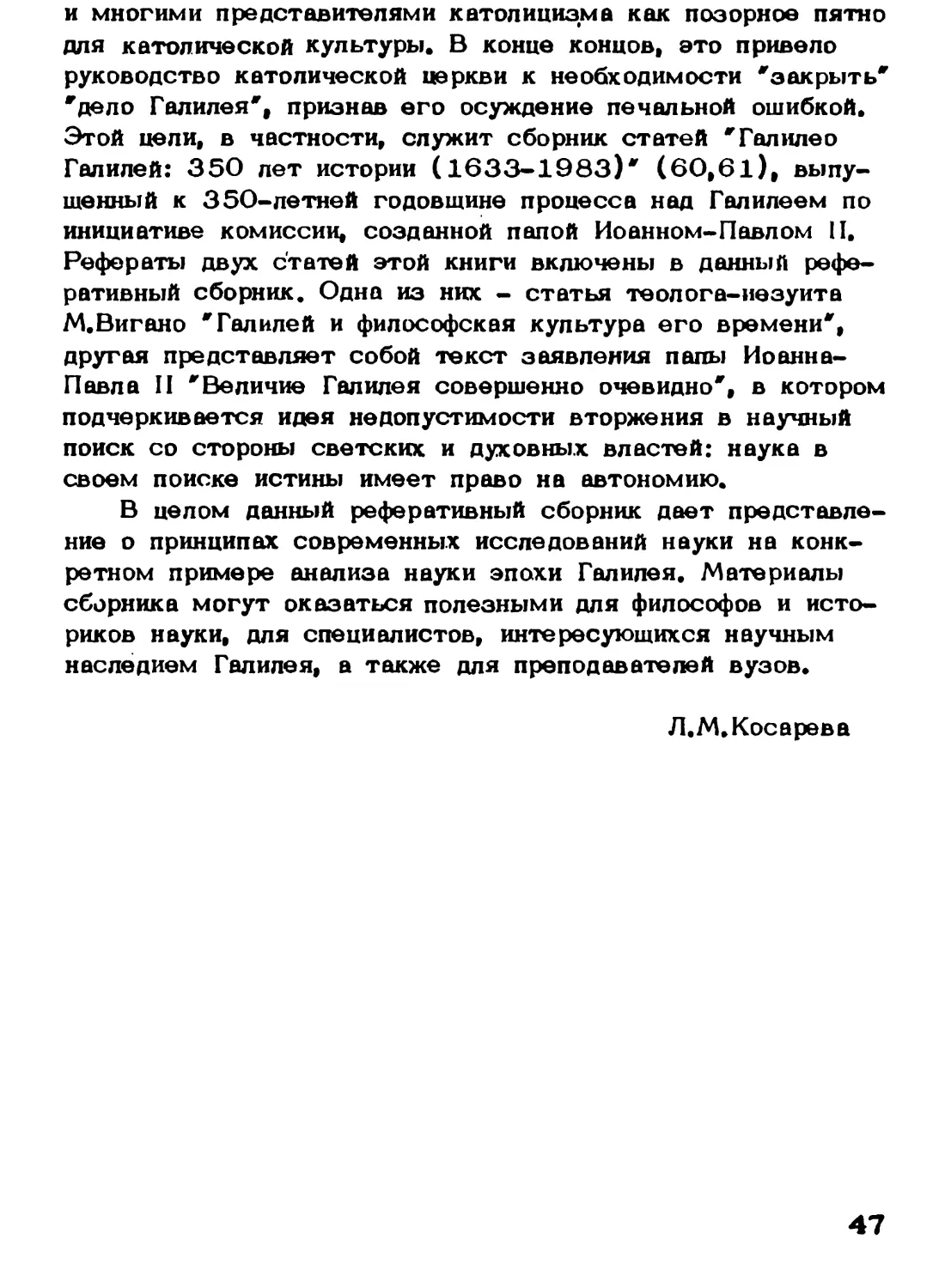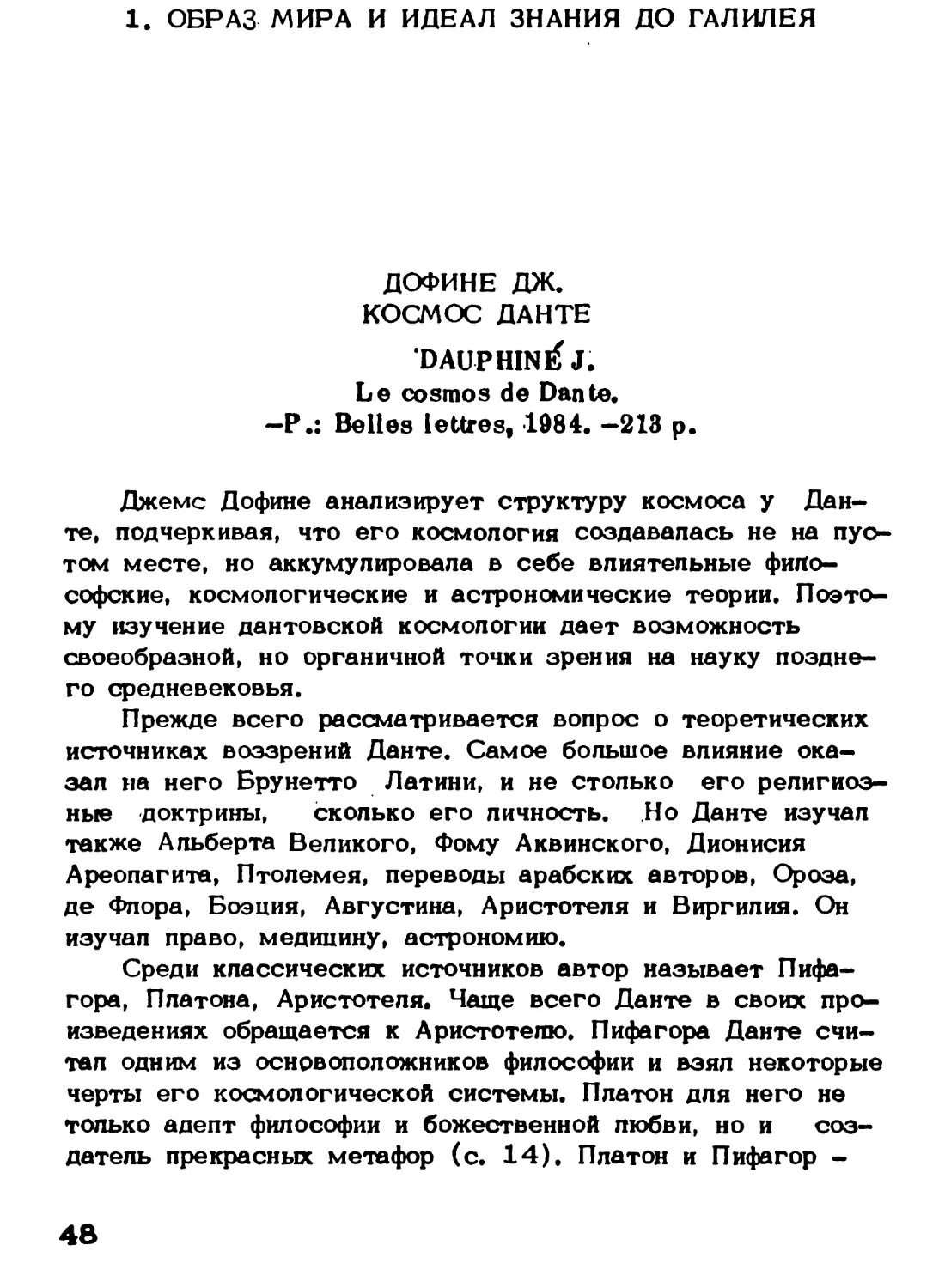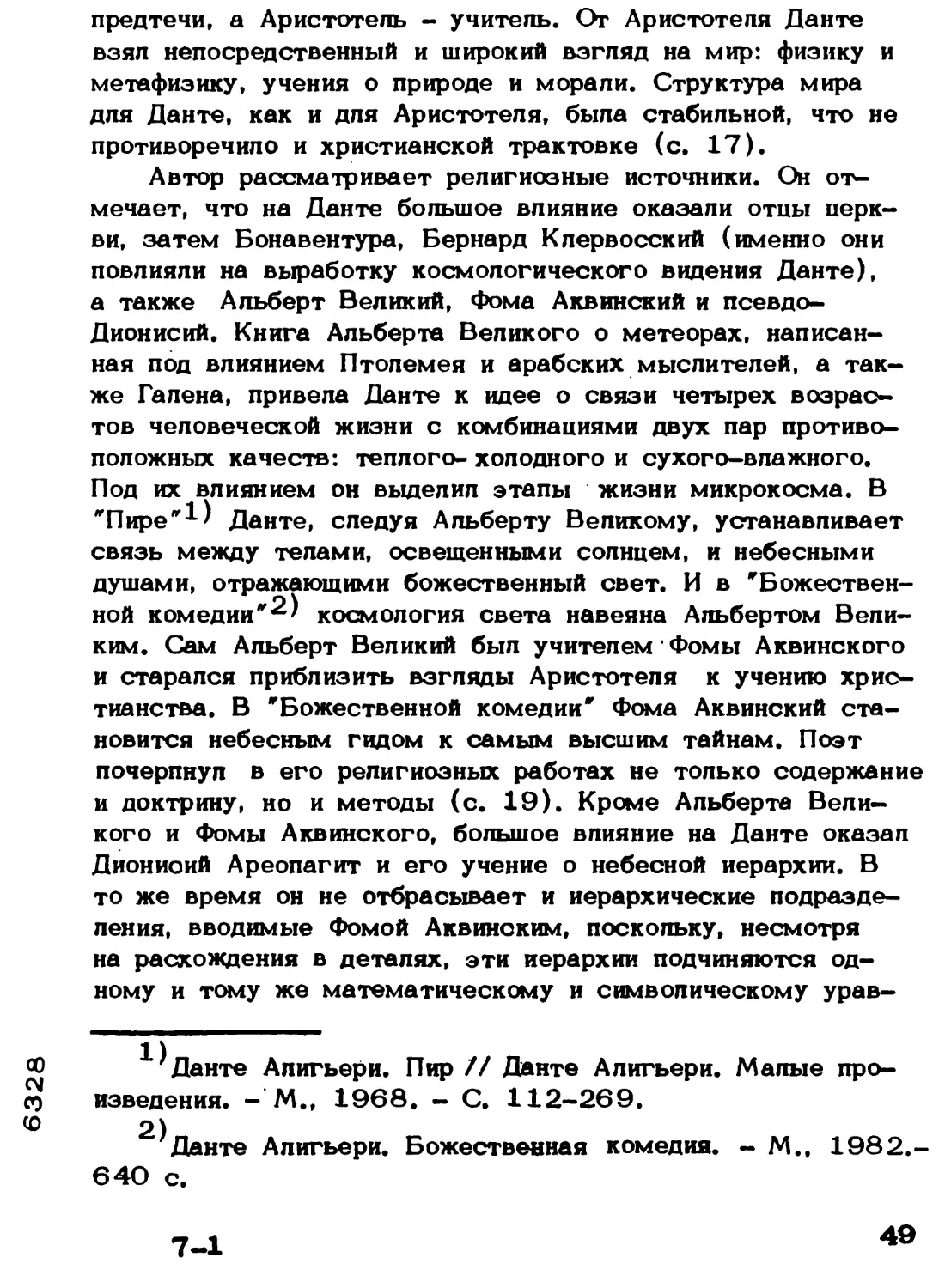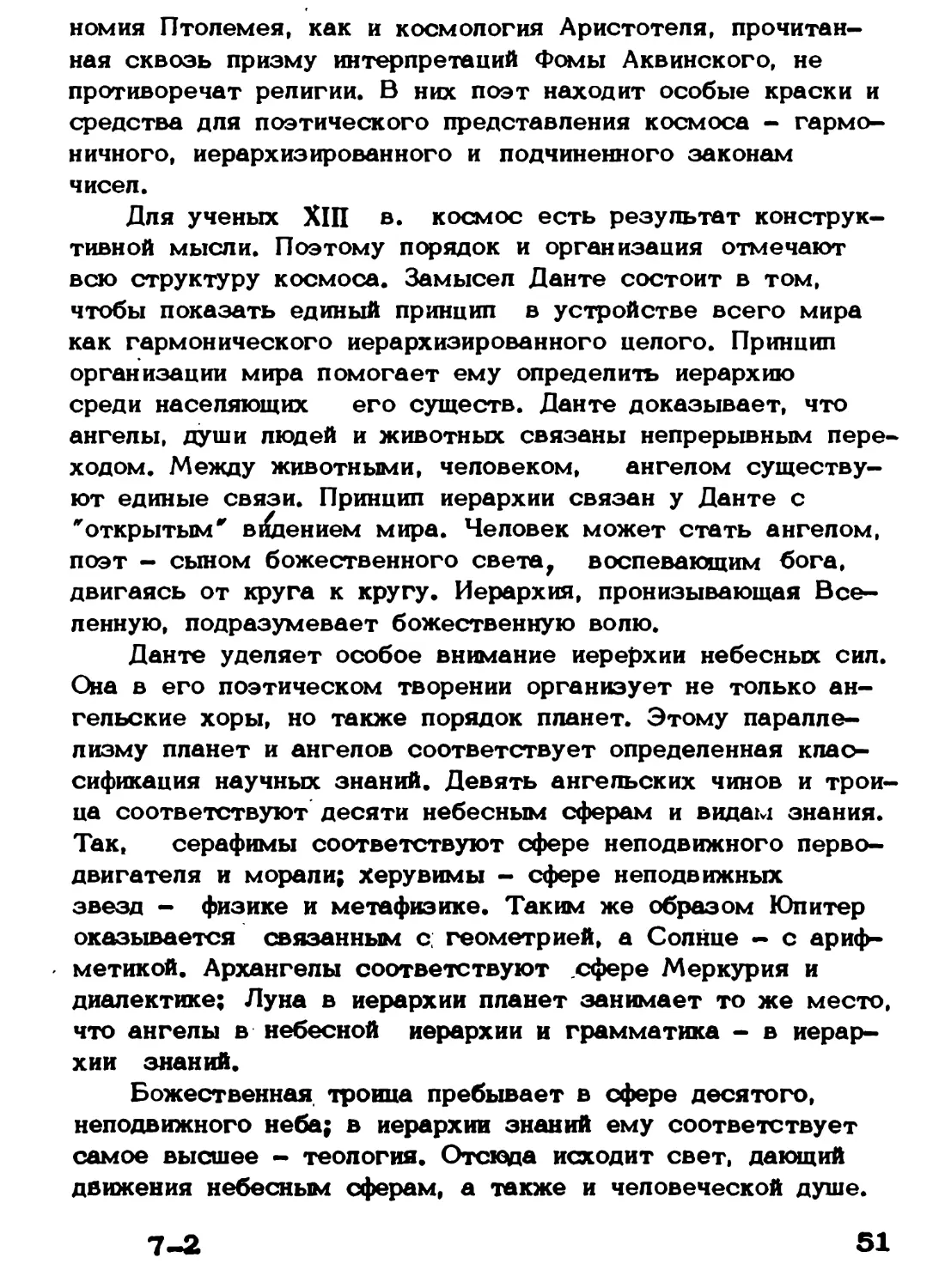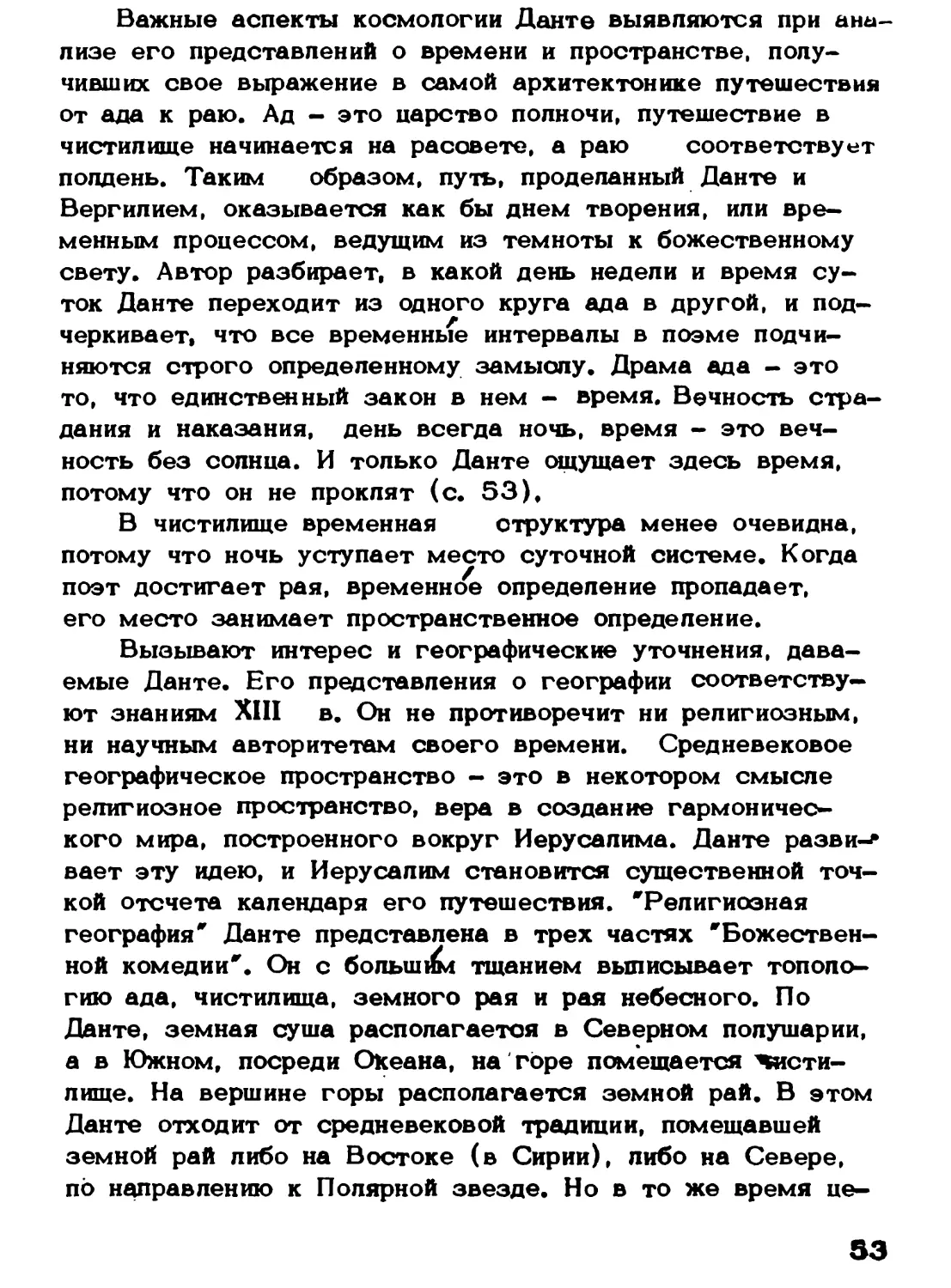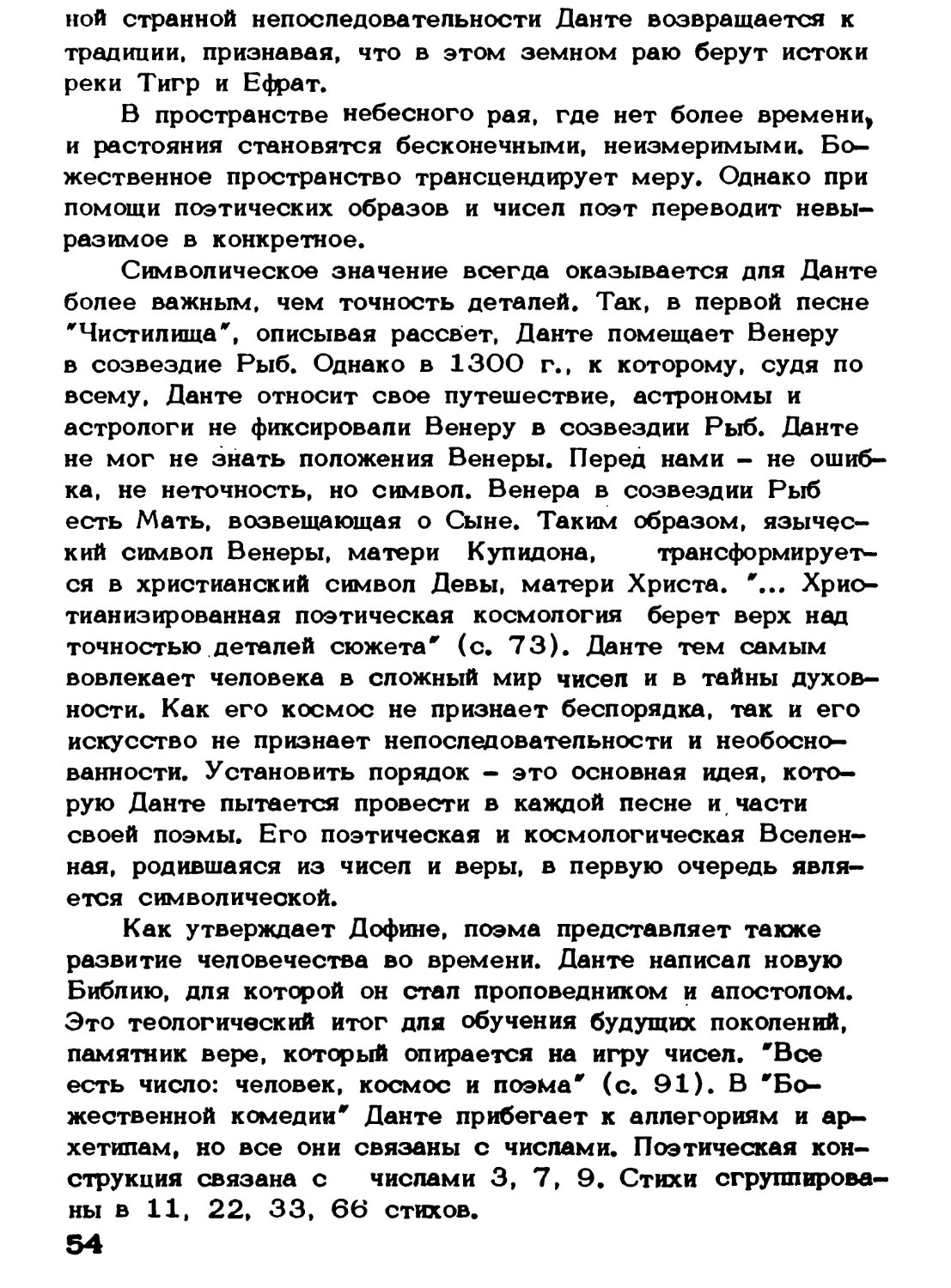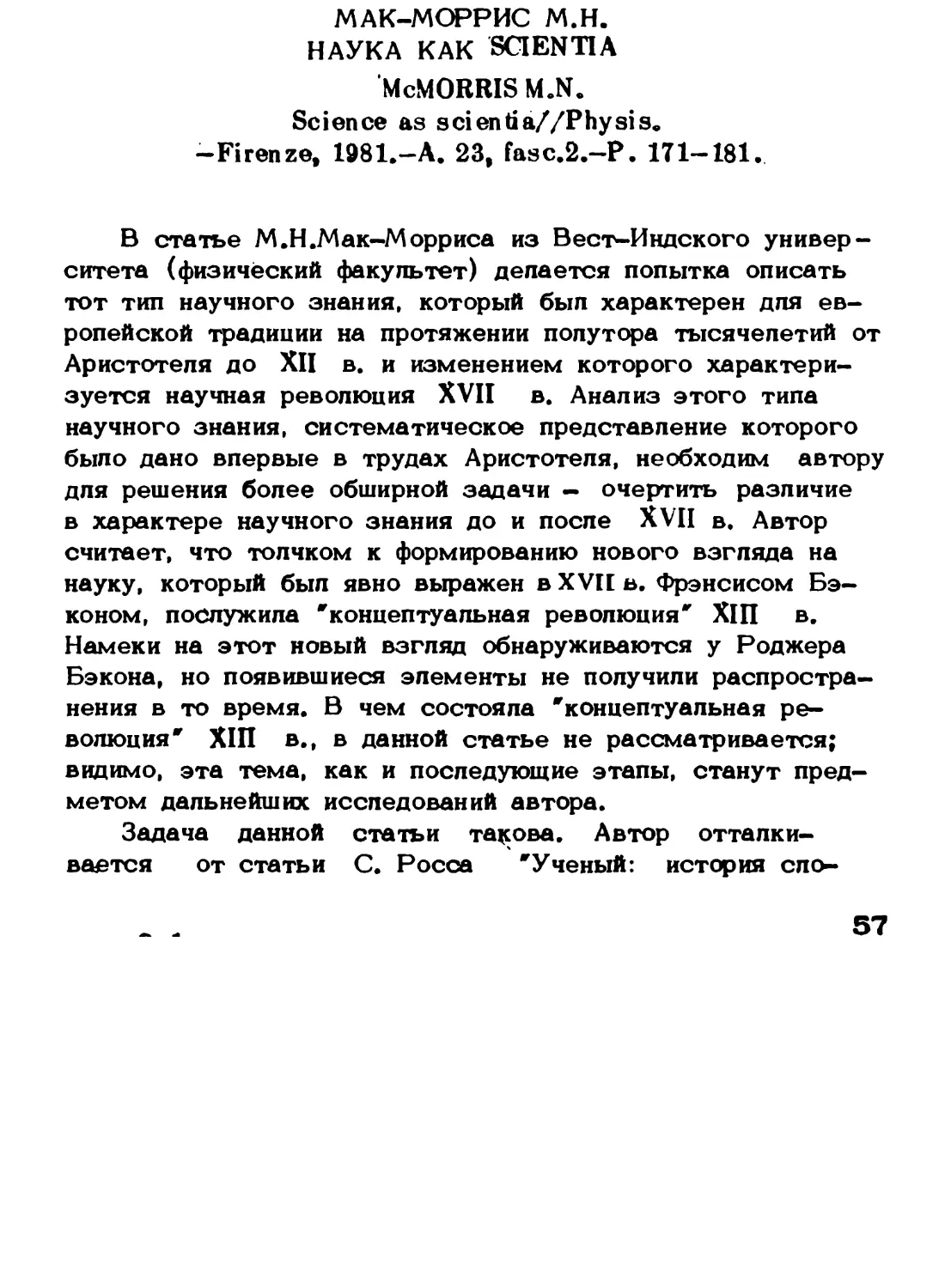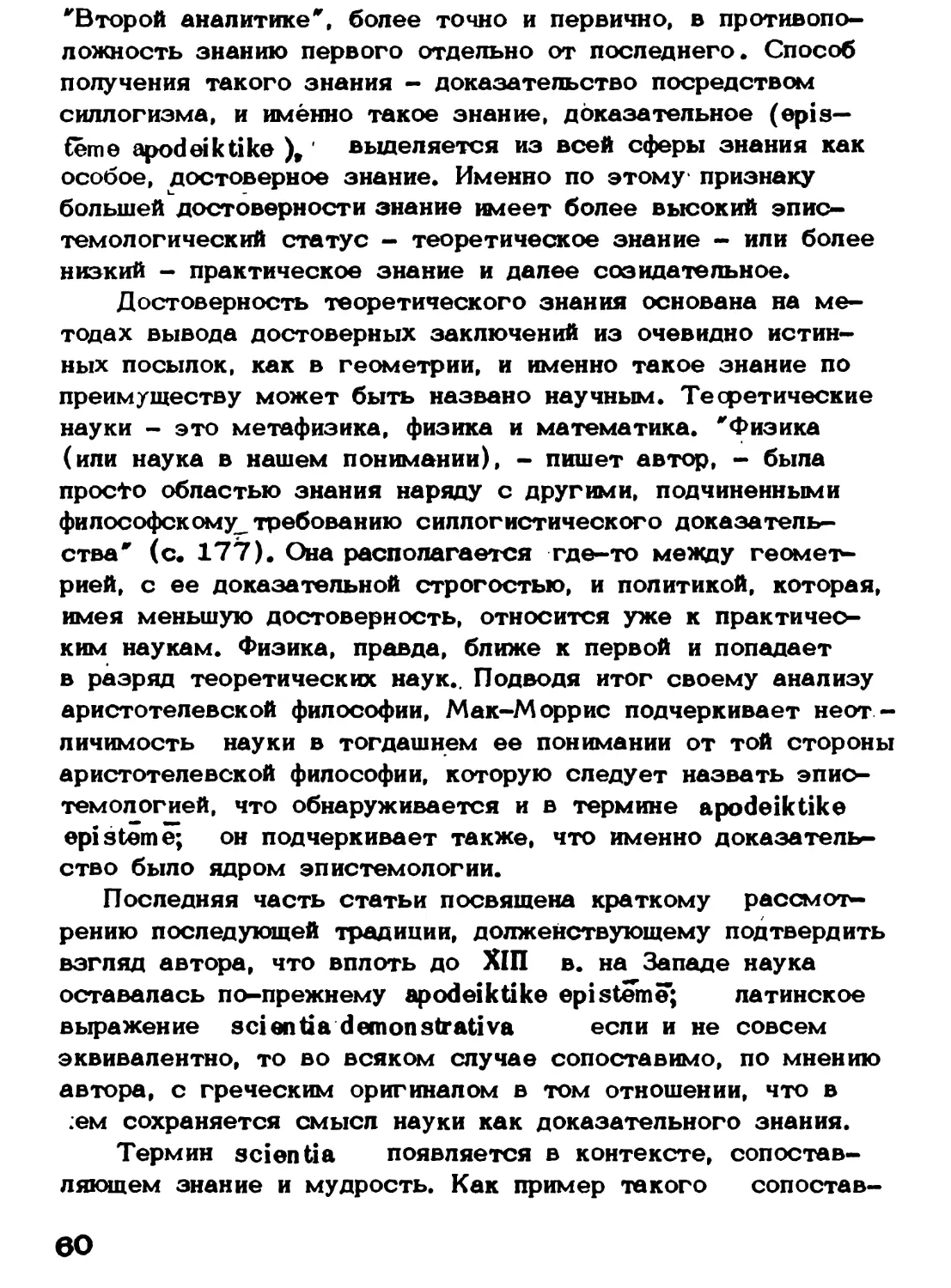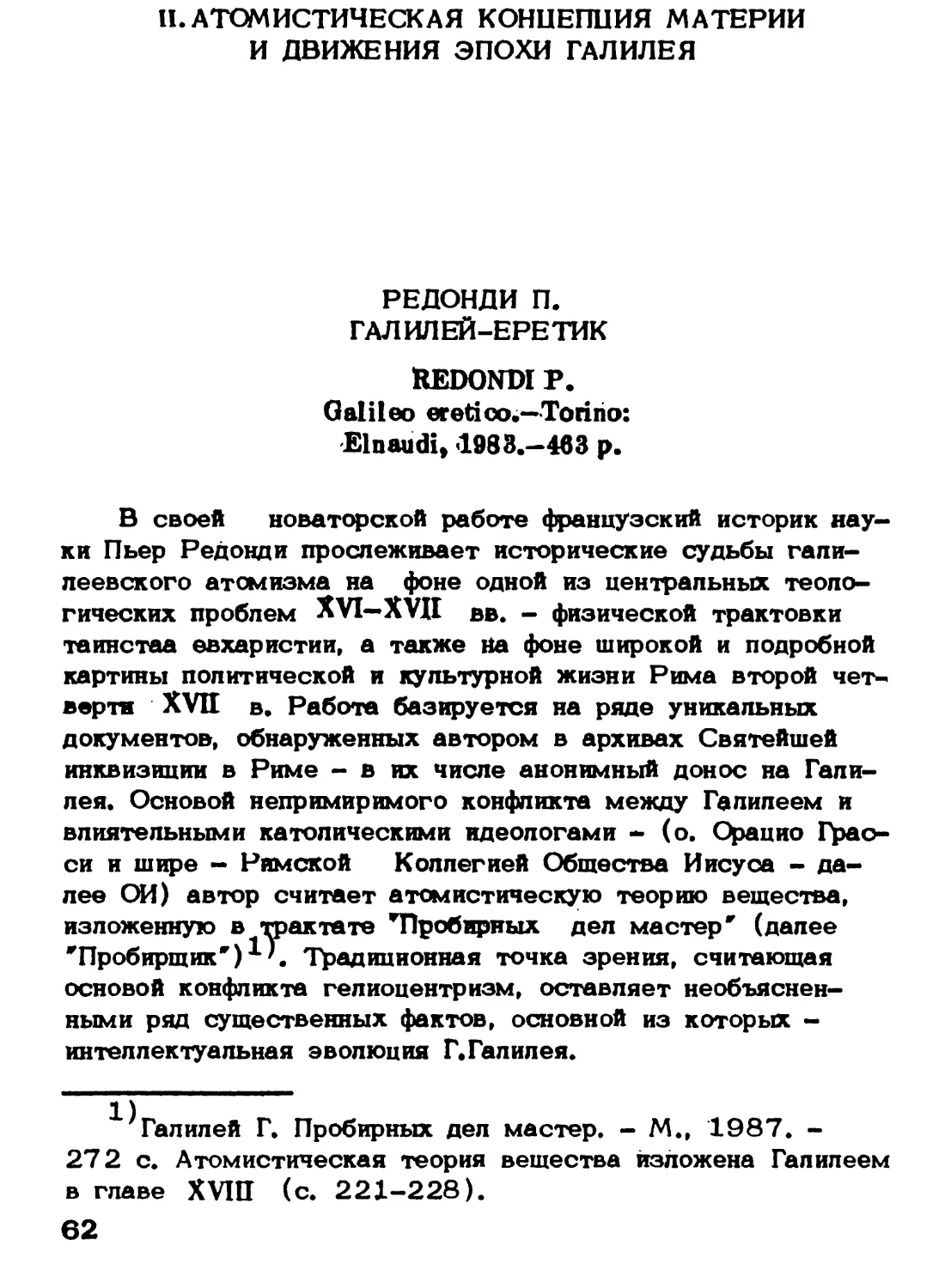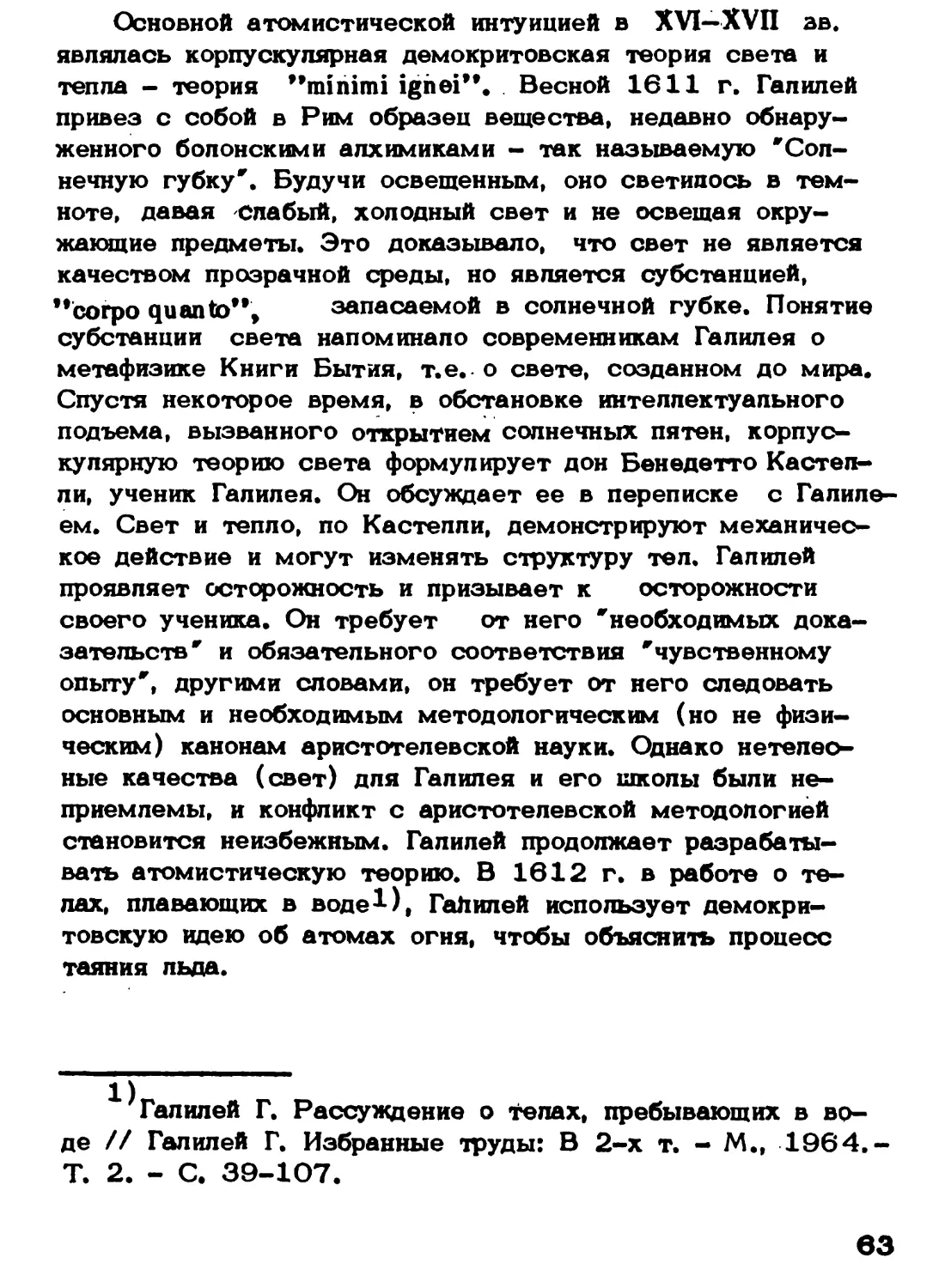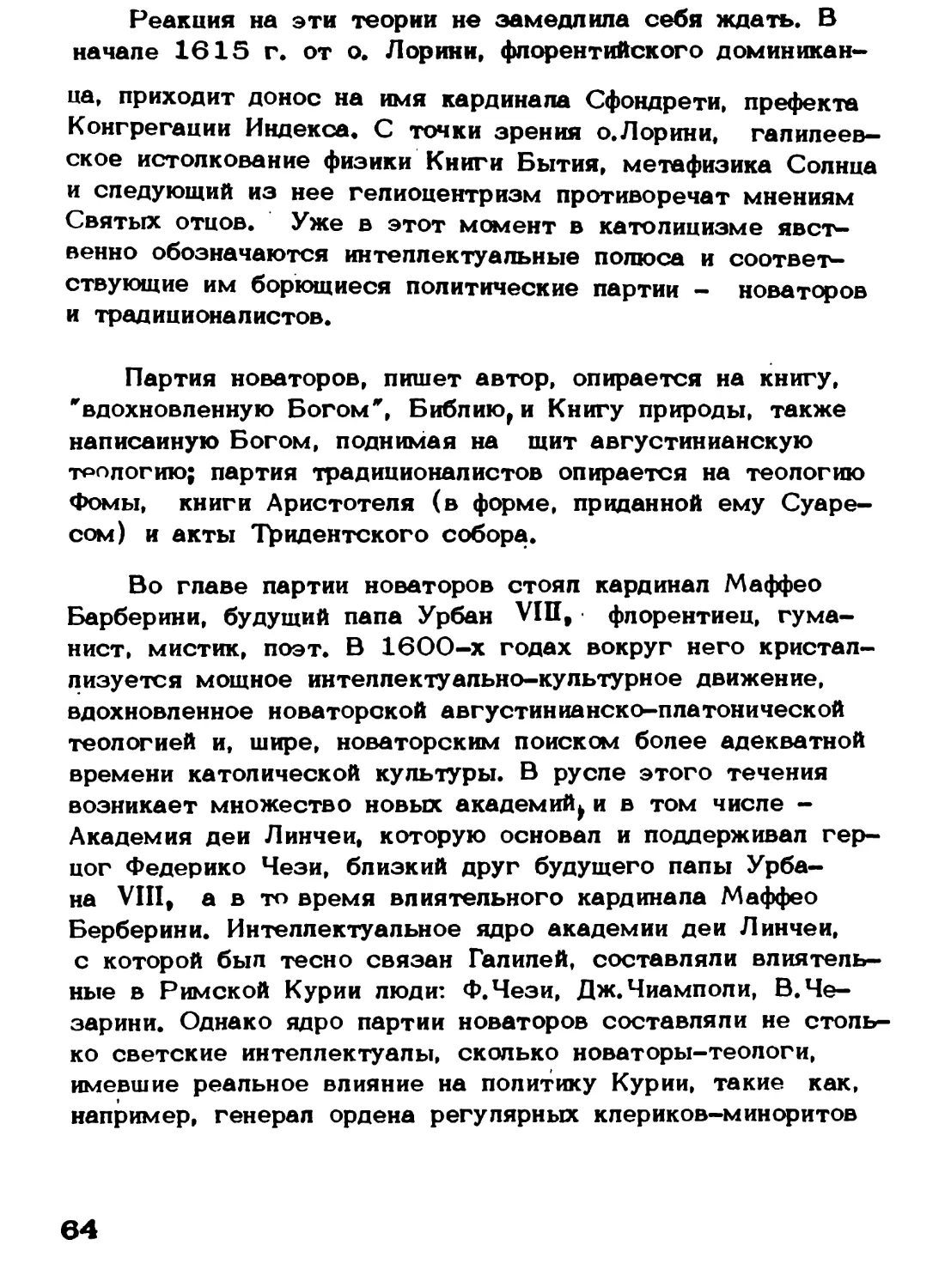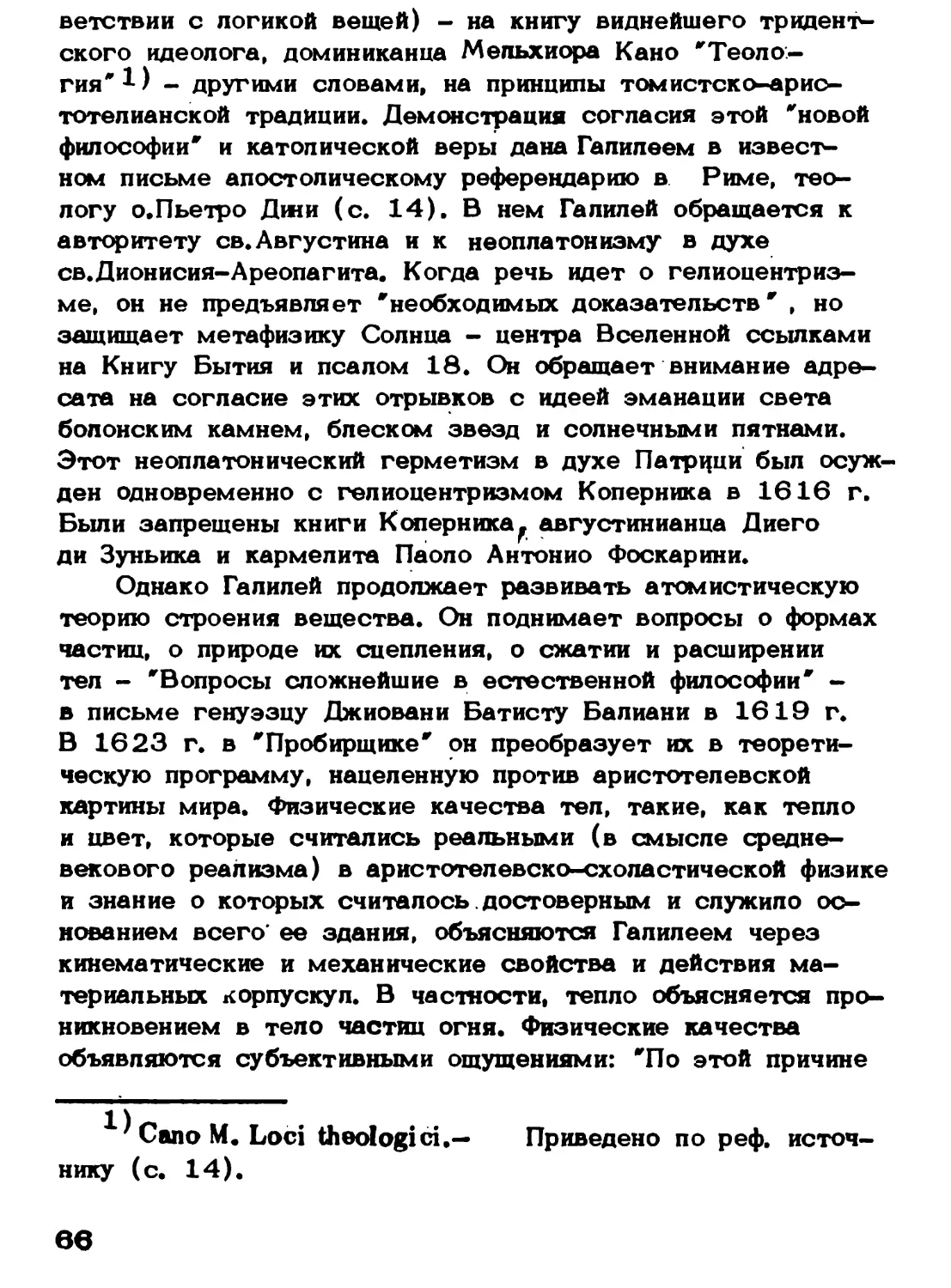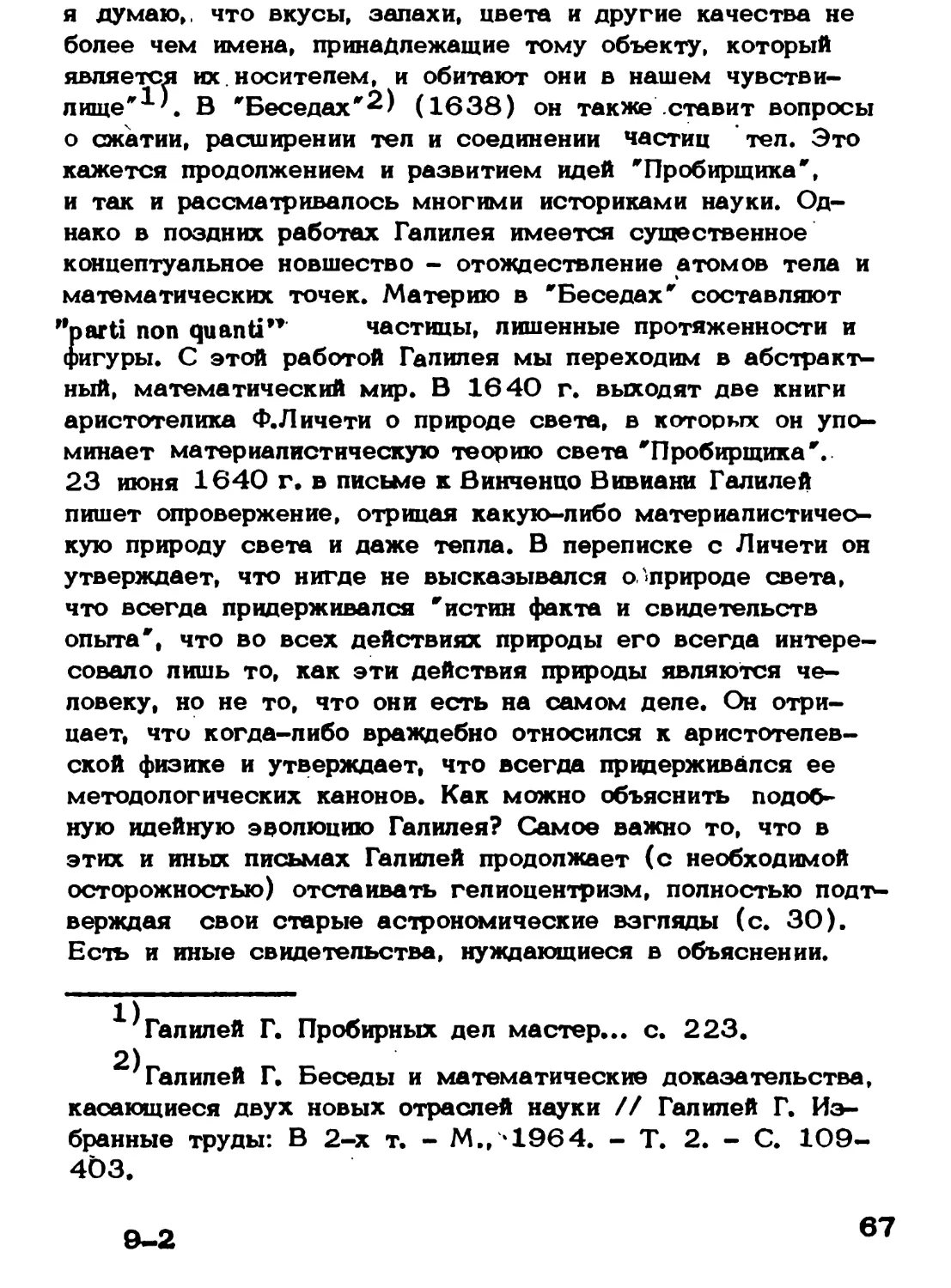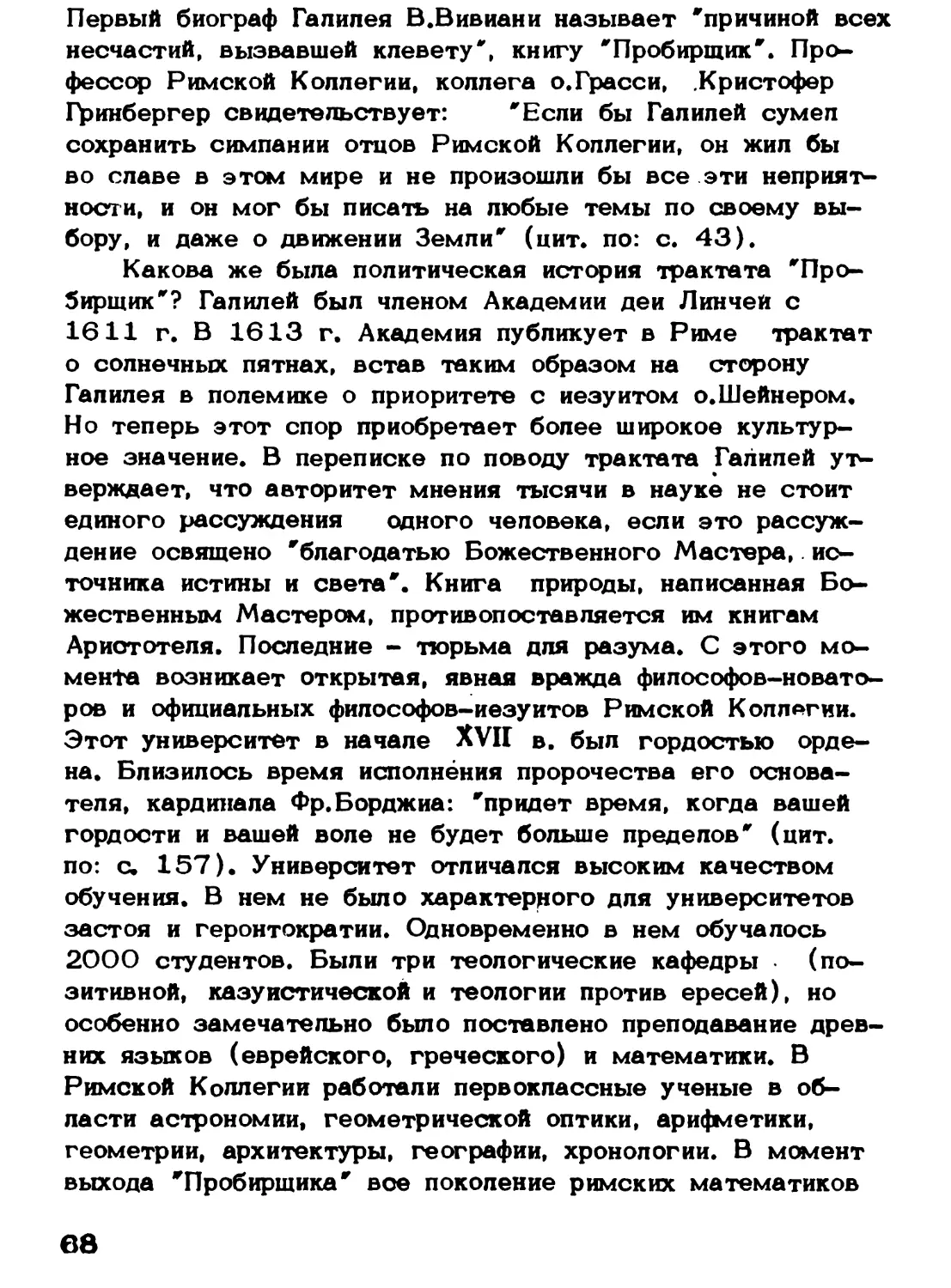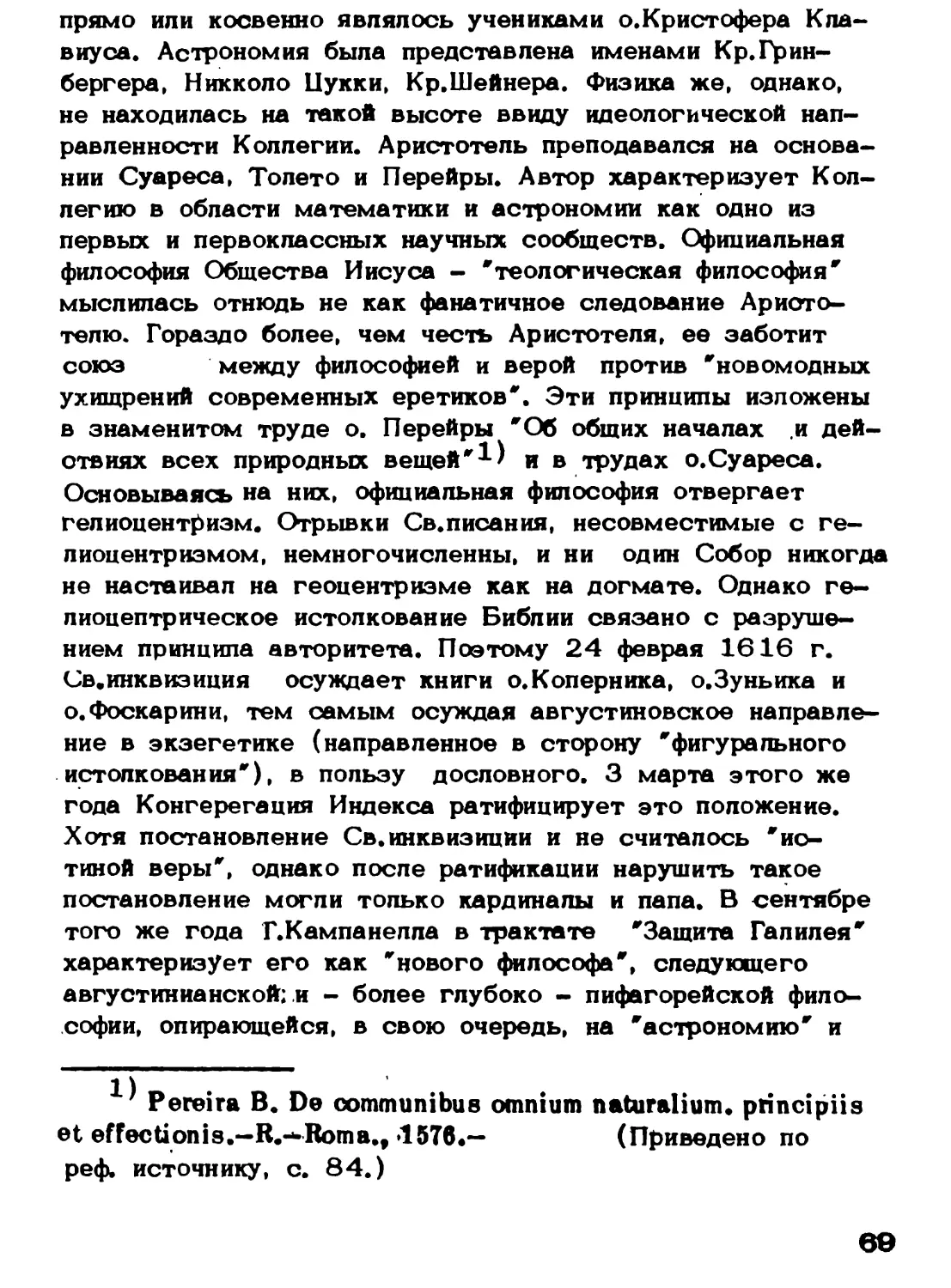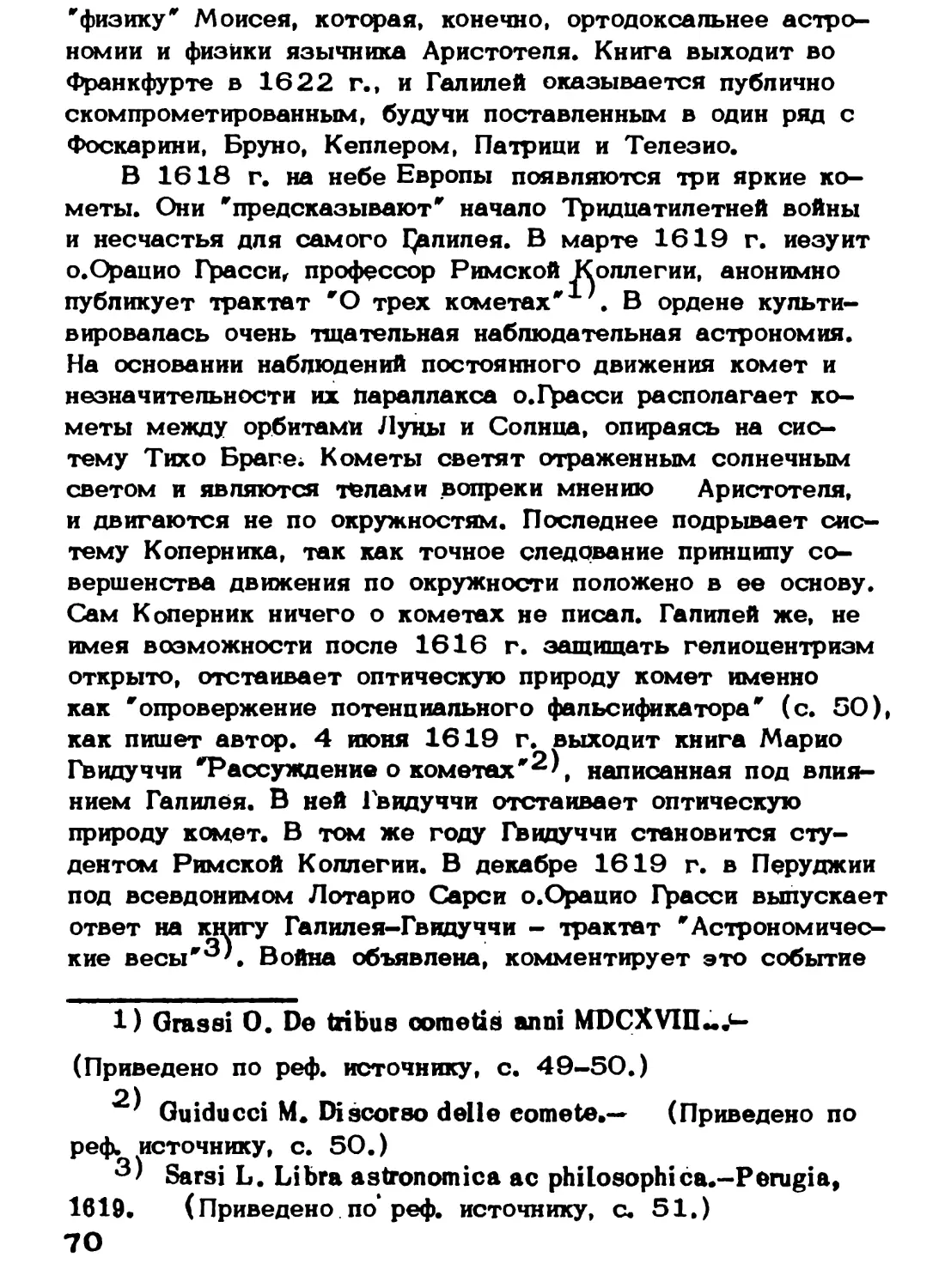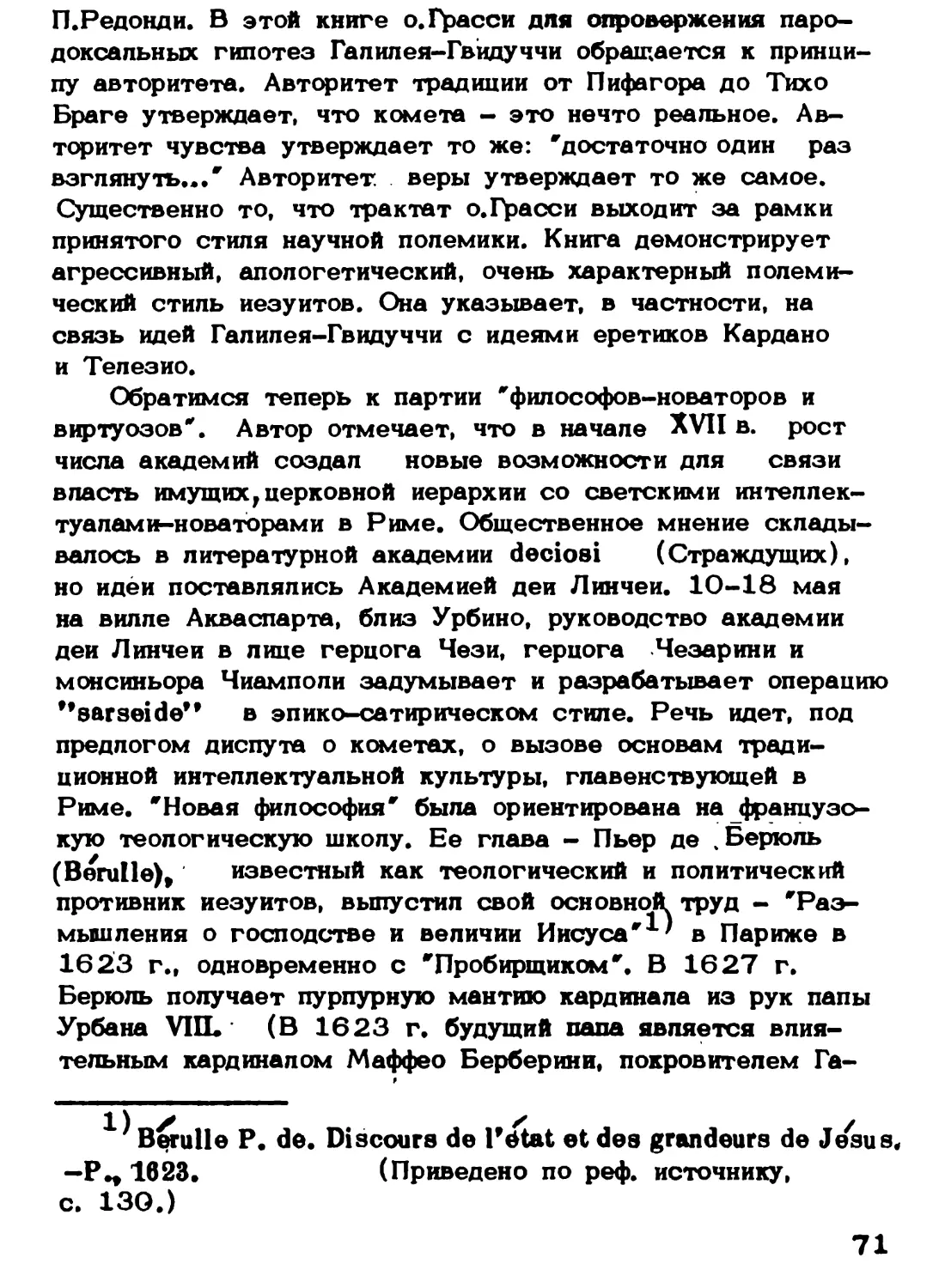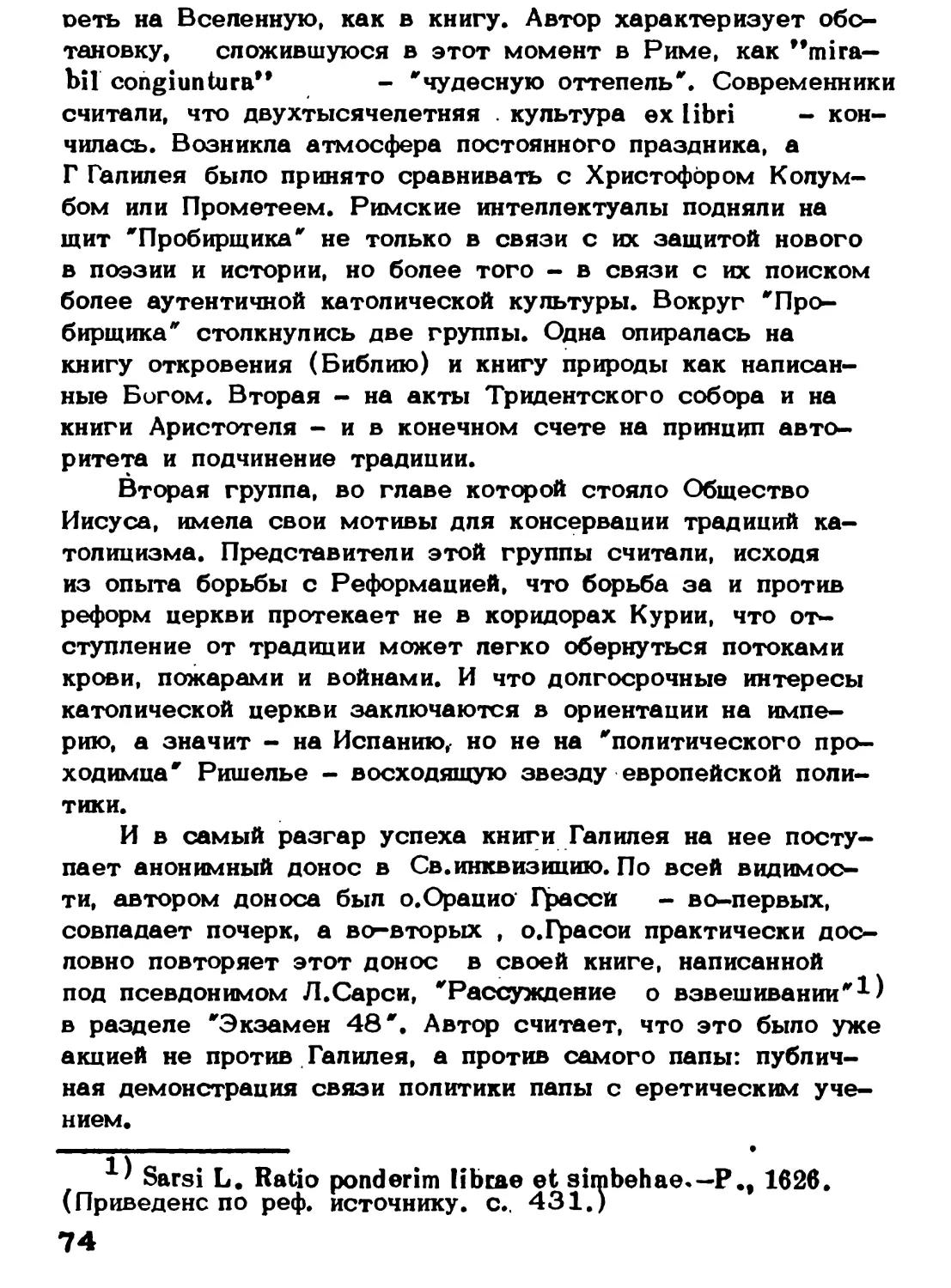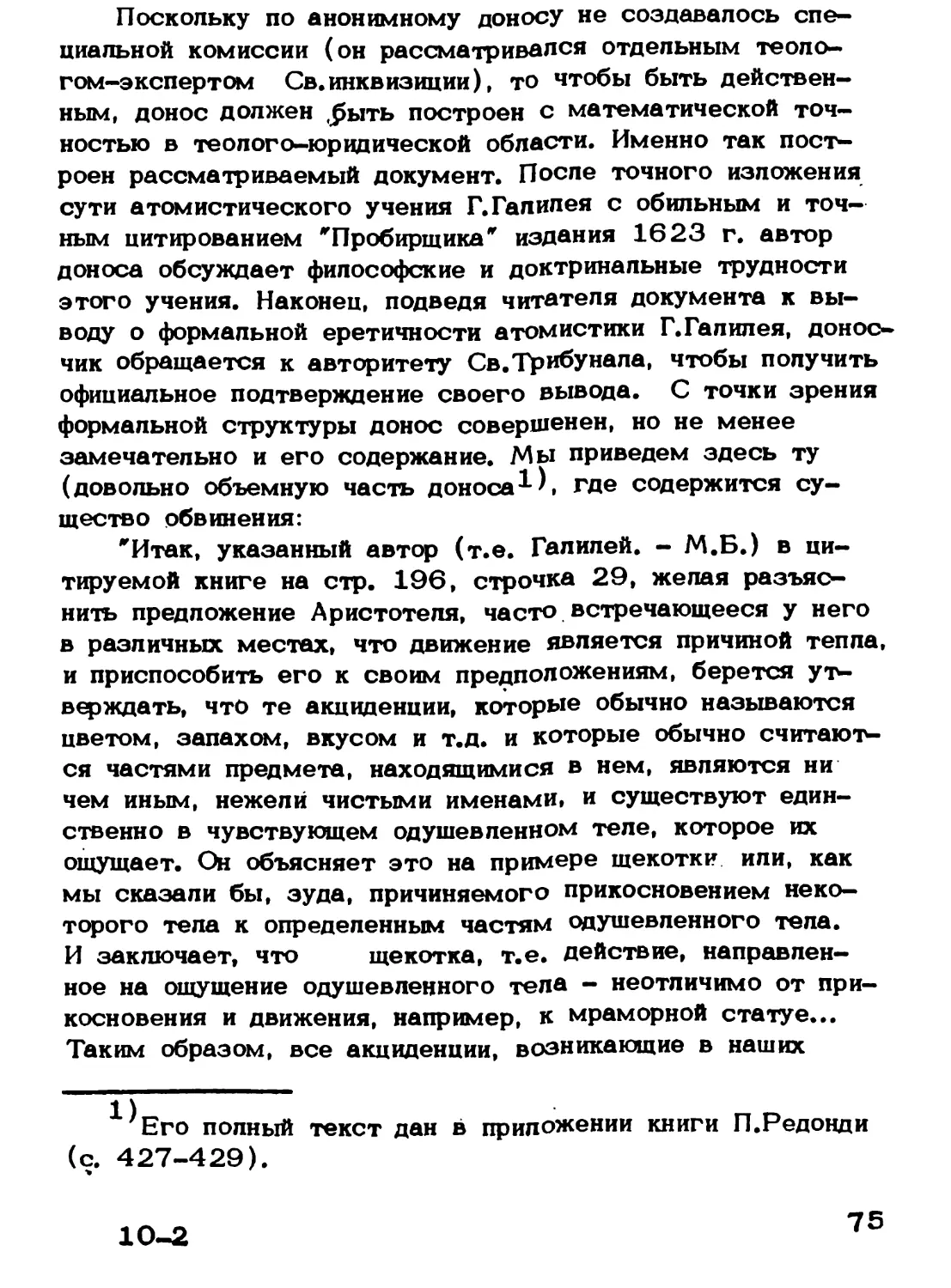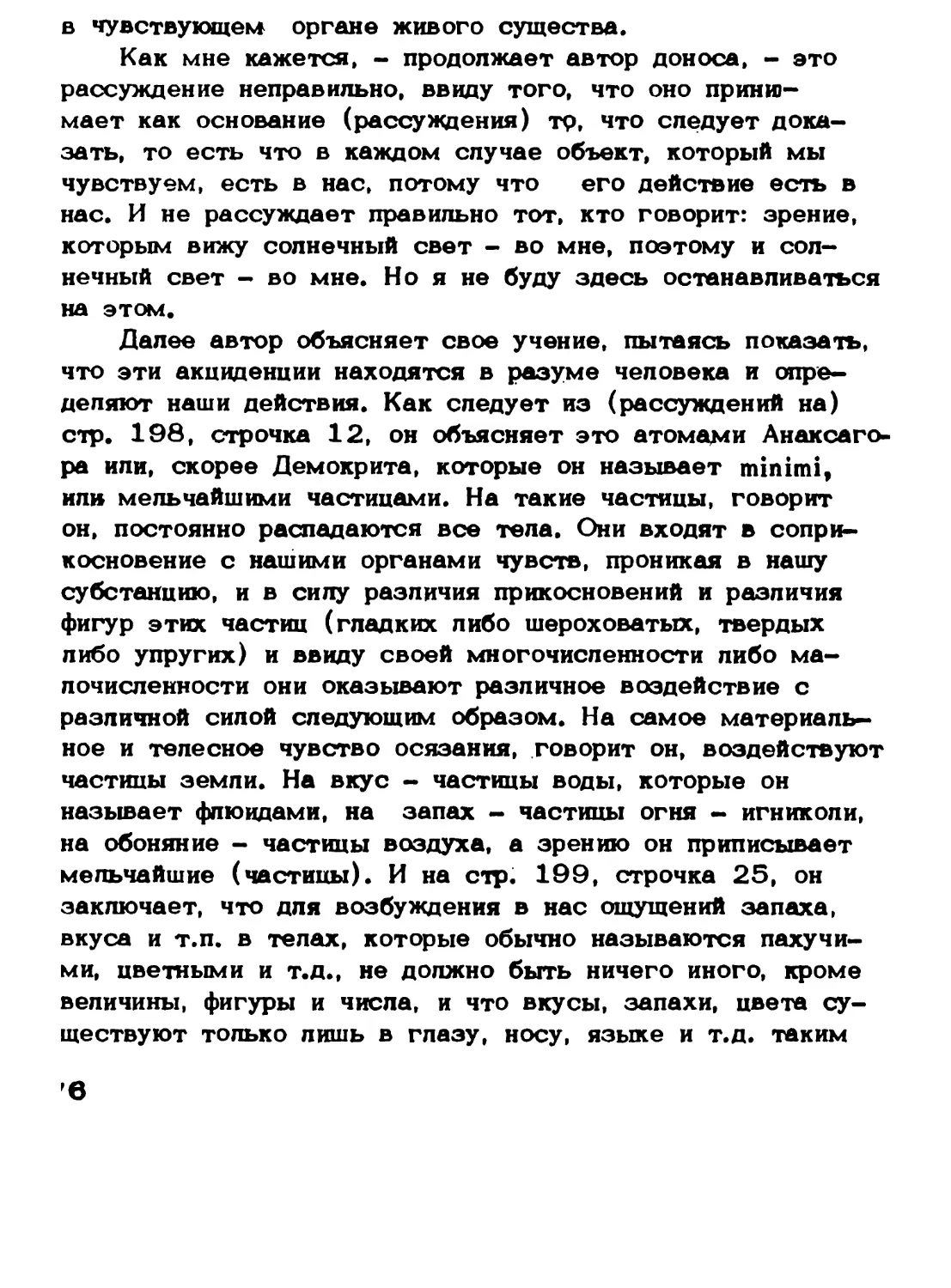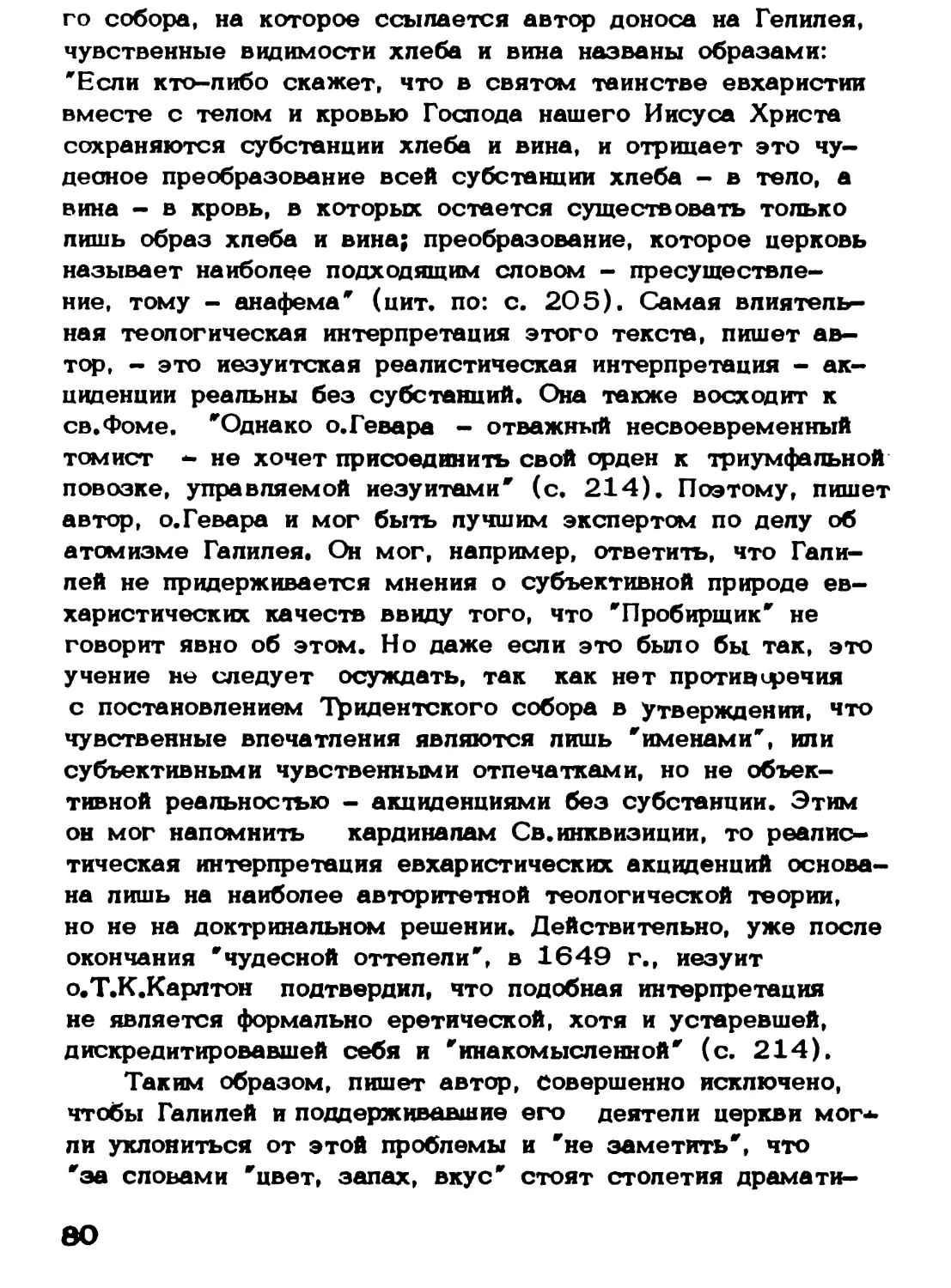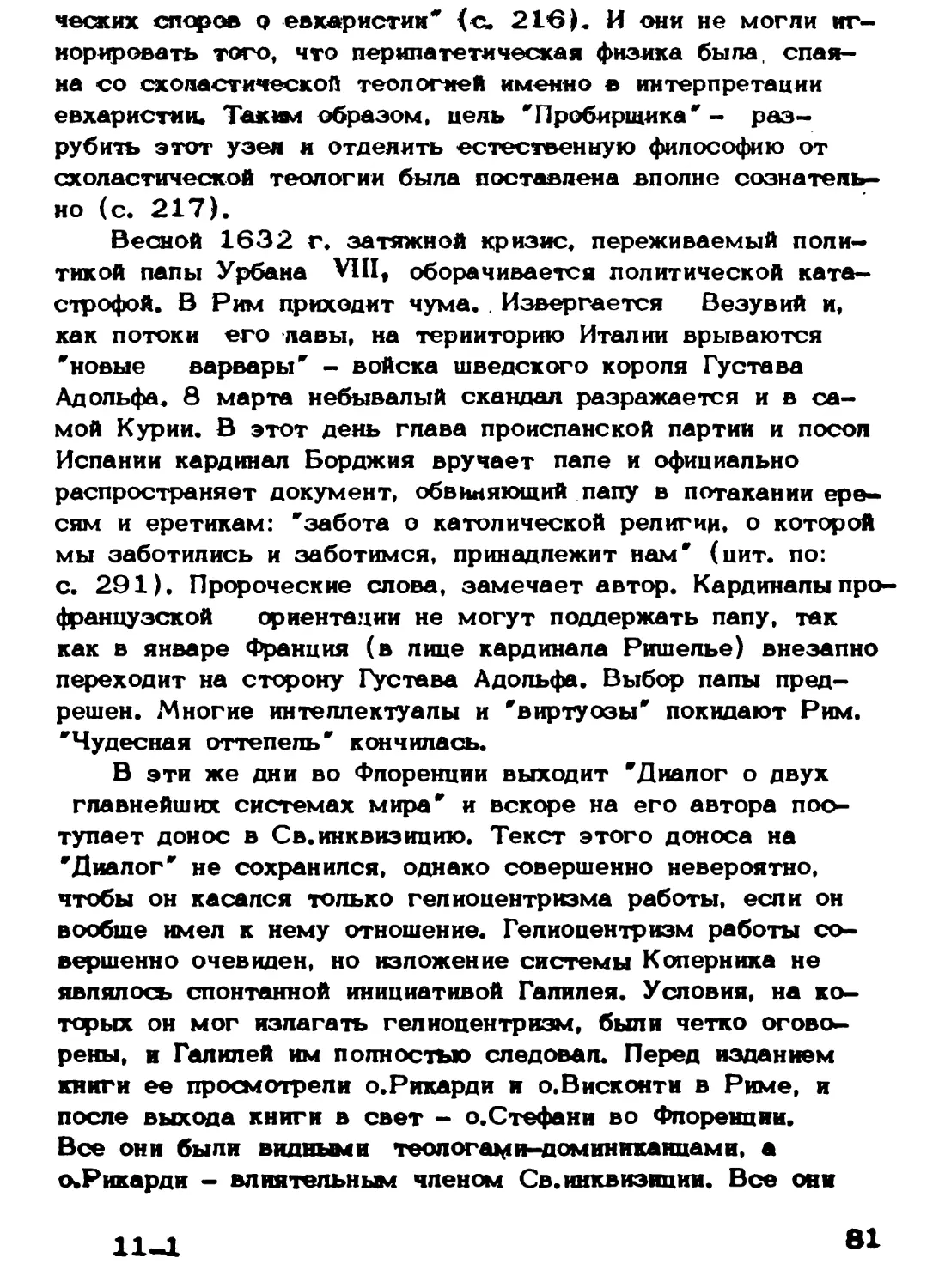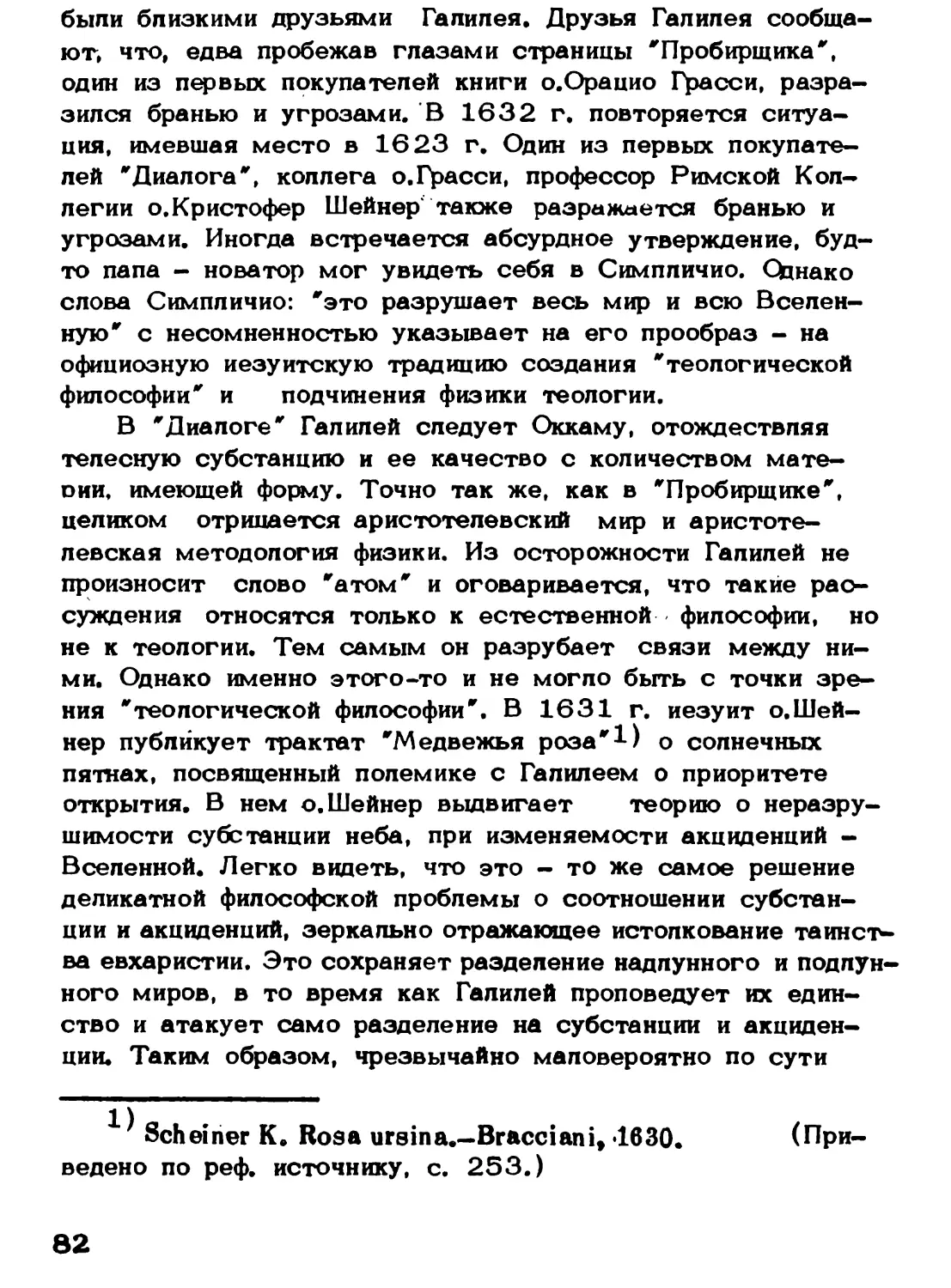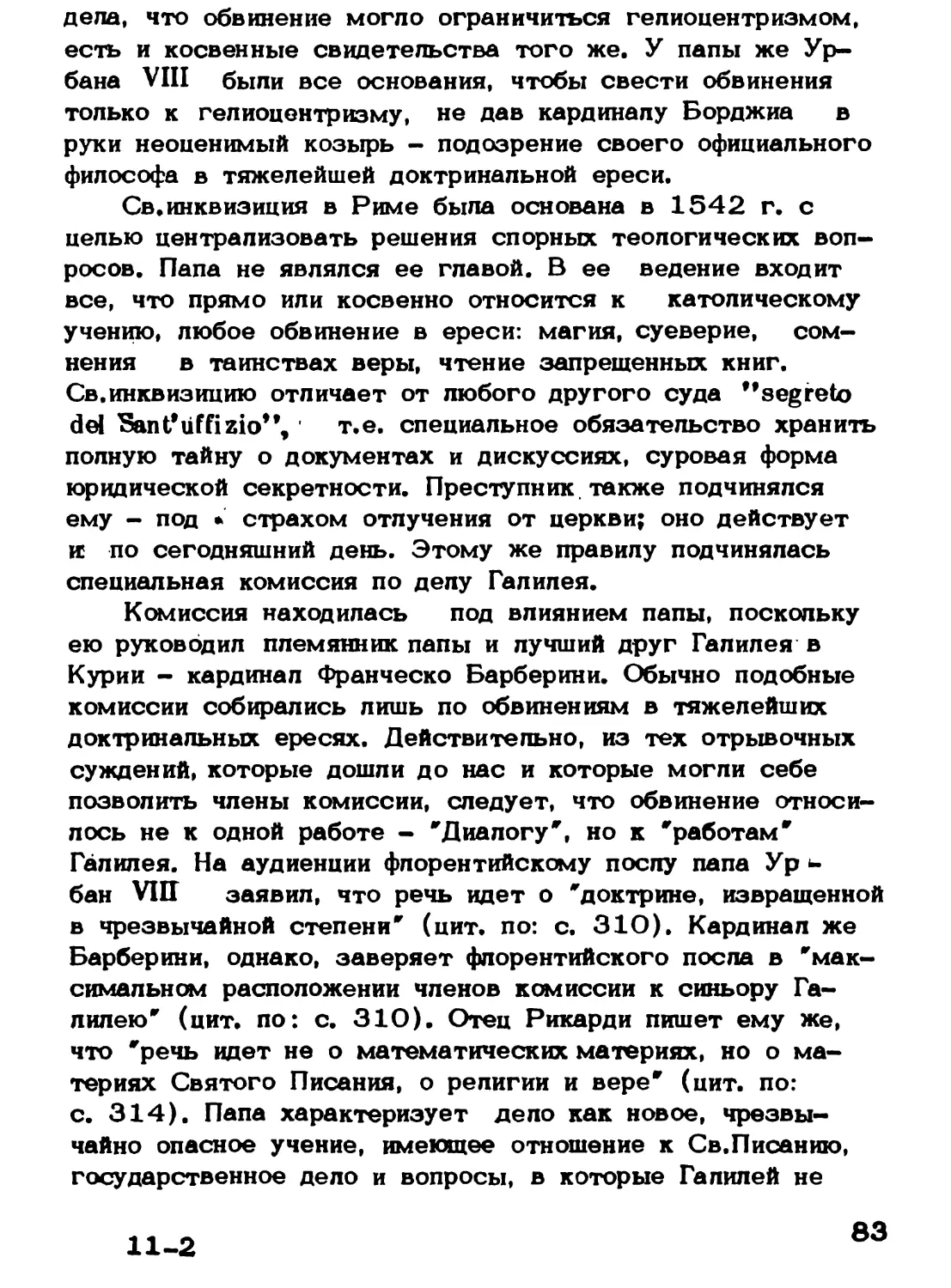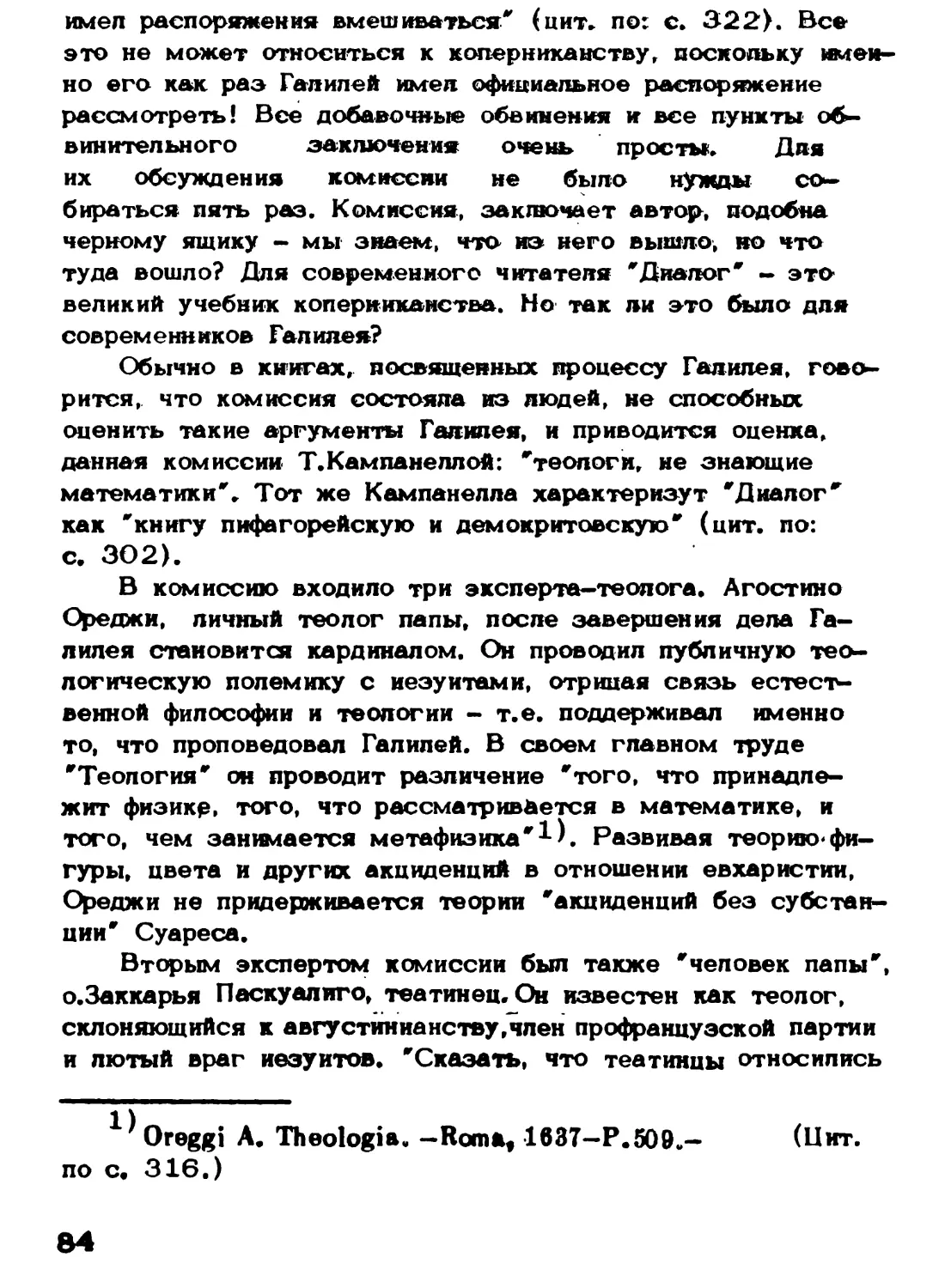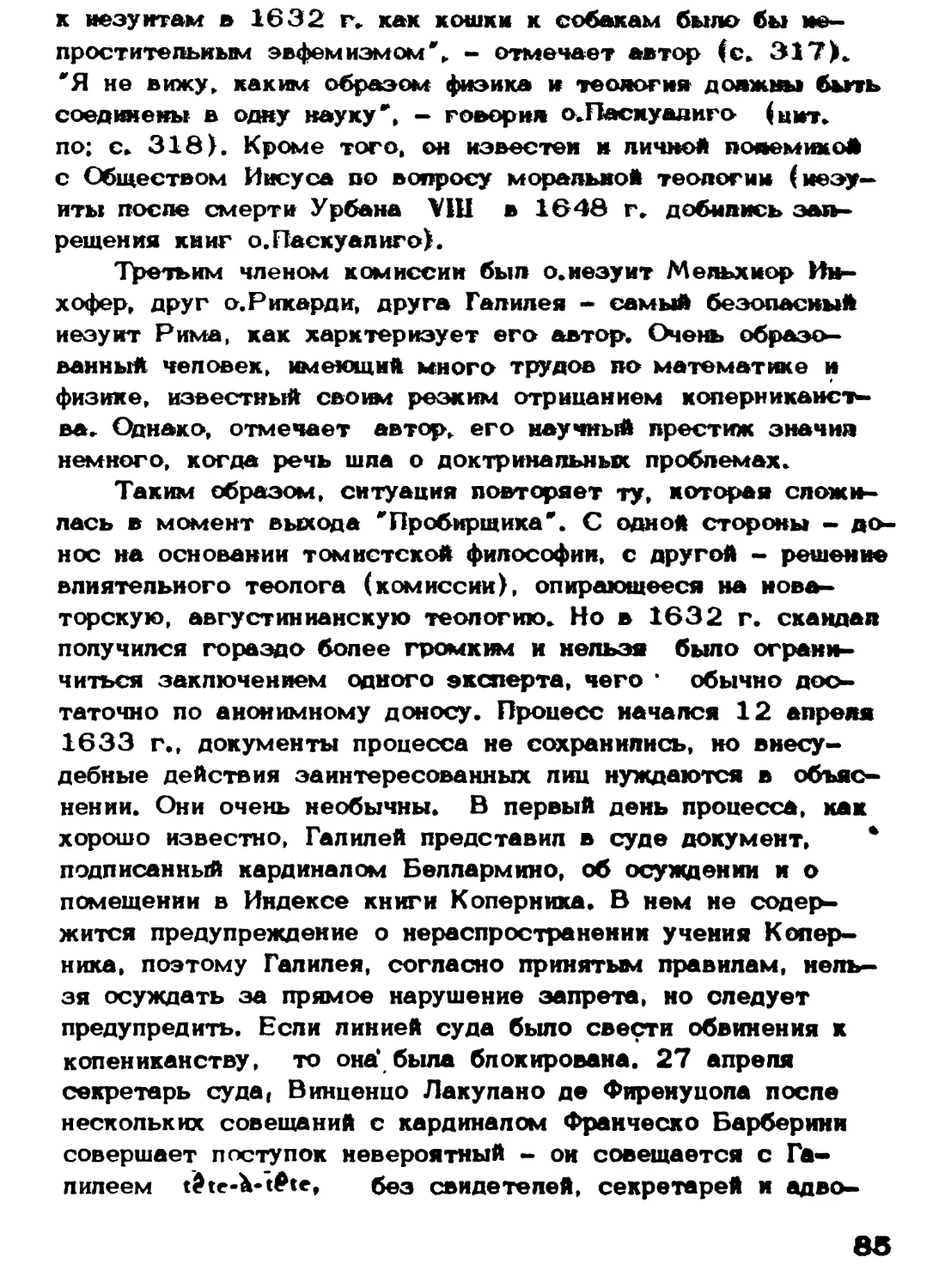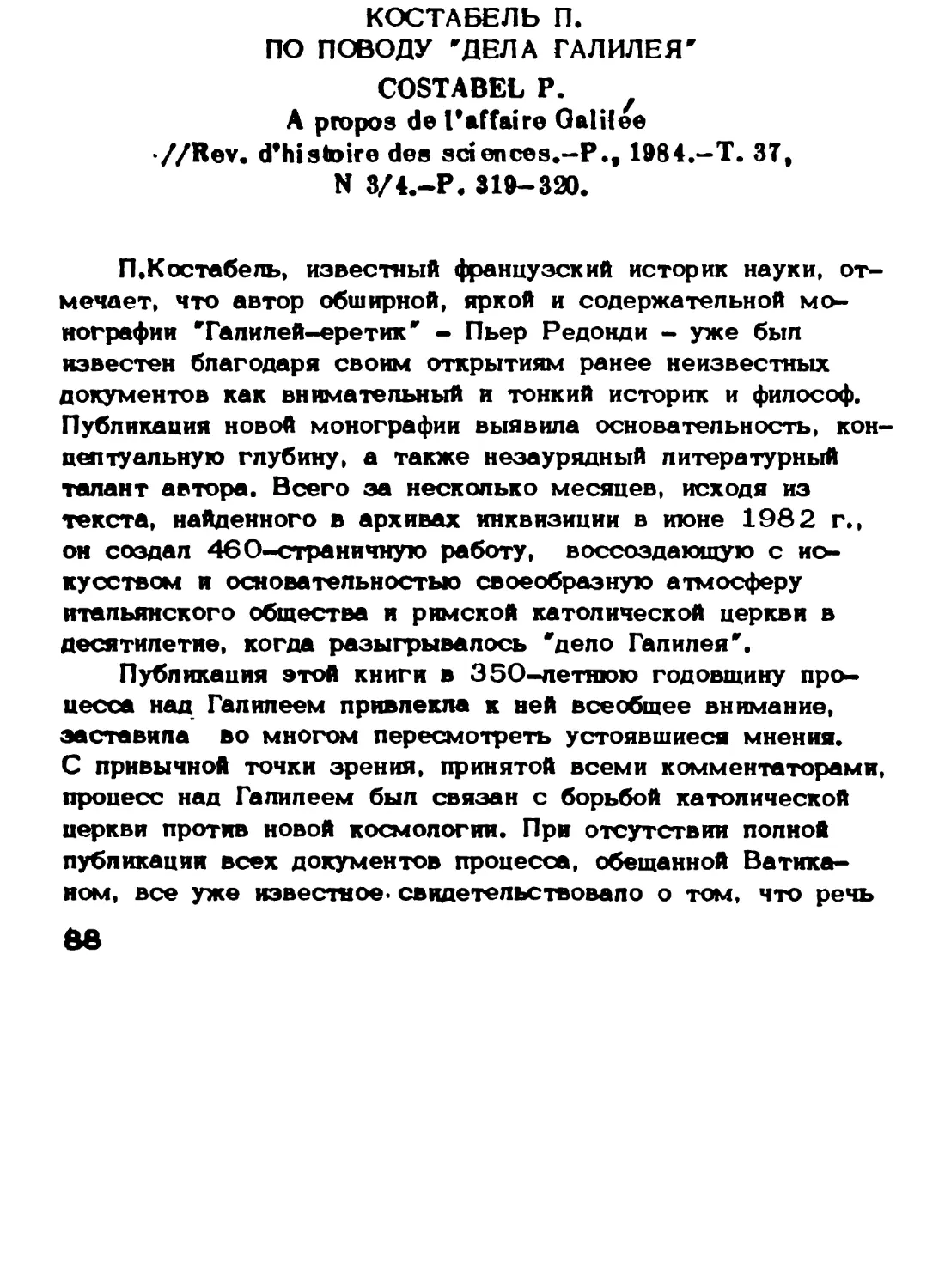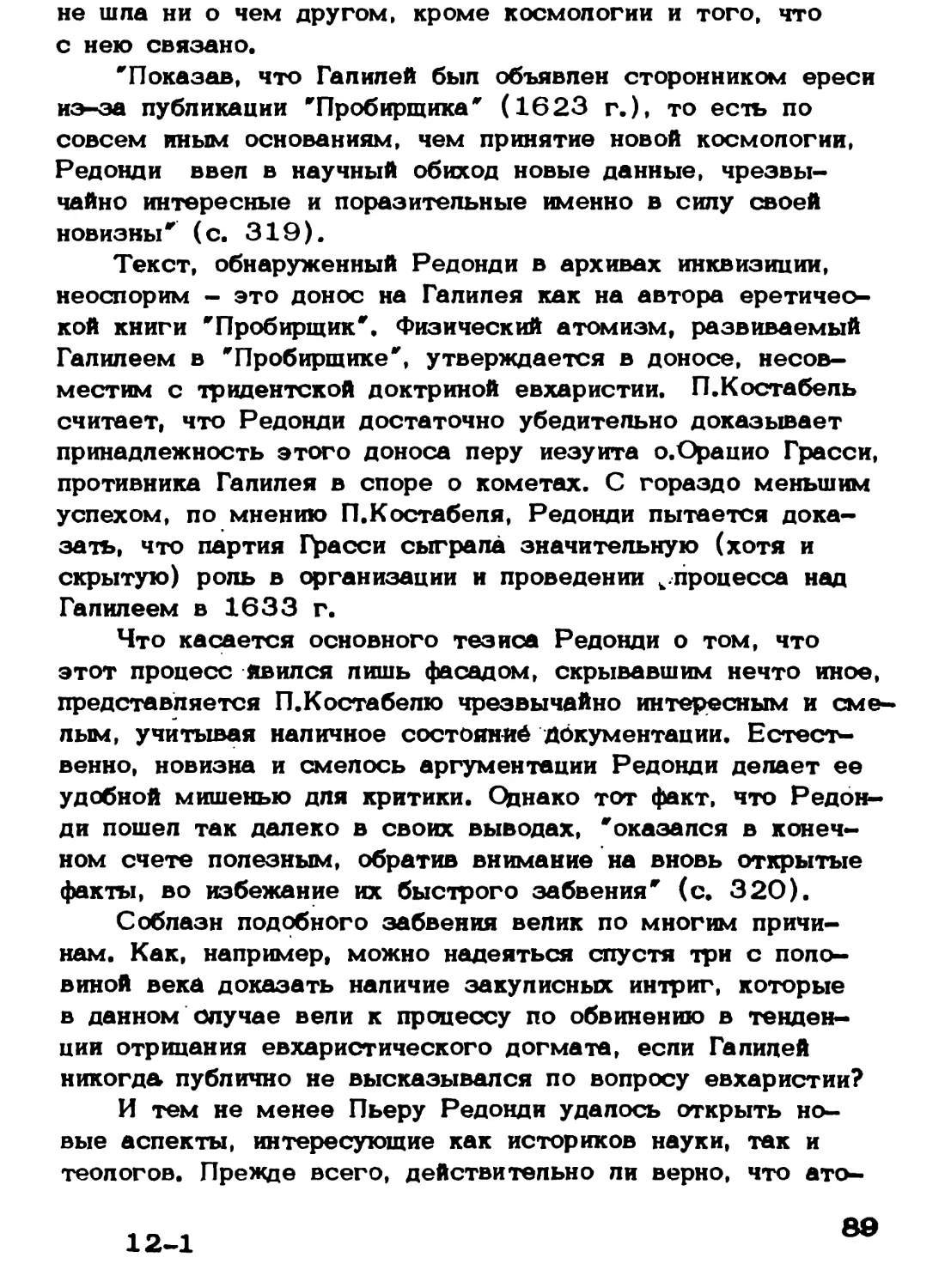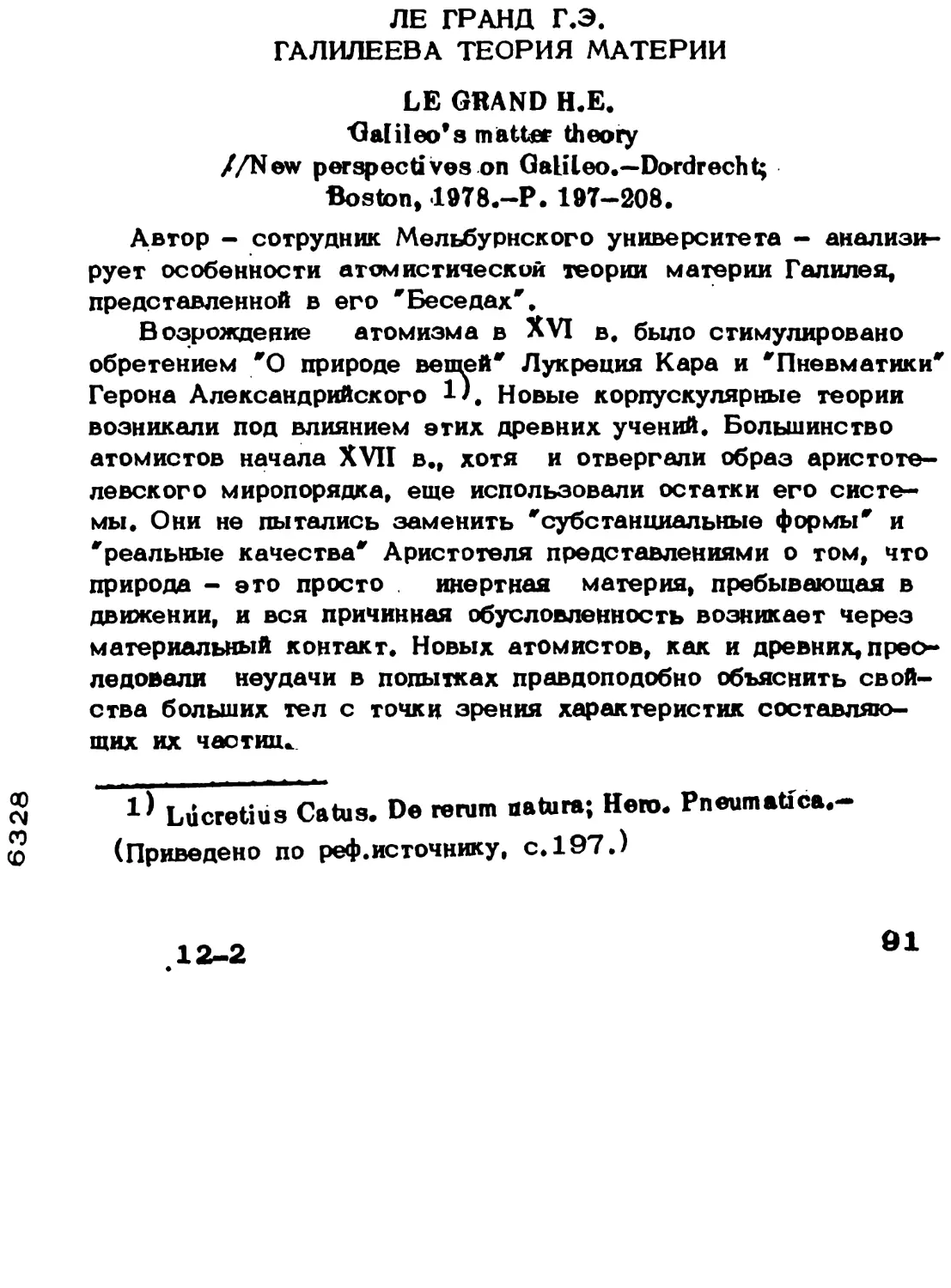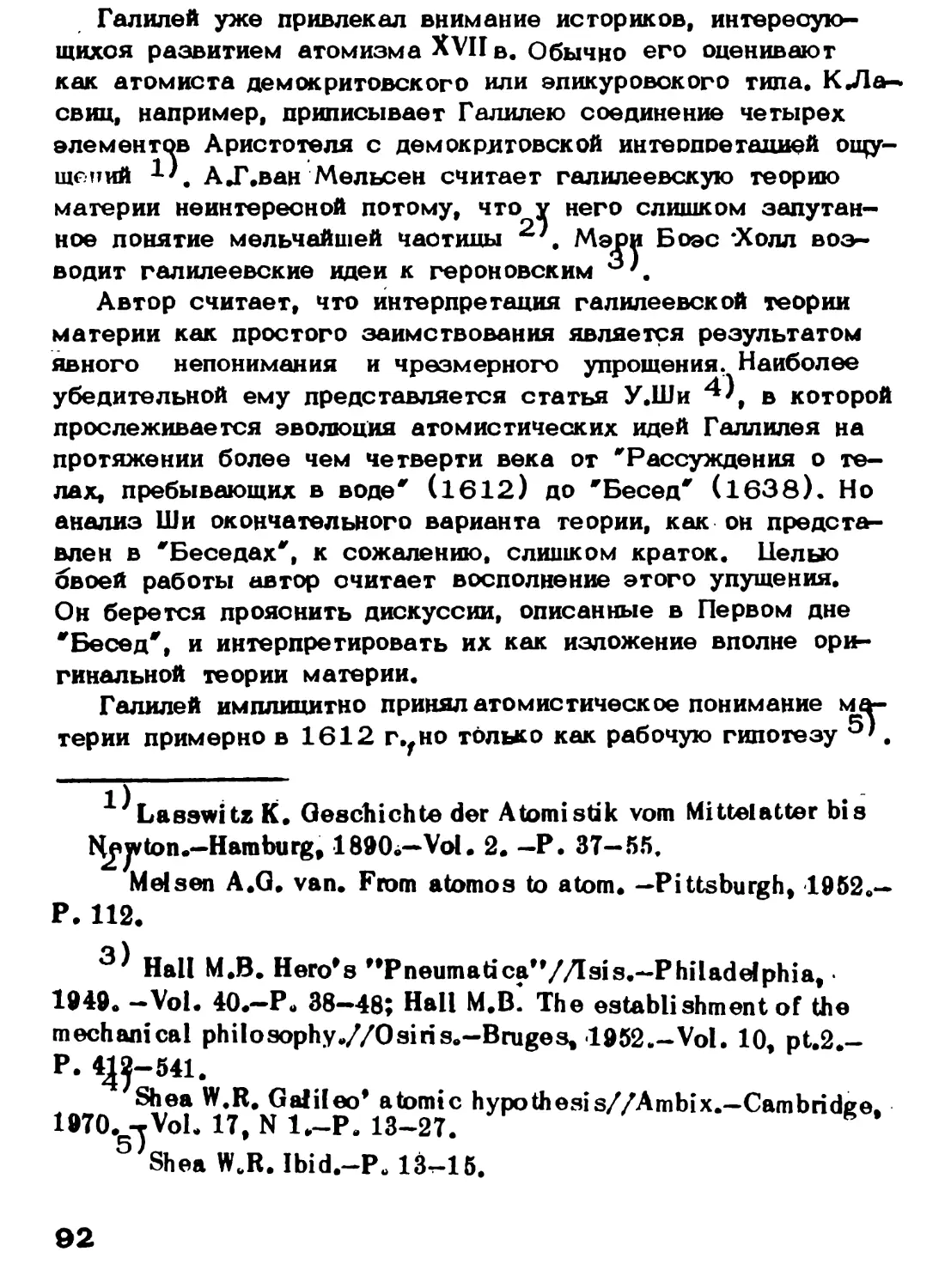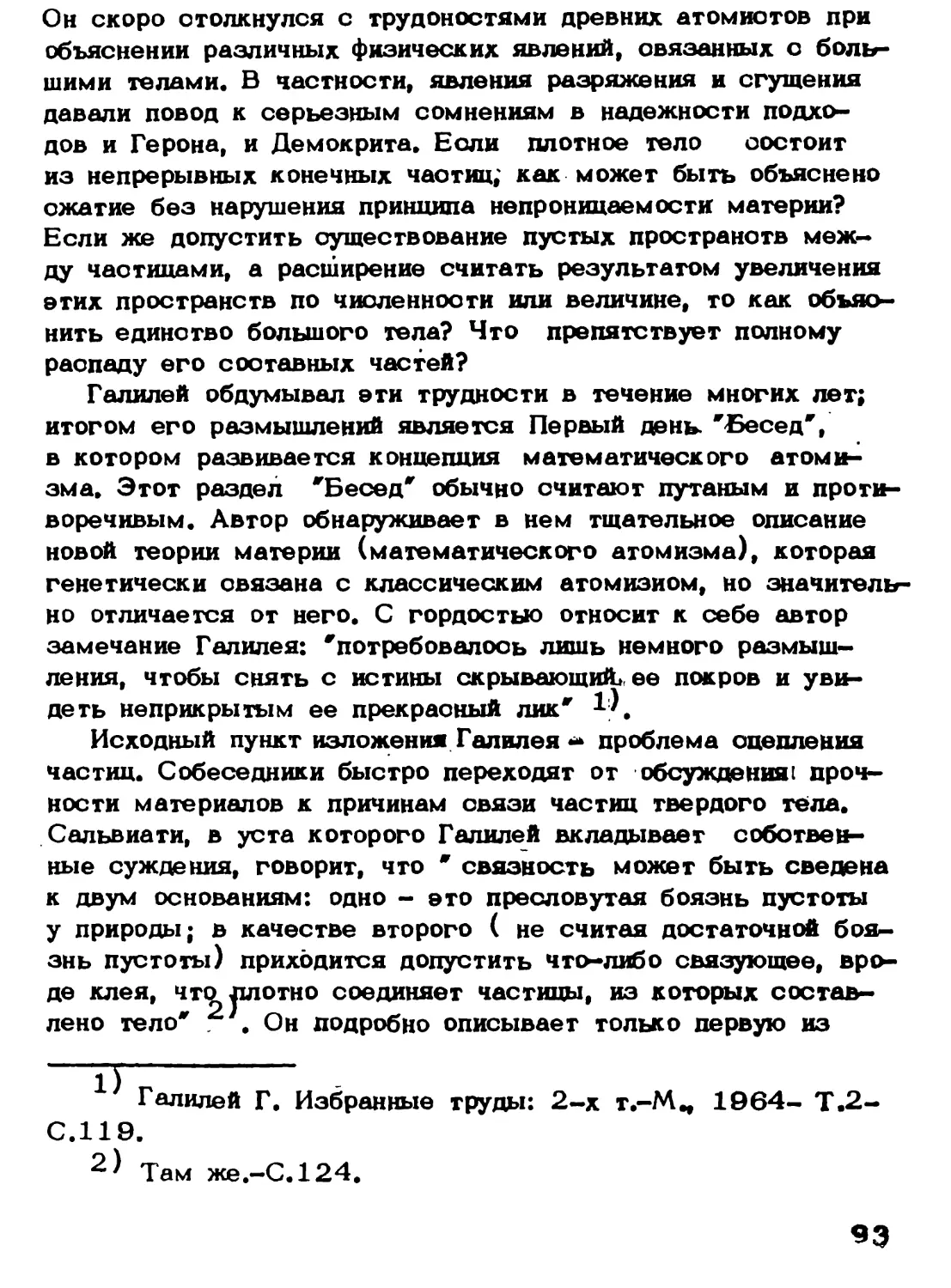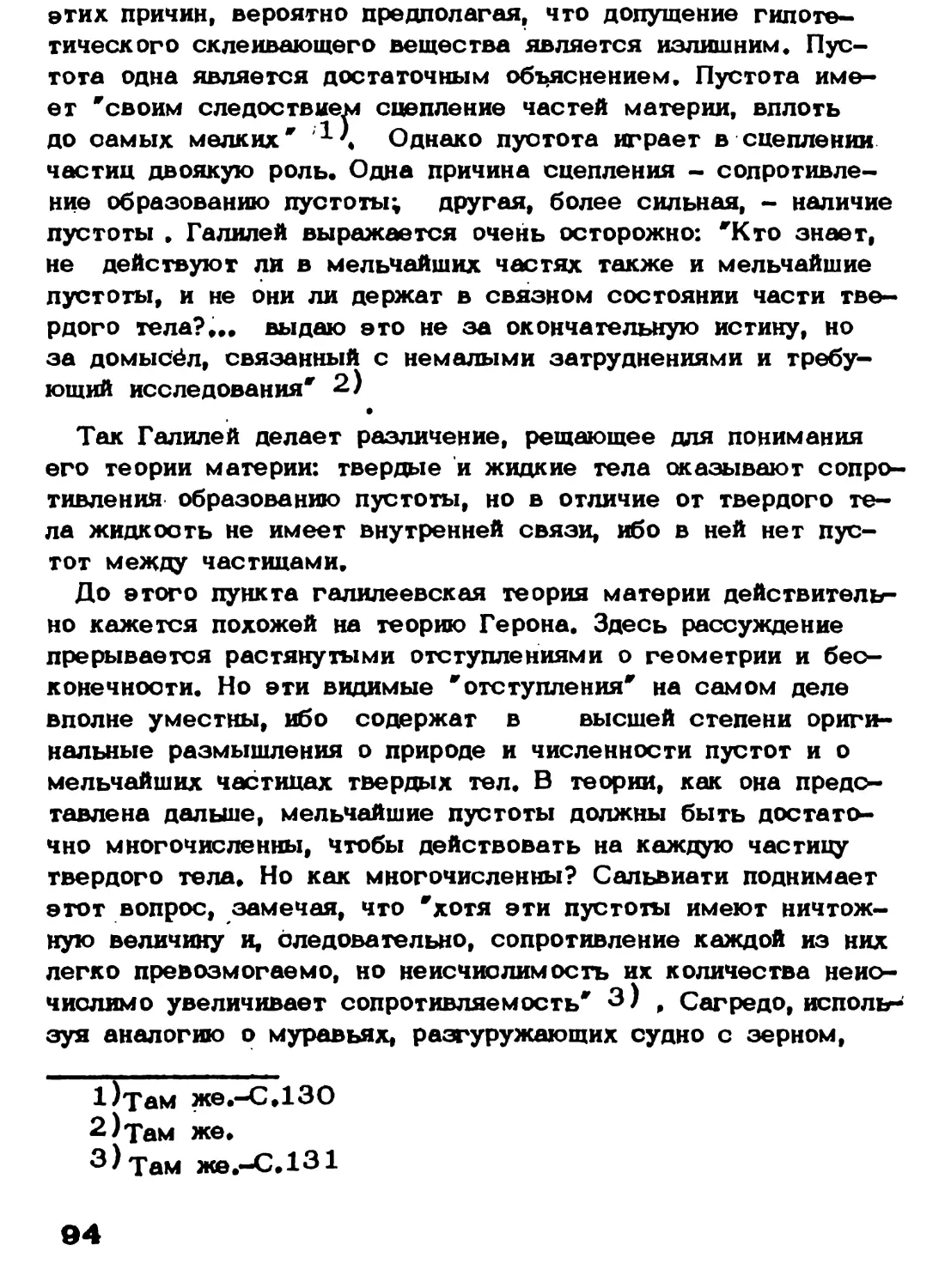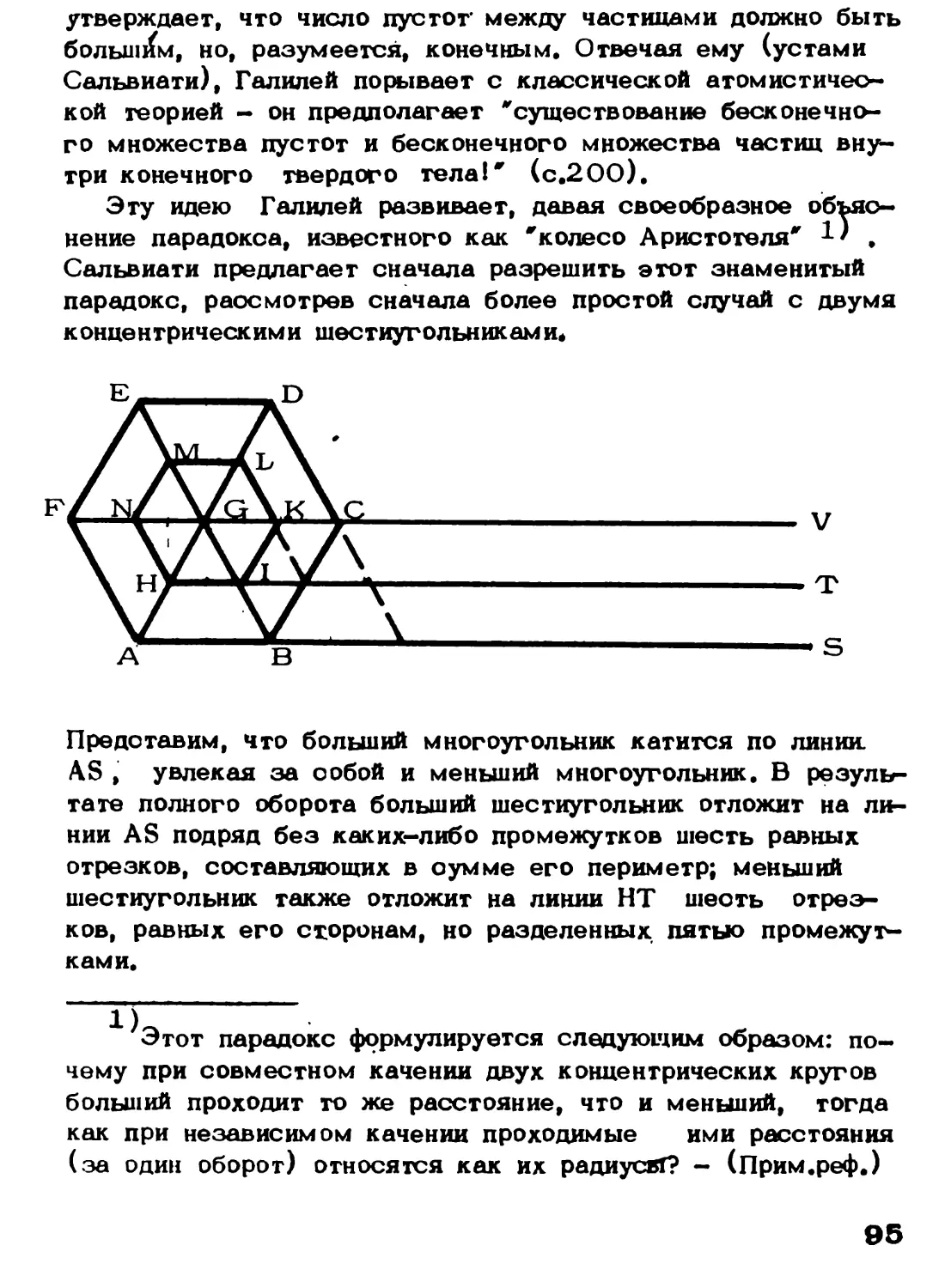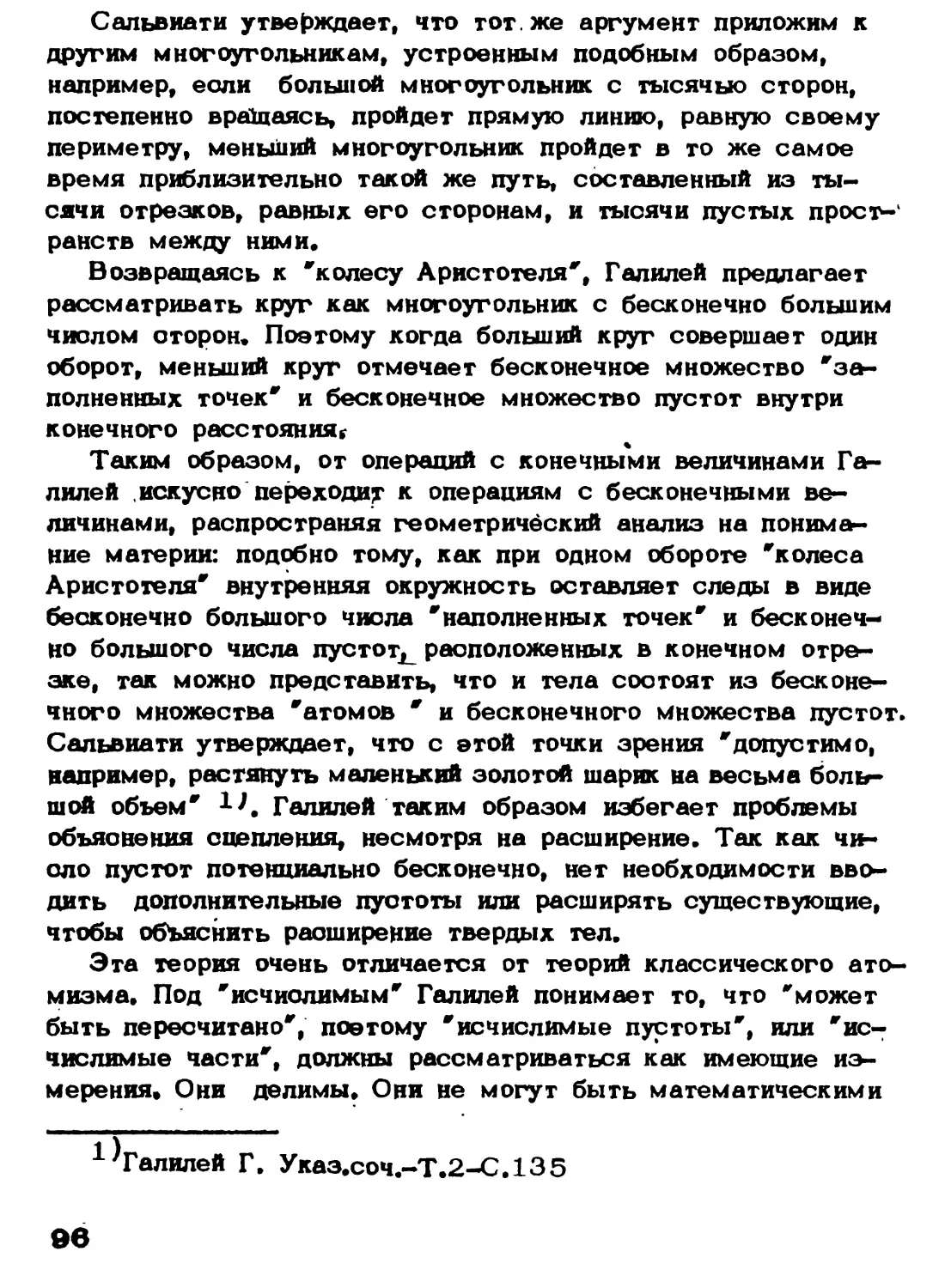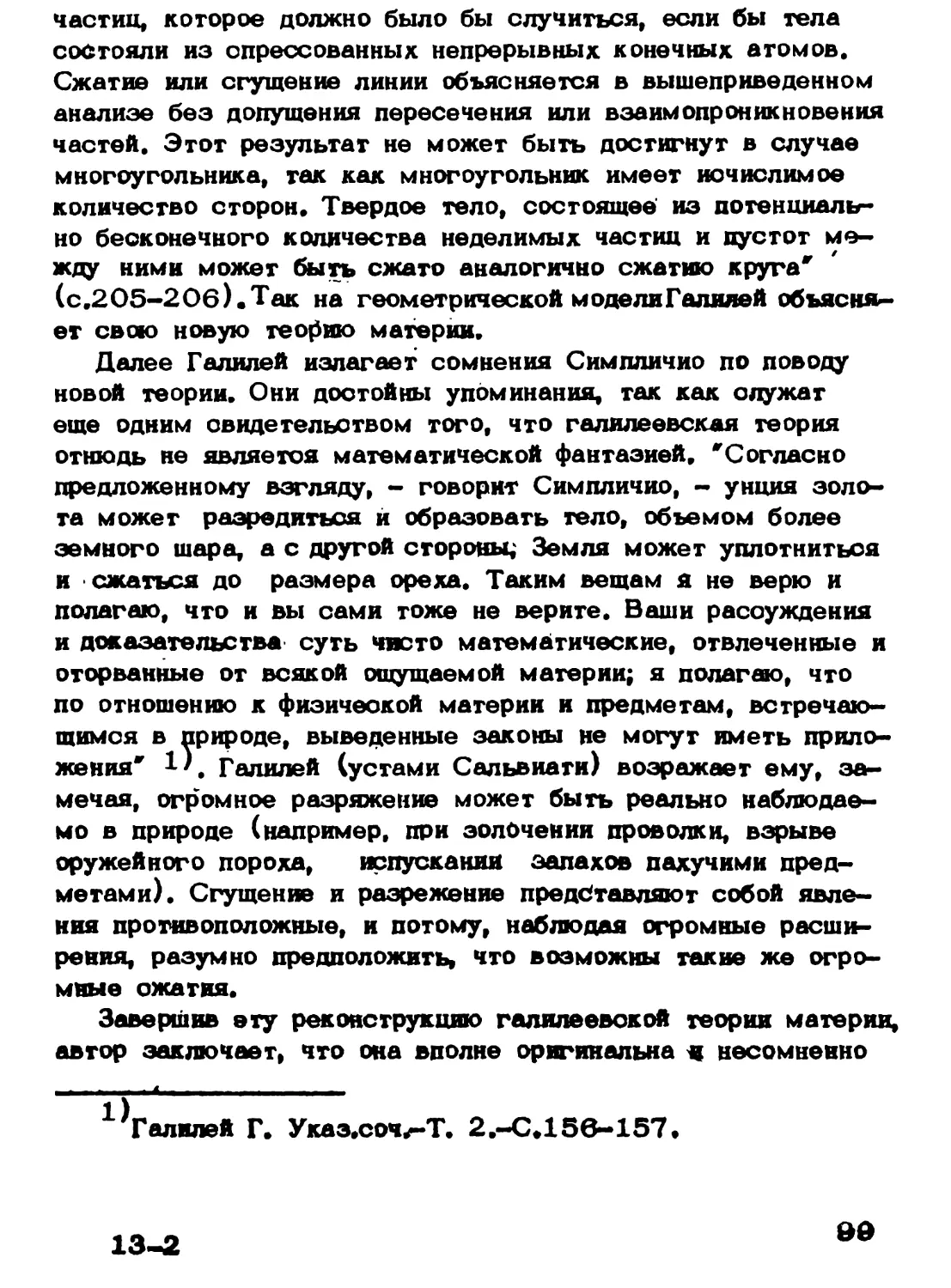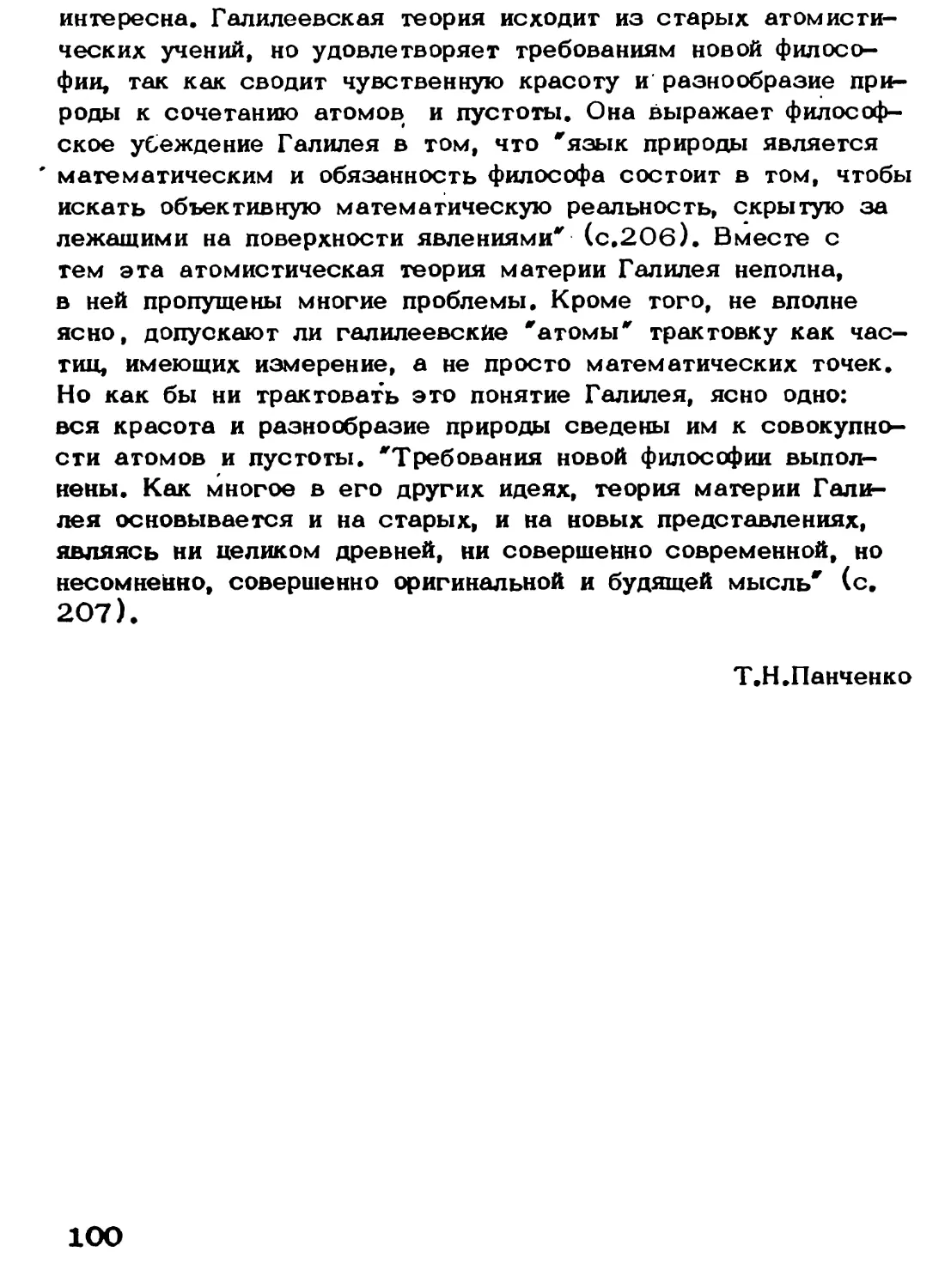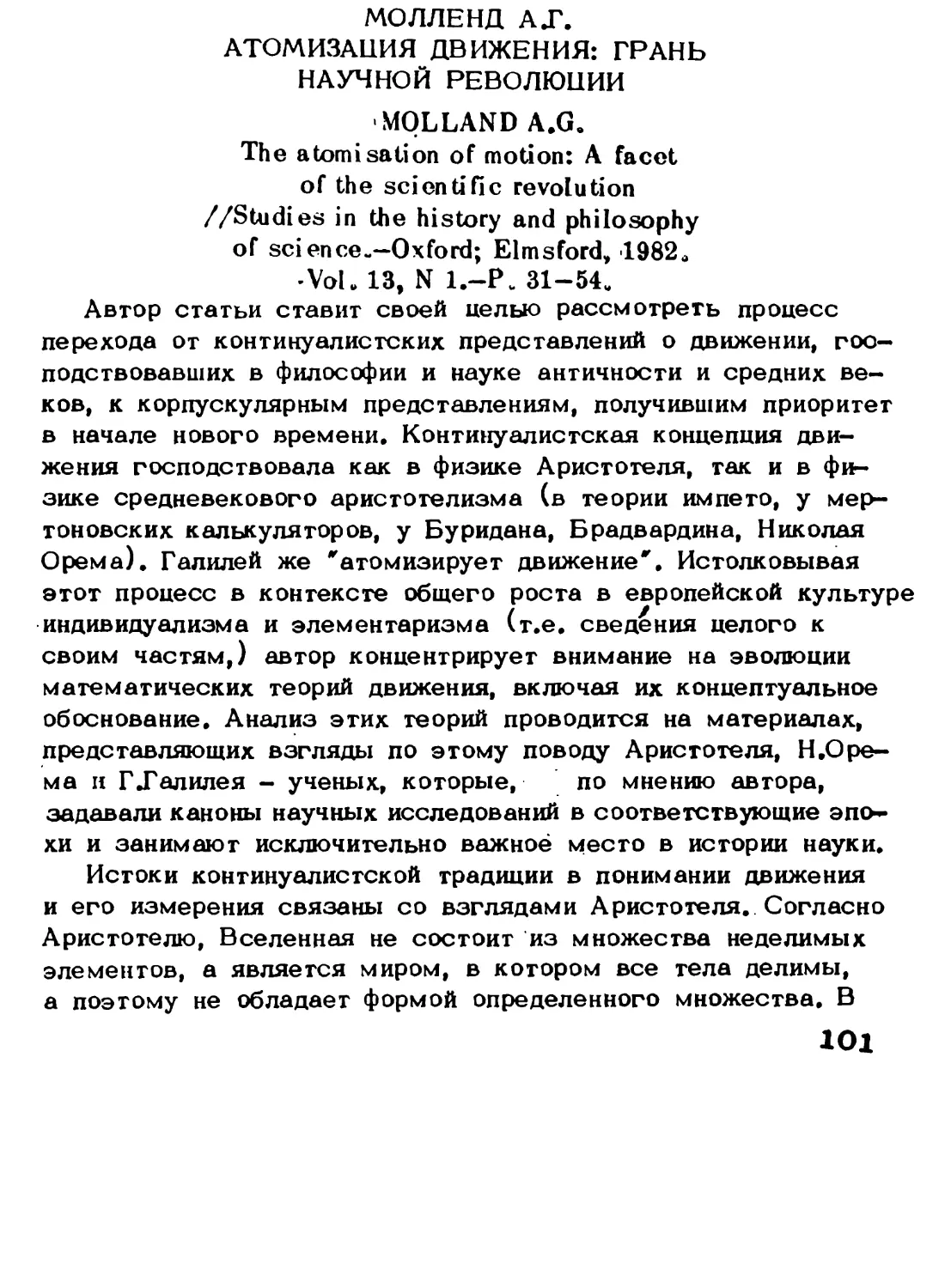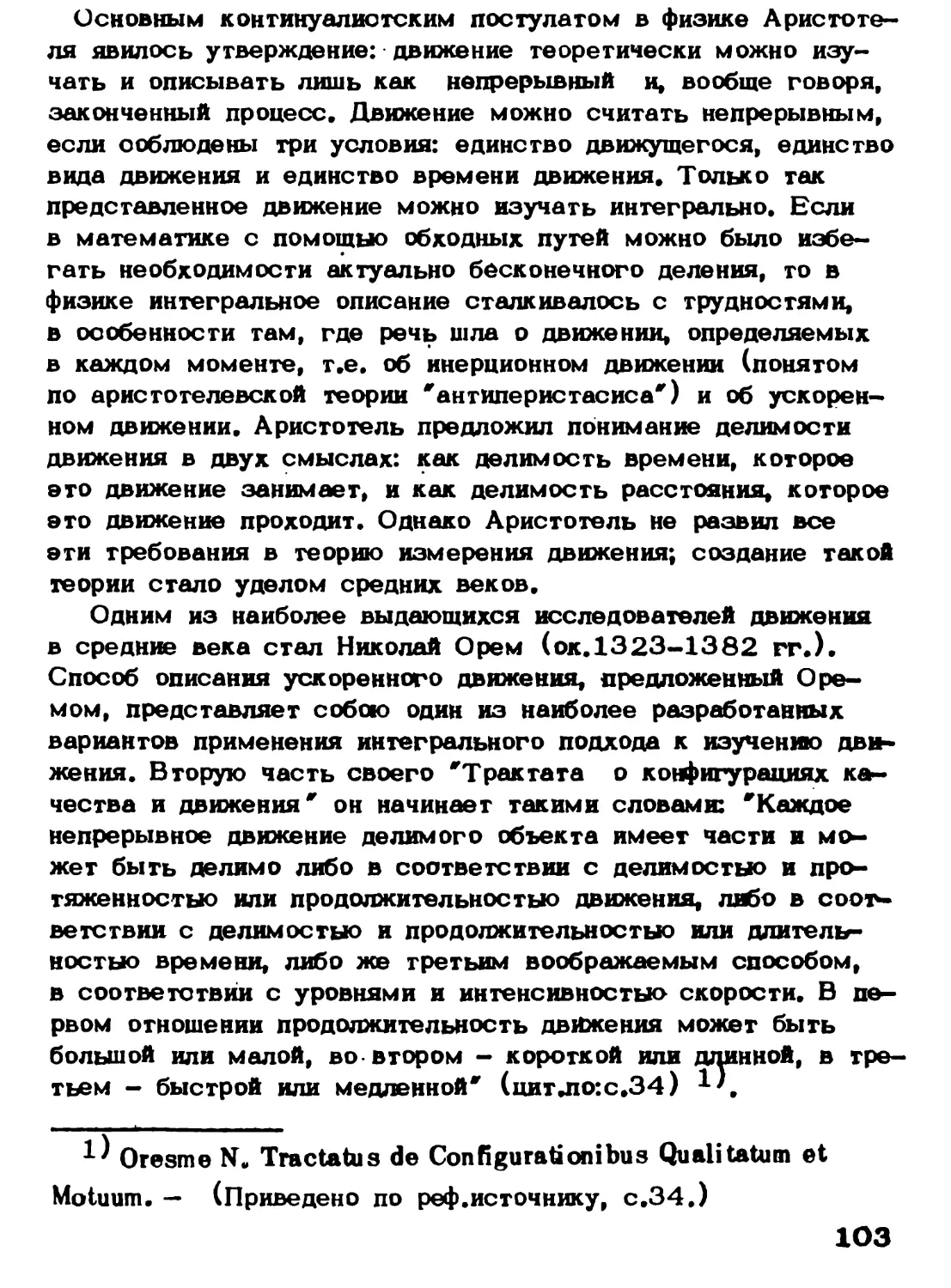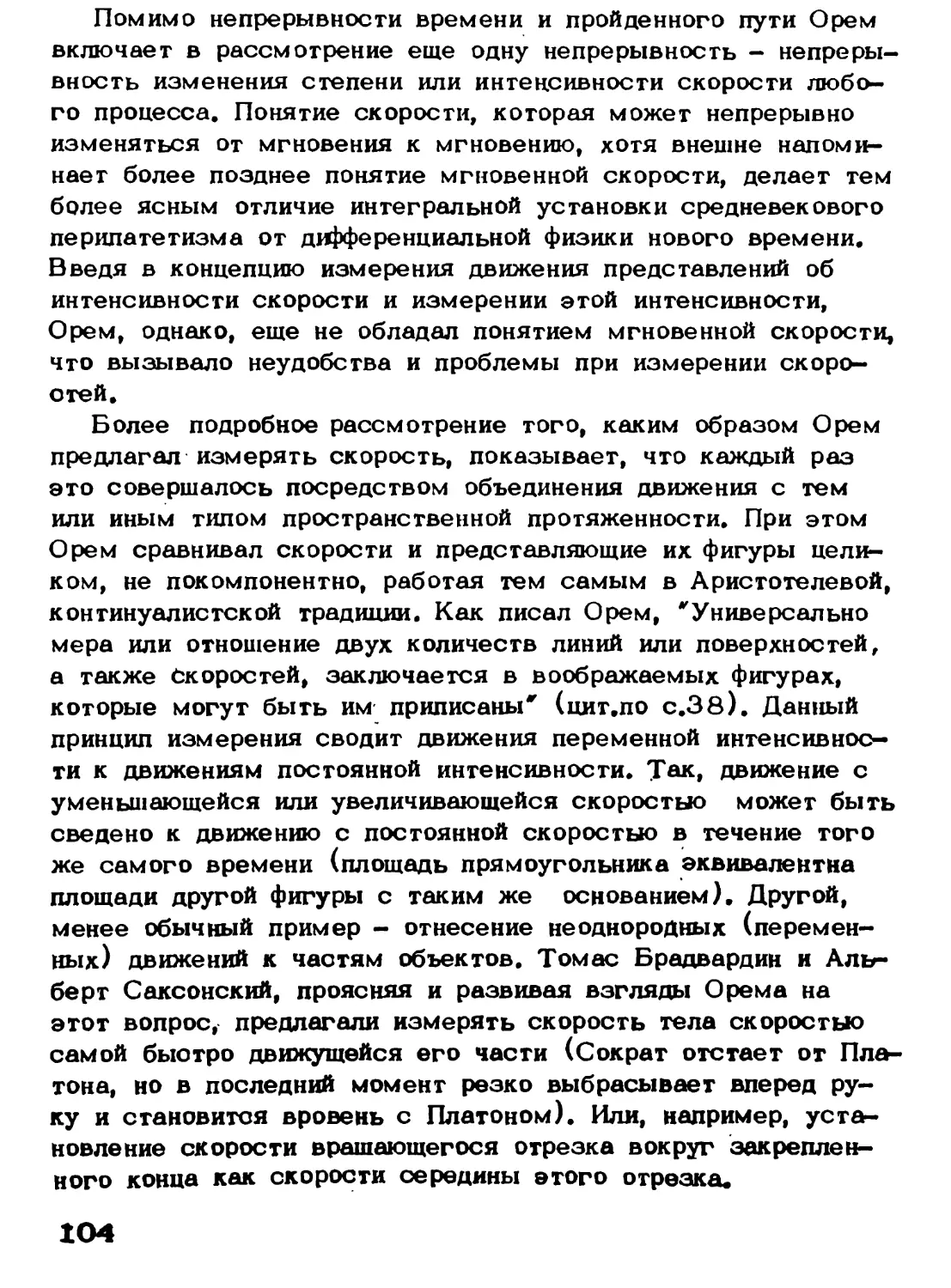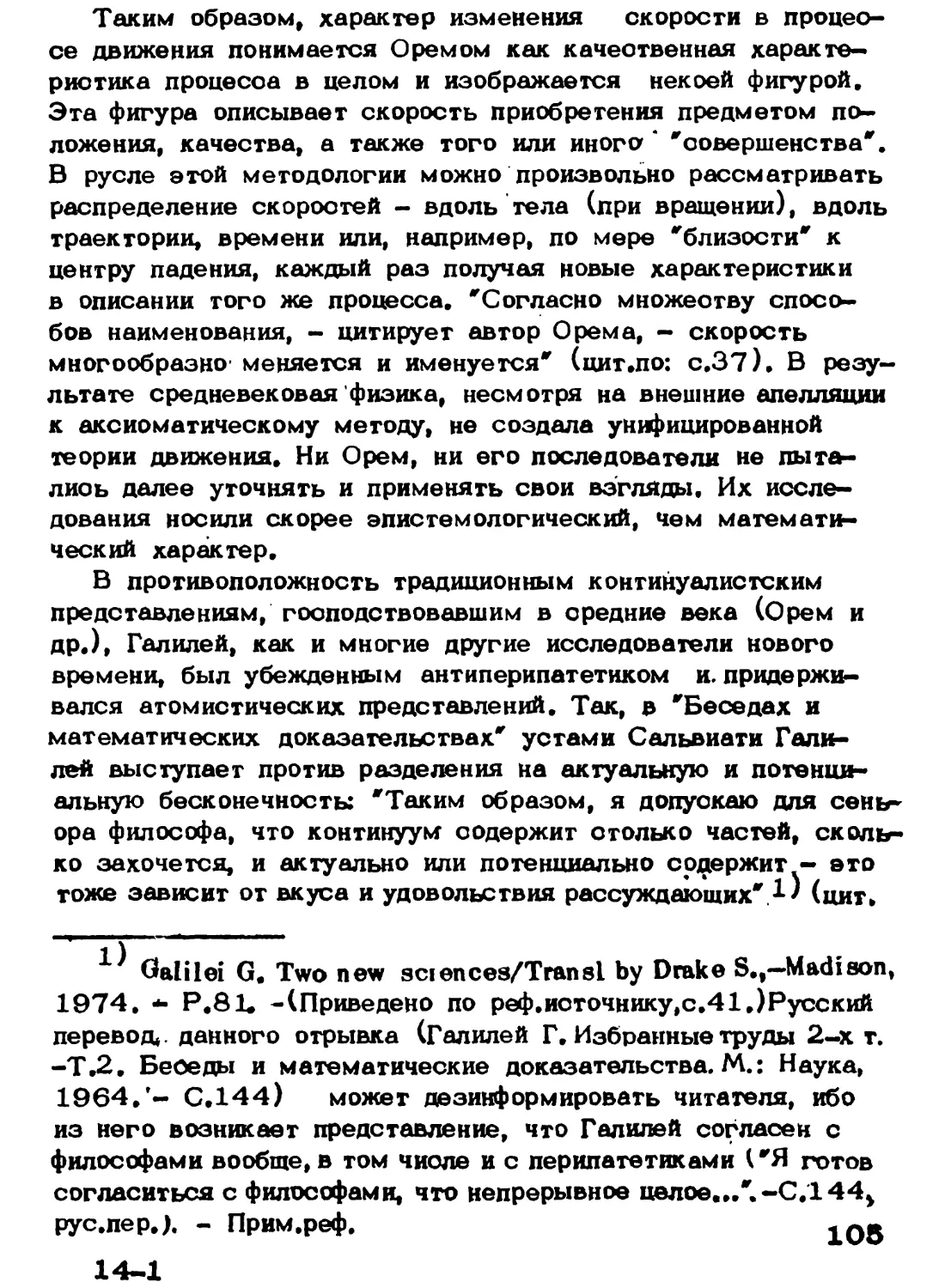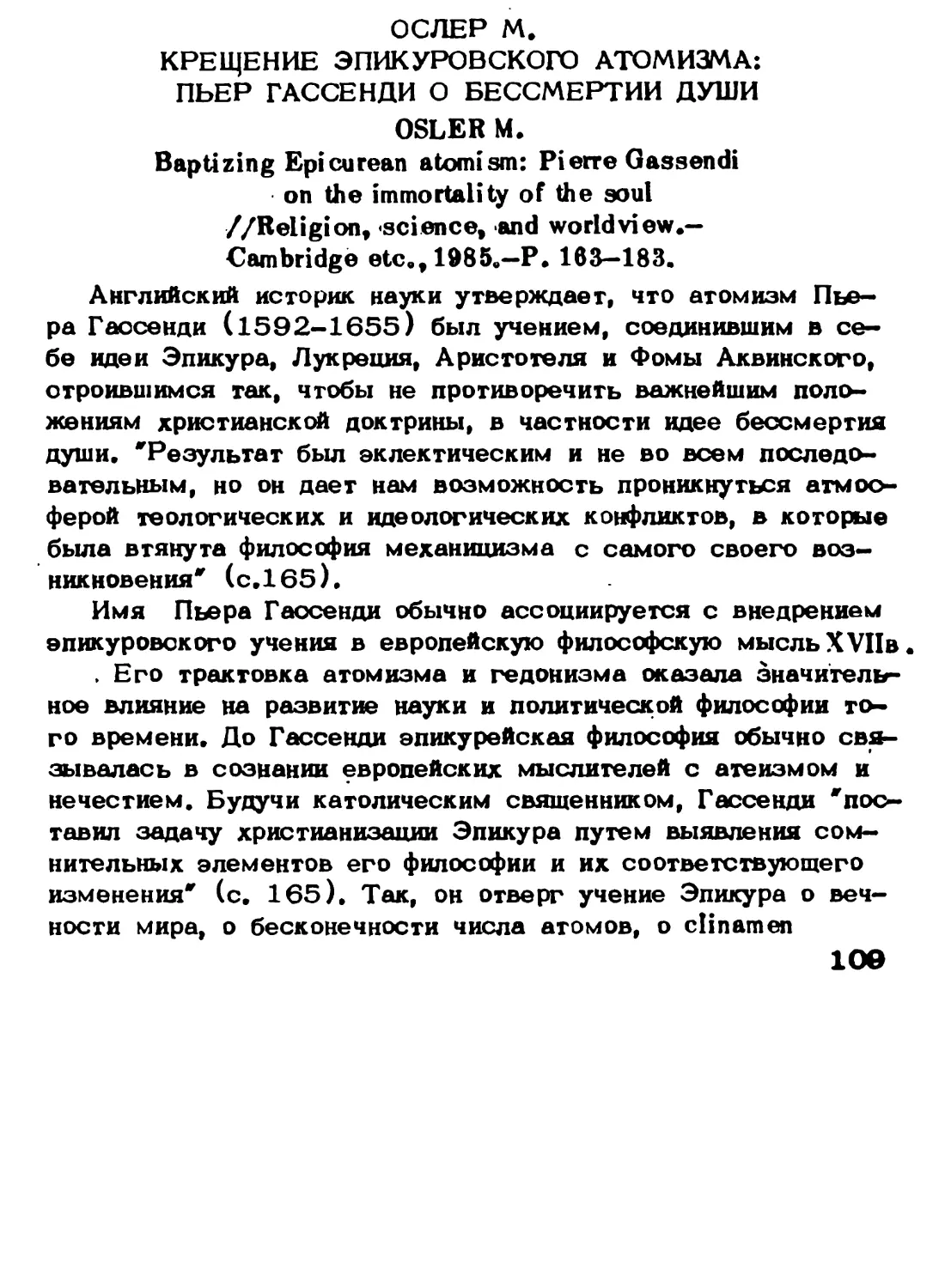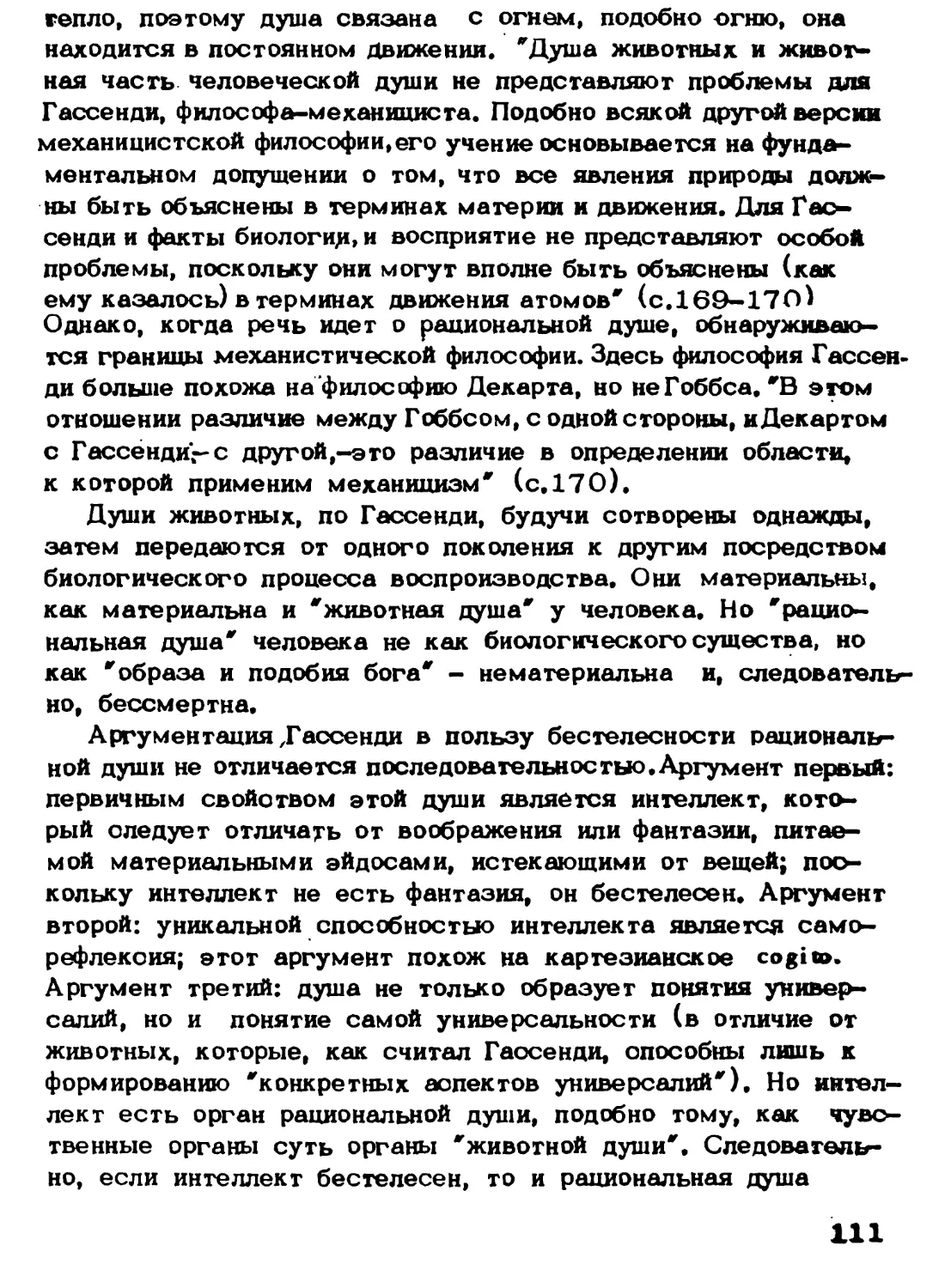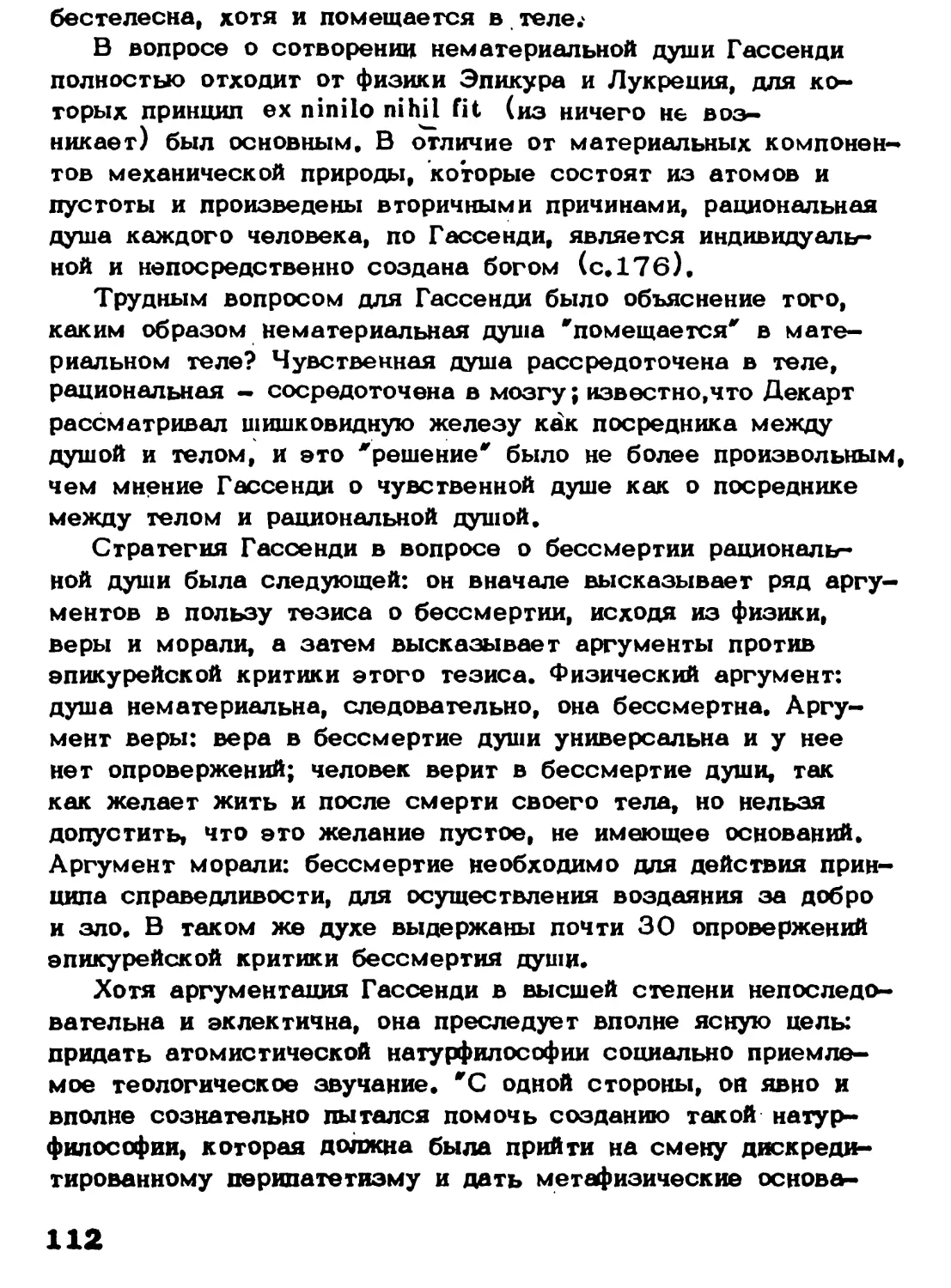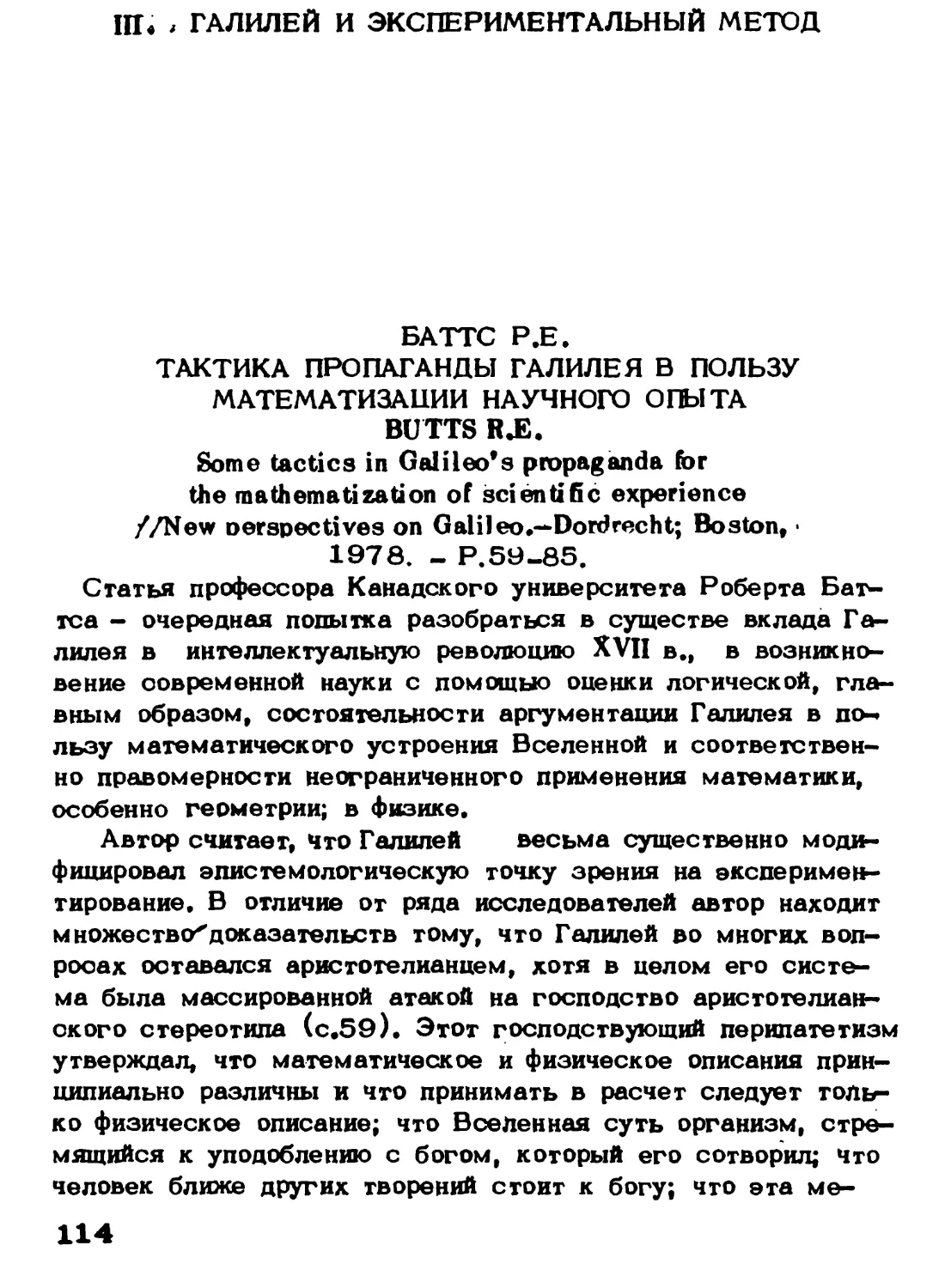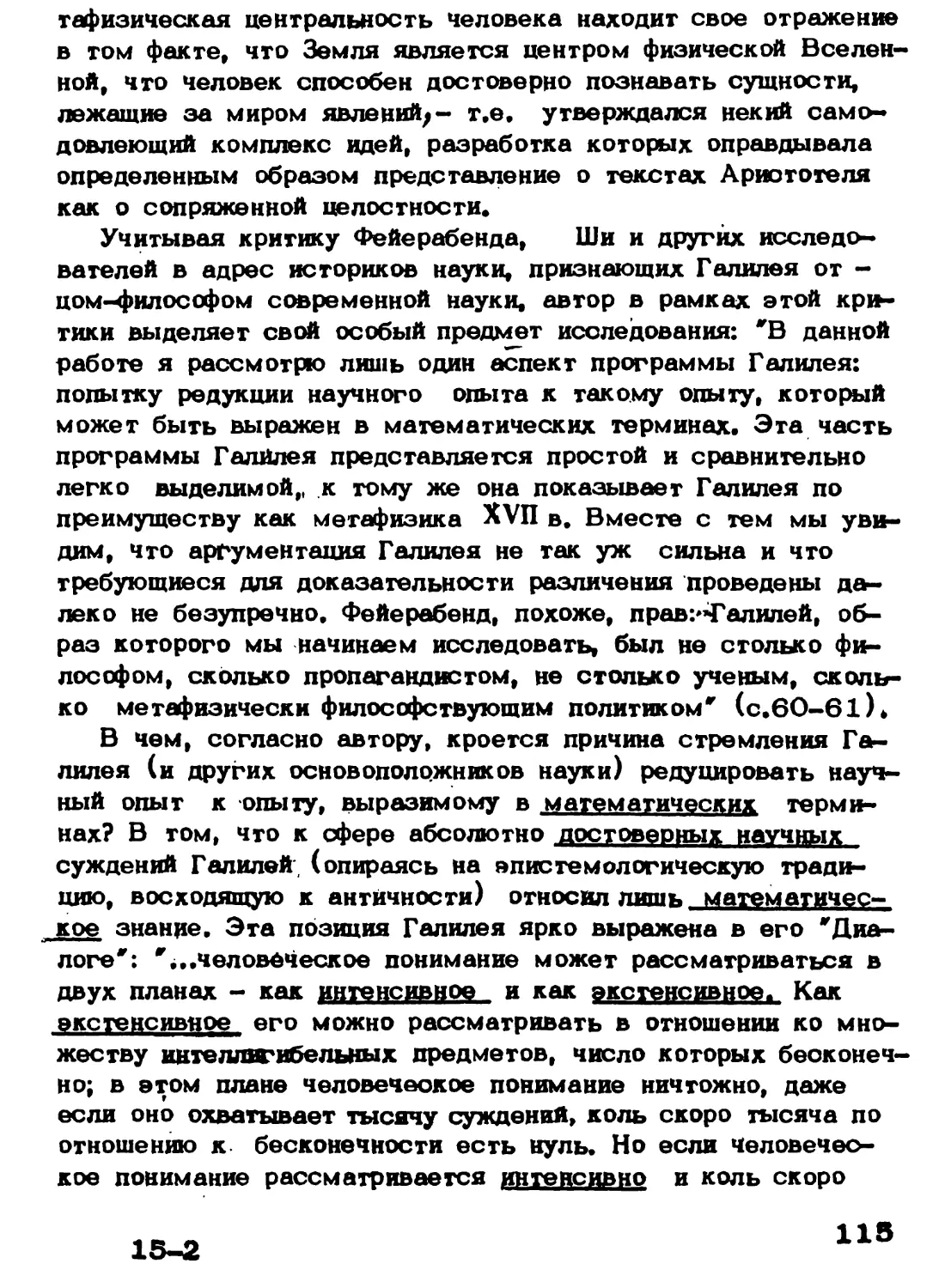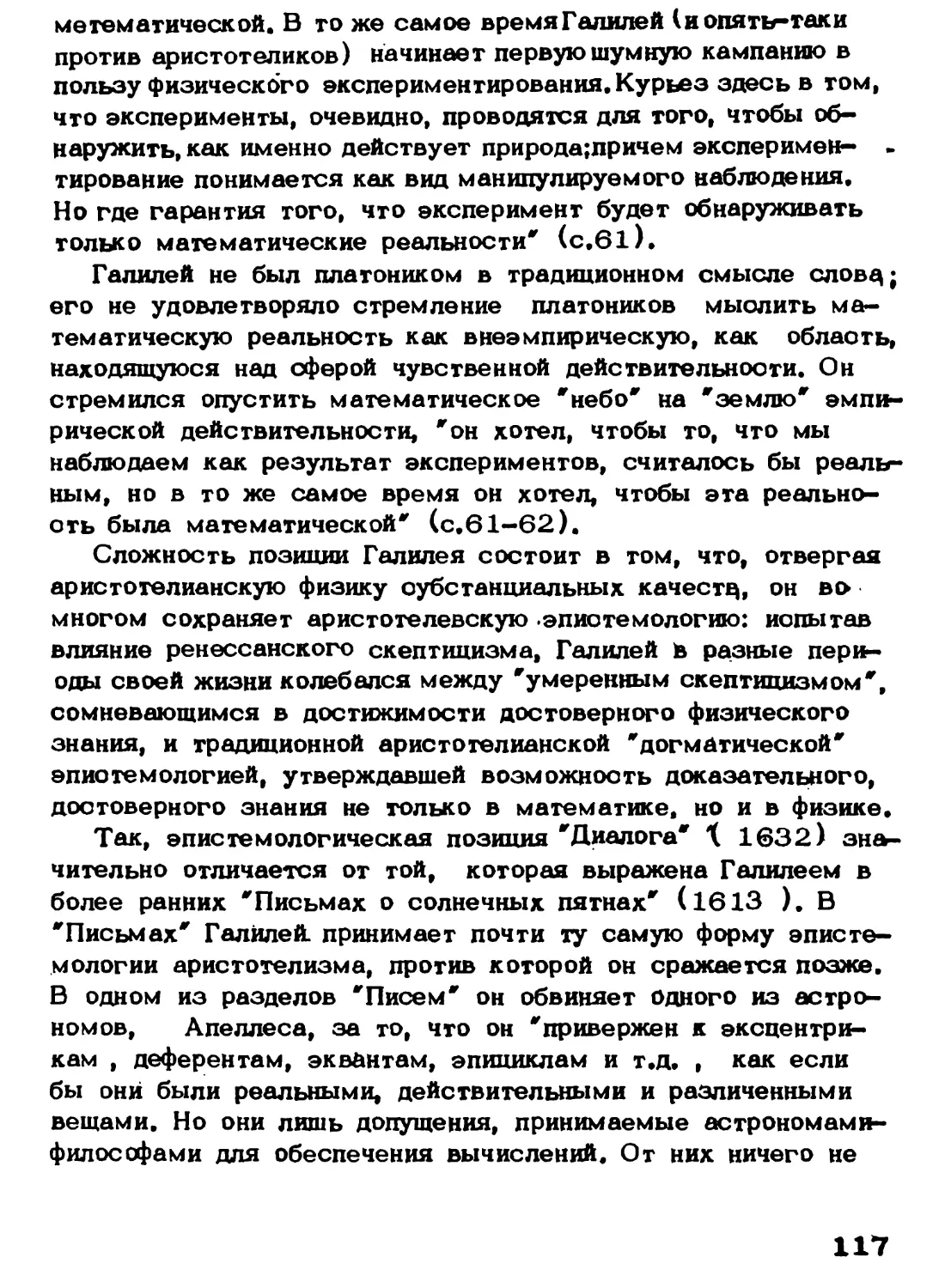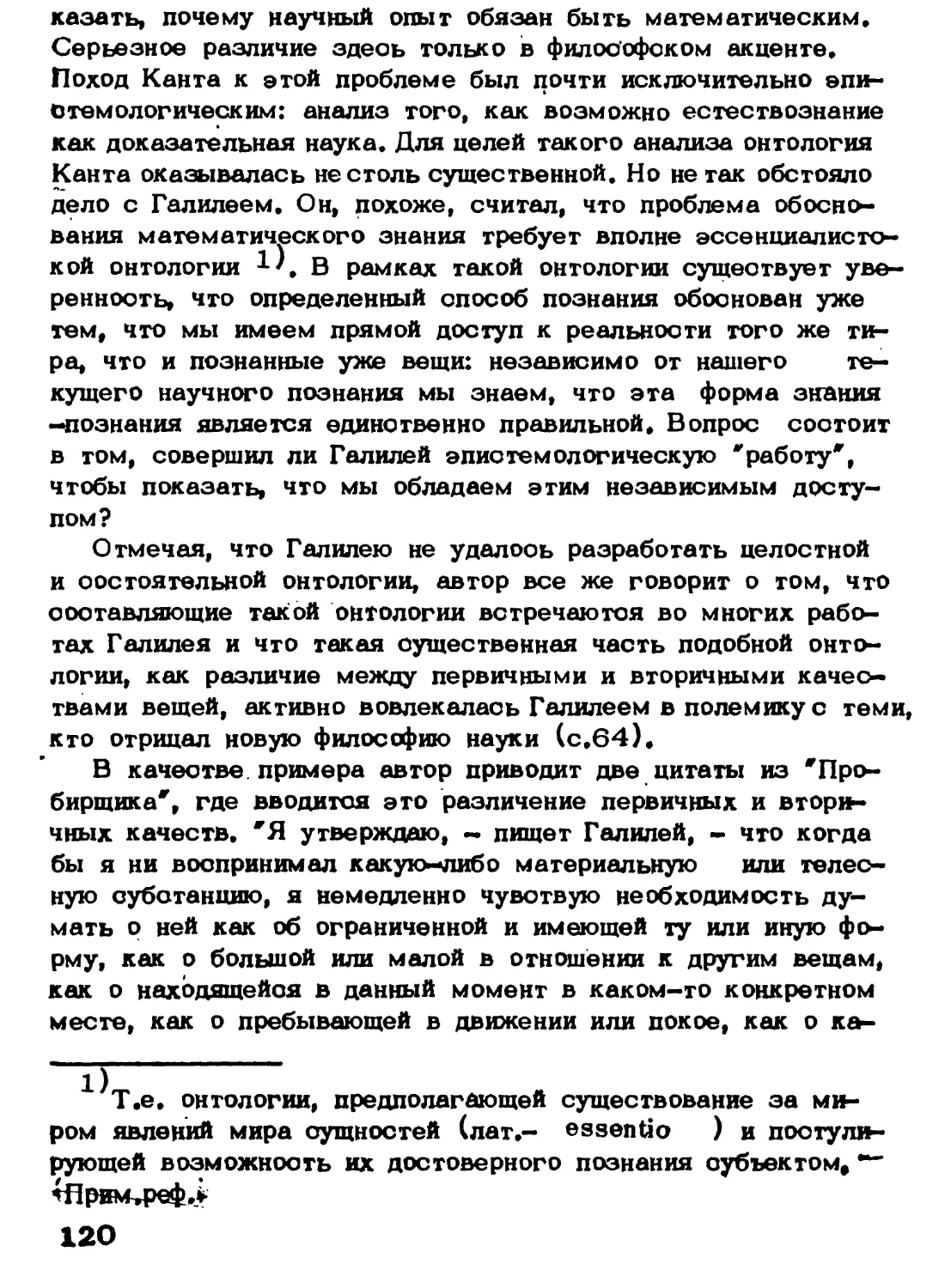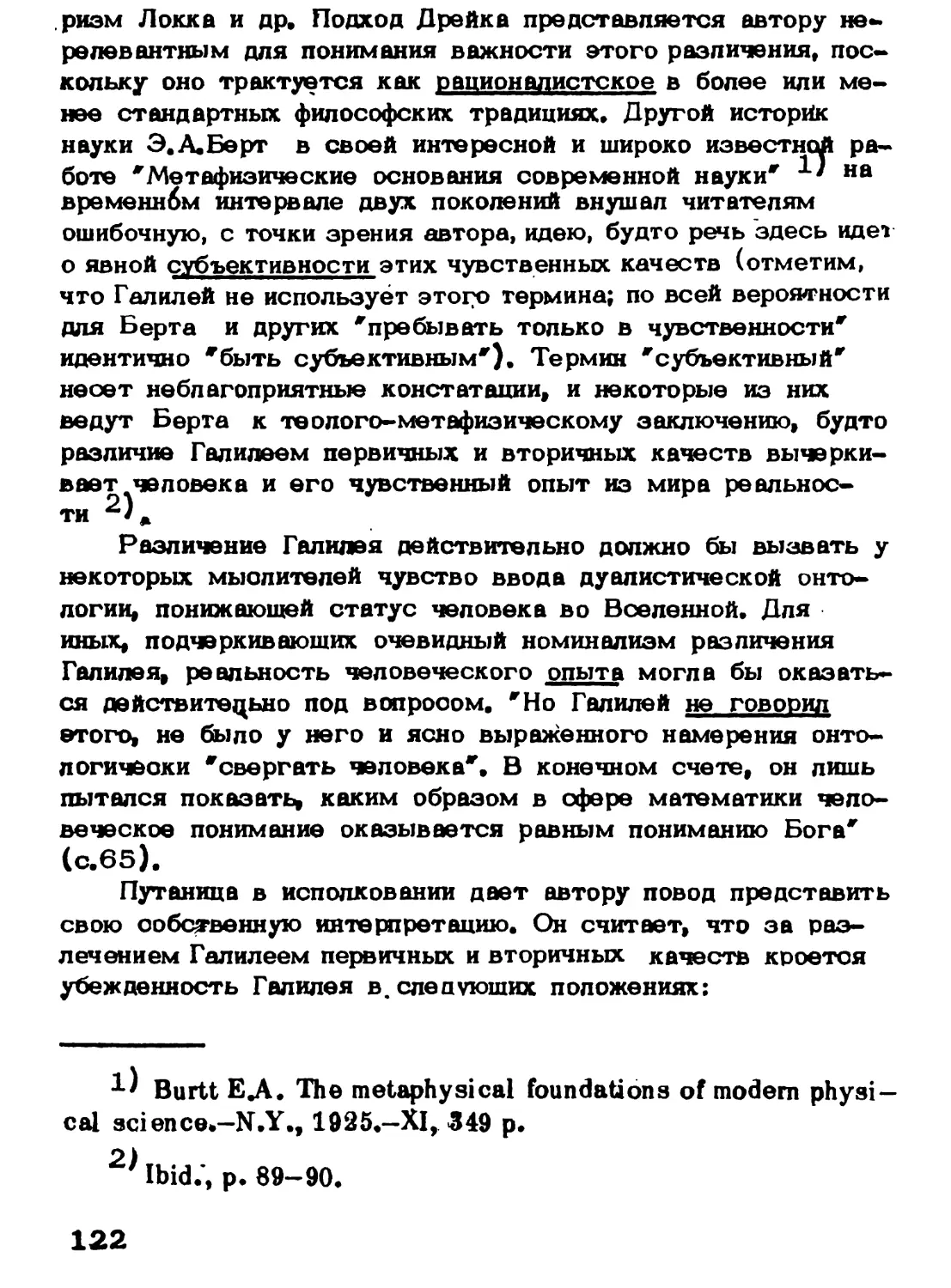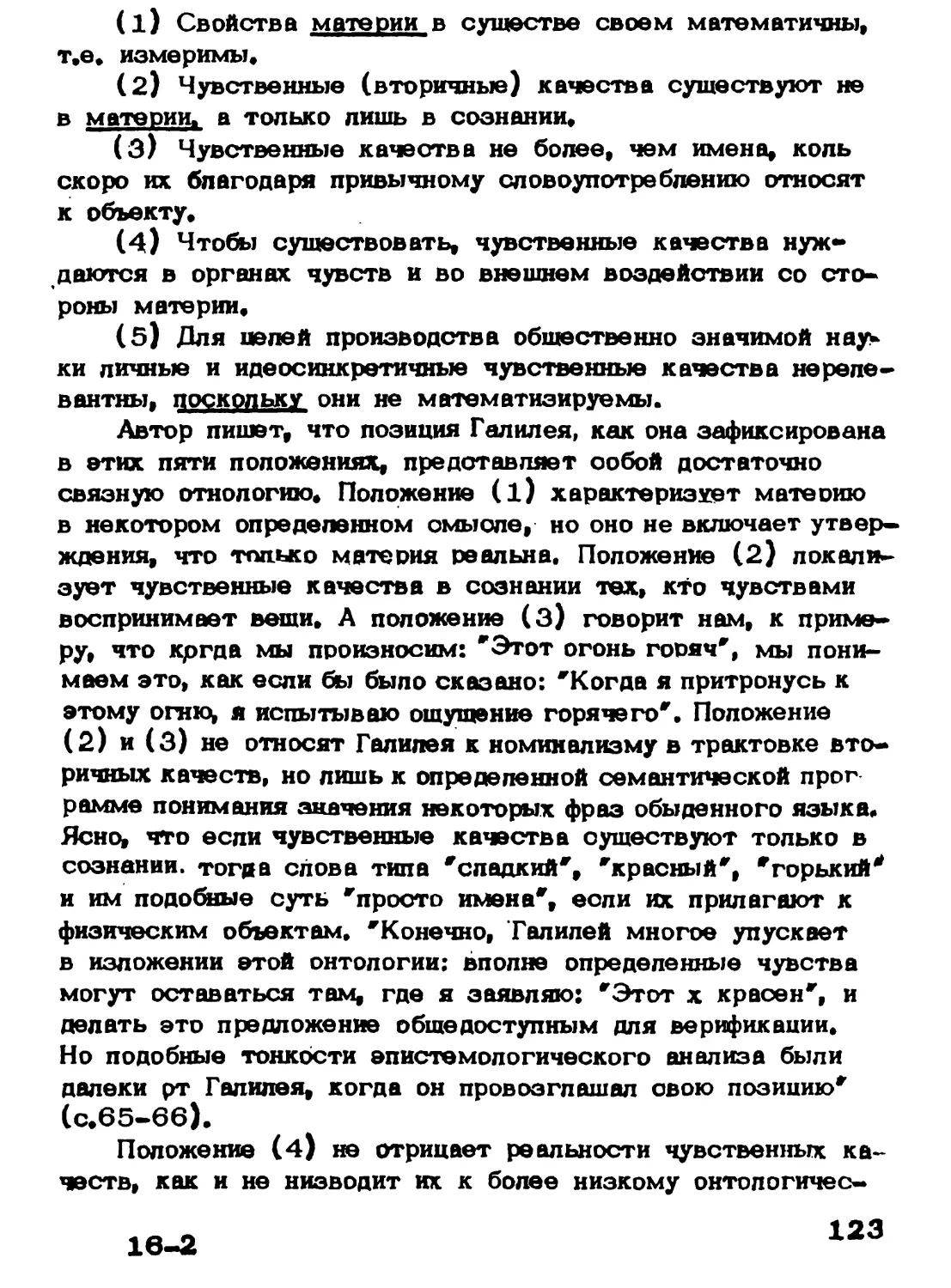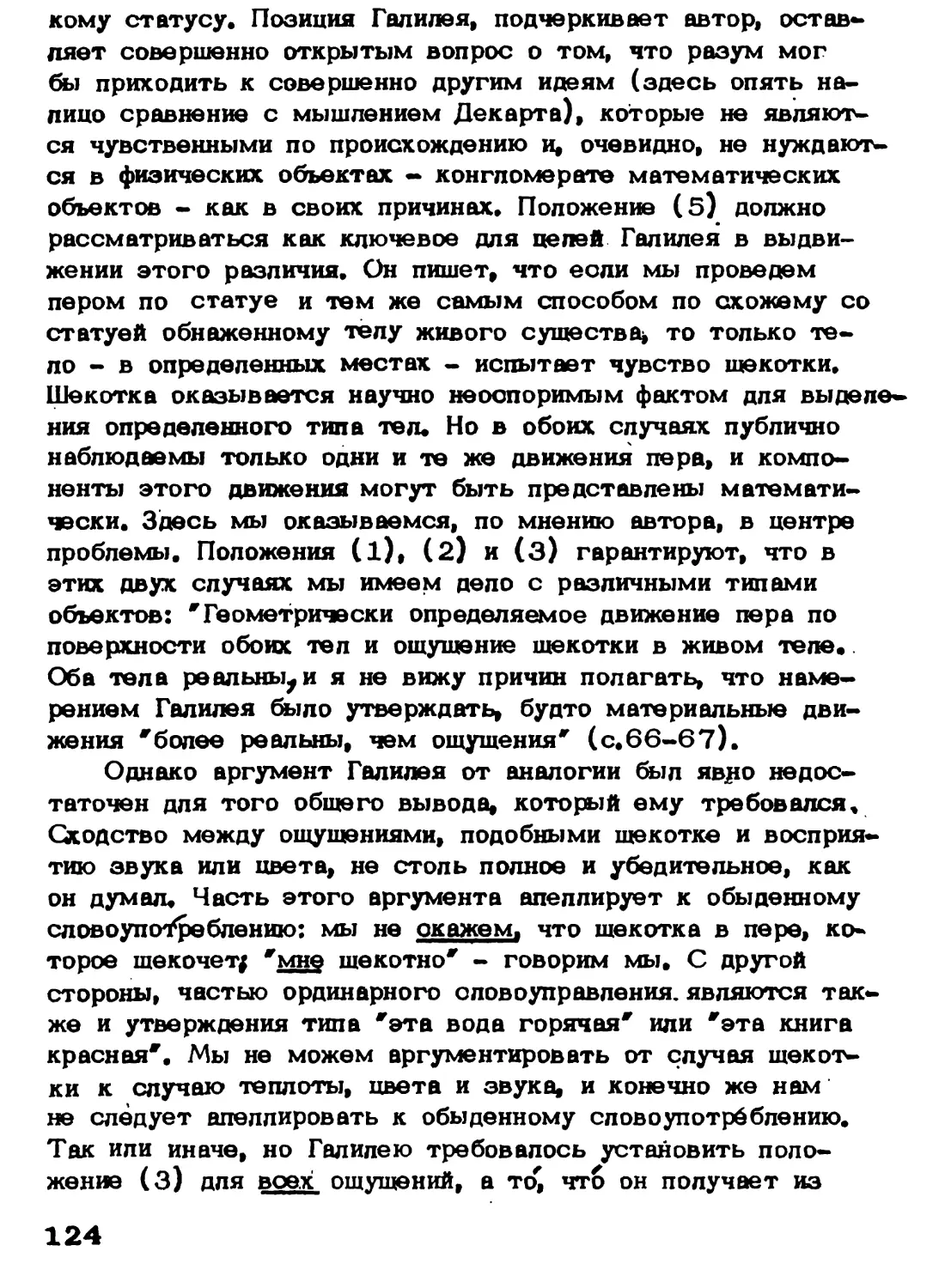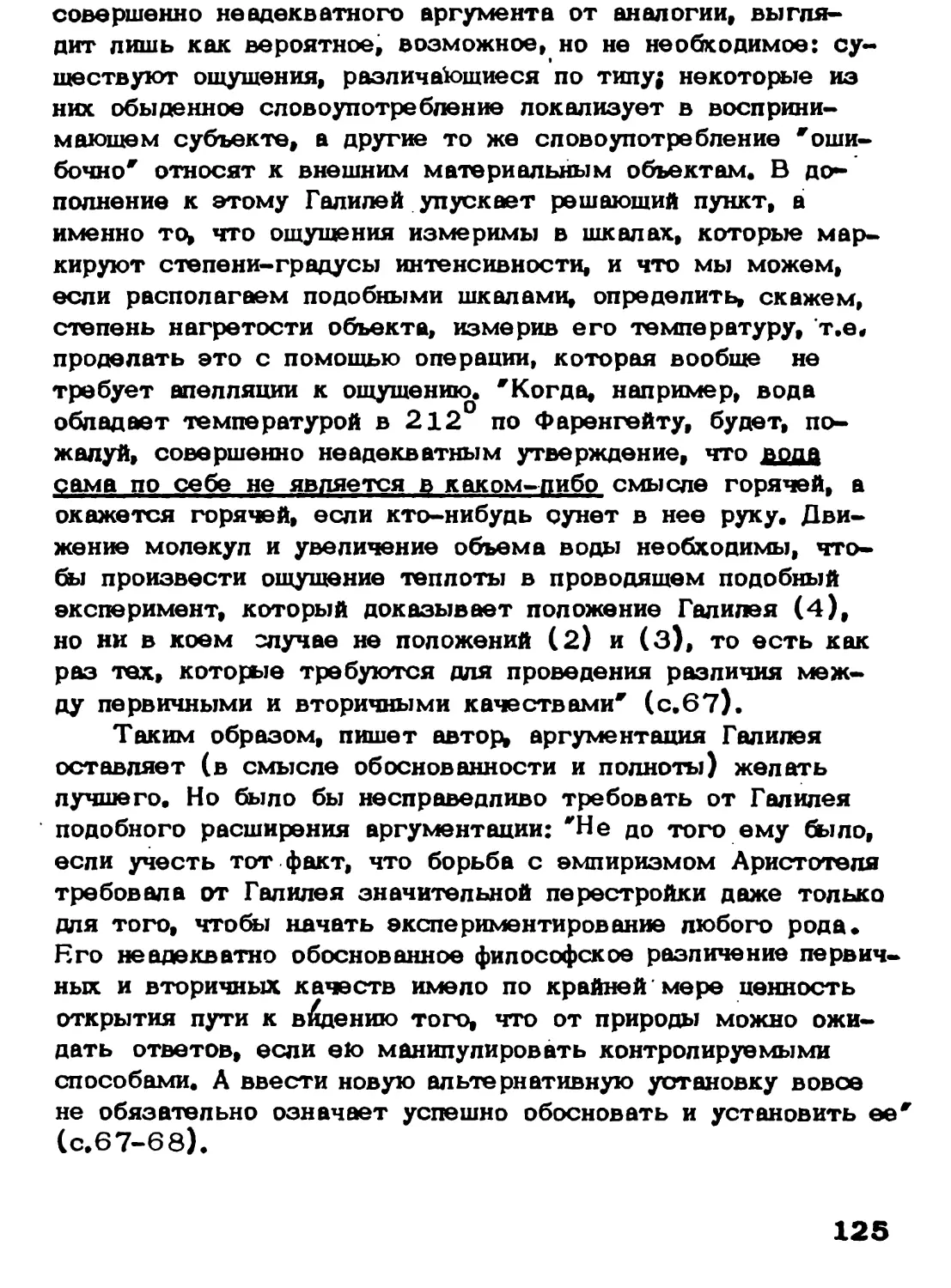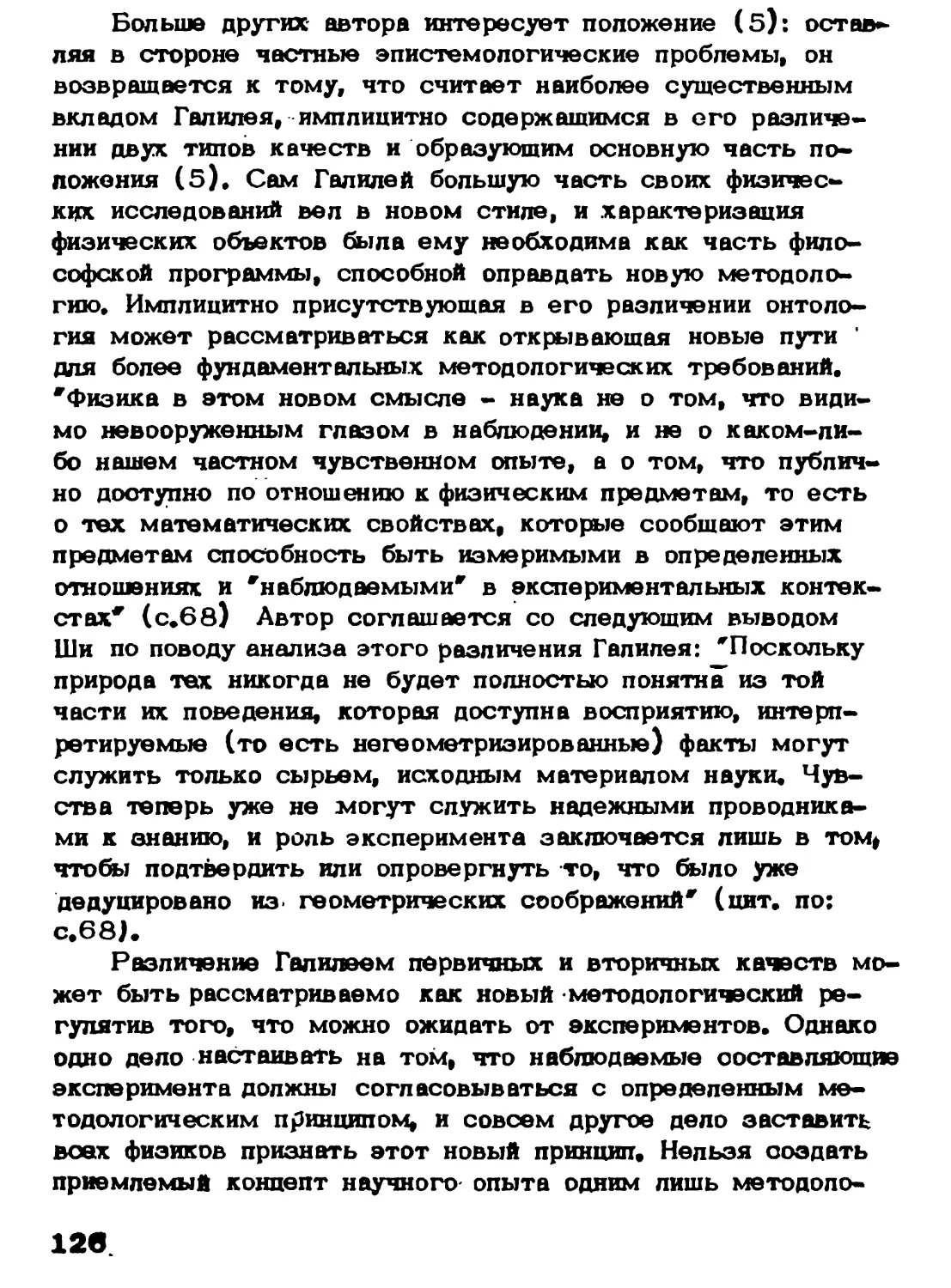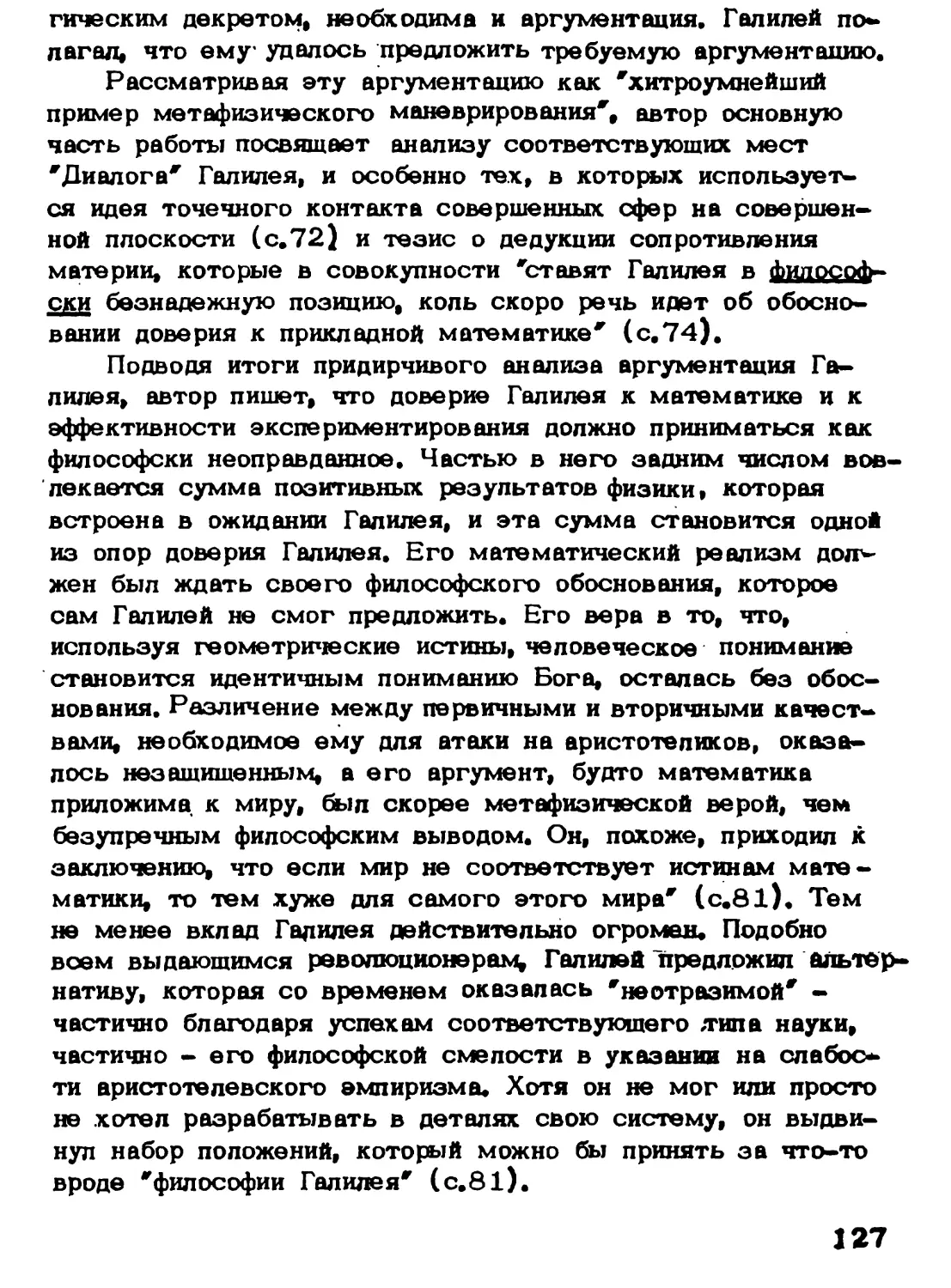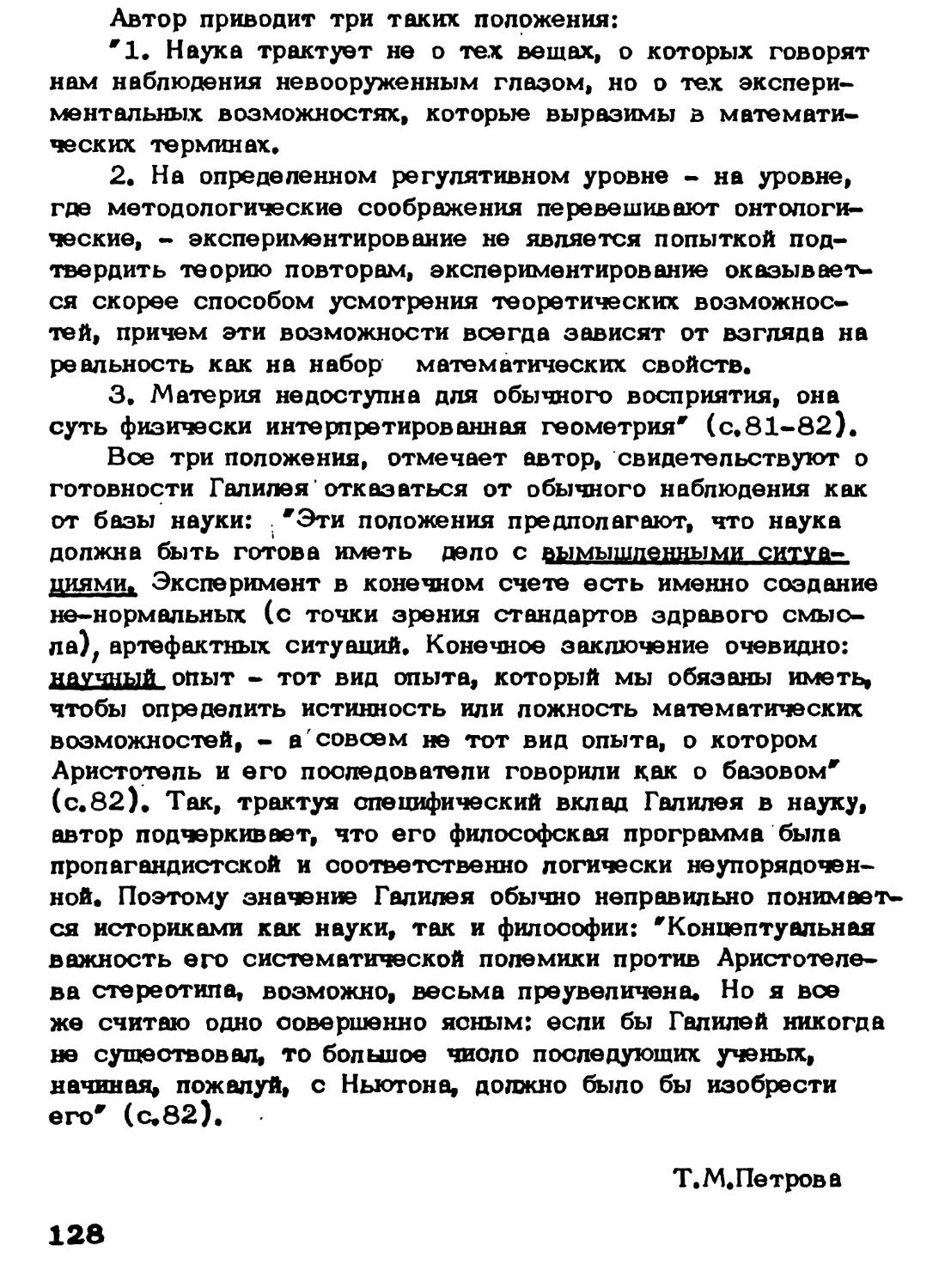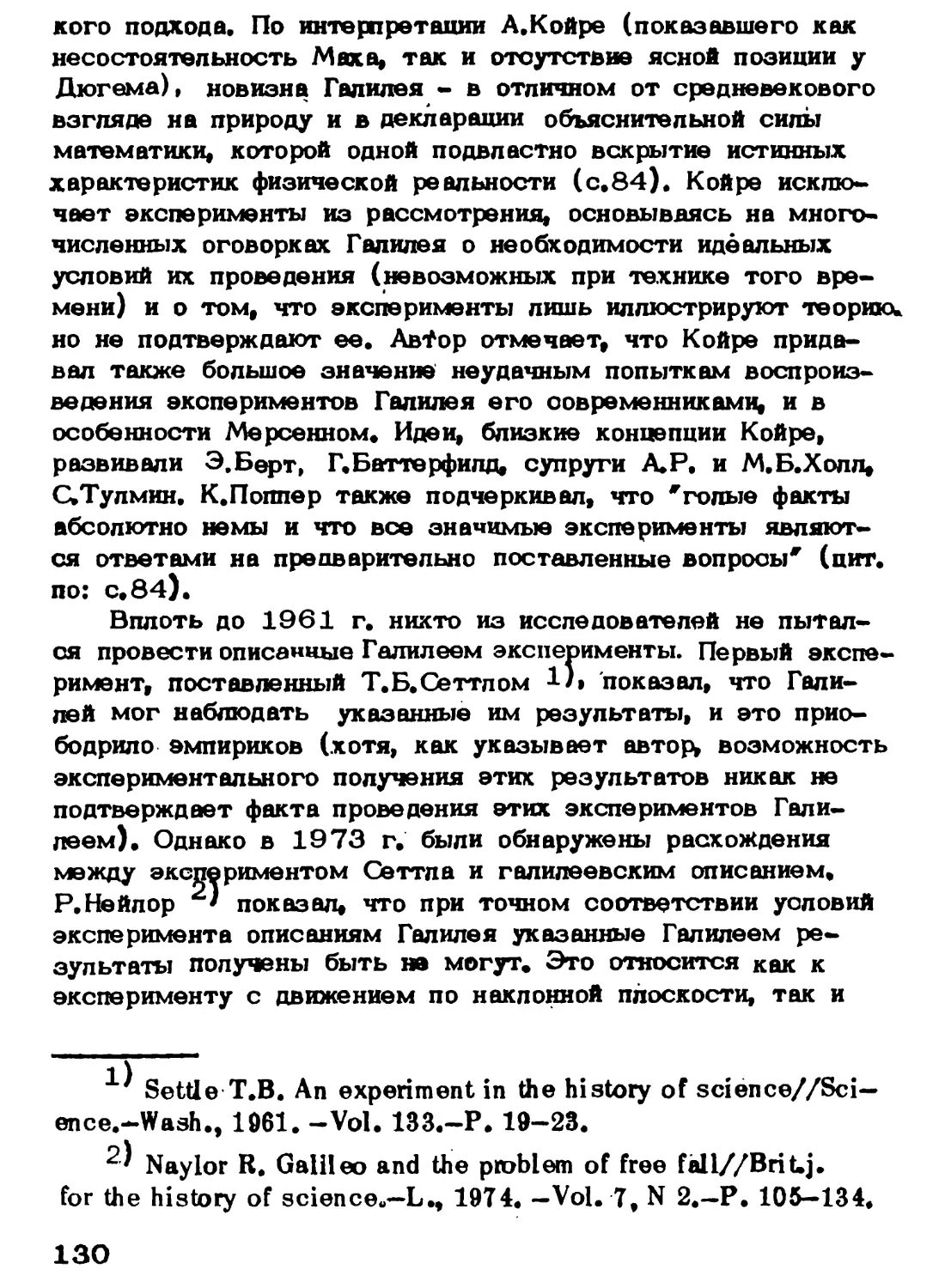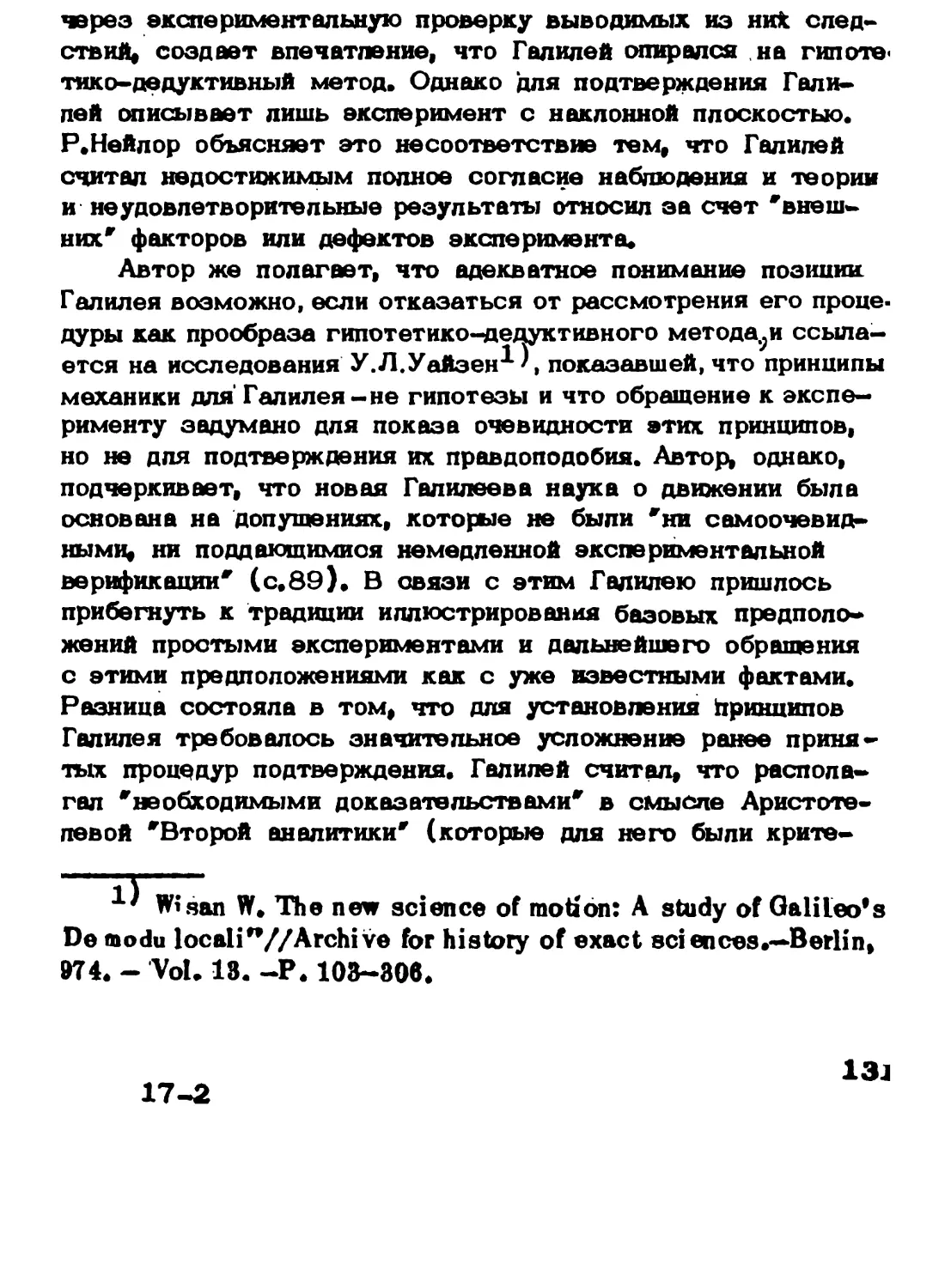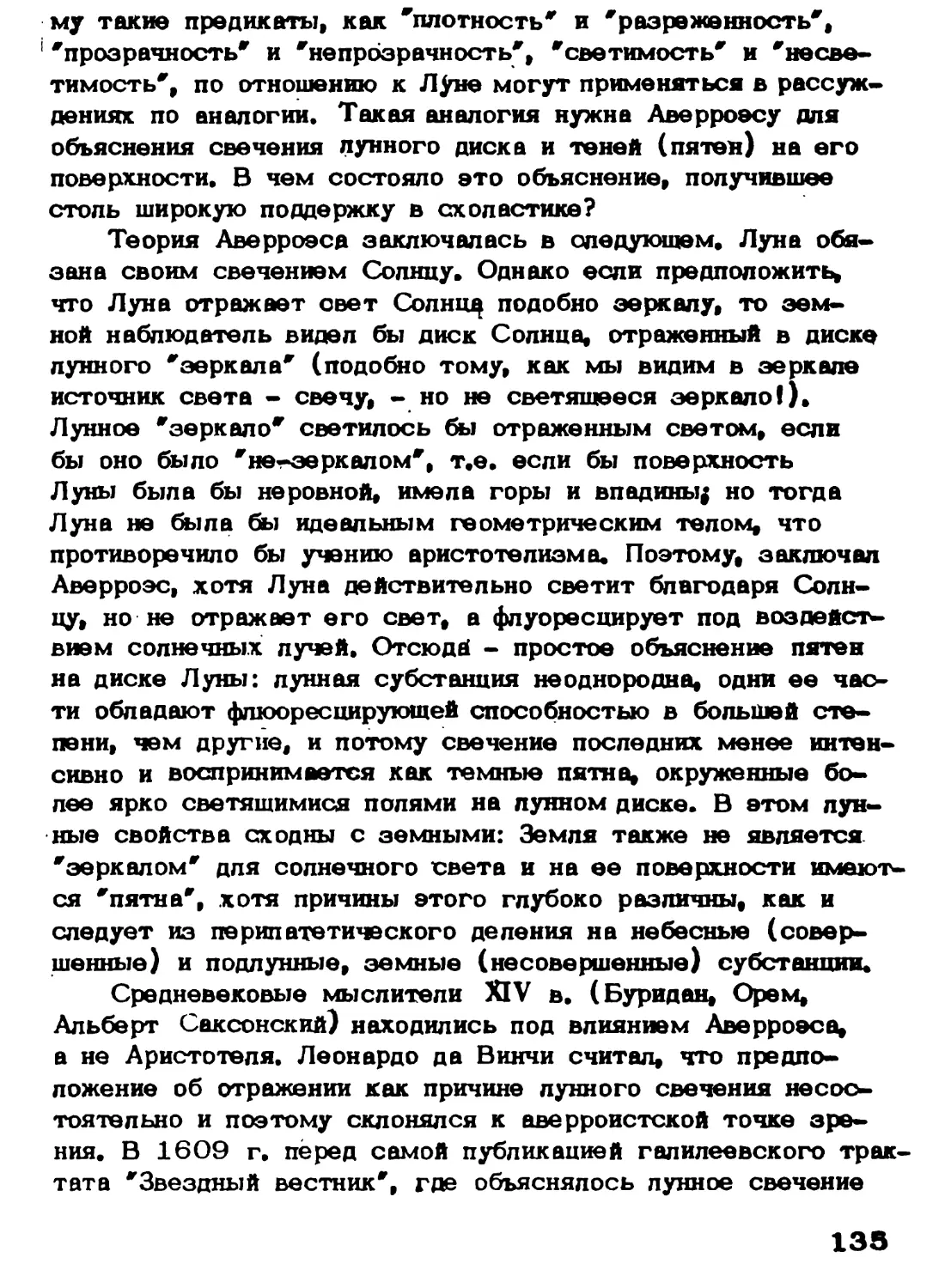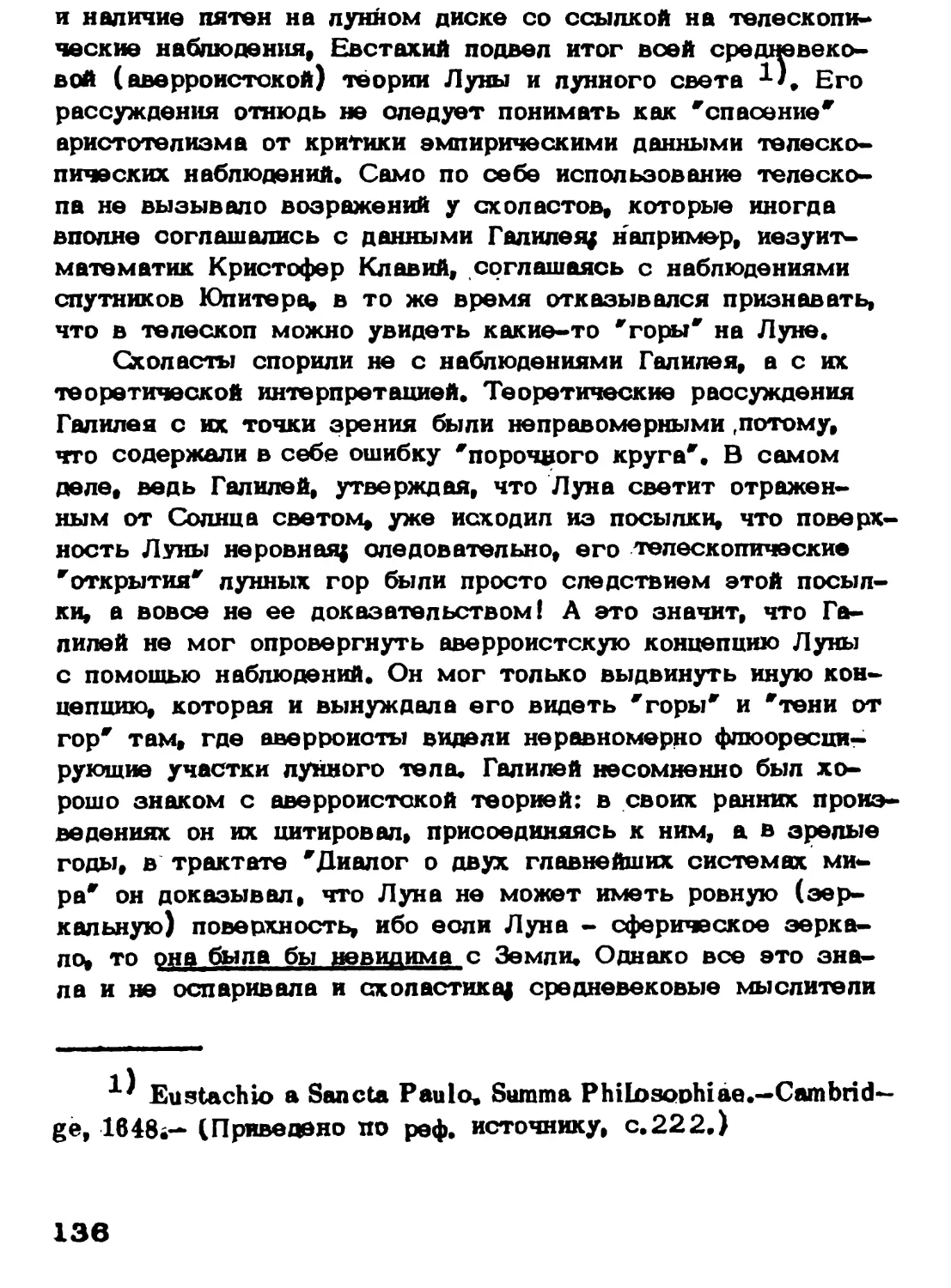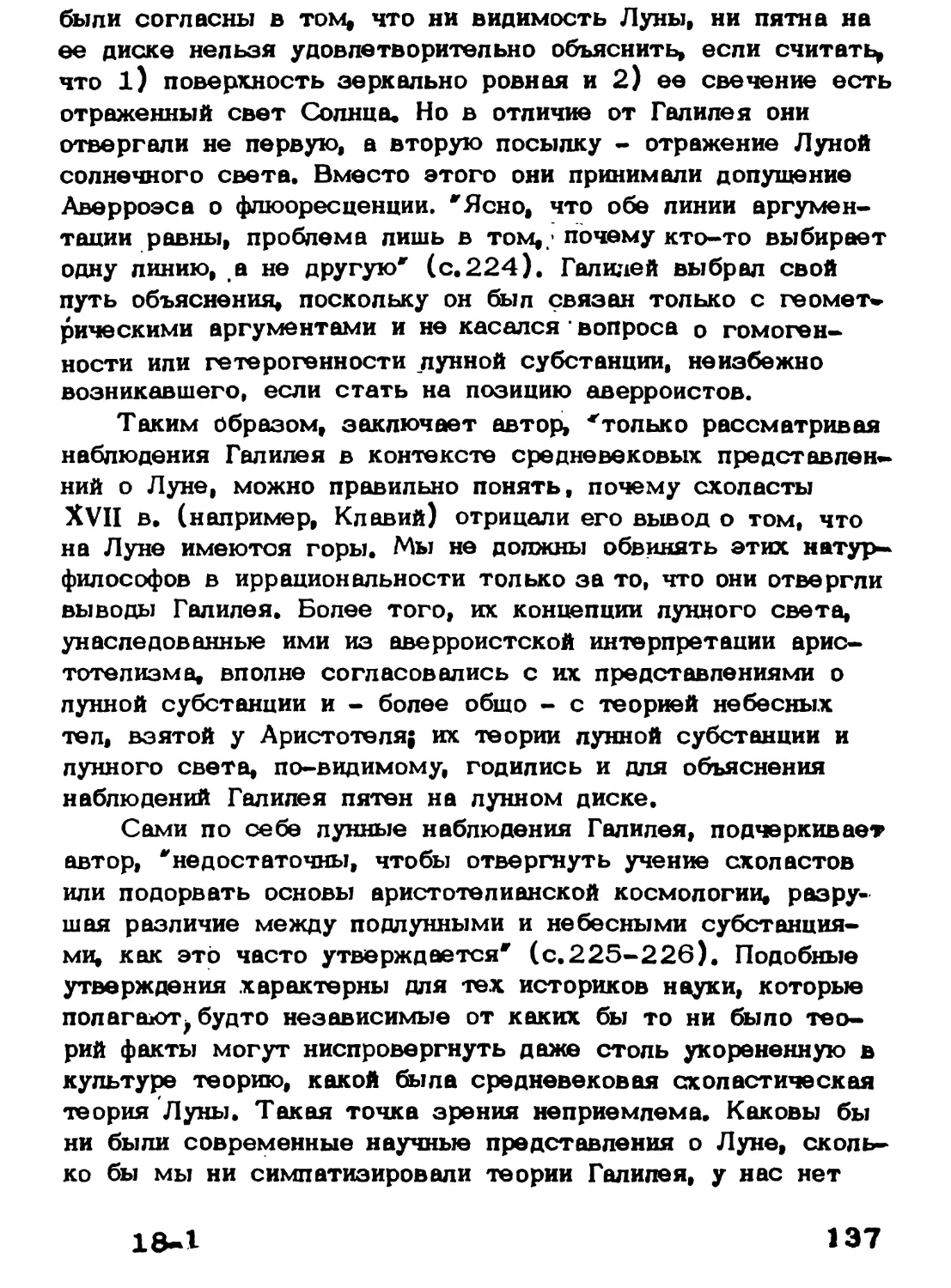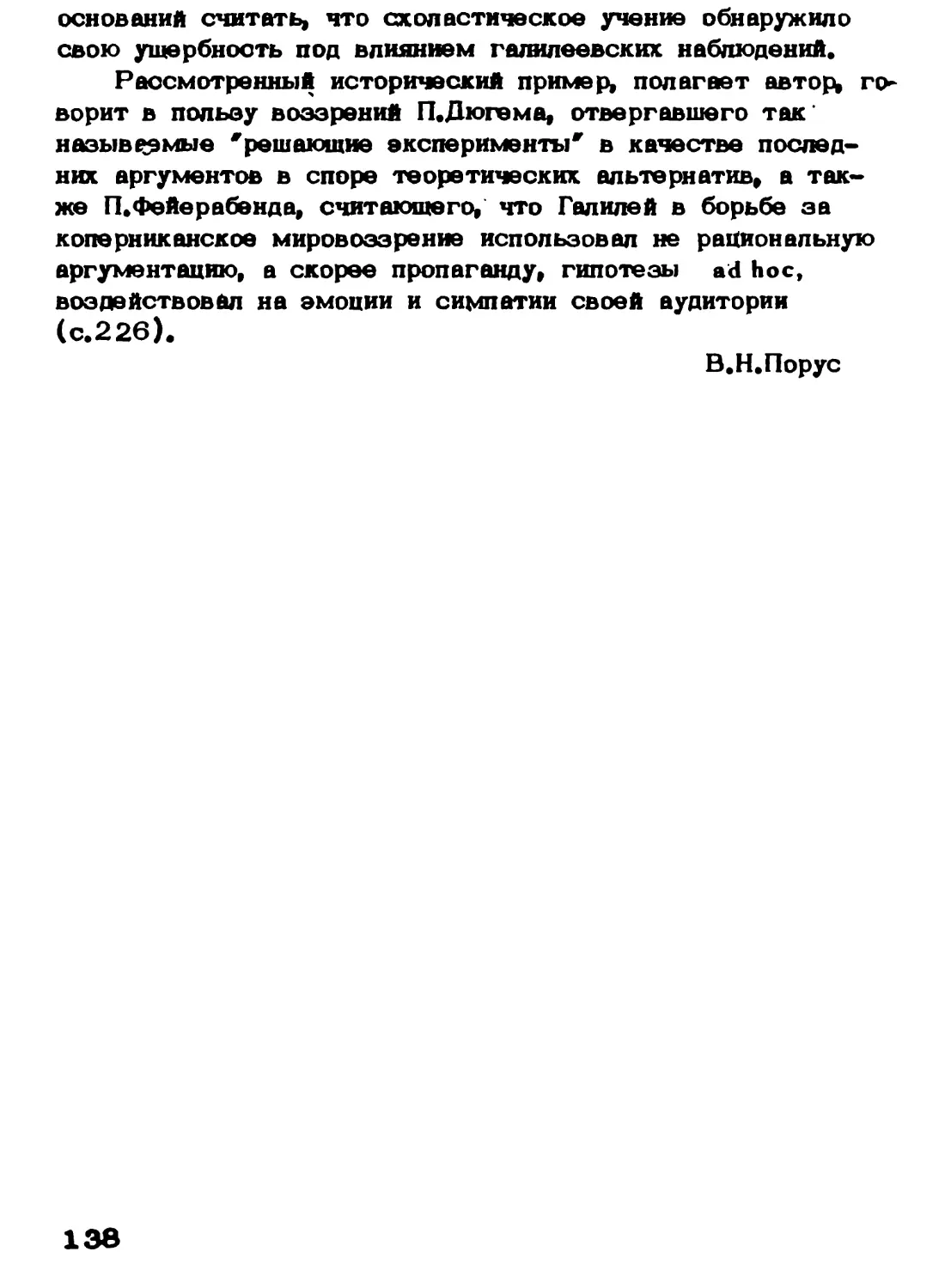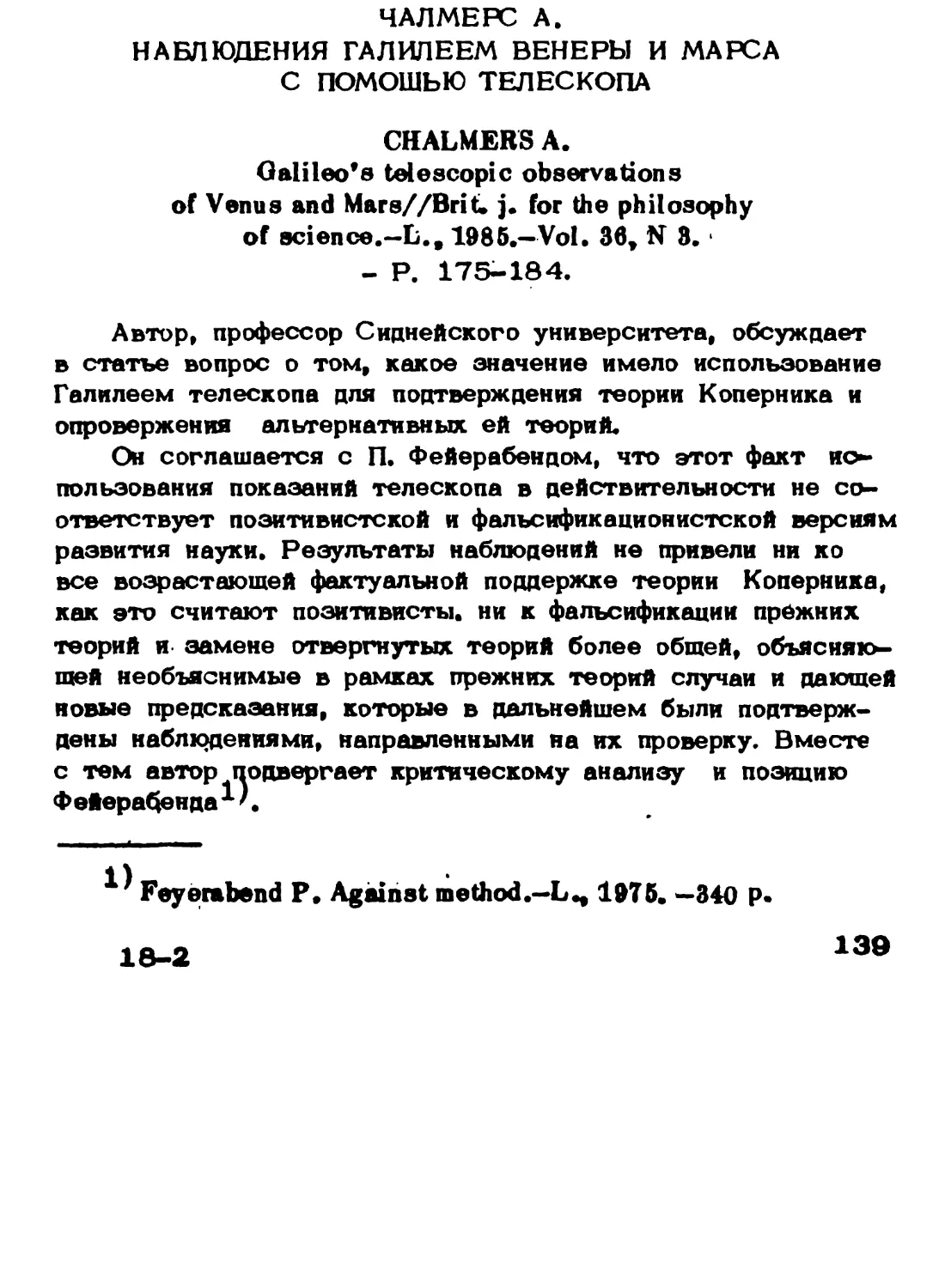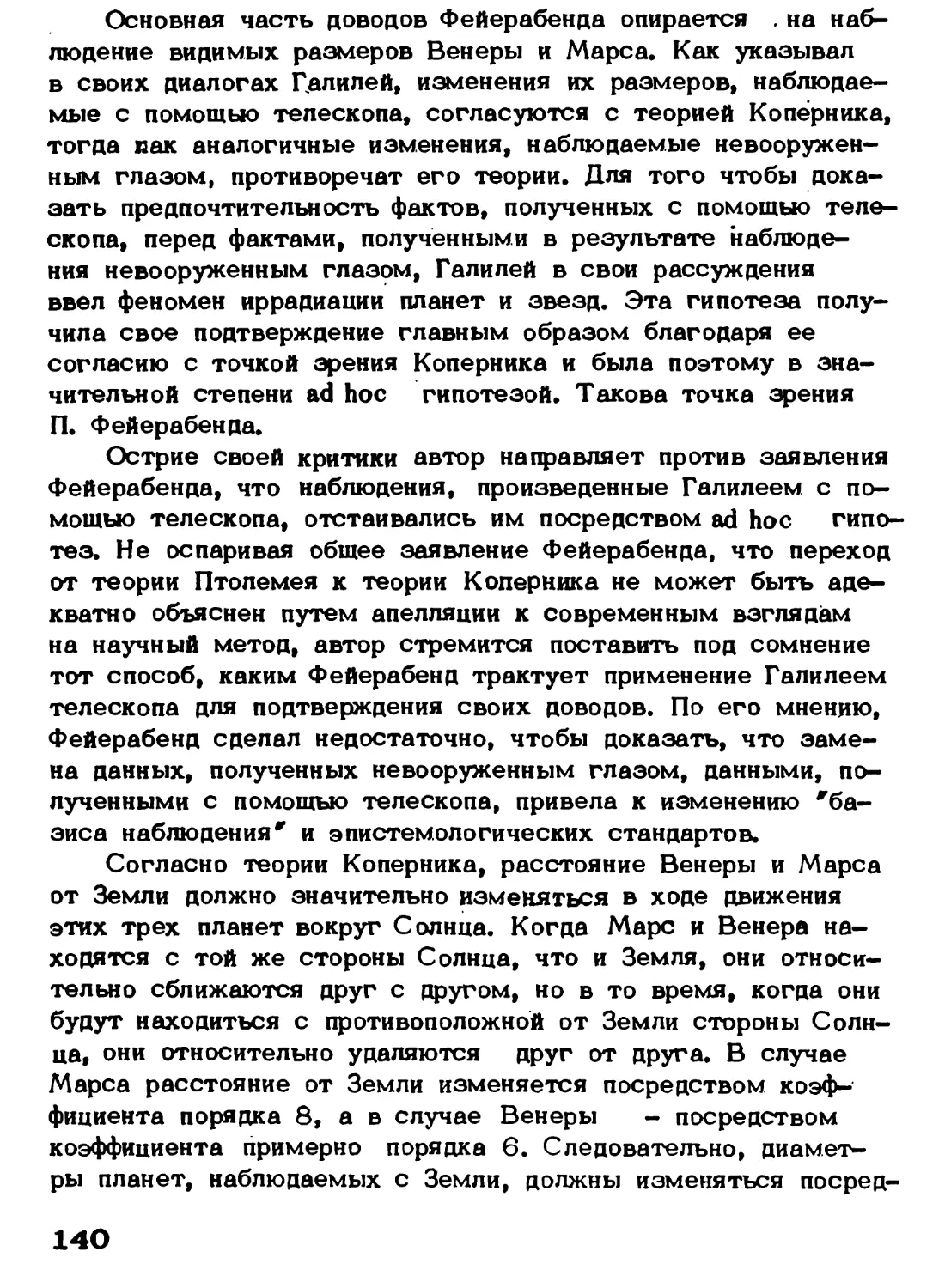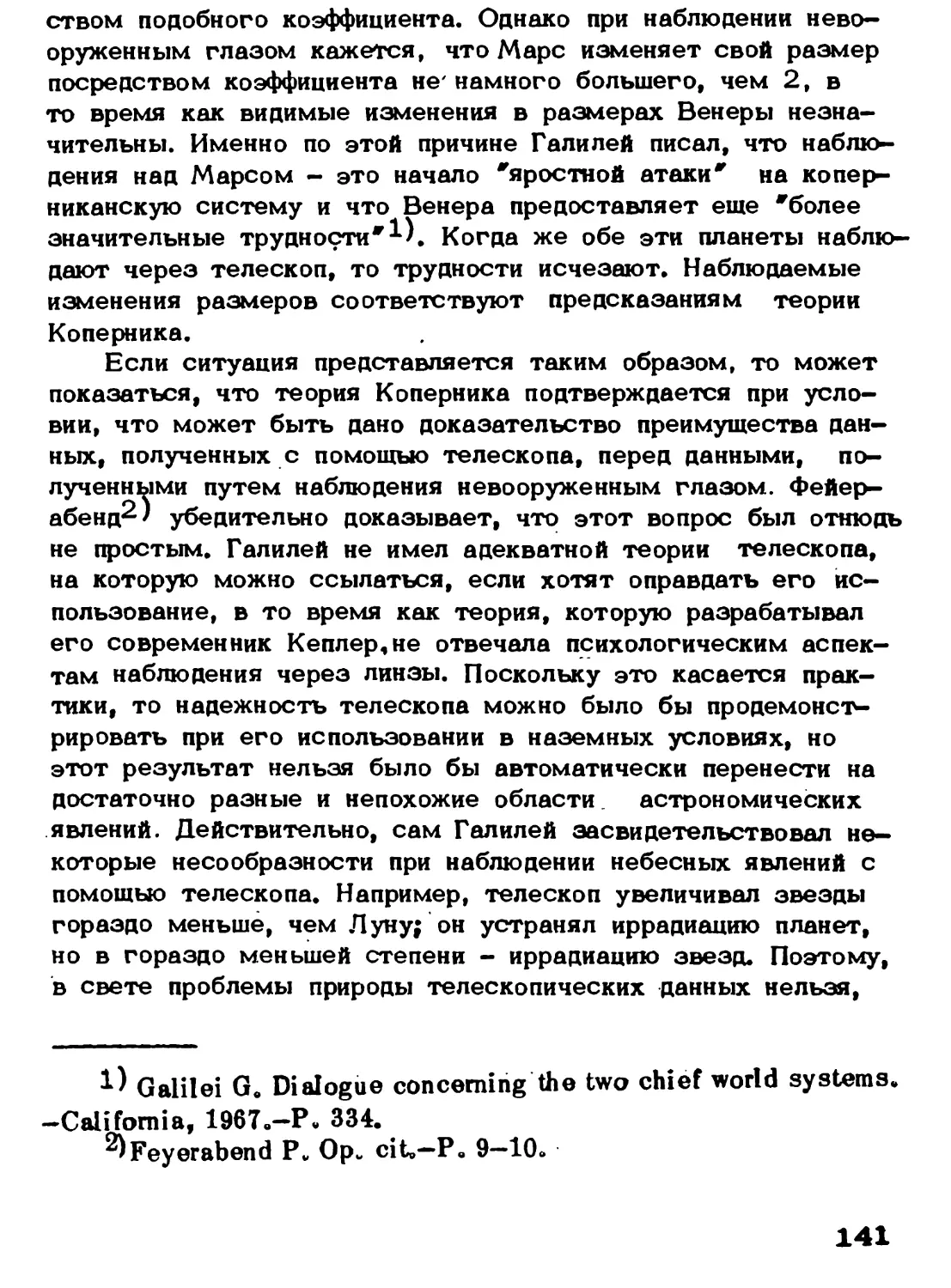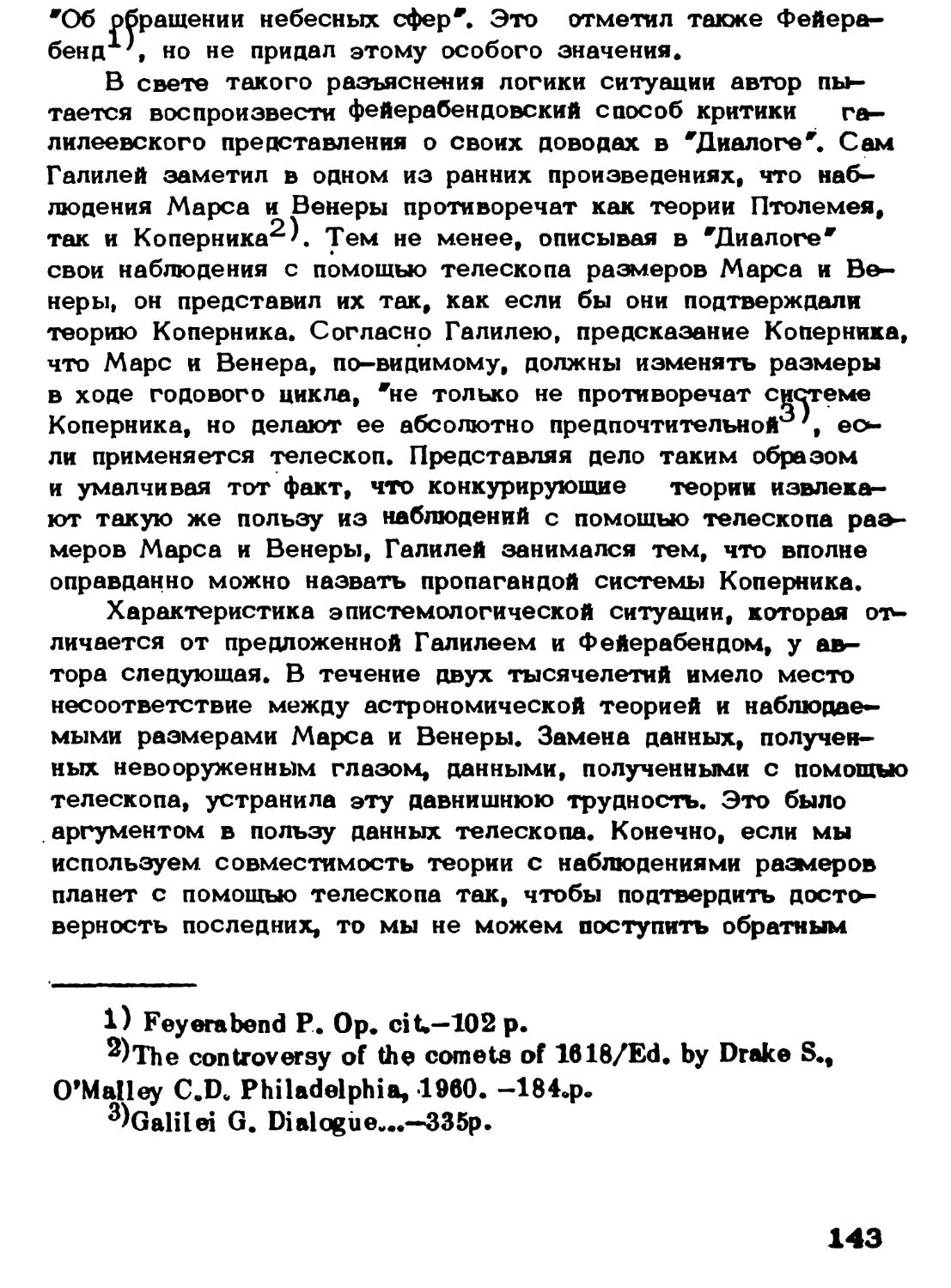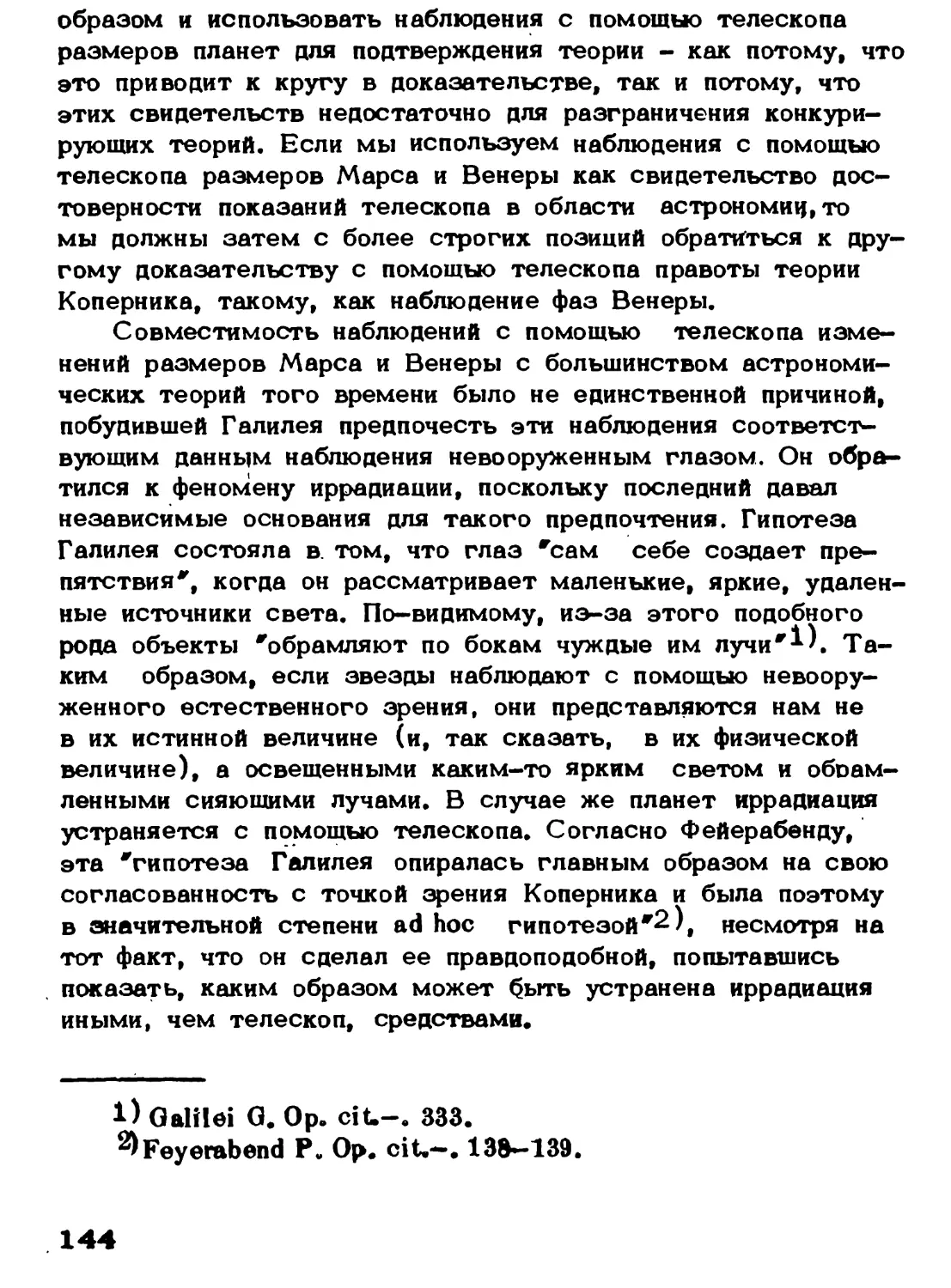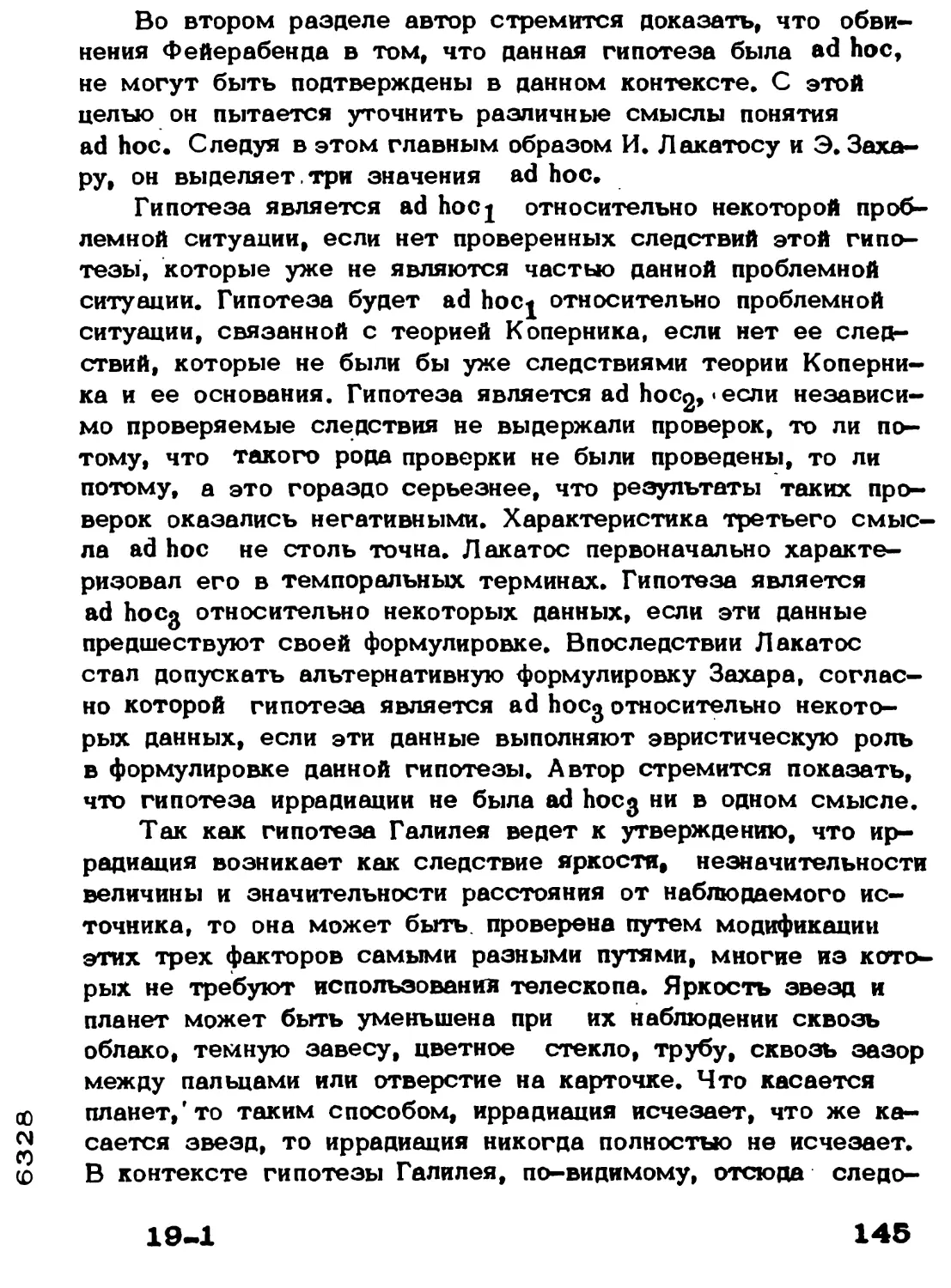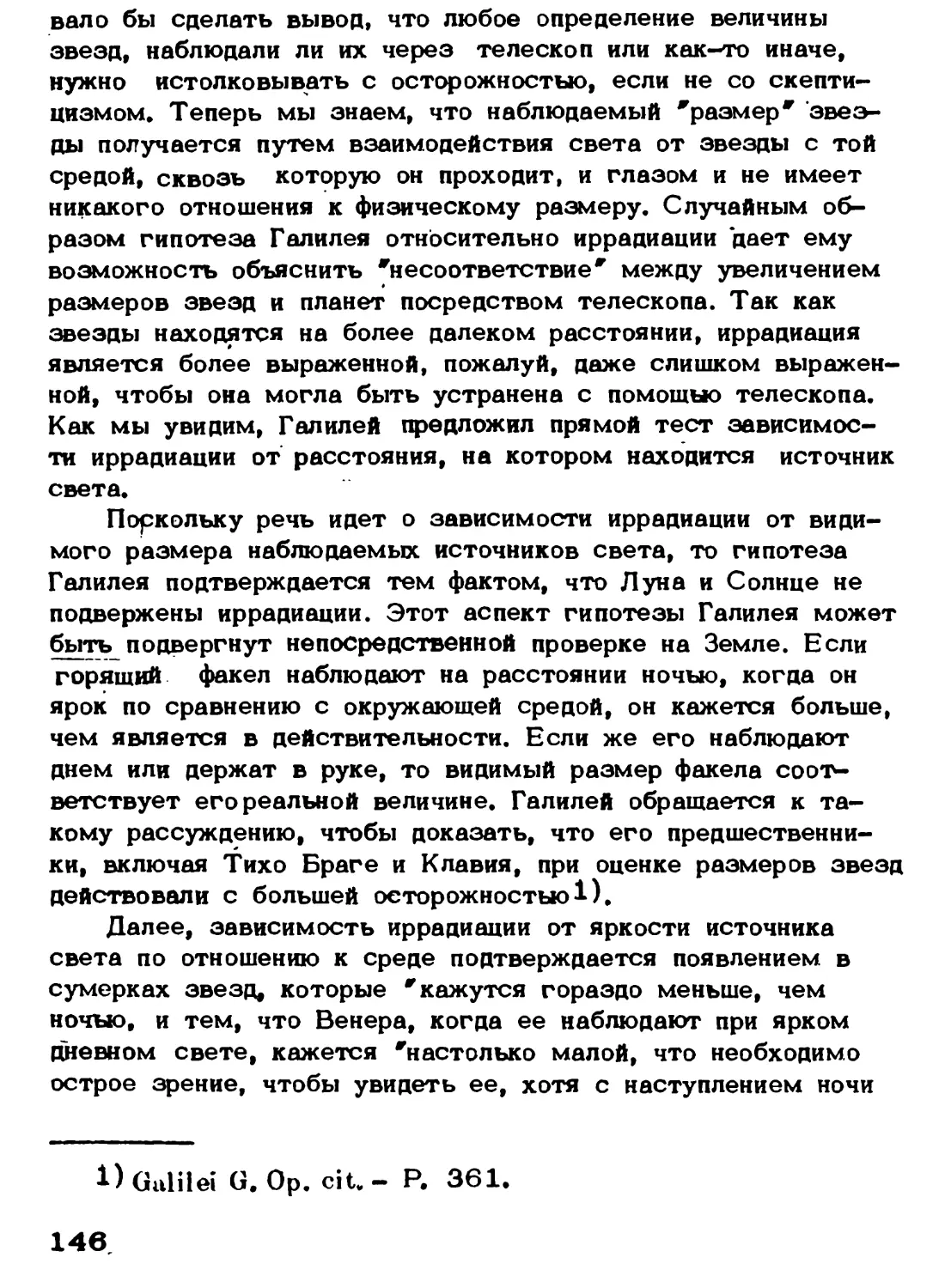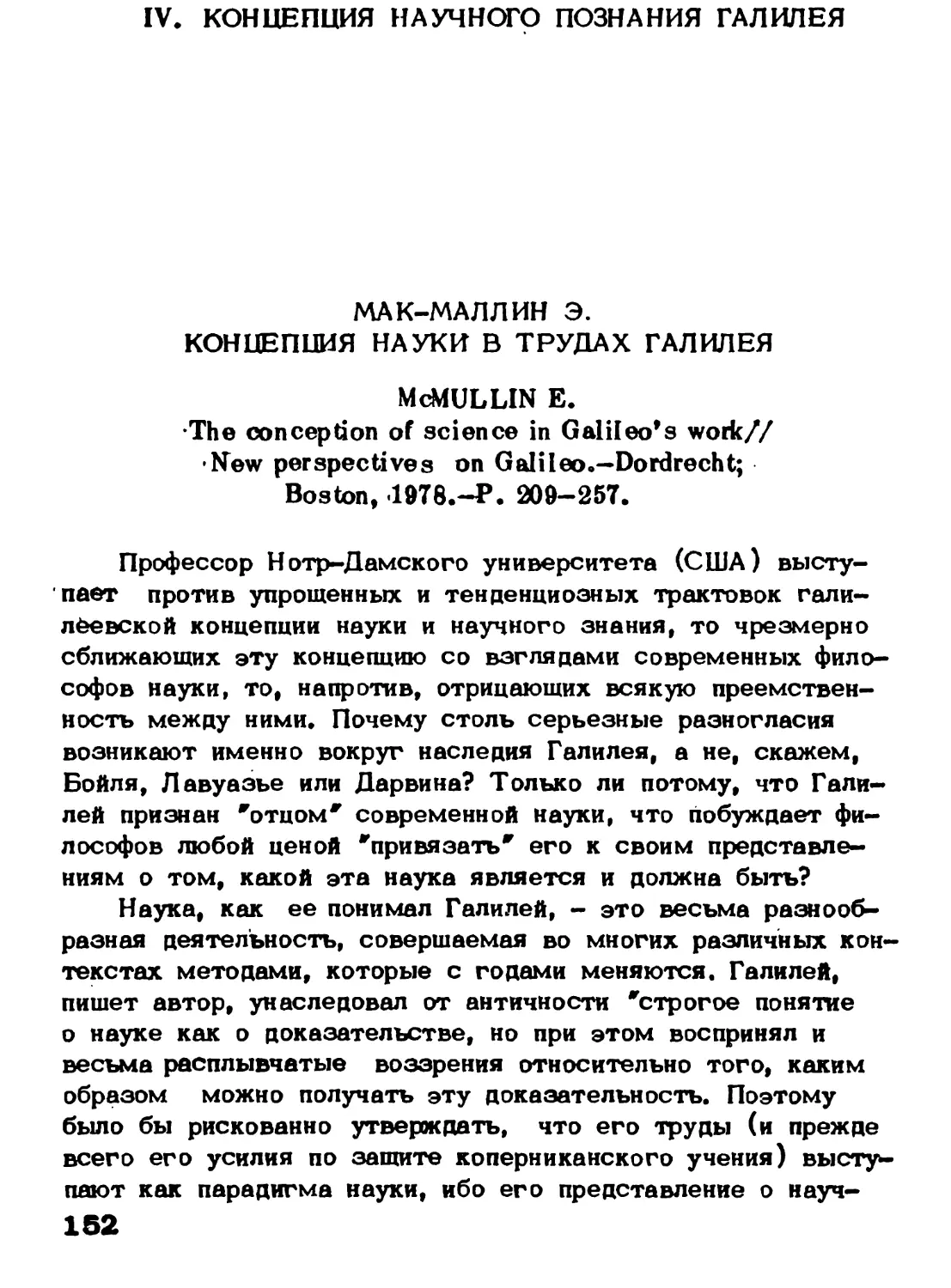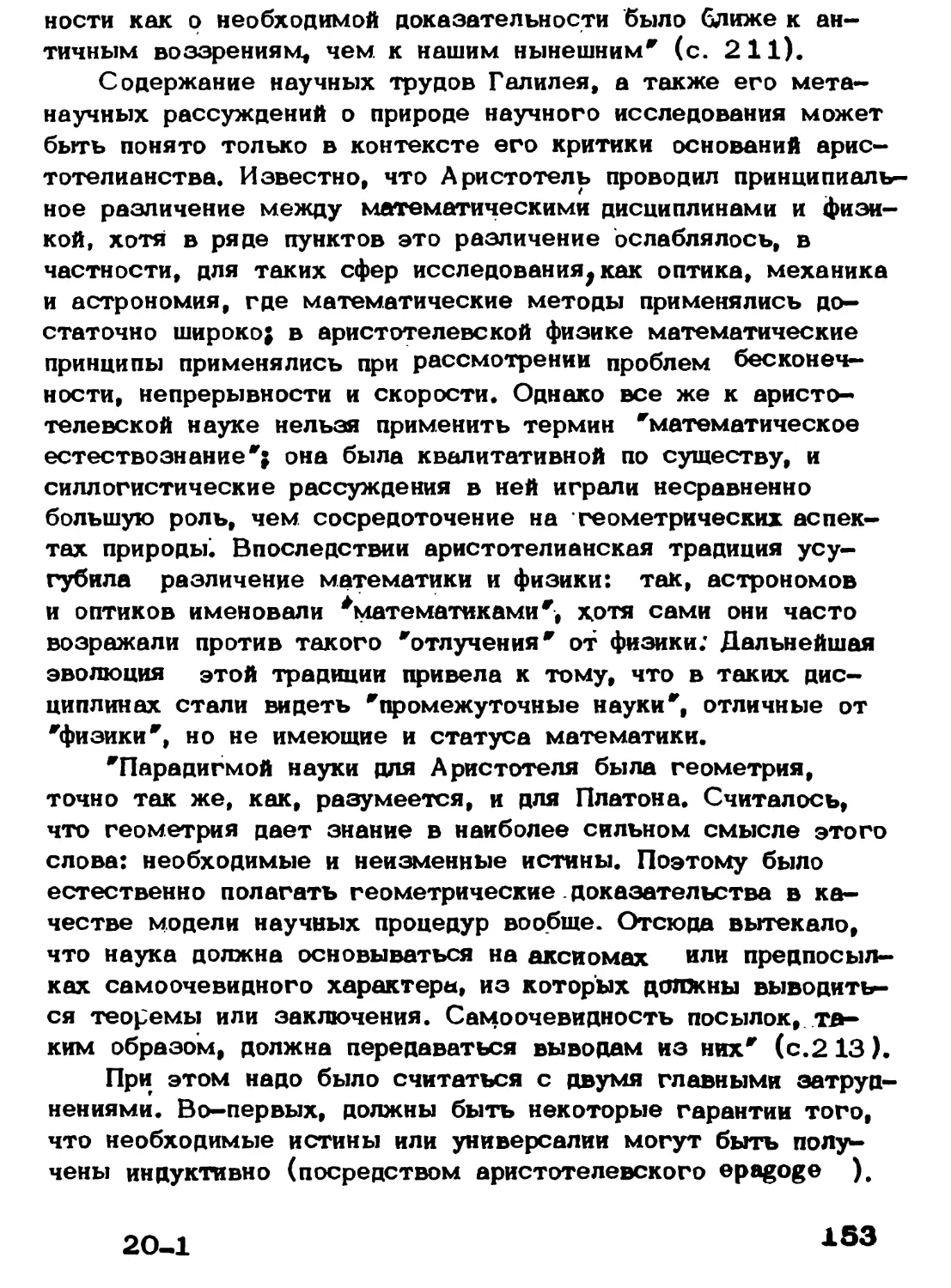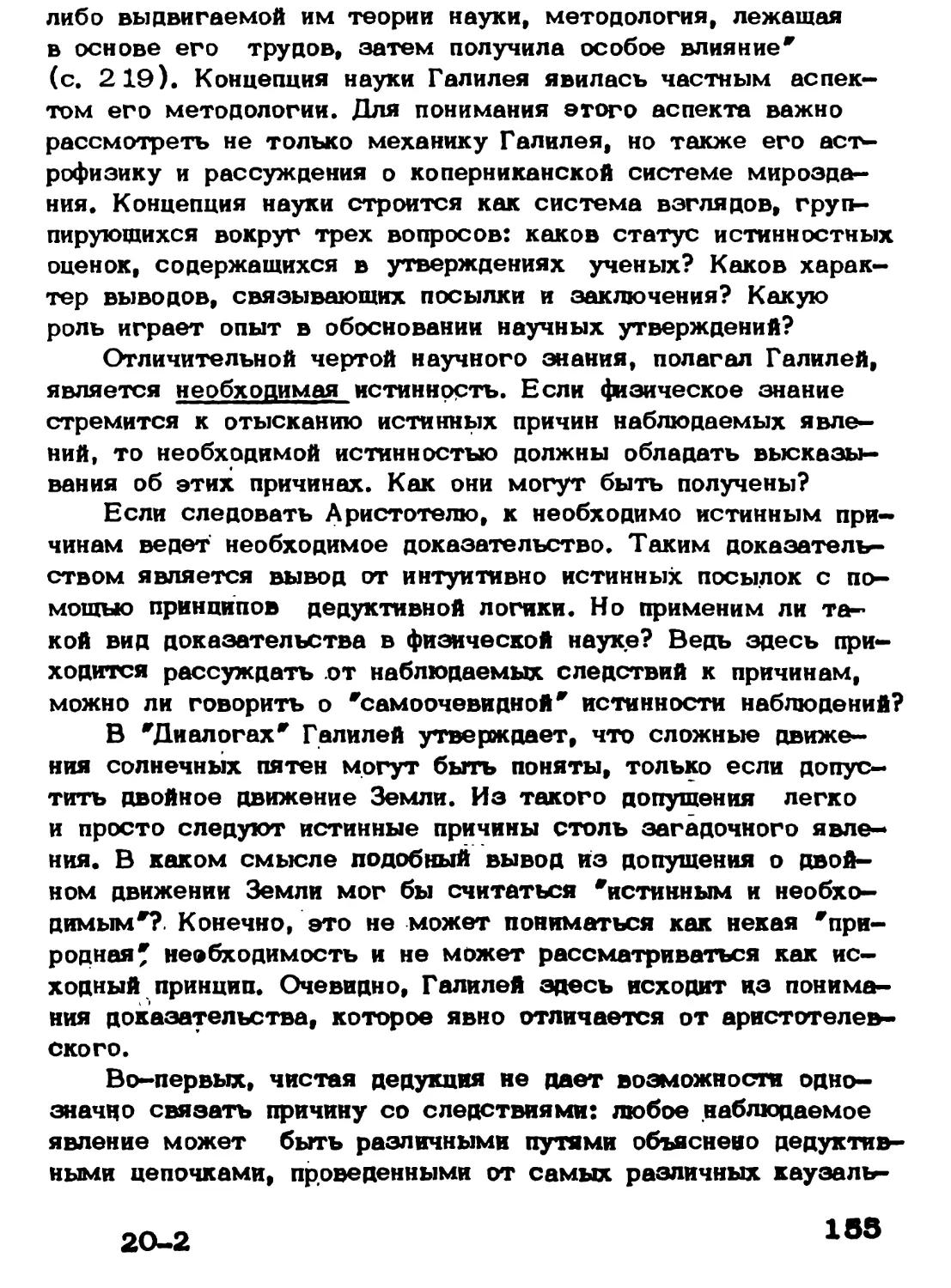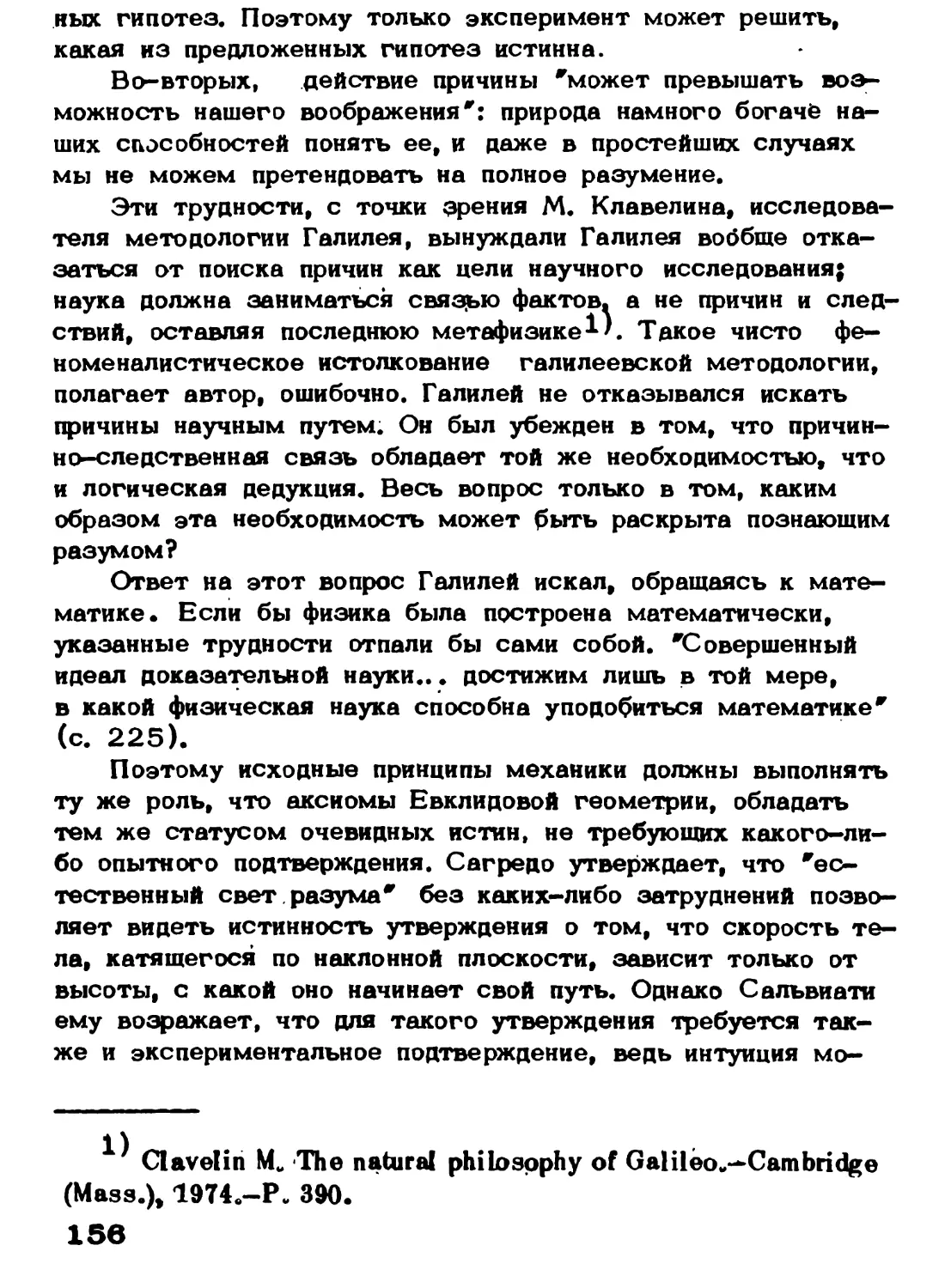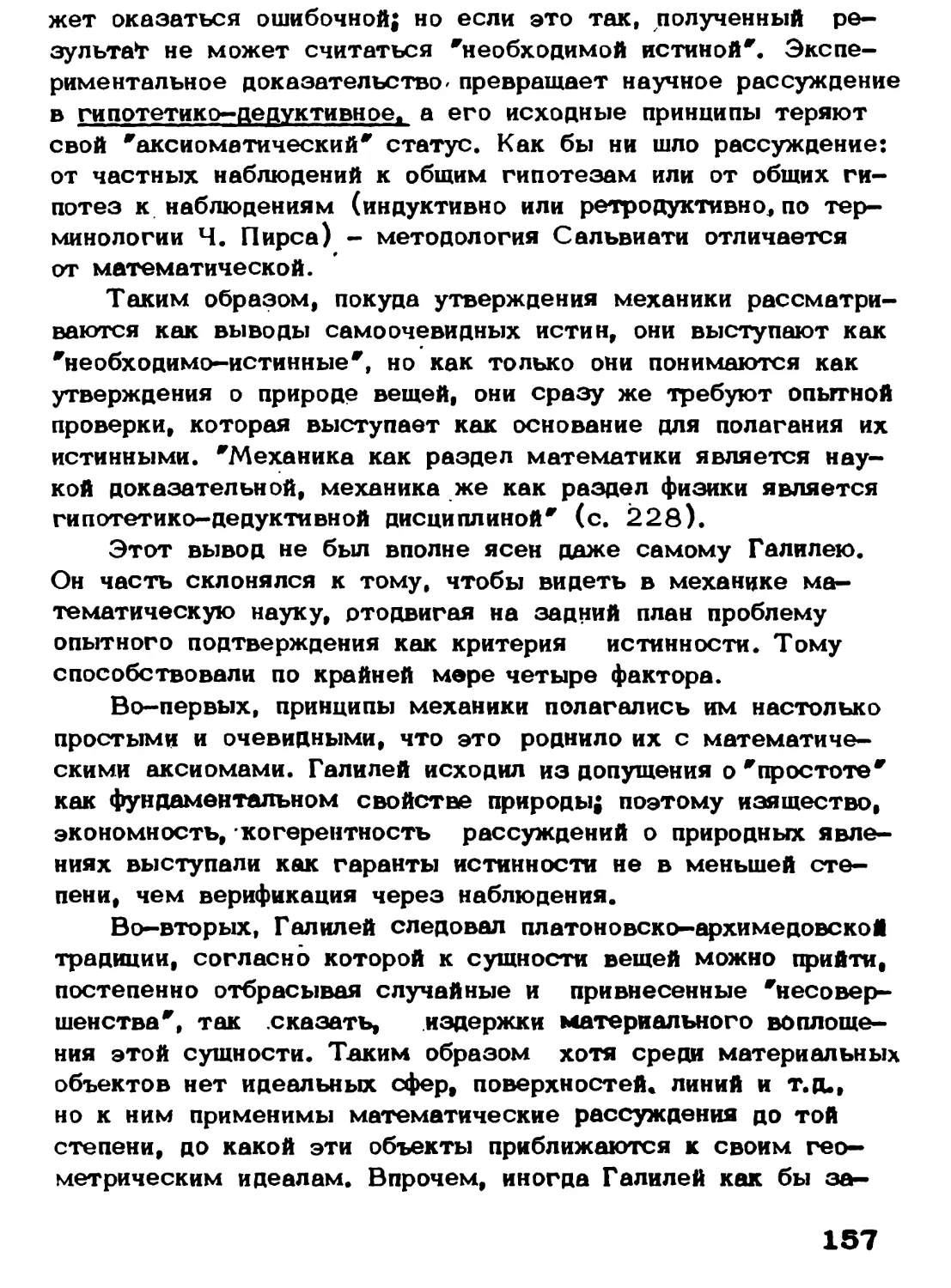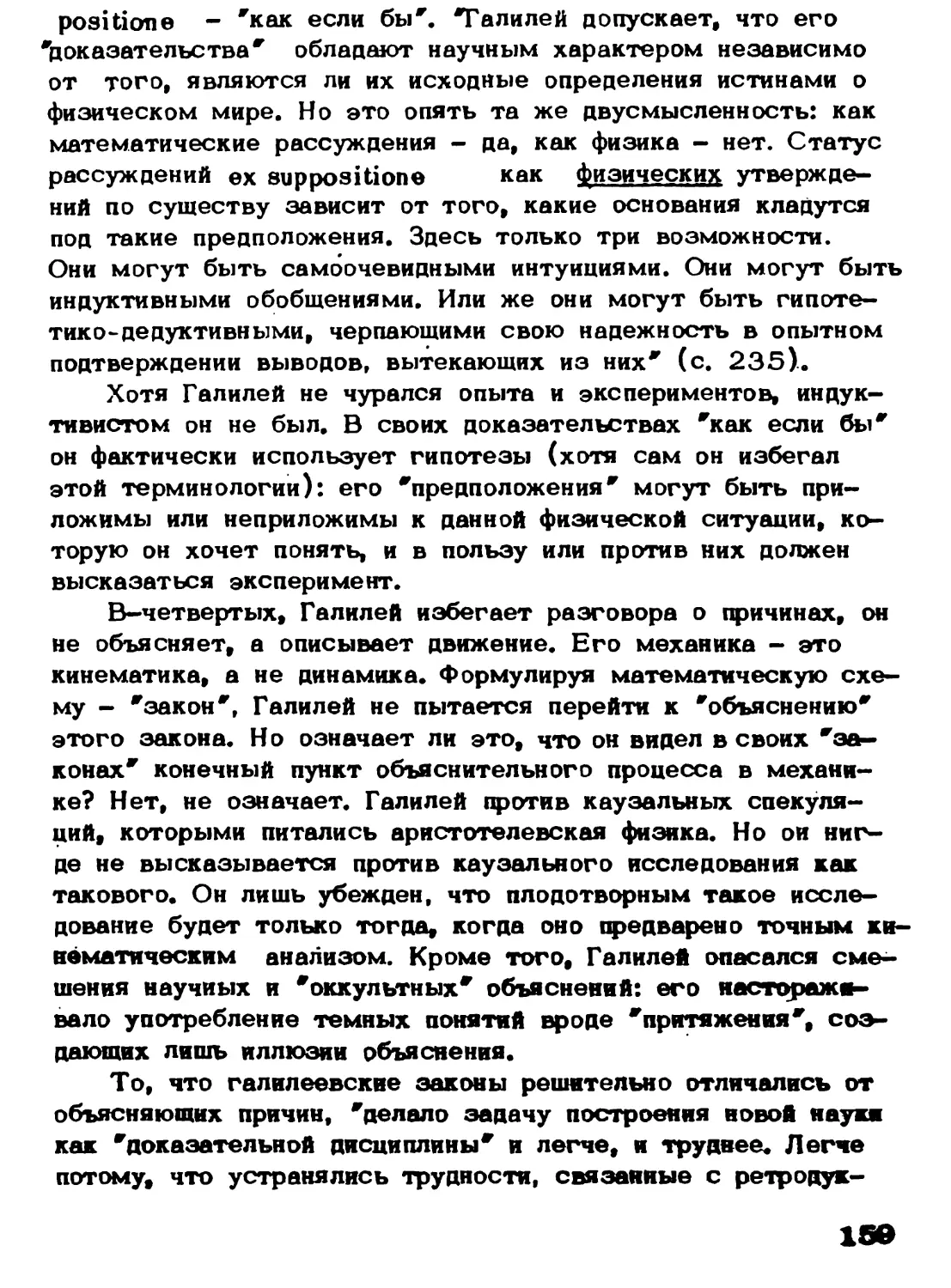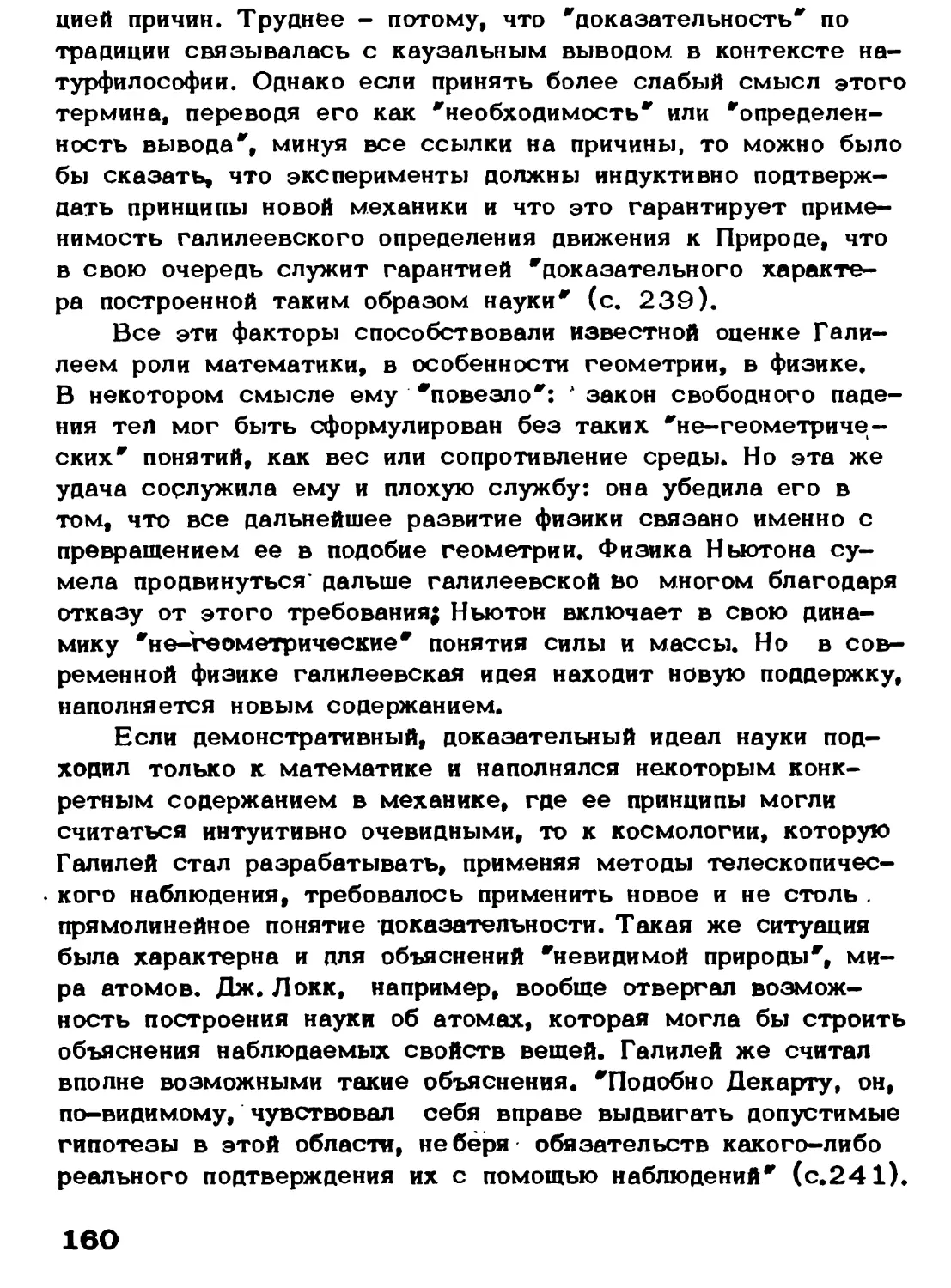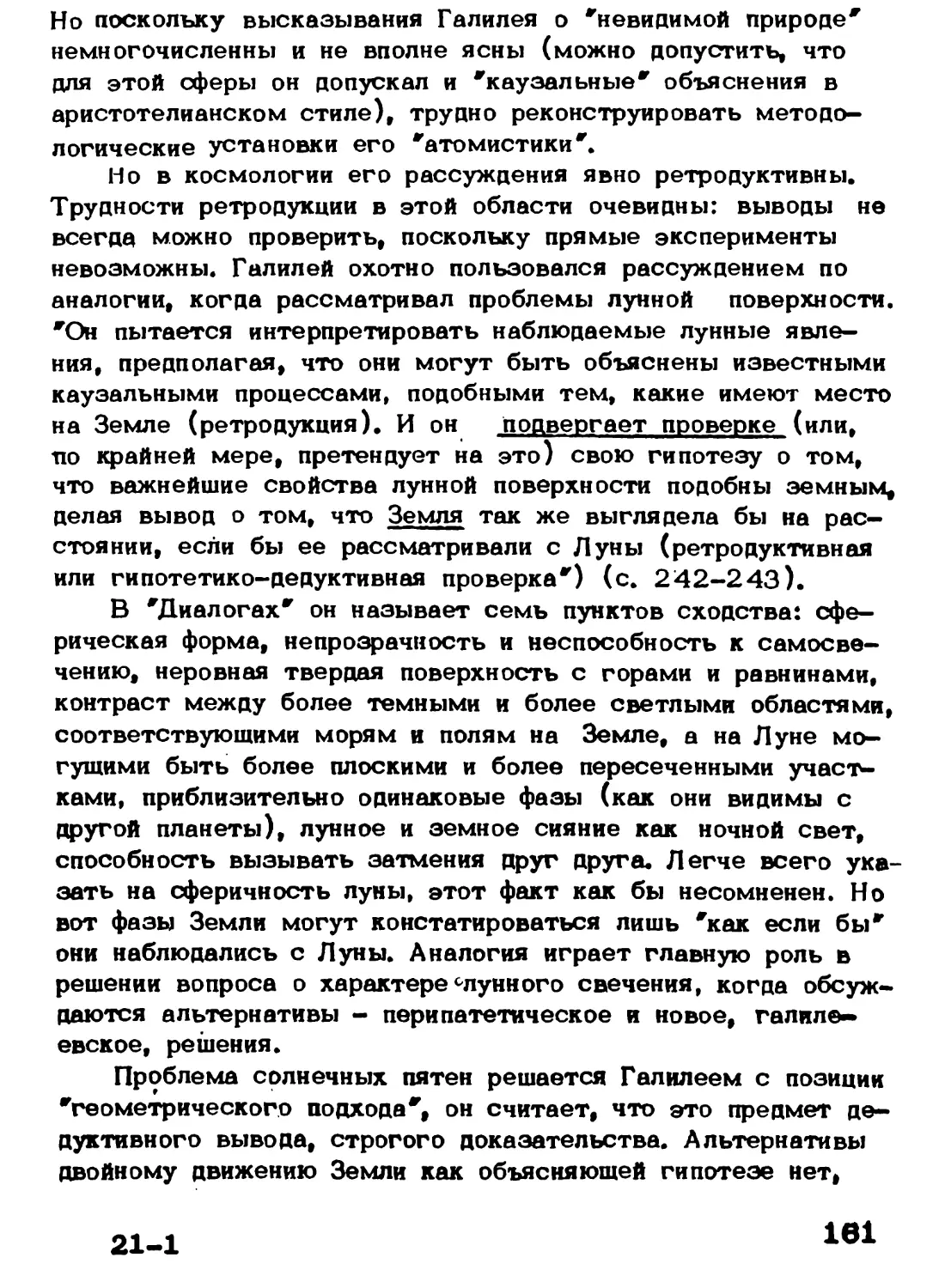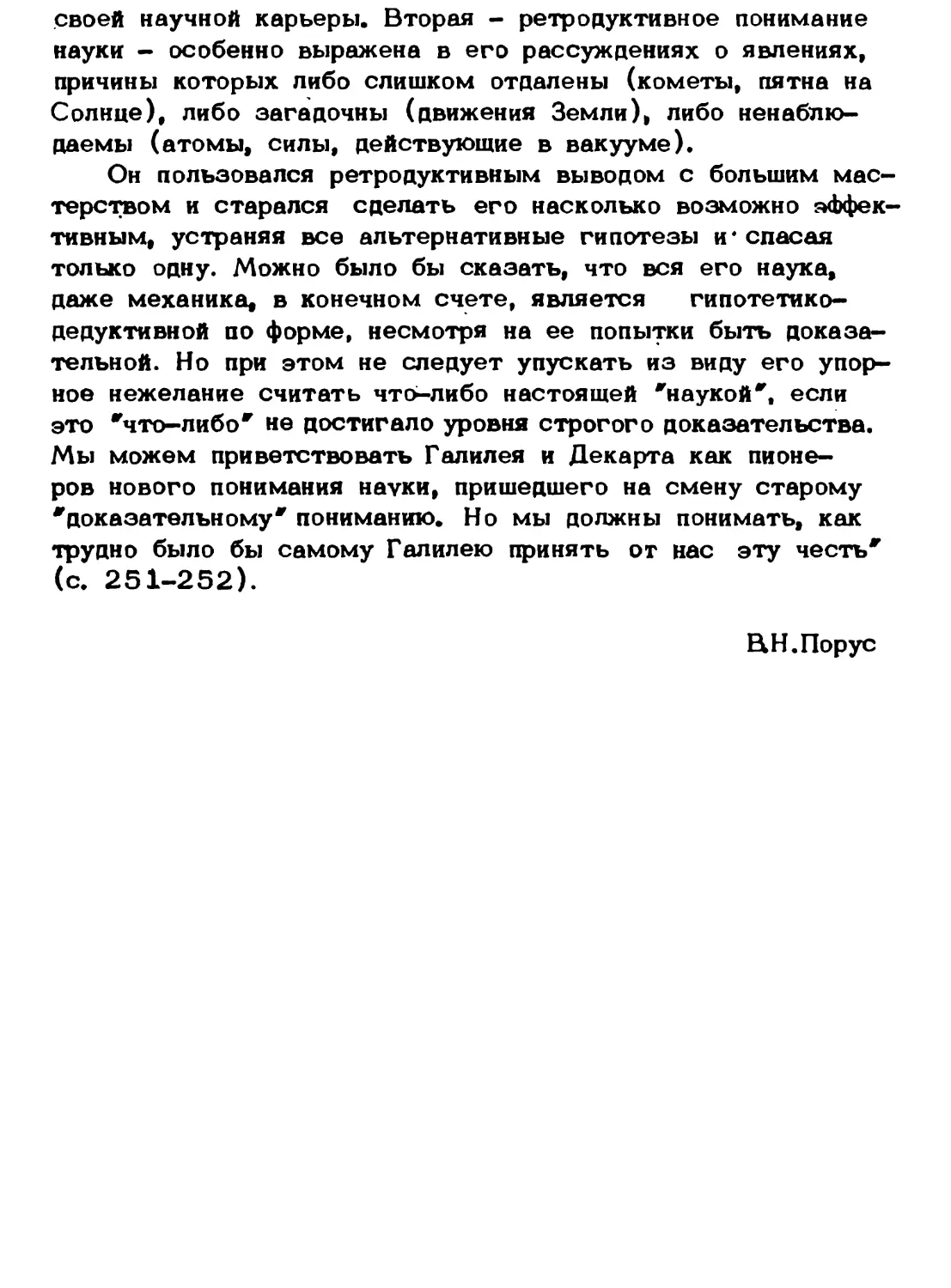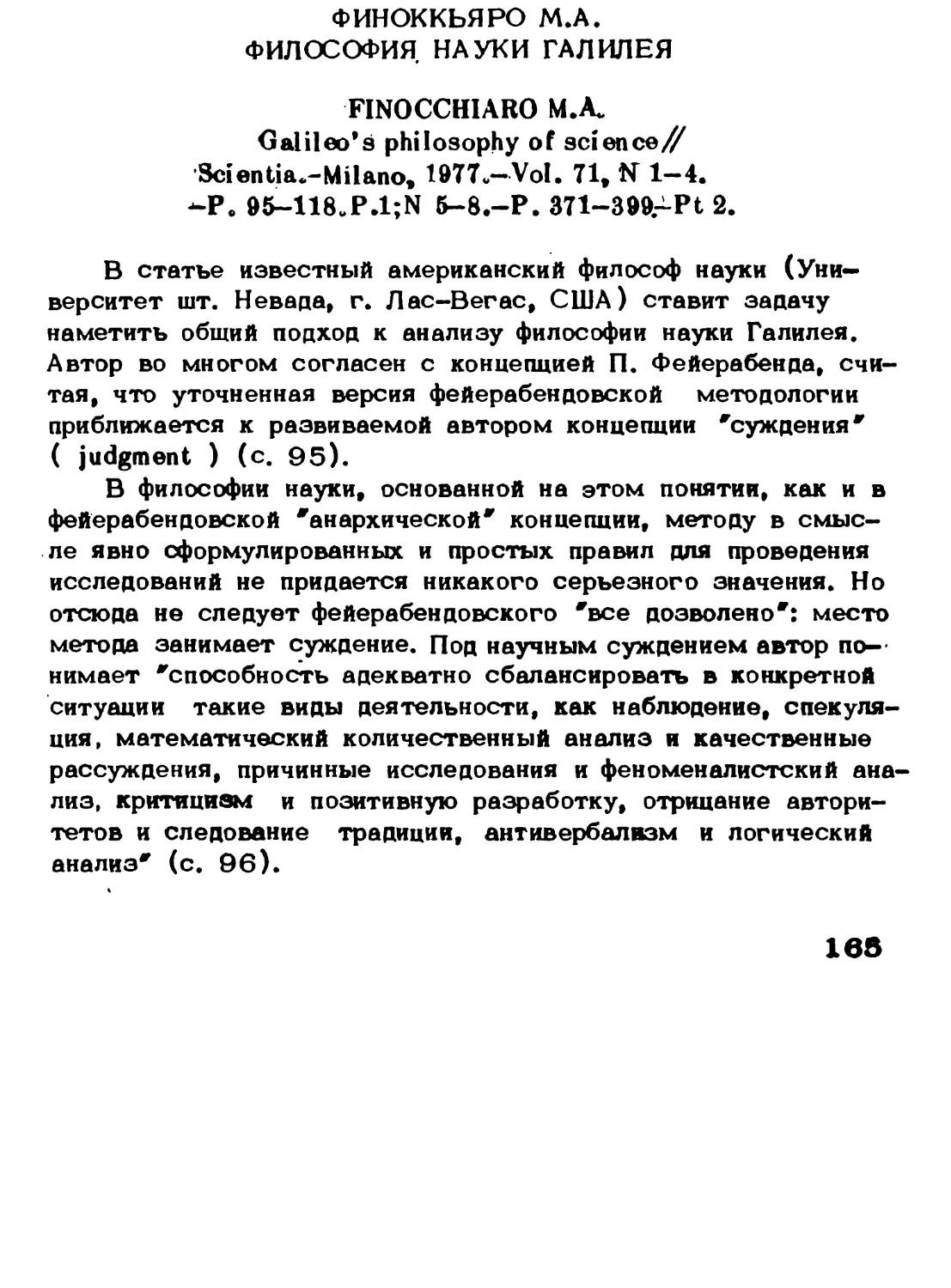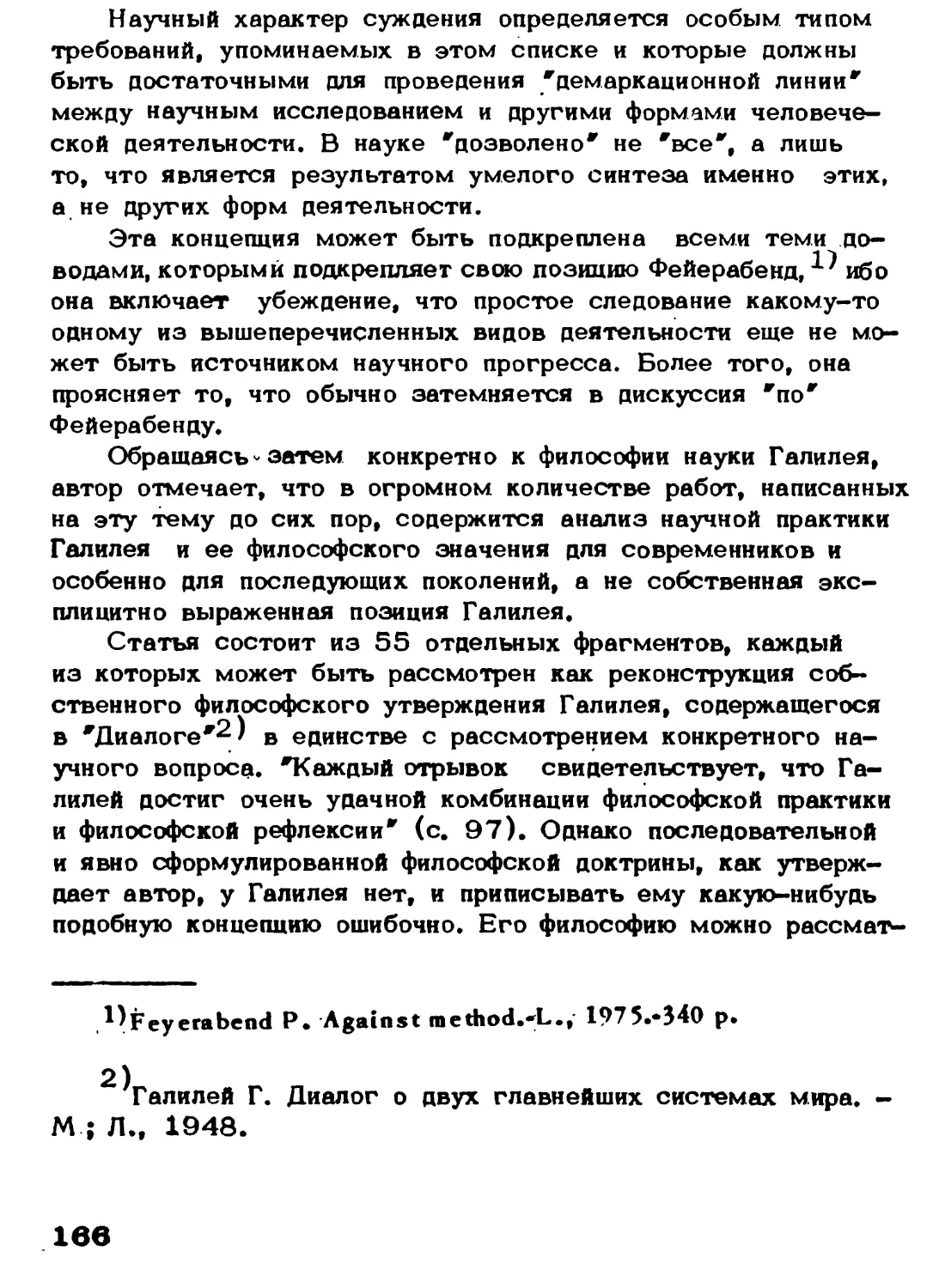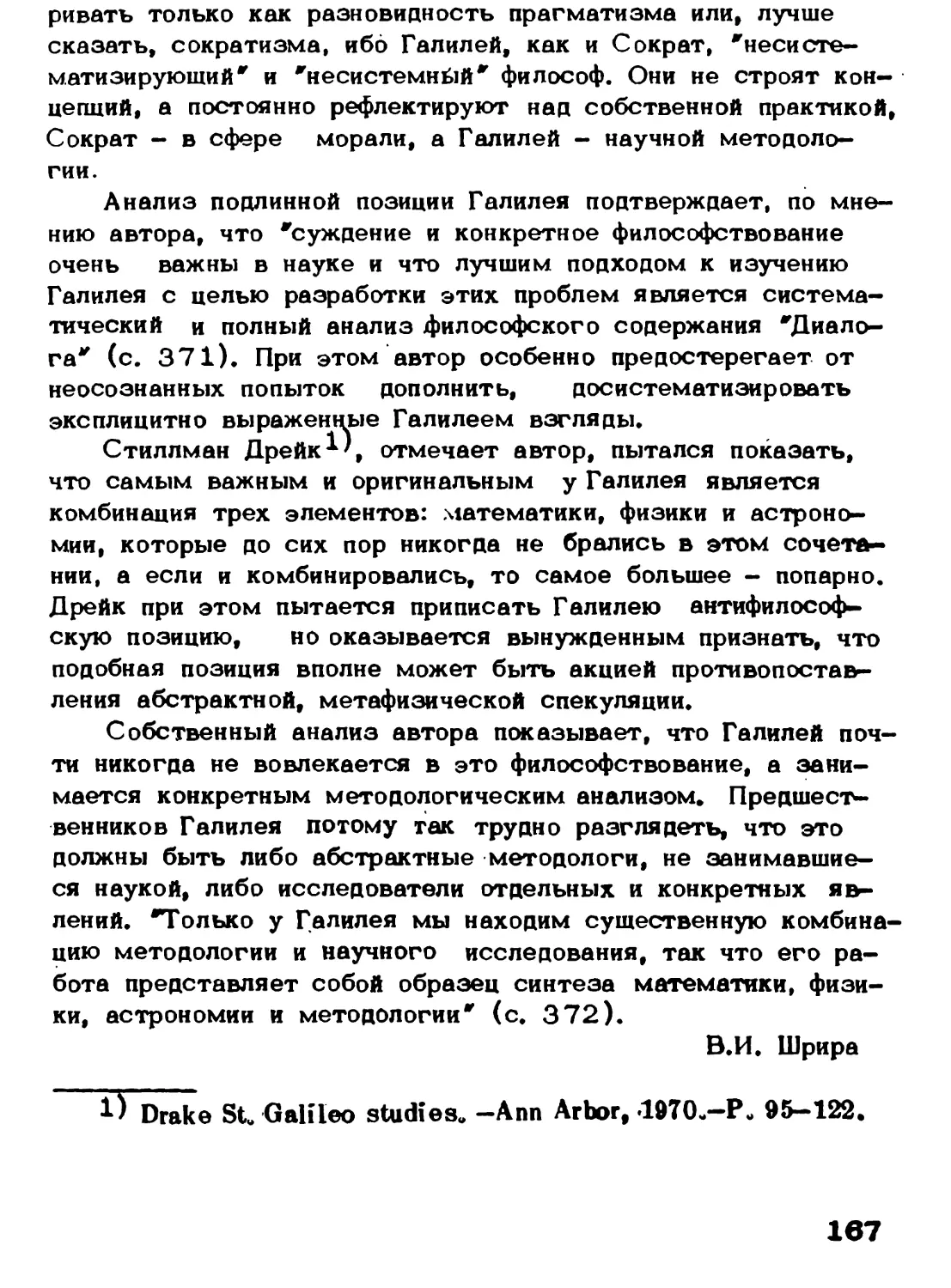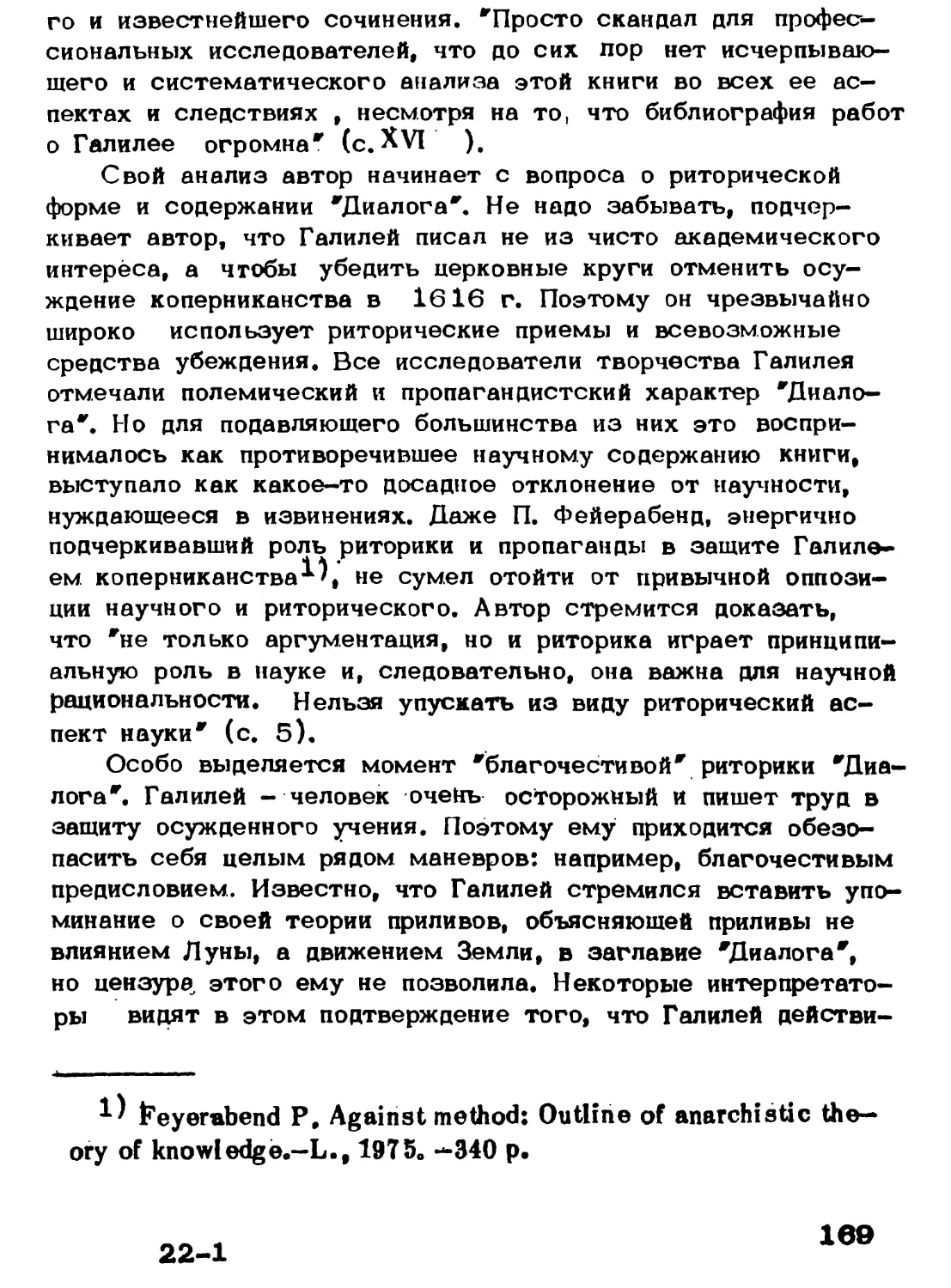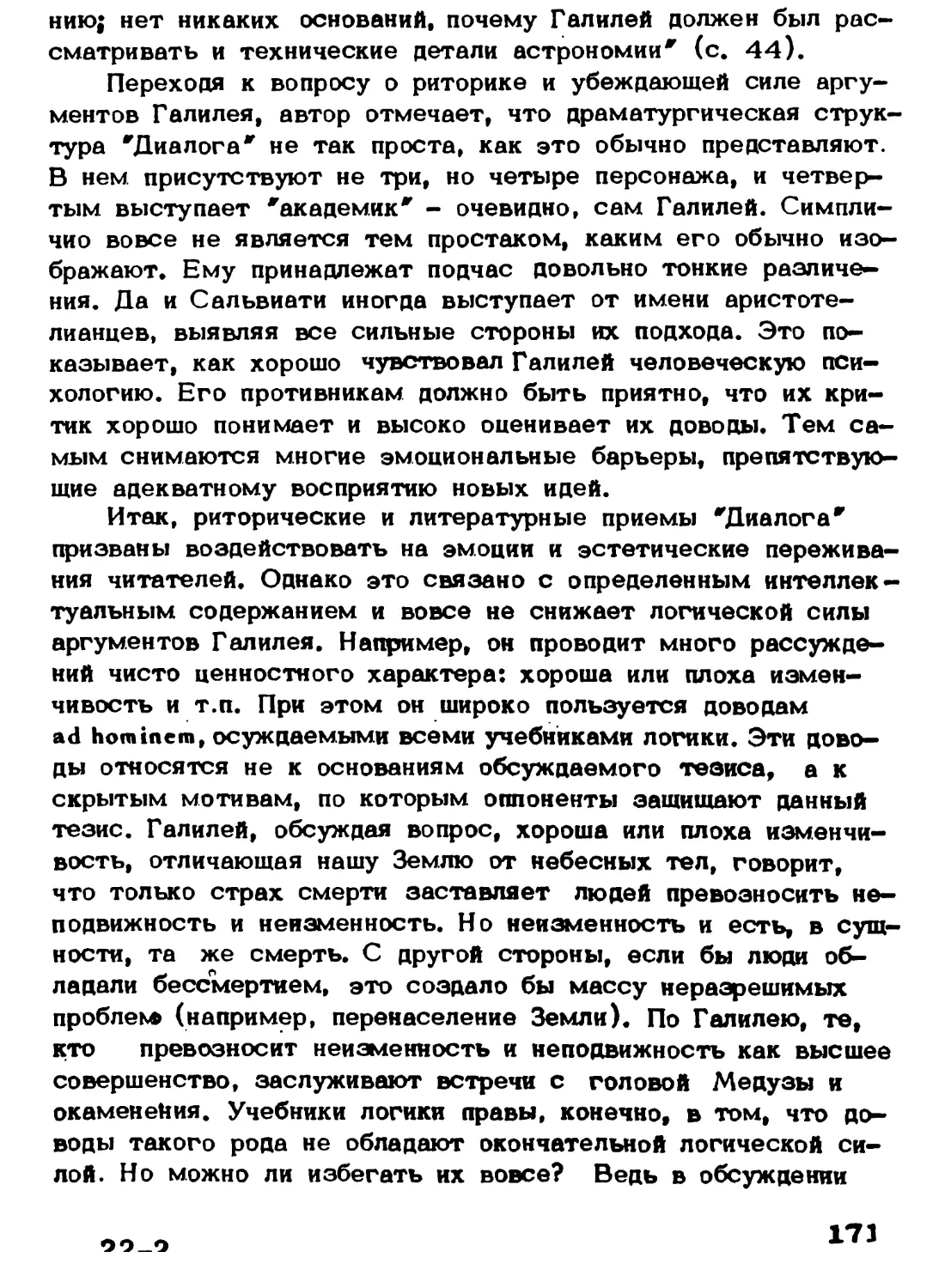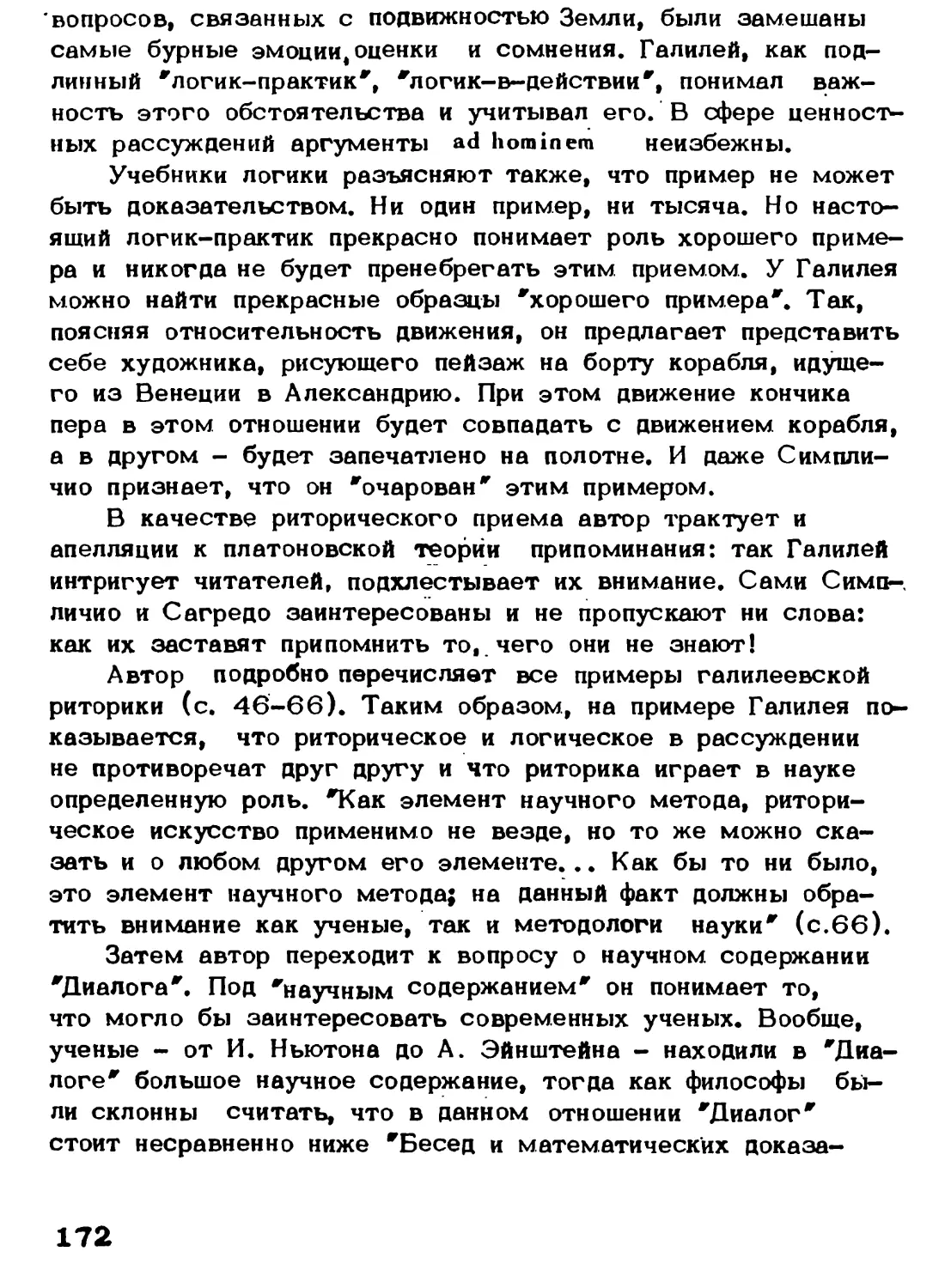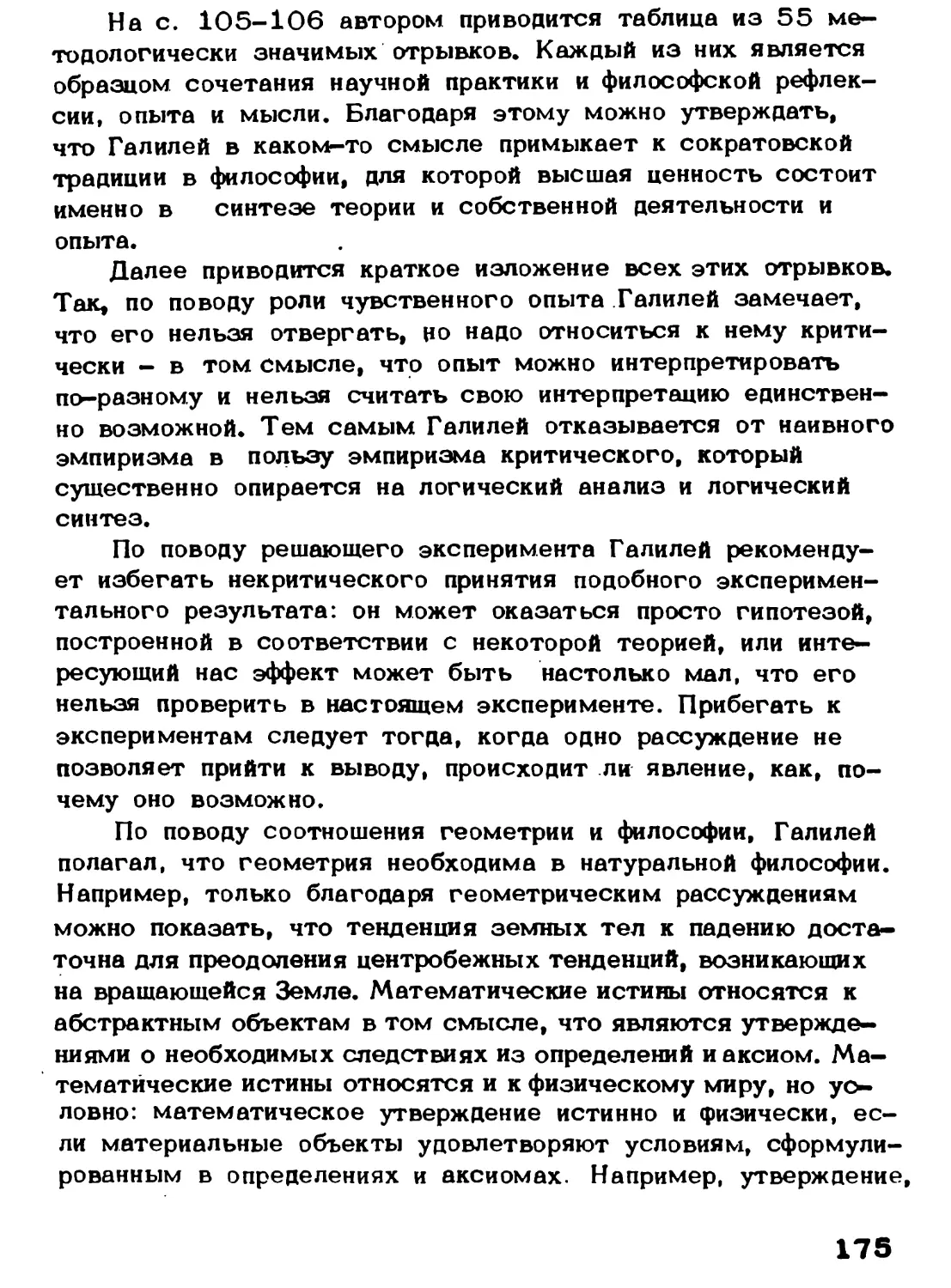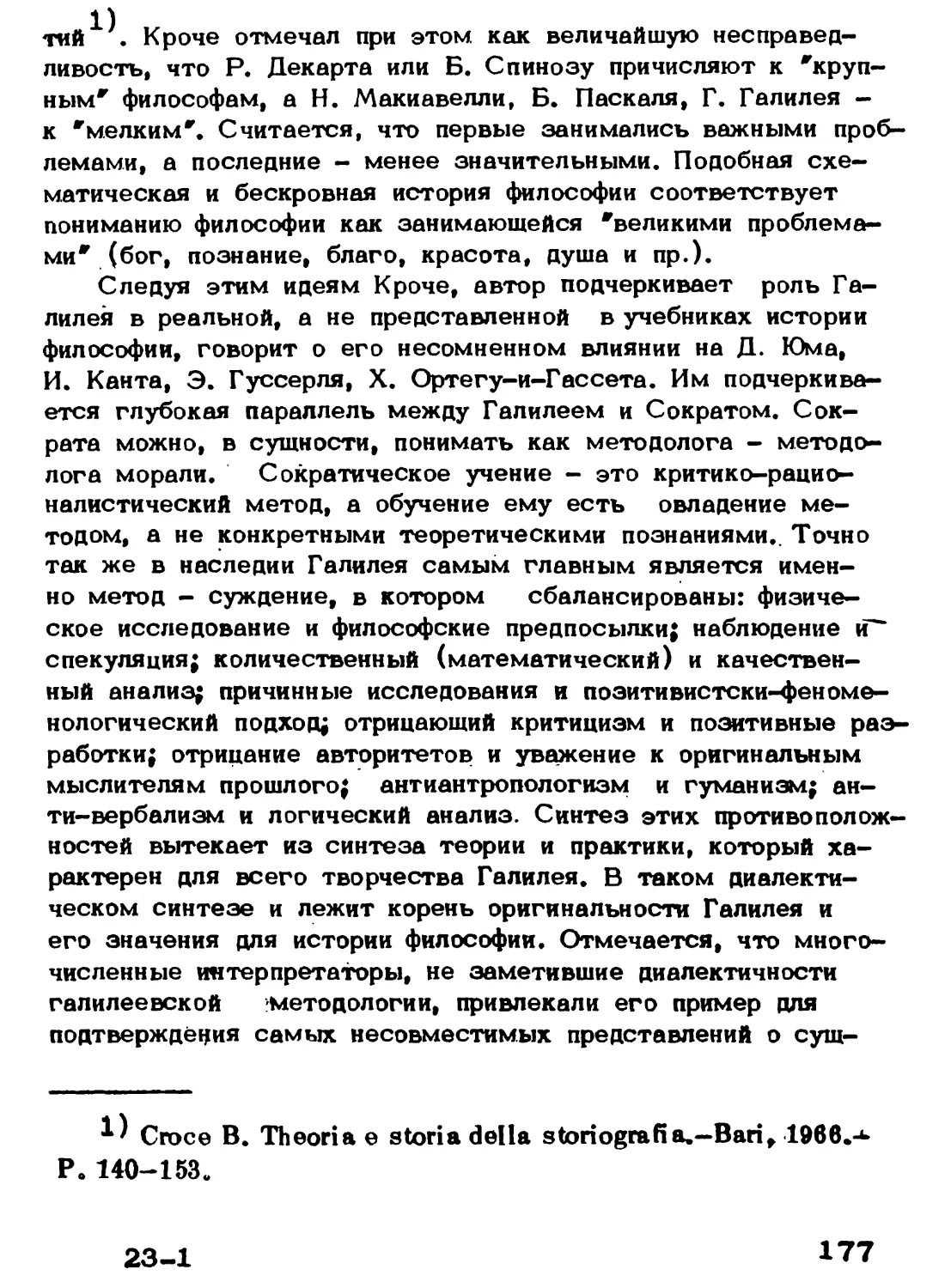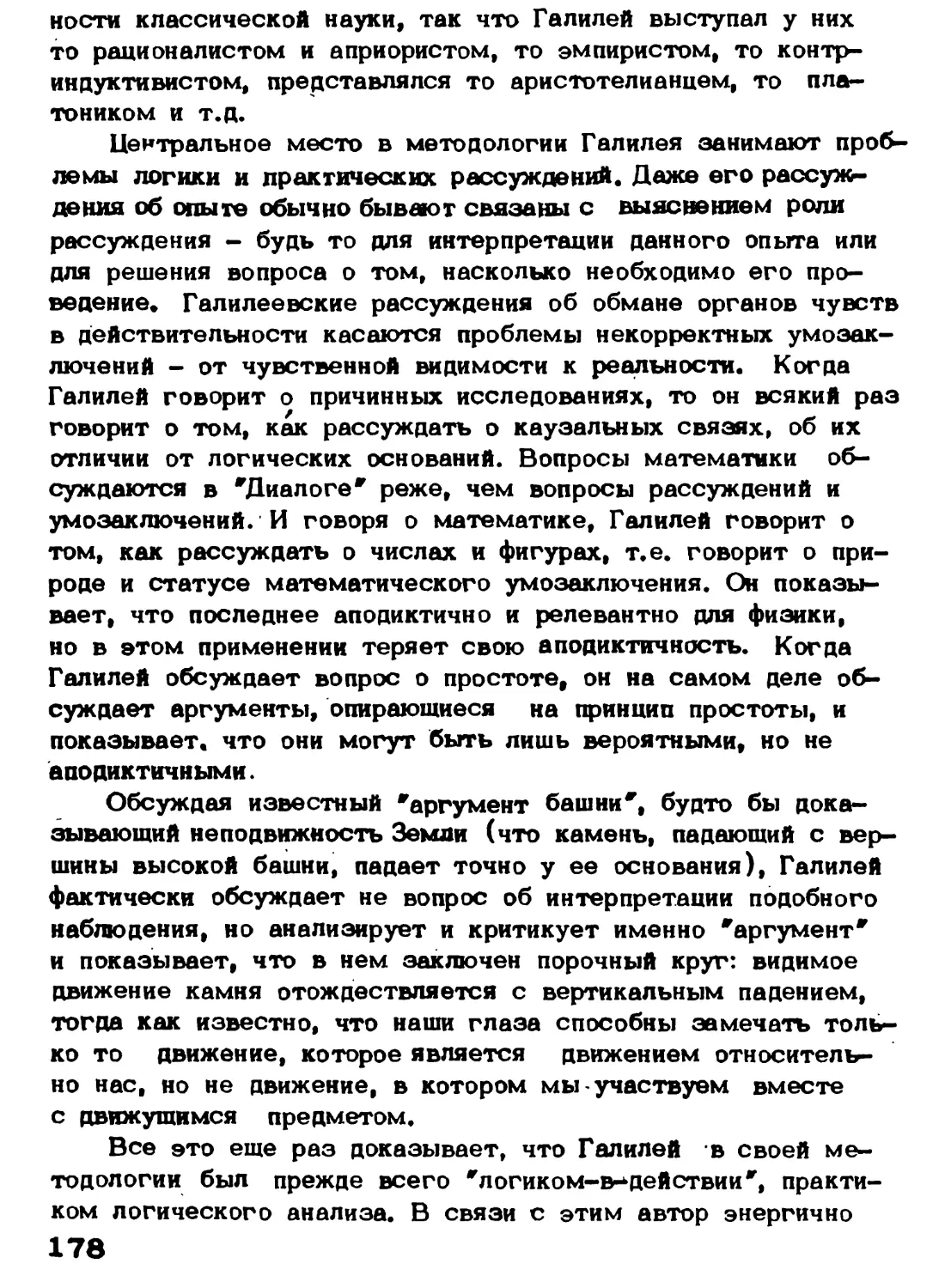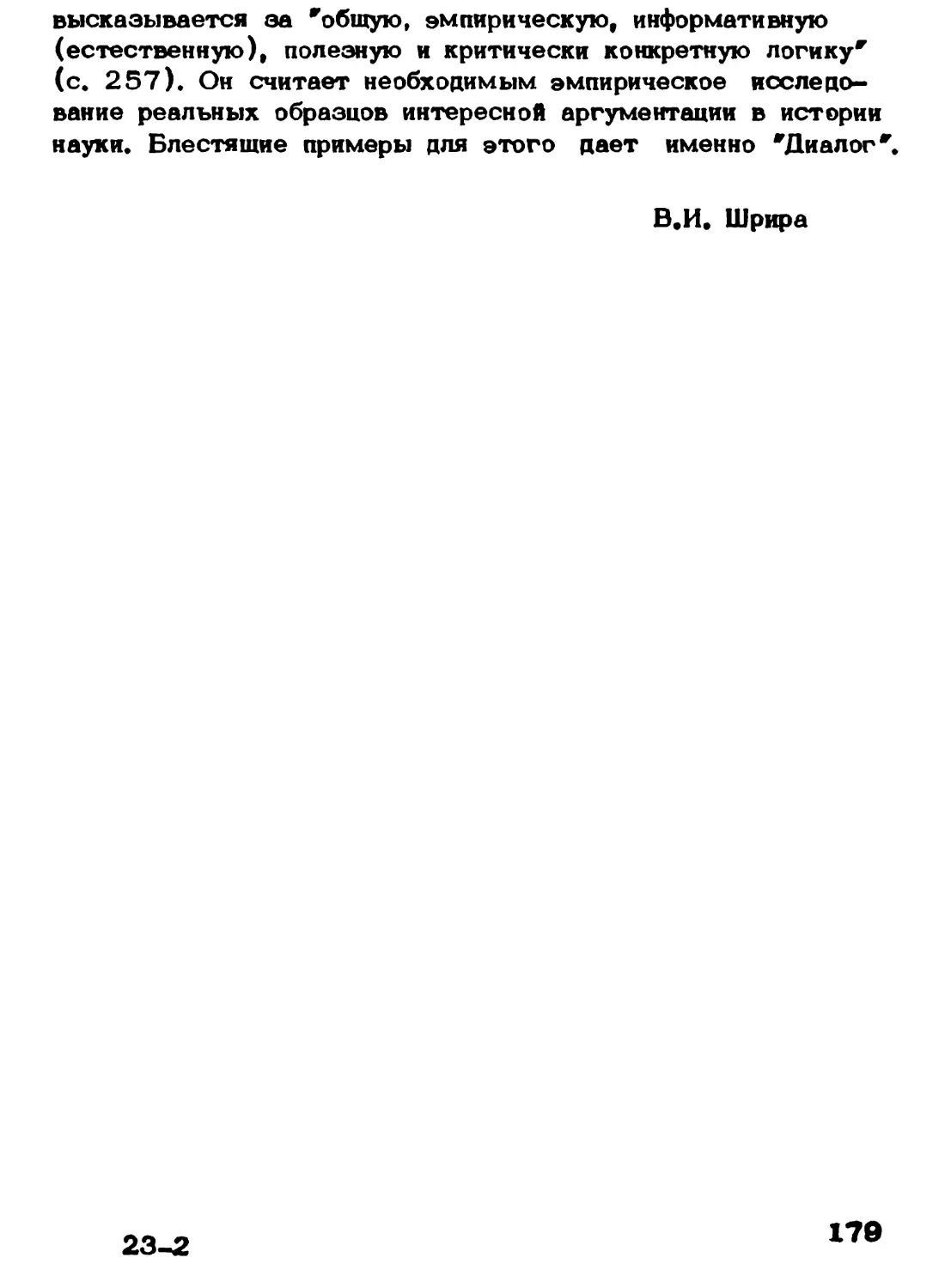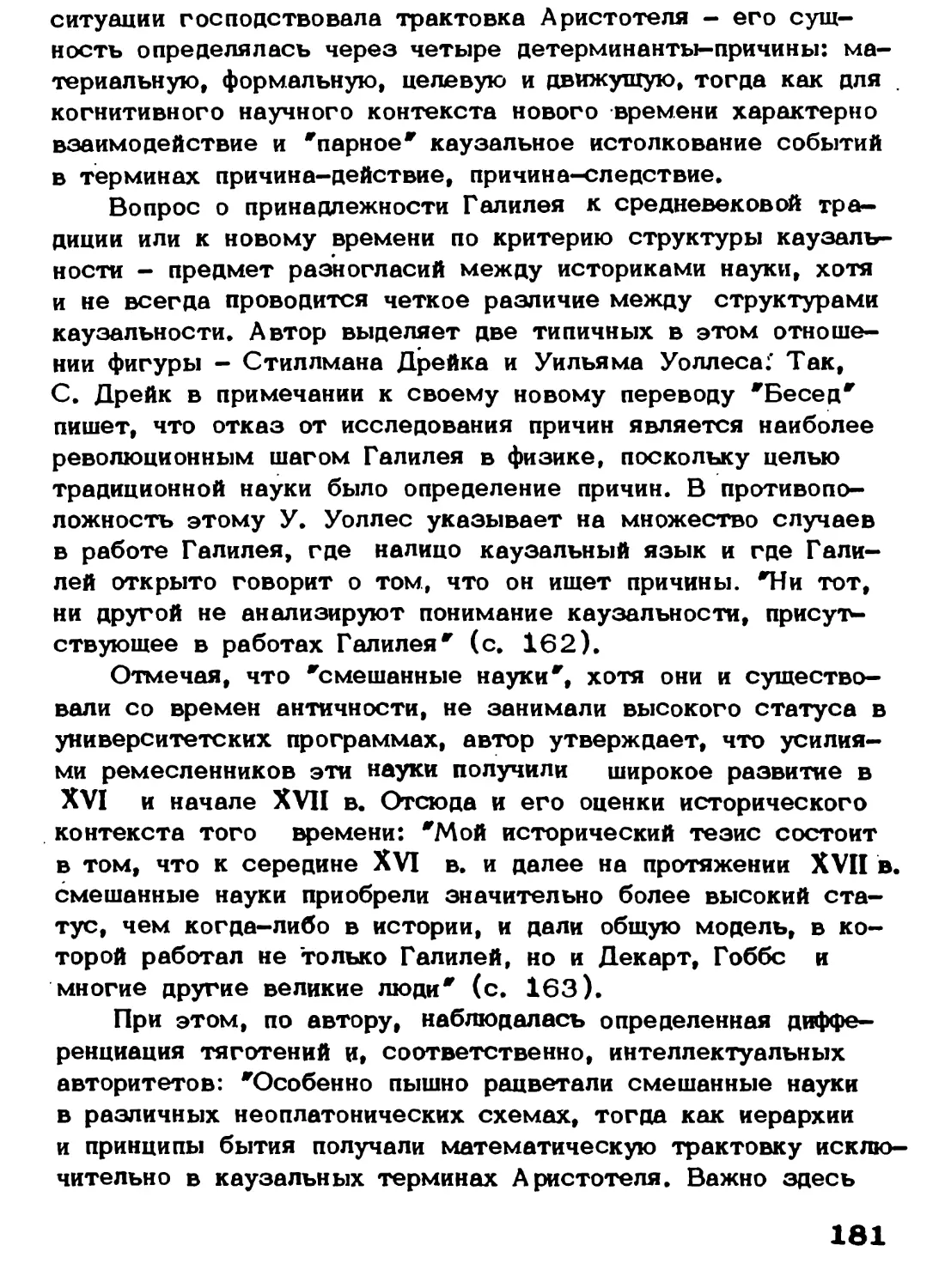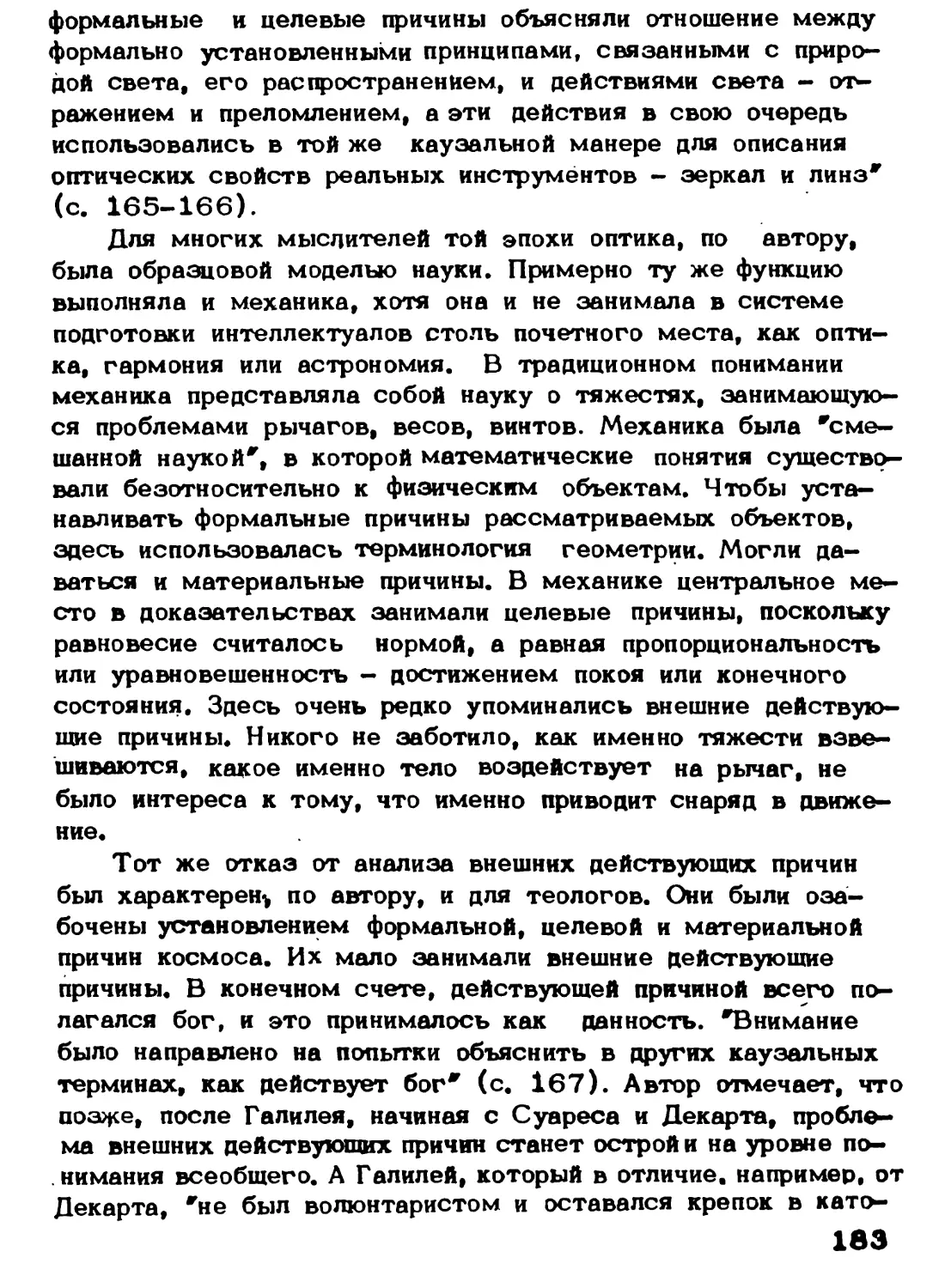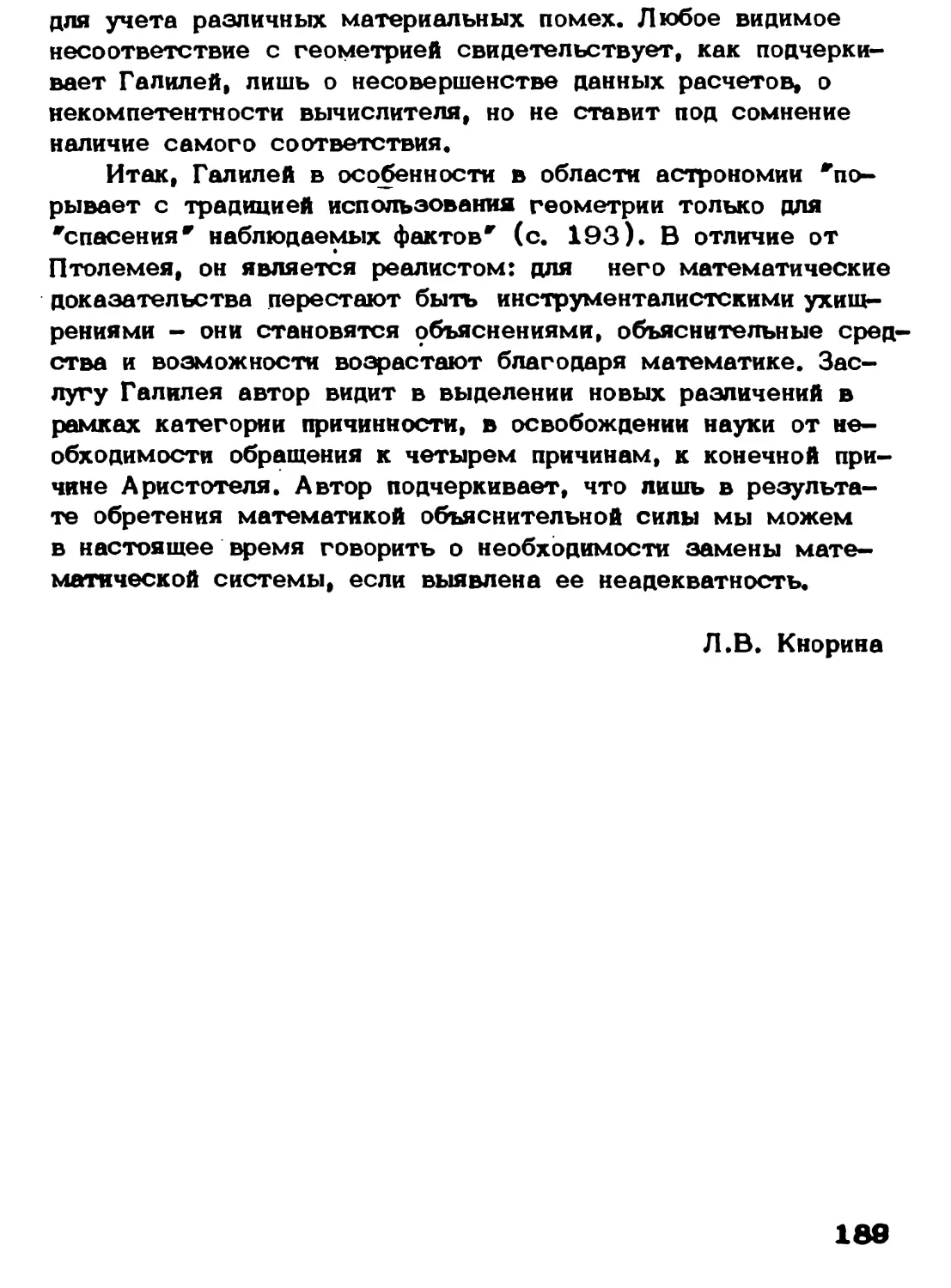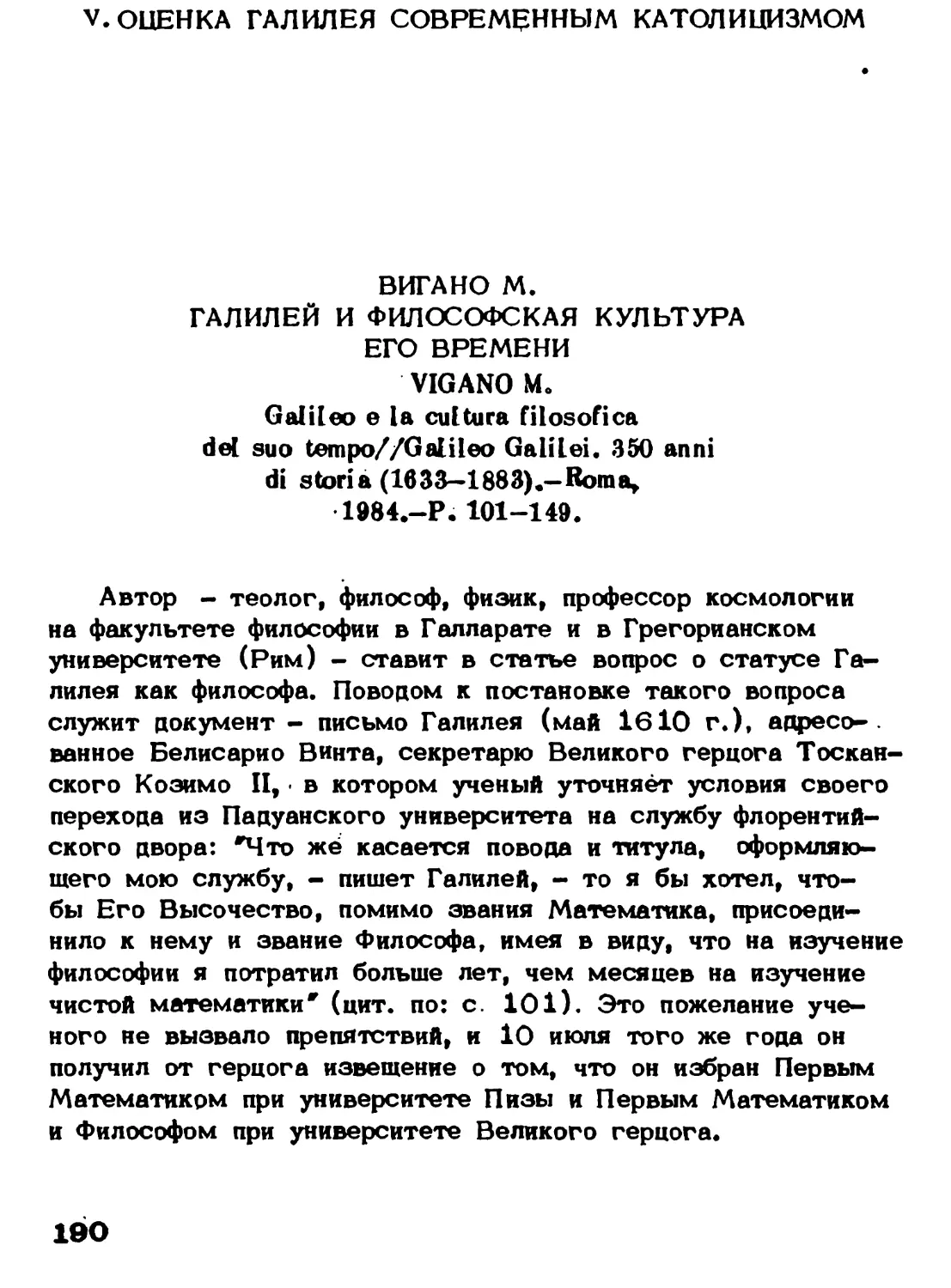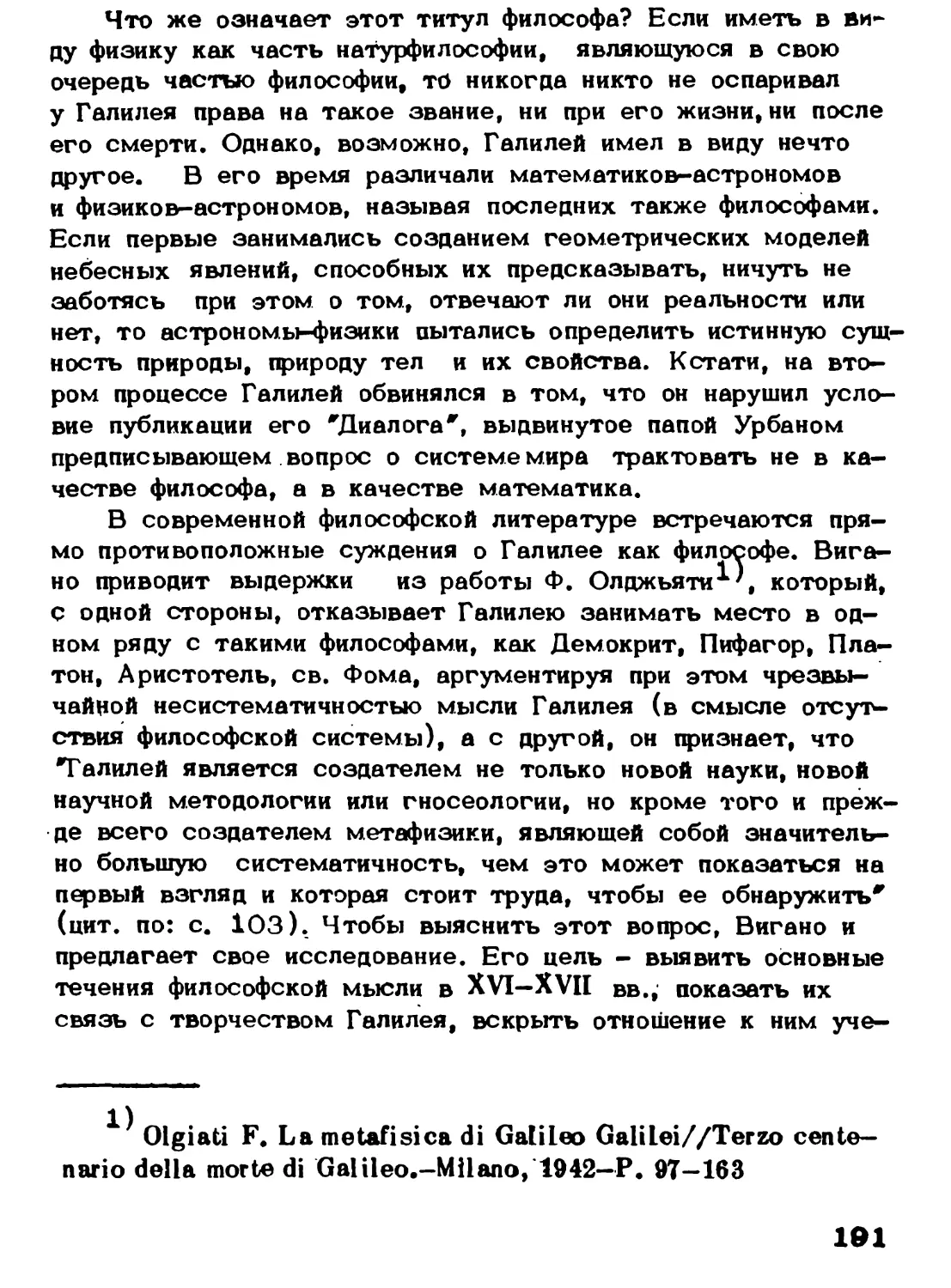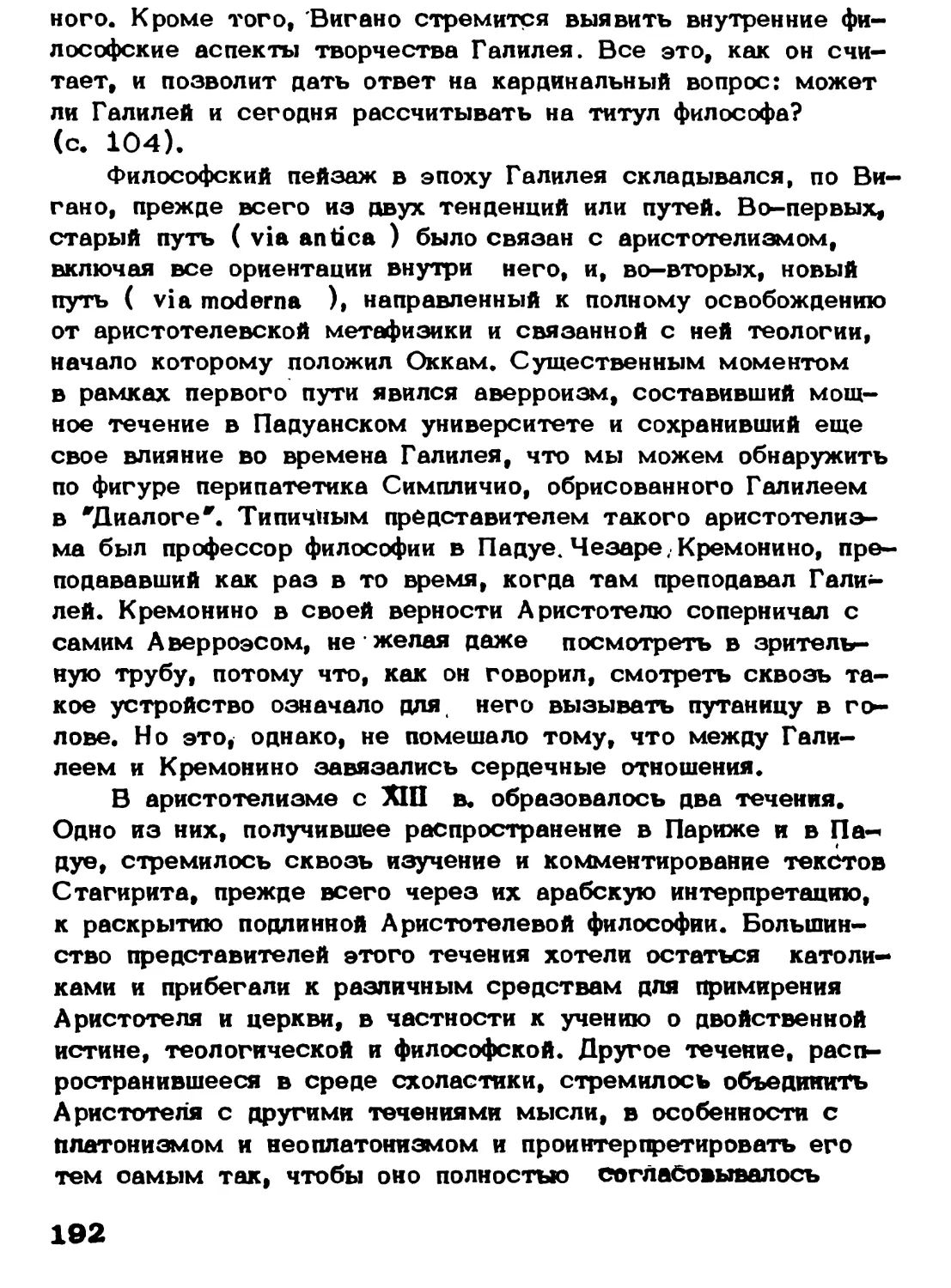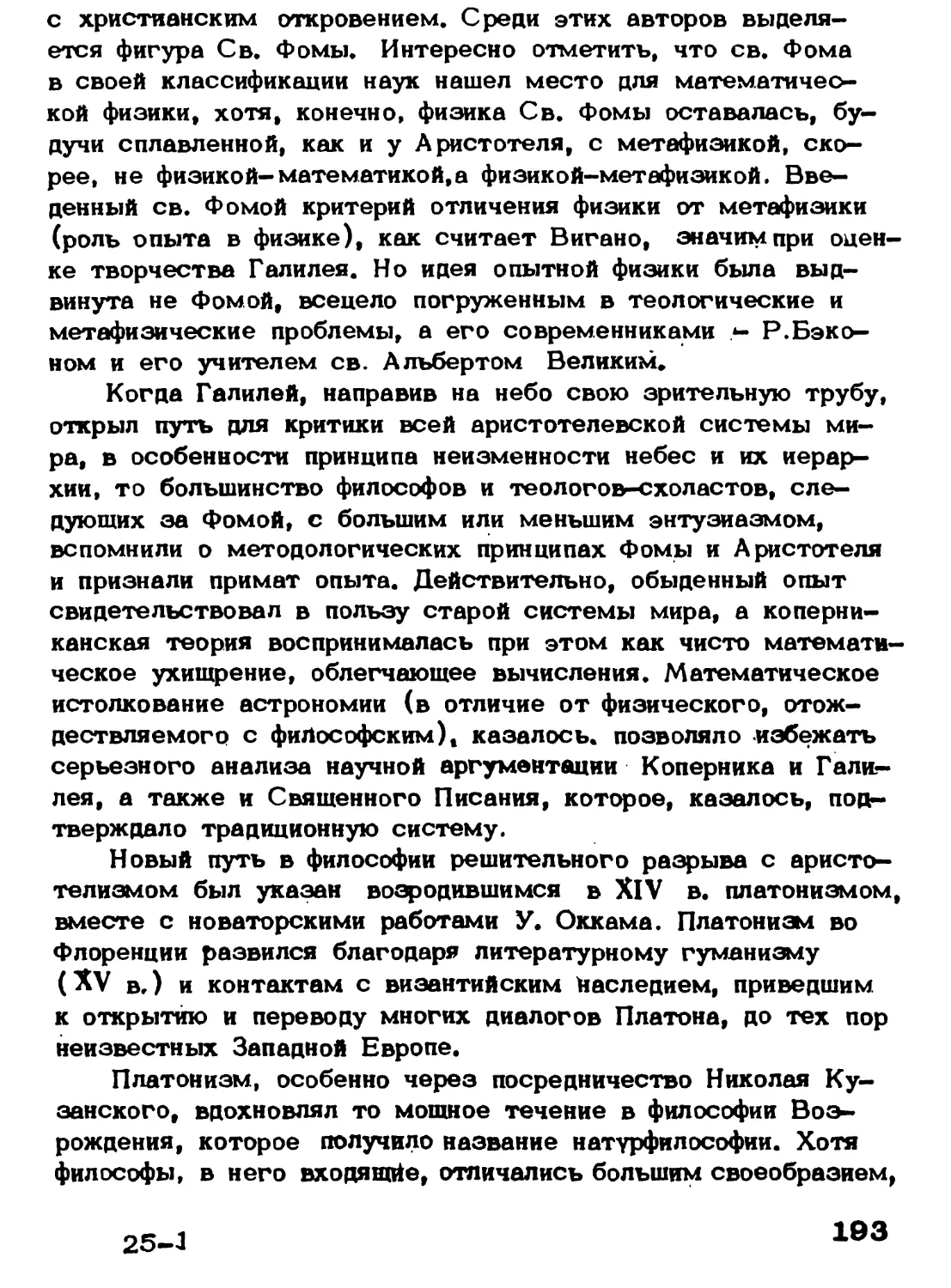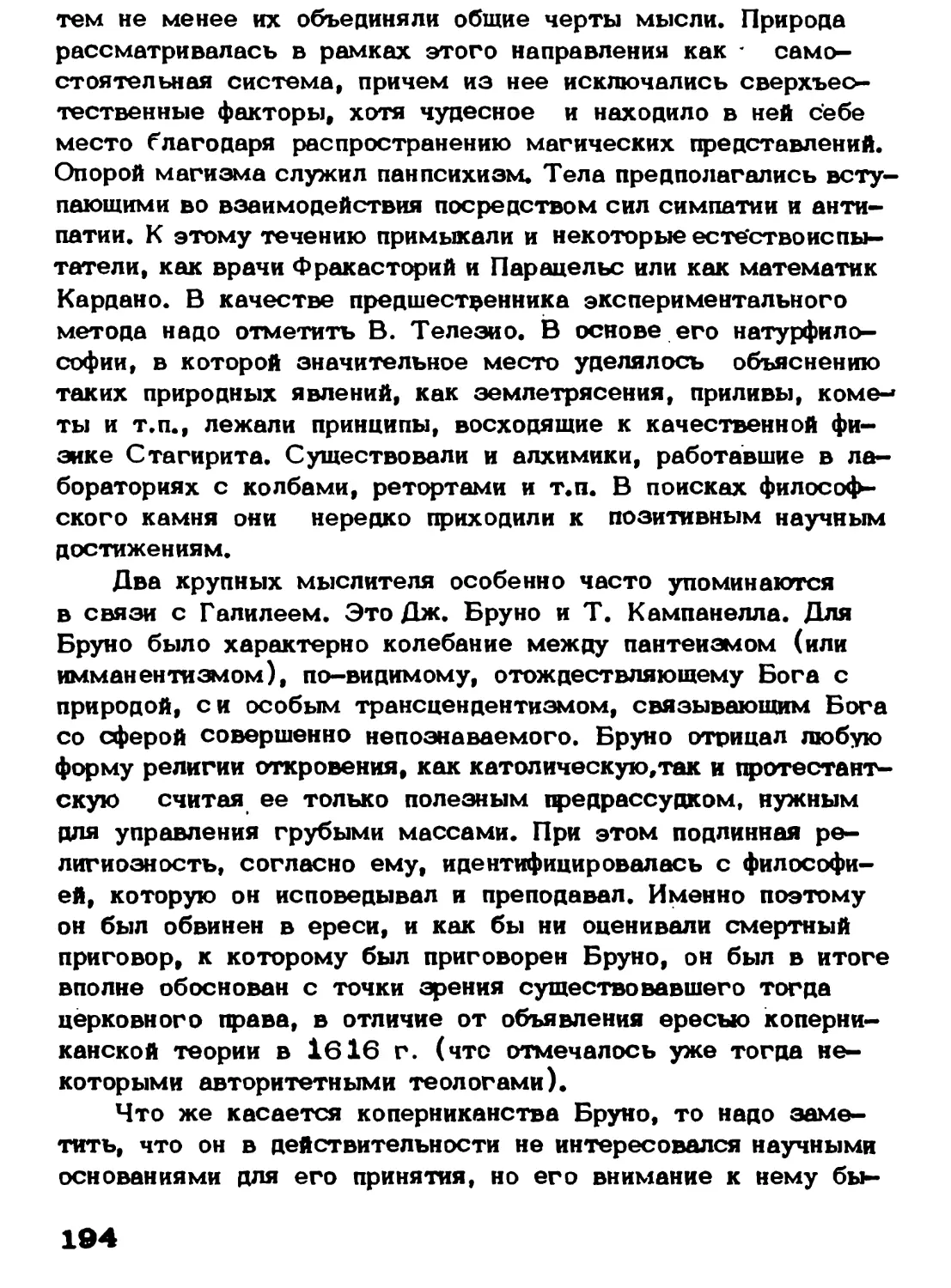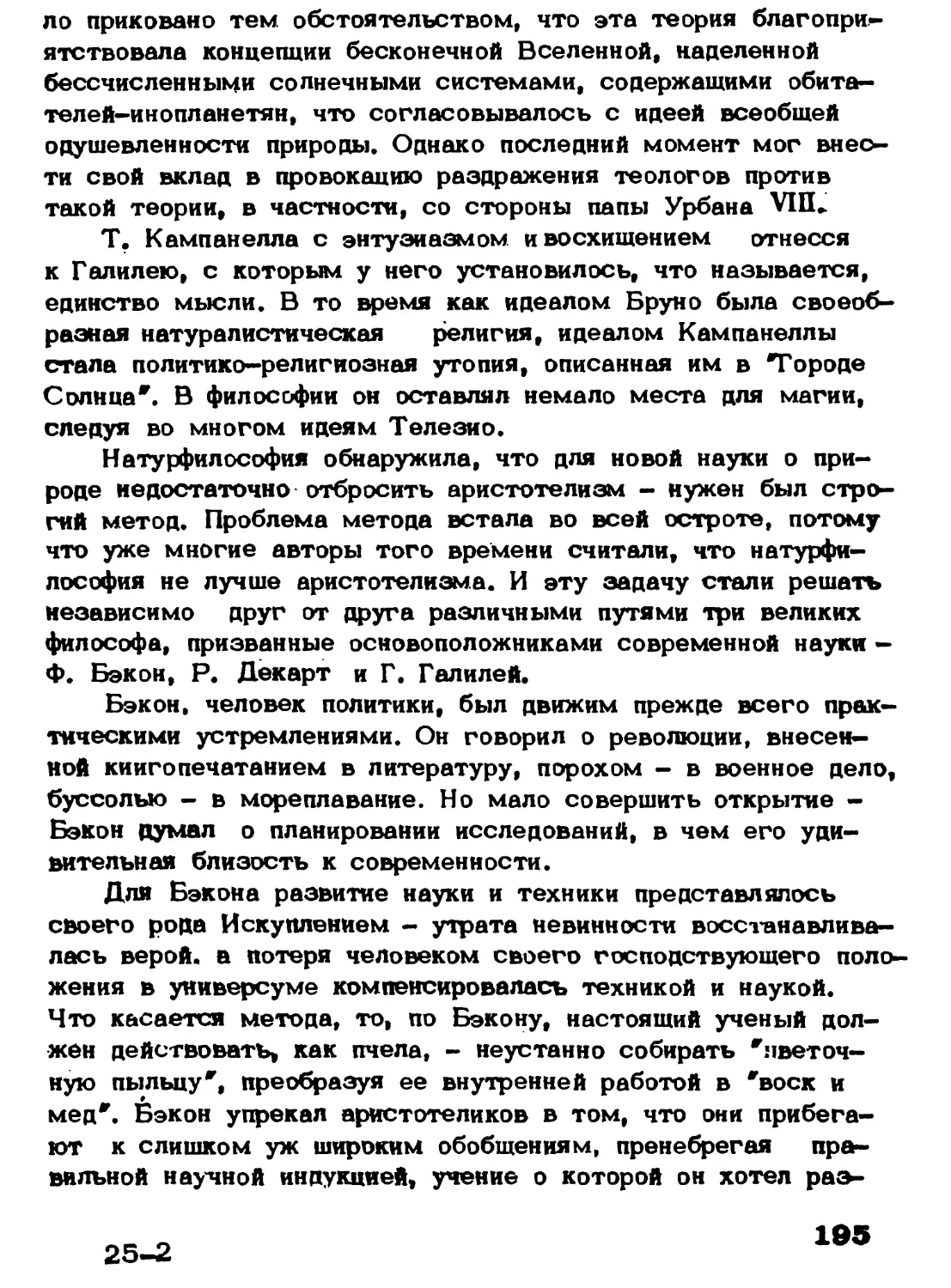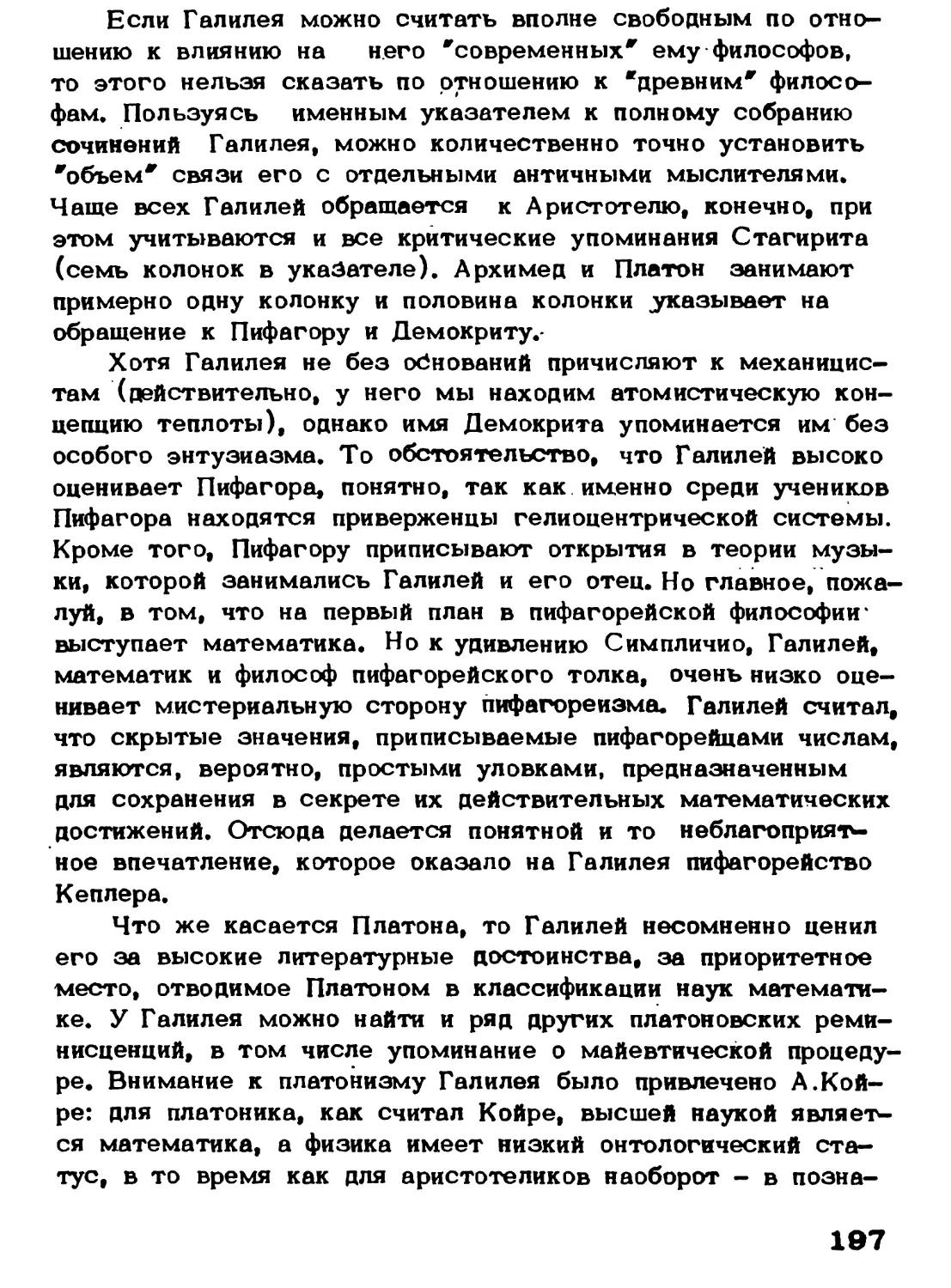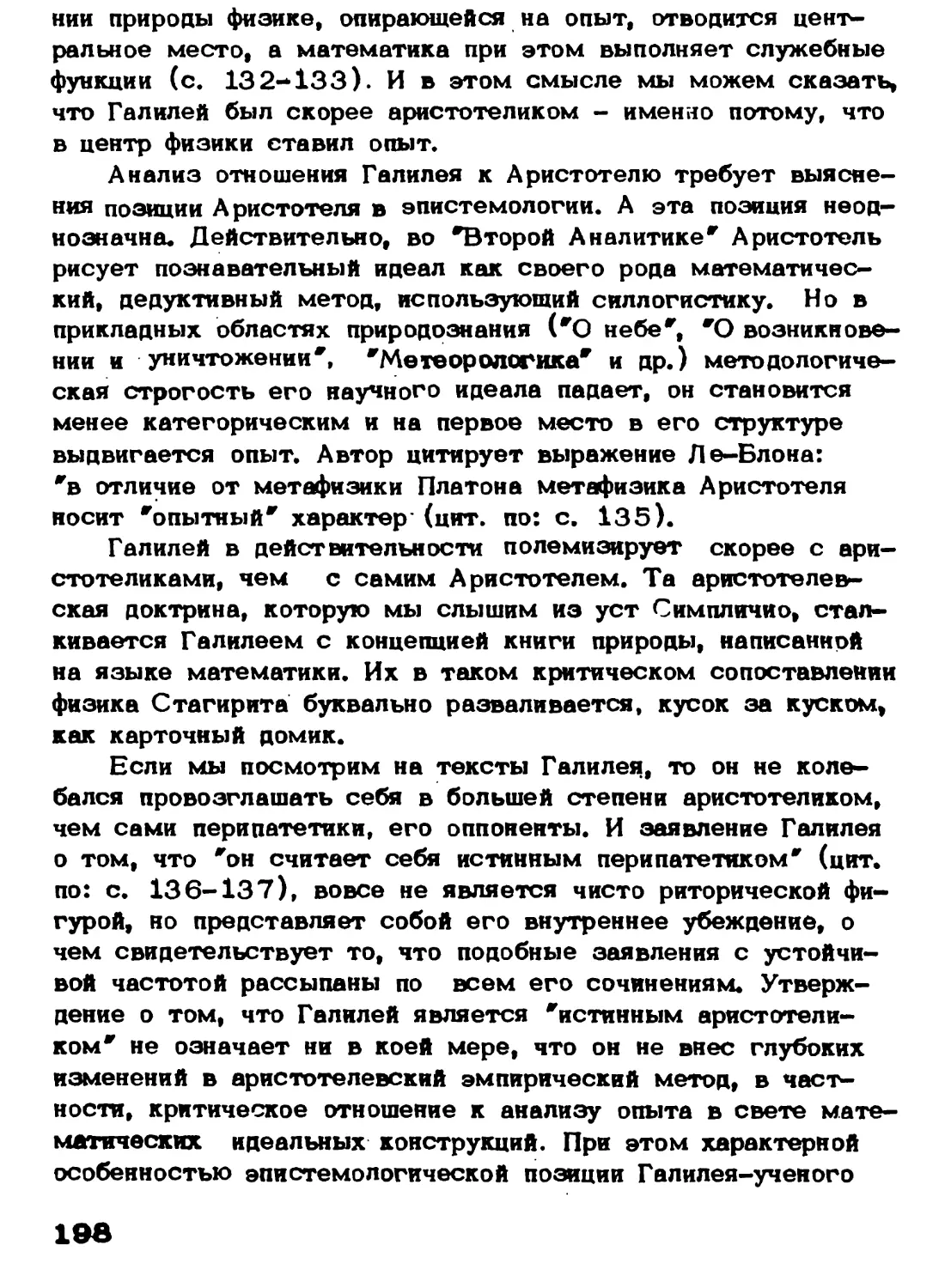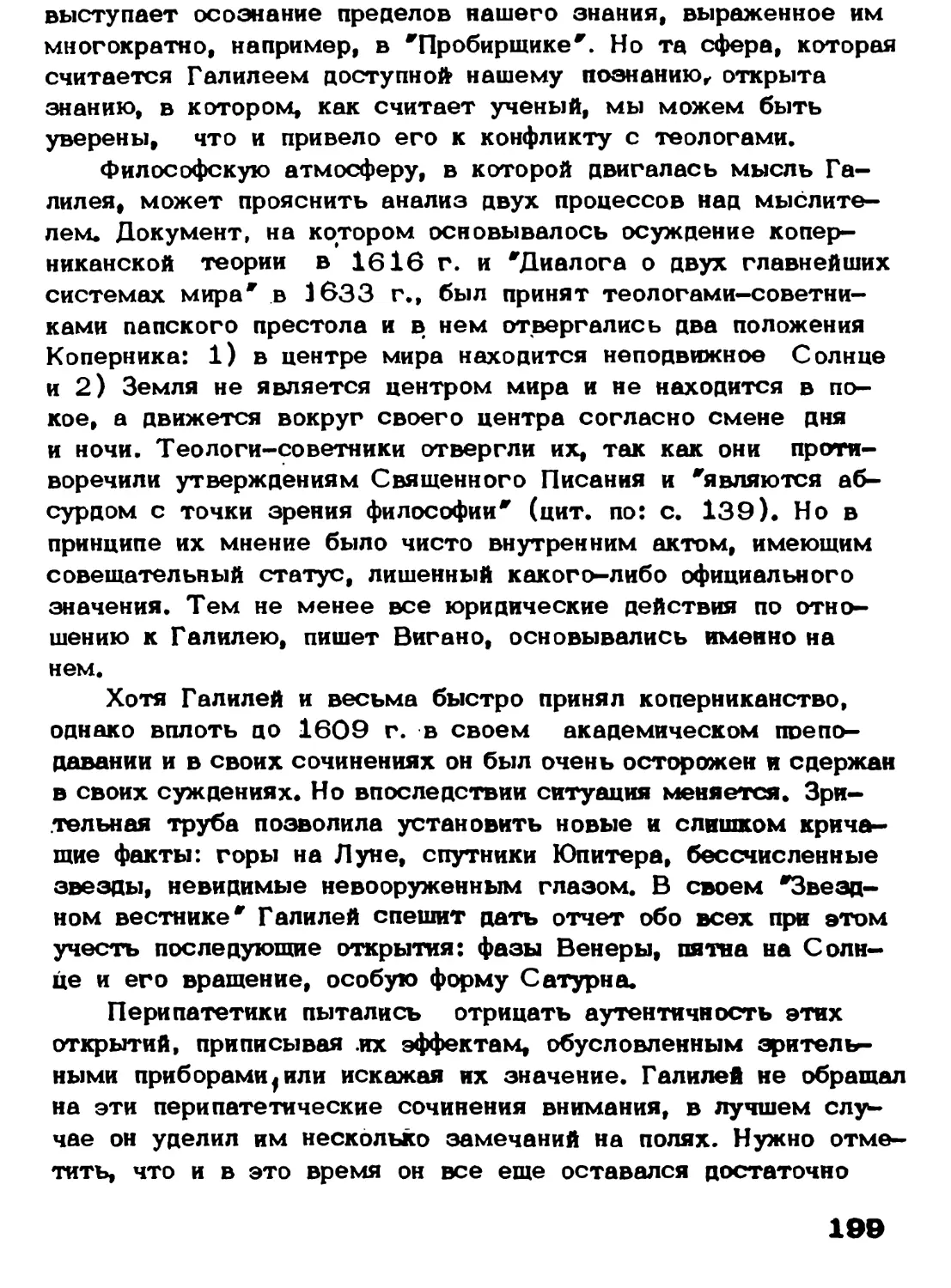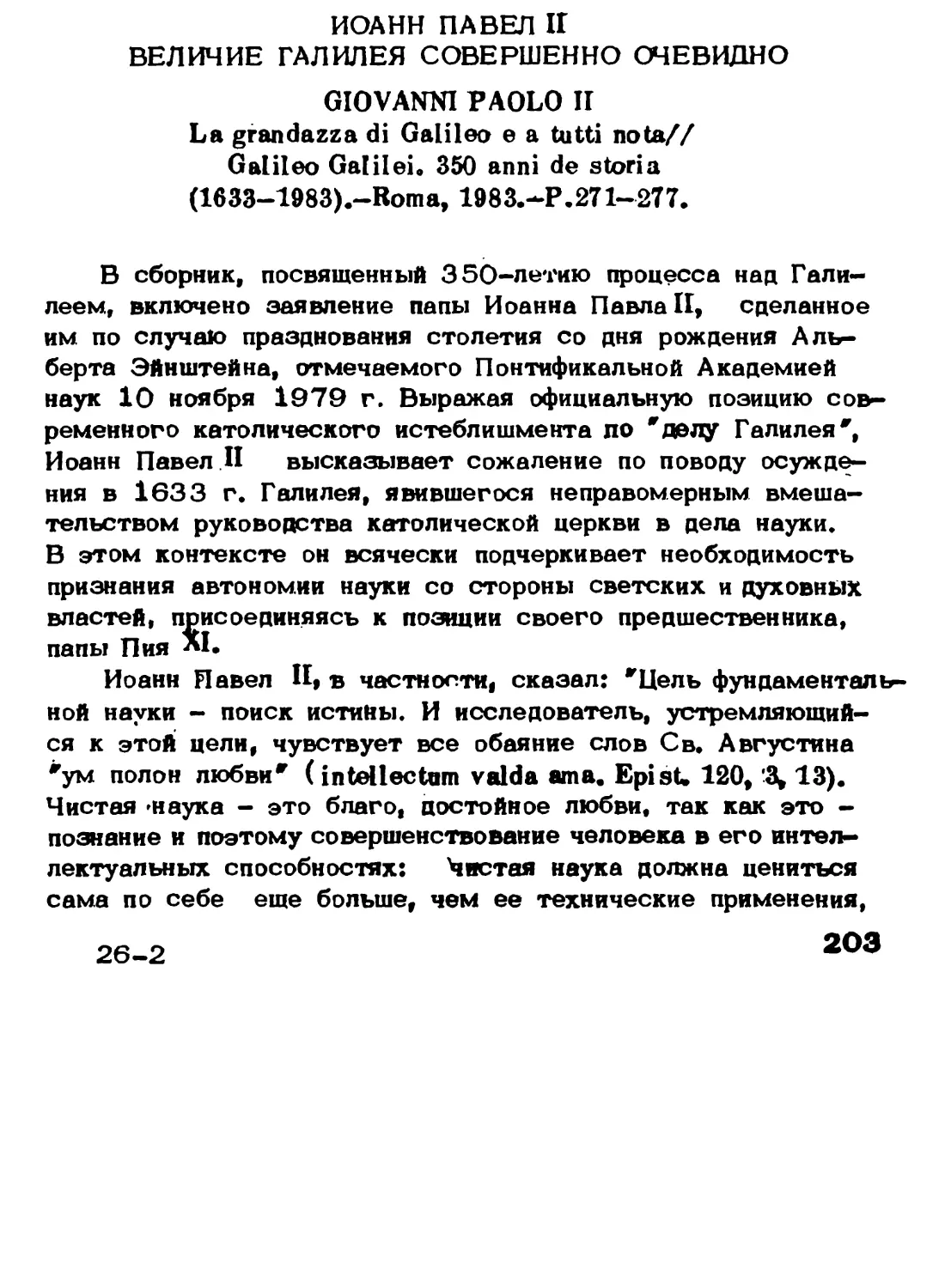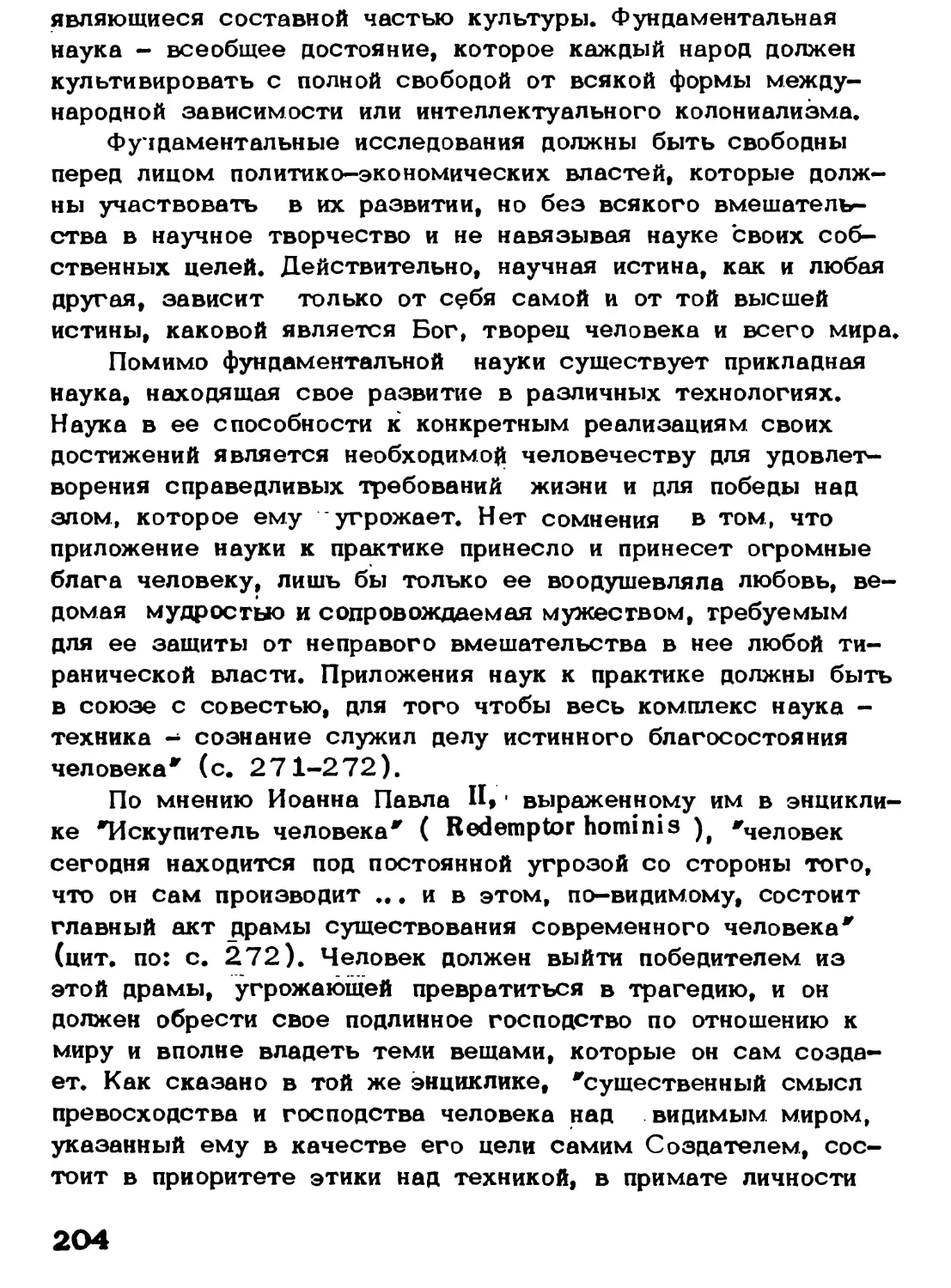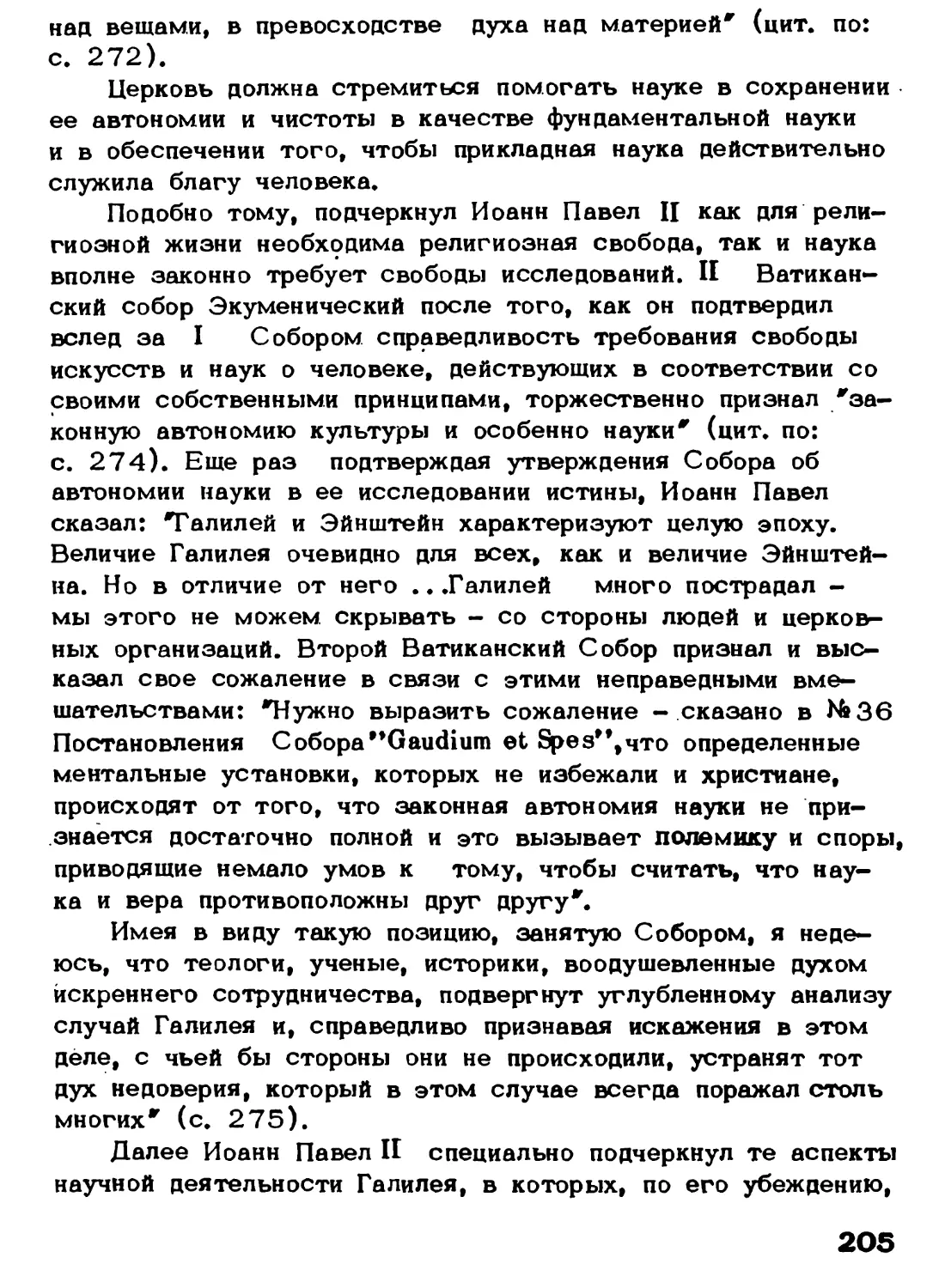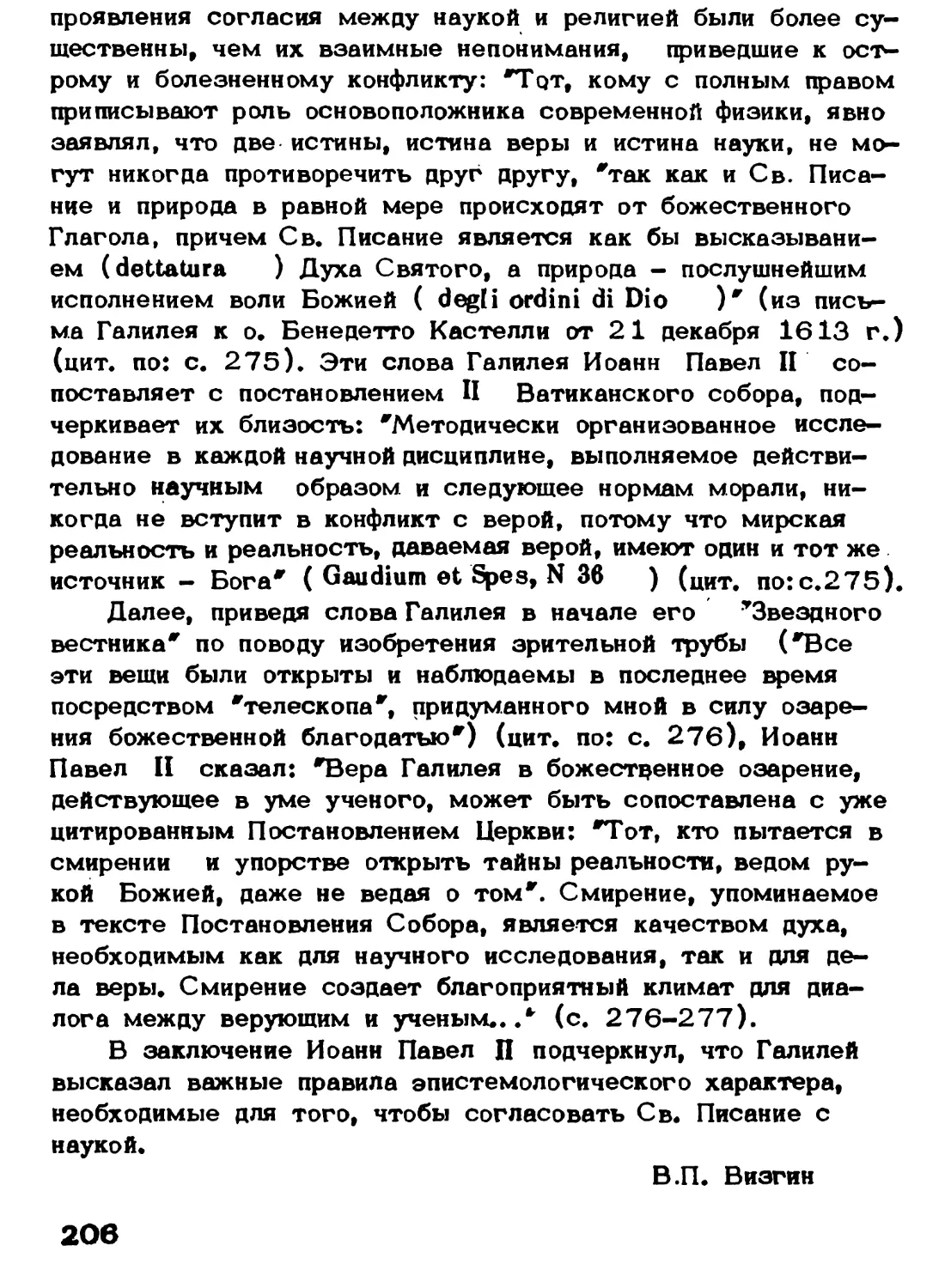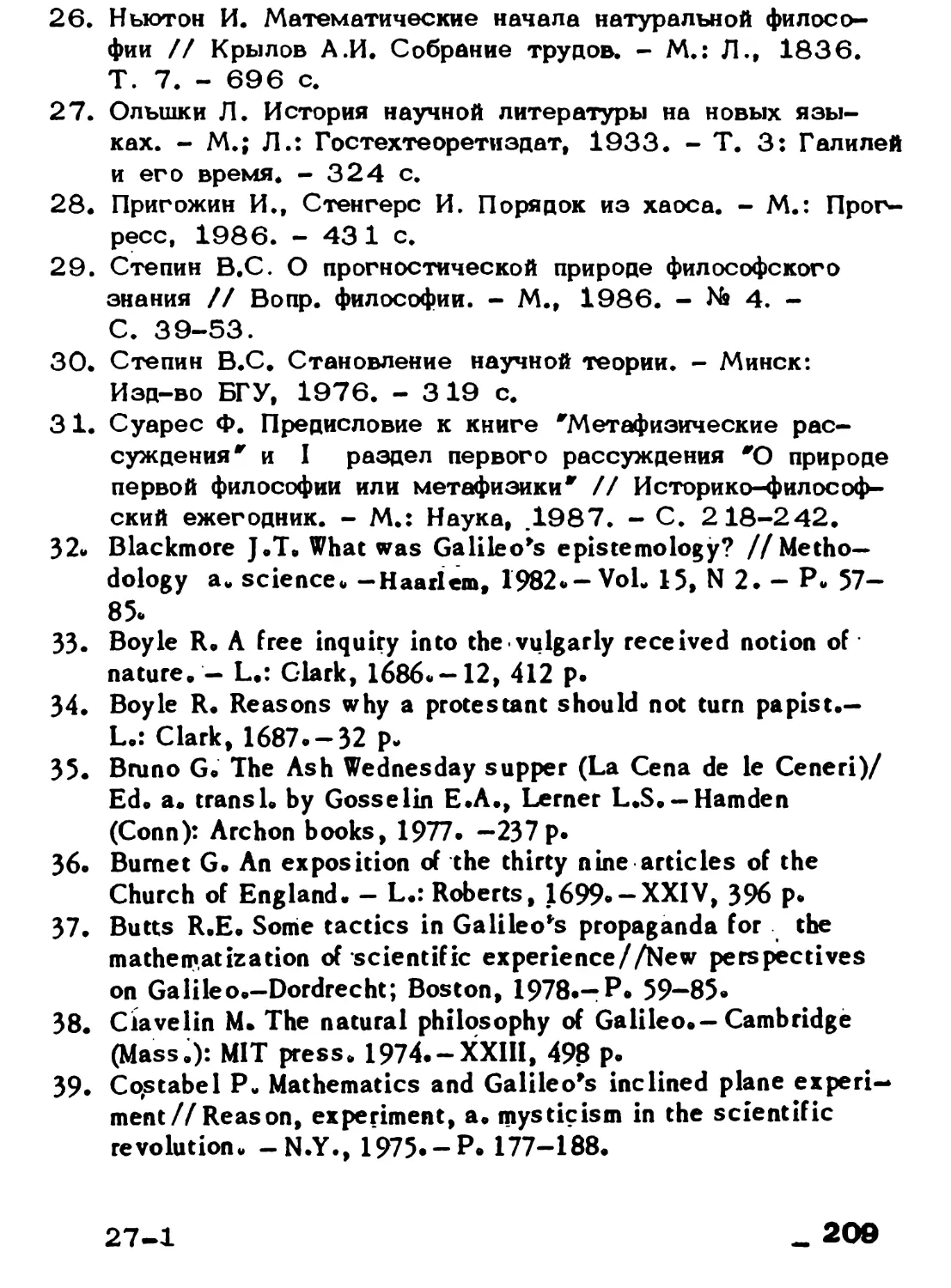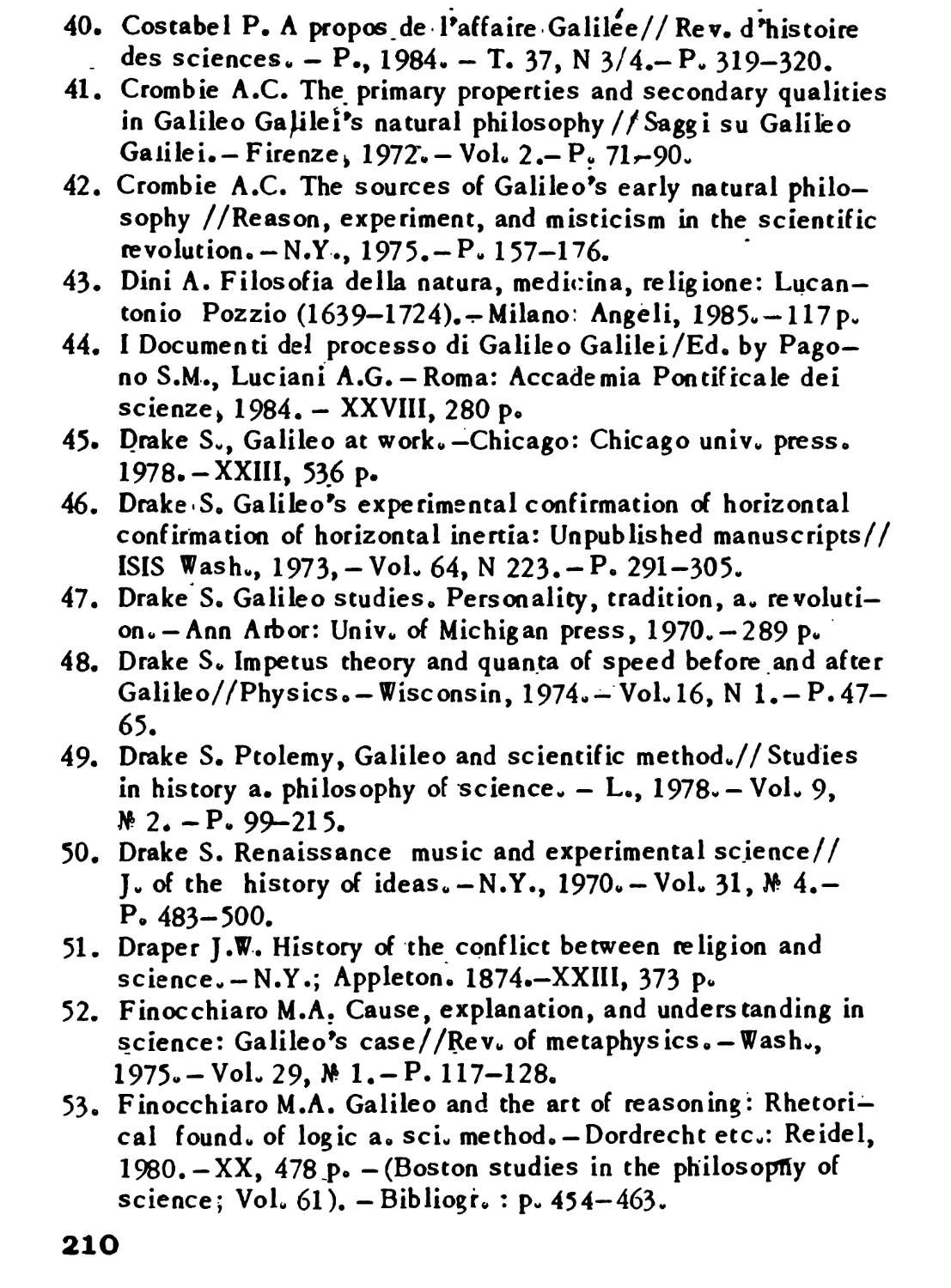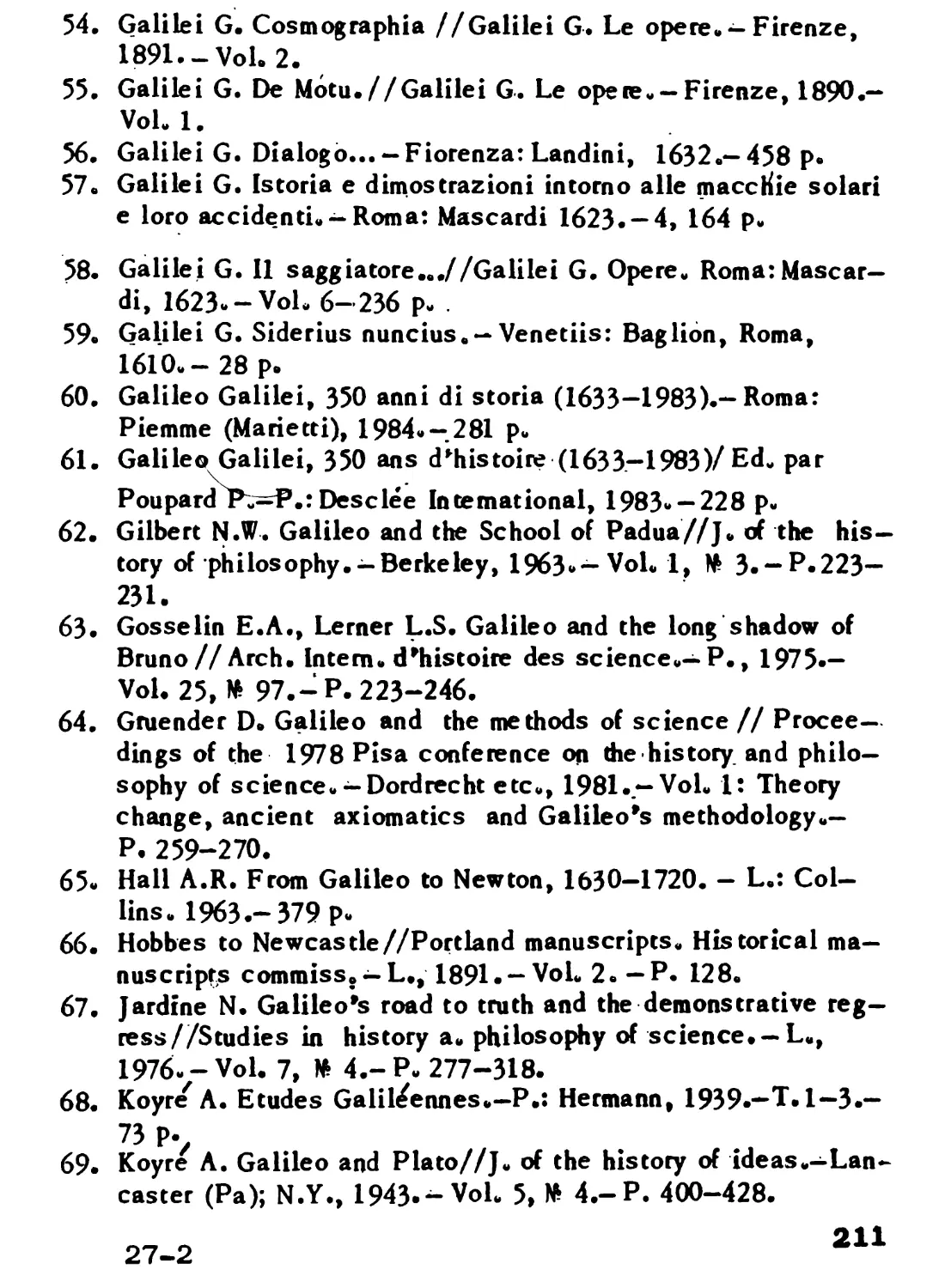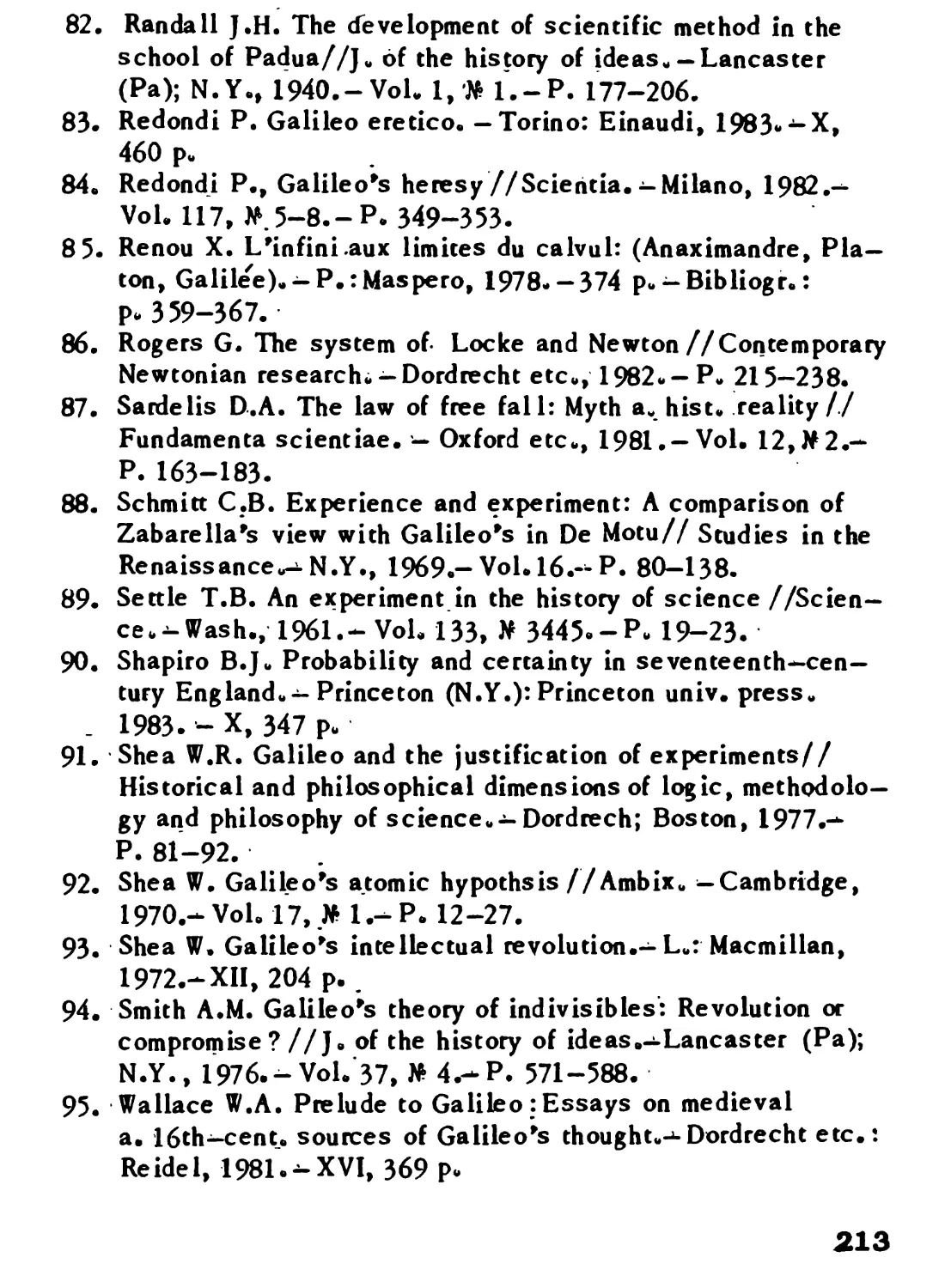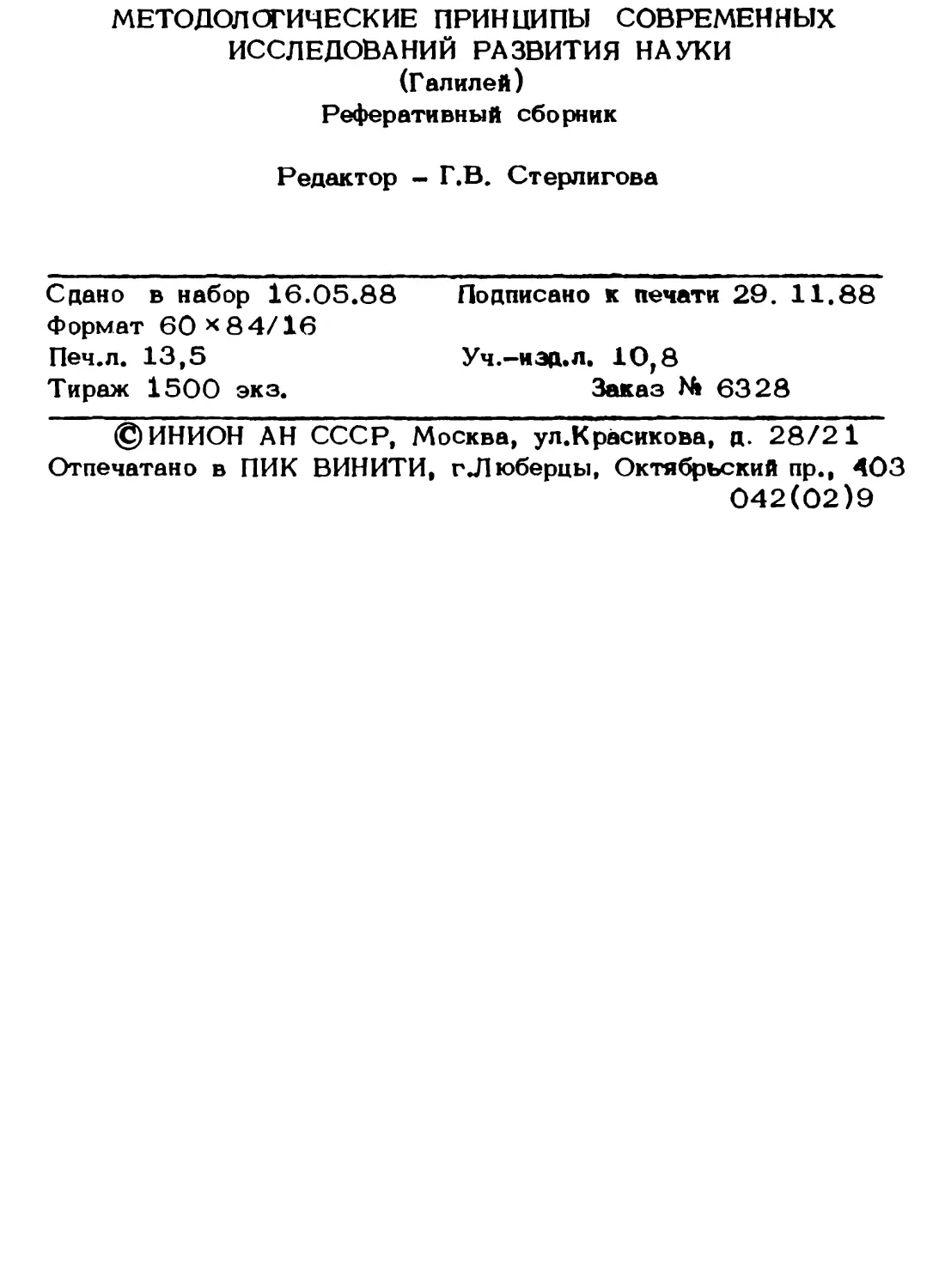Tags: история науки галилей
Year: 1989
Text
srnmrnn
шШшш
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАЗВИТИЯ НАУКИ
(ГАЛИЛЕЙ)
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
' ' ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАЗВИТИЯ НАУКИ
(ГАЛИЛЕЙ)
реферативный сборник
Москва-1989
Серия: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
НАУКИ И ТЕХНИКИ
Редакционная коллегия серии:
А.И.Ракитов (главный .редактор), В.Г.Виноградов,
Л.А.Микешина, КХА.Петров, В.А.Смирнов, А^И.Уваров
Ответственный редактор
- кандидат философских наук
Л.М. КОСАРЕВА
СОДЕРЖАНИЕ
Методологические проблемы исследования развития нау-
ки: Галилей и становление экспериментального есте-
ствознания» (Вводная статья)................ 5
I. ОБРАЗ МИРА И ИДЕАЛ ЗНАНИЯ ДО ГАЛИЛЕЯ
Дофине Дж. Космос Данте........................ 48
Мак-моррис М.Н. Наука как scientia...............57
И. АТОМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
И ДВИЖЕНИЯ ЭПОХИ ГАЛИЛЕЯ
Редонди П. Галилей-еретик...................... 62
Костабель П, По поводу 'дела Галилея'. . ........ 88
Ле Гранд Г.Э. Галилеева теория материи...........91
Молленд А.Г. Атомизация движения: грань научной рево-
люции..................................... Ю1
Ослер М. Крещение епикуровского атомизма: Пьер Гас-
сенди о бессмертии души.................... 109
Ш. ГАЛИЛЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД
Бйттс Р.Е. Тактика пропаганды Галилея в пользу мате-
матизации научного опыта.................... 114
Ши У.Р. Галилей и оправдание экспериментов. ..... .129
Эрью Р. Галилеевские наблюдения Луны в контексте
средневековой теории Луны....................133
1-2 3
Чалмерс А, Наблюдения Галилеем Венеры и Марса с
помощью телескопа* • 139
IV . КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ГАЛИЛЕЯ
Мак-маллин Э. Концепция науки в трудах Галилея, . . , 152
Финоккьяро М.А, Философия науки Галилея, ••••••• 165
Финоккьяро М.А, Галилей и искусство рассуждения: ри-
торические основания логики и научного метода, • * 168
Макхеймер П, Галилей и причины, • ••••,,•••*• 180
Питт Дж,С, Галилей: причинность и использование гео-
метрии. ,,,..................*...................187
V, ОЦЕНКА ГАЛИЛЕЯ СОВРЕМЕННЫМ КАТОЛИЦИЗМОМ
Вигано М.Галилей и философская культура его времени, 190
Иоанн Павел П • Величие Галилея совершенно очевидно, 203
Список литературы.............................. 207
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ НАУКИ: ГАЛИЛЕЙ И СТАНОВЛЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
(Вводная статья)
Современные науковедческие исследования, проводимые
историками, социологами, философами науки, специалистами
по исследованию научного творчества или форм организации
науки, сталкиваются с рядом проблем методологического
характера. К ним, в частности, относятся вопросы: как
нужно изучать развитие науки - в свете лишь современных
достижений или в собственном историческом контексте каж-
дого из ее этапов? Должны ли исследования развития нау-
ки проходить только в русле интеллектуальной истории или
для этих целей релевантны также и данные социальной исто-
рии науки?
Специалисты - методологи науки знаки', насколько
образ того или иного эпизода истории науки зависит от
методологических средств исследовательского анализа, от
сознательно избранной (или стихийно реализуемой) методо-
логии историко-научного исследования. Задача данного сбор-
ника - продемонстрировать эту зависимость образа науки
той или иной эпохи от теоретико-методологического инст-
рументария науковедческого анализа на конкретном приме-
ре исследования научной деятельности Галилея. В литератур
ре о Галилее сложился устойчивый, восходящий к позити-
вистской историографии, традиционный образ Галилея-рево-
люционера, противопоставившего схоластическому аристоте-
S
лизму опытное познание природы; философским рассужде-
ниям - позитивную науку; религиозной догме - научную
истину» Однако этот яркий, чрезвычайно упрощенный и мифе*
логизированный образ Галилея подвергся уже в 30-60-е г»
критике в работах А.Койре, А.Кромби, А.Р»Холла, Дж.Рэн-
дэлла и других историков науки (68, 41, 65, 82).
Исследования последних 10-15 лет, вовлекшие в научный
оборот большой объем новых социально-исторических дан-
ных, позволяют еще больше приблизиться к пониманию
реальной сути Галилеева вклада в формирование современ-
ного экспериментального естествознания» Эти исследования
проливают новый свет на значение идеологического контекс-
та в формировании науки нового времени, позволяют более
четко понять, какая же методология - эмпиризм или экспе-
риментализм - легла в основу физико-математического
естествознания нового времени и каков тип его самосозна-
ния в отличие от самосознания науки предшествовавших
эпох» Рассмотрим каждый из этих вопросов подробнее.
Презентизм и контекстуализм; роль идеологического
контекста в формировании корпускудярно- атомистической
концепции материи
350-летняя годовщина процесса над Галилеем, отмечав-
шаяся в 1983 г», вызвала новую волну интереса к жизни
и творчеству великого флорентийца, о чем свидетельствует,
в частности, проведение 18-26 марта 1983 г» Международ
ного конгресса по галилеевским исследованиям (Пиза, Ве-
неция, Падуя и Флоренция). Помимо опубликованных трудов
Конгресса (77) этому событию было посвящено множество
работ. К ним относятся, например, сборник статей, выпу-
щенный по инициативе папской комиссии (созданной Иоан-
ном-Павлом II для пересмотра дела Галилея и 'закрытия*
дискуссии, продолжавшейся по этому поводу три с полови-
См. список литературы в конце данного РС»
6
ной века) на французском и итальянском языках (60, 61),
п также сборник ранее не издававшихся документов, прямо
или косвенно относящихся к процессу над Галилеем (44),
Среди всех опубликованных к указанной дате работ
наиболее яркой, вызвавшей как восторженные отклики, так
и ожесточенную дискуссию, явилась, по признанию извест-
ных историков науки Р.Татона, ГЪКостабеля и др», книга
французского исследователя Пьера Редонди 'Галилей-ере-
тик' (83). Ее публикация явилась подлинной сенсацией.
Кто мог предполагать, что в изучении печально знамени-
того 'дела Галилея', в котором, как казалось, исхожены
нее тропы и наведена полная ясность, возможны новые
исследовательские пути и принципиально новые решения?
Пом,не менее Пьеру Редонди удалось, используя новый
документ, обнаруженный им в июне 1982 г, в архивах
инквизиции, предложить совершенно новую, документально
хорошо обоснованную концепцию процесса над Галилеем»
Редонди доказывает, что истинная причина осуждения Га-
лилее католической церковью состояла не в его воинствую-
щем коперниканстве, как значилось в официальном тексте
приговора (и что до сих пор считалось общепринятым в
историографии науки), а в приверженности Галилея атомис-
тической концепции материи, несовместимой с одним из
центральных догматов католизма (имеющих силу закона) -
с евхаристическим догматом, принятым на Тридентском
соборе более чем за полвека до начала галилеевской дра-
мы»
Обшая концепция Редонди не является совершенно но-
вЬй» Ряд соображений по поводу несовместимости кор-
пускулярно-атомистической концепции материи с католичес-
кой трактовкой Iзакрепленной догматом) таинства пресу-
ществления высказывался и раньше историками науки,
например, Александром Койре (15,с»259). Однако их оди-
нокие голоса не были слышны, не были замечены, посколь-
ку не вписывались в привычные объяснительные схемы,
поскольку вопрос о возможности социализации идей атомиз-
ма в условиях идеологического господства аристотелианс-
кого физического континуализма в католическом регионе
7
Европы XVI—XVII вв» не существовал в сообществе историке
науки как общепризнанная проблема»
Необходимо подчеркнуть, что различные физические тео«
рии, известные с античных времен, вызывали различное
отношение к себе со стороны идеологов католицизма в зави-
симости от степени их противоречия основным котоличес-
ким догматам, имеющим силу закона в церковной жизни.
Эти физические теории можно расположить в некоторый
'спектр'. И тогда окажется, что, например, гелиоцентрическая
теория Коперника, строго говоря, не носила .характера док-
тринальной ереси, ибо отрицаемая ею геоцентрическая тео-
рия никогда не имела силы католического догмата. В то
время как атомистическая концепция строения материи Де-
мокрита и Эпикура прямо отрицала томистско-аристотелеан-
скую трактовку таинства пресуществления (с помощью фи-
зики субстанциональных качеств), положенную в основу
евхаристического догмата (принят на Тридентском соборе
в 1545-1563 гг» в русле программы укрепления католи-
цизма в его борьбе с Реформацией)» Таким образом, в
отличие от коперниканства физический атомизм является
для католицизма ересью в строгом смысле слова и подле-
жал преследованию с целью искоренения.
Необходимо помнить, что для католицизма, раненного
Реформацией и мобилизовавшего все силы Контрреформа-
ции для удержания своих позиций, реальную опасность пред-
ставляли не просто новые теории, альтернативные аристо-
телевской или птолемеевской концепции, а те, которые вели
к подрыву сложившейся системы догматов» Посягательство
на догмат - идеологический столп, святая святых церков-
ной жизни - расценивался и католической» и протестантской
церквами как наиболее караемое преступление» Историки,
не вникающие в эти 'детали' социального бытия идей, час-
то дают весьма далекую от реальности оценку событий
XVI—XVIIвв»‘Именно этому отсутствию интереса к реаль-
ному историческому контексту жизни идей, санкционирован-
ному методологией преэентиэма1', мы обязаны рождением
О методологии преэентиэма подробнее см» (21).
8
мифов о Дж.Бруно, М.Сервете, Г.Галилее и других мысли-
телях этой эпохи* И требуется немало усилий со стороны
серьезных исследователей, чтобы исторический миф усту-
пил место документально обоснованным историко-научным
реконструкциям. Так» усилиями Ф.Ейтс и других исследова-
телей (99,24,63) было показано» что главная идеологичес-
кая *вина* Дж. Бруно против католического истеблишмента,
приведшая к смертной казни» состояла не в его коперникан*
отве, а в активной деятельности, целью которой являлась
реформа католической догматики и практики церковной жиз-
ни на основе неоплатонико-герметической доктрины. Так»
контекстуальный анализ диалога *Вечеря в первый день
Великого поста* (1584) (35), который традиционно счи-
тался посвященным изложению коперниканской системы,
показывает» что центральной его проблемой (отраженной в
заглавии) является пересмотр католической трактовки евха-
ристии» таинства причастия. Именно для этой цели Бруно
привлекает теорию Коперника как символ возрождения древ*
ней *истинной философии* - доктрины герметиэма» способ-
ной дать» по его мнению^ истинное понимание таинства
причастия. Основываясь на герметический идее всеединст-
ва, Бруно предлагал рассматривать взгляды либеральных
католиков и протестантов на важнейшее христианское таин-
ство - евхаристию - как сходные* как имеющие одинаковый
статус (24, с.83). Бруно настолько верил в истинность и
действенность своих идей, что возможность мирной реформы
католицизма путем обращения в герметизм папы преДставлЯг-
лась ему вполне реальной. Действительность показала ^сю
иллюзорность его надежд.
Другой пример мифологизации событий научной револю-
ции XVI—XVII вв. - фигура М.Сервета, которого легенда ри-
сует как прогрессивного ученого, пострадавшего от рели-
гиозного фанатизма за открытие кровообращения. В дейст-
вительности М. Се рвет (как и Ф. Социн) был одним из ли-
деров движения антитринитариев, отрицавшим центральный
христианский догмат троицы. И для кальвинистской церкви
он был опасен не своими новыми научными идеями, а как
влиятельнейший политический деятель, еретически отрицав-
ший божественность Христа.
Точно также героем чрезвычайно живучего мифа явил-
ся и образ Галилея - мученика науки, жертвы войны между
религией и новой космологией. Истоки подобного мифологи-
зирования восходят к историографии науки раннего позити-
визма с ее "законом трех стадий" и методологией презен-
тизма 1 . Последняя, явно или неявно предписывая рассмоте
рение событий прошлого с точки зрения (ив интересах)
состояния науки сегодняшнего дня, вносит существенные
искажения в историко-научное исследование.
Для восстановления реальной картины развития науки
прошлого недостаточно также и интерналистской методоло-
гии, ориентирующей исследователя на изучение истории
идей. Для этого необходимо обращение к действительному
интеллектуальному и социальному контексту становления
и развития научных концепций,
Методология контекстуализма, позволяющая привлечь
для анализа истории идей данные социальной истории, нам*
ного расширяет инструментарий историко-научной реконст-
рукциц. Ярким примером этого служит исследование Пьера
Редонди.
В чем суть его концепции? Пытаясь понять причины,
которые привели к процессу над Галилеем, исходя из реаль-
ного исторического контекста конца XVI- начала XVII вв.,
Редонди погружает читателя в . остро дискутировавшиеся в
это время политические и философско-теологические проб-
лемы, рожденные борьбой католицизма с Реформацией,
"Дело Галилея" родилось из сплетения противоборствующих
интересов различных группировок в католическом мире,
озабоченного укреплением своих идеологических позиций
перед лицом "протестантской угрозы".
Одной из центральных дебатировавшихся в это время
проблем была трактовка таинства евхаристии, объяснение
пресуществления тела и крови Христа в хлеб и вино. Это
* Ярким примером исторических работ подобного ро-
да является монографии Дж.Дрейпера и Э.Уайта (51, 96).
10
объяснение телесного процесса, имевшего в христианской
мировоззренческой системе статус чуда, вовлекало в одну
орбиту вопросы, относящиеся к столь различным областям,
как теология, физика и политика.
Католическая трактовка евхаристии восходит к объясне-
нию этого таинства Фомой Аквинским на основе аристоте-
левской физики, допускавшей существование акциденций (ка-
честв тела) вне их носителя - субстанции (самого тела).
Этим самым аристотелевско-схоластическая физика субстан*
циальных качеств была идеологизирована и обрела приви-
легированный статус, резко поднимавший ее над альтерна-
тивными физическими концепциями (стоиков, атомистов).
Реформация, поднявшая на шит идеи августинианской
"теологии воли" и с этой позиции подвергшая острой кри-
тике томистскую "теологию разума" и ее философскую осно-
ву - схоластическо-аристотедианскую метафизику - измени-
ла также и трактовку таинства евхаристии. В этом измене-
нии нашло отражение новое понимание реформаторами сущ-
ности телесности, не признающее за сотворенными вещами
(субстанциями, "природами") той относительной активности
и самостоятельности, которая допускалась схоластической
физикой и метафизикой 1).
Лютер отверг католическую буквалистскую трактовку
чуда пресуществления, требовавшую мыслить в маленькой
облатке реальное присутствие тела Христа со всеми его
атрибутами. Согласно лютеровскому объяснению, в святых
дарах присутствует не "натуральное" тело человека Иисуса,
а преображенное, вездесущее божественное тело Христа.
Этим самым Лютер выступил на свободу "джина" номина-
листического понимания чуда. Так, Цвингпи уже утверждает,
что евхаристия в строгом смысле таинством не является -
она есть лишь чувственно-наглядное символическое действие
религиозной общины. Эту номиналистическую линию продол-
Подробнее о трактовке реформаторами сущности те-
лесности см. (18).
2-2
11
жает Кальвин. Она становится привычной объяснительной
схемой для мыслителей протестантского региона (Бойль,
Гоббс), считавших католическое поклонение участвующим в
таинстве тварным предметам (хлебу и чаше с вином) -
магией и идолопоклонством А'.
Распространение реформационного движения вызвало в
католицизме мощную защитную контрреформационную волну.
В 1634 г. в целях борьбы с Реформацией учреждается ор-
ден иезуитов - 'Общество Иисуса'; в 1559 г. вводится пап-
ский Индекс запрещенных книг ( Index librorum prohibitorum).
В этих же целях в 1545 г. собирается Тридентский собор,
продолжающийся до 1563 г. Одним из итогов работ Собора
явилось принятие евхаристического догмата, давшего томи-
стскому объяснению таинства пресуществления в терминах
арнстотелианской физики силу общеобязательного церковного
закона. Жесткая формулировка догмата подчеркнуто противо-
поставляет номиналистскому уклону протестантского пони-
мания евхаристии дух средневекового реализма: 'Если кто-
/ Так, Гоббс писал: '... что касается культа в форме
таинства причащения, то если слова Христа 'это мое тело'
означают, что он сам и то, что имеет вид хлеба в его руке,
и не только это, но все кажущиеся куски хлеба, которые
когда-либо были или будут освящены священниками, явля-
ются столькими же телами Христа, которые, однако, все
вместе составляют одно тело, тогда таинство причащения
не идолопоклонство, ибо оно санкционировано нашим спа-
сителем. Но если этот текст означает нечто другое (хотя
нет другого текста, который подтвердил бы такое предпо-
ложение), тогда указанный обряд есть обоготворение чело-
веческого установления и, следовательно, идолопоклонство'
(11, с.624).
Гоббс вслед за Лютером, Цвингли и Кальвином счи-
тает, что с акр ал ьн ость того или иного предмета означает
не реальное субстанциональное качество (как утверждали
схоласты), а лишь особое отношение человека к данному
предмету (11, с.623).
12
либо скажет, - говорится в постановлении Собора, * что
в святом таинстве евхаристии вместе с телом и кровью Гос-
пода нашего Иисуса Христа сохраняются субстанции хлеба
и вина, и отрицает ото чудесное преобразование всей суб-
станции хлеба - в тело, а вина - в кровь, в которых ос-
тается существовать только лишь образ хлеба и вина (пре*
образование* которое церковь называет наиболее подходя-
щим словом - пресуществление), тому - анафема* (цит,
по: 83, с.2О5) 'Л.
Принятие евхаристического догмата поставило серьез-
ные препятствия для развития физических концепций в стра-
нах католического региона, альтернативных аристотелевскоЛ
Так, физика атомизма автоматически превращалась в ересь
в строгом значении этого олова, ибо в условиях включен-
ности физики в систему теологии объяснение таинства
евхаристии в терминах атомов и пустоты неизбежно разру-
шало тридентскую формулировку евхаристического догмата*
Этим самым развитие атомистическо-корпускулярных идей,
носившихся в воздухе постреформационной Европы, в идео-
логическом контексте контрреформ анионного католицизма
превращалось в трудный путь, усеянный терниями; любое
обращение к идеям атомизма становилось чреватым драма-
тическими событиями, И они не заставили себя долго
ждать,
В 1623 г. Галилей публикует книгу 'Пробирщик* (5в)>
В ней он, в частности, развивает атомистическую концеп-
цию материи, относя такие вторичные качества, как
цвет, запах, вкус, не к 'реальным акциденциям*, а считая
их просто именами* Галилей в книге не касается теологи-
ческих тонкостей, связанных с этой новой точкой зрения,
но один из проницательно-недоброжелательных читателей,
хорошо ориентирующийся в тонких теологических вопросах,
мгновенно связывает номиналистический дух Галилеевой
теории материи с реалиями религиозно-политической борь-
Цитата дана в переводе М.В. Быкова.
13
бы начала XVII в., и в инквизицию поступает анонимный
донос на Галилея, обнаруженный Пьером Редонди в архивах
римской инквизиции. Автор доноса/' обильно и точно ци-
тируя 'Пробирщика', указывает на несовместимость его
атомистических идей с постановлением Тридентского собо-
ра: из факта сохранения чувственных акциденций в таинст-
ве евхаристии при условии их жесткой связи с материаль-
ным субстратом-носителем (что> в отличие от аристотелиз-
ма, предполагается атомизмом) автоматически следует сохра-
нение этого субстрата после пресуществления (т.е. хлеб
остается хлебом, не замещая своей внутренней природы
субстанцией Христа). А это, по мнению автора доноса, рав-
ноценно отрицанию католического понимания таинства пре-
сушеотвления и тридентского догмата (83, с.428-429)
Для того чтобы понять, какие последствия мог иметь
этот донос, необходимо кратко обрисовать расстановку рели-
гиозно-политических сил, сложившуюся к моменту публика-
ции 'Пробирщика*. Делов том, что в конце XVI- начале
XVII в. в католицизме резко обозначились два течения,
две партии - традиционалистов и новаторов. Во главе пар-
тии традиционалистов, чьей душой был орден иезуитов,
долгое время стоял ее идеолог иезуит кардинал Роберто
Беллармино, сыгравший роковую роль в судьбе Джордано
Бруно. Ко времени процесса над Галилеем партию традиции
нацистов с ее происпанскими устремлениями возглавлял,
кардинал Фр.Борджиа, посол Испании в Риме. Идейной базой
П.Редонди на основании исследования почерка, а
также сравнения текста доноса с текстами иезуита Оранио
Грасси, против которого Галилей выступил в * Пробирщике г,ч
выдвигает предположение о том, что Грасси (часто писав-
ший под псевдонимом Лотарио Сарси) и является автором
этого анонимного доноса на Галилея.
2)
Полный текст этого доноса на Галилея опубликован
П.Редонди в качестве приложения к его книге * Галилей -
еретик' (83, С.4Й7-429У.
14
этого течения являлся томистско—аристотелианский комп-
лекс теологии, физики и философии, нашедший рафинирован-
ное изложение ы -трудах иезуитов (Б.Перейры, Фо.Суаре-
са 1/)» и постановления Тридентского собора
В отличие от томистской ориентации 'традиционалистов*
партия новаторов опиралась на августинианство, являвшееся
основой всех прогрессивных идеологических течений Европы
XVI-XVIIbb. как в протестантском, так и в католическом
регионах (лютеранство, кальвинизм, янсенизм). 'Новаторы',
враждебно относившиеся к иезуитскому происпанскому ду-
ху, ориентировались на "французскую теологическую школу,
во главе которой стоял Пьер де Берюль. Теологию Берюля,
основанную на августинианско-неоплатонической метафизике
света, отличала новая христология: в ней Христос - Солнце
мыслился центром духовного бытия, что сообщало этой кон-
цепции черты 'духовного гелиоцентризма'.
Ядро партии новаторов составляли как влиятельные
светские интеллектуалы (руководство академии деи Линчеи -
герцог Ф.Чези, Дж.Чиамполи, герцог В.Чезарини - друзья
и во многом единомышленники Галилея), так и духовные ли-
ца самого высокого ранга (кардинал Маффео Барберини,
ставший в год публикации 'Пробирщика' папой Урбаном VIII,
его племянник кардинал Франческо Барберини, генерал орде«г
на миноритов Дж.Гевара и др.). Понимая, что путь, пред-
лагаемый иезуитами, является тупиковым для католической
культуры, и отвергая полностью путь Реформации, 'нова-
торы' пытались найти в католицизме идейные источники
его обновления.
Не будучи идейно-нейтральным ученым-отшельником
(каким его часто рисует популярная литература), т.е, сде-
лав сознательный и бесповоротный выбор, связав свои цен-
Представление о стиле аргументации Ф.Суареоа дает
русский перевод Предисловия и фрагментов его основного
сочетания 'Метафизические рассуждения' (31).
2) Decreta Sacrosanti Concili TridentinL.,Vallisolati. 1618*
IB
постные предпочтения и свою интеллектуальную деятельность
с партией новаторов,, Галилей не мог не разделить ее су-
деб в ситуации острой религиозно-политической борьбы,
□хватившей не только Италию^ но и всю Европу (Европа в
это время жила под знаком 30-летней войны)*
После избрания Маффео Барберини в 1623 г* на папе*
кий престол партия новаторов значительно укрепила свои
позиции^ Галилей теперь - официальный папский ученый и
более того - figlio di let to (любимец) Урбана. VIII,
Пришедшие к власти 'новаторы' подняли на щит Гали-
леева 'Пробирщика' как символ новых интеллектуальных
возможностей католицизма* И незамедлительно последовала
реакция партии традиционалистов: в самый разгар триумфа
'Пробирщика' на нее в римскую инквизицию поступает до-
нос (о котором мы уже говорили выше)*
В сложившихся условиях этот донос, точно рассчитан-
ный на громкий скандал, мог оставаться без движения
'под сукном* только до тех порь пока партия новаторов
была в силе* В 1624 г* Урбан VIII и его единомышленники
(Дж.Гевара, назначенный экспертом инквизации по это-
му вопросу) могли достаточно легко нейтрализовать дейст-
вие доноса. Однако в 1632 г., в год выхода в свет Гали-
леева 'Диалога' (56), ситуация оказывается совершенно
иной* Профранцузская политика Урбана VIII терпит кризису
глава партии традиционалистов кардинал Фр.Борджиа откры-
то обвиняет папу в потакании ересям и в неспособности
удержать в чистоте идеи католицизма* П*Редонди характе-
ризует 1632 г* как конец 'чудесной оттепели' (начавшей-
ся в 1623 г. с восходом Урбана VIII на престол) (83,
с.291).
Именно в этот год выходит в свет 'Диалог' Галилея*
Симпатия автора к коперниканской системе (трактовка ко-
торой не как математической гипотезы, а как действитель-
ного устройства Вселенной была осуждена инквизицией в
1616 г*), а также формально еретичный корпускуляризм
демокритовского толка в понимании материи дали новый
удобнейший повод для очередного доноса на Галилея в инкви-
зицию* При сложившейся расстановке сил затевавшийся пар-
16
тией традиционалистов скандал имел целью скомпрометиро*
вать не только (и не столько) Галилея,сколько покровитель*
ствовавших ему Урбана VIII и его сторонников: именно
папа был инициатором того, чтобы Галилей в дискуссион-
ной форме изложил учение Коперника (и Галилей выполнил
эти условия), а сторонники Галилея в Риме (о.Рикарди,
член инквизиции, и о.Висконти) просмотрели рукопись кни-
ги и одобрили ее издание.
П.Редонди убедительно показывает, что у Урбана VIH
были все основания, чтобы не дать возможность партии
Фр.Борджиа обвинить Галилея (уже являвшегося всеевро-
пейски известным ученым и украшением католической куль-*
туры) в причастности к тяжелейшей доктринальной ереси
отрицания евхаристического догмата (в ереси атомизма),
а себя - в потакании еретикам. Из двух зол Урбан VIII
выбирает наименьшее: принося в жертву свое 'любимое
дитя',.судить его не по линии отрицания догмата (что могло
привести к смертной казни, как в случае с Дж.Бруно), а
по линии коперниканства, осуждение которого инквизацией
в 1616 г. не обладало статусом догмата (или 'истины
веры'), а было, так сказать, 'рабочим' постановлением,
обязательным лишь для рядовых католиков (но не для духовных
лиц ранга кардиналов и папы).
По инициативе папы создается специальная комиссия пс
делу Галилея, состоящая исключительно из, 'людей папы',
расположенных к Галилею. Руководил комиссией друг Га-
лилея в Курии - кардинал Фр.Барберини. В состав комис-
сии входили три эксперта-теолога: Агостино Ореджи и
Заккарья Паскуалиго, убежденные противники иезуитов
(и партии традиционалистов в целом) и 'самый безопасный
иезуит Рима' (как характеризует его П.Редонди) Мельхиор
Инхофер.
Итог работы комиссии и инквизиционного суда известен.
П.Редонди в результате проведенного анализа приходит к
следующему выводу: тактика папы удалась, - осуждение
Галилея за коперниканство опасло его от реальной возмож-
ности быть привлеченным к ответственности по гораздо
более опасному делу и одновременно продемонстрировало
3-1
17
перед католическим миром и партией традиционалистов рев-*-
костное стремление папы к чистоте католической традиции*
Такова суть предложений Пьером Редонди реконструк-
ции причин» приведших к процессу над Галилеем» Она инте-
ресна тем» что показываем широкие возможности» которые
открываются перед историком науки» руководствующимся
не методологией презентизма» а ориентирующимся на кон-
текстуализм Благодаря этому Пьеру Редонди удалось
подойти к проблеме» которая прежде не стояла в центре .
внимания историков пауки» а именно: к осознанию труднос-
тей» с которыми сталкивался процесс социализации атомис->
тическо-корпуокулярных идей (и механицизм в целом) в.
католическом мире .
И действительно» все принадлежащие к католицизму
мыслители XVII в.» в той или иной мере имевшие дело с
атомизмом (или корпускуляризмом), испытали на себе
эти трудности. Гассенди столкнулся с преследованием со
стороны иезуитов; учение Декарта о материи» оставляющее
за телесной субстанцией лишь ее количественные характе-
ристики» было осуждено как несовместимое с тридентским
' Реферат книги П.Редонди 'Галилей-еретик' включен
в данный реферативный сборник.
2)
Так» Гассенди в 'Парадоксальных упражнениях про-
тив аристотеликов' (1624) ясно формулирует несовместим
мость количественного понимания материальной субстан-
ции как чистой протяженности с тридентской доктриной.
Собор постановил» пишет Гассенди, и я этому должен верить»
ЧТО 'тело и кровь Христа поистине содержатся в виде хле-
ба и вина в таинстве алтаря.». и еще более ясно об этом
говорит анафема тому» кто отрицает» что в святейшем
таинстве евхаристии содержатся по истине, реально и суб-
станциально тело и кровь» а также душа и божественность
господа нашего Иисуса Христа.. .но. •. каким образом суб-
станция такого большого тела может лишиться протяжен-
ности и перестать занимать чувственно воспринимаемое
место?' (10» с.269).
18
евхаристическим догматом а его 'Начала философии'
занесены в 1664 г. в папский 'Индекс запрещенных книг'|
картезианец Мальбранш, преемник августиниански ориенти-
рованной теологии уже упоминавшегося выше Берюля, был
осужден в 1689 г» Декарт и Мальбранш примыкали к ав-
густинианству; их теологическая концепция была неприем-
лемой для католической ортодоксии, а 'теологические след-
ствия их физики - скандально еретическими' (80, с. 12),
'Картезианство было в действительности осуждено из-за
его результатов объяснения пресуществления в терминах
картезианской физики. Если сущность материи состоит в
протяженности и если каждый физический объект определяет-
ся его протяженными свойствами, как может маленькая
облатка превратиться в тело Христа?' (80, с. 12). Пресле-
дование августинианства (в частности, янсенистов Пор-Рояля)
в католической Франции 'загоняло картезианство в подполье
или обрекало его на изгнание' (80, с. 12).
В 1685-1688 гг. в итальянских церковных кругах
прошел цикл дискуссий вокруг концепции атомизма. Их итог
был сформулирован иезуитами Джакомо Л убрано и Джовани
Батиста де Бенедиктис: атомистическая концепция являет-
ся 'безумной, опасной для веры... неизбежно ведет к ате-
изму, отрицанию бессмертия души и таинства евхаристии'
(цит.по: 43, с. 102). Далее, в 1688-1697 гг. в Италии
прошло несколько инквизиционных процессов над атомистамй*-
'атеистами', в частности над Джачинто де Кристофоро,
Филиппо Белли и Базил ио Джане пли. Джане лли в марте
1692 г. 'под сильным нажимом и, вероятно, пытками, при-
знался, что чтение Лукреция побудило его к отрицанию
бессмертия души, божественности Христа и непогрешимости
папы' (43, с.102). Де Кристофоро, после шести лет тю-
ремного заключения, в апреле 1697 г. был осужден на
смерть как 'злостно упорствующий в ереси', В тексте его
признания значились такие 'заблуждения', как атомисти-
ческое строение первых людей, отрицание бессмертия души
См.об этом (15, с,259), (43, с.102-103), (81.
0.398).
3-2 19
и божественности Христа, а также приверженность к идеям
Кальвина и Лютера (43, с.102-103). Более 'мягкой'
формой борьбы католицизма с атомистической 'ересью*
явилась публичная церемония 'саморазоблачения' и покая-
ния (в феврале 1693 г.) дву$ обвиняемых в атомистических
заблуждениях - Карло Росито и Джованни де Маджистрис
(43, с.102).
Сказанное делает более понятным, почему не Италия,
колыбель антисхоластических ренессансных устремлений, а
протестантская Англия XVII в. стала классической страной
институционализации атомистическо-корпускулярной иссле-
довательской программы и механической картины мира 1):
реформаторы еще в XVI в. подвергли резкой критике святая
святых католицизма - томистско-аристотелианское понима-
ние телесности и основывающийся на нем тридентский евха-
ристический догмат, сняв, таким образом, важнейшее идео-
логическое препятствие для развития атомистической кон-
цепции материи как социально одобряемой научной теории.
Более того, развитие этой концепции в Англии явилось
интеллектуальным оружием для борьбы с английскими про-
католическими течениями: эту задачу сознательно ставили
активнейшие защитники атомизма У.Чарлтон и Р.Бойль.
Именно этой цели защиты англиканских интеллектуальных,
моральных и политических ценностей служила публикация
Бойлем в 1686 г. антиаристотелевского трактата 'Сво-
бодное исследование вульгарно воспринятого понятия приро-
ды' (33). Бойль в нем утверждал, что католическая докт-
рина является разновидностью языческого идолопоклонства
( pagan idolatry ), особенно культ 'посредников' (девы
Марии, святых) и католическая трактовка таинства евха-
ристии. Бойль усматривал в аристотелевской идее самоор-
ганизации материи, в ее субстанциальных качеств угро-
зу протестантскому провиденциализму. Он считал, что по-
клонение богу как духовному началу не должно распростра-
Подробнее этот процесс рассмотрен нами в . (17).
20
няться на тварные существа и материальные предметы - на
богоматерь, святых, а тем более на облатки и чаши с ви-
ном. Эти идеи он подчеркивал и в своем опубликованном в
1687 г. памфлете 'Почему протестант не должен обращать-
ся в паписта* (34). Вновь и вновь Бойль пользуется слу-
чаем доказать, что католическо-схоластическая концепция
материи ведет к языческому идолопоклонству, в то время
как механистическо-корпускулярное понимание материи в
качестве инертного и пассивного начала служит прочной
основой истинно христианского мировоззрения, доказывая
необходимость существования активного начала - бога.
Результатом бойлевских усилий явилось то, что его
аргументы были включены епископом Г.Барнетом в 'Свод
тридцати девяти статей англиканской церкви' (36), полу-
чив место в официальной англиканской теологии. Это озна-
чало, что отныне в Англии атомизм (и, шире, механицизм)
получил официальную санкцию, так сказать, 'постоянную
прописку' и мог открыто, без возможности быть обвинен-
ным в еретичности, становиться программой поддерживаемых
обществом научных исследований» И в то время, когда в
католической Италии идут один за другим инквизиционные
процессы над атомистами, в протестантской Англии публи-
куется целая серия атомистическо-корпускулярных работ
Чарлтона, Бойля, Ньютона,
Завершая данный раздел статьи, подчеркнем, что мето-
дологическая ориентация исследователя на анализ развития
научных идей в их реальном социокультурном контексте дает
существенно инук^ чем методология презентизма, картину.
Так, реконструкция Пьера Редонди, показывающая столкно-
вение в рамках католицизма XVII в. двух партий - тради-
ционалистов, вдохновляемых иезуитами, и новаторов, одним
из лидеров которых является папа Урбан VIII, рисует более
богатую и убедительную картину, чем традиционный упро-
шенный образ войны науки в лице Галилея и религии в ли-
це папского престола’ (во главе с Урбаном VIII), ини-
циатора суда над Галилеем, Именно эта уирощенио-презен-
тистская методология стоит за однозначной характеристи-
кой Урбана VIII, которую приводит, например, Л.Ольшки:
21
'Слепая самоуверенность» питавшаяся^придворной угодли-
востью выбранного им самим окружения» заставляла счи-
тать его сангвинический темперамент силой духа» его
упрямство - энергией» его капризы - гениальностью» его
любовь к театральной пышности - эстетическим вкусом и
его отношение к поэтам и ученым - подлинным меценатстч
вом' (27, с.200)*
Действительно, если, исходя из методологии презентиэ-J
ма» вырывать интересующие эпизоды из реальной историче-
ской связи и сопоставлять католицизм XVII в. с наукой
XXв* (рисуя при этом Галилея 'почти' ученым XXв.)» то
весь католицизм эпохи Галилея окажется окрашенным в
единый черный цвет обскурантизма без внутренних оттен-
ков и различений» что вообще отрезает путь к пониманию
взаимодействия науки и культуры. Методология же контек-
сту ал из м а нацеливает исследователя на то» ЧтЧ>бы культур-
ные реалии XVII в. сопоставлять с наукой этой же эпохи.
Кроме того» выявляя взаимодействие различных социаль-
ных сил» определяющих собой специфику исторического кон-
текста эпохи» контекстуализм ориентирует исследователя
на критическое отношение к источникам» подобным тексту
официального приговора Галилею: такого рода текст может
оказаться 'результирующей'» итогом сложной 'закулисной'
игры политических сил* Таким образом» методология кон-
текстуализма, обогащая исследовательский инструментарий»
способствует превращению многих историко-научных мифов
в историко-научные реконструкции.
К числу подобных мифов» помимо уже рассмотренных
нами, относится также восходящий к раннепозитивистской
Историографии миф о том» что новая наука в лице Бэкона,
Галилея» Ньютона впервые обращается к эмпиризму, спус-
каясь с высот умозрения на землю обыденного чувствен-
ного опыта* Рассмотрим этот вопрос подробнее*
Становление методологии науки нового времени:
эмпиризм или экопериментализм?
Мнение о том, что методология современной науки рож-
дается в XVII в. как обращение к непосредственному опы-
22
ту, к наблюдению над непосредственной действительностью, из
которого индуктивным путем выводятся теоретические по-
ложения (мнение, восходящее к работам ранних позитивно
тов), является достаточно живущим в популярной литерату-
ре о науке, хотя в целом позитивизм сейчас потерял бы-
лой престиж. В действительности же эмпиризм как методо
логическое требование ускрренности теории в непосредст-
венном чувственном опыте, как требование соответствия
теоретической конструкции обыденному опыту, достигаемое
с помощью индукции-наведения, формулируются Аристотелем
и является 'краеугольным методологическим камнем' сред-
невековой схоластики 1). И именно в противодействии этой
установке рождается методология науки нового времени,
отстаивающая право заниматься вещами, противоречащими
обыденному опыту:* атомами и пустотой, системой мира, в
котором Солнце неподвижно, а Земля вращается и т.д.
Официальная философия природы позднего католицизма -
аристотелианско-сколастическая концепция телесности,
запрещающая номиналистскую трактовку акциденций (чувст-
венно воспринимаемых свойств тел, 'вторичных качеств')
лишь как не обладающих физической реальностью имен,
неразрывно связана с аристоте л и ан ск ой методологией эмпи-
ризма, являющейся своеобразной апологетикой непосредствен-
ной эмпирической действительности и налагающей методо-
логический запрет на конструирование теорий, слишком вос-
паряющих над обыденным опытом, слишком оторванных от
него.
Аристотель, например, писал: 'общее не существует
отдельно, помимо единичных вещей' (Метафизика, VII, 16,
1040 в 27). Достоверное знание общего проистекает из
чувственного познания единичного: 'Мы посредством зрение
как бы приобретаем рбщее', - утверждает Аристотель, -
например, если бы мы видели нечто 'глазами отдельно в
каждом единичном случае', то 'мышлением мы сразу бы
постигли, что так бывает во всех случаях' (Вторая анали-
тика, 1*31, 88а 13-16).
23
В эпоху Галилея ревностными хранителями методологии
эмпиризма выступали иезуиты, ставившие преграды распростра-
нению тех возрождающихся концепций античности, в кото-
рых обесценивался непосредственно данный чувственный
мир (пифагорейство, неоплатонизм, герметизм, атомизм,
стоицизм) И разрушение в культуре XVII в, аристоте-
лианской концепции материи означало также и кризис мето-
дологии эмпиризма, С какой же тогда методологией связы-
вает себя становящееся механистическое естествознание с его
атомистическо-корпускулярной концепцией материи? С мето-
дологией экспериментализма.
Таким образом, при исследовании генезиса эксперимен-
тального метода в науке важно различать две, на первый
взгляд, тождественные, но в действительности принципиаль-
но различные методологии - эмпиризм и экспериментализм,^4
Эмпиризм, восходящий к Аристотелю, вырастает из ценност-
ного отношения к непосредственной действительности как к
разумному и совершенному естественному порядку вещей,
как к прекрасному и гармоничному Космосу, Согласно ме-
тодологии эмпиризма, непосредственный 'естественный*
опыт 'беременен* теорией, и мышление человека 'извле-
кает' теорию из этого опыта. Методология эмпиризма про-
Вот пример рассуждения о природе идейного против-
ника Галилея иезуита Орацио Грасси: ГЯ всегда считал при-
роду поэзией. Природа никогда не производит яблоки и дру-
гие фрукты, не дав прежде распуститься цветам как источ-
никам наслаждения. Кто мог бы подумать, что Галилей ока-
жется столь грубым и потребует, дабы все приятное, как
своего рода приправа к серьезным материям, было напрочь
удалено? Такое требование достойно скорее стоика, нежели
члена академии' (цит.по: 8, с.43).
2) -
Необходимо точное методологическое различение по-
нятий эмпиризма и экспериментализма, тем более что часто
новое понятие экспериментализма выражается традиционным
словом 'эмпиризм', хотя соответствующий контекст недвус-
мысленно говорит о его реальном новом значении.
24
низана идеей невмешательства в естественный ход вещей,
идеей неприкосновенности естества. Данная методология
характерна для схоластической концепции природы.
Напротив, методология экспериментализма построена
на идее допустимости вторжения в естественный ход событий
с целью вычленения в нем разумного, совершенного, 'иде-
ального объекта'. Эта особенность экспериментализма дос-
таточно полно исследована в литературе Практикуемый
современной наукой 'экспериментальный диалог с природой',
пишут, например, И.Пригожин и И,Стенгере, 'подразумевает
активное вмешательство, а не пассивное наблюдение. Перед
учеными ставится задача научиться управлять физической
реальностью, вынуждать ее действовать в рамках 'сценария*
как можно ближе к теоретическому описанию. Исследуемое
явление должно быть предварительно препарировано и изолиро-
вано с тем, чтобы оно могло служить приближением к неко-
торой идеальной ситуации' (28, с.84-85).
Важно подчеркнуть, что экспериментализм появляется
вначале не как чисто научная методология, а как новая
общекультурная установка. Подобно другим универсалиям
культуры, пронизывающим ее тело, она вначале эксплици-
руется и рационализируется философией, чутко реагирующей
на изменения бытия человека в мире. Наука, пишет В.С»Сте-
пин, из большого поля философской проблематики, возникаю-
щей как рационализация категориального строя культуры
той или иной эпохи, 'использует лишь некоторые идеи и
принципы в качестве обосновывающих структур (29, с,53).
Экспериментализм являет собою пример подобного использо-
вания наукой общекупьтурной установки» Социальная психо-
логия, философия, наконец, этика экспериментализма есть
плод социальных, потрясений XV—XVII вв., приведших к
убежденности в неразумности непосредственной дейотвитель-
См. работы А.Койре, В.С.Библвра, А.В.Ахутина,
П.П,Гайденко, В.С.Степина и др. авторов (15, 2, 1, 3,
4, 30).
25
мости и к необходимости сначала найти эту исчезнувшую
из эмпирического мира разумность в умопостигаемом цар-
стве Порядка, Гармонии, Красоты, Справедливости, Закона,
Логоса, а затем внести ее в мир, тем самым преобразуя,
усовершенствуя его.
Современник Галилея, свидетель безумия ЗО-летний
войны. 14 Германии, Хр.Гофмансвальдау противопоставляет
непосредственно данный дисгармоничный мир умопостигае-
мому царству красоты и порядка:
Жизнь - скопище больных в чумном бараке,
Тюрьма, куда мы заперты бедой • ••
Беги, беги от мишуры обманной,
Расстанься с непотребной суетой,
И ты достигнешь пристани желанной,
Где неразрывны вечность о красотой!
(Пер. Л.Гинзбурга) (14, с,252-253).
Вся европейская культура XVI—XVII Вв. была пронизан^
страстным поиском 'нового мира' гармонии, разумности,
совершенства, утраченных обыденной жизнью и обыденным
здравым смыслом средневекового образца. Это стремление
вылилось в мощных интеллектуальных движениях переориен-
тации: в теологии - от томизма к августинианству, в филосо-
фии - от аристотелианства ('оправдывающего' чувствен-
ный мир) к платонизму (разрывающего с миром обыденно-
го сознания), в методологии науки - от эмпиризма к экс-
перимент ал изму,
Экспериментализм, таким образом, как новая культур-
ная установка вырастает из десакралжзации 'естественно-
го', непосредственно данного порядка вещей, из разрушения
доверия к ставшей неразумной наличной действительности.
Сталкиваясь с социальной действительностью, герой
романа современника Галилея Б.Грасиана восклицает: 'И
это называется мир!,, Даже в имени его - обман. Вовсе
оно ему не пристало. Надо говорить 'немир', 'непорядок'
(12, с.114).
26
однако при сохранении убежденности в том, что эта нера-
зумность (доходящая до абсурда) все-таки порождена все-
благой волей и имеет некий высший смысл, конечную разумную
цель (например, стать для человека школой по выплавке добро-
детелей стойкости, самообладания, духовной самостоятель-
ности и т.д.)
Согласно становящейся методологии экспериментализма,
новая наука не может быть наукой об этом чувственно дан-
ном ('старом*) мире, где царит неупорядоченность, дисгар-
мония, неточность: искомая наука может иметь предметом
иной, 'новый* (Декарт) мир, в котором царствует гармония,
порядок, точность и контуры которого 'просвечивают* че-
рез покров 'старого* мира явлений, 'реальных акциденций'»
'Новый мир' как предмет нового естествознания не дан в
непосредственном опыте - для его поиска нужно организо-
вывать специальную 'поисковую экспедицию', специальный
артефакт - эксперимент.Этот 'платонический' поворот в нау-
ке ярко представлен в деятельности основоположников ме-
тодологии экспериментализма Галилея, Декарта, Гоббса,
Бойля, Ньютона. О платонизме Галилея, Ньютона много
писали А.Койре и другие историки науки» Однако важно
подчеркнуть, что этот совсем особый, 'христианизирован-
ный' платонизм существенно отличался от своего антично-
го образца, ибо ставил целью не полный отрыв от мира
обыденности и уход в высоты умозрения, а применение ма-
тематических методов, считавшихся прежде средством поз-
нания интеллектуальных, духовных реалий, к познанию фи-
зического мира (так сказать, низводя 'горний мир' ма-
тематических сущностей на грешную землю эмпирии).
Целый ряд специальных исследований показывает, что
позиция Галилея «в вопросах методологии и эпистемологии
не отличалась цельностью и последовательностью. В разные
периоды жизни и в разных своих работах Галилей склонял-
ся то к платоническому математизму, то к аристотелевско-
му-эмпиризму, окрашенному в скептические тона.
В ранней работе Н592 rJ^O движении' (55) Галилей
подвергает пересмотру аристотелевскую континуалистскую
физику движения, опираясь на идеи античных атомистов и
27
гидростатику Архимеда. Аристотелевская качественная физи-
ка подвергается критике на основании постулата о том,
что во всех телах существует единый род материи, хотя
при этом сохраняется представление о четырех элементах.
Эта точка зрения открывает Галилею возможность исполь-
зования математического подхода к изучению физического
движения с присущими математике свойствами строгой до-
казательности, достоверности. Отход Галилея от аристоте-
левской концепции материи в трактате *О движении' тес-
но связан с его отказом от аристотелевской методологии
эмпиризма: если математические сущности мира абсолютно
точны и строги, то эмпирический мир становления, мир
принципиальной неточности не может без остатка 'сов-
пасть* с математической теорией; поэтому непосредственный
опыт всегда будет противоречить теории. Этот разрыв не-
посредственной очевидности с теоретическим мышлением,
ориентирующимся на математику, Галилей экспилцирует в
трактате ГО движении*. В нем он предупреждает читателей,
что если они попытаются проверить развиваемую им теории^
обратившись к непосредственному опыту, то потерпят неу-
дачу из-за *акцидентальных* помех: для выявления матема-
тической истины физического движения необходимы идеаль-
ные условия (вакуум, идеально гладкая поверхность и т.д.)
Таких условий непосредственный опыт не дает - для этого
необходимы специальные искусственные ухищрения - экспе-
римент.
Американская исследовательница У.Л.Уайзен делает
интересное наблюдение: в трактате *О движении* Галилей
отходит от аристотелевского понимания *естественного*,
державшегося в физике на протяжении столетий (97, с. 8-
9). Для Аристотеля и схоластов *естественное* дано исход-
но в непосредственном опыте; для Галилея же оно скрыто за
*акцидентальными* помехами и может быть обнаружено лишь
в результате активной работы теоретической мысли и экспе-
риментального искусства.
Новизна данной позициипоследовательно развитой в пос-
ледующих работах Галилея, состоит в том, что она уравни-
вает в правах *естественное* и 'искусственное*, ’’cpvais”
28
и которые в античности мыслились как нечто
принципиально несоединимое. Появление в науке этой новой
идеи отражает огромную *работу* европейской культуры по
уравниванию статуса 'натуры' и 'техники-искусства*, дос-
тигшей кульминации в эпоху Ренессанса и Реформации;
* имени о в эпоху Возрождения впервые снимается граница,
которая существовала между наукой (как постижением су-
щего) и практически-технической, ремесленной деятель-
ностью - граница, которую не переступали ни античные учет-
ные, ни античные ремесленники: художники, архитекторы,
строители* (3, с.515).
Падение престижа 'естественного* (в его традицион-
ном понимании как непосредственно данного порядка вещей)
и повышение интереса к 'искусственному* как пути обрете-
ния подлинного естества в эпоху Галилея было обусловле-
но целым комплексом социальных причин. В социальных пот-
рясениях XVI—XVII вв. 'естественное' (и прежде вое го
* естественный* человек, 'венец творения*) скомпрометиро-
вало себя как источник беспорядка, хаоса, гибельного без-
рассудства* Идеи порядка, гармонии и, наконец, истины
начали ассоциироваться в культуре XVI—XVII вв. с поня-
тием * искусственного*, т.е. специальных средств, путей,
методов достижений изначально не находимых в яепосредст**
венной действительности Добра, Красоты, Истины.
В культуре Европы XVI—XVII вв. прочно укоренялось
убеждение, что 'искусственное* не только не ниже 'естес-
венного', но во многих отношениях совершеннее его. Это
убеждение со всей определенностью выражено современни-
ком Галилея Б.Г^асианом. Для него 'природа* ( gen io ) -
всего лишь исходный сырой материал, доводимый искусст-
вом ( ingenio ) до совершенства. *Даже красоте, - пишет
Грасиан, - надо помогать: даже прекрасное предстанет урод-
ством, ежели не украшено искусством, что удаляет изъяны
и полирует достоинства. Природа бросает нас на произвол
оудьбы - прибегнем же к искусству! Без него и превосход-
ная натура останется несовершенной. У кого нет культуры,
у того и достоинств вполовину. От человека, не прошедшего
хорошей школы, всегда отдает грубостью; ему надо шлифо-
29
вать себя, стремясь во всем к совершенству* (12 с.7).
Совершенством является лишь союз натуры и искусства,
скрепляемый усердием (12, с. 8).
С XVII в. начинается эпоха увлечения всем искусствен-
ным. Если живая природа ассоциировалась с аффектами,
отраслями, свойственными 'поврежденной* человеческой
природе, хаотическими влечениями, разделяющими сознание,
мешающими его 'центростремительным* усилиям, то искусст-
венные, механические устройства, артефакты ассоциировались
с систематически-раз умным устроением жизни, полным
контролем над собой и окружающим миром. Образ механиз-
ма начинает обретать в культуре черты сакральностщ нап-
ротив, непосредственно данный, естественный порядок ве-
щей, живая природа, полная таинственных скрытых качеств,
десакрализуются. Именно из этой общекультурной установ-
ки рождается идея экспериментального метода в науке, ме-
тодология экспериментализма, санкционирующая использова-
ние искусственных 'ухищрений* для познания естественного
порядка вещей, санкционирующая метод идеализации
Руководствуясь этой установкой, Галилей 'реформирует*
тот опыт, который наука делает своей эмпирической базой.
Он редуцирует непосредственную очевидность до элементов,
которые могут быть выражены в математических терминах*
Касаясь этой Галилеевой реформы аристотелевского эмпи-
ризма, известный канадский историк науки Р.Баттс в статье
'Тактика пропаганды Галилеем математизации научного
опыта* реконструирует 'философию науки' Галилея,
кратко сводя ее к трем основным положениям: 1. Наука
трактует не о тех вещах, о которых нам говорят наблю-
дения невооруженным глазом, а о тех экспериментальных
возможностях, которые выразимы в математических терми-
нах. 2. На определенном регулятивном уровне (на котором
методические соображения преобладают над онтологичес-
кими) - экспериментирование не является попыткой под-
Подробнее в Галилеевом методе идеализации см,(72а)
2)
Ее реферат помещен в данном PC.
30
твердить теорию повторами; скорее, «экспериментирование
оказывается способом усмотрения теоретических возмож-
ностей, причем последние всегда питаются концепцией реаль-
ности как набора математических свойств» 3» Материя не-
доступна для обыденного восприятия, она суть физически
интерпретированная геометрия (37, с»81-82)»
Комментируя эти три положения, Баттс пишет, что
они свидетельствуют о стремлении Галилея отказаться от
обычного наблюдения, не вооруженного специальными тех-
ническими средствами, как от эмпирической основы науки.
Эти положения говорят о том, что 'наука должна быть го-
това иметь дело с 'вымышленными ситуациями» Экспери-
мент в конечном счете есть именно создание ненормаль-
ных (с точки зрения норм здравого смысла), артефактных
ситуаций. Конечный вывод Галилея очевиден: научный опыт -
это тот вид опыта, который необходим для определения
истинности или ложности математических возможностей,
а вовсе не тот вид опыта, в котором как об основе науки
говорили Аристотель и его последователи' (37, с»82).
С Галилеем в науку нового времени мощно входит
'жесткая' методология экспериментализма. Однако это не
значит, что она целиком вытесняет старую аристотелевс-
кую методологию эмпиризма - методологию непосредствен-
ного наблюдения над 'жизнью' объекта: последняя продол-
жает жизнь в таких 'мягких' науках, как география, био-
логия и т,п., ориентирующихся на создание 'естественной
истории' своего предмета.
Обратимся теперь еще к одному важному для наукове-
дения принципу - принципу системности, играющему наряду
с методологической установкой на анализ исторического
контекста важную роль в современных исследованиях науки
и ее истории»
Принцип системности в исследовании науки:
связь эпистемологии Галилея с его концепцией
материи и экспериментальной методологией
Принцип системности обладает для исследователя науки
большой эвристичностью. В частности, он заставляет предполо-
31
жить внутреннюю целостность интеллектуального мира Га-
лилея (включающего онтологические, гносеологические, ме-
тодологические, аксиологические аспекты), в котором многие
современные исследователи усматривают достаточно бео-
системный конгломерат идей, установок, концепций. Ориен-
тация на принцип системности помогает осознать, что при
всей их пестроте и противоречивости, представления Гали-
лея об объекте, о познающей субъекте (и его возможностях)
и о методах познания объекта образуют устойчивую целост-
ность. Попытаемся показать это на анализе связи его ато-
мистическо-корпускулярной концепции материи, методологии
экспериментализма и их гносеологической рефлексии. Но
прежде остановимся на анализе одного широко распростра-
ненного в философской и историко-научной литературе мне-
ния, которое, как и ряд рассмотренных нами выше, можно
отнести к разряду методологических мифов.
Речь ядет о мнении, согласно которому специфически
новой чертой гносеологических учений Галилея, Декарта,
Лейбница, Локка является постулирование ими полной гпроэ-
рачности* сущности физического объекта для познающего
субъекта, открывающей возможность абсолютно достоверного
познания сущности природных процессов,^опирающегося на
опыт.
В действительности же, как показывает целый ряд сов-
ременных исследований (70, 73, 79, 80, 86, 90), пафос
основоположников философии и науки нового времени, начи-
ная с Николая Кузанского и Декарта и кончая Локком и
Ньютоном, состоял в том, чтобы противопоставить аристо-
телевско-схоластическому догматизму, как раз постулиро-
вавшему полную 'прозрачность* сущности физического объекн
та, более трезвую и скромную, впитавшую элементы скеп-
тицизма, гносеологическую позицию: человек может достовер-
но познавать только то, что доступно полному контролю
его мысли (истины математики^ самопознания); сущности
же физического мира не доступны для познающего субъек-
32
те * он может рассчитывать здесь лишь на более или ме-
нее вероятное знание связи явлений 1),
В противоположность эссенциалистской концепции есте-
ственного знания Аристотеля и его средневековых последо-
вателей, постулирующей возможность познания сущности
вещи (вещи, как она есть сама по себе), отличительной чер-
той новой концепции естественного Знания является ее
предположительной/ гипотический, пробабилистско-веооят-
ностный характер. Эти перемены имеют глубокие социаль-
ные корни.
Вырвав человека из почвы традиционной слитности с
конкретными формами деятельности, лишив его средневеко-
вой укорененности, социальные потрясения эпохи перехода
от средневековья к новому времени создали благоприятней-
шую почву для социальной психологии и философии пробаби-
лизма, философии 'как если бы'» Лишившись ореола сакраль-
ности, единственности и неповторимости, 'естественное'
бытие теперь оказывается лишь одним из возможных вари-
антов бытия в обширном мире 'искусственного'. Этим отк-
рывается богатая творческими потенциями 'игровая ситуа-
ция', перспектива создания 'возможных миров' во всех
областях культуры. И культура начинает проигрывать эти
возможности: моральный пробабилизм, возведенный иезуита-*
ми в ранг изощренной игры с совестью, взрыв социальных
Локк пишет: 'Я склонен думать» что как бы далеко
человеческое рвение пи подвинуло вперед . •• основанное
^на опыте познание физических тел ••• В этих вопросах
мы не должны претендовать на достоверность и докаэатель*
ность' (25, с.543). Ньютон пишет: 'Мы видим лишь фор-
мы и цвета тел, мы слышим* лишь звуки •. • но сами суб-
станции или сущности мы не познаем ни чувством, ни в
акте рефлексии и, таким образом, мы имеем о них не бо-
льше понятия, чем слепой о цветах' (76, с.361). (См.
также: 26, с.661.) То же самое утверждает и Лейбниц:
'Мы относимся к бесконечному множеству вещей во все-
ленной и их качествам, подобно тому как слепые относят-
ся к цветам' (22, с,395). 33
5-1
утопий, исключительный интерес к театру, математическая
теория игр, теория вероятностей, "новый мир" Декарта,
пробабилистская гносеология Лейбница и Локка и, наконец^
экспериментальный метод в науке - вот плоды постепенного
освобождения культуры XV—XVII от принудительной
единственности "естественного" 1'.
В этой обстановке терпит кризис как аристотелианская
физика, трактующая о единственности, неповторимости и со-
вершенстве Космоса, так и аристотелианско-схэластическая
убежденность в достижимости совершенного, абсолютного
знания об этом Космосе, знания сути вещей, так сказаты
целей и замыслов бога относительно физического мира
В эту эпоху расцвета философского скептицизма мате-
матика остается практически единственным островом незыб-
лемости, достоверности, хотя некоторые радикально настроен-
ные мыслители, например^ Гассенди, и ей отказывают в
статусе абсолютной достоверности в смысле аристотелев-
ского epistemes Однако подавляющее большинство мысли-
телей XVI—XVII вв., в том числе и "новых прирроников"
(сторонников Монтеня, Шаррона, Бодена, Санкеэа, Кастел-
лиона), относили математику к разряду абсолютно досто-
верного знания.
7 Николай Кузанский утверждает: "Ничто не может
быть только природой или только искусством, а все по-свое-
му причастно обоим" (19, с.253).
2)
Гассенди в "Парадоксальных упражнениях против
аристотеликов" пишет: "Если у нашего интеллекта и есть
какое-то знание, то это есть опытное познание многочислен*
ных видимостей... Ты возразишь, что на основании тех ве-
щей, которые подлежат опыту или являются чувством, интел^
лект может делать заключение о вещах более глубоких.
Я отвечу: нельзя с помощью рассуждений проникнуть глуб-
же того, что в свою очередь может быть проверено на опы-
те или представлено как некая видимость. Мы, в общем,
отрицаем возможность проникнуть в сокровенную природу ве-
щей" (10, с.387).
34
Эта позиция характерна, например, для Николая Казан-
ского, оказавшего большое влияние на Галилея. Настаивая На
предположительном характере человеческого знания о ми-
ре Кузанский пишет: *В нашем знании нет ничего дос-
товерного, кроме нашей математики* (20, с. 162). Только
в математике, говорит Николай Кузанский, 'человек есть
второй бог* (20, с,99), только в математике он - полно-
властный хозяин над вещами, лишь здесь он обладает зна-
нием точным и достоверным: 'математические предметы,
происходящие из нашего рассудка и, как мы знаем, суще-
ствующие в нас как в своем исходном начале, познаются
нами - в качестве принадлежащих нам, или нашему рассуд-
ку, сущностей - точно, то есть с той рассудочной точностью,
от которой они происходят* (20, с,161), Физические же
объекты, утверждает Кузанский, как 'произведения боже ста-
венного творчества, исходящие из божественного ума, оста-*
ются для нас, как они есть, в точности неведомыми. И на-
ше познание их есть построение предположений на основа-
нии подобия фигуры форме. Поэтому точное познание всех
произведений божественного творчества может быть только
у того, кто их произвел, И если мы что-нибудь знаем о
них, то только с помощью отражений в зеркале и символиче-
ском намеке ведомой нам математики, то есть так, как мы
знаем создающую бытие форму по фигуре, которая создает
бытие в математике* (20, с.161).
Позиция Галилея по данному вопросу близка позиции
Николая Кузанского, В 'Диалоге* Галилей устами Сальвиа-
ти утверждает, что 'человеческий разум познает некоторые
истины столь совершенно и с такой абсолютной достовер-
ностью, какую имеет сама природа; таковы чистые матема-
тические науки, геометрия и арифметика' (6, с,201).
Однако это утверждение касается только лишь математи-
ческого познания, но не познания сущности природных объек-
тов, По поводу последних Галилей,как и Кузанский, зани-
См, об этом (4, с,55-6б).
5-2
3S
мает совсем иную позицию: 'Крайней дерзостью всегда
казалось мне, - говорит он, - стремление сделать челове-
ческую способность разумения мерой того, что природа
может и умеет сотворить, тогда как, наоборот, нет ни
одного явления в природе, как бы мало оно ни было, к пол-
ному познанию которого могли бы прийти самые глубокомы-
сленные умы' (6, с. 199)
В развитой, зрелой, метафизически обоснованной форме
концепция предположительности экспериментального физичео»
кого знания, впитавшая элементы 'умеренного скептициз-
ма', появляется к середине XVII в. - в гипотетической
физике Декарта, в вероятностной концепции естественного
знания Лейбница и Локка; она становится гносеологичес- •
кой платформой Королевского общества в Англии. Важней-
шим понятием данной концепции явилось понятие моральной
достоверности ( certi tudo moraliis ), которое позволило
включить в корпус достоверного знания экспериментальное
знание, приблизив его к уровню математической доказа-
тельности Л Это новое понятие появляется в трудах Де-
карта, Лейбница, Локка. Позиция же Галилея в этом смысле
* Аналогичную позицию мы найдем у многих мысли-
телей-механицистов XVII в. Например, Декарт уверенно
говорит о достижимости достоверного и очевидного знания,
только когда речь идет о математике (13, с.329). В выс-
казываниях же о физике его стиль совершенно меняется:
'показалось бы, пожалуй, дерзновенным, - пишет он, -
если бы я стал утверждать, что нашел истины, которые не
были открыты для других ... я все, о чем будут писать
далее, предлагаю лишь как гипотезу, быть может и весьма
отдаленную от истины' (13, с.510). То же самое мы на-
ходим у Лейбница: 'Как бы далеко человеческая пытливость
ни подвинула вперед опытное исследование физических тел, -
пишет он, - я склонен думать, что мы никогда не достигнем
в этой области научного познания' (22, с.39б), если мы
считаем, что 'Паука есть достоверное познание'( 23,с.419).
2)
Подробнее этот вопрос рассмотрен нами в (16).
36
(как и Бэкона) является 'переходной.', непоследовательной.
Исследователи (97, 98, 72) обнаруживают у Галилея две
эпистемологические ориентации - традиционный аристотелев^
ский эсоенциализм и умеренный скептицизм, близкий пози-
ции 'новых пирроников'.
У.Уайзен и Э. Мак-Маллин связывают одну из этих
ориентаций (установку на достижение строгого, достовер-
ного знания в смысле античного epi stem о* ) с работами
Галилея по механике, другую 'умеренно скептическую', до
пускающую эмпирическую аргументацию, - с работами в
области астронрмииСв особенности о письмами о солнечных
пятнах),
В ранних работах - в трактатах 'О движении*, 'Космо-
графия* (55, 54), относящихся к 1590-м годам, Галилей,
разрывая с физикой (но еще не космологией) Аристотеля,
сохраняет аристотелевскую эссенциалистскую методологию,
убежденность в достижимости знания сущности вещей.
Ранний трактат *О движении*, пишет У.Уайзен, характеризу-
ется жестким платоническо-математическим регоризмом, не
позволяющим аргументам от эмпирии вторгаться в ход
строгих доказательств и отводящим им лишь иллюстратив-
ную роль. В 1602 г. Галилей пишет своему патрону Гви-
добальдо дель Монте, что относительно материальных пред-
метов невозможно математически достоверное знание (цит,
по: 97, с.10). В дальнейших исследованиях 1612-1613 гр,
(например, тел, плавающих в воде), Галилей смягчает свою
позицию^ ищет способов аргументов от эмпирии в общую
иерархию доказательств. Однако Галилея при этом беспо-
коит 'конфликт между его идеалом доказательной науки,
берущей в качестве образца Евклидову геометрию, и труд-
ностью следования этому идеалу, когда речь заходит о
чем-то большем, чем элементарнейший тип механической
теории' (97, с. 15).
Методологические трудности возросли, когда он, при-
няв истинность коперниканства, должен был оправдать эту
истинность перед лицом критика-скептика (эту позицию
заняла, в частности, церковь). И если для Галилея принци-
пы механики обладали статусом не гипотез, требующих
37
экспериментального подтверждения, а 'несомненных и оче-
видных' аксиом (98), то новую космологическую концеп-
цию - систему Коперника - он должен был поставить в
положение гипотезы, чью достоверность необходимо, было
защищать всеми мыслимыми средствами - от эксперименталь-
ных, до логических и психологически-пропагандистских,
одновременно демонстрируя несостоятельность ее альтерна-
тив. !)•
Э.Мак-Маллин, как и У.Уайэен, приходит к выводу, что
в работах Галилея присутствуют две различные концепции
естественнонаучного знания. Первая ориентируется на стро*
гую доказательность, восходящую к античности (Евклид,
Архимед) и относится к работам по механике. Другая -
'ретродуктивная' - концепция знания особенно отчетливо
выражена в исследованиях явлений, источники движения
которых либо удалены (кометы, солнечные пятна), либо
загадочны (движение Земли), либо• невидимы (атомы, сила
пустоты) (72, с.262).
Последняя позиция, требующая экспериментального
подтверждения исходных предположений - гипотез и не нао
таивающая на познании истинной сущности вещей, ярко вы-
ражена в 'Письмах о солнечных пятнах' (57). В них (осо-
бенно во втором письме) Галилей принимает скептический
взгляд на способность человека познавать 'истину и внут-
реннюю сущность' природных субстанций, удовлетворяясь
возможностью познания только отдельных их свойств - тех,
которые допускают математическую трактовку. В этот пе- ?
риод Галилей склоняется 'к умеренному скептицизму (по-
добному развитому позже Гассенди и Me роенном), который
оставляет достаточно места для позитивного • • • отноше-
ния и к математическому, и к эмпирическому знанию, но
избегает проблемы 'истинных сущностей' (97, с.24).
1>0б этих трудностях CM.t Drake S. Galile o’s steps to full
Copernicanism, and back//Studies in history a. philosophy of
science.-Oxford; Elm ford, 1987.-Vol. 18, N l.-P. 93-105.
38
Мы можем констатировать парадокс: схоласты, лишь
повторявшие Аристотеля, провозглашали достижимость
абсолютно достоверного знания субстанций, сущностей мира,
Галилей же, внесший важнейший вклад в создание нового
естествознания, предпочитал говорить о возможности поз-
нания лишь некоторых математически описываемых акци-
денций, явлений. Например, в 1640 г. в переписке с арис-
тотеликом Ф.Личети Галилей подчеркивал, что он нигде не
высказывался о природе (сущности) света, что всегда
старался держаться 'свидетельств опыта' и что в исследо-
вании природы его интересовало лишь то, как ее действия
являются человеку, а не то, что они есть на самом деле
(83, с.30), Признание всей серьезности скептического
аргумента (который мог выдвинуть и критик-иезуит, и тео-
лог августианианско-неоплатонической ориентации) - аргу-
мента, требующего 'высшего' доказательства истинности
предлагаемой новой теории - заставляло Галилея в 'Диало-
ге' (как и многих других мыслителей XVII в.) ограничить
сферу достоверного знания чистой математикой (6, с,201).
Эта же скептическая позиция, столь характерная для
европейской культуры XVI—XVII вв., сыграла свою стиму-
лирующую роль в той реформе опыта как эмпирической ба-
зы науки, о которой мы уже говорили во втором разделе
статьи. Галилей прекрасно понимал, что опыт сам не мо-
жет дать всеобщего и необходимого доказательства. Более
того, тот опыт, который Галилей хотел сделать основой
физического экспериментирования, противоречил непосредст-^
венной чувственной данности: он требовал 'видеть' непод-
вижность Солнца и подвижность Земли, атомы и пустоту,
равномерное движение в отсутствие движущей силы и т.п.
Именно поэтому этот новый 'странный' тип опыта, поте-
рявший преимущества непосредственной привычной нагляд-
ности, должен был обрести другое достоинство - макси-
мальную насыщенность количественными параметрами,
приближавшую его к строгой доказательности математики.
Здесь важно подчеркнуть существенное различие между
античным скептицизмом и 'умеренным скептицизмом', ко-
торому отдавали дань основоположники науки нового време-
38
ни. Методологией античного скептицизма, объявлявшего сущ-
ности физического мира непознаваемыми, являлся радикаль-
ный эмпиризм - установка на изучение непосредственной
эмпирической действительности с целью установления правдопо-
добных (вероятных) принципов, объяснявших мир и являв-
шихся руководством в житейской практике. Методологией
же, связанной с 'умеренным скептицизмом* Галилея, Гас-
сенди, Мероенна, Бойля, Ньютона, с вероятностной концеп-
цией естественного знания Лейбница и Локка, являлся эко-
перименталиэм. Эту внутреннюю связь новой гносеологичес-
кой позиции с новой методологией четко эксплицирует У. Ши,
анализируя физику Галилея: *поскольку природа тел никогда
не будет полностью понята из той части их поведения, ко-
торой доступна восприятию, интерпретируемые (то есть не-
ге ометризированные) факты могут служить только сырьем,
исходным материалом науки. Чувственные восприятия те-
перь уже не могут служить надежными проводниками к дос-
товерному знанию, и роль эксперимента состоит лишь в
том, чтобы подтвердить или отвергнуть то, что было уже
дедуцировано, исходя из геометрических соображений* (93,
с.105).
Схоластическому аристотелиэму, стремившемуся объяс-
нять мир во всей его ноповторимой качественной специфи-
ке, стремившемуся *спасать явления* видимого мира, Га-
лилей противопоставляет математически ориентированную
физику, редуцирующую все чувственное многообразие явле-
ний до *первичных качеств*, поддающихся количественному
описанию. Атомистическая концепция материи Галилея, отож-
дествлявшая ее с количеством и делавшая предметом новой
физики лишь допускающие математическое описание 'пер-
вичные качества*, оказывается теснейшим образом связан-
ной о отказом от аристотелевского эмпиризма и с приня-
тием методологии экспёриментализма: философское различе-
ние Галилеем 'первичных* и 'вторичных* качеств 'имело цен-
ность открытия понимания того, что от природы можно ожи-
дать ответов, если ею манипулировать контролируемыми
способами* (37, с.бв).
40
Аналогичным образом существует тесная внутренняя
связь между новым, 'аскетическим* корпускулярно-меха-
нистическим пониманием телесной субстанции, - как скла-
дывающимся предметом экспериментальной науки, и вероят-
ностным, -со щепоткой скепсиса, характером новой гносео-
логической рефлексии.» Т. Гоббс писал: 'В тех вещах, кото-
рые являются недоказуемыми, а к ним относятся большая
часть натуральной философии (поскольку они зависят от
движения таких мелких тел, которые оказываются невидимы-
ми) » » • наибольшее, чего можно достичь - это установить
такие мнения, которые не могут быть опровергнуты опытом
и из которых нельзя было бы с помощью правильных аргу-
ментов вывести нечто абсурднее* (66, с. 128).
Как справедливо подчеркивает Л.Лаудан, угрозу для
аристотелевско-схоластического эмпиризма и эсоенциализ-
ма представляла не 'макромеханика* Галилея (ориентирую-
щаяся на традиционные евклидовско-архимедовски аксиома-
тическо-дедуктивные идеалы) и даже не коперниканская кос-
мология, а *микромеханика" (атоматическая теория материи)
В ней все рассуждения в принципе могли быть лишь априор-
ными, гипотетическими» Традиционный способ узаконивания
той или иной физической теории с помощью ссылки на ее
происхождение из чувственного опыта уступил место дру-
гому» Если научные гипотезы, пишет Лауд ан, должны извле-
каться не из опыта (from experience), то единственной
альтернативой остается проверка истинности гипотетичес-
кого знания, построенного вопреки опыту (against expe-
rience), через эмпирическую проверку его следствий.
'Опыт и эксперимент в понимании философов-механицистов
начинает играть роль проверки теоретической науки, подт-
верждения ее стремления быть наукой 'об* этом мире'
(70, с.23). Для аристотелианской науки в таком удосто-
верении не было необходимости: если основные принципы
теорий извлечены 'из природы', дальнейшее сравнение ее
выводов с природой излишне» *Для ученых же середины
XVII в» изначальная генетическая связь теории с обыден-
ным опытом становится утерянной, и единственный способ
удостоверения теории должен быть найден в апостериорном
сравнении теории с опытом' (70, о»231-
Таким образом, сущность методологической новизны
философских систем XVII в. заключается в признании гипо-
тетического характера теоретического знания. 'Это приз-
нание было тесно связано с изменением в экспериментальном
основании науки ... с движением от 'контекста открытия'
к 'контексту оправдания' (7Ot с. 24).
Новая концепция материи (предмет познания), новый
экспериментальный метод познания и новая теория позна-
ния оказываются элементами единого комплекса, единой
системы, которая благодаря деятельности Галилея и других
основателей науки нового времени заменила другую целост-
ную систему. Элементами последней были аристотелевско-
схоластическая концепция телесности (признававшая воз-
можность существования акциденций вне субстанций), эмпи-
ризм как методологическая установка и эссе нци а л истекая
теория познания (утверждавшая возможность достоверного
познания сущностей телесного мира). Основной аксиологи-
ческой установкой, питавшей этот мировоззренческий ком-
плекс, являлся принцип невмешательства в естественный
порядок вещей, сакрализующий непосредственно данную
действительность. Новый же концептуальный комплекс, в
формирование которого внес огромный вклад Галилей (меха-
нистическая концепция материи, методология эксперимента-
лизма и вероятностная концепция естественного знания)
был пронизан совершенно новой ценностной установкой -
преобразования действительности, десакрализующей непосред-
ственно данный мир очевидности.
Возвращаясь к проблеме, поставленной в начале данного
раздела статьи, подчеркнем, что сказанное делает понятным,
насколько принцип системности, требующий от исследовате-
ля науки рассматривать изучаемый им предмет как элемент
целостной системы, важен, особенно когда таким предме-
том является наука прошлого. Ориентация на принцип сис-
темности позволяет не делать из Галилея, скажем, эмпири-
ка аристотелевского типа или из Ньютона - догматика по-
зитивистского образца.
Завершая данный раздел статьи, подчеркнем, что
применение принципов системности и контекстуализма в
42
современных исследованиях науки способствует выявлению
историко-научных мифов и превращению историографии нау-
ки в подлинную социально-гуманитарную науку.
♦ ♦
*
Материалы настоящего реферативного сборника посвя-
щены кругу вопросов, которых мы коснулись выше.
Книга Дж.Дофине 'Космос Данте' и статья М.Мак-Мор-
риса 'Наука как scientia ', рефераты которых помещены
в начале реферативного сборника, рисуют тот образ мира
и идеал знания, который был характерен для догалилеевс-
кой эпохи, и поеодолевая который, рождалась наука ново-
го времени.
Следующий раздел сборника посвящен атомизму как
новой концепции материи и движения, разработка которой
нашла выражение в трудах Галилея, Гассенди и других осно-
воположников механистического естествознания. В этот раз-
дел вошли рефераты уже рассмотренной выше книги П.Ре-
донди 'Галилей-еретик' и критического отклика на нее
П.Костабеля 'По поводу 'дела Галилея', рефераты статей
Г, Ле Гранда 'Геория материи Галилей и А. Мол ленда 'Ато-
мизация движения: грань научной революции', а также ре-
ферат статьи М.Ослер 'Крещение эпикуровского атомизма',
в которой рассматриваются проблемы социализации идей
атомизма и роль П.Гассенди в этом процессе.
В следующий раздел сборника включены материалы,
касающиеся теоретико-методологического и практического
вклада Галилея в создание экспериментального метода в
науке. Реферат статьи Р.Баттса 'Тактика пропаганды Га-
лилея в защиту математизации научного опыта' рисует
образ Галилея - теоретика и пропагандиста новой методо-
логии экопериментализма, противопоставляющего ее тра-
диционному аристотелевскому эмпиризму. Новый тип
опыта, который Галилей кладет в основу физики и астро-
номии, подчеркивает Р.Баттс, насыщен математической
точностью^ он исключает те традиционные эмпирические
6-2
43
компоненты, которые не поддаются количественному описа-
нию как иррелевантные.
Опасность модернизации методологии Галилея, превра-
щающей ее в разновидность современного гипотетико-де-
дуктивного метода, отмечается канадским историком науки
У*Ши в статье 'Галилей и оправдание экспериментов' (ее
реферат помещен в данном разделе реферативного сборника),
У,Ши вслед за У.Уайзен (98) подчеркивает, что Галилей рас-
сматривал свои принципы механика не как гипотезы, тре-
бующие экспериментальной проверки, а как 'очевидные и
истинные' аксиомы. И его эксперименты здесь имеют цель
показать читателю очевидность исходных принципов, Гали-
лей здесь прибегает к традиции иллюстрирования основных
принципов простыми экспериментами и дальнейшего обраще-
ния с этими принципами как с уже известными фактами
(91, с.89-90).
Сторонники концепции, рисующей Галилея индуктивистом-
эмпириком, часто прибегают к телескопическим, наблюде-
ниям Галилеем Луны как к подтверждению своей позиции. Пос-
ледние они трактуют следующим образом: наблюдая в телескоп
пятна на лунной поверхности, изменявшие в течение суток
свои очертания, Галилей пришел к выводу и том, что это
тени, отбрасываемые лунными горами под лучами Солнца,
что доказывает сходство Земли и Луны и разрушает схо-
ластическую теорию принципиального различия надлунного и
подлунного миров.
Американский историк науки Р.Эрью в статье 'Галилеев-
ские наблюдения Луны в контексте средневековой теории
Луны' (ее реферат включен в данный раздел PC) ставит под
сомнение приведенную концепцию, Р,Эрью показывает, что,
приступая к телескопическим наблюдениям лунной поверх-
ности, Галилей заранее исходил из посылки, что (в отличие
от схоластической точки зрения) поверхность Луны неровна?:
эта теоретическая посылка и позволила ему интерпретировать
пятна на лунной поверхности как горы, следовательно, 'отк-
рытие' лунных гор было просто следствием данной посылки,
а не ее доказательством. Это означает, вопреки сторонни-
кам индуктивистского методологического мифа, что Галилей
44
не опроверг с помощью экспериментаЬьных данных схолас-
тическую теорию Луны, а предложил новую теоретическую
альтернативу: в рамках традиционной лунарной концепции
противников Галилея те же телескопические наблюдения
трактовались как неравномерно светящиеся участки поверх-
ности Луны.
Роль телескопических наблюдений Галилея в создании
эмпирической базы новой космологии рассматривается так-
же в статье А.Чалмерса 'Наблюдения Галилеем Венеры и
Марса с помощью телескопа', реферат которой включен в
данный раздел сборника.
Следующий раздел реферативного сборника посвящен
концепции научгого познания Галилея. В статье Э.Мак-Мал-
лина 'Концепция науки в трудах Галилея', рефератом кото-
рого открывается данный раздел, показывается, что Галилее*
ва концепция научного знания не обладала цельностью: в
ней отчетливо выделяются две различные модели знания.
Одна ориентируется на математически строгий архимедовс-
кий идеал доказательного научного знания, другая - допус-
кает менее строгие аргументы от эмпирии. Э.Мак-Маллин
в данном вопросе разделяет точку зрения У.Уайэен (кото-
рой мы касались выше), подчеркивавшей наличие у Галилея
наряду с 'догматической' архимедовской концепцией знания
другой, 'умеренно-скептической' концепции, ориентирующей-
ся на познание математических сторон явлений и избегаю-
щей проблемы познания 'истинных сущностей' физического
мира.
В статьях М.Финоккьяро 'Философия науки Галилея' и
'Галилей и искусство рассуждения: риторические основания
логики и научного метода' (рефераты которых включены в
данный раздел сборника) предпринята попытка реконструк-
ции концепции научного знания Галилея исходя из характера
построения научных текстов Галилея - в основном его
'Диалога' и 'Бесед'. В частности, М.Финоккьяро подчерки-
вает, что в 'Диалоге' Галилей, говоря о статусе математи-
ческого знания, утверждает идею его абсолютной достовер-
ности,- но будучи примененным к физическим явлениям, оно
теряет этот статус абсолютной достоверности, аподиктич-
ности,превращаясь в вероятное предположение.
7 4S
Вопросы о том, кем был Галилей в области методологии
и теории познания - платоником или аристотеликом, рациона-
листом или эмпириком, математиком или экспериментатором -
имеют давнюю историю и богатую литературу. Одни иссле-
дователи рисуют Галилея типичным ученым-эксперимента-
тором, другие вообще сомневаются в реальности проведения
многих из описанных им экспериментов. До 1961 г. никто
из исследователей не пытался воспроизвести эксперимент с
наклонной плоскостью, описанный Галилеем в 'Беседах'.
Попытка, предпринятая Т.Сеттлом (89), показала возмож-
ность получения Галилеем описанных им результатов (хотя
и не подтвердила самого факта проведения Галилеем этого
эксперимента), что окрылило сторонников концепции 'Гали-
лей-эмпирик*. Однако вскоре Р.Нейлор (74) обнаружил
расхождение между описанием Галилея и экспериментом
Т.Сеттла. казалось бы, наметившаяся ясность снова исчез-
ла, оставляя проблему открытой.
П.Макхеймер в статье 'Галилей и причины* (ее реферат
включен в данный PC ) склоняется к мнению, что стремле-
ние историков науки мыслить деятельность Галилея непре-
менно в рамках оппозиций 'платонизма - аристотелизм',
'математизм - экспериментализм', 'рационализм - эмпиризм'
вырывает науку Галилея из когнитивного контекста XVI—
XVII вв. С точки зрения Макхеймера, Галилей был вклю-
чен в ренессансную интеллектуальную традицию, еще недос-
таточно изученную, которая сплавляла воедино элементы фи-
лософии неоплатонизма и аристотелиэма, физику и матема-
тику, умозрение и наблюдение. Трактовка Галилеем причин-
ности, релевантной новой науке, являет, по мнению П. Мак-
хеймера, пример теоретического синтеза указанных философ-
ских направлений. Проблеме причинности у Галилея посвя-
щен также реферат статьи Дж.Питта 'Галилей: причинность и
использование геометрии'.
Сборник завершается разделом, освещающим оценку
научного вклада Галилея современным католическим истеб-
лишментом. Известно, что скандальный процесс над Гали-
леем, приведший к его осуждению в 1633 г. католической
церковью, воспринимался и мировой научной общественностью,
46
и многими представителями католицизма как позорное пятно
для католической культуры» В конце концов, это привело
руководство католической церкви к необходимости 'закрыть*
'дело Галилея*, признав его осуждение печальной ошибкой.
Этой цели, в частности, служит сборник статей * Галилео
Галилей: 350 лет истории (1633-1983)* (60,61), выпу-
шенный к 350-летней годовщине процесса над Галилеем по
инициативе комиссии, созданной папой Иоанном-Павл ом II.
Рефераты двух статей этой книги включены в данный рефе-
ративный сборник. Одна из них - статья теолога-иезуита
М.Вигано * Галилей и философская культура его времени*,
другая представляет собой текст заявления папы Иоанна-
Павла II 'Величие Галилея совершенно очевидно', в котором
подчеркивается идея недопустимости вторжения в научный
поиск со стороны светских и духовных властей: наука в
своем поиске истины имеет право на автономию.
В целом данный реферативный сборник дает представле-
ние о принципах современных исследований науки на конк-
ретном примере анализа науки эпохи Галилея. Материалы
сборника могут оказаться полезными для философов и исто-
риков науки, для специалистов, интересующихся научным
наследием Галилея, а также для преподавателей вузов.
Л.М.Косарева
47
1. ОБРАЗ МИРА И ИДЕАЛ ЗНАНИЯ ДО ГАЛИЛЕЯ
ДОФИНЕ ДЖ.
КОСМОС ДАНТЕ
DAUPHIN^ J.
Le cosmos de Dante.
—P.: Belles lettres, 1984. —213 p
Джемс Дофине анализирует структуру космоса у Дан-
те, подчеркивая, что его космология создавалась не на пус-
том месте, но аккумулировала в себе влиятельные фило-
софские, космологические и астрономические теории. Поэто-
му изучение дантовской космологии дает возможность
своеобразной, но органичной точки зрения на науку поздне-
го средневековья.
Прежде всего рассматривается вопрос о теоретических
источниках воззрений Данте. Самое большое влияние ока-
зал на него Брунетто Латини, и не столько его религиоз-
ные доктрины, сколько его личность. Но Данте изучал
также Альберта Великого, Фому Аквинского, Дионисия
Ареопагита, Птолемея, переводы арабских авторов, Ороза,
де Флора, Боэция, Августина, Аристотеля и Виргиния. Он
изучал право, медицину, астрономию.
Среди классических источников автор называет Пифа-
гора, Платона, Аристотеля. Чаще всего Данте в своих про-
изведениях обращается к Аристотелю. Пифагора Данте счи-
тал одним из основоположников философии и взял некоторые
черты его космологической системы. Платон для него не
только адепт философии и божественной любви, но и соз-
датель прекрасных метафор (с. 14). Платон и Пифагор -
48
6328
предтечи, а Аристотель - учитель. От Аристотеля Данте
взял непосредственный и широкий взгляд на мир: физику и
метафизику, учения о природе и морали. Структура мира
для Данте, как и для Аристотеля, была стабильной, что не
противоречило и христианской трактовке (с. 17).
Автор рассматривает религиозные источники. Он от-
мечает, что на Данте большое влияние оказали отцы церк-
ви, затем Бонавентура, Бернард Клервосский (именно они
повлияли на выработку космологического видения Данте),
а также Альберт Великий, Фома Аквинский и псевдо-
Дионисий. Книга Альберта Великого о метеорах, написан-
ная под влиянием Птолемея и арабских мыслителей, а так-
же Галена, привела Данте к идее о связи четырех возрас-
тов человеческой жизни с комбинациями двух пар противо-
положных качеств: теплого- холодного и сухого-влажного.
Под их влиянием он выделил этапы жизни микрокосма. В
"Пире"!) Данте, следуя Альберту Великому, устанавливает
связь между телами, освещенными солнцем, и небесными
душами, отражающими божественный свет. И в "Божествен-
ной комедии"^) космология света навеяна Альбертом Вели-
ким. Сам Альберт Великий был учителем • Фомы Аквинского
и старался приблизить взгляды Аристотеля к учению хрис-
тианства. В "Божественной комедии" Фома Аквинский ста-
новится небесным гидом к самым высшим тайнам. Поэт
почерпнул в его религиозных работах не только содержание
и доктрину, но и методы (с. 19). Кроме Альберта Вели-
кого и Фомы Аквинского, большое влияние на Данте оказал
Дионисий Ареопагит и его учение о небесной иерархии. В
то же время он не отбрасывает и иерархические подразде-
ления, вводимые Фомой Аквинским, поскольку, несмотря
на расхождения в деталях, эти иерархии подчиняются од-
ному и тому же математическому и символическому урав-
Данте Алигьери. Пир 7/ Данте Алигьери. Малые про-
изведения. - М., 1968. - С. 112-269.
2)
Данте Алигьери. Божественная комедия. - М., 1982,-
640 с.
7-1
49
нению 3x3 + 1 = 10 = единица более высокого разряда.
Влияние мистических и религиозных сочинений, в особеннос-
ти Фомы Аквинского, определило не только космологичес-
кие представления, но и саму структуру 'Божественной
комедии', так как, по мысли автора, схема космоса — это
и есть схема создаваемого Данте произведения. Круги
небесных сфер, руководимые ангелами, задали литератур-
ный ритм 'Божественной комедии'. 'Иерархия становится
правилом всех вещей; она оправдывает их все. И наука
XIII в. не может обойтись без нее' (с. 21).
В качестве научных источников представлений Данте
автор называет Сократа, Платона, Анаксагора, Галена,
Эмпедокла, Гиппократа, Аверроэса, Авиценну, Птолемея.
Изучение астрономии сыграло большую роль в формиро-
вании мировоззрения Данте. В Х1П в., как известно,
астрономия и астрология были тесно связаны. Данте же
отвергал влияние планет на судьбу человека, что не озна-
чает, будто астрология совсем его не интересовала. Арис-
тотель, Платон и Пифагор предлагают поэту систему мира,
где наука о звездах подкрепляет его представления о
целесообразности мирового порядка. Как и Аристотель,
Птолемей был авторитетом для Данте, чему мы находим
подтверждение в 'Пире'. Он подчеркивал, что система
александрийского астронома согласуется с откровением.
Птолемей для Данте представляет тип астронома-ученого;
его учения основаны на наблюдениях и математике. Сам
Данте был очень восприимчив к 'измеримому' характеру
мира. 'Для него поэтический космос есть в то же время
космос математический' (с. 23). Данте неплохо знал со-
чинения последователей Птолемея: Авиценны, Аверроэса,
аль-Фрагана, Альбумазара. Его интересовали их вычис-
ления, методы, терминология, подходы к летоисчислению.
Арабские астрономы пробудили его интерес к арабской
культуре. Поэт знал месячные и годовые движения светил,
а также теорию эпициклов. Астрономия и астрологические
мифы сливались в науке о числах, в которых сам Данте
видел основу архитектоники своего труда. В то же время
для Данте истина - дочь христианской религии. Но астро-
50
номия Птолемея, как и космология Аристотеля, прочитан-
ная сквозь призму интерпретаций Фомы Аквинского, не
противоречат религии. В них поэт находит особые краски и
средства для поэтического представления космоса - гармо-
ничного, иерархизированного и подчиненного законам
чисел.
Для ученых ХШ в. космос есть результат конструк-
тивной мысли. Поэтому порядок и организация отмечают
всю структуру космоса. Замысел Данте состоит в том,
чтобы показать единый принцип в устройстве всего мира
как гармонического иерархизированного целого. Принцип
организации мира помогает ему определить иерархию
среди населяющих его существ. Данте доказывает, что
ангелы, души людей и животных связаны непрерывным пере-
ходом. Между животными, человеком, ангелом существу-
ют единые связи. Принцип иерархии связан у Данте с
"открытым* ведением мира. Человек может стать ангелом,
поэт - сыном божественного света, воспевающим бога,
двигаясь от круга к кругу. Иерархия, пронизывающая Все-
ленную, подразумевает божественную волю.
Данте уделяет особое внимание иерерхии небесных сил.
Она в его поэтическом творении организует не только ан-
гельские хоры, но также порядок планет. Этому паралле-
лизму планет и ангелов соответствует определенная клас-
сификация научных знаний. Девять ангельских чинов и трои-
ца соответствуют десяти небесным сферам и видам знания.
Так, серафимы соответствуют сфере неподвижного перво-
двигателя и морали; херувимы - сфере неподвижных
звезд - физике и метафизике. Таким же образом Юпитер
оказывается связанным с; геометрией, а Солнце - с ариф-
метикой. Архангелы соответствуют сфере Меркурия и
диалектике; Луна в иерархии планет занимает то же место,
что ангелы в небесной иерархии и грамматика - в иерар-
хии знаний.
Божественная троица пребывает в сфере десятого,
неподвижного неба; в иерархии знаний ему соответствует
самое высшее - теология. Отсюда исходит свет, дающий
движения небесным сферам, а также и человеческой душе.
7-2
51
В этой космологии света зло связывается с тенью, а мир
зла превращается в искаженный образ и бледнеющий отб-
леск мира света.
В 'Божественной комедии' концепция бога, его атри-
бутов и власти приводит поэта к синтезу научного и хрис-
тианского понимания космоса. Вселенная для Данте, как и
для его современников, - это привилегированное место для
гармонии. Данте часто прибегает в своих произведениях
к музыке небес. Можно предположить, что он знал анало-
гию между планетами и музыкальными нотами. Десять
небес в космологии Данте, в отличие от девяти небес у
Птолемея, соответствуют культу числа 'дестять*.
Человек находится посередине иерерхической лестницы.
Это самое совершенное животное; его превосходство про-
истекает из разума и души. Человек способен к совер-
шенствованию и красоте. Признание человеческого совер-
шества позволяет установить связь между макрокосмом и
микрокосмом. Как говорилось в текстах, приписываемых
Гермесу Трисмегисту, все, что вверху, соответствует
тому, что внизу, 'и целый ряд философов от античности
до Ренессанса будут использовать эту формулу, чтобы ха-
рактеризовать отношения мира и человека' (с. 41). Сторон-
ник философии микрокосма, Данте проводил параллель между
возрастом человека (совершенный возраст 81 год =
= 9 х 9), гаммой десяти небес и временами года. Каждая
планета управляет девятилетним периодом. Например, в
72-81 год человек находится под влиянием сферы непод-
вижных звезд, а начало его жизни, до 9 лет, отмечено
влиянием Луны. Но взгляд на человека как на микрокосм
ценен для Данте не сам по себе, а лишь как средство для
спасения души. Быть человеком - это не только быть в
согласии со Вселенной, но в контакте с богом, не пытаясь
при этом уподобляться богу.
В построении дантовского космоса, делает вывод ав-
тор, произошла встреча двух культур, античной и христианс-
кой. Но этот синтез является поэтическим чудом, позво-
лившим слить воедино фантазию, жизнь, науку и религию.
52
Важные аспекты космологии Данте выявляются при ана-
лизе его представлений о времени и пространстве, полу-
чивших свое выражение в самой архитектонике путешествия
от ада к раю. Ад - это царство полночи» путешествие в
чистилище начинается на рассвете, а раю соответствует
полдень. Таким образом, путь, проделанный Данте и
Вергилием, оказывается как бы днем творения, или вре-
менным процессом, ведущим из темноты к божественному
свету. Автор разбирает, в какой день недели и время су-
ток Данте переходит из одного круга ада в другой, и под-
черкивает, что все временные интервалы в поэме подчи-
няются строго определенному замыслу. Драма ада - это
то, что единственный закон в нем - время. Вечность стра-
дания и наказания, день всегда ночь, время - это веч-
ность без солнца. И только Данте ощущает здесь время,
потому что он не проклят (с. 53),
В чистилище временная структура менее очевидна,
потому что ночь уступает место суточной системе. Когда
поэт достигает рая, временное определение пропадает,
его место занимает пространственное определение.
Вызывают интерес и географические уточнения, дава-
емые Данте. Его представления о географии соответству-
ют знаниям ХШ в. Он не противоречит ни религиозным,
ни научным авторитетам своего времени. Средневековое
географическое пространство - это в некотором смысле
религиозное пространство, вера в создание гармоничес-
кого мира, построенного вокруг Иерусалима. Данте развит
вает эту идею, и Иерусалим становится существенной точ-
кой отсчета календаря его путешествия. 'Религиозная
география' Данте представлена в трех частях 'Божествен-
ной комедии'. Он с большем тщанием выписывает тополо-
гию ада, чистилища, земного рая и рая небесного. По
Данте, земная суша располагается в Северном полушарии,
а в Южном, посреди Океана, на горе помещается Чисти-
лище. На вершине горы располагается земной рай. В этом
Данте отходит от средневековой традиции, помещавшей
земной рай либо на Востоке (в Сирии), либо на Севере,
по направлению к Полярной звезде. Но в то же время це-
53
ной странной непоследовательности Данте возвращается к
традиции, признавая, что в этом земном раю берут истоки
реки Тигр и Ефрат.
В пространстве небесного рая, где нет более времени,
и растояния становятся бесконечными, неизмеримыми. Бо-
жественное пространство трансцендирует меру. Однако при
помощи поэтических образов и чисел поэт переводит невы-
разимое в конкретное.
Символическое значение всегда оказывается для Данте
более важным, чем точность деталей. Так, в первой песне
гЧистилища*, описывая рассвет, Данте помещает Венеру
в созвездие Рыб. Однако в 1300 г., к которому, судя по
всему, Данте относит свое путешествие, астрономы и
астрологи не фиксировали Венеру в созвездии Рыб. Данте
не мог не знать положения Венеры. Перед нами - не ошиб-
ка, не неточность, но символ. Венера в созвездии Рыб
есть Мать, возвещающая о Сыне. Таким образом, язычес-
кий символ Венеры, матери Купидона, трансформируе’г-
ся в христианский символ Девы, матери Христа. *... Хрис-
тианизированная поэтическая космология берет верх над
точностью деталей сюжета* (с. 73). Данте тем самым
вовлекает человека в сложный мир чисел и в тайны духов-
ности. Как его космос не признает беспорядка, так и его
искусство не признает непоследовательности и необосно-
ванности. Установить порядок - это основная идея, кото-
рую Данте пытается провести в каждой песне и части
своей поэмы. Его поэтическая и космологическая Вселен-
ная, родившаяся из чисел и веры, в первую очередь явля-
ется символической.
Как утверждает Дофине, поэма представляет также
развитие человечества во времени. Данте написал новую
Библию, для которой он стал проповедником и апостолом.
Это теологический итог для обучения будущих поколений,
памятник вере, который опирается на игру чисел. *Все
есть число: человек, космос и поэма* (с. 91). В *Бо-
жественной комедии* Данте прибегает к аллегориям и ар-
хетипам, но все они связаны с числами. Поэтическая кон-
струкция связана с числами 3, 7, 9. Стихи сгруппирова-
ны в 11, 22, 33, 66 стихов.
54
Данте, констатирует Дофине, заимствовал некоторые
космологические представления античной культуры. Не
случайно, что Беатриче, осуждая в целом Платона, не отри-
цает его заслуг. Найти единство среди множества вещей -
это постоянное направление мысли Данте. Он как бы чи-
тает античные мифы в свете Евангелия, поэтому у него
соседствуют боги Олимпа и Христос (с. 102). В космо-
се, где все говорит о боге, каждое существо выражает
себя в своих отношениях с божественным светом. Божест-
венный свет у Данте - это жизненная сила, фигура сози-
дательной добродетели, в которой объединяются ум и лю-
бовь. Божественный свет породил природу, придал форму
подлинному миру.
Понять свет - значит найти бога. Космос, сын бо-
жественного света, связан с огнем. Но если в поэзии Дан-
те смешивает божественный свет и огонь, то в своей фи-
лософской и религиозной мысли он их разделяет: свет -
это божественное, огонь - материальное. Скалы, мир кам-
ня и хаоса в аду - препятствие свету. Отсутствие света -
отсутствие святого духа. В чистилище свет очищает души
и организует материю. Луну, Венеру, Меркурий, Солнце,
Марс, Юпитер Данте изображает в тонах, присущим схо-
ластикам, но Сатурн, традиционно сумрачный, у него ока-
зывается светящимся и прозрачным, потому что он нахо-
дится в преддверии небесных уровней Святой троицы.
Связь Христа и Солнца, заимствованная из Библии, ос-
тается для поэта фундаментальной идеей, которая подтвер-
ждает его космологическую систему. Все отражется во
всем: все, что наверху, устроено так же, как и то, что
внизу. Встреча этих двух миров, линия горизонта, разде-
ляющая космос, воплотилась у Данте в мотив зеркала.
Солнце часто появляется в 'Божественной комедии',
и создается впечатление, что все вращается вокруг него.
Это впечатление подкрепляется символическим деревом,
вершина которого находится на уровне бога, а ветви -
небесных сфер. Мотив космического дерева почерпнут в
восточных и персидских легендах. Это дерево - источник
знания .и очищения.
55
Космос имеет двойную шкалу: физическую и духовную.
Центром физического мира является Земля, на которой про-
исходит борьба добра и зла. От Солнца исходит вера в
виде луча, милосердие в виде круга, надежда в виде света.
Познать круг- значит обладать божественным Солнцем.
Космос, где нет хаоса, - это мир, где бесконечность не
может иметь смысла, писал Данте в "Пире*. Мир органи-
чен, бесконечным может быть /только бог. Небесная
сфера и круг, геометрическая основа космоса, соответст-
вуют у Данте "совершенному" ведению Вселенной в его
эпоху.
В заключение автор отмечает, что изучение поэтичес-
кого видения космоса предполагает размышления над интел-
лектуальными, теологическими и метафизическими вопро-
сами, которыми занимались Данте и его современники.
Произведения поэта неотделимы от идей его времени. Он
отдает предпочтение космологической и космогонической»
схеме космоса, продолжая традиции античности (Аристо-
тель) и находясь под влиянием Фомы Аквинского. Принцип
организации космоса, по Данте, есть иерархическая струк-
тура.
Создав поэтический образ этой иерархии, основой кото-
рой является свет, а основой эстетики ее изображения -
взгляд, видение, - Данте сумел построить синтез религии
и науки; античной культуры и христианского откровения;
науки и поэтического воображения. Наука является необ-
ходимой составной частью его конструкции. Изучение Дан-
те, таким образом, помогает понять, как средневековая
наука могла вписываться в контекст религиозных и эсте-
тических ценностей эпохи. Поэма Данте даёт "вменив
столь гармоничное, какого литература никогда не создава-
ла до и не создаст после..." (с. 158).
А. Н. Антонов
МАК-МОРРИС М.Н.
НАУКА КАК SCIENTIA
McMORRIS M.N.
Science as scientia//Physise
-Firenze, 1981.-A. 23, fasc.2.-P. 171-181.
В статье М.Н.Мак-Морриса из Вест-Индского универ-
ситета (физический факультет) делается попытка описать
тот тип научного знания, который был характерен для ев-
ропейской традиции на протяжении полутора тысячелетий от
Аристотеля до XII в. и изменением которого характери-
зуется научная революция XVII в. Анализ этого типа
научного знания, систематическое представление которого
было дано впервые в трудах Аристотеля, необходим автору
для решения более обширной задачи — очертить различие
в характере научного знания до и после XVII в. Автор
считает, что толчком к формированию нового взгляда на
науку, который был явно выражен в XVII в. Фрэнсисом Бэ-
коном, послужила 'концептуальная революция' ХШ в.
Намеки на этот новый взгляд обнаруживаются у Роджера
Бэкона, но появившиеся элементы не получили распростра-
нения в то время. В чем состояла 'концептуальная ре-
волюция' Х1П в., в данной статье не рассматривается;
видимо, эта тема, как и последующие этапы, станут пред-
метом дальнейших исследований автора.
Задача данной статьи такова. Автор отталки-
вается от статьи С. Росса 'Ученый: история сло-
57
где проведен также и терминологический анализ
слов, обозначающих науку в разные периоды ее развития,
и принята точка зрения, что слово 'наука' (science) по-
лучило в речи значение преимущественно естественной
физической науки, тогда как латинское слово scientia, к
которому этимологически восходит французское и затем
английское "science*.*, имеет значение 'доказательное
знание'; и это словоупотребление соответствовало быто-
вавшему тогда типу научного знания, где науки были об-
ластями философии. В связи с этим Мак-Моррис ставит
себе целью выяснить содержательную сторону эволюции
этих понятий: начальный пункт - античность, конечный не
обозначен, но явно после революции XVII в. Философский
анализ понятий проводится параллельно терминологическо-
лингвистическому анализу.
Из обширного замысла автора данная статья реализу-
ет первую часть, анализ аристотелианской концепции, кото-
рая сохраняется неизменной вплоть до ХП в.; анализ
суждений Боэция, а затем средневековых мыслителей
ХП в. накануне нового открытия аристотелевской науки
должен свидетельствовать о непрерывности традиции.
При этом под 'наукой' автор разумеет познание и по-
нимание природы. Как таковая, она существовала в тече-
ние тысячелетий, хотя методы, какими это познание осу-
ществлялось, были разными. Характерными для новой науки
являются математизация и экспериментирование, но они
оказались плодотворными лишь для изучения физических и
биологических предметов, тогда как живопись, политика,
риторика и другие области оказались вне сферы их прило-
жения. Наука как scientia охватывала более широкий
набор познавательных областей, так что в нее были бы'
включены 'и музыка, и мораль, и магия, и метафизика'
(с. 175). Что касается физических и биологических пред-
метов в древности и в средние века, то, как пишет автор,
^Ross S. Scientist: The story of a word//Anna!s of science.—
L.t 1962. -Vol. 18, N l.-P. 6&-85. •
58
'они и тогда были 'наукой', но использующей другую ме-
тодологию, так что их следовало бы назвать натурфилосо-
фией' (с, 174-175). Автор оговаривается, правда, что
наряду с натурфилософией, которая представляла собой тео-
ретическую деятельность 'ученых' того времени, сущест-
вовал и другой тип знания, который правильно было бы
назвать 'естественной историей'. Поэтому переход scien—
tia в science надо понимать, по мнению автора, как
'параллельную трансформацию, благодаря которой натурфи-
лософия г естественная история стали 'наукой' (с. 175).
Что же такое было та наука, которая именовалась
scientia? Разбор этого вопроса Мак-Моррис начинает с
аристотелевской системы, охватывающей всю область науч-
ных предметов, обсуждавшихся в то время. Общей и все-
объемлющей задачей философа Аристотель считает задачу
достижения доказательного знания обо всем, что можно
знать. Знание вообще есть прерогатива философии, эписте-
мологическая задача в принципе является философской.
Поскольку все предметные области знания, которые покры-
ваются теперешней наукой, входят наряду с , другими в эту
задачу, - ибо природа, по Аристотелю, есть только Родин
особый род бытия, - то наука не мыслится отдельно от
философии. Знание, охватывая все роды бытия, делится на
теоретическое, практическое и созидательное; в качестве
примера для каждого класса автор приводит соответствен-
но математику, политику и скульптуру. По своим тредмет-
ным областям разные знания имели бы равное достоинст-
во, считает автор, степень научности знания в каждой
предметной области определяется другим. Выясняя, в чем
видит Аристотель специфику эпистемологической задачи
философа, автор как раз и показывает, чем определяются
градации научности.
Знание вещей - это знание их причин, а ответ на воп-
рос 'почему', 'который у Аристотеля ведет к сущности
вещей, в течение столетий был центральной задачей фило-
софии' (с. 177). Но достоверное знание, трактующее при-
чины или сущность вещей, 'знание (episteme) ... того,
чт<4 есть и того» почему есть', как пишет Аристотель во
S9
"Второй аналитике", более точно и первично, в противопо-
ложность знанию первого отдельно от последнего. Способ
получения такого знания - доказательство посредством
силлогизма, и именно такое знание, доказательное (epis—
feme apodeiktike )t выделяется из всей сферы знания как
особое, достоверное знание. Именно по этому признаку
большей достоверности знание имеет более высокий эпис-
темологический статус - теоретическое знание - или более
низкий - практическое знание и далее созидательное.
Достоверность теоретического знания основана на ме-
тодах вывода достоверных заключений из очевидно истин-
ных посылок, как в геометрии, и именно такое знание по
преимуществу может быть названо научным. Те еретические
науки - это метафизика, физика и математика. "Физика
(или наука в нашем понимании), - пишет автор, - была
просЮ областью знания наряду с другими, подчиненными
философскому^ требованию силлогистического доказатель-
ства" (с. 177). Она располагается где-то между геомет-
рией, с ее доказательной строгостью, и политикой, которая,
имея меньшую достоверность, относится уже к практичес-
ким наукам. Физика, правда, ближе к первой и попадает
в разряд теоретических наук.. Подводя итог своему анализу
аристотелевской философии, Мак-Моррис подчеркивает неот -
личимость науки в тогдашнем ее понимании от той стороны
аристотелевской философии, которую следует назвать эпис-
темологией, что обнаруживается и в термине apodeiktike
epi steme; он подчеркивает также, что именно доказатель-
ство было ядром эпистемологии.
Последняя часть статьи посвящена краткому рассмот-
рению последующей традиции, долженствующему подтвердить
взгляд автора, что вплоть до ХШ в. на Западе наука
оставалась по-прежнему apodeiktike episteme; латинское
выражение scientia demon strati va если и не совсем
эквивалентно, то во всяком случае сопоставимо, по мнению
автора, с греческим оригиналом в том отношении, что в
;ем сохраняется смысл науки как доказательного знания.
Термин scientia появляется в контексте, сопостав-
ляющем знание и мудрость. Как пример такого сопостав-
60
пения, автор приводит изречение стоиков: 'Мудрость есть
знание (scientia) вещей божественных и человеческих*.
Правда, средневековая традиция, начиная с Боэция, в от-
личие от стоиков, разводит мудрость, как относящуюся к
божественному, и знание ( scientia )t 1 касающееся не-
божественного, природного и человеческого. То, что соот-
ветствовало бы нашей науке, считает автор, попадает в
сферу scientia.
Далее автор приводит соображения трех известных мыс-
лителей XII в. - Гильберта Порретанского, Джона Са-
лисберийского и Доминика Гундиссалина, чтобы показать,
что по-прежнему в силе представление Аристотеля о том,
что достоверное знание (доказательная наука) есть лишь
часть той обширной области, что охватывается понятием
знания вообще. * Вовсе не вся наука есть доказательство,
но лишь та, что основана на истинах, которые первичны и
непосредственны, - цитирует автор Джона Саписберийско-
го. - ... Внутренняя природа науки - стремиться к дока-
зательству (цит. по: с. 181). Понимание науки как scien-
tist demon strati va автор находит и у Гундиссалина.
Приведя свидетельства такого понимания науки у мыс-
лителей, относящихся к разным стратам культуры XII в.
(самостоятельная пиния Шартрской школы и находящаяся
под арабским влиянием традиция переводчиков), различий
которых автор, впрочем,, не акцентирует, он находит воз-
можным резюмировать свой анализ утверждением, что от
Аристотеля до XII в. существовала непрерывная традиция»
трактовки науки как ’’scientia” (с. 181).
В.П.Гайденко
61
II. АТОМИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАТЕРИИ
И ДВИЖЕНИЯ ЭПОХИ ГАЛИЛЕЯ
РЕДОНДИ П.
ГАЛИЛЕЙ-ЕРЕТИК
REDONDIP.
Galileo eretioo.—Torino:
Elnaudi, 1983.—483 p.
В своей новаторской работе французский историк нау-
ки Пьер Редонди прослеживает исторические судьбы гали-
леевского атомизма на фоне одной из центральных теоло-
гических проблем XVI—XVII вв. - физической трактовки
таинства евхаристии, а также на фоне широкой и подробной
картины политической и культурной жизни Рима второй чет-
верти XVH в. Работа базируется на ряде уникальных
документов, обнаруженных автором в архивах Святейшей
инквизиции в Риме - в их числе анонимный донос на Гали-
лея. Основой непримиримого конфликта между Галилеем и
влиятельными католическими идеологами - (о. Орацио Грао-
си и шире - Римской Коллегией Общества Иисуса - да-
лее ОИ) автор считает атомистическую теорию вещества,
изложенную в трактате ЧПробирных дел мастерг (далее
'Пробирщик')11. Традиционная точка зрения, считающая
основой конфликта гелиоцентризм, оставляет необъяснен-
ными ряд существенных фактов, основной из которых -
интеллектуальная эволюция Г, Галилея.
Галилей Г. Пробирных дел мастер. - М., 1987. -
272 с. Атомистическая теория вещества изложена Галилеем
в главе XVIII (с. 221-228).
62
Основной атомистической интуицией в XVI—XVII зв.
являлась корпускулярная демокритовская теория света и
тепла - теория ’’minimi ighei”. Весной 1611 г. Галилей
привез с собой в Рим образец вещества, недавно обнару-
женного болонскими алхимиками - так называемую "Сол-
нечную губку". Будучи освещенным, оно светилось в тем-
ноте, давая слабый, холодный свет и не освещая окру-
жающие предметы. Это доказывало, что свет не является
качеством прозрачной среды, но является субстанцией,
’’corpo quanto”, запасаемой в солнечной губке. Понятие
субстанции света напоминало современникам Галилея о
метафизике Книги Бытия, т.е. о свете, созданном до мира.
Спустя некоторое время, в обстановке интеллектуального
подъема, вызванного открытием солнечных пятен, корпус-
кулярную теорию света формулирует дон Бенедетто Кастел-
ли, ученик Галилея. Он обсуждает ее в переписке с Галиле-
ем. Свет и тепло, по Кастелли, демонстрируют механичес-
кое действие и могут изменять структуру тел. Галилей
проявляет осторожность и призывает к осторожности
своего ученика. Он требует от него "необходимых дока-
зательств" и обязательного соответствия "чувственному
опыту", другими словами, он требует от него следовать
основным и необходимым методологическим (но не физи-
ческим) канонам аристотелевской науки. Однако нетелео-
ные качества (свет) для Галилея и его школы были не-
приемлемы, и конфликт с аристотелевской методологией
становится неизбежным. Галилей продолжает разрабаты-
вать атомистическую теорию. В 1612 г. в работе о те-
лах, плавающих в воде!), Гайилей использует демокри-
товскую идею об атомах огня, чтобы объяснить процесс
таяния льда.
Галилей Г. Рассуждение о телах, пребывающих в во-
де // Галилей Г. Избранные труды: В 2-х т. - М., 1964.-
Т. 2. - С. 39-107.
63
Реакция на эти теории не замедлила себя ждать. В
начале 1615 г. от о» Лорини, флорентийского доминикан-
ца, приходит донос на имя кардинала Сфондрети, префекта
Конгрегации Индекса, С точки зрения о.Лорини, галилеев-
ское истолкование физики Книги Бытия, метафизика Солнца
и следующий из нее гелиоцентризм противоречат мнениям
Святых отцов. Уже в этот момент в католицизме явст-
венно обозначаются интеллектуальные полюса и соотве'г-
ствующие им борющиеся политические партии - новаторов
и традиционалистов.
Партия новаторов, пишет автор, опирается на книгу,
""вдохновленную Богом*, Библию, и Книгу природы, также
написанную Богом, поднимая на щит августинианскую
теологию; партия традиционалистов опирается на теологию
Фомы, книги Аристотеля (в форме, приданной ему Суаре-
сом) и акты Т^идентского собора.
Во главе партии новаторов стоял кардинал Маффео
Барберини, будущий папа Урбан VIII, флорентиец, гума-
нист, мистик, поэт. В 1600-х годах вокруг него кристал-
лизуется мощное интеллектуально-культурное движение,
вдохновленное новаторской августинианско-платонической
теологией и, шире, новаторским поиском более адекватной
времени католической культуры. В русле этого течения
возникает множество новых академий* и в том числе -
Академия деи Линчеи, которую основал и поддерживал гер-
цог Федерико Чези, близкий друг будущего папы Урба-
на VIII, а в то время влиятельного кардинала Маффео
Берберини. Интеллектуальное ядро академии деи Линчеи,
с которой был тесно связан Галилей, составляли влиятель-
ные в Римской Курии люди: Ф.Чези, Дж.Чиамполи, В.Че-
зарини. Однако ядро партии новаторов составляли не столь-
ко светские интеллектуалы, сколько новаторы-теологи,
имевшие реальное влияние на политику Курии, такие как,
например, генерал ордена регулярных клериков-миноритов
64
о.Дж.Гевара, (осуществлявший теологическую экспертизу по
доносу на Г.Галилея в Гб24 r.)D
Во главе партии традиционалистов стоял ее виднейший
идеолог, кардинал Роберто Беллармино. Во время процес-
са над Галилеем ее возглавляет посол Испании в Риме кар-
динал Фр.Борджиа. Они разрабатывают и направляют контр-
реформационную политику Церкви. Теология же, основанная
на принципе авторитета, и теологическая философия разра-
батывается в интеллектуальном центре ордена иезуитов -
крупнейшем университете того времени - Римской Колле-
гии ордена (Г|эегорианский университет). Личными врагами
Г.Галилея становятся о.Орацио Грасси - видный профессор
математики Римской Коллегии и лучший архитектор Рима,
личный советник кардинала Беллармино по вопросам науки
(и, по всей видимости, автор доноса 1624 г. на Г.Га-
лилея) и о.Кристофер Шейнер - близкий друг о.О.Г^осси,
профессор Римской Коллегии, крупный астроном (спорив-
ший с Г.Галилеем о приоритете в открытии солнечных пя-
тен).
Возвращаясь к теоретическому конфликту Галилея и
Кастелли - с одной стороны, и о.Лорини - с другой, от-
метим, что, принадлежа к партии новаторов, Галилей и
Кастелли в интерпретации явлений света опиваются на
трактат св. Августина 'Бытие между строк'^), а сторон-
ник партии традиционалистов о.Лорини опирается (в соот-
1)для традиционной концепции процесса над Галилеем
является труднообъяснимым тот факт, что эксперты-теологи
Специальной Комиссии, осудившей Галилея в 1632 г.
(А.Ореджи, З.Паскуаличо) во главе с племянником папы
Урбана VIII кардиналом Франческо Барберини (ближайшим
другом Галилея в Курии) принадлежали, как и Галилей, к
партии/ новаторов. Факт, находящий естественное объясне-
ние в новой концепции 'дела Галилея', предлагаемой Пье-
ром Редонди. - Прим. реф.
2)
Augustine A. De Genesi ad litteram.— Приведено
по* реф. источнику (с. 14).
а 1
65
ветствии с логикой вещей) - на книгу виднейшего тридент-
ского идеолога, доминиканца Мельхиора Кано 'Теоло-
гия* 1) - другими словами, на принципы томистско-арис-
тотелианской традиции. Демонстрация согласия этой 'новой
философии' и католической веры дана Галилеем в извест-
ном письме апостолическому референдарию в Риме, тео-
логу о.Пьетро Джи (с. 14). В нем Галилей обращается к
авторитету св. Августина и к неоплатонизму в духе
св.Дионисия-Ареопагита. Когда речь идет о гелиоцентриз-
ме, он не предъявляет 'необходимых доказательств' , но
защищает метафизику Солнца - центра Вселенной ссылками
на Книгу Бытия и псалом 18. Он обращает внимание адре-
сата на согласие этих отрывков с идеей эманации света
болонским камнем, блеском звезд и солнечными пятнами.
Этот неоплатонический герметиэм в духе Патрцци был осуж-
ден одновременно с гелиоцентризмом Коперника в 1616 г.
Были запрещены книги Коперника^ августинианца Диего
ди Зуньика и кармелита Паоло Антонио Фоскарини.
Однако Галилей продолжает развивать атомистическую
теорию строения вещества. Он поднимает вопросы о формах
частиц, о природе их сцепления, о сжатии и расширении
тел - 'Вопросы сложнейшие в естественной философии' -
в письме генуэзцу Джиовани Батисту Балиани в 1619 г.
В 1623 г. в 'Пробирщике' он преобразует их в теорети-
ческую программу, нацеленную против аристотелевской
картины мира. Физические качества тел, такие, как тепло
и цвет, которые считались реальными (в смысле средне-
векового реализма) в аристотелевско-схоластической физике
и знание о которых считалось, достоверным и служило ос-
нованием всего* ее здания, объясняются Галилеем через
кинематические и механические свойства и действия ма-
териальных корпускул. В частности, тепло объясняется про-
никновением в тело частиц огня. Физические качества
объявляются субъективными ощущениями: 'По этой причине
CanoM. Loci theologici.— Приведено по реф. источ-
нику (с. 14).
66
я думаю», что вкусы, запахи, цвета и другие качества не
более чем имена, принадлежащие тому объекту, который
является их носителем, и обитают они в нашем чувстви-
лище*^'. В 'Беседах'^) (1638) он также ставит вопросы
о сжатии, расширении тел и соединении частиц тел. Это
кажется продолжением и развитием идей 'Пробирщика',
и так и рассматривалось многими историками науки. Од-
нако в поздних работах Галилея имеется существенное
концептуальное новшество - отождествление атомов тела и
математических точек. Материю в 'Беседах* составляют
"parti non quanti” частицы, лишенные протяженности и
фигуры. С этой работой Галилея мы переходим в абстракт-
ный, математический мир. В 1640 г. выходят две книги
аристотелика Ф.Личети о природе света, в которых он упо-
минает материалистическую теорию света 'Пробирщика*.
23 июня 1640 г. в письме к Винченцо Вивиани Галилей
пишет опровержение, отрицая какую-либо материалистичес-
кую природу света и даже тепла. В переписке с Личети он
утверждает, что нигде не высказывался о >природе света,
что всегда придерживался 'истин факта и свидетельств
опыта', что во всех действиях природы его всегда интере-
совало лишь то, как эти действия природы являются че-
ловеку, но не то, что они есть на самом деле. Он отри-
цает, что когда-либо враждебно относился к аристотелев-
ской физике и утверждает, что всегда придерживался ее
методологических канонов. Как можно объяснить подоб-
ную идейную эволюцию Галилея? Самое важно то, что в
этих и иных письмах Галилей продолжает (с необходимой
осторожностью) отстаивать гелиоцентризм, полностью подт-
верждая свои старые астрономические взгляды (с. 30).
Есть и иные свидетельства, нуждающиеся в объяснении.
Галилей Г. Пробирных дел мастер... с. 223.
2)
Галилей Г. Беседы и математические доказательства,
касающиеся двух новых отраслей науки // Галилей Г. Из-
бранные труды: В 2-х т. - М., '1964. - Т. 2. - С. 109-
403.
67
9-2
Первый биограф Галилея В.Вивиани называет "причиной всех
несчастий, вызвавшей клевету*, книгу "Пробирщик". Про-
фессор Римской Коллегии, коллега о.Грасси, .Кристофер
Пэинбергер свидетельствует: "Если бы Галилей сумел
сохранить симпании отцов Римской Коллегии, он жил бы
во славе в этом мире и не произошли бы все эти неприят-
ности, и он мог бы писать на любые темы по своему вы-
бору, и даже о движении Земли" (цит. по: с. 43).
Какова же была политическая история трактата "Про-
бирщик"? Галилей был членом Академии деи Линчей с
1611 г. В 1613 г. Академия публикует в Риме трактат
о солнечных пятнах, встав таким образом на сторону
Галилея в полемике о приоритете с иезуитом о.Шейнером.
Но теперь этот спор приобретает более широкое культур-
ное значение. В переписке по поводу трактата Галилей ут-
верждает, что авторитет мнения тысячи в науке не стоит
единого рассуждения одного человека, если это рассуж-
дение освящено "благодатью Божественного Мастера,. ис-
точника истины и света". Книга природы, написанная Бо-
жественным Мастером, противопоставляется им книгам
Аристотеля. Последние - тюрьма для разума. С этого мо-
менТа возникает открытая, явная вражда философов-новато-
ров и официальных философов-иезуитов Римской Коллегии.
Этот университет в начале XVII в. был гордостью орде-
на. Близилось время исполнения пророчества его основа-
теля, кардинала Фр.Борджиа: "придет время, когда вашей
гордости и вашей воле не будет больше пределов" (цит.
по: с. 157). Университет отличался высоким качеством
обучения. В нем не было характерного для университетов
застоя и геронтократии. Одновременно в нем обучалось
2000 студентов. Были три теологические кафедры (по-
зитивной, казуистической и теологии против ересей), но
особенно замечательно было поставлено преподавание древ-
них языков (еврейского, греческого) и математики. В
Римской Коллегии работали первоклассные ученые в об-
ласти астрономии, геометрической оптики, арифметики,
геометрии, архитектуры, географии, хронологии. В момент
выхода "Пробирщика" вое поколение римских математиков
68
прямо или косвенно являлось учениками о.Кристофера Кла-
виуса. Астрономия была представлена именами Кр.Грин-
бергера, Никколо Лукки» Кр.Шейнера. Физика же» однако»
не находилась на такой высоте ввиду идеологической нап-
равленности Коллегии. Аристотель преподавался на основа-
нии Суареса» Толето и Перейры. Автор характеризует Кол-
легию в области математики и астрономии как одно из
первых и первоклассных научных сообществ. Официальная
философия Общества Иисуса - 'теологическая философия'
мыслилась отнюдь не как фанатичное следование Аристо-
телю. Гораздо более» чем честь Аристотеля» ее заботит
союз между философией и верой против 'новомодных
ухищрений современных еретиков'. Эти принципы изложены
в знаменитом труде о. Перейры 'Об общих началах .и дей-
ствиях всех природных вещей' 1) и в трудах о.Суареса.
Основываясь на них» официальная философия отвергает
гелиоцентризм. Отрывки Св.писания» несовместимые с ге-
лиоцентризмом» немногочисленны» и ни один Собор никогда
не настаивал на геоцентризме как на догмате. Однако ге-
лиоцентрическое истолкование Библии связано с разруше-
нием принципа авторитета. Поэтому 24 феврая 1616 г.
Св.инквизиция осуждает книги о.Коперника» о.Зуньика и
о.Фоскарини, тем самым осуждая августиновское направле-
ние в экзегетике (направленное в сторону 'фигурального
истолкования')» в пользу дословного. 3 марта этого же
года Конгерегация Индекса ратифицирует это положение.
Хотя постановление Св.инквизиции и не считалось 'ис-
тиной веры', однако после ратификации нарушить такое
постановление могли только кардиналы и папа. В сентябре
того же года Г.Кампанелла в трактате 'Защита Галилея'
характеризует его как 'нового философа', следующего
августинианской; и - более глубоко - пифагорейской фило-
софии» опирающейся» в свою очередь» на 'астрономию' и
Pereira В. De communibue omnium naturalium. principiis
et effectionis.—R.-‘-Roma,t »1576<— (Приведено no
реф. источнику, с. 84.)
68
"физику* Моисея, которая, конечно, ортодоксальнее астро-
номии и физики язычника Аристотеля. Книга выходит во
Франкфурте в 1622 г., и Галилей оказывается публично
скомпрометированным, будучи поставленным в один ряд с
Фоскарини, Бруно, Кеплером, Патриди и Телезио.
В 1618 г. на небе Европы появляются три яркие ко-
меты. Они 'предсказывают* начало Тридцатилетней войны
и несчастья для самого 1^алилея. В марте 1619 г. иезуит
о.Ораиио Грасси, профессор Римской Коллегии, анонимно
публикует трактат *О трех кометах*1'. В ордене культи-
вировалась очень тщательная наблюдательная астрономия.
На основании наблюдений постоянного движения комет и
незначительности их Параллакса о.Грасси располагает ко-
меты между орбитами Луны и Солнца, опираясь на сис-
тему Тихо Браге. Кометы светят отраженным солнечным
светом и являются телами вопреки мнению Аристотеля,
и двигаются не по окружностям. Последнее подрывает сис-
тему Коперника, так как точное следование принципу со-
вершенства движения по окружности положено в ее основу.
Сам Коперник ничего о кометах не писал. Галилей же, не
имея возможности после 1616 г. защищать гелиоцентризм
открыто, отстаивает оптическую природу комет именно
как 'опровержение потенциального фальсификатора* (с. 50),
как пишет автор. 4 июня 1619 г. выходит книга Марио
Гвидуччи 'Рассуждение о кометах*^), написанная под влия-
нием Галилея. В ней Гвидуччи отстаивает оптическую
природу комет. В том же году Гвидуччи становится сту-
дентом Римской Коллегии. В декабре 1619 г. в Перуджии
под всевдонимом Лотарио Сарси о.Орацио Грасси выпускает
ответ на книгу Галилея-Гввдуччи - трактат 'Астрономичес-
кие весы*3). Война объявлена, комментирует это событие 1 2
1) Grassi О. De tribus cometis anni MDCXVIII-.*-
(Приведено по реф. источнику, с. 49-50.)
2)
' Guiducci М. Discorso delle eomete.— (Приведено по
реф. источнику, с. 50.)
Sarsi L. Libra astronomies ас philosophies.-?erugia,
1619. (Приведено по* реф. источнику, с. 51.)
70
П.Редонди. В этой книге о.Грасси для опровержения паро-
доксальных гипотез Галилея-Гвидуччи обращается к принци-
пу авторитета. Авторитет традиции от Пифагора до Тихо
Браге утверждает, что комета - это нечто реальное. Ав-
торитет чувства утверждает то же: 'достаточно один раз
взглянуть...' Авторитет, веры утверждает то же самое.
Существенно то, что трактат о.Грасси выходит за рамки
принятого стиля научной полемики. Книга демонстрирует
агрессивный, апологетический, очень характерный полеми-
ческий стиль иезуитов. Она указывает, в частности, на
связь идей Галилея-Гвидуччи с идеями еретиков Кардано
и Телезио.
Обратимся теперь к партии 'философов-новаторов и
виртуозов'. Автор отмечает, что в начале XVII в. рост
числа академий создал новые возможности для связи
власть имущих, церковной иерархии со светскими интеллек-
туалами-новаторами в Риме. Общественное мнение склады-
валось в литературной академии deciosi (Страждущих),
но идеи поставлялись Академией деи Л ин чей. 10-18 мая
на вилле Акваспарта, близ Урбино, руководство академии
деи Линчеи в лице герцога Чези, герцога Чезарини и
монсиньора Чиамполи задумывает и разрабатывает операцию
MsarseideM в эпико-сатирическом стиле. Речь идет, под
предлогом диспута о кометах, о вызове основам тради-
ционной интеллектуальной культуры, главенствующей в
Риме. 'Новая философия' была ориентирована на французс-
кую теологическую школу. Ее глава - Пьер де .Берюль
(Berulle), известный как теологический и политический
противник иезуитов, выпустил свой основной труд - 'Раз-
мышления о господстве и величии Иисуса' в Париже в
1623 г., одновременно с 'Пробирщиком'. В 1627 г.
Берюль получает пурпурную мантию кардинала из рук папы
Урбана VIIL (В 1623 г. будущий папа является влия-
тельным кардиналом Маффео Берберина, покровителем Га-
Berulle Р. de. Discours de I’etat et des grandeurs de Jesus.
—1623» (Приведено по реф. источнику,
с. 130.)
71
лилея и близким другом Чези, Чиамполи и Чезарини.)
Французская теологическая школа - неследница созерцатель-
ной духовности кармелитов. Ее новая христология сим-
волизировалась, в частности, в гелиоцентризме. Основные
ее положения сводились к следующим. Нельзя ни познать
что-либо, ни сделать что-либо без помощи божественного
могущества; созидательная мощь Бога стоит за каждым
явлением природы. В то же время для этой школы было
характерно восхваление человеческого разума и его мис-
тических способностей. Берюль и его школа утверждали,
что нельзя объединять теологию и физику в одну науку,
потому что естественная философия не может вмешиваться
в дела веры: последняя - вне области разума. В отноше-
нии евхаристии эта школа принимала^ августиновскую
теорию - "5мистйку таинств*, для нее также характерна
и 'ириническая* тенденция, т.е. теория св.Иринея, отца
церкви: в евхаристии есть две реальности, земная и не-
бесная. Это оставляет хлебу и вину их земное обличие и
позволяет избежать конфликта со здравым смыслом,
на котором настаивало Общество Иисуса. Автор характери-
зует теологию Берюля как прямую предшественницу тео-
логии Мальбранша (осужден в 1689 г.).
Итак, объектом атаки участников операции Ms аг sei de”
выбран о.Орацио Прасси. 17 июля Джиованни Чиамполи
сообщает Галилею о стратегии, разработанной в Аквао-
парте. Галилей соглашается. В январе-мае монс. Чезари-
ни неоднократно пишет герцогу Чиамполи и другим лицам,
прося поторопить Галилея (Академия деи Лин чей хотела
бы выпустить его 'Пробирщика* в 1622 г.). В октябре
1622 г. наступает вторая фаза операции "sarseide” —
коллегиальный просмотр и правка рукописи работы, как и
предусмотрено уставом Академии. Текст просматривают и
вносят свои исправления монс. Чезарини, герцог Чези, из-
вестный 'виртуоз' Кассиано дель Поуцо (обращая внимание
на коллегиальный характер работы, автор хочет подчерк-
нуть, что в ней не могло быть 'случайных* мнений).
3 февраля о.Никколо Рикарди, доминиканец, дает официаль-
ное разрешение на печатание книги, однако, вопреки обык-
72
новению, это не одна фраза ’’impimatur”, но огромный
восторженный отклик. Наконец (конец июля - 6 августа
1623 г.) - удар грома на сцене. Папский престол пуст;
идет ожесточенная борьба Чиамполи - кардинала Маурицио
Сам ой и, главы профранцузской партии в Курии, против
происпански настроенной партии во время конклава. Папой
под именем Урбана VIII становится кардинал Маффео
Барберини, флорентиец, поэт, гуманист, спортсмен. Чиам-
поли становится каноником собора Св.Петра и 'серым'
главой ’’segreteria dei brevi” - душой новой Курии. Че-
зарини назначается главой ’’camera pontifico”. На об-
ложку 'Пробирщика' выносится герб папы, книга срочно
перепоовящается папе. 27 октября в присутствии всей Ку-
рии ее торжественно представляют папе. 8 июня 1624 г.
Галилей возвращается из Рима во Флоренцию с мыслью о
новом трактате, 'Трактате о приливах и отливах моря'.
Явление приливов и отливов становится для Галилея основ-
ным свидетельством в пользу гелиоцентризма, 'боевой
колесницей гелиоцентризма' (с% 60), как пишет автор. Вода
набегает на берег моря, так же как она набегает на край
тарелки, если тарелку внезапно подвинуть. Позднее это
название по просьбе папы было изменено на 'Диалог о двух
главнейших системах мира - Птолемеевой и Коперниковой'.
Теперь Галилей - официальный папский философ, офи-
циальный папский ученый и ’’figlio diletto” - 'возлюб-
ленный сын' папы Барберини-Урбана VITI. Теперь он не
подчинен даже обычным постановлениям Св.инквизиции - в
1632 г. по его делу придется создать специальную ко-
миссию. Однако основное значение 'Пробирщика' заключа-
ется не в ее оценке власть имущими, но в ее влиянии на
читающую публику Италии. Отрицание покорности принципу
авторитета в области философии, требование нового языка
физики (лозунг 'Природа * открытая книга'),отстаивание
права свободного исследования, свободной интеллектуаль-
ной дискуссии - это делало 'Пробирщика' манифестом новой
философии в Риме.
Галилей предлагает телескоц - чтобы смотреть на Все-
ленную, и 'Пробирщик' - руководствое призывающее смог*-
10-1
73
петь на Вселенную, как в книгу. Автор характеризует обс-
тановку, сложившуюся в этот момент в Риме, как Mmira—
bil congiuntura” - 'чудесную оттепель'. Современники
считали, что двухтысячелетняя . культура ex libri - кон-
чилась. Возникла атмосфера постоянного праздника, а
Г Галилея было принято сравнивать с Христофором Колум-
бом или Прометеем. Римские интеллектуалы подняли на
щит 'Пробирщика' не только в связи с их защитой нового
в поэзии и истории, но более того - в связи с их поиском
более аутентичной католической культуры. Вокруг 'Про-
бирщика' столкнулись две группы. Одна опиралась на
книгу откровения (Библию) и книгу природы как написан-
ные Богом. Вторая - на акты Тридентского собора и на
книги Аристотеля - и в конечном счете на принцип авто-
ритета и подчинение традиции.
Вторая группа, во главе которой стояло Общество
Иисуса, имела свои мотивы для консервации традиций ка-
толицизма. Представители этой группы считали, исходя
из опыта борьбы с Реформацией, что борьба за и против
реформ церкви протекает не в коридорах Курии, что от-
ступление от традиции может легко обернуться потоками
крови, пожарами и войнами. И что долгосрочные интересы
католической церкви заключаются в ориентации на импе-
рию, а значит - на Испанию, но не на 'политического про-
ходимца' Ришелье - восходящую звезду европейской поли-
тики.
И в самый разгар успеха книги Галилея на нее посту-
пает анонимный донос в Св.инквизицию. По всей видимос-
ти, автором доноса был о.Орацио Грасси - во-первых,
совпадает почерк, а во-вторых , о.Грасси практически дос-
ловно повторяет этот донос в своей книге, написанной
под псевдонимом Л.Сарси, "Рассуждение о взвешивании'^)
в разделе 'Экзамен 48'. Автор считает, что это было уже
акцией не против Галилея, а против самого папы: публич-
ная демонстрация связи политики папы с еретическим уче-
нием.
^) Sarsi L. Ratio ponderim librae et simbehae,—PM 1626.
(Приведено по реф. источнику, с.. 431.)
74
Поскольку по анонимному доносу не создавалось спе-
циальной комиссии (он рассматривался отдельным теоло-
гом-экспертом Св.инквизиции), то чтобы быть действен-
ным, донос должен .£ыть построен с математической точ-
ностью в теолого-юридической области. Именно так пост*-
роен рассматриваемый документ. После точного изложения
сути атомистического учения Г. Галилея с обильным и точ-
ным цитированием 'Пробирщика' издания 1623 г. автор
доноса обсуждает философские и доктринальные трудности
этого учения. Наконец, подведя читателя документа к вы-
воду о формальной еретичности атомистики Г.Галилея, донос-
чик обращается к авторитету Св.Трибунала, чтобы получить
официальное подтверждение своего вывода. С точки зрения
формальной структуры донос совершенен, но не менее
замечательно и его содержание. Мы приведем здесь ту
(довольно объемную часть доносаК где содержится су-
щество обвинения:
'Итак, указанный автор (т.е. Галилей. - М.Б.) в ци-
тируемой книге на стр. 196, строчка 29, желая разъяс-
нить предложение Аристотеля, часто встречающееся у него
в различных местах, что движение является причиной тепла,
и приспособить его к своим предположениям, берется ут-
верждать, что те акциденции, которые обычно называются
цветом, запахом, вкусом и т.д. и которые обычно считают-
ся частями предмета, находящимися в нем, являются ни
чем иным, нежели чистыми именами» и существуют един-
ственно в чувствующем одушевленном теле, которое их
ощущает. Он объясняет это на примере щекотки или, как
мы сказали бы, зуда, причиняемого прикосновением неко-
торого тела к определенным частям одушевленного тела.
И заключает, что щекотка, т.е. действие, направлен-
ное на ощущение одушевленного тела - неотличимо от при-
косновения и движения, например, к мраморной статуе...
Таким образом, все акциденции, возникающие в наших
^Его полный текст дан в приложении книги П.Редонди
(с. 427-429).
10-2
75
в чувствующем органе живого существа.
Как мне кажется, - продолжает автор доноса, - это
рассуждение неправильно, ввиду того, что оно прини-
мает как основание (рассуждения) тр, что следует дока-
зать, то есть что в каждом случае объект, который мы
чувствуем, есть в нас, потому что его действие есть в
нас. И не рассуждает правильно тот, кто говорит: зрение,
которым вижу солнечный свет - во мне, поэтому и сол-
нечный свет - во мне. Но я не буду здесь останавливаться
на этом.
Далее автор объясняет свое учение, пытаясь показать,
что эти акциденции находятся в разуме человека и опре-
деляют наши действия. Как следует из (рассуждений на)
стр. 198, строчка 12, он объясняет это атомами Анаксаго-
ра или, скорее Демокрита, которые он называет minimi,
или мельчайшими частицами. На такие частицы, говорит
он, постоянно распадаются все тела. Они входят в сопри-
косновение с нашими органами чувств, проникая в нашу
субстанцию, и в силу различия прикосновений и различия
фигур этих частиц (гладких либо шероховатых, твердых
либо упругих) и ввиду своей многочисленности либо ма-
лочисленности они оказывают различное воздействие с
различной силой следующим образом. На самое материаль-
ное и телесное чувство осязания, говорит он, воздействуют
частицы земли. На вкус - частицы воды, которые он
называет флюидами, на запах - частицы огня - игниколи,
на обоняние - частицы воздуха, а зрению он приписывает
мельчайшие (частицы). И на стр. 199, строчка 25, он
заключает, что для возбуждения в нас ощущений запаха,
вкуса и т.п. в телах, которые обычно называются пахучи-
ми, цветными и т.д., не должно быть ничего иного, кроме
величины, фигуры и числа, и что вкусы, запахи, цвета су-
ществуют только лишь в глазу, носу, языке и т.д. таким
'в
образом, что вышеперечисленные акциденции отличны от
атомов только по именам.
Если принять эту философию акциденций за истину, то,
мне кажется, возникают большие трудности в (объяснении)
существования акциденций хлеба и вина, которые в Свя-
тейшем Таинстве отделены от субстанции. Потому что, на-
ходя там термины, т.е. объекты ощущения, зрения, вкуса и
т.д., и следуя этой доктрине, мы вынуждены сказать, что
там продолжают быть и мельчайшие частицы, которыми и
сначала (до таинства) субстанция хлеба возбуждала наши
чувства, и признать их субстанциальными, как говорил
Анаксагор, и, как кажется, автор согласен с этим (см.
стр. 200, строчка 28), откуда следует, что в Святом Таин-
стве сохраняются частицы субстанции хлеба и вина, что
есть ошибка, осужденная на Святом Тридентском Соборе,
Сек. 13, часть 2" (цит. по: с. 428-429).
Автор приведенного выше доноса обращает внимание
на два "подозрительных* места в "Пробирщике" Галилея,
касающихся 1) субъективного характера акциденций и 2)
объяснения ощущения атомами Демокрита, т.е. субстанциаль-
ными частицами. Первое мнение, с точки зрения автора
доноса, неверно философски, второе мнение формально ере—
тично. Второе положение опирается на то место "Пробир-
щика", ,где Галилей упоминает о субстанциальности этих
частиц: "Те материи, которые производят в нас тепло и
вызывают у нас ощущение теплоты (мы называем их об-
щим именем "огонь"), в действительности представляют
собой множество мельчайших частиц, обладающих опреде-
ленными формами и движущихся с определенными скоростя-
ми"^-). Это единственное место, где говорится о субстан-
циальности (материальности) частиц. Можно ли принять
сохранение количества и формы, чтобы спасти видимость
сохранения акциденций хлеба и вина, участвующих в таинст-
ве евхаристии? Нет, отвечает доносчик далее. Галилей
Галилей Г. Пробирных дел мастер. - М., 1987. -
С. 226.
77
идентифицирует к количество и субстанцию, а это противо-
речит "истине Святого Собора", Евхаристические качества
в этом случае - "треугольники, тупые и острые" (там же).
Здесь автор доноса ссылается на о.Суареса, > рассуждение
XL "Метафизических рассуждений"^), учебника философии
в большинстве иезуитских коллеждей, в котором о.Суарес
опровергает идеи Оккама и других номиналистов о совпа-
дении количества и субстанции: субстанция, пишет Оккам,
не что иное, как Mcorpo quantoм . (цит. по: с. 271).
Учение Оккама не было формально осуждено как ере-
тическое, но были осуждены труды всех его последователей
в этом пункте, - Николай из Отрекура, Роберт Холкот,
кардинал Пьер д'Айи, а также Джон Уилклиф и Ян Гус, ав-
тор трактата "О теле Христовом"^) (с. 274-277).
Философский и теологический августинизм еретических ис-
толкований таинств (ив частности старой номиналисти-
ческой идеи - "фигура есть истина") отрицался целиком,
всеми ведущими теологами века, и именно на основании
истолкования таинства евхаристии (с. 279-285).
Галилей знал о доносе. Марио Гвидуччи, ученик и ин-
форматор Галилея, сообщил ему в письме о доносе (было
известно, что донос касался учения о движении) и о том,
что некое "благочестивое лицо" (о.Гевара), как эксперт
Св.инквизиции, отрицало наличие в "Пробирщике" осужден-
ных учений. Сам Гвидуччи считал, что речь идет об учении
о движении Земли. Так же считает и большинство историков
науки в наше время. Однако явного коперниканства в
"Пробирщике" нет - книга Коперника уже девять лет зна-
чилась в Индексе запрещенных книг. Как мог о.Гевара
сказать, что это учение не осуждено, если это сделать мог
только папа? С другой стороны, академия деи Линчеи не
могла рисковать таким образом после 1616 г. На протя-
1) Suarez F. Metaphysicarum Disputationum.—P.t 1619.—
Vol. 1-6.
2)
Huss I. De corpore Christi. — (Приведено по реф.
источнику, с. 276.)
78
жении всего текста "Пробирщика" Г.Галилей неоднократно
осуждает движение Земли "как католик". Единственная же
доктрина движения, восхваляемая в "Пробирщике" это уче-
ние о движении атомов и свободная интерпретация аристо-
телевского положения "движение есть причина тепла".
Отец Гевара был генералом ордена клериков-миноритов.
Ныне этот орден находится в полном упадке, но во время
понтификата Урбана VIII он находился на взлете. Его
генерал, Гевара - крупный и удачливый дипломат, люби-
тель-астроном и поклонник Галилея, близкий друг племян-
ника папы, кардинала Франческо Барберини, друга и покро-
вителя Галилея. Гевара стал епископом в 1627 г. и дол-
жен был стать кардиналом. В том же году он выпускает
книгу "Комментарий к аристотелевой "Механике" 1), посвя-
щенную Фр.Барберини. В ней он выражает благодарность
Галилею за полезные советы. Он также благодарит Гали-
лея и в личной переписке. Но для нас здесь более важен
трактат 1622 г. "О внутреннем чувстве"^), в котором
о.Гевара развивает старую томистскую теорию интенцио-
нальных видов или форм. Органы чувств, согласно этой
вышедшей ко времени Галилея из употребления теории,
воспринимают вещь по "отпечатку" или "образу", исходя-
щего от объекта. Человек познает объект, ассимилируя
этот образ, как воск получает отпечаток перстня. (О.Ге-
вара предлагает на базе этой теории объяснение действия
телескопа, изобретенного "знаменитейшим Галилеем". Это
объяснение астронома-любителя не должно было понра-
виться ученым Римской Коллегии, годы и годы изучав-
шим* телескоп на базе геометрической оптики. К Учение
св. Фо мы об образе быстро исчезает из истории философии,
но остается слово "образ", и в постановлении Тридентско-
GueVara G. de. In Aristotelis Mechanics commentariis.—
Romat ’1627«— (Приведено по реф. источнику,
с. 221.)
2)
Guevara G. de. De interior! sensu libri tres.—Romat
1622r-. (Приведено по реф. источнику, с. 221.)
79
го собора, на которое ссылается автор доноса на Гелилея,
чувственные видимости хлеба и вина названы образами:
'Если кто-либо скажет, что в святом таинстве евхаристии
вместе с телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа
сохраняются субстанции хлеба и вина, и отрицает это чу-
десное преобразование всей субстанции хлеба - в тело, а
вина - в кровь, в которых остается существовать только
лишь образ хлеба и вина; преобразование, которое церковь
называет наиболее подходящим словом - пресуществле-
ние, тому - анафема' (цит. по: с. 205). Самая влиятель-
ная теологическая интерпретация этого текста, пишет ав-
тор, - это иезуитская реалистическая интерпретация - ак-
циденции реальны без субстанций. Она также восходит к
св.Фоме. 'Однако о. Гевара - отважный несвоевременный
томист - не хочет присоединить свой орден к триумфальной
повозке, управляемой иезуитами' (с. 214). Поэтому, пишет
автор, о.Гевара и мог быть лучшим экспертом по делу об
атомизме Галилея. Он мог, например, ответить, что Гали-
лей не придерживается мнения о субъективной природе ев-
харистических качеств ввиду того, что 'Пробирщик' не
говорит явно об этом. Но даже если это было бы так, это
учение не следует осуждать, так как нет противоречия
с постановлением Т^идентского собора в утверждении, что
чувственные впечатления являются лишь 'именами', или
субъективными чувственными отпечатками, но не объек-
тивной реальностью - акциденциями без субстанции. Этим
он мог напомнить кардиналам Св.инквизиции, то реалис-
тическая интерпретация евхаристических акциденций основа-
на лишь на наиболее авторитетной теологической теории,
но не на доктринальном решении. Действительно, уже после
окончания 'чудесной оттепели', в 1649 г., иезуит
о.Т.К.Карлтон подтвердил, что подобная интерпретация
не является формально еретической, хотя и устаревшей,
дискредитировавшей себя и 'инакомысленной' (с. 214).
Таким образом, пишет автор, Совершенно исключено,
чтобы Галилей и поддерживавшие его деятели церкви мог*
ли уклониться от этой проблемы и 'не заметить', что
'за словами 'цвет, запах, вкус' стоят столетия драма ти-
80
ческих споров о евхаристии* (с. 216). И они не могли иг-
норировать того, что перипатетическая физика была, спая-
на со схоластической теологией именно в интерпретации
евхаристии. Такмл образом, цель "Пробирщика" - раз-
рубить этот узел и отделить естественную философию от
схоластической теологии была поставлена вполне сознатель-
но (с. 217).
Весной 1632 г. затяжной кризис, переживаемый поли-
тикой папы Урбана VIII, оборачивается политической ката-
строфой. В Рим приходит чума. . Извергается Везувий и,
как потоки его лавы, на терииторию Италии врываются
"новые варвары" - войска шведского короля Густава
Адольфа. 8 марта небывалый скандал разражается и в са-
мой Курии. В этот день глава происпанской партии и посол
Испании кардинал Борджия вручает папе и официально
распространяет документ, обвиняющий папу в потакании ере-
сям и еретикам: "забота о католической религии, о которой
мы заботились и заботимся, принадлежит нам" (цит. по:
с. 291). Пророческие слова, замечает автор. Кардиналы про-
французской ориентации не могут поддержать папу, так
как в январе Франция (в лице кардинала Ришелье) внезапно
переходит на сторону Густава Адольфа. Выбор папы пред-
решен. Многие интеллектуалы и "виртуозы" покидают Рим.
"Чудесная оттепель" кончилась.
В эти же дни во Флоренции выходит "Диалог о двух
главнейших системах мира" и вскоре на его автора пос-
тупает донос в Св.инквизицию. Текст этого доноса на
"Диалог" не сохранился, однако совершенно невероятно,
чтобы он касался только гелиоцентризма работы, если он
вообще имел к нему отношение. Гелиоцентризм работы со-
вершенно очевиден, но изложение системы Коперника не
являлось спонтанной инициативой Галилея. Условия, на ко-
торых он мог излагать гелиоцентризм, были четко огово-
рены, и Галилей им полностью следовал. Перед изданием
книги ее просмотрели о. Рикард и и о.Висконти в Риме, и
после выхода книги в свет - о.Стефани во Флоренции.
Все они были видными теологами-доминиканцами, а
о» Рикард и - влиятельным членом Св. инквизиции. Все они
11-1
81
были близкими друзьями Галилея. Друзья Галилея сообща-
ют, что, едва пробежав глазами страницы 'Пробирщика',
один из первых покупателей книги о.Орацио Грасси, разра-
зился бранью и угрозами. В 1632 г. повторяется ситуа-
ция, имевшая место в 1623 г. Один из первых покупате-
лей 'Диалога', коллега о.Грасси, профессор Римской Кол-
легии о.Кристофер Шейнер также разражается бранью и
угрозами. Иногда встречается абсурдное утверждение, буд-
то папа - новатор мог увидеть себя в Симпличио. С^нако
слова Симпличио: 'это разрушает весь мир и всю Вселен-
ную' с несомненностью указывает на его прообраз - на
официозную иезуитскую традицию создания 'теологической
философии' и подчинения физики теологии.
В 'Диалоге' Галилей следует Оккаму, отождествляя
телесную субстанцию и ее качество с количеством мате-
оии, имеющей форму. Точно так же, как в 'Пробирщике',
целиком отрицается аристотелевский мир и аристоте-
левская методология физики. Из осторожности Галилей не
произносит слово 'атом' и оговаривается, что такие рас-
суждения относятся только к естественной философии, но
не к теологии. Тем самым он разрубает связи между ни-
ми. Однако именно этого-то и не могло быть с точки зре-
ния 'теологической философии'. В 1631 г. иезуит о.Шей-
нер публикует трактат 'Медвежья роза'1) о солнечных
пятнах, посвященный полемике с Галилеем о приоритете
открытия. В нем о.Шейнер выдвигает теорию о неразру-
шимости субстанции неба, при изменяемости акциденций -
Вселенной. Легко видеть, что это - то же самое решение
деликатной философской проблемы о соотношении субстан-
ции и акциденций, зеркально отражающее истолкование таинств
ва евхаристии. Это сохраняет разделение надлунного и подлун-
ного миров, в то время как Галилей проповедует их един-
ство и атакует само разделение на субстанции и акциден-
ции. Таким образом, чрезвычайно маловероятно по сути
Scheiner К. Rosa ursina.—Braceiani, 4630. (При-
ведено по реф. источнику, с. 253.)
82
дела, что обвинение могло ограничиться гелиоцентризмом,
есть и косвенные свидетельства того же. У папы же Ур-
бана VIII были все основания, чтобы свести обвинения
только к гелиоцентризму, не дав кардиналу Борджиа в
руки неоценимый козырь - подозрение своего официального
философа в тяжелейшей доктринальной ереси.
Св.инквизиция в Риме была основана в 1542 г. с
целью централизовать решения спорных теологических воп-
росов. Папа не являлся ее главой. В ее ведение входит
все, что прямо или косвенно относится к католическому
учению, любое обвинение в ереси: магия, суеверие, сом-
нения в таинствах веры, чтение запрещенных книг.
Св.инквиэицию отличает от любого другого суда "segreto
del Sant’iiffizio”, т.е. специальное обязательство хранить
полную тайну о документах и дискуссиях, суровая форма
юридической секретности. Преступник, также подчинялся
ему - под * страхом отлучения от церкви; оно действует
к по сегодняшний день. Этому же правилу подчинялась
специальная комиссия по делу Галилея.
Комиссия находилась под влиянием папы, поскольку
ею руководил племянник папы и лучший друг Галилея в
Курии - кардинал Франческо Барберини. Обычно подобные
комиссии собирались лишь по обвинениям в тяжелейших
доктринальных ересях. Действительно, из тех отрывочных
суждений, которые дошли до нас и которые могли себе
позволить члены комиссии, следует, что обвинение относи-
лось не к одной работе - 'Диалогу', но к 'работам'
Галилея. На аудиенции флорентийскому послу папа Ур *-
бан VTIT заявил, что речь идет о 'доктрине, извращенной
в чрезвычайной степени' (цит. по: с. 310). Кардинал же
Барберини, однако, заверяет флорентийского посла в 'мак-
симальном расположении членов комиссии к синьору Га-
лилею' (цит. по: с. 310). Отец Рикарди пишет ему же,
что 'речь идет не о математических материях, но о ма-
териях Святого Писания, о религии и вере' (цит. по:
с. 314). Папа характеризует дело как новое, чрезвы-
чайно опасное учение, имеющее отношение к Св.Писанию,
государственное дело и вопросы, в которые Галилей не
83
11-2
имел распоряжения вмешиваться* (цит. по: е. 322). Все
это не может относиться к коперниканству, поскольку имеи-
но его как раэ Галилей имел официальное распоряжение
рассмотреть! Все добавочные обвинения и все пункты об-
винительного заключения очень просты. Для
их обсуждения комиссии не было нужды со-
бираться пять раэ. Комиссия, заключает автор, подобна
черному ящику - мы знаем, что из него вышло, но что
туда вошло? Для современного читателя 'Диалог* - это
великий учебник коперииканства. Но так ли это было для
современников Галилея?
Обычно в книгах, посвященных процессу Галилея, гово-
рится, что комиссия состояла из людей, не способных
оценить такие аргументы Галилея, и приводится оценка,
данная комиссии Т. Кампанеллой: 'теологи, не знающие
математики', Тот же Кампанелла характеризут 'Диалог*
как 'книгу пифагорейскую и демокритовскую* (цит. по:
с. 302).
В комиссию входило три эксперта—теолога. Агостино
Ореджи, личный теолог папы, после завершения дела Га-
лилея становится кардиналом. Он проводил публичную тео-
логическую полемику с иезуитами, отрицая связь естест-
венной философии и теологии - т.е. поддерживал именно
то, что проповедовал Галилей. В своем главном труде
'Теология* он проводит различение *того, что принадле-
жит физикр, того, что рассматривается в математике, и
того, чем занижается метафизика'^). Развивая теорию*фи-
гуры, цвета и других акциденций в отношении евхаристии,
Ореджи не придерживается теории 'акциденций без субстан-
ции' Суареса.
Вторым экспертом комиссии был также 'человек папы*,
о.Заккарья Паскуалиго, театинец. Он известен как теолог,
склоняющийся к августинианству,член профранцуэской партии
и лютый враг иезуитов. 'Сказать, что театинцы относились
^Oreggi A. Theologia. — Roma, 1вЗТ-Р.5О9,- (Цит.
по с. 316.)
84
к иезуитам в 1632 г. как кошки к собакам было бы не-
простительным эвфемизмом",. - отмечает автор (с» 317К
"Я не вижу, каким образом физика и теология должны быть
соединены в одну науку*, - говорил о.Пасиуадиго (цит»
по: с» 318}. Кроме того, он известен и личной полемикой
с Обществом Иисуса по вопросу моральной теологии (иезу-
иты после смерти Урбана VIII в 1648 г, добились зап-
рещения книг о. Паску а л иго}.
Третьим членом комиссии был о.иеэуит Мельхиор Ин-
хофер, друг о. Рикард и, друга Галилея - самый безопасный
иезуит Рима, как харктеризует его автор. Очень образо-
ванный человек, имеющий много трудов по математике и
физике, известный своод резким отрицанием коперниканст-
ва. Однако, отмечает автор, его научный престиж значил
немного, когда речь шла о доктринальных проблемах.
Таким образом, ситуация повторяет ту, которая сложи-
лась в момент выхода "Пробирщика*. С одной стороны - до-
нос на основании томистской философии, с другой - решение
влиятельного теолога (комиссии), опирающееся на нова-
торскую, август ин ианскую теологию. Но в 1632 г. скандал
получился гораздо более громким и нельзя было ограни-
читься заключением одного эксперта, чего ' обычно дос-
таточно по анонимному доносу. Процесс начался 12 апреля
1633 г., документы процесса не сохранились, но внесу-
дебные действия заинтересованных лиц нуждаются в объяс-
нении. Они очень необычны. В первый день процесса, как
хорошо известно, Галилей представил в суде документ, *
подписанный кардиналом Беллармино, об осуждении и о
помещении в Индексе книги Коперника. В нем не содер-
жится предупреждение о нераспространении учения Копер-
ника, поэтому Галилея, согласно принятым правилам, нель-
зя осуждать за прямое нарушение запрета, но следует
предупредить. Если линией суда было свести обвинения к
копениканству, то она* была блокирована. 27 апреля
секретарь суда( Винценцо Лакулано де Фиренуцола после
нескольких совещаний с кардиналом Франческо Барберини
совершает поступок невероятный - ои совещается с Га-
лилеем tihe-VtPce, без свидетелей, секретарей и адво-
85
катов (с. 326). Обычно это истолковывается историками
процесса как попытка суда заставить Галилея подчиняться
процедурам суда, угрожая ему более тяжелыми карами.
Это вполне вероятно, отмечает автор, но почему это нужно
было делать без свидетелей? Переговоры судьи и подсу-
димого без свидетелей - событие чрезвычайное. Через не-
которое время он сообщает о счастливом исходе своей ини-
циативы: репутация трибунала будет поддержана, а Его
Святейшество будет удовлетворен (с. 327). 22 июня
1633 г. Г.Галилей был осужден за коперниканство.
Как и при любой другой диктатуре, в папском Риме
XVII в. неприятных людей высылали из центров власти, и
степень неприязни можно измерять в километрах, шутит
автор. Первым был выслан о.Грасси, заслуженный профес-
сор математики, великолепный строитель - как раз в это
время он заканчивал строительство одного из величайших
соборов Рима - собора Св.Игнатия. Он был выслан даже
без повышения в чине в провинциальный колледж. Больше
он не опубликовал ни строчки и до конца понтификата Ур-
бана VIII был полностью выключен из политической
и общественной жизни. Но пострадали также и друзья
Галилея - о.Гевара, например, так и не получил сан кар-
динала. В "Беседах" Галилей отзывается с уважением о
комментариях к аристотелевской "Механике" своего защит-
ника. После смерти Урбана VIII о.Орацио Г^асси возвра-
щается в Римскую Коллегию, и возвращается триумфально.
В 1650 г. собор Св.Игнатия открывается для публики, на
открытии присутствуют его строитель и папа Иннокентий X.
В середине века позиции уже выявились отчетливо.
Иезуиты демонстрируют более, чем кто-либо, что можно
быть католиком-тридентийцем и вместе с тем антипто-
лемеевцем в астрономии. Вместе с этим одно за другим
следуют осуждения атомистической физики, следуют выступле-
ния против субстанциальности света, против вакуума, против ото
ждествления сущности и количества. 'Пробирщик" утверждает
автор, никогда не был забыт - ересь Галилея была призна-
на даже более опасной, нежели ересь Декарта. 18 октября
1685 г. в Фонтебло Людовик XIV отменяет Нантский
эдикт. В том же году Фратель Поццо расписывает собор
86
Св.Игнатия в Риме, творение о.Грасси, фреской 'Триумф
Общества Иисуса'. Эту дату удобно принять как символи-
ческую дату конца истории ренессансного атомизма. От-
ныне идеи 'Пробирщика' принадлежат скорее не истории
идей католической церкви, но судебной хронике (с. 399).
Католицизм постреформационной эпохи отказал атомизму
в праве быть социально приемлемой концепцией материи,
поставив его в положение жестко преследуемой ереси.
М.В.Быков
87
КОСТАБЕЛЬ П.
ПО ПОВОДУ 'ДЕЛА ГАЛИЛЕЯ'
COSTABEL Р.
А ргороз de I’&ffaire Galilee
•//Rev. d'histoire des sei ences.—P.f 1984.—T. 37t
N 3/4.—P. 319-320.
П.Костабель, известный французский историк науки, от-
мечает, что автор обширной, яркой и содержательной мо-
нографии 'Галилей-еретик' - Пьер Редонди - уже был
известен благодаря своим открытиям ранее неизвестных
документов как внимательный и тонкий историк и философ.
Публикация новой монографии выявила основательность, кон-
цептуальную глубину, а также незаурядный литературный
талант автора. Всего за несколько месяцев, исходя из
текста, найденного в архивах инквизиции в июне 1982 г»,
он создал 460-страничную работу, воссоздающую с ис-
кусством и основательностью своеобразную атмосферу
итальянского общества и римской католической церкви в
десятилетие, когда разыгрывалось 'дело Галилея'.
Публикация этой книги в 350-летнюю годовщину про-
цесса над Галилеем привлекла к ней всеобщее внимание,
заставила во многом пересмотреть устоявшиеся мнения.
С привычной точки зрения, принятой всеми комментаторами,
процесс над Галилеем был связан с борьбой католической
церкви против новой космологии. При отсутствии полной
публикации всех документов процесса, обещанной Ватика-
ном, все уже известное* свидетельствовало о том, что речь
68
не шла ни о чем другом, кроме космологии и того, что
с нею связано.
"Показав, что Галилей был объявлен сторонником ереси
из-за публикации "Пробирщика" (1623 г.), то есть по
совсем иным основаниям, чем принятие новой космологии,
Редонди ввел в научный обиход новые данные, чрезвы-
чайно интересные и поразительные именно в силу своей
новизны" (с. 319).
Текст, обнаруженный Редонди в архивах инквизиции,
неоспорим - это донос на Галилея как на автора еретичес-
кой книги "Пробирщик". Физический атомизм, развиваемый
Галилеем в "Пробирщике", утверждается в доносе, несов-
местим с тридентской доктриной евхаристии. П.Костабель
считает, что Редонди достаточно убедительно доказывает
принадлежность этого доноса перу иезуита о.Орацио Грасси,
противника Галилея в споре о кометах. С гораздо меньшим
успехом, по мнению П.Костабеля, Редонди пытается дока-
зан», что партия Грасси сыграла значительную (хотя и
скрытую) роль в организации и проведении ^процесса над
Галилеем в 1633 г.
Что касается основного тезиса Редонди о том, что
этот процесс Явился лишь фасадом, скрывавшим нечто иное,
представляется П.Костабелю чрезвычайно интересным и сме-
лым, учитывая наличное состояниё документации. Естест-
венно, новизна и смелось аргументации Редонди делает ее
удобной мишенью для критики. Однако тот факт, что Редон-
ди пошел так далеко в своих выводах, "оказался в конеч-
ном счете полезным, обратив внимание на вновь открытые
факты, во избежание их быстрого забвения" (с. 320).
Соблазн подобного забвения велик по многим причи-
нам. Как, например, можно надеяться спустя три с поло-
виной века доказать наличие закулисных интриг, которые
в данном случае вели к процессу по обвинению в тенден-
ции отрицания евхаристического догмата, если Галилей
никогда публично не высказывался по вопросу евхаристии?
И тем не менее Пьеру Редонди удалось открыть но-
вые аспекты, интересующие как историков науки, так и
теологов. Прежде всего, действительно ли верно, что ато-
89
12-1
мизм Галилея, как то утверждает доносчик, простирался до
признания того, что частицы и их геометрическое распо-
ложение определяют всю природу и физические свойства то-
го или иного материального тела? Не принадлежит ли само-
му доносчику это профетическое видение атомизма? Эти
вопросы заслуживают того, чтобы быть поставленными.
Пьер Ридонди, отмечает автор, прошел мимо одного
существенного момента. Тридентский догмат касался, в
отличие от протестантской трактовки евхаристии, реально-
го присутствия Христа в таинстве причастия, а пресу-
ществление было лишь дополнительным объяснением, кото-
рое 'Собор 30-ти' принял как наиболее подходящее после
мучительных колебаний. Предложение о физическом объяс-
нении реального присутствия натолкнулось на оппозицию,
малочисленную, но весьма сильную, и было бы весьма
странно, если бы эта оппозиция не имела бы продолжения.
Нет никакого сомнения, что принятие Канона надолго
загнало в подполье всякое ему противоречие, и еще 30 лет
назад только в закрытой работе один иезуитский теолог
смог вновь обратиться к рассмотрению тезисов, которые
должны были защищать точку зрения 'Собора 30-ти'~ тези-
сов св. Бонавентуры (их Редонди затронул лишь в связи
со второстепенными вопросами). Однако сегодня, кажется,
об этом уже можно дискутировать открыто, и если дискус-
сия касается в первую очередь католической теологии,
очевидно, что последняя должна быть весьма заинтересо-
вана в углублении исторических поисков.
В заключение П.Костабель подчеркивает, что сущест-
вует несомненная аналогия между проблемами, порождае-
мыми геоцентризмом, и евхаристической доктриной, которая
ждет своего исследования.
Л. П .М ордвинцева
6328
ЛЕ ГРАНД Г.Э.
ГАЛИЛЕЕВА ТЕОРИЯ МАТЕРИИ
LE GRAND Н.Е.
Galileo’s matter theory
//New perspectives on Galileo.—Dordrecht;
Boston, 1978.—P. 197—208.
Автор - сотрудник Мельбурнского университета - анализи-
рует особенности атомистической теории материи Галилея,
представленной в его 'Беседах'.
Возрождение атомизма в XVI в. было стимулировано
обретением *0 природе вещей* Лукреция Кара и 'Пневматики'
Герона Александрийского Новые корпускулярные теории
возникали под влиянием этих древних учений. Большинство
атомистов начала XVII в., хотя и отвергали образ аристоте-
левского миропорядка, еще использовали остатки его систе-
мы. Они не пытались заменить 'субстанциальные формы* и
'реальные качества* Аристотеля представлениями о том, что
природа - это просто инертная материя, пребывающая в
движении, и вся причинная обусловленность возникает через
материальный контакт. Новых атомистов, как и древних, прес-
ледовали неудачи в попытках правдоподобно объяснить свой-
ства больших тел с точки зрения характеристик составляю-
щих их чаотши
1) Lucretius Cetus. De return nature; Hero. Pneutnatica.-
(Приведено по реф.источнику, c.197.)
.12-2
91
Галилей уже привлекал внимание историков, интересую-
щихся развитием атомизма XVII в. Обычно его оценивают
как атомиста демокритовского или эпикуровокого типа» КЛа—
свиц, например, приписывает Галилею соединение четырех
элементов Аристотеля с демокритовской интерпретацией огцу-
щепий А»Г.ван Мельсен считает галилеевскую теорию
материи неинтересной потому, что у него слишком запутан-
ное понятие мельчайшей частицы Мэри Боэс ‘Холл воз-
водит галилеевские идеи к героиовским 3'.
Автор считает, что интерпретация галилеевской теории
материи как простого заимствования является результатом
явного непонимания и чрезмерного упрощения. Наиболее
убедительной ему представляется статья У.Ши в которой
прослеживается эволюция атомистических идей Галлилея на
протяжении более чем четверти века от гРассуждения о те-
лах, пребывающих в воде* (1612) до 'Бесед* (1638). Но
анализ Ши окончательного варианта теории, как он предста-
влен в *Беседах*, к сожалению, слишком краток. Целью
своей работы штор считает восполнение этого упущения.
Он берется прояснить дискуссии, описанные в Первом дне
'Бесед*, и интерпретировать их как изложение вполне ори-
гинальной теории материи.
Галилей имплицитно принял атомистическое понимание ма-
терии примерно в 1612 г7но только как рабочую гипотезу 5'.
^Lasswitz К. Qeschichte der Atomistik vom Mittelatter bis
Hpjvton.-Hamburg, 1890.-Vol. 2. -P. 37-55,
Mel sen A.Q. van. From atomos to atom. —Pittsburgh, 1952.—
P. 112.
Hall M.B. Hero’s мРпеитайсам/Дз1з.—Philadelphia,
1949. —Vol. 40.—P. 38—48; Hall M.B. The establishment of the
mechanical philosophy»//Osiris.—Bruges, <1952.-Vol. 10, pt.2.-
P. 4^-541.
Shea W.R. Galileo’ atomic hypothesis//Ambix.—Cambridge.
1970. -rVoL 17, N l.-P. 13-27.
5 ohea WbR. Ibid.-P. 13^-15.
92
Он скоро столкнулся с трудоностями древних атомистов при
объяснении различных физических явлений, связанных с боль-
шими телами. В частности, явления разряжения и сгущения
давали повод к серьезным сомнениям в надежности подхо-
дов и Герона, и Демокрита. Если плотное тело состоит
из непрерывных конечных частиц,' как может быть объяснено
сжатие без нарушения пришита непроницаемости материи?
Если же допустить существование пустых пространств меж-
ду частицами, а расширение считать результатом увеличения
этих пространств по численности или величине, то как объяс-
нить единство большого тела? Что препятствует полному
распаду его составных частей?
Галилей обдумывал эти трудности в течение многих лет;
итогом его размышлений является Первый день. 'Бесед',
в котором развивается концепция математического атоми-
зма. Этот раздел 'Бесед' обычно считают путаным и проти-
воречивым. Автор обнаруживает в нем тщательное описание
новой теории материи (математического атомизма), которая
генетически связана с классическим атомизиом, но значитель-
но отличается от него. С гордостью относит к себе автор
замечание Галилея: 'потребовалось лишь немного размыш-
ления, чтобы снять с истины скрывающий., ее покров и уви-
деть неприкрытым ее прекрасный лик'
Исходный пункт изложения Галилея проблема оцепления
частиц. Собеседники быстро переходят от обсуждения! проч-
ности материалов к причинам связи частиц твердого тёла.
Сальвиати, в уста которого Галилей вкладывает собствен-
ные суждения, говорит, что ' связность может быть сведена
к двум основаниям: одно - это пресловутая боязнь пустоты
у природы; в качестве второго ( не считая достаточной боя-
знь пустоты) приходится допустить что-либо связующее, вро-
де клея, что плотно соединяет частицы, из которых состав-
лено тело' . Он подробно описывает только первую из
1 Галилей Г. Избранные труды: 2-х т.-Мч 1964- Т.2-
С.119.
2) Там же.-С.124.
93
этих причин, вероятно предполагая, что допущение гипоте-
тического склеивающего вещества является излишним. Пус-
тота одна является достаточным объяснением. Пустота име-
ет 'своим с ле дос тв мем сцепление частей материи, вплоть
до самых мелких' Однако пустота играет в сцеплении
частиц двоякую ролы Одна причина сцепления - сопротивле-
ние образованию пустоты; другая, более сильная, - наличие
пустоты , Галилей выражается очень осторожно: 'Кто знает,
не действуют ли в мельчайших частях также и мельчайшие
пустоты, и не они ли держат в связном состоянии части тве-
рдого тела?,„ выдаю ето не за окончательную истину, но
за домысёл, связанный с немалыми затруднениями и требу-
ющий исследования' 2)
•
Так Галилей делает различение, решающее для понимания
его теории материи: твердые и жидкие тела оказывают сопро-
тивления образованию пустоты, но в отличие от твердого те-
ла жидкость не имеет внутренней связи, ибо в ней нет пус-
тот между частицами.
До этого пункта галилеевская теория материи действитель-
но кажется похожей на теорию Герона, Здесь рассуждение
прерывается растянутыми отступлениями о геометрии и бес-
конечности, Но эти видимые 'отступления' на самом деле
вполне уместны, ибо содержат в высшей степени ориги-
нальные размышления о природе и численности пустот и о
мельчайших частицах твердых тел, В теории, как она предс-
тавлена дальше, мельчайшие пустоты должны быть достато-
чно многочисленны, чтобы действовать на каждую частицу
твердого тела. Но как многочисленны? Сальвиати поднимает
этот вопрос, замечая, что 'хотя эти пустоты имеют ничтож-
ную величину и, следовательно, сопротивление каждой из них
легко превозмогаемо, но неисчислимость их количества неис-
числимо увеличивает сопротивляемость' &) , Сагредо, исполь-
зуя аналогию о муравьях, разоружающих судно с зерном,
1)там же.-С,130
2)Там же,
З^Там же.-С.131
94
утверждает, что число пустот* между частицами должно быть
большем, но, разумеется, конечным» Отвечая ему (устами
Сальвиати), Галилей порывает с классической атомистичес-
кой теорией — он предполагает "существование бесконечно-
го множества пустот и бесконечного множества частиц вну-
три конечного твердого тела!" (с.200).
Эту идею Галилей развивает, давая своеобразное объяс-
нение парадокса, известного как "колесо Аристотеля" 1* »
Сальвиати предлагает сначала разрешить этот знаменитый
парадокс, рассмотрев сначала более простой случай с двумя
концентрическими шестиугольниками*
Представим, что больший многоугольник катится по линии.
AS , увлекая за собой и меньший многоугольник» В резуль-
тате полного оборота больший шестиугольник отложит на ли-
нии AS подряд без каких-либо промежутков шесть равных
отрезков, составляющих в сумме его периметр; меньший
шестиугольник также отложит на линии НТ шесть отрез-
ков, равных его сторонам, но разделенных пятью промежут-
ками.
7Этот парадокс формулируется следующим образом: по-
чему при совместном качении двух концентрических кругов
больший проходит то же расстояние, что и меньший, тогда
как при независимом качении проходимые ими расстояния
(за один оборот) относятся как их радиусвГ? - (Прим.реф»)
9S
Сальвиати утверждает, что тот. же аргумент приложим к
другим многоугольникам, устроенным подобным образом,
например, если большой многоугольник с тысячью сторон,
постепенно вращаясь, пройдет прямую линию, равную своему
периметру, меньший многоугольник пройдет в то же самое
время приблизительно такой же путь, составленный из ты-
сячи отрезков, равных его сторонам, и тысячи пустых п рос ти-
ране тв между ними.
Возвращаясь к "колесу Аристотеля", Галилей предлагает
рассматривать круг как многоугольник с бесконечно большим
числом сторон. Поэтому когда больший круг совершает один
оборот, меньший круг отмечает бесконечное множество "за-
полненных точек" и бесконечное множество пустот внутри
конечного расстояния?
Таким образом, от операций с конечными величинами Га-
лилей искусно переходит к операциям с бесконечными ве-
личинами, распространяя геометрический анализ на понима-
ние материи: подобно тому, как при одном обороте "колеса
Аристотеля" внутренняя окружность оставляет следы в виде
бесконечно большого числа "наполненных точек" и бесконеч-
но большого числа пустот^ расположенных в конечном отре-
зке, так можно представить, что и тела состоят из бесконе-
чного множества "атомов " и бесконечного множества пустот.
Сальвиати утверждает, что с этой точки зрения "допустимо,
например, растянуть маленький золотой шарик на весьма боль-
шой объем" U, Галилей таким образом избегает проблемы
объяснения сцепления, несмотря на расширение. Так как чи-
сло пустот потенциально бесконечно, нет необходимости вво-
дить дополнительные пустоты или расширять существующие,
чтобы объяснить расширение твердых тел.
Эта теория очень отличается от теорий классического ато-
мизма, Под "исчислимым" Галилей понимает то, что "может
быть пересчитано", поэтому "исчислимые пустоты", или "ис-
числимые части", должны рассматриваться как имеющие из-
мерения, Они делимы. Они не могут быть математическими
1 ^Галилей Г, Указ,соч.-Т.2-С.135
96
точками. 'Неделимые' же или 'неисчислимые' части
Галилея не могут быть пересчитаны. Каждая из них в отдель-
ности идентична математической точке, но они могут суще-
ствовать только в агрегатах, состоящих из бесконечного
числа таких точек. Галилеевские 'неисчислимые или неде-
лимые, - пишет автор, - не надо путать ни с классическими
атамами (частицами, неделимыми по самой своей природе),
ни с minima natura которые неделимы физически,
но делимы математически. Мельчайшие 'частицы' Галилея
не делимы ни физически, ни математически, так как они
бесконечно малы, т.е. являются математическими точками.
Но он, однако, отождествляет эти неисчислимые неделимые
с 'атомами* (с.203).
Последущее рассмотрение Галилеем различных состояний
материи было сравнением возможного математически и воз-
можного физически. Твердое тело может быть растерто в
порошок подобно тому, как линия может быть механически
разделена на части, но оба эти процесса деления не могут
быть доведены до конца. Тело не может быть раздроблено
на неделимые частицы, а линия - механически разделена на
точки. Самый мелкий порошок еще не жидкость. . Частицы
порошка остаются исчислимыми и делимыми. Порошок может
быть собран в кучу, в нем может быть сделано углубление
и пр. Жидкость состоит из неисчислимых, неделимых частиц
без пустот, так же как линия разрешается в бесконечность
непрерывных точек. В перипатетических терминах потен-
циальная бесконечность частиц в твердом теле не может
быть актуализирована путем механического деления. Однако
при нагревании пустйты между частицами твердого тела
заполняются огненными частицами. . При этом твердые час-
тицы, потенциально делимые на неисчислимые, становятся раз-
деленными актуально. Результатом является потеря внутрен-
него сцепления и трансформация твердого тела в жидкость.
Чтобы вернуть жидкость в твердое состояние, нужно удалить
огненные частицы и тем самым восстановить пустоты между
частицами. Вода, воздух и тому подобные вещества сущест-
вуют как агрегаты неисчислимых, неделимых частиц без пу-
стот (между частицами) и потому являются проницаемыми.
97
13-1
Галилей не касается ряда проблем, непосредственно свя-
занных с теми, которые он обсуждает» Например, почему
золото является по природе, твердым телом, а вода жидкос-
тью? Почему масло и вода - обе жидкости, но имеют столь
различные свойства? Кажется, Галилей уверен в том, что при-
рода вещей до некоторой степени определяется природой сос-
тавляющих ее частиц»
Объяснение Галилеем явлений разрежения и сгущения яв-
ляется кульминационным пунктом его обсуждение 'матема-
тического атомизма'» Рассмотрев сначала разрежение (рас-
ширение) с помощью 'колеса Аристотеля', он использует
этот же парадокс для объяснения сгущения (сжатия)» В этом
случае вращается внутренний (малый) круг так, что отмечает
линию, равную его периметру. При этом большой круг описы-
вает линию, меньшую, чем его окружность. '...Бесконечное
множество неделимых сторон большого круга со своим бес-
конечным множеством неделимых обратных движений, совер-
шаемых во время бесконечно кратких остановок бесконечно
большого ’ числа сторон меньшего круга, и с бесконечным
множеством продвижений вперед равных бесконечному числу
сторон меньшего круга, описывает линию, равную описывае-
мой меньшим кругом и содержащую бесконечное множество
бесконечно малых наложений, образующих утолщение или,
лучше сказать^ уплотнение без проникновения одних конеч-
ных частей в другие, чего нельзя сделать с разделенной на
конечные части линией, равной периметру какого-либо мно-
гоугольника. ...Такое уплотнение бесконечного множества
бесконечно малых частиц без взаимного проникновения конеч-
ных частиц и расхождение бесконечного множества бесконеч-
но малых частиц с образованием неделимых пустот предста-
вляет собой вое, что можно оказать об уполтнении и разре-
жении тел, не прибегая к допущению взаимного проникновения
частей тела или к образованию пустот конечной величины*!).
Таким образом, 'Галилей считал, что благодаря своему
математическому атомизму он избегает вэамопроникновения
1^Галилей Г. Указ, соч.- Т.2.-С.156.
98
частиц* которое должно было бы случиться* если бы тела
состояли из опрессованных непрерывных конечных атомов»
Сжатие или сгущение линии объясняется в вышеприведенном
анализе без допущения пересечения или взаимопроникновения
частей» Этот результат не может быть достигнут в случае
многоугольника* так как многоугольник имеет исчислимое
количество сторон. Твердое тело* состоящее из потенциаль-
но бесконечного количества неделимых частиц и пустот ме-
жду ними может быть сжато аналогично сжатию круга*
(с.205-206). Так на геометрической моделиГалияей объясня-
ет свою новую теорию материн.
Далее Галилей излагает сомнения Симпличио по поводу
новой теории. Они достойны упоминания, так как служат
еще одним свидетельством того, что галилеевская теория
отнюдь не является математической фантазией, 'Согласно
предложенному взгляду, - говорит Симпличио, - унция золо-
та может разредиться й образовать тело, объемом более
земного шара, а с другой стороны; Земля может уплотниться
и сжаться до размера ореха. Таким вещам я не верю и
полагаю, что и вы сами тоже не верите. Ваши рассуждения
и доказательства суть чисто математические, отвлеченные и
оторванные от всякой ощущаемой материи; я полагаю, что
по отношению к физической материи и предметам, встречаю-
щимся в природе, выведенные законы не могут иметь прило-
жения' 1). Галилей (усгами Сальвиати) возражает ему, за-
мечая, огромное разряжение может быть реально наблюдае-
мо в природе (например, при золочении проволки, взрыве
оружейного пороха, испускании запахов пахучими пред-
метами). Сгущение и разрежение представляют собой явле-
ния противоположные, и потому, наблюдая огромные расши-
рения, разумно предположить, что возможны такие же огро-
мные сжатия.
Завершив эту реконструкцию галилеевской теории материи,
автор заключает, что она вполне оригинальна < несомненно
------ * - - -
1 ^Галилей Г. Указ.соч^-Т. 2.-С.156-157.
90
13-2
интересна. Галилеевская теория исходит из старых атомисти-
ческих учений, но удовлетворяет требованиям новой филосо-
фии, так как сводит чувственную красоту и разнообразие при-
роды к сочетанию атомов и пустоты. Она выражает философ-
ское убеждение Галилея в том, что 'язык природы является
* математическим и обязанность философа состоит в том, чтобы
искать объективную математическую реальность, скрытую за
лежащими на поверхности явлениями' (с.20б). Вместе с
гем эта атомистическая теория материи Галилея неполна,
в ней пропущены многие проблемы. Кроме того, не вполне
ясно, допускают ли галилеевские 'атомы' трактовку как час-
тиц, имеющих измерение, а не просто математических точек.
Но как бы ни трактовать это понятие Галилея, ясно одно:
вся красота и разнообразие природы сведены им к совокупно-
сти атомов и пустоты. 'Требования новой философии выпол-
нены. Как многое в его других идеях, теория материи Гали-
лея основывается и на старых» и на новых представлениях,
являясь ни целиком древней, ни совершенно современной, но
несомненно, совершенно оригинальной и будящей мысль' (с.
207).
Т.Н.Панченко
100
МОЛЛЕНД АТ.
АТОМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ: ГРАНЬ
НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
MOLLAND A.G.
The atomisation of motion: A facet
of the scientific revolution
//Studies in the history and philosophy
of science.—Oxford; Elmsford» 1982»
-VoL 13, N l.-P. 31—54.
Автор статьи ставит своей целью рассмотреть процесс
перехода от континуалистских представлений о движении, гос-
подствовавших в философии и науке античности и средних ве-
ков, к корпускулярным представлениям, получившим приоритет
в начале нового времени. Континуалистская концепция дви-
жения господствовала как в физике Аристотеля, так и в фи-
зике средневекового аристотелизма (в теории импето, у мер-
тоновских калькуляторов, у Буридана, Брадвардина, Николая
Орема). Галилей же 'атомизирует движение-". Истолковывая
этот процесс в контексте общего роста в европейской культуре
индивидуализма и элементаризма (т.е. сведения целого к
своим частям,) автор концентрирует внимание на эволюции
математических теорий движения, включая их концептуальное
обоснование. Анализ этих теорий проводится на материалах,
представляющих взгляды по этому поводу Аристотеля, Н.Оре-
ма и ГТалилея - ученых, которые, по мнению автора,
задавали каноны научных исследований в соответствующие эпо-
хи и занимают исключительно важноё место в истории науки.
Истоки континуалистской традиции в понимании движения
и его измерения связаны со взглядами Аристотеля. Согласно
Аристотелю, Вселенная не состоит из множества неделимых
элементов, а является миром, в котором все тела делимы,
а поэтому не обладает формой определенного множества. В
101
системе Аристотеля понятие потенциально бесконечной дели-
мости играет ключевую роль, и его использование и вызывает
трудности в выборе и применении метематических средств,
и дает преимущества. Среди трудностей, относящихся к
измерению математических объектов, можно отметить Арис-
тотелево истолкование касания двух объектов, исключающее
касание их границ. Совместная непрерывность двух объек-
тов (скажем, двух отрезков, принадлежащих одной прямой),
по . Аристотелю,означает, что они могут рассматриваться
только как один объект, обладающий общей границей. Таким
образом, касание двух объектов означает;, их слияние. Среди
преимуществ позиции Аристотеля, адекватно отражавших прак
тику античной математики, автор выделяет представление о
том, что деление непрерывной величины дает снова непреры-
вные величины. Именно так поступал геометр, измеряя эле-
менты различных величин (в частности, решая проблему из-
мерения величины V2).
Одной из областей, в которой начала применяться бази-
рующаяся на Аристотелевых представлениях о континууме и
делимости математическая теория измерения, была область
измерения движения. Частично основы измерения движения
были заложены самим Аристотелем в его 'Физике*. В частно-
сти, он выдвинул требования: 1) движение должно быть дви-
жением в Одном и том же смысле (например, такое слож-
нее движение, как: человек бежит, а затем заболевает - из-
мерению не подлежит); 2) движение должно быть движением
одного й того же объекта; 3) если в движении имеются
перерывы (остановки), то оно должно рассматриваться как
совокупность нескольких движений.
Аксиома непрерывности, т.е, утверждение о потенциально
бесконечной делимости тела на делимые, же части, резко
противопоставляла физику Аристотеля атомизму. Для перипа-
тетической физики характерно утверждение о том, что сопри-
касающиеся тела имеют одну общую границу; отрицание уни-
версальной единицы измерения, т,е. естественной меры; по-
нимание границ и дискретных элементов как случайных в
конечных актуализаций непрерывного 'субъекта*; и, наконец,
интегральное описание движения.
102
Основным континуалиотским постулатом в физике Аристоте-
ля явилось утверждение: движение теоретически можно изу-
чать и описывать лишь как непрерывный и, вообще говоря,
законченный процесс. Движение можно считать непрерывным,
если соблюдены три условия: единство движущегося, единство
вида движения и единство времени движения. Только так
представленное движение можно изучать интегрально. Если
в математике с помощью обходных путей можно было избе-
гать необходимости актуально бесконечного деления, то в
физике интегральное описание сталкивалось с трудностями,
в особенности там, где речь шла о движении, определяемых
в каждом моменте, т.е. об инерционном движении (понятом
по аристотелевской теории "антиперистасиса") и об ускорен-
ном движении. Аристотель предложил понимание делимости
движения в двух смыслах: как делимость времени, которое
это движение занимает, и как делимость расстояния, которое
это движение проходит. Однако Аристотель не развил все
эти требования в теорию измерения движения; создание такой
теории стало уделом средних веков.
Одним из наиболее выдающихся исследователей движения
в средние века стал Николай Орем (ок.1323-1382 гг.).
Способ описания ускоренного движения, предложенный Оре-
мом, представляет собою один из наиболее разработанных
вариантов применения интегрального подхода к изучению дви-
жения. Вторую часть своего "Трактата о конфигурациях ка-
чества и движения" он начинает такими словами: "Каждое
непрерывное движение делимого объекта имеет части и мо-
жет быть делимо либо в соответствии с делим ост ыо и про-
тяженностью или продолжительностью движения, либо в соот-
ветствии с делимостью и продолжительностью или длитель-
ностью времени, либо же третьим воображаемым способом,
в соответствии с уровнями и интенсивностью скорости. В пе-
рвом отношении продолжительность движения может быть
большой или малой, во втором - короткой или длинной, в тре-
тьем - быстрой или медленной" (цитло:с.34)
Oresme N. Tractates de Configurationibus Qualitatum et
Motuwn. — (Приведено по реф.источнику, c.34.)
103
Помимо непрерывности времени и пройденного пути Орем
включает в рассмотрение еще одну непрерывность - непреры-
вность изменения степени или интенсивности скорости любо-
го процесса. Понятие скорости, которая может непрерывно
изменяться от мгновения к мгновению, хотя внешне напоми-
нает более позднее понятие мгновенной скорости, делает тем
более ясным отличие интегральной установки средневекового
перипатетизма от дифференциальной физики нового времени.
Введя в концепцию измерения движения представлений об
интенсивности скорости и измерении этой интенсивности,
Орем, однако, еще не обладал понятием мгновенной скорости,
что вызывало неудобства и проблемы при измерении скоро-
стей.
Более подробное рассмотрение того, каким образом Орем
предлагал измерять скорость, показывает, что каждый раз
это совершалось посредством объединения движения с тем
или иным типом пространственной протяженности. При этом
Орем сравнивал скорости и представляющие их фигуры цели-
ком, не покомпонентно, работая тем самым в Аристотелевой,
континуалистской традиции. Как писал Орем, 'Универсально
мера или отношение двух количеств линий или поверхностей,
а также Скоростей, заключается в воображаемых фигурах,
которые могут быть им приписаны' (цит.по с.38). Данный
принцип измерения сводит движения переменной интенсивнос-
ти к движениям постоянной интенсивности» Так, движение с
уменьшающейся или увеличивающейся скоростью может быть
сведено к движению с постоянной скоростью в течение того
же самого времени (площадь прямоугольника эквивалентна
площади другой фигуры с таким же основанием). Другой,
менее обычный пример - отнесение неоднородных (перемен-
ных) движений к частям объектов. Томас Брадвардин и Аль-
берт Саксонский, проясняя и развивая взгляды Орема на
этот вопрос, предлагали измерять скорость тела скоростью
самой быстро движущейся его части (Сократ отстает от Пла-
тона, но в последний момент резко выбрасывает вперед ру-
ку и становится вровень с Платоном). Или, например, уста-
новление скорости вращающегося отрезка вокруг закреплен-
ного конца как скорости середины этого отрезка.
104
Таким образом, характер изменения скорости в процес-
се движения понимается Оремом как качественная характе-
ристика процесса в целом и изображается некоей фигурой.
Эта фигура описывает скорость приобретения предметом по-
ложения, качества, а также того или иного * 'совершенства*.
В русле этой методологии можно произвольно рассматривать
распределение скоростей - вдоль тела (при вращении), вдоль
траектории, времени или, например, по мере 'близости* к
центру падения, каждый раз получая новые характеристики
в описании того же процесса. 'Согласно множеству спосо-
бов наименования, - цитирует автор Орема, - скорость
многообразно меняется и именуется* (циг.по: с.37). В резу-
льтате средневековая физика, несмотря на внешние апелляции
к аксиоматическому методу, не создала унифицированной
теории движения. Ни Орем, ни его последователи не пыта-
лись далее уточнять и применять свои взгляды. Их иссле-
дования носили скорее эпистемологический, чем математк-
ческий характер.
В противоположность традиционным континуалистским
представлениям, господствовавшим в средние века (Орем и
др.), Галилей, как и многие другие исследователи нового
времени, был убежденным антиперипатетиком и. придержи-
вался атомистических представлений. Так, в 'Беседах и
математических доказательствах* усгами Сальвиати Гали-
лей выступает против разделения на актуальную и потенци-
альную бесконечность: 'Таким образом, я допускаю для сень-
ора философа, что континуум содержит столько частей, сколь-
ко захочется, и актуально или потенциально содержит - это
тоже зависит от вкуса и удовольствия рассуждающих* А' (цит»
Galilei G. Two new sciences/Transl by Drake S.,—Madison,
1974. *- P.8L -(Приведено по реф.источнику,с.41.)Русский
перевод», данного отрывка (Галилей Г. Избранные труды 2-х т.
-Т.2. Беседы и математические доказательства. М.: Наука,
1964.’- С.144) может дезинформировать читателя, ибо
из него возникает представление, что Галилей согласен с
философами вообще, в том числе и с перипатетиками (*Я готов
согласиться с философами, что непрерывное целое...*» -С.144*
рус.пер.). - Прим.реф. 108
14-1
по:с.4). Галилей совсем своим сарказмом, указывает автор, все
равно не смог бы уйти далеко от Аристотеля без привлече-
ния дополнительных соображений. И такие соображения Гали-
лей находит» Рассматривая в 'Беседах' несколько математи-
ческих парадоксов, он рисует картину своеобразного точечно-
го атомизма, в которой точки могут заполнять отрезок с раз-
ной степенью 'плотности*.
Так, в примере, привлекающем аргументы, связанные с
движением, Сальвиати стремится показать» что окружность
при своем вращении за один оборот может описать линию,
большую или меньшую своей собственной длины посредством
разряжения или уплотнения своих частей. Для этого он испо-
льзует пример так называемого 'колеса Аристотеля'. Две
концентрические окружности закреплены друг относительно
друга, и одна из окружностей (скажем, бмыпая) катится по
прямой. В силу того, что окружности скреплены, когда боль-
шая окружность сделает один оборот и 'отпечатает' свою
длину на прямой, по которой она катится, меньшая окружно-
сть также сделает один оборот и оттиснет свой след на парал-
лельной прямой. Оба эти оттиска будут одинаковыми по длине,
хотя, с другой стороны, длины окружностей неравны. Чтобы
понять» как это возможно, Сальвиати исходит из позиции
математического атомизма, представляя окружности как мно-
гоугольники с бесконечным числом сторон, и начинает анализ
с исследования качения правильных концентрических многоу-
гольников с конечным числом сторон. Тогда видно, что если
больший многоугольник будет оставлять отпечаток на линии,
по которой он катится, без промежутков, то меньший многоу-
гольник при качении по своей линии при 'перекатывании' с
одной стороны на другую должен оставлять разрывы в от-
печатках. При стремлении количества сторон к бесконечнос-
ти эти разрывы будут стремиться к нулю, неограниченно
увеличиваясь в числе.
Как хорошо понимал Галилей, столь свободное и оттал-
кивающееся от Представлений атомизма манипулирование с
измерением движущихся объектов может вызывать у неко-
торых опасение, ибо ведет к выводам об изменчивости дли-
ны линий, подрывая основы количественной науки. Но Галилей
106
не видел оснований для подобного опасения. Для него беско-
нечность была великолепным оружием при обнаружении коли-
чественной 'внутренности* вещей и, как и большинство пи-
сателей XVII в., он менее всего опасался трюков некоррек-
тных рассуждений. Он полагал, что если дойти до оконча-
тельных элментов движения, то тогда можно будет убедите-
льно установить, что происходит в ситуациях сложного дви-
жения. Строя таким образом теорию атомистически понято-
го движения, Галилей полагал общую скорость как состоя-
щую из определенного множества окончательных элементов.
Если Орем, работая в континуалистской традиции, сравнивал
скорости и представляющие их фигуры как целое с целым,
то Галилей представлял скорость движения как фигуру, сос-
тоящую из линий, фиксирующих скорости для каждой недели-
мой части. Такая установка применялась Галилеем, напри-
мер, при изучении движения свободного падения (что подро-
бно анализирует автор). Намерение Галилея проводить син-
тез из предельных элементов было его главным принципом
в понимании континуума и реализовывало его цель создания
'соврешенно новой науки о совершенно старом объекте*.
В последней и как бы особняком стоящей части статьи
автор вводит грех спорящих относительно содержания ста-
тьи персонажей, выражающих, по всей видимости, взгляды
научных оппонентов автора. В ходе этого диалога проводит-
ся детальный анализ реконструкции идей Ж.Буридана и
Р.Бэкона. Даются краткие замечания об использовании тео-
рии пропорций Евдокса, о том, что в средние века предпо-
читали применять арифметическую теорию пропорций.,
"Восстановление в правах Евдоксовой теории пропорций в
XVI в. было важным для Галилея", — этот тезис также
обсуждается персонажами опора. Указывается на важность
более тщательного изучения позиции тех ученыхсредневековья,
которые отрицали континуальность в пользу атомизма и Выя-
вления их политических и теологических взглядов. Важным
также является исследование того, насколько в этом контек-
сте различны взгляды Галилея и Орема? Есть ли связь меж-
ду принятием непрерывного континуума и типом предпочитае-
мых аргументов? Этими вопросами, а также замечанием со
107
14-2
стороны одного из персонажей спора, что Галилей в 'Бесе-
дах* использовал традиции средневековых диспутов и тем
самым не настаивал на окончательном решении вопроса о дис-
кретности или непрерывности движения, автор заканчивает
статью»
АД\Барабашев
108
ОСЛЕР М.
КРЕЩЕНИЕ ЭПИКУРОВСКОГО АТОМИЗМА:
ПЬЕР ГАССЕНДИ О БЕССМЕРТИИ ДУШИ
OSLER М.
Baptizing Epicurean atomism: Pierre Gassendi
on the immortality of the soul
//Religion, ‘science, and worldview.—
Cambridge etc., 1985.—P. 163—183.
Английский историк науки утверждает, что атомизм Пье-
ра Гассенди (1592-1655) был учением, соединившим в се-
бе идеи Эпикура, Лукреция, Аристотеля и Фомы Аквинского,
отроившимся так, чтобы не противоречить важнейшим поло-
жениям христианской доктрины, в частности идее бессмертия
души. "Результат был эклектическим и не во всем последо-
вательным, но он дает нам возможность проникнуться атмос-
ферой теологических и идеологических конфликтов, в которые
была втянута философия механицизма с самого своего воз-
никновения" (с.165).
Имя Пьера Гассенди обычно ассоциируется с внедрением
эпикуровского учения в европейскую философскую мысльXVile.
, Его трактовка атомизма и гедонизма оказала значитель-
ное влияние на развитие науки и политической философии то-
го времени. До Гассенди эпикурейская философия обычно свя-
зывалась в сознании европейских мыслителей с атеизмом и
нечестием. Будучи католическим священником, Гассенди "пос-
тавил задачу христианизации Эпикура путем выявления сом-
нительных элементов его философии и их соответствующего
изменения" (с. 165). Так, он отверг учение Эпикура о веч-
ности мира, о бесконечности числа атомов, о clinamen
100
иля отклонении, которое было введено Эпикуром для объя-
снения взаимодействия атомов в бесконечной Вселенной; он
также изо всех сил подчеркивал провиденциальное вмешатель-
ство бога в дела сотворенного им мира.
Одним из наиболее тревожных для христианства аспектов
учения Эпикура было отрицание бессмертия души. Эпикурей-
ская теория души была несовместима с ортодоксией христиан-
ского вероучения, утверждавшей жизнь души после смерти
тела, божий суд и воздаяние, воскресение Христа и возмож-
ность воскресения людей при втором его пришествии, Гас-
сенди осознавал, что природа души была серьезной пробле-
мой для христианского истолкования атомизма, и посвятил
много страниц своего фундаментального труда * Свод фило-
софии* 7рассмотрению этой проблемы. Характерно, что
заключительная книга его 'Физики* (часть П трилогии 'Сво-
да философии*) озаглавлена *0 бессмертии души* и посвя-
щена пространному анализу этого вопроса'' (с.166-167).
Этот анализ проводится систематически. Гассенди начи-
нает с общего вопроса о природе души вообще. Затем он го-
ворит о душах животных, об их функциях и природе, о чело*
веческой душе и пытается доказать ее бессмертие, привле-
кая аргументы, часто противоречающие один другому. Его
задача - оспорить и опровергнуть эпикуровские возражения
против бессмертия душ.
Душа, рассуждает Гассенди, есть то, чт.о отличает живые
существа от неживых. Он различает anima и animus,
заимствуя это различение у Лукреция: anima - это то,
посредством чего мы ощущаем, испытываем чувства,
animus — посредством чего мы мыслим. Animus -
рациональная часть души, anima - иррациональная чувствен-
ная, вегетативная. Человеческая душа отличается от души
животных наличием animus ; души животных соответствуют
иррациональной части человеческой души. Жизнь связана с при-
сутствием души в теле. Знаком жизни является и жизненное
Gassendi Р, Syntagma philosophicum.(Приведено
по реф. источнику, с. 164.)
НО
тепло, поэтому душа связана с огнем, подобно огню, она
находится в постоянном движении, *Душа животных и живог-
ная часть человеческой души не представляют проблемы для
Гассенди, философа-механициста. Подобно всякой другой версии
механицистской философии, его учение основывается на фунда-
ментальном допущении о том, что все явления природы долж-
ны быть объяснены в терминах материи и движения. Для Гас-
сенди и факты биологии, и восприятие не представляют особой
проблемы, поскольку они могут вполне быть объяснены (как
ему казалось) в терминах движения атомов* (с.169-170)
Однако, когда речь идет о рациональной душе, обнаруживаю-
тся границы механистической философии. Здесь философия Гассен-
ди больше похожа на философию Декарта, но не Гоббса, *В этом
отношении различие между Гоббсом, с одной стороны, и Декартом
с Гассенди—с другой,-это различие в определении области,
к которой применим механицизм* (с, 170),
Души животных, по Гассенди, будучи сотворены однажды,
затем передаются от одного поколения к другим посредством
биологического процесса воспроизводства. Они материальны,
как материальна и *животная душа* у человека. Но * рацио-
нальная душа* человека не как биологического существа, но
как * образа и подобия бога* - нематериальна и, следователь-
но, бессмертна.
Аргументация ,Гассенди в пользу бестелесности рациональ-
ной души не отличается последовательностью,Аргумент первый:
первичным свойством этой души является интеллект, кото-
рый следует отличать от воображения или фантазии, питае-
мой материальными эйдосами, истекающими от вещей; пос-
кольку интеллект не есть фантазия, он бестелесен» Аргумент
второй: уникальной способностью интеллекта является само-
рефлекоия; этот аргумент похож на картезианское cogiu».
Аргумент третий: душа не только образует понятия универ-
салий, но и понятие самой универсальности (в отличие от
животных, которые, как считал Гассенди, способны лишь к
формированию *конкретных аспектов универсалий*). Но интел-
лект есть орган рациональной души, подобно тому, как чувс-
твенные органы суть органы *животной души*. Следователь-
но, если интеллект бестелесен, то и рациональная душа
111
бестелесна, хотя и помещается в теле.'
В вопросе о сотворении нематериальной души Гассенди
полностью отходит от физики Эпикура и Лукреция, для ко-
торых принцип ex ninilo nihH fit (из ничего не воз-
никает) был основным, В отличие от материальных компонен-
тов механической природы, которые состоят из атомов и
пустоты и произведены вторичными причинами, рациональная
душа каждого человека, по Гассенди, является индивидуаль-
ной и непосредственно создана богом (с.17б).
Трудным вопросом для Гассенди было объяснение того,
каким образом нематериальная душа 'помещается* в мате-
риальном теле? Чувственная душа рассредоточена в теле,
рациональная - сосредоточена в мозгу; известно,что Декарт
рассматривал шишковидную железу как посредника между
душой и телом, и это 'решение* было не более произвольным,
чем мнение Гассенди о чувственной душе как о посреднике
между телом и рациональной душой.
Стратегия Гассенди в вопросе о бессмертии рациональ-
ной души была следующей: он вначале высказывает ряд аргу-
ментов в пользу тезиса о бессмертии, исходя из физики,
веры и морали, а затем высказывает аргументы против
эпикурейской критики этого тезиса. Физический аргумент:
душа нематериальна, следовательно, она бессмертна. Аргу-
мент веры: вера в бессмертие души универсальна и у нее
нет опровержений; человек верит в бессмертие души, так
как желает жить и после смерти своего тела, но нельзя
допустить, что это желание пустое, не имеющее оснований.
Аргумент морали: бессмертие необходимо для действия прин-
ципа справедливости, для осуществления воздаяния за добро
и зло. В таком же духе выдержаны почти 30 опровержений
эпикурейской критики бессмертия души.
Хотя аргументация Гассенди в высшей степени непоследо-
вательна и эклектична, она преследует вполне ясную целы
придать атомистической натурфилософии социально приемле-
мое теологическое звучание. *С одной стороны, он явно и
вполне сознательно пытался помочь созданию такой натур-
философии, которая должна была прийти на смену дискреди-
тированному перипатетизму и дать метафизические основа-
112
ния новой науке, которой он активно содействовал» С дру—
гой стороны, его мысль несла глубокий отпечаток гуманис-
тического преклонения перед классикой, В отличие от Дека-
рта, другого выдающегося философа-механициста, представля-
вшего свои мировоззренческие идеи как продукты своего
собственного размышления, Гассенди считал себя обязанным
основывать свои воззрения на античных образцах. Избрав
для этой цели Эпикура, чей атомизм, по-видимому, был
совместим с духом новой науки, Гассенди затем был выну-
жден модифицировать античную систему так, чтобы она не
противоречила христианской теологии» Глубоко связанный о
традициями схоластики, Гассенди в своих теологических поп-
равках к языческому эпикуреизму исходил из идей Фомы
Аквинского и других традиционных христианских теологов.
Не принадлежа ни древности, ни современности, Гассенди
внес вклад в новое мировоззрение, оставаясь при традицион-
ных методах аргументации* (с. 182-183).
В.Н.Поруо
113
15-1
пп , ГАЛИЛЕЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД
БАТТС Р.Е.
ТАКТИКА ПРОПАГАНДЫ ГАЛИЛЕЯ В ПОЛЬЗУ
МАТЕМАТИЗАЦИИ НАУЧНОГО ОПЫТА
BUTTS RJS»
Some tactics in Galileo’s propaganda for
the mathematization of scientific experience
//New oerspectives on Galileo»—Dordrecht; Boston* •
1978. - P.59-85.
Статья профессора Канадского университета Роберта Бат-
тса - очередная попытка разобраться в существе вклада Га-
лилея в интеллектуальную революцию XVII в., в возникно-
вение современной науки с помощью оценки логической, гла-
вным образом, состоятельности аргументации Галилея в по*
льзу математического устроения Вселенной и соответствен-
но правомерности неограниченного применения математики,
особенно геометрии; в физике»
Автор считает* Что Галилей весьма существенно моди-
фицировал эпистемологическую точку зрения на эксперимен-
тирование» В отличие от ряда исследователей автор находит
множество" доказательств тому, что Галилей во многих воп-
росах оставался аристотелианцем, хотя в целом его систе-
ма была массированной атакой на господство аристогелиан-
окого стереотипа (с»59)» Этот господствующий перипатетизм
утверждал* что математическое и физическое описания прин-
ципиально различны и что принимать в расчет следует толь-
ко физическое описание; что Вселенная суть организм, стре-
мящийся к уподоблению с богом, который его сотворил; что
человек ближе других творений стоит к богу; что эта ме-
114
тафизическая центральность человека находит свое отражение
в том факте, что Земля является центром физической Вселен-
ной, что человек способен достоверно познавать сущности,
лежащие за миром явлений,- т.е. утверждался некий само-
довлеющий комплекс идей, разработка которых оправдывала
определенным образом представление о текстах Аристотеля
как о сопряженной целостности.
Учитывая критику Фейерабенда, Ши и других исследо-
вателей в адрес историков науки, признающих Галилея от -
цом-философом современной науки, автор в рамках этой кри-
тики выделяет свой особый предмет исследования: "В данной
работе я рассмотрю лишь один аспект программы Галилея:
попытку редукции научного опыта к такому опыту, который
может быть выражен в математических терминах. Эта часть
программы Галилея представляется простой и сравнительно
легко выделимой,, к тому же она показывает Галилея по
преимуществу как метафизика XVII в. Вместе с тем мы уви-
дим, что аргументация Галилея не так уж сильна и что
требующиеся для доказательности различения проведены да-
леко не безупречно, Фейерабенд, похоже, прав:**Галилей, об-
раз которого мы начинаем исследовать, был не столько фи-
лософом, сколько пропагандистом, не столысо ученым, сколь-
ко метафизически философствующим политиком* (с.60-61 )♦
В чем, согласно автору, кроется причина стремления Га-
лилея (и других основоположников науки) редуцировать науч-
ный опыт к опыту, выразимому в математических терми-
нах? В том, что к сфере абсолютно достоверных научных
суждений Галилей, (опираясь на эпистемологическую тради-
цию, восходящую к античности) относил лишь математичес-
кое знание. Эта позиция Галилея ярко выражена в его 'Диа-
логе*: *•• .человеческое понимание может рассматриваться в
двух планах - как интенсивное и как экстенсивное. Как
экстенсивное его можно рассматривать в отношении ко мно-
жеству интеллигибельных предметов, число которых бесконеч-
но; в этом плане человеческое понимание ничтожно, даже
если оно охватывает тысячу суждений, коль скоро тысяча по
отношению к бесконечности есть нуль. Но если человечес-
кое понимание рассматривается интенсивно и коль скоро
115
15-2
под интенсивностью разумеют совершенное понимание не-
которых суждений, то я говорю, что человеческий интеллект
действительно понимает некоторые из этих суждений совер-
шенно и что в них он обретает ту же степень достоверно-
сти, какую имеет и сама Природа, К этим суждениям принадле-
жат только математические науки, а именно геометрия и ари-
фметика (подчеркнуто реф.), в которых божественный интел-
лект действительно знает бесконечное число суждений, пос-
кольку он знает все. И что касается того немногого, что
действительно понимает человеческий интеллект, то я счи-
таю, что это знание равно божественному в его объективной
достоверности, поскольку здесь человеку удается понять
необходимость, выше которой не может быть никакой более
высокой достоверной* (цит.по: с.61)
В отличие от достоверного математического рассуждения
опытное наблюдение в строгом смысле доказательным
знанием Не считалось ни в античности, ни в эпоху Галилея;
отсюда стремление Галилея 'насытить* опыт математической
строгостью, ясностью, чтобы максимально приблизить его к
сфере доказательности и, следовательно, научности.
Парадокс заключается в том, что аристотелики были
эмпириками; все перипатетические физические суждения дол-
жны были и согласовывались с обыденным опытом. Но тот
опыт, который Галилей хотел сделать основой физического
экспериментирования, противоречил непосредственной чув-
ственной данности: он требовал верить в неподвижность
Солнца, в существование атомов и пустоты, инерциального
движения и тдь
Позиция Галилея оказалась достаточно противоречивой.
'Против аристотеликов ему хотелось утвердить то, что ма-
тематика не является просто формальным описанием (пред-
полагающим, что возможно множество математических описа-
ний, но лишь одно истинное физическое описание ), но что
физическая природа является неким образом, в конечном счете
1 ^Русский перевод см.: Галилей Г. Диалог о двух главней-
ших системах мира, - М,, 1948. - С.89.
116
метематической. В то же самое время Галилей (иопятьг-таки
против аристотеликов) начинает первую шумную кампанию в
пользу физического экспериментирования. Курьез здесь в том,
что эксперименты, очевидно, проводятся для того, чтобы об-
наружить, как именно действует природа;лричем эксперимен- -
тирование понимается как вид манипулируемого наблюдения.
Но где гарантия того, что эксперимент будет обнаруживать
только математические реальности* (с.61).
Галилей не был платоником в традиционном смысле слова;
его не удовлетворяло стремление платоников мыслить ма-
тематическую реальность как внеэмпирическую, как область,
находящуюся над сферой чувственной действительности. Он
стремился опустить математическое 'небо* на 'землю' эмпи-
рической действительности, *он хотел, чтобы то, что мы
наблюдаем как результат экспериментов, считалось бы реаль-
ным, но в то же самое время он хотел, чтобы эта реально-
сть была математической' (с.61-62).
Сложность позиции Галилея состоит в том, что, отвергая
аристотелианскую физику субстанциальных качеств, он во
многом сохраняет аристотелевскую .эпистемологию: испытав
влияние ренессансного скептицизма, Галилей b разные пери-
оды своей жизни колебался между 'умеренным скептицизмом',
сомневающимся в достижимости достоверного физического
знания, и традиционной аристотелианской 'догматической'
эпистемологией, утверждавшей возможность доказательного,
достоверного знания не только в математике, но и в физике.
Так, эпистемологическая позиция 'Диалога' X 1632) зна-
чительно отличается от той, которая выражена Галилеем в
более ранних 'Письмах о солнечных пятнах* (1613 ). В
'Письмах* Галилей, принимает почти ту самую форму эписте-
мологии аристотелизма, против которой он сражается позже.
В одном из разделов 'Писем* он обвиняет одного из астро-
номов, Апеллеса, за то, что он 'привержен к эксцентри-
кам , деферентам, эквантам, эпициклам и т.д. , как если
бы они были реальными, действительными и различенными
вещами. Но они лишь допущения, принимаемые астрономами-
философами для обеспечения вычислений. От них ничего не
117
остается, когда астрономы-философы выходят за пределы
необходимости их использования для *спасения явлений* и
приступают к исследованию истинного устроения Вселенной—
к решению наиболле важной и наиболее грандиозной своей
проблемы, потому что такое устроение существует, оно уни-
кально, истинно, реально и, возможно, не может быть иным../
(цит.по: с.62).
Во втором "Письме*' этот явный эпистемологический аристо-
телизм выражен, по мнению автора, еще более ощутимо:
'Я даже полагаю, пишет Галилей, что, делая небесный мате-
риал подверженным изменению, я вступаю в гораздо мень-
шее противоречие с доктриной Аристотеля, чем те, кто все
еще желает удержать небеса в неизменности. Я же уверен
в том, что он никогда не считал эту неизменность столь же
достоверной, как тот факт, что человеческое мышление дол-
жно быть поставлено на второе место по отношению к пря-
мому опыту. Из этого следует, что лучше философствовать
будут те, кто допускает суждения, производные от ясных
наблюдений, нежели те, кто настаивает на мнениях, проти-
воречащих чувствам и опирающихся только на вероятные ре-
зоны' (цит. по;с.62).
Автор отмечает, что эпистемологические взгляды Галилея
в 'Письмах' резко отличаются от его более поздних взглядов,
выраженных в 'Диалоге' и в других работах. 'По этому слу-
чаю, -иронизирует автор,-Фейерабенд мог бы. восхититься сме-
лостью Галилея и его способностью придерживаться сразу не-
скольких конфликтующих мнений, мог бы и порекомендовать
другим ученым брать с него пример. Но Галилей придержи-
вался этих конфликтующих мнений в разное время, так что
объяснение, пожалуй, проще искать в том факте, что Гали-
лей просто изменил овое мнение. Но хотя эта альтернатива
и привлекательна, я все же не думаю, что она дает адеква-
тный ответ на вопрос, почему Галилей высказывал столь
различные взгляды' (с.62).
В первой из приведенных цитат Галилей критикует аст-
рономов, думающих о геометрической астрономии как о нау-
ке, целью которых является простое 'спасение явлений'.
118
Согласно Галилею, астрономия, как и любая другая здравая
наука, должна исследовать реальный мир. В этом 'раннем
аристотелевском* по духу утверждении Галилея отсутствует
в сущности только выражение веры Галилея в то, что фик-
сированное устройство реального мира по своему характеру
математично. Оппозиция 'Апеллес - Галилей' выражает раз-
личие между теми, кто понимает математику как вид эстети-
ческого времяпрепровождения, и теми, кто понимает матема-
тические описания как описания реальности. Вторая цитата
также в основном нейтральна по вопросу о том, какой
вид наблюдаемых явлений является подходящим материалом
науки. 'Галилей может согласиться с Аристотелем, что наб-
людению следует доверять больше, чем абстрактному рас-
суждению о причинах. В то же самое время он может не
согласиться с арис то теликам и своего времени в том, что
наблюдение обязано быть неконтролируемым, 'естественным'
наблюдением. Как мы увидим позже, Галилей полагал, что
результаты наблюдений хорошего эксперимента должны всег-
да быть представлены в доступных количественных терминах.
Поэтому эти цитаты из ранних полемических работГалилеяне
должны»представляться конфликтующими в любом жестком
логическом смысле с поздними, более полными формулиров-
ками его взглядов' (с.62-63).
Автор пишет, что философская (онтологическая и гносе-
ологическая) задача Галилея представляется огромной и тру-
дной. При его вере в то, что истинное знание физического
мира математично по своему характеру, а равно и вере в
эффективность экспериментальной науки, он оказывался пе-
ред необходимостью показать то, что казалось противоре-
чащим интуиции, а. именно: что наблюдаемые компоненты
эксперимента являются числами или геометрическими фигу-
рами, что тот самый опыт, который возникает в экоперименн
те, суть опыт математический, т.е. допускающий математи-
ческое, количественное выражение. Два столетия спус-
тя Кант столкнулся с той же самой проблемой, хотя'и выя-
вленной скорее > в эпистемологических, нежели в онтологи-
ческих терминах: для Канта говорить о предпосылках всяко-
го возможного опыта значило в значительной мере по-
119
казать* почему научный опыт обязан быть математическим.
Серьезное различие здесь только в философском акценте.
Поход Канта к этой проблеме был почти исключительно эпи-
стемологическим: анализ того, как возможно естествознание
как доказательная наука. Для целей такого анализа онтология
Канта оказывалась не столь существенной. Но не так обстояло
дело с Галилеем, Он, похоже, считал, что проблема обосно-
вания математического знания требует вполне эссенциалисто-
кой онтологии В рамках такой онтологии существует уве-
ренность, что определенный способ познания обоснован уже
тем, что мы имеем прямой доступ к реальности того же ти-
ра, что и познанные уже вещи: независимо от нашего те-
кущего научного познания мы знаем, что эта форма знания
—познания является единственно правильной. Вопрос состоит
в том, совершил ли Галилей эпистемологическую "работу*,
чтобы показать, что мы обладаем этим независимым досту-
пом?
Отмечая, что Галилею не удалось разработать целостной
и состоятельной онтологии, автор все же говорит о том, что
составляющие такой онтологии встречаются во многих рабо-
тах Галилея и что такая существенная часть подобной онто-
логии, как различие между первичными и вторичными качес-
твами вещей, активно вовлекалась Галилеем в полемику с теми,
кто отрицал новую философию науки (с,64),
В качестве примера автор приводит две цитаты из 'Про-
бирщика*, где вводится это различение первичных и вторин
чных качеств, *Я утверждаю, — пищет Галилей, - что когда
бы я ни воспринимал какую-либо материальную или телес-
ную субстанцию, я немедленно чувствую необходимость ду-
мать о ней как об ограниченной и имеющей ту или иную фо-
рму, как о большой или малой в отношении к другим вещам,
как о находящейся в данный момент в каком-то конкретном
месте, как о пребывающей в движении или покое, как о ка-
Т,е, онтологии, предполагающей существование за ми-
ром явлений мира сущностей (лат,- essentio ) и постули-
рующей возможность их достоверного познания субъектом,
гНриМэреф^
120
сеющейся или не касающейся какого-либо другого тела и как
об единичной по числу или малочисленной или многочислен-»
ной. От ©тих условий я не могу отделить подобную субстан-
цию никакими усилиями моего воображения. Но то, что она
должна быть белой или красной, горькой или Гладкой, шум—
ной или тихой, приятно или неприятно пахнуть» - все это мой
ум не считает себя обязанным принимать как ее необходимые
атрибуты. Без чувств — наших проводников — без их помощи
разум и воображение никогда бы, возможно, не дошли до
восприятия подобных качеств. Поэтому я полагаю, что вкусы,
запахи, цвета и т.п. не более как просто имена, коль скоро
они относятся к объекту, в который мы их помещаем, и что
они пребывают только в ощущающем теле. Поэтому если бы
живые творения вдруг исчезли, то исчезли бы, обратились
в ничто и все эти качества. Но поскольку мы прилагаем к
ним специальные имена, отличные от имен других, реальных
качеств, упоминавшихся выше, нам хочется верить, что они
существуют реально как действительно отличные от упомяну-
тых выше качеств * (цит,по:с.64), *Чтобы возбуждать в нас
вкусы, запахи, звуки, ничего, я полагаю, во внешних телах не
требуется кроме форм, чисел, медленных или быстрых дви-
жений. Я думаю, что если бы исчезли уши, языки и носы,
то остались бы формы, числа и движения, но не запахи, вку-
сы или звуки. Эти последние, я полагаю, не более как имена,
если они отделены от живых существ, точно так же как ще -
котка не более имя при. отсутствии, таких вещей, как носы
и подмышки* (цит.по: с. 64-65)1'.
Анализируя эти два хорошо известных историкам науки
фрагмента из 'Пробирщика*, автор отмечает, что по их по-
воду существует множество различных мнений. Например ,
СДрейк в примечании к своему переводу первого фрагмента
старается защитить Галилея от предположения, будто .его раз-
личение первичных и вторичных качеств предвосхищает эмпи-
См. Галилей Г. Пробирных дел мастер..^-М., 1987^*
С.225.
2 ) Burtt ЕЛ. The metaphysical foundations of modem physical
science.— N.Y., 1925.—XI, 349 p.
16-1 12!
ризм Локка и др. Подход Дрейка представляется автору не-
релевантным для понимания важности этого различения* пос-
кольку оно трактуется как рационалистское в более или ме-
нее стандартных философских традициях. Другой историк
науки Э. А. Берт в своей интересной и широко известней ра-
боте 'Метафизические основания современной науки* на
временнбм интервале двух поколений внушал читателям
ошибочную, с точки зрения автора, идею, будто речь здесь идет
о явной субъективности этих чувственных качеств (отметим,
что Галилей не использует этого термина; по всей вероятности
для Берта и других 'пребывать только в чувственности*
идентично 'быть субъективным*). Термин 'субъективный*
несет неблагоприятные констатации, и некоторые из них
ведут Берта к теолого-метафизическому заключению» будто
различие Галилеем первичных и вторичных качеств вычерки-
вает ^человека и его чувственный опыт из мира реальное-
Различение Галилея действительно должно бы вызвать у
некоторых мыслителей чувство ввода дуалистической онто-
логии, понижающей статус человека во Вселенной, Для
иных, подчеркивающих очевидный номинализм различения
Галилея, реальность человеческого опыта могла бы оказать-
ся действительно под вопросом. 'Но Галилей не говорил
этого» не было у него и ясно выраженного намерения онто-
логически 'свергать человека', В конечном счете, он лишь
пытался показать, каким образом в сфере математики чело-
веческое понимание оказывается равным пониманию Бога*
(с.65).
Путаница в исполковании дает автору повод представить
свою собственную интерпретацию. Он считает» что за раз-
делением Галилеем первичных и вторичных качеств кроется
убежденность Галилея в. следующих положениях:
Burtt ЕД. The metaphysical foundations of modem physi-
cal science.—N.Y., 1925,—XI, 349 p.
2)
9 Ibid.; p. 89-90.
122
(1) Свойства материи в существе своем математичны,
т.е* измеримы»
(2) Чувственны© (вторичные) качества существуют не
в материи, а только лишь в сознании.
(3) Чувственные качества не более, чем имена, коль
скоро та благодаря привычному словоупотреблению относят
к объекту.
(4) Чтобы существовать, чувственные качества нуж-
даются в органах чувств и во внешнем воздействии со сто-
роны материи.
(5) Для целей производства общественно значимой Hays
ки личные и идеосинкретичные чувственные качества нереле-
вантны, поскольку они не математизируемы.
Автор пишет, что позиция Галилея, как она зафиксирована
в этих пяти положениях, представляет собой достаточно
связную этнологию. Положение (1) характеризует материю
в некотором определенном смысле, но оно не включает утвер-
ждения, что только материя реальна. Положение (2) локали-
зует чувственные качества в сознании тех, кто чувствами
воспринимает веши. А положение (3) говорит нам, к приме-
ру, что кргда мы произносим: 'Этот огонь горяч', мы пони-
маем это, как если бы было сказано: 'Когда я притронусь к
этому огню, я испытываю ощущение горячего'. Положение
(2) и (3) не относят Галилея к номинализму в трактовке вто-
ричных качеств, но лишь к определенной семантической прог
рамме понимания значения некоторых фраз обыденного языка.
Ясно, что если чувственные качества существуют только в
сознании, тогда слова типа 'сладкий', 'красный', 'горький*
и им подобные суть 'просто имена', если их прилагают к
физическим объектам. 'Конечно, Галилей многое упускает
в изложении этой онтологии: вполне определенные чувства
могут оставаться там, где я заявляю: 'Этот х красен', и
делать это предложение общедоступным для верификации.
Но подобные тонкости эпистемологического анализа были
далеки рт Галилея, когда он провозглашал свою позицию'
( с.65-66).
Положение (4) не отрицает реальности чувственных ка-
честв, как и не низводит их к более низкому онтопогичес-
123
16-2
кому статусу. Позиция Галилея, подчеркивает автор, остав-
ляет совершенно открытым вопрос о том, что разум мог
бы приходить к совершенно другим идеям (здесь опять на-
лицо сравнение с мышлением Декарта), которые не являют-
ся чувственными по происхождению и, очевидно, не нуждают-
ся в физических объектах - конгломерате математических
объектов - как в своих причинах. Положение (5) должно
рассматриваться как ключевое для целей Галилея в выдви-
жении этого различия. Он пишет, что если мы проведем
пером по статуе и тем же самым способом по схожему со
статуей обнаженному телу живого существа^ то только те-
ло - в определенных местах - испытает чувство щекотки.
Щекотка оказывается научно неоспоримым фактом для выделе-
ния определенного типа тел» Но в обоих случаях публично
наблюдаемы только одни и те же движения пера, и компо-
ненты этого движения могут быть представлены математи-
чески. Здесь мы оказываемся, по мнению автора, в центре
проблемы. Положения (1), (2) и (з) гарантируют, что в
этих двух случаях мы имеем дело с различными типами
объектов: 'Геометрически определяемое движение пера по
поверхности обоих тел и ощущение щекотки в живом теле.
Оба тела реальными я не вижу причин полагать, что наме-
рением Галилея было утверждать, будто материальные дви-
жения 'более реальны, чем ощущения' (с.66-67).
Однако аргумент Галилея от аналогии был явдо недос-
таточен для того общего вывода, который ему требовался.
Сходство между ощущениями, подобными щекотке и восприя-
тию звука или цвета, не столь полное и убедительное, как
он думал. Часть этого аргумента апеллирует к обыденному
словоупотреблению: мы не окажем, что щекотка в пере, ко*
торое щекочет^ 'мне щекотно' - говорим мы. С другой
стороны, частью ординарного оловоуправления. являются так-
же и утверждения типа 'эта вода горячая' или 'эта книга
красная'. Мы не можем аргументировать от случая щекот-
ки к случаю теплоты, цвета и звука, и конечно же нам
не следует апеллировать к обыденному словоупотреблению.
Так или иначе, но Галилею требовалось установить поло-
жение (3) для всех ощущений, а то', что он получает из
124
совершенно неадекватного аргумента от аналогии, выгля-
дит лишь как вероятное, возможное, но не необходимое: су-
ществуют ощущения, различающиеся по типу; некоторые из
них обыденное словоупотребление локализует в восприни-
мающем субъекте, а другие то же словоупотребление 'оши-
бочно* относят к внешним материальным объектам. В до-
полнение к этому Галилей упускает решающий пункт, а
именно то, что ощущения измеримы в шкалах, которые мар-
кируют степени-градусы интенсивности, и что мы можем,
если располагаем подобными шкалами, определить, скажем,
степень нагретости объекта, измерив его температуру, т.е*
проделать это с помощью операции, которая вообще не
требует апелляции к ощущению. 'Когда, например, вода
обладает температурой в 212 по Фаренгейту, будет, по-
жалуй, совершенно неадекватным утверждение, что вода
сама по себе не является в каком-либо смысле горячей, а
окажется горячей, если кто-нибудь сунет в нее руку. Дви-
жение молекул и увеличение объема воды необходимы, что-
бы произвести ощущение теплоты в проводящем подобный
эксперимент, который доказывает положение Галилея (4),
но ни в коем случае не положений (2) и (3), то есть как
раз тех, которые требуются для проведения различия меж-
ду первичными и вторичными качествами* (с.67).
Таким образом, пишет автора аргументация Галилея
оставляет (в смысле обоснованности и полноты) желать
лучшего. Но было бы несправедливо требовать от Галилея
подобного расширения аргументации: *Не до того ему было,
если учесть тот факт, что борьба с эмпиризмом Аристотеля
требовала от Галилея значительной перестройки даже только
для того, чтобы начать экспериментирование любого рода.
Его неадекватно обоснованное философское различение первич-
ных и вторичных качеств имело по крайней мере ценность
открытия пути к ведению того, что от природы можно ожи-
дать ответов, если ею манипулировать контролируемыми
способами. А ввести новую альтернативную установку вовсе
не обязательно означает успешно обосновать и установить ее
(с.67-68).
125
Больше других автора интересует положение (5): остав-
ляя в стороне частные эпистемологические проблемы, он
возвращается к тому, что считает наиболее существенным
вкладом Галилея, имплицитно содержащимся в его различе-
нии двух типов качеств и образующим основную часть по-
ложения (5). Сам Галилей большую часть своих физичес-
ких исследований вел в новом стиле, и характеризация
физических объектов была ему необходима как часть фило-
софской программы, способной оправдать новую методоло-
гию. Имплицитно присутствующая в его различении онтоло-
гия может рассматриваться как открывающая новые пути *
для более фундаментальных методологических требований.
'Физика в этом новом смысле - наука не о том, что види-
мо невооруженным глазом в наблюдении, и не о каком-ли-
бо нашем частном чувственном опыте, а о том, что публич-
но доступно по отношению к физическим предметам, то есть
о тех математических свойствах, которые сообщают этим
предметам способность быть измеримыми в определенных
отношениях и 'наблюдаемыми' в экспериментальных контек-
стах' (с.68) Автор соглашается со следующим выводом
Ши по поводу анализа этого различения Галилея: 'Поскольку
природа тех никогда не будет полностью понятий из той
части их поведения, которая доступна восприятию, интерп-
ретируемые (то есть негеометриэированные) факты могут
служить только сырьем, исходным материалом науки. Чув-
ства теперь уже не могут служить надежными проводника-
ми к знанию, и роль эксперимента заключается лишь в том*
чтобы подтвердить или опровергнуть то, что было уже
дедуцировано из геометрических соображений' (цит. по:
с.68Ъ
Различение Галилеем первичных и вторичных качеств мо-
жет быть рассматриваемо как новый методологический ре-
гулятив того, что можно ожидать от экспериментов. Однако
одно дело настаивать на том, что наблюдаемые составляющие
эксперимента должны согласовываться с определенным ме-
тодологическим принципом, и совсем другое дело заставить
всех физиков признать этот новый принцип. Нельзя создать
приемлемый концепт научного опыта одним лишь методоло-
120
гическим декретом, необходима и аргументация. Галилей по-
лагал, что ему' удалось предложить требуемую аргументацию.
Рассматривая эту аргументацию как 'хитроумнейший
пример метафизического маневрирования', автор основную
часть работы посвящает анализу соответствующих мест
'Диалога' Галилея, и особенно тех, в которых использует-
ся идея точечного контакта совершенных сфер на совершен-
ной плоскости (с.72) и тезис о дедукции сопротивления
материи, которые в совокупности 'ставят Галилея в <ЬилосоЛ>-
ски безнадежную позицию, коль скоро речь идет об обосно-
вании доверия к прикладной математике' (с.74).
Подводя итоги придирчивого анализа аргументация Га-
лилея, автор пишет, что доверие Галилея к математике и к
эффективности экспериментирования должно приниматься как
философски неоправданное. Частью в него задним числом вов-
лекается сумма позитивных результатов физики» которая
встроена в ожидании Галилея, и эта сумма становится одной
из опор доверия Галилея. Его математический реализм доло-
жен был ждать своего философского обоснования, которое
сам Галилей не смог предложить. Его вера в то, что,
используя геометрические истины, человеческое понимание
становится идентичным пониманию Бога, осталась без обос-
нования. Различение между первичными и вторичными качест-
вами, необходимое ему для атаки на аристотеликов, оказа-
лось незащищенным, а его аргумент, будто математика
приложима к миру, был скорее метафизической верой, чем
безупречным философским выводом. Он, похоже, приходил к
заключению, что если мир не соответствует истинам мате-
матики, то тем хуже для самого этого мира' (с.81). Тем
не менее вклад Галилея действительно огромен. Подобно
воем выдающимся революционерам, Галилей предложил альтер-
нативу, которая со временем оказалась 'неотразимой' -
частично благодаря успехам соответствующего типа науки,
частично - его философской смелости в указании на слабос-
ти аристотелевского эмпиризма. Хотя он не мог или просто
не хотел разрабатывать в деталях свою систему, он выдви-
нул набор положений, который можно бы принять за что-то
вроде 'философии Галилея' (с.81).
127
Автор приводит три таких положения:
*1. Наука трактует не о тех вещах, о которых говорят
нам наблюдения невооруженным глазом, но о тех экспери-
ментальных возможностях, которые выразимы в математи-
ческих терминах»
2. На определенном регулятивном уровне - на уровне,
где методологические соображения перевешивают онтологи-
ческие, - экспериментирование не является попыткой под-
твердить теорию повторам, экспериментирование оказывает-
ся скорее способом усмотрения теоретических возможнос-
тей, причем эти возможности всегда зависят от взгляда на
реальность как на набор математических свойств»
3» Материя недоступна для обычного восприятия, она
суть физически интерпретированная геометрия* (с,81-82).
Вое три положения, отмечает автор, свидетельствуют о
готовности Галилея отказаться от обычного наблюдения как
от базы науки: *Эти положения предполагают, что наука
должна быть готова иметь дело с вымышленными ситуа-
циями» Эксперимент в конечном счете есть именно создание
не-нормальных (с точки зрения стандартов здравого смыс-
ла), артефактных ситуаций» Конечное заключение очевидно:
научный опыт - тот вид опыта, который мы обязаны иметь,
чтобы определить истинность или ложность математических
возможностей, - а совсем не тот вид опыта, о котором
Аристотель и его последователи говорили как о базовом*
(с.82)» Так, трактуя специфический вклад Галилея в науку,
автор подчеркивает, что его философская программа была
пропагандистской и соответственно логически неупорядочен-
ной» Поэтому значение Галилея обычно неправильно понимает-
ся историками как науки, так и философии: * Концептуальная
важность его систематической полемики против Аристотеле-
ва стереотипа, возможно, весьма преувеличена» Но я вое
же считаю одно совершенно ясным: если бы Галилей никогда
не существовал, то большое число последующих ученых,
начиная, пожалуй, с Ньютона, должно было бы изобрести
его* (с»82).
Т.М.Петрова
128
ШИ У.Р.
ГАЛИЛЕЙ И ОПРАВДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
SHEA W.R.
Galileo and the justiGcation of experiments
//Historical and philosophical dimensions
of logic, methodology and philosophy
of science.—Dordrecht; Boston, 1977.
-P. 81-92.
Статья сотрудника Мак-Гиллского университета (Канада)
посвящена выяснению роди эксперимента в деятельности
Галилея и в истории научной революции XVII в. Анализи-
руя взгляды известных философов и историков науки, автор
показывает, как одни и те же факты (в частности, знаме-
нитый мысленный эксперимент с падающей башней) вследст-
вие различных интерпретаций служат обоснованию противопо-
ложных философских концепций - таких, как эмпиризм и ра-
ционализм.
Э.Мах, считавший переломным моментом в развитии
науки открытие Галилеем закона инерции, не сомневался в
экспериментальной проверке этого закона. ГЪДюгем обходил
этот вопрос, утверждая, что научная революция явилась ре-
зультатом постепенных изменений, происходивших в середине
века в рамках аристотелевской традиции и подытоженных в
работах Леонардо да Винчи (которые в рукописях были
доступны многим ученым XVIIв., включая Галилея). Совре-
менные операшгоналисты (адаптировавшие феноменализм
Маха) представляют Галилея преверженцем операциоиалистс-
17-1
кого подхода. По интерпретации А.Койре (показавшего как
несостоятельность Мака» так и отсутствие ясной позиции у
Дюгема), новизна Галилея - в отличном от средневекового
взгляде на природу и в декларации объяснительной силы
математики» которой одной подвластно вскрытие истинных
характеристик физической реальности (с.84). Койре исклю-
чает эксперименты из рассмотрения» основываясь на много-
численных оговорках Галилея о необходимости идеальных
условий их проведения (невозможных при технике того вре-
мени) и о том» что эксперименты лишь иллюстрируют теорию*
но не подтверждают ее. Ав^ор отмечает» что Койре прида-
вал также большое значение неудачным попыткам воспроиз-
ведения экспериментов Галилея его современниками» и в
особенности Мерсенном. Идеи» близкие концепции Койре»
развивали Э.Берт, Г.Баттерфилд» супруги А.Р. и М.Б.Холл»
С. Ту л мин. К.Поппер также подчеркивал» что * голые факты
абсолютно немы и что все значимые эксперименты являют-
ся ответами на предварительно поставленные вопросы* (цит.
по: с. 84).
Вплоть до 1961 г. никто из исследователей не пытал-
ся провести описанные Галилеем эксперименты. Первый экспе-
римент» поставленный Т.Б.Сеттлом показал» что Гали-
лей мог наблюдать указанные им результаты» и это прио-
бодрило эмпириков (хотя, как указывает автору возможность
экспериментального получения этих результатов никак не
подтверждает факта проведения этих экспериментов Гали-
леем). Однако в 1973 г. были обнаружены расхождения
между экспериментом Сеттла и галилеевским описанием.
Р, Нейлор показал» что при точном соответствии условий
эксперимента описаниям Галилея указанные Галилеем ре-
зультаты получены быть на могут. Это относится как к
эксперименту с движением по наклощюй плоскости, так и
Settle Т.В. An experiment in the history of science//Sci—
ence.—Wash., 1061. - Vol. 133.-P. 19-23.
Naylor R. Galileo and the problem of free fall//Brit.j.
for the history of science.—L., 1974. —Vol. 7, N 2.—P. 105—134.
130
через экспериментальную проверку выводимых из ник след-
ствий, создает впечатление, что Галилей опирался на гипоте
тико-дедуктивный метод. Однако для подтверждения Гали-
лей описывает лишь эксперимент с наклонной плоскостью.
Р.Нейлор объясняет это несоответствие тем, что Галилей
считал недостижимым полное согласие наблюдения и теории
и неудовлетворительные результаты относил за счет 'внеш-
них' факторов или дефектов эксперимента.
Автор же полагает, что адекватное понимание позиции
Галилея возможно, если отказаться от рассмотрения его проце-
дуры как прообраза гипотетико-дедуктивного методами ссыла-
ется на исследования У.Л.Уайэен^\ показавшей, что принципы
механики для' Галилея-не гипотезы и что обращение к экспе-
рименту задумано для показа очевидности этих принципов,
но не для подтверждения их правдоподобия. Автор, однако,
подчеркивает, что новая Галилеева наука о движении была
основана на допущениях, которые не были 'ни самоочевид-
ными, ни поддающимися немедленной экспериментальной
верификации' (с.89). В связи с этим Галилею пришлось
прибегнуть к традиции иллюстрирования базовых предполо-
жений простыми экспериментами и дальнейшего обращения
с этими предположениями как с уже известными фактами.
Разница состояла в том, что для установления Принципов
Галилея требовалось значительное усложнение ранее приня-
тых процедур подтверждения. Галилей считал, что распола-
гал 'необходимыми доказательствами' в смысле Аристоте-
левой 'Второй аналитики' (которые для него были крите-
Wisan W. The new science of motion: A study of Galileo’s
De modu locali"//Archive for history of exact sciences.—Berlin,
974. - Vol. 18. -P. 108-808.
17-2
13j
рнем подлинной науки, воплощенной Евклидом и Архимедом),
причем доказательствами не только истинной природы дви-
жения, но и 'рстинного устройства Вслеленой'. "Ни он, ни
его оппоненты не осознавали, что он ввел не только новые
научные доказательства, но и новый путь преодоления воз-
никающих в науке несоответствий' (с.90). Автор заклю-
чает, что методика Галилея может быть охарактеризована
как разновидность принципа *от возможного к сущему'.
Этот вывод он иллюстрирует на примере различных интерп-
ретаций природы движения на основании одних и тех же
экспериментальных данных: данные о расстояниях, пройден-
ных по наклонной плоскости за' определенные промежутки
времени, можно было использовать для подкрепления гипоте-
зы как квадратичной, так и линейной зависимости.
Л.В. Кнорина
132
ЭРЬЮ Р.
ГАЛИЛЕЕВСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЛУНЫ В КОНТЕКСТЕ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ТЕОРИИ ЛУНЫ
ARIEW R.
Galileo’s Lunar observations in the context
of medieval lunar theory
//Studies in the history and philosophy
of sciences.—L., 1984.—Vol. 15*
N 3.-P. 213-226.
Сотрудник Политехнического института и Университета
шт. Вирджиния (США) выясняет, в «м именно состояло про-
тиворечие между галилеевской теорией Луны и лунного све-
та и схоластическими, идущими от средневековья, концеп-
циями. В литературе часто встречается точка зрения, сог-
ласно которой Галилей противопоставил схоластам данные
телескопических наблюдений (пятна на лунной поверхности,
изменявшие свои очертания в течение суток), интерпретиро-
ванные им как тени, отбрасываемые лунными горами под
лучами Солнца. Отсюда заключают, что галилеевские выво-
ды о том, что Луна - такое же небесное тело, как другие
планеты,'включая Землю, и она светит отраженным от Солн-
ца светом, основывались на эмпирических данных, в проти-
вовес схоластическим спекулятивным воззрениям. Автор
ставит под сомнение эту точку зрения. Действительно ли
такова была роль телескопических наблюдений Галилея?
Мнение о том, что Луна подобна Земле, восходило к
глубокой древности (Гераклит, пифагорейцы, Платон)^ по-
133
разному истолковывались пятна на лунной поверхности, ви-
димые и невооруженным глазом. Плутарх, например, пола-
гал, что эти пятна говорят о неоднородности структуры
Луны, что противоречило аристотелевскому учению о гео-
метрическом совершенстве небесных тел. Но античные
'теории' Луны были в средние века вытеснены учением
Аверроэса, ставшим догматом для схоластики. Однако,
отмечает автор, это учение слишком часто подвергалось
неверным истолкованиям, и потому следует вновь вернуться
к его рассмотрению, чтобы выяснить, что же именно гово-
рил о Луне Аверроэс и в чем его суждения отличались от
аристотелевских.
У Аристотеля встречаются высказывания, в которых Лу-
на именуется 'вторым' или 'меньшим' Солнцем^ но в них
имеется в виду лишь то, что Луна - одна из первопричин
жизни на Земле, из чего, однако, не следует, что Луна по-
добна Земле и Солнцу в других, субстанциональных отно-
шениях* Однако в трактате 'О происхождении животных'
(761в) Аристотель делает важное замечание о том, что
некоторые животные (живущие в огне саламандры) могли
бы быть найдены на Луне, поскольку Луна сопричастна
огню (как одной из первостихий, к которым в конечном сче-
те сводятся земные субстанции). Это замечание допускает
двоякое истолкование. С одной стороны, его можно понять
как отступление от старого аристотелевского противопостав-
ления подлунных субстанций и небесных тел. Хотя лунная
субстанция и не уподобляется земной, но объявляется 'соп-
ричастной' земным первоначалам, т.е. разложимой и, следо-
вательно, уничтожимой, тогда как небесные субстанции, в
соответствии со воем учением Аристотеля, неразложимы,
вечны и неизменны. С другой стороны, можно считать, что
противоположность между земными и небесными субстанция*-
ми сохраняется и в том случае, если признать наличие не-
которых сходных свойств, о которых можно рассуждать по
аналогии, у этих субстанций. Именно так и истолковал
Аристотеля Аверроэс.
Согласно Аверроэсу, между свойствами Луны и Земли
имеет место отношение сходства (но не равенства), поэто-
134
му такие предикаты, как 'плотность* и 'разреженность',
1 'прозрачность* и 'непрозрачность*, * светимость* и 'несве-
тимость', по отношению к Луне могут применяться в рассуж-
дениях по аналогии. Такая аналогия нужна Аверроэсу для
объяснения свечения лунного диска и теней (пятен) на его
поверхности. В чем состояло это объяснение, получившее
столь широкую поддержку в схоластике?
Теория Аверроэса заключалась в следующем. Луна обя-
зана своим свечением Солнцу. Однако если предположить,
что Луна отражает свет Солнцу подобно зеркалу, то зем-
ной наблюдатель видел бы диск Солнца, отраженный в диске
лунного 'зеркала* (подобно тому, как мы видим в зеркале
источник света - свечу, -но не светящееся зеркало!).
Лунное 'зеркало* светилось бы отраженным светом, если
бы оно было 'не-зеркалом*, т.е. если бы поверхность
Луны была бы неровной, имела горы и впадины; но тогда
Луна не была бы идеальным геометрическим телом, что
противоречило бы учению аристотелизма. Поэтому, заключал
Аверроэс, хотя Луна действительно светит благодаря Солн-
цу, но не отражает его свет, а флуоресцирует под воздейст*-
вием солнечных лучей. Отсюда - простое объяснение пятен
на диске Луны: лунная субстанция неоднородна, одни ее час-
ти обладают флюоресцирующей способностью в большей сте-
пени, чем другие, и потому свечение последних менее интен-
сивно и воспринимается как темные пятна, окруженные бо-
лее ярко светящимися полями на лунном диске. В этом лун-
ные свойства сходны с земными: Земля также не является
'зеркалом* для солнечного света и на ее поверхности имеют-
ся 'пятна', хотя причины этого глубоко различны, как и
следует из перипатетического деления на небесные (совер-
шенные) и подлунные, земные (несовершенные) субстанции.
Средневековые мыслители XIV в. (Буридан, Орем,
Альберт Саксонский) находились под влиянием Аверроэса,
а не Аристотеля. Леонардо да Винчи считал, что предпо-
ложение об отражении как причине лунного свечения несос-
тоятельно и поэтому склонялся к аверроистской точке зре-
ния. В 1609 г. перед самой публикацией галилеевского трак-
тата 'Звездный вестник', где объяснялось лунное свечение
135
и наличие пятен на лунном диске со ссылкой на телескопи-
ческие наблюдения, Евстахий подвел итог всей средневеко-
вой (аверроистской) теории Луны и лунного света 1), Его
рассуждения отнюдь не следует понимать как 'спасение*
аристотелизма от критики эмпирическими данными телеско-
пических наблюдений. Само по себе использование телеско-
па не вызывало возражений у схоластов, которые иногда
вполне соглашались с данными Галилея; например, иезуит-
математик Кристофер Клавий, соглашаясь с наблюдениями
спутников Юпитера, в то же время отказывался признавать,
что в телескоп можно увидеть какие-то 'горы' на Луне.
Схоласты спорили не с наблюдениями Галилея, а с их
теоретической интерпретацией. Теоретические рассуждения
Галилея с их точки зрения были неправомерными,потому,
что содержали в себе ошибку 'порочного круга'. В самом
деле, ведь Галилей, утверждая, что Луна светит отражен-
ным от Солнца светом, уже исходил из посылки, что поверх-
ность Луны неровная; следовательно, его телескопические
'открытия' лунных гор были просто следствием этой посыл-
ки, а вовсе не ее доказательством! А это значит, что Га-
лилей не мог опровергнуть аверроистскую концепцию Луны
с помощью наблюдений. Он мог только выдвинуть иную кон-
цепцию, которая и вынуждала его видеть 'горы' и 'тени от
гор' там, где аверроисты видели неравномерно флюоресци-
рующие участки лунного тела. Галилей несомненно был хо-
рошо знаком с аверроистской теорией: в своих ранних произ-
ведениях он их цитировал, присоединяясь к ним, а в зрелые
годы, в трактате 'Диалог о двух главнейших системах ми-
ра' он доказывал, что Луна не может иметь ровную (зер-
кальную) поверхность, ибо если Луна - сферическое зерка-
ло, то она была бы невидима с Земли. Однако все это зна-
ла и не оспаривала и схоластика; средневековые мыслители
Eu s tach io a San eta Paulo. Summa Philosoohiae.—Cambrid-
ge, 1648*-* (Приведено по реф. источнику, с.222.)
136
были согласны в том, что ни видимость Луны, ни пятна на
ее диске нельзя удовлетворительно объяснить, если считать,
что 1) поверхность зеркально ровная и 2) ее свечение есть
отраженный свет Солнца. Но в отличие от Галилея они
отвергали не первую, а вторую посылку - отражение Луной
солнечного света. Вместо этого они принимали допущение
Аверроэса о флюоресценции. 'Ясно, что обе линии аргумен-
тации равны, проблема лишь в том,; почему кто-то выбирает
одну линию, а не другую' (с. 224). Галилей выбрал свой
путь объяснения, поскольку он был связан только с геомет-
рическими аргументами и не касался * вопроса о гомоген-
ности или гетерогенности лунной субстанции, неизбежно
возникавшего, если стать на позицию аверроистов.
Таким образом, заключает автор, 'только рассматривая
наблюдения Галилея в контексте средневековых представлен^
ний о Луне, можно правильно понять, почему схоласты
XVII в. (например, Клавий) отрицали его вывод о том, что
на Луне имеются горы. Мы не должны обвинять этих натур-
философов в иррациональности только за то, что они отвергли
вывода Галилея. Более того, их концепции лунного света,
унаследованные ими из аверроистской интерпретации арис-
тотелизма, вполне согласовались с их представлениями о
лунной субстанции и - более общо - с теорией небесных
тел, взятой у Аристотеля; их теории лунной субстанции и
лунного света, по-видимому, годились и для объяснения
наблюдений Галилея пятен на лунном диске.
Сами по себе лунные наблюдения Галилея, подчеркивает
автор, 'недостаточны, чтобы отвергнуть учение схоластов
или подорвать основы аристотелианской космологии, разру-
шая различие между подлунными и небесными субстанция-
ми, как это часто утверждается' (с.225-226). Подобные
утверждения характерны для тех историков науки, которые
полагают^ будто независимые от каких бы то ни было тео-
рий факты могут ниспровергнуть даже столь укорененную в
культуре теорию, какой была средневековая схоластическая
теория Луны. Такая точка зрения неприемлема. Каковы бы
ни были современные научные представления о Луне, сколь-
ко бы мы ни симпатизировали теории Галилея, у нас нет
18-1
1Э7
оснований считать, что схоластическое учение обнаружило
свою ущербность под влиянием гагешеевских наблюдений.
Рассмотренный исторический пример, полагает автор, го-
ворит в пользу воззрений П.Дюгема, отвергавшего так
называемые 9решающие эксперименты* в качестве послед-
них аргументов в споре теоретических альтернатив, а так-
же П.Фейерабэнда, считающего, что Галилей в борьбе за
коперниканское мировоззрение использовал не рациональную
аргументацию, а скорее пропаганду, гипотезы ad hoc,
воздействовал на эмоции и симпатии своей аудитории
(с.226).
В.Н.Порус
138
ЧАЛМЕРС А.
НАБЛЮДЕНИЯ ГАЛИЛЕЕМ ВЕНЕРЫ И МАРСА
С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕСКОПА
CHALMERS А.
Galileo’s telescopic observations
of Venus and Mars//Brit> j. for the philosophy
of science.—L., 1985.—Vol. 36, N 3.
- P. 175-184.
Автор, профессор Сиднейского университета, обсуждает
в статье вопрос о том, какое значение имело использование
Галилеем телескопа для подтверждения теории Коперника и
опровержения альтернативных ей теорий.
Он соглашается с П. Фейерабендом, что этот факт ио-
пользования показаний телескопа в действительности не со-
ответствует позитивистской и фалъсификационистской версиям
развития науки. Результаты наблюдений не привели ни ко
все возрастающей фактуалъной поддержке теории Коперника,
как это считают позитивисты, ни к фальсификации прежних
теорий и замене отвергнутых теорий более общей, объясняю-
щей необъяснимые в рамках прежних теорий случаи и дающей
новые предсказания, которые в дальнейшем были подтверж-
дены наблюдениями, направленными на их проверку. Вместе
с тем автор подвергает критическому анализу и позицию
Фейерабенда1 *.
Feyerabend Р. Against method.—L^ 1975. —340 р.
18-2
139
Основная часть доводов Фейерабенда опирается . на наб-
людение видимых размеров Венеры и Марса. Как указывал
в своих диалогах Галилей, изменения их размеров, наблюдае-
мые с помощью телескопа, согласуются с теорией Коперника,
тогда пак аналогичные изменения, наблюдаемые невооружен-
ным глазом, противоречат его теории. Для того чтобы дока-
зать предпочтительность фактов, полученных с помощью теле-
скопа, перед фактами, полученными в результате наблюде-
ния невооруженным глазом, Галилей в свои рассуждения
ввел феномен иррадиации планет и звезд. Эта гипотеза полу-
чила свое подтверждение главным образом благодаря ее
согласию с точкой зрения Коперника и была поэтому в зна-
чительной степени ad hoc гипотезой. Такова точка зрения
П. Фейерабенда.
Острие своей критики автор направляет против заявления
Фейерабенда, что наблюдения, произведенные Галилеем с по-
мощью телескопа, отстаивались им посредством ad hoc гипо-
тез. Не оспаривая общее заявление Фейерабенда, что переход
от теории Птолемея к теории Коперника не может быть аде-
кватно объяснен путем апелляции к современным взглядам
на научный метод, автор стремится поставить под сомнение
тот способ, каким Фейерабенд трактует применение Галилеем
телескопа для подтверждения своих доводов. По его мнению,
Фейерабенд сделал недостаточно, чтобы доказать, что заме-
на данных, полученных невооруженным глазом, данными, по-
лученными с помощью телескопа, привела к изменению 'ба-
зиса наблюдения' и эпистемологических стандартов.
Согласно теории Коперника, расстояние Венеры и Марса
от Земли должно значительно изменяться в ходе движения
этих трех планет вокруг Солнца. Когда Марс и Венера на-
ходятся с той же стороны Солнца, что и Земля, они относи-
тельно сближаются друг с другом, но в то время, когда они
будут находиться с противоположной от Земли стороны Солн-
ца, они относительно удаляются друг от друга. В случае
Марса расстояние от Земли изменяется посредством коэф-
фициента порядка 8, а в случае Венеры - посредством
коэффициента примерно порядка 6. Следовательно, диамет-
ры планет, наблюдаемых с Земли, должны изменяться посред-
140
ством подобного коэффициента. Однако при наблюдении нево-
оруженным глазом кажется, что Марс изменяет свой размер
посредством коэффициента не' намного большего, чем 2, в
то время как видимые изменения в размерах Венеры незна-
чительны. Именно по этой причине Галилей писал, что наблю-
дения над Марсом - это начало 'яростной атаки' на копер-
никанскую систему и что Венера предоставляет еще 'более
значительные трудности'Когда же обе эти планеты наблю-
дают через телескоп, то трудности исчезают. Наблюдаемые
изменения размеров соответствуют предсказаниям теории
Коперника.
Если ситуация представляется таким образом, то может
показаться, что теория Коперника подтверждается при усло-
вии, что может быть дано доказательство преимущества дан-
ных, полученных с помощью телескопа, перед данными, по-
лученными путем наблюдения невооруженным глазом. Фейер-
абенд^) убедительно доказывает, что этот вопрос был отнюдь
не простым. Галилей не имел адекватной теории телескопа,
на которую можно ссылаться, если хотят оправдать его ис-
пользование, в то время как теория, которую разрабатывал
его современник Кеплер, не отвечала психологическим аспек-
там наблюдения через линзы. Поскольку это касается прак-
тики, то надежность телескопа можно было бы продемонст-
рировать при его использовании в наземных условиях, но
этот результат нельзя было бы автоматически перенести на
достаточно разные и непохожие области, астрономических
явлений. Действительно, сам Галилей засвидетельствовал не-
которые несообразности при наблюдении небесных явлений с
помощью телескопа. Например, телескоп увеличивал звезды
гораздо меньше, чем Луну; он устранял иррадиацию планет,
но в гораздо меньшей степени - иррадиацию звезд. Поэтому,
в свете проблемы природы телескопических данных нельзя,
1) Galilei G. Dialogue concerning the two chief world systems.
—California, 1967.—P« 334.
2)Feyerabend P. Opv cit.—P. 9—10.
141
не сталкиваясь с трудностями, допустить, что наблюдения с
помощью телескопа изменений размеров Марса и Венеры
действительно подтверждали теорию >Коперника. Фейерабенд
доказывает, что Галилей не мог дать адекватного независимо-
го подтверждения достоверности своих наблюдений с помо-
щью телескопа, так что его поддержка теории Коперника в
этом отношении была ad hoc.
Автор полагает, что изображенная выше ситуация, которая
в основном соответствует представлениям Фейерабенда, а во
многих отношениях и Галилея, полностью искажает действи-
тельное положение вещей. По его мнению, вопрос состоял
не в том, что наблюдения планет с помощью телескопа от-
давали предпочтение теории Коперника по сравнению с ее
конкурентами, системами Птолемея и Тихо Браге, так как
последние точно предсказывали те же самые изменения раз-
меров планет, что и теория Коперника. Изменения расстоя-
ния от Земли, приводящие к предсказанным изменениям види-
мого размера, в птолемеевской системе возникают потому,
что планеты движутся сначала ближе, а затем дальше от
Земли, когда они пересекают эпициклы, наложенные на де-
ференты, которые действительно определяют пути планет, рав-
ноотстоящие от Земли, в то время как в системе Тихо Бра-
ге они происходят по той же причине, что и в системе Ко-
перника, поскольку эти системы геометрически эквивалентны,
Д. Прайс1' показал в довольно общем виде, что это должно
иметь место тогда, когда эпициклы в этих системах распо-
ложены таким образом, что они совпадают с наблюдаемыми
угловыми положениями планет и Солнца. То, что видимые
размеры планет представляли проблему для большинства
астрономических теорий начиная с античности, признал Осиан-
дер в своем введении к основному коперниковскому труду
l)Price DJ. A critical re—estimation of the mathematical
planetary theory of Ptolemy, Copernicus and Kepler//Critical
problems in the history of science.—(Приведено по реф> источни-
ку, c« 184*)
142
'Об обращении небесных сфер*. Это отметил также Фейера-
бенд1 \ но не придал этому особого значения.
В свете такого разъяснения логики ситуации автор пы-
тается воспроизвести фейерабендовский способ критики га-
лилеевского представления о своих доводах в 'Диалоге*. Сам
Галилей заметил в одном из ранних произведениях, что наб-
людения Марса и Венеры противоречат как теории Птолемея,
так и Коперника^). Тем не менее, описывая в 'Диалоге*
свои наблюдения с помощью телескопа размеров Марса и Ве-
неры, он представил их так, как если бы они подтверждали
теорию Коперника. Согласно Галилею, предсказание Коперника,
что Марс и Венера, по-видимому, должны изменять размеры
в ходе годового цикла, 'не только не противоречат системе
Коперника, но делают ее абсолютно предпочтительной*3', во-
ли применяется телескоп. Представляя дело таким образом
и умалчивая тот факт, что конкурирующие теории извлека-
ют такую же пользу из наблюдений с помощью телескопа раз-
меров Марса и Венеры, Галилей занимался тем, что вполне
оправданно можно назвать пропагандой системы Коперника.
Характеристика эпистемологической ситуации, которая от-
личается от предложенной Галилеем и Фейерабендом, у ав-
тора следующая. В течение двух тысячелетий имело место
несоответствие между астрономической теорией и наблюдае-
мыми размерами Марса и Венеры. Замена данных, получен-
ных невооруженным глазом, данными, полученными с помощью
телескопа, устранила эту давнишнюю трудность. Это было
аргументом в пользу данных телескопа. Конечно, если мы
используем совместимость теории с наблюдениями размеров
планет с помощью телескопа так, чтобы подтвердить досто-
верность последних, то мы не можем поступить обратным
1) Fey era bend Р. Op. ci t.—102 p.
2)The controversy of the comets of 1618/Ed. by Drake S.,
O’Malley C.D. Philadelphia, I960. -184.p.
^Galilei G. Dialogue...—335p.
143
образом и использовать наблюдения с помощью телескопа
размеров планет для подтверждения теории - как потому, что
это приводит к кругу в доказательстве, так и потому, что
этих свидетельств недостаточно для разграничения конкури-
рующих теорий. Если мы используем наблюдения с помощью
телескопа размеров Марса и Венеры как свидетельство дос-
товерности показаний телескопа в области астрономии, то
мы должны затем с более строгих позиций обратиться к дру-
гому доказательству с помощью телескопа правоты теории
Коперника, такому, как наблюдение фаз Венеры.
Совместимость наблюдений с помощью телескопа изме-
нений размеров Марса и Венеры с большинством астрономи-
ческих теорий того времени было не единственной причиной,
побудившей Галилея предпочесть эти наблюдения соответст-
вующим данным наблюдения невооруженным глазом. Он обра-
тился к феномену иррадиации, поскольку последний давал
независимые основания для такого предпочтения. Гипотеза
Галилея состояла в. том, что глаз 'сам себе создает пре-
пятствияг, когда он рассматривает маленькие, яркие, удален-
ные источники света. По-видимому, из-за этого подобного
рода объекты 'обрамляют по бокам чуждые им лучи'^\ Та-
ким образом, если звезды наблюдают с помощью невоору-
женного естественного зрения, они представляются нам не
в их истинной величине (и, так сказать, в их физической
величине), а освещенными каким-то ярким светом и обпам-
ленными сияющими лучами. В случае же планет иррадиация
устраняется с помощью телескопа. Согласно Фейерабенду,
эта 'гипотеза Галилея опиралась главным образом на свою
согласованность с точкой зрения Коперника и была поэтому
в значительной степени ad hoc гипотезой'^), несмотря на
тот факт, что он сделал ее правдоподобной, попытавшись
показать, каким образом может быть устранена иррадиация
иными, чем телескоп, средствами.
Galilei G. Op. cit.-. 333.
^Feyerabend P. Op. cit.-. 135-139.
144
6328
Во втором разделе автор стремится доказать, что обви-
нения Фейерабенда в том, что данная гипотеза была ad hoc,
не могут быть подтверждены в данном контексте. С этой
целью он пытается уточнить различные смыслы понятия
ad hoc. Следуя в этом главным образом И. Лакатосу и Э. Заха-
ру, он выделяет три значения ad hoc.
Гипотеза является ad hoci относительно некоторой проб-
лемной ситуации, если нет проверенных следствий этой гипо-
тезы, которые уже не являются частью данной проблемной
ситуации. Гипотеза будет ad hoc* относительно проблемной
ситуации, связанной с теорией Коперника, если нет ее след-
ствий, которые не были бы уже следствиями теории Коперни-
ка и ее основания. Гипотеза является ad Ьосд^если независи-
мо проверяемые следствия не выдержали проверок, то ли по-
тому, что такого рода проверки не были проведены, то ли
потому, а это гораздо серьезнее, что результаты таких про-
верок оказались негативными. Характеристика третьего смыс-
ла ad hoc не столь точна. Лакатос первоначально характе-
ризовал его в темпоральных терминах. Гипотеза является
ad hocg относительно некоторых данных, если эти данные
предшествуют своей формулировке. Впоследствии Лакатос
стал допускать альтернативную формулировку Захара, соглас-
но которой гипотеза является ad hocg относительно некото-
рых данных, если эти данные выполняют эвристическую роль
в формулировке данной гипотезы. Автор стремится показать,
что гипотеза иррадиации не была ad hocg ни в одном смысле.
Так как гипотеза Галилея ведет к утверждению, что ир-
радиация возникает как следствие яркости, незначительности
величины и значительности расстояния от наблюдаемого ис-
точника, то она может быть, проверена путем модификации
этих трех факторов самыми разными путями, многие из кото-
рых не требуют использования телескопа. Яркость звезд и
планет может быть уменьшена при их наблюдении сквозь
облако, темную завесу, цветное стекло, трубу, сквозь зазор
между пальцами или отверстие на карточке. Что касается
планет/то таким способом, иррадиация исчезает, что же ка-
сается звезд, то иррадиация никогда полностью не исчезает.
В контексте гипотезы Галилея, по-видимому, отсюда следо-
19-1
145
вал о бы сделать вывод, что любое определение величины
звезд, наблюдали ли их через телескоп или как-то иначе,
нужно истолковывать с осторожностью, если не со скепти-
цизмом. Теперь мы знаем, что наблюдаемый 'размер* звез-
ды получается путем взаимодействия света от звезды с той
средой, сквозь которую он проходит, и глазом и не имеет
никакого отношения к физическому размеру. Случайным об-
разом гипотеза Галилея относительно иррадиации дает ему
возможность объяснить Несоответствие* между увеличением
размеров звезд и планет посредством телескопа. Так как
звезды находятся на более далеком расстоянии, иррадиация
является более выраженной, пожалуй, даже слишком выражен-
ной, чтобы она могла быть устранена с помощью телескопа.
Как мы увидим, Галилей предложил прямой тест зависимос-
ти иррадиации от расстояния, на котором находится источник
света.
Поркольку речь идет о зависимости иррадиации от види-
мого размера наблюдаемых источников света, то гипотеза
Галилея подтверждается тем фактом, что Луна и Солнце не
подвержены иррадиации. Этот аспект гипотезы Галилея может
быть подвергнут непосредственной проверке на Земле. Если
горящий факел наблюдают на расстоянии ночью, когда он
ярок по сравнению с окружающей средой, он кажется больше,
чем является в действительности. Если же его наблюдают
днем или держат в руке, то видимый размер факела соот-
ветствует его реальной величине. Галилей обращается к та-
кому рассуждению, чтобы доказать, что его предшественни-
ки, включая Тихо Браге и Клавия, при оценке размеров звезд
действовали с большей осторожностью!).
Далее, зависимость иррадиации от яркости источника
света по отношению к среде подтверждается появлением в
сумерках звезд, которые * кажутся гораздо меньше, чем
ночью, и тем, что Венера, когда ее наблюдают при ярком
дневном свете, кажется Настолько малой, что необходимо
острое зрение, чтобы увидеть ее, хотя с наступлением ночи
!) Galilei G. Op. cit. - P. 361.
146
она представляется большим факелом. '. Этот последний
факт приблизительно указывает путь проверки совместимости
коперниканской и других теорий с размерами Венеры, наблю-
даемыми без использования телескопа. Проверка может быть
осуществлена невооруженным глазом при условии, что наблю-
дения ограничиваются дневным временем. По двум причинам
эта проверка будет трудной и не совсем удовлетворительной.
Первая состоит в том, что при таких условиях Венера выг-
лядит слишком маленькой для того, чтобы определить ее види-
мый размер. Во-вторых, невозможно произвести такую про-
верку, когда Венера близка к своему максимальному и ми-
нимальному наблюдаемому размеру, так как в эти моменты
она находится очень близко от Солнца.
Таким образом, множества независимых проверок доста-
точно для того, что отвергнуть любое из утверждений, счи-
тающих, что гипотеза иррадиации Галилея была ad hocj отно-
сительно теории Коперника. Далее, так как нет основания
подозревать, что он не выполнил те проверки, о которых
упоминает, и так как он едва ли знал о некоторых упомяну-
тых результатах, чтобы не засвидетельствовать их, то нель-
зя также сказать, что гипотеза Галилея была ad hocg.
Но эта гипотеза не является и ad hocg. Она была выдви-
нута в период с декабря 1609 г. по февраль 1610 г. и в
впервые появилась в 'Звездном вестнике* (1610) Галилея.
Как справедливо отмечает С. Дрейк, в это время Галилей
не наблюдал и не мог наблюдать в телескоп Венеру оттого,
что в течение этого трехмесячного периода она находилась
слишком близко от Солнца, чтобы ее можно было наблю-
дать^). Следовательно, гипотеза иррадиации предшествова-
ла его наблюдениям за изменением размеров Венеры и не
могла испытать на себе их влияние. Нет свидетельств и то-
го, что Галилей в этот период наблюдал также Марс. Но да-
же если бы он и наблюдал его, то период в три месяца сииш-
Galilei Е. Op. cit.-P. 361.
2) Drake S. Galileo at work.—Chicago; L..1978.-“ P. 168.
19-2
147
ком короток для того, чтобы заметить изменения его разме-
ров. Необходимо около года для того, чтобы размеры Марса
от минимума достигли своего максимума. Его заявления от-
носительно достоверности наблюдений с помощью телескопа
не были в этом отношении ad hocg относительно теории
Коперника.
Автор приходит к следующим выводам: *У Галилея было
несколько независимых оснований признать достоверность
своих вычислений изменений размеров Марса и Венеры, сде-
ланных с помощью телескопа. Во-первых, они были совмести-
мы с большинством астрономических теорий его времени.
Во-вторых, они могли быть подтверждены путем обращения
к независимо проверяемой гипотезе иррадиации. В-третьих,
они были в определенной степени подтверждены наблюдениями
Венеры невооруженным глазом в дневное время. Такое поло-
жение цел нельзя рассматривать как подтверждение теорж
Коперника по сравнению с ее конкурентами. *Я охотнее до-
пускаю, - пишет автор, - что это может быть интерпретиро-
вано как свидетельство достоверности наблюдений с помощью
телескопа в области астрономии. На этом основании мы полу-
чаем достоверное доказательство в пользу теории Коперника,
если обратимся к тому факту, что когда Галилей наблюдал
Венеру через телескоп, он наблюдал не только изменения ее
размеров, но и ее фаз. Доказав достоверность предшествую-
щего, мы в состоянии доказать достоверность последующе-
го. Изменения фаз Венеры не только согласовались с пред-
сказаниями Коперника, но и соответствовали изменениям ви-
димых размеров таким образом, как этого требовала теория
Коперника* (с. 181). На очень близком расстоянии Венера
казалась совершенно круглой, когда ее диаметр был наи-
меньшим, и полукруглой только тогда, когда ее диаметр был
наибольшим. Это обстоятельство и явилось действительным
подтверждением теории Коперника по отношению к альтерна-
тивной ей теории Птолемея, хотя оно и не годилось для то-
го, чтобы отличить ее от системы Тихо Браге, которая вы-
ражала иную точку зрения, чем та, которая содержалась в
^Диалогах* Галилея. Таким образом, данные ‘^телескопа го-
ворили в пользу Коперника как-то иначе. Его наблюдения
148
движений Юпитера помогли ответить на возражения относи-
тельно движения Земли, в то время как обнаружение несо-
вершенств Луны и Солнца - отвергнуть противопоставление
земного и небесного. Сказанного, по мнению автора, доста-
точно для того, чтобы понять несостоятельность взгляда
Фейерабенда относительно того, что Галилей использовал
'гармонию между двумя интересными, но опровергнутыми
идеями', а именно теорией Коперника и достоверностью по-
казаний телескопа, 'для того, чтобы предотвратить элимина-
цию и той, и другой' (цит. по: с. 181).
Полагая, что Фейерабенд сделал недостаточно для того,
чтобы подтвердить свои доводы 'против метода', против су-
ществования в науке внеисторических универсальных методов,
автор в третьей части своей статьи стремится привести
такие доводы.
Эпизод с применением в астрономии телескопа противо-
речит эмпиристскому взгляду, что чувства дают сырой мате-
риал, на котором надежным и непроблематичным образом
основывается научное познание. В результате применения в
астрономии телескопа требования, основанные на непосред-
ственном опыте, приобретаемом с помощью невооруженного
зрения, и о которых Осиандер в предисловии к книге Копер-
ника писал, что они подтверждены 'опытом всех эпох' (цит.
по: с. 182), были отброшены как ложные и заменены новы-
ми. Наши чувства, пишет автор, не дают нам надежного ба-
зиса наблюдения. То, что считают 'наблюдаемыми фактами',
изменяется вместе с прогрессом познания.
Автор ставит под сомнение возможность 'какого-либо
универсального, внеисторического взгляда на научный метод,
который в состоянии был бы дать критерии для руководства
деятельностью ученых или для оценки гипотез, которые они
выдвигают' (с. 182). Галилей многое сделал для того, что-
бы на практике продемонстрировать преимущества показа-
ний телескопа перед показаниями наших чувств. Это практи-
ческое открытие и демонстрация, пожалуй, привели к опро-
вержению принимавшегося большинством ортодоксальных
аристотеликов критерия непосредственного чувственного опы-
та. Применив телескоп, Галилей отошел от аристотелевской ,
149
методологии и своей деятельностью дал повод к сомнению в
правильности норм, которые она воплощала.
Взгляд, который не учитывает Фейерабенд, касается
той степени, в которой использование Галилеем телескопа
представляло угрозу для телеологического аспекта взгляда
на чувственное восприятие, характерного для средневековых
разновидностей ортодоксального аристотелизма. С это теле-
ологической точки зрения бессмысленно утверждать, что че-
ловеческие чувства могут заблуждаться, если работу, кото-
рую они предназначены делать, они выполняют при нормальных
условиях. Наблюдение же небесных объектов не относится к
нормальным условиям деятельности чувства зрения, так что
замена наблюдения с помощью невооруженного глаза наблю-
дением с помощью телескопа не предствляло основной опас-
ности для телеологического аспекта аристотелевской теории.
Тем не менее опасность представлял взгляд тех аристотели-
ков - современников Галилея, которые на применение Гали-
леем телескопа отвечали замечанием, что 'если бы бог
предназначил человеку использовать для познания такое при-
способление, то он наделил бы человека телескопическими
глазами' (цит. по: с. 183). Это, .по-видимому, имел в виду
Галилей, когда писал в 'Диалоге', что 'природа не одарила
людей настолько совершенным чувством зрения, чтобы они
могли наблюдать такие различия, как различия в размерах
Марса и Венеры и фаз последней', тогда как в телескопе
'бог соблаговолил дать человеку такое изобретение, которое
обладает способностью увеличивать силу нашего зрения..
Таким образом, применив телескоп, Галилей в действи-
тельности подорвал изнутри стандарты аристотелевской ме-
тодологии. Методологические программы изменяются в свете
новых исследований, включая практические. Эпизод, касаю-
щийся использования Галилеем телескопа, является, с точки
зрения автора, примером изменения стандарта в свете прак-
Galilei. Op. cit.—Р. 335.
ISO
тических исследований» Поэтому абсурдно всякое представле-
ние об универсальном, внеисторическом методе, который мо-
жет служить стандартом не только для современного, но и
для будущего познания. В этом смысле использование Галиле-
ем телескопа является доводом против универсального мето-
да.
С.Г» Секундант
151
IV. КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ГАЛИЛЕЯ
МАК-МАЛЛИН Э.
КОНЦЕПЦИЯ НАУКИ В ТРУДАХ ГАЛИЛЕЯ
McMullin е.
•The conception of science in Galileo’s work//
New perspectives on Galileo.—Dordrecht;
Boston, 1978.-P. 209-257.
Профессор H отр-Дамского университета (США) высту-
пает против упрощенных и тенденциозных трактовок гали-
леевской концепции науки и научного знания, то чрезмерно
сближающих эту концепцию со взглядами современных фило-
софов науки, то, напротив, отрицающих всякую преемствен-
ность между ними. Почему столь серьезные разногласия
возникают именно вокруг наследия Галилея, а не, скажем,
Бойля, Лавуазье или Дарвина? Только ли потому, что Гали-
лей признан *отцом* современной науки, что побуждает фи-
лософов любой ценой 'привязать* его к своим представле-
ниям о том, какой эта наука является и должна быть?
Наука, как ее понимал Галилей, - это весьма разнооб-
разная деятельность, совершаемая во многих различных кон-
текстах методами, которые с годами меняются. Галилей,
пишет автор, унаследовал от античности *строгое понятие
о науке как о доказательстве, но при этом воспринял и
весьма расплывчатые воззрения относительно того, каким
образом можно получать эту доказательность. Поэтому
было бы рискованно утверждать, что его труды (и прежде
всего его усилия по защите коперниканского учения) высту-
пают как парадигма науки, ибо его представление о науч-
1S2
ности как о необходимой доказательности было ближе к ан-
тичным воззрениям, чем к нашим нынешним* (с. 211).
Содержание научных трудов Галилея, а также его мета-
научных рассуждений о природе научного исследования может
быть понято только в контексте его критики оснований арис-
тотелианства. Известно, что Аристотель проводил принципиаль-
ное различение между математическими дисциплинами и физи-
кой, хотя в ряде пунктов это различение ослаблялось, в
частности, для таких сфер исследования^как оптика, механика
и астрономия, где математические методы применялись до-
статочно широко; в аристотелевской физике математические
принципы применялись при рассмотрении проблем бесконеч-
ности, непрерывности и скорости» Однако все же к аристо-
телевской науке нельзя применить термин ^математическое
естествознание*; она была квалитативной по существу, и
силлогистические рассуждения в ней играли несравненно
большую роль, чем сосредоточение на геометрических аспек-
тах природы. Впоследствии аристотелианская традиция усу-
губила различение математики и физики: так, астрономов
и оптиков именовали ^математиками*, хотя сами они часто
возражали против такого *отлучения* от физики; Дальнейшая
эволюция этой традиции привела к тому, что в таких дис-
циплинах стали видеть *промежуточные науки*, отличные от
*физики*, но не имеющие и статуса математики.
*Парадигмой науки для Аристотеля была геометрия,
точно так же, как, разумеется, и для Платона. Считалось,
что геометрия дает знание в наиболее сильном смысле этого
слова: необходимые и неизменные истины. Поэтому было
естественно полагать геометрические. доказательства в ка-
честве модели научных процедур вообще. Отсюда вытекало,
что наука должна основываться на аксиомах или предпосыл-
ках самоочевидного характера, из которых должны выводить-
ся теоремы или заключения. Самоочевидность посылок, та-
ким образом, должна передаваться выводам из них* (с.2 13 )•
При этом надо было считаться с двумя главными затруд-
нениями. Во-первых, должны быть некоторые гарантии того,
что необходимые истины или универсалии могут быть полу-
чены индуктивно (посредством аристотелевского epagoge ).
20-1
153
Во-вторых, нужны основания для выбора тех или иных поло-
жений как самоочевидных истин; каким образом наука может
прийти к ним?
Наука, по Аристотелю, решает две основные задачи!
устанавливает свойства явлений, открывает новые явления
и выясняет причины свойств и явлений. Вторая задача фун-
даментальна по отношению к первой. Аристотелевское 'за-
вышение* аподиктического знания как знания о причинах ве-
ло к разрыву между опытным и выводным знанием, смеше-
нию доказательства и объяснения. Эти слабости аристотелиан-
ской концепции науки оказались мишенью для критики новой
науки.
Однако эта критика имеет особый характер. Галилей
видит свою задачу не в том, чтобы выдвинуть некий *Новый
Органон* взамен устаревшего аристотелевского. Он рассуж-
дает о методе не как философ, а, скорее, как практический
ученый, для которого это рассуждение - путь к решению
научных проблем. *Его главная цель - новая наука, а не
новая теория науки' (с. 218).
Например, когда Галилей критикует аристотелевскую
физику за ее непоследовательность и недоказательный харак-
тер, он в то же время пе спорит с Аристотелем относитель-
но того, что же является научным доказательством. Он
как бы приглашает сторонников этой физики быть последова-
тельными и признать неправоту своего учителя, основываясь
на критериях, им же самим выдвинутых. Такими критериями
являются как интуитивно принятые исходные принципы, так
и опытные данные (точнее, данные наблюдения). Правда, в
'Диалоге' Сальвиати спорит с Симпличио о том, что лежит
в основе исследования: априорные принципы или наблюдатель-
ные данные. Но оба они при этом ссылаются на авторитет
Аристотеля, хотя аристотелианец Симпличио подчеркивает
важность априорных принципов и считает, что опыт только
свидетельствует в их пользу, а Сальвиати делает акцент на
апостериорных заключениях, от которых отправляется науч-
ное исследование. Галилей придает особое значение апосте-
риорному знанию потому, что его задача - заложить основы
механики. ЛИменно по этой причине, а не вследствие какой-
154
либо выдвигаемой им теории науки» методология» лежащая
в основе его трудов» затем получила особое влияние*
(с. 219). Концепция науки Галилея явилась частным аспек-
том его методологии. Для понимания этого аспекта важно
рассмотреть не только механику Галилея» но также его аст-
рофизику и рассуждения о коперниканской системе мирозда-
ния. Концепция науки строится как система взглядов» груп-
пирующихся вокруг трех вопросов: каков статус истинностных
оценок» содержащихся в утверждениях ученых? Каков харак-
тер выводов» связывающих посылки и заключения? Какую
роль играет опыт в обосновании научных утверждений?
Отличительной чертой научного знания» полагал Галилей»
является необходимая истинность. Если физическое знание
стремится к отысканию истинных причин наблюдаемых явле-
ний» то необходимой истинностью должны обладать высказы-
вания об этих причинах. Как они могут быть получены?
Если следовать Аристотелю» к необходимо истинным при-
чинам ведет необходимое доказательство. Таким доказатель-
ством является вывод от интуитивно истинных посылок с по-
мощью принципов дедуктивной логики. Но применим ли та-
кой вид доказательства в физической науке? Ведь здесь при-
ходится рассуждать от наблюдаемых следствий к причинам»
можно ли говорить о 'самоочевидной* истинности наблюдений?
В 'Диалогах* Галилей утверждает» что сложные движе-
ния солнечных пятен могут быть поняты» только если допус-
тить двойное движение Земли. Из такого допущения легко
и просто следуют истинные причины столь загадочного явле-
ния. В каком смысле подобный вывод из допущения о двой-
ном движении Земли мог бы считаться 'истинным и необхо-
димым*?. Конечно» это не может пониматься как некая 'при-
родная* необходимость и не может рассматриваться как ис-
ходный принцип. Очевидно» Галилей здесь исходит цз понима-
ния доказательства» которое явно отличается от аристотелев-
ского.
Во-первых» чистая дедукция не дает возможности одно-
значно связать причину со следствиями: любое наблюдаемое
явление может быть различными путями объяснено дедуктив-
ными цепочками» проведенными от самых различных каузаль-
1SS
20-2
ных гипотез. Поэтому только эксперимент может решить,
какая из предложенных гипотез истинна.
Во-вторых, действие причины 'может превышать воз-
можность нашего воображения*: природа намного богаче на-
ших способностей понять ее, и даже в простейших случаях
мы не можем претендовать на полное разумение.
Эти трудности, с точки зрения М. Клавелина, исследова-
теля методологии Галилея, вынуждали Галилея воббще отка-
заться от поиска причин как цели научного исследования;
наука должна заниматься связью фактов, а не причин и след-
ствий, оставляя последнюю метафизике*'. Такое чисто фе-
номеналистическое истолкование галилеевской методологии,
полагает автор, ошибочно. Галилей не отказывался искать
причины научным путем. Он был убежден в том, что причин-
но-следственная связь обладает той же необходимостью, что
и логическая дедукция. Весь вопрос только в том, каким
образом эта необходимость может быть раскрыта познающим
разумом?
Ответ на этот вопрос Галилей искал, обращаясь к мате-
матике. Если бы физика была построена математически,
указанные трудности отпали бы сами собой. 'Совершенный
идеал доказательной науки.. . достижим лишь в той мере,
в какой физическая наука способна уподобиться математике'
(с. 225).
Поэтому исходные принципы механики должны выполнять
ту же роль, что аксиомы Евклидовой геометрии, обладать
тем же статусом очевидных истин, не требующих какого-ли-
бо опытного подтверждения. Сагрецо утверждает, что 'ес-
тественный свет разума' без каких-либо затруднений позво-
ляет видеть истинность утверждения о том, что скорость те-
ла, катящегося по наклонной плоскости, зависит только от
высоты, с какой оно начинает свой путь. Однако Сальвиати
ему возражает, что для такого утверждения требуется так-
же и экспериментальное подтверждение, ведь интуиция мо-
Clavelin Mv The natural philosophy of Galileo.—Cambridge
(Mass.), 1974.—P. 390.
156
жет оказаться ошибочной; но если это так, полученный ре-
зультат не может считаться 'необходимой истиной*. Экспе-
риментальное доказательство• превращает научное рассуждение
в гипотетико-дедуктивное* а его исходные принципы теряют
свой 'аксиоматический* статус. Как бы ни шло рассуждение:
от частных наблюдений к общим гипотезам или от общих ги-
потез к наблюдениям (индуктивно или ретродуктивно, по тер-
минологии Ч. Пирса) - методология Сальвиати отличается
от математической.
Таким образом, покуда утверждения механики рассматри-
ваются как выводы самоочевидных истин, они выступают как
'необходимо-истинные*, но как только они понимаются как
утверждения о природе вещей, они сразу же требуют опытной
проверки, которая выступает как основание для полагания их
истинными. 'Механика как раздел математики является нау-
кой доказательной, механика же как раздел физики является
гипотетико-дедуктивной дисциплиной* (с. 228).
Этот вывод не был вполне ясен даже самому Галилею.
Он часть склонялся к тому, чтобы видеть в механике ма-
тематическую науку, отодвигая на задний план проблему
опытного подтверждения как критерия истинности. Тому
способствовали по крайней мере четыре фактора.
Во-первых, принципы механики полагались им настолько
простыми и очевидными, что это роднило их с математиче-
скими аксиомами. Галилей исходил из допущения о 'простоте*
как фундаментальном свойстве природы; поэтому изящество,
экономность, когерентность рассуждений о природных явле-
ниях выступали как гаранты истинности не в меньшей сте-
пени, чем верификация через наблюдения.
Во-вторых, Галилей следовал платоновско-архимедовской
традиции, согласно которой к сущности вещей можно прийти,
постепенно отбрасывая случайные и привнесенные 'несовер-
шенства*, так сказать, издержки материального воплоще-
ния этой сущности. Таким образом хотя среди материальных
объектов нет идеальных сфер, поверхностей* линий и т.д.,
но к ним применимы математические рассуждения до той
степени, до какой эти объекты приближаются к своим гео-
метрическим идеалам. Впрочем, иногда Галилей как бы за-
157
бывает о Несовершенстве* материальных объектов и говорит
о прямой применимости математических доказательств к этим
объектам; однако, по мнению автора» здесь скорее речь идет
о слишком малом искажении математических истин, которым
в принципе можно пренебречь. 'Однако аппроксимативная фи-
зика не является доказательной. 'Доказательна* в ней толь-
ко ее первоначальная математически выраженная схема, но
и она доказательна только в том ограниченном смысле, что
она дедуктивна по форме. Она не доказательна даже в смыс-
ле геометрии, поскольку ее посылки, не принимаются как
истинные* (с. 232).
Очевидная двойственность позиции Галилея при опредеде-
нии статуса физической науки проливает некоторый свет на
проблему влияния платонизма на его способ мышления. 'Аб-
солютные ' истины математики* могут оказаться неприме-
нимыми к материальным объектам из-за 'несовершенств*
последних» поэтому, когда эксперимент не согласуется с
предсказаниями теории, построенной математически, это
отнюдь не означает ложности последних. Эксперимент имеет
решающее значение только тогда, когда теория рассматрива-
ется как гипотетико-дедуктивная система.
Галилей также говорит об 'идеализации* как способе пе-
рехода от материальных объектов к их теоретическим 'об-
разам*, обеспечивающем более полное понимание первых.
Идеализация может идти как упрощение ' сложных реальных
конфигураций или как упрощение системы каузальных факторов
(переход к предельному случаю, элиминация второстепенных
факторов и т.д.). Метод идеализации позволяет считать при-
родные каузальные связи тем более приближенными к идеаль-
ным математическим формам, чем более они освобождены
от Несовершенств' и затемняющих 'суть дела' второстепен-
ных факторов и аспектов. Но наука, построенная на одних
идеализациях и максимально приближенная к математической
форме, становится не более чем изящной конструкцией, уп-
ражнением в искусстве строить силлогизмы, не имеющей от-
ношения к реальной природе.
В-третьих, Галилей считал возможным рассматривать
доказательства в физической науке как рассуждения ex sup-*
158
position e - *как если бы*. Тали лей допускает, что его
•доказательства* обладают научным характером независимо
от того, являются ли их исходные определения истинами о
физическом мире. Но это опять та же двусмысленность: как
математические рассуждения - да, как физика - нет. Статус
рассуждений ex supposition© как физических утвержде-
ний по существу зависит от того, какие основания кладутся
под такие предположения. Здесь только три возможности.
Они могут быть самоочевидными интуициями. Они могут быть
индуктивными обобщениями. Или же они могут быть гипоте-
тико-дедуктивными, черпающими свою надежность в опытном
подтверждении выводов, вытекающих из них* (с. 235).
Хотя Галилей не чурался опыта и экспериментов, индук-
тивистом он не был. В своих доказательствах *как если бы*
он фактически использует гипотезы (хотя сам он избегал
этой терминологии): его Предположения* могут быть при-
ложимы или неприложимы к данной физической ситуации, ко-
торую он хочет понять, и в пользу или против них должен
высказаться эксперимент.
В-четвертых, Галилей избегает разговора о причинах, он
не объясняет, а описывает движение. Его механика - это
кинематика, а не динамика. Формулируя математическую схе-
му - *закон*, Галилей не пытается перейти к Объяснению*
этого закона. Но означает ли это, что он видел в своих * за-
конах* конечный пункт объяснительного процесса в механи-
ке? Нет, не означает. Галилей против каузальных спекуля-
ций, которыми питались аристотелевская физика. Но ои ниг-
де не высказывается против каузального исследования как
такового. Он лишь убежден, что плодотворным такое иссле-
дование будет только тогда, когда оно предварено точным ки-
нематическим анализом. Кроме того, Галилей опасался сме-
шения научных и 'оккультных* объяснений: его насторажи-
вало употребление темных понятий вроде Притяжения *, соз-
дающих лишь иллюзии объяснения.
То, что галилеевские законы решительно отличались от
объясняющих причин, *делало задачу построения новой науки
как Показательной дисциплины* и легче, и труднее. Легче
потому, что устранялись трудности, связанные с ретродук-
цией причин. Труднее - потому, что 'доказательность* по
традиции связывалась с каузальным выводом в контексте на-
турфилософии. Однако если принять более слабый смысл этого
термина, переводя его как 'необходимость* или 'определен-
ность вывода*, минуя все ссылки на причины, то можно было
бы сказать, что эксперименты должны индуктивно подтверж-
дать принципы новой механики и что это гарантирует приме-
нимость галилеевского определения движения к Природе, что
в свою очередь служит гарантией 'доказательного характе-
ра построенной таким образом науки* (с. 239).
Все эти факторы способствовали известной оценке Гали-
леем роли математики, в особенности геометрии, в физике.
В некотором смысле ему 'повезло*: закон свободного паде-
ния тел мог быть сформулирован без таких *не-геометриче-
ских' понятий, как вес или сопротивление среды. Но эта же
удача сослужила ему и плохую службу: она убедила его в
том, что все дальнейшее развитие физики связано именно с
превращением ее в подобие геометрии. Физика Ньютона су-
мела продвинуться’ дальше галилеевской во многом благодаря
отказу от этого требования; Ньютон включает в свою дина-
мику 'не-геометрические' понятия силы и массы. Но в сов-
ременной физике галилеевская идея находит новую поддержку,
наполняется новым содержанием.
Если демонстративный, доказательный идеал науки под-
ходил только к математике и наполнялся некоторым конк-
ретным содержанием в механике, где ее принципы могли
считаться интуитивно очевидными, то к космологии, которую
Галилей стал разрабатывать, применяя методы телескопичес-
кого наблюдения, требовалось применить новое и не столь .
прямолинейное понятие доказательности. Такая же ситуация
была характерна и для объяснений 'невидимой природы', ми-
ра атомов. Дж. Локк, например, вообще отвергал возмож-
ность построения науки об атомах, которая могла бы строить
объяснения наблюдаемых свойств вещей. Галилей же считал
вполне возможными такие объяснения. 'Подобно Декарту, он,
по-видимому, чувствовал себя вправе выдвигать допустимые
гипотезы в этой области, не беря обязательств какого-либо
реального подтверждения их с помощью наблюдений' (с.241).
160
Но поскольку высказывания Галилея о 'невидимой природе'
немногочисленны и не вполне ясны (можно допустить, что
для этой сферы он допускал и 'каузальные' объяснения в
аристотелианском стиле), трудно реконструировать методо-
логические установки его 'атомистики'.
Но в космологии его рассуждения явно ретродуктивны.
Трудности ретродукции в этой области очевидны: выводы не
всегда можно проверить, поскольку прямые эксперименты
невозможны. Галилей охотно пользовался рассуждением по
аналогии, когда рассматривал проблемы лунной поверхности.
'Он пытается интерпретировать наблюдаемые лунные явле-
ния, предполагая, что они могут быть объяснены известными
каузальными процессами, подобными тем, какие имеют место
на Земле (ретродукция). И он подвергает проверке (или,
по крайней мере, претендует на это) свою гипотезу о том,
что важнейшие свойства лунной поверхности подобны земным,
делая вывод о том, что Земля так же выглядела бы на рас-
стоянии, если бы ее рассматривали с Луны (ретродуктивная
или гипотетико-дедуктивная проверка') (с. 242-243).
В 'Диалогах' он называет семь пунктов сходства: сфе-
рическая форма, непрозрачность и неспособность к самосве-
чению, неровная твердая поверхность с горами и равнинами,
контраст между более темными и более светлыми областями,
соответствующими морям и полям на Земле, а на Луне мо-
гущими быть более плоскими и более пересеченными участ-
ками, приблизительно одинаковые фазы (как они видимы с
другой планеты), лунное и земное сияние как ночной свет,
способность вызывать затмения друг друга. Легче всего ука-
зать на сферичность луны, этот факт как бы несомненен. Но
вот фазы Земли могут констатироваться лишь 'как если бы'
они наблюдались с Луны. Аналогия играет главную роль в
решении вопроса о характереслунного свечения, когда обсуж-
даются альтернативы - перипатетическое и новое, галиле-
евское, решения.
Проблема солнечных пятен решается Галилеем с позиции
'геометрического подхода', он считает, что это предмет де-
дуктивного вывода, строгого доказательства. Альтернативы
двойному движению Земли как объясняющей гипотезе нет,
21-1 161
поскольку все конкурирующие допущения приводят к противоре-
чиям и очевидным нелепостям. При обсуждении природы комет
попытки применить тот же 'геометрический' метод оказы-
ваются безуспешными; Галилею не хватало оптических сведе-
ний, да и астрономические наблюдения комет, накопленные
к тому времени, были слишком противоречивы.
Таким образом, космологические рассуждения Галилея не
укладывались в схему 'доказательного идеала науки'. Он
постоянно колеблется между стремлением сформулировать
'необходимо истинные доказательства' на манер математики
и использованием широкого диапазона естественнонаучных
методов: ретродукции, аналогии, индукции,проверки гипотез
и т.д.
С особой силой эта двойственность проявилась в обсуж-
дении 'коперниканской дилеммы'. Когда Галилей высказыва-
ется в пользу гипотезы о движении Земли, он приводит ряд
чисто ретродуктивных аргументов вместе с аргументом 'про-
стоты', согласно которому допущение Коперника позволяет
гораздо проще решать астрономические проблемы. Однако
эта аргументация не доказывает истинность коперниканской
гипотезы; усилия Галилея скорее направлены на то, чтобы
элиминировать альтернативные гипотезы, главным образом,
птолемеевскую; гипотезу Тихо Браге он попросту игнори-
рует.
'Почему же Галилей не удовлетворяется более слабым
требованием признать за коперниканской теорией высокую
степень вероятности? Ответ дает его концепция науки. Ведь
это было равносильно тому, чтобы сказать: наука не в сос-
тоянии реально отличить утверждения Коперника и Тихо. Про-
тив этого восстала интуиция Галилея как ученого. Но его
интуитивное признание ценности коперниканского учения фак-
тически формировалось не на основе каких бы то ни было
построенных им доказательств, а на основе более слабых
редуктивных аргументов, которые впоследствии были с го-
товностью признаны убедительными и законными большинст-
вом ученых нового поколения' (с. 249).
Серьезным фактором колебаний Галилея между 'доказа-
тельным' и эмпирическим идеалами науки было отношение
162
коперниканства к Священному Писанию. С одной стороны,
Галилей не мог удовлетвориться довольно распространенной
версией, согласно которой язык Писания следует трактовать
'метафорически* и потому не может быть противоречий меж-
ду выводами науки и цитатами из Библии. С другой стороны,
Галилей склонялся к августинианской трактовке отношения
истин разума и истины Писания: утверждения ученого должны
быть доказаны как необходимые истины, и только тогда бо-
гослов сделает вывод о "небуквальном* прочтении Библии,
если "буквальное* противоречит доказанным истинам. Поэто-
му Галилей часто настаивает на "доказательности" истины
учения Коперника, и когда для этого нет достаточных основа-
ний, он прибегает и к теологическим аргументам. Но ведь
если трактовать коперниканскую гипотезу как математичек
скую конструкцию, не претендующую на истинное описание
реальности, она вполне устраивала и церковь (к этому и при-
зывал Галилея папа Урбан VIII ).
"Так Галилей оказался в ловушке, - пишет автор. -
Как ученый он не мог принять выводы, следующие из пап-
ской трактовки коперниканского учения как "гипотезы". Но
чтобы опровергать такие выводы, недостаточно толковать
коперниканство как "хорошую" гипотезу в галилеевском
смысле этого термина (т.е. как вероятное и даже, может
быть, наиболее обоснованное описание реальности). Его нуж-
но было представить как вполне доказанную концепцию, что-
бы она удовлетворяла требованиям Августина, с которыми
сам Галилей считался. Если бы это удалось, явный конфликт
между астрономией и изречениями Писания был бы разрешен"
(с. 250). Отсюда и проистекает поразительная двойствен-
ность и непоследовательность галилеевской позиции, его
стремление выдать желаемое за действительное, представить
гелиоцентризм как "доказательную" науку.
"Мы выявили две совершенно различные концепции науки,
сосуществующие в работах Галилея. Первая - идеал доказа-
тельности - унаследована им от греческой традиции и никогда
им не отвергалась, даже когда она заводила его в тупик
противоречий, особенно в космологии. Это была концепция
науки, которую он формально отстаивал на протяжении всей
163
21-2
своей научной карьеры. Вторая - ретродуктивное понимание
науки - особенно выражена в его рассуждениях о явлениях,
причины которых либо слишком отдалены (кометы, пятна на
Солнце), либо загадочны (движения Земли), либо ненаблю-
даемы (атомы, силы, действующие в вакууме).
Он пользовался ретродуктивным выводом с большим мас-
терством и старался сделать его насколько возможно эффек-
тивным, устраняя все альтернативные гипотезы и* спасая
только одну. Можно было бы сказать, что вся его наука,
даже механика, в конечном счете, является гипотетико-
дедуктивной по форме, несмотря на ее попытки быть доказа-
тельной. Но при этом не следует упускать из виду его упор-
ное нежелание считать что-либо настоящей 'наукой', если
это 'что-либо' не достигало уровня строгого доказательства.
Мы можем приветствовать Галилея и Декарта как пионе-
ров нового понимания науки, пришедшего на смену старому
'доказательному' пониманию. Но мы должны понимать, как
трудно было бы самому Галилею принять от нас эту честь'
(с. 251-252).
ЕШ.Порус
ФИНОККЬЯРО М.А.
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ ГАЛИЛЕЯ
FINOCCHIARO М.А.
Galileo’s philosophy of science//
Scientia.-Milano, 1977.—Vol. 71, N 1-4.
-P. 95—118uP.l;N 5-8.-P. 371-399.-Pt 2.
В статье известный американский философ науки (Уни-
верситет шт. Невада, г. Лас-Вегас, США) ставит задачу
наметить общий подход к анализу философии науки Галилея.
Автор во многом согласен с концепцией П. Фейерабенда, счи-
тая, что уточненная версия фейерабендовской методологии
приближается к развиваемой автором концепции 'суждения*
( judgment ) (с. 95).
В философии науки, основанной на этом понятии, как и в
фейерабендовской 'анархической' концепции, методу в смыс-
ле явно сформулированных и простых правил для проведения
исследований не придается никакого серьезного значения. Но
отсюда не следует фейерабендовского 'все дозволено': место
метода занимает суждение. Под научным суждением автор по-
нимает 'способность адекватно сбалансировать в конкретной
ситуации такие виды деятельности, как наблюдение, спекуля-
ция, математический количественный анализ и качественные
рассуждения, причинные исследования и феноменалистский ана-
лиз, критицизм и позитивную разработку, отрицание автори-
тетов и следование традиции, антивербализм и логический
анализ' (с. 96).
168
Научный характер суждения определяется особым типом
требований, упоминаемых в этом списке и которые должны
быть достаточными для проведения гдемаркационной линии*
между научным исследованием и другими формами человече-
ской деятельности. В науке 'дозволено* не *все*, а лишь
то, что является результатом умелого синтеза именно этих,
а не других форм деятельности.
Эта концепция может быть подкреплена всеми теми до-
водами, которыми подкрепляет свою позицию Фейерабенд, ибо
она включает убеждение, что простое следование какому-то
одному из вышеперечисленных видов деятельности еще не мо-
жет быть источником научного прогресса. Более того, она
проясняет то, что обычно затемняется в дискуссия *по*
Фейерабенду.
Обращаясь - затем конкретно к философии науки Галилея,
автор отмечает, что в огромном количестве работ, написанных
на эту тему до сих пор, содержится анализ научной практики
Галилея и ее философского значения для современников и
особенно для последующих поколений, а не собственная экс-
плицитно выраженная позиция Галилея.
Статья состоит из 55 отдельных фрагментов, каждый
из которых может быть рассмотрен как реконструкция соб-
ственного философского утверждения Галилея, содержащегося
в 'Диалоге*^) в единстве с рассмотрением конкретного на-
учного вопроса. *Каждый отрывок свидетельствует, что Га-
лилей достиг очень удачной комбинации философской практики
и философской рефлексии* (с. 97). Однако последовательной
и явно сформулированной философской доктрины, как утверж-
дает автор, у Галилея нет, и приписывать ему какую-нибудь
подобную концепцию ошибочно. Его философию можно рассмат-
1)Feyerabend Р. Against method.*!-.,' 1975»*340 р»
2)
Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира. -
М ; Л., 1948.
166
ривать только как разновидность прагматизма или, лучше
сказать, сократизма, ибо Галилей, как и Сократ, 'несисте-
матизирующий* и 'несистемней' философ. Они не строят кон-
цепций, а постоянно рефлектируют над собственной практикой,
Сократ - в сфере морали, а Галилей - научной методоло-
гии.
Анализ подлинной позиции Галилея подтверждает, по мне-
нию автора, что 'суждение и конкретное философствование
очень важны в науке и что лучшим подходом к изучению
Галилея с целью разработки этих проблем является система-
тический и полный анализ философского содержания 'Диало-
га* (с. 371). При этом автор особенно предостерегает от
неосознанных попыток дополнить, досистематизировать
эксплицитно выраженные Галилеем взгляды.
Стиллман Дрейк*', отмечает автор, пытался показать,
что самым важным и оригинальным у Галилея является
комбинация трех элементов: математики, физики и астроно-
мии, которые до сих пор никогда не брались в этом сочета-
нии, а если и комбинировались, то самое большее - попарно.
Дрейк при этом пытается приписать Галилею антифилософ-
скую позицию, но оказывается вынужденным признать, что
подобная позиция вполне может быть акцией противопостав-
ления абстрактной, метафизической спекуляции.
Собственный анализ автора показывает, что Галилей поч-
ти никогда не вовлекается в это философствование, а зани-
мается конкретным методологическим анализом. Предшест-
венников Галилея потому так трудно разглядеть, что это
должны быть либо абстрактные методологи, не занимавшие-
ся наукой, либо исследователи отдельных и конкретных яв-
лений. 'Только у Галилея мы находим существенную комбина-
цию методологии и научного исследования, так что его ра-
бота представляет собой образец синтеза математики, физи-
ки, астрономии и методологии' (с. 372).
В.И. Шрира
Drake St. Galileo studies. -Ann Arbor, 1970.-P. 95-122.
167
ФИНОККЬЯРО м.
ГАЛИЛЕЙ И ИСКУССТВО РАССУЖДЕНИЯ:
РИТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛОГИКИ
И НА УЧ НСТО МЕТОДА
FINOCCHIARO М.
Galileo and the art of reasoning:
Rhetorical foundations of logic
And scientific method.—Dordrecht etc:
D.Reidel, 1980,—478 p.—Select. bibiiogr.:
p.454— 463.—(Boston studies in the philosophy
of sciency; Vol. 61).
Автор книги, Морис Финоккьяро (отделение философии
Университета шт. Невада, г. Лас-Вегас, США) отмечает,
что существуют личности, сыгравшие уникальную роль в ис-
тории и культуре человечества. К ним наряду с Платоном и
Августином относится Галилей. В нем практически все иссле-
дователи видят основоположника современной науки. И в то
же время - сколько интерпретаций, сколько истолкований
его вклада можно встретить в литературе! Все это делает
необходимым самое подробное и детальное изучение трудов
Галилея, и прежде всего - 'Диалога'*', его влиятельнейше-
Талидей Г. Диалог о двух системах мира: Птолемеевой
и Коперниковой// Галилей Г. Избранные труды: в 2-х т.- М.,
1964. - Т. 1. - С. 97-586 (Далее в тексте - просто
'Диалог'. - Прим, реф.)
168
го и известнейшего сочинения. 'Просто скандал для профес-
сиональных исследователей, что до сих пор нет исчерпываю-
щего и систематического анализа этой книги во всех ее ас-
пектах и следствиях , несмотря на то, что библиография работ
о Галилее огромна* (с. XVI ).
Свой анализ автор начинает с вопроса о риторической
форме и содержании 'Диалога*. Не надо забывать, подчер-
кивает автор, что Галилей писал не из чисто академического
интереса, а чтобы убедить церковные круги отменить осу-
ждение коперниканства в 1616 г. Поэтому он чрезвычайно
широко использует риторические приемы и всевозможные
средства убеждения. Все исследователи творчества Галилея
отмечали полемический и пропагандистский характер 'Диало-
га*. Но для подавляющего большинства из них это воспри-
нималось как противоречившее научному содержанию книги,
выступало как какое-то досадное отклонение от научности,
нуждающееся в извинениях. Даже П. Фейерабенд, энергично
подчеркивавший роль риторики и пропаганды в защите Галиле-
ем коперниканстване сумел отойти от привычной оппози-
ции научного и риторического. Автор стремится доказать,
что *не только аргументация, но и риторика играет принципи-
альную роль в науке и, следовательно, она важна для научной
рациональности. Нельзя упускать из виду риторический ас-
пект науки* (с. 5).
Особо выделяется момент 'благочестивой* риторики 'Диа-
лога*. Галилей - человек очень осторожный и пишет труд в
защиту осужденного учения. Поэтому ему приходится обезо-
пасить себя целым рядом маневров: например, благочестивым
предисловием. Известно, что Галилей стремился вставить упо-
минание о своей теории приливов, объясняющей приливы не
влиянием Луны, а движением Земли, в заглавие 'Диалога',
но цензура, этого ему не позволила. Некоторые интерпретато-
ры видят в этом подтверждение того, что Галилей действи-
t'eyerabend Р, Against method: Outline of anarchistic the-
ory of knowledge.—L.f 1975. —340 p.
169
22-1
телъно видел в своей теории лучшее доказательство подвиж-
ности Земли и в силу этого был неспособен отнестить к
ней сколько-нибудь критически. Фейерабенд, например, утверж-
дал, что Галилей был влюблен в свою абсурдную теорию при-
ливов. Но, пишет автор, это ниоткуда не следует. Галилей
был слишком осмотрителен, чтобы так выставлять напоказ
действительно решающий довод в защиту коперниканства пос-
ле осуждения 1616 г. Скорее надо предположить, что он
стремился упомянуть о приливах на титульном листе 'Диа-
лога*, чтобы показать гипотетический характер коперниканст-
ва и недосторверность доводов в его пользу; Так Галилей на-
деялся обмануть цензуру, - но для цензуры все это оказа-
лось слишком сложным, а историки науки действительно
обманулись.
Оправдание коперниканства в 'Диалоге* осуществляется
на трех уровнях: логическом, философском и риторическом.
Что можно сказать о логическом аспекте *Диалога'? На пер-
вый взгляд может показаться, что эта книга не имеет струк-
туры. Ее содержание развивается свободно и прихотливо.
И, однако, прежде чем заключить о бесструктурности книги,
надо попытаться выделить ее структуру. Автор строит *ана-
литическое резюме* всего текста *Диалога* (с. 32-33).
и далее выбирает, по, возможности ближе к тексту, что имен-
но говорил Галилей по каждому из пунктов (с. 34-44).
Это позволяет автору сделать вывод, что основным не-
сущим каркасом книги является именно логическая структура
аргументации. При этом Галилей показывает себя как под-
линный * л огик-в-действии*, т.е. человек, способный умело
осуществлять логический анализ и явно формулировать ар-
гументы. При таком подходе к тексту исправляется распро-
страненное неправильное толкование 'Диалога* как защиты
системы Коперника как таковой. Галилея упрекают (напри-
мер, П. Фейерабенд), что он опустил много деталей астро-
номической системы Коперника, даже не упомянул о системе
Тихо Браге и пр. Но дело в том, что целью книги является
защита положения о движении Земли, а коперниканства -
лишь постольку, поскольку это положение является частью
коперниканства. *Книга и так достаточно богата по содержа-
170
нию; нет никаких оснований, почему Галилей должен был рас-
сматривать и технические детали астрономии* (с. 44).
Переходя к вопросу о риторике и убеждающей силе аргу-
ментов Галилея, автор отмечает, что драматургическая струк-
тура 'Диалога* не так проста, как это обычно представляют.
В нем присутствуют не три, но четыре персонажа, и четвер-
тым выступает 'академик* - очевидно, сам Галилей. Симпли-
чио вовсе не является тем простаком, каким его обычно изо-
бражают. Ему принадлежат подчас довольно тонкие различе-
ния. Да и Сальвиати иногда выступает от имени аристоте-
лианцев, выявляя все сильные стороны их подхода. Это по-
казывает, как хорошо чувствовал Галилей человеческую пси-
хологию. Его противникам должно быть приятно, что их кри-
тик хорошо понимает и высоко оценивает их доводы. Тем са-
мым снимаются многие эмоциональные барьеры, препятствую-
щие адекватному восприятию новых идей.
Итак, риторические и литературные приемы 'Диалога*
призваны воздействовать на эмоции и эстетические пережива-
ния читателей. Однако это связано с определенным интеллек-
туальным содержанием и вовсе не снижает логической силы
аргументов Галилея. Например, он проводит много рассужде-
ний чисто ценностного характера: хороша или плоха измен-
чивость и т.п. При этом он широко пользуется доводам
ad hominem, осуждаемыми всеми учебниками логики. Эти дово-
ды относятся не к основаниям обсуждаемого тезиса, а к
скрытым мотивам, по которым оппоненты защищают данный
тезис. Галилей, обсуждая вопрос, хороша или плоха изменчи-
вость, отличающая нашу Землю от небесных тел, говорит,
что только страх смерти заставляет людей превозносить не-
подвижность и неизменность. Но неизменность и есть, в сущ-
ности, та же смерть. С другой стороны, если бы люди об-
ладали бессмертием, это создало бы массу неразрешимых
проблем (например, перенаселение Земли). По Галилею, те,
кто превозносит неизменность и неподвижность как высшее
совершенство, заслуживают встречи с головой Медузы и
окаменения. Учебники логики правы, конечно, в том, что до-
воды такого рода не обладают окончательной логической си-
лой. Но можно ли избегать их вовсе? Ведь в обсуждении
171
оо_о
вопросов, связанных с подвижностью Земли, были замешаны
самые бурные эмоции, оценки и сомнения. Галилей, как под-
линный 'логик-практик', 'логик-в-действии', понимал важ-
ность этого обстоятельства и учитывал его. В сфере ценност-
ных рассуждений аргументы ad hominem неизбежны.
Учебники логики разъясняют также, что пример не может
быть доказательством. Ни один пример, ни тысяча. Но насто-
ящий логик-практик прекрасно понимает роль хорошего приме-
ра и никогда не будет пренебрегать этим приемом. У Галилея
можно найти прекрасные образцы 'хорошего примера'. Так,
поясняя относительность движения, он предлагает представить
себе художника, рисующего пейзаж на борту корабля, идуще-
го из Венеции в Александрию. При этом движение кончика
пера в этом отношении будет совпадать с движением корабля,
а в другом - будет запечатлено на полотне. И даже Симпли-
чио признает, что он 'очарован' этим примером.
В качестве риторического приема автор трактует и
апелляции к платоновской теории припоминания: так Галилей
интригует читателей, подхлестывает их внимание. Сами Сима-,
личио и Сагредо заинтересованы и не пропускают ни слова:
как их заставят припомнить то,, чего они не знают!
Автор подробно перечисляет все примеры галилеевской
риторики (с. 46-66). Таким образом, на примере Галилея по-
казывается, что риторическое и логическое в рассуждении
не противоречат друг другу и что риторика играет в науке
определенную роль. 'Как элемент научного метода, ритори-
ческое искусство применимо не везде, но то же можно ска-
зать и о любом другом его элементе... Как бы то ни было,
это элемент научного метода; на данный факт должны обра-
тить внимание как ученые, так и методологи науки' (с.66).
Затем автор переходит к вопросу о научном содержании
'Диалога'. Под 'научным содержанием' он понимает то,
что могло бы заинтересовать современных ученых. Вообще,
ученые - от И. Ньютона до А. Эйнштейна - находили в 'Диа-
логе' большое научное содержание, тогда как философы бы-
ли склонны считать, что в данном отношении 'Диалог'
стоит несравненно ниже 'Бесед и математических доказа-
172
телъств' . Выделение научного содержания 'Диалога* не
означает отрицания того, что эта книга имеет пропагандист-
ский характер, что в ее содержании присутствует много
средневековых элементов и пр. Просто все это - различные
углы зрения, под которыми можно анализировать данный
труд Галилея.
Но не приведет ли выделение научных элементов содер-
жания 'Диалога* к вырыванию их из контекста этого слож-.
ного и многопланового произведения и, тем самым, к некор-
ректности изложения? Автор считает неизбежным известное
напряжение между корректностью и научной релевантностью
интерпретации* Профессиональные ученые и профессиональные
историки науки неизбежно будут смотреть на один и тот же
текст по-разному. Первые игнорируют контекст, вторые де-
тально анализируют его.
Однако автор надеется, что ему удалось дать такую ре-
конструкцию отдельных элементов научного содержания
'Диалога*, которая не менее корректна, чем прочие пред-
лагавшиеся историками науки. В Первом дне 'Диалога*, ко-
торый считается самой общей и философской частью книги,
он выделяет следующие 11 научных тем:
- понятие ускорения;
- непрерывность ускорения;
- отличие ускорения от скорости;
- проблема ускорения (обсуждение 'гипотезы Платона',
что все планеты сначала падали по прямой, а потом,
достигнув своей орбиты, переходили на круговое дви-
жение);
- изотропность пространства;
- первичность .механических свойств;
- телескоп и пятна на Солнце;
- видимая поверхность Луны;
Талилей Г. Беседы и математические доказательства,
касающиеся двух новых отраслей науки//Галилей Г. Избран-
ные труды: В 2—х т. — М.: 1964. — Т. 2. — С. 109—410,
173
- гористость лунной поверхности;
- отраженный свет Луны;
- проблема пятен на Луне.
Далее автор суммирует все то, что написано в Первом
дне по каждой из этих тем. Так, научное содержание рассуж-
дений о важности ускорения сводится к следующему: 'геомет-
рические (пространственные) свойства могут действовать
как основание космологических фактов, но не физики движе-
ния; в последней надо сочетать пространственные свойства
с временными, такими как равномерность во времени; это со-
четание и приводит к понятию ускорения. Идея трехмернос-
ти мира опирается на возможность построения трех и только
трех взаимно перпендикулярных линий через данную точку;
а идея упорядоченности мира опирается на существование
кругового движения. Но геометрическая простота прямолиней-
ного и кругового движений в физике бесполезна, ибо круго-
вое движение вокруг одного центра не имеет преимуществ
перед движением вокруг другого, а прямая линия, проведен-
ная от центра, не имеет преимуществ перед прямой, проведен-
ной к центру. Ускорение есть важное для физики движения
свойство, потому что ускоренное прямолинейное движение
является естественным средством для достижения равномер-
ного кругового движения' (с. 80).
Не вдаваясь в вопрос о том, какова пропорция научного
и риторического содержания в каждом из законченных раз-
делов 'Диалога', можно сказать, что каждый такой раздел
Первого дня (и тем более трех последующих) обладает оп-
ределенным научным содержанием. Согласно автору, 'науч-
ное содержание 'Диалога' состоит из тех фактов, проблем,
аргументов и доводов, обсуждаемых в нем, которые сущест-
венно соответствуют фактам, проблемам, аргументам и ме-
тодам, содержащимся в более поздних научных компендиумах
или входящих в современную научную практику' (с. 94). В
то же время подчеркивается, что самым значительным в
научном содержании 'Диалога' явЪяется его методологическое
содержание, 'которое совпадает (является одним из момен-
тов) его философского содержания' (с. 95).
174
На с. 105-106 автором приводится таблица из 55 ме-
тодологически значимых отрывков. Каждый из них является
образцом сочетания научной практики и философской рефлек-
сии, опыта и мысли. Благодаря этому можно утверждать,
что Галилей в каком-то смысле примыкает к сократовской
традиции в философии, для которой высшая ценность состоит
именно в синтезе теории и собственной деятельности и
опыта.
Далее приводится краткое изложение всех этих отрывков.
Так, по поводу роли чувственного опыта Галилей замечает,
что его нельзя отвергать, но надо относиться к нему крити-
чески - в том смысле, что опыт можно интерпретировать
по-разному и нельзя считать свою интерпретацию единствен-
но возможной. Тем самым Галилей отказывается от наивного
эмпиризма в пользу эмпиризма критического, который
существенно опирается на логический анализ и логический
синтез.
По поводу решающего эксперимента Галилей рекоменду-
ет избегать некритического принятия подобного эксперимен-
тального результата: он может оказаться просто гипотезой,
построенной в соответствии с некоторой теорией, или инте-
ресующий нас эффект может быть настолько мал, что его
нельзя проверить в настоящем эксперименте. Прибегать к
экспериментам следует тогда, когда одно рассуждение не
позволяет прийти к выводу, происходит ли явление, как, по-
чему оно возможно.
По поводу соотношения геометрии и философии, Галилей
полагал, что геометрия необходима в натуральной философии.
Например, только благодаря геометрическим рассуждениям
можно показать, что тенденция земных тел к падению доста-
точна для преодоления центробежных тенденций, возникающих
на вращающейся Земле. Математические истины относятся к
абстрактным объектам в том смысле, что являются утвержде-
ниями о необходимых следствиях из определений и аксиом. Ма-
тематические истины относятся и к физическому миру, но уо-
ловно: математическое утверждение истинно и физически, ес-
ли материальные объекты удовлетворяют условиям, сформули-
рованным в определениях и аксиомах. Например, утверждение,
17S
что сфера касается плоскости только в одной точке, верно
в том смысле, что если действительно существуют правиль-
ные материальные сферы и плоскости, то они касаются
друг друга только в одной точке. Но в то же время, если
реальные материальные объекты не являются аппроксимациями
одного типа абстрактных объектов, то являются аппроксима-
циями другого, более сложного типа. И в этом смысле ма-
тематические истины всегда применимы к физической реаль-
ности.
На с. 146-148 автор приводит таблицы основных фило-
софских и методологических тем, затрагиваемых в 'Диалоге'.
Подчеркивается, что самой характерной чертой рассуждений
Галилея является синтез научной практики и философствова-
ния о науке. Это свойство мысли Галилея обозначается как
'конкретность*. С ней связана вторая характерная черта
методологии 'Диалога* - использование суждений (judge-
ment ). В различных ситуациях Галилей предлагает разные
подходы: иногда он говорит о необходимости экспериментов,
иногда - об их излишности; где-то он прибегает к каузаль-
ным рассуждениям, а в других случаях - к чисто феномено-
логическим; использует то количественный анализ, то каче-
ственный. *И в этом нет никаких противоречий, если только
не понимать методологическое утверждение неоправданно ши-
роко... Совершенно не по-галилеевски пытаться прийти к еди-
ной философской системе, которая бы вытекала из его мето-
дологических замечаний* (с. 150).
Конкретность галилеевской методологии является при-
чиной поразительного несоответствия между его уникальной
ролью в философии науки и тем местом, которое отводится
ему в учебниках по истории философии. Обсуждая вопрос о
подлинном месте Галилея в истории философии, автор ссыла-
ется на принципиальные установки Б. Кроче, который трак-*
товал философское исследование как методологический ас-
пект исторического понимания, причем понимал под 'истори-
ческим* любой вид конкретного анализа конкретных собы-
176
тий . Кроче отмечал при этом как величайшую несправед-
ливость, что Р. Декарта или Б. Спинозу причисляют к 'круп-
ным* философам, а Н. Макиавелли, Б» Паскаля, Г. Галилея -
к 'мелким*. Считается, что первые занимались важными проб-
лемами, а последние - менее значительными. Подобная схе-
матическая и бескровная история философии соответствует
пониманию философии как занимающейся 'великими проблема-
ми* (бог, познание, благо, красота, душа и пр.).
Следуя этим идеям Кроче, автор подчеркивает роль Га-
лилея в реальной, а не представленной в учебниках истории
философии, говорит о его несомненном влиянии на Д. Юма,
И. Канта, Э. Гуссерля, X. Ортегу-и-Гассета. Им подчеркива-
ется глубокая параллель между Галилеем и Сократом. Сок-
рата можно, в сущности, понимать как методолога - методо-
лога морали. Сократическое учение - это критико-рацио-
налистический метод, а обучение ему есть овладение ме-
тодом, а не конкретными теоретическими познаниями.. Точно
так же в наследии Галилея самым главным является имен-
но метод - суждение, в котором сбалансированы: физиче-
ское исследование и философские предпосылки; наблюдение iT~
спекуляция; количественный (математический) и качествен-
ный анализ; причинные исследования и поэитивистски-феноме-
нологический подход; отрицающий критицизм и позитивные раз-
работки; отрицание авторитетов и уважение к оригинальным
мыслителям прошлого; антиантропологизм и гуманизм; ан-
ти-вербалиэм и логический анализ. Синтез этих противополож-
ностей вытекает из синтеза теории и практики, который ха-
рактерен для всего творчества Галилея. В таком диалекти-
ческом синтезе и лежит корень оригинальности Галилея и
его значения для истории философии. Отмечается, что много-
численные интерпретаторы, не заметившие диалектичности
галилеевской ^методологии, привлекали его пример для
подтверждения самых несовместимых представлений о сущ-
Croce В. Theoriae s tori a della storiografia.—Bari, 1966.-^
Po 140-153.
23-1
177
ности классической науки, так что Галилей выступал у них
то рационалистом и априористом, то эмпиристом, то контр-
индуктивистом, представлялся то аристотелианцем, то пла-
тоником и т.д.
Центральное место в методологии Галилея занимают проб-
лемы логики и практических рассуждений. Даже его рассуж^-
дения об опыте обычно бывают связаны с выяснением роли
рассуждения - будь то для интерпретации данного опыта или
для решения вопроса о том, насколько необходимо его про-
ведение» Галилеевские рассуждения об обмане органов чувств
в действительности касаются проблемы некорректных умозак-
лючений - от чувственной видимости к реальности. Когда
Галилей говорит о причинных исследованиях, то он всякий раз
говорит о том, как рассуждать о каузальных связях, об их
отличии от логических оснований. Вопросы математики об-
суждаются в 'Диалоге* реже, чем вопросы рассуждений и
умозаключений. И говоря о математике, Галилей говорит о
том, как рассуждать о числах и фигурах, т.е. говорит о при-
роде и статусе математического умозаключения. Он показы-
вает, что последнее аподиктично и релевантно для физики,
но в этом применении теряет свою аподиктичность. Когда
Галилей обсуждает вопрос о простоте, он на самом деле об-
суждает аргументы, опирающиеся на принцип простоты, и
показывает, что они могут быть лишь вероятными, но не
аподиктичными.
Обсуждая известный 'аргумент башни*, будто бы дока-
зывающий неподвижность Земли (что камень, падающий с вер-
шины высокой башни, падает точно у ее основания), Галилей
фактически обсуждает не вопрос об интерпретации подобного
наблюдения, но анализирует и критикует именно 'аргумент*
и показывает, что в нем заключен порочный круг: видимое
движение камня отождествляется с вертикальным падением,
тогда как известно, что наши глаза способны замечать толь-
ко то движение, которое является движением относитель-
но нас, но не движение, в котором мы участвуем вместе
с движущимся предметом.
Все это еще раз доказывает, что Галилей в своей ме-
тодологии был прежде всего 'логиком-^действии*, практи-
ком логического анализа. В связи с этим автор энергично
178
высказывается за 'общую, эмпирическую, информативную
(естественную), полезную и критически конкретную логику*
(с. 257). Он считает необходимым эмпирическое исследо-
вание реальных образцов интересной аргументации в истории
науки. Блестящие примеры для этого дает именно 'Диалог'
В.И. Шрира
179
23-2
МАКХЕЙМЕР П.
ГАЛИЛЕЙ И ПРИЧИНЫ
MACHAMER Р.
Galileo and the causes
//New perspectives on Galileo.
^-Dordrecht; Boston, «1978.—P. 161—180. *
Статья П. Макхеймера - попытка отойти от сложившего-
ся у историков науки обычая рассматривать деятельность
Галилея в дихотомиях типа: платонизм-аристотелиэм, мате-
матическое-экспериментальное, рационалистическое-эмпири-
ческое, т.е. дать целостное представление о Галилее как о
человеке своего времени, который по стилю мышления, по
установкам и признаваемым ценностям принадлежит к когни-
тивному контексту XVI и начала XVII в. Галилей, по мне-
нию автора, включен в традицию; 'причем в такую традицию,
которая еще недостаточно осознана и только-только начина-
ет изучаться' (с. 161).
Типичными для этой традиции были, по автору, 'смешан-
ные науки', в которых сплетались математика и физика, эле-
менты философии Платона (или неоплатоников) и Аристотеля,
рассуждение и наблюдение. 'Именно эту традицию Галилей
воспринял от мыслителей конца XVI в», и именно она про-
слеживается во всех его работах, в том числе и в деталь-
но изучаемых сегодня 'Беседах' (с.. 161).
Одним из критериев принадлежности к традиции конца
средневековья или разрыва с нею автор считает истолкова-
ние причинности. В сложившейся к концу XVI в. когнитивной
180
ситуации господствовала трактовка Аристотеля - его сущ-
ность определялась через четыре детерминанты—причины: ма-
териальную, формальную, целевую и движущую, тогда как для .
когнитивного научного контекста нового времени характерно
взаимодействие и 'парное' каузальное истолкование событий
в терминах причина-действие, причина-следствие.
Вопрос о принадлежности Галилея к средневековой тра-
диции или к новому времени по критерию структуры каузаль-
ности - предмет разногласий между историками науки, хотя
и не всегда проводится четкое различие между структурами
каузальности. Автор выделяет две типичных в этом отноше-
нии фигуры - Стиллмана Дрейка и Уильяма Уоллеса:’ Так,
С. Дрейк в примечании к своему новому переводу 'Бесед'
пишет, что отказ от исследования причин является наиболее
революционным шагом Галилея в физике, поскольку целью
традиционной науки было определение причин. В противопо-
ложность этому У. Уоллес указывает на множество случаев
в работе Галилея, где налицо каузальный язык и где Гали-
лей открыто говорит о том, что он ищет причины. 'Ни тот,
ни другой не анализируют понимание каузальности, присут-
ствующее в работах Галилея' (с. 162).
Отмечая, что 'смешанные науки', хотя они и существо-
вали со времен античности, не занимали высокого статуса в
университетских программах, автор утверждает, что усилия-
ми ремесленников эти науки получили широкое развитие в
XVI и начале XVII в. Отсюда и его оценки исторического
контекста того времени: 'Мой исторический тезис состоит
в том, что к середине XVI в. и далее на протяжении XVII в.
смешанные науки приобрели значительно более высокий ста-
тус, чем когда-либо в истории, и дали общую модель, в ко-
торой работал не только Галилей, но и Декарт, Гоббс и
многие другие великие люди' (с. 163).
При этом, по автору, наблюдалась определенная диффе-
ренциация тяготений и, соответственно, интеллектуальных
авторитетов: 'Особенно пышно рацветали смешанные науки
в различных неоплатонических схемах, тогда как иерархии
и принципы бытия получали математическую трактовку исклю-
чительно в каузальных терминах Аристотеля. Важно здесь
181
бурное возрождение систематизирующего неоплатонизма,
происходившее в конце XVI в. (значительную часть этих
событий по недоразумению классифицируют как 'герметизм').
Сюда относятся имена Телезио, Кардано, Патрпци, как и бо-
лее ранних мыслителей (Роджер Бэкон, Николай Кузанский),
а также, возможно, и более поздних или современников вро-
де Кеплера, Суареса, Буономичи. у всех этих авторов арис-
тотелевское каузальное исследование смешано с математикой,
с метафизическими и эпистемологическими заботами, отда-
ющими классическим неоплатонизмом* (с. 163).
В этом контексте резко вырос авторитет греческих
геометров, и 'комбинация неоплатонизма с элементами гео-
метрии стала составной частью того, что породило механисти-
ческую традицию конца XVI и начала XVII в.' (с. 163).
Другим источником интереса Галилея к традиции 'смешанных
наук' явились, по автору, особенности его воспитания: тот
факт, что Галилей получил математическую подготовку у
Риччи, показывает что Галилей приобщился к инженерно-ре-
месленной традиции XVI в. 'Эта неуниверситетская и тяго-
теющая к практике традиция также была заинтересована в
смешанных науках, в объяснительных потенциях и в эписте-
мологической достоверности, достигаемых математиков в ее
приложениях к естественным, феноменам. Показательно в
этом отношении, что Галилей не только изучал такие науки,
как перспективу (оптику) и механику, но, видимо, одно
время и преподавал перспективу художникам' (с. 163)•
В качестве примеров смешанных наук автор рассматри-
вает оптику и механику. Оптика, по его мнению, особенно
способствовала смешению математического и физического
(с. 164-165). Вместе с тем в оптике, и это автор счита-
ет характерным для традиции в целом, отсутствует обращение
к внешним движущим причинам, В большинстве работ того
времени по оптике не было упоминаний о внешних действую-
щих причинах. Источник света и его способ излучения при-
нимались как данность. Этого было, достаточно для всех
доказательств и для большинства задач, в которых оптика
использовалась при описании свойств света, и эти свойства
'доказывались' обращением к целевым причинам, 'Такие
182
формальные и целевые причины объясняли отношение между
формально установленными принципами, связанными с приро-
дой света, его распространением, и действиями света - от-
ражением и преломлением, а эти действия в свою очередь
использовались в той же каузальной манере для описания
оптических свойств реальных инструментов - зеркал и линз*
(с. 165-166).
Для многих мыслителей той эпохи оптика, по автору,
была образцовой моделью науки. Примерно ту же функцию
выполняла и механика, хотя она и не занимала в системе
подготовки интеллектуалов столь почетного места, как опти-
ка, гармония или астрономия. В традиционном понимании
механика представляла собой науку о тяжестях, занимающую-
ся проблемами рычагов, весов, винтов. Механика была Сме-
шанной наукой*, в которой математические понятия существо-
вали безотносительно к физическим объектам. Чтобы уста-
навливать формальные причины рассматриваемых объектов,
здесь использовалась терминология геометрии. Могли да-
ваться и материальные причины. В механике центральное ме-
сто в доказательствах занимали целевые причины, поскольку
равновесие считалось нормой, а равная пропорциональность
или уравновешенность - достижением покоя или конечного
состояния. Здесь очень редко упоминались внешние действую-
щие причины. Никого не заботило, как именно тяжести взве-
шиваются, какое именно тело воздействует на рычаг, не
было интереса к тому, что именно приводит снаряд в движе-
ние.
Тот же отказ от анализа внешних действующих причин
был характерен^ по автору, и для теологов. Они были оза-
бочены установлением формальной, целевой и материальной
причин космоса. Их мало занимали внешние действующие
причины. В конечном счете, действующей причиной всего по-
лагался бог, и это принималось как данность. *Внимание
было направлено на попытки объяснить в других каузальных
терминах, как действует бог* (с. 167). Автор отмечает, что
noawe, после Галилея, начиная с Суареса и Декарта, пробле-
ма внешних действующих причин станет острой и на уровне по-
. нимания всеобщего. А Галилей, который в отличие, например, от
Декарта, *не был волюнтаристом и оставался крепок в като-
183
лической вере' (с. 167), принадлежал еще данной традиции,
объяснения явлений с помощью формальных, целевых и иног-
да материальных причин.
Во второй части статьи автор на нескольких примерах
пытается показать стремление Галилея удержать споры о
сопротивлении материалов и движении в рамках традиционной
структуры каузальных отношений, свести их к обсуждению
формальной, целевой и материальной причин.
Наиболее развернут пример из 'Бесед', где Сальвиати,
Сагредо и Симпличио обсуждают новую науку Галилея ('ака-
демика') о сопротивлении материалов, приняв на правах ог-
раничивающего условия, что 'все спекулятивные построения
науки могут доказывать геометрически, исходя из первичных
и несомненных принципов' (цит. по: с. 169). В 'Беседах*
ставятся вопросы: 'Какое действие выявляется при изломе
твердого. стержня, части которого прочно соединены? Что
представляет собой тот клей, который, подобно волокнам
веревки, связывает части воедино?' (с. 169). Нити веревки
сучат, и тем самым связывают. В других же телах связи
возникают по двум причинам: '1) природа боится пустоты и
не допускает ее существования; 2) там, где принцип боязни
пустоты оказывается недостаточным, должны быть какие-то
сочленяющие^ вязкие клеющие субстанции, прочно соединяющие
частицы, из которых состоит тело' (с. 169).
По мнению автора, вторая причина приводится в конеч-
ном счете к первой, к боязни пустоты, и спор возникает
по поводу каузального толкования пустоты. 'Сальвиати заяв-
ляет, что он может показать с помощью ясного эксперимен-
та природу и силу воздействия пустоты на тела. На первый
взгляд, разговор вроде бы идет о внешней действующей при-
чине. В духе традиции он говорит о двух мраморных пласти-
нах, которые нельзя отделить друг от друга без значитепъ-
ного усилия. Причиной этого феномена объявляется пусто-
та, точнее, боязнь пустоты. Она не может быть простой
(внешней) действующей причиной. В действительности это
целевая причина, определяющая конечное состояние, кото-
рое не может быть допущено к существованию. Что отвраще-
184
ние к пустоте рассматривается именно как целевая причина,
следует из непосредственной реакции Сагредо' (с. 169).
Сагредо говорит о том, что хотя эксперимент убеждает
его в истинности заключения - пластины действительно
трудно отделить, он не чувствует себя убежденным насчет
причины, которой приписано это действие, поскольку она,
по замечанию автора, 'выглядит как внешнея действующая
причина' (с. 170). Он формулирует свои сомнения в трех
каузальных принципах: 1) причина должна предшествовать
действию если не по времени, то хотя бы по природе; 2) у
позитивного действия должна быть позитивная причина;
3) вещи, которые не существуют, не могут вызывать дейст-
вия (с. 170). Из этих трех принципов каузальности только
первый, по автору, допускает традиционное истолкование в
терминах Аристотеля, различающего первое для нас
и первое но природе. Но Сагредо явно толкует этот
принцип в терминах времени. Его озадачивает то, что
действие разделения двух поверхностей происходит до обра-
зования пустоты, которая следует за разделением. Наличие
пустоты, поскольку она не существует и ее избегают, оче-
видно, не может в природе быть прежде чего-либо. 'Сагредо
здесь явно имеет в виду парадокс следования во времени,
который правомерен для каузальных контекстов* включающих
независимые внешние действующие причины. Предшествова-
ние во времени истинно только для отношений таких внеш-
них действующих причин к своим действиям, не имеет силы
для целевой, формальной или материальной причины, для
внутренних принципов движения (природы)' (с, 170).
Предложенные Сагредо три каузальных принципа прямо
не комментируются Сальвиати, но явно им отвергаются или
считаются не имеющими отношения к делу, поскольку это
принципы действующих причин. Аристотелианец Симпличио
предлагает еще один принцип, долженствующий, по его мне-
нию, разрешить проблему, поставленную Сагредо: 'Природа
не совершает того, что не может быть совершено' (цит. по:
с. 171). Иными словами, наличие пустого пространства, ко-
торое вовсе не является действующей причиной слипания
пластин, является 'самоотрицанием': 'Основанные на этом
24-1 188
принципе объяснения ведутся в терминах целевых причин -
природа запрещает (отрицательно селекционирует) действия,
следствием которых могло бы быть появление пустоты*
(с. 171).
В духе этого примера автор рассматривает и другие си-
туации, показывая, что Галилей действительно стремится из-
лагать темы споров на языке традиционной структуры кау-
зальности.
Автор, таким образом, определяет *место* Галилея в
истории науки как переходное,, связующее традиционный ког-
нитивный контекст позднего средневековья с духовными реа-
лиями нового времени. В случае с Галилеем вопрос, по мне-
нию автора, упирается в истолкование природы математики:
Книга Природы, говорит Галилей, написана на языке мате-
матики. Но как Галилей обосновывает такое заявление? Эпи-
стемология видения мира через призму математики достаточно
традиционна, восходя к античности. По Галилею, математи-
ческие свойства суть свойства, которыми объекты обладают,
и они воспринимаемы в опыте. Когда мы выходим за эти
пределы (как это происходит с микропустотами в его *Бесе-
дах*), наши суждения лишь вероятны. Отсутствует же объяс-
нение того, почему такие математические свойства должно
рассматривать как сущностные. Ясно, что Галилей считал их
таковыми. Почему? •Насколько мне известно, - заключает
автор, - в текстах Галилея нельзя найти ответа на этот во-
прос. Он, надо полагать, считал, что вопрос о приложимости
математики к миру не образует проблемы* (с. 176-177).
Иными словами, будучи причастным к традиции, Галилей и
эту ее составляющую воспринимает как само собой разумею-
щуюся данность, не требующую объяснений.
Т.М. Петрова
186
ПИТТ лж.с.
ГАЛИЛЕЙ: ПРИЧИННОСТЬ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ
PITT J.C.
Galileo: Causation and the use of geometry
//New perspectives on Galileo.—Dordrecht;
Boston,-1978.—P. 181—195.
В статье сотрудника Вирджинского политехнического
института и Университета шт. Вирджиния (США) рассматри-
вается роль Галилея в развитии науки. Автор противопостав-
ляет схеме Т. Куна развития науки как революционной сме-
не парадигм свое понимание научного развития как процес-
са усложнения • и 'рафинирования' исходного концептуального
каркаса. В рамках данной методологической концепции он
оценивает вклад Галилея не как создание принципиально но-
вой научной парадигмы, а как совершенствование исходной
античной концептуальной основы и усиление ее объяснитель-
ной силы. При совершенствовании теории - расширении ста-
рых или примирении конфликтующих теорий, пишет автор,
'любые вносимые учеными изменения объяснимы через то,
что было заложено в самой теории' (с. 184). Любые концеп-
туальные изменения связаны с совершенствованием (т.е.
выделением новых различий) категорий, образующих концеп-
туальную основу.
24-2
187
Используя анализ категорий (в русле идей У. Селларса
о развитии первичной концептуальной основы!)), автор по-
казывает, что Галилей, не отвергая аристотелевской концеп-
туальной основы и не вводя новых категорий, усовершенст-
вовал категорию причинности. 'Настаивая на внедрении ме-
тода вычисления научных результатов, не оставляющего мес-
та роли первопричины, Галилей обосновывает исключение те-
леологического аспекта при объяснении причинных связей'
(с. 87). Использование геометрии как средства, устанав-
ливающего адекватное отражение физической структуры мира,
не только устраняло объяснительные ограничения старой тео-
рии, но и представляло собой новый объяснительный уровень.
По мнению автора, предложенная Галилеем формальная не-
аристотелевская процедура описания положила начало альтер-
нативным формальным методам, аналогично тому, ккак осоз-
нание в XIX в. геометрических альтернатив (неевклидо-
вых геометрий) повлияло на развитие новой физики и новых
способов ее описания.
Геометрический способ описания обретает ранг объясне-
ния в силу предположения о геометрических принципах орга-
низации Вселенной. Именно на основании уверенности в этом
Галилей декларирует возможность получения с помощью
2) ,
математики истинного знания (а не только возможность
построения правдоподобных моделей).
Соответствие материального мира миру геометрии поз-
воляет распространять математические расчеты на конкрет-
ные физические объекты - необходимо лишь вносить поправки
*1) Sellars W. Philosophy and the scientific image of man//
Science, perception and reality.—L.t 1963. (Приведено по реф.
источнику, с. 195.)
Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира. -
М., 1948. - С. 89.
188
для учета различных материальных помех. Любое видимое
несоответствие с геометрией свидетельствует, как подчерки-
вает Галилей, лишь о несовершенстве данных расчетов, о
некомпетентности вычислителя, но не ставит под сомнение
наличие самого соответствия.
Итак, Галилей в особенности в области астрономии По-
рывает с традицией использования геометрии только для
*спасенияг наблюдаемых фактов* (с. 193). В отличие от
Птолемея, он является реалистом: для него математические
доказательства перестают быть инструменталистскими ухищ-
рениями - они становятся объяснениями, объяснительные сред-
ства и возможности возрастают благодаря математике. Зас-
лугу Галилея автор видит в выделении новых различений в
рамках категории причинности, в освобождении науки от не-
обходимости обращения к четырем причинам, к конечной при-
чине Аристотеля. Автор подчеркивает, что лишь в результа-
те обретения математикой объяснительной силы мы можем
в настоящее время говорить о необходимости замены мате-
матической системы, если выявлена ее неадекватность.
Л.В. Кнорина
188
V. ОЦЕНКА ГАЛИЛЕЯ СОВРЕМЕННЫМ КАТОЛИЦИЗМОМ
ВИГА НО М.
ГАЛИЛЕЙ И ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА
ЕГО ВРЕМЕНИ
VIGANO М.
Galileo е la cultura filosofica
del suo tempo//Galileo Galilei. 350 anni
di storia (1633—1883).—Roma,
1984.-P. 101-149.
Автор - теолог, философ, физик, профессор космологии
на факультете философии в Гаппарате и в Грегорианском
университете (Рим) - ставит в статье вопрос о статусе Га-
лилея как философа. Поводом к постановке такого вопроса
служит документ - письмо Галилея (май 1610 г.), адресе-.
ванное Белисарио Винта, секретарю Великого герцога Тоскан-
ского Козимо II, • в котором ученый уточняет условия своего
перехода из Падуанского университета на службу флорентий-
ского двора: 'Что жё касается повода и титула, оформляю-
щего мою службу, - пишет Галилей, - то я бы хотел, что-
бы Его Высочество, помимо звания Математика, присоеди-
нило к нему и звание Философа, имея в виду, что на изучение
философии я потратил больше лет, чем месяцев на изучение
чистой математики' (цит. по: с. 101). Это пожелание уче-
ного не вызвало препятствий, и 10 июля того же года он
получил от герцога извещение о том, что он избран Первым
Математиком при университете Пизы и Первым Математиком
и Философом при университете Великого герцога.
190
Что же означает этот титул философа? Если иметь в ви-
ду физику как часть натурфилософии, являющуюся в свою
очередь частью философии, то никогда никто не оспаривал
у Галилея права на такое звание, ни при его жизни, ни после
его смерти. Однако, возможно, Галилей имел в виду нечто
другое. В его время различали математиков-астрономов
и физиков-астрономов, называя последних также философами.
Если первые занимались созданием геометрических моделей
небесных явлений, способных их предсказывать, ничуть не
заботясь при этом о том, отвечают ли они реальности или
нет, то астрономы-физики пытались определить истинную сущ-
ность природы, природу тел и их свойства. Кстати, на вто-
ром процессе Галилей обвинялся в том, что он нарушил усло-
вие публикации его 'Диалога*, выдвинутое папой Урбаном
предписывающем вопрос о системе мира трактовать не в ка-
честве философа, а в качестве математика.
В современной философской литературе встречаются пря-
мо противоположные суждения о Галилее как философе. Вига-
но приводит выдержки из работы Ф. Олджьяти^', который,
с одной стороны, отказывает Галилею занимать место в од-
ном ряду с такими философами, как Демокрит, Пифагор, Пла-
тон, Аристотель, св. Фома, аргументируя при этом чрезвы-
чайной несистематичностью мысли Галилея (в смысле отсут-
ствия философской системы), а с другой, он признает, что
•Галилей является создателем не только новой науки, новой
научной методологии или гносеологии, но кроме того и преж-
де всего создателем метафизики, являющей собой значитель-
но большую систематичность, чем это может показаться на
первый взгляд и которая стоит труда, чтобы ее обнаружить*
(цит. по: с. 103). Чтобы выяснить этот вопрос, Вигано и
предлагает свое исследование. Его цель - выявить основные
течения философской мысли в XVI—XVII вв., показать их
связь с творчеством Галилея, вскрыть отношение к ним уче-
D Olgiati F. La metafisica di Galileo Galilei//Terzo cente-
nario della morte di Galileo.-Milano, 1942—P. 97—163
191
ного. Кроме того, Вигано стремится выявить внутренние фи-
лософские аспекты творчества Галилея. Все это, как он счи-
тает, и позволит дать ответ на кардинальный вопрос: может
ли Галилей и сегодня рассчитывать на титул философа?
(с. 104).
Философский пейзаж в эпоху Галилея складывался, по Ви-
гано, прежде всего из двух тенденций или путей. Во-первых,
старый путь ( via an ties ) было связан с аристотелизмом,
включая все ориентации внутри него, и, во-вторых, новый
путь ( via moderna ), направленный к полному освобождению
от аристотелевской метафизики и связанной с ней теологии,
начало которому положил Оккам. Существенным моментом
в рамках первого пути явился аверроизм, составивший мощ-
ное течение в Падуанском университете и сохранивший еще
свое влияние во времена Галилея, что мы можем обнаружить
по фигуре перипатетика Симпличио, обрисованного Галилеем
в гДиалогег. Типичным представителем такого аристотелиэ-
ма был профессор философии в Падуе. Чезаре/Кремонино, пре-
подававший как раз в то время, когда там преподавал Гали-
лей. Кремонино в своей верности Аристотелю соперничал с
самим Аверроэсом, не желая даже посмотреть в зритель-
ную трубу, потому что, как он говорил, смотреть сквозь та-
кое устройство означало для него вызывать путаницу в го-
лове. Но это, однако, не помешало тому, что между Гали-
леем и Кремонино завязались сердечные отношения.
В аристотелизме с ХШ в. образовалось два течения.
Одно из них, получившее распространение в Париже и в Па-
дуе, стремилось сквозь изучение и комментирование текстов
Стагирита, прежде всего через их арабскую интерпретацию,
к раскрытию подлинной Аристотелевой философии. Большин-
ство представителей этого течения хотели остаться католи-
ками и прибегали к различным средствам для примирения
Аристотеля и церкви, в частности к учению о двойственной
истине, теологической и философской. Другое течение, расп-
ространившееся в среде схоластики, стремилось объединить
Аристотеля с другими течениями мысли, в особенности с
платонизмом и неоплатонизмом и проинтерпретировать его
тем самым так, чтобы оно полностью согласовывалось
192
с христианским откровением. Среди этих авторов выделя-
ется фигура Св. Фомы. Интересно отметить, что св. Фома
в своей классификации наук нашел место для математичес-
кой физики, хотя, конечно, физика Св. Фомы оставалась, бу-
дучи сплавленной, как и у Аристотеля, с метафизикой, ско-
рее, не физикой-математикой,а физикой-метафизикой. Вве-
денный св. Фомой критерий отличения физики от метафизики
(роль опыта в физике), как считает Вигано, значим при оцен-
ке творчества Галилея. Но идея опытной физики была выд-
винута не Фомой, всецело погруженным в теологические и
метафизические проблемы, а его современниками Р.Бэко-
ном и его учителем св. Альбертом Великим»
Когда Галилей, направив на небо свою зрительную трубу,
открыл путь для критики всей аристотелевской системы ми-
ра, в особенности принципа неизменности небес и их иерар-
хии, то большинство философов и теологов^-схоластов, сле-
дующих за Фомой, с большим или меньшим энтузиазмом,
вспомнили о методологических принципах Фомы и Аристотеля
и признали примат опыта. Действительно, обыденный опыт
свидетельствовал в пользу старой системы мира, а коперни-
канская теория воспринималась при этом как чисто математи-
ческое ухищрение, облегчающее вычисления. Математическое
истолкование астрономии (в отличие от физического, отож-
дествляемого с философским), казалось, позволяло избежать
серьезного анализа научной аргументации Коперника и Гали-
лея, а также и Священного Писания, которое, казалось, под-
тверждало традиционную систему.
Новый путь в философии решительного разрыва с аристо-
телизмом был указан возродившимся в XIV в. платонизмом,
вместе с новаторскими работами У. Оккама. Платонизм во
Флоренции развился благодаря литературному гуманизму
(XV в.) и контактам с византийским Наследием, приведшим
к открытию и переводу многих диалогов Платона, до тех пор
неизвестных Западной Европе.
Платонизм, особенно через посредничество Николая Ку-
занского, вдохновлял то мощное течение в философии Воз-
рождения, которое получило название натурфилософии. Хотя
философы, в него входящие, отличались большим своеобразием,
25-1
193
тем не менее их объединяли общие черты мысли. Природа
рассматривалась в рамках этого направления как • само-
стоятельная система, причем из нее исключались сверхъес-
тественные факторы, хотя чудесное и находило в ней себе
место благодаря распространению магических представлений.
Опорой магизма служил панпсихизм. Тела предполагались всту-
пающими во взаимодействия посредством сил симпатии и анти-
патии. К этому течению примыкали и некоторые естество испы-
татели, как врачи Фракасторий и Парацельс или как математик
Кардано. В качестве предшественника экспериментального
метода надо отметить В. Телезио. В основе его натурфило-
софии, в которой значительное место уделялось объяснению
таких природных явлений, как землетрясения, приливы, коме-1
ты и т.п., лежали принципы, восходящие к качественной фи-
зике Стагирита. Существовали и алхимики, работавшие в ла-
бораториях с колбами, ретортами и т.п. В поисках философ-
ского камня они нередко приходили к позитивным научным
достижениям.
Два крупных мыслителя особенно часто упоминаются
в связи с Галилеем. Это Дж. Бруно и Т. Кампанелла. Для
Бруно было характерно колебание между пантеизмом (или
имманентизмом), по-видимому, отождествляющему Бога с
природой, си особым трансцендентизмом, связывающим Бога
со сферой совершенно непознаваемого. Бруно отрицал любую
форму религии откровения, как католическую,так и протестант-
скую считая ее только полезным тфедрассудком, нужным
для управления грубыми массами. При этом подлинная ре-
лигиозность, согласно ему, идентифицировалась с философи-
ей, которую он исповедывал и преподавал. Именно поэтому
он был обвинен в ереси, и как бы ни оценивали смертный
приговор, к которому был приговорен Бруно, он был в итоге
вполне обоснован с точки зрения существовавшего тогда
церковного права, в отличие от объявления ересью коперни-
канской теории в 1616 г. (что отмечалось уже тогда не-
которыми авторитетными теологами).
Что же касается коперниканства Бруно, то надо заме-
тить, что он в действительности не интересовался научными
основаниями для его принятия, но его внимание к нему бы-
194
по приковано тем обстоятельством, что эта теория благопри-
ятствовала концепции бесконечной Вселенной, наделенной
бессчисленными солнечными системами, содержащими обита-
телей-инопланетян, что согласовывалось с идеей всеобщей
одушевленности природы. Однако последний момент мог внес-
ти свой вклад в провокацию раздражения теологов против
такой теории, в частности, со стороны папы Урбана VIEL
Т. Кампанелла с энтузиазмом и восхищением отнесся
к Галилею, с которым у него установилось, что называется,
единство мысли. В то время как идеалом Бруно была своеоб-
разная натуралистическая религия, идеалом Кампанеллы
стала политико-религиозная утопия, описанная им в 'Городе
Солнца*. В философии он оставлял немало места для магии,
следуя во многом идеям Телезио.
Натурфилософия обнаружила, что для новой науки о при-
роде недостаточно отбросить аристотелизм - нужен был стро-
гий метод. Проблема метода встала во всей остроте, потому
что уже многие авторы того времени считали, что натурфи-
лософия не лучше аристотелизма. И эту задачу стали решать
независимо друг от друга различными путями три великих
философа, призванные основоположниками современной науки —
Ф. Бэкон, Р. Декарт и Г. Галилей.
Бэкон, человек политики, был движим прежде всего прак-
тическими устремлениями. Он говорил о революции, внесен-
ной книгопечатанием в литературу, порохом - в военное дело,
буссолью - в мореплавание. Но мало совершить открытие -
Бэкон думал о планировании исследований, в чем его уди-
вительная близость к современности.
Для Бэкона развитие науки и техники представлялось
своего рода Искуплением - утрата невинности восстанавлива-
лась верой, а потеря человеком своего господствующего поло-
жения в универсуме компенсировалась техникой и наукой.
Что касается метода, то, по Бэкону, настоящий ученый дол-
жен действовать, как пчела, - неустанно собирать '.цветоч-
ную пыльцу*, преобразуя ее внутренней работой в *воск и
мед*. Бэкон упрекал аристотеликов в том, что они прибега-
ют к слишком уж широким обобщениям, пренебрегая пра-
вильной научной индукцией, учение о которой он хотел раэ-
195
25-2
вить заново в своем 'Новом органоне'. Бэкон< признавал
четыре аристотелевские причины, но впоследствии он настаи-
вал на том, что одна лишь формальная причина достойна вни-
мания ученого, хотя и нелегко при этом определить, что
же это такое. По-видимому, и именно из-за этого представ-
ления о форме он недооценивал использование математики в
науке, в чем принципиально расходился с Декартом и Гали-
леем.
Из-за своего отношения к математике он недооценил и
теорию Коперника. По Бэкону, все математические гипотезы
стоят друг друга, позволяя 'спасти явленияг, т.е. описывая
движения тел, но все они бессильны указать истинные при-
чины поведения тел, саму реальность вещей.
На противоположных позициях стоит второй из основа-
телей современной науки Р. Декарт. Вместо образа пчелы
для описания научного метода у него мы находим образ
паука, который все извлекает из самого себя. И эта ради-
кально иная по сравнению с Бэконом установка вытекает и
именно из иного понимания Декартом роли математики в
строении науки. По Декарту, только в математике можно
обрести прочный фундамент знания. Такая программа вела
его к геометризации физики.
Используя эти принципы, Декарт написал свой 'Мир'*',
публикации которого однако была приостановлена вследствие
осуждения Галилея, поскольку в нем поддерживалась теория
Коперника как следствие картезианской теории вихрей. При-
знание за Декартом столь же важной роли в формировании
современной науки, что и за Галилеем, основано на том, что
возникновение современной науки отмечено 'взрывом меха-
ницизма'. Действительно, механицизм вместе с геометриза-
цией физики внес большой вклад в развитие математической
физики.
1 ^Декарт Р. Мир, или трактат о свете// Декарт Р. Изб-
ранные произведения. - М., 1950. - С. 171-256.
196
Если Галилея можно считать вполне свободным по отно-
шению к влиянию на него 'современных* ему философов,
то этого нельзя сказать по отношению к 'древним* филосо-
фам. Пользуясь именным указателем к полному собранию
сочинений Галилея, можно количественно точно установить
*объем* связи его с отдельными античными мыслителями.
Чаще всех Галилей обращается к Аристотелю, конечно, при
этом учитываются и все критические упоминания Стагирита
(семь колонок в указателе). Архимед и Платон занимают
примерно одну колонку и половина колонки указывает на
обращение к Пифагору и Демокриту.*
Хотя Галилея не без оснований причисляют к механицис-
там (действительно, у него мы находим атомистическую кон-
цепцию теплоты), однако имя Демокрита упоминается им без
особого энтузиазма. То обстоятельство, что Галилей высоко
оценивает Пифагора, понятно, так как именно среди учеников
Пифагора находятся приверженцы гелиоцентрической системы.
Кроме того, Пифагору приписывают открытия в теории музы-
ки, которой занимались Галилей и его отец. Но главное, пожа-
луй, в том, что на первый план в пифагорейской философии'
выступает математика. Но к удивлению Симпличио, Галилей,
математик и философ пифагорейского толка, очень низко оце-
нивает мистериальную сторону пифагореизма. Галилей считал,
что скрытые значения, приписываемые пифагорейцами числам,
являются, вероятно, простыми уловками, предназначенным
для сохранения в секрете их действительных математических
достижений. Отсюда делается понятной и то неблагоприят-
ное впечатление, которое оказало на Галилея пифагорейство
Кеплера.
Что же касается Платона, то Галилей несомненно ценил
его за высокие литературные достоинства, за приоритетное
место, отводимое Платоном в классификации наук математи-
ке. У Галилея можно найти и ряд других платоновских реми-
нисценций, в том числе упоминание о майевтической процеду-
ре. Внимание к платонизму Галилея было привлечено А.Кой-
ре: для платоника, как считал Койре, высшей наукой являет-
ся математика, а физика имеет низкий онтологический ста-
тус, в то время как для аристотеликов наоборот - в позна-
197
нии природы физике, опирающейся на опыт, отводится цент-
ральное место, а математика при этом выполняет служебные
функции (с. 132-133). И в этом смысле мы можем сказать,
что Галилей был скорее аристотеликом - именно потому, что
в центр физики ставил опыт.
Анализ отношения Галилея к Аристотелю требует выясне-
ния позиции Аристотеля в эпистемологии. А эта позиция неод-
нозначна* Действительно, во *Второй Аналитике* Аристотель
рисует познавательный идеал как своего рода математичес-
кий, дедуктивный метод, использующий силлогистику. Но в
прикладных областях природознания (*О небе*, *О возникнове-
нии и уничтожении*, *Метеорологика* и др.) методологиче-
ская строгость его научного идеала падает, он становится
менее категорическим и на первое место в его структуре
выдвигается опыт. Автор цитирует выражение Ле-Блона:
*в отличие от метафизики Платона метафизика Аристотеля
носит *опытный* характер (цит. по: с. 135).
Галилей в действительности полемизирует скорее с ари-
стотеликами, чем с самим Аристотелем. Та аристотелев-
ская доктрина, которую мы слышим из уст Симпличио, стал-
кивается Галилеем с концепцией книги природы, написанной
на языке математики. Их в таком критическом сопоставлении
физика Стагирита буквально разваливается, кусок за куском,
как карточный домик.
Если мы посмотрим на тексты Галилея, то он не коле-
бался провозглашать себя в большей степени аристотеликом,
чем сами перипатетики, его оппоненты. И заявление Галилея
о том, что *он считает себя истинным перипатетиком* (цит.
по: с. 136-137), вовсе не является чисто риторической фи-
гурой, но представляет собой его внутреннее убеждение, о
чем свидетельствует то, что подобные заявления с устойчи-
вой частотой рассыпаны по всем его сочинениям. Утверж-
дение о том, что Галилей является *истинным аристотели-
ком* не означает ни в коей мере, что он не внес глубоких
изменений в аристотелевский эмпирический метод, в част-
ности, критическое отношение к анализу опыта в свете мате-
матических идеальных конструкций. При этом характерной
особенностью эпистемологической позиции Галилея-ученого
198
выступает осознание пределов нашего знания, выраженное им
многократно, например, в 'Пробирщике'. Но та сфера, которая
считается Галилеем доступной нашему познанию, открыта
знанию, в котором, как считает ученый, мы можем быть
уверены, что и привело его к конфликту с теологами.
Философскую атмосферу, в которой двигалась мысль Га-
лилея, может прояснить анализ двух процессов над мыслите-
лем. Документ, на котором основывалось осуждение копер-
никанской теории в 1616 г. и 'Диалога о двух главнейших
системах мира' в 1633 г., был принят теологами-советни-
ками папского престола и в нем отвергались два положения
Коперника: 1) в центре мира находится неподвижное Солнце
и 2) Земля не является центром мира и не находится в по-
кое, а движется вокруг своего центра согласно смене дня
и ночи. Теологи-советники отвергли их, так как они проти-
воречили утверждениям Священного Писания и 'являются аб-
сурдом с точки зрения философии' (цит. по: с. 139). Но в
принципе их мнение было чисто внутренним актом, имеющим
совещательный статус, лишенный какого-либо официального
значения. Тем не менее все юридические действия по отно-
шению к Галилею, пишет Вигано, основывались именно на
нем.
Хотя Галилей и весьма быстро принял коперниканство,
однако вплоть до 1609 г. в своем академическом поепо-
давании и в своих сочинениях он был очень осторожен и сдержан
в своих суждениях. Но впоследствии ситуация меняется. Зри-
тельная труба позволила установить новые и слишком крича-
щие факты: горы на Луне, спутники Юпитера, бессчисленные
звезды, невидимые невооруженным глазом. В своем 'Звезд-
ном вестнике' Галилей спешит дать отчет обо всех при этом
учесть последующие открытия: фазы Венеры, пятна на Солн-
це и его вращение, особую форму Сатурна.
Перипатетики пытались отрицать аутентичность этих
открытий, приписывая .их эффектам, обусловленным зритель-
ными приборами। или искажая их значение. Галилей не обращал
на эти перипатетические сочинения внимания, в лучшем слу-
чае он уделил им несколько замечаний на полях. Нужно отме-
тить, что и в это время он все еще оставался достаточно
199
сдержанным в утверждении коперниканской теории» Но в про*
ти во положи ость некомпетентным перипатетикам, открытия
Галилея получили поддержку у таких серьезных ученых, как
Кеплер и математики-иезуиты Римской Коллегии во главе
с П. Клавио. Последние, после своих колебаний в сицу дей-
ствительной трудности контроля за наблюдениями ввиду не-
совершенства инструментов, подтвердили астрономические
открытия Галилея и по случаю визита его в Рим в 1611 г.
устроили ему самый горячий прием, на котором присутство-
вали многие кардиналы и прелаты. Конечно, в незначительной
степени имелась и иная реакция, но Галилея она мало забо-
тила.
Коперниканская, теория вызвала неодобрение со стороны
церковных властей, в том числе среди руководства домини-
канского ордена в 1614 г. после выступления монаха Тома-
зо Каччини против коперниканцев и математиков. Только
в 1615 г., после доноса двух доминиканских монахов из
Флоренции, папский престол начал интересоваться Галилеем
под этим углом зрения. Но первое его вмешательство было
для Галилея благоприятным. Вердикт был следующий: *если
он и использует иногда неподходящие слова, то из рамок
ортодоксии не выходит* (цит. по: с. 141).
Однако второе вмешательство вызвало уже другую реак-
цию. В марте того же года Галилей был обвинен П. Каччини
во многих утверждениях еритического толка. После разби-
рательства было найдено, что большинство пунктов обвинения
были сочинены слишком усердным монахом. Из всех обвини-
тельных положений оставлены были только два (выше при-
веденные коперниканские утверждения). Это решение осно-
вывалось не только на традиционном толковании Священно-
го Писания, но и на традиционной философии, прочно связан-
ной со схоластикой. Вера в то, что вращение Земли вокруг
Солнца является 'философским абсурдом*, удержала совет-
ников-теологов папского престола от серьезного исследова-
ния тех мест Священного Писания, которые предполагались
противоречащими коперниканской теории.
Надо заметить, что в период между двумя процессами
было немало теологов, при том весьма авторитетных, кото-
200
рые сомневались в том, что можно расценивать коперниканс-
кую теорию как ересь в строгом смысле этого слова. Из
анализа всех перипетий проблемы вытекает, что суть гга-
лилеевского вопросаг состоит скорее не в теологии, а в фи-
лософии и касается как раэ значения доказательств, полу-
ченных Галилеем для подтверждения коперниканской теории.
Открытия Галилея укрепили ее демонстрационный потенциал,
сделав ее более обоснованной, доказательной.
Как утверждал кардинал Беллармино в письме к Фоскари—
ни, если бы для обоснования коперниканской теории были бы
даны веские доказательства, то возникла бы необходимость
искать новую интерпретацию Св. Писания или же признать,
что оно не понимается нами. Кардинал при этом добавил, что
до тех пор, пока таких доказательств не представлено,
нужно сохранить прежнюю традиционную интерпретацию; но
с точки зрения теологов таких доказательств не существо-
вало. И то обстоятельство, что теория объясняла явления,
ничего еще не доказывало, так как не исключалось, что
это могла сделать и какая-то другая теория.
Но у папы Урбана VIII возникла идея, что теорию Ко-
перника никогда нельзя будет доказать, ибо, как полагал
пара, Бог, будучи всемогущим, может организовать небес-
ные явления другим способом, чем тот, который мы мыслим.
Он был настолько уверен в своем аргументе, что настоял,
чтобы Галилей ввел его в свой 'Диалог'. И Галилей это сде-
лал, но он у него был вложен в уста Симпличио, что, конеч-
но, не лишено хитрости, но представляется неосторожным.
Суммируя сказанное, можно попытаться ответить на воп-
рос: сохраняет ли все еще Галилей право называться фило-
софом? Джентиле в своем предисловии к 'Фрагментам писем
Галилео Галилея' подчеркнул, что 'Галилей не был в собст-
венном смысле слова философом, будучи математиком и ес-
тествоиспытателем, который в отличие от наших великих фи-
лософов Возрождения - Телеэио, Бруно, Кампанеллы и от
самых знаменитых мыслителей и ученых, открывших новую
эру, Бэкона, Декарта и Кеплера, впервые самым ясным об-
разом увидел, что наука о природе может конституироваться,
лишь отделившись от метафизики и обратившись к свойствен-
201
26-1
ному ей прямому познанию фактов, которые рассматриваются
как уже возникшие, не доступные проникновению в их внут-
реннюю сущность и в их качественную определенность, но за-
то являющиеся устойчивыми и измеримыми в своих коли-
чественных характеристиках* (цит. по: с. 145). Но можно
спросить, кто же все-таки имеет больше прав называться
философом - тот, кто пишет трактат о научном методе,
быстро опровергаемый практикой науки, или же тот, кто не
создает систематического трактата о методе, но зато при-
меняет метод, обнаруживающий свою чрезвычайную практиче-
скую эффективность. В обычной практике сначала образуется
язык, а уже потом составляется его грамматика, в то время
как тексты, составленные на эсперанто, не имеют какой-ли-
бо богатой судьбы. И в этом плане Галилей следует за
Аристотелем.
Конечно, Галилей был противником науки о природе, ос-
нованной на априорной метафизике, изолированной от опыта
и эксперимента. Но именно поэтому он в то же время был
против категорического разрыва между естествознанием и
философией или метафизикой, считая, что метафизике есть
чему поучиться у естествознания.
Открытия наук нашего времени, раскрывшие количествен-
ные закономерности материи, напрямую связаны с именем
Галилея. И вопрос о том, называть эти открытия наукой или
философией, считает Вигано, вопрос по сути дела о названии,
а вопрос о том, должны ли они интересовать философа и
метафизика - вопрос вкуса, но неоспоримо то, что в резуль-
тате этих открытий наша концепция мира и условия челове-
ческого бытия во Вселенной глубочайшим образом измени-
лись.
В.П. Виэгин
202
ИОАНН ПАВЕЛ II
ВЕЛИЧИЕ ГАЛИЛЕЯ СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО
GIOVANNI PAOLO II
La grandazza di Galileo e a tutti nota//
Galileo Galilei, 350 anni de storia
(1633—1983).—Roma, 1983.-P.271-277.
В сборник, посвященный 350-летию процесса над Гали-
леем, включено заявление папы Иоанна Павла II, сделанное
им по случаю празднования столетия со дня рождения Аль-
берта Эйнштейна, отмечаемого Понтификальной Академией
наук 10 ноября 1979 г. Выражая официальную позицию сов-
ременного католического истеблишмента по 'делу Галилея',
Иоанн Павел II высказывает сожаление по поводу осужде-
ния в 1633 г. Галилея, явившегося неправомерным вмеша-
тельством руководства католической церкви в дела науки.
В этом контексте он всячески подчеркивает необходимость
признания автономии науки со стороны светских и духовных
властей, присоединяясь к позиции своего предшественника,
папы Пия
Иоанн Павел II, в частности, сказал: 'Цель фундаментам
ной науки - поиск истины. И исследователь, устремляющий-
ся к этой цели, чувствует все обаяние слов Св. Августина
'ум полон любви' (intellectam valda am a. EpisL 120, '3,13).
Чистая ’Наука - это благо, достойное любви, так как это -
познание и поэтому совершенствование человека в его интел-
лектуальных способностях: Чистая наука должна цениться
сама по себе еще больше, чем ее технические применения,
26-2
203
являющиеся составной частью культуры. Фундаментальная
наука - всеобщее достояние, которое каждый народ должен
культивировать с полной свободой от всякой формы между-
народной зависимости или интеллектуального колониализма.
Фундаментальные исследования должны быть свободны
перед лицом политико-экономических властей, которые долж-
ны участвовать в их развитии, но без всякого вмешатель-
ства в научное творчество и не навязывая науке своих соб-
ственных целей. Действительно, научная истина, как и любая
другая, зависит только от Сфбя самой и от той высшей
истины, каковой является Бог, творец человека и всего мира.
Помимо фундаментальной науки существует прикладная
наука, находящая свое развитие в различных технологиях.
Наука в ее способности к конкретным реализациям своих
достижений является необходимой человечеству для удовлет-
ворения справедливых требований жизни и для победы над
злом, которое ему угрожает. Нет сомнения в том, что
приложение науки к практике принесло и принесет огромные
блага человеку, лишь бы только ее воодушевляла любовь, ве-
домая мудростыо и сопровождаемая мужеством, требуемым
для ее защиты от неправого вмешательства в нее любой ти-
ранической власти. Приложения наук к практике должны быть
в союзе с совестью, для того чтобы весь комплекс наука -
техника - сознание служил делу истинного благосостояния
человека* (с. 271-272).
По мнению Иоанна Павла П» • выраженному им в энцикли-
ке *Искупитель человека* ( Redemptor hominis )f 'человек
сегодня находится под постоянной угрозой со стороны того,
что он сам производит ... и в этом, по-видимому, состоит
главный акт драмы существования современного человека*
(цит. по: с. 272). Человек должен выйти победителем из
этой драмы, угрожающей превратиться в трагедию, и он
должен обрести свое подлинное господство по отношению к
миру и вполне владеть теми вещами, которые он сам созда-
ет. Как сказано в той же энциклике, Существенный смысл
превосходства и господства человека над видимым миром,
указанный ему в качестве его цели самим Создателем, сос-
тоит в приоритете этики над техникой, в примате личности
204
над вещами, в превосходстве духа над материей* (цит. по:
с. 272).
Церковь должна стремиться помогать науке в сохранении
ее автономии и чистоты в качестве фундаментальной науки
и в обеспечении того, чтобы прикладная наука действительно
служила благу человека.
Подобно тому, подчеркнул Иоанн Павел II как для рели-
гиозной жизни необходима религиозная свобода, так и наука
вполне законно требует свободы исследований. II Ватикан-
ский собор Экуменический после того, как он подтвердил
вслед за I Собором справедливость требования свободы
искусств и наук о человеке, действующих в соответствии со
своими собственными принципами, торжественно признал /за-
конную автономию культуры и особенно науки* (цит. по:
с. 274). Еще раэ подтверждая утверждения Собора об
автономии науки в ее исследовании истины, Иоанн Павел
сказал: *Галилей и Эйнштейн характеризуют целую эпоху.
Величие Галилея очевидно для всех, как и величие Эйнштей-
на. Но в отличие от него ...Галилей много пострадал -
мы этого не можем скрывать - со стороны людей и церков-
ных организаций. Второй Ватиканский Собор признал и выс-
казал свое сожаление в связи с этими неправедными вме-
шательствами: *Нужно выразить сожаление - сказано в №36
Постановления Co6opaMGaudium et SpesMt4To определенные
ментальные установки, которых не избежали и христиане,
происходят от того, что законная автономия науки не при-
знается достаточно полной и это вызывает полемику и споры,
приводящие немало умов к тому, чтобы считать, что нау-
ка и вера противоположны друг другу*.
Имея в виду такую позицию, занятую Собором, я не де-
юсь, что теологи, ученые, историки, воодушевленные духом
искреннего сотрудничества, подвергнут углубленному анализу
случай Галилея и, справедливо признавая искажения в этом
деле, с чьей бы стороны они не происходили, устранят тот
дух недоверия, который в этом случае всегда поражал столь
многих* (с. 275).
Далее Иоанн Павел II специально подчеркнул те аспекты
научной деятельности Галилея, в которых» по его убеждению,
205
проявления согласия между наукой и религией были более су-
щественны, чем их взаимные непонимания, приведшие к ост-
рому и болезненному конфликту: 'Tqt, кому с полным правом
приписывают роль основоположника современной физики, явно
заявлял, что две истины, истина веры и истина науки, не мо-
гут никогда противоречить друг другу, 'так как и Св. Писа-
ние и природа в равной мере происходят от божественного
Глагола, причем Св. Писание является как бы высказывани-
ем (dettatura ) Духа Святого, а природа - послушнейшим
исполнением воли Божией ( degfi ordini di Dio )' (из пись-
ма Галилея к о. Бенедетто Кастелли от 21 декабря 1613 г.)
(цит. по: с. 275). Эти слова Галилея Иоанн Павел II со-
поставляет с постановлением II Ватиканского собора, под-
черкивает их близость: 'Методически организованное иссле-
дование в каждой научной дисциплине, выполняемое действи-
тельно научным образом и следующее нормам морали, ни-
когда не вступит в конфликт с верой, потому что мирская
реальность и реальность, даваемая верой, имеют один и тот же
источник - Бога' ( Gaudium et Spes, N 36 ) (цит. по:с.275).
Далее, приведя слова Галилея в начале его ^Звездного
вестника' по поводу изобретения зрительной трубы ('Все
эти вещи были открыты и наблюдаемы в последнее время
посредством 'телескопа', придуманного мной в силу озаре-
ния божественной благодатью') (цит. по: с. 276), Иоанн
Павел II сказал: 'Вера Галилея в божественное озарение,
действующее в уме ученого, может быть сопоставлена с уже
цитированным Постановлением Церкви: 'Тот, кто пытается в
смирении и упорстве открыть тайны реальности, ведом ру-
кой Божией, даже не ведая о том'. Смирение, упоминаемое
в тексте Постановления Собора, является качеством духа,
необходимым как для научного исследования, так и для де-
ла веры. Смирение создает благоприятный климат для диа-
лога между верующим и ученым...' (с. 276-277).
В заключение Иоанн Павел П подчеркнул, что Галилей
высказал важные правила эпистемологического характера,
необходимые для того, чтобы согласовать Св. Писание с
наукой.
В.П. Визгин
206
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ1^
1. Ахутин А.В. История принципов физического экспери-
мента. - М.: Наука, 1976. - 292 с.
2. Библер В.С. Мышление как творчество. - М.: Политиздат.,
1975. - 399 с.
3. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки. - М.: Наука,
1980. - 567 с.
4. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки ( XVII—ХУНЬв.). -
М.: Наука. - 447 с.
5. Галилей Г. Беседы и математические доказательства, ка-
сающиеся двух новых отраслей науки // Галилей Г. Из-
бранные труды: В 2-х т. - М.: Наука, 1964. - Т. 2. -
С. 109-410.
6. Галилей Г. Диалог о двух системах мира: Птолемеевой
и Коперниковой // Галилей Г. Избранные труды: В 2-х т,-
М.: Наука, 1964. - Т. 1. - С. 97-586.
7. Галилей Г. Звездный вестник // Галилей Г. Избранные тру-
ды: В. 2-х т. - М.: 1964. - Т. 1. - С. 11-54.
8. Галилей Г. Пробирных дел мастер. - М.: Наука, 1987. -
272 с.
9. Галилей Г. Рассуждение о телах, пребывающих в воде //
Галилей Г. Избранные труды: В 2-х т.- М., 1964. -
Т. 2. - С. 39-107.
10. Гассенди П. Парадоксальные упражнения против аристоте-
ликов // Гассенди П. Сочинения: В. 2-х т. - М., 1968. -
Т. 2. - С. 5-396.
Составитель - Л.М. Косарева.
207
11. Гоббс Т. Избранные произведения: В 2-х т.- М.:
Мысль, 1965. - Т. 2. - 748 с.
12. Грасиан Б. Карманный оракул. .Критикой. - М.: Наука»
1981. - 631 с.
13. Декарт Р. Избранные произведения. - М.: Политиздат.,
1950. - 711 с.
14. Европейская поэзия XVII в. - М.: Худож. лит., 1977. —
927 с.
15. Койре А. Очерки истории философской мысли. - М.;
Прогресс, 1985. - 286 с.
16. Косарева Л.М. Вероятностная концепция естественного
знания в гносеологии нового времени // Философские
науки. - М., 1988. - № 6. - С. 41-50.
17. Косарева Л.М. Социокультурные факторы генезиса ме-
ханической картины мира // Социокультурные факторы
развития науки: С б. обзоров / ИНИОН АН СССР. -
М.: 1987. - С. 151-204.
18. Косарева Л.М. Эволюция картины мира (средние века -
новое время) //Социокультурные факторы развития нау—
ки: Сб. обзоров /ИНИОН АН СССР. - М., 1987. -
С. 113-150.
19. Кузанский Н. Сочинения: В 2-х т. - М.: Мысль, 1979,-
Т. 1. - 488 с.
20. Кузанский Н. Сочинения: В 2-х т. - М.: Мысль, 1980.-
Т. 2. - 471 с.
21. Кузнецова Н.И. Наука в ее истории. - М.: Наука,
1982. - 127 с.
22. Лейбниц Г. Сочинения: В 4-х т. - М.: Мысль, 1983. -
Т. 2. - 686 с.
23. Лейбниц Г. Сочинения: В 4-х т. - М.: Мысль, 1984. -
Т. 3. - 734 с.
24. Лернер Л.С., Госселин Э.А. Галилей и призрак Джорда-
но Бруно // В мире науки Scientific American ). -
М., 1987. - № 1. - С. 80-88.
25. Локк Дж. Избранные философские произведения: В 2-х
т. - М.. 1960. - Т. 1. - 734 с.
208
26. Ньютон И. Математические начала натуральной филосо-
фии // Крылов А.И. Собрание трудов. - М.: Л., 1836.
Т. 7. - 696 с.
27. Ольшки Л. История научной литературы на новых язы-
ках. - М.; Л.: Гостехтеоретиэдат, 1933. - Т. 3: Галилей
и его время. - 324 с.
28. Пригожин И., Стенгере И. Порядок из хаоса. - М.: Прог-
ресс, 1986. - 43 1 с.
29. Степин В.С. О прогностической природе философского
знания // Вопр. философии. - М., 1986. - № 4. -
С. 39-53.
30. Степин В.С. Становление научной теории. - Минск:
Изд-во БГУ, 1976. - 3 19 с.
3 1. Суарес Ф. Предисловие к книге 'Метафизические рас-
суждения' и I раздел первого рассуждения 'О природе
первой философии или метафизики' // Историко-философ-
ский ежегодник. - М.: Наука, ,1987. - С. 218-242.
32. Blackmore J.T. What was Galileo's epistemology? //Metho-
dology a. science. -Haarlem, 1982.-Vol. 15, N 2. - P. 57-
85.
33. Boyle R. A free inquiry into the vulgarly received notion of
nature. — L.: Clark, 1686. —12, 412 p.
34. Boyle R. Reasons why a protestant should not turn papist.—
L.: Clark, 1687.-32 p.
35. Bruno G. The Ash Wednesday supper (La Cena de le Ceneri)/
Ed. a. trans 1. by Gosselin E.A., Lerner L.S. —Hamden
(Conn): Archon books, 1977. —237p.
36. Burnet G. An exposition of the thirty nine articles of the
Church of England. - L.: Roberts, 1699.-XXIV, 396 p.
37. Butts R.E. Some tactics in Galileo's propaganda for the
mathem,atization of scientific experience//New perspectives
on Galileo.-Dordrecht; Boston, 1978.—P. 59-85.
38. Ciavelin M. The natural philosophy of Galileo.—Cambridge
(Mass.): MIT press. 1974.-XXIII, 49? p.
39. Cqstabel P. Mathematics and Galileo’s inclined plane experi—
ment//Reason, experiment, a. mysticism in the scientific
revolution. -N.Y., 1975.-P. 177-188.
27-1
_ 209
40. Cos t a be 1 P. A propos de 1’affaire Galilee// Rev. d’histoire
. des sciences. - P., 1984. - T. 37, N 3/4.-P. 319-320.
41. Crombie A.C. The primary properties and secondary qualities
in Galileo Gaplei’s natural philosophy//Saggi su Galileo
Galilei.-Firenze^ 197Z-- Vol. 2.-P. 71r-90.
42. Crombie A.C. The sources of Galileo’s early natural philo-
sophy //Reason, experiment, and misticism in the scientific
revolution. — N.Y., 1975.-P. 157-176.
43. Dini A. Filosofia della natura, medicina, religioner Lucan—
tonio Pozzio (1639—1724).г-Milano: Angeli, 1985. —117p.
44. I Documenti del processo di Galileo Galilei/Ed. by Pago—
no S.M., Luciani A.G. — Roma: Accademia Pontificate del
scienze» 1984. - XXVIII, 280 p.
45* Drake S., Galileo at work.—Chicago: Chicago univ. press.
1978.-XXIII, 536 p.
46. DrakeS. Galileo’s experimental confirmation of horizontal
confirmation of horizontal inertia: Unpublished manuscripts//
ISIS Wash., 1973,-Vol. 64, N 223.-P. 291-305.
47. Drake S. Galileo studies. Personality, tradition, a. revoluti-
on.—Ann Arbor: Univ, of Michigan press, 1970.— 289 P*
48. Drake S. Impetus theory and quanta of speed before and after
Galiteo//Physics. —Wisconsin, 1974.—Vol. 16, N 1.—P.47—
65.
49. Drake S. Ptolemy, Galileo and scientific method.//Studies
in history a. philosophy of science. — L., 1978. — Vol. 9,
№ 2. -P. 99-215.
50. Drake S. Renaissance music and experimental science//
J. of the history of ideas. —N.Y., 1970. —Vol. 31, M 4.—
P. 483-500.
51. Draper J.W. History of the conflict between religion and
science.-N.Y.; Appleton. 1874.-XXIII, 373 P-
52. Finocchiaro M.A. Cause, explanation, and understanding in
science: Galileo’s case//Rev. of metaphysics. —Wash.,
1975.-Vol. 29, № l.-P. 117-128.
53. Finocchiaro M.A. Galileo and the art of reasoning: Rhetori-
cal found, of logic a. sci. method. —Dordrecht etc.: Reidel,
1980.-XX, 478_p. -(Boston studies in the philosopfiy of
science; Vol. 61). -Bibliogr. : p. 454-463-
210
54. Galilei G. Costnog raphia //Galilei G. Le ope re. —Firenze,
1891.-Vol. 2.
55. Galilei G. De Motu./1 Galilei G. Le ope re. —Firenze, 1890.—
Vol. 1.
56. Galilei G. Dialogo... — Fiorenza: Landini, 1632.—458 p.
57. Galilei G. Istoria e dimostrazioni intorno a lie maccKie solari
e loro accidenti. —Roma: Mascardi 1623. —4, 164 p.
58. Galilei G. Il saggiatore...//Galilei G. Ope re. Roma:Mascar—
di, 1623»-Vol. 6- 236 p. .
59. Galilei G. Siderius nuncius. — Venetiis: Baglion, Roma,
1610.- 28 p.
60. Galileo Galilei, 350 anni di storia (1633—1983).—Roma:
Piemme (Marietti), 1984. —281 p.
61. Galileo Galilei, 350 ans d’histoire (1633,—1983)/ Ed. par
Poupard P.^P.: Desclee International, 1983. — 228 p.
62. Gilbert N.W. Galileo and the School of Padua//J. <rf the his-
tory of philosophy. —Berkeley, 1963.—Vol. 1, № 3. — P.223—
231.
63. Gosselin E.A., Lerner L.S. Galileo and the long shadow of
Bruno// Arch. Intern, d’histoire des science.—P., 1975»—
Vol. 25, № 97.-P. 223-246.
64. Gruender D. Galileo and the methods of science // Procee—
dings of the 1978 Pisa conference on thehistory. and philo-
sophy of science. —Dordrecht etc., 1981. —Vol. 1: Theory
change, ancient axiomatics and Galileo's methodology.—
P. 259-270.
65. Hall A.R. From Galileo to Newton, 1630—1720. — L.: Col-
lins. 1963.-379 p.
66. Hobbes to Newcastle//Portland manuscripts. Historical ma-
nuscripts commiss. — L., 1891. —Vol. 2. —P. 128.
67. Jardine N. Galileo’s road to truth and the demonstrative reg-
ress//Studies in history a. philosophy of science. —L.,
1976.-Vol. 7, № 4.-P. 277-318.
68. Koyr/ A. Etudes Galil^ennes.—P.: Hermann, 1939.—T. 1—3.—
73 p.
69. Koyre A. Galileo and Plato//J. of the history of ideas.—Lan-
caster (Pa); N.Y., 1943."- Vol. 5, № 4.-P. 400-428.
211
27-2
70. Laudan L. A revisionist note on the metodological signifi-
cance of Galilean mechanics//Laudan L. Science and
hypothesis, —Dordrecht etc., 1981. —P. 20—26.
71. McMorris M.N. Science as "Scientia "//Phys is .—Firenze,
1981 .-A. 23, fasc. 2.-P. 171-181.
72. McMullin E. The conception of science in Galileo's work//
New perspectives on Galileo.—Dordrecht; Boston, 1978»—
P. 209-257.
72a. McMullin E. Galilean idealization//Studies in history and
philosophy of science. —L.,-1985» —Vol. 16, № 3.— ₽• 247—
273.
73. Morris J. Descartes and probable know ledge // J. of the
history of philosophy. — Claremont, 1970. —Vol. 8, № 3.—
P. 303-312.
74. Naylor R. Galileo and the problem of free fall//Brit. j. for
the history of science.—L., 1974.—Vol. 7, № 2.—P. 105—134.
75. New perspectives on Galileo/Ed. by Butts R.E., Pitt J.C.—
Dordrecht; Boston, 1978. —XVI, 265 p.
76. Newton I. Unpublished scientific papers.—Cambridge: Cam-
bridge univ. press, 1962,—XX, 416 p.
77. Novita celesti e crisidel sapere: Atti del Convegno Interna—
zionaie di studi Galileiani (Pisa, Venezia, Padova. Firenz.
18—26 marzo 1983)/Ed by Galuzzi P. —Firenze: Giunti
__ Barbera, 1984. — 448 p.
78. Pitt j.C. Galileo: Causation and the use of geometry // New
perspectives on Galileo.—Dordrecht; Boston, 1978.—P. 181—
195.
79. Popkin R. The history of scepticism from Erasmus to Spi-
noza.-Berkeley etc.:California univ. press, 1979. — ХХП,
333 p.
80. Popkin R.H. Scepticism, theology and the scientific revolu-
tion in the seventeenth century//Problems in the philosophy
of science.—Amsterdam, 1968. — P. 1—28.
81. Randall J.H. The career of philosophy: From the Middle Ages
to the Enlightenment. —N.Y.; L.: Columbia univ. press,
1962. -XIV, 993 P.
212.
82. Randall J.H. The development of scientific method in the
school of Padua//J. of the history of ideas. —Lancaster
(Pa); N.Y., 1940.-Vol. 1, № f.-P. 177-206.
83. Redondi P. Galileo eretico. — Torino: Einaudi, 1983.— X,
460 p.
84. Redondi P., Galileo’s heresy//Scientia.— Milano, 1982,—
Vol. 117, M 5-8.-P. 349-353.
8 5. Renou X. L’infiniaux limites du calvul: (Anaximandre, Pla-
ton, Galilee). —P.:Maspero, 1978.— 374 p. — Bibliogr.:
p. 359-367.
86. Rogers G. The system of- Locke and Newton //Contemporary
Newtonian researchi— Dordrecht etc., 1982.— P. 215—238.
87. Satdelis D.A. The law of free fall: Myth a, hist, reality/./
Fundamenta scientiae. — Oxford etc., 1981. —Vol. 12, #2.—
P. 163-183.
88. Schmitt C.B. Experience and experiment: A comparison of
Zabarella’s view with Galileo’s in De Motu// Studies in the
Renaissances N.Y., 1969.- Vol. 16.- P. 80-138.
89. Settle T.B. An experiment in the history of science //Scien-
ce.- Wash., 1961.- Vol. 133, # 3445.-P. 19-23.
90. Shapiro B.J. Probability and certainty in seventeenth—cen-
tury England. —Princeton (N.Y.):Princeton univ. press.
. 1983. - X, 347 p.
91. Shea W.R. Galileo and the justification of experiments//
Historical and philosophical dimensions of logic, methodolo-
gy and philosophy of science. —Dordrech; Boston, 1977.—
P. 81—92.
92. Shea W. Galileo’s atomic hypothsis //Ambix. —Cambridge,
1970,- Vol. 17, » 1.- P. 12-27.
93. Shea W. Galileo’s intellectual revolution.—L.: Macmillan,
1972.-XII, 204 p..
94. Smith A.M. Galileo’s theory of indivisibles: Revolution or
compromise? //J. of the history of ideas.—Lancaster (Pa);
N.Y., 1976.-Vol. 37, № 4.-P. 571-588.
95. Wallace W.A. Prelude to Galileo: Essays on medieval
a. 16th—cent, sources of Galileo’s thought.—Dordrecht etc.:
Re ide 1, 1981.-XVI, 369 p.
213
96. Wbite A.D. A history of warfare of science with theology.-»-
L.xMacmillan, 1896.-Vol. 1-2.
97. Wisan Y.L. Galileo’s scientific method:A reexamination//
New perspectives on Galileo.-^Dordrecht; Boston, 1978.—
P. 1—57.
98. Wisan W. The new science of motion: A study of Galileo’s
”De motu locali”//Arch. for history of exact sciences.—
Berlin, 1974. - Vol. 13.-P. 103-306.
99. Yates F. Giordano Bruno and the hermetic tradition.—Chica-
go: XVI, 466 p.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ
(Галилей)
Реферативный сборник
Редактор - Г.В. Стерлигова
Сдано в набор 16.05.88 Подписано к печати 29. 11.88
Формат 60 х 8 4/16
Печ.л. 13,5 Уч.-иэд.л. 10,8
Тираж 1500 экз. Заказ Nt 6328
©ИНИОН АН СССР, Москва, ул.Красикова, д. 28/21
Отпечатано в ПИК ВИНИТИ, гЛюберцы, Октябрьский пр., 403
042(02)9