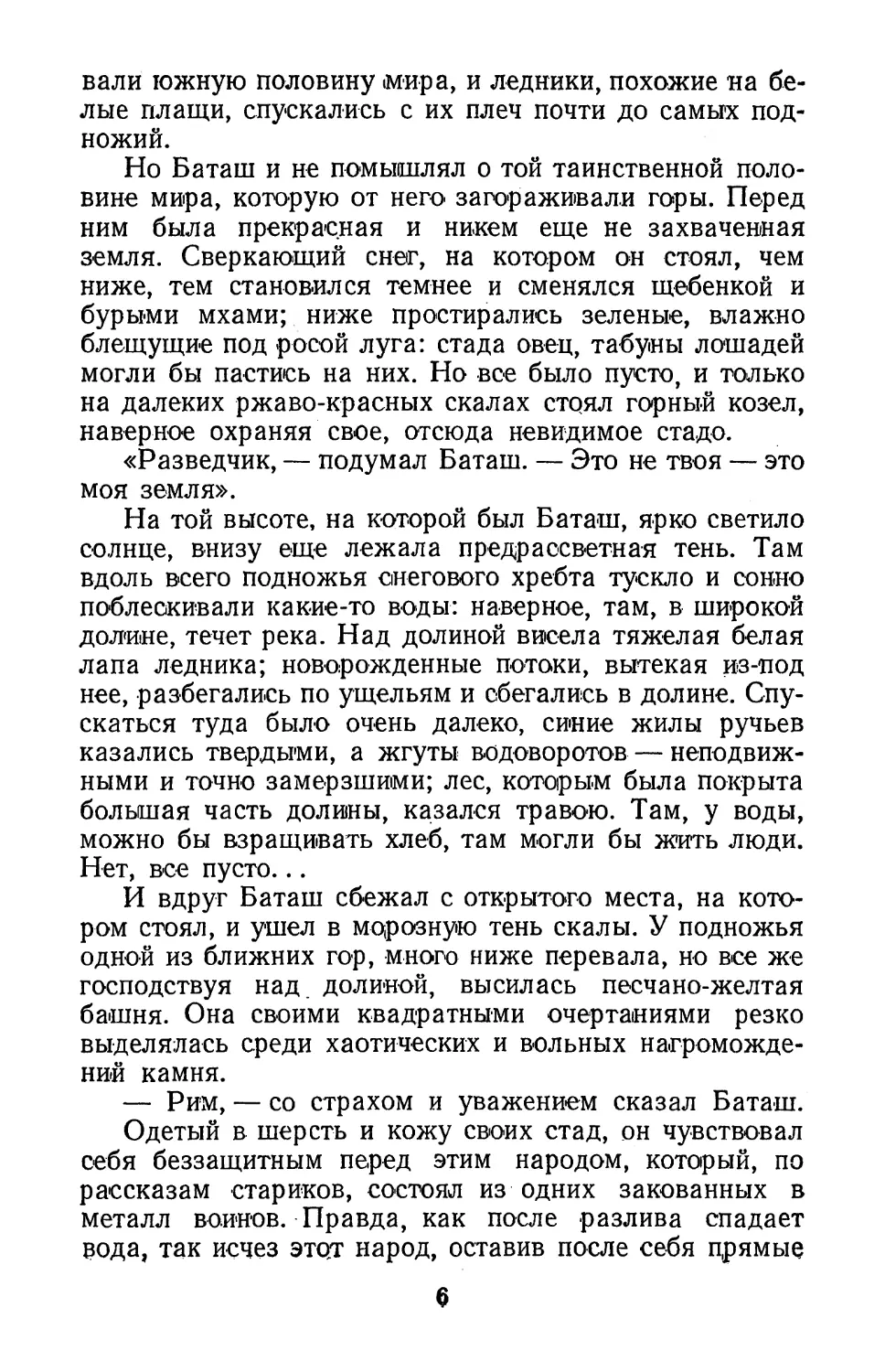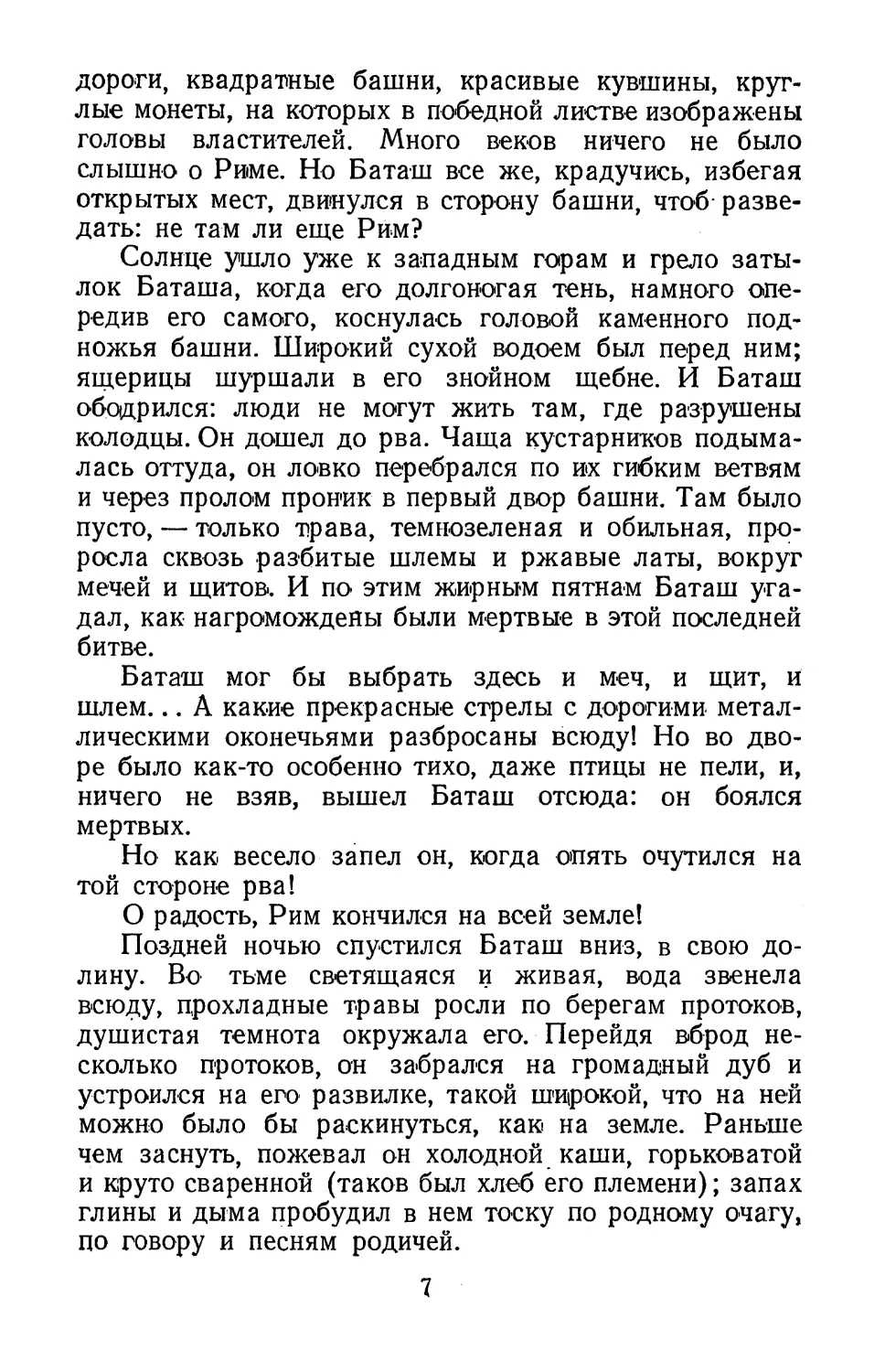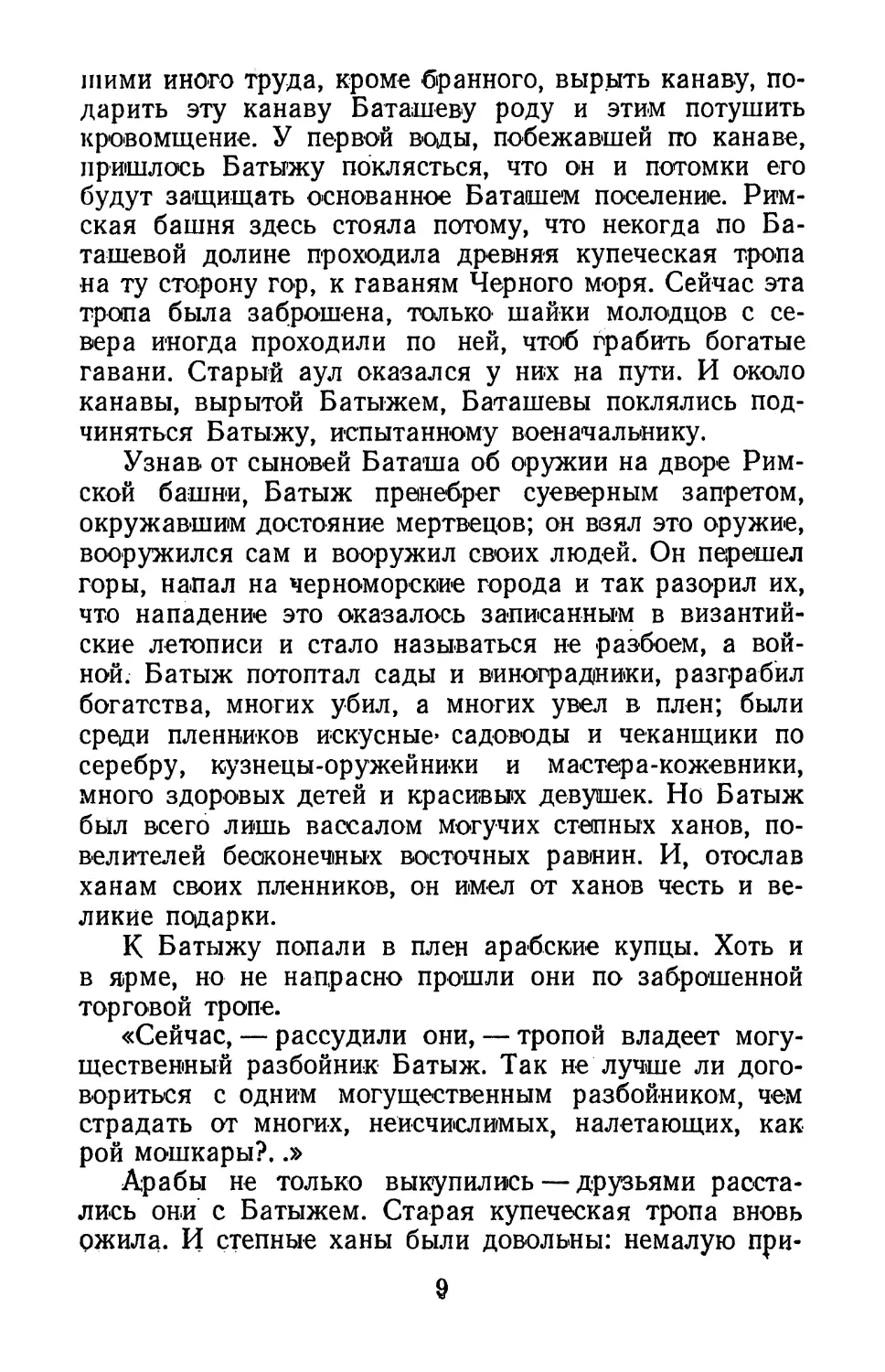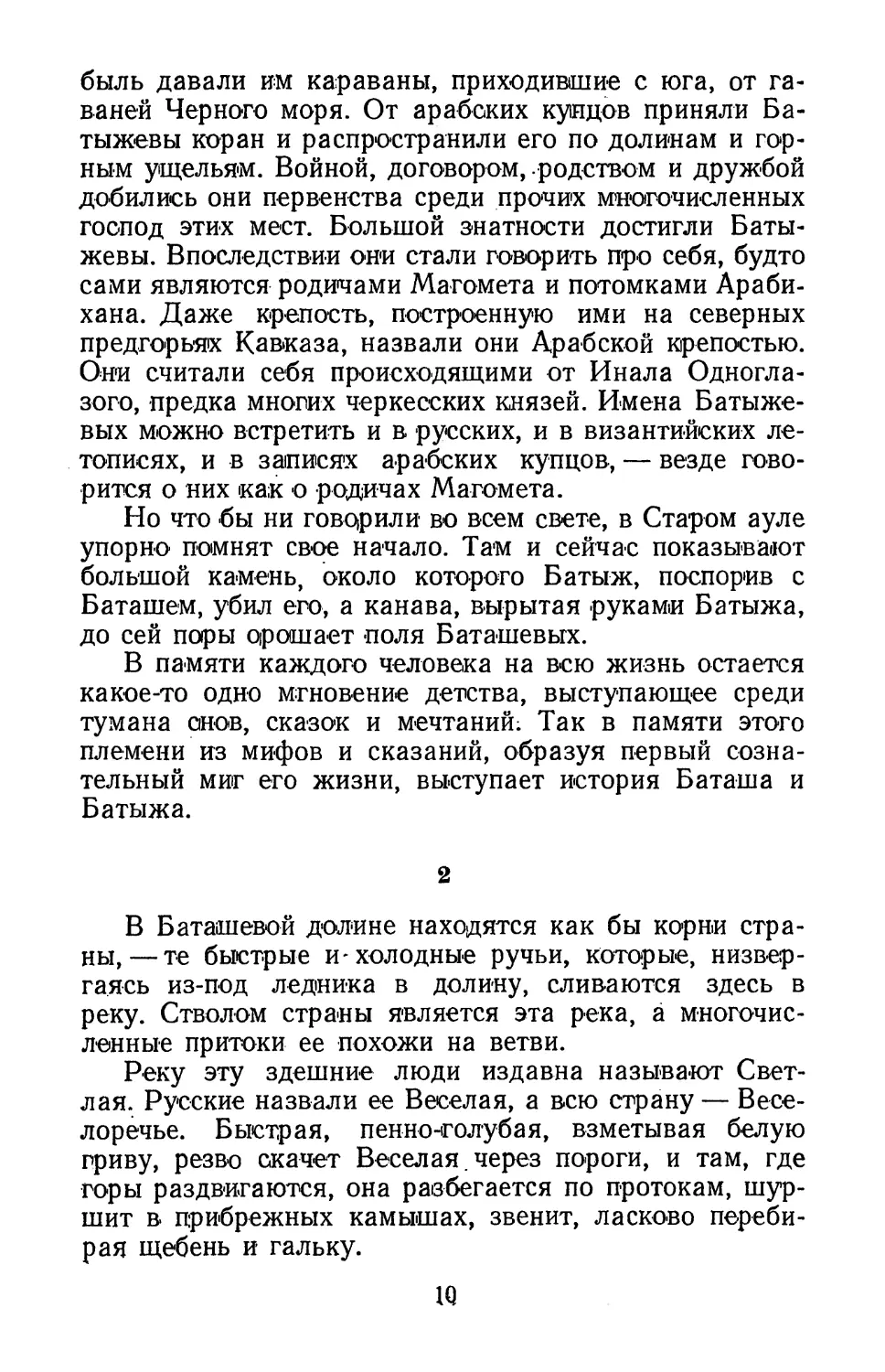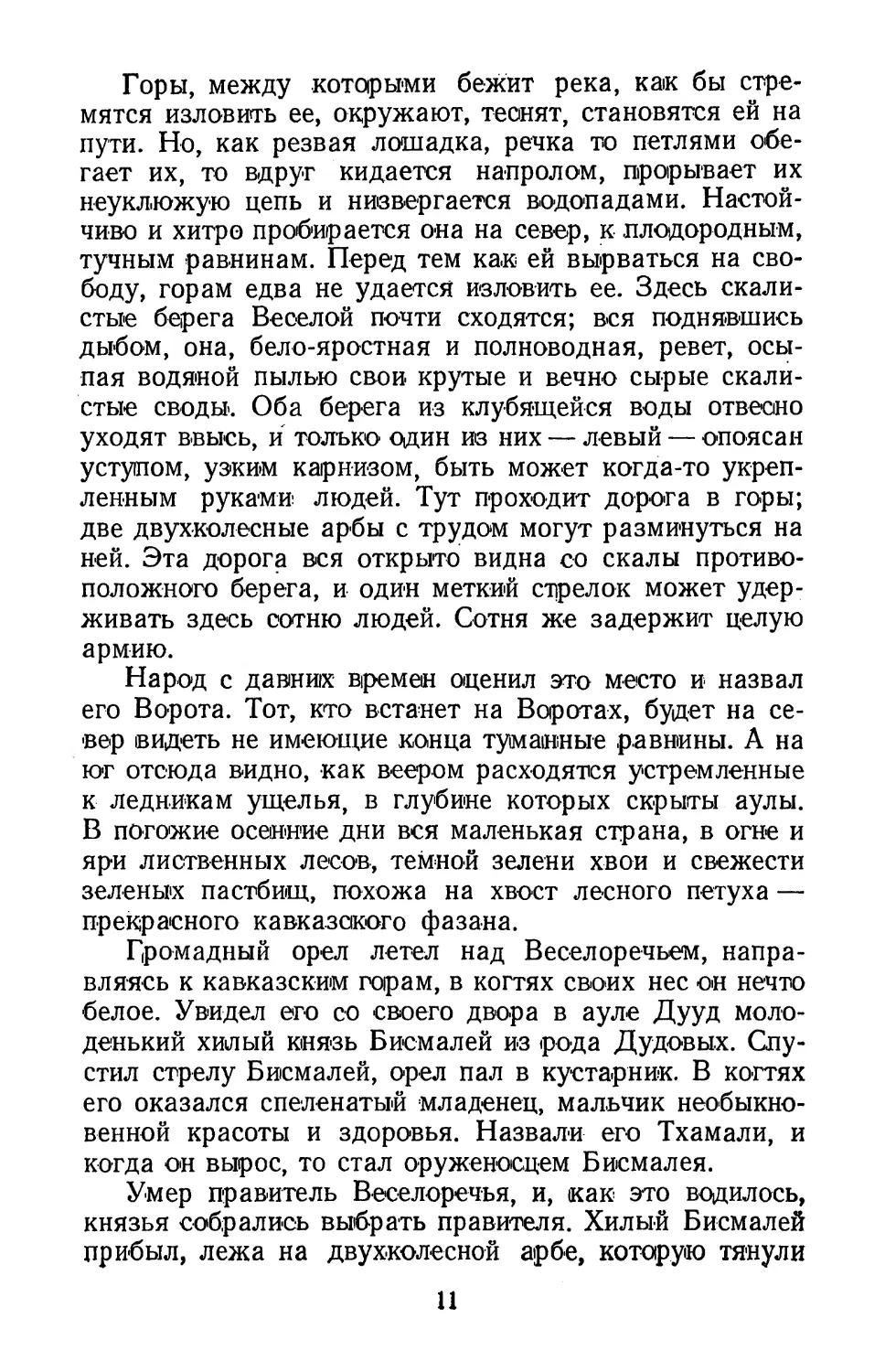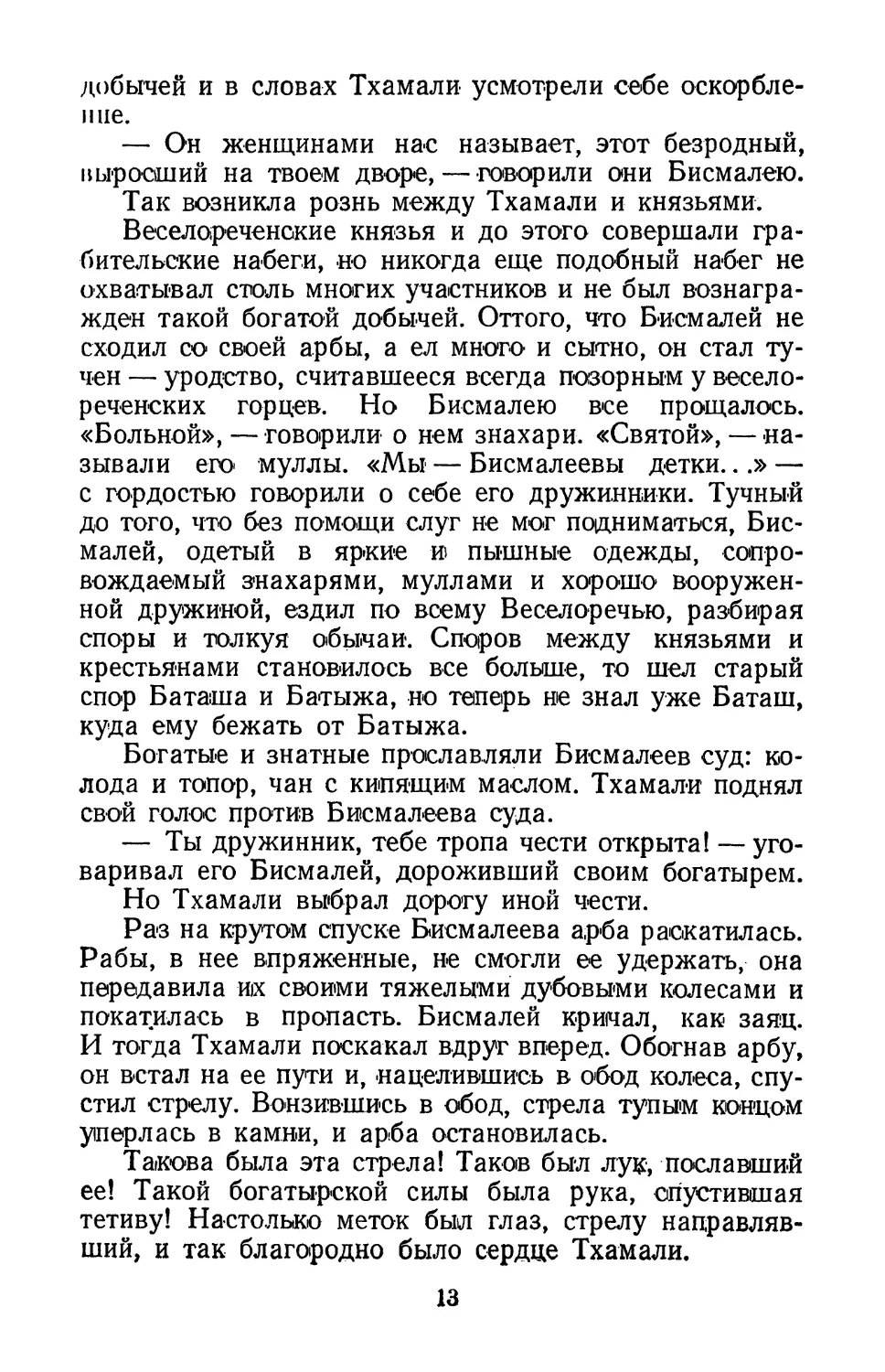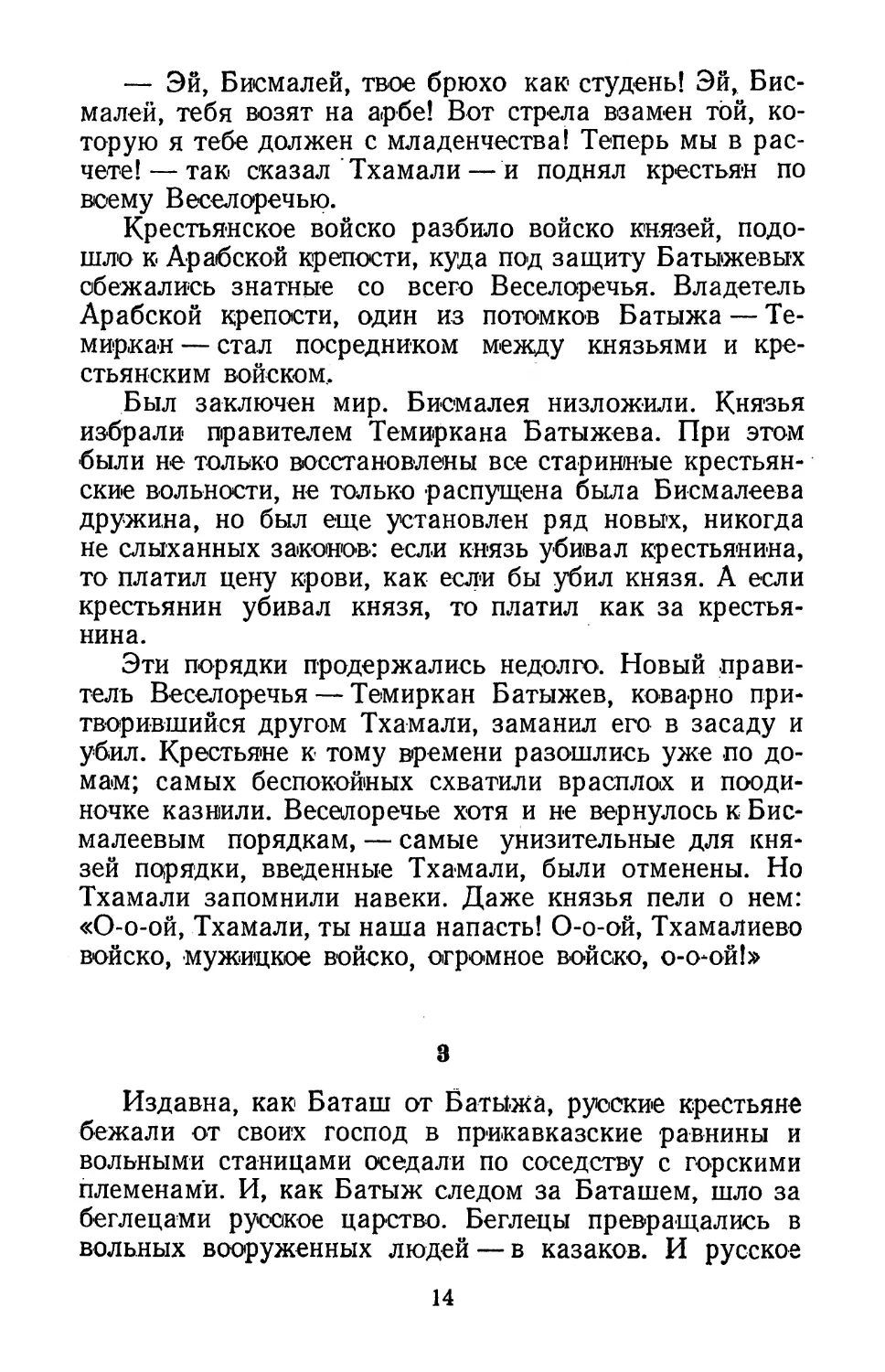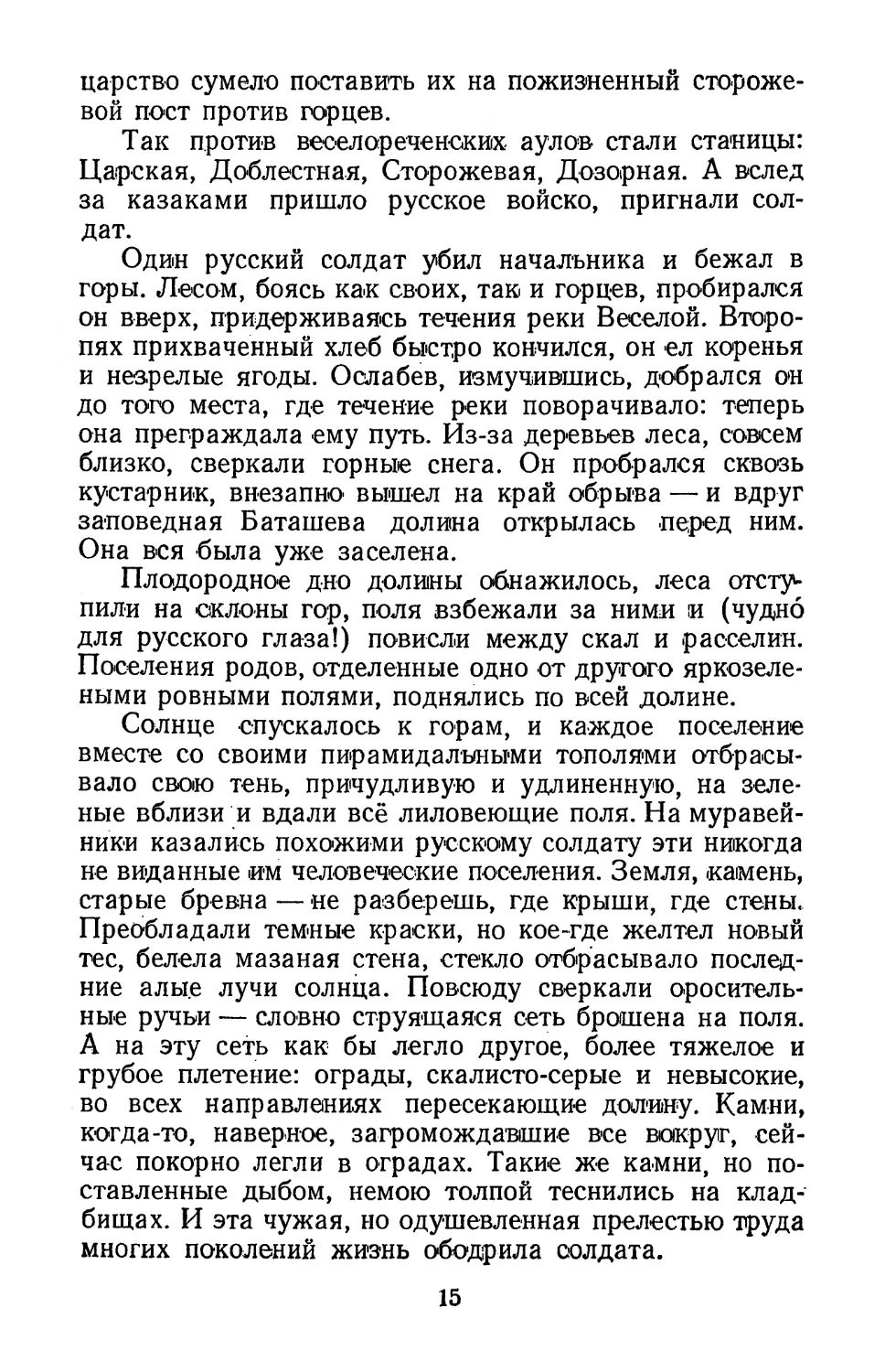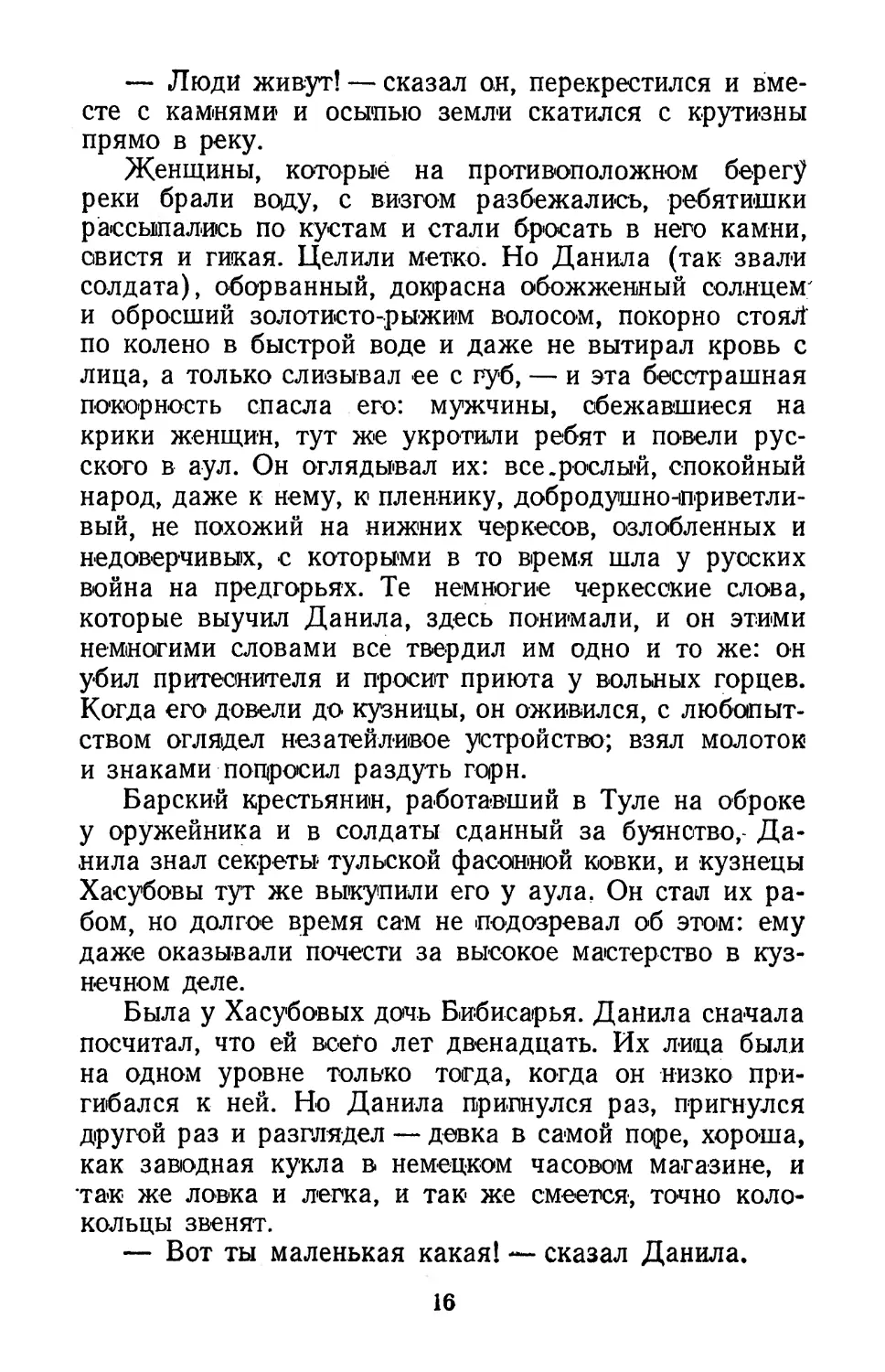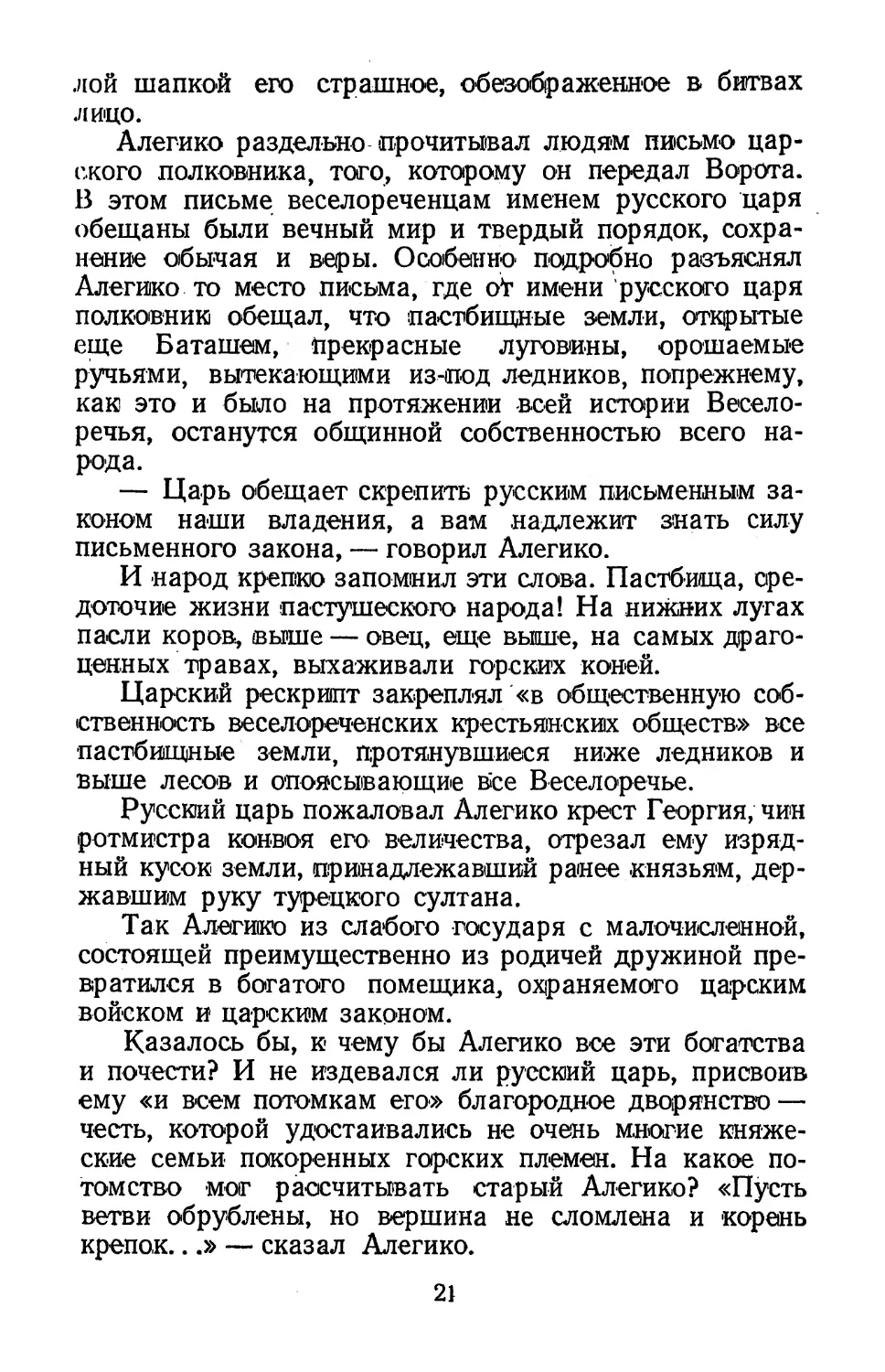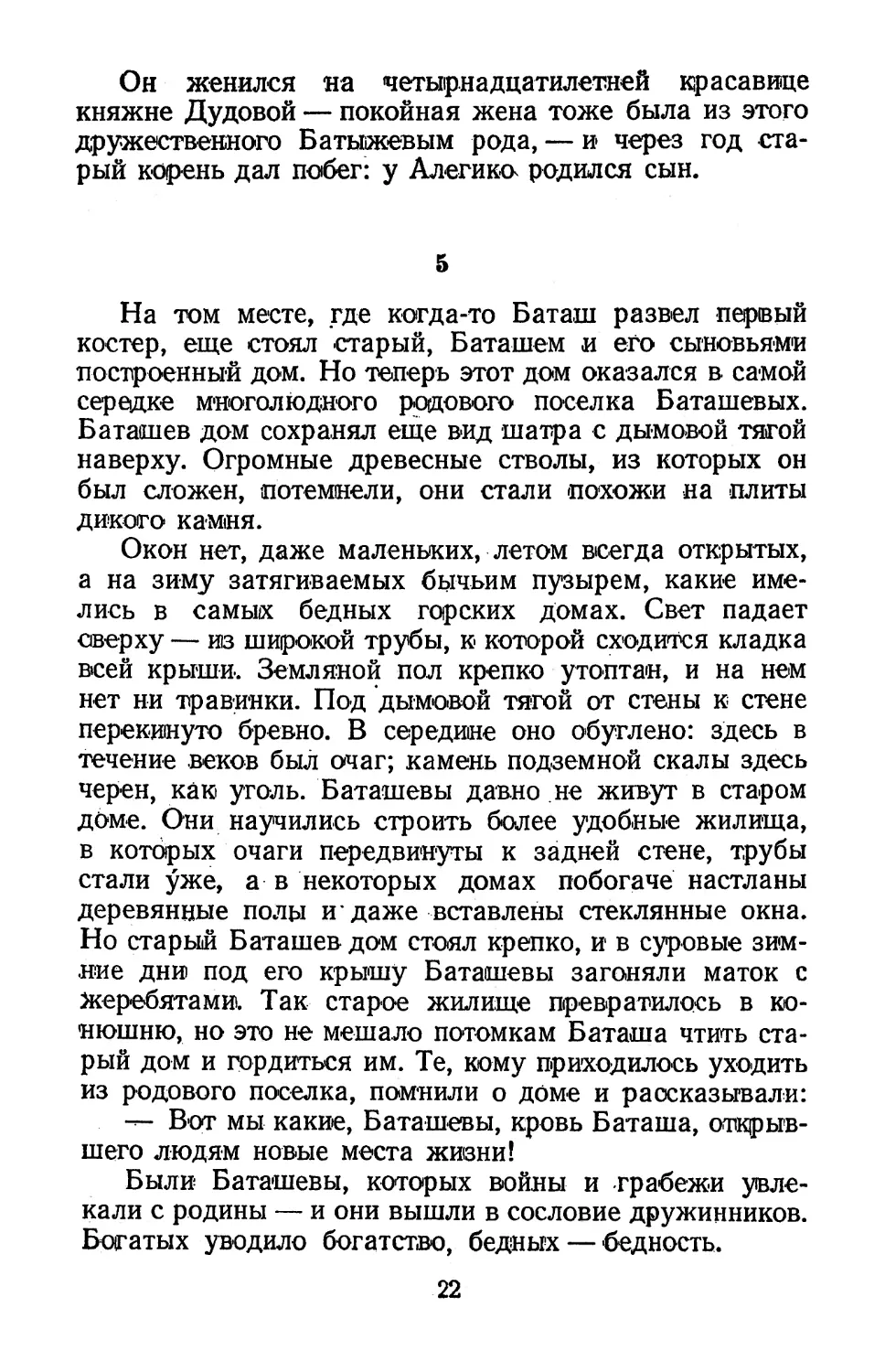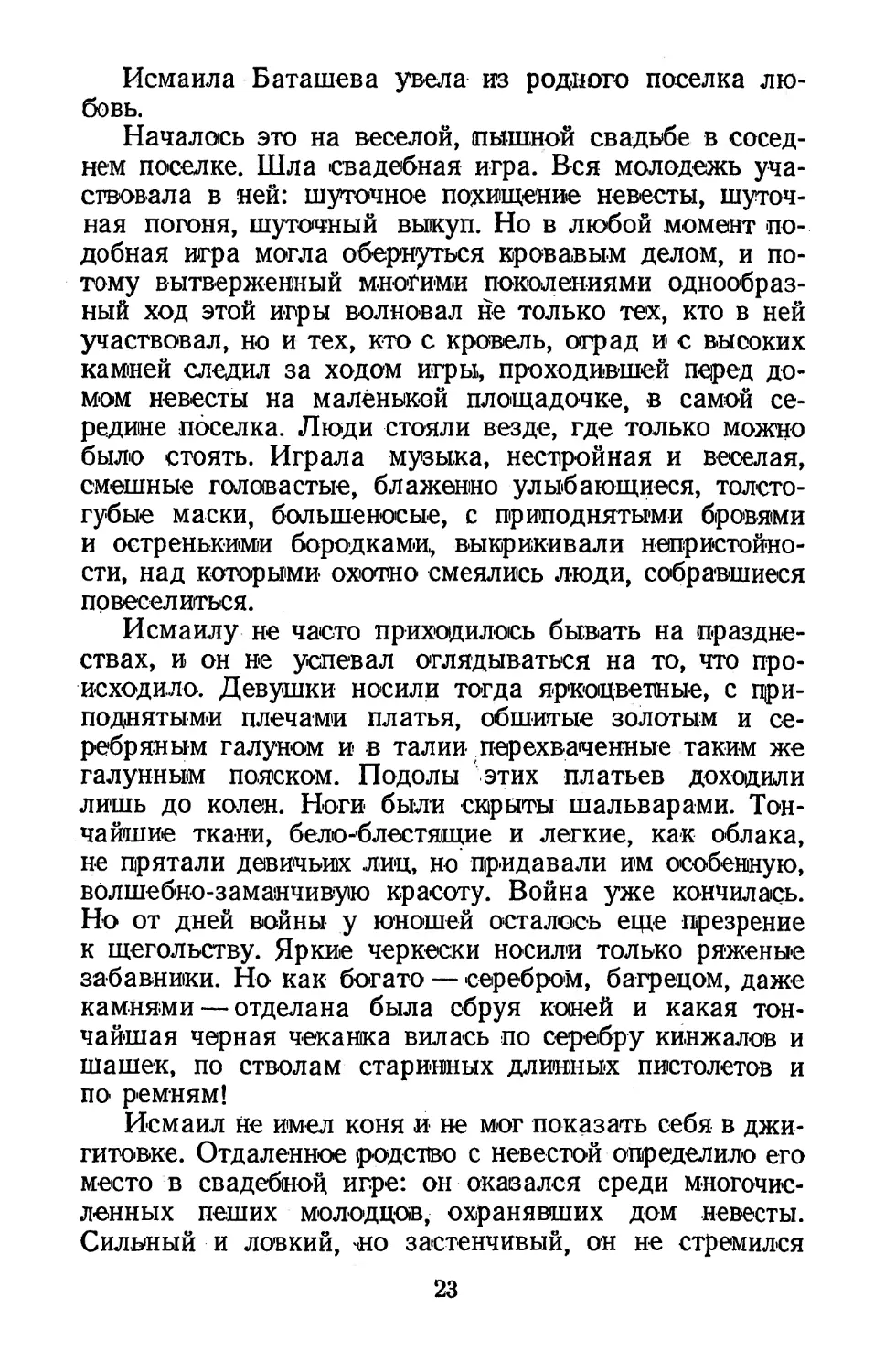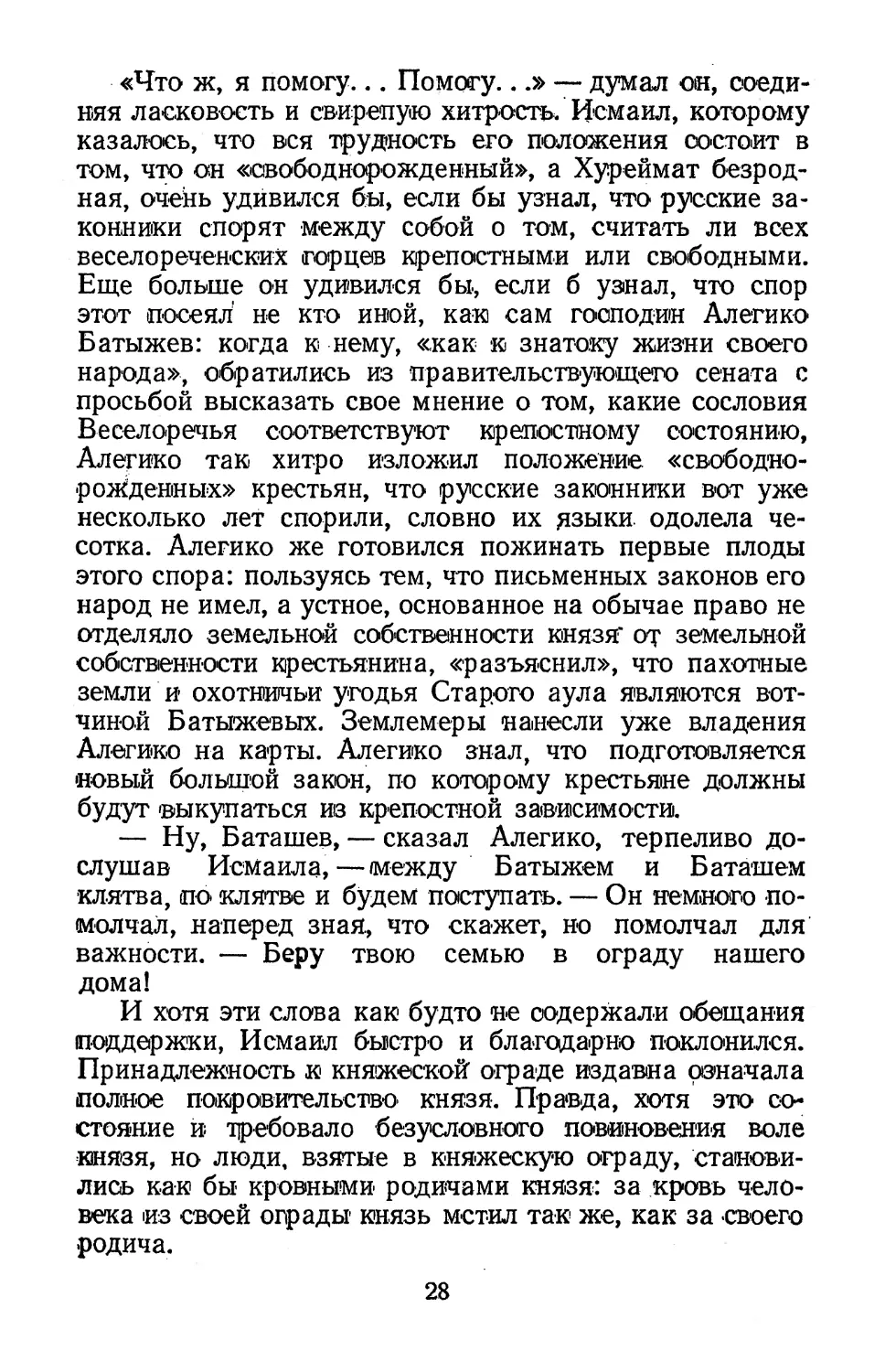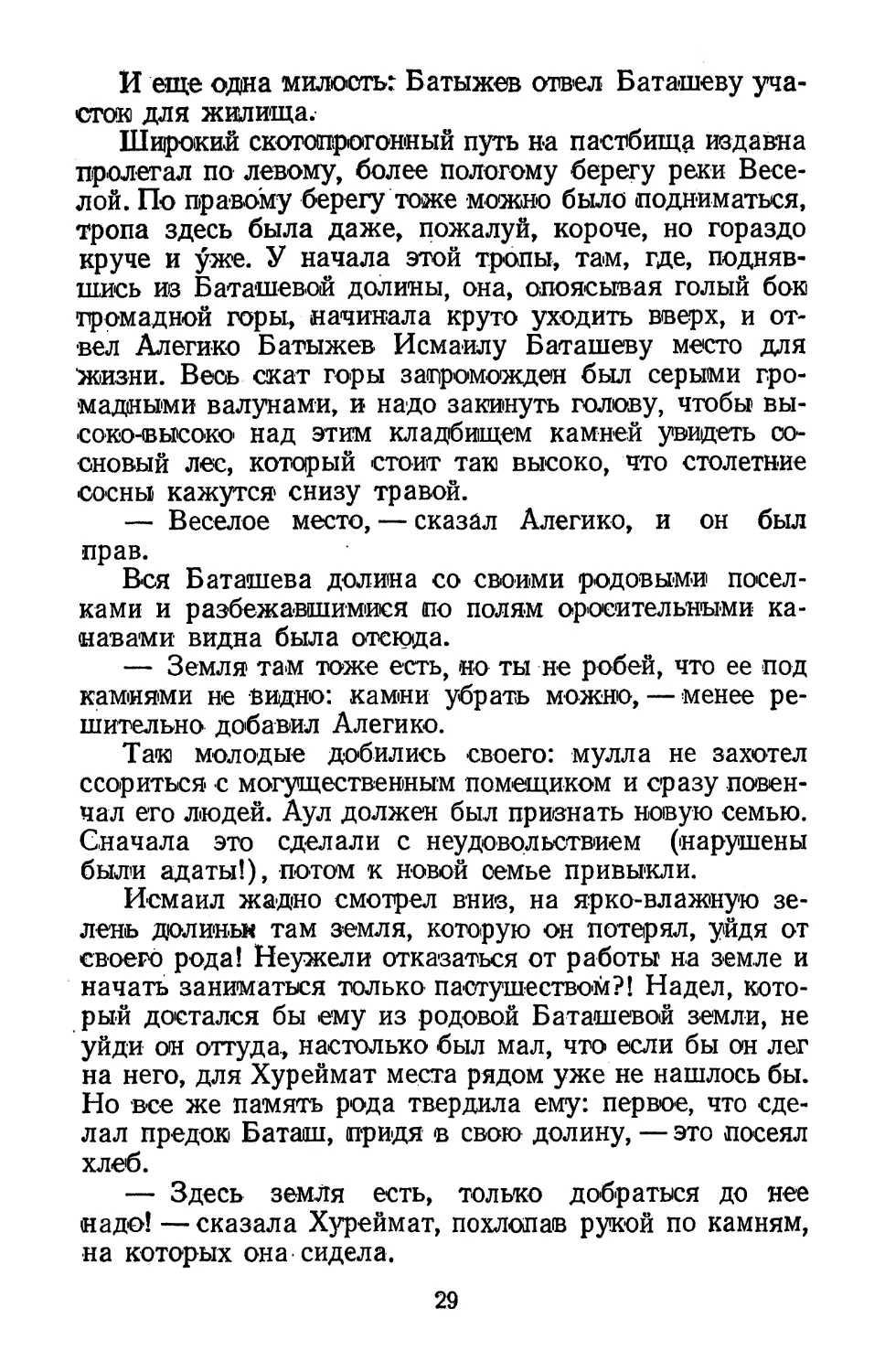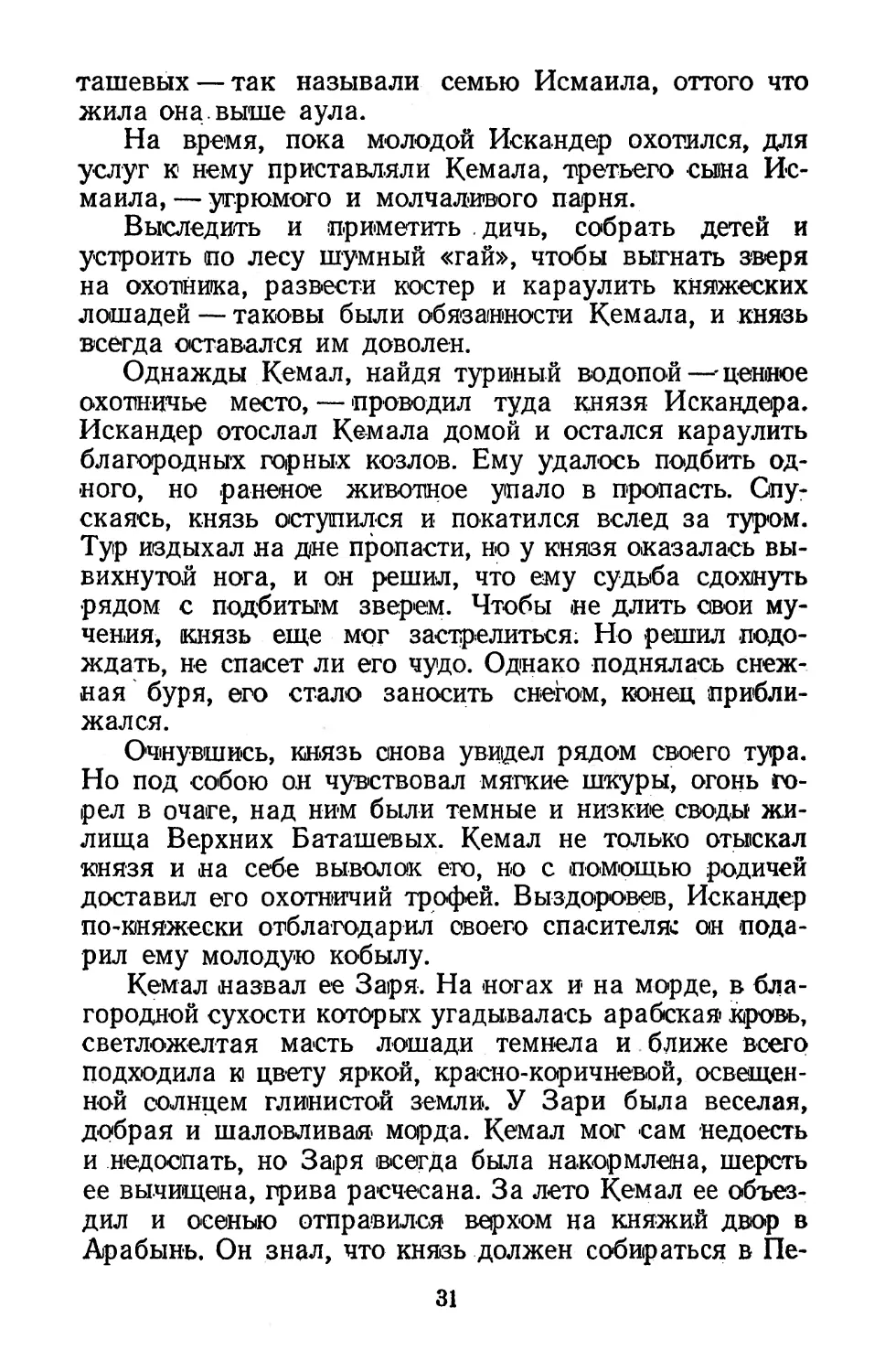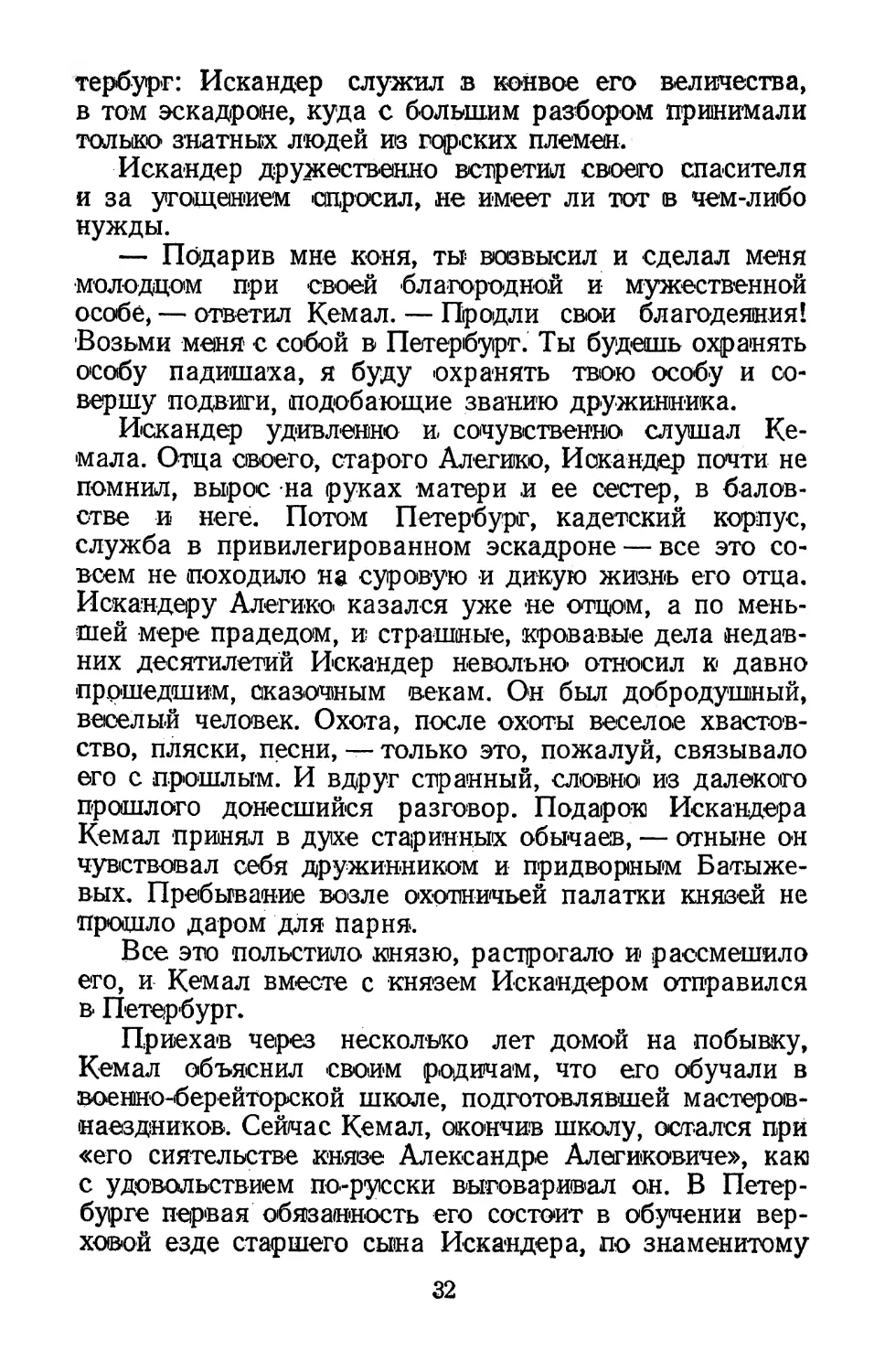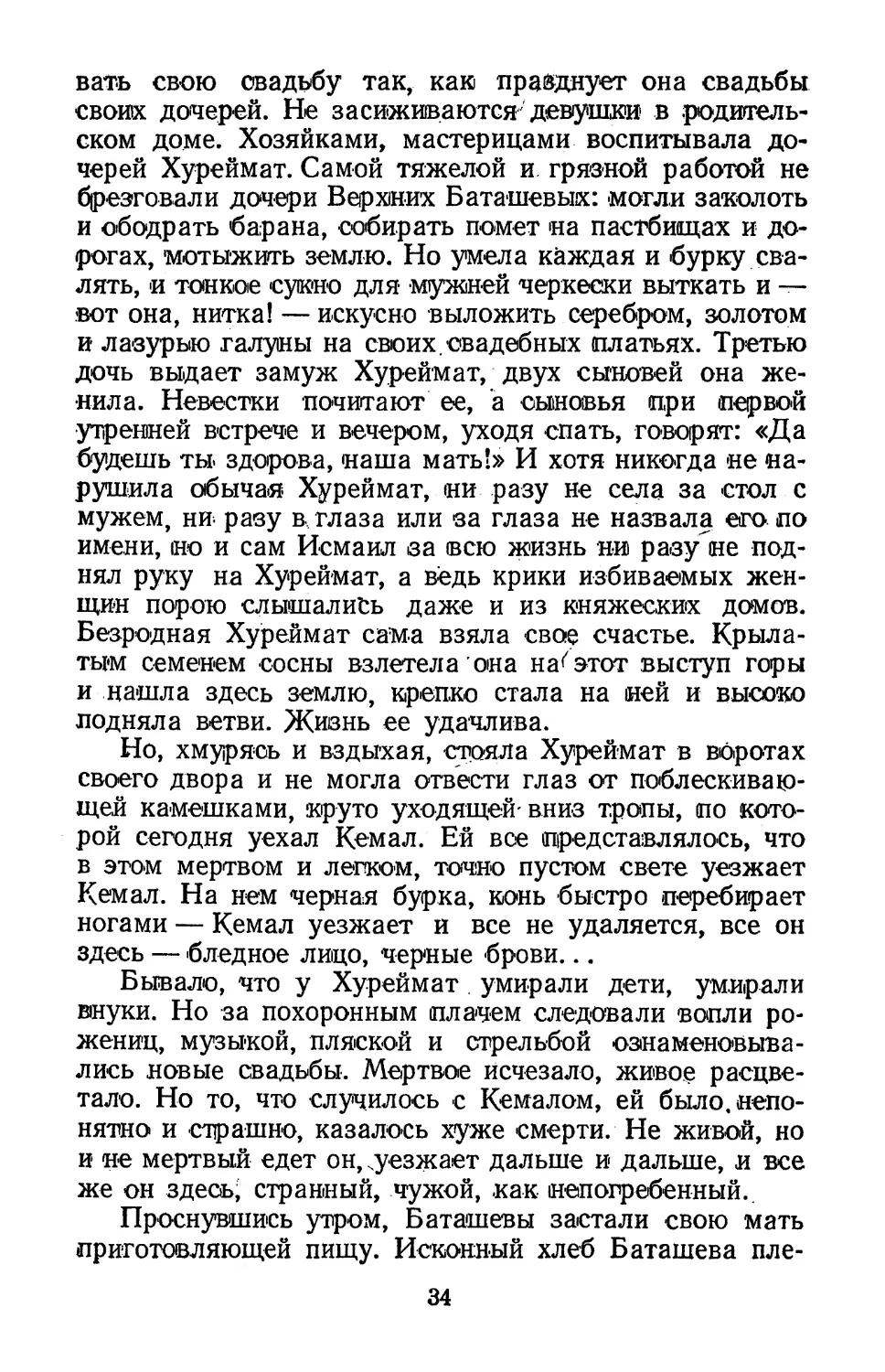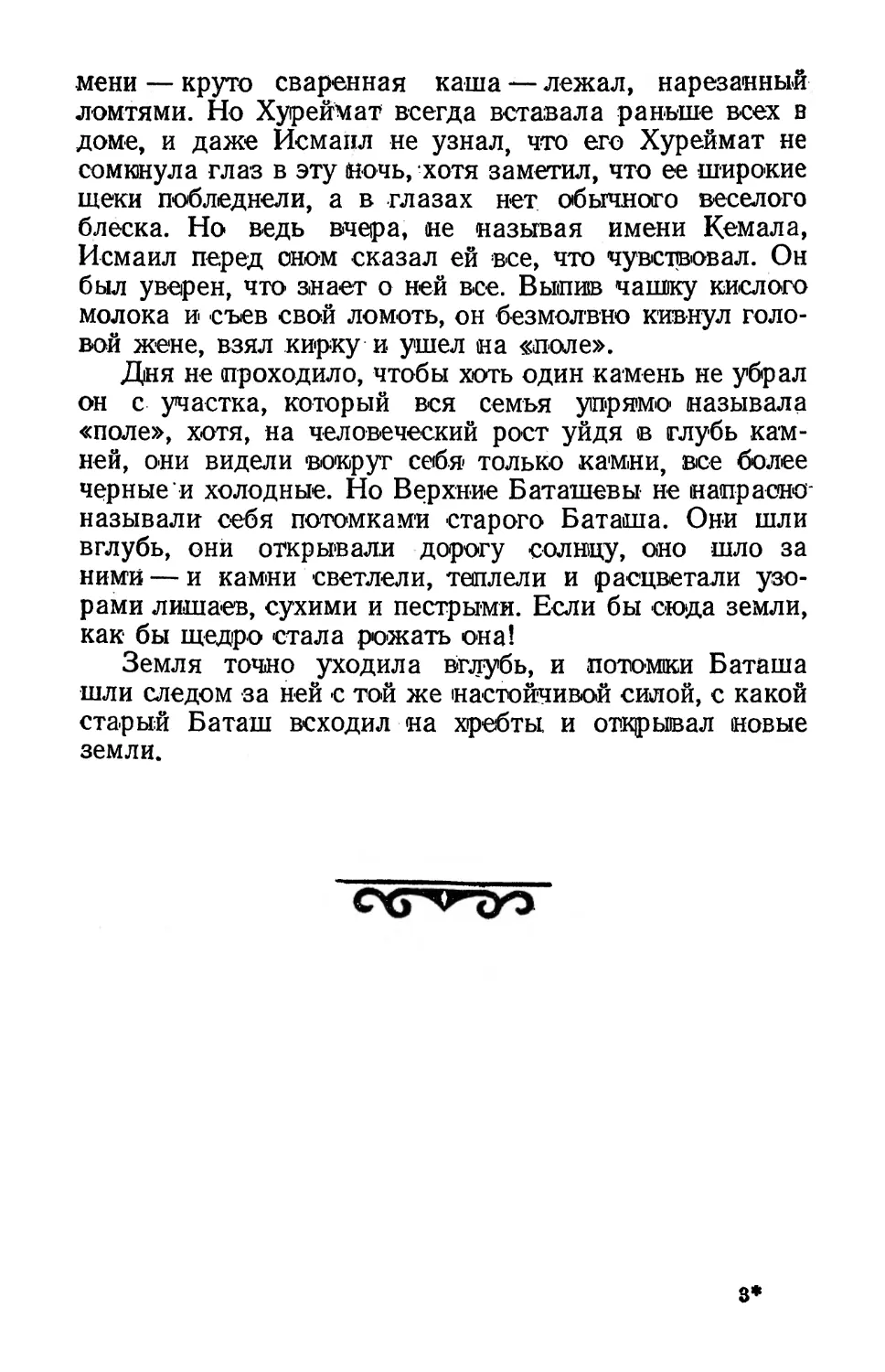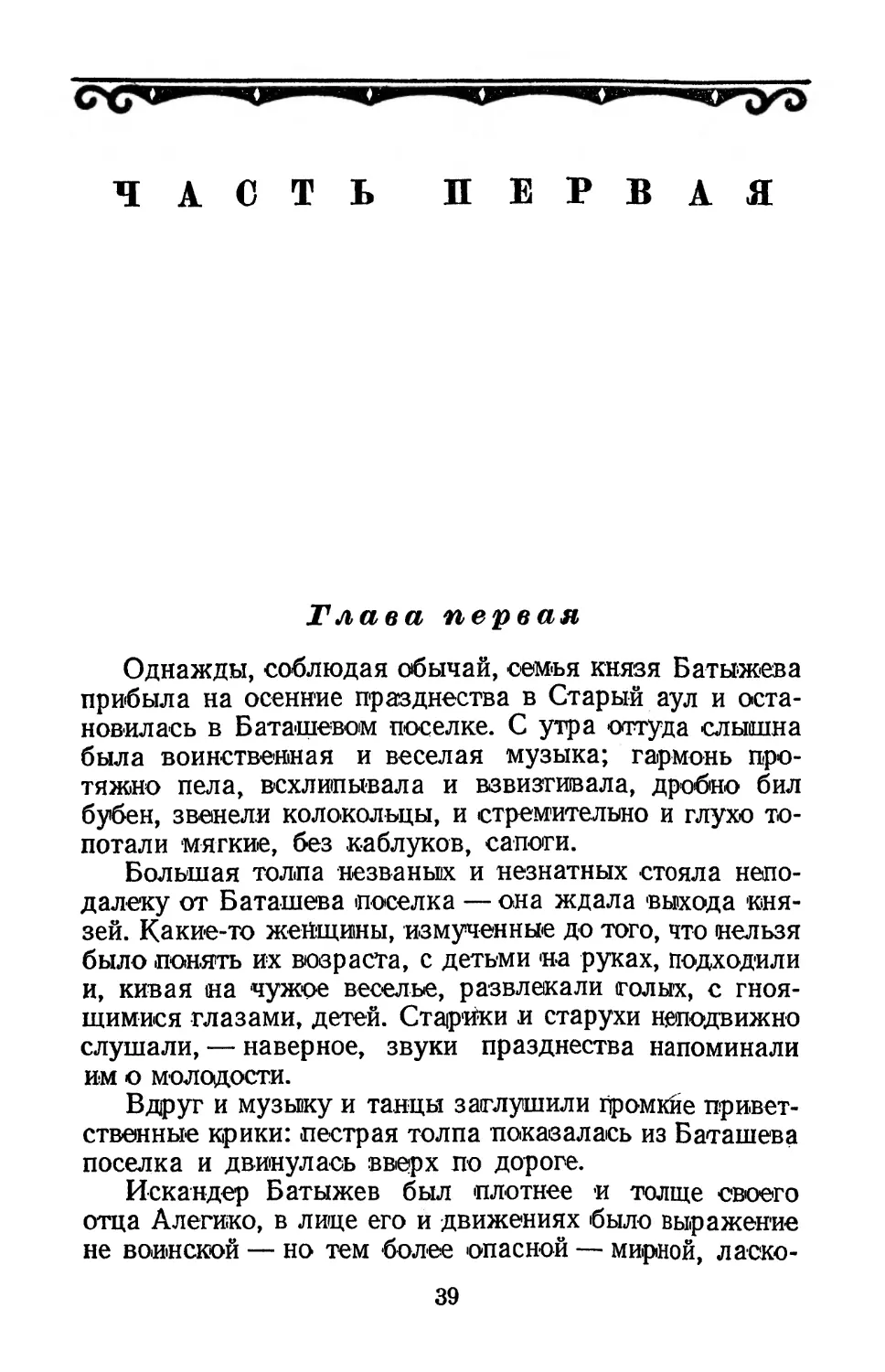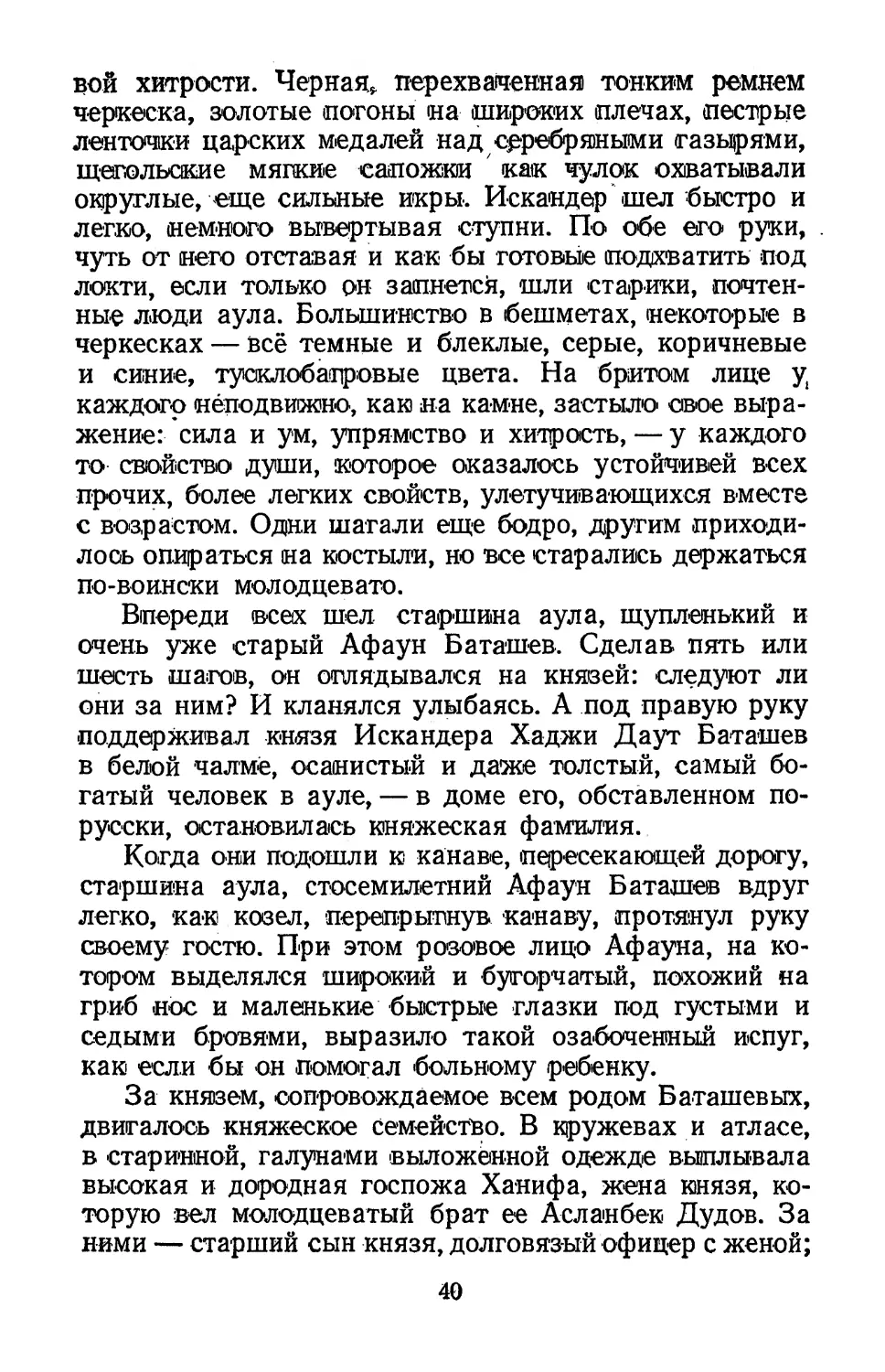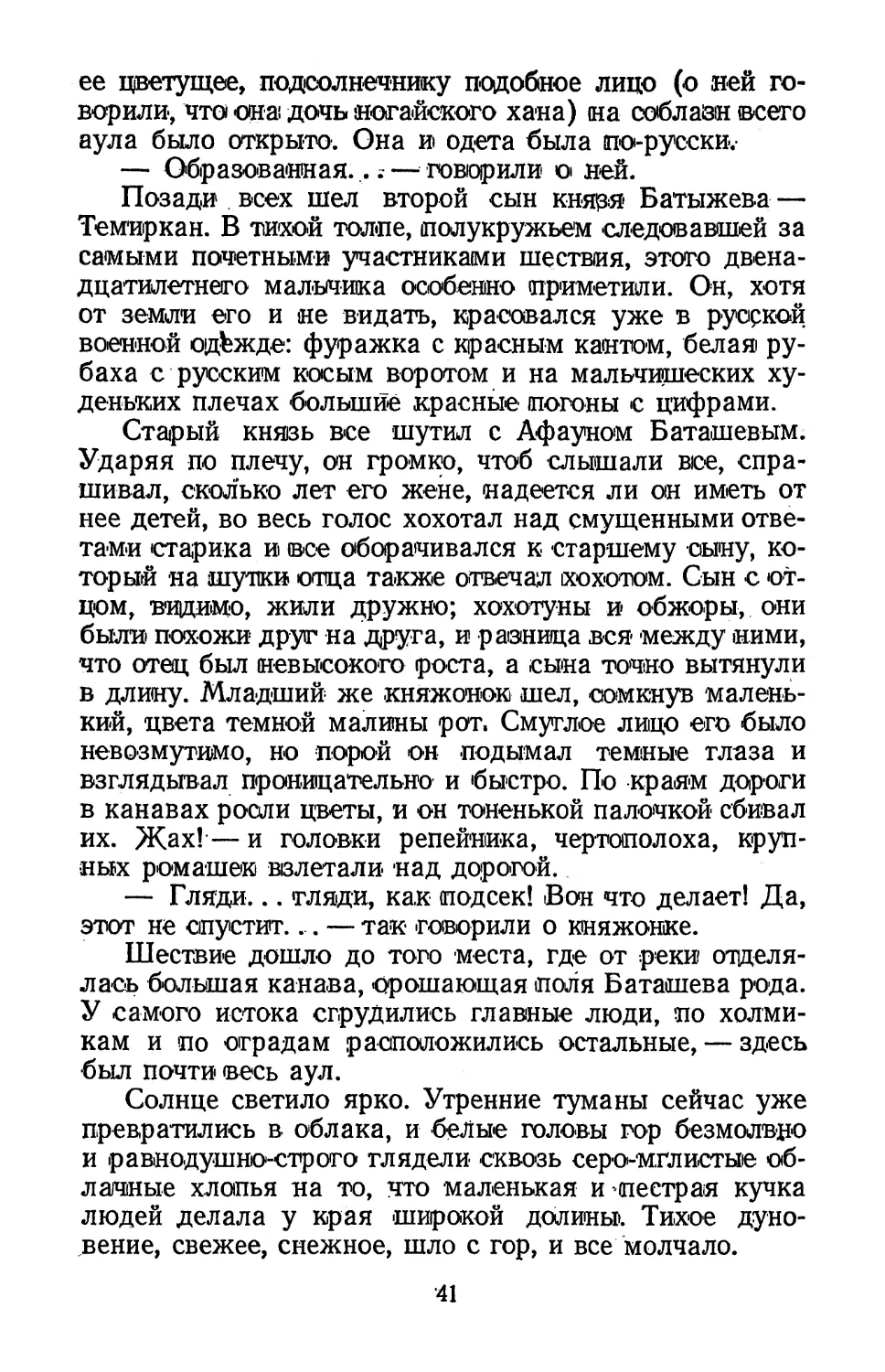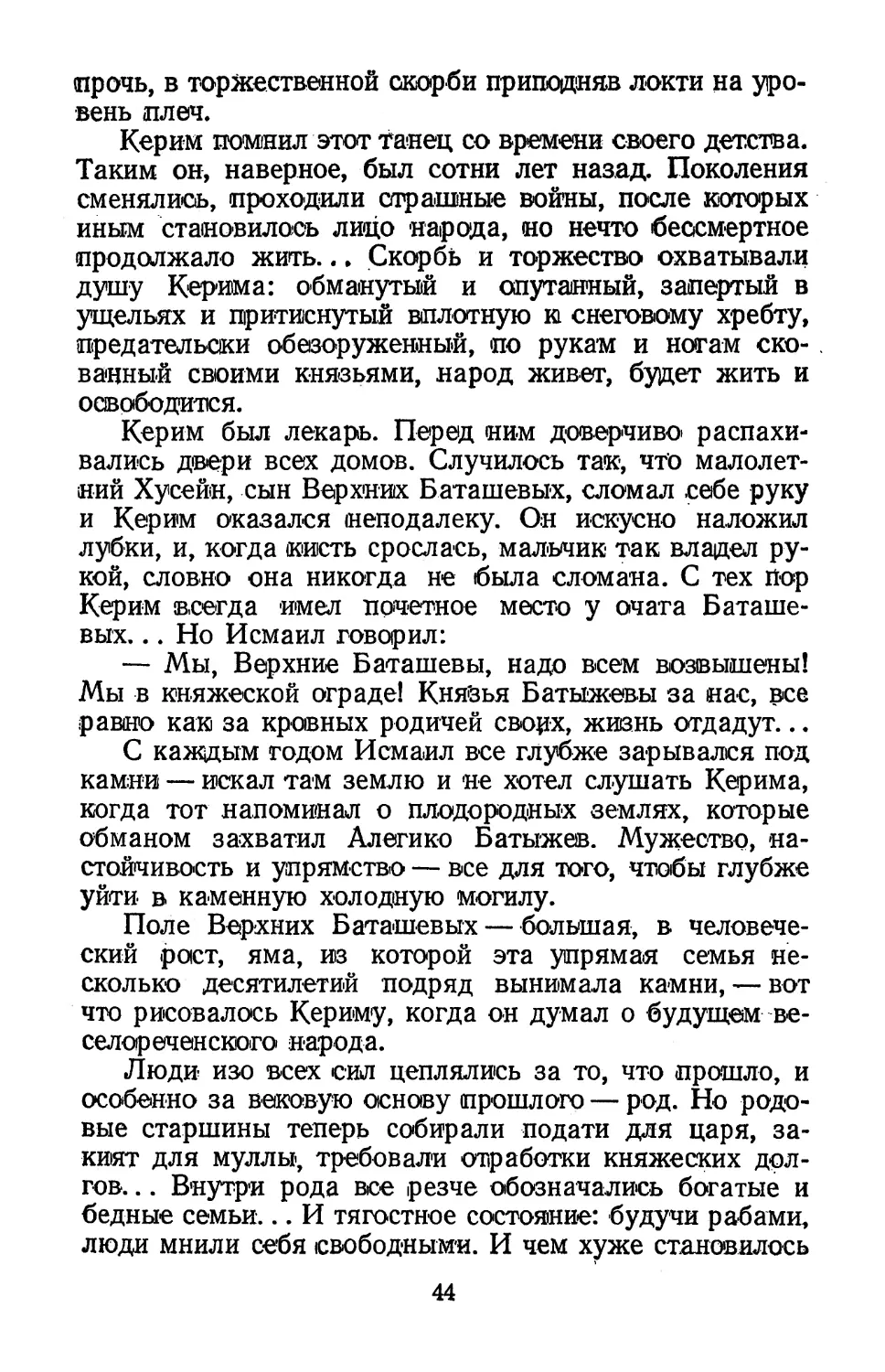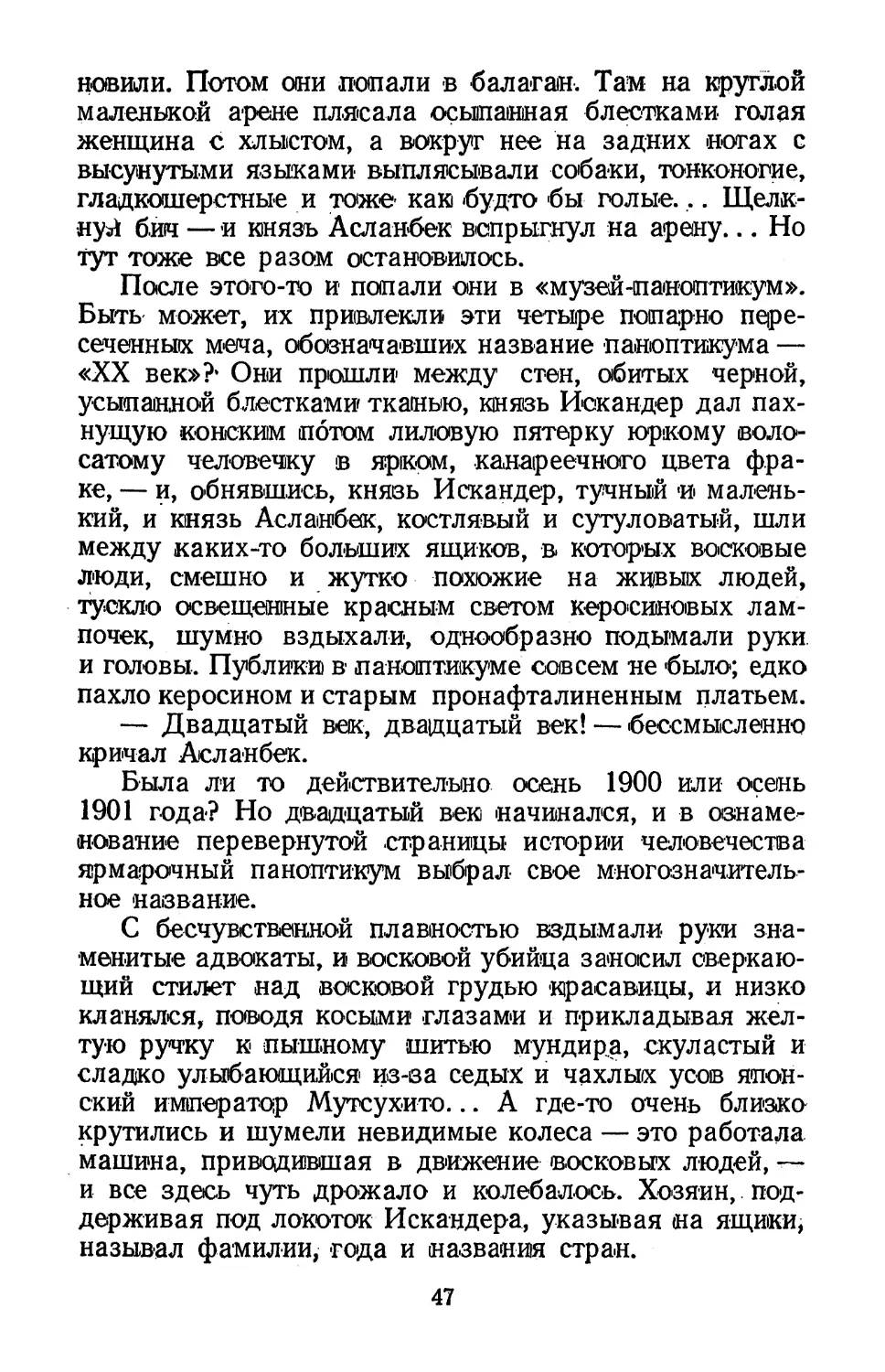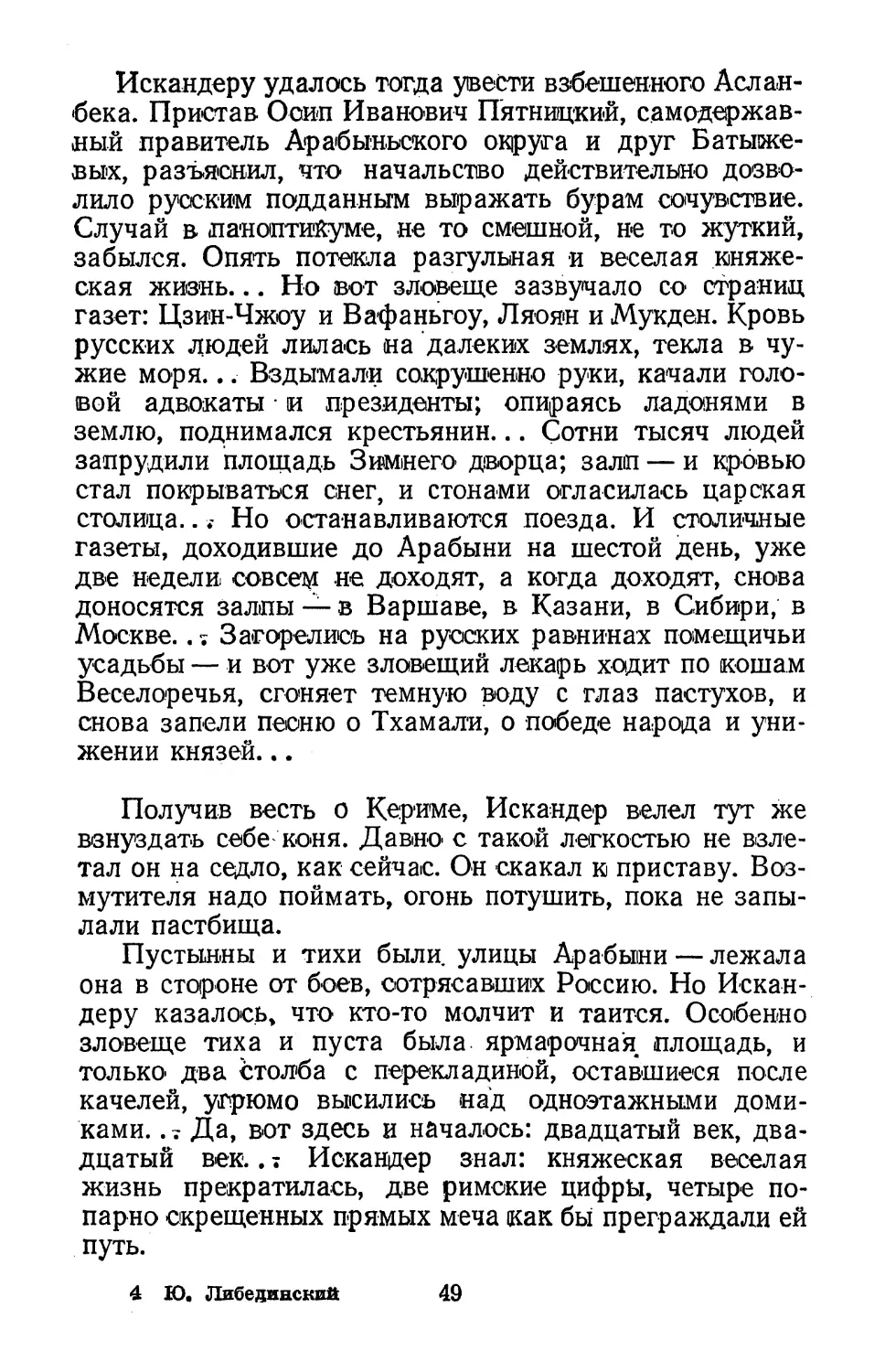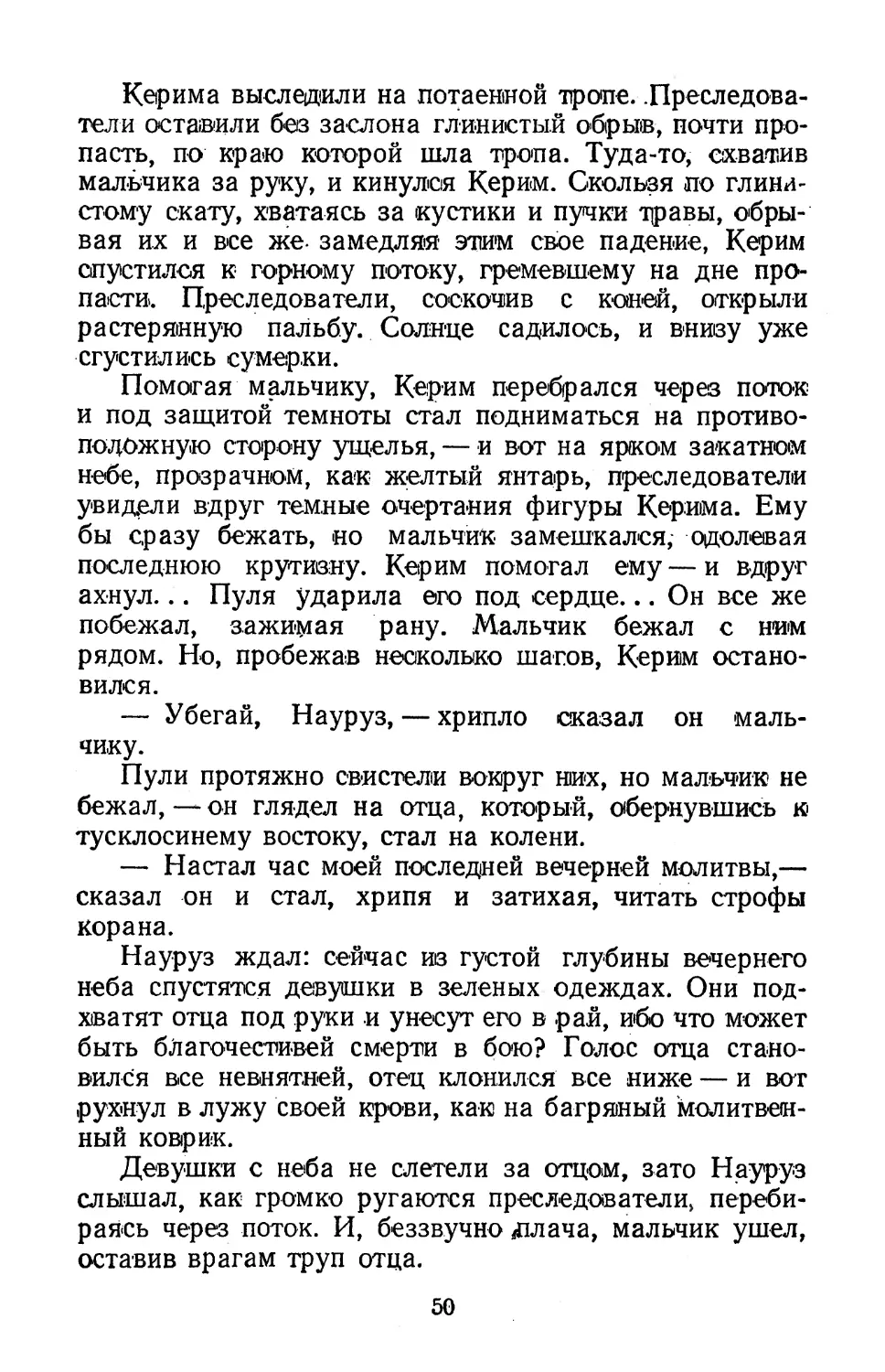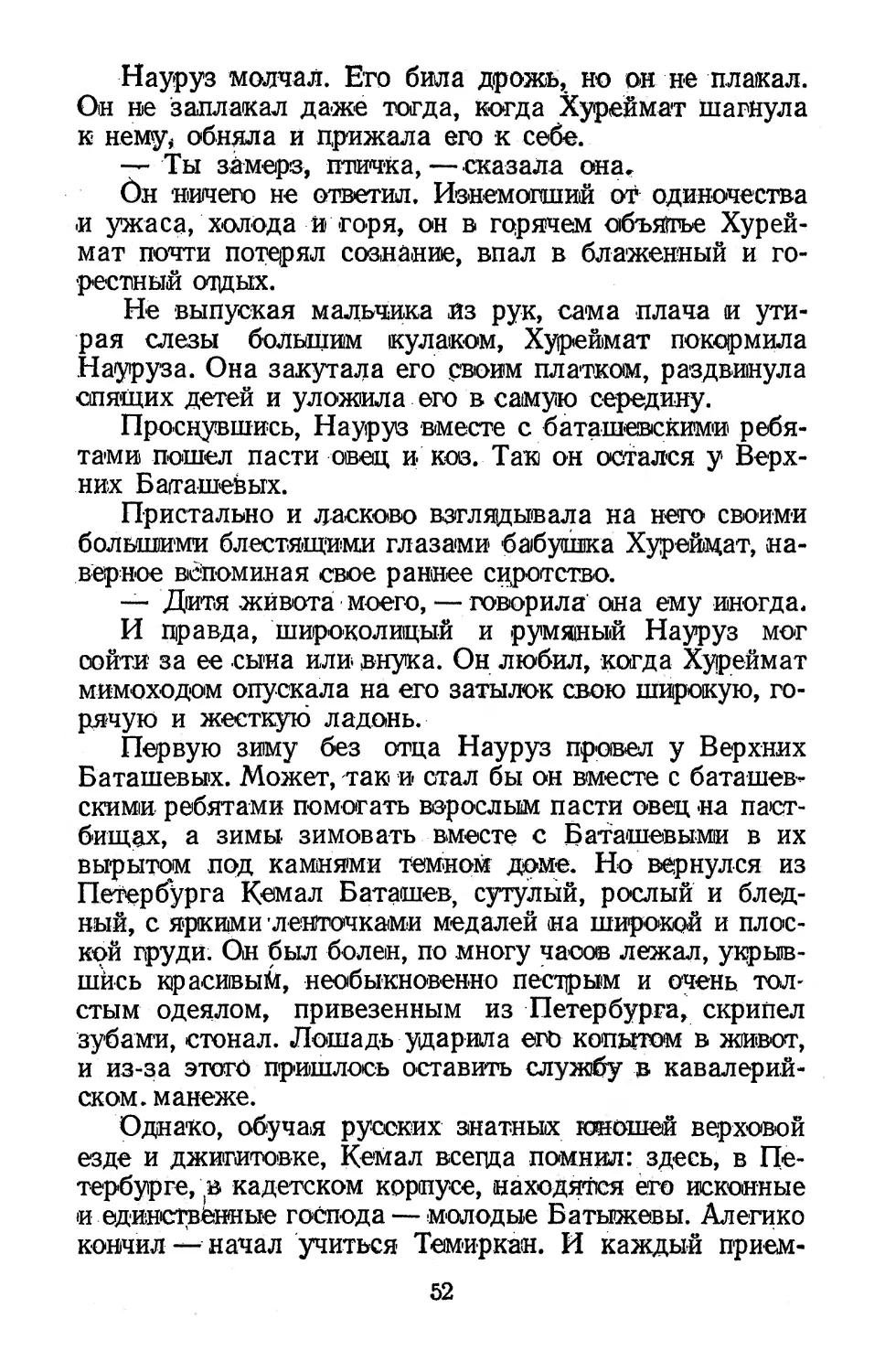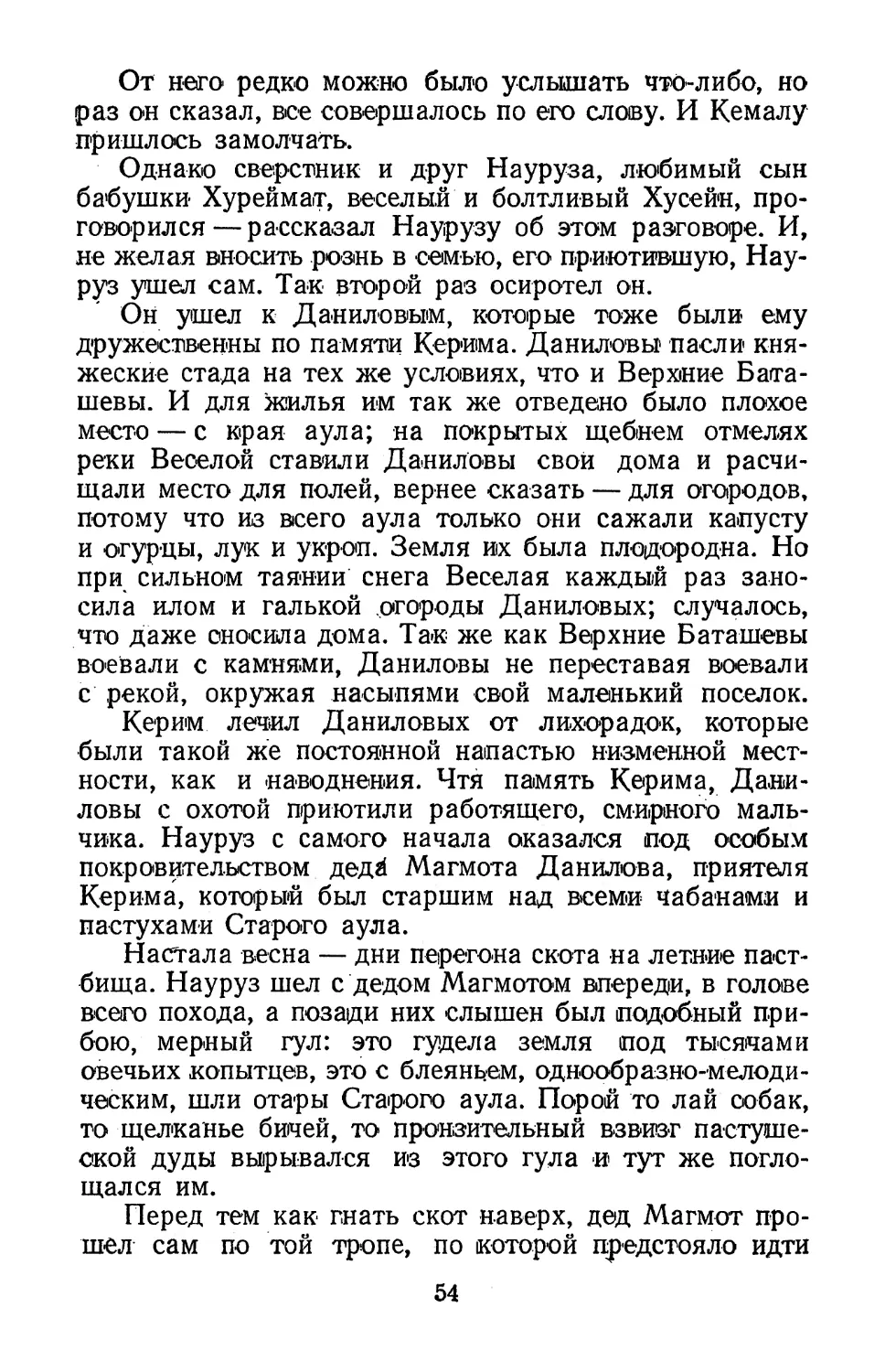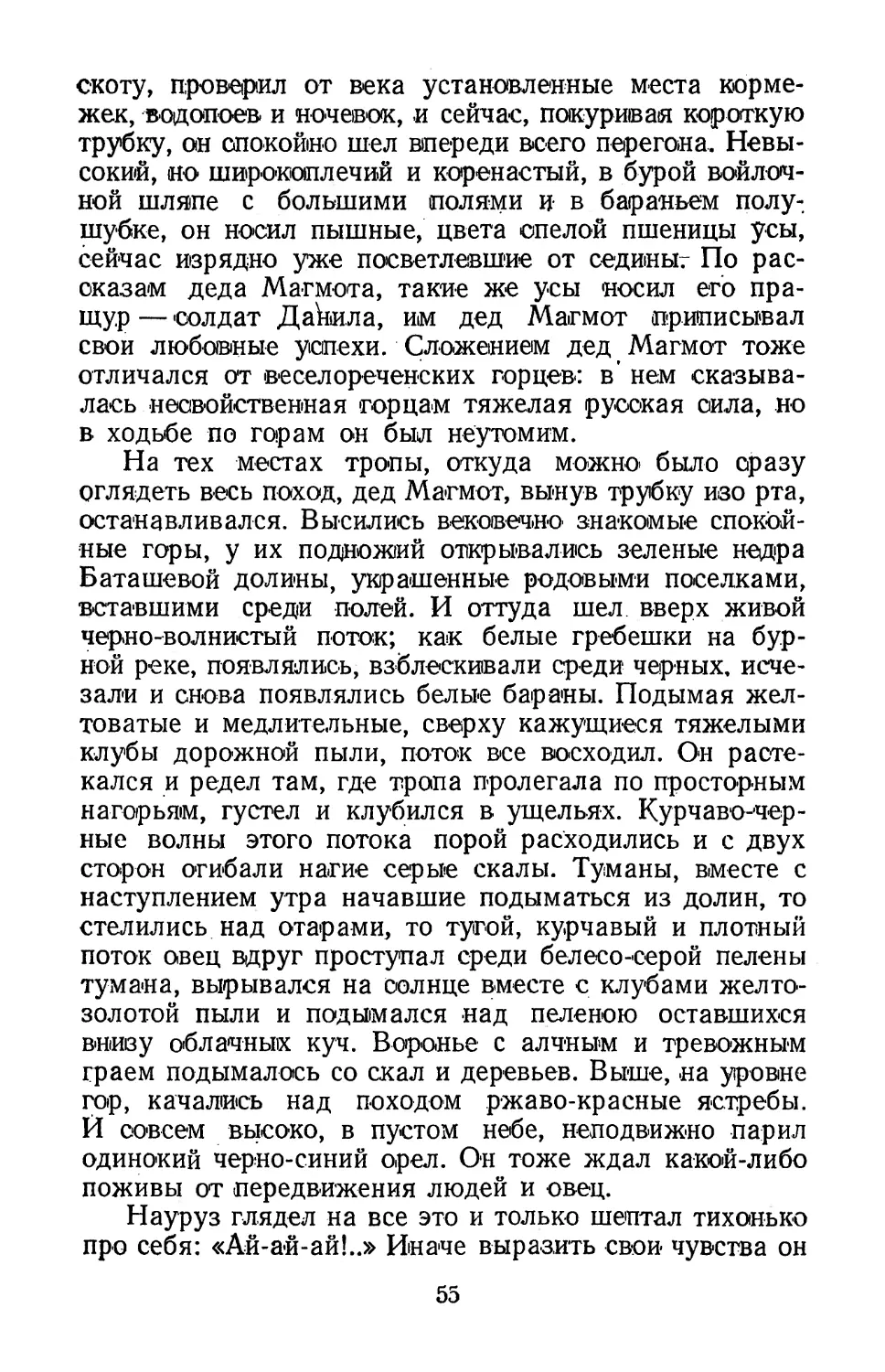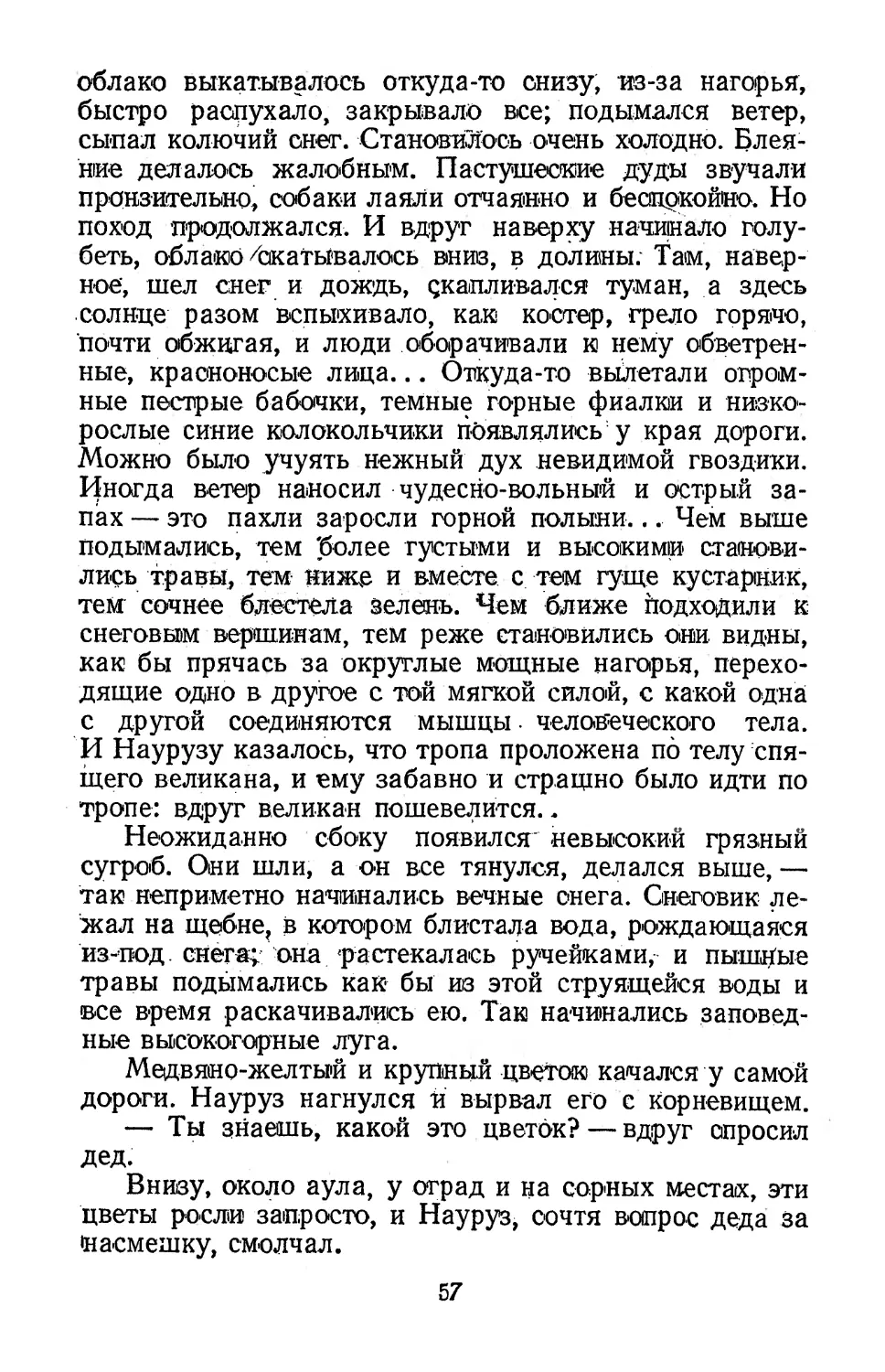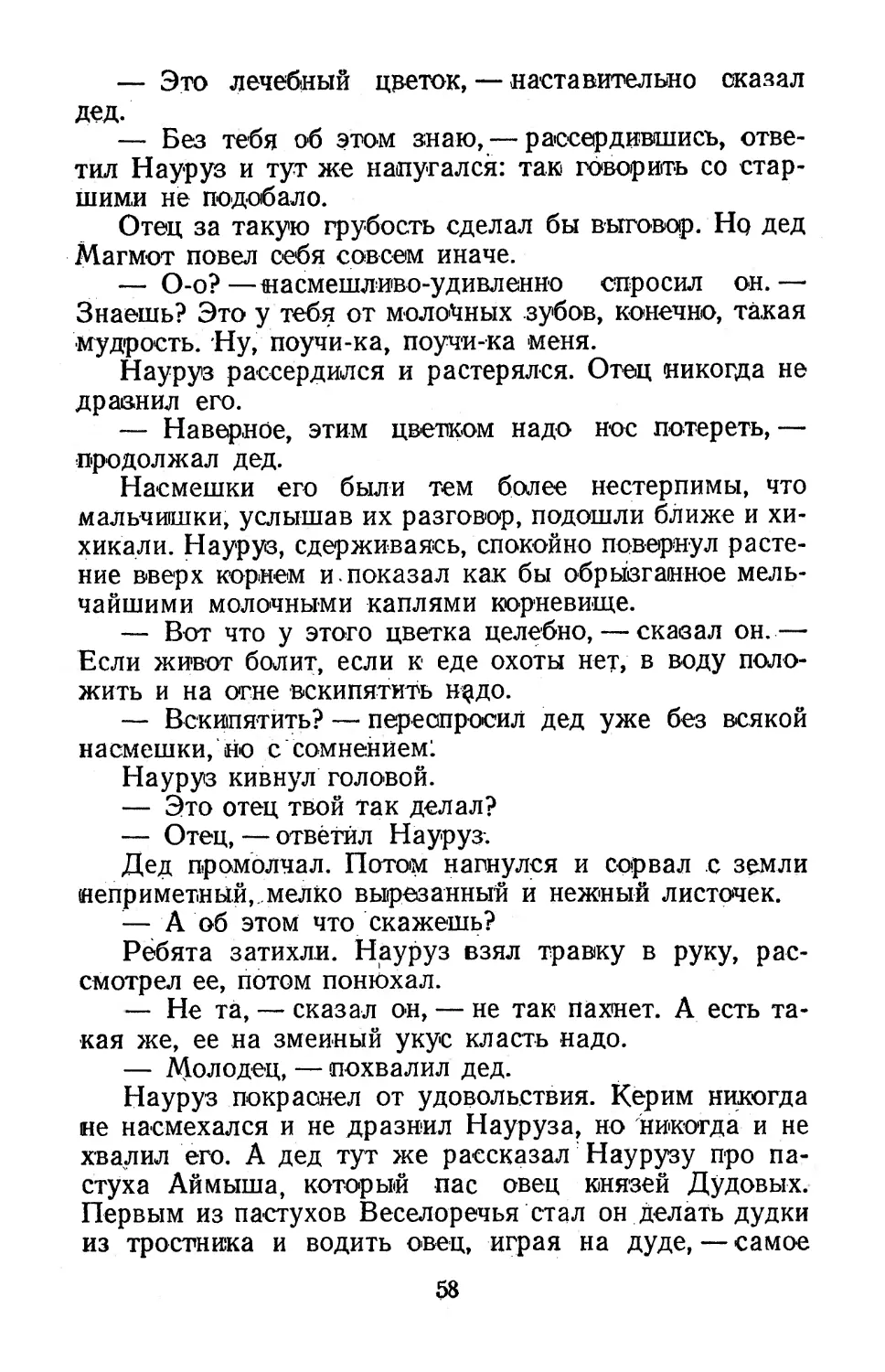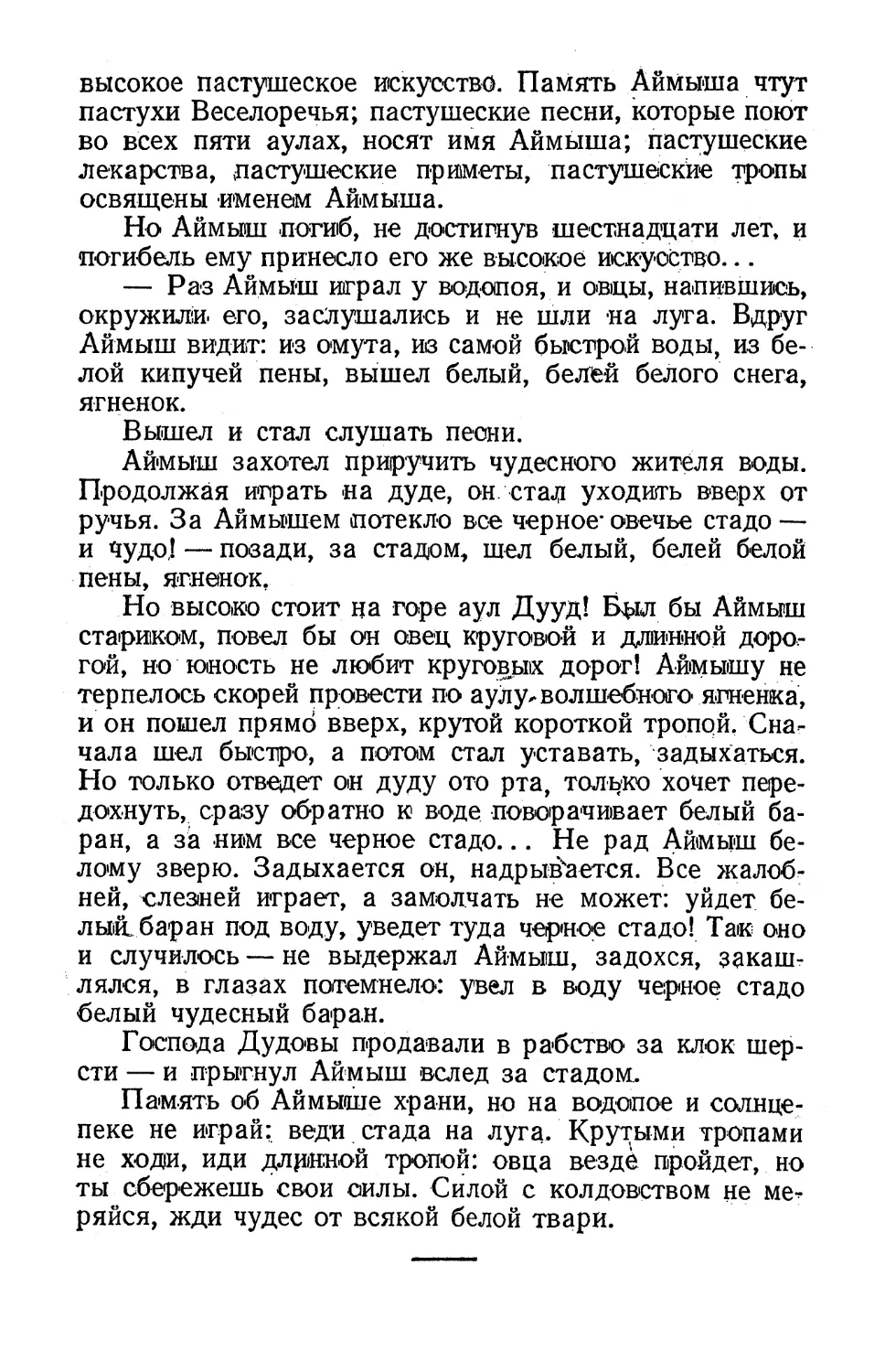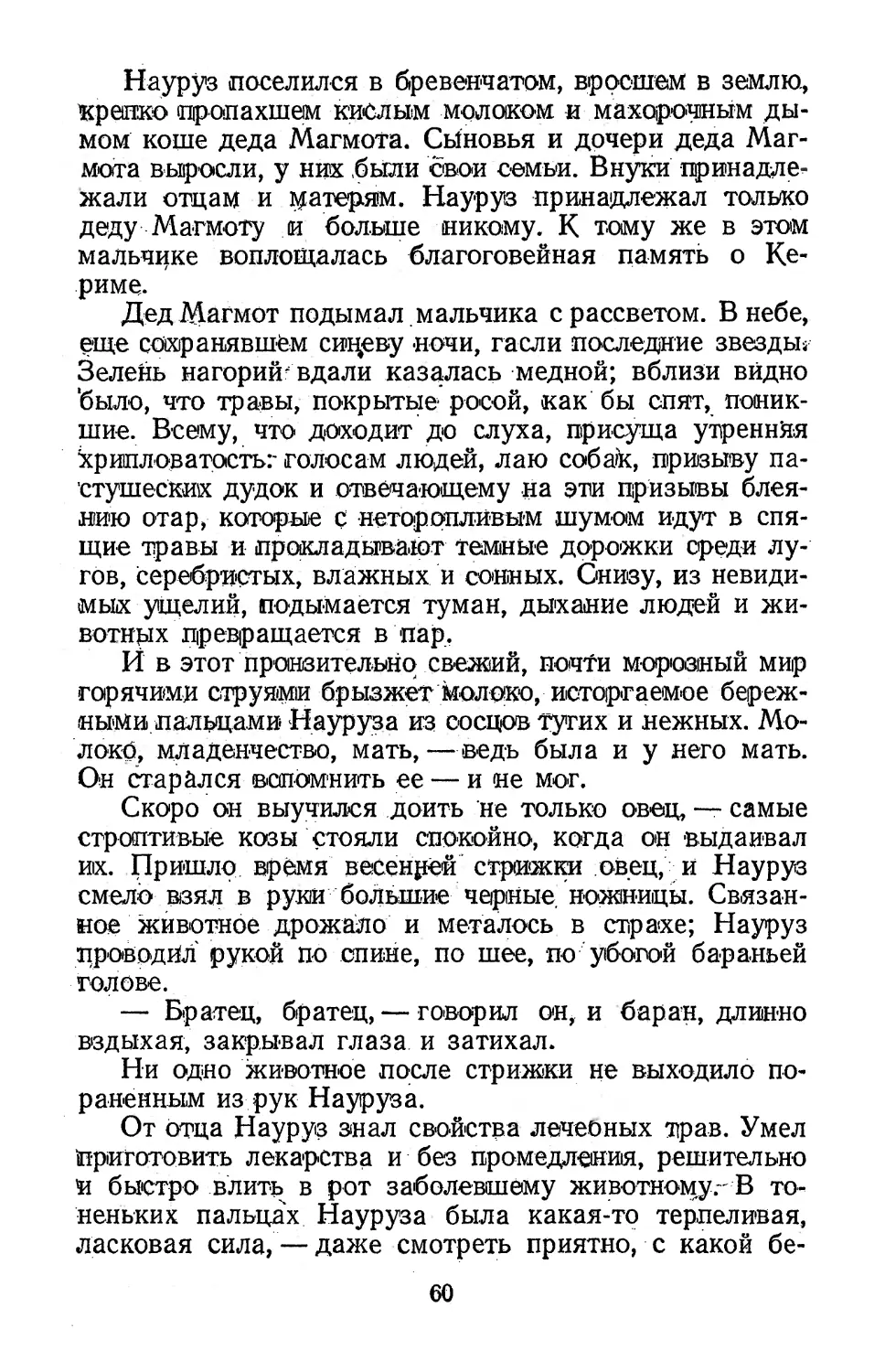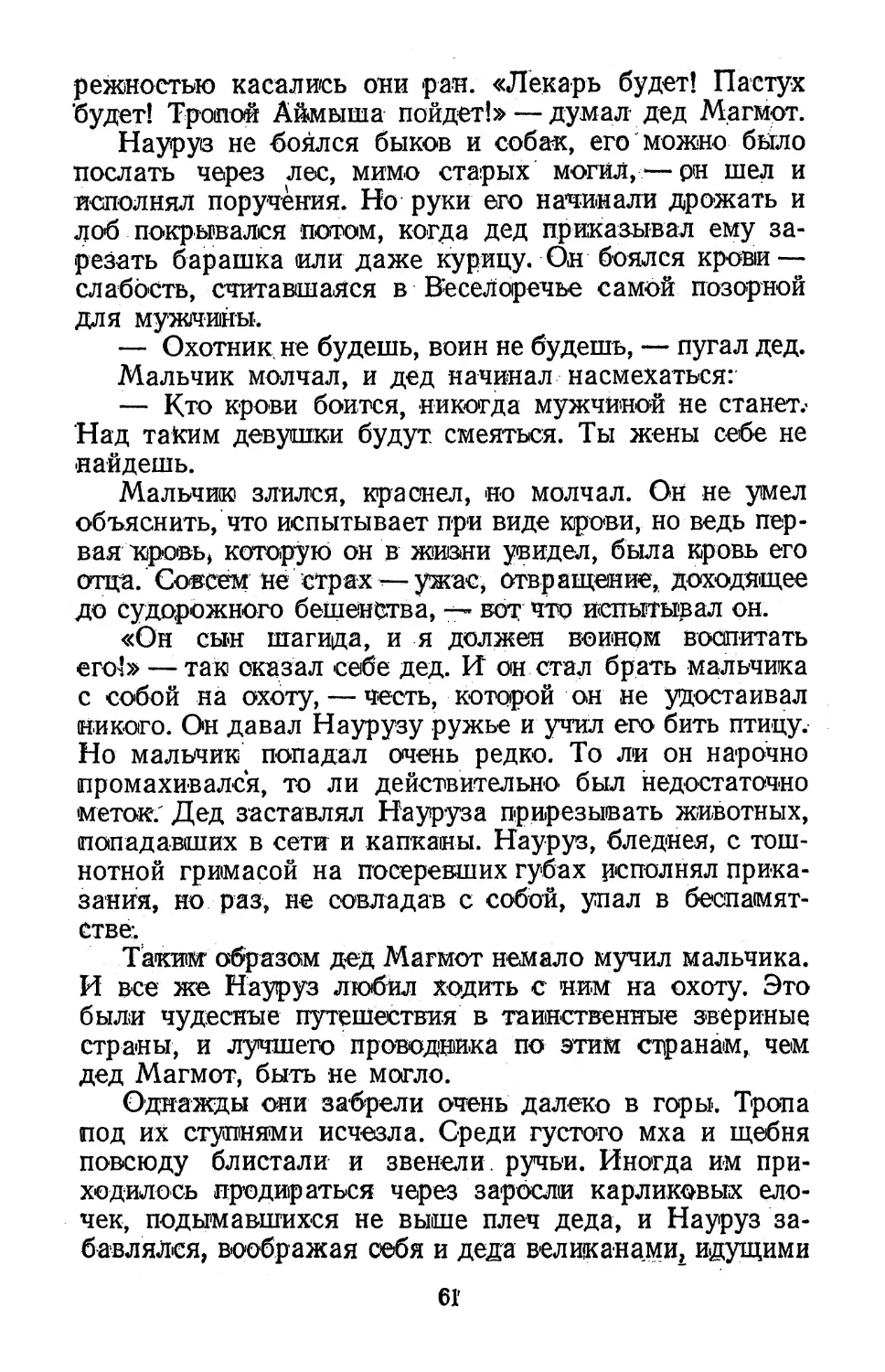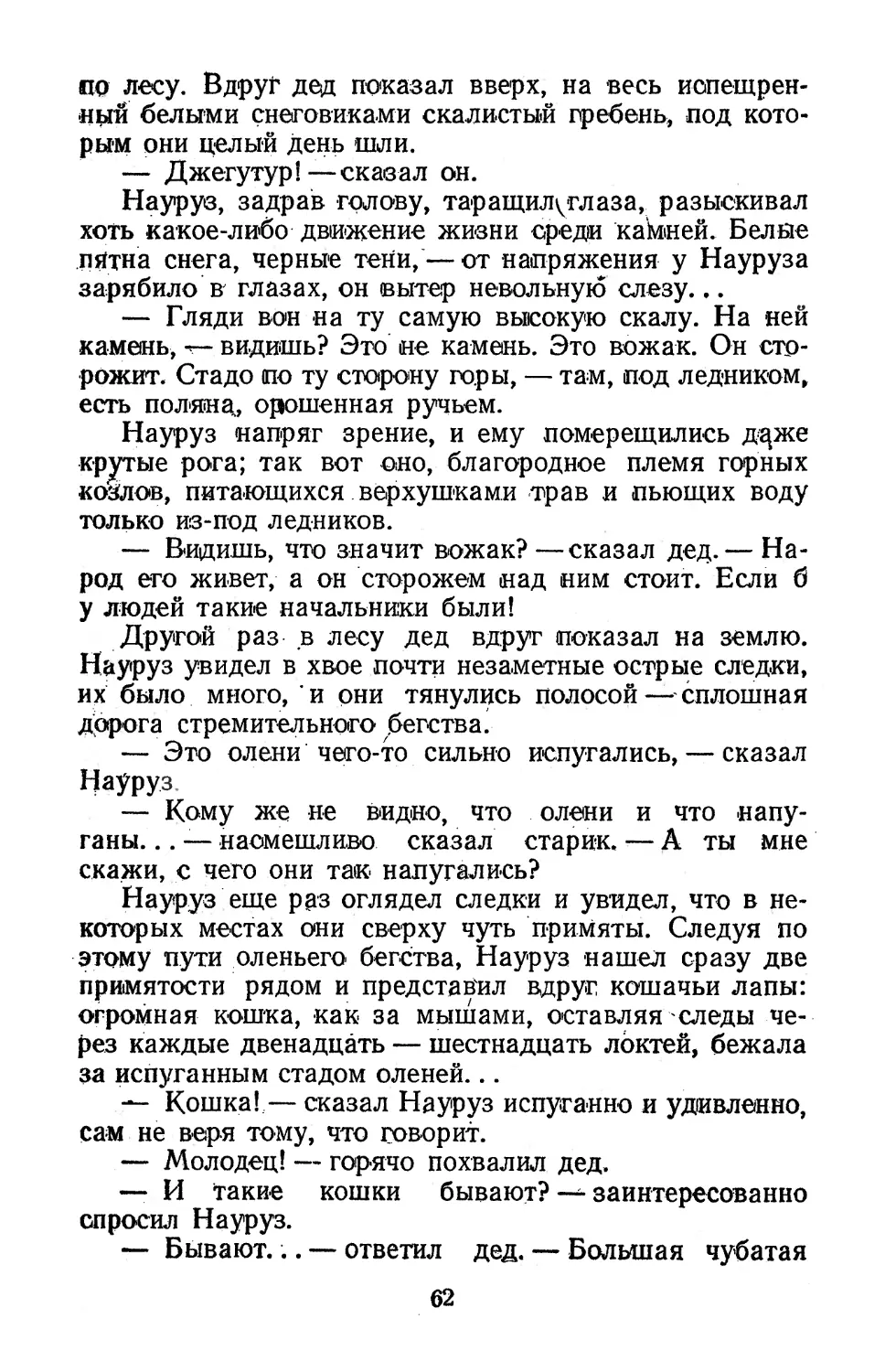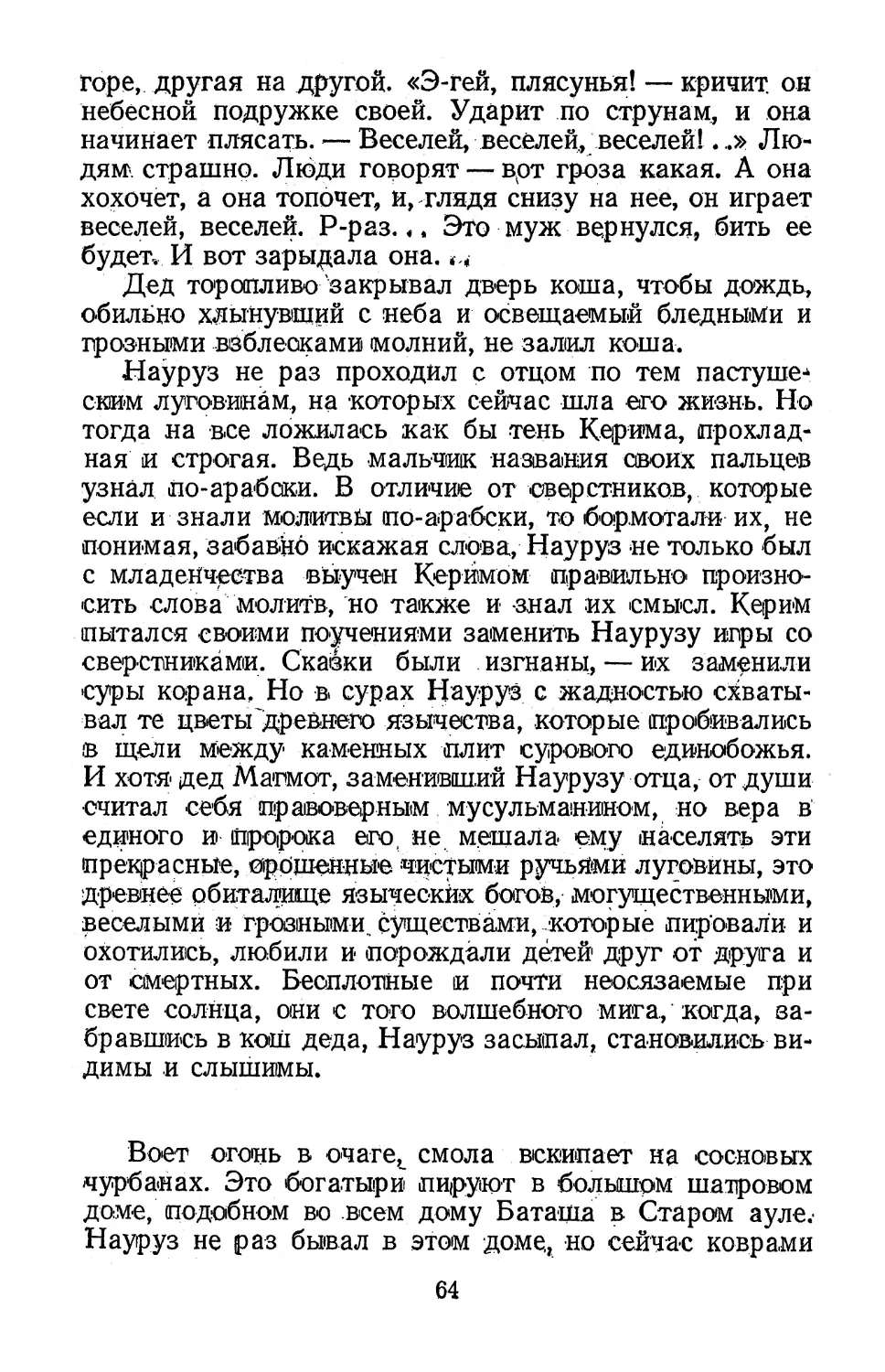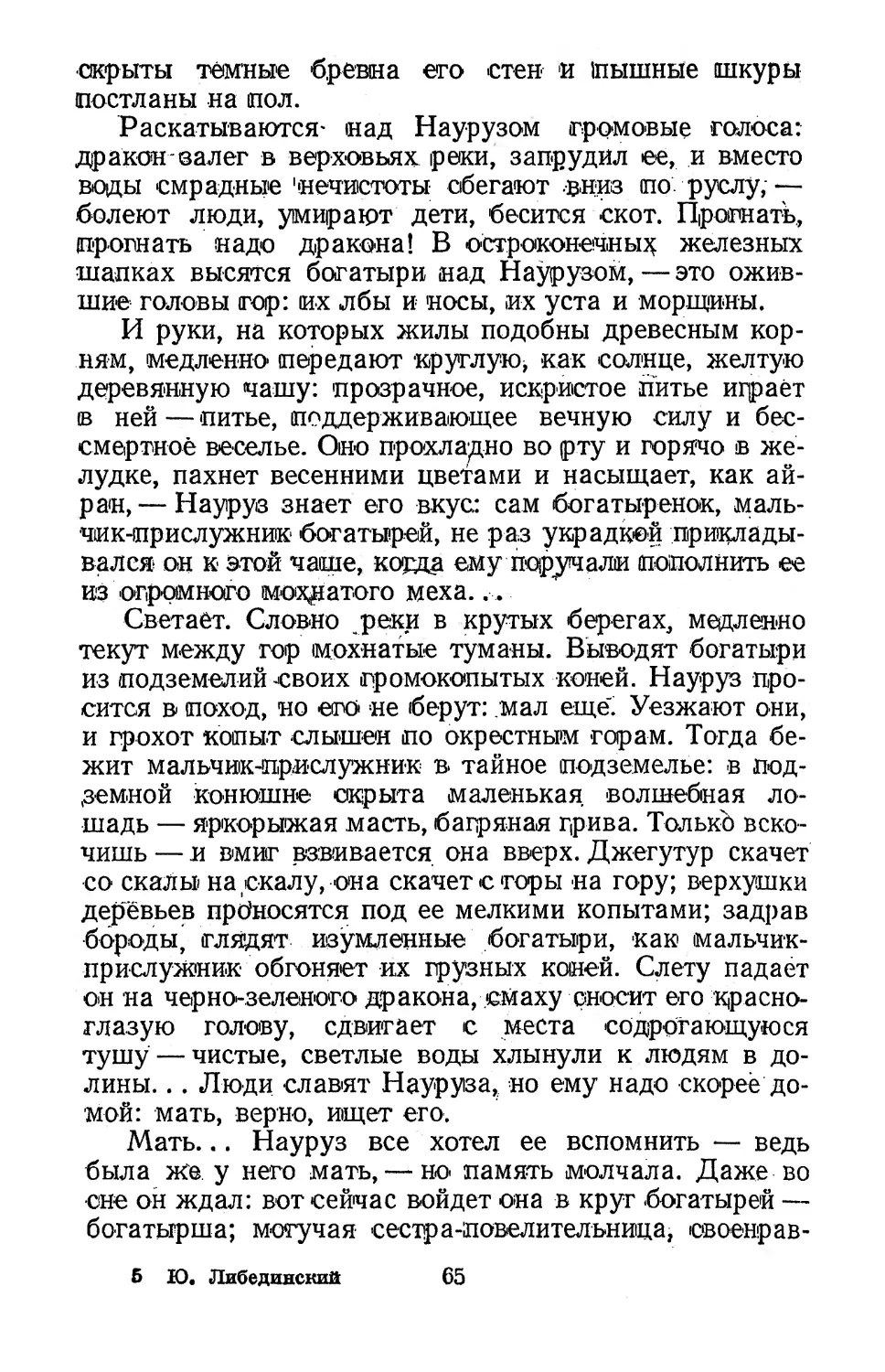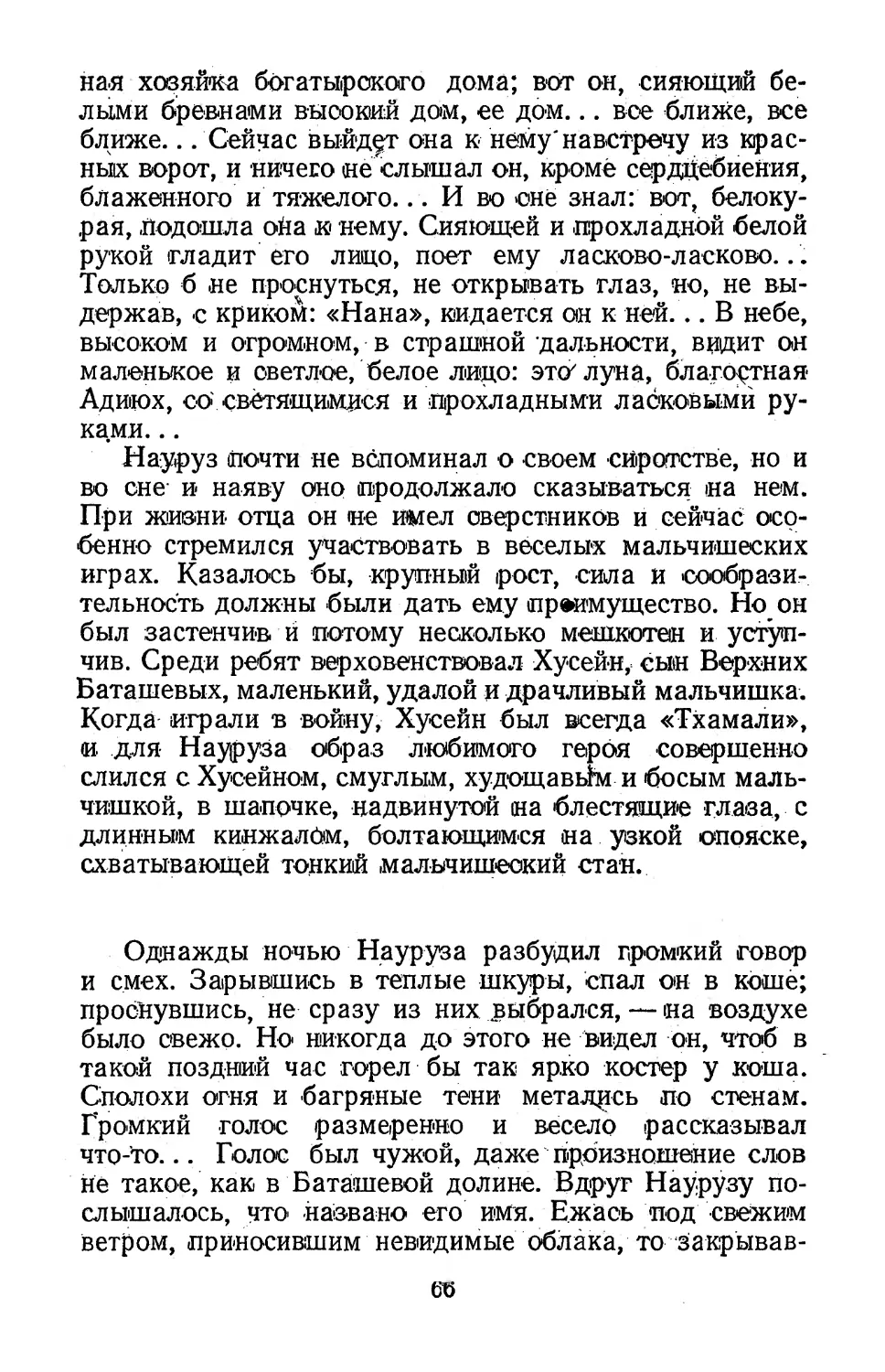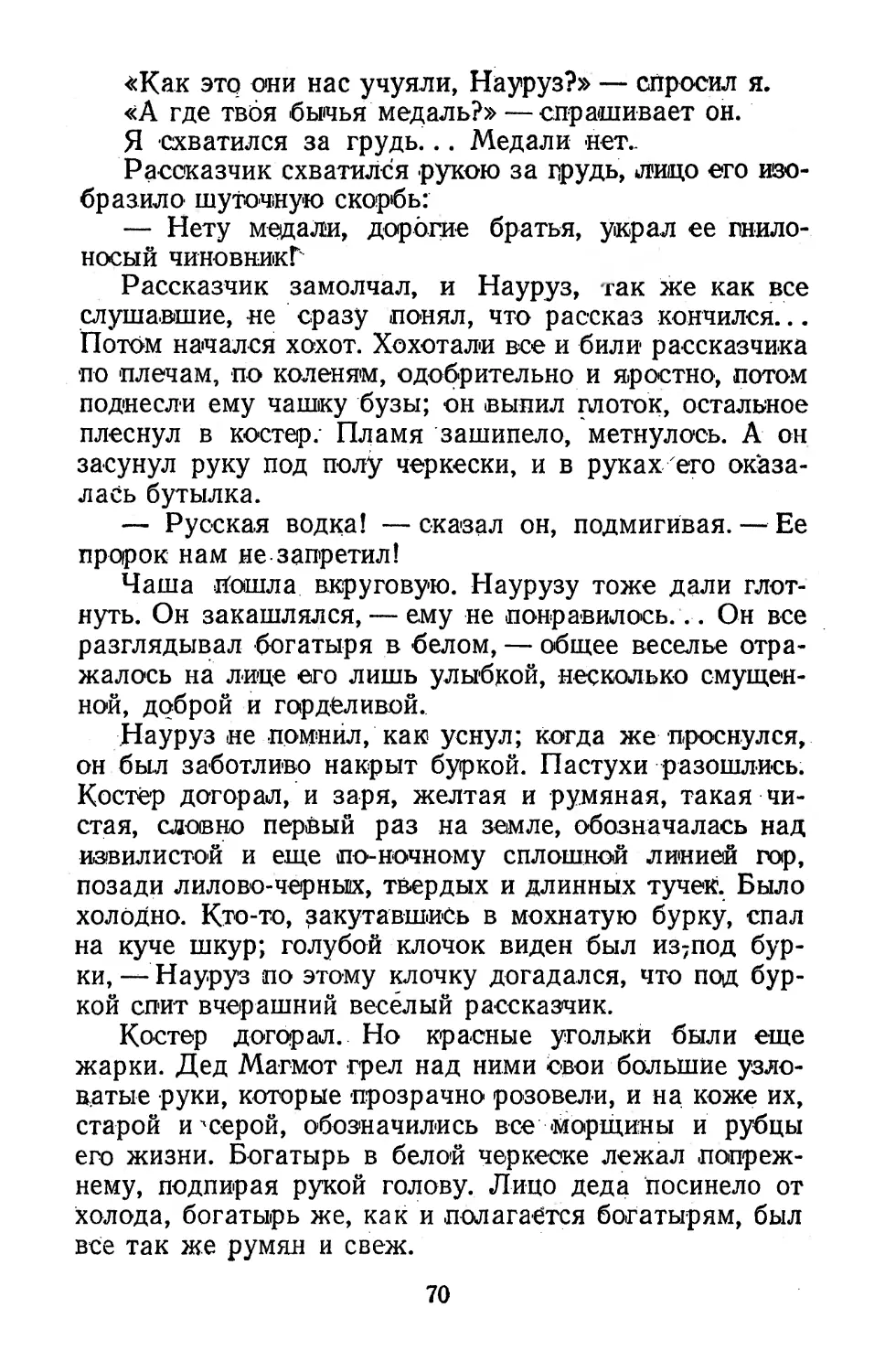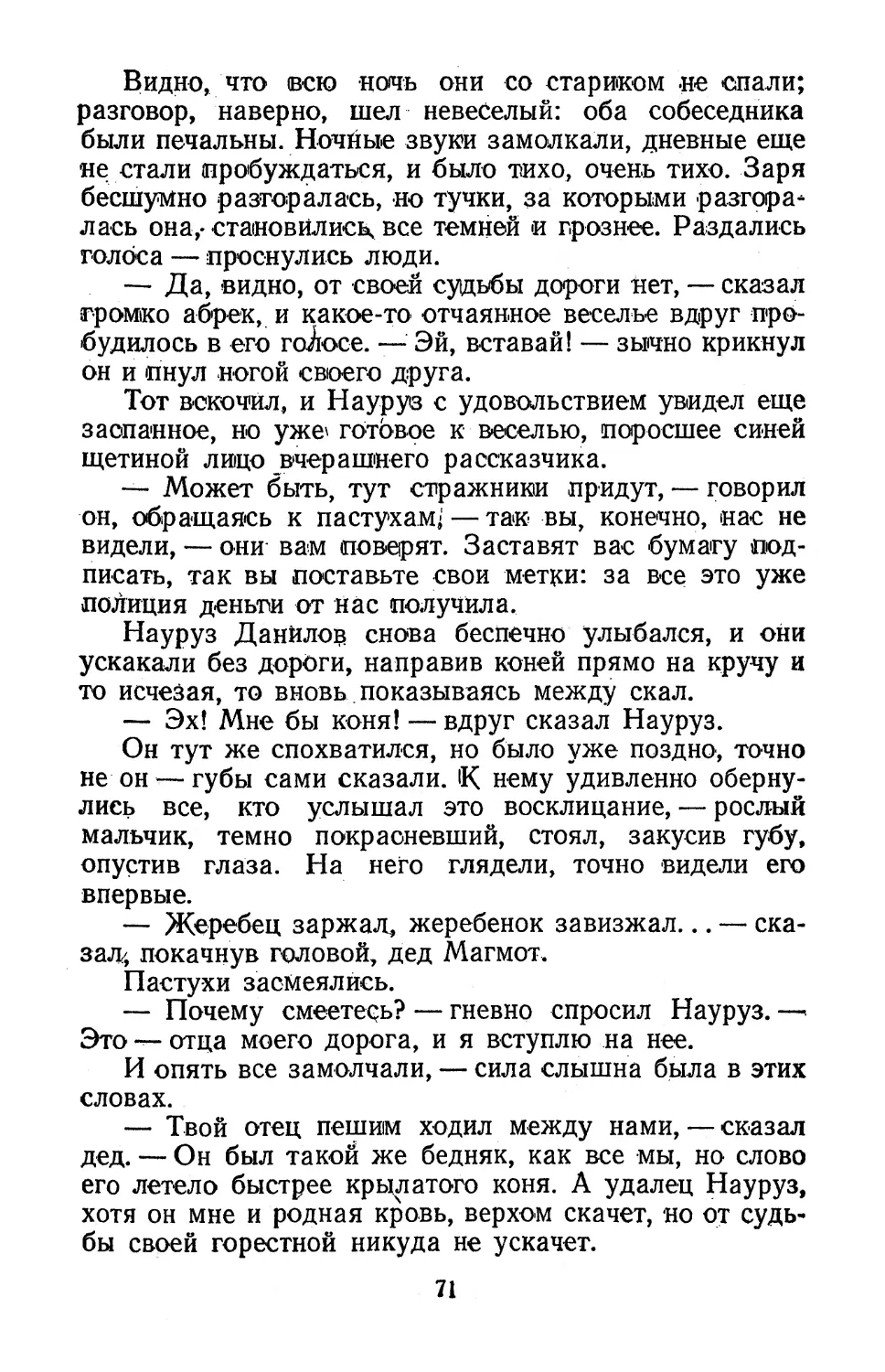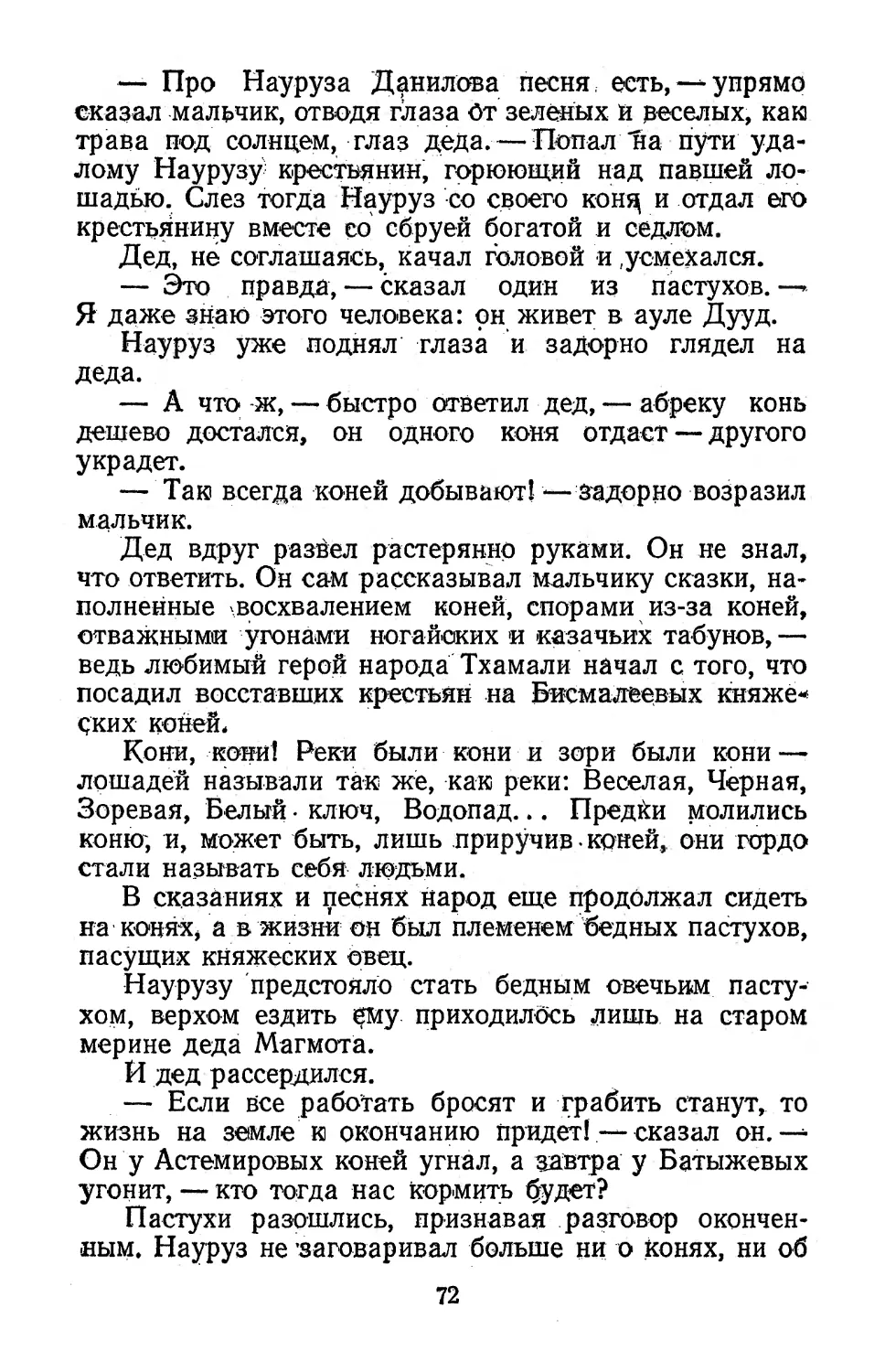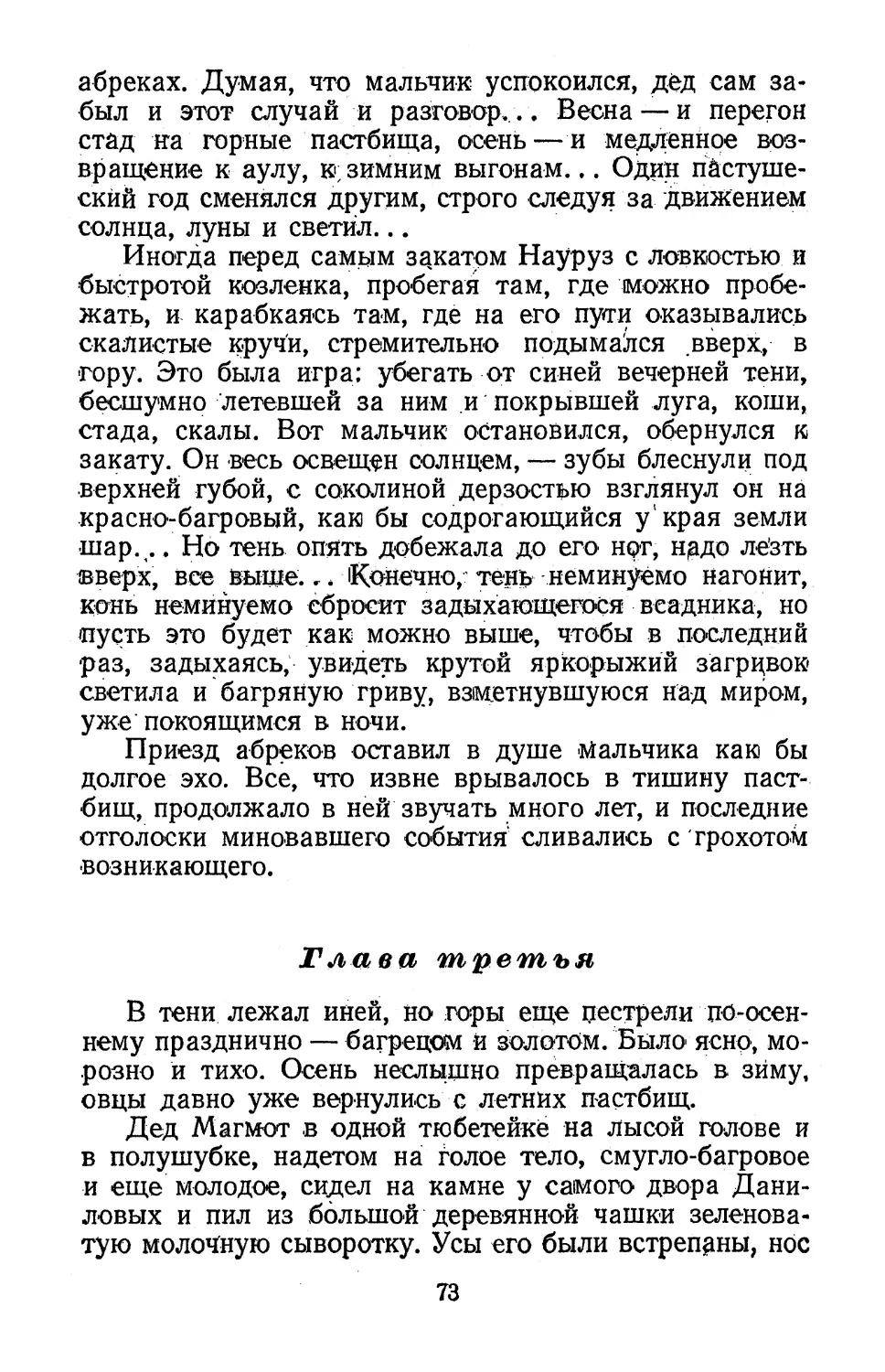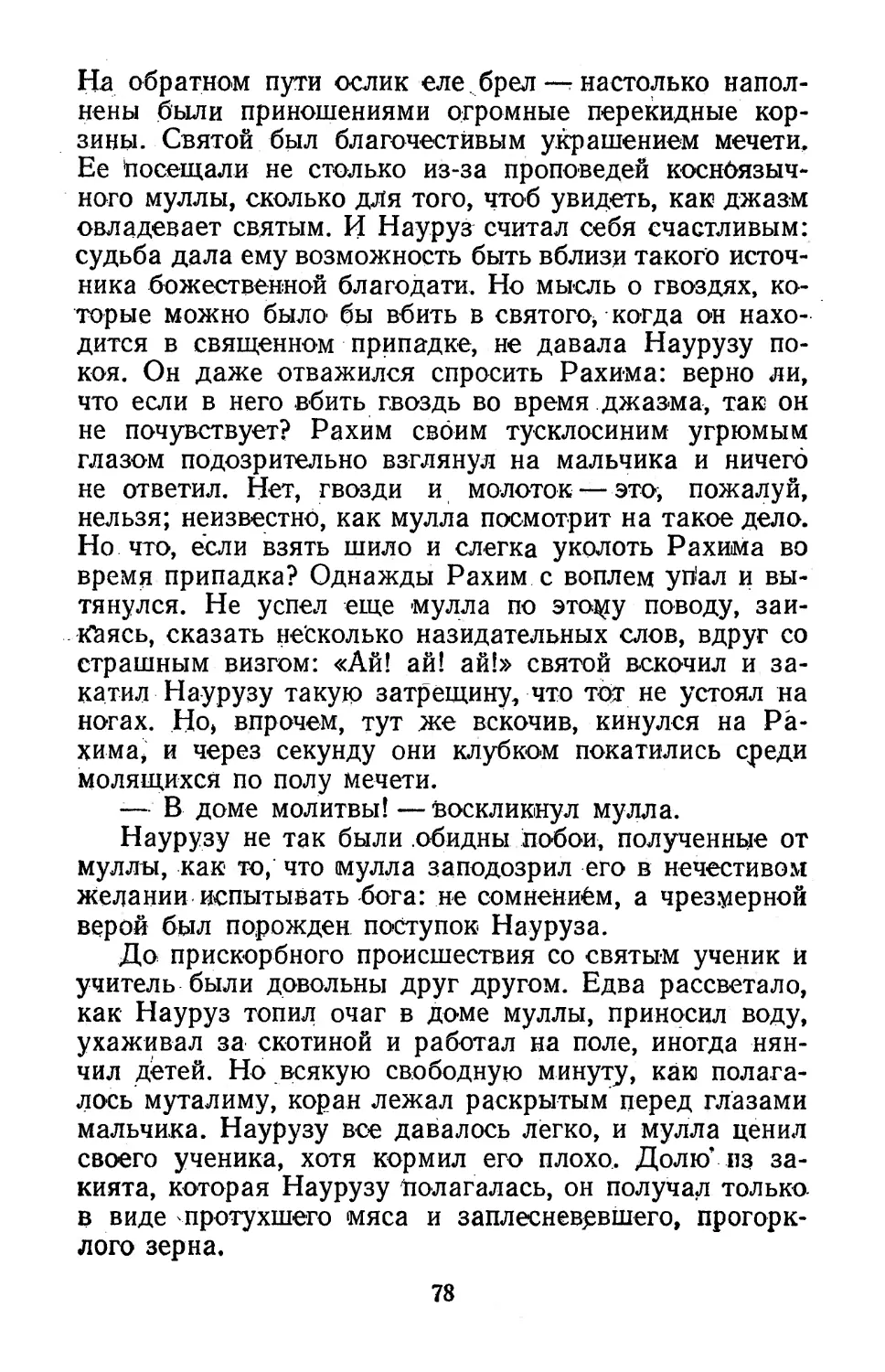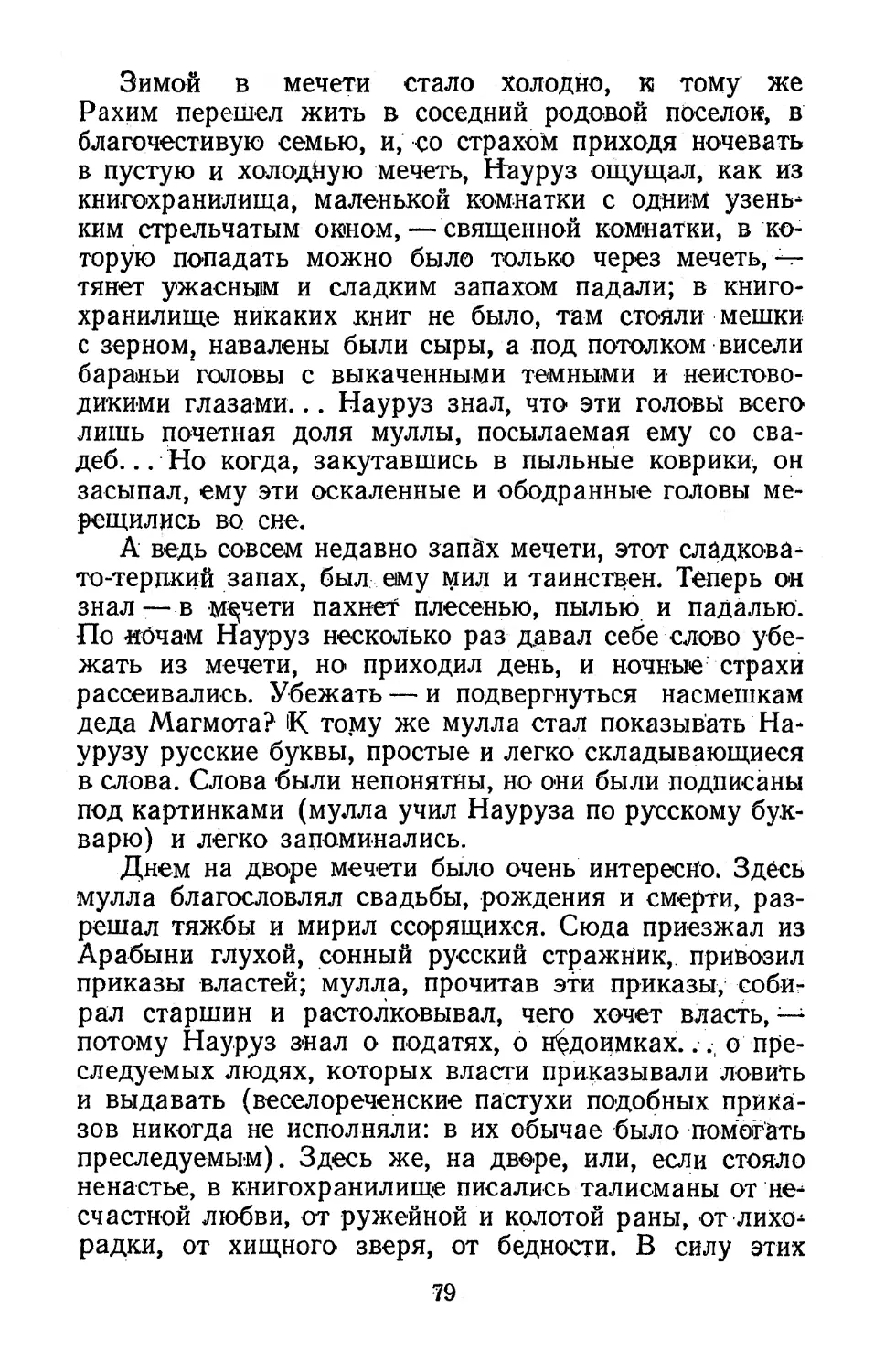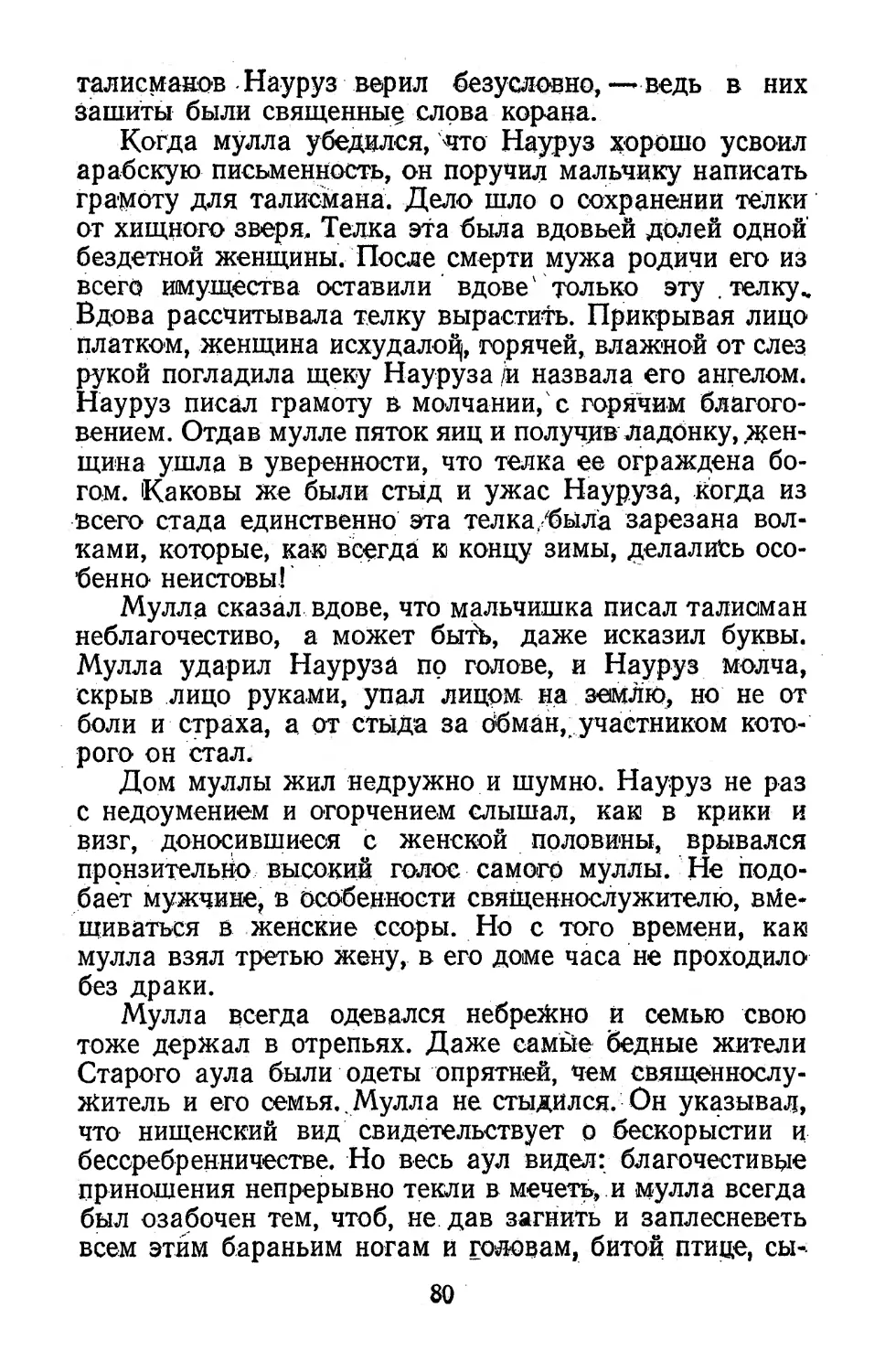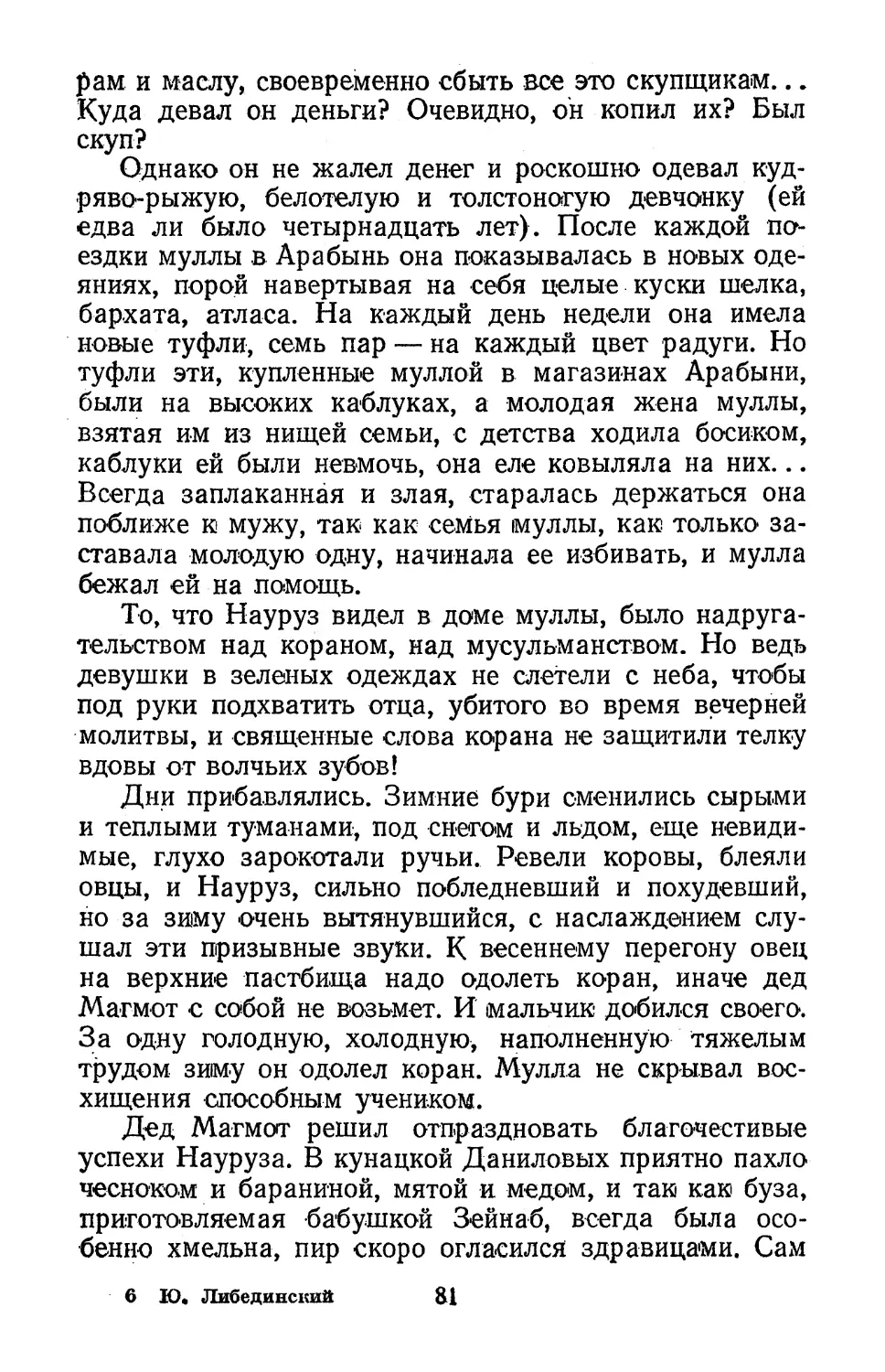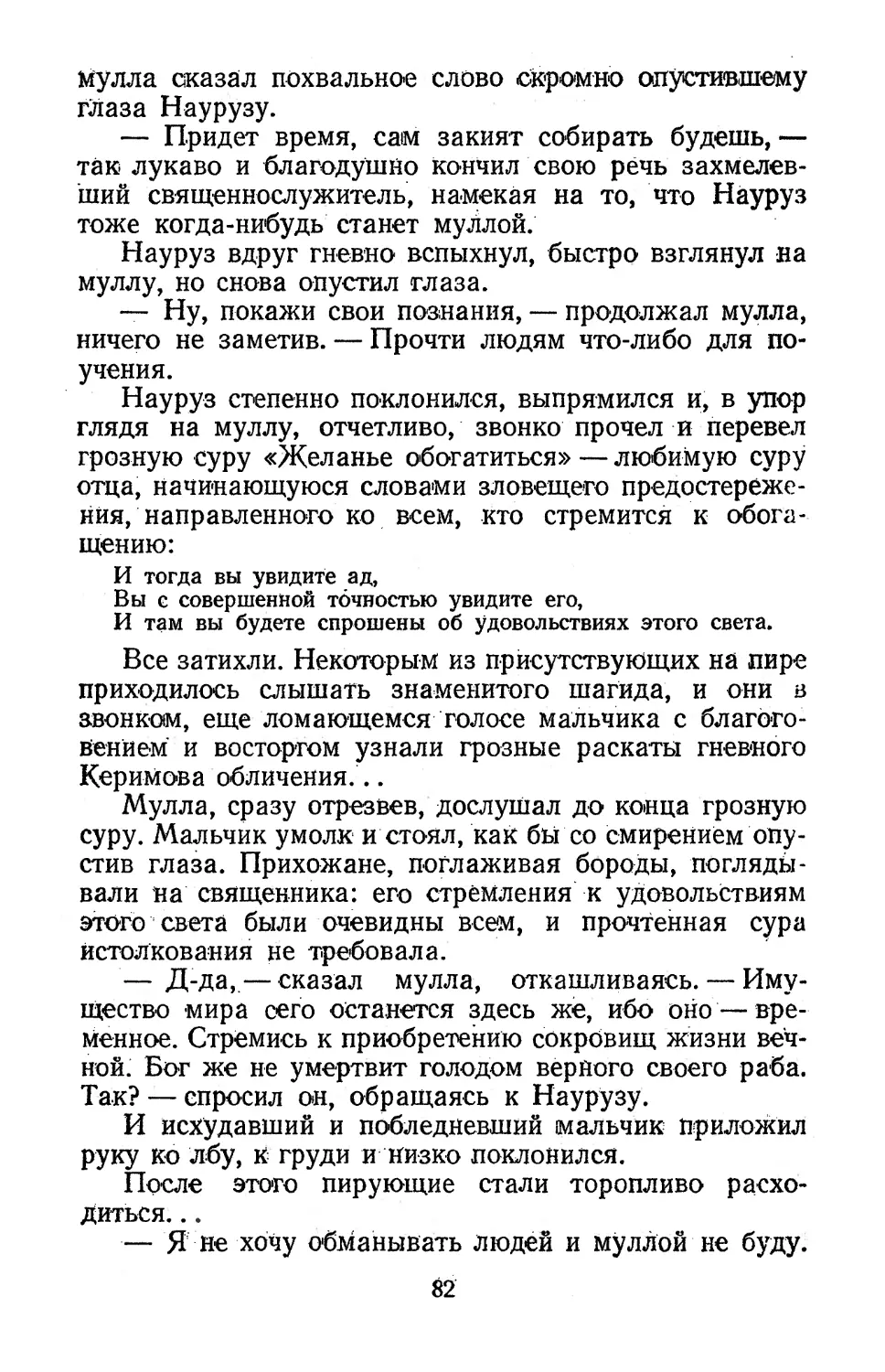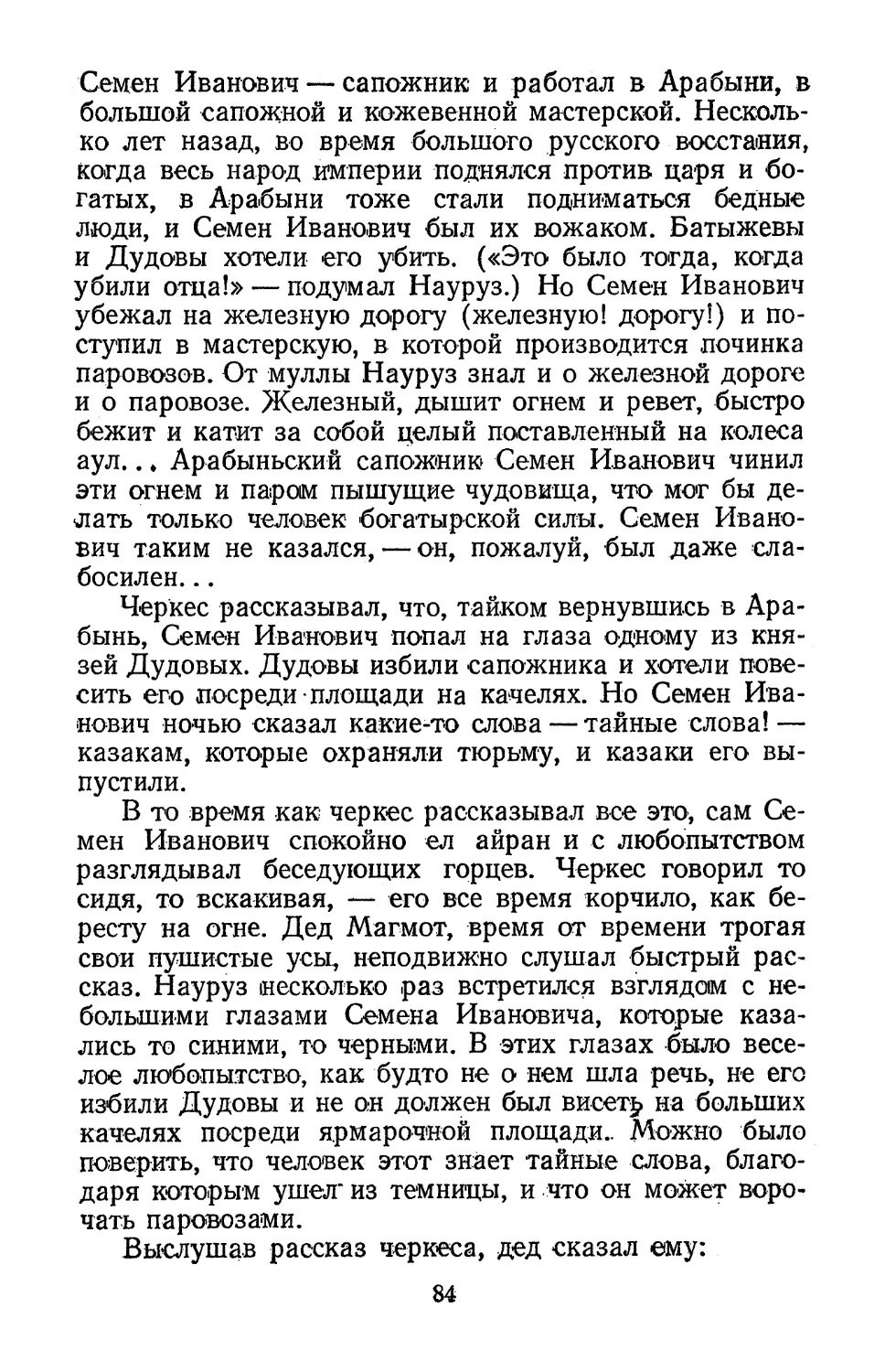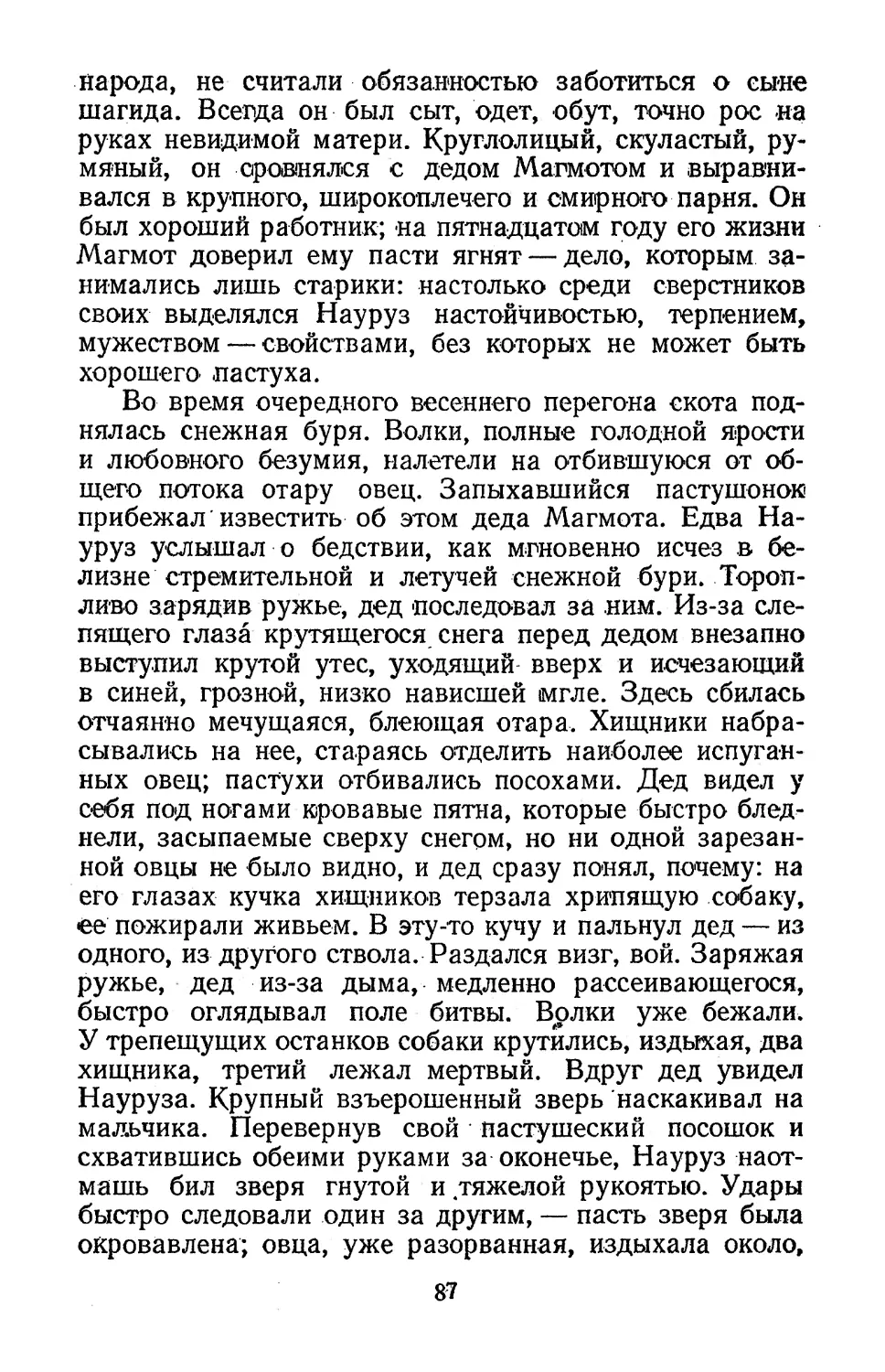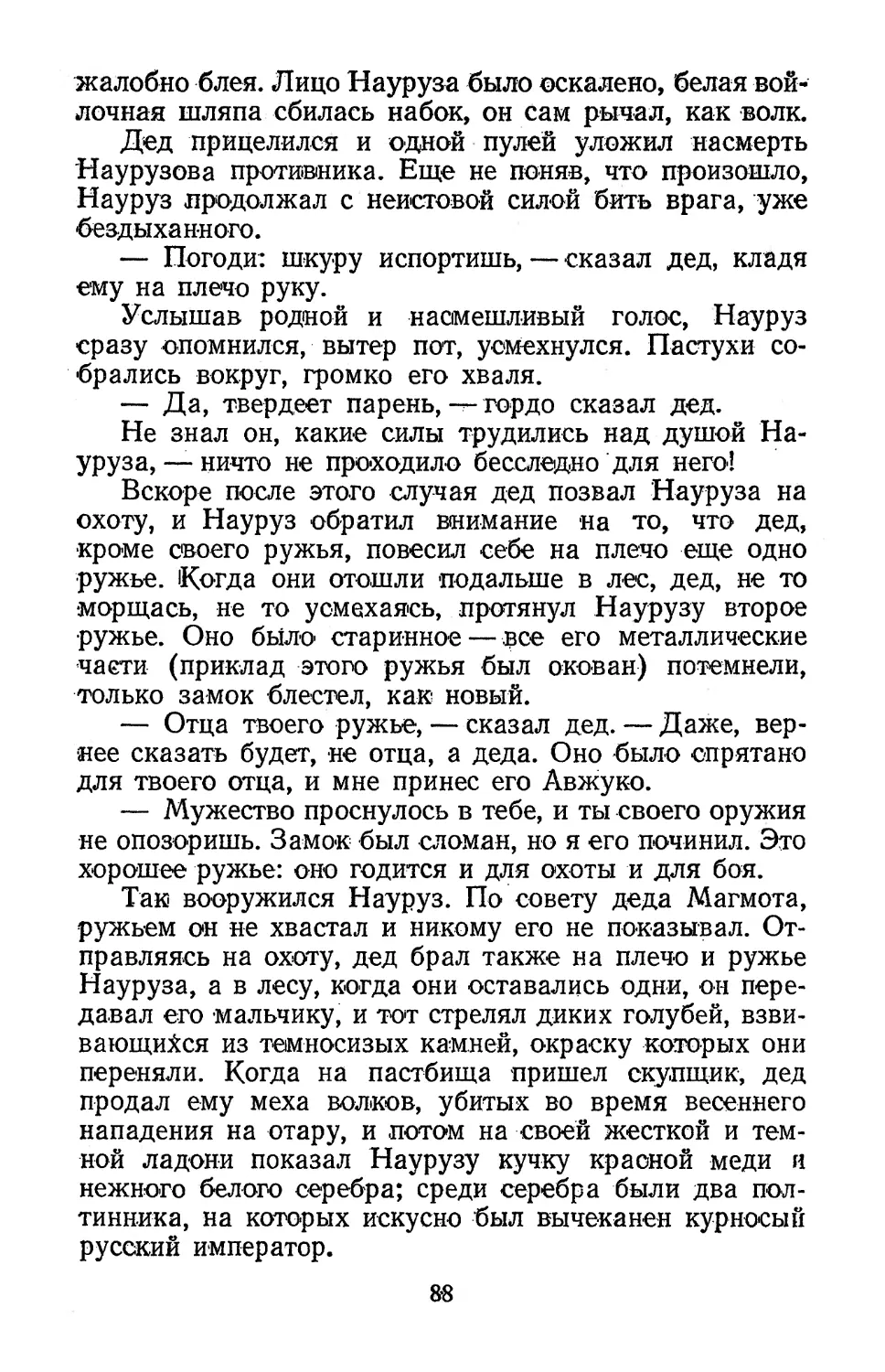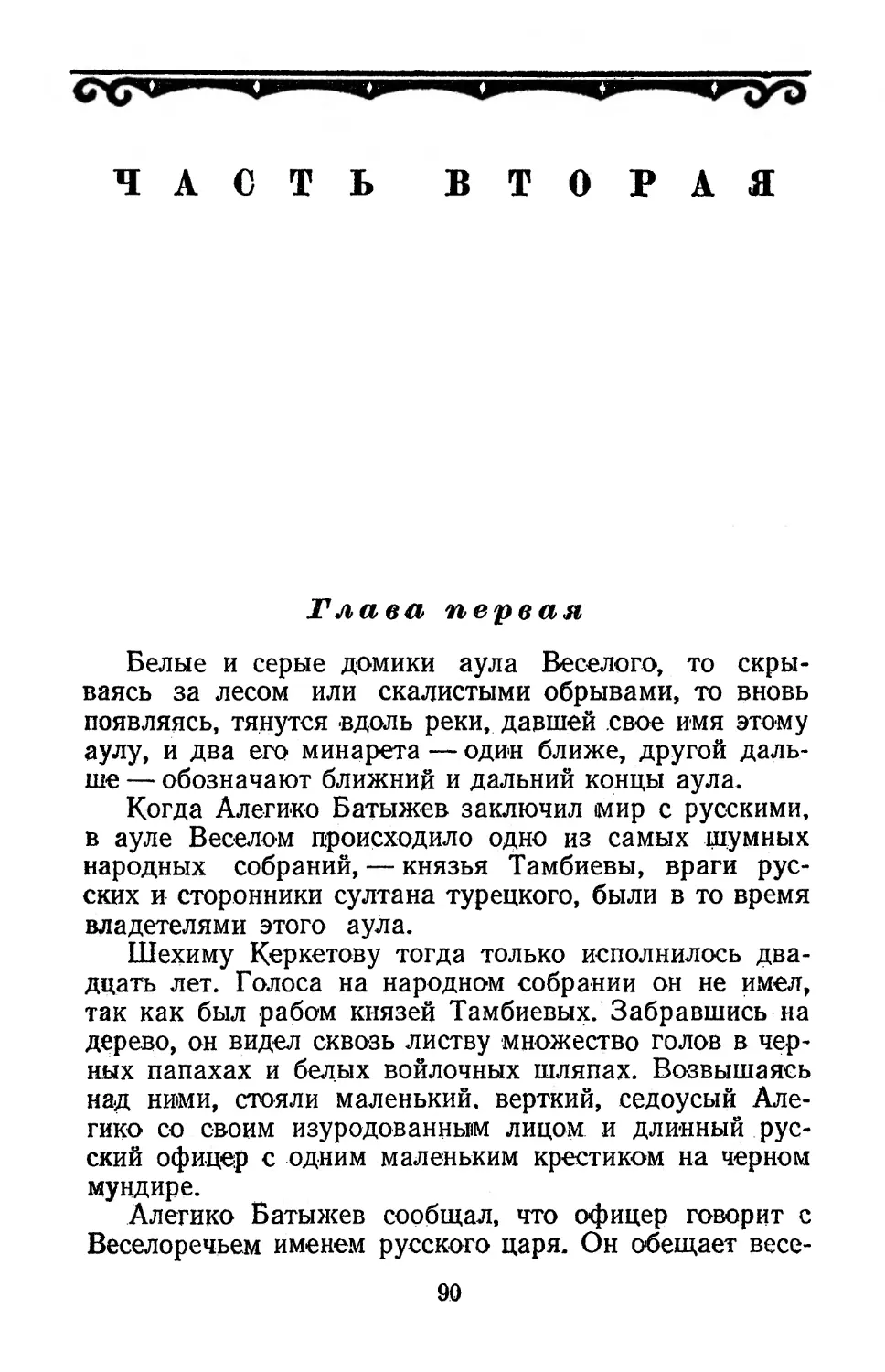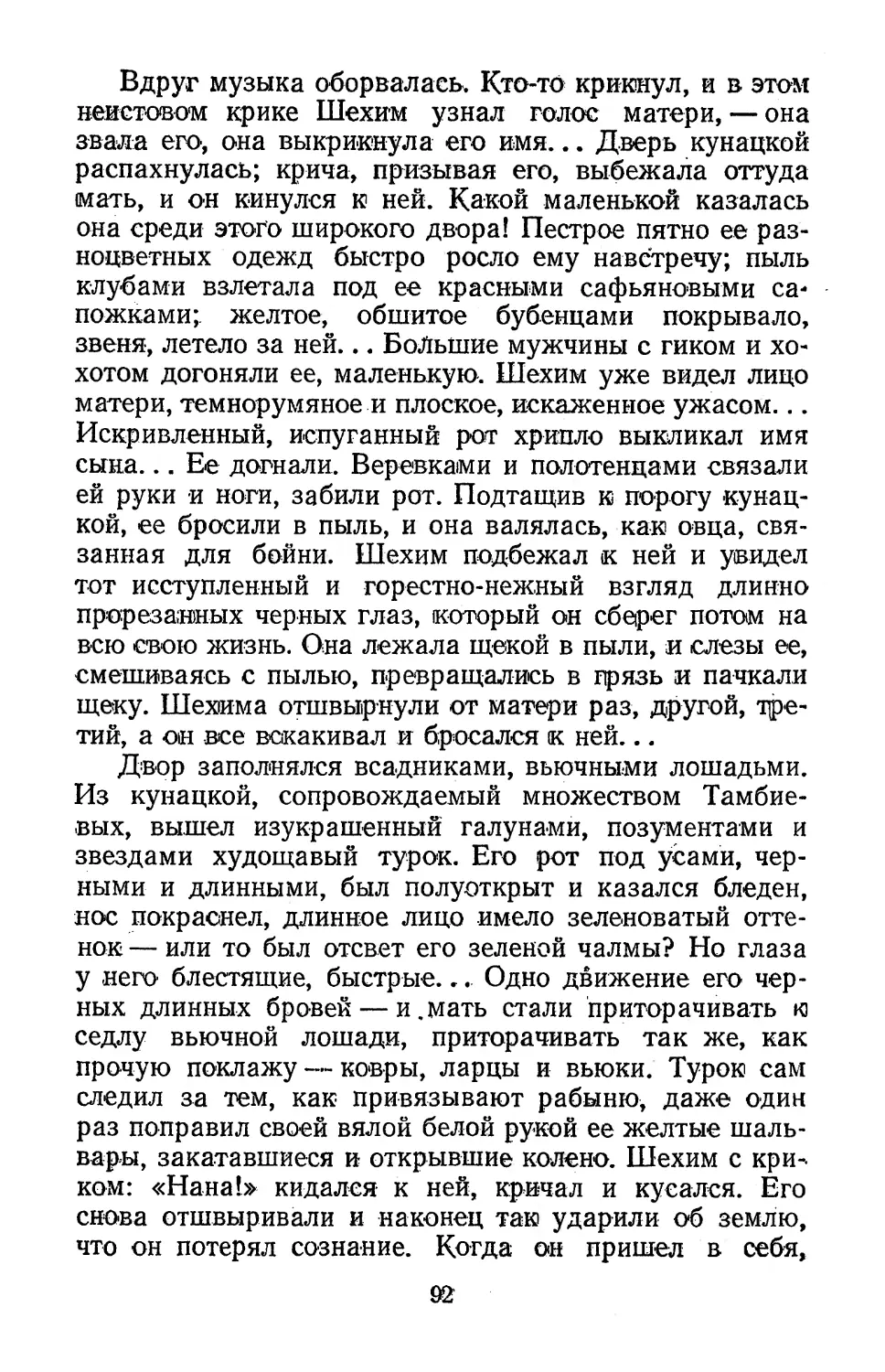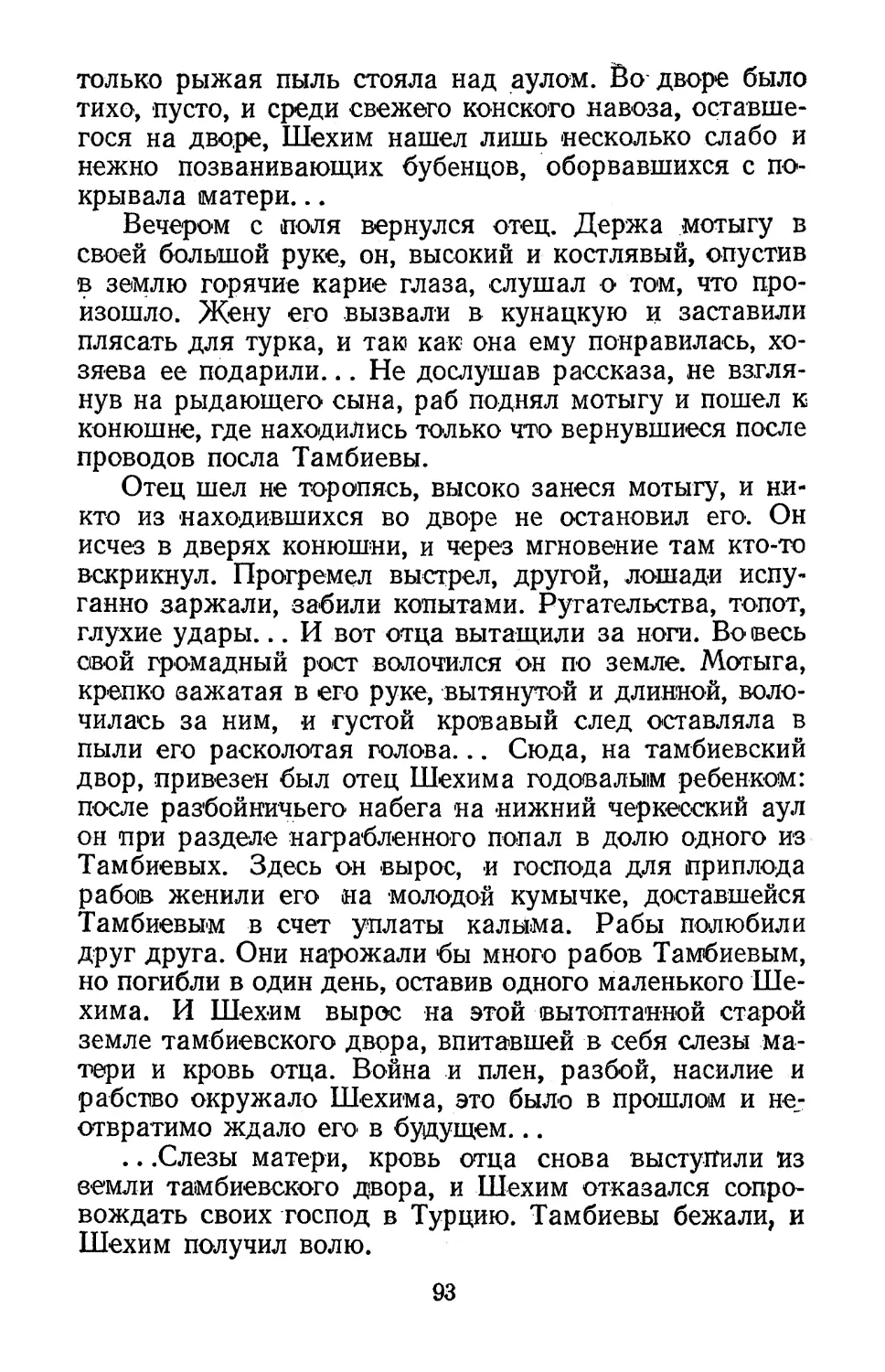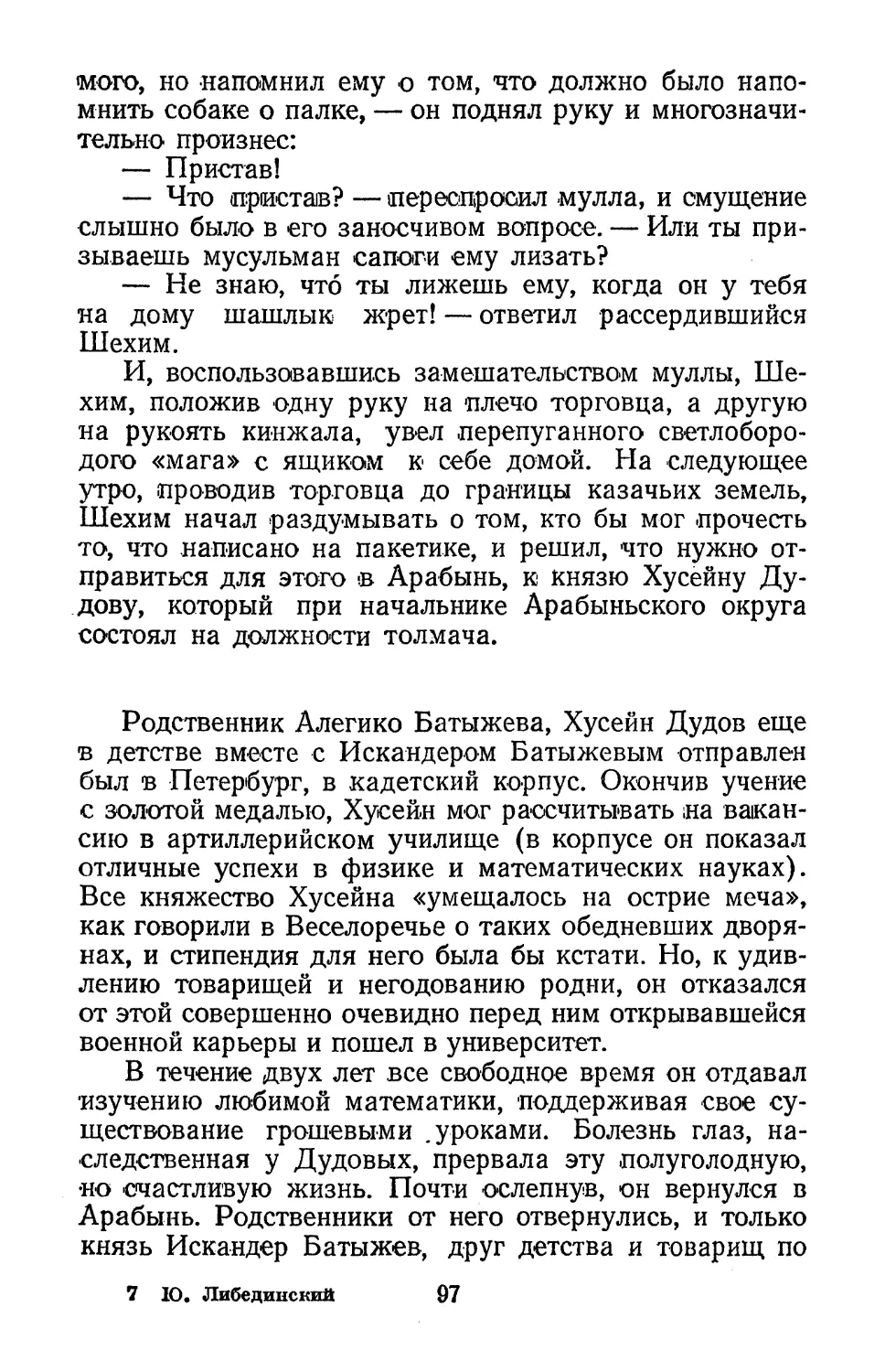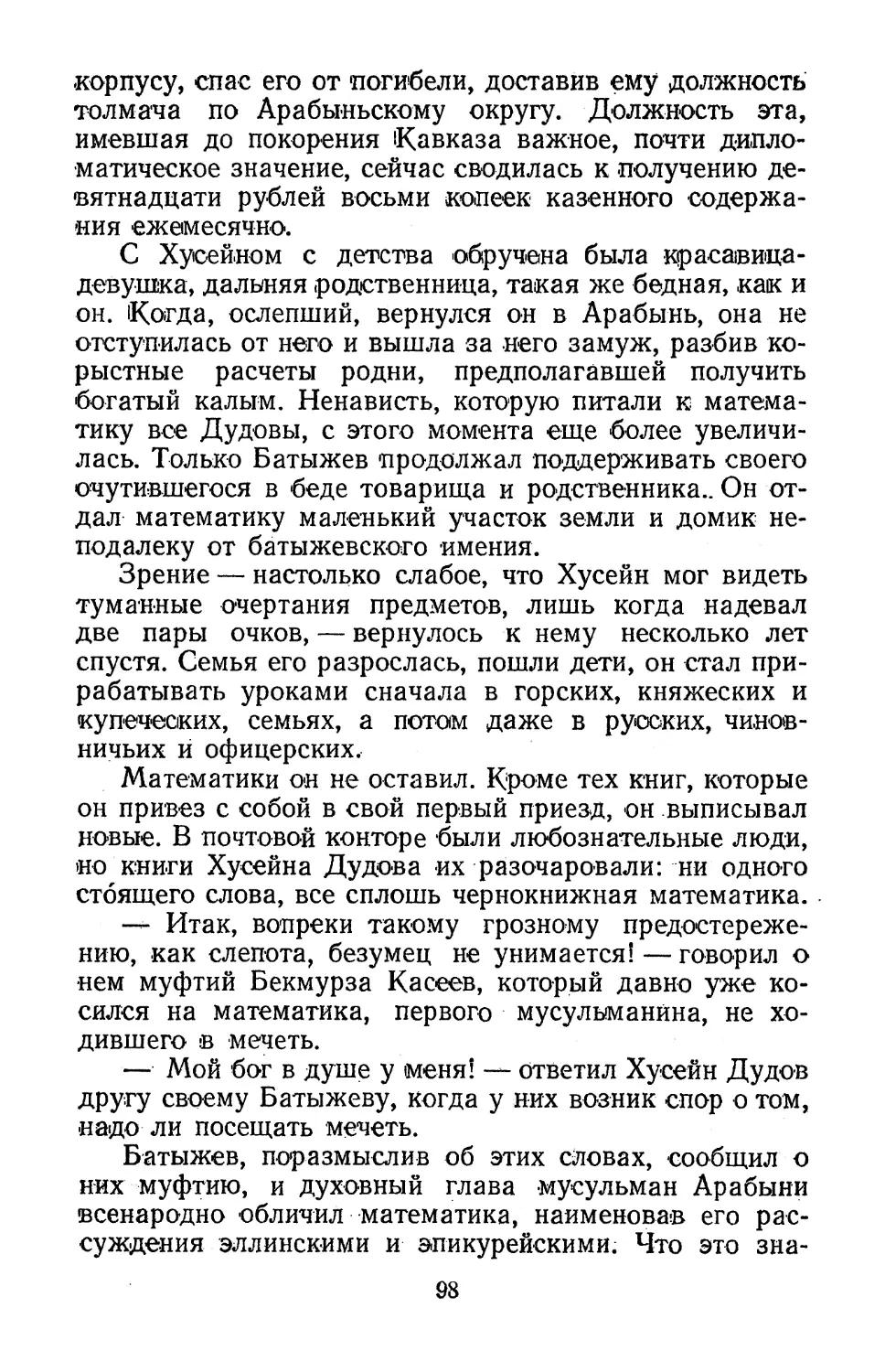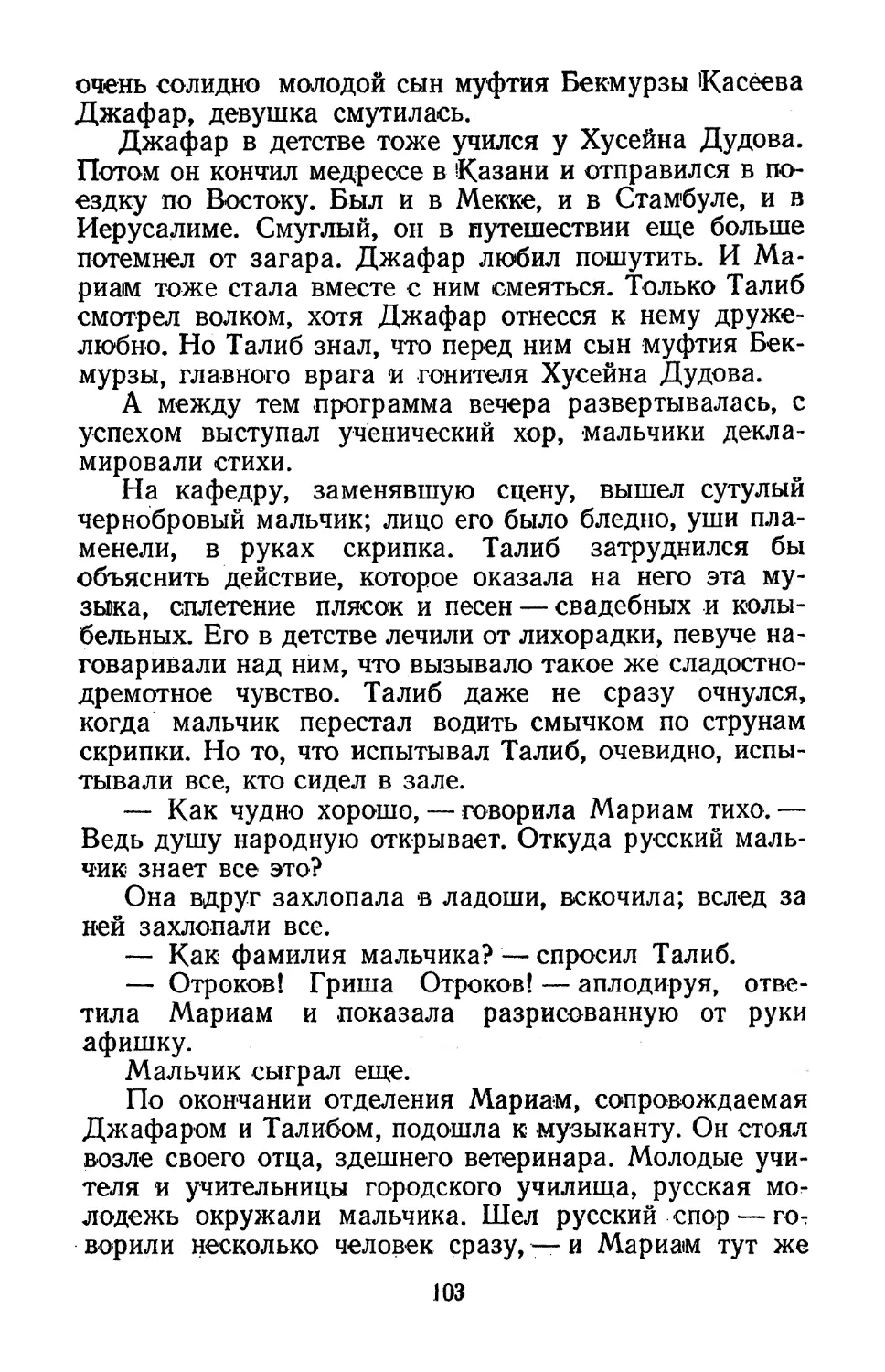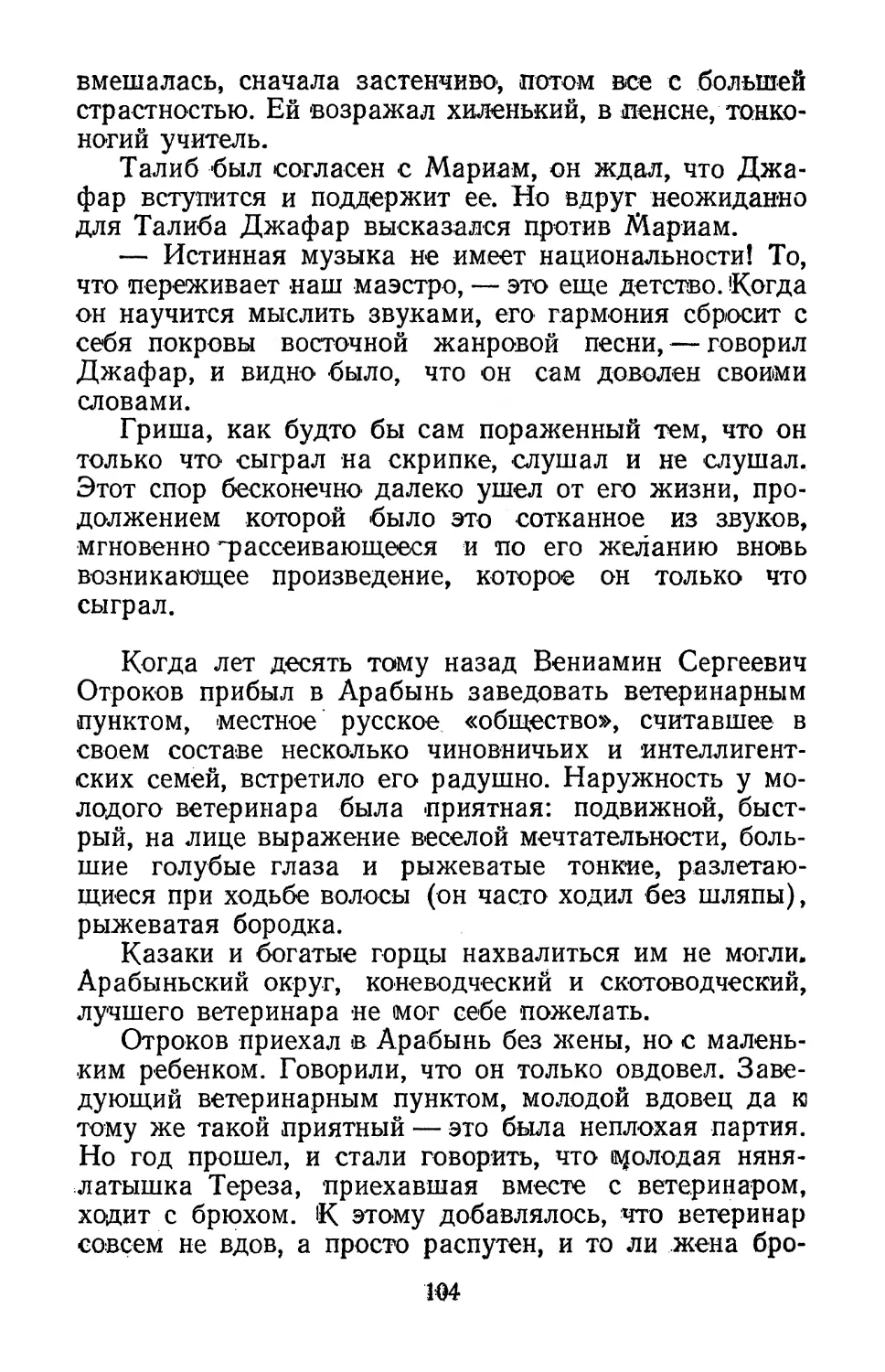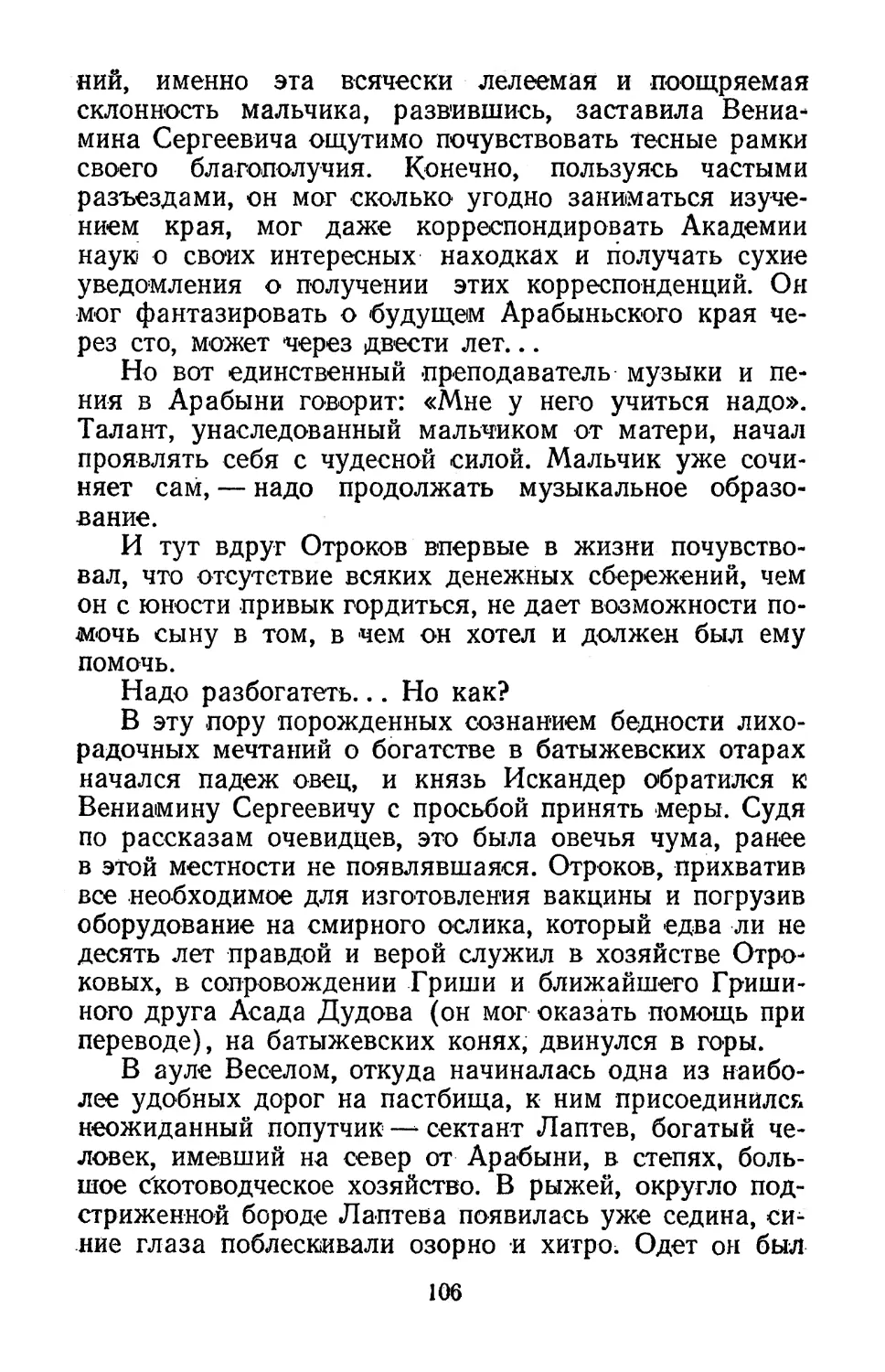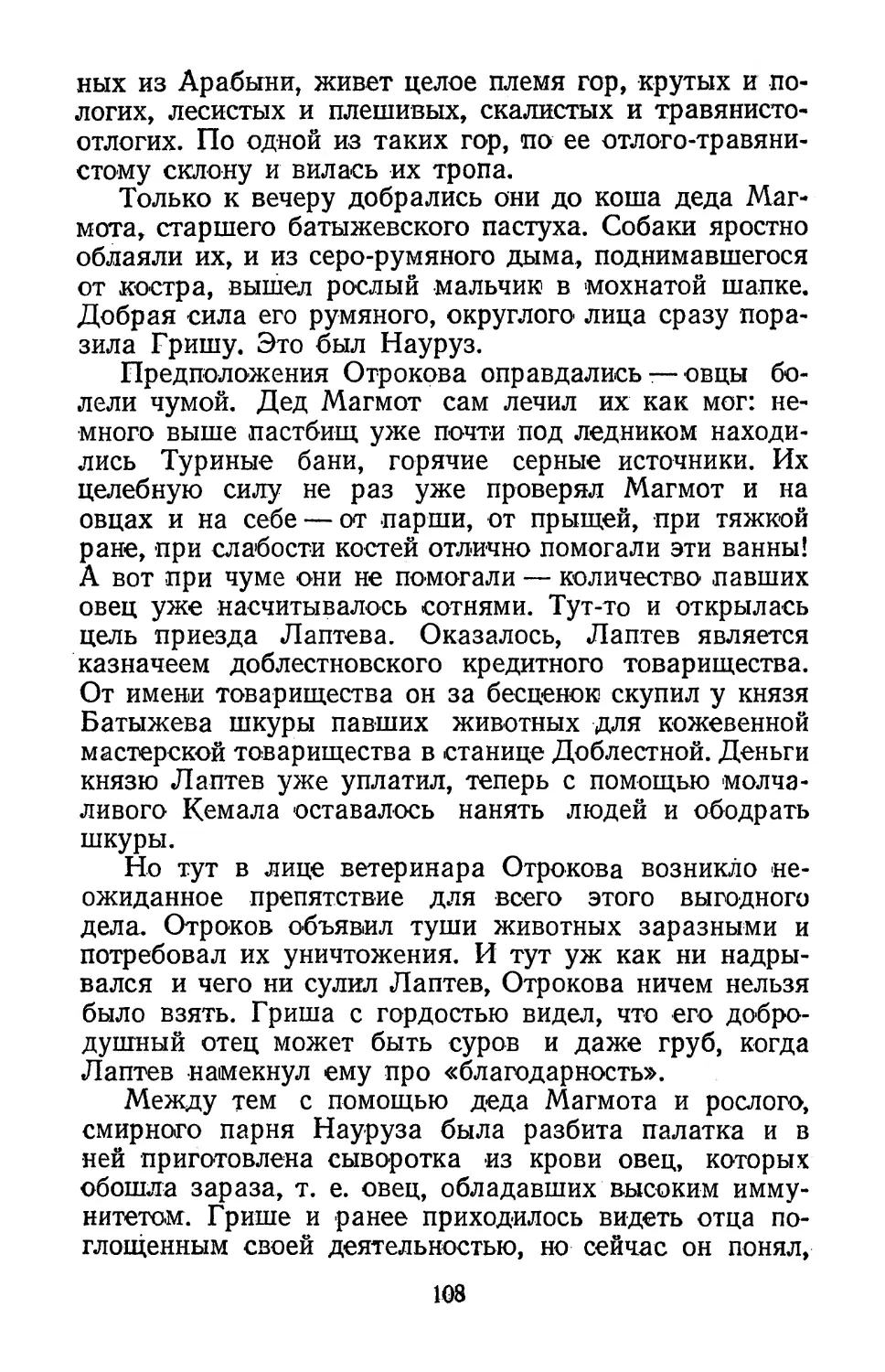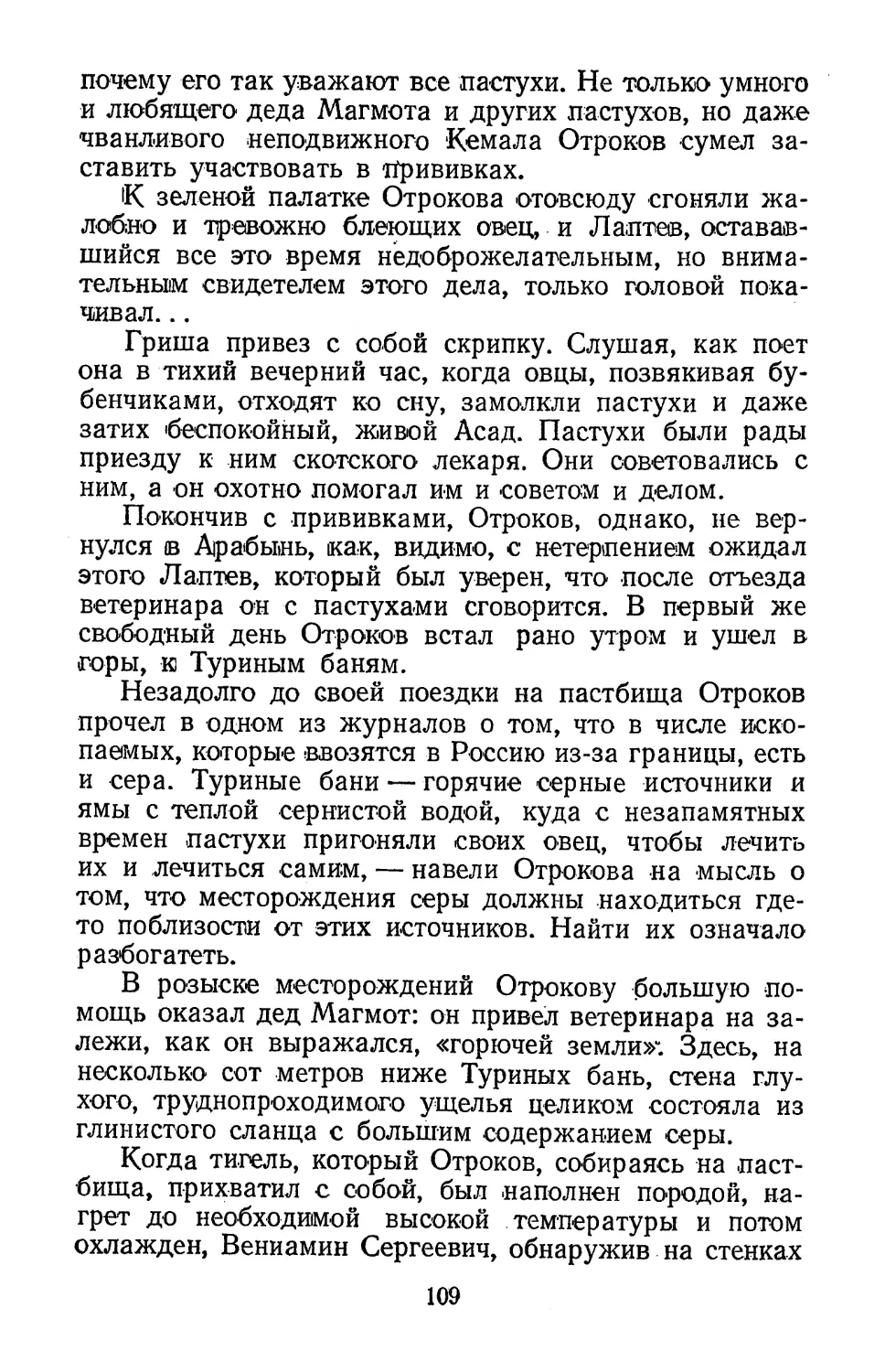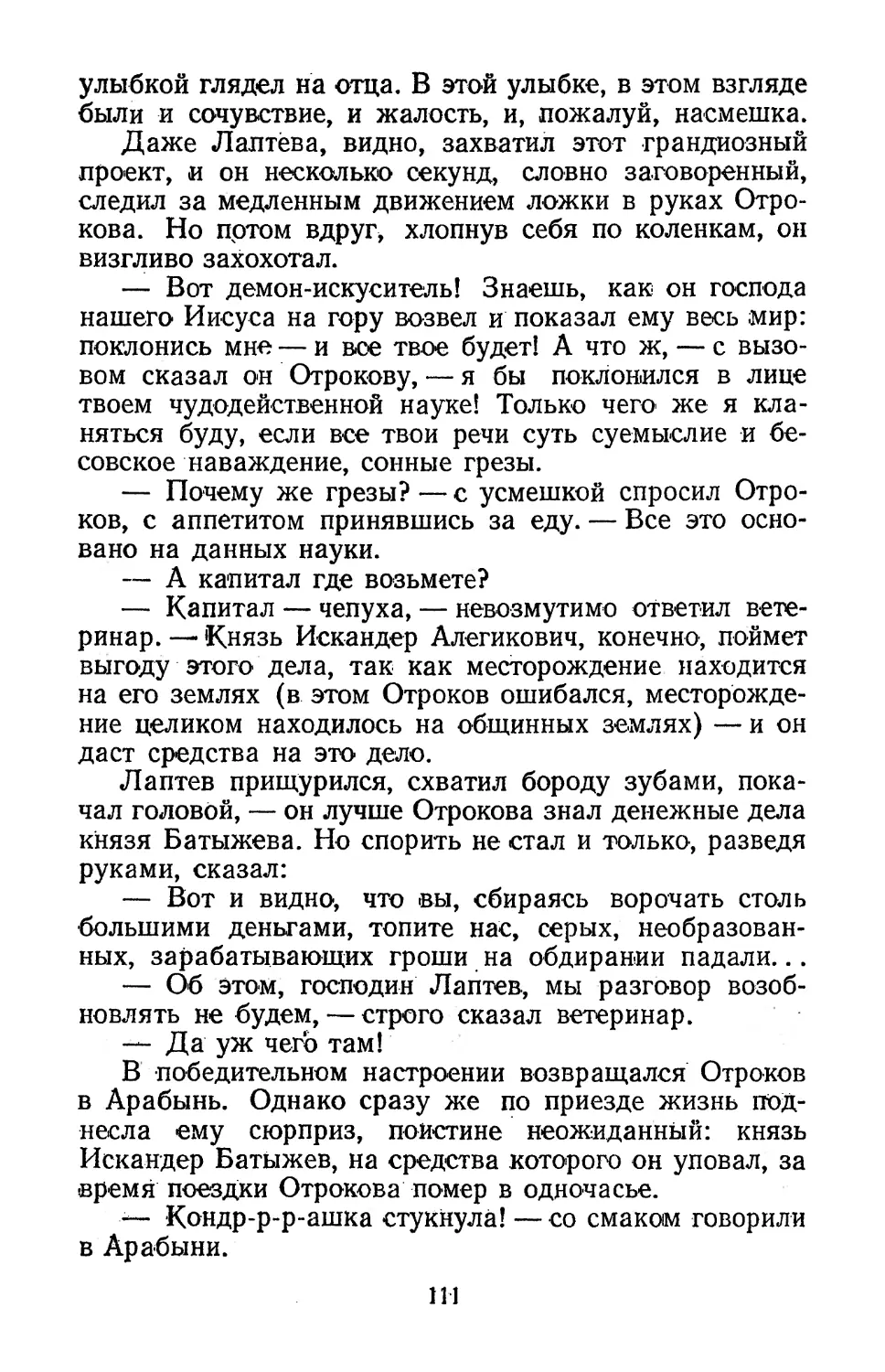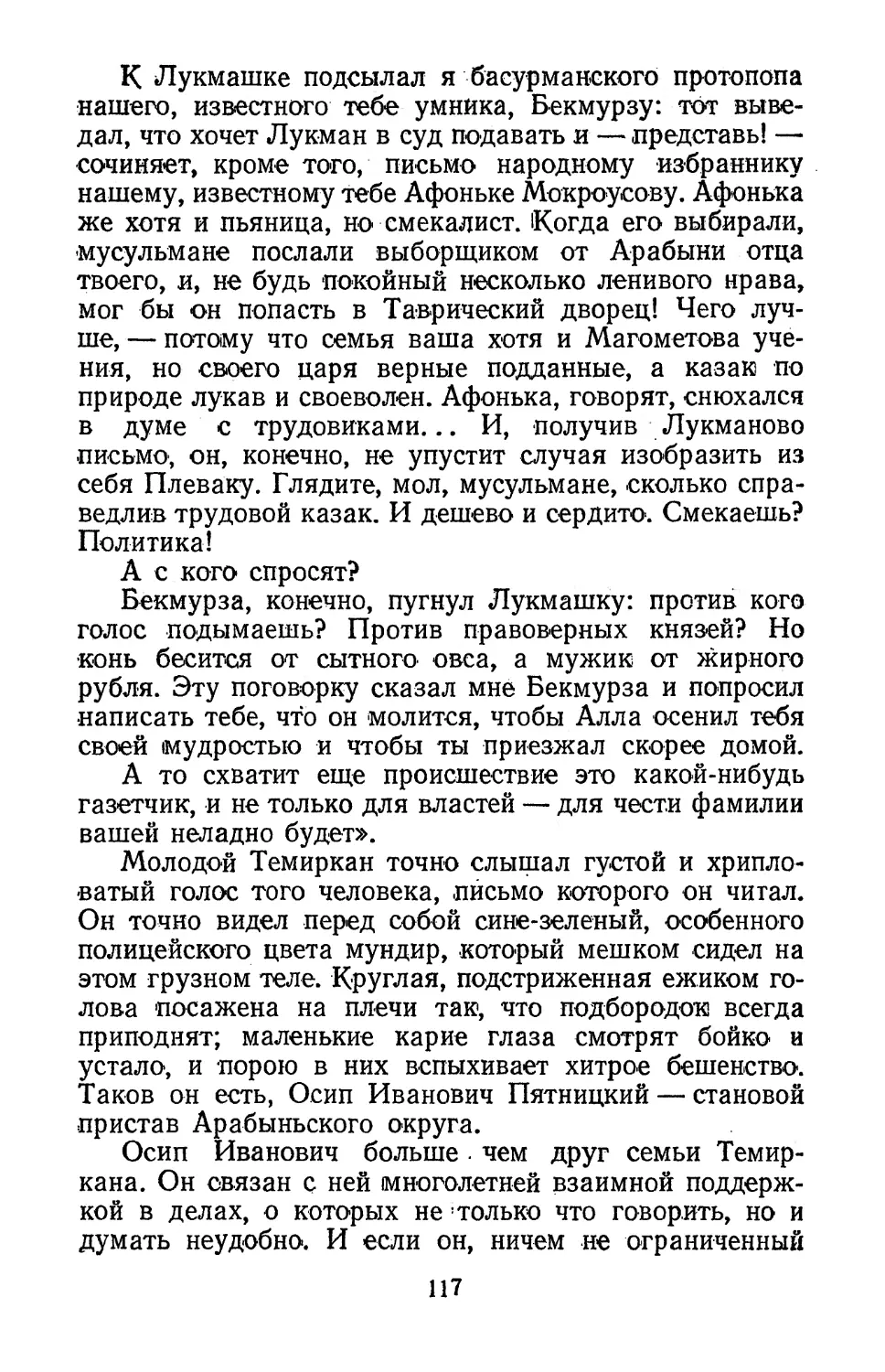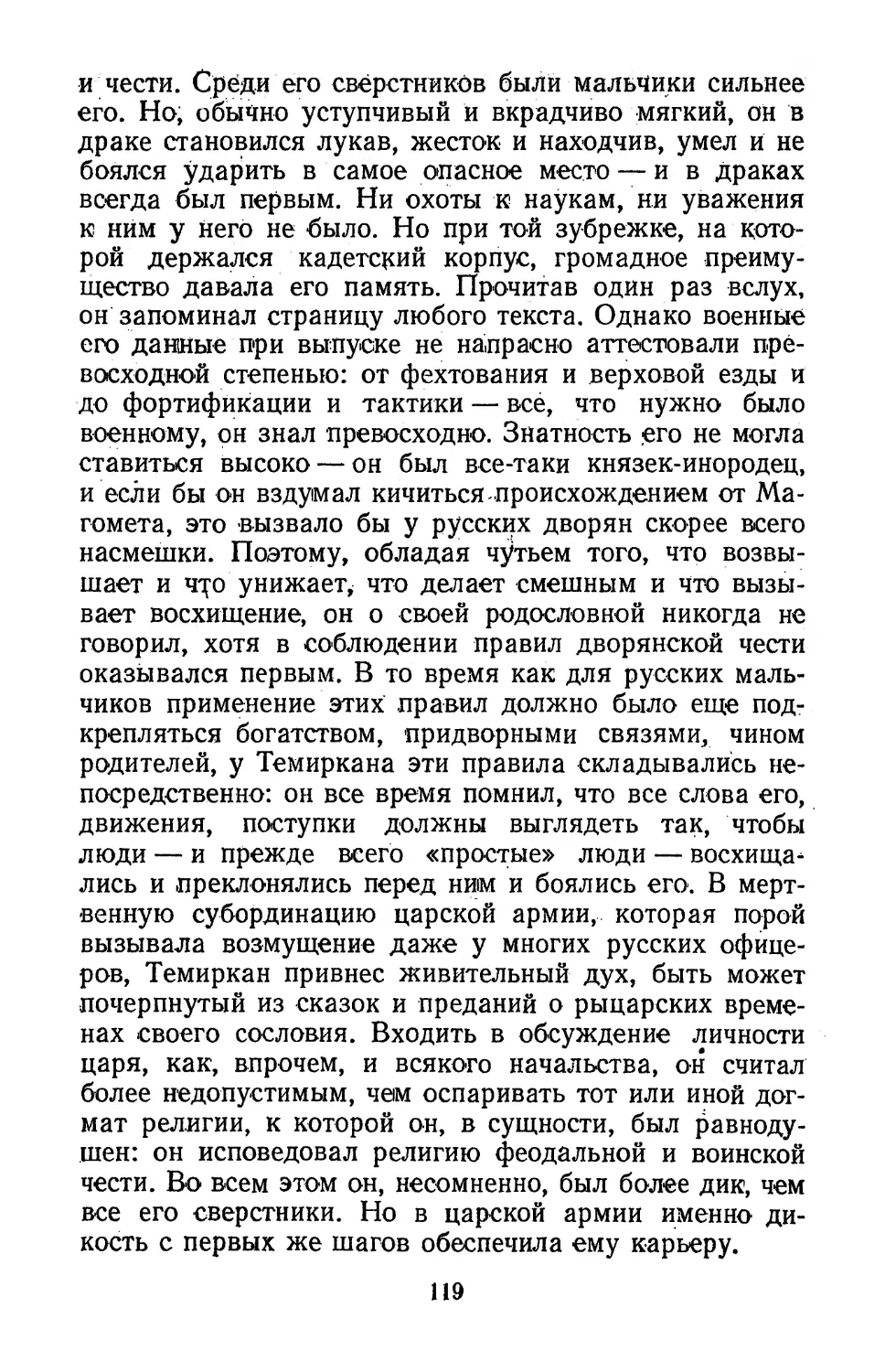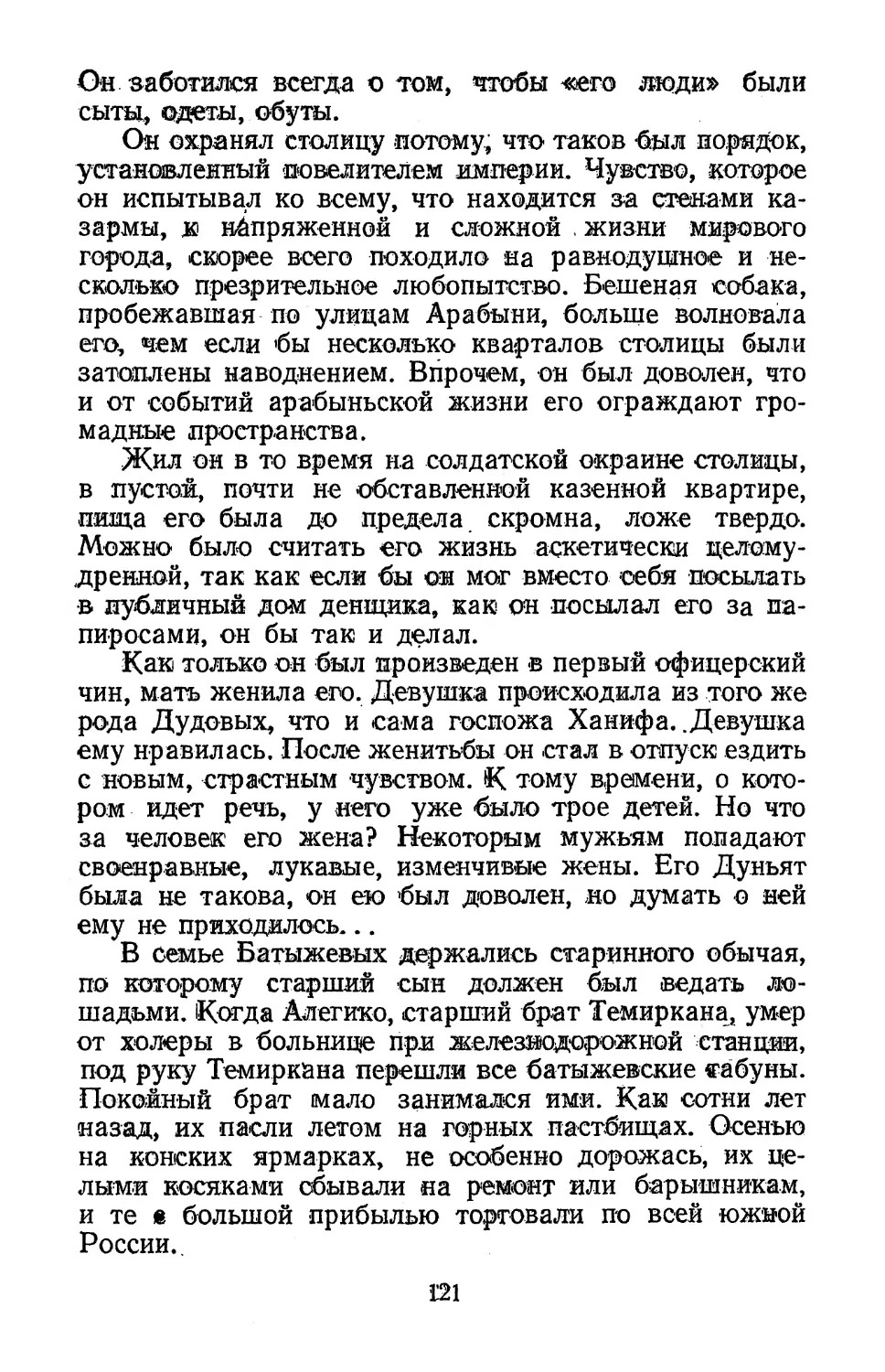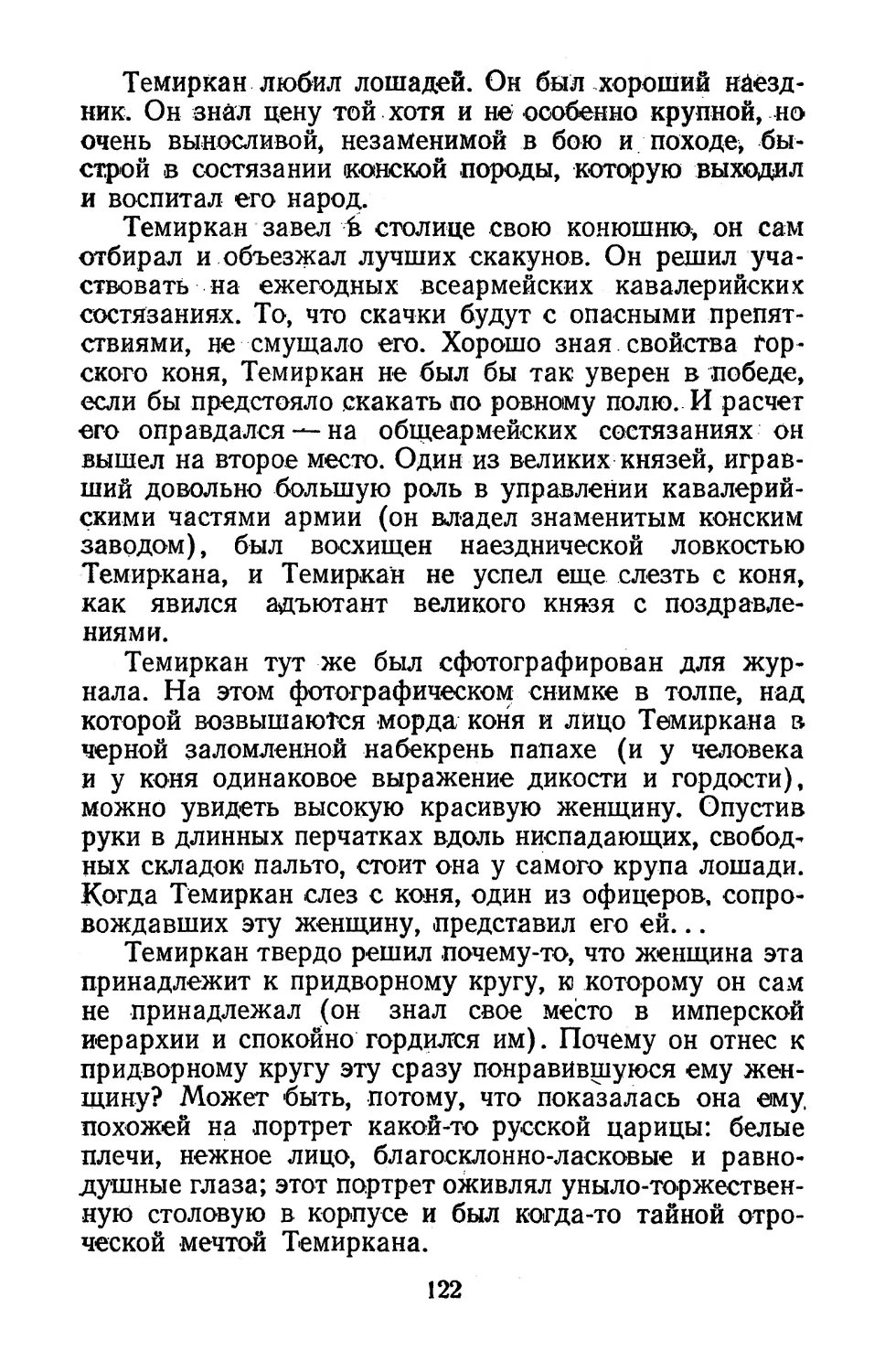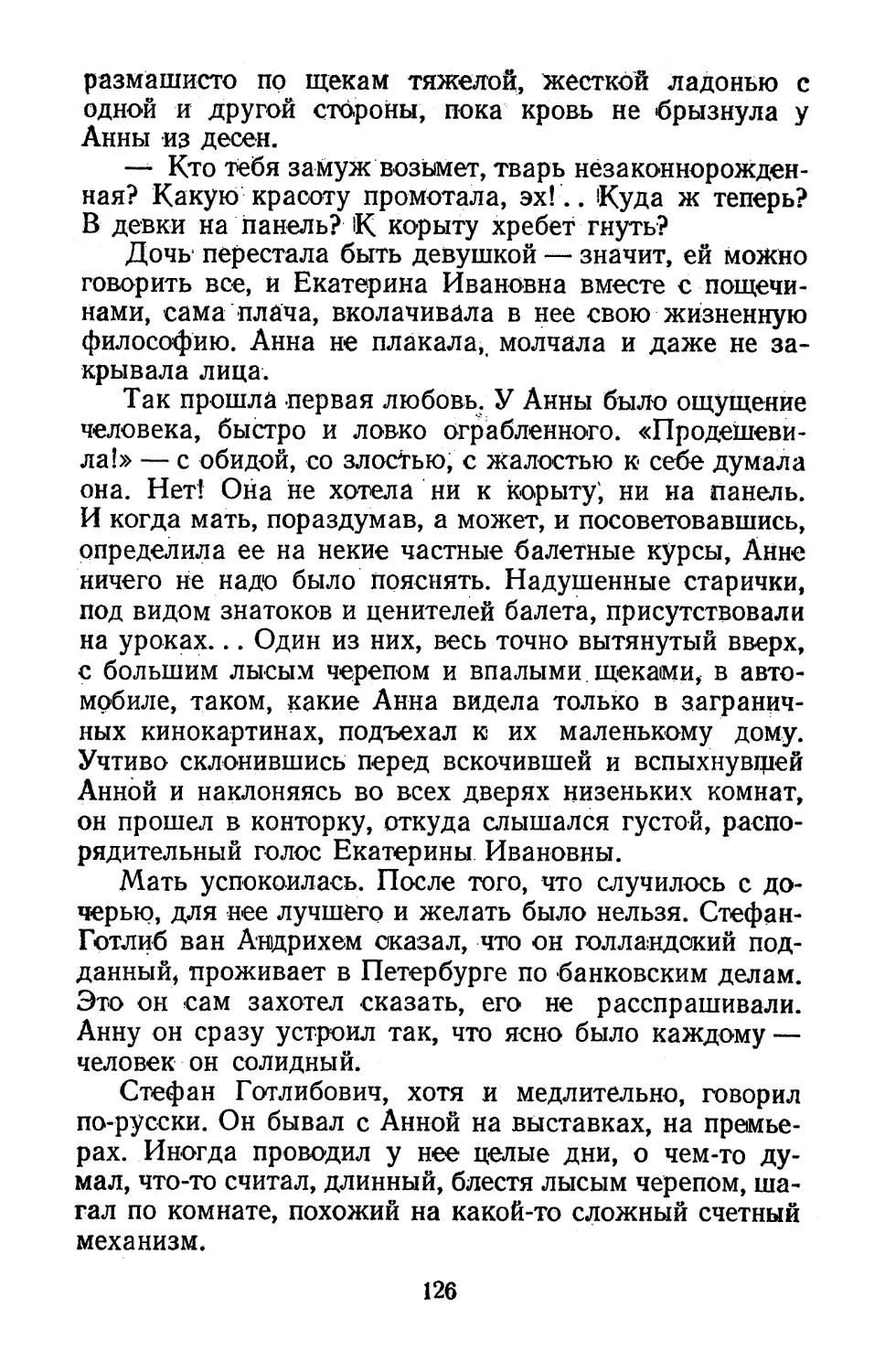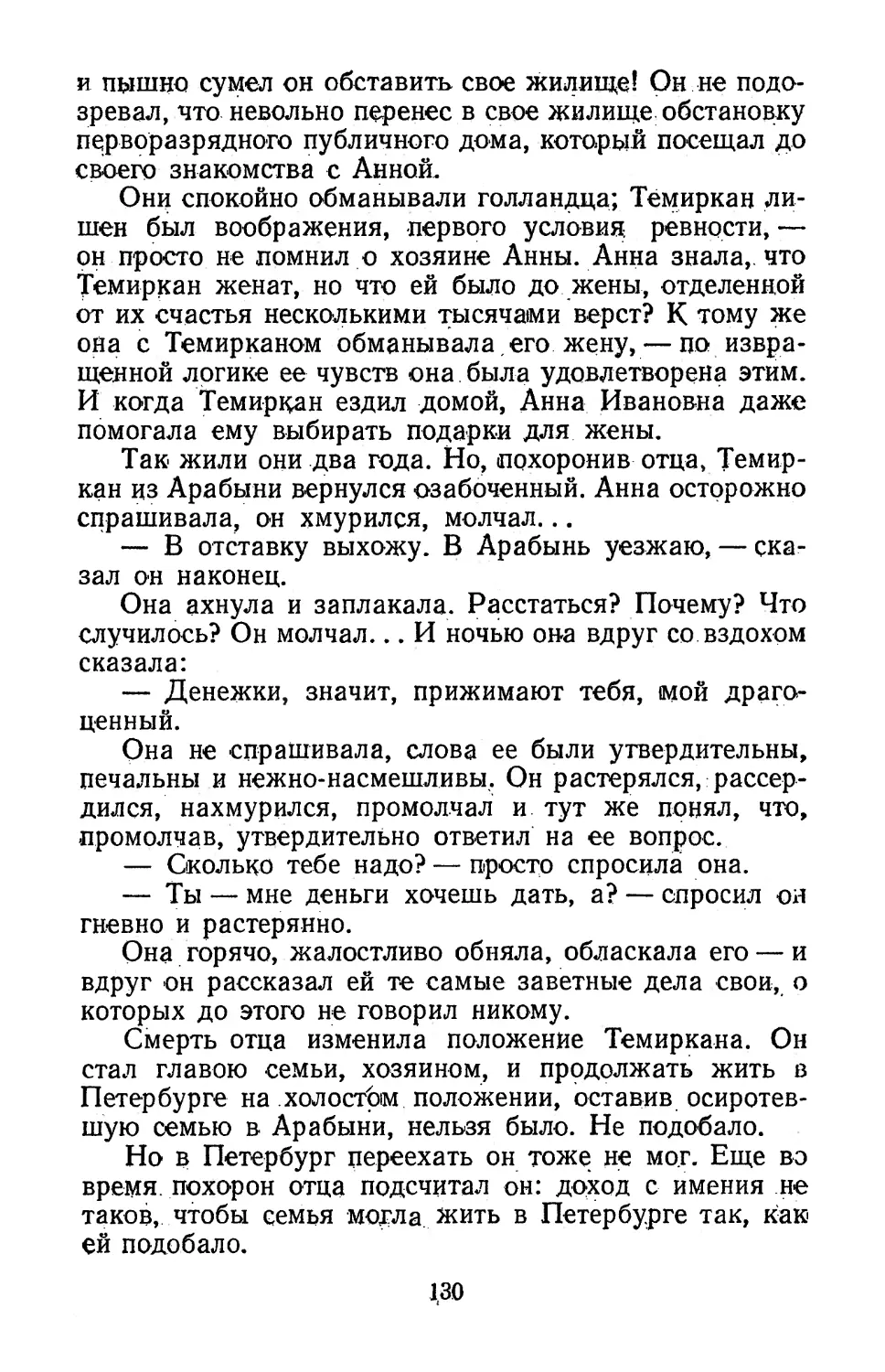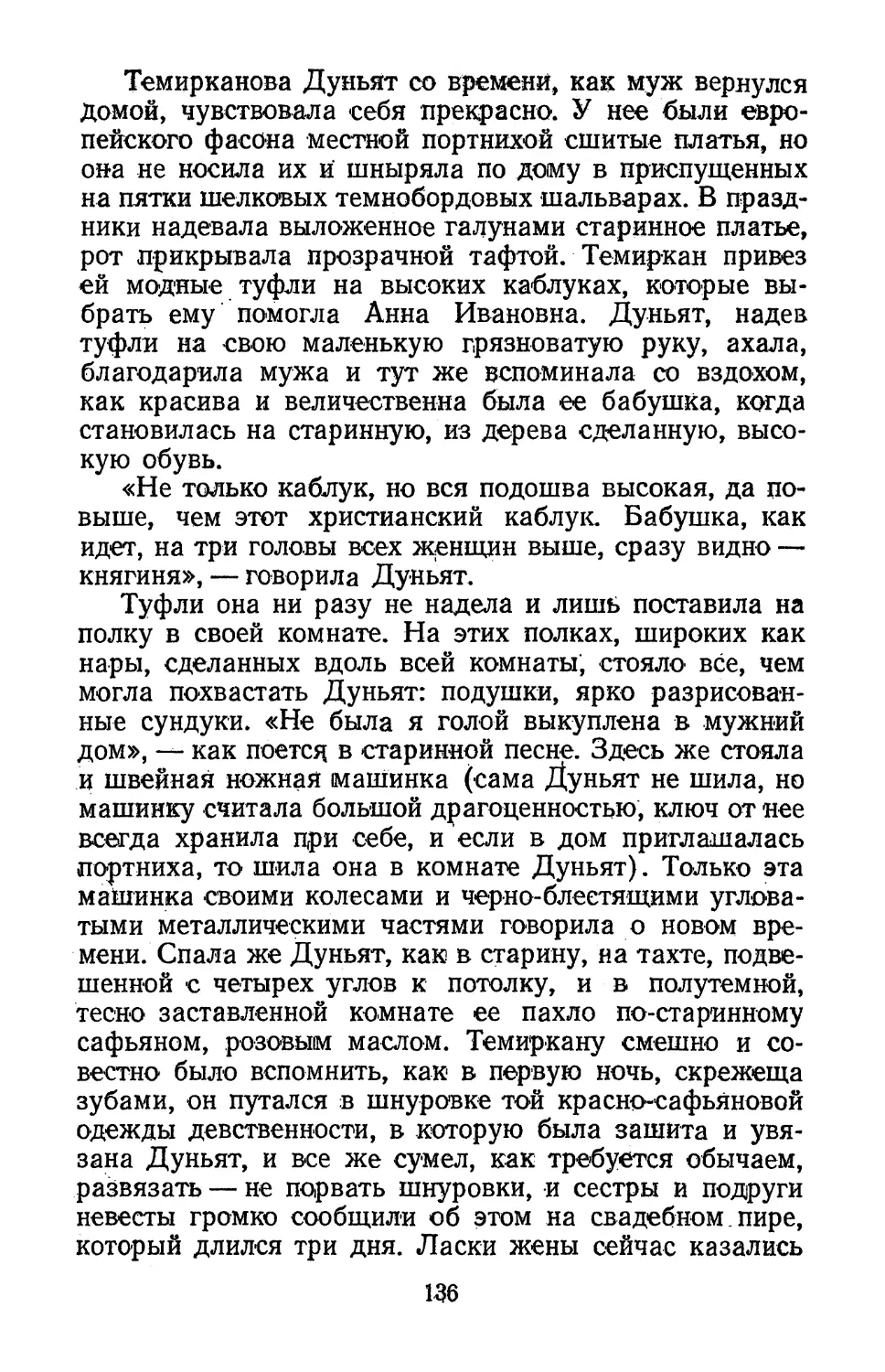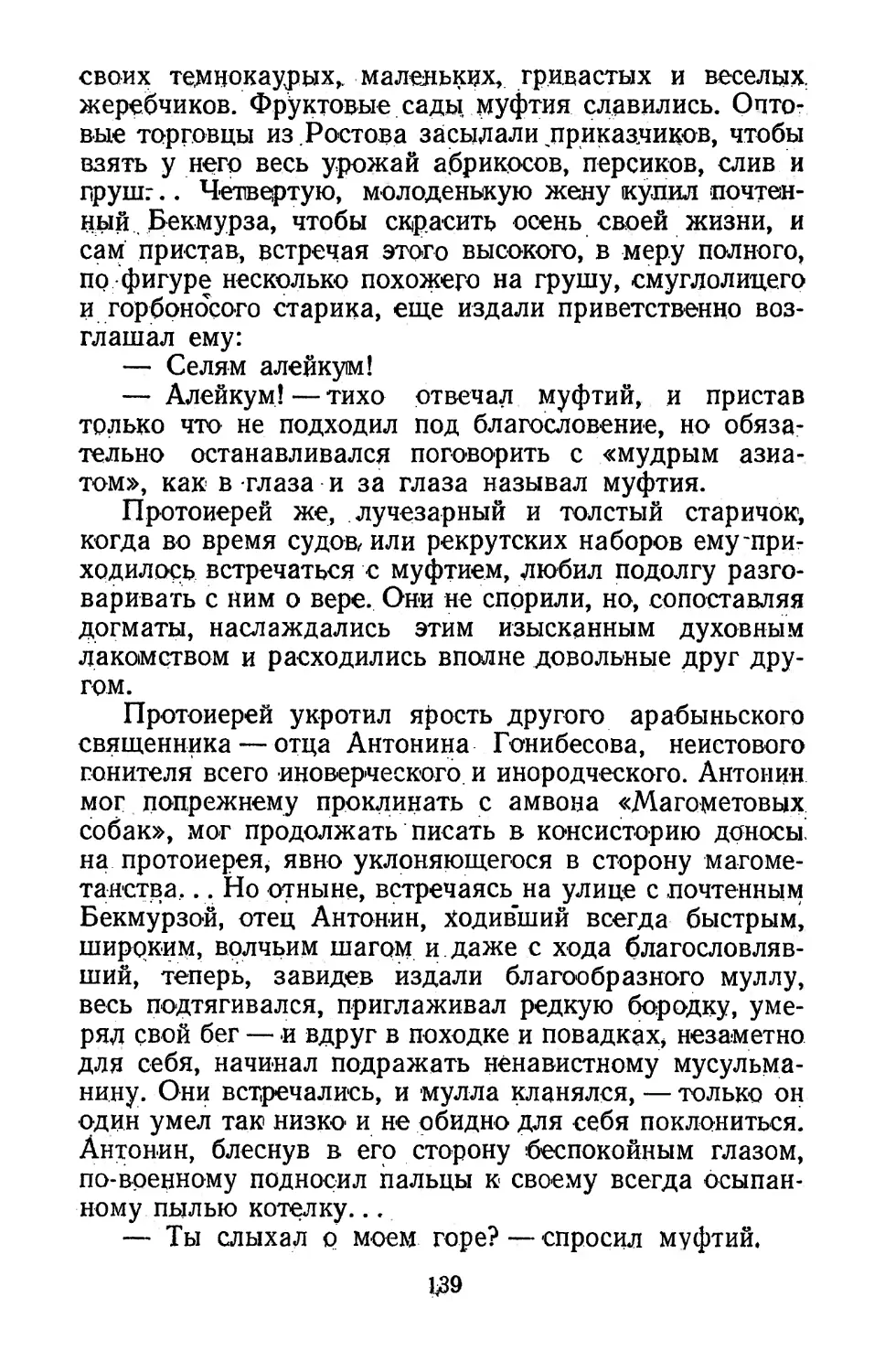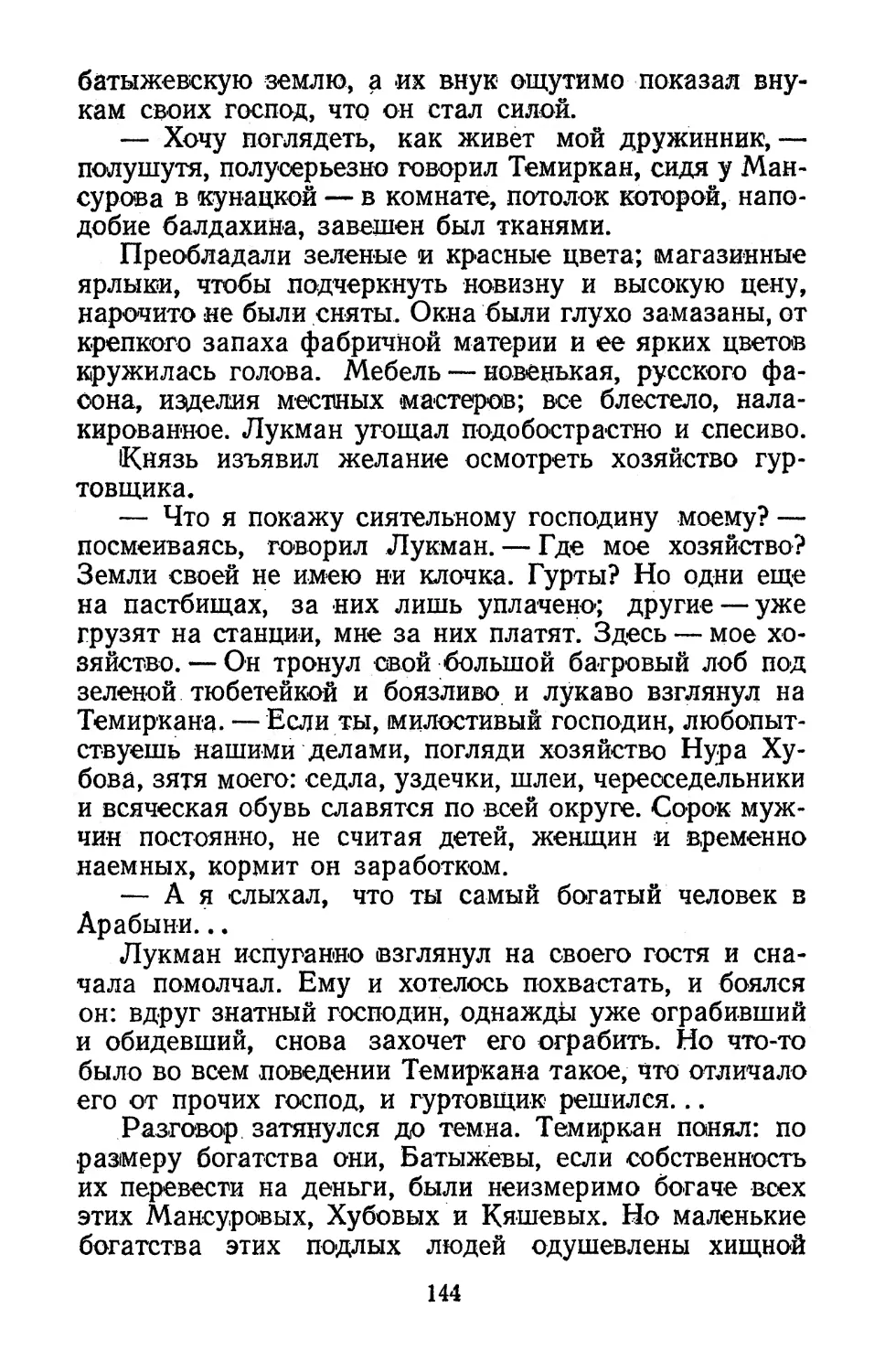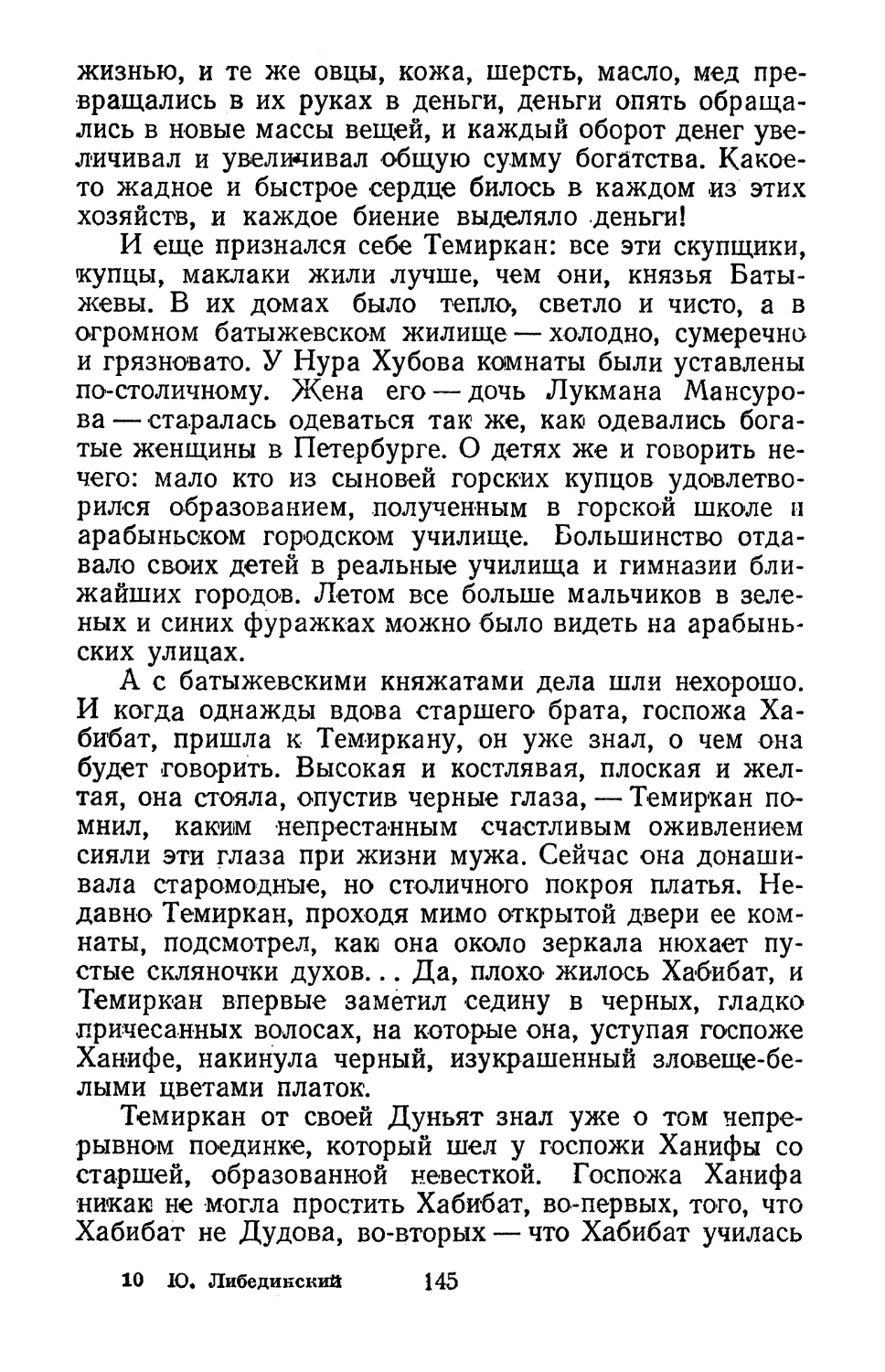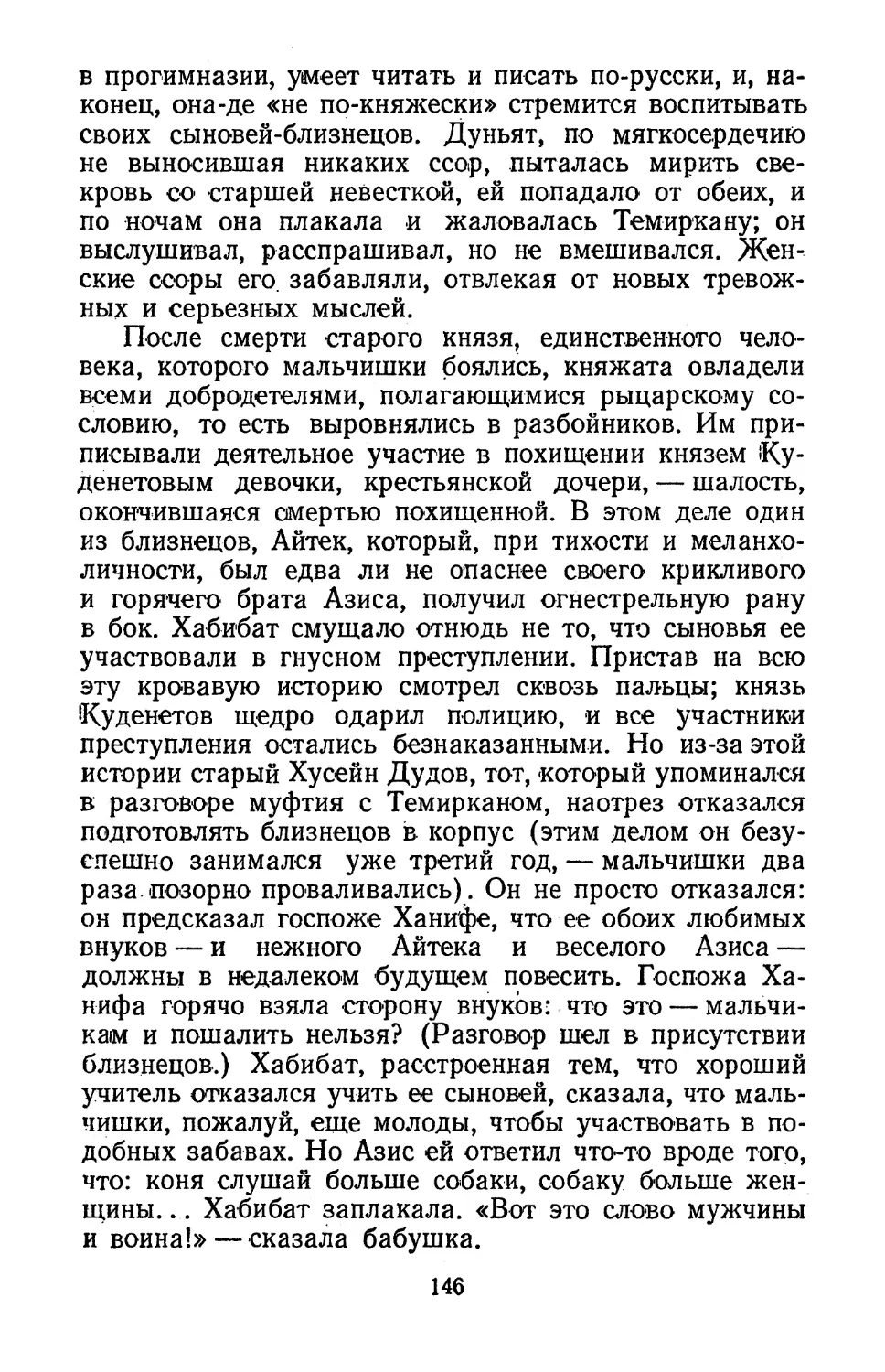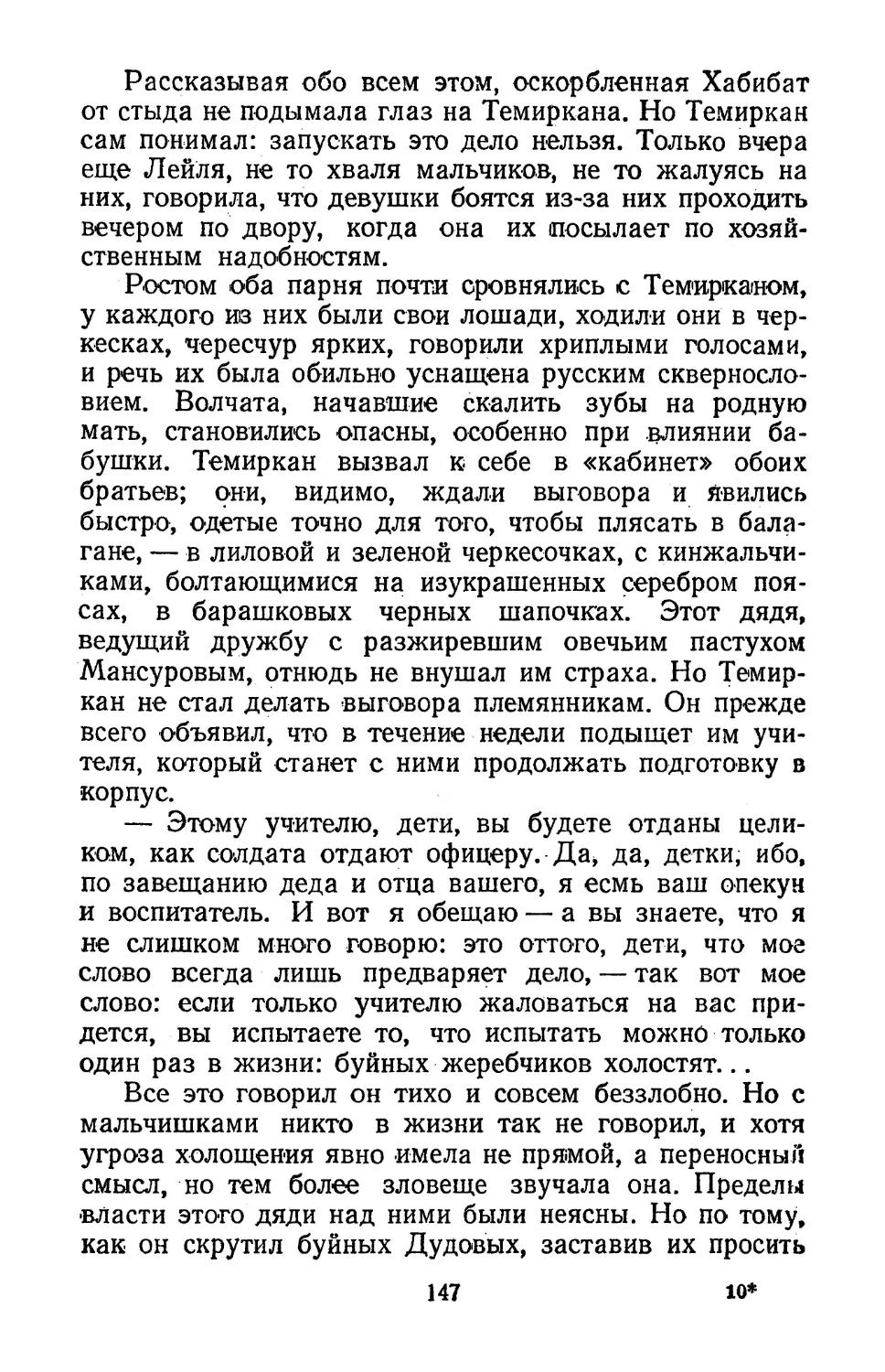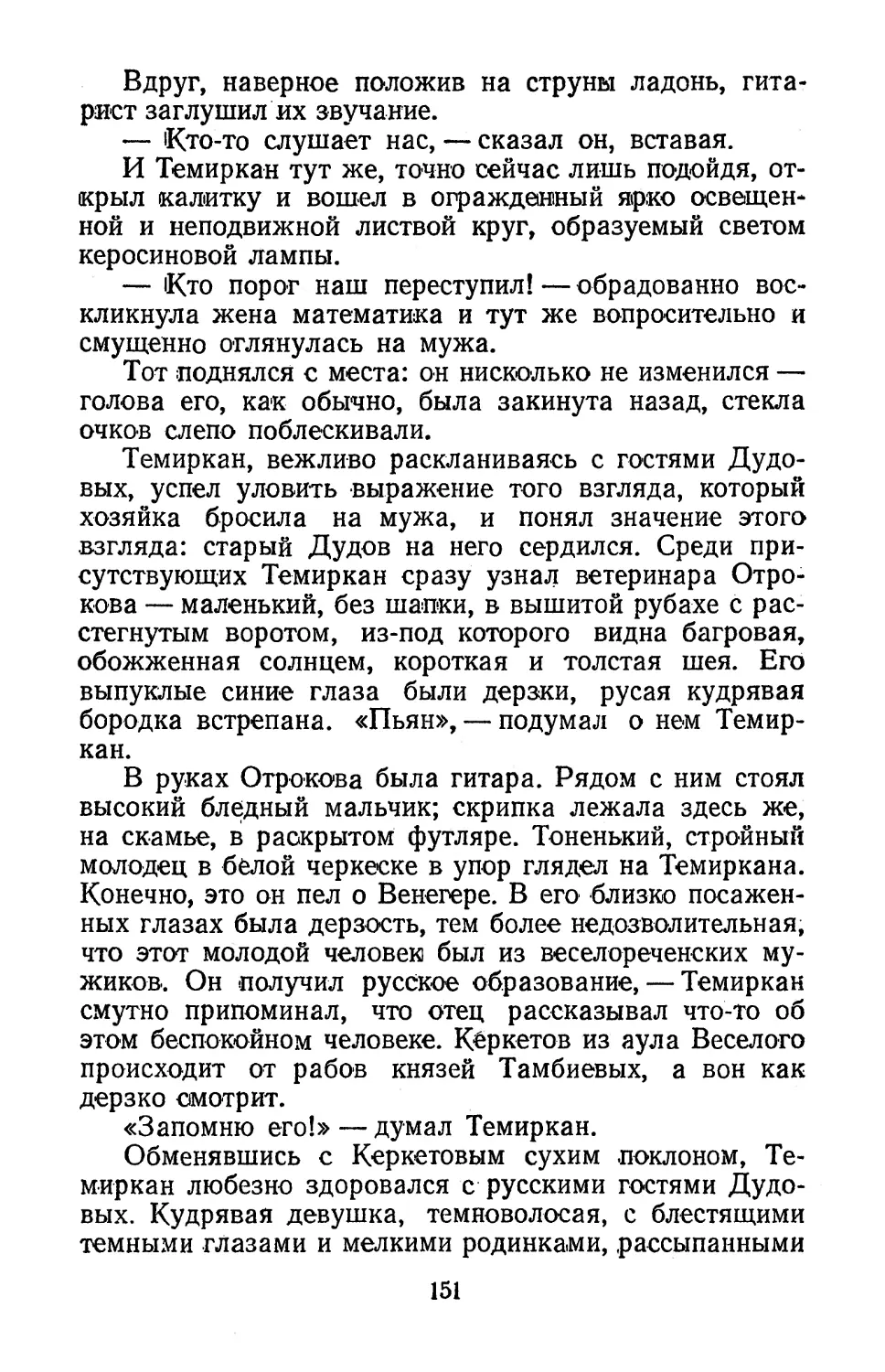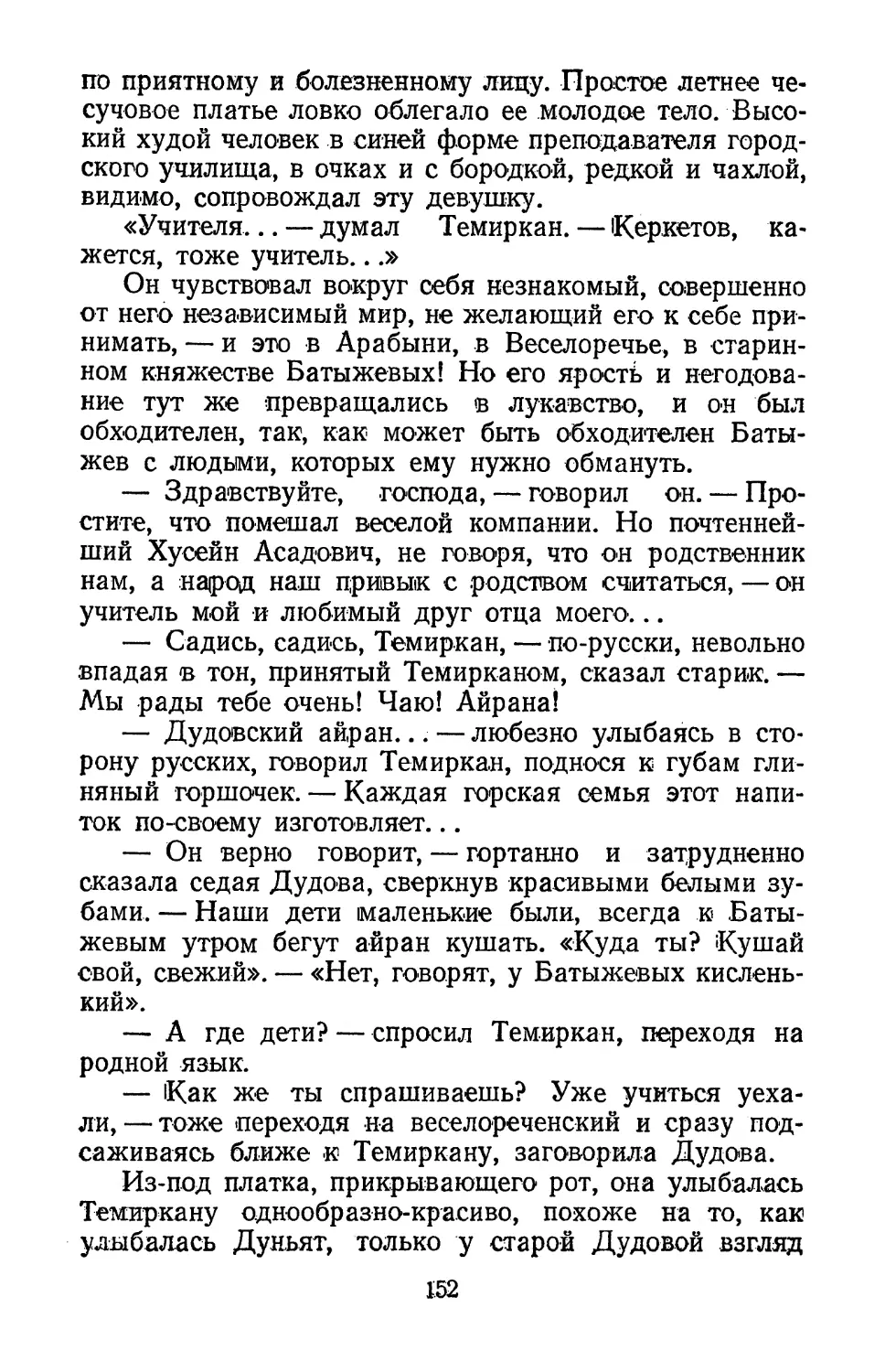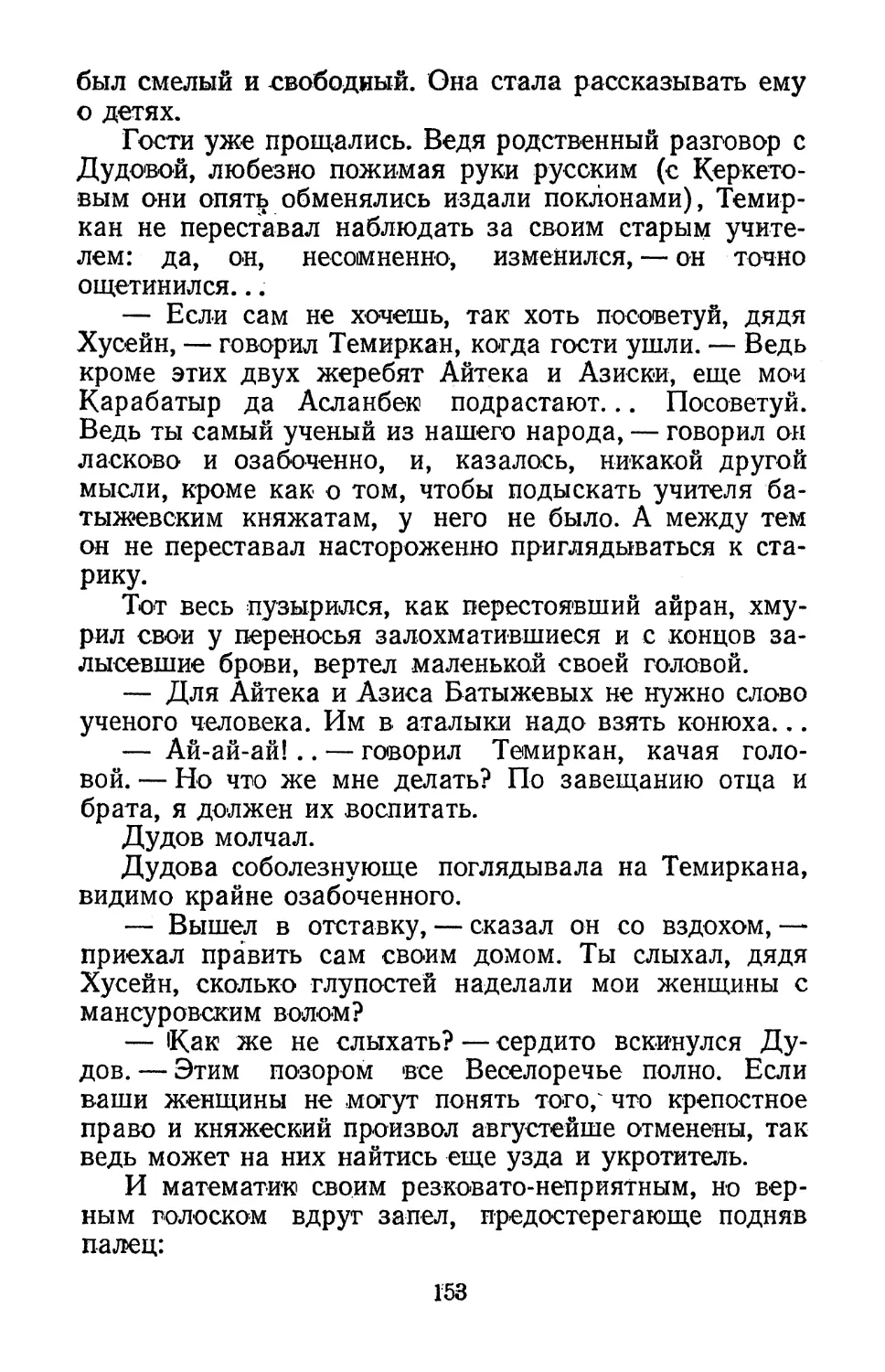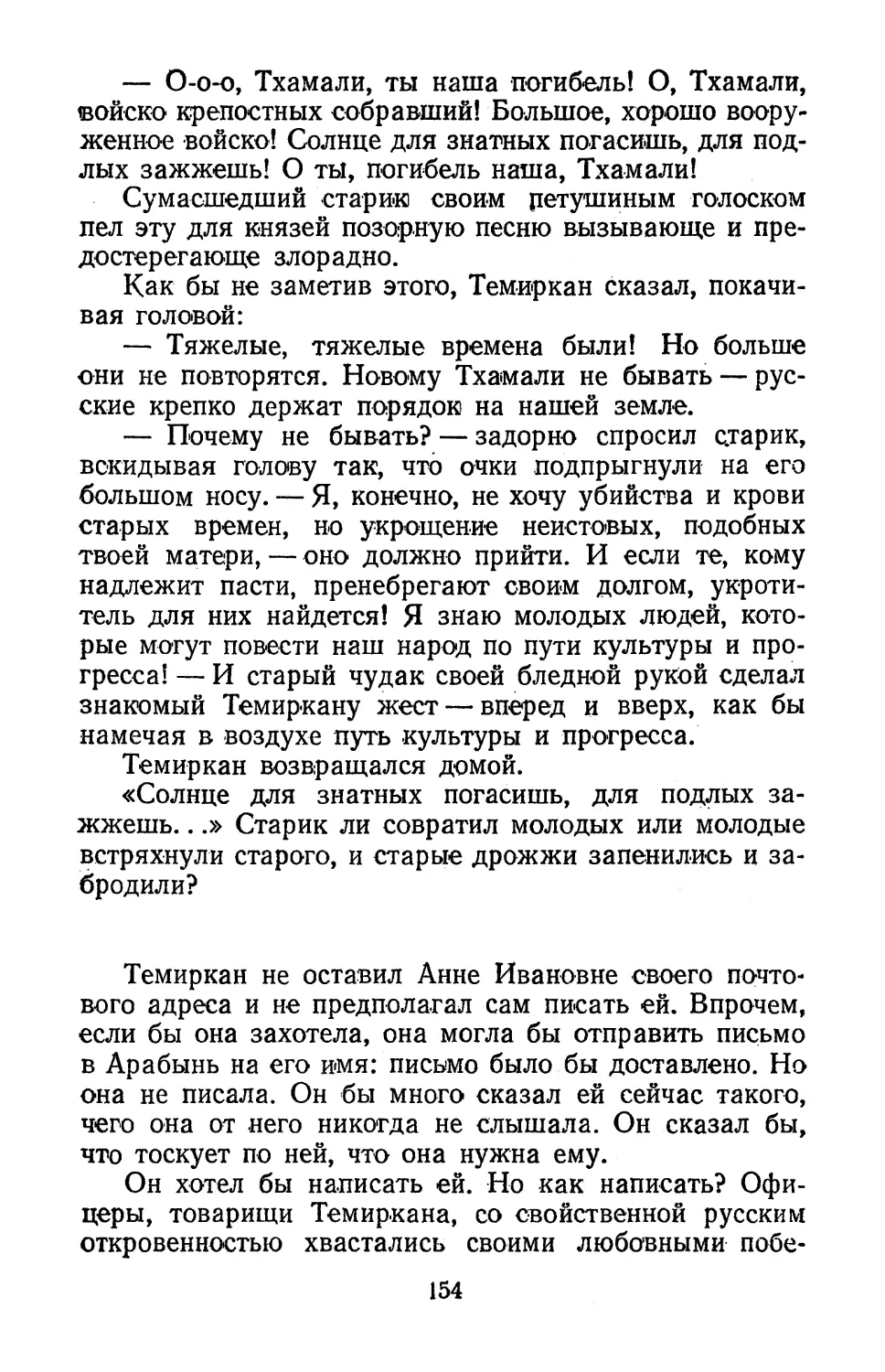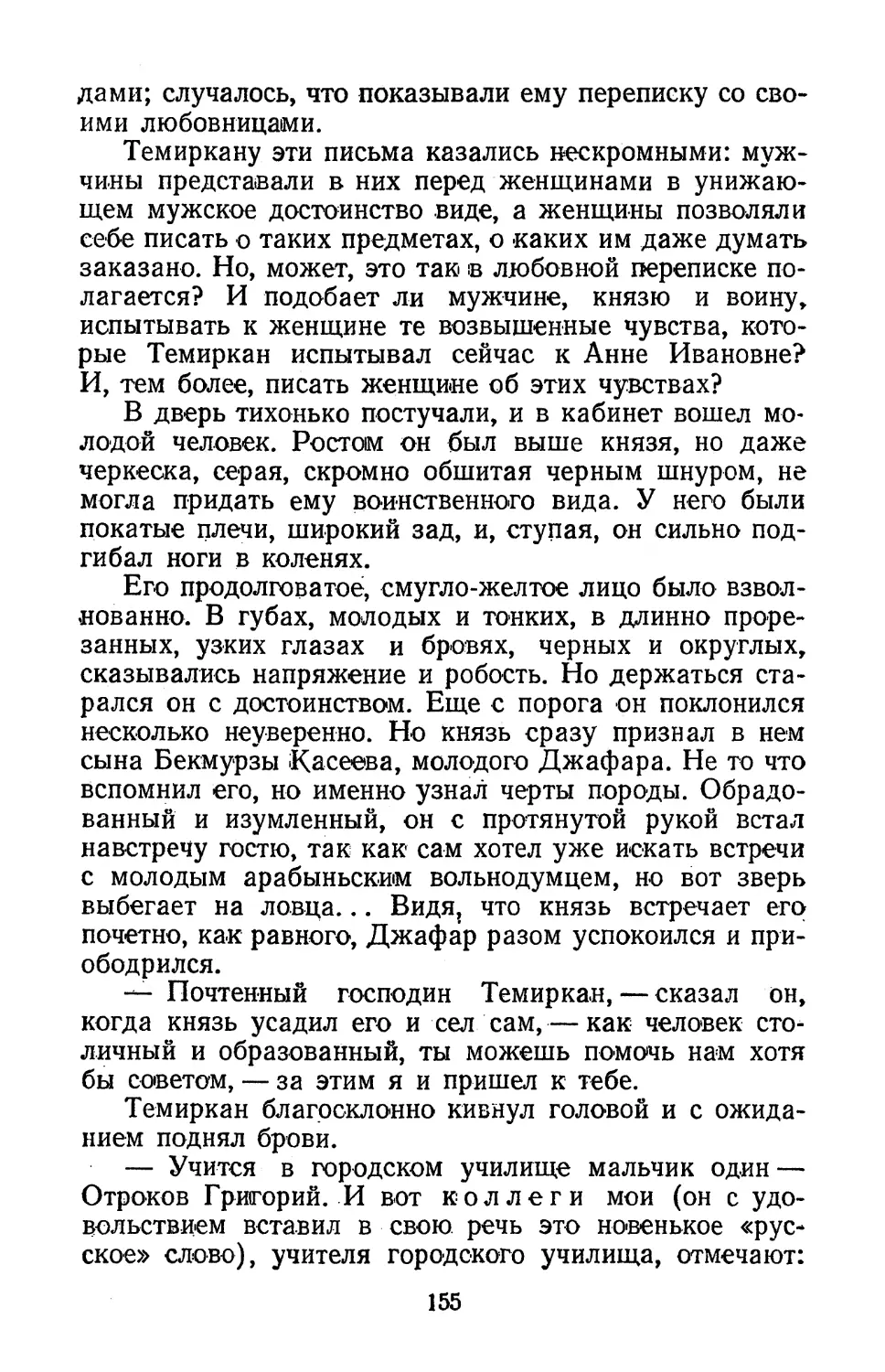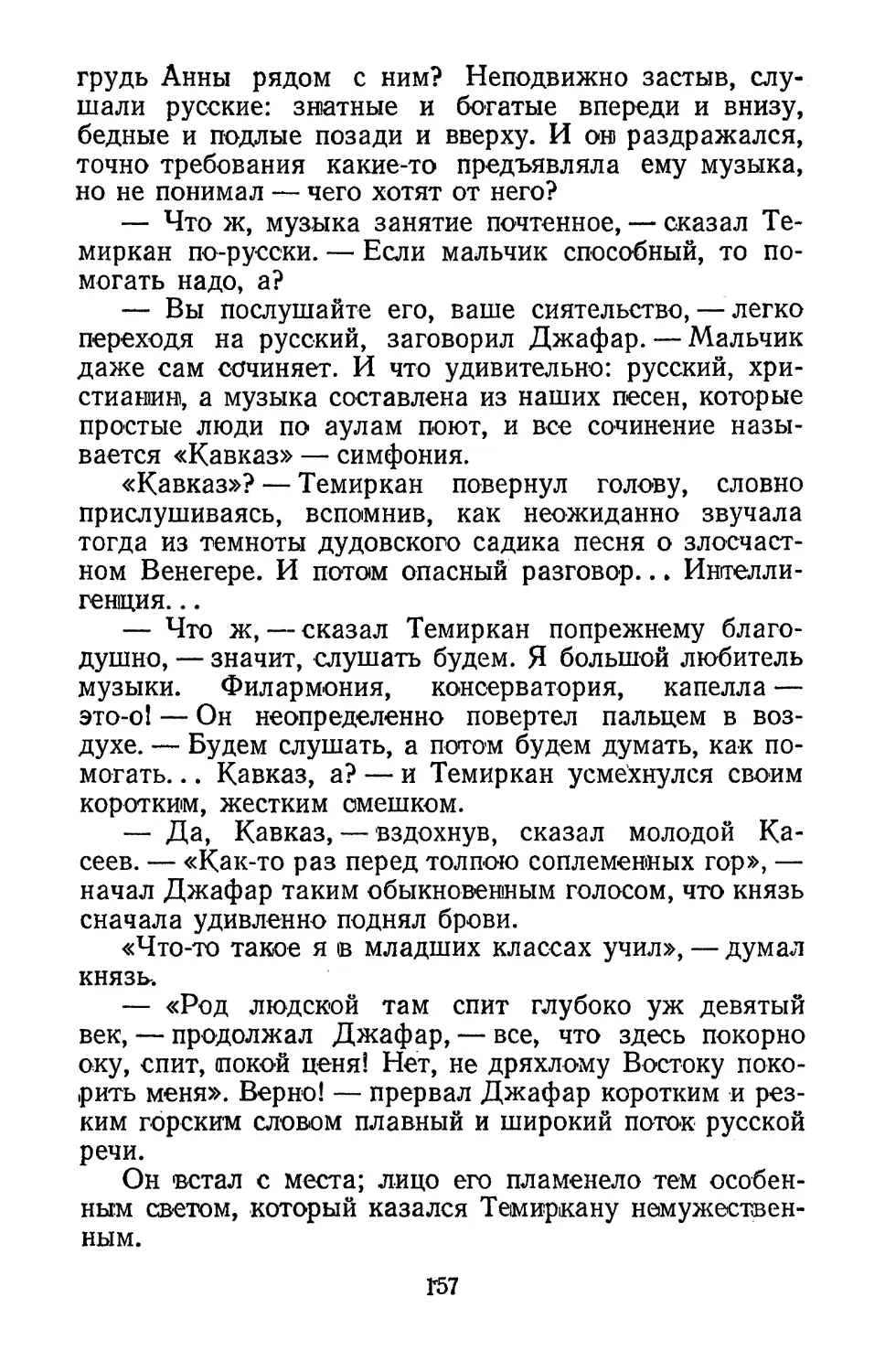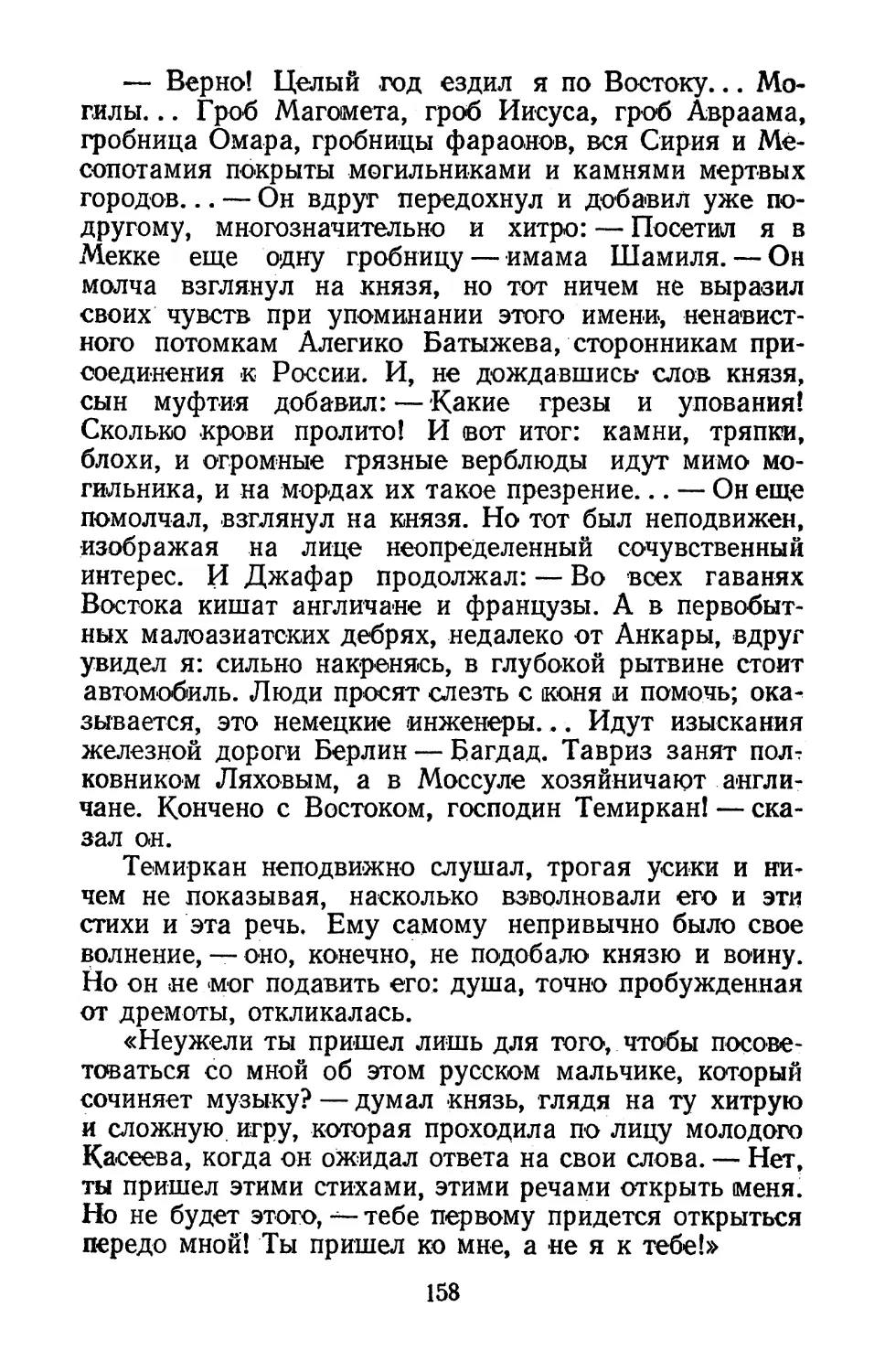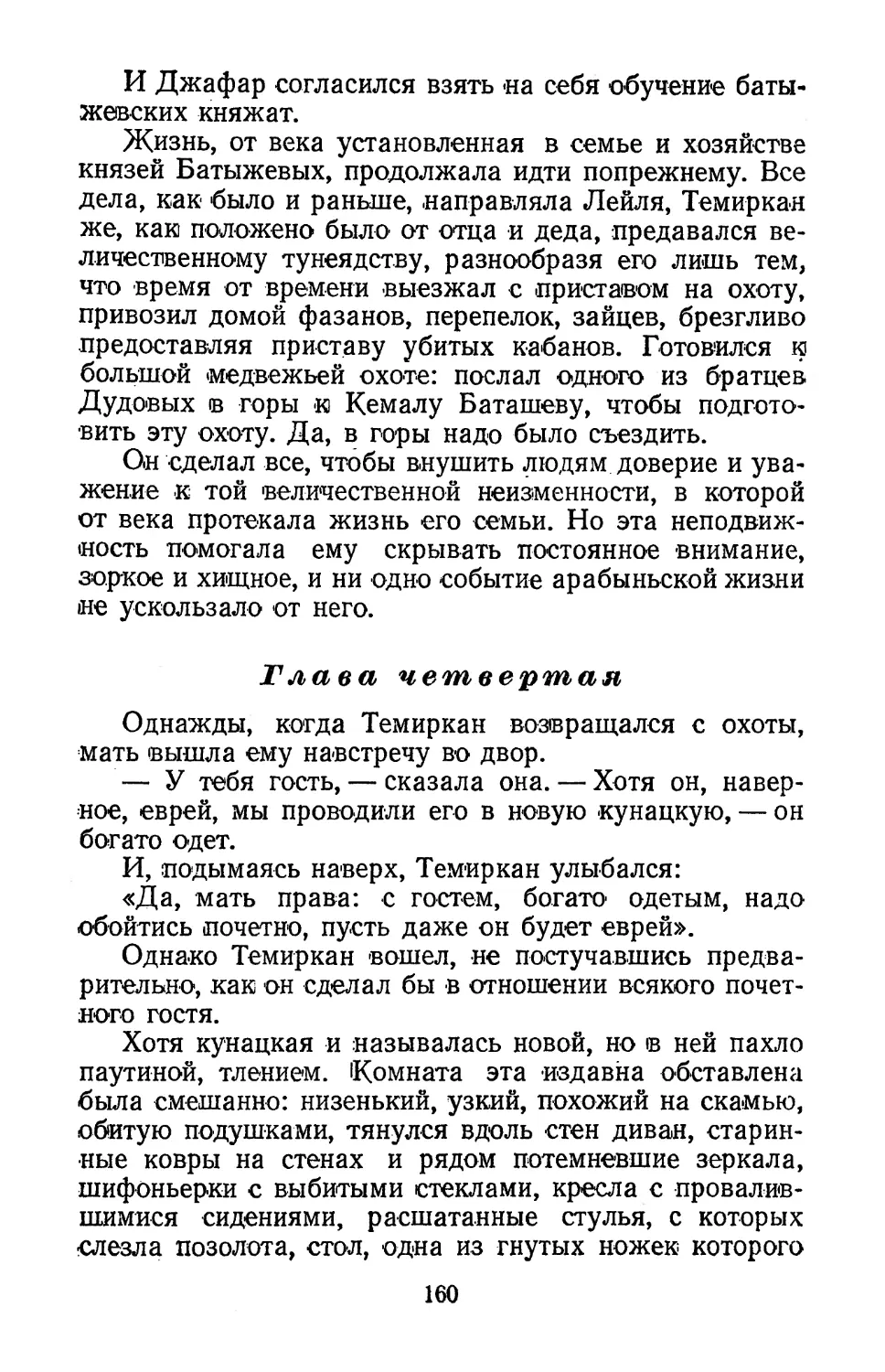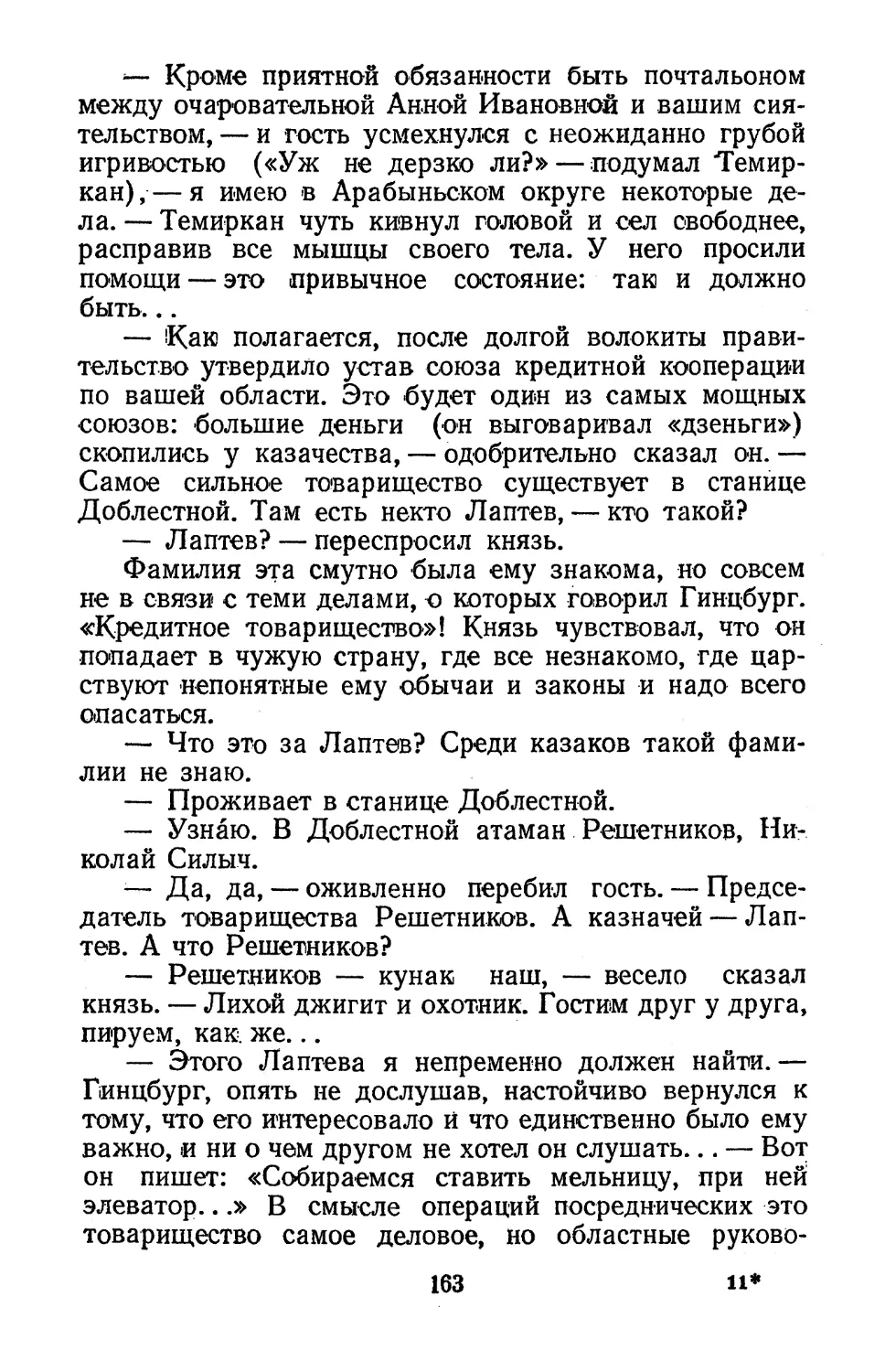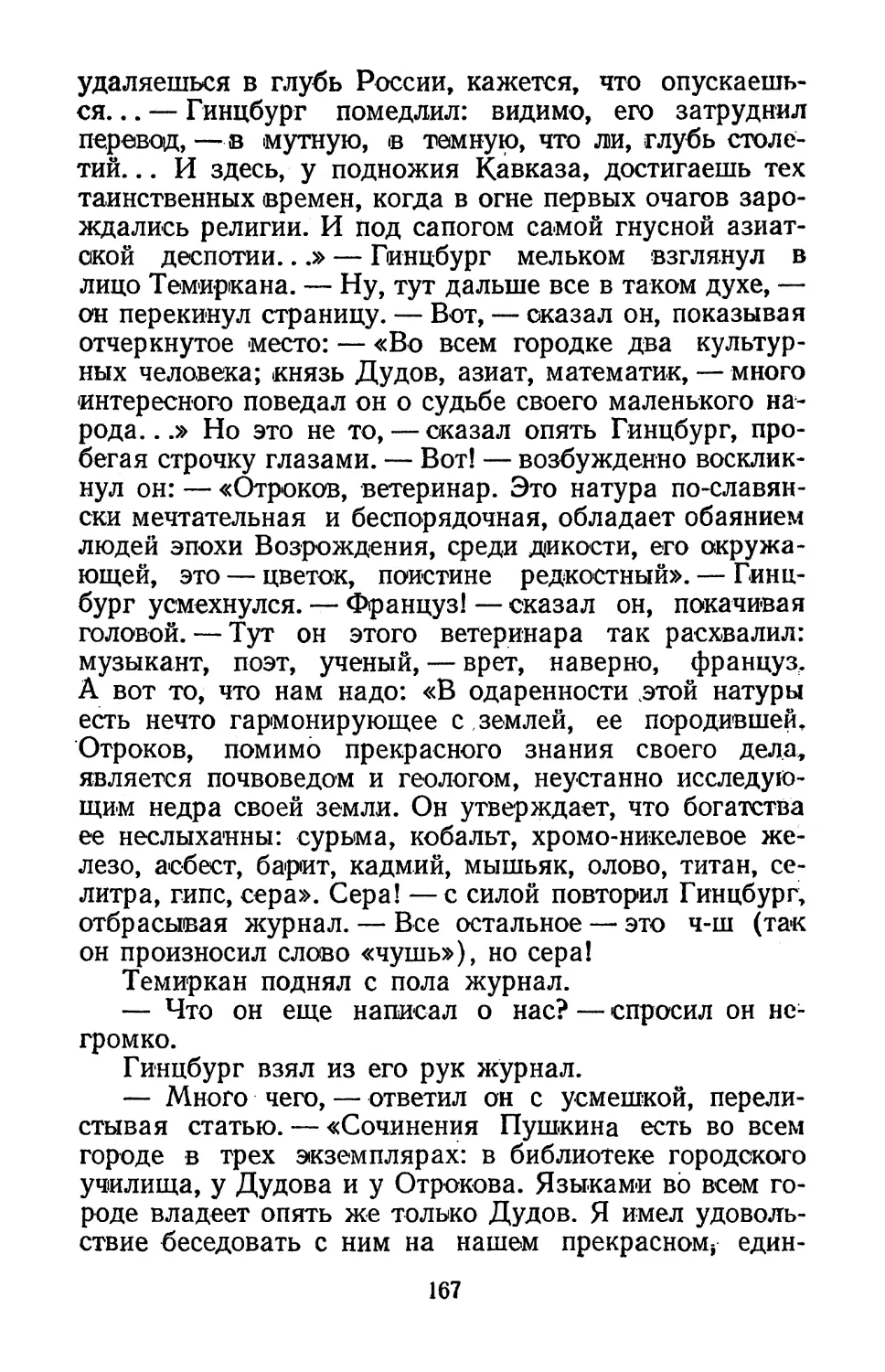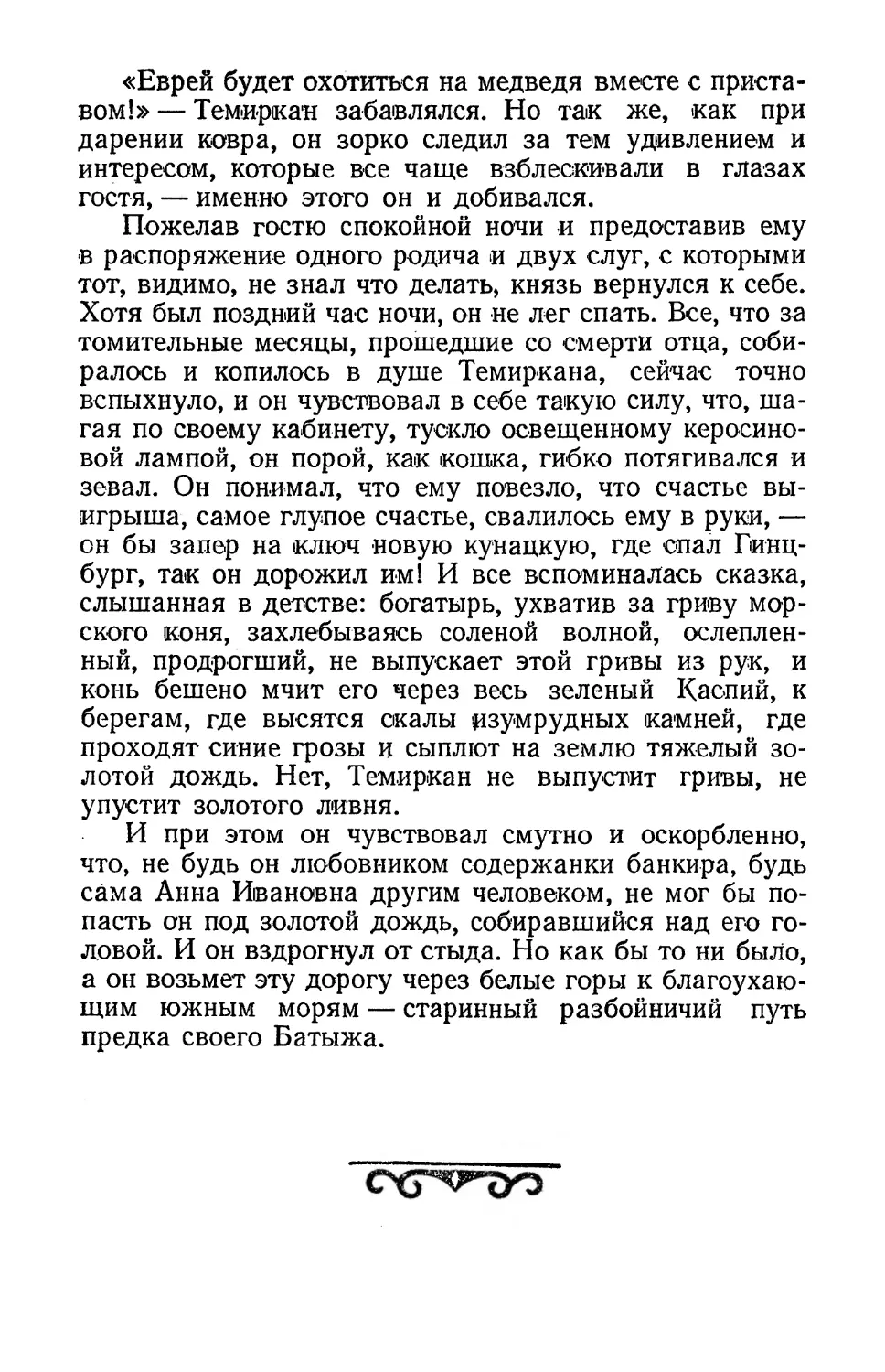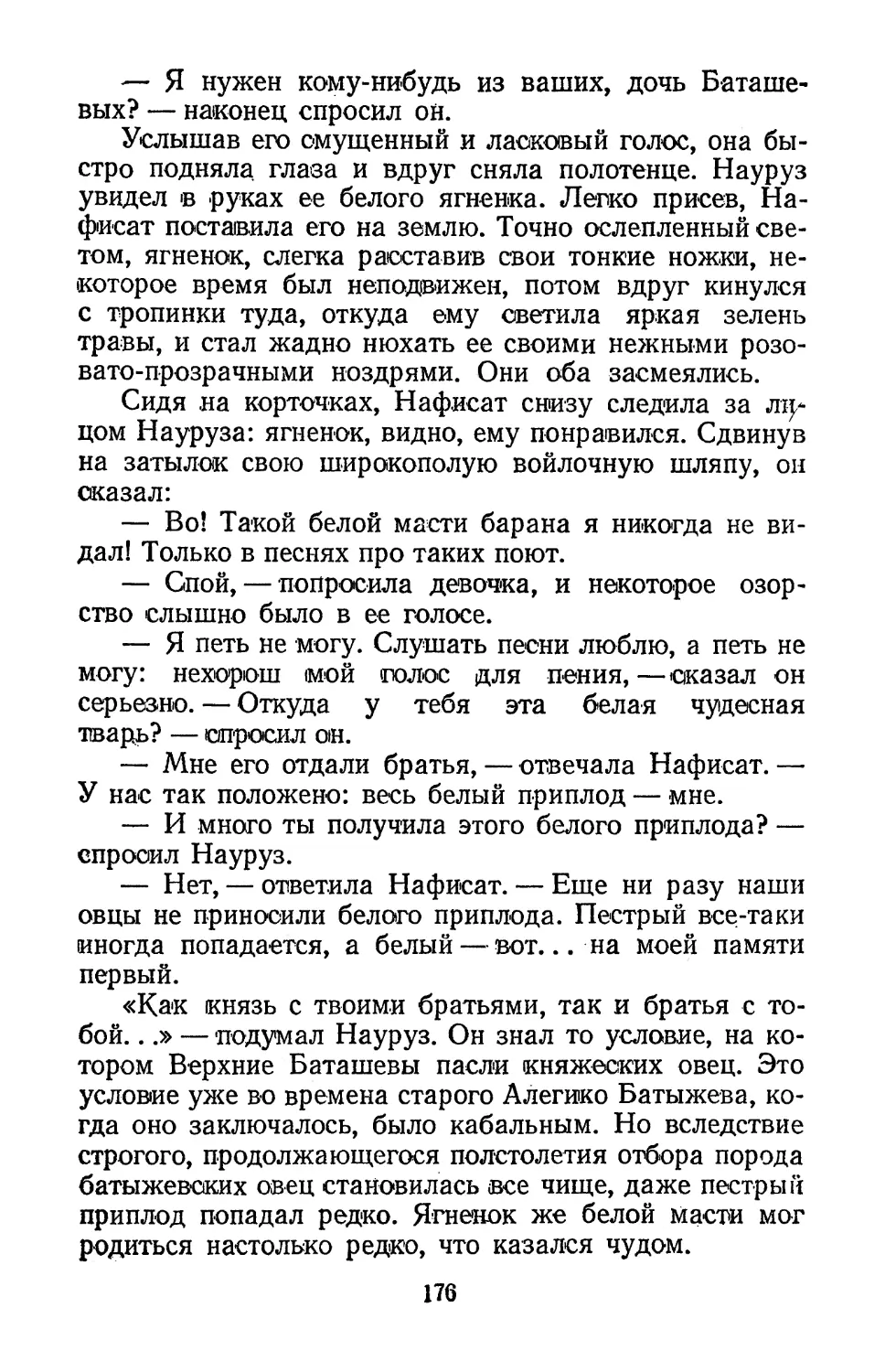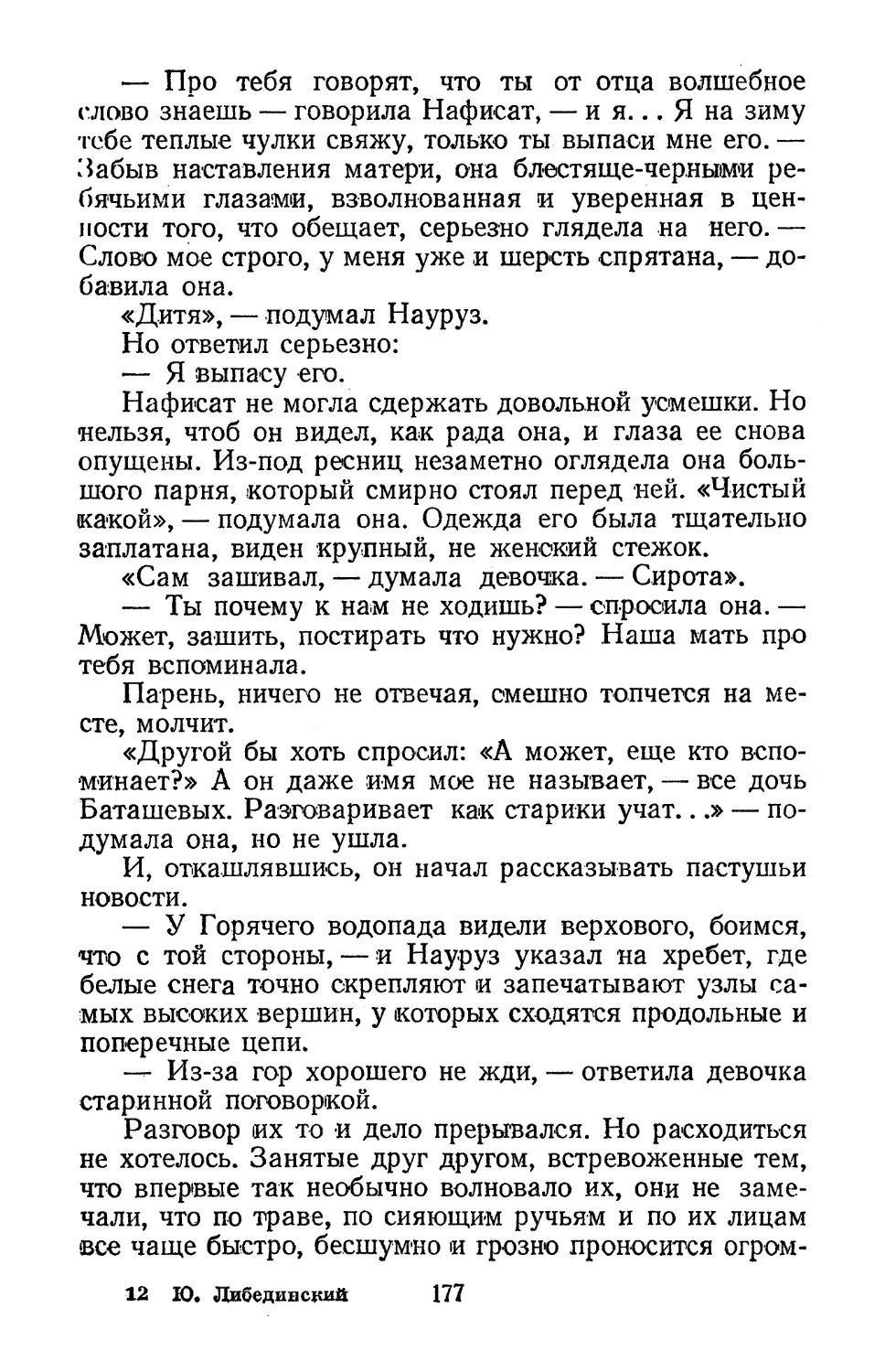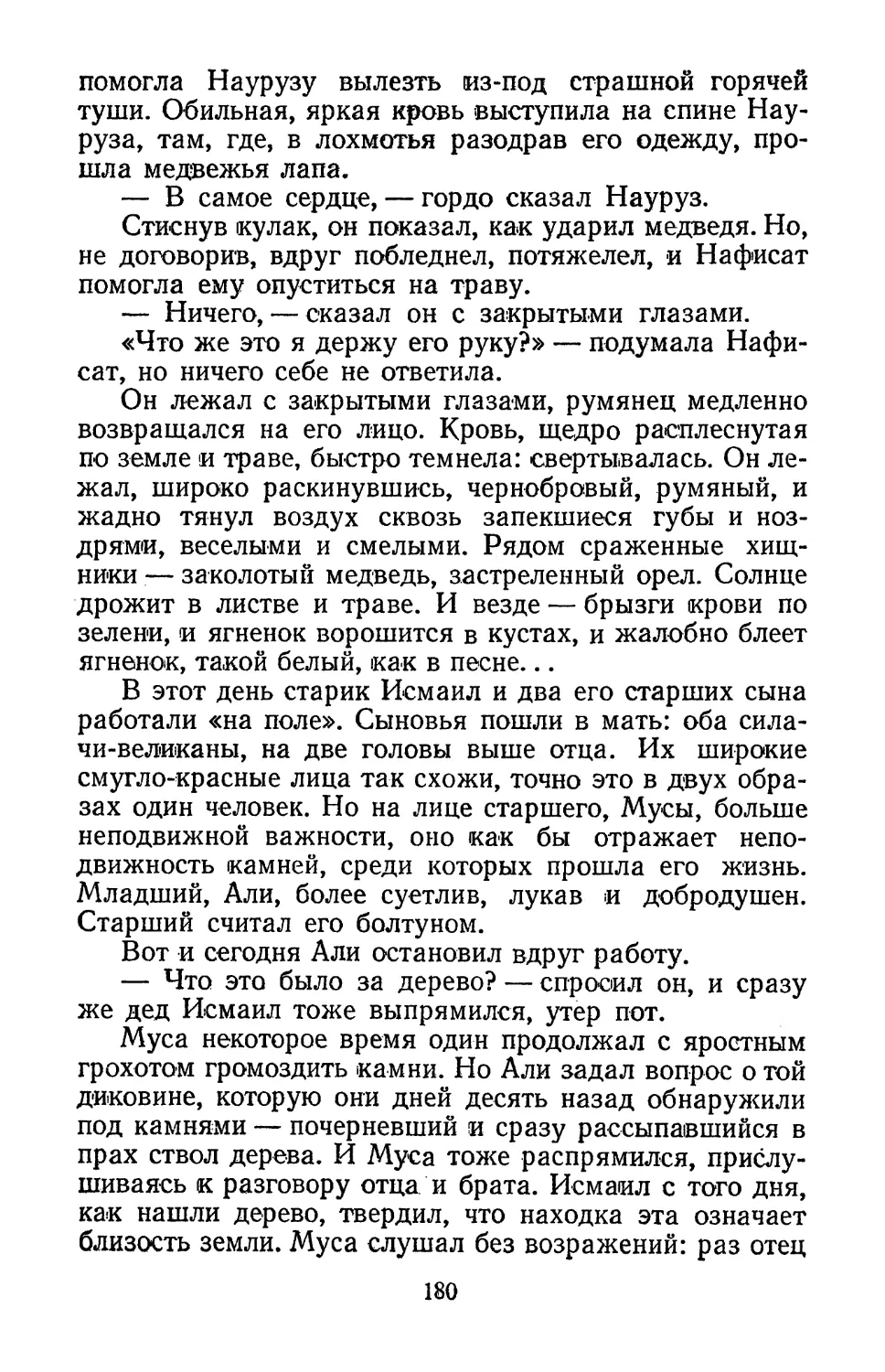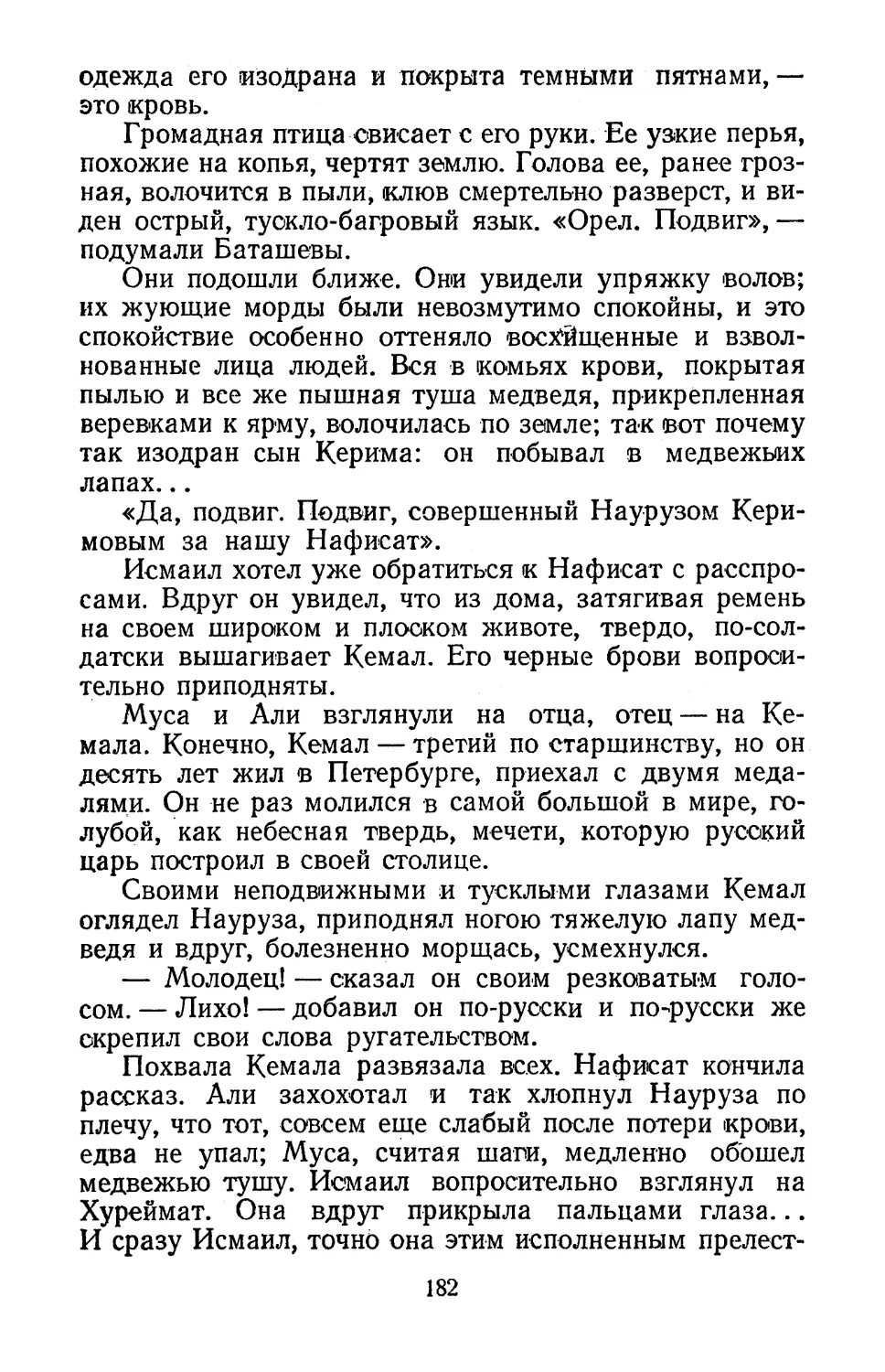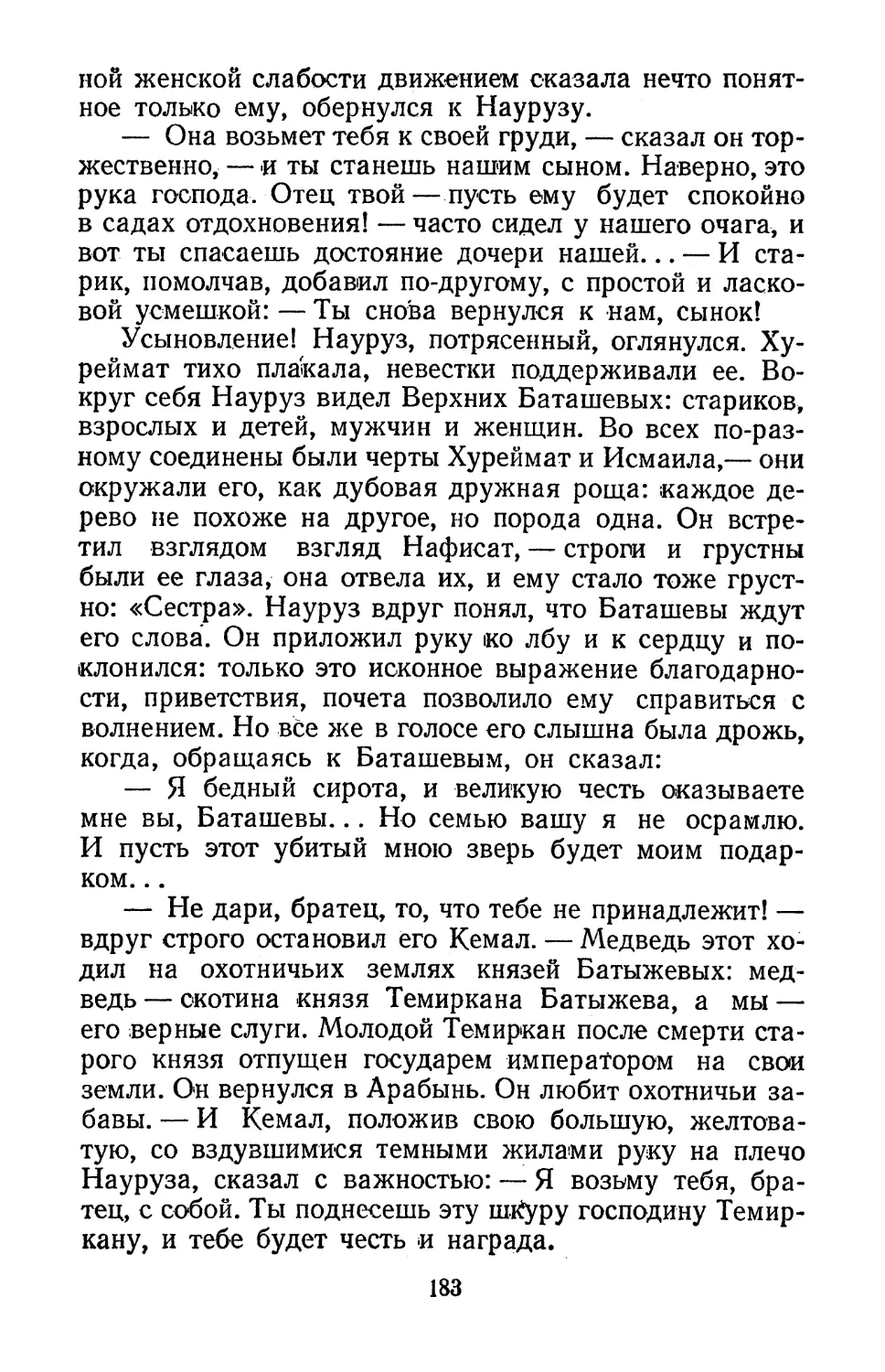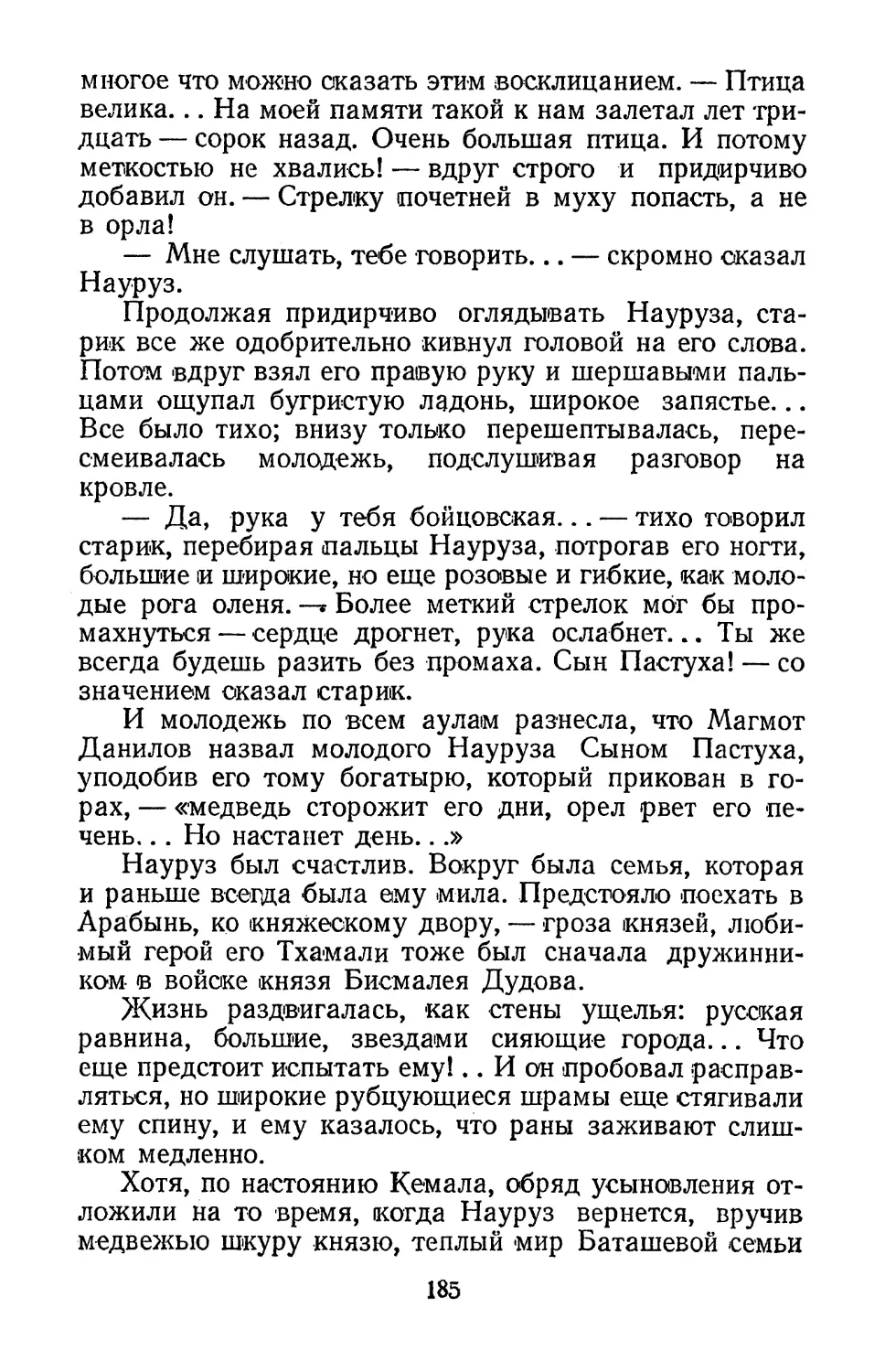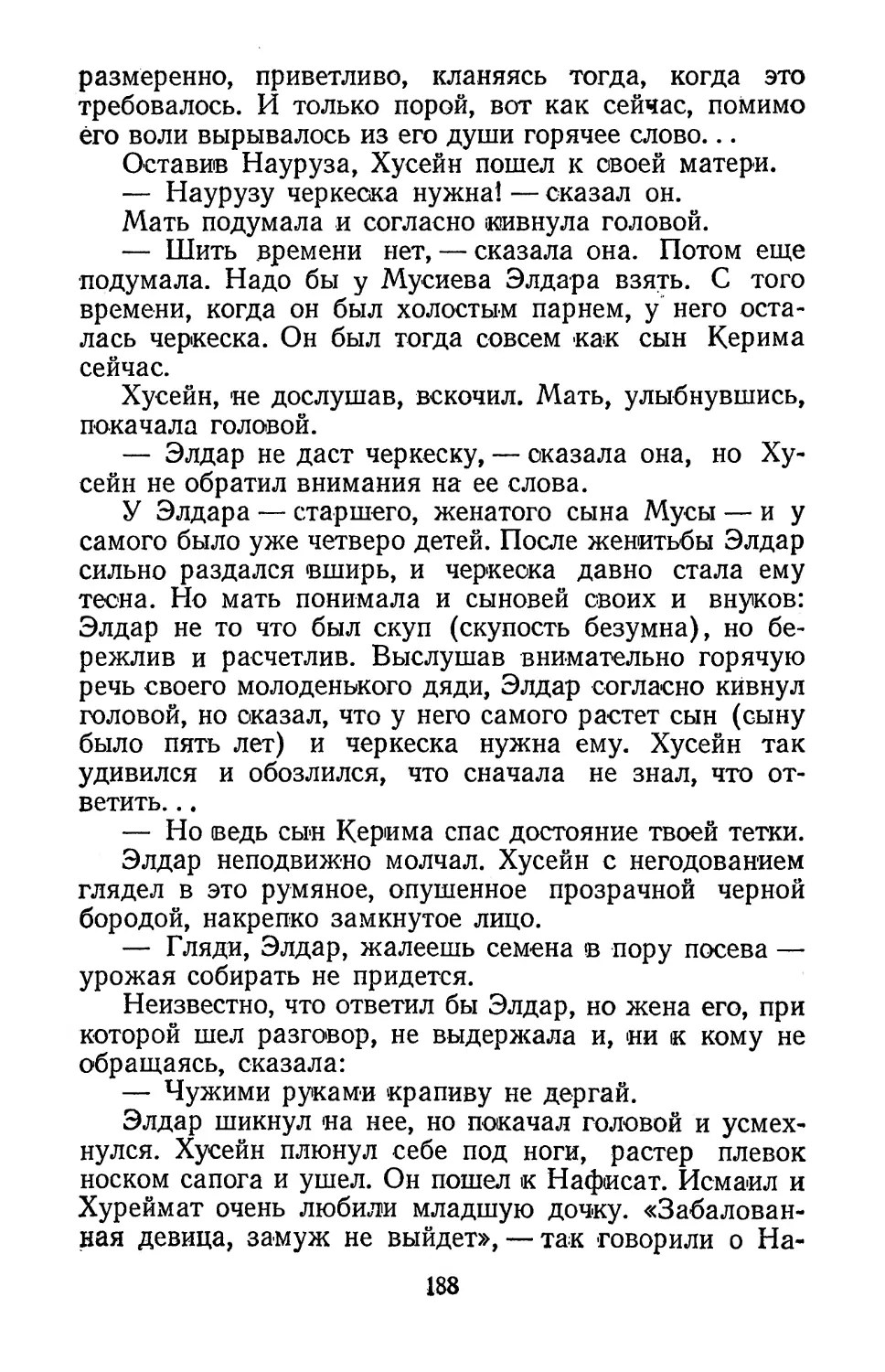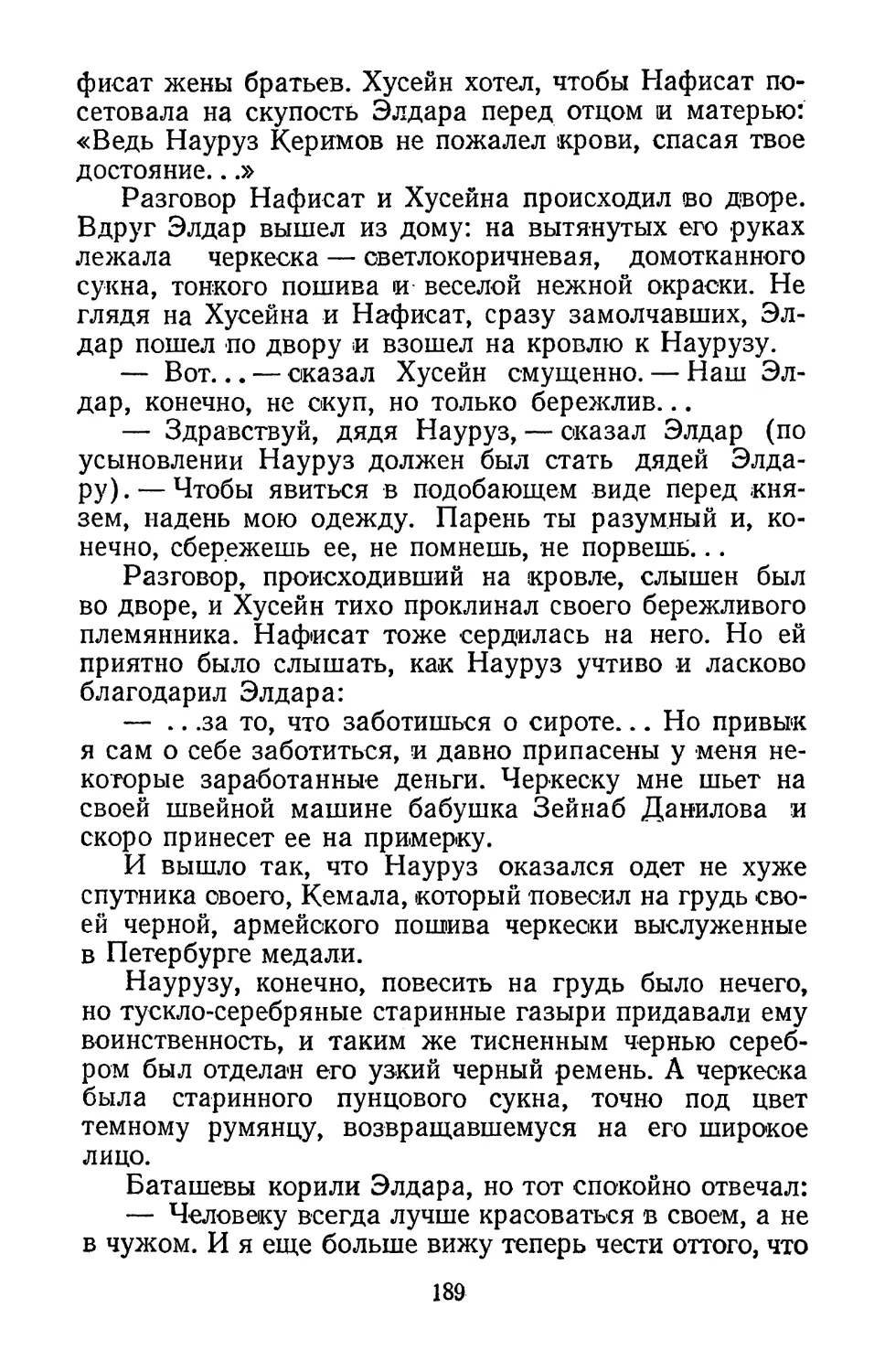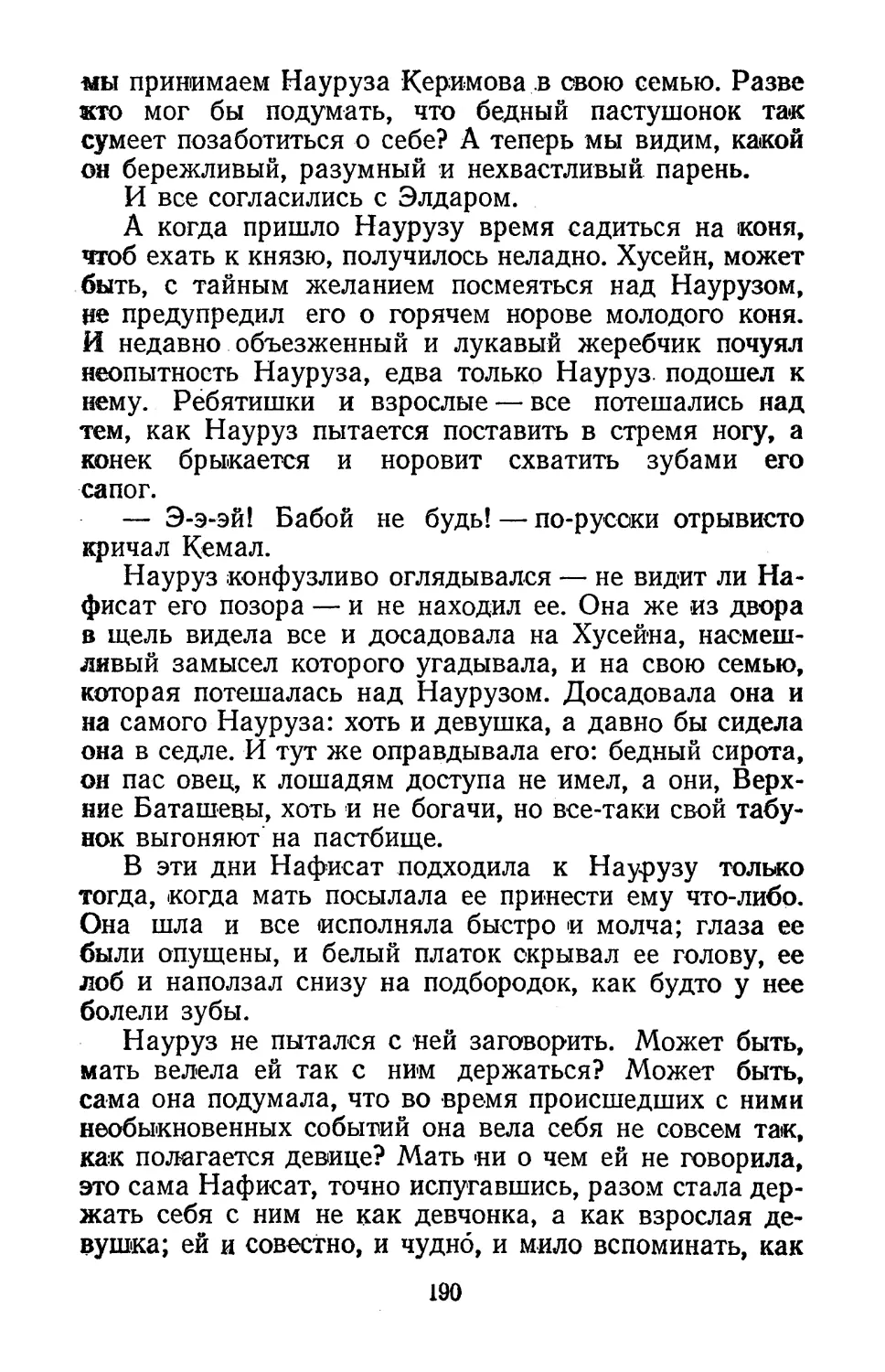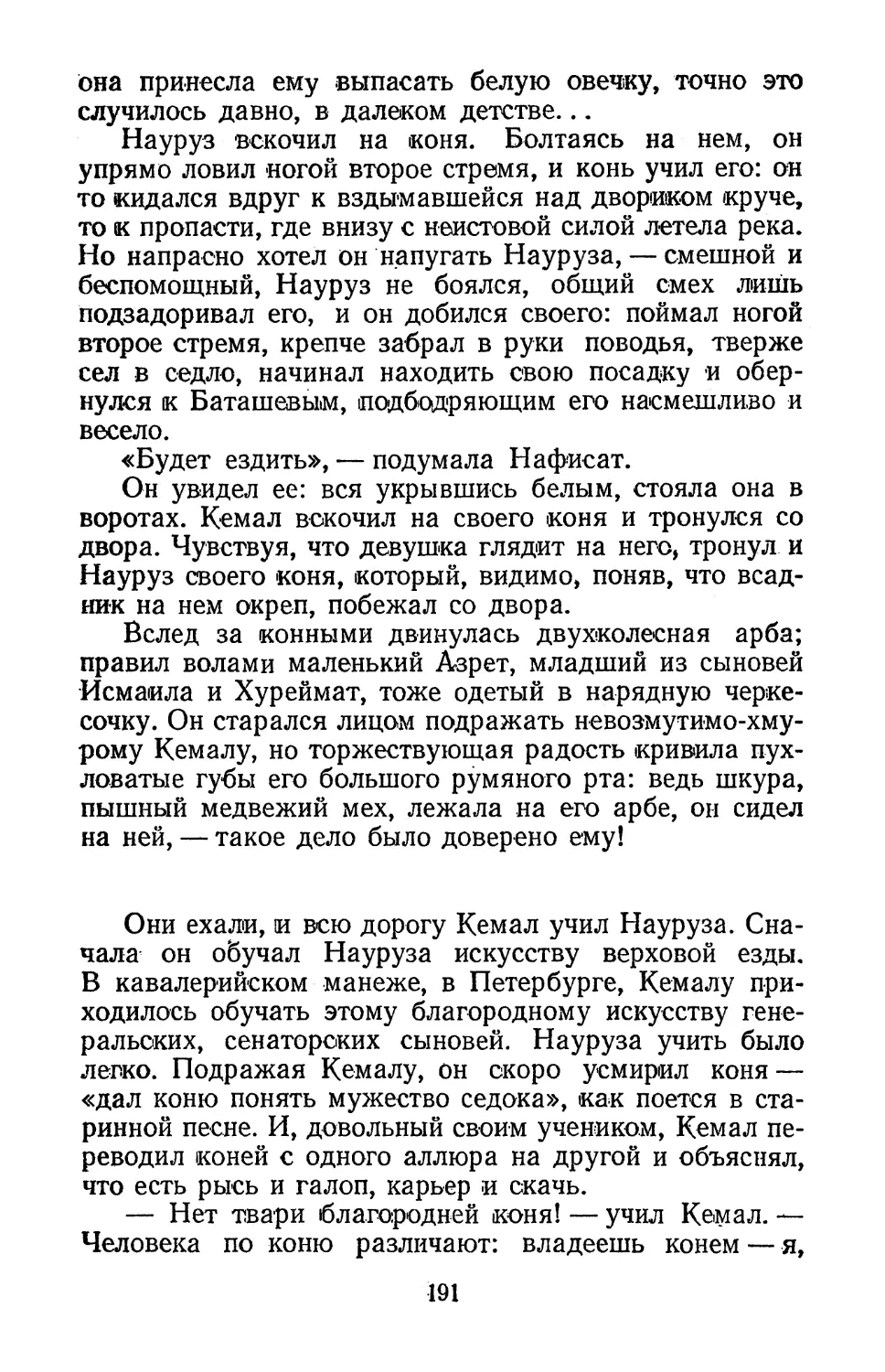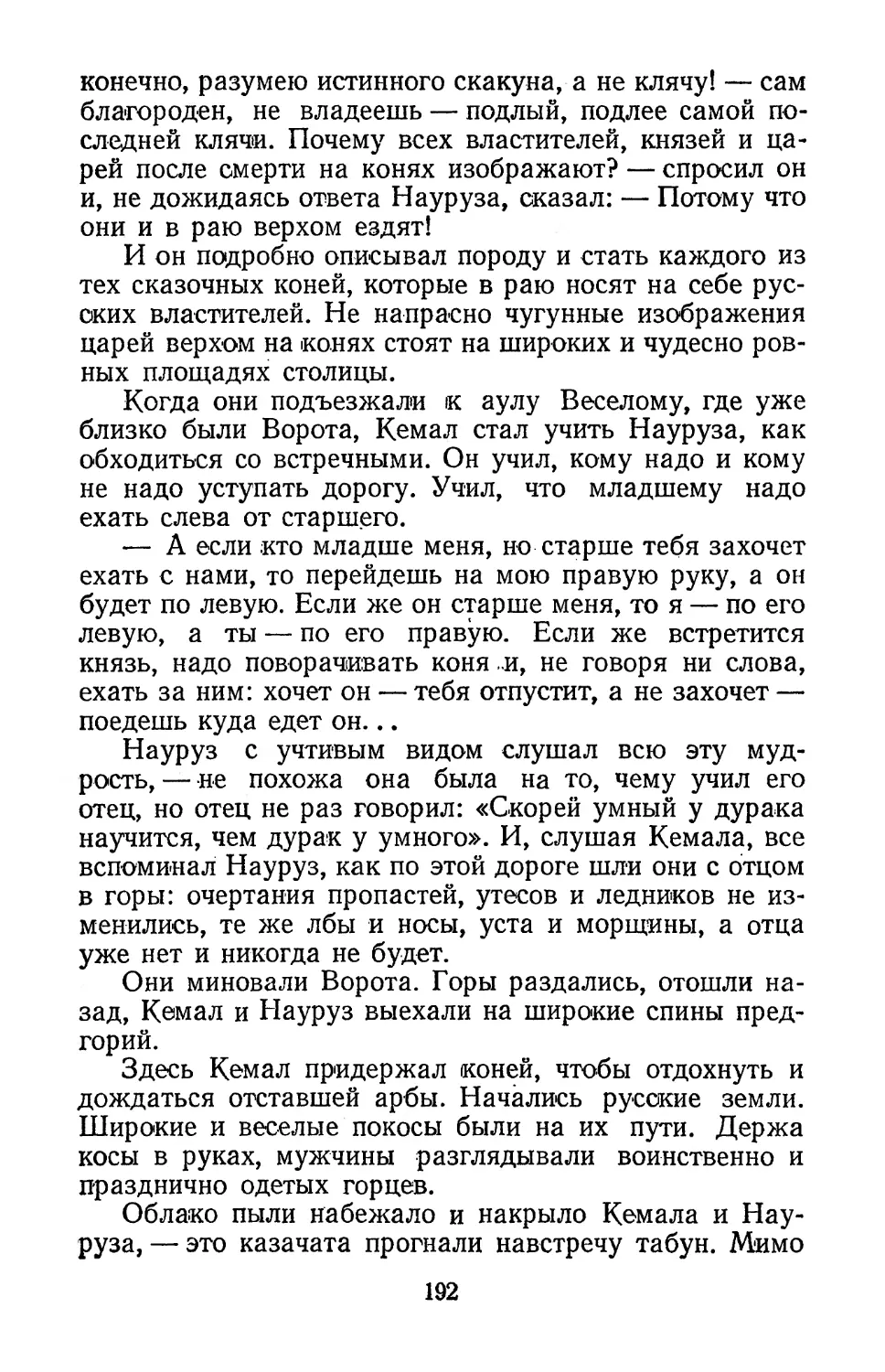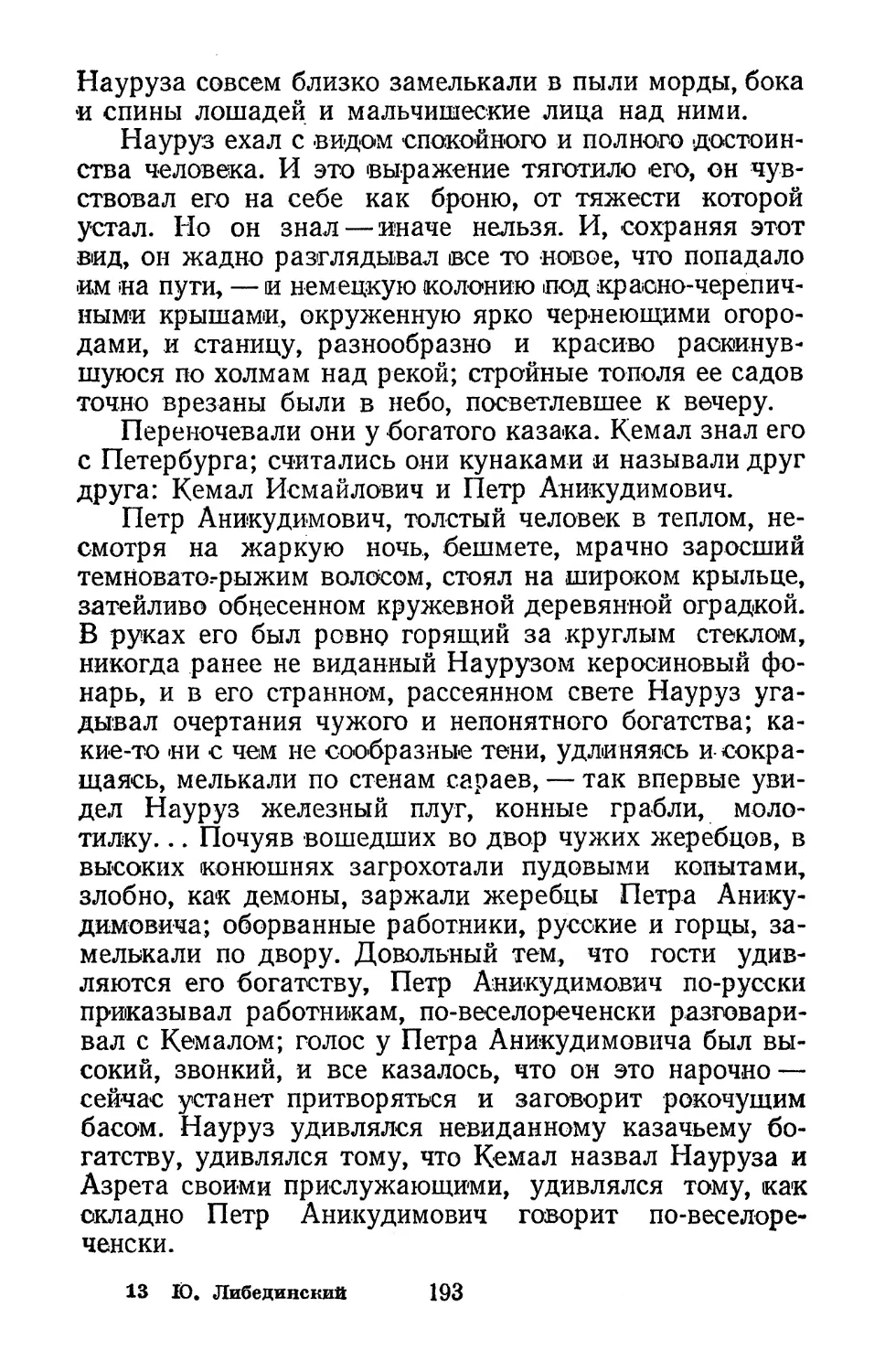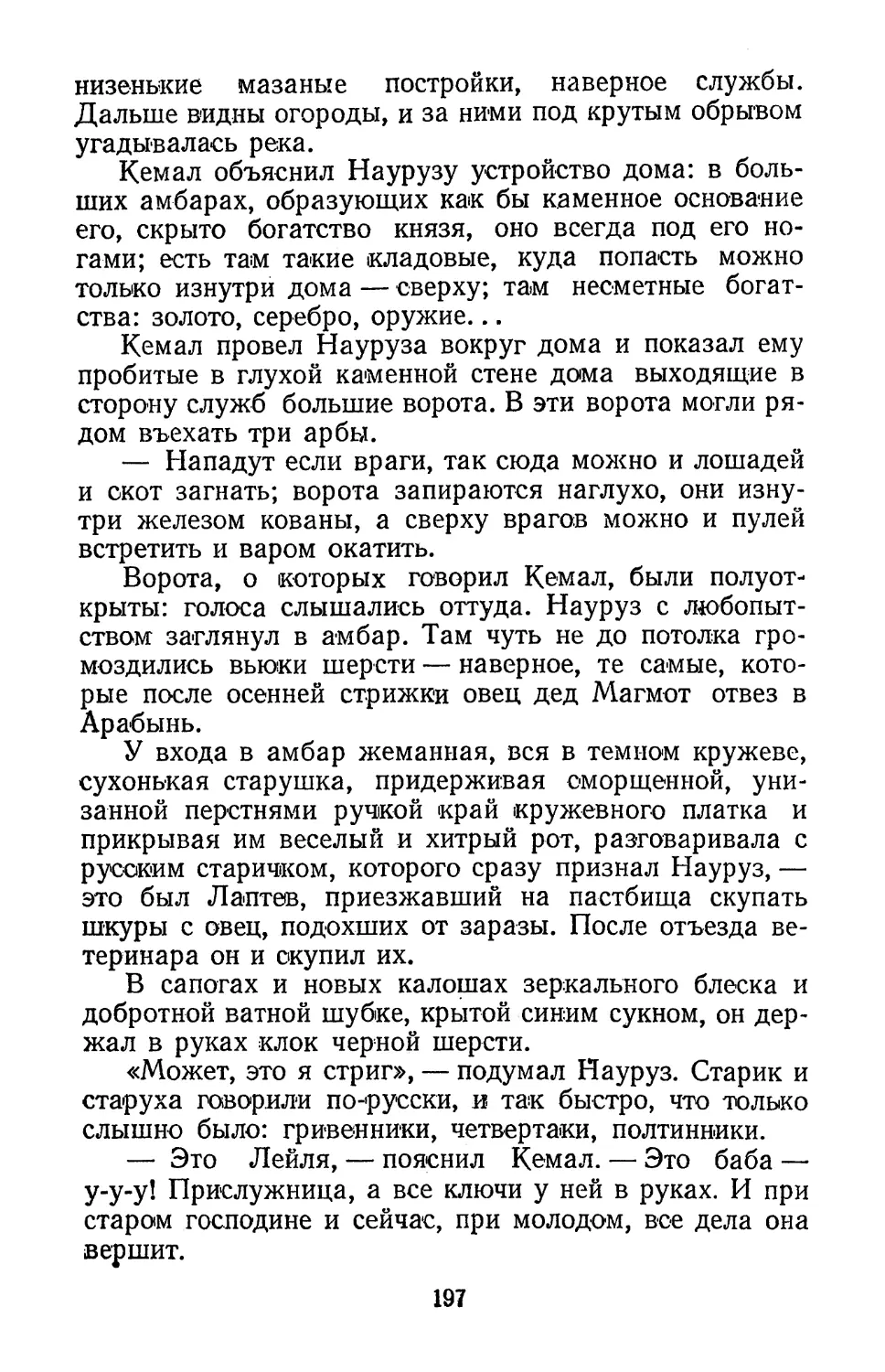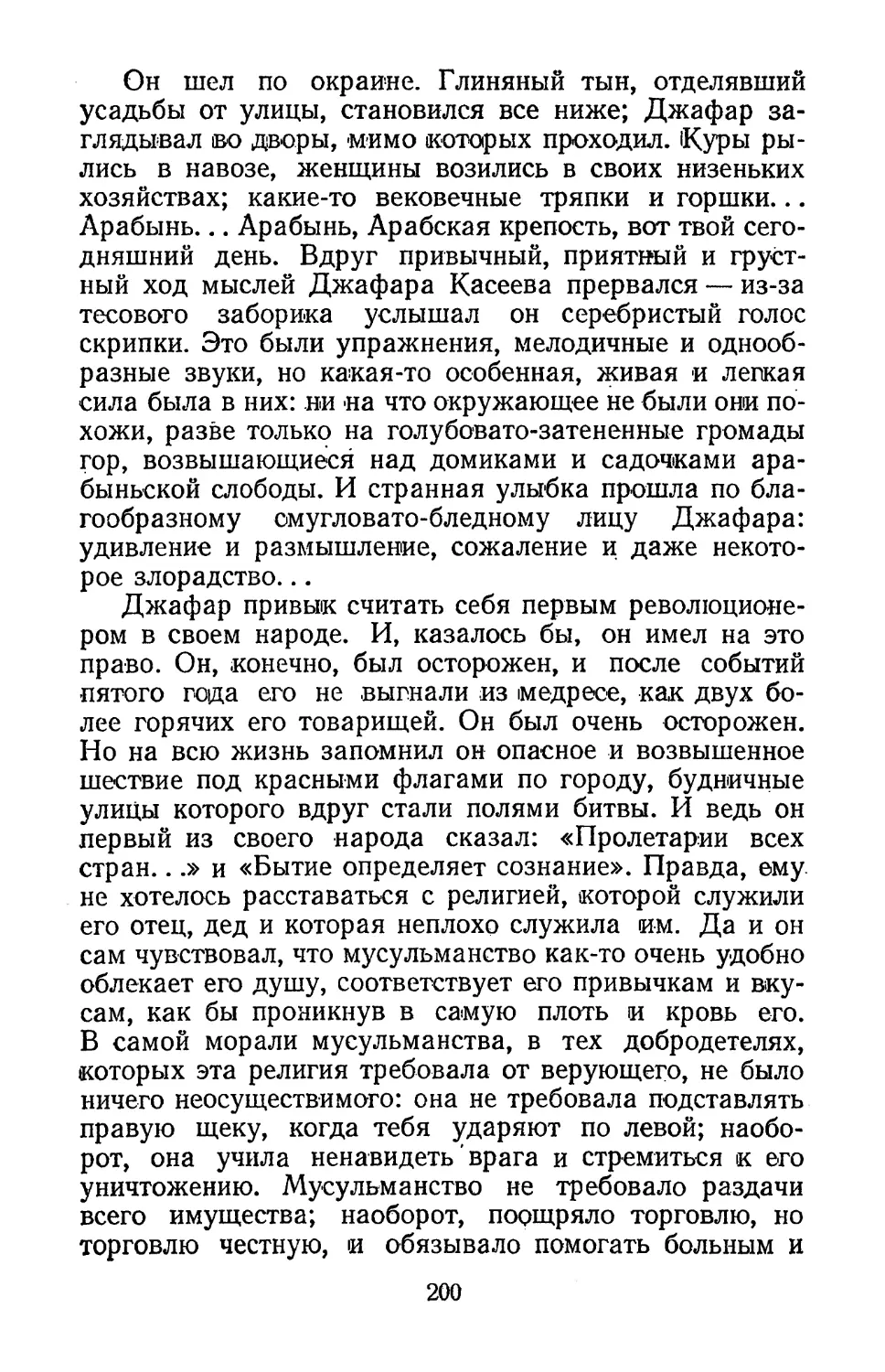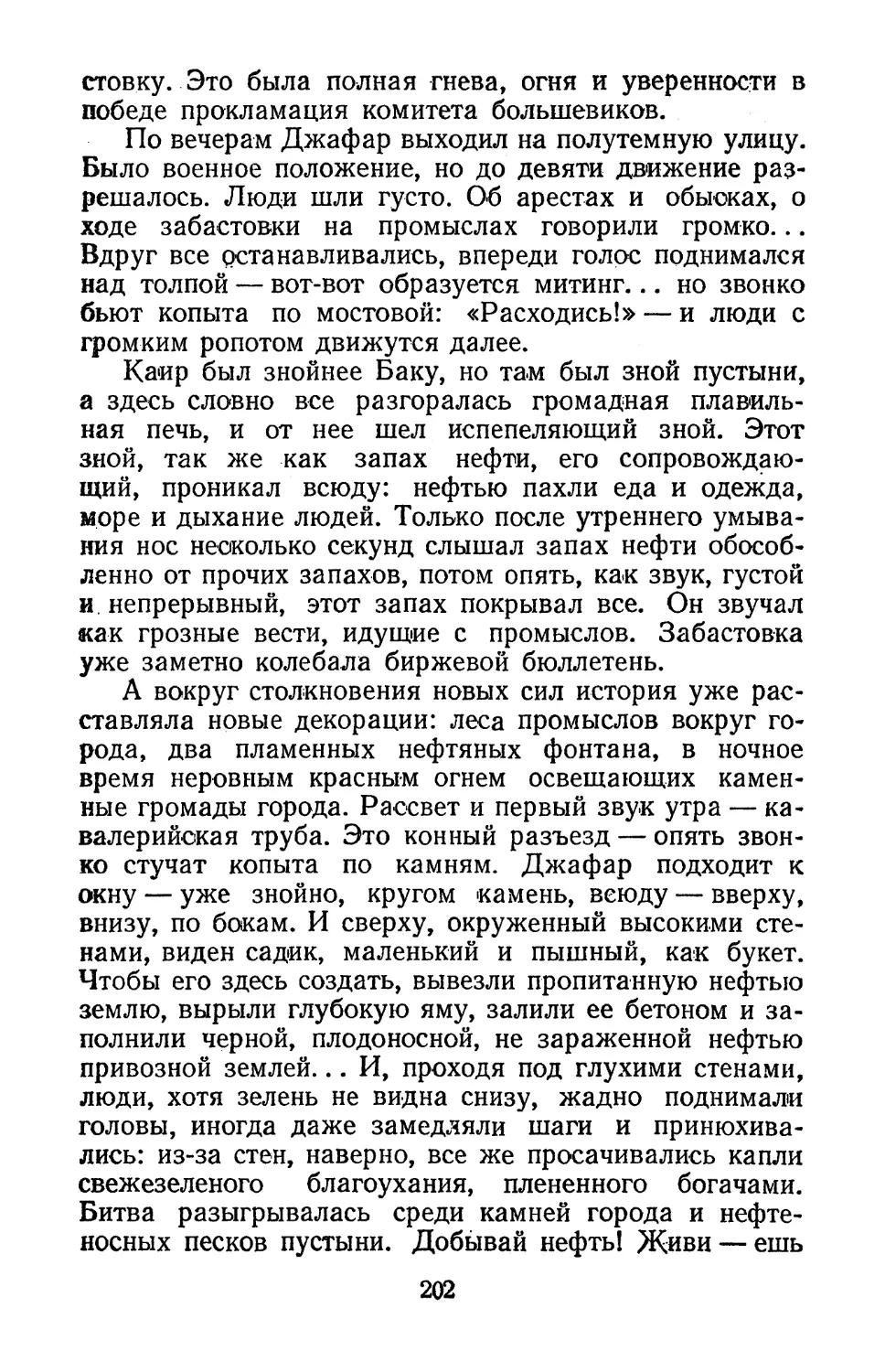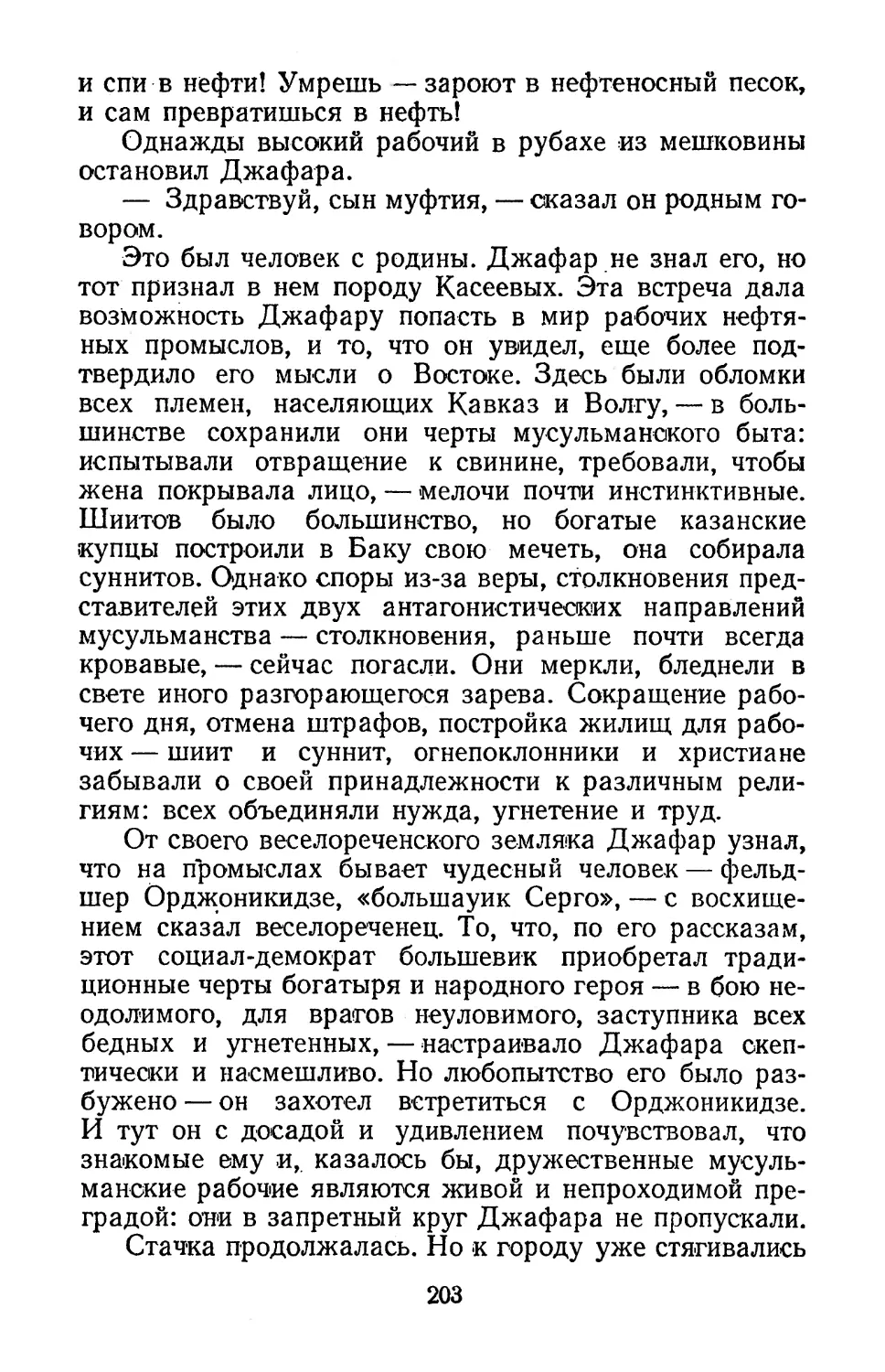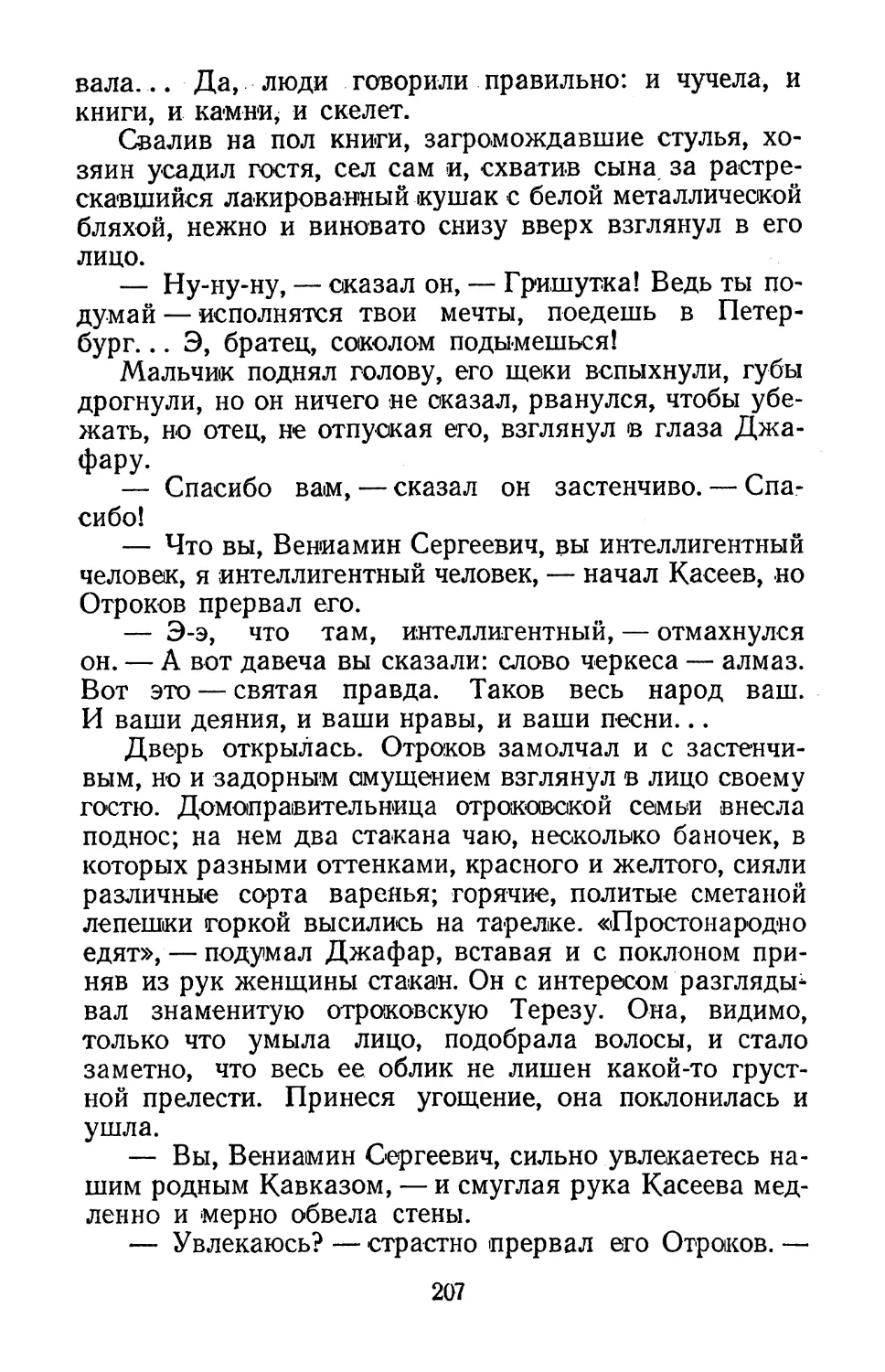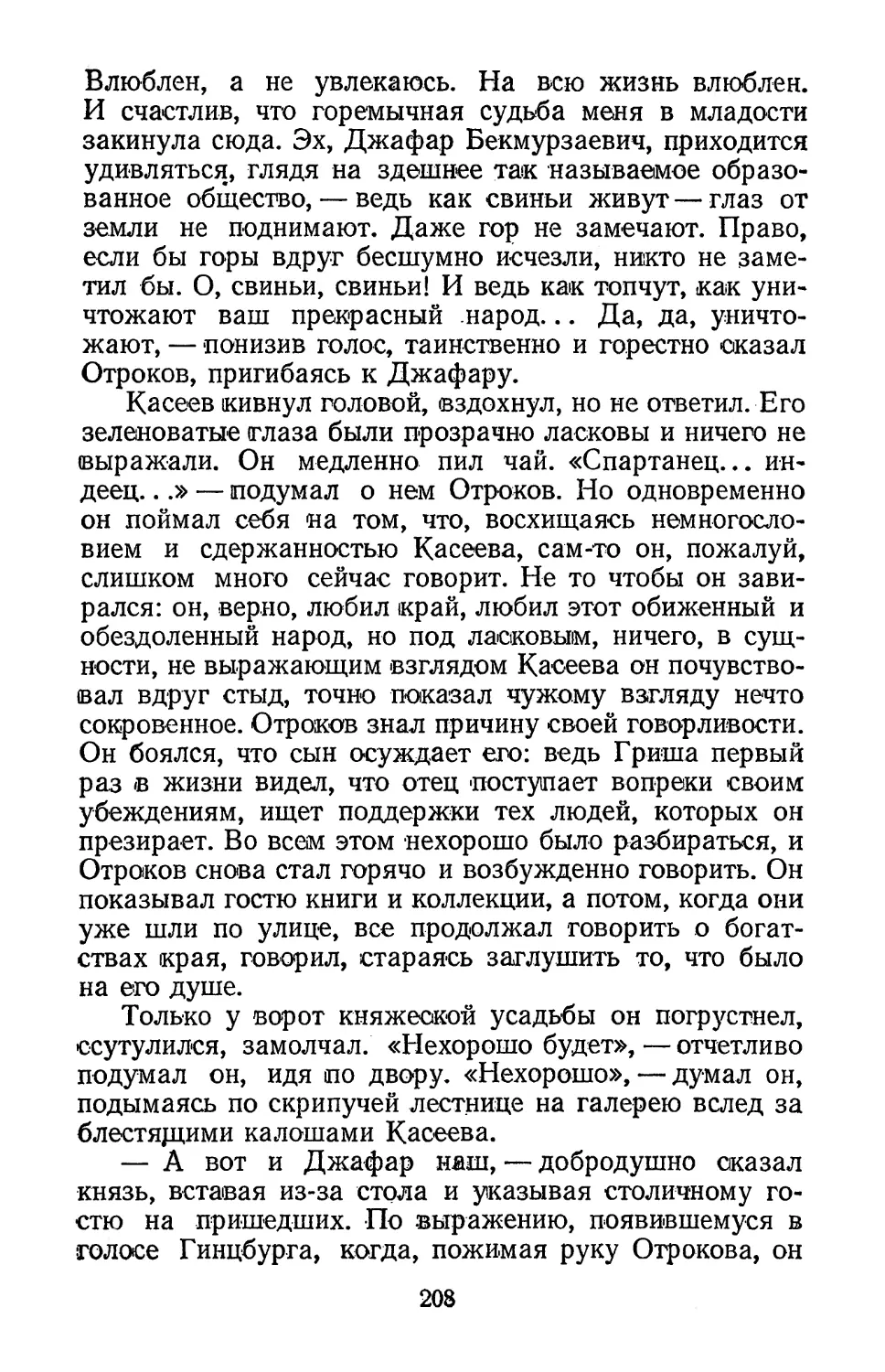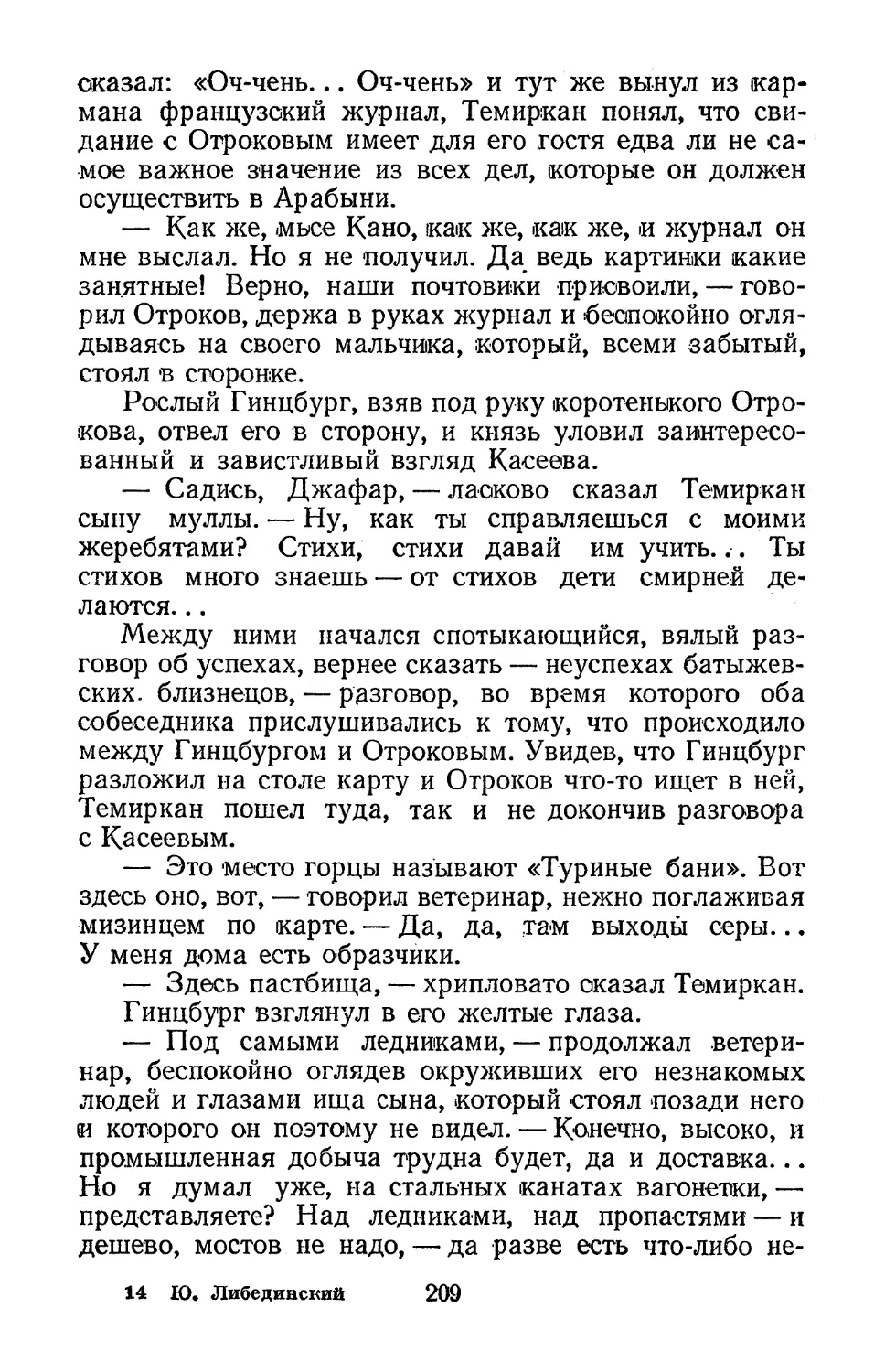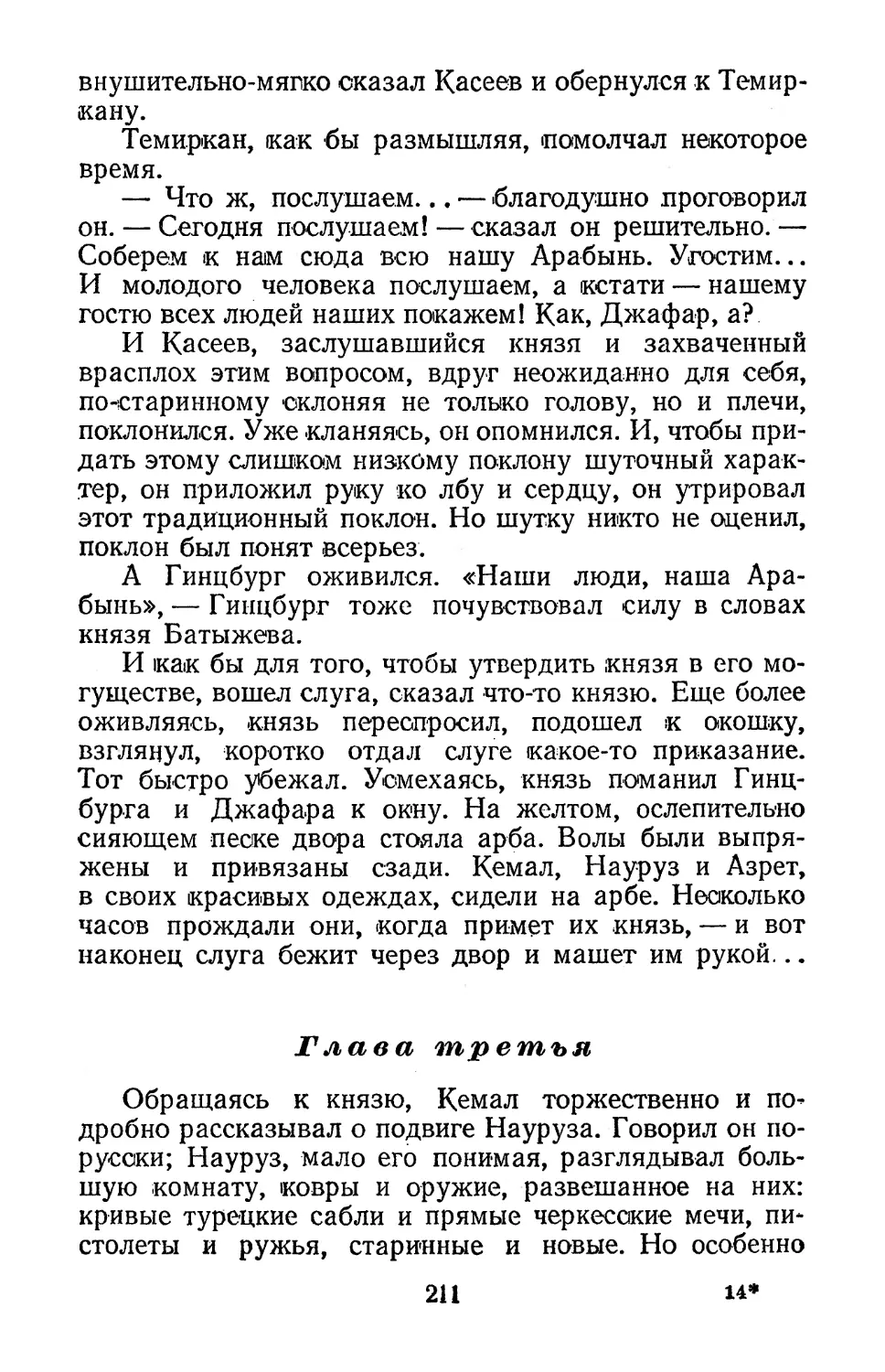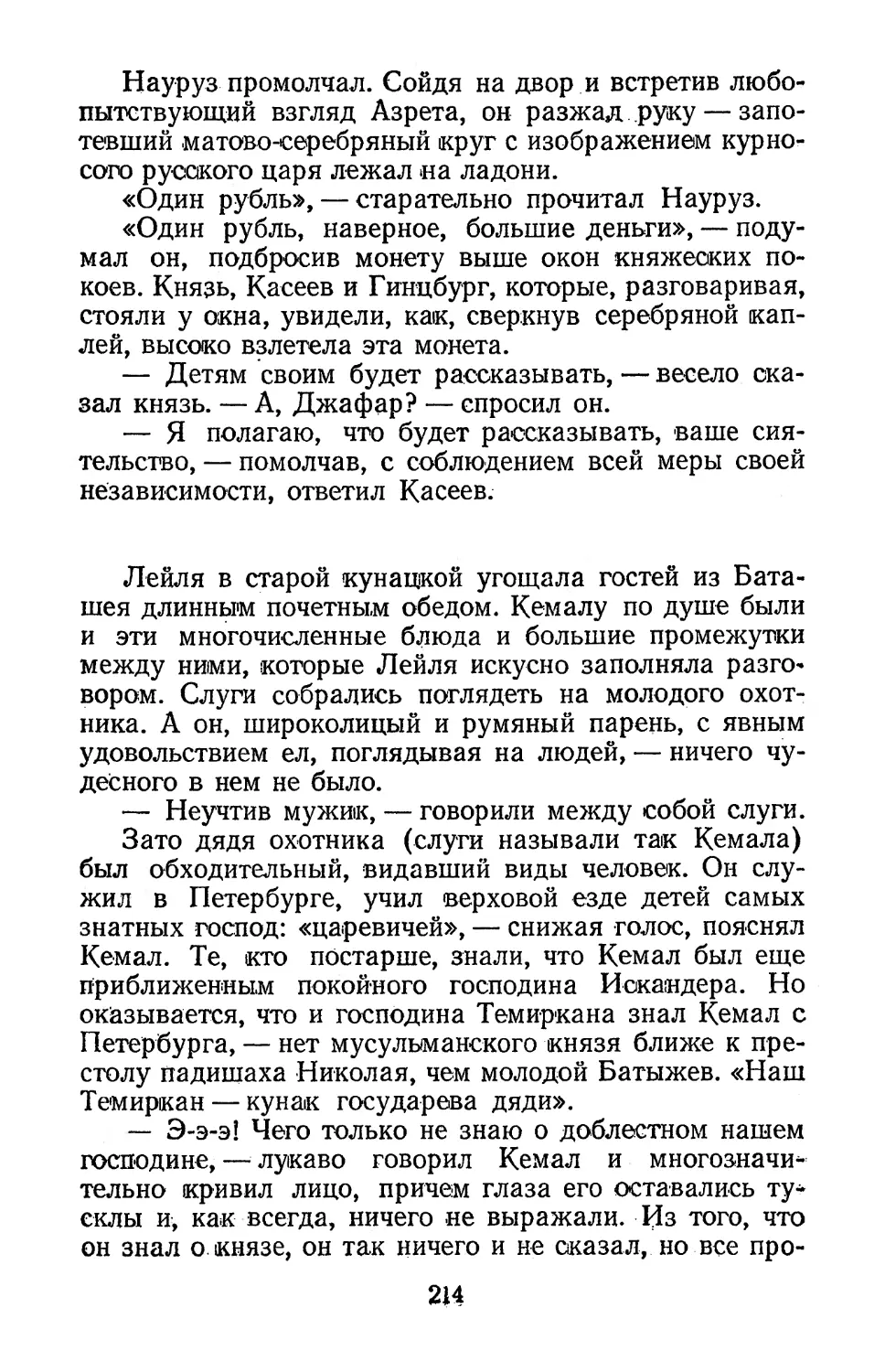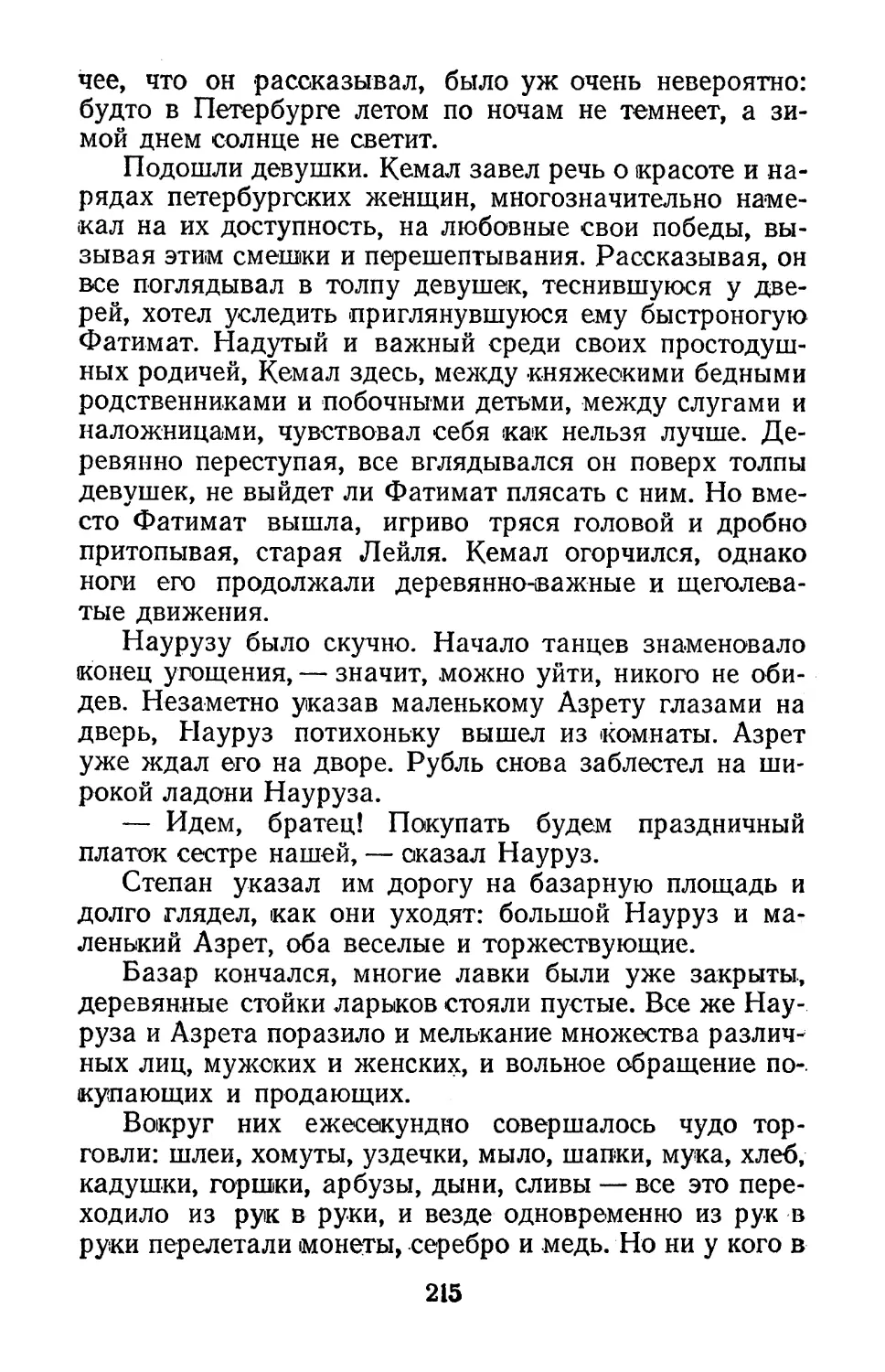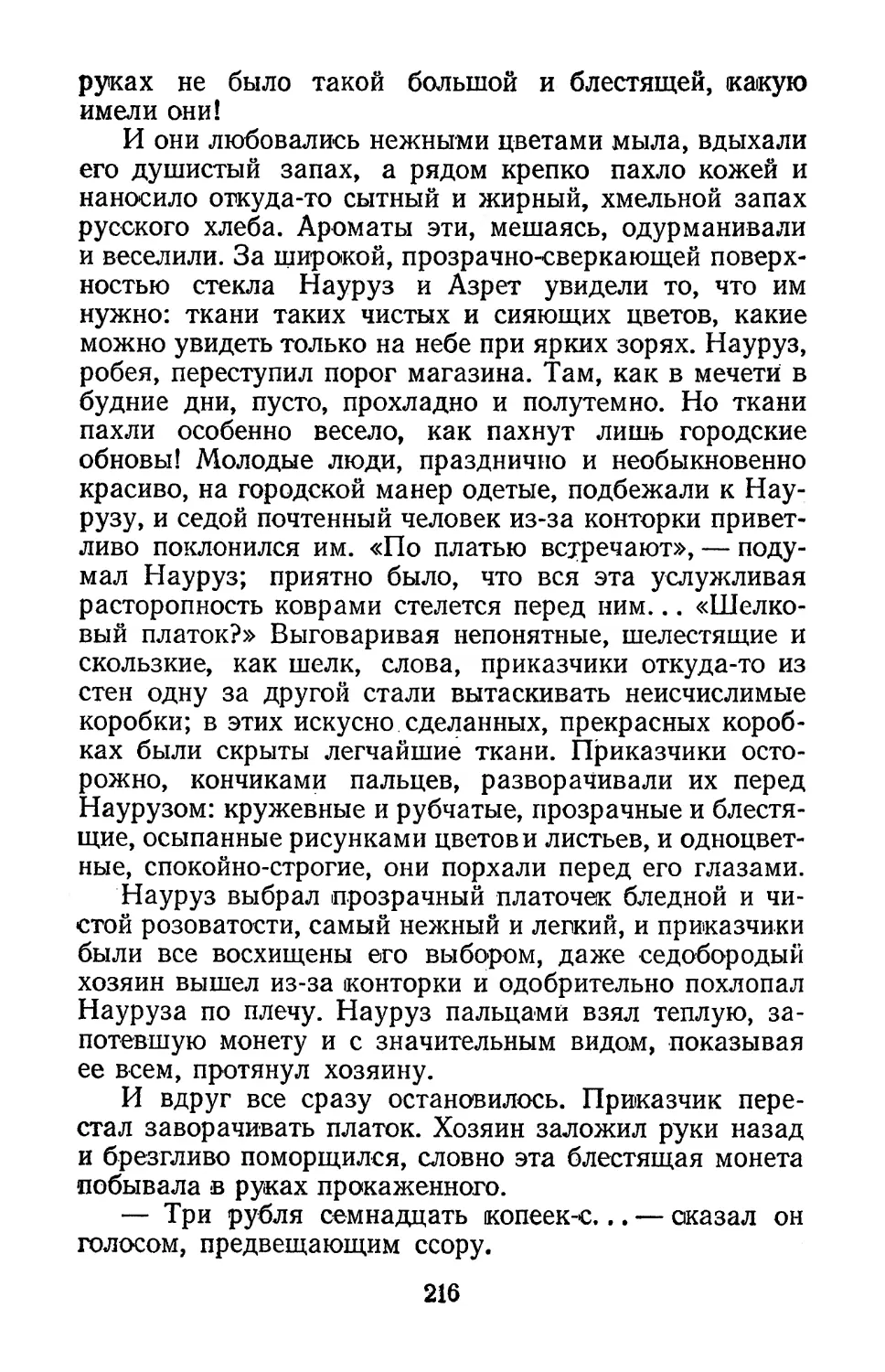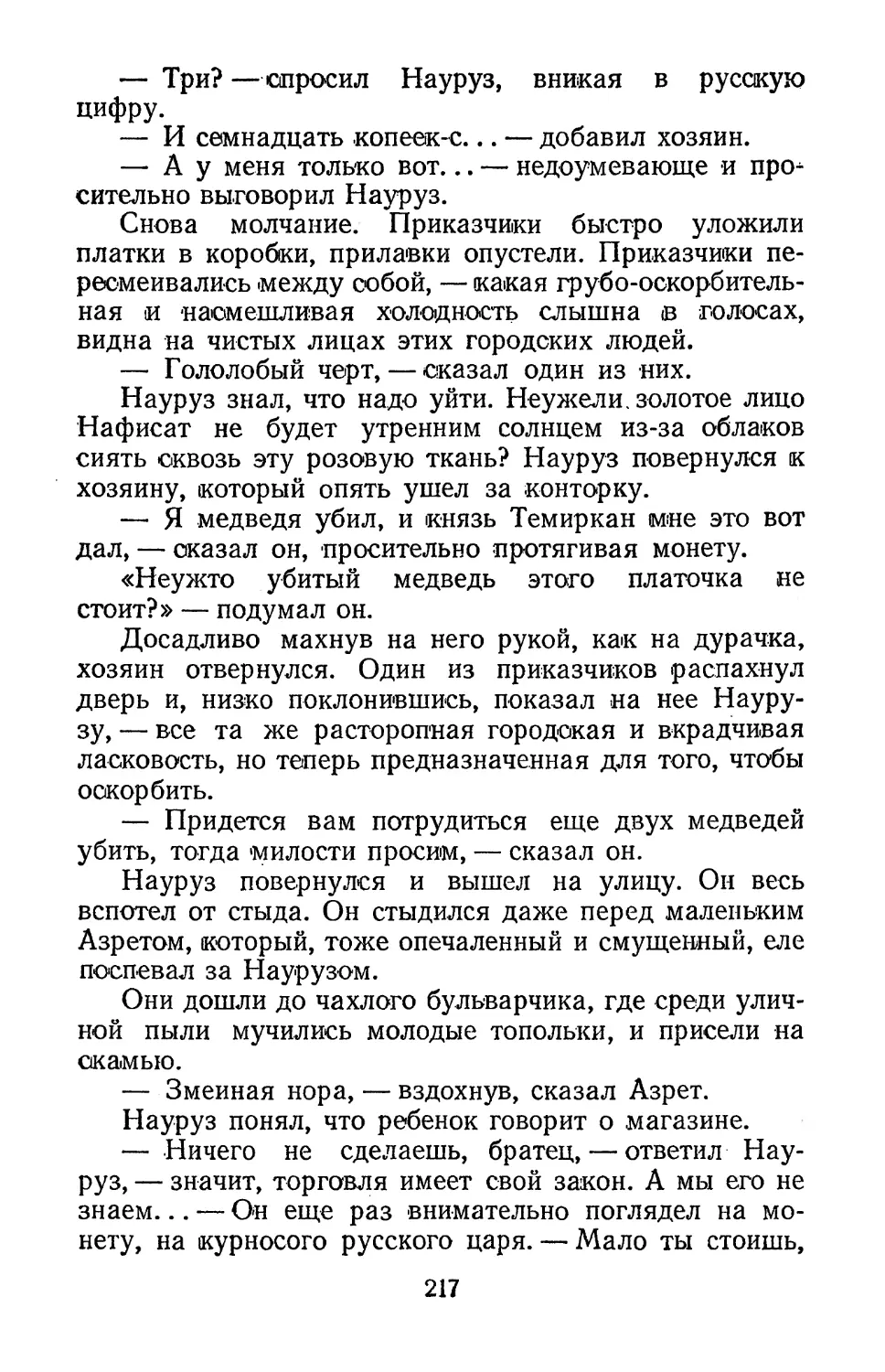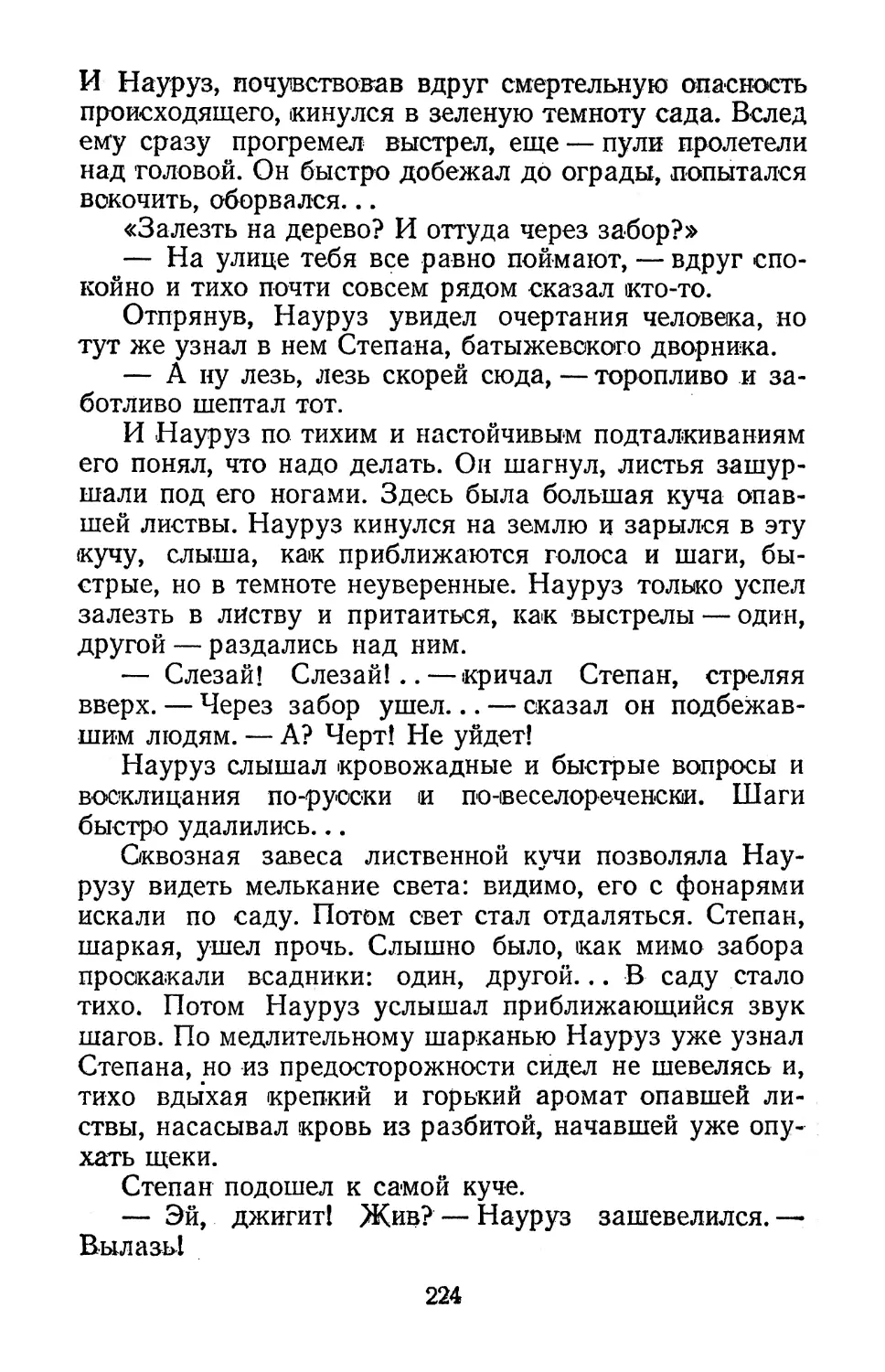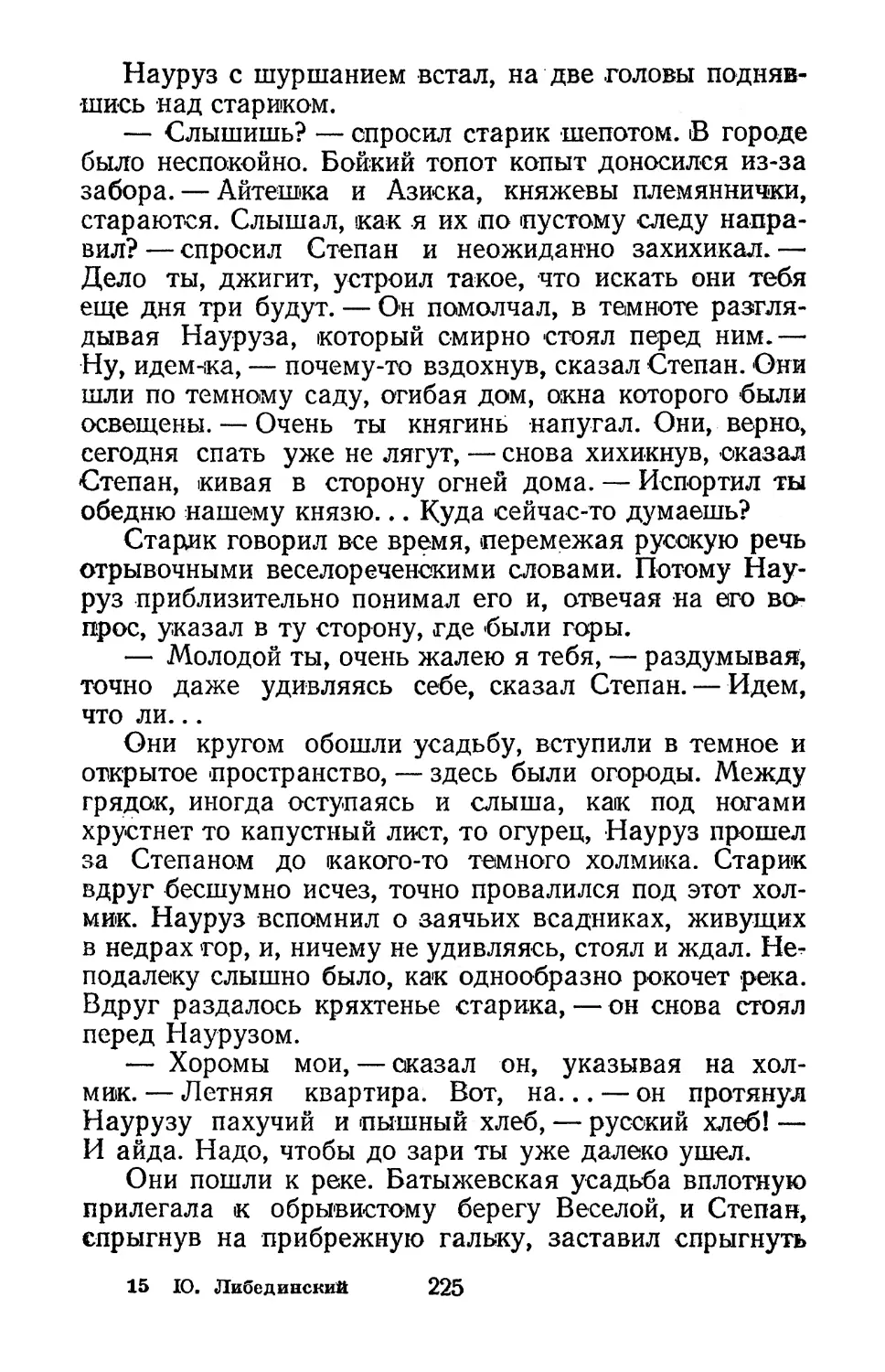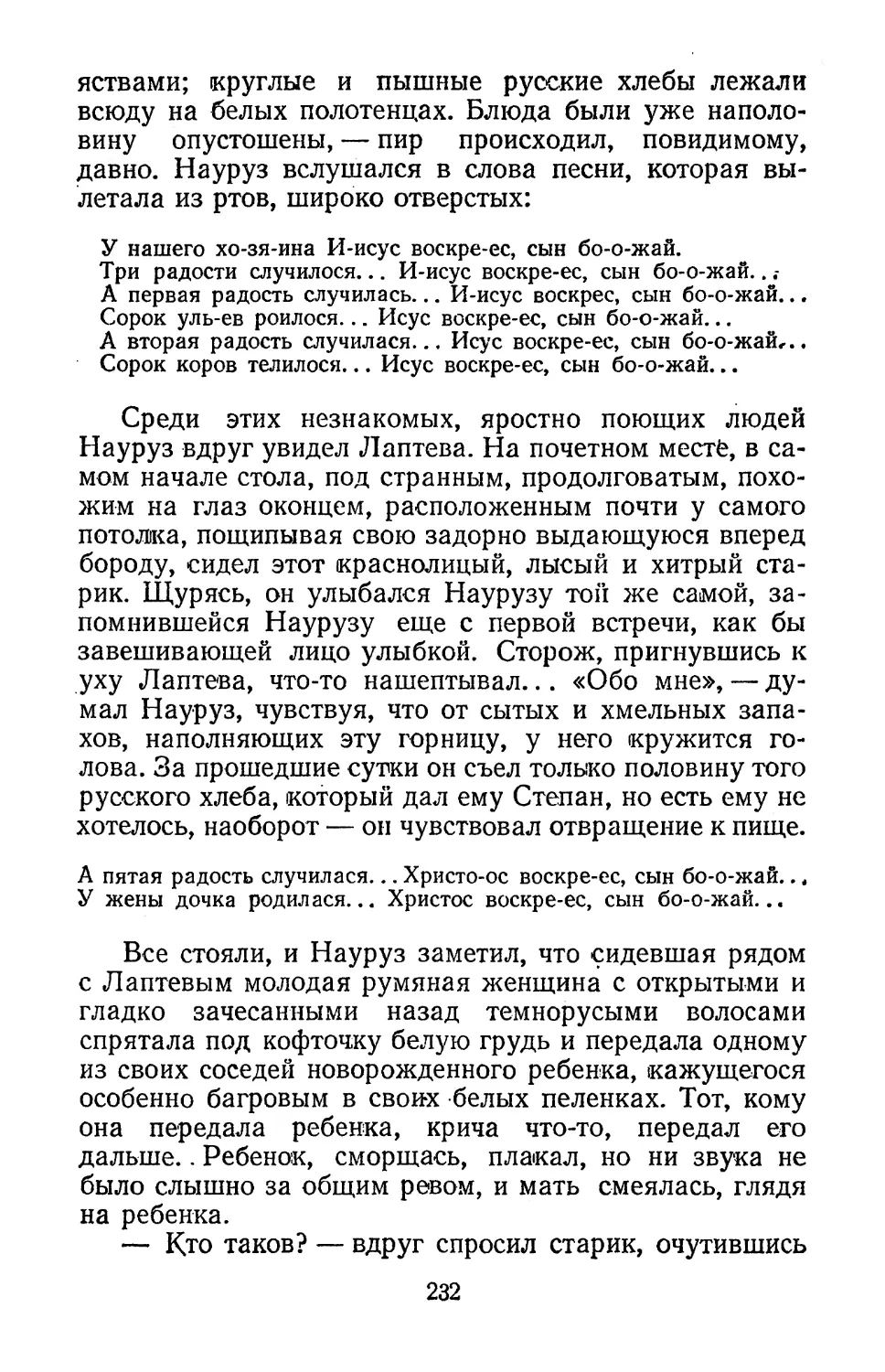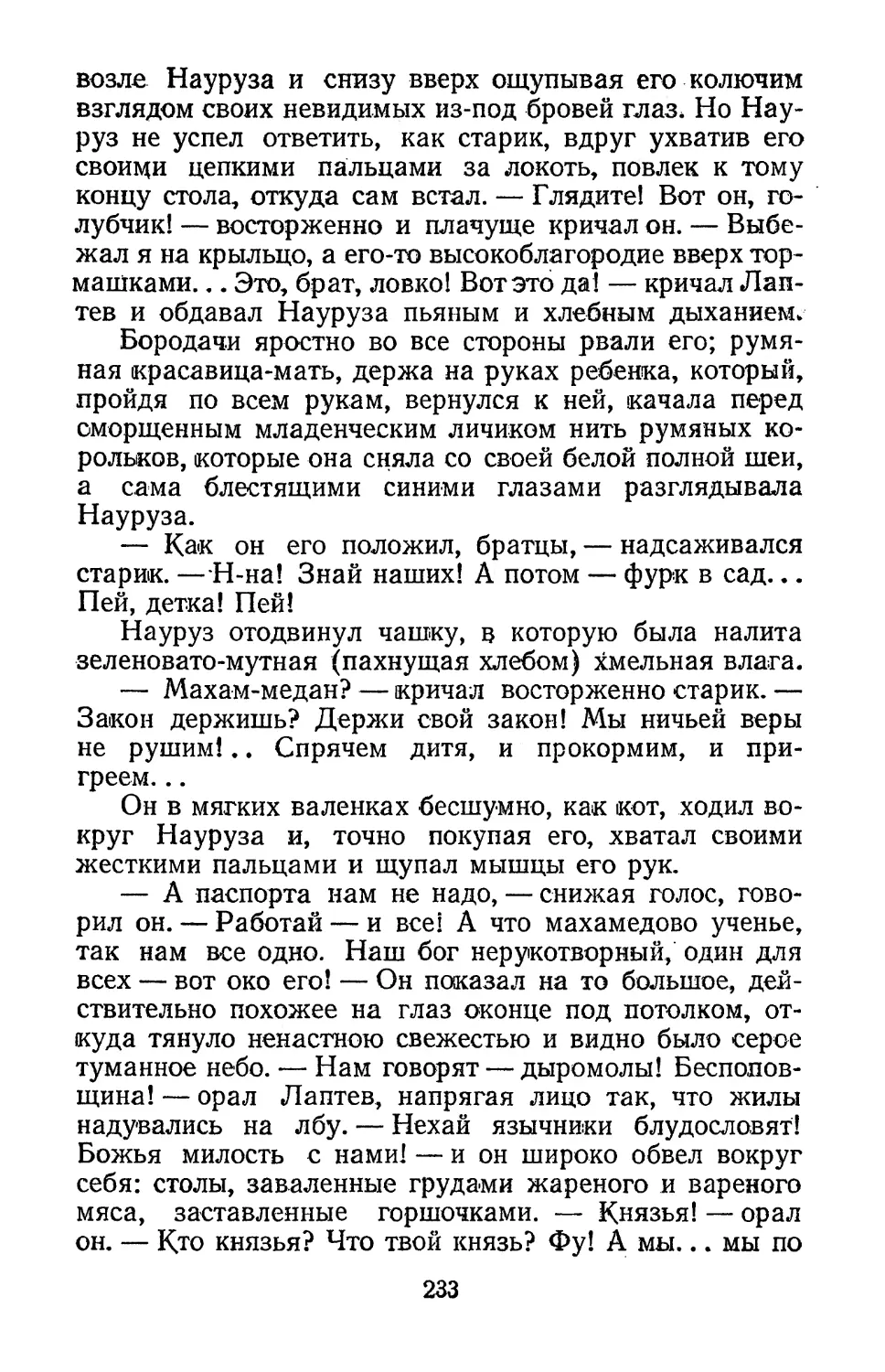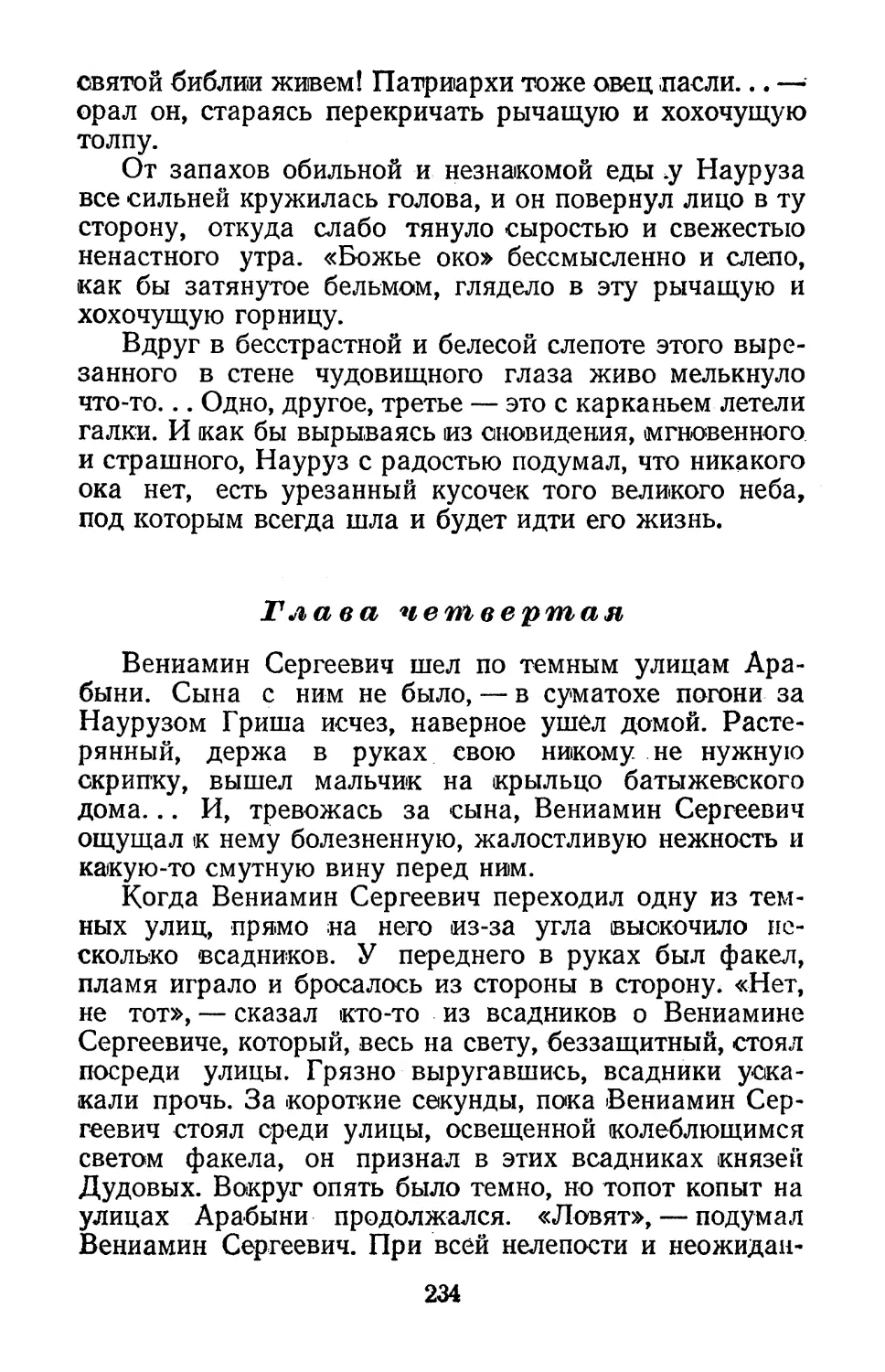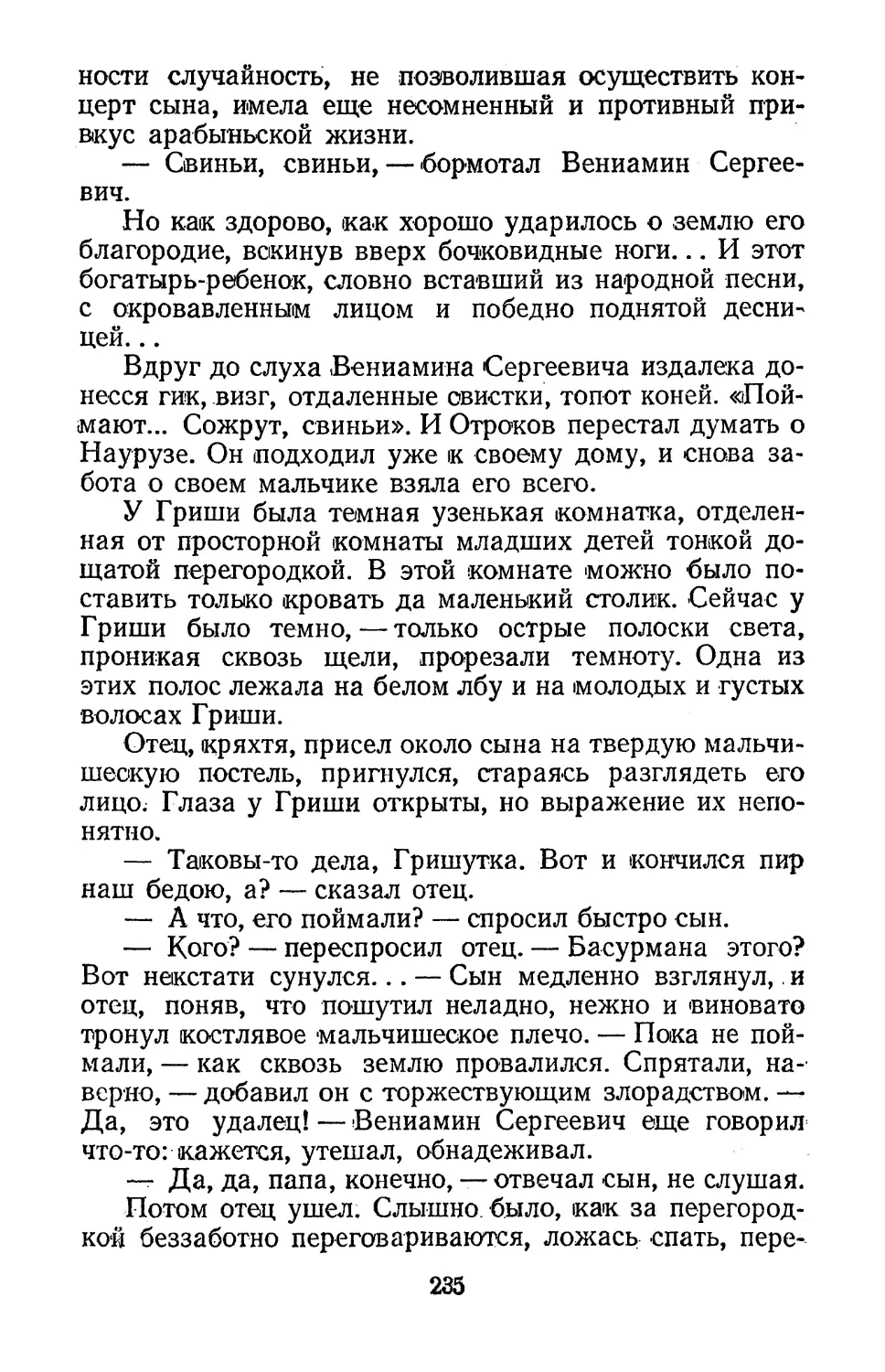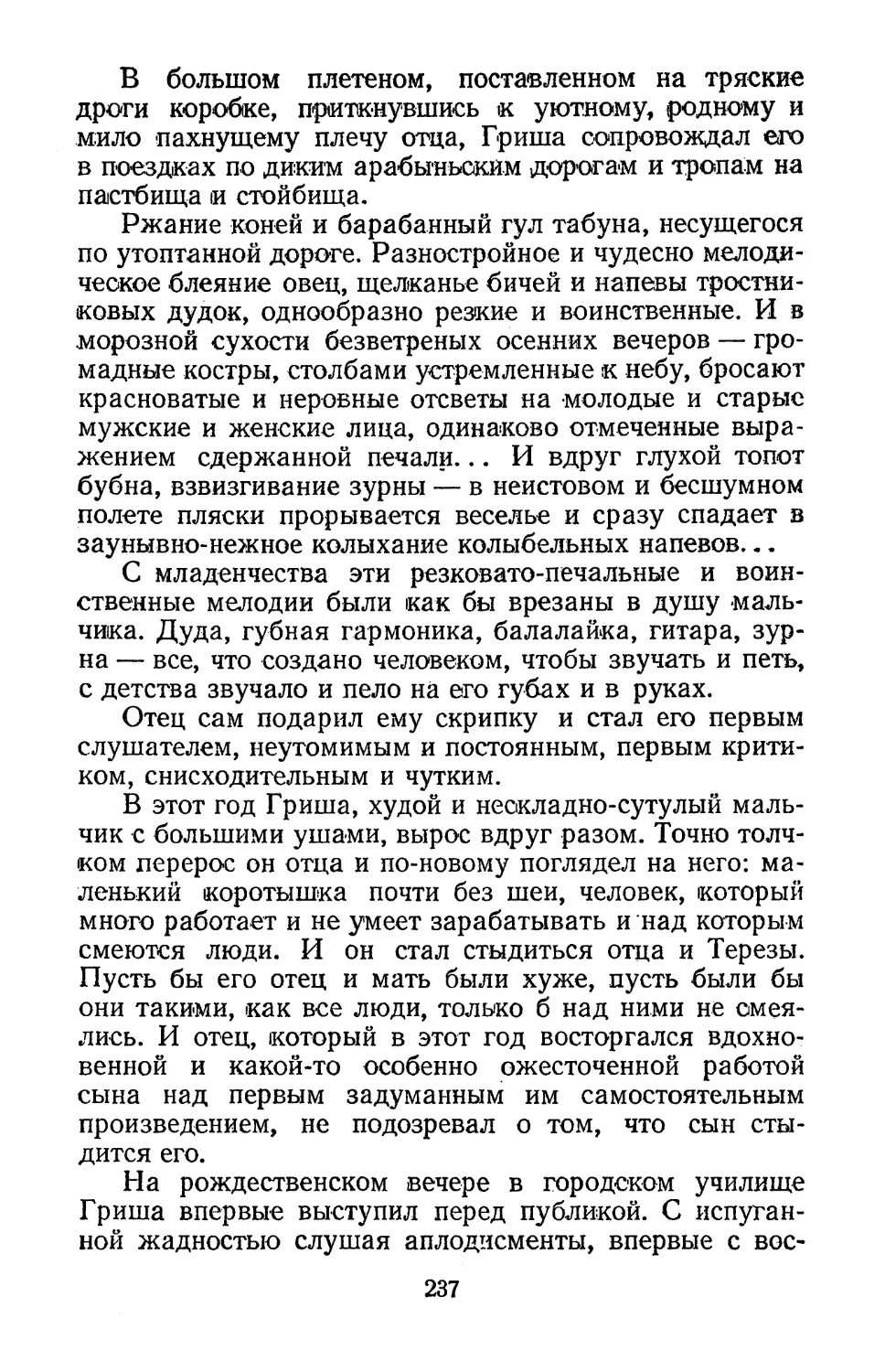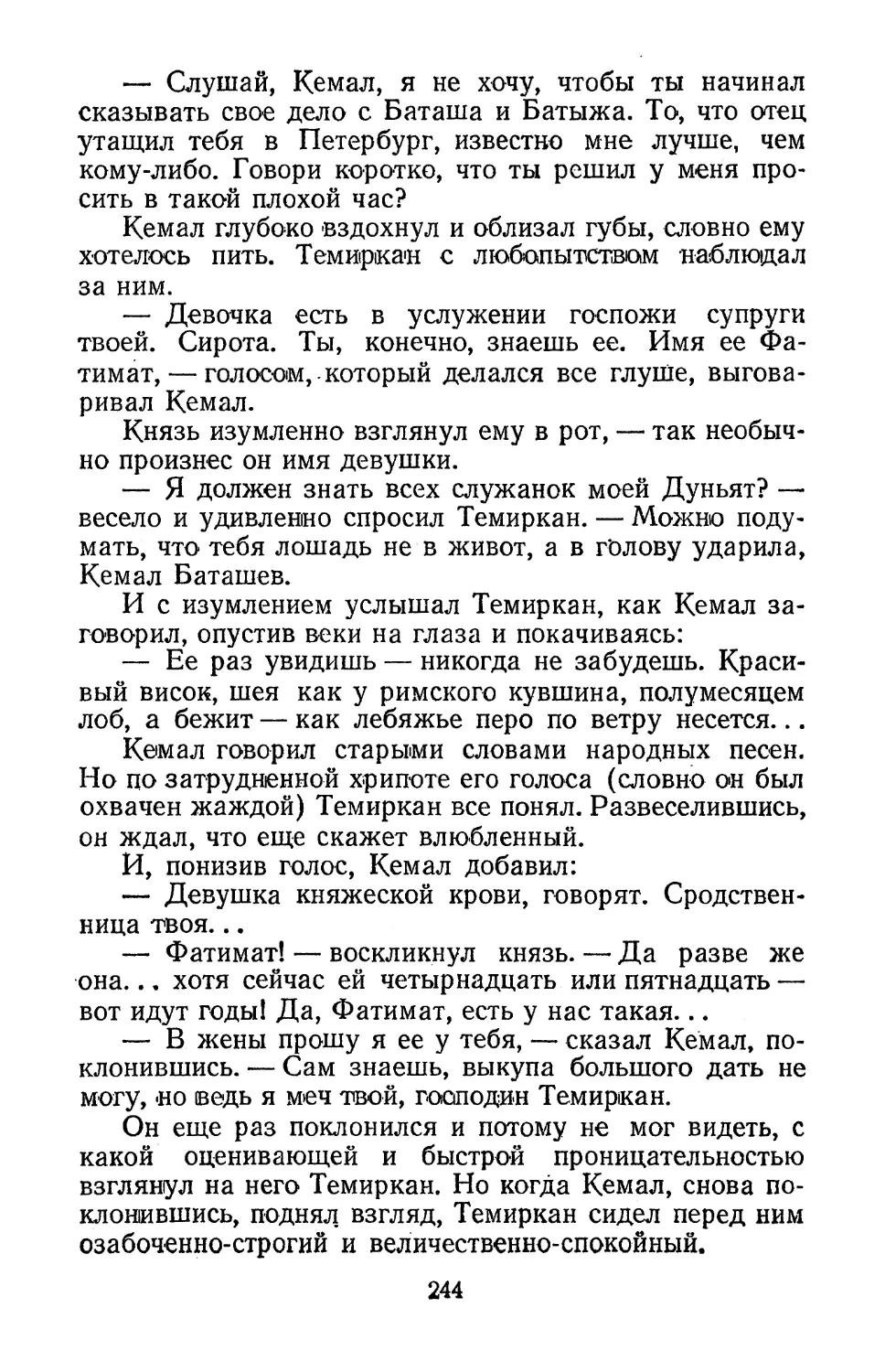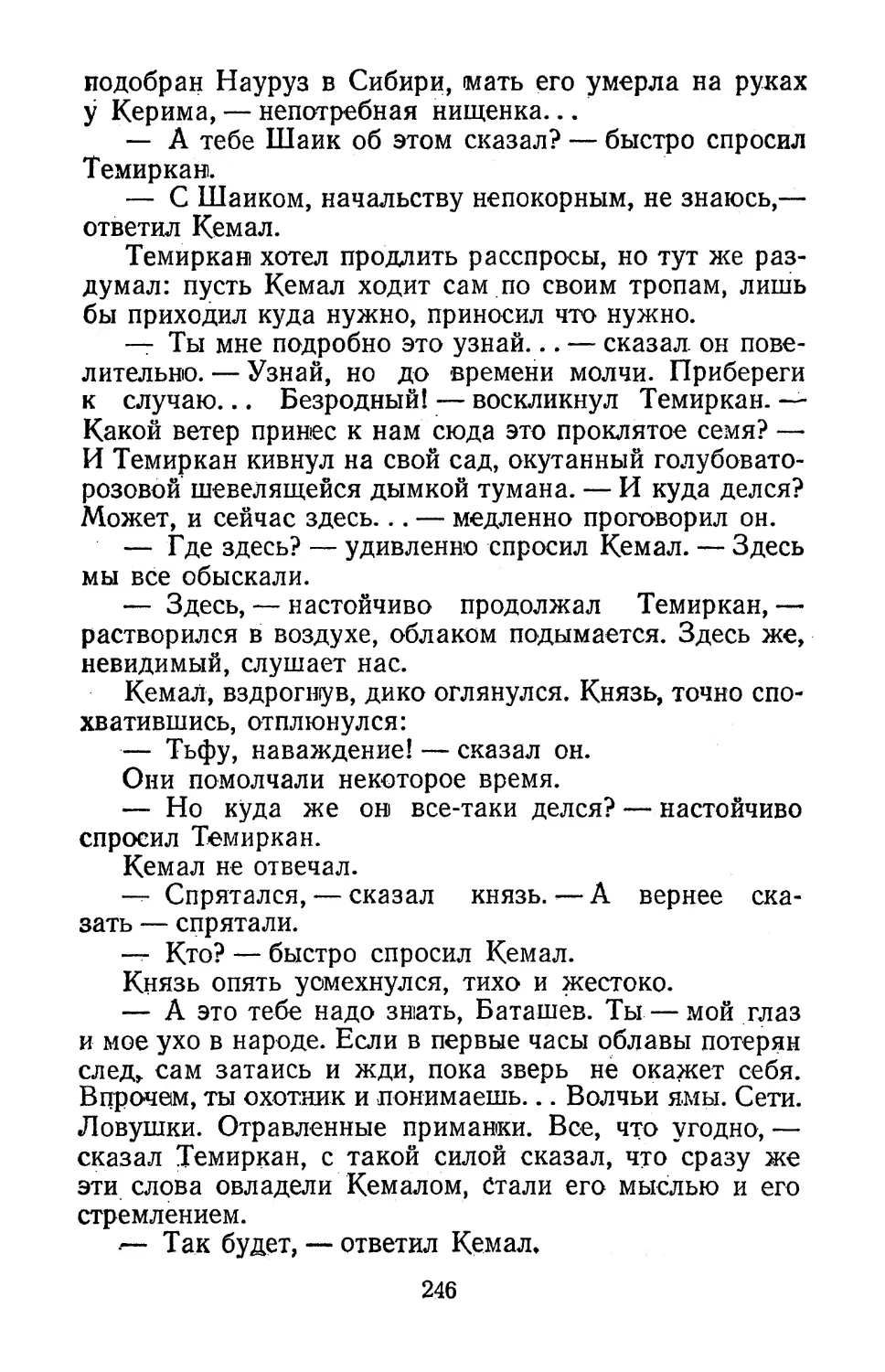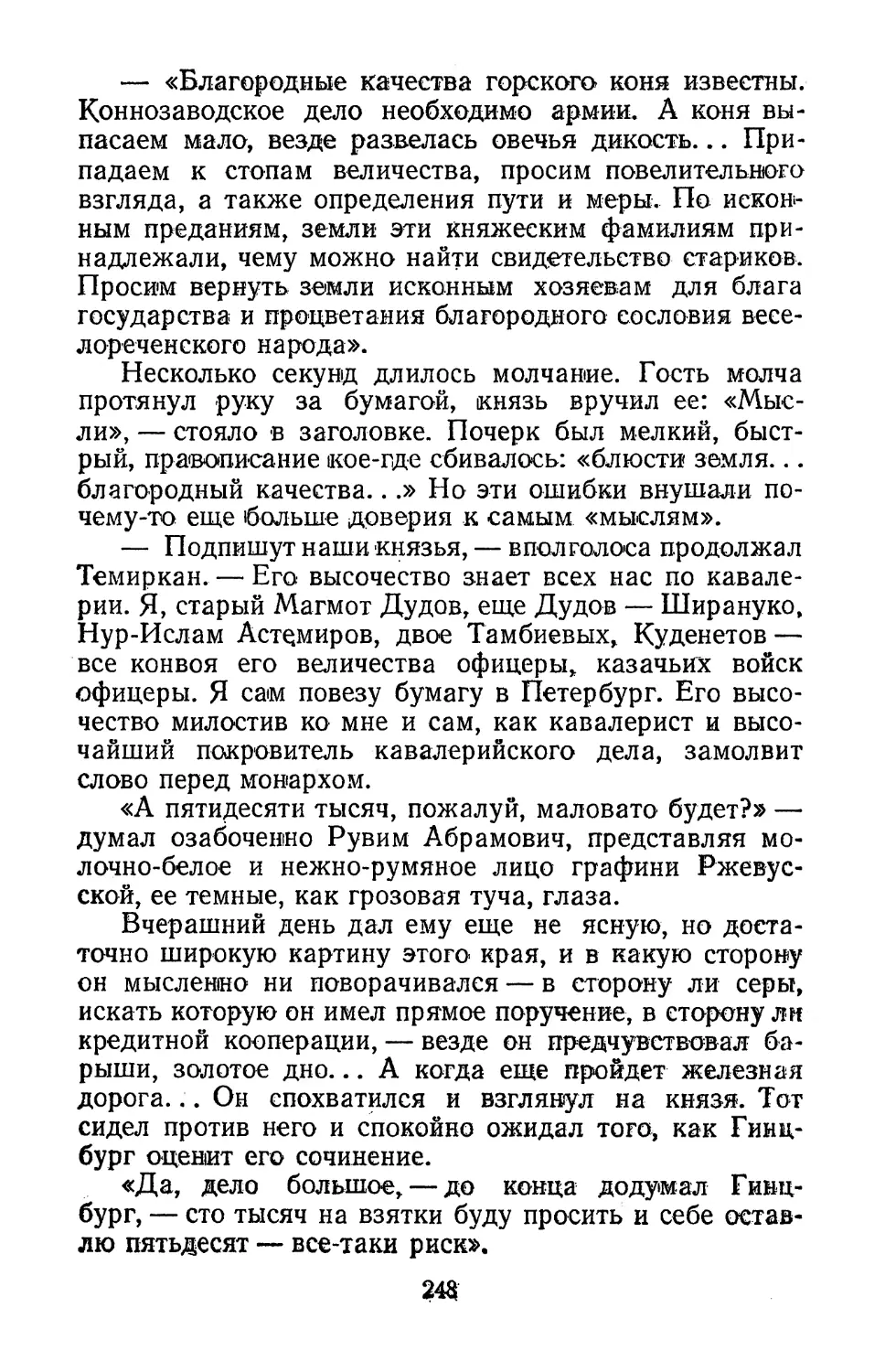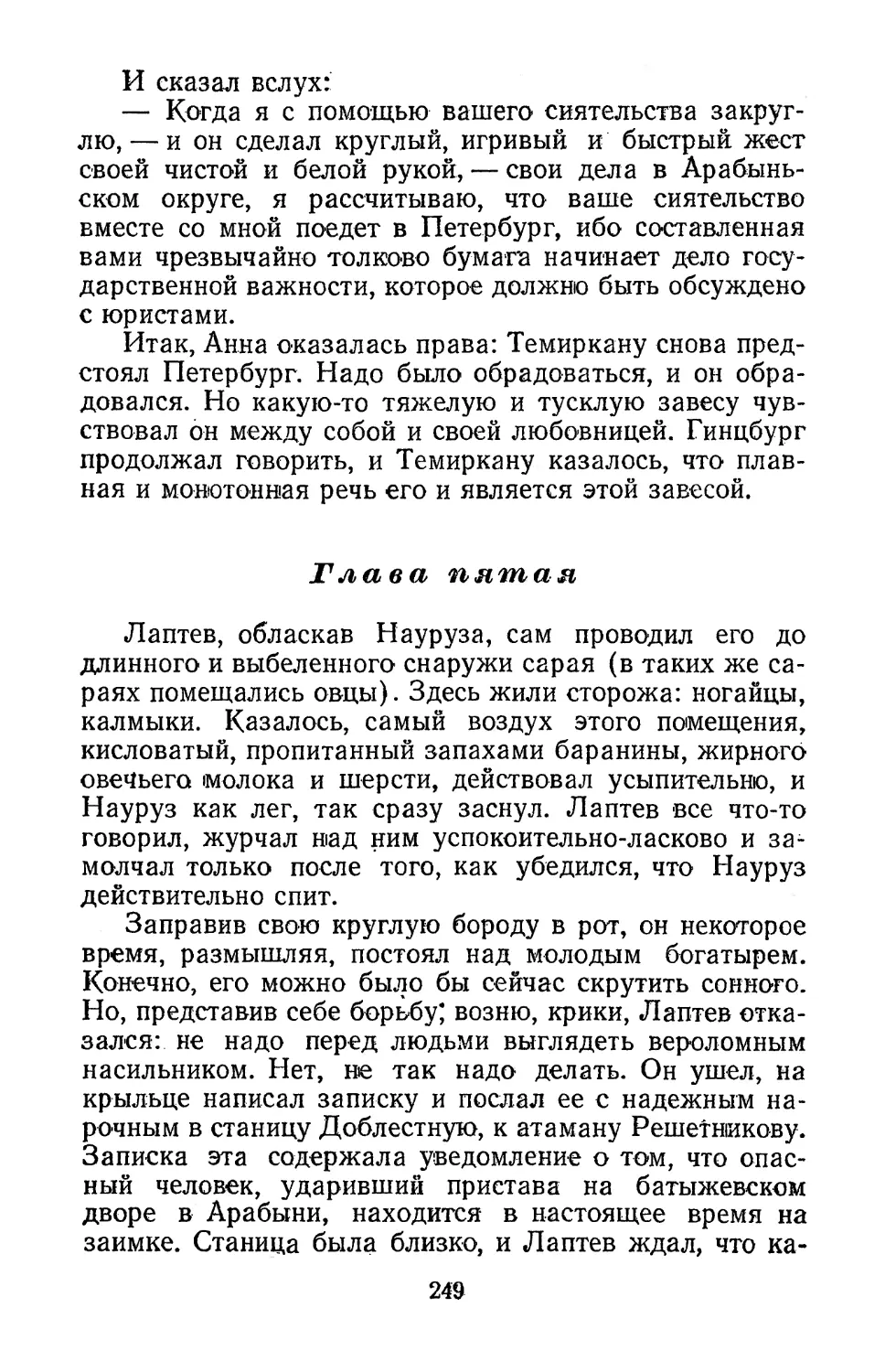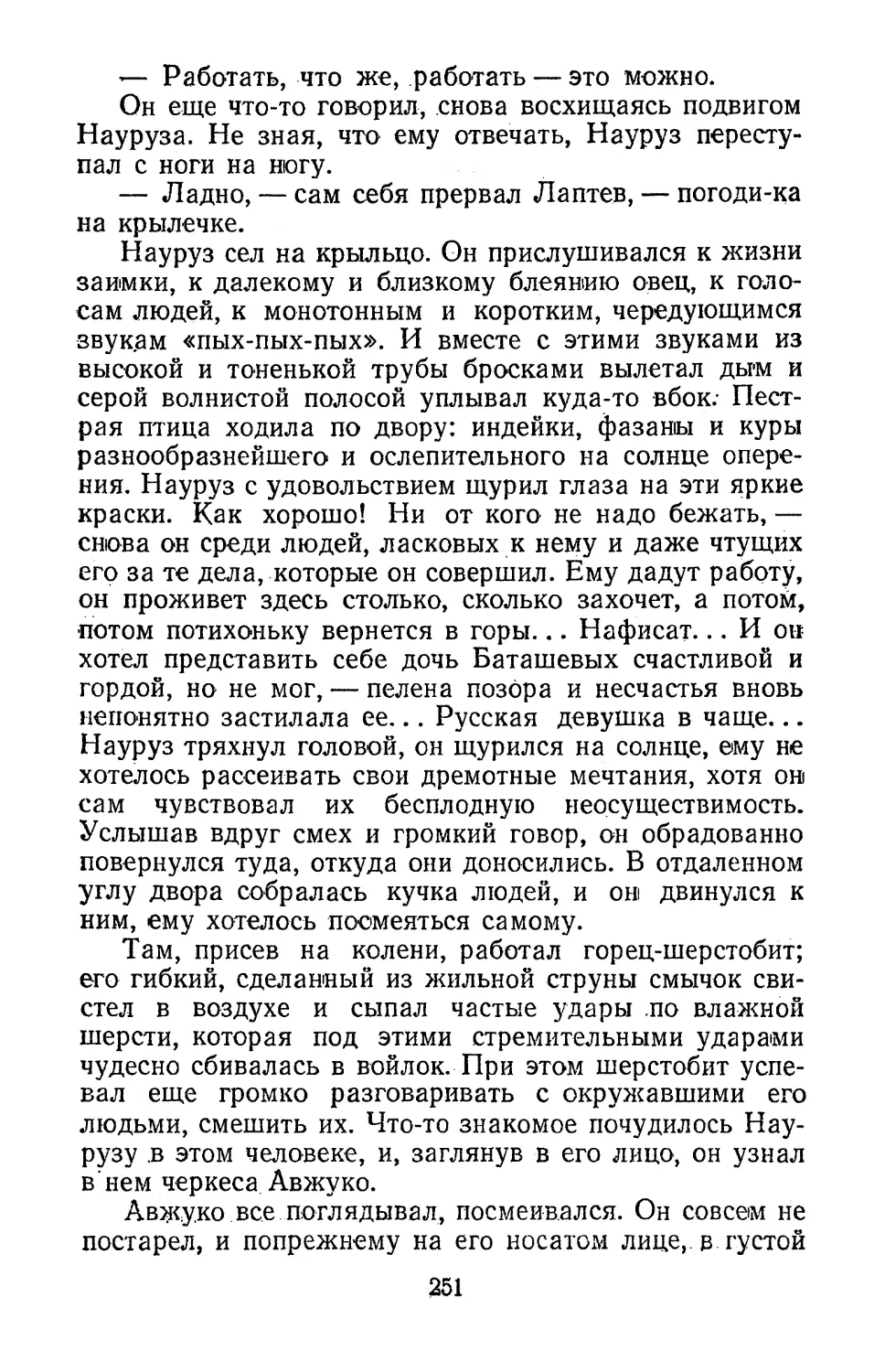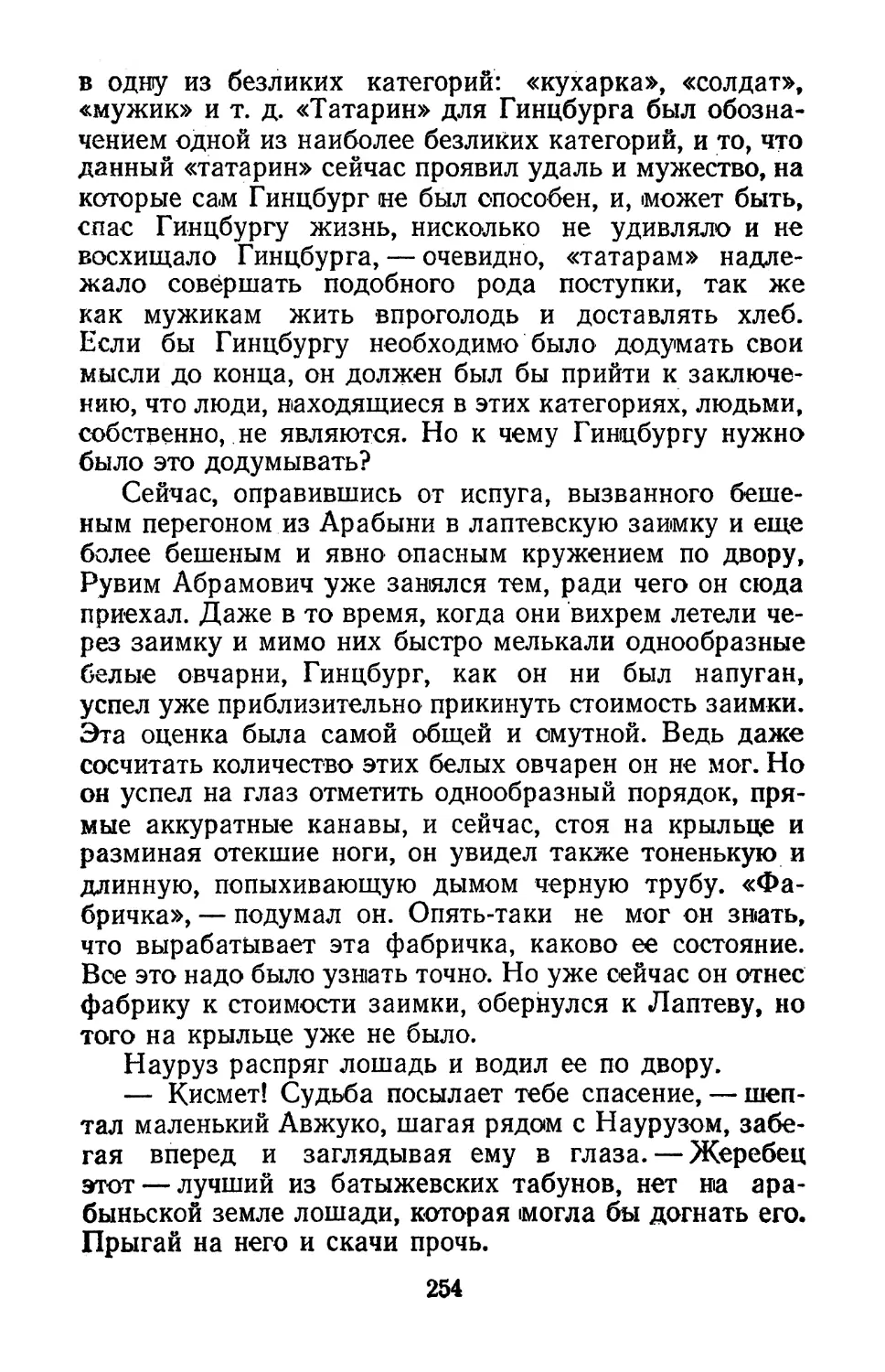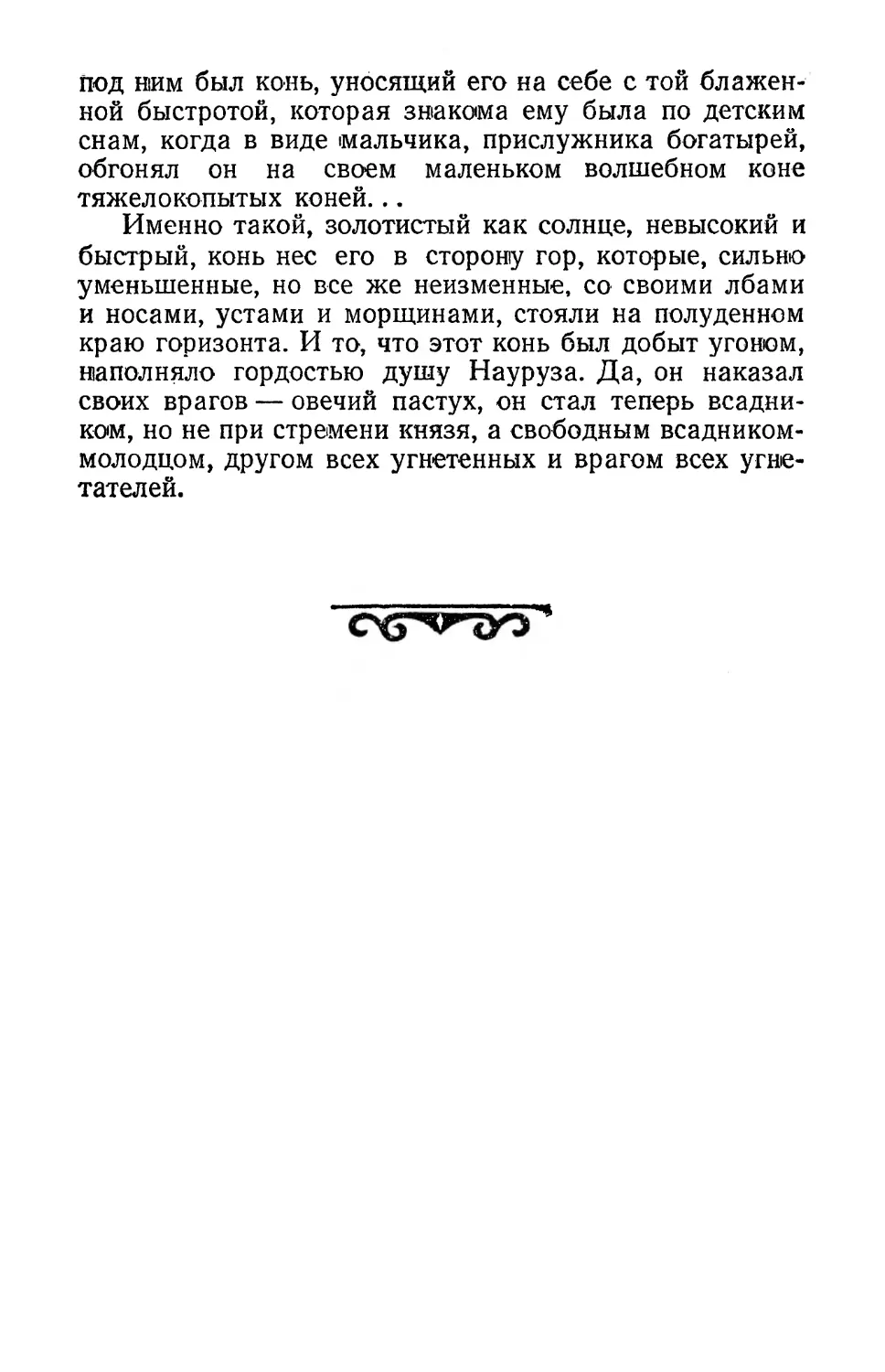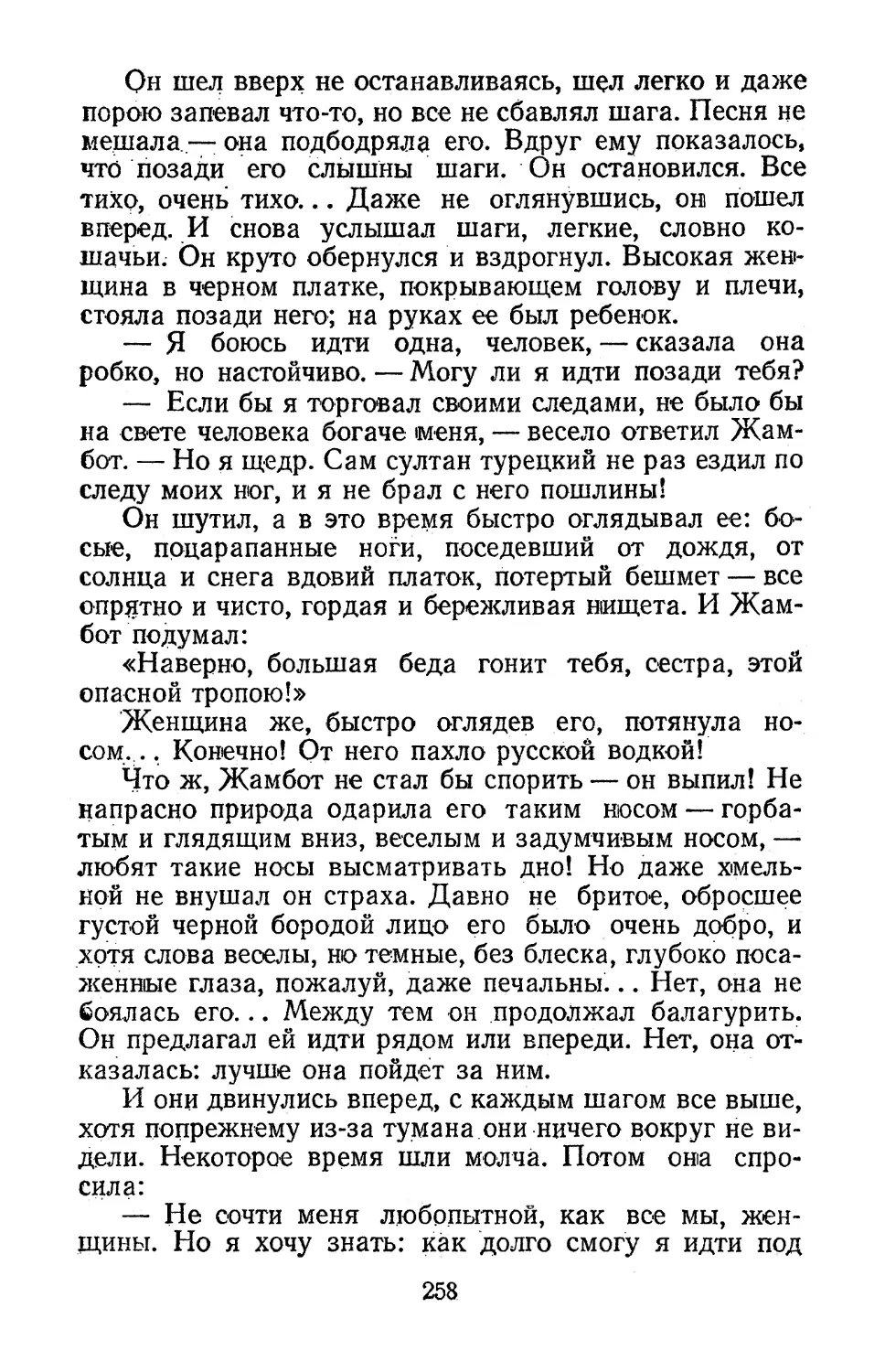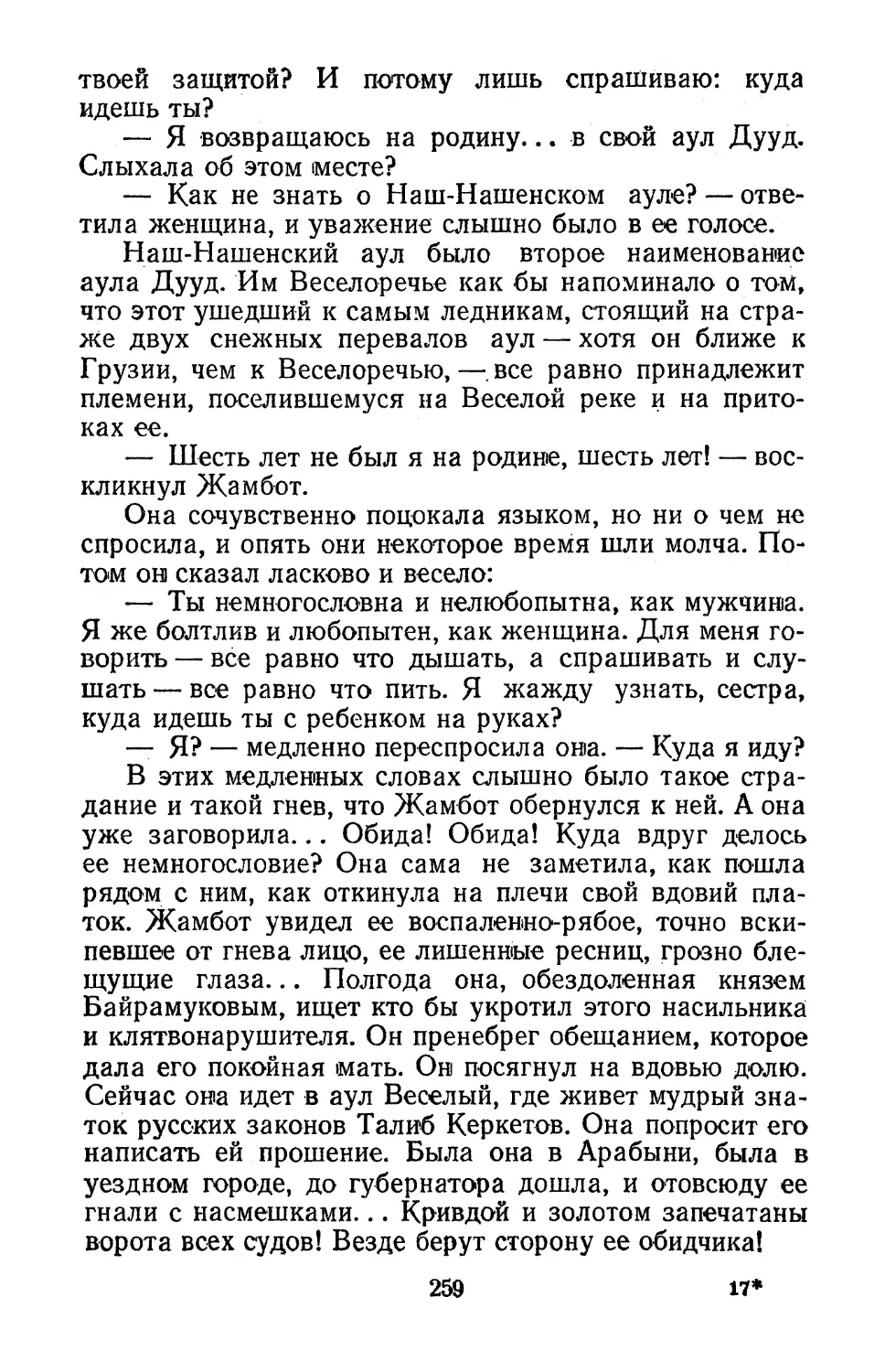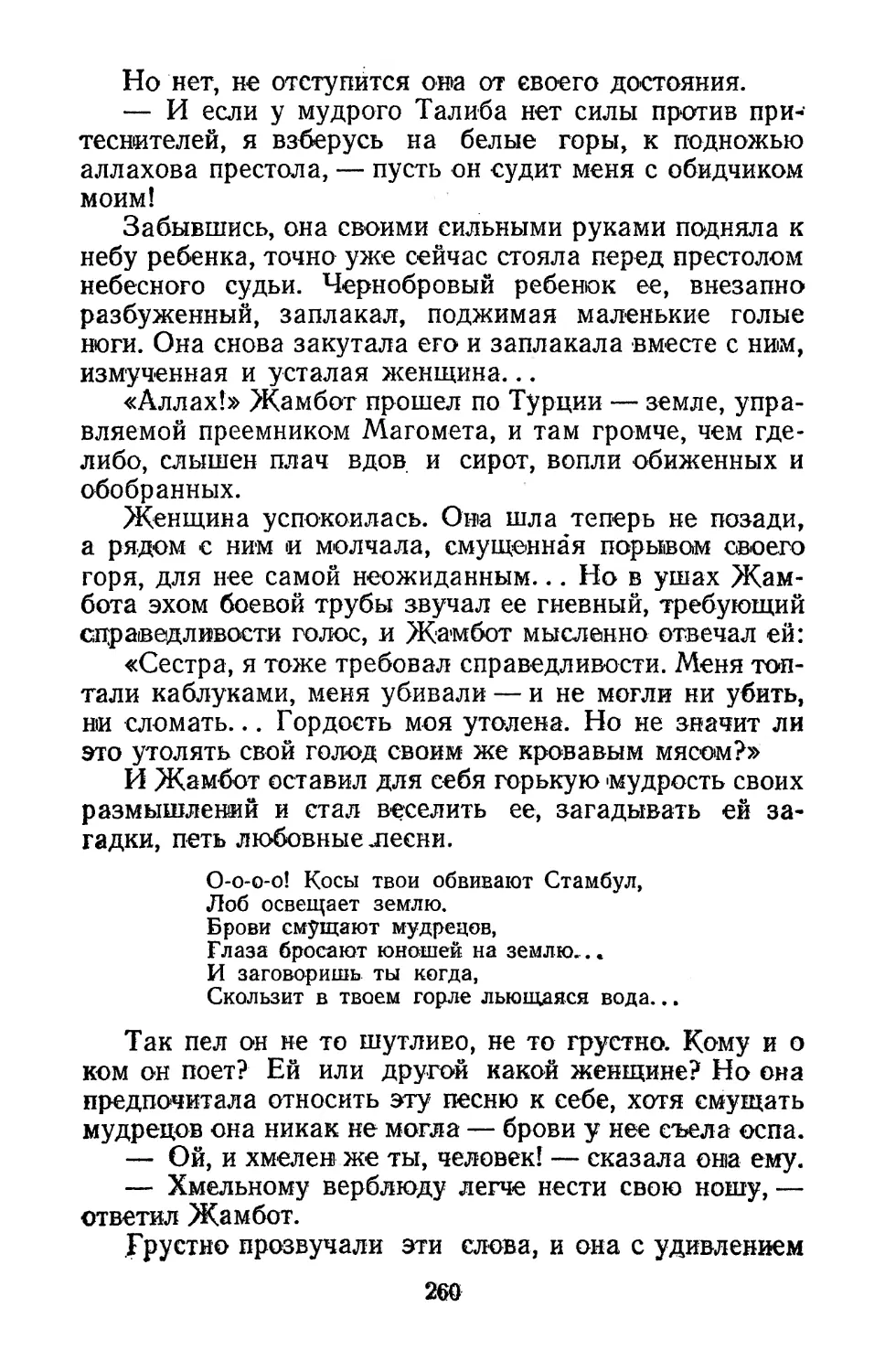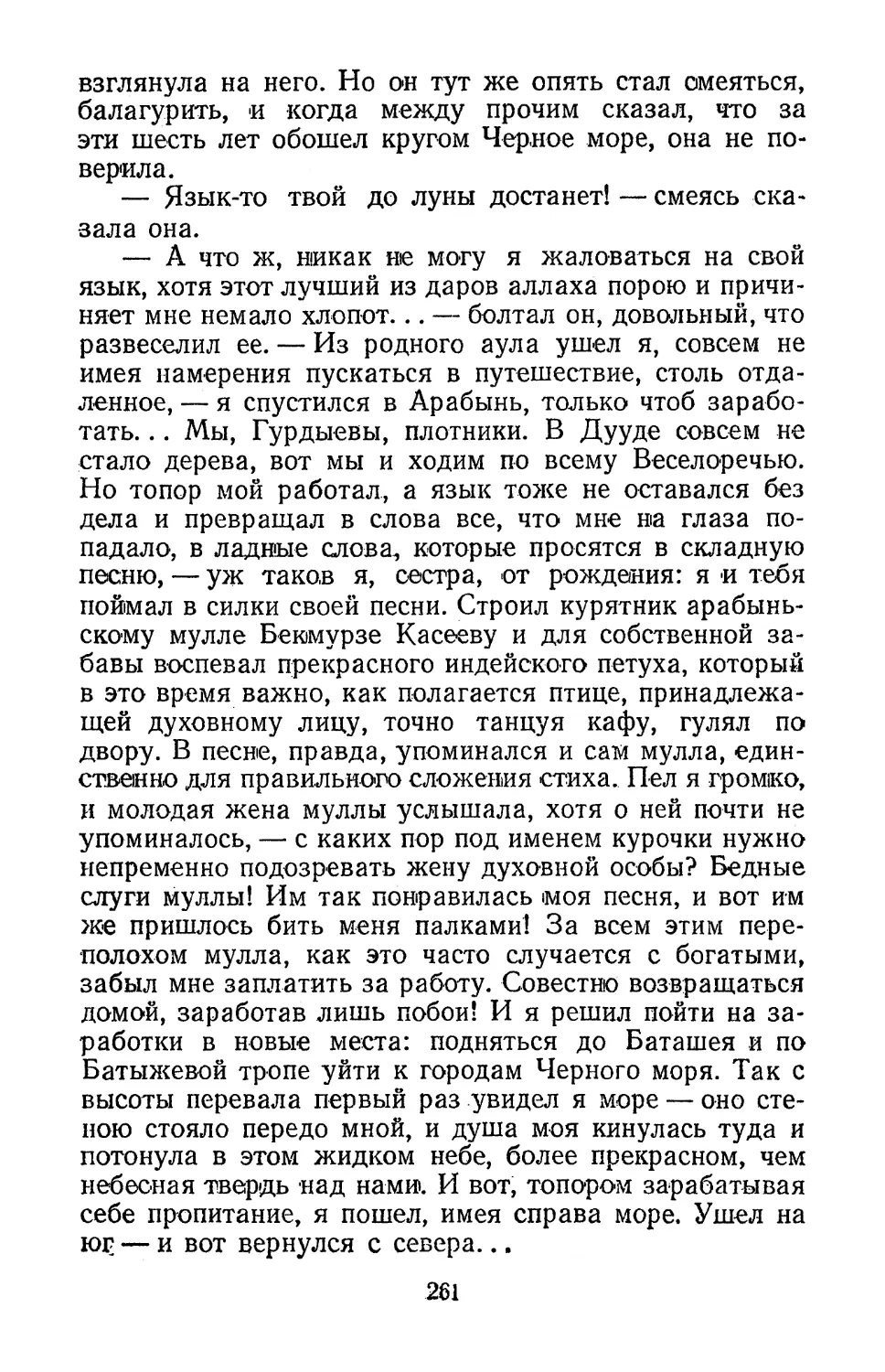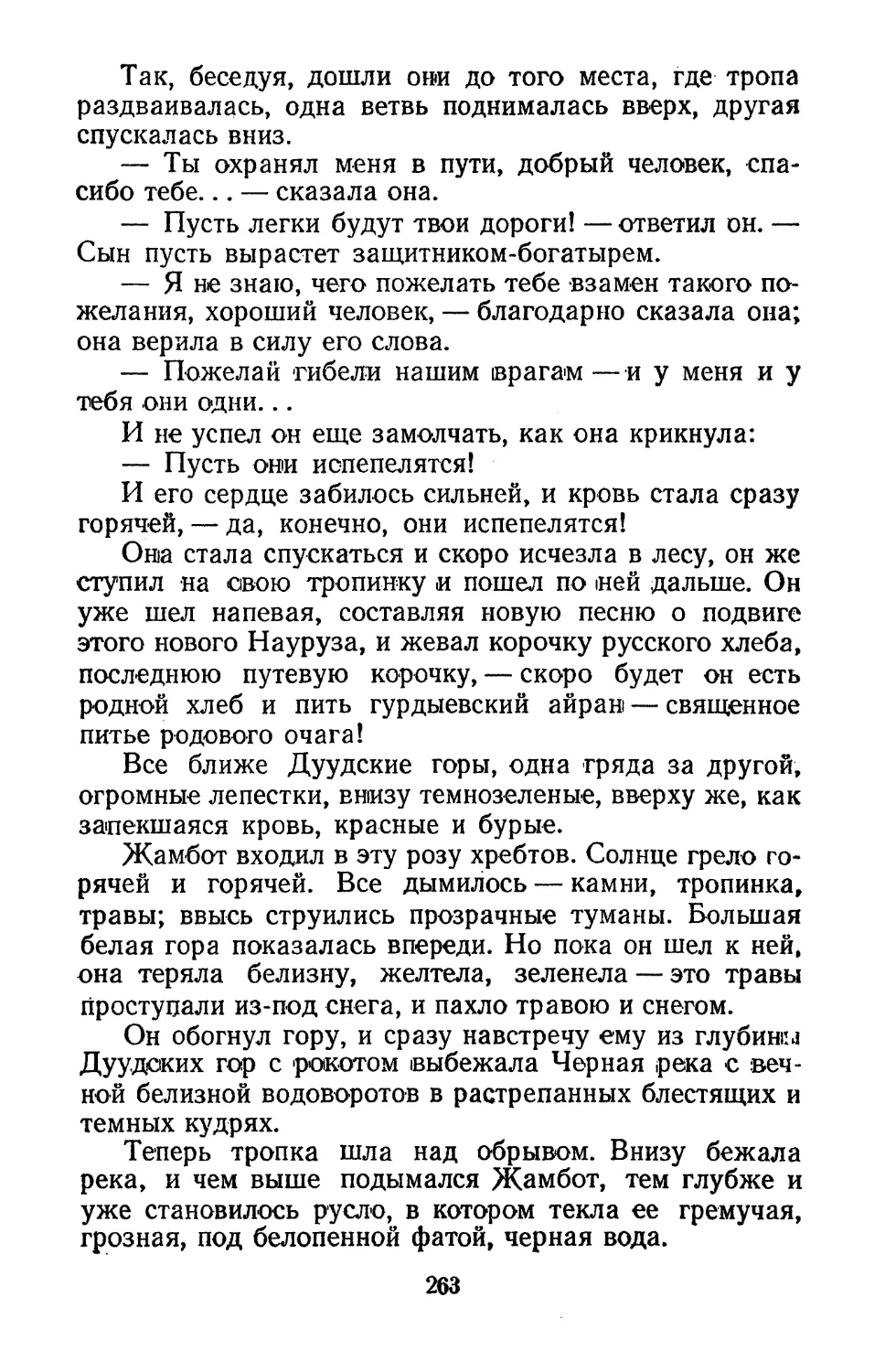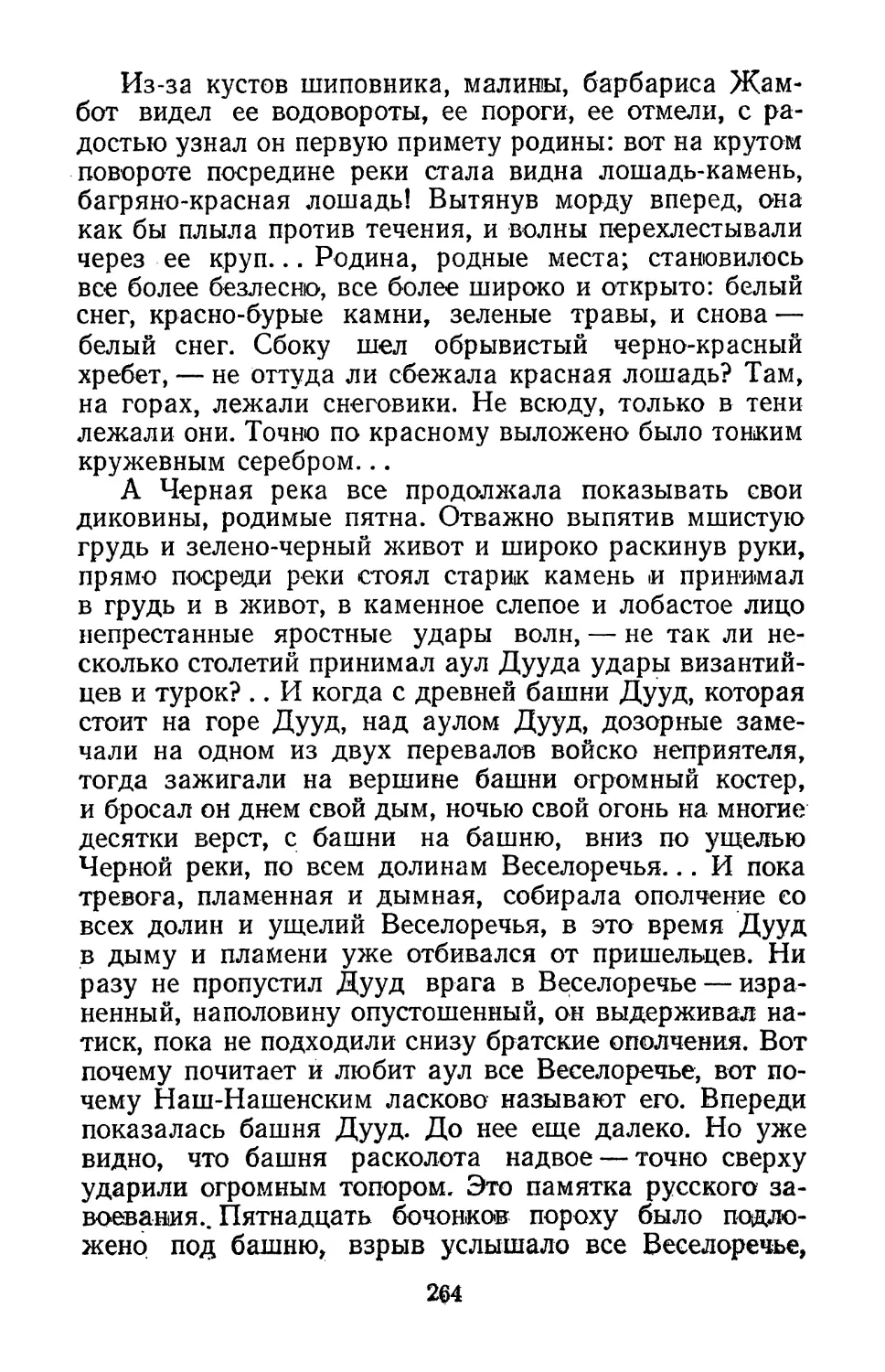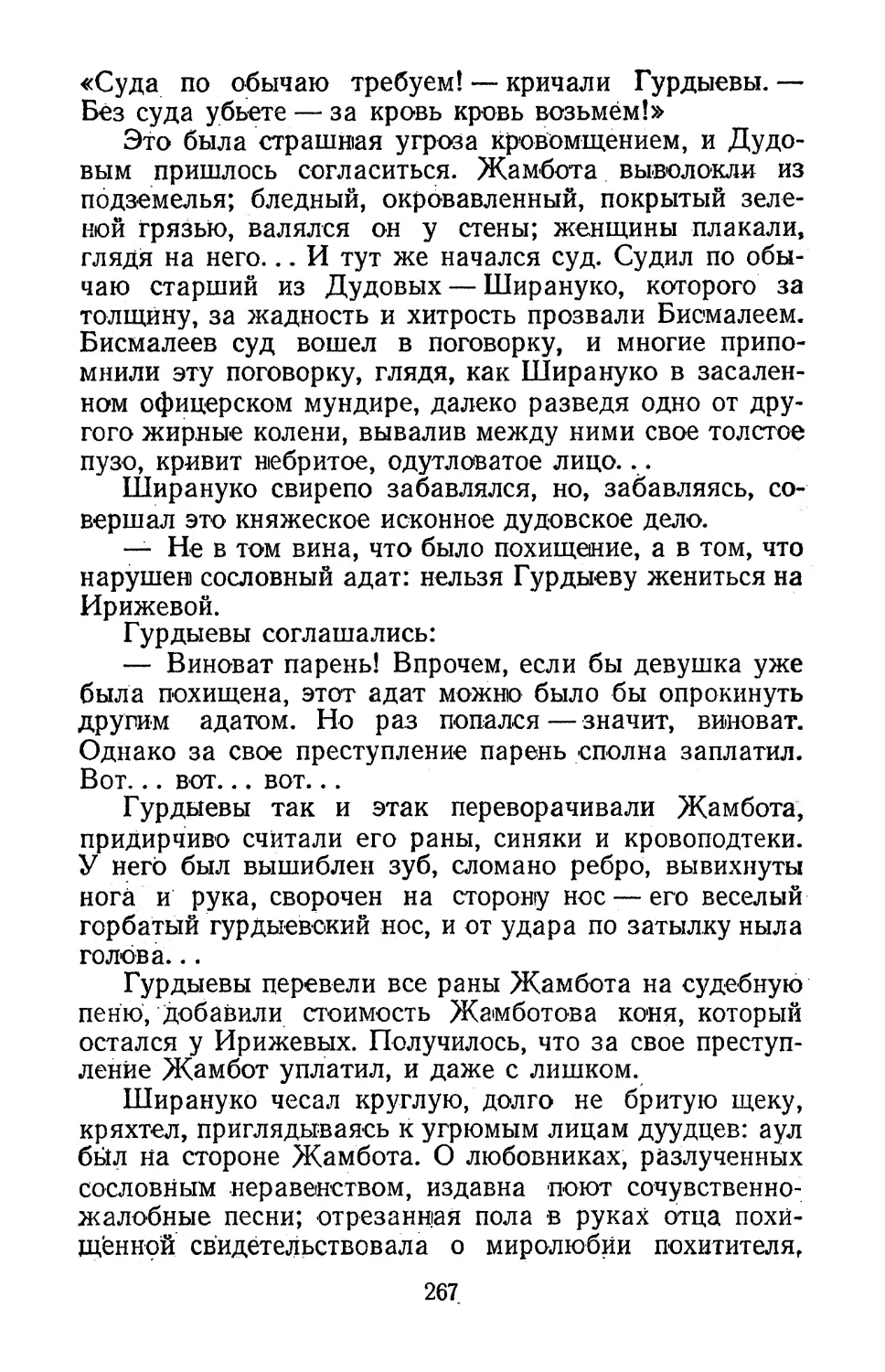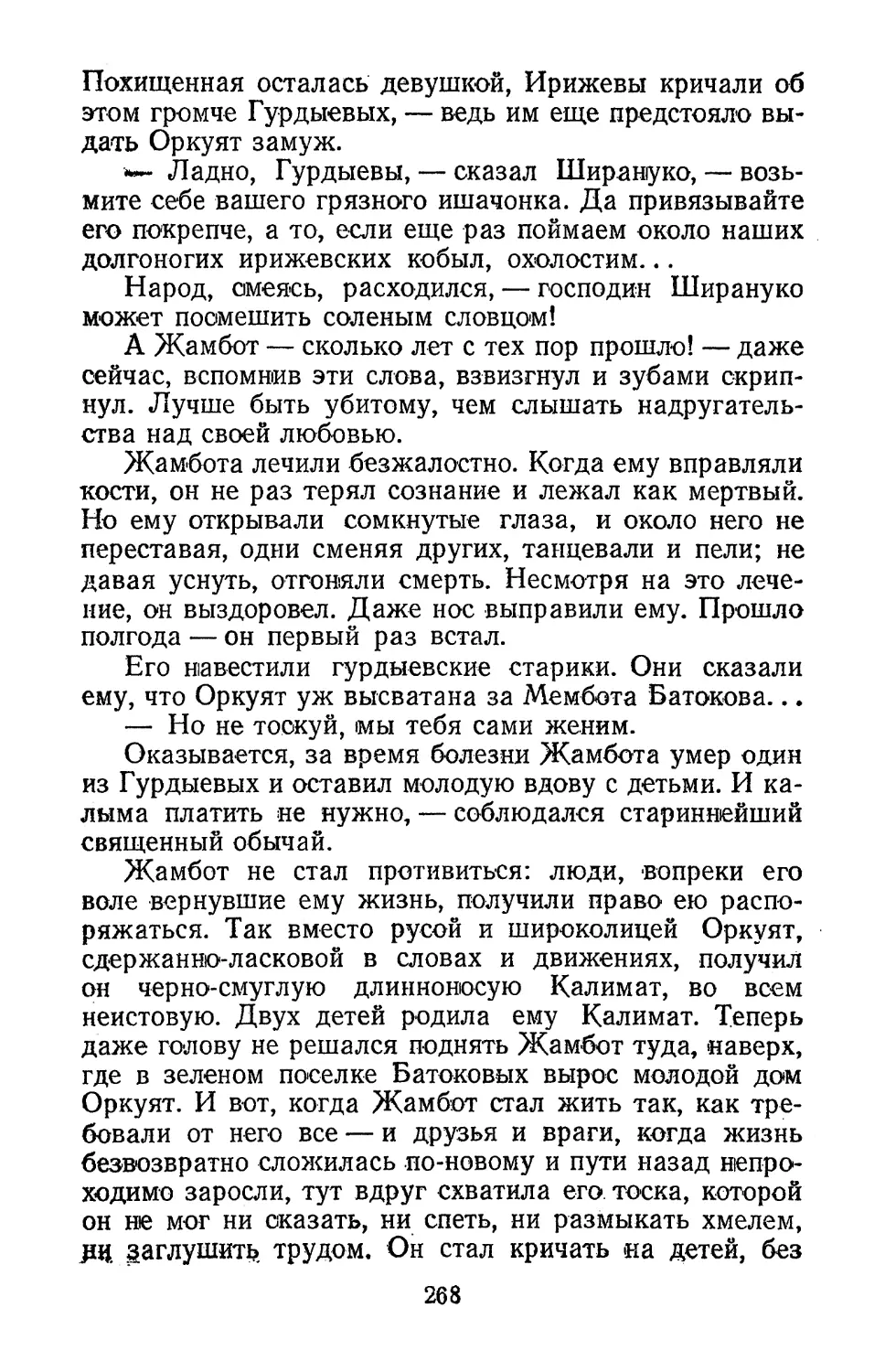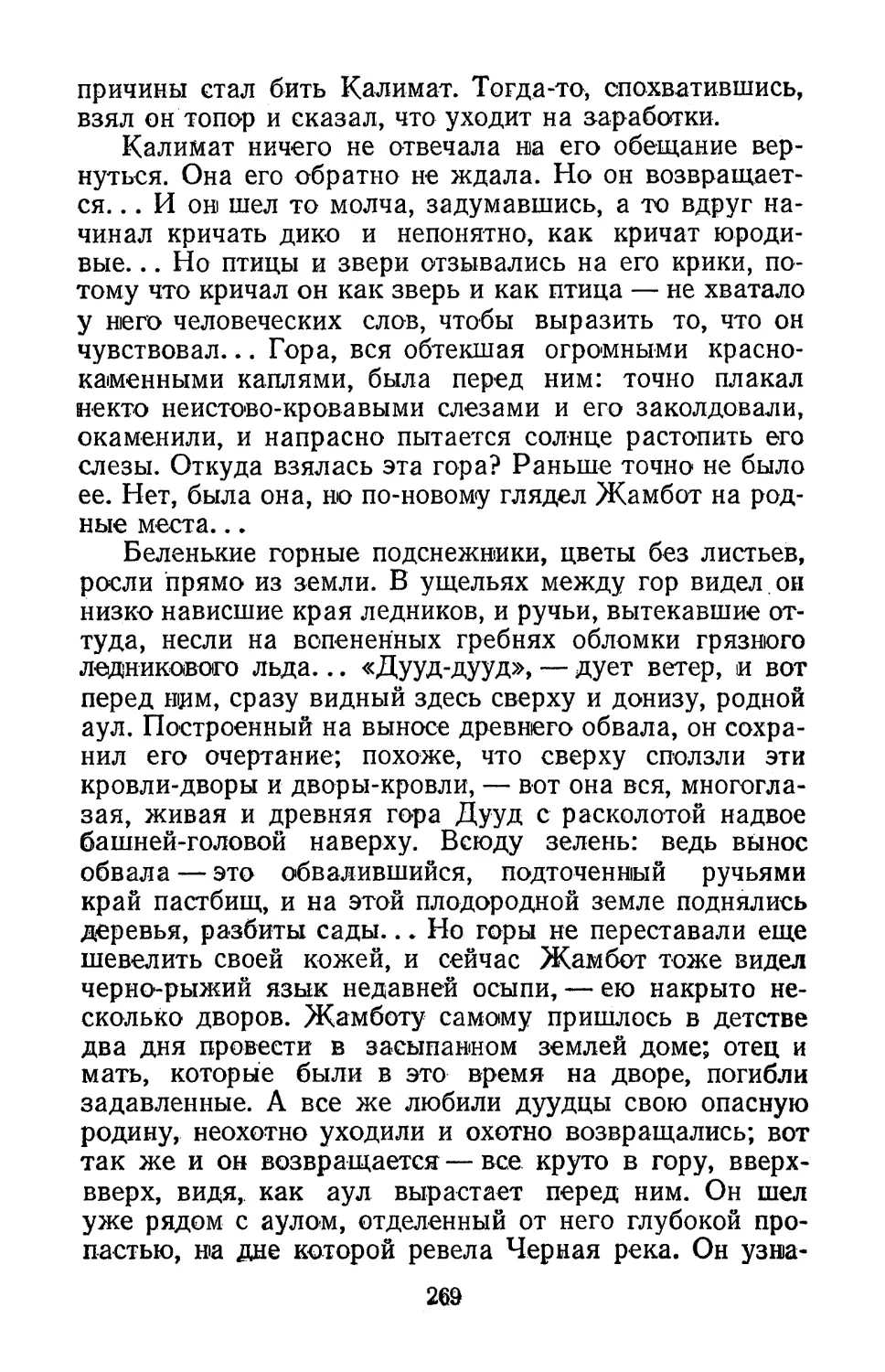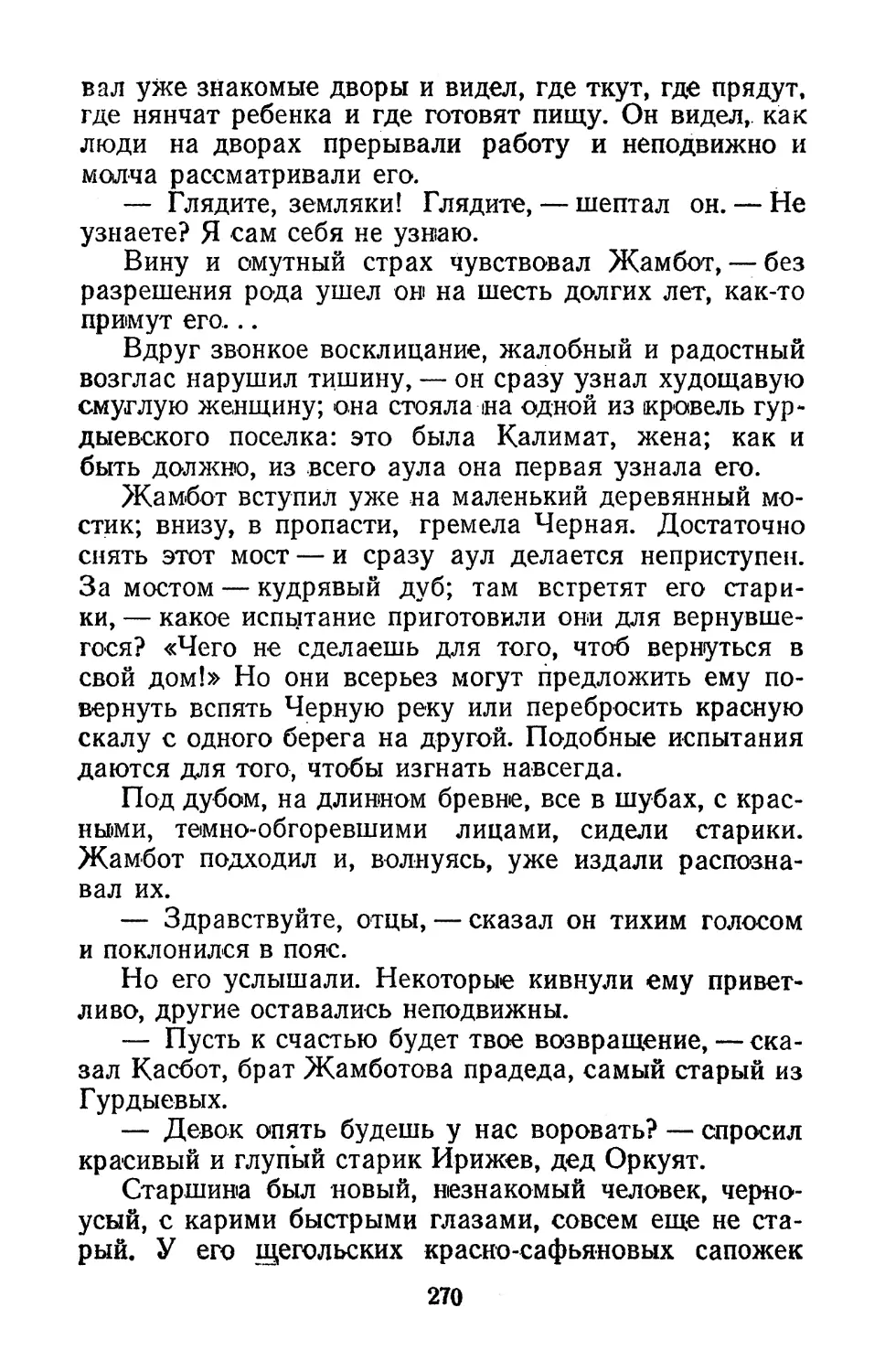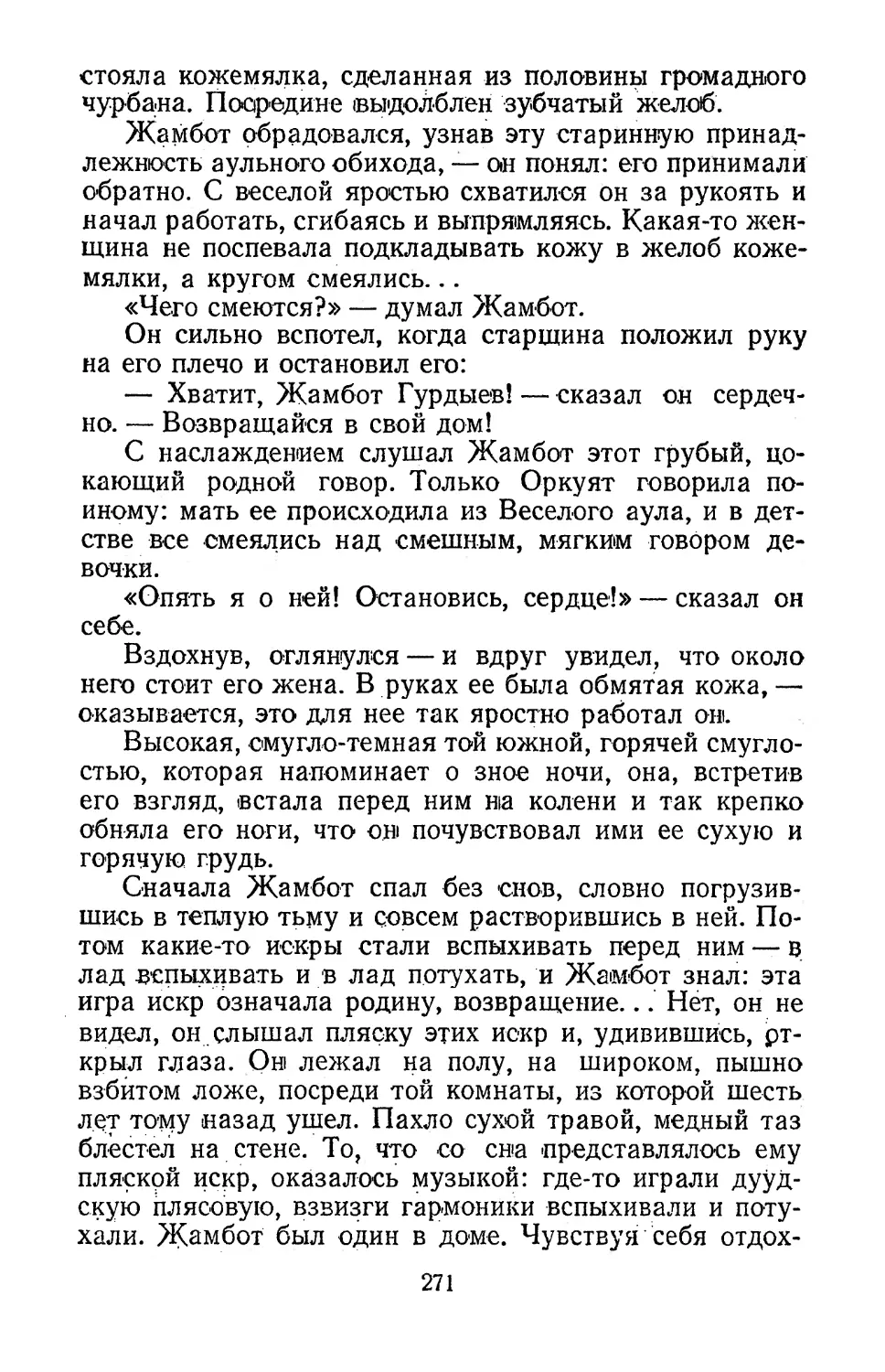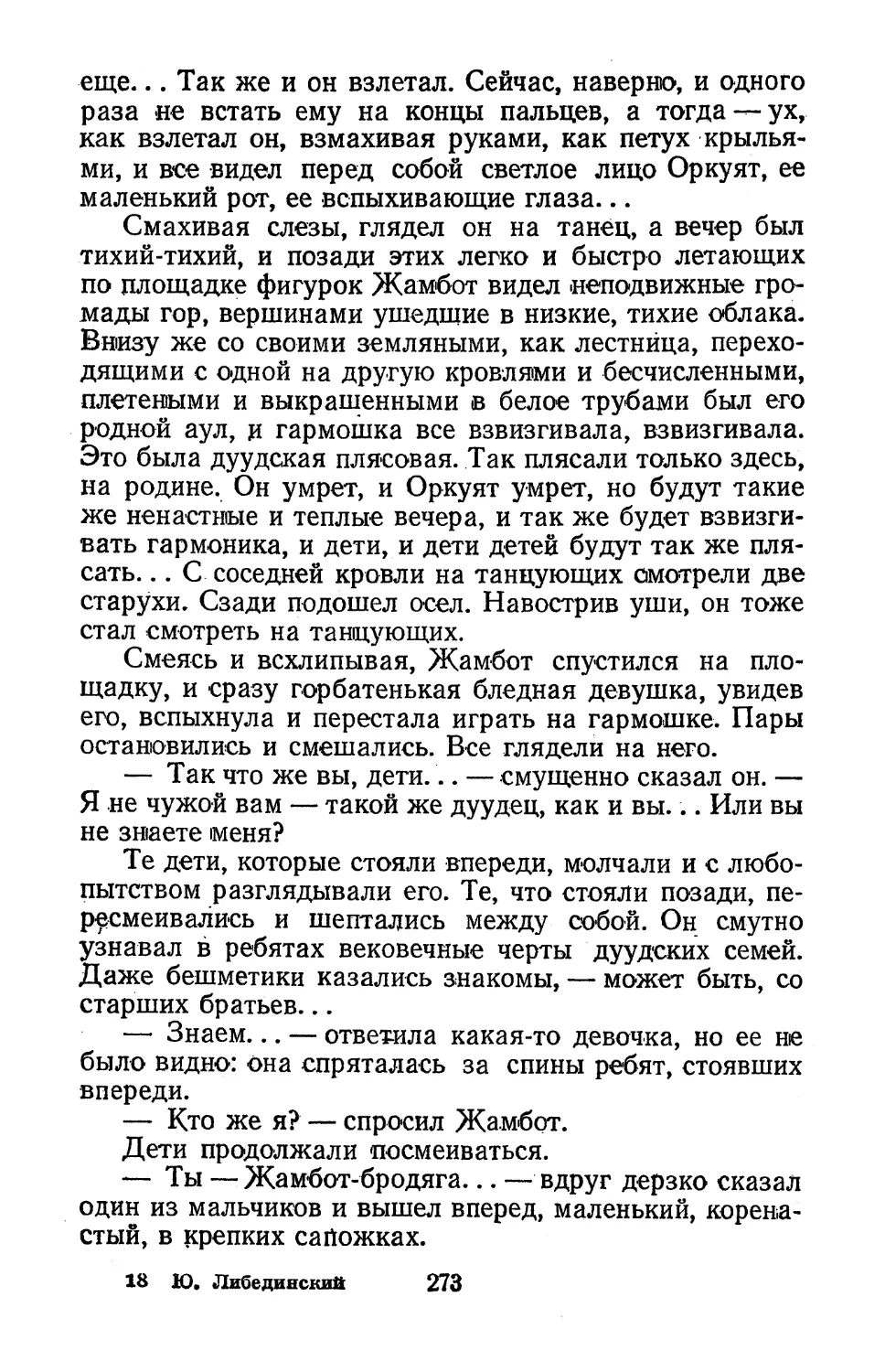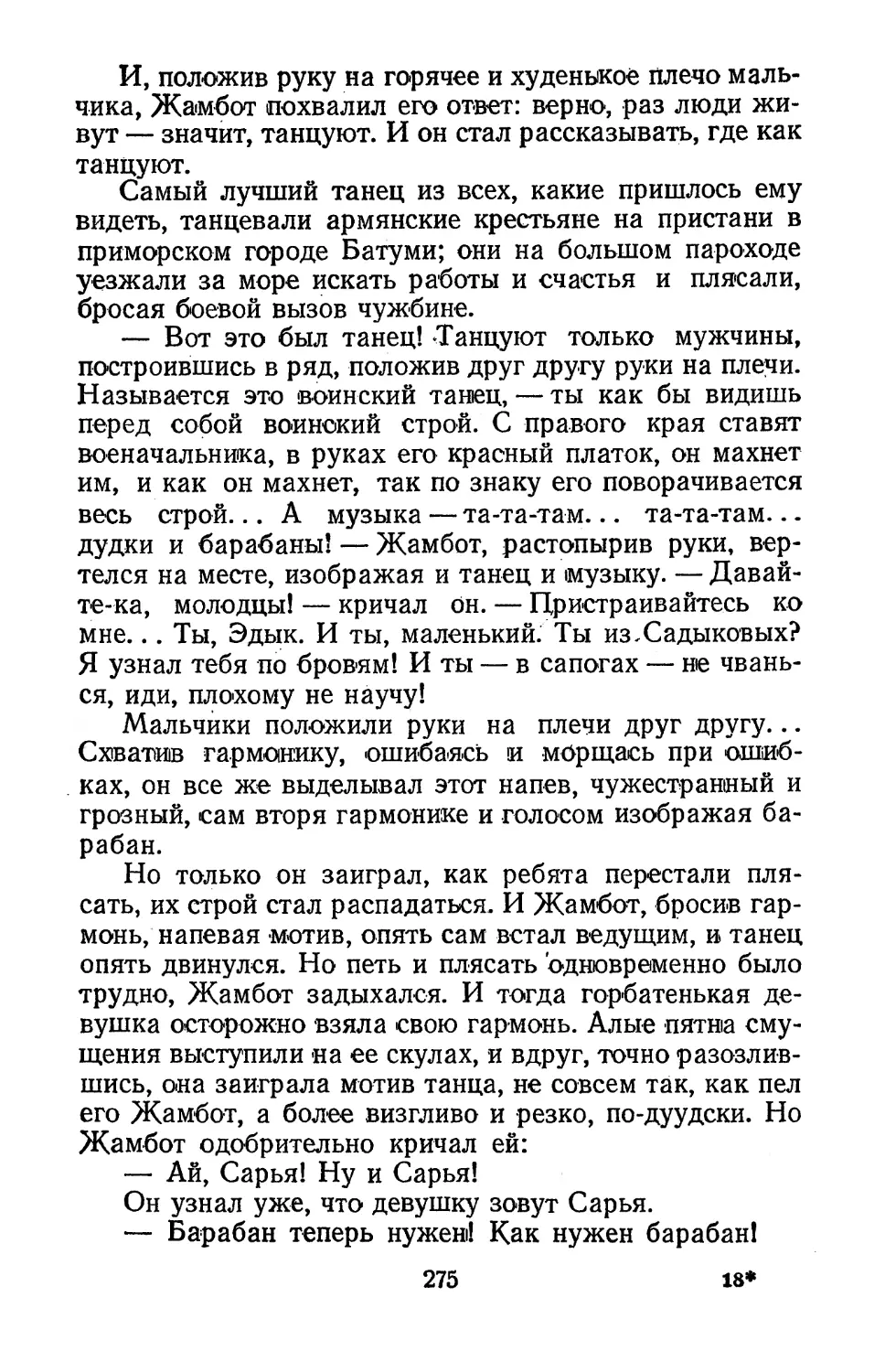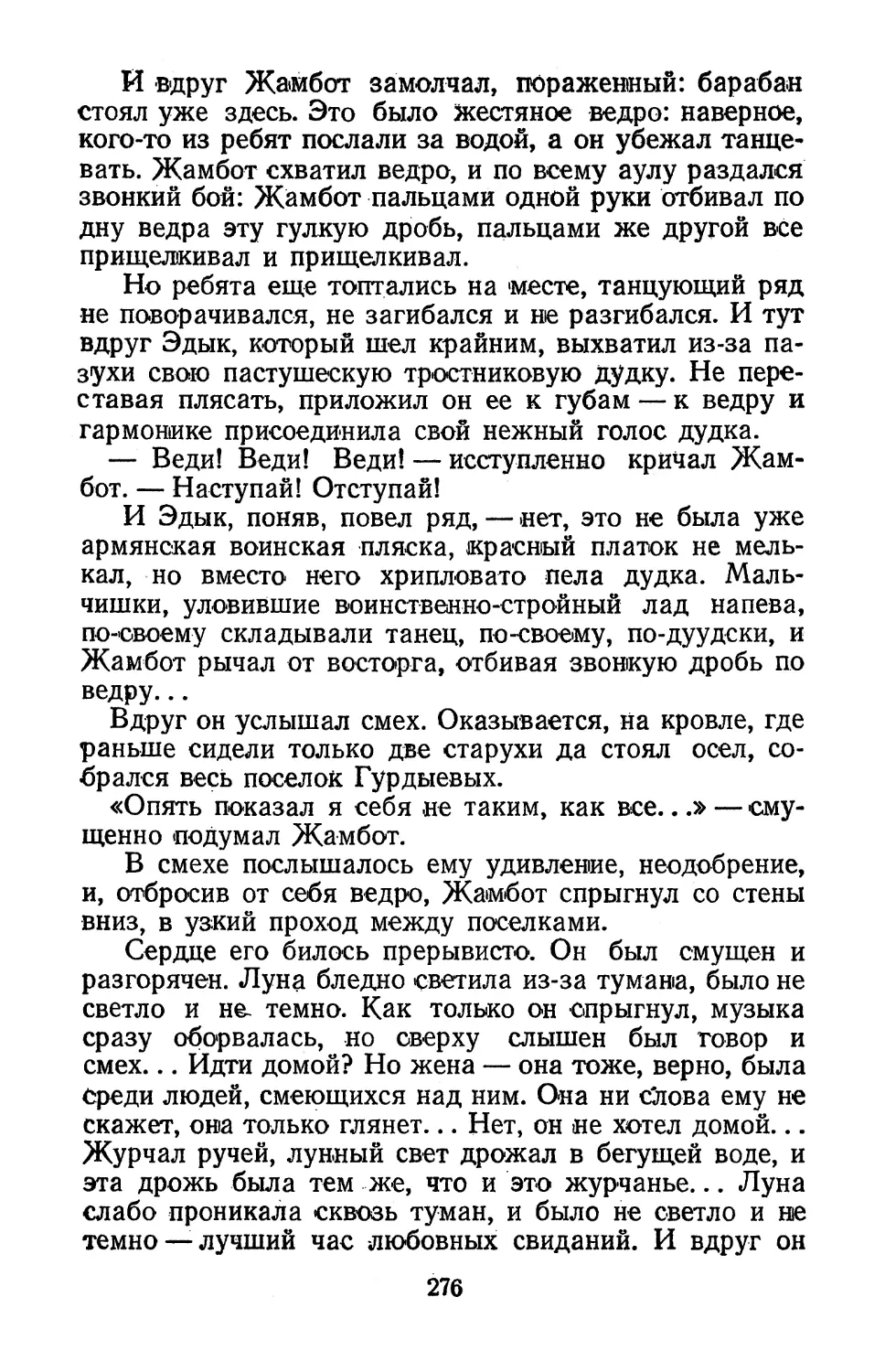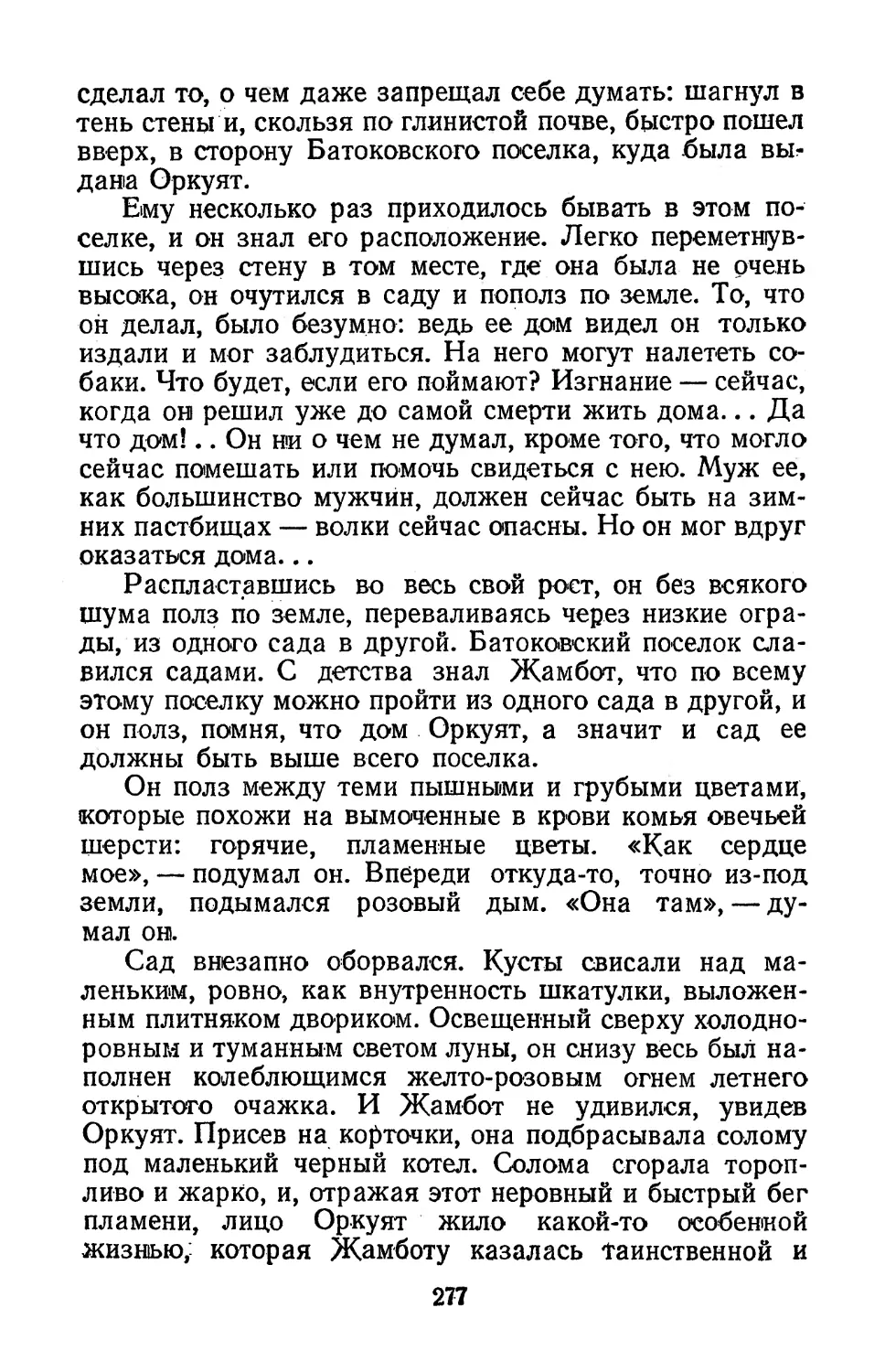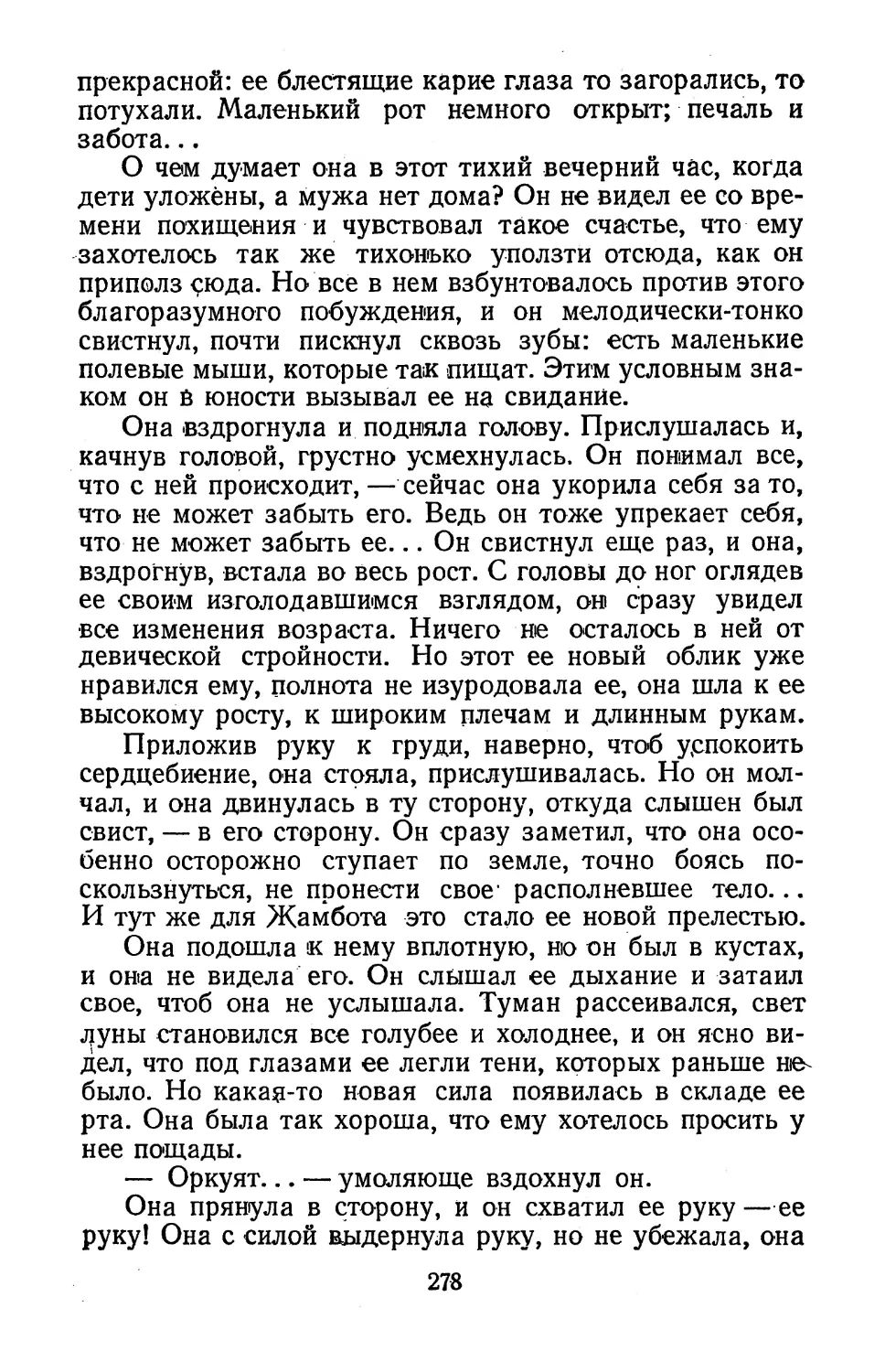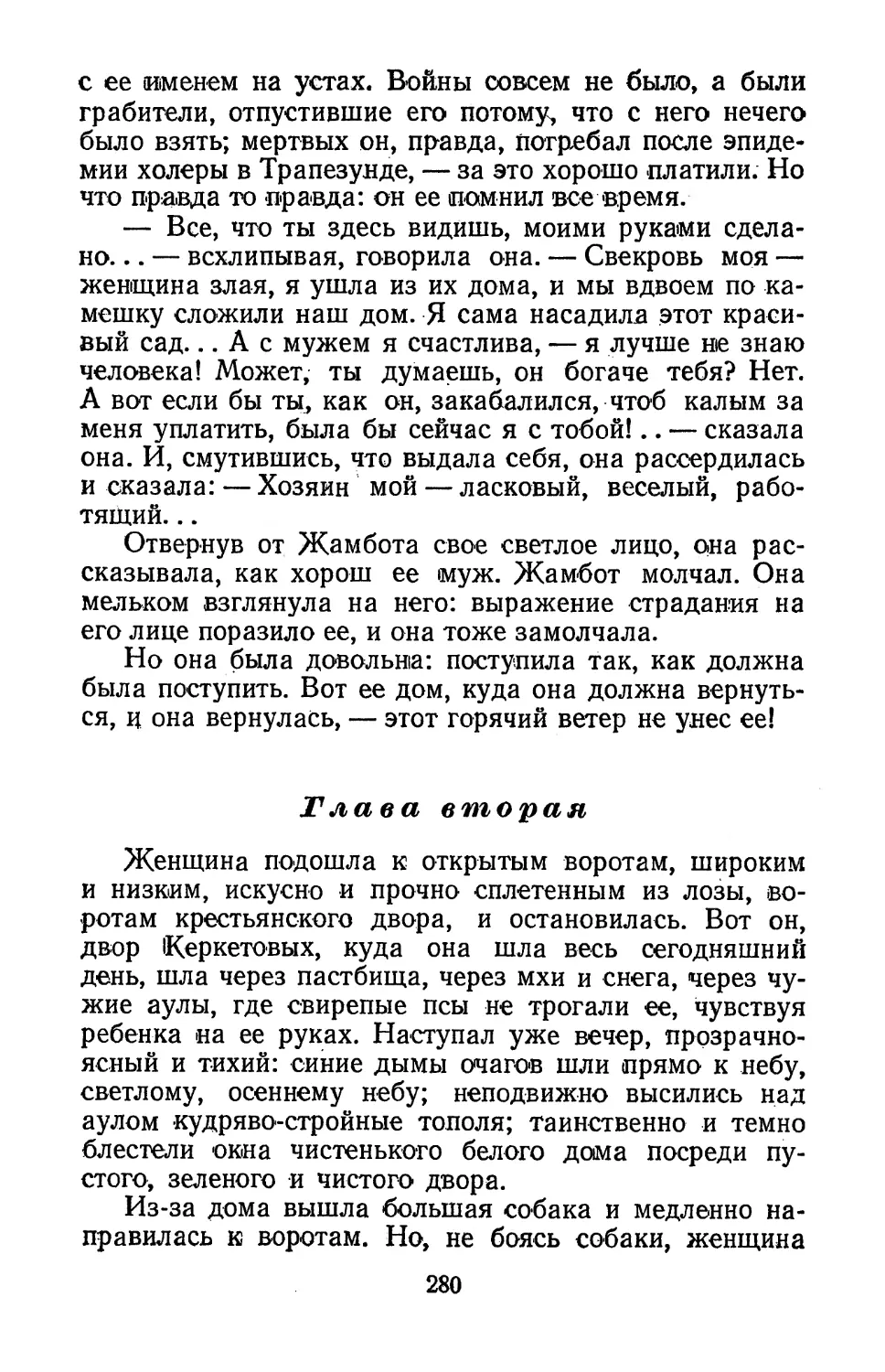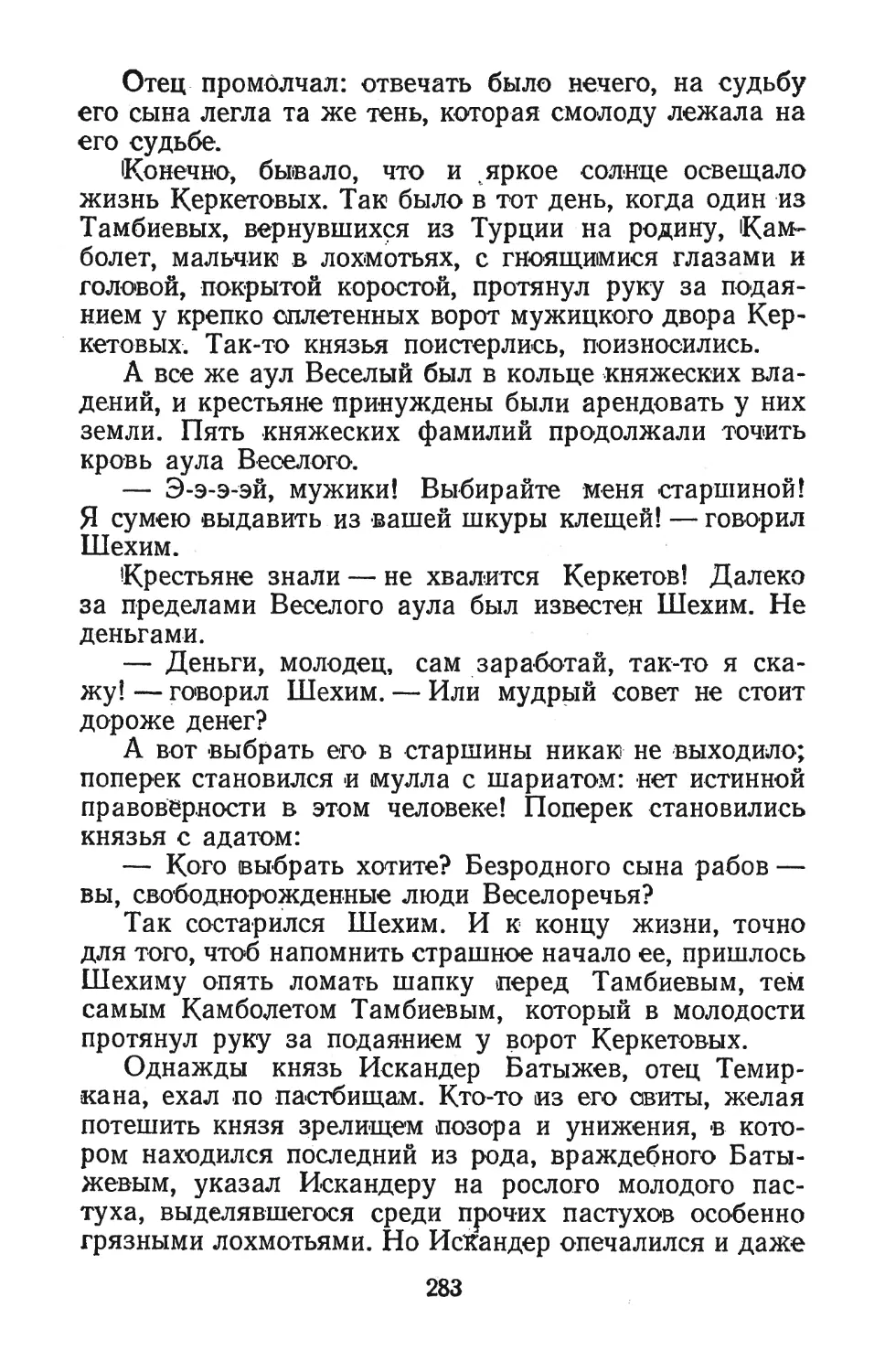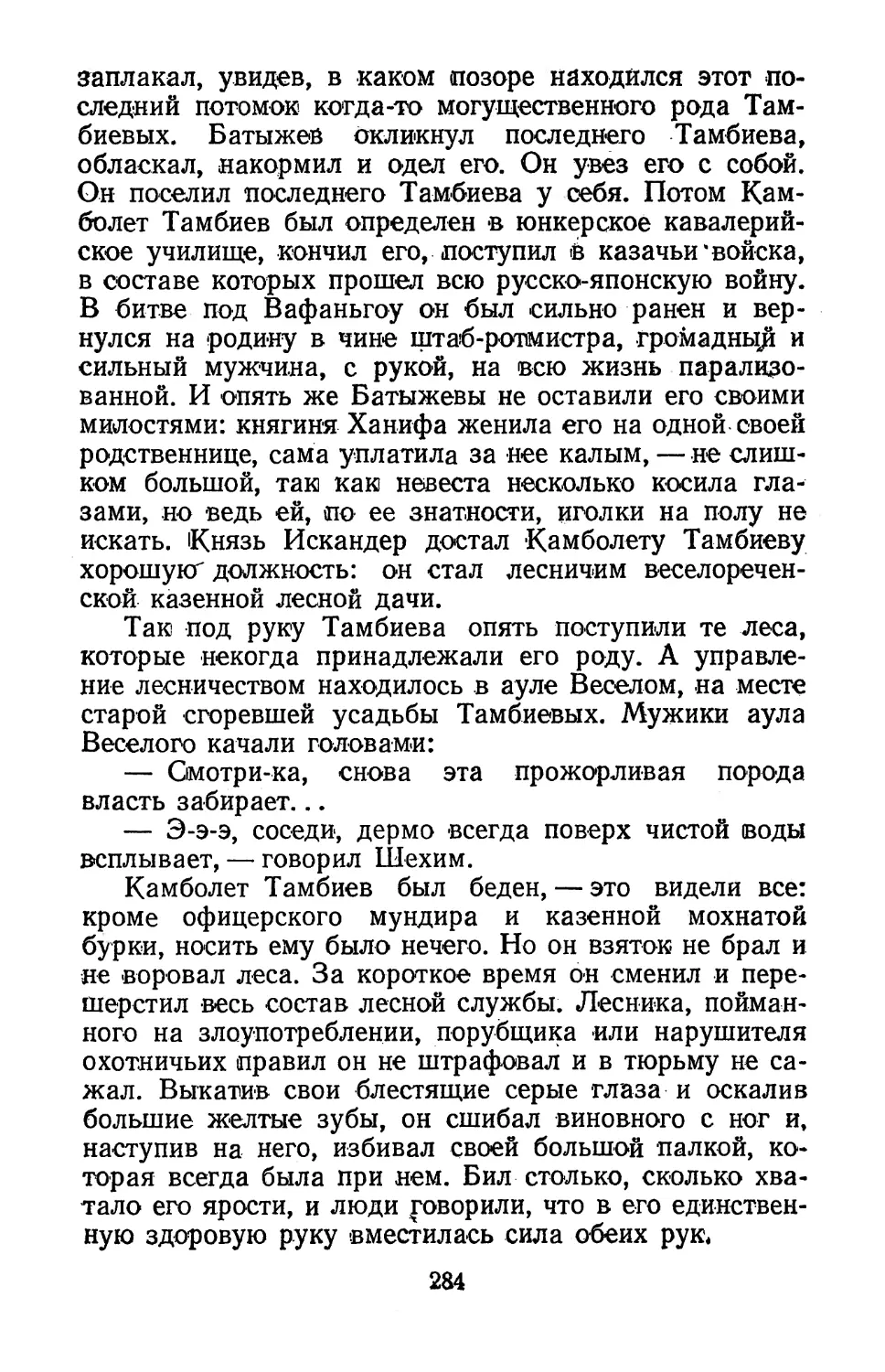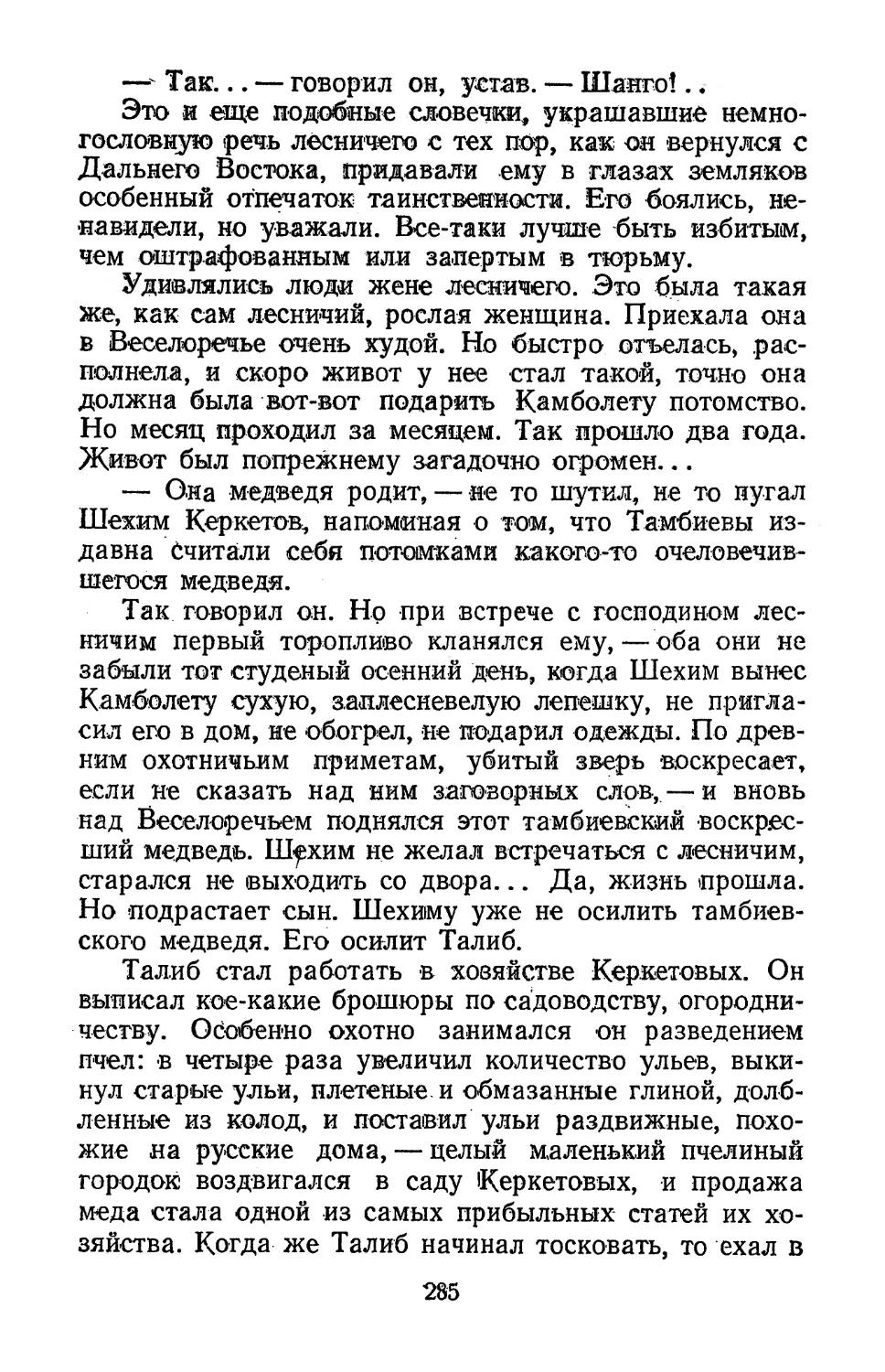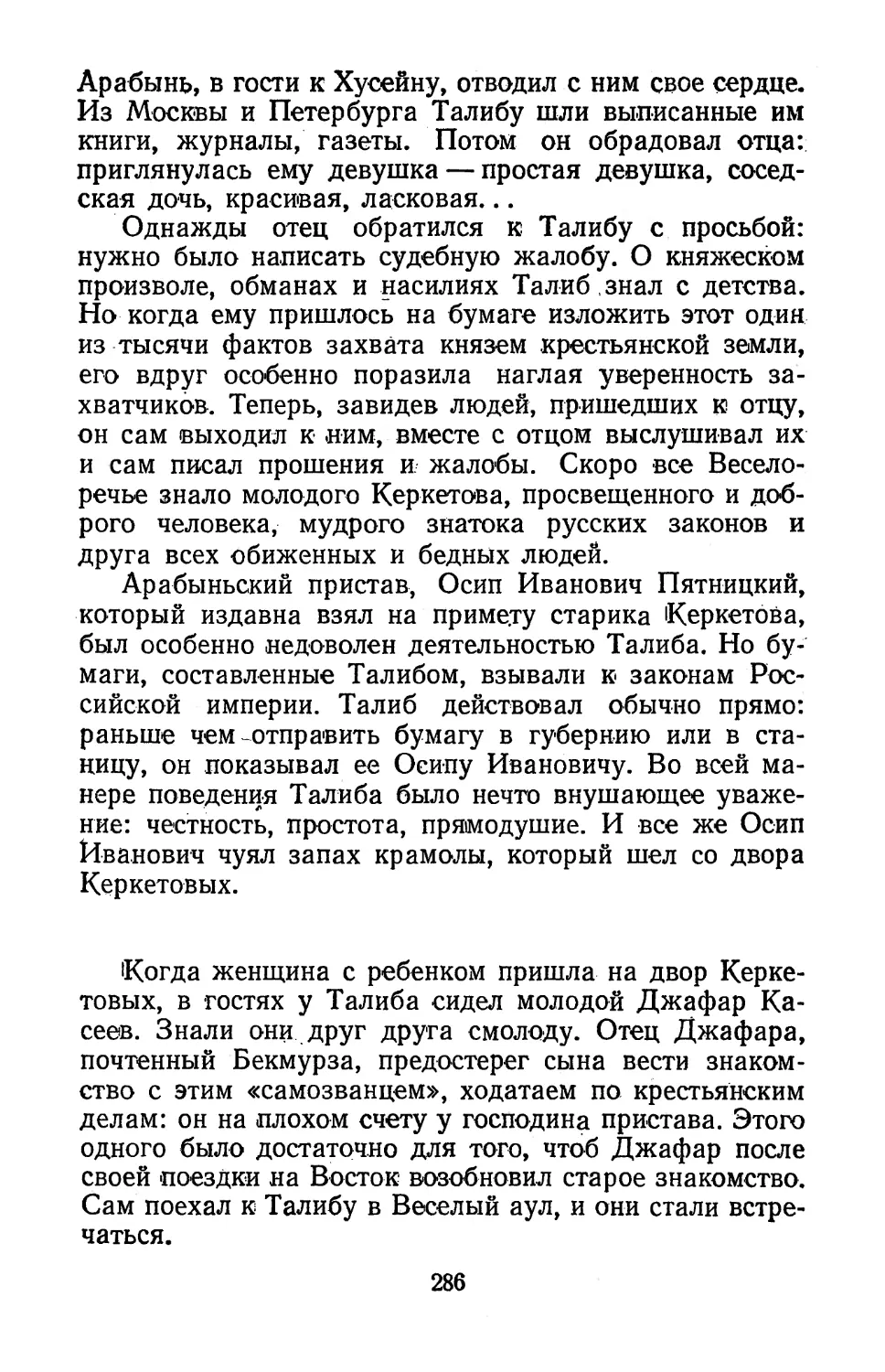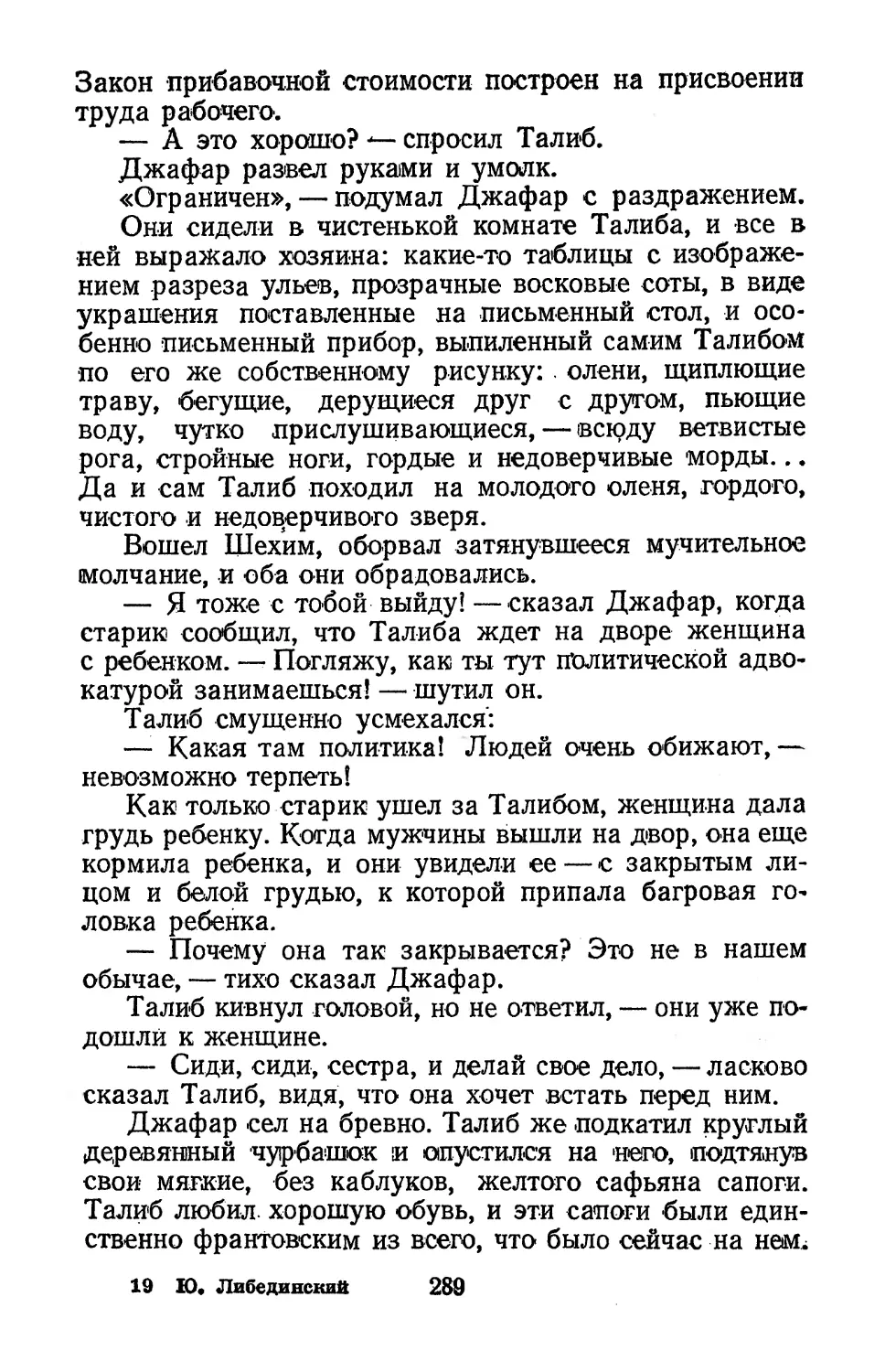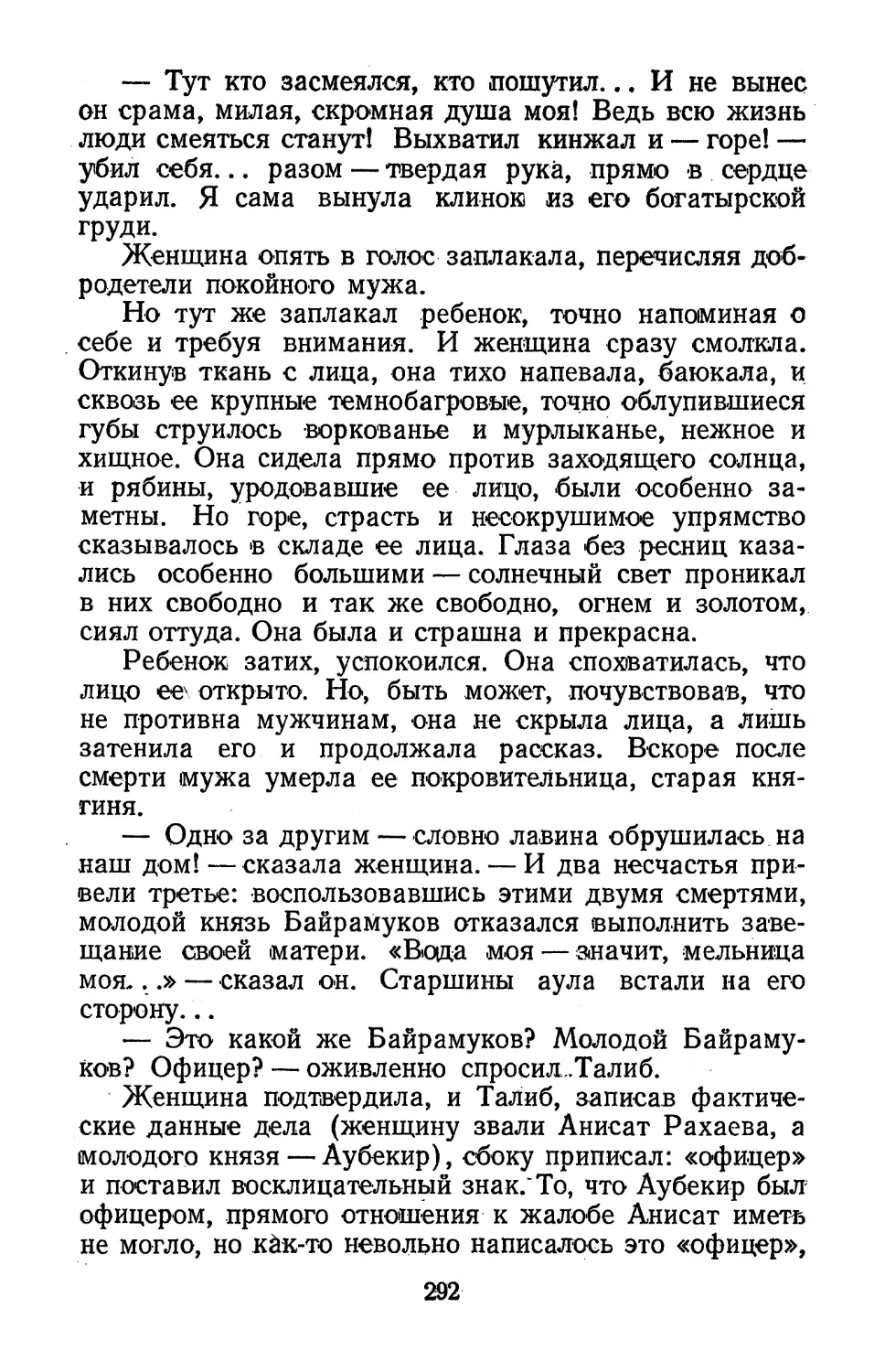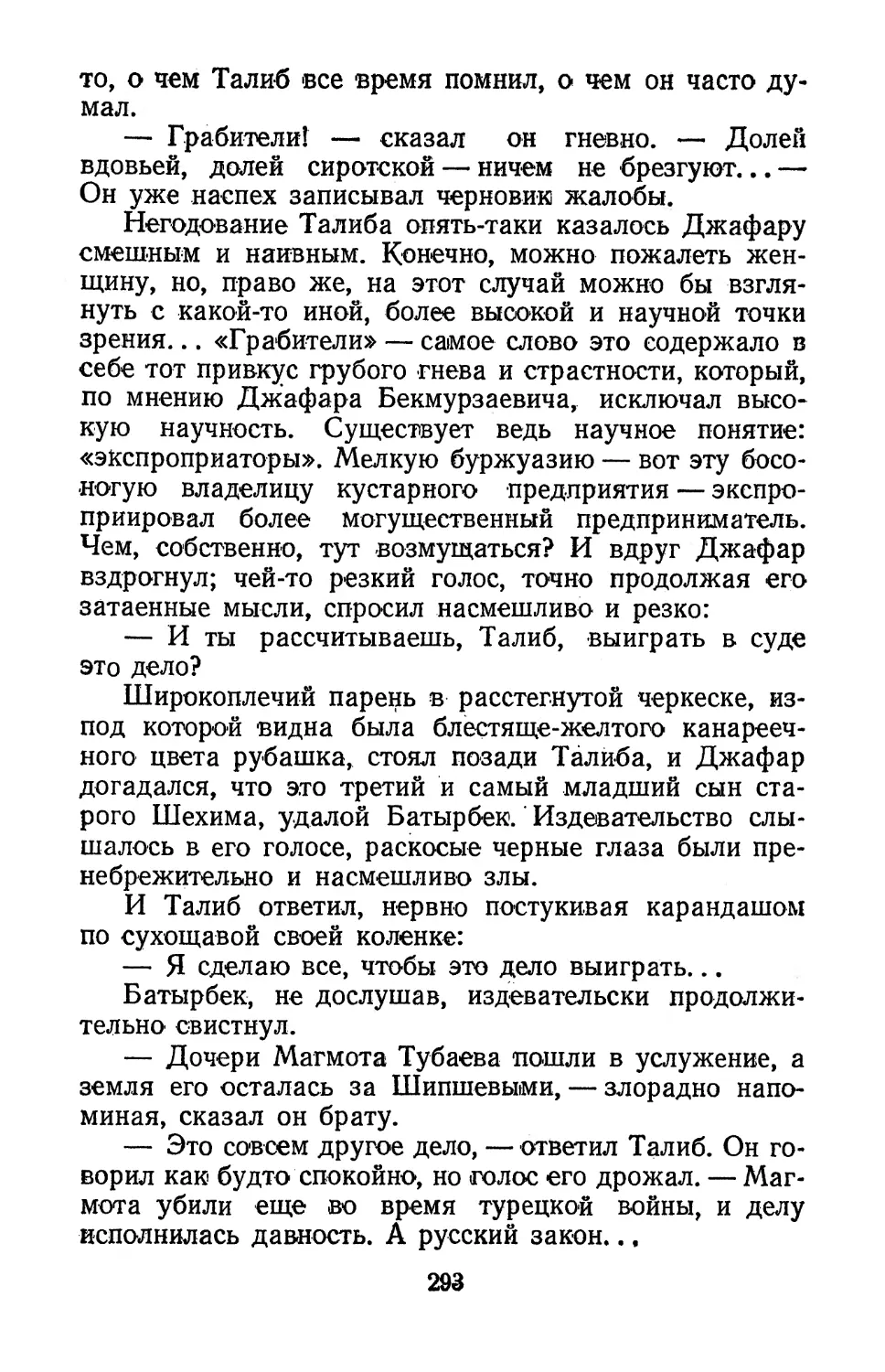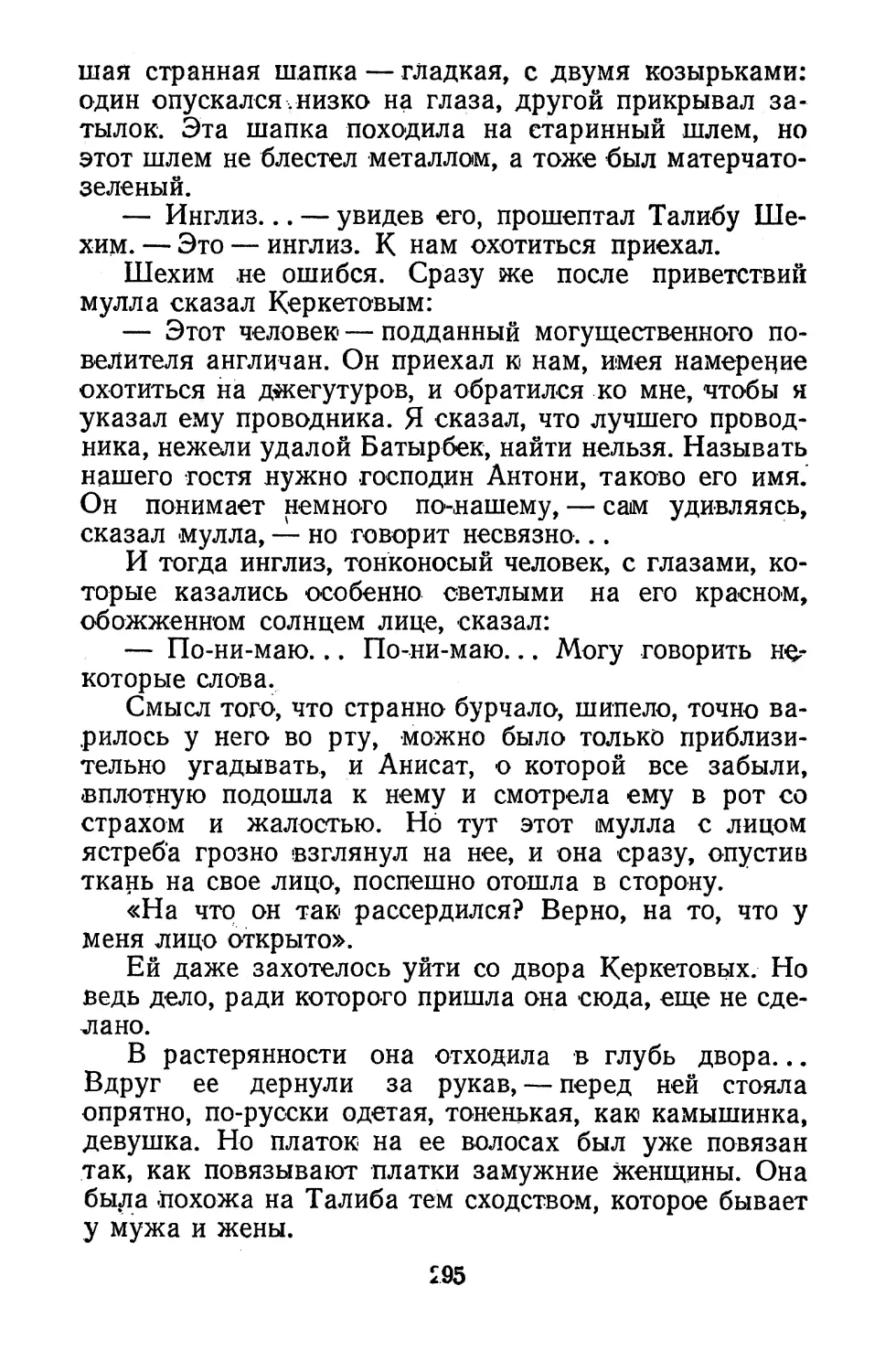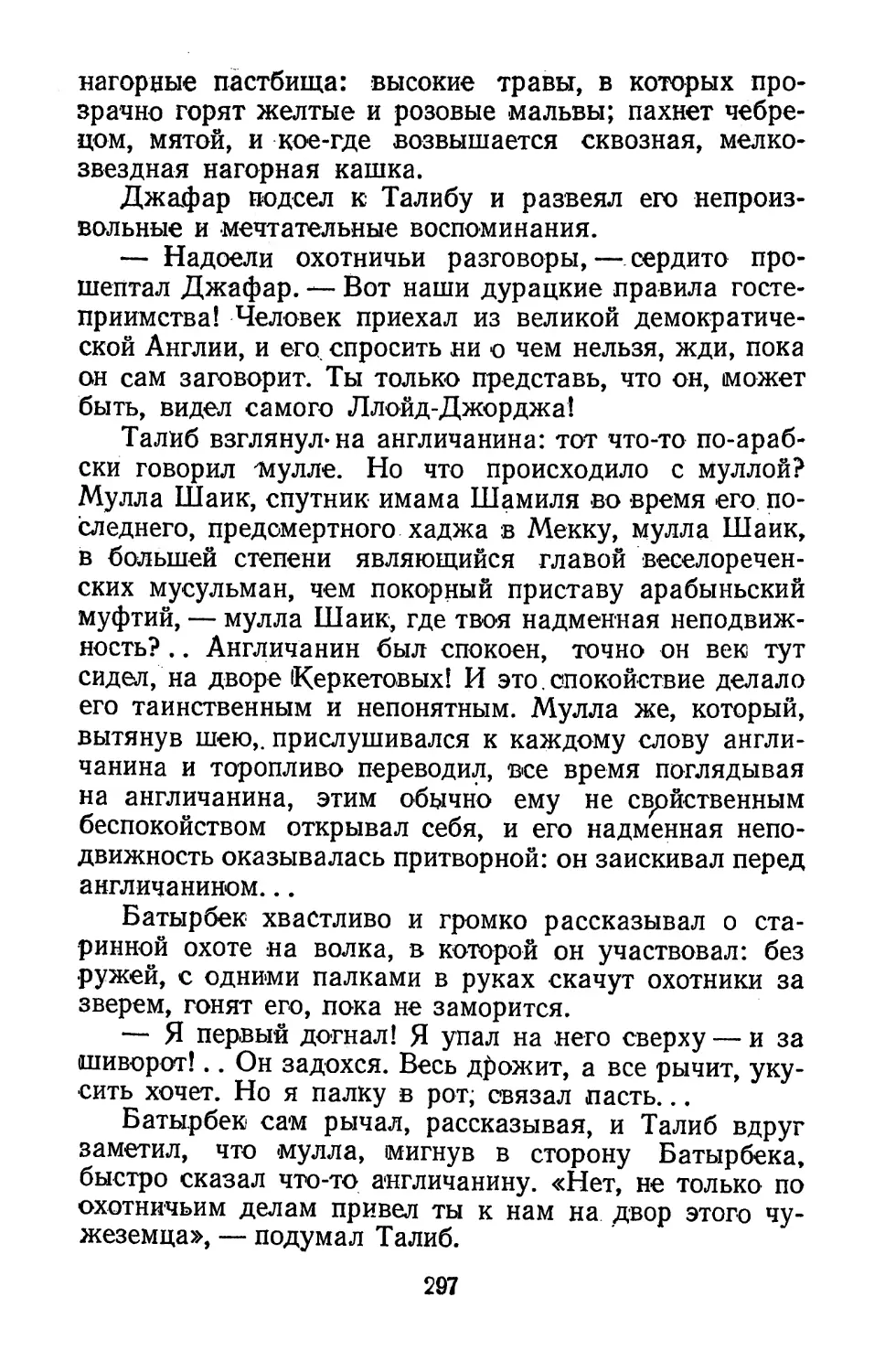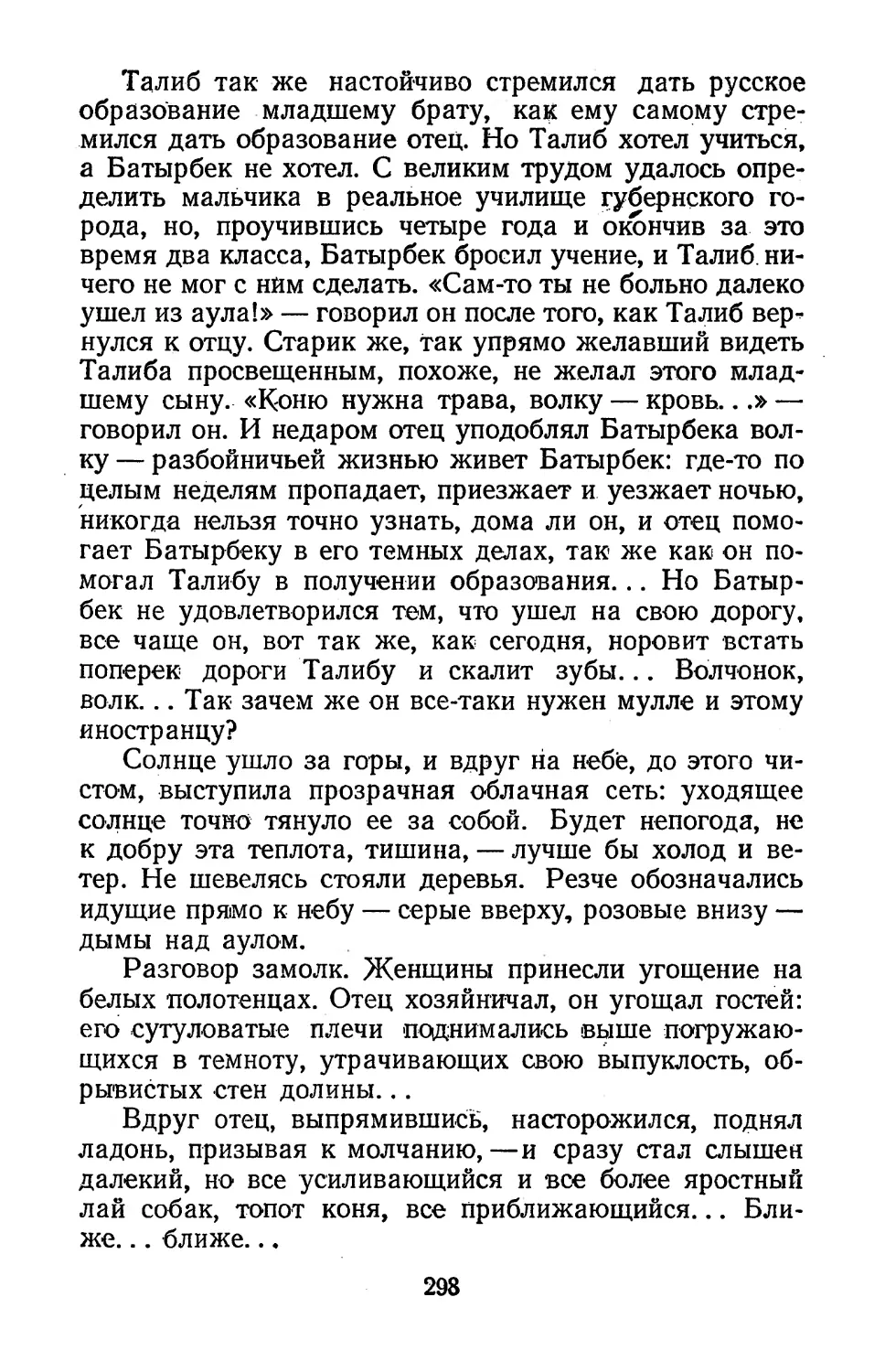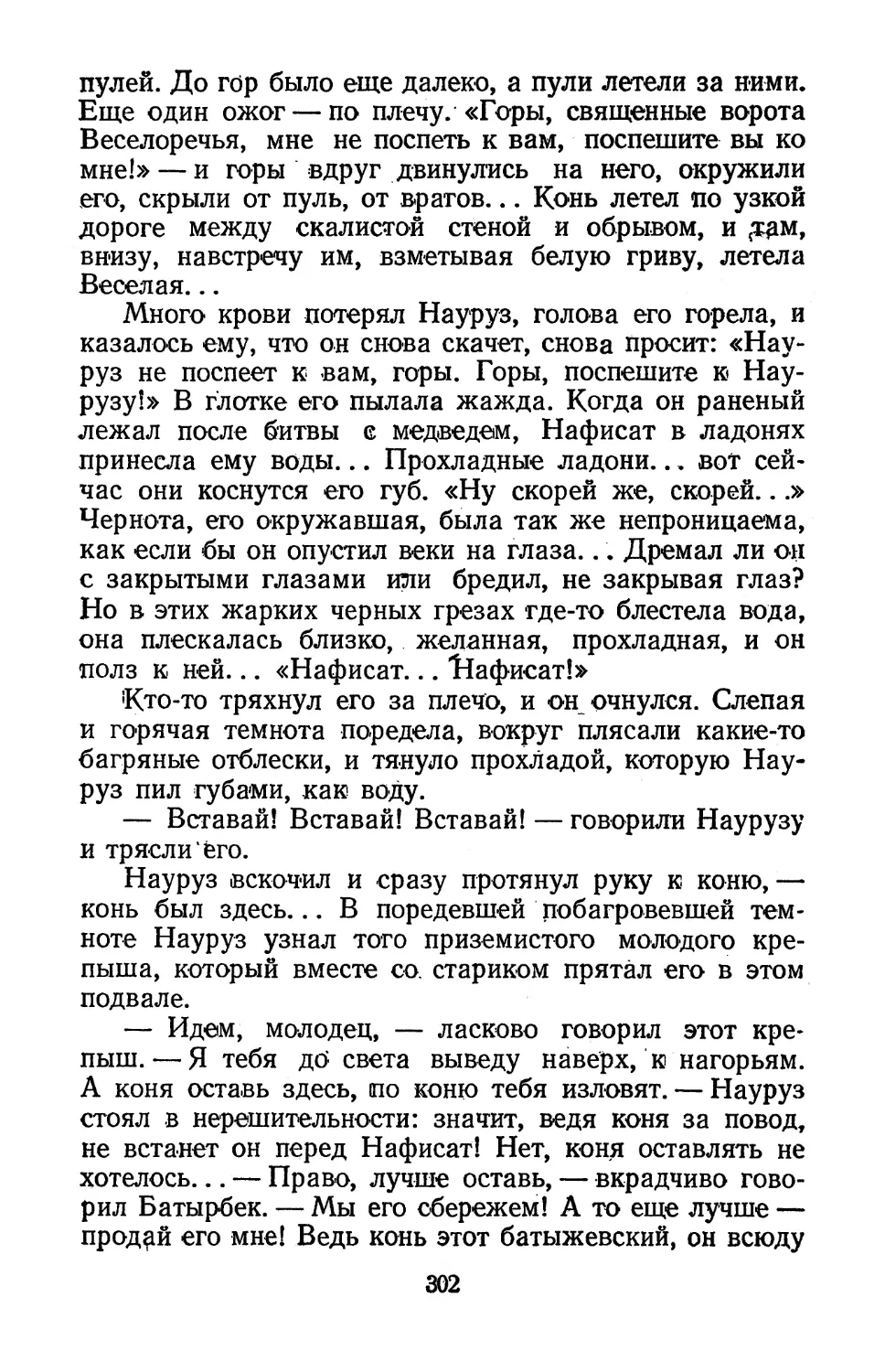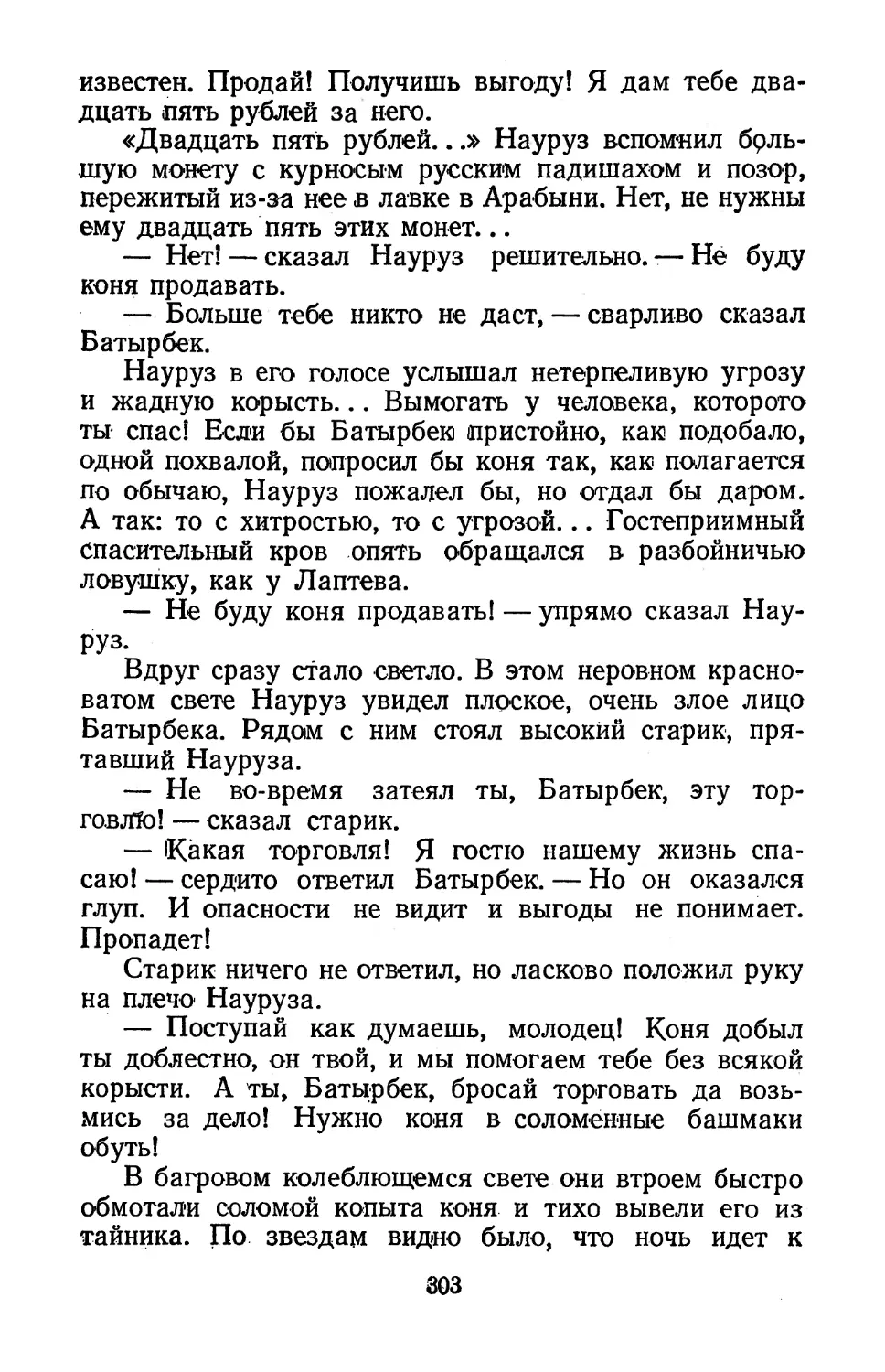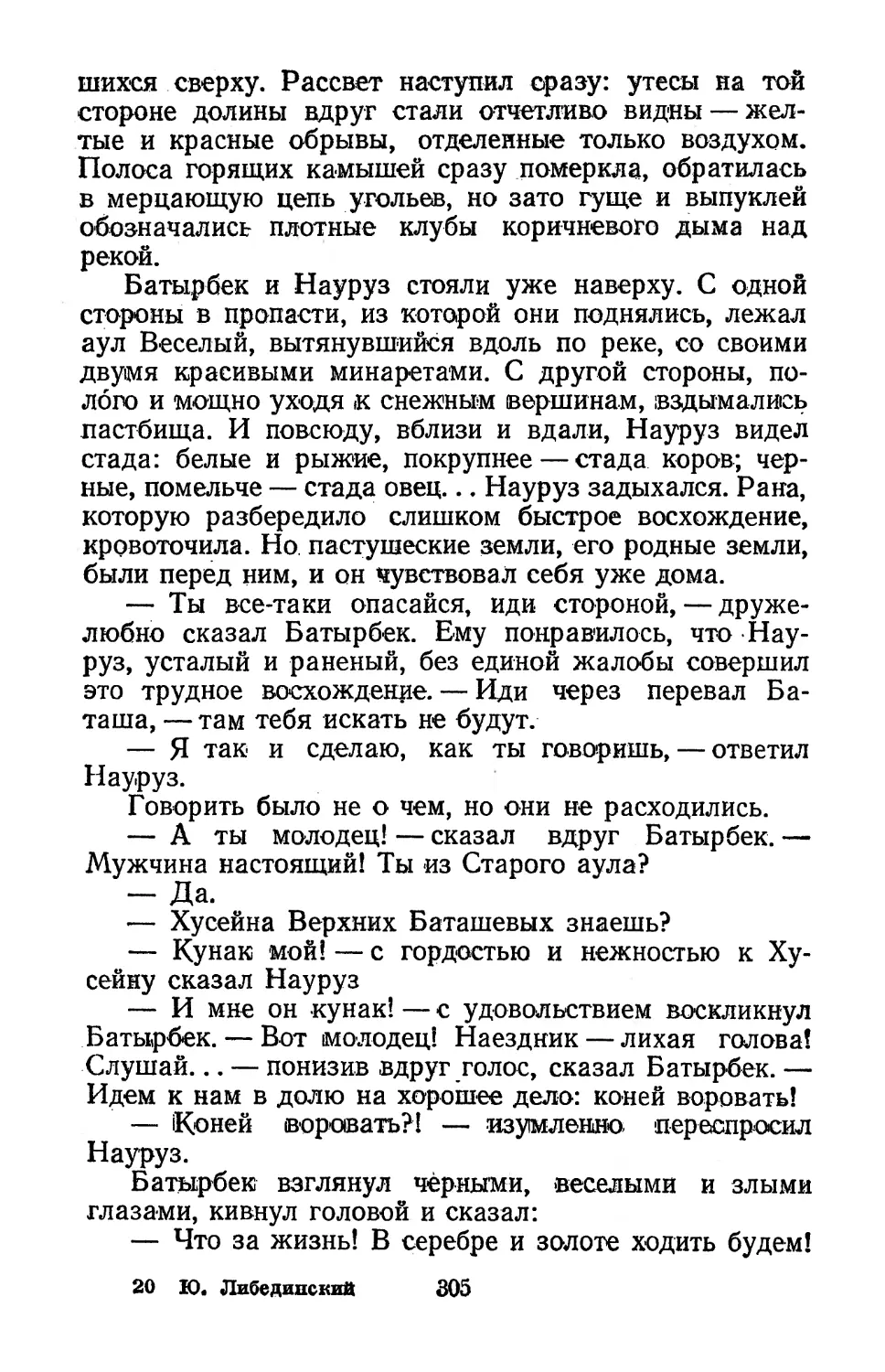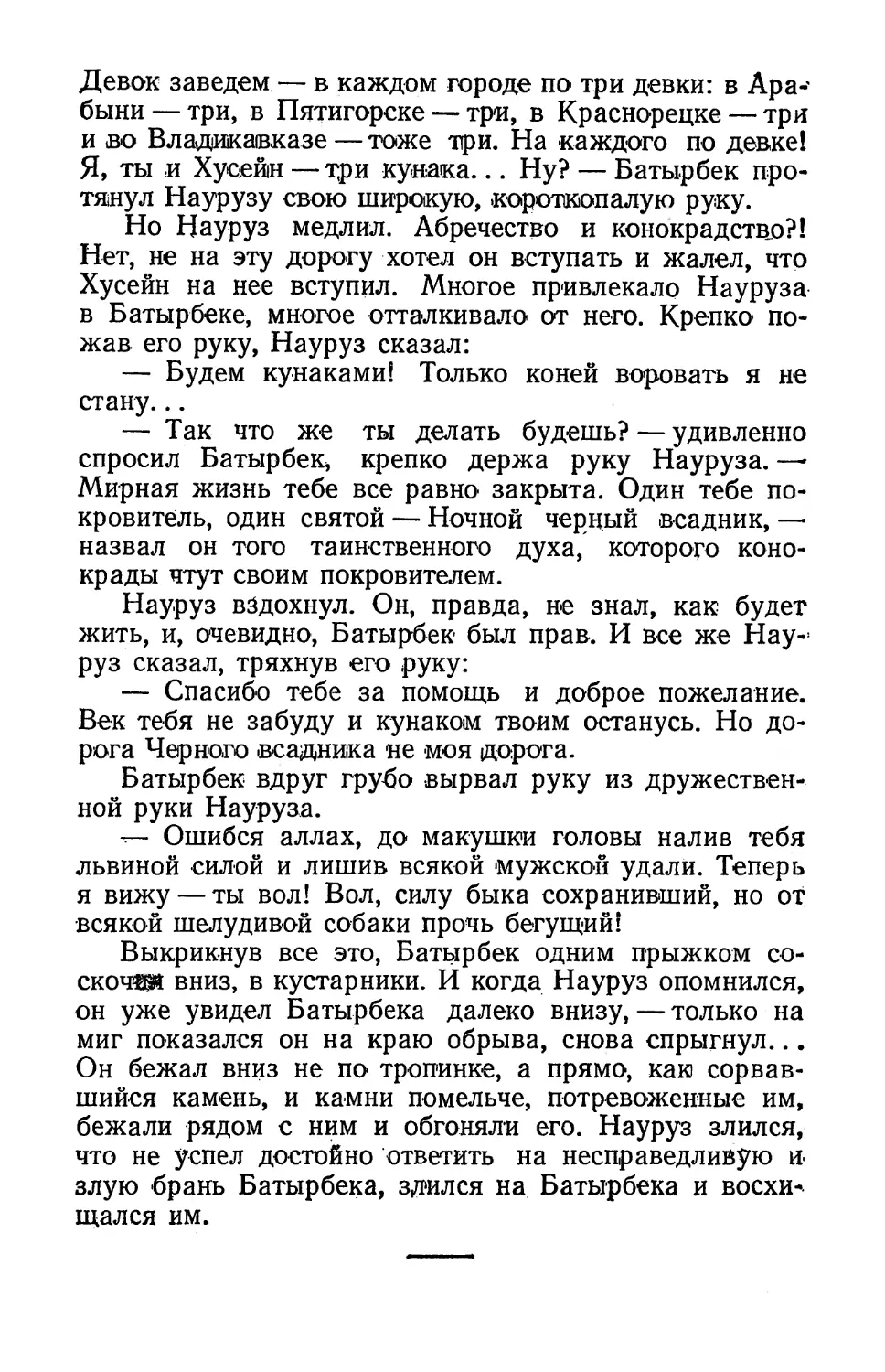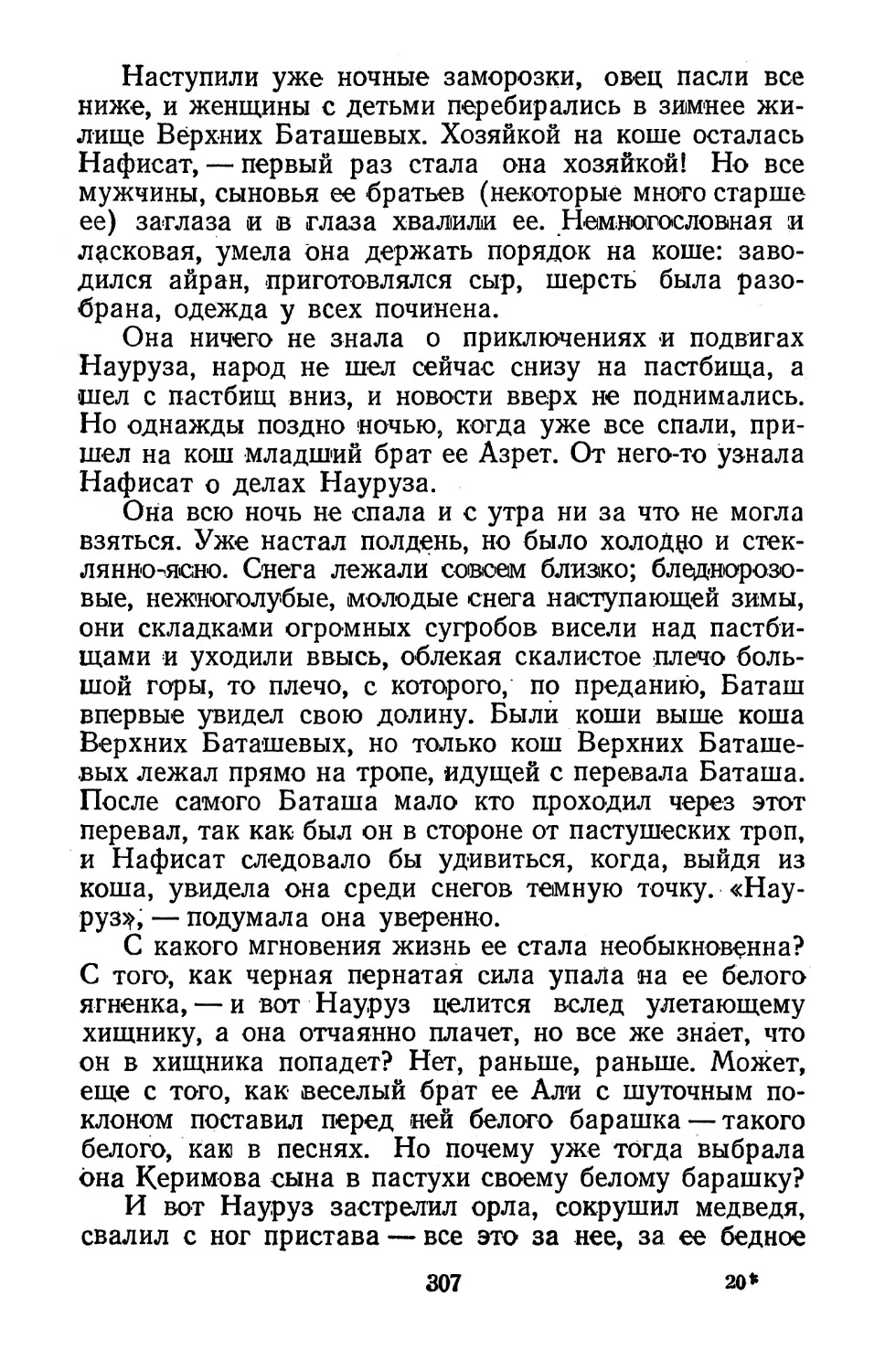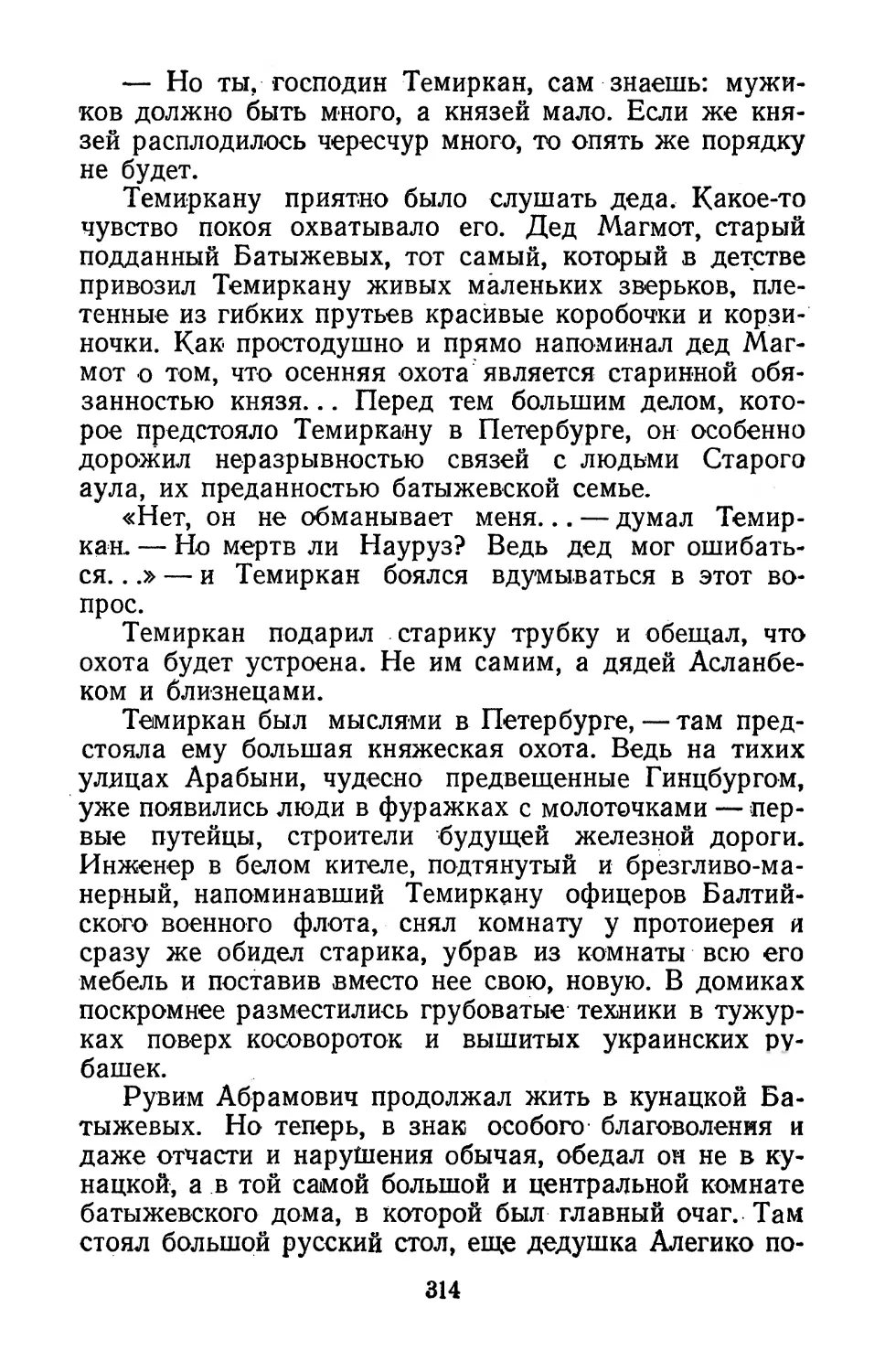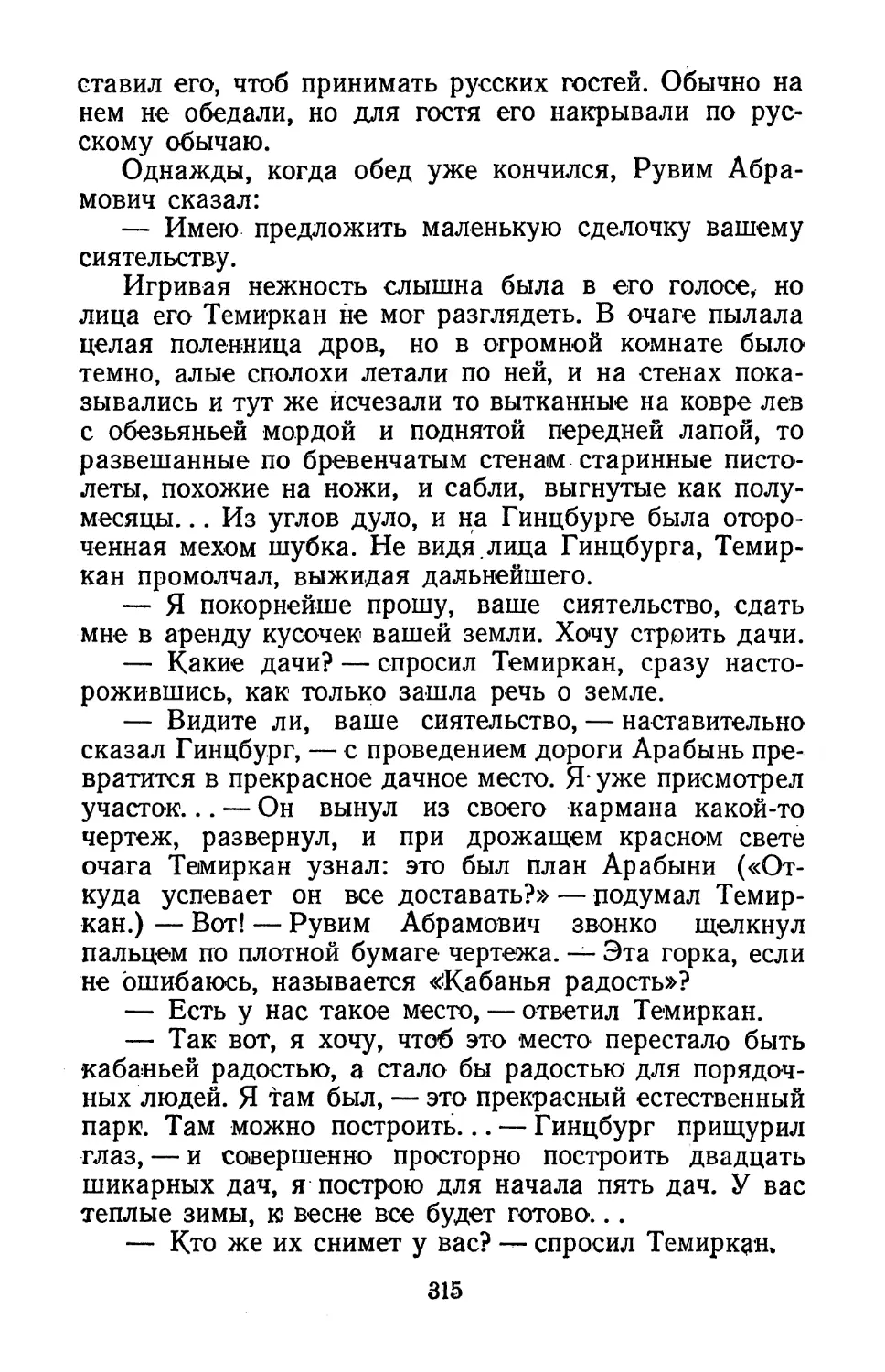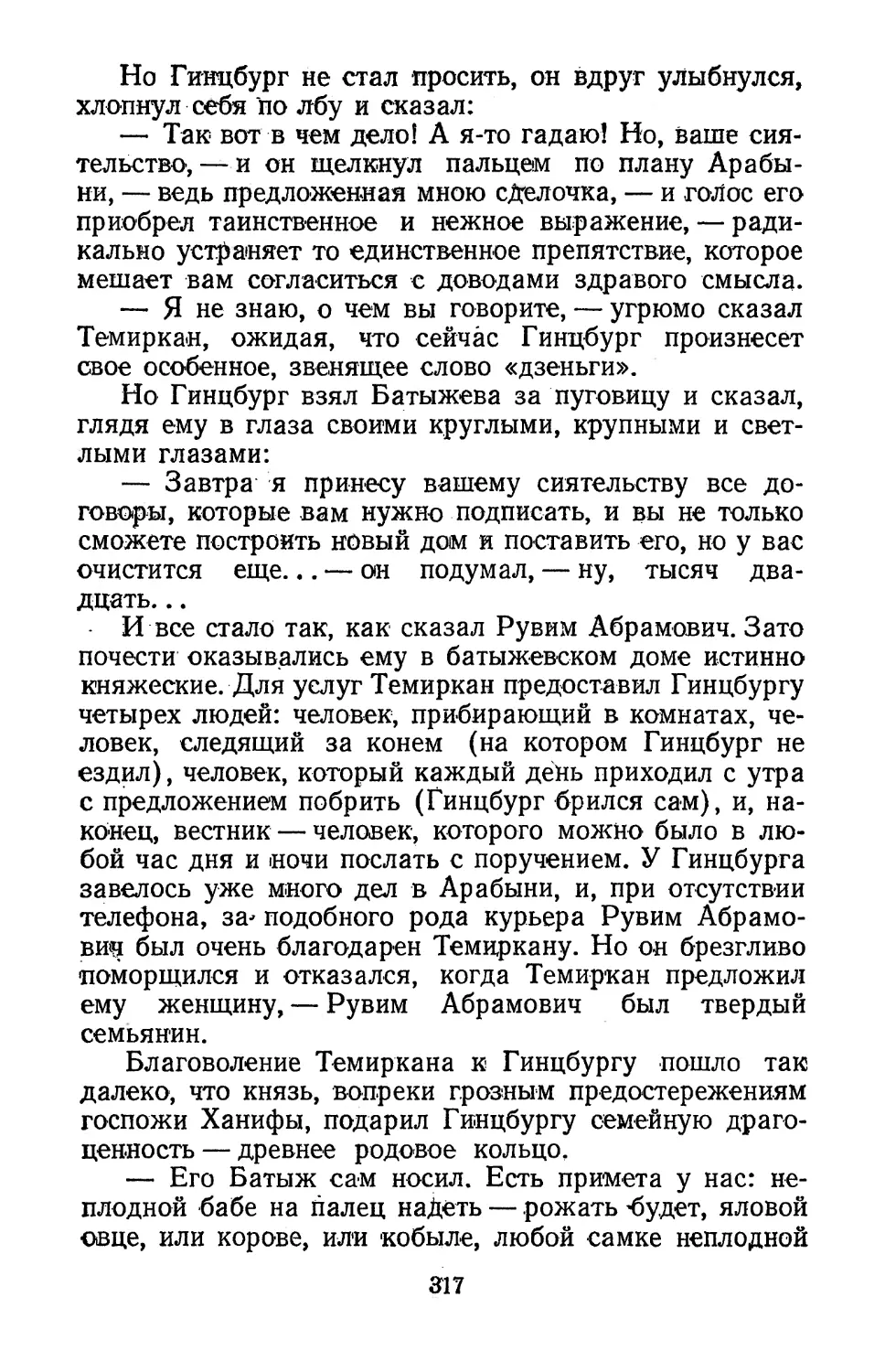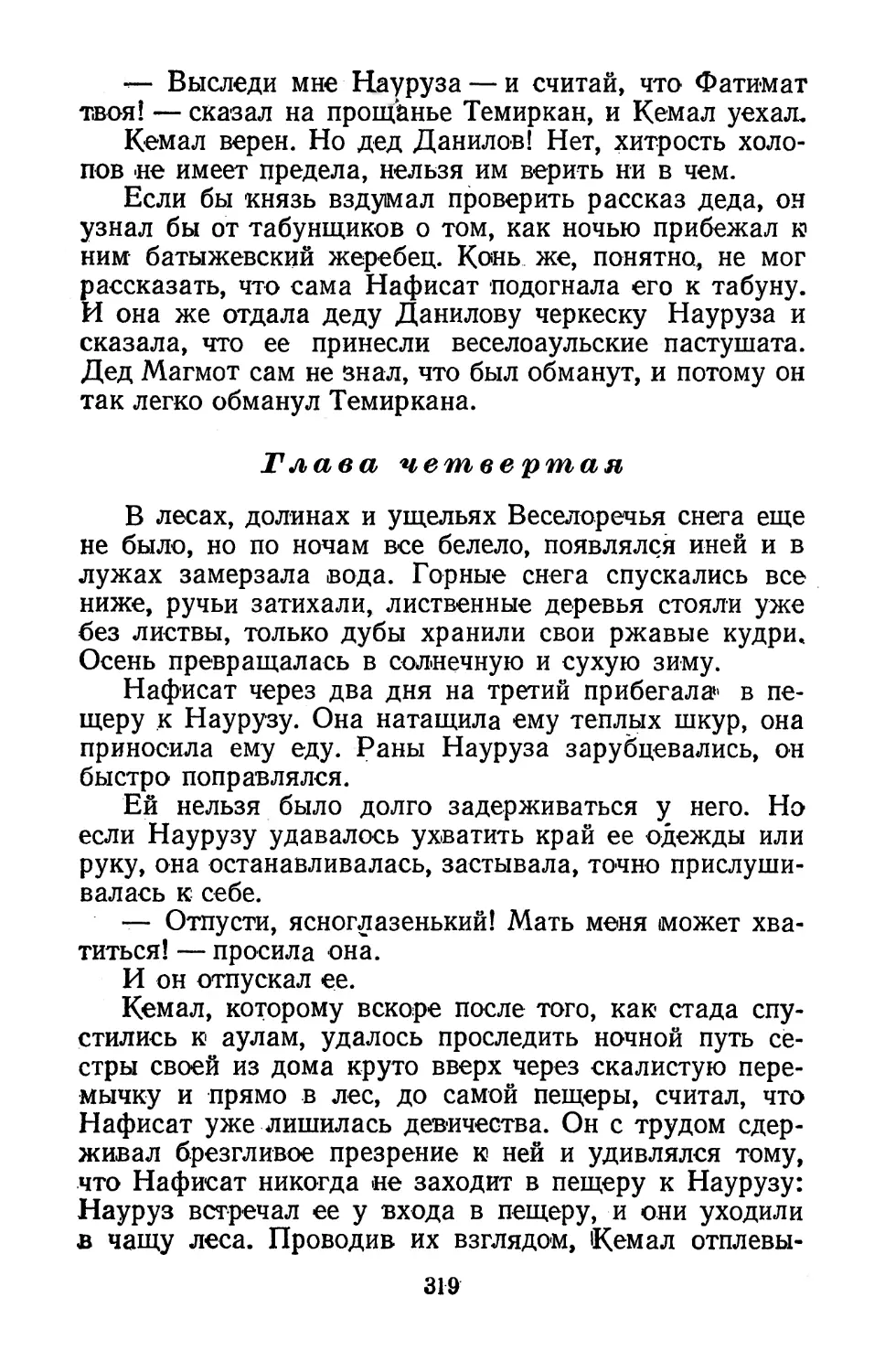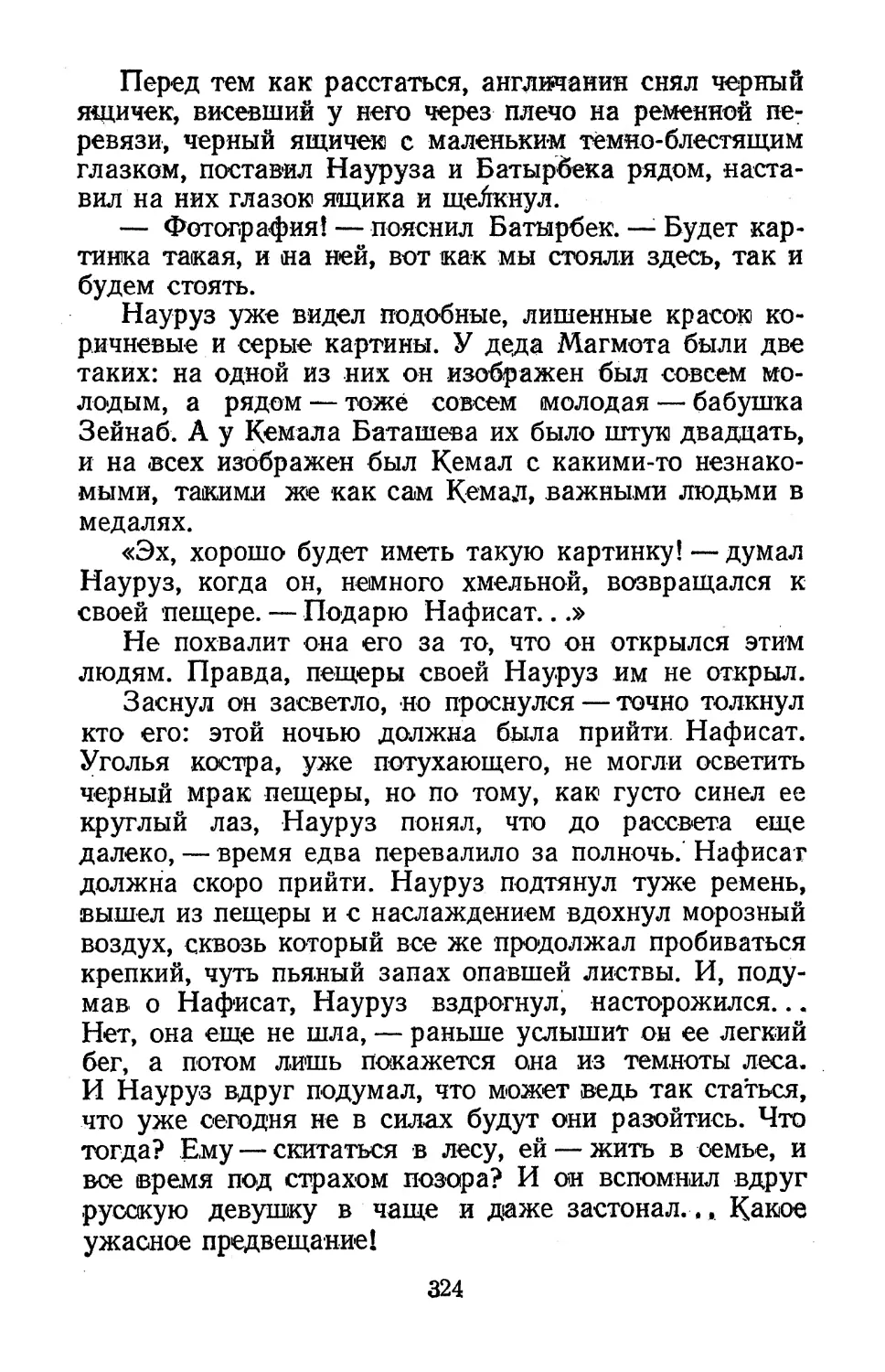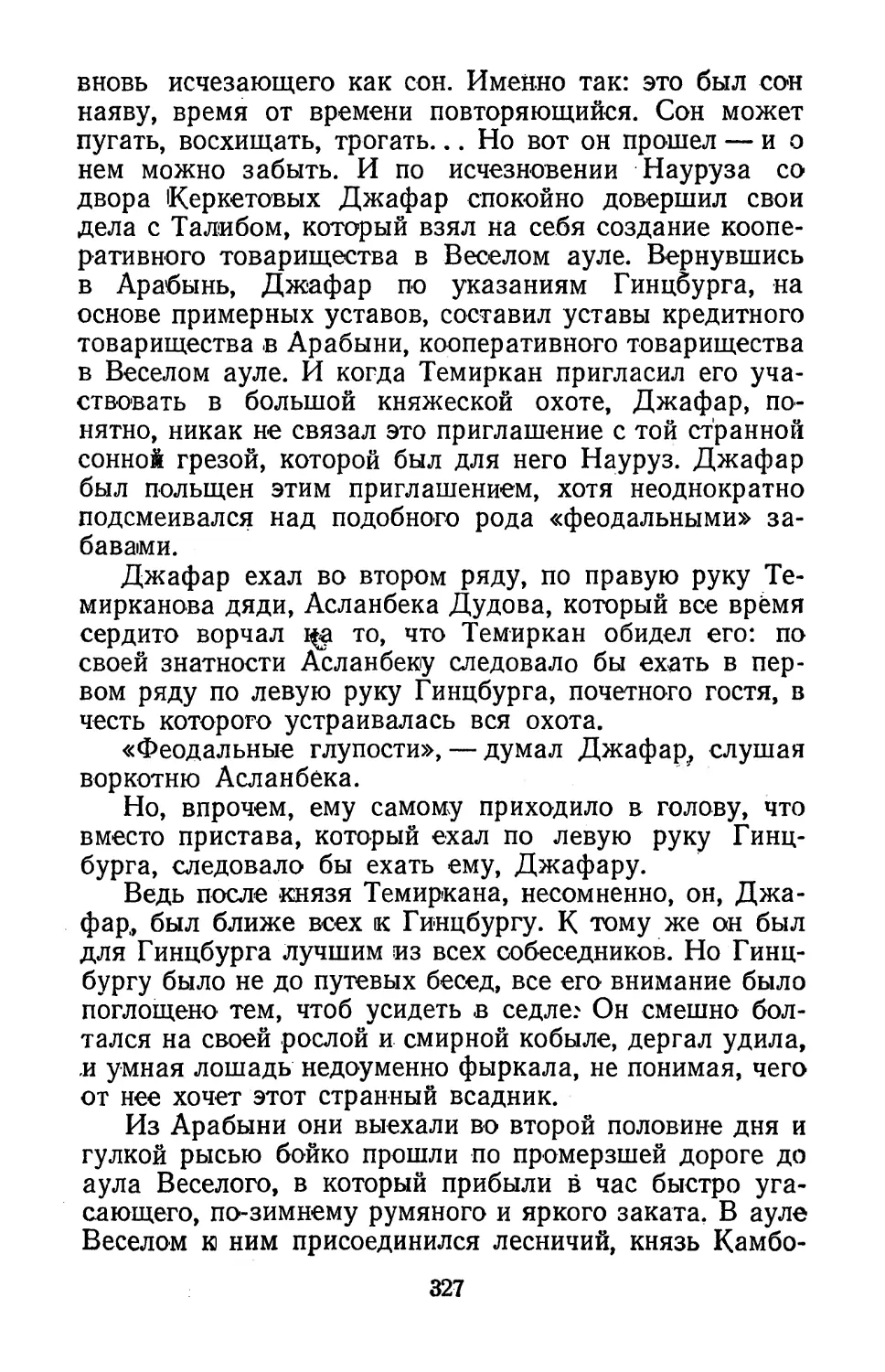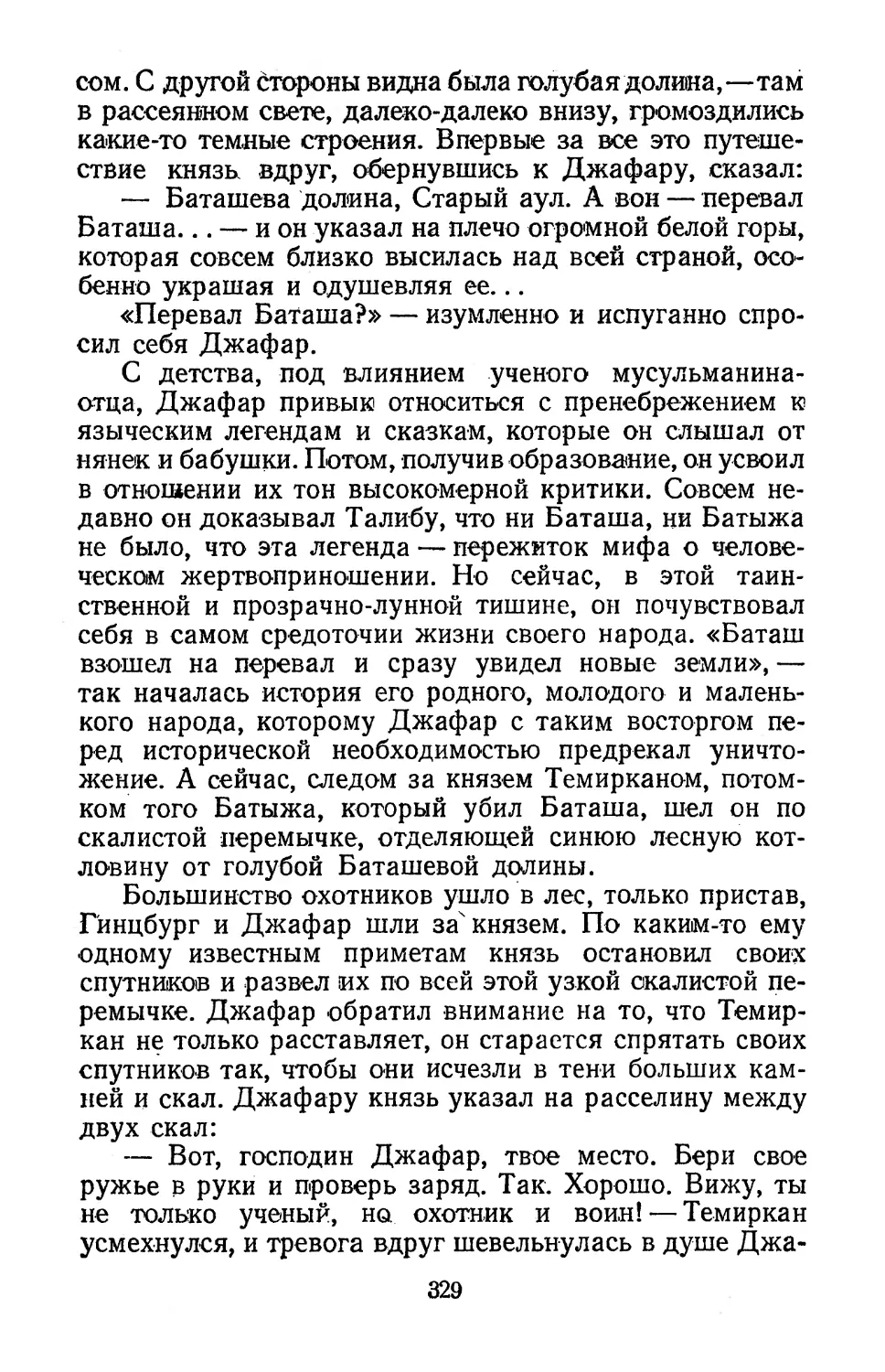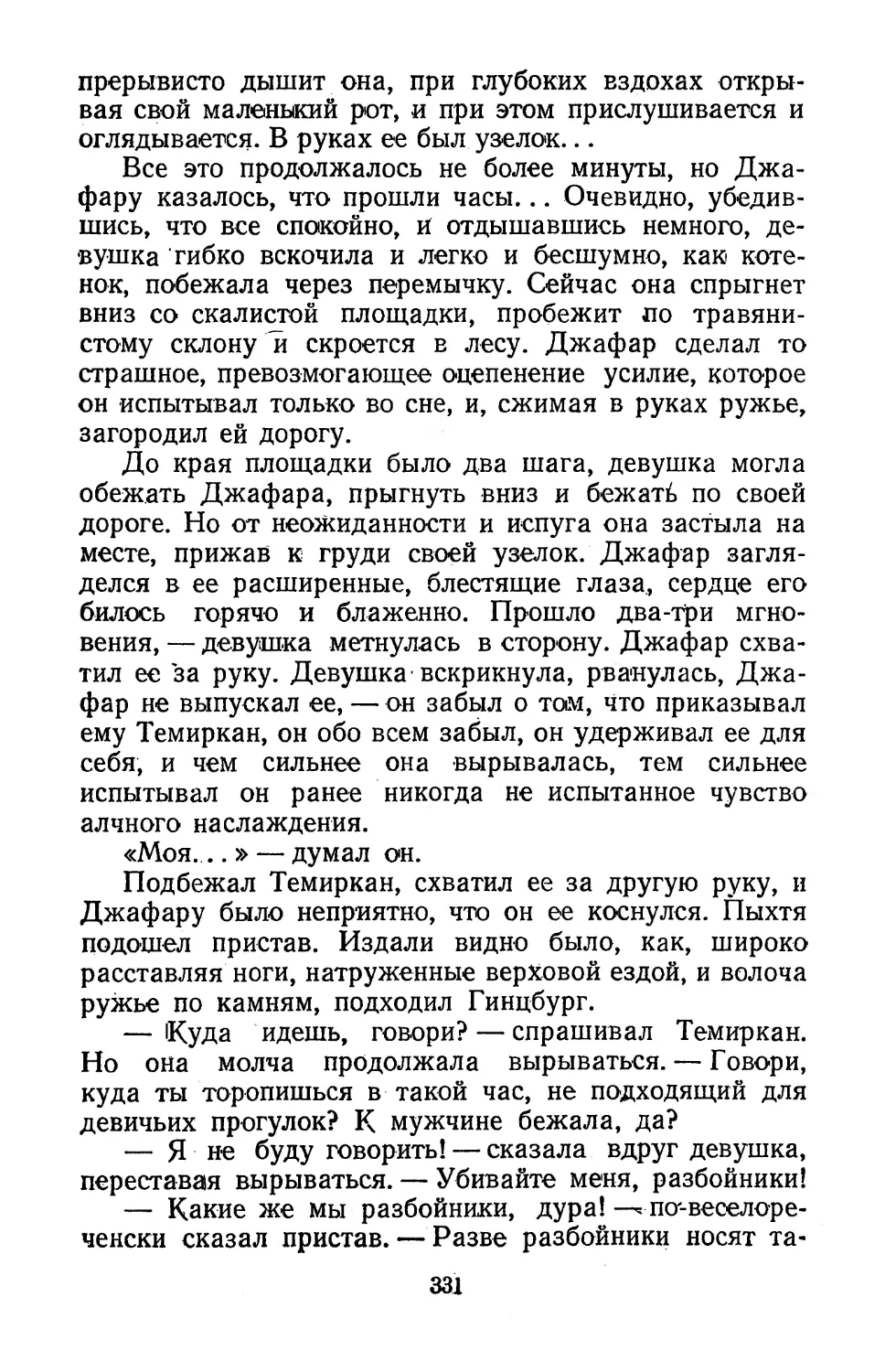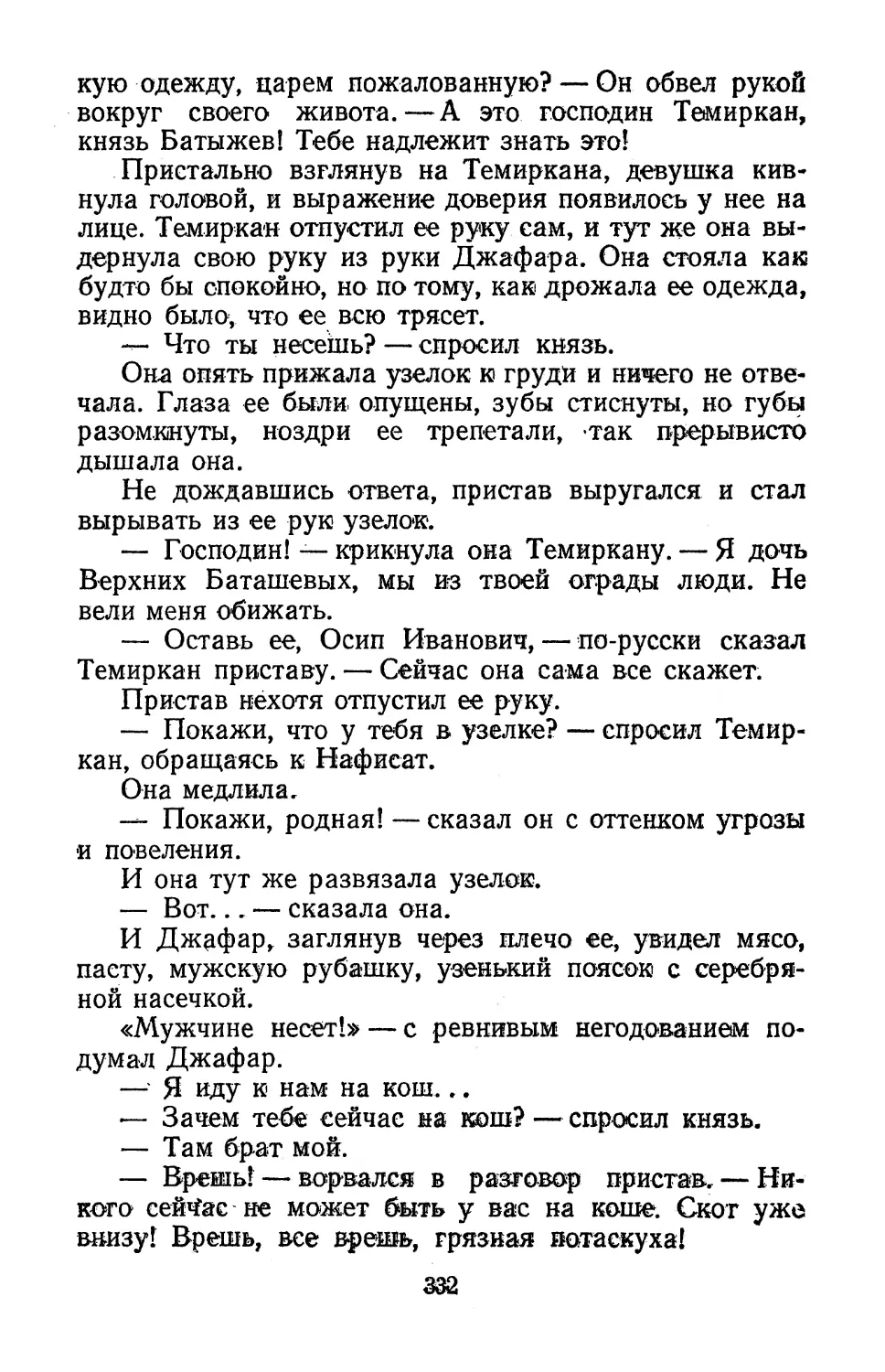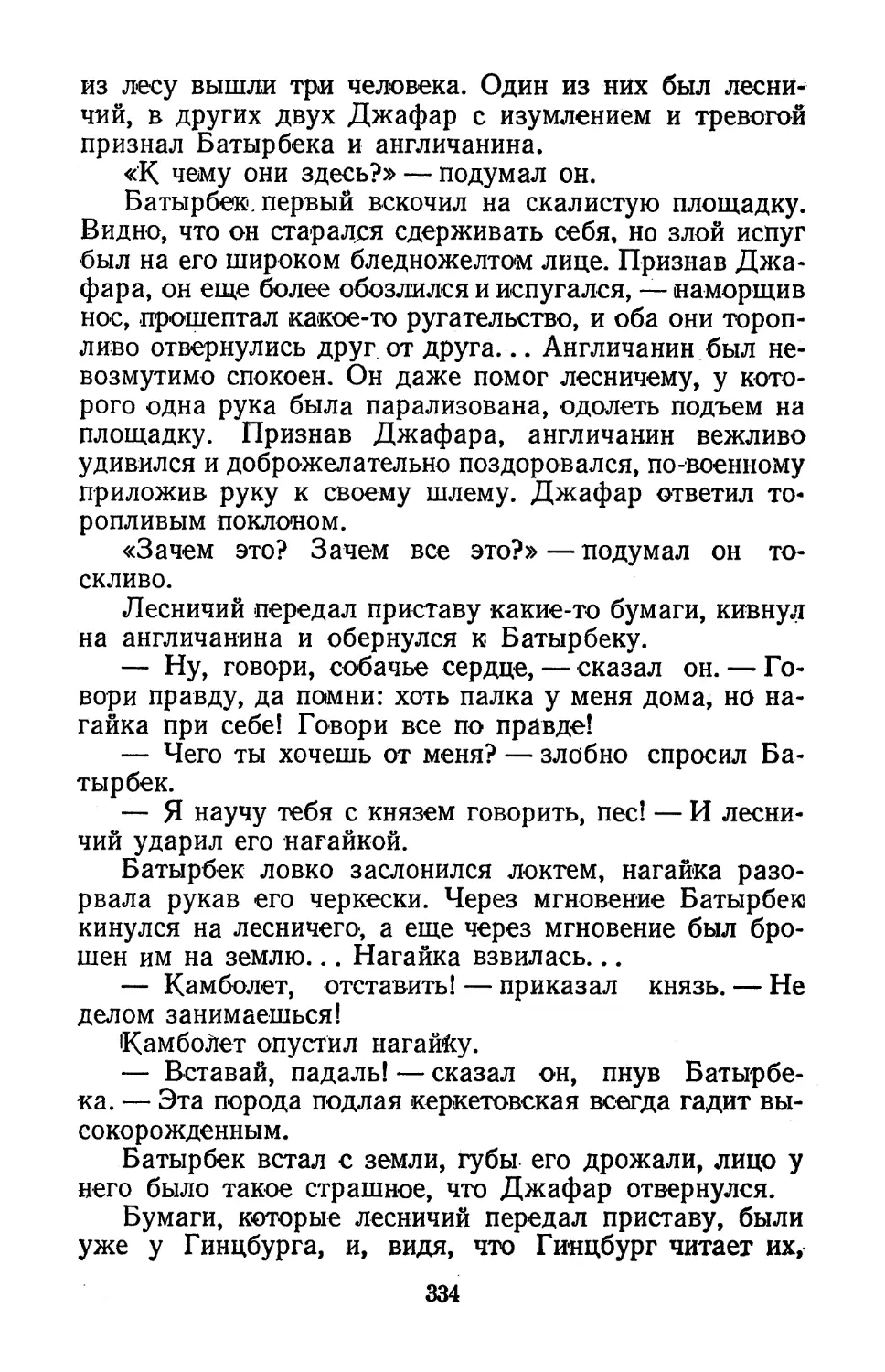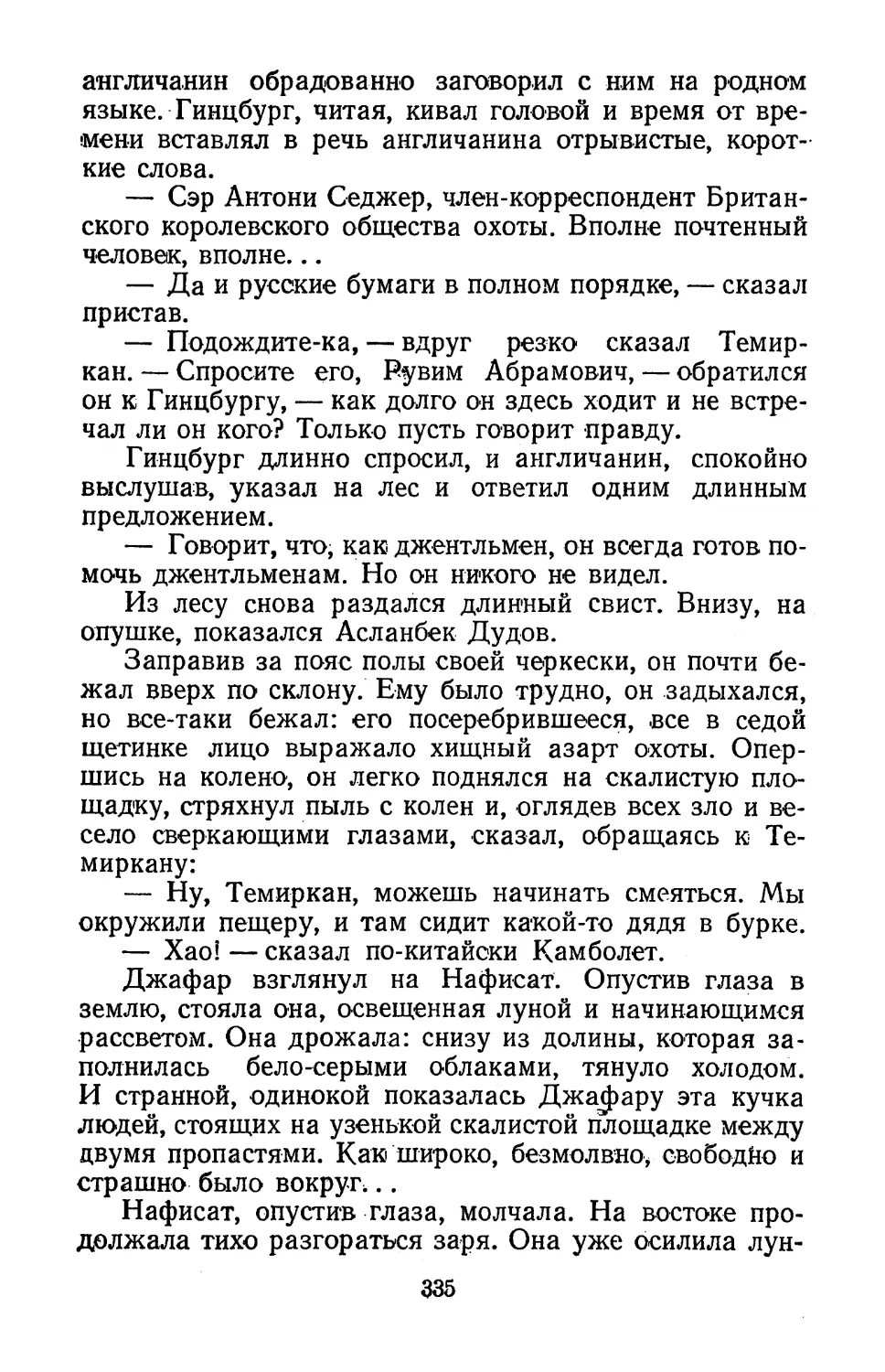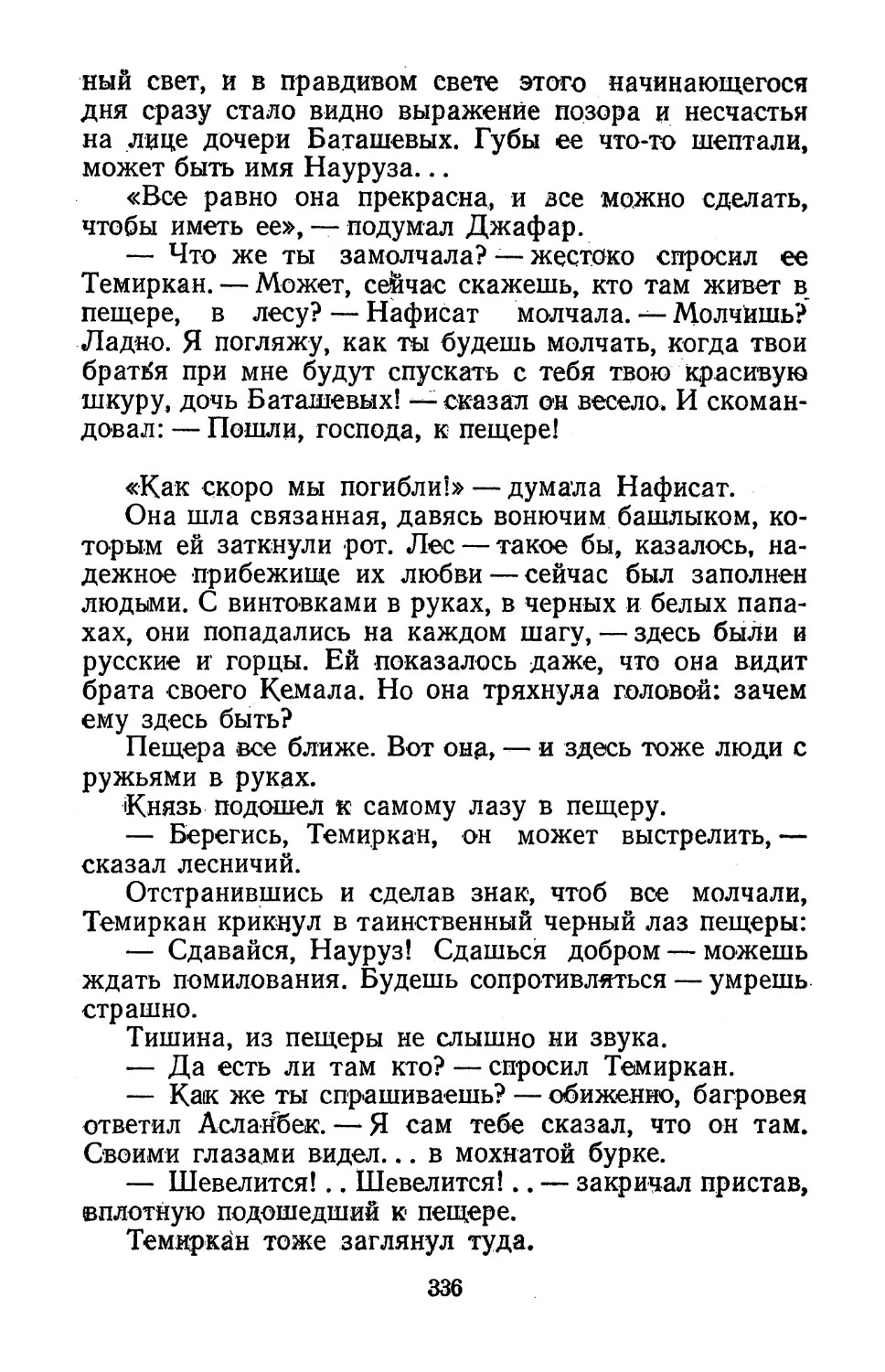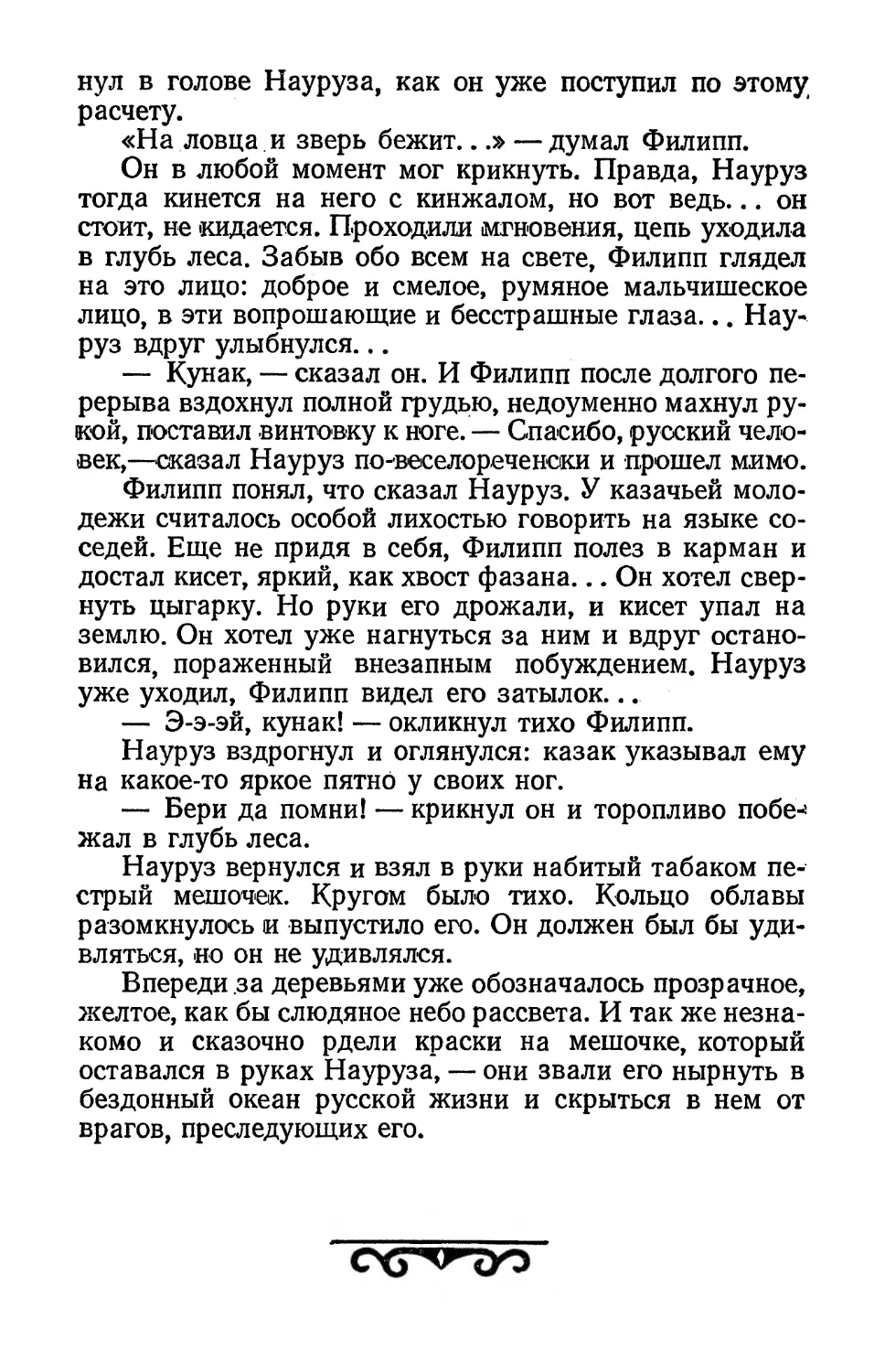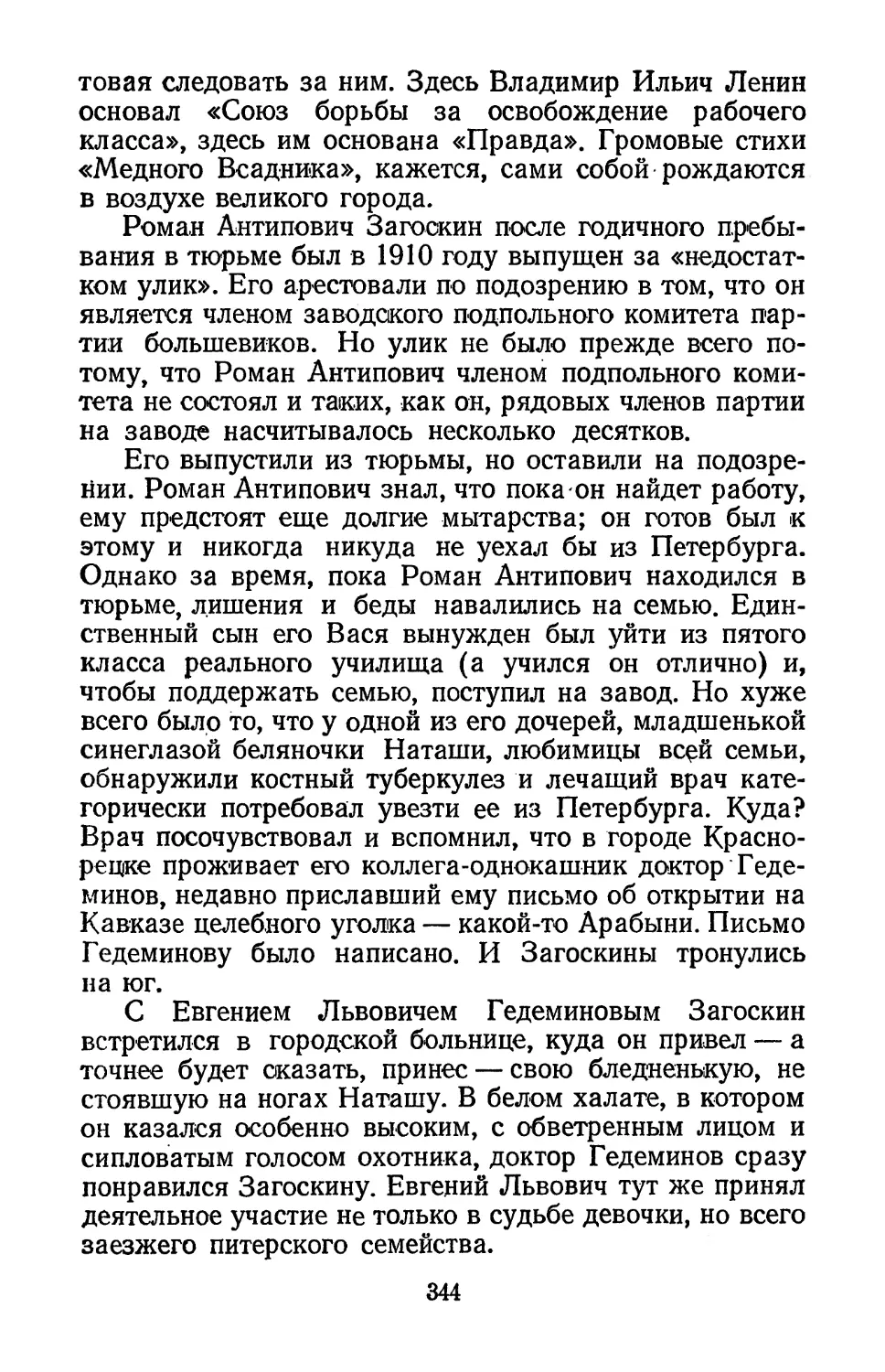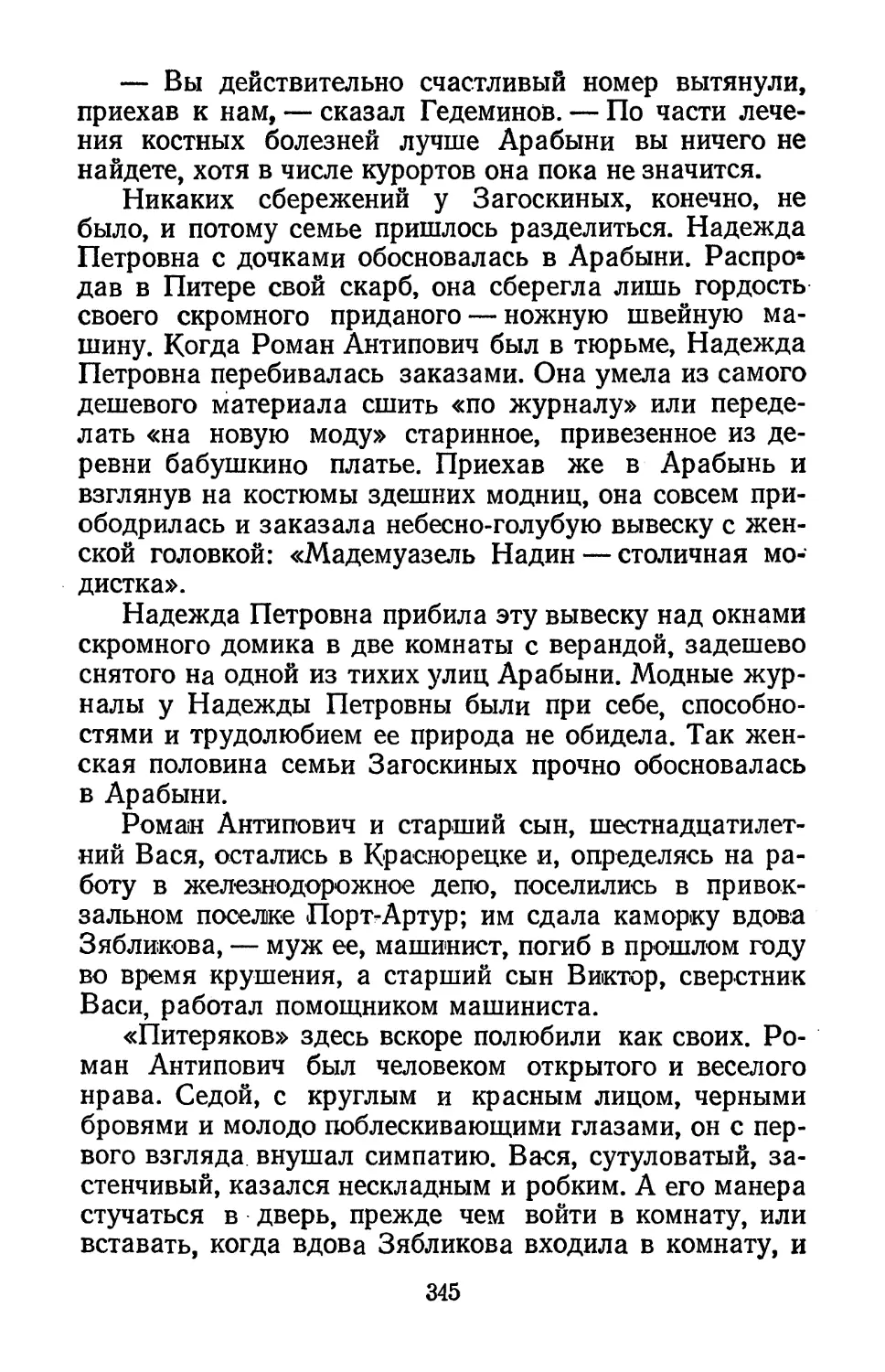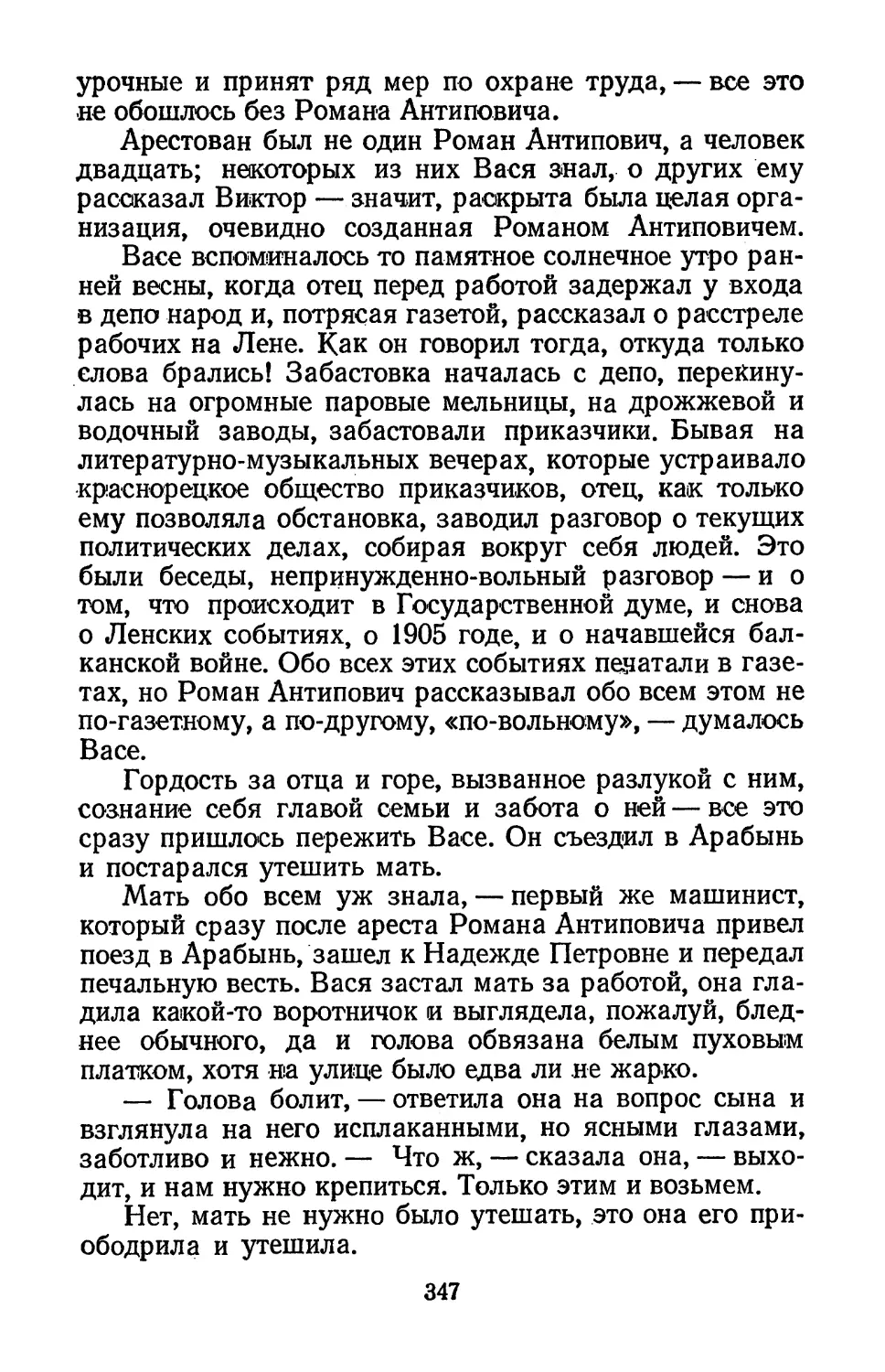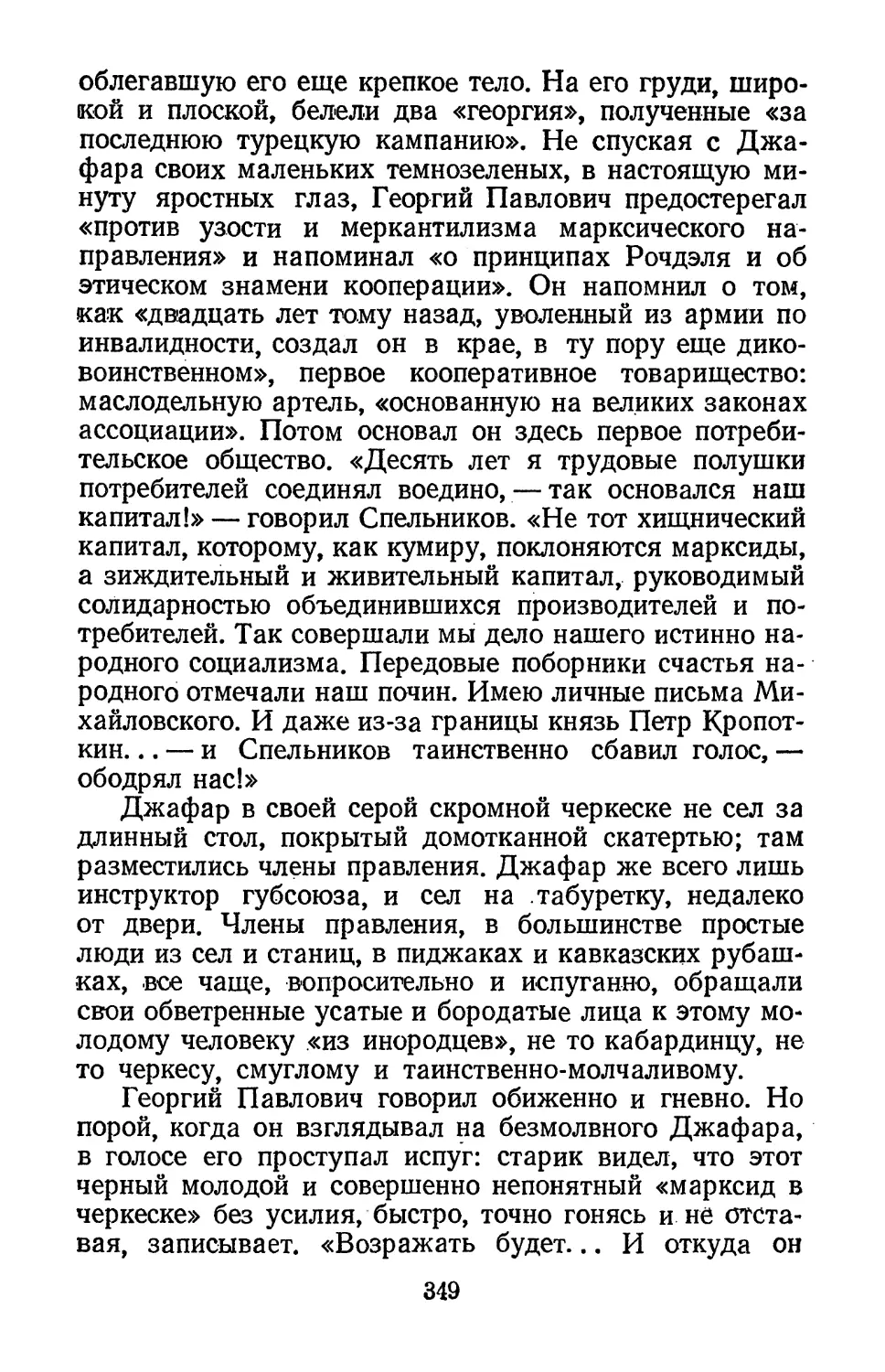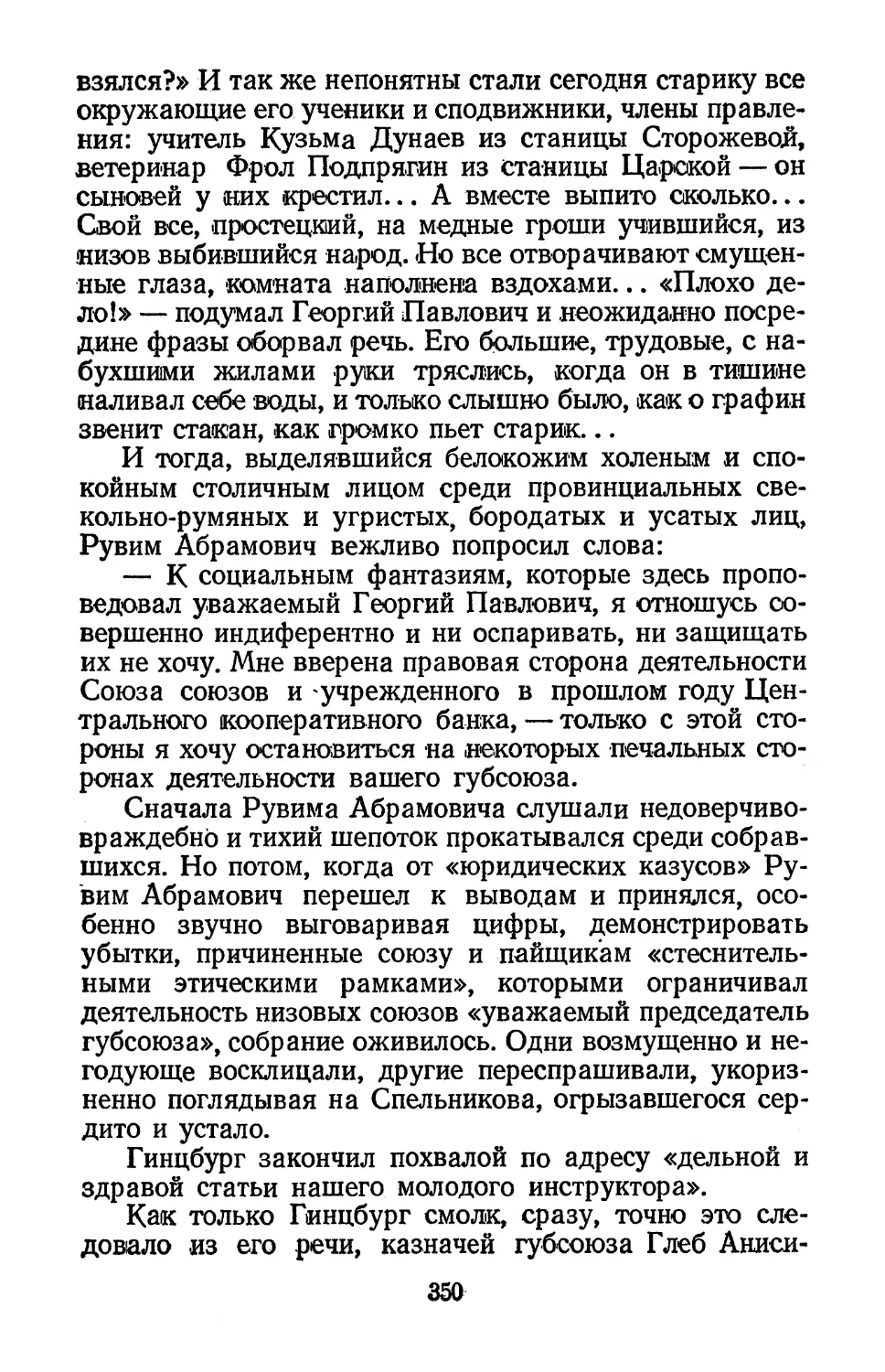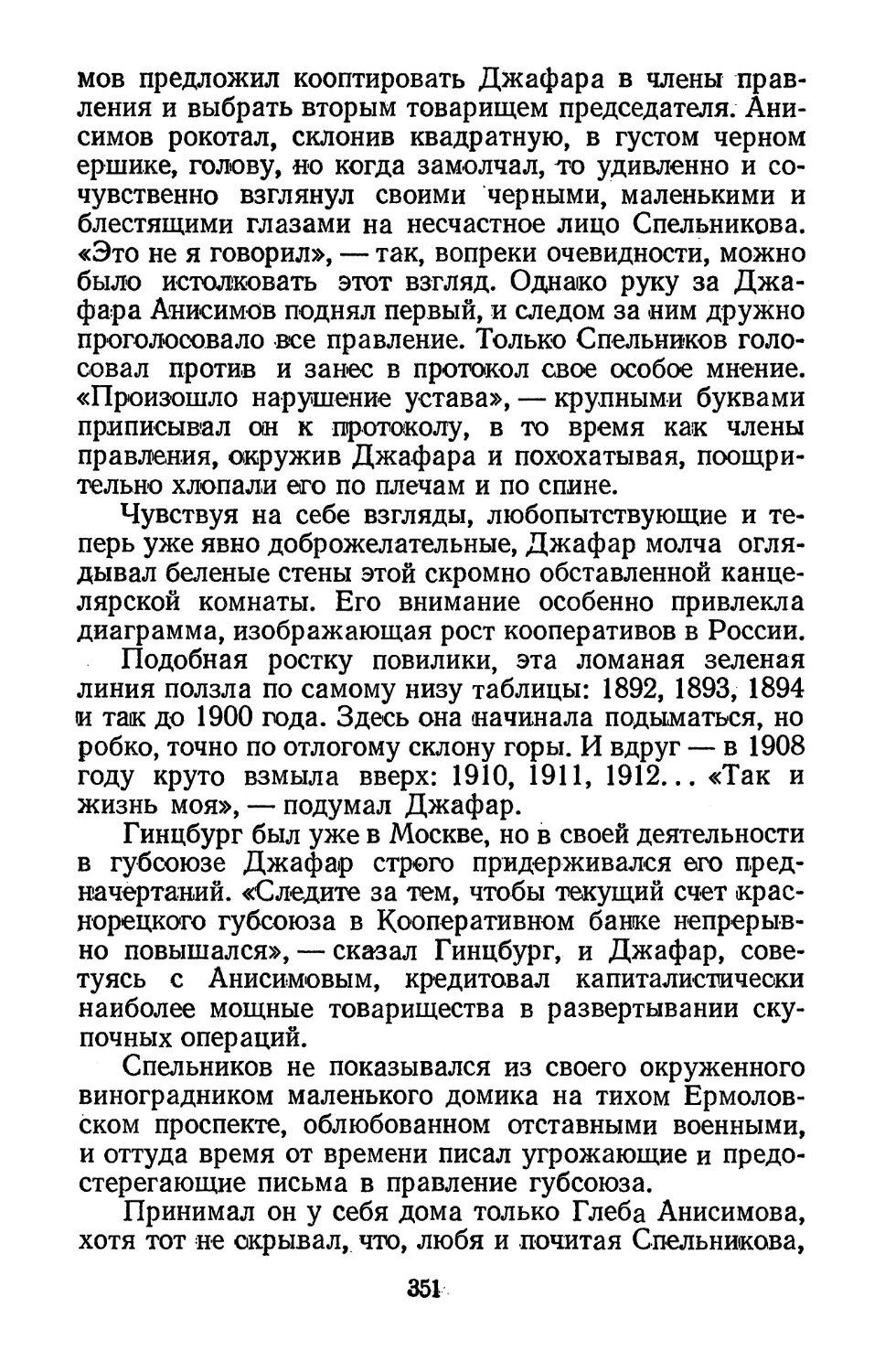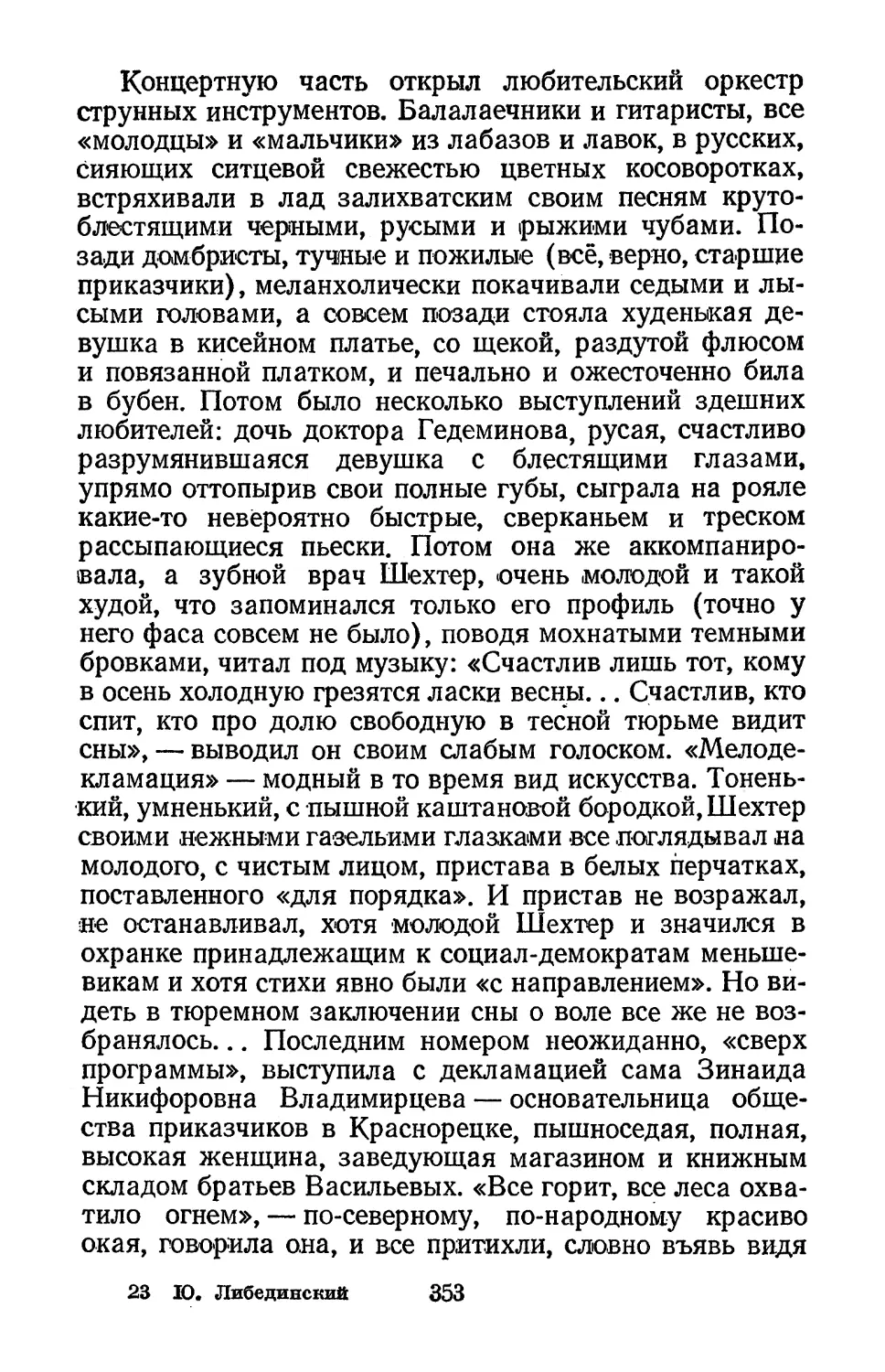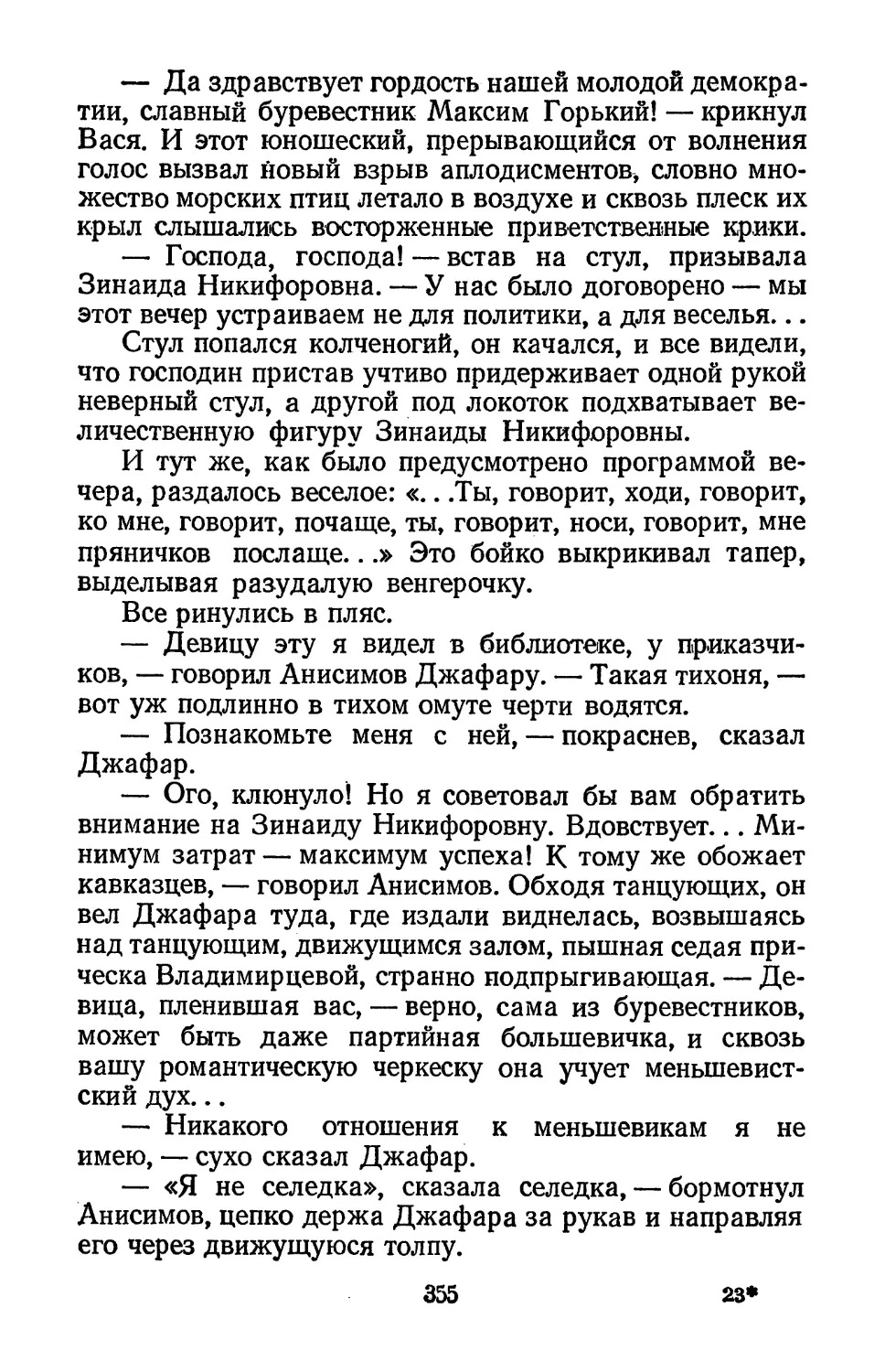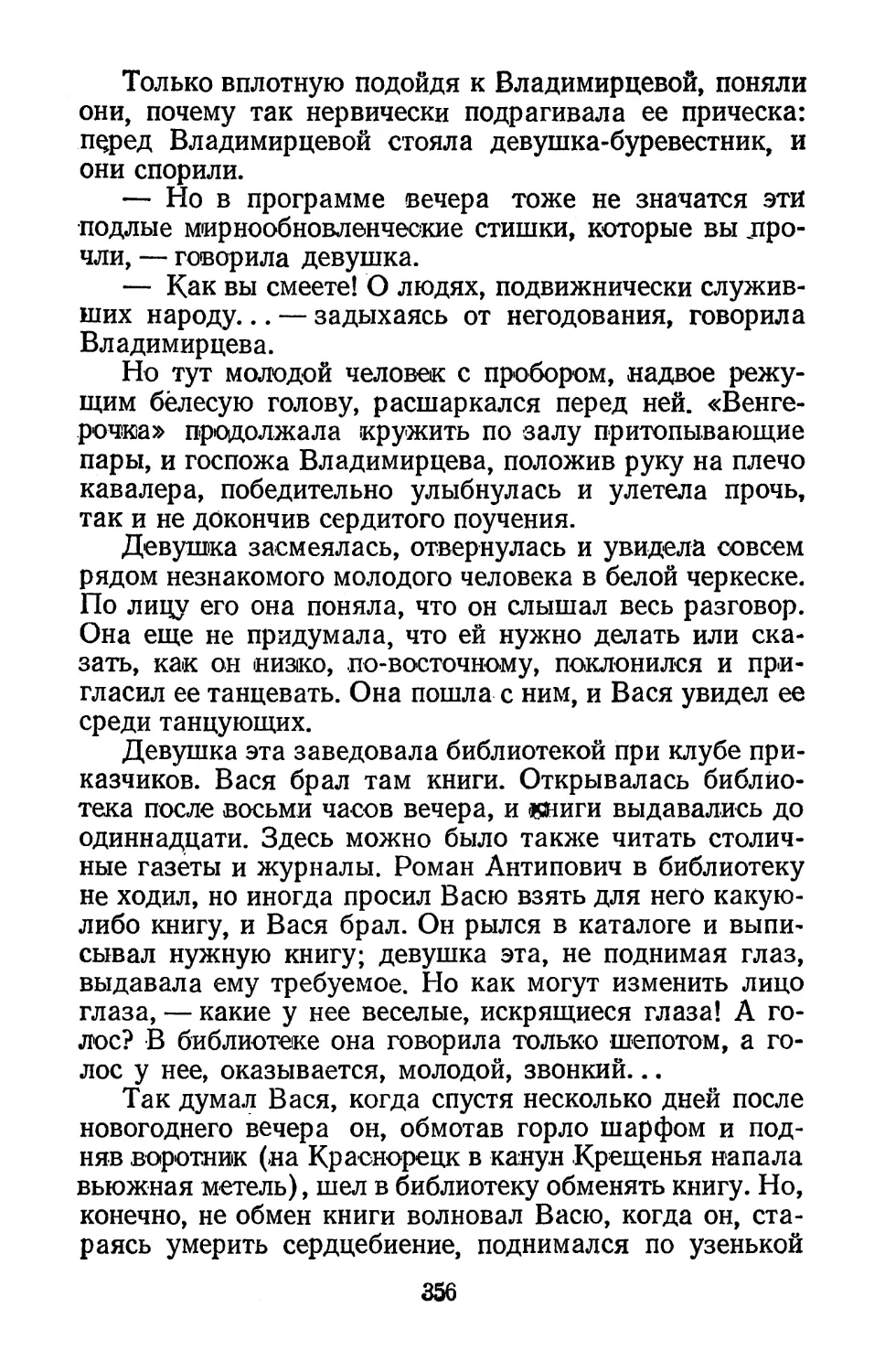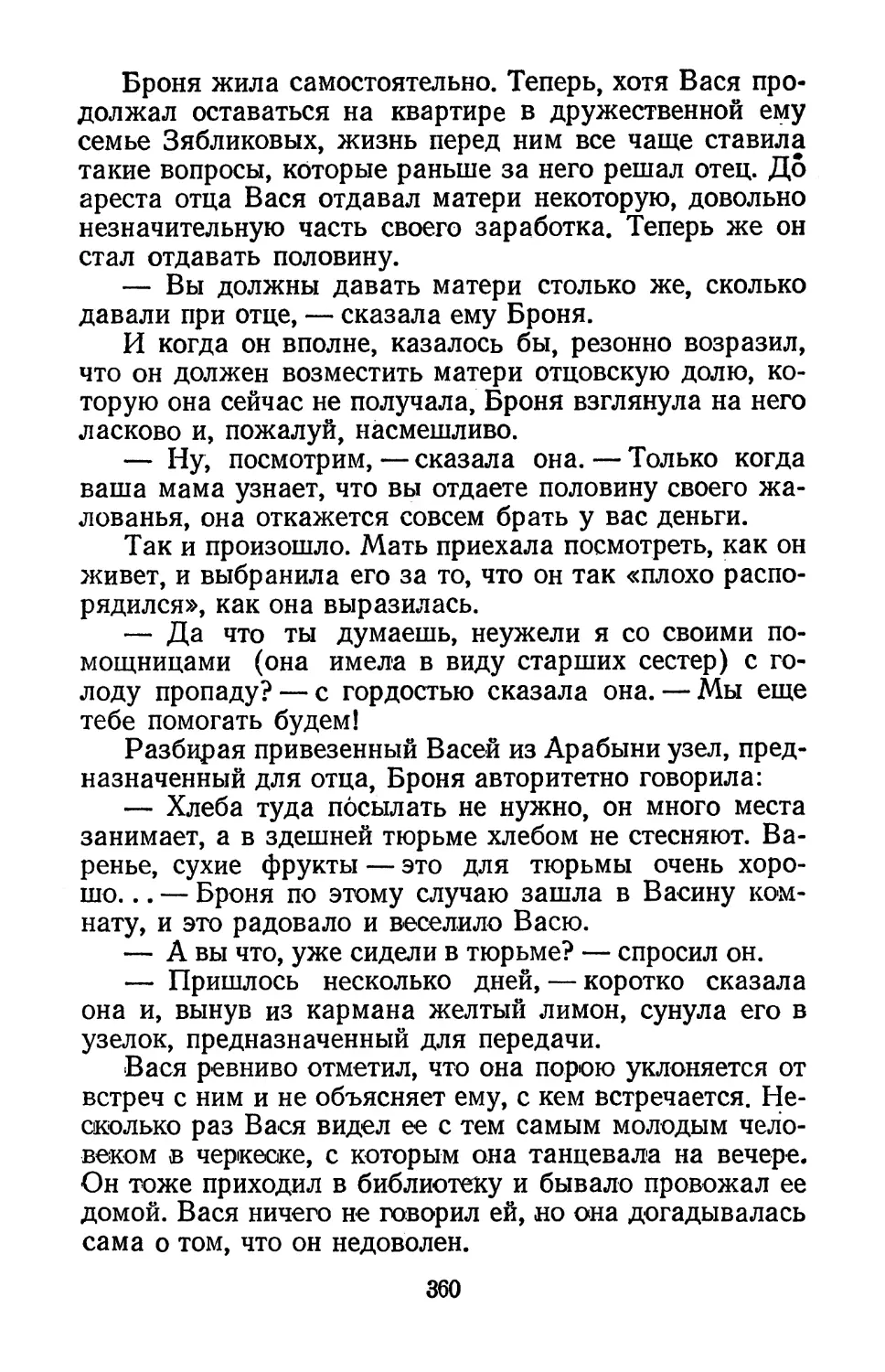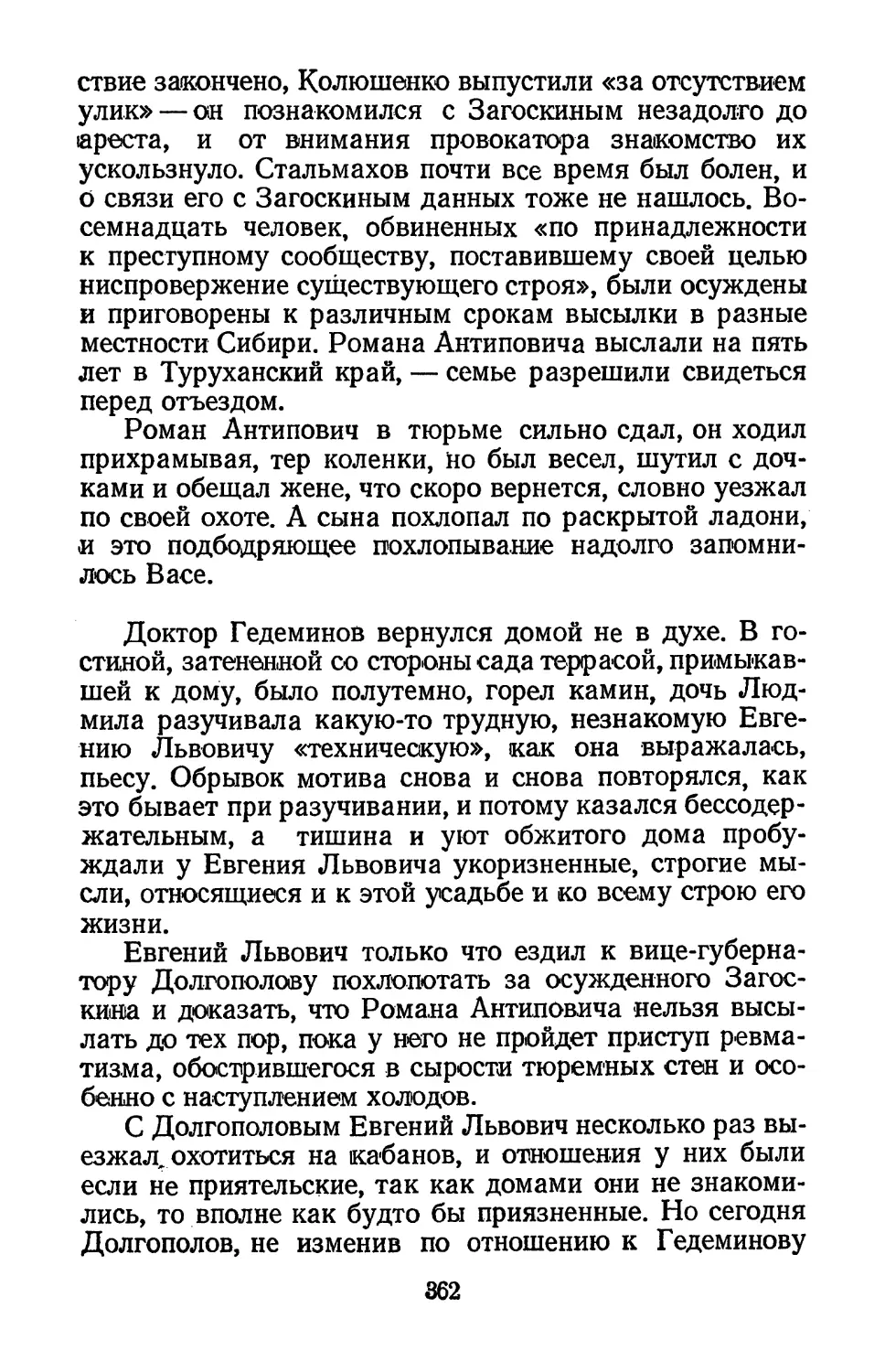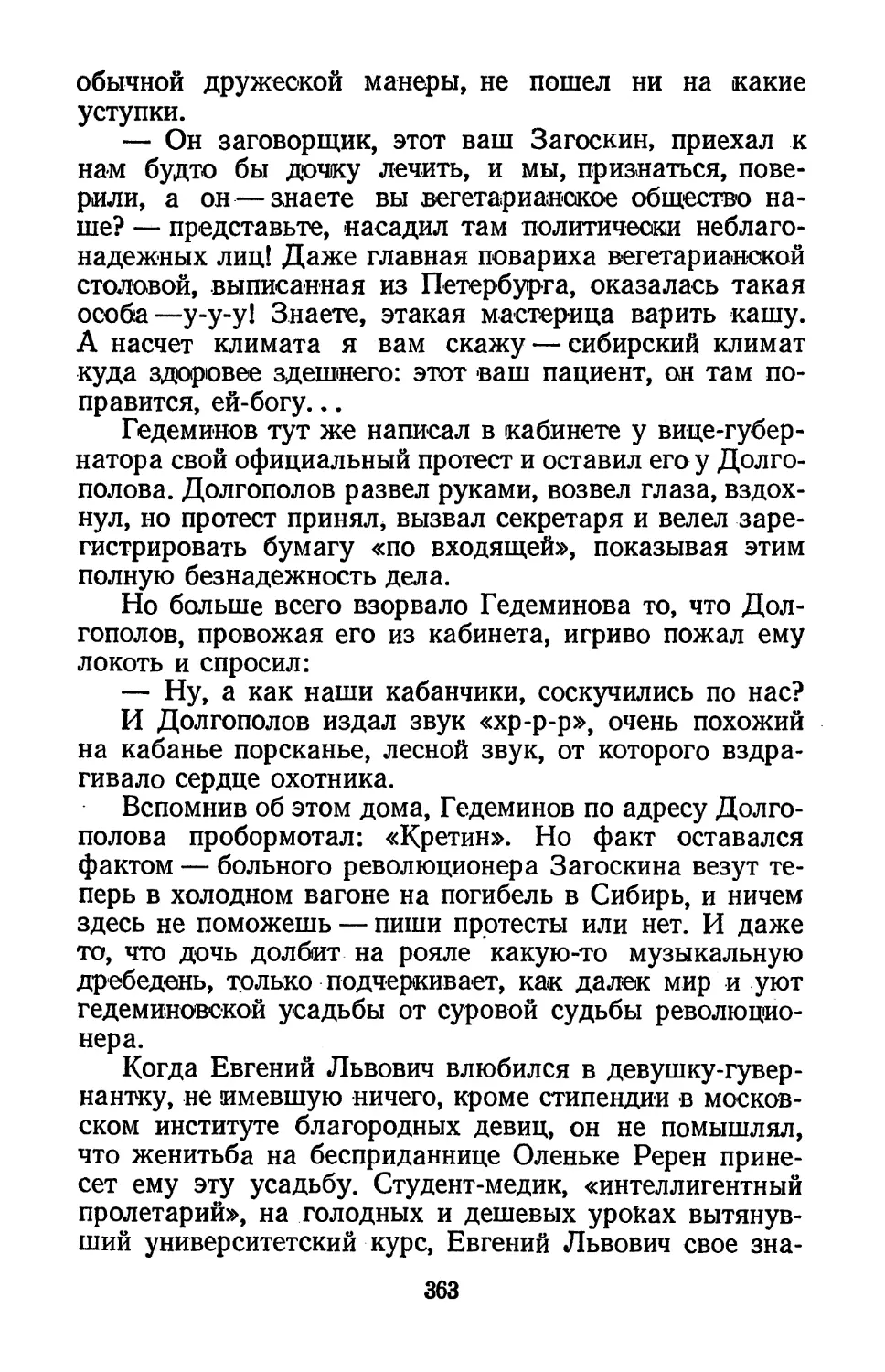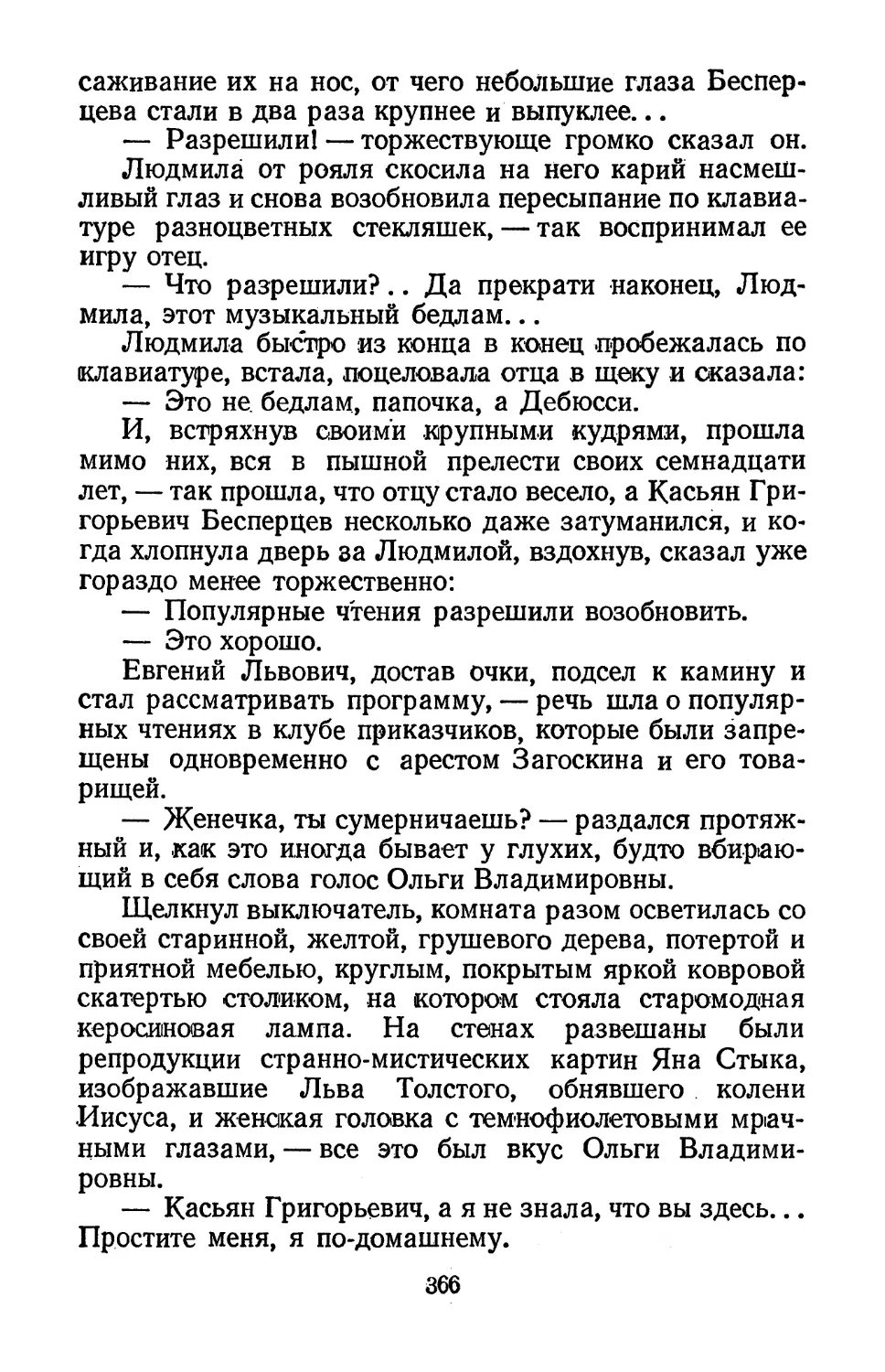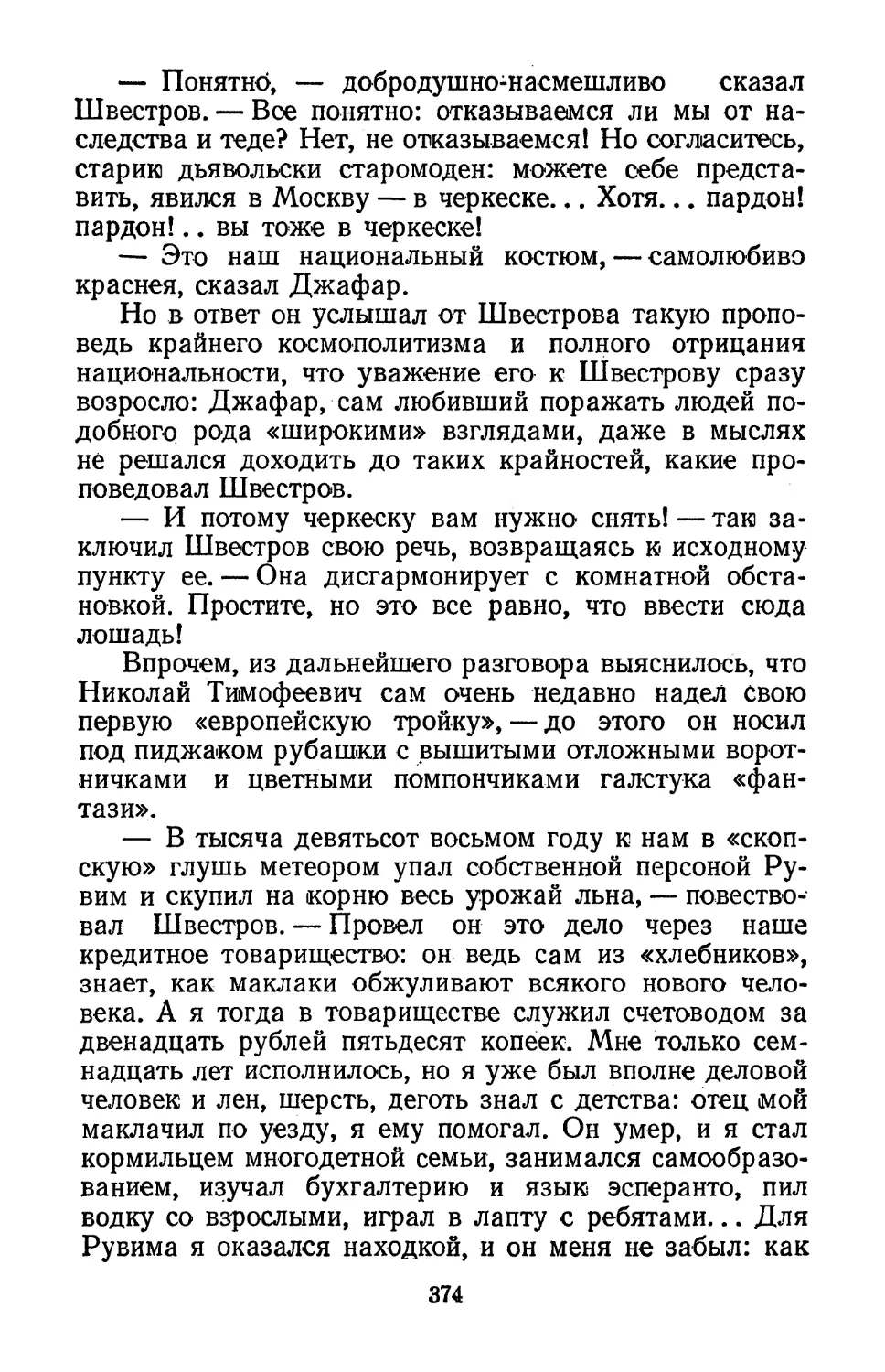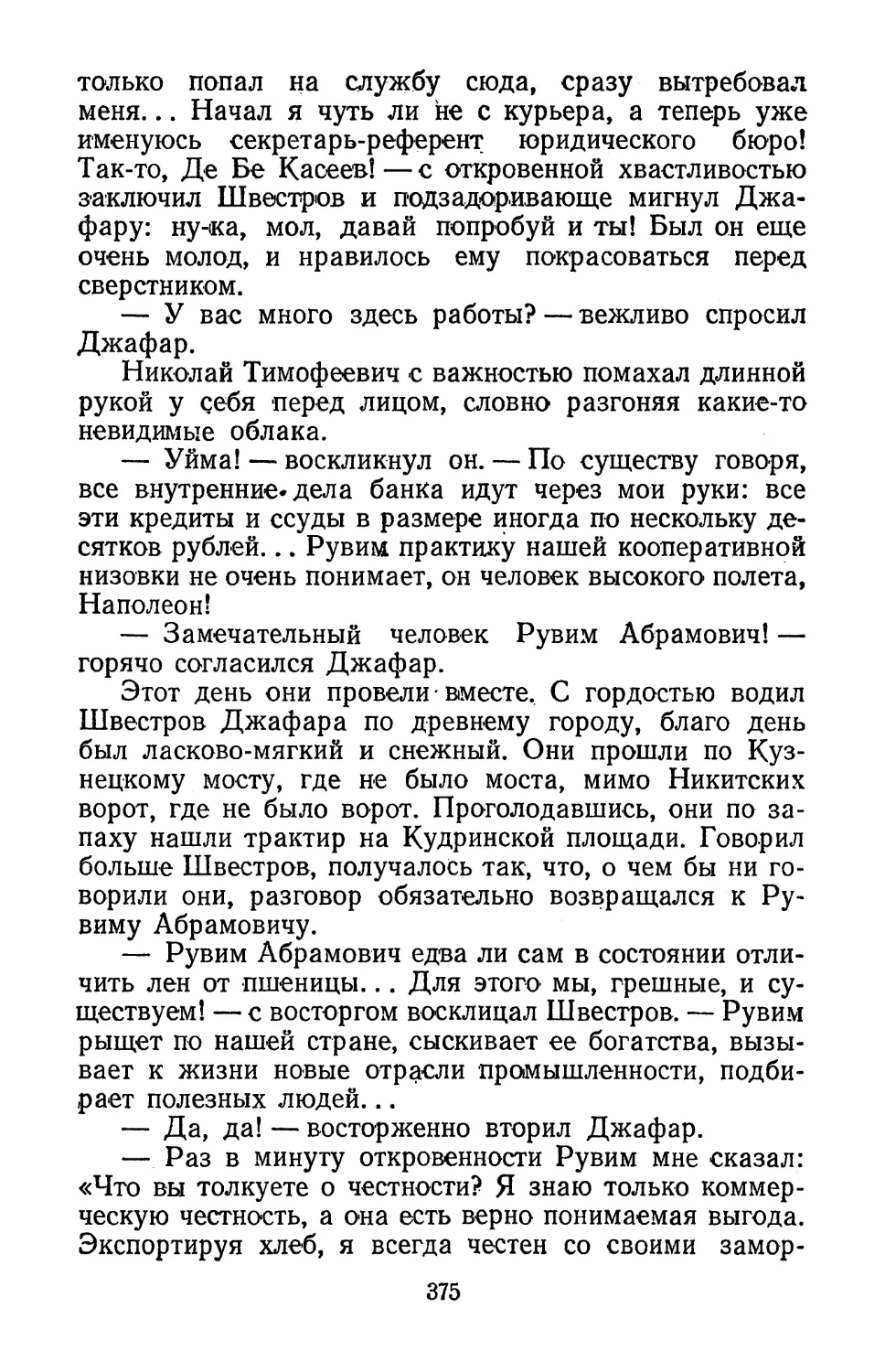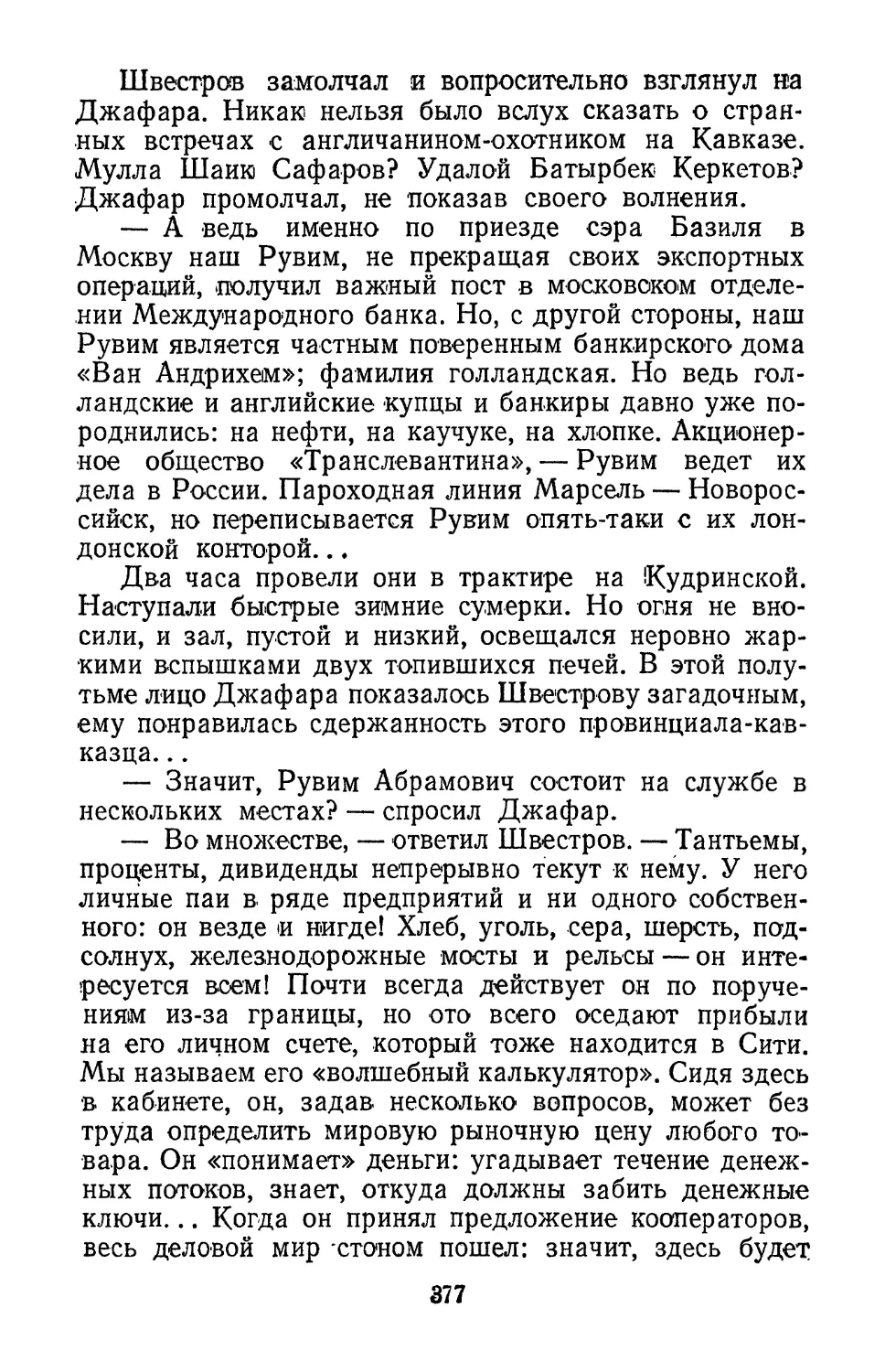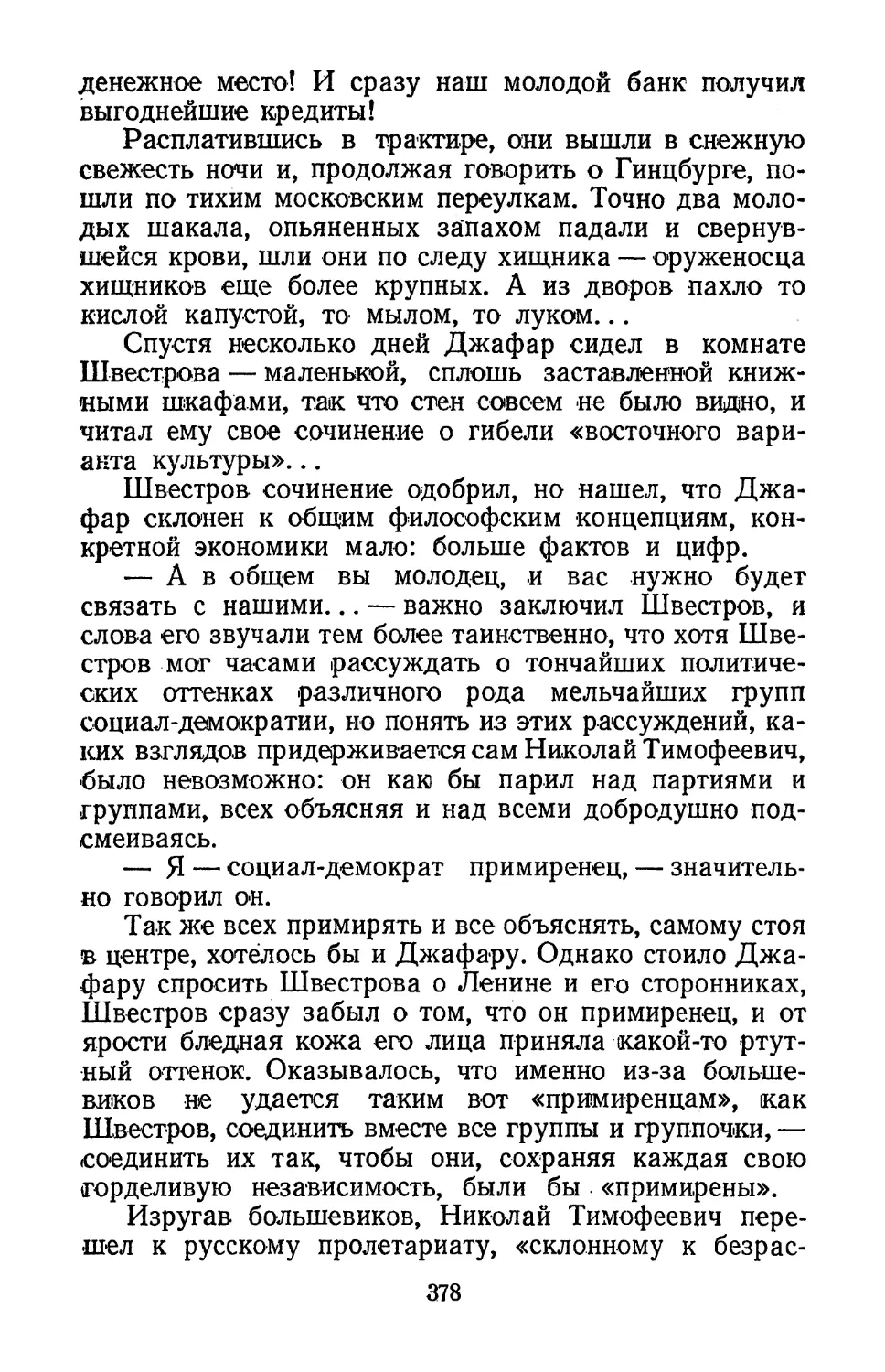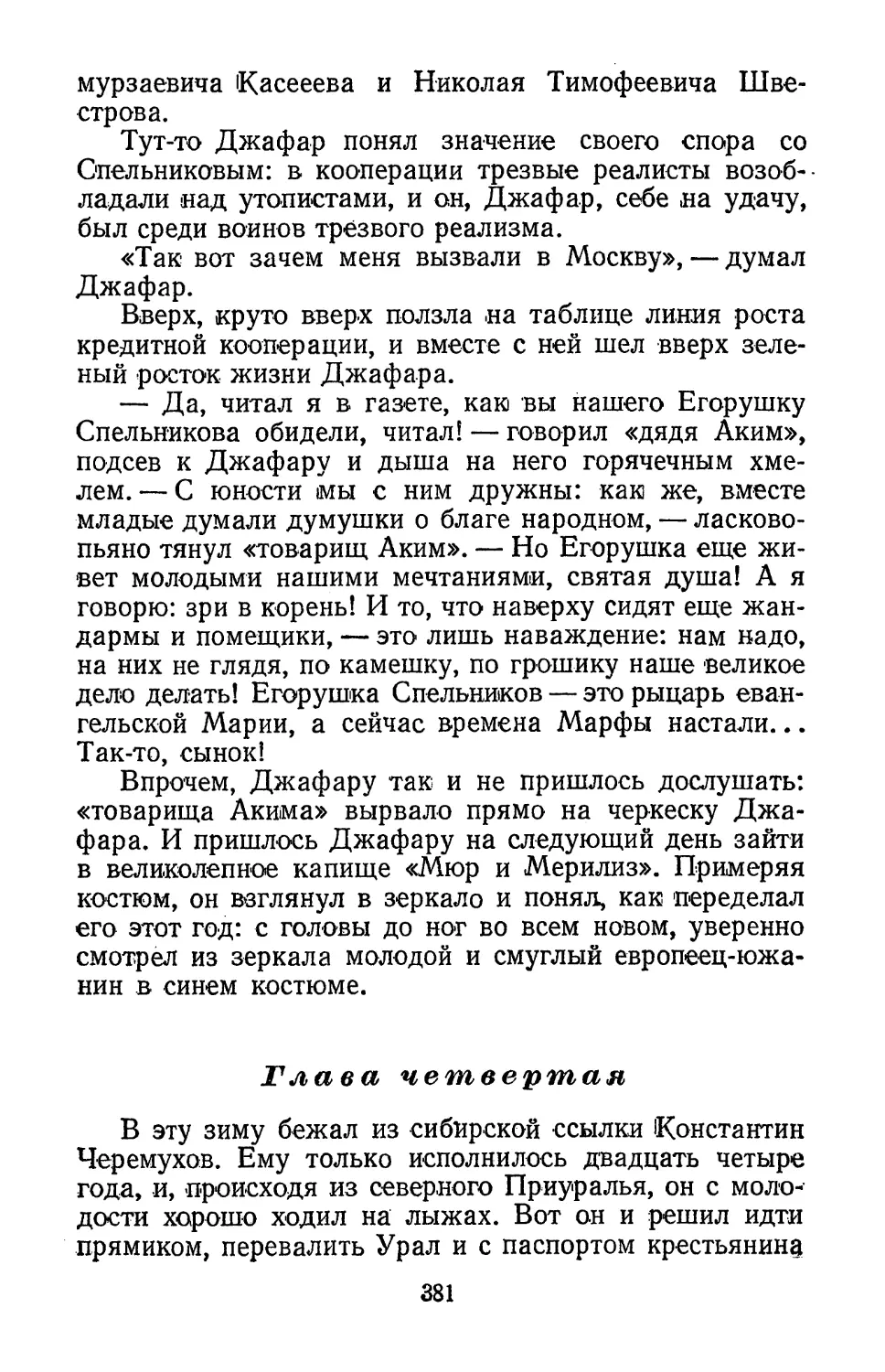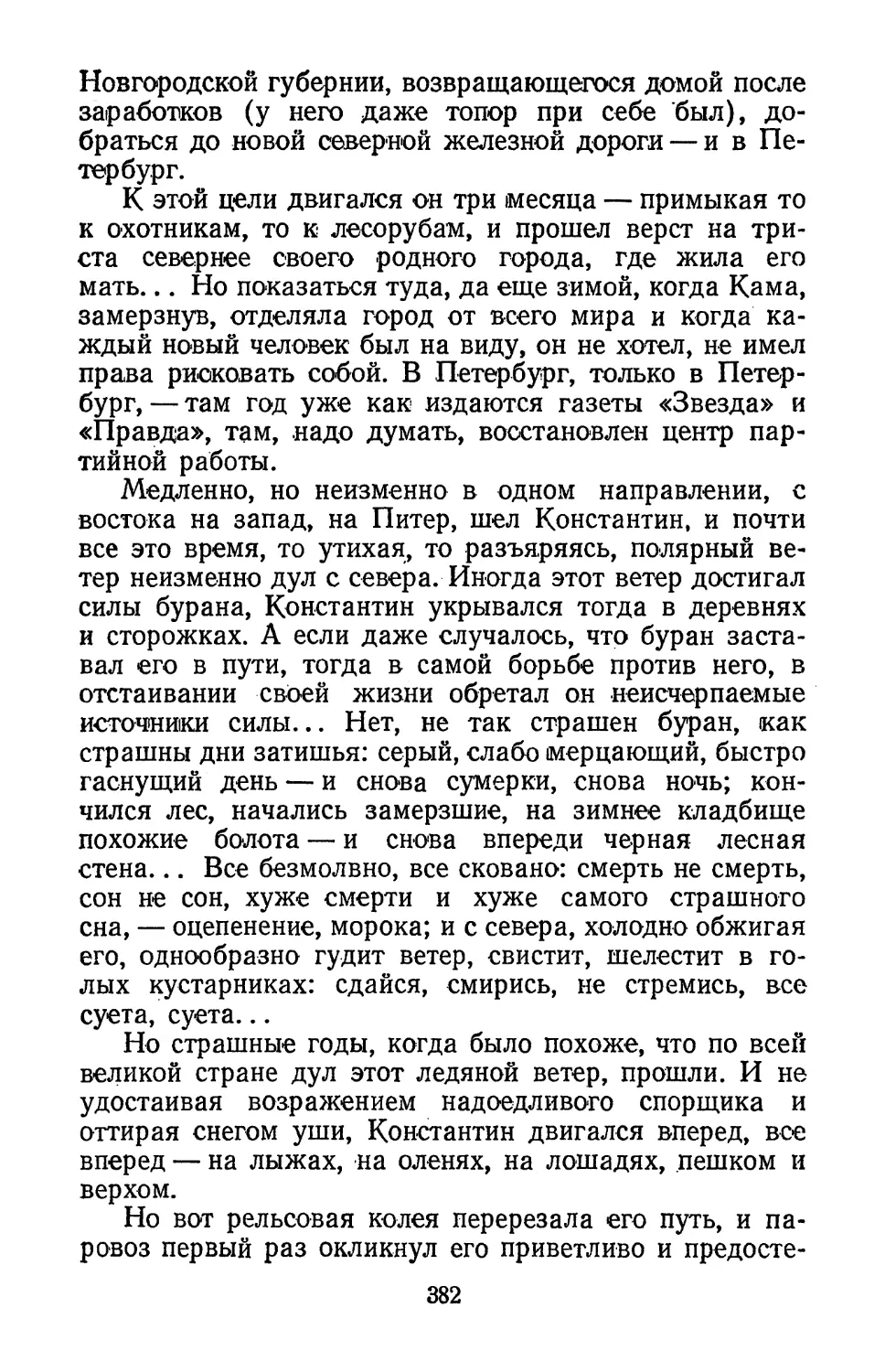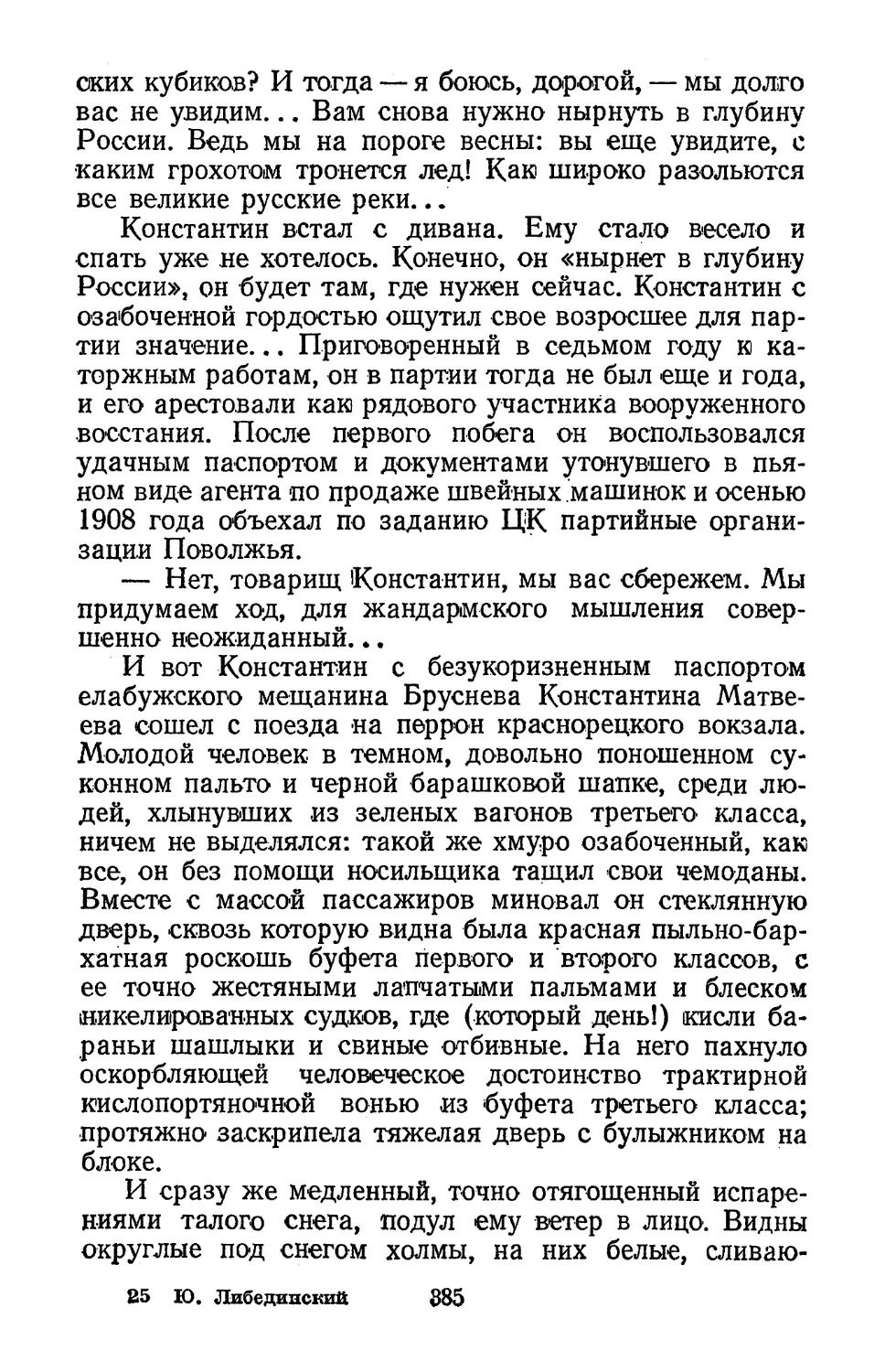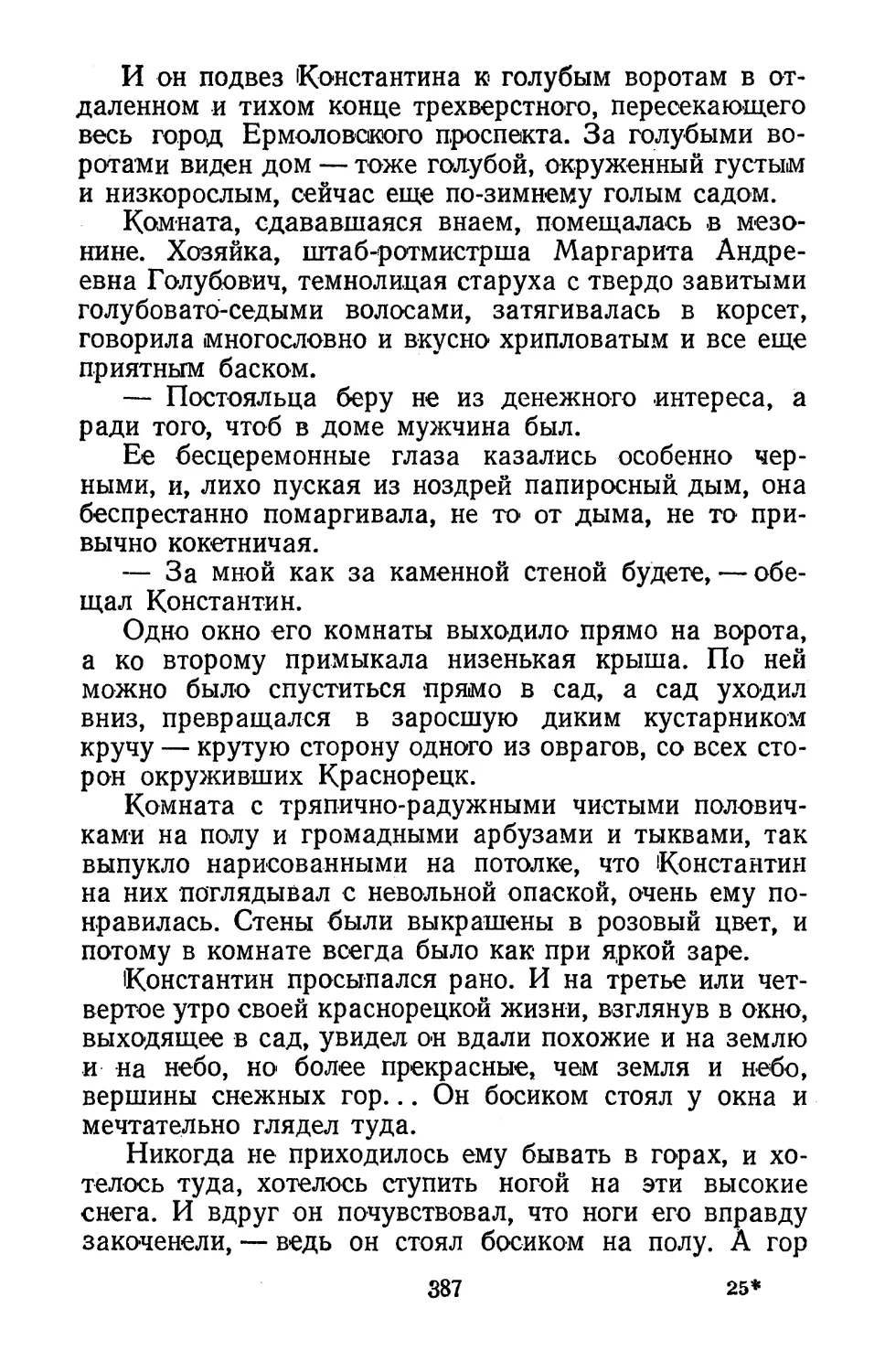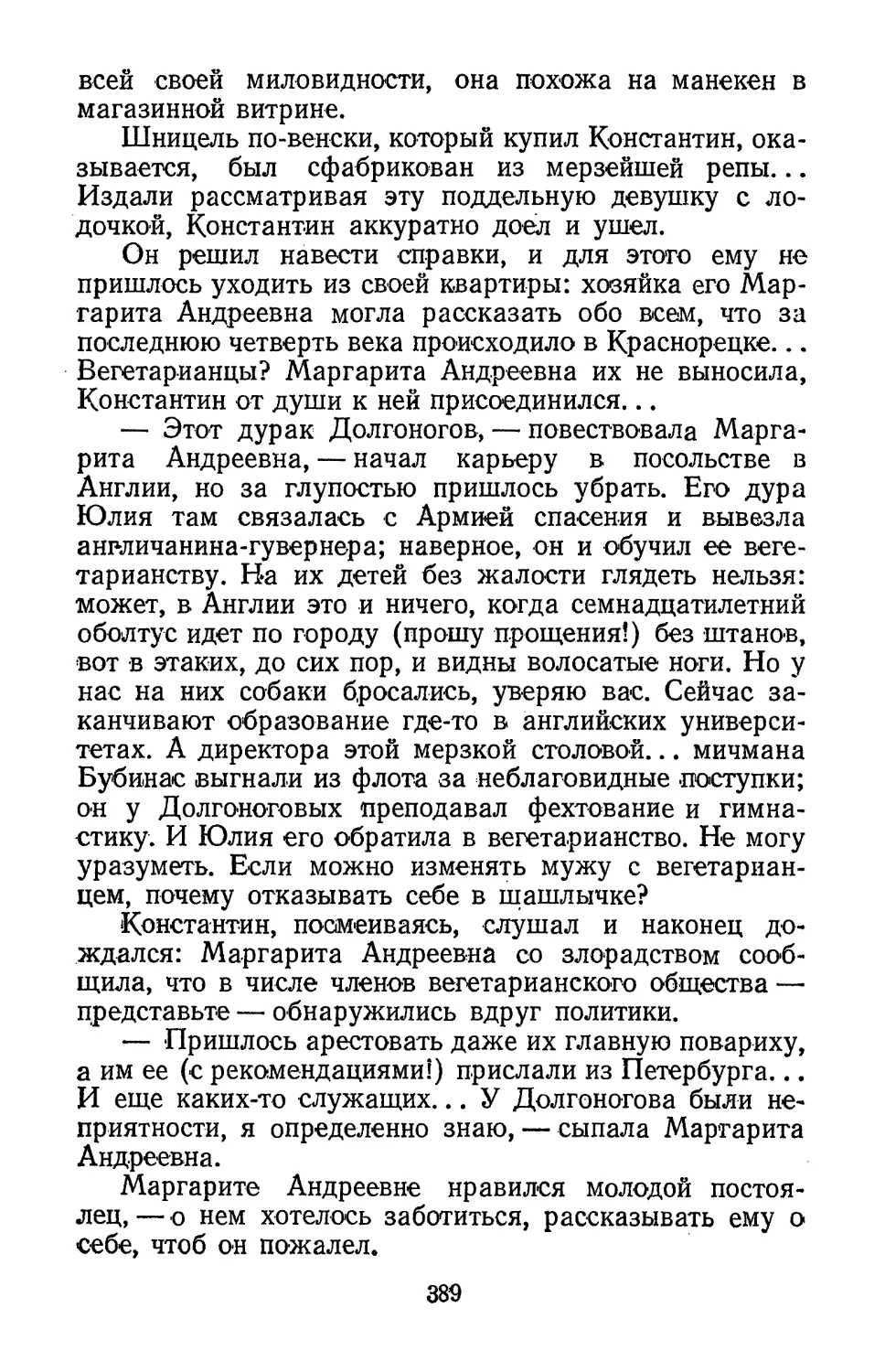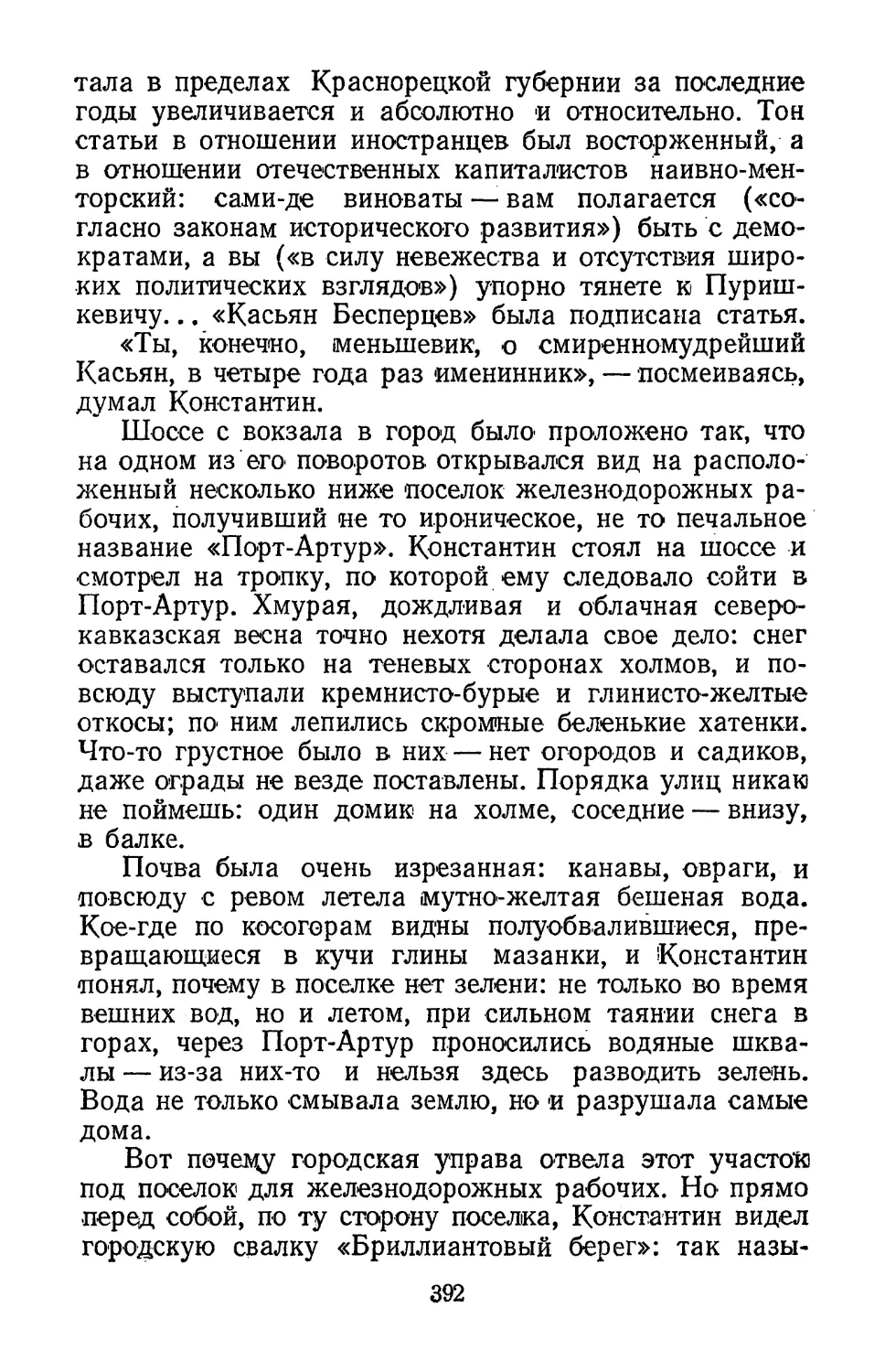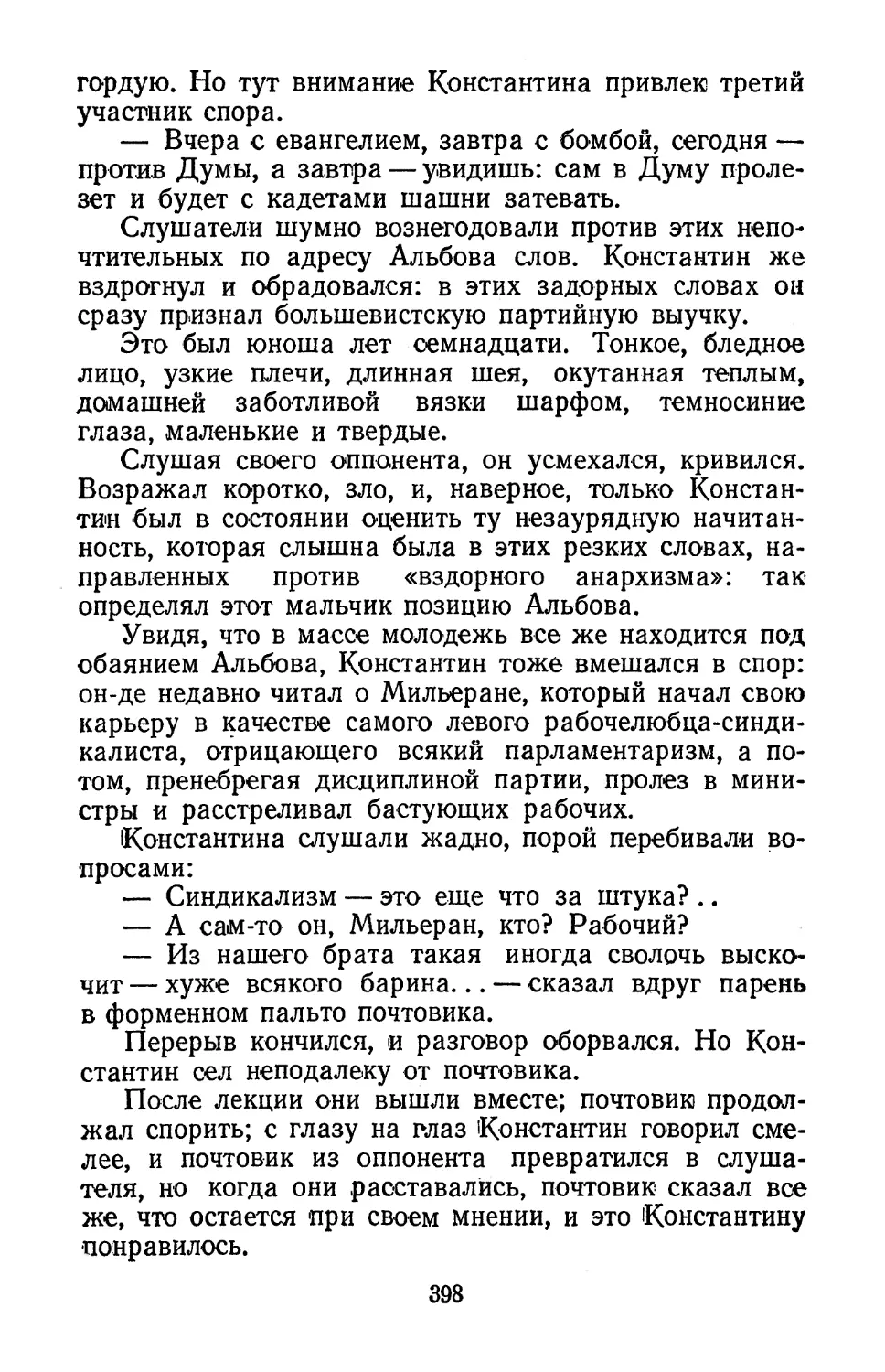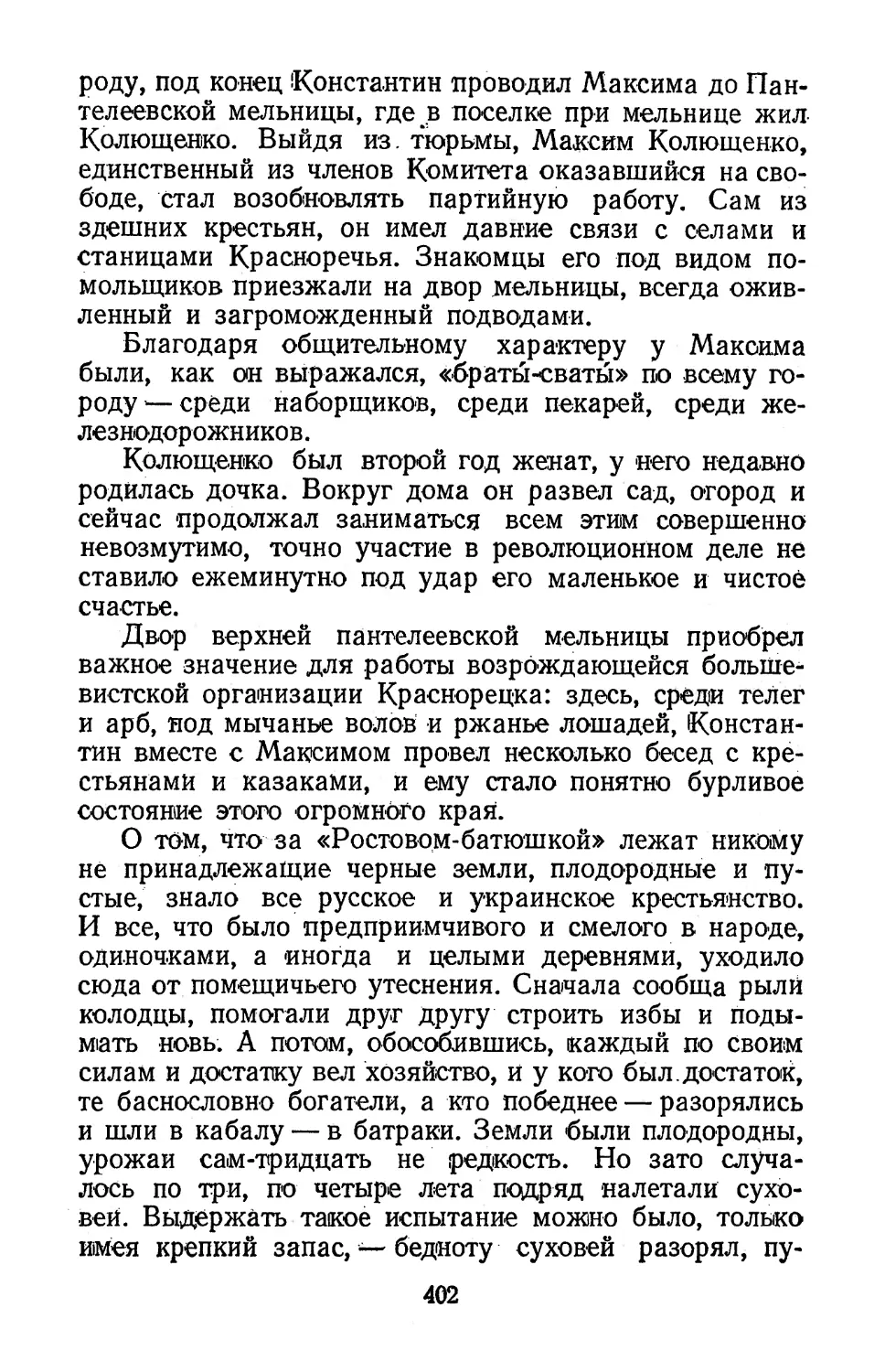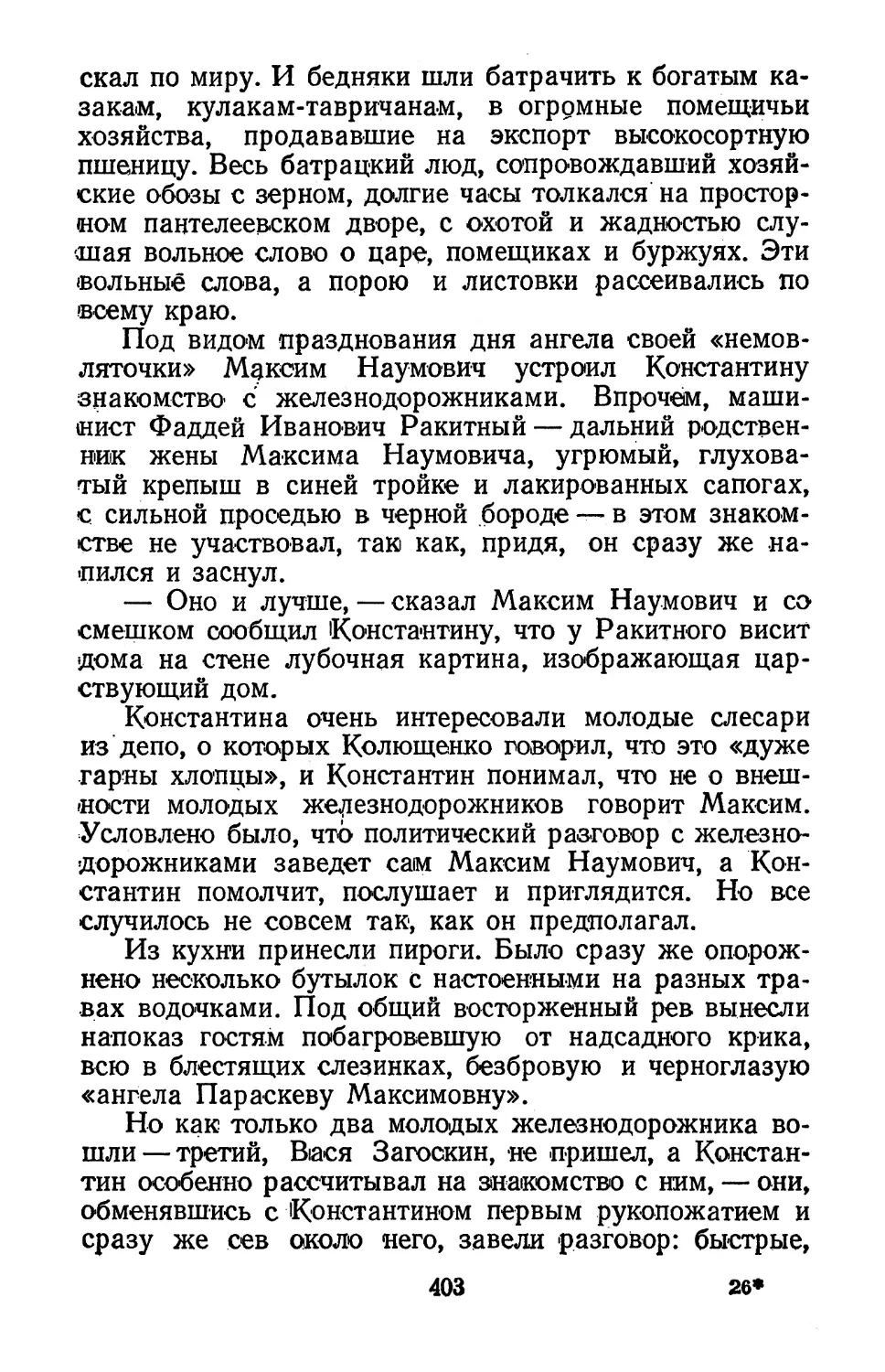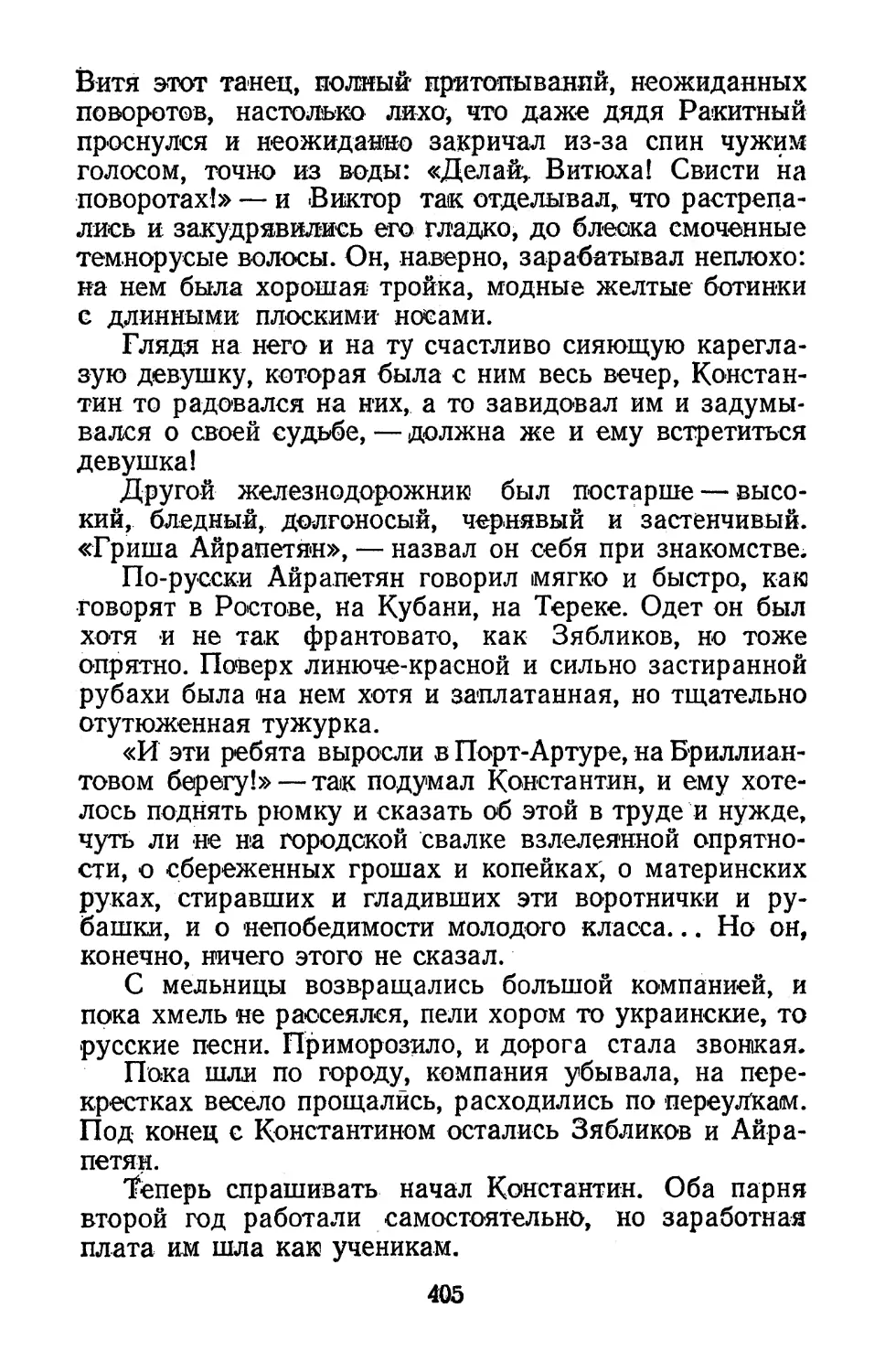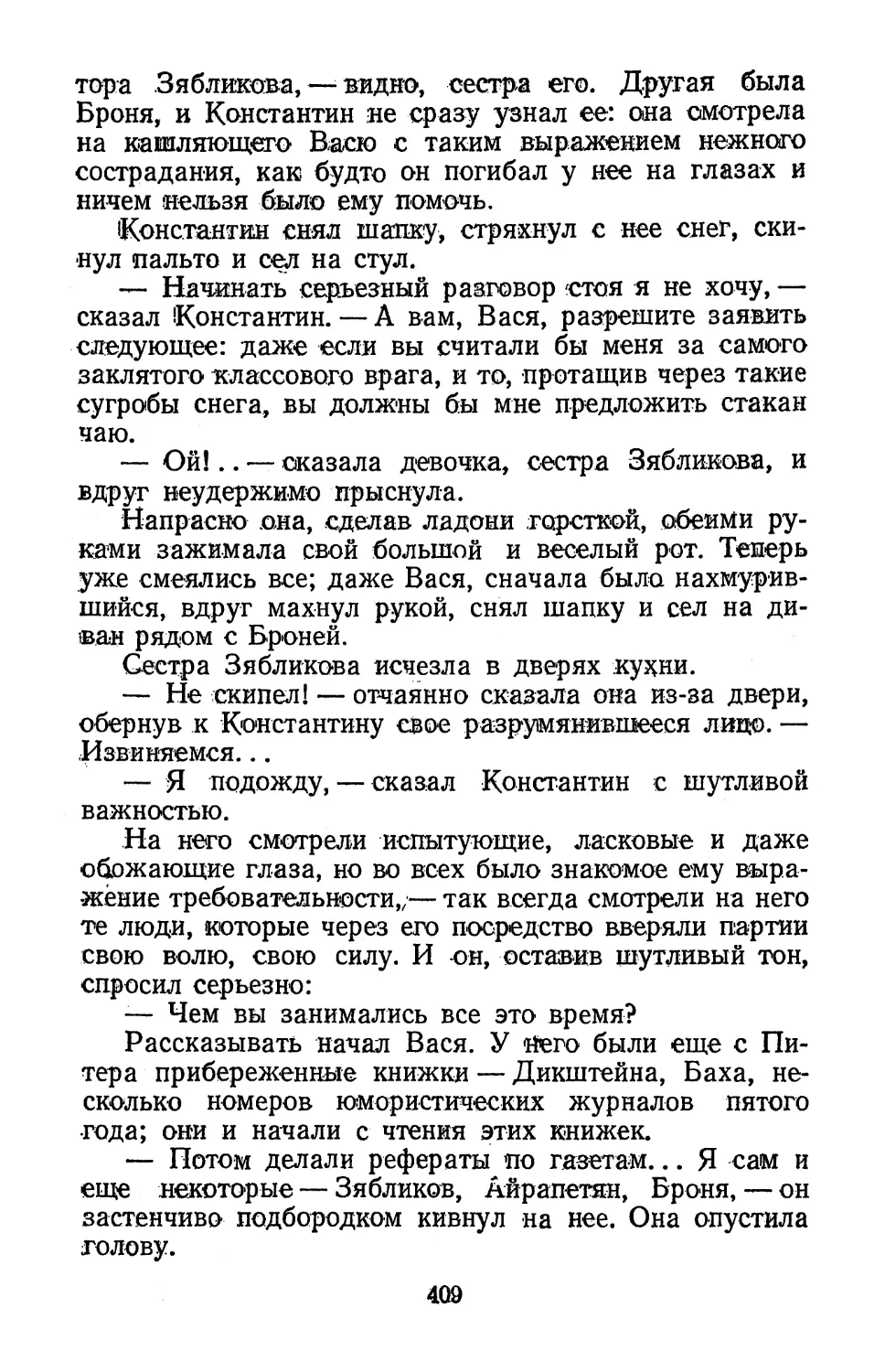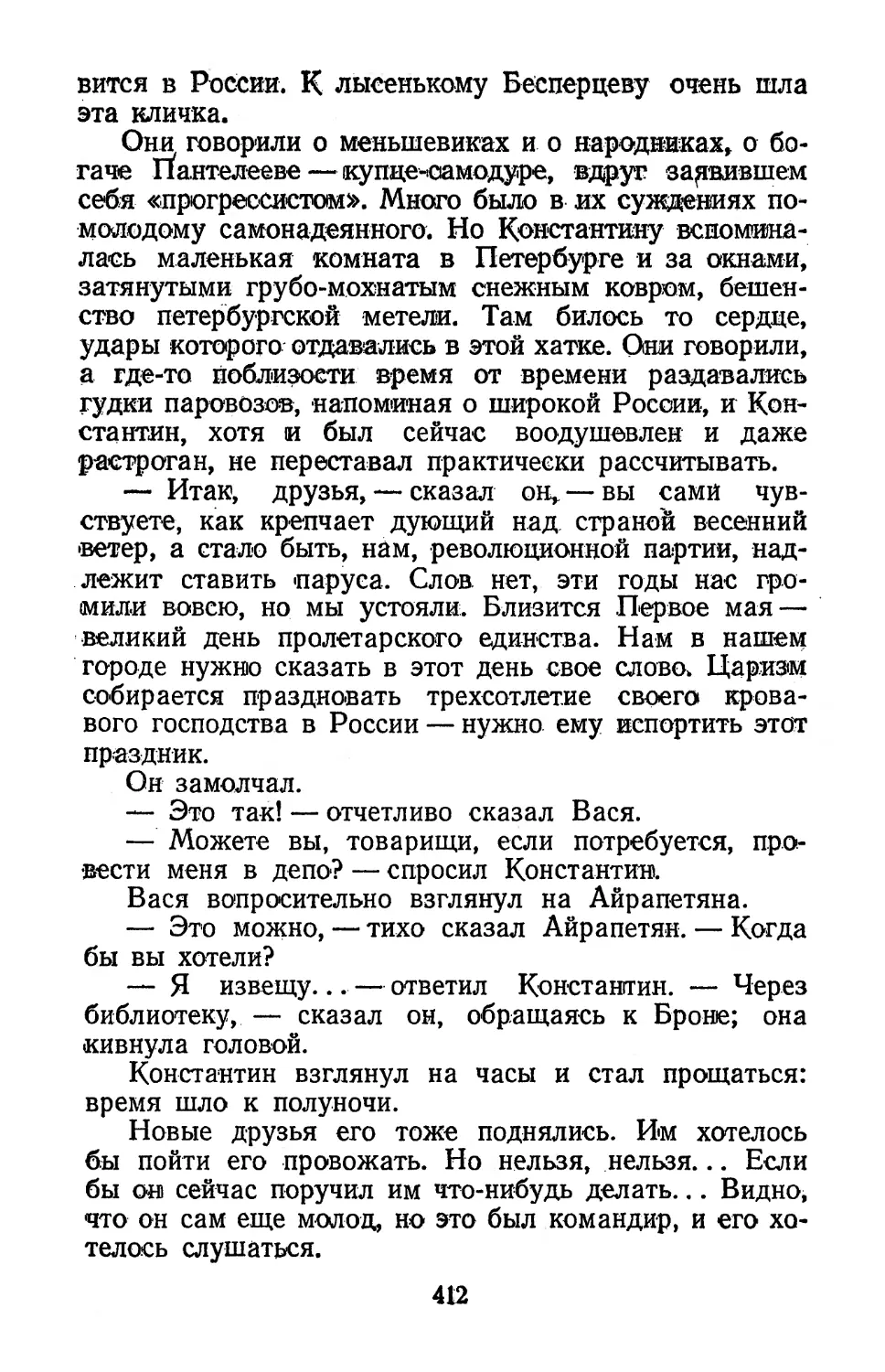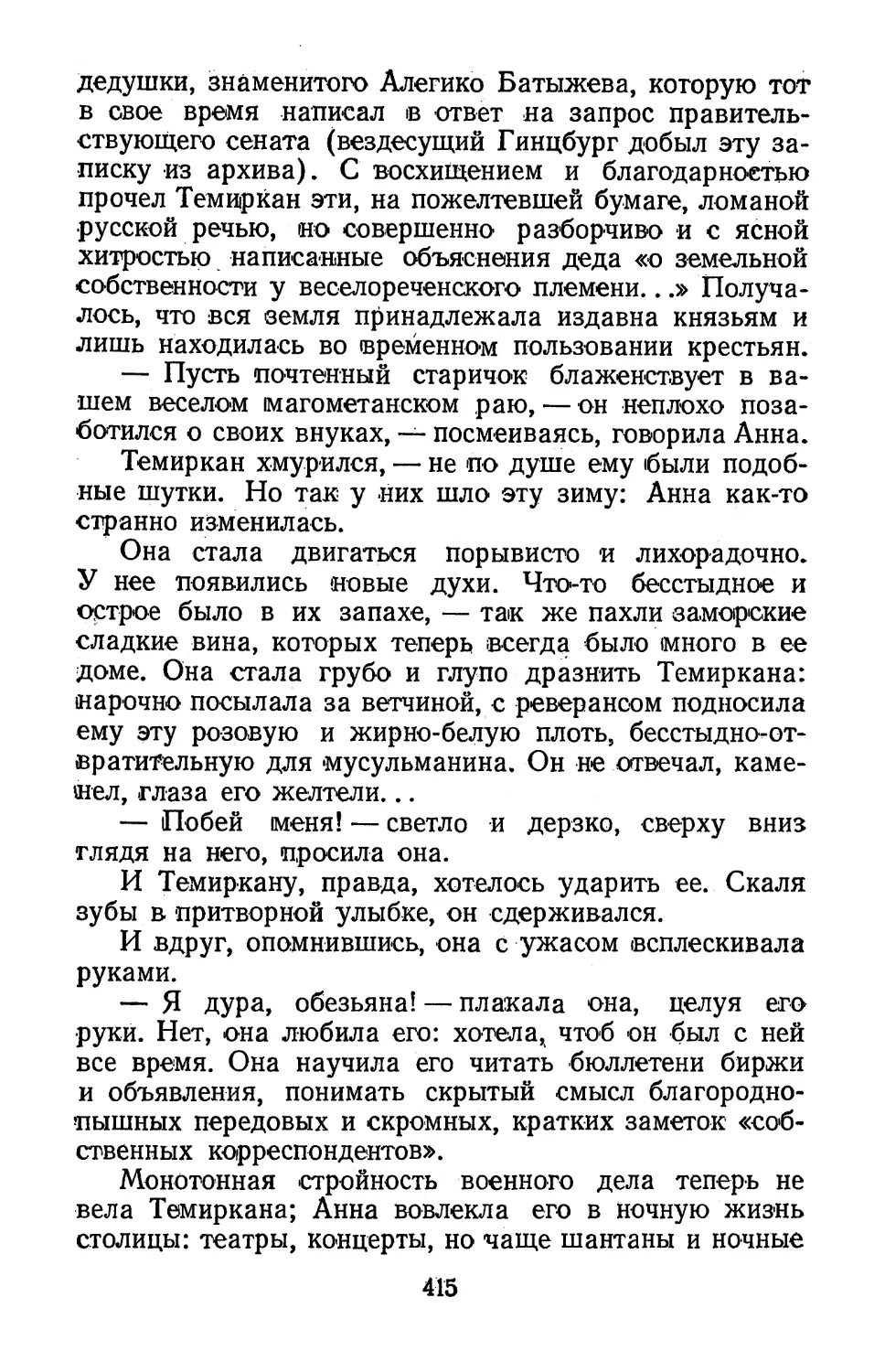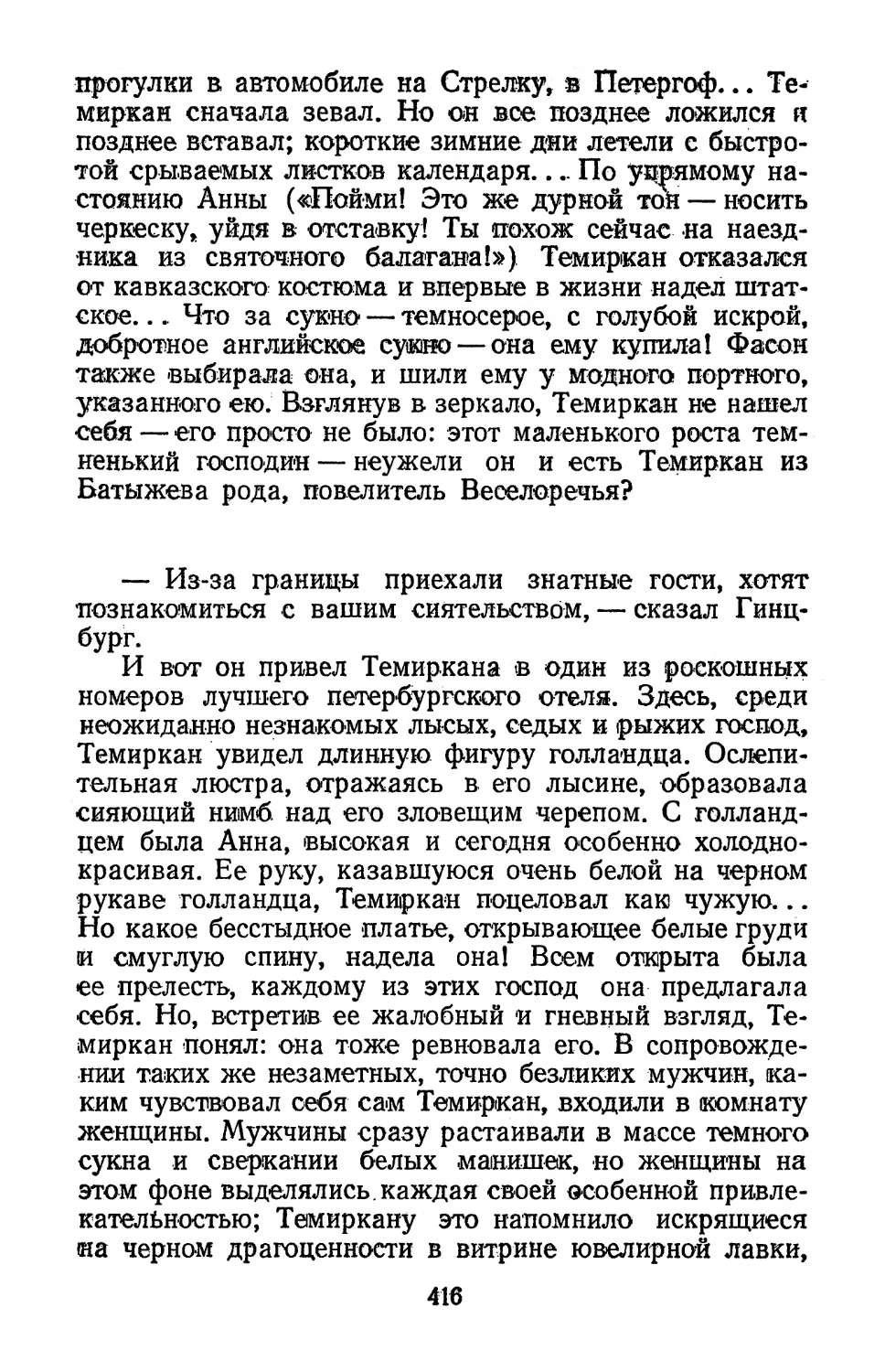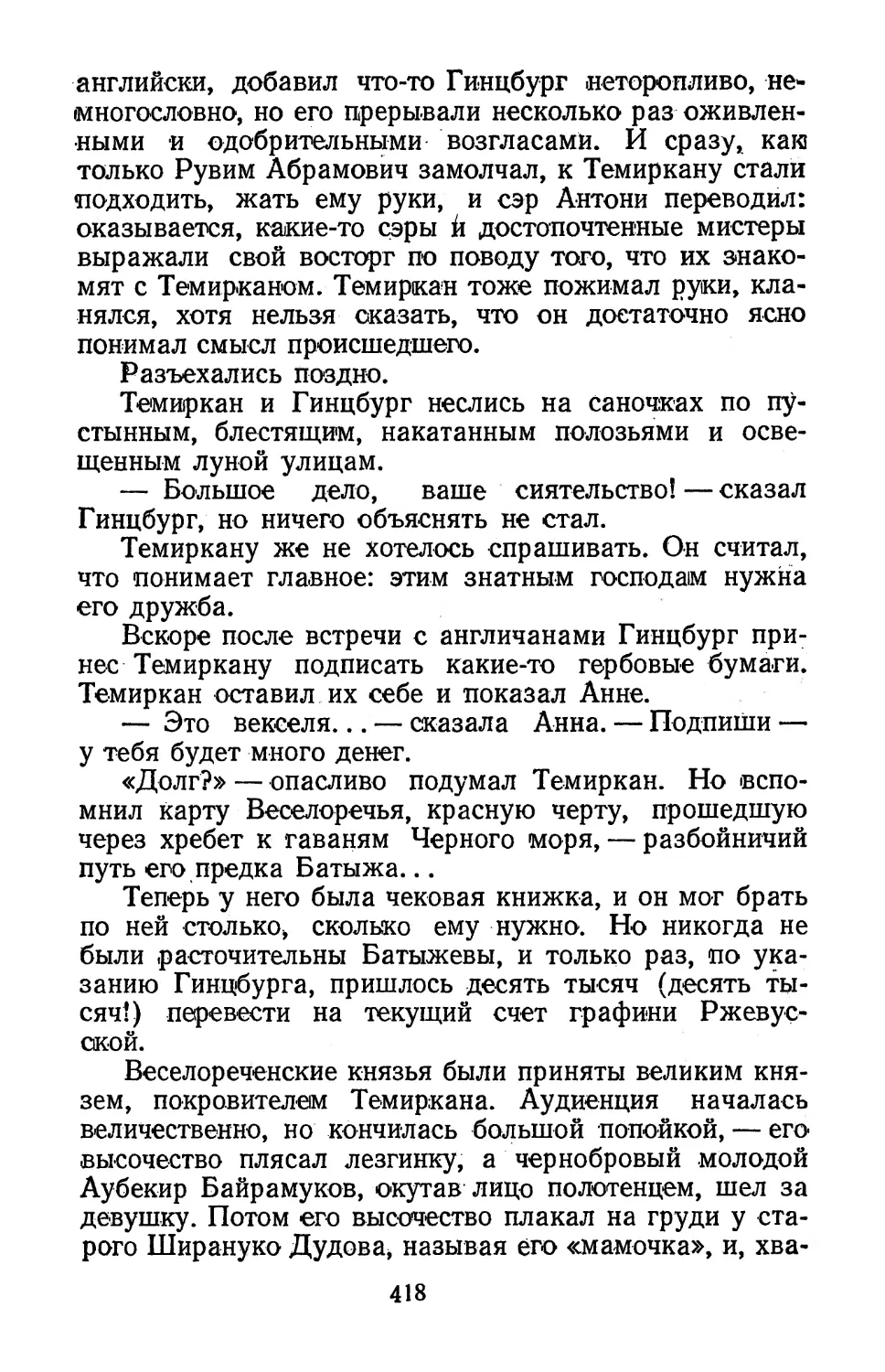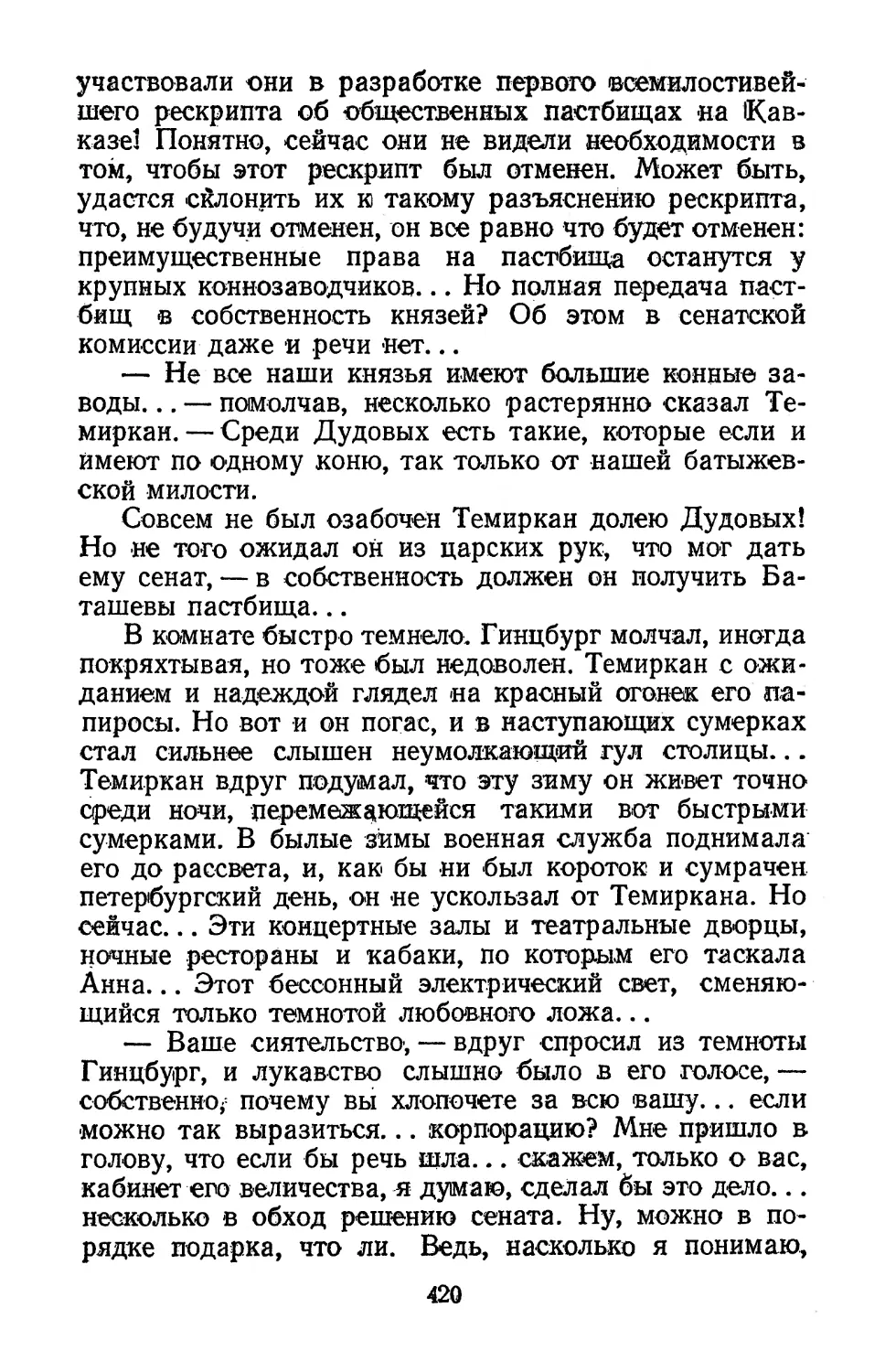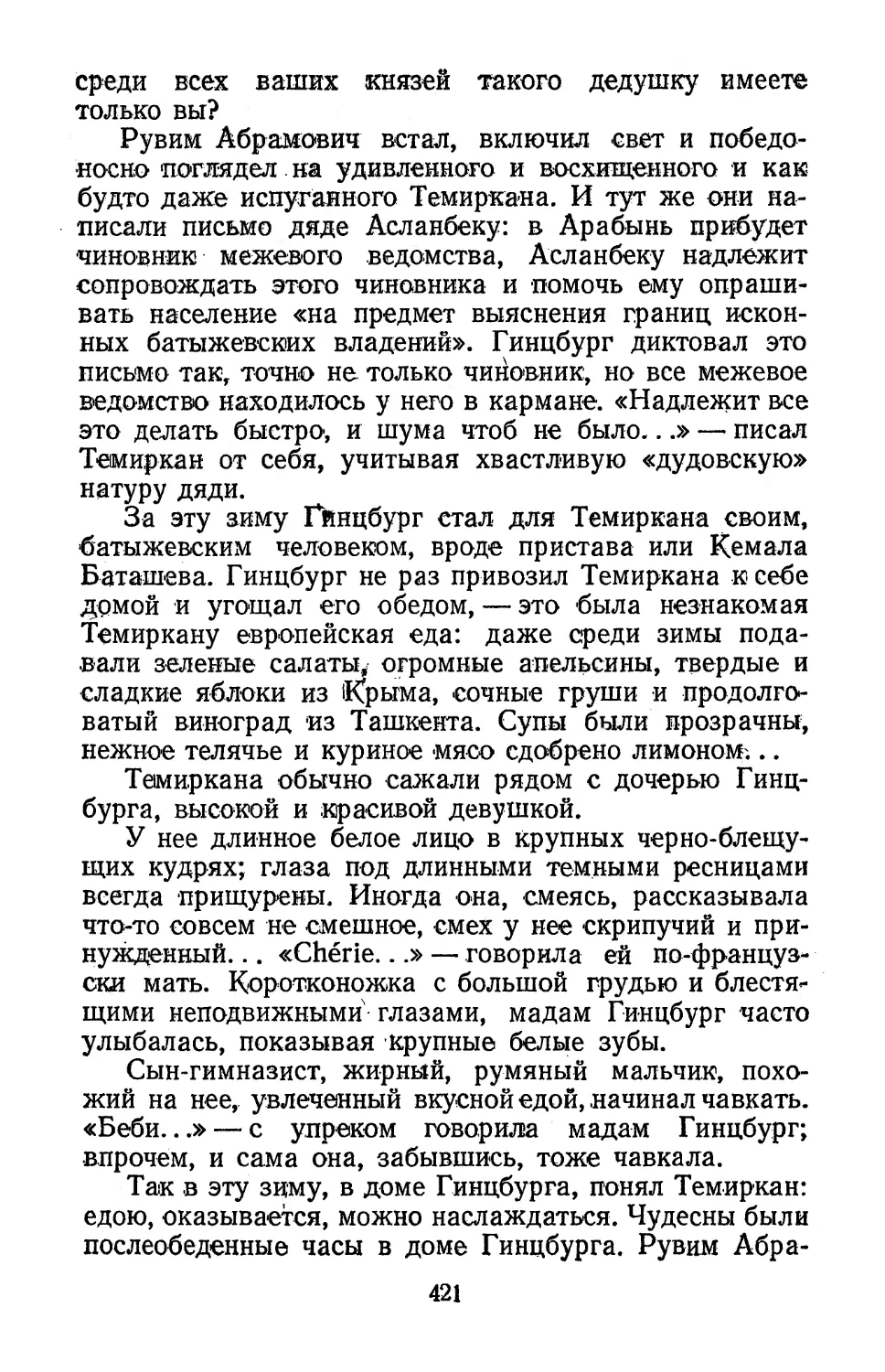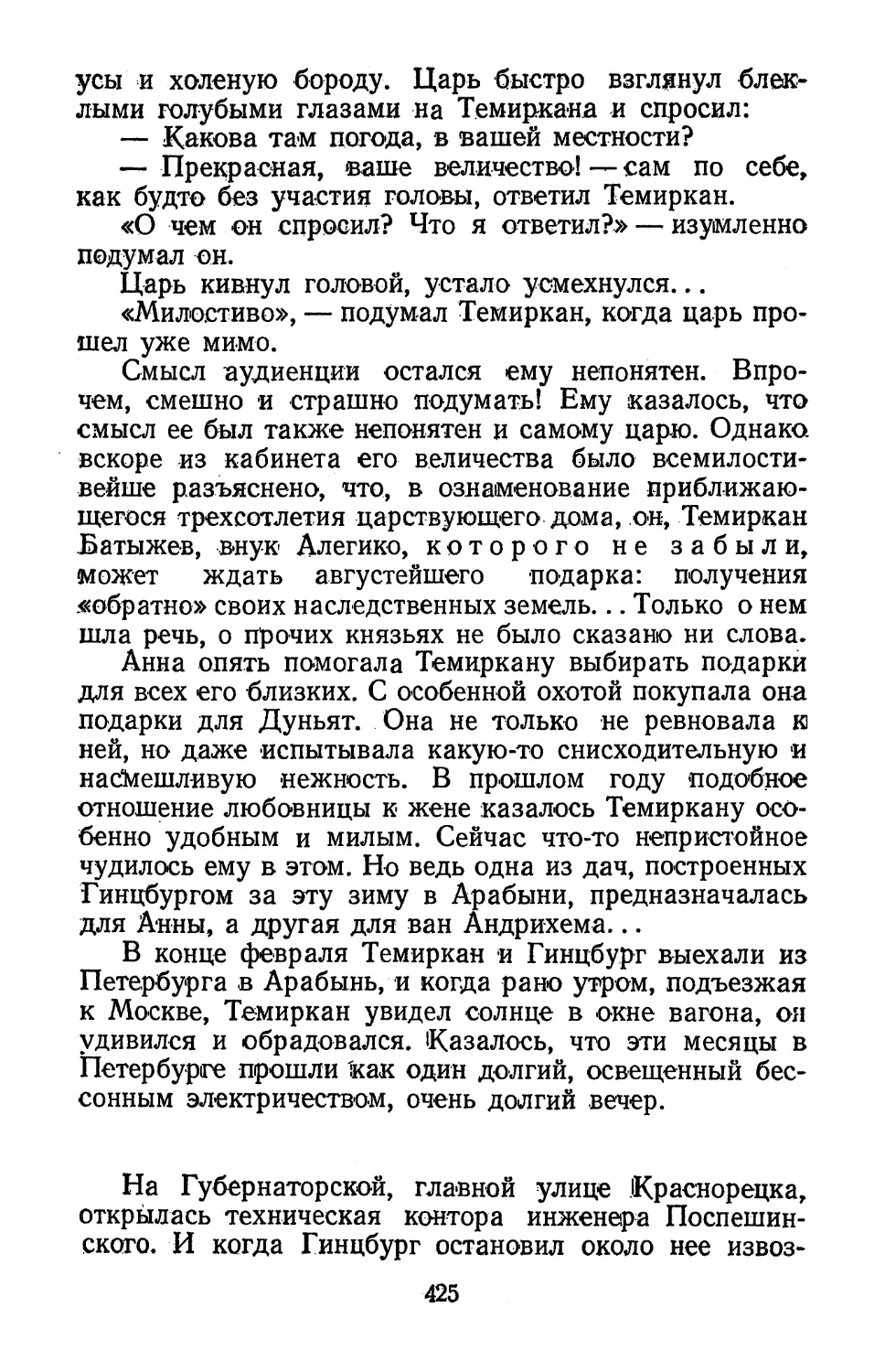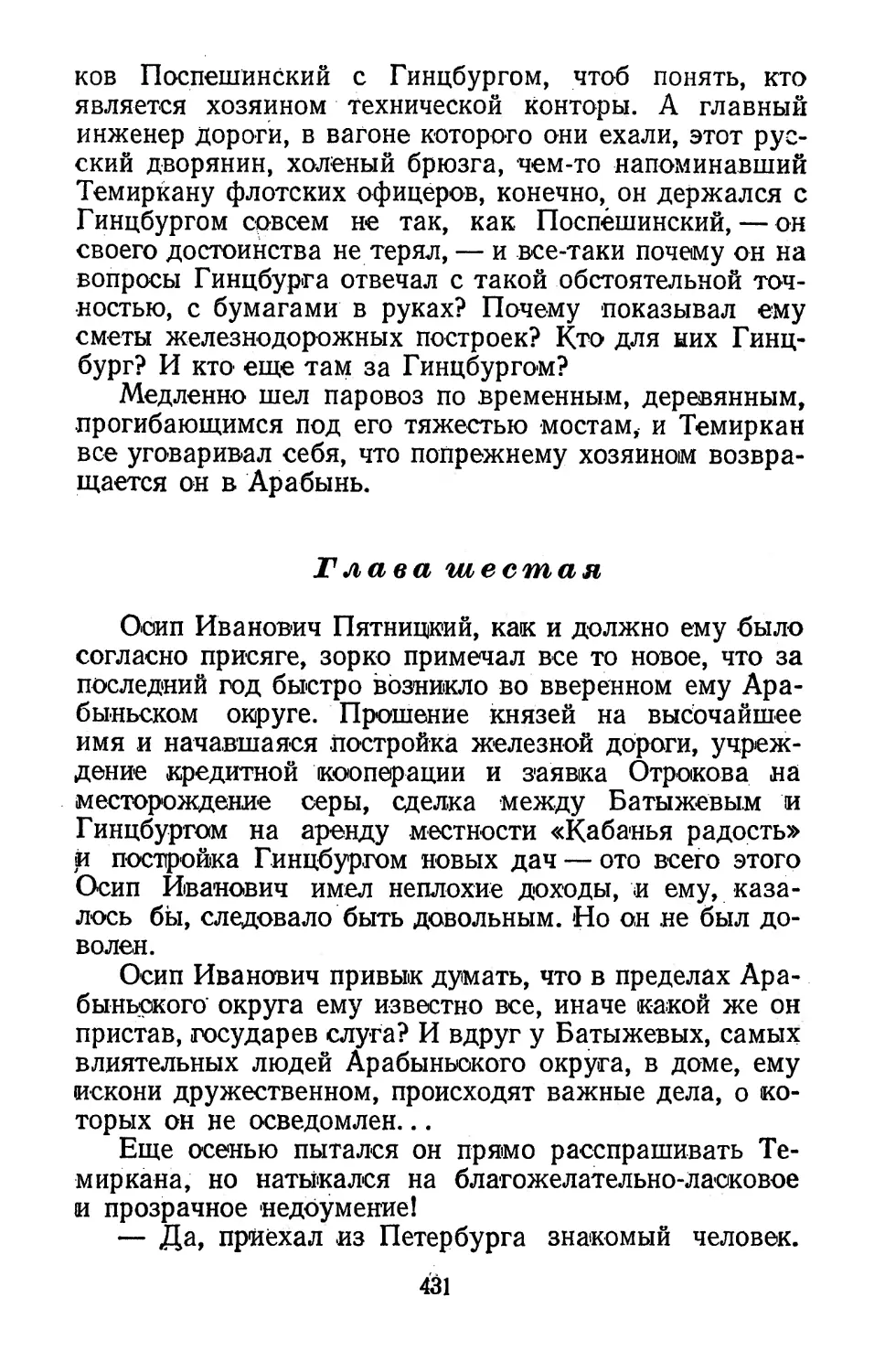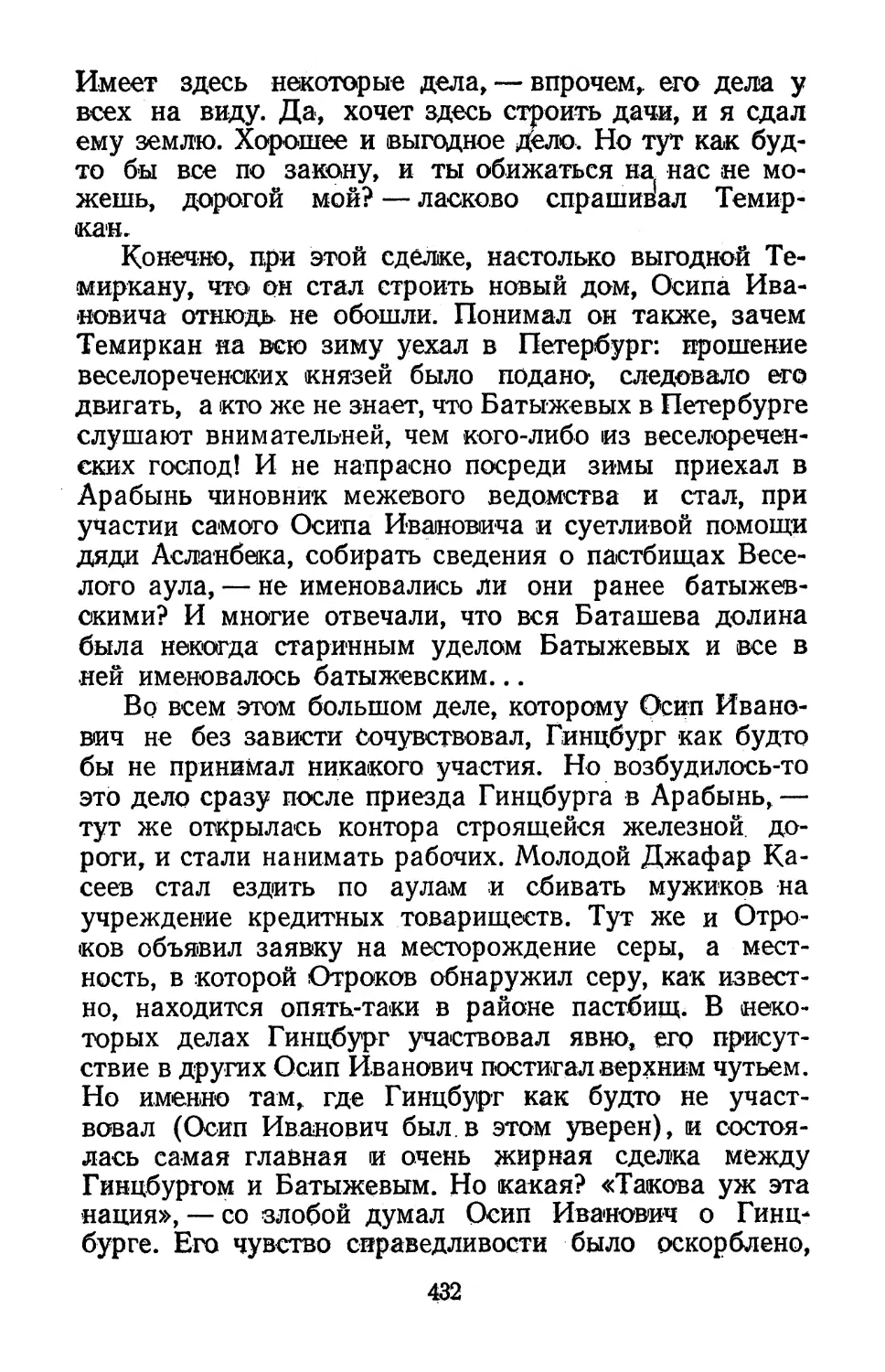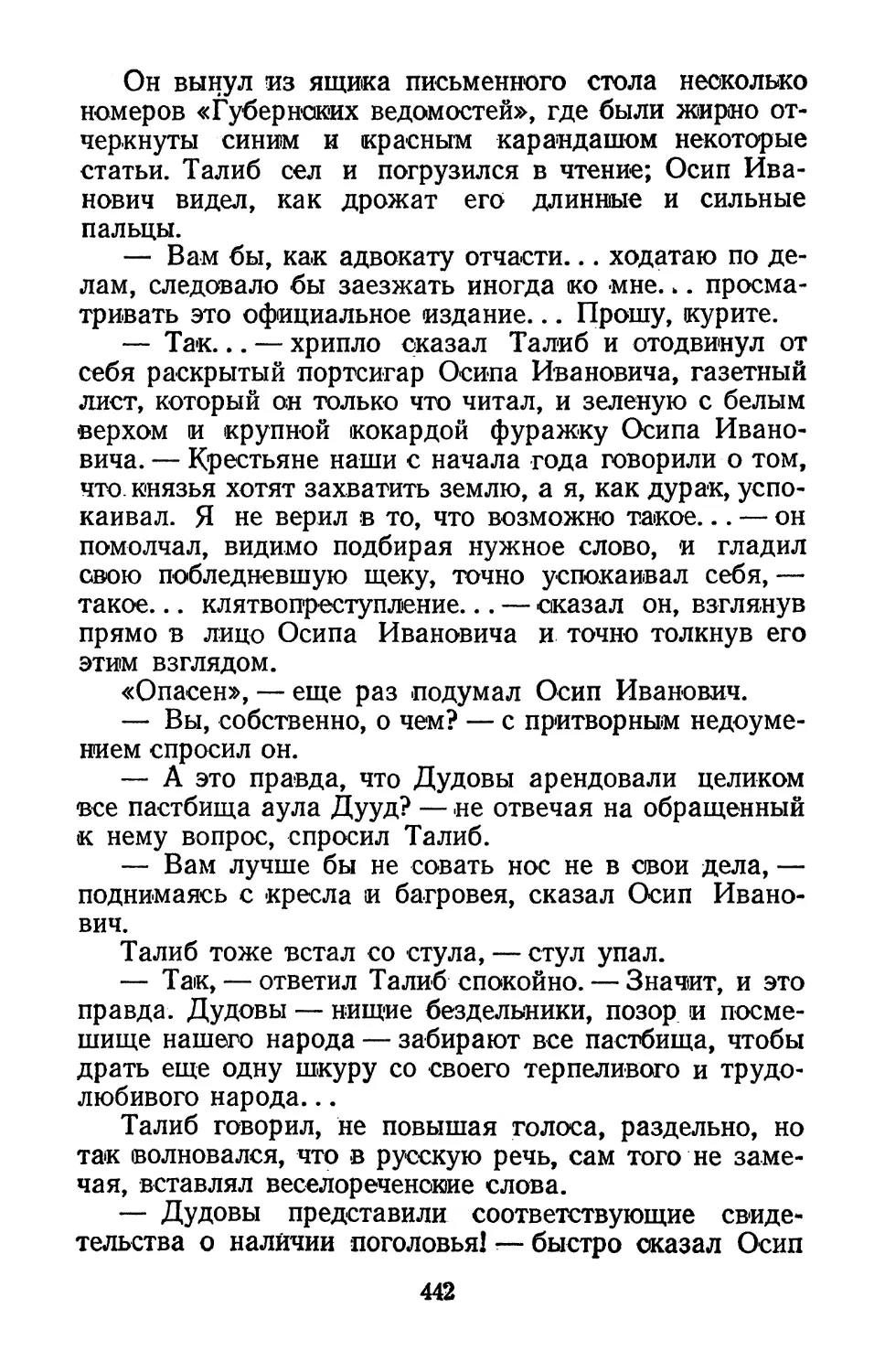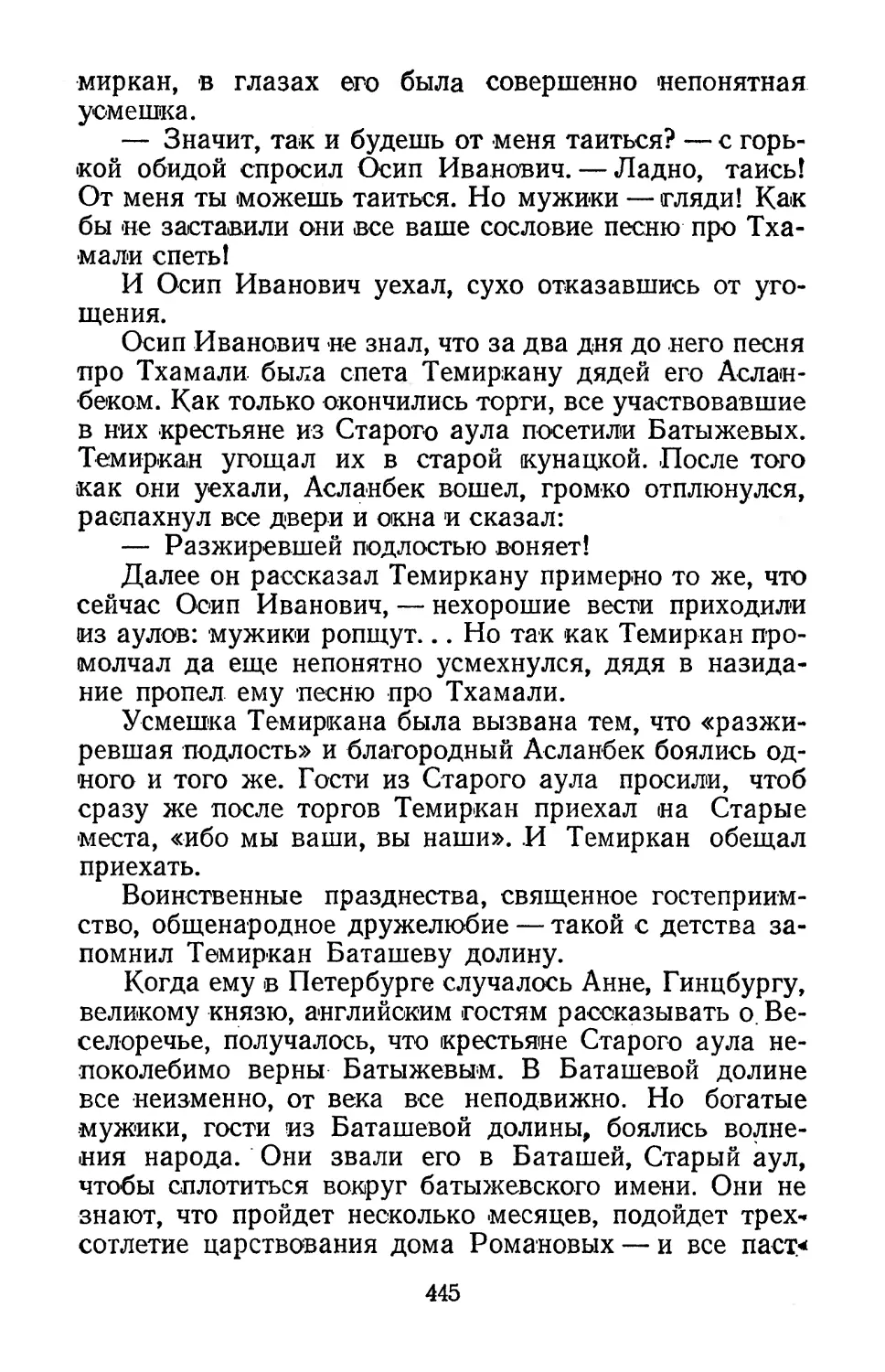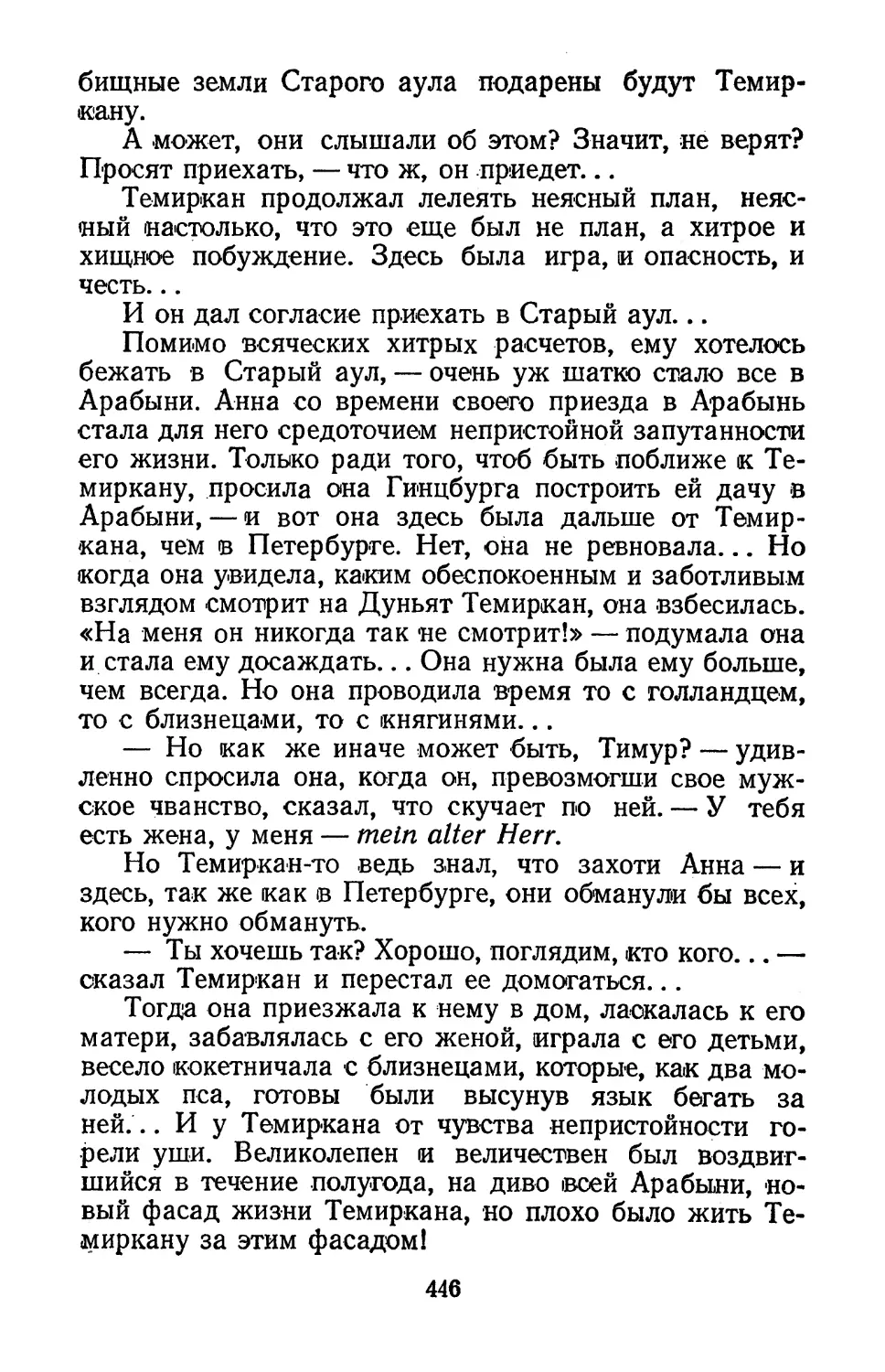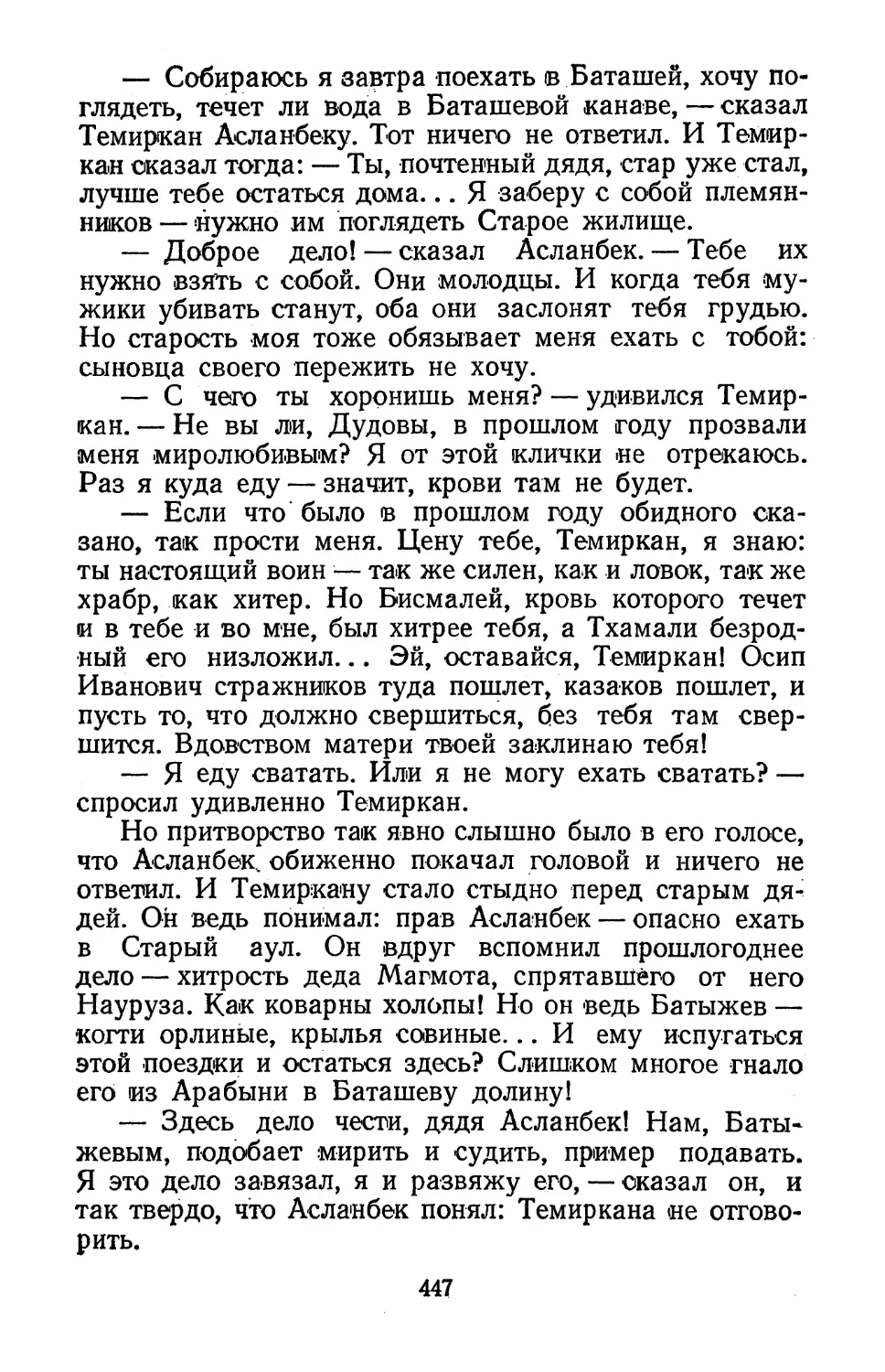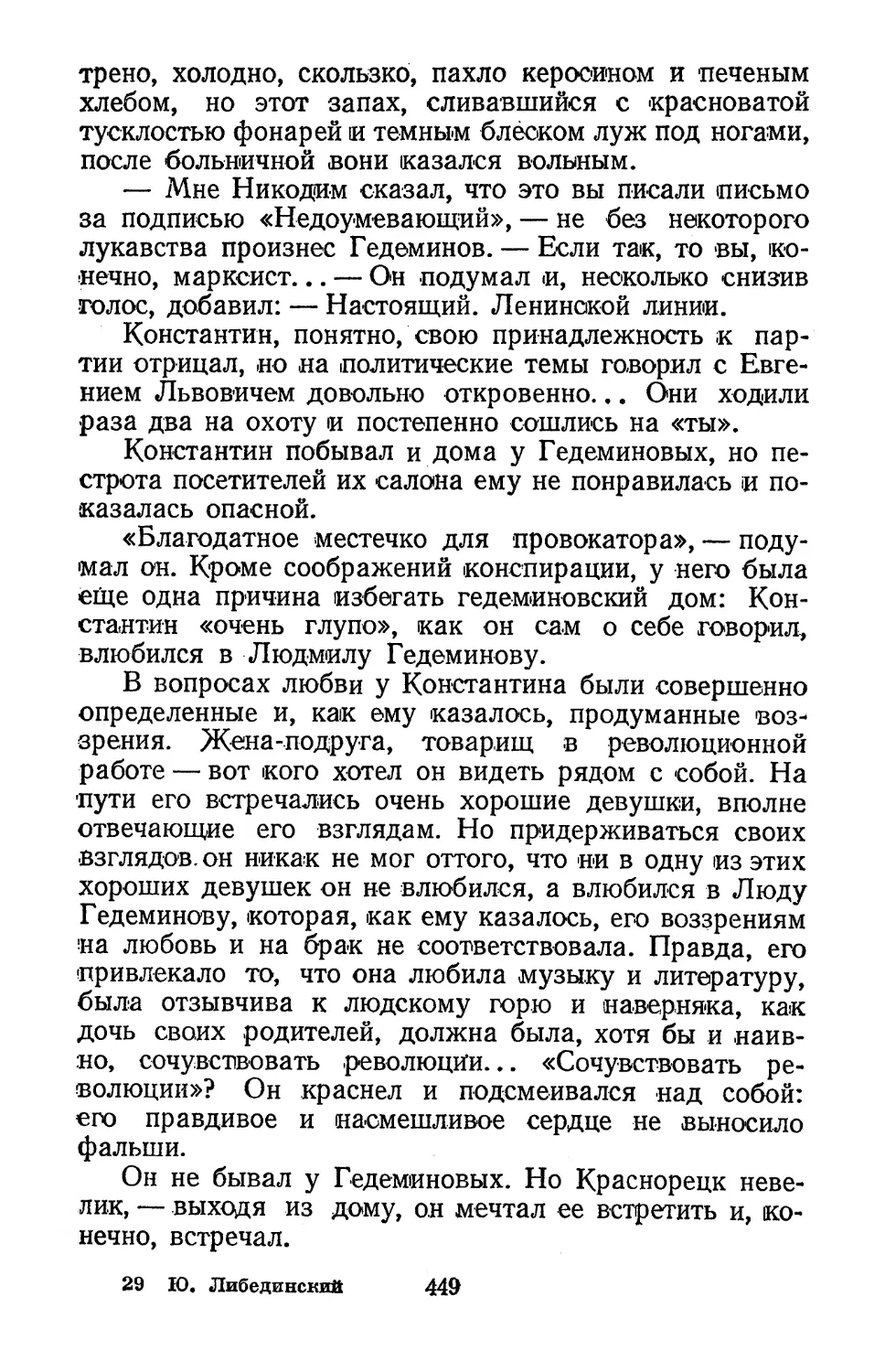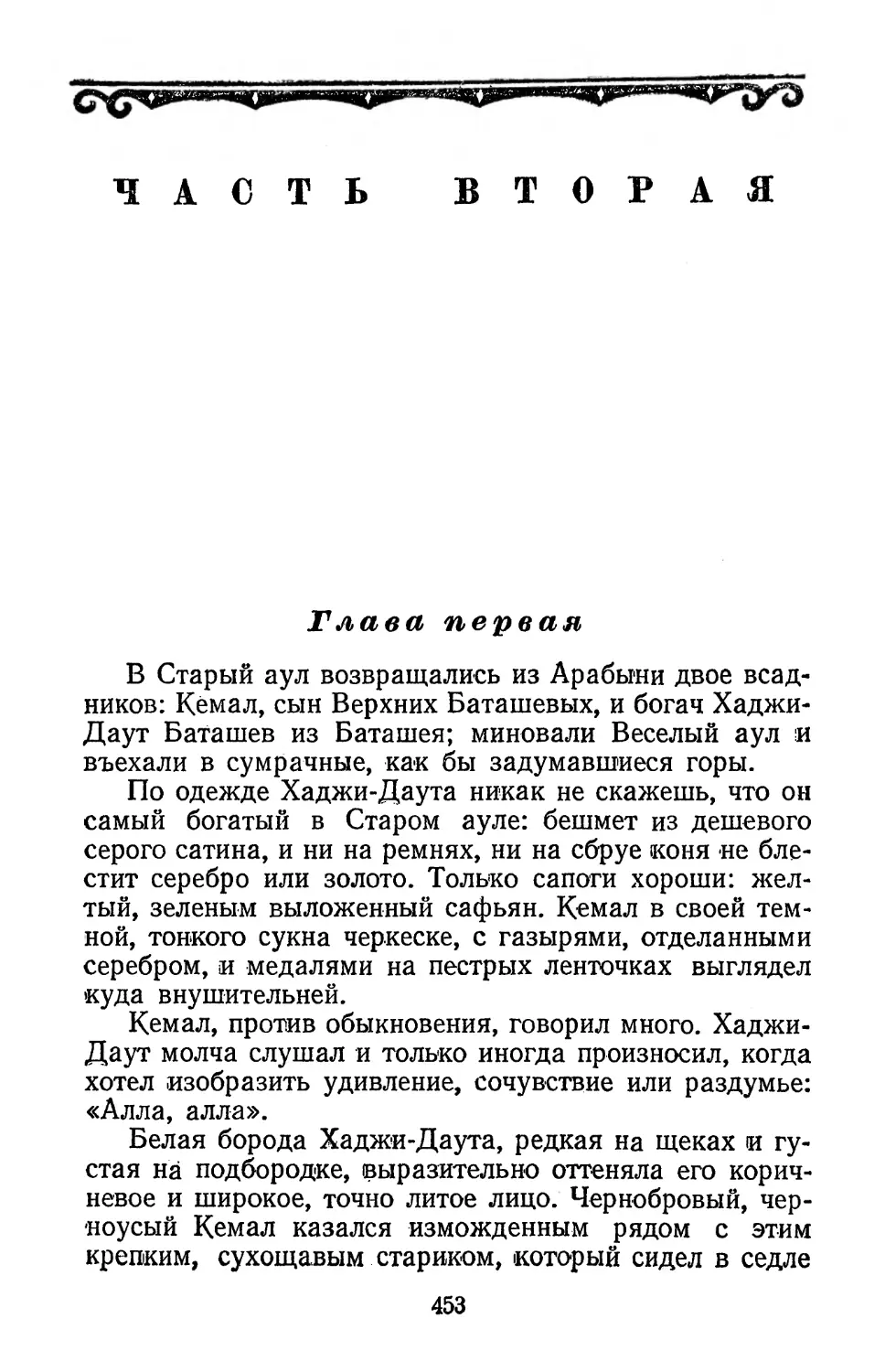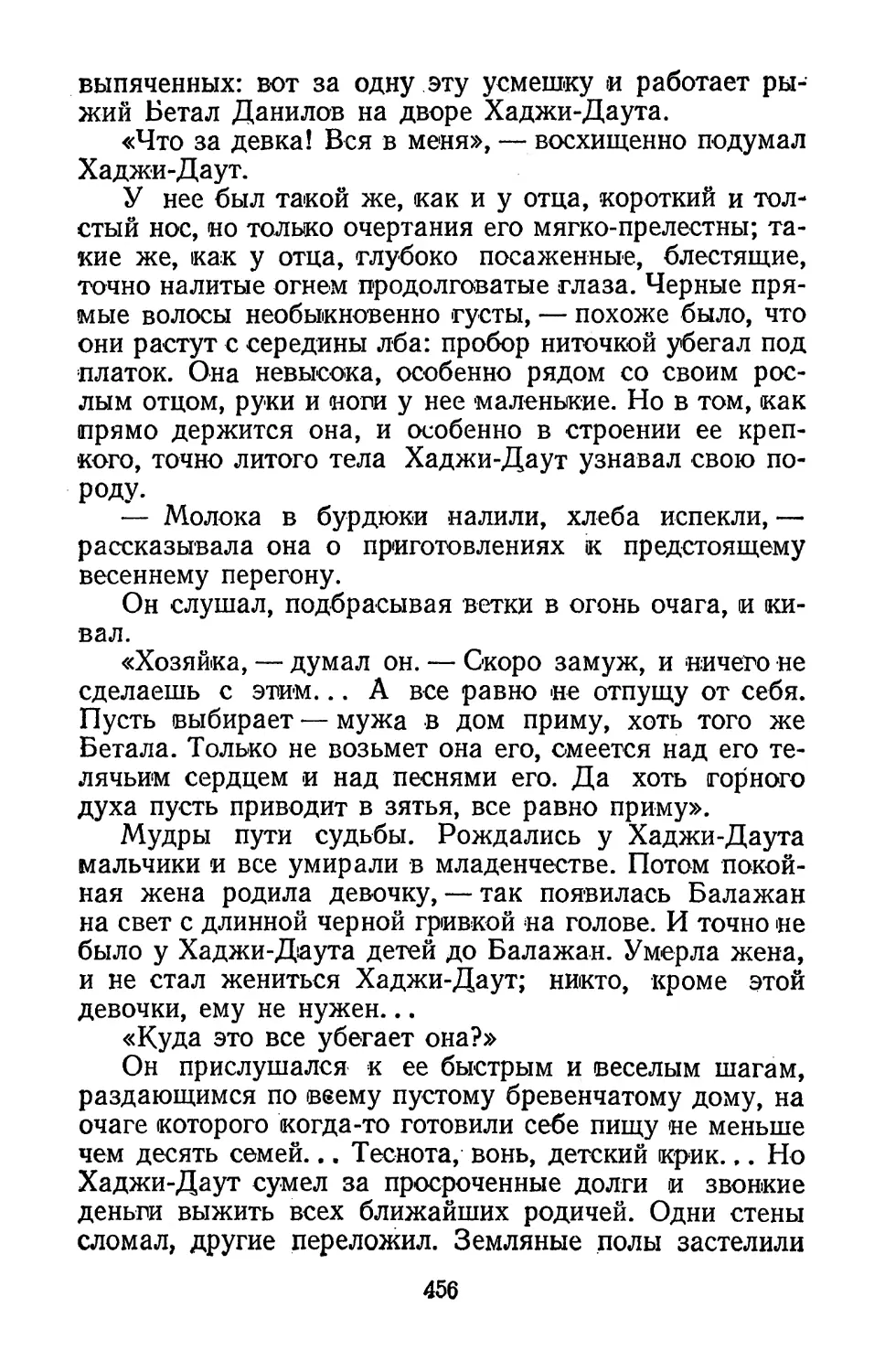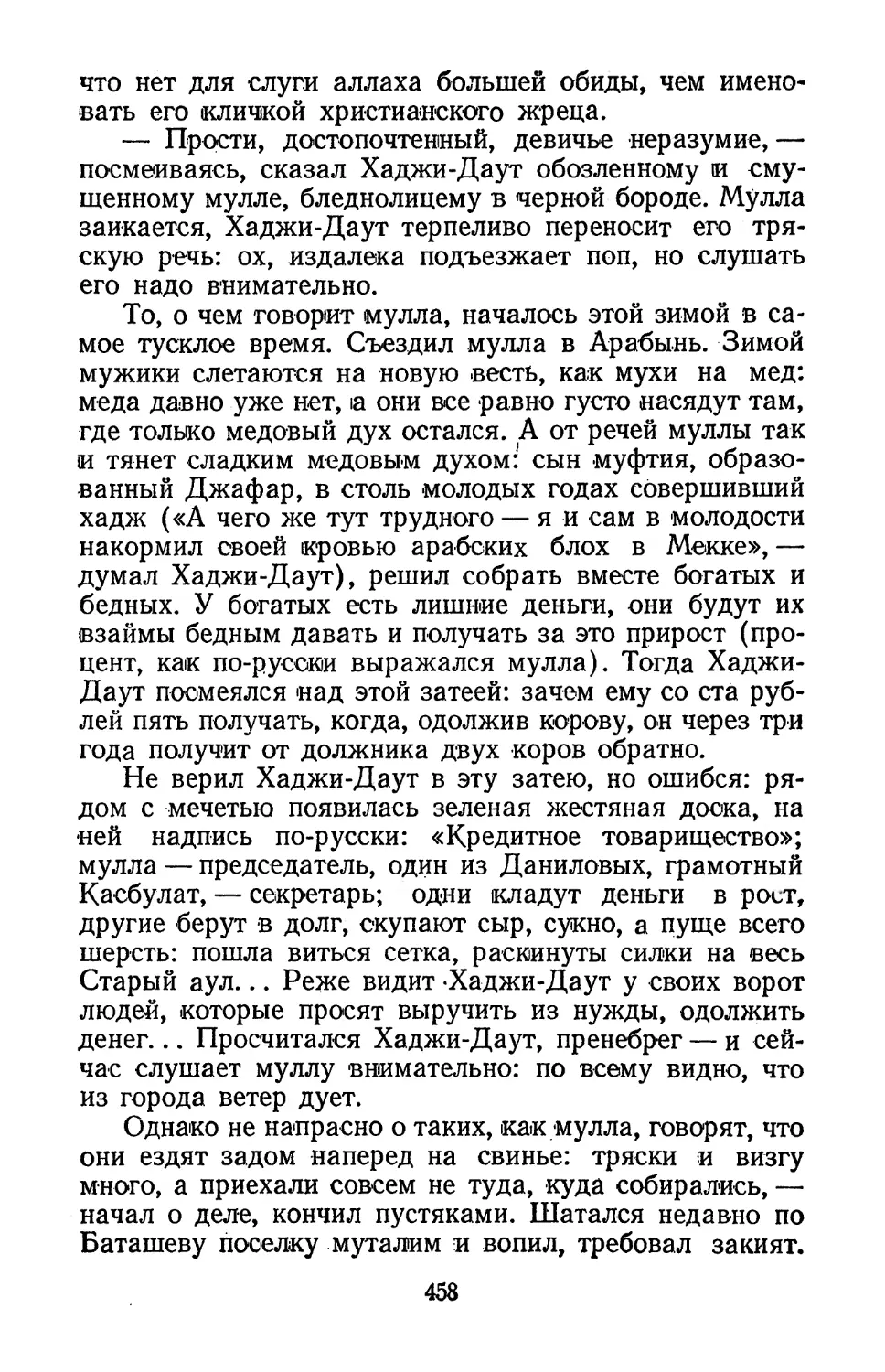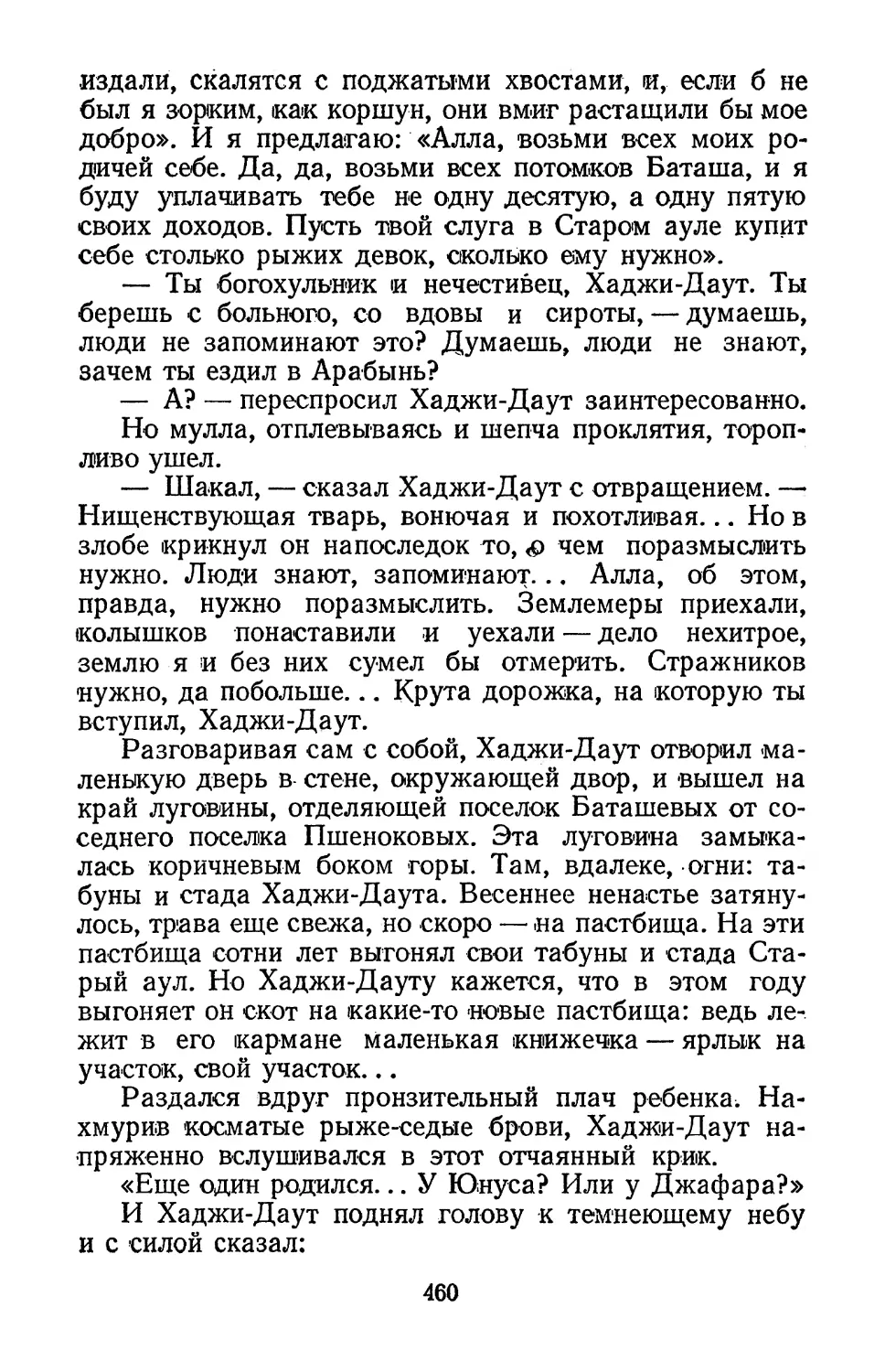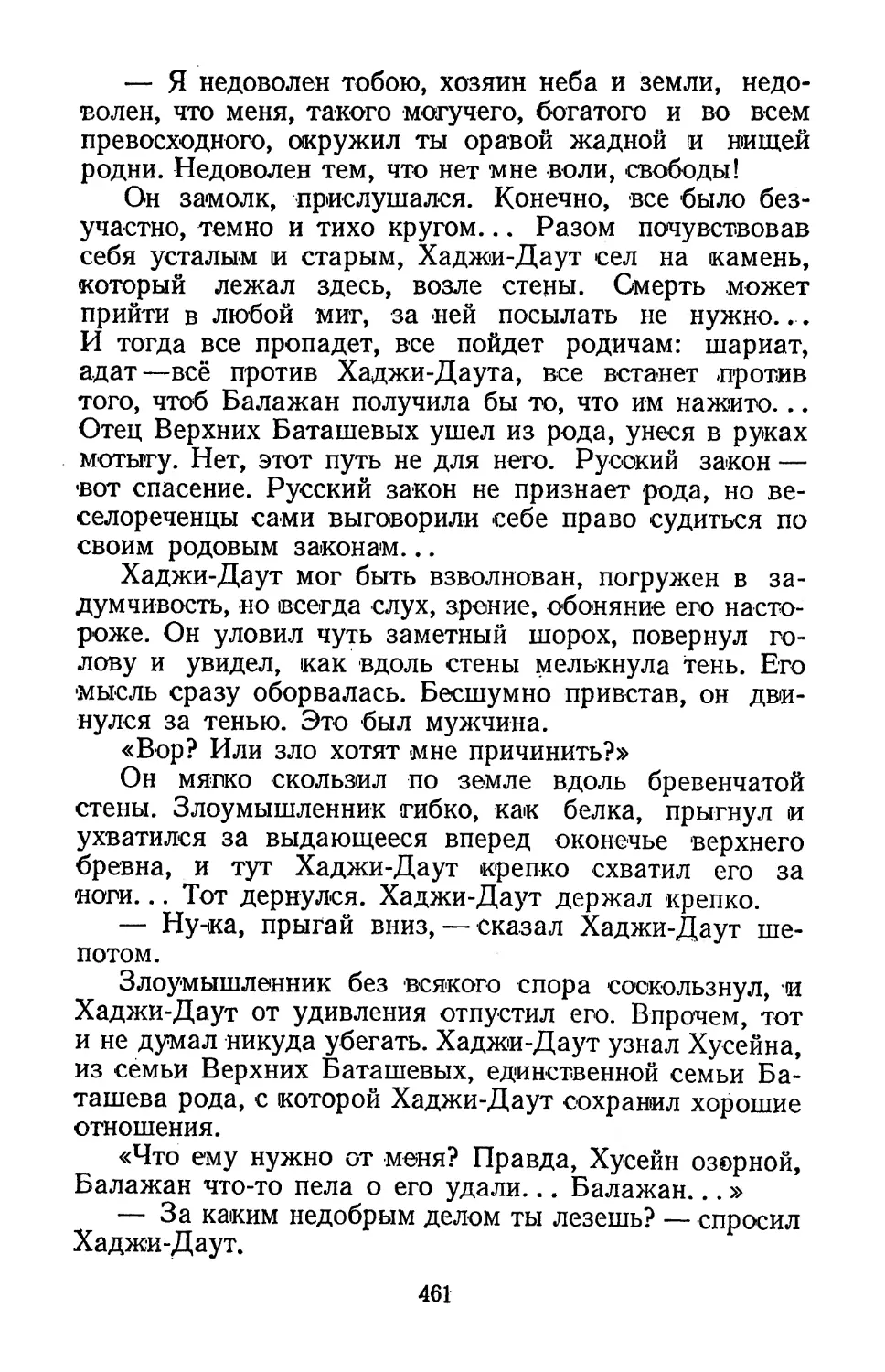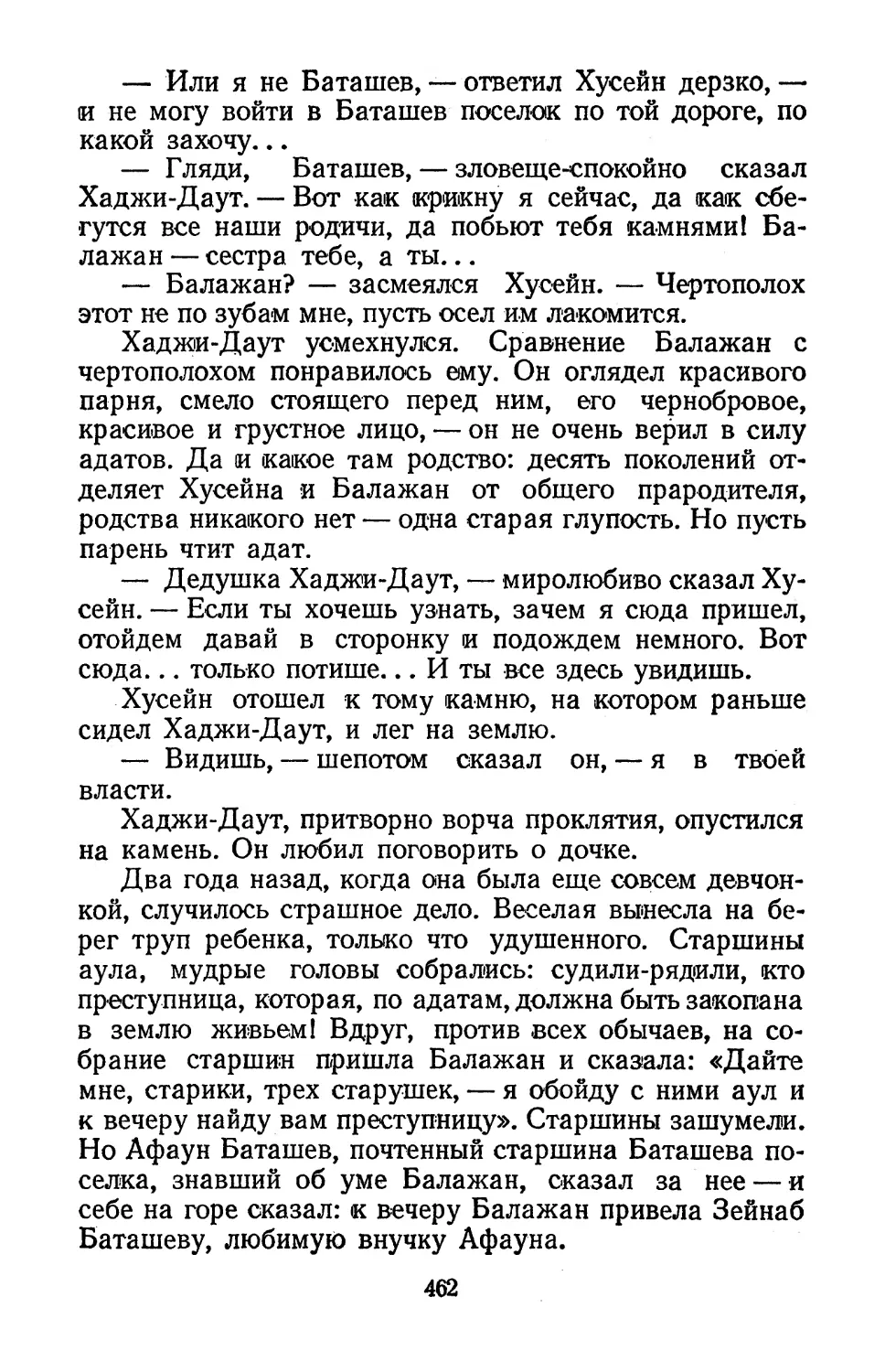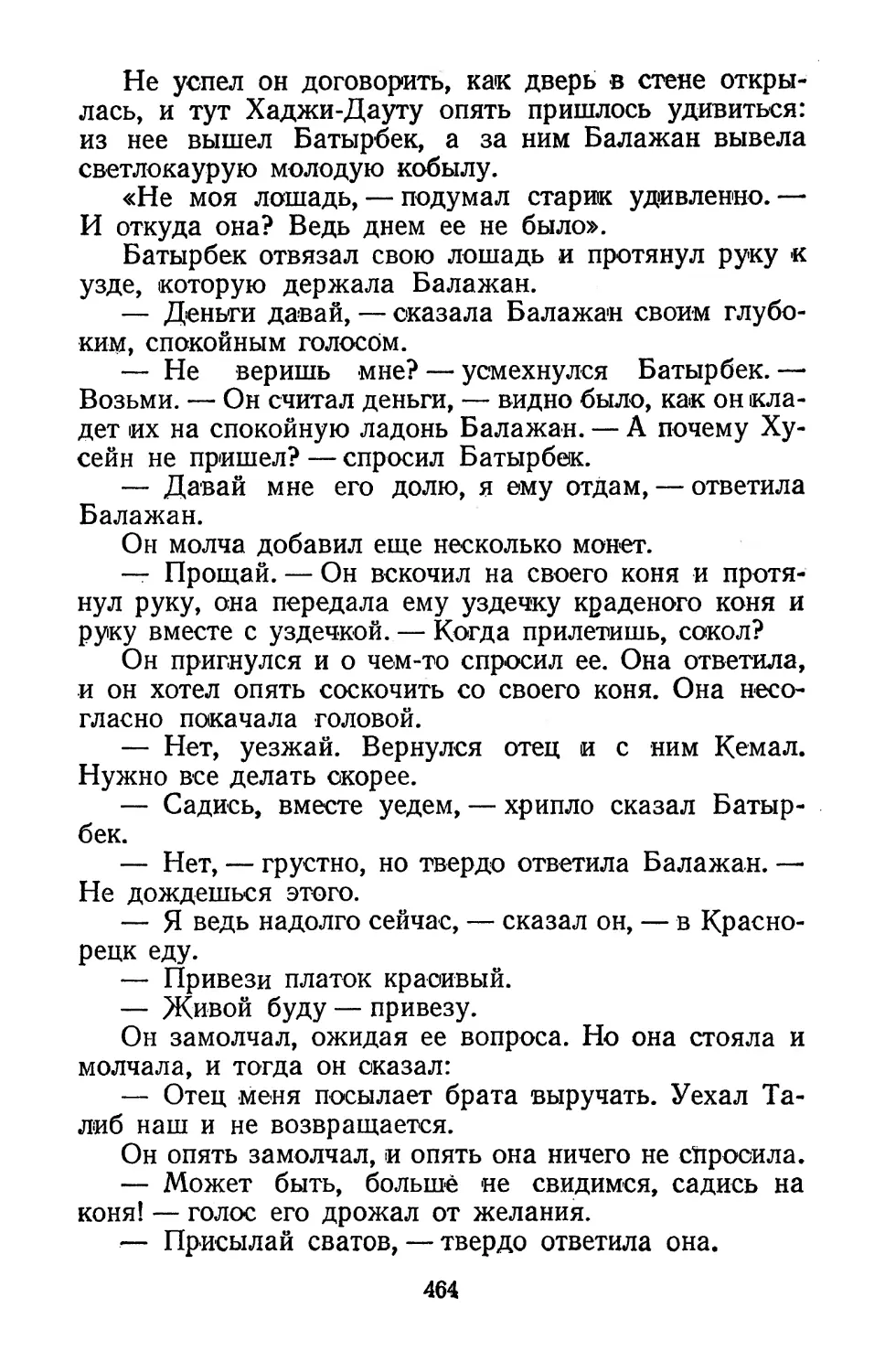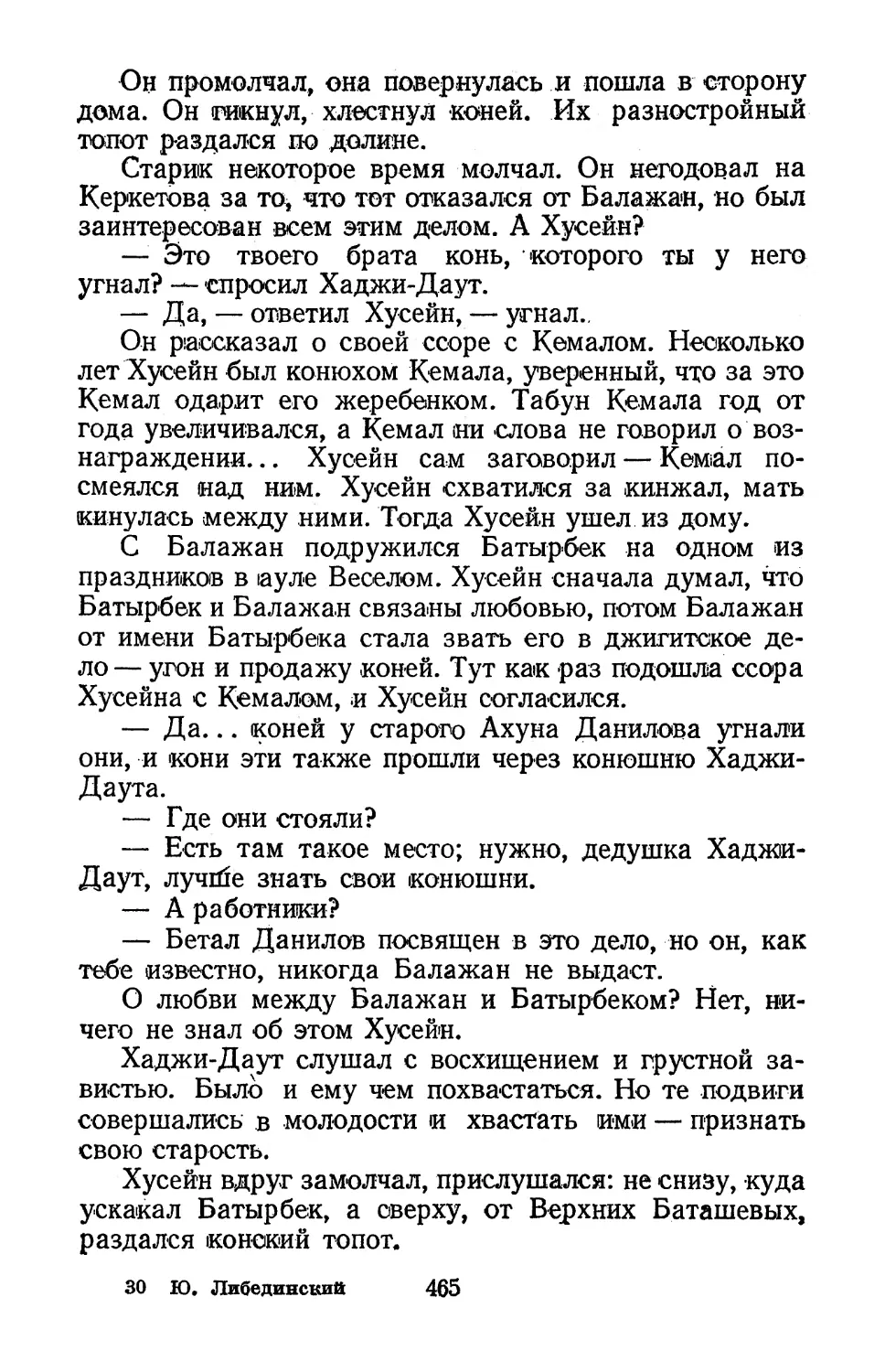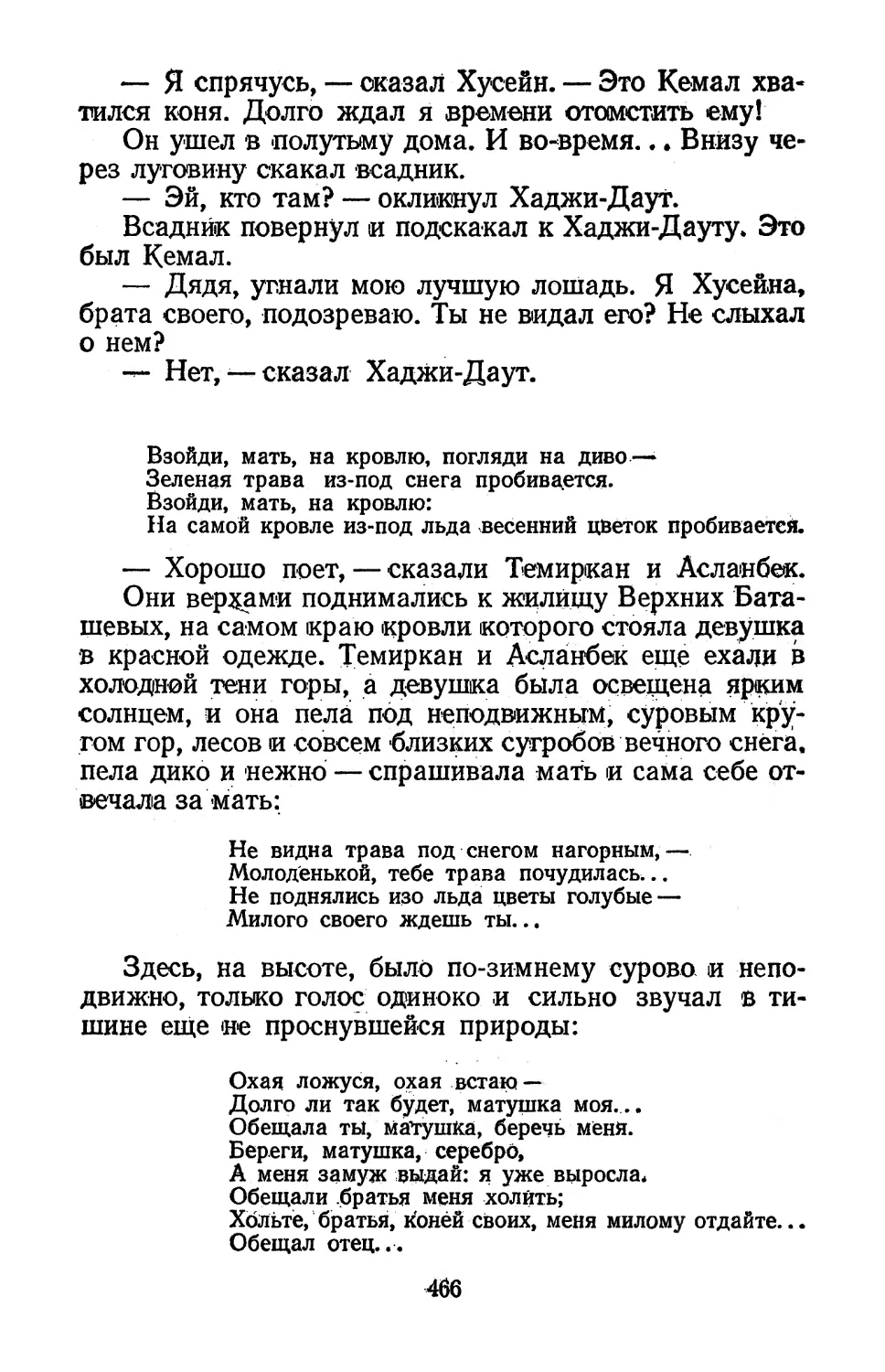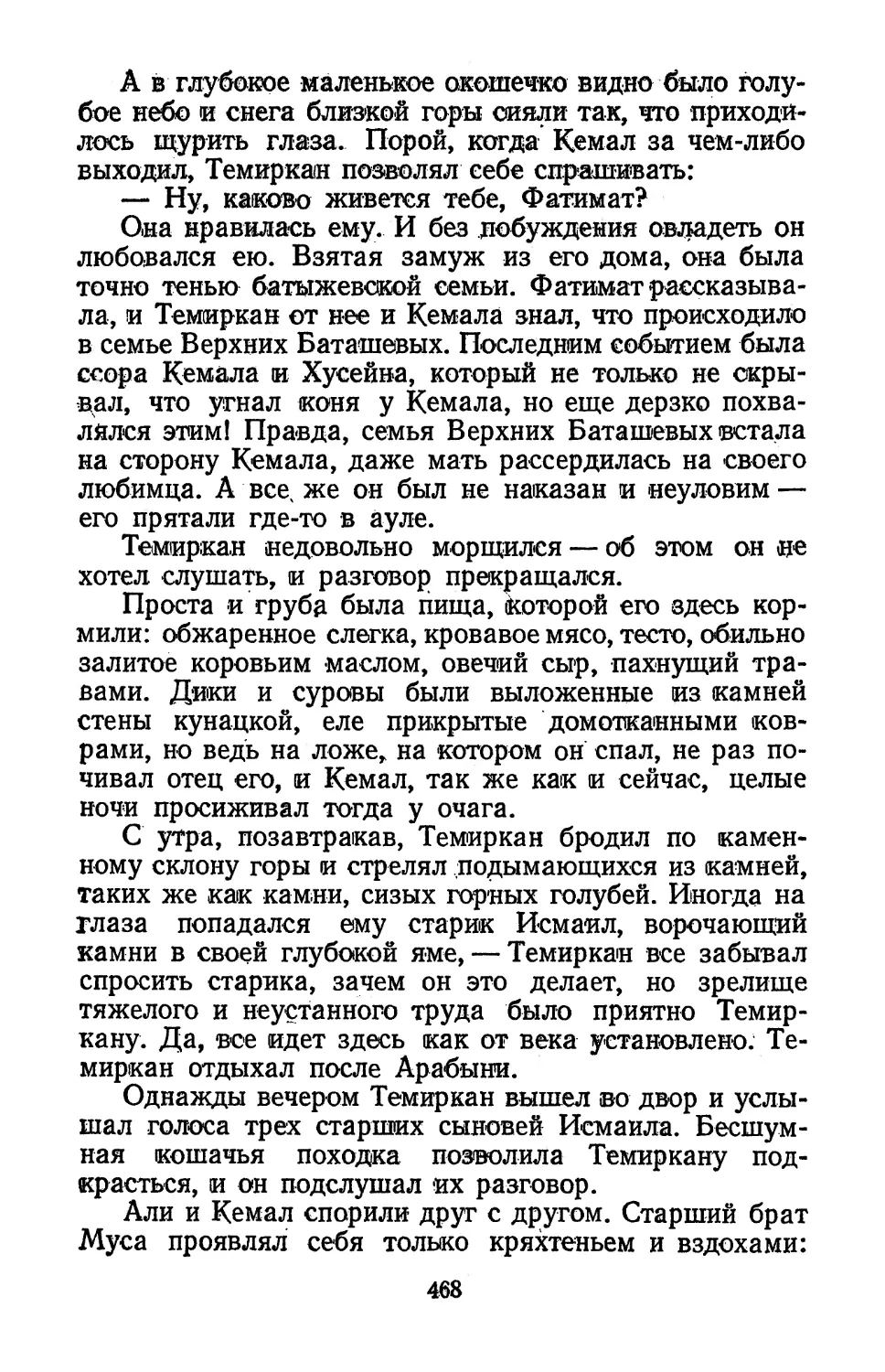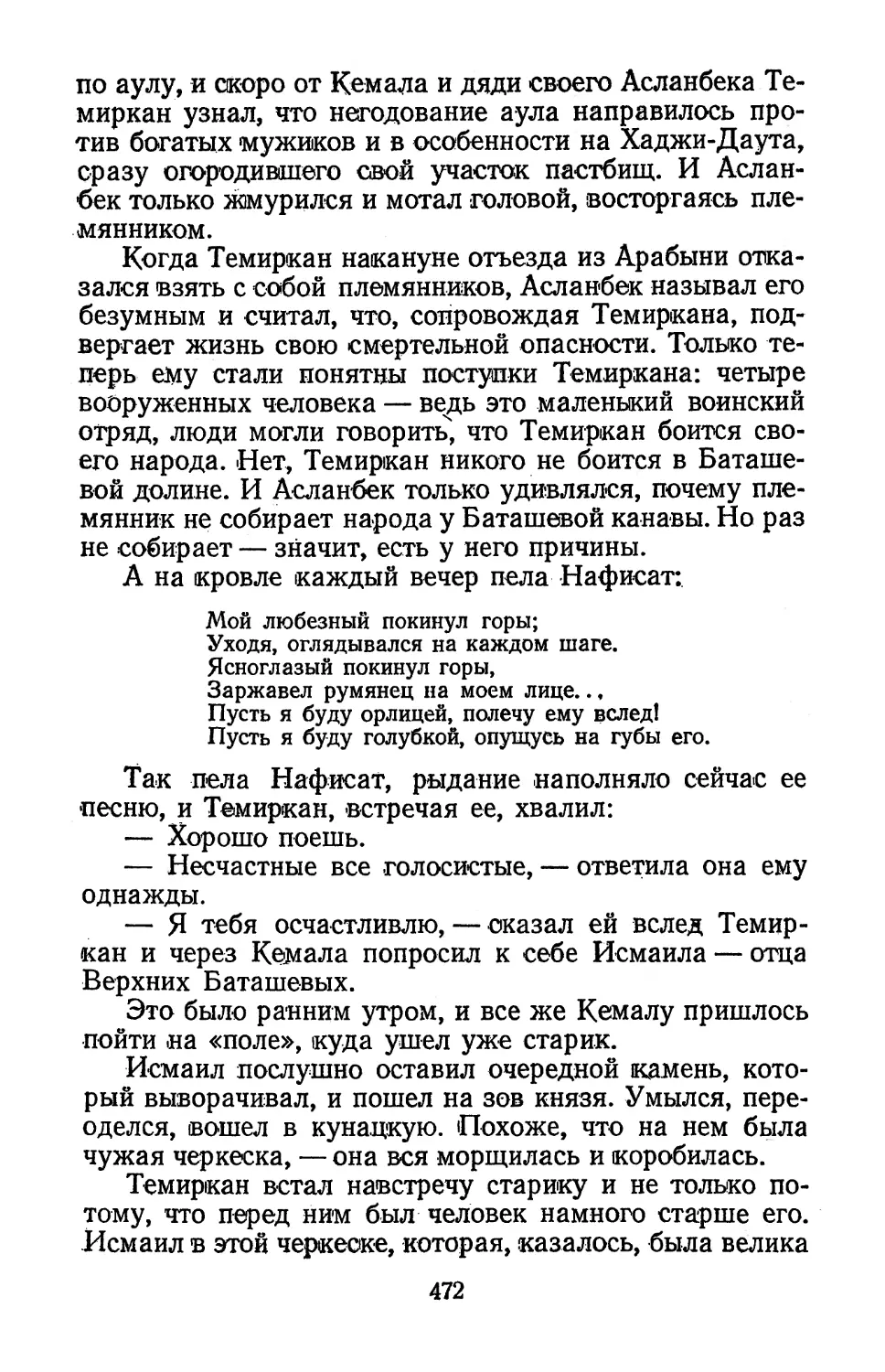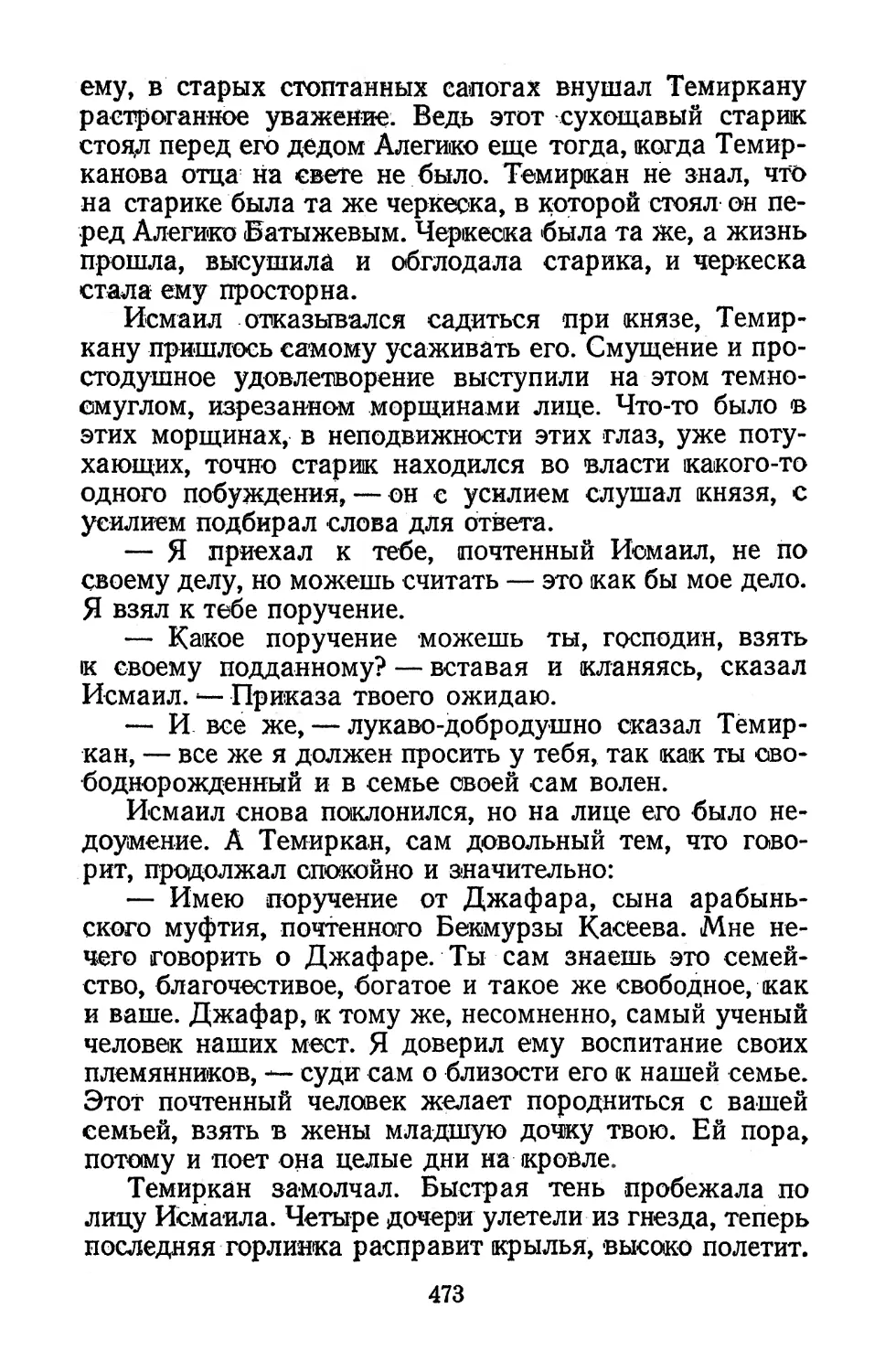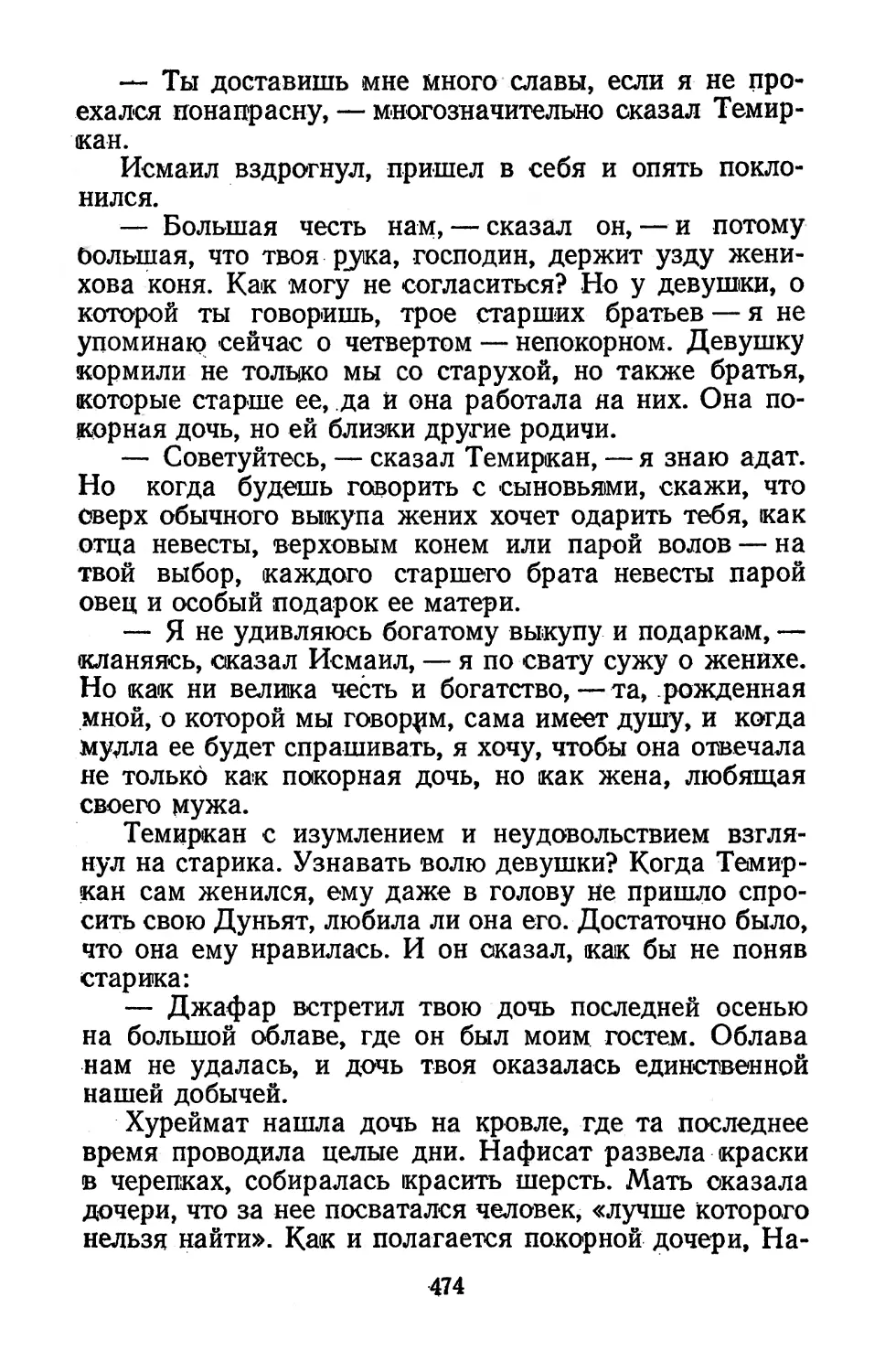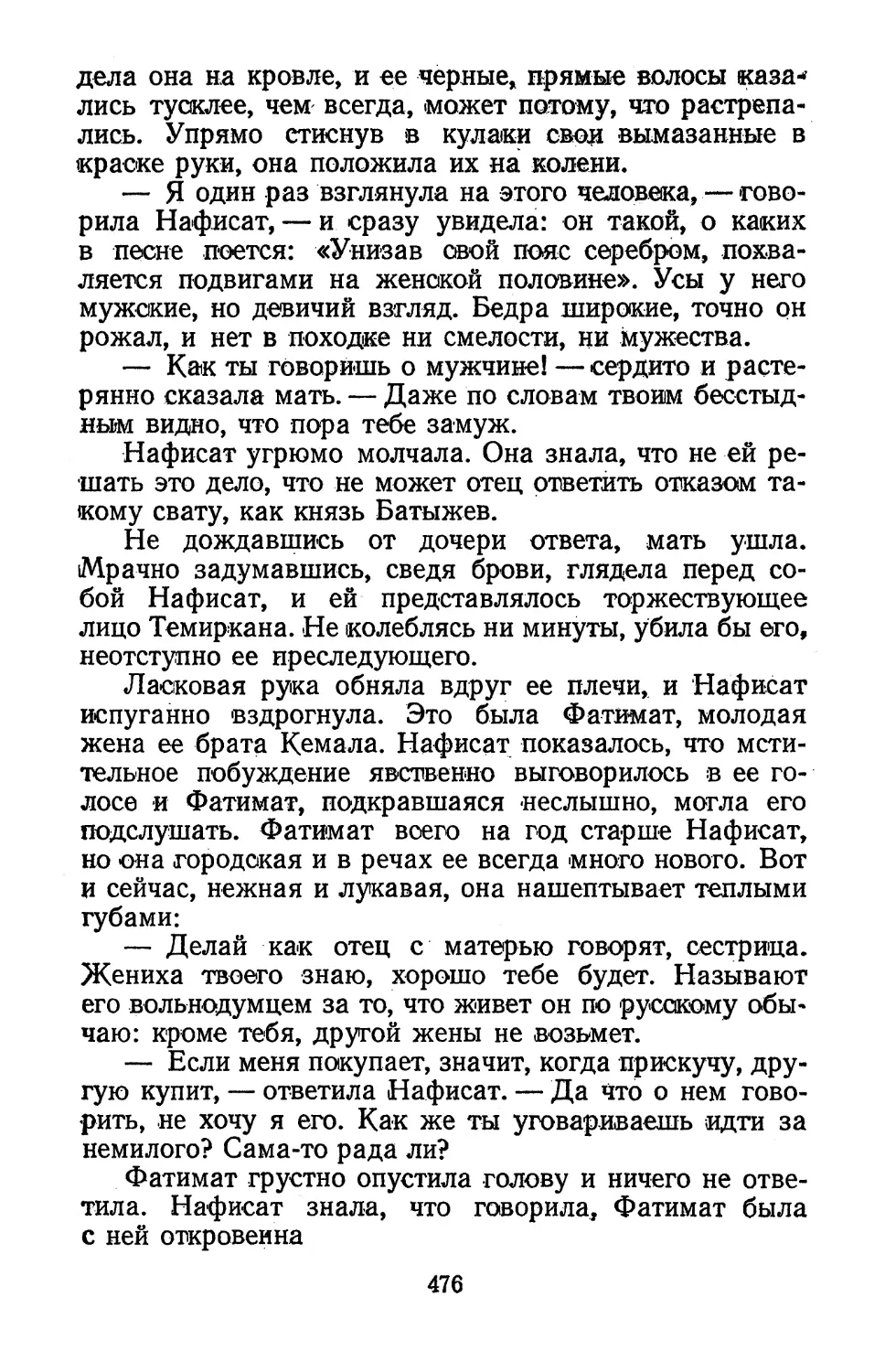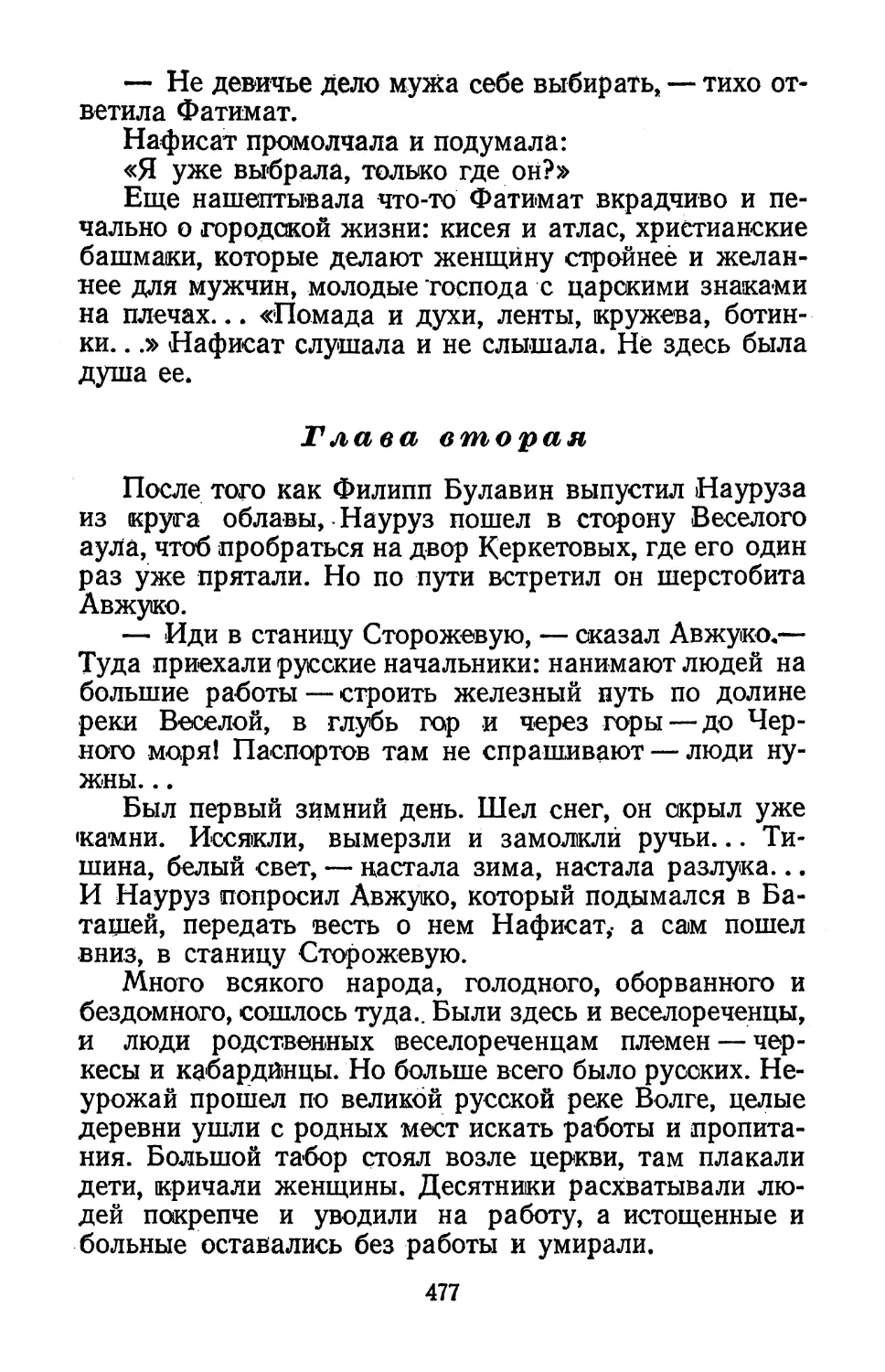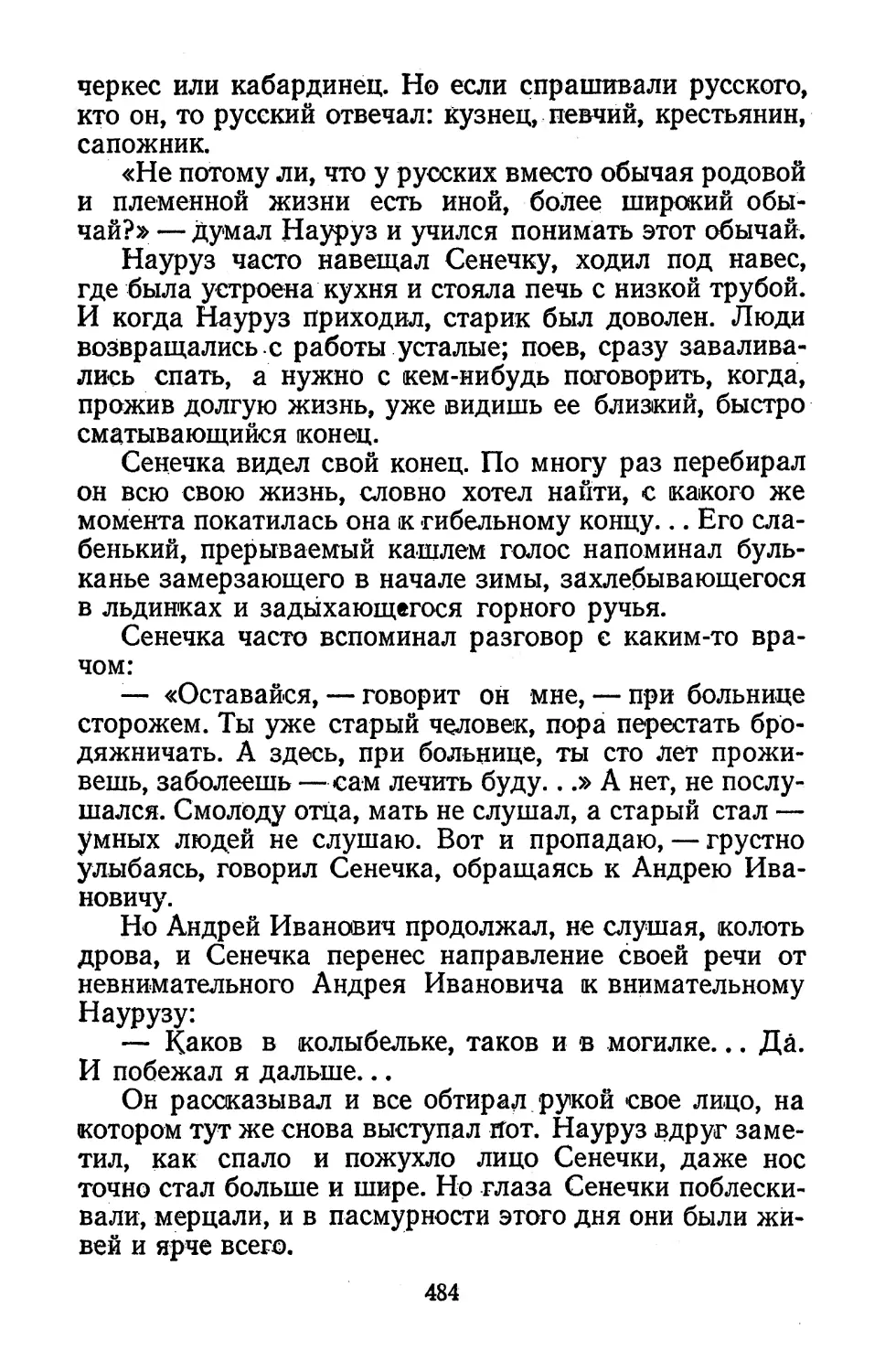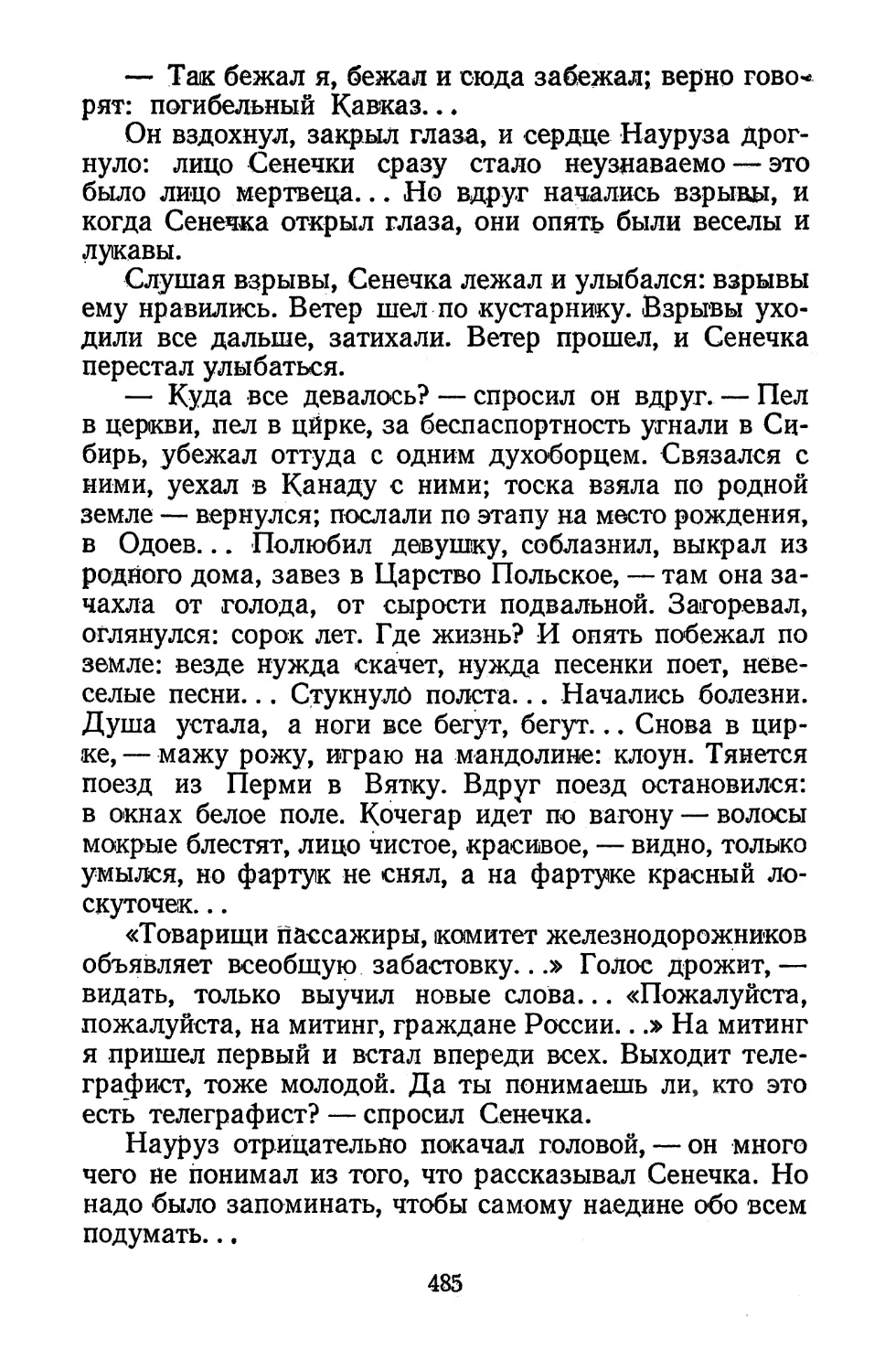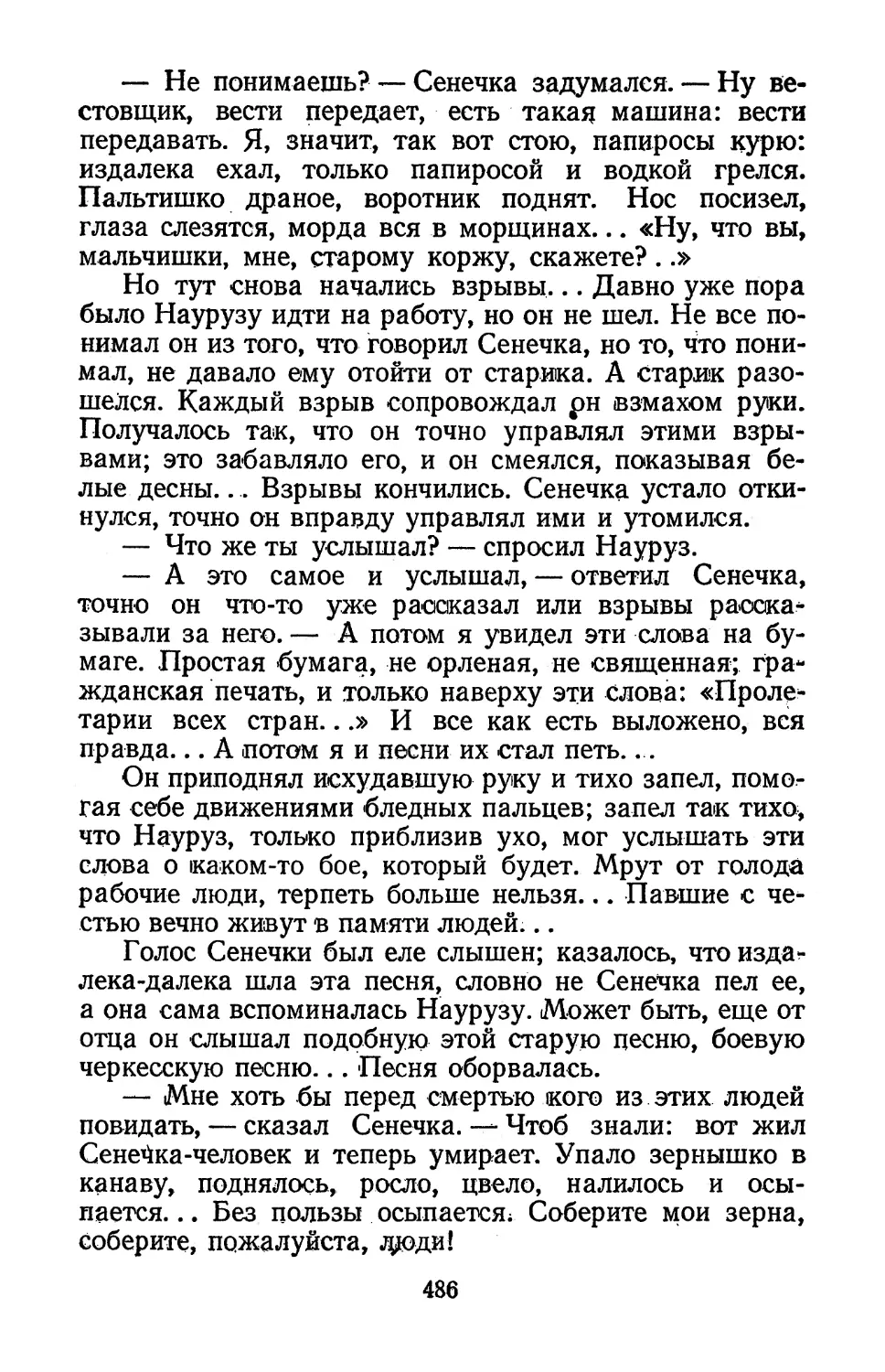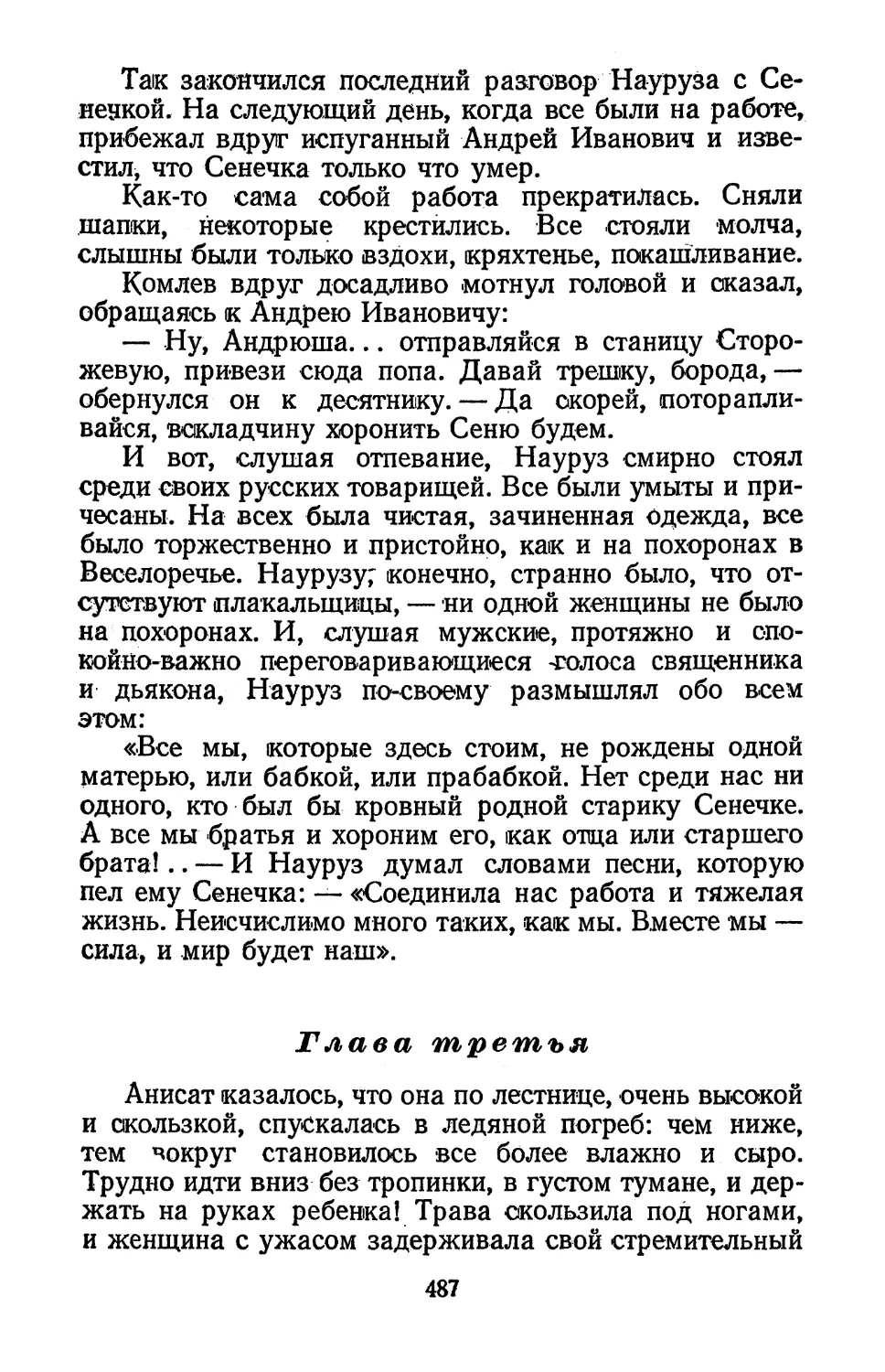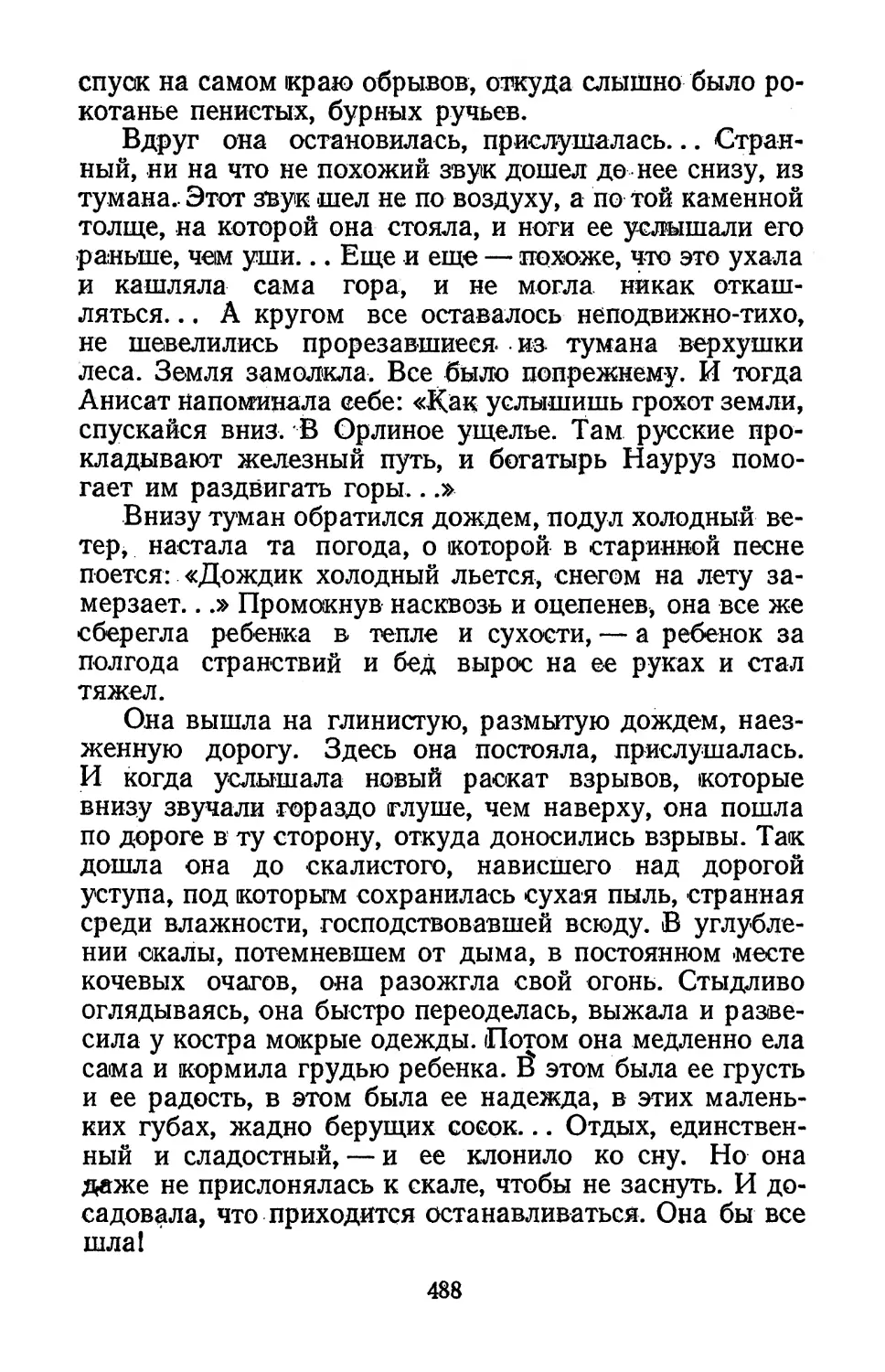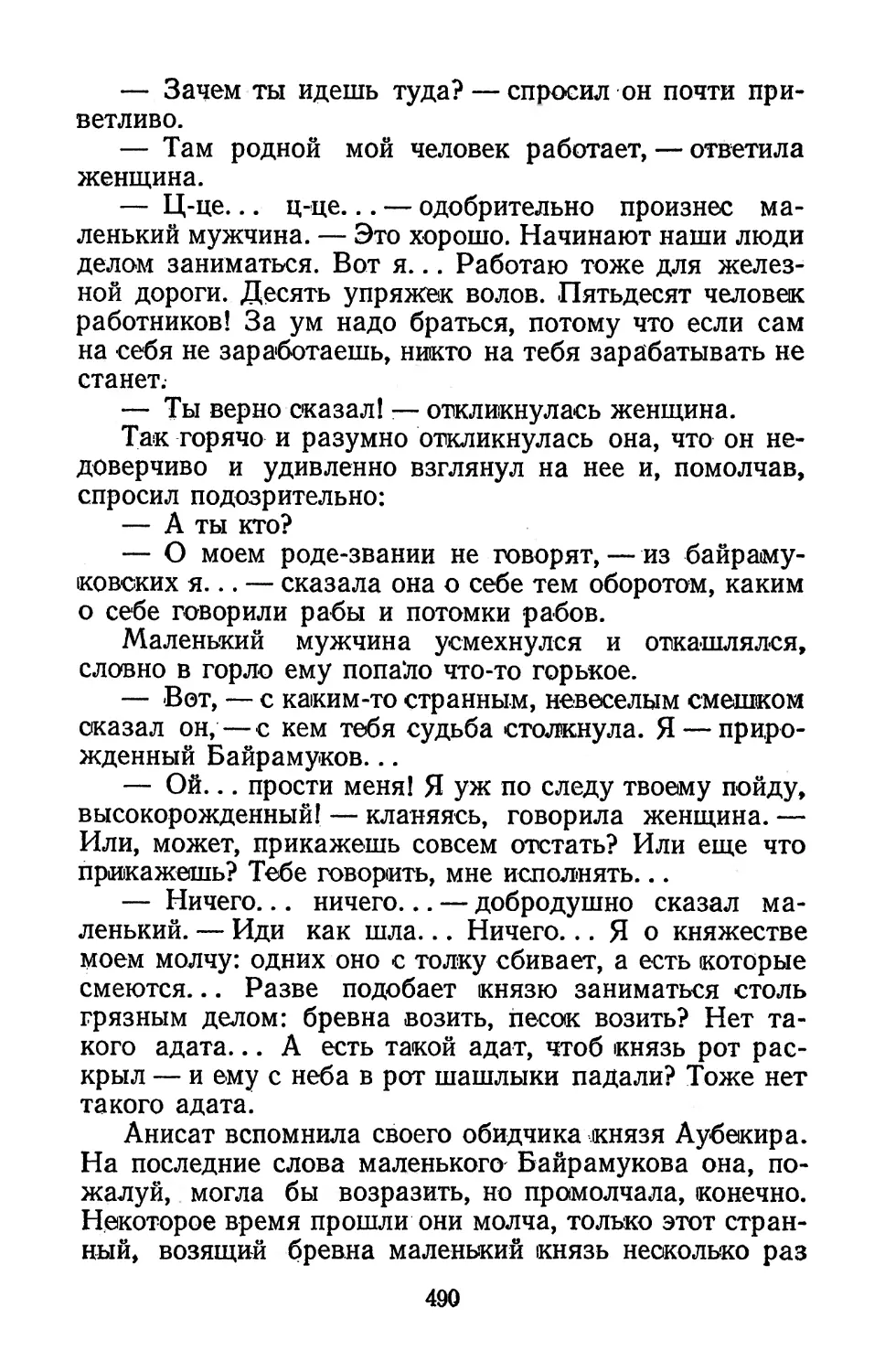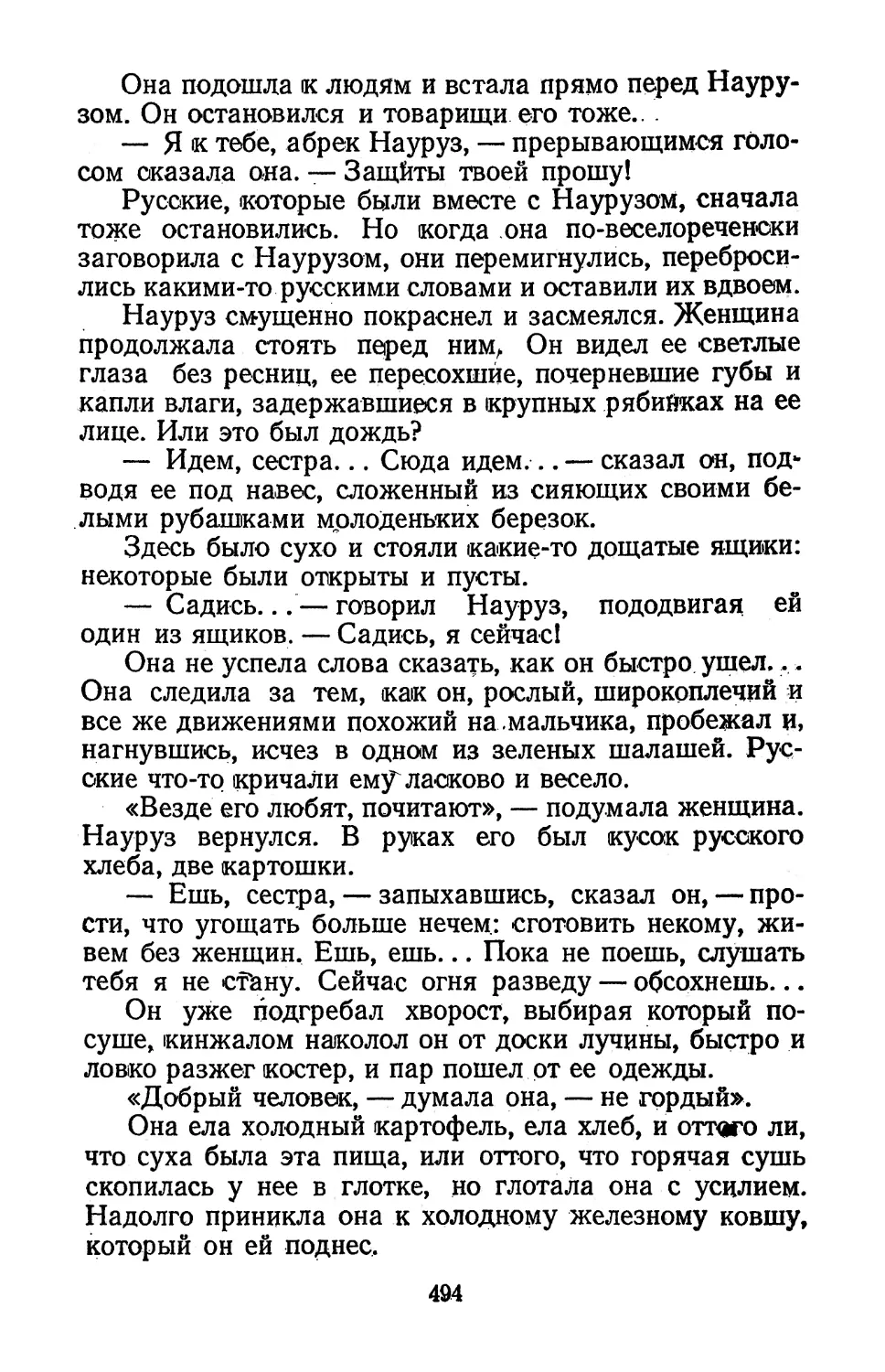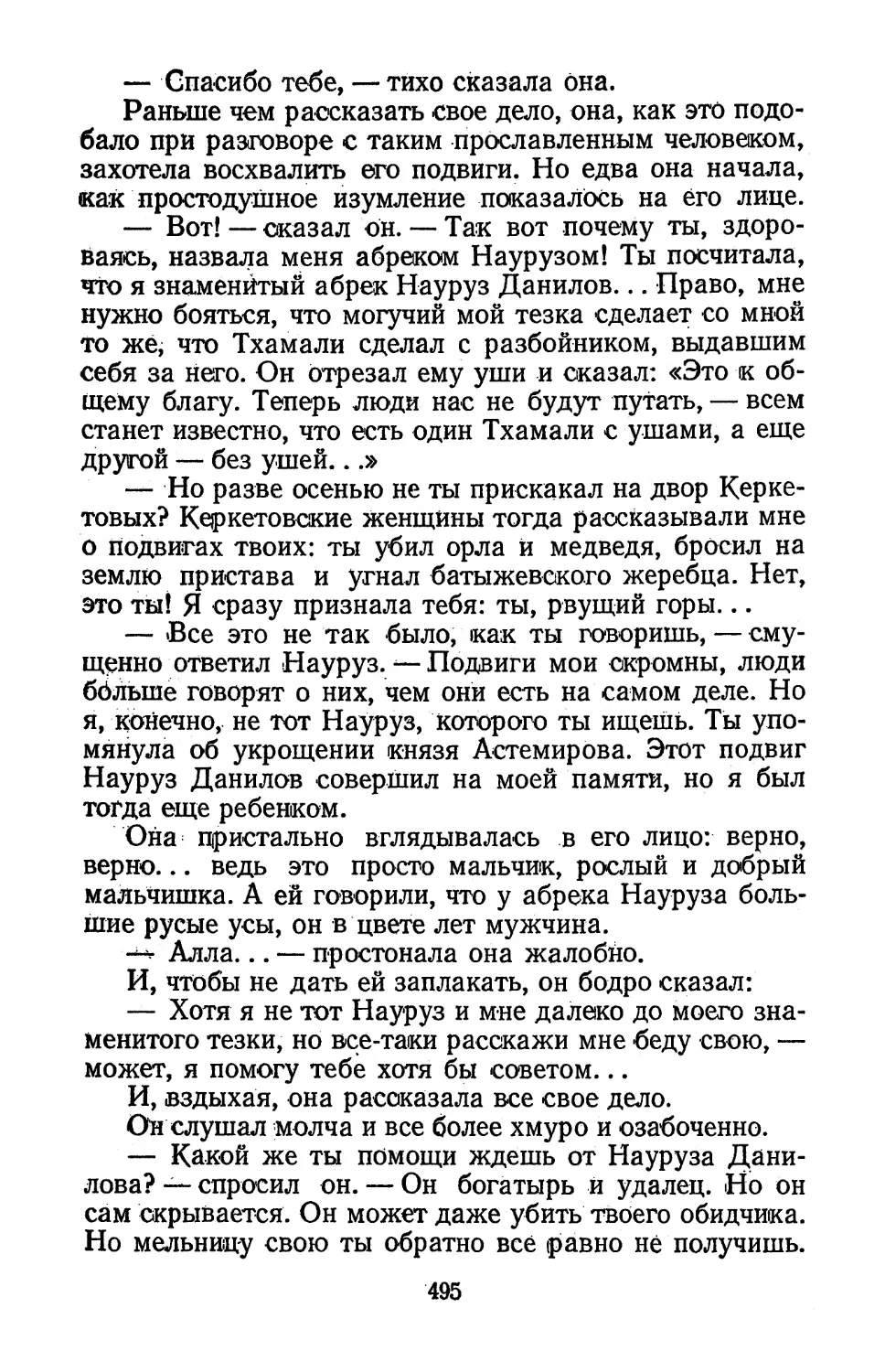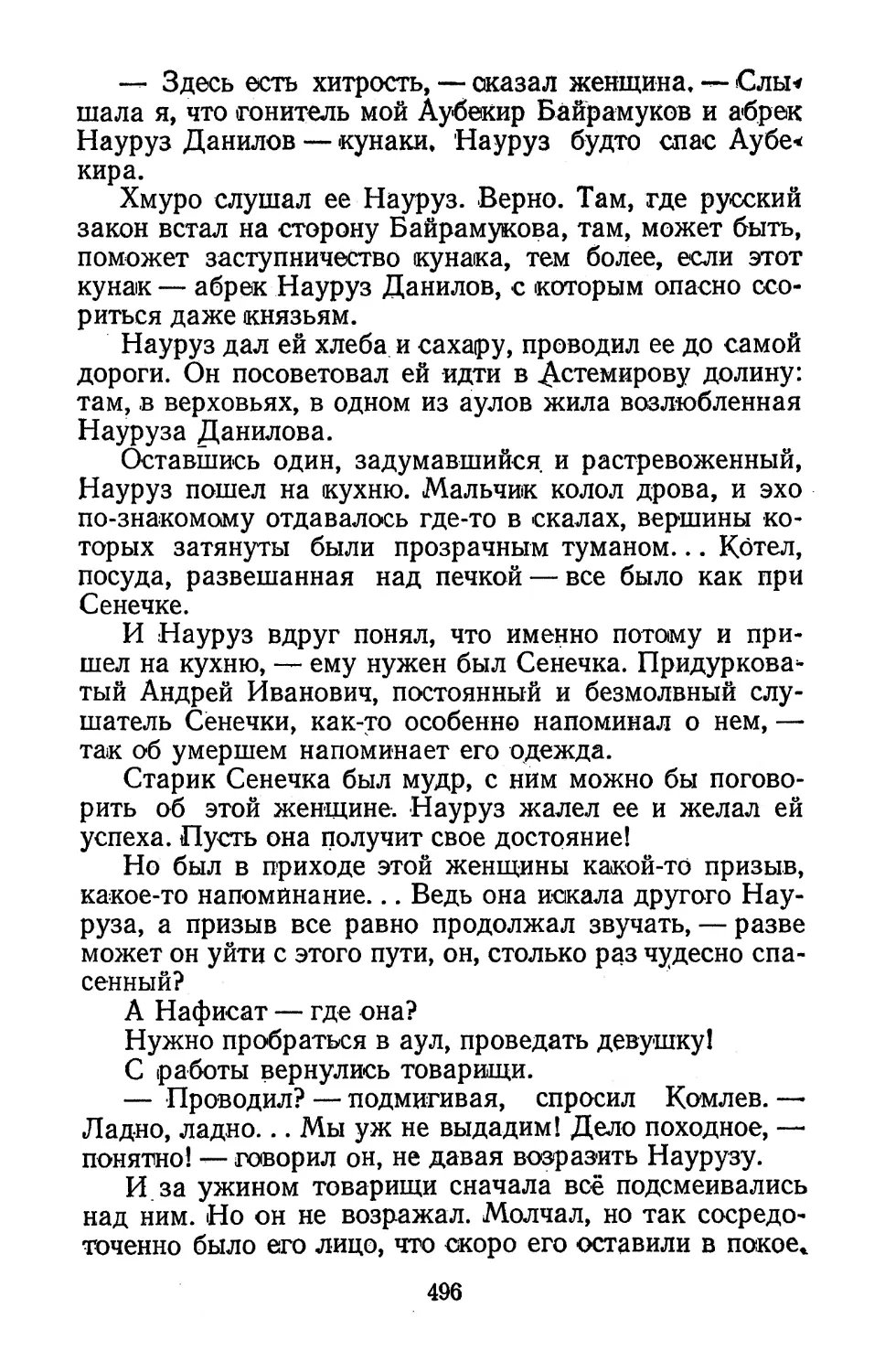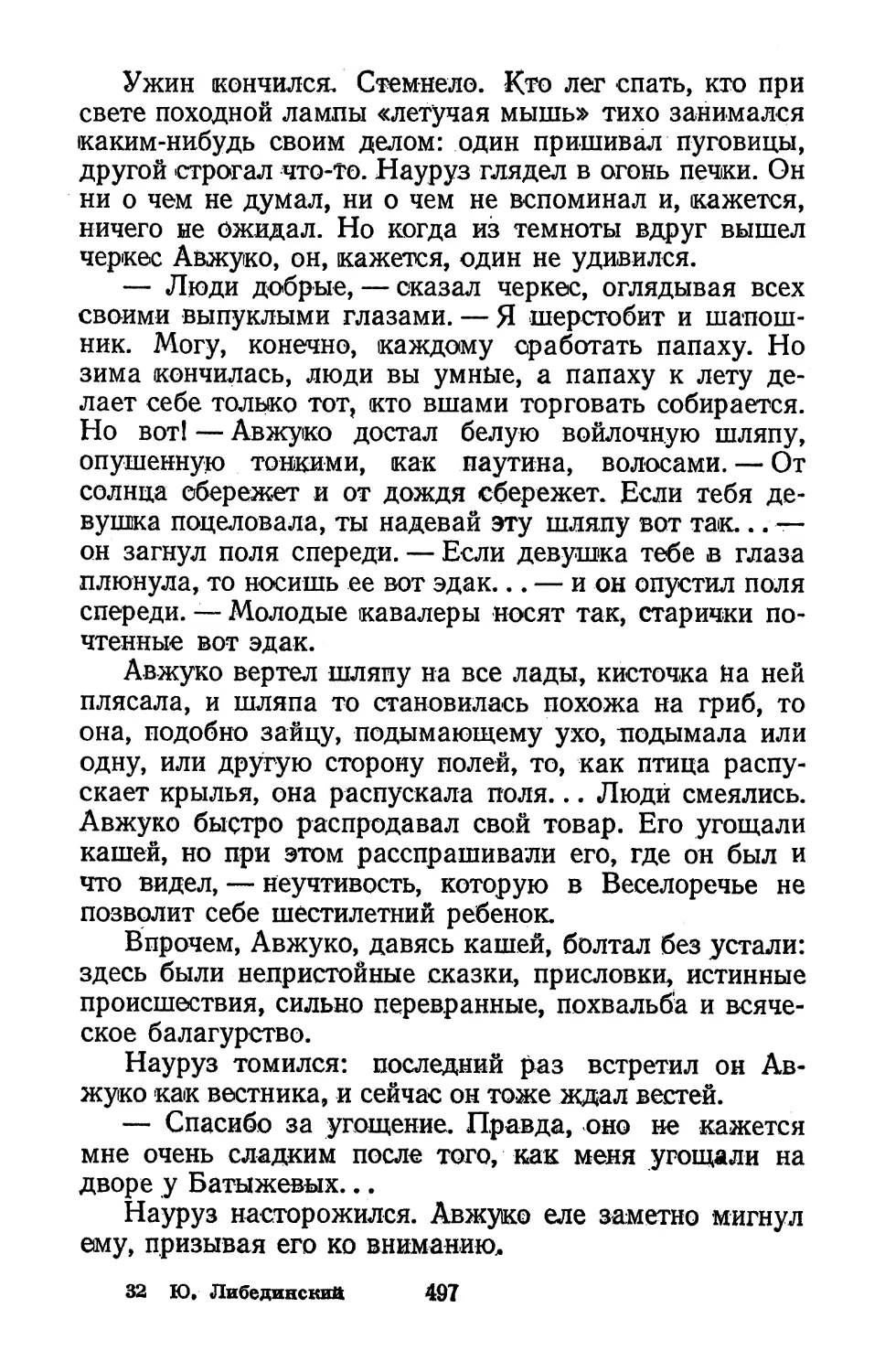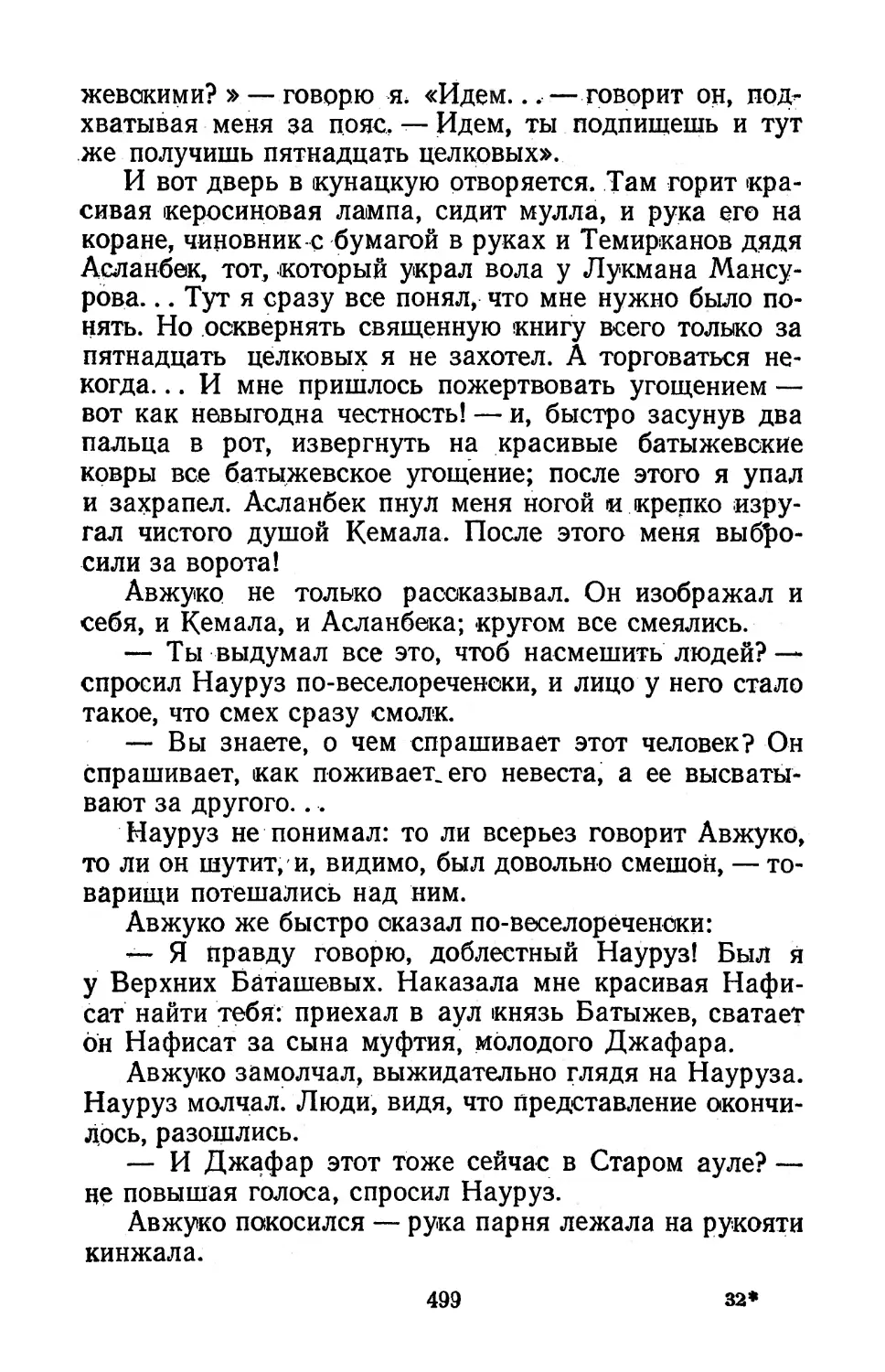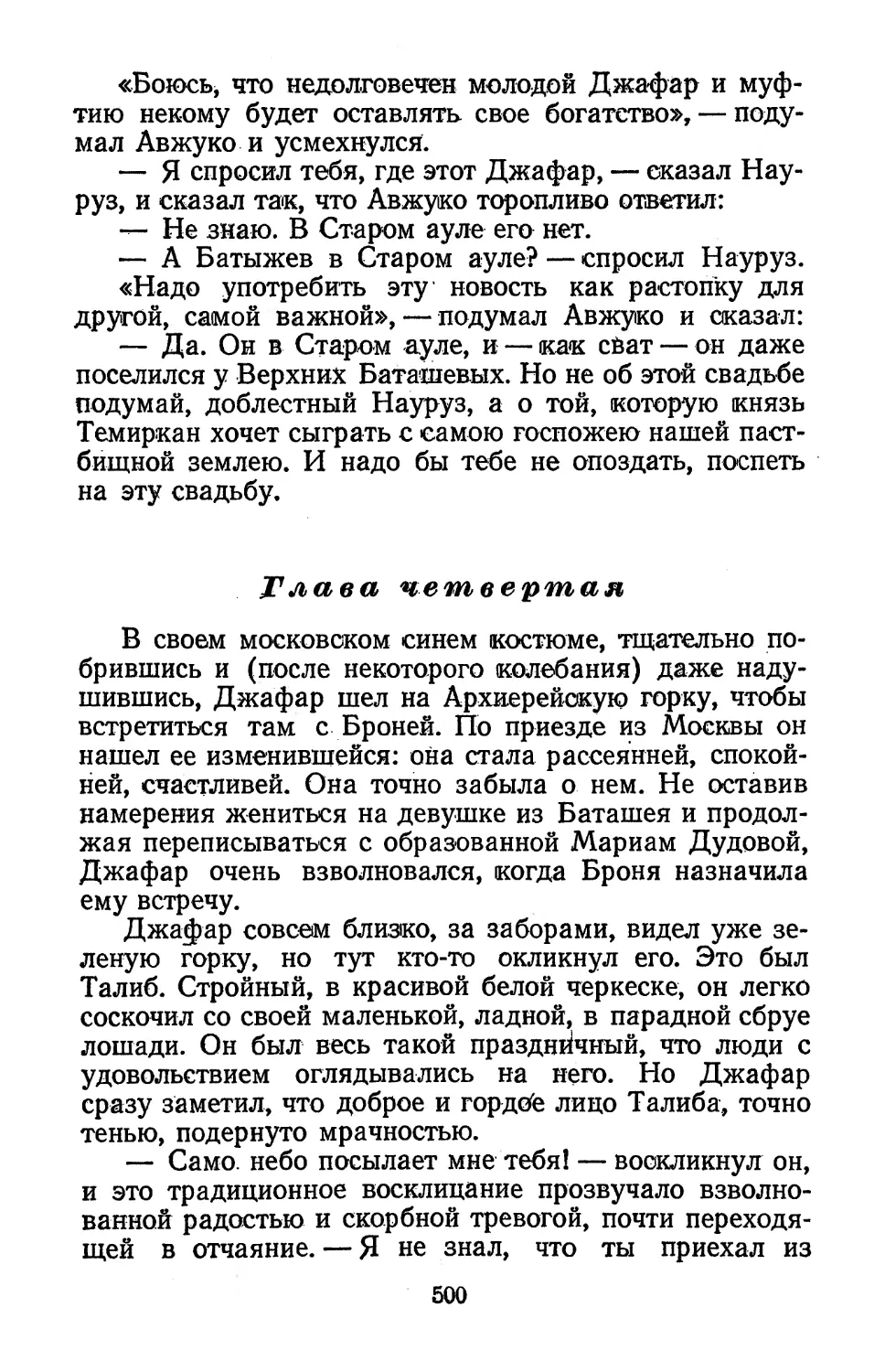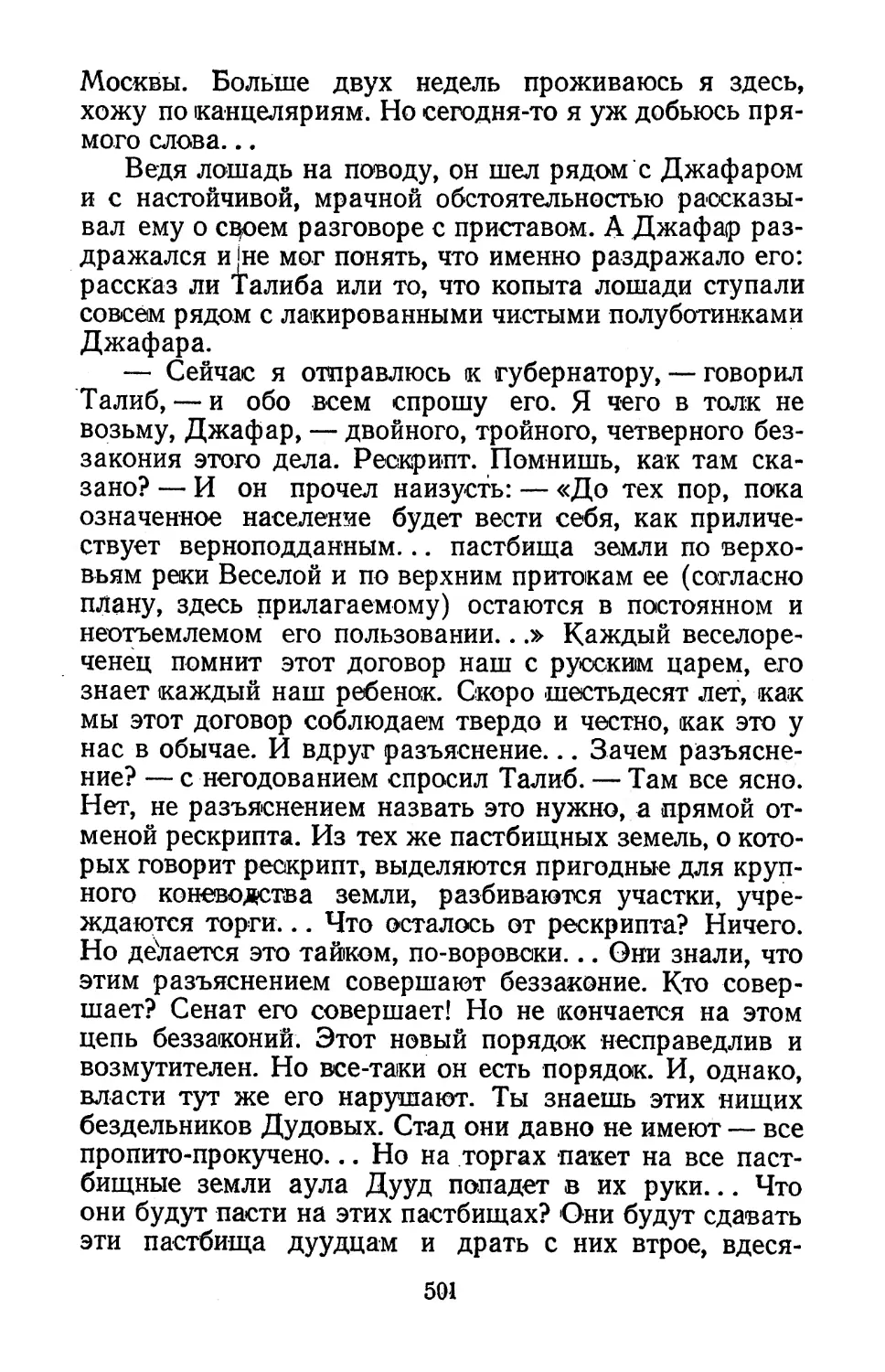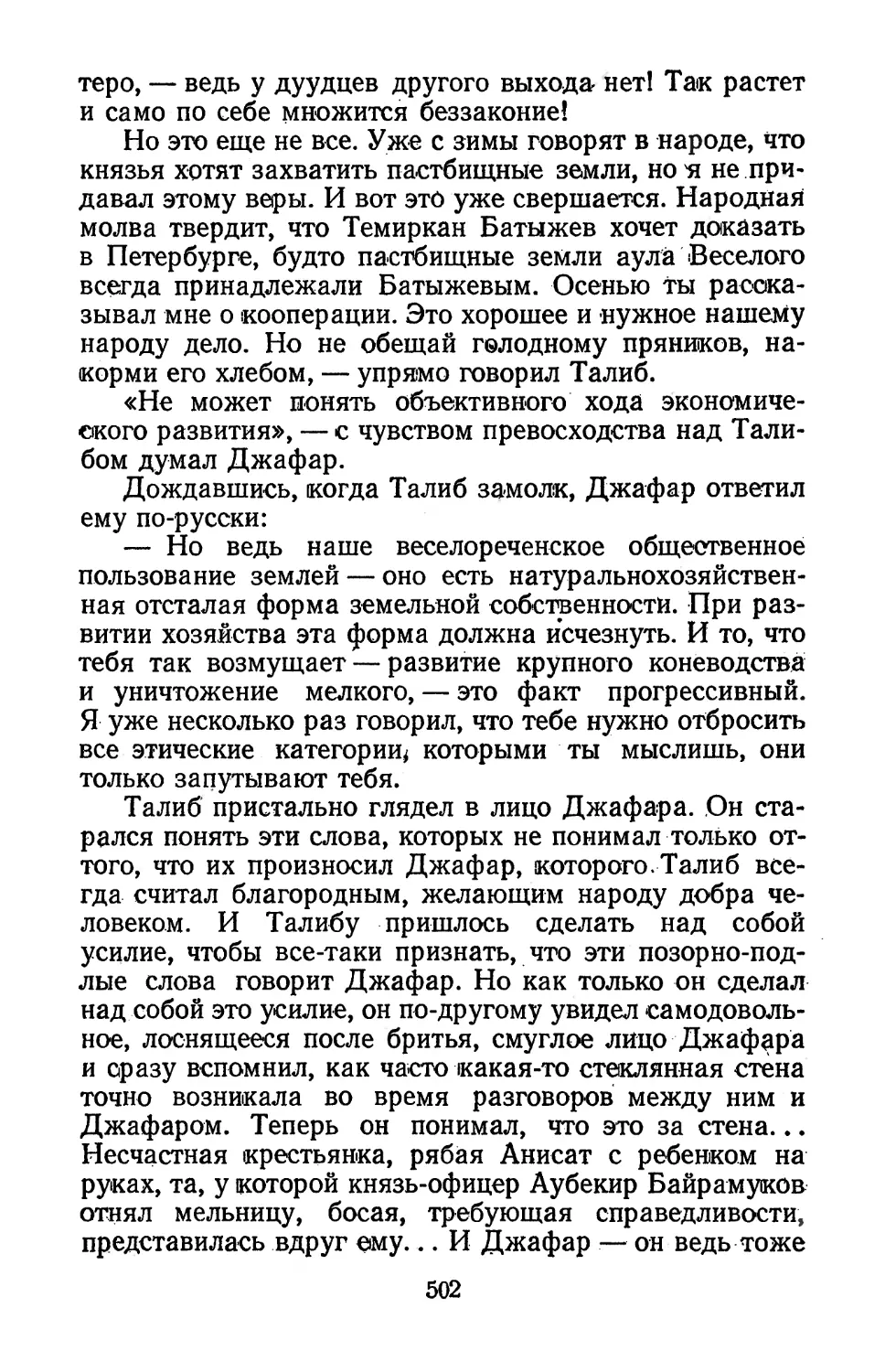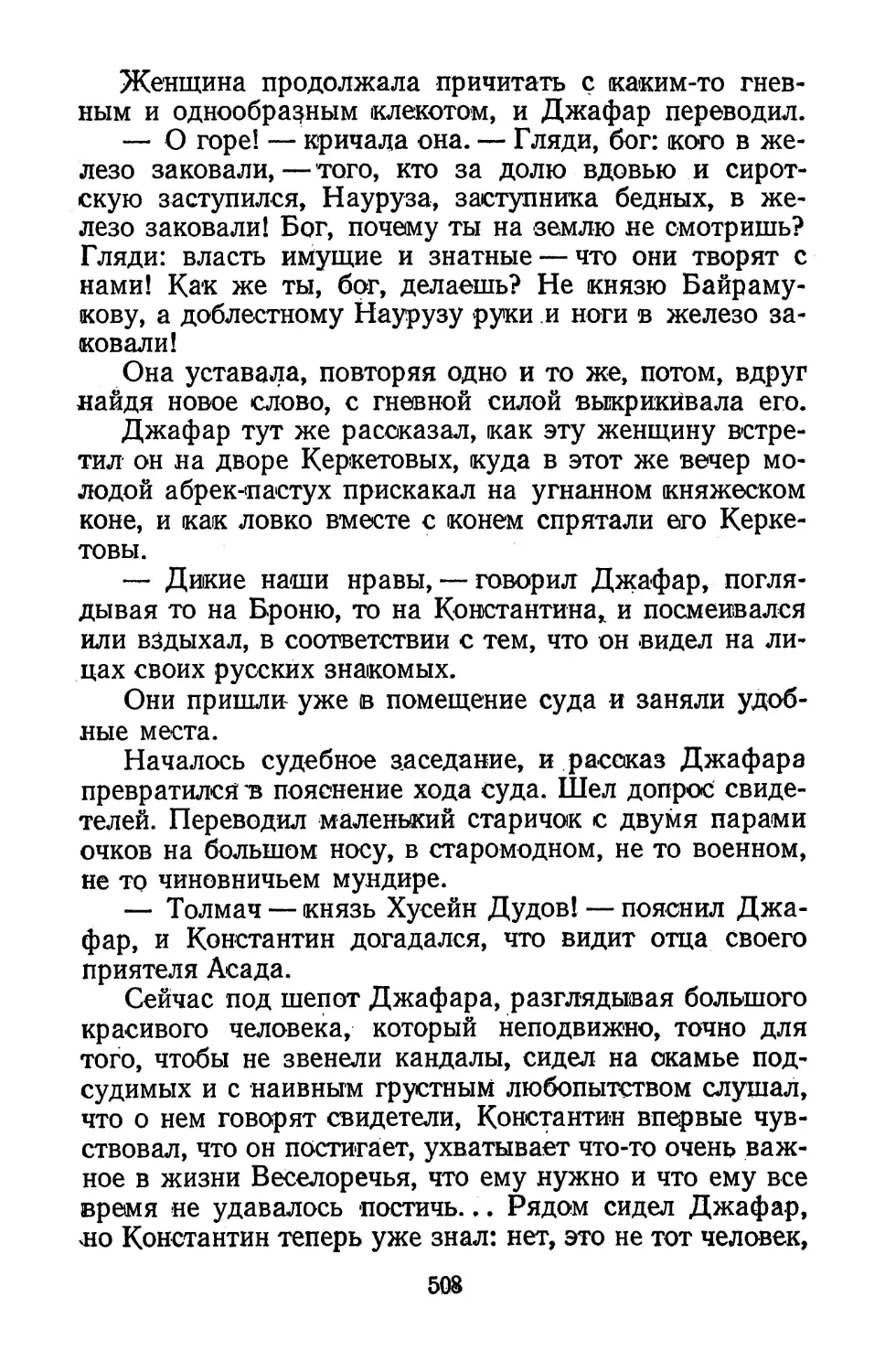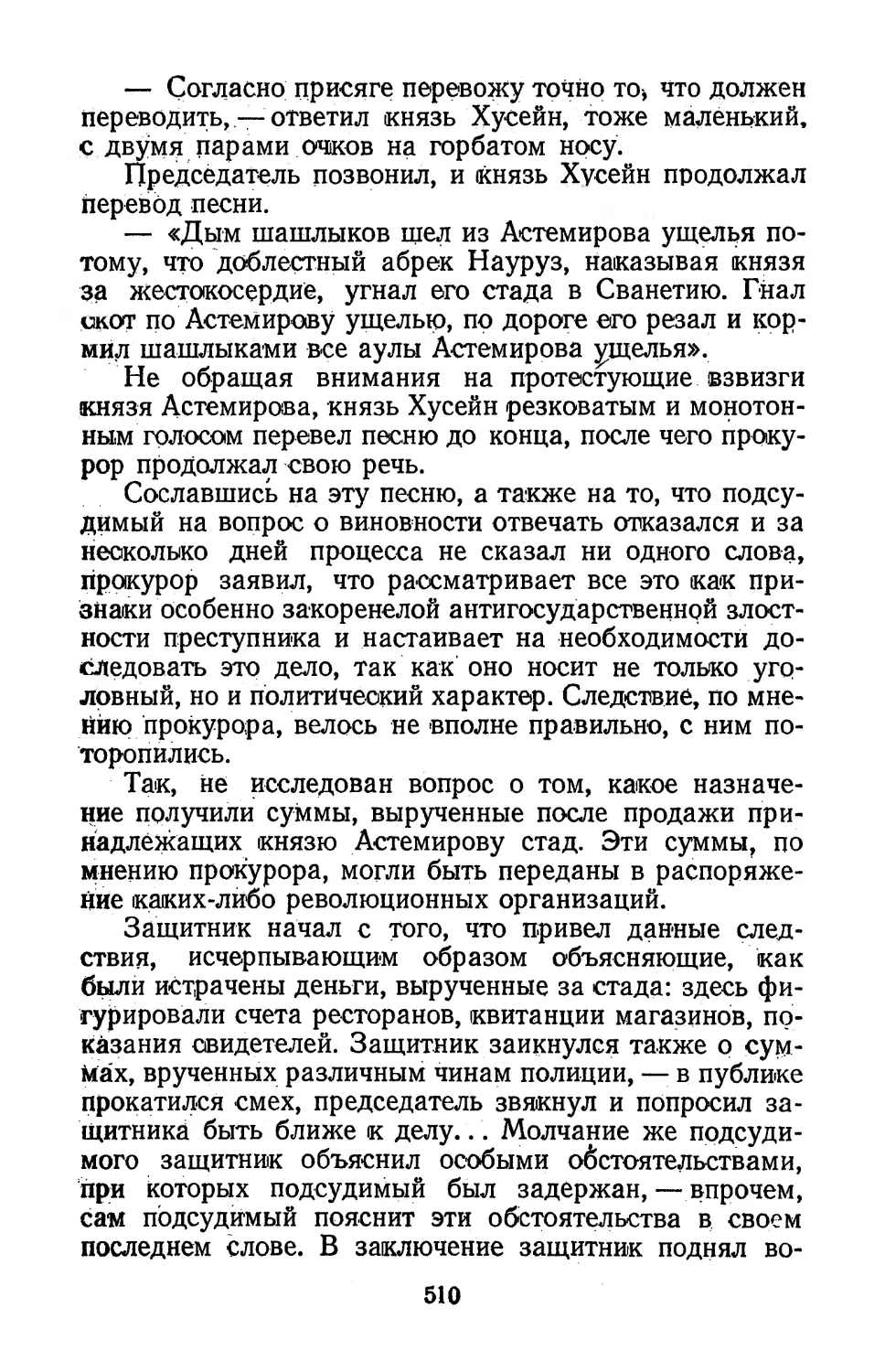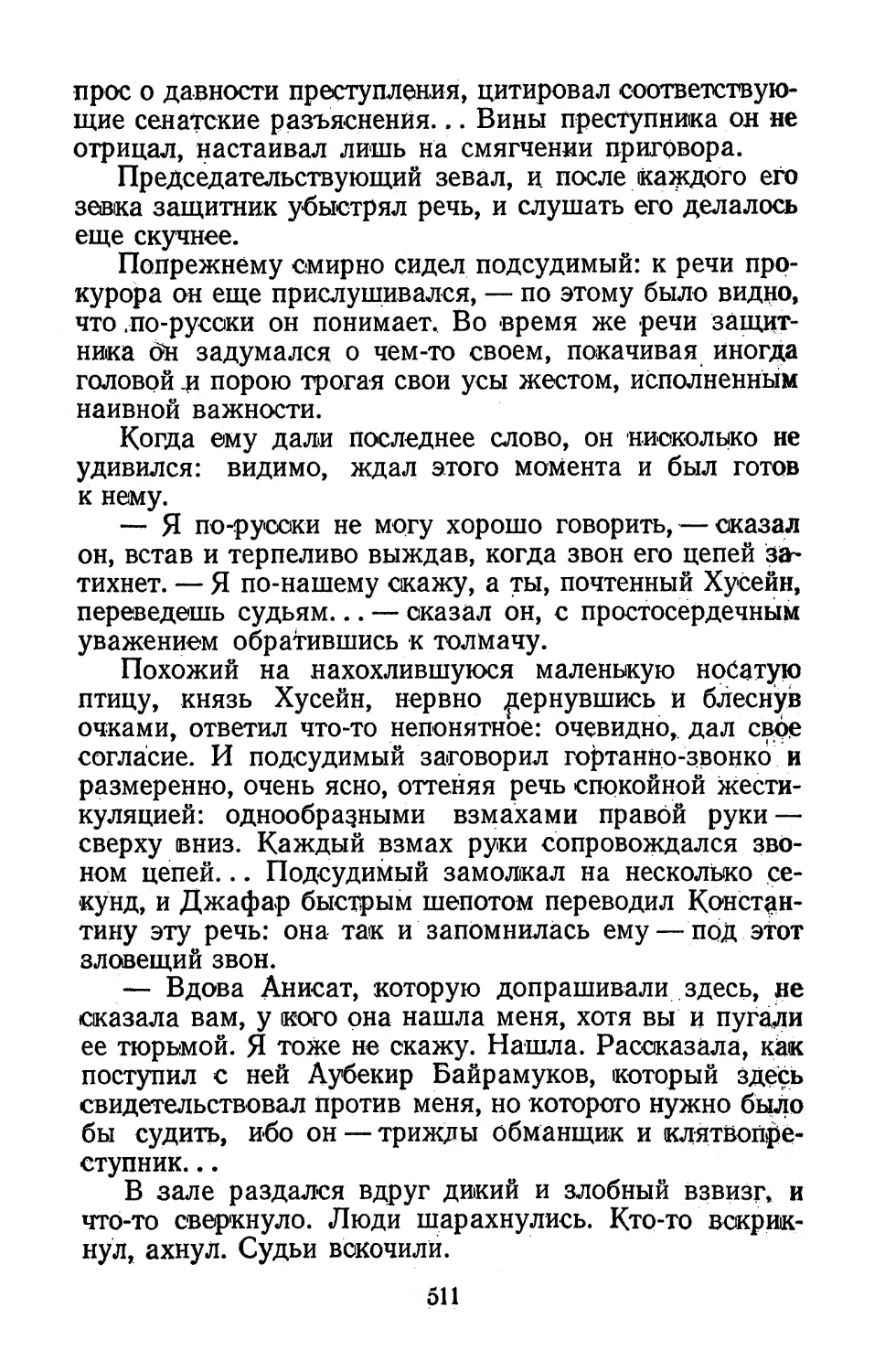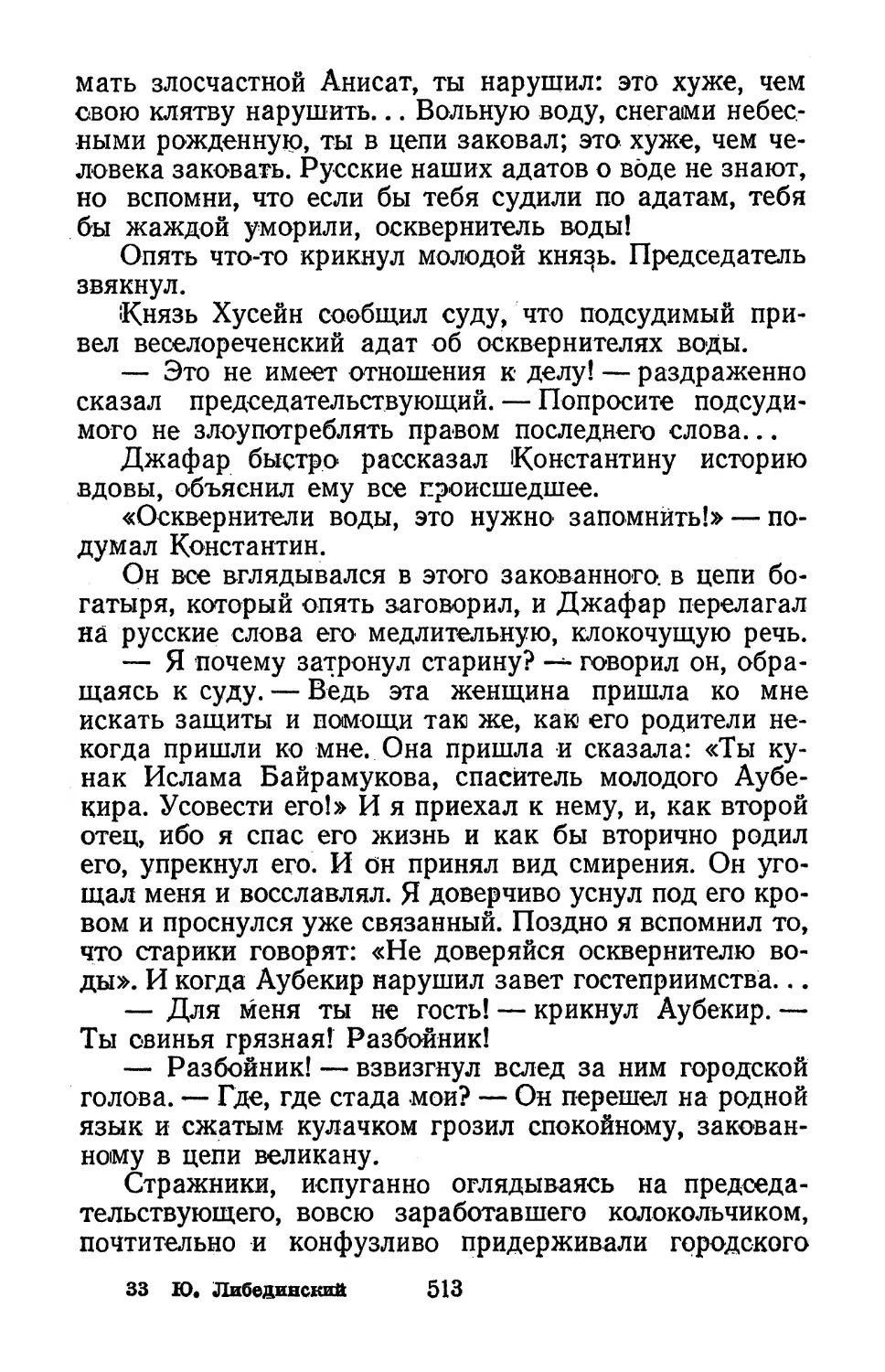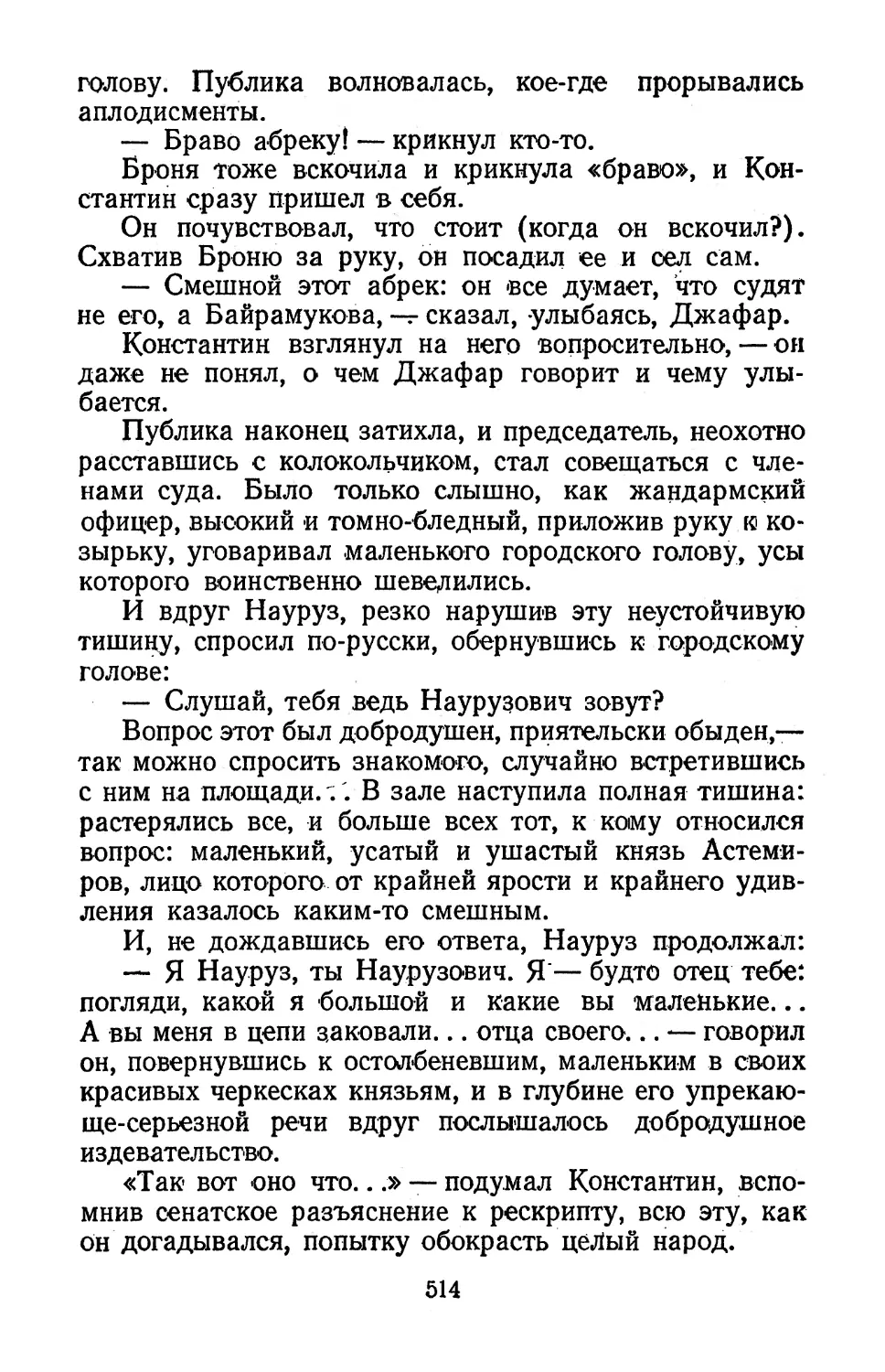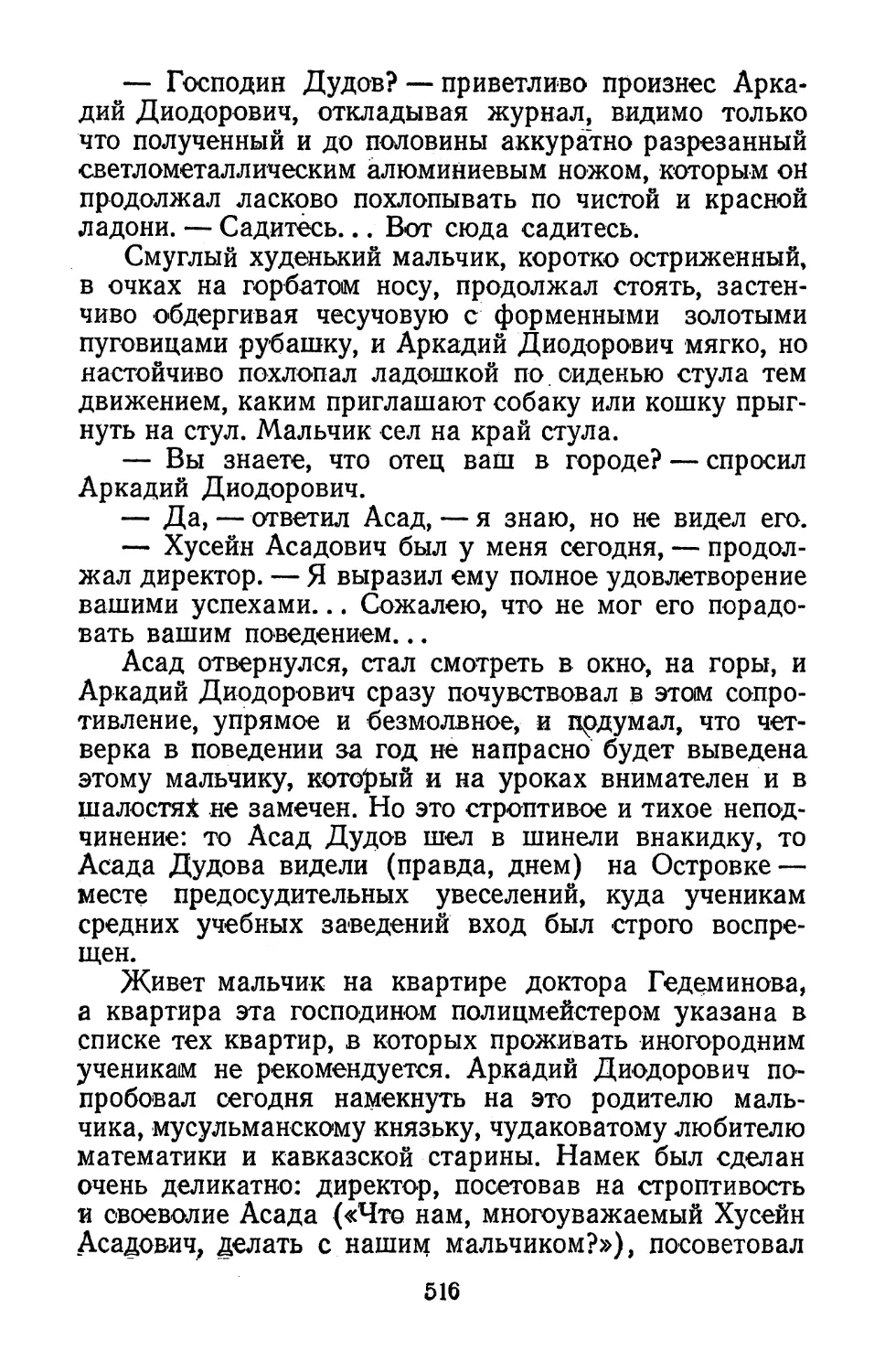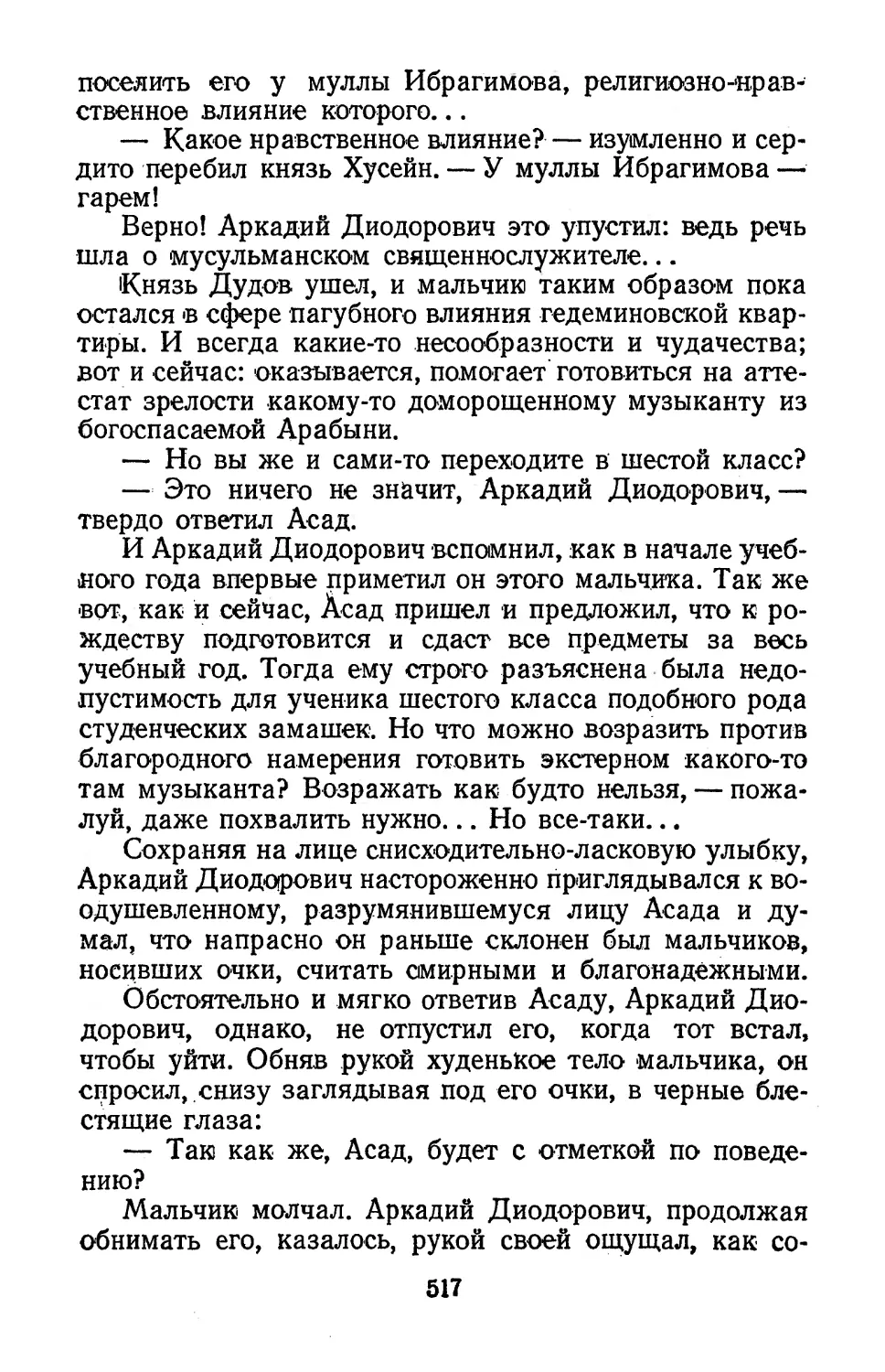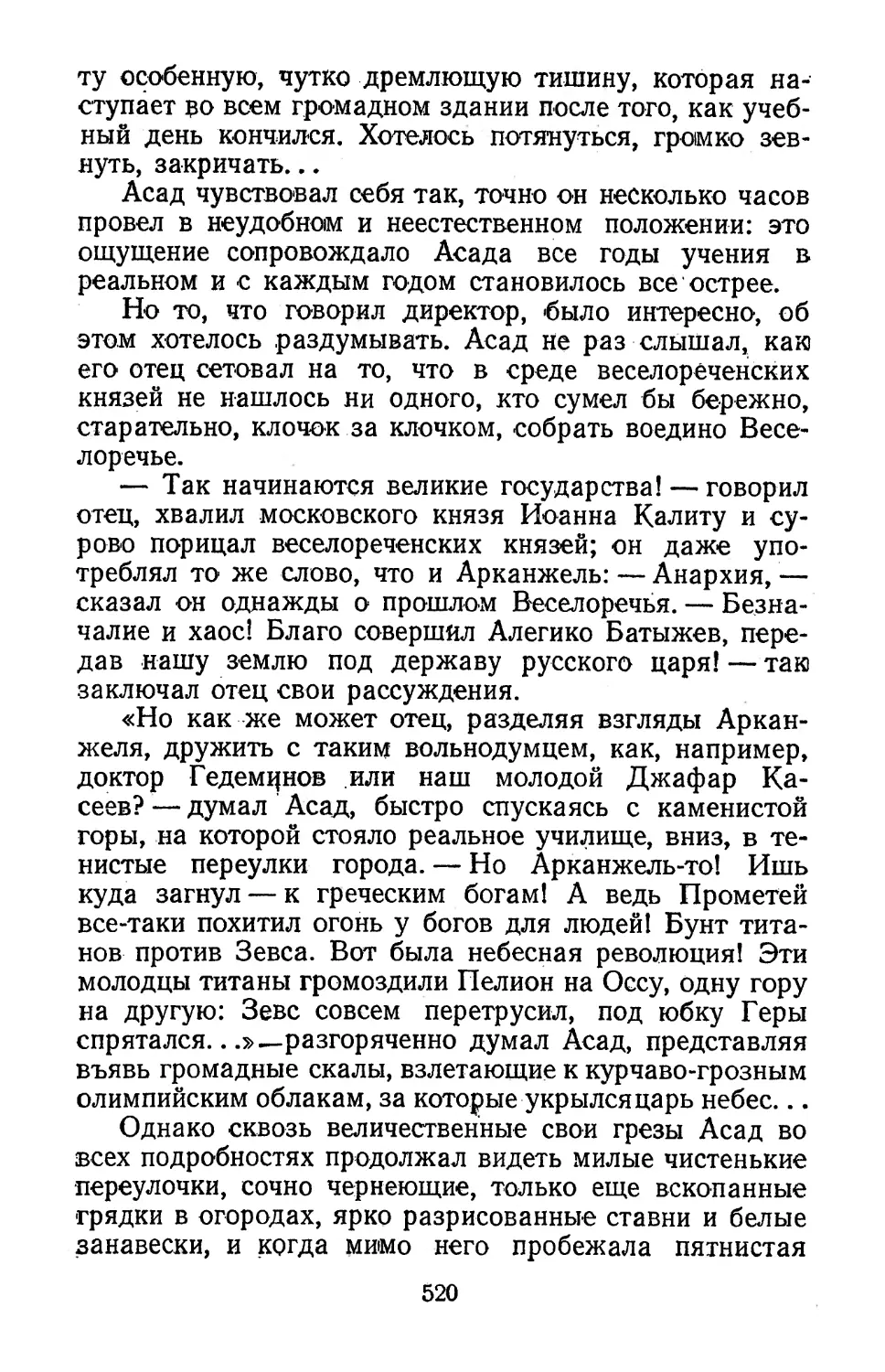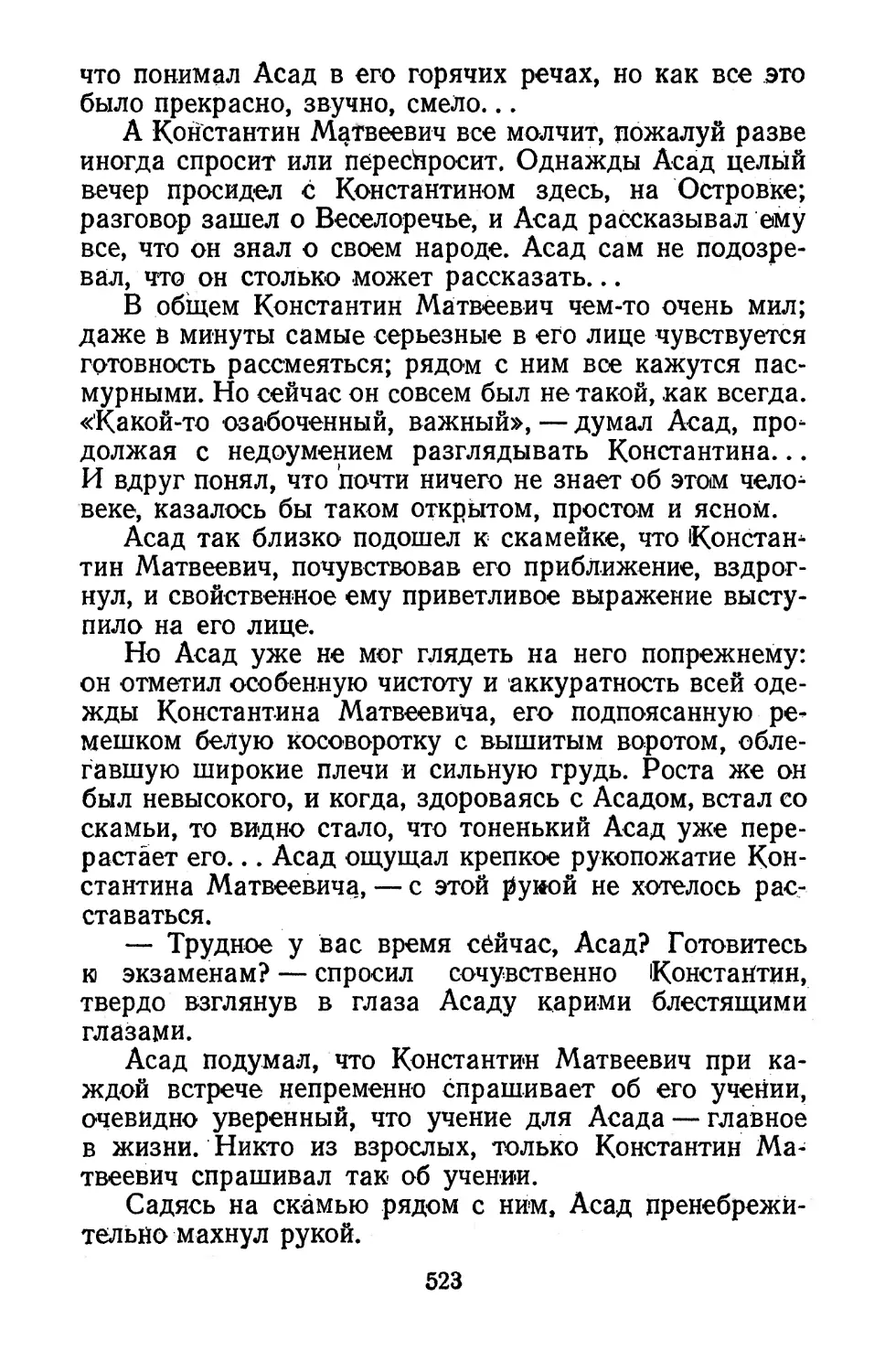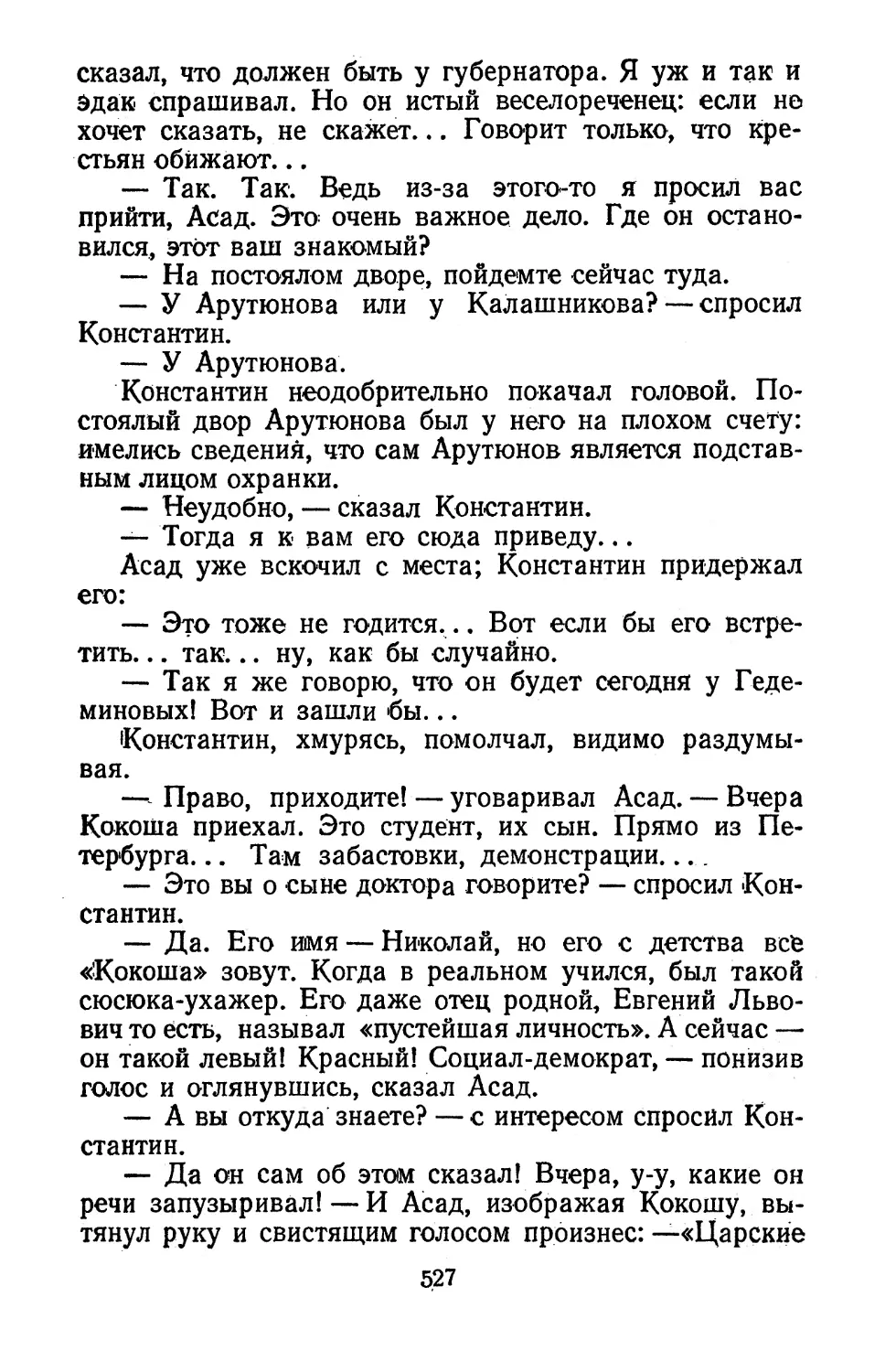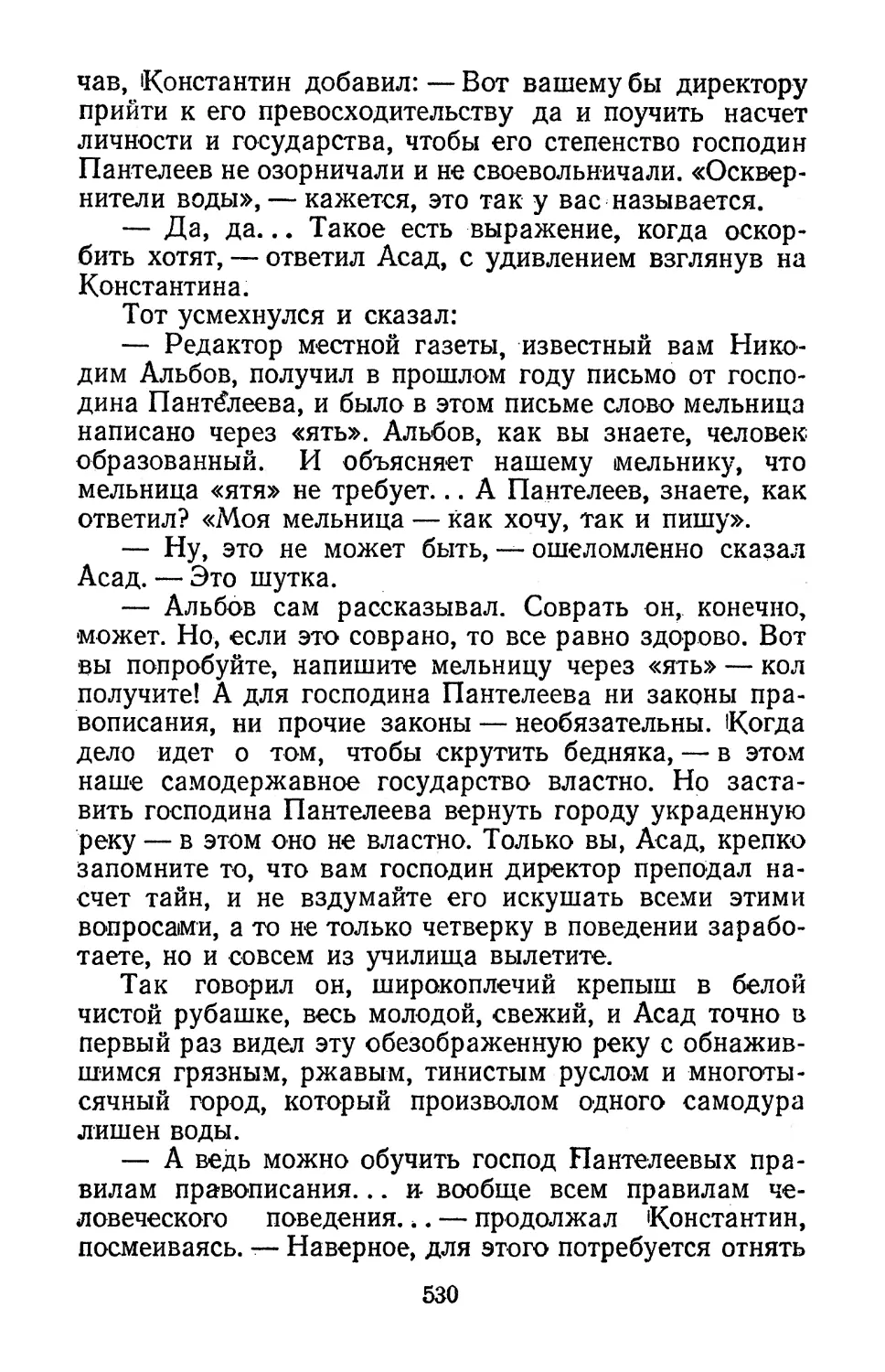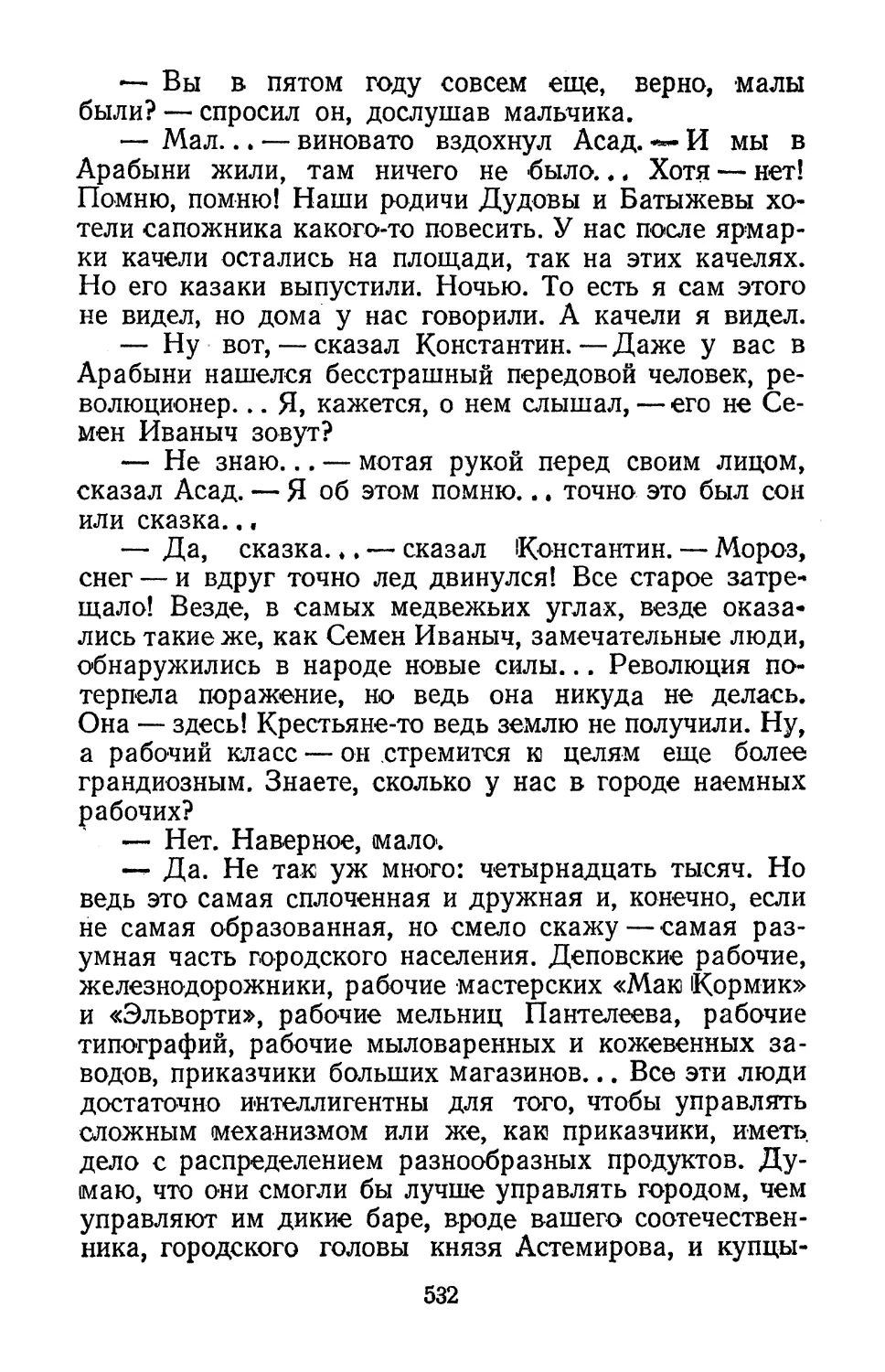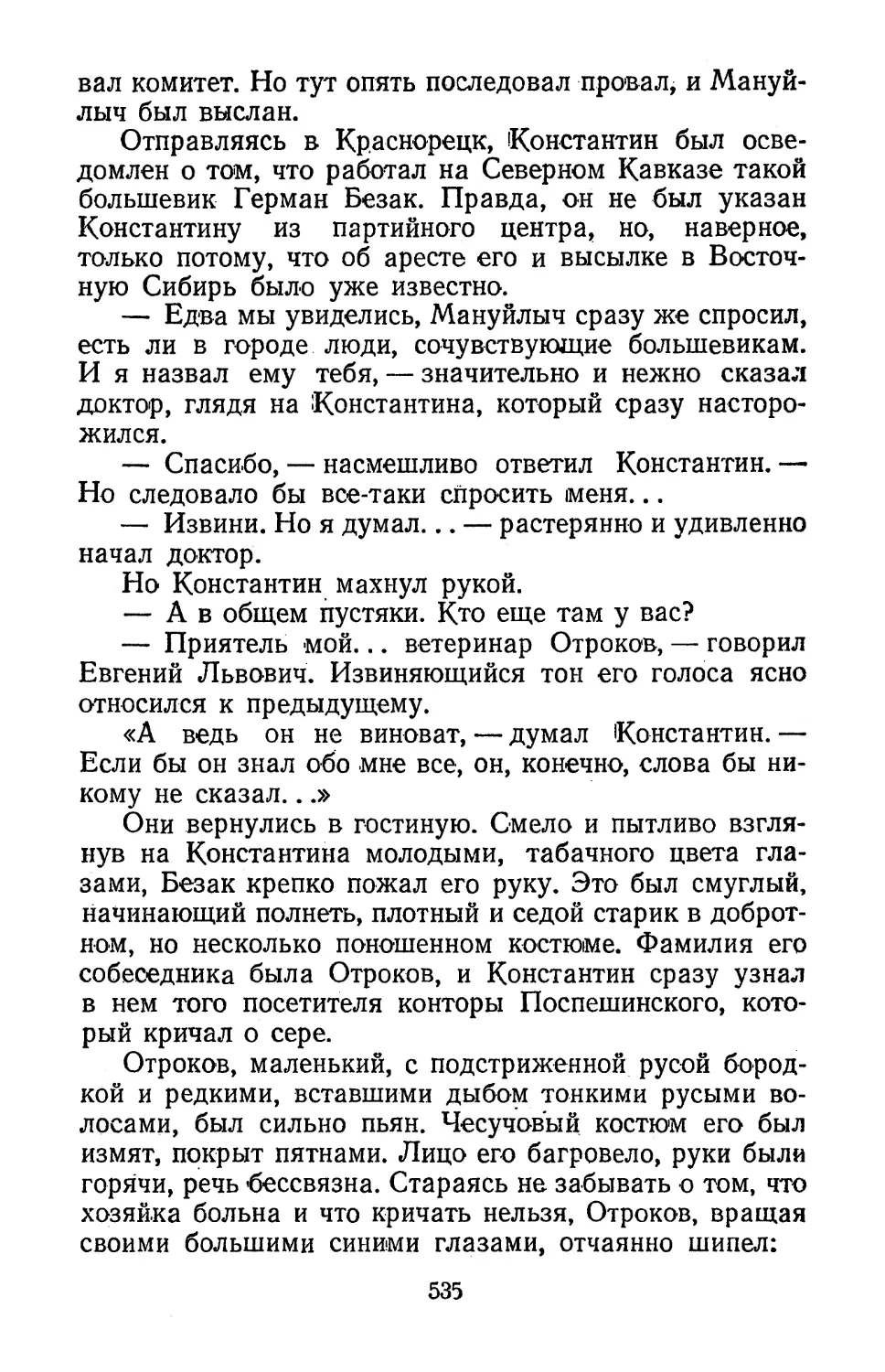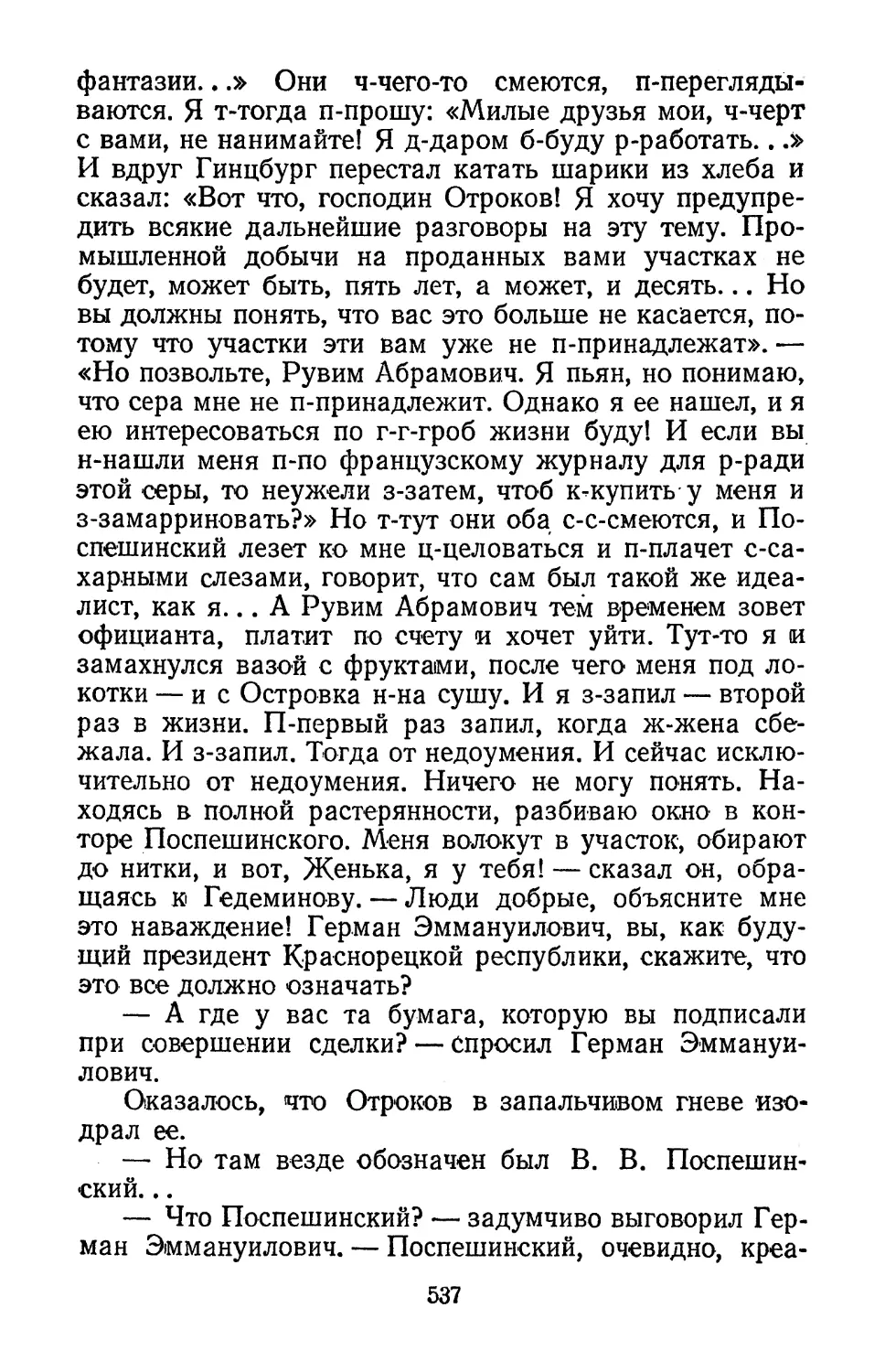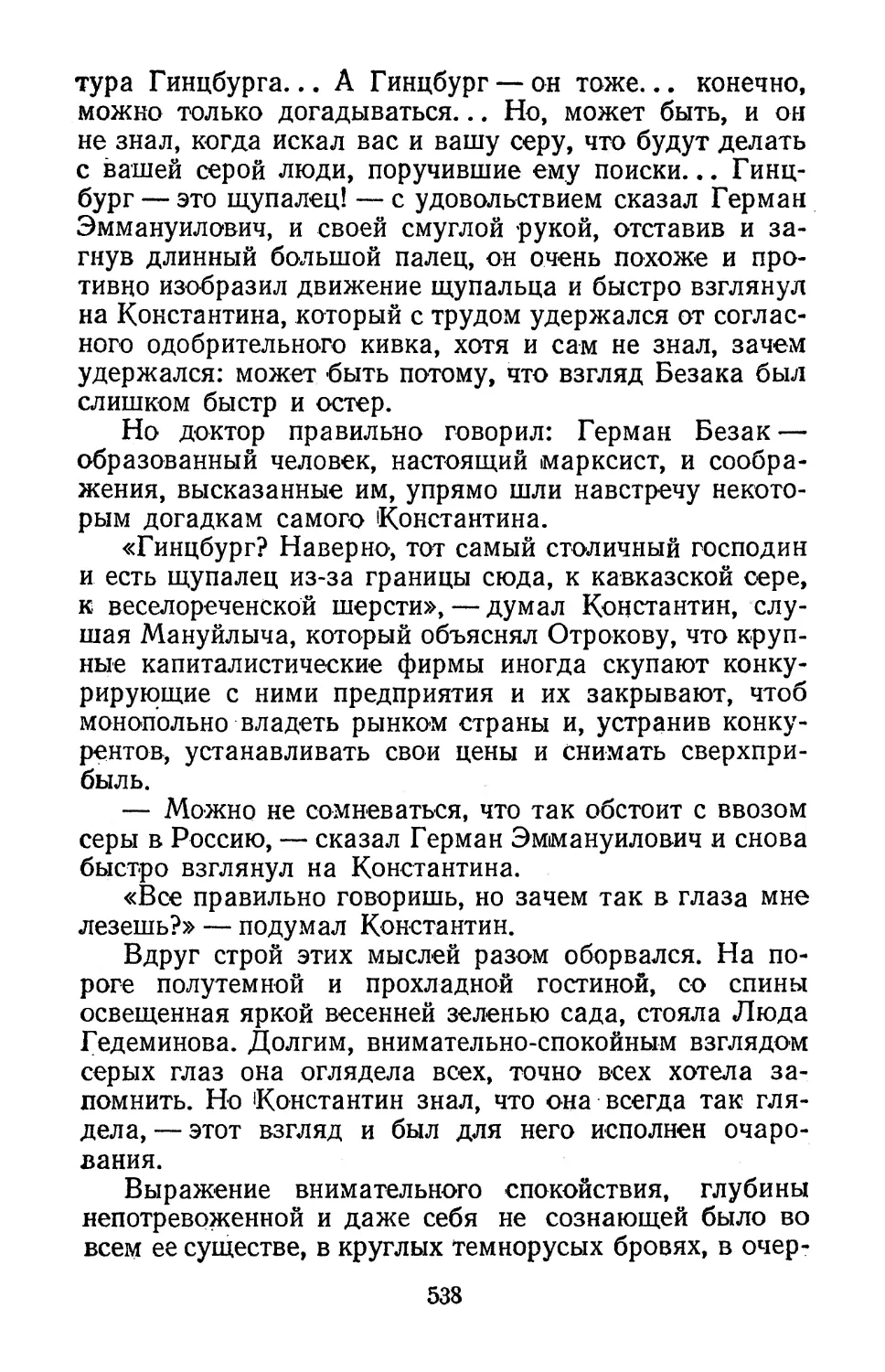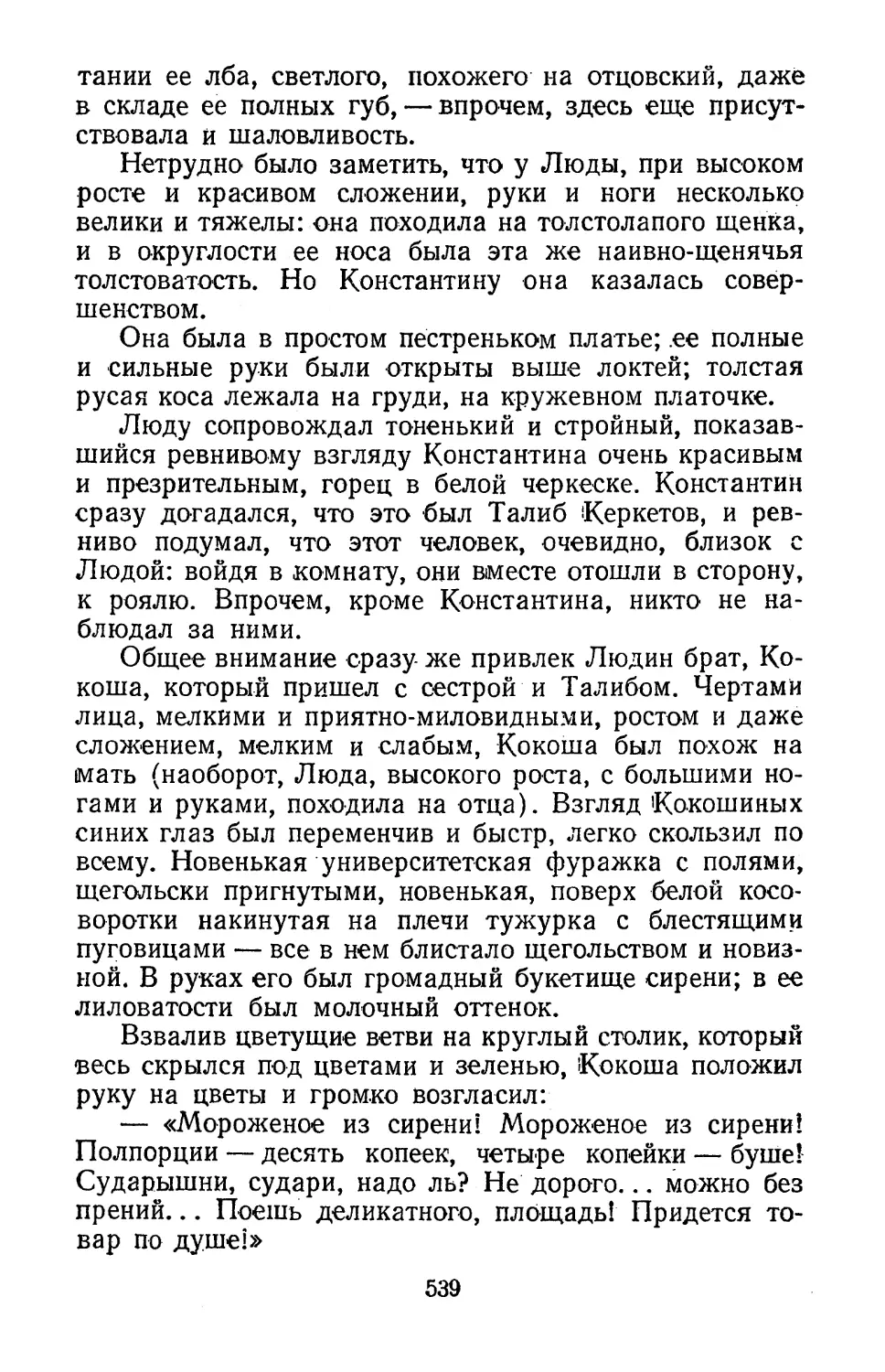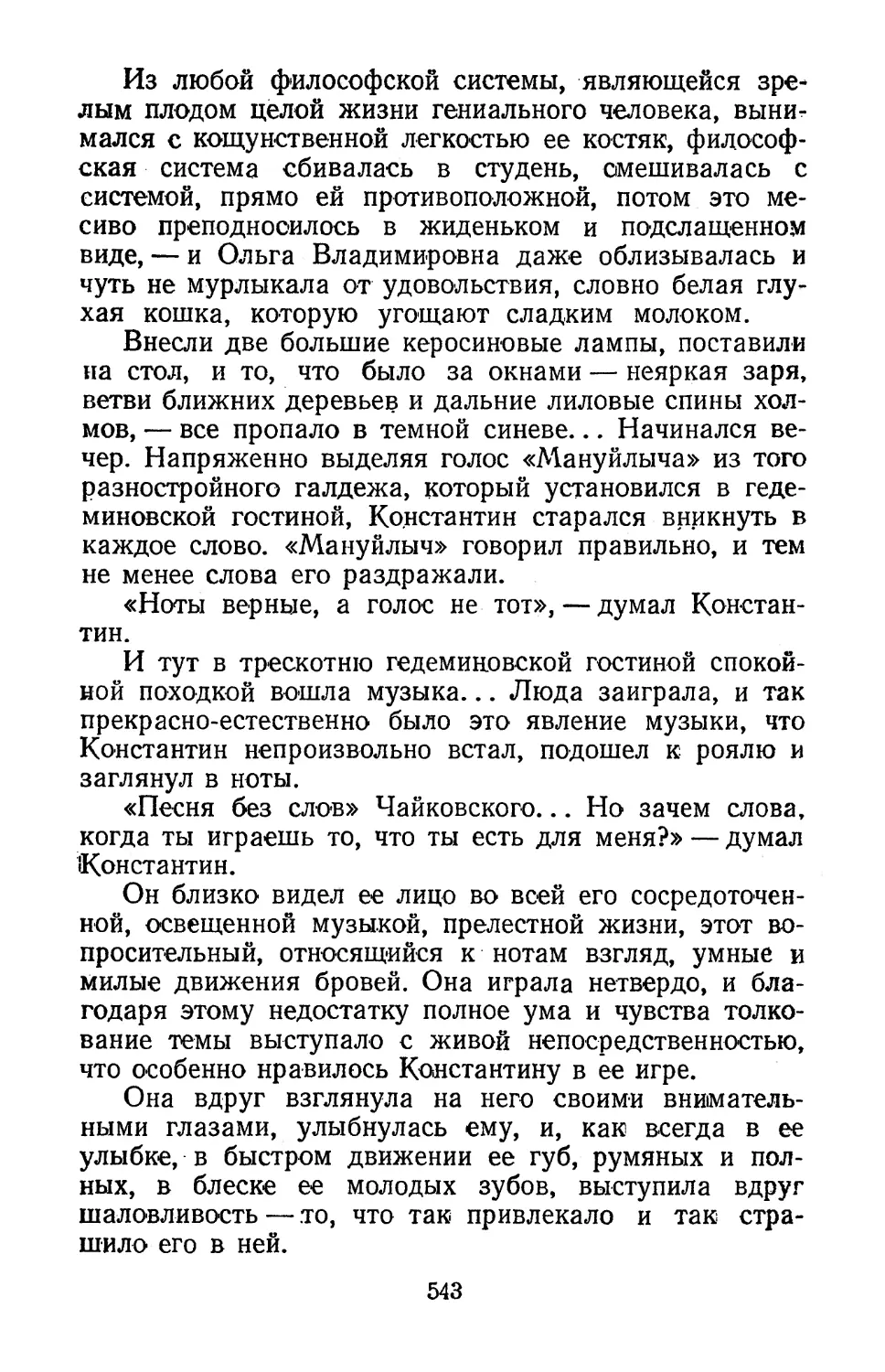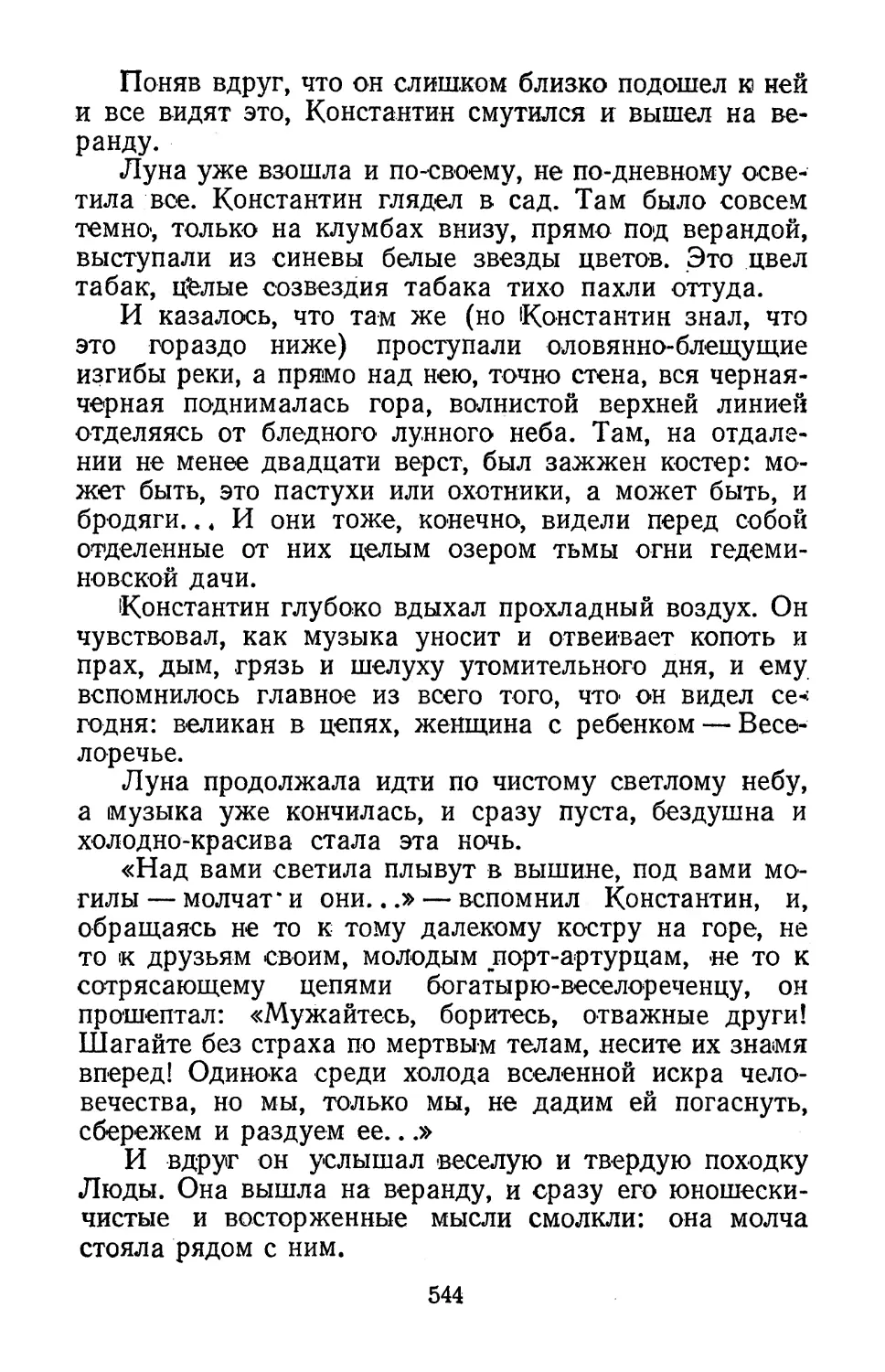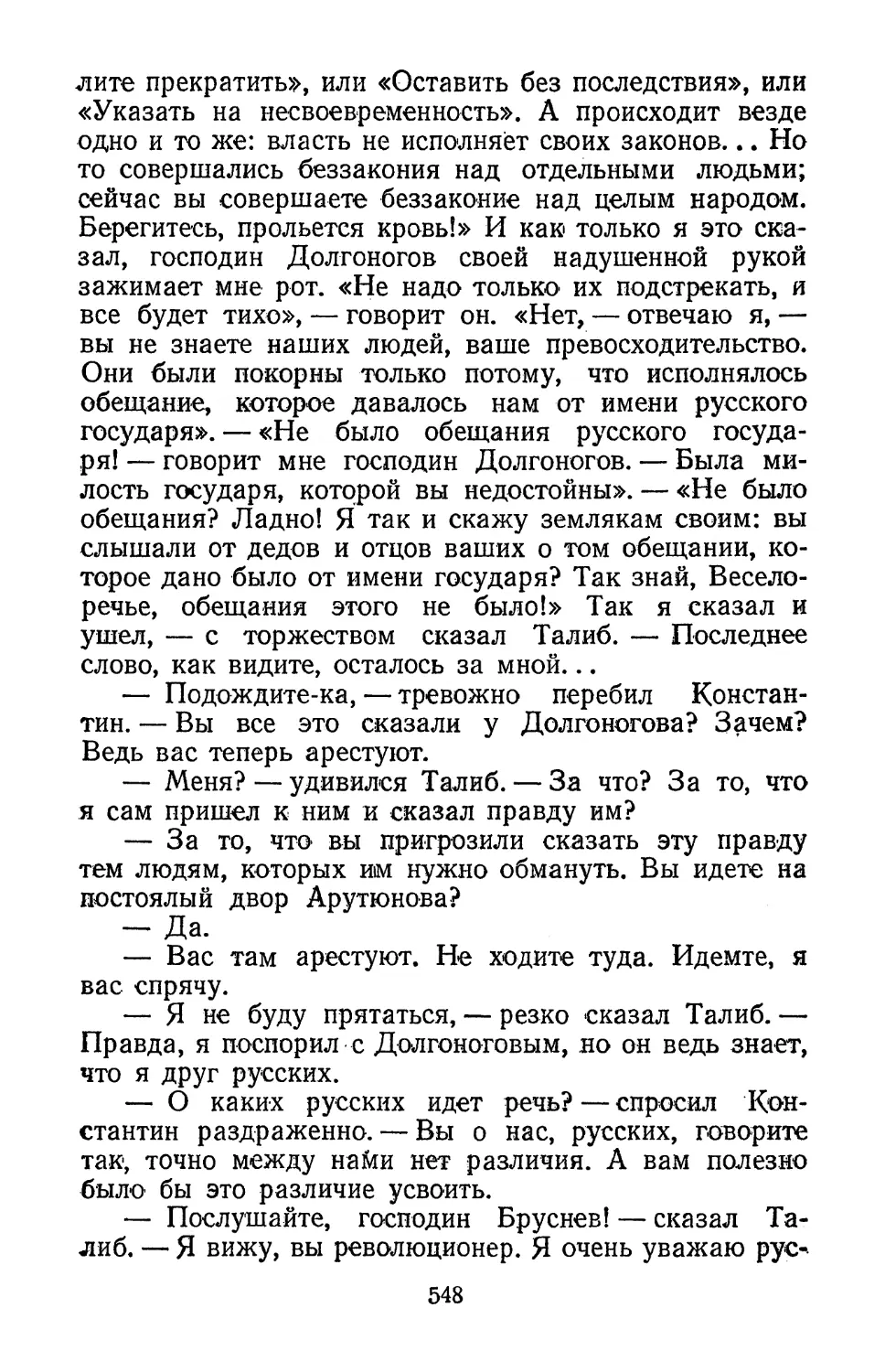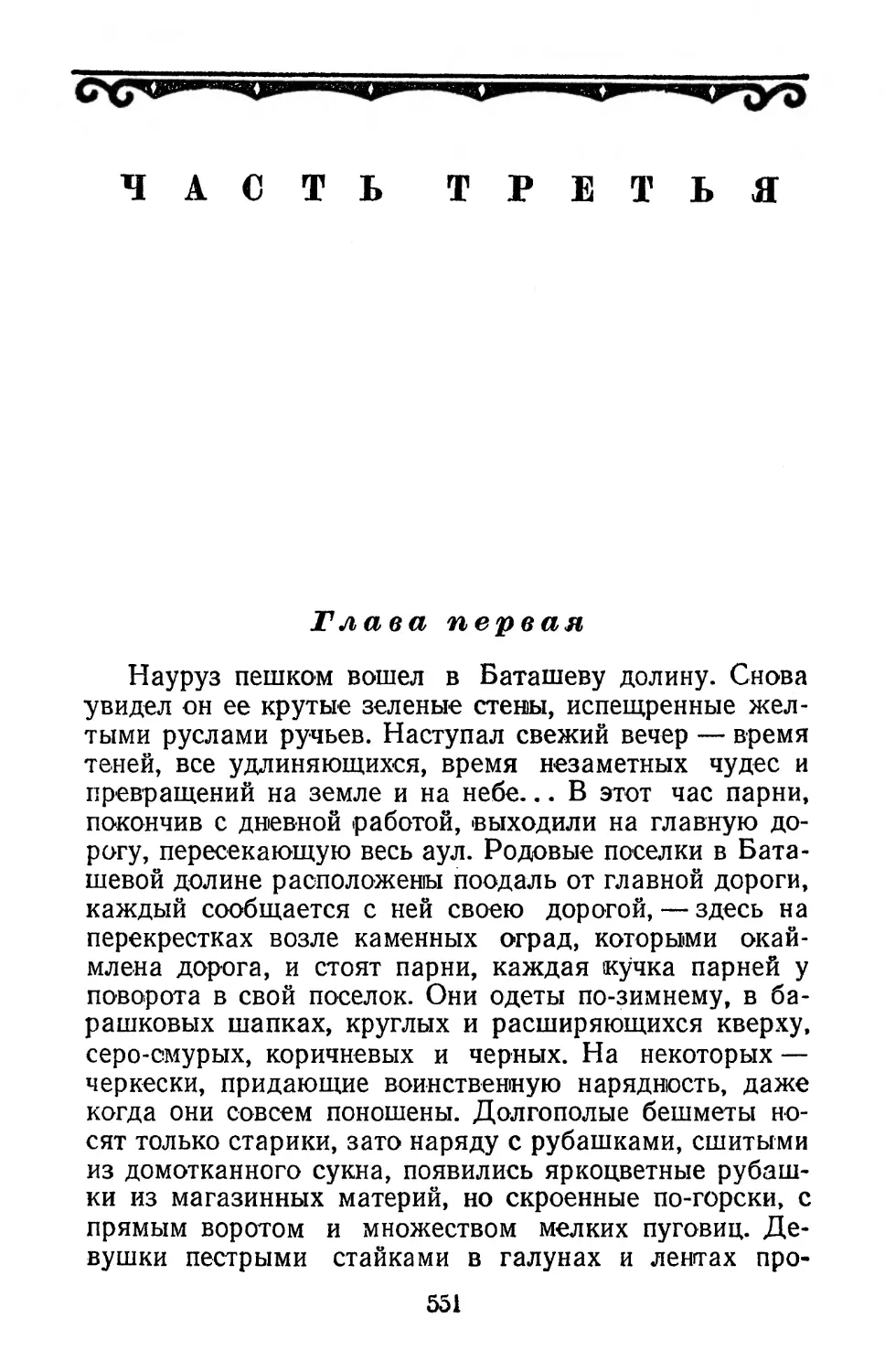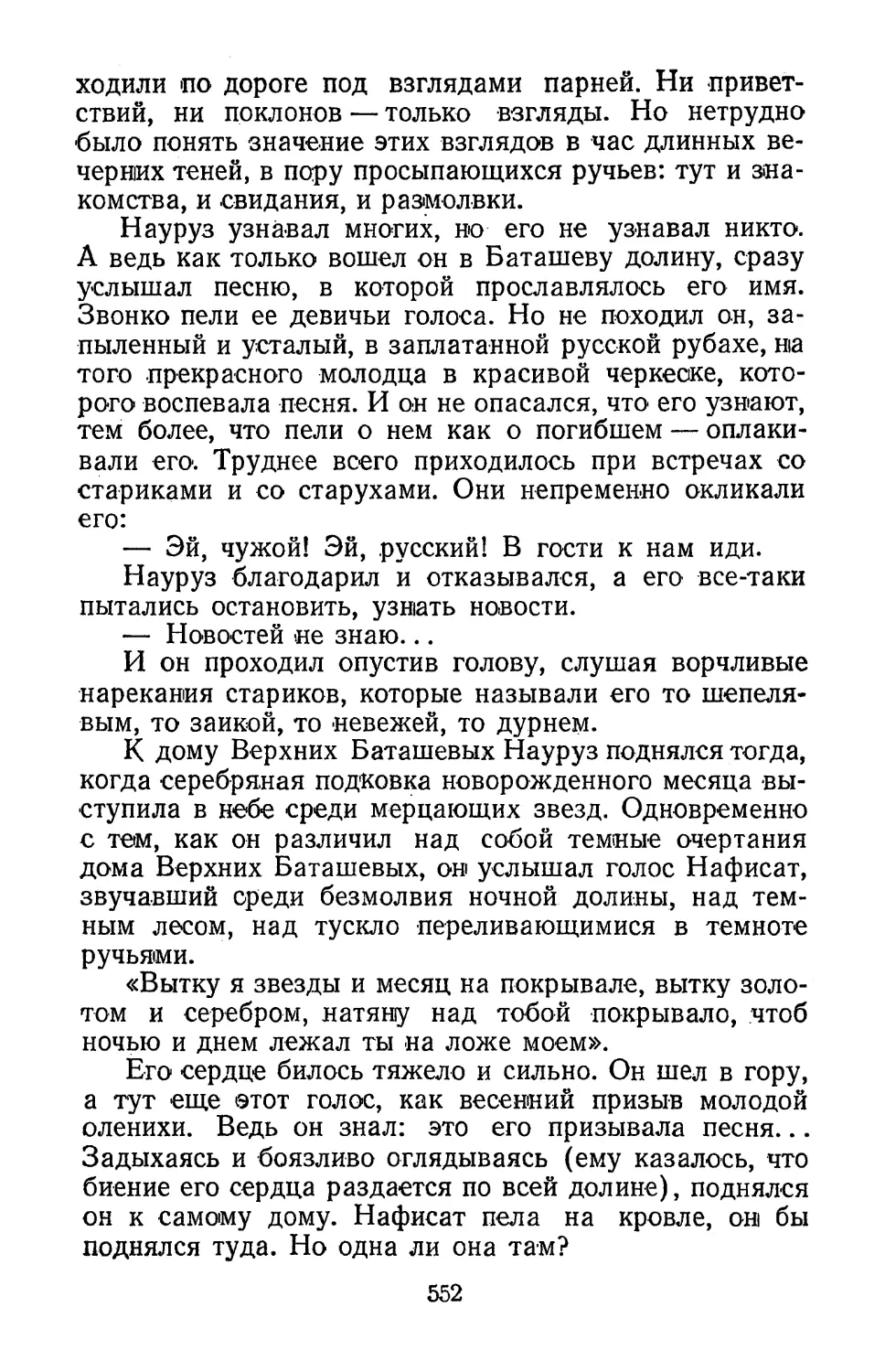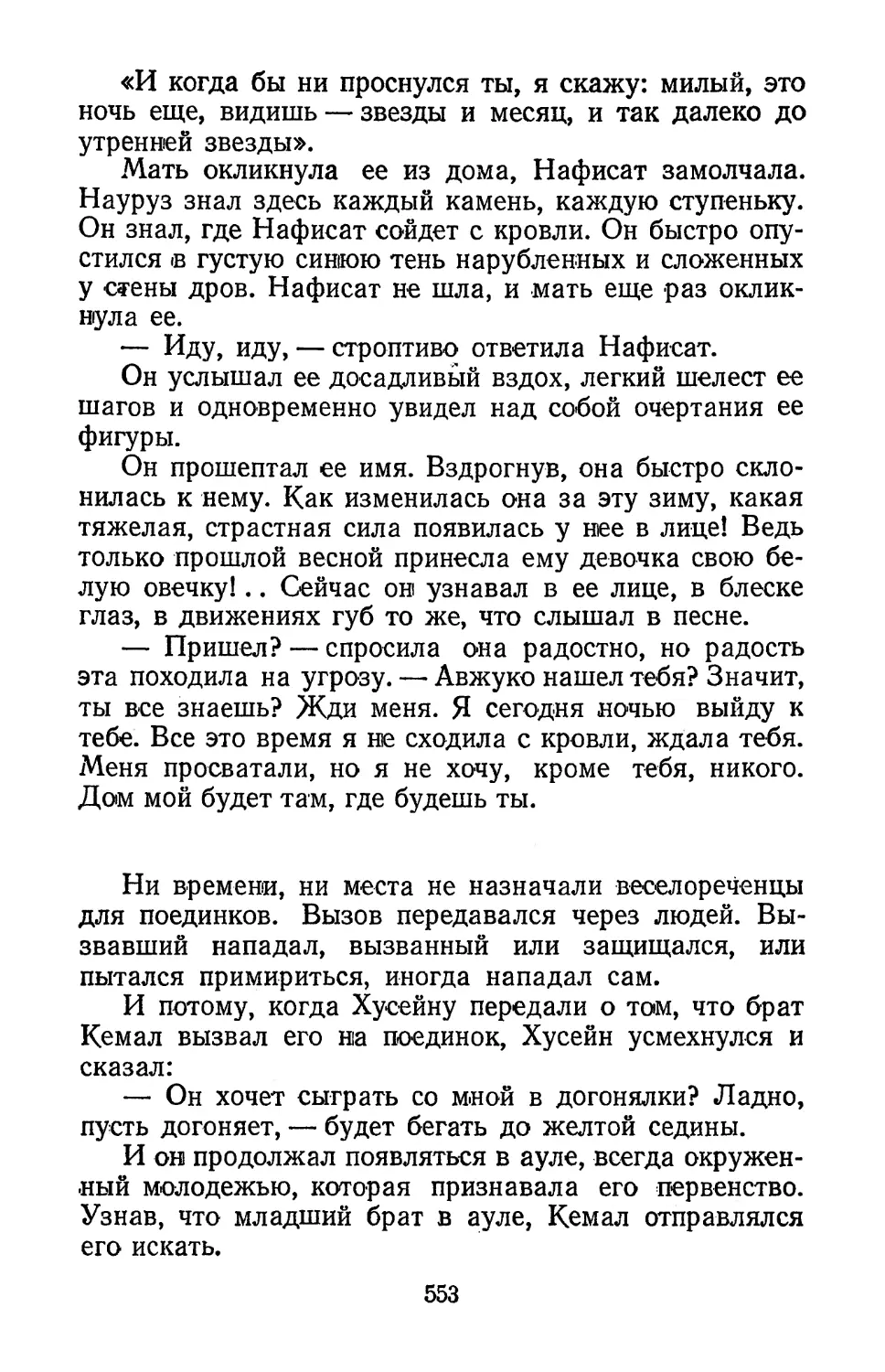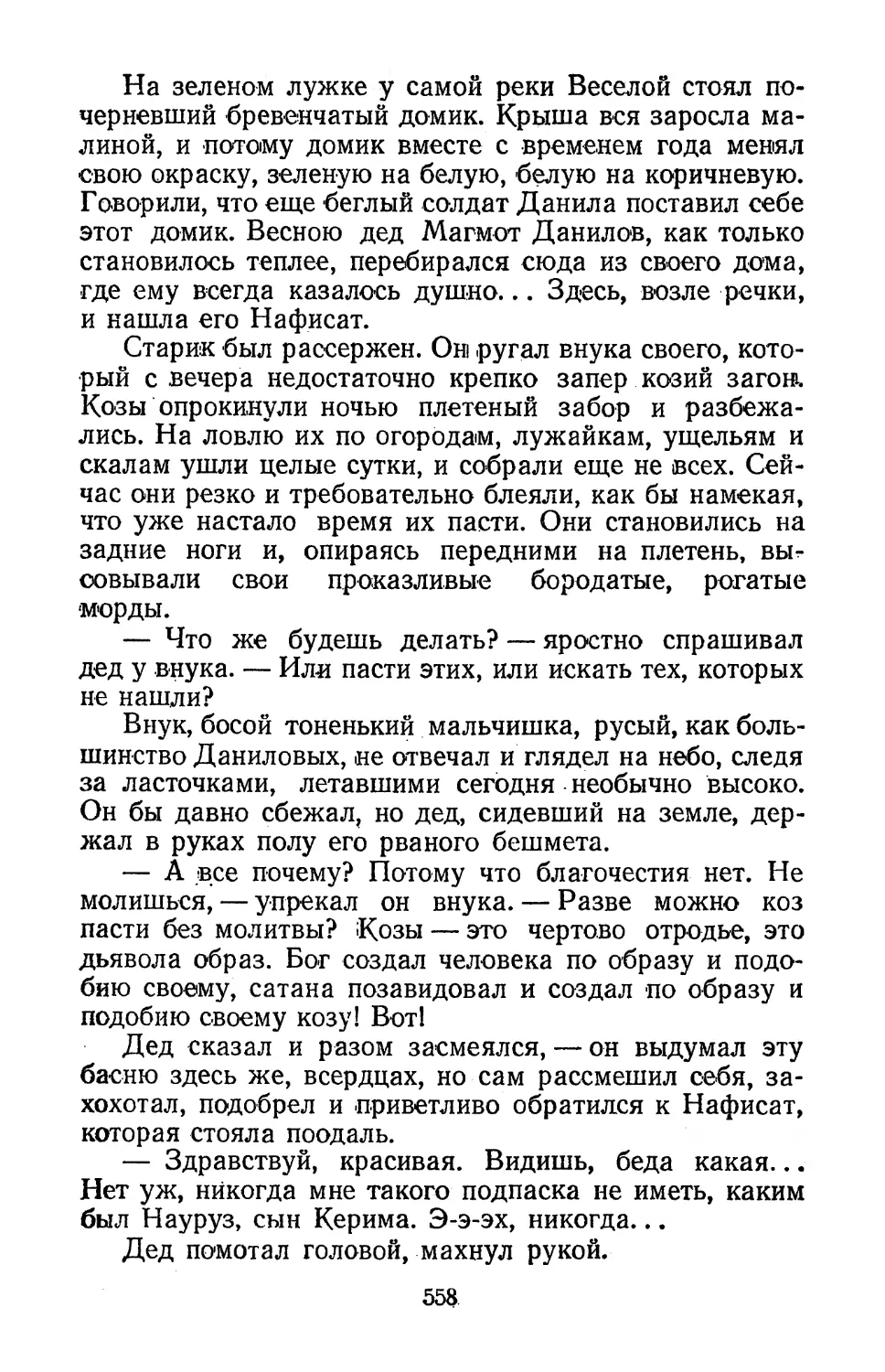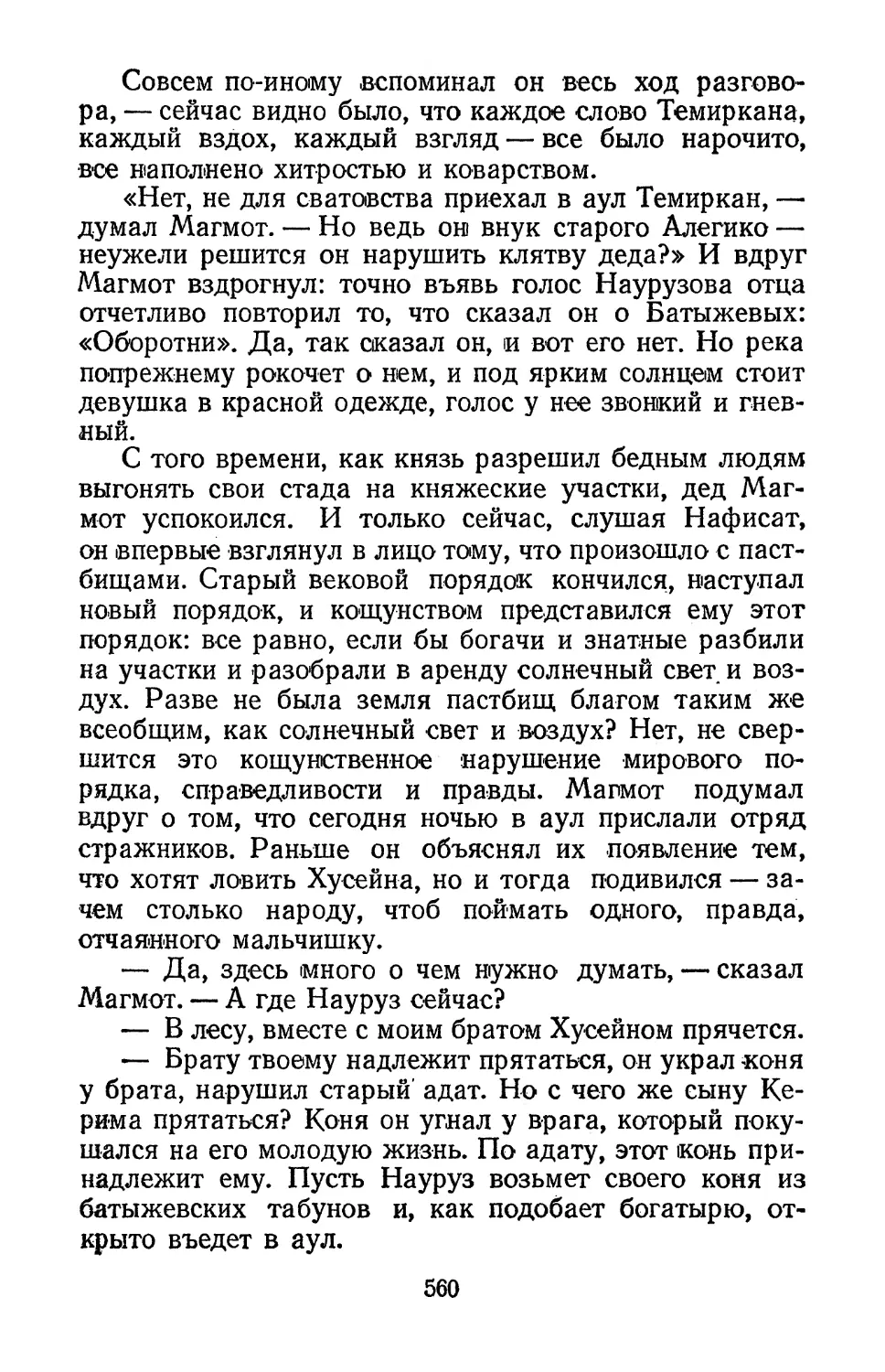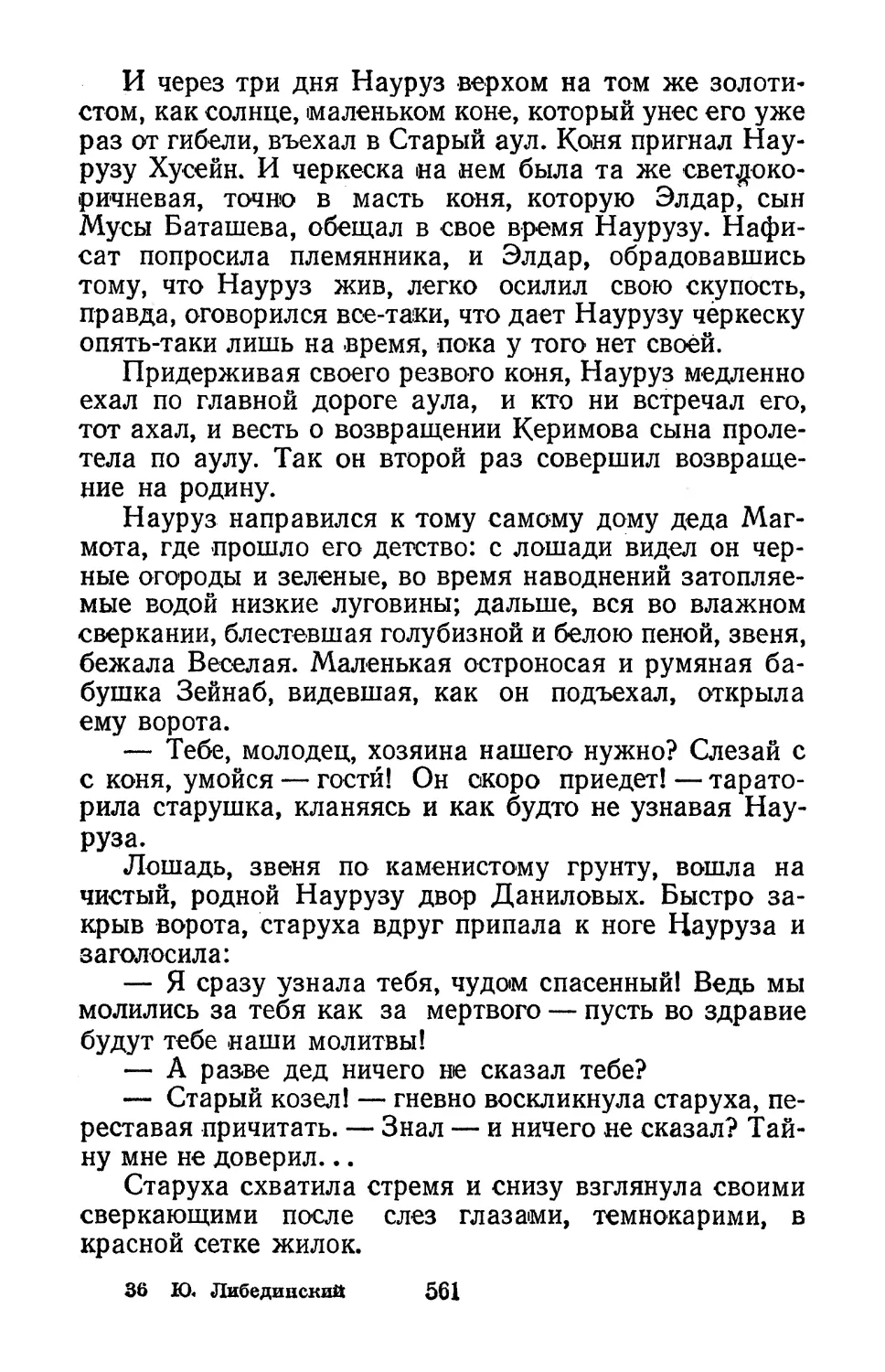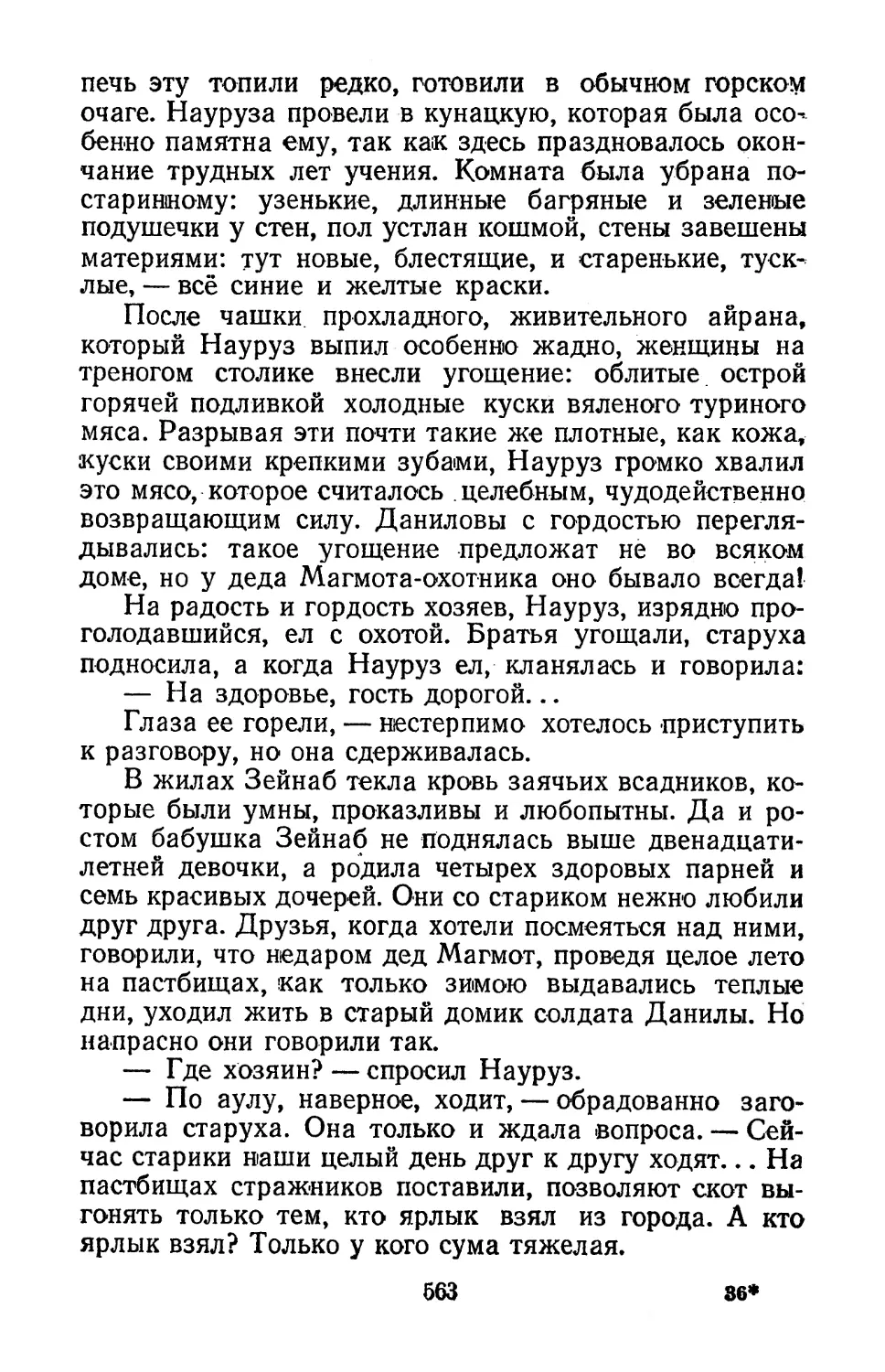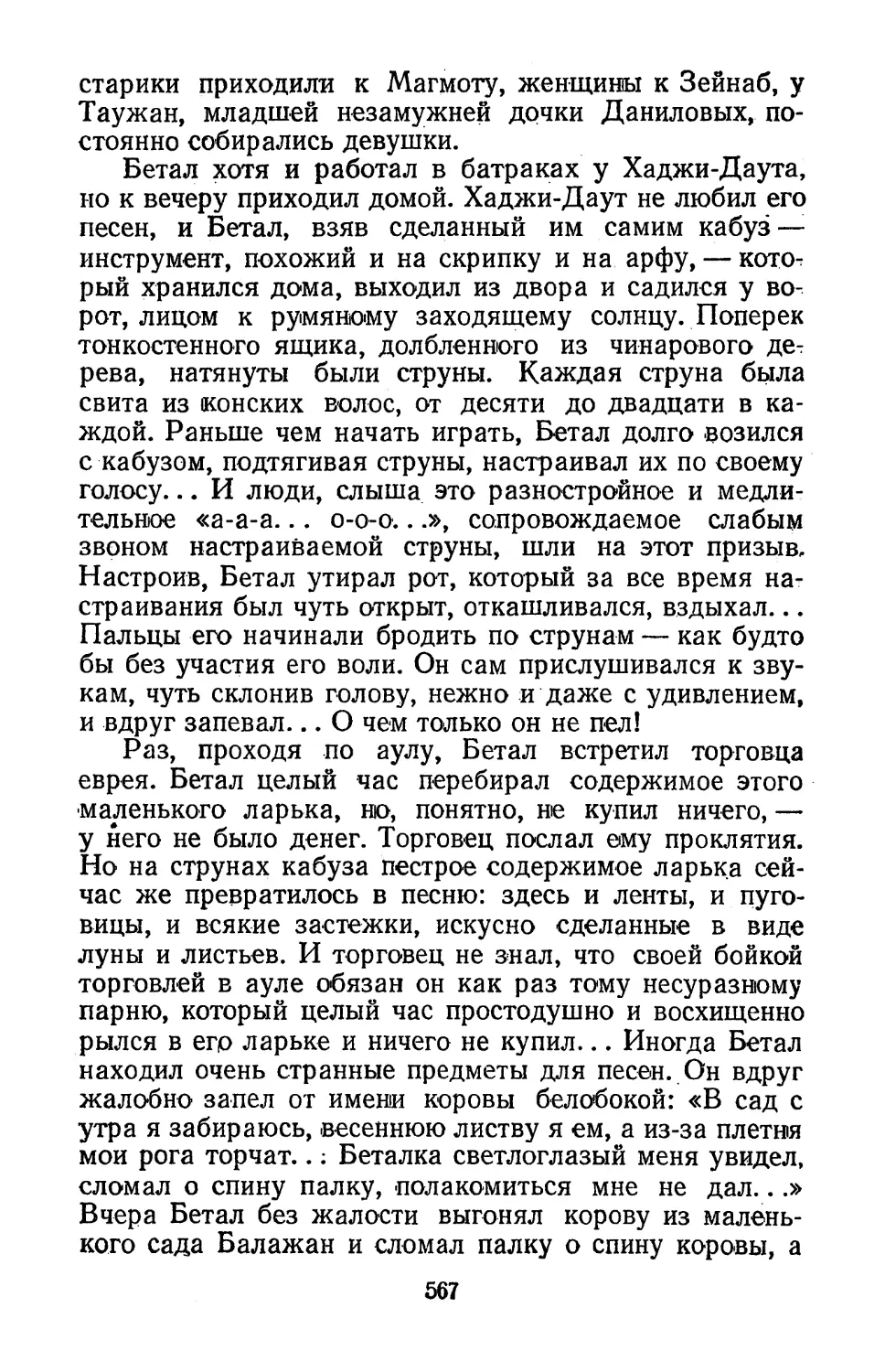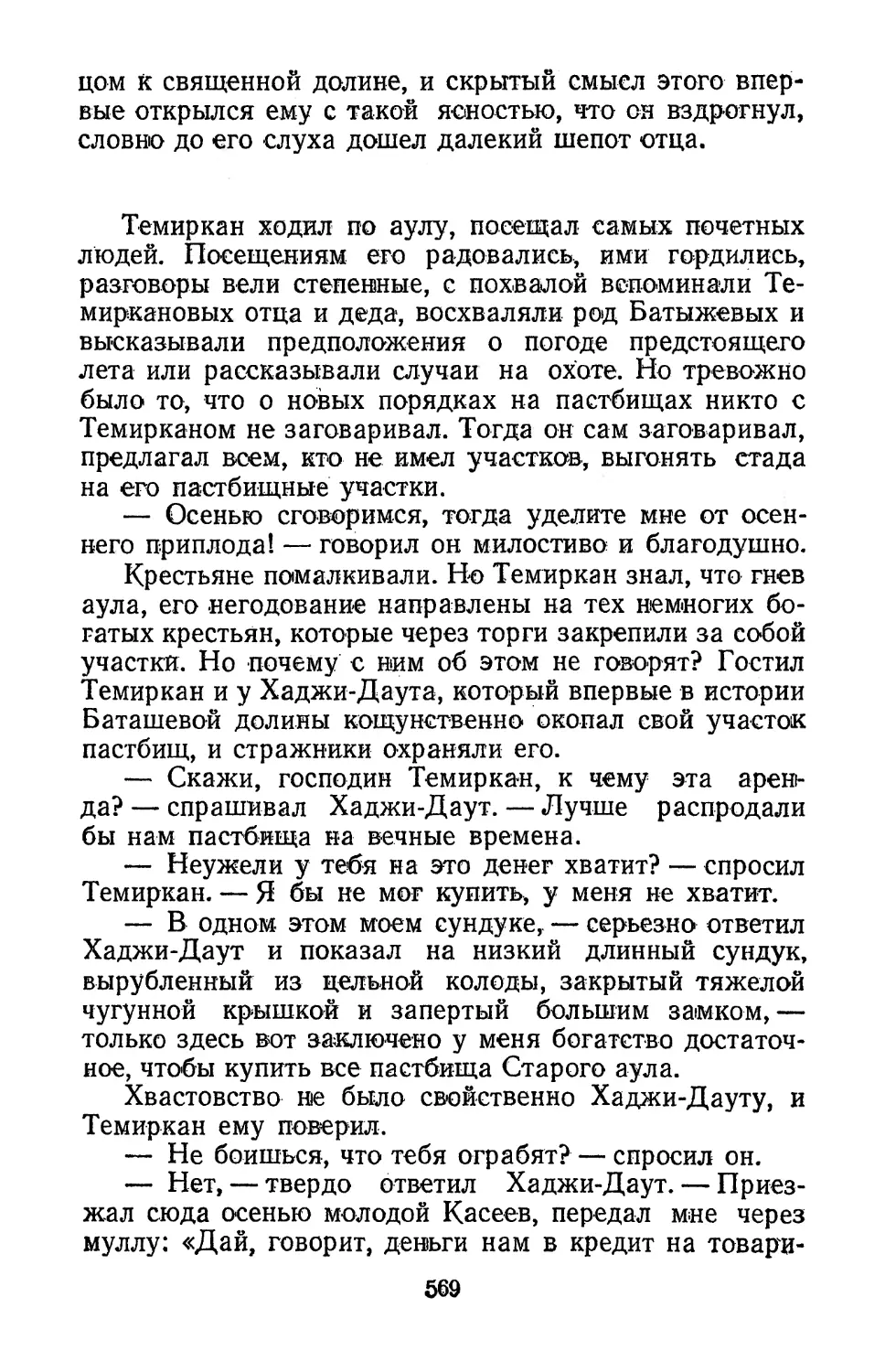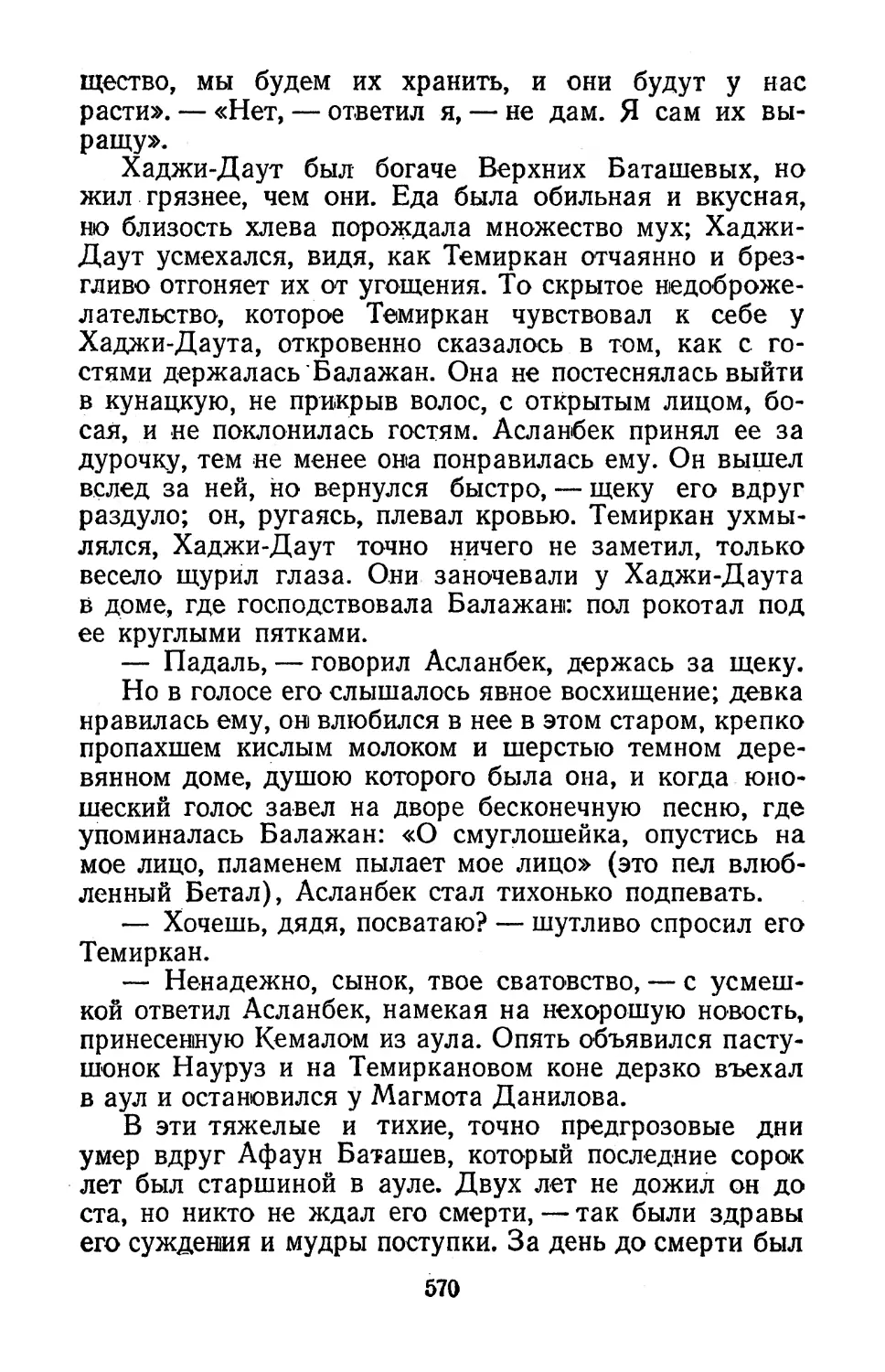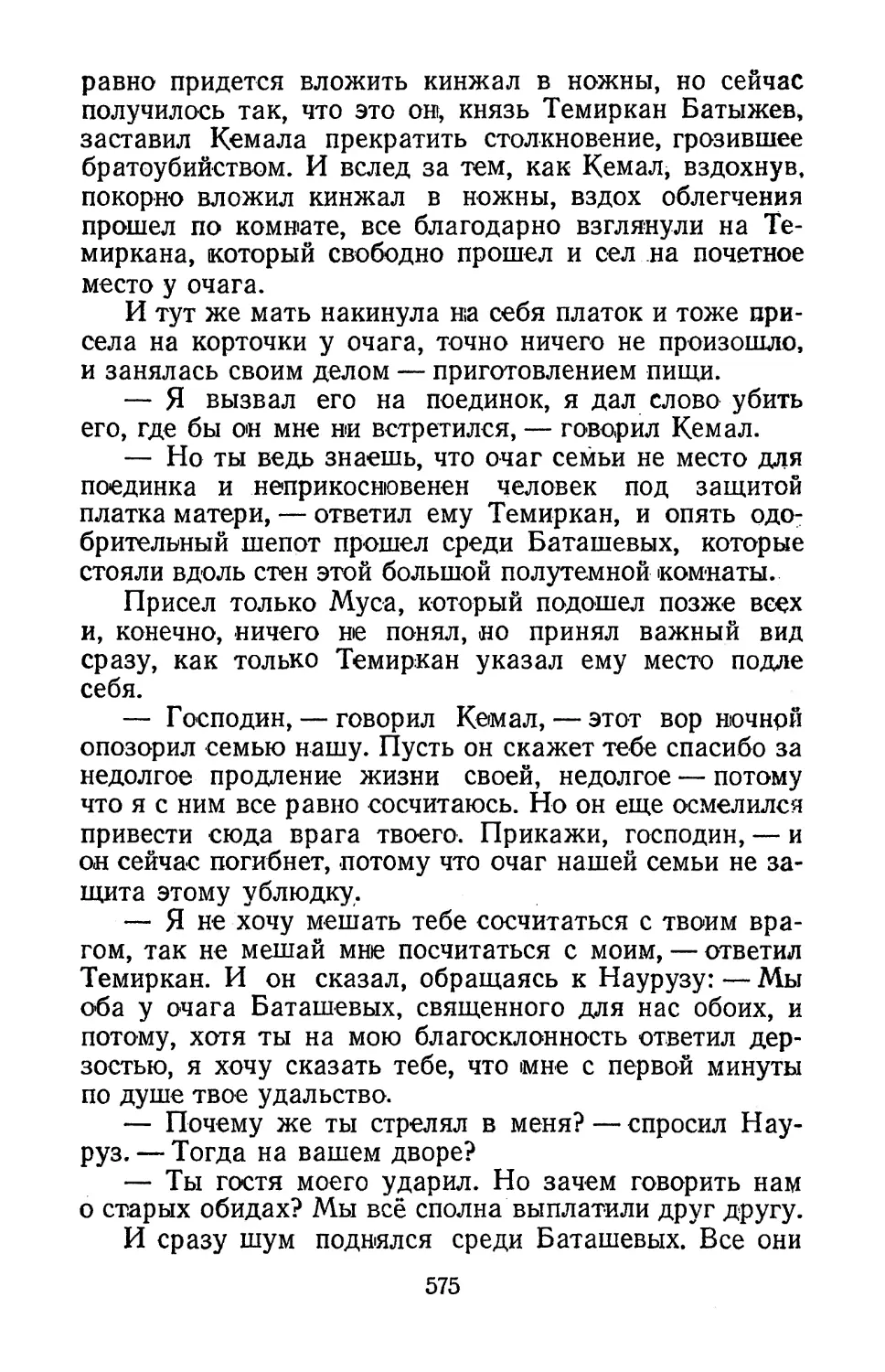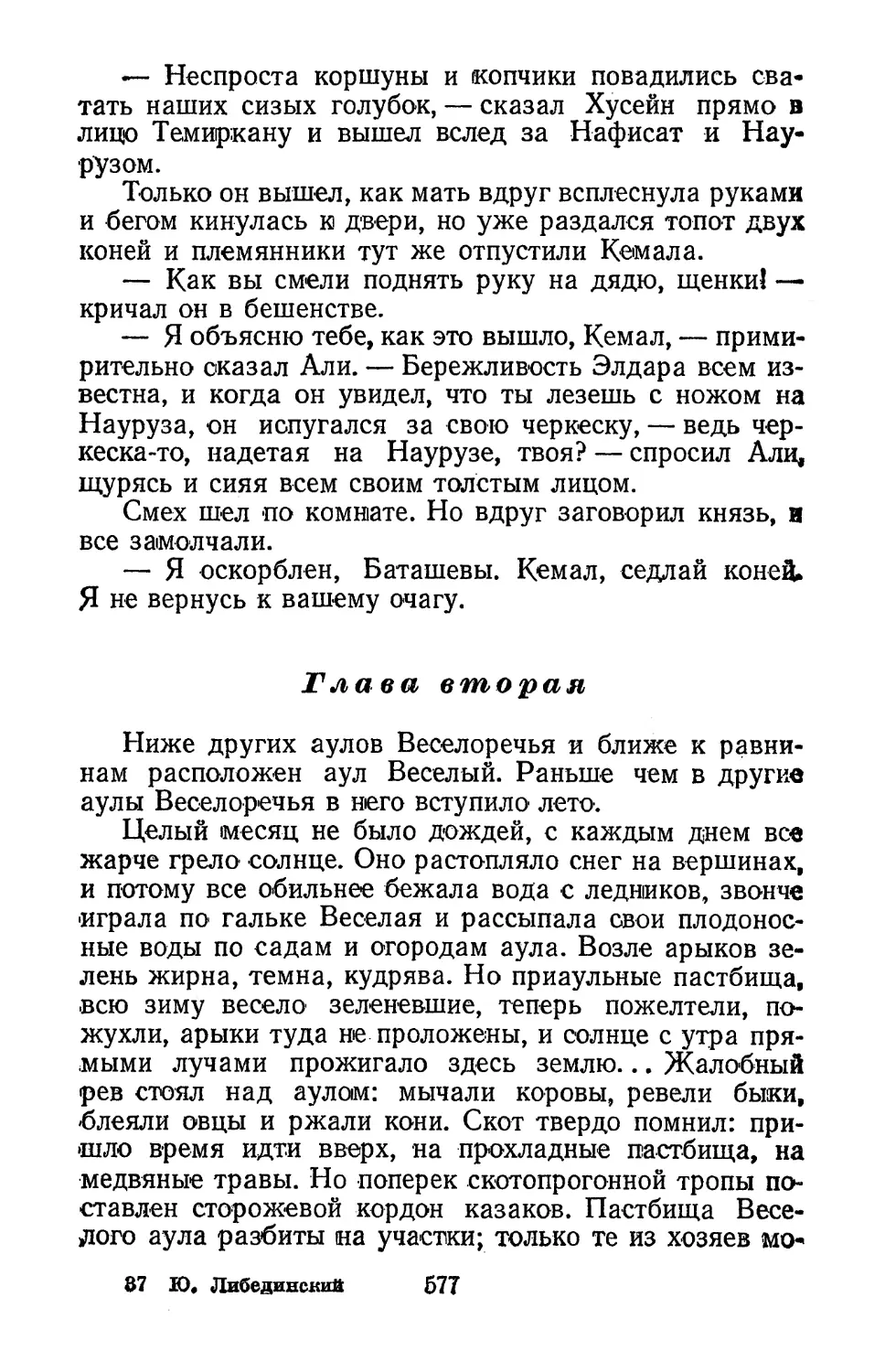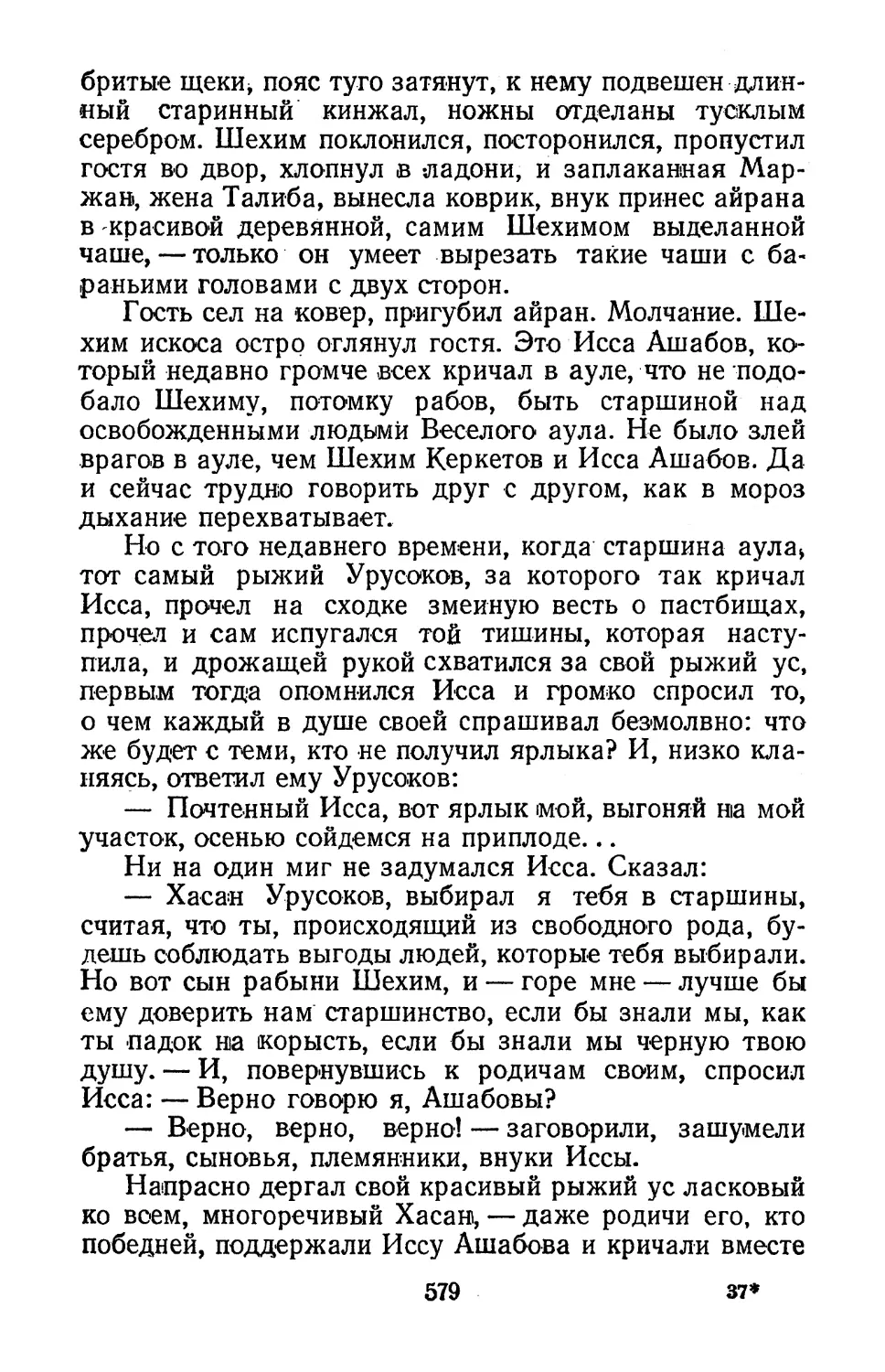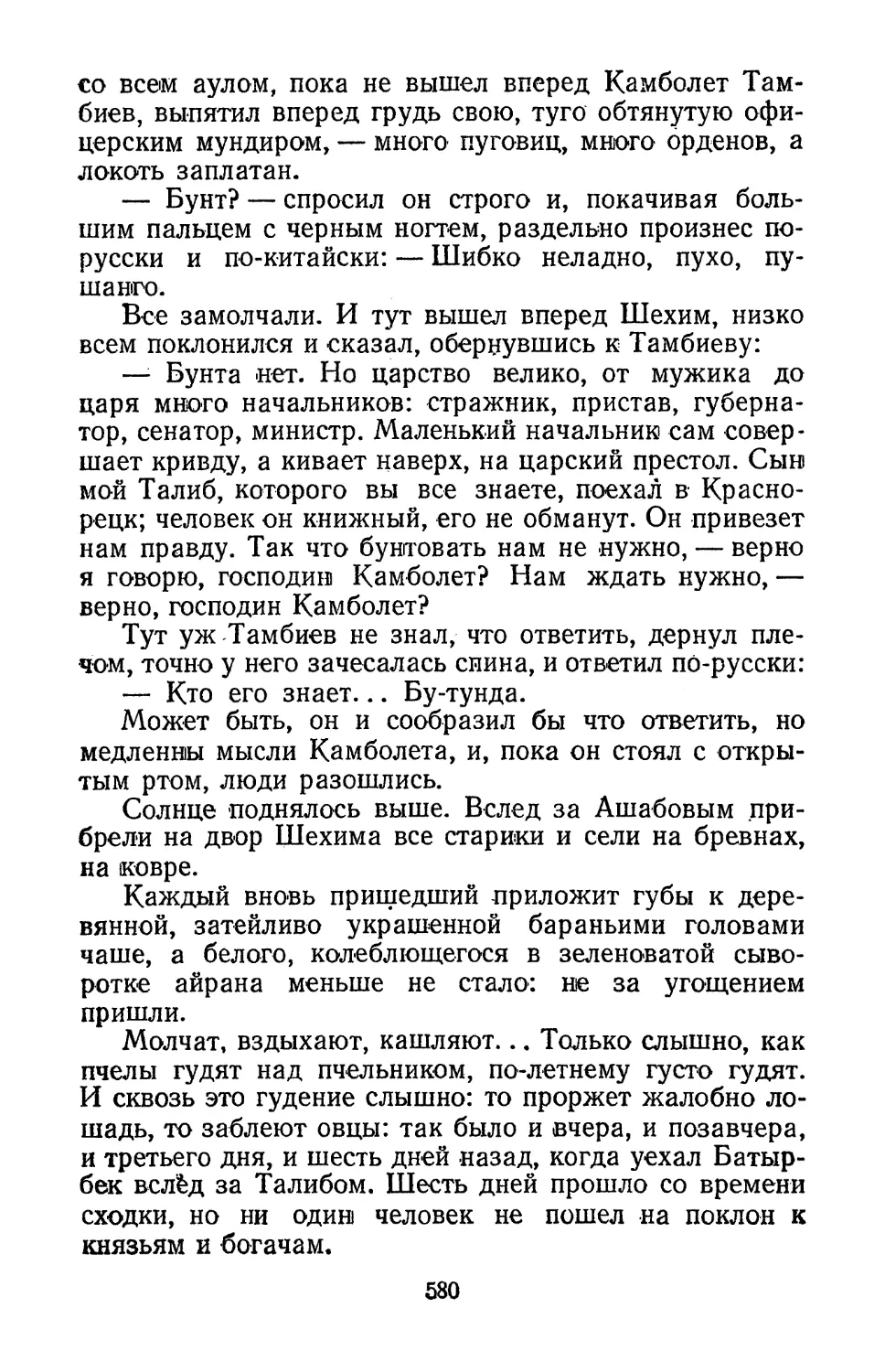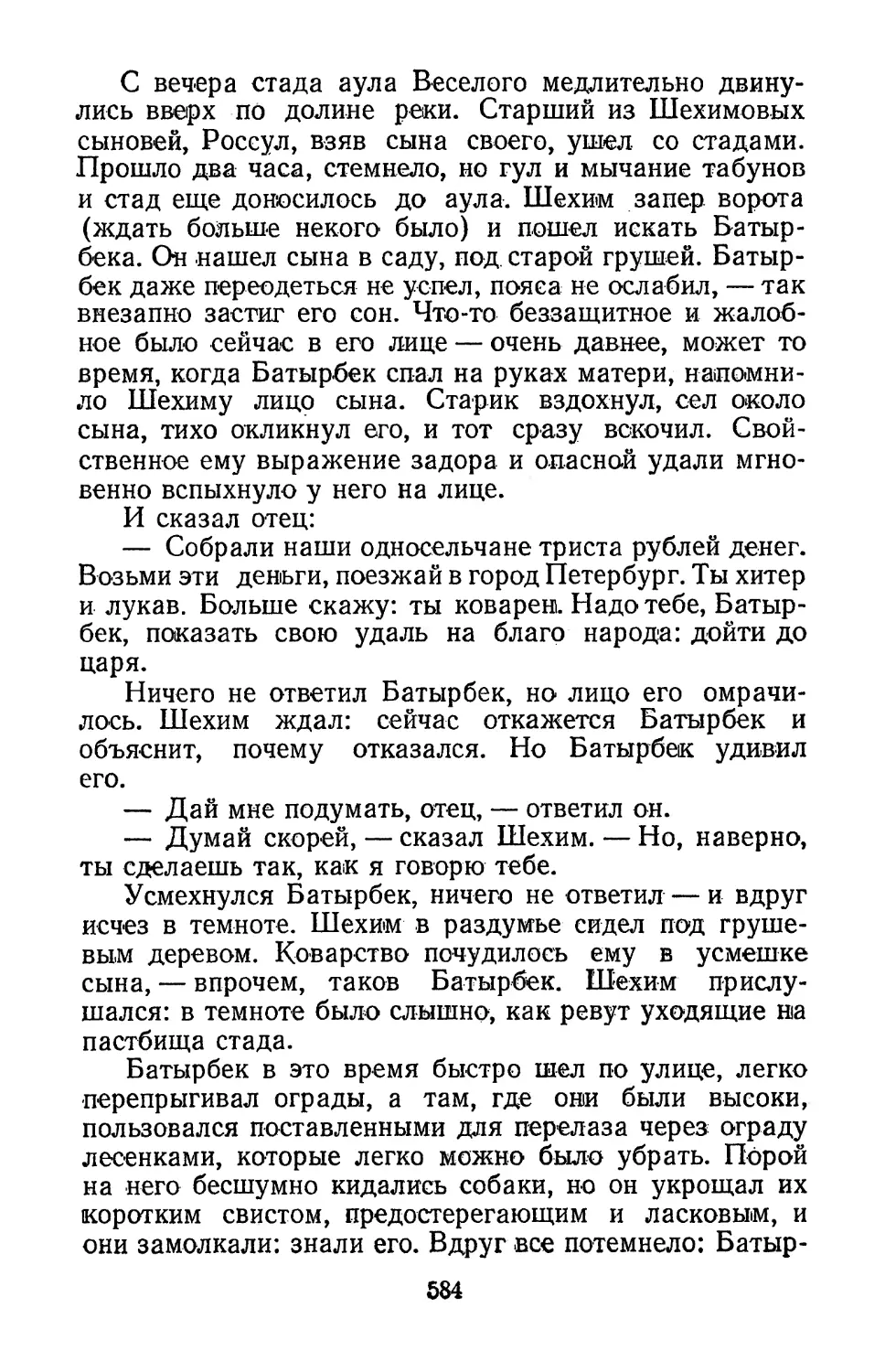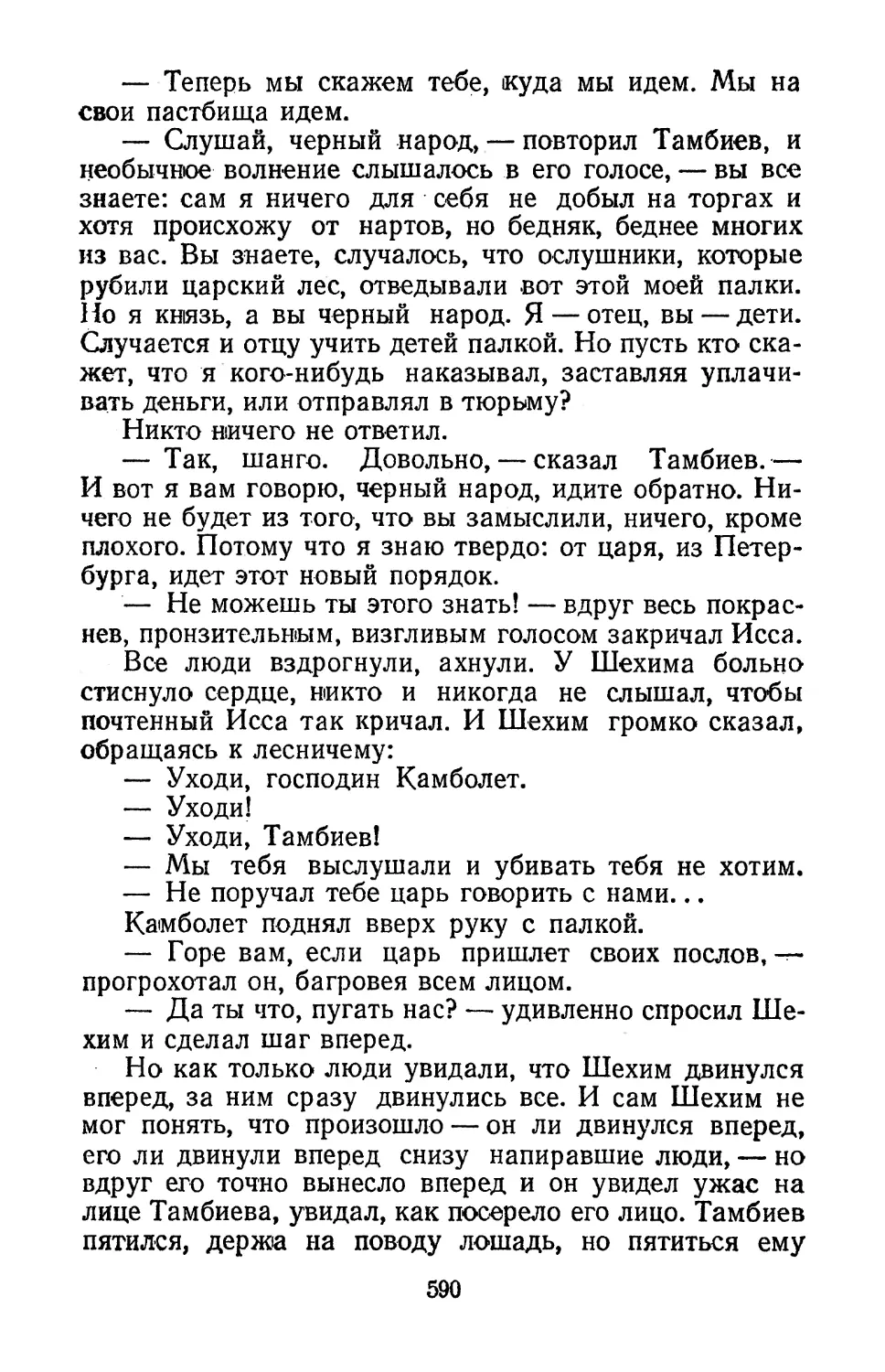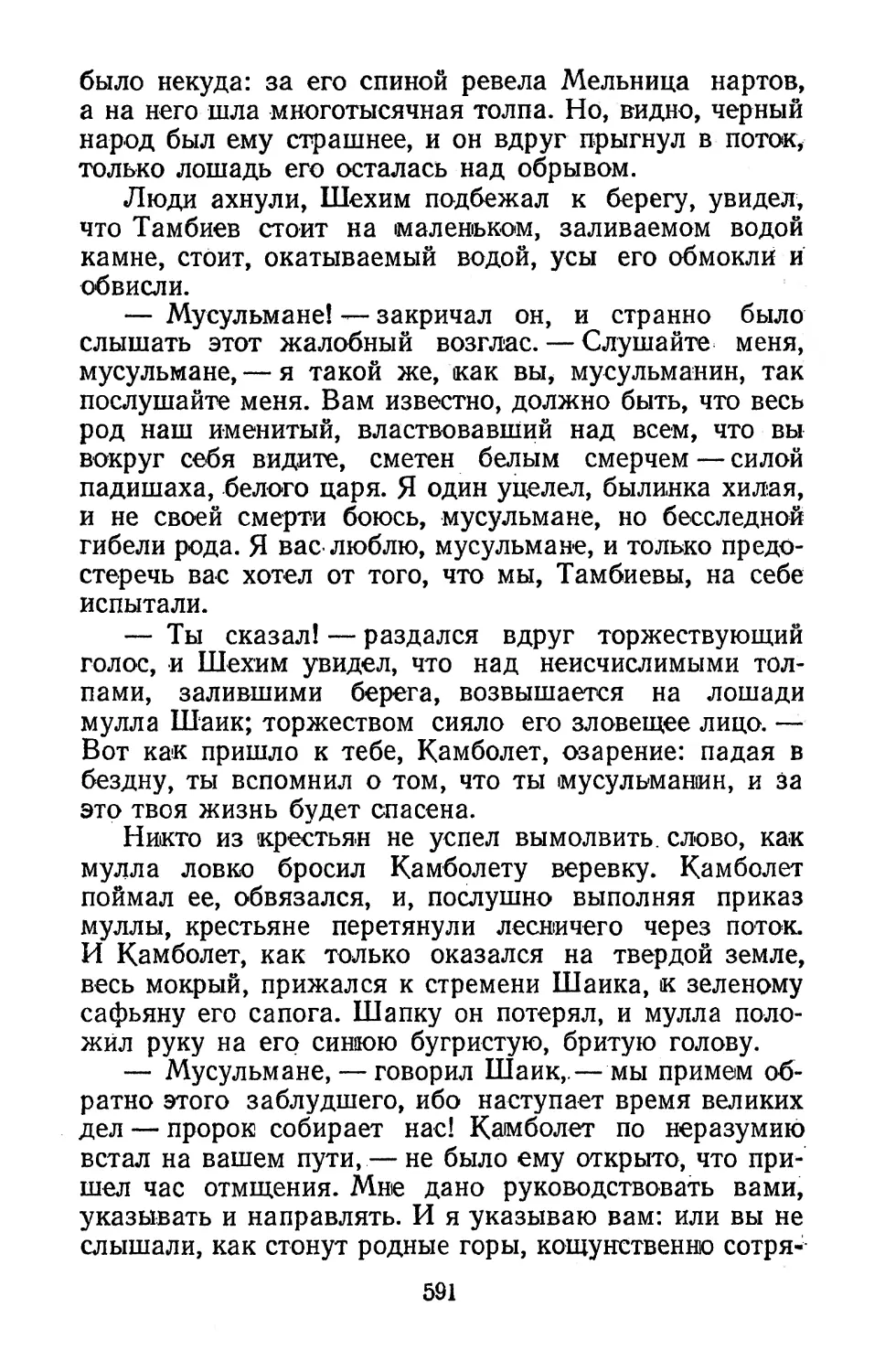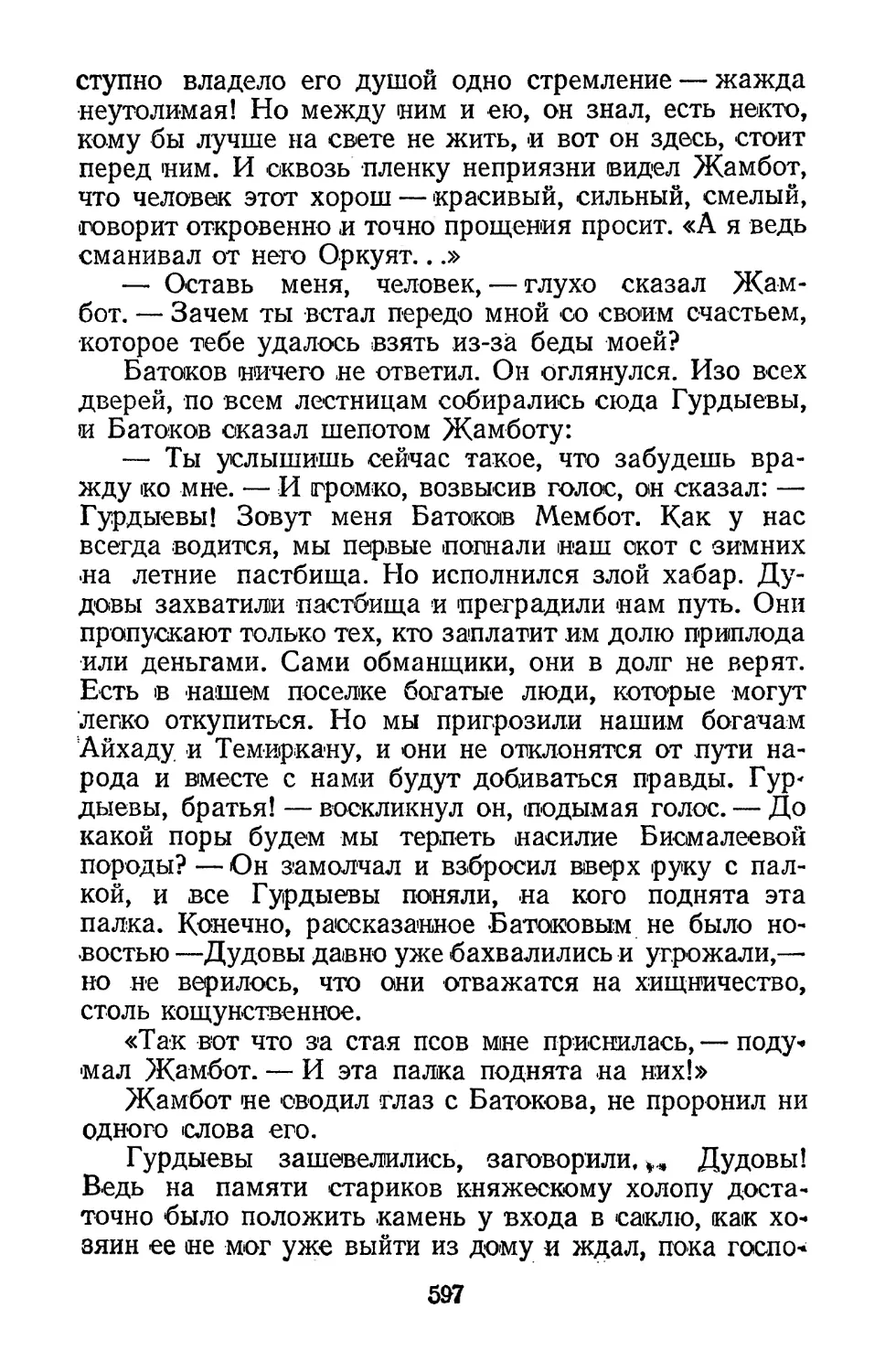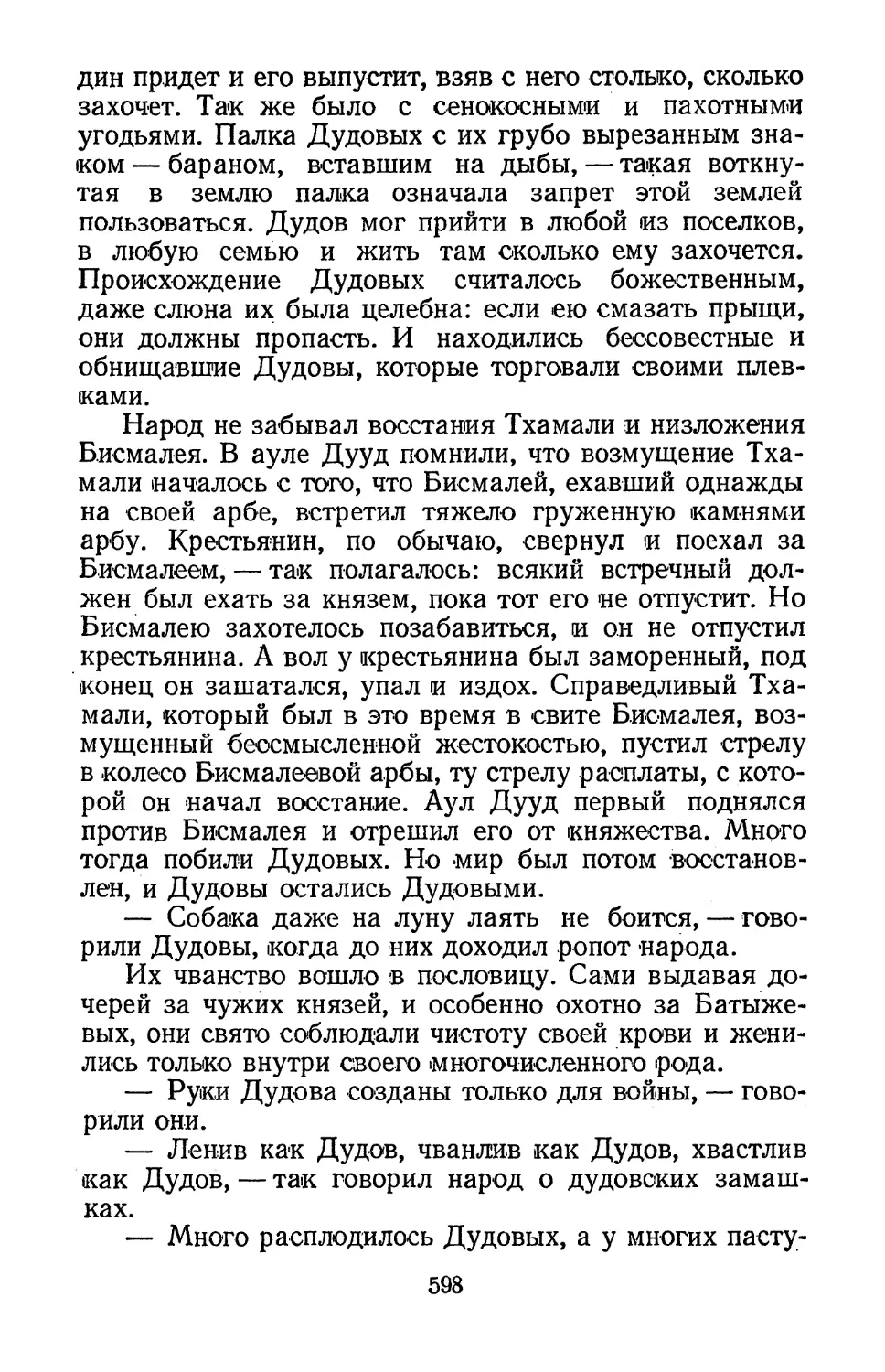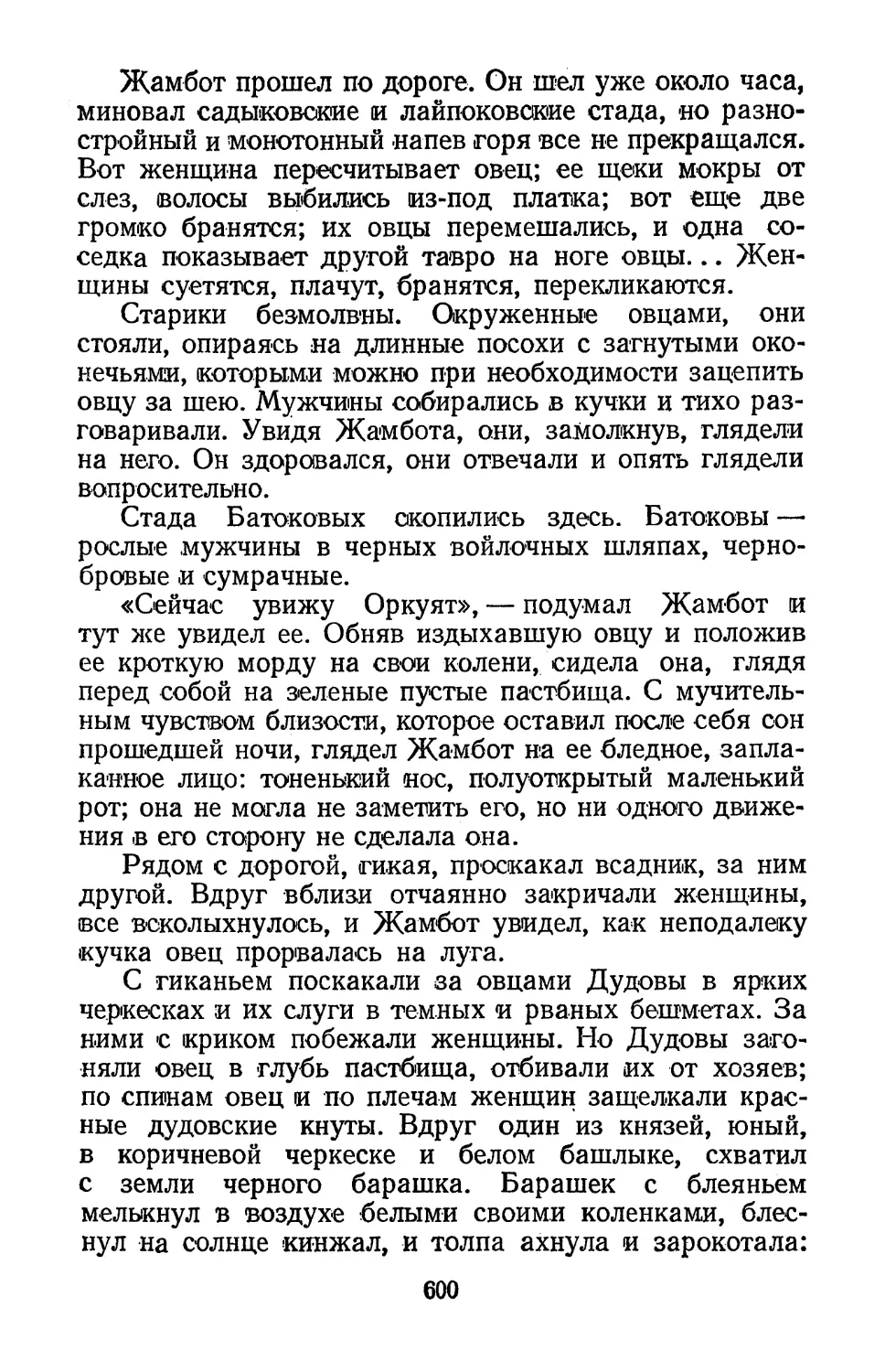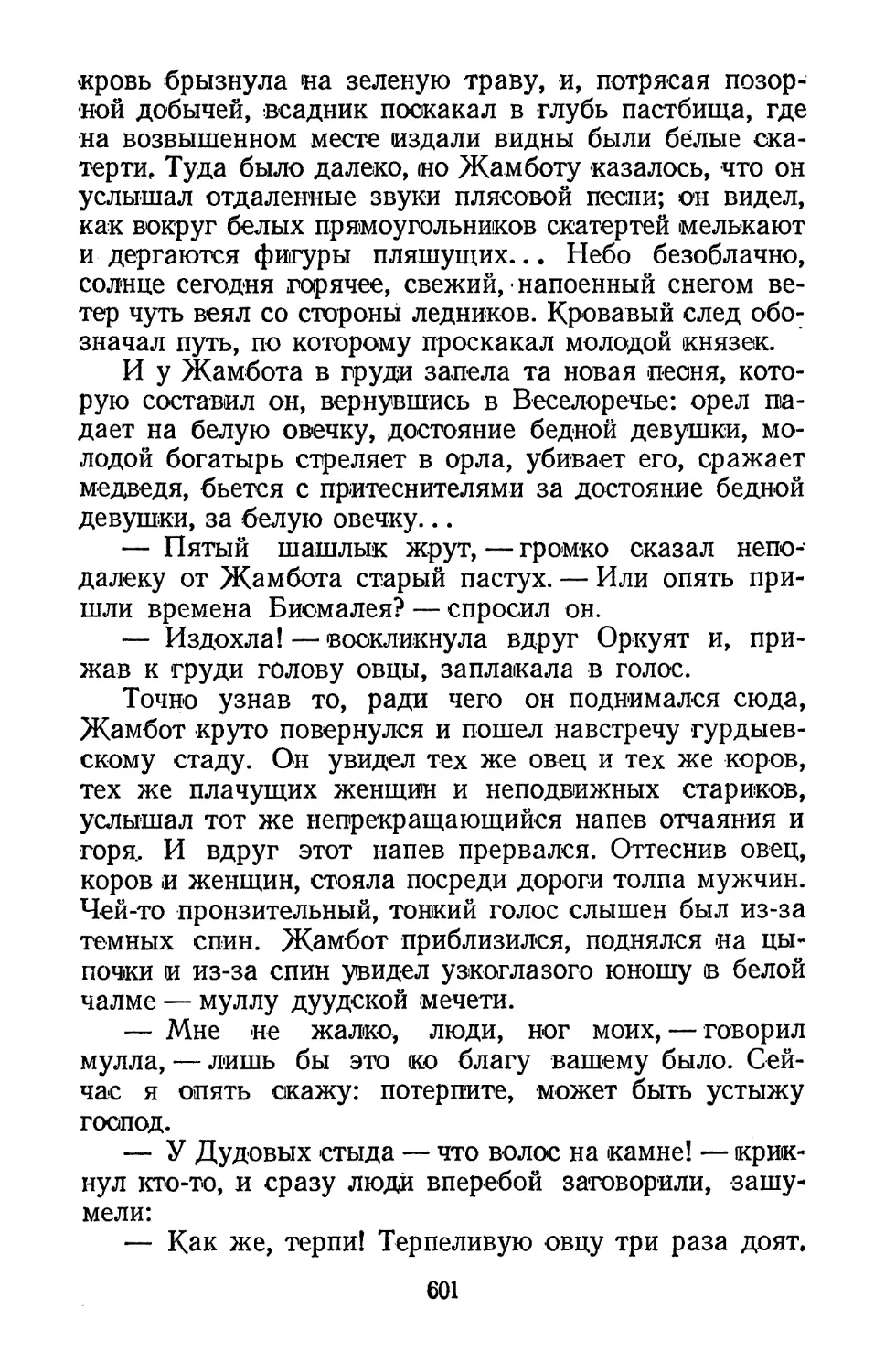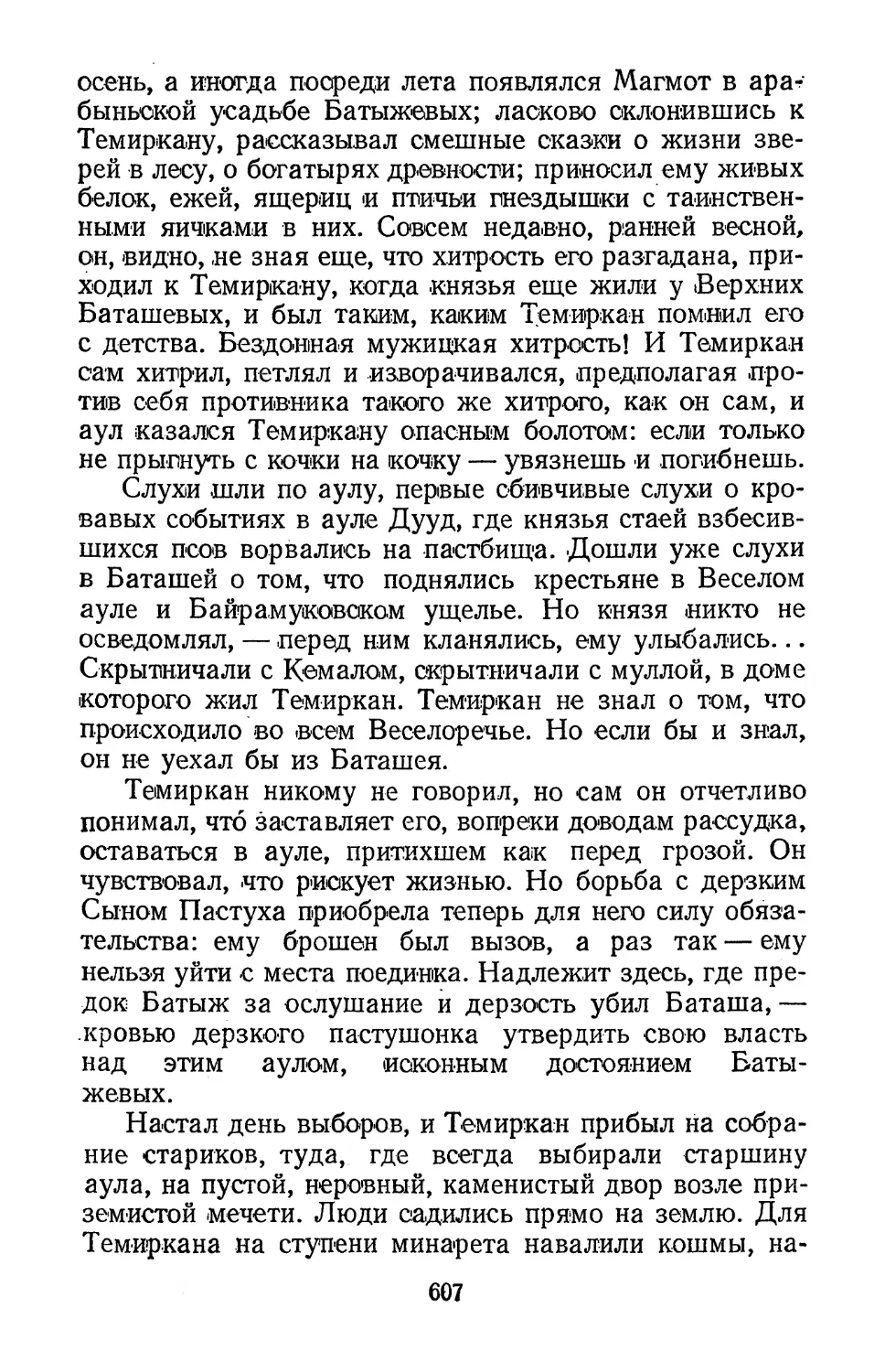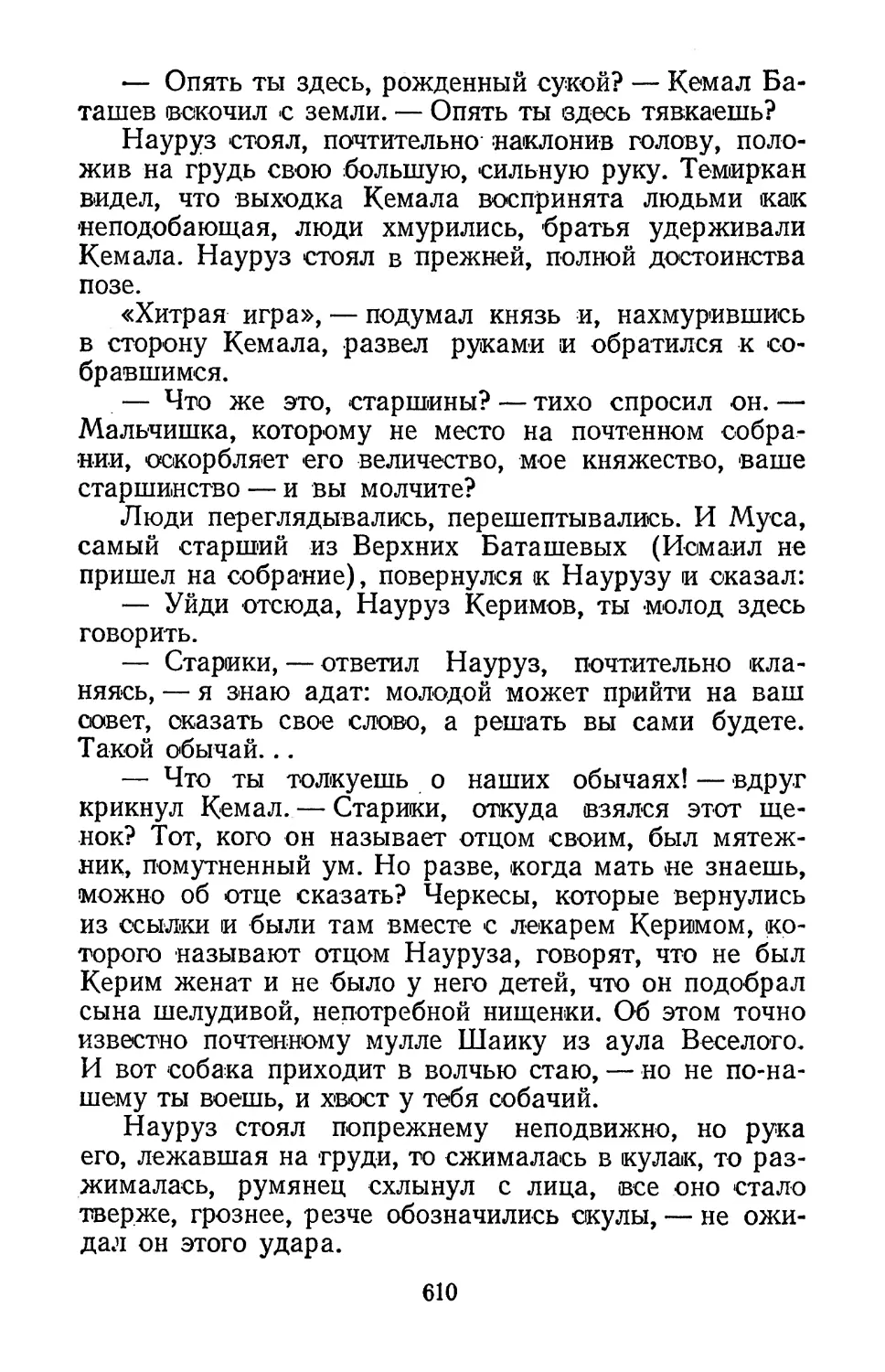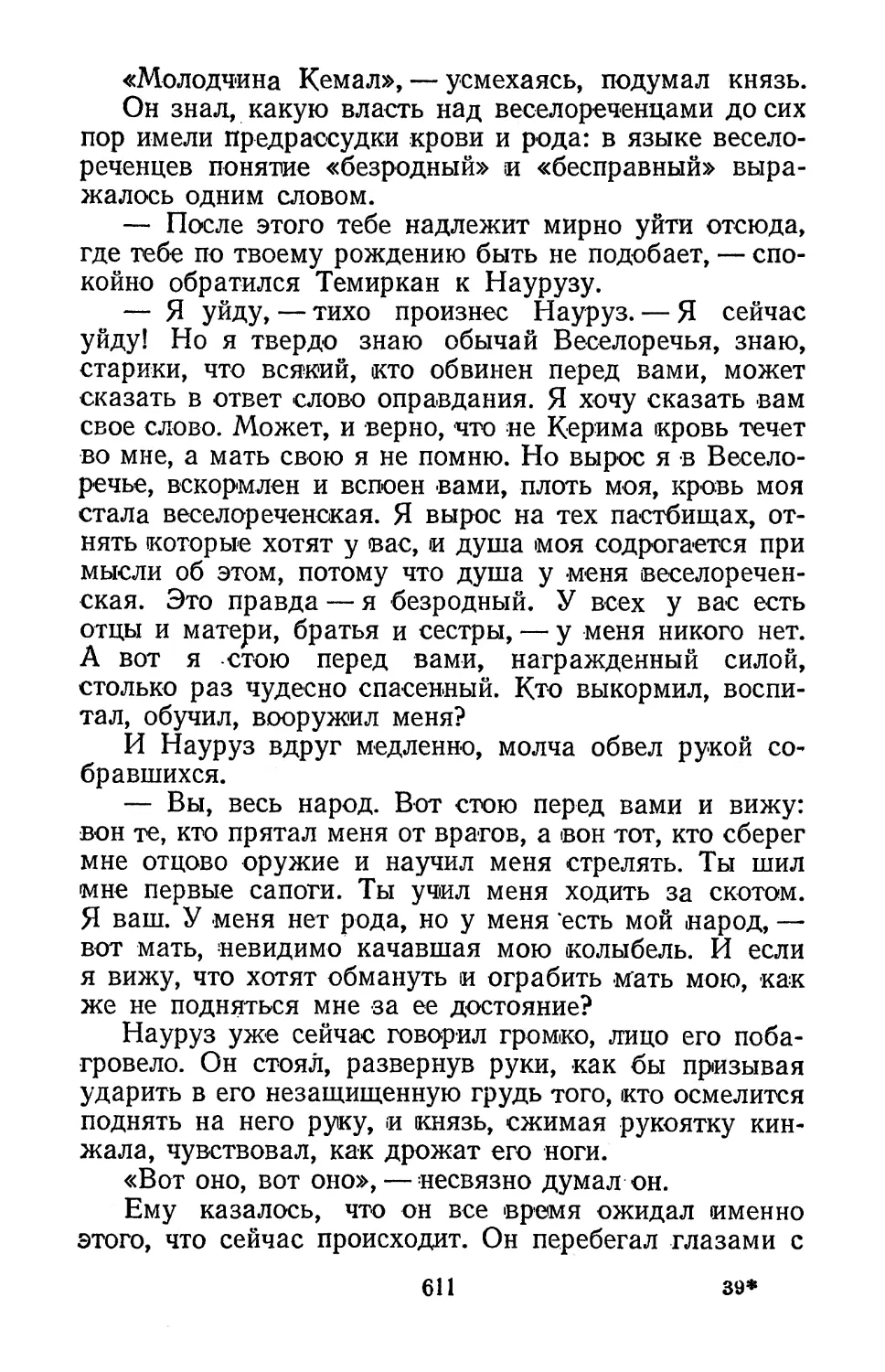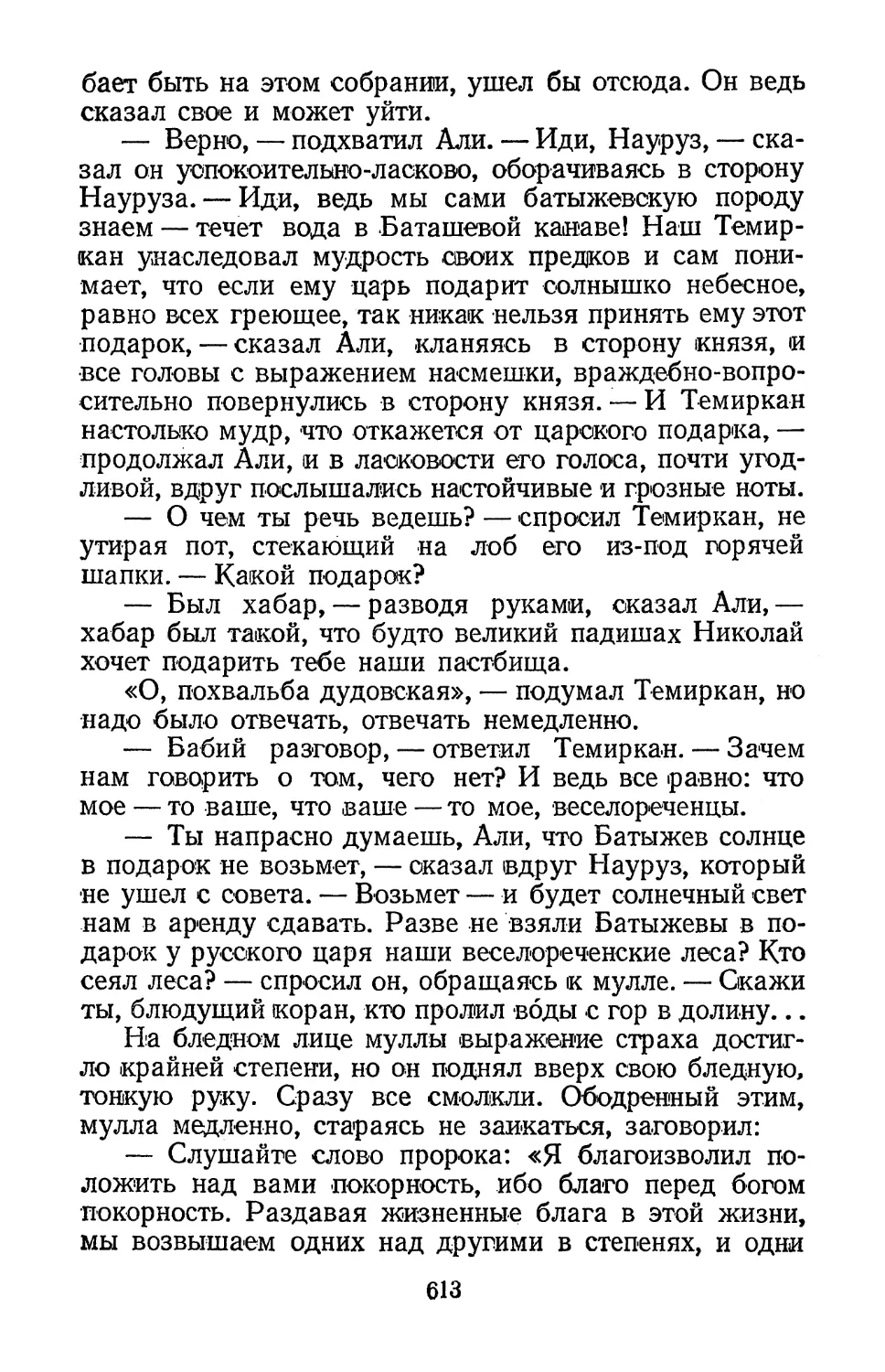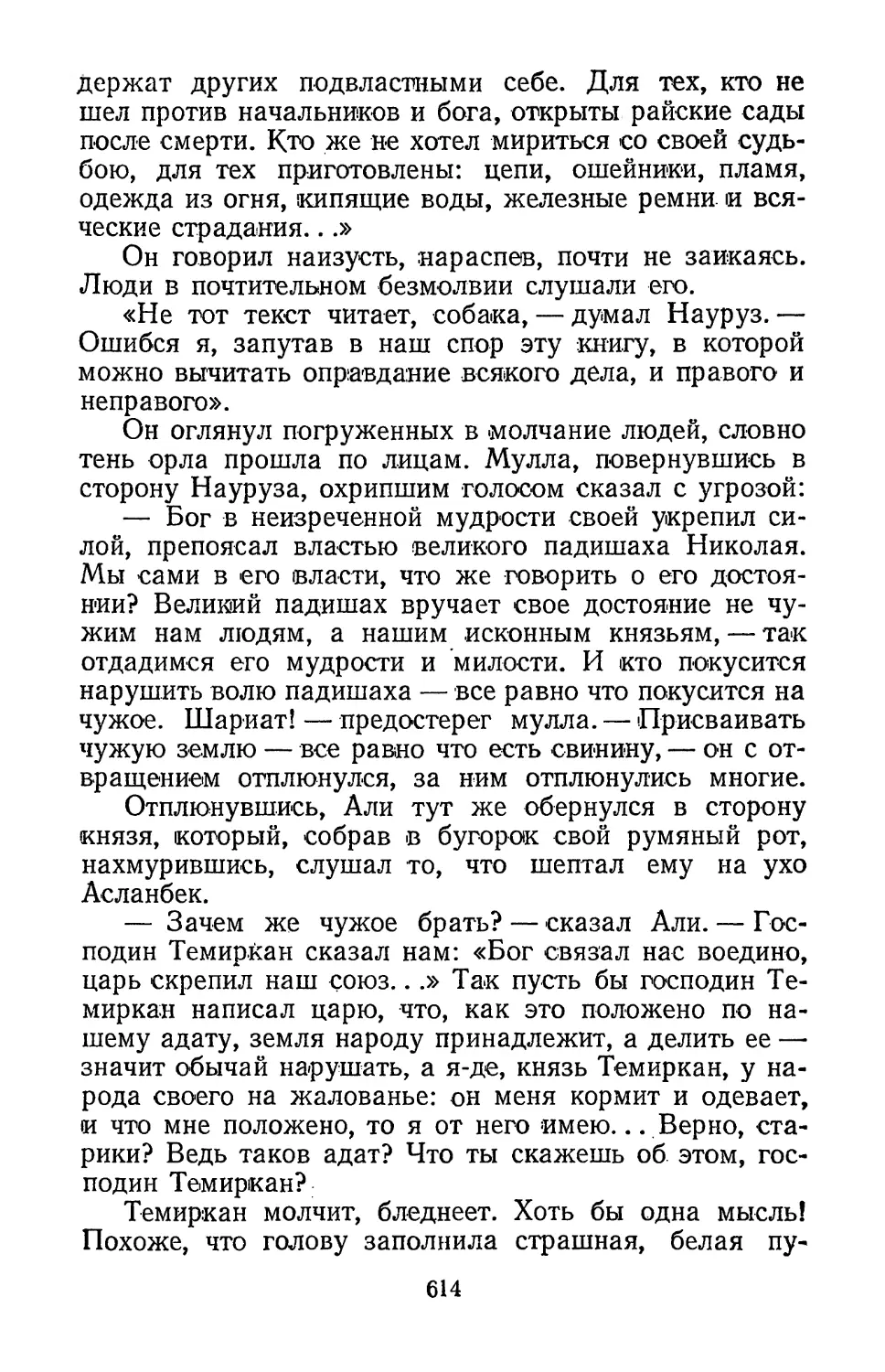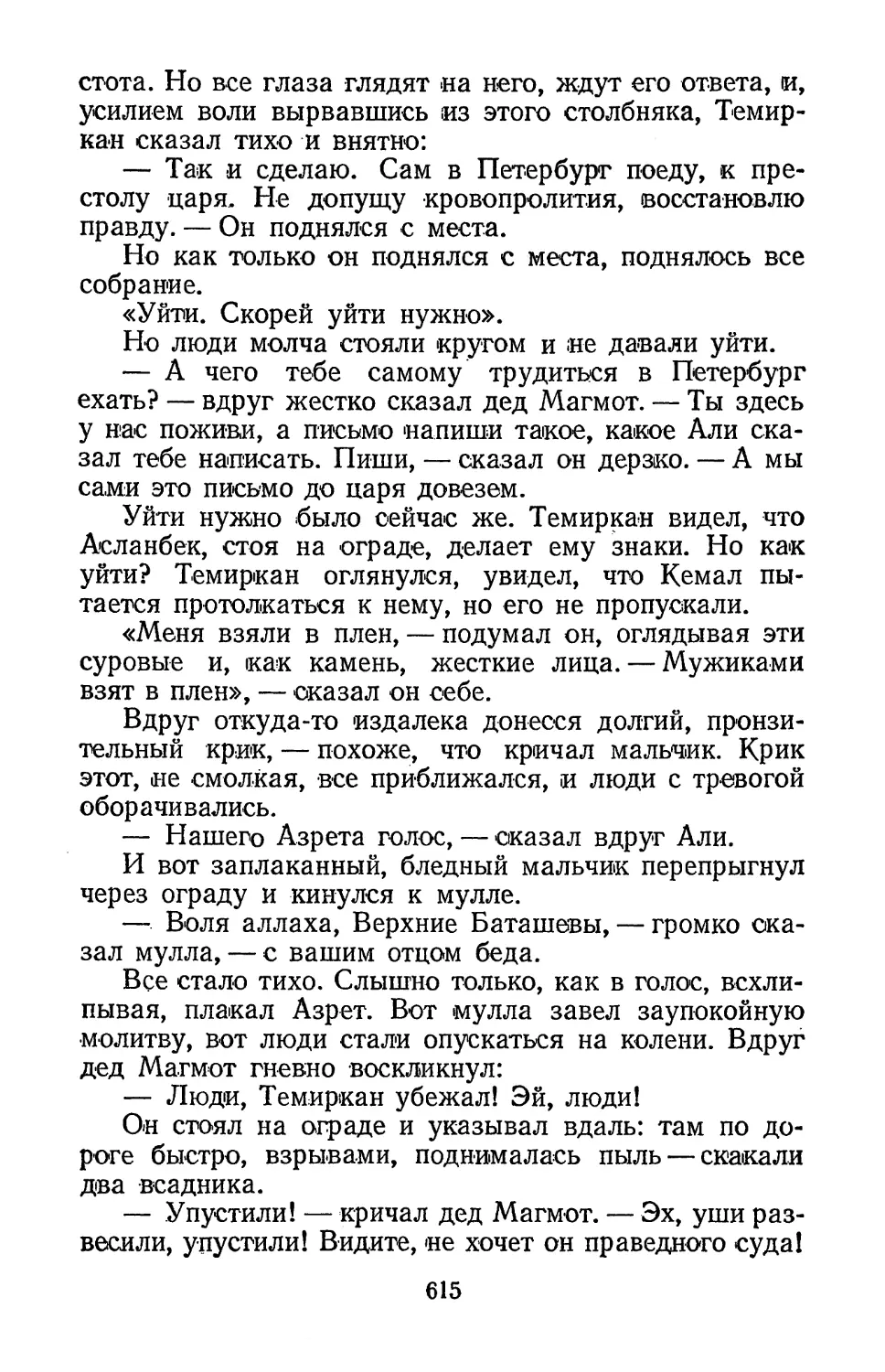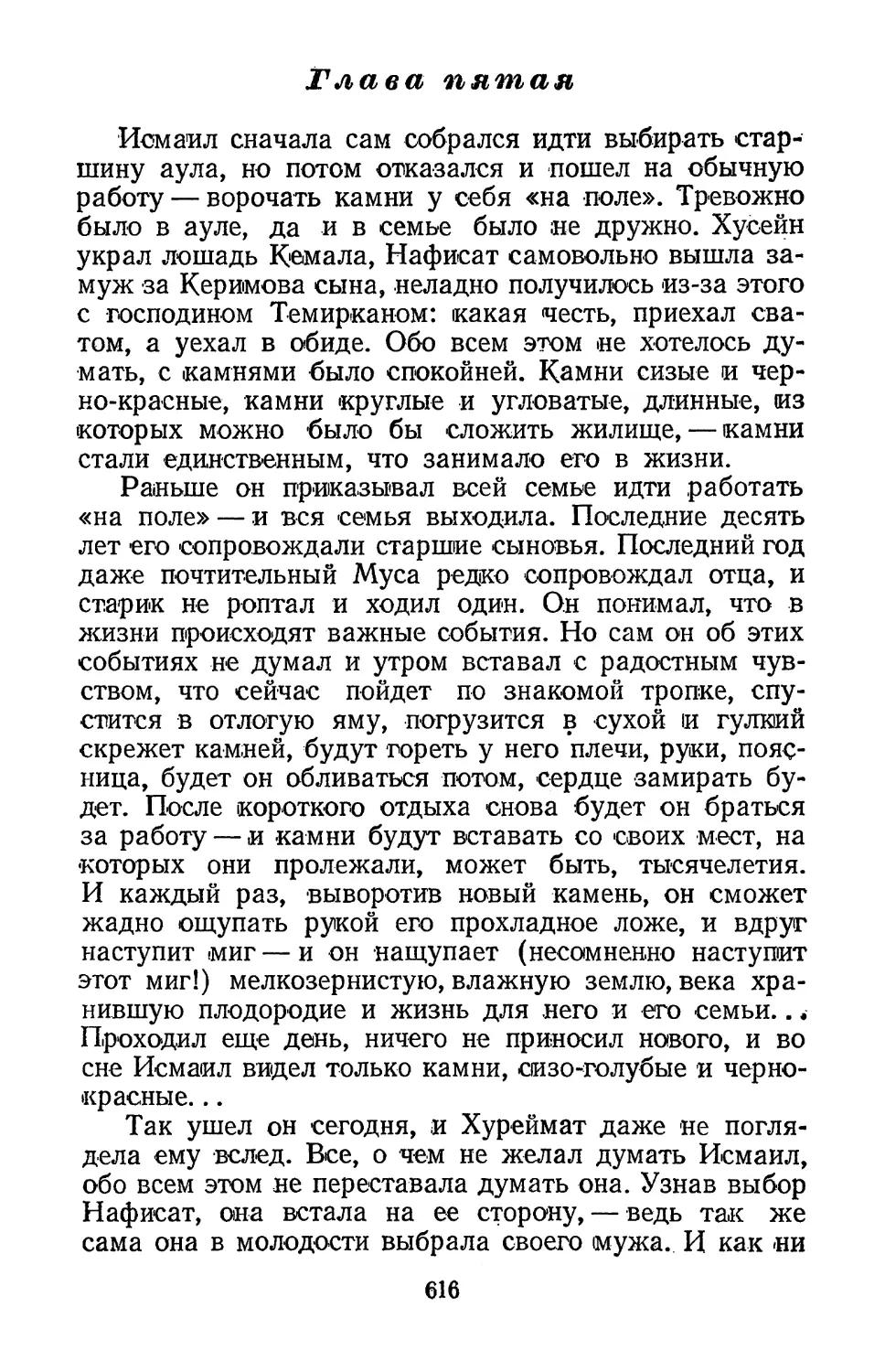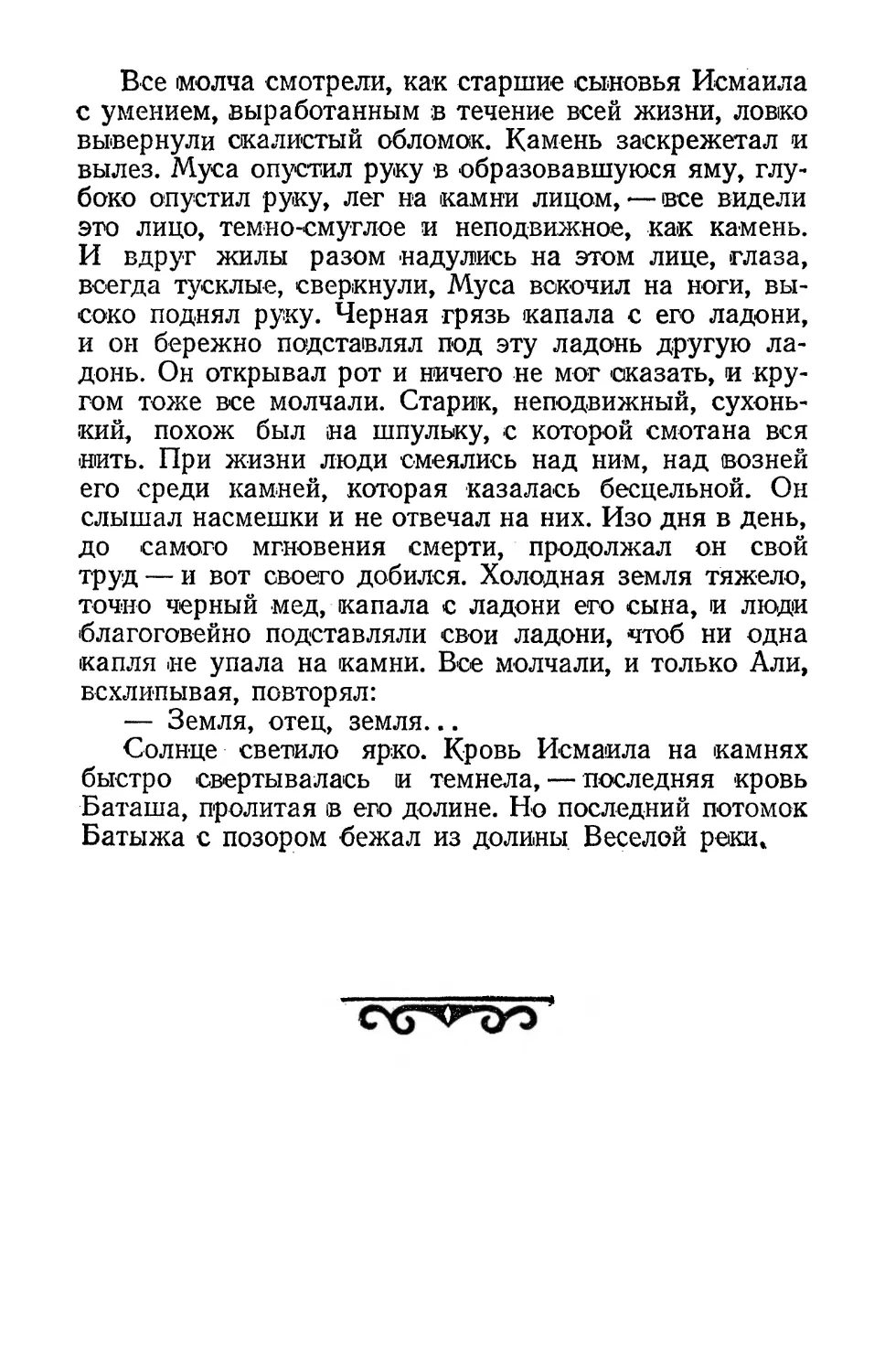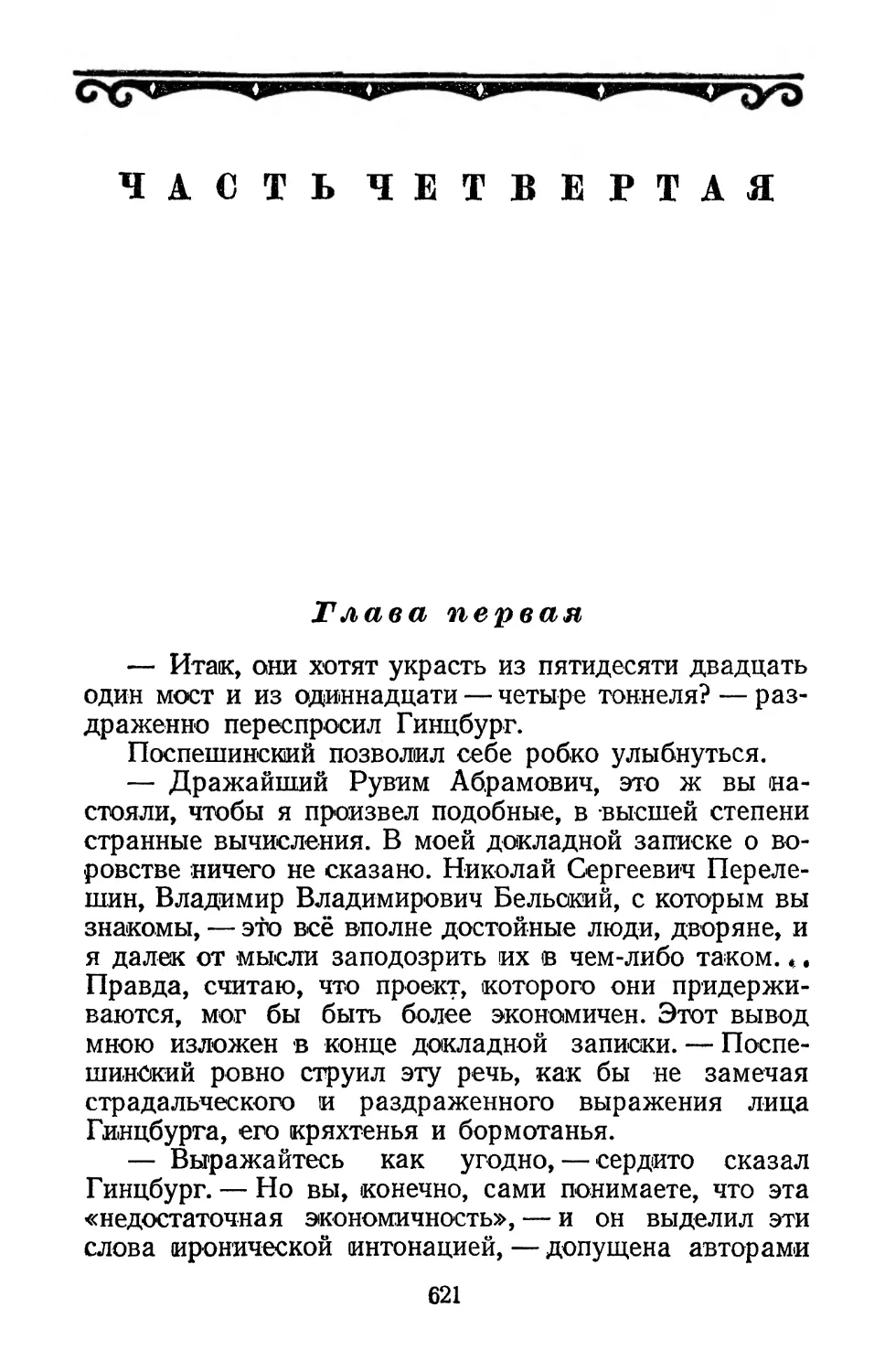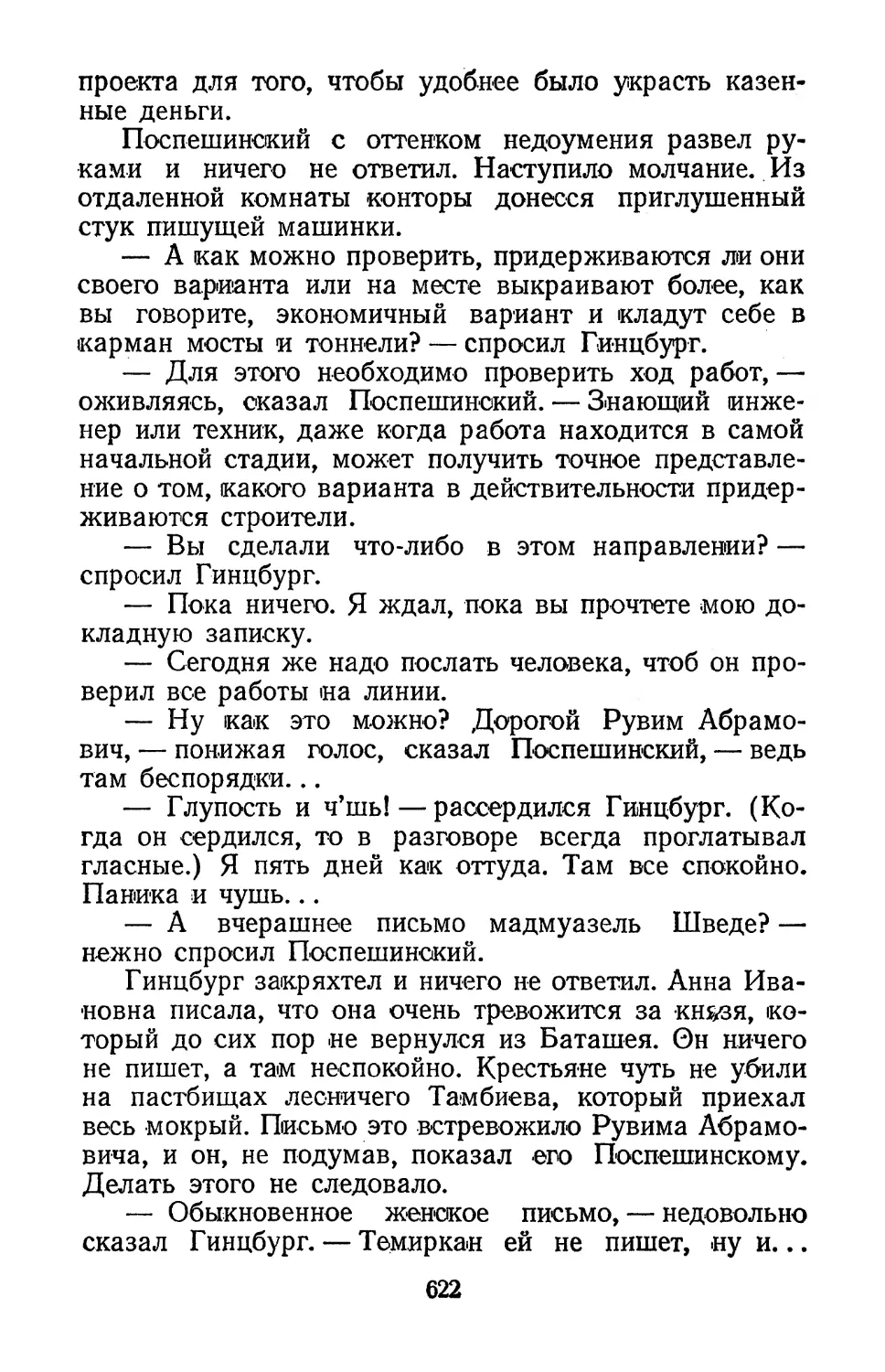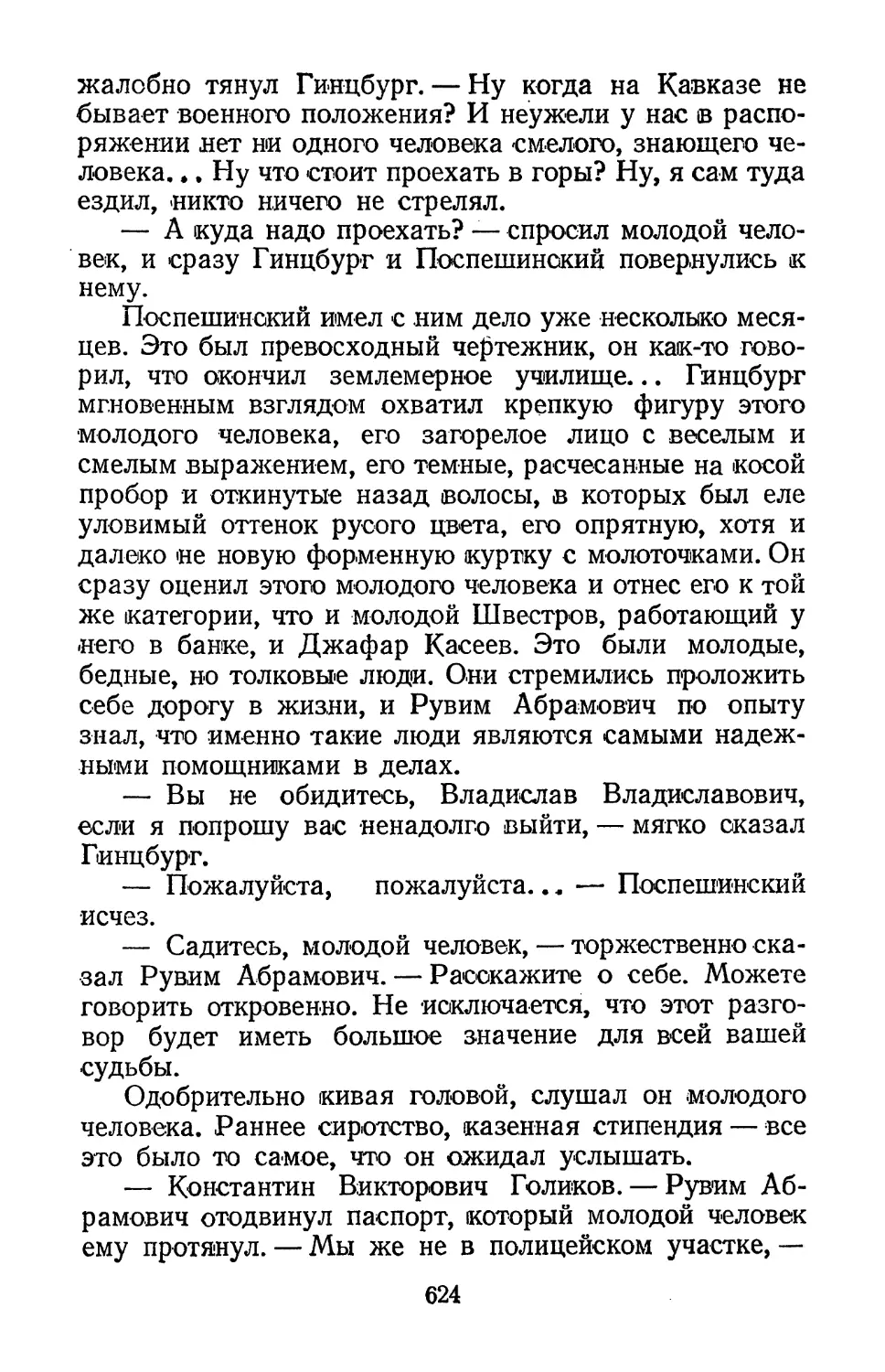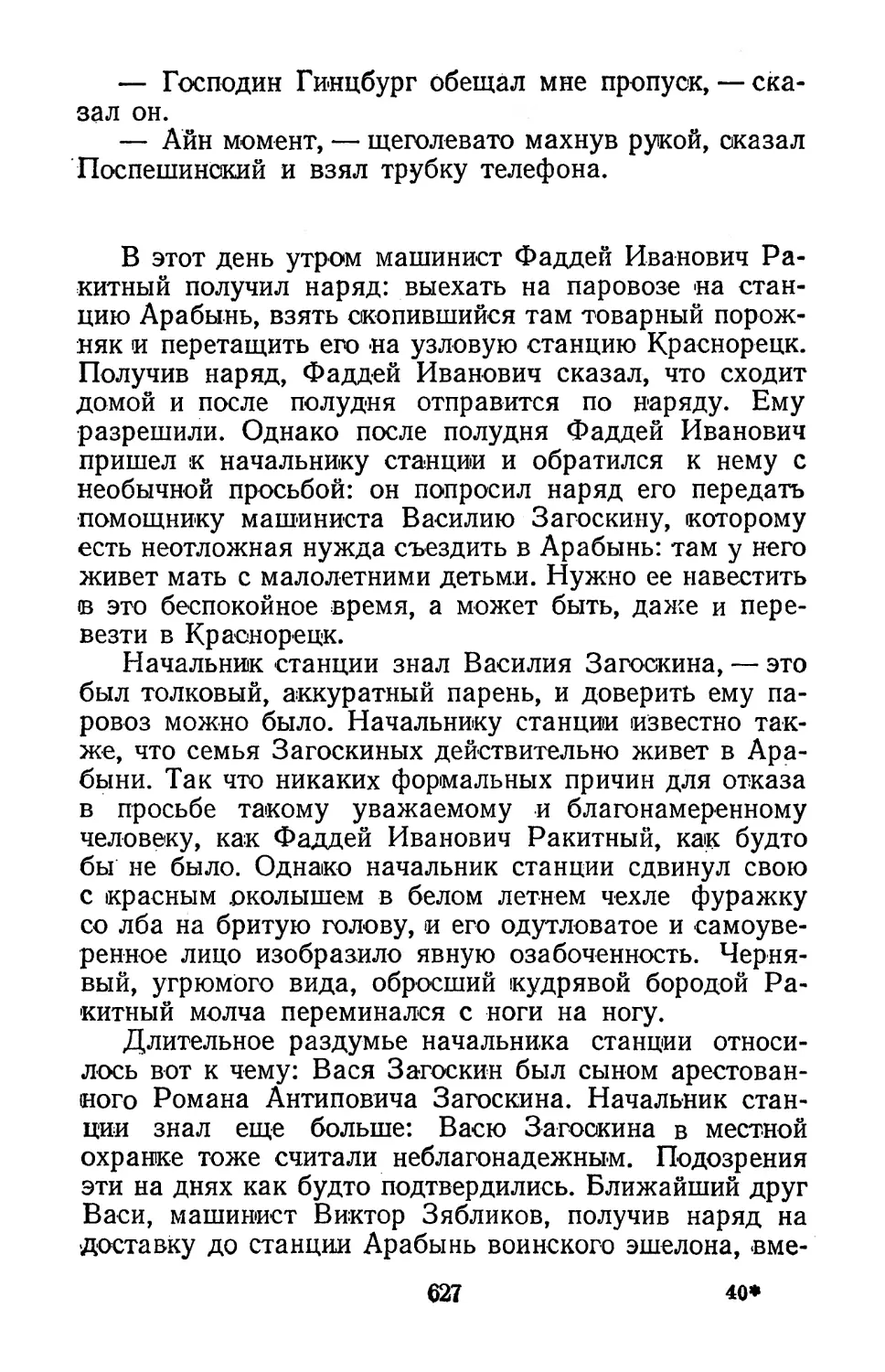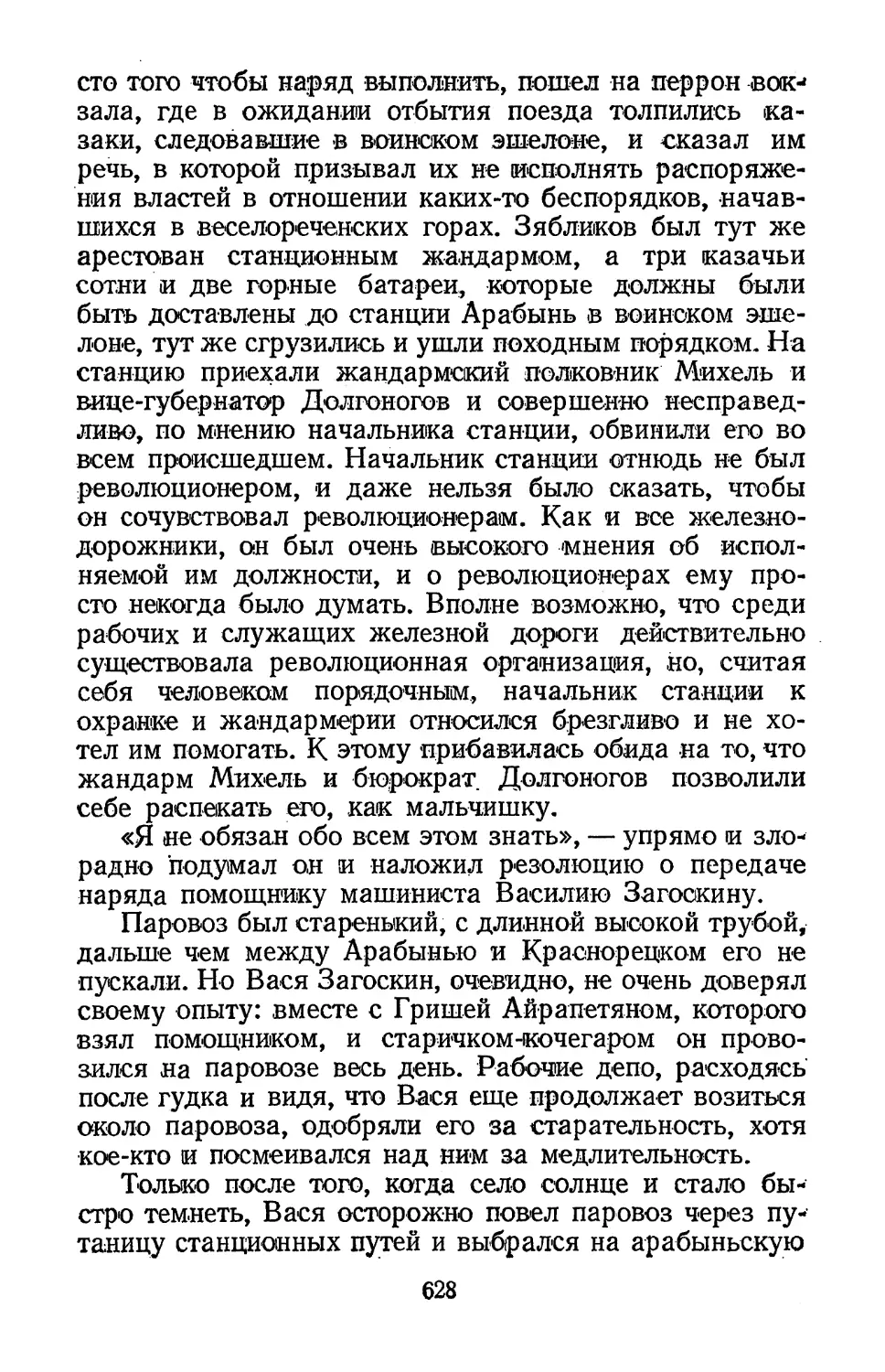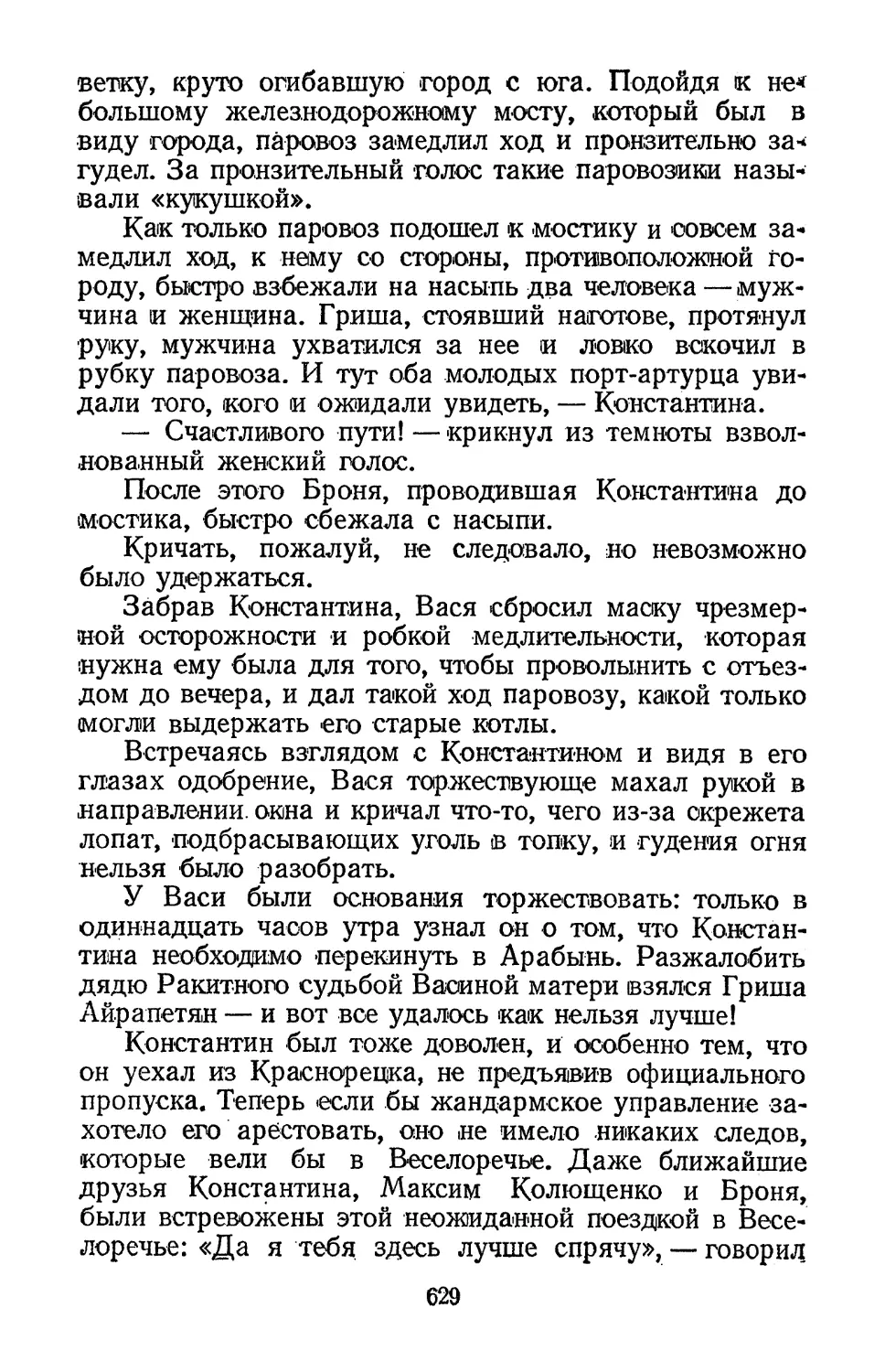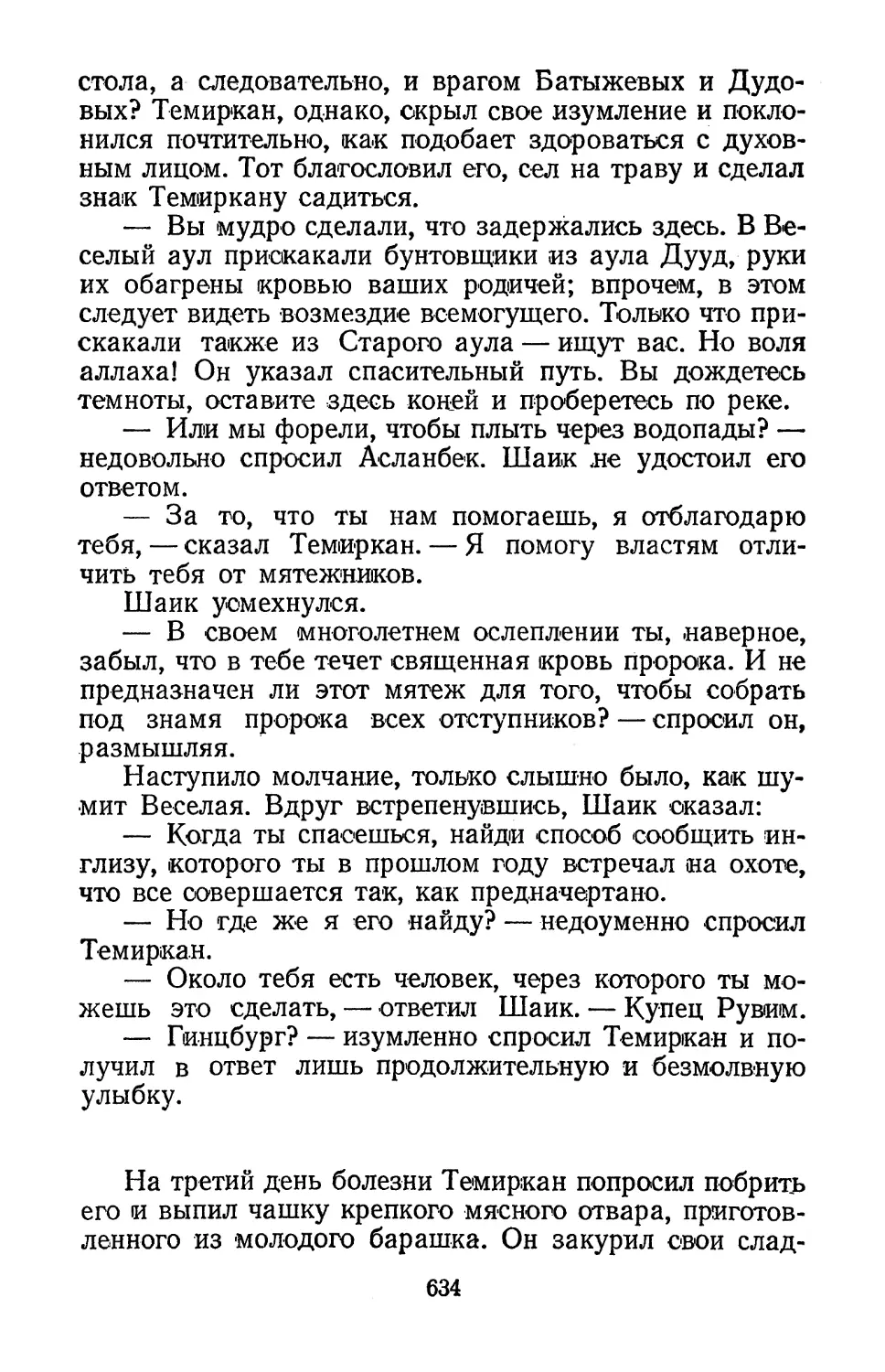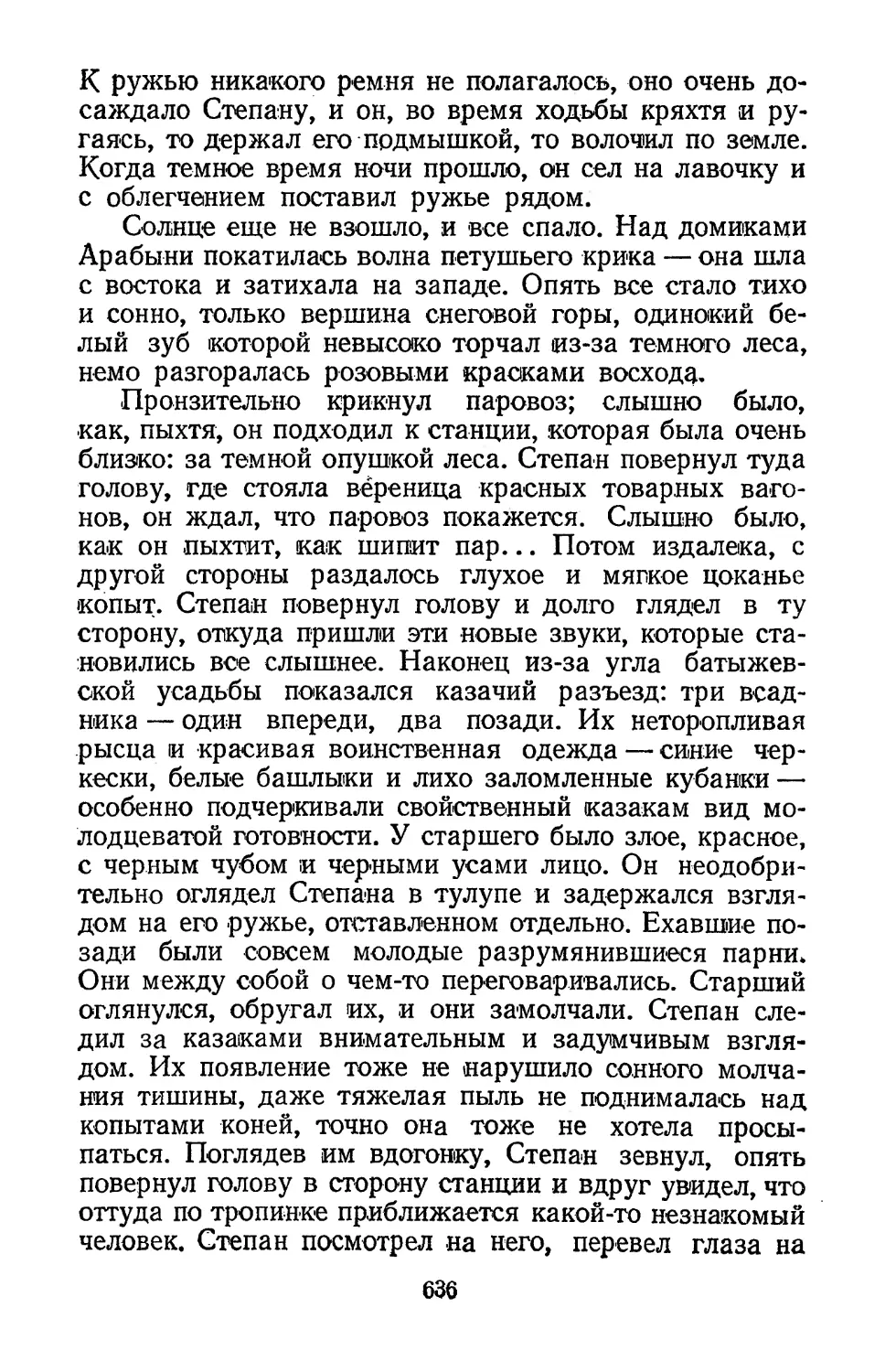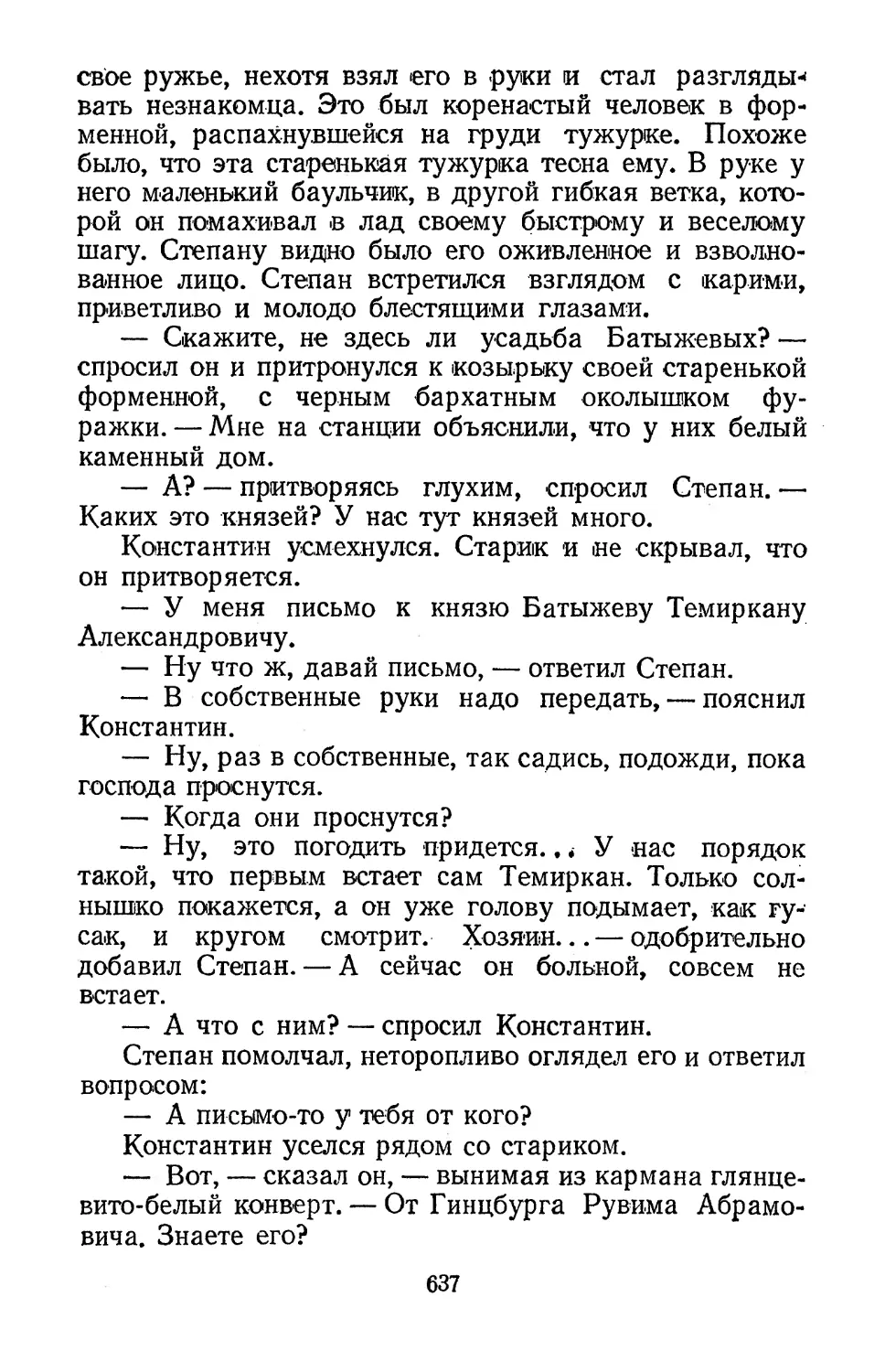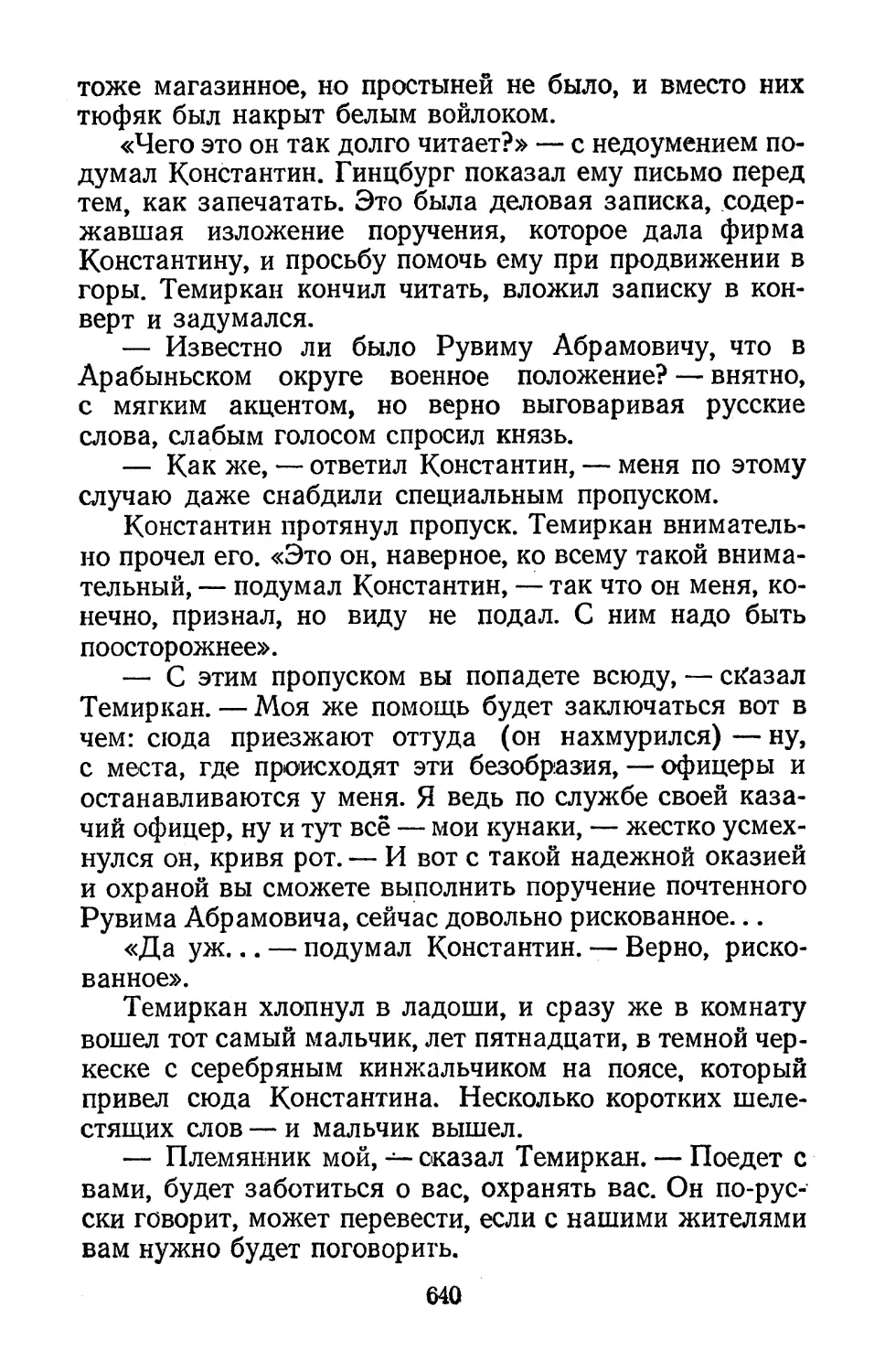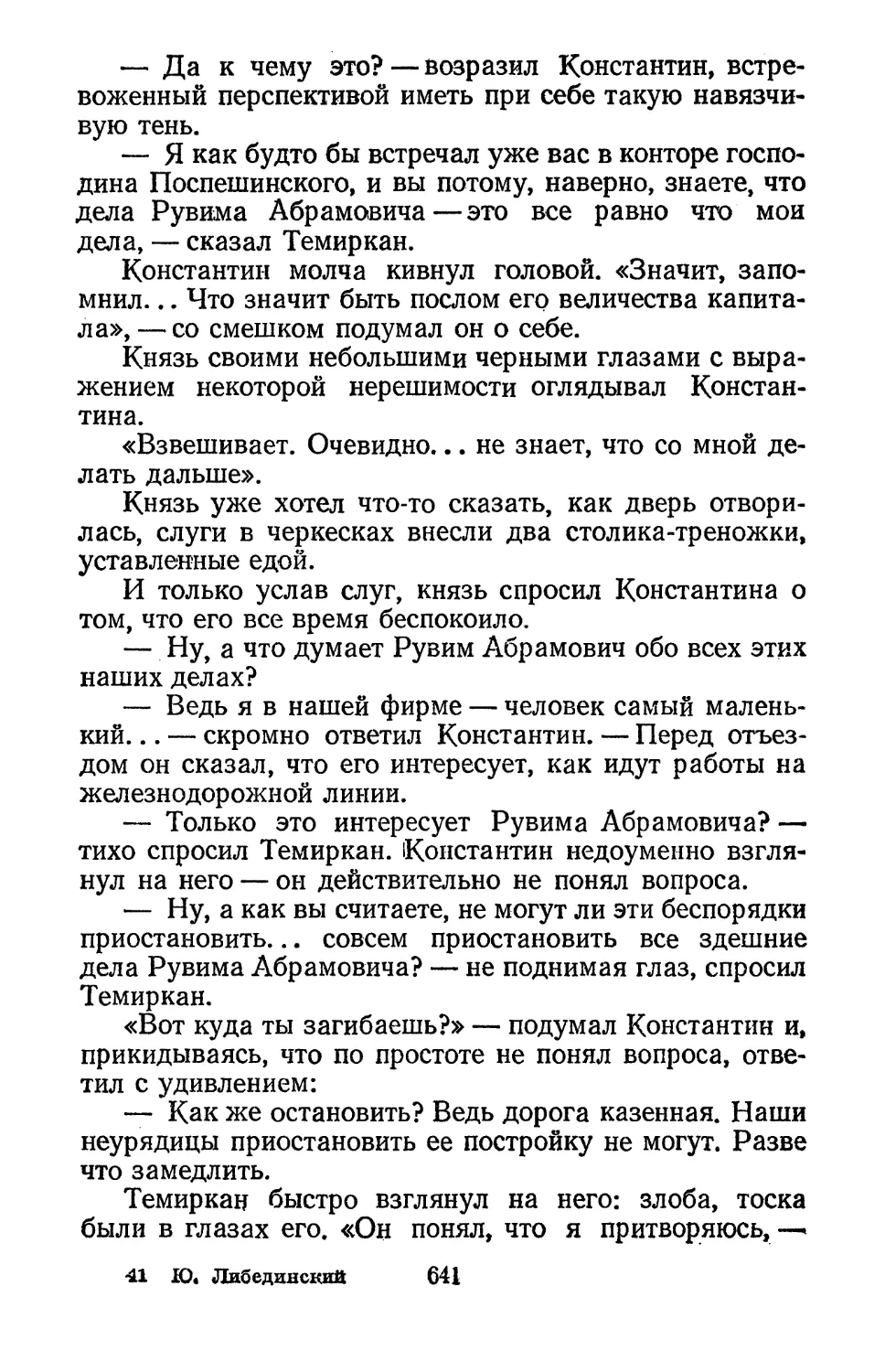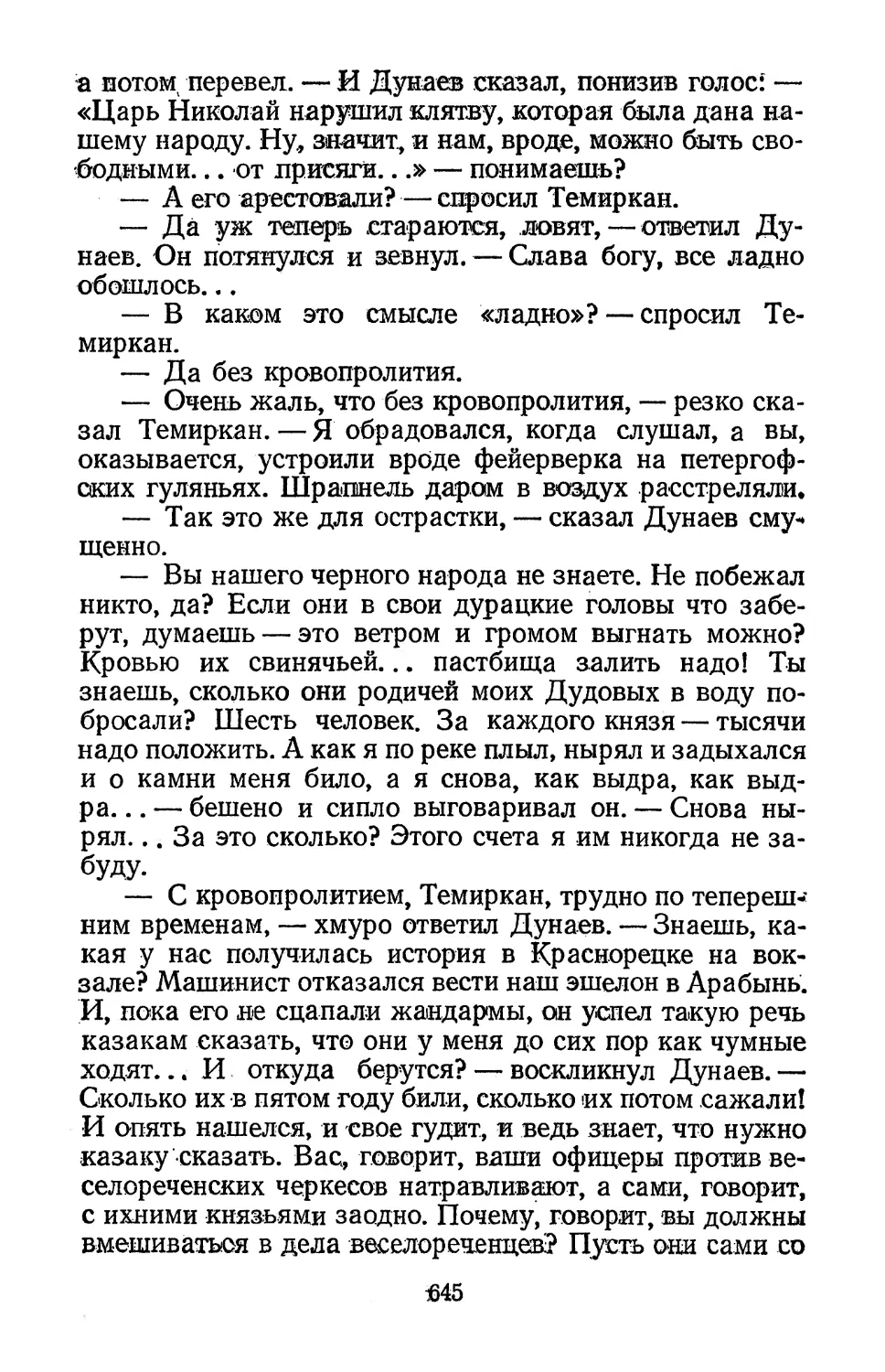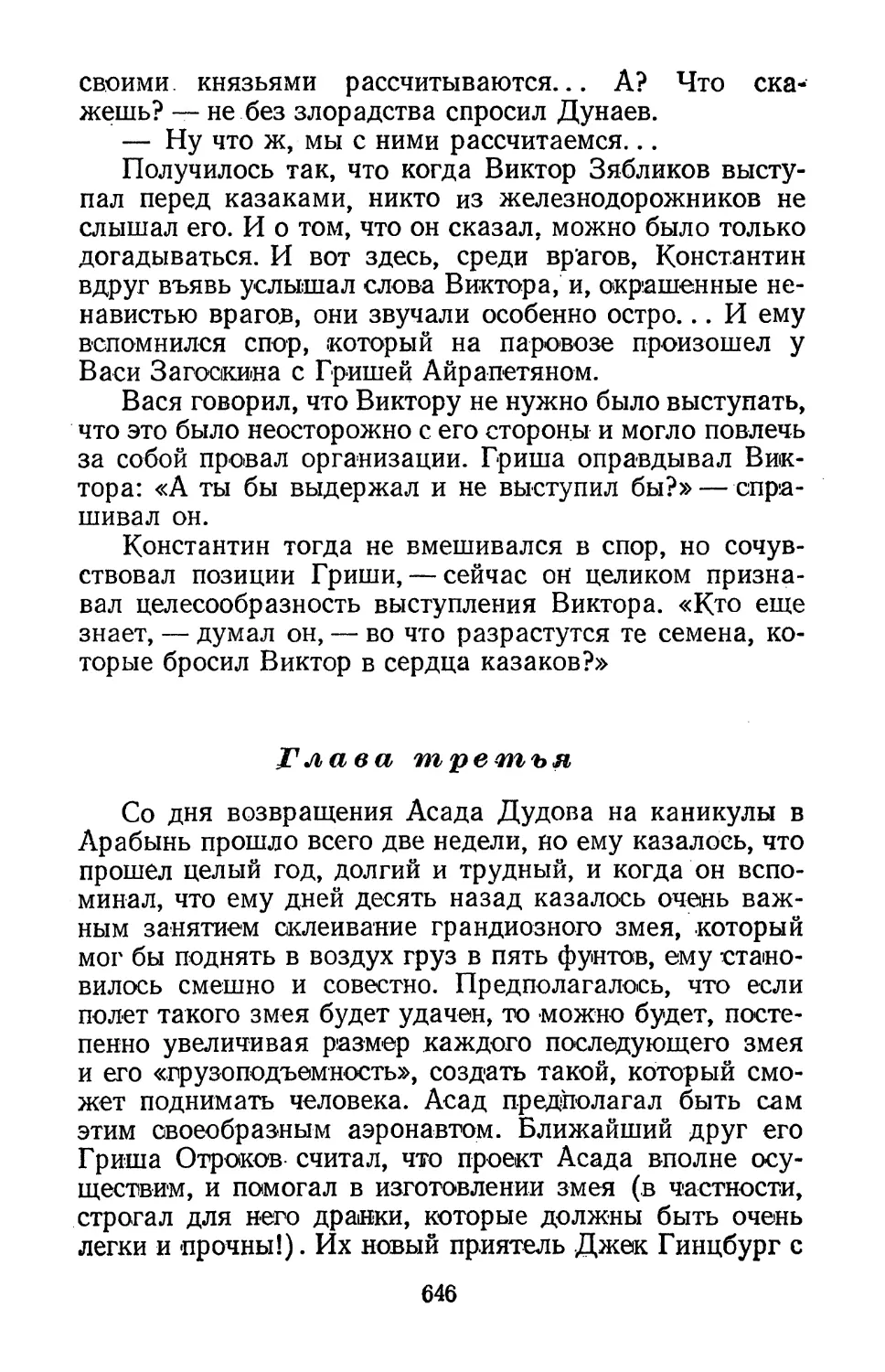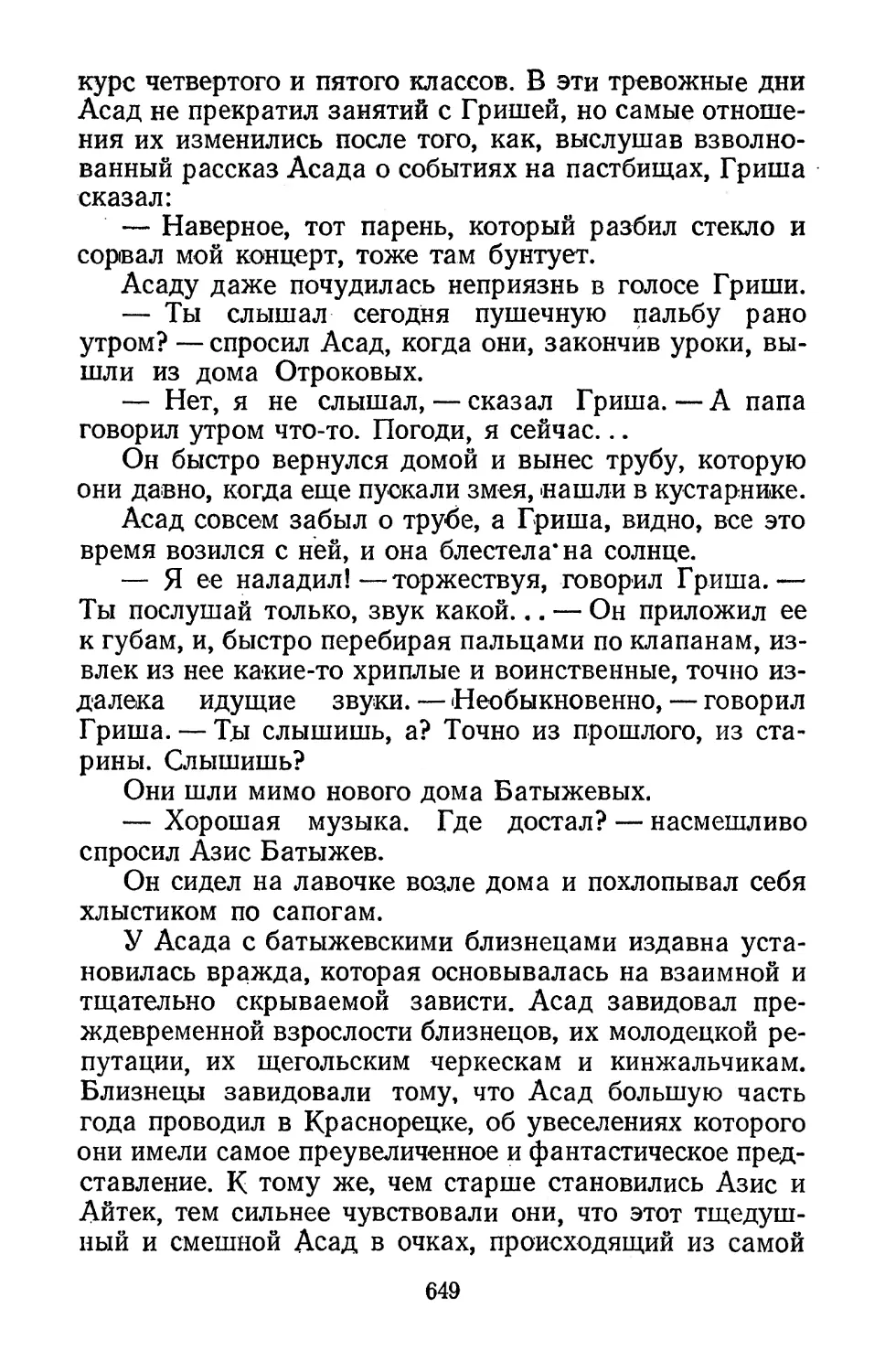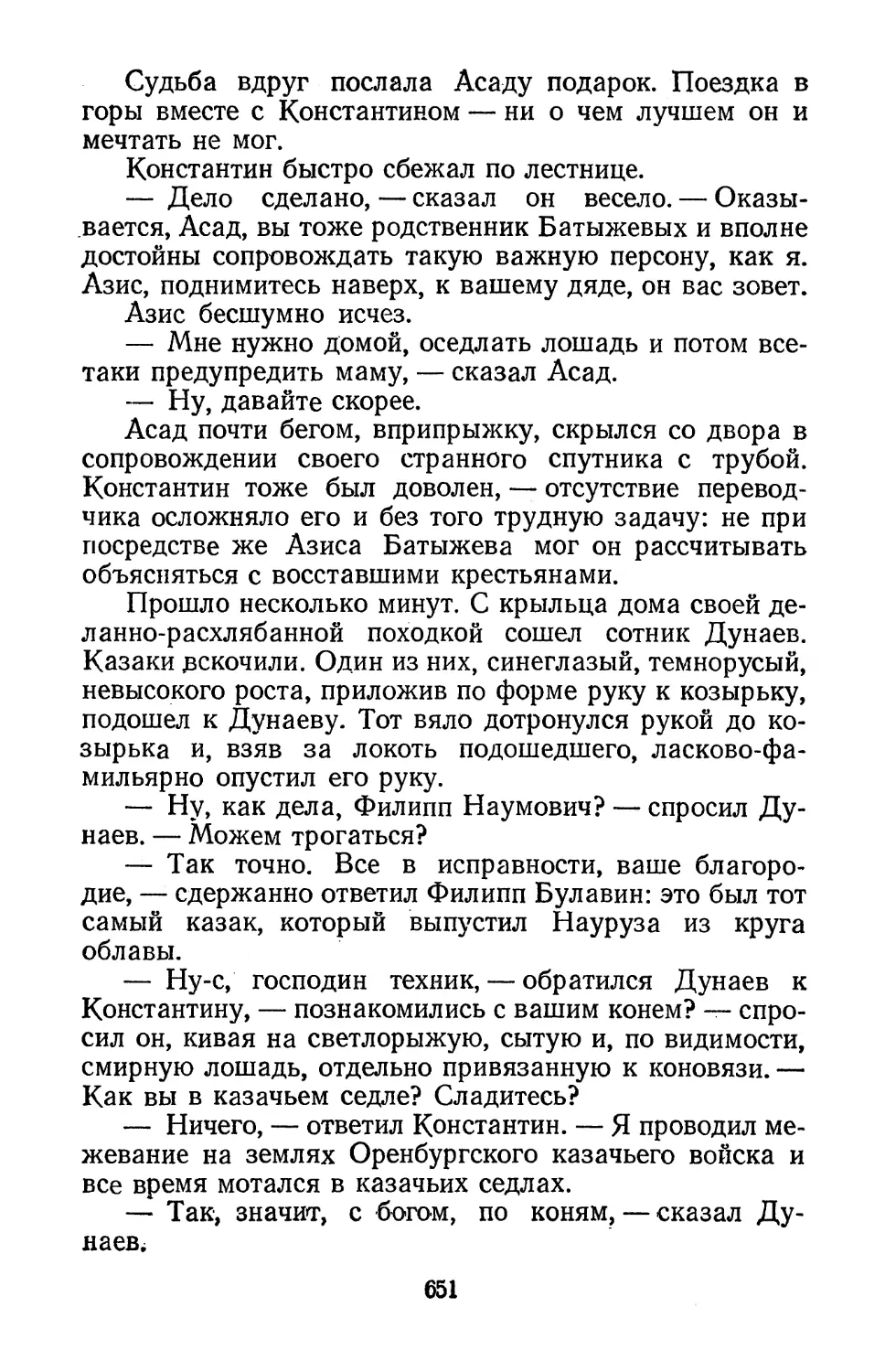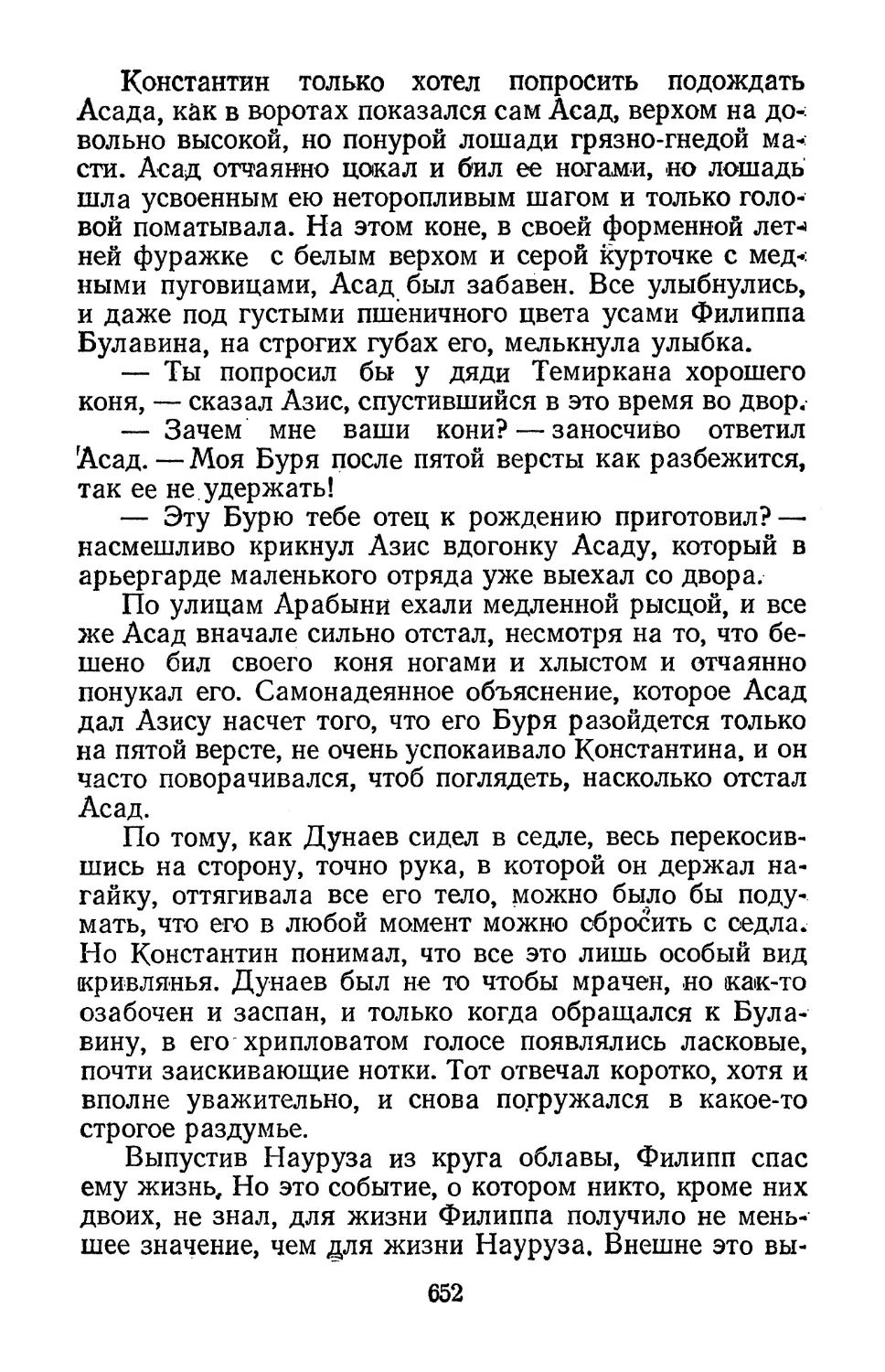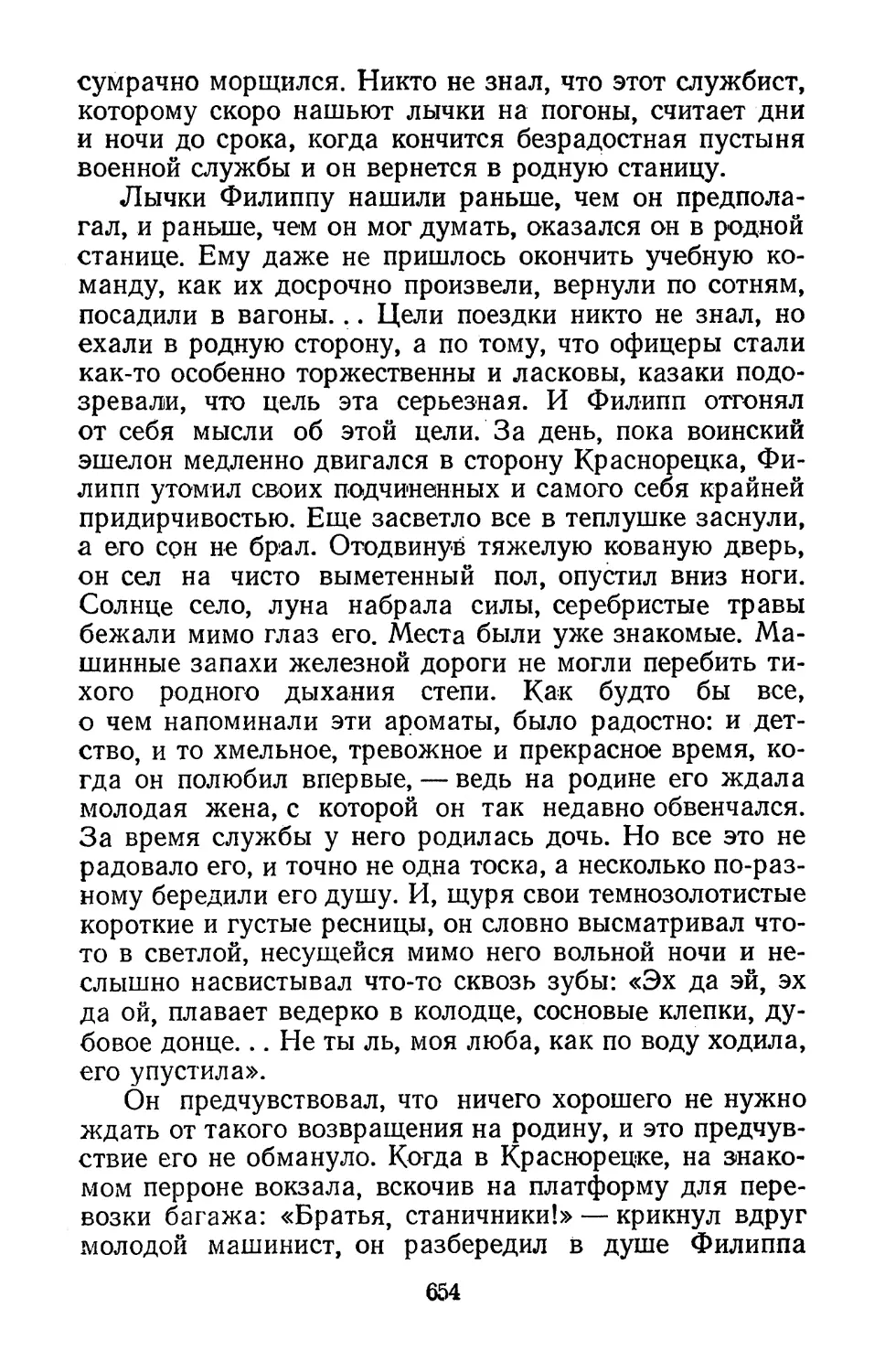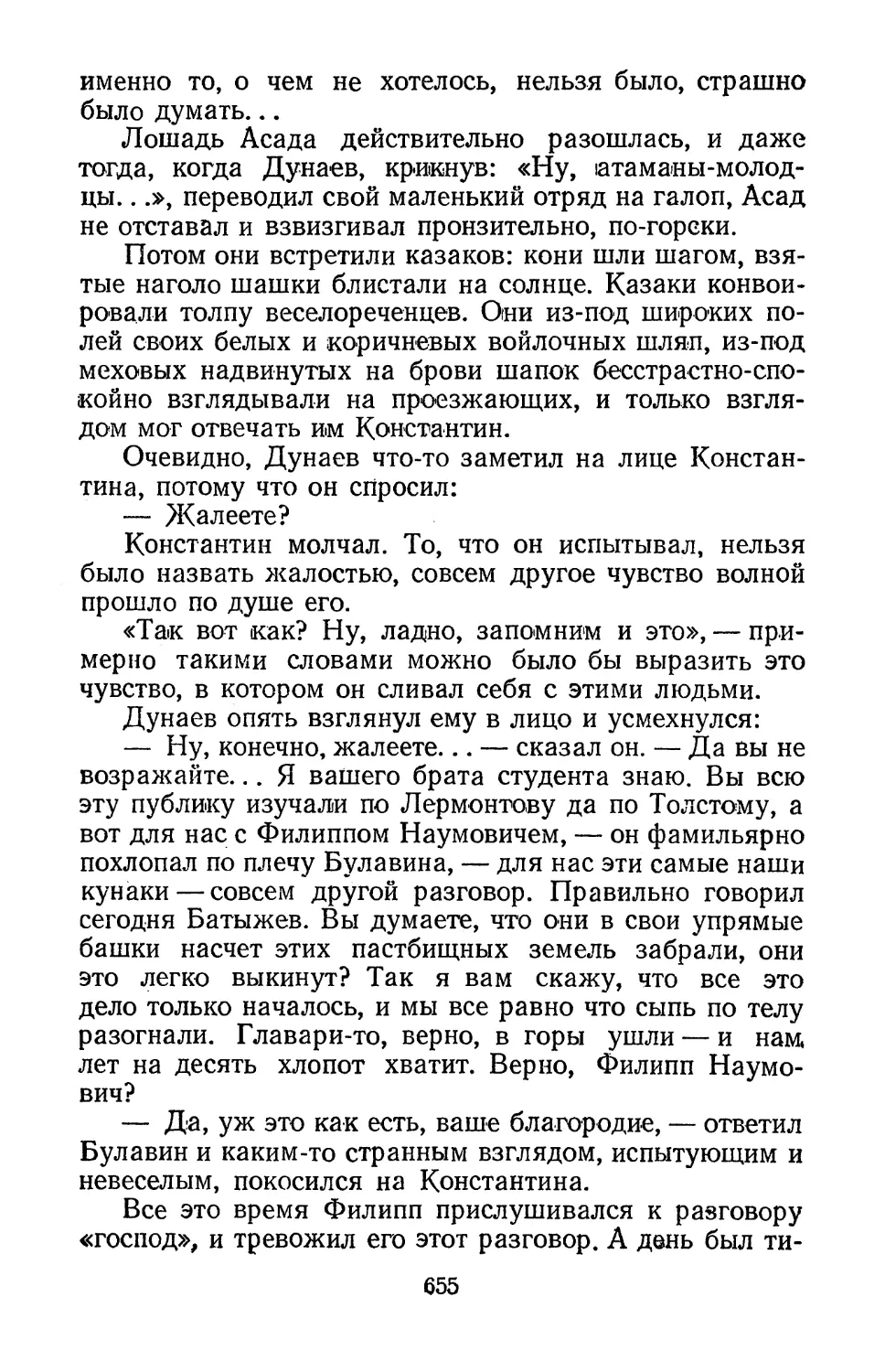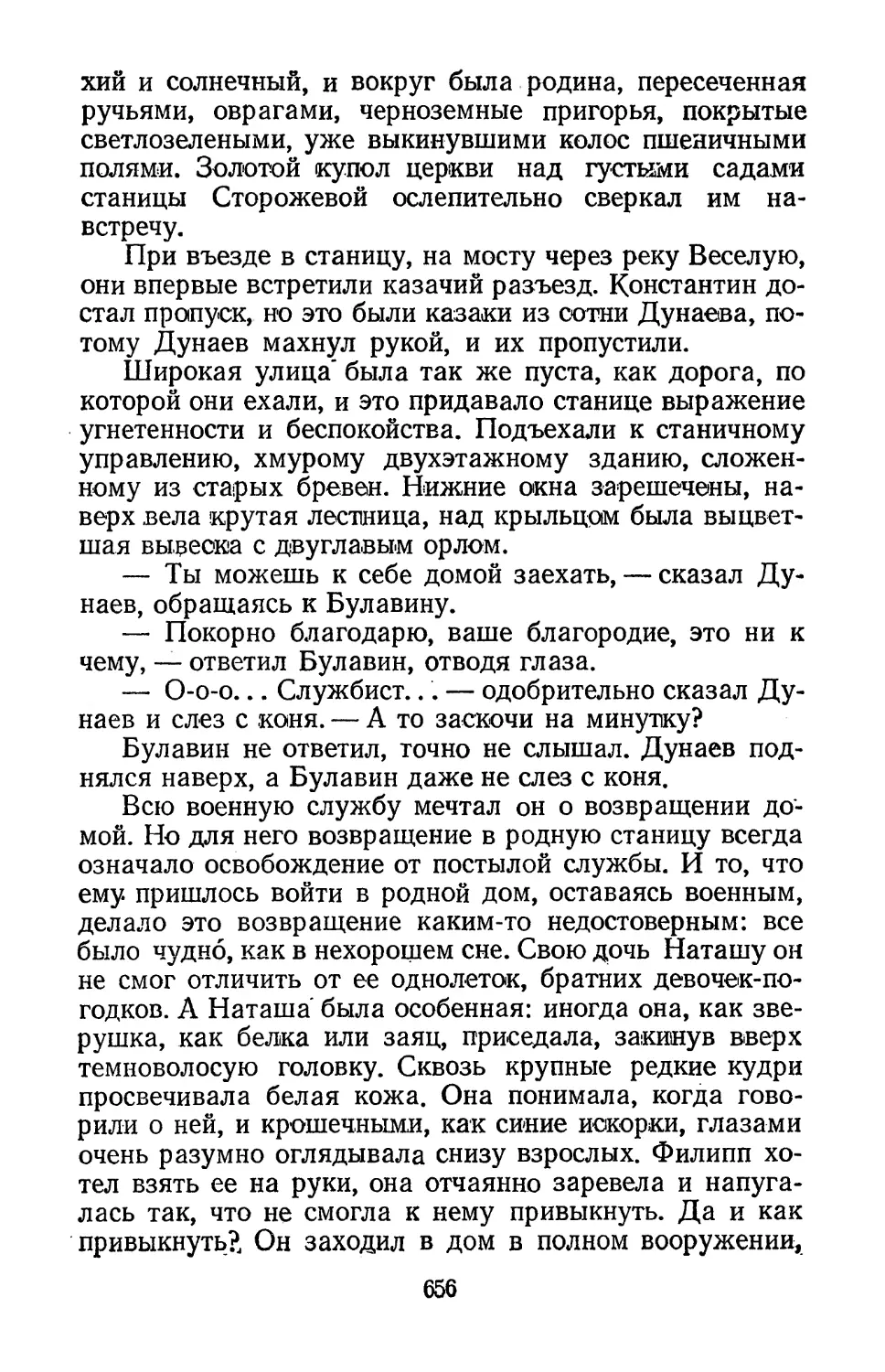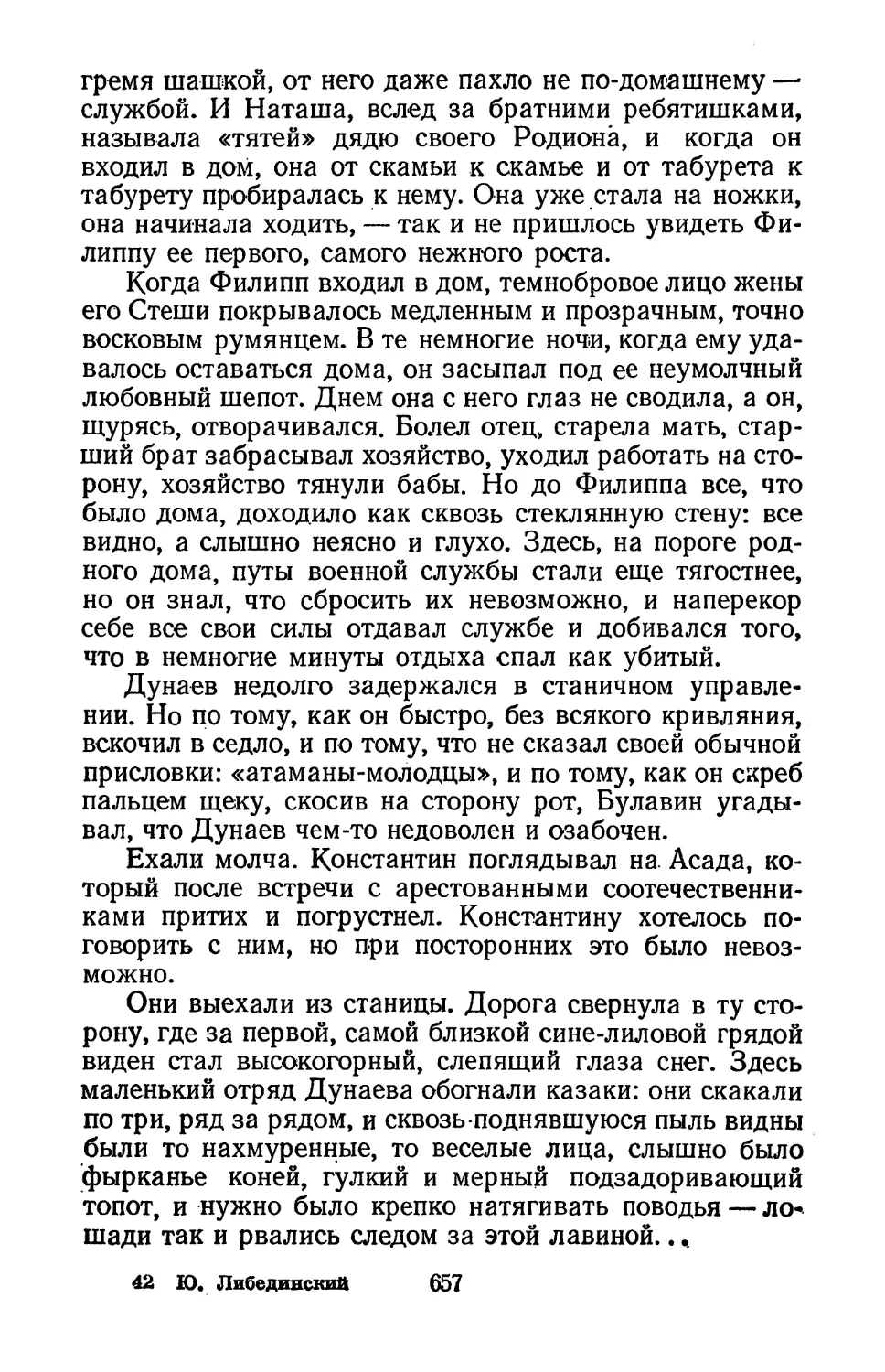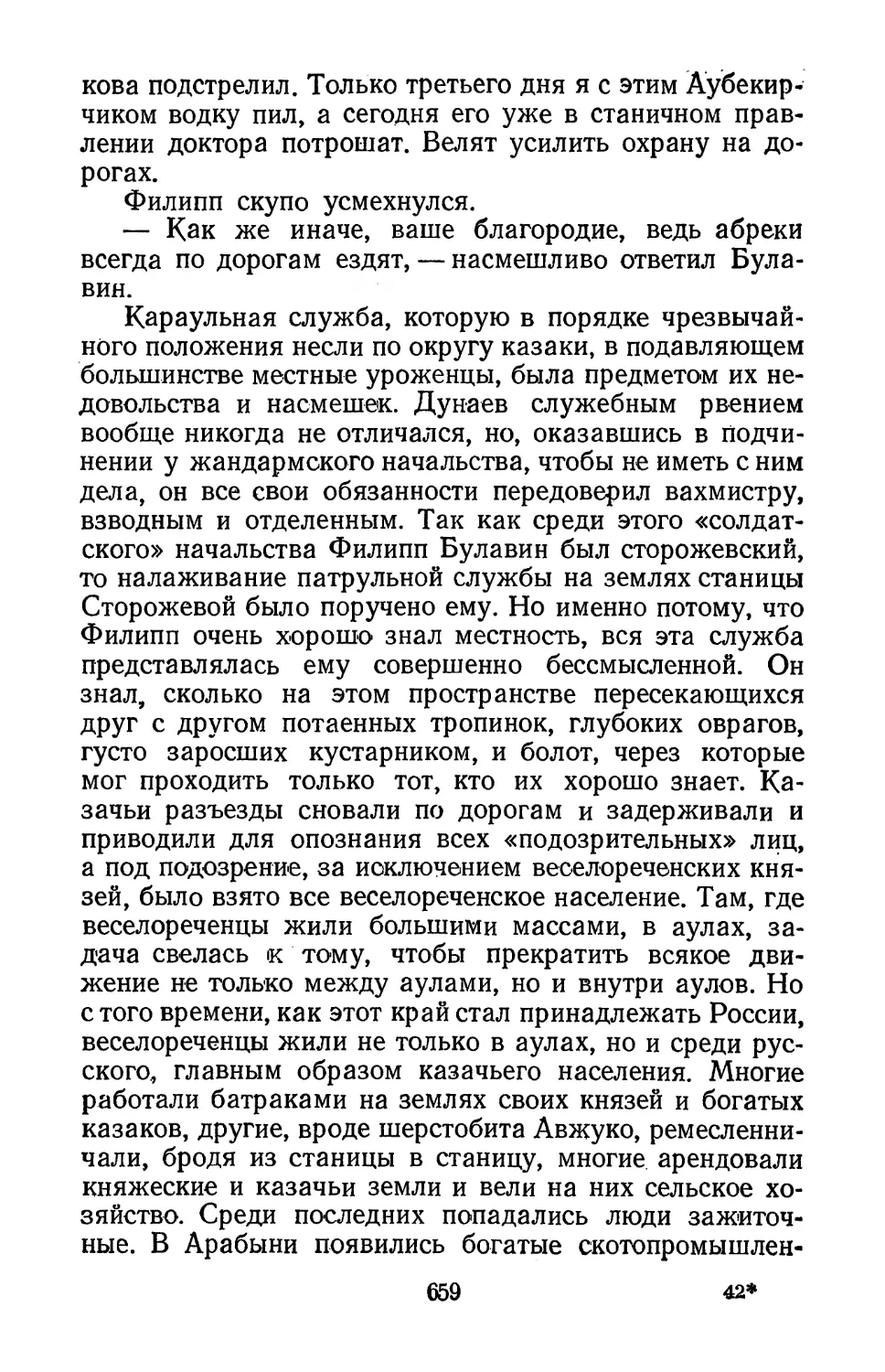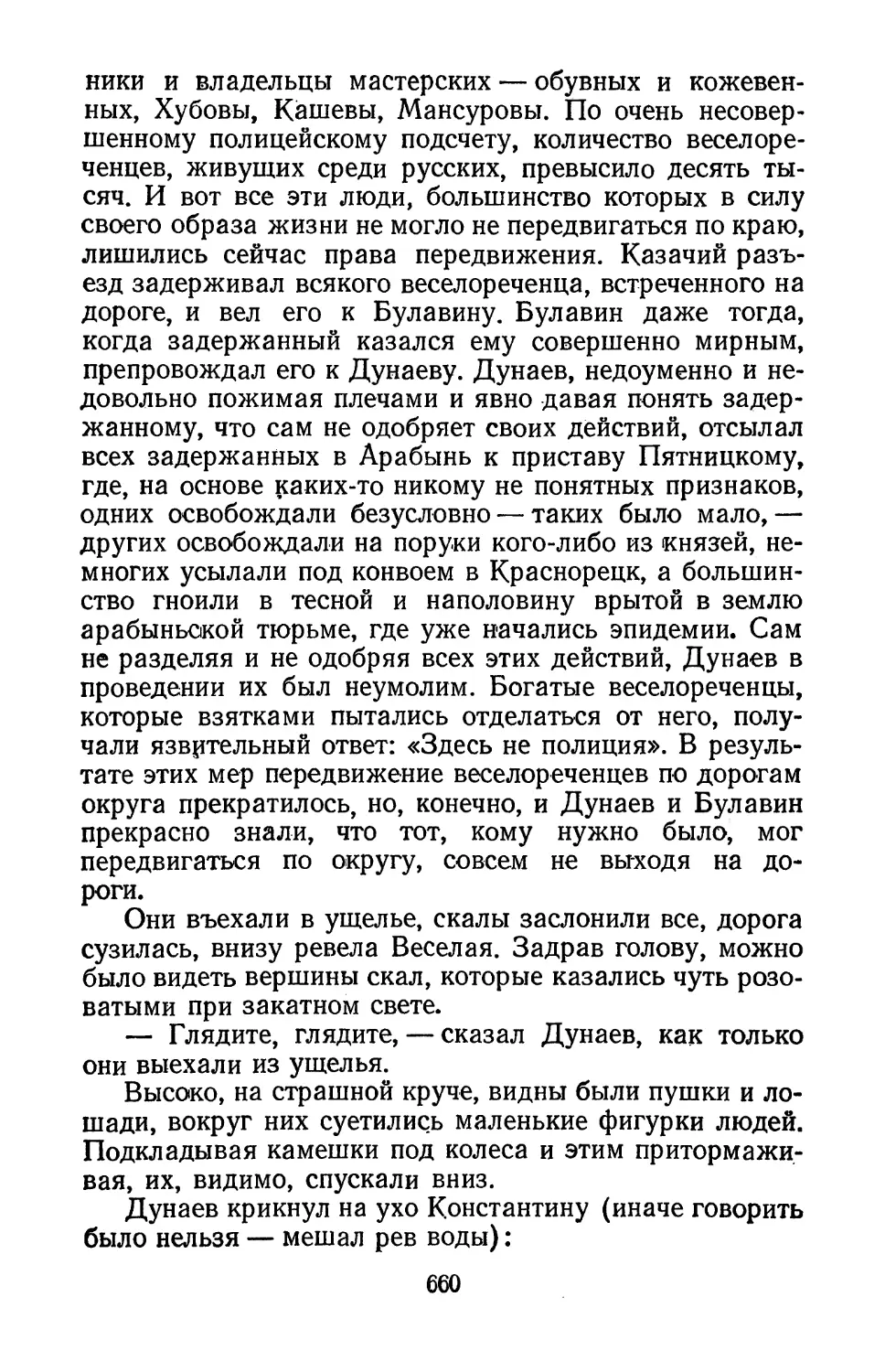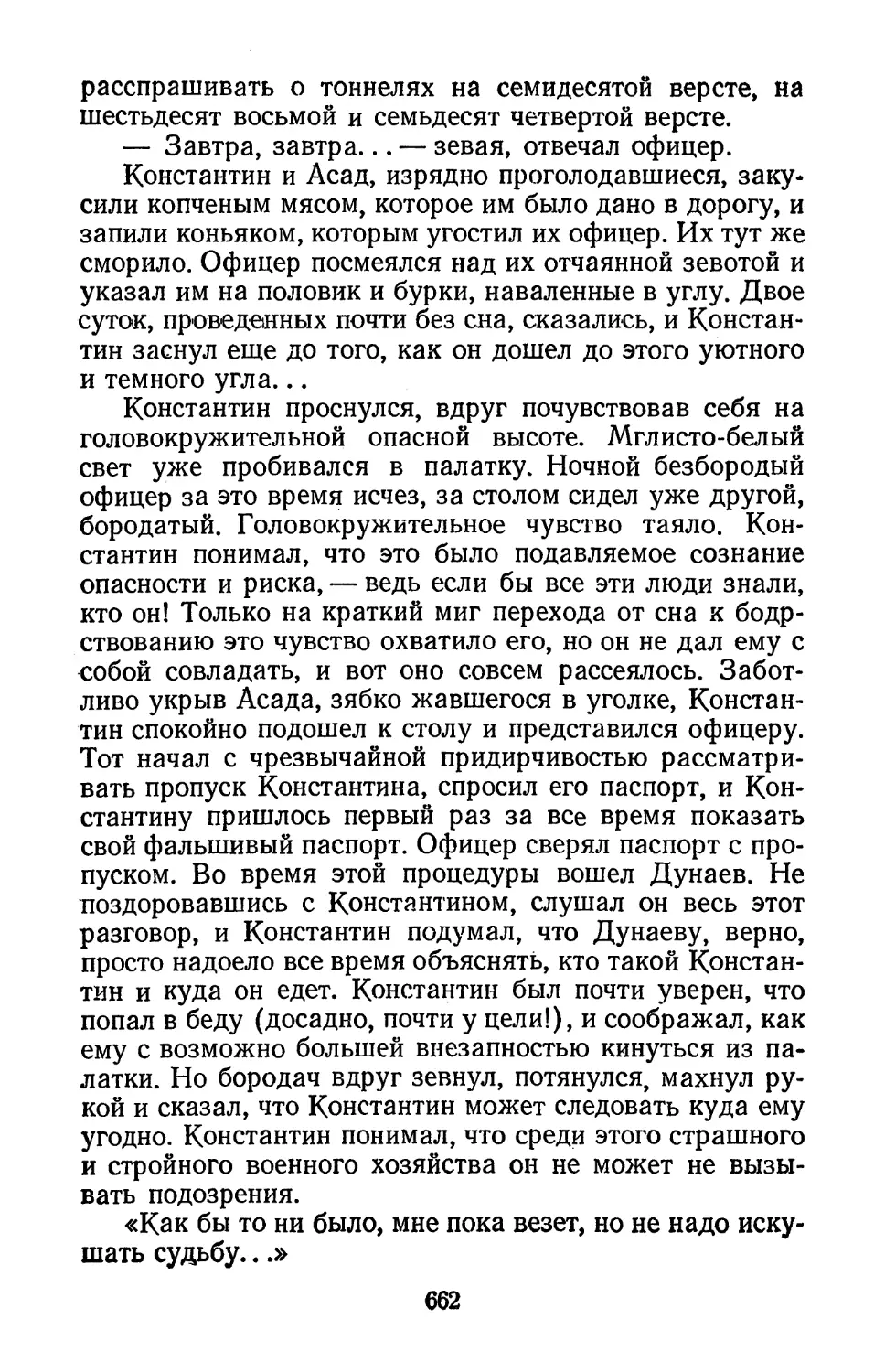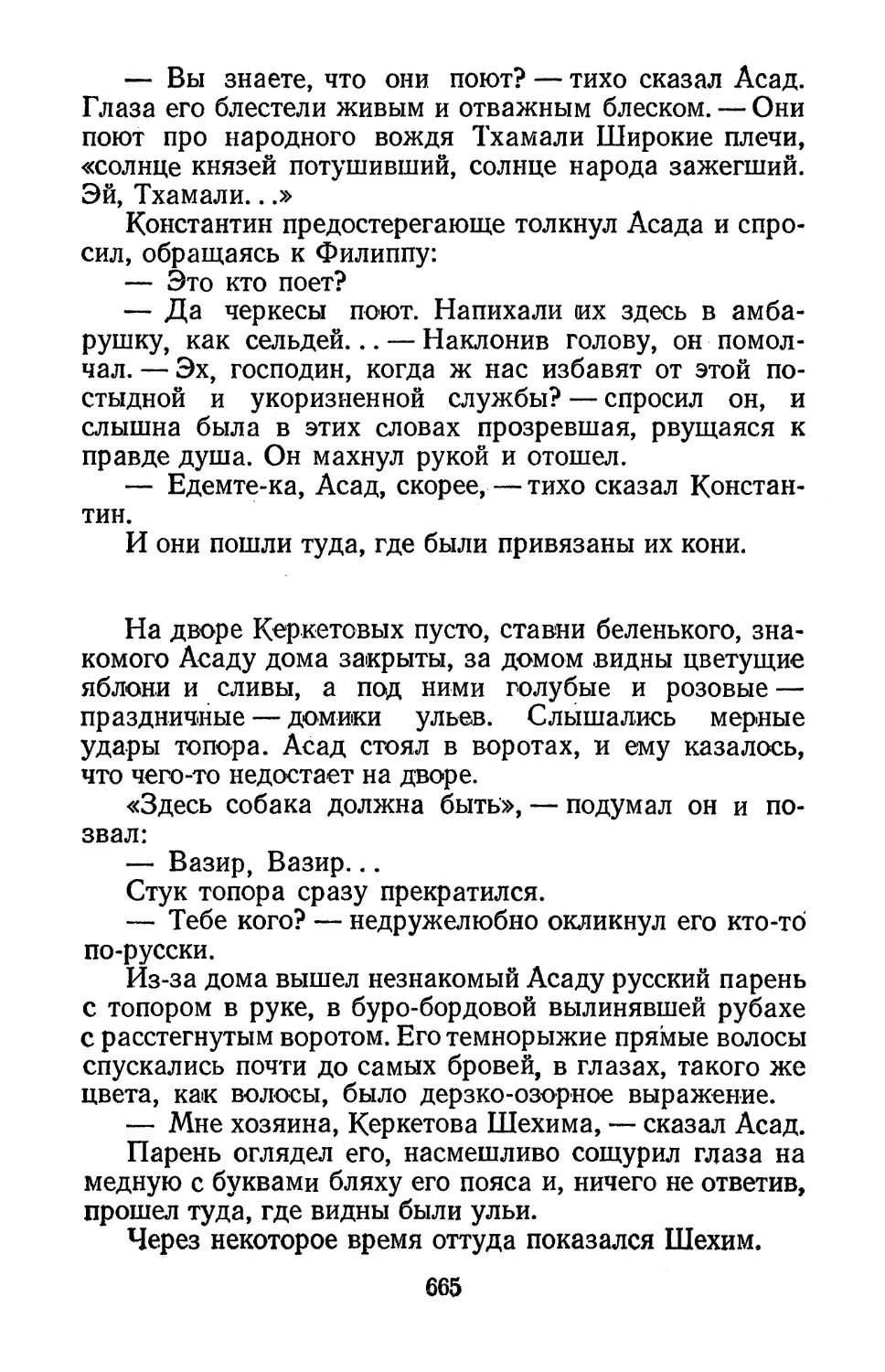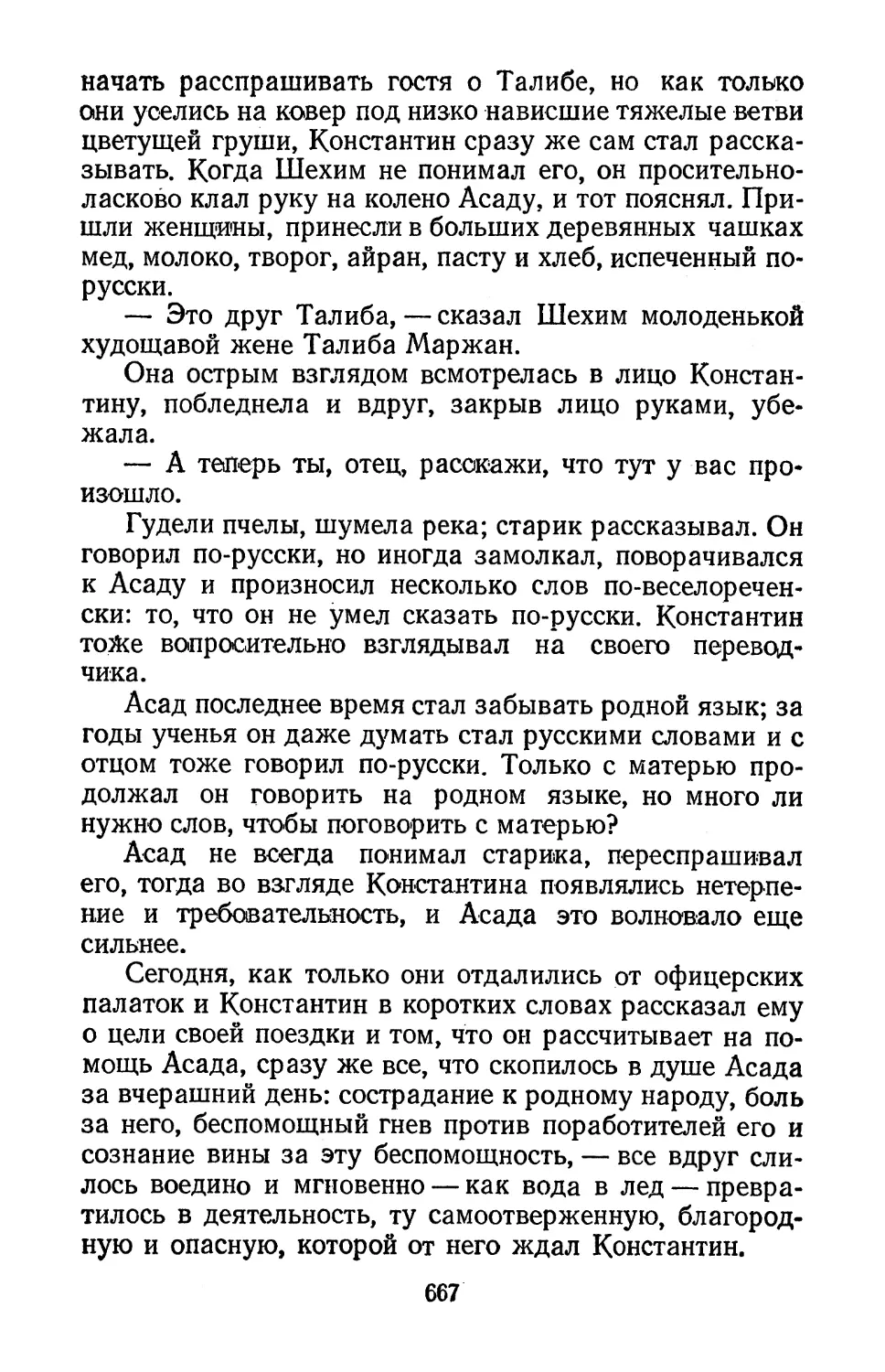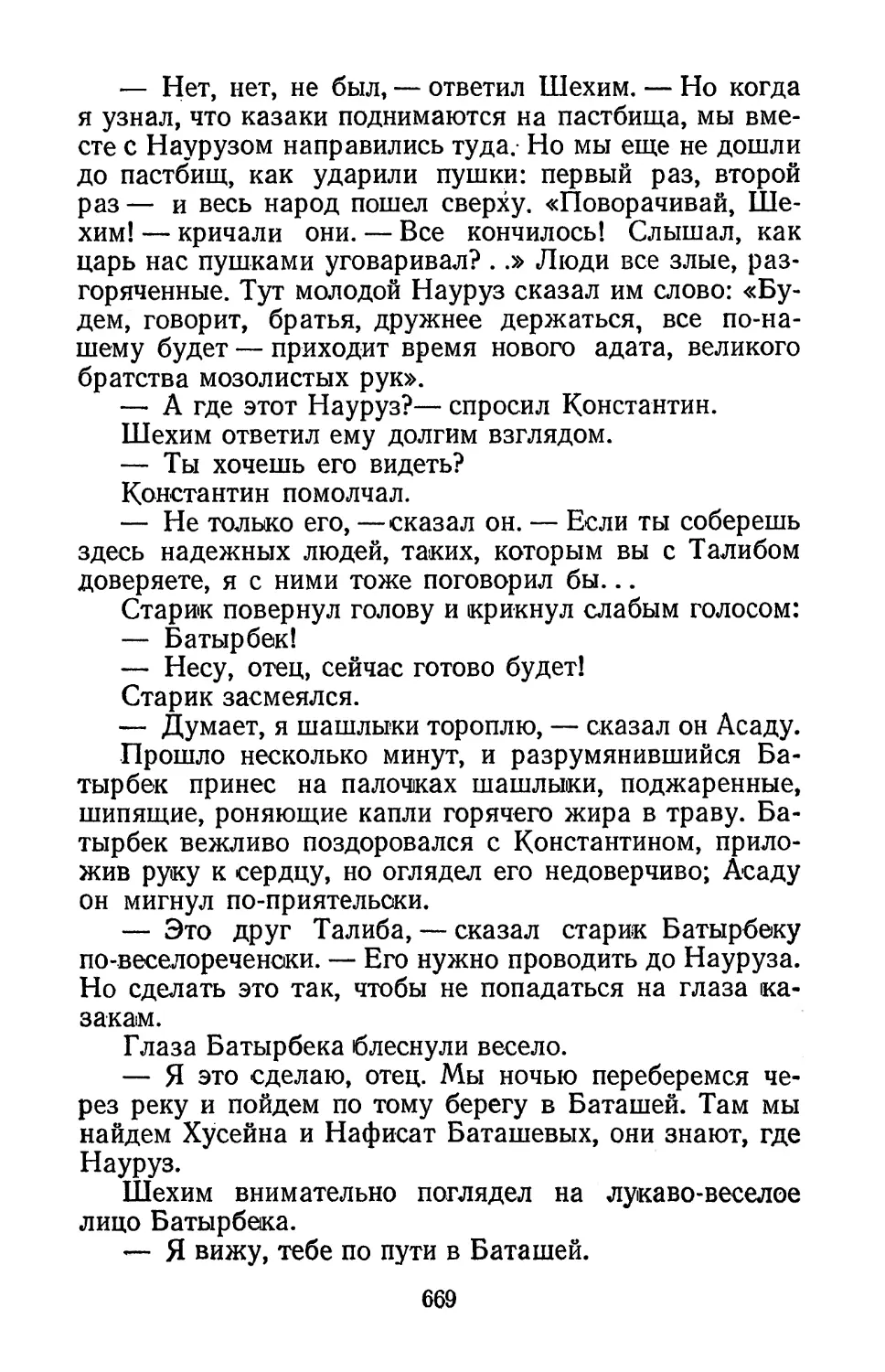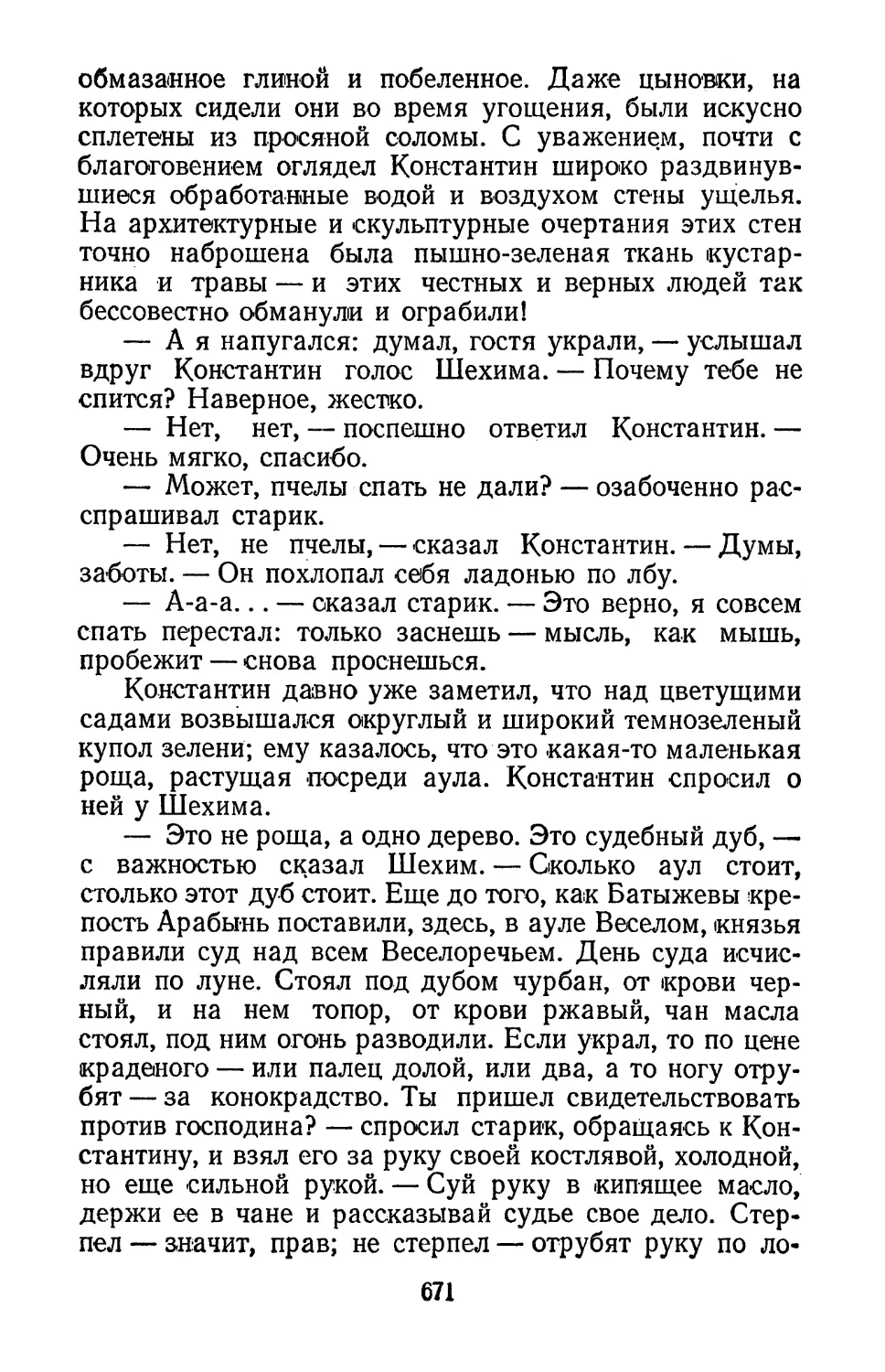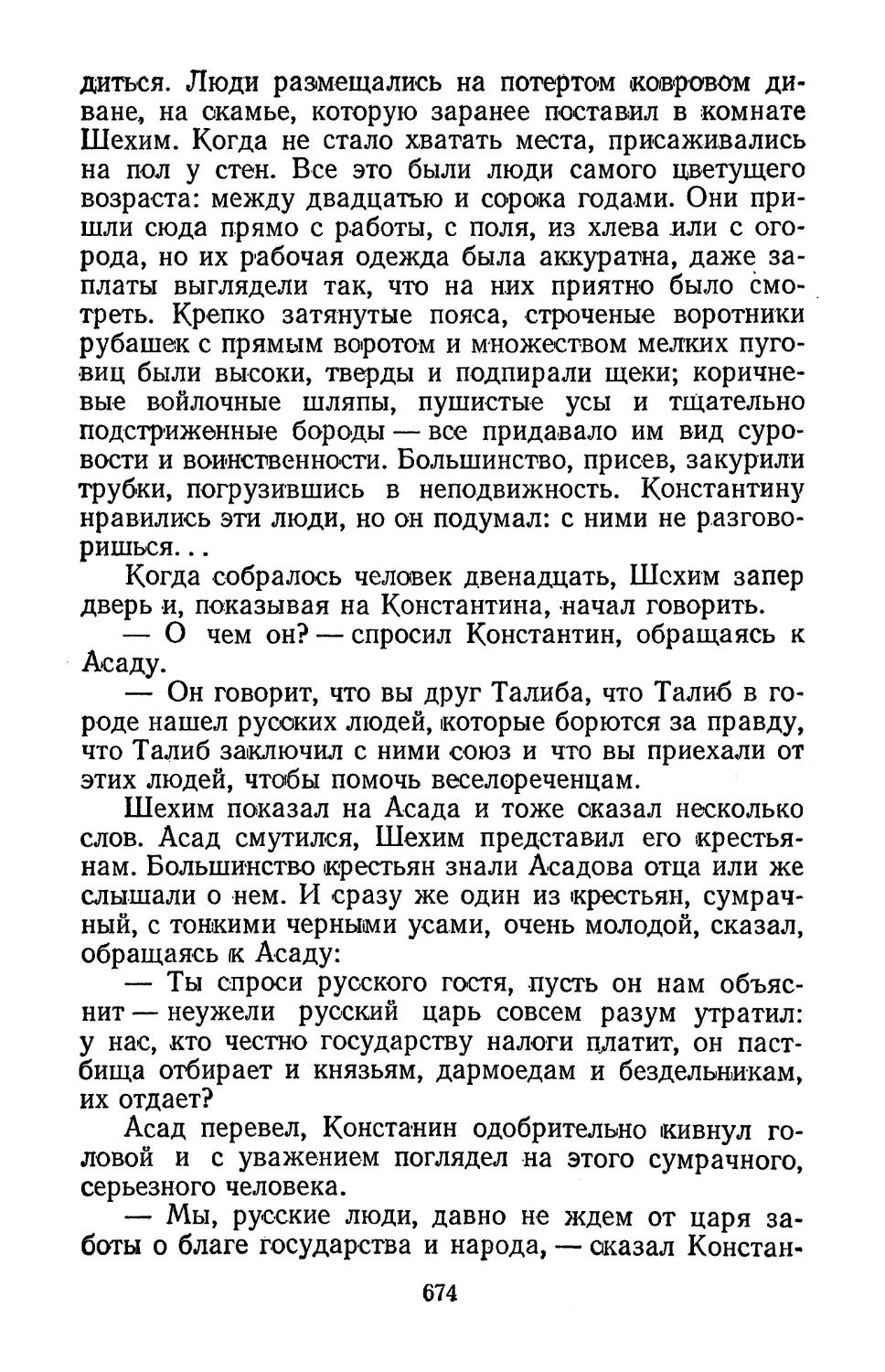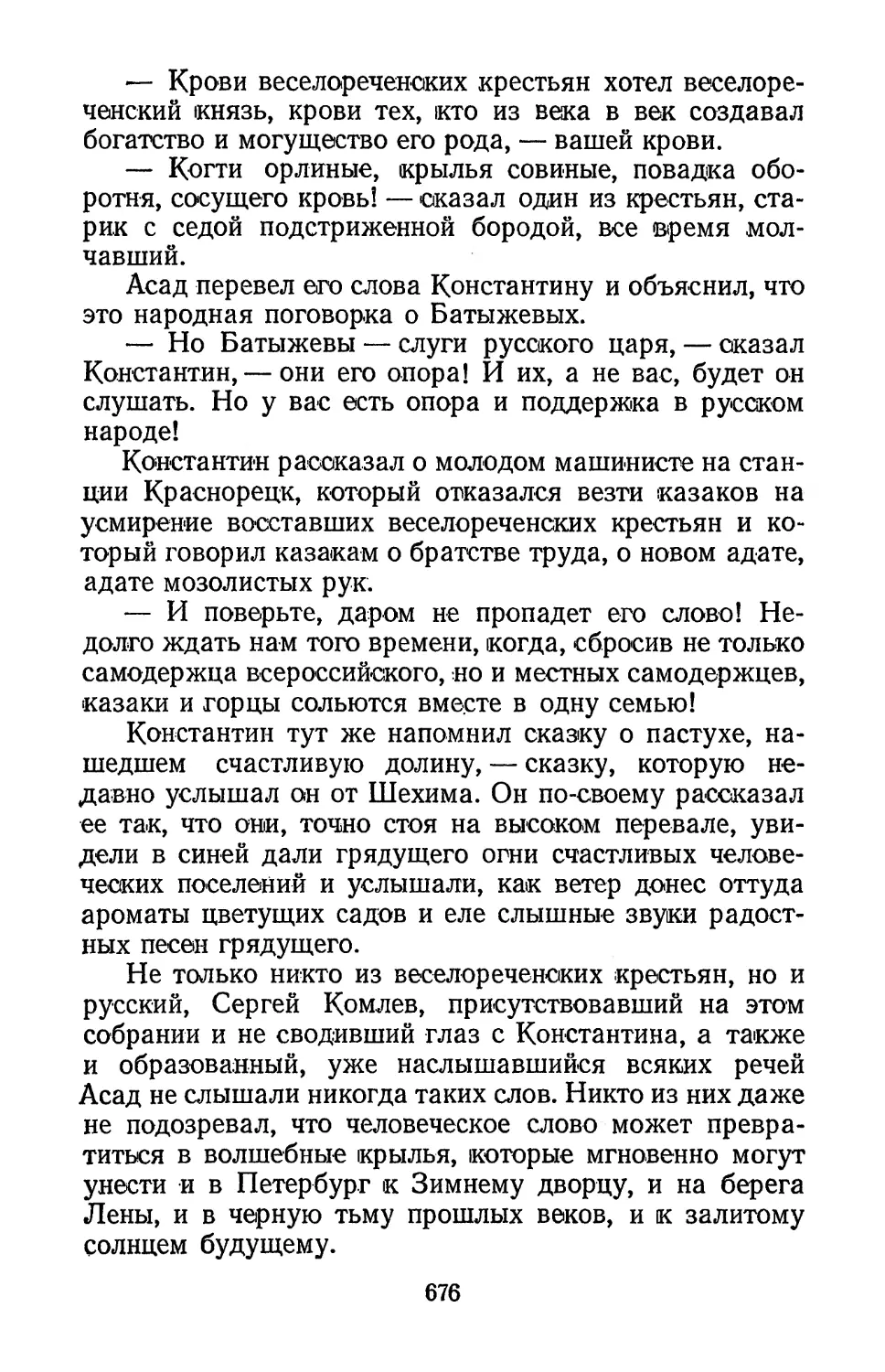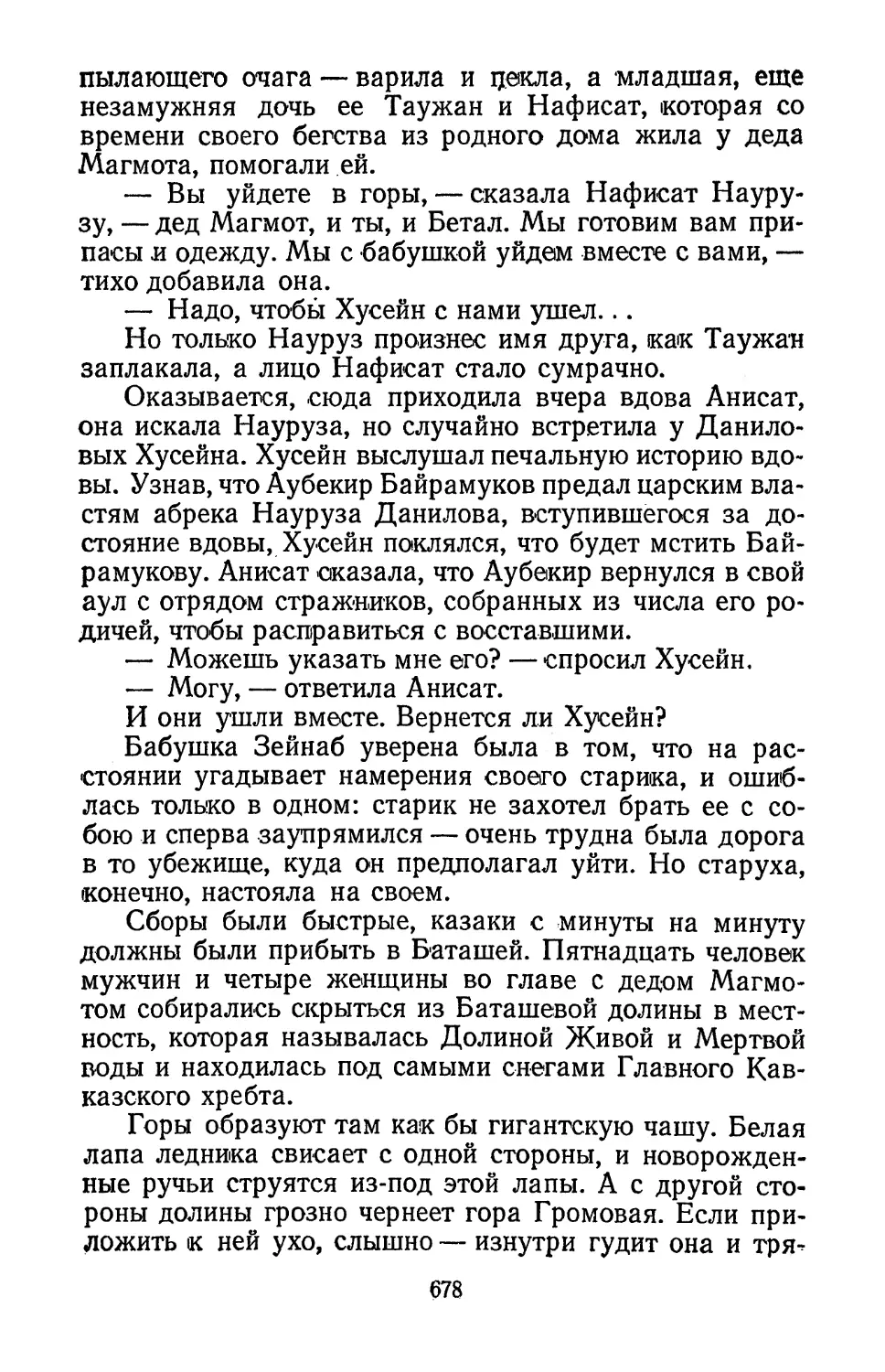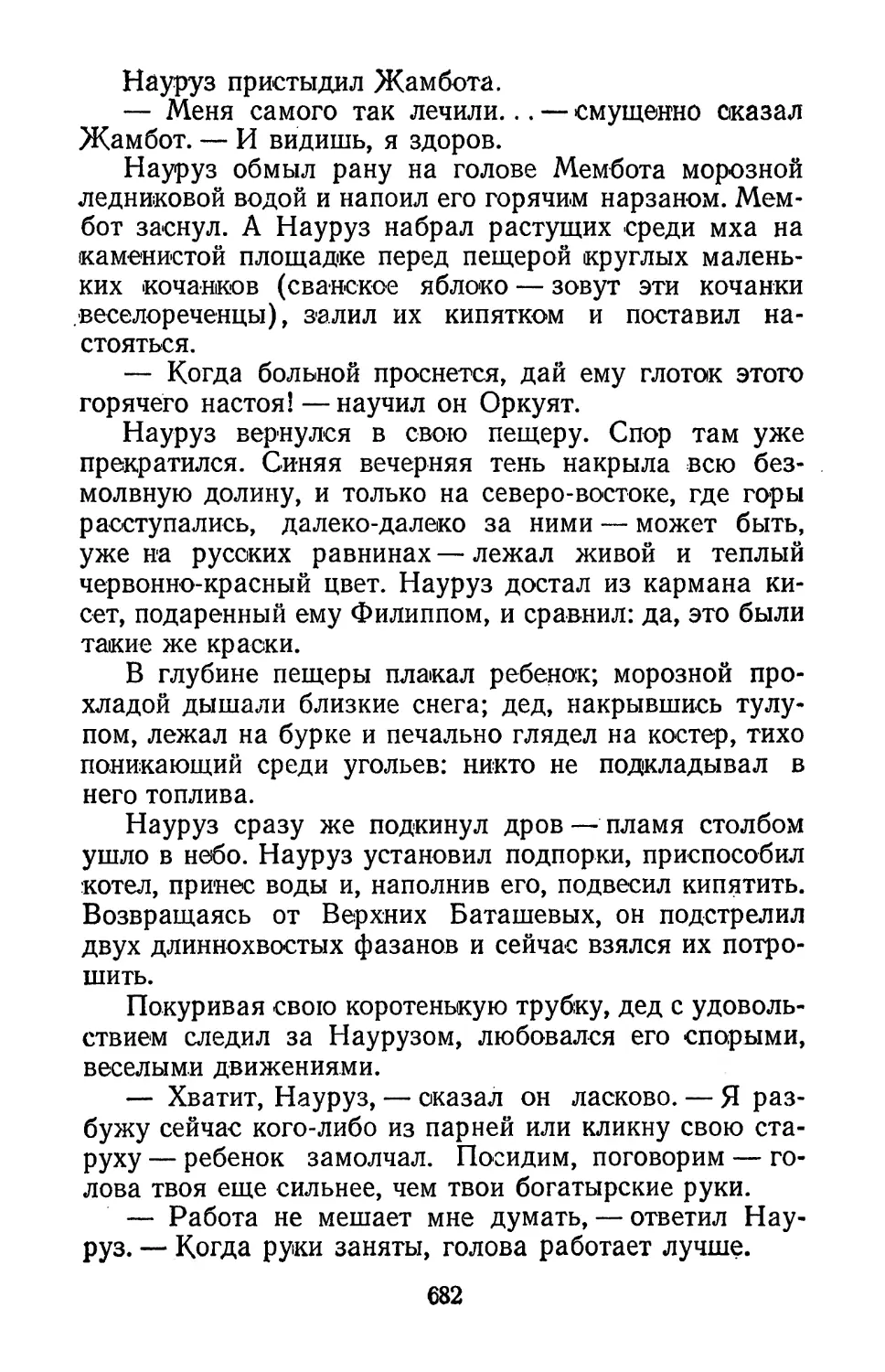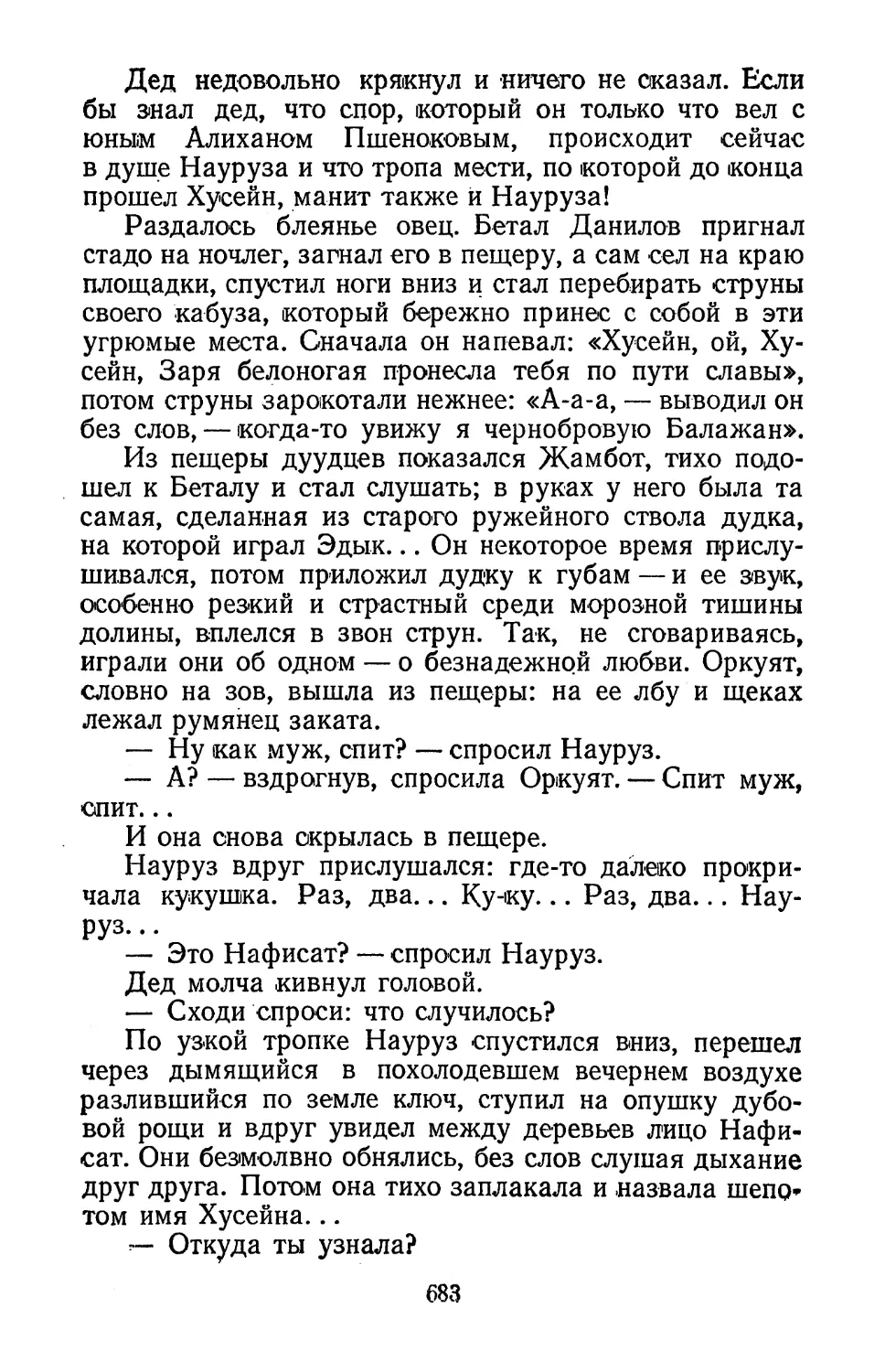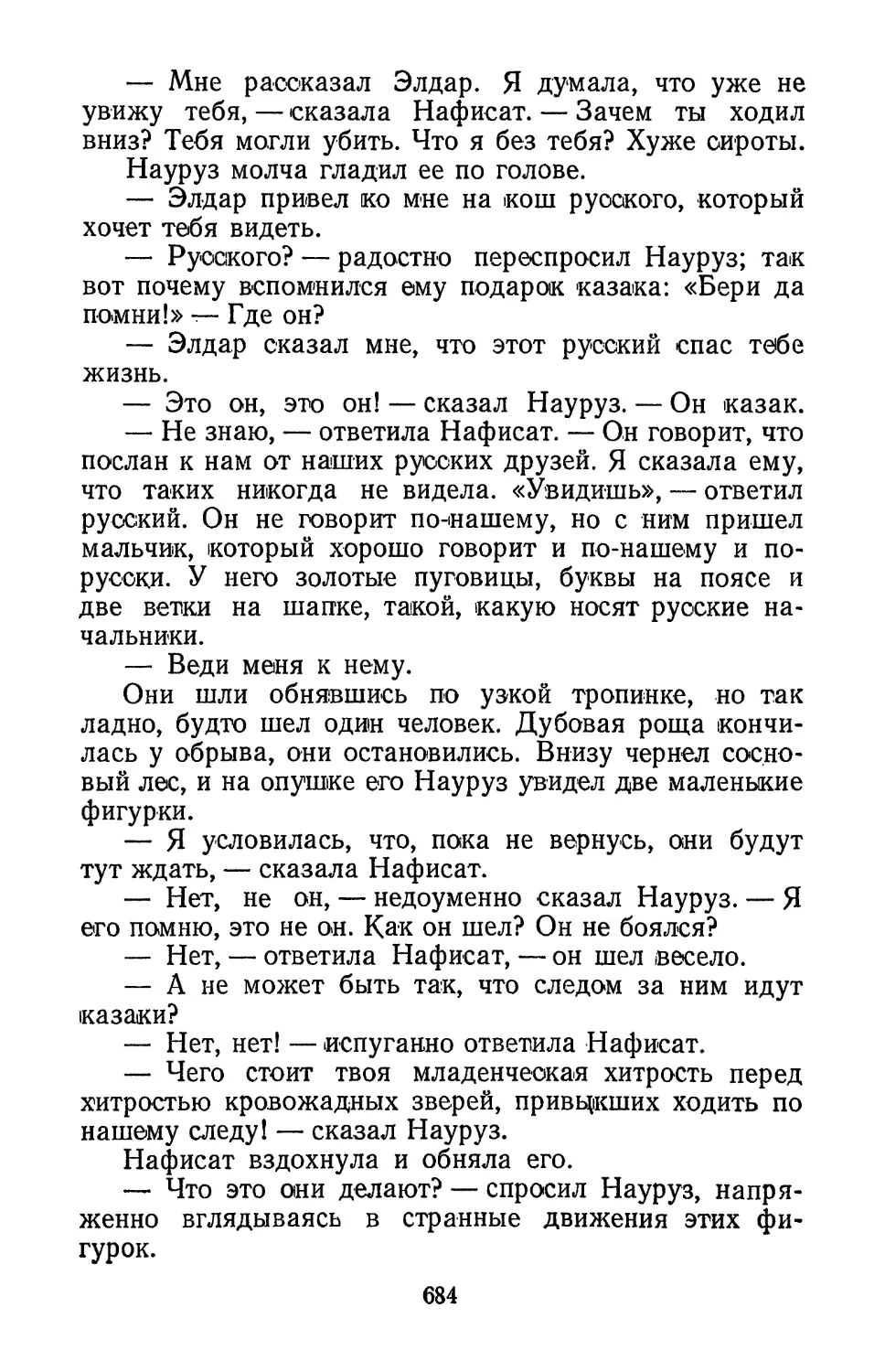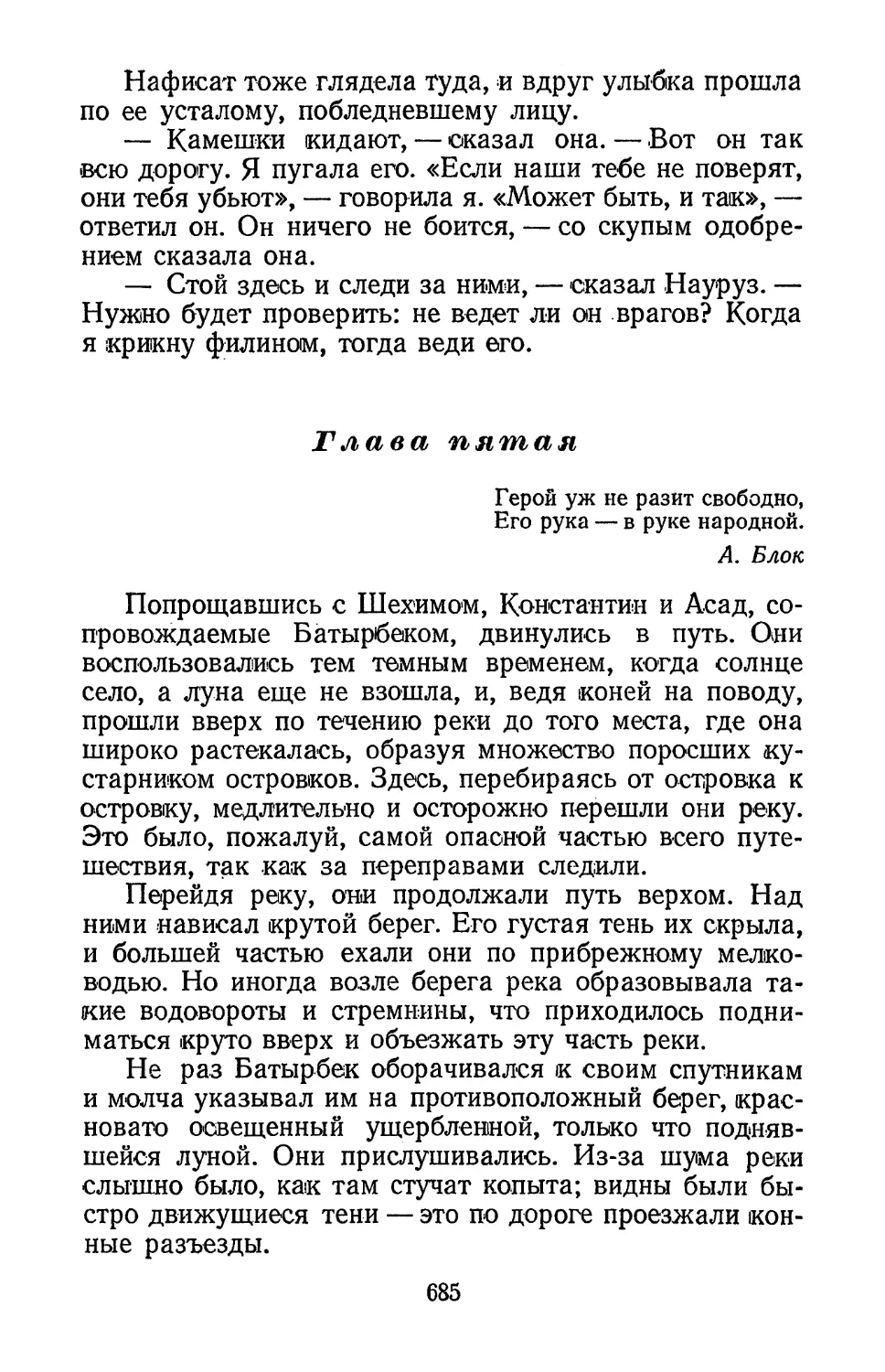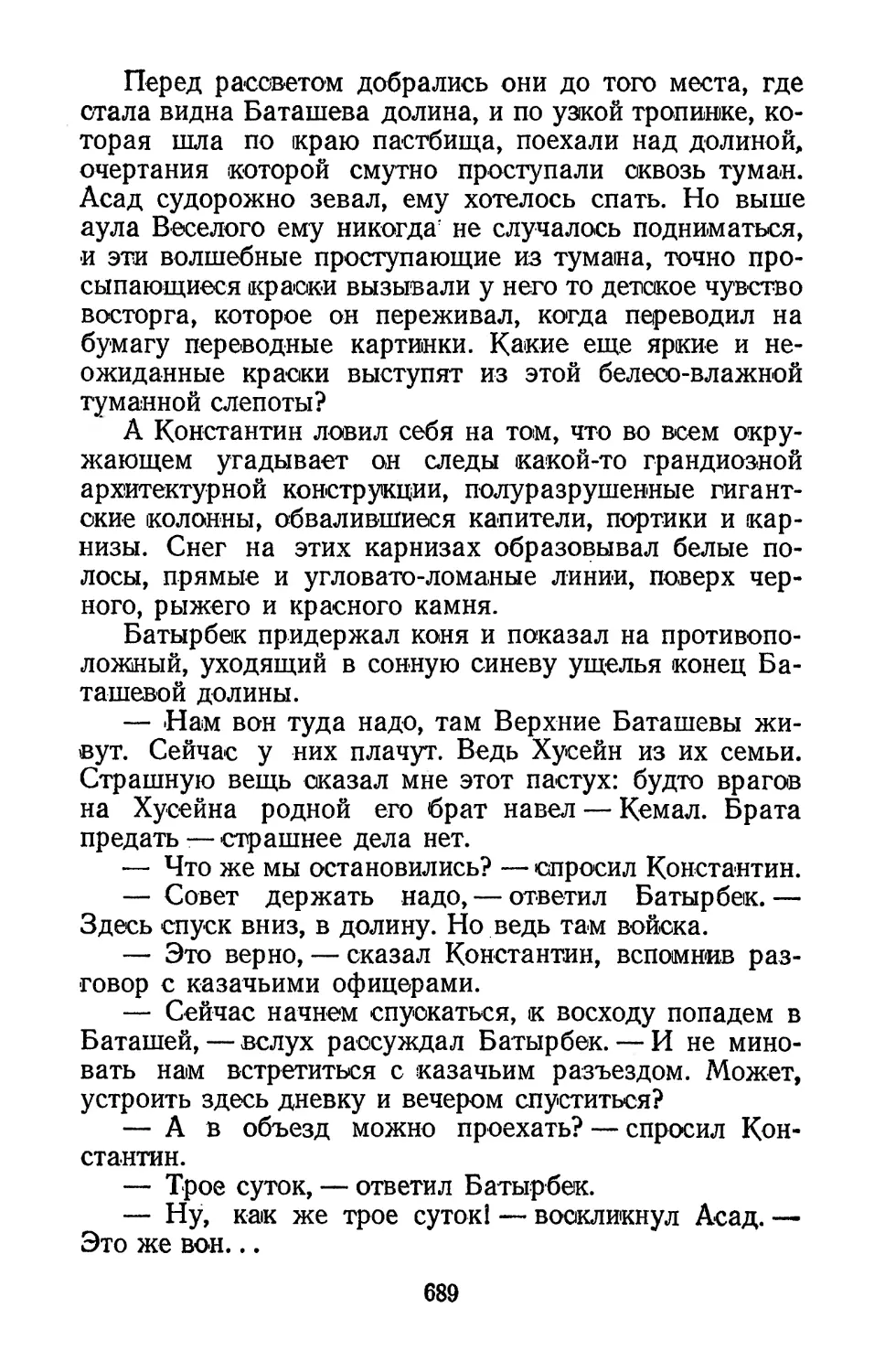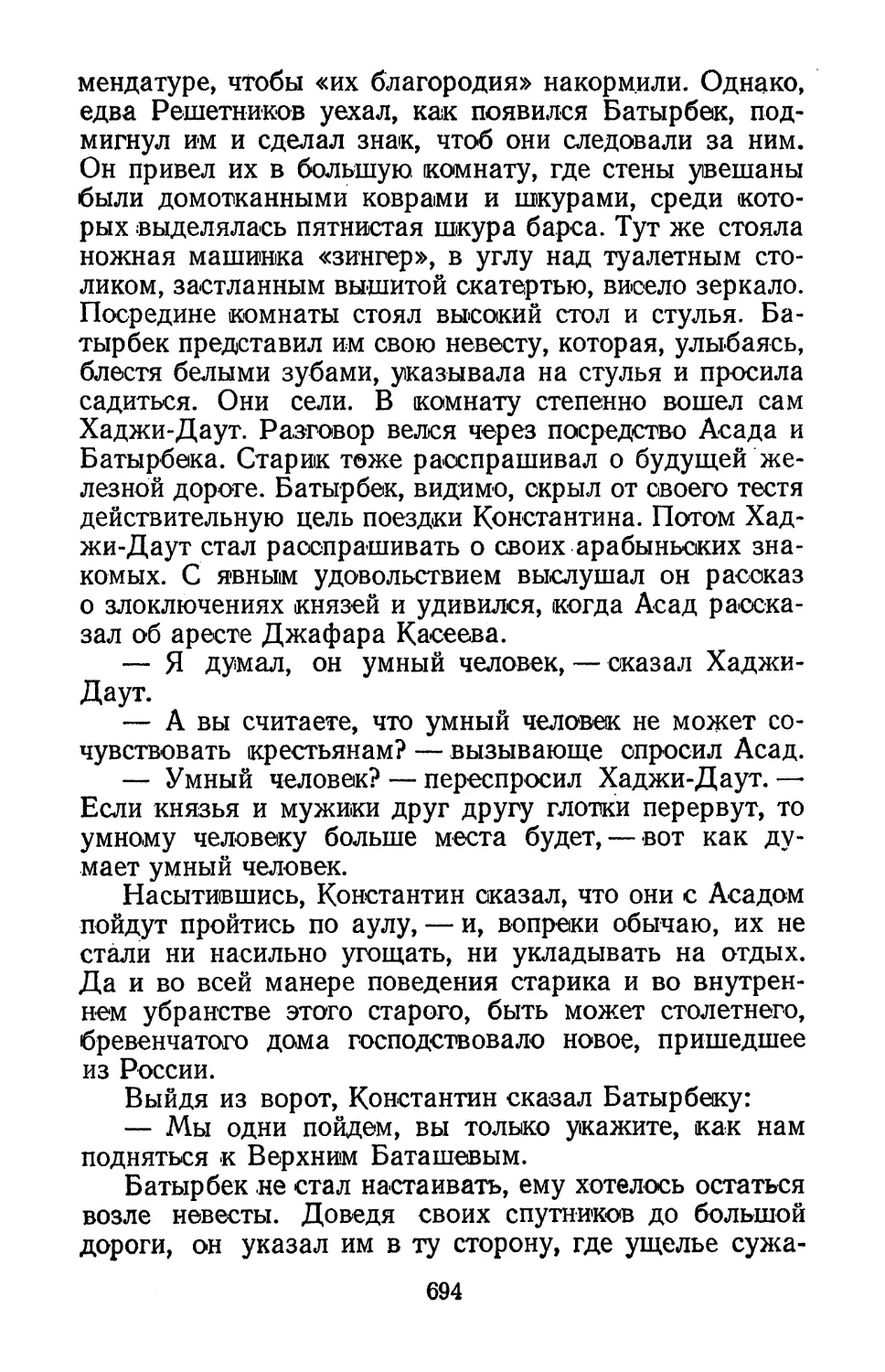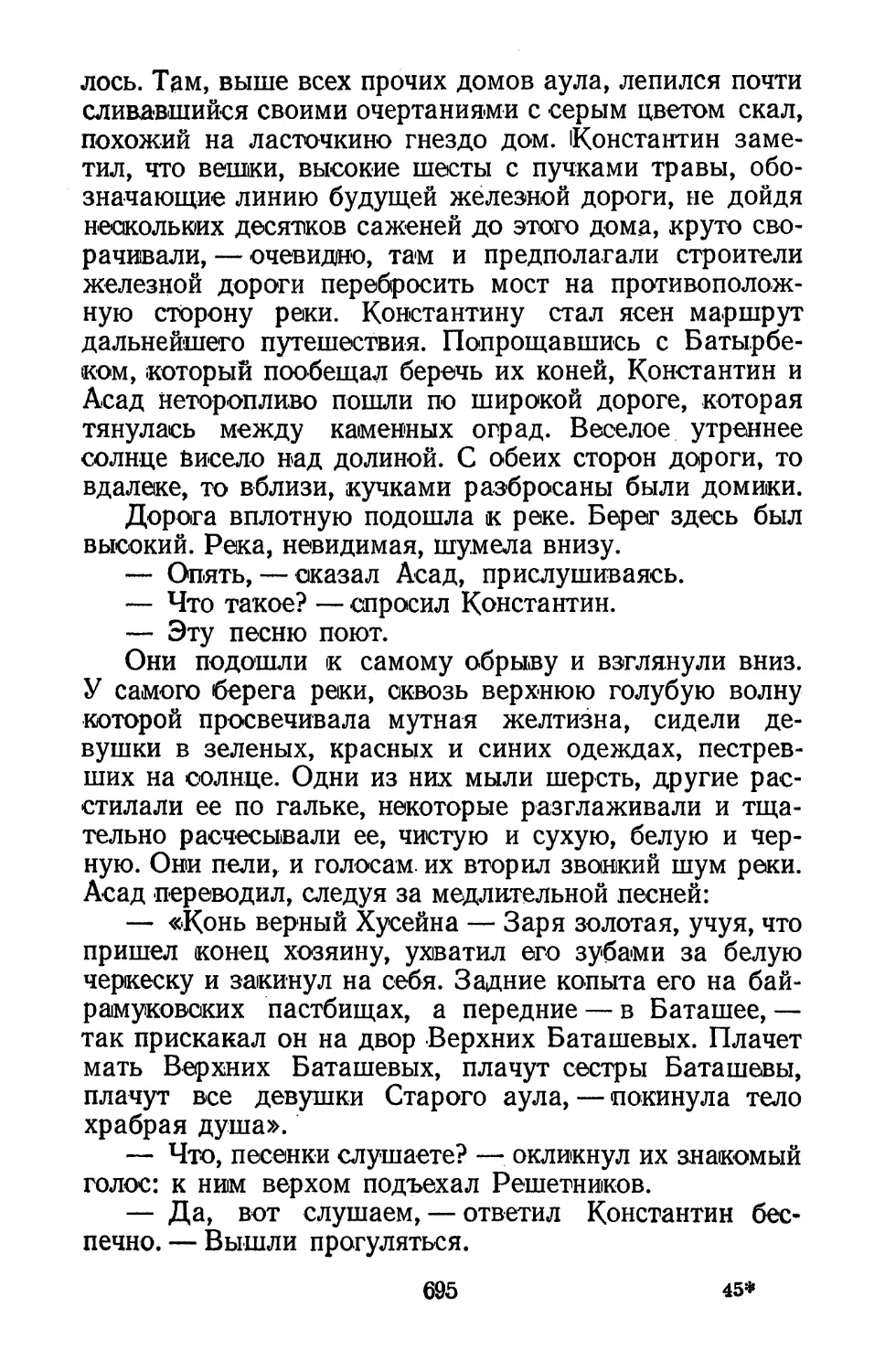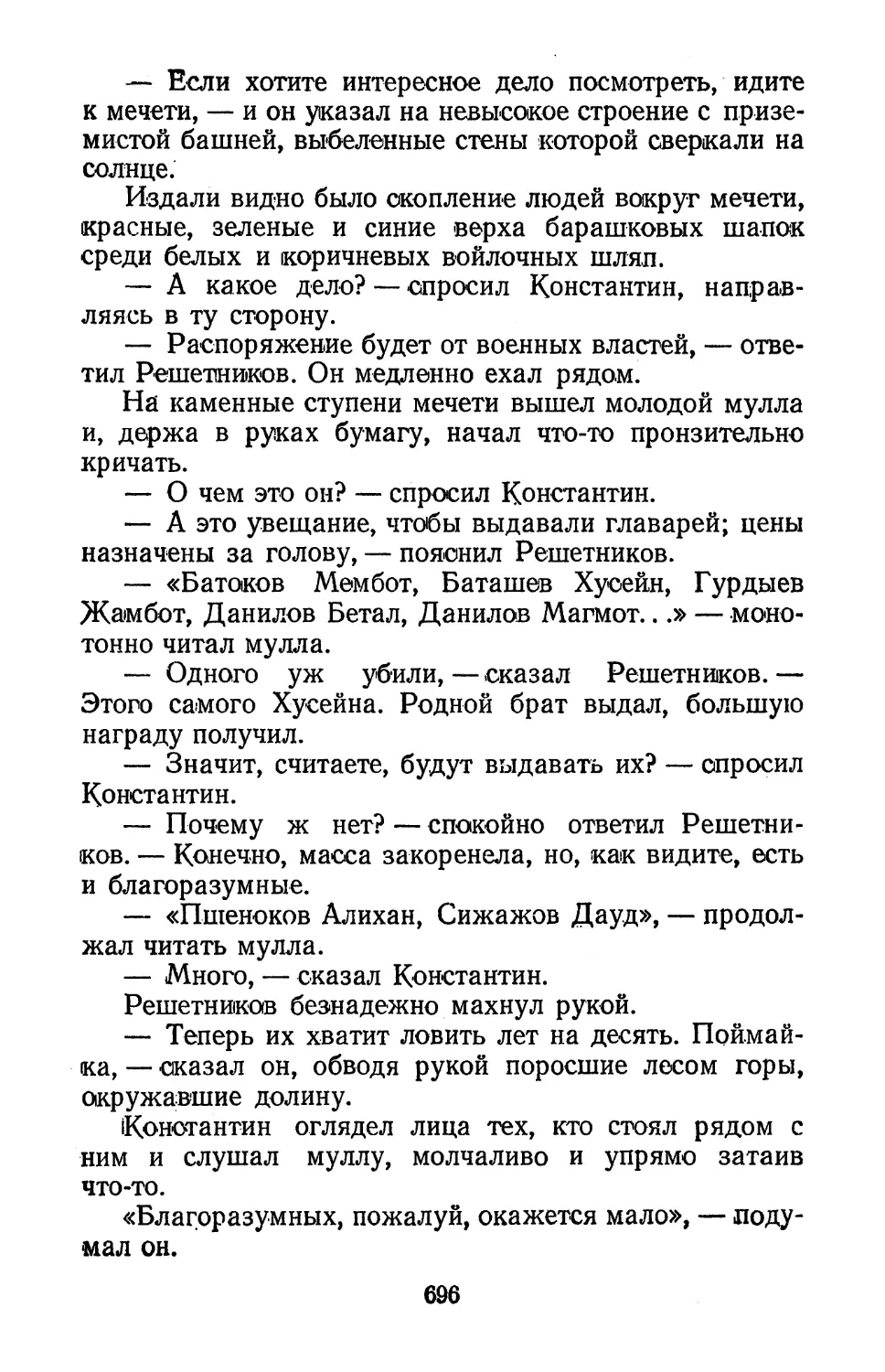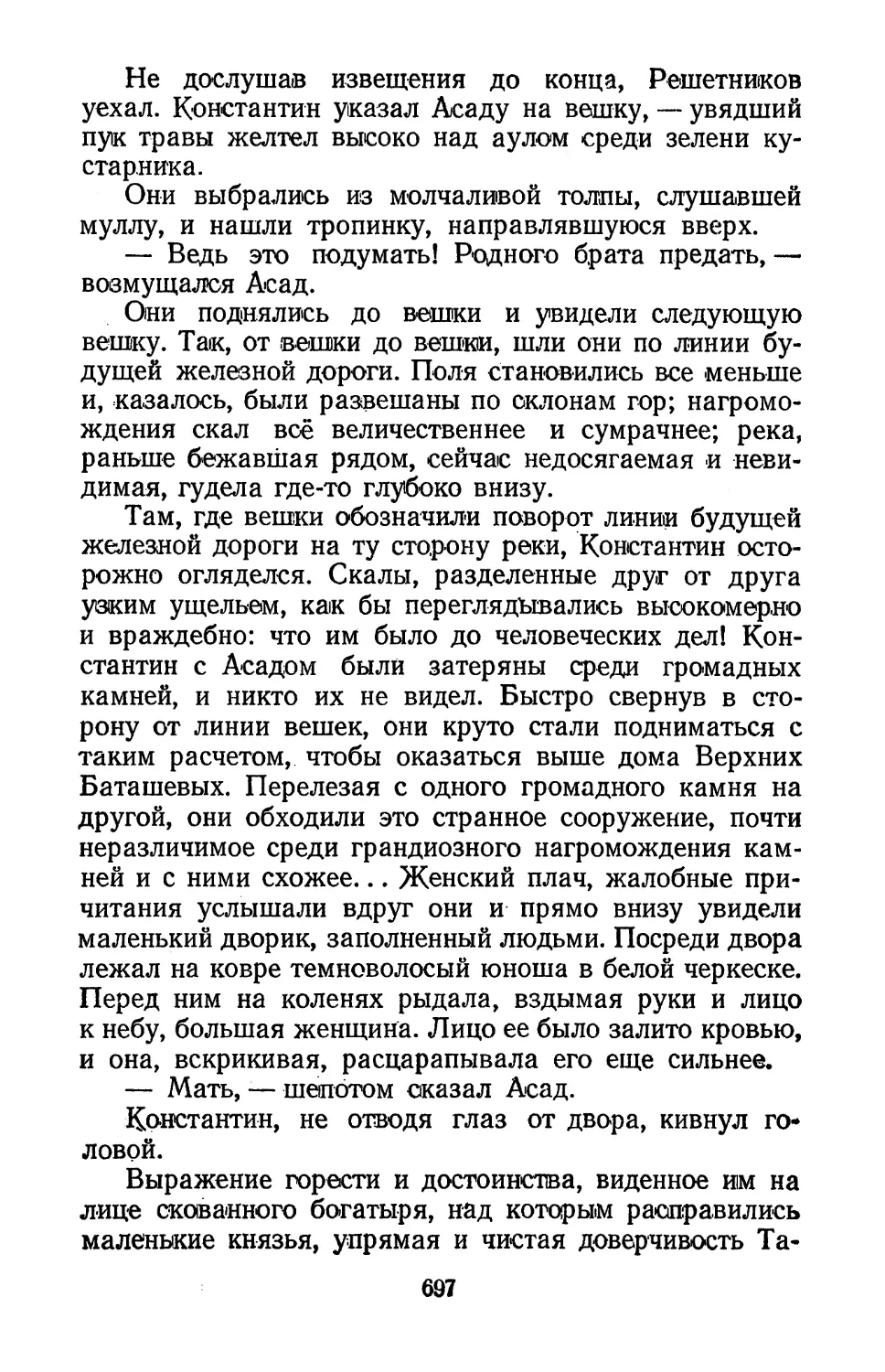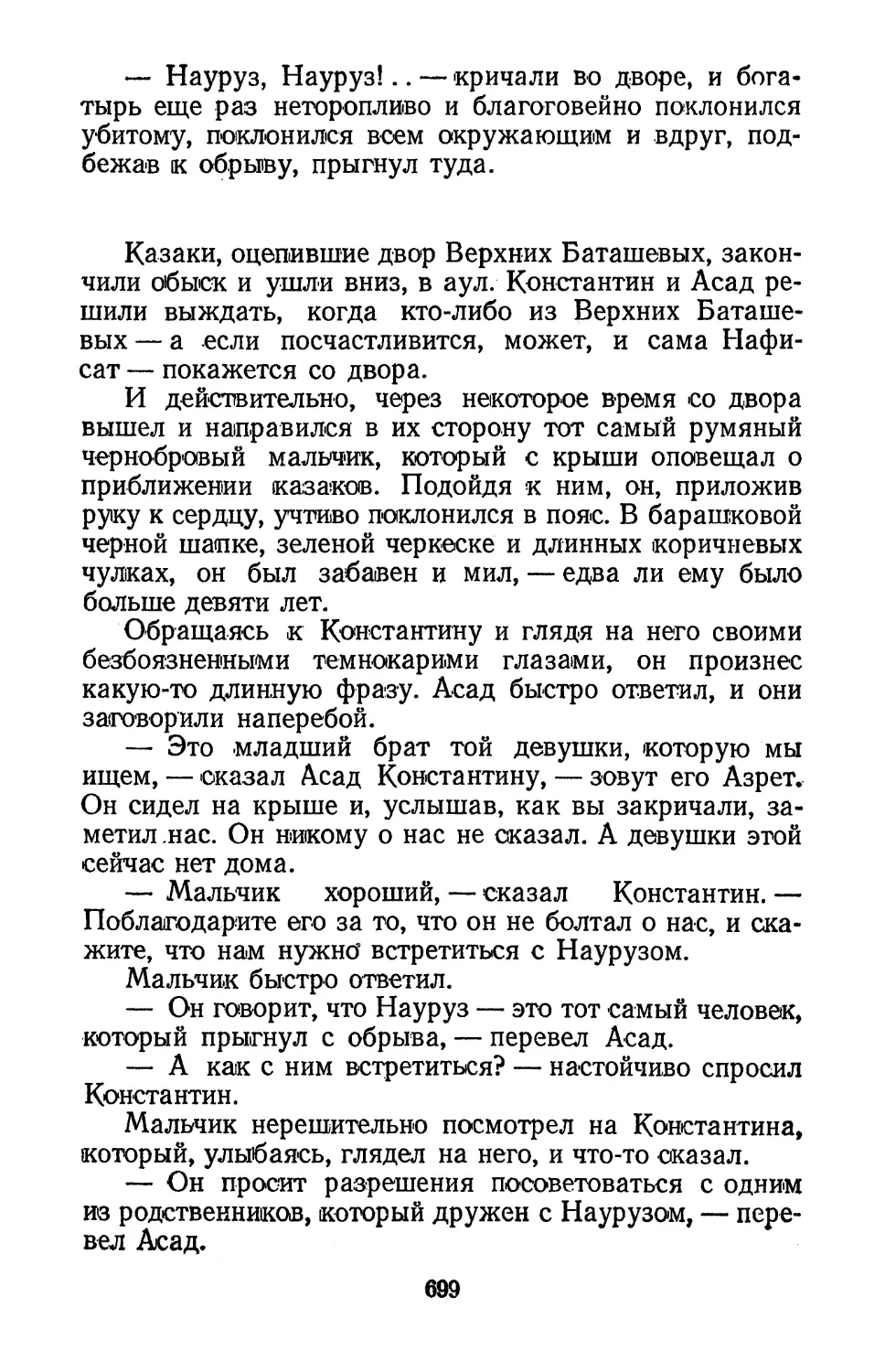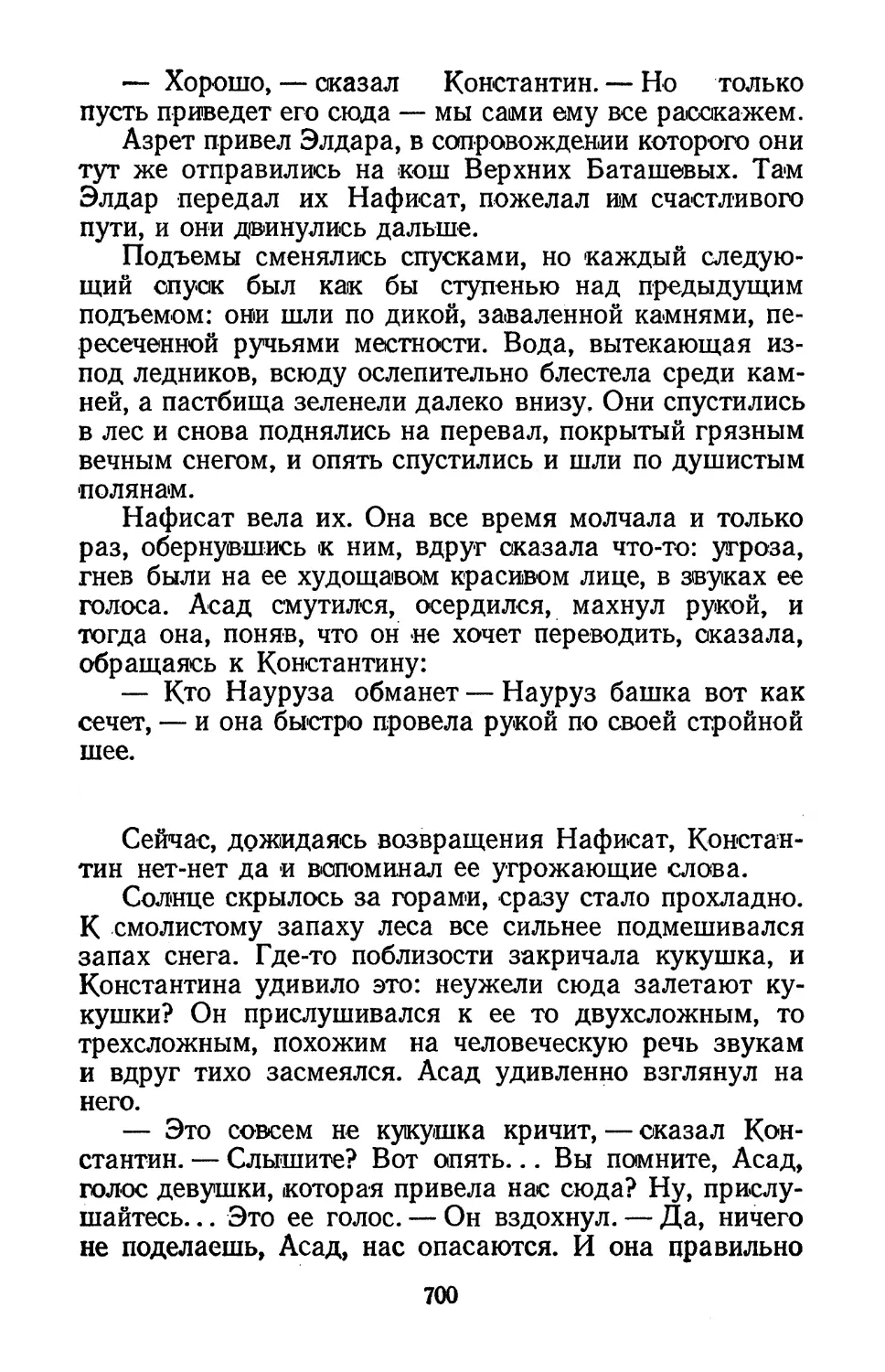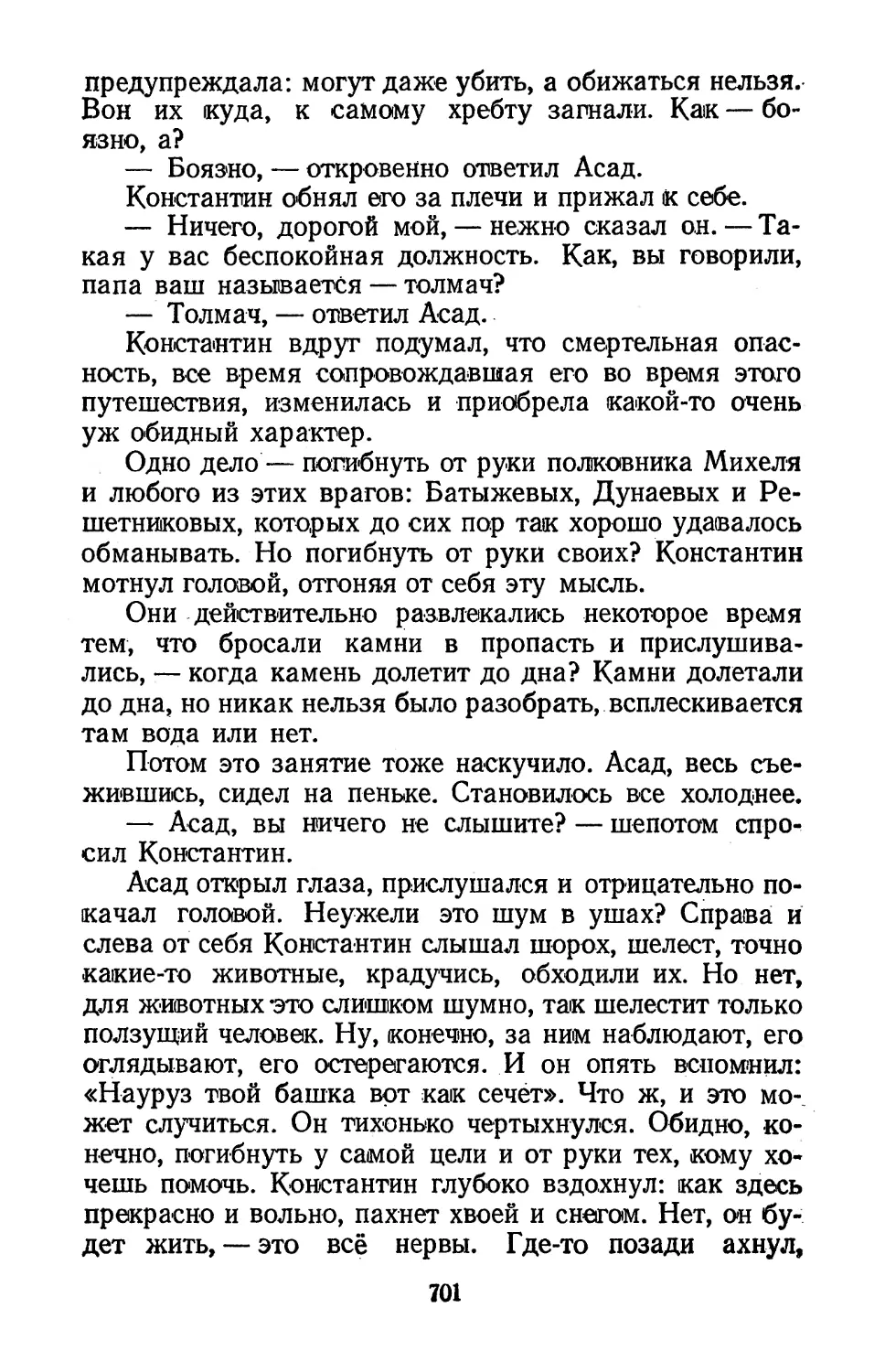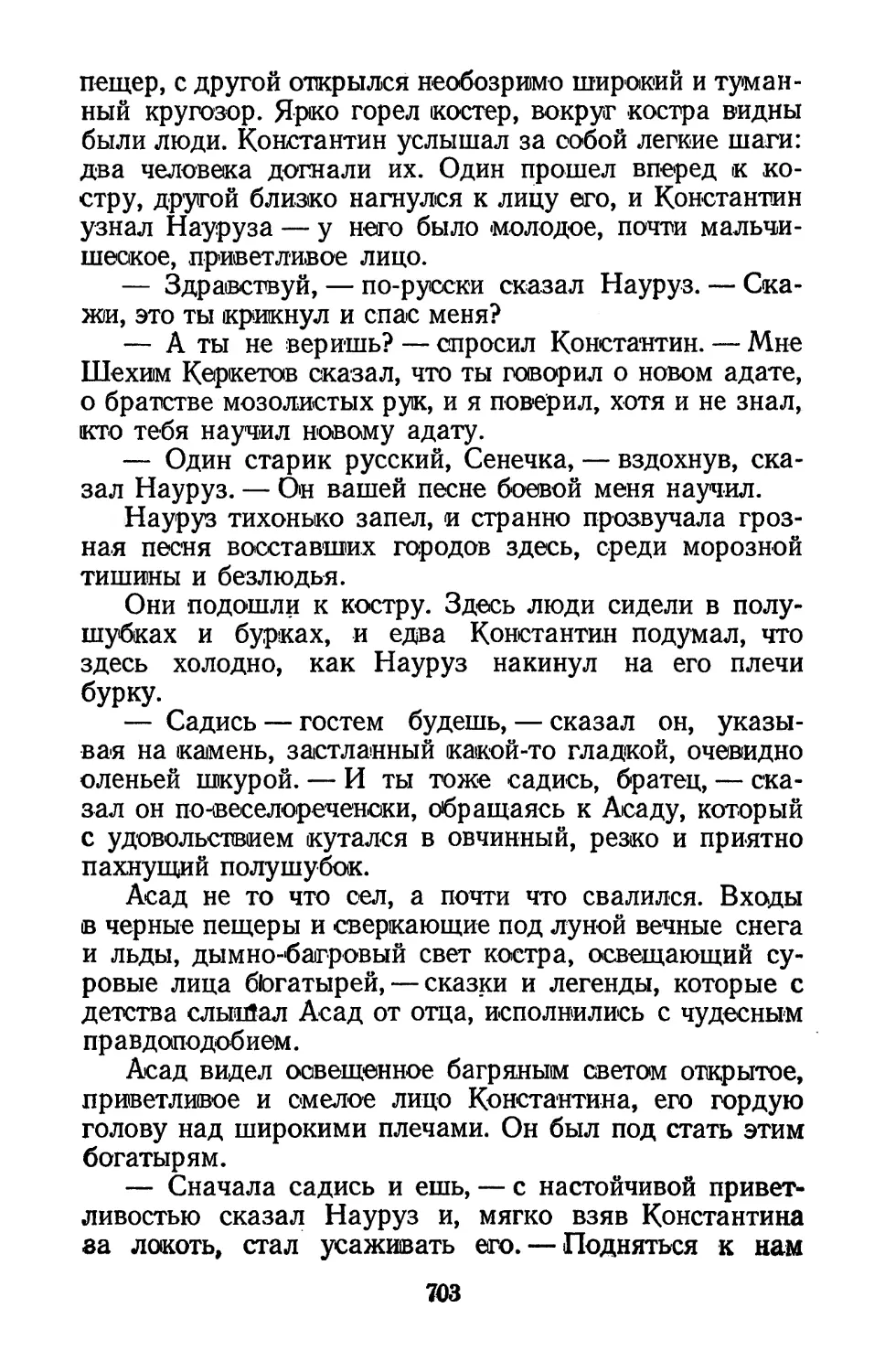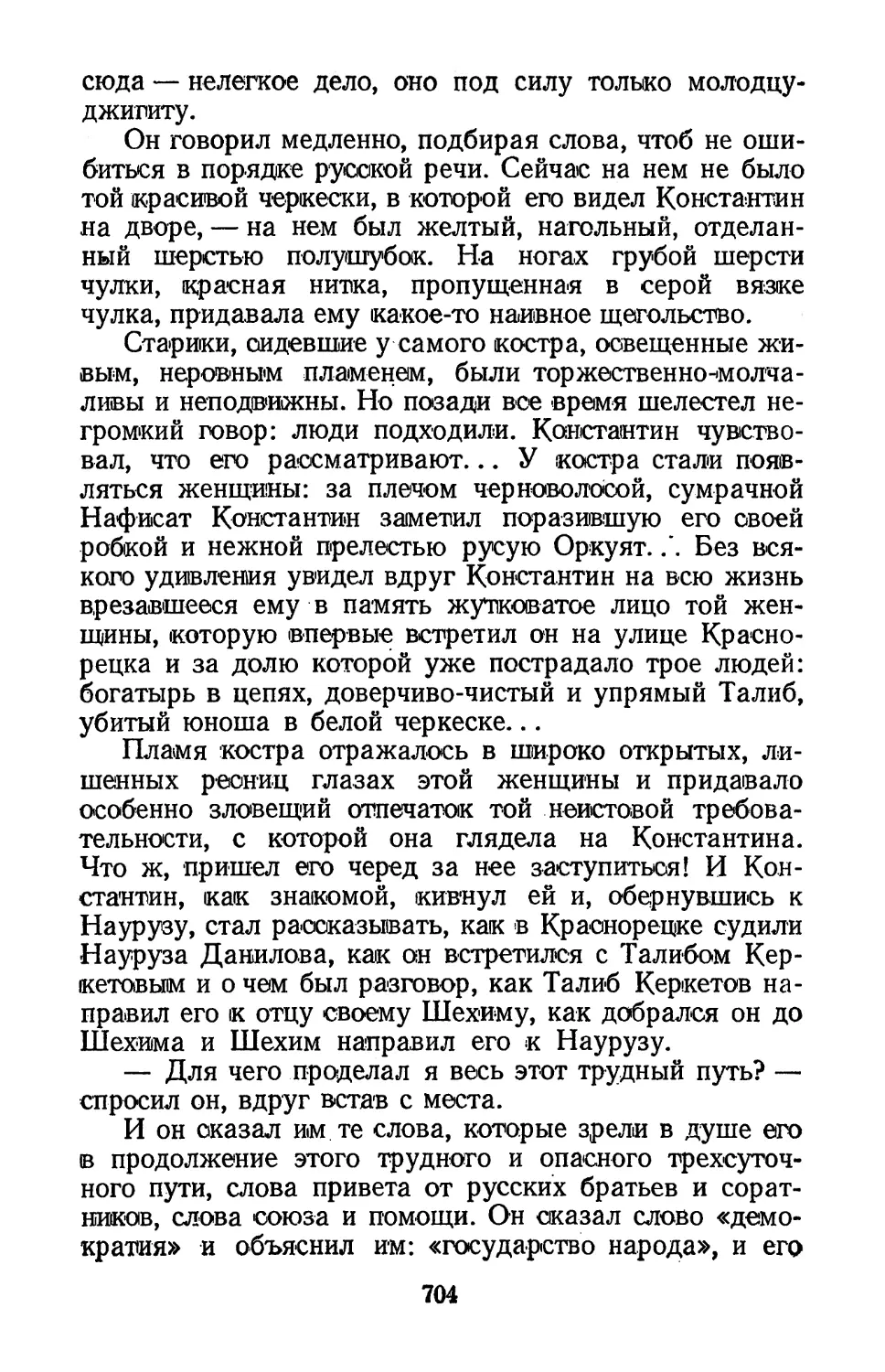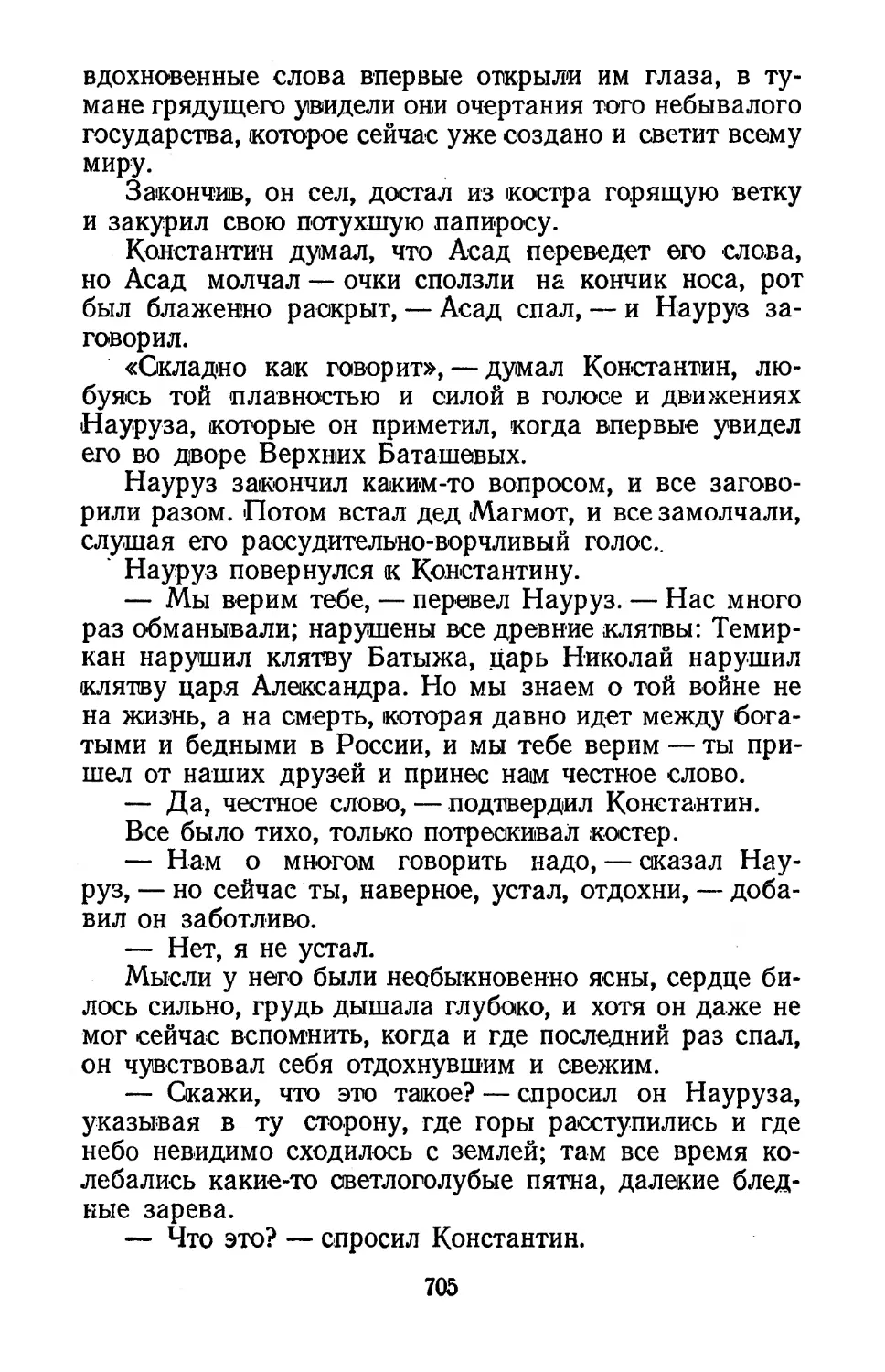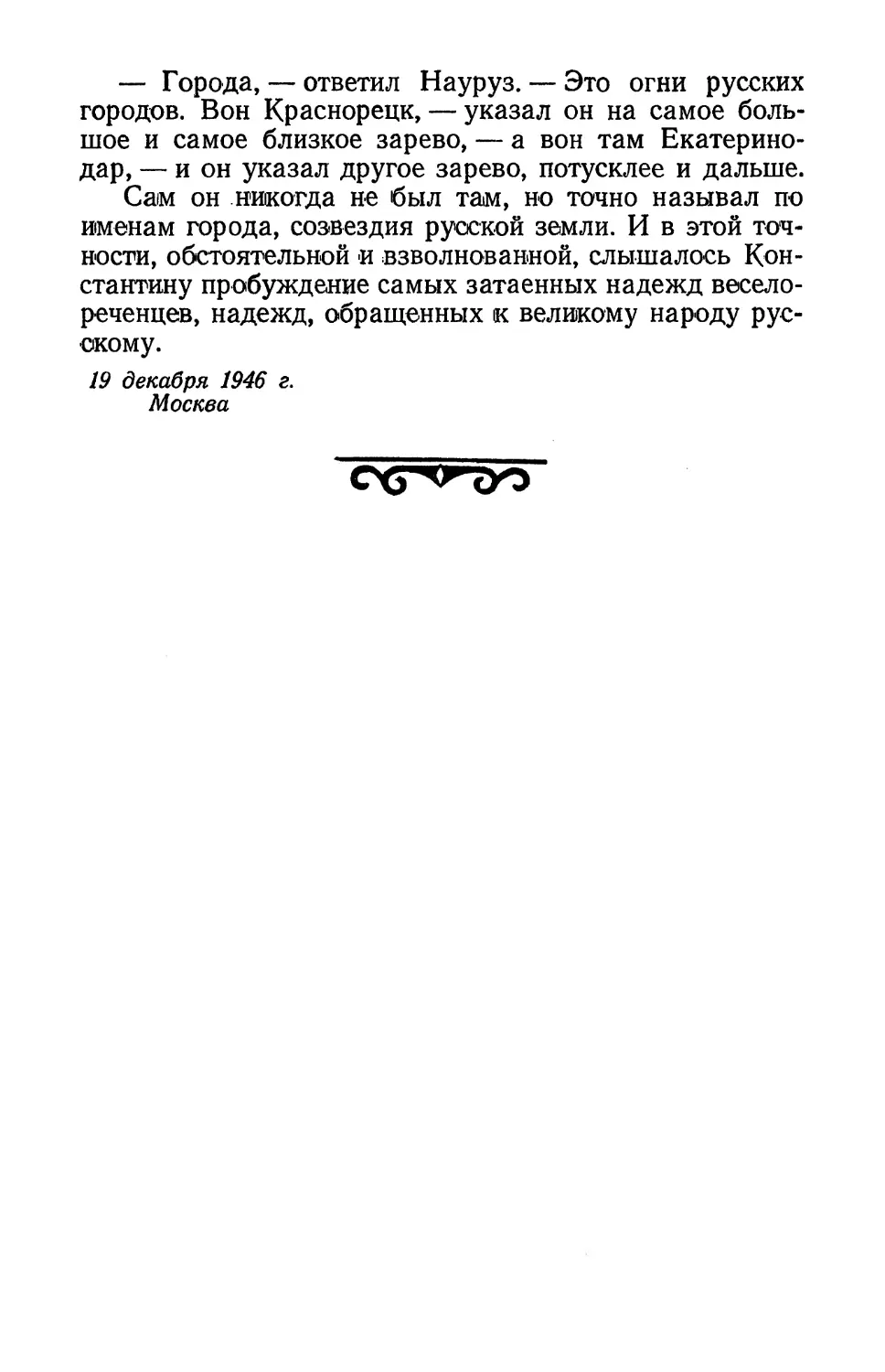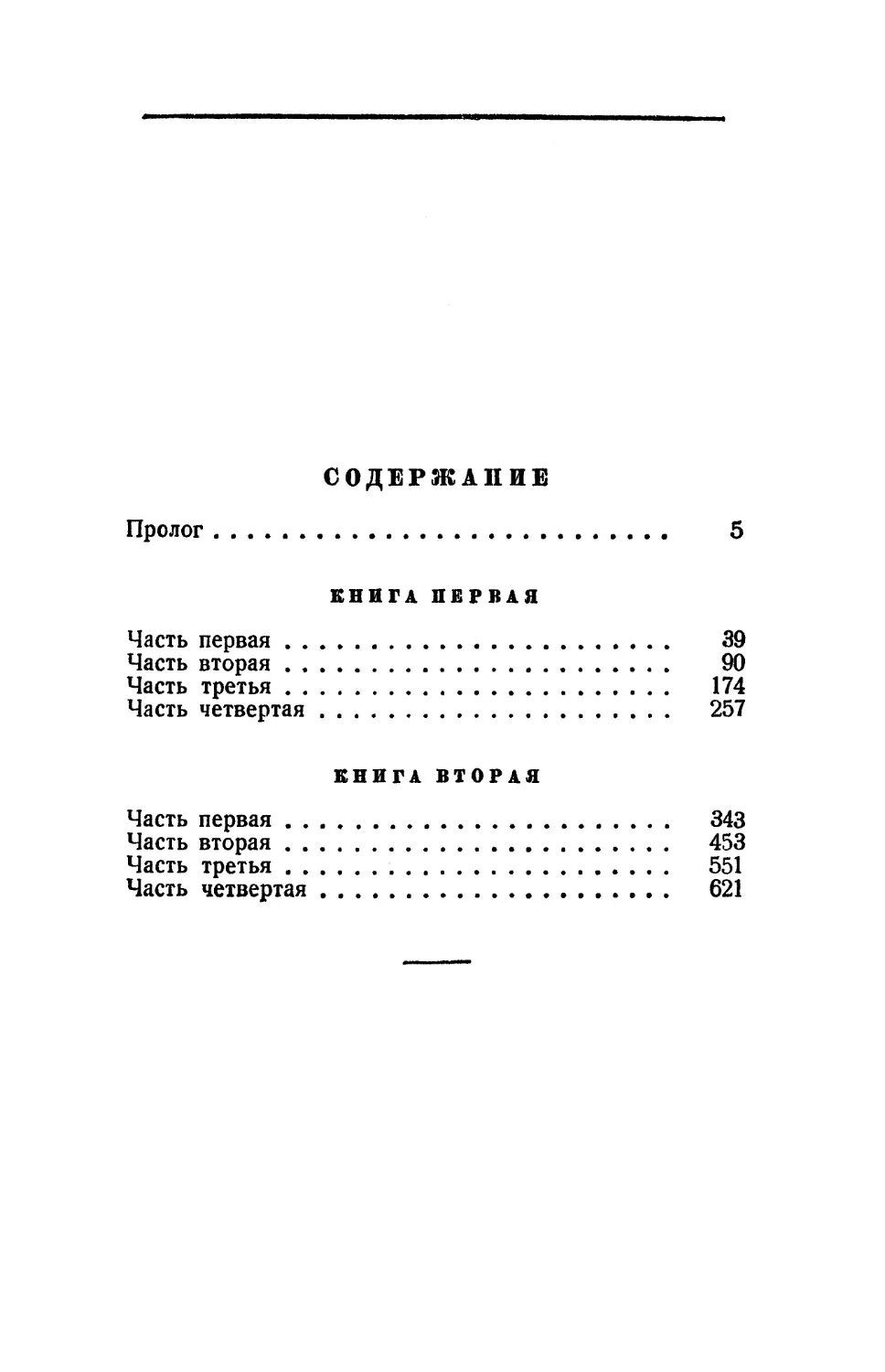Author: Либединский Ю.
Tags: роман художественная литература издательство советский писатель горы и люди либединский
Year: 1954
Text
СК ИИ
Scan Kreyder -11.04.2017 STERLITAMAK
Ю. ЛИБЕДИНСКИЙ
ГОРЫ и люди
р
МЛН
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Москва
Л—55
МЫ ДОЛЖНЫ СКАЗАТЬ, ЧТО НЕ ТОЛЬКО КРАСОТА СКРЫВАЕТСЯ В ГОРАХ КАВКАЗА, НО ЧТО ЭТА ЦЕПЬ ГОРДЫХ СКАЛ ЯВИТСЯ ТОЙ МОГУЧЕЙ ПРЕГРАДОЙ, О КОТОРУЮ РАЗОБЬЮТСЯ ВСЕ СИЛЫ РЕАКЦИИ...
а л и р о в
Пролог
1
Баташ одолел последний подъем, взошел на перевал и сразу увидел новые земли. Никто из его племени не отваживался подниматься на этот перевал: из-за него в середине лета вставало солнце. И, взбираясь, Баташ опасался: а вдруг за гранью перевала откроется гнездо солнца, ослепительное и жаркое? Но нет, гнездо солнца ушло дальше, из неисчерпаемых недр земли поднялись новые горы, — в их объятиях лежала земля, которая будет землей его племени.
И Баташ ревниво- оглядывал новую землю, но везде находил лишь свободное и застывшее стремление ввысь: деревья взбегали на горные склоны, камни громоздились один выше другого, отроги причудливо обегали друг друга.
А выше — вечные головы гор. Баташ стоял на их уровне. На двое суток пути ушел он от становища своего племени, но рисунок гор попрежнему оставался неизменен: эти лбы и носы, уста и морщины. Никогда Баташ не видал гор в такой близости и огромности, — их можно было охватить одним взглядом: от снежных вершин до лесистых подножий. В тишине и прозрачности раннего воздуха они высились неприступно-грозные и цельные. Точно взявшись за руки, они загоражц-
5
вали южную половину мира, и ледники, похожие на белые плащи, спускались с их плеч почти до самых подножий.
Но Баташ и не помышлял о той таинственной половине мира, которую от него загораживали горы. Перед ним была прекрасная и никем еще не захваченная земля. Сверкающий снег, на котором он стоял, чем ниже, тем становился темнее и сменялся щебенкой и бурыми мхами; ниже простирались зеленые, влажно блещущие под росой луга: стада овец, табуны лошадей могли бы пастись на них. Но все было пусто, и только на далеких ржаво-красных скалах стоял горный козел, наверное охраняя свое, отсюда невидимое стадо.
«Разведчик, — подумал Баташ. — Это не твоя — это моя земля».
На той высоте, на которой был Баташ, ярко светило солнце, внизу еще лежала предрассветная тень. Там вдоль всего подножья снегового хребта тускло и сонно поблескивали какие-то воды: наверное, там, в широкой долине, течет река. Над долиной висела тяжелая белая лапа ледника; новорожденные потоки, вытекая из-под нее, разбегались по ущельям и сбегались в долине. Спускаться туда было очень далеко, синие жилы ручьев казались твердыми, а жгуты водоворотов — неподвижными и точно замерзшими; лес, которым была покрыта большая часть долины, казался травою. Там, у воды, можно бы взращивать хлеб, там могли бы жить люди. Нет, все пусто...
И вдруг Баташ сбежал с открытого места, на котором стоял, и ушел в морозную тень скалы. У подножья одной из ближних гор, много ниже перевала, но все же господствуя над долиной, высилась песчано-желтая башня. Она своими квадратными очертаниями резко выделялась среди хаотических и вольных нагромождений камня.
— Рим, — со страхом и уважением сказал Баташ.
Одетый в шерсть и кожу своих стад, он чувствовал себя беззащитным перед этим народом, который, по рассказам стариков, состоял из одних закованных в металл воинов. Правда, как после разлива спадает вода, так исчез этот народ, оставив после себя прямые
6
дороги, квадратные башни, красивые кувшины, круглые монеты, на которых в победной листве изображены головы властителей. Много веков ничего не было слышно о Риме. Но Баташ все же, крадучись, избегая открытых мест, двинулся в сторону башни, чтоб разведать: не там ли еще Рим?
Солнце ушло уже к западным горам и грело затылок Баташа, когда его долгоногая тень, намного опередив его самого, коснулась головой каменного подножья башни. Широкий сухой водоем был перед ним; ящерицы шуршали в его знойном щебне. И Баташ ободрился: люди не могут жить там, где разрушены колодцы. Он дошел до рва. Чаща кустарников подымалась оттуда, он ловко перебрался по их гибким ветвям и через пролом проник в первый двор башни. Там было пусто, — только трава, темнозеленая и обильная, проросла сквозь разбитые шлемы и ржавые латы, вокруг мечей и щитов-. И по- этим жирным пятнам Баташ угадал, как нагромождены были мертвые в этой последней битве.
Баташ мог бы выбрать здесь и меч, и щит, и шлем... А какие прекрасные стрелы с дорогими металлическими оконечьями разбросаны всюду! Но во дворе было как-то особенно тихо, даже птицы не пели, и, ничего не взяв, вышел Баташ отсюда: он боялся мертвых.
Но как весело запел он, когда опять очутился на той стороне рва!
О радость, Рим кончился на всей земле!
Поздней ночью спустился Баташ вниз, в свою долину. Во- тьме светящаяся и живая, вода звенела всюду, прохладные травы росли по берегам протоков, душистая темнота окружала его. Перейдя вброд несколько протоков, он забрался на громадный дуб и устроился на его- развилке, такой широкой, что на ней можно было бы раскинуться, как на земле. Раньше чем заснуть, пожевал он холодной каши, горько-ватой и круто сваренной (таков был хлеб его племени); запах глины и дыма пробудил в нем тоску по родному очагу, по говору и песням родичей.
7
На этом дубе переночевал он и следующую ночь. За день обошел всю долину, и она понравилась ему; но, может, дальше на восток- будет лучше? Перед тем как уйти, выбрал он хорошо орошенное место, и, хотя время пахоты и сева уже прошло, он нашел суковатую палку, вскопал эту коричнево-черную жадную землю и бросил в нее горсть бережно принесенных ячменных зерен.
Потом он. ушел на восток. Народная память не удержала подробностей его странствований по другим ущельям и долинам, но осенью, отощавший, в оборванной одежде, с кровавой и гноящейся раной на шее, он вернулся к своему полю под Римской башней. Проросшие злаки клонили к земле усатые головки и начинали осыпаться. Бережно собрав этот первый урожай, он вернулся к своему племени. А на следующую весну, забрав своих родичей, Баташ покинул племя. Он увел их в свою долину. Там Баташевы стали сваливать огромные, в два и три обхвата, дубы и складывать их в стены. Дубы, подобно шатру, сходились над очагом, построенным на самой середке, так что дым, жак в шатре, уходил вверх, в дымовое отверстие.
На тех плодородных холмистых предгорьях Кавказа, которые с незапамятных времен населяли предки Баташа, стало плохо жить. С востока, из-за Волги, пришел чужой, иноязычный народ, и ханы его наложили тяжелую дань на вольные племена, испокон века жившие между Азовским и Черным морем, по рекам Кубани и Тереку. Вожди этих племен покорились степным ханам и стали собирать для них дань.
Потому за Баташевым родом в долину Римской башни двинулись другие, и дым очагов поднялся над долиной. Но вождь племени — Батыж, судья и воин, купец и доблестный грабитель караванов, — пошел по следу беглецов и настиг их. Он привел и дружину.
— Почему ты ушел со своего места? — опросил он Баташа, скотовода и охотника, землепашца и разведчика новых земель.
— Я хочу жить без тебя, — ответил Баташ.
И Батыж убил Баташа.
Но за кровь Баташа поднялись все новопоселенцы долины. И пришлось Батыжу своими руками, не знав-
8
П1ими иного труда, кроме бранного, вырыть канаву, подарить эту канаву Баташеву роду и этим потушить кровомщение. У первой воды, побежавшей по канаве, пришлось Батыжу поклясться, что он и потомки его будут защищать основанное Баташем поселение. Римская башня здесь стояла потому, что некогда по Баташевой долине проходила древняя купеческая тропа на ту сторону гор, к гаваням Черного моря. Сейчас эта тропа была заброшена, только- шайки молодцов с севера иногда проходили по ней, чтоб грабить богатые гавани. Старый аул оказался у них на пути. И около канавы, вырытой Батыжем, Баташевы поклялись подчиняться Батыжу, испытанному военачальнику.
Узнав, от сыновей Баташа об оружии на дворе Римской башни, Батыж пренебрег суеверным запретом, окружавшим достояние мертвецов; он веял это оружие, вооружился сам и вооружил своих людей. Он перешел горы, напал на черноморские города и так разорил их, что нападение это оказалось записанным в византийские летописи и стало называться не разбоем, а войной. Батыж потоптал сады и виноградники, разграбил богатства, многих убил, а многих увел в плен; были среди пленников искусные’ садоводы и чеканщики по серебру, кузнецы-оружейники и мастер а-кожевники, много здоровых детей и красивых девушек. Но Батыж был всего лишь вассалом могучих степных ханов, повелителей бесконечных восточных равнин. И, отослав ханам своих пленников, он имел от ханов честь и великие подарки.
К Батыжу попали в плен арабские купцы. Хоть и в ярме, но не напрасно прошли они по заброшенной торговой тропе.
«Сейчас, — рассудили они, — тропой владеет могущественный разбойник Батыж. Так не лучше ли договориться с одним могущественным разбойником, чем страдать от многих, неисчислимых, налетающих, как рой мошкары?..»
Арабы не только выкупились — друзьями расстались они с Батыжем. Старая купеческая тропа вновь ожила. И степные ханы были довольны: немалую при
9
быль давали им караваны, приходившие с юга, от гаваней Черного моря. От арабских купцов приняли Ба-тыжевы коран и распространили его по долинам и горным ущельям. Войной, договором, родством и дружбой добились они первенства среди прочих многочисленных господ этих мест. Большой знатности достигли Баты-жевы. Впоследствии они стали говорить про себя, будто сами являются родичами Магомета и потомками Араби-хана. Даже крепость, построенную ими на северных предгорьях Кавказа, назвали они Арабской крепостью. Они считали себя происходящими от Инала Одноглазого, предка многих черкесских князей. Имена Батыже-вых можно встретить и в русских, и в византийских летописях, и в записях арабских купцов, — везде говорится о них как о родичах Магомета.
Но что бы ни говорили во всем свете, в Старом ауле упорно помнят свое начало. Там и сейчас показывают большой камень, около которого Батыж, поспорив с Баташем, убил его, а канава, вырытая руками Батыжа, до сей поры орошает поля Баташевых.
В памяти каждого человека на всю жизнь остается какое-то одно мгновение детства, выступающее среди тумана снов, сказок и мечтаний; Так в памяти этого племени из мифов и сказаний, образуя первый сознательный миг его жизни, выступает история Баташа и Батыжа.
2
В Баташевой долине находятся как бы корни страны,— те быстрые и-холодные ручьи, которые, низвергаясь из-под ледника в долину, сливаются здесь в реку. Стволом страны является эта река, а многочисленные притоки ее похожи на ветви.
Реку эту здешние люди издавна называют Светлая. Русские назвали ее Веселая, а всю страну — Весе-лоречье. Быстрая, пенно-голубая, взметывая белую гриву, резво скачет Веселая. через пороги, и там, где горы раздвигаются, она разбегается по протокам, шуршит в. прибрежных камышах, звенит, ласково перебирая щебень и гальку.
IQ
Горы, между которыми бежит река, как бы стремятся изловить ее, окружают, теснят, становятся ей на пути. Но, как резвая лошадка, речка то петлями обегает их, то вдруг кидается напролом, прорывает их неуклюжую цепь и низвергается водопадами. Настойчиво и хитро пробирается она на север, к плодородным, тучным равнинам. Перед тем как ей вырваться на свободу, горам едва не удается изловить ее. Здесь скалистые берега Веселой почти сходятся; вея поднявшись дыбом, она, бело-яростная и полноводная, ревет, осыпая водяной пылью свои крутые и вечно сырые скалистые своды. Оба берега из клубящейся воды отвесно уходят ввысь, и только один из них — левый — опоясан уступом, узким карнизом, быть может когда-то укрепленным руками людей. Тут проходит дорога в горы; две двухколесные арбы с трудом могут разминуться на ней. Эта дорога вся открыто видна со скалы противоположного берега, и один меткий стрелок может удерживать здесь сотню людей. Сотня же задержит целую армию.
Народ с давних времен оценил это место и назвал его Ворота. Тот, кто встанет на Воротах, будет на север видеть не имеющие конца туманные равнины. А на ют отсюда видно, как веером расходятся устремленные к ледникам ущелья, в глубине которых скрыты аулы. В погожие осенние дни вся маленькая страна, в огне и яри лиственных лесов, темной зелени хвои и свежести зеленых пастбищ, похожа на хвост лесного петуха — прекрасного кавказского фазана.
Громадный орел летел над Веселоречьем, направляясь к кавказским горам, в когтях своих нес он нечто белое. Увидел его со своего двора в ауле Дууд молоденький хилый князь Бисмалей из рода Дудовых. Спустил стрелу Бисмалей, орел пал в кустарник. В когтях его оказался спеленатый младенец, мальчик необыкновенной красоты и здоровья. Назвали его Тхамали, и когда он вырос, то стал оруженосцем Б немал ея.
Умер правитель Веселоречья, и, как это водилось, князья собрались выбрать правителя. Хилый Бисмалей прибыл, лежа на двухколесной арбе, которую тянули
11
худые, покрытые паршой рабы. Бисмалей с детства страдал одышкой, охал, стонал, проливал слезы, задыхался; знахари, окружавшие его, подносили ему -напитки, на-стоенные на целебных камнях и волшебных травах. И князья, которые всегда стремились выбрать в. правители Веселоречья того, кто не смог бы- мешать их своевольству, выбрали правителем Веселоречья именно Бисмалея Дудова.
Сначала все шло' так, как этого хотели князья.. О Бисмалее не было слышно, он жил в родном ауле и лечился. Но вот один из степных ханов, разгромив Нижние аулы, устремился на Веселоречье. А чтобы попасть в Веселоречье, нужно прорваться через Ворота. Здесь-то юный Тхамали во главе отважных воинов дал отпор Орде. А тем временем Бисмалей собрал ополче-' ние и вывел его на пригорье. Освободил находившуюся в осаде врагов Арабскую крепость, старинное торговое место Батыжевых. И тут снова прославился Тхамали: единоборствовал со степным богатырем и разбил его о землю.
Так все деяния Бисмалея сопровождаются подвигами Тхамали. После победной войны затеял Бисмалей поход на богатый ханский город Астрахань. Тхамали первый на волшебном своем коне перескочил городскую стену, пронесся сквозь стрелы и копья и утвердил знамя на противоположной стене города. С того времени в каждом доме Веселоречья можно найти памятники астраханского набега: багрецом -и золотом тканный ковровый кусок, бирюзой и серебром чеканенную маленькую посудинку, после нескольких столетий сохранившую слабый запах благовоний, женские одеяния рытого бархата, пушистого и густого, как мех, обрывки китайского шелка, такие тонкие и легкие, что даже во время безветрия они колебались, содрогались, точно живые, и краски их были неувядаемы.
При дележе астраханской добычи Тхамали взял только оружие, добытое в бою, и с пренебрежением отказался от своей доли в награбленном. «Женские тряпки — женщинам», — так сказал он (астраханская добыча в большей своей части действительно состояла из богатых женских одеяний). Князья не гнушались этой
12
добычей и в словах Тхамали усмотрели себе оскорбление.
— Он женщинами нас называет, этот безродный, выросший на твоем дворе, — говорили они Бисмалею.
Так возникла рознь между Тхамали и князьями.
Веселореченские князья и до этого совершали грабительские набеги, но никогда еще подобный набег не охватывал столь многих участников и не был вознагражден такой богатой добычей. Оттого, что Бисмалей не сходил со своей арбы, а ел много- и сытно, он стал тучен — уродство, считавшееся всегда позорным у весело-реченских горцев. Но Бисмалею все прощалось. «Больной»,—говорили о нем знахари. «Святой», — называли его- муллы. «Мы — Бисмалеевы детки...» — с гордостью говорили о себе его дружинники. Тучный до того, что без помощи слуг не мог подниматься, Бис-малей, одетый в яркие и пышные одежды, сопровождаемый знахарями, муллами и хорошо вооруженной дружиной, ездил по всему Весело-речью, разбирая споры и толкуя обычаи. Споров между князьями и крестьянами становилось все больше, то шел старый спор Баташа и Батыжа, но теперь не знал уже Баташ, куда ему бежать от Батыжа.
Богатые и знатные прославляли Бисмалеев суд: колода и топор, чан с кипящим маслом. Тхамали поднял свой голос против Бисмалеева суда.
— Ты дружинник, тебе тропа чести открыта! — уговаривал его Бисмалей, дороживший своим богатырем.
Но Тхамали выбрал дорогу иной чести.
Раз на крутом спуске Бисмалеева арба раскатилась. Рабы, в нее впряженные, не смогли ее удержать, она передавила их своими тяжелыми дубовыми колесами и покатилась в пропасть. Бисмалей кричал, как заяц. И тогда Тхамали поскакал вдруг вперед. Обогнав арбу, он встал на ее пути и, нацелившись в обод колеса, спустил стрелу. Вонзившись в обод, стрела тупым концом уперлась в камни, и арба остановилась.
Такова была эта стрела! Таков был лук, пославший ее! Такой богатырской силы была рука, спустившая тетиву! Настолько меток был глаз, стрелу направлявший, и так благородно было сердце Тхамали.
13
— Эй, Бисмалей, твое брюхо как студень! Эй, Бисмалей, тебя возят на арбе! Вот стрела взамен той, которую я тебе должен с младенчества! Теперь мы в расчете!— так сказал Тхамали— и поднял крестьян по всему Веселоречью.
Крестьянское войско разбило войско князей, подошло к Арабской крепости, куда под защиту Батыжевых сбежались знатные со всего Веселоречья. Владетель Арабской крепости, один из потомков Батыжа — Те-миркан— стал посредником между князьями и крестьянским войском,.
Был заключен мир. Бисмалея низложили. Князья избрали правителем Темиркана Батыжева. При этом были не только восстановлены все старинные крестьянские вольности, не только распущена была Бисмалеева дружина, но был еще установлен ряд новых, никогда не слыханных законов-: если князь убивал крестьянина, то платил цену крови, как если бы убил князя. А если крестьянин убивал князя, то платил как за крестьянина.
Эти порядки продержались недолго. Новый .правитель Веселоречья — Темиркан Батыжев, коварно притворившийся другом Тхамали, заманил его в засаду и убил. Крестьяне к тому времени разошлись уже по домам; самых беспокойных схватили врасплох и поодиночке казнили. Веселоречье хотя и не вернулось к Бис-малеевым порядкам, — самые унизительные для князей порядки, введенные Тхамали, были отменены. Но Тхамали запомнили навеки. Даже князья пели о нем: «О-о-ой, Тхамали, ты наша напасть! О-о-ой, Тхамалиево войско, мужицкое войско, огромное войско, о-оюй!»
3
Издавна, как Баташ от Ваты-жа, русские крестьяне бежали от своих господ в прикавказские равнины и вольными станицами оседали по соседству с горскими племенами. И, как Батыж следом за Баташем, шло за беглецами русское царство. Беглецы превращались в вольных вооруженных людей — в казаков. И русское
14
царство сумело поставить их на пожизненный сторожевой пост против горцев.
Так против веселореченских аулов стали станицы: Царская, Доблестная, Сторожевая, Дозорная. А вслед за казаками пришло русское войско, пригнали солдат.
Один русский солдат убил начальника и бежал в горы. Лесом, боясь как своих, так и горцев, пробирался он вверх, придерживаясь течения реки Веселой. Второпях прихваченный хлеб быстро кончился, он ел коренья и незрелые ягоды. Ослабев, измучившись, добрался он до того места, где течение реки поворачивало: теперь она преграждала ему путь. Из-за деревьев леса, совсем близко, сверкали горные снега. Он пробрался сквозь кустарник, внезапно- вышел на край обрыва — и вдруг заповедная Баташева долина открылась перед ним. Она вся была уже заселена.
Плодородное дно долины обнажилось, леса отступили на склоны гор, поля взбежали за ними и (чудно для русского глаза!) повисли между скал и расселин. Поселения родов, отделенные одно от другого яркозелеными ровными полями, поднялись по всей долине.
Солнце спускалось к горам, и каждое поселение вместе со своими пирамидальными тополями отбрасывало свою тень, причудливую и удлиненную, на зеленые вблизи и вдали всё лиловеющие поля. На муравейники казались похожими русскому солдату эти никогда не виданные им человеческие поселения. Земля, камень, старые бревна — -не разберешь, где крыши, где стены. Преобладали темные краски, но кое-где желтел новый тес, белела мазаная стена, стекло отбрасывало последние алые лучи солнца. Повсюду сверкали оросительные ручьи — словно струящаяся сеть брошена на поля. А на эту сеть как бы легло другое, более тяжелое и грубое плетение: ограды, скалисто-серые и невысокие, во всех направлениях пересекающие долину. Камни, когда-то, наверное, загромождавшие все вокруг, сейчас покорно легли в оградах. Такие же камни, но поставленные дыбом, немою толпой теснились на кладбищах. И эта чужая, но одушевленная прелестью труда многих поколений жизнь ободрила солдата.
15
— Люди живут! — сказал он, перекрестился и вместе с камнями и осыпью земли скатился с крутизны прямо в реку.
Женщины, которые на противоположном берегу реки брали воду, с визгом разбежались, ребятишки рассыпались по кустам и стали бросать в него камни, свистя и гикая. Целили метко. Но Данила (так звали солдата), оборванный, докрасна обожженный солнцем.' и обросший золотисто-рыжим волосом, покорно стояЛ‘ по колено в быстрой воде и даже не вытирал кровь с лица, а только слизывал ее с губ, — и эта бесстрашная покорность спасла его: мужчины, сбежавшиеся на крики женщин, тут же укротили ребят и повели русского в аул. Он оглядывал их: все .рослый, спокойный народ, даже к нему, к пленнику, добродушно-приветливый, не похожий на нижних черкесов, озлобленных и недоверчивых, с которыми в то время шла у русских война на предгорьях. Те немногие черкесские слова, которые выучил Данила, здесь понимали, и он этими немногими словами все твердил им одно и то же: он убил притеснителя и просит приюта у вольных горцев. Когда его* довели до кузницы, он оживился, с любопытством оглядел незатейливое устройство; взял молоток и знаками попросил раздуть горн.
Барский крестьянин, работавший в Туле на оброке у оружейника и в солдаты сданный за буянство, Данила знал секреты тульской фасонной ковки, и кузнецы Хасубовы тут же выкупили его у аула. Он стал их рабом, но долгое время сам не подозревал об этом: ему даже оказывали почести за высокое мастерство в кузнечном деле.
Была у Хасубовых дочь Бибисарья. Данила сначала посчитал, что ей всего лет двенадцать. Их лица были на одном уровне только тогда, когда он низко пригибался к ней. Но Данила пригнулся раз, пригнулся другой раз и разглядел — девка в самой поре, хороша, как заводная кукла в немецком часовом магазине, и так же ловка и легка, и так же смеется, точно колокольцы звенят.
— Вот ты маленькая какая! —• сказал Данила.
16
— У меня заячьих наездников кровь, — гордо ответила Бибисарья.
— Каких еще заячьих наездников? — удивился Да-ала: легко учился ои чужим языкам, обычаям, а о заячьих наездниках не слыхал.
И Бибисарья тут же рассказала.
— Это было еще в ту пору, когда маленькие люди, населяющие недра гор, вели с нами торг: мы им — хлеб, а они нам — мотыги, лопаты, серпы, все, что создается из железа, кроме — запомни это! — оружия. .. Сами люди еще не знали тогда тайны железа, только хитроумным жителям земных недр известна была эта тайна!.. О мудрости этих созданий можешь судить по тому, что они сумели приручить зайцев и ездили на них верхом, как люди ездят верхом на лошадях.
Пастуху Хасубу посчастливилось выследить такого объезженного зайца: с седелком на спине пасся он на лужайке, около скалы. Хасуб затаился, терпеливо прождал час, два... Вдруг раздался звон, подобный тому, которым вы, русские, призываете бога со своих многоголовых церквей. Гора раздалась, и оттуда вышел маленький человечек в красивой одежде.
Хасуб накрыл его буркой вместе с его длинноухим, бесхвостым «коньком».
«Что тебе от меня нужно, несчастной матери сын?» — спросил пленник из-под бурки.
«Хочу обучиться тайне железа...» — ответил Хасуб.
«Железо растет под землей, — вам, людям, не совладать с его тайной, — ответил заячий наездник. — Смирнея, Хасуб! Я лучше подарю тебе чудесный ножик, которым ты сможешь из дерева вырезать все, что захочешь, не будет никого искусней тебя в этом деле».
«Не нож нужен мне, а тайна того, как его сделать», — отвечал дерзкий Хасуб.
«Ладно! — вздохнув, сказал заячий всадник. — Ты сам не постигаешь безумия своей просьбы, но так, видно, суждено. Прощайся с ясным солнышком. Десять лет будешь жить ты в нашей горе и научишься отыскивать те места, где растут руды, волшебные травы земных недр, и мы научим тебя венчать их огнем и
2 Ю. Либединский 17
соединять железо с серебром и с медью. Познаешь всю нашу науку —сможешь сковать небесную радугу и громовую пращу, мечущую молнии...»
И Хасуб сошел в недра горы. Но когда на земле настала первая весна, затосковал он по солнцу, пища стала ему не солона, ложе не спокойно... А в горнах горит холодный подземный огонь, влага непрестанно сочится по черным стенам подземелий. Стал плакать Хасуб, молот стал падать из рук его. Так, может, и сгинул бы он под землей. Но его полюбила прекрасная Маликупх, заячьих всадников дочь. Я мала, а она была еще меня меньше! Открыла она дверь из горы, вышла вместе с ним в зеленый солнечный мир, стала его женой, — от нее и пошли все мы, Хасубовы.
— Вот почему вы так плохо железо куете!—сказал Данила, выслушав- сказку. — Надо бы Хасубу десять лет проработать, а он и года не выдержал.
— Да, — согласилась Бибисарья. — Наши удивляются твоему уменью. Говорят: Данилов пращур, верно, тоже в подземных кузницах был, да дольше, чем наш Хасуб!
— Что пращур! — похвастал Данила. — Я сам там без года десять лет проработал.
— Ты? — восхитилась Бибисарья.
Тут Данила поцеловал ее.
— Тебе нельзя взять меня в жены, — сказала Бибисарья. — Я — свободнорожденная Хасубова, ты — раб безродный.
Но из объятий его она не уходила. И Данила решил по-своему повторить историю дедушки Хасуба...
Как бы отщепившаяся от главного хребта, стоит особняком в Баташевой долине Гвоздь-гора; не так она высока, как неприступна; похожая на гвоздь, поставленный острием вверх, она даже в самую снежную зиму остается черной: снег на ней не держится.
Много ловкачей хотели ее одолеть, но все соскальзывали вниз, — горка сбрасывала удальцов, как строптивая лошадь. А Данила влез, да не один, а прихватив маленькую Бибисарью.
Собрался народ под горкой, родители Бибисарьи плачут, родичи Даниле угрожают. Рукой его не до
18
стать, а пристрелить можно быг но хорошо умеет рабо-ыть Данила, жалко убивать. А Бибисарья родичей уговаривает, историю дедушки Хасуба и бабушки Ма-лц'купх напоминает...
Старики подумали, посовещались, вспомнили старый адат, о нарушителях адатов — о людях, которые сами возьмут, если им не дадут, — и примирили Данилу с родом Хасубовых. Сначала жил он у Хасубовых, а потом отвели ему место на покрытой щебнем отмели реки Веселой; плохо там было жить во время наводнений, но хорошо всходили овощи — первые из все?го аула стали Даниловы сажать капусту и огурцы, лук и укроп. И пошел в старом ауле род Даниловых, кузнецов, пастухов, огородников — самый молодой из всех родов Веселоречья.
После Баташевой канавы, Хасубовой двери (расселины в том месте скалы, где, на удивление всему народу, Хасуб вместе со своей малюткой вышел из горы) и других примет, оставшихся от прошлого, показывают в Баташевой долине Данилову гору.
4
Когда русские покорили степные татарские ханства, старинная караванная тропа по долине реки Веселой заглохла. Царские войска подошли к Арабской крепости, и Батыжевы долго и упорно отбивались. После взятия крепости развалины батыжевского каменного дома несколько десятилетий простояли черным пугалом, высясь над дико разросшимся садом, между новых, прямым порядком построенных домов*. Так Арабская крепость стала Арабынью.
А Батыжевы отступили в горы и укрепились на Воротах. Стражу здесь держал один из Батыжевых — Алегико. В дни ранней молодости Алегико участвовал в защите Арабыни. В этом бою он получил первые раны и с тех пор всю живнь воевал с русскими. О доблести Алегико пели песни. Его темное, кошачьего склада лицо было изуродовано ударом шашки, один
19
2*
глаз вытек, щека под глазом оплыла вниз и обнажила часть скулы, которая синела сквозь пленку сморщенной, как бы воспаленной кожи.
Но за долгую его жизнь царские войска все глубже— рубкой лесных просек, прокладкой дорог, постройкой крепостей — входили в горы. И для всех было неожиданно, когда без боя, мирно и добровольно Алегико передал русским укрепления на Воротах. Сразу же вместе с двумя старшими сыновьями поехал он по аулам и стал на аульных собраниях призывать народ к покорности русскому царю.
В глубь заповедных долин и ущелий Веселой реки везли уже русские пушки. «Фермопилы веселоречен-С.КИХ горцев пали», — Сообщил в Петербург тот молодой образованный полковник, который сумел договориться с Алегико.
Царь Леонид во главе тре,х сотен спартанцев, оборонявший Фермопилы и погибший на рубеже своего отечества, не прославился бы, если бы вместо доблестного сопротивления мирно передал персам ворота в Элладу. А вот Алегико прославился, хотя не легко далось ему все это дело. Даже близкие родичи проклинали его и угрожали ему. Опасаясь за свою семью, Алегико решил под охраной отправить всех детей и женщин своей семьи из Баташевой долины в Арабынь, под защиту русских. Но до Арабыни семья Алегико не доехала — в ауле Веселом на ночевке она была перерезана. Восемнадцать внуков и двух младших сыновей потерял Алегико. Два его старших сына тоже погибли в это тяжелое время. Один из них на собрании в ауле заслонил Алегико и получил пулю, йредназначавшуюся отцу. Другой, усомнившись в поступке отца, зарезался сам.
— Холоп русского царя! — кричали старику на собраниях по аулам.
— Наш бог — боб воинств. И если он настойчиво дает победу над нами великому русскому падишаху, то иного знамения ждать не хочу, — отвечал Алегико.
Алегико ругали трусом, но он только усмехался: все могли ввдеть под черной, надвинутой на лоб круг
20
лой шапкой его страшное, обезображенное в битвах лицо.
Алегико раздельно прочитывал людям письмо царского полковника, того, которому он передал Ворота. В этом письме веселореченцам именем русского царя обещаны были вечный мир и твердый порядок, сохранение обычая и веры. Особенно подробно разъяснял Алегико то место письма, где о*г имени русского царя полковник обещал, что пастбищные земли, открытые еще Баташем, Прекрасные луговины, орошаемые ручьями, вытекающими из-под ледников, попрежнему, как это и было на протяжении всей истории Веселоречья, останутся общинной собственностью всего народа.
— Царь обещает скрепить русским письменным законом наши владения, а вам надлежит знать силу письменного закона, — говорил Алегико.
И народ крепко запомнил эти слова. Пастбища, средоточие жизни пастушеского народа! На нижних лугах пасли коров, выше — овец, еще выше, на самых драгоценных травах, выхаживали горских коней.
Царский рескрипт закреплял «в общественную собственность веселореченских крестьянских обществ» все пастбищные земли, протянувшиеся ниже ледников и выше лесов и опоясывающие все Веселоречье.
Русский царь пожаловал Алегико крест Георгия, чин ротмистра конвоя его величества, отрезал ему изрядный кусок земли, принадлежавший ранее князьям, державшим руку турецкого султана.
Так Алегико из слабого государя с малочисленной, состоящей преимущественно из родичей дружиной превратился в богатого помещика, охраняемого царским войском и царским законом.
Казалось бы, к чему бы Алегико все эти богатства и почести? И не издевался ли русский царь, присвоив ему «и всем потомкам его» благородное дворянство — честь, которой удостаивались не очень многие княжеские семьи покоренных горских племен. На какое потомство мог рассчитывать старый Алегико? «Пусть ветви обрублены, но вершина не сломлена и корень крепок...» — сказал Алегико.
21
Он женился на четырнадцатилетней красавице княжне Дудовой — покойная жена тоже была из этого дружественного Батыжевым рода, — и через год старый корень дал побег: у Алегико родился сын.
5
На том месте, где когда-то Баташ развел первый костер, еще стоял старый, Баташем и его сыновьями построенный дом. Но теперь этот дом оказался в самой середке многолюдного родового поселка Баташевых. Баташев дом сохранял еще вид шатра с дымовой тягой наверху. Огромные древесные стволы, из которых он был сложен, потемнели, они стали похожи на плиты дикого камня.
Окон нет, даже маленьких, летом всегда открытых, а на зиму затягиваемых бычьим пузырем, какие имелись в самых бедных горских домах. Свет падает сверху — из широкой трубы, к которой сходится кладка всей крыши. Земляной пол крепко утоптан, и на нем нет ни травинки. Под дымовой тягой от стены к стене перекинуто бревно. В середине оно обуглено: здесь в течение веков был очаг; камень подземной скалы здесь черен, как уголь. Баташевы давно не живут в старом доме. Они научились строить более удобные жилища, в которых очаги передвинуты к задней стене, трубы стали уже, а в некоторых домах побогаче настланы деревянные полы и* даже вставлены стеклянные окна. Но старый Баташев дом стоял крепко, и в суровые зимние дни под его крышу Баташевы загоняли маток с Жеребятами. Так старое жилище превратилось в конюшню, но это не мешало потомкам Баташа чтить старый дом и гордиться им. Те, кому приходилось уходить из родового поселка, помнили о доме и рассказывали:
Вот мы какие, Баташевы, кровь Баташа, открывшего людям новые места жизни!
Были Баташевы, которых войны и грабежи увлекали с родины — и они вышли в сословие дружинников. Богатых уводило богатство, бедных — -бедность.
22
Исмаила Баташева ув-ела из родного поселка любовь.
Началось это на веселой, пышной свадьбе в соседнем поселке. Шла свадебная игра. Вся молодежь участвовала в ней: шуточное похищение невесты, шуточная погоня, шуточный выкуп. Но в любой момент -подобная игра могла обернуться кровавым делом, и потому вытверженный многими поколениями однообразный ход этой игры волновал не только тех, кто в ней участвовал, но и тех, кто с кровель, оград и с высоких камней следил за ходом игры, проходившей перед домом невесты на маленькой площадочке, в самой середине поселка. Люди стояли везде, где только можно было стоять. Играла музыка, нестройная и веселая, смешные головастые, блаженно улыбающиеся, толстогубые маски, большеносые, с приподнятыми бровями и остренькими бородками^ выкрикивали непристойности, над которыми охотно смеялись люди, собравшиеся повеселиться.
Исмаилу не часто приходилось бывать на празднествах, и он не успевал оглядываться на то, что происходило.. Девушки носили тогда яркоцветные, с приподнятыми плечами платья, обшитые золотым и серебряным галуном и в талии перехваченные таким же галунным пояском. Подолы этих платьев доходили лишь до колен. Ноги были скрыты шальварами. Тончайшие ткани, бело-блестящие и легкие, как облака, не прятали девичьих лиц, но придавали им особенную, волшебно-заманчивую красоту. Война уже кончилась. Но от дней войны у юношей осталось еще презрение к щегольству. Яркие черкески носили только ряженые забавники. Но как богато — серебром, багрецом, даже камнями — отделана была сбруя коней и какая тончайшая черная чеканка вилась по серебру кинжалов и шашек, по стволам старинных длинных пистолетов и по ремням!
Исмаил не имел коня и не мог показать себя в джигитовке. Отдаленное родство с невестой определило его место в свадебной игре: он оказался среди многочисленных пеших молодцов, охранявших дом невесты. Сильный и ловкий, <но застенчивый, он не стремился
23
показать себя ни в борьбе, ни в задорных состява-ниях — в прыжках и в беге. Его темнобордовая черкеска была красиво сшита и чиста, но не очень нова. На его ремнях и оружии не сверкало серебро. Не был он ни шутником, ни песенником.
Но девушка все же заметила его.
Не то жалобно, не то дурашливо запела зурна, и начался тот веселый, самый любимый молодежью танец, в котором парни и девушки, взявшись за руки, идут попарно- быстрым и мелким шагом, то поворачиваясь лицом друг к другу, то отворачиваясь. Время тогда было строгое. Молодежь за то и ценила этот танец, что, танцуя, парень и девушка могли сговариваться о чем им надо.
Площадь, на которой шел танец, была тесновата, и всех не танцующих попросили подвинуться. Исмаил уже упирался спиной в какую-то стену, Старуха подняла над его плечом маленького мальчика и визгливо, над самым ухом Исмаила, рассказывала ребенку ход свадьбы. Веселая толкотня и теснота забавляли Исмаила. Кругом мелькали оживленные, знакомые и незнакомые лица — на каждом удаль, веселье, грусть, зависть, — все это мимолетно проносилось перед глазами юноши, он был разгорячен и взволнован, готовый сам испытывать любое из этих чувств. И вдруг в своей руке он ощутил трепещущую и горячую, решительную и сильную руку. Хотя ладонь была жестка, он сразу почувствовал, что ладонь эта женская.
На всю жизнь запомнил Исмаил этот вечер. Солнце только село, но уже светил месяц. Необыкновенно сияли розовым и голубым снега на вершинах, и этот полусвет, не то солнечный, не то лунный, разливался по земле. Издали чуть приносило синий кудрявый дымок ароматного кизяка. Все чудесно затенено, и горячая, дрожащая рука настойчиво вела его в круг танца. Эта статная и рослая девушка, пожалуй, была даже чуть выше и шире самого Исмаила.. Он не видел ее лица, скрытого белым, грубой вязки, кружевом, но как горделиво-неподвижны ее широкие плечи и ее голова — как будто не сама она первая подошла к нему и не сама вложила свою руку в его руку.
24
До этого Исмаил на девушек глядел только издали. Мечтая о любви, он робел перед ними — и вдруг... Да подобает ли, чтобы так начиналась любовь?
Но едва они вошли в круг танца и девушка поплыла рядом с ним, как он забыл все.
— Откуда ты? — спросил он.
И так же коротко, на быстром повороте танца, она ответила:
— Сирота... из аула Веселого...
СкрИпка, взвизгивая, вела их и то ставила лицом к лицу, то заставляла отворачиваться друг от'друга.
Угадав, чего хочет Исмаил, девушка на мгновение подняла кружево, и он увидел ее лицо. Смугло-румяное, с выдающимися скулами, оно походило на большое спелое яблоко. Что-то умоляющее и отчаянное уловил он в ее быстро блеснувших, косо прорезанных глазах; брови ее — как крылья ласточки...
Скрытая своим грубым, овечьей шерсти, белым платком, она, большая, плыла с такой легкостью, что все прочие девушки, в лентах, шейках и галунах, казались перед ней телками.
Потом всю жизнь Исмаил, вспоминая первые дни любви, удивлялся себе. Не встретилась бьь ему Хурей-мат, так и прожил бы он в тесноте своего поселка, под старыми тополями, вблизи старого Баташева дома, около родового кладбища, где все Баташевы, начиная с пращура, лежат под старыми камнями, на которых нарисованы и выбиты кинжалы, кумганы, старинные ружья, трубки, заступы, мотыги — все, что нужно человеку на этом свете и что, следовательно, необходимо ему и на том.
Со старины повелось, что Пшеноковы 'брали девушек из рода Баташевых, а Баташевы — из рода Пше-ноковых. Мать Исмаила сама происходила из рода Пшеноковых. Исмаил, как послушный сын, сделал бы все по воле матери, хотя все пщеноковские девушки, маленькие, худенькие и тонконосые, были ему все равно что кровные сестры.
Но Хуреймат уже взяла власть над смирным парнем. Она была безродная—плод любовного случая, не помнила ни отца, ни матери. И когда мать Исмаила
25
кричала по всему аулу, что этой нищенке из Веселого аула, где, как известно, женщины отличаются испорченностью нравов, не былр другой жизни, кроме как охотиться за «свободнорожденным» — парнем из крестьянского старого рода, — Хуреймат, слушая эти обиды, знала: старуха права. Ведь Хуреймат. еще раньше, чем доросла до возраста невесты, поняла страшную жизнь, предстоящую ей: всю жизнь работать на ту семью, которая приютила ее, и ничего не заработать. Стать не женой, а наложницей и рожать детей, не имеющих права на родовую землю, несчастных детей, бесправных и нищих. Надо было уйти. Уйти—для нее значило выйти замуж. Но кто возьмет за себя безродную? И, зная, что нет у нее никого, кто помог бы ей в устройстве брака, самого важного жизненного дела, она пересилила девическую стыдливость и робость и сама стала выбирать. В ее положении было одно преимущество: никто не стеснял свободу ее выбора. Хуреймат искала и выбрала.
Она послала Исмаила к мулле. Мулла не отвечал ни «да», ни «нет»: по закону Магомета, по шариату, свадьбе этой нельзя было препятствовать, но не любили служители пророка идти против древних языческих законов рода, против адатов.
Трудно пришлось молодой паре. Еще в силе был древний обычай: если мужчина уходит из рода, он имущества с собой не уносит, только свои охотничьи и рабочие орудия может взять с собой. Но что делать с мотыгой, если нет земли?
И молодые пошли в Арабынь просить совета и помощи у князя своего Алегико Батыжева.
6
Развалины батыжевского дома в Арабыни стояли в строительных лесах — Алегико поднимал старое гнездо своего рода. Исмаила Баташева Алегико принял. в одном из маленьких домиков, наспех воздвигнутых на большом дворе; в этих домиках он временно расположился с молодой женой, новорожденным сыном и многочисленной челядью.
26
Маленький старичок в желтых сафьяновых сапожках и черкеске цвета сосновой коры сидел в русском кресле, подобрав под себя ноги, бросал на глинобитный, чисто подметенный пол белое пшено, и чудные, ранее никогда не виданные Исмаилом курочки, оперение которых было похоже на стальные, искусно кованные кольчужки (это были цесарские куры), визгливо и жадно покрикивая, клевали это пшено. Старичок весело хихикал, пучил на Исмаила уцелевший глаз, блестяще карий и благожелательно веселый. Старик даже пытался ласково улыбаться, но из-за того, что щека была изуродована, улыбка получалась жутковатая, и Хурей-мат пряталась за спину мужа от страшного лица господина.
Когда Исмаил начал рассказывать о своем деле, Алегико перестал забавляться курами, откинулся в кресло- и нахмурился. Но его темные маленькие, руки продолжали играть. Сделав- чашечкой сморщенную ладошку, он другой рукой быстро пересыпал, переливал в нее красивую, тонкую, наверное золотую цепочку. Цепочка нежно звенела. Исмаилу казалось, что старый господин слушает не его, а этот почти неслышный звон, и тревожился. Но- перед человеком, старшим по возрасту или положению, надо стоять спокойно, говорить не возвышая- голоса и не быть многословным. И он говорил, не сопровождая своих слов движениями рук, не повышая голоса. Однако говорить коротко он никак не мог. И снова все повторял, все разъяснял, — ведь ему казалось, что господин не слушает его.
А между тем Алегико уже знал наперед каждое сл-ово Исмаила, и, слушая его историю, как слушают с детства знакомую песню, Алегико любовался стоявшим перед ним молодым крестьянином. Исмаил был невысок, но строен. Он не позволял себе ни одного лишнего движения. Хотя волнение чуть-чуть содрогало его лицо, карие глаза взблескивали, вспыхивал и погасал румянец, вздрагивали ноздри, — это была живая красота молодой, неистраченной силы. Сзади, покрытая шерстяным белым платком, как белая гора, высилась его жена... Алегико все понимал.
27
«Что ж, я помогу... Помогу...» — думал он, соединяя ласковость и свирепую хитрость. Исмаил, которому казалось, что вся трудность его положения состоит в том, что он «свободнорожденный», а Хуреймат безродная, очень удивился бы, если бы узнал, что русские законники спорят между собой о том, считать ли всех веселореченских горцев крепостными или свободными. Еще больше он удивился бы, если б узнал, что спор этот посеял не кто иной, как сам господин Алегико Батыжев: когда к нему, «.как к знатоку жизни своего народа», обратились из правительствующего сената с просьбой высказать свое мнение о том, какие сословия Веселоречья соответствуют крепостному состоянию, Алегико так хитро изложил положение «свободнорожденных» крестьян, что русские законники вот уже несколько лет спорили, словно их языки, одолела чесотка. Алегико же готовился пожинать первые плоды этого спора: пользуясь тем, что письменных законов его народ не имел, а устное, основанное на обычае право не отделяло земельной собственности князя' от земельной собственности крестьянина, «разъяснил», что пахотные земли и охотничьи угодья Старого аула являются вотчиной Батыжевых. Землемеры нанесли уже владения Алегико на карты. Алегико знал, что подготовляется новый большой закон, по которому крестьяне должны будут 'выкупаться ив крепостной зависимости.
— Ну, Баташев, — сказал Алегико, терпеливо дослушав Исмаила,—/между Батыжем и Баташем клятва, по клятве и будем поступать. — Он немного помолчал, наперед зная, что скажет, но помолчал для важности. — Беру твою семью в ограду нашего дома!
И хотя эти слова как будто не содержали обещания поддержки, Исмаил быстро и благодарно поклонился. Принадлежность к княжеской ограде издавна означала полное покровительство князя. Правда, хотя это состояние и требовало безусловного повиновения воле князя, но люди, взятые в княжескую ограду, становились как бы кровными родичами князя: за кровь человека из своей ограды князь мстил так же, как за своего родича.
28
И еще одна милость: Батыжев отвел Баташеву участок для жилища.
Широкий скотопрогонный путь на пастбища издавна пролегал по левому, более пологому берегу реки Веселой. По правому берегу тоже можно было подниматься, тропа здесь была даже, пожалуй, короче, но гораздо круче и уже. У начала этой тропы, там, где, поднявшись из Баташевой долины, она, опоясывая голый бок громадной горы, начинала круто уходить вверх, и отвел Алегико Батыжев Исмаилу Баташеву место для Жизни. Весь скат горы загроможден был серыми громадными валунами, и надо закинуть голову, чтобы высоко-высоко над этим кладбищем камней увидеть сосновый лес, который стоит так высоко, что столетние сосны кажутся снизу травой.
— Веселое место, — сказал Алегико, и он был прав.
Вся Баташева долина со своими родовыми поселками и разбежавшимися по полям оросительными канавами видна была отсюда.
— Земля там тоже есть, но ты не робей, что ее под камнями не видно: камни убрать можно, — менее решительно добавил Алегико.
Таи молодые добились своего: мулла не захотел ссориться с могущественным помещиком и сразу повенчал его людей. Аул должен был признать новую семью. Сначала это сделали с неудовольствием (нарушены были адаты!), потом к новой семье привыкли.
Исмаил жадно смотрел вниз, на ярко-влажную зелень доливы» там земля, которую он потерял, уйдя от своего рода! Неужели отказаться от работы на земле и начать заниматься только пастушеством?! Надел, который достался бы ему из родовой Баташевой земли, не уйди он оттуда, настолько был мал, что если бы он лег на него, для Хуреймат места рядом уже не нашлось бы. Но все же память рода твердила ему: первое, что сделал предок Баташ, придя в свою долину, —это посеял хлеб.
— Здесь земля есть, только добраться до нее надо! — сказала Хуреймат, похлопав рукой по камням, на которых она сидела.
29
Она кормила грудью их первого сына. Смуглый румянец на лице Хуреймат стал бледнее. Резче выступили скулы, явственнее обозначился большой лоб.
Это лицо, впервые мелькнувшее и снова скрывшееся под кружевом в незабываемый вечер их встречи, Исмаил сейчас знал много лучше своего собственного лица, — ничего не было на свете роднее ее лица, он понимал каждое его движение...
Исмаил блуждал по склону горы, пока не нашел две щели между камней, в которые пробивались тонкие травы, и через три года у них стало уже два поля; каждое поле Хуреймат могла бы покрыть своим белым платком. Но Исмаил при взгляде на1 них испытывал, наверное, то же, что старый Баташ, когда он открыл долину под Римской башней. Как Баташ, он засеял свои поля ячменем, и они празднично зазеленели среди унылой каменной пустыни.
Недолго тешили эти поля Исмаила. Расширить их он не мог — они замкнуты были огромными валунами. На всем склоне не нашлось больше ни одного Места, где^ бы еще пробивалась трава. И опять он бродил по горе, пока не нашел участка, где валуны как будто расступались и громоздились камни поменьше. Это место обильно освещало солнце, но ни одна травинка не поднималась в черные щели между камней. Тогда он сам решил пробиваться к земле.
Семья прибывала. Жилище Исмаила и Хуреймат, увеличиваясь вместе с ростом семьи, шло в глубь горы, в камни. Глинобитные полы, окна, на зиму затянутые мутным -бычьим пузырем, очаг, похожий на тот, какой построил старый Баташ в первом жилище. Редкая зима проходила без того, чтоб кто-нибудь из маленьких детей не умер. Но рождались новые. Те, которые выживали, закалялись за лето, крепли на пастбищах и переносили зимовки, голодные весны, когда не только хлеб, но даже овечий сыр бывал на исходе.
Дом Исмаила Баташева стоял близко к лесу, и потому, когда сын Алегико, молодой князь Искандер (этим редким именем названной в честь царя), подрос и стал приезжать на охоту, он, случалось, заходил* а несколько раз — честь! — даже ночевал у Верхних Ба
30
ташевых— так называли семью Исмаила, оттого что жила она. выше аула.
На время, пока молодой Искандер охотился, для услуг к нему приставляли Кемала, третьего сына Исмаила, — угрюмого и молчаливого парня.
Выследить и приметить дичь, собрать детей и устроить по лесу шумный «гай», чтобы выгнать зверя на охотника, развести костер и караулить княжеских лошадей — таковы были обязанности Кемала, и князь всегда оставался им доволен.
Однажды Кемал, найдя туриный водопой—'ценное охотничье место, — проводил туда князя Искандера. Искандер отослал Кемала домой и остался караулить благородных горных козлов. Ему удалось подбить одного, но раненое животное упало в пропасть. Опускаясь, князь оступился и покатился вслед за туром. Тур издыхал на дне пропасти, но у князя оказалась вывихнутой нога, и он решил, что ему судьба сдохнуть рядом с подбитым зверем. Чтобы не длить свои мучения, князь еще мог застрелиться. Но решил подождать, не спасет ли его чудо. Однако поднялась снежная буря, его стало заносить снегом, конец приближался.
Очнувшись, князь снова увидел рядом своего тура. Но под собою он чувствовал мягкие шкуры, огонь горел в очаге, над ним были темные и низкие своды жилища Верхних Баташевых. Кемал не только отыскал князя и на себе выволок его, но с помощью родичей доставил его охотничий трофей. Выздоровев, Искандер по-княжески отблагодарил своего спасителя: он подарил ему молодую кобылу.
Кемал назвал ее Заря. На ногах и на морде, в благородной сухости которых угадывалась арабская кровь, светложелтая масть лошади темнела и ближе всего подходила к цвету яркой, красно-коричневой, освещенной солнцем глинистой земли. У Зари была веселая, добрая и шаловливая морда. Кемал мог сам недоесть и недоспать, но Заря всегда была накормлена, шерсть ее вычищена, грива расчесана. За лето Кемал ее объездил и осенью отправился верхом на княжий двор в Арабынь. Он знал, что князь должен собираться в Пе
31
тербург: Искандер служил в конвое его величества, в том эскадроне, куда с большим разбором принимали только знатных людей из горских племен.
Искандер дружественно встретил своего спасителя и за угощением «спросил, не имеет ли тот в чем-либо нужды.
— Подарив мне коня, ты возвысил и сделал меня молодцом при своей -благородной и мужественной особе, — ответил Кемал. — Продли свои благодеяния! Возьми меня с собой в Петербург. Ты будешь охранять особу падишаха, я буду охранять твою особу и совершу подвиги, подобающие званию дружинника.
Искандер удивленно и сочувственно слушал Ке-мала. Отца своего, старого Алегико, Искандер почти не помнил, вырос на руках матери и ее сестер, в баловстве и неге. Потом Петербург, кадетский корпус, служба в привилегированном эскадроне — все это совсем не походило на суровую и дикую жизнь его отца. Искандеру Алегико казался уже не отцом, а по меньшей мере прадедом, и страшные, кровавые дела недавних десятилетий Искандер невольно- относил к давно прошедшим, сказочным векам. Он был добродушный, веселый человек. Охота, после охоты веселое хвастовство, пляски, песни, — только это, пожалуй, связывало его с прошлым. И вдруг странный, словно из далекого прошлого донесшийся разговор. Подарок Искандера Кемал принял в духе старинных обычаев, — отныне он чувствовал себя дружинником и придворньрм Батыже-вых. Пребывание во-зле охотничьей палатки князей не прошло даром для- парня.
Все это польстило князю, растрогало и рассмешило его, и Кемал вместе с князем Искандером отправился в- Петербург.
Приехав через несколько лет домой на побывку, Кемал объяснил своим родичам, что его обучали в военно-берейторской школе, подготовлявшей мастеров-наездников. Сейчас Кемал, окончив школу, остался при «его сиятельстве князе Александре Алегиковиче», как с удовольствием по-русски выговаривал он. В Петербурге первая обязанность его состоит в обучении верховой езде старшего сына Искандера, по знаменитому
32
деду прозванного Алегико. Алегико подрастет, начнет обучаться Темаркан (Темиркану в это время исполнился год), а там‘у господина Искандера — пусть бог продлит его дни! — народятся езде сыны.
Сапоги Кемала были всегда зеркально начищены, продолговатые глаза под черными ресницами всегда сощурены. Целыми днями он ничего не делал; единственно; к чему он снисходил, — это к тому, чтобы, покрикивая, обучать своих младших братьев и племянников уходу за лошадьми (Заря уже дважды ожеребилась) . Когда, попрощавшись с отцом и матерью и старшими братьями, не глядя на прочих родичей, Кем ал в сопровождении старшего племянника, который должен был привести Зарю обратно, съехал со двора Верхних Баташевых, Исмаил вдруг сказал ночью своей Хуреймат:
— У меня точно зуб выпал (все его зубы были еще целы).
Хуреймат ничего не ответила. Уверенный, что она чувствует го же, что и он, Исмаил успокоился и скоро уснул. А она тихо встала и вышла из дому.
Баташева долина наполнялась легким голубым светом луны. Внизу, в ауле, все словно зыбилось, как в глубокой воде: там всюду пролегали густые тени, изменяя привычные очертания местности. Здесь же, на маленьком уступе, к которому прилепилось жилище Верхних Баташевых, все было видно с крайней и более чем дневной ясностью. Хуреймат узнавала каждый камешек под ногами, каждую неподвижно застывшую былинку, каждый вековечно знакомый предмет дворового обихода: тусклый топор, смаху всаженный <в колоду, кучу черной шерсти, которой лунный свет придавал тяжесть и слитность застывшей металлической глыбы, ряд пустых корзин; синяя тень, как бы собранная в них, проступала сквозь мягкий и выпуклый блеск плетения. Вдруг под ногами Хуреймат что-то сверкнуло голубовато и тонко, и она подняла с земли серебряную галунную нить.
Дочь выходила замуж, и девушки каждый день на этом месте рукодельничали, пели, нашивали галуны на свадебное платье. Да, нё пришлось Хуреймат праздно
3 10, Либединышй
33
вать свою свадьбу так, как празднует она свадьбы своих дочерей. Не засиживаются7 девушки в родительском доме. Хозяйками, мастерицами воспитывала дочерей Хуреймат. Самой тяжелой и грязной работой не брезговали дочери Верхних Баташевых: могли заколоть и ободрать барана, собирать помет на пастбищах и дорогах, мотыжить землю. Но умела каждая и бурку свалять, и тонкое сукно для мужней черкески выткать и — вот она, нитка! — искусно выложить серебром, золотом и лазурью галуны на своих.свадебных (платьях. Третью дочь выдает замуж Хуреймат, двух сыновей она женила. Невестки почитают ее, а сыновья при первой утренней встрече и вечером, уходя спать, говорят: «Да будешь ты здорова, наша мать!» И хотя никогда не нарушила обычая Хуреймат, ни разу не села за стол с мужем, ни- разу в/глаза или за глаза не назвала его по имени, но и сам Исмаил за нею жизнь ни разу не поднял руку на Хуреймат, а ведь крики избиваемых женщин порою слышались даже и из княжеских домов. Безродная Хуреймат сама взяла свое счастье. Крылатым семенем сосны взлетела она на^этот выступ горы и нашла здесь землю, крепко стала на ней и высоко подняла ветви. Жизнь ее удачлива.
Но, хмурясь и вздыхая, стояла Хуреймат в воротах своего двора и не могла отвести глаз от поблескивающей камешками, круто уходящей' вниз тропы, по которой сегодня уехал Кемал. Ей вое представлялось, что в этом мертвом и легком, точно пустом свете уезжает Кемал. На нем черная бурка, конь быстро перебирает ногами — Кемал уезжает и все не удаляется, все он здесь — бледное лицо, черные брови...
Бывало, что у Хуреймат. умирали дети, умирали внуки. Но за похоронным плачем следовали вопли рожениц, музыкой, пляской и стрельбой ознаменовывались новые свадьбы. Мертвое исчезало, живое расцветало. Но то, что случилось с Кемалом, ей было, непонятно и страшно, казалось хуже смерти. Не живой, но и не мертвый едет он, .уезжает дальше и дальше, и все же он здесь; странный, чужой, как непогребенный..
Проснувшись утром, Баташевы застали свою мать приготовляющей пищу. Исконный хлеб Баташева пле
34
мени — круто сваренная каша — лежал, нарезанный ломтями. Но Хуреймат всегда вставала раньше всех в доме, и даже Исмаил не узнал, что его Хуреймат не сомкнула глаз в эту ночь, хотя заметил, что ее широкие щеки побледнели, а в глазах нет обычного веселого блеска. Но ведь вчера, не называя имени Кемала, Исмаил перед оном сказал ей все, что чувствовал. Он был уверен, что знает о ней все. Выпив чашку кислого молока и съев свой ломоть, он безмолвно кивнул головой жене, взял кирку и ушел на «поле».
Дня не проходило, чтобы хоть один камень не убрал он с участка, который вся семья упрямо называла «поле», хотя, на человеческий рост уйдя в глубь камней, они видели вокруг себя только камни, все более черные и холодные. Но Верхние Баташевы не напрасно-называли себя потомками старого Баташа. Они шли вглубь, они открывали дорогу солнцу, оно шло за ними — и камни светлели, теплели и расцветали узорами лишаев, сухими и пестрыми. Если бы сюда земли, как бы щедро стала рожать она!
Земля точно уходила вглубь, и потомки Баташа шли следом за ней с той же настойчивой силой, с какой старый Баташ всходил на хребты и открывал новые земли.
Книга первая
ПЕСНЯ О НАУРУЗЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Однажды, соблюдая обычай, семья князя Батыжева прибыла на осенние празднества в Старый аул и остановилась в Баташев-ом поселке. С утра оттуда слышна была воинственная и веселая музыка; гармонь протяжно пела, всхлипывала и взвизгивала, дробно бил бубен, звенели колокольцы, и стремительно и глухо топотали мягкие, без каблуков, сапоги.
Большая толпа незваных и незнатных стояла неподалеку от Баташева поселка — она ждала выхода князей. Какие-то женщины, измученные до того, что нельзя было понять их возраста, с детьми на руках, подходили и, кивая на чужое веселье, развлекали голых, с гноящимися глазами, детей. Старики и старухи неподвижно слушали, — наверное, звуки празднества напоминали им о молодости.
Вдруг и музыку и танцы заглушили громкие приветственные крики: пестрая толпа показалась из Баташева поселка и двинулась вверх по дороге.
Искандер Батыжев был плотнее и толще своего отца Алегико, в лице его и движениях было выражение не воинской — но тем -более опасной — мирной, ласко
39
вой хитрости. Черная^ перехваченная тонким ремнем черкеска, золотые погоны на широких плечах, пестрые ленточки царских медалей над серебряными газырями, щегольские мягкие сапожки как чулок охватывали округлые, еще сильные икры. Искандер шел быстро и легко, немного вывертывая ступни. По обе его руки, чуть от него отставая и как бы готовые подхватить под локти, если только он запнется, шли старики, почтенные люди аула. Большинство в бешметах, некоторые в черкесках — всё темные и блеклые, серые, коричневые и синие, тусклобагровые цвета. На бритом лице у, каждого неподвижно, как на камне, застыло свое выражение: сила и ум, упрямство и хитрость, — у каждого то свойство души, которое оказалось устойчивей всех прочих, более легких свойств, улетучивающихся вместе с возрастом. Одни шагали еще бодро, другим приходилось опираться на костыли, но все старались держаться по-воински молодцевато.
Впереди всех шел старшина аула, щупленький и очень уже старый Афаун Баташев. Сделав пять или шесть шагов, он оглядывался на князей: следуют ли они за ним? И кланялся улыбаясь. А под правую руку поддерживал князя Искандера Хаджи Даут Баташев в белой чалме, осанистый и даже толстый, самый богатый человек в ауле, — в доме его, обставленном по-русски, остановилась княжеская фамилия.
Когда они подошли к канаве, пересекающей дорогу, старшина аула, стосемилетний Афаун Баташев вдруг легко, как козел, перепрыгнув канаву, протянул руку своему гостю. При этом розовое лицо Афауна, на котором выделялся широкий и бугорчатый, похожий на гриб нос и маленькие быстрые глазки под густыми и седыми бровями, выразило такой озабоченный испуг, как если бы он помогал больному ребенку.
За княвем, сопровождаемое всем родом Баташевых, двигалось княжеское семейство. В кружевах и атласе, в старинной, галунами выложенной одежде выплывала высокая и дородная госпожа Ханифа, жена князя, которую вел молодцеватый брат ее Асланбек Дудов. За ними — старший сын князя, долговязый офицер с женой;
40
ее цветущее, подсолнечнику подобное лицо (о ней говорили, что она дочь ногайского хана) на соблазн ©сего аула было открыто. Она и одета была по-русски.
— Образованная... — говорили о ней.
Позади всех шел второй сын князя Батыжева— Темиркан. В тихой толпе, полукружьем следовавшей за самыми почетными участниками шествия, этого двенадцатилетнего мальчика особенно приметили. Он, хотя от земли его и не видать, красовался уже в русской военной одЬжде: фуражка с красным кантом, белая рубаха с русским косым воротом и на мальчишеских худеньких плечах большие красные погоны с цифрами.
Старый князь все шутил с Афауном Баташевым. Ударяя по плечу, он громко, чтоб слышали Bice, спрашивал, сколько лет его жене, надеется ли он иметь от нее детей, во весь голос хохотал над смущенными ответами старика и ©се оборачивался к старшему сыну, который на шутки отца также отвечал хохотом. Сын с отцом, видимо, жили дружно; хохотуны и обжоры, они были похожи друг на друга, и разница вся между ними, что отец был невысокого роста, а сына точно вытянули в длину. Младший же княжонок шел, сомкнув маленький, цвета темной малины рот. Смуглое лицо его было невозмутимо, но порой он подымал темные глаза и взглядывал проницательно и быстро. По краям дороги в канавах росли цветы, и он тоненькой палочкой сбивал их. Жах! — и головки репейника, чертополоха, крупных ромашек взлетали над дорогой.
— Гляди... гляди, как подсек! Вон что делает! Да, этот не спустит... — так говорили о княжонке.
Шествие дошло до того места, где от реки отделялась большая канава, орошающая поля Баташева рода. У самого истока сгрудились главные люди, по холмикам и по оградам расположились остальные, — здесь был почти весь аул.
Солнце светило ярко. Утренние туманы сейчас уже превратились в облака, и белые головы гор безмолвно и равнодушно-строго глядели сквозь серо-мглистые облачные хлопья на то, что маленькая и пестрая кучка людей делала у края широкой долины. Тихое дуновение, свежее, снежное, шло с гор, и все молчало.
41
— Хватает ли воды в твоей канаве, Баташе1во племя? — хмуря черные разросшиеся брови на сытом лице и, видимо, стараясь изобразить торжественность и серьезность, громко спросил князь Батыжев.
И когда -покорный голос Афауна Баташева в сосредоточенной тишине произнес: «Течет, господин наш Ба-тыж», кто-то вдруг как бы про себя, но так раздельно, что многие услышали, ответил на вопрос князя:
— Течет! Слезы и пот, кровь и желчь старого Баташа — вот что течет по Баташевой долине!
Люди зашептались, задвигались: что он сказал? Кто это?
Это- был лекарь Керим. Он недавно появился в Старом ауле. В сухощавом и крепком сложении его не было признаков дряхлости-, и его сухие щеки просвечивали сквозь редкую и кудрявую рыжеватую бороду без седины. Он носил темнокоричневый бешмет, который не застегивался у пояса, а по-старинному завязывался у ворота, на груди и у пояса мягкими ремешками. Круглоголовый мальчик, румяный и здоровый, сопровождал его, — Керим называл его Наурузом, а мальчик называл Керима отцом.
Керим был неподвижен и .спокоен, словно не его уста произнесли дерзкие слова. Еще о чем-то спрашивал князь Батыжев, еще что-то отвечал Афаун. После пожеланий князя (об урожае, приплоде, удое) раздались приветственные крики. В свежей и строгой тишине огромной долины крики эти были несоразмерно слабы по отношению к величине тихой толпы, безмолвно следившей за ходом обряда. И когда Керим, круто повернувшись, ушел, многие поглядели ему вслед.
Керим кормился тем, что лечил людей и скот. Он был молчалив и только, давая испить лекарство, на-стоенное на травах, произносил строфы корана, звучные и непонятные. О. плате не говорил, благословлял то, чем ему воздавали. Люди почитали его молчаливость и бескорыстие, его ученость, необыкновенную в человеке, не имевшем духовного звания. Когда он . был нужен, его искали на пастбищах, — там он жил, из коша в кош переходя по этим прекрасным луговинам.
42
По вечерам Керим охотно шел туда, где, собравшись •после работы, веселилась молодежь. Но только показывалась издали его высокая фигура, как музыка умолкала, все вставали и садились только с его дозволения. Ему подносили чашку айрана или бузы; он при почтительном молчании делал два-три глотка. Его просили рассказать о прошлом. Но Керим отказывался. В песнях прошлых времен поется лучше, чем мог бы он рассказать: он не певец, не сказитель, а лекарь.
В ранней молодости Керима разлучили с родиной. Двадцати лет не было ему, когда царь приказал выслать его в Сибирь. Чудесно- сохраненный судьбой на чужбине, он соскучился по родному веседью и просит молодых — играть и танцевать, словно его нет здесь, между ними!
Веселье возобновлялось. Но в присутствии Керима музыка звучала печальней и пляска шла церемонней и торжественней. Это веселье было как солнце в .грозовой день: одна гроза прошла, а вторая уже низко нависла над краем земли... И танцоры, что им не полагалось во время танца, все оглядывались на его неподвижное и словно замкнувшее что-то в себе лицо.
А он следовал взглядом за пляской. Медлительномерно и торжественно двигалась таинственно занавешенная кружевами девушка; чертя вокруг нее легкие круги то ближе, то дальше, и всегда лицом к ее лицу, шел парень. Вот он отходит все дальше от нее, но она чуть двинула плечом, чуть повернулась, и, чтобы глядеть в. ее лицо, он, не теряя лада пляски, перелетает на другую сторону круга, — крыльями распущены его широкие рукава и полы его черкески. И он приближается к ней: скачет, сражается, спорит, — и все ради нее. Она же пренебрегает им и плавно, как облако, оплывает его кругом. И вдруг он выхватил кинжал из ножен. Блеснув молнией, кинжал летит вверх, падает вниз — и, точкой своего острия встав на сомкнутые белые зубы танцора, колебля, как голову, свою узорную рукоять, кинжал словно пляшет над его- напряженным лицом, пляшет, стальной; сверкающий, с размаху вонзается в землю, и парень неистово несется вокруг него-: «Война!.. Война!..» И девушка забыта и уплывает
43
прочь, в торжественной скорби приподняв локти на уровень плеч.
Керим помнил этот танец со времени своего детства. Таким он, наверное, был сотни лет назад. Поколения сменялись, проходили страшные войны, после которых иным становилось лицо народа, но нечто бессмертное продолжало жить... Скорбь и торжество охватывали душу Керима: обманутый и опутанный, запертый в ущельях и притиснутый вплотную и снеговому хребту, предательски обезоруженный, по рукам и ногам скованный своими князьями, народ живет, будет жить и освободится.
Керим был лекарь. Перед ним доверчиво распахивались двери всех домов. Случилось так, что малолетний Хусейн, сын Верхних Баташевых, сломал себе руку и Керим оказался неподалеку. Он искусно наложил лубки, и, когда кисть срослась, мальчик так владел рукой, словно она никогда не была сломана. С тех пор Керим всегда имел почетное место у очата Баташевых. .. Но Исмаил говорил:
— Мы, Верхние Баташевы, надо всем возвышены! Мы в княжеской ограде! Князья Батыжевы за нас, нее равно как за кровных родичей своих, жизнь отдадут...
С каждым годом Исмаил все глубже зарывался под камни — искал там землю и не хотел слушать Керима, когда тот напоминал о плодородных землях, которые обманом захватил Алегико Батыжев. Мужество, настойчивость и упрямство — все для того, чтобы глубже уйти в каменную холодную могилу.
Поле Верхних Баташевых—большая, в человеческий рост, яма, из которой эта упрямая семья несколько десятилетий подряд вынимала камни, — вот что рисовалось Кериму, когда он думал о будущем ве-селореченского народа.
Люди изо всех сил цеплялись за то, что прошло, и особенно за вековую основу прошлого — род. Но родовые старшины теперь собирали подати для царя, за-кият для муллы, требовали отработки княжеских долгов. .. Внутри рода все резче обозначались богатые и бедные семьи... И тягостное состояние: будучи рабами, люди мнили себя свободными. И чем хуже становилось 1
44
Жить, тем крепче цеплялись за старину, не желая видеть, что она гибнет, искажается, превращается во зло... Какая новизна должна сменить ее? И Керим вглядывался в будущее.
Под ударами нужды и лишений, как искра под ударами кремня, вспыхивало возмущение. Года не было, чтобы не появился новый абрек, и за ним, как багровое зарево над пожарищем, подымалась песня, прославлявшая его подвиги. Но Керим не верил в пути разбоя, хотя бы и благородного.
Когда его с родины угоняли в Сибирь, он считал, что родина погибла, — а родина живет. И он сказал себе:
«Я лекарь, я должен согнать темную воду, помрачающую твой взор, Баташево племя. Посмотри вокруг и ужаснись. Не знаю, что ты сделаешь, когда во всей силе увидишь зло, торжествующее над тобой, — но ты увидишь его. Сгоню я темную воду с твоих зрачков, и когда меня будут взвешивать перед' взором судящего, пусть это дело ляжет на чашку .весов. Дни мои скоро кончатся, но я проживу их с честью!
Да, я был у Баташевой канавы. Я видел: паук проверял, насколько крепка его паутина, — она крепка! Он лживыми своими устами клялся у Баташевой канавы, — вы приняли эту клятву. Эта клятва и есть бельмо, которое я хочу согнать с твоих глаз, Баташево племя. Ничего, кроме обмана, зла, нужды, не имели мы от князей. С тех пор как убит Баташ, только твои пот и кровь, Баташево племя, текут по канаве! Пастбища, — говорите вы. Вы кланяетесь князьям за то, что Алегико Батыжев выпросил их у царя. Берегись, горский народ: хищники бродят вокруг твоего последнего достояния! Жадность оттого и называется так, что она не знает утоления. Такова саранча: если ты не пришел 'истребить ее на той земле, где она торжествует, она, все пожрав там, придет к тебе. Пророк учил нас быть милостивым к бедным. Но вам известна презренная бедность, нищенство, достойное осмеяния; все вы знаете Дудовых, — неисчислимы были богатства этой семьи, но не от хорошей жизни идут они в лесные объездчики, становятся жандармами, прихлебательствуют
45
у богатых родственников. Или это не саранчовая туча повисла над вами? А Тамбиевы, —почему зовете вы их женопродавцами? Не потому ли, что первый Тамбиев бесчестно обменял жену на землю? Вспомните, как первый Куденетов — кожевник — обманул народ: попросил отрезать ему столько земли, сколько может охватить одна воловья шкура, и, искусно разрезав шкуру на тончайшие ремни, охватил этими ремешками местность, которую русские сейчас считают в сорок две версты крупом... Но ведь распродали эту землю Куде-нетовы русским богатым мужикам.
Больше других хищников бойся, Баташево племя, коварства Батыжевой породы. Они знак себе избрали — орлиную лапу. Лапа орлиная, крылья совиные, лисий ум и повадки упыря. Батыжев не гнушается родством, побратимством — он сам придет к тебе откушать соли-хлеба, а между тем все вы пасете стада Батыжевых, все арендуете земли Батыжевых, все в долгу у Батыжевых. Дудовы — голодные шакалы, Тамбиевы — прожорливые медведи, но Батыжевы — оборотни».
Не с каждым любопытствующим разговаривал Керим. Но через тех немногих, кому он доверялся, речи его, которые он, как и свои лекарства, скреплял грозными строфами корана, разносились повсюду, рокотали, как потоки, весенним солнцем гонимые из-под ледников. И воспоминания, дремавшие в памяти народа, начали пробуждаться. «Эй, Тхамали, мужицкое войско собравший, солнце князей потушивший, солнце холопов зажегший, эй, Тхамали...»
В Арабыни. происходила ежегодная конская ярмарка. Стояли тихие и солнечные осенние дни. С чего князь Искандер вместе с другом своим и ближайшим родичем, князем Асланбеком Дудовым, забрел в эту палатку, которая называлась «Музей-паноптикум, XX век»? До этого, выручив изрядную сумму за косяк батыжевских коней, проданных на ремонт, князья изрядно выпили. Качались на качелях. Пестро сверкая, крутились перед ними карусели. Князь Асланбек показывал на крутошеем карусельном коне чудеса джигитовки: с гиком плясал на его деревянной спине, становился на руки. Когда он начал стрелять, карусель оста
46
новили. Потом они пошали в балаган. Там на круглой маленькой арене плясала осыпанная блестками голая женщина с хлыстом, а вокруг нее на задних ногах с высунутыми языками выплясывали собаки, тонконогие, гладкошерстные и тоже- как будто бы голые... Щелкнув бич — и князь Асланбек вспрыгнул на арену... Но тут тоже все разом остановилось.
После этого-то и попали они в «музей-паноптикум». Быть может, их привлекли эти четыре попарно пересеченных меча, обозначавших название паноптикума — «XX век»?‘ Они прошли между стен, обитых черной, усыпанной блестками тканью, князь Искандер дал пахнущую конским потом лиловую пятерку юркому волосатому человечку в ярком, канареечного цвета фраке, — и, обнявшись, князь Искандер, тучный *и маленький, и князь Асланбек, костлявый и сутуловатый, шли между каких-то больших ящиков, в которых восковые люди, смешно и жутко похожие на живых людей, тускло освещенные красным светом керосиновых лампочек, шумно вздыхали, однообразно подымали руки, и головы. Публики в паноптикуме совсем не было; едко пахло керосином и старым пронафталиненным платьем.
— Двадцатый век, двадцатый век! — бессмысленно кричал Асланбек.
Была ли то действительно осень 1900 или осень 1901 года? Но двадцатый век начинался, и в ознаменование перевернутой страницы истории человечества ярмарочный паноптикум выбрал свое многозначительное название.
С бесчувственной плавностью вздымали руки знаменитые адвокаты, и восковой убийца заносил сверкающий стилет над восковой грудью -красавицы, и низко кланялся, поводя косыми глазами и прикладывая желтую ручку к пышному шитью мундира, скуластый и сладко улыбающийся из-за седых и чахлых усов японский император Мутсухито... А где-то очень близко крутились и шумели невидимые колеса — это работала машина, приводившая в движение восковых людей, — и все здесь чуть дрожало и колебалось. Хозяин,. поддерживая под локоток Искандера, указывая на ящики, называл фамилии, -года и названия стран.
47
— Двадцатый век! Двадцатый век! — кричал Асланбек и вдруг разом замолчал и остановился.— Гляди, — сказал он Искандеру неожиданно трезвым и странным голосом.
И Искандер увидел, что прямо перед ним за стеклом, исходя кровью, умирал человек.
Он лежал ничком на песчаной земле, поросшей бледной травой. Под ладонью у него было старинное ружье с длинным стволом, — такие ружья остались в батыжевскюй коллекции после кавказских Ёойн. Опершись ладонями в землю, он медленно приподымался. Из-под широкополой шляпы становилось видно его поросшее молодой бородкой землисто-смуглое лицо, становилась видна рана в груди, из которой алым шнурочком бесшумно лилась кровь. «Под сердце», — подумал Искандер. Умирающий боец все поднимался, с пристальной силой глядел он своими стекленеющими глазами на князей, открывал темный, запекшийся рот, словно хотел что-то сказать, и вдруг рухнул, упал ничком — казалось, смерть скосила его, но нет, он снова медленно стал подниматься.
— Шляпа-то у него как у наших мужиков. 7. — начал Искандер, обращаясь к Асланбеку, застывшему словно в столбняке.
Слова Искандера привели его в себя. Он грубо схватил хозяина паноптикума за плечи, сильно тряхнул его и сказал яростно, но совершенно трезво:
— Идем к приставу!
— Что вы,, что вы?..—лепетал хозяин, сотрясаемый костлявыми руками Асланбека. — Это с дозволения начальства. Это знаменитая фигура — умирающий бур. Южная Африка, главный город Капштадт. Коварный Альбион напал на доблестный народ... и с дозволения властей...
— Показывай разрешение! — хрипел Асланбек, продолжая трясти хозяина.
— Имею разрешение, — тоже хрипел хозяин.
А за стеклом поднимался и снова падал ничком, умирал и никак не мог умереть человек в широкополой мужицкой шляпе, со старинным ружьем в руках.
48
Искандеру удалось тогда увести взбешенного Асланбека. Пристав Осип Иванович Пятницкий, самодержавный правитель Арабыньского округа и друг Батыжевых, разъяснил, что начальство действительно дозволило русским подданным выражать бурам сочувствие. Случай в паноптикуме, не то смешной, не то жуткий, забылся. Опять потекла разгульная и веселая княжеская жизнь... Но вот зловеще зазвучало со страниц газет: Цзин-Чжоу и Вафаньгоу, Ляоян и Мукден. Кровь русских людей лилась на далеких землях, текла в чужие моря... Вздымали сокрушенно руки, качали головой адвокаты • и президенты; опираясь ладонями в землю, поднимался крестьянин... Сотни тысяч людей запрудили площадь Зимнего дворца; залп — и кровью стал покрываться снег, и стонами огласилась царская столица..Но останавливаются поезда. И столичные газеты, доходившие до Арабыни на шестой день, уже две недели совсем не доходят, а когда доходят, снова доносятся залпы — в Варшаве, в Казани, в Сибири, в Москве..; Загорелись на русских равнинах помещичьи усадьбы — и вот уже зловещий лекарь ходит по кошам Веселоречья, сгоняет темную воду с глаз пастухов, и снова запели песню о Тхамали, о победе народа и унижении князей...
Получив весть о Кериме, Искандер велел тут же взнуздать себе коня. Давно с такой легкостью не взлетал он на седло, как сейчас. Он скакал к приставу. Возмутителя надо поймать, огонь потушить, пока не запылали пастбища.
Пустынны и тихи были, улицы Арабыни — лежала она в стороне от боев, сотрясавших Россию. Но Искандеру казалось, что кто-то молчит и таится. Особенно зловеще тиха и пуста была ярмарочная площадь, и только два столба с перекладиной, оставшиеся после качелей, угрюмо высились «ад одноэтажными домиками. . .- Да, вот здесь и началось: двадцатый век, двадцатый век.. т Искандер знал: княжеская веселая жизнь прекратилась, две римские цифры, четыре попарно скрещенных прямых меча как бы преграждали ей путь.
4 Ю. Либединский
49
Керима выследили на потаенной тропе. .Преследователи оставили без заслона глинистый обрыв, почти пропасть, по краю которой шла тропа. Туда-то, схватив мальчика за руку, и кинулся Керим. Скользя по глинистому скату, хватаясь за кустики и пучки травы, обрывая их и все же- замедляя этим свое падение, Керим спустился к горному потоку, гремевшему на дне пропасти. Преследователи, соскочив с коней, открыли растерянную пальбу. Солнце садилось, и внизу уже сгустились сумерки.
Помогая мальчику, Керим перебрался через поток и под защитой темноты стал подниматься на противоположную сторону ущелья, — и вот на ярком закатном небе, прозрачном, как желтый янтарь, преследователи увидели вдруг темные очертания фигуры Керима. Ему бы сразу бежать, но мальчик замешкался, одолевая последнюю крутизну. Керим помогал ему—и вдруг ахнул... Пуля ударила его под сердце... Он все же побежал, зажимая рану. Мальчик бежал с ним рядом. Но, пробежав несколько шагов, Керим остановился.
— Убегай, Науруз, — хрипло сказал он мальчику.
Пули протяжно свистели вокруг них, но мальчик не бежал,—он глядел на отца, который, обернувшись к тусклосинему востоку, стал на колени.
— Настал час моей последней вечерней молитвы,— сказал он и стал, хрипя и затихая, читать строфы корана.
Науруз ждал: сейчас из густой глубины вечернего неба спустятся девушки в зеленых одеждах. Они подхватят отца под руки и унесут его в рай, ибо что может быть благочестивей смерти в бою? Голос отца становился все невнятней, отец клонился все ниже — и вот рухнул в лужу своей крови, как на багряный молитвенный коврик.
Девушки с неба не слетели за отцом, зато Науруз слышал, как громко ругаются преследователи, перебираясь через поток. И, беззвучно ллача, мальчик ушел, оставив врагам труп отца.
50
Но в памяти людей чудесным эхом продолжали звучать речи Керима, и наименование Шагида, кроме обычного значения — «погибший за дело Магомета и взятый в. рай», — получило иной, более глубокий, торжественный и дорогой людям смысл.
Глава вторая
И вот Науруз один под огромным пасмурным небом. Медленно и все в одну сторону тянутся по этому небу ненастные и длинные тучи. Холодно. Скоро зима, может выпасть снег, а свирепые и пьяные враги идут по следу его босых маленьких ног? Надо прятаться.
Науруз пошел к Верхним Баташевым: это были испытанные друзья, они не раз прятали его отца. «Хорошие, строгие на язык люди», — говорил о них Керим. Да и жили Верхние Баташевы на отлете от всего аула, у горной тропы, по которой легко было уйти на пастбища и в леса.
В очаге у Баташевых горед огонь, при его пляшущем свете женщины чинили рабочую одежду мужчин. Мужчины и дети уже спали. Женщины, оставшись одни, могли поговорить о своем; лица их были лукавы и смешливы. Они обрадовались мальчику:
— Заходи, заходи, сын благословенного... Где отец твой, дитя?
— Пустите ребенка к огню.
— Поесть ему принесите.
Мальчик поклонился; ни слова не мог он сказать в ответ на ласковые приветствия. От очага шел жар, но озноб все сильнее бил Науруза.
Хуреймат с того мгновения, как мальчик переступил порог, оставив шитье, тревожно вглядывалась в его лицо и вдруг, встав во весь свой большой рост, спросила:
— Какое горе принес ты, сынок?
Женщины сразу замолкли.
— Отца убили,-—ответил Науруз.
И сразу дом Баташевых огласился плачем. Женщины запричитали, стали расспрашивать.
51
4*
Науруз молчал. Его била дрожь, но он не плакал. Он не заплакал даже тогда, когда Хуреймат шагнула к нему, обняла и прижала его к себе.
— Ты замерз, птичка,—сказала она.
Он ничего не ответил. Изнемогший от одиночества •и ужаса, холода й горя, он в горячем объятье Хуреймат почти потерял сознание, впал в блаженный и горестный отдых.
Не выпуская мальчика йз рук, сама плача и утирая слезы большим кулаком, Хуреймат покормила Науруза. Она закутала его своим платком, раздвинула спящих детей и уложила его в самую середину.
Проснувшись, Науруз вместе с баташевскими ребятами пошел пасти овец и коз. Так он остался у Верхних Баташевых.
Пристально и ласково взглядывала на него своими большими блестящими глазами бабушка Хуреймат, наверное вспоминая свое раннее сиротство.
— Дитя живота моего, — говорила она ему иногда.
И правда, широколицый и румяный Науруз мог сойти за ее сына или внука. Он любил, когда Хуреймат мимоходом опускала на его затылок свою широкую, горячую и жесткую ладонь.
Первую зиму без отца Науруз провел у Верхних Баташевых. Может, так и стал бы он вместе с баташев-скими ребятами помогать взрослым пасти овец на пастбищах, а зимы зимовать вместе с Баташевыми в их вырытом под камнями темном доме. Но вернулся из Петербурга Кемал Баташев, сутулый, рослый и бледный, с яркими 'ленточками медалей на широкой и плоской пруди. Он был болен, по многу часов лежал, укрывшись красивым, необыкновенно пестрым и очень толстым одеялом, привезенным из Петербурга, скрипел зубами, стонал. Лошадь ударила его копытом в живот, и из-за этого пришлось оставить службу в кавалерийском. манеже.
Однако, обучая русских знатных юношей верховой езде и джигитовке, КеМал всегда помнил: здесь, в Петербурге, .в кадетском корпусе, находятся его исконные и единственные господа — молодые Батыжевы. Алегико кончил —начал учиться Темиркан. И каждый прием
52
ный день Кемал являлся в корпус, выстаивал там часами в приемной и счастлив был, когда получал поручения от кцяжонка. Жить в столице Кемалу нравилось; если бы не болезнь, он не уехал бы из Петербурга. Вернувшись в семью, он держался сумрачно; кроме отца и двух старших братьев, никого не удостаивал разговором. Когда болезнь отпускала, Кемал чисто.\ брился, отчего его бледное и неподвижное лицо с черными усами и бровями приобретало оттенок синевы и даже ударяло в мертвенную зеленоватость, до зеркальной ясности начищал свои солдатские сапоги и прицеплял «ад газырями черкески две свои медали. .Одна была иностранная; от какого-то немецкого принца, детей которого он обучал верховой езде; другая — с надписью-«За усердие» и с двуглавым орлом — походила на большую серебряную монету; ее, как рассказал Кемал, давали людям, отличившимся в борьбе с врагами царя, которых, судя по его же рассказам, было в Петербурге очень много.
— Не даром я получил ее, — значительно говорил Кемал, но о подробностях умалчивал.
Во всем своем блеске, полный высокомерного достоинства, Кемал отправлялся в аул, в гости к тем людям, которых он считал себе ровней, — к мулле, писарю и старшинам.
Так как на детей и женщин своей семьи Кемал даже не глядел никогда (некоторого молчаливого почтения он удостаивал только мать свою), то Науруза он не отличал среди прочих многочисленных ребят Верхних Баташевых. Но однажды он вернулся из аула очень злой.
— У нас в доме семя возмутителя? — спросил он, обращаясь к отцу и старшим братьям.
Те смущенно переглянулись и ничего не ответили.
•— Я его своим платком накрыла, — ответила мать, напоминая о древнем праве хозяйки-домоправительницы защитить и приютить гонимого.
— Здесь мужское дело решается. Уйди, — сказал Кемал, сдерживая себя.
— О приемышах адат есть: приемыша хозяйка берет, — вдруг сказал дед Исмаил.
53
От него редко можно было услышать что-либо, но раз он сказал, все совершалось по его слову. И Кемалу пришлось замолчать.
Однако сверстник и друг Науруза, любимый сын бабушки Хуреймат, веселый и болтливый Хусейн, проговорился— рассказал Наурузу об этом разговоре. И, не желая вносить рю-знь в семью, его приютившую, Науруз ушел сам. Так второй раз осиротел он.
Он ушел к Даниловым, которые тоже были ему дружественны по памяти Керима. Даниловы пасли княжеские стада на тех же условиях, что и Верхние Баташевы. И для жилья им так же отведено было плохое место — с края аула; на покрытых щебнем отмелях реки Веселой ставили Даниловы свой дома и расчищали место для полей, вернее сказать — для огородов, потому что из всего аула только они сажали капусту и огурцы, лук и укроп. Земля их была плодородна. Но при сильном таянии снега Веселая каждый раз заносила илом и галькой огороды Даниловых; случалось, что даже сносила дома. Так же как Верхние Баташевы воевали с камнями, Даниловы не переставая воевали с рекой, окружая насыпями свой маленький поселок.
Керим лечил Даниловых от лихорадок, которые были такой же постоянной напастью низменной местности, как и наводнения. Чтя память Керима, Даниловы с охотой приютили работящего, смирного мальчика. Науруз с самого начала оказался под особым покровительством дед£ Магмота Данилова, приятеля Керима, который был старшим над всеми чабанами и пастухами Старого аула.
Настала весна — дни перегона скота на летние пастбища. Науруз шел с дедом Магмотом впереди, в голове всего похода, а позади них слышен был подобный прибою, мерный гул: это гудела земля под тысячами овечьих копытцев, это с блеяньем, однообразно-мелодическим, шли отары Старого аула. Порой то лай собак, то щелканье бичей, то пронзительный взвизг пастушеской дуды вырывался из этого гула и тут же поглощался им.
Перед тем как гнать скот наверх, дед Магмот прошел сам по той тропе, по которой предстояло идти
54
скоту, проверил от века установленные места кормежек, водопоев, и ночевок, и сейчас, покуривая короткую трубку, он спокойно шел впереди всего перегона. Невысокий, но широкоплечий и коренастый, в бурой войлочной шляпе с большими полями и в бараньем полу-, шубке, он носил пышные, цвета спелой пшеницы усы, сейчас изрядно уже посветлевшие от седины.- По рассказам деда Магмота, такие же усы носил его пращур — солдат Дакила, им дед Магмот приписывал свои любовные успехи. Сложением дед Магмот тоже отличался от веселореченских горцев: в' нем сказывалась несвойственная торцам тяжелая русская сила, но в ходьбе по горам он был неутомим.
На тех местах тропы, откуда можно- было сразу оглядеть весь поход, дед Магмот, вынув трубку изо рта, останавливался. Высились вековечно' знакомые спокойные горы, у их подножий открывались зеленые недра Баташевой долины, украшенные родовыми поселками, вставшими среди полей. И оттуда шел вверх живой черно-волнистый поток; как белые гребешки на бурной реке, появлялись, взблескивали среди черных, исчезали и снова появлялись белые бараны. Подымая желтоватые и медлительные, сверху кажущиеся тяжелыми клубы дорожной пыли, поток все восходил. Он растекался и редел там, где тропа пролегала по просторным нагорьям, густел и клубился в ущельях. Курчаво-черные волны этого потока порой расходились и с двух сторон огибали нагие серые скалы. Туманы, вместе с наступлением утра начавшие подыматься из долин, то стелились над отарами, то тугой, курчавый и плотный поток овец вдруг проступал среди белесо-серой пелены тумана, вырывался на солнце вместе с клубами желтозол отой пыли и подымался над пеленою оставшихся внизу облачных куч. Воронье с алчным и тревожным граем подымалось со скал и деревьев. Выше, на уровне гор, качались над походом ржаво-красные ястребы. И совсем высоко, в пустом небе, неподвижно парил одинокий черно-синий орел. Он тоже ждал какой-либо поживы от передвижения людей и овец.
Науруз глядел на все это и только шептал тихонько про себя: «Ай-ай-ай!..» Иначе выразить свои чувства он
55
не умел. Он забыл о. себе, он весь сейчас жил медленным и могучим движением этой тысяченогой, гудйщей, топочущей, величественно текущей вверх силы. С восторгом взглядывал он на предводителя всего этого похода, на деда Магмота. Оглядев своими яркими, зелеными, как трава под солнцем, глазами весь поход, дед Магмот подозвал одного из мальчиков, которые от самого аула шли неподалеку, словно ожидая чего-то от старика, и сказал ему несколько слов, и мальчик с готовностью устремился вниз, чтобы передать пастухам одной из отар поручение деда. Да, таков он, дед Магмот. Недаром чабаны и пастухи Старого аула столько лет беспрекословно слушали его и считали его старшим над собой.
Сказать, что дед Магмот был охотник, значило ска-: зать -о нем мало. Сказать, что пастуха опытнее его не найти, тоже значило сказать н'е все: Неграмотный дед Магмот мог бы считаться великим ученым, потому что обладал знанием всего живого, что населяло горы.
С точностью до нескольких часов определял он время отела коров. Знал, от какой травы в какие месяцы горчит молоко. Если он говорил, что волки в эту ночь нападут на овец, спать нельзя было; если он со-ветовал; кай будто без причины, перегонять табуны на новые места, — это значило, что ветром нанесет овода; если он, взяв свое тяжелое, с/узорчатым стихом корана на прикладе и с английской маркой на замке ружье, молча уходил в горы—значит, через два дня, кряхтя, он приволочет на себе горного козла; если он- вдруг посылал пастушонка вниз, в аул, с наказом сторожить поля —это значило, что кабаны или медведи выйдут на зреющие хлеба.
Наурузу очень хотелось, чтобы дед и еф послал вниз с поручением, а дед точно забыл о нем. И Науруз уже стал обижаться на старика. Но отец учил его сиры-; вать свои чувства, й мальчик шел чинно, не замечая, что старик время от времени поглядывает на него. Мальчик ему нравился своей благопристойностью, но хотелось подразнить и испытать его...
Солнце то светило ярко, и тогда все сияло: травы, струящиеся ручьи и близкий снег на горах; то белесое
56
облако выкатывалось откуда-то снизу, из-за нагорья, быстро распухало, закрывало все; подымался ветер, сыпал колючий снег. Становилось очень холодно. Блеяние делалось жалобным. Пастушеские дуды звучали пронзительно, собаки лаяли отчаянно и беспокойно. Но поход продолжался. И вдруг наверху начинало голубеть, облако/скатывалось вниз, в долины. Там, наверное, шел снег и дождь, скапливался туман, а здесь солнце разом вспыхивало, как костер, грело горячо, почти обжигая, и люди оборачивали к нему обветренные, красноносые лица... Откуда-то вылетали огромные пестрые бабочки, темные горные фиалки и низкорослые синие колокольчики появлялись1 у края дороги. Можно было учуять нежный дух невидимой гвоздики. Иногда ветер наносил чудесно-вольный и острый запах — это пахли заросли горной полыни... Чем выше подымались, тем 'более густыми и высокими становились травы, тем ниже и вместе с тем гуще кустарник, тем сочнее блестела зелень. Чем ближе подходили к снеговым вершинам, тем реже становились они видны, как бы прячась за округлые мощные нагорья, переходящие одно в другое с той мягкой силой, с какой одна с другой соединяются мышцы. человеческого тела. И Наурузу казалось, что тропа проложена по телу спящего великана, и ему забавно и стращно было идти по тропе: вдруг великан пошевелится..
Неожиданно сбоку появился' невысокий грязный сугроб. Они шли, а он все тянулся, делался выше, — так неприметно начинались вечные снега. Снеговик лежал на щебне, в котором блистала вода, рождающаяся из-под снега; она -растекалась ручейками, и пышные травы подымались как- бы из этой струящейся воды и все время раскачивались ею. Таи начинались заповедные высокогорные луга.
Медвяно-желтый и крупный цветок качался у самой дороги. Науруз нагнулся и вырвал его с корневищем.
— Ты знаешь, какой это цветок? — вдруг опросил дед.
Внизу, около аула, у оград и на сорных местах, эти цветы росли запросто, и Науруз, сочтя вопрос деда за насмешку, смолчал.
57
— Это лечебный цветок, — наставительно сказал дед.
— Без тебя об этом знаю, — рассердившись, ответил Науруз и тут же напугался: так говорить со старшими не подобало.
Отец за такую грубость сделал бы выговор. Hq дед Магмот повел себя совсем иначе.
— О-о?—насмешливо-удивленно спросил он.— Знаешь? Это у тебя от молочных зубов, конечно, такая мудрость. Ну, поучи-ка, поучи-ка меня.
Науруз рассердился и растерялся. Отец никогда не дразнил его.
— Наверное, этим цветком надо нос потереть, — продолжал дед.
Насмешки его были тем более нестерпимы, что мальчишки, услышав их разговор, подошли ближе и хихикали. Науруз, сдерживаясь, спокойно повернул растение вверх корнем и.показал как бы обрызганное мельчайшими молочными каплями корневище.
— Вот что у этого цветка целебно, — сказал он.— Если живот болит, если к еде охоты нет, в воду положить и на огне вскипятить н^до.
— Вскипятить? — переспросил дед уже без всякой насмешки, но с сомнением:
Науруз кивнул головой.
— Это отец твой так делал?
— Отец, — ответил Науруз.
Дед промолчал. Потом напнулся и сорвал с земли неприметный, мелко вырезанный и нежный листочек.
— А об этом что скажешь?
Ребята затихли. Науруз взял травку в руку, рассмотрел ее, потом понюхал.
— Не та, — сказал он, — не так пахнет. А есть такая же, ее на змеиный укус класть надо.
— Молодец, — похвалил дед.
Науруз покраснел от удовольствия. Керим никогда не насмехался и не дразнил Науруза, но никогда и не хвалил его. А дед тут же рассказал Наурузу про пастуха Аймыша, который пас овец князей Дудовых. Первым из пастухов Веселоречья стал он делать дудки из тростника и водить овец, играя на дуде, — самое
58
высокое пастушеское искусство. Память Аймыша чтут пастухи Веселоречья; пастушеские песни, которые поют во всех пяти аулах, носят имя Аймыша; пастушеские лекарства, пастушеские приметы, пастушеские тропы освящены именем Аймыша.
Но Аймыш погиб, не достигнув шестнадцати лет, и погибель ему принесло его же высокое искусство...
— Раз Аймыш играл у водопоя, и овцы, напившись, окружили его, заслушались и не шли на луга. Вдруг Аймыш видит: из омута, из самой быстрой воды, из белой кипучей пены, вышел белый, белей белого снега, ягненок.
Вышел и стал слушать песни.
Аймыш захотел приручить чудесного жителя воды. Продолжая играть на дуде, он стад уходить вверх от ручья. За Аймышем потекло все черное-овечье стадо — и чудо,! — позади, за стадом, шел белый, белей белой пены, ягненок,
Но высоко стоит на горе аул Дууд! Был бы Аймыш стариком, повел бы он овец круговой и длинной дорогой, но юность не любит круговых дорог! Аймышу не терпелось скорей провести по аулу-волшебного ягненка, и он пошел прямо вверх, крутой короткой тропой. Сначала шел быстро, а потом стал уставать, задыхаться. Но только отведет он дуду ото рта, только хочет передохнуть, сразу обратно к воде поворачивает белый баран, а за ним все черное стадо... Не рад Аймыш белому зверю. Задыхается он, надрывается. Все жалобней, слезней играет, а замолчать не может: уйдет белый, баран под воду, уведет туда черное стадо! Так оно и случилось — не выдержал Аймыш, задохся, закашлялся, в глазах потемнело: увел в воду черное стадо белый чудесный баран.
Господа Дудовы продавали в рабство за клок шерсти — и прыгнул Аймыш -вслед за стадом..
Память об Аймыше храни, но на водопое и солнцепеке не играй; веди стада на луга. Крутыми тропами не ходи, иди длинной тропой: овца везде пройдет, но ты сбережешь свои силы. Силой с колдовством не меряйся, жди чудес от всякой белой твари.
Науруз поселился в бревенчатом, вросшем в землю, крепко пропахшем кислым молоком и махорочным дымом коше деда Магмота. Сыновья и дочери деда Магмота выросли, у них .были свои семьи. Внуки принадлежали отцам и матерям. Науруз принадлежал только деду Магмоту и больше никому. К тому же в этом мальчике воплощалась благоговейная память о Кериме.
Дед Магмот подымал мальчика с рассветом. В небе, еще сохранявшем сицеву ночи, гасли последние звезды; Зелень нагорий* вдали казалась медной; вблизи видно 'было, что травы, покрытые росой, как бы спят, поникшие. Всему, что доходит до слуха, присуща утренняя хрипловатость:- голосам людей, лаю собак, призыву пастушеских дудок и отвечающему на эти призывы блеянию отар, которые с неторопливым шумом идут в спящие травы и прокладывают темные дорожки среди лугов, серебристых, влажных и сонных. Снизу, из невидимых ущелий, подымается туман, дыхание людей и животных превращается в пар.
И в этот пронзительно свежий, почти морозный мир горячими струями брызжет молоко, исторгаемое бережными пальцами Науруза из сосцов тугих и нежных. Молоко, младенчество, мать,—ведь была и у него мать. Он старался вспомнить ее — и не мог.
Скоро он выучился доить не только овец, — самые строптивые козы стояли спокойно, когда он выдаивал их. Пришло время весенреи стрижки овец, и Науруз смело взял в руки большие черные, ножницы. Связанное животное дрожало и металось в страхе; Науруз проводил рукой по спине, по шее, по убогой бараньей голове.
— Братец, братец, — говорил он, и баран, длинно вздыхая, закрывал глаза и затихал.
Ни одно животное после стрижки не выходило пораненным из рук Науруза.
От отца Науруз знал свойства лечебных трав. Умел Приготовить лекарства и без промедления, решительно п быстро влить в рот заболевшему животному.-- В тоненьких пальцах Науруза была какая-то терпеливая, ласковая сила, — даже смотреть приятно, с какой бе
60
режностью касались они ран. «Лекарь будет! Пастух 'будет! Тропой Аймыша пойдет!» — думал дед Магмот.
Науруз не боялся быков и собак, его можно было послать через лес, мимо старых могил,-—он шел и исполнял поручения. Но руки его начинали дрожать и лоб покрывался потом, когда дед приказывал ему зарезать барашка или даже курицу. Он боялся крови — слабость, считавшаяся в Веселоречье самой позорной для мужчины.
— Охотник, не будешь, воин не будешь, — пугал дед.
Мальчик молчал, и дед начинал насмехаться:
— Кто крови боится, никогда мужчиной не станет.-Над таким девушки будут, смеяться. Ты жены себе не найдешь.
Мальчик злился, краснел, но молчал. Он не умел объяснить, что испытывает при виде крови, но ведь первая кровь, которую он в жизни увидел, была кровь его отца. Совсем не страх — ужас, отвр ащение, доходящее до судорожного бешенства, — вот что испытывал он.
«Он сын шагида, и я должен воином воспитать его!» — так оказал себе дед. И он стал брать мальчика с собой на охоту, — честь, которой он не удостаивал никого. Он давал Наурузу ружье и учил его бить птицу. Но мальчик попадал очень редко. То ли он нарочно промахивался, то ли действительно был недостаточно меток.' Дед заставлял Науруза прирезывать животных, попадавших в сети и капканы. Науруз, бледнея, с тошнотной гримасой на посеревших губах исполнял приказания, но раз, не совладав с собой, упал в беспамятстве-.
Таким образом дед Магмот немало мучил мальчика. И все же Науруз любил ходить с ним на охоту. Это были чудесные путешествия в таинственные звериные страны, и лучшего проводника по этим странам, чем дед Магмот, быть не могло.
Однажды они забрели очень далеко в горы. Тропа под их ступнями исчезла. Среди густого мха и щебня повсюду блистали и звенели, ручьи. Иногда им приходилось продираться через заросли карликовых елочек, подымавшихся не выше плеч деда, и Науруз забавлялся, воображая себя и деда великанами^ идущими
61
по лесу. Вдруг дед показал вверх, на весь испещренный белыми снеговиками скалистый гребень, под которым они целый день шли.
— Джегутур!—сказал он.
Науруз, задрав голову, таращил^глаза, разыскивал хоть какое-либо движение жизни среда камней. Белые пятна снега, черные тени, — от напряжения у Науруза зарябило в глазах, он вытер невольную слезу...
— Гляди вон на ту самую высокую скалу. На ней камень, — видишь? Это не камень. Это вожак. Он сторожит. Стадо по ту сторону горы, — там, под ледником, есть поляна, орошенная ручьем.
Науруз напряг зрение, и ему померещились дцже крутые рога; так вот оно, благородное племя горных козлов, питающихся верхушками трав и пьющих воду только из-под ледников.
— Видишь, что значит вожак? —сказал дед.— Народ его живет, а он сторожем над ним стоит. Если б у людей такие начальники были!
Другой раз в лесу дед вдруг показал на землю. Науруз увидел в хвое почти незаметные острые следки, их было много, и они тянулись полосой — сплошная дорога стремительного бегства
— Это олени чего-то сильно испугались, — сказал Науруз.
— Кому же не видно, что олени и что напуганы. .. — насмешливо сказал старик. — А ты мне скажи, с чего они так напугались?
Науруз еще раз оглядел следки и увидел, что в некоторых местах они сверху чуть примяты. Следуя по этому пути оленьего- бегства, Науруз нашел сразу две примятости рядом и представил вдруг кошачьи лапы: огромная кошка, как за мышами, оставляя следы через каждые двенадцать — шестнадцать локтей, бежала за испуганным стадом оленей...
— Кошка! — сказал Науруз испуганно и удивленно, сам не веря тому, что говорит.
— Молодец! — горячо похвалил дед.
— И такие кошки бывают? — заинтересованно спросил Науруз.
— Бывают... — ответил дед. — Большая чубатая
62
кошка. Она приходит *к нам из-за гор. Мне случалось два раза убить пятнистую. Но люди говорят, что бывают и волосатые; она тогда особое прозвище имеет: тигр. Этот зверь не наш. К нам только охотиться приходит. Медведь — наших лесов хозяин. Вот олени раз собрались, идут к медведю, просят заступы: «Помилуй, господин! Ты нас дерешь, да еще из-за гор к на»м этот полосатый князь ходит».
Крупные хищники — князья, мелкие — вроде стражников. Олени, козлы, кабаны — различные племена — народ, крестьяне. Как и в людской жизни, сильный дерет слабого.
Науруз знал, что дед убил на своем веку много медведей, убил будто бы медвежьего князя. Но о медведях он говорил всегда с уважением и лаской.
— Умный зверь... с ним сговориться можно, если только он видит, что ты в силе. Но и между людьми так же: будь в силе — всегда ммра добьешься! —говорил уверенно дед.
Люди понимали зверей, звери понимали людей. Небеса сливались с землей. Дед сам вспугнул раз прекрасное созвездие Плеяд; он увидел его на дне заповедной долины: оно спало там всей своей тихо- мерцающей стайкой. Затаив дыхание, дед стал подкрадываться, но сухой пузырчатый гриб стрельнул под его ногой. Плеяды вспорхнули и быстро поднялись в свое небесное гнездо.
Началась однажды гроза, молнии взблескивали среди черных туч то <в одной, то в другой стороне неба...
— Это пляшет небесная хозяйка, плясунья-богатырша; .. — таинственно объяснял дед. — Видишь, как разлетаются ее платья? Видишь, как взблескивают то белые ноги, то руки, то зубы? Слышишь, как хохочет она? Крылатый ее муж, небесный хозяин, улетел в гости, ее одолела скука. Но на земле живет милый ее дружок, чудодей, весельчак и забавник. Только крыльев нет у него, не может он к ней забраться, но есть у него скрипка, из чинары точенная, струнами из конских жил оснащенная. И когда тучи летят вверх по нагорьям — это он бежит вверх на белые горы. Одна нога на одной
63
горе, другая на другой. «Э-гей, плясунья! — кричит, он небесной подружке своей. Ударит по струнам, и она начинает плясать. — Веселей, веселей, веселей!...» Людям. страшно. Люди говорят — врт гроза какая. А она хохочет, а она топочет, и, глядя снизу на нее, он играет веселей, веселей. Р-раз... Это муж вернулся, бить ее будет. И вот зарыдала она.
Дед торопливо'закрывал дверь коша, чтобы дождь, обильно хлынувший с неба и освещаемый бледными и грозными взблесками молний, не залил коша.
Науруз не раз проходил с отцом по тем пастушеским луговинам, на которых сейчас шла его жизнь. Но тогда на все ложилась как бы тень Керима, прохладная и строгая. Ведь мальчик названия своих пальцев узнал по-арабски. В отличие от сверстников, которые если и знали молитвы по-арабски, то бормотали их, не понимая, забавно искажая слова, Науруз не только был с младенчества выучен Керимом правильно произносить слова молитв, но также и -знал их смысл. Керим пытался своими поучениями заменить Наурузу игры со сверстниками. Сказки были изгнаны, — их заменили суры корана, Но в сурах Науруз с жадностью схватывал те цветы'древнего язычества, которые пробивались в щели между каменных плит сурового единобожья. И хотя дед Магмот, заменивший Наурузу отца, от души считал себя правоверным мусульманином, но вера в единого и пророка его, не. мешала ему населять эти прекрасные, ерошенные чистыми ручьями луговины, это древнее обиталище языческйх богов, могущественными, веселыми и грозными, существами, которые пировали и охотились, любили и порождали детей друг от друга и от смертных. Бесплотные и почти неосязаемые при свете солнца, они с того волшебного мига, когда, забравшись в кош деда, Науруз засыпал, становились видимы и слышимы.
Воет огонь в очаге, смола вскипает на сосновых чурбанах. Это богатыри пируют в большом шатровом доме, подобном во всем дому Баташа в Старом ауле.' Науруз не раз бывал в этом доме, но сейчас коврами
64
•скрыты темные бревна его стен и пышные шкуры постланы на пол.
Раскатываются' над Наурузом громовые голоса: дракон залег в верховьях реки, запрудил ее, и вместо воды смрадные ‘'Нечистоты обегают вниз по. руслу,— болеют люди, умирают дети, бесится скот. Прогнать, прогнать надо дракона! В остроконечны^ железных шапках высятся богатыри над Наурузом,—это ожившие головы гор: их лбы и носы, их уста и морщины.
И руки, на которых жилы подобны древесным корням, медленно’ передают 'Круглую, как солнце, желтую деревянную чашу: прозрачное, искристое питье играет (в ней — питье, поддерживающее вечную силу и бессмертное веселье. Оно прохладно во рту и горячо в желудке, пахнет весенними цветами и насыщает, как айран,— Науруз знает его вкус: сам богатыренок, мальчик-прислужник богатырей, не раз украдкой прикладывался он к этой чаще, когда ему поручали пополнить ее из огромного мохнатого меха...
Светает. Словно „реки в крутых берегах, медленно текут между гор мохнатые туманы. Выводят богатыри из подземелий своих громокопытых коней. Науруз просится в поход, но его не берут: .мал еще“. Уезжают они, и грохот копыт слышен по окрестным горам. Тогда бежит мальчик-прислужник в* тайное подземелье: -в подземной конюшне скрыта маленькая -волшебная лошадь — ярко-рыжая масть, багряная грива. Только вскочишь — и вмиг взвивается она вверх. Джегутур скачет со скалы на скалу, она скачет с торы на гору; верхушки деревьев приносятся под ее мелкими копытами; задрав бороды, глядят изумленные богатыри, как мальчик-прислужник обгоняет их грузных коней. Слету падает он на черно-зеленого дракона, смаху сносит его красноглазую голову, сдвигает с места содрогающуюся тушу — чистые, светлые воды хлынули к людям в долины. .. Люди славят Науруза, но ему надо скорее домой: мать, верно, ищет его.
Мать... Науруз все хотел ее вспомнить — ведь была же. у него мать, — но- память молчала. Даже во сне он ждал: вот сейчас войдет она в круг богатырей — богатырша; могучая сестра-повелительница, своенрав-
5 10. Либединский
65
нал хозяйка богатырского дома; вот он, сияющий белыми бревнами высокий дом, ее дом... все ближе, все ближе.. . Сейчас выйдет она к нему'навстречу из красных ворот, и ничего не слышал он, кроме сердцебиения, блаженного и тяжелого... И во сне знал: вот, белокурая, .Подошла ойа к нему. Сияющей и прохладной белой рукой гладит его лицо, поет ему ласково-ласково... Только б не проснуться, не открывать глаз, но, не выдержав, с криком: «Нана», кидается он к ней... В небе, высоком и огромном, в страшной дальности, видит он маленькое и светлое, белое лицо: это" луна, благостная* Адиюх, со' свётя-щимцся и -прохладными ласковымй руками. ..
Науруз почти не вспоминал о своем сиротстве, но и во сне и наяву оно продолжало сказываться на нем. При жизни отца он не имел сверстников и сейчас особенно стремился участвовать в веселых мальчишеских играх. Казалось бы, крупный рост, сила и «сообразительность должны были дать ему преимущество. Но он был застенчив й потому несколько мешкотен и уступчив. Среди ребят верховенствовал Хусейн, сын Верхних Баташевых, маленький, удалой и драчливый мальчишка. Когда играли в войну, Хусейн был всегда «Тхамали», и для Науруза образ любимого героя совершенно слился с Хусейном, смуглым, худощавьЫ и босым мальчишкой, в шапочке, надвинутой на блестящие глаза, с длинным кинжалом, болтающимся на узкой опояске, схватывающей тонкий мальчишеский стан.
Однажды ночью Науруза разбудил громкий говор и смех. Зарывшись в теплые шкуры, спал он в коше; проснувшись, не сразу из них выбрался, — на воздухе было свежо. Но никогда до этого не видел он, чтоб в такой поздний час горел бы так ярко костер у коша. Сполохи огня и багряные тени металась по стенам. Громкий голос размеренно и весело рассказывал что-то... Голос был чужой, даже произношение слов не такое, как в Баташевой долине. Вдруг Наурузу послышалось, что* названо его имя. Ежась под свежим ветром, приносившим невидимые облака, то закрывав
66
шие, то.юткрывавшие крупные осенние звезды, Науруз вышел к костру. И сразу среди пастухов увидел гостя. Никогда раньше не видел Науруз, чтобы человек так пренебрегал чистотой праздничного наряда, как этот гость. Он сидел, отвалясь на кучу свежеокровавленных бараньих шкур; серебро блистало на поясе его, на кинжале и газырях; ноздри его тонкого, нависшего над смешливыми губами носа были тоже веселые; он плавно рарсказывал что-то, еще раз назвал имя Нау-руза, но показал куда-то <в сторону. Науруз взглянул — и не мот уже отвести глаз. Перед ним был богатырь. Его собранная в кулак рука лежала в трех шагах от Науруза, и кулак этот был величиной едва ли не в голову Н аур уза.. Но в складе этих полуразогнутых больших и грозных пальцев было что-то доброе, детское, и эти же черты благородного мужества освещали все большое лицо, украшенное усами, пшенично-светлыми и пушистыми. Богатырь,лежал, подперев голову рукой, и его небольшие синие глаза диковато и ласково, так, как иногда глядят совсем маленькие дети, смотрели на людей; по цвету глаз и усов человек этот не походил на горца, но горбатый большой красивый нос и общее выражение лица, чем-то сходное с выражением благородной морды оленя, делали его исконным сыном гор.
«Это, наверно, племянник деда — знаменитый абрек Науруз Данилов», — догадался мальчик.
Так же как и разговорчивый сотоварищ его, Науруз Данилов одет был празднично: великолепна была его белая черкеска, и под треугольным вырезом ее сиял желтый шелк рубашки, которая по вороту обрамлена была частым рядом перламутровых мелких пуговиц. У костра было то оживление, которое всегда наступало, когда в горах случалось какое-лифо достойное обсуждения событие, подвиг или вероломство, обман при уплате калыма, приезд богатых английских господ из-за морей на охоту... Эти вести быстро разносились по горам: при встрече горца с горцем был обычай прежде всего рассказать новости. Самый приезд абреков был событием, но сколько еще новостей могли рассказать они! Среди общего оживления только дед Магмот выделялся
67
5»
молчаливостью: как всегда, сидел он сбоку, закутавшись в свою медвежью шубу, покуривая коротенькую трубку.
— Четыре с половиной тысячи овец и коз! — громко говорил рассказчик, — Восемьсот голов рогатого скота! Я не друг князю Астемирову, но думаю, что абреки не должны быть подобны волкам, которые выедают вымя коровы, так как не собираются ее доить. Угоним половину, через год еще нарастет, тогда мы угоним опять половину. Но Науруз говорит: «Нет! Астемйровы забыли бога, они грабят народ, я буду божьей прозой над Астемировыми!»
— Это правда! — вдруг медленно проговорил Науруз Данилов.
Он поднялся, сел, и маленький Науруз с восхищением охватил взглядом необыкновенно широкие плечи своего тезки, — казалось, что голова его несколько мала по отношению к плечам.
— Да, и я был божьей грозой над Астемировыми!— упрямо сказал он в наступившей тишине.
И, повторив эти слова, Науруз Данилов облегченно передохнул и снова лег на землю.
Рассказчик согласно кивйул головой.
— Это так, — Сказал он. — Мы стали божьей грозой над Астемировыми. Пристав был куплен заранее, стражников мы покупали тут же, на месте, — и все совершилось как во; сне праведника: мы гнали скот к сванам через Астемирово ущелье, по аулам, которые уже забыли вкус мяса, и мы наполнили ущелье дымом шашлыков! Это был пир, братья, это был пир! Из четырех тысяч астемировских овец мы продали сванам две тысячи, раздарили живьем штук пятьсот, остальных зарезали. Науруз сдержал свое слово: князья Астеми-ровы на славу угостили крестьян, долго еще будут по Астемирову ущелью петь об этом пиршестве! Но вам известна мудрость нашей поговорки: несчастье приходит с рогов быка! Среди коров, буйволов и волов был один серый бык, и на рогах у этого заклятого создания тисненая золотая медаль: на ней изображение венка и в венке бычья морда. Такая большая красивая медаль.
68
И я позавидовал: что же это! Князья Астемировы жалуют медали даже скотам своим, я же, правая рука доблестного Науруза, медали не имею. И я снял ее и —горе!— оставил ее себе. В Пятигорске вот такие красивые, какими вы нас видите, сидели мы .на большой террасе, слушали музыку, кушали сахарный лед, «сливочное мороженое» — как говорят русские, — пили водку ц читали газету, в которой наше дело, совершенное над астемировскими табунами, прославлялось как дерзкое. Печальные русские офицеры, которые у пятигорских подземных вод лечатся от срамных болезней/ с завистью глядели на нас, считая нас горскими князьями. Но на мундирах их было множество всякого вида значков и медалей, и дьявол, за которым никогда не надо далеко посылать, разжег во мне зависть и шепнул, чтоб я повесил себе на грудь свою бычьй) медаль. И он же, враг человека, прислал в нашу компанию гнусавого царского чиновника в бархатной фуражке с кокардой и с очень плохим, почти провалившимся, 'вонючим носом. Я сделал честь князьям Баты-жевым, приняв их имя, Науруза назвал Ас тембровым, — ведь по той доле, которую он принял в разделе их стад, его по праву надо причислять к этой семье. Мы угостили эту кокарду шашлыком и водкой. Довольный, что очутился между князей, он глядел на нас во все глаза и все скалил желтые зубы. Тут-то он и вцепился .в мою медаль: он такой нигде не видел, наверно получена от какого-нибудь далекого короля. И почему здесь бык?..
«Эх, — ответил я, — тот, у кого я медаль эту брал, он теперь -уже зарезан и съеден! Но когда я у него с рогов снимал, мычал он чего-то, но я по-коровьему не понимаю!»
Чиновник выпучил на меня_ глаза, я плеснул водки в его стакан. Потом пришли мамзели —- и опять была водка. Потом я ничего уже не помню; пробудился лишь ночью в той гостинице, где мы стояли, — молодцы наши стреляют у окон, и я тоже схватился за свой маузер. Деньги служат тем, кто их имеет. Нас вывели тайным ходом. Когда мы были верстах в пятнадцати от Пятигорска, я только по-настоящему проснулся..
69
«Как это они нас учуяли, Науруз?» — спросил я.
«А где твоя бычья медаль?» — спрашивает он.
Я схватился за грудь... Медали нет..
Рассказчик схватился рукою за грудь, лицо его изобразило шуточную скорбь:
— Нету медали, дорогие братья, украл ее гнило-носый чиновнжГ
Рассказчик замолчал, и Науруз, гак же как все слушавшие, не сразу понял, что рассказ кончился... Потом начался хохот. Хохотали все и били рассказчика •по плечам, по коленям, одобрительно и яростно, потом поднесли ему чашку бузы; он выпил глоток, остальное плеснул в костер. Пламя зашипело, метнулось. А он засунул руку под полу черкески, и в руках его оказалась бутылка.
— Русская водка! —сказал он, подмигивая. — Ее пророк нам не запретил!
Чаша Пошла вкруговую. Наурузу тоже дали глотнуть. Он закашлялся, — ему не понравилось. . . Он все разглядывал богатыря в белом, — общее веселье отражалось на лице его лишь улыбкой, несколько смущенной, доброй и горделивой.
Науруз не помнил, как уснул; когда же проснулся, он был заботливо накрыт буркой. Пастухи разошлись. Костёр догорал, и заря, желтая и румяная, такая чистая, словно первый раз на земле, обозначалась над извилистой и еще по-ночному сплошной линией гор, позади лилово-черных, твердых и длинных тучек. Было холодно. Кто-то, закутавшись в мохнатую бурку, спал на куче шкур; голубой клочок виден был из7под бурки,—Науруз по этому клочку догадался, что под буркой спит вчерашний весёлый рассказчик.
Костер догорал. Но красные угольки были еще жарки. Дед Магмот грел над ними свои большие узловатые руки, которые прозрачно розовели, и на коже их, старой ичсерой, обозначились все морщины и рубцы его жизни. Богатырь в белой черкеске лежал попреж-нему, подпирая рукой голову. Лицо деда посинело от холода, богатырь же, как и полагается богатырям, был всё так же румян и свеж.
70
Видно, что всю ночь они со стариком не спали; разговор, наверно, шел невеселый: оба собеседника были печальны. Ночные звуки замолкали, дневные еще не стали пробуждаться, и было тихо, очень тихо. Заря бесшумно разгоралась, но тучки, за которыми разгоралась она,-становились, все темней и грознее. Раздались голоса — проснулись люди.
— Да, видно, от своей судьбы дороги нет, — сказал громко абрек, и какое-то отчаянное веселье вдруг пробудилось в его гоЛосе. — Эй, вставай! — зычно крикнул он и пнул ногой своего друга.
Тот вскочил, и Науруз с удовольствием увидел еще заспанное, но уже\ готовое к веселью, поросшее синей щетиной лицо вчерашнего рассказчика.
— Может быть, тут стражники придут, — говорил он, обращаясь к пастухам; — так вы, конечно, нас не видели, — они вам поверят. Заставят вас бумагу подписать, так вы поставьте свои метки: за все это уже полиция деньги от нас получила.
Науруз Данйлоц снова беспечно улыбался, и они ускакали без дороги, направив коней прямо на кручу и то исчезая, то вновь показываясь между скал.
— Эх! Мне бы коня! — вдруг сказал Науруз.
Он тут же спохватился, но было уже поздно, точно не он — губы сами сказали. К нему удивленно обернулись все, кто услышал это восклицание, — рослый мальчик, темно покрасневший, стоял, закусив губу, опустив глаза. На него глядели, точно видели его впервые.
— Жеребец заржал, жеребенок завизжал... — сказал/, покачнув головой, дед Магмот.
Пастухи засмеялись.
— Почему смеетесь? — гневно спросил Науруз. — Это — отца моего дорога, и я вступлю на нее.
И опять все замолчали, — сила слышна была в этих словах.
— Твой отец пешим ходил между нами, — сказал дед. — Он был такой же бедняк, как все мы, но слово его летело быстрее крылатого коня. А удалец Науруз, хотя он мне и родная кровь, верхом скачет, но от судьбы своей горестной никуда не ускачет.
71
— Про Науруза Данилова песня, есть, — упрямо сказал мальчик, отводя глаза От зеленых и веселых, как трава под солнцем, глаз деда.— Попал "на пути удалому Наурузу крестьянин, горюющий над павшей лошадью. Слез тогда Науруз со своего конц и отдал его крестьянину вместе со сбруей богатой и седлом.
Дед, не соглашаясь, качал головой и усмехался.
— Это правда, — сказал один из пастухов. — Я даже знаю этого человека: он живет в ауле Дууд.
Науруз уже поднял глаза и задорно глядел на деда.
— А что ж, — быстро ответил дед, — абреку конь дешево достался, он одного коня отдаст — другого украдет.
— Таи всегда коней добывают! •— задорно возразил мальчик.
Дед вдруг развел растерянно руками. Он не знал, что ответить. Он сам рассказывал мальчику сказки, наполненные .восхвалением коней, спорами из-за коней, отважными угонами ногайских и казачьих табунов, — ведь любимый герой народа Тхамали начал с того, что посадил восставших крестьян на Бисмалеевых княжеских коней.
Кони, кони! Реки были кони и зори были кони — лошадей называли так же, как реки: Веселая, Черная, Зоревая, Белый • ключ, Водопад... Предки молились коню, и, может быть, лишь приручив коней, они гордо стали называть себя людьми.
В сказаниях и песнях народ еще продолжал сидеть на конях, а в жизни он был племенем бедных пастухов, пасущих княжеских овец.
Наурузу предстояло стать бедным овечьим пастухом, верхом ездить ему приходилось лишь на старом мерине деда Магмота.
И дед рассердился.
— Если все работать бросят и грабить станут, то жизнь на земле в окончанию придет!—сказал он.— Он у Астемировых коней угнал, а завтра у Батыжевых угонит, — кто тогда нас кормить будет?
Пастухи разошлись, признавая разговор оконченным. Науруз не заговаривал больше ни о конях, ни об
72
абреках. Думая, что мальчик успокоился, дед сам забыл и этот случай и разговор.,.. Весна — и перегон стад на горные пастбища, осень — и медленное возвращение к аулу, к; зимним выгонам... Один пастушеский год сменялся другим, строго следуя за движением солнца, луны и светил...
Иногда перед самым закатом Науруз с ловкостью и быстротой козленка, пробегая там, где можно пробежать, и карабкаясь там, где на его пути оказывались скалистые кручи, стремительно подымался вверх, в гору. Это была игра: убегать от синей вечерней тени, бесшумно летевшей за ним и покрывшей луга, коши, стада, скалы. Вот мальчик остановился, обернулся к закату. Он весь освещен солнцем, — зубы блеснули под верхней губой, с соколиной дерзостью взглянул он на красно-багровый, как бы содрогающийся у'края земли шар.... Но тень опять добежала до его ног, нрдо лёзть вверх, все выше... 1Койечно,' тень неминуемо нагонит, конь неминуемо сбросит задыхающегося всадника, но пусть это будет как можно выше, чтобы в последний раз, задыхаясь, увидеть крутой яркорыжий загрцвок светила и багряную гриву, взметнувшуюся над миром, уже покоящимся в ночи.
Приезд абреков оставил в душе Мальчика как бы долгое эхо. Все, что извне врывалось в тишину пастбищ, продолжало в ней звучать много лет, и последние отголоски миновавшего события сливались с грохотом возникающего.
Глава третья
В тени лежал иней, но горы еще пестрели по-осеннему празднично — багрецом и золотом. Было ясно, морозно И тихо. Осень неслышно превращалась в зиму, овцы давно уже вернулись с летних пастбищ.
Дед Магмот в одной тюбетейке на лысой голове и в полушубке, надетом на голое тело, смугло-багровое и еще молодое, сидел на камне у самого двора Даниловых и пил из большой деревянной чашки зеленоватую молочную сыворотку. Усы его были встрепаны, нос
73
несколько подпух. Сыворотку считал он лучшим средством для того, чтобы опохмелиться.
Каждую осень, как только овец пригоняли с летних пастбищ, дед Магмот, распушив усы, тщательно побрившись и надев лучшую черкеску, садился на своего единственного, довольно пожилого мерина и отправлялся на княжеский двор в Арабынь рассчитываться с господами за себя и за всех пастухов. Всем большим хозяйством Батыжевых заправляла хитрая старушка Лёйля, прислужница старой княгини, наложница князя Искандера, имевшая от него нескольких детей.
Между этой старушкой и дедом Магмотом каждый год происходило одно и то*же: как ни богат бывал приплод батыжевских стад, как ни высоки цены, по которым сбывали овец гуртовщикам, шерсть скупщикам, а коней барышникам, — все равно старуха обходила деда, и князья получали большую и лучшую часть, а пастух меньшую и худшую. Единственно, что в полной мере получал дед Магмот на господском дворе, — это честь: хитрая старушка угощала его, как знатного гостя.
Старик знал, что он обманут. Из года в год пастухи Старого аула доверяли ему свои расчеты и никогда на него не роптали. Честнее деда Магмота вряд ли можно было найти человека в- Вёселоречье. Но стыдно было деду, что не отбил дн у хитрой старухи справедливой пастушеской доли, и он морщился и кряхтел.
— Ты чего это? — изумленно спросил он вдруг Нау-руза, который сидел возле него и чертил прутиком по земле.
На песке у ног деда начерчены были извилистые, осыпанные точками знаки арабской грамоты, напоминавшие следы, оставляемые маленькими ящерками и Змеями.
— Это грамота, — ответил мальчик. — Отец начал учить меня.
— Он тебя грамоте учил? — спросил дед, понижая голос, словно говорил о колдовстве. — Премудрость. .. — добавил он,, вздыхая. — Ты думаешь, как она меня обошла, угощением? Нет. Дед Магмот пьет, дед Магмот пляшет, а дед Магмот свое в уме держит... А вот как вынула она ечеты... Ты знаешь, братец, что
74
такое счеты? — Науруз отрицательно покачал головой. — Это, это, — растопырив руки, показал дед, — как музыка: струны натянуты, на них костяшки трещат, звенят... Но она не для пляски, а для того, чтобы дурить людям головы. «Зачем эта музыка? — говорю я ей. — Убери. Я тебе словами все расскажу». А она смеется, бес... Р-р-р-р... Как ударит по костям... — Дед языком и пальцами показал, как Лёйля орудует счетами. — КосЧи мечутся с одной стороны на другую, белые и черные, в глазах рябит. Да, премудрость. — Покачивая головой, дед слушал непонятные, гортанные, словно взрывающиеся звуки арабского языка, столь не похожего на шелестящий говор веселореченских пастухов.
Вскоре жена деда Магмота, востроносенькая и румяная бабушка Зейнаб, испекла пирог, обильно полила его маслом и медом. Празднично принарядившись, она взяла пирог и понесла, его по направлению к мечети, около которой жил мулла. Следом за ней дед Магмот, также празднично одетый, вел Науруза, чисто умытого, румяного и босого, в рубашке, наново заплатанной. Люди останавливались, и каждый говорил деду Маг-моту и Н'аурузу доброе слово, и дед Магмот снова чувствовал, что имеет право быть довольным собой. Что ж из того, что его опятр обошла эта старушонка Лейля, а вот он делает угодное богу — ведет сироту, сына шаги да, учиться и мулле.
Худощавый и длинный мулла в грязноватом, доходящем почти до пят бешмете с готовностью принял и пирог и Науруза, но отнюдь не выражал желания здесь же ознакомиться с познаниями и способностями ученика. Однако деду хотелось так же удивить и Восхитить муллу, как удивился и восхитился Ън сам. И Науруз раздельно прочел длиннейшую суру «Пещера», бессвязную, как ряд снов, волшебно-сказбчную и поэтому особенно любимую мальчиком.
Семь юношей (и с ними собака) проспали триста девять лет в пещере, считая, что сон их длился несколько' часов. Грешники в аду умоляют об утолении жажды, но им дают воду, горячую,, как расплавленный металл. Праведники в зеленых штофных и атласных
75
одеждах наслаждаются тенью ароматных кустарников, пируют, предаются мудрым беседам, и повсюду звенят там прозрачные и прохладные ручьи.. Сатана отказывается поклониться человеку, ангелы жё поклоняются. Моисей бросает зажаренную рыбу в реку живой воды— и рыба оживает.'Дгуль Корнейн, великий, царь и путешественник, добирается до того места,, куда в океан на закате опускается солнце, — океан кипит, воздымаясь до небес.., Все держала в себе эта сура, подобная искусно храненному камню, переливающему в радугу солнечный луч.
Мулла закрыл глйза и прислонился к стене. Его молодое, узкое и бледное, обрамленное черной бородкой лицо смягчилось и утратило выражение беспокойства и алчности. Дед Магмот гордо поглядывал кругом, хотя на уложенном плоскими камнями и плитами дворе при Мечети были только гуси, гогочущие у водоема.
— Прочти еще что-нибудь, дитя, — тихо попросил мулла и положил руку на плечо Науруза.
Тогда мальчик прочел суру «Милостыня» и дал ей толкование: по ней установлен закият-—налог, собираемый мечетью для . бедных, для сирот, для путешественников. . Мулла сразу открыл глаза, и опять выражение злости и беспокойства установилось на его тощем лице.
— Неверное даешь толкование, — сказал он раздраженно, заикаясь. —Дд-а,.-неверное... Священнослужитель, слуга пророка, лишь к пророку обращен своими делами. Толкование, которое ты даешь, не духовное толкование. Оно начальством не дозволено. Откуда ты взял его?
Науруз толкование это неоднократно слышал от отца. Но дед Магмот сделал глазами и ладонями выразительный знак: молчи! И Науруз хотя и-недоумевал, но решил промолчать. Мулла в Старом ауле поселился недавно и о Кериме ничего еще не слышал, потому он не догадался подробнее расспросить о своем новом ученике. Неохотно пошел мулла в этот глухой «языческий» приход, -но, как заика, он на лучшее место надеяться не мог. Способности Науруза он оценил сразу, но взял его не за способности, а рассчитывая
76
ий то, что этот малолетний, но крепкий мальчик станет, как это полагалось ученику при мечети, помогать в хозяйстве самого муллы.
Тай Науруз стал «сыном Корана», муталимом, учеником при мечети.
Науруз, как полагалось муталиму, поселился в самой мечети. Он выбрал себе уголок у стены, вбил в стену несколько колышков, на которых в порядке развесил свои вещи: сумку и праздничный поясок. На ночь делал себе постель из ковриков, которыми устилался пол мечети, по утрам клал коврики на свое место,
•Кроме Науруза, в мечети на положении муталима жил еще парень лет пятнадцати, Рахим. Он был крив и хром, все лицо его заплыло коричнево-багровой опухолью. Это уродствоэбыло страшным следом большого пожара, на этом пожаре сгорели все родичи Рахима,’ оставив его малолетним сиротой. Рахим только считался муталимом, «5 не учился и н€'рабртал, так как он был святой. Святость его выражалась в том, что, читая молитву, он порою вдруг ухватывал какое-нибудь слово и начинал его повторять. Так, раскачиваясь и повторяя это слово все громче и громче, он постепенно доходил до исступленного крика, с бешенством начинал подпрыгивать на полусогнутых ногах. Движения эти напоминали Наурузу страшные судорожные содрогания курицы, у которой отрубили голову.
— Аллах, аллах! — выкрикивал наконец святой и, словно мертвый, валился на землю.
Науруз от отда знал о том, что все это называется джазм — безусловное проявление божьей силы, которому подвержен был пророк. «При джазме в человека можно гвозди вбивать», — сказал раз отец, и, с благоговением глядя на ^судорожно выгнувшееся, неподвижное тело святого, Науруз представлял, как гвоздь входил бы в тело святого—туго, как в дерево; Науруз точно слышал стук молотка — и ни капли крови: святость! Об этом было страшно, и увлекательно думать.
Науруз охотно/сопровождал святого, когда тот, сев на маленького понурого ослика, объезжал родовые поселки Баташевой долины с заунывным криком, похожим на ястребиный крик: «Э-э-э! Аллах! Иллаллах!,,»
77
На обратном пути ослик ел ебрел — настолько наполнены были приношениями огромные перекидные корзины. Святой был благочестивым украшением мечети. Ее Посещали не столько из-за проповедей косноязычного муллы, сколько для того, чтоб увидеть, как джазм овладевает святым. И Науруз считал себя счастливым: судьба дала ему возможность быть вблизи такого источника божественной благодати. Но мысль о гвоздях, которые можно было бы вбить в святого, когда он находится в священном припадке, не давала Наурузу покоя. Он даже отважился спросить Рахима: верно ли, что если в него вбить гвоздь во время джазма, так он не почувствует? Рахим своим тусклосиним угрюмым глазом подозрительно взглянул на мальчика и ничего не ответил. Нет, гвозди и молоток — это, пожалуй, нельзя; неизвестно, как мулла посмотрит на такое дело. Но что, если взять шило и слегка уколоть Рахима во время припадка? Однажды Рахим с воплем уПал и вытянулся. Не успел еще мулла по этому поводу, заикаясь, сказать несколько назидательных слов, вдруг со страшным визгом: «Ай! ай! ай!» святой вскочил и закатил Наурузу такую затрещину, что тот не устоял на ногах. Но, впрочем, тут же вскочив, кинулся на Рахима, и через секунду они клубком покатились среди молящихся по полу мечети.
-— В доме молитвы! — воскликнул мулла.
Наурузу не так были .обидны побои, полученные от муллы, как то, что мулла заподозрил его в нечестивом желании испытывать бога: не сомнением, а чрезмерной верой был порожден поступок Науруза.
До прискорбного происшествия со святым ученик и учитель были довольны друг другом. Едва рассветало, как Науруз топил очаг в доме муллы, приносил воду, ухаживал за скотиной и работал на поле, иногда нянчил детей. Но всякую свободную минуту, как полагалось муталиму, коран лежал раскрытым перед глазами мальчика. Наурузу все давалось легко, и мулла ценил своего ученика, хотя кормил его плохо. Долю’ из за-кията, которая Наурузу Полагалась, он получал только в виде протухшего мяса и заплесневевшего, прогорклого зерна.
78
Зимой в мечети стало холодно, к тому же Рахим перешел жить в соседний родовой поселок, в благочестивую семью, и, со страхом приходя ночевать в пустую и холодную мечеть, Науруз ощущал, как из книгохранилища, маленькой комнатки с одним узеньким стрельчатым окном, — священной комнатки, в которую попадать можно было только через мечеть,— тянет ужасным и сладким запахом падали; в книгохранилище никаких книг не было, там стояли мешки с зерном, навалены были сыры, а под потолком висели бараньи головы с выкаченными темными и неистоводикими глазами... Науруз знал, что эти головы всего лишь почетная доля муллы, посылаемая ему со свадеб... Но когда, закутавшись в пыльные коврики, он засыпал, ему эти оскаленные и ободранные головы мерещились во сне.
А ведь совсем недавно зап^х мечети, этот сладковато-терпкий запах, был ему мил и таинствен. Теперь он знал — в мечети пахнет плесенью, пылью и падалью. По ночам Науруз несколько раз давал себе слово убежать из мечети, но приходил день, и ночные страхи рассеивались. Убежать — и подвергнуться насмешкам деда Магмота? К тому же мулла стал показывать Наурузу русские буквы, простые и легко складывающиеся в слова. Слова были непонятны, но они были подписаны под картинками (мулла учил Науруза по русскому букварю) и легко запоминались.
Днем на дворе мечети было очень интересно» Здесь мулла благословлял свадьбы, рождения и смерти, разрешал тяжбы и мирил ссорящихся. Сюда приезжал из Арабыни глухой, сонный русский стражник,, привозил приказы властей; мулла, прочитав эти приказы, собит рал старшин и растолковывал, чего хочет власть, — потому Науруз знал о податях, о недоимках.. ., о преследуемых людях, которых власти приказывали ловить и выдавать (веселореченские пастухи подобных приказов никогда не исполняли: в их обычае было помогать преследуемым). Здесь же, на дворе, или, если стояло ненастье, в книгохранилище писались талисманы от несчастной любви, от ружейной и колотой раны, от лихорадки, от хищного зверя, от бедности. В силу этих
79
талисманов Науруз верил безусловно,—ведь в них зашиты были священные слова корана.
Когда мулла убедился, что Науруз хорошо усвоил арабскую письменность, он поручил мальчику написать грамоту для талисмана. Дело шло о сохранении телки от хищного зверя. Телка эта была вдовьей долей одной' бездетной женщины. После смерти мужа родичи его из всего имущества оставили вдове' только эту . телку Вдова рассчитывала телку вырастить. Прикрывая лицо платком, женщина исхудалой), горячей, влажной от слез рукой погладила щеку Науруза /й назвала его ангелом. Науруз писал грамоту в молчании,'с горячим благоговением. Отдав мулле пяток яиц и получив ладонку, .женщина ушла в уверенности, что телка ее ограждена богом. Каковы же были стыд и ужас Науруза, Когда из всего стада единственно эта телка/была зарезана волками, которые, как всегда к концу зимы, делались особенно неистовы!
Мулла сказал вдове, что мальчишка писал талисман неблагочестиво, а может быть, даже исказил буквы. Мулла ударил Науруза по голове, и Науруз молча, скрыв лицо руками, упал лицом на землю, но не от боли и страха, а от стыда за обман, участником которого он стал.
Дом муллы жил недружно и шумно. Науруз не раз с недоумением и огорчением слышал, как в крики и визг, доносившиеся с женской половины, врывался пронзительно высокий голос самого муллы. Не подобает мужчине^ в особенности священнослужителю, вмешиваться в женские ссоры. Но с того времени, как мулла взял третью жену, в его доме часа не проходило без драки.
Мулла всегда одевался небрежно и семью свою тоже держал в отрепьях. Даже самые бедные жители Старого аула были одеты опрятней, чем священнослужитель и его семья.. Мулл а не стыдился. Он указывал, что нищенский вид свидетельствует о бескорыстии и бессребренничестве. Но весь аул видел: благочестивые приношения непрерывно текли в мечеть, и мулла всегда был озабочен тем, чтоб, не дав загнить и заплесневеть всем этим бараньим ногам и головам, битой птице, сы-
80
рам и маслу, своевременно сбыть все это скупщикам... Куда девал он деньги? Очевидно, он копил их? Был скуп?
Однако он не жалел денег и роскошно одевал кудряво-рыжую, белотелую и толстоногую девчонку (ей едва ли было четырнадцать лет). После каждой поездки муллы в Арабынь она показывалась в новых одеяниях, порой навертывая на себя целые куски шелка, бархата, атласа. На каждый день недели она имела новые туфли, семь пар — на каждый цвет радуги. Но туфли эти, купленные муллой в магазинах Арабыни, были на высоких каблуках, а молодая жена муллы, взятая им из нищей семьи, с детства ходила босиком, каблуки ей были невмочь, она еле ковыляла на них... Всегда заплаканная и злая, старалась держаться она поближе к мужу, так как семья муллы, как только заставала молодую одну, начинала ее избивать, и мулла бежал ей на помощь.
То, что Науруз видел в доме муллы, было надругательством над кораном, над мусульманством. Но ведь девушки в зеленых одеждах не слетели с неба, чтобы под руки подхватить отца, убитого во время вечерней молитвы, и священные слова корана не защитили телку вдовы от волчьих зубов!
Дни прибавлялись. Зимние бури сменились сырыми и теплыми туманами, под снегом и льдом, еще невидимые, глухо зарокотали ручьи. Ревели коровы, блеяли овцы, и Науруз, сильно побледневший и похудевший, но за зиму очень вытянувшийся, с наслаждением слушал эти призывные звуки. К весеннему перегону овец на верхние пастбища надо одолеть коран, иначе дед Магмот с собой не возьмет. И мальчик добился своего. За одну голодную, холодную, наполненную тяжелым трудом зиму он одолел коран. Мулла не скрывал восхищения способным учеником.
Дед Магмот решил отпраздновать благочестивые успехи Науруза. В кунацкой Даниловых приятно пахло чесноком и бараниной, мятой и медом, и так как буза, приготовляемая бабушкой Зейнаб, всегда была особенно хмельна, пир скоро огласился здравицами. Сам
6 Ю* Либединский 81
мулла сказал похвальное слово скромно опустившему глаза Наурузу.
— Придет время, сам закият собирать будешь, — так лукаво и благодушно кончил свою речь захмелевший священнослужитель, намекая на то, что Науруз тоже когда-нибудь станет муЛлой.
Науруз вдруг гневно вспыхнул, быстро взглянул на муллу, но снова опустил глаза.
— Ну, покажи свои познания, — продолжал мулла, ничего не заметив. — Прочти людям что-либо для поучения.
Науруз степенно поклонился, выпрямился и, в упор глядя на муллу, отчетливо, звонко прочел и перевел грозную суру «Желанье обогатиться»—любимую суру отца, начинающуюся словами зловещего предостережения, направленного ко всем, кто стремится к обогащению:
И тогда вы увидите ад,
Вы с совершенной точностью увидите его,
И там вы будете спрошены об удовольствиях этого света.
Все затихли. Некоторым из присутствующих на пире приходилось слышать знаменитого шагида, и они в звонком, еще ломающемся голосе мальчика с благоговением и восторгом узнали грозные раскаты гневного Керимова обличения...
Мулла, сразу отрезвев, дослушал до конца грозную суру. Мальчик умолк и стоял, как бы со смирением опустив глаза. Прихожане, поглаживая бороды, поглядывали на священника: его стремления к удовольствиям этого света были очевидны всем, и прочтенная сура истолкования не требовала.
— Д-да,_— сказал мулла, откашливаясь. — Имущество мира сего останется здесь же, ибо оно — временное. Стремись к приобретению сокровищ жизни вечной. Бог же не умертвит голодом верного своего раба. Так? — спросил он, обращаясь к Наурузу.
И исхудавший и побледневший мальчик приложил руку ко лбу, к груди и низко поклонился.
После этого пирующие стали торопливо расходиться. ..
— Я не хочу обманывать людей и муллой не буду.
82
Я буду пастухом, дед Магмот. Я пойду по тропе пастуха Аймыша, — сказал Науруз, оставшись с дедом наедине.
И когда наступило время перегона овец на верхнее пастбище, Науруз, уже доросший деду до плеча, снова шел рядом с ним как самый близкий его помощник.
Глава четвертая
Стояло теплое весеннее ненастье. Науруз натачивал на бруске бритвы, ножи, ножницы, кинжалы — все, что можно было наточить. Хвостатые звезды выскакивали из-под лезвий, ярко вспыхивали в полутьме коша и быстро погасали. Наурузу приятно было и взвизгивание натачиваемого о камень металла, и особенно легкий аромат нагретого песка, исходивший от теплых и влажно-блестящих, уже наточенных лезвий.
Вдруг в кош заглянул дед Мапмот. Быстро оглядев кош, он сделал знак кому-то, находившемуся снаружи, и вслед за дедом вошли еще два человека.
Один из них был бездомный черкес. Подобных ему Науруз уже встречал: слесари, чеканщики, лудильщики, кожевники, сапожники, шерстобиты и знахари. Эти люди не гнушались самым грязным и противным делом, если только оно сулило выгоду: ободрать шкуру с дохлятины, отвезти вниз, в станицу, и продать казакам убитого кабана.
Вошедший в кош черкес ростом был невысок, черноволос и оборван. Позади него, загораживая свет, падающий в кош через дверь, стоял длинноногий худощавый человек; продолговатое лицо его было покрыто двухдневной рыжей щетиной. Науруз с интересом разглядывал смешные, до пят, мятые брюки, стоптанную, непо-нятную, с пуговками, обувь. Черкес быстро рассказывал; на его носатом, покрытом курчавой черной бородкой лице взблескивали то белые зубы, то карие быстрые глаза. Он казался Наурузу похожим на черного блестящего жука.
Русского, которого он привел, звали Семен Иванович, — только так и никак иначе не называл его черкес.
Семен Иванович — сапожник и работал в Арабыни, в большой сапожной и кожевенной мастерской. Несколько лет назад, во время большого русского восстания, когда весь народ империи поднялся против царя и богатых, в Арабыни тоже стали подниматься бедные люди, и Семен Иванович был их вожаком. Батыжевы и Дудовы хотели его убить. («Это было тогда, когда убили отца!» — подумал Науруз.) Но Семен Иванович убежал на железную дорогу (железную! дорогу!) и поступил в мастерскую, в которой производится починка паровозов. От муллы Науруз знал и о железной дороге и о паровозе. Железный, дышит огнем и ревет, быстро бежит и катит за собой целый поставленный на колеса аул... Арабыньский сапожник Семен Иванович чинил эти огнем и паром пышущие чудовища, что мог бы делать только человек богатырской силы. Семен Иванович таким не казался, — он, пожалуй, был даже слабосилен. ..
Черкес рассказывал, что, тайком вернувшись в Ара-бынь, Семен Иванович попал на глаза одному из князей Дудовых. Дудовы избили сапожника и хотели повесить его посреди площади на качелях. Но Семен Иванович ночью сказал какие-то слова — тайные слова! — казакам, которые охраняли тюрьму, и казаки его выпустили.
В то время как черкес рассказывал все это, сам Семен Иванович спокойно ел айран и с любопытством разглядывал беседующих горцев. Черкес говорил то сидя, то вскакивая, — его все время корчило, как бересту на огне. Дед Магмот, время от времени трогая свои пушистые усы, неподвижно слушал быстрый рассказ. Науруз несколько раз встретился взглядом с небольшими глазами Семена Ивановича, которые казались то синими, то черными. В этих глазах было веселое любопытство, как будто не о нем шла речь, не его избили Дудовы и не он должен был висеть на больших качелях посреди ярмарочной площади.. Можно было поверить, что человек этот знает тайные слова, благодаря которым ушел- из темницы, и что он может ворочать паровозами.
Выслушав рассказ черкеса, дед сказал ему:
84
— Ты знаешь, Авжуко, что пращур мой, солдат Данила, бежал сюда от угнетения, и Веселоречье усыновило его. Как же могу я отказать в. помощи русскому человеку, несправедливо гонимому? — И, выслушав молча благодарность Авжуко, дед продолжал: — Я доведу нашего гостя до сванов, у меня там друг есть — он его хоть до самого Курджи1 доставит. А когда мы до первого сванского дома дойдем, дальше все хорошо будет: сваны гостя никогда не обидят. Но боюсь я сванского рубежа, где мы можем встретить их стражу. Меня они знают, я бывал у них много раз, выручал наш скот. Но вот гостя нашего они пристрелят. И чтоб не было для нас такого горя, ты объясни, Авжуко, нашему гостю, что, как только мы до сванского рубежа дойдем, пусть он (аллах, прости мне), пусть он кладет на себя свой нечестивый крест. — Дед даже отплюнулся и продолжал: — Сваны — народ набожный и свою неправильную веру чтут усердно. Объясни, все это, Авжуко, нашему гостю, потому что, когда мы останемся с ним вдвоем, рассказать ему все это уже никто не сможет.
Науруз вскоре лег спать и притворился заснувшим. Он слышал, как Авжуко спросил деда:
— Это что — внук твой? Что-то не похож он на вашу породу.
— Он не наш, — ответил дед. И, помолчав, добавил: — Он сын Керима.
— Какого Керима?—быстро спросил Авжуко. Дед не ответил. — Черкеса Керима? Шагида Керима?
Науруз не видел, но догадался, что дед кивнул головой. Авжуко тихонько взвизгнул, гортанно-жалостно и гневно.
— Нет, не тревожь мальчика, — сказал дед. — Отец был убит у него на глазах, и не надо его пугать сонного. Мы его спасли и укрыли, мы его поднимем, и когда он возрастет, он сам все узнает, сын шагида! Сироту народ сбережет.
— Керим, Керим!' — тихонько восклицал Авжуко. — Я был мальчишка без роду без племени и бес
1 Курджи—у черкесо-адыгейских племен—Тбилиси.
85
стыдно, на забаву пьяным, плясал в духане. Керим увидел меня и признал. «Ты черкес, — сказал сн мне, — сын гордого племени!» Он накормил меня и одел. Он пробудил во мне стыд и гордость, он указал, мне честное ремесло, и вот я стал шерстобит и шапочник.
Авжуко вдруг быстро заговорил по-русски, видимо обернувшись к Семену Ивановичу. Науруз несколько раз слышал, как было названо имя его отца. Семен Иванович что-то тихо ответил, и Авжуко перевел:
— Наш гость говорит: придет скоро время — не овечьи ножницы и не бритвы — сабли и пики будет точить Веселоречье, и тогда вам помогут русские братья...
Науруз еще долго не спал. Не все понимал он в продолжавшейся беседе. Похоже, что дед жаловался на малоземелье, которое было постоянной бедою Даниловых, и русский обещал Даниловым землю, которую он собирался отнять у князей. Дед, видимо, не очень верил в силу Семена Ивановича, а Авжуко верил, и спорил, горячился. Науруз же поверил, если бы даже сказали, что Семен Иванович может снять солнце с неба...
Среди этого разговора Науруз заснул и проснулся в пустом коше, — дед ушел вместе с гостями.
Вернулся он к вечеру и положил перед мальчиком какой-то похожий на коричневую землю кусок.
— Это русский хлеб, — сказал дед, — наш гость послал тебе его в подарок.
Не без опаски подносил Науруз ко рту этот незнакомый хлеб, но едва он откусил, как рот его разом наполнился солоноватой, душистой слюной, — кусок как бы сам собой был съеден, и медвяный, хмельной вкус хлеба всегда напоминал Наурузу о черкесе-шерстобите Авжуко и русском человеке Семене Ивановиче.
Сироту народ сбережет!
Все, во что был одет Науруз, соткали, связали и сшили женщины Старого аула. Даниловы и Верхние Баташевы особенно заботились о сироте. Но не только они. Лишь те, кто зачерствел в богатстве и отбился от
83
народа, не считали обязанностью заботиться о сыне шагида. Всегда он был сыт, одет, обут, точно рос на руках невидимой матери. Круглолицый, скуластый, румяный, он сровнялся с дедом Магмотом и выравнивался в крупного, широкоплечего и смирного парня. Он был хороший работник; на пятнадцатом году его жизни Магмот доверил ему пасти ягнят — дело, которым занимались лишь старики: настолько среди сверстников своих выделялся Науруз настойчивостью, терпением, мужеством — свойствами, без которых не может быть хорошего пастуха.
Во время очередного весеннего перегона скота поднялась снежная буря. Волки, полные голодной ярости и любовного безумия, налетели на отбившуюся от общего потока отару овец. Запыхавшийся пастушонок прибежал известить об этом деда Магмота. Едва Науруз услышал о бедствии, как мгновенно исчез в белизне стремительной и летучей снежной бури. Торопливо зарядив ружье, дед последовал за ним. Из-за слепящего глаза крутящегося снега перед дедом внезапно выступил крутой утес, уходящий вверх и исчезающий в синей, грозной, низко нависшей мгле. Здесь сбилась отчаянно мечущаяся, блеющая отара. Хищники набрасывались на нее, стараясь отделить наиболее испуганных овец; пастухи отбивались посохами. Дед видел у себя под ногами кровавые пятна, которые быстро бледнели, засыпаемые сверху снегом, но ни одной зарезанной овцы не было видно, и дед сразу понял, почему: на его глазах кучка хищников терзала хрипящую собаку, ее пожирали живьем. В эту-то кучу и пальнул дед — из одного, из другого ствола. Раздался визг, вой. Заряжая ружье, дед из-за дыма, медленно рассеивающегося, быстро оглядывал поле битвы. Волки уже бежали. У трепещущих останков собаки крутились, издыхая, два хищника, третий лежал мертвый. Вдруг дед увидел Науруза. Крупный взъерошенный зверь наскакивал на мальчика. Перевернув свой пастушеский посошок и схватившись обеими руками за оконечье, Науруз наотмашь бил зверя гнутой и.тяжелой рукоятью. Удары быстро следовали один за другим, — пасть зверя была окровавлена; овца, уже разорванная, издыхала около,
87
жалобно блея. Лицо Науруза было оскалено, белая войлочная шляпа сбилась набок, он сам рычал, как волк.
Дед прицелился и одной пулей уложил насмерть Наурузова противника. Еще не поняв, что произошло, Науруз продолжал с неистовой силой бить врага, уже бездыханного.
— Погоди: шкуру испортишь, — сказал дед, кладя ему на плечо руку.
Услышав родной и насмешливый голос, Науруз сразу опомнился, вытер пот, усмехнулся. Пастухи собрались вокруг, громко его хваля.
— Да, твердеет парень, — гордо сказал дед.
Не знал он, какие силы трудились над душой Науруза, — ничто не проходило бесследно для него!
Вскоре после этого случая дед позвал Науруза на охоту, и Науруз обратил внимание на то, что дед, кроме своего ружья, повесил себе на плечо еще одно ружье. Когда они отошли подальше в лес, дед, не то морщась, не то усмехаясь, протянул Наурузу второе •ружье. Оно было старинное — все его металлические части (приклад этого ружья был окован) потемнели, только замок блестел, как новый.
— Отца твоего ружье, — сказал дед. — Даже, вернее сказать будет, не отца, а деда. Оно было спрятано для твоего отца, и мне принес его Авжуко.
— Мужество проснулось в тебе, и ты своего оружия не опозоришь. Замок был сломан, но я его починил. Это хорошее ружье: оно годится и для охоты и для боя.
Так вооружился Науруз. По совету деда Магмота, ружьем он не хвастал и никому его не показывал. Отправляясь на охоту, дед брал также на плечо и ружье Науруза, а в лесу, когда они оставались одни, он передавал его мальчику, и тот стрелял диких голубей, взвивающиеся из темносизых камней, окраску которых они переняли. Когда на пастбища пришел скупщик, дед продал ему меха волков, убитых во время весеннего нападения на отару, и потом на своей жесткой и темной ладони показал Наурузу кучку красной меди и нежного белого серебра; среди серебра были два полтинника, на которых искусно был вычеканен курносый русский император.
88
— Это будет твоя доля! — сказал он и пояснил хитро и важно: — Я бумажные деньги никогда не беру, нет у меня к ним веры. — Он копил Наурузовы сбережения.— Скоро мы сошьем тебе настоящую молодецкую одежду, сработаем сапоги, ремень серебром изукрасим, кинжал я тебе подарю, — красавицы песни о тебе запоют. «Не просите, — скажет красавица родичам своим, — большого калыма с молодого Науруза, берите его в наш род: он в работе, и в охоте, и в войне — везде будет первый».
Дед хрипло напевал, щуря глаза и кривя рот, стараясь грубо-морщинистым лицом передать нежно-смущенное девичье лицо.
Науруз, краснея, усмехался. «Есть дочь у Верхних Баташевых, и зовут ее Нафисат...»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Белые и серые домики аула Веселого, то скрываясь за лесом или скалистыми обрывами, то вновь появляясь, тянутся вдоль реки, давшей свое имя этому аулу, и два его минарета — один ближе, другой дальше — обозначают ближний и дальний концы аула.
Когда Алегико Батыжев заключил мир с русскими, в ауле Веселом происходило одно из самых шумных народных собраний, — князья Тамбиевы, враги русских и сторонники султана турецкого, были в то время владетелями этого аула.
Шехиму Керкетову тогда только исполнилось двадцать лет. Голоса на народном собрании он не имел, так как был рабом князей Тамбиевых. Забравшись на дерево, он видел сквозь листву множество голов в черных папахах и белых войлочных шляпах. Возвышаясь над ними, стояли маленький, верткий, седоусый Алегико со своим изуродованным лицом и длинный русский офицер с одним маленьким крестиком на черном мундире.
Алегико Батыжев сообщал, что офицер говорит с Веселоречьем именем русского царя. Он обещает весе-
90
лореченцам вечный мир и порядок, твердый письменный закон и уважение их обычаев, вечное владение пастбищными землями. Этот звонкий, смелый голос старого Алегико люди слушали молча, и только порой то там, то здесь взвизгивали, выкрикивали отдельные голоса: кричали Тамбиевы и их партия — сторонники турецкого султана. День был жаркий, солнце сильно припекало, но люди не расходились, и Шехим продолжал сидеть на своем дереве: чувствовал он, что здесь совершается то, что на много поколений вперед определит жизнь людей в Веселоречье.
После того как в ауле Веселом была истреблена семья Алегико Батыжева и Тамбиевы участвовали в этом деле, события пошли круто. Опасаясь мести Алегико и не желая мириться с властью неверных, Тамбиевы собрались бежать в Турцию. Молодые князья, сверстники Шехима, подбивали его бежать вместе с ними, — разбойники и конокрады, они давно уже взяли Шехима себе в пособники и были им довольны. Шехим был силен, ловок, находчив. Переселению в Турцию русские власти препятствий не чинили, желая избавиться от людей враждебных и беспокойных. Но оповестили через мечети, что земли тех господ, которые уедут в Турцию, будут взяты в русскую казну, а их крепостные и рабы получат свободу.
И Шехим не поехал в Турцию, — самые страшные воспоминания вставали в его памяти, когда называлась эта страна.
В тот день утром вместе с другими детьми Шехим играл в дальнем углу большого княжеского двора. Там, среди обильно разросшихся сорных трав, терновника, лопуха и крапивы, свалены были старые, сломанные арбы и дети играли в путешествия и войны, в похищения и пиршества. А из княжеской кунацкой, приземистого й широкого дома, сложенного из старых, темных бревен, все время слышна была музыка и заздравные вёличания. Тамбиевы принимали посла турецкого султана', знатного гостя, который должен был подбодрить веселореченских князей в их войне против русских. И эта музыка и воинственные крики врывались В игру, сливались с ней и помогали ей.
Й1
Вдруг музыка оборвалась. Кто-то крикнул, и в этом неистовом крике Шехим узнал голос матери, — она звала его, она выкрикнула его имя... Дверь кунацкой распахнулась; крича, призывая его, выбежала оттуда мать, и он кинулся и ней. Какой маленькой казалась она среди этого широкого двора! Пестрое пятно ее разноцветных одежд быстро росло ему навстречу; пыль клубами взлетала под ее красными сафьяновыми сапожками; желтое, обшитое бубенцами покрывало, звеня, летело за ней... Большие мужчины с гиком и хохотом догоняли ее, маленькую. Шехим уже видел лицо матери, темнорумяное и плоское, искаженное ужасом... Искривленный, испуганный рот хрипло выкликал имя сына... Ее догнали. Веревками и полотенцами связали ей руки и ноги, забили рот. Подтащив к порогу кунацкой, ее бросили в пыль, и она валялась, как овца, связанная для бойни. Шехим подбежал к ней и увидел тот исступленный и горестно-нежный взгляд длинно прорезанных черных глаз, который он сберег потом на всю свою жизнь. Она лежала щекой в пыли, и слезы ее, смешиваясь с пылью, превращались в гтрязь и пачкали щеку. Шехима отшвырнули от матери раз, другой, третий, а он все вскакивал и бросался к ней...
Двор заполнялся всадниками, вьючными лошадьми. Из кунацкой, сопровождаемый множеством Тамбие-вых, вышел изукрашенный галунами, позументами и звездами худощавый турок. Его рот под усами, черными и длинными, был полуоткрыт и казался бледен, нос покраснел, длинное лицо имело зеленоватый оттенок — или то был отсвет его зеленой чалмы? Но глаза у него блестящие, быстрые... Одно движение его черных длинных бровей — и.мать стали приторачивать к седлу вьючной лошади, приторачивать так же, как прочую поклажу — ковры, ларцы и вьюки. Турок сам следил за тем, как привязывают рабыню, даже один раз поправил своей вялой белой рукой ее желтые шаль-вары, закатавшиеся и открывшие колено. Шехим с криком: «Нана!» кидался к ней, кричал и кусался. Его снова отшвыривали и наконец таи ударили об землю, что он потерял сознание. Когда он пришел в себя,
аг
только рыжая пыль стояла над аулом. Во дворе было тихо, пусто, и среди свежего конского навоза, оставшегося на дворе, Шехим нашел лишь несколько слабо и нежно позванивающих бубенцов, оборвавшихся с покрывала матери...
Вечером с поля вернулся отец. Держа мотыгу в своей большой руке, он, высокий и костлявый, опустив в землю горячие карие глаза, слушал о том, что произошло. Жену его вызвали в кунацкую и заставили плясать для турка, и таи как она ему понравилась, хозяева ее подарили... Не дослушав рассказа, не взглянув на рыдающего сына, раб поднял мотыгу и пошел к конюшне, где находились только что вернувшиеся после проводов посла Тамбиевы.
Отец шел не торопясь, высоко занеся мотыгу, и никто из находившихся во дворе не остановил его. Он исчез в дверях конюшни, и через мгновение там кто-то вскрикнул. Прогремел выстрел, другой, лошади испуганно заржали, забили копытами. Ругательства, топот, глухие удары... И вот отца вытащили за ноги. Во весь свой громадный рост волочился он по земле. Мотыга, крепко зажатая в его руке, вытянутой и длинной, волочилась за ним, и густой кровавый след оставляла в пыли его расколотая голова... Сюда, на тамбиевский двор, привезен был отец Шехима годовалым ребенком: после разбойничьего набега на нижний черкесский аул он при разделе награбленного попал в долю одного из Тамбиевых. Здесь он вырос, и господа для приплода рабов женили его на молодой кумычке, доставшейся Тамбиевым в счет уплаты калыма. Рабы полюбили друг друга. Они нарожали бы много рабов Тамбиевым, но погибли в один день, оставив одного маленького Ше-хима. И Шехим вырос на этой вытоптанной старой земле тамбиевского двора, впитавшей в себя слезы матери и кровь отца. Война и плен, разбой, насилие и рабство окружало Шехима, это было в прошлом и неотвратимо ждало его в будущем...
.. .Слезы матери, кровь отца снова выступили из земли тамбиевского двора, и Шехим отказался сопровождать своих господ в Турцию. Тамбиевы бежали, и Шехим получил волю.
93
Поговаривали, что не отстал Шехим от разбойничьих дел, которыми смолоду занимался вместе с Там-биевыми, что промышлял он конокрадством, — вернее сказать, помогал абрекам прятать ворованных лошадей. Но не пойман — не вор. Шехим- построился у самой реки, на бросовой земле, окопал и осушил ее, развел плодовый сад и огород, стал сажать невиданные ранее в Веселоречье картошку, капусту, морковь и репу.
Из-за репы все и началось. Давний кунак Шехима, дед Магмот Данилов, отправляясь в Арабынь для расчетов на княжеском дворе, обычно останавливался на ночевку у Керкетовых и завез кунаку в подарок целое решето репы. Шехиму репа необыкновенно понравилась— он до этого не пробовал ее. Сырая — .сладкая, не уступит яблоку, вареная — не хуже пшенной каши. Магмот обещал при случае привезти семян. Ну, а когда настанет случай? Не раньше чем через год. Съездить в Арабынь на базар и поискать семян? До Арабыни сорок верст, путешествие на целый день; надо как следует снарядиться, чтобы, проезжая по нарядным казачьим станицам, не ударить в грязь лицом.
И неизвестно, сколько бы еще прособирался Шехим на Арабыньский базар, если бы семена репы сами не пришли в аул Веселый.
Случилось это в пятницу, погожим осенним днем, после полуденной молитвы, которую Шехим, как всегда, отбыл в мечети. Мулла Шаик произнес по-арабски стих, взятый из суры «Стол»: «а вору, или воровке, •вы отрежьте руки, ‘как бы в отмщение за дело их рук...» — и стал толковать его.
Шехим, становясь на колени и поднимаясь с колея, и, как это предписано религией, оглядываясь через левое и через правое плечо, где должны стоять ангелы, ведущие записи деяний человека, не был доволен проповедью муллы, который назвал абрека Науруза Данилова вором. Прежде всего Шехим, как и большинство крестьян, слушавших проповедь, считал поступок абрека Науруза, угнавшего года три тому назад несколько тысяч голов скота у князей Астемировых,.не воровством, а молодецким делом.
94
То время, когда, до присоединения к России, за воровство, по шариату, рубили руки и ноги, Шехим помнил и хотя был правоверный мусульманин, он в этом вопросе считал русский закон справедливей шариата. Чувствуя, что он не может согласиться с муллой и своими мыслями вносит раздор в дом молитвы, он потихоньку вышел из сумеречной сырости мечети. Солнечный мир, зеленые сады и желтые стены ущелья над ними, белая пыльная дорога и птицы, летающие в синем небе, — все это показалось ему радостным и прекрасным. Около ограды мечети собралась толпа. Женщины, быстро прикрывая лица платками, посторонились, чтобы, благообразный в своем черном бешмете, Шехим мог выйти из ограды.
Оказывается, они собрались вокруг русского продавца с ящиком. Такие продавцы иногда приходили из-за Ворот; в их ящиках можно было найти всякие мелкие полезные изделия — иголки, нитки, колечки, серьги — вое то, что особенно любят женщины и что стоит ‘Недорого. Были у торговца также и яркие карт тинки из священного писания, и Шехим подумал, что этому с кудрявой русой бородкой торговцу не следовало располагаться с таким товаром в самой ограде мечети. Но тут вдруг старчески дальнозоркие глаза Шехима среди мелочи, разложенной на лотке, ухватиди какие-то маленькие разноцветные пакетики. Шехим, щурясь, пригляделся: каждый из пакетиков украшен был разноцветным изображением какой-либо овощи — здесь была и капуста, и морковь, и лук. Но главное — репа, те желанные семена репы, которые так искал Шехим.
То, что в пакетике находятся семена репы, было видно по рисунку, поразившему Шехима тем, что репа была изображена очень верно. Пакетик стоил пять копеек, И Шехим уже отыскал в кармане сначала три, а потом две копейки.
— Нечестивец, не оскверняй рук своих прикосновением к идолу!
Шехим, не оборачиваясь, узнал, что слова эти сказаны муллой Шаиком, — только он обладал таким голосом, скрипуче-резким, точно ввинчивающимся в уши.
95
Что, Шехим молиться, что ли, собирается на изображение репы?! Но достаточно хорошо зная коран, Шехим, будто не расслышав, сунул пакетик за пазуху и, повернувшись, хотел уйти от муллы и от бесплодного спора с ним.
— Стой, нечестивец!
«Вот привязался. Пьявка, сын пьявки!» — подумал Шехим.
— Ты это меня назвал нечестивцем? — громко, с выражением удивления спросил Шехим.
Но вместо ответа мулла, направив палец на продавца, который, почуяв недоброе, торопливо стал укладывать товары в свой поместительный ящик, уже приводил суру корана и, вставляя арабские тексты в ве-селореченскую речь, обличал «мага и проповедника идолопоклонничества». Видно было, что круглолицый, в русой кудрявой бородке, с синими, весело-плутовскими, а сейчас сильно напуганными глазами офеня всерьез казался мулле Шайку проповедником того кощунственного, полуязыческого учения, каким фанатик-мусульманин считал христианство.
Но Шехим, хотя сам твердо исповедовал Ислам, видел в этом торговце обыкновенного русского человека, полезного человека. Мулла же явно хотел, чтобы верующие напали на него и «разметали его идолов» — так выражался мулла. Конечно, не следовало торговцу располагаться около ограды мечети. Но торговля есть торговля: кому нужно ниток, тот купит ниток, кому семян репы, тот купит семян репы. Если же даже кто-либо соблазнится и купит картинки, на которых изображены жертвоприношение Авраама и Моисей, сходящий с Синая, — то сюжеты эти знакомы людям по корану.
А вот если торговца побьют, плохих и разнообразных последствий этого будет множество: приедет из Арабыни пристав Пятницкий, составит протокол, и придется платить взятку; через соседние станицы, Сторожевую и Доблестную, не проедешь — натравят собак, а то даже нападут и изобьют. Наконец после такой истории торговцев в аул уже не заманишь.
Шехим не стал обо всем этом говорить мулле, у которого на губах уже выступила пена, как у одержи
96
мого, но напомнил ему о том, что должно было напомнить собаке о палке, — он поднял руку и многозначительно произнес:
— Пристав!
— Что пристав? — переспросил -мулла, и смущение слышно было в его заносчивом вопросе. — Или ты призываешь мусульман сапоги ему лизать?
— Не знаю, что ты лижешь ему, когда он у тебя на дому шашлык жрет! — ответил рассердившийся Шехим.
И, воспользовавшись замешательством муллы, Шехим, положив одну руку на плечо торговца, а другую на рукоять кинжала, увел перепуганного светлобородого «мага» с ящиком к себе домой. На следующее утро, проводив торговца до границы казачьих земель, Шехим начал раздумывать о том, кто бы мог прочесть то, что написано на пакетике, и решил, что нужно отправиться для этого в Арабынь, к князю Хусейну Дудову, который при начальнике Арабыньского округа состоял на должности толмача.
Родственник Алегико Батыжева, Хусейн Дудов еще в детстве вместе с Искандером Батыжевым отправлен был в Петербург, в кадетский корпус. Окончив учение с золотой медалью, Хусейн мог рассчитывать на вакансию в артиллерийском училище (в корпусе он показал отличные успехи в физике и математических науках). Все княжество Хусейна «умещалось на острие меча», как говорили в Веселоречье о таких обедневших дворянах, и стипендия для него была бы кстати. Но, к удивлению товарищей и негодованию родни, он отказался от этой совершенно очевидно перед ним открывавшейся военной карьеры и пошел в университет.
В течение двух лет все свободное время он отдавал •изучению любимой математики, поддерживая свое существование Грошевыми .уроками. Болезнь глаз, наследственная у Дудовых, прервала эту полуголодную, •но счастливую жизнь. Почти ослепнув, он вернулся в Арабынь. Родственники от него отвернулись, и только князь Искандер Батыжев, друг детства и товарищ по
7 Ю. Либедииский
97
корпусу, спас его от погибели, доставив ему должность толмача по Арабыньскому округу. Должность эта, имевшая до покорения Кавказа важное, почти дипломатическое значение, сейчас сводилась к получению девятнадцати рублей восьми копеек казенного содержания ежемесячно.
С Хусейном с детства обручена была красавица-девушка, дальняя .родственница, такая же бедная, как и он. Когда, ослепший, вернулся он в Арабынь, она не отступилась от него и вышла за него замуж, разбив корыстные расчеты родни, предполагавшей получить богатый калым. Ненависть, которую питали к математику все Дудовы, с этого момента еще более увеличилась. Только Батыжев продолжал поддерживать своего очутившегося в беде товарища и родственника.. Он отдал математику маленький участок земли и домик неподалеку от батыжевского имения.
Зрение — настолько слабое, что Хусейн мог видеть туманные очертания предметов, лишь когда надевал две пары очков, — вернулось к нему несколько лет спустя. Семья его разрослась, пошли дети, он стал прирабатывать уроками сначала в горских, княжеских и купеческих, семьях, а потом даже в русских, чиновничьих и офицерских.
Математики он не оставил. Кроме тех книг, которые он привез с собой в свой первый приезд, он выписывал новые. В почтовой конторе были любознательные люди, но книги Хусейна Дудова их разочаровали: ни одного стоящего слова, все сплошь чернокнижная математика.
— Итак, вопреки такому грозному предостережению, как слепота, безумец не унимается! — говорил о •нем муфтий Бекмурза Касеев, который давно уже косился на математика, первого мусульманина, не ходившего в мечеть.
— Мой бог в душе у меня! — ответил Хусейн Дудов другу своему Батыжеву, когда у них возник спор о том, •надо ли посещать мечеть.
Батыжев, поразмыслив об этих словах, сообщил о них муфтию, и духовный глава мусульман Арабыни •всенародно обличил математика, наименовав его рассуждения эллинскими и эпикурейскими. Что это зна
98
чило, народ не знал, но на домик, окошки которого в темной арабыньской ночи светились красноватым керосиновым огнем, поглядывали не без интереса и со страхом.
Сообщив мулле о вольномыслии друга, Батыжев более всего способствовал тому, что наиболее набожные отплевывались и произносили заклинания от злого духа, когда математик, высоко задрав свою маленькую голову и гремя-палкой по мосткам, проходил по тихой арабыньской улице. Впрочем, жил он замкнуто и неприступно, как черепаха, в любой момент готовая уйти в свой костяной домик.
В газете «Кавказское эхо», издававшейся в губернском городе, время от времени стали появляться статьи, в которых пересказывались народные сказания о богатырях-нартах, изложенные монотонным и трудным слогом. Подписаны они были: «X. Д — в...»
— Опять ты, Хусейн, рассказываешь в газете бабушкины сказки? — спрашивал князь Искандер Батыжев и недоуменно качал круглой бритой головой. — Может, тебе денег надо, так скажи, я тебе дам, но только не пиши...
На бледном лице Хусейна под очками появлялась слабая усмешка, почти тень усмешки. Он ничего не отвечал, но продолжал печатать свои статьи.
— Язычество проповедует! — негодовал муфтий.
Почтенный Бекмурза не спускал ничего первому арабыньскому вольнодумцу. Хусейну приходилось высоко задирать голову единственно потому, что иначе глядеть сквозь две пары своих очков, сидевших на большом бледном носу, он не мог. Но муфтий, показывая на него, восклицал:
— Смотрите, в какой дьявольской гордыне ходит этот отступник по нашей земле!
Пристав Пятницкий, неограниченный владыка Ара-быньского округа, был частым гостем Искандера Баты-жева. Но когда однажды, после прихода пристава, хозяин не вышел из своих покоев на дощатую галерею и не крикнул зычно, чтобы готовили угощение, жена Искандера, госпожа Ханифа, почувствовала, что происходит нечто необычное, и стала прислушиваться.
99
7»
Из-за закрытой двери не было слышно обычного хохота друзей (Осип Иванович умел мастерски рассказывать всякие похабства). Некоторое -время в покоях князя шел какой-то тихий разговор, потом старый князь вышел, — он был необычно серьезен. Понизив голос, велел он послать за математиком. Тот вскоре явился. Заинтересованная всем этим, Ханифа поднялась на галерею и стала подслушивать. Она услышала, как за дверью вдруг гневно зарокотал голос мужа. Не слышно было-, что ответил математик, но муж снова возвысил голос, и тогда Хусейн Дудов вдруг крикнул пронзительно, резко и тоже гневно.
Дверь распахнулась. Ханифа успела отскочить. На мгновение в сумраке комнаты увидела она, что муж ее стоит, стиснув кулаки у груди, расставив ноги: вся его невысокая и крепкая фигура выражала крайнюю степень негодования... Пристав большой грудой, неловко, как это иногда получается у русских, когда они хотят сесть по-восточному, расположился на низком, узеньком диване, который тянулся вдоль стен всей комнаты. Не замечая Ханифы, математик вышел и захлопнул за собой дверь.
— Нет! Нет! Нет! — говорил он, тыча перед собой палкой.
Очки тряслись на его носу, он ничего не видел, и если бы ему не помогли спуститься, он рухнул бы с крутой лестницы.
Ночью князь Искандер рассказал все Ханифе. И она, никогда не жаловавшая математика, обрадовалась, а через день вся Арабынь знала о том, что чернокнижник Дудов сочинил азбуку для весело речен-с к о г о языка, переиначив для этого русскую азбуку, и послал свое сочинение в министерство народного просвещения. Но царь, очевидно, доверил дело просвещения народа разумным людям, и пристав получил секретное распоряжение установить* наблюдение за вольнодумцем дворянином Дудовым и проследить, чтобы бессмысленная (так и было написано) его затея не получила распространения в неподготовленных умах. Зная, что князь Искандер дружит с этим (черт бы его побрал!) сумасшедшим Дудовым, пристав сообщил ему
100
о бумаге. Вызвав математика, они хотели от него безделицы — чтобы Дудов написал письмо в министерство и признался, что эту азбуку придумал он в безумии.
— Нет, дьявол крепко оседлал нечестивого, — говорил муфтий.
Батыжев и Дудов вскоре примирились и продолжали дружить. При в-сех своих чудачествах ученый Дудов принадлежал к батыжевскому кругу и был убежденным сторонником русского завоевания. Искандер Батыжев благосклонно выслушивал рассуждения Хусейна Дудова о том, что «историческая миссия России — вытянуть Кавказ из Азии в Европу», и Дудов не спорил, когда Батыжев восхвалял «порядок и строгость», принесенные на Кавказ доблестной русской армией.
Слава же о- полуслепом Хусейне Дудове, исчисли-теле и безбожнике, знатоке русской грамоты и добром человеке, который может дать хороший совет во всем, что касается русского порядка и закона, шла -по аулам. Вот почему Шехим, захватив пакетик с семенами репы, поехал к Хусейну.
Конечно, надпись на пакетике была прочитана, и с тех пор Шехим стал сажать репу у себя в огороде. Но не только это последствие имел приезд Шехима к Хусейну Дудову. Поразмыслив дома и посоветовавшись со своей подушкой (по этому вопросу советоваться ему больше было не с кем), Шехим забрал своего второго сына, умненького и способного к ученью Талиба, связал двух баранов и, положив их на арбу, снова поехал в Арабынь.
Хусейн Дудов был взволнован и обрадован, когда Шехим поставил перед ним тоненького и гибкого мальчика, который смело и доверчиво смотрел на Дудова блестяще-черными глазами, — это был тот первый росток нового урожая, которого он с такой уверенностью ждал.
Бараны были пущены в овчарню Дудовых и присоединены к маленькому их хозяйству, а в тесном чуланчике возле кабинета князя поставили тахту и застлали ее войлоком, привезенным Шехимом, — здесь и поселился Талиб.
101
Кроме учения, Талиб принял на себя ряд обязанностей по дому — нарубить дров, запрячь старую смирную кобылу и съездить за водой, зарезать и освежевать барана. Как же Талиб мог не заниматься подобными делами: неужели предоставить эту требовавшую силы и сноровки работу полуслепому учителю или его не привыкшей с детства к тяжелой работе жене? Старшая дочь их Мариам ходила в 'прогимназию. Добрая и ласковая, но некрасивая барышня, она краснела и опускала глаза при виде Талиба, который был младше ее на два года и выше на две головы. Сынок Хусейна Асад был еще мал, в школу не ходил, — Хусейн с ним занимался дома. В семье Дудовых все — и большие и маленькие — носили очки, все имели склонность к -математике, и за столом, вправду как у чернокнижников, шли разговоры одними буквами и числами — ничего не понятно! Но в этом доме любили музыку. Мариам, как это водится у веселореченских девушек, играла на пшине — гармошке, и хотя она стеснялась и не водила танца под звуки гармошки, но пела тихо и так таинственно-нежно, что всё забудешь, заслушаешься. Порою мать откуда-то с огорода, возясь с грядками, вторила ей густо, красиво, и даже старик своим резковатым, на блеяние барана похожим голосом вдруг присоединялся, добавлял свое и точно дорисовывал мотив песни.
Однажды — это было уже на третью зиму жизни Талиба у Дудовых — Мариам пошла в городское училище на новогодний вечер. Талиба она взяла с собой, теперь они уже не дичились друг друга, он называл ее «сестрица Мариам», а она его — «братец Талиб».
Окончив прогимназию, Мариам сдала экзамены на народную учительницу и преподавала в приготовительных классах арабыньской начальной школы. Она готовилась сдать экзамен на аттестат зрелости и уехать в Москву учиться. Преподаватели городского училища помогали ей в -подготовке к экзаменам. В училище ее знали и любили, и она здесь чувствовала себя как дома. Но когда к ней подошел в домашнем суконном бешмете совсем еще молоденький, однако державшийся
102
очень солидно молодой сын муфтия Бекмурзы Касеева Джафар, девушка смутилась.
Джафар в детстве тоже учился у Хусейна Дудова. Потом он кончил медрессе в Казани и отправился в поездку по Востоку. Был и в Мекке, и в Стамбуле, и в Иерусалиме. Смуглый, он в путешествии еще больше потемнел от загара. Джафар любил пошутить. И Мариам тоже стала вместе с ним смеяться. Только Талиб смотрел волком, хотя Джафар отнесся к нему дружелюбно. Но Талиб знал, что перед ним сын муфтия Бекмурзы, главного врага и гонителя Хусейна Дудова.
А между тем программа вечера развертывалась, с успехом выступал ученический хор, мальчики декламировали стихи.
На кафедру, заменявшую сцену, вышел сутулый чернобровый мальчик; лицо его было бледно, уши пламенели, в руках скрипка. Талиб затруднился бы объяснить действие, которое оказала на него эта музыка, сплетение плясок и песен — свадебных и колыбельных. Его в детстве лечили от лихорадки, певуче наговаривали над ним, что вызывало такое же сладостнодремотное чувство. Талиб даже не сразу очнулся, когда мальчик перестал водить смычком по струнам скрипки. Но то, что испытывал Талиб, очевидно, испытывали все, кто сидел в зале.
— Как чудно хорошо, — говорила Мариам тихо. — Ведь душу народную открывает. Откуда русский мальчик знает все это?
Она вдруг захлопала в ладоши, вскочила; вслед за ней захлопали все.
— Как фамилия мальчика?—спросил Талиб.
— Отроков! Гриша Отроков! — аплодируя, ответила Мариам и показала разрисованную от руки афишку.
Мальчик сыграл еще.
По окончании отделения Мариам, сопровождаемая Джафаром и Талибом, подошла к музыканту. Он стоял возле своего отца, здешнего ветеринара. Молодые учителя и учительницы городского училища, русская молодежь окружали мальчика. Шел русский спор — гот ворили несколько человек сразу, —- и Мариам тут же
103
вмешалась, сначала застенчиво, потом все с большей страстностью. Ей -возражал хиленький, в пенсне, тонконогий учитель.
Талиб -был согласен с Мариам, он ждал, что Джафар вступится и поддержит ее. Но вдруг неожиданно для Талиба Джафар высказался против Мариам.
— Истинная музыка не имеет национальности! То, что переживает наш маэстро, — это еще детство. Когда он научится мыслить звуками, его гармония сбросит с себя покровы восточной жанровой песни, — говорил Джафар, и видно- -было, что он сам доволен своими словами.
Гриша, как будто бы сам пораженный тем, что он только что -сыграл на скрипке, -слушал и не -слушал. Этот спор бесконечно далеко ушел от его жизни, продолжением которой было это сотканное из звуков, мгновенно "рассеивающееся и по его желанию вновь возникающее произведение, которое он только что сыграл.
Когда лет десять тому назад Вениамин Сергеевич Отроков прибыл в Арабынь заведовать ветеринарным пунктом, местное русское «общество», считавшее в своем составе несколько чиновничьих и интеллигентских семей, встретило его радушно. Наружность у молодого ветеринара была приятная: подвижной, быстрый, на лице выражение веселой мечтательности, большие голубые глаза и рыжеватые тонкие, разлетающиеся при ходьбе волосы (он часто ходил без шляпы), рыжеватая бородка.
Казаки и богатые горцы нахвалиться им не могли. Арабыньский округ, коневодческий и скотоводческий, лучшего ветеринара не мог себе пожелать.
Отроков приехал в Арабынь без жены, но с маленьким ребенком. Говорили, что он только овдовел. Заведующий ветеринарным пунктом, молодой вдовец да и тому же такой приятный — это была неплохая партия. Но год прошел, и стали говорить, что молодая няня-латышка Тереза, приехавшая вместе с ветеринаром, ходит с брюхом. К этому добавлялось, что ветеринар совсем не вдов, а просто распутен, и то ли жена бро
ни
сила его, то ли он бросил ее. Сплетни по адресу ветеринара достигли такой силы, что сам протоиерей почел нужным сделать Отрокову отеческое внушение, тем более что няня уже разрешилась, новорожденную предстояло крестить. Арабыни известен был лишь результат разговора: протоиерей из квартиры Отрокова ушел чрезвычайно быстрым шагом, дитя же было- отвезено в город Краснорецк и в кирке наречено по лютеранскому обряду.
Вскоре после этого Отрокова уволили. Конечно, протоиерей с помощью пристава сумел бы выкурить из Арабыни беспокойного ветеринара, но к этому времени .Отроков совершил подвиг: приостановил эпизоотию в батыжевских табунах, чем и посрамил официального скотского лекаря, которого Искандер Батыжев после этого называл не иначе как свинячьей финтифлюшкой.
Не посчитаться с желанием крупнейшего коннозаводчика пристав не -мог, и Отроков не только остался на арабыньской земле, но, как бы пренебрегая мнением образованного общества, продолжал цвести и размножаться: за старшей девочкой Ингой появилась Роззи, потом Сусси...
Разные разности говорили о том, как живет дома ветеринар. Будто- комната его загромождена камнями, будто в углу столовой стоит человеческий скелет. Но, заглядывая через тын, арабыньцы с удивлением видели, как заботливо и тщательно- обработан этот обычный большой двор. Желтая дорожка пересекла его от ворот в глубину; возле ослепительно белых стен домика разбиты веселые и аккуратные цветники; сбоку протянулись грядки огорода, — ребятишки в свежих г-1 таких же ярких, как цветы, рубашечках и белых войлочных шляпах (на каждой шляпе ярко вышит или петух, или заяц, или котенок) возятся между гряд. Дальняя часть двора, как это часто- бывает на арабыньских усадьбах, превращена в фруктовый садик, который, однако, не по-арабыньски -опрятен.
Однако после того как Гриша Отроков обнаружил склонность к музыке и -со двора Отроковых стали постоянно слышаться ясные звуки скрипичных упражне-
105
•ний, именно эта всячески лелеемая и поощряемая склонность мальчика, развившись, заставила Вениамина Сергеевича ощутимо почувствовать тесные рамки своего благополучия. Конечно, пользуясь частыми разъездами, он мог сколько угодно заниматься изучением края, мог даже корреспондировать Академии наук о своих интересных находках и получать сухие уведомления о получении этих корреспонденций. Он мог фантазировать о будущем Арабыньского края через сто, может через двести лет...
Но вот единственный преподаватель музыки и пения в Арабыни говорит: «Мне у него учиться надо». Талант, унаследованный мальчиком от матери, начал проявлять себя с чудесной силой. Мальчик уже сочиняет сам, — надо продолжать музыкальное образование.
И тут вдруг Отроков впервые в жизни почувствовал, что отсутствие всяких денежных сбережений, чем он с юности привык гордиться, не дает возможности помочь сыну в том, в чем он хотел и должен был ему помочь.
Надо разбогатеть... Но как?
В эту пору порожденных сознанием бедности лихорадочных мечтаний о богатстве в батыжевских отарах начался падеж овец, и князь Искандер обратился к Вениамину Сергеевичу с просьбой принять меры. Судя по рассказам очевидцев, это была овечья чума, ранее в этой местности не появлявшаяся. Отроков, прихватив все необходимое для изготовления вакцины и погрузив оборудование на смирного ослика, который едва ли не десять лет правдой и верой служил в хозяйстве Отроковых, в сопровождении Гриши и ближайшего Гришиного друга Асада Дудова (он мог оказать помощь при переводе), на батыжевских конях, двинулся в горы.
В ауле Веселом, откуда начиналась одна из наиболее удобных дорог на пастбища, к ним присоединился неожиданный попутчик — сектант Лаптев, богатый человек, имевший на север от Арабыни, в степях, большое скотоводческое хозяйство. В рыжей, округло подстриженной бороде Лаптева появилась уже седина, синие глаза поблескивали озорно и хитро. Одет он был
106
•не по времени тепло (впрочем, вверху всегда можно было ждать изменения -погоды), в ватной, крытой синим сукном шубке. Ему было жарко, воротник расстегнут, и из под него виднелся ворот красной шелковой рубашки.
Вениамину Сергеевичу пришлось как-то побывать в «лаптевском братстве» по ветеринарным делам. Лаптев не прочь был бы проповедовать общность имущества, но, будучи от природы изрядно прижимистым, с Строковым расплатился не деньгами, натурой — связкой грязной овечьей шерсти. При этом он ссылался на то, что деньги есть семя греха.
Лаптев на пастбища ехал на осле и сначала помалкивал. Направлялся он туда же, куда Отроков, но зачем — неизвестно. Сопровождал его молчаливый и бледный Кемал Баташев, по прозвищу «солдат», хотя, он в армии не служил, а сопровождал Искандера Ба-тыжева, когда тот поехал в Петербург. Потом Лаптев разговорился. Оказывается, в молодости его сослали на Кавказ за то, что он проповедовал людям евангельское учение. Рассказал он и о том, как на Кавказе со своими единомышленниками арендовал земли и основал общину.
Слова о праведной жизни, о Христе и его учении не сходили с языка Лаптева, с благоговением поминал он •и Льва Николаевича Толстого, недавно умершего. Но о цели своей поездки на батыжевские пастбища не говорил. Порою, забывшись, он вдруг заправлял в рот свою округлую бороду и делался похожим на ловкого хищника-хорька, поймавшего зазевавшуюся зверушку. Весело-добродушные стариковские морщинки на его лице становились вдруг неподвижны, словно мертвели, превращаясь в маску, — казалось, вот-вот он сбросит ее, как змея сбрасывает кожу, и из-под нее покажется другое, молодое лицо, с яркосиними глазами, озорными и недобрыми.
Так думалось Грише,— он все больше молчал, и ему не хотелось слушать, о чем говорит отец с Лаптевым и над чем весело хохочет Асад. Они поднимались все выше, горы раздвигались все шире— оказывалось, что под сеныо белых неподвижных вершин, вид
107
ных из Арабыни, живет целое племя гор, крутых и пологих, лесистых и плешивых, скалистых и травянистоотлогих. По одной из таких гор, по ее отлого-травянистому склону и вилась их тропа.
Только к вечеру добрались они до коша деда Магмота, старшего батыжевского пастуха. Собаки яростно облаяли их, и из серо-румяного дыма, поднимавшегося от костра, вышел рослый мальчик в мохнатой шапке. Добрая сила его румяного, округлого лица сразу поразила Гришу. Это был Науруз.
Предположения Отрокова оправдались — овцы болели чумой. Дед Магмот сам лечил их как мог: немного выше пастбищ уже почти под ледником находились Туриные бани, горячие серные источники. Их целебную силу не раз уже проверял Магмот и на овцах и на себе — от парши, от прыщей, при тяжкой ране, при слабости костей отлично помогали эти ванны! А вот при чуме они не помогали — количество павших овец уже насчитывалось сотнями. Тут-то и открылась цель приезда Лаптева. Оказалось, Лаптев является казначеем доблестновского кредитного товарищества. От имени товарищества он за бесценок скупил у князя Батыжева шкуры павших животных для кожевенной мастерской товарищества в станице Доблестной. Деньги князю Лаптев уже уплатил, теперь с помощью молчаливого Кемала оставалось нанять людей и ободрать шкуры.
Но тут в лице ветеринара Отрокова возникло неожиданное препятствие для всего этого выгодного дела. Отроков объявил туши животных заразными и потребовал их уничтожения. И тут уж как ни надрывался и чего ни сулил Лаптев, Отрокова ничем нельзя было взять. Гриша с гордостью видел, что его добродушный отец может быть суров и даже груб, когда Лаптев намекнул ему про «благодарность».
Между тем с помощью деда Магмота и рослого, смирного парня Науруза была разбита палатка и в ней приготовлена сыворотка из крови овец, которых обошла зараза, т. е. овец, обладавших высоким иммунитетом. Грише и ранее приходилось видеть отца поглощенным своей деятельностью, но сейчас он понял,
108
почему его так уважают все пастухи. Не только умного и любящего деда Магмота и других пастухов, но даже чванливого неподвижного Кемала Отроков сумел заставить участвовать в 'Прививках.
К зеленой палатке Отрокова отовсюду сгоняли жалобно и тревожно блеющих овец, и Лаптев, остававшийся все это время недоброжелательным, но внимательным свидетелем этого дела, только головой покачивал. ..
Гриша привез с собой скрипку. Слушая, как поет она в тихий вечерний час, когда овцы, позвякивая бубенчиками, отходят ко сну, замолкли пастухи и даже затих беспокойный, живой Асад. Пастухи были рады приезду к ним скотского лекаря. Они советовались с ним, а он охотно помогал им и советом и делом.
Покончив с прививками, Отроков, однако, не вернулся в Арабынь, как, видимо, с нетерпением ожидал этого Лаптев, который был уверен, что после отъезда ветеринара он с пастухами сговорится. В первый же свободный день Отроков встал рано утром и ушел в горы, к Туриным баням.
Незадолго до своей поездки на пастбища Отроков прочел в одном из журналов о том, что в числе ископаемых, которые ввозятся в Россию из-за границы, есть и сера. Туриные бани —горячие серные источники и ямы с теплой сернистой водой, куда с незапамятных времен пастухи пригоняли своих овец, чтобы лечить их и лечиться самим, — навели Отрокова на мысль о том, что месторождения серы должны находиться где-то поблизости от этих источников. Найти их означало разбогатеть.
В розыске месторождений Отрокову большую помощь оказал дед Магмот: он привел ветеринара на залежи, как он выражался, «горючей земли»: Здесь, на несколько сот метров ниже Туриных бань, стена глухого, труднопроходимого ущелья целиком состояла из глинистого сланца с большим содержанием серы.
Когда тигель, который Отроков, собираясь на пастбища, прихватил с собой, был наполнен породой, нагрет до необходимой высокой температуры и потом охлажден, Вениамин Сергеевич, обнаружив на стенках
109
и на дне его дымчатые прозрачно-бурые -призмы кристаллической серы, так взволновался, что даже покачнулся, и Науруз, помогавший ему, испуганно подхватил его под руку.
Сера! Русская самородная сера! Он, конечно, знал, что залежи серы открыты во многих местностях Российской империи — и в Казанской губернии, и в Польше, и на Урале, и в Тифлисской губернии. Казалось бы, что если залежи серы находятся в стольких многих местностях России, ввозить ее нет необходимости, и то, что ее все же ввозят из-за границы, должно было заставить Отрокова задуматься. Но Вениамин Сергеевич был уверен, что проблема состоит только в том, чтобы отыскать самое месторождение серы, дальнейшее ему рисовалось в красках самых радужных.
— Месторождение это настолько открытое, что самая добыча руды, содержащей серу, трудности не представляет. А вот транспортировка руды — это проблема, — говорил он вечером возле костра, обращаясь к мальчикам, которые с аппетитом ели изготовленное Наурузом варево из пшенной каши, приправленное дикими травами.
Лаптев сидел поодаль, и по лицу его было видно, что рассказом Отрокова он заинтересован.
— Значит, самый завод-то вы собираетесь внизу строить? — спросил Лаптев.
— Обязательно! В ауле Веселом!.— ткнул Отроков ложкой куда-то вниз. — Там рабочая сила.
— А руду-то — что, на ослах вниз возить будете? — •насмешливо спросил Лаптев.
— Зачем на ослах? — невозмутимо ответил Отроков. — Построим цепную дорогу, на железных столбах. Устройство у меня уже обдумано. Представляете, ребята, как поползут вагонетки, вниз — нагруженные рудой, а вверх — пустые, над ущельями, скалами, пастбищами. ..
— Чудесно! — сказал Асад.
Он даже есть перестал и с восторгом глядел на Вениамина Сергеевича, который ложкой прочерчивал прямую —сверху, от .порозовевших в вечернем свете вершин, вниз, в темносиние долины. Гриша со слабой
ПО
улыбкой глядел на отца. В этой улыбке, в этом взгляде были и сочувствие, и жалость, и, пожалуй, насмешка.
Даже Лаптева, видно, захватил этот грандиозный проект, и он несколько секунд, словно заговоренный, следил за медленным движением ложки в руках Отрокова. Но потом вдруг, хлопнув себя по коленкам, он визгливо захохотал.
— Вот демон-искуситель! Знаешь, как он господа нашего Иисуса на гору возвел и показал ему весь мир: поклонись мне — и все твое будет! А что ж, — с вызовом сказал он Отрокову, — я бы поклонился в лице твоем чудодейственной науке! Только чего же я кланяться буду, если все твои речи суть суемыслие и бесовское наваждение, сонные грезы.
— Почему же грезы? — с усмешкой спросил Отроков, с аппетитом принявшись за еду. — Все это основано на данных науки.
— А капитал где возьмете?
— Капитал — чепуха, — невозмутимо ответил ветеринар. —• Князь Искандер Алегикович, конечно, поймет выгоду этого дела, так как месторождение находится на его землях (в этом Отроков ошибался, месторождение целиком находилось на общинных землях) — и он даст средства на это дело.
Лаптев прищурился, схватил бороду зубами, покачал головой, — он лучше Отрокова знал денежные дела князя Батыжева. Но спорить не стал и только, разведя руками, сказал:
— Вот и видно, что вы, сбираясь ворочать столь большими деньгами, топите нас, серых, необразованных, зарабатывающих гроши на обдирании падали...
— Об этом, господин Лаптев, мы разговор возобновлять не будем, — строго сказал ветеринар.
— Да уж чего там!
В победительном настроении возвращался Отроков в Арабынь. Однако сразу же по приезде жизнь поднесла ему сюрприз, поистине неожиданный: князь Искандер Батыжев, на средства которого он уповал, за •время поездки Отрокова помер в одночасье.
- Кондр-р-р-ашка стукнула! —со смаком говорили в Арабыни.
111
Глава вторая
При жизни князя Искандера Ханифа была капризной госпожой. Каждый день на нее находили причуды, которые старый князь исполнял сначала из любви, а потом по привычке. После похорон мужа она, распустив черные, еще густые волосы, сидела у потухшего очага в своей большой, низкой и полутемной комнате. Был декабрь, выпал снег. Снежинки падали в пепел очага, в комнате было очень холодно*. Темнокоричневое лицо Ханифы неподвижно, большой нос покраснел, губы, сохранившие своенравный и грубый и привлекательный склад, почернели. Любимая невестка ее, жена Темиркана, Дуньят, плакала, просила откушать, обнимала ее и испуганно чувствовала, что старуха неподвижна, как камень. Даже о внуках она спрашивать перестала. Лейлю, старую прислужницу Ханифы, особенно тревожило состояние госпожи. Для Лейли смерть старого князя была не менее горестна, чем для госпожи Ханифы: когда Ханифа бывала беременна, Лейля заменяла ее на постели князя; заводить гарем открыто, по закону Магомета князь Искандер не хотел, — молодость прожил он в Петербурге и усвоил обычаи русского дворянства — только одну женщину объявлять женой. Но женщины жили по-старому: и госпожа Ханифа и прислужница Лейля — каждая знала свое положение в доме. Всю жизнь прожили они душа в душу, нарожали детей. Дети Ханифы были офицерами, дети Лейли получили хорошие наделы и работали на земле. Лейля состарилась вместе с госпожой, и они горевали вместе.
Ханифа всю жизнь была лакомкой, но сейчас она не обращала внимания на мучнистые и клейкие горские сладости, приготовленные Лейлёй, на вскрытые кинжалом коробки килек и шпрот, до которых Ханифа всегда была охотницей. Лейля очень тревожилась: госпожа шла к гибели. Почти не двигаясь, двое суток просидела она у очага, сидя засыпала и вдруг, вздрогнув, поднимала глаза, осматривалась, опять начинала глядеть в очаг, и старела и умирала на глазах у Лейли. Тогда Лейля взялась рассказывать новости. Госпожа
112
попрежнему сидела неподвижно, но Лейля была уверена: как бы ни было велико горе женщины, новость она выслушает. Когда новости истощались, Лейля заменяла их чудовищными выдумками и врала, пока ей на язык опять не попадала правда. Так трещала она в холодных сумерках зимнего дня, в большой и пустынной комнате с низким потолком и тусклыми окнами, у темного очага. Большая, грузная Ханифа сидела на низенькой скамье; Лейля, опустившись перед княгиней на корточки, снизу вверх заглядывала ей в лицо. Порой, когда по ходу повествования надо было телодвижением показать то, что не передается словами, Лейля вскакивала. Замолкала она только затем, чтобы коротко передохнуть и облизать губы, быстро сохнувшие в горячке болтовни.
Так-то она и добралась до последней новости: Мансуров Лукман, их сосед, разбогатевший на торговле скотом, берет в свое-дело трех своих зятьев. Событие это будет ознаменовано большим пиром. Дальновидный Лукман начал три года назад откармливать вола, для которого был выстроен такой хлев, что в нем впору людям жить: деревянный пол и маленькие окошечки, зимой там горит очаг. Кормят вола пшеничными отрубями, и вол стал такой толстый, что обратно в дверь своего хлева выйти не может. Да в этом нет нужды: в хлеву его и заколют.
На этом месте повествования госпожа Ханифа вдруг громко, со стоном вздохнула и зарыдала. Лейля, испуганная и обрадованная, кинулась к ней, обняла ее. Ханифа плакала в голос, как плачут дети. Она вдруг позволила уложить себя, расчесать себе волосы.
— Ласточка, яблонька цветущая,—с оттенком недоумения причитала Лейля.
Она не понимала, что могло расстроить госпожу Ханифу. Наверное, не смертная кончина, предстоящая волу. Излишнее мягкосердечие отнюдь не было свойственно госпоже Ханифе.
— Если бы жив был наш хозяин, я попросила бы добыть того вола, и мы вкусили бы его сладкого мяса.
— Госпожа, завтра же вол этот будет наш.
8 10. Либединский
113
— Нет, — сказала Ханифа, мрачно качая головой. Кто накормит вдову? — И она опять заплакала.
— Да он нам за деньги продаст!
В яркозеленом бешмете, сияя всем своим широким красным лицом, Лукман сам встретил принарядившуюся Лейлю; низко кланяясь, спросил, чем может служить высокородному соседу. Но едва Лейля предложила. за хорошие деньги или на обмен передать вола Батыжевым, Лукман, нахмурив лысые брови, спесиво выдвинул вперед большое брюхо.
— Я человек простого рождения и для высокородных соседей, конечно, готов глаза, лишиться. Но Аллах за трудную жизнь приготовил мне почтенную старость. ..
Лейля вернулась тихая. Она осторожно заглянула в комнату госпожи, сразу встретилась с ее взглядом — и узнала этот взгляд, настойчивый и своенравный: была ли Ханифа беременна или нет, она всю жизнь блат жила, как беременная. И Лейля поняла, что Ханифа не успокоится, пока не отведает мяса Лукманова вола.
Пересыпая свой рассказ искусными проклятиями (ему, с виду безобразному, без урожая остаться, и чтоб под порогом у него лягушки квакали и дети побирушками ходили, и пусть овцы его котятся ягнятами без глаз и копыт), Лейля рассказала о переговорах с гуртовщиком. Ханифа с каким-то горестным удовлетворением кивнула, головой. Она позволила затопить очаг и прибрать комнату. Сгорбившаяся, сразу постаревшая на двадцать лет, прошла она по всему дому Батыжевых’, даже спустилась в кладовые и амбар. Казалось, горе уже схлынуло, но Лейля, все время неотступно следовавшая за ней, знала, о чем непрестанно думает госпожа, и не удивилась, когда на утро следующего дня Ханифа вдруг возмущенно спросила:
— Что же, муж и сын »мой — первые. из князей, своей верной службой царю известны. Я дочь Дудовых, а они, как это знает весь мир, происходят от небесного грома. И какой-то холоп, деды которого ходили под ярмом и пахали поля наших дедов, когда я милостиво даю ему деньги, отказывается их брать? Что ты ду-; маешь об этом, Лейля?
114
Лейля только завела одно из прихотливейших проклятий, которое на этот раз было направлено на худородных предков гуртовщика, как госпожа прервала ее:
— Лейля, я хочу просить защиты от этого дерзкого Лукмана у братьев моих. Собери их всех, какие только есть сейчас поблизости.
Если кого из князей Дудовых спрашивали: «От кого вы происходите?» — они прямо отвечали: «От небесного грома», — и обижались, если им не верили. И действительно, весь народ знал, что прародительница их была девушка, йеизвестно от кого зачавшая. Род этот был очень старый, и Дудовых было довольно много. Но все они твердо помнили, что происходят от небесного грома, и потому предпочитали воровать, разбойничать, поступать стражниками, лесными объездчиками, лишь бы не трудиться, как трудится всякий простой человек.
Вся эта порода отличалась большой любовью друг к другу. Если где на обед попадал один Дудов, там сразу возле него садилась дюжина.
Батыжевы издавна брали жен из рода Дудовых, и потому, если Батыжев мог, не роняя себя, помочь Дудовым, он помогал. Зато, если Батыжеву нужна была помощь Дудовых, целая ватага жадных разбойников в хорошо пошитых черкесках была к его услугам.
Так было и сейчас. Одиннадцать Дудовых оказалось в Арабыни. Были здесь и родные, и троюродные, и еще более дальние родичи Ханифы, но все они, по древнему обычаю, имели право именовать ее сестрицей, а она, угощая их густо наваренным супом из молодого барашка и поднося им водку, называла их дорогими братцами и просила защитить от дерзкого Лукмана. Долго просить ей не пришлось. Дождавшись одиннадцати часов ночи — времени, когда в Арабыни наступает полная тишина, — Дудовы, разгоряченные угощением, напали на дом Мансурова.
Все было обдумано заранее. Старик жил один. Кай колода, валялся он, связанный, на дворе, жуя свою же каракулевую шапку, и, выпучив глаза, глядел, как обидчики, которых он, несмотря на- темноту, узнавал, вернее сказать — угадывал, торопливо разбирали стену того заветного хлева, где находился вол...
115
8*
«.. .Вот почему, ваше сиятельство, тебе и надлежит по возможности скорее вернуться домой. Люди просто взбесились у нас из-за этого дела. Учитель городского училища есть, Сабунов, тонконогий и очки на шнурке.
Был рождественский вечер в городском училище, и опять стали люди языки чесать насчет этой несуразной Лукмановой скотины. И вдруг этот Сабунов разговорился: крепостнический произвол и прочее... Недаром он, как меня увидит, так на другую сторону улицы перебегает; правильная моя примета: если полиции боится, значит совесть нечиста. Признаться, я прикрикнул на него. И вдруг в защиту ему — кто бы ты думал? — Никита Алексеевич Лелеев, директор городского училища, благонамеренный человек, — ведь когда его высокопревосходительство объезжали губернию, с ним так милостиво беседовали... И начинает меня наставлять... «Надо, говорит, прекращать эти азиатские нравы. Мы, русские, приносим культуру в дикие горы...» И пошел... Господин он образованный. «Новое время» и «Речь» выписывает, — так уж не знаю, из какой газеты, — сейчас в них одинаково пишут. Да что Лелеев! Все-таки человек образованный, привык рассуждать... но гуртовщики, маклаки, торговцы, магазинщики — и не только что ваши мусульмане, армяшки, даже наши православные купчишки — все за Лукмаш-киного вола поднялись. Всяко поносят Дудовых... Да что ДуДовы! О вашей фамилии нехорошо говорят.
Чтя память отца твоего, иду я к вам. У вас во дворе вроде сторожевая застава. У самых ворот с какими-то допотопными самопалами сидят братцы Дудовы. На дворе тоже Дудовы — играют в орла и решку. И тут же безо всякого стыда и совести висит на заборе шкура этого треклятого вола...
Я, признаться, мечтал дело замять. Госпожа Ханифа, мол, удивлена и даже оскорблена, как это люди в ее вдовстве и горе возводят на нее такую глупость. Батыжевы, мол, здесь ни при чем — и конец. Верь не верь, а княжеское слово. Но матушка твоя не только что отказывается... «Холопы, говорит, зазнались, холопов учить надо». С таким характером в конной жандармерии служить, а не в дамском ведомстве.
116
К Лукмашке подсылал я басурманского протопопа нашего, известного тебе умника, Бекмурзу: тот выведал, что хочет Лукман в суд подавать и — представь! — сочиняет, кроме того, письмо народному избраннику нашему, известному тебе Афоньке Мокроусову. Афонька же хотя и пьяница, но смекалист. Когда его выбирали, мусульмане послали выборщиком от Арабыни отца твоего, и, не будь покойный несколько ленивого нрава, мог бы он попасть в Таврический дворец! Чего лучше, — потому что семья ваша хотя и Магометова учения, но своего царя верные подданные, а казак по природе лукав и своеволен. Афонька, говорят, снюхался в думе с трудовиками... И, получив Лукианово письмо, он, конечно, не упустит случая изобразить из себя Плеваку. Глядите, мол, мусульмане, сколько справедлив трудовой казак. И дешево и сердито. Смекаешь? Политика!
А с кого спросят?
Бекмурза, конечно, пугнул Лукмашку: против кого голос подымаешь? Против правоверных князей? Но конь бесится от сытного овса, а мужик от жирного рубля. Эту поговорку сказал мне Бекмурза и попросил •написать тебе, что он молится, чтобы Алла осенил тебя своей мудростью и чтобы ты приезжал скорее домой.
А то схватит еще происшествие это какой-нибудь газетчик, и не только для властей — для чести фамилии вашей неладно будет».
Молодой Темиркан точно слышал густой и хрипловатый голос того человека, письмо которого он читал. Он точно видел перед собой сине-зеленый, особенного полицейского цвета мундир, который мешком сидел на этом грузном теле. Круглая, подстриженная ежиком голова посажена на плечи так, что подбородок всегда приподнят; маленькие карие глаза смотрят бойко и устало, и порою в них вспыхивает хитрое бешенство. Таков он есть, Осип Иванович Пятницкий — становой пристав Арабыньского округа.
Осип Иванович больше • чем друг семьи Темир-кана. Он связан с ней многолетней взаимной поддержкой в делах, о которых не ’только что говорить, но и думать неудобно. И если он, ничем не ограниченный
117
самодержавный повелитель зрабыньской земли, встревожен этой глупой историей, значит треножиться, есть о чем.
Газеты! Что газеты! А вот как пустят по аулам насмешливую песенку, где воспоют и вола и госпожу Ханифу... Темиркан грубо выругался по-русски, но тут же, хотя в комнате никого не было, оглянулся и привел свое лицо в состояние невозмутимого й даже сладкого спокойствия, — таким выезжал он перед развернутым фронтом и, слыша команду: «Смирно!», чувствовал на себе несколько сотен глаз, ждущих приветствия. Но как ни крепился он, как ни сдерживал себя, рее же чуть за)метные и как бы удивленные вскидывания черных бровей и такое же, почти неуловимое вздрагивание впалых щек, и желтоватый румянец, выступивший на скулах, — все это означало, что письмо из Арабыни вызвало у него крайнюю степень волнения. Темиркан медленно оглядел то, что его окружало: навощенный до блеска паркет, уставленный новенькой, модного фасона, комфортабельной (новое слово, недавно усвоенное Темирканом) мебелью. Письменный столик, маленький щеголеватый чернильный прибор, выделанный из сияющих, не очень дорогих уральских самоцветов. Совсем недавно, год назад, переехал сюда Темиркан с казенной квартиры. Сам выбрал, сам обставил. Но эта удобная жизнь, один запах квартиры, где к табаку примешивается аромат духов, — все это сон, мечтания, а настоящая его жизнь — вот оно, это письмо, — в ее грубости, дикости и силе!
И эта бабья глупость с волом —сейчас, когда надо уходить в отставку и вернуться в свою Арабынь с честью, подобающей Батыжеву!
Двадцать шесть лет — и уходить в отставку! До смерти отца такая мысль, даже в виде самого отдаленного предположения, не могла у него появиться. А сейчас рапорт уже подан, начальство, товарищи — все удивляются, — как не удивляться!
Даже тогда, когда Темиркана чернявым мальчиком привезли в корпус и он был застенчив, дик, болел от перемены климата и тоски, по дому, плакал по ночам, — уже тогда он знал: началась его дорога, дорога войны
118
и чести. Среди его сверстников были мальчики сильнее его. Но, обычно уступчивый й вкрадчиво мягкий, он в драке становился лукав, жесток и находчив, умел и не боялся ударить в самое опасное место — ив драках всегда был первым. Ни охоты к наукам, ни уважения к ним у него не было. Но при той зубрежке, на которой держался кадетский корпус, громадное преимущество давала его память. Прочитав один раз вслух, он запоминал страницу любого текста. Однако военные его данные при выпуске не напрасно аттестовали превосходной степенью: от фехтования и верховой езды и до фортификации и тактики — все, что нужно было военному, он знал превосходно. Знатность его не могла ставиться высоко —он был все-таки князек-инородец, и если бы он вздумал кичиться происхождением от Магомета, это вызвало бы у русских дворян скорее всего насмешки. Поэтому, обладая чутьем того, что возвышает и ч^о унижает, что делает смешным и что вызывает восхищение, он о своей родословной никогда не говорил, хотя в соблюдении правил дворянской чести оказывался первым. В то время как для русских мальчиков применение этих правил должно было еще подкрепляться богатством, придворными связями, чином родителей, у Темиркана эти правила складывались непосредственно: он все время помнил, что все слова его, движения, поступки должны выглядеть так, чтобы люди — и прежде всего «простые» люди — восхищались и преклонялись перед ним и боялись его. В мертвенную субординацию царской армии, которая порой вызывала возмущение даже у многих русских офицеров, Темиркан привнес живительный дух, быть может почерпнутый из сказок и преданий о рыцарских временах своего сословия. Входить в обсуждение личности царя, как, впрочем, и всякого начальства, он считал более недопустимым, чем оспаривать тот или иной догмат религии, к которой он, в сущности, был равнодушен: он исповедовал религию феодальной и воинской чести. Во всем этом он, несомненно, был более дик, чем все его сверстники. Но в царской армии именно дикость с первых же шагов обеспечила ему карьеру.
119
Карьеру делал он тоже по-своему и, во всяком случае, необычно для молодого горского князя. В конвое царя существовал особый эскадрон. Любой горский князек прилагал все усилия, чтобы попасть в эту привилегированную часть: это был угол царской лакейской, отведенный для горских феодалов. Темиркан в беспокойное время получил офицерские погоны — весной пятого года. Хотя внуку известного Алегико Батыжева была открыта дорога в почетную стражу монарха, Темиркан не прилагал усилий, чтобы ^попасть в конвой царя, и определился сразу в один из казачьих полков, не случайно в то время двинутых в столицу.
Ему случалось во главе сотни «брать в нагайки» рабочих и студентов. Под копытами его коня умерла пожилая женщина.
За эти дела Темиркан получил первые чины, первые ордена. Он был горд — служил государю и совершал эти палаческие дела невозмутимо. Убивать — было его профессией, и он, когда требовалось, убивал спокойно.
Счастливое и даже блаженное время для Темиркана настало после того, как революция была подавлена. По вечерам, проверив патрули и караулы, разосланные по столице, Темиркан иногда позволял себе проехать по залитому электрическим светом проспекту. В прекрасной одежде кавказских племен (казачьему полку, в котором он служил, была присвоена кавказская форма), на коне той редкой разновидности, которая при буланой масти имеет черный хвост, черную гриву, челку и темный ремешок, идущий по хребту, — он знал, что привлекает внимание людей: его замечали из карет и с тротуаров. Он был на отличном счету у начальства, но сослуживцы не особенно любили его. Он не пил, не уча-ствовал.в азартных играх, — его считали несколько скуповатым. .. Но эта невысокая и крепкая, тонкая в поясе фигурка, это желто-смуглое, кошачьего склада, с выдающимся вперед подбородком лицо, на котором маленький румяный рот всегда твердо собран в бугорок, эти движения, не слишком скорые, но очень мягкие, — все в нем внушало почтение. Не только господа офицеры, но и солдаты выделяли его из прочих господ.
120
Он заботился всегда о том, чтобы «его люди» были сыты, одеты, обуты.
Он охранял столицу потому, что таков был порядок, установленный повелителем империи. Чувство, которое он испытывал ко всему, что находится за стенами казармы, к напряженной и сложной . жизни мирового города, скорее всего походило на равнодушное и несколько презрительное любопытство. Бешеная собака, пробежавшая по улицам Арабыни, больше волновала его, чем если бы несколько кварталов столицы были затоплены наводнением. Впрочем, он был доволен, что и от событий арабыньской жизни его ограждают громадные пространства.
Жил ои в то время на солдатской окраине столицы, в пустой, почти не обставленной казенной квартире, пища его была до предела скромна, ложе твердо. Можно было считать его жизнь аскетически целомудренной, так как если бы он мог вместо себя посылать в публичный дом денщика, как он посылал его за папиросами, он бы так и делал.
Как только он был произведен в первый офицерский чин, мать женила его. Девушка происходила из того же рода Дудовых, что и сама госпожа Ханифа. .Девушка ему нравилась. После женитьбы он стал в отпуск ездить с новым, страстным чувством. К тому времени, о котором идет речь, у него уже было трое детей. Но что за человек его жена? Некоторым мужьям попадают своенравные, лукавые, изменчивые жены. Его Дуньят была не такова, он ею был доволен, но думать о ней ему не приходилось...
В семье Батыжевых держались старинного обычая, по которому старший сын должен был ведать лошадьми. Когда Алегико, старший брат Темиркана, умер от холеры в больнице при железнодорожной станции, под руку Темиркана перешли все батыжевские табуны. Покойный брат мало занимался ими. Как сотни лет назад, их пасли летом на горных пастбищах. Осенью на конских ярмарках, не особенно дорожась, их целыми косяками сбывали на ремонт или барышникам, и те । большой прибылью торговали по всей южной России.
121
Темиркан любил лошадей. Он был хороший наездник. Он знал цену той хотя и не особенно крупной, но очень выносливой, незаменимой в бою и походе, быстрой в состязании конской породы, которую выходил и воспитал его народ.
Темиркан завел й столице свою конюшню^ он сам отбирал и объезжал лучших скакунов. Он решил участвовать на ежегодных всеармейских кавалерийских состязаниях. То, что скачки будут с опасными препятствиями, не смущало его. Хорошо зная свойства горского коня, Темиркан не был бы так уверен в победе, если бы предстояло скакать по ровному полю. И расчет его оправдался — на общеармейских состязаниях он вышел на второе место. Один из великих князей, игравший довольно большую роль в управлении кавалерийскими частями армии (он владел знаменитым конским заводом), был восхищен наезднической ловкостью Темиркана, и Темиркан не успел еще слезть с коня, как явился адъютант великого князя с поздравлениями.
Темиркан тут же был сфотографирован для журнала. На этом фотографическом снимке в толпе, над которой возвышаются морда коня и лицо Темиркана в черной заломленной набекрень папахе (и у человека и у коня одинаковое выражение дикости и гордости), можно увидеть высокую красивую женщину. Опустив руки в длинных перчатках вдоль ниспадающих, свободных складок пальто, стоит она у самого крупа лошади. Когда Темиркан слез с коня, один из офицеров, сопровождавших эту женщину, представил его ей...
Темиркан твердо решил почему-то, что женщина эта принадлежит к придворному кругу, к которому он сам не принадлежал (он знал свое место в имперской иерархии и спокойно гордился им). Почему он отнес к придворному кругу эту сразу понравившуюся ему женщину? Может быть, потому, что показалась она ему. похожей на портрет какой-то русской царицы: белые плечи, нежное лицо, благосклонно-ласковые и равнодушные глаза; этот портрет оживлял уныло-торжественную столовую в корпусе и был когда-то тайной отроческой мечтой Темиркана.
122
Шведе; Анна Ивановна Шведе. Почему Темиркану эта фамилия -казалась аристократической? Может быть, потому, что три четверти придворных фамилий звучали не по-русски.
Мать Анны Ивановны -владела прачечным заведением. Старших братьев своих, которые работали на питерских и рижских заводах, Анна видела редко. Они были с матерью в молчаливой, но длительной ссоре. Ссора эта, наверно, была связана с появлением Анны, которая родилась четыре года после того, как мать овдовела.
Рассказы о позорных болезнях, задушенных младенцах и дамах, рожающих от кучеров и лакеев, были обычным развлечением прачек, и здесь, в /вонючем паре прачечной, Анна в возрасте двенадцати лет впервые узнала тайну своего рождения. Екатерина Ивановна, молодая вдова, работавшая поденно, забеременела от богатенького студента-волжанина. Студенту предстояла выгодная женитьба на родине; Екатерина' Ивановна рискнула поехать на родину студента. Выпятив живот, ^явилась к родителям своего студента, и от нее откупились. Хорошо откупились: Екатерина Ивановна угрожала, что такая вот, с животом, явится ю невесте! Так появилось прачечное заведение Екатерины Ивановны Шведе, и, в отличие от старших братьев, Анна училась в дорогой частной гимназии и росла как-барышня. С любопытствующим уважением, отнюдь, однако, не дочерним, разглядывала Анна безбровую чухонку, белотелую и румяную, породившую ее. Екатерина Ивановна еще могла надеть отделанное гипюром бархатное фиолетовое платье^ туго стягивающее большую грудь, причесать свои необыкновенные, цвета бледного солнца, тонкие и прямые вцлосы, из-под белесых густых ресниц блеснуть зелеными, с искрой оча/ми. Но обвисают уже щеки, потяжелели губы. А верно, хороша была лет пятнадцать назад, перед тем как родиться Анне. Девочка подходила к зеркалу, всматривалась в свое лицо, проводила тоненьким, запачканным чернилами пальцем по бровям, темным, почти черным. Она догадывалась, что брови унаследовала не от матери.
123
Екатерина Ивановна Шведе сама вела прачечную, держа в уме множество цифр и никогда не сбиваясь со своих расчетов. Читала она очень плохо, но выписывала газеты: «Биржевые ведомости», «Копейку». Почти каждый вечер, кончив дела, расстегнув все крючки и пуговицы, начинавшие теснить ее раздобревшее тело, Екатерина Ивановна зазывала из прачечной какую-нибудь прачку (в Петербурге из девяти прачек всегда попадалась хоть одна грамотная, особенно среди молодых), и происходило чтение газет вслух: бракосочетания высокопоставленных особ, ограбление банков, новые министры, бешеные собаки и мертвые тела, найденные на набережных, в парках, в подворотнях. Чтение шло медленно, монотонно, иногда по складам, зато все было видимо, точно въявь. На всю жизнь запомнила Анна длиннейшие судебные отчеты: убийства любовников и любовниц, подложные письма; шантанная певичка выходит замуж за графа и симулирует роды, чтобы овладеть наследством; великосветский убийца, опознанный по отпечатку пальцев на ламповом стекле, появляется на суде в лиловой рясе католического патера: он принял сан, и теперь за его спиной стоит, сам папа римский; графиня Тарковская заточена в венецианской тюрьме, гондольеры сочиняют о ней песни; суд длится несколько месяцев, и, хотя все знают, что она причастна к убийству своего любовника, прямо из тюрьмы ее берет замуж американский миллиардер.
В плеске воды и душном паре целый день пели прачки:
Любила меня мать, обожала свою ненаглядную дочь.
Так пели, что горячие слезы вскипали вдруг в горле: любовь, безрассудство, грязь и страдание; так пели, что мать, вдруг стиснув маленький, сияющий перстнем кулачок, вбегала на порог прачечной и кричала точно от боли:
— Перестать, девки} Воете, как по покойнику.
Любовь неотвратимо надвигалась вместе с возрастом. Девочке еще не было четырнадцати лет, когда она стала одеваться так, чтобы подчеркнуть свою распускающуюся девическую красоту. Студенты, носившие
124
свое белье в прачечную, соседи-гимназисты, приказчики близких магазинов, случайные прохожие — всякий мужчина, которому хоть раз приходилось_увидеть Анну, непременно замедлял шаги, когда весной, в нескончаемый, светлый и прозрачно-пыльный петербургский вечер, Приходилось ИДТИ МИМО открытых НИЗКИХ окошек почерневшего широкого одноэтажного дома, со двора которого пахло мылом и щелоком.
Слыша звонкие, замедляющиеся по мере приближения к их окошкам шаги по деревянным мосткам, Анна подходила к окну. В синеватом сумраке комнаты ее белая кожа мерцала, как лунный свет, и Анна медленно усмехалась, встречая вопросительные и жадные взгляды.
Уверенная, что знает все наперед, она обманута была сразу, как только сделала первый самостоятельный шаг. Молодой человек, высокий, красивый, хорошо одетый, робко остановился у ее окон. Он нравился ей, забавлял ее своей робостью. Однажды он подкараулил ее и пригласил в кино, она пошла.
Все шло так, как об этом Пели прачки. Екатерина Ивановна уехала в деревню к родственникам. Анна сама впустила в дом обольстителя и выпустила его- в окно. Оказалось, молодой человек совсем не был робок. И быстро, как и полагается по песням, наступила развязка.
С толпой сверстниц, в своем новеньком серебристо-сером пальтеце и такой же пушистой шапочке на блестяще-русых волосах, Анна вышла на ’ гимназический двор. Вдруг старуха в темнобагровой, мясного цвета, ротонде со стоном навалилась на нее, вцепилась в ее волосы, стала рвать ее лицо, бросила ее на землю, сама упала на нее... И исцарапанная, инстинктивно обороняющая глаза Анна по бесстыдным ругательствам, которые со стонами вырывались из смрадного рта старухи, поняла, что дело идет об ее предмете, об ее «але-шеньке» (молодого человека звали Порфирием, «але-шенька» у прачек было собирательно-ласкательным прозвищем любовников) .
Из гимназии Анну попросили уйти. К постыдным побоям, полученным от старухи, мать еще добавила
125
размашисто по щекам тяжелой, жесткой ладонью с одной и другой стороны, пока кровь не брызнула у Анны из десен.
— Кто тебя замуж возьмет, тварь незаконнорожденная? Какую красоту промотала, эх!.. Куда ж теперь? В девки на панель? К корыту хребет гнуть?
Дочь перестала быть девушкой — значит, ей можно говорить все, и Екатерина Ивановна вместе с пощечинами, сама плача, вколачивала в нее свою жизненную философию. Анна не плакала, молчала и даже не закрывала лица.
Так прошла первая любовь. У Анны было ощущение человека, быстро и ловко ограбленного. «Продешевила!» — с обидой, со злостью, с жалостью к себе думала она. Нет! Она не хотела ни к корыту; ни на панель. И когда мать, пораздумав, а может, и посоветовавшись, определила ее на некие частные балетные курсы, Анне ничего не надо было пояснять. Надушенные старички, под видом знатоков и ценителей балета, присутствовали на уроках... Один из них, весь точно вытянутый вверх, с большим лысым черепом и впалыми щеками, в автомобиле, таком, какие Анна видела только в заграничных кинокартинах, подъехал к их маленькому дому. Учтиво склонившись перед вскочившей и вспыхнувщей Анной и наклоняясь во всех дверях низеньких комнат, он прошел в конторку, откуда слышался густой, распорядительный голос Екатерины Ивановны.
Мать успокоилась. После того, что случилось с дочерью, для нее лучшего и желать было нельзя. Стефан-Готлиб ван Андрихем сказал, что он голландский подданный, проживает в Петербурге по банковским делам. Это он сам захотел сказать, его не расспрашивали. Анну он сразу устроил так, что ясно было каждому — человек он солидный.
Стефан Гоглибович, хотя и медлительно, говорил по-русски. Он бывал с Анной на выставках, на премьерах. Иногда проводил у нее целые дни, о чем-то думал, что-то считал, длинный, блестя лысым черепом, шагал по комнате, похожий на какой-то сложный счетный механизм.
126
— Почему же онц. все-таки , продают?! — страстно вырвалось у него ло-немецки (очевидно, немецкий был его родным языком).
И, отвечая на недоуменный взгляд Анны, он усмехнулся и осторожно приоткрыл завесу над своими делами, над сегодняшним разбойничьим днем биржи, над сложными маневрами банков и промышленных фирм. Очень хотелось рассказать побольше: вместе с поставками оружия — покупка и продажа военных секретов. Вместе с поставкой паровозов и рельсов — почти неприкрытое шпионское наблюдение за стратегическими направлениями новых железнодорожных путей. И биржевой бюллетень лихорадило, — необыкновенные ценности котировались на петербургской бирже: скрытые сокровища страны, ее великое будущее, кровь и жизнь ее еще не родившихся детей, секреты русской армии. Банки воздвигали посреди столицы свои грузные капища, не случайно похожие на дворцы и на храмы. Их паутина бесшумно раскидывалась по всей распростертой стране.
— Б-э-э-нк,— на иностранный лад говорил ван Андрихем, когда он вместе с Анной проезжал по проспекту мимо слоноподобного, с низкими колоннами и маленькими окнами здания того нового банка, неглас ным распорядителем которого был Стефан Готлибович. А для Анны рассказы его звучали как все тот же неумолчный под плеск воды разговор прачек: миллионные взятки коронованным особам, сотни тысяч — министрам. Анна спрашивала, и Стефан Готлибович с удовольствием видел, что эта девочка, купленная для наслаждений, которые ему становились все менее нужны, — отзывчиво и сердечно входит в его дела, — да, сердечно—herzllch! Ван Андрихем был одинок, как только может быть одинок авантюрист к концу своей жизни, и ему по душе было шествовать к могиле, имея спутницей белокурую валькирию, осуществившийся любовный сон нищей юности...
Бывало, что он уезжал на месяц, на два за границу; бывало, оставаясь в Петербурге, он пять-шесть дней не навещал ее, звонил лишь по телефону. Она .даже скучала, когда его долго не видела. То, что она слышала
1?7
от него, насыщено было единственно подлинным интересом: торговля, обман, денежная страсть, покупка-продажа людей-... Потому она не возмущалась тем, что он купил ее и любовь превратилась для нее в постыдное, докучное и грязное дело. Но зато навсегда избавилась она от страшной угрозы бедности и труда; хорошела, расцветала, ее знали в Петербурге как подругу известного ван Андрихема, негласного посланника могущественного мирового банка.
В эти годы столица империи гремела, сияла, цвела. Появились стихи, похожие на прейскуранты гастрономических магазинов, торговые витрины стали украшать художники-декораторы. Театральные спектакли становились похожи на богослужения, богослужения на спектакли.
На выставке модных живописцев появился портрет Анны Ивановны Шведе: ее светлая северная кожа свежо сияла на черном бархате кресел, и загадочно-ласковы и равнодушны были ее синие глаза под темными бровями. Да, Анна Ивановна входила в моду: богачи, титулованные и не титулованные, пытались переманить ее от голландца, и безукоризненно одетые молодые люди с университетскими значками на лацканах и благородно усталыми лицами подолгу беседовали с ней, воздавая должное ее уму, ее красоте, именовали ее Асназией, мадам Рекамье... но вдруг, как бы между прочим, задавался вопрос: «Стефан Готлибович участвует в сделке с Н-ским заводом?..» Произносилась эта фраза так, между прочим, и почти не вопросительно. Но Анна понимала: это был вопрос, ради которого велась вся беседа. И только пожелай она получить много денег... Но она изображала дурочку и не предавала своего старика. Она интересовалась его делами, но интерес этот пока был бескорыстен. К тому ж она была осторожна. Деньги она имела, не денег хотелось ей. Она еще грустила, ждала, выбирала. Ни адвокаты, ни поэты не нравились ей. Фехтовальщики, легкоатлеты, жонглеры, наездники — вот кто привлекал ее. Но осторожность! Эти люди казались ей опасными. Она страшилась позора, запомнившегося на всю жизнь.
Когда на скачках, почти против той трибуны, где
сидела она, маленькая золотистая лошадь Темиркана, вскинув красивую голову, сразу вырвалась вперед из мчащейся стаи всадников в пестрых 'мундирах, Анну разом восхитила какая-то особенно гордая, веселая и легкая посадка Темиркана. Она захотела с ним познакомиться. Она отнюдь не предполагала длить и укреплять это знакомство. О Темиркане думала она только как о наезднике и его титулу не придавала никакого значения. «Они там все на Кавказе князья», — думала она.
Боязнь.выдать свое неумение вести себя при высокопоставленной русской женщине заставляла Темиркана держаться с Анной застенчиво, — этой манерой он вйделялся среди прочих людей, окружающих Анну. «Наверное, от бедности», — думала она, любуясь им. Так, сам того не зная, он влюбил ее в себя.
Она видела, что он принимает ее не за то, что она есть, и это забавляло ее. Когда они сошлись, она грубо и просто, так, как об этом между собой говорили прачки, сказала ему о себе. Темиркан был сначала оскорблен, потрясен. Он запомнил это оскорбление, как запоминал всякое зло, ему причиненное. Но он не ушел от нее. Наоборот, с этого времени ему стало с ней лучше, свободней. Он знал, что таких женщин покупают задорого, ему она не стоила ничего, и это даже льстило ему. Считая его бедняком, она готова была давать ему деньги, но он не просил их, и она тоже была польщена. Он дорожил и гордился ею, как породистой лошадью, и, конечно, обиделся бы, если бы понял, что все время изменяется под ее влиянием. Она же совсем не ставила себе цели влиять на него, но самое общение с ней растолкало в нем чувства, ранее дремавшие. Она посетила его жилище, и вдруг ему совестно стало и унылой казенной квартиры, и грубой пищи, и того, что спит он на твердой, привезенной из дому кошме, — в сущности, он с собой обходился не лучше, чем с породистой лошадью. Он снял квартиру и занялся ее украшением. Тут-то и обнаружился его вкус, неожиданно женственный и изнеженно-вульгарный. Он не знал, что его новая квартира кажется ей забавной, как, впрочем, и многое в нем. Он гордился: вот как богато
9 Ю. Либединсиий
129
и пышно сумел он обставить свое жилище! Он не подозревал, что невольно перенес в свое жилище обстановку перворазрядного публичного дома, который посещал до своего знакомства с Анной.
Они спокойно обманывали голландца; Темиркан лишен был воображения, первого условия ревности, — он просто не помнил о хозяине Анны. Анна знала, что Темиркан женат, но что ей было до жены, отделенной от их счастья несколькими тысячами верст? К тому же она с Темирканом обманывала, его жену, — по извращенной логике ее чувств она была удовлетворена этим. И когда Темиркан ездил домой, Анна Ивановна даже помогала ему выбирать подарки для жены.
Так жили они два года. Но, похоронив отца, Темиркан из Арабыни вернулся озабоченный. Анна осторожно спрашивала, он хмурился, молчал...
— В отставку выхожу. В Арабынь уезжаю, — сказал он наконец.
Она ахнула и заплакала. Расстаться? Почему? Что случилось? Он молчал... И ночью она вдруг со вздохом сказала:
— Денежки, значит, прижимают тебя, мой драгоценный.
Она не спрашивала, слова ее были утвердительны, печальны и нежно-насмешливы. Он растерялся, рассердился, нахмурился, промолчал и тут же понял, что, промолчав, утвердительно ответил на ее вопрос.
— Сколько тебе надо? — просто спросила она.
— Ты — мне деньги хочешь дать, а? — спросил он гневно и растерянно.
Она горячо, жалостливо обняла, обласкала его — и вдруг он рассказал ей те самые заветные дела свои, о которых до этого не говорил никому.
Смерть отца изменила положение Темиркана. Он стал главою семьи, хозяином, и продолжать жить в Петербурге на холостбм положении, оставив осиротевшую семью в Арабыни, нельзя было. Не подобало.
Но в Петербург переехать он тоже не мог. Еще во время, похорон отца подсчитал он: доход с имения не таков, чтобы семья могла жить в Петербурге так, как ей подобало.
130
Ой говорил скупо. Он не сказал ей о величине своей семьи; по завещанию отца, имение не должно было делиться, и вдова его старшего брата с тремя детьми жила вместе с ними. О девочке забот не было», она росла, как трава. Но четырнадцати летние близнецы, двое мальчишек, под благодетельным влиянием госпожи Ханифы и Дудовых, выравнивались в абреков. Кроме того, совладетелем имения Темиркана был еще младший холостой брат: через год он производился в офицеры; наверное, женится. А Лейля? А дядя Асланбек, -старший брат матери? Не мог также Темиркан рассказать любовнице своей обо всех~~особенностях госпожи Ханифы, которые проявились в истории злополучного мансуровского вола, о замашках, которые издавна в народе называются дудовскими. А его Дуньят и трое ребятишек? Какие деньги нужны, чтобы все это привезти в Петербург и продолжать в столице империи арабыньскую жизнь и чтобы все это выглядело не смешно, а так, как подобает князьям Батыжевым: величественно. Темиркан даже не мог показать Анне Ивановне письмо пристава. Ведь история вола, для него грозная и многозначительная, ей, как всякому петербургскому человеку, будет только смешна.
В его кратких словах многое ей показалось неясным. Но она была поражена. Ее тронуло даже то, что для него такое могущественное значение имеют понятия, для нее не существующие. «Должен и не должен», «подобает и не подобает», «поступать по чести надо», — так говорил юн. И слово «честь», у других людей всегда звучавшее смешно и лживо, на его губах звучало серьезно. Еще удивилась она: оказывается, у него было имение, какие-то земли.
— Восемь тысяч десятин? — думая, что ослышалась, переспросила она.
Он подтвердил:
— Земля есть, а денег нет, — сказал он беспомощно.
На следующий день, по ее горячему настоянию, он на карте издания Генерального штаба, которую она нарочно для этого достала, вычертил ей причудливо неправильную, по очертаниям напоминающую башлык
131
9*
фигуру, которую занимала площадь его имения: леса, пастбища, луга, пахотные земли..; Табуны, стада, отары... Он еще не сказал о тысячах людей, которые хотя и не принадлежали ему, как в старину, но были иопокон должниками Батыжевых и работали «а них.
— Но как же так? — недоуменно спросила она. — Ведь ты очень богат. — Она с новым уважением смотрела на него. — Столько земли... ведь это же правда княжество. Может быть, продать часть земли?
— Я землю продавать не буду. Князь без земли — все равно бык холощеный, — сказал он грубо.
Но она кивнула головой и участливо, дружески и нежно положила свои длинные пальцы, худощавые и белые, на ту смуглую, покрытую волосами часть его руки, между кистью и локтем, которая вследствие постоянного упражнения в рубке у него была особенно развита.
— Ты прав, наверно, — раздумывая, сказала она.— Места эти дики, земля дешева. Продавать невыгодно, наверно. Конечно, в банке заложить можно, но тоже...
Она не договорила. Она могла бы кое-что рассказать ему о том, что в скором времени должно было произойти на землях его родины, но этого не сделала — хотела все узнать точнее...
Великий князь, которому начальство Темиркана сочло нужным сообщить о странном капризе поручика Батыжева, вызвал его к себе. Седой, красивый, краснолицый, всегда несколько пьяноватый старик, играя голосом, стал отечески журить Темиркана; тот стоял перед ним, невысокий, подобранный, в своей воинственной горской одежде, всей своей позой выражая ту особенную меру фруктовой молодцеватости и сыновней почтительности, которая не только не роняла, но особенно подчеркивала в нем сознание собственного достоинства:
— Отец умер, мне на его место надо, потому повергаюсь к стопам вашего императорского высочества и прошу всемилостивейше отпустить...
— Если бы все наше благородное дворянство рассуждало как ты! — неожиданно всхлипнув, сказал ве
132
ликий князь, и его большие голубые выцветшие глаза наполнились легкой пьяной слезой.
Хотя старик всю жизнь говорил о дворянской чести, но он никогда ею не руководствовался и до сих пор не встречал людей, которые брали бы всерьез эти гордые и красивые слова. И вдруг этот азиат...
Сквозь свои легкие слезы старик испытующе разглядывал Темиркана, который стоял попрежнему неподвижно, не показывая, какие небывало противоречивые, беспокойные побуждения волнуют его... Может, рассказать, попросить помощи? Но тогда пришлось бы признаться, что причина, которая якобы вызывает его отставку, она, конечно, очень благородна, но не она вынуждает его на этот важнейший шаг жизни. Только Анна Ивановна угадала истинную причину этого шага: «денежки прижимают» — и это было так, но это было оскорбительно, и никто не должен был знать об этом.
Темиркан промолчал.
— Если в чем будет нужда, помни, что я за отца тебе, — сказал великий князь.
Следуя восточно-феодальному обычаю, Темиркан поцеловал пахнущее табаком и крепким одеколоном плечо его мундира. Старик притянул его к себе и поцеловал в лоб.
Темиркан рассказал Анне Ивановне весь этот разговор, и она одобрила его поведение.
— Бедным милостыню подают, а не помогают, — сказала она. — Ведь ты же богат, просто продержаться тебе надо, не продешевить... А то, что ты сейчас от него (она разумела великого князя) уже имеешь, — э?о ведь всяких денег дороже.
И он почувствовал, что его побуждения выражены ею с такой отчетливостью, с какой он сам их выразить не сумел бы.
Странно вела себя Анна Ивановна в эти последние дни. Она погружена была все время в какое-то раздумье, и стыдно признаться — Темиркану это раздумье внушало непонятную надежду. Но пришел последний час прощания, и она лишь заплакала, некрасиво и беспомощно. Помощь от нее, конечно, не пришла,
133
да и не могла прийти. Но, положив ему руки на плечи и глядя в его глаза своими опухшими и покрасневшими глазами, она сказала:
— Ты вернешься скоро!
Сказала с уверенностью, ничем не обоснованной, какую внушить ей могла слепота любви, — скоро вернуться он никак не предполагал.-
Глава третья
Возвращаясь на родину, Темиркан, как обычно, делали Батыжевы, доехал до Краснорецка — большой узловой станции, которая стояла в ста девяти верстах от Арабыни, на мощной, опоясывающей весь Кавказ железнодорожной магистрали. Ближе к Арабыни, в сорока пяти верстах от нее, была другая станция, поменьше. Но не только что скорый, даже приличные пассажирские не останавливались на ней, — не подобало же князьям Батыжевым прибывать на почтовых или товаро-пассажирских.
На вокзале .Темиркана встретила свита Батыжевых и Дудовых. И, окруженный ими, тем же порядком, как и предки его, двинулся Темиркан пустынным трактом, проложенным еще во время покорения Кавказа через заросли кустарников, почти непроходимых. Тракт с того времени, как его проложили, не ремонтировался. Почерневшие мосты были ненадежны, реки, пересекающие тракт, изменчивы, брод приходилось каждый раз искать наново. Хребет, с которого сбегали реки, голубыми, похожими на облака громадами, все время проступал на полуденном краю горизонта, и от быстрой и бурной речной волны веяло снежной прохладой.
По тракту ехали два дня. Переночевали в нищем домике одного из Дудовых. Впрочем, хотя блохи прыгали по земляному полу кунацкой и спать пришлось на грязных, провонявших псиной кошмах, но барашек был зарезан и в честь знатного родственника и покровителя были джигитовка и пляска со стрельбой.Однако Темиркан, никогда не отличавшийся разговорчивостью, сейчас поразил родичей своим молчанием и невнима
134
тельным, «немилостивым», как они между собой говорили, обращением. Добравшись до дому, он удивил и домашних: сразу спросил, чем кончилось дело с волом.
— Ио чем это только люди шумят, даже до царской столицы дошло, — сказала госпожа Ханифа, польщенная славой своих дел.
Постаревшая, поседевшая после смерти мужа, она, отбив вола у Мансурова, вновь выпрямилась, утвердившись в своей княжеской силе. х И й поясу своему она вновь привязала большие ножницы — обычный знак хозяйки-домоправительницы, ножницы, которые на время похоронной печали она, по обычаю, сняла.
— Ну и вол, — трещала Лейля. — Что ты думаешь? Все его мясо проросло старым вонючим жиром, только около хвоста на два пирога вырезали. Их люди съели. А жир перетопили на светильни.
Да, батыжевский дом попрежнему освещался светильниками, в которых горел жир, иногда мерзко пахнущий. Керосиновая лампа, которую заправлять умела только одна Лейля, чем она немало гордилась, стояла только в отцовской комнате, где и поселился Темиркан. Пол в этой комнате застелен был шкурами и коврами: снизу, из амбаров и подвалов, наполовину пустых, сильно поддувало. В громадном очаге этой большой сумрачной комнаты можно было зажарить целого барана. Топили почти всю зиму, и все же в углах комнаты, выходивших к внешним стенам дома, замерзала вода. Приезжая лишь на короткое время отпусков и по большей части летом, Темиркан не замечал, как отвык он от своего дома. Ведь в детстве, так же как и его ре1 бятишки сейчас, он, не простужаясь, спал в этих комнатах, по которым всю зиму ходили морозные сквозняки. Даже воздух родного дома был неприятен ему — все время кисло и крепко пахло молоком. «Мужицкий запах», — оскорбленно думал он. Эту махину, в которой очень удобно было обороняться от вражеских набегов и нельзя было жить, надо, конечно, сломать и строить новый дом. Но где взять денег?
Темиркан все время чувствовал себя бедняком. А женщинам его семьи даже и в голову это не приходило.
135
Темирканова Дуньят со времени, как муж вернулся Домой, чувствовала себя прекрасно. У нее были европейского фасона местной портнихой сшитые платья, но она не носила их И шныряла по дому в приспущенных на пятки шелковых темнобордовых шальварах. В праздники надевала выложенное галунами старинное платье, рот прикрывала прозрачной тафтой. Темиркан привез ей модные туфли на высоких каблуках, которые выбрать ему помогла Анна Ивановна. Дуньят, надев туфли на свою маленькую грязноватую руку, ахала, благодарила мужа и тут же вспоминала со вздохом, как красива и величественна была ее бабушка, когда становилась на старинную, из дерева сделанную, высокую обувь.
«Не только каблук, но вся подошва высокая, да повыше, чем этот христианский каблук. Бабушка, как идет, на три головы всех женщин выше, сразу видно — княгиня», — говорила Дуньят.
Туфли она ни разу не надела и лишь поставила на полку в своей комнате. На этих полках, широких как нары, сделанных вдоль всей комнаты, стояло все, чем могла похвастать Дуньят: подушки, ярко разрисованные сундуки. «Не была я голой выкуплена в мужний дом», — как поется в старинной песне. Здесь же стояла и швейная ножная маШинка (сама Дуньят не шила, но машинку считала большой драгоценностью, ключ от нее всегда хранила при себе, и если в дом приглашалась портниха, то шила она в комнате Дуньят). Только эта машинка своими колесами и черно-блестящими угловатыми металлическими частями говорила о новом времени. Спала же Дуньят, как в старину, на тахте, подвешенной с четырех углов к потолку, и в полутемной, тесно заставленной комнате ее пахло по-старинному сафьяном, розовым маслом. Темиркану смешно и совестно было вспомнить, как в первую ночь, скрежеща зубами, он путался в шнуровке той красно-сафьяновой одежды девственности, в которую была зашита и увязана Дуньят, и все же сумел, как требуется обычаем, развязать — не порвать шнуровки, и сестры и подруги невесты громко сообщили об этом на свадебном. пире, который длился три дня. Ласки жены сейчас казались
136
ему смешны и неумелы, он скучал по любовнице. Двадцать семь лет — время мужества, и ошибки, сделанные смолоду, начинают приносить свой горькие плоды. «Если уж взял дуру, таи хоть бы богата была», — думал он раздраженно, отворачивая взгляд от Дуньят, которая робко мерцающими из-под длинных ресниц однообразно красивыми и простодушными глазами с восхищением глядела на супруга и повелителя. Когда он ел, она сама прислуживала, и ей даже в голову не могло прийти сесть за стол с ним. Впрочем, так это и подобало. А вот Анне Ивановне даже в голову не приходило, что женщине не подобает сидеть за столом с мужчиной, и ему мило и грустно было вспоминать об их совместных веселых трапезах. Только сейчас стал он понимать, чем была для него Анна; он весь изменился, и, как соли в пище, не хватало ему в любви возможности говорить любовнице о своих заботах и мыслях.
Но дело с волом надо было кончать немедленно. Когда Темиркану случалось проезжать по улицам Ара-быни, мальчишки кричали ему:
— Эй, Батыж, вола украл, вола украл!
И Темиркану приходилось еще укрощать родичей и слуг, сопровождавших его и не понимавших, что кидаться на мадьчишек с нагайками для защиты княжьей чести — значит попадать в положение еще более смешное.
С оскорбленным гуртовщиком Темиркан встретился у муфтия Бекмурзы Касеева в одном из прохладных и тенистых внутренних дворов по-турецки построенного жилища этого хитрого священника.
— Итак, почтенный Лукман, мы еще раз убедились в истине старой поговорки, что раздоры и несчастья приходят с рогов быка... — ласково усмехаясь, говорил Темиркан. — Но, право, я, как предок наш Батыж, своими руками готов прорыть тебе канаву, только бы Потушить нашу рознь...
Лукман надувался, как индюк, и молчал. Шутливость князя казалась ему оскорбительной, и особенно упоминание о рогах быка — нестерпимо позорной причине ссоры. Лукман не понимал, что когда Темиркан
137
предлагал собственноручно рыть канаву, это была, конечно, шутка многозначительная й лестная — «княжеская». Лукман хотел, чтобы у него просили прощения так же при всем народе, как перед всем народом был он оскорблен.
— Господин Темиркан хочет поднести тебе подарок чести!— многозначительно пояснил муфтий, мерно оглаживая свою седую остренькую бородку. — Благородного коня, например, — добавил он, осторожно скашивая глаза в сторону Темиркана.
Темиркан согласно кивнул головой. По старому обычаю княжий подарок означал, что одаряемого князь берет в свою дружину, «присваивает ему благородство». Правда, русские этого благородства не признавали, права русского дворянства получили только некоторые княжеские фамилии, но в народе еще помнили старый обычай.
— А кто мне сделает этот подарок? — своим пискливым голосом спросил ЛуКман.
Мулла с опаской посмотрел на князя. Другой князь такого вопроса не вынес бы, и гуртовщику было бы нанесено еще одно оскорбление. Но Темиркан был спокоен.
— Тот, кто тебя обидел, — ответил он, но в ровности его голоса было нечто, заставившее Лукмана низко поклониться, поблагодарить, еще раз поклониться и уйти.
После того как гуртовщик ушел, князь и мулла некоторое время помолчали, — им не хотелось глядеть друг на друга.
— И что это только с нашими людьми делается? — точно про себя спросил священник.
Князь взглянул на него; От той благопристойности, которая была на лице муллы в присутствии гуртовщика, сейчас ничего не оставалось, оно приняло такое выражение, точно ему пришлось испить горчайшего питья. Несмотря на почтенный возраст, муфтий был очень здоров. Хозяйство его цвело: четыре отборных табуна выгонял он на пастбища, и года не проходило, чтобы после знаменитой осенней конской ярмарки в Арабыни не положил бы он в банк нескольких тысяч за
138
своих темнокаурых,. маленьких, гривастых и веселых жеребчиков. Фруктовые сады, муфтия славились. Оптовые торговцы из Ростова засылали .приказчиков, чтобы взять у него весь урожай абрикосов, персиков, слив и прушг.. Четвертую, молоденькую жену купил почтенный Бекмурза, чтобы скрасить осень своей жизни, и сам пристав, встречая этого высокого, в меру полного, по фигуре несколько похожего на грушу, смуглолицего и горбоносого старика, еще издали приветственно возглашал ему:
— Селям алейкум!
— Алейкум! — тихо отвечал муфтий, и пристав только что не подходил под благословение, но обязательно останавливался поговорить с «мудрым азиатом», как в глаза и за глаза называл муфтия.
Протоиерей же, лучезарный и толстый старичок, когда во время судов, или рекрутских наборов ему-при-ходилось встречаться с муфтием, любил подолгу разговаривать с ним о вере. Они не спорили, но, сопоставляя догматы, наслаждались этим изысканным духовным лакомством и расходились вполне довольные друг другом.
Протоиерей укротил ярость другого арабыньского священника — отца Антонина Гонибесова, неистового гонителя всего иноверческого и инородческого. Антонин мог попрежнему проклинать с амвона «Магометовых собак», мог продолжать писать в консисторию доносы' на протоиерея, явно уклоняющегося в сторону магометанства, .. Но отныне, встречаясь на улице с почтенным Бекмурзой, отец Антонин, ходив'ший всегда быстрым^ широким, волчьим шагом и даже с хода благословлявший, теперь, завидев издали благообразного муллу, весь подтягивался, приглаживал редкую бородку, умерял свой бег — и вдруг в походке и повадках, незаметно для себя, начинал подражать ненавистному мусульманину. Они встречались, и мулла кланялся, — только он один умел так низко и не обидно для себя поклониться. Антонин, блеснув в его сторону беспокойным глазом, по-вренному подносил пальцы к своему всегда осыпанному пылью котелку...
— Ты слыхал о моем горе? — спросил муфтий.
139
Князь кивнул головой. В числе прочих арабыньских новостей женщины рассказали ему о том, что единственный сын муфтия, молодой образованный Джафар, предался вольнодумству... И Темиркан со вздохом сказал мулле:
— Лишь в райских садах дьявол бессилен вредить Адамову роду...
Муфтий развел руками.
— В какой миг яд атеизма и эпикурейства проник в сосуд, столь избранный? — спросил он горестно. — (Кончив медрессе в Казани, мальчик сразу же захотел совершить благочестивое странствование. Я не пожалел денег, и он побывал в Мекке, в Медине, да будут благословенны следы пророка! Был он и в Каире, и в Иерусалиме, и в Стамбуле. Я радовался: свершение хаджа в годах столь молодых! Но он возвращается домой и вдруг, вместо того чтобы вступить на путь, предуготовленный, казалось бы, самым рождением в этом доме, разменивает на светскую медь священное золото своей духовной учености, преподавая сыновьям купцов и гуртовщиков русский язык и историю в школе, основанной твоим отцом по настоянию нечестивого Хусейна Дудова. Сказано: отступник страшнее язычника, — а этот шелудивый Хусейн есть отступник от своего сословия и от нашего закона. Твой отец, я и Хусейн в детстве вместе играли в альчики *. И вот отец твой уже успокоился, я стар, а этой петушиной ноге ничего не делается, Дьявол бережет своих избранников и, как искусный гончар, закаляет их на адском огне. Ни одного седого волоса нет в той мерзкой шерсти, которая покрывает его голову, и вчера еще, проходя мимо его скверного, вытоптанного козами садишка, я видел, что он, как дятел, стучит по своей черной доске, занимаясь какими-то вычислениями, и его дочь, полуслепая, как отец (вот в чем надо видеть руку карающего!), сидит с открытыми волосами и губами. Товар, казалось бы, столь небогатый, что, держа его открытым, никак нельзя найти на него покупателя, но — горе! — таковой
* Разновидность игры в козны, или в бабки, принятая на Кавказе.
140
отыскался, и — на соблазн всему мусульманству — это мой Джафар! И здесь же русские учителя из городского училища, и все они пьют лимонад и громко кричат, как галки, когда у них свадьба. Сказано: истлевает то, чего коснется рука нечестивца. И этот нечестивый слепой козел совращает юношу из духовной семьи... Почтенный Осип Иванович тебе писал, но я не все доверил ему. И поверяю тебе то, в чем признался этот взбесившийся баран Лукманка. Поссорившись с благородной госпожой Ханифой, он, конечно, бросился в нечестивый дом исчислителя, и этот пес, забыв все благодеяния вашей семьи и дружбу твоего, отца, посоветовал ему писать письмо господину Мокроусову в Государственную думу. И в этом нечестивом измышлении — горе! — участвовал мой Джафар.
Темиркан, казалось, невозмутимо выслушал все это. Но он был встревожен. Сын муллы — вольнодумец? Хусейн Дудов — друг его отца, сторонник русского завоевания и верный подданный русского царя — совратитель и подстрекатель? Безродный Лукман, затевающий тяжбу с Батыжевыми и обращающийся за помощью к казаку Мокроусову? «Когда на воду пузыри выбегают, значит котел скоро закипит», — тревожно подумал Темиркан.
— Дорогой наш сын... — говорил старший брат госпожи Ханифы Асланбек племяннику своему Темир-кану (согласно древнему обычаю, дети братьев и сестер считались не двоюродными, а как бы родными, и потому брат матери и племянник именовались отцом и сыном), — дорогой наш сын, ты князь и господин, но ты князь заблуждающийся. Унижая меня, ты унижаешь себя перед разжиревшей подлостью. Ведь вонючий дед этого вонючего Лукмана, наверно, как водилось в старину, под ярмом пахал наши земли.
Но Темиркан не любил тратить лишних слов. И почтительно, как-подобает, выслушав брата матери, поблагодарив за отеческое поучение, он все-таки настоял на своем. Так, несмотря на прямое противодействие госпожи Ханифы, князю Асланбеку, седому, со сбитым набок крючковатым носом, во главе прочих Дудовых, участвовавших в похищении вола, под быстрый перебор
141
струн и заунывное торжественное пение, пришлось передать в руки заробевшего, но явно польщенного гуртовщика шелковые зеленые поводья, и Лукман увёл и себе во двор одного из прекрасных батыжёвских жеребцов.
Лукман был больше чем удовлетворен. Таковы были сведения, которые пристав сообщил Темиркану.
— Миролюбивый, — с сожалением говорили о Те-мирКане Дудовы.
Мать, конечно, передала сыну этот явно оскорбительный отзыв, но лицо Темиркана выражало равнодушие, повидимому непритворное. Впрочем, в противоположность отцу и старшему брату, общительным и веселым, Темиркан был всегда не то угрюм, не то задумчив. И для окружающих он был таким же, как всегда, — можно было предполагать, что и для него история с волом кончилась. Он ездил на охоту и погрузился в бездеятельность, обычную для человека его положения.
Еще при жизни старого князя, довольно ленивого во воем, что не касалось охоты и пиров, управление баты-жевским домом и хозяйством как-то само собой очутилось в темнокоричневых, сморщенных ручках Лейли.
Лейля правила все свои дела в старой, построенной отдельно от дома кунацкой, той самой, где много десятилетий назад Алегико Батыжев принимал Исмаила Баташева, — широкой, с земляным полом и низким потолком (в господском доме была другая кунацкая, для благородных гостей). Когда Темиркан в первый раз по приезде зашел в старую кунацкую, Лейля, принимавшая в то время яйца, заробела, сбилась со счету, даже разбила несколько яиц. Но Темиркан невозмутимо и благосклонно сидел в почетном углу, и старуха осмелела. Все шло так, как и должно идти при настоящем господине: счету яиц он не уделил, конечно, никакого внимания. Скорее всего он пришел поглядеть на девушек, помогающих ей, — таковы мужчины! Она уже было, завела разговор об одной, на которую, ей показалось, Темиркан поглядывал особенно пристально. «.. .Ведь не чужая же Лейля Темиркану, почти мать, в детстве он был на руках ее»... Но, оборвав в самом
142
начале, это искусное введение к сводничеству, Темиркан благосклонно кивнул головой и ушел из кунацкой.
Яйца, кадушки с маслом и медом, овцы, каждую осень серым потоком струящиеся с пастбищ, — все это шло с крестьянских дворов, поколение за поколением арецдовавщих батыжевские земли. Лейля продавала все это и отдавала ему деньги. Но денег было мало. Как сделать, чтобы каждая десятина, его земли, каждая отара его овец непрерывно сочилась деньгами? Когда вскользь навёл он Лейлю на этот разговор, она рассыпалась в похвалах его мудрости...
— Как же, как же, — кудахтала она, — деньги всегда удобны: не протухнут, не размокнут., не слиняют, и моль их не побьет, и жучок не потравит...
Деньги! В деньгах, несомненно, проявление божьей мудрости, и даже она, темная раба, это понимает, господину же ведомы все тайны этого чудодейственного металла. Однако надо, чтобы господин преклонил глаза к глупым и темным людям, которые, по милости Баты-жевых, кормятся с их земли... и мед, и яички, и хлеб — отнюдь не с богатых дворов идет все это. Мужик всегда стремится сам продать на базаре и платить аренду деньгами. Но — горе! — из арендующих землю богатых очень мало и становится все меньше — земли пустуют.
В таком роде, жеманно прикрыв прозрачным и черным кружевом свои увядшие хитрые губы, тарахтела она, пока Темиркан не отпустил ее кивком головы. Он понимал: старуха права. Сохраняя вид величественной беспечности, он бдительно и зорко оглядывал все кругом себя. И когда некоторое время спустя история вола была уже забыта всеми, Темиркан вдруг посетил Лук-мана Мансурова. Батыжевым и Дудовым этот поступок показался не только неподобающим, Но лишенным какого бы то ни было смысла. Зачем Темиркану этот разжиревший овечий пастух?
Но, уподобив себя в разговоре с гуртовщиком Ба-тыжу, которому, чтоб погасить рознь с народом, приходится рыть канаву Баташевым, Темиркан шутил только по видимости. Что ж, дядя Асланбек оказал верно —деды Лукмана Мансурова под ярмом пахали
143
батыжевскую землю, а их внук ощутимо показал внукам своих господ, что он стал силой.
— Хочу поглядеть, как живет мой дружинник, — полушутя, полусерьезно говорил Темиркан, сидя у Мансурова в кунацкой — в комнате, потолок которой, наподобие балдахина, завешен был тканями.
Преобладали зеленые и красные цвета; магазинные ярлыки, чтобы подчеркнуть новизну и высокую цену, нарочито не были сняты. Окна были глухо замазаны, от крепкого запаха фабричной материи и ее ярких цветов кружилась голова. Мебель — новенькая, русского фасона, изделия местных мастеров; все блестело, налакированное. Лукман угощал подобострастно и спесиво.
Князь изъявил желание осмотреть хозяйство гуртовщика.
— Что я покажу сиятельному господину моему? — посмеиваясь, говорил Лукман. — Где мое хозяйство? Земли своей не имею ни клочка. Гурты? Но одни еще на пастбищах, за них лишь уплачено; другие — уже грузят на станции, мне за них платят. Здесь — мое хозяйство. — Он тронул свой большой багровый лоб под зеленой тюбетейкой и боязливо и лукаво взглянул на Темиркана. — Если ты, милостивый господин, любопытствуешь нашими делами, погляди хозяйство Нура Ху-бова, зятя моего: седла, уздечки, шлеи, чересседельники и всяческая обувь славятся по всей округе. Сорок мужчин постоянно, не считая детей, женщин и временно наемных, кормит он заработком.
— А я слыхал, что ты самый богатый человек в Арабыни...
Лукман испуганно взглянул на своего гостя и сначала помолчал. Ему и хотелось похвастать, и боялся он: вдруг знатный господин, однажды уже ограбивший и обидевший, снова захочет его ограбить. Но что-то было во всем поведении Темиркана такое, что отличало его от прочих господ, и гуртовщик решился...
Разговор затянулся до темна. Темиркан понял: по размеру богатства они, Батыжевы, если собственность их перевести на деньги, были неизмеримо богаче всех этих Мансуровых, Хубовых и Кяшевых. Но маленькие богатства этих подлых людей одушевлены хищной
144
жизнью, и те же овцы, кожа, шерсть, масло, мед превращались в их руках в деньги, деньги опять обращались в новые массы вещей, и каждый оборот денег увеличивал и увеличивал общую сумму богатства. Какое-то жадное и быстрое сердце билось в каждом из этих хозяйств, и каждое биение выделяло деньги!
И еще признался себе Темиркан: все эти скупщики, купцы, маклаки жили лучше, чем они, князья Баты-жевы. В их домах было тепло-, светло и чисто, а в огромном батыжевском жилище — холодно, сумеречно и грязновато. У Нура Хубова комнаты были уставлены по-столичному. Жена его — дочь Лукмана Мансурова —старалась одеваться так же, как одевались богатые женщины в Петербурге. О детях же и говорить нечего: мало кто из сыновей горских купцов удовлетворился образованием, полученным в горской школе и арабыньском городском училище. Большинство отдавало своих детей в реальные училища и гимназии ближайших городов. Летом все больше мальчиков в зеленых и синих фуражках можно было видеть на арабынь-ских улицах.
А с батыжевскими княжатами дела шли нехорошо. И когда однажды вдова старшего брата, госпожа Хабибат, пришла к Темиркану, он уже знал, о чем она будет говорить. Высокая и костлявая, плоская и желтая, она стояла, опустив черные глаза, — Темиркан помнил, каким непрестанным счастливым оживлением сияли эти глаза при жизни мужа. Сейчас она донашивала старомодные, но столичного покроя платья. Недавно Темиркан, проходя мимо открытой двери ее комнаты, подсмотрел, как она около зеркала нюхает пустые скляночки духов... Да, плохо- жилось Хабибат, и Темиркан впервые заметил седину в черных, гладко причесанных волосах, на которые она, уступая госпоже Ханифе, накинула черный, изукрашенный зловеще-белыми цветами платок.
Темиркан от своей Дуньят знал уже о том непрерывном поединке, который шел у госпожи Ханифы со старшей, образованной невесткой. Госпожа Ханифа никак не могла простить Хабибат, во-первых, того, что Хабибат не Дудова, во-вторых — что Хабибат училась
10 Ю« Либединский
145
в прогимназии, умеет читать и писать по-русски, и, наконец, она-де «не по-княжески» стремится воспитывать своих сыновей-близнецов. Дуньят, по мягкосердечию не выносившая никаких ссор, пыталась мирить свекровь СО1 старшей невесткой, ей попадало от обеих, и по ночам она плакала и жаловалась Темиркану; он выслушивал, расспрашивал, но не вмешивался. Женские ссоры его. забавляли, отвлекая от новых тревожных и серьезных мыслей.
После смерти старого князя, единственного человека, которого мальчишки боялись, княжата овладели всеми добродетелями, полагающимися рыцарскому сословию, то есть выровнялись в разбойников. Им приписывали деятельное участие в похищении князем Ку-денетовым девочки, крестьянской дочери, — шалость, окончившаяся смертью похищенной. В этом деле один из близнецов, Айтек, который, при тихости и меланхоличности, был едва ли не опаснее своего крикливого и горячего брата Азиса, получил огнестрельную рану в бок. Хабибат смущало отнюдь не то, что сыновья ее участвовали в гнусном преступлении. Пристав на всю эту кровавую историю смотрел сквозь пальцы; князь 1Куденетов щедро одарил полицию, и все участники преступления остались безнаказанными. Но из-за этой истории старый Хусейн Дудов, тот, который упоминался в разговоре муфтия с Темирканом, наотрез отказался подготовлять близнецов в корпус (этим делом он безуспешно занимался уже третий год, — мальчишки два раза, позорно проваливались) . Он не просто отказался: он предсказал госпоже Ханифе, что ее обоих любимых внуков — и нежного Айтека и веселого Азиса — должны в недалеком будущем повесить. Госпожа Ханифа горячо взяла сторону внуков: что это — мальчикам и пошалить нельзя? (Разговор шел в присутствии близнецов.) Хабибат, расстроенная тем, что хороший учитель отказался учить ее сыновей, сказала, что мальчишки, пожалуй, еще молоды, чтобы участвовать в подобных забавах. Но Азис ей ответил что-то вроде того, что: коня слушай больше собаки, собаку больше женщины. .. Хабибат заплакала. «Вот это слово мужчины и воина!» — сказала бабушка.
146
Рассказывая обо всем этом, оскорбленная Хабибат от стыда не подымала глаз на Темиркана. Но Темиркан сам понимал: запускать это дело нельзя. Только вчера еще Лейля, не то хваля мальчиков, не то жалуясь на них, говорила, что девушки боятся из-за них проходить вечером по двору, когда она их посылает по хозяйственным надобностям.
Ростом оба парня почти сровнялись с Темирканом, у каждого из них были свои лошади, ходили они в черкесках, чересчур ярких, говорили хриплыми голосами, и речь их была обильно уснащена русским сквернословием. Волчата, начавшие скалить зубы на родную мать, становились опасны, особенно при влиянии бабушки. Темиркан вызвал к себе в «кабинет» обоих братьев; они, видимо, ждали выговора и явились быстро, одетые точно для того, чтобы плясать в балагане, — в лиловой и зеленой черкесочках, с кинжальчиками, болтающимися на изукрашенных серебром поясах, в барашковых черных шапочках. Этот дядя, ведущий дружбу с разжиревшим овечьим пастухом Мансуровым, отнюдь не внушал им страха. Но Темиркан не стал делать выговора племянникам. Он прежде всего объявил, что в течение недели подыщет им учителя, который станет с ними продолжать подготовку в корпус.
— Этому учителю, дети, вы будете отданы целиком, как солдата отдают офицеру. Да, да, детки, ибо, по завещанию деда и отца вашего, я есмь ваш опекун и воспитатель. И вот я обещаю — а вы знаете, что я не слишком много говорю: это оттого, дети, что мое слово всегда лишь предваряет дело, — так вот мое слово: если только учителю жаловаться на вас придется, вы испытаете то, что испытать можно только один раз в жизни: буйных жеребчиков холостят...
Все это говорил он тихо и совсем беззлобно. Но с мальчишками никто в жизни так не говорил, и хотя угроза холощения явно имела не прямой, а переносный смысл, но тем более зловеще звучала она. Пределы •власти этого дяди над ними были неясны. Но по тому, как он скрутил буйных Дудовых, заставив их просить
147
10*
прощенья у Мансурова, по тому, что пристав был его закадычный приятель, надо было предполагать, что этот дядя мог с ними сделать все, что угодно. И княжата решили пока смириться.
Теперь дело было за учителем, и Темиркан в один из душистых и теплых вечеров отправился к Хусейну Дудову.
Темиркан склонен был занять в отношении Хусейна Дудова позицию своего отца: Хусейн чудит, иногда опасно чудит, но человек он свой. Правда, старик, против обыкновения, не пришел в батыжевский дом после того, как Темиркан приехал домой. Неужели из-за мальчишек? Из-за ссоры с женщинами? И Темиркан шел сам, чтобы помириться с другом отца и старым учителем.
В листве дудовского садика дробился огонь, громко раздавались голоса. Темиркан подходил, безотчетно замедляя шаг: прислушивался. В садике вдруг разговор сменился музыкой: гитара сопровождала скрипку, а следом вступил мужской высокий голос...
И словно ничего еще не было в жизни Темиркана — снова сидит он на коленях старого батыжевского холопа Джуры («Куда он исчез? Умер? Когда умер? Как это я забыл о нем?»), и та же единственная жалость заливает весь мир, и кроме этой жалости ничего нет в мире.
«.. .Ходит Венегер по аулу, просит одолжить ему собаку... Заболел брат Венегера, сказал знахарь: вылечит твоего брата молоко козы, дикой белой козы... Нет у Венегера собаки, чтоб загнать дикую козу. Горе! Нет у Венегера собаки...
Но не дают Венегеру собаку, смеется аул над Вене-гером: кто же в чужие руки даст собаку — долго ходит Венегер по аулу, просит у людей собаку. Горе! Просит у людей собаку.
Вечером возлюбленная Венегера приманила отцову собаку — привела ее Венегеру... «На, злосчастный, на, милый! Возьми нашу собаку, но сбереги ее живою... Горе! Сбереги живою собаку».
Счастье Венегеру, белую дикую козу выследил он
148
у водопоя, гонит собака козу к аулу, а коза уходит в горы. Горе! Коза уходит в горы...
Взбежала коза на крутую кручу, стоит и смеется: оледенела круча, лает собака, не может подняться на кручу, плачет Венегер, не может до козы добраться. Горе! Не может до козы добраться...
Но болен брат Венегера, ждет молока белой дикой козы — и берет тогда Венегер горного снега, нагребает руками и делает ступеньки, лезет по ступенькам к белой козе. Горе! Лезет наверх к белой козе...
Удивилась коза и говорит Венегеру: «Отступись, злосчастный, от безумного дела! Ты залезешь сюда, но сойти отсюда не сможешь, я же одним прыжком перепрыгну пропасть: горе тебе, Венегер, — пропадешь ты здесь на вершине!»
Не отступился Венегер, и свершилось все как сказала коза: втащил Венегер на себе собаку, а коза белым вихрем пронеслась через пропасть. Растаяли сделанные Венегером ступеньки, сидит Венегер на скале и — горе! —с ним собака.
Горе! С ним его милой собака, которую нужно сберечь Венегеру, и режет Венегер мясо из своих ляжек и кормит своим мясом собаку. Горе! Кормит своим мясом собаку!
Тревожится брат Венегера, встает он с постели, о своей болезни забывает, любит брата, ищет брата — находит его...
Горе! Сидит Венегер на скале и кормит своим мясом собаку... Горе, своим кровавым мясом кормит собаку!
Бежит по аулу брат Венегера, скликает народ помочь Венегеру: двое нас братьев, двое сирот, один пропадет — горе другому'будет!
Собрался народ у скалы Венегера, кричит ему: «Прыгай, Венегер! Прыгай! Не продлевай своих мучений, останки твои мы похороним на кладбище бедных твоих родичей. Горе! Бедных родичей твоих!»
Не прыгает Венегер, обнял собаку, греет ее теплом своим, кормит мясом своим. Горе! Кормит мясом своим.
Узнали люди собаку Венегера, послали за возяюб-
149
ленной его: увидит ее, воспрянет его мужество, и прыгнет он вниз. Горе! Прыгнет он вниз...
Заплакала возлюбленная Венегера, надевая свои золотом шитые одежды. Срам и горе нам, Венегер, смерть и горе!
Подошла она к скале Венегера и крикнула: «Венегер! Венегер! Прыгай ко мне на грудь, прямо в мои объятья. Видишь, как крепко я встала, приму я тебя в свои объятья...»
Песня обрывалась так же, как и тогда, в детстве. И Джура на вопрос Темиркана о судьбе Венегера ответил, вздыхая: «Разбился, наверное! Мыслимо ли с такой кручи прыгнуть и не разбиться...»
Чистая детская жалость, на несколько минут залившая душу Темиркана, схлынула. Сейчас песня показалась Темиркану смешна и даже глуповата. Неподвижный, точно делая стойку, подслушивал он шумный, доносившийся из-за листвы разговор. Говорили по-русски о песне, о Венегере... Темиркан не столько понимал, сколько угадывал разговор. Сколько их там? Трое? Четверо?
«Кричат, как галки...» — недоброжелательно усмехаясь, думал Темиркан словами муфтия.
— Меня прошлый месяц на пастбище возили, — сказал хрипловато-веселый голос, очевидно принадлежавший тому, кто играл на гитаре. — Эпизоотия в ба-тыжевских отарах объявилась. Там я и подцепил эту песню. По-дилетантски, конечно, на гитару... Ну, а Гришунька мой тут же в скрипичный ключ ее переложил. И вот, как вспомню я, Хусейн Асадович, ваших земляков на пастбищах, — точно свежей водой в лицо прыснет! В нищете, в страшном невежестве, в болезнях люди сохраняют гордость, силу, веселье. Точно берегут что-то... И что там Экклезиаст и все наши декаденты в сравнении @ этой нигде не записанной мудростью!
Тронув гитарные струны, он тихо и хрипловато запел без слов и опять точно не струны, а самое сердце Темиркана тронул, — ведь этот одновременно печальный, почти горестный и неистово веселый напев пели няньки над его колыбелью...
150
Вдруг, наверное положив на струны ладонь, гитарист заглушил их звучание.
— Кто-то слушает нас, — сказал он, вставая.
И Темиркан тут же, точно сейчас лишь подойдя, открыл калитку и вошел в огражденный ярко освещенной и неподвижной листвой круг, образуемый светом керосиновой лампы.
— Кто порог наш переступил!—обрадованно воскликнула жена математика и тут же вопросительно и смущенно оглянулась на мужа.
Тот поднялся с места: он нисколько не изменился — голова его, как обычно, была закинута назад, стекла очков слепо поблескивали.
Темиркан, вежливо раскланиваясь с гостями Дудовых, успел уловить выражение того взгляда, который хозяйка бросила на мужа, и понял значение этого взгляда: старый Дудов на него сердился. Среди присутствующих Темиркан сразу узнал ветеринара Отрокова — маленький, без шапки, в вышитой рубахе с расстегнутым воротом, из-под которого видна багровая, обожженная солнцем, короткая и толстая шея. Его выпуклые синие глаза были дерзки, русая кудрявая бородка встрепана. «Пьян», — подумал о нем Темиркан.
В руках Отрокова была гитара. Рядом с ним стоял высокий бледный мальчик; скрипка лежала здесь же, на скамье, в раскрытом футляре. Тоненький, стройный молодец в белой черкеске в упор глядел на Темиркана. Конечно, это он пел о Венегере. В его близко посаженных глазах была дерзость, тем более недозволительная, что этот молодой человек был из веселореченских мужиков. Он получил русское образование, — Темиркан смутно припоминал, что отец рассказывал что-то об этом беспокойном человеке. Кёркетов из аула Веселого происходит от рабов князей Тамбиевых, а вон как дерзко смотрит.
«Запомню его!»—думал Темиркан.
Обменявшись с Керкетовым сухим поклоном, Темиркан любезно здоровался с русскими гостями Дудовых. Кудрявая девушка, темноволосая, с блестящими темными глазами и мелкими родинками, рассыпанными
151
по приятному и болезненному лицу. Простое летнее чесучовое платье ловко облегало ее молодое тело. Высокий худой человек в синей форме преподавателя городского училища, в очках и с бородкой, редкой и чахлой, видимо, сопровождал эту девушку.
«Учителя... — думал Темиркан. — 1Керкетов, кажется, тоже учитель...»
Он чувствовал вокруг себя незнакомый, совершенно от него независимый мир, не желающий его к себе принимать, — и это в Арабыни, в Веселоречье, в старинном княжестве Батыжевых! Но его ярость и негодование тут же превращались в лукавство, и он был обходителен, так, как может быть обходителен Батыжев с людьми, которых ему нужно обмануть.
— Здравствуйте, господа, — говорил он. — Простите, что помешал веселой компании. Но почтеннейший Хусейн Асадович, не говоря, что он родственник нам, а народ наш привык с родством считаться, — он учитель мой и любимый друг отца моего...
— Садись, садись, Темиркан, — по-русски, невольно впадая в тон, принятый Темирканом, сказал старик. — Мы рады тебе очень! Чаю! Айрана!
— Дудовский айран... — любезно улыбаясь в сторону русских, говорил Темиркан, поднося к губам глиняный горшочек. — Каждая горская семья этот напиток по-своему изготовляет...
— Он верно говорит, — гортанно и затрудненно сказала седая Дудова, сверкнув красивыми белыми зубами. — Наши дети маленькие были, всегда к Баты-жевым утром бегут айран кушать. «Куда ты? Кушай свой, свежий». — «Нет, говорят, у Батыжевых кисленький».
— А где дети? —спросил Темиркан, переходя на родной язык.
— Как же ты спрашиваешь? Уже учиться уехали, —• тоже переходя на веселореченский и сразу подсаживаясь ближе к Темиркану, заговорила Дудова.
Из-под платка, прикрывающего рот, она улыбалась Темиркану однообразно-красиво, похоже на то, как улыбалась Дуньят, только у старой Дудовой взгляд
152
был смелый и свободный. Она стала рассказывать ему о детях.
Гости уже прощались. Ведя родственный разговор с Дудовой, любезно пожимая руки русским (с Керкето-вым они опять обменялись издали поклонами), Темиркан не переставал наблюдать за своим старым учителем: да, он, несомненно, изменился, — он точно ощетинился...
— Если сам не хочешь, так хоть посоветуй, дядя Хусейн, — говорил Темиркан, когда гости ушли. — Ведь кроме этих двух жеребят Айтека и Азиски, еще мои Карабатыр да Асланбек подрастают... Посоветуй. Ведь ты самый ученый из нашего народа, — говорил он ласково и озабоченно, и, казалось, никакой другой мысли, кроме как о том, чтобы подыскать учителя ба-тыжевским княжатам, у него не было. А между тем он не переставал настороженно приглядываться к старику.
Тот весь пузырился, как перестоявший айран, хмурил свои у переносья залохматившиеся и с концов за-лысевшие брови, вертел маленькой своей головой.
— Для Айтека и Азиса Батыжевых не нужно слово ученого человека. Им в аталыки надо взять конюха...
— Ай-ай-ай!.. — говорил Темиркан, качая головой. — Но что же мне делать? По завещанию отца и брата, я должен их воспитать.
Дудов молчал.
Дудова соболезнующе поглядывала на Темиркана, видимо крайне озабоченного.
— Вышел в отставку, — сказал он со вздохом, — приехал править сам своим домом. Ты слыхал, дядя Хусейн, сколько глупостей наделали мои женщины с мансуровским волом?
— Как же не слыхать? — сердито вскинулся Дудов.— Этим позором все Веселоречье полно. Если ваши женщины не могут понять того/ что крепостное право и княжеский произвол августейше отменены, так ведь может на них найтись еще узда и укротитель.
И математик своим резковато-неприятным, но верным голоском вдруг запел, предостерегающе подняв палец:
153
— О-о-о, Тхамали, ты наша погибель! О, Тхамали, войско крепостных собравший! Большое, хорошо вооруженное войско! Солнце для знатных погасишь, для подлых зажжешь! О ты, погибель наша, Тхамали!
Сумасшедший старик своим петушиным голоском пел эту для князей позорную песню вызывающе и предостерегающе злорадно.
Как бы не заметив этого, Темиркан сказал, покачивая головой:
— Тяжелые, тяжелые времена были! Но больше они не повторятся. Новому Тхамали не бывать — русские крепко держат порядок на нашей земле.
— Почему не бывать? — задорно спросил старик, вскидывая голову так, что очки подпрыгнули на его большом носу. — Я, конечно, не хочу убийства и крови старых времен, но укрощение неистовых, подобных твоей матери, — оно должно прийти. И если те, кому надлежит пасти, пренебрегают своим долгом, укротитель для них найдется! Я знаю молодых людей, которые могут повести наш народ по пути культуры и прогресса! — И старый чудак своей бледной рукой сделал знакомый Темиркану жест — вперед и вверх, как бы намечая в воздухе путь культуры и прогресса.
Темиркан возвращался домой.
«Солнце для знатных погасишь, для подлых зажжешь. ..» Старик ли совратил молодых или молодые встряхнули старого, и старые дрожжи запенились и забродили?
Темиркан не оставил Анне Ивановне своего почтового адреса и не предполагал сам писать ей. Впрочем, если бы она захотела, она могла бы отправить письмо в Арабынь на его имя: письмо было бы доставлено. Но она не писала. Он бы много сказал ей сейчас такого, чего она от него никогда не слышала. Он сказал бы, что тоскует по ней, что она нужна ему.
Он хотел бы написать ей. Но как написать? Офицеры, товарищи Темиркана, со свойственной русским откровенностью хвастались своими любовными побе
154
да ми; случалось, что показывали ему переписку со своими любовницами.
Темиркану эти письма казались нескромными: мужчины представали в них перед женщинами в унижающем мужское достоинство виде, а женщины позволяли себе писать о таких предметах, о каких им даже думать заказано. Но, может, это таи в любовной переписке полагается? И подобает ли мужчине, князю и воину, испытывать к женщине те возвышенные чувства, которые Темиркан испытывал сейчас к Анне Ивановне? И, тем более, писать женщине об этих чувствах?
В дверь тихонько постучали, и в кабинет вошел молодой человек. Ростом он был выше князя, но даже черкеска, серая, скромно обшитая черным шнуром, не могла придать ему воинственного вида. У него были покатые плечи, широкий зад, и, ступая, он сильно подгибал ноги в коленях.
Его продолговатое, смугло-желтое лицо было взволнованно. В губах, молодых и тонких, в длинно прорезанных, узких глазах и бровях, черных и округлых, сказывались напряжение и робость. Но держаться старался он с достоинством. Еще с порога он поклонился несколько неуверенно. Но князь сразу признал в нем сына Бекмурзы Касеева, молодого Джафара. Не то что вспомнил его, но именно узнал черты породы. Обрадованный и изумленный, он с протянутой рукой встал навстречу гостю, так как сам хотел уже искать встречи с молодым арабыньским вольнодумцем, но вот зверь выбегает на ловца... Видя, что князь встречает его почетно, как равного, Джафар разом успокоился и приободрился.
—- Почтенный господин Темиркан, — сказал он, когда князь усадил его и сел сам,— как человек столичный и образованный, ты можешь помочь нам хотя бы советом, — за этим я и пришел к тебе.
Темиркан благосклонно кивнул головой и с ожиданием поднял брови.
— Учится в городском училище мальчик один — Отроков Григорий. И вот коллеги мои (он с удовольствием вставил в свою речь это новенькое «русское» слово), учителя городского училища, отмечают:
155
большие способности к (музыке имеет этот мальчик... Ты, кажется, слушал его: он у господина Хусейна на скрипке играл...
Касеев вопросительно взглянул на Батыжева. Но тот, сохраняя на лице выражение благожелательного интереса, ничего не ответил.
— Вся интеллигенция наша, — продолжал многозначительно Джафар (к слову «интеллигенция» Джафар приставил окончание, свойственное веселоречен-скому языку, получилось новое, не слышанное ранее Темирканом слово, и Джафар тоже произнес его с удовольствием) , — думает, что мальчика надо бы учить дальше, отправить в Петербург или Москву. Родитель небогат, даже на дорогу затрудняется собрать... А ведь музыкальным наукам, верно, лишь за большие деньги обучают...
Темиркан сочувственно кивал головой.
«Зачем тебе надо заниматься каким-то русским мальчиком? — думал он, продолжая разглядывать ара-быньского вольнодумца. — Неужели просто так, по доброте и простоте?»
Конечно, была в Лице этого сына муллы какая-то не подобающая мужчине и воину светлая духовность.
«Или здесь хитрость, разведка — оттуда, из дудов-ского садика? Нам? Наша интеллигенция? И вы тоже, как Лукман Мансуров, объявляете себя силой передо мной?»
Так раздумывая, Темиркан не заметил, что молодой Касеев кончил говорить. Спохватившись и взглянув на своего гостя, Темиркан увидел, что тот не может скрыть обиды.
«Самолюбивый, — подумал Темиркан. — Хочешь много, на силы свои не надеешься, вот и пришел».
И, беря со стола карандаш, Темиркан спросил благодушно:
— Отроков, значит?
— Григорий, — подсказал Джафар.
Записав, Темиркан сказал: «Музыка...» и вздохнул. Анна Ивановна иногда водила его с собой в прозрачный свет концертных зал. В этом свете музыка представлялась ему точно нагойу— или это плечи и
156
грудь Анны рядом с ним? Неподвижно застыв, слушали русские: знатные и богатые впереди и внизу, бедные и подлые позади и вверху. И он раздражался, точно требования какие-то предъявляла ему музыка, но не понимал — чего хотят от него?
— Что ж, музыка занятие почтенное, — сказал Темиркан по-русски. — Если мальчик способный, то помогать надо, а?
— Вы послушайте его, ваше сиятельство, — легко переходя на русский, заговорил Джафар. — Мальчик даже сам сочиняет. И что удивительно: русский, христианин, а музыка составлена из наших песен, которые простые люди по аулам поют, и все сочинение называется «Кавказ» — симфония.
«Кавказ»? — Темиркан повернул голову, словно прислушиваясь, вспомнив, как неожиданно звучала тогда из темноты дудовского садика песня о злосчастном Венегере. И потом опасный разговор... Интеллигенция. ..
— Что ж, — сказал Темиркан попрежнему благодушно, — значит, слушать будем. Я большой любитель музыки. Филармония, консерватория, капелла — это-о! — Он неопределенно повертел пальцем в воздухе. — Будем слушать, а потом будем думать, как помогать. .. Кавказ, а? — и Темиркан усмехнулся своим коротким, жестким смешком.
— Да, Кавказ, — вздохнув, сказал молодой Ка-сеев. — «Как-то раз перед толпою соплеменных гор», — начал Джафар таким обыкновенным голосом, что князь сначала удивленно поднял брови.
«Что-то такое я в младших классах учил», — думал князь.
— «Род людской там спит глубоко уж девятый век, — продолжал Джафар, — все, что здесь покорно оку, спит, покой ценя! Нет, не дряхлому Востоку покорить меня». Верно! — прервал Джафар коротким и резким горским словом плавный и широкий поток русской речи.
Он встал с места; лицо его пламенело тем особенным светом, который казался Темиркану немужественным.
Г57
— Верно! Целый год ездил я по Востоку... Могилы. .. Гроб Магомета, гроб Иисуса, гроб Авраама, гробница Омара, гробницы фараонов, вся Сирия и Месопотамия покрыты могильниками и камнями мертвых городов... — Он вдруг передохнул и добавил уже по-другому, многозначительно и хитро: — Посетил я в Мекке еще одну гробницу — имама Шамиля. — Он молча взглянул на князя, но тот ничем не выразил своих чувств при упоминании этого имени, ненавистного потомкам Алегико Батыжева, сторонникам присоединения к России. И, не дождавшись- слов князя, сын муфтия добавил: — Какие грезы и упования! Сколько крови пролито! И вот итог: камни, тряпки, блохи, и огромные грязные верблюды идут мимо могильника, и на мордах их такое презрение... — Он еще помолчал, взглянул на князя. Но тот был неподвижен, изображая на лице неопределенный сочувственный интерес. И Джафар продолжал: — Во всех гаванях Востока кишат англичане и французы. А в первобытных малоазиатских дебрях, недалеко от Анкары, вдруг увидел я: сильно накренясь, в глубокой рытвине стоит автомобиль. Люди просят слезть с коня и помочь; оказывается, это немецкие инженеры... Идут изыскания железной дороги Берлин — Багдад. Тавриз занят полковником Ляховым, а в Моссуле хозяйничают англичане. Кончено с Востоком, господин Темиркан! — сказал он.
Темиркан неподвижно слушал, трогая усики и ничем не показывая, насколько взволновали его и эти стихи и эта речь. Ему самому непривычно было свое волнение, — оно, конечно, не подобало князю и воину. Но он не мог подавить его: душа, точно пробужденная от дремоты, откликалась.
«Неужели ты пришел лишь для того, чтобы посоветоваться со мной об этом русском мальчике, который сочиняет музыку? — думал князь, глядя на ту хитрую и сложную игру, которая проходила по лицу молодого Касеева, когда он ожидал ответа на свои слова. — Нет, ты пришел этими стихами, этими речами открыть меня. Но не будет этого, — тебе первому придется открыться передо мной! Ты пришел ко мне, а не я к тебе!»
158
— Хорошие стихи, — вздохнув, сказал Темиркан. — Но я, признаться, не люблю стихов. Как бывало оставят в корпусе без обеда да зададут тебе «Царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина...»— И в течение десяти минут перед изумленным сыном муфтия Темиркан своим резковатым монотонным голосом извлекал сокровища своей памяти, непотревоженно хранившиеся с четвертого класса кадетского корпуса. — Интеллигенция наша думает, — мягко говорил Темиркан, — офицеру учиться не надо. Ох! В корпусе нас, как молодых жеребят на корде, гоняют,— зубришь, зубришь, в глазах все зеленое станет...
Некоторое время Темиркан, сохраняя благодушный вид, наслаждался недоумением Касеева. Потом сказал со вздохом:
— Ну, молодой Джафар, наши отцы дружно жили, нам тоже помогать друг другу надо.
И, довольный тем, что недоумение на лице его собеседника уже явно переходит в глуповатую растерянность, Темиркан рассказал своему неожиданному гостю о «самой большой тяготе своей жизни» — о близнецах-племянниках. И вдруг, озаренный внезапным и хитрым вдохновением, он якобы простодушно ударил себя ладошкой по лбу:
— Джафар, отец твой сказал бы, что ты послан самим всемогущим, как исцеление ран моих: возьмись подучить моих тигрят, дабы они сдали в один из младших классов корпуса.
Темиркан не пожалел красок, обрисовывая нрав своих «тигрят», и даже сказал о «невежестве и дикости всего нашего сословия», явно со значением сказал. И Джафар, конечно, понял, что этим князь Темиркан показывал свою оценку глупого дела с мансуровским волом...
— Очень обяжешь меня, если согласишься уменьшить тяжесть моей обузы, — говорил Темиркан, до дверей провожая гостя (это уж была честь!). — И помни: нужда если какая подойдет, вот как сейчас с этим мальчиком, приходи прямо, говори: «Темиркан, здесь требуется твоя рука...»
159
И Джафар согласился взять «на себя обучение баты-жевских княжат.
Жизнь, от века установленная в семье и хозяйстве князей Батыжевых, продолжала идти попрежнему. Все дела, как было и раныпе, направляла Лейля, Темиркан же, как положено было от отца и деда, предавался величественному тунеядству, разнообразя его лишь тем, что время от времени выезжал с приставом на охоту, привозил домой фазанов, перепелок, зайцев, брезгливо предоставляя приставу убитых кабанов. Готовился к большой медвежьей охоте: послал одного из братцев. Дудовых в горы -к Кемалу Баташеву, чтобы подготовить эту охоту. Да, в горы надо было съездить.
Он сделал все, чтобы внушить людям доверие и уважение к той величественной неизменности, в которой от века протекала жизнь его семьи. Но эта неподвижность помогала ему скрывать постоянное внимание, зоркое и хищное, и ни одно событие арабыньской жизни не ускользало от него.
Глава четвертая
Однажды, когда Темиркан возвращался с охоты, мать вышла ему навстречу во двор.
— У тебя гость, — сказала она. — Хотя он, наверное, еврей, мы проводили его в новую -кунацкую, — он богато одет.
И, подымаясь наверх, Темиркан улыбался:
«Да, мать права: с гостем, богато- одетым, надо обойтись почетно, пусть даже он будет еврей».
Однако Темиркан вошел, не постучавшись предварительно, как он сделал бы в отношении всякого почетного гостя.
Хотя кунацкая и называлась новой, но в ней пахло паутиной, тлением. Комната эта и-здавна обставлена была смешанно: низенький, узкий, похожий на скамью, обитую подушками, тянулся вдоль стен диван, старинные ковры на стенах и рядом потемневшие зеркала, шифоньерки с выбитыми стеклами, кресла с провалившимися сидениями, расшатанные стулья, с которых слезла позолота, стол, одна из гнутых ножек которого
160
•отсутствовала и заменена была некрашеной, грубо обструганной деревяшкой. Эта мебель, завезенная в Арабынь еще при деде, изрядно поизносилась, и не раз уж думал Темиркан, что хорошо бы выкинуть ее.
Гость спал. И так как диван был слишком узок для его большого тела, то, подсунув под голову маленькую, •в белой наволочке, свою собственную подушечку и .закинув руки за голову, он спал, отставив согнутую в колене ногу и опираясь ею о пол. Он лежал в дорогом сером костюме, небрежно мял его, и привычный для Темиркана домашний запах этой комнаты был заглушен новыми, столичными запахами одеколона, мыла, крахмального белья.
Закрытые глаза гостя под тяжелыми, чуть розоватыми веками были выпуклые, -нос большой, горбатый и толстый; губы полные, румяные, красиво изогнутые, точно он во сне тихо усмехался. Это чисто выбритое, красивое лицо выражало силу, очень в себе уверенную, •и князь, который, войдя в комнату и увидев, что еврей спит, хотел толкнуть его, чтоб разбудить, сейчас не стал этого делать. Два чемодана, новеньких, «элегантных», как подумал Темиркан, стояли в углу. У Темиркана не было таких чемоданов. «Заграничные», — с завистью и уважением подумал он. На столе тускло поблескивал неубранный, весь в мыле, бритвенный прибор и стояло зеркальце, круглое, носившее на себе тот же отпечаток «элегантности», что и чемоданы. В сравнении с вещами гостя обстановка кунацкой казалась дикой и бедной.
И князь решил уйти, чтобы, как это принято в отношении почетных гостей, прислать человека для услужения: пусть тот сторожит пробуждение гостя, и когда гость проснется, услужающий доложит ему, что князь готов с ним видеться. Раньше чем уйти, Темиркан еще раз взглянул на гостя и встретил вдруг внимательный взгляд его больших и выпуклых серых глаз. Оказывается, не он гостя, а гость его рассматривал. В этом была какая-то дерзость. Но гость с должной торопливостью поднялся и поклонился. Это был средних лет большой и плотный человек.
— Устал с дороги, — сказал он, одернув на себе костюм и сразу приобретя тот богатый вид, который
11 Ю. Либединский
161
произвел впечатление на госпожу Ханифу. — У меня к вашему сиятельству имеется письмо.
Он вынул из-за борта наглухо застегнутого пиджака бледносиреневый конверт, и сердце Темиркана забилось сильнее: на конверте он увидел длинные буквы — только Анна Ивановна писала этими странными буквами, напоминавшими пики в конном строю.
«Сердце мое, — писала она, — рассчитываю скоро увидеть тебя в Петербурге. Рувим Абрамович Гинц-бург, который передаст тебе это письмо, все расскажет. Ты его не дичись — у него есть прямой интерес мне, или, вернее будет сказать, нам помогать. Как хотелось мне перед отъездом сказать тебе все, что я знаю, но1 я ждала, пока Рувим Абрамович приедет — он был в Москве, — и не хотела тебя обнадеживать. Когда он расскажет тебе, ты увидишь, что стоишь на верном пути к богатству, и, значит, скоро мы будем вместе...»
Темиркан бросил быстрый взгляд на гостя. Оказывается, тот, не дожидаясь приглашения сесть, сам опустился на диван. Разложив на диване какие-то бумаги^ он просматривал их и одной рукой, очень белой, ерошил свои кудрявые, темноватые, сильно редеющие волосы, сквозь которые проступала округлость его головы. Получалось так, что гость сидел, а хозяин стоял, — так оно и подобало, но Темиркан обиделся и торопливо и сердито сел тоже. Он опустил глаза в письмо: там далее шли уверения, нескромные и нежные. Он так ждал ее письма, и вот оно в его руках. Но какая-то дерзость была и в том, как держал себя этот еврей, и письмо тоже некстати и оскорбительно напоминало вдруг о том, как обманулся он, когда принял содержанку, наложницу, рабыню богатого иностранца — за придворную даму.
Гость терпеливо ждал. Он дождался, пока Темиркан повернул к нему свое неподвижное, выжидательно напряженное лицо, и сказал:
162
>— Кроме приятной обязанности быть почтальоном между очаровательной Анной Ивановной и вашим сиятельством, — и гость усмехнулся с неожиданно грубой игривостью («Уж не дерзко ли?» — подумал “Темир-кан),— я имею в Арабыньском округе некоторые дела. — Темиркан чуть кивнул головой и сел свободнее, расправив все мышцы своего тела. У него просили помощи — это привычное состояние: так и должно быть...
— Как полагается, после долгой волокиты правительство утвердило устав союза кредитной кооперации по вашей области. Это будет один из самых мощных •союзов: большие деньги (он выговаривал «дзеньги») скопились у казачества, — одобрительно сказал он. — Самое сильное товарищество существует в станице Доблестной. Там есть некто Лаптев, — кто такой?
— Лаптев? — переспросил князь.
Фамилия эта смутно была ему знакома, но совсем не в связи с теми делами, о которых говорил Гинцбург. «Кредитное товарищество»! Князь чувствовал, что он попадает в чужую страну, где все незнакомо, где царствуют непонятные ему обычаи и законы и надо всего опасаться.
— Что это за Лаптев? Среди казаков такой фамилии не знаю.
— Проживает в станице Доблестной.
— Узнаю. В Доблестной атаман Решетников, Николай Силыч.
— Да, да, — оживленно перебил гость. — Председатель товарищества Решетников. А казначей — Лаптев. А что Решетников?
— Решетников — кунак наш, — весело сказал князь. — Лихой джигит и охотник. Гостим друг у друга, пируем, как. же...
— Этого Лаптева я непременно должен найти.— Гинцбург, опять не дослушав, настойчиво вернулся к тому, что его интересовало й что единственно было ему важно, и ни о чем другом не хотел он слушать... — Вот он пишет: «Собираемся ставить мельницу, при ней элеватор...» В смысле операций посреднических это товарищество самое деловое, но областные руково
163
11*
дители союза, ученые кооператоры, мешают этому Лаптеву, запрещают скупку сельскохозяйственной продукции. ..
— Лаптев! — вдруг громко и оживленно сказал князь. Он вспомнил: от Лейли слышал он эту фамилию. — Как же, он у нас скупает что-то там, шерсть, сыр... Но я с этим дела не имею — женщины там... — небрежно сказал Темиркан и был доволен, почувствовав, что Гинцбург, как бы желая возразить, повернулся к нему, но потом, видимо, сдержался.
— Так что Лаптев? — настойчиво спросил он.
— Лаптев не казак — мужик. Иногородний, — пояснил князь.
— Чрезвычайно умный мужик, — сказал Гинцбург. — Пшеница! — И Гинцбург быстро и широко обвел вокруг себя своей толстой и белой рукой. — Пшеница, а прямой дороги нет. К морю дороги нет, а?
Гинцбург вдруг с грубой игривостью, здесь совершенно непонятной и явно дерзкой, тихонько подтолкнул локтем князя и беззвучно усмехнулся. Но эта дерзость опять-таки свидетельствовала о силе, очень в себе уверенной. И Темиркан с той кошачьей гибкостью, которая появлялась в нем во все решающие или опасные минуты, сделал прямо обратное тому, что ему непосредственно сделать хотелось.
— Что ж это! — вдруг ласково воскликнул он. — Дела, разговоры... Гость голоден, гостя кормить надо.
Он хлопнул в ладоши несколько раз. Прибежал слуга.
Видя, что сын проводит время с гостем, госпожа Ханифа еще раз проявила сообразительность: обед был готов. Блюда, конечно, можно было бы ставить на высокий стол, стоявший в кунацкой. Но Темиркан велел слуге подавать по горскому обычаю, и каждую перемену блюд, удивляя гостя, вносили на низеньких трехногих столиках.
— Вы простите нас, — говорил Темиркан, — это мать наша — человек старый. Весь свой век из Ара-быни не выезжала, а мы — что конец света...
— Да, трудно до вас добираться, — говорил гость. — Железную дорогу проводить надо, а? — И он
164
снова непонятно мигнул Темиркану и изогнул свои яркие губы в подобие улыбки.
Ел он плохо, брезгливо ковыряясь в незнакомых мучнистых и пряных кушаньях. «Капризен, прихотлив и жаден!»— думал Темиркан, угощая. Насытившись, гость стал оглядываться вокруг, ковыряя в зубах зубочисткой, вынутой из футлярчика, который был у него в кармане. Темиркану это казалось противным и неподобающим, но он утратил обычную уверенность в правоте всех своих чувств...
— В столице этому вот цены нет! —сказал гость, кивая на ковер, который прикрывал стены: на фоне черного неба изображены были дерущиеся синие орлы.
Князь промолчал, но когда слуги внесли перемену блюд, он что-то гортанно приказал. Слуги бесшумно и быстро сняли ковер, и темные, как в старой избе, бревенчатые стены показались из-под ковра, который тут же был свернут и с поклонами положен к ногам гостя.
— Что вы, ваше сиятельство!..
— Бери, не обижай... — сказал князь, и щеки его дрогнули.
Гость поглядел на хозяина с любопытством и повеселел. Хозяин тоже был доволен: тому, что ковер этот дорог, он не поверил: чего-чего, а тряпья, которым князей Батыжевых с незапамятных времен одаривали армянские купцы, было еще полно в кладовых. Но он добился того, чего хотел добиться. Что-то изменилось в глазах гостя, — или, может быть, это было просто послеобеденное довольство? Гость отвалился на диван, он почти лежал, кряхтя и ковыряя зубочисткой во рту.
Темиркан терпеливо ждал продолжения разговора.
— Значит, Решетников... Лаптев... и еще мне у (вас надо нескольких человек повидать...
Темиркан, улыбаясь, развел руками.
— Все наши люди будут служить нашему гостю, — сказал он с той особенной шутливостью, величественной и любезной, которой он так хорошо владел с детства.
Гинцбург внимательно поглядел на него: «Ого, вот сколько ты стоишь!..» — вот что мог означать этот взвешивающий, оценивающий взгляд.
165
— Отроков, — сказал Гинцбург почти требовательно. — Знакомо вашему сиятельству это имя?
— Ветеринар наш, — ответил Темиркан удивленно. — Стада наши лечит...
По своей неучтивой манере Гинцбург не стал дослушивать.
— Прекрасно, — сказал он, — с ним-то мне и надо увидеться.
И, как бы отвечая на недоумевающий взгляд князя, он тяжело перевалился всем полнеющим телом, потя-гулся за своим большим блестящим кожаным портфелем и достал оттуда какую-то книгу, тонкую и широ-1 ую, похожую на красивую тетрадь. Темиркану эта тетрадь напоминала получаемый Анной Ивановной з з-за границы журнал мод: такая же нарядная об-Ложка и бумага такая же, не русская, беломатовая и толстая...
— Вот! — Гинцбург протянул тетрадь князю.
И тот поразился еще более: обрамленное иностранным шрифтом — «французским, наверно», по смутным госпоминаниям о корпусе решил Темиркан, — на него со страницы этого иностранного журнала смотрело изображение родной Арабыни, со всеми ее хребтами, темными и все более туманными, поднявшимися над скоплением домишек. На переднем плане — казак на арбе, в облезлой, заломленной набекрень папахе, вброд переезжает пенящуюся речку и, смеясь, показывая белые зубы, глядит, видимо, прямо в объектив аппарата. Высится минарет.— Темиркан даже сразу нашел посреди слободы густую, темную массу дерев своего сада, из-за которой на фотографии не был виден самый дом его.
— Ученый француз, — говорил Гинцбург, — несколько месяцев прожил здесь у вас, упоминает и отца вашего... — Гинцбург явно замялся: видать, от этого француза ничего лестного об отце, своем Темиркан услышать не мог. — Ну, и вот он пишет, — говорил Гинцбург, водя по строчкам: — «По мере того как из блестящего Петербурга, в котором варварство искусно прикрыто лаком цивилизации двадцатого столетия,
166
удаляешься в глубь России, кажется, что опускаешься... — Гинцбург помедлил: видимо, его затруднил перевод, —в мутную, в темную, что ли, глубь столетий. .. И здесь, у подножия Кавказа, достигаешь тех таинственных времен, когда в огне первых очагов зарождались религии. И под сапогом самой гнусной азиатской деспотии...» — Гинцбург мельком взглянул в лицо Темиркана. — Ну, тут дальше все в таком духе, — он перекинул страницу. — Вот, — сказал он, показывая отчеркнутое место: — «Во всем городке два культурных человека; князь Дудов, азиат, математик, — много интересного поведал он о судьбе своего маленького народа...» Но это не то, — сказал опять Гинцбург, пробегая строчку глазами. — Вот! — возбужденно воскликнул он: — «Отроков, ветеринар. Это натура по-славянски мечтательная и беспорядочная, обладает обаянием людей эпохи Возрождения, среди дикости, его окружающей, это — цветок, поистине редкостный». — Гинцбург усмехнулся. — Француз! — сказал он, покачивая головой. — Тут он этого ветеринара так расхвалил: музыкант, поэт, ученый, — врет, наверно, француз, А вот то, что нам надо: «В одаренности этой натуры есть нечто гармонирующее с землей, ее породившей. Отроков, помимо прекрасного знания своего дела, является почвоведом и геологом, неустанно исследующим недра своей земли. Он утверждает, что богатства ее неслыханны: сурьма, кобальт, хромо-никелевое железо, асбест, барит, кадмий, мышьяк, олово, титан, селитра, гипс, сера». Сера! —с силой повторил Гинцбург, отбрасывая журнал. — Все остальное — это ч-ш (так он произносил слово «чушь»), но сера!
Темиркан поднял с пола журнал.
— Что он еще написал о нас? — спросил он негромко.
Гинцбург взял из его рук журнал.
— Много чего, —ответил он с усмешкой, перелистывая статью. — «Сочинения Пушкина есть во всем городе в трех экземплярах: в библиотеке городского училища, у Дудова и у Отрокова. Языками во всем городе владеет опять же только Дудов. Я имел удовольствие беседовать с ним на нашем прекрасном} един
167
ственном языке; он говорит, конечно, затрудненно, но для варвара довольно правильно!..» Вот еще: «Каждую осень здесь холера. Веснами свирепствуют тифы, скарлатина и другие инфекционные болезни, — население их называет «горячка», так и написано латинскими буквами, — усмехнулся Гинцбург. — «Каждое лето изнуряющая лихорадка. Между тем самый воздух целебен, прозрачность и чистота его непревзойденна». Ну, дальше подсчитано количество солнечных дней, измерения температурных колебаний. «Свежие полуденные ветерки и незабываемые, лишенные какой бы то ни было сырости вечера... Чудо: фруктовые леса, тянущиеся на десятки километров и круглый год благоухающие. Не находись этот край в руках одной из самых отвратительных деспотий — здесь был бы очаг борьбы со всевозможного рода болезнями — туберкулезом и ревматизмом в особенности, тем более, что дикие серные источники...» Опять сера! — возбужденно воскликнул Гинцбург. — Как бы мне, ваше сиятельство, найти этого Отрокова? И подумать! Чтобы найти в России нужного человека, нужно читать заграничные журналы! — неожиданно рассердился он.
Темиркан ничего не. ответил, заботясь только об одном: чтобы не показать, как он поражен всем.
«Сера, которую он ищет, может оказаться на моих землях, — уж не об этом ли пишет Анна?» — подумал Темиркан.
Опять, более чем внимательно, с жадностью и уважением обернулся он к гостю — и поразился: гость разостлал на полу кунацкой большую географическую карту. Это была та, издания Генерального штаба, карта Северного Кавказа, которую он рассматривал вместе с любовницей, — вон его рукой вычерченная, неправильная, похожая на башлык, фигура — площадь его владений.
Но Темиркан заметил на карте нечто новое: от бледнозеленых предгорий, через коричневые горы, перерезая одно узкое крыло его владений, резко выделяясь на белой полосе, обозначавшей снежный хребет, к юго-западу, к яркой синеве моря, пролегала красным карандашом намеченная черта. Темиркан заинтересо
168
ванно пригнулся к карте. Эта черта начиналась от железнодорожной магистрали, пролегала через Арабынь. .. Выхоленный, блестящерозовый, как у женщины, ноготь гостя медленно полз от железнодорожной магистрали по красной черте все глубже в горы.
— Обратите внимание, -ваше сиятельство: это проектирующаяся Черноморско-Кавказская железная дорога, — не очень громко, но внятно говорил Гинцбург. — Изволите видеть, она отчасти проходит по вашим землям...
Склонившись над картой, Темиркан читал вековечно знакомые названия аулов: Веселый аул, Старый аул, Баташей, Римская башня. Это была старинная купеческая тропа, та самая тропа, которую некогда прошел его предок Батыж... Так началось возвышение его семьи.
— Скажите, ваше сиятельство, — медленно и монотонно спросил Гинцбург, — что это за пастбищные угодья, являющиеся общественной собственностью вашего народа? — Снова чистый белый палец с розовым, тщательно отделанным ногтем коснулся карты в том месте, где красная черта шла по светлокоричневым предгорьям, углубляясь в темнокоричневые цепи и белые снега. И, выслушав пояснения князя, гость медленно проговорил:
— Дорога пройдет над Баташеем, как раз по этим самым общественным землям. — Он помолчал. — Земля эта через два года будет в десять раз дороже.
Он опять замолчал, как бы чего-то не договаривая и ожидая слов Темиркана. Но Темиркан молчал, и Гинцбург, склоняясь к нему, тихо и внятно спросил:
— Ваше сиятельство, не могли бы вы сейчас, пока о дороге никто не знает, приобрести эту землю? Купить ее, — пояснил он. Если вам нужны дзеньги (он так и говорил, не деньги, а дзеньги, со звоном), я найду вам кредит, а?
Темиркан ответил не сразу.
— Августейший рескрипт, установивший порядок пользования этими землями, не допускает никакой купли-продажи, — хрипловато сказал он.
Опять наступило молчание, более продолжительное.
— Но, ваше сиятельство... — раздался опять моно
169
тонный, настойчивый голос, — один августейший рескрипт может быть отменен другим августейшим рескриптом.
— А как же я... — начал удивленно Темиркан и вдруг ощутил на своем колене теплую тяжелую ладонь Гинцбурга.
— У вас ведь есть такая рука, ваше сиятельство. .. — И негромкий, невозмутимо спокойный голос смело назвал имя великого князя, покровителя Темиркана, одновременно с тем, как сам Темиркан про себя это имя произнес. — Правда, он берет крупно, — со вздохом сказал Гинцбург и откинулся на подушки.
— Чтобы я — его высочеству?! — тихо, негодуя, спросил Темиркан. Но спрашивая, представил себе розовое и весело-пьяное лицо старика и, негодуя, знал, что негодует притворно, что великий князь взятки, конечно, берет.
— Лично вы — его высочеству?!—спросил Рувим Абрамович, и Темиркан услышал в его монотонном голосе нотки веселого удивления. — Да, правильно говорила Анна Ивановна, — ваше сиятельство человек не деловой. Но положитесь на меня. Вы панну Ржевус-окую знаете? Ну, конечно, кто ж в Питере ее не знает! Так вот — Анна Ивановна увидится с панной Ядзей, и — проше пана...
Весь Петербург знал, что графиня Ржевусская — любовница великого князя. И -вот Анна Ивановна, дочь хозяйки прачечного заведения, увидится с графиней Ржевусской, и этот еврей будет направлять все... Темиркан слушал молча, с неподвижным лицом, не желая показать своему гостю, что в отношении к нему он сейчас чувствует. Он знал* что этого человека надо сейчас же от себя выгнать. Но как бледно и немощно было это побуждение... С новым для себя, еще неизъяснимым чувством глядел Темиркан на эти белые и чистые, холеные и никогда не знавшие ни охоты, ни войны, ни труда руки. Какое могущество в этом медленном движении толстоватого пальца по красной черте — черте, которая оживляла путь разбойничьих подвигов деда Батыжа, — стреле, летящей к заветным гаваням Черного моря.
170
— На Черном море будут строить порт, а здесь, в Арабыни, кооперация поставит элеватор, по станицам — мельницы. Большое дело. За границей интересуются. .. — И, понижая голос, Гинцбург добавил: — Имею получение от общества «Транслевантина» обратить особенное внимание на это дело. И когда казачья пшеница потечет, — он быстро провел пальцем над картой, — прямо в трюмы заграничных пароходов, какие дела мы с вами делать будем, ваше сиятельство... Пшеница, подсолнечное семя, конопля... — говорил он, загибая пальцы.
Этот голос, монотонный и медленный, опьянял и горячил Темиркана. Он чувствовал, что Гинцбург многого не договаривает. С проектом железной дороги, сооружаемой правительством, очевидно, были связаны, и богатые, возглавляемые иногородним Лаптевым казаки. Но за этими, все же знакомыми и понятными людьми Темиркан чувствовал движение каких-то таинственных, могущественных и алчных сил.
«Транслевантина», — что-то пряное, чужое слышал Темиркан в названии этого заграничного общества, которому есть дело до стратегической железной дороги, строящейся русским правительством. До дел кредитной кооперации? До казачьей пшеницы? И даже до него, князя Батыжева? И даже до того, что скрыто в недрах его земель?
А Гинцбург, не изменяя выражения своих глаз, длинно улыбался, и в этой улыбке Темиркан узнавал тот страстный азарт, который он сам испытывал на скачках, в воинском деле, на охоте. Гинцбург высказал уверенность, что и среди горцев созрела необходимость в учреждениях мелкого кредита.
— Наша задача — собрать воедино разрозненные сбережения и превращать их в дзеньги.
Он так произносил это слово, что оно становилось тяжелым и звонким и самими звуками своими говорило о могуществе.
Темиркан уже знал место Гинцбурга в учреждениях кредитной кооперации и то, за чем он сюда приехал. Он был чем-то вроде инспектора при банке, финансирующем кредитную кооперацию, и приехал что-то такое
171
проверить в областном союзе, в частности — в местном доблестновском товариществе. Но Темиркан чувствовал, что дело совсем не -в официальном званий Гинц-бурга, — в том незнакомом мире, на пороге которого сейчас Темиркан стоял, над ^иерархией официальных званий господствовала другая, мало ему постная, но очень могущественная сила. И этот взгляд, пристальный и безразличный, эти неторопливые движения белых рук были насыщены этой силой. Не та ли это сила, отсутствие которой он чувствовал у себя? И у него с этим евреем как-то сам собой установился тот тон дружеского равенства, который у него устанавливался только лишь в отношении родовитых дворян-офицеров. Тон, предполагавший готовность для друга сделать все... Рувиму Абрамовичу нужен Лаптев? Если он в Арабыни, завтра он будет представлен Рувиму Абрамовичу. Если же нет и Рувиму Абрамовичу придется поездить по Арабыньскому округу, — лошади князя к услугам Рувима Абрамовича. Ветеринар Отроков? Завтра он будет здесь. Рувиму Абрамовичу нужен образованный горец для работы в союзе кредитной кооперации? Что ж, князь может рекомендовать молодого человека. Очень умного, очень грамотного — Джафара Касеева, сына муллы. Завтра же утром сын муллы будет здесь...
— В Петербурге, Рувим Абрамович, я маленький человек, — с гортанным смешком говорил Темиркан. — Но здесь я князь, а народ наш чтит своих князей. Мы же, Батыжевы, среди князей считаемся первыми, — говорил он с добродушным смешком.
Но гость слушал неподвижно, не выражая никаких чувств, и у Темиркана блеснула озорная и жестокая мысль.
— Эх, — сказал он, — завтра с Осип Иванычем знакомить вас буду! Это пристав наш, — добродушно пояснил он. — Хороший человек, — говорил он, как бы не замечая, что некоторое беспокойство прошло по лицу frocTH. — Какие молодцы вместе сойдутся... — продолжал князь. — Э-эх, мы тут больших дел наделаем, мы на медведя охоту сделаем!..
172
«Еврей будет охотиться на медведя вместе с приставом!»— Темиркан забавлялся. Но так же, как при дарении ковра, он зорко следил за тем удивлением и интересом, которые все чаще взблескивали в глазах гостя, — именно этого он и добивался.
Пожелав гостю спокойной ночи и предоставив ему в распоряжение одного родича и двух слуг, с которыми тот, видимо, не знал что делать, князь вернулся к себе. Хотя был поздний час ночи, он не лег спать. Все, что за томительные месяцы, прошедшие со смерти отца, собиралось и копилось в душе Темиркана, сейчас точно вспыхнуло, и он чувствовал в себе такую силу, что, шагая по своему кабинету, тускло освещенному керосиновой лампой, он порой, как кошка, гибко потягивался и зевал. Он понимал, что ему повезло, что счастье выигрыша, самое глупое счастье, свалилось ему в руки, — он бы запер на ключ новую кунацкую, где спал Гинцбург, так он дорожил им! И все вспоминалась сказка, слышанная в детстве: богатырь, ухватив за гриву морского коня, захлебываясь соленой волной, ослепленный, продрогший, не выпускает этой гривы из рук, и конь бешено мчит его через весь зеленый Каспий, к берегам, где высятся скалы изумрудных камней, где проходят синие грозы и сыплют на землю тяжелый золотой дождь. Нет, Темиркан не выпустит гривы, не упустит золотого ливня.
И при этом он чувствовал смутно и оскорбленно, что, не будь он любовником содержанки банкира, будь сама Анна Ивановна другим человеком, не мог бы попасть он под золотой дождь, собиравшийся над его головой. И он вздрогнул от стыда. Но как бы то ни было, а он возьмет эту дорогу через белые горы к благоухающим южным морям — старинный разбойничий путь предка своего Батыжа.
ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ
Глава первая
Науруз пас ягнят на поляне, орошенной никогда не смолкающим веселым ручьем. Здесь пастбища, мягко переходя с одной плоскости на другую, образовывали как бы лестницу, необозримо широкую и пологую, — Наурузова поляна была верхней ступенью этой лестницы. Вершины хребта отсюда казались всего лишь холмами, покрытыми снегом, и совсем близко виден был высокий, весь в сверкании тающей воды, край ледника, лежащего на щебне. Одним своим склоном Наурузова поляна выходила к обрыву. Оттуда, с большой вершины, виден был лес, занимавший всю громадную котловину и взбегавший на соседний кряж. Это была опасная сторона: из леса к стадам могли подкрадываться хищники. С другой стороны скат полого сходил на широкую зеленую луговину, как бы расшитую бесчисленными мелкими стежками. Это были овцы князей Батыжевых, и пасли здесь Верхние Баташевы. Наурузу всегда виден был их бревенчатый кош с зеленой, поросшей травой крышей. Сверху казалось, что это строение можно поставить на ладонь.
Лето переламывалось на осень, дни стояли прозрачные, словно стеклянные. Но сегодня было особенно
174
тихо. На небе ни облачка: горы, пастбища, ущелья — все застыло, все неподвижно молчит. И только порою какая-то тень бесшумно и быстро летит по зеленой ряби лесов, по серым скалам, по тем древним, не поддающимся даже летнему солнцу, грязноватым и пористым льдам и сугробам, что лежат на вершинах и перевалах. Вот она пронеслась по веселой траве орошенных ручьями пастбищ, и сияние струящихся вод на миг погасло. Наурузовы ягнята, кудрявые и до блеска черные, встревоженно подняли головы и теснее сбились в кучу. Науруз тоже поднял глаза вверх, — необыкновенной величины орел парил в лучах солнца: это его грозная тень потревожила ягнят. И мгновение спустя эта же тень пробежала по смугло рдеющему лицу девушки: от коша Верхних Баташевых вверх на поляну, где пасет Науруз, подымалась она. Задержав шаг, девушка быстро взглянула на небо, — увидела ли она грозного хищника? Поправив свой прикрывающий голову широкий с красными кистями платок, она продолжала подниматься по тропочке, желтоватой среди сочной зелени луговой травы. Науруз знал эту девушку: Нафисат — младшая дочь Верхних Баташевых.
«Что-то она несет»,-—подумал он, когда, подойдя совсем близко, она замедлила шаг и он увидел, что в руках ее, прикрытое вышитым полотенцем, шевелится что-то живое. С любопытством и смущенным испугом глядел на нее Науруз. Он знал ее с детства. Но за последний год в ней происходила та быстрая и привлекательная перемена, которую можно сравнить только с приходом нового времени года и лучше всего — с переходом от зимы к весне. Она то становилась грустна, то смешлива, порою застенчива, а то и дерзка. Науруз относил к себе эти изменения, радовался или огорчался, но всегда недоумевал. Вот и сейчас — она стоит перед ним, тоненькая, стройная, и молчит. Или она просто не в силах перевести дыхание оттого, что быстро шла? Белизна одежды оттеняет смуглоту ее нежного, почти ребяческого лица, черные ресницы опущены — в этом есть тайна. Какая? Ее глаза были опущены, потому что так велела мать, — ей уже шел пятнадцатый год.
175
— Я нужен кому-нибудь из ваших, дочь Баташевых? — наконец спросил он.
Услышав его смущенный и ласковый голос, она быстро подняла глаза и вдруг сняла полотенце. Науруз увидел в руках ее белого ягненка. Легко присев, На-фисат поставила его на землю. Точно ослепленный светом, ягненок, слегка расставив свои тонкие ножки, некоторое время был неподвижен, потом вдруг кинулся с тропинки туда, откуда ему светила яркая зелень травы, и стал жадно нюхать ее своими нежными розо-вато-прозрачными ноздрями. Они оба засмеялись.
Сидя на корточках, Нафисат снизу следила за л^* цом Науруза: ягненок, видно, ему понравился. Сдвинув на затылок свою широкополую войлочную шляпу, он сказал:
— Во! Такой белой масти барана я никогда не видал! Только в песнях про таких поют.
— Спой, — попросила девочка, и некоторое озорство слышно было в ее голосе.
— Я петь не могу. Слушать песни люблю, а петь не могу: нехорош мой голос для пения,—сказал он серьезно. — Откуда у тебя эта белая чудесная тварь? — спросил он.
— Мне его отдали братья, — отвечала Нафисат. — У нас так положено: весь белый приплод — мне.
— И много ты получила этого белого приплода? — спросил Науруз.
— Нет, — ответила Нафисат. — Еще ни разу наши овцы не приносили белого приплода. Пестрый все-таки иногда попадается, а белый — вот... на моей памяти первый.
«Как князь с твоими братьями, так и братья с тобой. ..» — подумал Науруз. Он знал то условие, на котором Верхние Баташевы пасли княжеских овец. Это условие уже во времена старого Алегико Батыжева, когда оно заключалось, было кабальным. Но вследствие строгого, продолжающегося полстолетия отбора порода батыжевских овец становилась все чище, даже пестрый приплод попадал редко. Ягненок же белой масти мог родиться настолько редко, что казался чудом.
176
— Про тебя говорят, что ты от отца волшебное слово знаешь — говорила Нафисат, — и я... Я на зиму тебе теплые чулки свяжу, только ты выпаси мне его. — Забыв наставления матери, она блестяще-черными ребячьими глазами, взволнованная и уверенная в ценности того, что обещает, серьезно глядела на него. — Слово мое строго, у меня уже и шерсть спрятана, — добавила она.
«Дитя», — подумал Науруз.
Но ответил серьезно:
— Я выпасу его.
Нафисат не могла сдержать довольной усмешки. Но нельзя, чтоб он видел, как рада она, и глаза ее снова опущены. Из-под ресниц незаметно оглядела она большого парня, который смирно стоял перед ней. «Чистый какой», — подумала она. Одежда его была тщательно заплатана, виден крупный, не женский стежок.
«Сам зашивал, — думала девочка. — Сирота».
— Ты почему к нам не ходишь? — спросила она. — Может, зашить, постирать что нужно? Наша мать про тебя вспоминала.
Парень, ничего не отвечая, смешно топчется на месте, молчит.
«Другой бы хоть спросил: «А может, еще кто вспоминает?» А он даже имя мое не называет, — все дочь Баташевых. Разговаривает как старики учат...» — подумала она, но не ушла.
И, откашлявшись, он начал рассказывать пастушьи новости.
— У Горячего водопада видели верхового, боимся, что с той стороны, — и Науруз указал на хребет, где белые снега точно скрепляют и запечатывают узлы самых высоких вершин, у которых сходятся продольные и поперечные цепи.
— Из-за гор хорошего не жди, — ответила девочка старинной поговоркой.
Разговор их то и дело прерывался. Но расходиться не хотелось. Занятые друг другом, встревоженные тем, что впервые так необычно волновало их, они не замечали, что по траве, по сияющим ручьям и по их лицам все чаще быстро, бесшумно и грозно проносится огром-
12 Ю. Либедииский
177
пая тень орлиных крыльев. Все уже круги, все темнее и шире эта тень —и вот крылатая и тяжелая сила упала на поляну. Не успели они оглянуться, как хищник с клекотом взмыл к небу, унося белого, жалобно блеющего ягненка. Отчаянный вопль Нафисат ответил ему с земли.
Науруз кинулся в свою маленькую, аккуратно обложенную дерном землянку. Из-под бурки и бараньего полушубка он выхватил свое ружье и прицелился вслед улетающему хищнику. Выстрел. И вот то, чего с восторгом и отчаянной надеждой ждала Нафисат: орел наискось падает, беспорядочно взметывая крыльями, точно опускаясь на дно, но все еще не выпуская своей добычи. Вот он сорвался в глубину одной из долин, в самую чащу леса. Все тихо. Нафисат сидит на земле, спрятав лицо в ладонях.
— Ты постереги моих овец, — помолчав, сказал Науруз.
Нафисат подняла на него влажно блещущее и зарумянившееся от -слез, полное отчаяния и надежды лицо.
— Ты пойдешь, да?
— Надо идти, — ответил Науруз. — Ты передала мне ягненка на выпас, а я зазевался. Целясь, старался я не задеть ягненка, так что, может, он еще и живой.
— Яс тобой пойду! — Она стремительно вскочила на ноги, слезы сразу высохли на ее красивых худощавых щеках. — Ты погоди, я сбегаю за нашими, чтоб постерегли твоих ягнят.
Нафисат не понимала, по каким приметам вел ее Науруз. Они лезли по бурелому, перебирались через яростно-белые горные потоки, вступили в сосняк, почти заглушенный снизу буйным орешником, шиповником и кизилом. И вот— на земле, ломая перья, бьется и шипит огромная птица. В предсмертной муке дерет она клювом траву и землю... Услышав из глубины кустарника жалобное блеяние, Нафисат кинулась туда... Вдруг навстречу ей бесшумно поднялась с той стороны кустарника буровато-желтая огромная и мохнатая куча — сам лесной хозяин: медведь. В невероятной близости от себя видела Нафисат его черноносую, не злую морду. Тихо, как бы предостерегая, он зарычал. Нафи-
178
сат подалась назад к Наурузу, но вдруг отбросив ружье, он твердо положил одну руку на рукоять кинжала, другую же протянул зверю.
— Миша, — сказал он, — отступись! Это не твоя — это моя охота.
Науруз отбросил ружье, вспомнив, что вторично не зарядил его. Все стало -вдруг холодно, ясно, — это была жестокая ясность смертельно опасного положения. Он знал: бежать нельзя — смерть. Упасть? Притвориться мертвым? Дед Магмот так учил — медведи мертвецов не терзают. Но Нафисат... Догадается ли она сделать так же? Ни на секунду не забывал он о ней, чувствовал себя нераздельным с ней, — это делало его сильнее и спокойнее... Кинжал? Что ж, он положил руку на рукоять. Дед Магмот учил: со всей силы, снизу, в самое сердце нужно ударить медведя! Только раз можно ударить. .. Но что, если добром сговориться?
Науруз близко видел перед собой смышленые, блестящие глазки зверя. Медведь был удивлен. Он еще не сердился, но рычанье его делалось все более грозным. Нафисат схватила Науруза за рукав и потянула его назад, но он стоял твердо и не -поддавался ей.
«Обезумел», — подумала Нафисат, слушая невероятную беседу: ласково уговаривающий, но настойчивый голос Науруза и рычанье зверя, все более угрожающее.
— Миша, — говорил Науруз, — дикие пчелы собрали много меду, созрели ягоды, налились соками самые вкусные корешки, — ты сейчас сытый, Миша. Этот ягненок нужен тебе для озорства.
Науруз говорил, точно песню пел. Но медведь, рыча, поднялся уже на задние лапы. От него пахнуло горячей и душной вонью. Науруз выхватил кинжал из ножен. Медведь уже шел на него. Он своей огромной лапой покрыл Науруза и вдруг с ревом и хрипом повалился, упал на него, скрыв его под собой...
Нафисат кинулась к огромной содрогающейся туше. Лужа темной крови медленно выплыла из-под медведя. Кто убит? Медведь? Но что Науруз? Окровавленная рука показалась из-под медвежьей туши -и уперлась -в землю, за ней бритая, без шляпы, голова... Нафисат
179
12*
помогла Наурузу вылезть из-под страшной горячей туши. Обильная, яркая кровь выступила на спине Науруза, там, где, в лохмотья разодрав его одежду, прошла медвежья лапа.
— В самое сердце, — гордо сказал Науруз.
Стиснув кулак, он показал, как ударил медведя. Но, не договорив, вдруг побледнел, потяжелел, и Нафисат помогла ему опуститься на траву.
— Ничего, — сказал он с закрытыми глазами.
«Что же это я держу его руку?» — подумала Нафисат, но ничего себе не ответила.
Он лежал с закрытыми глазами, румянец медленно возвращался на его лицо. Кровь, щедро расплеснутая по земле и траве, быстро темнела: свертывалась. Он лежал, широко раскинувшись, чернобровый, румяный, и жадно тянул воздух сквозь запекшиеся губы и ноздрями, веселыми и смелыми. Рядом сраженные хищники — заколотый медведь, застреленный орел. Солнце дрожит в листве и траве. И везде — брызги крови по зелени, и ягненок ворошится в кустах, и жалобно блеет ягненок, такой белый, как в песне...
В этот день старик Исмаил и два его старших сына работали «на поле». Сыновья пошли в мать: оба силачи-великаны, на две головы выше отца. Их широкие смугло-красные лица так схожи, точно это в двух образах один человек. Но на лице старшего, Мусы, больше неподвижной важности, оно как бы отражает неподвижность камней, среди которых прошла его жизнь. Младший, Али, более суетлив, лукав и добродушен. Старший считал его болтуном.
Вот и сегодня Али остановил вдруг работу.
— Что это было за дерево? — спросил он, и сразу же дед Исмаил тоже выпрямился, утер пот.
Муса некоторое время один продолжал с яростным грохотом громоздить камни. Но Али задал вопрос о той диковине, которую они дней десять назад обнаружили под камнями — почерневший и сразу рассыпавшийся в прах ствол дерева. И Муса тоже распрямился, прислушиваясь к разговору отца и брата. Исмаил с того дня, как нашли дерево, твердил, что находка эта означает близость земли. Муса слушал без возражений: раз отец
180
говорит — наверное, так оно и есть. Али возражал: может, здесь было когда-то русло ручья, дерево принесло с гор, а потом и дерево и русло были покрыты каменным обвалом. Исмаил продолжал упорно повторять: земля близка — она здесь, под камнями. Потолковав, они снова взялись за работу.
Так и работали они: когда кто хочет отдохнуть, отдыхает, кому надо уйти — уходит. В движениях их не было торопливости, — десятилетия работы породили такую точность сноровки, что друг другу на помощь они приходили без зова: слышно, как, одолевая непосильную тяжесть, закряхтит отец, и сыновья разом с двух сторон подгоняют под его камень свои ломы, отполировавшиеся в работе, и камень встает из своего холодного гнезда. Муса не хитер и не всегда догадывается, как удобней подымать камень, и тогда сообразительный Али приходит к нему с советом. Зато никакая самая упорная порода не могла устоять против силы Мусы.
Не успели они возобновить работу, как Али снова остановился.
— Наша мать зовет! — сказал он, прислушиваясь.
Отец тоже стал слушать; капли пота быстро бежали по глубоким морщинам его лица. Муса продолжал бить кайлом яростно и укоризненно, но отец положил руку на его большое плечо, и Муса неохотно распрямился. В этот момент на больших камнях, окружавших расчищенный участок, показался стройный мальчик, младший из детей Исмаила и Хуреймат, Азрет. Он кричал что-то отцу и братьям, но шум и возгласы, доносившиеся откуда-то снизу, с тропы, заглушали слова мальчика. Отец положил кирку и стал подниматься вверх по камням; сыновья последовали за ним.
Возле дома Баташевых, у каменной ограды, сложенной из неровных и шатких камней, собралась толпа. Посредине этой толпы старшие Баташевы увидели свою Нафисат. Платок сполз с ее прямых черных волос, сейчас необычно растрепанных. О чем говорит она, показывая на Науруза, Керимова сына, движениями, для девушки неподобающе размашистыми? Старики и женщины помогают Керимову сыну стоять. Он бледен,
181
одежда его изодрана и покрыта темными пятнами, — это кровь.
Громадная птица свисает с его руки. Ее узкие перья, похожие на копья, чертят землю. Голова ее, ранее грозная, волочится в пыли, клюв смертельно разверст, и виден острый, тускло-багровый язык. «Орел. Подвиг», — подумали Баташевы.
Они подошли ближе. Они увидели упряжку волов; их жующие морды были невозмутимо спокойны, и это спокойствие особенно оттеняло восхищенные и взволнованные лица людей. Вся в комьях крови, покрытая пылью и все же пышная туша медведя, прикрепленная веревками к ярму, волочилась по земле; так вот почему так изодран сын Керима: он побывал в медвежьих лапах...
«Да, подвиг. Подвиг, совершенный Наурузом Керимовым за нашу Нафисат».
Исмаил хотел уже обратиться к Нафисат с расспросами. Вдруг он увидел, что из дома, затягивая ремень на своем широком и плоском животе, твердо, по-солдатски вышагивает Кемал. Его черные брови вопросительно приподняты.
Муса и Али взглянули на отца, отец — на Ке-мала. Конечно, Кемал — третий по старшинству, но он десять лет жил в Петербурге, приехал с двумя медалями. Он не раз молился в самой большой в мире, голубой, как небесная твердь, мечети, которую русский царь построил в своей столице.
Своими неподвижными и тусклыми глазами Кемал оглядел Науруза, приподнял ногою тяжелую лапу медведя и вдруг, болезненно морщась, усмехнулся.
— Молодец! — сказал он своим резковатым голосом. — Лихо! — добавил он по-русски и по-русски же скрепил свои слова ругательством.
Похвала Кемала развязала всех. Нафисат кончила рассказ. Али захохотал и так хлопнул Науруза по плечу, что тот, совсем еще слабый после потери крови, едва не упал; Муса, считая шаги, медленно обошел медвежью тушу. Исмаил вопросительно взглянул на Хуреймат. Она вдруг прикрыла пальцами глаза... И сразу Исмаил, точно она этим исполненным прелест
182
ной женской слабости движением сказала нечто понятное только ему, обернулся к Наурузу.
— Она возьмет тебя к своей груди, — сказал он торжественно,— и ты станешь нашим сыном. Наверно, это рука господа. Отец твой — пусть ему будет спокойно в садах отдохновения! — часто сидел у нашего очага, и вот ты спасаешь достояние дочери нашей... — И старик, помолчав, добавил по-другому, с простой и ласковой усмешкой: — Ты снова вернулся к нам, сынок!
Усыновление! Науруз, потрясенный, оглянулся. Хуреймат тихо плакала, невестки поддерживали ее. Вокруг себя Науруз видел Верхних Баташевых: стариков, взрослых и детей, мужчин и женщин. Во всех по-разному соединены были черты Хуреймат и Исмаила,— они окружали его, как дубовая дружная роща: каждое дерево не похоже на другое, но порода одна. Он встретил взглядом взгляд Нафисат, — строги и грустны были ее глаза, она отвела их, и ему стало тоже грустно: «Сестра». Науруз вдруг понял, что Баташевы ждут его слова. Он приложил руку ко лбу и к сердцу и поклонился: только это исконное выражение благодарности, приветствия, почета позволило ему справиться с волнением. Но все же в голосе его слышна была дрожь, когда, обращаясь к Баташевым, он сказал:
— Я бедный сирота, и великую честь оказываете мне вы, Баташевы... Но семью вашу я не осрамлю. И пусть этот убитый мною зверь будет моим подарком. ..
— Не дари, братец, то, что тебе не принадлежит! — вдруг строго остановил его Кемал. — Медведь этот ходил на охотничьих землях князей Батыжевых: медведь — скотина князя Темиркана Батыжева, а мы — его верные слуги. Молодой Темиркан после смерти старого князя отпущен государем императором на свои земли. Он вернулся в Арабынь. Он любит охотничьи забавы. — И Кемал, положив свою большую, желтоватую, со вздувшимися темными жилами руку на плечо Науруза, сказал с важностью: — Я возьму тебя, братец, с собой. Ты поднесешь эту шкуру господину Темиркану, и тебе будет честь и награда.
183
Науруз отлеживался на бревенчатой, поросшей чахлой травкой кровле Верхних Баташевых, на пушистой кошме, которую расстилали для самых почетных гостей. Длинные следы медвежьей лапы, проходившие по всей его спине, побагровели и вздулись. Промытые водкой, они залеплены были желтоватым воском с неотде-лившейся примесью меда. Так лечил раны отец Науруза.
Весть о подвиге молодого пастуха разнеслась по всему Веселоречыо, и люди издалека приходили поглядеть на богатыря. Застрелить орла, сразиться с медведем, как сразился Науруз, — (все это сделать мог только человек большой телесной и душевной силы. И то, что Науруз сделал, вступившись за достояние девушки из дома, который считался одним из самых бедных в Баташевой долине, — все это придавало подвигу какую-то особенную, песенную красоту. «Сын шагида», — многозначительно говорили о Наурузе. Так первый подвиг Науруза всколыхнул память о Кериме.
Пока Науруз поправлялся, Кемал выделывал шкуру — он снял ее, вычистил, обмял и, растянув, просушил на солнце. Шкура была очень велика. Люди, приходившие к Наурузу, дивились ее величине.
Эти дни дед Магмот был в Арабыни, на Батыжевом дворе. Вернувшись и узнав все, он пошел навестить своего воспитанника. Раньше чем подняться к нему на кровлю, он оглядел медвежью шкуру, потом размахом своих сильных, поросших рыжим волосом рук промерил размах крыльев убитой птицы. Хотя руки деда были очень длинны, размах орлиных крыльев оказался еще шире, и, думая, что его никто не видит (он не знал, что за ним в щели между камней подглядывает -молодежь), он сам себе многозначительно подмигнул своим маленьким и ярким глазом и ударил себя пальцем по крупному, хрящеватому, облупившемуся носу. Потом он поднялся на кровлю к Наурузу.
— Лежи, лежи... сынок! — и, предупреждая попытку Науруза встать перед старшим, Магмот быстро сел возле него. — Э-эх! — сказал он: здесь были и упрек, и нежность, и гордость, и предостережение —
184
многое что можно оказать этим восклицанием. — Птица велика... На моей памяти такой к нам залетал лет тридцать — сорок назад. Очень большая птица. И потому меткостью не хвались! — вдруг строго и придирчиво добавил он. — Стрелку почетней в муху попасть, а не в орла!
— Мне слушать, тебе говорить... — скромно сказал Науруз.
Продолжая придирчиво оглядывать Науруза, старик все же одобрительно кивнул головой на его слова. Потом -вдруг взял его правую руку и шершавыми пальцами ощупал бугристую ладонь, широкое запястье... Все было тихо; внизу только перешептывалась, пересмеивалась молодежь, подслушивая разговор на кровле.
— Да, рука у тебя бойцовская... — тихо говорил старик, перебирая пальцы Науруза, потрогав его ногти, большие и широкие, но еще розовые и гибкие, как молодые рога оленя. —? Более меткий стрелок мог бы промахнуться— сердце дрогнет, рука ослабнет... Ты же всегда будешь разить без промаха. Сын Пастуха! — со значением сказал старик.
И молодежь по всем аулам разнесла, что Магмот Данилов назвал молодого Науруза Сыном Пастуха, уподобив его тому богатырю, который прикован в горах, — «медведь сторожит его дни, орел рвет его печень. .. Но настанет день...»
Науруз был счастлив. Вокруг была семья, которая и раньше всегда была ему мила. Предстояло -поехать в Арабынь, ко княжескому двору, — -гроза князей, любимый герой его Тхамали тоже был сначала дружинником в войске князя Бисмалея Дудова.
Жизнь раздвигалась, как стены ущелья: русская равнина, большие, звездами сияющие города... Что еще предстоит испытать ему!.. И он -пробовал расправляться, но широкие рубцующиеся шрамы еще стягивали ему спину, и ему казалось, что раны заживают слишком медленно.
Хотя, по настоянию Кемала, обряд усыновления отложили на то время, когда Науруз вернется, вручив медвежью шкуру князю, теплый мир Баташевой семьи
185
принял Науруза, и жизнь семьи продолжалась, словно Науруз всегда был с ними. Семья Верхних Баташевых всегда казалась Наурузу очень дружной. Сейчас он присмотрелся: старшие два брата были особенно близки к отцу и любили друг друга.
Кемал жил обособленно. Отец и старшие братья уважали его, а мать все поглядывала на него своими большими глазами, но близко к нему не подходила. Сначала Науруз думал, что она боится его, а потом, когда она однажды чинила одежду сыновей и внуков и отодвинула от себя лишь одежду Кемала, Науруз подумал, что она брезгует им, — может, оттого, что Кемал долго был на чужбине.
Четвертый сын Баташевых, сверстник Науруза, невысокий, но быстрый и ловкий Хусейн был любимцем матери. Когда он был дома, она, улыбаясь, следила за ним, прислушивалась всегда к его быстрой речи; когда же он шел в аул, она беспокоилась, случалось, даже выходила со двора, глядела ему вслед беспомощно и тревожно. А он уходил в своей франтовской яркожелтой черкеске, перехваченной желтым поясом, и красивый затылок его был виден из-под барашковой шапки, которую он надвигал вперед, на глаза, задорно, как гребень у драчливого петуха. Ростом и лицом Хусейн был в отца, — мать узнавала в нем молодость своего старика. Но никогда Исмаил не был таким франтоватым, лихим и быстрым, как Хусейн.
Кони принадлежали Кемалу, но занимался ими Хусейн. Это был маленький табунок: два молодых жеребчика, две жеребые кобылы — старая и молодая — и при них жеребята; Хусейн сам их объезжал, джигитуя часами. Порою, словно нарочно, он джигитовал на узкой тропе, идущей по краю пропасти. Своими действиями он всегда как бы ставил себя на край опасности. В споре легко хватался за кинжал; девушки уже пели песни о его удали. Одет он был всегда лучше братьев и племянников, мать баловала его. Кроме табунка, никакой другой работы не имел; мог целыми часами возиться с оружием, жены старших братьев и жены
186
племянников были недовольны этим, но он был под рукой матери, а ей в семье не прекословили.
До того как Науруз совершил подвиг, первенство Хусейна среди молодежи аула было неоспоримо, — сейчас Хусейн оказался как бы в тени. И слова Магмота о том, что меткому стрелку больше чести попасть в муху, чем в орла, именно Хусейн, с детства славившийся меткостью, разгласил повсюду.
— Когда поправишься, будем состязаться с тобой и в меткости и в джигитовке, — с -вызовом оказал он Наурузу.
— Стреляешь ты метче меня, — ответил Науруз. — О джигитовке же и говорить нечего — коня я не знаю.
Хусейн быстро оглядел Науруза. Казалось бы, все было попрежнему, и этот 'миролюбивый и уступчивый парень попрежнему готов был признавать его первенство. Но Хусейн мучительно покраснел и озлился: он сам не мог прежними глазами глядеть на Науруза -г-чувствовал уважение к нему, и чем больше уважал, тем сильнее завидовал. Он злился на себя, на Науруза.
— Я тебе черкеску свою подарю! — оказал он, не зная, как еще выразить чувства, которые раздирали его и которых он сам не понимал.
— Твою черкеску! — Науруз захохотал и шуточно показал раздвинутыми ладонями разницу между собой и Хусейном.
— Мала? — спросил растерянно Хусейн. — Верно, мала!
Не договорив, он вдруг вскочил и ушел.
— Брат, — преданно сказал Науруз и тут же застенчиво оглянулся.
Нет, он был один, никто не слышал, как у него вы-р;валось это горячее слово. Зависть и стыд, благодарность и великодушие — все проявлялось у Хусейна быстро, вольно... Наурузу нравился Хусейн, быть может, потому, что сам он совсем не был похож на него: слова любви и благодарности теснили его грудь, он глубоко вздыхал, а вот выговорить эти слова он не мог... Он говорил так, как учил его дед Магмот: достойно и
187
размеренно, приветливо, кланяясь тогда, когда это требовалось. И только порой, вот как сейчас, помимо его воли вырывалось из его души горячее слово...
Оставив Науруза, Хусейн пошел к своей матери.
— Наурузу черкеска нужна! — сказал он.
Мать подумала и согласно кивнула головой.
— Шить времени нет, — сказала она. Потом еще •подумала. Надо бы у Мусиева Элдара взять. С того времени, когда он был холостым парнем, у него осталась черкеска. Он был тогда совсем как сын Керима сейчас.
Хусейн, не дослушав, вскочил. Мать, улыбнувшись, покачала головой.
— Элдар не даст черкеску, — сказала она, но Хусейн не обратил внимания на ее слова.
У Элдара — старшего, женатого сына Мусы — и у самого было уже четверо детей. После женитьбы Элдар сильно раздался вширь, и черкеска давно стала ему тесна. Но мать понимала и сыновей своих и внуков: Элдар не то что был скуп (скупость безумна), но бережлив и расчетлив. Выслушав внимательно горячую речь своего молоденького дяди, Элдар согласно кивнул головой, но сказал, что у него самого растет сын (сыну было пять лет) и черкеска нужна ему. Хусейн так удивился и обозлился, что сначала не знал, что ответить. ..
— Но ведь сын Керима спас достояние твоей тетки.
Элдар неподвижно молчал. Хусейн с негодованием глядел в это румяное, опушенное прозрачной черной бородой, накрепко замкнутое лицо.
— Гляди, Элдар, жалеешь семена в пору посева — урожая собирать не придется.
Неизвестно, что ответил бы Элдар, но жена его, при которой шел разговор, не выдержала и, ни к кому не обращаясь, сказала:
— Чужими руками крапиву не дергай.
Элдар шикнул на нее, но покачал головой и усмехнулся. Хусейн плюнул себе под ноги, растер плевок носком сапога и ушел. Он пошел к Нафисат. Исмаил и Хуреймат очень любили младшую дочку. «Забалованная девица, замуж не выйдет», — так говорили о На-
188
фисат жены братьев. Хусейн хотел, чтобы Нафисат посетовала на скупость Элдара перед отцом и матерью: «Ведь Науруз Керимов не пожалел крови, спасая твое достояние...»
Разговор Нафисат и Хусейна происходил во дворе. Вдруг Элдар вышел из дому: на вытянутых его руках лежала черкеска — светлокоричневая, домотканного сукна, тонкого пошива и веселой нежной окраски. Не глядя на Хусейна и Нафисат, сразу замолчавших, Элдар пошел по двору и взошел на кровлю к Наурузу.
— Вот... — сказал Хусейн смущенно. — Наш Элдар, конечно, не скуп, но только бережлив...
— Здравствуй, дядя Науруз, — сказал Элдар (по усыновлении Науруз должен был стать дядей Элда-ру). — Чтобы явиться в подобающем виде перед князем, надень мою одежду. Парень ты разумный и, конечно, сбережешь ее, не помнешь, не порвешь...
Разговор, происходивший на кровле, слышен был во дворе, и Хусейн тихо проклинал своего бережливого племянника. Нафисат тоже сердилась на него. Но ей приятно было слышать, как Науруз учтиво и ласково благодарил Элдара:
— .. .за то, что заботишься о сироте... Но привык я сам о себе заботиться, и давно припасены у меня некоторые заработанные деньги. Черкеску мне шьет на своей швейной машине бабушка Зейнаб Данилова и скоро принесет ее на примерку.
И вышло так, что Науруз оказался одет не хуже спутника своего, Кемала, который повесил на грудь своей черной, армейского пошива черкески выслуженные в Петербурге медали.
Наурузу, конечно, повесить на грудь было нечего, но тускло-серебряные старинные газыри придавали ему воинственность, и таким же тисненным чернью серебром был отделан его узкий черный ремень. А черкеска была старинного пунцового сукна, точно под цвет темному румянцу, возвращавшемуся на его широкое лицо.
Баташевы корили Элдара, но тот спокойно отвечал:
— Человеку всегда лучше красоваться в своем, а не в чужом. И я еще больше вижу теперь чести оттого, что
189
мы принимаем Науруза Керимова в свою семью. Разве кто мог бы подумать, что бедный пастушонок так сумеет позаботиться о себе? А теперь мы видим, какой он бережливый, разумный и нехвастливый парень.
И все согласились с Элдаром.
А когда пришло Наурузу время садиться на коня, чтоб ехать к князю, получилось неладно. Хусейн, может быть, с тайным желанием посмеяться над Наурузом, не предупредил его о горячем норове молодого коня. И недавно объезженный и лукавый жеребчик почуял неопытность Науруза, едва только Науруз подошел к нему. Ребятишки и взрослые — все потешались над тем, как Науруз пытается поставить в стремя ногу, а конек брыкается и норовит схватить зубами его сапог.
— Э-э-эй! Бабой не будь! — по-русски отрывисто кричал Кемал.
Науруз конфузливо оглядывался — не видит ли Нафисат его позора — и не находил ее. Она же из двора в щель видела все и досадовала на Хусейна, насмешливый замысел которого угадывала, и на свою семью, которая потешалась над Наурузом. Досадовала она и на самого Науруза: хоть и девушка, а давно бы сидела она в седле. И тут же оправдывала его: бедный сирота, он пас овец, к лошадям доступа не имел, а они, Верхние Баташевы, хоть и не богачи, но все-таки свой табунок выгоняют на пастбище.
В эти дни Нафисат подходила к Наурузу только тогда, когда мать посылала ее принести ему что-либо. Она шла и все исполняла быстро и молча; глаза ее были опущены, и белый платок скрывал ее голову, ее лоб и наползал снизу на подбородок, как будто у нее болели зубы.
Науруз не пытался с ней заговорить. Может быть, мать велела ей так с ним держаться? Может быть, сама она подумала, что во время происшедших с ними необыкновенных событий она вела себя не совсем так, как полагается девице? Мать ни о чем ей не говорила, это сама Нафисат, точно испугавшись, разом стала держать себя с ним не как девчонка, а как взрослая девушка; ей и совестно, и чудно, и мило вспоминать, как
190
она принесла ему выпасать белую овечку, точно это случилось давно, в далеком детстве...
Науруз вскочил на коня. Болтаясь на нем, он упрямо ловил ногой второе стремя, и конь учил его: он то кидался вдруг к вздымавшейся над двориком круче, то к пропасти, где внизу с неистовой силой летела река. Но напрасно хотел он напугать Науруза, — смешной и беспомощный, Науруз не боялся, общий смех лишь подзадоривал его, и он добился своего: поймал ногой второе стремя, крепче забрал в руки поводья, тверже сел в седло, начинал находить свою посадку и обернулся к Баташевым, подбодряющим его насмешливо и весело.
«Будет ездить», — подумала Нафисат.
Он увидел ее: вся укрывшись белым, стояла она в воротах. Кемал вскочил на своего коня и тронулся со двора. Чувствуя, что девушка глядит на него, тронул и Науруз своего коня, который, видимо, поняв, что всадник на нем окреп, побежал со двора.
Вслед за конными двинулась двухколесная арба; правил волами маленький Азрет, младший из сыновей Исмаила и Хуреймат, тоже одетый в нарядную черке-сочку. Он старался лицом подражать невозмутимо-хмурому Кемалу, но торжествующая радость кривила пухловатые губы его большого румяного рта: ведь шкура, пышный медвежий мех, лежала на его арбе, он сидел на ней, — такое дело было доверено ему!
Они ехали, и всю дорогу Кемал учил Науруза. Сначала он обучал Науруза искусству верховой езды. В кавалерийском манеже, в Петербурге, Кемалу приходилось обучать этому благородному искусству генеральских, сенаторских сыновей. Науруза учить было легко. Подражая Кемалу, он скоро усмирил коня — «дал коню понять мужество седока», как поется в старинной песне. И, довольный своим учеником, Кемал переводил коней с одного аллюра на другой и объяснял, что есть рысь и галоп, карьер и скачь.
— Нет твари благородней коня! — учил Кемал. — Человека по коню различают: владеешь конем — я,
191
конечно, разумею истинного скакуна, а не клячу! — сам благороден, не владеешь — подлый, подлее самой последней клячи. Почему всех властителей, князей и царей после смерти на конях изображают? — спросил он и, не дожидаясь ответа Науруза, сказал: — Потому что они и в раю верхом ездят!
И он подробно описывал породу и стать каждого из тех сказочных коней, которые в раю носят на себе русских властителей. Не напрасно чугунные изображения царей верхом на конях стоят на широких и чудесно ровных площадях столицы.
Когда они подъезжали к аулу Веселому, где уже близко были Ворота, Кемал стал учить Науруза, как обходиться со встречными. Он учил, кому надо и кому не надо уступать дорогу. Учил, что младшему надо ехать слева от старшего.
— А если кто младше меня, но старше тебя захочет ехать с нами, то перейдешь на мою правую руку, а он будет по левую. Если же он старше меня, то я — по его левую, а ты — по его правую. Если же встретится князь, надо поворачивать коня ..и, не говоря ни слова, ехать за ним: хочет он — тебя отпустит, а не захочет — поедешь куда едет он...
Науруз с учтивым видом слушал всю эту мудрость, — не похожа она была на то, чему учил его отец, но отец не раз говорил: «Скорей умный у дурака научится, чем дурак у умного». И, слушая Кемала, все вспоминал Науруз, как по этой дороге шли они с отцом в горы: очертания пропастей, утесов и ледников не изменились, те же лбы и носы, уста и морщины, а отца уже нет и никогда не будет.
Они миновали Ворота. Горы раздались, отошли назад, Кемал и Науруз выехали на широкие спины предгорий.
Здесь Кемал придержал коней, чтобы отдохнуть и дождаться отставшей арбы. Начались русские земли. Широкие и веселые покосы были на их пути. Держа косы в руках, мужчины разглядывали воинственно и празднично одетых горцев.
Облако пыли набежало и накрыло Кемала и Науруза, — это казачата прогнали навстречу табун. Мимо
192
Науруза совсем близко замелькали в пыли морды, бока •и спины лошадей и мальчишеские лица над ними.
Науруз ехал с -видом спокойного и полного достоинства человека. И это выражение тяготило его, он чувствовал его на себе как броню, от тяжести которой устал. Но он знал — иначе нельзя. И, сохраняя этот вид, он жадно разглядывал все то новое, что попадало -им на пути, — и немецкую колонию под красно-черепичными крышами, окруженную ярко чернеющими огородами, и станицу, разнообразно и красиво раскинувшуюся по холмам над рекой; стройные тополя ее садов точно врезаны были в небо, посветлевшее к вечеру.
Переночевали они у богатого казака. Кемал знал его с Петербурга; считались они кунаками и называли друг друга: Кемал Исмайлович и Петр Аникудимович.
Петр Аникудимович, толстый человек в теплом, несмотря на жаркую ночь, бешмете, мрачно заросший темновато.-рыжим волосом, стоял на широком крыльце, затейливо обнесенном кружевной деревянной оградкой. В руках его был ровно горящий за круглым стеклом, никогда ранее не виданный Наурузом керосиновый фонарь, и в его странном, рассеянном свете Науруз угадывал очертания чужого и непонятного богатства; какие-то ни с чем не сообразные тени, удлиняясь и-сокращаясь, мелькали по стенам сараев, — так впервые увидел Науруз железный плуг, конные грабли, молотилку. .. Почуяв вошедших во двор чужих жеребцов, в высоких конюшнях загрохотали пудовыми копытами, злобно, как демоны, заржали жеребцы Петра Анику-димовича; оборванные работники, русские и горцы, замелькали по двору. Довольный тем, что гости удивляются его богатству, Петр Аникудимович по-русски приказывал работникам, по-веселореченски разговаривал с Кемалом; голос у Петра Аникудимовича был высокий, звонкий, и все казалось, что он это нарочно — сейчас устанет притворяться и заговорит рокочущим басом. Науруз удивлялся невиданному казачьему богатству, удивлялся тому, что Кемал назвал Науруза и Азрета своими прислужающими, удивлялся тому, как складно Петр Аникудимович говорит по-веселореченски.
13 Ю. Либединский
193
Кёмала Петр Анйкудимович повел в дом, а Науруз и Азрет переночевали во дворе.
Выехали они на рассвете, и только солнце взошло — перед ними была уже Арабынь: среди кучи домиков — красных кирпичных и белых мазаных, старых черных и новых желтых, деревянных — высились золотые кресты собора и каланча, поднимались развалины старой, полуразрушенной крепости, убегал вверх тонкий ствол минарета. Вдруг Кемал прислушался: сбоку доносился сухой, четкий треск барабана, и Кемал круто поворотил коня в ту сторону. На большом, по краям утоптанном зеленеющем поле обучали воинскому строю молодых казаков. И сразу лицо Кемала, по утрам красноносое, бледно-усталое и нездоровое, вдруг смягчилось и повеселело, когда он увидел воинское обучение. Науруз тоже восхитился красотой воинского строя: вот ровно шагает длинный ряд, и вдруг по короткой команде разом все круто повернулись, и солнце взблеснуло на зеркально начищенных сапогах. А вот еще ряд, — то он весь грозно ощетинился штыками, то винтовки разом взлетели на плечи, то поднялись, прикрывая сверху головы.
— От кавалерий закройся... — смягченным голосом, почти нежно пояснил Кемал. — Да где уж! Разве устоять против кавалерии пехотному строю? Разве я пешего сверху рубить буду? Я буду срубать сбоку—вот!..
Изогнув свой длинный стан и свирепо наморщив лицо, он уже хотел показать, как рубят сбоку, но рука его застыла: на поле раздался вдруг шмякающий, короткий и глухой звук, — это начальник ударил одного из молодых казаков по лицу.
Науруз и Азрет одновременно удивленно и испуганно ахнули.
— Тэ-эк! —с удовольствием выговорил Кемал.
В это мгновение все точно застыло; весь ряд стоял лицами в одну сторону, только один неподвижно и смешно был повернут в другую (за это его и ударил начальник) , и кровь медленно ползла из его рта.
А у начальника лицо даже не сердитое; он оттопырил серые, нависшие надо ртом усы; может быть, он даже и усмехается...
194
— Тэ-эк! -- с удовольствием еще раз произнес Кемал. — Вот как учат вас, молодых... — Он игриво мигнул побледневшему Наурузу и тронул коня в сторону близких домов слободы.
Науруз привык к крови.
Сразив медведя, он весь с головы до ног был в горячей и душной крови его. Но то был честный бой — Науруз сам еле вышел живой из этого боя. В горах каждый год из-за родовых или любовных распрей кого-либо убивали. Но убийца знал — ему будут мстить. А этот маленький казак, — как покорно стоял он, когда кровь медленно и густо ползла из его рта...
Они въехали уже в слободу, в самую бедную ее часть. Глиняные мазанки, деревянные домишки стояли по низким и заболоченным берегам речки, и сырым холодом тянуло оттуда. Копыта лошадей вязли в непросыхающей, чугунной грязи, и тошнотворный озноб все не оставлял Науруза. А Кемал как увидел кровь на военном поле, так точно водки хлебнул — ехал веселый, тихо и хрипло трубил какую-то русскую походную песню:
Лагерь — город полотняный.. .тру-ту-ру-ту-ту-ту-ту...
Они подъезжали к центру слободы. Вот крутой, неровно мощенный булыжником взъезд от берега реки... И сразу дома стали зажиточнее, грязи стало меньше, деревянные мостки легли по обе стороны улицы. Густые акации, пирамидальные тополя видны из-за крашеных, новых и старых заборов. Дома окнами и дверями обращены к улице, — русский городской порядок.
— А ну, гляди веселей! — приказал вдруг Кемал.
Сам он весь подобрался, подтянулся, даже конь пошел под ним особенно легко и горделиво. И вот в густоте садов проступило перед ними большое строение — это и есть дом Батыжевых.
У больших деревянных, наверху украшенных решеткой, высоких ворот они слезли с коней. Кемал постучал в ворота. Некоторое время спустя щеколда зазвенела, калитка открылась — низкорослый русский ста
13*
195
рик вышел на улицу. В это теплое солнечное утро он одет был в полушубок.
Своими очень светлыми, словно выпитыми глазами осмотрел он приехавших.
— Здравия желаем Степану Федосеевичу,— сказал Кемал.
— Здорово, здорово... — тихо и неторопливо ответил старик, снимая картуз.
И вдруг раздельно сказал несколько слов веселоре-ченским говором. Его языку трудно было ворочать эти шелестящие слова, но он все же старательно произносил, — это было особое приветствие, которое говорится при встрече с незнакомыми людьми в дороге, — пожелание им доброго пути. Говоря, он с ожиданием глядел на незнакомого ему Науруза и был доволен, когда тот вежливо поблагодарил его.
Азрет, соскочив с арбы, поднял подворотню. По узкому проходу между садом и высоким забором они вывели коней на большой двор. Теперь княжеский дом был весь перед ними.
Старый князь Алегико строил его по-старинному: из дикого камня сложен был нижний, высокий и совершенно глухой этаж, весь занятый кладовыми, амбарами и конюшнями. Жилые покои помещались во втором этаже — это сложенная из больших и старых темнобурых бревен постройка: точно горский старинный родовой дом поставили на высокие каменные стены. От обычного горского дома княжеское жилище отличалось прежде всего железной крышей; окон больше, чем в обычном горском доме, они крупнее и во всех блестели стекла. В некоторых даже вставлены были разноцветные стекла: желтые, красные, синие, зеленые — как в песне. Нависая над двором и окружая жилые покои второго этажа, весь дом обегали новенькие тесовые галерейки; оттуда вниз, во двор, спускались крутые лесенки, резные и пестро раскрашенные;, они напоминали Наурузу крыльцо в доме Петра Аникудимо-вича.
Верхние княжеские покои молчали, окна были темны, завешены изнутри; только из-за дома слышны были голоса людей, мычание коров, — там тянулись
196
низенькие мазаные постройки, наверное службы. Дальше видны огороды, и за ними под крутым обрывом угадывалась река.
Кемал объяснил Наурузу устройство дома: в больших амбарах, образующих как бы каменное основание его, скрыто богатство князя, оно всегда под его ногами; есть там такие кладовые, куда попасть можно только изнутри дома —сверху; там несметные богатства: золото, серебро, оружие...
Кемал провел Науруза вокруг дома и показал ему пробитые в глухой каменной стене дома выходящие в сторону служб большие ворота. В эти ворота могли рядом въехать три арбы.
— Нападут если враги, так сюда можно и лошадей и скот загнать; ворота запираются наглухо, они изнутри железом кованы, а сверху врагов можно и пулей встретить и варом окатить.
Ворота, о которых говорил Кемал, были полуоткрыты: голоса слышались оттуда. Науруз с любопытством заглянул в амбар. Там чуть не до потолка громоздились вьюки шерсти — наверное, те самые, которые после осенней стрижки овец дед Магмот отвез в Арабынь.
У входа в амбар жеманная, вся в темном кружеве, сухонькая старушка, придерживая сморщенной, унизанной перстнями ручкой край кружевного платка и прикрывая им веселый и хитрый рот, разговаривала с русским старичком, которого сразу признал Науруз, — это был Лаптев, приезжавший на пастбища скупать шкуры с овец, подохших от заразы. После отъезда ветеринара он и скупил их.
В сапогах и новых калошах зеркального блеска и добротной ватной шубке, крытой синим сукном, он держал в руках клок черной шерсти.
«Может, это я стриг», — подумал Науруз. Старик и старуха говорили по-русски, и так быстро, что только слышно было: гривенники, четвертаки, полтинники.
— Это Лейля, — пояснил Кемал. — Это баба — у-у-у! Прислужница, а все ключи у ней в руках. И при старом господине и сейчас, при молодом, все дела она вершит.
197
Науруз разглядывал Лаптева, который, ласково щурясь, глядел на губы Лейли, когда она картаво и быстро трещала, жеманясь и вертя головой.
Науруз рассматривал их до тех пор, пока, очевидно сговорившись, они вместе с Лейлей не ушли со двора — оба маленькие, на разный лад хитрые.
— Угощаться будут! — со вздохом зависти сказал Кемал, когда они уже ушли со двора. — Понимаешь, что значит благородство? Господа, — он показал рукой на слепые, темные стекла второго этажа, — спят, а дело без них делается! Встанут, а денежки — пожалуйте: на чистом платке им поднесут!
Тени деревьев, лежавшие на песке и чахлой травке большого двора, укоротились. На солнце становилось знойно. «Так знойно на горах в эту пору не бывает», — подумал Науруз. Утро уже кончалось — окна княжеских покоев отворились, и оттуда стали слышны голоса. Среди них особенно выделялся один: хрипловато-повелительный и низкий.
— Слышишь? — спросил Кемал. — Знаешь, это кто? Это сама госпожа Ханифа, мать господина нашего Темиркана. Такой голос... на царском параде командовать можно...
Сожалея, что пропадает для настоящего дела такой голос, Кемал восхищенно слушал, как без всякого усилия, хрипловато, словно из полковой трубы, плыло по дому, по двору, надо всей усадьбой: «Ра-ахия!.. Фа-атим-а-а!..» — и девушки то с водой, прозрачно плещущей в ведре, то с охапкой зелени с огорода, то с горшком молока проносились по двору, и песок летел из-под их босых смуглых ног.
Когда одна, особенно быстроногая и легкая, бежала через двор, Кемал вдруг вскочил с арбы, на которой сидел рядом с Наурузом, и встал ей на пути. Девушка испуганно метнулась в сторону, уронив из плетеной корзины, которая была в ее руках, несколько спелых груш, брызнувших соком и тут же жадно схваченных песком и жаркой пылью... Кемал деревянно рассмеялся и неожиданно мигнул Наурузу своим тусклым, ничего не выражающим глазом.
198
— Как звать барышню? — спросил он у Степана, который, с трудом сгибая колени, подбирал груши.
— Фатьма, — ответил Степан, глядя на Кемала.
— Фатимат... — шепотом повторил Кемал.
И Науруз с удивлением посмотрел на него: первый раз слышал он нежность в голосе Кемала.
Степан уже уходил.
— А чьей семьи она будет? — спросил Кемал.
Степан снова медленно оглядел Кемала, оглядел так, что бурый румянец выступил на скулах Кемала.
— Сирота... — медленно выговорил старик. — Но можешь считать — она княжеской крови, только нельзя сказать, от которого князя... — Он ушел, насмешливо бормоча.
Кемал некоторое время сидел молча. Рот его был не сомкнут, как всегда, а приоткрыт, словно он вспоминал что-то, может быть грустил...
— Фа-а-ат-и-им-а-а!.. — опять тягуче и густо раздалось из дома.
Кемал вздрогнул, вскочил, огляделся. Но никто не бежал по двору, освещенному солнцем, безмолвному и пустому.
Глава вторая
«Почтенный Джафар! Хочу показать твоего музыканта одному столичному человеку, который сейчас наш гость.
Ветеринар тоже нам нужен.
Приведи их к полудню.
И к тебе есть у нашего гостя одно дело. Темиркан».
Джафар Касеев, получив эту записку, сразу пошел к ветеринару. Не то чтобы самого Джафара волновала судьба Гриши Отрокова, но что-то очень привлекательное было в этом положении: вот он, образованный Джафар, уговорил могущественного князя, офицера, помогать неимущему русскому мальчику...
Вчера над слободой прошел дождь, улицы стали непролазно грязны, свиньи сидели в черных лужах. Джафар подавлял брезгливое желание отплюнуться от вида нечистых животных.
199
Он шел по окраине. Глиняный тын, отделявший усадьбы от улицы, становился все ниже; Джафар заглядывал ©о дворы, мимо которых проходил. Куры рылись в навозе, женщины возились в своих низеньких хозяйствах; какие-то вековечные тряпки и горшки... Арабынь... Арабынь, Арабская крепость, вот твой сегодняшний день. Вдруг привычный, приятный и грустный ход мыслей Джафара Касеева прервался — из-за тесового заборика услышал он серебристый голос скрипки. Это были упражнения, мелодичные и однообразные звуки, но какая-то особенная, живая и легкая сила была в них: ни на что окружающее не были они похожи, разве только на голубовато-затененные громады гор, возвышающиеся над домиками и садочками ара-быньской слободы. И странная улыбка прошла по благообразному смугловато-бледному лицу Джафара: удивление и размышление, сожаление и даже некоторое злорадство...
Джафар привык считать себя первым революционером в своем народе. И, казалось бы, он имел на это право. Он, конечно, был осторожен, и после событий пятого года его не выгнали из медресе, как двух более горячих его товарищей. Он был очень осторожен. Но на всю жизнь запомнил он опасное и возвышенное шествие под красными флагами по городу, будничные улицы которого вдруг стали полями битвы. И ведь он первый из своего народа сказал: «Пролетарии всех стран...» и «Бытие определяет сознание». Правда, ему не хотелось расставаться с религией, которой служили его отец, дед и которая неплохо служила им. Да и он сам чувствовал, что мусульманство как-то очень удобно облекает его душу, соответствует его привычкам и вкусам, как бы проникнув в самую плоть и кровь его. В самой морали мусульманства, в тех добродетелях, которых эта религия требовала от верующего, не было ничего неосуществимого: она не требовала подставлять правую щеку, когда тебя ударяют по левой; наоборот, она учила ненавидеть' врага и стремиться к его уничтожению. Мусульманство не требовало раздачи всего имущества; наоборот, поощряло торговлю, но торговлю честную, и обязывало помогать больным и
200
сиротам. Позволяло одалживать деньги под рост, но запрещало жестокость к должнику. Оно разрешало многоженство и, не требуя сурового поста, проповедовало умеренность в еде и питье. Практичная и крепкая религия, созданная гением житейской мудрости, богатым купцом Магометом. И Джафар отправился на Восток— в священные места Магометовых скитаний, в Мекку и Медину, в Каир и Иерусалим, в Дамаск и Стамбул, чтоб поворошить золу и камни старых очагов. Если бы хоть искру обнаружить! Он посещал мечети и библиотеки, он беседовал со стариками. Нет, все было мертво и холодно.
В беседе с князем он многого не договаривал. Не рассказал он, как ехал через пустынный Багдад, через Персию, только что усмиренную, по бугорчатой и горбатой, похожей на щит гигантской черепахи Персидской пустыне, — разве не подобна была черепахе таинственная и древняя страна? Он приехал в Баку, и та бунтующая жизнь, которая уже зрела под развалинами империи Оттоманской, которая уже всколыхнула империю шаха, вулканически колебала Баку. Старые камни ханских башен и дворцов, конечно, высились еще посредине города, мешая торопливому, быстрому движению на улицах, они еще продолжали вызывать восторги туристов, но Джафару они казались как бы последними остатками еще не убранных декораций. Здесь история "спешила: едва отыграв одну драму, начинала новую, — нет нужды, что старые декорации еще не успели убрать! Джафар приехал ночью. Конные патрули ездили утром по городу. Мальчишка-газетчик, у которого он купил газету, дополнил ее тем, чего в газете не было: рассказал о вчерашней демонстрации, о растущей на промыслах забастовке. Услышав сочувственный интерес в расспросах Джафара, он таинственно мигнул, исчез, вернулся, опять положил перед Джафаром другой экземпляр того же номера газеты и снова исчез. Джафар удивленно раскрыл газету, — в нее вложен был отпечатанный на желтой бумаге листочек: «Пролетарии всех стран...» Джафар испуганно закрыл газету, оглянулся. Но в кафе, где он сидел, было пусто. И, снова приоткрыв газету, он прочел ли
201
стовку. Это была полная гнева, огня и уверенности в победе прокламация комитета большевиков.
По вечерам Джафар выходил на полутемную улицу. Было военное положение, но до девяти движение разрешалось. Люди шли густо. Об арестах и обысках, о ходе забастовки на промыслах говорили громко... Вдруг все останавливались, впереди голос поднимался над толпой — вот-вот образуется митинг... но звонко бьют копыта по мостовой: «Расходись!» — и люди с громким ропотом движутся далее.
Каир был знойнее Баку, но там был зной пустыни, а здесь словно все разгоралась громадная плавильная печь, и от нее шел испепеляющий зной. Этот зной, так же как запах нефти, его сопровождающий, проникал всюду: нефтью пахли еда и одежда, море и дыхание людей. Только после утреннего умывания нос несколько секунд слышал запах нефти обособленно от прочих запахов, потом опять, как звук, густой и. непрерывный, этот запах покрывал все. Он звучал как грозные вести, идущие с промыслов. Забастовка уже заметно колебала биржевой бюллетень.
А вокруг столкновения новых сил история уже расставляла новые декорации: леса промыслов вокруг города, два пламенных нефтяных фонтана, в ночное время неровным красным огнем освещающих каменные громады города. Рассвет и первый звук утра — кавалерийская труба. Это конный разъезд — опять звонко стучат копыта по камням. Джафар подходит к окну — уже знойно, кругом камень, всюду — вверху, внизу, по бокам. И сверху, окруженный высокими стенами, виден садик, маленький и пышный, как букет. Чтобы его здесь создать, вывезли пропитанную нефтью землю, вырыли глубокую яму, залили ее бетоном и заполнили черной, плодоносной, не зараженной нефтью привозной землей... И, проходя под глухими стенами, люди, хотя зелень не видна снизу, жадно поднимали головы, иногда даже замедляли шаги и принюхивались: из-за стен, наверно, все же просачивались капли свежезеленого благоухания, плененного богачами. Битва разыгрывалась среди камней города и нефтеносных песков пустыни. Добывай нефть! Живи — ешь
202
и спи в нефти! Умрешь — зароют в нефтеносный песок, и сам превратишься в нефть!
Однажды высокий рабочий в рубахе из мешковины остановил Джафара.
— Здравствуй, сын муфтия, — сказал он родным говором.
Это был человек с родины. Джафар не знал его, но тот признал в нем породу Касеевых. Эта встреча дала возможность Джафару попасть в мир рабочих нефтяных промыслов, и то, что он увидел, еще более подтвердило его мысли о Востоке. Здесь были обломки всех племен, населяющих Кавказ и Волгу, — в большинстве сохранили они черты мусульманского быта: испытывали отвращение к свинине, требовали, чтобы жена покрывала лицо, — мелочи почти инстинктивные. Шиитов было большинство, но богатые казанские купцы построили в Баку свою мечеть, она собирала суннитов. Однако споры из-за веры, столкновения представителей этих двух антагонистических направлений мусульманства — столкновения, раньше почти всегда кровавые, — сейчас погасли. Они меркли, бледнели в свете иного разгорающегося зарева. Сокращение рабочего дня, отмена штрафов, постройка жилищ для рабочих — шиит и суннит, огнепоклонники и христиане забывали о своей принадлежности к различным религиям: всех объединяли нужда, угнетение и труд.
От своего веселореченского земляка Джафар узнал, что на промыслах бывает чудесный человек — фельдшер Орджоникидзе, «большауик Серго», — с восхищением сказал веселореченец. То, что, по его рассказам, этот социал-демократ большевик приобретал традиционные черты богатыря и народного героя — в бою неодолимого, для врагов неуловимого, заступника всех бедных и угнетенных, — настраивало Джафара скептически и насмешливо. Но любопытство его было разбужено — он захотел встретиться с Орджоникидзе. И тут он с досадой и удивлением почувствовал, что знакомые ему и, казалось бы, дружественные мусульманские рабочие являются живой и непроходимой преградой: они в запретный круг Джафара не пропускали.
Стачка продолжалась. Но к городу уже стягивались
203
воинские силы. Муллы поднимали мусульман на христиан, на армян, на интеллигенцию. Люди поосторожнее уже бежали из раскаленного города.
— Колесницу истории не остановить! — внушительно говорил Джафар, сидя на мягком диване в вагоне второго класса и обращаясь мысленно к царскому правительству.
— Колесницу не остановить! — так пророчествовал он в маленьком домике Хусейна Дудова: во всей Арабыни только здесь можно было образованному юноше-горцу поговорить с людьми, равными ему по образованию.
Мариам Дудова кончила гимназию и была единственной девушкой-горянкой, державшейся при мужчинах свободно, и Джафар с удовольствием замечал, как ее некрасивое, похожее на лошадиный череп лицо покрывалось бледным румянцем и подслеповатые глаза вспыхивали грустно и нежно, когда он приходил. Она, как отец, с золотой медалью кончила гимназию, от него же унаследовала способность к математике. Она собиралась ехать на курсы и не боялась столичной нищеты, — как и отец в молодости, надеялась она прокормить себя уроками. Но здоровье! Покашливая, кутаясь в старинные, от бабушек к ней перешедшие платки, бродила она по дудовскому садику, в котором всегда стояла черная доска. Когда на старого Дудова находил математический стих, он, чтобы не изводить бумаги, как дятел, часами стучал по ней мелом, нагромождая уравнения, — и вдруг застывал: маленький, носатый, трудолюбивый дятел... Мариам иногда помогала ему у деревянного садового столика, проводила какие-либо добавочные или контрольные вычисления. При этом она низко склонялась к бумаге, почти касаясь ее носом, и Джафару смешно и мило было думать, что Мариам не надевает очков из-за девичьего кокетства.
— Что же, опять завести мне рассказы Синбада Морехода? — так начинал Джафар, обращаясь к старому чудаку, как будто не обращая внимания на то, что девушка тоже слушает его. А между тем говорить при ней ему было особенно приятно...
С таинственным и невозмутимым видом ходил молодой Касеев по скрипучим деревянным мосткам Арабыни. Он знал, что люди смотрят на него как на вольнодумца, и гордился этим. С грустью чувствовал он себя одиноким среди народа, еще переживающего варварство, — что ж, такова судьба всякого предтечи! И он продолжал писать свое сочинение, в котором предсказывал народу своему гибель «под жерновами капиталистического развития...»
Он вошел во двор Отроковых. Да, всё на месте: грядки, песком посыпанные дорожки, в глубине двора желто-румяный плодово-осенний сад.
Собака с хриплым лаем бежит, волоча по проволоке кольцо своей цепи, ребятишки в пестреньких платьицах показались. из глубины двора. На крылечко своего чисто выбеленного домика выбежал сам Вениамин Сергеевич. На нем поношенная, но аккуратно подштопанная жилетка с блестящими пуговицами, видимо бывшая когда-то частью форменного костюма. Вениамин Сергеевич в эту минуту был похож на сердито нахохлившуюся забавную птичку. Но, увидев Джафара, он сразу преобразился, обрадовался.
— Джафар Бекмурзаевич! — воскликнул он удивленно и весело сбежал с крыльца. — Рад! Очень рад!
— Уважаемейший Вениамин Сергеевич, — неторопливо сказал Джафар, пожимая обеими руками горячую маленькую руку хозяина, — я зашел затем, чтоб поставить вас в известность: задуманное нами удалось. Князь Темирканг сиятельных детей которого я имею честь обучать русской грамоте (некоторая насмешка послышалась в его голосе, — он явно сам подтрунивал над своими словами), просит сына вашего и вас, — Джафар с тем же оттенком насмешливости приложил руку ко лбу, к сердцу и поклонился, — пожаловать сейчас со мной в дом князя.
Помолчав и сбросив свою шутливость, несколько искусственную, Джафар добавил уже просто и сердечно:
— Князь чрезвычайно заинтересовался вашим сыном. Оказывается, их сиятельство склонен поощрять
205,
таланты арабыньской земли. Сегодня у князя какой-то столичный гость, и, представьте, его сиятельство не забыл нашего юного музыканта...
— Правильно! — вдруг прервал Отроков размеренную речь Джафара. — Да, да, правильно, — сказал он настойчиво, словно кто-то с ним стал спорить. — Гриша! — громко крикнул он, обернувшись в сторону дома. — Хотя... нет! — После секундного, однако заметного колебания Отроков взял Джафара под руку своей короткой рукой. — Прошу вас, пожалуйте... — Он вел гостя по ступеням крыльца. — И как это благородно с вашей стороны: не забыть о таком деле. А я считал — вы говорили так, между прочим.
— Слово черкеса — алмаз, — опять как бы над чем-то подсмеиваясь, сказал Касеев.
На крыльце они столкнулись с бледным высоким мальчиком. Гриша, видимо, шел на зов отца. Касеев с отчужденным и несколько неприязненным интересом стал разглядывать музыканта. Мальчику было не более четырнадцати лет, но он уже перерос своего коротенького отца.
— Вот Джафар Бекмурзаевич Касеев устроил так, что мы пойдем сегодня к князю Батыжеву, — возбужденно говорил Отроков, — хорошо, а? Все устраивается, а? — вопросительно и как-то смущенно взглянул он на сына, который своими длинными, худыми пальцами, испачканными в фиолетовых чернилах, теребя край курточки, взглянул на отца, как бы напоминая ему о чем-то. Отец, все более смущаясь, вытер пот, выступивший на лбу, и вдруг рассердился: — Пустяки! — закричал он бешено. — Пустяки и вздор, слышишь? Прекратить!
Мальчик, наклонив голову, молчал.
Комната, в которую Отроков привел Джафара, напоминала маленький музей: ящики с минералами стояли вдоль стен, всюду развешаны, расставлены были чучела зверей и птиц, рисунки и фотографии; книги и карты навалены были на подоконниках и на двух столах, в углу высился очень крупный скелет человека, кость правой его ноги до колена отсутство
206
вала... Да, люди говорили правильно: и чучела, и книги, и камни, и скелет.
Свалив на пол книги, загромождавшие стулья, хозяин усадил гостя, сел сам и, схватив сына за растрескавшийся лакированный кушак с белой металлической бляхой, нежно и виновато снизу вверх взглянул в его лицо.
— Ну-ну-ну, — сказал он, — Гришутка! Ведь ты подумай — исполнятся твои мечты, поедешь в Петербург. .. Э, братец, соколом подымешься!
Мальчик поднял голову, его щеки вспыхнули, губы дрогнули, но он ничего не сказал, рванулся, чтобы убежать, но отец, не отпуская его, взглянул в глаза Джафару.
— Спасибо вам, — сказал он застенчиво. — Спа-сибо!
— Что вы, Вениамин Сергеевич, вы интеллигентный человек, я интеллигентный человек, — начал Касеев, но Отроков прервал его.
— Э-э, что там, интеллигентный, — отмахнулся он. — А вот давеча вы сказали: слово черкеса — алмаз. Вот это — святая правда. Таков весь народ ваш. И ваши деяния, и ваши нравы, и ваши песни...
Дверь открылась. Отроков замолчал и с застенчивым, но и задорным смущением взглянул в лицо своему гостю. Домоправительница отроковокой семьи внесла поднос; на нем два стакана чаю, несколько баночек, в которых разными оттенками, красного и желтого, сияли различные сорта варенья; горячие, политые сметаной лепешки горкой высились на тарелке. «Простонародно едят», — подумал Джафар, вставая и с поклоном приняв из рук женщины стакан. Он с интересом разглядывал знаменитую отроковскую Терезу. Она, видимо, только что умыла лицо, подобрала волосы, и стало заметно, что весь ее облик не лишен какой-то грустной прелести. Принеся угощение, она поклонилась и ушла.
— Вы, Вениамин Сергеевич, сильно увлекаетесь нашим родным Кавказом, — и смуглая рука Касеева медленно и мерно обвела стены.
— Увлекаюсь? — страстно прервал его Отроков. —
207
Влюблен, а не увлекаюсь. На всю жизнь влюблен. И счастлив, что горемычная судьба меня в младости закинула сюда. Эх, Джафар Бекмурзаевич, приходится удивляться, глядя на здешнее так называемое образованное общество, — ведь как свиньи живут — глаз от земли не поднимают. Даже гор не замечают. Право, если бы горы вдруг бесшумно исчезли, никто не заметил бы. О, свиньи, свиньи! И ведь как топчут, как уничтожают ваш прекрасный народ... Да, да, уничтожают, — понизив голос, таинственно и горестно оказал Отроков, пригибаясь к Джафару.
Касеев кивнул головой, вздохнул, но не ответил. Его зеленоватые глаза были прозрачно ласковы и ничего не (выражали. Он медленно пил чай. «Спартанец... индеец. ..» — подумал о нем Отроков. Но одновременно он поймал себя на том, что, восхищаясь немногосло-вием и сдержанностью Касеева, сам-то он, пожалуй, слишком много сейчас говорит. Не то чтобы он завирался: он, верно, любил край, любил этот обиженный и обездоленный народ, но под ласковым, ничего, в сущности, не выражающим взглядом Касеева он почувствовал вдруг стыд, точно показал чужому взгляду нечто сокровенное. Отроков знал причину своей говорливости. Он боялся, что сын осуждает его: ведь Гриша первый раз в жизни видел, что отец поступает вопреки своим убеждениям, ищет поддержки тех людей, которых он презирает. Во всем этом нехорошо было разбираться, и Отроков снова стал горячо и возбужденно говорить. Он показывал гостю книги и коллекции, а потом, когда они уже шли по улице, все продолжал говорить о богатствах края, говорил, стараясь заглушить то, что было на его душе.
Только у ворот княжеской усадьбы он погрустнел, ссутулился, замолчал. «Нехорошо будет», — отчетливо подумал он, идя по двору. «Нехорошо», — думал он, подымаясь по скрипучей лестнице на галерею вслед за блестящими калошами Касеева.
— А вот и Джафар наш, — добродушно сказал князь, вставая из-за стола и указывая столичному гостю на пришедших. По .выражению, появившемуся в голосе Гинцбурга, когда, пожимая руку Отрокова, он
208
сказал: «Оч-чень... Оч-чень» и тут же вынул из кармана французский журнал, Темиркан понял, что свидание с Строковым имеет для его гостя едва ли не самое важное значение из всех дел, которые он должен осуществить в Арабыни.
— Как же, мьсе Кано, как же, как же, и журнал он мне выслал. Но я не получил. Да ведь картинки какие занятные! Верно, наши почтовики присвоили, — говорил Отроков, держа в руках журнал и беспокойно оглядываясь на своего мальчика, который, всеми забытый, стоял в сторонке.
Рослый Гинцбург, взяв под руку коротенького Отрокова, отвел его в сторону, и князь уловил заинтересованный и завистливый взгляд Касеева.
— Садись, Джафар, — ласково сказал Темиркан сыну муллы. — Ну, как ты справляешься с моими жеребятами? Стихи, стихи давай им учить... Ты стихов много знаешь — от стихов дети смирней делаются. ..
Между ними начался спотыкающийся, вялый разговор об успехах, вернее сказать — неуспехах батыжев-ских. близнецов, — разговор, во время которого оба собеседника прислушивались к тому, что происходило между Гинцбургом и Строковым. Увидев, что Гинцбург разложил на столе карту и Отроков что-то ищет в ней, Темиркан пошел туда, так и не докончив разговора с Касеевым.
— Это место горцы называют «Туриные бани». Вот здесь оно, вот, — говорил ветеринар, нежно поглаживая мизинцем по карте. — Да, да, там выходы серы... У меня дома есть образчики.
— Здесь пастбища, — хрипловато оказал Темиркан.
Гинцбург взглянул в его желтые глаза.
— Под самыми ледниками, — продолжал ветеринар, беспокойно оглядев окруживших его незнакомых людей и глазами ища сына, который стоял позади него и которого он поэтому не видел. — Конечно, высоко, и промышленная добыча трудна будет, да и доставка... Но я думал уже, на стальных канатах вагонетки, — представляете? Над ледниками, над пропастями — и дешево, мостов не надо, — да разве есть что-либо не
14 Ю. Либединский
209
возможное для человечества? — Он оглянулся, встретил взгляд сына и, вдруг смутившись, замолчал.
— Гм... — чуть опустив веки на глаза и разглядывая непонятно обеспокоенного и раскрасневшегося Отрокова, произнес Гинцбург.—А вы промышленную заявку на этот участок сделали?
— Нет, — недоуменно ответил Отроков. — Заявку! Да что же я буду с этой землей делать? Знаете, как говорят: «Без денег — человек бездельник!»
Темиркан видел, что Гинцбург собирался сказать что-то, может даже возразить ветеринару, но тут же раздумал.
— Оч-чень, оч-чень... — потянул он и вдруг отвернулся, ветеринар разом точно исчез для него.
И Касеев, почувствовав на себе взгляд столичного гостя, ответил ему вопросительно-приветливым и вкрадчивым взглядом и с достоинством поклонился.
— Почтенному Рувиму Абрамовичу нужен человек, знающий наш язык и обычай.
Князь по-русски пространно излагал молодому Ка-сееву все, что вчера узнал от Гинцбурга о кредитной кооперации, о задаче собирания воедино веселоречен-ских сбережений. Касеев слушал молча, но с видимым интересом. Гинцбургу нравился сын муллы, — в сравнении с его лицом лицо князя казалось неподвижно, грубо и дико. Прослушав, Касеев кивнул и обратился к Гинцбургу.
— Рад буду помочь столичному гостю, — сказал он, — чем и как могу.
— Я имею к вам предложение идти к нам на службу в качестве уполномоченного... Условия наши...
— Если разрешите, пока не будем говорить об условиях, — учтиво ответил Касеев, — дело это полезное. Оно оживит нашу родную Арабынь. Я немного обеспечен и на службу к вам пока не пойду, но сочту долгом своим всемерно помочь вам...
Пока он говорил, князь посматривал на Гинцбурга многозначительно и наивно. «Каковы мои-то люди?» — говорил его взгляд. Мягко обняв за плечи Гришу Отрокова, Касеев поставил его перед Гинцбургом.
— Их сиятельство изъявили желание послушать,—
210
внушительно-мягко сказал Касеев и обернулся к Темир-кану.
Темиркан, как бы размышляя, помолчал некоторое время.
— Что ж, послушаем... — благодушно проговорил он. — Сегодня послушаем! — сказал он решительно.— Соберем к нам сюда всю нашу Арабынь. Угостим... И молодого человека послушаем, а кстати — нашему гостю всех людей наших покажем! Как, Джафар, а?
И Касеев, заслушавшийся князя и захваченный врасплох этим вопросом, вдруг неожиданно для себя, по-старинному склоняя не только голову, но и плечи, поклонился. Уже кланяясь, он опомнился. И, чтобы придать этому слишком низкому поклону шуточный характер, он приложил руку ко лбу и сердцу, он утрировал этот традиционный поклон. Но шутку никто не оценил, поклон был понят всерьез.
А Гинцбург оживился. «Наши люди, наша Арабынь»,— Гинцбург тоже почувствовал силу в словах князя Батыжева.
И как бы для того, чтобы утвердить князя в его могуществе, вошел слуга, сказал что-то князю. Еще более оживляясь, князь переспросил, подошел к окошку, взглянул, коротко отдал слуге какое-то приказание. Тот быстро убежал. Усмехаясь, князь поманил Гинц-бурга и Джафара к окну. На желтом, ослепительно сияющем песке двора стояла арба. Волы были выпряжены и привязаны сзади. Кемал, Науруз и Азрет, в своих красивых одеждах, сидели на арбе. Несколько часов прождали они, когда примет их князь, — и вот наконец слуга бежит через двор и машет им рукой...
Глава третья
Обращаясь к князю, Кемал торжественно и подробно рассказывал о подвиге Науруза. Говорил он по-русски; Науруз, мало его понимая, разглядывал большую комнату, ковры и оружие, развешанное на них: кривые турецкие сабли и прямые черкесские мечи, пистолеты и ружья, старинные и новые. Но особенно
211
14*
Науруза поразили стройные ряды книг на полках книжных шкафов.
Темиркан, слушая многословный рассказ Кемала, внимательно разглядывал Науруза, и в небольших блестящих, любопытствующих глазах его Науруз увидел недоброжелательство. «Моей охоте завидует», — подумал Науруз. Кемал в этот момент подтолкнул его: надо было подносить князю подарок — поклониться, разложить шкуру под ноги князя. Но во взгляде князя было неприязненное любопытство и стремление подчинить. Науруз не хотел оказывать князю почести, он просто выпустил шкуру из рук. Обрушившись на пол, она развернулась сама, ее пышный мех вдруг темнобурой лужайкой вырос на середине комнаты. Гинцбург проворно нагнулся, опустив белые пальцы в пышно-блестящую шерсть.
— Немврод-охотник, а? — сказал ему Касеев, щеголяя ученостью.
Темиркан в поведении Науруза сразу приметил какую-то особенную свободу и независимость («дерзость!»). Кроме того (Науруз угадал), Темиркан ревновал Науруза к охотничьей славе, словно этот дерзкий мальчишка убил как раз того медведя, которого должен был убить сам Темиркан. Однако, несмотря на все недоброжелательные чувства, Темиркан продолжал церемонию приема подарка. Он подошел к Наурузу, обнял и расцеловал его, для чего ему пришлось встать на цыпочки, и недоброжелательство к этому румяному ребенку-великану у него поэтому еще более увеличилось.
«Что за остолоп, стоит — не нагнется! И ведь молодой — неужели расти еще будет?» — подумал Темиркан.
Наурузу же самый запах Темиркана был чужд и неприятен. Отстранившись от Науруза, скаля свои мелкие зубы в улыбке, благосклонной и жестокой, князь вынул из кармана большую серебряную монету и протянул ее Наурузу. Науруз взял и вежливо, как он был приучен с детства, поклонился.
— Э-э-эх, — повернулся к нему Кемал, — не знаешь обращения. Великая милость тебе оказана. Что ты был
212
раньше? Человек низкого и даже неизвестного рождения, а теперь. .. — Кемал обратился к князю: — Сирота. Обычая не знает. — И снова к Наурузу: — Благодари господина Темиркана. Подарок этот означает, что господин берет тебя в молодцы при благородной своей особе.
Князь, с усмешкой кивнув головой, выжидательно глядел на Науруза, но тот стоял неподвижно.
— Робеет, — пояснил Кемал.
Князь отозвал Кемала в сторону, спросил о чем-то, и когда Кемал ответил, Темиркан быстро, с изумлением и опаской взглянул на Науруза.
«Обо мне, — подумал Науруз, — об отце спрашивает».
Он видел, что все с интересом глядят на него, говорят о нем. Но так как эти люди были ему непонятны и безразличны, Науруз снова направился к книжным шкафам.
— Что, земляк, — покровительственно обратился к нему Касеев, — понимаешь, что там, за стеклом?
— Книги, — с уважением ответил Науруз. — Я не знал, что на свете так .много книг. Наверное, здесь вся мудрость мира.
Касеев, смеясь, перевел Гинцбургу эти слова.
Князь неслышно подошел к Наурузу.
— Слушай мое слово, Науруз Керимов, — тихо и строго сказал он, — я знаю, какого отца ты сын. Мятежен и своеволен был твой отец, но убит он в бою, и в этом надо видеть волю единого, который всех нас судит, потому я не говорю слово осуждения. Мир ему! Твоя же храбрость, несомненно, достойна награды. Я жалую тебя .молодцом при своем благородстве и мужестве. Теперь мой дом — твой дом. Одеться нужно, есть захочешь — иди к нам, для тебя все найдется. Будешь мой ловчий на больших медвежьих охотах...
Князь кивнул головой и отвернулся, — нет, не ласков был его голос, и не будет Науруз ловчим при нем.
Науруз шел уже вслед за Кемалом по шаткой лестнице.
— Неуч, невежа, пастух овечий! Господин говорит тебе такие высокие слова, а ты что? — сердился Кемал.
213
Науруз промолчал. Сойдя на двор и встретив любопытствующий взгляд Азрета, он разжал руку — запотевший матово-серебряный круг с изображением курносого русского царя лежал на ладони.
«Один рубль», — старательно прочитал Науруз.
«Один рубль, наверное, большие деньги», — подумал он, подбросив монету выше окон княжеских покоев. Князь, Касеев и Гинцбург, которые, разговаривая, стояли у окна, увидели, как, сверкнув серебряной каплей, высоко взлетела эта монета.
— Детям своим будет рассказывать, — весело сказал князь. — А, Джафар? — спросил он.
— Я полагаю, что будет рассказывать, ваше сиятельство, — помолчав, с соблюдением всей меры своей независимости, ответил Касеев.
Лейля в старой кунацкой угощала гостей из Бата-шея длинным почетным обедом. Кемалу по душе были и эти многочисленные блюда и большие промежутки между ними, которые Лейля искусно заполняла разговором. Слуги собрались поглядеть на молодого охотника. А он, широколицый и румяный парень, с явным удовольствием ел, поглядывая на людей, — ничего чудесного в нем не было.
— Неучтив мужик, — говорили между собой слуги.
Зато дядя охотника (слуги называли так Кемала) был обходительный, видавший виды человек. Он служил в Петербурге, учил верховой езде детей самых знатных господ: «царевичей», — снижая голос, пояснял Кемал. Те, кто постарше, знали, что Кемал был еще приближенным покойного господина Искандера. Но оказывается, что и господина Темиркана знал Кемал с Петербурга, — нет мусульманского князя ближе к престолу падишаха Николая, чем молодой Батыжев. «Наш Темиркан — кунак государева дяди».
— Э-э-э! Чего только не знаю о доблестном нашем господине, — лукаво говорил Кемал и многозначительно кривил лицо, причем глаза его оставались тусклы и, как всегда, ничего не выражали. Из того, что он знал о князе, он так ничего и не сказал, но все про
214
чее, что он рассказывал, было уж очень невероятно: будто в Петербурге летом по ночам не темнеет, а зимой днем солнце не светит.
Подошли девушки. Кемал завел речь о красоте и нарядах петербургских женщин, многозначительно намекал на их доступность, на любовные свои победы, вызывая этим смешки и перешептывания. Рассказывая, он все поглядывал в толпу девушек, теснившуюся у дверей, хотел уследить приглянувшуюся ему быстроногую Фатимат. Надутый и важный среди своих простодушных родичей, Кемал здесь, между княжескими бедными родственниками и побочными детьми, между слугами и наложницами, чувствовал себя как нельзя лучше. Деревянно переступая, все вглядывался он поверх толпы девушек, не выйдет ли Фатимат плясать с ним. Но вместо Фатимат вышла, игриво тряся головой и дробно притопывая, старая Лейля. Кемал огорчился, однако ноги его продолжали деревянно-важные и щеголеватые движения.
Наурузу было скучно. Начало танцев знаменовало конец угощения, — значит, можно уйти, никого не обидев. Незаметно указав маленькому Азрету глазами на дверь, Науруз потихоньку вышел из комнаты. Азрет уже ждал его на дворе. Рубль снова заблестел на широкой ладони Науруза.
— Идем, братец! Покупать будем праздничный платок сестре нашей, — сказал Науруз.
Степан указал им дорогу на базарную площадь и долго глядел, как они уходят: большой Науруз и маленький Азрет, оба веселые и торжествующие.
Базар кончался, многие лавки были уже закрыты, деревянные стойки ларьков стояли пустые. Все же Науруза и Азрета поразило и мелькание множества различных лиц, мужских и женских, и вольное обращение по-, купающих и продающих.
Вокруг них ежесекундно совершалось чудо торговли: шлеи, хомуты, уздечки, мыло, шапки, мука, хлеб, кадушки, горшки, арбузы, дыни, сливы — все это переходило из рук в руки, и везде одновременно из рук в руки перелетали монеты, серебро и медь. Но ни у кого в
215
руках не было такой большой и блестящей, какую имели они!
И они любовались нежными цветами мыла, вдыхали его душистый запах, а рядом крепко пахло кожей и наносило откуда-то сытный и жирный, хмельной запах русского хлеба. Ароматы эти, мешаясь, одурманивали и веселили. За широкой, прозрачно-сверкающей поверхностью стекла Науруз и Азрет увидели то, что им нужно: ткани таких чистых и сияющих цветов, какие можно увидеть только на небе при ярких зорях. Науруз, робея, переступил порог магазина. Там, как в мечети в будние дни, пусто, прохладно и полутемно. Но ткани пахли особенно весело, как пахнут лишь городские обновы! Молодые люди, празднично и необыкновенно красиво, на городской манер одетые, подбежали к Наурузу, и седой почтенный человек из-за конторки приветливо поклонился им. «По платью встречают», — подумал Науруз; приятно было, что вся эта услужливая расторопность коврами стелется перед ним... «Шелковый платок?» Выговаривая непонятные, шелестящие и скользкие, как шелк, слова, приказчики откуда-то из стен одну за другой стали вытаскивать неисчислимые коробки; в этих искусно сделанных, прекрасных коробках были скрыты легчайшие ткани. Приказчики осторожно, кончиками пальцев, разворачивали их перед Наурузом: кружевные и рубчатые, прозрачные и блестящие, осыпанные рисунками цветов и листьев, и одноцветные, спокойно-строгие, они порхали перед его глазами.
Науруз выбрал прозрачный платочек бледной и чистой розоватости, самый нежный и легкий, и приказчики были все восхищены его выбором, даже седобородый хозяин вышел из-за конторки и одобрительно похлопал Науруза по плечу. Науруз пальцами взял теплую, запотевшую монету и с значительным видом, показывая ее всем, протянул хозяину.
И вдруг все сразу остановилось. Приказчик перестал заворачивать платок. Хозяин заложил руки назад и брезгливо поморщился, словно эта блестящая монета побывала в руках прокаженного.
— Три рубля семнадцать копеек-с... — оказал он голосом, предвещающим ссору.
216
— Три? —опросил Науруз, вникая в русскую цифру.
— И семнадцать копеек-с... — добавил хозяин.
— А у меня только вот... — недоумевающе и просительно выговорил Науруз.
Снова молчание. Приказчики быстро уложили платки в коробки, прилавки опустели. Приказчики пересмеивались между собой, — какая грубо-оскорбительная и насмешливая холодность слышна в голосах, видна на чистых лицах этих городских людей.
— Гололобый черт, — сказал один из них.
Науруз знал, что надо уйти. Неужели, золотое лицо Нафисат не будет утренним солнцем из-за облаков сиять сквозь эту розовую ткань? Науруз повернулся к хозяину, который опять ушел за конторку.
— Я медведя убил, и князь Темиркан мне это вот дал, — сказал он, просительно протягивая монету.
«Неужто убитый медведь этого платочка не стоит?» — подумал он.
Досадливо махнув на него рукой, как на дурачка, хозяин отвернулся. Один из приказчиков распахнул дверь и, низко поклонившись, показал на нее Наурузу, — все та же расторопная городская и вкрадчивая ласковость, но теперь предназначенная для того, чтобы оскорбить.
— Придется вам потрудиться еще двух медведей убить, тогда милости просим, — сказал он.
Науруз повернулся и вышел на улицу. Он весь вспотел от стыда. Он стыдился даже перед маленьким Азретом, который, тоже опечаленный и смущенный, еле поспевал за Наурузом.
Они дошли до чахлого бульварчика, где среди уличной пыли мучились молодые топольки, и присели на скамью.
— Змеиная нора, — вздохнув, сказал Азрет.
Науруз понял, что ребенок говорит о магазине.
— Ничего не сделаешь, братец, — ответил Науруз, — значит, торговля имеет свой закон. А мы его не знаем... — Он еще раз внимательно поглядел на монету, на курносого русского царя. — Мало ты стоишь,
217
падишах, — задумчиво выговорил он, тихонько подбрасывая монету на ладони.
Невольно подвинувшись друг к другу, они, опечаленные, продолжали сидеть на скамейке. И все же им интересно было глядеть, как идет вокруг городская жизнь. По скрипучим деревянным мосткам по обеим сторонам улицы проходили русские господа, важные, как муллы: у многих на фуражках значки. С ними женщины, у которых плечи и грудь непристойно обнажены, — впрочем, таков городской обычай.
Магазины: окна украшены большими рисунками — вдоль окон нарисовано то, чем торгуют, — посуда, шапки, часы. Блестящий золотой хлеб висит над деревянными мостками. Лавки стали закрывать. Но рисунки вдоль окон остались, и крендель также остался висеть. .. Потом стало темнеть, зазвонила русская церковь, и нельзя было понять, грустно звонит или весело.
— Бога своего будят, чтобы он не заснул, — так отец мой говорил, — сказал Науруз, чтобы развеселить мальчика, и мальчик смеялся.
Потом прошел плохо одетый человек с лестницей, приставлял ее к столбам, залезал туда, и на столбах один за другим зажигались огни... Потом в окнах магазинов тоже зажглись огни. Напротив той скамеечки, на которой они сидели, в больших окнах таинственно осветились какие-то прозрачные шары — красный, синий. Там, внутри, за стеклом, ходили люди в белом.
— Аптека, — прочел Науруз.
Наступила ночь, но она была красновато-прозрачная, — это светили фонари. Улица, которая в предвечерние часы была пуста, сейчас стала наполняться людьми. Одни садились на крылечки, другие выносили стулья. По здешней неопрятной привычке, они грызли семечки, орехи и плевали себе прямо под ноги. А потом около домов стали свободно гулять молодые парни и девушки, веселые и нарядные пары.
Совсем стемнело, но чем темнее, тем оживленнее становилось на улице и ярче казались уличные фонари. Под светом фонаря были видны лица, они исчезали в темной толпе и снова появлялись под светом другого фонаря, и Наурузу почему-то становилось беспокойно и
218
грустно. Он поднял голову, различил над собой звезды. Он забыл о них. И вдруг представил себе, как эти звезды молча светят над пустыми и высокими льдами перевалов, над сияющей травой пастбищ, и ему стало очень трудно вместить >в свою голову весь огромный мир. Как бы ища защиты, обнял он маленького Азрета:
— Заснул, братец?
— Нет, — тихо ответил мальчик.
— А что ты молчишь?
Азрет не сразу ответил.
— Я скучаю, хочу домой,—сказал он потом.
Издалека до них вдруг донесся тоненький свист. Он раздался еще и еще раз, он все приближался. Это был очень смешной и веселый свист — не то птица этак кричала, не то человек свистел, — очень тоненький и забавный свист. Науруз и Азрет молча повернули ’головы и ждали появления этого неизвестного, нового городского чуда. Оно показалось: свистел маленький человек, казавшийся издали горбатым. Когда он подошел, стало видно, что спереди и сзади на теле его висят ящики, а свистел он, прикладывая свистульку ко рту, спрятанному под седыми толстыми усами. Несколько ребят бесшумно, как мыши (они были босые), следовали за этим старичком. Похоже, он их вел за собой, как несчастный Аймыш вел своей дудочкой волшебного белого барана... «Нафисат, не с твоего ли ягненка белого начались чудесные эти дела?» — волнуясь, подумал Науруз. Ребята все были в возрасте Азрета, и Науруз даже крепче прижал к себе братца, чтобы тот тоже не ушел вслед за колдуном.
Но колдун тяжело, со стоном вздохнув, сел рядом с ними на скамейке, ребята столпились вокруг. Не обращая на них внимания, старик засунул руку в ящик, вынул целую кучу свистулек и стал их одну за другой пробовать. Все они были разные: одни квакали, другие крякали, но каждая имела свой голос, и все голоса были забавны. Азрет, как зачарованный, освободился из рук Науруза и стал в круг ребят. И старик вдруг перестал свистеть. Вытерев полой одну из свистулек, протянул ее Азрету. Тот робко взял и, застыдившись,
219
взглянул на Науруза. Но Науруз глядел на него с таким же завистливым ожиданием, как и все ребята. Азрет приложил свистульку ко рту и, вдруг отчаянно решившись, дунул изо всей силы. Свист получился совсем неожиданный: «Ах! ах! ах! ах!», с передышками и такой смешной, что Азрет от удивления испугался, а все ребята засмеялись.
— Детская забава, — сказал старик, обращаясь к Наурузу. — Купи, князь, пятак штука!
Азрет просительно повел головой в сторону Науруза, но тот глядел на ребят. Так вот -почему, оборванные, без шапок, босые, следовали они за этим стариком. И, звонко положив свой рубль на ящик старика, Науруз сказал:
— Давай на рубль!
— Во! — сказал кто-то из ребят с восхищением и завистью.
Старик попробовал рубль на зуб.
— Я такой большой деньги никогда не видел, — сказал -кто-то из ребячьей толпы.
— У него и свистков на эту деньгу не хватит, — добавил еще кто-то.
— Как бы не так, — возразил старик, — на рубль — двадцать штук, а у меня во! — он тряхнул ящиком. — Сын у меня безногий, кормиться, однако, надо? Вот и мастерим. Ну, князь, спасибо, дал торговать, — сказал он, насыпая в ладонь Наурузу кучу этих глиняных, различных по виду игрушек.
Одни были пузатенькие, другие — длинные и тонкие, с прижимами на концах, третьи — рогатенькие, пестро раскрашенные и на оконечье рогов дырочки, маленькие и таинственные.
Ребята с восхищением и завистью глядели в серьезное лицо Науруза. Он обвел их глазами и взял одну из свистулек.
— На, — сказал он тому из ребят, который стоял ближе всех, мальчику, гладкие и давно не стриженные волосы которого, как шапка, спускались на лоб, отчего его худенькое лицо казалось еще меньше.
Тот жадно схватил и, отбежав, засвистел.
220
— И тебе на! И тебе! И тебе! — Науруз раздавал свистульки ребятам, и бульвар вдруг наполнился разнообразными свистами.
Гуляющие поворачивали головы и оглядывались. Науруз встал и пошел прочь. Но ребята шли за ним и сопровождали его кудахтаньем, свиристеньем, щелканьем, различными переливами свиста, какие только можно себе представить. Науруз свернул в одну из боковых улиц; там фонари не горели, не было этой искусственной разницы между светом и тьмой, видно стало, что вечер еще ранний, даже заря не погасла. Сопровождаемый свистом, кудахтаньем, кваканьем, кукареканьем, Науруз шел по улицам, и, как волшебством, эти звуки выманивали детей из дворов и домов; один выбежал совсем голенький — видно, выскочив из постели; испуганная мать бежала за ним. Получив свистульку, дитя остановилось в изумлении, может быть думая, что это сон.
Наурузу стало весело. Но это веселье не разогнало печали, а как-то невыразимо соединилось с ней. Все свистульки он роздал, ребята разбежались по городу. Науруз и Азрет уже приближались к темной громаде батыжевского сада. Свистки еще слышны были, но теперь издалека они звучали грустно: точно маленькие создания заблудились в темноте ночи и испуганно перекликались смешными голосками.
.. .Вдруг точно что-то произошло в темноте ночи: покрывая разностройность всех звуков, раздался широкий стройный вздох — еще и еще, кто-то вздыхал со стоном. .. Науруз остановился и огляделся, словно кто-то назвал его имя. Все стояло прежнее: белые домики и слабенькие огоньки, и где-то далеко, за темной массой домов, тоненькие одинокие свистки. Но как широкое звездное небо с невидимыми ночными облаками над миром, так эти мерные, горестные и мощные звуки поглощали и приняли в себя все звуки земли. Науруз понял, что этот звук доносился оттуда, куда сейчас они с Азретом шли — из темной громады батыжевской усадьбы, — и что недавно он слышал эти звуки.
Он ускорил шаг. Азрет перестал свистеть и вприпрыжку побежал рядом с ним. Чем ближе подходили
221
они к княжеской усадьбе, тем все бурливее, глубже и сильнее становился этот необычный, несущийся .в воздухе поток звуков. Казалось, что все песни, слышанные когда-либо Наурузом, чудесно слил в себе этот поток; но громче всех в нем звучал колыбельный колыхающий напев...
У ворот батыжевской усадьбы стояла безмолвная толпа. Некоторые лица освещены были пробивающимися между деревьями и струящимися из ярко освещенных окон дома лучами. Бледные женщины, усталые мужчины — всё люди простого рождения. Старый Степан стоял у ворот, наверное чтобы никто чужой не •прошел во двор. Науруза и Азрета он пропустил.
Под окнами ярко освещенного дома, безмолвно подняв лица, собрались все батыжевские слуги. Науруз мельком увидел и Кемала. Без удивления, словно так оно и должно быть, Науруз узнал того молодого казака, которого утром (как далеко ушло утро!) на плацу ударил начальник. Сидя на ступеньках лестницы, ведущей вверх на галерейку, держал он на поводу двух коней и, подняв вверх свое припухшее печальное лицо, тоже слушал.
Все смотрели наверх: необычайные звуки рождались именно там, за окнами, ярко освещенными. И вдруг Науруз вспомнил мальчика, сына ветеринара, — он с отцом приезжал на пастбища и играл на скрипке... Как бы взглянуть на него?
Еще утром, во время долгих часов ожидания, Науруз заметил, что одно из деревьев своими ветвями вплотную подошло к окнам дома. Это был старый раскидистый дуб. И, повинуясь внезапному побуждению, Науруз быстро полез по нему. Выше, выше — вот ветвь, вплотную подошедшая к окну. Он пополз по этой ветви и приник к стеклу. Из-за узорчатых прохладных листьев, касающихся его лица, увидел он ярко освещенную большую комнату, неподвижно сидящих людей. Их много — и всё господа: офицеры, толстые женщины и толстые богачи, некоторые в черкесках, некоторые одеты по-городскому. Они сидят молча, неподвижно, и на их лицах застыло выражение важности, скуки, хитрости и притворства, скуки и презрения — и
222
снова скуки... Науруз увидел князя. Тот сидел впереди, благопристойно и красиво сложив руки на коленях и склонив голову. Но мальчик? Где он, тот мальчик, что приезжал на пастбища? Науруз все ближе придвигался к стеклу, он скосил глаза вбок; мелькнула рука, в ней тоненькая палочка, показался локоть, еще что-то блеснуло... Науруз все теснее прилегал к стеклу — вдруг треск, звон, он почувствовал легкую царапающую боль на коже лба, понял, что продавил стекло. Музыка разОхМ смолкла, оборвалась, все нестройно зашевелилось, лица повернулись к окну. Науруз стал быстро спускаться вниз. И в тот момент, когда он уже прыгнул на землю, из дому выбежал толстый, без шеи человек, у него ершистые, седовато-рыжие, ровно подстриженные волосы и маленькие яростные глаза. («Как у кабана, — успел подумать Науруз. — Пристав».)
Прыгая с дерева, он сшиб с ног маленького казака, того, который караулил лошадей, — лошади убежали в темноту сада. Молодой казак, ругаясь, вскочил с земли, но, увидев перед собой пристава, по-строевому вытянулся.
— Что ж ты, милок, — ласково сказал пристав, обращаясь к молодому казаку, — или спустишь гололобому?
Науруз еще не понял, что означали эти слова, как маленький казак, ощерившись, со всей силой, тем самым приемом, каким били его сегодня утром, ударил Науруза в лицо. Багровый свет вспыхнул в глазах Науруза, кровь разом заполнила рот, он плюнул раз... другой.. * Казак, ударив, застыл неподвижно, точно он сам не ожидал, что так получится, — Науруз видел его перед собой, совсем маленького. Вдруг в тишине Науруз услышал смех. Это смеялся пристав. Он подошел почти вплотную к этим двум парням, он наслаждался. .. И, увидев так близко это преисполнен^-ное скверного восторга лицо, Науруз, стиснув кулак, со всего размаху ударил пристава, и пристав упал, беспомощно вскинув ноги в коротких и широких сапогах.
Люди стояли молча, неподвижно, только пристав, не то рыча, не то всхлипывая, поднимался с земли...
223
И Науруз, почувствовав вдруг смертельную опасность происходящего, кинулся в зеленую темноту сада. Вслед ему сразу прогремел выстрел, еще — пули пролетели над головой. Он быстро добежал до ограды, попытался вскочить, оборвался...
«Залезть на дерево? И оттуда через забор?»
— На улице тебя все равно поймают, — вдруг спокойно и тихо почти совсем рядом сказал кто-то.
Отпрянув, Науруз увидел очертания человека, но тут же узнал в нем Степана, батыжевского дворника.
— А ну лезь, лезь скорей сюда, — торопливо и заботливо шептал тот.
И Науруз по тихим и настойчивым подталкиваниям его понял, что надо делать. Он шагнул, листья зашуршали под его ногами. Здесь была большая куча опавшей листвы. Науруз кинулся на землю и зарылся в эту кучу, слыша, как приближаются голоса и шаги, быстрые, но в темноте неуверенные. Науруз только успел залезть в листву и притаиться, как выстрелы — один, другой — раздались над ним.
— Слезай! Слезай!..—кричал Степан, стреляя вверх. — Через забор ушел... — сказал он подбежавшим людям. — А? Черт! Не уйдет!
Науруз слышал кровожадные и быстрые вопросы и восклицания по-русски и по-1веселореченск1И. Шаги быстро удалились...
Сквозная завеса лиственной кучи позволяла Наурузу видеть мелькание света: видимо, его с фонарями искали по саду. Потом свет стал отдаляться. Степан, шаркая, ушел прочь. Слышно было, как мимо забора проскакали всадники: один, другой... В саду стало тихо. Потом Науруз услышал приближающийся звук шагов. По медлительному шарканью Науруз уже узнал Степана, но из предосторожности сидел не шевелясь и, тихо вдыхая крепкий и горький аромат опавшей листвы, насасывал кровь из разбитой, начавшей уже опухать щеки.
Степан подошел к самой куче.
— Эй, джигит! Жив? — Науруз зашевелился. — Вылазь!
224
Науруз с шуршанием встал, на две головы поднявшись над стариком.
— Слышишь? — спросил старик шепотом. В городе было неспокойно. Бойкий топот копыт доносился из-за забора. — Айтешка и Азиска, княжевы племяннички, стараются. Слышал, как я их по пустому следу направил? — спросил Степан и неожиданно захихикал. — Дело ты, джигит, устроил такое, что искать они тебя еще дня три будут. — Он помолчал, в темноте разглядывая Науруза, который смирно стоял перед ним.— Ну, идем-ка, — почему-то вздохнув, сказал Степан. Они шли по темному саду, огибая дом, окна которого были освещены. — Очень ты княгинь напугал. Они, верно, сегодня спать уже не лягут, — снова хихикнув, сказал Степан, кивая в сторону огней дома. — Испортил ты обедню нашему князю... Куда сейчас-то думаешь?
Старик говорил все время, перемежая русскую речь отрывочными веселореченскими словами. Потому Науруз приблизительно понимал его и, отвечая на его вопрос, указал в ту сторону, где были горы.
— Молодой ты, очень жалею я тебя, — раздумывая, точно даже удивляясь себе, сказал Степан. — Идем, что ли...
Они кругом обошли усадьбу, вступили в темное и открытое пространство, — здесь были огороды. Между грядок, иногда оступаясь и слыша, как под ногами хрустнет то капустный лист, то огурец, Науруз прошел за Степаном до какого-то темного холмика. Старик вдруг бесшумно исчез, точно провалился под этот холмик. Науруз вспомнил о заячьих всадниках, живущих в недрах гор, и, ничему не удивляясь, стоял и ждал. Неподалеку слышно было, как однообразно рокочет река. Вдруг раздалось кряхтенье старика, — он снова стоял перед Наурузом.
— Хоромы мои, — сказал он, указывая на холмик. — Летняя квартира. Вот, на... — он протянул Наурузу пахучий и пышный хлеб, — русский хлеб! — И айда. Надо, чтобы до зари ты уже далеко ушел.
Они пошли к реке. Батыжевская усадьба вплотную прилегала к обрывистому берегу Веселой, и Степан, спрыгнув на прибрежную гальку, заставил спрыгнуть
15 10. Либединский
225
-за собой и Науруза, потом повел его вниз по течению реки, под обрывом, над которым видны были темные головы подсолнухов (здесь к реке примыкали арабынь-ские огороды). Обрыв становился все выше; они шли возле быстрой и шумной воды, видя в высоте лишь звезды да крутую кромку обрыва и слыша только лай собак, все затихающий. Дав знак Наурузу следовать за собой, Степан стал подыматься вверх. Подъем становился все круче, труднее. Там, где обрыв уж кончался, Наурузу пришлось подсадить старика и лишь потом вспрыгнуть самому. Он поднялся и остановился в недоумении — вокруг была волнистая степь, голубая под вышедшей луною, поднявшейся из-за гор. Слобода сквозь сады чуть блистала огнями; над ней возвышались горы. Близкие были сумрачно темны, за ними виднелись бледные и твердые очертания снеговых вершин.
— Куда бы тебя спрятать? — вслух ду^ал Степан. — Есть у меня в Тифлисе... Понял, Тифлис? Турджи, по-вашему... Понял?
— Турджи... — обрадованно кивнул головой Нау-руз.
— А, понял? Там есть у меня дружок, Семен Иванович.
— Семен Иванович — рус! — возбужденно повторил Науруз. — Знаком!
— Знаком? — удивился Степан. — Ну, это совсем хорошо! Верно, он ведь от нас через горы ушел. Чебрец Семен Иванович зовут его, искать его нужно в железнодорожных мастерских. Понял? Нет, не понял, — ответил он себе, вглядевшись в лицо Науруза. — Да и не добраться тебе сейчас до Тифлиса...
Он задумался. Науруз стоял молча, послушно.
— Погоди-ка, есть человек, который тебя пока спрячет. Лаптев, старик.
— Лаптев, знаю, — сказал Науруз. — Борода... — и он обвел рукой вокруг лица.
—- Он и есть. Гляди направо, — указал Степан. —• Видишь, столбы? — Науруз пригляделся и увидел столбы. Он о них уже знал: из города в город шагают они, и стальные нити протянуты между ними. — Значит, шагай, имея столбы слева... — и он хлопнул Науруза
226
по левой руке, ниже плеча. — Если сейчас наладишься идти, к рассвету перейдешь железную дорогу — и тут правь на север, солнышко будет справа. Держись в сторону Ногаев.
— Ногаи, знаю, — сказал Науруз.
— Будет тебе на пути станица Доблестная. Слышал такую?
— Доблестна. Знаю.
— Там спроси, — Лаптева все знают. Он возьмет тебя в пастухи, он беспаспортных прячет. — Степан замолчал, отвернувшись. Науруз точно еще ждал чего-то.— Ну... что стоишь? Иди... иди... — как бы сердясь, сказал Степан. — Перекрестить тебя? Так ты некрещеный. —Он захихикал, но теперь совсем не весело, и еще раз снизу оглядел его всего. — Экой ты, братец, какой, — тихонько добавил он, махнул рукой, вздохнул и вдруг исчез, спрыгнул с кручи. — Иди... иди, джигит, — шепотом раздалось оттуда. — Да если дойдешь, так известил бы как!
Науруз не сразу его понял; когда понял, хотел поблагодарить за ласку и заботу. Но только слышно было, как внизу осыпается земля — все тише, тише...
Науруз остался один. Во все стороны видны были пологие бугры благоухающих предгорий, все было пусто, только горы с неизмеримой дали, но с таким же, как всегда, выражением спокойствия и мощи немо глядели на него. И, на короткий миг задержавшись на них взглядом, Науруз повернулся к ним спиной и пошел. Он шел, обходя те места, где светился огонь, — это были костры ночевок и хутора, разбросанные на княжьих землях. Особенно далеко обходил он собак, невидимо лающих в синеве ночи то там, то здесь, и каждый раз снова выпрямляя свой путь по телеграфным столбам, то подымающимся на бугры, то нисходящим в долины.
Он шел легко и быстро, ноги сами несли его. Какое-то гудение, iHenpepbiiBiHoe и мощное «о-о-о-о-о...» шло рядом с ним, стремило, вело его — это пели телеграфные столбы, пели туго натянутые между ними стальные струны. Не тот ли это напев, что звучал за освещенными окнами батыжевского жилища, напев, к ко
227
15*
торому он стремился, как голодный к пище? И осторожные свисты, далекие и близкие, раздавались вокруг, Науруз догадывался: это посвист каких-то маленьких степных зверей, и усмехался: эти звуки напоминали ему озорные свистки ребят в городе. Все, что произошло сегодня, все было в нем, и судьба его гудела над ним: «О-о-о-о». Пьяные враги шли по следу его ног, босых и маленьких, но если тогда прятали его Баташевы и Даниловы, то и сейчас нашелся у него спаситель — добрый русский старик. И Науруз шел с каждым шагом все легче: он привык всходить на горы, и по ровной земле ему идти — все равно что плясать,
Телеграфные столбы честно привели его к железной дороге. Перебегая эти четыре прямые и ровные полосы стали, он вдохнул особенный, для него новый, машинный, угольный запах железной дороги и нырнул в кустарник по ту сторону ее. Не успел он еще и на полчаса уйти от нее, как сзади прогрохотал поезд; стоя в темных зарослях на хмурой, хлюпающей болотистой земле, Науруз с удовольствием слушал этот победительный грохот до тех пор, пока он не стих. Придерживаясь кустарников, он шел именно так, как сказал ему Степан, прямо на солнышко, которое скоро багряно загорелось впереди него, прорезая чащу, через которую он пробирался. Он продолжал идти поросшей кустами низиной, зная, что над ним находится высокий степной сырт, и все прислушиваясь и ожидая протяжного звона русской церкви, которым должна была обозначиться станица. Колокола загудели неожиданно и в такой близости, что, преследуемый этими мягкими и как бы округлыми звуками, Науруз свернул в сторону и кинулся в кустарник. Продираясь через терновник, темно-густой и цепкий, такой, каким он всегда бывает осенью, Науруз вдруг застыл неподвижно: за шумом и треском кустарника ему послышался стон..Да, это был стон, жалобный плач... Науруз тихо раздвинул кусты, сделал шаг, другой — перед ним в траве пестрело, шевелилось что-то. Это была девушка. Она лежала ничком, точно кто-то с размаху бросил ее на этот склон, и она как' упала, так осталась лежать — голова и плечи оказывались несколько ниже всего тела. Наверное, ей было неудобно
223
так лежать, но, точно не имея сил лечь по-другому, она лишь всхлипывала, стонала.
«Нафисат!» — подумал Науруз.
Услышав его шаги, девушка вскочила. Это, конечно, была не Нафисат, да и как могла бы она попасть сюда... Девушка эта была старше, крепче, крупнее Нафисат, и никогда не приходилось Наурузу видеть дочь Баташевых в таком горе и унижении, в каком была сейчас эта девушка. Одежда ее была изодрана, ноги босы, голова не покрыта — уже одно это было для Науруза признаком позора. Ее темнорусые волосы, перепутанные и нечесанные, космами падали на воспаленное, залитое слезами, запачканное и все же привлекательное, молодое, нежное лицо. Только на секунду встретился он с ее карими, круглыми, «русскими», как подумал он, глазами. Пронзительно вскрикнув, кинулась она прочь, через кустарник: хруст и треск пошел по чаще.
Науруз пошел дальше. Что случилось с этой девушкой? Ее обманули? Над ней надругались? И почему он подумал о ней как о Нафисат — или что угрожало дочери Баташевых?
Он дошел до узкой, но крепко укатанной дороги. Не решившись перейти ее, он отошел в глубь кустарника, нашел дикое, заросшее терном и волчьей ягодой урочище. Здесь он и залег на день, то засыпая, то при малейшем звуке просыпаясь. По близкой дороге с грохотом и звоном проезжали казачьи телеги, и каждый раз опять вспоминал он русскую девушку, которую вспугнул в чаще. Он сам не мог бы объяснить, почему с такой настойчивостью приходит к нему это воспоминание. Дождавшись ночи, он перебежал бледную и мягкую от пыли дорогу и снова нырнул в кустарник, чтобы выйти из него под звезды на степную открытую землю. Станица оставалась уже позади. Широко обходил он ее тусклые огоньки, рука Степана заботливо вела его, и он чувствовал себя под его защитой. Он шел, принюхиваясь к новым запахам и прислушиваясь к незнакомым степным звукам: к предсмертному воплю зайца, к странному порсканью, доносящемуся из болотных низин, к высокому-высокому заливистому покрику какого-то крылатого хищника. Как далеко он ушел, а
229
горы все видны попрежнему, даже точно выросли. Беляки их ушли вверх, и стало видно лесистое, темное, подернутое синеватым туманом широчайшее подножье,— там ведь и скрыты аулы. Науруз сейчас впервые испытал чувство одиночества, точно до этого жил в большой, огромной семье. И ему все воображалось рдеющее смуглым, румянцем, чернобровое, с худощавыми красивыми щеками лицо девочки и новое, никогда не виданное выражение заботы, утомления и горя на этом милом лице — точно тень грядущих несчастий... Он хотел бы встать между этим темным грядущим и ею, защитить ее. Но откуда придут эти тучи?
К утру стало ненастно, туманно. Совсем уже рассвело, когда Науруз подходил к каким-то жилищам. Среди голой степи стояли они; низенькие длинные строения, -мазаные и белые, неожиданно выступили перед Наурузом из молочной мглы ненастного утра, и только хотел он пойти от них в сторону, как откуда-то вдруг вынеслась большая белая собака; оскалившись, молча бежала она прямо на него. Он остановился и приготовил палку, вырезанную по пути; за этой собакой бежали такие же другие. Подпустив первую, Науруз со всего размаха грохнул ее по оскаленной морде. Она покатилась оглушенная или убитая... Он размахивал палкой; собаки, рыча, осели его кругом — громадные белые псы не виданной им породы.
— Ты что собак бьешь? — закричал, подбегая, низенький сторож-ногаец. В руках его было ружье. — К овечьим загонам подбираешься? — Сторож непристойно выругался и наклонился к оглушенной собаке. — Шарик... Шарик... — Он подбодрял собачищу, которая медленно вставала. Виляя хвостом, облизываясь, собаки окружили сторожа, — в меховом, белой шерстью наружу тулупе он не намного возвышался среди них и был похож на их бога. — А ну, басурманский морда, — говорил ногаец, угрожающе наводя на Науруза ружье, — идем к хозяину! Он тебе покажет, как наш собака убивать.
Они шли точно по улице, длинной и однообразно скучной. По обе стороны стояли беленые строения, каждое своей короткой стеной повернутое к дороге. Перед
230
(каждым из этих строений простирались загоны, на которых бродили овцы; то матки с ягнятами, то бараны — нестриженые, кажущиеся толстыми, и стриженые, кажущиеся тощими. У некоторых были громадные курдюки, других держали, видимо, за шерсть. Науруз только слышал, что бывают такие породы, но раньше никогда их не видел и, при всей тревоге и усталости, жалел, что они быстро идут .мимо и он не может ничего хорошенько разглядеть.
Круто свернув в сторону, сторож грубо окликнул его, и они пошли по дороге, мощенной камнем, обрытой с двух сторон канавами и обсаженной молодыми деревцами. Впереди их был красный дом с зеленой крышей, оттуда слышалось пение: какое-то яростное торжество слышно было в нем. «Христос воскре-ес, сын божий. ..» — оглушительно ревели здоровые мужские глотки, и женщины визжали так, точно стремились перебить этот рев.
Науруз изумленно и вопросительно взглянул на своего сопровождающего; тот неожиданно широко и без всякой злобы улыбнулся, показав белые молодые зубы.
— С вечера поют, — одобрительно сказал он. — Браги наварили четыре бочки, всю выпили и опять поют.
Через ворота, широко раскрытые, вошли они на большой двор, на котором крестиками обозначались бесчисленные следы птичьих лап. Повсюду белел распустившийся в лужах птичий помет. Под большими навесами, окружавшими двор, сидело на насестах, бродило по сухой и пыльной земле множество всяческой куриной породы. Выделялись сказочные павлины.
Эти любящие сухую погоду птицы были вялы, сидели нахохлившись, но как восторженно крякали пестрые утки и торжествующе гоготали, поднимая подрезанные крылья, белоснежные гуси, приветствуя ненастный, насыщенный влагой день! Науруз не успел разглядеть все это, как провожатый окликнул его и провел внутрь дома.
Они вошли в большую горницу. За длинными столами сидели одетые в белое, раскрасневшиеся мужчины и женщины. Они пели. Столы были уставлены питьем и
231
яствами; круглые и пышные русские хлебы лежали всюду на белых полотенцах. Блюда были уже наполовину опустошены, — пир происходил, повидимому, давно. Науруз вслушался в слова песни, которая вылетала из ртов, широко отверстых:
У нашего хо-зя-ина И-исус воскре-ес, сын бо-о-жай. Три радости случилося... И-исус воскре-ес, сын бо-о-жай.. А первая радость случилась... И-исус воскрес, сын бо-о-жай... Сорок уль-ев роилося... Исус воскре-ес, сын бо-о-жай...
А вторая радость случилася... Исус воскре-ес, сын бо-о-жай,.. Сорок коров телилося... Исус воскре-ес, сын бо-о-жай...
Среди этих незнакомых, яростно поющих людей Науруз вдруг увидел Лаптева. На почетном месте, в самом начале стола, под странным, продолговатым, похожим на глаз оконцем, расположенным почти у самого потолка, пощипывая свою задорно выдающуюся вперед бороду, сидел этот краснолицый, лысый и хитрый старик. Щурясь, он улыбался Наурузу той же самой, запомнившейся Наурузу еще с первой встречи, как бы завешивающей лицо улыбкой. Сторож, пригнувшись к уху Лаптева, что-то нашептывал... «Обо мне», — думал Науруз, чувствуя, что от сытых и хмельных запахов, наполняющих эту горницу, у него кружится голова. За прошедшие сутки он съел только половину того русского хлеба, который дал ему Степан, но есть ему не хотелось, наоборот — он чувствовал отвращение к пище.
А пятая радость случилася... Христо-ос воскре-ес, сын бо-о-жай... У жены дочка родилася... Христос воскре-ес, сын бо-о-жай...
Все стояли, и Науруз заметил, что сидевшая рядом с Лаптевым молодая румяная женщина с открытыми и гладко зачесанными назад темнорусыми волосами спрятала под кофточку белую грудь и передала одному из своих соседей новорожденного ребенка, кажущегося особенно багровым в своих белых пеленках. Тот, кому она передала ребенка, крича что-то, передал его дальше.. Ребенок, сморщась, плакал, но ни звука не было слышно за общим ревом, и мать смеялась, глядя на ребенка.
— Кто таков? — вдруг спросил старик, очутившись
232
возле Науруза и снизу вверх ощупывая его колючим взглядом своих невидимых из-под бровей глаз. Но Науруз не успел ответить, как старик, вдруг ухватив его своими цепкими пальцами за локоть, повлек к тому концу стола, откуда сам встал. — Глядите! Вот он, голубчик! — восторженно и плачуще кричал он. — Выбежал я на крыльцо, а его-то высокоблагородие вверх тормашками. .. Это, брат, ловко! Вот это да ! — кричал Лаптев и обдавал Науруза пьяным и хлебным дыханием.
Бородачи яростно во все стороны рвали его; румяная красавица-мать, держа на руках ребенка, который, пройдя по всем рукам, вернулся к ней, качала перед сморщенным младенческим личиком нить румяных корольков, которые она сняла со своей белой полной шеи, а сама блестящими синими глазами разглядывала Науруза.
— Как он его положил, братцы, — надсаживался старик. —Н-на! Знай наших! А потом — фурк в сад... Пей, детка! Пей!
Науруз отодвинул чашку, в которую была налита зеленовато-мутная (пахнущая хлебом) хмельная влага.
— Махам-медан? — кричал восторженно старик. — Закон держишь? Держи свой закон! Мы ничьей веры не рушим!.. Спрячем дитя, и прокормим, и пригреем. ..
Он в мягких валенках бесшумно, как кот, ходил вокруг Науруза и, точно покупая его, хватал своими жесткими пальцами и щупал мышцы его рук.
— А паспорта нам не надо, — снижая голос, говорил он. — Работай — и все! А что махамедово ученье, так нам все одно. Наш бог нерукотворный, один для всех — вот око его! — Он показал на то большое, действительно похожее на глаз оконце под потолком, откуда тянуло ненастною свежестью и видно было серое туманное небо. — Нам говорят — дыромолы! Беспоповщина! — орал Лаптев, напрягая лицо так, что жилы надувались на лбу. — Нехай язычники блудословят! Божья милость с нами! — и он широко обвел вокруг себя: столы, заваленные грудами жареного и вареного мяса, заставленные горшочками. — Князья! — орал он. — Кто князья? Что твой князь? Фу! А мы... мы по
233
святой библии живем! Патриархи тоже овец пасли... —' орал он, стараясь перекричать рычащую и хохочущую толпу.
От запахов обильной и незнакомой еды у Науруза все сильней кружилась голова, и он повернул лицо в ту сторону, откуда слабо тянуло сыростью и свежестью ненастного утра. «Божье око» бессмысленно и слепо, как бы затянутое бельмом, глядело в эту рычащую и хохочущую горницу.
Вдруг в бесстрастной и белесой слепоте этого вырезанного в стене чудовищного глаза живо мелькнуло что-то... Одно, другое, третье — это с карканьем летели галки. И как бы вырываясь из сновидения, (мгновенного и страшного, Науруз с радостью подумал, что никакого ока нет, есть урезанный кусочек того великого неба, под которым всегда шла и будет идти его жизнь.
Глава четвертая
Вениамин Сергеевич шел по темным улицам Ара-быни. Сына с ним не было, — в суматохе погони за Наурузом Гриша исчез, наверное ушел домой. Растерянный, держа в руках свою никому не нужную скрипку, вышел мальчик на крыльцо батыжевского дома... И, тревожась за сына, Вениамин Сергеевич ощущал к нему болезненную, жалостливую нежность и какую-то смутную вину перед ним.
Когда Вениамин Сергеевич переходил одну из темных улиц, прямо на него из-за угла выскочило несколько всадников. У переднего в руках был факел, пламя играло и бросалось из стороны в сторону. «Нет, не тот», — сказал кто-то из всадников о Вениамине Сергеевиче, который, весь на свету, беззащитный, стоял посреди улицы. Грязно выругавшись, всадники ускакали прочь. За короткие секунды, пока Вениамин Сергеевич стоял среди улицы, освещенной колеблющимся светом факела, он признал в этих всадниках князей Дудовых. Вокруг опять было темно, но топот копыт на улицах Арабыни продолжался. «Ловят», — подумал Вениамин Сергеевич. При всей нелепости и неожидан
234
ности случайность, не позволившая осуществить концерт сына, имела еще несомненный и противный привкус арабыньской жизни.
— Свиньи, свиньи, — бормотал Вениамин Сергеевич.
Но как здорово, как хорошо ударилось о землю его благородие, вскинув вверх бочковидные ноги... И этот богатырь-ребенок, словно вставший из народной песни, с окровавленным лицом и победно поднятой десницей. ..
Вдруг до слуха Вениамина Сергеевича издалека донесся гик, визг, отдаленные свистки, топот коней. «Поймают... Сожрут, свиньи». И Отроков перестал думать о Наурузе. Он подходил уже к своему дому, и снова забота о своем мальчике взяла его всего.
У Гриши была темная узенькая комнатка, отделенная от просторной комнаты младших детей тонкой дощатой перегородкой. В этой комнате можно было поставить только кровать да маленький столик. Сейчас у Гриши было темно,—только острые полоски света, проникая сквозь щели, прорезали темноту. Одна из этих полос лежала на белом лбу и на молодых и густых волосах Гриши.
Отец, кряхтя, присел около сына на твердую мальчишескую постель, пригнулся, стараясь разглядеть его лицо. Глаза у Гриши открыты, но выражение их непонятно.
— Таковы-то дела, Гришутка. Вот и кончился пир наш бедою, а? — сказал отец.
— А что, его поймали? — спросил быстро сын.
— Кого? — переспросил отец. — Басурмана этого? Вот некстати сунулся... — Сын медленно взглянул,. и отец, поняв, что пошутил неладно, нежно и виновато тронул костлявое мальчишеское плечо. — Пока не поймали, — как сквозь землю провалился. Спрятали, наверно, — добавил он с торжествующим злорадством. — Да, это удалец! — Вениамин Сергеевич еще говорил что-то: кажется, утешал, обнадеживал.
— Да, да, папа, конечно, — отвечал сын, не слушая.
Потом отец ушел. Слышно, было, как за перегородкой беззаботно переговариваются, ложась спать, пере
235
смеиваются младшие дети. Скоро умолкли и они. Свет за перегородкой погас, стало тихо. Потом издалека, из-за нескольких таких же дощатых перегородок, донеслось до мальчика знакомое порывистое, похожее на всхлипы 'всхрапывание отца. Последней ложилась спать Тереза — «мама Тереза», как называл ее Гриша. Она еще несколько раз прошла из кухни в комнату. Слышно было, как плещет вода, звенит посуда.
— Гришенька, ты будешь ужин кушать?—тихо спросила она, мило смягчая трудные для нее звуки твердой русской речи.
Гриша не ответил, легла спать и она. Теперь он один не спал в душной ночной семейственной тьме, заполненной докучно-знакомыми звуками.
С детства чувствовал Гриша, что семья их особенная, что живут они не как все. Но он любил родной дом. Находясь вне его, тосковал, дичился и стремился скорей под свой кров.
— Твой батька, правда, с кухаркой живет? — бесстыдно спрашивали его мальчишки-одноклассники.
Он лез в драку, и его избивали.
•Ма-ма Тереза... он вырос под ее ласковыми и заботливыми руками, — как же он мег допустить, чтобы над ней надругались? И он знал, что лучше, благородней и интересней отца не было человека в Арабыни. Первые тайны мира Гриша узнал от него: отчего гремит гром и почему не тает снег в горах. Отец показал ему раковины древних морей на горных вершинах и, объяснив ночное звездное небо, раздвинул до бесконечности пределы вселенной. И когда в последнем классе городского училища торопливо и небрежно проходилась греческая мифология, отец, показав сыну на высокие горные снега, вдруг по-новому рассказал ему миф о Прометее, «Сыне Пастуха, в камне зачатом, богатырг ским кузнецом воспринятом, похитившем огонь и принесшем его людям, — и орел терзает его печень, медведь стережет его, но настанет день...» И древние книжные греки отождествились с несчастливыми, прижатыми к скалам и на гибель обреченными весело-речснцамик
236
В большом плетеном, поставленном на тряские дроги коробке, приткнувшись к уютному, родному и мило пахнущему плечу отца, Гриша сопровождал его в поездках по диким арабыньским дорогам и тропам на пастбища и стойбища.
Ржание коней и барабанный гул табуна, несущегося по утоптанной дороге. Разностройное и чудесно мелодическое блеяние овец, щелканье бичей и напевы тростниковых дудок, однообразно резкие и воинственные. И в морозной сухости безветреных осенних вечеров — громадные костры, столбами устремленные к небу, бросают красноватые и неровные отсветы на молодые и старые мужские и женские лица, одинаково отмеченные выражением сдержанной печали... И вдруг глухой топот бубна, взвизгивание зурны — в неистовом и бесшумном полете пляски прорывается веселье и сразу спадает в заунывно-нежное колыхание колыбельных напевов...
С младенчества эти резковато-печальные и воинственные мелодии были как бы врезаны в душу мальчика. Дуда, губная гармоника, балалайка, гитара, зурна — все, что создано человеком, чтобы звучать и петь, с детства звучало и пело на его губах и в руках.
Отец сам подарил ему скрипку и стал его первым слушателем, неутомимым и постоянным, первым критиком, снисходительным и чутким.
В этот год Гриша, худой и нескладно-сутулый мальчик с большими ушами, вырос вдруг разом. Точно толчком перерос он отца и по-новому поглядел на него: маленький коротышка почти без шеи, человек, который много работает и не умеет зарабатывать и над которым смеются люди. И он стал стыдиться отца и Терезы. Пусть бы его отец и мать были хуже, пусть были бы они такими, как все люди, только б над ними не смеялись. И отец, который в этот год восторгался вдохновенной и какой-то особенно ожесточенной работой сына над первым задуманным им самостоятельным произведением, не подозревал о том, что сын стыдится его.
На рождественском вечере в городском училище Гриша впервые выступил перед публикой. С испуганной жадностью слушая аплодисменты, впервые с вое-
237
торгом почувствовал он, что дарование его дает ему власть над людьми. Что ж, он возьмет эту власть! Он избавится от стыда и унижений, как бы унаследован’ ных от отца! Он добьется, что люди преклонятся перед ним!
Именно с этого 'Времени стал он неумело, но упрямо скраивать воедино свои ранее записанные мелодии. Симфония «Кавказ» — наивно назвал он свое сочинение (в Арабыни был духан, который так и назывался «Кавказ»). Учительская молодежь — первые поклонники его таланта — подхватила это название, — так дошло оно до ушей самого князя Батыжева.
Уговаривая Гришу показать свое произведение у князя Батыжева, Вениамин Сергеевич чувствовал, что должен казаться Грише смешным и жалким: сколько раз до этого высказывал он перед сыном презрение к арабыньскому обществу! Отцу казалось, что он оскорбил свободолюбивую душу сына. Он не подозревал о скрытности сына, о том, что застенчивая робость его объясняется прежде всего тем, что Гриша, рассматривая предстоящее выступление у князя Батыжева как первый бой за себя, чувствовал, что вступает в этот бой недостаточно вооруженным, работа над произведением еще не была закончена, и он боялся себе самому признаться в том, что произведения, по-настоящему говоря, еще нет.
Именно это и понял он, начиная играть у Батыжевых. Народные мелодии жили в произведении каждая своей жизнью. Они не были охвачены единым порывом и стремлением, и потому переходы от одной части к другой были грубы, вся вещь в целом лоскутна. «Попурри»,— морщась, думал Гриша. И он отважился на то, на что можно отважиться лишь в крайней молодости: наметил и здесь же, на концерте, начал осуществлять более крутой и бурный ход главного мотива — он импровизировал, и никто об этом не знал. Водя смычком по струнам своей одинокой скрипки, он слышал сейчас целый оркестр: «Нет, это не гонят стада, это войско идет! А ну, еще воинственней, еще резче». Чувство гармонии вело его, но он еще не представлял, как разрешит крутое нарастание мотива... Вдруг в музыку во
238
рвался чужеродный и простой звук реального мира. Это звенело падающее на пол стекло. Пристав сорвался и побежал к выходу, за ним обрадованно кинулась толпа...
Гриша не знал еще, что случилось. Но он уже очнулся. Он увидел, что музыка его совсем не нужна тем, для кого он играл, — никто даже не обернулся к нему. Обиженный до озноба, вслед за людьми вышел он на крыльцо. Мотив, так и не завершенный, еще продолжал надтреснуто и слабо звучать в его душе — и вдруг удар, глухой и гулкий... И разом все оборвалось, затихло, — в этой немоте и оцепенелости только молодой богатырь с окровавленным лицом стоял над всхлипывающим, копошащимся на земле приставом. Молодой богатырь — знакомый ему, добродушный, застенчивый Науруз — это он ворвался в его произведение, словно для того, чтобы стать героем его, чтобы определить его главный, песенный мотив. И отзвук происшедшего достоверной правдой зазвучал в душе Гриши.
То теряя, то снова начиная слышать этот мотив, мальчик лежал в темноте. Это было состояние полусна, полубодрствования, когда, лежа с открытыми глазами, все видишь и слышишь как наяву, и все же находишься во власти какой-либо странной иллюзии и можешь прогнать ее, но не прогоняешь.
И он, закинув руки за голову, забыв о себе, расплетал и вновь сплетал простое и неуловимо-чудесное плетение мотива. Шли часы — он работал вдохновенно и страстно... И вдруг в паутинное плетение воображаемых звуков опять, как вечером, ворвался живой, воинственно-долгий и жалобный звук...
Гриша вздрогнул и вскочил с постели. Ночь прошла. В комнате все было голубое, а за окном розово-желтое. Гриша распахнул окно и глубоко вдохнул приправленный морозной прохладой снегового хребта благодатный воздух плодоносной Арабыни. Дорога была черна, беленая стена домика напротив сказочно розовела. Все было пусто, неподвижно, только звук, пронзительный и звонко-протяжный: «а-а-а... а-а-а...» все приближался. Этот звук имел свой особенный круговой лад:
239
«а-а-а.. .а-а-а...» Он становился все громче, он был единственным движением среди сна и неподвижности; ветви деревьев, точно завороженные, стояли в небе, только еще начавшем голубеть... И вдруг показалась на улице горская, на двух больших колесах арба. Темнобурый кудрявый бычок в ярме, надетом на строптивую звериную морду и укрепленном на курчавом лбу поверх коротких и широких рогов, старательно тянул арбу. Рядом с арбой шел молодой парень в рваном и много раз заплатанном бешмете. На ногах его не было сапог; они были старательно обернуты тряпками и завязаны веревочками. Наверно, издалека пришла эта арба; большие колеса были в грязи, — это они так скрипели: «а-а-а... а-а-а...» Парень был совсем молод, он, наверно, ни разу в жизни не брился, и его горбоносое лицо все поросло тонкокудрявым рыжим пухом. Он шел задумавшись, и Гриша, с непроизвольной жадностью вглядываясь <в это лицо, увидел на нем выражение достоинства и сдержанного горя, которое он и ранее замечал на лицах черкесов, и песня о Венегере точно въявь повторилась в этом странном ночном звуке...
Казалось бы, ничего общего с Наурузом не было в этом парне, — Науруз был одет празднично, нарядно,, и лицо у него было широкое и румяное, а не продолговатое и бледное. Но Гриша впервые взволнованно спросил себя:
«Где сейчас Науруз? И эта арба, может быть, уходит туда, где о нем знают, — да, да, конечно, там знают, а я тут стою...»
Гриша не знал: счастливо или несчастливо для него то, что произошло несколько часов тому назад на дворе князя Батыжева, но он знал, что всю жизнь будет помнить протяжный и пронзительный звук, который сейчас затихал, уходил.
И худенький мальчик, с лицом взволнованным, усталым и счастливым, все стоял у окна.
Дудовы и Батыжевы еще продолжали скакать по темным улицам Арабыни, ловя омрачившего княжеские •забавы молодого пастуха, а Джафар Касеев давно уже был у себя в опрятном домике вдовы-чиновницы, половину которого он снимал. Джафар был взволнован и уснуть не смог. Не прочь был бы он поговорить со старым Хусейном Дудовым или с кем-либо из русских коллег, учителей городского училища, или даже с чудаком Строковым, но на улице было темно, дико, то и дело взад и вперед топотали кони, и у него не было желания в этот темный ночной час оказаться на дороге у своих сиятельных учеников, с рвением выполняющих княжеский долг.
Джафар пробовал сесть за работу — им начато было большое сочинение: в нем развивались мысли, порожденные его путешествием по Востоку. В этом -сочинении Джафар отказывал в будущем всем народам Востока. Он считал, что «все достижения арабо-персидской и индийской культуры были лишь неудачным вариантом истории человечества», — так писал он. Естественно, что он отрицал будущее и за тем маленьким народом, к которому сам принадлежал. Он доказывал, что раньше чем этот народ сможет поднять голову, «он будет начисто перемолот жерновами капиталистического развития». За последние недели Джафар писал особенно горячо и много. Переписка с депутатом Государственной думы казаком Мокроусовым, разговоры с князем Батыжевым, даже эта глупая история мансуровского вола — все, казалось ему, подтверждало его мысли.
Приезд Гинцбурга очень взволновал его.. . Кооперация, геологическая разведка, карта Арабыньского округа, расчерченная синим и красным карандашом («Как для будущего сражения», — подумал Джафар),— все совпадало с самыми его заветными мыслями. Что-то притягивающее было и в поведении столичного гостя, — Джафар глаз от него не мог отвести. То, что Гинцбург был как-то связан с князем Темирка-ном, сразу возвысило князя в глазах Джафара. Необыкновенно, совсем не по-арабыньски складывался весь сегодняшний день: прогрессивно... культурно...
16 10. Либединский
241
И вдруг звон стекла, азиатская рожа в окне, мордобой и стрельба, — так должен был думать обо всем этот столичный гость.
Джафар кряхтел и морщился, садился за стол, чтоб начать работать, и снова вставал и начинал ходить по комнате. Подходя к окну, глядел он в темную арабынь-скую ночь, словно стараясь разглядеть: что же именно вторглось в его работу и сейчас мешает ей?
Так прошла ночь.
Джафар подошел к окну и распахнул его; прохладный воздух залил комнату; было тихо, край неба багряно алел, — это была утренняя заря. «Его поймают и убьют», — проникновенно-грустно подумал Джафар о пастухе, помешавшем ему работать. И, глядя на утреннюю зарю, которая разгоралась с какой-то небывалой яркостью, и на ветви росшего перед окном дерева, четко и грозно выделявшегося на багровом небе, Джафар мысленно говорил:
«Нет, это не утренняя заря нового! Это всего лишь последние отблески вечерней зари газавата!»
Литературная фраза, которую он только что придумал, как всегда, успокоила его. Он разделся, лег и сразу уснул.
Беленые стены комнаты порумянели. Солнце осветило портреты Некрасова и Чернышевского и спокойно спящего под ними на своей чистой постели, в белом полотняном белье Джафара Бекмурзаевича Касеева.
По догадке Кемала, Науруз должен был кинуться в горы единственной ему знакомой дорогой, — на нее Кемал и увлек князя Темиркана и большинство преследующих. Но Темиркан скоро убедился, что догадка Кемала ошибочна, и, разделив всех преследователей, он оцепил тропки, ведущие от Арабыни к горам.
К рассвету преследователи начали возвращаться. На княжеском дворе они узнавали, что бунтовщик еще не пойман и Темиркан еще не вернулся. Тогда они отъезжали в боковые улицы, поджидая там исхода облавы.
Наконец появился Темиркан. Медленно, опустив поводья, ехал он, сопровождаемый верным Кёмалом. Их
242
черкески были заляпаны жирными бросками грязи. Темиркан казался постаревшим, наверно оттого, что подходил уже час утреннего бритья и на лице его выступила однодневная щетина. По мере того как Темиркан приближался к своему дому, участники погони, выезжая из боковых улиц, присоединялись к нему. С каждой новой группой неудачливых преследователей в свите Темиркана возникали приглушенные споры:«вокруг Темиркана надо было расположиться в порядке старшинства, а споры из-за старшинства, случалось, приводили к кровавым поединкам. Кончилось тем, что, подъехав к воротам своей усадьбы в сопровождении внушительной свиты родичей и слуг, Темиркан вдруг обернулся и назвал всех своих спутников одним русским, коротким, но чрезвычайно крепким словом, которое особенно подействовало оттого, что Темиркан всегда отличался вежливостью и сдержанностью обращения. Правильно поняв желание господина, свита рассеялась, и только Кемал счел нужным вслед за Темирканом въехать на широкий двор. Заспанный Степан запер за ними ворота.
— Как гость? — спросил у него Темиркан.
— Спит, — ответил Степан и увел коней.
Князь присел на нижние ступени лестницы, ведущей на галерею. Кемал остался стоять перед ним. В саду еще был таинственный, темный зеленый мрак, стекла же в княжьих покоях слепо и тускло отсвечивали ярью.
— Иди спать, ты мне не нужен, — сказал князь Кемалу.
Он сказал это так, что Кемалу следовало немедленно уйти. Но Кемал не ушел. Он стоял молча, как подобает, ждал вопроса старшего.
— Что тебе? — спросил раздраженно князь.
— Господин, — ответил Кемал, — имею к тебе просьбу.
— Просьбу? — удивленно переспросил князь. Кемал ничего не ответил. — Говори, — помолчав, сказал князь. — Сна мне бог сейчас не пошлет, — говори.
— Ты знаешь, я был при стремени отца твоего, славного господина Искандера, и также достойный брат твой...
243
16*
— Слушай, Кемал, я не хочу, чтобы ты начинал сказывать свое дело с Баташа и Батыжа. То, что отец утащил тебя в Петербург, известно мне лучше, чем кому-либо. Говори коротко, что ты решил у меня просить в такой плохой час?
Кемал глубоко -вздохнул и облизал губы, словно ему хотелось пить. Темир1ка'Н с любопытством наб люда л за ним.
— Девочка есть в услужении госпожи супруги твоей. Сирота. Ты, конечно, знаешь ее. Имя ее Фатимат,— голосом,-который делался все глуше, выговаривал Кемал.
Князь изумленно взглянул ему в рот, — так необычно произнес он имя девушки.
— Я должен знать всех служанок моей Дуньят? — весело и удивленно спросил Темиркан. — Можно подумать, что тебя лошадь не в живот, а в г’олову ударила, Кемал Баташев.
И с изумлением услышал Темиркан, как Кемал заговорил, опустив веки на глаза и покачиваясь:
— Ее раз увидишь — никогда не забудешь. Красивый висок, шея как у римского кувшина, полумесяцем лоб, а бежит — как лебяжье перо по ветру несется...
Кемал говорил старыми словами народных песен. Но по затрудненной хрипоте его голоса (словно он был охвачен жаждой) Темиркан все понял. Развеселившись, он ждал, что еще скажет влюбленный.
И, понизив голос, Кемал добавил:
— Девушка княжеской крови, говорят. Сродственница твоя...
— Фатимат! — воскликнул князь. — Да разве же она... хотя сейчас ей четырнадцать или пятнадцать — вот идут годы! Да, Фатимат, есть у нас такая...
— В жены прошу я ее у тебя, — сказал Кемал, поклонившись. — Сам знаешь, выкупа большого дать не могу, но ведь я м»еч твой, господин Темиркан.
Он еще раз поклонился и потому не мог видеть, с какой оценивающей и быстрой проницательностью взглянул на него Темиркан. Но когда Кемал, снова поклонившись, поднял взгляд, Темиркан сидел перед ним озабоченно-строгий и величественно-спокойный.
244
— Фатимат... я вспомнил. (Темиркан, правда, припомнил миловидную черноглазую девочку, которая все* гда была на побегушках у Дуньят.) Мать у ней безродная, но она брата моего Алегико кровь...
— Господина Алегико? — захлебнувшись, переспросил Кемал.
Темиркан кивнул головой. От кого происходила Фатимат, он не знал, и достоверно об этом не мог знать никто. Девочку родила прислужница госпожи Ханифы и тут же умерла от родильной горячки. Известно было, что покойная отличалась доступностью, она могла забеременеть и от дяди Асланбека Дудова, который месяцами жил у Батыжевых, и от любого другого из дудов-ской родни, и от покойного- отца Темиркана князя Искандера, а может, и верно — от покойного Алегико, старшего брата Темиркана.
— Что же ты скажешь мне, господин? — спросил Кемал, подождав некоторое время ответа.
И, помолчав, Темиркан ответил:
— Плохое время для сватовства выбрал ты, человек. Заботы одолевают меня: если на местах охоты заводится бешеный волк, даже верные собаки могут взбеситься от его укусов.
— Этому волчонку бешеному, о котором ты говоришь, не жить, господин, —сказал Кемал. — Я поклялся тебе, ему не жить...
— Да, жить ему нельзя, — подтвердил Темиркан. — Сделали упущение: убив Керима, дали прорасти его семени.
— Поговаривали,—снизив голос, сказал Кемал,— поговаривали, что он не кровный сын Керима, а приемыш его.
Темиркан досадливо пожал плечами. «Не все ли равно?» — хотел он сказать. Но, взглянув на лицо Кемала, не сказал этого. Кемалу было совсем не все равно, — и Темиркан вспомнил темные, против безродных направленные старинные адаты.
— Есть в ауле Веселом мулла Шаик, — таинственно говорил Кемал. — Он Керима-возмутителя с юности знает... И будто бы от самого Керима Шаик слышал:
245
подобран Науруз в Сибири, мать его умерла на руках у Керима, — непотребная нищенка...
— А тебе Шаик об этом сказал? — быстро спросил Темиркан.
— С Шаиком, начальству непокорным, не знаюсь,— ответил Кемал.
Темиркан хотел продлить расспросы, но тут же раздумал: пусть Кемал ходит сам по своим тропам, лишь бы приходил куда нужно, приносил что нужно.
— Ты мне подробно это узнай... — сказал, он повелительно. — Узнай, но до времени молчи. Прибереги к случаю... Безродный! — воскликнул Темиркан. — Какой ветер принес к нам сюда это проклятое семя? — И Темиркан кивнул на свой сад, окутанный голубоваторозовой шевелящейся дымкой тумана. — И куда делся? Может, и сейчас здесь... — медленно проговорил он.
— Где здесь? — удивленно спросил Кемал. — Здесь мы все обыскали.
— Здесь, — настойчиво продолжал Темиркан, — растворился в воздухе, облаком подымается. Здесь же, невидимый, слушает нас.
Кемал, вздрогнув, дико оглянулся. Князь, точно спохватившись, отплюнулся:
— Тьфу, наваждение! — сказал он.
Они помолчали некоторое время.
— Но куда же он все-таки делся? — настойчиво спросил Темиркан.
Кемал не отвечал.
— Спрятался, — сказал князь. •— А вернее сказать — спрятали.
— Кто? — быстро спросил Кемал.
Князь опять усмехнулся, тихо и жестоко.
— А это тебе надо знать, Баташев. Ты — мой глаз и мое ухо в народе. Если в первые часы облавы потерян след,, сам затаись и жди, пока зверь не окажет себя. Впрочем, ты охотник и понимаешь... Волчьи ямы. Сети. Ловушки. Отравленные приманки. Все, что угодно, — сказал Темиркан, с такой силой сказал, что сразу же эти слова овладели Кемалом, Стали его мыслью и его стремлением.
Так будет, — ответил Кем ал ♦
246
Темиркан встал и, кивнув Кёмалу головой, пошел вверх по скрипучей лестнице.
— А мое дело, господин? — жадно спросил Кемал снизу.
Темиркан остановился.
— Я тебе не отказал. Но отложим сватовство до более радостного часа.
Когда поздним утром Гинцбург вошел в кабинет Темиркана, тот хотя и был несколько бледнее, чем вчера, но уже, как всегда, был чисто выбрит и ласковоспокоен.
— Не поймали? — спросил Гинцбург.
— Поймают, — ответил Темиркан.
— Этого башибузука обязательно поймать надо, — усаживаясь в кресло, наставительно говорил Гинцбург.
Темиркан не счел^ нужным что-либо ему ответить. Он задал гостю несколько заботливых хозяйских вопросов, сам продолжая стоять за своим письменным столом, невысокий, широколицый, в офицерском белом кителе и яркой тюбетейке на бритой голове. Потом он взял со стола листок бумаги, исписанный мелким и легким почерком.
— Мысли, — сказал он, улыбнувшись и показав гостю белые мелкие зубы. — Почтенный гость пробудил мой ленивый ум, и вот — мысли...
Он всерьез нахмурился, сдвинул тюбетейку назад, открывая лоб, и опустил глаза в бумагу.
— «Долг князей — блюсти земли». — И, подняв взгляд от бумаги, Темиркан спросил строго: — Блюдем ли? — И было непонятно, прочел ли он это на бумаге или спросил сам. — «Нет, — читал он снова, — пренебрегаем долгом своим. Забыли о землях, а что там? Овцы пасутся. Дикость. Земля общественная — значит, ничья. Никто о ней не заботится. Овца. Овца —для государства скотина малополезная. Иное дело — конь, а?» — Темиркан поднял голову.
Гость слушал внимательно, слегка распустив свои полные губы, и кивнул ему одобрительно и выжидательно.
Темиркан опять опустил глаза и уставился в бумагу.
247
— «Благородные качества горского коня известны. Коннозаводское дело необходимо армии. А коня выпасаем мало, везде развелась овечья дикость... Припадаем к стопам величества, просим повелительного взгляда, а также определения пути и меры. По исконным преданиям, земли эти княжеским фамилиям принадлежали, чему можно найти свидетельство стариков. Просим вернуть земли исконным хозяевам для блага государства и процветания благородного сословия весе-лореченского народа».
Несколько секунд длилось молчание. Гость молча протянул руку за бумагой, князь вручил ее: «Мысли», — стояло в заголовке. Почерк был мелкий, быстрый, правописание кое-где сбивалось: «блюсти земля... благородный качества...» Но эти ошибки внушали почему-то еще больше доверия к самым «мыслям».
— Подпишут наши князья, — вполголоса продолжал Темиркан. — Его высочество знает всех нас по кавалерии. Я, старый Магмот Дудов, еще Дудов — Ширануко, Нур-Ислам Астемиров, двое Тамбиевых, Куденетов — все конвоя его величества офицеры, казачьих войск офицеры. Я сам повезу бумагу в Петербург. Его высочество милостив ко мне и сам, как кавалерист и высочайший покровитель кавалерийского дела, замолвит слово перед монархом.
«А пятидесяти тысяч, пожалуй, маловато будет?» — думал озабоченно Рувим Абрамович, представляя молочно-белое и нежно-румяное лицо графини Ржевус-ской, ее темные, как грозовая туча, глаза.
Вчерашний день дал ему еще не ясную, но достаточно широкую картину этого- края, и в какую сторону он мысленно ни поворачивался — в сторону ли серы, искать которую он имел прямое поручение, в сторону ли кредитной кооперации, — везде он предчувствовал барыши, золотое дно... А когда еще пройдет железная дорога... Он спохватился и взглянул на князя. Тот сидел против него и спокойно ожидал того, как Гинцбург оценит его сочинение.
«Да, дело большое, — до конца додумал Гинцбург, — сто тысяч на взятки буду просить и себе оставлю пятьдесят — все-таки риск».
24$
И сказал вслух:
— Когда я с помощью вашего сиятельства закруглю,— и он сделал круглый, игривый и быстрый жест своей чистой и белой рукой, — свои дела в Арабынь-ском округе, я рассчитываю, что ваше сиятельство вместе со мной поедет в Петербург, ибо составленная вами чрезвычайно толково бумага начинает дело государственной важности, которое должно быть обсуждено с юристами.
Итак, Анна оказалась права: Темиркану снова предстоял Петербург. Надо было обрадоваться, и он обрадовался. Но какую-то тяжелую и тусклую завесу чувствовал он между собой и своей любовницей. Гинцбург продолжал говорить, и Темиркану казалось, что плавная и монотонная речь его и является этой завесой.
Глава пятая
Лаптев, обласкав Науруза, сам проводил его до длинного и выбеленного снаружи сарая (в таких же сараях помещались овцы). Здесь жили сторожа: ногайцы, калмыки. Казалось, самый воздух этого помещения, кисловатый, пропитанный запахами баранины, жирного овечьего молока и шерсти, действовал усыпительно, и Науруз как лег, так сразу заснул. Лаптев все что-то говорил, журчал вад ним успокоительно-ласково и замолчал только после того, как убедился, что Науруз действительно спит.
Заправив свою круглую бороду в рот, он некоторое время, размышляя, постоял над молодым богатырем. Конечно, его можно было бы сейчас скрутить сонного. Но, представив себе борьбу; возню, крики, Лаптев отказался: не надо перед людьми выглядеть вероломным насильником. Нет, не так надо делать. Он ушел, на крыльце написал записку и послал ее с надежным нарочным в станицу Доблестную, к атаману Решетникову. Записка эта содержала уведомление о том, что опасный человек, ударивший пристава на батыжевском дворе в Арабыни, находится в настоящее время на заимке. Станица была близко, и Лаптев ждал, что ка
249
заки приедут за Наурузом сейчас же и возьмут его сонного. Тогда даже можно будет громко поохать и самому остаться в стороне.
В момент получения записки Решетников торопился на охоту за фазанами. Опасаясь, что записка помешает ему до восхода солнца прибыть к охотничьим местам, он спрятал ее в шапку, чтобы прочесть уже на привале, когда утренняя горячая тяга пройдет.
Потому Науруз имел возможность отоспаться. Не шевельнувшись, без сновидений, несколько часов проспал он на низеньких сплошных нарах.
Когда он засыпал, было ненастье. Сейчас же в полутьму этого построенного без окон дома из-за двери, неплотно прикрытой, сквозь щели в крыше, там, где вмазаны были дымовые трубы, отовсюду, откуда возможно, прорезались яркие струи живого солнечного света. И, в жажде увидеть скорее новые, невиданные места, Науруз торопливо вышел и разом восхищенно зажмурился. Синевато-тяжелые тучи утреннего ненастья были уже на краю неба, необычайно широкого: в ржавой блеклости равнин сказывалась осень, но солнце припекало так, что все кругом сияло и прозрачно дымилось.
Сон исцелил Науруза. Стремительные и страшные события последних дней отошли и забылись. Порожденные душевной усталостью, тягостные образы рассеялись •вместе с ненастьем. Мир был прекрасен, хотелось работы и веселья.
С удовольствием й любопытством оглядывая заимку, Науруз шел к ее главному дому — он условился с хозяином, что, отдохнув, придет потолковать о работе. Горница, в которой ночью пировали, сейчас была пуста. Скатерти сняты с грубых дощатых столов, и окно на стене завешено простой белой занавеской.
— Спал? — спросил Лаптев, беспокойно оглядывая Науруза. — Долгонько, дитя, долгонько!
Лаптев был в жилете, из-под которого виднелась рубашка в горошек. Он озабоченно чесал шею под бородой и прокалывал Науруза своими невидимыми глазками.
250
— Работать, что же, работать — это можно.
Он еще что-то говорил, снова восхищаясь подвигом Науруза. Не зная, что ему отвечать, Науруз переступал с ноги на ногу.
— Ладно, — сам себя прервал Лаптев, — погоди-ка на крылечке.
Науруз сел на крыльцо. Он прислушивался к жизни заимки, к далекому и близкому блеянию овец, к голосам людей, к монотонным и коротким, чередующимся звукам «пых-пых-пых». И вместе с этими звуками из высокой и тоненькой трубы бросками вылетал дым и серой волнистой полосой уплывал куда-то вбок; Пестрая птица ходила по двору: индейки, фазаны и куры разнообразнейшего и ослепительного на солнце оперения. Науруз с удовольствием щурил глаза на эти яркие краски. Как хорошо! Ни от кого не надо бежать, — снова он среди людей, ласковых к нему и даже чтущих его за те дела, которые он совершил. Ему дадут работу, он проживет здесь столько, сколько захочет, а потом, •потом потихоньку вернется в горы... Нафисат... И он хотел представить себе дочь Баташевых счастливой и гордой, но не мог, — пелена позора и несчастья вновь непонятно застилала ее... Русская девушка в чаще... Науруз тряхнул головой, он щурился на солнце, ему не хотелось рассеивать свои дремотные мечтания, хотя он сам чувствовал их бесплодную неосуществимость. Услышав вдруг смех и громкий говор, он обрадованно повернулся туда, откуда они доносились. В отдаленном углу двора собралась кучка людей, и он двинулся к ним, ему хотелось посмеяться самому.
Там, присев на колени, работал горец-шерстобит; его гибкий, сделанный из жильной струны смычок свистел в воздухе и сыпал частые удары по влажной шерсти, которая под этими стремительными ударами чудесно сбивалась в войлок. При этом шерстобит успевал еще громко разговаривать с окружавшими его людьми, смешить их. Что-то знакомое почудилось Наурузу .в этом человеке, и, заглянув в его лицо, он узнал в нем черкеса Авжуко.
Авжуко.все поглядывал, посмеивался. Он совсем не постарел, и попрежнему на его носатом лице, в густой
251
курчавой бородке, поблескивали белые зубы. Авжуко весело шутил, люди вокруг него смеялись, и Науруз жалел, что не понимает его шуток. Протискиваясь все ближе к Авжуко, Науруз встал к нему лицом и вдруг вздрогнул — его глаза встретились с глазами Авжуко: удивление, радость, тревога были в этих глазах, и Науруз понял, что Авжуко узнал его. Как бы для того, чтобы у Науруза не было в этом сомнения, шерстобит вдруг протяжно запел на родном Наурузу наречье веселореченцев. Он пел старинным напевом, которым поют песню о Сыне Пастуха, похитившем огонь с неба. Но слова песни были новые, он подбирал их тут же, вставляя то «ой-ри-да-да», то продолжительное «о-о-о-ой» там, где у него не хватало лада, — и лад сразу получался. Этой песней он прославлял подвиг Керимова сына Науруза, вплоть до чудесного его исчезновения с княжьего двора. Науруз смущенно оглянулся. Но русские люди, которым, повидимому, наскучило слушать песню на непонятном языке, отходили от шерстобита. Через некоторое время Науруз остался с глазу на глаз с Авжуко.
— Я узнал тебя, молодой Науруз, ой-ри-да-да... — тихо пропел Авжуко, подмигнул и вдруг обычным разговорным голосом спросил: — Что ты здесь делаешь, доблестный сын Керима?
— Я здесь работать буду, — ответил Науруз.
— А ты не боишься, что тебя признают твои враги так же, как я тебя признал?
— Меня здесь уже знают, — отвечал Науруз не без некоторой гордости. — Здешний хозяин, русский старик Лаптев, своими глазами видел, как я побил пристава, он очень хвалил меня за это...
— Ой!.. — вдруг застонал Авжуко, жмуря глаза и раскачиваясь. — Ой-ой...
— Чего ты? — спросил испуганно Науруз.
— Я жалею тебя, что ты молод и глуп, как ягненок, которого ты спас, — сказал шерстобит.
Науруз хотел продолжать недоуменные расспросы, как вдруг маленький и легкий золотисто-каурый жеребец, далеко вперед выбрасывая передние, красивые, в желтых подпалинах ноги, примчал во двор маленькие
252
беговые дрожки. Роняя пестрые перья, птица с криком кинулась из-под быстрых копыт и колес. Желтолицый раскосый мальчик в черкеске правил, напряженно натянув вожжи и напружинив руки. Сзади со страхом и неудовольствием на полном лице сидел большой красивый барин, и Науруз сразу признал в нем того столичного гостя, который был в комнате у князя. Вбежав во двор, резвая лошадь не хотела остановиться, несмотря на то, что мальчик-возница, откинувшись, натягивая вожжи, почти лег спиной на своего седока и кровавая пена падала из-под удил... Распугивая отчаянно кудахчущую и кричащую птицу, лошадь сделала круг по двору. Она, конечно, сбавляла скорость. Но все же она еще долго кружилась бы по двору, как вдруг в тот момент, когда она проносилась мимо Науруза, он кинулся, схватил ее под уздцы, и, осаженная одновременно спереди и сзади, несколько шагов протащив Науруза по двору, лошадь остановилась.
— Эй, кто по двору ездит, птицу давит! — закричал Лаптев, выбежав на крыльцо. Но, увидев приехавших, он мгновенно завесил улыбкой лицо и оборвал гневные слова. — Рувим Абрамович, пожалуйста, прошу... Устали, ваше сиятельство? — сладко говорил он мальчику в черкеске (это был Айтек Батыжев). — Пожалуйста, отдохнуть, откушать.
— Ф-фу... — с помощью Лаптева Гинцбург, кряхтя, слез с дрожек.
— Молодец! — по-русски поощрительно сказал Айтек, обращаясь к Наурузу, который держал под уздцы вскидывающего голову взмыленного коня. — Распряги да по двору проводи» на чай получишь.
Забрав бороду в рот, Лаптев с крыльца слушал этот разговор, и похоже, что хотел сначала что-то возразить, но раздумал.... Ничего не ответив Айтеку, Науруз твердо взглянул в его желтые, кошачьи глаза и стал распрягать лошадь.
Хотя Айтек и гонялся за Наурузом двое суток подряд, но в лицо его не знал, да и никак не ожидал встретить его здесь. Гинцбург хотя видел Науруза, но его не узнал. «Татарин», — подумал он о Наурузе. Он всегда думал так о «простых» людях, относя каждого из них
253
в одну из безликих категории: «кухарка», «солдат», «мужик» и т. д. «Татарин» для Гинцбурга был обозначением одной из наиболее безликих категорий, и то, что данный «татарин» сейчас проявил удаль и мужество, на которые са.м Гинцбург не был способен, и, может быть, спас Гинцбургу жизнь, нисколько не удивляло и не восхищало Гинцбурга, — очевидно, «татарам» надлежало совершать подобного рода поступки, так же как мужикам жить впроголодь и доставлять хлеб. Если бы Гинцбургу необходимо было додумать свои мысли до конца, он должен был бы прийти к заключению, что люди, находящиеся в этих категориях, людьми, собственно, не являются. Но к чему Гинцбургу нужно было это додумывать?
Сейчас, оправившись от испуга, вызванного бешеным перегоном из Арабыни в лаптевскую заимку и еще более бешеным и явно опасным кружением по двору, Рувим Абрамович уже занялся тем, ради чего он сюда приехал. Даже в то время, когда они вихрем летели через заимку и мимо них быстро мелькали однообразные белые овчарни, Гинцбург, как он ни был напуган, успел уже приблизительно прикинуть стоимость заимки. Эта оценка была самой общей и смутной. Ведь даже сосчитать количество этих белых овчарен он не мог. Но он успел на глаз отметить однообразный порядок, прямые аккуратные канавы, и сейчас, стоя на крыльце и разминая отекшие ноги, он увидел также тоненькую и длинную, попыхивающую дымом черную трубу. «Фабричка», — подумал он. Опять-таки не мог он знать, что вырабатывает эта фабричка, каково ее состояние. Вое это надо было узнать точно. Но уже сейчас он отнес фабрику к стоимости заимки, обернулся к Лаптеву, но того на крыльце уже не было.
Науруз распряг лошадь и водил ее по двору.
— Кисмет! Судьба посылает тебе спасение, — шептал маленький Авжуко, шагая рядом с Наурузом, забегая вперед и заглядывая ему в глаза. — Жеребец этот — лучший из батыжевских табунов, нет на ара-быньской земле лошади, которая могла бы догнать его. Прыгай на него и скачи прочь.
254
— Но здешний хозяин... — начал медленно Науруз.
— Такие плуты, как здешний хозяин, даже среди русских рождаются очень редко, а среди наших был только один — старый Алегико Батыжев. И если здешний хозяин одарил тебя за то, что ты побил пристава, так у них с приставом своя игра! Волки овец в свою игру не принимают. Не теряй ни песчинки времени1 —* скачи в аул Веселый, там у самой речки стоит дом Керкетовых— там тебя спрячут.
Науруз оглянулся: прекрасно-тихий и мягкий зной был вокруг. В стеклянном мареве струились степные дали, и в высоком небе слышался еле уловимый звук — в высоком небе на юг перелетали птицы. Солнце над головой,..опрятные и веселые белые здания вокруг, повсюду благожелательный и ласковый покой. Обман? Предательство? Зачем? Но ведь девушка брошена на землю там, в чаще...
Авжуко вдруг крепко сжал руку Науруза и сказал:
— Гляди в ворота, гляди!
Науруз взглянул. По дороге, пересекающей заимку, между белых длинных овчарен скакали всадники, они быстро приближались.
— Это за тобой... Скорей, скорей... в аул Веселый, на двор Керкетовых...
На крыльцо дома выбежал Лаптев и батыжевский княжонок. У них у обоих в руках были ружья, и Науруз сразу, как бы кто взбросил его, был уже на коне. Тут же раздались выстрелы. Но, охватив коня ногами и гикнув, Науруз направил его единственно туда, куда он мог его направить, — в самый дальний угол двора; разогнав, опустил поводья и, невольно подчиняясь движению коня, сделал то, что надо, — весь поднялся вместе с конем, который, всхрапнув, перенес его через забор. Под испуганные взвизги женщин Науруз пролетел заимку. Конь еще перескакивал через какие-то рвы и вынесся в степь. Тут Науруз первый раз оглянулся. Преследователей не было видно, но он знал, что погоня идет за ним. Как давно началась эта погоня! Еще тогда, когда пьяные враги шли, ругаясь, по следу его босых маленьких ног,—так начиналась жизнь,,... Но сейчас
255
под ним был конь, уносящий его на себе с той блаженной быстротой, которая знакома ему была по детским снам, когда в виде мальчика, прислужника богатырей, обгонял он на своем маленьком волшебном коне тяжелокопытых коней...
Именно такой, золотистый как солнце, невысокий и быстрый, конь нес его в сторону гор, которые, сильно уменьшенные, но все же неизменные, со своими лбами и носами, устами и морщинами, стояли на полуденном краю горизонта. И то, что этот конь был добыт угоном, наполняло гордостью душу Науруза. Да, он наказал своих врагов — овечий пастух, он стал теперь всадником, но не при стремени князя, а свободным всадником-молодцом, другом всех угнетенных и врагом всех угнетателей.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава первая
Жамбот шел очень высоко, большие, поросшие лесом горные хребты стояли ниже его тропинки. Но плыл белесый тихий туман, из-за него высота не чувствовалась, и только травы, побледневшие от росы, да свежезеленые кустарники, одни сменяясь другими, бесконечно сопровождали Жамбота, показываясь из тумана и снова в нем исчезая. Все было тихо, тускло и влажно, — казалось, что вода сама собою рождается из зелени— та весенняя волшебная вода, которая разрывает бутоны и почки. Порою заросли кустарника теснее сходились вокруг тропинки, и Жамбот ожесточенно и весело продирался сквозь кусты и выходил весь мокрый — вода бежала по его смуглому лицу, по черной бороде, бледнорозовые холодные лепестки шиповника прилипали к его щекам, колючая ветка оставалась на его одежде.
Его плечи были так широки, что казалось — на них надета бурка. Но бурки на нем нет, он в стареньком коричневом, много раз латанном чекмене с русскими пуговицами. На ногах его обычная горская обувь — кожаные, мягкие, как чулок, сапоги. За поясом топор, за плечами мешок.
17 Ю. Либединский
257
Он шел вверх не останавливаясь, шел легко и даже порою запевал что-то, но все не сбавлял шага. Песня не мешала..—: она подбодряла его. Вдруг ему показалось, что позади его слышны шаги. Он остановился. Все тихо, очень тихо... Даже не оглянувшись, он пошел вперед. И снова услышал шаги, легкие, словно кошачьи. Он круто обернулся и вздрогнул. Высокая женщина в черном платке, покрывающем голову и плечи, стояла позади него; на руках ее был ребенок.
— Я боюсь идти одна, человек, — сказала она робко, но настойчиво. — Могу ли я идти позади тебя?
— Если бы я торговал своими следами, не было бы на свете человека богаче «меня, — весело ответил Жам-бот. — Но я щедр. Сам султан турецкий не раз ездил по следу моих ног, и я не брал с него пошлины!
Он шутил, а в это время быстро оглядывал ее: босые, поцарапанные ноги, поседевший от дождя, от солнца и снега вдовий платок, потертый бешмет — все опрятно и чисто, гордая и бережливая нищета. И Жам-бот подумал:
«Наверно, большая беда гонит тебя, сестра, этой опасной тропою!»
Женщина же, быстро оглядев его, потянула носом.. . Конечно! От него пахло русской водкой!
Что ж, Жамбот не стал бы спорить — он выпил! Не напрасно природа одарила его таким носом — горбатым и глядящим вниз, веселым и задумчивым носом, — любят такие носы высматривать дно! Но даже хмельной не внушал он страха. Давно не бритое, обросшее густой черной бородой лицо его было очень добро, и хотя слова веселы, ню темные, без блеска, глубоко посаженные глаза, пожалуй, даже печальны... Нет, она не боялась его... Между тем он продолжал балагурить. Он предлагал ей идти рядом или впереди. Нет, она отказалась: лучше она пойдет за ним.
И они двинулись вперед, с каждым шагом все выше, хотя попрежнему из-за тумана они ничего вокруг не видели. Некоторое время шли молча. Потом она спросила:
— Не сочти меня любопытной, как все мы, женщины. Но я хочу знать: как долго смогу я идти под
258
твоей защитой? И потому лишь спрашиваю: куда идешь ты?
— Я возвращаюсь на родину... в свой аул Дууд. Слыхала об этом месте?
— Как не знать о Наш-Нашенском ауле? — ответила женщина, и уважение слышно было в ее голосе.
Наш-Нашенский аул было второе наименование аула Дууд. Им Веселоречье как бы напоминало о том, что этот ушедший к самым ледникам, стоящий на страже двух снежных перевалов аул — хотя он ближе к Грузии, чем к Веселоречью, — все равно принадлежит племени, поселившемуся на Веселой реке и на притоках ее.
— Шесть лет не был я на родине, шесть лет! — воскликнул Жамбот.
Она сочувственно поцокала языком, но ни о чем не спросила, и опять они некоторое время шли молча. Потом он сказал ласково и весело:
— Ты немногословна и нелюбопытна, как мужчина. Я же болтлив и любопытен, как женщина. Для меня говорить — все равно что дышать, а спрашивать и слушать — все равно что пить. Я жажду узнать, сестра, куда идешь ты с ребенком на руках?
— Я? — медленно переспросила она. — Куда я иду?
В этих медленных словах слышно было такое страдание и такой гнев, что Жамбот обернулся к ней. А она уже заговорила... Обида! Обида! Куда вдруг делось ее немногословие? Она сама не заметила, как пошла рядом с ним, как откинула на плечи свой вдовий платок. Жамбот увидел ее воспаленно-рябое, точно вскипевшее от гнева лицо, ее лишенные ресниц, грозно блещущие глаза... Полгода она, обездоленная князем Байрамуковым, ищет кто бы укротил этого насильника и клятвонарушителя. Он пренебрег обещанием, которое дала его покойная мать. Он посягнул на вдовью долю. Сейчас она идет в аул Веселый, где живет мудрый знаток русских законов Талиб Керкетов. Она попросит его написать ей прошение. Была она в Арабыни, была в уездном городе, до губернатора дошла, и отовсюду ее гнали с насмешками... Кривдой и золотом запечатаны ворота всех судов! Везде берут сторону ее обидчика!
259
17*
Но нет, не отступится она от своего достояния.
— И если у мудрого Талиба нет силы против притеснителей, я взберусь на белые горы, к подножью аллахова престола, — пусть он судит меня с обидчиком моим!
Забывшись, она своими сильными руками подняла к небу ребенка, точно уже сейчас стояла перед престолом небесного судьи. Чернобровый ребенок ее, внезапно разбуженный, заплакал, поджимая маленькие голые ноги. Она снова закутала его и заплакала вместе с ним, измученная и усталая женщина...
«Аллах!» Жамбот прошел по Турции — земле, управляемой преемником Магомета, и там громче, чем где-либо, слышен плач вдов и сирот, вопли обиженных и обобранных.
Женщина успокоилась. Она шла теперь не позади, а рядом с ним и молчала, смущенная порывом своего горя, для нее самой неожиданным... Но в ушах Жам-бота эхом боевой трубы звучал ее гневный, требующий справедливости голос, и Жамбот мысленно отвечал ей:
«Сестра, я тоже требовал справедливости. Меня топтали каблуками, меня убивали — и не могли ни убить, ни сломать... Гордость моя утолена. Но не значит ли это утолять свой голод своим же кровавым мясом?»
Й Жамбот оставил для себя горькую мудрость своих размышлений и стал веселить ее, загадывать ей загадки, петь любовные шесни.
О-о-о-о! Косы твои обвивают Стамбул, Лоб освещает землю.
Брови смущают мудрецов,
Глаза бросают юношей на землю... И заговоришь ты когда, Скользит в твоем горле льющаяся вода...
Так пел он не то шутливо, не то грустно. Кому и о ком он поет? Ей или другой какой женщине? Но она предпочитала относить эту песню к себе, хотя смущать мудрецов она никак не могла — брови у нее съела оспа.
— Ой, и хмелен же ты, человек! — сказала она ему.
— Хмельному верблюду легче нести свою ношу, — ответил Жамбот.
Грустно прозвучали эти слова, и она с удивлением
260
взглянула на него. Но он тут же опять стал смеяться, балагурить, и когда между прочим сказал, что за эти шесть лет обошел кругом Черное море, она не поверила.
— Язык-то твой до луны достанет! — смеясь сказала она.
— А что ж, никак не могу я жаловаться на свой язык, хотя этот лучший из даров аллаха порою и причиняет мне немало хлопот... — болтал он, довольный, что развеселил ее. — Из родного аула ушел я, совсем не имея намерения пускаться в путешествие, столь отдаленное, — я спустился в Арабынь, только чтоб заработать. .. Мы, Гурдыевы, плотники. В Дууде совсем не стало дерева, вот мы и ходим по всему Веселоречыо. Но топор мой работал, а язык тоже не оставался без дела и превращал в слова все, что мне на глаза попадало, в ладные слова^ которые просятся в складную песню, — уж таков я, сестра, от рождения: я и тебя поймал в силки своей песни. Строил курятник арабынь-скому мулле Бекмурзе Касееву и для собственной забавы воспевал прекрасного индейского петуха, который в это время важно, как полагается птице, принадлежащей духовному лицу, точно танцуя кафу, гулял по двору. В песне, правда, упоминался и сам мулла, единственно для правильного сложения стиха. Пел я громко, и молодая жена муллы услышала, хотя о ней почти не упоминалось, — с каких пор под именем курочки нужно непременно подозревать жену духовной особы? Бедные слуги муллы! Им так понравилась моя песня, и вот им же пришлось бить меня палками! За всем этим переполохом мулла, как это часто случается с богатыми, забыл мне заплатить за работу. Совестно возвращаться домой, заработав лишь побои! И я решил пойти на заработки в новые места: подняться до Баташея и по Батыжевой тропе уйти к городам Черного моря. Так с высоты перевала первый раз увидел я море — оно стеною стояло передо мной, и душа моя кинулась туда и потонула в этом жидком небе, более прекрасном, чем небесная твердь над нами. И вот, топором зарабатывая себе пропитание, я пошел, имея справа море. Ушел на юг — и вот вернулся с севера...
261
«Он обошел кругом море?» Она была удивлена, восхищена и, что бы он ни говорил, верила ему: ее убеждала веселая правда его голоса... И такой забавный, век бы с ним идти — все не .соскучишься...
Между тем, поднимаясь все выше, они вышли из тумана. Сначала над их головами заголубело небо, белые хлопья тумана еще неслись между ними и небом, а потом сразу схлынули, и вся прекрасная и пустынная горная страна Дууд была перед ними!
— О! Вот они, наши горы, — ты видишь? — сказал он, указывая вперед. — Это горы Дууд — горы ветра! Я уподобляю их морской волне, застывшей в тот миг, когда, поднявшись в своей ярости до самого предела, она уже наклонилась, чтобы рассыпаться... Или нет, я уподоблю их наклоненным парусам судна, несущегося по ветру, — гляди, как они накренились вперед, эти горы. Или это розовые лепестки громадного каменного цветка, скрывающего в глубине свою драгоценную завязь — аул наш Дууд.
«Одержимый», — благоговейно подумала женщина. Не отрываясь глядела она ему в лицо, на эти движущиеся губы, блещущие зубы, за которыми в своей таинственной пещере хлопотал и трудился волшебник-язык. Волшебник! Потому что изготовленные им слова тут же разлетались по миру, и Дуудские горы, пологие с одной стороны и круто обрывающиеся и даже несколько наклоненные с другой, действительно становились похожими на волны, на паруса, на каменные лепестки чудовищно огромной розы...
А он между тем уже рассказывал о другом: возвращался через Арабынь, и там, на дворе князя Батыжева, случилось чудное дело — молодой парень из аула Ба-ташей ударил самого пристава, да так ударил, что тот упал и кровь брызнула ключом у него изо рта.
Много чего рассказывают об этом богатыре, будто он один на один убил медведя и будто он. сын шагида Керима... Науруз зовут его.
— Науруз Данилов? — спросила она.
— Нет, то другой Науруз, но и о нем, как о том, старшем Наурузе, можно составить песню.
262
Так, беседуя, дошли они до того места, где тропа раздваивалась, одна ветвь поднималась вверх, другая спускалась вниз.
— Ты охранял меня в пути, добрый человек, спасибо тебе... — сказала она.
— Пусть легки будут твои дороги! — ответил он. — Сын пусть вырастет защитником-богатырем.
— Я не знаю, чего пожелать тебе взамен такого пожелания, хороший человек, — благодарно сказала она; она верила в силу его слова.
— Пожелай гибели нашим врагам —и у меня и у тебя они одни...
И не успел он еще замолчать, как она крикнула:
— Пусть они испепелятся!
И его сердце забилось сильней, и кровь стала сразу горячей, — да, конечно, они испепелятся!
Она стала спускаться и скоро исчезла в лесу, он же ступил на свою тропинку и пошел по «ей дальше. Он уже шел напевая, составляя новую песню о подвиге этого нового Науруза, и жевал корочку русского хлеба, последнюю путевую корочку, — скоро будет он есть родной хлеб и пить гурдыевский айран — священное питье родового очага!
Все ближе Дуудские горы, одна гряда за другой, огромные лепестки, внизу темнозеленые, вверху же, как запекшаяся кровь, красные и бурые.
Жамбот входил в эту розу хребтов. Солнце грело горячей и горячей. Все дымилось — камни, тропинка, травы; ввысь струились прозрачные туманы. Большая белая гора показалась впереди. Но пока он шел к ней, она теряла белизну, желтела, зеленела — это травы проступали из-под снега, и пахло травою и снегом.
Он обогнул гору, и сразу навстречу ему из глубины Дуудских гор с рокотом выбежала Черная .река с вечной белизной водоворотов в растрепанных блестящих и темных кудрях.
Теперь тропка шла над обрывом. Внизу бежала река, и чем выше подымался Жамбот, тем глубже и уже становилось русло, в котором текла ее гремучая, грозная, под белопенной фатой, черная вода.
263
Из-за кустов шиповника, малины, барбариса Жам-бот видел ее водовороты, ее пороги, ее отмели, с радостью узнал он первую примету родины: вот на крутом повороте посредине реки стала видна лошадь-камень, багряно-красная лошадь! Вытянув морду вперед, она как бы плыла против течения, и волны перехлестывали через ее круп... Родина, родные места; становилось все более безлесно, все более широко и открыто: белый снег, красно-бурые камни, зеленые травы, и снова — белый снег. Сбоку шел обрывистый черно-красный хребет, — не оттуда ли сбежала красная лошадь? Там, на горах, лежали снеговики. Не всюду, только в тени лежали они. Точно по красному выложено было тонким кружевным серебром...
А Черная река все продолжала показывать свои диковины, родимые пятна. Отважно выпятив мшистую грудь и зелено-черный живот и широко раскинув руки, прямо посреди реки стоял старик камень и принимал в грудь и в живот, в каменное слепое и лобастое лицо непрестанные яростные удары волн, — не так ли несколько столетий принимал аул Дууда удары византийцев и турок? .. И когда с древней башни Дууд, которая стоит на горе Дууд, над аулом Дууд, дозорные замечали на одном из двух перевалов войско неприятеля, тогда зажигали на вершине башни огромный костер, и бросал он днем свой дым, ночью свой огонь на многие десятки верст, с башни на башню, вниз по ущелью Черной реки, по всем долинам Веселоречья... И пока тревога, пламенная и дымная, собирала ополчение со всех долин и ущелий Веселоречья, в это время Дууд в дыму и пламени уже отбивался от пришельцев. Ни разу не пропустил Дууд врага в Веселоречье — израненный, наполовину опустошенный, он выдерживал натиск, пока не подходили снизу братские ополчения. Вот почему почитает и любит аул все Веселоречье, вот почему Наш-Нашенским ласково называют его. Впереди показалась башня Дууд. До нее еще далеко. Но уже видно, что башня расколота надвое — точно сверху ударили огромным топором. Это памятка русского завоевания.. Пятнадцать бочонков пороху было подложено под башню, взрыв услышало все Веселоречье,
264
старая башня треснула, раздалась надвое, «Дудовское укрепление»—так русские полководцы в своих донесениях называли башню — утратило свое грозное боевое значение. Но попрежнему высилась она над аулом, и попрежнему у подножья ее было Дудовское княжеское поселение, попрежнему служила она тюрьмой для ослушников и непокорных: трое суток Жамбот провалялся на скользком каменном полу в подземелье башни...
Жамбот хотел похитить девушку, которая его любила. Оркуят была очень красива, и родители ее рассчитывали на богатый калым. Хотя и бедна, но кичлива родня Оркуят: они — Ирижевы, «свободнорожденные», первопоселенцы Дууда, а Гурдыевы — род, к которому принадлежал Жамбот, — стояли ступенью ниже: они происходили от грузина, прибежавшего с той стороны гор и ставшего крепостным князей Дудовых. Если бы Жамбот мог дать богатый калым, тогда о расстоянии, отделявшем их, Ирижевых от Гурдыевых, они забыли бы. Но Жамбот был беден.
И он уговорился со своей Оркуят, что выкрадет ее, спрячет и, как полагается в таких случаях, через своих родичей поведет переговоры с родителями невесты. Подобного рода «похищения» обычай узаконил.
Родовые поселки Дууда отделены один от другого извилистыми, узкими переходами. Стены домов, выходящие к этим проходам, лишены окон, и получается, что каждый поселок огражден как бы каменной стеной, то низкой, то высокой. Всегда здесь сумрачно и сыро, бегут грязные, никогда не просыхающие ручьи.
Перед рассветом, в самый темный и тихий час ночи, Жамбот подвел своего коня к стене родового поселка Ирижевых, и Оркуят прямо со стены прыгнула в седло. Жамбот только хотел тронуть коня с места, как вдруг цепкие пальцы ухватили его за полу бешмета и пронзительный голос нарушил сон аула.
— Э-э-э-э-эй! Родичи! Люди добрые! Помогите! Достояние наше воруют! Э-э-э-э-эй!
Это был отец невесты, красноглазый маленький старичок. Его с вечера встревожили неосторожные, по-прощальному грустные слова Оркуят. Потому, услышав
265
под утро ее легкую поступь, он кинулся за ней и сейчас, крича что есть мочи, крепко держал похитителя за полу.
Оркуят плакала и прижималась к возлюбленному.
Жамбот мог на всем скаку схватить с земли взрослого мужчину и поднять его одной рукой. Но его дер-ж-ала рука человека, породившего Оркуят...
— Отпусти нас, отец! — попросил Жамбот и попытался мягко освободить полу своей черкески из конвульсивно сжатых маленьких кулачков старика.
Старик не отпускал, кричал еще пуще, по кровлям уже пробегали какие-то люди. Медлить нельзя было. Жамбот вдруг выхватил кинжал, старик в страхе замолк, но все же не выпускал из рук Жамботова бешмета. И Жамбот одним ударом отрезал от бешмета полу, за которую держался старик, дал шпоры коню и поскакал по узкому проходу, между глухих каменных стен. Старик, скользя по щебню, бежал за конем и, держа в руках полу бешмета, кричал алчно и злобно.
И на крик его сбегались люди. Вслед Жамботу уже стреляли. Он остался невредим, но выстрелы всполошили весь аул. И когда из путаницы узких проходов Жамбот выбрался на открытое пространство, отделявшее княжеский поселок от всего аула, там его встретили Дудовы: верхами, пешком... Жамбот выхватил кинжал — единственное оружие, которое при нем было. Он успел нанести несколько ударов, но тут его самого ударили по голове. Валясь с коня и продолжая прижимать к себе Оркуят, он потерял сознание и уже не помнил, как его топтали и били, как ему плевали в лицо.
Он очнулся в сырости и черно-зеленой тьме, вокруг него квакали лягушки... Любимую отняли. Он готов был умереть. Он согласен был считать себя мертвым. Но раны по-разному болели и напоминали ему о том, что он жив. Потом ему принесли хлеба. Тюремщик обругал его, и по этому ругательству, похабному и высокомерному, Жамбот догадался, что он в Дудовской башне. Почему его не убивают?
Его не убивали потому, что весь его многочисленный род Гурдыевых пришел к Дудовской башне.
266
«Суда по обычаю требуем! — кричали Гурдыевы. — Бёз суда убьете — за кровь кровь возьмём!»
Это была страшная угроза кровомщением, и Дудовым пришлось согласиться. Жамбота выволокли из подземелья; бледный, окровавленный, покрытый зеленой грязью, валялся он у стены; женщины плакали, глядя на него... И тут же начался суд. Судил по обычаю старший из Дудовых — Ширануко, которого за толщину, за жадность и хитрость прозвали Бисмалеем. Бисмалеев суд вошел в поговорку, и многие припомнили эту поговорку, глядя, как Ширануко в засаленном офицерском мундире, далеко разведя одно от другого жирные колени, вывалив между ними свое толстое пузо, кривит небритое, одутловатое лицо...
Ширануко свирепо забавлялся, но, забавляясь, совершал это княжеское исконное дудовское дело.
— Не в том вина, что было похищение, а в том, что нарушен сословный адат: нельзя Гурдыеву жениться на Ирижевой.
Гурдыевы соглашались:
— Виноват парень! Впрочем, если бы девушка уже была похищена, этот адат можно было бы опрокинуть другим адатом. Но раз попался — значит, виноват. Однако за свое преступление парень сполна заплатил. Вот... вот... вот...
Гурдыевы так и этак переворачивали Жамбота, придирчиво считали его раны, синяки и кровоподтеки. У него был вышиблен зуб, сломано ребро, вывихнуты нога и рука, сворочен на сторону нос — его веселый горбатый гурдыевский нос, и от удара по затылку ныла голова...
Гурдыевы перевели все раны Жамбота на судебную пеню, Добавили стоимость Жамботова коня, который остался у Ирижевых. Получилось, что за свое преступление Жамбот уплатил, и даже с лишком.
Ширануко чесал круглую, долго не бритую щеку, кряхтел, приглядываясь к угрюмым лицам дуудцев: аул бь!л на стороне Жамбота. О любовниках, разлученных сословным неравенством, издавна поют сочувственно-жалобные песни; отрезанная пола в руках отца похищенной свидетельствовала о миролюбии похитителя,
267
Похищенная осталась девушкой, Ирижевы кричали об этом громче Гурдыевых, — ведь им еще предстояло выдать Оркуят замуж.
Ладно, Гурдыевы, — сказал Ширануко, — возьмите себе вашего грязного ишачонка. Да привязывайте его покрепче, а то, если еще раз поймаем около наших долгоногих ирижевских кобыл, охолостим...
Народ, смеясь, расходился, — господин Ширануко может посмешить соленым словцом!
А Жамбот — сколько лет с тех пор прошло! — даже сейчас, вспомнив эти слова, взвизгнул и зубами скрипнул. Лучше быть убитому, чем слышать надругательства над своей любовью.
Жамбота лечили безжалостно. Когда ему вправляли кости, он не раз терял сознание и лежал как мертвый. Но ему открывали сомкнутые глаза, и около него не переставая, одни сменяя других, танцевали и пели; не давая уснуть, отгоняли смерть. Несмотря на это лечение, он выздоровел. Даже нос выправили ему. Прошло полгода — он первый раз встал.
Его навестили гурдыевские старики. Они сказали ему, что Оркуят уж высватана за Мембота Батокова...
— Но не тоскуй, мы тебя сами женим.
Оказывается, за время болезни Жамбота умер один из Гурдыевых и оставил молодую вдову с детьми. И калыма платить не нужно, — соблюдался стариннейший священный обычай.
Жамбот не стал противиться: люди, вопреки его воле вернувшие ему жизнь, получили право ею распоряжаться. Так вместо русой и широколицей Оркуят, сдержанно-ласковой в словах и движениях, получил он черно-смуглую длинноносую Калимат, во всем неистовую. Двух детей родила ему Калимат. Теперь даже голову не решался поднять Жамбот туда, наверх, где в зеленом поселке Батоковых вырос молодой дом Оркуят. И вот, когда Жамбот стал жить так, как требовали от него все — и друзья и враги, когда жизнь безвозвратно сложилась по-новому и пути назад непроходимо заросли, тут вдруг схватила его. тоска, которой он не мог ни сказать, ни спеть, ни размыкать хмелем, Ж заглушить трудом. Он стал кричать на детей, без
268
причины стал бить Калимат. Тогда-то, спохватившись, взял он топор и сказал, что уходит на заработки.
Калимат ничего не отвечала на его обещание вернуться. Она его обратно не ждала. Но он возвращается... И он шел то молча, задумавшись, а то вдруг начинал кричать дико и непонятно, как кричат юродивые. .. Но птицы и звери отзывались на его крики, потому что кричал он как зверь и как птица — не хватало у него человеческих слов, чтобы выразить то, что он чувствовал... Гора, вся обтекшая огромными красно-каменными каплями, была перед ним: точно плакал некто неистово-кровавыми слезами и его заколдовали, окаменили, и напрасно пытается солнце растопить его слезы. Откуда взялась эта гора? Раньше точно не было ее. Нет, была она, ню по-новому глядел Жамбот на родные места...
Беленькие горные подснежники, цветы без листьев, росли прямо из земли. В ущельях между гор видел , он низко нависшие края ледников, и ручьи, вытекавшие оттуда, несли на вспененных гребнях обломки грязного ледникового льда... «Дууд-дууд», — дует ветер, и вот перед ним, сразу видный здесь сверху и донизу, родной аул. Построенный на выносе древнего обвала, он сохранил его очертание; похоже, что сверху сползли эти кровли-дворы и дворы-кровли, — вот она вся, многоглазая, живая и древняя гора Дууд с расколотой надвое башней-головой наверху. Всюду зелень: ведь вынос обвала — это обвалившийся, подточенный ручьями край пастбищ, и на этой плодородной земле поднялись деревья, разбиты сады... Но горы не переставали еще шевелить своей кожей, и сейчас Жамбот тоже видел черно-рыжий язык недавней осыпи, — ею накрыто несколько дворов. Жамботу самому пришлось в детстве два дня провести в засыпанном землей доме; отец и мать, которые были в это время на дворе, погибли задавленные. А все же любили дуудцы свою опасную родину, неохотно уходили и охотно возвращались; вот так же и он возвращается — все круто в гору, вверх-вверх, видя, как аул вырастает перед ним. Он шел уже рядом с аулом, отделенный от него глубокой пропастью, на дне которой ревела Черная река. Он узна
269
вал уже знакомые дворы и видел, где ткут, где прядут, где нянчат ребенка и где готовят пищу. Он видел, как люди на дворах прерывали работу и неподвижно и молча рассматривали его.
— Глядите, земляки! Глядите, — шептал он. — Не узнаете? Я сам себя не узнаю.
Вину и смутный страх чувствовал Жамбот, — без разрешения рода ушел он на шесть долгих лет, как-то примут его...
Вдруг звонкое восклицание, жалобный и радостный возглас нарушил тишину, — он сразу узнал худощавую смуглую женщину; она стояла на одной из кровель гур-дыевского поселка: это была Калимат, жена; как и быть должно, из всего аула она первая узнала его.
Жамбот вступил уже на маленький деревянный мостик; внизу, в пропасти, гремела Черная. Достаточно снять этот мост — и сразу аул делается неприступен. За мостом — кудрявый дуб; там встретят его старики, — какое испытание приготовили они для вернувшегося? «Чего не сделаешь для того, чтоб вернуться в свой дом!» Но они всерьез могут предложить ему повернуть вспять Черную реку или перебросить красную скалу с одного берега на другой. Подобные испытания даются для того, чтобы изгнать навсегда.
Под дубом, на длинном бревне, все в шубах, с красными, темно-обгоревшими лицами, сидели старики. Жамбот подходил и, волнуясь, уже издали распознавал их.
— Здравствуйте, отцы, — сказал он тихим голосом и поклонился в пояс.
Но его услышали. Некоторые кивнули ему приветливо, другие оставались неподвижны.
— Пусть к счастью будет твое возвращение, — сказал Касбот, брат Жамботова прадеда, самый старый из Гурдыевых.
— Девок опять будешь у нас воровать? — спросил красивый и глупый старик Ирижев, дед Оркуят.
Старшина был новый, незнакомый человек, черноусый, с карими быстрыми глазами, совсем еще не старый. У его щегольских красно-сафьяновых сапожек
270
стояла кожемялка, сделанная из половины громадного чурбана. Посредине (выдолблен зубчатый желоб.
Жамбот обрадовался, узнав эту старинную принадлежность аульного обихода, — он понял: его принимали обратно. С веселой яростью схватился он за рукоять и начал работать, сгибаясь и выпрямляясь. Какая-то женщина не поспевала подкладывать кожу в желоб коже-мялки, а кругом смеялись...
«Чего смеются?» — думал Жамбот.
Он сильно вспотел, когда старшина положил руку на его плечо и остановил его:
— Хватит, Жамбот Гурдыев! —сказал он сердечно. — Возвращайся в свой дом!
С наслаждением слушал Жамбот этот грубый, цокающий родной говор. Только Оркуят говорила по-иному: мать ее происходила из Веселого аула, и в детстве все смеялись над смешным, мягким говором девочки.
«Опять я о ней! Остановись, сердце!» — сказал он себе.
Вздохнув, оглянулся — и вдруг увидел, что около него стоит его жена. В руках ее была обмятая кожа, — оказывается, это для нее так яростно работал он.
Высокая, смугло-темная той южной, горячей смуглостью, которая напоминает о зное ночи, она, встретив его взгляд, встала перед ним на колени и так крепко обняла его ноги, что он почувствовал ими ее сухую и горячую грудь.
Сначала Жамбот спал без снов, словно погрузившись в теплую тьму и совсем растворившись в ней. Потом какие-то искры стали вспыхивать перед ним — в лад вспыхивать и в лад потухать, и Жамбот знал: эта игра искр означала родину, возвращение... Нет, он не видел, он. слышал пляску этих искр и, удивившись, рт-крыл глаза. Он лежал на полу, на широком, пышно взбитом ложе, посреди той комнаты, из которой шесть лет тому назад ушел. Пахло сухой травой, медный таз блестел на стене. То? что со сна -представлялось ему пляской искр, оказалось музыкой: где-то играли дууд-скую плясовую, взвизги гармоники вспыхивали и потухали. Жамбот был один в доме. Чувствуя себя отдох
271
нувшим, он быстро натянул сапоги и, пригнувшись в дверях, вышел на волю.
Проспал он недолго — еще только вечерело. Туманы опять спустились сверху. Аул своей возвышенной частью ушел в облака, и Дуудской башни совсем не стало видно. Вечернее тепло предвещает ненастье, но ведь это не страшно: он под кровлей родного дома, голубой ароматный дымок кизяка стелется по кровлям, где-то строптиво кричит осел, — только в Дууде могут так кричать ослы... А вот и чурбашок, который Жамбот положил наутро после свадьбы, положил поперек ручья, чтобы удобней переходить было. Девять лет прошло, и чурбашок, конечно, пообтерся, но ничего! Он точно говорил: ничего, ступай на меня смело, ты состаришься и успеешь умереть, а я буду лежать! И Жамбот вступил на него, вступил всей ступней. «Да, так оно и будет!» — сказал он себе внезапно, точно этот неказистый кусок дерева дал ему совет. «Так оно и будет, я не уйду с родины до конца дней моих». И, думая так, он незаметно для себя шел туда, куда звала его музыка. На краю гурдыевского поселка, примыкая к его внешней стене и на уровне этой стены, находилась маленькая ровная каменистая площадка. Дети со всего аула приходили танцевать сюда. Только дети — сегодня одни, завтра другие, но это место «на гурдыевской стене» издавна было их местом: когда-то Жамбот сам танцевал здесь со своей Оркуят.
Он шел по знакомой тропинке, идущей с кровли на кровлю. И вот она внизу, каменистая площадка, на краю гурдыевской стены.
Танцевали три пары. В каждой паре — мальчик и девочка, танцуют так же, как и во времена его детства. Шестеро танцуют — больше на площадке не уместится?— а сколько еще ждет своей очереди и придирчиво следит за танцем! Девочки все обуты, мальчики же некоторые босы. Жамботу тоже приходилось танцевать босиком. Но черные широкополые шляпы мальчиков лихо загнуты с одного края, бешметы туго подпоясаны. Вот девочки, притопывая, хлопают в ладоши^ и мальчики, взметывая широкими рукавами, прыгают, взлетая перед ними на самые кончики пальцев... еще и
272
еще... Так же и он взлетал. Сейчас, наверно, и одного раза не встать ему на концы пальцев, а тогда — ух, как взлетал он, взмахивая руками, как петух крыльями, и все видел перед собой светлое лицо Оркуят, ее маленький рот, ее вспыхивающие глаза...
Смахивая слезы, глядел он на танец, а вечер был тихий-тихий, и позади этих легко и быстро летающих по площадке фигурок Жамбот видел неподвижные громады гор, вершинами ушедшие в низкие, тихие облака. Внизу же со своими земляными, как лестница, переходящими с одной на другую кровлями и бесчисленными, плетеными и выкрашенными в белое трубами был его родной аул, и гармошка все взвизгивала, взвизгивала. Это была дуудская плясовая. Так плясали только здесь, на родине. Он умрет, и Оркуят умрет, но будут такие же ненастные и теплые вечера, и так же будет взвизгивать гармоника, и дети, и дети детей будут так же плясать. .. С соседней кровли на танцующих смотрели две старухи. Сзади подошел осел. Навострив уши, он тоже стал смотреть на танцующих.
Смеясь и всхлипывая, Жамбот спустился на площадку, и сразу горбатенькая бледная девушка, увидев его, вспыхнула и перестала играть на гармошке. Пары остановились и смешались. Все глядели на него.
— Так что же вы, дети... — смущенно сказал он. — Я не чужой вам — такой же дуудец, как и вы... Или вы не знаете меня?
Те дети, которые стояли впереди, молчали и с любопытством разглядывали его. Те, что стояли позади, пересмеивались и шептались между собой. Он смутно узнавал в ребятах вековечные черты дуудских семей. Даже бешметики казались знакомы, — может быть, со старших братьев...
— Знаем... — ответила какая-то девочка, но ее не было видно: она спряталась за спины ребят, стоявших впереди.
— Кто же я? — спросил Жамбот.
Дети продолжали посмеиваться.
— Ты — Жамбот-бродяга... — вдруг дерзко сказал один из мальчиков и вышел вперед, маленький, коренастый, в крепких сапожках.
18 Ю, Либединский
273
— Нет, — серьезно ответил Жамбот. — Я не Жам-бот-бродяга, Д Жамбот-странник. Корова всю жизнь ходит с хлева на пастбище и тем бывает довольна. Конь же бегает по всем дорогам земли. Желаю вам, дети, стать конями, но не коровами. Велик, о, как велик белый свет!..
Ребята всё теснее сходились вокруг него, они ждали.
— Нет, дети, сейчас я не стану рассказывать, но обещаю — много чего услышите вы от меня! А сейчас,.. Да ведь я же пришел глядеть, как вы танцуете. КТЪ у вас лучше всех танцует?
— Лучше Эдыка Гурдыева никто не танцует, — сказала горбатая девушка с гармоникой. Она сказала твердо, как старшая.
— Эдык? Где Эдык? — взволновавшись, переспросил Жамбот.
Речь шла об его пасынке. Они еще не виделись: когда Жамбот пришел, Эдык пас овец. Сейчас он вышел перед Жамботом, босой и как камышинка стройный.
— Он лучше всех пляшет и лучше всех в ауле играет на дудке. Мы Аймышем его зовем, — он умеет пасти без кнута! — сказала горбатая девушка.
Когда Жамбот уходил, он Эдыка почти что не знал. Что можно знать о шестилетнем ребенке?.. Сейчас Жамбот видел долгоногого, худенького отрока, резвого и умного, который вопросительно и прямо смотрел на него своими строгими черными глазами.
«Наверно, Аймыш, тот волшебный пастух, который ушел в воду за белым барашком, оставив Веселоречью свои песни, был вправду такой же», — подумал Жамбот. И чем дольше глядел он на мальчика, тем грустнее ему становилось: с этим мальчиком уже можно дружить. Он с ним будет дружить, и мальчик будет расти, догонять и обгонит...
— Ав чужих землях танцуют? — спросил кто-то из ребят.
Жамбот замешкался с ответом, и тогда Эдык сказал:
— Или там не люди живут?
274
И, положив руку на горячее и худенькое плечо мальчика, Жамбот похвалил его ответ: верно, раз люди живут — значит, танцуют. И он стал рассказывать, где как танцуют.
Самый лучший танец из всех, какие пришлось ему видеть, танцевали армянские крестьяне на пристани в приморском городе Батуми; они на большом пароходе уезжали за море искать работы и счастья и плясали, бросая боевой вызов чужбине.
— Вот это был танец! ‘Танцуют только мужчины, построившись в ряд, положив друг другу руки на плечи. Называется это воинский танец, — ты как бы видишь перед собой воинский строй. С правого края ставят военачальника, в руках его красный платок, он махнет им, и как он махнет, так по знаку его поворачивается весь строй... А музыка — та-та-там... та-та-там... дудки и барабаны! — Жамбот, растопырив руки, вертелся на месте, изображая и танец и музыку. —Давайте-ка, молодцы! — кричал он. — Пристраивайтесь ко мне... Ты, Эдык. И ты, маленький. Ты из.Садыковых? Я узнал тебя по бровям! И ты — в сапогах — не чванься, иди, плохому не научу!
Мальчики положили руки на плечи друг другу... Схватив гармонику, ошибаясь и морщась при ошибках, он все же выделывал этот напев, чужестранный и грозный, сам вторя гармонике и голосом изображая барабан.
Но только он заиграл, как ребята перестали плясать, их строй стал распадаться. И Жамбот, бросив гармонь, напевая мотив, опять сам встал ведущим, и танец опять двинулся. Но петь и плясать одновременно было трудно, Жамбот задыхался. И тогда горбатенькая девушка осторожно взяла свою гармонь. Алые пятна смущения выступили на ее скулах, и вдруг, точно разозлившись, она заиграла мотив танца, не совсем так, как пел его Жамбот, а более визгливо и резко, по-дуудски. Но Жамбот одобрительно кричал ей:
— Ай, Сарья! Ну и Сарья!
Он узнал уже, что девушку зовут Сарья.
— Барабан теперь нужен! Как нужен барабан!
275
18*
И вдруг Жамбот замолчал, пораженный: барабан стоял уже здесь. Это было жестяное ведро: наверное, кого-то из ребят послали за водой, а он убежал танцевать. Жамбот схватил ведро, и по всему аулу раздался звонкий бой: Жамбот пальцами одной руки отбивал по дну ведра эту гулкую дробь, пальцами же другой все прищелкивал и прищелкивал.
Но ребята еще топтались на месте, танцующий ряд не поворачивался, не загибался и не разгибался. И тут вдруг Эдык, который шел крайним, выхватил из-за пазухи свою пастушескую тростниковую дудку. Не переставая плясать, приложил он ее к губам — к ведру и гармонике присоединила свой нежный голос дудка.
— Веди! Веди! Веди! — исступленно кричал Жамбот. — Наступай! Отступай!
И Эдык, поняв, повел ряд, — нет, это не была уже армянская воинская пляска, красный платок не мелькал, но вместо него хрипловато пела дудка. Мальчишки, уловившие воинственно-стройный лад напева, по-своему складывали танец, по-своему, по-дуудски, и Жамбот рычал от восторга, отбивая звонкую дробь по ведру...
Вдруг он услышал смех. Оказывается, на кровле, где раньше сидели только две старухи да стоял осел, собрался весь поселок Гурдыевых.
«Опять показал я себя не таким, как все...» — смущенно подумал Жамбот.
В смехе послышалось ему удивление, неодобрение, и, отбросив от себя ведро, Жамбот спрыгнул со стены вниз, в узкий проход между поселками.
Сердце его билось прерывисто. Он был смущен и разгорячен. Луна бледно светила из-за тумана, было не светло и не темно. Как только он спрыгнул, музыка сразу оборвалась, но сверху слышен был говор и смех... Идти домой? Но жена — она тоже, верно, была среди людей, смеющихся над ним. Она ни сйова ему не скажет, она только глянет... Нет, он не хотел домой... Журчал ручей, лунный свет дрожал в бегущей воде, и эта дрожь была тем же, что и это журчанье... Луна слабо проникала сквозь туман, и было не светло и не темно —лучший час любовных свиданий. И вдруг он
276
сделал то, о чем даже запрещал себе думать: шагнул в тень стены и, скользя по глинистой почве, быстро пошел вверх, в сторону Батоковского поселка, куда была вы-дана Оркуят.
Ему несколько раз приходилось бывать в этом поселке, и он знал его расположение. Легко переметнувшись через стену в том месте, где она была не очень высока, он очутился в саду и пополз по земле. То, что он делал, было безумно: ведь ее дом видел он только издали и мог заблудиться. На него могут налететь собаки. Что будет, если его поймают? Изгнание — сейчас, когда он решил уже до самой смерти жить дома... Да что дом!.. Он ни о чем не думал, кроме того, что могло сейчас помешать или помочь свидеться с нею. Муж ее, как большинство мужчин, должен сейчас быть на зимних пастбищах — волки сейчас опасны. Но он мог вдруг оказаться дома...
Распластавшись во весь свой рост, он без всякого шума полз по земле, переваливаясь через низкие ограды, из одного сада в другой. Батоков-ский поселок славился садами. С детства знал Жамбот, что по всему этому поселку можно пройти из одного сада в другой, и он полз, помня, что дом Оркуят, а значит и сад ее должны быть выше всего поселка.
Он полз между теми пышными и грубыми цветами, которые похожи на вымоченные в крови комья овечьей шерсти: горячие, пламенные цветы. «Как сердце мое», — подумал он. Впереди откуда-то, точно из-под земли, подымался розовый дым. «Она там», — думал он.
Сад внезапно оборвался. Кусты свисали над маленьким, ровно, как внутренность шкатулки, выложенным плитняком двориком. Освещенный сверху холодноровным и туманным светом луны, он снизу весь был наполнен колеблющимся желто-розовым огнем летнего открытого очажка. И Жамбот не удивился, увидев Оркуят. Присев на корточки, она подбрасывала солому под маленький черный котел. Солома сгорала торопливо и жарко, и, отражая этот неровный и быстрый бег пламени, лицо Оркуят жило какой-то особенной жизнью,- которая Жамботу казалась Таинственной и
277
прекрасной: ее блестящие карие глаза то загорались, то потухали. Маленький рот немного открыт; печаль и забота...
О чем думает она в этот тихий вечерний час, когда дети уложены, а мужа нет дома? Он не видел ее со времени похищения и чувствовал такое счастье, что ему захотелось так же тихонько уползти отсюда, как он приполз сюда. Но все в нем взбунтовалось против этого благоразумного побуждения, и он мелодически-тонко свистнул, почти пискнул сквозь зубы: есть маленькие полевые мыши, которые так пищат. Этим условным знаком он в юности вызывал ее на свидание.
Она вздрогнула и подняла голову. Прислушалась и, качнув головой, грустно усмехнулась. Он понимал все, что с ней происходит, — сейчас она укорила себя за то, что не может забыть его. Ведь он тоже упрекает себя, что не может забыть ее... Он свистнул еще раз, и она, вздрогнув, встала во весь рост. С головы до ног оглядев ее своим изголодавшимся взглядом, он сразу увидел все изменения возраста. Ничего не осталось в ней от девической стройности. Но этот ее новый облик уже нравился ему, полнота не изуродовала ее, она шла к ее высокому росту, к широким плечам и длинным рукам.
Приложив руку к груди, наверно, чтоб успокоить сердцебиение, она стояла, прислушивалась. Но он молчал, и она двинулась в ту сторону, откуда слышен был свист, — в его сторону. Он сразу заметил, что она особенно осторожно ступает по земле, точно боясь поскользнуться, не пронести свое1 располневшее тело... И тут же для Жамбота это стало ее новой прелестью.
Она подошла к нему вплотную, ню он был в кустах, и она не видела его. Он слышал ее дыхание и затаил свое, чтоб она не услышала. Туман рассеивался, свет луны становился все голубее и холоднее, и он ясно видел, что под глазами ее легли тени, которых раньше не-было. Но какая-то новая сила появилась в складе ее рта. Она была так хороша, что ему хотелось просить у нее пощады.
— Оркуят... — умоляюще вздохнул он.
Она прянула в сторону, и он схватил ее руку — ее руку! Она с силой выдернула руку, но не убежала, она
278
вглядывалась в томные кудри кустарника. С ужасом разглядывала она Жамбота.
— Ты?
— Я, Оркуят. Я много царств прошел. Я вокруг Черное море обошел- Но где бы я ни был...
— Безумный! Зачем ты пришел?. Тебя увидят, тебя уоьют...
— Да? Ты за меня боишься? Нам суждено было любить друг друга, Оркуят...
— Ничего не осталось от того, что было. Здесь мое, здесь спят мои дети. Ты тоже имеешь свое: жену и детей. .. Безумец, зачем ты здесь? ..
— Безумец — это так, это верное слово! На том берегу моря воюют, и следом за войной идет гнойный мор... Я шел через войну и через мор и пел о тебе. «Не ходи туда, там воюют», — предупреждали меня, но я шел, и воины опускали оружие и отирали пот со лба, слыша, как я пою... «Одержимый», — говорили они. Меня привели к полководцу. «Ты подослан врагами», — сказал он; я же прочел ему стихи. «Это — Меджнун, одержимый любовью,—пусть идет!» — сказал он. И я прошел, а следом за мной снова стала лязгать железом война. И с именем твоим я шел по кладбищам, где некому было хоронить умерщвленных мором, и с именем твоим хоронил их...
Глаза Жамбота горели, губы кривились, — она не узнавала в этом одержимом того доброго, ласкового мальчика. Но этот неистовый странник был для нее много опасней той печальной мечты, которая ей заменяла живого Жамбота.
— Неужели ты полюбила своего мужа? — спрашивал он. — Что тебе в нем? Ведь, как бы он ни был хорош, он всего лишь корова, которая ходит на пастбища и дает себя доить. Я же — конь крылатый...
— Не смей говорить о моем хозяине! — оскорбленно крикнула она. — Уходи, и чтоб мне не видеть тебя!
Он ошеломленно замолчал, а она села на землю и зЗплакала.
Он молчал, поняв, что оскорбил ее, и не знал, что сказать ей, чтоб выпросить прощение. И если по правде говорить, так он кое-что прибавил насчет того, что шел
279
с ее именем на устах. Войны совсем не было, а были грабители, отпустившие его потому, что с него нечего было взять; мертвых он, правда, погребал после эпидемии холеры в Трапезунде, — за это хорошо платили. Но что правда то правда: он ее помнил все время.
— Все, что ты здесь видишь, моими руками сделано... — всхлипывая, говорила она. — Свекровь моя — женщина злая, я ушла из их дома, и мы вдвоем по камешку сложили наш дом. Я сама насадила этот красивый сад. ..Ас мужем я счастлива, — я лучше не знаю человека! Может, ты думаешь, он богаче тебя? Нет. А вот если бы ты, как он, закабалился, чтоб калым за меня уплатить, была бы сейчас я с тобой!.. — сказала она. И, смутившись, что выдала себя, она рассердилась и сказала: — Хозяин мой — ласковый, веселый, работящий. ..
Отвернув от Жамбота свое светлое лицо, она рассказывала, как хорош ее муж. Жамбот молчал. Она мельком взглянула на него: выражение страдания на его лице поразило ее, и она тоже замолчала.
Но она была довольна: поступила так, как должна была поступить. Вот ее дом, куда она должна вернуться, ц она вернулась, — этот горячий ветер не унес ее!
Глава вторая
Женщина подошла к открытым воротам, широким и низким, искусно и прочно сплетенным из лозы, воротам крестьянского двора, и остановилась. Вот он, двор Керкетовых, куда она шла весь сегодняшний день, шла через пастбища, через мхи и снега, через чужие аулы, где свирепые псы не трогали ее, чувствуя ребенка на ее руках. Наступал уже вечер, прозрачно-ясный и тихий: синие дымы очагов шли прямо к небу, светлому, осеннему небу; неподвижно высились над аулом кудряво-стройные тополя; таинственно и темно блестели окна чистенького белого дома посреди пустого, зеленого и чистого двора.
Из-за дома вышла большая собака и медленно направилась к воротам. Но, не боясь собаки, женщина
280
продолжала спокойно и неподвижно стоять у открытых ворот. Ее голова, ее плечи и ребенок на ее руках были скрыты одним куском дешевой лавочной ткани, глянцевито-черной и испещренной грубыми кочанками алых роз. Так, с красивой прямотой и молодой силой, стояла она, держа на руках свою милую ношу.
Собака подошла к воротам. У нее была клочковатая шерсть, низко опущенная и слюнявая морда, облезлый хвост, — по всему видно было, что собака стара. Женщина была по ту сторону ворот, на руках у нее был ребенок. И пес, постояв некоторое время в недоумении, повернул в сторону свою большую слюнявую морду и, словно призывая, глухо тявкнул: раз, другой. .. Пес лаял, виляя своим облезлым хвостом, лаял без злобы, и на его призыв из-за дома, так же неторопливо волоча ноги и такой же старый, вышел высокий мужчина в широкополой войлочной шляпе, в серой шерстяной рубахе' с твердым строченым воротом. На ногах его были высокие шерстяные чулки и кожаные туфли.
Увидев его, пес пошел к нему и преданно ткнулся в его колени.
Оглядев внушительное длинное лицо старика, его большие седые усы и остро подстриженную седую бороду, женщина поклонилась так низко, как могла, держа на руках ребенка, и сказала:
— Здравствуй, отец. Я двор Керкетовых ищу.
Ее застланный хрипотой, пересохший от жажды голос был все же молод и приятен.
— Войди... — сказал старик. — Это мой, Шехима Керкетова, двор. Садись... — сказал он, указывая ей на большое старое бревно у плетня. Но она медлила. И тогда он сел сам и повторил еще раз: — Садись... Ты издалека, видно? Сейчас я пришлю кого-нибудь из наших женщин, они напоят и накормят тебя...
— Не стану я водой разбавлять мою горькую обиду...— ответила женщина. — Не разжимая губ, несла я ее сюда, и она здесь вот, в глотке моей. Обидел меня молодой князь Байрамуков. Ищу я помощи у мудрого Талиба Керкетова и, пока его не увижу, капли воды пе выпью, зернышка не съем!
281
Старик одобрительно кивнул головой. Не она первая приходила на двор Керкетовых искать помощи от обидчиков, но мало кто говорил о своей обиде с такой гневной силой. Он хотел расспросить ее, но вдруг вспомнил, что не его имя назвала эта женщина, а имя сына.
— Что ж Талиб... — сказал старик. — Талиб — мой сын. Конечно, он молод, но может дать добрый совет. Только подождать тебе придется: у него гость...
Он повернулся и пошел к дому. Совсем недавно люди к нему самому за советом ходили, а теперь даже и не спрашивают — все к Талибу.
«Молчи! — остановил он свое ревнивое сердце. — Кому завидуешь? Талиб — сын твой, он подымется выше тебя, но гордись, это ты его поднял! Вспомни, откуда ты вышел, и радуйся тому, куда устремляется твой сын!..»
Подготовленный Хусейном Дудовым юный Талиб сдал экзамен на звание учителя при краснорецкой учительской семинарии.
Как раз к этому -времени освободилась вакансия преподавателя истории и географии в арабыньском городском училище. Эти предметы были специальностью Талиба. Но законоучитель городского училища отец Антонин Гонибесов не допустил, чтоб мусульманин стал обучать православных детей! Отец Антонин написал в министерство, в синод и в сенат, в «Русском паломнике» появилась статья за подписью: «Ревнитель». Отказа к занятию должности Талиб не получил, его лишь уведомили, что дело его изучается. Но прошел первый месяц учебного года, и из округа прислали в Арабынь русского преподавателя, а Талибу отказано было <<за неимением вакансий».
Одновременно Талибу отказали в устройстве научно-популярных чтений по истории и географии. «Таковые чтения на языке веселореченских горцев не предусмотрены», — разъяснили Талибу из канцелярии губернатора.
И пришлось Талибу вернуться к отцу...
— Зачем тратился, отец?—ласково пошутил Талиб. — Видно, пастуху *гак и надлежит пастухом оставаться. ..
282
Отец промолчал: отвечать было нечего, на судьбу его сына легла та же тень, которая смолоду лежала на его судьбе.
Конечно, бывало, что и (яркое солнце освещало жизнь Керкетовых. Так было в тот день, когда один из Тамбиевых, вернувшихся из Турции на родину, Кам-болет, мальчик в лохмотьях, с гноящимися глазами и головой, покрытой коростой, протянул руку за подаянием у крепко сплетенных ворот мужицкого двора Керкетовых. Так-то князья поистерлись, поизносились.
А все же аул Веселый был в кольце княжеских владений, и крестьяне принуждены были арендовать у них земли. Пять княжеских фамилий продолжали точить кровь аула Веселого.
— Э-э-э-эй, мужики! Выбирайте меня старшиной! Я сумею выдавить из вашей шкуры клещей! — говорил Шехим.
Крестьяне знали — не хвалится Керкетов! Далеко за пределами Веселого аула был известен Шехим. Не деньгами.
— Деньги, молодец, сам заработай, так-то я скажу! — говорил Шехим. — Или мудрый совет не стоит дороже денег?
А вот выбрать его- в старшины никак не выходило; поперек становился и мулла с шариатом: нет истинной правоверности в этом человеке! Поперек становились князья с адатом:
— Кого выбрать хотите? Безродного сына рабов — вы, свободнорожденные люди Веселоречья?
Так состарился Шехим. И к концу жизни, точно для того, чтоб напомнить страшное начало ее, пришлось Шехиму опять ломать шапку перед Тамбиевым, тем самым Камболетом Тамбиевым, который в молодости протянул руку за подаянием у ворот Керкетовых.
Однажды князь Искандер Батыжев, отец Темиркана, ехал по пастбищам. Кто-то из его свиты, желая потешить князя зрелищем позора и унижения, в котором находился последний из рода, враждебного Баты-жевым, указал Искандеру на рослого молодого пастуха, выделявшегося среди прочих пастухов особенно грязными лохмотьями. Но Искандер опечалился и даже
283
заплакал, увидев, в каком позоре находился этот последний потомок когда-то могущественного рода Там-биевых. Батыжев окликнул последнего Тамбиева, обласкал, накормил и одел его. Он увез его с собой. Он поселил последнего Тамбиева у себя. Потом Кам-болет Тамбиев был определен в юнкерское кавалерийское училище, кончил его, поступил В казачьи'войска, в составе которых прошел всю русско-японскую войну. В битве под Вафаньгоу он был сильно ранен и вернулся на родину в чине штаб-ротмистра, громадны^ и сильный мужчина, с рукой, на всю жизнь парализованной. И опять же Батыжевы не оставили его своими милостями: княгиня Ханифа женила его на одной своей родственнице, сама уплатила за нее калым, — не слишком большой, так как невеста несколько косила глазами, но ведь ей, по ее знатности, иголки на полу не искать. Князь Искандер достал Камболету Тамбиеву хорошую" должность: он стал лесничим веселоречен-ской казенной лесной дачи.
Так под руку Тамбиева опять поступили те леса, которые некогда принадлежали его роду. А управление лесничеством находилось в ауле Веселом, на месте старой сгоревшей усадьбы Тамбиевых. Мужики аула Веселого качали головами:
— Смотри-ка, снова эта прожорливая порода власть забирает...
— Э-э-э, соседи, дермо -всегда поверх чистой воды всплывает, — говорил Шехим.
Камболет Тамбиев был беден, — это видели все: кроме офицерского мундира и казенной мохнатой бурки, носить ему было нечего. Но он взяток не брал и не воровал леса. За короткое время он сменил и перешерстил весь состав лесной службы. Лесника, пойманного на злоупотреблении, порубщика или нарушителя охотничьих правил он не штрафовал и в тюрьму не сажал. Выкатив свои блестящие серые глаза и оскалив большие желтые зубы, он сшибал виновного с ног и, наступив на него, избивал своей большой палкой, которая всегда была при нем. Бил столько, сколько хватало его ярости, и люди роворили, что в его единственную здоровую руку вместилась сила обеих рук.
284
—- Так... — говорил он, устав. — Шанго!..
Это и еще подобные словечки, украшавшие немногословную речь лесничего с тех пор, как он вернулся с Дальнего Востока, придавали ему в глазах земляков особенный отпечаток таинственности. Его боялись, ненавидели, но уважали. Все-таки лучше быть избитым, чем оштрафованным или запертым в тюрьму.
Удивлялись люди жене лесничего. Это была такая же, как сам лесничий, рослая женщина. Приехала она в Веселоречье очень худой. Но быстро отъелась, располнела, и скоро живот у нее стал такой, точно она должна была вот-вот подарить Камболету потомство. Но месяц проходил за месяцем. Так прошло два года. Живот был попрежнему загадочно огромен...
— Она медведя родит, — не то шутил, не то пугал Шехим Керкетов, напоминая о том, что Тамбиевы издавна Считали себя потомками какого-то очеловечившегося медведя.
Так говорил он. Но при встрече с господином лесничим первый торопливо кланялся ему, — оба они не забыли тот студеный осенний день, когда Шехим вынес Камболету сухую, заплесневелую лепешку, не пригласил его в дом, не обогрел, не подарил одежды. По древним охотничьим приметам, убитый зверь воскресает, если не сказать над ним заговорных слов, — и вновь над Веселоречьем поднялся этот тамбиевский воскресший медведь. Ш^хим не желал встречаться с лесничим, старался не выходить со двора... Да, жизнь прошла. Но подрастает сын. Шехиму уже не осилить тамбиев-ского медведя. Его осилит Талиб.
Талиб стал работать в хозяйстве Керкетовых. Он выписал кое-какие брошюры по садоводству, огородничеству. Особенно охотно занимался он разведением пчел: в четыре раза увеличил количество ульев, выкинул старые ульи, плетеные, и обмазанные глиной, долбленные из колод, и поставил ульи раздвижные, похожие на русские дома, — целый маленький пчелиный городок воздвигался в саду Керкетовых, и продажа меда стала одной из самых прибыльных статей их хозяйства. Когда же Талиб начинал тосковать, то ехал в
285
Арабынь, в гости к Хусейну, отводил с ним свое сердце. Из Москвы и Петербурга Талибу шли выписанные им книги, журналы, газеты. Потом он обрадовал отца: приглянулась ему девушка — простая девушка, соседская дочь, красивая, ласковая...
Однажды отец обратился к Талибу с просьбой: нужно было написать судебную жалобу. О княжеском произволе, обманах и насилиях Талиб , знал с детства. Но когда ему пришлось на бумаге изложить этот один из тысячи фактов захвата князем крестьянской земли, его вдруг особенно поразила наглая уверенность захватчиков. Теперь, завидев людей, пришедших к отцу, он сам выходил к ним, вместе с отцом выслушивал их и сам писал прошения и жалобы. Скоро все Весело-речье знало молодого Керкетова, просвещенного и доброго человека, мудрого знатока русских законов и друга всех обиженных и бедных людей.
Арабыньский пристав, Осип Иванович Пятницкий, который издавна взял на примету старика Керкетова, был особенно недоволен деятельностью Талиба. Но бумаги, составленные Талибом, взывали к законам Российской империи. Талиб действовал обычно прямо: раньше чем-отправить бумагу в губернию или в станицу, он показывал ее Осипу Ивановичу. Во всей манере поведения Талиба было нечто внушающее уважение: честность, простота, прямодушие. И все же Осип Иванович чуял запах крамолы, который шел со двора Керкетовых.
Когда женщина с ребенком пришла на двор Керкетовых, в гостях у Талиба сидел молодой Джафар Касеев. Знали они друг друга смолоду. Отец Джафара, почтенный Бекмурза, предостерег сына вести знакомство с этим «самозванцем», ходатаем по крестьянским делам: он на плохом счету у господина пристава. Этого одного было достаточно для того, чтоб Джафар после своей поездки на Восток возобновил старое знакомство. Сам поехал к Талибу в Веселый аул, и они стали встречаться.
286
Однако дружба у них не вышла. И, право, не Джафар был тому -виною. Наоборот, Джафар в первое же посещение сказал много лестного Талибу:
— Такие люди, как ты, есть предтечи, провозвестники (множественное число Джафар употреблял оттого, что предтечей считал также и себя).
Джафар таинственно объявил себя марксистом, рассказал о поездке на Восток, предрек гибель «восточному варианту культуры человечества».
— Ну, а что уж там говорить о наших кавказских племенах!
Но тут он почувствовал, что кормит собаку виноградом,— Талиб, до этого молча слушавший, вдруг спросил:
— А Коста Хетагуров?
— Кто это Коста Хетагуров? — удивился Джафар.
И Талиб с увлечением рассказал об этом осетине: .крестьянский сын, он, может быть, первый из горцев покинул родное ущелье и добрался до Петербурга. Как некогда крестьянский сын Ломоносов, жаждал Он просвещения и приблизился к истокам его. Живописец и слагатель песен, Коста вернулся к своему народу... Не есть ли в этой судьбе предвещание судеб всех горских народов?
Джафар посмеивался:
— Какое отношение к политике имеет этот осетинский Ломоносов? Тебе нужно позаботиться о своем мировоззрении, Талиб.
Мировоззрение? Партия? Когда Джафар ставил эти вопросы, Талиб качал своей красивой головой:
— Погоди, Джафар, я в этом еще не разобрался... Плохо? Что делать, но я не могу выдавать себя за то, чем не являюсь. — Конечно, Талиб желал блага бедным людям, недолюбливал богачей, ненавидел князей, сильно был раздражен на чиновников. — Да и правительство, по правде сказать, у нас никуда не годится —• само своих законов не исполняет!
В прошениях и заявлениях, которые Талиб во множестве писал, сам он не видел ничего сверх того, что в одних случаях ему удавалось добиться справедливости, а в других — и таких случаев было, к сожалению, боль-
287
иге — не удавалось. Репутация бунтовщика и крамольника, которой гордился бы Джафар, Талиба всерьез озабочивала. В своих занятиях сельским хозяйством Талиб не видел ничего из того, что в них хотел видеть Джафар, — ни народничества, ни толстовства. Джафар сам не был ни народником, ни толстовцем, и все же он бы обрадовался, если б Талиб обнаружил принадлежность к этим взглядам,— каю интересно можно было бы поспорить! Но Талиб простосердечно говорил, что сельским хозяйством занимается он, чтоб не быть дармоедом, и, увлекаясь, начинал вслух высчитывать, чего он ждет от урожая этого года.
«Мелкие же у тебя масштабы», — думал Джафар.
Их споры все чаще иссякали, превращались в то Тяжелое молчание, которое отделяет собеседников друг от друга глубже самого резкого спора. Так вот случилось и сейчас.
А ведь Джафар после встречи со «столичным финансистом», как называл он Гинцбурга, сразу же вспомнил о Талибе и, как только позволило время, .поехал к нему в Веселый аул. И сначала разговор наладился: постройка железной дороги, создание кооперативных товариществ — все это взволновало Талиба. Джафар поразил его воображение рассказами о дворцах, которые построила рабочая кооперация в Бельгии и Голландии, особенно Талиб заинтересовался молочной кооперацией Дании.
— Это и нам подошло бы! — сказал он мечтательно. — Две сошедшиеся в рукопожатии руки, и над ними простой и великий девиз: «В единении — сила».
Талиб тут же перевел этот девиз кооператоров на веселореченский язык.
Но когда Джафар пытался передать Талибу свое восхищение Гинцбургом — ничего из этого не вышло.
— А чем он все-таки занимается? — упрямо спрашивал Талиб. Внимательно и серьезно выслушал многословный ответ Джафара. — Финансист, — повторил он слово, сказанное Джафаром. — Кажется мне, что он плут, этот человек.
— Что значит плут? — раздраженно спросил Джафар. — Это моральная, а не экономическая категория.
288
Закон прибавочной стоимости построен на присвоении труда рабочего.
— А это хорошо? *— спросил Талиб.
Джафар развел руками и умолк.
«Ограничен», — подумал Джафар с раздражением.
Они сидели в чистенькой комнате Талиба, и все в ней выражало хозяина: какие-то таблицы с изображением разреза ульев, прозрачные восковые соты, в виде украшения поставленные на письменный стол, и особенно письменный прибор, выпиленный самим Талибом •по его же собственному рисунку:. олени, щиплющие траву, бегущие, дерущиеся друг с другом, пьющие воду, чутко прислушивающиеся, — всюду ветвистые рога, стройные ноги, гордые и недоверчивые морды... Да и сам Талиб походил на молодого оленя, гордого, чистого и недоверчивого зверя.
Вошел Шехим, оборвал затянувшееся мучительное молчание, и оба они обрадовались.
— Я тоже с тобой выйду! —сказал Джафар, когда старик сообщил, что Талиба ждет на дворе женщина с ребенком. — Погляжу, как ты тут политической адвокатурой занимаешься! — шутил он.
Талиб смущенно усмехался':
— Какая там политика! Людей очень обижают, — невозможно терпеть!
Как только старик ушел за Талибом, женщина дала грудь ребенку. Когда мужчины вышли на двор, она еще кормила ребенка, и они увидели ее — с закрытым лицом и белой грудью, к которой припала багровая головка ребенка.
— Почему она так закрывается? Это не в нашем обычае, — тихо сказал Джафар.
Талиб кивнул головой, но не ответил, — они уже подошли к женщине.
— Сиди, сиди, сестра, и делай свое дело, — ласково сказал Талиб, видя, что она хочет встать перед ним.
Джафар сел на бревно. Талиб же подкатил круглый деревянный чурбашок и опустился на 'него, подтянув свои мягкие, без каблуков, желтого сафьяна сапоги. Талиб любил, хорошую обувь, и эти сапоги были единственно франтовским из всего, что было сейчас на нем.
19 Ю. Либединский
289
Заплатанные, вправленные в сапоги брюки, рубашка — простая, белая, с косым русским воротом. Но щегольские сапожки как-то особенно подчеркивали сухощаво-стройное сложение Талиба. Он носил красивую, цвета темного ореха, бородку. Расстояние между его глазами, карими и большими, было, пожалуй, слишком близко, и это придавало его лицу оттенок некоторой нелюдимости, суровости и печали.
«Красивый и добрый мужчина», — подумала женщина и опустила платок, прикрыв им грудь.
Но тут старик принес ей воды, особенно приятной, холодной оттого, что она была налита в глиняную чашку. Женщине пришлось показать свое лицо. Это продолжалось мгновейие, но мужчины успели ее разглядеть. Она была некрасива, очень изуродована оспой: у нее совсем не было бровей и ресниц, даже рта ее не пощадила страшная болезнь.
«Так вот причина стыдливости!..» — подумал Талиб.
История ее началась издалека; много было рассказано о том, при • каких обстоятельствах ее предки и предки ее мужа стали рабами князей Байрамуковых...
Талиб терпеливо слушал это неизбежное в Вееело-речье вступление ко всякому серьезному делу — начинать с предков, с Баташа и Батыжа. «Бывшие рабы», — только и записал он в свою записную книжку из всего этого вступления. Карандаш его заработал, только когда она стала рассказывать, как после замужества она решила во что бы то ни стало уйти с княжеского двора, где семьи бывших рабов работали за пропитание, и начать жить своим хозяйством.
— Старая княгиня добра ко мне была; смолоду она ослепла, и я еще девчонкой была к Ией приставлена: умела ей угождать. Я умна, я ловка. Я и нашла дело, которое стало давать нам хлеб. В наших местах зерно мололи только ручными мельницами. Зашел к нам бродячий черкес, посмеялся над нашими мельницами, рассказал о мельницах, которые движутся водой, бегущей с гор. Мне это понравилось, я расспросила его и сама своими руками сложила такую мельницу. Мой парень помогал мне.
290
Когда мы работали — обтесывали камни, прилаживали их один к другому, — люди смеялись над нами. Но только мы сложили нашу мельницу, всем захотелось молоть на ней свое зерно, так как молола она скорее и мука получалась чище и мельче, чем: на ручных мельницах. Разве трудно отдать горсть, три горсти, пять горстей за помол? Но мы от этих горстей хотя и не разбогатели, но жить стали хорошо. Я ждала моего первенца — вот этого, который сейчас на моих руках. Но тут точно злой глаз посмотрел на наше счастье!
Муж пошел на свадебное пиршество, и оттуда принесли его мертвым, с кинжалом в груди.
Она громко заплакала, причитанием поминая добродетели мужа.
— Веселье без крови не солоно! — вздохнув, сказал старик.
— Нет, нет, отец, — всхлипывая, ответила женщина. — Он был очень смирный, мой хозяин, смирный, уступчивый, добрый. Но он большой был и сильный, как зубр, и когда на празднестве стали играть и состязаться, он показал свою силу в игре, которую вы знаете: кто кого к себе утянет. Он тянул веревку с одним, с двумя, с тремя, с четырьмя — и всех перетягивал. Вот сила-то какая! — гордо сказала она. — Перетянул он и пятерых, хотя говорят, что трудно это ему было-... Он даже и шестерых еще перетянул... Но горе! Играли-то ведь после пира — и не смог он удержать в себе ветра... — Женщина в голос заплакала, запричитала.
Старик соболезнующе покачал головой и зацокал, — дальнейший кровавый исход событий был ему уже ясен.
Джафар взглянул на серьезное и печальное лицо старика и согнал с лица улыбку, невольную и удивленную.
«Неужели за это могут убить?» — подумал он и вопросительно взглянул на Талиба. Тот слушал простодушно и взволнованно — даже рот слегка приоткрыл.
Женщина справилась со слезами, вытерла лицо и, со стоном вздохнув, сказала:
291
19*
— Тут кто засмеялся, кто пошутил... И не вынес он срама, милая, скромная душа моя! Ведь всю жизнь люди смеяться станут! Выхватил кинжал и — горе! — убил себя... разом — твердая рука, прямо в сердце ударил. Я сама вынула клинок из его богатырской груди.
Женщина опять в голос заплакала, перечисляя добродетели покойного мужа.
Но тут же заплакал ребенок, точно напоминая о себе и требуя внимания. И женщина сразу смолкла. Откинув ткань с лица, она тихо напевала, баюкала, и сквозь ее крупные темнобагровые, точно облупившиеся губы струилось воркованье и мурлыканье, нежное и хищное. Она сидела прямо против заходящего солнца, и рябины, уродовавшие ее лицо, были особенно заметны. Но горе, страсть и несокрушимое упрямство сказывалось в складе ее лица. Глаза без ресниц казались особенно большими — солнечный свет проникал в них свободно и так же свободно, огнем и золотом, сиял оттуда. Она была и страшна и прекрасна.
Ребенок затих, успокоился. Она спохватилась, что лицо ееч открыто. Но, быть может, почувствовав, что не противна мужчинам, она не скрыла лица, а лишь затенила его и продолжала рассказ. Вскоре после смерти мужа умерла ее покровительница, старая княгиня.
— Одно за другим — словно лавина обрушилась на наш дом! — сказала женщина. — И два несчастья привели третье: воспользовавшись этими двумя смертями, молодой князь Байрамуков отказался выполнить завещание своей матери. «Вода моя — значит, мельница моя...» — сказал он. Старшины аула встали на его сторону...
— Это какой же Байрамуков? Молодой Байрамуков? Офицер? — оживленно спросил..Талиб.
Женщина подтвердила, и Талиб, записав фактические данные дела (женщину звали Анисат Рахаева, а молодого князя — Аубекир), сбоку приписал: «офицер» и поставил восклицательный знак/То, что Аубекир был офицером, прямого отношения к жалобе Анисат иметь не могло, но как-то невольно написалось это «офицер»,
292
то, о чем Талиб все время помнил, о чем он часто думал.
— Грабители! — сказал он гневно. — Долей вдовьей, долей сиротской — ничем не брезгуют... — Он уже наспех записывал черновик жалобы.
Негодование Талиба опять-таки казалось Джафару смешным и наивным. Конечно, можно пожалеть женщину, но, право же, на этот случай можно бы взглянуть с какой-то иной, более высокой и научной точки зрения... «Грабители» — самое слово это содержало в себе тот привкус грубого гнева и страстности, который, по мнению Джафара Бекмурзаевича, исключал высокую научность. Существует ведь научное понятие: «экспроприаторы». Мелкую буржуазию — вот эту босоногую владелицу кустарного предприятия — экспроприировал более могущественный предприниматель. Чем, собственно, тут возмущаться? И вдруг Джафар вздрогнул; чей-то резкий голос, точно продолжая его затаенные мысли, спросил насмешливо и резко:
— И ты рассчитываешь, Талиб, выиграть в суде это дело?
Широкоплечий парень в расстегнутой черкеске, из-под которой видна была блестяще-желтого канареечного цвета рубашка, стоял позади Талиба, и Джафар догадался, что это третий и самый младший сын старого Шехима, удалой Батырбек. Издевательство слышалось в его голосе, раскосые черные глаза были пренебрежительно и насмешливо злы.
И Талиб ответил, нервно постукивая карандашом по сухощавой своей коленке:
— Я сделаю все, чтобы это дело выиграть...
Батырбек, не дослушав, издевательски продолжительно- свистнул.
— Дочери Магмота Тубаева пошли в услужение, а земля его осталась за Шипшевыми, — злорадно напоминая, сказал он брату.
— Это совсем другое дело, —ответил Талиб. Он говорил как будто спокойно, но голос его дрожал. — Магмота убили еще во время турецкой войны, и делу исполнилась давность. А русский закон..,
293
— Закона нет, — твердо сказал Батырбек. — Есть судья. А у судьи есть карман... Есть у тебя, сестра, то, что в карман сыплют?—обратился Батырбек к Анисат, которая недоброжелательно глядела на этого непонятно и неизвестно к чему вмешавшегося в ее дело парня. — Если есть, сыпь судье в карман, а нету...
— Ты сбиваешь женщину с толку, — строго сказал Талиб.
— А я думаю, что ты сбиваешь.
— О чем ты можешь думать! — вдруг сердито прикрикнул Шехим на младшего сына. — Твое дело — лошадям хвосты крутить! Ступай-ка быстро отсюда.
Темный, злой румянец выступил на лице у Батыр-бека. Он проворчал что-то, но, видно, не осмелившись перечить отцу, хотел уже повернуться и уйти. Вдруг раздалось глухое предостерегающее тявканье пса. Еще и еще... Керкетовы поглядели в сторону ворот, и когда увидели, кто к ним пришел, они переглянулись с удивлением.
Это был сам веселоаульский мулла Шаик Сафаров, высокий, худой старик, казавшийся еще выше благодаря высокой черной барашковой щ^апке, снизу обвитой зеленой • чалмой. Длинный, коричневый, неподпоя-санный бешмет, посох, в руке, рябое лицо в реденькой рыжеватой бородке, тонкий, с горбинкой нос... Сведя брови, он своими небольшими и остро блещущими глазами смотрел на Керкетовых. Взгляд его угрожал, а рот ласково улыбался, — эта улыбка придавала свирепому, неприветливо-мрачному лицу оттенок недоброго веселья.
Он понимал: приход его неожидан, непонятен и неприятен Керкетовым. Мулла Шаик не раз мешал Ше-химу быть избранным в старшины. Он всячески пытался препятствовать светскому обучению Талиба... Но он был гость: каковы бы ни были цели его прихода, его надлежало принять радушно, и Керкетовы, кланяясь, пошли ему навстречу.
Мулла привел с собой незнакомого человека в странной травянисто-зеленой одежде. Даже обувь этого человека — высокие зашнурованные сапоги — была сработана из зеленой ткани. На голове его была боль
294
шая странная шапка — гладкая, с двумя козырьками: один опускался .низко на глаза, другой прикрывал затылок. Эта шапка походила на старинный шлем, но этот шлем не блестел металлом, а тоже был матерчатозеленый.
— Инглиз... — увидев его, прошептал Талибу Шехим. — Это — инглиз. К нам охотиться приехал.
Шехим не ошибся. Сразу же после приветствий мулла сказал Керкетовым:
— Этот человек — подданный могущественного повелителя англичан. Он приехал к нам, имея намерение охотиться на джегутуров, и обратился ко мне, чтобы я указал ему проводника. Я сказал, что лучшего проводника, нежели удалой Батырбек, найти нельзя. Называть нашего гостя нужно господин Антони, таково его имя. Он понимает немного по-нашему, — сам удивляясь, сказал мулла, — но говорит несвязно...
И тогда инглиз, тонконосый человек, с глазами, которые казались особенно светлыми на его красном, обожженном солнцем лице, сказал:
— По-ни-маю... По-ни-маю... Могу говорить некоторые слова.
Смысл того, что странно бурчало, шипело, точно варилось у него во рту, можно было только приблизительно угадывать, и Анисат, о которой все забыли, вплотную подошла к нему и смотрела ему в рот со страхом и жалостью. Но тут этот мулла с лицом ястреба грозно взглянул на нее, и она сразу, опустив ткань на свое лицо, поспешно отошла в сторону.
«На что он так рассердился? Верно, на то, что у меня лицо открыто».
Ей даже захотелось уйти со двора Керкетовых. Но ведь дело, ради которого пришла она сюда, еще не сделано.
В растерянности она отходила в глубь двора... Вдруг ее дернули за рукав, — перед ней стояла опрятно, по-русски одетая, тоненькая, как камышинка, девушка. Но платок на ее волосах был уже повязан так, как повязывают платки замужние женщины. Она была похожа на Талиба тем сходством, которое бывает у мужа и жены.
295
— Идем, сестра, — сказала она шепотом, — сюда, к нам, пойдем.
И Анисат пошла за ней и, зайдя за дом, увидела знакомую родную картину: обычное приземистое весе-лореченское жилище, летнюю печку, голубой дым, столбом идущий в небо, женщин, приготовляющих пищу и с доброжелательным любопытством обернувшихся и ней, детей, играющих на траве...
Батырбек принес ковер и подушки. Шехим рассадил гостей, а сам остался стоять. Батырбек тоже не садился. Только Талиб опустился на землю, прислонившись спиной к бревну, и ни гости, ни сам Шехим не обиделись на него, словно образование ставило его вне обычая.
Разговор шел по необходимости медлительно: английский гость не понимал быстрой речи, некоторых слов он совсем не знал, и тогда он с мягкой арабской речью обращался к мулле, и тот переводил.
Охотничьи приметы, описания водопоев и звериных троп — все то, о чем шел разговор, было знакомо Талибу, изрядно ему надоело, и он с неосознанным наслаждением глядел поверх аула на ту зеленую сверху, каменно-серую снизу обрывистую гряду, которая, четко отделяя небо от земли, ограничивала широко разошед шуюся здесь долину реки Веселой.
«Веселой реки веселая долина», — подумал Талиб словами песни.
Солнце опустилось к самому краю небес, и тени придали отчетливую -выпуклость тем обработанным солнцем и водой желто-глиняным и серо-скалистым выпуклым скатам, которые, сменяясь один другим, образовывали в своей слитности внешнюю стену гряды. С другой стороны долины тянулась такая же гряда, но она сейчас была затенена. Эти две гряды, с обеих сторон ограничивающие долину, казались невысокими и легко доступными. Но Талиб знал, как круты эти едва прикрытые травянистым покровом и кустарниками обрывы, по которым так легко скользит глаз. Даже всаднику, нужно не менее четырех часов, чтоб по извилистой тропинке подняться наверх. Скот же гонят туда целые сутки. Там начинаются полого уходящие вверх
296
нагорные пастбища: высокие травы, в которых прозрачно горят желтые и розовые мальвы; пахнет чебре-цом, мятой, и кое-где возвышается сквозная, мелко-звездная нагорная кашка.
Джафар подсел к Талибу и развеял его непроизвольные и мечтательные воспоминания.
— Надоели охотничьи разговоры, — сердито прошептал Джафар. — Вот наши дурацкие правила гостеприимства! Человек приехал из великой демократической Англии, и его. спросить ни о чем нельзя, жди, пока он сам заговорит. Ты только представь, что он, может быть, видел самого Ллойд-Джорджа!
Талиб взглянул-на англичанина: тот что-то по-арабски говорил мулле. Но что происходило с муллой? Мулла Шаик, спутник имама Шамиля во время его последнего, предсмертного хаджа в Мекку, мулла Шаик, в большей степени являющийся главой веселоречен-ских мусульман, чем покорный приставу арабыньский муфтий, — мулла Шаик, где твоя надменная неподвижность? .. Англичанин был спокоен, точно он век тут сидел, на дворе (Керкетовых! И это, спокойствие делало его таинственным и непонятным. Мулла же, который, вытянув шею,, прислушивался к каждому слову англичанина и торопливо переводил, все время поглядывая на англичанина, этим обычно ему не свойственным беспокойством открывал себя, и его надменная неподвижность оказывалась притворной: он заискивал перед англичанином...
Батырбек хвастливо и громко рассказывал о старинной охоте на волка, в которой он участвовал: без ружей, с одними палками в руках скачут охотники за зверем, гонят его, пока не заморится.
— Я первый догнал! Я упал на него сверху — и за шиворот!.. Он задохся. Весь дрожит, а все рычит, укусить хочет. Но я палку в рот, связал пасть...
Батырбек сам рычал, рассказывая, и Талиб вдруг заметил, что мулла, мигнув в сторону Батырбека, быстро сказал что-то англичанину. «Нет, не только по охотничьим делам привел ты к нам на двор этого чужеземца», — подумал Талиб.
297
Талиб так же настойчиво стремился дать русское образование младшему брату, как ему самому стремился дать образование отец. Но Талиб хотел учиться, а Батырбек не хотел. С великим трудом удалось определить мальчика в реальное училище губернского города, но, проучившись четыре года и окончив за это время два класса, Батырбек бросил учение, и Талиб ничего не мог с ним сделать. «Сам-то ты не больно далеко ушел из аула!» — говорил он после того, как Талиб вернулся к отцу. Старик же, так упрямо желавший видеть Талиба просвещенным, похоже, не желал этого младшему сыну. «Коню нужна трава, волку — кровь...» — говорил он. И недаром отец уподоблял Батырбека волку — разбойничьей жизнью живет Батырбек: где-то по целым неделям пропадает, приезжает и уезжает ночью, никогда нельзя точно узнать, дома ли он, и отец помогает Батырбеку в его темных делах, так же как он помогал Талибу в получении образования... Но Батырбек не удовлетворился тем, что ушел на свою дорогу, все чаще он, вот так же, как сегодня, норовит встать поперек дороги Талибу и скалит зубы... Волчонок, волк... Так зачем же он все-таки нужен мулле и этому иностранцу?
Солнце ушло за горы, и вдруг на небе, до этого чистом, выступила прозрачная облачная сеть: уходящее солнце точно тянуло ее за собой. Будет непогода, не к добру эта теплота, тишина, — лучше бы холод и ветер. Не шевелясь стояли деревья. Резче обозначались идущие прямо к небу — серые вверху, розовые внизу — дымы над аулом.
Разговор замолк. Женщины принесли угощение на белых полотенцах. Отец хозяйничал, он угощал гостей: его сутуловатые плечи поднимались выше погружающихся в темноту, утрачивающих свою выпуклость, обрывистых стен долины...
Вдруг отец, выпрямившись, насторожился, поднял ладонь, призывая к молчанию,—и сразу стал слышен далекий, но все усиливающийся и все более яростный лай собак, топот коня, все приближающийся... Ближе. .. ближе...
298
И вот не со стороны ворот, а сбоку, прямо над низким плетнем взлетел конь и заскочил на двор> Всадник соскочил — и сразу для Джафара все обернулось сном: перед ним стоял тот, со двора Батыжевых, красив(ый, чернобровый парень. Он был без шапки. Держа под уздцы хрипящего, задыхающегося, стонущего коня, он тоже со стоном, хрипя, сказал:
— Керкетовы! Спасите меня! Черкес Авжуко, шерстобит, послал меня на ваш двор. Спасите меня; за мной погоня...
Секунду длилось молчание. Все, окаменев, смотрели на молодого богатыря. Кровь была на его плече, кровью окрашены были полы его черкески, кровавая царапина п'рочерчена была по крупу коня, по живому, тонкому бархату его шкуры.
— Идем за мной! — сказал Шехим. — Батырбек, помоги мне!
Они скрылись в быстро густеющей темноте, уводя и всадника и коня.
А в ауле было беспокойно. Лай собак не прекратился, снова слышен был топот копыт, гиканье всадников. И только успели Шехим и Батырбек вернуться к гостям, как во двор, один за другим, заскочило несколько конных.
— Где разбойник? — грубо крикнул один, осаживая своего большого коня прямо у ковра, на котором сидели гости Керкетовых.
— Если ты спрашиваешь о том, кто проскакал через наш двор... — начал неторопливо Шехим.
В руках он держал фонарь «летучая мышь», и колеблющийся красный свет падал на бревна и на ковер, на -белые полотенца и посуду с кушаньями, на англичанина, муллу и Джафара, застывших в полной неподвижности.
— Ты прямо отвечай, черкесская морда! А не то... — и всадник, подняв нагайку и перемежая весело-реченские и русские ругательства, стал наезжать на старика...
Талиб вскочил и загородил отца.
— Господин Решетников!—предостерегающе сказал он.
299
Это кто? — недоуменно спросил Решетников, нагибаясь с коня и всматриваясь. — Талиб Шехимович?. Вы что здесь делаете?
— Я живу здесь, — это наш двор. Слезайте, будете гостем...
— Э-э-э, вздор! Вы простите меня, но тут горячка. .. Куда делся этот сукин сын? Ведь вы же видели его, да?
С Талибом Решетников был знаком и старался говорить с ним мягко, но требовательная угроза невольно проступала в его голосе. Он оглядывал гостей Керкетовых: мулла Шаик, застывший с рукой на бороде, мусульманский фанатик и враг русских, и этот еще, весь в зеленом, — очевидно, англичанин... Откуда еще он взялся? Зачем он здесь, на этом беспокойном дворе Керкетовых? А двор наполнен был храпом разгоряченных коней, переступавших с ноги на ногу,; окриками казаков.
— Если бы ты не ругал меня, а дал бы мне сказать, ты бы все уже знал! — сказал стариц Шехим. — Наш двор, видишь ли, крайний, у самой реки... На той стороне густые камыши. Мы принимали почтенных гостей, которых ты здесь видишь, мирно беседовали... Он птицей пролетел наш двор, кинулся в реку и скрылся в камышах.
— В камышах?
Решетников выругался, но более мирно. Он сошел с коня, снял папаху и вытер пот, выступивший на его лице и йа круглой бритой голове.
— Вот и лови его теперь! — сказал он яростно и беспомощно.
— Кого ловите, Парфен Степанович? — спросил Талиб.
Решетников еще раз выругался, теперь уже совсем благодушно.
— Не было печали, — абреи новый прорезался, и очень отчаянный! Пристава недавно в Арабыни побил. .. А сегодня с лаптевской заимки жеребца баты-жевского угнал. А жеребец-то -ведь призовой, резвее его во всем округе нет. Вот и лови ветра в поле! — одобрительно сказал он.
300
— Парфен Степанович! Ваше благородие! — Усатый казак соскочил с коня и, разминаясь, подошел к ковру. — Дозвольте камыши запалить.
— Ну? — оживленно переспросил Решетников.— Камыши, а?
— Молодец, правильно говорит, — сказал Шехим, обращаясь к старшему сыну. И Талиб видел, как хитро и весело поблескивают глаза старика. — Если пустить огонь на камыш, все живое оттуда кинется.
Наступило молчание.
— Айда, ребята! Пали камыши! — скомандовал Решетников.
В подвале, где спрятали Науруза, было темно до черноты, пахло конским навозом, под ногами шуршала солома и каталось одеревеневшее конское дермо. «Подземная конюшня», — подумал Науруз без удивления: сказки его детства продолжали свершаться, и если чудесный конь волшебством спас его от смерти, то почему бы не оказаться так же в подземной сказочной конюшне? Науруз ощупью нашел коня, тихонько повел рукой по тому месту, где была рана. Конь болезненно взвизгнул и дернулся, но Науруз успокоился: это все же была лишь царапина, хотя довольно длинная. Продолжение этой царапины Науруз ощупал на своем бедре и голени. Одной раной, братством кроди связан он с конем! Науруз благодарно обнял голову коня и приложил свою щеку к его щеке, точно принимая этот обет братства.
— Нафисат, — проговорил он и, обращаясь уже к коню, сказал: — И я приведу тебя к Нафисат, крылатый.
Науруз ощупью сгреб побольше соломы, сел и занялся своими ранами. По тому, что пахли они не свежей кровью, а солоновато-горькой сукровицей, он понял, что они не глубоки и уже присыхают. Как уныло и хищно свистели пули, пролетая мимо него, и потом вдруг тонкий и длинный ожог — точно бичом ударили по бедру. Науруз тогда вскрикнул, и конь тоже вскрикнул человеческим голосом, — их обоих ранили одной
301
пулей. До гор было еще далеко, а пули летели за ними. Еще один ожог — по плечу. «Горы, священные ворота Веселоречья, мне не поспеть к вам, поспешите вы ко мне!» — и горы вдруг двинулись на него, окружили его, скрыли от пуль, от врагов... Конь летел по узкой дороге между скалистой стеной и обрывом, и дам, внизу, навстречу им, взметывая белую гриву, летела Веселая...
Много крови потерял Науруз, голова его горела, и казалось ему, что он снова скачет, снова просит: «Науруз не поспеет к вам, горы. Горы, поспешите к Наурузу!» В глотке его пылала жажда. Когда он раненый лежал после битвы е медведем, Нафисат в ладонях принесла ему воды... Прохладные ладони... вот сейчас они коснутся его губ. «Ну скорей же, скорей...» Чернота, его окружавшая, была так же непроницаема, как если бы он опустил веки на глаза... Дремал ли он с закрытыми глазами или бредил, не закрывая глаз? Но в этих жарких черных грезах где-то блестела вода, она плескалась близко, желанная, прохладная, и он полз к ней... «Нафисат... ’Нафисат!»
Кто-то тряхнул его за плечо, и он_ очнулся. Слепая и горячая темнота поредела, вокруг плясали какие-то багряные отблески, и тянуло прохладой, которую Науруз пил губами, как воду.
— Вставай! Вставай! Вставай! — говорили Наурузу и трясли его.
Науруз вскочил и сразу протянул руку к коню,— конь был здесь... В поредевшей побагровевшей темноте Науруз узнал того приземистого молодого крепыша, который вместе со. стариком прятал его в этом подвале.
— Идем, молодец, — ласково говорил этот крепыш.— Я тебя до’ света выведу наверх, к нагорьям. А коня оставь здесь, по коню тебя изловят. — Науруз стоял в нерешительности: значит, ведя коня за повод, не встанет он перед Нафисат! Нет, коня оставлять не хотелось... — Право, лучше оставь, — вкрадчиво говорил Батырбек. — Мы его сбережем! А то еще лучше — продай его мне! Ведь конь этот батыжевский, он всюду
302
известен. Продай! Получишь выгоду! Я дам тебе двадцать пять рублей за него.
«Двадцать пять рублей...» Науруз вспомнил брль-шую монету с курносым русским падишахом и позор, пережитый из-за нее в лавке в Арабыни. Нет, не нужны ему двадцать пять этих монет...
— Нет! — сказал Науруз решительно. — Не буду коня продавать.
— Больше тебе никто не даст, — сварливо сказал Батырбек.
Науруз в его голосе услышал нетерпеливую угрозу и жадную корысть... Вымогать у человека, которого ты спас! Если бы Батырбек пристойно, как подобало, одной похвалой, попросил бы коня так, как полагается по обычаю, Науруз пожалел бы, но отдал бы даром. А так: то с хитростью, то с угрозой... Гостеприимный спасительный кров опять обращался в. разбойничью ловушку, как у Лаптева.
— Не буду коня продавать! — упрямо сказал Науруз.
Вдруг сразу стало светло. В этом неровном красноватом свете Науруз увидел плоское, очень злое лицо Батырбека. Рядом с ним стоял высокий старик, прятавший Науруза.
— Не во-время затеял ты, Батырбек, эту торговле)! —сказал старик.
— Какая торговля! Я гостю нашему жизнь спасаю! — сердито ответил Батырбек. — Но он оказался глуп. И опасности не видит и выгоды не понимает. Пропадет!
Старик ничего не ответил, но ласково положил руку на плечо- Науруза.
— Поступай как думаешь, молодец! Коня добыл ты доблестно, он твой, и мы помогаем тебе без всякой корысти. А ты, Батырбек, бросай торговать да возьмись за дело! Нужно коня в соломенные башмаки обуть!
В багровом колеблющемся свете они втроем быстро обмотали соломой копыта коня и тихо вывели его из тайника. По звездам видно было, что ночь идет к
303
концу, но полнеба пылало так багряно и ярко, что другая половина неба казалась черной.
— Камыши жгут, тебя, ищут, — насмешливо сказал старик. Длинный пояс пламени тянулся вдоль по реке, озаряя быстрые струи Веселой и жадно и тускло дробясь в них. — Йди-ка, молодец, поскорей! Сын проводит тебя. И помни: на дворе Керкетовых тебя всегда и накормят и спрячут. Иди!
Конь уже остыл, ему дали немного напиться. Науруз тоже глотнул несколько раз.
По узкому проходу между тех плетней, через которые вчера перескакивал конь Науруза, они поспешно удалялись от двора Керкетовых. Зарево горящих камышей оставалось за их спинами, -и тени их, бежавшие впереди, становились то ярче, то бледнее, точно позади их мигало громадное багряное око. Ни одного человека не встретили они, но Наурузу все время казалось, что множество глаз следит за ними из-за плетней.
Они вышли из аула. Зарево позади их поблекло. Впереди, над темным краем гряды, обозначалось бледнеющее небо. Тропа пошла вверх, щебень стал осыпаться из-под их ног, они перескочили через последний шелково журчащий в темноте арык. Аул, весь темный и только с одной стороны окаймленный пламенной и дымной колеблющейся стеной горящих камышей, был уже внизу.
Батырбек шел впереди. Коренастый и сильный, он поднимался как ца пружинах. Науруз отставал; конь в своих неуклюжих башмаках шел медленно: ведь они оба, и конь и Науруз, были ранены. Науруз тяжело дышал, конь хрипел, но Батырбек, который, далеко обогнав их, порой останавливался и их поджидал, ни разу не предложил остановиться и отдохнуть. Конечно, им нужно было торопиться, но Науруз чувствовал, что Ба-тырбеку нравится его мучить, и Науруз лучше бы умер, чем сказал бы хоть слово жалобы.
Они миновали полосу щебня и пошли, между земляных глыб, то черных, недавно отслоившихся от верхней кромки обрыва, то зеленых, поросших уже травой и кустарником. Они переходили через камнепады, подобные наполненным камнями рекам, мимо скал,, сорвав
304
шихся сверху. Рассвет наступил сразу: утесы на той стороне долины вдруг стали отчетливо видны — желтые и красные обрывы, отделенные только воздухом. Полоса горящих камышей сразу померкла, обратилась в мерцающую цепь угольев, но зато гуще и выпуклей обозначались плотные клубы коричневого дыма над рекой.
Батырбек и Науруз стояли уже наверху. С одной стороны в пропасти, из которой они поднялись, лежал аул Веселый, вытянувшийся вдоль по реке, со своими двумя красивыми минаретами. С другой стороны, полого и мощно уходя к снежным вершинам, вздымались пастбища. И повсюду, вблизи и вдали, Науруз видел стада: белые и рыжие, покрупнее — стада коров; черные, помельче — стада овец... Науруз задыхался. Рана, которую разбередило слишком быстрое восхождение, кровоточила. Но пастушеские земли, его родные земли, были перед ним, и он чувствовал себя уже дома.
— Ты все-таки опасайся, иди стороной, — дружелюбно сказал Батырбек. Ему понравилось, что Науруз, усталый и раненый, без единой жалобы совершил это трудное восхождение. — Иди через перевал Баташа, — там тебя искать не будут.
— Я так и сделаю, как ты говоришь, — ответил Науруз.
Говорить было не о чем, но они не расходились.
— А ты молодец! — сказал вдруг Батырбек. — Мужчина настоящий! Ты из Старого аула?
- Да.
— Хусейна Верхних Баташевых знаешь?
— Кунак мой! — с гордостью и нежностью к Хусейну сказал Науруз
— И мне он кунак! — с удовольствием воскликнул Батырбек. — Вот молодец! Наездник — лихая голова! Слушай... — понизив вдруг голос, сказал Батырбек. — Идем к нам в долю на хорошее дело: коней воровать!
— Коней воровать?! — изумленно переспросил Науруз.
Батырбек взглянул черными, веселыми и злыми глазами, кивнул головой и сказал:
— Что за жизнь! В серебре и золоте ходить будем!
20 Ю. Либедипский
305
Девок заведем — в каждом городе по- три девки: в Арабыни— три, в Пятигорске — три, в Краснорецке — три и во Владикавказе—тоже три. На каждого по девке! Я, ты и Хусейн —три кунака... Ну? — Батырбек протянул Наурузу свою широкую, короткопалую руку.
Но Науруз медлил. Абречество и конокрадство?! Нет, не на эту дорогу хотел он вступать и жалел, что Хусейн на нее вступил. Многое привлекало Науруза в Батыр беке, многое отталкивало от него. Крепко пожав его руку, Науруз сказал:
— Будем кунаками! Только коней воровать я не стану...
— Так что же ты делать будешь? — удивленно спросил Батырбек, крепко держа руку Науруза. —-Мирная жизнь тебе все равно- закрыта. Один тебе покровитель, один святой — Ночной черный всадник, — назвал он того таинственного духа, которого конокрады чтут своим покровителем.
Науруз вздохнул. Он, правда, не знал, как будет жить, и, очевидно, Батырбек был прав. И все же Нау-! руз сказал, тряхнув его руку:
— Спасибо тебе за помощь и доброе пожелание. Век тебя не забуду и кунаком твоим останусь. Но дорога Черного всадника не моя дорога.
Батырбек вдруг грубо вырвал руку из дружественной руки Науруза.
Ошибся аллах, до макушки головы налив тебя львиной силой и лишив всякой мужской удали. Теперь я вижу — ты вол! Вол, силу быка сохранивший, но от всякой шелудивой собаки прочь бегущий!
Выкрикнув все это, Батырбек одним прыжком со-скочш вниз, в кустарники. И когда Науруз опомнился, он уже увидел Батырбека далеко внизу, — только на миг показался он на краю обрыва, снова спрыгнул... Он бежал вниз не по тропинке, а прямо, как сорвавшийся камень, и камни помельче, потревоженные им, бежали рядом с ним и обгоняли его. Науруз злился, что не успел достойно ответить на несправедливую и-злую брань Батырбека, злился на Батырбека и восхищался им.
Наступили уже ночные заморозки, овец пасли все ниже, и женщины с детьми перебирались в зимнее жилище Верхних Баташевых. Хозяйкой на коше осталась Нафисат, — первый раз стала она хозяйкой! Но все мужчины, сыновья ее братьев (некоторые много старше ее) заглаза и в глаза хвалилн ее. Немногословная и ласковая, умела она держать порядок на коше: заводился айран, приготовлялся сыр, шерсть была разобрана, одежда у всех починена.
Она ничего не знала о приключениях и подвигах Науруза, народ не шел сейчас снизу на пастбища, а шел с пастбищ вниз, и новости вверх не поднимались. Но однажды поздно ночью, когда уже все спали, пришел на кош младший брат ее Азрет. От него-то узнала Нафисат о делах Науруза.
Она всю ночь не спала и с утра ни за что не могла взяться. Уже настал полдень, но было холоДцо и стеклянно-ясно. Снега лежали совсем близко; бледнорозо-вые, нежноголубые, молодые снега наступающей зимы, они складками огромных сугробов висели над пастбищами и уходили ввысь, облекая скалистое плечо большой горы, то плечо, с которого, по преданию, Баташ впервые увидел свою долину. Были коши выше коша Верхних Баташевых, но только кош Верхних Баташевых лежал прямо на тропе, идущей с перевала Баташа. После самого Баташа мало кто проходил через этот перевал, так как был он в стороне от пастушеских троп, и Нафисат следовало бы удивиться, когда, выйдя из коша, увидела она среди снегов темную точку. «Нау-руз>^, — подумала она уверенно.
С какого мгновения жизнь ее стала необыкновенна? С того, как черная пернатая сила упала на ее белого ягненка, — и вот Науруз целится вслед улетающему хищнику, а она отчаянно плачет, но все же знает, что он в хищника попадет? Нет, раньше, раньше. Может, еще с того, как веселый брат ее Али с шуточным поклоном поставил перед ней белого барашка — такого белого, как в песнях. Но почему уже тогда выбрала она Керимова сына в пастухи своему белому барашку?
И вот Науруз застрелил орла, сокрушил медведя, свалил с ног пристава — все это за нее, за ее бедное
307
20*
достояние. Рассказывая о последних подвигах Науруза, Азрет ни разу не назвал ее» но она знала, что присутствовала в каждом помышления Науруза, в каждом его действии. «Что ж я — суженая его?» — спросила она себя. И ей делалось страшно: только «да!» могла она ответить. Судьба не дала Их семье усыновить Науруза, потому что не братом, а мужем должен он стать ей! И она глядела внутрь коша: вот оно все здесь, вековечное хозяйство жены пастуха, — глиняные горшки, деревянные чашки, мед но-блестящий, старый красивый кумган, куча шерсти, прялка, сундучок, разрисованный красными и желтыми цветами, — в нем сберегаются ее белотканные одежды.
Она взглянула на тропу — человек вел коня. Только Науруз это мог быть, — она надумала его думою, измыслила мыслию, как поется в старинных песнях.
Тратя * с каждым шагом последний остаток своих сил, Науруз подходил, ведя на поводу опустившего голову, так же, как он, изнемогающего коня, подходил и сквозь мерцающую сетку усталости видел ее перед собой. В темнокрасной одежде, с белым, узким, как полотенце, платком, покрывавшим ее волосы и ниспадающим до пояса, она стояла на пороге темного бревенчатого покосившегося коша и ждала его.
Когда он подошел ближе, она прикрыла рот краем своего платка и поклонилась. Он остановился, пошатываясь, и поклонился тоже. Как страшно бледен он был!
— Войди к нам, — сказала она затрудненным голосом и, взяв из его рук поводья, на мгновение взглянула ему в глаза: его блестящий и неподвижный взгляд был страшен.
Он вошел в кош.
Нафисат стала привязывать коня. Он был измучен, ранен, шерсть топорщилась на нем, и все же он поразил Нафисат своей необычайной статью. Проведя по его груди рукой, она почувствовала тончайшую пленку, — это был засохший пот.
У входа в кош Нафисат увидела следы Наурузо-вых ног: один след был светлый, другой темный. Она тронула темный — кровь осталась на пальцах ее. Она.
308
вощла в кош, и опять ее напугал этот взгляд, блестящий и неподвижный.
«Только бы ты жил!» — подумала она повелительно и кинулась к сундучку своему.
Вынув оттуда свои белые свадебные рубахи, она ножницами, висевшими у пояса и обозначавшими ее власть домоправительницы, разрезала их на широкие полосы и, вскочив, подбежала к Наурузу. Все ее движения были гибки, бесшумны и быстры, как помышления. В полутьме коша она только наощупь нашла те залубеневшие от крови дыры в черкеске, которые остались после пуль. Раны были на ноге, на бедре, на плече... Быстро орудуя ножницами, Нафисат добралась до ран. Науруз пощупал ту белую ткань, которой она его перевязала.
— Ты не пожалела для меня своих рубашек? — слабым голосом спросил он.
— Я? — она смутилась и покраснела. — Но какая женщина в Баташевой долине не сочтет честью перевязать твои раны, Науруз Керимов? — надменно сказала она.
Раны не были опасны. «Крови много потерял», — подумала она, перевязывая. Он покорно поворачивался с боку на бок, но после ее надменного ответа не открывал глаз, и лицо его казалось особенно бледным. И тогда она сказала вслух то, о чем думала с первого мгновения, как увидела его, сказала шепотом, склонившись к его уху:
— Это судьба! Судьба моя после охот и боев перевязывать твои раны!
Он сразу открыл глаза. Прямо над ним было ее лицо, от которого исходил жар. Но, быстро отведя взгляд, она хотела встать.
Он успел ухватить ее руку, самые кончики ее пальцев.
— Пусти, — попросила она, хотя он держал их совсем слабо. — Я айрану тебе принесу, хлеба тебе дам. Пусти!
— Какие слова мне сказать тебе, Нафисат? .. — спросил он.
Она увидала, что напряженная неподвижность его
309
глаз, испугавшая ее, исчезла, они стали веселы, робки и живы. Отняв у него руку, она быстро принесла айран. Когда он начал пи!ъ, он еле мог поднять голову, когда же допил, он уже сидел, и краски стали возвращаться на его лицо. Такова чудесная сила айрана! И, видя, что он уже немного окреп, она сказала:
— Тебе Кемала нашего опасаться нужно. Азрет говорил, что он грозился тебя убить.
Науруз согласно кивнул головой. Он знал, что ему нужно опасаться Кемала.
— Кемал — слуга князя, князь — слуга царя. Я бросил на землю пристава, который есть рука царя над Веселоречьем, и все, кто знатен и кто богат, все будут против меня. Так же они были против моего отца! Но я проскакал по чужому аулу, и люди, которых я видел впервые, узнавая, что за мной погоня, указывали мне верный путь и пускали царских псов по неверному следу.
Со строгим лицом, сведя брови, слушала его Нафисат, и тоненькие морщины забот и раздумья впервые прочертили ее чистый лоб. Он кончил. Она молчала, взглянула на него — и вдруг, всплеснув руками, заплакала, скрыв лицо в сгибе локтя.
— Нафисат, сестра... о чем ты? .. О чем?
И, услышав эти растерянные нежные слова, этот слабый, с хрипотцой голос, она подняла голову и горячо и печально взглянула на пего.
— Ты погибнешь! — вдруг твердо сказала она. По песням и сказаниям знала она, что восстающий против поработителей погибает. .Но сказав, что он погибнет, она тут же ужаснулась тому, что сказала, пожалела его и утешила единственно тем, чем могла его утешить:
— Я погибну вместе с тобой! Но немало придется им постараться, чтобы нас одолеть... Да что же я? — спохватилась она. — Тебя спрятать надо-. Где спрятать? — спросила она, отчаянно оглядываясь. — Ведь дни сейчас коротки, скоро наши пастухи вернутся. Где мне спрятать тебя? — еще раз спросила она.
Он поднял ладонь, и она замолчала, с ожиданием глядя на него.
— Есть место, где можно спрятаться, — сказал
310
он. — Но ты не будешь бояться ходить туда? Это пещера в лесу. Пещера, где столетние кости лежат. Люди боятся к ней подходить, и я тоже раньше боялся. Это будет хорошее место.
— Идем, я провожу тебя, — сказала она, вскакивая.
Когда пастухи пригнали овец, никаких следов Науруза не осталось в коше. Нафисат же была, пожалуй, немного озабоченней, чем всегда, но проголодавшимся людям было не до нее.
А вечером, в последний час перед сном, на кош пришел Кемал. Племянники подвинулись и дали дяде самое почетное место у костра. Молчалив был Кемал. Внимательно оглядывал он племянников, прислушивался к их разговорам. Не раз поминали они имя Науруза, восхваляя те'подвиги, о которых они сегодня узнали от Азрета, и всё поглядывали на Кемала, ждали, что он еще что-либо добавит о подвигах Керимова сына. Кемал молчал. Но по этим признакам решил он, что Науруза на коше не было. Сестра же вела себя как подобает девушке: в мужской разговор не вмешивалась, угощала мужчин, и. внимание Кемала она на себя не обратила.
Однако ночью он услышал вд^уг тихое пенье. Сначала он думал, что песня снится ему, но кет, — вверху, у самого потолка, в маленьком, сделанном для дыма окошке мерцала звезда, и по этой звезде убедился Кемал, что он не спит. Он прислушался к пению и узнал голос сестры. Повинуясь неясному побуждению, которое было сродни чутью, помогающему охотнику выслеживать зверя, он бесшумно подполз к двери и выглянул.
Костер почти погас, только отдельные угольки еше тлели, переливались, мерцали, и в лад мерцанию этих жарких огней земли мерцали и переливались холодные огни небес...
Белый ягненок, белый ягненок, о-о-о, счастье! Белый ягненок, бедной девушки счастье...
Нафисат сидела, обняв колени и положив на них голову. Нескладна и несвязна была эта песня, обычная
311
печальная девичья песня, песня-предчувствие жизненных бед и скорбей.. Но Кемал все прислушивался, и вот — «черный орел, бурый медведь, конь золотой, как заря, княжеский конь...» Имя Науруза не названо было, но он присутствовал в этой песне. Кемал в голосе сестры слышал его присутствие, и он слушал, жадно слушал.
Раздался тревожный лай собак, и песня прервалась. Нафисат, вскочив, побежала в направлении лая.
Что это было? Девические мечтанья? Или Науруз Керимов приводил сюда княжеского коня, золотого коня?
Глава третья
Побледнев, молча выслушал Темиркан рассказ Гинцбурга о том, как дерзкий пастух угнал с лаптев-ской заимки лучшего батыжевского жеребца. Еще один подвиг молодого богатыря, дерзость, которую по аулам прославят в песнях... Но не кончился разговор с Гинцбургом, как «на двор Батыжевых приехал Решетников.
— Не поймали, Темиркан Александрович... — ответил он на вопросительный взгляд Темиркана. — В камыши ушел, и думаю, что сгорел там, вместе с твоим жеребцом.
«Спасся», — уверенно подумал Темиркан.
Он ни разу не произнес имя Науруза, никогда не спрашивал о нем, похоже, что весь отдался приготовлениям к- отъезду в Петербург. Но ни днем, ни ночью не забывал он об оскорблениях, нанесенных ему сыном Керима. Только обильная кровь, только кровью пресеченная жизнь дерзкого пастуха могла утолить это оскорбление. И когда дед Магмот Данилов вдруг привел на княжеский двор"' угнанного Наурузом коня, Темиркан, не обращая на коня никакого внимания и не отвечая на приветствия деда, сразу спросил:
— Где разбойник?
Дед не отвечал, и Темиркан с удивлением увидел, как странно он двигает бровями, усами. И вдруг дед застонал, заревел... Он плакал тяжело и громко,
312
всхлипывая, как плачут старые, давно не плакавшие люди. Торопливо развязывал он узелок, доставал какие-то багровые, почти черные, залубеневшие от запекшейся крови лохмотья, и князь с радостью признал в этих лохмотьях праздничную черкеску Науруза.
— Сначала в табун прибежал твой конь, заморенный и раненый... — рассказывал дед. — Ия встревожился — где же Науруз? Он мне как сын был, вырос при мне. Это я воспитал его — такого богатыря...
— Говори, где он? — резко прервал его Темиркан. — Короче говори,..
— Не знаю... — угрюмо ответил дед. — Наверное, его нет в живых...
Понурившись, стоял он перед Темирканом и гладил своей большой и темной рукой черно-кровавые спекшиеся лохмотья Наурузовой черкески.
— Рассказывай, — мягко попросил князь.
— То, что я держу в руках, принесли на двор к Верхним Баташевым пастушата из Веселого аула. Они нашли это у Черного брода. Они знали, что Науруз кинулся в реку, и рассудили правильно. Кто-то сказал им, что Науруз принадлежит к семье Верхних Баташевых.
Старик еще долго высказывал всяческие предположения о том, как мог погибнуть Науруз.
— Наверное, конь сбросил его, ослабевшего от ран, где-то выше Веселого аула. Мальчик хотел переплыть Черный брод, но — горе! — не справился с течением...
Темиркан молча слушал и приглядывался к старику, — нет, так подделать свое горе нельзя, старик говорил правду. Темиркан велел Лейле угостить старика и сам присутствовал при угощении. Стали вспоминать охотничьи приключения, и дед Магмот сказал, что народ ждет в этом году большой княжеской охоты, — слишком много зверя развелось в Веселоречье. Сейчас время, когда молодые волки, не получив еще острастки от людей, начинают пробовать охотиться и дерзко нападают на стада. Нужно проредить волчьи стаи/ а то они зимою на аулы нападать станут. Да и медведей стало чересчур много. Конечно, «медведь знатный зверь, медведь в лесу для порядка нужен.
313
— Но ты, господин Темиркан, сам знаешь: мужиков должно быть много, а князей мало. Если же князей расплодилось чересчур много, то опять же порядку не будет.
Темиркану приятно было слушать деда. Какое-то чувство покоя охватывало его. Дед Магмот, старый подданный Батыжевых, тот самый, который в детстве привозил Темиркану живых маленьких зверьков, плетенные из гибких прутьев красивые коробочки и корзиночки. Как простодушно и прямо напоминал дед Магмот о том, что осенняя охота является старинной обязанностью князя... Перед тем большим делом, которое предстояло Темиркану в Петербурге, он особенно дорожил неразрывностью связей с людьми Старого аула, их преданностью батыжевской семье.
«Нет, он не обманывает меня... — думал Темиркан.. — Но мертв ли Науруз? Ведь дед мог ошибаться. ..» — и Темиркан боялся вдумываться в этот вопрос.
Темиркан подарил старику трубку и обещал, что охота будет устроена. Не им самим, а дядей Асланбеком и близнецами.
Темиркан был мыслями в Петербурге, — там предстояла ему большая княжеская охота. Ведь на тихих улицах Арабыни, чудесно предвещенные Гинцбургом, уже появились люди в фуражках с молоточками — первые путейцы, строители будущей железной дороги. Инженер в белом кителе, подтянутый и брезгливо-манерный, напоминавший Темиркану офицеров Балтийского военного флота, снял комнату у протоиерея и сразу же обидел старика, убрав из комнаты всю его мебель и поставив вместо нее свою, новую. В домиках поскромнее разместились грубоватые техники в тужурках поверх косовороток и вышитых украинских рубашек.
Рувим Абрамович продолжал жить в кунацкой Батыжевых. Но теперь, в знак особого благоволения и даже отчасти и нарушения обычая, обедал он не в кунацкой, а в той самой большой и центральной комнате батыжевского дома, в которой был главный очаг. Там стоял большой русский стол, еще дедушка Алегико по
314
ставил его, чтоб принимать русских гостей. Обычно на нем не обедали, но для гостя его накрывали по русскому обычаю.
Однажды, когда обед уже кончился, Рувим Абрамович сказал:
— Имею предложить маленькую сделочку вашему сиятельству.
Игривая нежность слышна была в его голосе, но лица его Темиркан не мог разглядеть. В очаге пылала целая поленница дров, но в огромной комнате было темно, алые сполохи летали по ней, и на стенах показывались и тут же исчезали то вытканные на ковре лев с обезьяньей мордой и поднятой передней лапой, то развешанные по бревенчатым стенам старинные пистолеты, похожие на ножи, и сабли, выгнутые как полумесяцы. .. Из углов дуло, и на Гинцбурге была отороченная мехом шубка. Не видя.лица Гинцбурга, Темиркан промолчал, выжидая дальнейшего.
— Я покорнейше прошу, ваше сиятельство, сдать мне в аренду кусочек вашей земли. Хочу строить дачи.
— Какие дачи? — спросил Темиркан, сразу насторожившись, как только зашла речь о земле.
— Видите ли, ваше сиятельство, — наставительно сказал Гинцбург, — с проведением дороги Арабынь превратится в прекрасное дачное место. Я* уже присмотрел участок... — Он вынул из своего кармана какой-то чертеж, развернул, и при дрожащем красном свете очага Темиркан узнал: это был план Арабыни («Откуда успевает он все доставать?» — подумал Темиркан.) — Вот! — Рувим Абрамович звонко щелкнул пальцем по плотной бумаге чертежа. — Эта горка, если не ошибаюсь, называется «Кабанья радость»?
— Есть у нас такое место, — ответил Темиркан.
— Так вот, я хочу, чтоб это место перестало быть •кабаньей радостью, а стало бы радостью для порядочных людей. Я там был, — это прекрасный естественный парк. Там можно построить... — Гинцбург прищурил глаз, — и совершенно просторно построить двадцать шикарных дач, я построю для начала пять дач. У вас теплые зимы, к весне все будет готово...
— Кто же их снимет у вас? — спросил Темиркан.
315
Гинцбург взглянул на него, но отвечать не стал. Темиркан покраснел, — значит, он спросил глупо.
Некоторое время длилось молчание. Темиркан ждал, что Гинцбург еще заговорит об аренде.
«Пусть попросит...» — думал он.
Но Гинцбург неожиданно заговорил совсем о другом.
— Скажите, ваше сиятельство, — спросил он таинственно и нежно, — не приходит ли вам в голову построить себе настоящий и удобный до-м?
— Тебе плохо у меня жить? резко и даже угрожающе спросил Темиркан,. вставая.
Гинцбург тоже встал.
— Ай-ай... — сказал он. — Вы хотите со мной ссориться, а я забочусь о ваших удобствах... как мне предписано это из Петербурга, — игриво сказал он. — И я, конечно, понимаю: этот дом полон фамильных преданий, — мне ваша матушка рассказывала: здесь кого-то убили каким-то тяжелым предметом. Но предания можно завести также и в новом доме, а живой человек хочет, чтобы ему было тепло, светло, чтоб не дуло, а? — заглядывая в глаза Темиркану, говорил Гинцбург. — И право же, ваше сиятельство, по секрету скажу вам, я имею поручение от вашего ангела-хранителя... Она тай и сказала: «Поглядите, как он там живет, и напишите мне». Но что я буду писать? — Гинцбург обвел рукой огромную и мрачную комнату. — Что я? Вальтер-Скотт или Дюма-пэр? И ведь, в конце концов, это же просто кухня. Чтоб князь, лично известный при дворе, обедал на кухне?! А ведь дачи мои будет проектировать превосходный столичный архитектор...
— Я не буду строить нового дома, — твердо сказал Темиркан, — и оставим этот разговор.
Рувим Абрамович некоторое время со спокойным недоумением глядел на Темиркана. Он не понимал, в чем источник этого упрямого сопротивления. Темиркан вдруг вспомнил, что он так и не ответил Гинцбургу на его предложение об аренде «Кабаньей радости».
«Ничего! — зло подумал он. — Пусть еще попросит».
Но Гинцбург не стал просить, он вдруг улыбнулся, хлопнул себя по лбу и сказал:
— Так вот в чем дело! А я-то гадаю! Но, ваше сиятельство-, — и он щелкнул пальцем по плану Арабыни, — ведь предложенная мною сДелочка, — и голос его приобрел таинственное и нежное выражение, — радикально устраняет то единственное препятствие, которое мешает вам согласиться с доводами здравого смысла.
— Я не знаю, о чем вы говорите, — угрюмо сказал Темиркан, ожидая, что сейчас Гинцбург произнесет свое особенное, звенящее слово «дзеньги».
Но Гинцбург взял Батыжева за пуговицу и сказал, глядя ему в глаза своими круглыми, крупными и светлыми глазами:
— Завтра я принесу вашему сиятельству все договоры, которые вам нужно подписать, и вы не только сможете построить новый дом и поставить его, но у вас очистится еще... — он подумал, — ну, тысяч двадцать. ..
И все стало так, как сказал Рувим Абрамович. Зато почести оказывались ему в батыжевском доме истинно княжеские. Для услуг Темиркан предоставил Гинцбургу четырех людей: человек, прибирающий в комнатах, человек, следящий за конем (на котором Гинцбург не ездил), человек, который каждый день приходил с утра с предложением побрить (Гинцбург брился сам), и, наконец, вестник — человек, которого можно было в любой час дня и ночи послать с поручением. У Гинцбурга завелось уже много дел в Арабыни, и, при отсутствии телефона, за- подобного рода курьера Рувим Абрамович был очень благодарен Темиркану. Но он брезгливо поморщился и отказался, когда Темиркан предложил ему женщину, — Рувим Абрамович был твердый семьянин.
Благоволение Темиркана к Гинцбургу пошло так далеко, что князь, вопреки грозным предостережениям госпожи Ханифы, подарил Гинцбургу семейную драгоценность—древнее родовое кольцо,
— Его Батыж сам носил. Есть примета у нас: неплодной бабе на палец наДеть — рожать ’будет, яловой овце, или корове, или кобыле, любой самке неплодной
317
на шею повесь — потяжелеет. Видишь, что здесь изображено?— посмеиваясь, говорил Темиркан, показывая темную печатку кольца. — Веселые люди в старину были, а? Мать моя верит, что от силы этого кольца наш род Батыжевых расплодился. Теперь ты носи, тоже расплоди свой род.
Гинцбург посмеивался. Но кольцо он взял в руки с брезгливой осторожностью, и похоже было, что хочет его вернуть Темиркану.
— Бери, бери, — говорил Темиркан. — Я ветеринару нашему показывал — знаешь, который серу нашел, — говорит, что насчет плодовитости — это выдумка, но вещь, говорит, очень старинная, драгоценная. Пусть она останется памятью моей дружбы к тебе.
В знак особого расположения к Гинцбургу Темиркан говорил ему «ты», но не предлагал Гинцбургу называть его самого на «ты». И Гинцбург позволял Темиркану говорить себе «ты», а сам говорил ему «вы».
К отъезду в Петербург уже все было готово, как вдруг из Старого аула приехал Кемал Батышев, и, поговорив с ним, князь отложил отъезд.
— Хочу я все-таки показать тебе нашу веселоре-ченскую охоту, — сказал он Гинцбургу.
Кемал сообщил не много: только то, что он знал. Он рассказал о песне Нафисат, о том, как ему удалось проследить ее, — бегает она по ночам в глубину леса.
— Значит, дед Данилов обманул меня? — яростно и испуганно спросил Темиркан, чувствуя себя так, точно шел по дороге, которую считал ровной, и неожиданно оступился в яму.
Кемал обстоятельно, медленно обсуждал вопрос о том, где мог спрятаться Науруз. Тропинки, ручьи, пещеры. .. Но не эта обстоятельность убеждала князя в возможности поимки дерзкого пастуха, а глаза Кемала, обезумевшие от любовной тоски. Добывая для себя свою легконогую Фатимат, Кемал с рвением охотничьего пса бежал по следу другой легконогой добычи, по следу сестры своей Нафисат. И Темиркан верил, что этот след приведет его к убежищу дерзкого пастуха, ко-торый попадется в эту двойную любовную петлю.
318
— Выследи мне Науруза — и считай, что Фатимат твоя! — сказал на прощанье Темиркан, и Кемал уехал.
Кемал верен. Но дед Данилов! Нет, хитрость холопов -не имеет предела, нельзя им верить ни в чем.
Если бы князь вздумал проверить рассказ деда, он узнал бы от табунщиков о том, как ночью прибежал к? ним батыжевский жеребец. Конь же, понятно, не мог рассказать, что сама Нафисат подогнала его к табуну. И она же отдала деду Данилову черкеску Науруза и сказала, что ее принесли веселоаульские пастушата. Дед Магмот сам не знал, что был обманут, и потому он так легко обманул Темиркана.
Глава четвертая
В лесах, долинах и ущельях Веселоречья снега еще не было, но по ночам все белело, появлялся иней и в лужах замерзала вода. Горные снега спускались все ниже, ручьи затихали, лиственные деревья стояли уже без листвы, только дубы хранили свои ржавые кудри. Осень превращалась в солнечную и сухую зиму.
Нафисат через два дня на третий прибегала* в пещеру к Наурузу. Она натащила ему теплых шкур, она приносила ему еду. Раны Науруза зарубцевались, он быстро поправлялся.
Ей нельзя было долго задерживаться у него. Но если Наурузу удавалось ухватить край ее одежды или руку, она останавливалась, застывала, точно прислушивалась к себе.
— Отпусти, ясноглазенький! Мать меня может хватиться! — просила она.
И он отпускал ее.
Кемал, которому вскоре после того, как стада спустились к аулам, удалось проследить ночной путь сестры своей из дома круто вверх через скалистую перемычку и прямо в лес, до самой пещеры, считал, что Нафисат уже лишилась девичества. Он с трудом сдерживал брезгливое презрение к ней и удивлялся тому, что Нафисат никогда не заходит в пещеру к Наурузу: Науруз встречал ее у входа в пещеру, и они уходили в чащу леса. Проводив их взглядом, Кемал отплевы
319
вался. «Как звери», — думал он гадливо. Он мечтал, как, отдав Науруза в руки князя, он сам зарежет сестру.
«Чего может стоить обесчещенная девица? — размышлял он, поджидая Нафисат. — Даже вдова, даже разведенная жена имеет свою цену. Какая же цена у Обесчещенной девицы? .. Раньше хоть в рабство продать можно было. Но рабами теперь не торгуют».
Он дожидался, пока Нафисат возвращалась из лесу, и следом за ней шел домой. Он еще раз съездил в Ара-бынь, известил князя и теперь со дня на день ждал охоты.
Если бы он был любопытен и хоть раз последовал бы за любовниками в чащу леса, ему пришлось бы сильно удивиться. Он увидел бы, как, дойдя до большого старого дуба, Науруз подставлял Нафисат плечо, она легко вскакивала с плеча Науруза на первую ветвь, как белка лезла вверх, и Науруз, подбросив себя на мышцах рук, следовал за ней. Они, обнявшись, садились на широкой развилке дуба. Потревоженные ими ветви сначала шумели, но Науруз и Нафисат сидели неподвижно, и дерево затихало. И тогда лес начинал жить так, словно их вовсе не было здесь. Становился явственно слышен глухой рев Веселой, которая, громоздя камни и выворачивая деревья, стремительно падала через лес. Стояли лунные, светлые, как молоко, ночи, и Веселая»’ проступая между стволов деревьев, казалась голубым содрогающимся и ревущим призраком. Впрочем, мороз с каждым днем все глубже усыплял горные ручьи, и Веселая затихала... Безветрие, тишина — и в этой неподвижности как-то особенно выразительна становилась дремотная и могучая жизнь деревьев. Потом медленное дыхание проходило по лесу — шевелились вершины и ветви, шевелился сквозной узор теней на земле. Так же бесшумно, как это колебание сквозных теней, подражая ему ш сливаясь с ним, пробегали по лесу олени. Науруз молча указывал на них. Дуб, на котором они сидели, находился неподалеку от водопоя. В этом месте Веселая бежала спокойнее, и цсе зверье приходило сюда на водопой. Дед Магмот как-то, взяв с Науруза слово молчания, показал ему этот водопой. На-
320
уруз все время это слово держал, но очень уж хотелось ему потешить подругу* Со своей дозорной вышки они сквозь прозрачный осенний лес видели, как, чутко оглядываясь, подходят к воде олени и пьют, по очереди поднимая ветвистые головы от воды.
— Гляди, как пьют, умные твари, — шепнула Нафисат. Вдруг олени с легкостью теней унеслись вверх, на кручу, мелькая своими белыми хвостиками.
— Это я их испугала, — огорченно сказала Нафисат.
Но Науруз несогласно качнул головой.
— Слушай! — сказал Науруз.
Из глубины леса нарастал топот... Все ближе, ближе — и вот почти под самым деревам покатился поток чернощетинистых кабанов. Они шли с шумом, толпясь и задевая ва деревья. От этого-то шума и бежали прочь пугливые олени... Из глубины леса пришел к водопою медведь, и Нафисат испуганно прижалась к Наурузу, вспомнив недавнюю кровавую встречу.
Как будто бы неуклюже, но совсем бесшумно, не ломая под ногами ни одной сухой ветки (вот почему только самый ловкий танцор может сплясать танец медведя!), подошел лесной хозяин к водопою. Понюхав воздух, он остановился и коротко рявкнул.
— «Прочь!» — перевел Науруз.
Кабаны разом подняли от воды свои длинные рыла. Но они и не подумали отступать. Быстрое движение проходит по этой массе крутых щетинистых спин, — вперед выдвигаются клыкастые сильные звери: мускусный запах стаи, ее дыхание и угрожающее урчанье становится сильнее.
— «Нас много, а ты один»... — перевел их урчанье Науруз.
Медведь некоторое время, точно раздумывая, постоял и, вдруг отрывисто, с явным неудовольствием отфыркнувшись, ушел.
— «Я князь. Мне звание мое не позволяет связываться с грязными мужиками!» — переводит Науруз.
А Нафисат смеется. Он крепче обнимает ее.
— Пусти, мне нужно идти... —говорит она.
И он отпускает ее.
21 Ю. Либединский 321
Грозная судьба на время точно отступила от них. Но ведь знали они, что эта необыкновенно затянувшаяся в глубь зимы солнечная пора скоро должна смениться снежными бурями. И хотя все труднее было им расставаться, но мужем и женой они не стали: не могли придумать, где им построить свой дом.
Тихим солнечным днем Науруз ставил в кустиках силки для птиц. Вдруг издали услышал он звонкие человеческие голоса... Пополз в направлении их и увидел Батырбека Керкетова. С ним был одетый во все зеленое и потому похожий на древесную гусеницу человек. Наурузу казалось, что, кроме Нафисат, ему никто не нужен. И он сам не ожидал, что обрадуется непрошенным гостям, посетившим его лес.
Науруз сделал то, чего, по уговору с Нафисат, не должен был делать: бесшумно вышел из-за дерева и лицом к лицу стал с Батырбеком. Он хотел пошутить, и эта шутка едва не вызвала кровавой схватки, так как Батырбек, не признав Науруза, выхватил кинжал из ножен. Но Науруз перехватил его руку в запястье с такой силой, что кинжал выпал из рук Батырбека.
— А еще кунаками называемся... — улыбаясь, сказал Науруз.
И Батырбек, признав его, очень ему обрадовался, словно- не было< между ними последнего плохого разговора. Зеленый человек тоже отнесся к Наурузу как друг: он, оказывается, видел, как Науруз на батыжев-ском коне прискакал во двор Керкетовых, и хвалил Науруза за удаль.
Батырбек вел зеленого человека охотиться на джегу-туров, — и вел правильно: вверх по течению Веселой, к ледникам, к туриным водопоям. Но они шли, следуя тем петлям, которые делала Веселая. Науруз же провел их прямым путем, через лес и ущелье.
Зеленый человек рассказал о себе. Он приехал из Англии. Дома у него висят рога всех рогатых зверей, какие только водятся на земле, но нет еще рогов дже-гутура. За ними-то он и приехал в Веселоречье.
— И ты сам думаешь застрелить джегутура? — спросил Науруз.
322
— Да, — спокойно ответил зеленый человек. — Все рога, какие висят у меня дома, я добыл своим ружьем.
Батырбек и Науруз переглянулись: иди-ка проверь, какие там рога висят у него в доме, за десятью морями!
Зеленый человек, наверное, заметил, что они переглянулись, но ничего не сказал. Однако, когда белка над их головами перескочила с дерева на дерево, англичанин выстрелил из маленького ружья. Белка была застрелена, англичанин попал ей в глаз. После этого он мог говорить все что угодно: оба парня во всем ему верили. А он рассказывал им о том, как могущественна его страна Англия, как благоволят англичане ко всем мусульманским народам и особенно к веселореченцам, напомнил, что англичане снабжали оружием великого имама Шамиля, и. очень хвалил за благочестие муллу Шайка.
Науруз довел своих гостей до опушки леса, — дальше начинались открытые места. Здесь английский охотник достал из своего большого мешка, который тащил на плечах Батырбек, невиданную английскую еду и стал угощать парней. Еда была в круглых посудинках из блестящего и такого мягкого металла, что его можно было резать ножом.
Очень много диковинных вещей было в мешке англичанина, много различных ножей: нож — открывать банки, нож — резать хлеб, нож—для мяса, и все эти ножи сверкали, как вода под солнцем, и в них можно было глядеться лучше, чем в зеркало. Он угостил обоих парней чудесным вином, как водка крепким и обжигающим рот, но душистым и сладким. Стало совсем весело. Англичанин все хвалил то Батырбека, то Науруза и обещал рассказать о них самому английскому королю... Науруз, соблюдая советы деда Магмота, все помалкивал, и англичанин похвалил его за то, что он строг на язык.
— О-о-о! Науруз-абрек! Джигит! — кричал захмелевший Батырбек. — Мы с ним кунаки! Мы будем с ним жить как два волка в лесу, оленей ловить, их горячую кровь пить! — Науруз с отвращением отплюнулся. — Не плюй, не плюй, не попробовав! — кричал Батырбек. — Горячая кровь — богатырский напиток.
323
21*
Перед тем как расстаться, англичанин снял черный ящичек, висевший у него через плечо на ременной перевязи, черный ящичек с маленьким темно-блестящим глазком, поставил Науруза и Батырбека рядом, наставил на них глазок ящика и щеЛкнул.
— Фотография! — пояснил Батырбек. — Будет картинка такая, и на ней, вот как мы стояли здесь, так и будем стоять.
Науруз уже видел подобные, лишенные красок коричневые и серые картины. У деда Магмота были две таких: на одной из них он изображен был совсем молодым, а рядом — тоже совсем молодая — бабушка Зейнаб. А у Кемала Баташева их было штук двадцать, и на всех изображен был Кемал с какими-то незнакомыми, такими же как сам Кемал, важными людьми в медалях.
«Эх, хорошо будет иметь такую картинку! — думал Науруз, когда он, немного хмельной, возвращался к своей пещере. — Подарю Нафисат...»
Не похвалит она его за то, что он открылся этим людям. Правда, пещеры своей Науруз им не открыл.
Заснул он засветло, но проснулся — точно толкнул кто его: этой ночью должна была прийти Нафисат. Уголья костра, уже потухающего, не могли осветить черный мрак пещеры, но по тому, как густо синел ее круглый лаз, Науруз понял, что до рассвета еще далеко, — время едва перевалило за полночь.’ Нафисат должна скоро прийти. Науруз подтянул туже ремень, вышел из пещеры и с наслаждением вдохнул морозный воздух, сквозь который все же продолжал пробиваться крепкий, чуть пьяный запах опавшей листвы. И, подумав о Нафисат, Науруз вздрогнул, насторожился... Нет, она еще не шла, — раньше услышит он ее легкий бег, а потом лишь покажется она из темноты леса. И Науруз вдруг подумал, что может ведь так статься, что уже сегодня не в силах будут они разойтись. Что тогда? Ему — скитаться в лесу, ей — жить в семье, и все время под страхом позора? И он вспомнил вдруг русскую девушку в чаще и даже застонал.,, Какое ужасное предвещание!
324
Он прислушался. Отдаленный топот, все близящийся, урчанье, сопенье — это кабаны бегут от водопоя. «Как рано сегодня», — думал Науруз, всматриваясь в даль. Под деревьями, в лунном полусвете, кабаны текли по руслу своей тропинки, исчезая в кустарниках и снова появляясь на лужайках. Порой сквозь урчанье и хрюканье слышен был нежный взвизг поросенка. Они уходили все дальше, и гул их бега все сливался с монотонным шумом реки, с тишиной леса.
Да, кабаны пробежали, а Нафисат не шла, она опаздывала сегодня! Нафисат! Что должен он сделать, чтобы заслонить ее от позора, от страданий?
Наурузу послышался веселый и легкий, почти что бесшумный бег Нафисат. Но бежала она не с той стороны, откуда он ждал ее. Шум становился все слышнее, и Науруз увидал, что это не Нафисат, — это олени промчались сквозь лес. Они уходили вверх, к ледникам, — так всегда они поступают во время опасности. Что испугало их? И почему не во-время пробежали кабаны, жизнь у которых настолько размеренна, что они для Науруза служили часами?
Нафисат все нет. Шелест оленьего бега все еще продолжал звенеть в ушах Науруза, когда снизу, загребая своими кривыми лапами, показался медведь.
— Эх, мишка-дурак! Вот кто соседям-то спать не дает! — со смешком сказал Науруз, слегка отстраняясь в сторону пещеры и давая путь своему лесному соседу.
Но ему не пришлось успокаиваться, — с тревогой и изумлением услышал он опять гул бегущей обратно- кабаньей стаи. Свиньи бежали навстречу медведю, и не по своей обычной тропе, — нет, медведь не мог быть причиной этого охватившего весь лес беспокойства. Науруз невольно шагнул в ту сторону, откуда бежали кабаны — и вдруг от него бесшумно метнулся большой, головастый, пушистый волк. Он неторопливо уходил в глубь леса, по-собачьи оглядываясь на Науруза, — значит, он так же неподвижно, как Науруз, стоял неподалеку от него, тоже прислушиваясь к непонятной тревоге, охватившей лес и все усиливающейся. Еще одна стая оленей пробежала в горы; неподалеку от них и не обращая на них внимания, туда же протрусили два
325
волка... Науруз потянул носом, — нет, гарью не пахло, и глаза не ощущали едкой горечи сухого лесного дыма... О наводнении даже и думать не следовало — зимой все воды засыпают.
Науруз пошел в ту сторону, откуда должна была •прийти Нафисат. Он шел быстро, но так бесшумно, почти на ребро ставя свою ногу в мягких кожаных сапогах, что даже звери налетали на него и круто шарахались в сторону. Вдруг он встал неподвижно, — он слышал, что ему навстречу идет человек... Нет, не один человек, с обоих боков его тоже шли люди — еще и еще. Так идут во время большой осенней охоты, когда загонщики «гаем» гонят -зверя на охотников-князей... Но что это за особенный зловеще-тихий и безмолвный гай?.. Положив руку на рукоять кинжала, Науруз поджидал. Все ближе подходил человек, — это, держа в руках короткую кавалерийскую винтовку, шел рослый казак. Науруз тихо отступил и сделал несколько шагов в бок, — здесь шел еще один казак. Весь лес тихо шуршал: они шли тесной цепью, и незаметно проникнуть сквозь эту цепь было невозможно, но попробовать следовало. Или вернуться в пещеру к своему ружью, засесть там и в случае, если откроют, нагромоздить у входа гору вражеских трупов? Или, выбрав врага послабее, зажать ему рот одной рукой, удушить, •приколоть и через его жизнь перешагнуть к своей жизни, к свободе, к Нафисат? Так, раздумывая, отходил он в глубь леса. Он не сомневался, что это его загоняют таким необычно молчаливым, страшным гаем, и уверен был, что охотится за ним Темиркан.
Сердце его билось горячо, hq ровно. Голова была спокойна и ясна. Рука крепко сжимала рукоять кинжала.
Впервые увидев Науруза на дворе у Батыжевых, Джафар на целую ночь соскочил с колеи своих проторенных мыслей. Зато со вторым появление^ молодого богатыря на дворе у Керкетовых Джафар управился гораздо легче, — у него как бы выработалось противоядие от этого странного, вносящего замешательство в его душевную жизнь явления, мгновенно возникающего и
326
вновь исчезающего как сон. Именно так: это был сон наяву, время от времени повторяющийся. Сон может пугать, восхищать, трогать... Но вот он прошел — ио нем можно забыть. И по исчезновении Науруза со двора Керкетовых Джафар спокойно довершил свои дела с Талибом, который взял на себя создание кооперативного товарищества в Веселом ауле. Вернувшись в Арабынь, Джафар по указаниям Гинцбурга, на основе примерных уставов, составил уставы кредитного товарищества -в Арабыни, кооперативного товарищества в Веселом ауле. И когда Темиркан пригласил его участвовать в большой княжеской охоте, Джафар, понятно, никак не связал это приглашение с той странной сонной грезой, которой был для него Науруз. Джафар был польщен этим приглашением, хотя неоднократно подсмеивался над подобного рода «феодальными» забавами.
Джафар ехал во втором ряду, по правую руку Темирканова дяди, Асланбека Дудова, который все врёмя сердито ворчал ца то, что Темиркан обидел его: по своей знатности Асланбеку следовало бы ехать в первом ряду по левую руку Гинцбурга, почетного гостя, в честь которого устраивалась вся охота.
«Феодальные глупости», — думал Джафар, слушая воркотню Асланбека.
Но, впрочем, ему самому приходило в голову, что вместо пристава, который ехал по левую руку Гинцбурга, следовало бы ехать ему, Джафару.
Ведь после князя Темиркана, несомненно, он, Джафар,, был ближе всех к Гинцбургу. К тому же он был для Гинцбурга лучшим из всех собеседников. Но Гинцбургу было не до путевых бесед, все его внимание было поглощено тем, чтоб усидеть в седле? Он смешно болтался на своей рослой и смирной кобыле, дергал удила, и умная лошадь недоуменно фыркала, не понимая, чего от нее хочет этот странный всадник.
Из Арабыни они выехали во второй половине дня и гулкой рысью бойко прошли по промерзшей дороге до аула Веселого, в который прибыли в час быстро угасающего, по-зимнему румяного и яркого заката. В ауле Веселом к ним присоединился лесничий, князь Камбо-
327
лет Тамбиев, который принял руководство всей охотой. Кроме тех Дудовых, которые уже были в составе охоты, здесь к ней присоединились еще несколько Дудовых, служивших у Камболета лесными объездчиками.
После короткого привала на дворе лесничества Кам-болет Тамбиев не повел охотников тем единственно знакомым Джафару путем, который шел к реке Веселой. Из аула они стали подниматься вверх по обрывистому склону скалистой гряды, ограничивающей долину, по узенькой тропинке, которая порой становилась так крута, что всадникам приходилось спешиваться и вести коней на поводу. С одной стороны тропинки ввысь уходила обрывистая стена, то скалистая, то желто-глинистая, то черно-земляная. С другой, чем выше они поднимались, тем шире раздвигалось перед ними Веселоречье. Джафар в молочно-голубом рассеянном свете полной луны видел расходящиеся птичьим хвостом ущелья: Черное, Астеми-ровёкое, Байрамуковское и впереди — в голубом тумане, под самым снежным хребтом — Баташеву долину. И почему-то всё вспоминались Джафару легенды, смешные и наивные сказки и песни, слышанные в детстве, и сейчас, в этом волшебно-тихом свете, они не казались смешными, они волновали и умиляли... Снова нужно было садиться верхом, и снова он некоторое время ехал, с приятною жутью прислушиваясь к тому, как катятся вниз камешки из-под копыт коня. Катятся, катятся, и под конец гул их падения так и не слышен.
А потом поднялись они на нагорья и снова рысью пошли по пустым и гулким, покрытым инеем холмам, за которыми то исчезали, то вновь появлялись слабо голубеющие под луной, тающие в небе снега.
Иногда по знаку Темиркана бег коней умеряли. Пять — десять минут шли они трусцой, фыркая и всхрапывая, отдыхали, и всадники отдыхали тоже. Потом Темиркан ударял своего коня, и снова бег возобновлялся. Так прошло три часа. И не без сожаления узнал Джафар, что они уже у цели; здесь от плоскогорья, по которому они проскакали, отходил скалистый хребет, тонкая перемычка, по одну сторону которой лежала большая котловина, заполненная невидимым ле
328
сом. С другой стороны видна была голубая долина,—там в рассеянном свете, далеко-далеко внизу, громоздились какие-то темные строения. Впервые за все это путешествие князь вдруг, обернувшись к Джафару, сказал:
— Баташева долина, Старый аул. А вон — перевал Баташа... — и он указал на плечо огромной белой горы, которая совсем близко высилась над всей страной, особенно украшая и одушевляя ее...
«Перевал Баташа?» — изумленно и испуганно спросил себя Джафар.
С детства, под влиянием ученого мусульманина-отца, Джафар привык относиться с пренебрежением к языческим легендам и сказкам, которые он слышал от нянек и бабушки. Потом, получив образование, он усвоил в отношении их тон высокомерной критики. Совсем недавно он доказывал Талибу, что ни Баташа, ни Батыжа не было, что эта легенда — пережиток мифа о человеческом жертвоприношении. Но сейчас, в этой таинственной и прозрачно-лунной тишине, он почувствовал себя в самом средоточии жизни своего народа. «Баташ взошел на перевал и сразу увидел новые земли», — так началась история его родного, молодого и маленького народа, которому Джафар с таким восторгом перед исторической необходимостью предрекал уничтожение. А сейчас, следом за князем Темирканом, потомком того Батыжа, который убил Баташа, шел он по скалистой перемычке, отделяющей синюю лесную котловину от голубой Баташевой долины.
Большинство охотников ушло в лес, только пристав, Гинцбург и Джафар шли за4 князем. По каким-то ему одному известным приметам князь остановил своих спутников и развел их по всей этой узкой скалистой перемычке. Джафар обратил внимание на то, что Темиркан не только расставляет, он старается спрятать своих спутников так, чтобы они исчезли в тени больших камней и скал. Джафару князь указал на расселину между двух скал:
— Вот, господин Джафар, твое место. Бери свое ружье в руки и проверь заряд. Так. Хорошо. Вижу, ты не только ученый, но. охотник и воин! — Темиркан усмехнулся, и тревога вдруг шевельнулась в душе Джа
329
фара при виде этой усмешки, открывшей ряд блеснувших под светом луны бело-голубоватых мелких зубов. — Поглядывай на обе стороны, — продолжал говорить Темиркан, •— и если покажется человек, вое равно, мужчина или женщина, тихонько подпусти... Потом целься в него, чтобы он был в твоей власти, требуй повиновения и зови нас. Я вижу, ты удивлен, господин Джафар? Но, знаешь, на охоте как на войне: делай что говорит старший, аллах с него спрашивать будет!
— Но как же так? Стрелять в человека? — ошеломленно и встревоженно спросил Джафар.
— А разве я сказал, что стрелять? — удивился Темиркан. — Нет, нет! Стрелять ни в кого не нужно! Ни в зверя, ни в человека! Живьем взять надо.
Кивнув головой и еще раз усмехнувшись приторно и жестоко, Темиркан ушел.
«Что же это?» — безмолвно спросил Джафар.
Попрежнему по голубому небу плыла луна, и с одной стороны лежал черно-синий лес, с другой мерцала, голубела долина.
Это был все тот же прекрасный и спокойный мир! Но Джафар не мог освободиться от нехорошей тревоги, которую нагнали на него слова князя. Или это потому, что он все время не переставал следить, поворачивая глаза то в сторону леса, то в сторону долины?
А ночь шла... И за далекими горами, очень далекими, синими-синими, стал обозначаться желто-румяный свет. Очень слабый, почти незаметный, он все же был совсем не похож на ночной неподвижный мир, на эти озера лунного света, раскинувшиеся по обе стороны того узенького перешейка, на котором стоял Джафар.
Вдруг со стороны долины, из-за края обрыва точно из лунной воды, поднялась на руках девушка. Стоя на одном колене, почти припав к земле, она прислушивалась, и Джафар видел ее взволнованное, даже при свете луны румяно-смуглое лицо с чуть выдающимися скулами... Все попрежнему было тихо, но она появлением своим так нарушала оцепеневшую неподвижность ночного мира, что Джафар был словно оглушен. Он не мог ни вздохнуть, ни шевельнуться и все глядел, как
330
прерывисто дышит она, при глубоких вздохах открывая свой маленький рот, и при этом прислушивается и оглядывается. В руках ее был узелок...
Все это продолжалось не более минуты, но Джафару казалось, что прошли часы... Очевидно, убедившись, что все спокойно, и отдышавшись немного, девушка гибко вскочила и легко и бесшумно, как котенок, побежала через перемычку. Сейчас она спрыгнет вниз со скалистой площадки, пробежит по травянистому склону Ъ скроется в лесу. Джафар сделал то страшное, превозмогающее оцепенение усилие, которое он испытывал только во сне, и, сжимая в руках ружье, загородил ей дорогу.
До края площадки было два шага, девушка могла обежать Джафара, прыгнуть вниз и бежать по своей дороге. Но от неожиданности и испуга она застыла на месте, прижав к груди своей узелок. Джафар загляделся в ее расширенные, блестящие глаза., сердце его билось горячо и блаженно. Прошло два-три мгновения, — девушка метнулась в сторону. Джафар схватил ее за руку. Девушка вскрикнула, рванулась, Джафар не выпускал ее, — он забыл о том, что приказывал ему Темиркан, он обо всем забыл, он удерживал ее для себя, и чем сильнее она вырывалась, тем сильнее испытывал он ранее никогда не испытанное чувство алчного наслаждения.
«Моя... » — думал он.
Подбежал Темиркан, схватил ее за другую руку, и Джафару было неприятно, что он ее коснулся. Пыхтя подошел пристав. Издали видно было, как, широко расставляя ноги, натруженные верховой ездой, и волоча ружье по камням, подходил Гинцбург.
— Куда идешь, говори? — спрашивал Темиркан. Но она молча продолжала вырываться. — Говори, куда ты торопишься в такой час, не подходящий для девичьих прогулок? К мужчине бежала, да?
— Я не буду говорить! — сказала вдруг девушка, переставая вырываться. — Убивайте меня, разбойники!
— Какие же мы разбойники, дура! по-веселоре-ченски сказал пристав. — Разве разбойники носят та
331
кую одежду, царем пожалованную? — Он обвел рукой вокруг своего живота.—А это господин Темиркан, князь Батыжев! Тебе надлежит знать это!
Пристально взглянув на Темиркана, девушка кивнула головой, и выражение доверия появилось у нее на лице. Темиркан отпустил ее руку сам, и тут же она выдернула свою руку из руки Джафара. Она стояла как будто бы спокойно, но по тому, как дрожала ее одежда, видно было, что ее всю трясет.
— Что ты несешь? — спросил князь.
Она опять прижала узелок к груди и ничего не отвечала. Глаза ее были опущены, зубы стиснуты, но губы разомкнуты, ноздри ее трепетали, так прерывисто дышала она.
Не дождавшись ответа, пристав выругался и стал вырывать из ее рук узелок.
— Господин! — крикнула она Темиркану. — Я дочь Верхних Баташевых, мы из твоей ограды люди. Не вели меня обижать.
— Оставь ее, Осип Иванович, — по-русски сказал Темиркан приставу. — Сейчас она сама все скажет.
Пристав нехотя отпустил ее руку.
— Покажи, что у тебя в узелке? — спросил Темиркан, обращаясь к Нафисат.
Она медлила.
— Покажи, родная! — сказал он с оттенком угрозы •и повеления.
И она тут же развязала узелок.
— Вот... — сказала она.
И Джафар, заглянув через плечо ее, увидел мясо, пасту, мужскую рубашку, узенький поясок с серебряной насечкой.
«Мужчине несет!» — с ревнивым негодованием подумал Джафар.
— Я иду к нам на кош...
— Зачем тебе сейчас на кош?—спросил князь.
— Там брат мой.
— Врешь! — ворвался в разговор пристав. — Никого сейчас не может быть у вас на коше. Скот уже внизу! Врешь, все врешь, грязная потаскуха!
332
— Господин! — сказала Нафисат. — Не, вели этому псу оскорблять меня. В моей жизни и чести ты один мне защитник.
— Осип Иванович, — сказал князь предостерегающе, и пристав, ворча, отошел в сторону. — Говори! — коротко и грозно обратился Темиркан к Нафисат. — Кто из твоих братьев сейчас на коше?
— Хусейн, — твердо ответила Нафисат. — Он поссорился с другим братом моим, известны1М тебе Ке-малом, и ушел из дому...
— Ты, видно, любишь своего брата, красивая Нафисат? — сказал князь. — Очень любишь! Не всякая сестра ради того, чтоб пронести поясок брату, пойдет ночью в лес...
— Я не в лес шла, господин, а только через лес. Мы, Верхние Баташевы, всегда так ходим. Это самый прямой путь до нашего коша.
Джафар не мог отвести глаз от нее. Платок упал с ее головы, — как блестят ее черные молодые волосы, какое знойное солнце сияет в ее коже, как сверкают' глаза ее под темными ресницами! Взволнованная, оскорбленная, испуганная — она была в расцвете юности, красоты и горения жизни.
«Так вот оно, то счастье, о котором поется в песнях! Чужое счастье — только отпусти ее, и она, босоногая, стройная, легко побежит к своему любовнику и даже не взглянет на меня», — ревниво думал Джафар.
А в это время между девушкой и князем шел шутливый, быстрый и грозный разговор:
К н я з ь. Ты скажи, красивая, кто в лесу живет?
Нафисат. Медведь живет.
Князь. Уж не ему ли несла ты все это? Удивляюсь я, сколько парней в ауле, а девушка выбирает себе медведя. Уж не в пещере ли живет твой медведь?
Нафисат бледнеет, молчит. Пристав бормочет ругательства.
— Что же ты замолчала? — вкрадчиво и жестоко спрашивает князь.
— Ты спрашиваешь о том, чего я знать не могу..
Резкий свист, раздавшийся с опушки леса, прервал их разговор. Темиркан ответил свистом, и через секунду
333
из лесу вышли три человека. Один из них был лесничий, в других двух Джафар с изумлением и тревогой признал Батырбека и англичанина.
«К чему они здесь?» — подумал он.
Батырбек'. первый вскочил на скалистую площадку. Видно, что он старался сдерживать себя, но злой испуг был на его широком бледножелтом лице. Признав Джафара, он еще более обозлился и испугался, — наморщив нос, прошептал какое-то ругательство, и оба они торопливо отвернулись друг от друга... Англичанин был невозмутимо спокоен. Он даже помог лесничему, у которого одна рука была парализована, одолеть подъем на площадку. Признав Джафара, англичанин вежливо удивился и доброжелательно поздоровался, по-военному приложив руку к своему шлему. Джафар ответил торопливым поклоном.
«Зачем это? Зачем все это?» — подумал он тоскливо.
Лесничий передал приставу какие-то бумаги, кивнул на англичанина и обернулся к Батырбеку.
— Ну, говори, собачье сердце, — сказал он. — Говори правду, да помни: хоть палка у меня дома, но нагайка при себе! Говори все по правде!
— Чего ты хочешь от меня? — злобно спросил Батырбек.
— Я научу тебя с князем говорить, пес! — И лесничий ударил его нагайкой.
Батырбек ловко заслонился локтем, нагайка разорвала рукав его черкески. Через мгновение Батырбек кинулся на лесничего, а еще через мгновение был брошен им на землю... Нагайка взвилась...
— Камболет, отставить! — приказал князь. — Не делом занимаешься!
Камболет опустил нагайку.
— Вставай, падаль! — сказал он, пнув Батырбека. — Эта порода подлая керкетовская всегда гадит высокорожденным.
Батырбек встал с земли, губы его дрожали, лицо у него было такое страшное, что Джафар отвернулся.
Бумаги, которые лесничий передал приставу, были уже у Гинцбурга, и, видя, что Гинцбург читает их,
334
англичанин обрадованно заговорил с ним на родном языке. Гинцбург, читая, кивал головой и время от времени вставлял в речь англичанина отрывистые, короткие слова.
— Сэр Антони Седжер, член-корреспондент Британского королевского общества охоты. Вполне почтенный человек, вполне...
— Дай русские бумаги в полном порядке, — сказал пристав.
— Подождите-ка, — вдруг резко сказал Темиркан. — Спросите его, Рувим Абрамович, — обратился он к Гинцбургу, — как долго он здесь ходит и не встречал ли он кого? Только пусть говорит правду.
Гинцбург длинно спросил, и англичанин, спокойно выслушав, указал на лес и ответил одним длинным предложением.
— Говорит, что, как джентльмен, он всегда готов помочь джентльменам. Но он никого не видел.
Из лесу снова раздался длинный свист. Внизу, на опушке, показался Асланбек Дудов.
Заправив за пояс полы своей черкески, он почти бежал вверх по склону. Ему было трудно, он задыхался, но все-таки бежал: его посеребрившееся, .все в седой щетинке лицо выражало хищный азарт охоты. Опершись на колено, он легко поднялся на скалистую площадку, стряхнул пыль с колен и, оглядев всех зло и весело сверкающими глазами, сказал, обращаясь к Темиркану:
— Ну, Темиркан, можешь начинать смеяться. Мы окружили пещеру, и там сидит какой-то дядя в бурке.
— Хао! — сказал по-китайски Камболет.
Джафар взглянул на Нафисат. Опустив глаза в землю, стояла она, освещенная луной и начинающимся рассветом. Она дрожала: снизу из долины, которая заполнилась бело-серыми облаками, тянуло холодом. И странной, одинокой показалась Джафару эта кучка людей, стоящих на узенькой скалистой площадке между двумя пропастями. Как широко, безмолвно* свободно и страшно было вокруг...
Нафисат, опустив глаза, молчала. На востоке продолжала тихо разгораться заря. Она уже осилила лун
335
ный свет, и в правдивом свете этого начинающегося дня сразу стало видно выражение позора и несчастья на лице дочери Баташевых. Губы ее что-то шептали, может быть имя Науруза...
«Все равно она прекрасна, и все можно сделать, чтобы иметь ее», — подумал Джафар.
— Что же ты замолчала? — жестоко спросил ее Темиркан. — Может, сейчас скажешь, кто там живет в пещере, в лесу? — Нафисат молчала. — Молчишь? Ладно. Я погляжу, как ты будешь молчать, когда твои братья при мне будут спускать с тебя твою красивую шкуру, дочь Баташевых! — сказал он весело. И скомандовал: — Пошли, господа, к пещере!
«Как скоро мы погибли!» — думала Нафисат.
Она шла связанная, давясь вонючим башлыком, которым ей заткнули рот. Лес — такое бы, казалось, надежное прибежище их любви — сейчас был заполнен людьми. С винтовками в руках, в черных и белых папахах, они попадались на каждом шагу, — здесь были и русские и горцы. Ей показалось даже, что она видит брата своего Кемала. Но она тряхнула головой: зачем ему здесь быть?
Пещера все ближе. Вот оыя, — и здесь тоже люди с ружьями в руках.
Князь подошел к самому лазу в пещеру.
— Берегись, Темиркан, он может выстрелить, — сказал лесничий.
Отстранившись и сделав знак, чтоб все молчали, Темиркан крикнул в таинственный черный лаз пещеры:
— Сдавайся, Науруз! Сдашься добром — можешь ждать помилования. Будешь сопротивляться — умрешь страшно.
Тишина, из пещеры не слышно ни звука.
— Да есть ли там кто? — спросил Темиркан.
— Как же ты спрашиваешь? — обиженно, багровея ответил Асланбек. — Я сам тебе сказал, что он там. Своими глазами видел... в мохнатой бурке.
— Шевелится!.. Шевелится!.. — закричал пристав, вплотную подошедший к пещере.
Темиркан тоже заглянул туда.
336
— Да, большой мужик, в черной бурке!— сказал он.
— Э-э-эй! Матери несчастной сын! Все равно ты попался, добром сдавайся! — крикнул в пещеру князь Асланбек.
Но ни звука не слышно было из пещеры.
— Нет. Добром он не сдастся, — медленно произнес Темиркан. Он пристально разглядывал голубой дым, тоненькой струйкой льющийся с конца его папироски. — А что, если попробовать огнем его взять? — спросил он, оглядев окружающих.
В первый момент никто ему не ответил, только немо застонала Нафисат, и Дудовы схватили ее за руки и за плечи.
Пристав стал первый, кряхтя, подгребать хворост и лазу пещеры.
— Ребята! — крикнул он казакам. — Берись за дело! Выкурим-ка абрека из пещеры.
— Тащи хворост! Ж-живее! — скомандовал старший урядник.
Казаки нехотя стали подносить хворост.
Асланбек шепотом что-то сказал Темиркану, напомнил ему об адате, запрещающем применять огонь во зло людям.
— Глупый предрассудок, — ответил Темиркан и тоже стал ногой подгребать хворост к пещере.
Скоро огонь побежал по сучьям, вход в пещеру затянуло дымом, и странные, похожие на рычание звуки стали слышны оттуда.
— Не любишь? — спросил пристав.
ВЗяв длинную, обгоревшую с одного конца сухую ветку, он пылающим концом ткнул в пещеру. Рычание превратилось в рев, и вдруг, перемахнув через горящий хворост, отчего людей сразу обдало густыми клубами дыма, из пещеры с ревом выскочил огромный бурый медведь и, опрокинув одного из Дудовых, мгновенно умчался в лес, оставив после себя лишь струю удушливой вони.
Прошло несколько мгновений, никто не мог сказать ни слова, только стонал, подымаясь с земли, опрокинутый зверем Дудов. Рот его был сведен набок и странно открыт, лицо окровавлено, медведь своротил ему че
22 Ю. Либединский
337
люсть. Один из казаков крестился, испуганно глядя в лаз пещеры.
— Оборотень... — сказал он, и за ним стали креститься другие казаки.
— Не надо было огня применять. Говорил я тебе, Темиркан, — сказал князь Асланбек.
Дудовы испуганно переглядывались и плевали через плечо.
— Пушанго... — задумчиво сказал по-китайски лесничий.
— Слушай, ваше сиятельство, — вполголоса спросил Осип Иванович Темиркана, — а может, он, верно, оборотился?
Все с ожиданием глядели на Темиркана. Он молчал, смотрел на носки своих сапог... И вдруг, подняв голову, весело рассмеялся.
— Молодец! — сказал он одобрительно.— Ну, молодец! В бороды нам наплевал, разбойник! — Его взгляд остановился на Нафисдт, и он сам вынул кляп из ее рта.
— Видишь, господин, — сказала она. — Я же говорила тебе, что в пещере живет медведь.
Голос ее звучал весело, и Темиркан смеялся вместе с ней. Она настолько пришла в себя, что, заметив, с каким восторгом глядит на нее Джафар, успела бросить на него победительный девичий взгляд. Но Темиркан перехватил ее взгляд и ответный взгляд Джафара.
— Иди домой, красивая дочь Исмаила, — ласково сказал он. — Передай мое вечное благоволение Верхним Баташевым. А о тебе я особенно позабочусь. Для такой красивой, смелой, веселой и хитрой я сам жениха найду.
Нафисат пристально глядела на него, стараясь разобрать зловещую благосклонность его слов. Девичье веселье погасло на ее лице.
— Что же ты не благодаришь? — спросил Темиркан. — А ведь у меня уже на примете жених есть. Молодой, богатый, красивый, ученый. Сын арабыньского муфтия...
«Неужели? — безмолвно спросил Джафар. — Ну, подыми глаза, взгляни на меня...»
Она быстро взглянула на него и с отвращением опу-
338
етила глаза. Опустив взгляд в землю, стояла она строгая, бледная, и морщинка заботы пролегла между ее бровей.
— Идем, Джафар, успеешь еще наглядеться! — сказал Темиркан.
Все ушли. Девушка осталась одна у пустой пещеры, около печального, покрытого седым пеплом и едва дымящегося пожарища.
Глава пятая
Филипп Булавин, тот молодой казак, который ударил Науруза во дворе у князя Батыжева, тоже участвовал в этой облаве. Он знал, что ловят вооруженного абрека, — казакам это объяснили только тогда, когда их спешили у края леса. И сразу же Филипп подумал о «гололобом» — о том, с батыжевского двора... Казаков развели в цепь, охватили этой цепью лес, и Филипп, держа наизготовку маленькую кавалерийскую винтовку, вступил в пронизанную лунным светом тихую чащу. «Гололобый» не выходил у него из головы, — все представлялось ему, что опять они встретятся. И Филипп крепче сжимал винтовку и безмолвно и ожесточенно ругался.
«Эх, живьем брать велели! А лучше бы сразу — бац, и конец!»
Филипп шел в синюю, испещренную лунным светом глубь леса. Всеми силами душц стремился он к встрече с Наурузом и не надеялся на нее. Слишком несбыточно было, чтобы ловили именно этого абрека и чтобы именно ему, Филиппу, встретился он.
Но несбыточное свершилось. Прямо против Филиппа, слишком близко, чтобы можно было стрелять, положив одну руку на рукоять своего кинжала, а другой отведя в сторону дуло Филипповой винтовки, стоял Науруз. Он долго шел вдоль цепи казаков, отступая перед ней в глубь леса, и все не мог выбрать, на кого из казаков ему идти, чтобы прорваться. И вдруг он увидел Филиппа, узнал его — и сразу обрадовался: значит, можно будет без шума, без крови, мирно выйти из круга облавы! Это был молниеносный расчет, и едва он мельк
339
22*
нул в голове Науруза, как он уже поступил по этому расчету.
«На ловца и зверь бежит...» — думал Филипп.
Он в любой момент мог крикнуть. Правда, Науруз тогда кинется на него с кинжалом, но вот ведь... он стоит, не 'кидается. Проходили (мгновения, цепь уходила в глубь леса. Забыв обо всем на свете, Филипп глядел на это лицо: доброе и смелое, румяное мальчишеское лицо, в эти вопрошающие и бесстрашные глаза... Науруз вдруг улыбнулся...
— Кунак, — сказал он. И Филипп после долгого перерыва вздохнул полной грудью, недоуменно махнул рукой, поставил винтовку к ноге. — Спасибо, русский человек,—сказал Науруз по-веселореченоки и прошел мимо.
Филипп понял, что сказал Науруз. У казачьей молодежи считалось особой лихостью говорить на языке соседей. Еще не придя в себя, Филипп полез в карман и достал кисет, яркий, как хвост фазана... Он хотел свернуть цыгарку. Но руки его дрожали, и кисет упал на землю. Он хотел уже нагнуться за ним и вдруг остановился, пораженный внезапным побуждением. Науруз уже уходил, Филипп видел его затылок...
— Э-э-эй, кунак! — окликнул тихо Филипп.
Науруз вздрогнул и оглянулся: казак указывал ему на какое-то яркое пятно у своих ног.
— Бери да помни! — крикнул он и торопливо побе-< жал в глубь леса.
Науруз вернулся и взял в руки набитый табаком пестрый мешочек. Кругом было тихо. Кольцо облавы разомкнулось и выпустило его. Он должен был бы удивляться, но он не удивлялся.
Впереди за деревьями уже обозначалось прозрачное, желтое, как бы слюдяное небо рассвета. И так же незнакомо и сказочно рдели краски на мешочке, который оставался в руках Науруза, — они звали его нырнуть в бездонный океан русской жизни и скрыться в нем от врагов, преследующих его.
Кнта вторая огни РУССКИХ ГОРОДОВ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава первая
Любовь к великому русскому городу, основанному Петром, любовь, которую поколение за поколением испытывают исконные жители его, особенно присуща питерским рабочим.
Солнца нет полгода, улицы как будто чопорны и неприветливы. Хлеб дорог, и детям приходится играть в угрюмых коробках дворов. И все же как величественно прост и прекрасен этот город со своими расходящимися от золотой иглы Адмиралтейства многоверстными проспектами и мостами-великанами, дерзко перекинувшимися через реку, которая по широте и глубине не уступает многим морским проливам.
В самые ненастные дни соленую свежесть моря приносит сюда ветер. Юношество со всех концов России собирается на огни его высших учебных заведений. В его дворцах, порою помимо воли их ничтожных владельцев, выразился дерзновенный гений великого народа.
Выше облаков подняли свои вечно дымящие трубы петербургские огромные заводы, собравшие и взрастившие в своих пышущих огнем цехах многотысячную силу молодого класса, и когда питерский рабочий говорит свое слово, вся трудовая Россия поднимает голову, го
343
товая следовать за ним. Здесь Владимир Ильич Ленин основал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», здесь им основана «Правда». Громовые стихи «Медного Всадника», кажется, сами собой рождаются в воздухе великого города.
Роман Антипович Загоскин после годичного пребывания в тюрьме был в 1910 году выпущен за «недостатком улик». Его арестовали по подозрению в том, что он является членом заводского подпольного комитета партии большевиков. Но улик не было прежде всего потому, что Роман Антипович членом подпольного комитета не состоял и таких, как он, рядовых членов партии на заводе насчитывалось несколько десятков.
Его выпустили из тюрьмы, но оставили на подозрении. Роман Антипович знал, что пока он найдет работу, ему предстоят еще долгие мытарства; он готов был к этому и никогда никуда не уехал бы из Петербурга. Однако за время, пока Роман Антипович находился в тюрьме, лишения и беды навалились на семью. Единственный сын его Вася вынужден был уйти из пятого класса реального училища (а учился он отлично) и, чтобы поддержать семью, поступил на завод. Но хуже всего было то, что у одной из его дочерей, младшенькой синеглазой беляночки Наташи, любимицы всей семьи, обнаружили костный туберкулез и лечащий врач категорически потребовал увезти ее из Петербурга. Куда? Врач посочувствовал и вспомнил, что в городе Красно-рецке проживает его коллега-однокашник доктор Геде-минов, недавно приславший ему письмо об открытии на Кавказе целебного уголка — какой-то Арабыни. Письмо Гедеминову было написано. И Загоскины тронулись на юг.
С Евгением Львовичем Гедеминовым Загоскин встретился в городской больнице, куда он привел — а точнее будет сказать, принес — свою бледненькую, не стоявшую на ногах Наташу. В белом халате, в котором он казался особенно высоким, с обветренным лицом и сипловатым голосом охотника, доктор Гедеминов сразу понравился Загоскину. Евгений Львович тут же принял деятельное участие не только в судьбе девочки, но всего заезжего питерского семейства.
— Вы действительно счастливый номер вытянули, приехав к нам, — сказал Гедеминов. — По части лечения костных болезней лучше Арабыни вы ничего не найдете, хотя в числе курортов она пока не значится.
Никаких сбережений у Загоскиных, конечно, не было, и потому семье пришлось разделиться. Надежда Петровна с дочками обосновалась в Арабыни. Распро» дав в Питере свой скарб, она сберегла лишь гордость своего скромного приданого — ножную швейную машину. Когда Роман Антипович был в тюрьме, Надежда Петровна перебивалась заказами. Она умела из самого дешевого материала сшить «по журналу» или переделать «на новую моду» старинное, привезенное из деревни бабушкино платье. Приехав же в Арабынь и взглянув на костюмы здешних модниц, она совсем приободрилась и заказала небесно-голубую вывеску с женской головкой: «Мадемуазель Надин — столичная модистка».
Надежда Петровна прибила эту вывеску над окнами скромного домика в две комнаты с верандой, задешево снятого на одной из тихих улиц Арабыни. Модные журналы у Надежды Петровны были при себе, способностями и трудолюбием ее природа не обидела. Так женская половина семьи Загоскиных прочно обосновалась в Арабыни.
Роман Антипович и старший сын, шестнадцатилетний Вася, остались в Краснорецке и, определясь на работу в железнодорожное депо, поселились в привокзальном поселке Порт-Артур; им сдала каморку вдова Зябликова, — муж ее, машинист, погиб в прошлом году во время крушения, а старший сын Виктор, сверстник Васи, работал помощником машиниста.
«Питеряков» здесь вскоре полюбили как своих. Роман Антипович был человеком открытого и веселого нрава. Седой, с круглым и красным лицом, черными бровями и молодо поблескивающими глазами, он с первого взгляда внушал симпатию. Вася, сутуловатый, застенчивый, казался нескладным и робким. А его манера стучаться в дверь, прежде чем войти в комнату, или вставать, когда вдова Зябликова входила в комнату, и
345
подавать пальто барышням первое время возбуждали смех среди сверстников, и ему даже пришлось крупно поспорить из-за этого с веснушчатым и озорным Виктором Зябликовым, который хотя и был меньше ростом Васи, но так и лез в драку. Но потом, когда Вася, дав отпор Виктору, все же повел себя вполне миролюбиво й, главное, когда он стал рассказывать о недавних событиях пятого года в Питере, Виктор с жадным вниманием слушал «питеряка», а потом всецело подпал под его влияние. Вася был начитан и мог рассказать о том, что читал, да и с собой привез кое-что — ярко раскрашенные сатирические журналы тысяча девятьсот пятого года, революционные брошюры.
Впрочем, и на Васю оказала влияние дружба с Виктором. Виктор относился к своей работе на паровозе с гордостью, и Вася перешел из депо на паровоз помощником машиниста. Определившись на «кукушку», два раза в неделю таскавшую товаро-пассажирский поезд в Арабынь, Вася, таким образом, получил возможность навещать мать и сестер.
Наташа, приехавшая пятилетним заморышем на костылях, за два года превратилась в румяного крепыша с выгоревшими до белизны волосами и уже играла в лапту с арабыньскими мальчишками. Загоскины стали подумывать о том, чтобы соединиться и вернуться в свой суровый и желанный Питер. Но тут Романа Антипо-вича арестовали.
Для Васи и Вити арест этот не был неожиданным, — они уже не раз исполняли мелкие поручения Романа Антиповича: сбегать на мельницу к механику Максиму Колющенко, в почтовую контору к Стальмахову, в депо сельскохозяйственных машин Мак-Кормик, к чубатому Заслонову и передать им, что встреча, намеченная в городском саду, состоится у мечетки, или еще что-либо. Роман Антипович сразу же по приезде в Краснорецк стал разыскивать своих единомышленников. Вася и Виктор, конечно, догадывались, что создание краснорец-кого общества рабочих по металлу «Единение» и устройство общеобразовательных чтений при обществе приказчиков, так же как и восьмидневная забастовка в депо, в результате которой были нормированы сверх
346
урочные и принят ряд мер по охране труда, — все это •не обошлось без Романа Антиповича.
Арестован был не один Роман Антипович, а человек двадцать; некоторых из них Вася знал, о других ему рассказал Виктор — значит, раскрыта была целая организация, очевидно созданная Романом Антиповичем.
Васе вспоминалось то памятное солнечное утро ранней весны, когда отец перед работой задержал у входа в депо народ и, потрясая газетой, рассказал о расстреле рабочих на Лене. Как он говорил тогда, откуда только слова брались! Забастовка началась с депо, перекинулась на огромные паровые мельницы, на дрожжевой и водочный заводы, забастовали приказчики. Бывая на литературно-музыкальных вечерах, которые устраивало краснорецкое общество приказчиков, отец, как только ему позволяла обстановка, заводил разговор о текущих политических делах, собирая вокруг себя людей. Это были беседы, непринужденно-вольный разговор — ио том, что происходит в Государственной думе, и снова о Ленских событиях, о 1905 годе, и о начавшейся балканской войне. Обо всех этих событиях печатали в газетах, но Роман Антипович рассказывал обо всем этом не по-газетному, а по-другому, «по-вольному», — думалось Васе.
Гордость за отца и горе, вызванное разлукой с ним, сознание себя главой семьи и забота о ней — все это сразу пришлось пережить Васе. Он съездил в Арабынь и постарался утешить мать.
Мать обо всем уж знала, — первый же машинист, который сразу после ареста Романа Антиповича привел поезд в Арабынь, зашел к Надежде Петровне и передал печальную весть. Вася застал мать за работой, она гладила какой-то воротничок и выглядела, пожалуй, бледнее обычного, да и голова обвязана белым пуховым платком, хотя на улице было едва ли не жарко.
— Голова болит, — ответила она на вопрос сына и взглянула на него исплаканными, но ясными глазами, заботливо и нежно. — Что ж, — сказала она, — выходит, и нам нужно крепиться. Только этим и возьмем.
Нет, мать не нужно было утешать, это она его приободрила и утешила.
347
Глава вторая
Незадолго до отъезда в Москву Гинцбург дал Джафару Касееву номер издающейся в городе Краснорецке газеты «Кавказское эхо» и многозначительно щелкнул своим белым пальцем по статье Г. Спельникова, председателя губернского союза кредитных товариществ. В статье этой сурово порицались «те низовые кредитные товарищества, кои ссужают деньги явно не из народо-любия, а с целью получить барыши». Суровый патриарх краснорецкой кооперации особенно беспощадно разносил кредитное товарищество станицы Доблестной.-Статья прямо называла «небезызвестного толстосума господина Лаптева, применяющего наше товарищество для скупки хлеба и других продуктов у тех малоимущих хозяев, которые не входят в товарищество». «Очень прискорбно, — писал Спельников, — что вместо того, чтобы помешать обеднению крестьянства, помешать распространению на Руси страшной язвы пролетариатства, занесенной к нам с Запада, наши кредитные товарищества ей способствуют...»
С рвением молодого охотничьего пса, впервые выпущенного по следу зверя, кинулся Джафар на эту старомодную, в духе восьмидесятых годов, народническую статью. «Ставя преграды развитию посреднических операций кредитных товариществ, г. Спельников тормозит экономическое развитие и мешает внедрению европейских начал торговли и промышленности в жизнь нашей окраины и способствует азиатской дикости», — доказывал Джафар. Рувим Абрамович одобрил статью Джафара. А спустя несколько дней Джафар испытал ту счастливую и изумленную жадность, которая знакома всякому, кто впервые видит свое произведений напечатанным. Правление вызвало Джафара в Краснорецк, и на внеочередном заседании губсоюза, созванном «по предложению юрисконсульта Центрального кооперативного банка Р. А. Гинцбурга», Джафар и увидел впервые самого Георгия Павловича Спельникова.
Высокий, худощавый старик с длинной жилистой шеей и большим, добрым подпухшим носом, Георгий Павлович носил старенькую зеленую черкеску, ладно
348
облегавшую его еще крепкое тело. На его груди, широкой и плоской, белели два «георгин», полученные «за последнюю турецкую кампанию». Не спуская с Джафара своих маленьких темнозеленых, в настоящую минуту яростных глаз, Георгий Павлович предостерегал «против узости и меркантилизма марксического направления» и напоминал «о принципах Рочдэля и об этическом знамени кооперации». Он напомнил о том, как «двадцать лет тому назад, уволенный из армии по инвалидности, создал он в крае, в ту пору еще диковоинственном», первое кооперативное товарищество: маслодельную артель, «основанную на великих законах ассоциации». Потом основал он здесь первое потребительское общество. «Десять лет я трудовые полушки потребителей соединял воедино, — так основался наш капитал!» — говорил Спельников. «Не тот хищнический капитал, которому, как кумиру, поклоняются марксиды, а зиждительный и живительный капитал, руководимый солидарностью объединившихся производителей и потребителей. Так совершали мы дело нашего истинно народного социализма. Передовые поборники счастья народного отмечали наш почин. Имею личные письма Михайловского. И даже из-за границы князь Петр Кропоткин. .. — и Спельников таинственно сбавил голос, — ободрял нас!»
Джафар в своей серой скромной черкеске не сел за длинный стол, покрытый домотканной скатертью; там разместились члены правления. Джафар же всего лишь инструктор губсоюза, и сел на табуретку, недалеко от двери. Члены правления, в большинстве простые люди из сел и станиц, в пиджаках и кавказских рубашках, все чаще, вопросительно и испуганно, обращали свои обветренные усатые и бородатые лица к этому молодому человеку «из инородцев», не то кабардинцу, не то черкесу, смуглому и таинственно-молчаливому.
Георгий Павлович говорил обиженно и гневно. Но порой, когда он взглядывал на безмолвного Джафара, в голосе его проступал испуг: старик видел, что этот черный молодой и совершенно непонятный «марксид в черкеске» без усилия, быстро, точно гонясь и не отставая, записывает. «Возражать будет... И откуда он
349
взялся?» И так же непонятны стали сегодня старику все окружающие его ученики и сподвижники, члены правления: учитель Кузьма Дунаев из станицы Сторожевой, ветеринар Фрол Подпрягин из станицы Царской — он сыновей у них крестил... А вместе выпито сколько... Свой все, простецкий, на медные гроши учившийся, из низов выбившийся народ. Но все отворачивают смущенные глаза, комната наполнена вздохами... «Плохо дело!» — подумал Георгий Павлович и неожиданно посредине фразы оборвал речь. Его большие, трудовые, с набухшими жилами руки тряслись, когда он в тишине наливал себе воды, и только слышно было, как о графин звенит стакан, как громко пьет старик...
И тогда, выделявшийся белокожим холеным и спокойным столичным лицом среди провинциальных свекольно-румяных и угристых, бородатых и усатых лиц, Рувим Абрамович вежливо попросил слова:
— К социальным фантазиям, которые здесь проповедовал уважаемый Георгий Павлович, я отношусь совершенно индиферентно и ни оспаривать, ни защищать их не хочу. Мне вверена правовая сторона деятельности Союза союзов и -учрежденного в прошлом году Центрального кооперативного банка, — только с этой стороны я хочу остановиться на некоторых печальных сторонах деятельности вашего губсоюза.
Сначала Рувима Абрамовича слушали недоверчиво-враждебно и тихий шепоток прокатывался среди собравшихся. Но потом, когда от «юридических казусов» Рувим Абрамович перешел к выводам и принялся, особенно звучно выговаривая цифры, демонстрировать убытки, причиненные союзу и пайщикам «стеснительными этическими рамками», которыми ограничивал деятельность низовых союзов «уважаемый председатель губсоюза», собрание оживилось. Одни возмущенно и негодующе восклицали, другие переспрашивали, укоризненно поглядывая на Спельникова, огрызавшегося сердито и устало.
Гинцбург закончил похвалой по адресу «дельной и здравой статьи нашего молодого инструктора».
Как только Гинцбург смолк, сразу, точно это следовало из его речи, казначей губсоюза Глеб Аниси
350
мов предложил кооптировать Джафара в члены правления и выбрать вторым товарищем председателя. Анисимов рокотал, склонив квадратную, в густом черном ершике, голову, но когда замолчал, то удивленно и сочувственно взглянул своими черными, маленькими и блестящими глазами на несчастное лицо Спельникова. «Это не я говорил», — так, вопреки очевидности, можно было истолковать этот взгляд. Однако руку за Джафара Анисимов поднял первый, и следом за ним дружно проголосовало все правление. Только Спельников голосовал против и занес в протокол свое особое мнение. «Произошло нарушение устава», — крупными буквами приписывал он к протоколу, в то время как члены правления, окружив Джафара и похохатывая, поощрительно хлопали его по плечам и по спине.
Чувствуя на себе взгляды, любопытствующие и теперь уже явно доброжелательные, Джафар молча оглядывал беленые стены этой скромно обставленной канцелярской комнаты. Его внимание особенно привлекла диаграмма, изображающая рост кооперативов в России.
Подобная ростку повилики, эта ломаная зеленая линия ползла по самому низу таблицы: 1892, 1893, 1894 и так до 1900 года. Здесь она начинала подыматься, но робко, точно по отлогому склону горы. И вдруг — в 1908 году круто взмыла вверх: 1910, 1911, 1912... «Так и жизнь моя», — подумал Джафар.
Гинцбург был уже в Москве, но в своей деятельности в губсоюзе Джафар строго придерживался его предначертаний. «Следите за тем, чтобы текущий счет крас-норецкого губсоюза в Кооперативном банке непрерывно повышался», — сказал Гинцбург, и Джафар, советуясь с Анисимовым, кредитовал капиталистически наиболее мощные товарищества в развертывании скупочных операций.
Спельников не показывался из своего окруженного виноградником маленького домика на тихом Ермоловском проспекте, облюбованном отставными военными, и оттуда время от времени писал угрожающие и предостерегающие письма в правление губсоюза.
Принимал он у себя дома только Глеба Анисимова, хотя тот не скрывал, что, любя и почитая Спельникова,
351
именно сам же и снабдил Гинцбурга всеми фактическими данными против Георгия Павловича.
Первый товарищ председателя, лысоватенький и хлипкий статистик Касьян Бесперцев, заменявший Спельникова, прочитав очередное послание Спельни-кова, быстро-быстро пожимал плечами.
— Что? Не по-марксистски старик рассуждает? — ехидно спрашивал Анисимов (Касьян принадлежал к социал-демократам меньшевикам, сторонникам «широкой и легальной партии»). — Донкихотство, скажете? А я уважаю это донкихотство истинного идеалиста...
— О том, что такое прогресс, вы с Егорием поспорьте — он дока в этом деле, недаром с Михайловским переписывался, — глухо рокотал он Джафару (Егорием он всегда называл Спельникова).
Статистику и бухгалтерию Анисимов знал превосходно. Ведя все хозяйственные дела губсоюза, он получал сорок пять рублей в месяц, жил холостяком и скромно, но подвержен был страшным запоям.
Заработок неплохой, и он мог бы уже обзавестись костюмом. Но, видно, ему не хотелось снимать студенческую тужурку. С начала 1905 года, когда Анисимов был выслан из Москвы на местожительство, он рассматривал свою старую студенческую тужурку как символ принадлежности к революции.
Глеб Анисимов в Москве примкнул к эсерам. Сын дьякона из села Дивного, он хорошо знал край, и это ему пригодилось для работы в губсоюзе, объединявшем кооперативные товарищества. Если бы ему сейчас даже и предложили вернуться в Москву для продолжения образования, он, пожалуй, отказался бы, а расставаться со студенческой тужуркой не хотел.
На святках, в первый день нового, 1913 года, Глеб, чисто выбритый и уже пьяный, в своей традиционной тужурке, которая была тесна ему — особенно раздалась шея, благодаря чему он сзади был похож на большого жука, — зашел за Джафаром и повел его на литературно-музыкальный и танцевальный вечер в клуб приказчиков.
352
Концертную часть открыл любительский оркестр струнных инструментов. Балалаечники и гитаристы, все «молодцы» и «мальчики» из лабазов и лавок, в русских, сияющих ситцевой свежестью цветных косоворотках, встряхивали в лад залихватским своим песням крутоблестящими черными, русыми и рыжими чубами. Позади домбристы, тучные и пожилые (всё, верно, старшие приказчики), меланхолически покачивали седыми и лысыми головами, а совсем позади стояла худенькая девушка в кисейном платье, со щекой, раздутой флюсом и повязанной платком, и печально и ожесточенно била в бубен. Потом было несколько выступлений здешних любителей: дочь доктора Гедеминова, русая, счастливо разрумянившаяся девушка с блестящими глазами, упрямо оттопырив свои полные губы, сыграла на рояле какие-то невероятно быстрые, сверканьем и треском рассыпающиеся пьески. Потом она же аккомпанировала, а зубной врач Шехтер, очень молодой и такой худой, что запоминался только его профиль (точно у него фаса совсем не было), поводя мохнатыми темными бровками, читал под музыку: «Счастлив лишь тот, кому в осень холодную грезятся ласки весны... Счастлив, кто спит, кто про долю свободную в тесной тюрьме видит сны», — выводил он своим слабым голоском. «Мелодекламация» — модный в то время вид искусства. Тоненький, умненький, с пышной каштановой бородкой, Шехтер своими нежными газельими глазками все поглядывал на молодого, с чистым лицом, пристава в белых перчатках, поставленного «для порядка». И пристав не возражал, не останавливал, хотя молодой Шехтер и значился в охранке принадлежащим к социал-демократам меньшевикам и хотя стихи явно были «с направлением». Но видеть в тюремном заключении сны о воле все же не возбранялось. .. Последним номером неожиданно, «сверх программы», выступила с декламацией сама Зинаида Никифоровна Владимирцева — основательница общества приказчиков в Краснорецке, пышноседая, полная, высокая женщина, заведующая магазином и книжным складом братьев Васильевых. «Все горит, все леса охватило огнем», — по-северному, по-народному красиво окая, говорила она, и все притихли, словно въявь видя
23 10. Либединский
353
перед собой нарисованную поэтом аллегорическую недавних лет картину: Русь, охваченная пожаром народной революции. И, делаясь от волнения привлекательней и моложе, эта внушительная женщина, обращаясь к огненной стихии, порицала ее и советовала ей направить свою ярость туда, где «много старого, много гнилого и сейчас ждет работы твоей... и тогда ты бы там понемногу очищал бы прогрессу дорогу этой силой, не знавшей цепей... И не стали бы мы, горе мыкая, как сейчас, не пускать тебя вширь... Эх ты, рать! Эх ты, силища дикая! Эх ты, горе огонь-богатырь!»
Вася Загоскин, который тоже пришел на этот вечер, при этих словах пробурчал: «Подлая баба», — предательский по отношению к революции смысл-этих стишков был ему ясен. Но вокруг гремели аплодисменты... Владимирцева еще раскланивалась, как вдруг рядом с ней встала молодая, невысокая девушка — в кудрявой гривке черных волос ее лицо казалось бледным и нежным, и Вася насторожился.Он немного знал эту девушку. В руках ее была книжка, и, неожиданно подняв ее на уровень лица, она стала читать несколько монотонно, но так внушительно-раздельно, что каждое слово доходило во всем своем картинном значении.,. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает», — громко читала она, не оттеняя каким-либо выражением, слова, которые произносила, но резковатую свежесть морского ветра нес в душный зал ее голос, раскатывающийся на букве «р».
Пристав, обиженно приподняв свои тонкие девичьи брови и раздвигая людей тугой белоперчаточной рукой, направился к распорядительнице вечера госпоже Владимирцевой. Но она сама уже шла к нему навстречу.
— Нельзя этого, господа, этого нельзя, — говорил пристав, и брови его ползли под черно-блестящую, точно отлакированную прическу.
— Но, право, мы сами не ожидали... — лепетала госпожа Владимирцева.
В этот момент со сцены раздалось: «Пусть сильнее грянет буря!» — и аплодисменты зазвучали сейчас иначе: злые, яростные, такие же, как та (на сцене) с книжкой в руках, молодая, злая, торжествующая; весь зал стоя приветствовал ее.
354
— Да здравствует гордость нашей молодой демократии, славный буревестник Максим Горький! — крикнул Вася. И этот юношеский, прерывающийся от волнения голос вызвал йовый взрыв аплодисментов* словно множество морских птиц летало в воздухе и сквозь плеск их крыл слышались восторженные приветственные крики.
— Господа, господа! — встав на стул, призывала Зинаида Никифоровна. — У нас было договорено — мы этот вечер устраиваем не для политики, а для веселья...
Стул попался колченогий, он качался, и все видели, что господин пристав учтиво придерживает одной рукой неверный стул, а другой под локоток подхватывает величественную фигуру Зинаиды Никифоровны.
И тут же, как было предусмотрено программой вечера, раздалось веселое: «.. .Ты, говорит, ходи, говорит, ко мне, говорит, почаще, ты, говорит, носи, говорит, мне пряничков послаще...» Это бойко выкрикивал тапер, выделывая разудалую венгерочку.
Все ринулись в пляс.
— Девицу эту я видел в библиотеке, у приказчиков, — говорил Анисимов Джафару. — Такая тихоня, — вот уж подлинно в тихом омуте черти водятся.
— Познакомьте меня с ней, — покраснев, сказал Джафар.
— Ого, клюнуло! Но я советовал бы вам обратить внимание на Зинаиду Никифоровну. Вдовствует... Минимум затрат — максимум успеха! К тому же обожает кавказцев, — говорил Анисимов. Обходя танцующих, он вел Джафара туда, где издали виднелась, возвышаясь над танцующим, движущимся залом, пышная седая прическа Владимирцевой, странно подпрыгивающая. — Девица, пленившая вас, — верно, сама из буревестников, может быть даже партийная большевичка, и сквозь вашу романтическую черкеску она учует меньшевистский дух...
— Никакого отношения к меньшевикам я не имею, — сухо сказал Джафар.
— «Я не селедка», сказала селедка, — бормотнул Анисимов, цепко держа Джафара за рукав и направляя его через движущуюся толпу.
355
23*
Только вплотную подойдя к Владимирцевой, поняли они, почему так нервически подрагивала ее прическа: пцред Владимирцевой стояла девушка-буревестник, и они спорили.
— Но в программе вечера тоже не значатся эти подлые мирнообновленческие стишки, которые вы прочли, — говорила девушка.
— Как вы смеете! О людях, подвижнически служивших народу... — задыхаясь от негодования, говорила Владимирцева.
Но тут молодой человек с пробором, надвое режущим белесую голову, расшаркался перед ней. «Венге-рочка» продолжала кружить по залу притопывающие пары, и госпожа Владимирцева, положив руку на плечо кавалера, победительно улыбнулась и улетела прочь, так и не докончив сердитого поучения.
Девушка засмеялась, отвернулась и увидела совсем рядом незнакомого молодого человека в белой черкеске. По лицу его она поняла, что он слышал весь разговор. Она еще не придумала, что ей нужно делать или сказать, как он низко, по-восточному, поклонился и пригласил ее танцевать. Она пошла с ним, и Вася увидел ее среди танцующих.
Девушка эта заведовала библиотекой при клубе приказчиков. Вася брал там книги. Открывалась библиотека после восьми часов вечера, и «лиги выдавались до одиннадцати. Здесь можно было также читать столичные газеты и журналы. Роман Антипович в библиотеку не ходил, но иногда просил Васю взять для него какую-либо книгу, и Вася брал. Он рылся в каталоге и выписывал нужную книгу; девушка эта, не поднимая глаз, выдавала ему требуемое. Но как могут изменить лицо глаза, — какие у нее веселые, искрящиеся глаза! А голос? В библиотеке она говорила только шепотом, а голос у нее, оказывается, молодой, звонкий...
Так думал Вася, когда спустя несколько дней после новогоднего вечера он, обмотав горло шарфом и подняв воротник (на Краснорецк в канун Крещенья напала вьюжная метель), шел в библиотеку обменять книгу. Но, конечно, не обмен книги волновал Васю, когда он, стараясь умерить сердцебиение, поднимался по узенькой
356
плохо освещенной лестнице вверх, в мезонин дома, где помещалась библиотека-читальня.
Войдя, он покосился на столы, где разложены были газеты. В библиотеке пусто, — кому охота в такую погоду, сквозь вьюгу, пробираться по крутым, заваленным снегом улицам Краснорецка!
И Вася сразу оказал девушке то, что ему хотелось сказать еще тогда на вечере.
— Здорово вы отделали эту божью корову Владимирцеву!— пригнувшись через перила, свистящим шепотом (хотя кроме них двух здесь никого не было) сказал он библиотекарше.
Она взглянула на него, взгляд ее черных глаз был строг и печален.
— Пустяки, — ответила она. — Я нарочно взяла книгу отсюда, из библиотеки, и когда пристав напал на меня, я ему показала — разрешена цензурой и допущена. Вы ведь сын Романа Антиповича? — спросила она и, не дожидаясь ответа, в том же тоне сказала: — Спуститесь вниз на улицу и подождите меня, я сейчас выйду. Только выберите место где-нибудь, чтобы незаметно было.
Вася нашел незаметное место. Возле самого входа в клуб росло огромное дерево, раскидистый чинар, — здесь-то и встал Вася. Он видел крыльцо клуба под железным, дребезжащим под порывами ветра козырьком и снег, порою быстро пробегавший через обледенелые ступени. Луна летела сквозь тучи, становившиеся жидкими, прозрачными, когда они на нее набегали. Луна все летела и оставалась на месте. Пустынно на широкой улице, и только кое-где сквозь ставни видны струи света, которые казались теплыми в сравнении с неверно-голубоватым и холодным светом луны. И Васе вспоминалось, что город стоит на высоком нагорье, что вокруг него — сходящиеся и расходящиеся горные хребты и глубокие ущелья, а дальше на север дикие степи и что еще вчера вечером, когда он вел паровоз, возвращаясь из, Арабыни, — не доезжая пяти километров до красно-рецкого вокзала, видел он несколько волков, которых сначала принял за собак, — они гуськом пробежали через полотно. И, вздрогнув, он снова посмотрел на крыль
357
цо и взглянул на часы, — ему подумалось, что воспоминание о волках надолго отвлекло его от ожидания девушки. Может быть, он даже пропустил ее? Нет, оказалось, что не прошло и полминуты. Зачем он понадобился ей? Он догадывался, что это связано с отцом, что девушка эта — Брайна Иосифовна звали ее — что-то хочет сказать ему об отце. Может, она тоже состояла в организации? И, может, когда отец просил его обменять книгу в библиотеке, он, как об этом где-то читал Вася, посылал ей сообщения, зашифрованные в тексте книги?
Он изрядно промерз, когда наконец тяжелая дверь клуба открылась и на крыльце показалась маленькая, обмотанная платком фигурка. Они пошли. Девушка все убыстряла шаг. Вася решился и взял ее.под руку.
— Вы просили о свидании с отцом? — спросила она. — Да. Но не разрешили, — ответил он.
— Он пишет что-нибудь?
— Прислал одну записку, просил маме не показывать, он в тюремной больнице. Ревматизм.
Так, не сговариваясь, сразу заговорили они о Романе Антиповиче.
— Вы все-таки вяло действуете, — сказала она сурово. — Ведь вы — сын, вам они отказать не могут. Просите, требуйте свидания. Надо до губернатора дойти.
Он несколько раз молча кивнул головой. Потом сказал:
— Ладно, так и сделаю.
Она замолчала. Хорошо идти в тишине, поддерживая ее под локоть, — как хорошо!
— Вчера за мной пьяный увязался, еле от него убежала, — сказала она, не то объясняя, почему она просила его дождаться и проводить ее, не то над собой подсмеиваясь. И Васе, отнюдь не драчливому, ужасно захотелось, чтобы выскочил откуда-то пьяный и можно было бы его побить.
На главной улице, где они шли, было люднее. Она позвонила у крыльца с вывеской; «Зубной врач И. Д. Шехтер. Безболезненное удаление зубов под наркозом».
— Хорошенькое безболезненное! Так орут и стонут, что с улицы прибегают узнать, что тут у нас творится, —
358
усмехнулась она, снизу вверх глядя на него из-под платка, которым поверх шапочки закутана была ее голова, и улыбнулась. Улыбка у нее веселая, милая, — это он заметил еще при ее выступлении в клубе.
— Спасибо вам, Василий Романович. — Он задержал ее руку, захолодевшую и маленькую, словно тающую в руке, как будто помимо своей воли. Но она не отняла ее.
— Ах, Роман Антипович, Роман Антипович! — и такую горесть услышал Вася в ее прерывистом шепоте, что почувствовал — он нашел близкого, родного человека.
Сначала он провожал ее домой только тогда, когда приходил обменивать книги, а потом осмелел и стал приходить, когда позволяло дежурство, и она нисколько не сердилась за это. Днем она работала в шляпном магазине у мадмуазель Софи, а жила у Шехтера, которому приходилась дальней родственницей. В город она приехала недавно из Витебска, где осталась ее мать, — о себе она говорила очень скупо, как-то даже поджимая губы. Они гуляли, шли до «мечетки» — высящегося над городом холма, на котором от старинной мечети остались только вросшие в землю камни. Здесь всегда дул ветер. Тихо звеня по снежному насту, летел песок, клочья черной травы, побуревшие листья, а кругом лежали пустые нагорья: белые, вдали голубоватые, они были светлее низкого зимнего неба. Что хорошего находила Броня в этом неприютном месте? Но, придя сюда, она молча, хмурясь, обязательно простаивала десять-пятнадцать минут, глядя на эти пустые, дикие места.
Несколько раз они вместе (каждый платил за себя!) ходили то в театр, то в один из краснорецких «иллюзионов».
— Вздор! — энергично говорила Броня о том, что видела на экране.
Она любила театр, и Васе нравилось наблюдать за тем, как то, что происходит на сцене, отражается на лице девушки: вот она хмурится и поджимает губы, негодуя румянеет, усмехается. И усмехается как раз тогда, когда на сцене плачут... И он угадывал, что именно вызывает ее усмешку: слезы и горе, изображаемые на сцене, были, значит, притворны, лживы.
359
Броня жила самостоятельно. Теперь, хотя Вася продолжал оставаться на квартире в дружественной ему семье Зябликовых, жизнь перед ним все чаще ставила такие вопросы, которые раньше за него решал отец. До ареста отца Вася отдавал матери некоторую, довольно незначительную часть своего заработка. Теперь же он стал отдавать половину.
— Вы должны давать матери столько же, сколько давали при отце, — сказала ему Броня.
И когда он вполне, казалось бы, резонно возразил, что он должен возместить матери отцовскую долю, которую она сейчас не получала, Броня взглянула на него ласково и, пожалуй, насмешливо.
— Ну, посмотрим, — сказала она. — Только когда ваша мама узнает, что вы отдаете половину своего жалованья, она откажется совсем брать у вас деньги.
Так и произошло. Мать приехала посмотреть, как он живет, и выбранила его за то, что он так «плохо распорядился», как она выразилась.
— Да что ты думаешь, неужели я со своими помощницами (она имела в виду старших сестер) с голоду пропаду? — с гордостью сказала она. — Мы еще тебе помогать будем!
Разбирая привезенный Васей из Арабыни узел, предназначенный для отца, Броня авторитетно говорила:
— Хлеба туда посылать не нужно, он много места занимает, а в здешней тюрьме хлебом не стесняют. Варенье, сухие фрукты — это для тюрьмы очень хорошо. .. — Броня по этому случаю зашла в Васину комнату, и это радовало и веселило Васю.
— А вы что, уже сидели в тюрьме? — спросил он.
— Пришлось несколько дней, — коротко сказала она и, вынув из кармана желтый лимон, сунула его в узелок, предназначенный для передачи.
Вася ревниво отметил, что она порою уклоняется от встреч с ним и не объясняет ему, с кем встречается. Несколько раз Вася видел ее с тем самым молодым человеком в черкеске, с которым она танцевала на вечере. Он тоже приходил в библиотеку и бывало провожал ее домой. Вася ничего не говорил ей, но она догадывалась сама о том, что он недоволен.
360
— Мне нельзя встречаться, Вася, только с вами, это не нужно и даже, пожалуй, вредно, — говорила она. — А Джафар Касеев — человек интересный. И даже может быть полезен, — после некоторого раздумья добавила она. Когда ей нужно было сослаться на авторитет, она произносила: «Так Роман Антипович говорил», — имя отца звучало у нее особенно бережно и уважительно. Оказывается, Роман Антипович встречался с ней по делам воскресной школы, основанной при клубе приказчиков, — школа была после арестов закрыта.
— Такие люди, как ваш отец, Вася, — это маяки.. . Гудит, ревет море жизни, — говорила она, невольно подражая голосом реву моря, и Васе казалось, что ей это очень удается. — Поднимает холодные волны, а на них вот такое одинокое суденышко, утлое, вроде меня, — страшно, холодно, одиноко, а порою хочется опустить весла, обо всем забыть... И вдруг далекий теплый свет и призыв: бодрей, девушка, не падай духом, духом пасть — совсем пропасть! — повторила она любимые слова отца. — Он дочкой меня называл, так что я вам сестра, Вася, — смеялась она, заглядывая ему в глаза.
Василий хмурился, отворачивался, совсем не о братских отношениях с ней мечтал он, хотя и ни в чем ей не признавался, боясь нарушить дружбу, которой дорожил.
Она расспрашивала Васю о молодых ребятах его возраста, о Вите Зябликове, о Коле Полозове, о Стасе Ремишевском и Грише Айрапетяне, соседях по Порт-Артуру, сотоварищах по работе.
— Знаете что, Вася, давайте будем все вместе встречаться. Начнем читать газеты, книги, а когда партийную организацию в городе восстановят, мы уже будем подготовлены.
В начале февраля некоторых арестованных выпустили: почтово-телеграфного служащего Стальмахова, механика с паровой мельницы Пантелеева — Максима Колюшенко. Броня виделась с ними и сообщила Васе неутешительные вести об отце: оказывается, в продолжение всей своей деятельности в Краснорецке он был под наблюдением какого-то видного агента охранки, арестованного вместе с ним и давшего следователю полную картину партийной работы Романа Антиповича. След
361
ствие закончено, Колюшенко выпустили «за отсутствием улик» — он познакомился с Загоскиным незадолго до ареста, и от внимания провокатора знакомство их ускользнуло. Стальмахов почти все время был болен, и о связи его с Загоскиным данных тоже не нашлось. Восемнадцать человек, обвиненных «по принадлежности к преступному сообществу, поставившему своей целью ниспровержение существующего строя», были осуждены и приговорены к различным срокам высылки в разные местности Сибири. Романа Антиповича выслали на пять лет в Туруханский край, — семье разрешили свидеться перед отъездом.
Роман Антипович в тюрьме сильно сдал, он ходил прихрамывая, тер коленки, но был весел, шутил с дочками и обещал жене, что скоро вернется, словно уезжал по своей охоте. А сына похлопал по раскрытой ладони, и это подбодряющее похлопывание надолго запомнилось Васе.
Доктор Гедеминов вернулся домой не в духе. В гостиной, затененной со стороны сада террасой, примыкавшей к дому, было полутемно, горел камин, дочь Людмила разучивала какую-то трудную, незнакомую Евгению Львовичу «техническую», как она выражалась, пьесу. Обрывок мотива снова и снова повторялся, как это бывает при разучивании, и потому казался бессодержательным, а тишина и уют обжитого дома пробуждали у Евгения Львовича укоризненные, строгие мысли, относящиеся и к этой усадьбе и ко всему строю его жизни.
Евгений Львович только что ездил к вице-губернатору Долгополову похлопотать за осужденного Загоскина и доказать, что Романа Антиповича нельзя высылать до тех пор, пока у него не пройдет приступ ревматизма, обострившегося в сырости тюремных стен и особенно с наступлением холодов.
С Долгополовым Евгений Львович несколько раз выезжал, охотиться на кабанов, и отношения у них были если не приятельские, так как домами они не знакомились, то вполне как будто бы приязненные. Но сегодня Долгополов, не изменив по отношению к Гедеминову
362
обычной дружеской манеры, не пошел ни на какие уступки.
— Он заговорщик, этот ваш Загоскин, приехал к нам будто бы дочку лечить, и мы, признаться, поверили, а он—знаете вы вегетарианское общество наше? — представьте, насадил там политически неблагонадежных лиц! Даже главная повариха вегетарианской столовой, выписанная из Петербурга, оказалась такая особа—у-у-у! Знаете, этакая мастерица варить кашу. А насчет климата я вам скажу — сибирский климат куда здоровее здешнего: этот ваш пациент, он там поправится, ей-богу...
Гедеминов тут же написал в кабинете у вице-губернатора свой официальный протест и оставил его у Долгополова. Долгополов развел руками, возвел глаза, вздохнул, но протест принял, вызвал секретаря и велел зарегистрировать бумагу «по входящей», показывая этим полную безнадежность дела.
Но больше всего взорвало Гедеминова то, что Долгополов, провожая его из кабинета, игриво пожал ему локоть и спросил:
— Ну, а как наши кабанчики, соскучились по нас?
И Долгополов издал звук «хр-р-р», очень похожий на кабанье порсканье, лесной звук, от которого вздрагивало сердце охотника.
Вспомнив об этом дома, Гедеминов по адресу Долгополова пробормотал: «Кретин». Но факт оставался фактом — больного революционера Загоскина везут теперь в холодном вагоне на погибель в Сибирь, и ничем здесь не поможешь — пиши протесты или нет. И даже то, что дочь долбит на рояле какую-то музыкальную дребедень, только подчеркивает, как далек мир и уют гедеминовской усадьбы от суровой судьбы революционера.
Когда Евгений Львович влюбился в девушку-гувернантку, не имевшую ничего, кроме стипендии в московском институте благородных девиц, он не помышлял, что женитьба на бесприданнице Оленьке Ререн принесет ему эту усадьбу. Студент-медик, «интеллигентный пролетарий», на голодных и дешевых уроках вытянувший университетский курс, Евгений Львович свое зна
363
комство с Оленькой начал с того, что в ответ на просьбу ее написать что-нибудь в альбом старательно вывел дидактический каламбур:
«Желаю вам не завиваться, а развиваться!»
Конечно, с ее стороны неосмотрительно было давать свой альбом этому лохматому студенту, а Гедеминову глупо было писать подобные сентенции беленькой, точно кончиком кисти нарисованной девице, с которой случайно познакомился, оставшись обедать после уроков. Завивалась она и посейчас, и, вопреки спорам, они всю жизнь прожили в любви и согласии, поселившись на следующий год после свадьбы в этой усадьбе, построенной знаменитым во время завоевания Кавказа генералом. Здесь он и умер в глубокой старости, а усадьбу, минуя прочих наследников, неожиданно оставил племяннице своей, сироте и бесприданнице Оленьке, уже вышедшей замуж за молодого военного врача Евгения Львовича Гедеминова.
Гедеминовы приехали, чтобы вступить во владение усадьбой и поскорей продать ее, да так и остались здесь на всю жизнь.
Усадьбой следовало бы серьезно заняться, но все как-то свободных денег не было. Половицы гнили, начинали проваливаться, крыша протекала. Время от времени Гедеминовы приводили усадьбу в некоторый порядок. Так жили они здесь, вырастили детей, состарились.
Усадьба старого кавказского воина приглянулась доктору Гедеминову прежде всего тем, что достаточно было пройти сад, как внизу начинались непролазные заросли терна и шиповника, круто спускающиеся к маленькой речке, которая принимала в себя все вешние и дождевые воды окрестных оврагов. Кое-где речка разливалась, образовывала болотца, все это были утиные, лисьи места. На другом берегу речки начинался дубо-бый лес; вся соседняя гора, сверху донизу видная с веранды Гедеминовых, была покрыта его темной зеленью. В этот дубняк, не пугаясь близости города, приходили кабаны. Усадьба старого кавказского воина была находкой для охотника, а Евгений Львович был охотник.
364
Высокого роста, немного сутуловатый, доктор Гедеминов всю жизнь носил сапоги и военный китель. После русско-японской войны он вернулся сильно поседевшим и тут же вышел в отставку. Носил он бороду и усы, щек не брил, а только время от времени подстригал машинкой, и все его лицо потому было в рыжеватине и седине. У него был тонкий и прямой нос, высокий и красивый лоб, хотя и пересеченный морщинами, глаза темнозеленые, лесные, ласковые и смелые. «Орел мой!» — до сих пор в минуты нежности говорила ему жена его, дама еще миловидная, хотя правильные, но мелкие черты ее лица начинали уже расплываться, — она сильно полнела.
Приятно было поглядеть на супругов Гедеминовых, когда погожим летним вечером им закладывали шарабанчик и они отправлялись покататься: бравый доктор в стареньком зеленом кителе сам правил, вытянув вперед длинные руки, и, озабоченно нахмурившись, придерживал на крутых местах пару своих маленьких, но резвых вороных. Ольга Владимировна, в кружевной тальме, жалась к плечу мужа и нежным голосом восхищалась закатом:
— Это Аура... Предвещанье судеб человечества. .. — мурлыкала она.
— Ой-ой-ой... — говорил доктор, жмурясь и мотая отчаянно головой, точно в уши ему попала вода.
В молодости он, конечно, ответил бы Оленьке, что это всего лишь преломление лучей в атмосфере, — и какая ссора началась бы вслед за этим!
«Ну, а теперь семейный мир на почве идейного компромисса», — иронически по отношению к себе думал Гедеминов, шагая по комнате.
.. .Во дворе залаяли собаки, все ближе и ближе. Доктор прислушался. На собак закричали:
— Цыц! Молчать! Не укусит, ничего, не бойтесь!
Сопровождаемый этими ободряющими восклицаниями, приглаживая белесые реденькие волосы, Касьян Бесиерцев, как всегда благообразный, в мягком воротничке, при галстуке «фантази» с синенькими пупырчи-ками, вошел в комнату. Рукопожатие, низкий поклон Людмиле и снова рукопожатие, протирание очков и на
365
саживание их на нос, от чего небольшие глаза Беспер-цева стали в два раза крупнее и выпуклее...
— Разрешили! — торжествующе громко сказал он.
Людмила от рояля скосила на него кариб насмешливый глаз и снова возобновила пересыпание по клавиатуре разноцветных стекляшек, — так воспринимал ее игру отец.
— Что разрешили?.. Да прекрати наконец, Людмила, этот музыкальный бедлам...
Людмила быстро из конца в конец пробежалась по (клавиатуре, встала, поцеловала отца в щеку и сказала:
— Это не бедлам, папочка, а Дебюсси.
И, встряхнув своими крупными кудрями, прошла мимо них, вся в пышной прелести своих семнадцати лет, — так прошла, что отцу стало весело, а Касьян Григорьевич Бесперцев несколько даже затуманился, и когда хлопнула дверь за Людмилой, вздохнув, сказал уже гораздо менее торжественно:
— Популярные чтения разрешили возобновить.
— Это хорошо.
Евгений Львович, достав очки, подсел к камину и стал рассматривать программу, — речь шла о популярных чтениях в клубе приказчиков, которые были запрещены одновременно с арестом Загоскина и его товарищей.
— Женечка, ты сумерничаешь? — раздался протяжный и, как это иногда бывает у глухих, будто вбирающий в себя слова голос Ольги Владимировны.
Щелкнул выключатель, комната разом осветилась со своей старинной, желтой, грушевого дерева, потертой и приятной мебелью, круглым, покрытым яркой ковровой скатертью столиком, на котором стояла старомодная керосиновая лампа. На стенах развешаны были репродукции странно-мистических картин Яна Стыка, изображавшие Льва Толстого, обнявшего колени Иисуса, и женская головка с темнофиолетовыми мрачными глазами, — все это был вкус Ольги Владимировны.
— Касьян Григорьевич, а я не знала, что вы здесь... Простите меня, я по-домашнему.
366
Она была в темнолиловом халате с рассыпанными по ткани мелкими желтыми цветочками. Ее сильно посветлевшие от седины, белокурые, еще пышные волосы были уложены вокруг головы, как у девушки. Хотя старшему сыну ее Николаю было уже двадцать один год и он учился в Петербурге, видно было, что Ольга Владимировна не сдается. В руках она держала книжку модного столичного альманаха с розовым цветком шиповника на белой глянцевитой обложке.
— Послушайте, какая прелесть...
Из вещества тончайшего, из дремы, Я для любимой выстрою хоромы, Ей спальню из смарагдовой тиши Я вылеплю и молвлю: не дыши...
— Не дыши... — полузакрыв глаза и плавно, осторожно двигая рукой, словно держа на ладони что-то хрупкое, говорила Ольга Владимировна. — Если дохнешь, овсе разрушится, распадется... Вы представляете, как все это воздушно, как эфемерно...
Заметив, что в доме зажгли свет, с террасы тихонько вошел с книгой в руке Асад Дудов, — всю эту зиму он жил у Гедеминовых, старых друзей его семьи, и учился в пятом классе реального училища. Поеживаясь от холода (в саду уже стало свежо), он внимательно слушал Ольгу Владимировну.
— Ах, Бальмонт! — со вздохом произнесла она. — Хотя эти ужасные футуристы ниспровергают его, но выше Бальмонта русская поэзия не поднималась, не поднималась, нет...
Евгений Львович кряхтел, крутил головой и, стараясь не обращать внимания на жену, на ее декламацию, продолжал разговаривать с Бесперцевым о возобновлении чтений, — требовалось повести переговоры с вольно-пожарным обществом, у которого был свободный сарай, так как в союзе приказчиков возобновить лекции запретили.
А Ольга Владимировна с Бальмонта перешла на Сологуба и уже что-то говорила о сатанизме. Люда вернулась в гостиную с любимой подругой своей Олей Замятиной, худощавой девушкой с приподнятыми бро
367
вями, придававшими ей выражение удивления, и гладкой прической. Девушек сопровождал Шехтер.
Шехтер, аккомпанируя себе на рояле, вполголоса, с умоляющими интонациями выговаривал, переводя свои красивые глазки с одной девушки на другую:
— От луча горячего и от ветра буйного боязливо прячетесь вы под ели темные, неба вы не видите ясного, лазурного, ландыши, цветы мои, милые и скромные... Как это девически-нежно, а? — умоляюще спрашивал он.
Он хотел уговорить Людмилу аккомпанировать ему на студенческом вечере в честь Татьянина дня. Но Людмиле стихи не нравились, и он рассчитывал, что Оля, которая слыла «девушкой с направлением и с запросами», его поддержит.
— Музыки не понимаю, а стишки — как снятое молоко, жиденькие и голубенькие. — И Ольга, обняв Ольгу Владимировну, которая, никого не слушая, продолжала говорить что-то свое, сказала ласково: — Мама-крестная, ну что вы надрываетесь, вас никто не слушает.
— Нет, я слушаю, — серьезно сказал Асад, не сводивший с Ольги Владимировны своих темных, без блеска глаз.
Оля округлила на него глаза, — она так всегда делала, когда он что-либо говорил. Людмила засмеялась. Асад рассердился и отвернулся.
После дремотной арабыньской жизни Асаду нравилось у Гедеминовых. Здесь говорили обо всем, что делалось в городе и в крае, сюда долетали отзвуки столичной жизни. На эти столичные новости особенно падка была Ольга Владимировна, она выписывала множество столичных журналов и альманахов и подряд восторгалась всем, что читала, все пересказывала, и Асад неизменно серьезно слушал ее, удивляясь, что никто, даже муж, Ольгу Владимировну не слушает.
У Гедеминовых спириты встречались с охотниками, меньшевики со всевозможными анархо-народниками. Потом были просто городские знакомые и знакомые из «губернии», вроде Хусейна Дудова или Отрокова, иногда останавливающиеся с ночевкой. И всегда очень
368
много молодежи: товарищей и подруг сына и дочери. Когда же сын, окончив гимназию, уехал в Петербург, в университет, в его комнату как раз и поселили Асада.
По комнатам ходили большие охотничьи собаки, которых с непривычки пугался всякий, кто впервые попадал к Гедеминовым и не умел разбираться в собачьих характерах («Не кусается!» — кричали навстречу несчастному, уже у ворот облаянному собаками). Вообще, так как Ольга Владимировна была глуховата, у Геде-миновых много кричали, и едва предмет беседы начинал ускользать от нее, она мило-умоляюще поднимала брови и просила своим однотонным голосом — так говорят некоторые глухие: «Господа! Повторите! Пожалуйста!» И ей повторяли, и порой слишком громко произносились речи, которые лучше громко не произносить.
Асад все слушал Ольгу Владимировну. Но вдруг знакомое имя поразило его: Бесперцев, разговаривая с Евгением Львовичем, назвал Джафара Касеева. И это домашнее имя (Джафар в прошлом брал уроки у отца Асада) звучало так, словно Джафар всегда был взрослым и даже важным человеком и никогда не был толстым мальчиком в зеленой тюбетейке на бритой голове, который противно плакал, когда старый математик ставил его в угол за невнимание.
По тому, как Бесперцев говорил о Джафаре, видно было, что этот арабыньский знакомый Асада приобрел большой вес в союзе потребительских обществ и даже каким-то образом отстранил председателя губсоюза почтенного человека Георгия Павловича Спельникова.
— Ш-ш-ш... — Евгений Львович ткнул Бесперцева в бок, кивнув на Олю Замятину, которая прислушивалась к разговору. Она приходилась внучкой Георгию Павловичу Спельникову и жила у него.
Наступило молчание.
— Как, Олюшка, дед живет? — ласково и немного смущенно спросил Евгений Львович.
— Спасибо, ничего, ропщет на погоду и кутает, свои любимые виноградные лозы, — ответила Оля.
24 10. Либединский
369
Она могла бы рассказать, что Спельников вместе с Анисимовым три последних дня пили и распевали невыносимо унылые песни, вроде: «Не осенний мелкий дождичек. ..», «Во субботу, в день ненастный» и «То не ветер ветку клонит»... Дед, натужно и хмурясь, тончайшим, дребезжащим альтом вел первый голос. Глебушка, как отец называл Анисимова, рявкая брал втору, срывался, фальшивил; старик отчаянно мотал головой. Глебушка конфузливо умолкал и, собравшись с духом, снова рявкая, брал втору...
И уж, конечно, она промолчала о том, что произошло потом: вдоволь напевшись и нарыдавшись, дедушка в приятном хмелю лег спать, а Анисимов, оставшись с ней наедине, посмел сказать ей: «Выходите, Оленька, за меня замуж, я после революции губернатором буду». И пустил в ход свои с грязными ногтями руки. Она «ахнула» его по физиономии — и скорее к Гедеминовым! Что ж! Здесь ее с детства любят... Но сколько все они здесь болтают! А вот отец ее, хорунжий Яков Замятин, не болтал: он, как рассказывает мать, все молчал, все думал, все мрачнее становился. А потом, как приказали стрелять по народу, скомандовал: «Отставить!» — и увел свою сотню с заводского двора. Было это в 1905 году. Судил его военный суд, прокурор требовал смертной казни, но приговорили к каторжным работам...
— Что у тебя лицо такое мрачное и красное? — шепотом спросила Людмила и своим теплым дыханием коснулась уха Ольги.
— Вспомнила сегодняшнее предложение, которым меня удостоило будущее высокопревосходительство, Глеб Иннокентьевич Анисимов.
— Ну что ж, он твой ответ надолго запомнит, — засмеялась Людмила.
— Противно, что руку испачкала, — ответила Ольга с такой неподдельной гадливостью, что Людмила испуганно взглянула на нее.
— Надоел Краснорецк, — сквозь зубы сказала Оля.
— Весною кончим восьмой класс — ив Петербург, в Петербург, — обняв ее, прошептала Людмила на ухо подруге.
370
Глава третья
Джафару нравилось жить в Краснорецке и с помощью Глеба Анисимова вести дела губсоюза. После новогоднего вечера он время от времени встречался с Броней — девушкой-буревестником. Она с интересом расспрашивала его о кооперативных делах, и ему приятно было рассказывать ей о своих столкновениях с народником Спельниковым. Он подозревал, что Броня большевичка, и хотел вызвать ее на серьезный разговор. Но Броня говорила, что сочувствует всем подлинным демократам и ненавидит самодержавие. Впрочем, очевидно, очень скрытна. Что ж, и он скрытен. Джафар осторожно следил за Броней. Но нет, решительно — она, кроме как с ним, ни с кем не встречалась, если не считать какого-то мальчика-железнодорожника, очевидно в нее влюбленного. Джафар порою заводил с Броней разговоры по политическим вопросам.
Встречаясь с Броней, он переписывался с Мариам Дудовой; она эту зиму, по состоянию здоровья, задержалась в Арабыни и не поехала в Москву. Джафар не забыл и о той девушке, которую оставил у потухшего костра в лесу в страшное утро зловещей охоты. В его памяти остались погруженные на дно лунных долин спящие черные леса, девушка, как из голубой воды, поднявшаяся вдруг из обрыва, — Нафисат Баташева.
Баташева долина, перевал Баташ — с детства сохранившиеся в памяти сказочные названия... Грусть, изумление, алчность, жалость — он не мог -выразить словами свои чувства к девушке и то, что заставляло его с особенной силой стремиться обладать ею: только на ней мечтал он жениться.
Отец Джафара, почтенный муфтий Бекмурза Касеев, сам захотел договориться со сватом князем Те-мирканом Батыжевым о калыме. Можно было не сомневаться, что. муфтий не поскупится, только бы сына женить по-мусульмански. Джафар собирался ехать в Арабынь, а потом уже — в Баташей свататься. Но тут •вдруг Гинцбург телеграммой вызвал его в Москву: вверх, круто вверх полз зеленый росток его жизни!
Была московская предвечерняя пора, вся в пуши
371
24*
стых хлопьях снега и ранних огнях, в окриках извозчиков и выкриках торговцев. И всю дорогу от вокзала до гостиницы тоненько и лихо тренькали колокольцы под пестрой дугой извозчика, густо гудел Кремль, принимая в глубокую реку своего благовеста мелкий •перезвон всех московских церквей. «Язычество», — думал Джафар, когда низенькие саночки, визжа полозьями, проносились мимо старых часовен, где в притворах горели свечи перед закованными в золото идольскими суровыми лицами. Под трезвон заснув, Джафар под трезвон и проснулся.
Когда он вступил в большой светлый, почему-то пахнущий луком вестибюль Народного банка, навстречу ему из-под лестницы вылез маленький подслеповатый швейцар; его новенькие галуны и пуговицы блистали дешевым самоварным золотом. Как полагается швейцару, он был важен, но пахло от него луком. Джафар бесшумной тенью из этажа в этаж бежал по лестницам; на стеклянных перегородках тем же ослепительным самоварным золотом выписаны были таинственные денежные слова, и одинаково клонились над столами головы конторщиков.
Юридическое бюро, где Джафару надлежало искать Рувима Абрамовича, помещалось не за стеклом, а за капитальной стеной, в самой глубине здания. Сюда уже запах лука не доходил — здесь пахло дорогим табаком. .. Робея, Джафар открыл дверь.
Две конторки у окон указывали на то, что комната, в которую вошел Джафар, все же является канцелярией. Но красивая мебель, картины на стенах, оклеенных тисненными под зеленоватую бронзу обоями, альбомы и журналы на столиках — все это было скорее похоже на те покои, которые Джафар видел лишь на экранах «иллюзионов».
За одной из конторок сидел худощавый молодой человек, и, кроме него, никого не было в этой большой комнате. Его глаза, мутнозеленые, как застоявшаяся в конторском графине вода, с любопытством оглядели Джафара и насмешливо сузились. «Смеется над черкеской моей», — догадался Джафар.
«— Значит, вы и есть Де Бе Касеев? А мы вас.
372
ждем. — Одною рукой указав Джафару на стул, другою он из бокового ящика достал нежносиреневый толстый конверт.
Джафар не успел удивиться той ловкости, с какой этот человек орудовал своими длинными руками, как взволнованно узнал крупные и плавные буквы Гинц-бургова почерка. Записка была коротка: Рувим Абрамович, уезжая по делам в Петербург, просил извинения и поручал Джафара Николаю Тимофеевичу Швест-рову.
— Это я Швестров,—сказал длинный молодой человек. (Он из-за спины Джафара прочел записку.) — Зачем же он вас вызывал?
Джафар не ответил.
Николай Тимофеевич, почесав свой красноватый маленький нос, сказал:
— Впрочем, хоть неисповедимы пути Рувима, все же догадываюсь: это он вашу статейку привез с Кавказа?
Швестров спросил так снисходительно, что Джафар сразу почувствовал, как ничтожна его статья в круге тех явлений, среди которых находится Швестров.
— Я знаю этого бронтозавра Спельникова, против которого вы выступали, — продолжал Швестров. — Он в прошлом году приезжал сюда на учредительное заседание правления банка и очень насмешил всех: к чему-то цитировал здесь Прудона и каких-то допотопных народников. С каким наивным усердием потратили вы целую бочку марксистского пороха на то, чтоб взорвать этот сарай, набитый старой рухлядью: я имею в виду статью вашего богоспасаемого оппонента. Вот... — и Швестров показал, отмерив половину своего бледного, аккуратно подстриженного ногтя: — Две статистические справки, одно вежливо уничтожающее определение — всего двадцать строк. Как выстрел из пистолета —• большего этот монстр не заслуживал...
— Яс большим уважением отношусь к Георгию Павловичу... — начал Джафар, но тут Швестров так кивнул на него, что Джафар оглянулся. Похоже, что этим кивком Швестров указывал на Джафара кому-то третьему.
373
— Понятий, — добродушно-насмешливо сказал Швестров. — Все понятно: отказываемся ли мы от наследства и теде? Нет, не отказываемся! Но согласитесь, старик дьявольски старомоден: можете себе представить, явился в Москву — в черкеске... Хотя... пардон! пардон!.. вы тоже в черкеске!
— Это наш национальный костюм, — самолюбиво краснея, сказал Джафар.
Но в ответ он услышал от Швестрова такую проповедь крайнего космополитизма и полного отрицания национальности, что уважение его к Швестрову сразу возросло: Джафар, сам любивший поражать людей подобного рода «широкими» взглядами, даже в мыслях не решался доходить до таких крайностей, какие проповедовал Швестров.
— И потому черкеску вам нужно снять! — так заключил Швестров свою речь, возвращаясь к исходному пункту ее. — Она дисгармонирует с комнатной обстановкой. Простите, но это все равно, что ввести сюда лошадь!
Впрочем, из дальнейшего разговора выяснилось, что Николай Тимофеевич сам очень недавно надел свою первую «европейскую тройку», — до этого он носил под пиджаком рубашки с вышитыми отложными воротничками и цветными помпончиками галстука «фан-тази».
— В тысяча девятьсот восьмом году к нам в «скоп-скую» глушь метеором упал собственной персоной Рувим и скупил на корню весь урожай льна, — повествовал Швестров. — Провел он это дело через наше кредитное товарищество: он ведь сам из «хлебников», знает, как маклаки обжуливают всякого нового человека. А я тогда в товариществе служил счетоводом за двенадцать рублей пятьдесят копеек. Мне только семнадцать лет исполнилось, но я уже был вполне деловой человек и лен, шерсть, деготь знал с детства: отец мой маклачил по уезду, я ему помогал. Он умер, и я стал кормильцем многодетной семьи, занимался самообразованием, изучал бухгалтерию и язык эсперанто, пил водку со взрослыми, играл в лапту с ребятами... Для Рувима я оказался находкой, и он меня не забыл: как
374
только попал на службу сюда, сразу вытребовал меня... Начал я чуть ли не с курьера, а теперь уже именуюсь секретарь-референт юридического бюро! Так-то, Де Бе Касеев!—с откровенной хвастливостью заключил Швестрюв и подзадоривающе мигнул Джафару: ну-ка, мол, давай попробуй и ты! Был он еще очень молод, и нравилось ему покрасоваться перед сверстником.
— У вас много здесь работы? — вежливо спросил Джафар.
Николай Тимофеевич с важностью помахал длинной рукой у себя перед лицом, словно разгоняя какие-то невидимые облака.
— Уйма! — воскликнул он. — По существу говоря, все внутренние*дела банка идут через мои руки: все эти кредиты и ссуды в размере иногда по нескольку десятков рублей... Рувим практику нашей кооперативной низовки не очень понимает, он человек высокого полета, Наполеон!
— Замечательный человек Рувим Абрамович! — горячо согласился Джафар.
Этот день они провели • вместе, С гордостью водил Швестров Джафара по древнему городу, благо день был ласково-мягкий и снежный. Они прошли по Кузнецкому мосту, где не было моста, мимо Никитских ворот, где не было ворот. Проголодавшись, они по запаху нашли трактир на Кудринской площади. Говорил больше Швестров, получалось так, что, о чем бы ни говорили они, разговор обязательно возвращался к Рувиму Абрамовичу.
— Рувим Абрамович едва ли сам в состоянии отличить лен от пшеницы... Для этого мы, грешные, и существуем! — с восторгом восклицал Швестров. — Рувим рыщет по нашей стране, сыскивает ее богатства, вызывает к жизни новые отрасли промышленности, подбирает полезных людей...
— Да, да! — восторженно вторил Джафар.
— Раз в минуту откровенности Рувим мне сказал: «Что вы толкуете о честности? Я знаю только коммерческую честность, а она есть верно понимаемая выгода. Экспортируя хлеб, я всегда честен со своими замор
375
скими покупателями. Но здесь, у нас...» И тут он замолчал. Но я его понял. Я с детства знаю, как покупают у мужика... Это грабеж и обман! — с восторгом воскликнул Швестров и, вызывающе взглянув на Джафара, спросил: — А как же может быть иначе? Или не обречено крестьянство на то, чтобы его пожирали капиталистические хищники?
— Конечно! Вы правы! — согласился Джафар с такой торопливой готовностью, что Швестров никак не мог заподозрить его в том, что ему хоть немного стало жалко крестьян.
И, подогреваемый горячим, хотя и не вполне внятным единомыслием своего нового знакомца, Швестров продолжал свой рассказ о «нашем Рувиме».
Гинцбург по образованию юрист, в обеих столицах у него даже есть свои конторы, но адвокатурой он занимается вяло. Сын киевского биржевого маклера, он играть на бирже начал еще тогда, когда учился в университете, и занимается этим всю жизнь. Но он совсем не похож на мелких биржевых зайцев, всегда плохо осведомленных, живущих по биржевой погоде.
— «Чтоб выгодно покупать хлеб у нашего мужика, нужно не спускать глаз с полей Аргентины, Техаса и Канады!» — сказал однажды Рувим. Его биржевой игре присущи дальновидность, широкий кругозор... Хлебные операции сблизили его с Русским для внешней торговли банком — именно там открылись ему те таинственные силы, которые посылают то затишье, то бури на биржу... Василий Захаров, — вы, конечно, никогда не слыхали о нем? Немудрено! Грек по происхождению. Фамилия русская, и прекрасно говорит по-русски, обласкан нашим высшим духовенством и принят при дворе... В Лондоне господина Захарова почтительнейше именуют сэром Базилем, и хотя по приезде в Москву он обходит все московские святыни и одаривает монастыри, он держит в своих руках один из солиднейших пакетов акций знаменитого английского оружейника Виккерса... Уж не лондонское ли Сити приняло облик этого грека с русской фамилией? Таковы англичане: в Индии они будут говорить по-индусски, в России по-русски... Ну, а у вас на 'Кавказе?
376
Швестров замолчал и вопросительно взглянул на Джафара. Никак нельзя было вслух сказать о странных встречах с англичанином-охотником на Кавказе. Мулла Шаик Сафаров? Удалой Батырбек Керкетов? Джафар промолчал, не показав своего волнения.
— А ведь именно по приезде сэра Базиля в Москву наш Рувим, не прекращая своих экспортных операций, -получил важный пост в московском отделении Международного банка. Но, с другой стороны, наш Рувим является частным поверенным банкирского дома «Ван Андрихем»; фамилия голландская. Но ведь голландские и английские купцы и банкиры давно уже породнились: на нефти, на каучуке, на хлопке. Акционерное общество «Транслевантина»,— Рувим ведет их дела в России. Пароходная линия Марсель — Новороссийск, но переписывается Рувим опять-таки с их лондонской конторой...
Два часа провели они в трактире на Кудринской. Наступали быстрые зимние сумерки. Но огня не вносили, и зал, пустой и низкий, освещался неровно жаркими вспышками двух топившихся печей. В этой полутьме лицо Джафара показалось Швестрову загадочным, ему понравилась сдержанность этого провинциала-кавказца. ..
— Значит, Рувим Абрамович состоит на службе в нескольких местах? — спросил Джафар.
— Во множестве, — ответил Швестров. — Тантьемы, проценты, дивиденды непрерывно текут к нему. У него личные паи в ряде предприятий и ни одного собственного: он везде и нигде! Хлеб, уголь, сера, шерсть, подсолнух, железнодорожные мосты и рельсы — он интересуется всем! Почти всегда действует он по поручениям из-за границы, но ото всего оседают прибыли на его личном счете, который тоже находится в Сити. Мы называем его «волшебный калькулятор». Сидя здесь в кабинете, он, задав несколько вопросов, может без труда определить мировую рыночную цену любого товара. Он «понимает» деньги: угадывает течение денежных потоков, знает, откуда должны забить денежные ключи... Когда он принял предложение кооператоров, весь деловой мир стоном пошел: значит, здесь будет
377
денежное место! И сразу наш молодой банк получил выгоднейшие кредиты!
Расплатившись в трактире, они вышли в снежную свежесть ночи и, продолжая говорить о Гинцбурге, пошли по тихим московским переулкам. Точно два молодых шакала, опьяненных запахом падали и свернувшейся крови, шли они по следу хищника — оруженосца хищников еще более крупных. А из дворов пахло то кислой капустой, то мылом, то луком...
Спустя несколько дней Джафар сидел в комнате Швестрова — маленькой, сплошь заставленной книжными шкафами, так что стен совсем не было видно, и читал ему свое сочинение о гибели «восточного варианта культуры»...
Швестров сочинение одобрил, но нашел, что Джафар склонен к общим философским концепциям, конкретной экономики мало: больше фактов и цифр.
— Ав общем вы молодец, и вас нужно будет связать с нашими... — важно заключил Швестров, и слова его звучали тем более таинственно, что хотя Швестров мог часами рассуждать о тончайших политических оттенках различного рода мельчайших групп социал-демократии, но понять из этих рассуждений, каких взглядов придерживается сам Николай Тимофеевич, было невозможно: он как бы парил над партиями и группами, всех объясняя и над всеми добродушно подсмеиваясь.
— Я — социал-демократ примиренец, — значительно говорил он.
Так же всех примирять и все объяснять, самому стоя в центре, хотелось бы и Джафару. Однако стоило Джафару спросить Швестрова о Ленине и его сторонниках, Швестров сразу забыл о том, что он примиренец, и от ярости бледная кожа его лица приняла какой-то ртутный оттенок. Оказывалось, что именно из-за большевиков не удается таким вот «примиренцам», как Швестров, соединить вместе все группы и группочки, — соединить их так, чтобы они, сохраняя каждая свою горделивую независимость, были бы «примирены».
Изругав большевиков, Николай Тимофеевич перешел к русскому пролетариату, «склонному к безрас
378
судному бунтарству, лишенному трезвого расчета, охотно хватающемуся за оружие, преисполненному безрассудной ненависти к либеральной. буржуазии...» А тут еще Ленин со всем своим авторитетом накануне выборов в Четвертую думу призвал к решительной •борьбе с кадетами! Но кто же, кроме кадетов, сможет вырвать Государственную думу из рук реакции?!
«Очищал бы прогрессу дорогу этой силой, не знавшей цепей!» — вспомнил вдруг Джафар и представил себе кудрявую голову Брони и эти свежие, наполненные ветром слова: «Пусть сильнее грянет буря!..» Только чувствуя себя силой, можно так говорить!
И хотя Швестров предсказывал, что все разномыслящие группы и группочки социал-демократии все-таки удастся объединить на единственной платформе — на платформе борьбы против большевиков, Джафару все вспоминался Баку в зареве горящих фонтанов, нефтяной его зной и, точно рожденная этим зноем, листовка большевистского комитета... Нет, большевизм — это сила! С такой силой надо быть осторожней...
Не возражая, но и не соглашаясь, наблюдал Джафар беснование Швестрова.
— Уж не с большевиками ли вы? — подозрительно спрашивал Швестров.
Конечно, Джафар не был с большевиками. Но зачем же идти против силы, к тому же еще не разгаданной? И он отмалчивался.
Из Петербурга приехал Рувим Абрамович, и Джафар сам почувствовал, что ему обязательно нужно одеться по-европейски. На квартире «товарища Акима», одного из идейных главарей кооперации, состоялось частное совещание, на котором из молодых присутствовали только Джафар и Швестров. Здесь по-европейски были одеты все, кроме Джафара и самого хозяина Акима Акимовича Акимова, который носил украинскую рубашку, вышитую такими крупными цветами, что им бы впору только на полотенце. Но такой наряд шел этому губастому и кудрявому звероподобному мужчине, у которого сквозь крепкую, до глаз
379
поднявшуюся бороду багровели сизо-румяные щеки; в крупных карих глазах было выражение жадности и неподвижности. .. Эта рубаха была своего рода мундиром, присвоенным только «товарищу Акиму». Она выделяла его среди собравшихся, что ему и полагалось. Джафару же выделяться своим костюмом совсем не полагалось, а черкеска его выделяла.
Ели пельмени, пили водку. Только Рувим Абрамович, расковыряв пельмени и оставив их на тарелке, морщась и отдуваясь, отхлебывал какую-то целебную воду из иностранной бутылки — и все поглядывали на него...
Серьезный разговор начался, когда перешли в кабинет. Рувим Абрамович сообщил, что кооперативный съезд будет разрешен, но в правительственных кругах возражают против того, чтобы съезд состоялся в Москве или Петербурге.
— А мы не гордые — мы в Киеве соберем! — опять сказал «товарищ Аким», и снова смеялись: смешны были добродушно-презрительные интонации этих слов.
В этом же тоне «товарищ Аким» и высказался: сразу после краткого выступления Гинцбурга он, кай председательствующий, взял себе слово, вскочил, коренастенький, с багровым от водки лицом, с оживленно блещущими глазами, и, демонстративно повернувшись в сторону Гинцбурга, «похлопал» ему. Все его поддержали, и Джафар тоже хлопал, понимая, что Гинцбург в Петербурге добился чего-то очень важного.
— Разрешили, значит! — сказал «товарищ Аким».— А попробуй запрети. Торгуем-с! — И задушевно-серьезно, почти молитвенно, произнес: — Чернозем подымается! А на гребне его кто? Все мы же, испытанные слуги народа. И лозунг наш старый: земля и воля. Только пишем мы его не по алому, а по зеленому. ..
Но заметив, что «зеленое» шокировало некоторых присутствующих, «товарищ Аким» вдруг ударился в самые крайние, сверх-«левые» рассуждения. .Зато кончил он деловыми предложениями по созыву съезда, и среди них было предложение включить в бюро по созыву съезда «наших молодых друзей» — Джафара Бек-
380
мурзаевича Касееева и Николая Тимофеевича Швестрова.
Тут-то Джафар понял значение своего спора со Спельниковым: в кооперации трезвые реалисты возобладали над утопистами, и он, Джафар, себе на удачу, был среди воинов трезвого реализма.
«Так вот зачем меня вызвали в Москву», — думал Джафар.
Вверх, круто вверх ползла на таблице линия роста кредитной кооперации, и вместе с ней шел вверх зеленый росток жизни Джафара.
— Да, читал я в газете, как вы нашего Егорушку Спельникова обидели, читал! — говорил «дядя Аким», подсев к Джафару и дыша на него горячечным хмелем. — С юности мы с ним дружны: как же, вместе младые думали думушки о благе народном, — ласковопьяно тянул «товарищ Аким». — Но Егорушка еще живет молодыми нашими мечтаниями, святая душа! А я говорю: зри в корень! И то, что наверху сидят еще жандармы и помещики, — это лишь наваждение: нам надо, на них не глядя, по камешку, по грошику наше великое дело делать! Егорушка Спельников — это рыцарь евангельской Марии, а сейчас времена Марфы настали... Так-то, сынок!
Впрочем, Джафару так и не пришлось дослушать: «товарища Акима» вырвало прямо на черкеску Джафара. И пришлось Джафару на следующий день зайти в великолепное капище «Мюр и Мерилиз». Примеряя костюм, он взглянул в зеркало и понял, как переделал его этот год: с головы до ног во всем новом, уверенно смотрел из зеркала молодой и смуглый европеец-южанин в синем костюме.
Глава четвертая
В эту зиму бежал из сибирской ссылки 1Константин Черемухов. Ему только исполнилось двадцать четыре года, и, происходя из северного Приуралья, он с молодости хорошо ходил на лыжах. Вот он и решил идти прямиком, перевалить Урал и с паспортом крестьянина
381
Новгородской губернии, возвращающегося домой после заработков (у него даже топор при себе был), добраться до новой северной железной дороги — ив Петербург.
К этой цели двигался он три месяца — примыкая то к охотникам, то к лесорубам, и прошел верст на триста севернее своего родного города, где жила его мать... Но показаться туда, да еще зимой, когда Кама, замерзнув, отделяла город от всего мира и когда каждый новый человек был на виду, он не хотел, не имел права рисковать собой. В Петербург, только в Петербург,— там год уже как издаются газеты «Звезда» и «Правда», там, надо думать, восстановлен центр партийной работы.
Медленно, но неизменно в одном направлении, с востока на запад, на Питер, шел Константин, и почти все это время, то утихая, то разъяряясь, полярный ветер неизменно дул с севера. Иногда этот ветер достигал силы бурана, Константин укрывался тогда в деревнях и сторожках. А если даже случалось, что буран заставал его в пути, тогда в самой борьбе против него, в отстаивании своей жизни обретал он неисчерпаемые источники силы... Нет, не так страшен буран, как страшны дни затишья: серый, слабо мерцающий, быстро гаснущий день — и снова сумерки, снова ночь; кончился лес, начались замерзшие, на зимнее кладбище похожие болота — и снова впереди черная лесная стена... Все безмолвно, все сковано: смерть не смерть, сон не сон, хуже смерти и хуже самого страшного сна, — оцепенение, морока; и с севера, холодно обжигая его, однообразно гудит ветер, свистит, шелестит в голых кустарниках: сдайся, смирись, не стремись, все суета, суета...
Но страшные годы, когда было похоже, что по всей великой стране дул этот ледяной ветер, прошли. И не удостаивая возражением надоедливого спорщика и оттирая снегом уши, Константин двигался вперед, все вперед — на лыжах, на оленях, на лошадях, пешком и верхом.
Но вот рельсовая колея перерезала его путь, и паровоз первый раз окликнул его приветливо и предосте
382
регающе. Станционные жандармы с безразличным презрением глядели на Константина: в полушубке и с сильно отросшей русой бородой, был он для них одним из тысяч молодых мужиков, едущих с заработков или на заработки. Но проделать такой путь и попасться у самой цели...
Вагон качало, и Константин, чуть задремывая, просыпался, — так тысячу раз. Он был измучен этой «дырявой» ночью сильнее, чем многими бессонными ночами. .. В Петербурге, быстро пройдя от вокзала в пустынный переулок, он вынул из мешка свое «вольное» пальто и барашковую черную шапку. Торопливо переодевался, а кругом него уже выл и кружился новый ветер, злой и капризный ветер северной столицы. В тоненьком пальто пробирало насквозь, и не без сожаления бросил Константин свой обжитый, но теперь ставший опасным полушубок... Ветер дул «сразу изо всех улиц»; весь белый от вздымаемого с земли и ярко освещенного снега, он бешено раскачивал огромные электрические фонари над пустыми площадями, где неподвижно застыли конные памятники и конные жандармы. .. И все время что-то визжало, дребезжало: то неприлаженный кусок железной крыши, то вывеска.-.. Из распахнувшейся двери вдруг вырвался взвизг скрипок: «Я шансонетка... поберегись... стреляю метко — не попадись...» Константин, вздрогнув, невольно отпрянул в темноту... «Побереги-ись!» — протяжно кричали часовые там, далеко, в сибирском остроге, когда кто-нибудь слишком близко подходил к его проклятым стенам. Но то сибирское «поберегись» заключало в себе смертную угрозу и ничего более: шагни еще — и меткая пуля уложит в снег. А петербургский похабный окрик хотя угрозы жизни не заключал, но звучал жутковато-: Константин видел, как из дверей шантана, поддерживаемый золотогалунным холуем, вышел в пышной дохе и цилиндре моложавенький курносый скелетик. Глазницы были пусты, но, право же, улыбался он жадно.
Автомобиль ослепил на секунду Константина своими кошачьими глазами и бережно унес куда-то эту страшную петербургскую харю вместе с дохой и цилиндром.
383
Константина знобило; ветер не давал ему пощады ни на секунду и вырывался из каждой щели, но Константин все шел и шел. Хуже всего, что ему все мерещилась слежка, точно кто-то идет позади... Оглядывался — никого.
— Вы очень устали, Костя. Ни от чего тан не устаешь, как от одиночества. Насчет трупных пятен в Петербурге вы правы; сильнее, чем в уличной жизни, выступили эти пятна в искусстве: поглядите, что происходит с такими писателями, как Леонид Андреев, как Федор Сологуб, не говоря уже о всякой растленной мелочи. Любопытно, что в Александринский императорский театр приглашен на службу модный так называемый «левый» декадентский режиссер, — вот где, среди позолоты и бархата дряхлеющей империи, танец заживо разложившихся мертвецов... Но преувеличивать не нужно: мертвецы эти пляшут только потому, что мы — могильщики капитализма — еще не одолели своих живых врагов.
Константин сидел на диване, собеседник его неторопливо и бесшумно расхаживал по комнате. Порою он взглядывал на Константина сочувственно и пристально, какие-то огоньки вспыхивали в глубине его глаз, — или это так казалось оттого, что во взгляде было веселье, такое же, как в легкой неторопливой походке? Черные блестящие волосы, белые зубы, в коже лица какое-то мерцание, — или это от сдержанной страстности лица? Горло замотано шарфом, и Константин тоже не снял пальто, — в комнате довольно холодно, и окна застлало-грубо-мохнатым снежным узором, точно бело-голубым ковром...
— Нет, в Петербурге мы вас не оставим, дорогой товарищ Константин. Даже отдохнуть вам не дадим. И если жандармы еще не догадались, что Константин Черемухов, участник вооруженного восстания на Сибирской магистрали, и Аристарх Вдовченко, агент по распространению швейных машинок во многих приволжских городах, — одно лицо, то, схватив вас в Петербурге, они соберут вместе отдельные части вашей биографии — знаете^ как собирают картинки из дет-
384
сяких кубиков? И тогда — я боюсь, дорогой, — мы долго вас не увидим... Вам снова нужно нырнуть в глубину России. Ведь мы на пороге весны: вы еще увидите, с каким грохотам тронется лед! Как широко разольются все великие русские реки...
Константин встал с дивана. Ему стало весело и спать уже не хотелось. Конечно, он «нырнет в глубину России», он будет там, где нужен сейчас. Константин с озабоченной гордостью ощутил свое возросшее для партии значение... Приговоренный в седьмом году к каторжным работам, он в партии тогда не был еще и года, и его арестовали как рядового участника вооруженного восстания. После первого побега он воспользовался удачным паспортом и документами утонувшего в пьяном виде агента по продаже швейных машинок и осенью 1908 года объехал по заданию ЦК партийные организации Поволжья.
— Нет, товарищ Константин, мы вас сбережем. Мы придумаем ход, для жандармского мышления совершенно неожиданный...
И вот Константин с безукоризненным паспортом елабужского мещанина Бруснева Константина Матвеева сошел с поезда на перрон краснорецкого вокзала. Молодой человек в темном, довольно поношенном суконном пальто и черной барашковой шапке, среди людей, хлынувших из зеленых вагонов третьего класса, ничем не выделялся: такой же хмуро озабоченный, как все, он без помощи носильщика тащил свои чемоданы. Вместе с массой пассажиров миновал он стеклянную дверь, сквозь которую видна была красная пыльно-бархатная роскошь буфета первого и второго классов, с ее точно жестяными лапчатыми пальмами и блеском никелированных судков, где (который день!) кисли бараньи шашлыки и свиные отбивные. На него пахнуло оскорбляющей человеческое достоинство трактирной кислопортяночной вонью из буфета третьего класса; протяжно заскрипела тяжелая дверь с булыжником на блоке.
И сразу же медленный, точно отягощенный испарениями талого снега, подул ему ветер в лицо. Видны округлые под снегом холмы, на них белые, сливаю
25 Ю. Либедипсний
385
щиеся со снегом мазанки. Выше — красные кирпичные здания, железные зеленые крыши, колокольни. А за домами и церквами — небо, загроможденное неподвижными серебристо-серыми облаками. «Там горы», — подумал -Константин (так звали приезжего). Облака выглядели таинственно, они прятали горы. Константин поставил чемоданы на каменное крыльцо.
Расправив широкие плечи, он с наслаждением вдыхал насыщенный здоровьем, вольный ветер.
Правильный, с маленькой горбинкой, нос, энергичный подбородок, крепкие щеки, твердого рисунка рот, глаза, глубоко посаженные, небольшие, но быстрые. Это лицо точно омыто суровыми ветрами, которые развеяли и унесли прочь все несущественное, и тем сильнее прояснилось выражение вдохновенной и деятельно-доброй силы.
Ветер, который дул сейчас в лицо Константину, был незнаком ему, но сразу ему полюбился. Весело бывает идти против такого ветра; как задорный товарищ, толкает он в грудь, вступает в шуточную борьбу: давай, давай, кто кого... Медленно поднимаются извозчичьи санки по бесконечному косогору; извозчик, проклиная крутые краснорецкие горки и отсутствие настоящей русской, устойчиво морозной зимы, явно подготовляет почву для того, чтобы сверх полтинника — обычной таксы от центра города — попросить гривенник на чай. Но седок задумался о чем-то, и нельзя понять, слышит он или нет.
— Куда везти-то? — ворчливо спросил извозчик, поворачивая к Константину свою вкось растущую грязно-седую бороду и простодушные, слезящиеся от ветра глаза.
У Константина мелькнули в голове два адреса сочувствующих интеллигентов.
«Нет, лучше пока их не трогать... Гостиница? Тоже лучше поостеречься...»
— Мне бы комнату снять, недорогую... Не знаешь?
— Как не знать... — оживился извозчик. — Третий десяток ездим, — говорил он, видимо не отделяя себя от своей очень почтенного возраста лошади.
385
И он подвез Константина к голубым воротам в отдаленном и тихом конце трехверстного, пересекающего весь город Ермоловского проспекта. За голубыми ворогами виден дом — тоже голубой, окруженный густым и низкорослым, сейчас еще по-зимнему голым садом.
Комната, сдававшаяся внаем, помещалась -в мезонине. Хозяйка, штаб-ротмистрша Маргарита Андреевна Голубович, темнолицая старуха с твердо завитыми голубовато-седыми волосами, затягивалась в корсет, говорила многословно и вкусно хрипловатым и все еще приятным баском.
— Постояльца беру не из денежного интереса, а ради того, чтоб в доме мужчина был.
Ее бесцеремонные глаза казались особенно черными, и, лихо пуская из ноздрей папиросный дым, она беспрестанно помаргивала, не то от дыма, не то привычно кокетничая.
— За мной как за каменной стеной будете, — обещал Константин.
Одно окно его комнаты выходило прямо на ворота, а ко второму примыкала низенькая крыша. По ней можно было спуститься прямо в сад, а сад уходил вниз, превращался в заросшую диким кустарником кручу — крутую сторону одного из оврагов, со всех сторон окруживших Краснорецк.
Комната с тряпично-радужными чистыми половичками на полу и громадными арбузами и тыквами, так выпукло нарисованными на потолке, что Константин на них поглядывал с невольной опаской, очень ему понравилась. Стены были выкрашены в розовый цвет, и потому в комнате всегда было как при яркой заре.
Константин просыпался рано. И на третье или четвертое утро своей краснорецкой жизни, взглянув в окно, выходящее в сад, увидел он вдали похожие и на землю и на небо, НО' более прекрасные, чем земля и небо, вершины снежных гор... Он босиком стоял у окна и мечтательно глядел туда.
Никогда не приходилось ему бывать в горах, и хотелось туда, хотелось ступить ногой на эти высокие снега. И вдруг он почувствовал, что ноги его вправду закоченели, — ведь он стоял босиком на полу. А гор
387
25*
уже не было видно. Солнце поднялось выше, и они бесследно растаяли в густой синеве неба, точно их никогда не было.
Когда Константин ехал в Краснорецк, он уже знал, что оттуда с полгода нет вестей и что за последние четыре года там арестовали три состава большевистской организации. Потому, хотя ему и была указана партийная явка и рекомендованы квартиры сочувствующих интеллигентов, к ним он относился с большой осторожностью.
Явка, указанная Константину в Краснорецке, находилась в вегетарианской столовой. Жена краснорецкого вице-губернатора Юлия Адольфовна Долгоногова была ярой последовательницей и проповедницей безубойного питания. При ее содействии и открылась в Краснорецке первая вегетарианская столовая. Тихо веселясь, рассматривал Константин благонамеренную салатно-зеленую вывеску под голубеньким лозунгом: «Я никого не ем».
Константину до этого не приходилось бывать в. вегетарианских столовых, и потому он с любопытством, но без всякого удовольствия вдохнул ее безгрешные и неаппетитные ароматы. Однако прейскурант цен, вывешенный у входа в столовую, его поразил — все было до предела дешево, и Константин решил при худых денежных обстоятельствах обязательно пользоваться без-убойным питанием.
А вот слева от кассы на столике разложены «идейные» вегетарианские -брошюры в зеленых и голубых обложках; их продает девушка с русой косой и брошкой в виде лодочки, — она-то ему и нужна. Теперь нужно подойти к этой девушке, задать ей вопрос и получить отзыв... Но Константину вдруг показалась опасной эта миловидная, простенькая девушка с тол-' стой русой косой. Хорошо еще, если она только удивится вопросу, в котором искусно будет скрыт пароль..,. Но, может, полиция узнала также и отзыв, и девушка бойко откликнется и скажет этот отзыв. Да, она миловидна, у нее красивая русая коса, уютный белый пуховый платок и та самая брошка в виде лодочки, которая у нее и должна быть... Но есть что-то окостенелое, напряженное и тупое в ее хорошеньком личике, и, при
388
всей своей миловидности, она похожа на манекен в магазинной витрине.
Шницель по-венски, который купил Константин, оказывается, был сфабрикован из мерзейшей репы... Издали рассматривая эту поддельную девушку с лодочкой, Константин аккуратно доел и ушел.
Он решил навести справки, и для этого ему не пришлось уходить из своей квартиры: хозяйка его Маргарита Андреевна могла рассказать обо всем, что за последнюю четверть века происходило в Краснорецке... Вегетарианцы? Маргарита Андреевна их не выносила, Константин от души к ней присоединился...
— Этот дурак Долгоногов, — повествовала Маргарита Андреевна, — начал карьеру в посольстве в Англии, но за глупостью пришлось убрать. Его дура Юлия там связалась с Армией спасения и вывезла англичанина-гувернера; наверное, он и обучил ее вегетарианству. На их детей без жалости глядеть нельзя: может, в Англии это и ничего, когда семнадцатилетний оболтус идет по городу (прошу прощения!) без штанов, вот в этаких, до сих пор, и видны волосатые ноги. Но у нас на них собаки бросались, уверяю вас. Сейчас заканчивают образование где-то в английских университетах. А директора этой мерзкой столовой... мичмана Бубинас выгнали из флота за неблаговидные поступки; он у Долгоноговых преподавал фехтование и гимнастику. И Юлия его обратила в вегетарианство. Не могу уразуметь. Если можно изменять мужу с вегетарианцем, почему отказывать себе в шашлычке?
Константин, посмеиваясь, слушал и наконец дождался: Маргарита Андреевна со злорадством сообщила, что в числе членов вегетарианского общества — представьте — обнаружились вдруг политики.
— Пришлось арестовать даже их главную повариху, а им ее (с рекомендациями!) прислали из Петербурга... И еще каких-то служащих... У Долгоногова были неприятности, я определенно знаю, — сыпала Маргарита Андреевна.
Маргарите Андреевне нравился молодой постоялец,— о нем хотелось заботиться, рассказывать ему о себе, чтоб он пожалел.
389
«Тоже ведь какая жизнь — все рожала мальчиков: до девяти лет он с тобой, а потом в корпус — и хоть бы здесь, на Кавказе, а то в Петербург, по протекции...»— и она вздыхала. Оглядываясь на свою жизнь, она раскладывала пасьянс и слушала, как над ее головой порой начинает шагать Константин.
«Устал, — думала она. — Работящий, чертит по двое суток, прямо глаза вспухнут».
— Я чертежник, золотые руки, кончил землемерное училище... С этим у нас в России не пропадешь, — сказал он ей о себе. — Да и дядья у меня богатые — купцы уральские, иногда помогают. И сюда, верно, будут присылать.
— Богатый наследник. Женю! — грозилась Маргарита Андреевна.
Бывало, что постоялец на целые сутки пропадал; шатался по окрестностям города, и никакие с колючей крупой северные ветры не удерживали его дома.
— Для меня это пустяки, я сам северный человек, — отвечал он на ее сочувственные ахи-охи, когда, раскрась невшийся после длительной прогулки, с блестящими глазами, приходил похлопотать о самоварчике.
Она заметила, что легче всего Константина задержать у себя внизу, если начать рассказывать о Красно-рецке. Ей это льстило; всю жизнь провела она здесь, и покойный недаром говаривал: «Твоим язычком, моя анж, бриться можно, пароль-доннёр, бриться», а сам-то покойный уж очень был ненаходчив на острое словцо...
Маргарита Андреевна быстро, лукаво-зло и весело помигивая, заводила рассказы, и вся подноготная видных семей, купеческих, чиновных и офицерских (Маргарита Андреевна и своим спуску не давала), всплывала наружу.
Константин раз-другой спросил ее о старой Фор-штадтской слободе, о новом Порт-Артуре. Но Маргарита Андреевна в этих местах знакомства не водила, и Константин перестал ее спрашивать.
Он жил в Краснорецке, точно переходил по незнакомому болоту: раньше, чем твердо поставить ногу, несколько раз с опаской щупал почву. Явка была провалена, организация разгромлена... Инженер Лубенец
390
и доктор Гедеминов, два сочувствующих интеллигента, указанные ему из Петербурга, были на свободе, но он в их помощи пока не нуждался.
Если от домика, в котором он жил, идти по Ермоловскому проспекту, то тихие дворы и садики, в которых стояли одноэтажные особнячки, начинали сменяться двухэтажными кирпичными и каменными домами с окнами, выходящими прямо на проспект. На парадных дверях можно было видеть достойно-скромные, то белые эмалированные с черными буквами, а то медные желто-блестящие дощечки: вывески адвокатов, инженеров, врачей.
Здесь снег с тротуаров счищался. Золотые крендели и серебряные поросята болтались над панелью, обозначая булочные и колбасные. Из-под вывески, которая белым по синему многозначительно гласила «Нобель», воняло керосином, бензином, — местный склад всемогущего нефтяного короля. Из-за сплошных стекол, окруженный маленькими и большими циферблатами часов, качал задумчиво головой и поднимал и опускал руку в белой манжете картонный господин — чудо часовой механики господина Венцеля, владельца часовой мастерской. Шляпная мастерская «Венский шик», лавки москательные, колониальные, мануфактурные, галантерейные, скобяные. «Эльворти» и «Мак-Кормик» — американские фирмы. Электростанция принадлежала бельгийцам, сепараторы продавала датская фирма. Да и в новенькой технической конторе инженера Поспешин-ского, где Константину сразу, не спрашивая у него паспорта (чтоего очень устраивало), стали заказывать чертежные работы, в респектабельной тишине этой конторы, в заграничных технических рекламах и фотографиях, развешанных по стенам, тоже угадывался какой-то анонимно-иностранный дух. Впрочем, несколько громадных паровых мельниц принадлежало Пантелееву, дрожжевой завод был братьев Сукосее-вых, пивоваренный завод — Борзобогатова, суконная мануфактура — Рукавишниковых: русские толстосумы обижаться никак не могли. Но в местной газете «Кавказское эхо» Константин прочел статью, в которой цифрами доказывалось, что значение иностранного капи
391
тала в пределах Краснорецкой губернии за последние годы увеличивается и абсолютно и относительно. Тон статьи в отношении иностранцев был восторженный, а в отношении отечественных капиталистов наивно-менторский: сами-де виноваты —• вам полагается («согласно законам исторического развития») быть с демократами, а вы («в силу невежества и отсутствия широких политических взглядов») упорно тянете к Пуриш-кевичу... «Касьян Бесперцев» была подписана статья.
«Ты, конечно, {меньшевик, о смиренномудрейший Касьян, в четыре года раз именинник», — посмеиваясь, думал Константин.
Шоссе с вокзала в город было- проложено так, что на одном из его- поворотов, открывался вид на расположенный несколько ниже поселок железнодорожных рабочих, получивший не то ироническое, не то печальное название «Порт-Артур». Константин стоял на шоссе и смотрел на тропку, по которой ему следовало сойти в Порт-Артур. Хмурая, дождливая и облачная северо-кавказская весна точно нехотя делала свое дело: снег оставался только на теневых сторонах холмов, и повсюду выступали кремнисто-бурые и глинисто-желтые откосы; по- ним лепились скромные беленькие хатенки. Что-то грустное было в них — нет огородов и садиков, даже ограды не везде поставлены. Порядка улиц никак не поймешь: один домик на холме, соседние — внизу, в балке.
Почва была очень изрезанная: канавы, овраги, и повсюду с ревом летела мутно-желтая бешеная вода. Кое-где по косогорам видны полуобвалившиеся, превращающиеся в кучи глины мазанки, и Константин понял, почему в поселке нет зелени: не только во время вешних вод, но и летом, при сильном таянии снега в горах, через Порт-Артур проносились водяные шквалы — из-за них-то и нельзя здесь разводить зелень. Вода не только смывала землю, но и разрушала самые дома.
Вот почему городская управа отвела этот участок под поселок для железнодорожных рабочих. Но прямо перед собой, по ту сторону поселка, Константин видел городскую свалку «Бриллиантовый берег»: так назы
392
вали обитатели Порт-Артура эти смердящие чернорыжие откосы, которые всегда курились, точно там не прекращалась вулканическая деятельность. Это горел навоз, подожженный в порядке «санитарно-гигиенического надзора». Однако, несмотря на заботливые меры, самые неожиданные эпидемии поражали Порт-Артур.
О положении этого поселка 'Константин прочел недавно дельную статью в «Кавказском эхе». Статья подписана была «Е. Гедеминов». Константин обрадовался: так звали того врача, квартира которого была ему указана как надежная. Очевидно, доктор — честный и смелый человек. Сейчас, сойдя по тропке вниз и перебираясь по досочкам и бревнам, перекинутым через потоки, скользя в глине и хватаясь за снег, оскверненный помоями, Константин к тому, что было написано у Ге-деминова, добавлял свое гневное: «Глядите, порт-артурцы, как хозяева жизни обходятся с вами, и ни на что не надейтесь, кроме свержения эксплуататоров». Но вокруг только бесилась весенняя вода, да ребята с опасностью для жизни пускали по ней кораблики, — не к ребятам же обращаться ему с этой речью...
Когда же Константин, весь в поту от подъемов и спусков, оказался на главной улице поселка, тоже, впрочем, искривленной и перерезанной оврагами, он вдруг обнаружил, что за ним увязался филер. Озабоченный подъемами, спусками и переправами через ручьи, Константин как-то не уследил, где именно попал под наблюдение... Не показывая виду, что заметил сыщика, Константин медленным шагом бездельника шел по пустой улице; время было рабочее, и только слышались порой громкие голоса женщин: соседки переговаривались из окна в окно. Белая скромная часовня под зеленой крышей; неподалеку, на буераке, топчется полицейский...
Константин миновал несколько домов. Радужная вывеска пивной — и опытный глаз Константина сразу приметил: напротив нее на скамеечке сидят двое, пивная под их зорким наблюдением. Филеров — двое (поодиночке, очевидно, ставить опасно). Дойдя до полицейского поста, Константин вежливо спросил, как пройти в городской сад.
393
— Не на ту сторону с шоссе свернули, — ворчливо сказал полицейский, усталыми и неприязненными бледноголубыми глазами вглядываясь в Константина.
«Запоминает», — подумал Константин.
Филер отвязался, как только Константин вышел из пределов Порт-Артура, — значит, весь поселок находится под особым наблюдением. Может быть, это в связи с последним разгромом партийной организации?
Конечно, можно было еще раз и более осторожно пройтись по Порт-Артуру, приноровившись ко времени, когда рабочие возвращаются с работы; завязать случайное знакомство: не выйдет первое, выйдет второе — поселок заселен безвестными друзьями... А может, в Порт-Артуре где-нибудь сдается угол? ..
Но наблюдение, под которым находился поселок, делало каждый из этих шагов очень рискованным. А тут перед Константином открылась иная возможность.
В местной же газете «Кавказское эхо» Константин нашел скромное объявление: общество приказчиков извещало о возобновлении бесплатных общеобразовательных лекций. О возобновлении? Значит, они были прекращены? В связи с чем? Не в связи ли с арестами?
О существовании в Краснорецке общества приказчиков Константин знал еще до своего приезда сюда: в правлении его работал Кияшко, меньшевик-партиец, единственный из краснорецких меньшевиков, с которым, как ему сказали в Петербурге, можно было- иметь дело. В обычный час начала лекций, в семь часов вечера, Константин 'пошел к зданию пожарного депо, где устраивались лекции. Огромные ворота депо были еще на запоре, но около них уже скопилась большая толпа молодежи, слышался смех и говор.
Константин подошел и при красноватом свете слабой электрической лампочки внимательно прочел от руки написанное объявление, наклеенное на воротах.
Шехтер читал «Теорию Дарвина», Владимирцева — «Поэты страдальцы и мученики», Анисимов — «Экономическую географию России», Бесперцев — «Культура англо-саксонских стран», Гедеминов — «Основы анатомии и физиологии».
394
Константин знал, что Кияшко напечатал в свое время несколько учено-скучных статей по экономическим вопросам. Если его нет среди лекторов, значит он арестован. Кияшко среди лекторов не было.
Константин стал посещать лекции общества приказчиков: среди публики, которая бывала на этих лекциях, ему по началу нетрудно было оставаться незаметным, а посещала эти лекции та публика, которая больше всего нужна была Константину...
Эти лекции были, по всей вероятности, тщательно процежены в полицейском участке, и, слушая их, Константин угадал партийную принадлежность двух лекторов: в Анисимове — народника, в Бесперцеве — меньшевика самой крайней правой разновидности, ликвидатора и ревизиониста. И все же учтивый, в белых перчатках, смазливый пристав обязательно присутствовал на каждой лекции, и его чистенькое личико всегда выражало вопросительное беспокойство.
Когда пожарная каланча, которая вздымалась непосредственно над депо, отбивала часы, в аудитории так гудело, что лектор останавливался на полуслове. Здесь не топили, а весна выдалась суровая. Лекторы читали в шубах, и слова вылетали изо рта лектора вместе с паром. В перерывах, которые совпадали с боем часов, публика валила к скромному буфету. Смех, громкое обсуждение лекции — того, что лектор не сказал, потому что не мог сказать... Или не хотел сказать? И тут же в разговоре вспыхивали опасные искры и бежали — красные по черному. Кого-то преследуют, кто-то скрывается, «один — замешан, другой — повешен». .. В горах ловят какого-то пастуха, его голова оценена. Забастовал дрожжевой завод, забастовали на строительстве железной дороги: там много людей с голодающей Волги. Волга голодает, Лена бастует, Нева поднимается... «Тронулась, река народного движения».
И пристав сбивался с ног — он бежал на опасные слова и слышал: «Но силой ветра от залива перегра-жденная, Нева обратно шла, гневна, бурлива, и затопляла острова». Пристав узнал: это из «Медного Всадника», это нельзя запретить... Но нет, он не мог
395
ослышаться: о том, что тронулась река, говорилось в запретном смысле.
Насколько перерывы посреди лекций были хлопотны для пристава, настолько они благоприятствовали Константину: он точно руку на пульсе держал. Эти люди, тянувшиеся на тусклый свет просветительной работы общества приказчиков и после десяти и одиннадцати часов работы находившие волю и силу для того, чтобы здесь, в холодном сарае, собирать крохи знаний, — конечно, они непобедимы, эти люди! Окоченев во время лекции, парни топали ногами, пели, боролись. Пение запрещалось всякое, даже хоровые и игральные песни. Но смех нельзя было запретить, и он вместе с клубами пара и дыма перекатывался по толпе. Константин узнавал: tq покрасневшее снизу (подбородок и кончик носа) лицо кузнеца, то желтовато-зеленое, с зловещим румянцем на щеках и губах лицо наборщика. Девушка, совсем молоденькая, шутит, смеется, но в ее спине есть сутуловатость: швея — угадывал Константин.
Сочувственно и завистливо наблюдал он любовные встречи: затянувшиеся рукопожатия, вспышки румянца, взгляды и улыбки.
В связи с прошедшими выборами в IV Государственную думу редактор «Кавказского эха» Никодим Альбов прочел в депо публичную лекцию. «Что дала России Третья дума» — называлась эта лекция, «очень левая, даже удивительно, что полиция разрешила ее», — так говорила молодежь на лекциях в депо.
В своей лекции Никодим Альбов поразил и привлек слушателей крайностью своих выводов: он заявил, что Дума — картонное учреждение, что истинные демократы, случайно туда попадающие, «обречены там ничего не делать, а это хуже, чем делать нечего». В перерывах между лекциями Константин услышал толки о Никодиме Альбове и видел, что эта сверхлевизна привлекает молодежь. Нужно было выступить против Альбова, но сделать это так, чтобы привлечь к себе возможно меньше внимания охранки, полиции. Притворившись наивно-недоумевающим слушателем лекции
396
Альбова, Константин написал «письмо в редакцию» и отнес в «Кавказское эхо».
— Вы марксист? т— спросил Никодим Иакинфович, прочитав письмо.
— Нет... то-есть я... я в землемерном учился, — конфузливо пробормотал Константин и своей «наивностью» привел в снисходительный восторг маститого редактора.
Никодим Иакинфович с удовольствием поговорил и поспорил со своим молодым и наивным оппонентом и напечатал его письмо за подписью «Недоумевающий».
Прошло несколько дней, и Константин на очередной лекции в. пожарном сарае мог проследить действие своей статьи: кучка молодежи спорила о письме «Недоумевающего», номер «Кавказского эха» ходил по рукам. Константин подошел и стал молча слушать. Одного своего сторонника Константин приметил сразу: это был плотный, в казакине и серой барашковой шапке, человек. По усам, по складу его широкого лица, по особенностям говора в нем угадывался украинец, но определить на взгляд его профессию Константин не смог. Этот «дядя» — так захотелось назвать его — был очень приятен, но не следовало, конечно, ему так громко поминать Николая Гурьевича Полетаева, а тем более во весь голос выражать удовлетворение по поводу того, что в новой Думе «мы все же имеем свой пяток таких, как Николай Гурьевич...»
— А чего они там впятером могут сделать? — возражал высокий, угрюмого вида парень.
Землистый цвет лица и подозрительные кирпично-красные кучки румянца на щеках, красивый высокий лоб — все было в нем симпатично Константину. Если определять политически его возражения — это были неоформленные настроения бойкота думских выборов, недооценки думской работы. Но в его болезненном лице, усталом голосе, в его пальто со скромными петлицами почтово-телеграфного ведомства, которое было поношено и так ему узко-, что некрасиво распяливалось, на его плечах, сутуловатых и приподнятых, и во всем Константин угадывал родную ему нужду, честную и
397
гордую. Но тут внимание Константина привлек третий участник спора.
— Вчера с евангелием, завтра с бомбой, сегодня — против Думы, а завтра — увидишь: сам в Думу пролезет и будет с кадетами шашни затевать.
Слушатели шумно вознегодовали против этих непочтительных по адресу Альбова слов. Константин же вздрогнул и обрадовался: в этих задорных словах он сразу признал большевистскую партийную выучку.
Это был юноша лет семнадцати. Тонкое, бледное лицо, узкие плечи, длинная шея, окутанная теплым, домашней заботливой вязки шарфом, темносиние глаза, маленькие и твердые.
Слушая своего оппонента, он усмехался, кривился. Возражал коротко, зло, и, наверное, только Константин был в состоянии оценить ту незаурядную начитанность, которая слышна была в этих резких словах, направленных против «вздорного анархизма»: так определял этот мальчик позицию Альбова.
Увидя, что в массе молодежь все же находится под обаянием Альбова, Константин тоже вмешался в спор: он-де недавно читал о Мильеране, который начал свою карьеру в качестве самого левого рабочелюбца-синди-калиста, отрицающего всякий парламентаризм, а потом, пренебрегая дисциплиной партии, пролез в министры и расстреливал бастующих рабочих.
Константина слушали жадно, порой перебивали вопросами:
— Синдикализм — это еще что за штука? ..
— А сам-то он, Мильеран, кто? Рабочий?
— Из нашего брата такая иногда сволочь выскочит— хуже всякого барина... — сказал вдруг парень в форменном пальто почтовика.
Перерыв кончился, и разговор оборвался. Но Константин сел неподалеку от почтовика.
После лекции они вышли вместе; почтовик продолжал спорить; с глазу на глаз Константин говорил смелее, и почтовик из оппонента превратился в слушателя, но когда они расставались, почтовик сказал все же, что остается при своем мнении, и это Константину •понравилось.
398
На следующей лекции встретились они дружески. Когда после лекции вышли вместе, почтовик опять возобновил разговор о Государственной думе. Видно, что некоторые аргументы Константина никак не выходили у него из головы.
В разговоре почтовик сказал:
—• Хуже городского обывателя никого нет. Например, они нарочно науськивают собак. Идешь к нему же с письмом или телеграммой, и еще отбиваешься от пса. А «сам» стоит и любуется. И ведь есть которые университеты кончили...
— Вы почтальон? — спросил Константин.
— Три года ходил — выходил себе простуду. Сильно кашляю. А сейчас взяли в почтовую контору.
«Подходящее занятие», — подумал Константин.
Он тоже рассказал о себе все, что мог рассказать: он чертежник, учился в землемерном, но училища не окончил из-за недостатка средств.
— Одного поля ягода, — с удовольствием сказал Стальмахов — так звали нового знакомого.
От него Константин узнал, что толстого «дядю»-украинца, так яростно и неконспиративно защищавшего точку зрения письма «Недоумевающего», звали Максим Колющенко; он механиком служил на одной из паровых мельниц Пантелеева. А третий, самый молодой участник спора, поразивший и заинтересовавший Константина своей начитанностью, оказался сыном петербургского рабочего Романа Антиповича Загоскина, который был Константину указан из партийного центра как один из краснорецких большевиков. Старик несколько месяцев как был арестован и недавно сослан, а сын его Вася, которого Константин по внешнему виду принял за наборщика, ездил помощником машиниста на паровозе.
— Хороший хлопчик, но до отца далеко. Отец — сразу видно, что из Питера, и хотя зарабатывает руками, но как начнет разъяснять — куда там наши лектора! Вот послушать, как бы он рассудил о Думе. И душевный и веселый. А Васька гордец.
Константину хотелось узнать подробности разгрома партийной организации. Может быть, их знает Вася?
399
И потом — ведь Вася работал на железной дороге, не поможет ли он наладить связь с железнодорожниками? Но рассказать Васе о себе Константин, понятно, не мог, а на более близкое знакомство Вася никак не шел. Его нельзя было привлечь ни спором, ни изъявлением единомыслия: он в ответ только взглядывал своими маленькими твердыми глазками и тут же быстро отводил их. Что это было: нелюдимость, трусость или осторожность конспиратора?
Константин иногда бывал в библиотеке-читальне общества приказчиков; там он просматривал газеты и толстые ежемесячники.
Он стал приглядываться к заведующей библиотекой; очень молоденькая, она держалась с достоинством и даже с важностью, при ее юности несколько забавной.
Ее бледное, оттененное черными бровями лицо словно таило что-то, — она как бы не подпускала к себе. Порою она задумывалась о чем-то, и лицо ее смягчалось грустной сосредоточенностью, беспомощно поднимались брови, она становилась так мила, что на нее можно было заглядеться.
Однажды Константин увидел ее с тем самым Васей Загоскиным, о котором ему рассказывал Стальма-хов, — молодые люди встретились у крыльца клуба... Всего несколько секунд видел их Константин вместе: он склонился к ней, она смотрела ему в лицо, — ни слова не слышал Константин, но почему-то уверен был теперь, что этот юноша и эта девушка любят друг друга.
Константин спросил Стальмахова о библиотекарше. Тот рассказал все, что знал о выступлении Брони на новогоднем вечере (сам Стальмахов был в то время арестован). Для Константина этого было достаточно, и он сделал имя Горького паролем, на который девушка должна была отозваться.
— Я хотел бы прочесть «Мать» Горького, — сказал Константин, прикидываясь наивным.
Она внимательно взглянула на него, он не отвел взгляда.
400
— В библиотеке нет этой книги, но я вам достану ее, — ответила она и исполнила свое обещание.
Возвращая книгу, Константин сказал:
— Очень интересно!
Броня ответила:
— За героями этой книги будущее...
— А себя вы отделяете от них? — спросил Константин.
Броня оглядела его.
— А вы? — ответила она вопросом.
Константин молчал, но она глядела требовательно.
— Я? Нет, — ответил он медленно. — Я вместе с ними.
Она взволновалась, покраснела.
— Вы берете на себя большую ответственность тем, что сейчас сказали, — сказала она, даже немного задыхаясь.
— А вы? Неужели вы боитесь ответственности? — спросил он.
— Нет, не боюсь! — сказала она, решительно глядя ему в глаза.
Он протянул ей руку, она подала свою.
Когда он в следующий раз пришел в библиотеку, Броня спросила шепотом:
— Вы знаете Максима Колющенко?
— Немного. Встречались на лекциях в пожарном депо, там я слышал его не раз.
— Что вы о нем думаете?
Константин помолчал.
— Он мне нравится. Пожалуй, держится несколько откровеннее, чем подобало бы человеку, вышедшему из тюрьмы.
— Вы знаете об этом? — спросила она быстрым шепотом.
— Да. От Стальмахова.
— Они все тоже знают вас, — сказала Броня, — а Наумыч хочет встретиться с вами.
И Константин будто бы случайно встретился с Колющенко здесь же, в библиотеке. Познакомились и вышли на улицу, сначала Константин, а за ним Максим. Время было после заката. Они часа три ходили по го
26 Ю. Либединский
401
роду, под конец Константин проводил Максима до Пан-телеевской мельницы, где в поселке при мельнице жил Колющенко. Выйдя из. тюрьмы, Максим Колющенко, единственный из членов Комитета оказавшийся на свободе, стал возобновлять партийную работу. Сам из здешних крестьян, он имел давние связи с селами и станицами Красноречья. Знакомцы его под видом помольщиков приезжали на двор мельницы, всегда оживленный и загроможденный подводами.
Благодаря общительному характеру у Максима были, как он выражался, «браты-сваты» по всему городу'— среди наборщиков, среди пекарей, среди железнодорожников.
Колющенко был второй год женат, у него недавно родилась дочка. Вокруг дома он развел сад, огород и сейчас продолжал заниматься всем этим совершенно невозмутимо, точно участие в революционном деле не ставило ежеминутно под удар его маленькое и чистое счастье.
Двор верхней пантелеевской мельницы приобрел важное значение для работы возрождающейся большевистской организации Краснорецка: здесь, среди телег и арб, под мычанье волов; и ржанье лошадей, Константин вместе с Максимом провел несколько бесед с крестьянами и казаками, и ему стало понятно бурливое состояние этого огромного края.
О том, что за «Ростовом-батюшкой» лежат никому не принадлежащие черные земли, плодородные и пустые, знало все русское и украинское крестьянство. И все, что было предприимчивого и смелого в народе, одиночками, а иногда и целыми деревнями, уходило сюда от помещичьего утеснения. Сначала сообща рыли колодцы, помогали друг другу строить избы и подымать новь. А потом, обособившись, каждый по своим силам и достатку вел хозяйство, и у кого был.достаток, те баснословно богатели, а кто победнее — разорялись и шли в кабалу — в батраки. Земли были плодородны, урожаи сам-тридцать не редкость. Но зато случалось по три, по четыре лета подряд налетали суховей. Выдержать такое испытание можно было, только имея крепкий запас, — бедноту суховей разорял, пу
402
скал по миру. И бедняки шли батрачить к богатым казакам, кулакам-тавричанам, в огррмные помещичьи хозяйства, продававшие на экспорт высокосортную пшеницу. Весь батрацкий люд, сопровождавший хозяйские обозы с зерном, долгие часы толкался на просторном пантелеевском дворе, с охотой и жадностью слушая вольное слово о царе, помещиках и буржуях. Эти вольные слова, а порою и листовки рассеивались по (всему краю.
Под видом празднования дня ангела своей «немов-ляточки» Максим Наумович устроил Константину знакомство с железнодорожниками. Впрочем, машинист Фаддей Иванович Ракитный — дальний родственник жены Максима Наумовича, угрюмый, глуховатый крепыш в синей тройке и лакированных сапогах, с сильной проседью в черной бороде — в этом знакомстве не участвовал, так как, придя, он сразу же напился и заснул.
— Оно и лучше, — сказал Максим Наумович и со смешком сообщил Константину, что у Ракитного висит дома на стене лубочная картина, изображающая царствующий дом.
Константина очень интересовали молодые слесари из депо, о которых Колющенко говорил, что это «дуже гарны хлопцы», и Константин понимал, что не о внешности молодых железнодорожников говорит Максим. Условлено было, что политический разговор с железнодорожниками заведет сам Максим Наумович, а Константин помолчит, послушает и приглядится. Но все случилось не совсем так, как он предполагал.
Из кухни принесли пироги. Было сразу же опорожнено несколько бутылок с настоенными на разных травах водочками. Под общий восторженный рев вынесли напоказ гостям побагровевшую от надсадного крика, всю в блестящих слезинках, безбровую и черноглазую «ангела Параскеву Максимовну».
Но как только два молодых железнодорожника вошли— третий, Вася Загоскин, не пришел, а Константин особенно рассчитывал на знакомство с ним, — они, обменявшись с Константином первым рукопожатием и сразу же сев около него, завели разговор: быстрые,
403
26*
круто поставленные вопросы, на которые (Константин должен был тут же отвечать.
Спрашивал больше веснушчатый и скуластый, с дерзкими желто-карими глазами Виктор Зябликов. Он говорил об избрании Юань Ши-кая президентом Китая («Скажи пожалуйста, как ловко богдыхана сковырнули— и богдыханова министра на его место!»), о сложных перипетиях балканских войн, во время которых, в результате интриг великих держав, балканские союзные страны готовы начать войну друг против друга, о выборах президентов в Америке и Франции; о стачке английских углекопов... Говорил и спрашивал. Спрашивал он — точно откусывал, задорно морщил мягкий нос, и все время словно что-то бегало под кожей его лица.
И по тому, как он спрашивал, ясно было, что на каждый из этих вопросов он сам, пожалуй, может кое-что ответить.
«Экзамен? — думал Константин. — На зуб пробуют?» Но это ему нравилось.
Выпили не так уж много, но все время застольно звенела посуда, кто-то громко пел, вокруг смеялись женщины, и было очень жарко.
Константин ел и, склонившись к своим собеседникам, обстоятельно рассказывал. В номерах «Правды», привезенных им из столицы, было напечатано много статей Ленина и Сталина. Короткие, яркие, они каждая в отдельности отвечали на конкретный вопрос, а взятые вместе освещали вое положение — ив России и во всем мире... И по мере того как Константин говорил, Экзаменационные вопросы прекращались — перед Константином были настойчивые и внимательные слушатели.
Впрочем, Виктор Зябликов успевал что-то нашептывать жавшейся к нему полной девушке с большими карими глазами и взбитой прической; он даже успел дважды протанцевать с ней,
Это был незнакомый Константину танец, который назывался «хиаватта». Кроме Вити Зябликова, никто этого танца еще не знал, и как только он начал танцевать, сразу образовался почтительный круг. Отделывал
404
Витя этот танец, полный- притопываний, неожиданных поворотов, настолько лихо, что даже дядя Ракитный проснулся и неожиданно закричал из-за спин чужим голосом, точно из воды: «Делай; Витюха! Свисти на поворотах!» — и Виктор так отделывал, что растрепались и закудрявились его гладко, до блеска смоченные темнорусые волосы. Он, наверно, зарабатывал неплохо: на нем была хорошая тройка, модные желтые ботинки с длинными плоскими- носами.
Глядя на него и на ту счастливо сияющую кареглазую девушку, которая была с ним весь вечер, Константин то радовался на них, а то завидовал им и задумывался о своей судьбе, — должна же и ему встретиться девушка!
Другой железнодорожник был постарше — высокий, бледный, долгоносый, чернявый и застенчивый. «Гриша Айрапетян», — назвал он себя при знакомстве.
По-русски Айрапетян говорил мягко и быстро, как говорят в Ростове, на Кубани, на Тереке. Одет он был хотя и не так франтовато, как Зябликов, но тоже опрятно. Поверх линюче-красной и сильно застиранной рубахи была на нем хотя и заплатанная, но тщательно отутюженная тужурка.
«И эти ребята выросли в Порт-Артуре, на Бриллиантовом берегу!» — так подумал Константин, и ему хотелось поднять рюмку и сказать об этой в труде и нужде, чуть ли не на городской свалке взлелеянной опрятности, о сбереженных грошах и копейках", о материнских руках, стиравших и гладивших эти воротнички и рубашки, и о непобедимости молодого класса... Но он, конечно, ничего этого не сказал.
С мельницы возвращались большой компанией, и пока хмель не рассеялся, пели хором то украинские, то русские песни. Приморозило, и дорога стала звонкая.
Пока шли по городу, компания убывала, на перекрестках весело прощались, расходились по переулкам. Под конец с Константином остались Зябликов и Айрапетян.
Теперь спрашивать начал Константин. Оба парня второй год работали самостоятельно, но заработная плата им шла как ученикам.
405
— Да и вообще все расценки неправильны. Профессиональный союз? Дядя Роман (так называли они старика Загоскина) толковал насчет общества рабочих по металлу, но не успел поднять это дело...
— А вы без него оробели.
Зябликов вскинулся, но Айрапетян мягким движением руки удержал его.
— Что ж, и верно! — как бы не замечая, продолжал Константин. — Это дело опасное... Но заниматься им нужно. Конечно, если вы сами пойдете к губернатору просить разрешения, он вас или выгонит, или арестует. .. Нужно сговорить в качестве инициаторов людей посолидней, постарше — вот хотя бы вроде этого дяди в лаковых сапожках...
— Это Ракитный-то? — быстро спросил Зябликов. — Как же его сговоришь: хоругвеносец, чушка с глазами...
— Конечно, он уступает вам в сознательности, — охотно согласился Константин. — Но от того произвола с расценками, о котором вы рассказывали, он так же, как вы, страдает. Поднимется он — поднимется все депо. И если он не провокатор...
— Он честный человек, свой человек, только темный очень... — перебил Айрапетян. — Вы правильно говорите, Константин Матвеевич. Дело тут, Витька, совсем не в Ракитном, а... впрочем, я потом тебе скажу!
— Чего там по губернаторским канцеляриям ходить! — вызывающе и злобно сказал вдруг Зябликов. — Вот тряхнем их — и сразу все вытрясем. <. В пятом году оплошали, а то бы...
— Оплошали? — переспросил Константин. — Но ведь то, о чем мы сейчас говорим, завоевано именно кровью пятого года. Верно, мы были разбиты, но кое-какие отдельные пункты удержали. Нельзя на этом успокоиться. Нужно рассматривать их как отправные точки для нового наступления, которое уже началось. — И он заговорил о подписке на «Правду», о питерских забастовках.
То, что беседовали на ходу, придавало особенный
408
характер всему разговору. Быстрый и гулкий шаг раз-меривал беседу. Опять вспомнили пятый год: кровавое воскресенье, всеобщую забастовку, «Потемкина» и Красную Пресню.
Шел последний мартовский снег, тихий и необыкновенно обильный. Воздух наполнен был большими влажными хлопьями, и узенькое лицо Васи Загоскина вдруг неожиданно возникло перед Константином под уличным фонарем, освещавшим снег, непрестанно мелькающий и заваливающий черную, уже оттаивающую землю.
— Вы не побоитесь пойти со мной сейчас в Порт-Артур? — спросил Вася.
И столько волнения было в его голосе, что Константину сразу захотелось с Васей пойти... Конечно, здесь может быть какая-нибудь мальчишеская глупость...
— То, что вы подошли ко мне, находится в связи с моим знакомством с Айрапетяном и Зябликовым? — спросил Константин.
— Да, — ответил Вася после некоторого молчания.
— Тогда идемте, — сказал Константин.
Они пошли.
— Можно взять вас под руку? А то мы пойдем по таким местам...
— Можно, — ответил Константин так же серьезно, как Вася спросил, хотя ему было весело.
Вася вел уверенно, а Константин в этом бесшумно мелькающем перед его глазами снегопаде ничего не видел: белое по синему рябило в его глазах. Они, во всяком случае, шли в Порт-Артур не со стороны шоссе, но и не со стороны депо — два пути, которые были известны Константину.
Поворот в улицу, в переулок, во второй: они очутились в белом поле. Сначала они шли по узенькой тропочке, Константин почувствовал под ногами какой-то мусор... Загремела под ногами жестянка. Константин от неожиданности вздрогнул.
— Поглядывайте налево — туда можно свалиться, — сказал Вася. — Сейчас мы идем по кромке Бриллиантового берега... Теперь спускаться!
407
Спуск был пологий. Внезапно в мелькающей белизне возникли черные, закрытые ставнями окна. Константин чуть не ткнулся в белую, сливающуюся со снегом стенку хаты.
В первое окно Вася стукнул три раза, второе прошел, в третье стукнул раз. Они молча постояли около входной двери. Щеколда звякнула — дверь открыла девочка лет двенадцати в пуховом платке, накинутом на голову.
Потом были сени, в которых, конечно, пахло кислой капустой, потом — кухня с большой печью, слабо белеющей в темноте.
На коленях, у самовара, стояла женщина. Освещенная пробивающимися из самоварного поддувала угольно-красным колеблющимся светом, она с пола взглянула на Константина; старое лицо ее было встревоженно.
Вася открыл белую дверь. Перед ним в своей дешевой, разноцветной стеклянной и бумажной роскоши открылась парадная горница, и, как показалось Константину, множество молодежи сидело вокруг стола, на котором стояла большая керосиновая лампа. Все лица с интересом и волнением обратились к двери.
— Вот, товарищ Константин, — хрипло сказал Вася. Снег лежал на Васиной шапке, на поднятом во--ротнике, на плечах пальто. Видно было, что ему хочется говорить торжественно, но мешает какая-то хрипота, он точно задыхался. — Нас мало, но мы все друг друга знаем и верим друг другу... Мы два месяца уже работаем. Все мы — сторонники большинства... то есть я, конечно, хочу сказать — товарища Ленина... И мы готовы. ..
Вася не то закашлялся, не то захлебнулся, и все лица обернулись к нему, взволнованные, негодующие на него, закашлявшегося в такой неподходящий момент.
Константин узнал уже среди присутствующих Зябликова и Айрапетяна. В комнате было совсем не таи много молодело!, как сначала показалось Константину, — всего восемь человек, яз них две девушки. Одна веснушчатым и веселым лицом напоминала Вик
408
тора Зябликова, — видно, сестра его. Другая была Броня, и Константин не сразу узнал ее: она смотрела на кашляющего Васю с таким выражением нежного сострадания, как будто он погибал у нее на глазах и ничем нельзя было ему помочь.
Константин снял шапку, стряхнул с нее снег, скинул пальто и сел на стул.
— Начинать серьезный разговор стоя я не хочу, — сказал Константин. — А вам, Вася, разрешите заявить следующее: даже если вы считали бы меня за самого заклятого классового врага, и то, протащив через такие сугробы снега, вы должны бы мне предложить стакан чаю.
— Ой!.. — оказала девочка, сестра Зябликова, и вдруг неудержимо прыснула.
Напрасно она, сделав ладони горсткой, обеими руками зажимала свой большой и веселый рот. Теперь уже смеялись все; даже Вася, сначала было нахмурившийся, вдруг махнул рукой, снял шапку и сел на диван рядом с Броней.
Сестра Зябликова исчезла в дверях кухни.
— Не скипел! — отчаянно сказала она из-за двери, обернув к Константину свое разрумянившееся лицо. — Извиняемся...
— Я подожду, — сказал Константин с шутливой важностью.
На него смотрели испытующие, ласковые и даже обожающие глаза, но во всех было знакомое ему выражение требовательности,,— так всегда смотрели на него те люди, которые через его посредство вверяли партии свою волю, свою силу. И он, оставив шутливый тон, спросил серьезно:
— Чем вы занимались все это время?
Рассказывать начал Вася. У него были еще с Питера прибереженные книжки — Дикштейна, Баха, несколько номеров юмористических журналов пятого •года; они и начали с чтения этих книжек.
— Потом делали рефераты по газетам... Я сам и еще некоторые — Зябликов, Айрапетян, Броня, — он застенчиво подбородком кивнул на нее. Она опустила голову.
409
— Откуда вы знаете партийные новости: о Пражской конференции, о совещании меньшевиков?
Вася и Виктор взглянули на Броню весело и таинственно.
Но тут дверь открылась. Старая женщина, которую Константин уже видел на кухне, внесла шумный дымящийся самовар.
— Мы потом вам скажем, товарищ Константин,— ответила Броня.
Маленькие и красные быстрые руки Викторовой сестренки сновали по столу, ловко расставляли посуду. Когда ей нужно было еще что-нибудь принести из кухни, она не шла, а бежала, сшибая стулья, — ей едва ли было шестнадцать лет.
Константин сидел лицом к кухне и в полуоткрытые двери видел, как в полутьме показалось лицо матери Зябликовых, — оно казалось особенно большим оттого, что реденькие волосы ее были туго стянуты назад м открывали большой, прорезанный морщинами лоб и уши, в которые вдеты были — когда, в какой розовой молодости! — серьги: ягодки с лепесточками, стеклянные дешевенькие серьги. Едва Зябликова замечала, что Константин глядит на нее, тут же она уходила в темноту, но Константин знал, что она продолжает слушать их разговор. Да и как было не слушать: скрытая жизнь Порт-Артура, в которую Константин стремился проникнуть со времени своего приезда,, сейчас раскрывалась перед ним в рассказах этих юношей и девушек.
Да, после пятого года туго пришлось Порт-Артуру. ..
Поселок стоит на земле, принадлежащей железной дороге, а потом/ казаки и полиция прямо на улицу выбрасывали семьи арестованных, хотя дома рабочие строили сами... А кому жаловаться? ..
В 1910 году в депо поступил Роман Антипович Загоскин. При нем была первая после пятого года забастовка, и администрация тогда здорово уступила: девять часов для подростков, повышенная оплата сверхурочных, выделение вредных профессий. А после ареста Романа Антиповича и других «взрослых» начальство постепенно все взяло назад, даже кипяченую воду в
410
баки наливать перестали. Но все недовольны — на что «хоругвеносцы», и те поминают добрым словом Романа Антиповича. Все время чувствовалось, что приезд и арест Загоскина обозначали какие-то рубежи жизни Порт-Артура; так и говорили: «до Романа Антиповича», «при Романе Антиповиче», «после Романа Антиповича». Но уволенных выселять перестали. Порт-Артура, видимо, снова боялись... В депо поступали приезжие, но они ничем не отличались от арестованных и уволенных: так, из Ростова приехал Айрапетян, из Варшавы семья Лемишевских; Стась Лемишевский, юноша с нежным и большеглазым лицом, был тоже сейчас в комнате.
Можно было не бояться, что эти молодые ребята проболтаются, — до ареста старших они самоотверженно, находчиво и храбро выполняли поручения организации. Когда же старших всех взяли, они стали сами собираться здесь, в хате покойного машиниста Степана Зябликова, отца Вити. Раньше взрослые покровительственно называли их мальцами. Но без взрослых дети растут скорей.
Когда ушли младшие ребята, Константин сказал четырем оставшимся старшим:
— Вот именно в таком составе нам и следовало устроить нашу первую встречу. Откуда у вас, друзья, сведения о Пражской конференции? — повторил он вопрос.
Все переглянулись, Броня улыбнулась и рассказала.
По отдаленной динии она приходилась родственницей меньшевику Шехтеру и жила у него. Шехтер «вел пропагандистскую работу с молодой интеллигентной работницей» (Броня работала в шляпной мастерской) и на ее вопросы о разнице между большевиками и меньшевиками кричал в ответ о новых кознях узурпаторов-большевиков. Таи узнала Броня о Пражской конференции и сообщила товарищам.
Смеялись они и над Бесперцевым, прозвав его «мелкая земская единица»: в одном из своих докладов Беспер цев утверждал, что мелкая земская единица будет основой грядущей меньшевистской демократии, которая мирным, бескровным, эволюционным путем устано
411
вится в России. К лысенькому Бесперцеву очень шла эта кличка.
Они говорили о меньшевиках и о народниках, о богаче Пантелееве—купце-самодуре, вдруг заявившем себя «прогрессистом». Много было в их суждениях по-молодому самонадеянного. Но Константину вспоминалась маленькая комната в Петербурге и за окнами, затянутыми грубо-мохнатым снежным ковром, бешенство петербургской метели. Там билось то сердце, удары которого отдавались в этой хатке. Они говорили, а где-то поблизости время от времени раздавались гудки паровозов, напоминая о широкой России, и Константин, хотя и был сейчас воодушевлен и даже растроган, не переставал практически рассчитывать.
— Итак, друзья, — сказал он, — вы сами чувствуете, как крепчает дующий над страной весенний 'ветер, а стало быть, нам, революционной партии, надлежит ставить паруса. Слов нет, эти годы нас громили вовсю, но мы устояли. Близится Первое мая — великий день пролетарского единства. Нам в нашем городе нужно сказать в этот день свое слово. Царизм собирается праздновать трехсотлетие своего кровавого господства в России — нужно ему испортить этот праздник.
Он замолчал.
— Это так! — отчетливо сказал Вася.
— Можете вы, товарищи, если потребуется, провести меня в депо? — спросил Константин.
Вася вопросительно взглянул на Айрапетяна.
— Это можно, — тихо сказал Айрапетян. — Когда бы вы хотели?
— Я извещу... — ответил Константин. — Через библиотеку, — сказал он, обращаясь к Броне; она кивнула головой.
Константин взглянул на часы и стал прощаться: время шло к полуночи.
Новые друзья его тоже поднялись. Им хотелось бы пойти его провожать. Но нельзя, нельзя... Если бы он сейчас поручил им что-нибудь делать... Видно, что он сам еще молод, но это был командир, и его хотелось слушаться.
412
Константин был доволен сегодняшней встречей: Порт-Артур, депо, железная дорога — перед ним точно дверь распахнулась: как всегда, в тысяче мелочей открылась новая область работы. Что с того, что организация еще раз разгромлена? Вчера на дворе Пантелеевской мельницы, сегодня здесь в Порт-Артуре, завтра в типографии и на дрожжевом заводе — поднимутся неистребимые ростки ее. Страстность и трезвость, терпение и риск — вот что от него требуется.
Константин подымался вверх по снежному откосу. Снег только, что лег и был рыхлый, тяжелый, напитанный влагой: не то, что морозный, сухой снег, по которому пришлось столько пройти, когда он бежал из ссылки. Константин поднимался, и его здоровое сердце работало с силой... Он видел проступившие по голубому чистые розовые отсветы на снегу, и они напоминали ему снега Веселоречья, какие он видел из своего окна. Сердце билось сильно, но не сбавлял шага, — он отдохнул сейчас, словно не было бессонной ночи. «Тронулась река народного движения!» — как сказано в прошлогоднем номере газеты «Звезда», который Константин привез с собой. Тронулась!.. И ему слышался в этом восклицании живой голос того человека, уполномоченного Центрального комитета партии, который направил его на Кавказ.
Глава пятая
Никогда с такой быстротой не летело время для Темиркана, как этой зимой в Петербурге. Казалось, что все вокруг горело быстро и лихорадочно. Необыкновенно мохнаты и блестящи стали меха на женщинах. На их волосах и на пальцах сияли драгоценные камни, вокруг глаз были наведены круги, на щеках нарисованы мушки, черные и коричневые... Причудливо быстро, как в похотливом сне, изменялись женские одежды, то скрывая шею до подбородка, то открывая ноги до колен... В зеркальных окнах магазинов лежало сочащееся кровью свежее мясо — и
413
здесь же рдела клубника. Рыбу продавали живою, прямо из громадных аквариумов, где она тихо плавала среди водорослей и искусственных гротов; повара в бакенбардах, в шубах, надетых поверх белых кухонных костюмов, похожие на важных врачей, перевозили ее в ведрах до самой плиты. Вывески врачей-венерологов, с фамилиями, которые казались зловещими — Шестопал, Гоом, Трауров, — объявились на каждом9 подъезде. Появились автомобили — то плоские и гладкие, как рептилии, то изукрашенные подобно туалетным безделушкам, — они, как попугаи, гудели, пищали, хохотали на улицах. Даже митрополит получил из-за границы, по особому заказу сделанную, автомобильную каретку с золочеными дверцами, обитую внутри алым бархатом, и громкий рожок ее среди уличного шума выпевал: «Коль славен наш господь в Сионе...» Один за другим открылось пять магазинов, в которых торговали граммофонами, — их цветные трубы глядели из окон, как трубы архангелов страшного суда... «Чуют правду...» — вопил один. «А-а-а-ай-да тройка...» — взвизгивал другой, а люди шли мимо, богатые, жадные...
Темиркан с новым чувством неприязни, страха и ненависти прислушивался и тем грозным движениям, которые, возникая на задымленных окраинах Петербурга, останавливали то один, то несколько, а то (на два-три дня) все заводы столицы. Молодой пастух, дерзкий сын Керима... ведь он еще не пойман...
Если бы Темиркану довелось, как в пятом году, рубить людей, он делал бы это без прежнего равнодушия. Но Темиркан не требовался. Империя стояла крепко: грозной молодцеватости взводы, гулко отбивая шаг, с грубым пением проходили по улицам; ночью, в постели Анны, Темиркана будил иногда приглушенный мягкими петербургскими торцами топот конных разъездов.
«Необходимость развития кавалерийского дела в России» была неоспорима... Прошение веселоречен-ских князей на высочайшее имя, в каждой букве проверенное столичными законниками, было веско подкреплено той докладной запиской Темирканова
414
дедушки, знаменитого Алегико Батыжева, которую тот в свое время написал © ответ на запрос правительствующего сената (вездесущий Гинцбург добыл эту записку из архива). С восхищением и благодарностью прочел Темиркан эти, на пожелтевшей бумаге, ломаной •русской речью, но совершенно разборчиво и с ясной хитростью написанные объяснения деда «о земельной собственности у веселореченского племени...» Получалось, что вся земля принадлежала издавна князьям и лишь находилась во временном пользовании крестьян.
— Пусть почтенный старичок блаженствует в вашем веселом магометанском раю, —он неплохо позаботился о своих внуках, — посмеиваясь, говорила Анна.
Темиркан хмурился, — не по душе ему были подобные шутки. Но так у них шло эту зиму: Анна как-то странно изменилась.
Она стала двигаться порывисто и лихорадочно. У нее появились новые духи. Что-то бесстыдное и острое было в их запахе, — так же пахли заморские сладкие вина, которых теперь всегда было много в ее доме. Она стала грубо и глупо дразнить Темиркана: нарочно посылала за ветчиной, с реверансом подносила ему эту розовую и жирно-белую плоть, бесстыдно-от-вратительную для мусульманина. Он не отвечал, каменел, .глаза его желтели...
— Побей меня! — светло и дерзко, сверху вниз глядя на него, просила она.
И Темиркану, правда, хотелось ударить ее. Скаля зубы в притворной улыбке, он сдерживался.
И вдруг, опомнившись, она с ужасом всплескивала руками.
— Я дура, обезьяна! — плакала она, целуя его руки. Нет, она любила его: хотела, чтоб он был с ней все время. Она научила его читать бюллетени биржи и объявления, понимать скрытый смысл благороднопышных передовых и скромных, кратких заметок «собственных корреспондентов».
Монотонная стройность военного дела теперь не вела Темиркана; Анна вовлекла его в ночную жизнь столицы: театры, концерты, но чаще шантаны и ночные
415
прогулки в автомобиле на Стрелку, в Петергоф... Темиркан сначала зевал. Но он все позднее ложился и позднее вставал; короткие зимние дни летели с быстротой срываемых листков календаря.... По упрямому настоянию Анны («Пойми! Это же дурной той — носить черкеску, уйдя в отставку! Ты похож сейчас на наездника из святочного балагана!») Темиркан отказался от кавказского костюма и впервые в жизни надел штатское___Что за сукно — темносерое, с голубой искрой,
добротное английское сукно — она ему купила! Фасон также выбирала она, и шили ему у модного портного, указанного ею. Взглянув в зеркало, Темиркан не нашел себя — его просто не было: этот маленького роста темненький господин — неужели он и есть Темиркан из Батыжева рода, повелитель Веселоречья?
— Из-за границы приехали знатные гости, хотят познакомиться с вашим сиятельством, — сказал Гинцбург.
И вот он привел Темиркана в один из роскошных номеров лучшего петербургского отеля. Здесь, среди неожиданно незнакомых лысых, седых и рыжих господ, Темиркан увидел длинную фигуру голландца. Ослепительная люстра, отражаясь в его лысине, образовала сияющий нимб над его зловещим черепом. С голландцем была Анна, высокая и сегодня особенно холоднокрасивая. Ее руку, казавшуюся очень белой на черном рукаве голландца, Темиркан поцеловал как чужую... Но какое бесстыдное платье, открывающее белые груди и смуглую спину, надела она! Всем открыта была ее прелесть, каждому из этих господ она предлагала себя. Но, встретив ее жалобный и гневный взгляд, Темиркан понял: она тоже ревновала его. В сопровождении таких же незаметных, точно безликих мужчин, каким чувствовал себя сам Темиркан, входили в комнату женщины. Мужчины сразу растаивали в массе темного сукна и сверкании белых манишек, но женщины на этом фоне выделялись, каждая своей особенной привлекательностью; Темиркану это напомнило искрящиеся на черном драгоценности в витрине ювелирной лавки,
416
и он отмечал каждый раз новый оттенок кожи, новое и привлекающее сочетание бровей и лба, гл^з и ноздрей.
Темиркану пожимали руки, называли фамилии. Сдержанный гул незнакомого и непонятного говора наполнял высокие комнаты. Темиркан кланялся, приглашал к себе в Веселоречье и, взглядывая на Гинцбурга, видел, что ведет себя правильно.
— Не узнаете меня, господин Темиркан?—эти слова, сказанные на веселореченском языке, звучали по-чужому — точно из трубы граммофона.
На Темиркана сверху вниз, держа его руку в своей руке, глядел высокий красно-загорелый, бритый человек; пробор, как стрела, пролетал в белесых его волосах. Человек дружелюбно улыбался, но что-то неприятное, птичье и злое «было в его мелких синих глазах. Недавно этот человек был в его, Темиркана, руках, — где это было? Но тогда этот человек не понимал по-весело-реченски... «Охота... охота...» — выговаривал человек, и Темиркан вспомнил двойственно озаренную луной и рассветом холодную ночь в горах: англичанин-путешественник — вот он. Но тогда он точно был ниже ростом, впрочем ведь Темиркан глядел на него с седла...
Затрудненно ворочая толстым языком, сэр Антони на веселореченском языке выражал свой восторг по поводу встречи.
Темиркан заметил, что его встреча с англичанином-охотником и их разговор находятся в центре всеобщего и довольно почтительного внимания... И Темиркан был доволен: так и подобало! Если б только не голландец. ..
Через Гинцбурга Темиркана попросили рассказать о Веселоречье, и он рассказывал. Он сам верил в то, что говорил... Да! Много веков правили они, Баты-жевы, этой страной, й русское подданство почти ничего не изменило в их положении: попрежнему для весело-реченских пастухов является он господином и государем. ..
Переводил на английский сэр Антони, — оказывается, он понимал и по-русски, хотя на охоте все думали, что и русского он не знает. Потом, тоже по-
27 Ю. Либединский
417
английски, добавил что-то Гинцбург неторопливо, немногословно, но его прерывали несколько раз оживленными и одобрительными возгласами. И сразу, кам только Рувим Абрамович замолчал, к Темиркану стали подходить, жать ему руки, и сэр Антони переводил: оказывается, какие-то сэры й достопочтенные мистеры выражали свой восторг по поводу того, что их знакомят с Темирканом. Темиркан тоже пожимал руки, кланялся, хотя нельзя сказать, что он достаточно ясно понимал смысл происшедшего.
Разъехались поздно.
Темиркан и Гинцбург неслись на саночках по пустынным, блестящим, накатанным полозьями и освещенным луной улицам.
— Большое дело, ваше сиятельство! — сказал Гинцбург, но ничего объяснять не стал.
Темиркану же не хотелось спрашивать. Он считал, что понимает главное: этим знатным господам нужна его дружба.
Вскоре после встречи с англичанами Гинцбург принес Темиркану подписать какие-то гербовые бумаги. Темиркан оставил их себе и показал Анне.
— Это векселя... — сказала Анна. — Подпиши — у тебя будет много денег.
«Долг?» — опасливо подумал Темиркан. Но вспомнил Карту Веселоречья, красную черту, прошедшую через хребет к гаваням Черного моря, — разбойничий путь его предка Батыжа...
Теперь у него была чековая книжка, и он мог брать по ней столько, сколько ему нужно. Но никогда не были .расточительны Батыжевы, и только раз, по указанию Гинцбурга, пришлось десять тысяч (десять тысяч!) перевести на текущий счет графини Ржевус-ской.
Веселореченские князья были приняты великим князем, покровителем Темиркана. Аудиенция началась величественно, но кончилась большой попойкой, — его высочество плясал лезгинку, а чернобровый молодой Аубекир Байрамуков, окутав лицо полотенцем, шел за девушку. Потом его высочество плакал на груди у старого Ширануко Дудова, называя его «мамочка», и, хва
418
тая Ширануко за жирную грудь, сетовал на то, что «жизнь прошла, как сон»... Темиркану, чтоб не отставать от компании, тоже пришлось много выпить. Но он никогда не пьянел. Его высочество, заметив трезвое лицо Темиркана, вдруг крикнул:
— Темиркан! Батый! Чингиз-хан!.. От России отложиться хочешь?
Он кричал так, что слюна летела из его рта, — это была отнюдь не шуточная ярость, и пьяное веселье остановилось...
— Я? — спросил Темиркан, вставая и вытягиваясь одновременно почтительно и угрожающе.
Но выражение злобы на лице его высочества вдруг застелилось пьяной ласковостью.
— Иди шюда, шокол... — расслабленно прошамкал великий князь, и нельзя было понять, притворяется ли он, прикидываясь добреньким старичком. — Иди-ка шюда, я тебе почелую... — Он тронул лоб Темиркана неподвижными слюнявыми губами.
Откуда взялась эта мгновенно блеснувшая и тут же скрывшаяся враждебность? Чтоб он, Темиркан Батыжев, испытанный верноподданный, отложился от великой России? Но тут Темиркан вдруг подумал о странной встрече с англичанами. Чьи деньги прошли через его руки к любовнице великого князя? В какое таинственное и непонятное сплетение попала его батыжев-ская судьба, его батыжевская земля?
В середине зимы Гинцбург уезжал в Москву. По возвращении он отправился по правительственным канцеляриям разузнать, «как обстоит с нашим делом» (Гинцбург всегда говорил так о деле веселореченских князей). К Темиркану вернулся он озабоченный.
Оказывается, из кабинета его величества «дело» было переслано на заключение в сенат. А в сенате оно перешло в особую комиссию по землеустроению общественных пастбищ на Кавказе.
— Ав комиссии, которой надлежало решать вопрос о пастбищах, завелись два упрямых старца: «совсем недавно», в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году,
419
27*
участвовали они в разработке первого всемилостивей-шего рескрипта об общественных пастбищах на (Кавказе! Понятно, сейчас они не видели необходимости в том, чтобы этот рескрипт был отменен. Может быть, удастся сйлонить их к такому разъяснению рескрипта, что, не будучи отменен, он все равно что будет отменен: преимущественные права на пастбища останутся у крупных коннозаводчиков... Но полная передача пастбищ в собственность князей? Об этом в сенатской комиссии даже и речи нет...
— Не все наши князья имеют большие конные заводы. .. — помолчав, несколько растерянно сказал Темиркан.— Среди Дудовых есть такие, которые если и имеют по одному коню, так только от нашей батыжев-ской милости.
Совсем не был озабочен Темиркан долею Дудовых! Но не того ожидал он из царских рук, что мог дать ему сенат, — в собственность должен он получить Баташевы пастбища...
В комнате быстро темнело. Гинцбург молчал, иногда покряхтывая, но тоже был недоволен. Темиркан с ожиданием и надеждой глядел на красный огонек его папиросы. Но вот и он погас, и в наступающих сумерках стал сильнее слышен неумолкающий гул столицы... Темиркан вдруг подумал, что эту зиму он живет точно среди ночи, перемежающейся такими вот быстрыми сумерками. В былые зимы военная служба поднимала его до рассвета, и, как бы ни был короток и сумрачен петербургский день, он не ускользал от Темиркана. Но сейчас... Эти концертные залы и театральные дворцы, ночные рестораны и кабаки, по которым его таскала Анна... Этот бессонный электрический свет, сменяющийся только темнотой любовного ложа...
— Ваше сиятельство, — вдруг спросил из темноты Гинцбург, и лукавство слышно было в его голосе, — собственно^ почему вы хлопочете за всю вашу... если можно так выразиться... корпорацию? Мне пришло в голову, что если бы речь шла... скажем, только о вас, кабинет его величества, я думаю, сделал бы это дело... несколько в обход решению сената. Ну, можно в порядке подарка, что ли. Ведь, насколько я понимаю,
420
среди всех ваших князей такого дедушку имеете только вы?
Рувим Абрамович встал, включил свет и победоносно поглядел на удивленного и восхищенного и как будто даже испуганного Темиркана. И тут же они написали письмо дяде Асланбеку: в Арабынь прибудет чиновник межевого ведомства, Асланбеку надлежит сопровождать этого чиновника и помочь ему опрашивать население «на предмет выяснения границ исконных батыжевских владений». Гинцбург диктовал это письмо так, точно не только чиновник, но все межевое ведомство находилось у него в кармане. «Надлежит все это делать быстро, и шума чтоб не было...» — писал Темиркан от себя, учитывая хвастливую «дудовскую» натуру дяди.
За эту зиму Гинцбург стал для Темиркана своим, батыжевским человеком, вроде пристава или Кемала Баташева. Гинцбург не раз привозил Темиркана к себе домой и угощал его обедом, — это была незнакомая Темиркану европейская еда: даже среди зимы подавали зеленые салаты* огромные апельсины, твердые и сладкие яблоки из Крыма, сочные груши и продолговатый виноград из Ташкента. Супы были прозрачны, нежное телячье и куриное мясо сдобрено лимоном-...
Темиркана обычно сажали рядом с дочерью Гинцбурга, высокой и красивой девушкой.
У нее длинное белое лицо в крупных черно-блещу-щих кудрях; глаза под длинными темными ресницами всегда прищурены. Иногда она, смеясь, рассказывала что-то совсем не смешное, смех у нее скрипучий и принужденный. .. «Cherie...» — говорила ей по-французски мать. Коротконожка с большой грудью и блестящими неподвижными глазами, мадам Гинцбург часто улыбалась, показывая крупные белые зубы.
Сын-гимназист, жирный, румяный мальчик, похожий на нее, увлеченный вкусной едой, начинал чавкать. «Беби...» — с упреком говорила мадам Гинцбург; впрочем, и сама она, забывшись, тоже чавкала.
Так в эту зиму, в доме Гинцбурга, понял Темиркан: едою, оказывается, можно наслаждаться. Чудесны были послеобеденные часы в доме Гинцбурга. Рувим Абра
421
мович держал специально «для своего сиятельного гостя» его любимый сорт легких «дамских» папирос, и Темиркан, утонув в кресле, покуривая, разглядывал глянцевитые заграничные журналы с картинками, где розовели, смуглели тела женщин в кружевах, в тканях, среди драгоценностей... Иногда Темиркан, похохатывая и скаля мелкие зубы, протягивал журнал Гинц-бургу, сидевшему рядом, в другом кресле, и горьковатая вонь сигары Гинцбурга смешивалась со сладким ароматом Темиркановых папирос.
— Мда... — говорил Гинцбург и больше ничего не добавлял; был он примерный семьянин, самых строгих правил отец и муж. В эти послеобеденные часы Гинцбург был почти так же мил и близок Темиркану, как бывает мила и близка любимая лошадь.
Однажды, во время этого блаженного отдохновения, раздался резкий звонок. Входная дверь стукнула. Потом мадам Гинцбург позвала из соседней комнаты своим картавым и мягким голосом:
— Рувим!..
Гинцбург вышел. Темиркан прислушался: чей-то не русский и почему-то неприятный голос, отрывистые и быстрые иностранные слова...
«Не немецкий и не французский, по-английски говорят. .. Кто же это?» “-старался припомнить Темиркан и вдруг даже поднялся из кресла, — это был голландец.
Еще прошлой зимой Анна познакомила их. Но что Темиркану было прошлой зимой до голландца? А сейчас, с тех пор как он встретился с ним тогда в гостинице. .. Нет, что-то недопустимое, пожалуй даже непристойное было в том, что он сидит здесь, в кабинете Гинцбурга, а Гинцбург в соседней комнате разговаривает с голландцем, но не вводит его в кабинет.
«А может, голландец даже знает, что я здесь сижу, — подумал Темиркан. — И ведь все эти заграничные дела Гинцбурга и Анны — они, может быть, тоже идут от голландца...»
Врасплох, неожиданно, в час послеобеденного умиротворения, застала Темиркана эта мысль, — и Гинцбург вдруг Стал двоиться в его глазах; то это был зна
422
комый и достойный всяческого доверия поводырь, то вдруг Темиркан вспомнил все, что принес с собой Гинцбург со времени своего появления в Арабыни... Эти названия фирм, акций и банков — что за таинственный мир, в котором Темиркан шел, держась за руку Гинцбурга? Каким образом Рувим Абрамович знал цену всего того, что попадалось ему на глаза: дворцов, ковров, арбузов, памятников, женщин, газетных статей, картин? При этом цифры он произносил звонко, с удовольствием выделял их из монотонного потока своей речи, и когда эти цифры были велики, он непонятно ухмылялся... Очевидно, за Гинцбургом стоял голландец. .. А кто за голландцем?
«Что думает Гинцбург обо мне? Обо мне — и Анне?»
Но, задав себе эти вопросы, Темиркан тут же как бы прищуривался: здесь начиналась запретная область его души. Можно советоваться с Гинцбургом, принимать его помощь, действовать с ним вместе. И нельзя думать о.том, что там, за Гинцбургом... Нельзя,— чтоб не чувствовать себя всего лишь песчинкой, прилипшей к зубцу какого-то огромного колеса, совершающего грандиозный и непонятный оборот...
— Ну-с, теперь наше дело, кажется, в шляпе! — весело сказал однажды Гинцбург Темиркану.
И Темиркан ахнул, когда Гинцбург назвал имя царской любовницы. Темиркану надлежало и на ее текущий счет — «на дела благотворительности» — перевести сумму, разом исчерпавшую почти весь его счет.
Зато спустя несколько дней Темиркан был поставлен в известность о том, что в скором времени получит он аудиенцию у его императорского величества.
Темиркан надеялся побеседовать с государем с глазу на глаз, но оказалось, что он удостоился приема в числе еще тридцати человек. Два часа простояли они в большом высоком зале, окрашенном в белесый цвет северного неба. Вдоль стен расставлены были маленькие стулья, обитые голубой материей, и никто не знал, можно ли на них садиться, тем более, что дежурный придворный чин каждому указывал место около той широкой ковровой дорожки, которая, пересекая весь
423
зал, выбегала из-под высокой двери, такой же белесоголубой, как и стейы.
Было очень скучно. На стенах висели большие картины духовного содержания, и Темиркан не понимал, что должен означать старик в длинной синей рубахе, босой и без штанов, моющий ноги крылатым девушкам? Это и скучно, и даже несколько непристойно, и просто безразлично Темиркану.
Тридцать человек переминались с ноги на ногу, тихо переговаривались и кряхтели в этом зале. Порою Темиркан от скуки начинал ходить взад-вперед и неизменно сталкивался с маленьким генералом в очках, который, как кот, отфыркиваясь и отскакивая от Темиркана, произносил «виноват». Так было уже три раза, и старичок уже начинал сердиться и шепотом ругаться.
И когда шепот, ожидание, четкий в тишине бой часов довели людей до крайней степени тоскливого напряжения, обе половины двери разом открылись, и у Темиркана запестрело в глазах от различных мундиров. .. Но вот, держа руку на серебряном поясе и теребя его, маленький, в больших дверях, показался царь, и все затихло.
Темиркан застыл вытянувшись. Это было блаженное чувство пустоты; ничего в мире не было, кроме этого приближающегося к нему могущества — бога, которого единственно чтил Темиркан, бога в темносинем мундире, серебряном галунном поясе и полковничьих погонах. Бог быстро к нему приближался, на ходу выслушивая просителей. Краткий вопрос — быстрый ответ. Темиркан видел, как иоморщилось его величество, когда сосед его, старичок-генерал, на тихий вопрос царя гаркнул:
— В ванне, ваше величество...
И потому на обращенный к нему вопрос царя:
— Ты — внук штаб-ротмистра Батыжева? — Темиркан ответил раздельно, но тихо.
Второй вопрос был о том, в какой из кавказских губерний находятся земельные владения Батыжевых. Потом царь замялся... Темиркан ждал главного вопроса и ел глазами самодержца. А "царь что-то смущался... Темиркан мог разглядеть его красноватый нос, рыжие
424
усы и холеную бороду. Царь быстро взглянул блеклыми голубыми глазами на Темиркана и спросил:
— Какова там погода, в вашей местности?
— Прекрасная, ваше величество! — сам по себе, как будто без участия головы, ответил Темиркан.
«О чем он спросил? Что я ответил?» — изумленно подумал он.
Царь кивнул головой, устало усмехнулся...
«Милостиво», — подумал Темиркан, когда царь прошел уже мимо.
Смысл аудиенции остался ему непонятен. Впрочем, смешно и страшно подумать! Ему казалось, что смысл ее был также непонятен и самому царю. Однако, вскоре из кабинета его величества было всемилостивейше разъяснено, что, в ознаменование приближающегося трехсотлетия царствующего дома, он, Темиркан Батыжев, внук Алегико, которого не забыли, может ждать августейшего подарка: получения «обратно» своих наследственных земель... Только о нем шла речь, о прочих князьях не было сказано ни слова.
Анна опять помогала Темиркану выбирать подарки для всех его близких. С особенной охотой покупала она подарки для Дуньят. Она не только не ревновала к ней, но даже испытывала какую-то снисходительную и насмешливую нежность. В прошлом году 'Подобное отношение любовницы к жене казалось Темиркану особенно удобным и милым. Сейчас что-то непристойное чудилось ему в этом. Но ведь одна из дач, построенных Гинцбургом за эту зиму в Арабыни, предназначалась для Анны, а другая для ван Андрихема...
В конце февраля Темиркан и Гинцбург выехали из Петербурга в Арабынь, и когда рано утром, подъезжая к Москве, Темиркан увидел солнце в окне вагона, он удивился и обрадовался. Казалось, что эти месяцы в Петербурге прошли как один долгий, освещенный бессонным электричеством, очень долгий вечер.
На Губернаторской, главной улице Краснорецка, открылась техническая контора инженера Поспешин-ского. И когда Гинцбург остановил около нее извоз
425
чика, Темиркан даже вспомнить не мог, что же раньше было на месте этой конторы, — так по-хозяйски раздвинула она аляповато-пестрые вывески провинциальных магазинчиков и по-столичному раскрыла свои сплошные, во всю высоту этажа, стеклянные окна, особенно таинственные оттого, что за ними ничего не было выставлено. Только над дверью совсем маленькая темносиняя вывеска и на ней, под золотыми молоточками, достойно и скромно: «Техническая контора инженера-докторанта В. В. Поспешинского».
— Так-так, — одобрил Гинцбург. — А? — повернулся он к Темиркану.
— Красивый дом,—согласился Темиркан.
Молодой человек, чернобровый, смуглый, в синем костюме, одиноко ходил вдоль стен чинной комнаты, рассматривая изображенные на больших фотографиях паровозы, несущиеся через мосты, выскакивающие на закруглениях железнодорожного пути, огибающие озера... Он обернулся к Темиркану и Гинцбургу.
— Рувим Абрамович! — воскликнул он, и Темиркан признал Джафара, переодетого в синий европейский костюм. «Впрочем, и я ведь тоже одет не по-нашему. ..» — подумал Темиркан. Он был недоволен.
— Господин Темиркан! — по-веселореченски воскликнул Джафар. — Я тебя не узнал... А ты меня тоже? Да?
Его, видно, очень забавляло, что они не узнали друг друга, и он дружелюбно жал руку Темиркану, а тот милостиво ему улыбался.
«Был бы я в черкеске, ты бы первого меня увидел, со мной бы первым поздоровался!» — подумал Темиркан.
Он улыбался, но был зол, и, когда Джафар взглядом спросил его: «Ты помнишь?», Темиркан притворился, что не помнит, хотя прекрасно понял этот просящий, настойчивый взгляд: сын муфтия напоминал о Нафисат Баташевой...
«Попроси... попроси», — подумал Темиркан.
Дверь в соседнюю комнату приоткрылась. Высокая
426
водянисто-белокурая девица, очевидно, на звук голосов, выглянула и, восторженно ахнув, тут же скрылась. Дверь широко распахнулась, и оттуда выбежал прелестнейший господин, умеренно полный, в зеленом европейском спортивно-военном костюме, в желтых ботинках и крагах.
— Рувим Абрамович! Дражайший! Разве ж можно так? Без телеграммы! — воскликнул он голосом, полным сладкой и светлой подлости.
Это и был сам Вячеслав Вячеславович Поспешин-ский. Усы, бакенбарды, борода — все у него обработано с той тщательностью, с какой обработаны бывают только куртины и клумбы. Щеки нежно румянели, большие синие глаза сияли, «ос умеренно розов — сияющие серебряные шары, белые статуи, играющие фонтаны, — культивированному барскому саду подобно лицо Инженера-докторанта! С Темирканом он обошелся вполне приветливо. Но по тому, как он держался с Гинцбургом, явно видно, что весь он со своей технической конторой и крагами принадлежит ему: он мурлыкал и щурился, он ходил вокруг Рувима Абрамовича, как ласковый'кот.
— Да, да... Он сейчас здесь, — с готовностью ответил Вячеслав Вячеславович на какой-то вопрос Гинцбурга.
Тут же Вячеслав Вячеславович подхватил Рувима Абрамовича под руку, и они исчезли в соседней комнате.
Оба веселореченца остались вдвоем в этой чужой комнате, уставленной пустыми столами, на которых стояли только налитые неподвижной водой графины. Джафар явно обрадовался этому; с ожиданием, просительным и ласковым, глядел он на Темиркана. Но Темиркан, скаля свои мелкие зубы в притворной улыбке, молчал, и Джафар заговорил о Москве, там провел он середину зимы. Очень часто в разговоре его мелькал «почтеннейший Рувим Абрамович», при этом у Джафара был такой самодовольный вид, точно именно он сам Гинцбурга выдумал, и Темиркану все время хотелось сказать: «Ты, братец, дурак». Но он любезно улы
427
бался, прислушиваясь к неясным звукам голосов, доносившихся из-за двери.
«Ушли и оставили здесь, точно они господа, а мы слуги...» — думал он, и его как-то особенно злило то, что Джафар этого не понимает (или не хочет понимать, или ему все равно?).
Джафар выговорился: рассказал о Москве все, что могло интересовать Темиркана.
— А сейчас... в Арабынь собрался... — многозначительно говорил Джафар^—А потом, может быть, и в Баташей проеду. Но если бы ты был милостив ко мне и раньше меня туда проехал... — говорил он просительно и жадно.
Ноздри его дрожали, глаза были грустны и настойчивы, выражение томления обозначалось в его лице: влюбленный парень из Веселоречья стоял перед князем Темирканом...
— Ты не забыл в Москве эту дикую козу? — будто бы удивляясь, спросил Темиркан. У Джафара гневно дрожали губы, горели глаза, но он упрямо качнул головой: нет, он не забыл. —Да ведь она за всю жизнь ни разу, верно, мылом не мылась и воняет кислой молочной сывороткой...
Очень нравилось Темиркану растравливать сына муфтия, но вдруг почувствовал он, что кто-то третий наблюдает за ними. Темиркан оглянулся.
В конторе появился невысокого роста, но крепкого сложения человек. Одет он был по-простому: пиджак поверх рубашки, брюки вправлены в сапоги — небогатый русский человек. Когда он вошел?
Он вошел незаметно, и это настораживало Темиркана. Человек этот тихо вошел и слушал их разговор (хотя что мог он понять? — ведь говорили они на своем родном языке). И он рассматривал их обоих своими глубоко посаженными, умно-веселыми, молодыми глазами. В руках его большая картонная папка. У него какие-то дела здесь, в конторе. Неприметный человек, добывающий пропитание своими руками. Но продолжать при нем игру с Джафаром не хотелось, и Темир-иан вдруг, ласково обняр сына муфтия, сказал:
— Э-э-э, Джафар, я вижу, ты мужской, молодецкой
428
шутки не понимаешь. А ведь мною обдумано все для твоего счастья.
— Благодарю тебя, господин Темиркан, — радостно встрепенувшись, сказал Джафар. — Я не знал, что здесь тебя встречу. Но когда ты приедешь в Арабынь, отец мой будет говорить с тобой о калыме.
Темиркан милостиво улыбался, — ведь на них продолжал глядеть третий, этот русский неизвестный молодой человек.
Неприятен был Темиркану его лишенный почтительности, как бы взвешивающий и оценивающий взгляд. Но когда Темиркан оборачивался к русскому, тот отводил глаза.
Константин (а это юн пришел с папкой в контору Поспешинского, чтобы сдать заказанные ему чертежи) действительно заинтересовался этими двумя людьми, в которых он сразу признал веселореченцев по особенным шелестящим и гортанным звукам говора. Он, конечно, не понимал, о чем они говорили между собой, но лица, интонации говорящих позволяли Константину угадывать... конечно, не смысл разговора, но то положение друг к другу, в каком находились эти два незнакомых ему человека (так музыкальный человек мгновенно постигает настроение незнакомой ему музыкальной пьесы). И Темиркан напоминал ему одного из представителей той кровожадной породы мелких хищников, к которой принадлежат хорек и ласка. Этот мелкий хищник впивается в горло травоядного животного (таким казался Константину Джафар).
О чем же говорят они?
Дверь из кабинета Поспешинского вдруг широко открылась, и оттуда в сопровождении самого Вячеслава Вячеславовича вышли еще два незнакомых Константину человека. Один из них, маленький, русенький, растрепанный — это был арабыньский ветеринар Отроков, — весело закричал, обращаясь к веоелореченцам:
— Джафар Бекмурзаевич! Здравствуйте! Ваше сиятельство, поздравляю! Серу будем на Кавказе добывать, нашу отечественную серу.
Его лицо в жидком золоте волос и бороды счастливо румянело.
429
Гинцбург, крупный, медлительный, в своем добротном сером костюме, лениво усмехался, наполовину прикрыв веками свои выпуклые глаза. Темиркан кивнул ему на Константина. Гинцбург, удивленно подняв брови, обернулся в его сторону, и Константин, поклонившись Вячеславу Вячеславовичу, передал ему папку с чертежами.
— За расчетом завтра, господин Бруснев, — сказал Поспешинский с резкостью, ему несвойственной.
Константин вышел.
Ненадолго открылась и тут же захлопнулась дверь в чужой и враждебный Константину мир господ сегодняшней жизни.
Добыча серы на Кавказе — то, о чем кричал этот простоватый растрепанный русачок, — конечно, это сделало единомышленниками собравшихся в конторе Поспешинского столь различных людей. Но ведь Константин только что сдал Вячеславу Вячеславовичу чертежи мостов для строящейся через хребет казенной железной дороги, которая пройдет по Весело-речью.
Железнодорожное сообщение с Арабынью официально еще не было открыто, но дорога была уже закончена, и Гинцбург доставил Темиркана домой в салон-вагоне главного инженера дороги. Насыпь еще не заросла травой, шпалы желтели свежим деревом, мосты были поставлены временные, и паровоз по ним проходил медленно, с озабоченным пыхтением. В три месяца провести ветку до Арабыни!
Темиркан не знал, что железную дорогу можно построить так быстро.
— Ничего... Путейцы строить умеют, — сказал Гинцбург. — Только слишком воруют, — вздохнул он; он так сказал это, точно воровали из его собственного кармана.
И Темиркан вспомнил, что через контору Поспешинского управление железной дороги производило — как это он понял из разговоров Гинцбурга и Поспешинского— целый ряд сделок с иностранными фирмами. На вывеске технической конторы хотя и значилась фамилия Поспешинского, но стоило взглянуть на то, ка
430
ков Поспешинский с Гинцбургом, чтоб понять, кто является хозяином технической конторы. А главный инженер дороги, в вагоне которого они ехали, этот русский дворянин, холеный брюзга, чем-то напоминавший Темиркану флотских офицеров, конечно, он держался с Гинцбургом совсем не так, как Поспешинский, —он своего достоинства не терял, — и все-таки почему он на вопросы Гинцбурга отвечал с такой обстоятельной точностью, с бумагами в руках? Почему показывал ему сметы железнодорожных построек? Кто для них Гинцбург? И кто еще там за Гинцбургом?
Медленно шел паровоз по временным, деревянным, прогибающимся под его тяжестью мостам, и Темиркан все уговаривал себя, что попрежнему хозяином возвращается он в Арабынь.
Т лава шестая
Осип Иванович Пятницкий, как и должно ему было согласно присяге, зорко примечал все то новое, что за последний год быстро возникло во вверенном ему Ара-быньском округе. Прошение князей на высочайшее имя и начавшаяся постройка железной дороги, учреждение кредитной кооперации и заявка Отрокова на месторождение серы, сделка между Батыжевым и Гинцбургом на аренду местности «Кабанья радость» и постройка Гинцбургом новых дач — ото всего этого Осип Иванович имел неплохие доходы, и ему, казалось бы, следовало быть довольным. Но он не был доволен.
Осип Иванович привык думать, что в пределах Ара-быньского округа ему известно все, иначе какой же он пристав, государев слуга? И вдруг у Батыжевых, самых влиятельных людей Арабыньского округа, в доме, ему искони дружественном, происходят важные дела, о которых он не осведомлен...
Еще осенью пытался он прямо расспрашивать Темиркана, но натыкался на благожелательно-ласковое и прозрачное недоумение!
— Да, приехал из Петербурга знакомый человек.
431
Имеет здесь некоторые дела, — впрочем, его дела у всех на виду. Да, хочет здесь строить дачи, и я сдал ему землю. Хорошее и выгодное дело. Но тут как будто бы все по закону, и ты обижаться на нас не можешь, дорогой мой? — ласково спрашивал Темиркан.
Конечно, при этой сделке, настолько выгодной Темиркану, что он стал строить новый дом, Осипа Ивановича отнюдь не обошли. Понимал он также, зачем Темиркан на всю зиму уехал в Петербург: прошение веселореченских князей было подано; следовало его двигать, а кто же не знает, что Батыжевых в Петербурге слушают внимательней, чем кого-либо из веселореченских господ! И не напрасно посреди зимы приехал в Арабынь чиновник межевого ведомства и стал, при участии самого Осипа Ивановича и суетливой помощи дяди Асланбека, собирать сведения о пастбищах Веселого аула, — не именовались ли они ранее батыжев-скими? И многие отвечали, что вся Баташева долина была некогда старинным уделом Батыжевых и все в ней именовалось батыжевским...
Во всем этом большом деле, которому Осип Иванович не без зависти сочувствовал, Гинцбург как будто бы не принимал никакого участия. Но возбудилось-то это дело сразу после приезда Гинцбурга в Арабынь, — тут же открылась контора строящейся железной дороги, и стали нанимать рабочих. Молодой Джафар Касеев стал ездить по аулам и сбивать мужиков на учреждение кредитных товариществ. Тут же и Отроков объявил заявку на месторождение серы, а местность, в которой Отроков обнаружил серу, как известно, находится опять-таки в районе пастбищ. В некоторых делах Гинцбург участвовал явно, его присутствие в других Осип Иванович постигал верхним чутьем. Но именно там, где Гинцбург как будто не участвовал (Осип Иванович был в этом уверен), и состоялась самая главная и очень жирная сделка между Гинцбургом и Батыжевым. Но какая? «Такова уж эта нация», — со злобой думал Осип Иванович о Гинц-бурге. Его чувство справедливости было оскорблено,
432
ему бросают лишь объедки, а главный дележ происходит без него. И обделяет его Темиркан, о котором он всегда заботился как о сыне!
Зима в этом году выдалась мягкая, строить не переставали, и в старом батыжевском саду, в той части его, которая примыкала к улице, был вырублен большой участок. На нем, обращенный фасадом к улице и отделяясь от него только палисадником, достраивался белокаменный двухэтажный дом Батыжевых.
Дачи самого Гинцбурга были уже закончены. Построенные у самого подножья лесистого холма, эти легкие и грациозные домики красиво белели на темнозеленом и кудрявом фоне дубняка, которым зарос весь холм, были видны с любой улицы слободы и очень изменили и оживили всю Арабынь.
Еще оставшиеся после стройки кудрявые стружки были свежи и душисты, а в оградах дач началась новая жизнь, совсем не похожая на арабыньскую. Необыкновенной пестроты цветники разбиты были при всех дачах, стекла оранжерей и парников заблестели на задах дачи Гинцбурга. В ограде дачи А. И. Шведе (так написано было на дощечке, прибитой к воротам этой дачи) равномерно взметывались вверх и падали вниз пенные струи фонтана.
Первой ожила дача Гинцбурга: ярко зажелтела окруженная прозрачной сеткой площадка, гулкие удары мяча стали слышны оттуда. «Лаун-теннис», — с уважением и завистью говорили те из арабыньцев, кто мог выговорить это упругое, барственно-заграничное слово.
В даче А. И. Шведе поселилась стройная, очень красивая и молодая дама, — это и была сама владелица дачи. Ни детей, ни мужа у нее не было. В соседней даче, ван Андрихема, появился старый, очень представительный иностранец, его продолговато-красное лицо всегда сияюще-выбрито. Он, видимо, сдружился с дамой, — они выезжали вместе в открытой коляске, впервые в Арабыни запряженной дышлом.
Однако редко эту пару видели вместе и о ней
28 Ю. Либединский
433
знали мало — гораздо больше на виду было се^ мейство Гинцбурга. Самого Гинцбурга видеть не приходилось, но сколько угодно можно было разглядывать мадам Гинцбург, коротконогую и полную, с темными большими глазами на маленьком лице, всегда сохранявшем выражение приятного изумления. В тихие и теплые часы, перед закатом солнца, семья Гинцбурга часто совершала свою излюбленную прогулку по обрывистому берегу Веселой в усадьбу Батыжевых. Рядом с матерью шел похожий на нее жирный мальчик, лет четырнадцати в летнем светлом костюме такого щегольского фасона, каких в Арабыни и взрослые не носили. Под руку с матерью, шла мадемуазель Гинцбург. Она не ходила опустив глаза, как это было принято у арабыньоких девушек; ее красивая чернокудрая голова всегда была высоко поднята, продолговатые карие глаза чуть щурились, смотрели дерзко и лениво-надменно, нижняя губа маленького рта была немного выпячена вперед. Все арабыньские красавицы говорили, что она вообще уж очень зазнается, а ведь тоща. И все же особенное, «столичное» выражение лица невольно перенимали, и скоро, незаметно для себя и для своих кавалеров, все арабыньские красавицы усвоили его. Вообще воздействие, которое питерская компания оказала на Арабынь, было весьма заметно; в это лето все арабыньское «общество», обратилось в сторону столичных дач. Женщины пересуживали и перенимали костюмы и манеры, мужчины толковали о Гинцбурге, о князе Батыжеве.
Дружбу Батыжевых со столичными гостями видели все. Близнецы, ныне уже поступившие в кадетский корпус, верхами сопровождали красивую А. И. Шведе в ее верховых прогулках по окрестностям (верховых лошадей брали батыжевских). Один акцизный клялся-божился, что, проходя поздней ночью, почти на рассвете, мимо дачи А. И. Шведе, он в темноте через открытое окно слышал голос Темиркана. Акцизный был изрядно пьян, но его слушали не возражая: «Что ж... такие же грешные люди, как и мы!» И все же об отношениях Батыжева и Гинцбурга не знали в Арабыни почти ничего. Видно, что Батыжевы разбогатели.
434
Строят новый дом, из столицы выписали мебель... Княгини ездили по городу в рессорном открытом экипаже, который Дуньят, вслед за образованной Хабибат, с некоторой запинкой называла: «лан-до». Дуньят стала носить красивые столичные платья; в них она выглядела и красивее и глупее, чем в национальном костюме. И даже госпожа Ханифа стала носить нежноголубую с темносиним пером шляпу, которая гораздо сильнее, чем платки, выделяла мужеподобность темного и большеносого лица Ханифы и ее черно-седые усики на верхней губе.
Больше всего мог об отношениях Батыжева и Гинцбурга рассказать ветеринар Отроков. Как же, ведь сам князь Темиркан познакомил его с Рувимом Абрамовичем! Теперь не пропадут даром его блуждания по долинам и пастбищам: у Туриной бани уже производится настоящая промышленная разведка, и скоро цепная дорога через пропасти и горы пройдет оттуда прямо в аул Веселый и безостановочно будут ползти вниз груженные породой вагонетки.
— Пожалуй, богатым человеком будете, Вениамин Сергеевич? — спрашивали ветеринара.
— А что ж! И буду! — задорно отвечал он. — И Гришку в консерваторию определю!
— А какой интерес Батыжеву помогать Гинцбургу, а Гинцбургу помогать вам?
— Меркантильно смотрите на вещи, господа! Зарылись носами в наш арабыньский навоз и истинно человеческих отношений между людьми даже представить себе не можете.
Очень заинтересовало всю Арабынь, когда ветеринара однажды увидели выходящим из ворот дачи ван Андрихема.
— Вы и его знаете? — накинулись на ветеринара. — Рувим Абрамович познакомил.
— А Гинцбургу-то он кто?
— Кто — кто?
— Да этот голландец.
— А идите вы к дьяволу со своим арабыньским свинством; образованные люди, знакомы... Какое мне дело?
435
28*
Сам Гинцбург на прогулки не ездил, в теннис не играл. Если случалось, что экипаж проносил его с дачи на вокзал или с вокзала на дачу, то что могло сказать кому-либо бело-матовое пятно этого лица?
— Он, кажется, интересный, — говорили дамы.
Мужья пожимали плечами, удивляясь дамскому легкомыслию.
В «Губернских ведомостях» появилось наконец сенатское разъяснение высочайшего рескрипта о пастбищных землях.
Осип Иванович два раза внимательно прочел разъяснение, перелистнул страницу, словно предполагая, что тот самый важный пункт, который он искал, случайно оторвался от всего текста и напечатан на другой странице «Ведомостей». Нет, все ясно. «В целях развития коннозаводческого дела разбить пастбища на крупные участки, назначить на них торги...» И Осипу Ивановичу захотелось поддразнить Темиркана: «Губернские ведомости», как издание официальное, во всей Арабыни получал только Осип Иванович. Вот пойти преподнести пилюлю! Со времени возвращения Темиркана из Петербурга Осип Иванович не был у Батыже-вых: ждал, что Темиркан сам о нем вспомнит. Темиркан не вспоминал. Но по такому случаю можно самому первому приехать.
Осип Иванович велел заложить пролетку и отправился к Батыжевым. Темиркан встретил его радушно, но так, точно они вчера виделись. Он, зная вкусы Осипа Ивановича, угощал его в саду, на травке. Под шипение и потрескивание шашлыка, который здесь же, на костре, готовил дядя Асланбек, Осип Иванович рассказал Темиркану новость.
— Не по-вашему получилось, — со вздохом сказал Осип Иванович.
Темиркан был невозмутим: он лежал на траве, глядел куда-то вверх, на вершины деревьев...
— Мы, князья веселореченские, добивались улучшения коннозаводческого дела. Если государь импера
436
тор определил такой путь его улучшения, о каком ты рассказал, значит так будет правильней...
— Мансурову-то больше от этого пути выгоды будет, чем, окажем, тебе, — продолжал поддразнивать Осип Иванович. — Раньше он только перекупал, теперь сам пасти будет...
— Мне Мансурову завидовать не подобает, — высокомерно ответил Темиркан. — Ты вот тоже от этого дела наживешься, но я в твой карман заглядывать не буду.
Осип Иванович промолчал: дядя Асланбек как раз поднес ему в этот момент обтекающий прозрачным жиром румяно-багровый ароматный шашлык на серебряном старинном шомпуре, — нужно было скорее пожирать шашлык, пока он не застыл.
Насчет доходов Темиркан, конечно, прав: шутка ли — торги, закрытые пакеты с деньгами! Но к хлопот много: не сегодня-завтра по пастбищам поедут землемеры, пойдут толки. Стражников в горы послать придется, а может, и казаков.
Темиркан лежал на земле и, покусывая травинку, глядел в небо, окрашенное прозрачной и быстро тающей желтизной заката. Знал ли он об этих новых порядках на пастбищных землях? Доволен он ими или не доволен? И, наконец, самое главное — нет ли здесь руки Гинцбурга? Ничего не узнал Осип Иванович, ему только и оставалось доедать шашлык...
И Осип Иванович решил пощупать Темиркана с самой чувствительной стороны:
— Ав Старом ауле зимой поговаривали, что пастбищные земли Батыжевым отойдут, — озабоченно понизив голос, сказал Осип Иванович — и обрадовался: Темиркан привстал на локте, нахмурился и бросил недовольный взгляд на дядю, который как раз в этот момент закрылся рукавом, точно дым попал ему в глаза.
Впрочем, Асланбек улучил момент и недовольно мигнул Осипу Ивановичу: «Молчи, мол, не выдавай». И Осип Иванович успокоительно кивнул ему в ответ.
437
— Да ведь как не быть слухам, — говорил он, аккуратно обтирая хлебом шомпур и направляя под рыжие усы этот аппетитный кусок хлеба, сдобренный жиром и луковым соком. — Ведь людям, которых этот столичный землемер спрашивал, на роток не накинешь платок. А тут еще эти новые «порядки... Большой шум пойдет по аулам, как думаешь, а?
Темиркан хмурился и молчал. Такое дело, какое сейчас совершалось, должно было бы делаться бесшумно и быстро. Но так много людей оказалось в нем заинтересовано! И он сам себе казался похож на человека, который, думая, что его никто не слышит, громко выкрикнул в тишине и неподвижности горных снегов свое самое заветное желание. Но в горах нельзя громко кричать! Он крикнул — -вдруг звук его голоса двинул лавину.-
Да^ лавина двинулась...
Видя, что от Темиркана ни слова не добьешься, Осип Иванович был все же доволен хотя бы тем, что явно испортил настроение другу: Темиркан погрузился в задумчивость. Осип Иванович ушел и оставил Темиркана у костра, почти уже выгоревшего...
«С какой быстротой все свершается, — тревожась, думал Темиркан. — Не то что в старину. Тогда за сто лет столько не менялось, как у нас за год...»
Да что год! Меньше года прошло с тех пор, как Темиркан должен был выйти в отставку и уехать в Арабынь. «Отступил на заранее приготовленные позиции». Но теперь он вновь перешел в наступление. Вернулся в Петербург — и сам император говорил с ним! Достиг •всего, чего мог пожелать: могущества и богатства. Это •все — Гинцбург. Никто из Батыжевых никогда не имел такого добычливого дружинника, каким для Темиркана стал Гинцбург. И вот уже по Темирканову хотению, по Гинцбургову велению строится новый дом для Батыжевых. Новая железная дорога пролегла в Арабынь. Анна приехала по ней и поселилась в новой даче. Несоединимое соединилось! Но с каким озабоченным пыхтением шел паровоз по шатким временным мостикам... И еще не успевала уйти старина, как приходила новизна, и непристойно было их соединение. Это чувство непристой
на
ности стало особенно острым с тех пор, как в Арабынь приехал голландец, — он всегда был с Темирканом от-даляюще-ровно любезен. Но когда Темиркану случалось видеть Гинцбурга с ван Андрихемом, беспокойная, унылая злоба бессилия охватывала его...
Не любил он также видеть жену свою с Анной Ивановной; очень уж беззаботно визжала Дуньят в то время, как Анна, обнимая и щекоча ее, вдруг взглядывала на него своим светлым взглядом. «Она убить, отравить ее может», — думал он, жалея Дуньят и боясь за нее, за детей своих, за честь и величие батыжевской семьи.
И вот учрежденный предками, освященный временем вековой порядок на пастбищах стал ломаться. Он пополз, как лавина.
Неяркая заря торопливо погасала за деревьями сада. Наступила весенняя прохладная ночь. Темиркана знобило. Но идти в свою комнату, где гнездились его бессонные мысли, он не хотел, — покоя и забвения хотел он. И он пошел к жене.
Увидев его, Дуньят засмеялась громко и радостно. Как и всегда, она была весело-послушна ему, но она не давала ему заснуть: оказывается, ей давно уже нужно было поговорить с ним, а она, конечно, понимала, что не подобало самой пойти к нему и первой заговорить с ним.
Темиркан, убаюкиваемый колебаниями мягкой постели, по старому обычаю за четыре угла подвешенной веревками к потолку, сквозь дремоту слушал то, что Дуньят болтала о молодом Джафаре:
— Какой обходительный, умный и единственный наследник богатого отца! Конечно, муфтий — из крестьянской семыи. Но Касеевы — свободнорожденные, такие же, как, например, Баташевы. Какое мы хорошее дело совершили, выдав нашу Фатимат за Кемала Верхних Баташевых: девочка, как и полагается невесте, плакала, но свадьба была хоть куда: стрельба и молодецкие игры, точно княжну выдавали... Так и нужно с верными слугами, — Кемал ведь за тебя жизнь отдаст. Есть у него сестра Нафисат; говорят, очень красива. ..
439
Темиркан давно уже догадался, куда клонит Дуньят: всякая женщина любит сватать.
— Муфтий просил тебя поговорить со мной? — спросил Темиркан; ему наскучило длинное вступление.
— Да,смутившись, ответила Дуньят. Темиркан своим вопросом сильно сократил ее медленный и, как ей казалось, искусный подход к этому трудному делу.— Да, девушка очень приглянулась сыну муфтия, и почтенный Бекмурза говорил, будто ты обещал...
— Обещал и слово свое сдержу! — быстро сказал Темиркан.
Не то чтобы он очень уж благоволил к Джафару, скорей наоборот: с того времени, как он встретился с арабыньским вольнодумцем в конторе Поспешинского и они, оба переряженные на чужой лад, не узнали друг друга, странное презрение к сыну муфтия, которое одновременно было презрением к себе, охватывало Темиркана каждый раз, когда он вспоминал этого сияюще-самодовольного молодца... Да, черкеску и сапоги сбросил, а эту дикую козу из Баташевой долины не забыл... И простодушное предложение Дуньят пришлось вдруг по сердцу. Темиркану, — почему не угодить почтенному Джафару? Почему не позабавиться над этой дерзкой девкой, которая, конечно, любит своего разбойника? И вдруг, как подобает Батыжеву, беззаботно, величественно и милостиво прибыть в Старый аул сватом к Верхним Баташевым, как бы не замечая тревоги и ропота вокруг... Плана у него еще не было, но ряд действий, хитрых и осторожных, коварных и рискованных, вдруг представился ему...
Осип Иванович любил свежий воздух, и потому с первых же теплых дней его письменный стол выносили под навес на широкий зеленый двор, примыкавший к выкрашенному в казенный желтый цвет деревянному дому полицейского управления Арабыньского округа, одноэтажному, но весьма поместительному.
У ворот на лавочке сидели стражник в зеленом мундире и казак-вестовой в синей черкеске с белым башлыком. Казачья лошадь аппетитно хрупала сено у коно
440
вязи. Люди, проходившие мимо желтого забора, порою слышали раскатывающийся голос Осипа Ивановича и на всякий случай ускоряли шаги...
Однажды часа в три пополудни к воротам быстрой и мелкой рысью прибежал маленький взмыленный конек, и Талиб Керкетов легко соскочил на землю.
Он был в новенькой красивой белой черкеске, которую надевал, -когда выезжал куда-либо по делу. Привязав своего коня, Талиб хотел войти во двор, но стражник не пустил его. Талиб возвысил голос.
— Эй! Пропустить! — прокатился по двору голос Осипа Ивановича. — Здравствуйте, господин Керкетов, — сказал он, вставая навстречу Талибу, но не выходя из-за стола и не вынимая рук из-за спины. — Прошу! — Он грузно опустился на креело и указал Талибу на стул. — Что вам угодно?
Талиб еще не отдышался от скачки. Речь его была прерывиста и лицо воспалено. Он не стал садиться.
— У нас в ауле... большое возбуждение населения,— сказал он. — На пастбище прибыли землемеры. И есть слух, что пастбища отняты... и разбиты на участки. .. что на днях в Арабыни состоятся торги...
Он вынул платок, вытер лицо и шею, оставляя на глянцевито-белой поверхности платка, очевидно нового, полосы грязи от пыли и пота. От него веяло жарким волнением, совершенно непонятным Осипу Ивановичу, •но явно недопустимым и подлежащим пресечению. «Везде суются», — подумал он, твердо причисляя Талиба к числу людей опасных. Но именно потому, что Керкетов был опасен, с ним нужна была осторожность. И Осип Иванович сказал, вздохнув и даже придав голосу некоторое сожаление:
— Торги, о которых вы изволите говорить, уже состоялись.
— Когда? — -весь выпрямившись, бледнея, спросил Талиб. — Почему? Ведь население не знает...
— Кому нужно, тот знает. Согласно разъяснению сената право аренды пастбищ имеют лица, обладающие более чем десятком конского поголовья или более чем сотней овец... Да -вы садитесь, садитесь. Вот ознакомьтесь, пожалуйста...
441
Он вынул из ящика письменного стола несколько номеров «Губернских ведомостей», где были жирно отчеркнуты синим и красным карандашом некоторые статьи. Талиб сел и погрузился в чтение; Осип Иванович видел, как дрожат его длинные и сильные пальцы.
— Вам бы, как адвокату отчасти... ходатаю по делам, следовало бы заезжать иногда ко мне. >. просматривать это официальное издание... Прошу, курите.
— Так... — хрипло сказал Талиб и отодвинул от себя раскрытый портсигар Осипа Ивановича, газетный лист, который он только что читал, и зеленую с белым верхом и крупной кокардой фуражку Осипа Ивановича. — Крестьяне наши с начала года говорили о том, что князья хотят захватить землю, а я, как дурак, успокаивал. Я не верил в то, что возможно такое... — он помолчал, видимо подбирая нужное слово, и гладил свою побледневшую щеку, точно успокаивал себя, — такое... клятвопреступление... — сказал он, взглянув прямо в лицо Осипа Ивановича и точно толкнув его этим взглядом.
«Опасен», — еще раз подумал Осип Иванович.
— Вы, собственно, о чем? — с притворным недоумением спросил он.
— А это правда, что Дудовы арендовали целиком все пастбища аула Дууд? — не отвечая на обращенный к нему вопрос, спросил Талиб.
— Вам лучше бы не совать нос не в свои дела, — поднимаясь с кресла и багровея, сказал Осип Иванович.
Талиб тоже встал со стула, — стул упал.
— Так, — ответил Талиб спокойно. — Значит, и это правда. Дудовы — нищие бездельники, позор и посмешище нашего народа — забирают все пастбища, чтобы драть еще одну шкуру со своего терпеливого и трудолюбивого народа...
Талиб говорил, не повышая голоса, раздельно, но так волновался, что в русскую речь, сам того не замечая, вставлял веселореченские слова.
— Дудовы представили соответствующие свидетельства о наличии поголовья! •— быстро сказал Осип
442
Иванович. Он забыл, что совсем не обязан оправдываться, но в голосе Талиба, в его тихом и непоколебимом взгляде было что-то, чему нельзя было противиться.
— Они представили свидетельства о наличии поголовья? — переспросил Талиб. — Не впервые в России торгуют мертвыми душами и получают под них землю! — вдруг крикнул он, и этот непонятный, но явно возмутительного смысла выкрик точно вернул Осипу Ивановичу право грубости.
— Молчать! — весь расправляясь, гаркнул Осип Иванович. — Вы ответите!
— Я отвечу! — многозначительно и вызывающе сказал Талиб. — Я за все отвечу. — Лицо его делалось все бледнее. — Вдова Анисат Рахаева с ребенком на руках ходит от .одной казенной двери к другой! Это я посылал ее, и я за это отвечу!
— Вы подстрекаете народ к бунту! — крикнул Осип Иванович.
— Нет, это вы толкаете людей на бунт! — крикнул Талиб. — Даже этот закон, — и он хлопнул рукой по газете, — возмутительный и несправедливый, вы тут же нарушаете к выгоде Дудовых — и, наверное, своей!
Опершись обеими ладонями о стол и втянув голову в плечи, Осип Иванович снизу вверх глянул на подрывателя основ.
— Очень хорошо, господин Керкетов, — зловеще медленно сказал Осип Иванович, когда Талиб замолчал, словно выдохнувшись. — Мы здесь на открытом месте, и то, что вы говорили насчет подстрекательства к бунту, не я один слышал.
— Наш народ твердо помнит... — не слушая, говорил Талиб. — Наш народ не забудет обещания, данного царем...
— Его августейшее величество государь император оказал милость вашему племени и...
— Знаю, — перебил Талиб. — Рескрипт. Но я рескрипт помню. Там говорится об общинных землях, здесь же от общинного владения ничего не остается.
— В целях развития коневодства.;.
— Княжеского коневодства, купеческого и кулацкого коневодства! — крикнул Талиб. — А что будет с бедняком? Десять коней... У нас в Веселом ауле девяносто пять процентов дворов имеют меньше десяти коней.
— Для них предусмотрены лесные поляны...
— Нам не нужно подачек! Мы хотим иметь все, что нам было обещано от имени государя. И мы добьемся справедливости!
Талиб повернулся, почти бегом пробежал до ворот, вскочил на коня и ускакал. Только глянцевито-белый новенький платок, испещренный полосами грязи, остался лежать на столе. И Осип Иванович, злобно выругав этот платок, сразу решил пойти к Темиркану.
На широком батыжевском дворе позади дома Темиркан проверял, как подкованы лошади.
— Что же ты делать с ним будешь? — спросил Темиркан, когда Осип Иванович рассказал ему о возмутительных дерзостях Керкетова.
— Дело ясное, — ответил Осип Иванович. — Арестуем в административном порядке «впредь до выяснения». А выпустим уже зимой...
Темиркан согласно кивнул головой и опять склонился к конскому копыту.
— А вот... что ты думаешь делать? — помолчав, раздраженно спросил Осип Иванович.
— Я? — удивился Темиркан. — Левое тоже перековать надо! — приказал он конюху, который сильными волосатыми руками с усилием удерживал копыто. И, взяв Осипа Ивановича под руку, Темиркан сказал: — Идем домой, угощать буду.
— Слушай, ваше сиятельство, ты брось из себя корчить истукана! Брось!—крикнул Осип Иванович, багровея. После стычки с Талибом ему не под силу было продолжать сдержанную и хитрую игру с Темирканом.
— Кричишь! — удивился Темиркан. — Что кричишь?
— О тебе беспокоюсь, потому кричу. Керкетов... Керкетова можно посадить. Но он неспроста прискакал. Мужики ваши поднимутся!
— С мужиками нашими я сговорюсь, — ответил Те-
444
миркан, в глазах его была совершенно непонятная усмешка.
— Значит, так и будешь от меня таиться? — с горькой обидой спросил Осип Иванович. — Ладно, таись! От меня ты можешь таиться. Но мужики — гляди! Как бы не заставили они «все ваше сословие песню про Тхамали спеть!
И Осип Иванович уехал, сухо отказавшись от угощения.
Осип Иванович не знал, что за два дня до него песня про Тхамали была спета Темиркану дядей его Асланбеком. Как только окончились торги, все участвовавшие в них крестьяне из Старого аула посетили Батыжевых. Темиркан угощал их в старой кунацкой. После того как они уехали, Асланбек вошел, громко отплюнулся, распахнул все двери и окна и сказал:
— Разжиревшей подлостью воняет!
Далее он рассказал Темиркану примерно то же, что сейчас Осип Иванович, — нехорошие вести приходили мз аулов: мужики ропщут... Но так как Темиркан промолчал да еще непонятно усмехнулся, дядя в назидание пропел ему песню про Тхамали.
Усмешка Темиркана была вызвана тем, что «разжиревшая подлость» и благородный Асланбек боялись одного и того же. Гости из Старого аула просили, чтоб сразу же после торгов Темиркан приехал на Старые места, «ибо мы ваши, вы наши». И Темиркан обещал приехать.
Воинственные празднества, священное гостеприимство, общенародное дружелюбие — такой с детства запомнил Темиркан Баташеву долину.
Когда ему в Петербурге случалось Анне, Гинцбургу, великому князю, английским гостям рассказывать о. Веселоречье, получалось, что крестьяне Старого аула непоколебимо верны Батыжевым. В Баташевой долине все неизменно, от века все неподвижно. Но богатые мужики, гости из Баташевой долины, боялись волнения народа. Они звали его в Баташей, Старый аул, чтобы сплотиться вокруг батыжевского имени. Они не знают, что пройдет несколько месяцев, подойдет трехсотлетие царствования дома Романовых — и все паст<
445
битные земли Старого аула подарены будут Темиркану.
А может, они слышали об этом? Значит, не верят? Просят приехать, — что ж, он приедет...
Темиркан продолжал лелеять неясный план, неясный настолько, что это еще был не план, а хитрое и хищное побуждение. Здесь была игра, и опасность, и честь...
И он дал согласие приехать в Старый аул...
Помимо всяческих хитрых расчетов, ему хотелось бежать в Старый аул, — очень уж шатко стало все в Арабыни. Анна со времени своего приезда в Арабынь стала для него средоточием непристойной запутанности его жизни. Только ради того, чтоб быть поближе к Темиркану, просила она Гинцбурга построить ей дачу в Арабыни, — и вот она здесь была дальше от Темиркана, чем в Петербурге. Нет, она не ревновала... Но когда она увидела, каким обеспокоенным и заботливым взглядом смотрит на Дуньят Темиркан, она -взбесилась. «На меня он никогда так не смотрит!» — подумала она и стала ему досаждать... Она нужна была ему больше, чем всегда. Но она проводила время то с голландцем, то с близнецами, то с княгинями...
— Но как же иначе может быть, Тимур? — удивленно спросила она, когда он, превозмогши свое мужское чванство, сказал, что скучает по ней. — У тебя есть жена, у меня — mein alter Herr.
Но Темиркан-то ведь знал, что захоти Анна — и здесь, так же как в Петербурге, они обманули бы всех, кого нужно обмануть.
— Ты хочешь так? Хорошо, поглядим, кто кого... — сказал Темиркан и перестал ее домогаться...
Тогда она приезжала к нему в дом, ласкалась к его матери, забавлялась с его женой, играла с его детьми, весело кокетничала с близнецами, которые, как два молодых пса, готовы были высунув язык бегать за ней... И у Темиркана от чувства непристойности горели уши. Великолепен и величествен был воздвигшийся в течение полугода, на диво всей Арабыни, новый фасад жизни Темиркана, но плохо было жить Темиркану за этим фасадом!
446
— Собираюсь я завтра поехать в Баташей, хочу поглядеть, течет ли вода в Баташевой канаве, — сказал Темиркан Асланбеку. Тот ничего не ответил. И Темиркан оказал тогда: — Ты, почтенный дядя, стар уже стал, лучше тебе остаться дома... Я заберу с собой племянников — 'нужно им поглядеть Старое жилище.
— Доброе дело! — сказал Асланбек. — Тебе их нужно «взять с собой. Они молодцы. И когда тебя мужики убивать станут, оба они заслонят тебя грудью. Но старость моя тоже обязывает меня ехать с тобой; сыновца своего пережить не хочу.
— С чего ты хоронишь меня? — удивился Темиркан. — Не вы ли, Дудовы, в прошлом году прозвали меня -миролюбивым? Я от этой клички «не отрекаюсь. Раз я куда еду — значит, крови там не будет.
— Если что было в прошлом году обидного сказано, так прости меня. Цену тебе, Темиркан, я знаю: ты настоящий воин — так же силен, как и ловок, так же храбр, как хитер. Но Бисмалей, кровь которого течет и в тебе и во мне, был хитрее тебя, а Тхамали безродный его низложил... Эй, оставайся, Темиркан! Осип Иванович стражников туда пошлет, казаков пошлет, и пусть то, что должно свершиться, без тебя там свершится. Вдовством матери твоей заклинаю тебя!
— Я еду сватать. Или я не могу ехать сватать? — спросил удивленно Темиркан.
Но притворство так явно слышно было в его голосе, что Асланбек, обиженно покачал головой и ничего не ответил. И Темиркану стало стыдно перед старым дядей. Он ведь понимал: прав Асланбек — опасно ехать в Старый аул. Он вдруг вспомнил прошлогоднее дело — хитрость деда Магмота, спрятавшего от него Науруза. Как коварны холопы! Но он ведь Батыжев — когти орлиные, крылья совиные... И ему испугаться этой поездки и остаться здесь? Слишком многое гнало его из Арабыни в Баташеву долину!
— Здесь дело чести, дядя Асланбек! Нам, Баты-жевым, подобает мирить и судить, пример подавать. Я это дело завязал, я и развяжу его, — сказал он, и так твердо, что Асланбек понял: Темиркана не отговорить.
447
— Я поеду с тобой, — сказал Асланбек. И, помолчав, добавил, ударяя рукой по кинжалу: — Ладно. Уж если пришла нужда брать в руки собачье дермо, возьмем его смело!
Темиркан уехал, не простившись с Анной.
Глава седьмая
Опасаясь провалов, Константин действовал осторожно, излишних знакомств не заводил и потому к помощи доктора Гедеминова не обращался, хотя ему еще в Петербурге указали на доктора как на человека надежного и сочувствующего большевикам. Однако знакомство их произошло само собой. Доктору Геде-минову предстояло сделать доклад на губернском съезде врачей, который должен был состояться летом. Ему требовалось для доклада несколько диаграмм, а Константин уже завоевал в городе репутацию превосходного чертежника. Познакомившись с материалами доклада, Константин вычертил диаграммы, показывающие, насколько всевозможные эпидемии сильней поражают окраинные кварталы города, насколько там сильней детская смертность и ниже средняя продолжительность жизни.
— Да! Картинки получились выразительные! Могут упечь, пожалуй, а? — вслух раздумывал Евгений Львович, расхаживая по своему белому, масляной краской выкрашенному кабинету городской больницы, куда Константин принес диаграммы.
— Могут*—согласился Константин. — Но вы больше упирайте на цифры и рисуночки. Видите, как я заманчиво все это изобразил?
Дружелюбно-застенчиво улыбаясь и посмеиваясь, доктор во весь свой рост стоял перед Константином, который сидел за столом, и вопросительно поглядывал на него своими правдивыми, добрыми глазами.
— Я плохо переношу тюрьму, — сказал он со вздохом и выражением обреченности в голосе. — Я, знаете ли, охотник и обожаю свежий воздух...
Из больницы они вышли вместе. На улице было ве
448
трено, холодно, скользко, пахло керосином и печеным хлебом, но этот запах, сливавшийся с красноватой тусклостью фонарей и темным блеском луж под ногами, после больничной вони казался вольным.
— Мне Никодим сказал, что это вы писали письмо за подписью «Недоумевающий», — не без некоторого лукавства произнес Гедеминов. — Если так, то вы, конечно, марксист... — Он подумал и, несколько снизив голос, добавил: — Настоящий. Ленинской линии.
Константин, понятно, свою принадлежность к партии отрицал, но на политические темы говорил с Евгением Львовичем довольно откровенно... Они ходили раза два на охоту и постепенно сошлись на «ты».
Константин побывал и дома у Гедеминовых, но пестрота посетителей их салона ему не понравилась и показалась опасной.
«Благодатное местечко для провокатора», — подумал он. Кроме соображений конспирации, у него была еще одна причина избегать гедеминовский дом: Константин «очень глупо», как он сам о себе говорил, влюбился в Людмилу Гедеминову.
В вопросах любви у Константина были совершенно определенные и, как ему казалось, продуманные воззрения. Жена-подруга, товарищ в революционной работе — вот кого хотел он видеть рядом с собой. На пути его встречались очень хорошие девушки, вполне отвечающие его взглядам. Но придерживаться своих взглядов, он никак не мог оттого, что ни в одну из этих хороших девушек он не влюбился, а влюбился в Люду Гедеминову, которая, как ему казалось, его воззрениям на любовь и на брак не соответствовала. Правда, его привлекало то, что она любила музыку и литературу, была отзывчива к людскому горю и наверняка, как дочь своих родителей, должна была, хотя бы и наивно, сочувствовать революции... «Сочувствовать революции»? Он краснел и подсмеивался над собой: его правдивое и насмешливое сердце не выносило фальши.
Он не бывал у Гедеминовых. Но Краснорецк невелик, — выходя из дому, он мечтал ее встретить и, конечно, встречал.
29 10. Либединский
449
Она всегда была приветлива с ним. «Такое уж воспитание — всем улыбаться», — говорил он, не давая себе надеяться. Но 'никак не могло повредить его делам, если он подойдет к ней на улице! Он подходил, раза два провожал ее до дому, но заходить к ним отказывался.
Когда Константин пришел в библиотеку для очередной встречи с Броней, через посредство которой он держал связь с Калющенко и со Стальмаховым, она молча протянула ему свежий номер газеты «Русское слово», вполне благонамеренной буржуазно-обывательской газеты. Константин отошел в уголок, осторожно развернул газету, — там лежал оттиск «Губернских ведомостей», в которых печатались все распоряжения правительства, относящиеся к губернии. «Губернские ведомости» не шли в продажу, а расходились лишь по начальству. Константин углубился в чтение сбивчивого и неровного, местами слишком жирного, а местами неразборчиво-бледного шрифта. Улучив минуту, когда в библиотеке кроме них никого не осталось, к нему подошла Броня.
— Теперь нам обеспечено периодическое получение этого органа, — веселым шепотом сказала она. — В типографии завелся толковый паренек. Мы станем самыми аккуратными подписчиками и будем знакомиться с распоряжениями правительства еще до того, как они поступят к господам исправникам.
Константин ничего не ответил. Нахмурившись, он низко склонился над оттиском, и Броня замолчала, увидев, как озабоченно стало его лицо. Он вторично перечитывал сенатское разъяснение о праве пользования веселореченскими нагорными пастбищами.
С первых дней своей жизни в Краснорецке полюбил он, проснувшись рано, взглянуть, не видна ли вдали, там, где кончается земля и начинается небо, та снежномерцающая, слабо намеченная голубым и розовым страна, которую увидел он утром вскоре после своего приезда. Прочитав сенатское распоряжение, он уже с другим чувством глядел туда. Теперь он знал, что у подножья этих гор находятся вольные пастбища народа, на которые посягают хищники. Эти льды и скалы были всего лишь прекрасной кровлей этой страны. Он
450
и раньше мечтал побывать там. Сейчас Веселоречье стало его живой и повседневной заботой.
Но кто бывал в Веселоречье и кто мог рассказать ему об этой стране? Чиновники, скупщики и купцы. Они знали об этом народе только то, что по характеру своей деятельности им необходимо было знать: к весе-лореченокому народу относились пренебрежительно, а часто даже и не совсем уясняли себе, чем, собственно, веселореченцы отличаются от соседних и родственных народов.
Единственный веселореченец, с которым Константин познакомился в доме Гедеминовых, был ученик пятого класса краснорецкого реального училища Асад Дудов. Константин знал, что Дудовы — одна из старинных княжеских фамилий Веселоречья, но по рассказам Асада видно было, что отец мальчика совсем не богат, преподает математику, пишет статьи в газетах. Очевидно, это был интеллигент и передовой человек своего народа. Но он из Арабыни наезжал редко, и встретиться с ним было трудно.
Иногда в Асаде вдруг проступало что-то чистое и дикое: мгновенный исполненный страсти взгляд, странный взвизг, кратковременный приступ замкнутости, неожиданный скачок мыслей... Это был отпечаток национальной принадлежности, который исчезал так же быстро, как и появлялся, и Асад почти не отличался от своих русских сверстников из интеллигентных семей.
Но даже то немногое, о чем довольно бессвязно рассказывал Асад, волновало Константина: молодой богатырь, сокрушивший орла и медведя...
— Это миф? — спросил Константин.
— Почему миф? — удивился Асад. — Этот богатырь в прошлом году привез князю Темиркану Батыжеву шкуру медведя.
Рассказ Асада заинтересовал Константина. Кто кого <и из-за чего бил, понять, правда, было трудно, но в конце концов побит был пристав.
Всю ту довольно скудную литературу о Веселоречье, которую можно было достать через Броню в Краснорецке, Константин прочел. Ему попала в руки статья Джафара Касеева в «Кавказском эхе». Статья была
451
29*
содержательная, хотя, судя по ней, «Д. Бекмурзин» (так была подписана статья) обладал тем сухо-догматическим складам ума, который обозначал теоретическую склонность к меньшевизму. Но, все равно, надо его найти и с ним познакомиться!
— Я знакома с ним, — почему-то покраснев, сказала Броня и смущенно поглядела на Васю и Гришу Айрапетяна; они встретились на Архиерейской горке, с которой открывался вид на нижнюю часть города и на далекие, уходившие на север волнистые синие степи.
— Итак, вы меня с ним познакомите? А вообще, что вы знаете о веселореченцах? — обратился он к Грише и Васе. Они переглянулись недоуменно.
— Это где-то в горах, — не очень уверенно сказал Айрапетян.
— Я в Арабыни их видел... Они вроде черкесов. .. — сказал Вася.
— Нет! — возразила Броня. — Вроде осетин...
Айрапетян засмеялся.
— «Айву кушал?» — сказал он, округляя глаза и коверкая язык на тот лад, как русские изображают армян. — «Нет, не кушал». — «А яблоко?» — «Кушал». — «Грушу тоже кушал?» — «Кушал». — «Апель-зын кушал?» — «Да». — «Айва совсем другой вкус имеет...» Так и мы.
Константин посмеялся: именно так в Краснорецке говорили о веселореченцах. А Константин, после опубликования сенатского разъяснения о пользовании пастбищами, среди прочих дел, время от времени с тревогой думал об этом, почти еще незнакомом народе, понимая, какая угроза нависла над достоянием веселоре-ченских пастухов.
ЧАСТЬ
ВТОРАЯ
Тлава первая
В Старый аул возвращались из Арабыни двое всадников: Кемал, сын Верхних Баташевых, и богач Хаджи-Даут Баташев из Баташея; миновали Веселый аул и въехали в сумрачные, как бы задумавшиеся горы.
По одежде Хаджи-Даута никак не скажешь, что он самый богатый в Старом ауле: бешмет из дешевого серого сатина, и ни на ремнях, ни на сбруе коня не блестит серебро или золото. Только сапоги хороши: желтый, зеленым выложенный сафьян. Кемал в своей темной, тонкого сукна черкеске, с газырями, отделанными серебром, и медалями на пестрых ленточках выглядел куда внушительней.
Кемал, против обыкновения, говорил много. Хаджи-Даут молча слушал и только иногда произносил, когда хотел изобразить удивление, сочувствие или раздумье: «Алла, алла».
Белая борода Хаджи-Даута, редкая на щеках и густая на подбородке, выразительно оттеняла его коричневое и широкое, точно литое лицо. Чернобровый, черноусый Кемал казался изможденным рядом с этим крепким, сухощавым стариком, который сидел в седле
453
как юноша. Кемала он слушал внимательно, почтительно, и вдруг быстрое настороженное движение черных блестящих глаз, мохнато-рыжих седеющих бровей: не смеется ли Хаджи-Даут над Кемалом? Похоже, что хмельная буза, которой угощали у Батыжевых, все еще не перебродила в голове у Кемала, расхвастался он и который раз говорит одно и то же...
— Ты сам, Хаджи-Даут, видел, кого посадил Те? миркан возле себя. Потому что — не хочу обидеть тебя, почтенный родич, — но изо всех Баташевых мы, Верхние Баташевы, ближе всего к Батыжевым считаемся. А изо всей нашей семьи я ближе всех к сердцу Темиркана: отца его спао и верно служил ему в Петербурге, царской столице, чудом поднявшейся из тихой и темной воды. За верную службу щедро вознаграждают: родную свою отдали мне в жены Батыжевы, строят мне отдельный дом... Не подобает узденю, дружиннику князя, жить в мужичьем родовом доме.
«Дурак, дурак, а от родных как бы подальше», — подумал Хаджи-Даут.
Каков ни есть Кемал, а из всего Старого аула только шестеро крестьян были сейчас в Арабыни, участвовали в торгах на пастбищные земли. На одну дорожку вступили. Крута эта дорожка, надо друг друга держаться. Беспечен и хвастлив Кемал, но сдерживает себя насмешливый Хаджи-Даут, хотя мог бы он крепко присолить похвальбу его.
Хаджи-Даут пировал у Темиркана. Но после пира побывал также в окружном полицейском управлении у господина пристава и оставил у него на столе сплетенную из крашеного конского волоса сумочку. Учтивый человек господин пристав, даже и не заглянул в сумочку.
— Кто же сплел так искусно? —спросил пристав и взвесил на руке подарок.
— Дочь моя Балажан плела, ваше высокоблагородие: искусна в рукоделии и стряпне, приедете весной — угощать будем.
— Сам не приеду, а стражников пришлю, — ответил Осип Иванович, а сам все потряхивал на ладони
454
коричневую сумочку и прислушивался: по звону узнал, что положены в нее золотые.
Стены ущелья круче, дорога все извилистей. Веселая летела внизу, под обрывом, взметая пенно-кружевные рукава и обдавая всадников свежими брызгами. Снеговые горы застланы тучами, солнца не видно, но всюду ровный, теплый и мягкий свет. К-емал давно уже смолк, когда Хаджи-Даут первый раз за всю дорогу сказал:
— Щедро угощал нас Батыжев. Известно: лошади лишнюю мерку овса сыплют, когда в дальний путь собираются, а?
Но Кемал свое: честь, честь, честь... Хаджи-Даут •замолчал, и теперь уже на всю дорогу: оставил для себя свои опасливые размышления...
До Старого аула добрались вечером. Попрощавшись с Кемалом, Хаджи-Даут проехал по узкому проходу между баташевских, сложенных из старых бревен, дворов. Не полагается по этому проходу ездить верхом. Но что для Хаджи-Даута родовые адаты! Никто не попался навстречу Хаджи-Дауту, но ехал он, чувствуя себя под неприязненными взглядами родичей. Эх, родичи!.. Весь Баташев род отдаст Хаджи-Даут за один удар сердца дочери своей Балажан... Она уже поднимала тяжелый запор, открывала ворота.
— Здравствуй, Балажан, здравствуй, коза золоторогая! — сказал он.
Копыта коня гулко звучали по деревянному настилу двора. Хаджи-Даут восхитился силе, с которой дочка легко ворочала тяжелый запор ворот. Но вслух он сказал ворчливо:
— Неужто, кроме тебя, никто не мог открыть ворота хозяину? Сколько ленивых в этом доме, алла!
— Я к стадам людей всех услала. Тебя дома нет, а скот пора наверх перегонять, — ответила Балажан.
Он уже слез с коня и умывался. Балажан, держа в руках полотенце, поливала ему из тусклого кумгана.
И рыжего Бетала тоже к стаду послала? — шутливо спросил Хаджи-Даут.
Балажан самодовольно усмехнулась: зубы блеснули из-за ее губ, молодых, неумолимо твердых и своенравно
455
выпяченных: вот за одну эту усмешку и работает рыжий Бетал Данилов на дворе Хаджи-Даута.
«Что за девка! Вся в меня», — восхищенно подумал Хаджи-Даут.
У нее был такой же, как и у отца, короткий и толстый нос, но только очертания его мягко-прелестны; такие же, как у отца, глубоко посаженные, блестящие, точно налитые огнем продолговатые глаза. Черные прямые волосы необыкновенно густы, — похоже было, что они растут с середины лба: пробор ниточкой убегал под платок. Она невысока, особенно рядом со своим рослым отцом, руки и ноги у нее маленькие. Но в том, как прямо держится она, и особенно в строении ее крепкого, точно литого тела Хаджи-Даут узнавал свою породу.
— Молока в бурдюки налили, хлеба испекли, — рассказывала она о приготовлениях к предстоящему весеннему перегону.
Он слушал, подбрасывая ветки в огонь очага, и кивал.
«Хозяйка, — думал он. — Скоро замуж, и ничего не сделаешь с этим... А все равно не отпущу от себя. Пусть выбирает — мужа в дом приму, хоть того же Бетала. Только не возьмет она его, смеется над его телячьим сердцем и над песнями его. Да хоть горного духа пусть приводит в зятья, все равно приму».
Мудры пути судьбы. Рождались у Хаджи-Даута мальчики и все умирали в младенчестве. Потом покойная жена родила девочку, — так появилась Балажан на свет с длинной черной гривкой на голове. И точно не было у Хаджи-Даута детей до Балажан. Умерла жена, и не стал жениться Хаджи-Даут; никто, кроме этой девочки, ему не нужен...
«Куда это все убегает она?»
Он прислушался к ее быстрым и веселым шагам, раздающимся по веему пустому бревенчатому дому, на очаге которого когда-то готовили себе пищу не меньше чем десять семей... Теснота, вонь, детский крик... Но Хаджи-Даут сумел за просроченные долги и звонкие деньги выжить всех ближайших родичей. Одни стены сломал, другие переложил. Земляные полы застелили
456
коврами, в окна, которые раныпе затягивали бычьим пузырем, вставили стекла. Родичи проклинали: «Скупой Даут», — называли его.
— Кукушка положила в Баташево гнездо проклятое это яйцо, —'говорили они, намекая на то, что кукушка кладет свои яйца в чужие гнезда и птенец кукушки выкидывает из гнезда своих сверстников.
Даут оставлял все это без внимания: разве не за деньги и не за окот приобрел он от родичей это жилище? Теперь очередь за двором.
В давние времена построен этот двор. По преданию, строили его дети и внуки самого Баташа после его смерти, но та же сноровка, та же богатырская сила, тот же вековой расчет, который сказывает себя в стройке Баташева жилища, чувствуется и в кладке этого двора. Бревенчатые стены низки, но огромные бревна положены одно на другое так, как их положили много веков назад, и посейчас они лежат не шелохнувшись. Двор крыт кровлей, сбитой из бревен потоньше, и ее поддерживают сложенные из гигантских чурбанов, пара на пару, крест-накрест, подпорки; этих подпорок одиннадцать, и каждая носит имя одного из сыновей Баташа: Жамбот, Рустем, Алибег.,. Летом двор пуст, стада пасутся, крыша открыта, стоит полусвет, и кое-где бледная травка пробивается на утоптанной земле. На зиму двор кроют, скот защищен от мороза и ветра.
Двор этот издавна был родовым достоянием всех Баташевых. Но сейчас большая половина баташевского стада принадлежит Хаджи-Дауту. Эту зиму, отделив свое стадо от общего баташевского стада, он впервые не пустил на двор скот других Баташевых. А чтоб дело было прочнее — обвел все свое владение, и дом и двор, каменной стеной.
Кроткий Афаун Баташев, старшина Баташева поселка и всего Старого аула, пришел увещевать его: ведь нарушен адат Баташа. Да что ему адат? Половина Баташевых в долгу у Хаджи-Даута — за долги так же отдадут двор, как отдали дом...
— Отец, — крикнула Балажан со двора. — К тебе поп пришел. — Так и крикнула, озорная, а ведь знает,
457
что нет для слуги аллаха большей обиды, чем именовать его кличкой христианского жреца.
— Прости, достопочтенный, девичье неразумие, — посмеиваясь, сказал Хаджи-Даут обозленному и смущенному мулле, бледнолицему в черной бороде. Мулла заикается, Хаджи-Даут терпеливо переносит его тряскую речь: ох, издалека подъезжает поп, но слушать его надо внимательно.
То, о чем говорит мулла, началось этой зимой в самое тусклое время. Съездил мулла в Арабынь. Зимой мужики слетаются на новую .весть, как мухи на мед: меда давно уже нет, ia они все равно густо насядут там, где только медовый дух остался. А от речей муллы так и тянет сладким медовым духом: сын муфтия, образованный Джафар, в столь молодых годах совершивший хадж («А чего же тут трудного — я и сам в молодости накормил своей кровью арабских блох в Мекке», — думал Хаджи-Даут), решил собрать вместе богатых и бедных. У богатых есть лишние деньги, они будут их взаймы бедным давать и получать за это прирост (процент, как по-русски выражался мулла). Тогда Хаджи-Даут посмеялся над этой затеей: зачем ему со ста рублей пять получать, когда, одолжив корову, он через три года получит от должника двух коров обратно.
Не верил Хаджи-Даут в эту затею, но ошибся: рядом с мечетью появилась зеленая жестяная доска, на ней надпись по-русски: «Кредитное товарищество»; мулла — председатель, один из Даниловых, грамотный Касбулат, — секретарь; одни кладут деньги в рост, другие берут в долг, скупают сыр, сукно, а пуще всего шерсть: пошла виться сетка, раскинуты силки на весь Старый аул... Реже видит -Хаджи-Даут у своих ворот людей, которые просят выручить из нужды, одолжить денег... Просчитался Хаджи-Даут, пренебрег — и сейчас слушает муллу внимательно: по всему видно, что из города ветер дует.
Однако не напрасно о таких, как мулла, говорят, что они ездят задом наперед на свинье: тряски и визгу много, а приехали совсем не туда, куда собирались, — начал о деле, кончил пустяками. Шатался недавно по Баташеву поселку муталим и вопил, требовал закият.
458
Хаджи-Даут подучил Балажан: когда муталим подошел к их двору, она опрокинула на попрошайку горячей золы из очага. Муталим бежал по всему аулу, похожий на дьявола, и собаки, не признав, покусали его. И вот,. оказывается, поп пришел не по делу поговорить, а закият получить. «Мое кровное, нажитое, дать на тряпки его рыжей твари? — со злобой думал Хаджи-Даут, но молчал: — Попроси, позаикайся, попроси. ..» — И, досыта насладившись мучениями муллы, Хаджи-Даут сказал:
— То, чего ты для бога просишь, мне отдать не жалко. Ну... одну овцу... две, может, три... — говорил Хаджи-Даут, любуясь муллой, который вспотел от жадного восторга. — Мне не жалко десять овец отдать для мечети, — произнес он и замолчал, чтобы вполне, насладиться захлебывающимися благословениями муллы.
Мулла умолк, и тут Хаджи-Даут сказал:
— Но я ничего не дам. Не только одного ягненка, как дал в прошлом году, но даже копытец с дохлой овцы, которые вы с Касбулатом окупаете в своем «товариществе» по копейке за двадцать штук, и то я не дам. Почему? Я отвечу тебе, почему. Я сердит на бога.
Он замолк: нужно мулле дать время предостеречь божьим гневом и напомнить, что только по милости божьей он, Хаджи-Даут, стал богатым.
Нет, Хаджи-Даут несогласен с тем, что он разбогател по милости бога.
— Лучше не вмешивать бога в недостойные дела мои. Бог дает жену и берет ее, дает детей и берет их, но богатство человек сам наживает. За что я благодарен богу, так это за Балажан, и за то, чтоб жизнь ее длилась, согласен отдавать десять баранов ежегодно. .. — Хаджи-Даут взглядывает на жадное, но сейчас уже неуверенное лицо муллы. — Да, десять или даже двадцать — десятая часть, как полагается. Но я недоволен богом и не нуждаюсь в твоем посредничестве, чтобы передать ему свое недовольство. Каждый день я начинаю и кончаю одним вопросом: «Алла, почему так много родни у меня? Они ходят, как голодные псы, вокруг моего богатства, о алла! Они рычат
459
издали, скалятся с поджатыми хвостами, и, если б не был я зорким, как коршун, они вмиг растащили бы мое добро». И я предлагаю: «Алла, возьми всех моих родичей себе. Да, да, возьми всех потомков Баташа, и я буду уплачивать тебе не одну десятую, а одну пятую своих доходов. Пусть твой слуга в Старом ауле купит себе столько рыжих девок, сколько ему нужно».
— Ты богохульник и нечестивец, Хаджи-Даут. Ты берешь с больного, со вдовы и сироты, — думаешь, люди не запоминают это? Думаешь, люди не знают, зачем ты ездил в Арабынь?
— А? — переспросил Хаджи-Даут заинтересованно.
Но мулла, отплевываясь и шепча проклятия, торопливо ушел.
— Шакал, — сказал Хаджи-Даут с отвращением. —• Нищенствующая тварь, вонючая и похотливая... Но в злобе крикнул он напоследок то, <о чем поразмыслить нужно. Люди знают, запоминают... Алла, об этом, правда, нужно поразмыслить. Землемеры приехали, колышков понаставили и уехали — дело нехитрое, землю я и без них сумел бы отмерить. Стражников нужно, да побольше... Крута дорожка, на которую ты вступил, Хаджи-Даут.
Разговаривая сам с собой, Хаджи-Даут отворил маленькую дверь в стене, окружающей двор, и вышел на край луговины, отделяющей поселок Баташевых от соседнего поселка Пшеноковых. Эта луговина замыкалась коричневым боком горы. Там, вдалеке, огни: табуны и стада Хаджи-Даута. Весеннее ненастье затянулось, трава еще свежа, но скоро — на пастбища. На эти пастбища сотни лет выгонял свои табуны и стада Старый аул. Но Хаджи-Дауту кажется, что в этом году выгоняет он скот на какие-то новые пастбища: ведь ле-, жит в его кармане маленькая книжечка — ярлык на участок, свой участок...
Раздался вдруг пронзительный плач ребенка. Нахмурив косматые рыже-седые брови, Хаджи-Даут напряженно вслушивался в этот отчаянный крик.
«Еще один родился... У Юнуса? Или у Джафара?»
И Хаджи-Даут поднял голову к темнеющему небу и с силой сказал:
460
— Я недоволен тобою, хозяин неба и земли, недоволен, что меня, такого могучего, богатого и во всем превосходного, окружил ты оравой жадной и нищей родни. Недоволен тем, что нет мне воли, свободы!
Он замолк, прислушался. Конечно, все было безучастно, темно и тихо кругом... Разом почувствовав себя усталым и старым,. Хаджи-Даут сел на камень, который лежал здесь, возле стены. Смерть может прийти в любой миг, за ней посылать не нужно... И тогда все пропадет, все пойдет родичам: шариат, адат—всё против Хаджи-Даута, все встанет против того, чтоб Балажан получила бы то, что им нажито... Отец Верхних Баташевых ушел из рода, унеся в руках мотыгу. Нет, этот путь не для него. Русский закон — •вот спасение. Русский закон не признает рода, но ве-селореченцы сами выговорили себе право судиться по своим родовым законам...
Хаджи-Даут мог быть взволнован, погружен в задумчивость, но всегда слух, зрение, обоняние его настороже. Он уловил чуть заметный шорох, повернул голову и увидел, как вдоль стены мелькнула тень. Его мысль сразу оборвалась. Бесшумно привстав, он двинулся за тенью. Это был мужчина.
«Вор? Или зло хотят мне причинить?»
Он мягко скользил по земле вдоль бревенчатой стены. Злоумышленник гибко, как белка, прыгнул и ухватился за выдающееся вперед оконечье верхнего бревна, и тут Хаджи-Даут крепко схватил его за ноги... Тот дернулся. Хаджи-Даут держал крепко.
— Ну-ка, прыгай вниз, — сказал Хаджи-Даут шепотом.
Злоумышленник без всякого спора соскользнул, и Хаджи-Даут от удивления отпустил его. Впрочем, тот и не думал никуда убегать. Хаджи-Даут узнал Хусейна, из семьи Верхних Баташевых, единственной семьи Баташева рода, с которой Хаджи-Даут сохранил хорошие отношения.
«Что ему нужно от меня? Правда, Хусейн озорной, Балажан что-то пела о его удали... Балажан...»
— За каким недобрым делом ты лезешь? — спросил Хаджи-Даут.
461
— Или я не Баташев, — ответил Хусейн дерзко, — и не могу войти в Баташев поселок по той дороге, по какой захочу...
— Гляди, Баташев, — зловеще-спокойно сказал Хаджи-Даут. — Вот как крикну я сейчас, да как сбегутся все наши родичи, да побьют тебя камнями! Балажан — сестра тебе, а ты...
— Балажан? — засмеялся Хусейн. — Чертополох этот не по зубам мне, пусть осел им лакомится.
Хаджи-Даут усмехнулся. Сравнение Балажан с чертополохом понравилось ему. Он оглядел красивого парня, смело стоящего перед ним, его чернобровое, красивое и грустное лицо, — он не очень верил в силу адатов. Да и какое там родство: десять поколений отделяет Хусейна и Балажан от общего прародителя, родства никакого нет — одна старая глупость. Но пусть парень чтит адат.
— Дедушка Хаджи-Даут, — миролюбиво сказал Хусейн. — Если ты хочешь узнать, зачем я сюда пришел, отойдем давай в сторонку и подождем немного. Вот сюда... только потише... И ты все здесь увидишь.
Хусейн отошел к тому камню, на котором раньше сидел Хаджи-Даут, и лег на землю.
— Видишь, — шепотом сказал он, — я в твоей власти.
Хаджи-Даут, притворно ворча проклятия, опустился на камень. Он любил поговорить о дочке.
Два года назад, когда она была еще совсем девчонкой, случилось страшное дело. Веселая вынесла на берег труп ребенка, только что удушенного. Старшины аула, мудрые головы собрались: судили-рядили, кто преступница, которая, по адатам, должна быть закопана в землю живьем! Вдруг, против всех обычаев, на собрание старшин пришла Балажан и сказала: «Дайте мне, старики, трех старушек, — я обойду с ними аул и к вечеру найду вам преступницу». Старшины зашумели. Но Афаун Баташев, почтенный старшина Баташева поселка, знавший об уме Балажан, сказал за нее — и себе на горе сказал: к вечеру Балажан привела Зейнаб Баташеву, любимую внучку Афауна.
462
Балажан узнала преступницу по молоку в груди ее. Зейнаб не зарыли живьем в землю только потому, что за нее вступился ветеринар из Арабыни, случившийся здесь. Увез ее и отдал русскому суду. С тех пор старики уважают Балажан, а девушки не любят и боятся.
— Говорят, , что когда она родилась, то сразу от ног матери встала и пошла к огню? — со страхом и любопытством спрашивал Хусейн.
Хаджи-Даут сразу не ответил. Не так это произошло, как говорили. Балажан исполнился год, когда она ночью вдруг встала с постели и молча села в круг взрослых у очага и стала глядеть на огонь. Но Хаджи-Дауту нравилось, что о Балажан так говорят, и он, помолчав, ответил:
— Э-э-э, Балажан... Я вот уезжаю, так оставляю ей все хозяйство — она сама управляет работниками. А когда цыган Ибрагим — знаешь, у меня в работниках служил, — напился пьян и сломал ногу овце, знаешь, как о нашего отхлестала? Кнутом в кровь!
Хусейн не успел ответить... Он прислушивался и вдруг безмолвно указал рукой: со стороны луговины, держа лошадь на поводу, осторожно подходил человек. .. Он подошел к стене, нащупал что-то, очевидно сучок на бревне, и привязал лошадь.
«Не первый раз он здесь», — подумал Хаджи-Даут, напряженно следя за неторопливыми и уверенными движениями приезжего. А тот вскочил на спину лошади, и Хаджи-Даут не успел остановить его, как человек исчез на крыше.
— Чего ты, — успокоительно сказал Хусейн. — Он оставил здесь лошадь...
— Там Балажан одна в доме...
— Ну, она с ним сладит...
— Брось шутить, щенок...
— Я окажу тебе его имя, и ты успокоишься.
— Кто?.— спросил Хаджи-Даут.
— Батырбек Керкетов.
— Батырбек? — Старик удивился, но, правда, успо* коился. — Молодой пес за своим хвостом бегает, — со смешком сказал он. — Зачем ему через крышу ходить? Я б его и так принял...
463
Не успел он договорить, как дверь -в стене открылась, и тут Хаджи-Дауту опять пришлось удивиться: из нее вышел Батырбек, а за ним Балажан вывела светлокаурую молодую кобылу.
«Не моя лошадь, — подумал старик удивленно. — И откуда она? Ведь днем ее не было».
Батырбек отвязал свою лошадь и протянул руку к узде, которую держала Балажан.
— Деньги давай, — сказала Балажан своим глубоким, спокойным голосом.
— Не веришь мне? — усмехнулся Батырбек. — Возьми. — Он считал деньги, — видно было, как он кладет их на спокойную ладонь Балажан. — А почему Хусейн не пришел? — спросил Батырбек.
— Давай мне его долю, я ему отдам, — ответила Балажан.
Он молча добавил еще несколько монет.
— Прощай. — Он вскочил на своего коня и протянул руку, она передала ему уздечку краденого коня и руку вместе с уздечкой. — Когда прилетишь, сокол?
Он пригнулся и о чем-то спросил ее. Она ответила, и он хотел опять соскочить со своего коня. Она несогласно покачала головой.
— Нет, уезжай. Вернулся отец и с ним Кемал. Нужно все делать скорее.
— Садись, вместе уедем, — хрипло сказал Батырбек.
— Нет, — грустно, но твердо ответила Балажан. — Не дождешься этого.
— Я ведь надолго сейчас, — сказал он, — в Красно-рецк еду.
— Привези платок красивый.
— Живой буду — привезу.
Он замолчал, ожидая ее вопроса. Но она стояла и молчала, и тогда он сказал:
— Отец меня посылает брата выручать. Уехал Талиб наш и не возвращается.
Он опять замолчал, и опять она ничего не спросила.
— Может быть, больше не свидимся, садись на коня! — голос его дрожал от желания.
— Присылай сватов, — твердо ответила она.
464
Он промолчал, она повернулась и пошла в сторону дома. Он гикнул, хлестнул коней. Их разностройный топот раздался по долине.
Старик некоторое время молчал. Он негодовал на Керкетова за щ что тот отказался от Балажан, но был заинтересован всем этим делом. А Хусейн?
— Это твоего брата конь, которого ты у него угнал? — спросил Хаджи-Даут.
— Да, — ответил Хусейн, — угнал..
Он рассказал о своей ссоре с Кемалом. Несколько лет Хусейн был конюхом Кемала, уверенный, что за это Кемал одарит его жеребенком. Табун Кемала год от года увеличивался, а Кемал ни слова не говорил о вознаграждении. .. Хусейн сам заговорил — Кемал посмеялся над ним. Хусейн схватился за кинжал, мать кинулась между ними. Тогда Хусейн ушел из дому.
С Балажан подружился Батырбек на одном из праздников в ауле Веселом. Хусейн сначала думал, что Батырбек и Балажан связаны любовью, потом Балажан от имени Батырбека стала звать его в джигитское дело— угон и продажу коней. Тут как раз подошла ссора Хусейна с Кемалом, и Хусейн согласился.
— Да... коней у старого Ахуна Данилова угнали они, и кони эти также прошли через конюшню Хаджи-Даута.
— Где они стояли?
— Есть там такое место; нужно, дедушка Хаджи-Даут, лучгйе знать свои конюшни.
— А работники?
— Бетал Данилов посвящен в это дело, но он, как тебе известно, никогда Балажан не выдаст.
О любви между Балажан и Батырбеком? Нет, ничего не знал об этом Хусейн.
Хаджи-Даут слушал с восхищением и грустной завистью. Было и ему чем похвастаться. Но те подвиги совершались в молодости и хвастать ими — признать свою старость.
Хусейн вдруг замолчал, прислушался: не снизу, куда ускакал Батырбек, а сверху, от Верхних Баташевых, раздался конский топот.
30 Ю. Лнбединский
465
— Я спрячусь, — оказал Хусейн. — Это Кемал хватился коня. Долго ждал я времени отомстить ему!
Он ушел в полутьму дома. И во-время..• Внизу через луговину скакал всадник.
— Эй, кто там? — окликнул Хаджи-Даут.
Всадник повернул и подскакал к Хаджи-Дауту. Это был Кемал.
— Дядя, угнали мою лучшую лошадь. Я Хусейна, брата своего, подозреваю. Ты не видал его? Не слыхал о нем?
— Нет,— сказал Хаджи-Даут.
Взойди, мать, на кровлю, погляди на диво —
Зеленая трава из-под снега пробивается.
Взойди, мать, на кровлю:
На самой кровле из-под льда весенний цветок пробивается.
— Хорошо поет, — сказали Темиркан и Асланбек.
Они верхами поднимались к жилищу Верхних Баташевых, на самом краю кровли которого стояла девушка в красной одежде. Темиркан и Асланбек еще ехали в холодной тени горы, а девушка была освещена ярким солнцем, и она пела под неподвижным, суровым кругом гор, лесов и совсем близких сугробов вечного снега, пела дико и нежно — спрашивала мать и сама себе отвечала за мать:
Не видна трава под снегом нагорным,— Молоденькой, тебе трава почудилась... Не поднялись изо льда цветы голубые — Милого своего ждешь ты...
Здесь, на высоте, было по-зимнему сурово и неподвижно, только голос одиноко и сильно звучал в тишине еще не проснувшейся природы:
Охая ложуся, охая встаю —
Долго ли так будет, матушка моя...
Обещала ты, матушка, беречь меня.
Береги, матушка, серебро,
А меня замуж выдай: я уже выросла*
Обещали братья меня холить;
Хольте, братья, коней своих, меня милому отдайте...
Обещал отец...
466
Песня оборвалась, Нафисат услышала звонкий перебор конских копыт по каменистому, еще не оттаявшему грунту тропы, взглянула вниз и увидела быстро подъезжающих всадников в черных бурках и сразу их узнала. Алчно и весело, как волки на беззащитную добычу, глядели на нее князья. Она ахнула и убежала с кровли.
Нафисат была уверена в том, что Темиркан приехал сватать ее. Но князь сначала ничего не сказал о цели своего приезда.
— Здесь тайна, — ответил Кемал на вопросы братьев.
И те верили, что только Кемал знает тайну, — князь всегда был особенно милостив к нему. На раннем рассвете, почти ночью, в самый холодный час, заходил Кемал в кунацкую, где жили князья, разводил в очаге огонь сухими и сырыми дровами, чтобы не слишком быстро прогорало, и подвешивал над огнем котел с водой, так чтобы Темиркан имел к утру теплую воду для омовения. Бывало, что Темиркана пробуждало воркованье воды в котле, треск горящего дерева. На мгновение проснувшись, видел он Кемала, бодрствующего наедине со своей тенью, и оба они — и Кемал и его тень — становились то ярче, то бледнее от веселой игры пламени в очаге. И Темиркан засыпал особенно спо-койно, точно в раннем детстве, когда, так же проснувшись, видел он няню, стерегущую его сон.
Едва в комнате начинало светать, как в нее входила вся в белом, с закрытым лицом Фатимат, молодая жена Кемала; она помогала мужу ухаживать за князьями, прибирала комнату.
У себя в арабыньском доме Темиркан почти не замечал Фатимат — здесь оценил он выбор- Кемала и понял, почему княгини считали Фатимат лучшей служанкой: в движениях ее была какая-то успокаивающая быстрота и мягкость. Темиркан и Асланбек завтракали, Кемал и Фатимат стоя присутствовали при трапезе, стараясь угадать желания князей. Из низкой двери принимали они кушанья, которые подавали в кунацкую женские руки.
467
30»
А в глубокое маленькое окошечко видно было голубое небо и снега близкой горы сияли так, что приходилось щурить глаза. Порой, когда Кемал за чем-либо выходил, Темиркан позволял себе спрашивать:
— Ну, каково живется тебе, Фатимат?
Она нравилась ему. И без побуждения овладеть он любовался ею. Взятая замуж из его дома, она была точно тенью батыжевской семьи. Фатимат рассказывала, и Темиркан от нее и Кемала знал, что происходило в семье Верхних Баташевых. Последним событием была ссора Кемала и Хусейна, который не только не скрывал, что угнал коня у Кемала, но еще дерзко похвалялся этим1 Правда, семья Верхних Баташевых встала на сторону Кемала, даже мать рассердилась на своего любимца. А все, же он был не наказан и неуловим — его прятали где-то в ауле.
Темиркан недовольно морщился — об этом он не хотел слушать, и разговор прекращался.
Проста и груба была пища, (которой его здесь кормили: обжаренное слегка, кровавое мясо, тесто, обильно залитое коровьим маслом, овечий сыр, пахнущий травами. Дики и суровы были выложенные из камней стены кунацкой, еле прикрытые домотканными коврами, но ведь на ложе, на котором он спал, не раз почивал отец его, и Кемал, так же как и сейчас, целые ночи просиживал тогда у очага.
С утра, позавтракав, Темиркан бродил по каменному склону горы и стрелял подымающихся из камней, таких же как камни, сизых горных голубей. Иногда на глаза попадался ему старик Исмаил, ворочающий камни в своей глубокой яме, — Темиркан все забывал спросить старика, зачем он это делает, но зрелище тяжелого и неустанного труда было приятно Темиркану. Да, вое идет здесь как от века установлено. Темиркан отдыхал после Арабыни.
Однажды вечером Темиркан вышел во двор и услышал голоса трех старших сыновей Исмаила. Бесшумная кошачья похожа позволила Темиркану подкрасться, и он подслушал их разговор.
Али и Кемал спорили друг с другом. Старший брат Муса проявлял себя только кряхтеньем и вздохами:
468
«О-о-о, алла-иль-алла», хотя спорившие обращались к нему.
— Нет, я ничего не пожалею для наших высокорожденных гостей, — говорил Али, — правда, мы уже зарезали трех барашков, и если бы этих трех барашков загубил волк, я исходил бы весь лес, нашел бы зверя и убил. Но я не лишен разума и понимаю: речь идет не о волках, а b князьях. Конечно, нельзя угощать таких гостей шкурой коровы, сдохшей в прошлом году, и тебе не пристало, младший брат, учить меня правилам обхождения со знатными, и особенно с Батыжевыми. Но вот говорят, что царь хочет, свободные пастбища подарить князьям нашим.
— А чьи они, пастбища? — строго спросил Кемал.
— Пастбища? — удивленно спросил Али. — Ты слышишь, старший, о чем спрашивает Кемал? — обратился он к Мусе, но тот только вздохнул и призвал бога.
— Пастбища от века князьям принадлежат, — стал строго поучать Кемал, — но по своему высокому рождению князья не могут сами пасти скот, отдают его пасти мужикам, к их выгоде.
— Тут, конечно, всяко можно толковать, — сказал Али, — вон теперь толкуют так, что бедных людей совсем с пастбищ сгонят, много чего толкуют.
— Мы, Верхние Баташевы, не пропадем: мы в ограде Батыжевых, — напомнил Кемал, — их милость с нами.
— Эх-хе-хе, милость, милость! То-то все меня спрашивают: «Скажи, Верхний Баташев, какое же слово от Темиркана слышно?» И когда я указываю на небо и всезнающего, мне говорят: «Эх, толстый, хитрый Али! Обо всем ты знаешь, а молчишь. Видно, что вы, Исмаиловы, уродились на горе среди немых камней».
— А что людям? — заносчиво спросил Кемал. — Все наши родичи Баташевы на сухом огне горят от зависти: объехал Темиркан старый Баташев поселок, честь оказана нам — Верхним Баташевым.
— Честь, честь, честь, — забормотал Али, — честь за нами, а барашки родичей целы.
Муса зашевелился всем телом и вдруг глухо сказал:
469
— Честь нам большая, это так. Вот как моя голова рассудила.
И братья, точно им действительно что пояснили эти каменные слова, замолчали, и Али, вздохнув, пошёл выбирать очередного барашка, которого завтра предстоит съесть князьям.
А Темиркан всю эту ночь не мог заснуть. Душа его, задремавшая с приездом в Старый аул, опять тревожно пробудилась.
Значит, слух о том, что князья получают пастбищные земли в подарок, дошел до аула. Эх, дудовская болтовня и хвастливость! Но главное, что понял Темиркан из разговора старших сыновей Исмаила, — это то, что Старый аул относится подозрительно к тому, что Темиркан гостит у Верхних Баташевых. Так ли уж все незыблемо, неподвижно в Старом ауле и в семье Исмаила Баташева?
Бессонная ночь не прошла даром. Темиркан велел позвать к себе деда Магмота Данилова. Попрежнему уверенный, что старик искусно притворялся, плача над окровавленными одеждами Науруза, Темиркан с ним тоже хитрил и притворялся, даже сам подносил ему угощение. Дед был мрачен и не поддавался разговору об охоте, о погоде,, жался, томился и, наконец, грубо спросил:.
— Как в этом году скотину выгонять будем?
Темиркан сидел в полоборота к двери, но сразу увидел, как при этом вопросе Али и рослый чернобородый Элдар, сын Мусы, старший из внуков Исмаила, стоявшие у порога, перестали шептаться и замолчали, ожидая слов Темиркана.
— А ты разве у нас на дворе в Арабыни не был? Лейлю не видел? — удивился Темиркан. — Конечно, в пастушеском деле ты сведущ больше меня, но мне кажется, что время выгонять скот уже подошло.
В голосе Темиркана послышалась строгость.
— Прости, господин, — вставая, ответил дед. — Но такое смущение пошло в народе, что я сам не знал, что делать. -Землемеры на пастбища приезжали, колышки набили, вешки поставили. Есть слух, что с этой весны старый обычай кончится, новый начнется.
470
Темиркан, склонив голову, прислушивался с таким видом, точно голос деда доносился откуда-то издалека или он говорил на языке не совсем понятном. Выслушал молча, внимательно и, когда дед кончил, кивнул ему головой.
— Да, — сказал он, — угодно было государю императору, повелителю нашему, старый обычай отменить и новый установить. Это клонится к тому, чтобы больше порядка было на пастбищах. По новому обычаю, каждый год весною в Арабыни будут торги на пастбища. Этот год торги уже состоялись. Лейля сторговала для нас пятьдесят участков.
Темиркан замолчал, взял из рук деда, сидевшего рядом с ним неподвижно, погасшую трубку, высыпал из нее пепел, стал вытрясать табак из своих маленьких папирос и набивать трубку деда, который не отрываясь следил за быстрыми и спокойночшорыми движениями пальцев Темиркана. Кемал глядел ему в рот. На пороге стояли Али и Элдар.
— Закури-ка! Столичный, — оказал Темиркан, приветливо окаля зубы.
Дед вдруг низко ему поклонился.
— Господин Темиркан, ты деда своего внук, скажи, как быть по новому порядку тем, у кого ни десяти коней, ни ста бвечек нет? Говорят, бедные люди к торгам не допущены. Как же жить бедному человеку?
В голосе его была просьба и слышался оттенок угрозы. Темиркан взглянул на него удивленно:
— Так я же приказал Лейле... Если бы ты был у нас на дворе, она бы сказала тебе мой приказ, дед Магмот. Те, кто по новому установлению получить участков не могут, пусть пасут на моих участках. Осенью тебе, как пастуху нашему, надлежит взять с тех, кто будет пасти на наших участках, в нашу пользу, сколько нужно с приплода. По справедливости. Течет вода в Баташевой канаве, крепка Батыжева клятва!
Он говорил и краем глаза следил за Кемалом: тот поднял кверху палец и торжествующе поглядел на брата и племянника, стоящих у двери.
Весть о благородстве Батыжева быстро разнеслась
471
по аулу, и скоро от Кемала и дяди своего Асланбека Темиркан узнал, что негодование аула направилось против богатых мужиков и в особенности на Хаджи-Даута, сразу огородившего свой участок пастбищ. И Асланбек только жмурился и мотал головой, восторгаясь племянником.
Когда Темиркан накануне отъезда из Арабыни отказался взять с собой племянников, Асланбек называл его безумным и считал, что, сопровождая Темиркана, подвергает жизнь свою смертельной опасности. Только теперь ему стали понятны поступки Темиркана: четыре вооруженных человека — ведь это маленький воинский отряд, люди могли говорить, что Темиркан боится своего народа. Нет, Темиркан никого не боится в Баташевой долине. И Асланбек только удивлялся, почему племянник не собирает народа у Баташевой канавы. Но раз не собирает — значит, есть у него причины.
А на кровле каждый вечер пела Нафисат;
Мой любезный покинул горы;
Уходя, оглядывался на каждом шаге.
Ясноглазый покинул горы,
Заржавел румянец на моем лице.., Пусть я буду орлицей, полечу ему вслед! Пусть я буду голубкой, опущусь на губы его.
Так пела Нафисат, рыдание наполняло сейчас ее песню, и Темиркан, встречая ее, хвалил:
— Хорошо поешь.
— Несчастные все голосистые, — ответила она ему однажды.
— Я тебя осчастливлю, — оказал ей вслед Темиркан и через Кемала попросил к себе Исмаила — отца Верхних Баташевых.
Это было ранним утром, и все же Кемалу пришлось пойти на «поле», куда ушел уже старик.
Исмаил послушно оставил очередной камень, который выворачивал, и пошел на зов князя. Умылся, переоделся, вошел в кунацкую. Похоже, что на нем была чужая черкеска, — она вся морщилась и коробилась.
Темиркан встал навстречу старику и не только потому, что перед ним был человек намного старше его. Исмаил в этой черкеске, которая, казалось, была велика
472
ему, в старых стоптанных сапогах внушал Темиркану растроганное уважение. Ведь этот сухощавый старик стодл перед его дедом Алегико еще тогда, когда Темирканова отца на свете не было. Темиркан не знал, что на старике была та же черкеска, в которой стоял он перед Алегико Батыжевым. Черкеска была та же, а жизнь прошла, высушила и обглодала старика, и черкеска стала ему просторна.
Исмаил отказывался садиться при князе, Темиркану пришлось самому усаживать его. Смущение и простодушное удовлетворение выступили на этом темносмуглом, изрезанном морщинами лице. Что-то было в этих морщинах, в неподвижности этих глаз, уже потухающих, точно старик находился во власти какого-то одного побуждения, — он с усилием слушал князя, с усилием подбирал слова для ответа.
— Я приехал к тебе, почтенный Исмаил, не по своему делу, но можешь считать — это как бы мое дело. Я взял к тебе поручение.
— Какое поручение можешь ты, господин, взять к своему подданному? — вставая и кланяясь, сказал Исмаил. ‘— Приказа твоего ожидаю.
— И все же, — лукаво-добродушно сказал Темиркан, — все же я должен просить у тебя, так как ты свободнорожденный и в семье своей сам волен.
Исмаил снова поклонился, но на лице его было недоумение. А Темиркан, сам довольный тем, что говорит, продолжал спокойно и значительно:
— Имею поручение от Джафара, сына арабынь-ского муфтия, почтенного Бекмурзы Касеева. Мне нечего говорить о Джафаре. Ты сам знаешь это семейство, благочестивое, богатое и такое же свободное, как и ваше. Джафар, к тому же, несомненно, самый ученый человек наших мест. Я доверил ему воспитание своих племянников, — суди сам о близости его к нашей семье. Этот почтенный человек желает породниться с вашей семьей, взять в жены младшую дочку твою. Ей пора, потому и поет она целые дни на кровле.
Темиркан замолчал. Быстрая тень пробежала по лицу Исмаила. Четыре дочери улетели из гнезда, теперь последняя горлинка расправит крылья, высоко полетит.
473
— Ты доставишь мне много славы, если я не проехался понапрасну, — многозначительно сказал Темиркан.
Исмаил вздрогнул, пришел в себя и опять поклонился.
— Большая честь нам, — сказал он, — и потому Оолыпая, что твоя рука, господин, держит узду женихова коня. Как могу не согласиться? Но у девушки, о которой ты говоришь, трое старших братьев — я не упоминаю сейчас о четвертом — непокорном. Девушку кормили не только мы со старухой, но также братья, которые старше ее, да и она работала на них. Она покорная дочь, но ей близки другие родичи.
— Советуйтесь, — сказал Темиркан, — я знаю адат. Но когда будешь говорить с сыновьями, скажи, что сверх обычного выкупа жених хочет одарить тебя, как отца невесты, верховым конем или парой волов — на твой выбор, каждого старшего брата невесты парой овец и особый подарок ее матери.
— Я не удивляюсь богатому выкупу и подаркам, — кланяясь, сказал Исмаил, — я по свату сужу о женихе. Но как ни велика честь и богатство, — та, рожденная мной, о которой мы говорим, сама имеет душу, и когда мулла ее будет спрашивать, я хочу, чтобы она отвечала не только как покорная дочь, но как жена, любящая своего мужа.
Темиркан с изумлением и неудовольствием взглянул на старика. Узнавать волю девушки? Когда Темиркан сам женился, ему даже в голову не пришло спросить свою Дуньят, любила ли она его. Достаточно было, что она ему нравилась. И он оказал, как бы не поняв старика:
— Джафар встретил твою дочь последней осенью на большой облаве, где он был моим гостем. Облава нам не удалась, и дочь твоя оказалась единственной нашей добычей.
Хуреймат нашла дочь на кровле, где та последнее время проводила целые дни. Нафисат развела краски в черепках, собиралась красить шерсть. Мать сказала дочери, что за нее посватался человек, «лучше которого нельзя найти». Как и полагается покорной дочери, На-
474
фисат выслушала молча, — мать сама по выражению лица дочери могла, если бы захотела, понять, по сердцу ли девушке жених. Четырех дочерей выдала Хуреймат и всегда без слов, по вспышке румянца, по движению губ и бровей умела угадывать безмолвные и стыдливые ответы дочерей. Но что происходит сейчас в душе младшей? Посуровело, затвердело лицо Нафисат, исполнилось какой-то невеселой решимости. Она всегда была любимицей отца и матери. Рост и стать матери были в ней смягчены гибкостью отцовской породы. Тонкие и твердые черты отцовского лица прелестно соединялись с той унаследованной от матери широтою скул и косым разрезом глаз, которые являются признаками тюркской крови. Хуреймат гордилась младшей дочерью, считала ее самым удачным порождением их брака и радовалась, что судьба выделила Нафисат и послала ей такого жениха — городского, ученого,-богатого! Но что происходит сейчас с Нафисат? Что она — встревожилась, испугалась?
«Пела, пела, себе жениха найела и сама не ждала, что свадьба так скоро», — с нежной насмешкой подумала Хуреймат.
— Отец оказал, что ты видела жениха, — добавила Хуреймат. — Будто вы встретились на княжеской облаве;
И, едва выговорив эти слова, она сразу поняла безмолвный ответ дочери: Нафисат не хотела замуж за того, кого ей сватали. Но тверда была Хуреймат, Считала, что лучше понимает счастье дочери, чем сама дочь, и сказала настойчиво и нежно:
— Счастливая судьба тебе, ласточка. Уедешь в город, будешь жить в богатом доме. Не прикоснешься к черной работе — будешь сама себе госпожа, служанками повелевать будешь.
— Не надо мне служанок, — вдруг резко сказала Нафисат. — Лучше останусь навсегда в отцовском доме, буду братьям служить самой черной работой и детей их нянчить, но не надо неволить меня, чтобы я шла за этого человека.
Так резко, со злобой, почти с рыданием говорила дочь. Солнце было высоко, но с непокрытой головой си
475
дела она на кровле, и ее черные, прямые волосы каза-лись тусклее, чем всегда, может потому, что растрепались. Упрямо стиснув в кулаки свои вымазанные в краске руки, она положила их на колени.
— Я один раз взглянула на этого человека, — говорила Нафисат, — и сразу увидела: он такой, о каких в песне поется: «Унизав свой пояс серебром, похваляется подвигами на женской половине». Усы у него мужские, но девичий взгляд. Бедра широкие, точно он рожал, и нет в походке ни смелости, ни мужества.
— Как ты говоришь о мужчине! — сердито и растерянно сказала мать. — Даже по словам твоим бесстыдным видно, что пора тебе замуж.
Нафисат угрюмо молчала. Она знала, что не ей решать это дело, что не может отец ответить отказом такому свату, как князь Батыжев.
Не дождавшись от дочери ответа, мать ушла. Мрачно задумавшись, сведя брови, глядела перед собой Нафисат, и ей представлялось торжествующее лицо Темиркана. Не колеблясь ни минуты, убила бы его, неотступно ее преследующего.
Ласковая рука обняла вдруг ее плечи, и Нафисат испуганно вздрогнула. Это была Фатимат, молодая жена ее брата Кемала. Нафисат показалось, что мстительное побуждение явственно выговорилось в ее голосе и Фатимат, подкравшаяся неслышно, могла его подслушать. Фатимат всего на год старше Нафисат, но она городская и в речах ее всегда много нового. Вот и сейчас, нежная и лукавая, она нашептывает теплыми губами:
— Делай как отец с матерью говорят, сестрица. Жениха твоего знаю, хорошо тебе будет. Называют его вольнодумцем за то, что живет он по русскому обычаю: кроме тебя, другой жены не возьмет.
— Если меня покупает, значит, когда прискучу, другую купит, — ответила Нафисат. — Да что о нем говорить, не хочу я его. Как же ты уговариваешь идти за немилого? Сама-то рада ли?
Фатимат грустно опустила голову и ничего не ответила. Нафисат знала, что говорила, Фатимат была с ней откровенна
476
— Не девичье Дело мужа себе выбирать, — тихо ответила Фатимат.
Нафисат промолчала и подумала:
«Я уже выбрала, только где он?»
Еще нашептывала что-то Фатимат вкрадчиво и печально о городской жизни: кисея и атлас, христианские башмаки, которые делают женщину стройнее и желаннее для мужчин, молодые господа с царскими знаками на плечах... «Помада и духи, ленты, кружева, ботинки. ..» Нафисат слушала и не слышала. Не здесь была душа ее.
Глава вторая
После того как Филипп Булавин выпустил Науруза из круга облавы, Науруз пошел в сторону Веселого аула, чтоб пробраться на двор Керкетовых, где его один раз уже прятали. Но по пути встретил он шерстобита Авжуко.
— Иди в станицу Сторожевую, — сказал Авжуко.— Туда приехали русские начальники: нанимают людей на большие работы — строить железный путь по долине реки Веселой, в глубь гор и через горы — до Черного моря! Паспортов там не спрашивают — люди нужны. ..
Был первый зимний день. Шел снег, он скрыл уже камни. Иссякли, вымерзли и замолкли ручьи... Тишина, белый свет, — настала зима, настала разлука... И Науруз попросил Авжуко, который подымался в Ба-тащей, передать весть о нем Нафисат,- а сам пошел вниз, в станицу Сторожевую.
Много всякого народа, голодного, оборванного и бездомного, сошлось туда.. Были здесь и веселореченцы, и люди родственных веселореченцам племен — черкесы и кабардинцы. Но больше всего было русских. Неурожай прошел по великой русской реке Волге, целые деревни ушли с родных мест искать работы и пропитания. Большой табор стоял возле церкви, там плакали дети, кричали женщины. Десятники расхватывали людей покрепче и уводили на работу, а истощенные и больные оставались без работы и умирали.
477
Наурузу не пришлось долго дожидаться работы, и скоро он очутился в одном из глухих ущелий, ответвлявшихся от долины реки Веселой. Здесь Должна была пройти железная дорога, на сотню верст спрямив путь между Веселым и Старым аулом.
Но чтобы спрямить этот путь, нужно было раздвинуть каменную толщу горы. Раздвигали ее взрывами. Науруза сначала поставили на самую черную работу, расчищать после взрывов ту полосу, где должен пройти железный путь, — ворочать стволы, раскалывать и откатывать камни,
Науруз с любопытством оглядывался кругом: люди здесь жили совсем не так, как в веселореченских аулах. Науруз с детства привык к обычаю. Он знал, что, попадая в новое место, нужно понять обычай, по которому живут люди в этом месте, и поступать по этому обычаю. Но понять обычай этих людей Науруз не мог. Пищу готовил старичок с блестящими, то жалобными, то веселыми карими глазами и мохнатыми черными бровями. По разумению Науруза, с ним и по возрасту и по положению надлежало обращаться почтительно. Но здесь на него грубо покрикивали и называли его Сенькой. Впрочем, сам старик на эти окрики не обижался и называл себя Сеней или Сенечкой.
Круглый и маленький, он с одышкой, но довольно быстро бегал по нескольку раз на день в аул Веселый и обратно, покупал там хлеб и баранину. Потом рубил дрова, тоненьким девичьим голоском пел песни и любил посмеяться, забавно высовывая при этом кончик языка. Борода его блестела чернотой и сединой, нос был вздернут, глаза, карие и весело-лукавые, быстро бегали. Варил он вкусно. В случае необходимости, «за особую доплату» в виде шкалика водки, мог починить обувь, искусно залатать одежду. Во что одет был сам Сенечка, этого Науруз сначала вообще не мог понять: одно было настегнуто поверх другого, лохмотья торчали во все стороны, от грязи все эти одежки утеряли свой цвет и приобрели однообразную буро-коричневую окраску.
— Жалеешь? — задорно спросил Сенечка, поймав на себе соболезнующий, удивленный и, пожалуй, брезгливый взгляд Науруза. — Мудрость, брат, не в том,
478
чтоб из магазин-конфекцион платье носить, — это всякий дурак сумеет. А ты мое поноси!
Он скинул верхнюю свою одежду, развернул ее перед НаурузоМ, и тот ахнул: несколько дыр зияло на ней!
— А где ж теперь эти дыры? — вновь надев на себя и застегивая свои лохмотья, спросил Сенечка. — Нету? — смеялся старик, разглаживая свою весёлую, растущую вбок черно-седую бороду. — Были дыры — нет дыр! А дело простое: натягивай одно на другое, чтоб дыра на дыру не попадала! А грязью не брезгуй: теплей будет.
Русские не носили такой одежды, какой они выделялись бы среди других народов: полушубки, черкески, пиджаки, бешметы — они носили всё с одинаковой охотой. Веселореченец лучше умрет с голоду, но не покажется на людях плохо одетый. Русский наденет на себя любую одежду, лишь бы было тепло и удобно.
Была у русских какая-то особенная вольность, легкость в обращении. Люди кавказских племен в сравнении с русскими всегда казались скованными обычаем обращения. Эти же черты вольности сказывались в русской пляске, которая, в отличие от горской, казалось, не имела строгих правил, которым нужно было следовать во время пляски. Русская пляска была безудержна, руки, ноги играли как хотели.
Сергей Комлев, лучший плясун в артели, плясал на руках и плясал, идя колесом: он падал на землю на носки и ладони — и продолжал плясать. Занятия, которыми русские зарабатывали себе на пропитание, были очень разные и порой совсем непонятные. Однажды в Их дощатом балагане переночевал и потом ушел вверх по ущелью худощавый и сильный мужчина. Он сказал, что десять зим подряд измеряет ледники. Неужели этой работой можно кормиться? Да, оказывается, ему за это дело кто-то платит деньги... Задержался у них на несколько дней ветеринар Отроков, невысокий, румяный, без шеи, с растрепанной русой бородкой: оказывается, он приехал, чтобы взглянуть на камни, которые после взрывов вылетали из недр горы. На эти камни он глядел в стекло, раскалывал их молоточком и нюхал, и,
479
кажется, даже лизал. Науруз знал, что у этого человека есть свое, очень нужное людям занятие: он скотский лекарь. Наверное, камни ему нужны, чтобы лечить скот? Наурузов отец — тоже лекарь, он лечил скот и людей. Науруз от него знает некоторые целебные камни... Ветеринар похлопал Науруза по плечу, посмеялся и уехал. Приходил еще один, совсем молодой, русский, — он неожиданно обидел Науруза, предложив, чтобы тот наловил ему блох из их балагана, обещав за каждую блоху по копейке.
— Я хлеб зарабатываю настоящей работой, — обиженно ответил Науруз.
Разговор этот слышала вся артель, и с тех пор не стало Наурузу житья: ему приносили блох, тараканов и всякую другую нечисть и просили уплатить... Науруз добродушно и смущенно улыбался и отмалчивался^ надеясь, что шутники отстанут, но к нему приставали все сильнее... Особенно старался Сергей Комлев, рослый парень, с рыжим чубом и такими же рыжими, мрачноозорными глазами. Его шутки носили характер явно оскорбительный, он задирал, лез в драку...
«Что ему нужно? — недоумевал Науруз. — Ведь нам враждовать не из-за чего».
В Веселоречье драка, возникнув, непременно кончалась убийством и вызывала кровавую месть, страшную войну рода против рода. А здесь люди легко переходили от дружбы к драке и от драки к дружбе. Драки случались кровавые, но они по большей части кончались тем, что враги как ни в чем не бывало начинали разговаривать друг с другом.
«Плохой, непонятный обычай здесь у людей. Уйти нужно», — думал Науруз.
Но раз при получке, когда Науруз, медленно пересчитывая деньги, отходил от десятника, тот же Сергей Комлев, который обижал его больше других, вдруг быстро взглянул в открытую ладонь Науруза, где насыпана была кучка серебра и лежала одна рублевая бумажка, и продолжительно свистнул.
— Ребята! — крикнул он. — Черкеса нашего неправильно рассчитали. А ты чего молчишь? — угрожающе прикрикнул он на Науруза и обругал его.
480
Но Науруз не успел ни удивиться, нй поблагодарить, ни оскорбиться, как всё рабочие окружили десятника, молодого и совершенно белесого человека с белыми густыми ресницами вокруг голубых ласковых глаз, и стали шумно требовать, чтоб Науруза рассчитали по-другому.
— Не полтинник, а три четвертака, — так-то, борода! — кричал Комлев, хотя бороды у десятника не было совсем.
Они даже не спросили Науруза, хочет ли он их заступничества.
«Это здесь такой обычай дружбы», — изумленно и взволнованно думал Науруз.
Он поглядел на одного из рабочих. Этот человек нанимался вместе с Наурузом, и Науруз знал его историю. Он пришел сюда из-под Царицына: там от голода умерли двое его детей и старуха-мать, а жена тоже ушла на заработки, — она копала свеклу где-то на Кубани; имущество же все было взято за, долги. Этому человеку не было тридцати лет, а ему можно дать все шестьдесят: впалая грудь, глубокие морщины на щеках; его грязновато-русая редкая борода с левой стороны была, точно снегом, занесена печальной сединой ранней старости. Этот человек даже не обедал артель-но, — на всю зиму отказал себе в горячей еде, чтоб накопить побольше денег и привезти их на родину и снова начать свое хозяйство. Но и он, вздыхая и ожесточенно покручивая бородку, согласно кивал на каждое слово Комлева, а ведь Комлев, как это понимал Науруз, от имени всех грозился бросить работу.
— Гляди! Мы вам весь участок остановим! — кричал Комлев. — Забыли пятый год! Мы напомним!
И, представив себе, что весь этот шум поднялся из-за него, Науруз едва не заплакал, — впервые с тех пор, как пришел он сюда, ему стало здесь хорошо: он бы обнял их всех, он бы братьями их назвал!
Но, отстояв Науруза, они, не обращая на него никакого внимания, разошлись по своим делам. Комлев попрежнему задирал его, и Наурузу при всем своем миролюбии все труднее было удержаться от драки с ним...
31 Ю. Либединский
481
Однажды, сразу после того как отгремели взрывы и Науруз вместе с другими рабочими пришел на место, только что отвоеванное у горы й еще заваленное обломками, он увидел вдруг фитиль, дымящийся между камней. .. Кто-то ахнул, кто-то вскрикнул, остальные оцепенели от страха. Науруз выхватил кинжал и почти у самого запала отрубил дымящийся кончик фитиля. Десятник похвалил Науруза и перевел его в запалыцикй.
Когда Комлев узнал об этом случае, он продолжительно свистнул и сказал:1
— Я дума^ — ты смирный! А ты молодец.
И Науруз покраснел от удовольствия.
Науруз легко научился понимать по-русски и даже мог кое-что сам сказать. К нему привыкли и полюбили его — доброго, сильного и смелого. Он же все никак не мог освоиться с окружающим и продолжал удивляться.
Впервые о русских услышал Науруз еще от отца: неисчислимый народ, разлившийся по всей той сказочно-огромной равнине, которая видна была на север от родных гор; какие медленные и сильные, на тысячи верст протянувшиеся реки текут там, какие праздничные, всеми огнями и красками играющие города — подобные гигантским пчелиным роям — шумят там днем и огнями светят по ночам! Науруз, как сейчас, ощущал во рту медвяный и хмельной вкус того первого русского хлеба, который ему Подарил бежавший через горы ара-'быньский сапожник Семен Иванович, — тогда впервые дошло до Науруза жаркое веяние той беспощадной войны, которая у русских идет между богатыми и бедными; впрочем, Семену Ивановичу грозила смерть от тех же Батыжевых и Дудовых, врагов Науруза, убивших его отца.
Молодой казак ударил Науруза по наущению своего начальника. Науруз ударил начальника. Русский старик Степан спас Наурузу жизнь. Но другой русский старик, лукавый Лаптев, хотел его передать казакам. А во время облавы снова перед ним встал молодой, ударивший его казак и выпустил его из круга облавы.
Так с первого же своего знакомства с русскими; в тот день, когда Кемал привел его в Арабынь, Науруз попал в ту большую войну, которая шла у русских ме
482
жду богатыми и бедными. Много в этой войне было непонятного, но одно Науруз понял: надо было плохого ожидать от всех русских начальников, носящих на плечах и на шапках царские знаки. Не любили русские своего царя, не раз слышал Науруз, как они бранным словом поминали его.
— «Царь испугался, издал манифест, мертвым свобода, живых под арест. Россия, Россия, жаль мне тебя, — горькая, несчастная участь твоя...» — пел тоненьким голосом Сенечка.
В той же длинной песне о царе, обманывающем народ, поминался и Столыпин, который «задумал народ погубить»...
— Кто такой? — спрашивал Науруз, и ему Сенечка сказал, что Столыпин этот — царский пес, злее его не было на свете... Много чего узнал из этой песни Науруз о России, а припев был все один: «Россия, Россия, жаль мне тебя...» Очень хорошо, жалостно тянул этот припев Сенечка: в молодости он служил певчим в архиерейском хоре и мог петь медленные и печальные песни.
С конца января, когда начались перемежающиеся оттепелями суровые вьюги, Сенечка простудился раз, другой... Сначала он никак не хотел ложиться, превозмогая свою хворь, и все-таки она его одолела. Весну он встретил укрытый всем теплым, что только было в балагане, но никак не мог согреться, кашлял, отплевывая желтую, с кровавыми жилками пену...
И сразу в отношении Сенечки проявился тот же закон всеобщей дружбы, действие которого Науруз испытал на себе. Похоже было, что все люди составляли одну семью. Каждый уделил Сенечке что-либо из теплых вещей. Комлев сходил в станицу Сторожевую, привез оттуда фельдшера и заставил десятника, снова угрозой прекращения работы, нанять Сенечке помощника. И возле Сенечки появился русый, несколько придурковатый мальчишка, которого Сенечка называл Андрей Иванович.
Да, у русских не было закона родовой и племенной жизни. И если веселореченца, или черкеса, или кабардинца спросить, кто он, тот отвечал: веселореченец,
483
31*
черкес или кабардинец. Но если спрашивали русского, кто он, то русский отвечал: кузнец, певчий, крестьянин, сапожник.
«Не потому ли, что у русских вместо обычая родовой и племенной жизни есть иной, боЛее широкий обычай?» — думал Науруз и учился понимать этот обычай.
Науруз часто навещал Сенечку, ходил под навес, где была устроена кухня и стояла печь с низкой трубой. И когда Науруз приходил, старик был доволен. Люди возвращались с работы усталые; поев, сразу заваливались спать, а нужно с кем-нибудь поговорить, когда, прожив долгую жизнь, уже видишь ее близкий, быстро сматывающийся конец.
Сенечка видел свой конец. По многу раз перебирал он всю свою жизнь, словно хотел найти, с какого же момента покатилась она к гибельному концу... Его слабенький, прерываемый кашлем голос напоминал бульканье замерзающего в начале зимы, захлебывающегося в льдинках и задыхающегося горного ручья.
Сенечка часто вспоминал разговор е каким-то врачом:
•— «Оставайся, — говорит он мне, — при больнице сторожем. Ты уже старый человек, пора перестать бродяжничать. А здесь, при больнице, ты сто лет проживешь, заболеешь —сам лечить буду...» А нет, не послушался. Смолоду отца, мать не слушал, а старый стал — умных людей не слушаю. Вот и пропадаю, — грустно улыбаясь, говорил Сенечка, обращаясь к Андрею Ивановичу.
Но Андрей Иванович продолжал, не слушая, колоть дрова, и Сенечка перенес направление своей речи от невнимательного Андрея Ивановича к внимательному Наурузу:
— Каков в колыбельке, таков и в могилке... Да. И побежал я дальше...
Он рассказывал и все обтирал рукой свое лицо, на котором тут же снова выступал Пот. Науруз вдруг заметил, как спало и пожухло лицо Сенечки, даже нос точно стал больше и шире. Но глаза Сенечки поблескивали, мерцали, и в пасмурности этого дня они были живей и ярче всего.
484
— Так бежал я, бежал и сюда забежал; верно гово* рят: погибельный Кавказ...
Он вздохнул, закрыл глаза, и сердце Науруза дрогнуло: лицо Сенечки сразу стало неузнаваемо — это было лицо мертвеца... Но вдруг начались взрывы, и когда Сенечка открыл глаза, они опять были веселы и лукавы.
Слушая взрывы, Сенечка лежал и улыбался: взрывы ему нравились. Ветер шел по кустарнику. Взрывы уходили все дальше, затихали. Ветер прошел, и Сенечка перестал улыбаться.
— Куда все девалось? — спросил он вдруг. — Пел в церкви, пел в цирке, за беспаспортность угнали в Сибирь, убежал оттуда с одним духоборцем. Связался с ними, уехал в Канаду с ними; тоска взяла по родной земле — вернулся; послали по этапу на место рождения, в Одоев... Полюбил девушку, соблазнил, выкрал из родного дома, завез в Царство Польское, — там она зачахла от голода, от сырости подвальной. Загоревал, оглянулся: сорок лет. Где жизнь? И опять побежал по земле: везде нужда скачет, нужда песенки поет, невеселые песни... Стукнуло полета... Начались болезни. Душа устала, а ноги все бегут, бегут... Снова в цирке, — мажу рожу, играю на мандолине: клоун. Тянется поезд из Перми в Вятку. Вдруг поезд остановился: в окнах белое поле. Кочегар идет по вагону — волосы мокрые блестят, лицо чистое, красивое, — видно, только умылся, но фартук не снял, а на фартуке красный лоскуточек. ..
«Товарищи пассажиры, комитет железнодорожников объявляет всеобщую забастовку...» Голос дрожит, — видать, только выучил новые слова... «Пожалуйста, пожалуйста, на митинг, граждане России...» На митинг я пришел первый и встал впереди всех. Выходит телеграфист, тоже молодой. Да ты понимаешь ли, кто это есть телеграфист? — спросил Сенечка.
Науруз отрицательно покачал головой, — он много чего не понимал из того, что рассказывал Сенечка. Но надо было запоминать, чтобы самому наедине обо всем подумать...
485
— Не понимаешь? — Сенечка задумался. — Ну вестовщик, вести передает, есть такая машина: вести передавать. Я, значит, так вот стою, папиросы курю: издалека ехал, только папиросой и водкой грелся. Пальтишко драное, воротник поднят. Нос посизел, глаза слезятся, морда вся в морщинах... «Ну, что вы, мальчишки, мне, старому коржу, скажете?..»
Но тут снова начались взрывы... Давно уже пора было Наурузу идти на работу, но он не шел. Не все понимал он из того, что говорил Сенечка, но то, что понимал, не давало ему отойти от старика. А старик разошелся. Каждый взрыв сопровождал рн взмахом руки. Получалось так, что он точно управлял этими взрывами; это забавляло его, и он смеялся, показывая белые десны... Взрывы кончились. Сенечка устало откинулся, точно он вправду управлял ими и утомился.
— Что же ты услышал? — спросил Науруз.
— А это самое и услышал, — ответил Сенечка, точно он что-то уже рассказал или взрывы рассказывали за него. — А потом я увидел эти слова на бумаге. Простая бумага, не орленая, не священная; гражданская печать, и только наверху эти слова: «Пролетарии всех стран...» И все как есть выложено, вся правда... А потом я и песни их стал петь....
Он приподнял исхудавшую руку и тихо запел, помогая себе движениями бледных пальцев; запел так тихо, что Науруз, только приблизив ухо, мог услышать эти слова о каком-то бое, который будет. Мрут от голода рабочие люди, терпеть больше нельзя... Павшие с честью вечно живут в памяти людей...
Голос Сенечки был еле слышен; казалось, чтоизда-лека-далека шла эта песня, словно не Сенечка пел ее, а она сама вспоминалась Наурузу. Может быть, еще от отца он слышал подобную этой старую песню, боевую черкесскую песню... Песня оборвалась.
— Мне хоть бы перед смертью кого из этих людей повидать, — сказал Сенечка. — Чтоб знали: вот жил Сенечка-человек и теперь умирает. Упало зернышко в канаву, поднялось, росло, цвело, налилось и осыпается. .. Без пользы осыпается; Соберите мои зерна, соберите, пожалуйста, ддэди!
486
Так закончился последний разговор Науруза с Се-ненкой. На следующий день, когда все были на работе, прибежал вдруг испуганный Андрей Иванович и известил, что Сенечка только что умер.
Как-то сама собой работа прекратилась. Сняли шапки, некоторые крестились. Все стояли молча, слышны были только вздохи, кряхтенье, покашливание.
Комлев вдруг досадливо мотнул головой и сказал, обращаясь к Андрею Ивановичу:
— Ну, Андрюша... отправляйся в станицу Сторожевую, привези сюда попа. Давай трешку, борода,— обернулся он к десятнику. — Да скорей, поторапливайся, вскладчину хоронить Сеню будем.
И вот, слушая отпевание, Науруз смирно стоял среди своих русских товарищей. Все были умыты и причесаны. На всех была чистая, зачиненная одежда, все было торжественно и пристойно, как и на похоронах в Веселоречье. Наурузу; конечно, странно было, что отсутствуют плакальщицы, — ни одной женщины не было на похоронах. И, слушая мужские, протяжно и спокойно-важно переговаривающиеся -голоса священника и дьякона, Науруз по-своему размышлял обо всем этом:
«Все мы, которые здесь стоим, не рождены одной матерью, или бабкой, или прабабкой. Нет среди нас ни одного, кто был бы кровный родной старику Сенечке. А все мы братья и хороним его, как отца или старшего брата!.. — И Науруз думал словами песни, которую пел ему Сенечка: — «Соединила нас работа и тяжелая жизнь. Неисчислимо много таких, как мы. Вместе мы — сила, и мир будет наш».
Глава третья
Анисат казалось, что она по лестнице, очень высокой и скользкой, спускалась в ледяной погреб: чем ниже, тем вокруг становилось все более влажно и сыро. Трудно идти вниз без тропинки, в густом тумане, и держать на руках ребенка! Трава скользила под ногами, и женщина с ужасом задерживала свой стремительный
487
спуск на самом краю обрывов, откуда слышно было рокотанье пенистых, бурных ручьев.
Вдруг она остановилась, прислушалась... Странный, ни на что не похожий звук дошел де нее снизу, из тумана. Этот звук шел не по воздуху, а по той каменной толще, на которой она стояла, и ноги ее услышали его раньше, чем уши... Еще и еще — похоже, что это ухала и кашляла сама гора, и не могла никак откашляться. .. А кругом все оставалось неподвижно-тихо, не шевелились прорезавшиеся ив тумана верхушки леса. Земля замолкла. Все было попрежнему. И тогда Анисат напоминала себе: «Как услышишь грохот земли, спускайся вниз. В Орлиное ущелье. Там русские прокладывают железный путь, и богатырь Науруз помогает им раздвигать горы...»
Внизу туман обратился дождем, подул холодный ветер, настала та погода, о которой в старинной песне поется: «Дождик холодный льется, снегом на лету замерзает. ..» Промокнув насквозь и оцепенев, она все же сберегла ребенка в тепле и сухости, — а ребенок за полгода странствий и бед вырос на ее руках и стал тяжел.
Она вышла на глинистую, размытую дождем, наезженную дорогу. Здесь она постояла, прислушалась. И когда услышала новый раскат взрывов, которые внизу звучали гораздо глуше, чем наверху, она пошла по дороге в ту сторону, откуда доносились взрывы. Так дошла она до скалистого, нависшего над дорогой уступа, под которым сохранилась сухая пыль, странная среди влажности, господствовавшей всюду. В углублении скалы, потемневшем от дыма, в постоянном месте кочевых очагов, она разожгла свой огонь. Стыдливо оглядываясь, она быстро переоделась, выжала и развесила у костра мокрые одежды. Потом она медленно ела сама и кормила грудью ребенка. В этом была ее грусть и ее радость, в этом была ее надежда, в этих маленьких губах, жадно берущих сосок... Отдых, единственный и сладостный, — и ее клонило ко сну. Но она даже не прислонялась к скале, чтобы не заснуть. И досадовала, что приходится останавливаться. Она бы все шла!
488
Ребенок, не выпуская соска, заснул, и она тихонько отняла его от груди, вздохнула и встала.
Она потушила.костер и уже хотела тронуться в путь, как вдруг услышала, что где-то поблизости медлительно скрипят колеса арбы: не прекращающийся и все приближающийся скрип... Женщина остановилась и дожидалась медленно вышедших из-за поворота черных и рыжих волов, — первая, вторая пара... За ними волочилось по дороге громадное круглое бревно, а потом уже показалась вторая упряжка.
Около первой упряжки шел с кнутом в руках невысокий человек в черной мохнатой папахе и какой-то серой длинной, ниже колен, одежде. Это была незнакомая русская одежда, и женщине захотелось пощупать эту ткань, такую плотную, что капли дождя скатывались по ней вниз, как по дереву или по железу. Сначала она приняла приближающегося человека за мальчика. Но когда он подошел ближе, она увидала его синие бритые щеки — это был молодой человек лет двадцати пяти. Она низко поклонилась ему, так низко, что он не мог ей не ответить. Кивнув, он спросил хрипловатым голосом, быстро оглядев ее всю своими маленькими острыми глазками:
— Чего тебе?
— Позволь мне спросить, — сказала она, шагая рядом с арбой.
— Спрашивай.
— Выйду ли я по той дороге к тому месту, где разрывают горы?
— Выйдешь, — охотно ответил маленький мужчина.— Ты пройдешь по этой дороге, потом свернешь вверх по правой тропинке. Известно ли тебе, зачем разрывают горы? — И ответил наставительно: — Строят дорогу к Черному морю. Чем разрывают? Ди-на-мит... Пирокси-лин... — раздельно и с удовольствием произносил он.
— Это не женского ума дело, — скромно ответила она.
Он довольно кивнул головой, маленький, в лохматой черной мокрой папахе.
489
— Зачем ты идешь туда? — спросил он почти приветливо.
— Там родной мой человек работает, — ответила женщина.
— Ц-це... ц-це... — одобрительно произнес маленький мужчина. — Это хорошо. Начинают наши люди делом заниматься. Вот я... Работаю тоже для железной дороги. Десять упряжек волов. Пятьдесят человек работников! За ум надо браться, потому что если сам на себя не заработаешь, никто на тебя зарабатывать не станет;
— Ты верно сказал! — откликнулась женщина.
Так горячо и разумно откликнулась она, что он недоверчиво и удивленно взглянул на нее и, помолчав, спросил подозрительно:
— А ты кто?
— О моем роде-звании не говорят, — из байраму-ковских я... — сказала она о себе тем оборотом, каким о себе говорили рабы и потомки рабов.
Маленький мужчина усмехнулся и откашлялся, словно в горло ему попа'ло что-то горькое.
— Вот, — с каким-то странным, невеселым смешком оказал он, — с кем тебя судьба столкнула. Я — прирожденный Байрамуков...
— Ой... прости меня! Я уж по следу твоему пойду, высокорожденный! — кланяясь, говорила женщина. — Или, может, прикажешь совсем отстать? Или еще что прикажешь? Тебе говорить, мне исполнять...
— Ничего... ничего... — добродушно сказал маленький. — Иди как шла... Ничего... Я о княжестве моем молчу: одних оно с толку сбивает, а есть которые смеются... Разве подобает князю заниматься столь грязным делом: бревна возить, песок возить? Нет такого адата... А есть такой адат, чтоб князь рот раскрыл — и ему с неба в рот шашлыки падали? Тоже нет такого адата.
Анисат вспомнила своего обидчика князя Аубекира. На последние слова маленького Байрамукова она, пожалуй, могла бы возразить, но промолчала, конечно. Некоторое время прошли они молча, только этот странный, возящий бревна маленький князь несколько раз
490
откашлялся и громко высморкался, — он, видно, был простужен. Потом он спросил:
— Ты которого из Байрамуковых?
— Аслаябия, высокорожденный, — ответила Ани-сат.
— Один прадед у него с отцом моим. Богатый господин этот Асланбий. А как наследники его?
— Князь Аубекир, наверно, на отца не жалуется, — вздохнула Анисат.
— Да, чти отца и мать свою, — сказал маленький Байрамуков, тоже вздыхая. — Хорошо, если есть, за что чтить. От деда отец мой и дядя получили одинаковые доли земли. Но земля тогда еще дешева была, а рабов и крепостных русские у нас уже отняли. ;Отец стал богатым мужикам продавать свою землю: как деньги нужны, он и продаст. Ему-то хватило на княжескую жизнь, мне же не хватило, и стал я такой князь, как про Дудовых говорят: все княжество на острие кинжала. А дядя мой не стал землю свою продавать. Он бедствовал, он сам в батраки пошел, — но землю свою он сберег. И дожил до того времени, когда цена на землю начала подниматься: тогда он стал за хорошую цену сдавать ее в аренду. Вот и получилось: двоюродные братья мои сейчас сидят в тепле и пируют, а я бревна вожу, злосчастный, — сморкаясь, сказал он. — Недавно возвращался я за бревнами. Навстречу Темиркан, князь Батыжев, — видно, в Старый аул поехал... «Э-э-э-эй, сворачивай, мужик!» Что ж, я свернул... Хорошо еще, что налегке! Раз ноги грязь месят, со всадником о старшинстве не спорь...
Маленький князь Байрамуков громко отхаркнулся и вздохнул.
— Нет, не за что мне хвалить своего отца! — сказал он решительно. — Был я мальчик умненький, смышленый, — разве позаботился он меня обучить? Единственное обучение — гостям прислуживать в кунацкой и слушать их похвальбу об охотах и драках. Зато я всех наших князей, всех осетинских баделятов, всех кабардинских пши знаю: как же! Хасан Байрамуков — нет его гостеприимней в Веселоречье... И вот подошло: бараны перерезаны, земли проданы. Хасан наслаждается
491
в небесных садах, а сын его, злосчастный Харун — это я о себе говорю, — он в непогоду, голодный и холодный, возит бревна... А послушать родичей моих: по-ихнему, лучше воруй, но не работай! Проклинают меня, смеются надо мной... А между тем, когда я построил себе дом на русский лад, все пришли глядеть, а кто не пришел, тот жену прислал. И удивляются: откуда у Харуна богатство? Конечно! Сами-то хуже холопов наших бывших живут. Купил я себе самовар — им опять удивленье. Да чем для каждого гостя резать барашка и варить мясной навар, лучше я чаем сладким и душистым его угощу! Барашка! Вот уж двести баранов я имею! Двести — не десять тысяч, которых имел мой отец, но придет время — удесятерю, сто на сто подыму.
Русская власть дает нажиться умному человеку. Получаю пакет: господину Байрамукову — я титул-то свой снял, мне просто пишут. «Его высокоблагородие, господин пристав Арабыньского округа извещает: согласно разъяснению сената, состоятся торги на пастбищные участки, благоволите прибыть». Прибыл. Сейчас новый порядок: хочешь пасти — возьми у казны участки, паси вволю. Я так и сделал — взял два участка. Думаешь, там благородство спрашивают? Взять хотя бы тебя: имей только деньги, не посмотрят, что ты подлого рождения. Запечатай деньги в конверт, подпиши номер участка, и если денег больше положила — участок за тобой.
Хлопнув себя по карману, он пошел дальше, размахивая кнутом. Голос у него был хриплый, и часто приходилось ему громко сморкаться.
Молод, одинок, не с кем слова сказать, — вот и говорил он перед ней — случайной и молчаливой попутчицей. Хотя был он князь, да еще Байрамуков, но ей он казался чем-то сродни, — тоже, как и она, один на один против всего света... и не боится. Была в этом какая-то надежда для нее. И когда сбоку показалась тропинка, уходящая вверх, она с сожалением покинула его.
Она поднималась по исхоженной, но узкой тропинке между кустарников, опять обдававших ее влагой. Но она ничего не замечала... Тропинка была крута, но
492
женщина быстро подымалась вверх, разгорячилась, вспотела... Кустарник неожиданно раздвинулся, он был здесь беспорядочно вырублен. Перед ней открылась площадка, вся усыпанная мелким щебнем. Эта площадка была со стороны гор замкнута крутыми и обрывистыми стенами. По тому, как светлы и ярки были эти стены, видно, что их сплошная каменная порода совсем недавно вышла из-под земли. Невдалеке стояли палатки и сложенные из веток зеленые и бурые шалаши. Вкусный запах горячей пищи слышен был в дыме, стлавшемся по земле.
— Науруз... Науруз!.. — шептала она, подходя к этому становищу.
Вдруг люди выбежали ей навстречу со стороны скалистых стен ущелья. Не успела она удивиться их торопливому бегу, как горы вздрогнули: столб коричневого дыма выпрыгнул из глубины скал... Раздался гром, грохот... Взрыв этот, более скрежещущий, чем тот, который она слышала наверху, мягко и сильно толкнул ее в лицо, в уши... Еще и еще... Ребенок проснулся и заплакал. Сама не сознавая, что делает, она начала укачивать его, вся поглощенная тем, как один за другим и все глужбе в горы, с грохотом и громом вспрыгивая, уходят все дальше в ущелье коричневые столбы и как взлетают вверх камни, стволы деревьев... Ветер шел по кустарнику и нес бурую пыль, которая застелила все. Потом затихло. Пыль оседала, и стало видно, что скалы отступили и изменили свои очертания. Площадка, на краю которой она стояла, точно продвинулась вглубь. Раздались громкие голоса и смех — и, пораженная, сама не веря себе, приложила она руку к глазам... Перед ней был тот молодой богатырь, который прискакал на двор Керкетовых, — тогда она видела его мельком, но разве забудешь такого? Сейчас она видела его среди русских людей.
«Так это и есть абрек Науруз? — спросила она себя, и сама себе с восторгом ответила: — Да, это он!..» Он выше всех ростом и шире в плечах. Какие-то таинственные черные ремни висят на его шее. Румяное и молодое, смелое и доброе лицо-...
«Да, таков он! И он поможет мне!»
493
Она подошла к людям и встала прямо перед Науру-зом. Он остановился и товарищи его тоже...
— Як тебе, абрек Науруз, — прерывающимся голосом оказала она. — Защйты твоей прошу!
Русские, которые были вместе с Наурузом, сначала тоже остановились. Но когда она по-веселореченски заговорила с Наурузом, они перемигнулись, перебросились какими-то русскими словами и оставили их вдвоем.
Науруз смущенно покраснел и засмеялся. Женщина продолжала стоять перед ним, Он видел ее светлые глаза без ресниц, ее пересохшие, почерневшие губы и капли влаги, задержавшиеся в крупных рябийках на ее лице. Или это был дождь?
— Идем, сестра... Сюда идем... — сказал он, подводя ее под навес, сложенный из сияющих своими белыми рубашками мрлоДеньких березок.
Здесь было сухо и стояли какие-то дощатые ящики: некоторые были открыты и пусты.
— Садись... — говорил Науруз, пододвигая ей один из ящиков. — Садись, я сейчас!
Она не успела слова сказать, как он быстро ушел.,. Она следила за тем, как он, рослый, широкоплечий и все же движениями похожий на .мальчика, пробежал и, нагнувшись, исчез в одном из зеленых шалашей. Русские что-то кричали емJT ласково и весело.
«Везде его любят, почитают», — подумала женщина. Науруз вернулся. В руках его был кусок русского хлеба, две картошки.
— Ешь, сестра, — запыхавшись, сказал он, — прости, что угощать больше нечем: сготовить некому, живем без женщин. Ешь, ешь... Пока не поешь, слушать тебя я не стану. Сейчас огня разведу — обсохнешь...
Он уже подгребал хворост, выбирая который посуше, кинжалом наколол он от доски лучины, быстро и ловко разжег костер, и пар пошел от ее одежды.
«Добрый человек, — думала она, — не гордый».
Она ела холодный картофель, ела хлеб, и оттого ли, что суха была эта пища, или оттого, что горячая сушь скопилась у нее в глотке, но глотала она с усилием. Надолго приникла она к холодному железному ковшу, который он ей поднес.
494
— Спасибо тебе, — тихо сказала Она.
Раньше чем рассказать свое дело, она, как это подобало при разговоре с таким прославленным человеком, захотела восхвалить его подвиги. Но едва она начала, как простодушное изумление показалось на его лице.
— Вот! — сказал он. — Так вот почему ты, здороваясь, назвала меня абреком Наурузом! Ты посчитала, что я знаменитый абрек Науруз Данилов... Право, мне нужно бояться, что могучий мой тезка сделает со мной то же, что Тхамали сделал с разбойником, выдавшим себя за него. Он отрезал ему уши и сказал: «Это к общему благу. Теперь люди нас не будут путать, — всем станет известно, что есть один Тхамали с ушами, а еще другой — без ушей...»
— Но разве осенью не ты прискакал на двор Керкетовых? Керкетовские женщины тогда рассказывали мне о подвигах твоих: ты убил орла и медведя, бросил на землю пристава и угнал батыжевского жеребца. Нет, это ты! Я сразу признала тебя: ты, рвущий горы...
— Все это не так было, как ты говоришь, — смущенно ответил Науруз. — Подвиги мои скромны, люди ббльше говорят о них, чем они есть на самом деле. Но я, конечно, не тот Науруз, которого ты ищешь. Ты упомянула об укрощении князя Асгемирова. Этот подвиг Науруз Данилов совершил на моей памяти, но я был тогда еще ребенком.
Она пристально вглядывалась в его лицо: верно, верно... ведь это просто мальчик, рослый и добрый мальчишка. А ей говорили, что у абрека Науруза большие русые усы, он в цвете лет мужчина.
—* Алла... — простонала она жалобйо.
И, чтобы не дать ей заплакать, он бодро сказал:
— Хотя я не тот Науруз и мне далеко до моего знаменитого тезки, но все-таки расскажи мне беду свою, — может, я помогу тебе хотя бы советом...
И, вздыхая, она рассказала все свое дело.
Он слушал молча и все более хмуро и озабоченно.
— Какой же ты помощи ждешь от Науруза Данилова? — спросил он. — Он богатырь и удалец. Но он сам скрывается. Он может даже убить твоего обидчика. Но мельницу свою ты обратно все равно не получишь.
495
—- Здесь есть хитрость, — сказал женщина, — Слы« шала я, что гонитель мой Аубекир Байрамуков и абрек Науруз Данилов — кунаки, Науруз будто спас Аубе* кира.
Хмуро слушал ее Науруз. Верно. Там, где русский закон встал на сторону Байрамукова, там, может быть, поможет заступничество кунака, тем более, если этот кунак — абрек Науруз Данилов, с которым опасно ссориться даже князьям.
Науруз дал ей хлеба и сахару, проводил ее до самой дороги. Он посоветовал ей идти в Астемирову долину: там, в верховьях, в одном из аулов жила возлюбленная Науруза Данилова.
Оставшись один, задумавшийся и растревоженный, Науруз пошел на кухню. Мальчик колол дрова, и эхо по-знакомому отдавалось где-то в скалах, вершины которых затянуты были прозрачным туманом... Котел, посуда, развешанная над печкой — все было как при Сенечке.
И Науруз вдруг понял, что именно потому и пришел на кухню, — ему нужен был Сенечка. Придурковатый Андрей Иванович, постоянный и безмолвный слушатель Сенечки, как-то особенно напоминал о нем, —• так об умершем напоминает его одежда.
Старик Сенечка был мудр, с ним можно бы поговорить об этой женщине. Науруз жалел ее и желал ей успеха. Пусть она получит свое достояние!
Но был в приходе этой женщины какой-то призыв, какое-то напоминание... Ведь она искала другого Науруза, а призыв все равно продолжал звучать, — разве может он уйти с этого пути, он, столько раз чудесно спасенный?
А Нафисат — где она?
Нужно пробраться в аул, проведать девушку!
С работы вернулись товарищи.
— Проводил? — подмигивая, спросил Комлев. — Ладно, ладно... Мы уж не выдадим! Дело походное, — понятно! — говорил он, не давая возразить Наурузу.
И. за ужином товарищи сначала всё подсмеивались над ним. Но он не возражал. Молчал, но так сосредоточенно было его лицо, что скоро его оставили в покое»
496
Ужин кончился. Стемнело. Кто лег спать, кто при свете походной лампы «летучая мышь» тихо занимался каким-нибудь своим делом: один пришивал пуговицы, другой строгал что-то. Науруз глядел в огонь печки. Он ни о чем не думал, ни о чем не вспоминал и, кажется, ничего не ожидал. Но когда из темноты вдруг вышел черкес Авжуко, он, кажется, один не удивился.
— Люди добрые, — сказал черкес, оглядывая всех своими выпуклыми глазами. — Я шерстобит и шапош-ник. Могу, конечно, каждому сработать папаху. Но зима кончилась, люди вы умные, а папаху к лету делает себе только тот, кто вшами торговать собирается. Но вот! — Авжуко достал белую войлочную шляпу, опушенную тонкими, как паутина, волосами. — От солнца сбережет и от дождя сбережет. Если тебя девушка поцеловала, ты надевай эту шляпу вот так... — он загнул поля спереди. — Если девушка тебе в глаза плюнула, то носишь ее вот эдак... — и он опустил поля спереди. — Молодые кавалеры носят так, старички почтенные вот эдак.
Авжуко вертел шляпу на все лады, кисточка На ней плясала, и шляпа то становилась похожа на гриб, то она, подобно зайцу, подымающему ухо, подымала или одну, или другую сторону полей, то, как птица распускает крылья, она распускала поля... Люди смеялись. Авжуко быстро распродавал свой товар. Его угощали кашей, но при этом расспрашивали его, где он был и что видел, — неучтивость, которую в Веселоречье не позволит себе шестилетний ребенок.
Впрочем, Авжуко, давясь кашей, болтал без устали: здесь были непристойные сказки, присловки, истинные происшествия, сильно перевранные, похвальба и всяческое балагурство.
Науруз томился: последний раз встретил он Авжуко как вестника, и сейчас он тоже ждал вестей.
— Спасибо за угощение. Правда, оно не кажется мне очень сладким после того, как меня угощали на дворе у Батыжевых...
Науруз насторожился. Авжуко еле заметно мигнул ему, призывая его ко вниманию.
32 ГО, Либединский
497
— У Батыжевых зимой праздновали свадьбу, выдавали замуж служанку свою за близкого им человека из Старого аула. Зовут его Кемал Баташев, — впрочем, знать вам о нем не к чему. Хотя именно он и пригласил меня на свадьбу.
Что ж вам рассказать о свадьбе? Свадьба не похороны; хотя и бывает, что на свадьбе невеста плачет, а на похоронах покойник смеется. На этой сдадьбе тоже невеста плакала, а жених ходил возле столов и угощал и сватал для князя Батыжева невесту. Разве это не может быть, чтобы жених был сватом для своего друга?
Что же это за невеста, к которой сватается князь Батыжев? Слушайте, люди: как только я пришел на эту свадьбу, я сразу увидел, что очень много на этой свадьбе гостей, подобных мне, каких нельзя назвать почтенными: неимущих, безродных, бездомных людей. Вижу: жених подсядет к одному, к другому, к третьему — при этом выбирает таких, которые похмельнее... И некоторых, кто еле на ногах держится, он со двора, где идет пиршество, уводит в старую кунацкую... Что там с гостями делают, не видно, но зато все гости выходят из кунацкой довольные. «Чем там угощают?» — подумал я. Стал шуметь, прыгать, изображать из себя хмельного, и жених, которого никак не причислишь к хитрым людям, вдруг подходит ко мне... То, сё... «Как давно не видались!» Я обнимаю жениха, нюхаю его козлиную вонь и жалею невесту... А он мне говорит: «Авжуко, хочешь заработать пятнадцать целковых?» — «Почему не заработать? — говорю я, рыгая. — Укажи, как, — ия эти пятнадцать целковых достану! К черту в рот залезу и снизу вылезу, но достану». — «Это гораздо легче, — говорит жених, гладя меня по спине и пояснице, точно я его невеста. — Требуется сделать одно усилие памяти и одно движение пальцами... » — «Давай, давай!» — ору я, продолжая рыгать. «Не припоминаешь ли ты, что пастбища Старого аула назывались некогда батыжевскими?» — «Эге-ге!..» — думаю я. Но, как и все дети Адама, я происхожу от Евы и любопытен, как наша прародительница... «Кто же не знает, что пастбища Старого аула называются баты-
498
жевскими? » — говорю я. «Идем... — говорит он, подхватывая меня за пояс, — Идем, ты подпишешь и тут же получишь пятнадцать целковых».
И вот дверь в кунацкую отворяется. Там горит красивая керосиновая лампа, сидит мулла, и рука его на коране, чиновник с бумагой в руках и Темирканов дядя Асланбек, тот, который украл вола у Лукмана Мансурова. .. Тут я сразу все понял, что мне нужно было понять. Но осквернять священную книгу всего только за пятнадцать целковых я не захотел. А торговаться некогда. .. И мне пришлось пожертвовать угощением — вот как невыгодна честность! — и, быстро засунув два пальца в рот, извергнуть на красивые батыжевские ковры все батыжевское угощение; после этого я упал и захрапел. Асланбек пнул меня ногой и крепко изругал чистого душой Кемала. После этого меня выбросили за ворота!
Авжуко не только рассказывал. Он изображал и себя, и Кемала, и Асланбека; кругом все смеялись.
— Ты выдумал все это, чтоб насмешить людей? — спросил Науруз по-веселореченски, и лицо у него стало такое, что смех сразу смолк.
— Вы знаете, о чем спрашивает этот человек? Он спрашивает, как поживает^ его невеста, а ее высватывают за другого...
Науруз не понимал: то ли всерьез говорит Авжуко, то ли он шутит, и, видимо, был довольно смешон, — товарищи потешались над ним.
Авжуко же быстро оказал по-веселореченоки:
— Я правду говорю, доблестный Науруз! Был я у Верхних Баташевых. Наказала мне красивая Нафисат найти тебя: приехал в аул князь Батыжев, сватает он Нафисат за сына муфтия, молодого Джафара.
Авжуко замолчал, выжидательно глядя на Науруза. Науруз молчал. Люди, видя, что представление окончилось, разошлись.
— И Джафар этот тоже сейчас в Старом ауле? — не повышая голоса, спросил Науруз.
Авжуко покосился — рука парня лежала на рукояти кинжала.
499
32*
«Боюсь, что недолговечен молодой Джафар и муфтию некому будет оставлять свое богатство», — подумал Авжуко и усмехнулся.
— Я спросил тебя, где этот Джафар, — сказал Науруз, и сказал так, что Авжуко торопливо ответил:
— Не знаю. В Старом ауле его нет.
— А Батыжев в Старом ауле? — спросил Науруз.
«Надо употребить эту новость как растопку для другой, самой важной», — подумал Авжуко и сказал:
— Да. Он в Старом ауле, и — как сйат — он даже поселился у Верхних Баташевых. Но не об этой свадьбе подумай, доблестный Науруз, а о той, которую князь Темиркан хочет сыграть с самою госпожею нашей пастбищной землею. И надо бы тебе не опоздать, поспеть на эту свадьбу.
Глава четвертая
В своем московском синем костюме, тщательно побрившись и (после некоторого колебания) даже надушившись, Джафар шел на Архиерейскую горку, чтобы встретиться там с Броней. По приезде из Москвы он нашел ее изменившейся: она стала рассеянней, спокойней, счастливей. Она точно забыла о нем. Не оставив намерения жениться на девушке из Баташея и продолжая переписываться с образованной Мариам Дудовой, Джафар очень взволновался, когда Броня назначила ему встречу.
Джафар совсем близко, за заборами, видел уже зеленую горку, но тут кто-то окликнул его. Это был Талиб. Стройный, в красивой белой черкеске, он легко соскочил со своей маленькой, ладной, в парадной сбруе лошади. Он был весь такой праздничный, что люди с удовольствием оглядывались на него. Но Джафар сразу заметил, что доброе и гордое лицо Талиба, точно тенью, подернуто мрачностью.
— Само, небо посылает мне тебя! — воскликнул он, и это традиционное восклицание прозвучало взволнованной радостью и скорбной тревогой, почти переходящей в отчаяние. — Я не знал, что ты приехал из
500
Москвы. Больше двух недель проживаюсь я здесь, хожу по канцеляриям. Но сегодня-то я уж добьюсь прямого слова...
Ведя лошадь на поводу, он шел рядом с Джафаром и с настойчивой, мрачной обстоятельностью рассказывал ему о своем разговоре с приставом. А Джафар раздражался и]не мог понять, что именно раздражало его: рассказ ли Талиба или то, что копыта лошади ступали совсем рядом с лакированными чистыми полуботинками Джафара.
— Сейчас я отправлюсь к губернатору, — говорил Талиб, — и обо всем спрошу его. Я чего в толк не возьму, Джафар, — двойного, тройного, четверного беззакония этого дела. Рескрипт. Помнишь, как там сказано? — И он прочел наизусть: — «До тех пор, пока означенное население будет вести себя, как приличествует верноподданным... пастбища земли по верховьям реки Веселой и по верхним притокам ее (согласно плану, здесь прилагаемому) остаются в постоянном и неотъемлемом его пользовании...» Каждый веселоре-ченец помнит этот договор наш с русским царем, его знает каждый наш ребенок. Скоро шестьдесят лет, как мы этот договор соблюдаем твердо и честно, как это у нас в обычае. И вдруг разъяснение... Зачем разъяснение? — с негодованием спросил Талиб. — Там все ясно. Нет, не разъяснением назвать это нужно, а прямой отменой рескрипта. Из тех же пастбищных земель, о которых говорит рескрипт, выделяются пригодные для крупного коневодства земли, разбиваются участки, учреждаются торги... Что осталось от рескрипта? Ничего. Но де'лается это тайком, по-воровски... Они знали, что этим разъяснением совершают беззаконие. Кто совершает? Сенат его совершает! Но не кончается на этом цепь беззаконий. Этот новый порядок несправедлив и возмутителен. Но все-таки он есть порядок. И, однако, власти тут же его нарушают. Ты знаешь этих нищих бездельников Дудовых. Стад они давно не имеют — все пропито-прокучено... Но на торгах пакет на все пастбищные земли аула Дууд попадет в их руки... Что они будут пасти на этих пастбищах? Они будут сдавать эти пастбища дуудцам и драть с них втрое, вдеся
501
теро, — ведь у дуудцев другого выхода нет! Так растет и само по себе множится беззаконие!
Но это еще не все. Уже с зимы говорят в народе, что князья хотят захватить пастбищные земли, но я не придавал этому веры. И вот это уже свершается. Народная молва твердит, что Темиркан Батыжев хочет доказать в Петербурге, будто пастбищные земли аула Веселого всегда принадлежали Батыжевым. Осенью ты рассказывал мне о кооперации. Это хорошее и нужное нашему народу дело. Но не обещай голодному пряников, накорми его хлебом, — упрямо говорил Талиб.
«Не может понять объективного хода экономического развития», — с чувством превосходства над Талибом думал Джафар.
Дождавшись, когда Талиб замолк, Джафар ответил ему по-русски:
— Но ведь наше веселореченское общественное пользование землей — оно есть натуральнохозяйственная отсталая форма земельной собственности. При развитии хозяйства эта форма должна исчезнуть. И то, что тебя так возмущает — развитие крупного коневодства и уничтожение мелкого, — это факт прогрессивный. Я уже несколько раз говорил, что тебе нужно отбросить все этические категории^ которыми ты мыслишь, они только запутывают тебя.
Талиб пристально глядел в лицо Джафара. Он старался понять эти слова, которых не понимал только оттого, что их произносил Джафар, которого. Талиб всегда считал благородным, желающим народу добра человеком. И Талибу пришлось сделать над собой усилие, чтобы все-таки признать, что эти позорно-подлые слова говорит Джафар. Но как только он сделал над собой это усилие, он по-другому увидел самодовольное, лоснящееся после бритья, смуглое лицо Джафара и сразу вспомнил, как часто какая-то стеклянная стена точно возникала во время разговоров между ним и Джафаром. Теперь он понимал, что это за стена... Несчастная крестьянка, рябая Анисат с ребенком на руках, та, у которой князь-офицер Аубекир Байрамуков отнял мельницу, босая, требующая справедливости, представилась вдруг ему... И Джафар — он ведь тоже
502
присутствовал тогда на дворе Керкетовых в тот необыкновенный тихий вечер, нарушенный появлением этого молодца Науруза и погоней за ним... Джафар — он ведь тоже был тогда, но словно призрак, точно его и не было...
«И чего я с ним время провожу, когда меня дело ждет», — подумал Талиб и, не дослушав Джафара, поставил ногу в стремя.
— Куда? — с досадой спросил Джафар, видя, что теряет слушателя — и как раз в тот момент, когда он разговорился на любимую тему.
— Некогда, —- ответил просто Талиб, уже сидя в седле. Он шевельнул поводьями, лошадь тронулась. Но тут, прямо взглянув в упор на Джафара своими близко поставленными глазами, Талиб сказал: — Я так обрадовался, когда тебя сегодня встретил. Подумал: вот свой человек — посоветоваться моэйно... Но ты... — Талиб оглядел Джафара, и тот вдруг подумал о своем красивом московском костюме, начищенных полуботинках и неожиданно для себя смутился... — Нет! Ты не наш человек! — решительно сказал Талиб. — И ты еще упрекал меня, что я не революционер! Это правда, я не революционер. Но я уважаю истинных революционеров. И прямо скажу тебе — ты совсем не революционер. Революционер — это, наверное, такой человек, кто рану, нанесенную народу, чувствует еще до того, как сам народ ее почувствует. А ты... — Он даже не кончил, точно вспомнив о чем-то более важном, и торопливо тронул поводья.
«Революционер должен прежде всего объективно видеть ход развития общества», — хотел было сказать Джафар, да так и остался при этих умных словах — произнести их он мог только вслед щеголевато завязанному зеленой лентой, заплетенному рыжему хвосту Та-либовой лошади.
Талиб исчез. Он ненадолго задержал Джафара, но тот шел медленно, словно нехотя. Он был смущен и зол на свое смущение. Всегда обидно, когда над тобой берут верх в споре. Но спора-то ведь не было. И все же Джафар чувствовал, что спор произошел и что Талиб в этом странном, неправильном споре взял над ним
503
верх, — и обидней всего, что он взял верх, даже не стараясь взять верх.
Броню он встретил уже на-'улице. Ее сопровождал какой-то Широкоплечий молодой человек в косоворотке.
Джафар присоединился к ним. Ревниво оглядев Константина, прислушиваясь к тому благодушно-спокойному тону, в котором они с Броней перебрасывались незначительными фразами, Джафар успокоился. Константин показался ему изрядно простоватым и провинциальным. «Рубаха-парень, — подумал Джафар, вкладывая в это ходовое русское выражение свой смысл. — Нет, он ей не пара».
Обращаясь исключительно к Броне, Джафар начал пространно рассказывать о впечатлениях и результатах московской поездки.
— А иностранные экспортеры, с которыми торгует краснорецкое отделение кредитной кооперации, они имеют какую-либо связь с Народным банком? — вдруг спросил Константин.
И Джафар поразился-умному, живому интересу в его голосе и той осведомленности, которая -обнаруживалась в самом вопросе.
— Я читал вашу статью в «Краснорецком эхе»,— оказал Константин, как бы отвечая на недоумение Джафара. — С практикой низовой кооперации я знаком совсем мало, и ваша статья мне очень многое пояснила. .. — Он замолчал, точно в нерешительности.
«Хочет на что-то возразить, но робеет», — подумал Джафар.
— Вы так замолчали, что я понял: вы поспорить со мной хотите, — снисходительно-ласково обратился он к Константину. И, видя, что Константин колеблете^, он подбодрил его: — Пожалуйста. Мне очень интересно...
— Вы угадали, — ответил Константин, быстро взглянув на Джафара. — Я хочу оспаривать один из пунктов вашей статьи. Вернее сказать: поймать вас на одной непоследовательности. Вы в начале вашей статьи сообщаете любопытный факт: оказывается, окупая шерсть у ваших земляков веселоречёнцев, краснорец-кий губсоюз требует от них соблюдения известных каче
504
ственных норм... Вы приводите это как Пример культурного воздействия кооперации.
— Да, да, — откликнулся Джафар, с удовольствием отмечая, что этот молодой человек хорошо усвоил его статью.
— Дальше! — оживленно продолжал Константин. — Вы перечисляете шерсть в числе тех товаров, которые ваш губсоюз сбывает тресту «Транслевантина». Меня поразило — какую, оказывается, большую роль этот трест играет в торговых операциях краснорецкого губсоюза...
— Да. Очень большую! — многозначительно сказал Джафар.
— И вот я сопоставляю эти два приведенных вами факта, и мне думается, что требования" поставлять шерсть в однообразном виде, несомненно, исходят от треста «Транслевантина». Прав я или нет?
— Да... То есть, конечно, трест заинтересован в этом, — несколько растерянно сказал Джафар, припоминая вдруг, что в торговом соглашении треста и губсоюза прямо фигурируют — «стандартные», как там было выражено этим новым заграничным словом, требования в отношении шерсти. Это обстоятельство во время писания статьи показалось Джафару маловажным. .. — И все-таки... культурное значение кооперации...— начал Джафар, собирая растерянные мысли.
— Огромное! Огромное значение! — охотно согласился Константин. — Но вы простите меня, тут вы впадаете в ошибку вашего оппонента. Нужно трезво видеть хозяйственную первопричину подобного рода культурной деятельности.., Иностранному капиталу выгодно, чтобы веселореченская шерсть, поставляемая на мировой рынок, поступала бы большими партиями и в однообразном виде — в этом прогрессивное значение тех посреднических операций, которыми занимаются крас-норецкие кооперативы. Заметьте, ваших земляков особенно выгодно эксплуатировать — они стоят на такой первобытной, натуральнохозяйственной стадии развития, что и цены-то настоящей своего труда не знают... Конечно, кооператор, за спиной которого стоит иностранный экспортер, обдирает более культурно, чем свой
505
брат — туземный скупщик-ростовщик... Но все-таки обдирает. И я неспроста задал вам вопрос о роли иностранных вкладчиков в Народном банке...
«Какое уж там спроста», — подумал Джафар.
Новый знакомый так повернул статью Джафара, что он сам сейчас не узнавал ее; оказалось, что она бьет не только по Спельникову, но гораздо дальше: по Швестрову, по Гинцбургу, по «товарищу Акиму». С опаской и интересом приглядывался он к Константину, вопросительно взглядывал на Броню, но лицо ее было непроницаемо.
А Константин сразу же вспомнил, что Джафара он видел в конторе Поспешинского, когда принес туда чертежи. Он помнил и собеседника его, похожего на маленького хищника.
«Ты не был с ним так самоуверен, каким ты показываешь себя в своей статье», — думал Константин.
— Вы, веселореченцы, конечно, знаете русских лучше, чем мы знаем вас, — говорил он вслух. — А ведь мы должны вас знать. Как бы ни изгилялась правящая великодержавная клика над народами России, великое будущее Нашей страны — в содружестве наций, ее населяющих.
— Что можно знать о нас? — печально вздохнул Джафар. — Библия упоминает о какцх-то моавитянах, аммовйтянах — народах, которые появлялись на несколько столетий и бесследно исчезали. Такова, вероятно, судьба того маленького племени, к которому я принадлежу. Может быть, потому мне так легко чувствовать себя гражданином вселенной, — говорил Джафар, с удовольствием чувствуя, что попал на привычную, проезженную и удобную колею.
Но вдруг крик, долгий и жалобный, ворвался в его речь и неприятно нарушил ее. Джафар узнал ту женщину с ребенком, которую видел во дворе у Керкетовых,—точно вновь возобновился его неоконченный спор с Талибом! «Хотя... при чем здесь Талиб?»
Грубые розы платка на голове женщины поблекли, весь платок вылинял и приобрел общий серо-коричневый тон, свойственный всей ее одежде. Ребенок сидел на ее руках — широколицый бледный мальчик в тюбе
506'
тейке, за время скитаний привыкший к мытарствам. Он мусолил корочку хлеба, и лицо его казалось бледно и нежно рядом с рябым, воспаленным от слез лицом матери. Это была Анисат Рахаева, — она, видно, нашла абрека Науруза Данилова. С трудов, устало ступала она по неровной мостовой, а рядом, посредине улицы, между двух казаков с обнаженными шашками, шел сам Науруз Данилов, высокий человек в изорванной черкеске: ее темнозеленое сукно было еще ново.
Горбатый нос, русые большие усы, мужественные Морщины на лбу и щеках, — этот человек был полон спокойной важности, и все в нем было в каком-то зловещем соответствии со звоном кандалов, в которые он по рукам и ногам был закован. Он был очень спокоен и шел молча, с таким видом, словно то, что выкликала женщина, его не касалось, а она время от времени указывала на него.
Ее выкрики привлекали любопытных, и довольно много людей сопровождало это шествие, следуя за ним по тротуару: если же кто-нибудь подходил ближе, то конвоиры грубо его отталкивали. Но женщину с ребёнком они почему-то не трогали. Шли они, опустив головы, смущенные, злые.
— Что она, жена его? — хрипло спросила Броня. — Она сама вдруг почувствовала себя этой женщиной, которая перестала сейчас выкрикивать и, обращаясь к людям, певуче-длинно и складно причитала что-то.
— Вы понимаете, что она говорит? — спросил Константин.
Не сговариваясь, они пошли вместе с толпой.
— Да. Это тоже земляки^мои, веселореченцы, — ответил Джафар. — Нам повезло: это человек-легенда, неуловимый абрек Науруз. Но, как видите, его всё-таки поймали и ведут судить, — смеясь, оказал Джафар и обернулся к Броне. — Едва ли она жена Науруза: она называет его по имени, а глупый обычай запрещает жене называть мужа по имени...
— А можно попасть в зал суда? — спросил Константин.
— Нет ничего легче, — ответил Джафар. — Дело уголовное, суд открытый, идет уже третий день..
507
Женщина продолжала причитать с каким-то гневным и однообразным клекотом, и Джафар переводил.
— О горе! — кричала она. — Гляди, бог: кого в железо заковали, — того, кто за долю вдовью и сиротскую заступился, Науруза, заступника бедных, в железо заковали! Бог, почему ты на землю не смотришь? Гляди: власть имущие и знатные — что они творят с нами! Как же ты, бог, делаешь? Не князю Байрамукову, а доблестному Наурузу руки и ноги в железо заковали!
Она уставала, повторяя одно и то же, потом, вдруг найдя новое слово, с гневной силой выкрикивала его.
Джафар тут же рассказал, как эту женщину встретил он на дворе Керкетовых, куда в этот же вечер молодой абрек-пастух прискакал на угнанном княжеском коне, и как ловко вместе с конем спрятали его Керкетовы.
— Дикие наши нравы, — говорил Джафар, поглядывая то на Броню, то на Константина, и посмеивался или вздыхал, в соответствии с тем, что он .видел на лицах своих русских знакомых.
Они пришли уже в помещение суда и заняли удобные места.
Началось судебное заседание, и рассказ Джафара превратился "в пояснение хода суда. Шел допрос свидетелей. Переводил маленький старичок с двумя парами очков на большом носу, в старомодном, не то военном, не то чиновничьем мундире.
— Толмач — князь Хусейн Дудов! — пояснил Джафар, и Константин догадался, что видит отца своего приятеля Асада.
Сейчас под шепот Джафара, разглядывая большого красивого человека, который неподвижно, точно для того, чтобы не звенели кандалы, сидел на скамье подсудимых и с наивным грустным любопытством слушал, что о нем говорят свидетели, Константин впервые чувствовал, что он постигает, ухватывает что-то очень важное в жизни Веселоречья, что ему нужно и что ему все время не удавалось постичь... Рядом сидел Джафар, но Константин теперь уже знал: нет, это не тот человек,
508
который ему нужен, и с ним он не будет говорить о пастбищах.
Константин вслушивался в дело: ему казалось, что обязательно должна пойти речь о пастбищах... Но нет: судя по всему, дело было какое-то давнее, говорили о похищении скота. Свидетели, в большинстве горцы, почему-то, несмотря на старания толмача, не понимали вопросов, и, когда толмач переводил, выяснялось, что ответы их бестолковы... О женщине с ребенком совсем не было никакой речи: в зале суда ее не было. «Наверное, не пропустили из-за ее причитаний», — думал Константин; ее лицо все время было перед его глазами.
Судебный процесс продолжался со скучной, торжественной медлительностью. Из речи прокурора Константин понял, что подсудимый «во главе преступной банды сообщников» напал на стада князя Астемирова: часть из них зарезал, а часть угнал в Сванетию, где продал.
Прокурор не горячился — преступление, кроме данных следствия, получило настолько широкую огласку, что было воспето в народной веселореченской песне, — ее по настоянию прокурора князь Хусейн начал переводить на русский:
— «Отчего к Астемирову ущелью все звери со-шлися, медведи пришли, волки пришли, барсы пришли? Потому, что шашлыки жарят по всему Астемирову ущелью и дым, который из Астемирова ущелья идет, жареным жиром пахнет... Ой, сын Астемира, колдун ушастый, голова с кулачок, ростом не выше русской винтовки, вкусно ли тебе этот дым пахнет?»
— Прекратить хамство! — вдруг раздался пронзительно резкий голос из публики.
Маленький старичок в темной черкеске, на которой виднелось несколько медалей и орденов, вскочил с места. В зале было сумеречно, лицо его нельзя было разглядеть, но выделялись большие усы и уши как у нетопыря.
— Астемиров, городской голова, — скот-то у него, значит, украли! — со смешком шепнул Джафар на ухо Броне.
509
— Согласно присяге перевожу точно то> что должен переводить, — ответил князь Хусейн, тоже маленький, с двумя парами очков на горбатом носу.
Председатель позвонил, и князь Хусейн продолжал перевод песни.
— «Дым шашлыков шел из Астемирова ущелья потому, что доблестный абрек Науруз, наказывая князя за жестокосердие, угнал его стада в Сванетию. Гнал икот по Астемирову ущелью, пр дороге его резал и кормил шашлыками все аулы Астемирова ущелья».
Не обращая внимания на протестующие взвизги князя Астемирова, князь Хусейн резковатым и монотонным голосом перевел песню до конца, после чего прокурор продолжал свою речь.
Сославшись на эту песню, а также на то, что подсудимый на вопрос о виновности отвечать отказался и за несколько дней процесса не сказал ни одного слова, прокурор заявил, что рассматривает все это как признаки особенно закоренелой антигосударственной злостности преступника и настаивает на необходимое™ доследовать это дело, так как оно носит не только уголовный, но и политический характер. Следствие, по мне-ййю прокурора, велось не вполне правильно, с ним поторопились.
Так, не исследован вопрос о том, какое назначение получили суммы, вырученные после продажи принадлежащих князю Астемирову стад. Эти суммы, по мнению прокурора, могли быть переданы в распоряжение каких-либо революционных организаций.
Защитник начал с того, что привел данные следствия, исчерпывающим образом объясняющие, как были истрачены деньги, вырученные за стада: здесь фигурировали счета ресторанов, квитанции магазинов, показания свидетелей. Защитник заикнулся также о суммах, врученных различным чинам полиции, — в публике прокатился смех, председатель звякнул и попросил защитника быть ближе к делу... Молчание же подсудимого защитник объяснил особыми обстоятельствами, при которых подсудимый был задержан, — впрочем, сам подсудимый пояснит эти обстоятельства в своем последнем слове. В заключение защитник поднял во
510
прос о давности преступления, цитировал соответствующие сенатские разъяснения... Вины преступника он не отрицал, настаивал лишь на смягчении приговора.
Председательствующий зевал, и после Каждого его зевка защитник убыстрял речь, и слушать его делалось еще скучнее.
Попрежнему смирно сидел подсудимый: к речи прокурора он еще прислушивался, — по этому было видно, что .по-русски он понимает. Во время же речи защитника Он задумался о чем-то своем, покачивая иногда головой .и порою трогая свои усы жестом, исполненным наивной важности.
Когда ему дали последнее слово, он нисколько не удивился: видимо, ждал этого момента и был готов к нему.
— Я по-русски не могу хорошо говорить, — сказал он, встав и терпеливо выждав, когда звон его цепей затихнет. — Я по-нашему скажу, а ты, почтенный Хусейн, переведешь судьям... — сказал он, с простосердечным уважением обратившись к толмачу.
Похожий на нахохлившуюся маленькую носатую птицу, князь Хусейн, нервно дернувшись и блеснув очками, ответил что-то непонятное: очевидно, дал свое согласие. И подсудимый заговорил гортанно-звонко и размеренно, очень ясно, оттеняя речь спокойной жестикуляцией: однообразными взмахами правой руки — сверху вниз. Каждый взмах руки сопровождался звоном цепей... Подсудимый замолкал на несколько секунд, и Джафар быстрым шепотом переводил Константину эту речь: она так и запомнилась ему — под этот зловещий звон.
— Вдова Анисат, которую допрашивали здесь, не сказала вам, у кого она нашла меня, хотя вы и пугали ее тюрьмой. Я тоже не скажу. Нашла. Рассказала, как поступил с ней Аубекир Байрамуков, который здесь свидетельствовал против меня, но которого нужно было бы судить, ибо он — трижды обманщик и клятвопреступник. ..
В зале раздался вдруг дикий и злобный взвизг, и что-то сверкнуло. Люди шарахнулись. Кто-то вскрикнул, ахнул. Судьи вскочили.
511
Молодой офицер, обнажив шашку (это она сверкнула в сумеречном судебном зале), бился в руках стражников, которые его держали. Тоненький и гибкий, как девушка, он извивался в их руках: его бледное, красивое, черноусое и чернобровое лицо было искажено гневом. Шашка выпала из его перехваченной у кисти руки и глухо звякнула о пол.
Председатель суда, побагровев, отчего особенно стала заметна его седина, кричал что-то пронзительно дребезжащим голосом, видимо позабыв о колокольчике, который ему подвигал под руку другой член суда, тоже старый и, видимо, всем этим напуганный.
Невозмутимым оставался только подсудимый. Хмуро сведя свои рыжеватые густые брови, он пристально глядел на офицера, который кричал:
— Я государю служу! И отечеству! Я благородный дворянство, а он кто? Он дерзкий мужик — руки в навозе! И я требую...
Вдруг почувствовав под рукой колокольчик и сразу затихнув — так радостно затихает ребенок, когда ему сунут в рот соску, — председатель звонил, все заглушая этим звоном, и даже жмурился от удовольствия. Когда в зале затихло, председатель сказал:
— Если публика не будет вести себя прилично, я вынужден буду поставить вопрос о закрытии дверей судебного заседания. Вас, господин толмач, прошу, как только подсудимый позволит себе некорректное выражение в отношении свидетелей, сообщать об этом суду.
— Подсудимый ведет себя корректно, — резко ответил Хусейн Дудов.
Снова началась клокочущая, гортанная, сопровождаемая звоном цепей речь Науруза.
— Вот как ты кричишь! — сказал он, обращаясь к офицеру. — Когда тебя, двенадцатилетнего, подхватили люди Зелимхана и отец и мать твои разыскали меня и сказали: «Науруз, ты кунак Зелимхана, выручи нашего единственного Аубекира» и я поехал к Зелимхану и вывез тебя на своем седле, почему ты тогда не кричал на меня? Да, тогда мы с отцом твоим менялись оружием и стали кунаками. Каково же ему теперь из райских садов глядеть на твои дела? Клятву, которую дала твоя
512.
мать злосчастной Анисат, ты нарушил: это хуже, чем свою клятву нарушить... Вольную воду, снегами небесными рожденную, ты в цепи заковал; это хуже, чем человека заковать. Русские наших адатов о воде не знают, но вспомни, что если бы тебя судили по адатам, тебя бы жаждой уморили, осквернитель воды!
Опять что-то крикнул молодой князь. Председатель звякнул.
Князь Хусейн сообщил суду, что подсудимый привел веселореченский адат об осквернителях воды.
— Это не имеет отношения к делу! — раздраженно сказал председательствующий. — Попросите подсудимого не злоупотреблять правом последнего слова...
Джафар быстро рассказал Константину историю вдовы, объяснил ему все происшедшее.
«Осквернители воды, это нужно запомнить!» — подумал Константин.
Он все вглядывался в этого закованного, в цепи богатыря, который опять заговорил, и Джафар перелагал на русские слова его медлительную, клокочущую речь.
— Я почему затронул старину? — говорил он, обращаясь к суду. — Ведь эта женщина пришла ко мне искать защиты и помощи таю же, каю его родители некогда пришли ко мне. Она пришла и сказала: «Ты кунак Ислама Байрамукова, спаситель молодого Аубе-кира. Усовести его!» И я приехал к нему, и, как второй отец, ибо я спас его жизнь и как бы вторично родил его, упрекнул его. И он принял вид смирения. Он угощал меня и восславлял. Я доверчиво уснул под его кровом и проснулся уже связанный. Поздно я вспомнил то, что старики говорят: «Не доверяйся осквернителю воды». И когда Аубекир нарушил завет гостеприимства...
— Для меня ты не гость! — крикнул Аубекир. — Ты свинья грязная! Разбойник!
— Разбойник! — взвизгнул вслед за ним городской голова. — Где, где стада мои? — Он перешел на родной язык и сжатым кулачком грозил спокойному, закованному в цепи великану.
Стражники, испуганно оглядываясь на председательствующего, вовсю заработавшего колокольчиком, почтительно и конфузливо придерживали городского
33 Ю. Либединский
513
голову. Публика волновалась, кое-где прорывались аплодисменты.
— Браво абреку! — крикнул кто-то.
Броня тоже вскочила и крикнула «браво», и Константин сразу пришел в себя.
Он почувствовал, что стоит (когда он вскочил?). Схватив Броню за руку, он посадил ее и сел сам.
— Смешной этот абрек: он все думает, что судят не его, а Байрамукова, — сказал, улыбаясь, Джафар.
Константин взглянул на него вопросительно, — он даже не понял, о чем Джафар говорит и чему улыбается.
Публика наконец затихла, и председатель, неохотно расставшись с колокольчиком, стал совещаться с членами суда. Было только слышно, как жандармский офицер, высокий и томно-бледный, приложив руку к козырьку, уговаривал маленького городского голову, усы которого воинственно шевелились.
И вдруг Науруз, резко нарушив эту неустойчивую тишину, спросил по-русски, обернувшись к городскому голове:
— Слушай, тебя ведь Наурузович зовут?
Вопрос этот был добродушен, приятельски обыден,— так можно спросить знакомого, случайно встретившись с ним на площади. . '. В зале наступила полная тишина: растерялись все, и больше всех тот, к кому относился вопрос: маленький, усатый и ушастый князь Астеми-ров, лицо которого от крайней ярости и крайнего удивления казалось каким-то смешным.
И, не дождавшись его ответа, Науруз продолжал:
— Я Науруз, ты Наурузович. Я’— будто отец тебе: погляди, какой я большой и какие вы маленькие... А вы меня в цепи заковали... отца своего... — говорил он, повернувшись к остолбеневшим, маленьким в своих красивых черкесках князьям, и в глубине его упрекающе-серьезной речи вдруг послышалось добродушное издевательство.
«Так вот оно что...» — подумал Константин, вспомнив сенатское разъяснение к рескрипту, всю эту, как он догадывался, попытку обокрасть целый народ.
514
Сердце его билось так, что в ушах отдавалось; он восторженно всматривался в Науруза, который, разводя окованные железом руки, в Позе. наивно-серьезной насмешки стоял, обернувшись к застывшим в яростном удивлении князьям.
Чуть звякнув колокольчиком,, председатель, не возвышая голоса, попросил публику оставить зал:
— Суд будет окончен при закрытых дверях.
Глава пятая
Ученик краснорецкого реального училища, пятнадцатилетний Асад не знал, что из окна директорского кабинета видны его родные веселореченские горы. Но когда, постучав в дверь и услышав раздельное и ласково-ровное «да-да-да», он вошел в кабинет, сразу из-за больших вырезных листьев комнатных растений, тропически грубозеленых, из-за плотных и выпуклых мышц окружающих город травянистых холмов на него взглянули далекие бело-голубые горы, почти растворившиеся в небе, более похожие на небо, чем на землю. Но это были родные горы... Асад удивился и обрадовался им.
Паркетный пол этой небольшой и скромной комнаты навощен до зеркальной ясности, и солнце, отражаясь в нем, ослепительно и невесело светило снизу; на желтых тисненых обоях большой портрет царя.
Под портретом поставлен широкий письменный стол. Но директор реального училища Аркадий Диодо-рович Георгиевский сидел в стороне, и большое комнатное дерево раскидывало свои зеленые лапы над его уложенными в кудрявые валики бледнорусыми волосами, образующими как бы сияние вокруг белого большого лба. Из-под густых и темных бровей ласково мерцали навстречу Асаду маленькие глаза, — непонятно: не то серые, не то фиолетово-синие. Темные усики коротко подстрижены, и его голая верхняя губа чем-то нарушала общее выражение отрешенности и благости, как бы разлитой по всему лицу «Арканжеля», как называли своего директора ученики краснорецкого реального училища.
515
зз»
— Господин Дудов? — приветливо произнес Аркадий Диодорович, откладывая журнал, видимо только что полученный и до половины аккуратно разрезанный светлометаллическим алюминиевым ножом, которым он продолжал ласково похлопывать по чистой и красной ладони. — Садитесь... Вот сюда садитесь.
Смуглый худенький мальчик, коротко остриженный, в очках на горбатом носу, продолжал стоять, застенчиво обдергивая чесучовую с форменными золотыми пуговицами рубашку, и Аркадий Диодорович мягко, но настойчиво похлопал ладошкой по. сиденью стула тем движением, каким приглашают собаку или кошку прыгнуть на стул. Мальчик сел на край стула.
— Вы знаете, что отец ваш в городе? — спросил Аркадий Диодорович.
— Да, — ответил Асад, — я знаю, но не видел его.
— Хусейн Асадович был у меня сегодня, — продолжал директор. — Я выразил ему полное удовлетворение вашими успехами... Сожалею, что не мог его порадовать вашим поведением...
Асад отвернулся, стал смотреть в окно, на горы, и Аркадий Диодорович сразу почувствовал в этом сопротивление, упрямое и безмолвное, и прдумал, что четверка в поведении за год не напрасно будет выведена этому мальчику, который и на уроках внимателен и в шалостям не замечен. Но это строптивое и тихое неподчинение: то Асад Дудов шел в шинели внакидку, то Асада Дудова видели (правда, днем) на Островке — месте предосудительных увеселений, куда ученикам средних учебных заведений вход был строго воспрещен.
Живет мальчик на квартире доктора Гедеминова, а квартира эта господином полицмейстером указана в списке тех квартир, в которых проживать иногородним ученикам не рекомендуется. Аркадий Диодорович попробовал сегодня намекнуть на это родителю мальчика, мусульманскому князьку, чудаковатому любителю математики и кавказской старины. Намек был сделан очень деликатно: директор, посетовав на строптивость и своеволие Асада («Что нам, многоуважаемый Хусейн Асадович, делать с нашим мальчиком?»), посоветовал
516
поселить его у муллы Ибрагимова, религиозно-нравственное влияние которого...
— Какое нравственное влияние?— изумленно и сердито перебил князь Хусейн. — У муллы Ибрагимова — гарем!
Верно! Аркадий Диодорович это упустил: ведь речь шла о мусульманском священнослужителе...
Князь Дудов ушел, и мальчик таким образом пока остался в сфере пагубного влияния гедеминовской квартиры. И всегда какие-то несообразности и чудачества; вот и сейчас: оказывается, помогает готовиться на аттестат зрелости какому-то доморощенному музыканту из богоспасаемой Арабыни.
— Но вы же и сами-то переходите в шестой класс?
— Это ничего не значит, Аркадий Диодорович, — твердо ответил Асад.
И Аркадий Диодорович вспомнил, как в начале учебного года впервые приметил он этого мальчика. Так же •вот, как й сейчас, Асад пришел и предложил, что к рождеству подготовится и сдаст все предметы за весь учебный год. Тогда ему строго разъяснена была недопустимость для ученика шестого класса подобного рода студенческих замашек. Но что можно возразить против благородного намерения готовить экстерном какого-то там музыканта? Возражать как будто нельзя, — пожалуй, даже похвалить нужно... Но все-таки...
Сохраняя на лице снисходительно-ласковую улыбку, Аркадий Диодорович настороженно приглядывался к воодушевленному, разрумянившемуся лицу Асада и думал, что напрасно он раньше склонен был мальчиков, носивших очки, считать смирными и благонадежными.
Обстоятельно и мягко ответив Асаду, Аркадий Диодорович, однако, не отпустил его, когда тот встал, чтобы уйти. Обняв рукой худенькое тело мальчика, он спросил, снизу заглядывая под его очки, в черные блестящие глаза:
— Так как же, Асад, будет с отметкой по поведению?
Мальчик молчал. Аркадий Диодорович, продолжая обнимать его, казалось, рукой своей ощущал, как со
517
противляется ему это существо, юное и упрямое. И Аркадий Диодорович сказал, вздохнув:
— Меня это беспокоит: ведь если у вас в последнюю четверть будет четверка в поведении, значит и в году придется вам вывести четверку. А четверка в поведении за один из старших классов не дает возможности вывести вам пятерку в аттестате.^ И, как ни хороши будут прочие отметки, поступить в высшее учебное заведение, не имея пятерки по поведению, вам будет трудно...
— Но почему из-за того, что я люблю вечером пройтись по улице, накинув шинель на плечи, меня нельзя обучать в высшем учебном заведении? —• вдруг с негодованием спросил Асад. — Ведь это бессмысленно!..
— Есть положения, которые нужно принимать без рассуждений, — мягко сказал Аркадий Диодорович. — Таковы догматы религии или аксиомы в математике.
— Аксиома имеет свое доказательство — вне математики, в области практического опыта, — быстро ответил мальчик. — Но в то, что гроб Магометов висит Между зенитом и надиром, я верить не могу, так как это противоречит тому, что напечатано в элементарной физике 'Краевича.
Асад говорил с негодованием, но безбоязненно, искренне. И Аркадий Диодорович, притянув мальчика к себе так близко, что слышно было гулкое и сильное биение его сердца, казалось, заглядывал в самую заветную глубину его души, понимал весь строй его мыслей и чувств.
И, дослушав Асада до конца, Аркадий Диодорович протянул руку к тому журналу, который он читал до прихода мальчика, открыл его и прочел:
— «Петр Великий, Петр Великий, ты один виновней всех! И зачем на север дикий понесло тебя на грех!» Это стихотворение современного поэта, — сказал Аркадий Диодорович. — Как видите, спор, гениально изображенный Пушкиным в «Медном Всаднике» и разгаданный Белинским, еще продолжается. Спорят личность и государство, часть и. целое. Сейчас перед вами, как перед каждым юношей, обязательно открываются два пути: вступить ли на стезю гражданственности, отдав себя державной воле, устрояющей гармонию общества,
518
порядок его, или взбунтоваться, поднять- знамя своеволия и анархии. Вы слушаете меня недоумевая: какое отношение имеет ваша четверка в поведении к вопросу о бунте несчастного Евгения против державной воли Петра? Но в тех отклонениях от учебного порядка; которые вам, Асад, свойственны, в этой дерзкой склонности все проверять разумом, в этом высокомерном отрицании догмата и тайны я прозреваю очень большую опасность для вас. А ведь мы не только обучаем вас наукам, мы воспитываем в вас добродетели будущих граждан. Первая же из них — послушание. Вам, Асад, много дано, с вас мы много спросим. Вы и способностями вашими и принадлежностью к благородному дворянству предназначены для.деятельности на благо тому великому государству, которое вас столь отечески усыновило. Вглядитесь в глаза державного главы нашей империи, — и Аркадий Диодорович своей широкой красной рукой указал на портрет царя, — в них забота и тайна... Таинственное слияние миллионов воль в единой заботе государя. В этой тайне — тот шаг от звериной анархии к божественному порядку, который совершило человечество. В прошлом году мы с вами учили мифы древней Греции. Вспомните, что эллины все устроение государства ставили под защиту благодетельных божеств. В титуле любого монарха — от фараонов до наших дней — постоянный призыв к божеству. Сын неба, наследник пророка, его христианнейшее величество... — И, несколько снизив голос, не то шутливо, не то доверительно-ласково Аркадий Диодорович сказал: — Даже якобинская республика не могла обойтись без культа верховного существа...
Аркадий Диодорович преподавал историю, и рассуждения его не были новостью для Асада. Правда, ни-4 когда он не слышал их от директора в такой пространной и сердечной форме. Слушать было интересно. Но, что бы ни говорил Арканжель, недоверие, воспитанное за многие годы, инстинкт самосохранения и обережения души своей не оставляли Асада.
Выйдя из кабинета, Асад с трудом удержался от того, чтобы не пробежать рысью по всему длинному пустому коридору реального училища. Хотелось нарушить
519
ту особенную, чутко дремлющую тишину, которая наступает во всем громадном здании после того, как учебный день кончился. Хотелось потянуться, громко зевнуть, закричать...
Асад чувствовал себя так, точно он несколько часов провел в неудобном и неестественном положении: это ощущение сопровождало Асада все годы учения в реальном и с каждым годом становилось все острее.
Но то, что говорил директор, 'было интересно, об этом хотелось раздумывать. Асад не раз слышал, как его отец сетовал на то, что в среде веселореченских князей не нашлось ни одного, кто сумел бы бережно, старательно, клочок за клочком, собрать воедино Веселоречье.
— Так начинаются великие государства! — говорил отец, хвалил московского князя Иоанна Калиту и сурово порицал веселореченских князей; он даже употреблял то же слово, что и Арканжель: — Анархия, — сказал он однажды о прошлом Веселоречья. — Безначалие и хаос! Благо совершил Алегико Батыжев, передав нашу землю под державу русского царя! — так заключал отец свои рассуждения.
«Но как же может отец, разделяя взгляды Аркан-желя, дружить с таким вольнодумцем, как, например, доктор Гедемцнов или наш молодой Джафар Касеев? — думал Асад, быстро спускаясь с каменистой горы, на которой стояло реальное училище, вниз, в тенистые переулки города. — Но Арканжель-то! Ишь куда загнул — к греческим богам! А ведь Прометей все-таки похитил огонь у богов для людей! Бунт титанов против Зевса. Вот была небесная революция! Эти молодцы титаны громоздили Пелион на Оссу, одну гору на другую: Зевс совсем перетрусил, под юбку Геры спрятался.. .»^разгоряченно думал Асад, представляя въявь громадные скалы, взлетающие к курчаво-грозным олимпийским облакам, за которые укрылся царь небес...
Однако сквозь величественные свои грезы Асад во всех подробностях продолжал видеть милые чистенькие переулочки, сочно чернеющие, только еще вскопанные грядки в огородах, ярко разрисованные ставни и белые занавески, и когда мимо него пробежала пятнистая
520
маленькая собачка, у которой один глаз был серый, другой голубой, Асад окликнул ее: «Букет! Букет!» — и Букет, завиляв пушистым хвостом, усаженным сухими, прошлогодними репьями, пошел его провожать; недаром пять лет подряд ходил Асад в реальное по этим переулкам — все собаки этой части города были ему знакомы!
— Сегодня хороший день, Букетик! — сказал Асад, и Букет согласно облизнулся, побежав впереди, по временам оглядываясь на Асада своими блестящими, смеющимися глазами.
А правда, хороший день — все удается. Арканжель, такой ученый и важный, говорил с ним как со взрослым! И то, ради чего Асад, оставшись после уроков, пошел в кабинет к директору, тоже достигнуто. Асад теперь точно знал, в каком объеме иа каждого предмета спрашивают экстернов на экзамене. Смущала только латынь — в реальном ее не проходили... «Ничего, я сам ее пройду— это даже интересно», — думал Асад, насвистывая победоносно-громко и совершенно фальшиво.
Асад, очень любил музыку. Но ни одного мотива никогда не мог воспроизвести правильно, и, наверно, потому-то он испытывал чувства обожания и преданности к Грише Отрокову. Ему так хотелось что-нибудь сделать для Гриши, как-то услужить ему, что он, даже и не зная толком, нужен ли при поступлении в консерваторию аттестат зрелости, решил готовить Гришу к экстернату.
Через несколько дней учебный год кончится, экзамены — пустяки, потом домой, в Арабынь! А вечером у Гедеминовых опять соберутся разные люди, будут так интересно спорить, говорить...
С горы, на которой высилось реальное училище, Асад спустился к реке, к тому самому месту, где она круто, под прямым углом поворачивала и текла уже не на север, а на восток. На этом месте и образовался тот самый живописный островок, на который «ученикам средних учебных заведений города Краснорецка вход был строго воспрещен»: там, в зелени, весело Пестрели здания кафе-шантана, шашлычной, летней сцены и раковины, в которой по вечерам играл оркестр.
621
Там поджидал Асада его знакомый — Константин Матвеевич. Вчера, когда он принес обменять книги в библиотеку общества приказчиков, молчаливая библиотекарша (Брайна Иосифовна зовут ее) вдруг доверительно передала ему, чтобы он пришел сегодня на Островок, Константин будет ждать его. Асад, оглянувшись, быстро пробежал по мосткам, высоко поднимавшимся над рекой, обмелевшей настолько сильно, что стало видно почти все ее каменистое, покрытое красноватым щебнем дно.
Террор внешкольного надзора действовал на Асада, и, вступив на запретную почву, он быстро свернул в сторону от широкой аллеи й юркнул на тенистую дорожку, идущую по обрывистому живописному берегу реки. Сюда забредали только парочки, да и те вечерами, сейчас же здесь было тихо и одиноко.
Асад по-мальчишески вприпрыжку, что было смешно при его юношески долговязой фигуре, быстро двинулся по аллее. Вдруг он приостановился... На зеленой садовой скамейке, мимо которой ему предстояло пройти, увидел он Константина Матвеевича, который, вытянув руки вдоль спинки скамейки, словно размахнув ими, й несколько откинув свою молодую голову, глядел перед собой за реку, на зеленые и черные пашни, расстелившиеся по холмам, и все его молодое, почти юношеское лицо —даже мягкий, по-ребячески припухлый рот — имело сейчас выражение силы и мужественной решимости.
С Константином Матвеевичем Брусневым Асад познакомился у Гедеминовых. А потом вот так —то на улице, то здесь, на Островке. Что-то очень приятное было в этом человеке: ровная ясность, открытость,, приветливость; впрочем, как будто ничего особенного... Никак его, например, нельзя сравнить с Никодимом Иакинфовичем Альбовым, редактором местной газеты «Кавказское эхо», бывшим священником, расстригшимся и ставшим революционером («эсер, народник!» — говорили о нем) . Когда Никодим Иакинфович, аскетически худощавый, седой и смуглый, начинал говорить, все смолкало в гостиной Гедеминовых. Правда, мало
522
что понимал Асад в его горячих речах, но как все это было прекрасно, звучно, смело...
А Константин Матвеевич все молчит, пожалуй разве иногда спросит или переспросит. Однажды Асад целый вечер просидел с Константином здесь, на Островке; разговор зашел о Веселоречье, и Асад рассказывал ему все, что он знал о своем народе. Асад сам не подозревал, что он столько может рассказать...
В общем Константин Матвеевич чем-то очень мил; даже в минуты самые серьезные в его лице чувствуется готовность рассмеяться; рядом с ним все кажутся пасмурными. Но сейчас он совсем был не такой, как всегда. «Какой-то озабоченный, важный», — думал Асад, продолжая с недоумением разглядывать Константина... И вдруг понял, что почти ничего не знает об этом человеке, казалось бы таком открытом, простом и ясном.
Асад так близко подошел к скамейке, что Константин Матвеевич, почувствовав его приближение, вздрогнул, и свойственное ему приветливое выражение выступило на его лице.
Но Асад уже не мог глядеть на него попрежнему: он отметил особенную чистоту и аккуратность всей одежды Константина Матвеевича, его подпоясанную ремешком белую косоворотку с вышитым воротом, облегавшую широкие плечи и сильную грудь. Роста же он был невысокого, и когда, здороваясь с Асадом, встал со скамьи, то видно стало, что тоненький Асад уже перерастает его... Асад ощущал крепкое рукопожатие Константина Матвеевича, — с этой руной не хотелось расставаться.
— Трудное у вас время сейчас, Асад? Готовитесь к экзаменам? — спросил сочувственно Константин, твердо взглянув в глаза Асаду карими блестящими глазами.
Асад подумал, что Константин Матвеевич при каждой встрече непременно спрашивает об его учении, очевидно уверенный, что учение для Асада — главное в жизни. Никто из взрослых, только Константин Матвеевич спрашивал так об учении.
Садясь на скамью рядом с ним, Асад пренебрежительно махнул рукой.
523
— Можно считать, что я уже в шестом классе. Только у меня, наверно, в году четверка за поведение будет, — сказал он, и Константин1 усмехнулся тому забавному соединению озабоченности и лихости, которые были слышны в голосе Асада.
— Что так? — спросил Константин.
И Асад тут же рассказал весь свой разговор с директором: свежая ребяческая память позволила ему в точности передать все, что говорил Аркадий Диодорович. Асад рассказал, ожидая, что Константин, которого он, как и всех бывших у Гедёминова, -считал за человека левых политических взглядов, должен сразу возмутиться речами директора.
Но Константин с интересом выслушал Асада и, помолчав, сказал задумчиво:
— Да, башковитый господин ваш директор. У него какой чин? Вероятно, действительный статский советник?
— Не знаю. Он молодой еще.
— Ничего. Из молодых, да ранний. Каи его фамилия? Георгиевский? Красивая — министерская прямо фамилия. Ну и как, его ученики любят?
— Да. Он преподает интересно. Правда, гимназистки жалуются, что он очень строгий. А ведь у них курс гораздо легче, чем у нас.
— И Людмила Евгеньевна у него учится? — спросил Константин, глядя перед собой и щурясь.
— Какая Людмила Евгеньевна? — недоуменно переспросил Асад.
Константин несколько замешкался с ответом, и Асад, догадавшись, громко воскликнул:
— Люда! Люда Гедеминова! Верно, она ведь Евгеньевна, я как-то забыл! Да, он тоже у них в классе преподает. Но Люда не жалуется, ведь она развитая, это не то, что другие гимназистки — дурье: красота фигуры, пустота в башке. А Людино сочинение даже к нам в реальное приносили: «Наступление зимы». Словесник, когда читал, таи слезу даже пустил: «Пяти, говорит, мало за такое сочинение. Но грубые грамматические ошибки...» Хотя все равно она самой умной считается из гимназисток. И красивая. Но Оля Пасха-лина красивей. И Хана Зомбарт, Хотя Хана — она не
524
то что красивая, но очень интересная, у ней Такие глазки и такой ротик...
— Видел! — весело перебил его 'Константин. — На Губернаторской улице встречал. В черной шубке. Наверно, богатая семья...
— Богатая? — оживленно переспросил Асад. — Я тоже так думал. Я незнаком был с ней: они с Людой хотя в одном классе, но в разных компаниях. И правда, когда идет она по Губернаторской, или на «вечерах» у них в гимназии, или у нас в реальном, так всегда одета: шик-блеск, иммер элеган... А живут очень бедно, две маленькие комнатки, даже непонятно, где спят. Мебель облезлая, везде лоскутья набросаны. Она с матерью и теткой живет. Знаете, зачем я у них был? Учился у нас в реальном дурак один — он сейчас в юнкерское училище, ушел — Саладин Дудов. Нет, он нельзя сказать, что родственник, но все-таки... ну, одного со мной рода, — у русских это за родство не считается. Ужасный дурак! И раз говорит мне: «Асад, ты, как родич, должен помочь мне в джигитском деле: я хочу украсть мадемуазель Зомбарт». Я говорю: «Ты с ума сошел? Что ты? Как можно?» А он говорит: «Я в нее влюблен. Но она — еврейской веры, ее за меня не выдадут. Помоги мне увезти ее. Я учиться совсем не могу. Я увезу ее в аул Дууд (а это страшная глушь, прямой край света — у ледников) и там, говорит, женюсь на ней и родителям калым пригоню за нее». Мы тогда оба в четвертом классе учились, только он старше меня, я догнал его; он в каждом классе по два года: совсем взрослый, с бачками, бреется. Но все-таки ведь четы-рехклассник, — это же смешно, четырехкласснику жениться. Но он глаза выкатил, вспотел, весь красный, — еще, правда, украдет. И я говорю: «Ладно, Саладин, будет по-твоему», а сам к Зомбартам, хотя с ними незнаком. И мама и тетя Ханина сначала верить даже не хотели: как можно человека украсть, — ведь полиция, век пара и электричества! Ну, а потом я им кое-что из наших веселореченских нравов рассказал; они испугались, стали плакать. А Ханочка тоже будто бы испугалась, но я вижу: она очень гордится. Потом уж ее так берегли, так берегли: у ней отца нет, но очень много
525
теток и дядей, и еще двоюродные братья — сапожники, и когда она по улице идет, с ней рядом тетка, а сзади поодаль — братья. А меня как увидят на улице, так на меня смотрят-смотрят: знают, что я им Ханочку спас. А Саладин сначала очень тосковал, а потом — и Асад понизил голос — остался на третий год и перешел в юнкерское училище; в этом году, наверно, уже кончает. А вам наши гимназистки нравятся?
— Да я, кроме Людмилы Евгеньевны, пожалуй, никого и не знаю, — сказал Константин.
Он как-то особенно бережно выговаривал имя-отчество девушки, и Асад проницательно взглянул на Константина. Тот смутился и покраснел.
— Очень вы интересно про Веселоречье рассказываете, — сказал он, желая справиться с неуместным смущением. — Ведь я и вызвал вас, чтобы посоветоваться.
Асад молчал и с лукавым удовлетворением искоса поглядывал на него.
— Вчера был суд над абреком Наурузом, я -видел там вашего отца, — продолжал Константин. — Мне нужно с ним поговорить.
— Вот досада, папа сегодня утром уехал... Но это ничего, приходите сегодня к Гедеминовым,— сказал Асад.
— А что мне там делать! — почти сердито1 сказал Константин.
— Да ведь у них как раз нужный вам человек будет. Это уж прямо из аула — Талиб Керкетов. Хороший человек. Заступник крестьян: он и сейчас по крестьянским делам ходатайствует — к губернатору хочет попасть.
— По какому делу? — спросил Константин. Асад поднял на него глаза и удивился — застенчивое смущение исчезло с лица Константина, он был серьезен. — По какому делу? — с оттенком настойчивости сказал он.
— Не знаю, — ответил Асад. — Он встретил меня на улице. Я сказал ему, что отец приехал и остановился у Гедеминовых. Талиб обрадовался. «Мне нужен совет в установлении справедливости», — так сказал он, и уговорились, что он приедет к Гедеминовым. Он еще
526
сказал, что должен быть у губернатора. Я уж и так и Эдак спрашивал. Но он истый веселореченец: если не хочет сказать, не скажет... Говорит только, что крестьян обижают...
— Так. Так. Ведь из-за этого-то я просил вас прийти, Асад. Это очень важное дело. Где он остановился, этот ваш знакомый?
— На постоялом дворе, пойдемте сейчас туда.
— У Арутюнова или у Калашникова? — спросил Константин.
— У Арутюнова.
Константин неодобрительно покачал головой. Постоялый двор Арутюнова был у него на плохом счету: имелись сведений, что сам Арутюнов является подставным лицом охранки.
— Неудобно, — сказал Константин.
— Тогда я к рам его сюда приведу...
Асад уже вскочил с места; Константин придержал его:
— Это тоже не годится... Вот если бы его встретить. .. так... ну, как бы случайно.
— Так я же говорю, что он будет сегодня у Геде-миновых! Вот и зашли бы...
Константин, хмурясь, помолчал, видимо раздумывая.
— Право, приходите! — уговаривал Асад. — Вчера Кокоша приехал. Это студент, их сын. Прямо из Петербурга. .. Там забастовки, демонстрации....
— Это вы о сыне доктора говорите? — спросил Константин.
— Да. Его имя — Николай, но его с детства все «Кокоша» зовут. Когда в реальном учился, был такой сюсюка-ухажер. Его даже отец родной, Евгений Львович то есть, называл «пустейшая личность». А сейчас —• он такой левый! Красный! Социал-демократ, — понизив голос и оглянувшись, сказал Асад.
— А вы откуда знаете? — с интересом спросил Константин.
— Да он сам об этом сказал! Вчера, у-у, какие он речи запузыривал! — И Асад, изображая Кокошу, вытянул руку и свистящим голосом произнес: —«Царские
527
сатрапы!» Ведь если бы он сам не уехал, его бы выслали. Константин Матвеевич, а вдруг начнется революция?
— Я слишком мало знаю, чтоб судить об этом... — ответил Константин серьезно. И, вдруг круто оборвав ртот разговор, он указал на реку и спросил: — Скажите, Асад, почему так река обмелела? Ведь вы местный житель...
Асад с изумлением, точно впервые взглянул на ржавое русло реки. Неровное дно ее почти целиком выступило из воды: только посреди, как бы в глубоких оврагах, текло несколько бурливых потоков: здесь при пол-новодности проходили самые опасные стремнины реки. Сейчас все ее незамысловатые секреты выступили наружу: в нескольких местах белели кости утонувших животных, валялось ведро,, какой-то кованый сундучок, впрочем уже открытый, несколько сапог, лаптей, ботинок, точно люди нарочно разувались и кидали обувь в реку... Никогда раньше Асад не видел такого обмеления. Река исчезла — и это сейчас, когда с каждым днем становилось все жарче и таянье снегов в горах все сильнее. Вода должна была прибывать.
— Я не знаю... — недоуменно сказал Асад.
— Но как же вы не обратили внимания? Ведь это уже продолжается несколько дней! — спрашивал Константин.
— Я видел, но не задумывался.
— Почему же не задумывались? — не без шутливого ехидства спросил Константин. — Ходите каждый день мимо, а не задумываетесь?
Асад покраснел от самолюбивой досады.
— Да мало ли чего? — пробормотал он.
Константин положил ему руку на плечо.
— Чур не обижаться! — сказал он дружески. — Я только удивился, что вы не задумались над этим загадочным явлением, которое даже нельзя назвать явлением природы.
— Почему? — удивленно спросил Асад. — Я, правда, не понимаю, чем это вызвано. Но причина здесь, наверно, естественная.
528
— Нет, — ответил (Константин. — Причина есть, но она не естественная, а сверхъестественная, и я вам скажу, какая: дело в том, что две мельницы, одна выше города, другая ниже города, принадлежат одному лицу — небезызвестному в нашей губернии господину Пантелееву. Вчера я прошелся до Верхнего пруда. Там разлив, луга затоплены, по станице казаки на лодках ездят. Плотина верхней мельницы закрыта. Зато шлюзы плотины нижней мельницы открыты.
— Выходит, что Пантелеев сам вызвал это обмеление? — опять удивился Асад. — Но зачем?
— Не знаю. Вероятно, чтоб водовозы наживались. Сейчас за ведро воды водовоз берет шесть копеек, а оно всегда стоило копейку. Раньше Форштадтская слобода брала воду из Протоки, — вы, конечно, знаете эту канаву, отведенную от главного русла еще во времена кавказских войн? Теперь Протока совершенно высохла — в ней нет ни капли. За водой приходится ходить четыре версты, до главного русла реки. Четыре версты и столько же обратно с коромыслами — хорошая прогулка? Или брать воду у водовоза. Для рабочей семьи, особенно если есть маленькие дети, меньше двух ведер в день никак нельзя. Раньше расход на воду был две копейки в день, сейчас двенадцать... Гривенник в день! Десять копеек. Где их взять?
Он говорил так горячо и серьезно, что Асад, который в жизни еще не заработал ни одной копейки, вдруг почувствовал, что заработать гривенник — нелегкое дело, и воскликнул:
— Но ведь это безобразие! Прямо варварство... — От возмущения его ломающийся, как у молодого петуха, голос сорвался. — А губернатор наш? Или он от старости совсем ослеп и ничего не замечает?! — воскликнул он.
— Ну уж... Не замечает! — усмехнулся Константин. — Вы о губернаторе по себе судите, — он, правда, старичок, но довольно еще распорядительный. Да и как ему не заметить, когда для поливки губернаторского сада, огородов и оранжерей раньше качали воду из реки, а теперь в бочках возят с Верхнего Пантелеев-ского пруда. Нет. Губернатор все видит. — И, помол
34 Ю. Либединский
529
чав, Константин добавил: — Вот вашему бы директору прийти к его превосходительству да и поучить насчет личности и государства, чтобы его степенство господин Пантелеев не озорничали и не своевольничали. «Осквернители воды», — кажется, это так у вас называется.
— Да, да... Такое есть выражение, когда оскорбить хотят, — ответил Асад, с удивлением взглянув на Константина.
Тот усмехнулся и сказал:
— Редактор местной газеты, известный вам Никодим Альбов, получил в прошлом году письмо от господина Пантелеева, и было в этом письме слово мельница написано через «ять». Альбов, как вы знаете, человек образованный. И объясняет нашему мельнику, что мельница «ятя» не требует... А Пантелеев, знаете, как ответил? «Моя мельница — как хочу, так и пишу».
— Ну, это не может быть, — ошеломленно сказал Асад. — Это шутка.
— Альбов сам рассказывал. Соврать он, конечно, •может. Но, если это соврано, то все равно здорово. Вот вы попробуйте, напишите мельницу через «ять» — кол получите! А для господина Пантелеева ни законы правописания, ни прочие законы — необязательны. Когда дело идет о том, чтобы скрутить бедняка, — в этом наше самодержавное государство властно. Но заставить господина Пантелеева вернуть городу украденную реку — в этом оно не властно. Только вы, Асад, крепко запомните то, что вам господин директор преподал насчет тайн, и не вздумайте его искушать всеми этими вопросами, а то не только четверку в поведении заработаете, но и совсем из училища вылетите.
Так говорил он, широкоплечий крепыш в белой чистой рубашке, весь молодой, свежий, и Асад точно в первый раз видел эту обезображенную реку с обнажившимся грязным, ржавым, тинистым руслом и многотысячный город, который произволом одного самодура лишен воды.
— А ведь можно обучить господ Пантелеевых правилам правописания... и вообще всем правилам человеческого поведения... — продолжал Константин, посмеиваясь. — Наверное, для этого потребуется отнять
530
у них мельницы, фабрики, рудники, земли! Что ж, отнимем, и они не смогут сказать «мое» ни о чем из того, что должно принадлежать обществу!
Константин говорил шутливо, веселая ярость была в складке его губ, сверкала в его глазах.
— Социализм? — шепнул Асад; сейчас впервые и еще неуверенно он пробовал произнести это слово как свое собственное.
Константин, продолжая улыбаться, кивнул головой, но глаза его стали серьезны. Он давно приглядывался к этому мальчику.
Константину совсем незачем было бы вести подобные разговоры с своими порт-артурскими друзьями, которых сама жизнь подготовила к пониманию этих простых истин. Но с Асадом нужно было начинать с этого: испытание отзывчивости и совестливости, правдивости и смелости ума.
— Но ведь социализм — это... мечта... утопия... в далеком будущем, — говорил Асад.
— Почему же в далеком будущем? — переспросил Константин. — Если господин Пантелеев одним нажимом кнопки может наш многотысячный город лишить воды, у многих в нашем городе, в особенности у тех, кто живет в Порт-Артуре и Форштадтской слободе и больше всего страдает от его произвола, должна возникнуть мысль дать по шапке господину Пантелееву и ту власть над природой, которую Пантелеев употреблял во зло людям, употребить людям на пользу. Пантелеев лишил людей воды, а мы проведем ее в засушливые районы. Построим могучие электростанции и на сотни верст будем перебрасывать электроэнергию.
— Вот вы как говорите... — сказал Асад взволнованно и удивленно. — Мне о социализме Кокоша кое-что рассказывал, но как-то воздушно, и совсем не верится. А вы — прямо о нашем городе. Невероятно подумать. Социализм — ив богоспасаемом Красно-рецке!
Асад очень волновался. Он прервал речь свою разом, на полуслове, точно захлебнувшись горячим. Константин, не перебивая, задумчиво слушал его.
531
34*
— Вы в пятом году совсем еще, верно, малы были? — спросил он, дослушав мальчика.
— Мал... — виновато вздохнул Асад. — И мы в Арабыни жили, там ничего не было... Хотя — нет! Помню, помню! Наши родичи Дудовы и Батыжевы хотели сапожника какого-то повесить. У нас после ярмарки качели остались на площади, так на этих качелях. Но его казаки выпустили. Ночью. То есть я сам этого не видел, но дома у нас говорили. А качели я видел.
— Ну вот, — сказал Константин. — Даже у вас в Арабыни нашелся бесстрашный передовой человек, революционер. .. Я, кажется, о нем слышал, — его не Семен Иваныч зовут?
— Не знаю... — мотая рукой перед своим лицом, сказал Асад. — Я об этом помню... точно это был сон или сказка..,
— Да, сказка... — сказал Константин. — Мороз, снег — и вдруг точно лед двинулся! Все старое затрещало! Везде, в самых медвежьих углах, везде оказались такие же, как Семен Иваныч, замечательные люди, обнаружились в народе новые силы... Революция потерпела поражение, но ведь она никуда не делась. Она — здесь! Крестьяне-то ведь землю не получили. Ну, а рабочий класс — он стремится к целям еще более грандиозным. Знаете, сколько у нас в городе наемных рабочих?
— Нет. Наверное, мало.
— Да. Не так уж много: четырнадцать тысяч. Но ведь это самая сплоченная и дружная и, конечно, если не самая образованная, но смело скажу—самая разумная часть городского населения. Деповские рабочие, железнодорожники, рабочие мастерских «Мак Кормик» и «Эльворти», рабочие мельниц Пантелеева, рабочие типографий, рабочие мыловаренных и кожевенных заводов, приказчики больших магазинов... Все эти люди достаточно интеллигентны для того, чтобы управлять сложным механизмом или же, как приказчики, иметь, дело с распределением разнообразных продуктов. Думаю, что они смогли бы лучше управлять городом, чем управляют им дикие баре, вроде вашего соотечественника, городского головы князя Астемирова, и купцы-
532
самодуры, вроде Пантелеева... Вы слышали о советах рабочих депутатов в тысяча девятьсот пятом году?
— Да, конечно... Но я не понимал это так, как вы говорите. Значит, это что же — новая власть?
— Зачатки революционной власти, нового, никогда не виданного государства. Ваш директор в одном прав: государство — действительно замечательное изобретение человечества. Но .тайна и мистика нужны вашему директору для того, чтобы скрывать суть того государства эксплуататоров, которому он верой и правдой служит. А наше будущее государство... Вы слышали о Парижской Коммуне?
— Но ведь Парижская Коммуна погибла.
— А мы не погибнем. Как-нибудь я вас. на пантеле-евскую мельницу свожу, поговорите с помольщиками. Там вы увидите и услышите людей из деревни. О них только забывать не нужно, а они поддержат!
Он замолчал, додумывая про себя. Асад не спускал взгляда с его лица. Сильнее, чем слова Константина, убеждало Асада то выражение деятельной и вдохновенной силы, которое все определеннее выступало на лице Константина.
— Вы помните замечательные слова Архимеда о точке опоры? — спросил вдруг Константин.
— Да... — недоумевая, ответил Асад, — это из физики. .. О рычагах...
— Именно — о рычагах... — с усмешкой сказал Константин. — Великий ученый Маркс указал, нам на рычаг и точку опоры, а также и ту силу, которая этот переворот совершит. Как это ни чудесно представить, но ведь именно наше поколение будет свидетелем и участником этого величайшего в истории человечества переворота...
Большая гедеминовокая веранда была пуста. На столе стояла неубранная посуда и самовар чуть-чуть еще насвистывал: видно, недавно кончили пить вечерний чай.
Константин с веранды осторожно заглянул в гостиную, всегда прохладную и в этот близкий к закату час уже полутемную.
533
Два незнакомых ему человека громким шепотом, шипя на всю комнату, о чем-то разговаривали за кругленьким столиком, на котором стояла закуска и водка. Сам же доктор, сидя на маленькой скамеечке для ног (он, словно стыдясь своего высокого роста, любил садиться низко), занят был тем, что, разложив на отслужившем свою службу детском столике части охотничьего ружья, смазывал и чистил их и, видимо, с интересом прислушивался к тому, о чем шипели эти два незнакомых Константину человека. Все это было непонятно и забавно.
Увидев Константина, Евгений Львович улыбнулся обрадованно и застенчиво, отчего его мужественное красноносое лицо приобрело юношески молодое выражение, встал и, вытирая руки тряпкой, в которой нетрудно было узнать детский лифчик, вышел на 'веранду.
— У Ольги Владимировны мигрень? — пояснил Евгений Львович необычную тишину в доме и, не спрашивая, хочет ли Константин, налил ему крепкого красноватого чая.
Константин выпил его залпом. Ему хотелось поговорить с Евгением Львовичем о том, что он вчера видел на суде, и спросить о Талибе. Но, подняв глаза на Евгения Львовича, Константин увидел, что застенчивое смущение все еще не сошло с его лица. «Он что-то сказать мне хочет», — подумал Константин. И доктор, кивнув головой в сторону зала, спросил:
— Ты, конечно, помнишь, Костя, я рассказывал тебе о Германе Эммануиловиче Безаке? Так вот: он приехал и сидит там. — И доктор благоговейно глазами показал на гостиную.
Константин знал, что «Мануйлыч» (так вся семья Гедеминовых называла Безака) был первым социал-демократом, появившимся в городе. Издавна он работал бухгалтером в конторе Пантелеева, с 1903 года примкнул к большевикам.
Всю революцию Безак провел в Краснорецке, наладил здесь нелегальную типографию. Последний раз его арестовали в 1909 году: тогда, вернувшись после предыдущего ареста, он в трудных условиях реакции установил здесь подпольную организацию; сформиро
534
вал комитет. Но тут опять последовал провал, и Мануй-лыч был выслан.
Отправляясь в Кр.аснорецк, Константин был осведомлен о том, что работал на Северном Кавказе такой большевик Герман Безак. Правда, он не был указан Константину из партийного центра, но, наверное, только потому, что об аресте его и высылке в Восточную Сибирь было уже известно.
— Едва мы увиделись, Мануйлыч сразу же спросил, есть ли в городе люди, сочувствующие большевикам. И я назвал ему тебя, — значительно и нежно сказал доктор, глядя на Константина, который сразу насторожился.
— Спасибо, — насмешливо ответил Константин. — Но следовало бы все-таки спросить меня...
— Извини. Но я думал... — растерянно и удивленно начал доктор.
Но Константин махнул рукой.
— Ав общем пустяки. Кто еще там у вас?
— Приятель мой... ветеринар Отроков, — говорил Евгений Львович. Извиняющийся тон его голоса ясно относился к предыдущему.
«А ведь он не виноват, — думал Константин. — Если бы он знал обо мне все, он, конечно, слова бы никому не сказал...»
Они вернулись в гостиную. Смело и пытливо взглянув на Константина молодыми, табачного цвета глазами, Безак крепко пожал его руку. Это был смуглый, начинающий полнеть, плотный и седой старик в добротном, но несколько поношенном костюме. Фамилия его собеседника была Отроков, и Константин сразу узнал в нем того посетителя конторы Поспешинского, который кричал о сере.
Отроков, маленький, с подстриженной русой бородкой и редкими, вставшими дыбом тонкими русыми волосами, был сильно пьян. Чесучовый костюм его был измят, покрыт пятнами. Лицо его багровело, руки были горячи, речь -бессвязна. Стараясь не забывать о том, что хозяйка больна и что кричать нельзя, Отроков, вращая своими большими синими глазами, отчаянно шипел:
535
— А вы не можете его знать, Герман Эммануилович. Эта птичка залетела к нам прошлым годом осенью... Гинцбург — зовут его. Пусть он проклят будет, этот змей-искуситель, как равно и Сахар Медович Поспешинский, ангел его. И ведь только сейчас я соображаю, что как только меня этот сладенький господинчик вызвал из Арабыни, так тут же из Петербурга появился сам господин Мефистофель-Гинцбург... А будто бы случайно: он, видите ли, проездом в Арабынь, со своим Фаустом... то бишь Темирканом Баты-жевым. То есть я объяснил вам, что и я тоже Фауст, но тот Фауст номер один, а я Фауст номер два, вообще.., самый мелкотравчатый из всех Фаустов.
Едем в ресторан — тыр-мыр, рында-тында, Поспешинский заявляет, что купил бы у меня мою заявку... Черт с ней, я'готов продать: ведь для того, чтобы наладить промышленную добычу, нужно капитал иметь,— откуда он? У меня? «Сколько вы мне дадите?» — «Две тысячи!» Я чувствую, что мало. Но Рувим Абрамович кивает головой, а я ему доверял, как себе... До-ве-ряй! Время прошедшее! Подчеркиваю! — шипит Отроков и подчеркивает указательным пальцем в воздухе.
— Дальше все идет как в феерии, — честное слово! Меня везут к губернскому духу недр, к горному инженеру. .. Ч-чик — и моя заявка закреплена за мной, ч-чик-к — мы в конторе этого паточного прохвоста Поспешинского. Ч-чик — я подписываю какую-то орленую бумагу и получаю ч-ч-ек! Ч-чародейство? Теперь, значит, мы опять едем вспрыснуть сделку на Островок... Едем, выпиваем и — тьфу! Я целуюсь с Поспешинским, месяц чай пить без сахара м-можно, и — тьфу! тьфу! тьфу! — ц-целуюсь с Гинцбургом... Вдруг мне приходит в голову ч-чудесная идея... то есть, как выяснилось, это вздор, но она казалась мне ч-чудесной, — и она, как вы сейчас увидите, сыграла свою роль — вроде п-рротрезвляющего... Я ведь хотя и пр-родал свою серу, а у меня с-свербит, с-свербит. И я г-говорю: «Друзья! — ёй-богу, так и сказал — д-р-рузья! — Я, конечно, ди-диплома не имею. Н-но я ведь все п-понимаю! Наймите меня — я налажу промышленную добычу, я м-мечтаю: цепная дорога наверх под облака и прочие
536
фантазии...» Они ч-чего-то смеются, п-перегляды-ваются. Я т-тогда п-прошу: «Милые друзья мои, ч-черт с вами, не нанимайте! Я Д-даром б-буду р-работать.. .>> И вдруг Гинцбург перестал катать шарики из хлеба и сказал: «Вот что, господин Отроков! Я хочу предупредить всякие дальнейшие разговоры на эту тему. Промышленной добычи на проданных вами участках не будет, может быть, пять лет, а может, и десять... Но вы должны понять, что вас это больше не касается, потому что участки эти вам уже не п-принадлежат». — «Но позвольте, Рувим Абрамович. Я пьян, но понимаю, что сера мне не п-принадлежит. Однако я ее нашел, и я ею интересоваться по г-г-гроб жизни буду! И если вы н-нашли меня п-по французскому журналу для р-ради этой серы, то неужели з-затем, чтоб к-купить у меня и з-замарриновать?» Но т-тут они оба с-с-смеются, и По-спешинский лезет ко мне ц-целоваться и п-плачет с-са-харными слезами, говорит, что сам был такой же идеалист, как я... А Рувим Абрамович тем временем зовет официанта, платит по счету и хочет уйти. Тут-то я и замахнулся вазой с фруктами, после чего меня под локотки — и с Островка н-на сушу. И я з-запил — второй раз в жизни. П-первый раз запил, когда ж-жена сбежала. И з-запил. Тогда от недоумения. И сейчас исключительно от недоумения. Ничего не могу понять. Находясь в полной растерянности, разбиваю окно в конторе Поспешинского. Меня волокут в участок, обирают до нитки, и вот, Женька, я у тебя! — сказал он, обращаясь к Гедеминову. — Люди добрые, объясните мне это наваждение! Герман Эммануилович, вы, как будущий президент Краснорецкой республики, скажите, что это все должно означать?
— А где у вас та бумага, которую вы подписали при совершении сделки? — спросил Герман Эммануилович.
Оказалось, что Отроков в запальчивом гневе изодрал ее.
— Но там везде обозначен был В. В. Поспешин-ский...
— Что Поспешинский? — задумчиво выговорил Герман Эммануилович. — Поспешинский, очевидно, креа
537
тура Гинцбурга... А Гинцбург — он тоже... конечно, можно только догадываться... Но, может быть, и он не знал, когда искал вас и вашу серу, что будут делать с вашей серой люди, поручившие ему поиски... Гинцбург — это щупалец! — с удовольствием сказал Герман Эммануилович, и своей смуглой рукой, отставив и загнув длинный большой палец, он очень похоже и противно изобразил движение щупальца и быстро взглянул на Константина, который с трудом удержался от согласного одобрительного кивка, хотя и сам не знал, зачем удержался: может -быть потому, что взгляд Безака был слишком быстр и остер.
Но доктор правильно говорил: Герман Безак — образованный человек, настоящий марксист, и соображения, высказанные им, упрямо шли навстречу некоторым догадкам самого Константина.
«Гинцбург? Наверно, тот самый столичный господин и есть щупалец из-за границы сюда, к кавказской сере, к веселореченской шерсти», — думал Константин, слушая Мануйлыча, который объяснял Отрокову, что крупные капиталистические фирмы иногда скупают конкурирующие с ними предприятия и их закрывают, чтоб монопольно владеть рынком страны и, устранив конкурентов, устанавливать свои цены и снимать сверхприбыль.
— Можно не сомневаться, что так обстоит с ввозом серы в Россию, — сказал Герман Эммануилович и снова быстро взглянул на Константина.
«Все правильно говоришь, но зачем так в глаза мне лезешь?» — подумал Константин.
Вдруг строй этих мыслей разом оборвался. На пороге полутемной и прохладной гостиной, со спины освещенная яркой весенней зеленью сада, стояла Люда Гедеминова. Долгим, внимательно-спокойным взглядом серых глаз ока оглядела всех, точно всех хотела запомнить. Но Константин знал, что она всегда так глядела, — этот взгляд и был для него исполнен очарования.
Выражение внимательного спокойствия, глубины непотревоженной и даже себя не сознающей было во всем ее существе, в круглых темнорусых бровях, в очер
538
тании ее лба, светлого, похожего на отцовский, даже в складе ее полных губ, — впрочем, здесь еще присутствовала и шаловливость.
Нетрудно было заметить, что у Люды, при высоком росте и красивом сложении, руки и ноги несколько велики и тяжелы: она походила на толстолапого щенка, и в округлости ее носа была эта же наивно-щенячья толстоватость. Но Константину она казалась совершенством.
Она была в простом пестреньком платье; ее полные и сильные руки были открыты выше локтей; толстая русая коса лежала на груди, на кружевном платочке.
Люду сопровождал тоненький и стройный, показавшийся ревнивому взгляду Константина очень красивым и презрительным, горец в белой черкеске. Константин сразу догадался, что это был Талиб Керкетов, и ревниво подумал, что этот человек, очевидно, близок с Людой: войдя в комнату, они вместе отошли в сторону, к роялю. Впрочем, кроме Константина, никто не наблюдал за ними.
Общее внимание сразу же привлек Людин брат, Ко-коша, который пришел с сестрой и Талибом. Чертами лица, мелкими и приятно-миловидными, ростом и даже сложением, мелким и слабым, Кокоша был похож на мать (наоборот, Люда, высокого роста, с большими ногами и руками, походила на отца). Взгляд Кокошиных синих глаз был переменчив и быстр, легко скользил по всему. Новенькая университетская фуражка с полями, щегольски пригнутыми, новенькая, поверх белой косоворотки накинутая на плечи тужурка с блестящими пуговицами — все в нем блистало щегольством и новизной. В руках его был громадный букетище сирени; в ее лиловатости был молочный оттенок.
Взвалив цветущие ветви на круглый столик, который весь скрылся под цветами и зеленью, Кокоша положил руку на цветы и громко возгласил:
— «Мороженое из сирени! Мороженое из сирени! Полпорции — десять копеек, четыре копейки — буше! Сударышни, судари, надо ль? Не дорого... можно без прений... Поешь деликатного, площадь! Придется товар по душе!»
539
— Что это еще за ерунда? — недоуменно и несколько сердито спросил доктор среди смеха и изумленных восклицаний.
— Это не ерунда, фатерхен! — живо ответил Коко-ша. — Это последний крик современной поэзии — Игорь Северянин!
— Именно — крик! — покачивая головой, сказал доктор.
— Ах, фатерхен, я знаю, ты все никак не можешь расстаться с Чеховым, — ласково, но с оттенком снисходительности начал Кокоша.
Люда, которая у рояля сидела на стуле-вертушке, услыхав эти слова, движением тела повернула вертушку и оказалась лицом к брату.
— С Чеховым расстаться? — удивленно спросила она.
— Людок, Людок... — ответил Кокоша, подходя к сестре. — Ты молода, ты прекрасна, и ты должна понять, что мы «живы новым и мгновенным! Наш избалованный каприз — быть молодым и вдохновенным, и что ни слово, то сюрприз! Не терпим мы дешевых копий и примелькавшихся тонов и потрясающих утопий мы ждем, как розовых слонов!»
— Ну, конечно! — вознегодовал доктор и даже встал со своей скамеечки. — У Чехова нет розовых слонов. Но у него есть правда — серьезная, пожалуй даже страшная. м Аты и подобные тебе пустейшие личности стараетесь задурить общество и правду из душевного обихода людей выкинуть...
Константин впервые видел Гедеминова в таком раздражении. И из-за разговора о литературе. <. Но разговор, конечно, шел не о литературе.
Кокоша от слов отца весь вдруг вспыхнул нежным румянцем.
— В том, что ты декламировал только что, нет никакого смысла, — продолжал доктор.
— Нет смысла? — разгорячаясь, переспросил Кокоша. — Ну, а вот я сейчас прочту, в этом, вы скажете, тоже нет смысла? — воинственно обратился он ко всем, поднял руку, требуя внимания, и громко прочел: «Пора
540
популярить изыски, утончиться вкусам народа, на улицу специи кухонь, огимнив экоцесс в виреле...»
— Может, ты и объяснишь это как-нибудь, — со смешком, успокаиваясь и снова садясь на скамеечку, сказал Евгений Львович. — Но мне кажется это бессмыслицей. ..
— Я объясню! — зловеще ответил Кокоша. >— Я вижу в этих строчках сродство футуризма с передовыми идеями века, с демократией и социализмом! ..
— Кто только не говорит сейчас о социализме и кто только не лезет к нам в родственники!.. — вдруг среди шума сказал Безак на ухо Константину.
Константин вздрогнул и обернулся.
«Я верно сказал?» — весело и уверенно спрашивали глаза Безака.
И, ответив ему непонимающе-удивленным взглядом, Константин отошел от него. Но так как, следя за общим разговором, Константин не забывал о Талибе и Люде, он перешел в такое место, откуда они лучше были ему видны.
«Да, уж доктор, видно, постарался, нахвалил ему меня», — думал Константин о Безаке.
У него вдруг мелькнуло соображение, что он не имеет права привлекать Безака в организацию, пока не получит о нем сведений из партийного центра, и обрадовался этому соображению.
«Почему я обрадовался?» — с неожиданным испугом спросил он себя и тут же снова подошел к Безаку, который о чем-то говорил с Кокошей.
Встречаясь с чем-либо пугающим и непонятным, Константин всегда поступал так, старался выяснить природу того, что его пугало.
— Это меньшевистская затея... — сказал Герман Эммануилович и стал дотошно объяснять Кокоше сущность разногласий между большевиками и пестрым и аморфным конгломератом антибольшевистских групп «и группочек социал-демократии.
Все суждения Безака были ясны, отчетливы и совершенно правильны. Он упомянул даже о конференции в Праге, о ее решениях, и Константин испугался: вдруг Мануйлыч назовет имена тех, кому новый ЦК
541
поручил руководить всей подпольной работой в России.
Но Мануйлыч не назвал этих имен, может потому, что не знал их. А если бы знал, разве он назвал бы эти имена, которые каждый, кто знает, должен беречь, чтоб нё выдать врагам? ..
«Но испугался-то я ведь не только того, что он эти имена назовет, я испугался того, что он эти имена знает», — подумал Константин.
Сверху сошла выспавшаяся, с отчетливым отпечатком узора наволочки .на пышной щеке, излучающая благодушие Ольга Владимировна, и в доме сразу стало по-обычному шумно.
Появились с полотенцами в руках —они ходили на речку — Альбов и Бесперцев. Альбов, как всегда, покровительственно-ласково кивнул Константину. Смуглый, во влажно блещущих сединах, но чернобровый, в рубашке с открытым воротом, Альбов был, как всегда, эффектен, и нечто достойно-иерейское, как бы тень пышной протопопьей рясы, незримо овевало его. Бесперцев в облепившем его чахлое тельце белом костюме, с влажными рыжеватыми волосками, которые уныло облегали его голову и остроносое лицо, был жалостно и забавно похож на цыпленка, только вылупившегося из яйца и еще не обсохшего.
Поздоровавшись с Константином, Бесперцев тревожно-вопросительно глянул на него: хотя им еще ни разу не пришлось столкнуться в прямой полемике, но он, конечно, знал уже о выступлениях Константина в депо первого мая.
К Альбову навстречу сразу же кинулась Ольга Владимировна, и началось: Восток и Запад, соборность и церковность, Андрей Белый и театр Комиссаржевской, толпа и личность, йог Рамачарака и Толстой. Легко назывались имена величайших ученых, писателей, мыслителей.
Альбов говорил быстро, громко и необыкновенно складно: если за ним записывать, получилась бы готовая статья. Но руки его беспокойно и быстро двигались, бесцельно и яростно трепали бахрому скатерти.
542
Из любой философской системы, являющейся зрелым плодом целой жизни гениального человека, вынимался с кощунственной легкостью ее костяк, философская система сбивалась в студень, смешивалась с системой, прямо ей противоположной, потом это месиво преподносилось в жиденьком и подслащенном виде, — и Ольга Владимировна даже облизывалась и чуть не мурлыкала от удовольствия, словно белая глухая кошка, которую угощают сладким молоком.
Внесли две большие керосиновые лампы, поставили на стол, и то, что было за окнами — неяркая заря, ветви ближних деревьев и дальние лиловые спины холмов, — все пропало в темной синеве... Начинался вечер. Напряженно выделяя голос «Мануйлыча» из того разностройного галдежа, который установился в геде-миновской гостиной, Константин старался вникнуть в каждое слово. «Мануйлыч» говорил правильно, и тем не менее слова его раздражали.
«Ноты верные, а голос не тот», — думал Константин.
И тут в трескотню гедеминовской гостиной спокойной походкой вошла музыка... Люда заиграла, и так прекрасно-естественно было это явление музыки, что Константин непроизвольно встал, подошел к роялю и заглянул в ноты.
«Песня без слов» Чайковского... Но зачем слова, когда ты играешь то, что ты есть для меня?» — думал Константин.
Он близко видел ее лицо во всей его сосредоточенной, освещенной музыкой, прелестной жизни, этот вопросительный, относящийся к нотам взгляд, умные и милые движения бровей. Она играла нетвердо, и благодаря этому недостатку полное ума и чувства толкование темы выступало с живой непосредственностью, что особенно нравилось Константину в ее игре.
Она вдруг взглянула на него своими внимательными глазами, улыбнулась ему, и, как всегда в ее улыбке, в быстром движении ее губ, румяных и полных, в блеске ее молодых зубов, выступила вдруг шаловливость — то, что так привлекало и так страшило его в ней.
543
Поняв вдруг, что он слишком близко подошел и ней и все видят это, Константин смутился и вышел на веранду.
Луна уже взошла и по-своему, не по-дневному осветила все. Константин глядел в сад. Там было совсем темно-, только на клумбах внизу, прямо под верандой, выступали из синевы белые звезды цветов. Это цвел табак, п-Ьлые созвездия табака тихо пахли оттуда.
И казалось, что там же (но Константин знал, что это гораздо ниже) проступали оловянно-блещущие изгибы реки, а прямо над нею, точно стена, вся черная-черная поднималась гора, волнистой верхней линией отделяясь от бледного лунного неба. Там, на отдалении не менее двадцати верст, был зажжен костер: может быть, это пастухи или охотники, а может быть, и бродяги... И они тоже, конечно, видели перед собой отделенные от них целым озером тьмы огни гедеми-новской дачи.
Константин глубоко вдыхал прохладный воздух. Он чувствовал, как музыка уносит и отвеивает копоть и прах, дым, грязь и шелуху утомительного дня, и ему вспомнилось главное из всего того, что- он видел се* годня: великан в цепях, женщина с ребенком — Веселоречье.
Луна продолжала идти по чистому светлому небу, а музыка уже кончилась, и сразу пуста, бездушна и холодно-красива стала эта ночь.
«Над вами светила плывут в вышине, под вами могилы — молчат* и они...» — вспомнил Константин, и, обращаясь не то к тому далекому костру на горе, не то к друзьям своим, молодым порт-артурцам, -не то к сотрясающему цепями богатырю-веселореченцу, он прошептал: «Мужайтесь, боритесь, отважные други! Шагайте без страха по мертвым телам, несите их знамя вперед! Одинока среди холода вселенной искра человечества, но мы, только мы, не дадим ей погаснуть, сбережем и раздуем ее...»
И вдруг он услышал веселую и твердую походку Люды. Она вышла на веранду, и сразу его юношески-чистые и восторженные мысли смолкли: она молча стояла рядом с ним.
544
— Вы обратили внимание на того кавказца, который был со мной? — спросила Люда как раз тогда, когда Константин хотел уже сам заговорить.
— Да. ♦♦ Очень красивый человек, — быстро ответил Константин. — Какой-нибудь князь, наверно?
Люда усмехнулась.
— Князь... Что вы?! Это Талиб Керкетов. Он сын простого крестьянина. Правда, он имеет некоторое образование. А то, что хорошо одет, — это у них полагается: голоден останется, но оденется. Ужасные франты. Он веселореченец...
Люда помолчала, о чем-то раздумывая.
Константин видел нежную линию ее лба, носа, губ, подбородка.
— Сегодня пришла домой — вижу, он с папой разговаривает. Там как-то очень обидели их... всех крестьян веселореченских, — сказала она, повернувшись к Константину. — Он пришел посоветоваться с папой. Папа честный, добрый, вот все и идут к нему со своими бедами. А что он может советовать? Ну посочувствует, денег даст... А тут вообще деньги ни при чем. Здесь, правда, посоветовать нужно-. И вот вдруг увидела, вы пришли. Я обрадовалась и говорю ему — вот кто может посоветовать...
— Позвольте, Люда... Но почему вы решили, что я могу ему посоветовать? .. — сразу насторожившись, спросил Константин. — «Она обрадовалась, она, правда, сказала, что обрадовалась, увидев меня... Но почему вдруг, советоваться ко мне?»
— Почему все-таки? — спрашивал он.
Люда повернула голову и внимательно-долго поглядела на него.
— Да так уж... — протянула она.
— Я знаю: это Евгений Львович...
Люда пожала плечами, отрицательно качнула головой и опять взглянула на него медлительно-долго, ласково, но неодобрительно. А он вдруг успокоился и обрадовался: сейчас он сразу узнал о том, какова она к нему.
Этот вопрос занимал и тревожил его все время — и вот она ответила на этот вопрос. Он не только не перестал чувствовать расстояние между ней и собой. Нет,
35 Ю. Либединский
545
он теперь точно знал это расстояние и твердо сказал себе, что пройдет это расстояние.
— Я даже толком не знаю, что это за веселоречен-цы... — сказал Константин. — Но поговорить — почему же... я не отказываюсь...
Половицы заскрипели, Константин оглянулся: на пороге стоял Безак; на веранде было темно, и после яркого света гостиной он еще ничего не видел. Но» конечно, очень скоро глаза его привыкнут к темноте. ..
— Люда, скажите Керкетову, что я ухожу, пусть он догонит меня возле церкви. А вам спасибо за то, что хорошо думаете обо мне...
И Константин пожал ее горячую руку и бесшумно сошел с веранды прямо в сад.
В тени церковной ограды Константин замедлил шаг и сразу вздрогнул: кто-то положил ему руку на плечо. Это был Талиб. Он давно уже бесшумно шел позади в своих мягких сапожках.
Они пошли рядом — высокий и стройный Талиб в своей белой черкеске с серебром, поблескивающим под луной на поясе и на газырях, и Константин — широкоплечий и крепкий, в черной суконной куртке поверх рубахи с вышитым воротом.
— Людмила Евгеньевна указала мне на вас как на человека, с которым можно посоветоваться по одному важному делу, — сказал Талиб.
— Я очень удивился тому, что Людмила Евгеньевна указала вам меня. Я молод и к властям отношения не имею. Но поговорить? Отчего не поговорить?
— С властями у меня ничего не выходит, — продолжал Талиб, — хватит с меня властей! Мне нужен умный русский человек, чтобы посоветоваться. За вечер вы не сказали десятка слов, а у нас, веселоречен-цев, молчаливость считается первой добродетелью.
Он замолчал, взглянув на Константина, тот кивнул головой, и Талиб продолжал:
— Я издавна друг русских. Мой отец был раб князей Тамбиевых, — русские освободили его. Я в русской
546
школе получил свет просвещения. Мы, Керкетовы, всегда были за дружбу с русскими. Мы, Керкетовы, так говорим: многое еще не ладно в нашем большом государстве. Богатый теснит бедного. Царь благоволит к помещикам. Полиция и чиновники — как сыпь: хоть до крови зуди, не избавишься. Но огонь русской литературы всему миру светит. Мы верим: русские добьются вольности, и богатства, и просвещения, а вместе с русскими будет хорошо также нашему маленькому народу. На это надеемся мы, Керкетовы, и говорим об этом людям. И люди слушают нас и отворачиваются от тех, кто тянет по старой гибельной тропе —в подданство султану турецкому. Но что же на.м делать, если само правительство толкает наш народ от себя и в сторону врагов? — гневно спросил Талиб.
Константин промолчал.
С того времени, как ему в руки попался типографский оттиск «Ведомостей» с сенатским разъяснением, он уже знал о том, что сейчас пространно излагал ему Талиб. Но слушал внимательно: нужно было понять самого Талиба.
— Торги провели потихоньку, — говорил Талиб.— Пакеты расхватали князья, купцы-гуртовщики, кулаки. Никто из крестьян даже и не знал, что эти торги уже состоялись — веселореченцев, знающих грамоту по-русски, можно перечесть по пальцам. Тогда я — прямо сюда, в канцелярию губернатора. Мне опять тычут это сенатское разъяснение. «Но какое же это разъяснение? — сказал я. — Это жульническая отмена рескрипта, а не разъяснение». — «Благоволите выбирать выражения, господин Керкетов», —сказал мне сегодня вице-губернатор, до которого я две недели не мог добраться. «Нет, я не буду выбирать выражения, — отвечаю я, — я хочу, чтобы меня поняли, и буду говорить ясно. Вы меня знаете — я частный ходатай по делам веселореченских крестьян. Когда с крестьян три раза берут одну и ту же подать или, под предлогом поисков мертвого тела, вымогательствуют, или князь отбирает мельницу, оттого что вода его — значит, мельница его, я открываю свод законов, нахожу статью и кричу: «Правосудие!» А вы мне отвечаете: «Благово
35*
547
лите прекратить», или «Оставить без последствия», или «Указать на несвоевременность». А происходит везде одно и то же: власть не исполняет своих законов... Но то совершались беззакония над отдельными людьми; сейчас вы совершаете беззаконие над целым народом. Берегитесь, прольется кровь!» И как только я это сказал, господин Долгоногов своей надушенной рукой зажимает мне рот. «Не надо только' их подстрекать, я все будет тихо», — говорит он. «Нет, — отвечаю я, — вы не знаете наших людей, ваше превосходительство. Они были покорны только потому, что исполнялось обещание, которое давалось нам от имени русского государя». — «Не было обещания русского государя! — говорит мне господин Долгоногов. — Была милость государя, которой вы недостойны». — «Не было обещания? Ладно! Я так и скажу землякам своим: вы слышали от дедов и отцов ваших о том обещании, которое дано было от имени государя? Так знай, Весело-речье, обещания этого не было!» Так я сказал и ушел, — с торжеством сказал Талиб. — Последнее слово, как видите, осталось за мной...
— Подождите-ка, — тревожно перебил Константин. — Вы все это сказали у Долгоногова? Зачем? Ведь вас теперь арестуют.
— Меня? — удивился Талиб. — За что? За то, что я сам пришел к ним и сказал правду им?
— За то, что вы пригрозили сказать эту правду тем людям, которых им нужно обмануть. Вы идете на постоялый двор Арутюнова?
- Да.
— Вас там арестуют. Не ходите туда. Идемте, я вас спрячу.
— Я не буду прятаться, — резко сказал Талиб. — Правда, я поспорил с Долгоноговым, но он ведь знает, что я друг русских.
— О каких русских идет речь? — спросил Константин раздраженно. — Вы о нас, русских, говорите так, точно между наМи нет различия. А вам полезно было бы это различие усвоить.
— Послушайте, господин Бруснев! — сказал Талиб. — Я вижу, вы революционер. Я очень уважаю рус
548
ских революционеров. Но наш народ больше всего нуждается в просвещении. Я чего хочу? Я хочу предупредить восстание. И если власти поймут...
— Власти понимают вас лучше, чем вы их! — сказал Константин. Он вдруг остановился. — Это ваш постоялый двор? — спросил он, показывая на ворота, тускло освещенные керосиновым фонарем; с шеста над самыми воротами висел на веревке пук сена.
— Да, это мой постоялый двор,—сказал Талиб, беря под руку Константина и пытаясь сдвинуть его с места. — Ведь я на лошади, и меня в гостиницу не пускают. Но у меня отдельная комната, войдемте ко мне.
— А кто это стоит там в белом? — спросил Константин, не двигаясь с места.
— Официант из трактира, — ответил Талиб.— Здесь рядом трактир, и я в нем столуюсь.
— Официант, который сверх жалованья получает еще ежемесячно пять рублей из охранки, — сказал Константин. Теперь он тянул за собой Талиба. — Господин Керкетов, идемте, я вас спрячу... Смотрите, он увидел вас и ушел. Сейчас вас арестуют. Хорошо, что они такие дураки и дали себя заметить...
Он тянул Талиба, но тот точно врос в землю, и Константин чувствовал к нему за это злобу и невольно восхищался им.
— Я все-таки не понимаю, — упрямо начал Талиб, но со стороны гостиницу, белея кителем в вечерней синеве, направился к ним жандарм.
Попробовав еще раз сдвинуть Талиба с места и убедившись, что тот застыл в неподвижности, Константин ушел в черную тень забора.
— А где ваш спутник, господин Керкетов?
Талиб молчал. Понимая, что рискует, Константин, прижавшись к забору, ждал ответа.
— Какой спутник? — спросил наконец Талиб. — Я был один. И что вам угодно?
— Пожалуйте со мной... сюда... Прошу сюда, — учтиво сказал жандарм, пропуская Талиба вперед. — Имею распоряжение о задержании вас... Пожалуйте. ..
549
Две белые фигуры — стройный, в своей белой черкеске, безмолвный Талиб впереди и большой жандарм, в своем белом, несколько мешковатом кителе, вежливо приговаривающий что-то, позади — уже скрылись в-воротах постоялого двора.
Константин все еще не <мог уйти отсюда. Он чувствовал, что потерял незаменимое. Оборвалась живая связь с Веселоречьем, нить, которую он столько времени искал.
«Какой упрямый!» — думал Константин.
Но ведь упрямство Талиба в чем-то самом важном было сродни той чистой доверчивости, которая отдала в руки врагов скованного богатыря. Да, эти пастухи не потерпят, чтобы нарушено было обещание, им данное.
И мысль о том, что в любой час могут подняться веселореченцы, вдруг поразила Константина... Мо^кет, сейчас уже поднялись, не догадываясь, что у них есть союзники, и не понимая, стены какой громадной тюрьмы они хотят разрушить.
Заплаканная и разгневанная, рябая женщина с ребенком на руках представилась ему. Теперь оба ее заступника были в тюрьме. Но не останется она без заступника!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава первая
Науруз пешком вошел в Баташеву долину. Снова увидел он ее крутые зеленые стены, испещренные желтыми руслами ручьев. Наступал свежий вечер — время теней, все удлиняющихся, время незаметных чудес и превращений на земле и на небе... В этот час парни, покончив с дневной работой, выходили на главную дорогу, пересекающую весь аул. Родовые поселки в Баташевой долине расположены поодаль от главной дороги, каждый сообщается с ней своею дорогой, — здесь на перекрестках возле каменных оград, которыми окаймлена дорога, и стоят парни, каждая кучка парней у поворота в свой поселок. Они одеты по-зимнему, в барашковых шапках, круглых и расширяющихся кверху, серо-смурых, коричневых и черных. На некоторых — черкески, придающие воинственную нарядность, даже когда они совсем поношены. Долгополые бешметы носят только старики, зато наряду с рубашками, сшитыми из домотканного сукна, появились яркоцветные рубашки из магазинных материй, но скроенные по-горски, с прямым воротом и множеством мелких пуговиц. Девушки пестрыми стайками в галунах и лентах про
551
ходили «по дороге под взглядами парней. Ни приветствий, ни поклонов — только взгляды. Но нетрудно было понять значение этих взглядов в час длинных вечерних теней, в пору просыпающихся ручьев: тут и знакомства, и свидания, и размолвки.
Науруз узнавал многих, но его не узнавал никто. А ведь как только вошел он в Баташеву долину, сразу услышал песню, в которой прославлялось его имя. Звонко пели ее девичьи голоса. Но не походил он, запыленный и усталый, в заплатанной русской рубахе, на того прекрасного молодца в красивой черкеске, которого воспевала песня. И он не опасался, что его узнают, тем более, что пели о нем как о погибшем — оплакивали его-. Труднее всего приходилось при встречах со стариками и со старухами. Они непременно окликали его:
— Эй, чужой! Эй, русский! В гости к нам иди.
Науруз благодарил и отказывался, а его все-таки пытались остановить, узнать новости.
— Новостей не знаю...
И он проходил опустив голову, слушая ворчливые нарекания стариков, которые называли его то шепелявым, то заикой, то -невежей, то дурнем.
К дому Верхних Баташевых Науруз поднялся тогда, когда серебряная подковка новорожденного месяца выступила в небе среди мерцающих звезд. Одновременно с тем, как он различил над собой темные очертания дома Верхних Баташевых, он услышал голос Нафисат, звучавший среди безмолвия ночной долины, над темным лесом, над тускло переливающимися в темноте ручьями.
«Вытку я звезды и месяц на покрывале, вытку золотом и серебром, натяну над тобой покрывало, чтоб ночью и днем лежал ты на ложе моем».
Его сердце билось тяжело и сильно. Он шел в гору, а тут еще ©тот голос, как весенний призыв молодой оленихи. Ведь он знал: это его призывала песня... Задыхаясь и боязливо оглядываясь (ему казалось, что биение его сердца раздается по всей долине), поднялся он к самому дому. Нафисат пела на кровле, он бы поднялся туда. Но одна ли она там?
552
«И когда бы ни проснулся ты, я скажу: милый, это ночь еще, видишь — звезды и месяц, и так далеко до утренней звезды».
Мать окликнула ее из дома, Нафисат замолчала. Науруз знал здесь каждый камень, каждую ступеньку. Он знал, где Нафисат сойдет с кровли. Он быстро опустился <в густую синюю тень нарубленных и сложенных у стены дров. Нафисат не шла, и мать еще раз окликнула ее.
— Иду, иду, — строптиво ответила Нафисат.
Он услышал ее досадливый вздох, легкий шелест ее шагов и одновременно увидел над собой очертания ее фигуры.
Он прошептал ее имя. Вздрогнув, она быстро склонилась к нему. Как изменилась она за эту зиму, какая тяжелая, страстная сила появилась у нее в лице! Ведь только прошлой весной принесла ему девочка свою белую овечку!.. Сейчас он узнавал в ее лице, в блеске глаз, в движениях губ то же, что слышал в песне.
— Пришел? — спросила она радостно, но радость эта походила на угрозу. —• Авжуко нашел тебя? Значит, ты все знаешь? Жди меня. Я сегодня ночью выйду к тебе. Все это время я не сходила с кровли, ждала тебя. Меня просватали, но я не хочу, кроме тебя, никого. Дом мой будет там, где будешь ты.
Ни времени, ни места не назначали веселореченцы для поединков. Вызов передавался через людей. Вызвавший нападал, вызванный или защищался, или пытался примириться, иногда нападал сам.
И потому, когда Хусейну передали о том, что брат Кемал вызвал его на поединок, Хусейн усмехнулся и сказал:
— Он хочет сыграть со мной в догонялки? Ладно, пусть догоняет, — будет бегать до желтой седины.
И он продолжал появляться в ауле, всегда окруженный молодежью, которая признавала его первенство. Узнав, что младший брат в ауле, Кемал отправлялся его искать.
553
— Только-только был, а где, не знаем, — лукаво отвечал ему каждый встречный.
Этой игрой, которая при первой оплошности Хусейна могла обернуться кровавой смертью, забавлялось все Веселоречье.
Кемал бесновался. Он угадывал вокруг себя заговор. Стоило ему начать начищать сапоги, как тут же Азрет, младший из детей Хуреймат, или кто-либо, из многочисленных внуков ее потихоньку бежал в аул, и если Хусейн был в ауле, он уходил или его прятали. Нафисат вместе со всей семьей осуждала Хусейна, но свою привязанность к нему сохранила. Она знала все те места, где Хусейн скрывался, и сама или через Азрета снабжала его одеждой и едой.
Хусейн всегда был в почете у молодежи аула, сейчас же все парни искали его дружбы и завидовали ему, все девушки были в него влюблены. Сверстник и друг его, мечтательный Бетал Данилов, батрак Хаджи-Даута, сложил песню, прославлявшую Хусейна. В торжестве и славе был Хусейн, но так же, как Науруз, слушая песню о себе, не узнавал он в ней себя. Ночи дрожать у костра, спать украдкой, просыпаясь от воя волков... Хусейн был избалован, и нелегко ему было лишиться материнской нежной заботы. Никому не открывал он, что тоскует по матери.
Девушки, восхваляя его доблесть, воспевали вольность, счастливую и недосягаемую.
«Нет, я несчастлив. Но лучше волком буду скитаться вокруг аула, нежели, подобно отцу, окостенев в безумии, всю жизнь бесплодно ворочать камки», — думал Хусейн.
У всех на виду была его игра с Кемалом, и никто не знал о более глубоком побуждении, толкнувшем его на путь абречества, — он ненавидел жизненный путь отца своего, страшился этого пути и не хотел повторить его.
Хусейн удивился и обрадовался, когда сестра сообщила ему, что Науруз жив. Она все время знала об этом? Да, знала. Но и Хусейн, тоскуя о доме, о матери, не сказал о своей тоске... Мужественны и тверды духом были дети Хуреймат и Исмаила, и каждый про себя хранил свои печали и заботы.
554
Как это условлено было через Нафисат, Науруз этой же ночью поджидал Хусейна на тропе, которая вела от аула и Верхним Баташевым. Был бессонный туманный полусвет молодой луны, в этом полусвете всегда видишь меньше, чем кажется, и встреча для обоих вышла неожиданной. Науруз сидел на камне в сторонке от тропы. Хусейн подымался вверх, от черных строений аула, уже погасившего огни, — и они вдруг увидели друг друга.
— О-о-о, Науруз! —с волнением воскликнул Хусейн, и тут же спохватился, ведь сам он такой же удалец и абрек, как Науруз, и не подобало ему преклонение перед Наурузом. — Селям, Науруз, селям, — скат-зал он, выражая тем, как он сказал это арабское слово, оттенок покровительства.
Науруз встал, крепко обнял его и три раза поцеловал. Так водилось у русских, но Науруз это сделал легко, просто, точно иначе и быть не могло.
Хусейн резко рванулся из объятий Науруза, поправил шапку и обдернул черкеску. Взъерошенный и недовольный, был он похож на молодого, отряхивающегося орленка, на хищного и задорного, но слабого еще птенца. С того времени, как Науруз его не видел, смуглота на лице Хусейна стала гуще, молодые усы резче оттеняли склад губ, невеселый и твердый. Наурузу казалось, что Хусейн стал ниже ростом, — это потому, что сам Науруз за это время вырос. Да и Хусейн заметил, что товарищ детства сильно перерос его, и это его злило.
— Вот, брат милый, какие дела-заботы, — протяжно сказал Науруз.
— Какие еще заботы? — насмешливо спросил Хусейн. — Будем жить вдвоем в лесу, козлик рогатый будет бить нам волков, и мы будем наслаждаться волчьим мясом.
Науруз поглядел на Хусейна, который сидел развалясь и играл серебряной пряжкой своего пояска, — в том, как он сидел, так же как и в словах его, была заносчивая небрежность, которая Наурузу показалась детской.
555
«Притворяется», — подумал Науруз.
Совсем не до притворства и не до игры было Наурузу, и он спросил:
— Ты знаешь, что князь приехал сватать твою сестру за сына арабыньского муллы?
— Старые новости, — небрежно ответил Хусейн.
— А о том, что сестра твоя не хочет выходить замуж за сына муфтия, — ты об этом тоже знаешь?
— Женщину берет тот, кто сильнее, — сказал Хусейн, продолжая свою игру. — Хочешь жениться на сестре моей? Убьем князя, выкрадем сестру, а потом я стану посредником между тобой и родителями. После похищения большого калыма не возьмут с тебя — помирятся. ..
Науруз молчал очень долго, так долго, что Хусейн должен был взглянуть на него. Покачивая своей большой головой, Науруз глядел перед собой на темный аул. Хусейн вдруг подумал, что Науруз стал похож на русского — не только тем, что на нем была рубашка, сшитая на косой ворот, но и еще чем-то; может быть, тем, что при встрече поцеловал его, может тем, как сидит он сейчас, покачивая. головой, — плечи опущены, все большое тело точно обмякло, но какая спокойная и большая сила в его раздумьи... Подавляя невольное уважение к Наурузу и досадуя на себя, Хусейн вдруг грубо спросил:
— Значит, ты не хочешь мстить Батыжеву? Или забыл побои, полученные на дворе у них?
Науруз удивленно и вопросительно взглянул на Хусейна, так поглядел, что тот со стыдом замолчал.
— Я как раз слова отца моего вспомнил, — сказал Науруз. — Учил меня: умей беречь ненависть. Сбереженная ненависть силу дает. Она — как патрон в газыре. Не пришло время мести — он спокойно лежит, время пришло — вынь, заряди, истрать. Нельзя сейчас убивать нам Батыжева, — он гость вашей семьи. Убить его — семье обиду нанести.
— А что мне до семьи, до аула? — ответил Хусейн.
Его красивая маленькая голова была заносчиво вскинута, рука продолжала играть пряжкой пояса. Науруз с любопытством оглядел его и усмехнулся.
556
Сестра твоя говорит, в абреки ты хочешь идти? — спросил он.
— Абрек — судья между богатым и бедным, — тихо пропел Хусейн.
— Старая песня, — ответил Науруз, посмеиваясь.— Я ее знаю — она про тезку моего знаменитого, Науруза Данилова, сложена. — И он продолжал песню Хусейна: — Абрека ловят по ущельям, а он, одевшись офицером, угощает мамзелей в Пятигорске.
И вдруг, оборвав веселую песню и отплюнувшись, точно горечь попала ему в рот, Науруз встал во весь рост.
— Да, били меня на дворе у Батыжевых. Но я помню отца моего слова: «Обидели тебя, человек? Положи руку на раны народа. Что обида твоя перед обидой народа?» Или ты не знаешь, брат, о том, что они посягнули на наши пастбища?
— Был хабар, — ответил Хусейн.
— Клятвопреступники, — с силой произнес Науруз. — Нам с ними судиться не у кого. Мы их сами судить будем, все Веселоречье встанет их судить.
— Сам боишься суд совершать?
— Ты все дразнишь меня? — со смешком спросил Науруз.
Он сидел молча, покачивая головой, казавшейся особенно большой при свете луны.
— Слышал я от отца... Придет время — весь народ подымется на князей, как при Тхамали... Так, может, оно пришло, это время?
Науруз сказал эти слова шепотом и вопросительно.
Хусейн молчал; он попрежнему играл блестящей пряжкой своего пояса, но сейчас эта игра выражала не заносчивость, а раздумье, и на его молодом и смелом лице было то выражение, которое бывает, когда прислушиваешься к тому, что происходит у тебя в душе.
— А насчет сестры твоей, — просительно и робко сказал Науруз, — я попрошу еще помощи твоей.
— Душу я для тебя не пожалею, друг! — горячо от* ветил Хусейн.
На зеленом лужке у самой реки Веселой стоял почерневший бревенчатый домик. Крыша вся заросла малиной, и потому домик вместе с временем года менял свою окраску, зеленую на белую, белую на коричневую. Говорили, что еще беглый солдат Данила поставил себе этот домик. Весною дед Магмот Данилов, как только становилось теплее, перебирался сюда из своего дома, -где ему всегда казалось душно... Здесь, возле речки, и нашла его Нафисат.
Старик был рассержен. Он ругал внука своего, который с вечера недостаточно крепко запер козий загон. Козы опрокинули ночью плетеный забор и разбежались. На ловлю их по огородам, лужайкам, ущельям и скалам ушли целые сутки, и собрали еще не всех. Сейчас они резко и требовательно блеяли, как бы намекая, что уже настало время их пасти. Они становились на задние ноги и, опираясь передними на плетень, вьь оовывали свои проказливые бородатые, рогатые морды.
— Что же будешь делать? — яростно спрашивал дед у внука. — Или пасти этих, или искать тех, которых не нашли?
Внук, босой тоненький мальчишка, русый, как большинство Даниловых, не отвечал и глядел на небо, следя за ласточками, летавшими сегодня необычно высоко. Он бы давно сбежал, но дед, сидевший на земле, держал в руках полу его рваного бешмета.
— А все почему? Потому что благочестия нет. Не молишься, — упрекал он внука. — Разве можно коз пасти без молитвы? Козы — это чертово отродье, это дьявола образ. Бо-г создал человека по образу и подобию своему, сатана позавидовал и создал по образу и подобию своему козу! Вот!
Дед сказал и разом засмеялся, — он выдумал эту басню здесь же, всердцах, но сам рассмешил себя, захохотал, подобрел и -приветливо обратился к Нафисат, которая стояла поодаль.
— Здравствуй, красивая. Видишь, беда какая... Нет уж, никогда мне такого подпаска не иметь, каким был Науруз, сын Керима. Э-э-эх, никогда...
Дед помотал головой, махнул рукой.
558
—- А какой разумный был. Ведь когда отца его, Керима, убили, Науруз под конским брюхом мог пройти не сгибаясь, а сумел уже до этого научиться у отца врачеванию. Напасть у нас была — скот зачервивел. А он еще с осени составил мазь из белены, смажешь два раза — пропадает червь, скот поправляется. Вот был пастух, а ведь младше тебя... — назидательно сказал он внуку, который в нетерпении перебирал босыми ногами, но дед продолжал держать его за полу.— И зачем только аллаху такой пастух? Скота у него пасти некому, что ли? — говорил дед, жалобно поглядывая на Нафисат: ведь это она сообщила ему о гибели Науруза.
— Я пришла сейчас от Науруза... — тихо, но раздельно сказала Нафисат.
— Что? — спросил дед. Он выпустил внука, и тот мгновенно унесся, точно наполненный ветром. — Но ты же сама...
— Я. тогда обманула тебя, — ответила Нафисат. — Я спрятала его и обманула тебя.
— Зачем надо было меня обманывать?—оскорбленно сказал дед. — Или у меня женский язык?
— Но у меня язык не женский, — твердо сказала Нафисат.
Дед взглянул на нее. Спокойно стояла она перед ним, с неподвижным лицом и опущенными глазами. И дед одобрительно кивнул головой.
— Не напрасно благочестивый Керим всегда учил Науруза держаться Верхних Баташевых. Строгие вы на язык люди. Рассказывай.
Нафисат рассказала все, начиная с охоты. Сначала старик слушал не перебивая, с жадным любопытством ребенка, но потом все более озабоченным становилось его лицо. Он только усмехнулся, представив, как занятно вышло у него с Темирканом: сам не знал, а как ловко обманул. Но ведь Батыжев должен был предполагать, что его обманули нарочно. «Как же коварна Батыжева порода», — подумал Магмот, вспомнив о недавнем своем разговоре с Темирканом, когда тот вызвал его к Верхним Баташевым и был с ним так ласков.
559
Совсем по-иному .вспоминал он весь ход разговора, — сейчас видно было, что каждое слово Темиркана, каждый вздох, каждый взгляд — все было нарочито, все наполнено хитростью и коварством.
«Нет, не для сватовства приехал в аул Темиркан, — думал Магмот. — Но ведь он внук старого Алегико — неужели решится он нарушить клятву деда?» И вдруг Магмот вздрогнул: точно въявь голос Наурузова отца отчетливо повторил то, что сказал он о Батыжевых: «Оборотни». Да, так сказал он, и вот его нет. Но река попрежнему рокочет о нем, и под ярким солнцем стоит девушка в красной одежде, голос у нее звонкий и гневный.
С того времени, как князь разрешил бедным людям выгонять свои стада на княжеские участки, дед Магмот успокоился. И только сейчас, слушая Нафисат, он впервые взглянул в лицо тому, что произошло с пастбищами. Старый вековой порядок кончился, наступал новый порядок, и кощунством представился ему этот порядок: все равно, если бы богачи и знатные разбили на участки и разобрали в аренду солнечный свет и воздух. Разве не была земля пастбищ благом таким же всеобщим, как солнечный свет и воздух? Нет, не свершится это кощунственное нарушение мирового порядка, справедливости и правды. Магмот подумал вдруг о том, что сегодня ночью в аул прислали отряд стражников. Раньше он объяснял их появление тем, что хотят ловить Хусейна, но и тогда подивился — зачем столько народу, чтоб поймать одного, правда, отчаянного мальчишку.
— Да, здесь много о чем нужно думать, — сказал Магмот. — А где Науруз сейчас?
— В лесу, вместе с моим братом Хусейном прячется.
— Брату твоему надлежит прятаться, он украл коня у брата, нарушил старый' адат. Но с чего же сыну Керима прятаться? Коня он угнал у врага, который покушался на его молодую жизнь. По адату, этот конь принадлежит ему. Пусть Науруз возьмет своего коня из батыжевских табунов и, как подобает богатырю, открыто въедет в аул.
560
И через три дня Науруз верхом на том же золоти* стом, как солнце, маленьком коне, который унес его уже раз от гибели, въехал в Старый аул. Коня пригнал Наурузу Хусейн. И черкеска на нем была та же светдоко-ричневая, точно в масть коня, которую Элдар^ сын Мусы Баташева, обещал в свое время Наурузу. Нафисат попросила племянника, и Элдар, обрадовавшись тому, что Науруз жив, легко осилил свою скупость, правда, оговорился все-таки, что дает Наурузу черкеску опять-таки лишь на время, пока у того нет своей.
Придерживая своего резвого коня, Науруз медленно ехал по главной дороге аула, и кто ни встречал его, тот ахал, и весть о возвращении Керимова сына пролетела по аулу. Так он второй раз совершил возвращение на родину.
Науруз направился к тому самому дому деда Маг-мота, где прошло его детство: с лошади видел он черные огороды и зеленые, во время наводнений затопляемые водой низкие луговины; дальше, вся во влажном сверкании, блестевшая голубизной и белою пеной, звеня, бежала Веселая. Маленькая остроносая и румяная бабушка Зейнаб, видевшая, как он подъехал, открыла ему ворота.
— Тебе, молодец, хозяина нашего нужно? Слезай с с коня, умойся — гости! Он скоро приедет! — тараторила старушка, кланяясь и как будто не узнавая Науруза.
Лошадь, звеня по каменистому грунту, вошла на чистый, родной Наурузу двор Даниловых. Быстро закрыв ворота, старуха вдруг припала к ноге Науруза и заголосила:
— Я сразу узнала тебя, чудом спасенный! Ведь мы молились за тебя как за мертвого — пусть во здравие будут тебе наши молитвы!
— А разве дед ничего не сказал тебе?
— Старый козел! — гневно воскликнула старуха, переставая причитать. — Знал — и ничего не сказал? Тайну мне не доверил...
Старуха схватила стремя и снизу взглянула своими сверкающими после слез глазами, темнокарими, в красной сетке жилок.
36 Ю< Либединский
561
— Честь нашему дому, что ты выбрал нас, сын Керимов! — воскликнула она, как бы забывая, что перед ней тот самый мальчик, которого она в детстве и ругала, и ласкала, и лечила, и обшивала, а случалось — дергала за ухо и шлепала.
«Сын Керима», — люди все чаще называли его так, й не напрасно: вместе с возрастом ему самому все чаще приходили на память поступки и слова отца.
Двор заполнился Даниловыми. G веселой робостью, придерживая рвущихся к Наурузу ребят, глядели на него женщины. Ведь они тоже чинили его одежду и подкармливали его, когда он голодал, будучи мута-лимом при мечети. Достойно кланяясь, подходили мужчины. Соскочить и кинуться к ним! Но нет, не этого ждали сейчас от него! Они, знавшие Науруза с детства, глядели на него так, точно видели в первый раз, — на его седле вместе с ним въехала легенда о нем... Медлительно, точно связанный, Науруз стал слезать с коня. Но эта медлительность как раз и придала ему ту величественную осанку, которой от него ждали.
Бабушка Зейнаб выхватила кумган из рук улыбающейся веснушчатой Таужан, с которой Науруз столько раз играл в детстве, — как похорошела она! Старуха сама лила на руки его струю из тонкого горлышка кум-гана, он с наслаждением обмылся ледяной водой Веселой реки и ахнул от наслаждения.
— Тяжело приходилось тебе, сынок? — вырвалось вдруг у старухи, и она тут же замолчала, точно кто-то закрыл ей рот ладонью: разве подобало задавать гостю вопросы?.
Окруженный почтительным молчанием всего двора, Науруз умылся, утерся твердым, как кора, наверно залежавшимся в сундуке, вышитым холщовым полотенцем.
В сопровождении старухи и трех старших сыновей деда Магмота, которые были гораздо старше Науруза, волнуясь, перешагнул он порог дома, в котором прошли его самые милые годы детства. Как все дома даниловского поселка, дом деда Магмота представлял из себя грубо сколоченную из бревен русскую избу, — в ней даже сложено было подобие русской печки. Впрочем,
562
печь эту топили редко, готовили в обычном горском очаге. Науруза провели в кунацкую, которая была особенно памятна ему, так как здесь праздновалось окончание трудных лет учения. Комната была убрана по-старинному: узенькие, длинные багряные и зеленые подушечки у стен, пол устлан кошмой, стены завешены материями: тут новые, блестящие, и старенькие, тусклые, — всё синие и желтые краски.
После чашки прохладного, живительного айрана, который Науруз выпил особенно жадно, женщины на треногом столике внесли угощение: облитые острой горячей подливкой холодные куски вяленого туриного мяса. Разрывая эти почти такие же плотные, как кожа, куски своими крепкими зубами, Науруз громко хвалил это мясо, которое считалось целебным, чудодейственно возвращающим силу. Даниловы с гордостью переглядывались: такое угощение предложат не во всяком доме, но у деда Магмота-охотника оно бывало всегда!
На радость и гордость хозяев, Науруз, изрядно проголодавшийся, ел с охотой. Братья угощали, старуха подносила, а когда Науруз ел, кланялась и говорила:
— На здоровье, гость дорогой...
Глаза ее горели, — нестерпимо хотелось приступить к разговору, но она сдерживалась.
В жилах Зейнаб текла кровь заячьих всадников, которые были умны, проказливы и любопытны. Да и ростом бабушка Зейнаб не поднялась выше двенадцатилетней девочки, а родила четырех здоровых парней и семь красивых дочерей. Они со стариком нежно любили друг друга. Друзья, когда хотели посмеяться над ними, говорили, что недаром дед Магмот, проведя целое лето на пастбищах, как только зимою выдавались теплые дни, уходил жить в старый домик солдата Данилы. Но напрасно они говорили так.
— Где хозяин? — спросил Науруз.
— По аулу, наверное, ходит, — обрадованно заговорила старуха. Она только и ждала вопроса. — Сейчас старики наши целый день друг к другу ходят... На пастбищах стражников поставили, позволяют скот выгонять только тем, кто ярлык взял из города. А кто ярлык взял? Только у кого сума тяжелая.
563
36*
Она не успела кончить свою речь. Дверь открылась, и сам дед Магмот, выбритый и причесанный, ввалился в комнату. Усы его за этот год еще посветлели, но маленькие глаза были прежние — как трава, освещенная солнцем, зеленые и сверкающие. Обнимая его, Науруз ощутил легкий запах навоза, — старик, наверное, возился на своем маленьком огороде. Чтобы рассмотреть Науруза, он по своей дальнозоркости отодвинул его на расстояние вытянутых рук.
— Живой, — сказал он, растроганно и нежно оглядывая Науруза своими маленькими, яркими глазками.
— Ты сам позвал меня, вот я и приехал к тебе, — сказал Науруз. — Меня преследуют враги, и прятать меня опасно.
— Я взрастил тебя, — как же мне не дать тебе приюта? И раз ты, не боясь, объявился здесь, где тебя знают, как же можно мне не приютить тебя?
— Я бы дольше скрывался и не стал бы понапрасну играть своей жизнью и жизнью других. Но плохие вести дошли до меня — сердце потянуло на родину. Хочу знать, что случилось в Баташее.
Дед Магмот и сыновья его переглянулись, вздохнули.
— Что же вы молчите, мужчины, говорите, рассказывайте,— не выдержав, с завистью сказала старуха: ей самой хотелось говорить.
Дед помолчал, крякнул, провел руками по усам и мигнул старшему из своих сыновей, чернобровому Каз-булату. Тот почему-то смущенно и рассерженно взглянул на мать и, откашлявшись, сказал:
— Чего ж говорить? Весь аул знает. Мулла в мечети объяснил. Новый царский закон — кто меньше десяти коней имеет или меньше ста овечек, тот будет пасти на лесных полянах. А на пастбища торги установлены; который участок лучше, тот дороже стоит, — положи деньги в пакет, на пакете пиши свою фамилию, денег больше положил — лучший участок получил. Такой закон.
Старик недовольно откашлялся, и старуха, точно ждала этого, сразу прервала сына.
564
— Эх, ты! — сказала она с презрением. — В кого ты только пошел такой толстый и мягкий. (Казбулат не был толст и мягок, а был велик и крепок. Но слова ее относились не к его внешности, а должны были выразить презрение к его душевным качествам.) — Кого слушаешь? Муллу. Сам, небось, собираешься в будущем году на торги?
— Не женское это дело, наша мать, — сказал Казбулат сердито и смущенно.
— Когда петухи молчат, курицы за них кричат, — воинственно сказала маленькая старушка. — Стыжусь порождения своего. Горе мне! Русский царь дал нам обещание? Кто знает? Темиркан знает. Алегико клялся— Темиркану клятву держать. Тихий и ласковый, а половину пастбищ заграбастал. Совиные крылья, кошачья повадка. Спроси-ка у отца нашего, он вое знает. Он молчит, но его не обманешь. — И она взглянула на старика, а тот кивнул головой и тронул большой своей рукой пушистые усы. — Если я Наурузу сейчас говорю — это не я говорю, я знаю — женщине подобает молчание на воинском совете, это старик говорит, — это его мудрость.
Сложив свои большие руки на коленях, дед Магмот с восхищением глядел в быстрый рот своей Зейнаб, который она даже перестала прикрывать рукой, и согласно кивал головой на все, что она говорила. Сам отнюдь не молчаливый, он при старухе своей превращался в молчаливого и восхищенного слушателя.
— И вот еще одно дело, — продолжала она, обращаясь к Наурузу, — с осени идет у нас разговор, что Батыжевы все пастбища наши получат, он тихонько подбирается — Батыжев.
— О! — сказал дед с серьезностью, мигнув Наурузу.
А старуха сыпала неудержимо:
— В прошлом году на эту пору приезжал с Кемалом Верхних Баташевых русский начальник. Хотя это и нехорошо призывать болезнь на человека, тем более на свойственника, но пусть та грыжа, на которой сидит Кемал, совсем задавит его. Так вот, привозит он русского начальника с золотыми пуговицами. Много пуговиц, и на каждой орел. Видно, важный начальник. —
565
И она своим веселым морщинистым лицом так выразительно показала чванливое и въедливо-хитрое лицо приезжего чиновника, что девушки, стоявшие в дверях, громко фыркнули.
— Вот он стал ходить по домам. Кемал знает, куда его вести, к нам не ведет — ведет к Ахуну Данилову, потом к Марею Касокову, к Давлетоковым, которые от Исмаила, выбирает тех из Баташевых, которые побогаче... Я там не была, но я тогда еще сказала старику, нет, это не я, а он мне сказал: подбирается Батыжев к пастбищам. Что ж ты скажешь, неустрашимый Науруз? —спросила она. — Я все время говорю им, хоть они и моя плоть: один только молодец был в ауле — Науруз Керимов, богатыренок, Сын Пастуха.
— Ты, мать, напрасно всех нас с Казбулатом ровняешь. По нему о нас не суди, — сказал, вдруг разгораясь и ярко румянея, младший из Даниловых, сверстник Науруза, русый, синеглазый Бетал; он только пришел и стоял в дверях.
— Как же тебя не срамить, — быстро обернулась к нему мать. — Черномазая девка-колдунья тебя скрутила, связала — ты бегаешь за ней, завываешь любовные песни. Гляди, — старуха маленькой смуглой рукой с гордостью указала на Науруза: — Вот сидит богатырь, и каждый, у кого мужественное сердце, вступит на его путь.
— В других семьях мать удерживает мальчишек, а у нас не как у людей, — проворчал Казбулат и ушел.
Наступило несколько секунд молчания. Старик, все время внимательно и заботливо оглядывавший Науруза, сказал вставая:
— Гостю отдохнуть надо. Ты ведь устал, сынок, а?
— Да, да, — затрещала старуха. — Конечно, он ведь устал, а вы разболтались. Уходите отсюда все.
Здесь же в кунацкой, на полу, на кошме, Наурузу постелили, он лег и заснул спокойно и сладко, как в детстве.
Науруз и двух дней не прожил в доме Магмота, как убедился, что смута, которую он застал в этой семье, охватила уже все семьи, все родовые поселки Старого аула. У Даниловых постоянно бывало много народу —
566
старики приходили к Магмоту, женщины к Зейнаб, у Таужан, младшей незамужней дочки Даниловых, постоянно собирались девушки.
Бетал хотя и работал в батраках у Хаджи-Даута, но к вечеру приходил домой. Хаджи-Даут не любил его песен, и Бетал, взяв сделанный им самим кабуз — инструмент, похожий и на скрипку и на арфу, — кото-рый хранился дома, выходил из двора и садился у ворот, лицом к румяному заходящему солнцу. Поперек тонкостенного ящика, долбленного из чинарового дерева, натянуты были струны. Каждая струна была свита из конских волос, от десяти до двадцати в каждой. Раньше чем начать играть, Бетал долго возился с кабузом, подтягивая струны, настраивал их по своему голосу... И люди, слыша это разностройное и медлительное «а-а-а... о-о-о-...», сопровождаемое слабым звоном настраиваемой струны, шли на этот призыв. Настроив, Бетал утирал рот, который за все время настраивания был чуть открыт, откашливался, вздыхал... Пальцы его начинали бродить по струнам — как будто бы без участия его воли. Он сам прислушивался к звукам, чуть склонив голову, нежно и даже с удивлением, и вдруг запевал... О чем только он не пел!
Раз, проходя по аулу, Бетал встретил торговца еврея. Бетал целый час перебирал содержимое этого •маленького ларька, но, понятно, не купил ничего, — у него не было денег. Торговец послал ему проклятия. Но на струнах кабуза пестрое содержимое ларька сейчас же превратилось в песню: здесь и ленты, и пуговицы, и всякие застежки, искусно сделанные в виде луны и листьев. И торговец не знал, что своей бойкой торговлей в ауле обязан он как раз тому несуразному парню, который целый час простодушно и восхищенно рылся в его ларьке и ничего не купил... Иногда Бетал находил очень странные предметы для песен. Он вдруг жалобно запел от имени коровы белобокой: «В сад с утра я забираюсь, -весеннюю листву я ем, а из-за плетня мои рога торчат..; Беталка светлоглазый меня увидел, сломал о спину палку, полакомиться мне не дал...» Вчера Бетал без жалости выгонял корову из маленького сада Балажан и сломал палку о спину коровы, а
567
сегодня от имени этой коровы составил жалостную песню, проклиная и понося себя же, точно сам превратившись в корову, — недаром муллы сурово преследуют подобных Беталу певцов, приравнивая их к колдунам.
В эти дни, переживая то, что переживал весь аул, Бетал завел новые песни.
— Э-э-э-эх, К-емал, княжеский конюх, бросил язык свой под ноги Темиркану! И ты, Ахун, толстобрюхий Данилов, знаменитого сына отец, а сам несправедливый (Ахун был отцом абрека Науруза Данилова). Да еще Хаджи-Даут жестокосердый, красавицы-смуглошейки отец...
Бетал подробно перечислял, не жалея времени, слов и своей глотки, всех, кто получил ярлыки на пастбищах. Он предостерегал их: недоброе вы затеяли, на народное добро посягнули! Он вызывал дух Алегико Батыжева и от имени его упрекал Темиркана, нарушителя слова, которое было дано его дедом.
— О Темиркан, стопа твоя тихая, кошачья, бродишь ты по аулу, сегодня ты у Пшеноковых, завтра ты у Хасубовых. К добру ли, Темиркан, твое гостевание? — спрашивал Бетал. (Последнее время Темиркан стал часто гостить в родовых поселках аула.)
Пришла самая пора выгонять стада на пастбища, но дед Магмот медлил. Стражники на пастбищах, кщгзь у Верхних Баташевых, крестьяне на своих дворах и поселках — все чего-то ждали, — похоже, что выжидал чего-то и дед Данилов.. Дед очень изменился в эти тихие, точно предгрозовые дни. Даже с любимым своим Наурузом, с которым раньше помногу разговаривал, сейчас ни о чем не говорил. Хотя он был тезкой пророка, но никогда раньше не отличался молитвенным рвением. А сейчас каждый вечер, тщательно обмыв ноги и руки, подолгу на коленях стоял на коврике.
Науруз крадучись поднимался к Верхним Баташевым, чтобы встретиться с Нафисат. Покрытая тончайшей и чуть колеблющейся серебристой завесой, не то туманной, не то дымной, Баташева долина тихо спала. Наурузу вспомнилось вдруг, как отец в час вечерней молитвы поставил его не лицом к Мекке, но сюда, ли
568
цом к священной долине, и скрытый смысл этого впервые открылся ему с такой ясностью, что он вздрогнул, словно до его слуха дошел далекий шепот отца.
Темиркан ходил по аулу, посещал самых почетных людей. Посещениям его радовались, ими гордились, разговоры вели степенные, с похвалой вспоминали Темиркановых отца и деда, восхваляли род Батыжевых и высказывали предположения о погоде предстоящего лета или рассказывали случаи на охоте. Но тревожно было то, что о новых порядках на пастбищах никто с Темирканом не заговаривал. Тогда он сам затоваривал, предлагал всем, кто не имел участков, выгонять стада на его пастбищные участки.
— Осенью сговоримся, тогда уделите мне от осеннего приплода! — говорил он милостиво и благодушно.
Крестьяне помалкивали. Но Темиркан знал, что гнев аула, его негодование направлены на тех немногих богатых крестьян, которые через торги закрепили за собой участки. Но почему с ним об этом не говорят? Гостил Темиркан и у Хаджи-Даута, который впервые в истории Баташевой долины кощунственно окопал свой участок пастбищ, и стражники охраняли его.
— Скажи, господин Темиркан, к чему эта аренда? — спрашивал Хаджи-Даут. — Лучше распродали бы нам пастбища на вечные времена.
— Неужели у тебя на это денег хватит? — спросил Темиркан. — Я бы не мог купить, у меня не хватит.
— В одном этом моем сундуке, — серьезно ответил Хаджи-Даут и показал на низкий длинный сундук, вырубленный из цельной колоды, закрытый тяжелой чугунной крышкой и запертый большим замком,— только здесь вот заключено у меня богатство достаточное, чтобы купить все пастбища Старого аула.
Хвастовство не было свойственно Хаджи-Дауту, и Темиркан ему поверил.
— Не боишься, что тебя ограбят? — спросил он.
— Нет, — твердо ответил Хаджи-Даут. — Приезжал сюда осенью молодой Касеев, передал мне через муллу: «Дай, говорит, деньги нам в кредит на товари
569
щество, мы будем их хранить, и они будут у нас расти». — «Нет, — ответил я, — не дам. Я сам их выращу».
Хаджи-Даут был богаче Верхних Баташевых, но жил грязнее, чем они. Еда была обильная и вкусная, но близость хлева порождала множество мух; Хаджи-Даут усмехался, видя, как Темиркан отчаянно и брезгливо отгоняет их от угощения. То скрытое недоброжелательство, которое Темиркан чувствовал к себе у Хаджи-Даута, откровенно сказалось в том, как с гостями держалась Балажан. Она не постеснялась выйти в кунацкую, не прикрыв волос, с открытым лицом, босая, и не поклонилась гостям. Асланбек принял ее за дурочку, тем не менее она понравилась ему. Он вышел вслед за ней, но вернулся быстро, — щеку его вдруг раздуло; он, ругаясь, плевал кровью. Темиркан ухмылялся, Хаджи-Даут точно ничего не заметил, только весело щурил глаза. Они заночевали у Хаджи-Даута в доме, где господствовала Балажан: пол рокотал под ее круглыми пятками.
— Падаль, — говорил Асланбек, держась за щеку.
Но в голосе его слышалось явное восхищение; девка нравилась ему, он влюбился в нее в этом старом, крепко пропахшем кислым молоком и шерстью темном деревянном доме, душою которого была она, и когда юношеский голос завел на дворе бесконечную песню, где упоминалась Балажан: «О смуглошейка, опустись на мое лицо, пламенем пылает мое лицо» (это пел влюбленный Бетал), Асланбек стал тихонько подпевать.
— Хочешь, дядя, посватаю? — шутливо спросил его Темиркан.
— Ненадежно, сынок, твое сватовство, — с усмешкой ответил Асланбек, намекая на нехорошую новость, принесенную Кемалом из аула. Опять объявился пастушонок Науруз и на Темиркановом коне дерзко въехал в аул и остановился у Магмота Данилова.
В эти тяжелые и тихие, точно предгрозовые дни умер вдруг Афаун Баташев, который последние сорок лет был старшиной в ауле. Двух лет не дожил он до ста, но никто не ждал его смерти,—так были здравы его суждения и мудры поступки. За день до смерти был
570
он третейским судьей в споре из-за земельных участков, и благодаря ему спор решен был полюбовно и без кро^ вавого столкновения, несмотря на то, что обе стороны горячились, так как надо было начинать пахать. Для разбирательства дела Афауну пришлось ходить в воде, искать старый разграничительный знак — камень, который лет пятьдесят тому назад, переменив русло, покрыла своей бурливой водой Веселая: по этому знаку сразу можно было установить границы, и единственно Афаун вспомнил об этом камне. Только он один мог его найти. Но, побродив несколько часов по воде и найдя наконец камень (а в то время, как он ходил, обе стороны, вооруженные, стояли на одном и другом берегу), он после этого рассудил обе стороны, заставил людей помириться, потом пошел домой, и его скрутило в сутки. Хоронили его торжественно, стреляли из ружей, женщины плакали, скотина ревела.
Старые времена кончались, новые начинались. Нужно было выбрать нового старшину. Самые почтенные старики аула пришли к Темиркану. Он посоветовал выбрать восьмидесятилетнего Мухтара — старшего сына Афауна. Такой же тихий, как отец, и очень на него похожий, Мухтар, однако, не обладал его мудростью. Но за него мудр был Хаджи-Даут, который несколько раз платил недоимки Мухтара и всецело властвовал над стариком. Темиркан не знал об этом. Мухтар привлек его тем, что походил на Афауна, и был князю, ловко подсказан Хаджи-Даутом. Но старики, пришедшие к Темиркану за советом, знали, что Мухтар весь в руке Хаджи-Даута. Учтиво поблагодарив за совет, они ушли. Всерьез о Мухтаре они даже и говорить не хотели, но все чаще сейчас называлось в ауле имя Магмота Данилова, как старшины, самого подходящего в настоящие трудные времена. Заика-мулла нарочно поднялся к Верхним Баташевым, чтобы сообщить Темиркану эту весть, и Темиркан решил, что не может уехать из аула, пока не пройдет избрание нового старшины.
— Что нам здесь делать, Темиркан? — говорил Асланбек. — Джафар Касеев может быть доволен: девку ты за него просватал. Благодарение аллаху и
571
слава твоей хитрости! Глупый народ полон злобы против своих же вонючих богачей. Здесь может выйти большая резня, — зачем нам ее дожидаться! Не нужно смелостью своей искушать бога, не такой храбрости учил нас пророк. Уедем, и пусть Осип Иванович пришлет сюда сотню казаков: гяурские нагайки по холопьим спинам — что за веселая музыка!
Асланбек видел, что Темиркан слушает его стиснув зубы, видел, что он волнуется. Но, подняв верхнюю губу и показывая свои мелкие зубы, Темиркан невесело скалился и на слова Асланбека несогласно качал головой: нет, никуда он сейчас не уедет. Нельзя допустить, чтоб лукавый и мятежный Магмот Данилов, давший •приют пастушонку Наурузу, стал старшиной аула Веселого. Нужно этому воспрепятствовать, и Темиркан остался, чтобы воспрепятствовать. Но пловцом, который, по тихой воде отважно заплыв далеко от берега, вдруг взглянул вниз и увидел, что висит над подводной бездной, почувствовал себя Темиркан.
Осмотрителен стал он и ночью не спал, отсыпался днем до обеда, ложился в кровать, непременно держа •под подушкой руку на рукояти кинжала, ходил бесшумно и, услышав в доме разговор, старался его подслушать.
Однажды его чуткий дневной сон был нарушен громким говором, доносившимся из-за двери, за которой находилось то серединное темное помещение, в котором был очаг. Здесь приготовляли пищу и ели. Темиркан подошел к двери и стал слушать.
— .. .Ему я -рада, но не тебе, непокорный сын, — услышал он голос Хуреймат, рассерженный и печальный. — Лучше уходи: нехорошо будет, если встретят здесь тебя отец и старшие братья.
«Она говорит с Хусейном», — подумал Темиркан.
— Что Кемалу неладно со мной встречаться, об этом и сам знаю, — ответил резкий юношеский голос, — но за что сердиты на меня отец и старшие братья?
— За то, что ты отклонился от отцовой дороги,— ответила мать. Наступило молчание.
— Эй, слушай меня, мой сын, — вдруг сказала Хуреймат с силой, которая, точно река в половодье,
572
прорвалась в ее голосе. — Не по нраву тебе твой отец, а послушай, каков он, твой отец. Когда мы пришли сюда с ним, у него только мотыга была, а видишь — все это он поднял. Только голуби заворкуют весной и настанет время пахать — он первый мотыгу берет и так обрабатывает землю, что хоть новобрачных клади на нее. А плетень, которым наш дом огорожен? Он сплел его в первый год, как мы здесь поселились, но так искусно и крепко, что до сих пор он стоит и каждый на него дивится. Так он трудился всю жизнь, день и ночь, и вот, видишь, высокорожденного принимать можем.
Хусейн засмеялся, сказал что-то, чего Темиркан не разобрал, но гнев схватил его глотку. Он уверен был, что Хусейн что-то непочтительное сказал о нем.
— Нет, мой сын, ты неправ, — сказала мать. — Князю потворствуй, а в сердце свое держи.
— Двуязычная ты, мать, — ответил сын, и Темиркан с ним согласился.
— Я не выдумала этого — так обычай крестьянский нам говорит: как оно повелось, так оно и будет.
— Не будет так, — сказал Хусейн. — Вот видишь. .. — Раздался грохот. — Я беру свою мотыгу, но не затем, чтобы ворочать камни на том проклятом месте, которое отец называет нашим полем и над которым смеется весь аул. Я отнесу эту мотыгу в кузницу Ислама Хасубова, и он откует мне такой меч, что если князек какой станет мне поперек дороги, наотмашь рубить буду, голову вместе с плечом и лопаткой срублю.
Мать вздохнула и замолчала. И по тому, как грустно и мягко заговорила она, Темиркан понял, что она залюбовалась удальцом-сыном.
— Бывало, отец к коровам пойдет, так они всего его оближут, — такой он после работы от пота соленый, а тебя мирная скотина лизать не может, на тебе соль иная, страшная крови соль... А я-то надеялась, что ты будешь покоить мою старость.
— Лисьей шкурой укрываться будешь, — прервал ее Хусейн, и вдруг этот ласковый разговор сменился грохотом, стуком, восклицаниями.
Темиркан слышал голос Кемала, его яростные проклятия, взвизги кинжалов, стремительно выхвачен-
573
ных из ножен, повелительный окрик матери: «Кемал!»
— Я безоружный вошел сюда, Кемал, — сказал Хусейн.
— Кемал! — воскликнула мать предостерегающе и грозно. — Сыновья, внуки, эй, на помощь!..
Изобразив на лице своем благосклонное удивление, Темиркан вошел в комнату, и почти одновременно с ним из другой комнаты вошел Али и чернобородый красивый Элдар. За ними другие люди большой семьи Верхних Баташевых. Мужчины входили и, хмурясь, останавливались безмолвные; женщины вбегали и останавливались, взвизгивая. Посреди комнаты, закрыв младшего сына от старшего своим темным платком, стояла мать. Необычна она была, с открытыми волосами, черными, еще не тронутыми сединой и крепко сплетенными во множество мелких косичек вокруг головы, круглые очертания которой особенно выделялись над крепкой шеей и широкими плечами. Кинжал Ке-мала был еще занесен, но опустить его Кемал не мог — и не только потому, что мать заслоняла Хусейна,— даже платок её был священен, и не только для сына: по старинным обычаям, если имеющая детей женщина сорвет с себя платок и бросит его сражающимся, сражение должно остановиться. Зная это, Хусейн был совершенно спокоен, хотя лицо Кемала больше походило на морду взбесившейся собаки, чем на человеческое лицо, даже пена выступила на его губах. А рядом с Хусейном стоял Науруз, и, увидев его, князь с трудом сохранил маску скорбного и высокомерного удивления, которое он принес сюда на своем лице. Да, рядом с Хусейном, положив руку на его плечо и выше его на две головы, стоял этот румяный, широкоплечий пастушонок. Оба юноши были безоружны, но так ладно сидела на них одежда, так смело и дружно они держались, что князь подумал о них: «Воины!» И вдруг почувствовал он, что никого так не хотел бы он иметь в своей дружине, как этих молодцов, и это чувство в соединении с хитростью, никогда его не покидавшей, внушило ему сказать:
— Кемал! Вложи сталь в ножны.
Он говорил, прекрасно понимая, что Кемалу все
574
равно придется вложить кинжал в ножны, но сейчас получилось так, что это он, князь Темиркан Батыжев, заставил Кемала прекратить столкновение, грозившее братоубийством. И вслед за тем, как Кемал, вздохнув, покорно вложил кинжал в ножны, вздох облегчения прошел по комнате, все благодарно взглянули на Темиркана, который свободно прошел и сел на почетное место у очага.
И тут же мать накинула на себя платок и тоже присела на корточки у очага, точно ничего не произошло, и занялась своим делом — приготовлением пищи.
— Я вызвал его на поединок, я дал слово убить его, где бы он мне ни встретился, — говорил Кемал.
— Но ты ведь знаешь, что очаг семьи не место для поединка и неприкосновенен человек под защитой платка матери, — ответил ему Темиркан, и опять одобрительный шепот прошел среди Баташевых, которые стояли вдоль стен этой большой полутемной комнаты.
Присел только Муса, который подошел позже всех и, конечно, ничего не понял, но принял важный вид сразу, как только Темиркан указал ему место подле себя.
— Господин, — говорил Кемал, — этот вор ночной опозорил семью нашу. Пусть он скажет тебе спасибо за недолгое продление жизни своей, недолгое — потому что я с ним все равно сосчитаюсь. Но он еще осмелился привести сюда врага твоего. Прикажи, господин, — и он сейчас погибнет, потому что очаг нашей семьи не защита этому ублюдку.
— Я не хочу мешать тебе сосчитаться с твоим врагом, так не мешай мне посчитаться с моим, — ответил Темиркан. И он сказал, обращаясь к Наурузу: — Мы оба у очага Баташевых, священного для нас обоих, и потому, хотя ты на мою благосклонность ответил дерзостью, я хочу сказать тебе, что мне с первой минуты по душе твое удальство.
— Почему же ты стрелял в меня? — спросил Науруз. — Тогда на вашем дворе?
— Ты гостя моего ударил. Но зачем говорить нам о старых обидах? Мы всё сполна выплатили друг другу.
И сразу шум поднялся среди Баташевых. Все они
575
были довольны, что старая вражда разрешается миром, все с ожиданием глядели на Науруза. А он вдруг усмехнулся и сказал:
— Если уж благосклонность твоя ко мне так велика, продолжи свои благодеяния: откажись от того, за чем ты сюда приехал.
— Что? — вставая с места и бледнея, спросил князь.
— Ты не понял, я поясню, — ответил Хусейн. — Я и ты — мы оба сватаем. Ты приехал сватать нашу Нафисат, я тоже за этим приехал и считаю, что мой жених, лучше твоего.
— О-о-ой! — воскликнула мать, вставая. — Нафисат уже просватана.
— Как же без меня просватана? — спросил Хусейн. — Или у меня нет голоса на семейном совете?
И вдруг Нафисат вышла вперед и сказала:
— Да, я просватана, но не за сына попа из Арабыни, а за сына пастуха, храброго Науруза.
Науруз шагнул вперед, Кемал взвизгнул и опять кинулся на него, но незадачлив был сегодня храбрый Кемал. По пути его в поясе перехватил племянник Элдар, Али удержал его руку, в которой был кинжал.
— Доченька, Нафисат, где дом твой будет? — со стоном и плачем спросила Хуреймат.
— На седле у мужа, — ответила Нафисат.
— Баташевы, — сказал Науруз, — я должен был стать вашим братом, Кемал не дал этому свершиться. Но он не может воспрепятствовать мне стать мужем Нафисат. Мы суждены друг другу с той моей первой охоты. Так пусть же свершится то, что предопределено. Я убил хищника, уносившего достояние нашей Нафисат, сейчас я опять спасаю Нафисат из когтей батыжев-ского оборотня. Глядите зорко, Баташевы: неспроста он на тихих крыльях своих летает над пастбищем Веселоречья.
Тщетно рвался Кемал — на помощь Элдару пришли другие племянники, они держали дядю почтительно, но крепко. Науруз и Нафисат рука в руку вышли из дома. Князь стоял, остолбенев, и Муса тоже как столб стоял рядом с ним.
576
— Неспроста коршуны и копчики повадились сватать наших сизых голубок, — сказал Хусейн прямо в лицо Темиркану и вышел вслед за Нафисат и Наурузом.
Только он вышел, как мать вдруг всплеснула руками и бегом кинулась к двери, но уже раздался топот двух коней и племянники тут же отпустили Кемала.
— Как вы смели поднять руку на дядю, щенки! — кричал он в бешенстве.
— Я объясню тебе, как это вышло, Кемал, — примирительно сказал Али. — Бережливость Элдара всем известна, и когда он увидел, что ты лезешь с ножом на Науруза, он испугался за свою черкеску, — ведь чер-кеска-то, надетая на Наурузе, твоя? — спросил Али, щурясь и сияя всем своим толстым лицом.
Смех шел по комнате. Но вдруг заговорил князь, и все замолчали.
— Я оскорблен, Баташевы. Кемал, седлай коней, Я не вернусь к вашему очагу.
Глава вторая
Ниже других аулов Веселоречья и ближе к равнинам расположен аул Веселый. Раньше чем в другие аулы Веселоречья в него вступило лето.
Целый месяц не было дождей, с каждым днем все жарче грело солнце. Оно растопляло снег на вершинах, и потому все обильнее бежала вода с ледников, звонче •играла по гальке Веселая и рассыпала свои плодоносные воды по садам и огородам аула. Возле арыков зелень жирна, темна, кудрява. Но приаульные пастбища, •всю зиму весело' зеленевшие, теперь пожелтели, пожухли, арыки туда не проложены, и солнце с утра прямыми лучами прожигало здесь землю... Жалобный рев стоял над аулом: мычали коровы, ревели быки, блеяли овцы и ржали кони. Скот твердо помнил: пришло время идти вверх, на прохладные пастбища, на медвяные травы. Но поперек скотопрогонной тропы поставлен сторожевой кордон казаков. Пастбища Веселого аула разбиты на участки; только те из хозяев мо
87 Ю. Либеаинский
677
гут выгонять свой скот, кто на торгах в Арабыни получил картонную твердую карточку, на ней написана фамилия владельца и номер участка; «ярлык» — называли эту карточку по Веселоречью.
Нашлись и в Веселом ауле такие, что обзавелись ярлыками: Абдуркановы, Карымовы, Урусоковы, Сул-таноковы,—княжата, их уздени. Другой не только скота — кур завести не сумел, но тоже обзавелся ярлыком: надеется нажить, втридорога содрать с того, кому есть что выгнать, да некуда выгонять.
Целые дни стоит Шехим Керкетов у своих красивых плетеных ворот. Широко раскрыл он ворота. Что будет с аулом, что будет со скотом? Как обуздать самоуправство княжат, когда власть пошла им на поддержку? Зудит, чешется старая, на всю жизнь не заживающая обида.
А сыновей нет. Уже младшего услал за старшим Шехим. Двадцать дней нет Талиба, пять дней нет Батырбека. Узенький переулок, в который выходят керке-товские ворота, всегда был тихим, но теперь то пробегут ребятишки и крикнут: «Здравствуй, дедушка Шехим!», то женщины пройдут, безмолвно поклонятся. И знал Шехим, что это вестовщики посланы узнать, не вернулся ли Талиб.
Мужчины не выходили со своих дворов: даже в такой беде не пристало хозяину и отцу семьи метаться, бегать по аулу. И только выйдя на огород и увидев за плетнем белую войлочную шляпу родича или соседа, можно перекинуться одним-другим словом:
— Бесится, ревет скотина...
— Своего требует.
— Не вернулся? ..
— Нет, не вернулся...
«Люди, — обращается Шехим мыслью своей, врываясь в эту беседу, — это не скотина ревет, это сердце мое ревет: не на погибель ли услал я одного сына? Не погиб ли второй удалец, уехавший его выручать?»
К воротам керкетовского двора подошел маленький старичок с палкой в руке. Ноги его гнутся в коленях, руки трясутся, но высокий, твердый строченый воротник рубахи туго подпирает морщинистые и чисто вы
578
бритые щеки» пояс туго затянут, к нему подвешен длинный старинный кинжал, ножны отделаны тусклым серебром. Шехим поклонился, посторонился, пропустил гостя во двор, хлопнул в -ладони, и заплаканная Маржа», жена Талиба, вынесла коврик, внук принес айрана в красивой деревянной, самим Шехимом выделанной чаше, — только он умеет вырезать такие чаши с бараньими головами с двух сторон.
Гость сел на ковер, пригубил айран. Молчание. Шехим искоса остро оглянул гостя. Это Исса Ашабов, который недавно громче -всех кричал в ауле, что не подобало Шехиму, потомку рабов, быть старшиной над освобожденными людьми Веселого аула. Не было злей врагов в ауле, чем Шехим Керкетов и Исса Ашабов. Да и сейчас трудно говорить друг с другом, как в мороз дыхание перехватывает.
Но с того недавнего времени, когда старшина аула» тот самый рыжий Урусоков, за которого так кричал Исса, прочел на сходке змеиную весть о пастбищах, прочел и сам испугался той тишины, которая наступила, и дрожащей рукой схватился за свой рыжий ус, первым тогда опомнился Исса и громко спросил то, о чем каждый в душе своей спрашивал безмолвно: что же будет с теми, кто не получил ярлыка? И, низко кланяясь, ответил ему Урусоков:
— Почтенный Исса, вот ярлык мой, выгоняй на мой участок, осенью сойдемся на приплоде...
Ни на один миг не задумался Исса. Сказал:
— Хасан Урусоков, выбирал я тебя в старшины, считая, что ты, происходящий из свободного рода, будешь соблюдать выгоды людей, которые тебя выбирали. Но вот сын рабыни Шехим, и — горе мне — лучше бы ему доверить нам старшинство, если бы знали мы, как ты падок на корысть, если бы знали мы черную твою душу. — И, повернувшись к родичам своим, спросил Исса: — Верно говорю я, Ашабовы?
— Верно, верно, верно! — заговорили, зашумели братья, сыновья, племянники, внуки Иссы.
Напрасно дергал свой красивый рыжий ус ласковый ко всем, многоречивый Хасан, — даже родичи его, кто победней, поддержали Иссу Ашабова и кричали вместе
579
37*
со всем аулом, пока не вышел вперед Камболет Тамбиев, выпятил вперед грудь свою, туго обтянутую офицерским мундиром, — много пуговиц, много орденов, а локоть заплатан.
— Бунт? — спросил он строго и, покачивая большим пальцем с черным ногтем, раздельно произнес по-русски и по-китайски: — Шибко неладно, пухо, пу-шанго.
Все замолчали. И тут вышел вперед Шехим, низко всем поклонился и сказал, обернувшись к Тамбиеву:
— Бунта нет. Но царство велико, от мужика до царя много начальников: стражник, пристав, губернатор, сенатор, министр. Маленький начальник сам совершает кривду, а кивает наверх, на царский престол. Сын мой Талиб, которого вы все знаете, поехал в Красно-рецк; человек он книжный, его не обманут. Он привезет нам правду. Так что бунтовать нам не нужно, — верно я говорю, господин Камболет? Нам ждать нужно, — верно, господин Камболет?
Тут уж Тамбиев не знал, что ответить, дернул плечом, точно у него зачесалась спина, и ответил по-русски:
— Кто его знает... Бу-тунда.
Может быть, он и сообразил бы что ответить, но медленны мысли Камболета, и, пока он стоял с открытым ртом, люди разошлись.
Солнце поднялось выше. Вслед за Ашабовым прибрели на двор Шехима все старики и сели на бревнах, на ковре.
Каждый вновь пришедший приложит губы к деревянной, затейливо украшенной бараньими головами чаше, а белого, колеблющегося в зеленоватой сыворотке айрана меньше не стало: не за угощением пришли.
Молчат, вздыхают, кашляют... Только слышно, как пчелы гудят над пчельником, по-летнему густо гудят. И сквозь это гудение слышно: то проржет жалобно лошадь, то заблеют овцы: так было и вчера, и позавчера, и третьего дня, и шесть дней назад, когда уехал Батырбек всл£д за Талибом. Шесть дней прошло со времени сходки, но ни один человек не пошел на поклон к князьям и богачам.
580
Вдруг произошло то, чего ждали все эти дни. Слышно, как щебень летит из-под копыт. Все ближе, ближе. Две лошади бегут между плетней по тихому проулку, который ведет к Керкетовым. Две лошади, но только один всадник в черной круглой барашковой шапке виден над зеленеющими плетнями. Это удалой Батырбек, и рядом с ним не видно белой шляпы Талиба.
Въехал в ворота Батырбек, соскочил с седла, кинул поводья племяннику, выбежавшему ему навстречу: «Поводи!» Поводить надо, — взмылены оба коня.
Поклонился Батырбек отцу, припал к чаше айрана. Тишина, только слышно, как громко глотает Батырбек да громко рыдают женщины. Вытер Батырбек губы, взглянул на отца, и по его злым и печальным глазам понял Шехим: с Талибом плохо. Понял — и вдруг почувствовал, что тревога этих дней уходит, оставляет его душу, и сам удивился себе Шехим.
— Взяли Талиба в тюрьму, — сказал Батырбек. — Коня его я нашел у Арутюнова. Хотел тут же уехать, но пронюхали, собаки, о моем приезде, повели к главному жандарму, полковнику Михелю. Ничего, ласковый полковник, папиросами угощал, шутил... А чего мне? Я тоже шутил. Говорю: «Я за братом приехал. Брата нет, конь братнин остался, хоть его домой отведу». — «Слышал, — говорит полковник, — я о твоей удали. Ты ведь больше всего любишь коней водить не среди бела дня, а по ночам, — вот я и решил тебя до вечера задержать». Смеется, ну и я смеюсь. «Знаешь, говорит, за что брата твоего держим?» — «Если, говорю, ты мне скажешь, тогда знать буду». — «Так вот знай: брат твой против царской воли пошел...»
— Не может быть в этом беззаконии царской воли! — гневно крикнул Исса Ашабов, и Батырбек замолчал перед старшим. — Я как сейчас все помню, — говорил Исса тихо, как в забытьи, опустив на глаза тонкие веки. — Это вон там было, под дубом. Приехал к нам Алегико Батыжев, с ним был русский офицер, молодой, в черкеске белой; он нам царские слова сказал, Алегико их перекладывал на наш язык. Ах, горе! —;
581
имя офицера этого я забыл. У русских и у нас один адат: клятва от отца к сыну переходит, мы нашу клятву держим. Царь Николай — царя Александра внук, который нам клятву давал.
— Что сейчас нам делать, скажи: ведь скот пропадает, достояние наше! — вдруг ворвался в размеренную речь Иссы женский, всхлипывающий голос.
Шехим вздрогнул и огляделся: какая неразумная посмела перебить почтенного Иссу? И Шехим не узнал своего двора. Ни сада, ни огорода, ни дома, ни травы он не видел: везде человеческие лица — мужчины, женщины, дети. Ц не стал Шехим разыскивать ту, что осмелилась прервать речь -почтенного, хотя несколько медлительного старика. Весть о том, что Батырбек вернулся один, уже облетела аул, — горе крылато.
Талиб не вернулся. Что делать? И только Шехим знал, что -нужно делать. Встал он на бревна, теперь выше всех стоял. Поклонился людям, и так стало тихо на дворе, точно он не был заполнен людьми, собравшимися со всего аула.
— Послали мы сокола, попал он в силки. Пошлем другого. Не второй, так третий до царя долетит и расскажет, что его лукавые слуги преступили клятву, которую дед его нам давал. Верно сказал почтенный Исса, я сам сидел на том дубе и слышал, как от царского имени произносил эту клятву Алегико Батыжев. Значит, царь Николай нашу сторону возьмет. Так-то я думаю, люди.
Он помолчал, оглядел всех людей, — люди молчали, они как бы «молча спрашивали, и он им ответил:
— Конечно, окоту нет дела до наших людских бед, ему пастбище нужно. — Он замолчал, и опять люди ждали его слов. — Не мне, внуку рабыни, совет давать свободнорожденным людям Веселого- аула.
Он замолчал, поклонился, ропот пошел по толпе, заполнившей двор, переулок, соседние дворы.
— Скажи, Шехим...
— Пусть говорит...
— Ты мудрый, Шехим...
— Нет тебя хитроумней, дедушка Шехим... Говори. .. говори...
582
— Я скажу, — твердо и громко сказал Шехим. — На нашей скотопрогонной дороге стражники стоят. Стражники — царевы слуги, на них царские знаки, нам их трогать нельзя. Но есть ведь на пастбища другая дорога — кругом, вверх, через Баташей. Старый аул по-зже нас выгоняет, вот мы вместе соединим наше богатство и погоним на пастбища.
Он постоял, переждал одобрительный ропот толпы поднял руку, и опять сразу все замолчали.
— Скот пойдет с пастухами, но сами мы тоже на пастбище поднимемся. Пусть стражники караулят скотопрогонную, а мы пешеходными тропами пройдем. Только мы, мужчины, пойдем: женщинам дома оставаться с детьми, при хозяйстве. Не годится, чтоб курица петухом кричала. Что ты скажешь, почтенный Исса? — обратился он к своему прежнему врагу.
— Аллах тебя вразумил, — торжественно сказал Исса.
— А может, и верно аллах, — разводя руками, сказал Шехим. — Ведь он не глядит, кто от рабыни, а кто от свободной родился: один Адамов род.
— Дай твою руку, Шехим, — торжественно сказал Исса Ашабов.
И Шехим принял в свою сильную руку холодную старческую руку своего бывшего врага. Соединив руки, они подняли их. Так образовались ворота, необходимые для клятвы «Запабаш». Все мужчины аула проходили в эти ворота.
«Уллахи, валлахи, таллахи. Я не отстану от общества, пойду вместе со всеми, умирать будем вместе!» — громко произносили то старческие, то молодые голоса.
Ворота получились неровные: Шехим был на голову выше Иссы, и мужчины вплотную подходили к Шехи-му, — он слышал их горячее дыхание при произнесении клятвы... Исса побледнел, холодный пот катился по его усталому лицу, — люди второй час шли через ворота. Женщины плакали, причитая. Мужчины, принявшие клятву, не уходили, молча следили они за тем, как другие проходят ворота. Каждый, кто проходил ворота, больше не принадлежал себе.
583
С вечера стада аула Веселого медлительно двинулись вверх по долине реки. Старший из Шехимовых сыновей, Россул, взяв сына своего, ушел со стадами. Прошло два часа, стемнело, но гул и мычание табунов и стад еще доносилось до аула. Шехим запер ворота (ждать больше некого было) и пошел искать Батырбека. Он нашел сына в саду, иод старой грушей. Батырбек даже переодеться не успел, пояса не ослабил, — так внезапно застиг его сон. Что-то беззащитное и жалобное было сейчас в его лице — очень давнее, может то время, когда Батырбек спал на руках матери, напомнило Шехиму лицо сына. Старик вздохнул, сел около сына, тихо окликнул его, и тот сразу вскочил. Свойственное ему выражение задора и опасной удали мгновенно вспыхнуло у него на лице.
И сказал отец:
— Собрали наши односельчане триста рублей денег. Возьми эти деньги, поезжай в город Петербург. Ты хитер и лукав. Больше скажу: ты коварен. Надо тебе, Батырбек, показать свою удаль на благо народа: дойти до царя.
Ничего не ответил Батырбек, но лицо его омрачилось. Шехим ждал: сейчас откажется Батырбек и объяснит, почему отказался. Но Батырбек удивил его.
— Дай мне подумать, отец, — ответил он.
— Думай скорей, — сказал Шехим. — Но, наверно, ты сделаешь так, как я говорю тебе.
Усмехнулся Батырбек, ничего не ответил — и вдруг исчез в темноте. Шехим в раздумье сидел под грушевым деревом. Коварство почудилось ему в усмешке сына, — впрочем, таков Батырбек. Шехим прислушался: в темноте было слышно, как ревут уходящие на пастбища стада.
Батырбек в это время быстро шел по улице, легко перепрыгивал ограды, а там, где они были высоки, пользовался поставленными для перелаза через ограду лесенками, которые легко можно было убрать. Порой на него бесшумно кидались собаки, но он укрощал их коротким свистом, предостерегающим и ласковым, и они замолкали: знали его. Вдруг все потемнело: Батыр-
584
бек вступил в тень горы. Какие-то белые призраки обступили его, призраки-взрослые, призраки-дети, одни оставались позади, исчезали, но из темноты выплывали новые, такие же тихо-неподвижные. Прямо навстречу Батырбеку выплыл из темноты белый призрак-гигант, он все рос, поднимался...
Это была мечеть и могильные памятники вокруг.
Батырбек обошел мечеть и стукнул в дверь. В темном низеньком окошке зажегся красноватый колеблющийся свет. Мулла Шаик вышел к Батырбеку, и при виде его Батырбек испытал необычное для себя чувство страха, так как он чувствовал в мулле Шайке меру злодейства большую, чем та, на которую он сам мог отважиться.
— Отец хочет послать меня с письмом от нашего аула к царю, — сказал Батырбек, отвечая на вопросительный взгляд Шайка, — В ауле собрали мне денег на дорогу.
— Ты согласился? — быстро спросил мулла.
— Нет еще, — ответил Батырбек. — Как мы условились, я пришел спросить у тебя. Дело слишком важное, чтобы мне решить самому.
— Соглашайся, — быстро ответил мулла. — Деньги возьми. В Петербург их письмо повези, можешь даже постараться передать это неразумное письмо тому, для кого оно- написано. Но, конечно, сделай так, чтобы не попасть в темницу, как это случилось со строптивым братом твоим.
— Мой брат добрый человек. Я жалею его, — угрюмо сказал Батырбек.
Шаик усмехнулся и произнес несколько гортанных и складных арабских слов.
— Доверяющийся неверному погибнет, — так учил пророк. Воля единосущного устранила нечестивого брата твоего из той большой игры, которая здесь произойдет. Не спрашивай, я сам скажу тебе только то, что тебе надлежит знать, и не более. По моим указаниям ты найдешь в Петербурге английского господина, известного тебе. Я не снабжу тебя письмом,—ты сам разумный человек и лучше всякого письма расскажешь то, что здесь происходит.
585
— Я сделаю так, как ты мне прикажешь, — ответил Батырбек.
Шаик помолчал и присел на ступени крыльца.
— Что было с тобой в городе? — спросил он.
Батырбек повторил все, о чем рассказал отцу и старикам. Шаик опять помолчал..
— Ты утаиваешь от меня нечто, — сказал он вдруг, не возвышая голоса. — Я не был при твоем разговоре с полковником, но я слышу этот разговор.
Батырбек пробурчал что-то смущенно, испуганно и сердито.
— Ты хотел молчать, что ж, молчи, — сказал мулла Шаик, — я буду говорить: полковник предложил поступить к нему на службу, ты отказался.
— Да, это так, — сказал* Батырбек. — Я отказался, я не служу сразу двум господам.
Шаик усмехнулся.
— Щенок, — сказал он с презрением. — Щенок, который бежит от своего- хозяина, не зная, что хозяин его переменил сапоги.
— Ты говоришь иносказаниями, а я слишком глуп для них, — сердито сказал Батырбек. — При чем тут сапоги?
— Русский царь или король английский, немецкий царь или кто иной, — но господин твой один, — Шаик поднял руку кверху, и Батырбек невольно поднял голову за его пальцем наверх, к звездам, мерцающим то там, то тут в небесной тверди.
— Аллах, — с силой продолжал Шаик, — вот господин твой на земле. Читай небесные письмена, которые бог в благости своей развернул над нами, читай. Ты- прочтешь здесь о судьбах царств и о своей судьбе, чудесно вплетенной в судьбы царств.
Он замолчал. Батырбек жадно ждал его слов.
— Полковник Михель служит падишаху русскому, я враг падишаху русскому, но я говорю тебе... отказавшись пойти на службу к полковнику, ты обнаружил материнское молоко на своих губах. И ты сделаешь так, как я тебе сказал, ибо первая добродетель, которая сейчас от тебя требуется, — это беспрекословное послушание.
586
Медленно возвращался домой Батырбек. Недоволен он был: и отец его и мулла Шаик, люди совсем разные, толкали его туда, куда самому Батырбеку отправляться совсем не хотелось. Почему не хотелось? Он досадовал •на себя. Сколько чудесного слышал он об этом городе, •построенном на полунощном краю земли, где начало туманных, холодных морей, гибельных болот и снежных равнин. Там в каменном доме-скале живет царь, и, конечно, если он, удалой Батырбек, возьмется передать ему письмо, письмо будет передано и он увидит царя. Но как ни разжигал он себя, какие бы соблазны и приключения ни рисовал себе, ехать не хотелось. И он с негодованием признавался: это все из-за Балажан, это она тянет его к себе под старую и низкую, поросшую мохом, бревенчатую стену Баташева поселка. Почему не схватил он тогда ее на седло и не увез? Но он вспоминал ее темный, лишенный девической робости взгляд из-за черных ресниц прямо в глубь сердца его... Или она верно колдунья? Не только в голове своей, но в плечах и в груди, при движении рук и при каждом шаге ног чувствовал он вяжущую (точно его в свежий дубовый сок опустили), томную силу ее власти над ним.
«Неужто, правда, сватов засылать?» — с отчаянием спросил он себя.
Оставив без ответа этот безрассудный вопрос, осторожно расстегнул он ворот черкески и вынул оттуда мягкий и легкий сверток. Платок просила — получишь платок. Но нужно его исхитриться доставить, а там хоть в Петербург...
Батырбек застал отца своего там же, где оставил, — в саду, под грушей, и сказал, что согласен выполнить поручение аула.
— Я знаю, ты молодец. Ты исполнишь это, — с гордостью сказал отец.
Батырбек ушел. Шехим взглянул на восток: небо светлело. Была глухая пора ночи, но аул не спал. Огней не зажигали, но по аулу неясно пГумело, может оттого, что на всех дворах ходили и переговаривались люди. Каждый, конечно, старался ступать бесшумно, но все сливалось в тихий шум, подобно шелесту леса во время
587
безветрия. Вдруг раздались близкие всхлипы и стоны, — плакали женщины в доме Шехима. Шехим сидел спокойно и неподвижно. Безмолвная и твердая, как прокаленный камень, лежала на сердце его печаль о старшем сыне, и не хотелось ему утешать женщин.
Восток все светлел. Он стал собираться, положил солому в чувяки, достал теплую, мехом внутрь, одежду. Внизу ночи были жарки, а на пастбищах, конечно, холодно и даже среди лета может упасть снег. И женщины, увидев, как спокойно занят он своими мужественными заботами, притихли и стали снаряжать и кормить его.
Потом послышался медленный стук копыт, подъехал на своей белой кобыле Ашабов Исса, вчерашний враг, сегодняшний друг. Так и отправились они. Шехим шел пешком, опираясь на посох, а с ним рядом ехал верхом Исса. Следом за ними выходили из соседних дворов. Большинство, как и Шехим, шли пешком, верхом ехали только самые престарелые.
Шехим шагал той неторопливо-ровной походкой, которая даже позволяла ему на ходу вздремнуть; тревожен был этот сон: как в тот памятный день, сидел он на вершине высокого дуба — очень высоко сидел, гораздо выше, чем тогда. И под дубом множество людей, шапки и лица. А ветер так качает дуб — Шехим вот-вот сорвется, упадет на людей... Он с испугом очнулся, и яркий день, который он видел во сне, мгновенно залила ночная тьма. Да, безвозвратно прошел тот день, когда он молодым сидел на дубе, и не те люди, которые были тогда под дубом, шли сейчас рядом с ним. То поколение почти все сошло в могилу. Но их сыновья, внуки вновь повторяли отцов и дедов. Клятва переходит от поколения к поколению, и сам он, Шехим, жив, явно сохраненный для того, чтобы свидетельствовать. Да, он будет свидетельствовать. Из глубины его памяти с необычайной ясностью выступало каждое слово старого Алегико и звонкий голос царского посланца, произносившего непонятные Шехиму русские слова, — этого молодого, в черкеске и погонах офицера, черноглазого, чернобрового, быстрого в движениях, с девически нежной кожей на лице.
588
Так шли они вверх по тропинкам. Медленному наводнению подобно было это движение людей. Порой Шехим оглядывался, — внизу все было темно, но темнота была заполнена движением тысячи людей, и небывалую силу и торжество чувствовал Шехим.
Много пеших троп ведет на пастбища, но все они сходятся в одну у самой кромки пастбища. Здесь, разрушив эту кромку, кидается вниз поток. Как бы свившись жгутом, ударяется он о камни и разлетается в миллионы брызг. Этот водопад издавна называется Мельницей нартов. Радуга, многоцветная и прозрачная, всегда дрожит над Мельницей нартов, и если бешеная вода приносит что-либо сверху — дерево, камень ли, — мельница все перемалывает на гибельных своих жерновах. И вот, когда здесь, несколько выше водопада, на самом берегу бурно ревущего потока, крестьяне стали останавливаться и скапливаться, перед ними вдруг вырос на коне лесничий Камболет Тамбиев.
Неожиданное всегда удивляет. Какое дело лесничему до пастбищ! Добро, он сам позарился бы на участок. Но нет, во время торгов он не поехал в Арабынь. Ему нечего было пасти на пастбищах, а наживаться на народной нужде, очевидно, он не захотел: Зачем же он здесь?
Наступал уже рассвет, и люди ясно видели Камбо-лета. Торжественный и чисто выбритый, высился он над людьми. Большие черные усы распушены, одна рука на перевязи, в другой палка, на черкеске поблескивают офицерские погоны и ордена.
— Эй, черный народ, — сказал он густо, — куда ты идешь?
Сначала ему никто не ответил. Вдруг Исса крякнул, легко соскочил с коня, взял его за повод и вышел вперед. Шехим пошел рядом с ним. Исса подошел вплотную к лесничему и сказал, задирая голову кверху и снизу вверх глядя в неподвижное лицо Камболета:
— Слезай, Тамбиев, с коня. С народом говоришь. Слезай.
И сказал он это так твердо, что Тамбиев вдруг послушно сошел с коня. Гул одобрения пошел по толпе.
589
— Теперь мы скажем тебе, куда мы идем. Мы на свои пастбища идем.
— Слушай, черный народ, — повторил Тамбиев, и необычное волнение слышалось в его голосе, — вы все знаете: сам я ничего для себя не добыл на торгах и хотя происхожу от нартов, но бедняк, беднее многих из вас. Вы знаете, случалось, что ослушники, которые рубили царский лес, отведывали вот этой моей палки. Но я князь, а вы черный народ. Я — отец, вы — дети. Случается и отцу учить детей палкой. Но пусть кто скажет, что я кого-нибудь наказывал, заставляя уплачивать деньги, или отправлял в тюрьму?
Никто ничего не ответил.
— Так, шанго. Довольно, — сказал Тамбиев.— И вот я вам говорю, черный народ, идите обратно. Ничего не будет из того, что вы замыслили, ничего, кроме плохого. Потому что я знаю твердо: от царя, из Петербурга, идет этот новый порядок.
— Не можешь ты этого знать! — вдруг весь покраснев, пронзительным, визгливым голосом закричал Исса.
Все люди вздрогнули, ахнули. У Шехима больно стиснуло сердце, никто и никогда не слышал, чтобы почтенный Исса так кричал. И Шехим громко сказал, обращаясь к лесничему:
— Уходи, господин Камболет.
— Уходи!
— Уходи, Тамбиев!
— Мы тебя выслушали и убивать тебя не хотим.
— Не поручал тебе царь говорить с нами...
Камболет поднял вверх руку с палкой.
— Горе вам, если царь пришлет своих послов,— прогрохотал он, багровея всем лицом.
— Да ты что, пугать нас? — удивленно спросил Шехим и сделал шаг вперед.
Но как только люди увидали, что Шехим двинулся вперед, за ним сразу двинулись все. И сам Шехим не мог понять, что произошло — он ли двинулся вперед, его ли двинули вперед снизу напиравшие люди, — но вдруг его точно вынесло вперед и он увидел ужас на лице Тамбиева, увидал, как посерело его лицо. Тамбиев пятился, держза на поводу лошадь, но пятиться ему
590
было некуда: за его спиной ревела Мельница нартов, а на него шла многотысячная толпа. Но, видно, черный народ был ему страшнее, и он вдруг прыгнул в поток, только лошадь его осталась над обрывом.
Люди ахнули, Шехим подбежал к берегу, увидел, что Тамбиев стоит на маленьком, заливаемом водой камне, стоит, окатываемый водой, усы его обмокли и обвисли.
— Мусульмане! — закричал он, и странно было слышать этот жалобный возглас. — Слушайте меня, мусульмане, — я такой же, как вы, мусульманин, так послушайте меня. Вам известно, должно быть, что весь род наш именитый, властвовавший над всем, что вы вокруг себя видите, сметен белым смерчем — силой падишаха, белого царя. Я один уцелел, былинка хилая, и не своей смерти боюсь, мусульмане, но бесследной гибели рода. Я вас люблю, мусульмане, и только предостеречь вас хотел от того, что мы, Тамбиевы, на себе испытали.
— Ты сказал! — раздался вдруг торжествующий голос, и Шехим увидел, что над неисчислимыми толпами, залившими берега, возвышается на лошади мулла Шаик; торжеством сияло его зловещее лицо. — Вот как пришло к тебе, Камболет, озарение: падая в бездну, ты вспомнил о том, что ты мусульманин, и за это твоя жизнь будет спасена.
Никто из крестьян не успел вымолвить, слово, как мулла ловко бросил Камболету веревку. Камболет поймал ее, обвязался, и, послушно выполняя приказ муллы, крестьяне перетянули лесничего через поток. И Камболет, как только оказался на твердой земле, весь мокрый, прижался к стремени Шайка, к зеленому сафьяну его сапога. Шапку он потерял, и мулла положил руку на его синюю бугристую, бритую голову.
— Мусульмане, — говорил Шаик,.— мы примем обратно этого заблудшего, ибо наступает время великих дел — пророк собирает нас! Камболет по неразумию встал на вашем пути, — не было ему открыто, что пришел час отмщения. Мне дано руководствовать вами, указывать и направлять. И я указываю вам: или вы не слышали, как стонут родные горы, кощунственно сотря
591
саемые теми, кто кладет через Веселоречье железный путь?
Так кричал он, и безостановочный рев Мельницы нартов вторил ему. Шехим по лицам людей видел, что мулла точно темным кипятком заливает те мысли, которые привели его односельчан сюда, на пастбища, что, коварный, обманывает он народ, что с целями, Шехиму неведомыми, хочет он кровопролития. И вдруг, нарушая правила пристойности, он громким окриком прервал Шайка:
— Эй, мулла, зачем ты о железном пути речь завел? Железный путь на пользу тем, кто живет в глухих местах, а люди, которые его строят, на пастбища наши не посягают. Разве ярлыки на пастбища наши они получили? Султанюковы, Карымовы, Урусоковы, Дудовы, Батыжевы — старая напасть, старая наша болезнь, князья и княжата, трутни и шмели, которые испокон веков жрут веселореченский трудовой мед, — вот о ком надо тебе сказать, мулла Шаик. Но ты молчишь, — так я скажу, соседи и родичи. Вспомним, зачем мы сюда поднялись? Мы на пастбища наши пришли, чтобы их крепко держать в руках своих...
Он дальше хотел говорить, но гул одобрения заглушил его слова. Он видел переменившееся от злобы лицо Шайка, но что ему было до Шайка? Туман темных слов муллы развеялся, снова стала ясно видна дорога к разумному, светлому счастью.
— Талиб, сын мой... — прошептал он.
Глава третья
Жамбот спал. Он знал, что спит, и мучился тем, что не может проснуться. Его будил и никак не мог пробудить какой-то жалобный, пронзительно-серебряный плач. Неужели это плачет женщина, которую он встретил на дороге в аул Дууд и обещался охранять? Да, это плачет она, на руках ее ребенок, и гнусная собачья стая, те кобели, что сотнями бродят по улицам Стамбула, жрущие помои кобели, хрипя и лая, налетали на нее. Ненавистнее этих собак ничего не было на свете.
592
Жамбот хотел бы кинуться ей на помощь, во сне скрежетал зубами, но не мог одолеть тяжести сна. Плач и призывы о помощи не смолкали. Не Оркуят ли плачет, та могущественно расцветшая и в своей слабости ему недоступная женщина, с которой он говорил в первую ночь своего возвращения в аул?
Жамбот, хрипя, дернулся и одолел сон. Он лежал посреди комнаты на шкурах, рядом спала жена. Было жарко, и ее смуглота в полутьме казалась еще темнее. Да, конечно, Оркуят здесь нет, но то, что во сне было ее голосом, этот серебряный призывающий звук еще продолжал звучать... Жамбот вскочил и вышел из дому.
Был предрассветный час, небо быстро, на глазах, голубело, белесые волокна ночного тумана разбегались, — они струились через аул, они скапливались в сырых местах, и одновременно с их движением по аулу повсюду, переходя с одной кровли-двора на другой двор-кровлю, двигались овцы... Они блеяли, хрипло лаяли собаки, — наверное, их лай казался Жамботу во сне лаем стамбульских псов. А голос Оркуят преобразился в серебряный, звонкий и необыкновенно резкий напев, напев, который вел Эдык, пасынок Жам-бота: приложив к губам свою новую дудку, которую вчера сам Жамбот смастерил мальчику из старого ружейного ствола, Эдык вел призывающий пастушеский напев.
Жамбот видел мальчика снизу: тоненький, в длинной белой рубашке, черной войлочной шляпе и черных чулках, стоял он, приставив ногу к ноге; играя, перебирал пальцами по тем шести ладам, которые просверлил ему Жамбот. Мальчик играл, опустив свою дудку вниз, и эти звуки, во сне протекая через душу Жам-бота, становились печальными, наяву же были приветливо-веселы. Овцы гурдыевского поселка сами, без кнута и палки собирались и грудились вокруг Эдыка. Но не только гурдыевские. Жамбот видел, как повсюду, куда только доставал голос дудки, овцы поворачивали свои убогие головки в сторону Эдыка, и если бы не пастухи, то они все бы собрались в гурдыевское стадо.
38 Ю. Либедияский
593
— Аймыш, — прошептал Жамбот. — Но ведь у Ай-мыша была обычная тростниковая дудка, а такой дудки, как у Эдыка, наверное, не было еще ни у одного пастуха во всем Веселоречье.
Развеселившись, Жамбот вернулся в свой дом. Жена его уже оделась, открыла окна и двери и скликала детей, чтобы кормить их; ее хрипловатый голос звучал весело. Как не веселиться — муж снова дома. В первые дни по возвращении Жамбота домашние дичились его: обгоревший под солнцем и весь заросший, он был страшен. Теперь с ним свыклись и увидели, что он такой же, каким был всегда, — ласковый, нежный и веселый.
Сновидения сегодняшней ночи, мучившие Жамбота, рассеялись и даже забылись, но оставили в душе какое-то тревожное ожидание, — они точно предвещали необычный день. Впрочем, сегодняшний день будет необычен — сегодня на пастбища выгоняют стада.
Вместе с Эдыком Жамбот сидел на старом дворе Гурдыевых и натачивал ножницы для стрижки овец, когда нужно подправляя их молотком, и рассказывал Эдыку о тайнах обработки металла.
— Но ты, отец, не знал ведь кузнечного дела, когда уходил от нас?—спрашивал Эдык, счастливо и преданно глядя на Жамбота.
— Да, ушел я плотником, а вернулся кузнецом. Бил молотом у одного кузнеца недалеко от Трапезунда. «О жар горна, о жажда гортани, о жар души моей, жажда любви неутолимая», — запел он и вдруг всхлипнул. — Не удивляйся, мальчик, — сказал он встревоженному Эдыку, — мне приходилось слышать персидских певцов: у них принято так петь, перемежая всхлипываниями песнь. Но это лишь притворство. Я тоже притворяюсь.
Но почему слезы были на его глазах? Или это дым попал ему в глаза? Ведь сидели они у очага, у вечного огня гурдыевского поселка.
Слабенький прозрачно-рыжий огонек трепетал между белой золой и черными угольями и пожирал солому и :ветки, и дымок тянулся прямо вверх, откуда падал сейчас яркий дневной свет, и четкие тени бревен
594
и балок ложились ня розовый глиняный пол, на каменные плиты, из которых составлены сиденья вокруг очага. Двор похож на просторную комнату без потолка, во всех стенах двери, каменные лесенки спускаются сверху, — здесь средоточие жизни всего гурдыевского поселка. Все грубо и голо, везде дерево, камень, земля. Закопченная черная цепь висела над очагом, но котел был с нее снят, и сейчас в нем не варят, — только вилка с искусно выделанными роговыми зубьями висела рядом с цепью и напоминала о тех общеродовых праздниках, когда старший доставал этой вилкой из кипящего котла ароматное, окутанное паром мясо. Круглые, как солнце, деревянные блюда прикреплены на стенах, и тамга в виде солнца с лучами (солнце — старинный знак Гурдыевых, прародитель которых пришел с полуденной стороны) стоит прислоненная к стене. Гурдыевы солнцем — кружком с лучами — таврят свой скот. И это же желтое гурдыевское солнце вполовину обозначилось на багряной ткани, заложенной в неуклюжий, огромный и древний ткацкий стан, но ткачих тоже нет — сегодня женщины кончают стрижку овец.
Все неизменно в этом самом заветном месте гурдыевского поселка, так здесь было всегда. Сменяются только старики у очага, — много стариков за это время, пока Жамбот странствовал, тихо исчезло в Дууде. Теперь у очага сидит кривой и рыжий Казбот с таким же, как у Жамбота, веселым и задумчивым носом; скупо подкладывает он в огонь то веточку, то пучок соломки своей трясущейся, тонкой рукой. Он •прислушивается к тому, что Жамбот рассказывает Эдыку, и слабые улыбки, то восхищенные, то недоверчивые, пробегают по темным губам старика.
— Эй, Гурдыевы! — крикнул кто-то вдруг сверху. — Когда скот погоните? (В отличие от Старого аула и аула Веселого, в Дууде каждый родовой поселок пас сам по себе, и главного пастуха, каким был для всех стад Старого аула дед Магмот Данилов, здесь не было.)
Жамбот поднял голову. Какой-то незнакомый мужчина стоял на кровле. Снизу казался он очень высоким. Расставив ноги, стоял он над гурдыевским двором, держа в руках толстую суковатую палку. Его
595
38*
лицо в молодой кудряво-черной бороде было смугло, глаза удлинены, рот, маленький и четко прорезанный, проступал сквозь молодую, еще редкую растительность.
— Сегодня погоним, — дребезжащим голосом, с усилием ответил Казбот. — Заходи, человек, будешь гостем.
Мужчина ловко соскочил сверху. Он поклонился гурдыевокому очагу и, подняв с земли несколько соломинок, бросил их в огонь. Поздоровался с Казботом и Жамботом. По тому, как оглядывался он, видно было, что раньше ему здесь не приходилось бывать. Здороваясь с незнакомцем, Жамбот увидел, что в глазах его появилось что-то странное, не то он удивился, не то смутился.
— Садись, садись, — говорил старик. Но пришедший не сел.
— Я от Батоковых,—сказал он. — Пришел сообщить вам, Гурдыевы, о большой беде.
Старик взглянул на лицо пришедшего, и тревожное и даже гневное выражение, которое было на молодом и мужественном лице Батокова, отразилось на его старом лице. И Казбот обернулся к Эдыку.
— Сходи, мальчик, созови людей нашего поселка сюда. Скажи, старый Казбот зовет.
Эдык мгновенно исчез. Батоков не спускал с Жам-бота глаз, и Жамбота волновало и сердило это.
— Ты Жамбот Гурдыев? — спросил тот наконец. — Который был изгнан?
— Да, — сумрачно ответил Жамбот, почему-то встав,
Теперь они стояли друг против друга. Жамбот был шире и крепче, Батоков стройнее, выше, и одет он был по-горски, в отличие от Жамбота, на котором была еще сборная одежда его странствий.
— Я не хочу вражды между нами, — сказал Батоков. — Ты смелый и хороший человек, но судьба отдала мне твою долю, — сказал он почти шепотом.
И Жамбота качнуло, — этот -шепот как бы сильно толкнул его.
Работал ли он в кузнице, просыпался ли ночью, пел ли он песни или слушал дудку Эдыка, все равно неот*
596
ступно владело его душой одно стремление — жажда неутолимая! Но между ним и ею, он знал, есть некто, кому бы лучше на свете не жить, «и вот он здесь, стоит перед ним. И сквозь пленку неприязни видел Жамбот, что человек этот хорош — красивый, сильный, смелый, •говорит откровенно и точно прощения просит. «А я ведь сманивал от него Оркуят...»
— Оставь меня, человек, — глухо сказал Жамбот. — Зачем ты встал передо мной со своим счастьем, которое тебе удалось взять из-за беды моей?
Батоков ничего не ответил. Он оглянулся. Изо всех дверей, по всем лестницам собирались сюда Гурдыевы, и Батоков сказал шепотом Жамботу:
— Ты услышишь сейчас такое, что забудешь вражду ко мне. — И громко, возвысив голос, он сказал: — Гурдыевы! Зовут меня Батоков Мембот. Как у нас всегда водится, мы первые погнали наш окот с зимних •на летние пастбища. Но исполнился злой хабар. Дудовы захватили пастбища и преградили нам путь. Они пропускают только тех, кто заплатит им долю приплода или деньгами. Сами обманщики, они в долг не верят. Есть в нашем поселке богатые люди, которые могут легко откупиться. Но мы пригрозили нашим богачам Айхаду и Темиркану, и они не отклонятся от пути народа и вместе с нами будут добиваться правды. Гур* дыевы, братья!—воскликнул он, подымая голос. — До какой поры будем мы терпеть насилие Бисмалеевой породы? — Он замолчал и взбросил bib ер х руку с палкой, и все Гурдыевы поняли, на кого поднята эта палка. Конечно, рассказанное Батоковым не было новостью —Дудовы давно уже бахвалились и угрожали,— но не верилось, что они отважатся на хищничество, столь кощунственное.
«Так вот что за стая псов мне приснилась,— подумал Жамбот. — И эта палка поднята на них!»
Жамбот не сводил глаз с Батокова, не проронил ни одного слова его.
Гурдыевы зашевелились, заговорили. Дудовы! Ведь на памяти стариков княжескому холопу достаточно было положить камень у входа в саклю, как хозяин ее не мог уже выйти из дому и ждал, пока госпо*
597
дин придет и его выпустит, взяв с него столько, сколько захочет. Так же было с сенокосными и пахотными угодьями. Палка Дудовых с их грубо вырезанным знаком — бараном, вставшим на дыбы, — такая воткнутая в землю палка означала запрет этой землей пользоваться. Дудов мог прийти в любой из поселков, в любую семью и жить там сколько ему захочется. Происхождение Дудовых считалось божественным, даже слюна их была целебна: если ею смазать прыщи, они должны пропасть. И находились бессовестные и обнищавшие Дудовы, которые торговали своими плевками.
Народ не забывал восстания Тхамали и низложения Бисмалея. В ауле Дууд помнили, что возмущение Тхамали началось с того, что Бисмалей, ехавший однажды на своей арбе, встретил тяжело груженную камнями арбу. Крестьянин, по обычаю, свернул и поехал за Бисмалеем, — так полагалось: всякий встречный должен был ехать за князем, пока тот его не отпустит. Но Бисмалею захотелось позабавиться, и он не отпустил крестьянина. А вол у крестьянина был заморенный, под конец он зашатался, упал и издох. Справедливый Тхамали, который был в это время в свите Бисмалея, возмущенный бессмысленной жестокостью, пустил стрелу в колесо Бисмалеевой арбы, ту стрелу расплаты, с которой он начал восстание. Аул Дууд первый поднялся против Бисмалея и отрешил его от княжества. Много тогда побили Дудовых. Но мир был потом восстановлен, и Дудовы остались Дудовыми.
— Собака даже на луну лаять не боится, — говорили Дудовы, когда до них доходил ропот народа.
Их чванство вошло в пословицу. Сами выдавая дочерей за чужих князей, и особенно охотно за Батыже-вых, они свято соблюдали чистоту своей крови и женились только внутри своего многочисленного рода.
— Руки Дудова созданы только для войны, — говорили они.
— Ленив как Дудов, чванлив как Дудов, хвастлив как Дудов, — так говорил народ о дудовоких замашках.
— Много расплодилось Дудовых, а у многих пасту
598
хов бараны дохнут, — вздохнув, сказал вдруг старик Казбот, и сразу грозно зашумели, заговорили мужчины, заплакали женщины на кровлях.
— Гурдыевы,— сказал Мембот. Батоков, — когда вы погоните стада наверх, пусть каждый мужчина возьмет все, что может служить для боя. Топор в руках храброго сильнее ударит, чем ружье в руках труса.
И, сказав так, он ушел.
За час ходьбы, далеко опередив медленное движение гурдыевских стад, Жамбот поднялся до пастбищ аула Дууд, обрывистых нагорий, отделенных друг от друга глубокими пропастями, в которых, невидимые сверху, шумели ручьи. Здесь над лугами нависали голубые и белые, грязноватые стены ледников. Это ледники натащили сюда и нагромоздили валуны и камни; это ледники непрестанно рождали ручьи, которые маленькими и звонкими водопадами орошали пастбища и падали в пропасти.
На скотопрогонной дороге, огибающей пастбища, грудились овцы, мычали коровы, теснились люди. Жалобное блеяние не прекращалось ни на мгновение, и порой в него врывалось то отчаянное рыдание женщины, то собачий лай, то рев. быка, и все это вместе складывалось в один напев бедствия, негодования и горя.
Но за чертой дороги простиралась весенняя веселая зелень лугов, покоящихся в тишине, и что-то зловещее было в этом: ведь вдоль дороги, отделяя скопившийся на ней скот и людей от чистых и открытых пространств пастбища, как псы, сновали взад и -вперед всадники в черкесках, — это были Дудовы и их слуги.
В Дууде скот кормил и одевал людей. Сеять хлеб на этом скалистом, высоком нагорье, открытом всем ветрам мира, -было невозможно, и те скромные сады, которыми гордился род Батоковых и некоторые другие поселения, взращены были многими веками кропотливого и заботливого труда. В Дууде среди лета порою выпадал снег, мог даже ударить мороз, — вот почему руно дуудских овец славилось особой пышностью. Но даже самый неприхотливый злак не мог перенести мороз в нежную пору цветения.
599
Жамбот прошел по дороге. Он шел уже около часа, миновал садыковокие и лайпоковские стада, но разностройный и монотонный напев горя все не прекращался. Вот женщина пересчитывает овец; ее щеки мокры от слез, волосы выбились из-под платка; вот еще две громко бранятся; их овцы перемешались, и одна соседка показывает другой тавро на ноге овцы... Женщины суетятся, плачут, бранятся, перекликаются.
Старики безмолвны. Окруженные овцами, они стояли, опираясь на длинные посохи с загнутыми око-нечьями, которыми можно при необходимости зацепить овцу за шею. Мужчины собирались в кучки и тихо разговаривали. Увидя Жамбота, они, замолкнув, глядели на него. Он здоровался, они отвечали и опять глядели вопросительно.
Стада Батоковых скопились здесь. Батоковы — рослые мужчины в черных войлочных шляпах, чернобровые и сумрачные.
«Сейчас увижу Оркуят», — подумал Жамбот и тут же увидел ее. Обняв издыхавшую овцу и положив ее кроткую морду на свои колени, сидела она, глядя перед собой на зеленые пустые пастбища. С мучительным чувством близости, которое оставил после себя сон прошедшей ночи, глядел Жамбот на ее бледное, заплаканное лицо: тоненький нос, полуоткрытый маленький рот; она не могла не заметить его, но ни одного движения в его сторону не сделала она.
Рядом с дорогой, гикая, проскакал всадник, за ним другой. Вдруг вблизи отчаянно закричали женщины, все всколыхнулось, и Жамбот увидел, как неподалеку кучка овец прорвалась на луга.
С гиканьем поскакали за овцами Дудовы в ярких черкесках и их слуги в темных и рваных бешметах. За ними с криком побежали женщины. Но Дудовы загоняли овец в -глубь пастбища, отбивали их от хозяев; по спинам овец и по плечам женщин защелкали красные дудовские кнуты. Вдруг один из князей, юный, в коричневой черкеске и белом башлыке, схватил с земли черного барашка. Барашек с блеяньем мелькнул в воздухе белыми своими коленками, блеснул на солнце кинжал, и толпа ахнула и зарокотала:
600
‘кровь брызнула на зеленую траву, и, потрясая позорной добычей, всадник поскакал в глубь пастбища, где на возвышенном месте издали видны были белые скатерти, Туда было далеко, но Жамботу казалось, что он услышал отдаленные звуки плясовой песни; он видел, как вокруг белых прямоугольников скатертей мелькают и дергаются фигуры пляшущих... Небо безоблачно, солнце сегодня горячее, свежий, напоенный снегом ветер чуть веял со стороны ледников. Кровавый след обо; значал путь, по которому проскакал молодой князек.
И у Жамбота в груди запела та новая песня, которую составил он, вернувшись в Веселоречье: орел падает на белую овечку, достояние бедной девушки, молодой богатырь стреляет в орла, убивает его, сражает медведя, бьется с притеснителями за достояние бедной девушки, за белую овечку...
— Пятый шашлык жрут, — громко сказал неподалеку от Жамбота старый пастух. — Или опять пришли времена Бисмалея? — спросил он.
— Издохла!—воскликнула вдруг Оркуят и, прижав к груди голову овцы, заплакала в голос.
Точно узнав то, ради чего он поднимался сюда, Жамбот круто повернулся и пошел навстречу гурдыев-скому стаду. Он увидел тех же овец и тех же коров, тех же плачущих женщин и неподвижных стариков, услышал тот же непрекращающийся напев отчаяния и горя. И вдруг этот напев прервался. Оттеснив овец, коров и женщин, стояла посреди дороги толпа мужчин. Чей-то пронзительный, тонкий голос слышен был из-за темных спин. Жамбот приблизился, поднялся «а цыпочки и из-за спин увидел узкоглазого юношу в белой чалме — муллу дуудской мечети.
— Мне не жалко, люди, ног моих, — говорил мулла, — лишь бы это ко благу вашему было. Сейчас я опять окажу: потерпите, может быть устыжу господ.
— У Дудовых стыда — что волос на камне! — крикнул кто-то, и сразу люда вперебой заговорили, зашумели:
— Как же, терпи! Терпеливую овцу три раза доят.
601
— Эй, слово я сказать хочу! — повелительно крикнул маленький старичок.
Один глаз у него вытек, другой, с бельмом, яростно выпучен. Лицо морщинистое и темное, руки трясутся. Видно, что он очень стар.
Все замолкли.
— Ты им вот что скажи, — повелительно сказал старик, обращаясь к молодому мулле, — ты скажи им: «Дудовы, что это вы задумали? Шубу режете и шапку делаете? — и он показывает на зеленую шкуру пастбища, раскинутую по нагорью. — А зима студеная придет — что наденете? Чем прикроетесь?»
Вдруг старика перебил чей-то молодой голос:
— Скорей в камень войдет слово, нежели в Дудова. — И никто не укорил его за то, что он перебил старика. — Мы, Ирижевы, ходили к Дудовым, плакали перед ними, и Ширануко Дудов так нам сказал: «Плачете? Плачьте!.. Черному народу легче слезу из глаз своих выжать, чем золото из кармана».
И, глядя на скуластое злое лицо молодого Ирижева, Жамбот представил себе этого толстобрюхого Ширануко с черными и редкими бровями. Нет, он не ездит на арбе, он красуется верхом на маленьком белом коне, — этот конь составляет все его богатство. Но хоть не ездит Ширануко на арбе, все равно о нем поют: «Эй, Бисмалей, твое брюхо как студень; эй, Бисмалей, возят тебя на арбе».
И вдруг въявь раздался этот напев: необычайно резкий, повелительный и в то же время призывающий, — и все люди повернули головы.
— Аймыш! — испуганно сказал вдруг кто-то из стариков. — Это Аймыш идет сюда.
Мулла рассердился. Его мало почитали в этом языческом ауле и в приземистую, сложенную из дикого камня мечеть не ходили. Молились здесь красной скале, имевшей причудливый вид барана, лежащего на голой вершине Дуудской горы, — разве не ясно, что это сатана, изобретательный на выдумки, дерзновенно принял очертания, соблазнительные для диких пастухов?
Только что слуге Магомета как будто бы удалось
602
заслужить уважение .своих коснеющих в язычестве прихожан. Несколько раз ходил он от князей к людям, от людей к князьям, пугал князей народным гневом, пугал людей тем, что в случае бунта русский царь пришлет на помощь Дудовым свои войска. Правда, примирение не удавалось, но обе стороны видели рвение муллы, — следовательно, дело аллаха было в выигрыше. И вдруг этот резкий и дерзкий звук пастушечьей дудочки, голос несмирившегося язычества. Мулла увидал приближающиеся снизу, от аула, гурдыевские стада, впереди которых шел смуглый босой мальчик, приложив к губам свою чудесно блестящую на солнце длинную дуду...
И Жамбот узнал. Да, это был пасынок его Эдык, который, играя на дудочке, подобно волшебному пастуху, вел свои стада на пастбища. И порожденная этим звуком вдохновенная мысль вдруг молнией мелькнула в голове Жамбота. Он побежал навстречу гурды-евоким стадам, сказал Эдыку на ухо два слова... Эдык согласно кивнул головой и, не отнимая дуды ото рта, повел гурдыевские стада прямо через дорогу, на заветное пастбище. А Жамбот пошел рядом с Эдыком.
Всадники налетели было на них, но нет послушнее животного, чем овца, идущая за пастухом. А дудка Аймыша продолжала звучать над пастбищем, и вслед -за черным языком гурдыевского стада со всех сторон, прорывая тонкую цепочку всадников, кинулись на пастбища овцы, увлекая за собой тяжелую массу крупного скота. За скотом, размахивая палками, бежали старики и дети. Кинжалы блеснули в руках мужчин, Жамбот видел, что смятение наступило возле белых княжеских скатертей. Окончилось пиршество. Князья вскочили на коней и сворой -гончих поскакали навстречу и наперерез стадам.
Но поздно. Стада растеклись по пастбищу, овцы затрудняли движения всадников, пастухи размахивали посохами перед мордами лошадей. Непрекращающийся женский визг, щелканье кнутов, овцы, то выпрыгивающие из-под копыт коней, то кидающиеся им под копыта, — все это пугало лошадей, и они, фыркая, становились на дыбы.
603
Забыв обо всем, стоял Жамбот посреди пастбища и хохотал.
— Вот так Дудовы! Вот так захватили пастбища! — кричал он.
Вдруг смолкла дудка Аймыша, и оживленная картина, которая была перед глазами Жамбота, как бы утратила что-то, все стало разностройно и пасмурно — точно солнце зашло.
Жамбот тревожно оглянулся и сразу увидел Эды-ка, — тот бежал прочь, а за ним на маленькой белой лошади гнался сам толстый Ширануко Дудов; он размахивал шашкой, и она молнией блестела над его головой. Он бы несколько раз догнал уже мальчика, но Эдыка спасали овцы: мальчик через них перескакивал, а лошадь Ширануко пугалась и становилась на дыбы. Жамбот, выхватив у старика, который стоял рядом с ним, его длинный посох, со всех ног кинулся на выручку пасынку.
Он опоздал на несколько мгновений, Ширануко только что опустил шашку. Эдык упал, и тут же Ширануко, странно взбросив кверху шашку, выронил ее. Она взлетела и упала в траву, а Ширануко, побагровев, схватился за горло: Жамбот зацепил его шею загнутым концом посоха. Ширануко выпустил поводья, он задыхался, но Жамбот не выпускал посоха. Теряя власть над собой, Ширануко, забыв, что на сапогах его острые шпоры, прижал ноги к бокам коня, и конь взвился и, обезумев, кинулся с кручи вниз, в одну из тех черных пропастей, которые врезались в яркую зелень дудовских пастбищ. Если бы Жамбот не выпустил посоха, он бы последовал за своим врагом. Он стоял на самом краю пропасти, — несколько шагов ниже, над обрывом, еще качались кусты малины... Глубоко внизу выла вода.
Выстрелы и крики привлекли его внимание.
Совсем иначе выглядели сейчас пастбища. Убийство Эдыка и немедленное отмщение, которое совершил Жамбот над Ширануко Дудовым, показали людям, как надо поступать с Дудовыми. Мужчины, женщины, старики налетали на всадников, стаскивали их с коней... Дудовы отстреливались, несколько крестьян лежали мертвыми на поле, но люди позабыли страх и покор
604
ность: они стаскивали врагов с коней, волокли их к краю пропасти, бросали туда живьем, словно Ширануко указал зловещий путь всем своим родичам. Расправа была быстрая. Уже ни одного всадника не было на пастбище, только кое-где бегали оседланные кони. Услышав вой Калимат над телом Эдыка, Жамбот направился к ней.
— Эй, дуудцы! — услышал он вдруг.
Батоков Мембот, муж Оркуят, сидел верхом на лошади. Шапку он потерял, но похоже, что вместо нее на голове его была красная чалма: бритая голова -его была окровавлена, и кровь стекала на его смуглое лицо, побледневшее до зеленоватости. Держась рукой за стремя коня, шла рядом с ним Оркуят.
— Эй, дуудцы! — зычно кричал Мембот. — Они нас от себя отделили, они называют нас «черный народ», так пусть же так и станет: мы — черный народ. Черная смерть на Дудовых! Эй, Ирижевы, Гемуевы, Батоковы, Гурдыевы! Садись на княжеских коней, бери княжеское оружие, черный народ! Аймыш нам путь показал, вечная память ему! Жамбот Гурды ев первый Дудова убил, — слава Жамботу! Пришел час освободить Веселоречье. Эй, Тхамали!
— Эй, Тхамали!—серебристо-звонко закричала за ним Оркуят.
Памятью сегодняшнего сна отозвался в душе Жамбота ее голос.
«Так вот зачем должен я был вернуться на родину»,— подумал он.
— Курица петухом запела, — неодобрительно сказал какой-то старик, но пастбища уже гудели необыкновенным хором соединенных мужских и женских голосов.
— Эй, Тхамали, поднимайся, черный народ!
И даже женщины у трупов родичей прервали похоронный плач и влили в этот хор свои голоса.
В тот момент, когда шашка Ширануко Дудова блеснула над головой Эдыка, мулла отвернулся от того, что происходило на пастбище, и пошел в аул. Сначала он
605
шел быстрым, плывущим шагом. Но когда страшные звуки расправы дошли до его слуха, он побежал со всех ног. Добежав до своего дома, находившегося возле мечети, он послал младшего брата, чтобы тот обскакал все аулы и сообщил духовенству о том, что произошло в ауле Дууд, и о страшной гибели князей Дудовых.
Глава четвертая
Много часов простояли старик Исмаил и его два старших сына у ворот дома муллы в Веселом ауле, где поселился Темиркан. Просили князя сменить гнев на милость и вернуться. Темиркан даже не вышел к ним. Единственно Кемалу, который вместе с князем ушел из родного дома, продолжал доверять Темиркан и больше никому во всем Баташее.
Асланбек предостерегал, грозил гибелью, уговаривал сейчас же уехать в Арабынь.
— Нельзя нам ехать: завтра старшину выбирать будут, — отвечал Темиркан.
— Час промедления грозит гибелью, — настаивал Асланбек.
Ничего не отвечал Темиркан, хотя не хуже, чем дядя, чувствовал смертельную опасность, им угрожающую. Эта смертельная опасность была не только в мятежной дерзости Науруза и Хусейна, — еще страшнее была та ласковая, двоедушная хитрость, которую вдруг обнаруживали самые смиренные крестьяне, такие вот, как Али Верхних Баташевых. И сейчас за каждым ласковым поклоном и приветливым словом угадывал Темиркан хитрость и опасался, что его хитрости противостоит враждебная мужицкая хитрость. Он предполагал, что очаг этой хитрости тлеет в поселке Даниловых, у Магмота Данилова: ведь это он, принеся во двор Батыжевых окровавленные тряпки, доказывающие будто бы гибель Науруза, коварно обманул Темиркана. А Науруз жив и поселился с дерзкой своей любовницей Нафисат у деда Данилова. А ведь деда Магмота Темиркан помнил с детства: каждую весну и
606
осень, а иногда посреди лета появлялся Магмот в ара^ быньской усадьбе Батыжевых; ласково склонившись к Темиркану, рассказывал смешные сказки о жизни зверей в лесу, о богатырях древности; приносил ему живых белок, ежей, ящериц и птичьи гнездышки с таинственными яичками в них. Совсем недавно, ранней весной, он, видно, не зная еще, что хитрость его разгадана, приходил к Темиркану, когда князья еще жили у Верхних Баташевых, и был таким, каким Темиркан помнил его с детства. Бездонная мужицкая хитрость! И Темиркан сам хитрил, петлял и изворачивался, предполагая против себя противника такого же хитрого, как он сам, и аул казался Темиркану опасным болотом: если только не прыгнуть с кочки на кочку — увязнешь и погибнешь.
Слухи шли по аулу, первые сбивчивые слухи о кровавых событиях в ауле Дууд, где князья стаей взбесившихся псов ворвались на пастбища. Дошли уже слухи в Баташей о том, что поднялись крестьяне в Веселом ауле и Байраму1ковс1ком ущелье. Но князя никто не осведомлял, — перед ним кланялись, ему улыбались... Скрытничали с Кемалом, скрытничали с муллой, в доме которого жил Темиркан. Темиркан не знал о том, что происходило -во всем Веселоречье. Но если бы и знал, он не уехал бы из Баташея.
Темиркан никому не говорил, но сам он отчетливо понимал, что заставляет его, вопреки доводам рассудка, оставаться в ауле, притихшем как перед грозой. Он чувствовал, что рискует жизнью. Но борьба с дерзким Сыном Пастуха приобрела теперь для него силу обязательства: ему брошен был вызов, а раз так — ему нельзя уйти с места поединка. Надлежит здесь, где предок Батыж за ослушание и дерзость убил Баташа, — .кровью дерзкого пастушонка утвердить свою власть над этим аулом, исконным достоянием Батыжевых.
Настал день выборов, и Темиркан прибыл на собрание стариков, туда, где всегда выбирали старшину аула, на пустой, неровный, каменистый двор возле приземистой мечети. Люди садились прямо на землю. Для Темиркана на ступени минарета навалили кошмы, на
607
ложили узорчатых подушек, и ему сверху видны были эти смуглые и загорело-красные и неподвижные лица под войлочными шляпами, барашковыми круглыми шапками с пестрыми, желтыми, красными, зелеными верхами. Кое-где возвышались папахи, узорчато пестрели тюбетейки. Бледный и болезненный, худощавый мулла, красивый, если бы его лицо не было искажено страхом, коверкая русский язык и заикаясь, прочел, как это всегда водилось, последние распоряжения властей, а в числе их также и «разъяснение» о новом порядке пользования пастбищными угодьями. Он читал и тут же переводил, путаясь и сбиваясь, не находя слов, заикаясь сильнее, чем обычно.
«Боится, — думал Темиркан. — Боится всех* Боится меня, боится богатых, боится бедных».
Не изменяя дремотно-снисходительного выражения лица, зная, что на него смотрят, Темиркан из.-за прищуренных век оглядывал их и видел всё те же неподвижные лица. Впрочем, слушали внимательно, тихо, пожалуй даже почтительно, кое-кто даже кивал головой, и это можно было истолковать как согласие и одобрение. С противоположной стороны двора, возле стены, окружавшей двор и сложенной из неровных камней, Темиркан с самого начала видел пышные усы деда Магмота, — и дед тоже слушал внимательно, приложив ладошку раковиной к уху. Пока как будто все шло спокойно.
Но у всех людей глаза были точно изнутри застланы непонятный выражением: не то вопросом, не то раздумьем... Мулла кончил и с испуганной улыбкой повернулся к Темиркану.
— Такое важное дело... Может, господин Темиркан что-нибудь скажет и его нам пояснит? — спросил он.
Темиркан взглянул изумленно на муллу. Что это означало: предательство? Страх перед крестьянами? Почему мулла не предупредил Темиркана о том, что ему придется сказать первое слово? Но медлить нельзя было ни секунды, и Темиркан уже говорил:
— Великому падишаху Николаю, неизменному покровителю нашего народа и высшему судье, угодно
608
было со всей зоркостью своей взглянуть на пастбища наши: они безначальны, они переполнены овечьими стадами, а государство нуждается в конях. Кто может дать государству коней? — спросил Темиркан и оглядел множество лиц, обращенных к нему снизу вверх.
Он знал здесь многих, почти всех, но знал поодиночке, а сейчас все вместе они сливались в какое-то одно неизвестное и чужое ему лицо, со своим каким-то общим выражением, и он не мог уловить его. Испуг? Недоверие? Любопытство? Размышление?
Но пока все молчали. И со смелостью, свойственной ему в те минуты, когда от него требовалось действие, Темиркан сказал:
— Дать государству коня, столь нужного для войны, могут только богатые люди, — вот почему его величество вручает землю богатым и с богатых будет спрашивать за порядок и процветание этой ранее дикой земли. Я советую вам, люди, спокойно принять этот новый порядок. Наша семья никогда не теснила вас, люди Баташевой долины, но обороняла и стерегла: клятва Батыжа крепка, течет вода в Баташевой канаве. И сейчас мы тоже не будем никого теснить. Я отдал распоряжение главному пастуху нашему, известному вам почтенному Магмоту Данилову, допускать на наши участки всех, у кого только будет нужда в пастбище. К бедным мы всегда благоволили, так же и сейчас будет. — Он говорил благодушно, великодушно, осторожно, ему казалось, что люди смотрят на него с благодарностью. — Ну, а осенью сойдемся на приплоде, долги хоть на десятилетие рассрочим.
— Какие долги? — вдруг прервал его речь строгий, твердый и совсем молодой голос. — Долги давно уплачены, рост по долгам платим мы, никак уплатить не можем, а ты запутываешь нас в новых долгах.
Это говорил Науруз Керимов, он стоял неподалеку от того места, где видны были пушистые усы деда Магмота. Молодое румяное лицо Науруза было видно над всеми повернувшимися к нему лицами, рука его лежала на широкой, вздымающейся при дыхании груди; казалось, что за эти несколько дней он стал еще сильней и крепче.
39 Ю. Либединский
609
— Опять ты здесь, рожденный сукой? — Кемал Баташев вскочил с земли. — Опять ты здесь тявкаешь?
Науруз стоял, почтительно наклонив голову, положив на грудь свою большую, сильную руку. Темиркан видел, что выходка Кемала воспринята людьми как •неподобающая, люди хмурились, братья удерживали Кемала. Науруз стоял в прежней, полной достоинства позе.
«Хитрая игра», — подумал князь и, нахмурившись в сторону Кемала, развел руками и обратился к собравшимся.
— Что же это, старшины? — тихо спросил он. — Мальчишка, которому не место на почтенном собрании, оскорбляет его величество, мое княжество, ваше старшинство — и вы молчите?
Люди переглядывались, перешептывались. И Муса, самый старший из Верхних Баташевых (Исмаил не пришел на собрание), повернулся к Наурузу и сказал:
— Уйди отсюда, Науруз Керимов, ты молод здесь говорить.
— Старики, — ответил Науруз, почтительно кланяясь, — я знаю адат: молодой может прийти на ваш совет, оказать свое слово, а решать вы сами будете. Такой обычай...
— Что ты толкуешь о наших обычаях! — вдруг крикнул Кемал. — Старики, откуда взялся этот щенок? Тот, кого он называет отцом своим, был мятежник, помутненный ум. Но разве, когда мать не знаешь, можно об отце сказать? Черкесы, которые вернулись из ссылки и были там вместе с лекарем Керимом, которого называют отцом Науруза, говорят, что не был Керим женат и не было у него детей, что он подобрал сына шелудивой, непотребной нищенки. Об этом точно известно почтенному мулле Шайку из аула Веселого. И вот собака приходит в волчью стаю, — но не по-нашему ты воешь, и хвост у тебя собачий.
Науруз стоял попрежнему неподвижно, но рука его, лежавшая на груди, то сжималась в кулак, то разжималась, румянец схлынул с лица, все оно стало тверже, грознее, резче обозначились скулы, — не ожидал он этого удара.
610
«Молодчина Кемал», — усмехаясь, подумал князь. Он знал, какую власть над веселореченцами до сих пор имели предрассудки крови и рода: в языке весело-реченцев понятие «безродный» и «бесправный» выражалось одним словом.
— После этого тебе надлежит мирно уйти отсюда, где тебе по твоему рождению быть не подобает, — спокойно обратился Темиркан к Наурузу.
— Я уйду, — тихо произнес Науруз. — Я сейчас уйду! Но я твердо знаю обычай Веселоречья, знаю, старики, что всякий, кто обвинен перед вами, может сказать в ответ слово оправдания. Я хочу сказать вам свое слово. Может, и верно, что не Керима кровь течет во мне, а мать свою я не помню. Но вырос я в Веселоречье, вскормлен и вспоен -вами, плоть моя, кровь моя стала весел ореченская. Я вырос на тех пастбищах, отнять которые хотят у вас, и душа моя содрогается при мысли об этом, потому что душа у меня веселоречен-ская. Это правда — я безродный. У всех у вас есть отцы и матери, братья и сестры, — у меня никого нет. А вот я стою перед вами, награжденный силой, столько раз чудесно спасенный. Кто выкормил, воспитал, обучил, вооружил меня?
И Науруз вдруг медленно, молча обвел рукой собравшихся.
— Вы, весь народ. Вот стою перед вами и вижу: вон те, кто прятал меня от врагов, а вон тот, кто сберег мне отцово оружие и научил меня стрелять. Ты шил мне первые сапоги. Ты учил меня ходить за скотом. Я ваш. У меня нет рода, но у меня ‘есть мой народ, — вот мать, невидимо качавшая мою колыбель. И если я вижу, что хотят обмануть и ограбить мать мою, как же не подняться мне за ее достояние?
Науруз уже сейчас говорил громко, лицо его побагровело. Он стоял, развернув руки, как бы призывая ударить в его незащищенную грудь того, кто осмелится поднять на него руку, и князь, сжимая рукоятку кинжала, чувствовал, как дрожат его ноги.
«Вот оно, вот оно», — несвязно думал он.
Ему казалось, что он все время ожидал именно этого, что сейчас происходит. Он перебегал глазами с
611
39*
лица на лицо, но не встретил ни одного взгляда, — все глядели на Науруза, и лишь Кемал, поймав взгляд Темиркана, выхватил кинжал. Но между ним и Наурузом сразу встало несколько человек. Али Баташев удержал брата.
— Опять ты, Кемал, горячишься. Там, где языки говорят, там сталь молчит, — сказал Али. — Старики, — обратился он к собранию, — послушайте слово Али, которого с детства зовут «Али, любящий мир», «Али, боящийся крови». В этом есть правда. Я считаю, что человеческой крови надлежит находиться во вместилище нашего тела, там, куда она налита аллахом. Вы смеетесь надо мной, но, может быть, мое миролюбие сейчас пригодится, потому что мы хозяева, а что может быть обиднее хозяину драки между гостями? Господин Темиркан — наш почетный гость. Но ведь и Науруз Керимов, хотя он молодой, но верное слово сказал он о себе: он усыновленный. Первый раз усыновил его Керим, который есть шагид благословенный, второй раз усыновила его наша, мать, но не успели мы совершить обряда, и потому, не нарушая адата, он взял себе в жены сестру нашу Нафисат. Правда, о выкупе мы еще не сговорились, но живет она у верного человека, которого мы, Верхние Баташевы, уважаем, — у Магмота Данилова, значит не может быть, чтобы мы остались без выкупа. И, конечно, не допустим мы непристойной драки между гостями, — говорил он, кланяясь в сторону князя, кланяясь в сторону Науруза, разводя руками, быстро улыбаясь то одному, то другому и порою оглаживая жидкую бороду, обрамлявшую его широкое, румяное, здоровое и хитрое лицо.
И люди успокаивались, усмехались, начинали переговариваться между собой. Князь почувствовал, что самообладание, им потерянное, возвращается. И столько доброжелательства слышал он в голосе Али, что подумал:
«А вдруг Али, как и вся семья Верхних Баташевых, держит мою сторону?»
— Я хочу, старики, только одного, — сказал Темиркан.— Я хочу, чтобы человек, которому не подо
612
бает быть на этом собрании, ушел бы отсюда. Он ведь сказал свое и может уйти.
— Верно, — подхватил Али. — Иди, Науруз, — сказал он успокоительно-ласково, оборачиваясь в сторону Науруза. — Иди, ведь мы сами батыжевскую породу знаем — течет вода в Баташевой канаве! Наш Темиркан унаследовал мудрость своих предков и сам понимает, что если ему царь подарит солнышко небесное, равно всех греющее, так никак нельзя принять ему этот подарок, — сказал Али, кланяясь в сторону князя, и •все головы с выражением насмешки, враждебно-вопросительно повернулись в сторону князя. — И Темиркан настолько мудр, что откажется от царского подарка, — продолжал Али, и в ласковости его голоса, почти угодливой, вдруг послышались настойчивые и грозные ноты.
— О чем ты речь ведешь? — спросил Темиркан, не утирая пот, стекающий на лоб его из-под горячей шапки. — Какой подарок?
— Был хабар, — разводя руками, сказал Али,— хабар был такой, что будто великий падишах Николай хочет подарить тебе наши пастбища.
«О, похвальба дудовская», — подумал Темиркан, но надо было отвечать, отвечать немедленно.
— Бабий разговор, — ответил Темиркан. — Зачем нам говорить о том, чего нет? И ведь все равно: что мое — то ваше, что ваше — то мое, веселореченцы.
— Ты напрасно думаешь, Али, что Батыжев солнце в подарок не возьмет, — оказал вдруг Науруз, который •не ушел с совета. — Возьмет —и будет солнечный свет нам в аренду сдавать. Разве не взяли Батыжевы в подарок у русского царя наши веселореченские леса? Кто сеял леса? — спросил он, обращаясь к мулле. — Скажи ты, блюдущий коран, кто пролил воды с гор в долину...
На бледном лице муллы выражение страха достигло крайней степени, но он поднял вверх свою бледную, тонкую руку. Сразу все смолкли. Ободренный этим, мулла медленно, стараясь не заикаться, заговорил:
— Слушайте слово пророка: «Я благоизволил положить над вами покорность, ибо благо перед богом покорность. Раздавая жизненные блага в этой жизни, мы возвышаем одних над другими в степенях, и одни
613
держат других подвластными себе. Для тех, кто не шел против начальников и бога, открыты райские сады после смерти. Кто же не хотел мириться со своей судьбою, для тех приготовлены: цепи, ошейники, пламя, одежда из огня, кипящие воды, железные ремни и всяческие страдания...»
Он говорил наизусть, нараспев, почти не заикаясь. Люди в почтительном безмолвии слушали его.
«Не тот текст читает, собака, — думал Науруз. — Ошибся я, запутав в наш спор эту книгу, в которой можно вычитать оправдание всякого дела, и правого и неправого».
Он оглянул погруженных в молчание людей, словно тень орла прошла по лицам. Мулла, повернувшись в сторону Науруза, охрипшим голосом сказал с угрозой:
— Бог в неизреченной мудрости своей укрепил силой, препоясал властью великого падишаха Николая. Мы сами в его власти, что же говорить о его достоянии? Великий падишах вручает свое достояние не чужим нам людям, а нашим исконным князьям, — так отдадимся его мудрости и милости. И кто покусится нарушить волю падишаха — все равно что покусится на чужое. Шариат! — предостерег мулла. — Присваивать чужую землю — все равно что есть свинину, — он с отвращением отплюнулся, за ним отплюнулись многие.
Отплюнувшись, Али тут же обернулся в сторону князя, который, собрав «в бугорок свой румяный рот, нахмурившись, слушал то, что шептал ему на ухо Асланбек.
— Зачем же чужое брать? — сказал Али. — Господин Темиркан сказал нам: «Бог связал нас воедино, царь скрепил наш союз...» Так пусть бы господин Темиркан написал царю, что, как это положено по нашему адату, земля народу принадлежит, а делить ее — значит обычай нарушать, а я-де, князь Темиркан, у народа своего на жалованье: он меня кормит и одевает, и что мне положено, то я от него имею.. . Верно, старики? Ведь таков адат? Что ты скажешь об этом, господин Темиркан?
Темиркан молчит, бледнеет. Хоть бы одна мысль! Похоже, что голову заполнила страшная, белая пу
614
стота. Но все глаза глядят «на него, ждут его ответа, и, усилием воли вырвавшись из этого столбняка, Темиркан сказал тихо и внятно:
— Так и сделаю. Сам в Петербург поеду, к престолу царя. Не допущу кровопролития, восстановлю правду. — Он поднялся с места.
Но как только он поднялся с места, поднялось все собрание.
«Уйти. Скорей уйти нужно».
Но люди молча стояли кругом и не давали уйти.
— А чего тебе самому трудиться в Петербург ехать? — вдруг жестко сказал дед Магмот. — Ты здесь у нас поживи, а письмо напиши такое, какое Али сказал тебе написать. Пиши, — сказал он дерзко. — А мы сами это письмо до царя довезем.
Уйти нужно было сейчас же. Темиркан видел, что Асланбек, стоя на ограде, делает ему знаки. Но как уйти? Темиркан оглянулся, увидел, что Кемал пытается протолкаться к нему, но его не пропускали.
«Меня взяли в плен, — подумал он, оглядывая эти суровые и, как камень, жесткие лица. — Мужиками взят в плен», — оказал он себе.
Вдруг откуда-то издалека донесся долгий, пронзительный крик, — похоже, что кричал мальчик. Крик этот, не смолкая, все приближался, и люди с тревогой оборачивались.
— Нашего Азрета голос, — сказал вдруг Али.
И вот заплаканный, бледный мальчик перепрыгнул через ограду и кинулся к мулле.
— Воля аллаха, Верхние Баташевы, — громко оказал мулла, — с вашим отцом беда.
Все стало тихо. Слышно только, как в голос, всхлипывая, плакал Азрет. Вот мулла завел заупокойную молитву, вот люди стали опускаться на колени. Вдруг дед Магмот гневно воскликнул:
— Люди, Темиркан убежал! Эй, люди!
Он стоял на ограде и указывал вдаль: там по дороге быстро, взрывами, поднималась пыль — скакали два всадника.
— Упустили! — кричал дед Магмот. — Эх, уши развесили, упустили! Видите, не хочет он праведного суда!
615
Глава пятая
Исмаил сначала сам собрался идти выбирать старшину аула, но потом отказался и пошел на обычную работу — ворочать камни у себя «на поле». Тревожно было в ауле, да и в семье было ;не дружно. Хусейн украл лошадь Кемала, Нафисат самовольно вышла замуж за Керимова сына, неладно получилось из-за этого с господином Темирканом: какая честь, приехал сватом, а уехал в обиде. Обо всем этом не хотелось думать, с камнями было спокойней. Камни сизые и черно-красные, камни круглые и угловатые, длинные, из которых можно было бы сложить жилище, — камни стали единственным, что занимало его в жизни.
Раньше он приказывал всей семье идти работать «на поле» — и вся семья выходила. Последние десять лет его сопровождали старшие сыновья. Последний год даже почтительный Муса редко сопровождал отца, и старик не роптал и ходил один. Он понимал, что в жизни происходят важные события. Но сам он об этих событиях не думал и утром вставал с радостным чувством, что сейчас пойдет по знакомой тропке, спустится в отлогую яму, погрузится в сухой и гулкий скрежет камней, будут гореть у него плечи, руки, поясница, будет он обливаться потом, сердце замирать будет. После короткого отдыха снова будет он браться за работу — и камни будут вставать со своих мест, на которых они пролежали, может быть, тысячелетия. И каждый раз, выворотив новый камень, он сможет жадно ощупать рукой его прохладное ложе, и вдруг наступит миг — и он нащупает (несомненно наступит этот миг!) мелкозернистую, влажную землю, века хранившую плодородие и жизнь для него и его семьи.. ♦ Проходил еще день, ничего не приносил нового, и во сне Исмаил видел только камни, сизо-голубые и чернокрасные. ..
Так ушел он сегодня, и Хуреймат даже не поглядела ему вслед. Все, о чем не желал думать Исмаил, обо всем этом не переставала думать она. Узнав выбор Нафисат, она встала на ее сторону, — ведь так же сама она в молодости выбрала своего мужа. И как ни
616
лестно было сватовство Темиркана, но с того далекого вечера, когда из темноты на свет очага вышел осиротевший Науруз, своими глазами видевший смерть отца, особое место занял в ее душе этот мальчик. И когда он свершал первые подвиги, она гордилась им, как родным сыном.
Но сердце у нее болело из-за ссоры сыновей. Кемал грозился убить Хусейна, но мать не боялась за жизнь Хусейна, и, если бы больше любила Кемала, она боялась бы за старшего, зная, что младший сильнее его. Ужасало ее то, что брат вставал на брата, один сын на другого, и чья бы кровь ни пролилась, прольется ее кровь.
В доме никого из взрослых сейчас не оставалось, даже женщины, недавно родившие, с младенцами на руках спустились в аул: им присутствовать на собрании нельзя, но издали, с кровли или с ограды, можно глядеть на дворик мечети, слышать гул речей и отдаленные выкрики и первой узнать, кто будет старшиной в ауле.
Хуреймат сама бы пошла, но надо ведь кому-то оставаться с детьми. Здесь были и внуки, и правнуки, и самый младший из детей ее, дитя старости ее,— Азрет. Всего двадцать ребят ползали, ходили, бегали вокруг нее. И столько смеха и плача слышалось со двора Верхних Баташевых, что можно было подумать— этот двор заселен детьми и только она одна среди них, круглоголовая великанша, медлительная и ласковая. Накормив свой маленький народ, она потом самых младших услала собирать камешки и играть ими. Кто не знает этих древнейших игр человечества!
У тех, которые постарше, были затеяны свои игры, не доигранные вчера, начатые сегодня. Наигравшись, дети собирались к ней. Она в это время готовила обед, рассказывала сказки и пела своим сильным и грубым голосом о прошлых войнах.
Сидя на корточках и с силой замешивая тесто в большой деревянной посуде, пела она, и смелые дети молча слушали страшные голоса прошлого. Только боевые песни шли сейчас на память Хуреймат.
617
Какая-то особенная, неподвижная тишина была сегодня разлита в воздухе. Повсюду был мир, но Хуреймат издалека слышала поступь войны. Пела ей навстречу, и молча слушали смелые дети поступь беды.
Потом Хуреймат замолчала, взглянула на солнце раз, другой раз, — все нет отца, не идет он «с поля». Тогда она пошла за .ним сама, прихватив айрана в глиняном горшочке, чтоб напоить его после трудов.
Заслонившись ладонью от солнца, очень яркого в этот полуденный час, она стояла на краю глубокой ямы и никак не могла понять то, что видела внизу. Она видела части одежды Исмаила, но не видела его самого. Отдельно лежал бешмет (ушел старик на рассвете, когда было очень свежо). Видела она также его белую рубашку и его штаны, — они лежали на камнях, как-то очень странно раскиданные, изображая подобие человека. Она сразу бы подумала, что это Исмаил лежит, но головы Исмаила не было видно, вместо головы— огромный голубоватый камень. Один рукав рубашки как-то странно подсунут под этот камень. Одежда шевелится — или это от камней рябит в глазах? .. Тревога схватила ее за сердце, она быстро сбежала вниз, прыгая с камня на камень. Это Исмаил своей головой подсунулся под камень!
Она страшно закричала, закричала тем неожиданно-звонким и молодым голосом., который хранился где-то в самой заветной глубине души ее:
— Муж мой, Исмаил мой! Желанный мой!
Она называла его по имени, чего никогда не делала днем, она выкликала все любовные прозвища, она пыталась поднять камень, но это было невозможно: лом подсунут был под камень. Она налегла на него, камень чуть шевельнулся, и тут она мгновенно представила себе, что произошло. Очевидно, когда камень еще не был поднят, но уже сдвинулся с места, Исмаил, как это часто он делал, подперев камень ломом, сунул руку, чтобы попробовать достать до земли. В это время сверху двинулись камни, вышибли упор, на котором держался лом, голова Исмаила очутилась под камнями. Но ведь он жив, он шевелит рукой. Хуреймат принялась как только могла быстро сдвигать верхние камни.
618
Вдруг она услышала плач, — плакали дети, прибежавшие на ее крик. Но они сразу замолчали, увидев ее страшное, облитое потом и слезами лицо. И Хуреймат сказала, увидев Азрета, который хотел к ней спуститься:
— Сыночек мой, беги скорее в аул, зови братьев — видишь, беда-то какая.
Стало тихо. Вслед за Азретом убежали все дети. Она осталась одна, продолжая сдвигать камни, поглядывая на белую рубаху и на темную руку, все время двигающуюся, — эта движения вызывали ужас и надежду. Так продолжалось, она не помнила, сколько времени, — вдруг все, и рука и рукав, все стало неподвижно. Она оставила камни и схватила руку Исмаила. Рука была теплая, но вялая. Она приложила ухо к его спине, чтобы услышать биение сердца, но только свое сердце, которое колотилось, как молот о наковальню, только его удары слышала она и мяла и тискала руку Исмаила. И ей все казалось, что она издалека слышит какой-то напев, — не тот ли напев, который она слышала, когда впервые .взяла эту руку?
Люди, прибежав «на поле», увидели Исмаила, наполовину заваленного камнями, и Хуреймат, которая, потеряв сознание, крепко держала его руку.
Верхние камни были сдвинуты в несколько секунд. Муса схватился за лом, лицо его налилось темной кровью, и он медленно поднял роковой камень. Али ловко вытащил из-под него отца. Старик был мертв, кровавые трещины прошли по бритой голове его, и Хуреймат, придя в себя словно для того, чтобы увидеть эти кровавые трещины, вскрикнула и снова потеряла сознание. Плачущие и причитающие дочери и невестки унесли ее. Али, увидав, что Муса стоит неподвижно, сказал Элдару:
— Унесем, племянник, тело того, кто дал нам жизнь, унесем его к очагу, где ему место.
— Погоди, — сказал вдруг Муса, — погоди, положи его. — И так твердо сказал он, что Али послушался. Муса же схватился за лом. — Давай, брат, одолеем этот камень...
619
Все молча смотрели, как старшие сыновья Исмаила с умением, выработанным в течение всей жизни, ловко вывернули скалистый обломок. Камень заскрежетал и вылез. Муса опустил руку в образовавшуюся яму, глубоко опустил руку, лег на камни лицом, — все видели это лицо, темно-смуглое и неподвижное, как камень. И вдруг жилы разом надулись на этом лице, глаза, всегда тусклые, сверкнули, Муса вскочил на ноги, высоко поднял руку. Черная грязь капала с его ладони, и он бережно подставлял под эту ладонь другую ладонь. Он открывал рот и ничего не мог сказать, и кругом тоже все молчали. Старик, неподвижный, сухонький, похож был на шпульку, с которой смотана вся •нить. При жизни люди смеялись над ним, над овозней его среди камней, которая казалась бесцельной. Он слышал насмешки и не отвечал на них. Изо дня в день, до самого мгновения смерти, продолжал он свой труд — и вот своего добился. Холодная земля тяжело, точно черный мед, капала с ладони его сына, и люди благоговейно подставляли свои ладони, чтоб ни одна капля не упала на камни. Все молчали, и только Али, всхлипывая, повторял:
— Земля, отец, земля...
Солнце светило ярко. Кровь Исмаила на камнях быстро свертывалась и темнела, — последняя кровь Баташа, пролитая в его долине. Но последний потомок Батыжа с позором бежал из долины Веселой реки»
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава первая
— Итак, они хотят украсть из пятидесяти двадцать один мост и из одиннадцати — четыре тоннеля? — раздраженно переспросил Гинцбург.
Поспешинский позволил себе робко улыбнуться.
— Дражайший Рувим Абрамович, это ж вы настояли, чтобы я произвел подобные, в высшей степени странные вычисления. В моей докладной записке о воровстве ничего не сказано. Николай Сергеевич Переле-шин, Владимир Владимирович Бельский, с которым вы знакомы, — это всё вполне достойные люди, дворяне, и я далек от мысли заподозрить их в чем-либо таком. <. Правда, считаю, что проект, которого они придерживаются, мог бы быть более экономичен. Этот вывод мною изложен в конце докладной записки. — Поспешинский ровно струил эту речь, как бы не замечая страдальческого и раздраженного выражения лица Гинцбурга, его кряхтенья и бормотанья.
— Выражайтесь как угодно, — сердито сказал Гинцбург. — Но вы, конечно, сами понимаете, что эта «недостаточная экономичность», — и он выделил эти слова иронической интонацией, — допущена авторами
621
проекта для того, чтобы удобнее было украсть казенные деньги.
Поспешинский с оттенком недоумения развел руками и ничего не ответил. Наступило молчание. Из отдаленной комнаты конторы донесся приглушенный стук пишущей машинки.
— А как можно проверить, придерживаются ли они своего варианта или на месте выкраивают более, как вы говорите, экономичный вариант и кладут себе в карман мосты и тоннели? — спросил Гинцбург.
— Для этого необходимо проверить ход работ, — оживляясь, сказал Поспешинский. — Знающий инженер или техник, даже когда работа находится в самой начальной стадии, может получить точное представление о том, какого варианта в действительности придерживаются строители.
— Вы сделали что-либо в этом направлении? — спросил Гинцбург.
— Пока ничего. Я ждал, пока вы прочтете мою докладную записку.
— Сегодня же надо послать человека, чтоб он проверил все работы «а линии.
— Ну как это можно? Дорогой Рувим Абрамович, — понижая голос, сказал Поспешинский, — ведь там беспорядки...
— Глупость и ч’шь! — рассердился Гинцбург. (Когда он сердился, то в разговоре всегда проглатывал гласные.) Я пять дней как оттуда. Там все спокойно. Паника и чушь...
— А вчерашнее письмо мадмуазель Шведе? — нежно спросил Поспешинский.
Гинцбург закряхтел и ничего не ответил. Анна Ивановна писала, что она очень тревожится за кн^зя, который до сих пор не вернулся из Баташея. 0н ничего не пишет, а там неспокойно. Крестьяне чуть не убили на пастбищах лесничего Тамбиева, который приехал весь мокрый. Письмо это встревожило Рувима Абрамовича, и он, не подумав, показал его Поспешинскому. Делать этого не следовало.
— Обыкновенное женское письмо, — недовольно сказал Гинцбург. — Темиркан ей не пишет, ну и...
622
значит, весь свет перевернулся. Что значит — мокрый? Это вообще непонятно.
— Но мне точно известно, что в Арабыньский округ направлены казачьи сотни, — сказал Поспешинский, — и туда выехал вице-губернатор и другое начальство.
Гинцбург быстро взглянул на Поспешинского. Тот перехватил этот взгляд, в котором был несомненный оттенок одобрения, и признательно улыбнулся. Гинцбург задумался. Значит, там действительно что-то происходит, какие-то беспорядки. Беспорядки — это означает стрельбу, бросание каких-нибудь там бомб или даже просто камней. Ему вдруг пришло в голову, что благодаря этому возможности воровства увеличиваются. Эта мысль так раздражила его, что он даже встал. Ясно, что тут можно будет все свалить на бунтовщиков, что они взрывали, ломали, разрушали... Это не ставило воровству никаких пределов.
Рувим Абрамович прекрасно знал, что без воровства невозможно. Воровали не у него, а у казны. Но он должен был знать, сколько украдено. Контора должна знать это. Она существует не только для поставок казне— она должна знать все, что происходит с этой железной дорогой, и Поспешинскому это много раз было объяснено. И никакие бунты и беспорядки не могут послужить препятствием, — контора должна знать все.
— Вы увидите, — грозно сказал он, — что все эти беспорядки окажутся выдуманными, чтобы им удобнее было воровать. Вы увидите.
Дверь открылась, в комнату вошел широкоплечий и коренастый молодой человек. Не обращая на него ;вни-манйя, тем более что он уже видел его в конторе, Гинцбург продолжал:
— Надо туда послать кого-то и проверить все на месте.
— Но ведь там же военное положение... — снижая голос почти до шепота, сказал Поспешинский. — Вам получить по счету? — обратился он к вошедшему.
— Да, — ответил тот, протягивая какие-то бумаги.
— Э-э-э... Военное положение, ну что значит военное положение, — снова грузно опустившись в кресло,
623
жалобно тянул Гинцбург. — Ну когда на Кавказе не бывает военного положения? И неужели у нас в распоряжении нет ни одного человека смелого, знающего человека. *. Ну что стоит проехать в горы? Ну, я сам туда ездил, никто ничего не стрелял.
— А куда надо проехать? — спросил молодой человек, и сразу Гинцбург и Поспешинский повернулись к нему.
Поспешинский имел с ним дело уже несколько месяцев. Это был превосходный чертежник, он как-то говорил, что окончил землемерное училище... Гинцбург мгновенным взглядом охватил крепкую фигуру этого молодого человека, его загорелое лицо с веселым и смелым выражением, его темные, расчесанные на косой пробор и откинутые назад волосы, в которых был еле уловимый оттенок русого цвета, его опрятную, хотя и далеко не новую форменную куртку с молоточками. Он сразу оценил этого молодого человека и отнес его к той же категории, что и молодой Швестров, работающий у него в банке, и Джафар Касеев. Это были молодые, бедные, но толковые люди. Они стремились проложить себе дорогу в жизни, и Рувим Абрамович по опыту знал, что именно такие люди являются самыми надежными помощниками в делах.
— Вы не обидитесь, Владислав Владиславович, если я попрошу вас ненадолго выйти, — мягко сказал Гинцбург.
— Пожалуйста, пожалуйста... — Поспешинский исчез.
— Садитесь, молодой человек, — торжественно сказал Рувим Абрамович. — Расскажите о себе. Можете говорить откровенно. Не 'исключается, что этот разговор будет иметь большое значение для всей вашей судьбы.
Одобрительно кивая головой, слушал он молодого человека. Раннее сиротство, казенная стипендия — все это было то самое, что он ожидал услышать.
— Константин Викторович Голиков. — Рувим Абрамович отодвинул паспорт, который молодой человек ему протянул. — Мы же не в полицейском участке, —
624
сказал он. — Вы смогли бы выполнить поручение нашей конторы, проехать по линии железной дороги и сверить ее с генеральным проектом?
— Я смогу это сделать, — ответил Константин.
— А вы слышали... ну, что там несколько беспокойно?
Константин кивнул головой.
— Пожалуйста, курите... — взволнованно сказал Гинцбург, открывая свой портсигар. — Константин Викторович, кажется, так? Та услуга, которую вы можете оказать нашей фирме, сразу откроет вам дорогу в жизнь. Ведь вы человек молодой, необеспеченный, покажите на этом деле все ваши способности, ваш ум и сообразительность, и — я уверяю вас — вы далеко пойдете. Вам это понятно?
— Ца, понятно, — ответил Константин.
— -1ет, нет, — живо возразил Гинцбург. — Вы всего понять не можете. Поверьте, что сегодняшний день вы будете вспоминать всю жизнь. Это для вас счастливая встреча. Сейчас я не расскажу вам всего, но обещаю это сделать, когда вы вернетесь. Скажу вам одно: крупные заграничные фирмы следят за постройкой этой дороги. Эти люди умеют ценить услуги.
Он помолчал.
— Помимо того поручения, которое мы вам даем, следует определить, действительно ли там... ну, в горах, происходят какие-либо события? Ведь, я думаю, вы понимаете, что это может быть какая-нибудь полицейская выдумка, нужная кому-то для карьеры или чтобы крупно хапнуть из сумм этой же дороги. Я думаю, вы понимаете, в каком мы с вами государстве живем.
Константин в знак согласия кивнул головой.
— Я должен обладать бесспорными сведениями. Мое дело — сообщить эти сведения тем фирмам, интересы которых я представляю в этой стране. (Он так и сказал: «в этой стране».) Вы меня поняли?
— Понял. Я бы хотел сегодня отправиться, но, ввиду чрезвычайного положения, мне нужен пропуск.
— Все будет сделано. Пропуск на ваше имя и
40 10. Либе ди некий
625
письмо князю Батыжеву, самому влиятельному человеку .в Арабыньском округе, все будет готово.
Он говорил и встревоженно прислушивался к шуму и голосам, доносившимся из соседней комнаты. Ему казалось, что он слышит -голос своей жены, а Рувим Абрамович был нежный семьянин... Дверь широко раскрылась, и первым в комнату вошел ван Андрихем. Морщины на лице его сложились в брюзгливую, но совершенно неподвижную маску. За ним — Анна Ивановна Шведе, злая и заплаканная. Рувим Абрамович вскочил с места навстречу жене, которая, вбежав в комнату, с рыданиями кинулась к нему на шею. Дочь и сын наперебой что-то рассказывали. Нежно похлопывая жену по круглой спине, Гинцбург спросил, обращаясь к Анне Ивановне, которая отошла к окну и поспешно пудрила свой красненький носик.
— Что слышно у Батыжевых?
— Он не вернулся, — ответила она, и слезы потекли по ее только что напудренным щекам.
Ван Андрихем басовито и негодующе заговорил, обращаясь к Гинцбургу по-английски.
В этот момент Поспешинский тихонько отворил дверь и рукой поманил Константина. Константин вышел в соседнюю комнату.
— Едете? — весело спросил Поспешинский.
— Еду, — ответил Константин.
— Молодец, — сказал Поспешинский. Одобрение и какая-то странная зависть слышны были в его голосе. — Как же вы думаете добраться? Ведь туда налаженного пассажирского сообщения вообще нет. Вот ведь он не верит, а я точно знаю, что железнодорожники отказались перевозить казаков в Арабынь. Конечно, это пустяки, — казачьи сотни от Краснорецка до гор могут верхом пройти в несколько часов. Но, значит, там беспокойно.
— А эта вся компания как приехала?
— Ну, это же семья Рувима Абрамовича и потом важный заграничный человек. Их доставили сюда в са-лон-вагоне начальника дороги, а помощник начальника, инженер Бельский, сам вел паровоз.
Константин подумал немного.
626
— Господин Гинцбург обещал мне пропуск, — сказал он.
— Айн момент, — щеголевато махнув рукой, сказал Поспешинский и взял трубку телефона.
В этот день утром машинист Фаддей Иванович Ракитный получил наряд: выехать на паровозе на станцию Арабынь, взять скопившийся там товарный порожняк и перетащить его на узловую станцию Краснорецк. Получив наряд, Фаддей Иванович сказал, что сходит домой и после полудня отправится по наряду. Ему разрешили. Однако после полудня Фаддей Иванович пришел к начальнику станции и обратился к нему с необычной просьбой: он попросил наряд его передать помощнику машиниста Василию Загоскину, которому есть неотложная нужда съездить в Арабынь: там у него живет мать с малолетними детьми. Нужно ее навестить в это беспокойное время, а может быть, даже и перевезти в Краснорецк.
Начальник станции знал Василия Загоскина, — это был толковый, аккуратный парень, и доверить ему паровоз можно было. Начальнику станции известно также, что семья Загоскиных действительно живет в Арабыни. Так что никаких формальных причин для отказа в просьбе такому уважаемому и благонамеренному человеку, как Фаддей Иванович Ракитный, как будто бы не было. Однако начальник станции сдвинул свою с красным околышем в белом летнем чехле фуражку со лба на бритую голову, и его одутловатое и самоуверенное лицо изобразило явную озабоченность. Чернявый, угрюмого вида, обросший кудрявой бородой Ракитный молча переминался с ноги на ногу.
Длительное раздумье начальника станции относилось вот к чему: Вася Загоскин был сыном арестованного Романа Антиповича Загоскина. Начальник станции знал еще больше: Васю Загоскина в местной охранке тоже считали неблагонадежным. Подозрения эти на днях как будто подтвердились. Ближайший друг Васи, машинист Виктор Зябликов, получив наряд на доставку до станции Арабынь воинского эшелона, вме
627
40*
сто того чтобы наряд выполнить, пошел на перрон вок-зала, где в ожидании отбытия поезда толпились казаки, следовавшие в воинском эшелоне, и сказал им речь, в которой призывал их не исполнять распоряжения властей в отношении каких-то беспорядков, начавшихся в веселореченских горах. Зябликов был тут же арестован станционным жандармом, а три казачьи сотни и две горные батареи, которые должны были быть доставлены до станции Арабынь в воинском эшелоне, тут же сгрузились и ушли походным порядком. На станцию приехали жандармский полковник Михель и вице-губернатор Долгоногов и совершенно несправедливо, по мнению начальника станции, обвинили его во всем происшедшем. Начальник станции отнюдь не был революционером, и даже нельзя было сказать, чтобы он сочувствовал революционерам. Как и все железнодорожники, он был очень высокого мнения об исполняемой им должности, и о революционерах ему просто некогда было думать. Вполне возможно, что среди рабочих и служащих железной дороги действительно существовала революционная организация, но, считая себя человеком порядочным, начальник станции к охранке и жандармерии относился брезгливо и не хотел им помогать. К этому прибавилась обида на то, что жандарм Михель и бюрократ Долгоногов позволили себе распекать его, как мальчишку.
«Я не обязан обо всем этом знать», — упрямо и злорадно подумал он и наложил резолюцию о передаче наряда помощнику машиниста Василию Загоскину.
Паровоз был старенький, с длинной высокой трубой, дальше чем между Арабынью и Краснорецком его не пускали. Но Вася Загоскин, очевидно, не очень доверял своему опыту: вместе с Гришей Айрапетяном, которого взял помощником, и старичком-кочегаром он провозился на паровозе весь день. Рабочие депо, расходясь после гудка и видя, что Вася еще продолжает возиться около паровоза, одобряли его за старательность, хотя кое-кто и посмеивался над ним за медлительность.
Только после того, когда село солнце и стало быстро темнеть, Вася осторожно повел паровоз через путаницу станционных путей и выбрался на арабыньскую
628
ветку, круто огибавшую город с юга. Подойдя к не* большому железнодорожному мосту, который был в виду города, паровоз замедлил ход и пронзительно за-* гудел. За пронзительный голос такие паровозики называли «кукушкой».
Как только паровоз подошел к мостику и совсем замедлил ход, к нему со стороны, противоположной городу, быстро взбежали на насыпь два человека — мужчина и женщина. Гриша, стоявший наготове, протянул руку, мужчина ухватился за нее и ловко вскочил в рубку паровоза. И тут оба молодых порт-артурца увидали того, кого и ожидали увидеть, — Константина.
— Счастливого пути! —крикнул из темноты взволнованный женский голос.
После этого Броня, проводившая Константина до мостика, быстро сбежала с насыпи.
Кричать, пожалуй, не следовало, но невозможно было удержаться.
Забрав Константина, Вася сбросил маску чрезмерной осторожности и робкой медлительности, которая нужна ему была для того, чтобы проволынить с отъездом до вечера, и дал такой ход паровозу, какой только могли выдержать его старые котлы.
Встречаясь взглядом с Константином и видя в его глазах одобрение, Вася торжествующе махал рукой в направлении, окна и кричал что-то, чего из-за скрежета лопат, подбрасывающих уголь в топку, и гудения огня нельзя было разобрать.
У Васи были основания торжествовать: только в одиннадцать часов утра узнал он о том, что Константина необходимо перекинуть в Арабынь. Разжалобить дядю Ракитного судьбой Васиной матери взялся Гриша Айрапетян — и вот все удалось как нельзя лучше!
Константин был тоже доволен, и особенно тем, что он уехал из Краснорецка, не предъявив официального пропуска. Теперь если бы жандармское управление захотело его арестовать, оно не имело никаких следов, которые вели бы в Веселоречье. Даже ближайшие друзья Константина, Максим Колющенко и Броня, были встревожены этой неожиданной поездкой в Веселоречье: «Да я тебя здесь лучше спрячу», — говорил
629
Максим. Они никак не могли взять в толк, что Константин не собирался прятаться, а избрал новую позицию для продолжения борьбы.
Решение съездить в Веселоречье он принял внезапно, но оно было подготовлено всем ходом последних •событий, и не только тех событий, которые происходили в Веселоречьи, но и тем, что за последние дни обозначилось в Краснорецке. Почувствовав, что его выслеживает Безак — а Константин угадывал в нем крупного провокатора, быть может того, который был причиной провалов краснорецкой организации большевиков, — Константин сразу же стал искать маневра, чтобы запутать врагов и не быть в своих действиях скованным слежкой. И вдруг разговор в конторе Поспешинского сразу дал возможность построить плащ смелый до дерзости, мгновенно перекидывающий его в Веселоречье, запутывающий его врагов, освобождающий его от слежки и возвращающий ему свободу действий.
Так, глядя в паровозное окошечко на очертания городских зданий, выделявшихся на мутно-желтом закатном небе, Константин мысленно продолжил разговор с друзьями: «Поймите, что последние дни я из-за этого иуды Безака превратился в шахматного короля, за которым охотятся и которого вы все должны прикрывать. А я хочу сам наносить удары — хочу быть королевой!» И он засмеялся, обрадовавшись удачно найденному сравнению.
Да, дерзкий план был осуществлен быстро, осмотрительно и осторожно... «И вам, друзья, полезно побыть некоторое время без меня, самим 1испробовать свои силы», — с нежностью обратился он в мыслях к Броне и к Максиму, которые вместе с Васей Загоскиным оставались руководителями организации.
Город скрылся, светили только немногие огни по склону той темной и высокой горы, где, он знал, была также и дача Гедеминовых. Возможности сходить перед отъездом к Гедеминовым у него не было, и, вопреки своему чувству к Люде, он уезжал, не сказав ей о своей любви и даже не попрощавшись с нею. «Если не суждено нам встретиться, пусть все так и оста
630
нется». Но сердце говорило ему, что встретиться им суждено.
Константин всегда становился сильнее от сознания, что им принято хотя и тяжелое, но верное и чистое решение. И еще до того, как огни на горе исчезли, он отвернулся от прохладного и ветреного простора в сторону жаркой, освещаемой неравномерными вспышками внутренности паровоза.
Айрапетян что-то кричал ему, показывая на стрелку манометра. И Константин одобрительно кивал, глядя на освещенные вспышками огня, обтекаемые блестящим потом взволнованные лица.
Глава вторая
После долгой отлучки, вызвавшей тревогу не только в доме Темиркана, но и по всей Арабыни, князья наконец вернулись домой.
Было это под вечер. Князья пешком (пешком!) прошли по улицам Арабыни, сейчас, вследствие беспокойного времени, особенно безлюдным. Они старались, чтобы их по возможности не видели и не узнали, и это им удалось: невозможно было подумать, что босой, невзрачный, обросший черной бородкой человек в рваной одежде, неожиданно ставший похожим на бродягу Авжуко, — не кто иной, как именитый князь Батыжев, а в страховидной, покрытой седой щетиной, красно-сизой образине бесследно исчез благородный облик почтенного князя Асланбека Дудова. Правда, в отличие от Темиркана, князь Асланбек сохранил свои узкие щегольские сапоги, но он шел, прихрамывая на обе ноги, кряхтел и морщился при каждом шаге, и племянник поддерживал его.
Войдя же на двор Батыжевых, Асланбек сказал:
— Спасибо,- племянник, больше не могу! — и лег на посыпанную песком дорожку. — Эй, сюда! — закричал он жалобно и свирепо. — Помогите — пропадаем. ..
Сбежались женщины, слуги, родня. Асланбек просил, чтобы с него первым делом стянули сапоги. Один
631
из близнецов, смуглолицый проворный Азис, тут же исполнил его просьбу. Дядя Асланбек рычал от боли, портянки его были окровавлены.
Женщины запричитали, мужчины зацокали сочувственно, дядя Асланбек, посылая проклятия «вонючей подлости», которая поднялась против высокорожденных, начал рассказывать о приключениях, пережитых князьями.
Улучив момент, другой близнец, вкрадчивый и тихий Айтек, подал Темиркану конверт. Узнав на конверте почерк Анны, Темиркан, никем не замеченный, взбежал по лестнице наверх и зашел в одну из комнат, обращенную в противоположную воротам сторону двора.
«Тимур, как я скучала по тебе, а вот уезжаю. Злая — а что могу сделать. Der alte Herr увозит меня. Бог знает, когда придется свидеться. И сама я во всем виновата — дразнила тебя, довела, что уехал, а потом так плакала, когда от тебя не было писем, что старик стал догадываться. Мой драгоценный, прости меня, я глупая, злая баба. А ты смелый, ты гордый. Но ты слабый, ты как мальчик перед ними, и я жалею тебя, и очень боюсь, что старик может испортить все твои дела с Р. А. Ты только не сердись на меня, я все, что могу, для тебя сделаю».
Быстро прочитав эти торопливые строчки, Темиркан с ощущением нового позора и несчастья оглянулся кругом. Он искал защиты, опоры и помощи, и если бы он увидел бревенчатые стены того старого батыжевского дома, в которых вырос и он и отец его, то, может быть, ему стало бы легче. Но старый дом стоял заколоченный и брошенный в глубине усадьбы. И в том состоянии душевного помрачения, в которое погрузили все эти несчастья Темиркана, он не мог сейчас признать ослепительно белых, только оштукатуренных стен своего нового дома, — слишком короткое время прожил он в нем перед отъездом в горы. Чувствуя, что сознание его мутится, он посмотрел себе под ноги, увидел в зеркально натертом полу свое тусклое отражение, не признал себя и, теряя сознание, тяжело упал. Его нашли в бреду. Так началась болезнь — горячка, как назвал ее дядя Асланбек, с которого сразу соскочила хворь, едва
632
лишь заболел Темиркан. Асланбек сам взялся лечить племянника, поил его водкой, настоенной на чесноке, дважды пускал ему кровь, дежурил у его постели в очередь с близнецами и не допускал к больному ни одной женщины, — об этом просил Темиркан, ненадолго приходя в сознание: он не хотел выдать матери и жене свою тайну — любовь свою к Анне, имя которой в бреду не сходило с его языка.
Прошли первые три дня горячки, и Темиркан стал приходить в себя. Но с отвращением отказывался он от пищи и все просил пить. Можно -было подумать, что он находится в беспамятстве, которое теперь стало молчаливым. А он уже пришел в себя. Прищурив веки, делая вид, что спит, он следил за дядей Асланбеком, который, с трудом ступая на больные ноги, обутые в мягкие чувяки, ухаживал за ним.
Да, много неожиданностей открылось в последние дни, и одна из них, оказывается, скрывалась в дяде Асланбеке, казалось бы таком простом и немудреном.
Вот, спасаясь из Баташея, проскакали они все расстояние между Старым и Веселым аулом; покрытые белым цветом сады Веселого аула были уже на виду, и вдруг Асланбек круто свернул коня своего с дороги и знаком показал Темиркану следовать за собой. Темиркан с недоумением послушался. Дорога шла по крутому берегу Веселой. Асланбек послал своего коня прямо в реку, белую от водоворотов. Темиркан последовал за ним. Мокрые с головы до ног, выбрались они на противоположный берег.
— Жди меня здесь, — сказал Асланбек. — Мне Кемал говорил, что черный народ взбунтовался по всему Вееелоречью. Я проберусь и узнаю.
Темиркан, оставшись один, поводил разгоряченных коней, потом спрятал их в кустарнике. Он услышал, как вверху на той стороне реки по дороге гулко проскакали несколько всадников из Старого в Веселый аул. «Это за нами», — подумал Темиркан.
Асланбек вернулся только к вечеру, и не один. Он привел с собой муллу Шайка. Какие дела могли быть у Асланбека с этим изувером, которого подозревали в сношениях со Стамбулом’, с этим врагом русского пре
633
стола, а следовательно, и врагом Батыжевых и Дудовых? Темиркан, однако, скрыл свое изумление и поклонился почтительно, как подобает здороваться с духовным лицом. Тот благословил его, сел на траву и сделал знак Темиркану садиться.
— Вы мудро сделали, что задержались здесь. В Веселый аул прискакали бунтовщики из аула Дууд, руки их обагрены кровью ваших родичей; впрочем, в этом следует видеть возмездие всемогущего. Только что прискакали также из Старого аула — ищут вас. Но воля аллаха! Он указал спасительный путь. Вы дождетесь темноты, оставите здесь коней и проберетесь по реке.
— Или мы форели, чтобы плыть через водопады? — недовольно спросил Асланбек. Шаик не удостоил его ответом.
— За то, что ты нам помогаешь, я отблагодарю тебя, — сказал Темиркан. — Я помогу властям отличить тебя от мятежников.
Шаик усмехнулся.
— В своем многолетнем ослеплении ты, наверное, забыл, что в тебе течет священная кровь пророка. И не предназначен ли этот мятеж для того, чтобы собрать под знамя пророка всех отступников? — спросил он, размышляя.
Наступило молчание, только слышно было, как шумит Веселая. Вдруг встрепенувшись, Шаик оказал:
— Когда ты спасешься, найди способ сообщить ин-глизу, которого ты в прошлом году встречал на охоте, что все совершается так, как предначертано.
— Но где же я его найду? — недоуменно спросил Темиркан.
— Около тебя есть человек, через которого ты можешь это сделать, — ответил Шаик. — Купец Рувим.
— Гинцбург? — изумленно спросил Темиркан и получил в ответ лишь продолжительную и безмолвную улыбку.
На третий день болезни Темиркан попросил побрить его и выпил чашку крепкого мясного отвара, приготовленного из молодого барашка. Он закурил свои слад
634
кие слабенькие папиросы, стал разговаривать с дядей и даже позволил войти матери и жене и пошутил с ними. Теперь в голове его бред отделился от действительных событий, о бреде следовало забыть — и он забыл. А вот «инглиз»...
Впервые ночью во .время охоты за Наурузом встретились «инглиз» и Гинцбург... Впервые ли? Что знает он, Темиркан, обо всех этих людях: о ван Андрихеме, Гинцбурге, «инглизе» и мулле Шайке? Да, широко расставлены тенета, и он понимал, почему Анна так боялась за него. Темиркана даже не обижало, что Анна считала его слабым по сравнению с теми, кто расставил тенета.
Ночь проспал он спокойно. В открытых окнах неподвижно висели шторы и слышен был успокоительно мерный звук колотушки — это ночной сторож Степан обходит усадьбу Батыжевых... Все как всегда, все по-прежнему. И его больше не смущало, что спит он в новом доме, в просторной пустой и чистой комнате, на магазинной, недавно привезенной из столицы кровати с блестящими белыми шишечками.
Когда рассвело, сторож Батыжевых, старый Степан, перестал стучать колотушкой и сел на новенькую лавочку возле каменного белого двухэтажного дома Батыжевых, этим летом только построенного. В обычное время эта колотушка, грубо выстроганная из цельного куска дерева, с короткой рукоятью и деревянным шариком, прикрепленным к телу колотушки узеньким ремешком, была единственным оружием Степана. Мерно поматывая колотушкой вверх и вниз, отчего деревянный шарик ударялся о строганую часть колотушки и гулкие звуки, быстро и монотонно чередуясь, следовали один за другим, Степан в любую погоду, зимой и летом обходил по ночам всю громадную батыжевскую усадьбу. Сейчас, к его неудовольствию, ему еще выдано было старинное, с длинным и тонким стволом ружье из коллекции князя. Хотя ночь была теплая и тихая, старик был в тулупе, в старых валенках.
635
К ружью никакого ремня не полагалось, оно очень досаждало Степану, и он, во время ходьбы кряхтя и ругаясь, то держал его подмышкой, то волочил по земле. Когда темное время ночи прошло, он сел на лавочку и с облегчением поставил ружье рядом.
Солнце еще не взошло, и все спало. Над домиками Арабыни покатилась волна петушьего крика — она шла с востока и затихала на западе. Опять все стало тихо и сонно, только вершина снеговой горы, одинокий белый зуб которой невысоко торчал из-за темного леса, немо разгоралась розовыми красками восхода.
Пронзительно крикнул паровоз; слышно было, как, пыхтя, он подходил к станции, которая была очень близко: за темной опушкой леса. Степан повернул туда голову, где стояла вереница красных товарных вагонов, он ждал, что паровоз покажется. Слышно было, как он пыхтит, как шипит пар... Потом издалека, с другой стороны раздалось глухое и мягкое цоканье копыт. Степан повернул голову и долго глядел в ту сторону, откуда пришли эти новые звуки, которые становились все слышнее. Наконец из-за угла батыжев-ской усадьбы показался казачий разъезд: три всадника — один впереди, два позади. Их неторопливая рысца и красивая воинственная одежда — синие черкески, белые башлыки и лихо заломленные кубанки — особенно подчеркивали свойственный казакам вид молодцеватой готовности. У старшего было злое, красное, с черным чубом и черными усами лицо. Он неодобрительно оглядел Степана в тулупе и задержался взглядом на его ружье, отставленном отдельно. Ехавшие позади были совсем молодые разрумянившиеся парни* Они между собой о чем-то переговаривались. Старший оглянулся, обругал их, и они замолчали. Степан следил за казаками внимательным и задумчивым взглядом. Их появление тоже не нарушило сонного молчания тишины, даже тяжелая пыль не поднималась над копытами коней, точно она тоже не хотела просыпаться. Поглядев им вдогонку, Степан зевнул, опять повернул голову в сторону станции и вдруг увидел, что оттуда по тропинке приближается какой-то незнакомый человек. Степан посмотрел на него, перевел глаза на
636
свое ружье, нехотя взял его в руки и стал разгляди-» вать незнакомца. Это был коренастый человек в форменной, распахнувшейся на груди тужурке. Похоже было, что эта старенькая тужурка тесна ему. В руке у него маленький баульчик, в другой гибкая ветка, которой он помахивал .в лад своему быстрому и веселому шагу. Степану видно было его оживленное и взволнованное лицо. Степан встретился взглядом с карими, приветливо и молодо блестящими глазами.
— Скажите, не здесь ли усадьба Батыжевых? — спросил он и притронулся к козырьку своей старенькой форменной, с черным бархатным околышком фуражки. — Мне на станции объяснили, что у них белый каменный дом.
— А? — притворяясь глухим, спросил Степан. — Каких это князей? У нас тут князей много.
Константин усмехнулся. Старик и не скрывал, что он притворяется.
— У меня письмо к князю Батыжеву Темиркану Александровичу.
— Ну что ж, давай письмо, — ответил Степан.
— В собственные руки надо передать, — пояснил Константин.
— Ну, раз в собственные, так садись, подожди, пока господа проснутся.
— Когда они проснутся?
— Ну, это погодить придется.. ♦ У нас порядок такой, что первым встает сам Темиркан. Только солнышко покажется, а он уже голову подымает, как гусак, и кругом смотрит. Хозяин... — одобрительно добавил Степан. — А сейчас он больной, совсем не встает.
— А что с ним? — спросил Константин.
Степан помолчал, неторопливо оглядел его и ответил вопросом:
— А письмо-то у тебя от кого?
Константин уселся рядом со стариком.
— Вот, — сказал он, — вынимая из кармана глянцевито-белый конверт.— От Гинцбурга Рувима Абрамовича. Знаете его?
637
— Как не знать такого воротилу, — ответил Степан. — Вы что же, служащий у него? — переходя на «вы», спросил он.
И Константин, отвечая на многочисленные вопросы старика, рассказал о конторе Поспешинского, о своих чертежах и даже о своем поручении.
— Только Рувим Абрамович предупредил меня, что я, может, князя и не застану. Значит, он вернулся?
— Вернулся... — сказал Степан. — Да вы разве не знаете, какие тут у нас дела? Чрезвычайные... Уехал верхом, а вернулся пешком, — сказал он весело. — И сразу заболел. Горячка... Только вчера немного получше стало.
— Ас чего это у него? — спросил Константин.
— Да, говорят, простуда... — ответил Степан.
— Ну как же у вас тут можно простудиться? —> сказал Константин.—Такая теплынь, такая благодать.
— Воздух у нас, правда, теплый, — согласился Степан, — а вода холодная. Чем солнышко жарче, тем воды больше... Снег-то ведь вон он, — и Степан показал на розовый снеговой зуб.
— Что ж он, купался? — спросил Константин.
— Ну уж там купался или его купали, это мы не знаем. А? Его купали? — переспросил он, как будто это Константин сказал, и тут же подтвердил: — Да, это вы правильно говорите, может и купали... — И тут же, взглянув в лицо Константину, он зевнул и лениво сказал: — Ночью спать не хочется, а вот как рассвет, так и клонит в сон. Вот ты чего-то говоришь, а мне кажется, будто я сплю.
Старик зевнул и замолчал и даже закрыл глаза. Константин молча оглядывал местность. Белые домики слободы, зеленые кудри садов, как сединой осыпанные белым цветом, темные лесистые горки, разрозненно высящиеся над ними острые клыки снеговых гор — все здесь нравилось ему и волновало его. «Что-то там происходит?» — подумал он, глядя в сторону гор. И вдруг, как бы отвечая на его вопрос, оттуда прикатился протяжный гул, слышный только потому, что все было очень тихо. Константин непроизвольно вздрог
638
нул и взглянул на старика, тот открыл глаза и прислушивался. Глаза его были встревоженны и строги.
— Пушки, — сказал он.
Как бы в подтверждение этого страшного слова, пришла вторая волна гула. И она точно все пробудила. Длинные солнечные лучи заскользили по белым стенам домов и их красным крышам. Замычали коровы, опять запели петухи, стали слышны женские голоса. Выражение строгости продолжало держаться на лице Степана.
— Ну, дела... — тихо проговорил он.
Красные товарные вагоны, до этого стоявшие неподвижно, вдруг покатились, влекомые невидимым паровозом, и Константин подумал о товарищах своих, которые довезли его сюда и сейчас уезжают, оставив его одного. Но необходимость этой поездки он ощущал все острее.
Паровоз утащил вагоны, и за рельсовыми путями стало далеко и просторно видно: зеленые поля и сады тянулись до лесистых гор, за которыми высились снеговые.
— Эй, Степан! — окликнул сверху мужской голос. — Кто тут с тобой?
— Хозяин проснулся, — шепотом пояснил Степан и ответил громко:
— А это с письмом к вам из города...
Константин сразу вспомнил, что видел Темиркана в конторе у Гинцбурга.
Болезненно кривя свои посиневшие на желто-восковом. лице губы, Темиркан приветливо улыбнулся, внятно попросил сесть, указывая исхудавшей рукой на низенькую тахту. Он взял письмо и начал читать. Его лицо с черными бровями и крючковатым носом, маленьким твердым ртом и выдающимся вперед подбородком во время чтения ничего не выражало.
Темиркан лежал высоко на подушках. Кровать была новенькая, с белыми блестящими шарами, как будто только что из магазина, одеяло дорогое, атласное и
639
тоже магазинное, но простыней не было, и вместо них тюфяк был накрыт белым войлоком.
«Чего это он так долго читает?» — с недоумением подумал Константин. Гинцбург показал ему письмо перед тем, как запечатать. Это была деловая записка, содержавшая изложение поручения, которое дала фирма Константину, и просьбу помочь ему при продвижении в горы. Темиркан кончил читать, вложил записку в конверт и задумался.
— Известно ли было Рувиму Абрамовичу, что в Арабыньском округе военное положение? — внятно, с мягким акцентом, но верно выговаривая русские слова, слабым голосом спросил князь.
— Как же, — ответил Константин, — меня по этому случаю даже снабдили специальным пропуском.
Константин протянул пропуск. Темиркан внимательно прочел его. «Это он, наверное, ко всему такой внимательный, — подумал Константин, — так что он меня, конечно, признал, но виду не подал. С ним надо быть поосторожнее».
— С этим пропуском вы попадете всюду, — сказал Темиркан. — Моя же помощь будет заключаться вот в чем: сюда приезжают оттуда (он нахмурился) — ну, с места, где происходят эти безобразия, — офицеры и останавливаются у меня. Я ведь по службе своей казачий офицер, ну и тут всё — мои кунаки, — жестко усмехнулся он, кривя рот. — И вот с такой надежной оказией и охраной вы сможете выполнить поручение почтенного Рувима Абрамовича, сейчас довольно рискованное...
«Да уж... — подумал Константин. — Верно, рискованное».
Темиркан хлопнул в ладоши, и сразу же в комнату вошел тот самый мальчик, лет пятнадцати, в темной черкеске с серебряным кинжальчиком на поясе, который привел сюда Константина. Несколько коротких шелестящих слов — и мальчик вышел.
— Племянник мой, — сказал Темиркан. — Поедет с вами, будет заботиться о вас, охранять вас. Он по-русски говорит, может перевести, если с нашими жителями вам нужно будет поговорить.
640
— Да к чему это?—возразил Константин, встревоженный перспективой иметь при себе такую навязчивую тень.
— Я как будто бы встречал уже вас в конторе господина Поспешинского, и вы потому, наверно, знаете, что дела Рувима Абрамовича—это все равно что мои дела, — сказал Темиркан.
Константин молча кивнул головой. «Значит, запомнил. .. Что значит быть послом его величества капитала», — со смешком подумал он о себе.
Князь своими небольшими черными глазами с выражением некоторой нерешимости оглядывал Константина.
«Взвешивает. Очевидно... не знает, что со мной делать дальше».
Князь уже хотел что-то сказать, как дверь отворилась, слуги в черкесках внесли два столика-треножки, уставленные едой.
И только услав слуг, князь спросил Константина о том, что его все время беспокоило.
— Ну, а что думает Рувим Абрамович обо всех этих наших делах?
— Ведь я в нашей фирме — человек самый маленький. .. — скромно ответил Константин. — Перед отъездом он сказал, что его интересует, как идут работы на железнодорожной линии.
— Только это интересует Рувима Абрамовича? — тихо спросил Темиркан. Константин недоуменно взглянул на него — он действительно не понял вопроса.
— Ну, а как вы считаете, не могут ли эти беспорядки приостановить... совсем приостановить все здешние дела Рувима Абрамовича? — не поднимая глаз, спросил Темиркан.
«Вот куда ты загибаешь?» — подумал Константин и, прикидываясь, что по простоте не понял вопроса, ответил с удивлением:
— Как же остановить? Ведь дорога казенная. Наши неурядицы приостановить ее постройку не могут. Разве что замедлить.
Темиркан быстро взглянул на него: злоба, тоска были в глазах его. «Он понял, что я притворяюсь, —>
41 Ю< Либ единений
641
подумал Константин. — Он уверен, что я знаю обо всех этих денежных делах, но скрываю от него...»
— Ну, чего ж вы не кушаете! — воскликнул Темиркан. — Ай, я плохой хозяин... Ведь все остынет. Возьмите вон то блюдо — крышку подымите. Что же это они ушли, они забыли, что я лежу и не могу вас угощать. — Он хлопнул в ладоши, бесшумно вошел мальчик, почти такой же, как тот, который привел Константина сюда, — но нет, это был другой, только очень похожий. .. «Сколько их у него?»
— Ешьте, ешьте, Константин Викторович... Вам нужно основательно подкрепиться... — любезно улыбаясь и показывая мелкие зубы, говорил Темиркан.
Обед уже подошел к концу, когда в дверь постучали и в комнату вошел высокий и тонкий, с приподнятыми плечами офицер. На черкеске его были погоны поручика. Он намеренно фатовски волочил свои длинные, в красивых высоких сапогах ноги. На его продолговатом бледном лице выделялись черные усики, глаза были прищурены.
— Вот кстати, — оживленно сказал Темиркан. — Знакомьтесь, господин... Константин Викторович...
— Голиков, — подсказал Константин.
— Господин Голиков, имею честь представить поручика Дунаева Аркадия Николаевича. Это, Аркаша, нужный человек. Ему необходимо попасть по делам железной дороги в аул Веселый и выше. Пропуск у него выправлен. Ты когда возвращаешься?
— Да часа через два поедем, — сказал Дунаев, безразличным взглядом окинув Константина.
— Вот и прекрасно. — Темиркан коротко сказал что-то мальчику, который прислуживал за столом, и тот исчез.
— Я приказал, чтоб лошадей готовили.
— О, батыжевские кони! — и Дунаев покосился на Константина.— Вам как, на коня садиться приходилось?
— Случалось...
— А то глядите — батыжевские, разнесут.
— Скажи, Аркаша, — спросил Темиркан, — что это я утром слышал как будто бы два артиллерийских залпа?.
642
Дунаев кивнул головой.
— Покончили с бунтом, — сказал он.
— Как покончили? — воскликнул Темиркан.
— Да так и покончили, — ответил Дунаев вяло, — покончили — и тут же меня сюда на телеграф с донесением, — срочно секретно аллюр три креста... В два часа домчались.
— А где это было? — спросил Темиркан. На щеках его пятнами обозначился румянец, глаза блестели. Константин с захватывающим интересом слушал и не спускал глаз с этого злобного лица, которое придавало выразительность вяловатому рассказу Дунаева.
— Ну, где было... Места тебе знакомые. Над самым Веселым аулом. Вот так, значит, Ворота, — показал он пальцем на столе, — белые камни, скалы, там с вечера установились батареи. Тут, значит, ручей и Мельница нартов, где вашего лесничего купали. Вчера вечером я получил приказ: очистить дорогу на пастбища и охранять ее. Взял полувзвод и отправился на разведку: вся дорога занята вашими мужиками, всюду овцы блеют, коровы мычат — ярмарка. Я предупредил, чтобы с дороги сошли’ Проехал до Ворот, и обратно, когда возвращался, — на дороге никого, все разошлись по сторонам; народ ваш, что и говорить, вежливый. Я расставил по всей дороге посты, на рассвете по этой дороге экипажи поднялись до самой Мельницы нартов, — ты знаешЪ, оттуда видны все пастбища. Важное начальство прибыло: вице-губернатор Долгоногов, жандармский полковник Михель и еще этот ушастый князь, городской голова Краснорецка.
— Астемиров... — подсказал Темиркан.
— Он самый. Наверху холодно было, потом, как солнышко взошло, обогрело, осветило, так мы, знаешь, ахнули: пастбищ не видать, только войлочные шляпы — белые, рыжие, черные, куда хватит глаз... даже робость взяла. Ну, что мы? Кучка. Я, признаться, с удовольствием о наших пушках подумал. Но до пушек дело еще не скоро дошло. Сначала завели разговор по-хорошему; больше всего старался Долгоногов. Из мужиков тоже выходили, говорили... Один прямо по-русски так и сказал: «Нам, говорит, эту землю царь Александр дал, я,
643
41*
говорит, до сих пор помню, как это было». Между прочим, деда твоего поминал и тебя. Ну и, конечно, распространялся, что земля божья и что ее нельзя делить. Долгоногов отвечает, что земля действительно божья, но что распределяет эту землю между людьми государь император, что государство наше нуждается в конях, а вы здесь овец развели, потому государь император и передает землю коннозаводчикам. Слово его — закон, и кто противится — тот бунтовщик, и будем наказывать. Не слушайте, говорит, смутьянов, разойдитесь подобру-поздорову, никакой вам обиды не будет.
— А кто переводил? — спросил Темиркан. — Асте-миров?
— Верно, он. Можно сказать, он был главное действующее лицо. Долгоногов скажет два слова, а этот старичок, ты знаешь, он ростом невелик, так чтобы повыше, он на облучок кареты вскочит и начинает орать на мужиков. Визжит, орет, слюной брызжется. Каждые два слова минут десять переводит. Конечно, что переводит— непонятно, но только они не уходят. Тогда, значит, жандармский полковник обращается к нашему генералу. Генерал к своему адъютанту, адъютант обернулся в сторону артиллерийских позиций, махнул рукой, ну — и оттуда залп. Прямо над нашими головами... Народ ахнул — весь в один голос, и рокот по всему пастбищу... Ну, думаю, положат их здесь — тысячами считать будем, но стреляли шрапнелью очень высокого разрыва — только лишь для эффекта. Конечно, эффект был. Мужики кричат, что-то там провозглашают, но никто не уходит. Долгоногов опять к ним: расходитесь, а то, говорит, жены ваши станут вдовами. Князек кричит перевод, мужики стоят. Второй залп дали... И вот только раздался залп, как выскакивает один из мужиков и громко кричит что-то, и тогда все как один поворачиваются и начинают уходить. Понимаешь, ни один не побежал. Сразу все поле взволновалось, запестрело и двинулось, но ни один человек не побежал.
— А что же он крикнул? — невольно спросил Константин.
— Да я спрашивал потом Астемирова, тот сначала переводить не хотел. Глупость, говорит, крикнул. Ну,
644
а йотом, перевел. — И Дунаев сказал, понизив голос: — «Царь Николай нарушил клятву, которая была дана нашему народу. Ну, значит, и нам, вроде, можно быть свободными. .. от присяги...» — понимаешь?
— А его арестовали? — спросил Темиркан.
— Да уж теперь стараются, ловят, — ответил Дунаев. Он потянулся и зевнул. — Слава богу, все ладно обошлось...
— В каком это смысле «ладно»? — спросил Темиркан.
— Да без кровопролития.
— Очень жаль, что без кровопролития, — резко сказал Темиркан. — Я обрадовался, когда слушал, а вы, оказывается, устроили вроде фейерверка на петергофских гуляньях. Шрапнель даром в воздух расстреляли.
— Так это же для острастки, — сказал Дунаев смущенно.
— Вы нашего черного народа не знаете. Не побежал никто, да? Если они в свои дурацкие головы что заберут, думаешь — это ветром и громом выгнать можно? Кровью их свинячьей... пастбища залить надо! Ты знаешь, сколько они родичей моих Дудовых в воду побросали? Шесть человек. За каждого князя — тысячи надо положить. А как я по реке плыл, нырял и задыхался и о камни меня било, а я снова, как выдра, как выдра. .. — бешено и сипло выговаривал он. — Снова нырял. .. За это сколько? Этого счета я им никогда не забуду.
— С кровопролитием, Темиркан, трудно по тепереш-' ним временам, — хмуро ответил Дунаев. — Знаешь, какая у нас получилась история в Краснорецке на вокзале? Машинист отказался вести наш эшелон в Арабынь. И, пока его не сцапали жандармы, он успел такую речь казакам сказать, что они у меня до сих пор как чумные ходят... И откуда берутся? — воскликнул Дунаев.— Сколько их в пятом году били, сколько их потом сажали! И опять нашелся, и свое гудит, и ведь знает, что нужно казаку сказать. Вас, говорит, ваши офицеры против ве-селореченских черкесов натравливают, а сами, говорит, с ихними князьями заодно. Почему, говорит, вы должны вмешиваться в дела веселореченцев? Пусть они сами со
«45
своими, князьями рассчитываются... А? Что скажешь? — не без злорадства спросил Дунаев.
— Ну что ж, мы с ними рассчитаемся...
Получилось так, что когда Виктор Зябликов выступал перед казаками, никто из железнодорожников не слышал его. И о том, что он сказал, можно было только догадываться. И вот здесь, среди врагов, Константин вдруг въявь услышал слова Виктора, и, окрашенные ненавистью врагов, они звучали особенно остро... И ему вспомнился спор, который на паровозе произошел у Васи Загоскина с Гришей Айрапетяном.
Вася говорил, что Виктору не нужно было выступать, что это было неосторожно с его стороны и могло повлечь за собой провал организации. Гриша оправдывал Виктора: «А ты бы выдержал и не выступил бы?» — спрашивал он.
Константин тогда не вмешивался в спор, но сочувствовал позиции Гриши, — сейчас ой целиком признавал целесообразность выступления Виктора. «Кто еще знает, — думал он, — во что разрастутся те семена, которые бросил Виктор в сердца казаков?»
Глава третья
Со дня возвращения Асада Дудова на каникулы в Арабынь прошло всего две недели, но ему казалось, что прошел целый год, долгий и трудный, и когда он вспоминал, что ему дней десять назад казалось очень важным занятием склеивание грандиозного змея, который мог бы поднять в воздух груз в пять фунтов, ему становилось смешно и совестно. Предполагалось, что если полет такого змея будет удачен, то можно будет, постепенно увеличивая размер каждого последующего змея и его «грузоподъемность», создать такой, который сможет поднимать человека. Асад предполагал быть сам этим своеобразным аэронавтом. Ближайший друг его Гриша Отроков считал, что проект Асада вполне осуществим, и помогал в изготовлении змея (в частности, строгал для него дранки, которые должны быть очень легки и прочны!). Их новый приятель Джек Гинцбург с
646
апломбом столичного гимназиста утверждал, что построение такого змея неосуществимо, и рассказывал о первых летных состязаниях в Петербурге. Наконец змей с великолепным гудением поднялся к небу, неся небольшой камень, — предполагалось, что вес этого камня пять фунтов. Но недолго торжествовали Асад и Гриша. Туго натянутая бечева вдруг оборвалась, змея подхватило ветром и бросило куда-то за реку, в густой лес — скептические прогнозы Джека получили подтверждение. Решили пойти искать змея. Втроем перейдя вброд Веселую, лазали они по кустарникам, и вдруг Гриша поднял с земли какой-то искривленный, тускло поблескивающий медью предмет.
— Это ж труба! — с восторгом говорил Гриша.— Военная труба!
Они занялись находкой. Гриша очистил мундштук, поднес его к губам и сильно подул: сразу же выдуло струю пыли, и родился звук, сиплый, как из-под земли. Но Гриша утверждал, что трубу можно вычистить, исправить и что зазвучит она совсем по-особенному, не так, как теперешние трубы.
— Она здесь лежит со времен кавказских войн, — мечтательно сказал Асад.
И опять Джек стал спорить, доказывая, что совсем это не военная труба, а самый обыкновенный инструмент из духового оркестра. Громко споря, возвращались они домой, а Гриша, не принимая участия в споре, все продолжал прочищать и продувать трубу и так старательно дул в нее, что его обычно бледное лицо побагровело и пот выступил под курчавыми темными волосами. Занятый своей находкой, он, сворачивая домой, даже и не попрощался. Джек, чтобы закончить спор, пошел к Дудовым. Они пили айран на веранде и продолжали спорить, но теперь, уже не о трубе, а о том, ходят ли сейчас воинские части с музыкой в бой. Асад утверждал, что ходят, а Джек говорил, что в современной войне во время боя о музыке даже речи быть не может.
Старый Дудов сидел в сторонке, с улыбкой слушал их спор. Садилось солнце. В этот тихий час лучи его, проходя сквозь листву, казались зелеными. В садик Дудовых пришел Джафар Касеев. На его лице не было
647
обычной вкрадчивой л-асковости. Он рассказал о случае с лесничим Тамбиевым, которого чуть не убили крестьяне на пастбищах. Испуг, злорадство, волнение резко и неприятно изменяли его лицо.
— Начались страшные дела., — говорил он, и в голосе его было такое выражение, точно он когда-то предупреждал об угрозе этих страшных дел, но его вовремя не послушали.
— Конечно, этого следовало ожидать, — грустно говорил старый Дудов, — следовало ожидать, что народ не потерпит нарушения обещаний, ему данных.
— Это далеко отсюда? — тихо спросил Джек у Асада, но не получил ответа: Асаду самому хотелось задать множество вопросов.
Калитка вдруг заскрипела, раздались незнакомые шаги, сам пристав Арабыньского округа Осип Иванович Пятницкий, сопровождаемый двумя казаками, вступил в тихий садик математика...
— Если бы у нас не было нужды в господине Ка-сееве, мы бы никогда не потревожили ваше сиятельство, — сердито отвечал пристав на недоуменные вопросы старика Дудова.
Джафар с какой-то странной, растерянной полуулыбкой слушал этот разговор и сам, не попрощавшись, пошел вперед, к калитке.
С этого вечера события, одно тревожнее другого, хлынули в тихую жизнь Арабыни. На следующее утро умчался на своей тройке в Краснорецк пристав Осип Иванович Пятницкий, еще через день покинули свои новенькие дачи все столичные гости. Потом прибежали с гор мокрые князья — Темиркан Батыжев и Асланбек Дудов.
— Эй, Тхамали, ты наша погибель... — мурлыкал старый математик.
Предостережение и угроза слышны были в этой песне.
Конные казачьи сотни с гиканьем и пением прошли по Арабыни, направляясь в горы.
Асад каждое утро давал уроки Трише, готовил его к осенним испытаниям. За лето им предстояло осилить
648
курс четвертого и пятого классов. В эти тревожные дни Асад не прекратил занятий с Гришей, но самые отношения их изменились после того, как, выслушав взволнованный рассказ Асада о событиях на пастбищах, Гриша сказал:
— Наверное, тот парень, который разбил стекло и сорвал мой концерт, тоже там бунтует.
Асаду даже почудилась неприязнь в голосе Гриши.
— Ты слышал сегодня пушечную пальбу рано утром? — спросил Асад, когда они, закончив уроки, вышли из дома Отроковых.
— Нет, я не слышал, — сказал Гриша.—А папа говорил утром что-то. Погоди, я сейчас...
Он быстро вернулся домой и вынес трубу, которую они давно, когда еще пускали змея, -нашли в кустарнике.
Асад совсем забыл о трубе, а Гриша, видно, все это время возился с ней, и она блестела* на солнце.
— Я ее наладил!—торжествуя, говорил Гриша.— Ты послушай только, звук какой... — Он приложил ее к губам, и, быстро перебирая пальцами по клапанам, извлек из нее какие-то хриплые и воинственные, точно издалека идущие звуки. — Необыкновенно, — говорил Гриша. — Т.ы слышишь, а? Точно из прошлого, из старины. Слышишь?
Они шли мимо нового дома Батыжевых.
— Хорошая музыка. Где достал? — насмешливо спросил Азис Батыжев.
Он сидел на лавочке возле дома и похлопывал себя хлыстиком по сапогам.
У Асада с батыжевскими близнецами издавна установилась вражда, которая основывалась на взаимной и тщательно скрываемой зависти. Асад завидовал преждевременной взрослости близнецов, их молодецкой репутации, их щегольским черкескам и кинжальчикам. Близнецы завидовали тому, что Асад большую часть года проводил в Краснорецке, об увеселениях которого они имели самое преувеличенное и фантастическое представление. К тому же, чем старше становились Азис и Айтек, тем сильнее чувствовали они, что этот тщедушный и смешной Асад в очках, происходящий из самой
649
захудалой ветви Дудовых, благодаря тому, что хорошо учится, имеет существенное преимущество перед ними.
— А чем плохая музыка? — вызывающе спросил Асад, останавливаясь.
— Я сказал — не плохая, а очень хорошая. Как простуженный баран кашляет. Скажи твоему кунаку: пусть он мне продаст, я буду в горах абреков пугать.,
— А ты разве в горы едешь? — от волнения переходя на родной язык, спросил Асад.
Азис приосанился.
— Меня дядя посылает. Хочу кровью врагов наших омыть руки. Или ты не знаешь, что черный народ убил почтенного Ширануко и других родичей твоих и моих?
Вдруг из глубины батыжевского двора кто-то окликнул Асада. Живо оглянувшись, Асад увидел человека, о появлении которого он даже и не смел мечтать: своего краснорецкого знакомого и любимого собеседника, Константина.
Вопросы следовали за ответами. Константин расска; зал о том, что ему поручено осмотреть линию железной дороги.
— Как мне хочется поехать с вами! — вздохнул Асад.
— А это возможно? — спросил Константин. — Отпустят ли вас родители?
— Папы нет дома, — живо сказал Асад, отнюдь не ожидавший, что его желание будет встречено с сочувствием. — Его вызвали в Сторожевую. А маму я в таких делах никогда не спрашиваю. Возьмите меня, право...
— Видите ли, Асад, какое дело, — понизив голос, сказал Константин. — Князь Батыжев навязал мне вот этого парня для сопровождения. А он мне совсем не нужен. Я сейчас пойду наверх и попрошу, чтобы вместо него поехали вы.
— Как я рад буду! — воскликнул Асад.
Константин быстро ушел в дом. Асад взволнованно оглядел низкорослых каурых лошадей, привязанных к коновязи; они однообразно взмахивали головами и хвостами, отгоняя мух. Казаки лежали в тени кустарников, голубой табачный дымок поднимался над ними.
650
Судьба вдруг послала Асаду подарок. Поездка в горы вместе с Константином — ни о чем лучшем он и мечтать не мог.
Константин быстро сбежал по лестнице.
— Дело сделано, — сказал он весело. — Оказывается, Асад, вы тоже родственник Батыжевых и вполне достойны сопровождать такую важную персону, как я. Азис, поднимитесь наверх, к вашему дяде, он вас зовет.
Азис бесшумно исчез.
— Мне нужно домой, оседлать лошадь и потом все-таки предупредить маму, — сказал Асад.
— Ну, давайте скорее.
Асад почти бегом, вприпрыжку, скрылся со двора в сопровождении своего странного спутника с трубой. Константин тоже был доволен, — отсутствие переводчика осложняло его и без того трудную задачу: не при посредстве же Азиса Батыжева мог он рассчитывать объясняться с восставшими крестьянами.
Прошло несколько минут. С крыльца дома своей деланно-расхлябанной походкой сошел сотник Дунаев. Казаки вскочили. Один из них, синеглазый, темнорусый, невысокого роста, приложив по форме руку к козырьку, подошел к Дунаеву. Тот вяло дотронулся рукой до козырька и, взяв за локоть подошедшего, ласково-фамильярно опустил его руку.
— Ну, как дела, Филипп Наумович? — спросил Дунаев. — Можем трогаться?
— Так точно. Все в исправности, ваше благородие, — сдержанно ответил Филипп Булавин: это был тот самый казак, который выпустил Науруза из круга облавы.
— Ну-с, господин техник, — обратился Дунаев к Константину, — познакомились с вашим конем? — спросил он, кивая на светлорыжую, сытую и, по видимости, смирную лошадь, отдельно привязанную к коновязи. — Как вы в казачьем седле? Сладитесь?
— Ничего, — ответил Константин. — Я проводил межевание на землях Оренбургского казачьего войска и все время мотался в казачьих седлах.
— Так, значит, с богом, по коням, — сказал Дунаев.
651
Константин только хотел попросить подождать Асада, как в воротах показался сам Асад, верхом на до-; вольно высокой, но понурой лошади грязно-гнедой ма* сти. Асад отчаянно цокал и бил ее ногами, но лошадь шла усвоенным ею неторопливым шагом и только головой поматывала. На этом коне, в своей форменной лет-j ней фуражке с белым верхом и серой курточке с мед* ными пуговицами, Асад был забавен. Все улыбнулись, и даже под густыми пшеничного цвета усами Филиппа Булавина, на строгих губах его, мелькнула улыбка.
— Ты попросил бы у дяди Темиркана хорошего коня, — сказал Азис, спустившийся в это время во двор.
— Зачем мне ваши кони? — заносчиво ответил Асад.—Моя Буря после пятой версты как разбежится, так ее не удержать!
— Эту Бурю тебе отец к рождению приготовил? — насмешливо крикнул Азис вдогонку Асаду, который в арьергарде маленького отряда уже выехал со двора.
По улицам Арабыни ехали медленной рысцой, и все же Асад вначале сильно отстал, несмотря на то, что бешено бил своего коня ногами и хлыстом и отчаянно понукал его. Самонадеянное объяснение, которое Асад дал Азису насчет того, что его Буря разойдется только на пятой версте, не очень успокаивало Константина, и он часто поворачивался, чтоб поглядеть, насколько отстал Асад.
По тому, как Дунаев сидел в седле, весь перекосившись на сторону, точно рука, в которой он держал нагайку, оттягивала все его тело, можно было бы подумать, что его в любой момент можно сбросить с седла. Но Константин понимал, что все это лишь особый вид [кривлянья. Дунаев был не то чтобы мрачен, но как-то озабочен и заспан, и только когда обращался к Булавину, в его хрипловатом голосе появлялись ласковые, почти заискивающие нотки. Тот отвечал коротко, хотя и вполне уважительно, и снова погружался в какое-то строгое раздумье.
Выпустив Науруза из круга облавы, Филипп спас ему жизнь. Но это событие, о котором никто, кроме них двоих, не знал, для жизни Филиппа получило не меньшее значение, чем для жизни Науруза. Внешне это вы
652
разилось в том, что Филипп, раньше не вылезавший из нарядов и целыми днями подвергавшийся насмешкам, издевательствам и зуботычинам, вдруг стал среди молодых казаков, проходивших военное обучение в Арабыни, одним из самых образцовых строевиков.
Подхорунжий Ворокосин, который обучал молодых казаков, был приятно изумлен и приписал происшедшую с Филиппом перемену своему дробящему зубы способу воспитания, с помощью которого, он полагал, ему удалось успешно освободить Филиппа Булавина от того существенного порока, который подхорунжий определял формулой: «Имеет свое мнение». Формула эта означала, что Филипп не умел, не то чтобы не хотел, а точно — не умел делать что-либо, смысла чего он не понимал. Подхорунжий Ворокосин вел строевое обучение именно так, чтобы лишить строй — эту великую основу воинского дела — всякого смысла. И вот Филипп — грамотный, сообразительный и самостоятельный парень, ловкач и храбрец, — оказался на плацу одним из последних.
Выпустив Науруза из круга облавы, Булавин, по выражению подхорунжего, «стал делать отчетливо, в рубке и джигитовке показал лихость». И, конечно, никто не мог догадаться, что причина этой перемены заключалась в том, что отупляющая бессмысленность воинской муштры, ранее мешавшая Филиппу, стала теперь для него самой спасительной стороной военной службы. Она позволяла ему не думать над странностью своих отношений с молодым черкесом, которому он спас жизнь и подарил кисет; ведь Филипп называл Науруза «кунаком» только мысленно. «Ну, а как же присяга?» — и, не отвечая на этот страшный вопрос, он рьяно погружался в монотонную повседневность военной службы. И ему это удавалось. Молодых казаков в скором времени перегнали в казачий полк, стоявший в окрестностях большого и шумного портового города. В полку Филиппа с головой втянуло в службу, а так как он от природы был ловок и сообразителен, а к тому же хорошо грамотен, его послали в учебную команду. «Гляди, в благородья выскочишь», — шутили сверстники-земляки. Он отводил свои небольшие темносиние глаза и
653
сумрачно морщился. Никто не знал, что этот службист, которому скоро нашьют лычки на погоны, считает дни и ночи до срока, когда кончится безрадостная пустыня военной службы и он вернется в родную станицу.
Лычки Филиппу нашили раньше, чем он предполагал, и раньше, чем он мог думать, оказался он в родной станице. Ему даже не пришлось окончить учебную команду, как их досрочно произвели, вернули по сотням, посадили в вагоны... Цели поездки никто не знал, но ехали в родную сторону, а по тому, что офицеры стали как-то особенно торжественны и ласковы, казаки подозревали, что цель эта серьезная. И Филипп отгонял от себя мысли об этой цели. За день, пока воинский эшелон медленно двигался в сторону Краснорецка, Филипп утомил своих подчиненных и самого себя крайней придирчивостью. Еще засветло все в теплушке заснули, а его сон не брал. Отодвинув тяжелую кованую дверь, он сел на чисто выметенный пол, опустил вниз ноги. Солнце село, луна набрала силы, серебристые травы бежали мимо глаз его. Места были уже знакомые. Машинные запахи железной дороги не могли перебить тихого родного дыхания степи. Как будто бы все, о чем напоминали эти ароматы, было радостно: и детство, и то хмельное, тревожное и прекрасное время, когда он полюбил впервые, — ведь на родине его ждала молодая жена, с которой он так недавно обвенчался. За время службы у него родилась дочь. Но все это не радовало его, и точно не одна тоска, а несколько по-разному бередили его душу. И, щуря свои темнозолотистые короткие и густые ресницы, он словно высматривал что-то в светлой, несущейся мимо него вольной ночи и неслышно насвистывал что-то сквозь зубы: «Эх да эй, эх да ой, плавает ведерко в колодце, сосновые клепки, дубовое донце... Не ты ль, моя люба, как по воду ходила, его упустила».
Он предчувствовал, что ничего хорошего не нужно ждать от такого возвращения на родину, и это предчувствие его не обмануло. Когда в Краснорецке, на знакомом перроне вокзала, вскочив на платформу для перевозки багажа: «Братья, станичники!» — крикнул вдруг молодой машинист, он разбередил в душе Филиппа
654
именно то, о чем не хотелось, нельзя было, страшно было думать...
Лошадь Асада действительно разошлась, и даже тогда, когда Дунаев, крикнув: «Ну, атаманы-молодцы. .переводил свой маленький отряд на галоп, Асад не отставал и взвизгивал пронзительно, по-горски.
Потом они встретили казаков: кони шли шагом, взятые наголо шашки блистали на солнце. Казаки конвоировали толпу веселореченцев. Они из-под широких полей своих белых и коричневых войлочных шляп, из-под меховых надвинутых на брови шапок бесстрастно-спокойно взглядывали на проезжающих, и только взглядом мог отвечать им Константин.
Очевидно, Дунаев что-то заметил на лице Константина, потому что он спросил:
— Жалеете?
Константин молчал. То, что он испытывал, нельзя было назвать жалостью, совсем другое чувство волной прошло по душе его.
«Так вот как? Ну, ладно, запомним и это», — примерно такими словами можно было бы выразить это чувство, в котором он сливал себя с этими людьми.
Дунаев опять взглянул ему в лицо и усмехнулся:
— Ну, конечно, жалеете... — сказал он. — Да вы не возражайте... Я вашего брата студента знаю. Вы всю эту публику изучали по Лермонтову да по Толстому, а вот для нас с Филиппом Наумовичем, — он фамильярно похлопал по плечу Булавина, — для нас эти самые наши кунаки — совсем другой разговор. Правильно говорил сегодня Батыжев. Вы думаете, что они в свои упрямые башки насчет этих пастбищных земель забрали, они это легко выкинут? Так я вам скажу, что все это дело только началось, и мы все равно что сыпь по телу разогнали. Главари-то, верно, в горы ушли — и нам. лет на десять хлопот хватит. Верно, Филипп Наумович?
— Да, уж это как есть, ваше благородие, — ответил Булавин и каким-то странным взглядом, испытующим и невеселым, покосился на Константина.
Все это время Филипп прислушивался к разговору «господ», и тревожил его этот разговор. А день был ти
655
хий и солнечный, и вокруг была родина, пересеченная ручьями, оврагами, черноземные пригорья, покрытые светлозелеными, уже выкинувшими колос пшеничными полями. Золотой купол церкви над густыми садами станицы Сторожевой ослепительно сверкал им навстречу.
При въезде в станицу, на мосту через реку Веселую, они впервые встретили казачий разъезд. Константин достал пропуск, но это были казаки из сотни Дунаева, потому Дунаев махнул рукой, и их пропустили.
Широкая улица' была так же пуста, как дорога, по которой они ехали, и это придавало станице выражение угнетенности и беспокойства. Подъехали к станичному управлению, хмурому двухэтажному зданию, сложенному из старых бревен. Нижние окна зарешечены, наверх .вела крутая лестница, над крыльцом была выцветшая вывеска с двугла-вы-м орлом.
— Ты можешь к себе домой заехать, — сказал Дунаев, обращаясь к Булавину.
— Покорно благодарю, ваше благородие, это ни к чему, — ответил Булавин, отводя глаза.
— О-о-о... Службист... — одобрительно сказал Дунаев и слез с коня. — А то заскочи на минутку?
Булавин не ответил, точно не слышал. Дунаев поднялся наверх, а Булавин даже не слез с коня.
Всю военную службу мечтал он о возвращении домой. Но для него возвращение в родную станицу всегда означало освобождение от постылой службы. И то, что ему. пришлось войти в родной дом, оставаясь военным, делало это возвращение каким-то недостоверным: все было чудно, как в нехорошем сне. Свою дочь Наташу он не смог отличить от ее однолеток, братних девочек-погодков. А Наташа была особенная: иногда она, как зверушка, как белка или заяц, приседала, закинув вверх темноволосую головку. Сквозь крупные редкие кудри просвечивала белая кожа. Она понимала, когда говорили о ней, и крошечными, как синие искорки, глазами очень разумно оглядывала снизу взрослых. Филипп хотел взять ее на руки, она отчаянно заревела и напугалась так, что не смогла к нему привыкнуть. Да и как привыкнуть?. Он заходил в дом в полном вооружении,
656
гремя шашкой, от него даже пахло не по-домашнему — службой. И Наташа, вслед за братними ребятишками, называла «тятей» дядю своего Родиона, и когда он входил в дом, она от скамьи к скамье и от табурета к табурету пробиралась к нему. Она уже стала на ножки, она начинала ходить, — так и не пришлось увидеть Филиппу ее первого, самого нежного роста.
Когда Филипп входил в дом, темнобровое лицо жены его Стеши покрывалось медленным и прозрачным, точно восковым румянцем. В те немногие ночи, когда ему удавалось оставаться дома, он засыпал под ее неумолчный любовный шепот. Днем она с него глаз не сводила, а он, щурясь, отворачивался. Болел отец, старела мать, старший брат забрасывал хозяйство, уходил работать на сторону, хозяйство тянули бабы. Но до Филиппа все, что было дома, доходило как сквозь стеклянную стену: все видно, а слышно неясно и глухо. Здесь, на пороге родного дома, путы военной службы стали еще тягостнее, но он знал, что сбросить их невозможно, и наперекор себе все свои силы отдавал службе и добивался того, что в немногие минуты отдыха спал как убитый.
Дунаев недолго задержался в станичном управлении. Но по тому, как он быстро, без всякого кривляния, вскочил в седло, и по тому, что не сказал своей обычной присловки: «атаманы-молодцы», и по тому, как он скреб пальцем щеку, скосив на сторону рот, Булавин угадывал, что Дунаев чем-то недоволен и озабочен.
Ехали молча. Константин поглядывал на. Асада, который после встречи с арестованными соотечественниками притих и погрустнел. Константину хотелось поговорить с ним, но при посторонних это было невозможно.
Они выехали из станицы. Дорога свернула в ту сторону, где за первой, самой близкой сине-лиловой грядой виден стал высокогорный, слепящий глаза снег. Здесь маленький отряд Дунаева обогнали казаки: они скакали по три, ряд за рядом, и сквозь-поднявшуюся пыль видны были то нахмуренные, то веселые лица, слышно было фырканье коней, гулкий и мерный подзадоривающий топот, и нужно было крепко натягивать поводья — лошади так и рвались следом за этой лавиной..
42 Ю. Либединский
657
— Нашего полка сотня, — сказал Дунаев. — В аул Баташей идут. Вам туда нужно? — спросил он Константина.
— Судя по карте, дорога должна пройти через этот аул, — ответил Константин.
— Ну, так могу сообщить вам, что эти молодцы туда направляются. Вам надо это иметь в виду, потому что я сопровождаю вас до Веселого аула и там остаюсь, и дальше, если вас пристрелят, я уже не отвечаю, — сказал он резко Константину.
Тот ничего не ответил, чувствуя, как Дунаев шарит по нему придирчивым, неприязненным глазом, видимо желая придраться к чему-то.
Но Константин держался так естественно и просто, что охота задирать его у Дунаева отпала.
Казачья сотня, обогнавшая их, запела, — широкая грусть и залихватские выкрики, звон копыт по каменному грунту. Местность становилась все гор истее.
Дорога незаметно вошла в широкую долину между двух невысоких хребтов. Впереди долина резко сужалась. Веселая, вся в белой пене, выбегала из ущелья — это и были Ворота.
Казачий разъезд вел веселореченца в белой войлочной шляпе, особенно оттенявшей смуглоту этого молодого и ясноприветливого лица. На нем была серая, длинная, из домотканной шерсти рубашка и серые же шерстяные чулки. Обут он был в мягкие, плетеные из кожаных ремешков лапти. Видимо, не зная за собой ничего, за что его следовало бы задерживать, он шел подняв голову, объясняя что-то казакам. Те внимательно слушали его.
Они проехали еще некоторое время и увидели арбу, опрокинувшуюся в канаву, нагроможденную пожитками — красные наволочки, опрокинутые сундучки.
— Что это? — вырвалось у Асада.
Константин не ответил и, конечно, не мог ничего ответить.
Дунаев мельком взглянул на растерянное лицо Асада и сказал Булавину:
— Не было печали, Филипп Наумович: еще новый абрек объявился. Молодого князя Аубекира Байраму
658
кова подстрелил. Только третьего дня я с этим Аубекир-чиком водку пил, а сегодня его уже в станичном правлении доктора потрошат. Велят усилить охрану на дорогах.
Филипп скупо усмехнулся.
— Как же иначе, ваше благородие, ведь абреки всегда по дорогам ездят, — насмешливо ответил Булавин.
Караульная служба, которую в порядке чрезвычайного положения несли по округу казаки, в подавляющем большинстве местные уроженцы, была предметом их недовольства и насмешек. Дунаев служебным рвением вообще никогда не отличался, но, оказавшись в подчинении у жандармского начальства, чтобы не иметь с ним дела, он все свои обязанности передоверил вахмистру, взводным и отделенным. Так как среди этого «солдатского» начальства Филипп Булавин был сторожевский, то налаживание патрульной службы на землях станицы Сторожевой было поручено ему. Но именно потому, что Филипп очень хорошо знал местность, вся эта служба представлялась ему совершенно бессмысленной. Он знал, сколько на этом пространстве пересекающихся друг с другом потаенных тропинок, глубоких оврагов, густо заросших кустарником, и болот, через которые мог проходить только тот, кто их хорошо знает. Казачьи разъезды сновали по дорогам и задерживали и приводили для опознания всех «подозрительных» лиц, а под подозрение, за исключением веселореченских князей, было взято все веселореченское население. Там, где веселореченцы жили большими массами, в аулах, задача свелась к тому, чтобы прекратить всякое движение не только между аулами, но и внутри аулов. Но с того времени, как этот край стал принадлежать России, веселореченцы жили не только в аулах, но и среди русского, главным образом казачьего населения. Многие работали батраками на землях своих князей и богатых казаков, другие, вроде шерстобита Авжуко, ремесленничали, бродя из станицы в станицу, многие арендовали княжеские и казачьи земли и вели на них сельское хозяйство. Среди последних попадались люди зажиточные. В Арабыни появились богатые скотопромышлен
но
42*
ники и владельцы мастерских — обувных и кожевенных, Хубовы, Кашевы, Мансуровы. По очень несовершенному полицейскому подсчету, количество веселоре-ченцев, живущих среди русских, превысило десять тысяч. И вот все эти люди, большинство которых в силу своего образа жизни не могло не передвигаться по краю, лишились сейчас права передвижения. Казачий разъезд задерживал всякого веселореченца, встреченного на дороге, и вел его к Булавину. Булавин даже тогда, когда задержанный казался ему совершенно мирным, препровождал его к Дунаеву. Дунаев, недоуменно и недовольно пожимая плечами и явно давая понять задержанному, что сам не одобряет своих действий, отсылал всех задержанных в Арабынь к приставу Пятницкому, где, на основе каких-то никому не понятных признаков, одних освобождали безусловно — таких было мало, — других освобождали на поруки кого-либо из князей, немногих усылали под конвоем в Краснорецк, а большинство гноили в тесной и наполовину врытой в землю арабыньской тюрьме, где уже начались эпидемии. Сам не разделяя и не одобряя всех этих действий, Дунаев в проведении их был неумолим. Богатые веселореченцы, которые взятками пытались отделаться от него, получали язвительный ответ: «Здесь не полиция». В результате этих мер передвижение веселореченцев по дорогам округа прекратилось, но, конечно, и Дунаев и Булавин прекрасно знали, что тот, кому нужно было, мог передвигаться по округу, совсем не выходя на дороги.
Они въехали в ущелье, скалы заслонили все, дорога сузилась, внизу ревела Веселая. Задрав голову, можно было видеть вершины скал, которые казались чуть розоватыми при закатном свете.
— Глядите, глядите, — сказал Дунаев, как только они выехали из ущелья.
Высоко, на страшной круче, видны были пушки и лошади, вокруг них суетились маленькие фигурки людей. Подкладывая камешки под колеса и этим притормаживая, их, видимо, спускали вниз.
Дунаев крикнул на ухо Константину (иначе говорить было нельзя — мешал рев воды):
660
— Хорошие игрушечки? Горные, трехдюймовые...
В его голосе ясно слышен был вызов. Константин опять ничего не ответил.
— Был у меня дружок, иногородний, в пятом году называл себя «красным», а сейчас такую крупорушку поставил — любо-дорого! — продолжал кричать Дунаев.
Константин кивнул головой, показал на реку, гудевшую внизу...
Они ехали среди нависающих над дорогой скал, быстро темнело.
«Скорей бы приехать», —думал „Константин.
Он чувствовал, что у Дунаева все время нарастает раздражение. При виде народного бедствия Асад вел себя явно не так, как подобало вести себя родственнику князя Батыжева, — его лицо было откровенно растерянно и угнетенно. Константин умело отмалчивался, — и это, конечно, тоже злило Дунаева. «Да и с этим унтер-офицером у них тоже не так гладко — он тоже что-то помалкивает», — думал Константин о Булавине.
Стены ущелья раздвинулись. Над сине-зеленоватыми стали видны громадные снеговые горы — те же лбы и носы, уста и морщины, но невероятно, неправдоподобно разросшиеся.
Внизу уже стемнело. Впереди они видели кучу огней. Но долго еще ехали в направлении этих огней, и, точно звезды, неизменны были эти огни, то заслоняемые горами, то вновь выплывающие из-за них. Порою откуда-то сбоку, из темноты, выбегали впадающие в Веселую мелкие и быстрые ручьи, и всегда они сопровождались тропинками. И с той стороны, откуда выбегал ручей, тоже видны были огни.
Неожиданно запахло навозом и дымом. Огни превратились в окна, они подъехали к аулу. В темноте белели стены. Дважды их останавливали часовые. Дунаев что-то говорил, склонившись к часовому, и их пропускали. Наконец возле мечети увидели они неровно освещенные кострами палатки.
Дунаев вошел в одну из палаток и с мрачной учтивостью представил Константина молодому офицеру, дремавшему за столом. Тот со сна удивленно таращил на него глаза. Константин тут же вытащил карту и стал
43 10. Либединский
661
расспрашивать о тоннелях на семидесятой версте, на шестьдесят восьмой и семьдесят четвертой версте.
— Завтра, завтра... — зевая, отвечал офицер.
Константин и Асад, изрядно проголодавшиеся, закусили копченым мясом, которое им было дано в дорогу, и запили коньяком, которым угостил их офицер. Их тут же сморило. Офицер посмеялся над их отчаянной зевотой и указал им на половик и бурки, наваленные в углу. Двое суток, проведенных почти без сна, сказались, и Константин заснул еще до того, как он дошел до этого уютного и темного угла...
Константин проснулся, вдруг почувствовав себя на головокружительной опасной высоте. Мглисто-белый свет уже пробивался в палатку. Ночной безбородый офицер за это время исчез, за столом сидел уже другой, бородатый. Головокружительное чувство таяло. Константин понимал, что это было подавляемое сознание опасности и риска, — ведь если бы все эти люди знали, кто он! Только на краткий миг перехода от сна к бодрствованию это чувство охватило его, но он не дал ему с собой совладать, и вот оно совсем рассеялось. Заботливо укрыв Асада, зябко жавшегося в уголке, Константин спокойно подошел к столу и представился офицеру. Тот начал с чрезвычайной придирчивостью рассматривать пропуск Константина, спросил его паспорт, и Константину пришлось первый раз за все время показать свой фальшивый паспорт. Офицер сверял паспорт с пропуском. Во время этой процедуры вошел Дунаев. Не поздоровавшись с Константином, слушал он весь этот разговор, и Константин подумал, что Дунаеву, верно, просто надоело все время объяснять, кто такой Константин и куда он едет. Константин был почти уверен, что попал в беду (досадно, почти у цели!), и соображал, как ему с возможно большей внезапностью кинуться из палатки. Но бородач вдруг зевнул, потянулся, махнул рукой и сказал, что Константин может следовать куда ему угодно. Константин понимал, что среди этого страшного и стройного военного хозяйства он не может не вызывать подозрения.
«Как бы то ни было, мне пока везет, но не надо искушать судьбу...»
662
Он все же подошел к офицеру со своей картой, выяснил, как проехать к интересующим его тоннелям и мостам. Потом, растолкав Асада, шепнул ему, чтобы он скорей вышел из палатки.
На воздухе было еще по-утреннему холодно, — клочки тумана в беспорядке неслись куда-то вбок, мечеть, оказывается, находилась на высоте довольно значительной, и аул был весь виден отсюда. Среди темной зелени каштанов и плодовых садов, под ивами, густая листва которых поблескивала, как рыбья чешуя, повсюду белели сакли, и высоко в небе стайка белых голубей, уже освещенных солнцем, мерцала в утреннем небе так, как в ночном небе мерцают Плеяды. У Константина все путалось в глазах, он не видел ни одной улицы, и когда по аулу проезжали казаки, ему казалось, что они гарцуют по крышам. Жителей не видно, но всюду можно было заметить признаки воинской жизни: солдат пронес ведро с водой, казак провел лошадей. По мере того как он вглядывался, повсюду замечал он неподвижные фигуры часовых. Показалась парная упряжка. За ней, подскакивая на камнях, быстро катилась пушка со стволом, который показался Константину странно коротким, — или так полагается у горных пушек? И, вспомнив, как в ясной тишине вчерашнего утра до него докатился гулкий и протяжный звук, Константин весь подобрался. Из палатки, зевая, вышел Асад, лицо у него посинело от холода, но глаза были веселые.
— Ну как, Константин Матвеич, поедем тоннель смотреть? —спросил он, протирая очки, и, близоруко моргая, вглядывался в лицо Константина.
Константин быстро оглянулся—их никто не слышал.
— Во-первых, еще раз напоминаю вам: я не Матвеич, а Викторыч.
Асад смутился и покраснел.
— Скажите, вы здесь бывали? — быстро спросил Константин. — Знаете, где Керкетовы живут?
— Я у них прошлое лето гостил, — ответил Асад.
— Мы сейчас туда отправимся. Но сделаем вид, что поедем искать тоннель... только, пожалуйста, не удивляйтесь.
663
43*
— Ну, как ночевали? — услышали они приветливый вопрос.
Это был Булавин.
— Замерзли? — с ласковой улыбкой обратился он к Асаду. — Не дальше как десять верст до нашей Сторожевой, а у нас в это время никогда так холодно не бывает.
— Ив Арабыни тоже только перед снегом так холодно, — оказал Асад.
— А что ж снег? Выпадет и стает в момент, — ответил Булавин. — Кони ваши напоены и накормлены, так что можете отправляться. Вон они у коновязи...
— Большое спасибо, — сказал Константин. — Мы сейчас и поедем.
— Погодили бы, — сказал Филипп. — У нас сейчас чайничек скипит, а то вон их сиятельство совсем смерзли, — сказал он, кивая на Асада.
У Асада на лице показалось жалобное выражение, он привык по утрам пить горячий чай. Но Константин, чуткий к изменению общественного настроения, понимал, что хотя пропуск ему вернули и разрешили следовать дальше, но здесь, в суровом воинском хозяйстве, он не может не возбуждать недоумения и недоброжелательного любопытства. К тому же он у цели своего путешествия — значит, нужно сделать решительный прыжок.
— Нет, спасибо, мы уж поедем... — сказал он. И вдруг увидел, что лицо Булавина стало по-вчераш-нему строгим и напряженным.
Булавин прислушивался, и Константин тоже уловил почти сливающееся с гулом реки заунывное и торжественное пение. Это пение слушали все. Вон офицер, у входа в палатку, подтянув сапог за ушко, поставил ногу на камень, и денщик, повернув усатое, с большими ноздрями лицо, чистил сапог и слушал с застывшей улыбкой. Вон казаки, кто полулежа на бурке, кто сидя на бревнах, кто на корточках возле жиденького костра, на котором грелся черный чайник, приподняв головы, тоже слушали, и все глядели в сторону белого каменного амбарчика без окон, откуда доносилось пение, не то издалека, не то из-под земли.
664
— Вы знаете, что они поют? — тихо сказал Асад. Глаза его блестели живым и отважным блеском. — Они поют про народного вождя Тхамали Широкие плечи, «солнце князей потушивший, солнце народа зажегший. Эй, Тхамали...»
Константин предостерегающе толкнул Асада и спросил, обращаясь к Филиппу:
— Это кто поет?
— Да черкесы поют. Напихали их здесь в амба-рушку, как сельдей... — Наклонив голову, он помолчал. — Эх, господин, когда ж нас избавят от этой постыдной и укоризненной службы? — спросил он, и слышна была в этих словах прозревшая, рвущаяся к правде душа. Он махнул рукой и отошел.
— Едемте-ка, Асад, скорее,—тихо сказал Константин.
И они пошли туда, где были привязаны их кони.
На дворе Керкетовых пусто, ставни беленького, знакомого Асаду дома закрыты, за домом видны цветущие яблони и сливы, а под ними голубые и розовые — праздничные — домики ульев. Слышались мерные удары топора. Асад стоял в воротах, и ему казалось, что чего-то недостает на дворе.
«Здесь собака должна быть», — подумал он и позвал:
— Вазир, Вазир...
Стук топора сразу прекратился.
— Тебе кого? — недружелюбно окликнул его кто-то по-русски.
Из-за дома вышел незнакомый Асаду русский парень с топором в руке, в буро-бордовой вылинявшей рубахе с расстегнутым воротом. Его темнорыжие прямые волосы спускались почти до самых бровей, в глазах, такого же цвета, как волосы, было дерзко-озорное выражение.
— Мне хозяина, Керкетова Шехима, — сказал Асад.
Парень оглядел его, насмешливо сощурил глаза на медную с буквами бляху его пояса и, ничего не ответив, прошел туда, где видны были ульи.
Через некоторое время оттуда показался Шехим.
665
«Как он постарел», — подумал Асад, вглядываясь в эту медленно приближающуюся высокую, сутуловатую фигуру в опрятном бешмете, чулках и кожаных туфлях.
Асад с детства знал Шехима. В благодарность за то, что отец Асада помог Талибу в ученье, Шехим каждое лето брал Асада в Веселый аул погостить.
«Что он, не узнает меня?» — думал Асад.
— Чего ищешь, господин? — спросил старик по-русски и вдруг остановился, приложив руку к глазам. — Неужто это я тебя вижу, сынок? — сказал он радостно на родном языке и обернулся к русскому, который, поигрывая топором, стоял поодаль, продолжая разглядывать Асада. — Скажи Батырбеку: гость хороший пришел, пусть барашка режет. Скажи Маржан — пусть ковер в сад принесет.
И он снова обернулся к Асаду:
— Какой ты вырос! Пусть приход твой будет к счастью, сынок.
— Я не один, отец, — сказал Асад. — Со мной друг. У вас никого чужих сейчас нет?
— Все свои. Зови сюда твоего друга. Где он?
— Это вашего Талиба друг, — сказал Асад. — Он из тех русских людей, которые за правду борются. Мы с ним сюда пробирались, знаешь, как? Если его начальство поймает здесь, ему конец. Это что у тебя за молодец? Работника наняли?
Шехим засмеялся.
— Все мы у бога работники. Это тоже друг наш.
Они подошли к воротам и махали рукой Константину, который, укрывшись с двумя лошадьми в тени старой раскидистой ивы, был там почти незаметен.
— А где Вазир? — спросил Асад.
Лицо старика омрачилось.
— Карымовы убили, вместо меня убили. Вчера пришли, надо мной издевались, убить грозились. Талиба искали. Сергей, хорошо, заступился. Когда уходили, собака им вслед залаяла — они ее застрелили.
Константин подошел, ведя на поводу лошадей, и в его крепком рукопожатии, в его взгляде Шехим сразу ощутил доброту и помощь. Обычай не позволял Шехиму
666
начать расспрашивать гостя о Талибе, но как только они уселись на ковер под низко нависшие тяжелые ветви цветущей груши, Константин сразу же сам стал рассказывать. Когда Шехим не понимал его, он просительноласково клал руку на колено Асаду, и тот пояснял. Пришли женщины, принесли в больших деревянных чашках мед, молоко, творог, айран, пасту и хлеб, испеченный по-русски.
— Это друг Талиба, — сказал Шехим молоденькой худощавой жене Талиба Маржан.
Она острым взглядом всмотрелась в лицо Константину, побледнела и вдруг, закрыв лицо руками, убежала.
— А теперь ты, отец, расскажи, что тут у вас произошло.
Гудели пчелы, шумела река; старик рассказывал. Он говорил по-русски, но иногда замолкал, поворачивался к Асаду и произносил несколько слов по-веселоречен-ски: то, что он не умел сказать по-русски. Константин тоже вопросительно взглядывал на своего переводчика.
Асад последнее время стал забывать родной язык; за годы ученья он даже думать стал русскими словами и с отцом тоже говорил по-русски. Только с матерью продолжал он говорить на родном языке, но много ли нужно слов, чтобы поговорить с матерью?
Асад не всегда понимал старика, переспрашивал его, тогда во взгляде Константина появлялись нетерпение и требовательность, и Асада это волновало еще сильнее.
Сегодня, как только они отдалились от офицерских палаток и Константин в коротких словах рассказал ему о цели своей поездки и том, что он рассчитывает на помощь Асада, сразу же все, что скопилось в душе Асада за вчерашний день: сострадание к родному народу, боль за него, беспомощный гнев против поработителей его и сознание вины за эту беспомощность, — все вдруг слилось воедино и мгновенно — как вода в лед — превратилось в деятельность, ту самоотверженную, благородную и опасную, которой от него ждал Константин.
667
Асад никому не был так предан, как сейчас Константину, никогда ему не было так тревожно и радостно, как в это тихое летнее утро.
Шехим рассказал о том, как мулла Шаик стал натравливать народ на русских, строивших железный путь.
— Тут я не стерпел — сказал ему слово осуждения, и хотя он мулла, ученый человек, но народ послушался меня. Однако я не был спокоен. Занялся большой пожар, может загореться там, где не ждешь... Я ушел с пастбищ, спустился вниз, в Орлиное ущелье, где работали русские. Но, оказывается, нашелся еще человек, который о них позаботился, — Науруз Керимов из Баташевой долины; он раньше работал вместе с русскими в этом же ущелье и приехал по следу Темиркана Батыжева, убежавшего от народа.
Науруз — друг наш, мы прятали его от врагов, потому он русских своих друзей привел спрятать на наш двор. Тут я как раз сверху спустился и развел русских по соседям. А этого молодца, так как он мне приглянулся, я оставил у нас... — И Шехим кивнул в сторону выкрашенного белой краской крылечка-дома, где на ступеньках, полуоткинувшись, сидел Сергей Комлев и лениво пускал клубы голубого дыма.
— Ты сделал мудро... — сказал Константин.
Шехим неожиданно засмеялся — доброта, лукавство сливались в этом старческом, прерываемом покашливанием смехе.
— Как же не мудро? Когда казаки зашли в аул, они в числе главарей, конечно, взяли тоже и меня. Тогда Сергей собрал всех русских, они пришли к начальству и сказали свое слово о том, что я друг русских, что я их прятал. И меня тут же выпустили. Спору нет, мудро,— сказал он серьезно. — Но мудрость моя имеет предел. Почему меня русские начальники выпустили, я понимаю. А почему они муллу Шайка выпустили, я этого не понимаю.
— Очевидно, он тоже проявил мудрость, но эта мудрость нам неизвестна, — усмехнувшись, сказал Константин и спросил Шехима: — Значит, ты на пастбищах не был, когда туда начальство приехало?
668
— Нет, нет, не был, — ответил Шехим. — Но когда я узнал, что казаки поднимаются на пастбища, мы вместе с Наурузом направились туда. Но мы еще не дошли до пастбищ, как ударили пушки: первый раз, второй раз — и весь народ пошел сверху. «Поворачивай, Шехим! — кричали они. — Все кончилось! Слышал, как царь нас пушками уговаривал? ..» Люди все злые, разгоряченные. Тут молодой Науруз сказал им слово: «Будем, говорит, братья, дружнее держаться, все по-нашему будет — приходит время нового адата, великого братства мозолистых рук».
— А где этот Науруз?— спросил Константин.
Шехим ответил ему долгим взглядом.
— Ты хочешь его видеть?
Константин помолчал.
— Не только его, —сказал он. — Если ты соберешь здесь надежных людей, таких, которым вы с Талибом доверяете, я с ними тоже поговорил бы...
Старик повернул голову и крикнул слабым голосом:
— Батырбек!
— Несу, отец, сейчас готово будет!
Старик засмеялся.
— Думает, я шашлыки тороплю, — сказал он Асаду.
Прошло несколько минут, и разрумянившийся Батырбек принес на палочках шашлыки, поджаренные, шипящие, роняющие капли горячего жира в траву. Батырбек вежливо поздоровался с Константином, приложив руку к сердцу, но оглядел его недоверчиво; Асаду он мигнул по-приятельски.
— Это друг Талиба, — сказал старик Батырбеку по-веселореченски. — Его нужно проводить до Науруза. Но сделать это так, чтобы не попадаться на глаза казакам.
Глаза Батырбека блеснули весело.
— Я это сделаю, отец. Мы ночью переберемся через реку и пойдем по тому берегу в Баташей. Там мы найдем Хусейна и Нафисат Баташевых, они знают, где Науруз.
Шехим внимательно поглядел на лукаво-веселое лицо Батырбека.
— Я вижу, тебе по пути в Баташей.
669
— По пути, отец.
— Если ты хочешь взять в жены дочь Хаджи-Даута, то пристойней это будет сделать через свата, — сказал Шехим.
Лицо Батырбека стало серьезно.
— Я сам хочу поговорить со старым Хаджи-Дау-том, — ответил он.
— Я знаю, ты разумен, когда хочешь быть разумным. Я тебя благословляю, пусть тебя аллах благословит!
И Шехим повернулся к Константину.
— Этот день ты будешь моим гостем. Выспись получше, а вечером, как только стемнеет, сын отведет тебя куда нужно. Теперь же мы больше не будем говорить о делах и заботах. Ешь, пожалуйста, пока не остыло.
После обеда Шехим уложил гостей в саду и посоветовал выспаться; им предстояло далекое ночное путешествие. Асад заснул сразу, а Константин, глядя в глубокую синеву неба, которое видно было над низко склонившимися, отягченными белым цветом ветвями, как будто бы задремал — и сразу очнулся бодрый и свежий. Хотелось сейчас же действовать, а до вечера было еще далеко. Поднявшись, он оглядел двор. Все пусто. Константин тихонько прошел между плодовых деревьев туда, где шумела река. Пчелы летали вокруг его лица, но он не отмахивался от них, и они его не трогали. Желтая вода быстро неслась между белых голышей, от нее ответвлялись канавки, в которых вода смирялась и тихо текла, орошая черную, тщательно вскопанную землю; мелкая паутинная рябь чуть морщила воду. Константин умылся снежно-холодной водой. Он присел на берег, огляделся. Вся долина реки до белых гор вдалеке представилась ему громадным цветущим садом.
Берега тщательно укреплены плетнями из ивовых прутьев, не дающими реке уносить прибрежную землю. Крыши сараев сплетены из камыша. Труба дома тоже сплетена в виде круглой корзины и обмазана глиной. И когда Константин вгляделся, то увидел, что и стены дома представляют собой крепкое плетение, сверху
070
обмазанное глиной и побеленное. Даже циновки, на которых сидели они во время угощения, были искусно сплетены из просяной соломы. С уважением, почти с благоговением оглядел Константин широко раздвинувшиеся обработанные водой и воздухом стены ущелья. На архитектурные и скульптурные очертания этих стен точно наброшена была пышно-зеленая ткань кустарника и травы — и этих честных и верных людей так бессовестно обманули и ограбили!
— А я напугался: думал, гостя украли, — услышал вдруг Константин голос Шехима. — Почему тебе не спится? Наверное, жестко.
— Нет, нет, — поспешно ответил Константин. — Очень мягко, спасибо.
— Может, пчелы спать не дали? — озабоченно расспрашивал старик.
— Нет, не пчелы, — сказал Константин. — Думы, заботы. — Он похлопал себя ладонью по лбу.
— А-а-а... — сказал старик. — Это верно, я совсем спать перестал: только заснешь — мысль, как мышь, пробежит — снова проснешься.
Константин давно уже заметил, что над цветущими садами возвышался округлый и широкий темнозеленый купол зелени; ему казалось, что это какая-то маленькая роща, растущая посреди аула. Константин спросил о ней у Шехима.
— Это не роща, а одно дерево. Это судебный дуб, — с важностью сказал Шехим. — Сколько аул стоит, столько этот дуб стоит. Еще до того, как Батыжевы крепость Арабынь поставили, здесь, в ауле Веселом, князья правили суд над всем Веселоречьем. День суда исчисляли по луне. Стоял под дубом чурбан, от крови черный, и на нем топор, от крови ржавый, чан масла стоял, под ним огонь разводили. Если украл, то по цене краденого — или палец долой, или два, а то ногу отрубят — за конокрадство. Ты пришел свидетельствовать против господина? — спросил старик, обращаясь к Константину, и взял его за руку своей костлявой, холодной, но еще сильной рукой. — Суй руку в кипящее масло, держи ее в чане и рассказывай судье свое дело. Стерпел — значит, прав; не стерпел — отрубят руку по ло
671
коть, один глаз вынут. Вот как судили за то, что показываешь против господина.
Много нищих с отрезанными руками и ногами, с выколотыми глазами ходило тогда по Веселоречью. Даже князья между собой говорили: «Не надо нам этого суда. Потому что от калек князю тоже нет выгоды...» С судом этим покончил Тхамали Двойные плечи. Он сверг Бисмалея. Народ тогда выбрал правителем Веселоречья Темиркана Батыжева, пращура теперешнего Темиркана. Хитрая лиса был этот первый Темиркан! При нем отменили старый суд, убрали топор, чурбан и масло, стали судить по русским письменным законам.
Старик помолчал, тихо вздохнул и сказал:
— Всю жизнь считал я, что нет этого суда справедливее, а сейчас думаю так: рук и ног нам, конечно, не рубят и глаз не вынимают, а правды нет. Царь дает слово, внук его это слово нарушает. Земля божья, как и воздух, предназначена для всех людей, а богатые и знатные захватывают ее.
Он помолчал. Константин тоже молчал, боясь единым словом помешать течению этих мыслей.
— Жил, говорят, в старину один бедный пастух, — сказал старик. — Пас он овец на поляне, окруженной скалами, сморило его сном, проснулся—нет овец. Облазил все ущелье и нашел пещеру — туда вели овечьи следы. Вошел он в пещеру, шел, шел, час шел, два шел; сначала темно было, потом впереди показался белый свет — и вышел он в зеленую просторную долину. Видит — овцы его пасутся. Обошел эту долину — пустая она, никого нет, а земля хорошая, трава сочная... Ночью потихоньку вернулся, увел свою девушку и друзей, ушли они в эту долину среди гор и там свободно, счастливо, без князей и без насилия, живут и сейчас... Давным-давно слышал я эту сказку, еще маленьким был, и совсем забыл ее, а вот теперь все вспоминаю...
Он вдруг прервал свой сосредоточенный рассказ.
— Иди, иди сюда, — ласково и жалостливо позвал он, обернувшись в глубину двора.
Константин тоже повернулся туда и увидел, что к ним направляется низенького роста человек, которого можно было бы принять за десятилетнего мальчика,
672
если бы не его синие от бритья щеки и подбородок. На нем был странный наряд: сшитые из ситца с яркими маленькими цветочками штаны и рубашка, — впрочем, все опрятно и чисто.
«Юродивый», — подумал Константин, разглядев бессмысленную улыбку, раздиравшую лицо и показывавшую два ряда желтоватых и крупных, как у лошади, зубов. Среди тревог, страданий и дум не хотелось видеть это бессмысленное ликующее лицо и странно пестрый наряд.
Константин не понимал, что лопочет юродивый, но чувствовал, что лопотанье его бессмысленно. А мудрый старик, который только что пытался мыслью своей охватить прошлое, настоящее и будущее своего народа и только что высказал его затаенные надежды, пробужденные страшными событиями последних дней, вслушивался сейчас в лопотанье юродивого с пристальным вниманием и переспрашивал настойчиво, почти с отчаянием.
— Что-то ведь сказать хочет, а не поймешь, — беспомощно сказал Шехим, оборачиваясь к Константину. — Солнышко, говорит, светит, а гром гремит. Какой он сейчас гром слышит? Ведь им, блаженным, открыто то, что от нас скрыто. Ну скажи, ну что ты хочешь сказать?
При виде этой мудрости, которая искала ответа на свои вопросы в беспросветном мире безумия, Константин вдруг ясно представил то, о чем он будет говорить с друзьями Шехима, которых тот обещал собрать ближе к вечеру.
Сквозь щели запертых ставней пробивался яркий солнечный день, и в комнате был приятный, прохладный полусвет. Крестьяне приходили по одному, по два. Шехим приводил их в эту комнату, где, как он предупреждал каждого пришедшего, должна произойти встреча с другом Талиба, русским, приехавшим из города.
Это была комната Талиба. Все, кто сейчас сюда приходил, не раз бывали в ней. И все же, увидев в комнате незнакомого человека, каждый в нерешительности останавливался на пороге. Тогда Константин сам шел навстречу, протягивал руку пришедшему и просил са
673
диться. Люди размещались на потертом ковровом диване., на скамье, которую заранее поставил в комнате Шехим. Когда не стало хватать места, присаживались на пол у стен. Все это были люди самого цветущего возраста: между двадцатью и сорока годами. Они пришли сюда прямо с работы, с поля, из хлева или с огорода, но их рабочая одежда была аккуратна, даже заплаты выглядели так, что на них приятно было смотреть. Крепко затянутые пояса, строченые воротники рубашек с прямым воротом и множеством мелких пуговиц были высоки, тверды и подпирали щеки; коричневые войлочные шляпы, пушистые усы и тщательно подстриженные бороды — все придавало им вид суровости и воинственности. Большинство, присев, закурили трубки, погрузившись в неподвижность. Константину нравились эти люди, но он подумал: с ними не разговоришься. ..
Когда собралось человек двенадцать, Шехим запер дверь и, показывая на Константина, начал говорить.
— О чем он? — спросил Константин, обращаясь к Асаду.
— Он говорит, что вы друг Талиба, что Талиб в городе нашел русских людей, которые борются за правду, что Талиб заключил с ними союз и что вы приехали от этих людей, чтобы помочь веселореченцам.
Шехим показал на Асада и тоже сказал несколько слов. Асад смутился, Шехим представил его крестьянам. Большинство крестьян знали Асадова отца или же слышали о нем. И сразу же один из крестьян, сумрачный, с тонкими черными усами, очень молодой, сказал, обращаясь к Асаду:
— Ты спроси русского гостя, пусть он нам объяснит — неужели русский царь совсем разум утратил: у нас, кто честно государству налоги цлатит, он пастбища отбирает и князьям, дармоедам и бездельникам, их отдает?
Асад перевел, Констанин одобрительно кивнул головой и с уважением поглядел на этого сумрачного, серьезного человека.
— Мы, русские люди, давно не ждем от царя заботы о благе государства и народа, — оказал Констан
674
тин. — По всей России тысяча человек одной десятиной земли владеют, а один человек тысячью десятин владеет, — переведите им, Асад.
И едва Асад кончил переводить, как все разом зашумели, заговорили, многие поднялись с мест — точно буря ворвалась в комнату. Один — и тысяча! Тысяча — и один! Константин точно зажег эти две сухие и скучные цифры, обратил в ярко пылающий факел, разом осветилась перед крестьянами вся громадная страна.
Переждав несколько секунд, он снова заговорил, все крестьяне смолкли, застыли, вслушиваясь в голос: слова были непонятны, но самый звук голоса внушал надежду.
Константин стоял возле окна, и дневной луч, пробивающийся сквозь щель, мгновенно пробегал по его движущимся губам, и то засвечивал огонь в его глубоко посаженных внимательно-добрых глазах, то освещал его высокий лоб, и прядь молодых волос вспыхивала под солнцем.
— Царь нас всех, на ком держится Россия, все равно, говорим ли мы на русском или на другом каком языке, за людей не считает. Он нас холопами своими считает, — это можно по-вашему перевести, Асад?
— Да, да, конечно можно, — быстро ответил Асад, разрумянившийся, вспотевший от волнения и оттого, что в комнате стало жарко.
Это слово «холопы» для крестьян Веселоречья звучало во всем своем отвратительном, оскорбляющем человеческое достоинство смысле — «черный народ», — иначе не называли их высокомерные князья, и Асад поразился тому, что Константин, обращаясь к веселоре-ченским крестьянам, сказал именно то слово, которое им лучше всего понятно.
— Но мы не холопы! — с силой сказал Константин. — И царь, для которого весь народ состоит из холопов, должен быть свергнут и будет свергнут народом!
Как только Асад перевел, одобрительное цоканье прошло по всей комнате...
Константин рассказал, о чем Темиркан Батыжев говорил с русским офицером:
675
— Крови веселореченских крестьян хотел веселоре-ченский князь, крови тех, кто из века в век создавал богатство и могущество его рода, — вашей крови.
— Когти орлиные, крылья совиные, повадка оборотня, сосущего кровь! — оказал один из крестьян, старик с седой подстриженной бородой, все время молчавший.
Асад перевел его слова Константину и объяснил, что это народная поговорка о Батыжевых.
— Но Батыжевы — слуги русского царя, — оказал Константин, — они его опора! И их, а не вас, будет он слушать. Но у вас есть опора и поддержка в русском народе!
Константин рассказал о молодом машинисте на станции Краснорецк, который отказался везти казаков на усмирение восставших веселореченоких крестьян и который говорил казакам о братстве труда, о новом адате, адате мозолистых рук.
— И поверьте, даром не пропадет его слово! Недолго ждать нам того времени, когда, сбросив не только самодержца всероссийского, но и местных самодержцев, казаки и горцы сольются вместе в одну семью!
Константин тут же напомнил сказку о пастухе, нашедшем счастливую долину, — сказку, которую недавно услышал он от Шехима. Он по-своему рассказал ее так, что они, точно стоя на высоком перевале, увидели в синей дали грядущего огни счастливых человеческих поселений и услышали, как ветер донес оттуда ароматы цветущих садов и еле слышные звуки радостных песен грядущего.
Не только никто из веселореченских крестьян, но и русский, Сергей Комлев, присутствовавший на этом собрании и не сводивший глаз с Константина, а также и образованный, уже наслышавшийся всяких речей Асад не слышали никогда таких слов. Никто из них даже не подозревал, что человеческое слово может превратиться в волшебные крылья, которые мгновенно могут унести и в Петербург к Зимнему дворцу, и на берега Лены, и в черную тьму прошлых веков, и к залитому солнцем будущему.
676
Как на чудотворца-волшебника глядели они на Константина. И не знали они, что им выпадет счастье слушать человека, имя которого войдет в историю нашего времени, которому суждено своим животворящим словом двинуть миллионы людей на борьбу за грядущее счастье человечества, что после его смерти самое имя его станет подобно громовому призыву, что именем его будут называть старые города, в которых когда-либо раздавался его голос, и новые города, его словом вызванные к жизни.
Всего этого, конечно, не мог знать о себе и сам Константин. Он твердо знал о себе только то, что является бойцом в маленьком, крепко сколоченном передовом отряде русских рабочих, предводимом великим учителем, именем которого— «Ленин!» — он кончил всю эту долгую беседу.
Усталый, счастливый тем, что встреча прошла хорошо, вышел он на двор, перечерченный длинными вечерними тенями, и с наслаждением вдохнул свежий, насыщенный ароматами воздух. Асад позвал к нему того сумрачного высокого юношу с черными усами, который первый задал Константину вопрос.
— Вот он говорит, что когда в России начнется восстание, им сюда нужно какой-нибудь знак подать, чтобы подняться.
— Это дельно, — оказал Константин. — Мы это наладим!
Глава четвертая
Спустя час после того, как над пастбищем прогремели царские пушки, в Баташевой долине стали появляться те, кто присутствовал при этом деле и мог рассказать о нем.
Дед Магмот еще не вернулся домой, но бабушка Зейнаб, узнав о происшедшем на пастбищах, сама догадалась, что нужно делать. И когда Науруз из Веселого аула вернулся в Старый и прискакал к Даниловым, он увидел: на их дворе люди заняты тем, что чистят и проветривают бурки, полушубки и одеяла. Сама бабушка Зейнаб, заплаканная и озабоченная, возилась у ярко
44 10» Либединский
677
пылающего очага — варила и цокла, а младшая, еще незамужняя дочь ее Таужан и Нафисат, которая со времени своего бегства из родного дома жила у деда Магмота, помогали ей.
— Вы уйдете в горы, — сказала Нафисат Наурузу, — дед Магмот, и ты, и Бетал. Мы готовим вам припасы и одежду. Мы с бабушкой уйдем вместе с вами, — тихо добавила она.
— Надо, чтобы Хусейн с нами ушел...
Но только Науруз произнес имя друга, как Таужан заплакала, а лицо Нафисат стало сумрачно.
Оказывается, сюда приходила вчера вдова Анисат, она искала Науруза, но случайно встретила у Даниловых Хусейна. Хусейн выслушал печальную историю вдовы. Узнав, что Аубекир Байрамуков предал царским властям абрека Науруза Данилова, вступившегося за достояние вдовы, Хусейн поклялся, что будет мстить Байрамукову. Анисат сказала, что Аубекир вернулся в свой аул с отрядом стражников, собранных из числа его родичей, чтобы расправиться с восставшими.
— Можешь указать мне его? —спросил Хусейн.
— Могу, — ответила Анисат.
И они ушли вместе. Вернется ли Хусейн?
Бабушка Зейнаб уверена была в том, что на расстоянии угадывает намерения своего старика, и ошиблась только в одном: старик не захотел брать ее с собою и сперва заупрямился — очень трудна была дорога в то убежище, куда он предполагал уйти. Но старуха, конечно, настояла на своем.
Сборы были быстрые, казаки с минуты на минуту должны были прибыть в Б-аташей. Пятнадцать человек мужчин и четыре женщины во главе с дедом Магмо-том собирались скрыться из Баташевой долины в местность, которая называлась Долиной Живой и Мертвой воды и находилась под самыми снегами Главного Кавказского хребта.
Горы образуют там как бы гигантскую чашу. Белая лапа ледника свисает с одной стороны, и новорожденные ручьи струятся из-под этой лапы. А с другой стороны долины грозно чернеет гора Громовая. Если приложить к ней ухо, слышно — изнутри гудит она и тря
678
сется; трава не растет на ней, скалистая поверхность ее влажно дымится, непрестанно источает она горячие родники — напиток богатырей, нарзан.
Холодную и горячую воду называют живой и мертвой водой. Горячая исцеляет болезни, холодная делает человека красивым. Тихо, безмолвно в этой круглой долине, но стоит здесь крикнуть громко хоть единое слово, как тут же оно повторится, умножится, и долго будут неведомые голоса перебрасывать его от одного края чаши на другой.
Между белой горой, источающей холодную воду, и тем-ной горой, источающей горячую, находятся пещеры, в глубине которых лежат древние кости. Люди редко отваживаются ходить сюда. Это место считается обиталищем таинственных духов.
Но когда люди из Баташевой долины пришли к пещерам, они одну из этих пещер уже нашли занятой: в ней расположились беглецы из аула Дууд. Это был Жамбот Гурдыев. На плечах донес он раненого Мем-бота Батокова. Калимат, жена Жамбота, и Оркуят, жена Мембота, со своими детьми сопровождали мужей.
Едва беглецы из Баташевой долины расположились в пещерах, как в Долину Живой и Мертвой воды пришла кучка людей из Байрамуковского аула, — с ними была Анисат, и она-то принесла злую весть о гибели Хусейна, который успел убить Байрамукова, но погиб, сражаясь с многочисленными родичами его. Верная лошадь Хусейна, Заря, принесла его на двор к Верхним Баташевым. И Науруз решил, что пойдет проститься с другом.
Дед Магмот подозревал, что Науруз хочет не только попрощаться с убитым другом, но и навестить Нафисат, которую дед оставил на коше Верхних Баташевых. От этого коша разветвлялись тропинки; одна из них вела в Долину Живой и Мертвой воды. Нафисат должна была при появлении преследователей направить их по неверному следу и оповестить обитателей Долины Живой и Мертвой воды об опасности.
Однако, вопреки предположениям деда Магмота, Науруз пошел к Верхним Баташевым не по тропинке, которая вела к кошу, где находилась Нафисат. Науруз
679
44*
знал другой, более прямой путь — без всякой тропинки, по руслу ручья, вытекающего из Долины Живой и Мертвой воды и впадающего в Веселую.
С детства Науруз больше других сверстников любил Хусейна. Более ровный, сдержанный, не по годам благоразумный, Науруз почти никогда не поступал так, как Хусейн, часто спорил с ним, но, так же как и вся молодежь Баташевой долины, он восхищался отчаянной смелостью Хусейна, его отзывчивым сердцем: ведь с помощью Хусейна Наурузу удалось увезти Нафисат.
И он еще потому торопился на двор к Верхним Баташевым, что хотел быть с матерью Верхних Баташевых и со всей их семьей в дни, когда на эту семью подряд два раза обрушилась смерть.
Нелегко постигнуть человеческое сердце! Дед Магмот, заменивший Наурузу отца и нежно его любивший, не смог понять, как отзовется в душе Науруза весть о смерти Хусейна. А злейший враг Науруза Кемал сразу понял, что, узнав о смерти Хусейна, Науруз обязательно придет с ним проститься, и по указанию Кемала неподалеку от дома Верхних Баташевых была спрятана засада. По сигналу, который предателю очень легко было дать со двора Верхних Баташевых в момент, когда все были заняты Наурузом, казаки поднялись, чтобы захватить его.
Двор Верхних Баташевых был полон народа, когда туда пришел Науруз. Мать плакала над телом Хусейна. Прощаясь с другом, Науруз едва не попал в руки казаков. Но кто-то предостерегающе крикнул, точнее — взвизгнул, предупреждая Науруза, и ему удалось скрыться. Ряд головоломных прыжков вниз, к руслу реки Веселой, едва не стоил жизни Наурузу. Той же дорогой вернулся он в убежище и рассказал новости. Утихший при появлении Науруза спор между дедом Магмотом и молодыми друзьями Хусейна возобновился с новой силой. Молодые хотели мстить за Хусейна.
— Неужели нам, как сусликам, прятаться в этих норах? — спрашивал юный Алихан Пшеноков, самый преданный почитатель Хусейна. — Все равно нам придется спускаться к пастухам, чтобы добывать себе пищу, и нас переловят поодиночке. Когда волка собаки
680
окружают, он сам на собак кидается и грызет их. Кинуться вниз, перебить князьков и офицеров сколько придется, а там хоть смерть. Волчья смерть — почетная смерть.
— Я смерти жду каждый час, — спокойно отвечал Магмот Данилов. — Мне умереть легко, но я хочу, чтоб вы, молодые, так же дождались внуков, как дождался их я.
Спор этот происходил на широкой площадке перед пещерой. Было тихо, ярко светило солнце, и так же ярко, как солнце, сияли горные близкие снега. Из громадной кучи хвороста, приготовленной для топлива, Науруз выбрал сучья с развилками и стал строгать подпорки, для того чтоб можно было вешать котел над костром. Науруз ни слова не вставлял в разговор, хотя спорившие поглядывали на него.
Вдруг он прислушался: из соседней пещеры, которую занимали дуудцы, слышалась быстрая музыка, взвизги и топот пляски. Странно было слышать эти звуки веселья в сосредоточенной и грустной тишине, которой была наполнена эта гигантская чаша. Да и смысл того спора, который вели молодой и старый о жизни и смерти — молодой рвался в холодные объятия почетной смерти, а старый манил его радостями жизни, — разительно не соответствовал этим бешено-стремительным и судорожным звукам...
Науруз пошел взглянуть на то, что происходит в пещере дуудцев.
При странном двойном свете—дневной падал из входа в пещеру, а дымно-пламенный — от костра, — женщины и дети, визжа и грохоча в сковороды, вертелись перед лицом Мембота, который расширенными глазами с ужасом смотрел на них и на тени, которые метались по стенам пещеры.
Жамбот играл на длинной металлической дуде визгливый мотив шапшакуа — лечебного танца, который не должен дать возможности больному сомкнуть глаза и заснуть, чтоб душа с телом не разлучилась. Отец Науруза не признавал такого дикого, «языческого» способа лечения — он врачевал настоями трав и корней, освященными строфами корана.
681
Науруз пристыдил Жамбота.
— Меня самого так лечили... — смущенно сказал Жамбот. — И видишь, я здоров.
Науруз обмыл рану на голове Мембота морозной ледниковой водой и напоил его горячи-м нарзаном. Мембот заснул. А Науруз набрал растущих среди мха на каменистой площадке перед пещерой круглых маленьких кочанков (сванское яблоко — зовут эти кочанки .веселореченцы), залил их кипятком и поставил настояться.
— Когда больной проснется, дай ему глоток этого горячего настоя!—научил он Оркуят.
Науруз вернулся в свою пещеру. Спор там уже прекратился. Синяя вечерняя тень накрыла всю безмолвную долину, и только на северо-востоке, где горы расступались, далеко-далеко за ними — может быть, уже на русских равнинах — лежал живой и теплый червонно-красный цвет. Науруз достал из кармана кисет, подаренный ему Филиппом, и сравнил: да, это были такие же краски.
В глубине пещеры плакал ребенок; морозной прохладой дышали близкие снега; дед, накрывшись тулупом, лежал на бурке и печально глядел на костер, тихо поникающий среди угольев: никто не подкладывал в него топлива.
Науруз сразу же подкинул дров — пламя столбом ушло в небо. Науруз установил подпорки, приспособил котел, принес воды и, наполнив его, подвесил кипятить. Возвращаясь от Верхних Баташевых, он подстрелил двух длиннохвостых фазанов и сейчас взялся их потрошить.
Покуривая свою коротенькую трубку, дед с удовольствием следил за Наурузом, любовался его спорыми, веселыми движениями.
— Хватит, Науруз, — оказал он ласково. — Я разбужу сейчас кого-либо из парней или кликну свою старуху — ребенок замолчал. Посидим, поговорим — голова твоя еще сильнее, чем твои богатырские руки.
— Работа не мешает мне думать, — ответил Науруз. — Когда руки заняты, голова работает лучше.
682
Дед недовольно крякнул и ничего не оказал. Если бы знал дед, что спор, который он только что вел с юным Алиханом Пшеноковым, происходит сейчас в душе Науруза и что тропа мести, по которой до конца прошел Хусейн, манит также и Науруза!
Раздалось блеянье овец. Бетал Данилов пригнал стадо на ночлег, загнал его в пещеру, а сам сел на краю площадки, спустил ноги вниз и стал перебирать струны своего кабуза, который бережно принес с собой в эти угрюмые места. Сначала он напевал: «Хусейн, ой, Хусейн, Заря белоногая пронесла тебя по пути славы», потом струны зарокотали нежнее: «А-а-а, — выводил он без слов, — когда-то увижу я чернобровую Балажан».
Из пещеры дуудцев показался Жамбот, тихо подошел к Беталу и стал слушать; в руках у него была та самая, сделанная из старого ружейного ствола дудка, на которой играл Эдык... Он некоторое время прислушивался, потом приложил дудку к губам — и ее звук, особенно резкий и страстный среди морозной тишины долины, вплелся в звон струн. Так, не сговариваясь, играли они об одном — о безнадежной любви. Оркуят, словно на зов, вышла из пещеры: на ее лбу и щеках лежал румянец заката.
— Ну как муж, спит? — спросил Науруз.
— А? — вздрогнув, спросила Оркуят. — Спит муж, спит...
И она снова скрылась в пещере.
Науруз вдруг прислушался: где-то далеко прокричала кукушка. Раз, два... Ку-ку... Раз, два... Науруз. ..
— Это Нафисат? — спросил Науруз.
Дед молча кивнул головой.
— Сходи спроси: что случилось?
По узкой тропке Науруз спустился вниз, перешел через дымящийся в похолодевшем вечернем воздухе разлившийся по земле ключ, ступил на опушку дубовой рощи и вдруг увидел между деревьев лицо Нафисат. Они безмолвно обнялись, без слов слушая дыхание друг друга. Потом она тихо заплакала и назвала шепо том имя Хусейна...
—- Откуда ты узнала?
683
— Мне рассказал Элдар. Я думала, что уже не увижу тебя, — сказала Нафисат. — Зачем ты ходил вниз? Тебя могли убить. Что я без тебя? Хуже сироты.
Науруз молча гладил ее по голове.
— Элдар привел ко мне на кош русского, который хочет тебя видеть.
— Русского? — радостно переспросил Науруз; так вот почему вспомнился ему подарок казака: «Бери да помни!» — Где он?
— Элдар сказал мне, что этот русский спас тебе жизнь.
— Это он, это он! — сказал Науруз. — Он казак.
— Не знаю, — ответила Нафисат. — Он говорит, что послан к нам от наших русских друзей. Я сказала ему, что таких никогда не видела. «Увидишь», — ответил русский. Он не говорит по-нашему, но с ним пришел мальчик, который хорошо говорит и по-нашему и по-русски. У него золотые пуговицы, буквы на поясе и две ветки на шапке, такой, какую носят русские начальники.
— Веди меня к нему.
Они шли обнявшись по узкой тропинке, но так ладно, будто шел один человек. Дубовая роща кончилась у обрыва, они остановились. Внизу чернел сосновый лес, и на опушке его Науруз увидел две маленькие фигурки.
— Я условилась, что, пока не вернусь, они будут тут ждать, — сказала Нафисат.
— Нет, не он, — недоуменно сказал Науруз. — Я его помню, это не он. Как он шел? Он не боялся?
— Нет, — ответила Нафисат, — он шел весело.
— А не может быть так, что следом за ним идут казаки?
— Нет, нет! — испуганно ответила Нафисат.
— Чего стоит твоя младенческая хитрость перед хитростью кровожадных зверей, привцкших ходить по нашему следу! — сказал Науруз.
Нафисат вздохнула и обняла его.
— Что это они делают? — спросил Науруз, напряженно вглядываясь в странные движения этих фигурок.
684
Нафисат тоже глядела туда, и вдруг улыбка прошла по ее усталому, побледневшему лицу.
— Камешки кидают, — оказал она. — Вот он так всю дорогу, я пугала его. «Если наши тебе не поверят, они тебя убьют», — говорила я. «Может быть, и так», — ответил он. Он ничего не боится, — со скупым одобрением сказала она.
— Стой здесь и следи за ними, — сказал Науруз. — Нужно будет проверить: не ведет ли он врагов? Когда я крикну филином, тогда веди его.
Глава пятая
Герой уж не разит свободно, Его рука — в руке народной.
А. Блок
Попрощавшись с Шехимом, Константин и Асад, сопровождаемые Батырбеком, двинулись в путь. Они воспользовались тем темным временем, когда солнце село, а луна еще не взошла, и, ведя коней на поводу, прошли вверх по течению реки до того места, где она широко растекалась, образуя множество поросших кустарником островков. Здесь, перебираясь от островка к островку, медлительно и осторожно перешли они реку. Это было, пожалуй, самой опасной частью всего путешествия, так как за переправами следили.
Перейдя реку, они продолжали путь верхом. Над ними нависал крутой берег. Его густая тень их скрыла, и большей частью ехали они по прибрежному мелководью. Но иногда возле берега река образовывала такие водовороты и стремнины, что приходилось подниматься круто вверх и объезжать эту часть реки.
Не раз Батырбек оборачивался к своим спутникам и молча указывал им на противоположный берег, красновато освещенный ущербленной, только что поднявшейся луной. Они прислушивались. Из-за шума реки слышно было, как там стучат копыта; видны были быстро движущиеся тени — это по дороге проезжали конные разъезды.
685
Так добрались они до того места, где желто-голубая Веселая принимала в себя темные, серебром взблескивающие под луной струи Черной реки.
Батырбек кивнул Асаду на выбегающую из темного ущелья многоводную и быструю реку и сказал:
— Гляди, как перебираться будем, чтоб тебя кто из родичей за ногу не схватил — в эту воду дуудцы князей своих побросали.
— Я не князь, — сердито ответил Асад.
— Какой из тебя князь! Мой отец про твоего отца говорил: если князь очки на нос надел, значит он уже не князь. А все-таки, может, жалко родичей-то, а? — спросил он, заглядывая в лицо Асаду.
Они переплыли Черную реку.
— Надо бы одежу нашу выжать, — сказал Асад. — А то я весь продрог.
Батырбек, выливая воду из сапога, ответил:
— Согреешься! Сейчас не мы на лошадях, а лошади на нас поедут.
И верно. Около часа они лезли на крутую гору, цепляясь за деревья и кустарники, помогая коням, и, конечно, им стало жарко.
Они поднялись наверх. Широкие, освещенные луной пространства открылись перед ними, громадные мышцы земли, травянистые плоскогорья, одно от другого отделенные глубокими оврагами.
Они сели на коней и поехали быстрой рысью. Батырбек развеселился и запел какую-то песню.
— Что он поет? — спросил Константин.
Асад прислушался:
— Не могу понять: какое-то воровство... Лошадь украсть хочет или девушку...
Они слышали завывание волков, далекое, точно пронизанное светом луны. Волкам отвечали овчарки, они лаяли с подвыванием, свирепым и тоскливым, выразительно передающим готовность к кровавой драке.
«Как еще молодо человечество, как недалеко ушли мы от предков», — подумал Константин, сквозь легкую дрему слушая то, что рассказывал Батырбек.
— Вдруг я проснулся. Гляжу — волк. Подошел ко мне, глядит на меня, хвостом виляет, рассматривает,
686
язык высунул и, как собака, смеется. Я поднял голову, он повернулся и ушел, поджав хвост, неторопливо ушел...
— Знакомиться захотел! — засмеялся Асад.
Луна ушла за тучи, все потемнело. К голосам волков и собак вдруг присоединился далекий голос человека, одинокое пение, похожее на вой.
— Что это он поет? — вдруг остановив лошадь, тревожно сказал Батырбек. — Он нехорошо поет... — и вдруг повернул лошадь на голос.
Сначала они видели впереди очертания плеч и головы Батырбека. Сильно взволнованный, он так понукал коня, что скоро растаял в темноте.
Где-то внизу, под копытами коней, загорелся красный огонь, оттуда и доносилась эта, казалось бы, захлебывающаяся от рыданий песня... Точно проваливаясь на каждом шаге коней, они круто спускались вниз, на призыв этого голоса и огня.
— Что это он поет такое? — спросил Константин.
— Я только разобрал, что это поминальная песня, — убили кого-то, — ответил Асад.
Красный огонь превратился в костер, вокруг которого двигались тени. Не успели они туда спуститься, как навстречу им вернулся Батырбек и рукой показал, что они могут продолжать свой путь.
— Ой, нехорошая весть, — сказал он печально. — Лучшего джигита во всем Веселоречье убили — Хусейна Баташева, друга моего.
— О нем была песня? — спросил Асад.
— О нем. Вчера ночью он застрелил князя Байрамукова, а сегодня его здесь неподалеку проследили и тоже застрелили.
— Я не разобрал — что-то он пел о том, что Хусейн за обиду бедной женщины отомстил? — спросил Асад.
— А, а... — с досадой оказал Батырбек. — Такой удалец, конокрад, а из-за глупой бабы пропал. Этот самый Байрамуков отнял у нее мельницу. Она везде жаловаться ходила, к Талибу приходила; он жалобы ей писал в Краснорецк, в главный суд ходила. На несчастье встретился ей Хусейн, а у нее ребенок на руках. Сердце у Хусейна жалостливое, вот и заступился.
687
Жизни нам нет от князей, — с ненавистью оказал он. — Ай, ай, ай, Хусейн! — запел он. Искреннее горе слышно было в его грубом голосе.
Со странным чувством слушал Константин рассказ Батырбека: по прихоти случая ему пришлось увидеть еще одно звено горестной истории вдовы Анисат. Оба заступника ее — богатырь Науруз Данилов и справедливый Талиб Керкетов — заточены были в краснорец-кую тюрьму.
«Но не останется она без защитника!» — точно въявь услышал Константин эти слова. И защитник нашелся! Он отомстил обидчику вдовы. Отомстил, заплатив за дело справедливости своей молодой жизнью, и песня, прославляющая его подвиг, понесется теперь с одного коша на другой.
Равнина кончилась, опять они ехали по лесу. Константин вдруг встревоженно подумал, что они едут все время без дороги, и спросил об этом Батырбека.
— Ворованных коней без дороги гоняют, — ответил тот. — Брат Талиб сердился: «Тебя, говорит, кони в тюрьму приведут». А сам раньше меня туда' попал, —• оказал он грустно. — Помнишь, ты мне про Наполеона рассказывал, — неожиданно спросил он Асада, — в прошлом году, когда к нам приезжал?
— Помню, а что? — удивленно спросил Асад.
— Я своего первого мальчика Наполеоном назову. Вот это был человек, — сам себя царем сделал!
— А ты почему Наполеона 'Вспомнил?
— Так ведь я жениться еду, — ответил весело Батырбек.
Он достал из-за пазухи сверток, развернул его — и кисейный, при луне непонятно-переменчивого цвета платок, сверкая, взвился над его головой.
— Невесте везу, сыну имя придумываю. Ты у меня на свадьбе дружкой будешь?
Батырбек опять развеселился. Константин все время слушал их веселую, перемешанную смехом болтовню.
Опустив поводья, Константин доверился своему смирному и упорному коню и то задремывал, то пробуждался.
688
Перед рассветом добрались они до того места, где стала видна Баташева долина, и по узкой тропинке, которая шла по краю пастбища, поехали над долиной, очертания которой смутно проступали сквозь туман. Асад судорожно зевал, ему хотелось спать. Но выше аула Веселого ему никогда' не случалось подниматься, и эти волшебные проступающие из тумана, точно просыпающиеся краски вызывали у него то детское чувство восторга, которое он переживал, когда переводил на бумагу переводные картинки. Какие еще яркие и неожиданные краски выступят из этой белесо-влажной туманной слепоты?
А Константин ловил себя на том, что во всем окружающем угадывает он следы какой-то грандиозной архитектурной конструкции, полуразрушенные гигантские колонны, обвалившиеся капители, портики и карнизы. Снег на этих карнизах образовывал белые полосы, прямые и угловато-ломаные линии, поверх черного, рыжего и красного камня.
Батырбек придержал коня и показал на противоположный, уходящий в сонную синеву ущелья конец Баташевой долины.
— Нам вон туда надо, там Верхние Баташевы живут. Сейчас у них плачут. Ведь Хусейн из их семьи. Страшную вещь сказал мне этот пастух: будто врагов на Хусейна родной его брат навел — Кемал. Брата предать— страшнее дела нет.
— Что же мы остановились? — спросил Константин.
— Совет держать надо, — ответил Батырбек. — Здесь спуск вниз, в долину. Но ведь там войска.
— Это верно, — сказал Константин, вспомнив разговор с казачьими офицерами.
— Сейчас начнем спускаться, к восходу попадем в Баташей, — вслух рассуждал Батырбек. — И не миновать нам встретиться с казачьим разъездом. Может, устроить здесь дневку и вечером спуститься?
— Ав объезд можно проехать? — спросил Константин.
— Трое суток, — ответил Батырбек.
— Ну, как же трое суток! — воскликнул Асад. — Это же вон...
689
— Орлу пролететь совсем близко, наверное и часу не будет, — насмешливо сказал Батырбек. — Так ведь у нас-то с тобой, братец, орлиных крыльев нет?
— Так что же делать? — беспомощно спросил Асад, обращаясь к Константину.
Константин молча расстегнул сумку и достал карту. Батырбек заглянул через плечо его.
— Это карта Баташевой долины, — пояснил Константин. — Вот здесь должна пройти линия железной дороги, досюда она идет по той стороне реки, а здесь переходит на эту сторону, где мы находимся. Значит, тут должен быть мост.
— Какой мост? — недоуменно сказал Батырбек. — Я двадцать дней тому назад в Старом ауле был, здесь никакого моста не было. А брода здесь нет, ты уж мне поверь... Брод — выше.
— А мы не будем переходить вброд, — усмехнувшись, сказал Константин. — Мы спустимся прямо к этому мосту.
— Здесь спускаться нельзя: нас сразу увидят, — сказал Батырбек.
— Пускай, — ответил Константин. — У меня есть бумага, я проверяю линию будущей железной дороги. Понял, джигит?
— Понял, — сказал Батырбек, и впервые уважение к себе услышал Константин в его голосе.
Они стали спускаться вниз. Очертания продолговатой долины, уходившей к снежным горам, проступали сквозь прозрачный предрассветный туман; уже наметился прихотливый рисунок реки, узор каменных оград, брошенный на зелень полей; темные гнезда родовых поселков, вершины пирамидальных тополей, проступающие сквозь струящийся туман. Прелестью обжитого людьми места веяло от этой долины.
Когда они из густого леса, которым покрыт был весь склон горы, должны были выехать на поля, расстилавшиеся по дну долины, Батырбек сказал, что ему придется расстаться с ними. Ведь при встрече с казачьим разъездом Константину предстояло объяснить не только свое появление в Баташевой долине, но также и появление своих спутников. В отношении молодого
690
князя Дудова, являющегося родственником князя Те-миркана Батыжева, это объяснение не представляло особых затруднений, а вот насчет Батырбека Керкетова. .. конечно, лучше всего было бы совсем не вступать в объяснения.
Перед тем как расстаться, Батырбек указал большой поселок на той стороне реки. Среди этого поселка, похожего на разваленную муравьиную кучу, возвышался дом, выделявшийся среди прочих новой красной кирпичной крышей.
— Это дом Хаджи-Даута Баташева. Я там буду. Когда все дела свои справите, приходите туда.
Он мигнул Асаду и добавил что-то по-веселоречен-ски. Тот засмеялся.
— Что он сказал?—спросил Константин, когда Батырбек скрылся в глубине леса, где ему надо было спрятать коня.
— Да все насчет свадьбы своей, — ответил Асад. — Неужели он, правда, женится?
— А почему бы ему не жениться? — спросил Константин.
— Но в такое время...
— Люди этими делами ни в какое время не перестают заниматься, — со смешком сказал Константин. — И не находите ли вы, что нашего друга Батырбека вообще мало волнует то, что волнует нас с вами? — И Асад принужден был с этим замечанием согласиться.
Следуя указаниям карты, Константин и Асад направились к отмелям реки Веселой, к тому месту, где должен был быть построен мост. Никаких признаков постройки моста они не обнаружили, зато на другой стороне реки Константин легко разглядел кучи щебня, опрокинутые тачки, кое-где срезы горы, обнажавшие ее каменисто-желтое нутро, обрамленное тонким, поверхностным слоем чернозема и пышной зелени. По всему видно было, что линию вели в глубь долины, туда, где река, здесь широко разлившаяся, сужалась. Там вместо большого моста можно будет перебросить <маленький.
691
«Ай да господин Гинцбург!» — подумал Константин, отдавая должное проницательному чутью Рувима Абрамовича.
Едва Константин и Асад соскочили с коней на прибрежную гальку, как тут же увидели, что к ним скачут казаки.
Рыжеватый, слабого сложения, с реденькими усиками офицер, просмотрев документы Константина и выслушав объяснения его, оказал удивленно:
— Да о чем же ваше начальство думает, посылая вас сюда в такое беспокойное время?
Константин развел руками.
— Мое дело маленькое. Послали — поехал. Хорошо еще, мне князь Темиркан Александрович Батыжев своего племянника в провожатые дал, а то бы я здесь совсем заблудился.
— Как же с вами быть? — спросил офицер в нерешимости. — Вы что сейчас предполагаете дальше делать?
— А вот, — Константин деловито расстелил карту на гальке. — Здесь получается некоторое несоответствие с генеральным проектом. Моя задача — составить акт о действительном состоянии работ.
— Значит, вам в глубь долины нужно будет проехать?
— Обязательно.
— Ну, тогда пожалуйте в штаб, потому что ваш пропуск надо отметить. А это может сделать только комендант.
Они вброд переехали реку Веселую. Офицер по дороге расспрашивал о будущей железной дороге. Константин рассказывал ему все, что знал, а то, чего не знал, пополнял своими догадками, которые выдавал за действительность.
— Значит, до самого Черного моря? Куда же это? К Новороссийску? А, значит — южнее,.. Большое дело, — говорил офицер, хорунжий Решетников, как во время разговора отрекомендовал он себя.
То движение войск вверх, в горы, которое Константин наблюдал со времени своего отъезда из Арабыни и в волне которого он двигался до самого Веселого аула,
692
сейчас здесь остановилось. Особенно это было заметно потому, что они встречали офицеров, прогуливающихся и с интересом оглядывающих темнозеленые, красивые, проступающие сквозь легкую пелену тумана горы, окружающие долину. До Константина донесся аппетитный запах щей, — «ад походной кухней вился дымок. Повинуясь тому чутью действительности, которое никогда его не обманывало и которое сейчас подсказало ему, как всего правдоподобнее будет поступить, Константин сказал Решетникову, что ему хочется есть.
— Мы вас покормим, — добродушно сказал Решетников и после этой просьбы совсем расположился к Константину.
Решетников направился к тому самому дому Хаджи-Даута Баташева, где они должны были встретиться с Батырбеком. И действительно, едва они вступили под крышу этого большого прохладного двора, остро пропахшего запахом конского навоза, как Батырбек с лукаво-серьезным лицом, будто бы у незнакомых, принял у них лошадей и увел в конюшню.
Выяснилось, что комендант еще спит. Константин и Асад ходили по двору. Батырбек, отведя коней в конюшню, прошел через двор и скрылся в доме. Через некоторое время из открытого окна выглянула широколицая и черноглазая, смуглая девушка. На голове ее был тот самый розовый шелковый платок, который Батырбек показывал Асаду, когда они были в пути.
— Это Балажан, невеста его, — шепнул Асад Константину.
Комендант оказался веснушчатым поручиком с острыми, как у хорька, глазами. Он отчаянно зевал во время разговора с Константином, причем от него разило водочным перегаром. Выслушав объяснения, которые давал не столько Константин, сколько словоохотливый Решетников, и не стараясь в них разобраться, он наложил на пропуск Константина требуемую, печать, лихо расписался и, очевидно, пошел досыпать. Решетников, отправляясь для несения дежурства, не забыл приказать бородатому, с тремя медалями вахмистру, который, судя по всему, был главным хозяином в ко
45 Ю. Либедииский
693
мендатуре, чтобы «их благородия» накормили. Однако, едва Решетников уехал, как появился Батырбек, подмигнул им и сделал знак, чтоб они следовали за ним. Он привел их в большую комнату, где стены увешаны были домотканными коврами и шкурами, среди которых выделялась пятнистая шкура барса. Тут же стояла ножная машинка «зингер», в углу над туалетным столиком, застланным вышитой скатертью, висело зеркало. Посредине комнаты стоял высокий стол и стулья. Батырбек представил им свою невесту, которая, улыбаясь, блестя белыми зубами, указывала на стулья и просила садиться. Они сели. В комнату степенно вошел сам Хаджи-Даут. Разговор велся через посредство Асада и Батырбека. Старик тоже расспрашивал о будущей железной дороге. Батырбек, видимо, скрыл от своего тестя действительную цель поездки Константина. Потом Хаджи-Даут стал расспрашивать о своих арабыньских знакомых. С явным удовольствием выслушал он рассказ о злоключениях князей и удивился, когда Асад рассказал об аресте Джафара Касеева.
— Я думал, он умный человек, — оказал Хаджи-Даут.
— А вы считаете, что умный человек не может сочувствовать крестьянам? — вызывающе спросил Асад.
— Умный человек? — переспросил Хаджи-Даут. — Если князья и мужики друг другу глотки перервут, то умному человеку больше места будет, — вот как думает умный человек.
Насытившись, Константин сказал, что они с Асадом пойдут пройтись по аулу, — и, вопреки обычаю, их не стали ни насильно угощать, ни укладывать на отдых. Да и во всей манере поведения старика и во внутреннем убранстве этого старого, быть может столетнего, бревенчатого дома господствовало новое, пришедшее из России.
Выйдя из ворот, Константин сказал Батырбеку:
— Мы одни пойдем, вы только укажите, как нам подняться к Верхним Баташевым.
Батырбек не стал настаивать, ему хотелось остаться возле невесты. Доведя своих спутников до большой дороги, он указал им в ту сторону, где ущелье сужа
694
лось. Там, выше всех прочих домов аула, лепился почти сливавшийся своими очертаниями с серым цветом скал, похожий на ласточкино гнездо дом. Константин заметил, что вешки, высокие шесты с пучками травы, обозначающие линию будущей железной дороги, не дойдя нескольких десятков саженей до этого дома, круто сворачивали, — очевидно, там и предполагали строители железной дороги перебросить мост на противоположную сторону реки. Константину стал ясен маршрут дальнейшего путешествия. Попрощавшись с Батырбе-ком, который пообещал беречь их коней, Константин и Асад неторопливо пошли по широкой дороге, которая тянулась между каменных оград. Веселое утреннее солнце висело над долиной. С обеих сторон дороги, то вдалеке, то вблизи, кучками разбросаны были домики.
Дорога вплотную подошла к реке. Берег здесь был высокий. Река, невидимая, шумела внизу.
— Опять, — оказал Асад, прислушиваясь.
— Что такое? — спросил Константин.
— Эту песню поют.
Они подошли к самому обрыву и взглянули вниз. У самого берега реки, сквозь верхнюю голубую волну которой просвечивала мутная желтизна, сидели девушки в зеленых, красных и синих одеждах, пестревших на солнце. Одни из них мыли шерсть, другие расстилали ее по гальке, некоторые разглаживали и тщательно расчесывали ее, чистую и сухую, белую и черную. Они пели, и голосам, их вторил звонкий шум реки. Асад переводил, следуя за медлительной песней:
— «Конь верный Хусейна — Заря золотая, учуя, что пришел конец хозяину, ухватил его зубами за белую черкеску и закинул на себя. Задние копыта его на бай-рамуковских пастбищах, а передние — в Баташее, — так прискакал он на двор Верхних Баташевых. Плачет мать Верхних Баташевых, плачут сестры Баташевы, плачут все девушки Старого аула, — покинула тело храбрая душа».
— Что, песенки слушаете? — окликнул их знакомый голос: к ним верхом подъехал Решетников.
— Да, вот слушаем, — ответил Константин беспечно. — Вышли прогуляться.
695
45*
— Если хотите интересное дело посмотреть, идите к мечети, — и он указал на невысокое строение с приземистой башней, выбеленные стены которой сверкали на солнце.
Издали видно было скопление людей вокруг мечети, красные, зеленые и синие -верха барашковых шапок среди белых и коричневых войлочных шляп.
— А какое дело? — спросил Константин, направляясь в ту сторону.
— Распоряжение будет от военных властей, — ответил Решетников. Он медленно ехал рядом.
На каменные ступени мечети вышел молодой мулла и, держа в руках бумагу, начал что-то пронзительно кричать.
— О чем это он? — спросил Константин.
— А это увещание, чтобы выдавали главарей; цены назначены за голову, — пояснил Решетников.
— «Батоков Мембот, Баташев Хусейн, Гурдыев Жамбот, Данилов Бетал, Данилов Магмот...» — монотонно читал мулла.
— Одного уж убили,—сказал Решетников.— Этого самого Хусейна. Родной брат выдал, большую награду получил.
— Значит, считаете, будут выдавать их? — спросил Константин.
— Почему ж нет? — спокойно ответил Решетников. — Конечно, масса закоренела, но, как видите, есть и благоразумные.
— «Пшеноков Алихан, Сижажов Дауд», — продолжал читать мулла.
— Много, — сказал Константин.
Решетников безнадежно махнул рукой.
— Теперь их хватит ловить лет на десять. Поймай-ка, — сказал он, обводя рукой поросшие лесом горы, окружавшие долину.
Константин оглядел лица тех, кто стоял рядом с ним и слушал муллу, молчаливо и упрямо затаив что-то.
«Благоразумных, пожалуй, окажется мало», — подумал он.
696
Не дослушав извещения до конца, Решетников уехал. Константин указал Асаду на вешку, — увядший пук травы желтел высоко над аулом среди зелени кустарника.
Они выбрались из молчаливой толпы, слушавшей муллу, и нашли тропинку, направлявшуюся вверх.
— Ведь это подумать! Родного брата предать, — возмущался Асад.
Они поднялись до вешки и увидели следующую вешку. Так, от -вешки до вешки, шли они по линии будущей железной дороги. Поля становились все меньше и, казалось, были развешаны по склонам гор; нагромождения скал всё величественнее и сумрачнее; река, раньше бежавшая рядом, сейчас недосягаемая и невидимая, гудела где-то глубоко внизу.
Там, где вешки обозначили поворот линии будущей железной дороги на ту сторону реки, Константин осторожно огляделся. Скалы, разделенные друг от друга узким ущельем, как бы переглядывались высокомерно и враждебно: что им было до человеческих дел! Константин с Асадом были затеряны среди громадных камней, и никто их не видел. Быстро свернув в сторону от линии вешек, они круто стали подниматься с таким расчетом, чтобы оказаться выше дома Верхних Баташевых. Перелезая с одного громадного камня на другой, они обходили это странное сооружение, почти неразличимое среди грандиозного нагромождения камней и с ними схожее... Женский плач, жалобные причитания услышали вдруг они и прямо внизу увидели маленький дворик, заполненный людьми. Посреди двора лежал на ковре темноволосый юноша в белой черкеске. Перед ним на коленях рыдала, вздымая руки и лицо к небу, большая женщина. Лицо ее было залито кровью, и она, вскрикивая, расцарапывала его еще сильнее.
— Мать, — шепотом сказал Асад.
Константин, не отводя глаз от двора, кивнул головой.
Выражение горести и достоинства, виденное им на лице скованного богатыря, над которым расправились маленькие князья, упрямая и чистая доверчивость Та
697
либа, народ, под пушечные выстрелы спокойным шагом уходящий с пастбища, Шехим и его друзья, одинокий рыдающий плач о Хусейне в пустынной ночи, песня девушек у речки и, наконец, плач матери о сыне — черта за чертой вырисовывалось лицо народа, который поднялся против врага коварного и подлого и с таким достоинством нес страшные последствия поражения.
— Ничего, ничего, товарищи, — хрипло шептал Константин.
Вдруг плач прекратился, что-то произошло во дворе. Толпа там раздвинулась. К неподвижному телу убитого шел широкоплечий и высокий, богатырского сложения юноша в светлокоричневой черкеске. Он подошел вплотную, опустился на колени и припал к груди убитого. Все молчали, замолчала даже мать.
Молодой богатырь поднялся. Он стоял перед убитым и говорил о нем. Константин видел его круглое румяное лицо, до него донеслись даже звуки голоса, мужественного и сильного.
— Что, что он говорит?—спрашивал Константин.
Асад напрягал слух, но грохот реки заглушал слова.
Вдруг что-то заставило Константина оглянуться. Краем ли глаза увидел он, как шевельнулась синяя черкеска среди голубых камней, камень ли покатился из-под неосторожной ноги, но, оглянувшись, Константин увидел, что снизу, по дороге, которая вела вверх к дому Баташевых и которую они с Асадом обошли, движутся синие фигурки казаков. Константин перевел глаза на Асада, — он привык через его посредство обращаться к веселореченцам. Но Асад, открыв рот, весь обращен был к тому, что происходило на дворике, и тогда Константин взвизгнул, не крикнул, а именно взвизгнул, так, как взвизгнул бы Асад, взвизгнул предостерегающе отчаянно и продолжительно. И тут же упал между камней и потянул за собой Асада, так ничего и не понявшего. Но, упав, Константин тут же, из-за камней, поглядел во двор. Там все пришло в движение, маленький мальчик стоял на крыше и кричал, показывая вниз на приближающихся казаков.
698
— Науруз, Науруз!..—кричали во дворе, и богатырь еще раз неторопливо и благоговейно поклонился убитому, поклонился воем окружающим и вдруг, подбежав к обрыву, прыгнул туда.
Казаки, оцепившие двор Верхних Баташевых, закончили обыск и ушли вниз, в аул. Константин и Асад решили выждать, когда кто-либо из Верхних Баташевых — а если посчастливится, может, и сама Нафисат — покажется со двора.
И действительно, через некоторое время со двора вышел и направился в их сторону тот самый румяный чернобровый мальчик, который с крыши оповещал о приближении казаков. Подойдя к ним, он, приложив руку к сердцу, учтиво поклонился в пояс. В барашковой черной шавке, зеленой черкеске и длинных коричневых чулках, он был забавен и мил, — едва ли ему было больше девяти лет.
Обращаясь к Константину и глядя на него своими безбоязненными темнокарими глазами, он произнес какую-то длинную фразу. Асад быстро ответил, и они заговорили наперебой.
— Это -младший брат той девушки, которую мы ищем, — сказал Асад Константину, — зовут его Азрет. Он сидел на крыше и, услышав, как вы закричали, заметил нас. Он никому о нас не сказал. А девушки этой сейчас нет дома.
— Мальчик хороший, — сказал Константин. — Поблагодарите его за то, что он не болтал о нас, и скажите, что нам нужно встретиться с Наурузом.
Мальчик быстро ответил.
— Он говорит, что Науруз — это тот самый человек, который прыгнул с обрыва, — перевел Асад.
— А как с ним встретиться? — настойчиво спросил Константин.
Мальчик нерешительно посмотрел на Константина, который, улыбаясь, глядел на него, и что-то сказал.
— Он просит разрешения посоветоваться с одним из родственников, который дружен с Наурузом, — перевел Асад.
699
— Хорошо, — сказал Константин. — Но только пусть приведет его сюда — мы сами ему все расскажем.
Азрет привел Элдара, в сопровождении которого они тут же отправились на кош Верхних Баташевых. Там Элдар передал их Нафисат, пожелал им счастливого пути, и они двинулись дальше.
Подъемы сменялись спусками, но каждый следующий спуск был как бы ступенью над предыдущим подъемом: они шли по дикой, заваленной камнями, пересеченной ручьями местности. Вода, вытекающая из-под ледников, всюду ослепительно блестела среди камней, а пастбища зеленели далеко внизу. Они спустились в лес и снова поднялись на перевал, покрытый грязным вечным снегом, и опять спустились и шли по душистым полянам.
Нафисат вела их. Она все время молчала и только раз, обернувшись к ним, вдруг сказала что-то: угроза, гнев были на ее худощавом красивом лице, в звуках ее голоса. Асад смутился, осердился, махнул рукой, и тогда она, поняв, что он не хочет переводить, оказала, обращаясь к Константину:
— Кто Науруза обманет — Науруз башка вот как сечет, — и она быстро провела рукой по своей стройной шее.
Сейчас, дожидаясь возвращения Нафисат, Константин нет-нет да и вспоминал ее угрожающие слова.
Солнце скрылось за горами, сразу стало прохладно. К смолистому запаху леса все сильнее подмешивался запах снега. Где-то поблизости закричала кукушка, и Константина удивило это: неужели сюда залетают кукушки? Он прислушивался к ее то двухсложным, то трехсложным, похожим на человеческую речь звукам и вдруг тихо засмеялся. Асад удивленно взглянул на него.
— Это совсем не кукушка кричит, — оказал Константин. — Слышите? Вот опять... Вы помните, Асад, голос девушки, которая привела нас сюда? Ну, прислушайтесь. .. Это ее голос. — Он вздохнул. — Да, ничего не поделаешь, Асад, нас опасаются. И она правильно
700
предупреждала: могут даже убить, а обижаться нельзя. Вон их куда, к самому хребту загнали. Как — боязно, а?
— Боязно, — откровенно ответил Асад.
Константин обнял его за плечи и прижал к себе.
— Ничего, дорогой мой, — нежно сказал он. — Такая у вас беспокойная должность. Как, вы говорили, папа ваш называется — толмач?
— Толмач, — ответил Асад.
Константин вдруг подумал, что смертельная опасность, все время сопровождавшая его во время этого путешествия, изменилась и приобрела какой-то очень уж обидный характер.
Одно дело — погибнуть от руки полковника Михеля и любого из этих врагов: Батыжевых, Дунаевых и Решетниковых, которых до сих пор так хорошо удавалось обманывать. Но погибнуть от руки своих? Константин мотнул головой, отгоняя от себя эту мысль.
Они действительно развлекались некоторое время тем, что бросали камни в пропасть и прислушивались, — когда камень долетит до дна? Камни долетали до дна, но никак нельзя было разобрать, всплескивается там вода или нет.
Потом это занятие тоже наскучило. Асад, весь съежившись, сидел на пеньке. Становилось все холоднее.
— Асад, вы ничего не слышите? — шепотом спросил Константин.
Асад открыл глаза, прислушался и отрицательно покачал головой. Неужели это шум в ушах? Справа и слева от себя Константин слышал шорох, шелест, точно какие-то животные, крадучись, обходили их. Но нет, для животных это слишком шумно, так шелестит только ползущий человек. Ну, конечно, за ним наблюдают, его оглядывают, его остерегаются. И он опять вспомнил: «Науруз твой башка вот как сечет». Что ж, и это может случиться. Он тихонько чертыхнулся. Обидно, конечно, погибнуть у самой цели и от руки тех, кому хочешь помочь. Константин глубоко вздохнул: как здесь прекрасно и вольно, пахнет хвоей и снегом. Нет, он будет жить, — это всё нервы. Где-то позади ахнул,
701
словно удивился, и раскатисто захохотал филин. Константин вздрогнул, Асад даже вскочил с места.
— Это филин, — успокоительно сказал Константин. — Представляете, как он сидит где-нибудь на вершине дерева — вот такой, как большая собака? Глаза горят.
— Хо, хо, хо! — кричал филин.
Вдруг Нафисат неожиданно возникла перед ними. Она подошла бесшумно — или они были отвлечены криком филина? Посмотрев на их растерянные лица, она улыбнулась, зубы ее блеснули под луной.
— Айда, —сказала она.
И опять пошли — она впереди, они сзади. Если б вода могла течь вверх, она струилась бы именно с такой плавной гибкостью, с какой шла эта девушка.
Филин смолк, как только она подошла.
— А филина, наверное, так же не было, как не было и кукушки, — весело сказал Константин.
Асад поскользнулся и уронил очки.
— Не отставай, — жестко сказала ему Нафисат.
Помогая Асаду разыскать* очки, Константин схватил какой-то тускло поблескивающий камешек и наощупь узнал каменный уголь. Он еще пошарил рукой и ощутил шероховатый пласт, выходящий прямо на поверхность земли. Очки нашлись.
«Чего только нет в этих горах, — подумал Константин, оглядывая черно-синие, убеленные глубоким снегом вершины. — Недаром все эти господа так сюда рвутся».
Каменный уголь он положил в карман.
Они долго поднимались круто вверх, по узенькой тропинке. Горы вдруг раздвинулись, они образовали здесь какую-то гигантской величины чашу, всю наполненную морозным и неподвижным воздухом. Из-за гор красновато засветил ущербный месяц, снизу поднимался какой-то теплый пар, застилавший ноги, лицо горело от легкого мороза, — все было непонятно, точно не на земле, а на какой-то соседней планете.
Константин вдруг увидел себя стоящим на широкой террасе. С одной стороны здесь высился крутой склон горы, там, среди скал, видны были черные дыры
702
пещер, с другой открылся необозримо широкий и туманный кругозор. Ярко горел костер, вокруг костра видны были люди. Константин услышал за собой легкие шаги: два человека догнали их. Один прошел вперед к костру, другой близко нагнулся к лицу его, и Константин узнал Науруза — у него было молодое, почти мальчишеское, приветливое лицо.
— Здравствуй, — по-русски сказал Науруз. — Скажи, это ты крикнул и спас меня?
— А ты не веришь? — спросил Константин. — Мне Шехим Керкетов сказал, что ты говорил о новом адате, о братстве мозолистых рук, и я поверил, хотя и не знал, кто тебя научил новому адату.
— Один старик русский, Сенечка, — вздохнув, сказал Науруз. — Он вашей песне боевой меня научил.
Науруз тихонько запел, и странно прозвучала грозная песня восставших городов здесь, среди морозной тишины и безлюдья.
Они подошли к костру. Здесь люди сидели в полушубках и бурках, и едва Константин подумал, что здесь холодно, как Науруз накинул на его плечи бурку.
— Садись — гостем будешь, — сказал он, указывая на камень, застланный какой-то гладкой, очевидно оленьей шкурой. — И ты тоже садись, братец, — сказал он по-веселореченски, обращаясь к Асаду, который с удовольствием кутался в овчинный, резко и приятно пахнущий полушубок.
Асад не то что сел, а почти что свалился. Входы в черные пещеры и сверкающие под луной вечные снега и льды, дымно-багровый свет костра, освещающий суровые лица бЬгатырей, — сказки и легенды, которые с детства сльийал Асад от отца, исполнились с чудесным правдоподобием.
Асад видел освещенное багряным светом открытое, приветливое и смелое лицо Константина, его гордую голову над широкими плечами. Он был под стать этим богатырям.
— Сначала садись и ешь, — с настойчивой приветливостью сказал Науруз и, мягко взяв Константина за локоть, стал усаживать его. — Подняться к нам
703
сюда — нелегкое дело, оно под силу только молодцу-джигиту.
Он говорил медленно, подбирая слова, чтоб не ошибиться в порядке русской речи. Сейчас на нем не было той красивой черкески, в которой его видел Константин на дворе, — на нем был желтый, нагольный, отделанный шерстью полушубок. На ногах грубой шерсти чулки, красная нитка, пропущенная в серой вязке чулка, придавала ему какое-то наивное щегольство.
Старики, сидевшие у самого костра, освещенные живым, неровным пламенем, были торжественно-молчаливы и неподвижны. Но позади все время шелестел негромкий говор: люди подходили. Константин чувствовал, что его рассматривают... У костра стали появляться женщины: за плечом черноволосой, сумрачной Нафисат Константин заметил поразившую его своей робкой и нежной прелестью русую Оркуят.Без всякого удивления увидел вдруг Константин на всю жизнь врезавшееся ему в память жутковатое лицо той женщины, которую впервые встретил он на улице Красно-рецка и за долю которой уже пострадало трое людей: богатырь в цепях, доверчиво-чистый и упрямый Талиб, убитый юноша в белой черкеске...
Пламя костра отражалось в широко открытых, лишенных ресниц глазах этой женщины и придавало особенно зловещий отпечаток той неистовой требовательности, с которой она глядела на Константина. Что ж, пришел его черед за нее заступиться! И Константин, как знакомой, кивнул ей и, обернувшись к Наурузу, стал рассказывать, как в Краснорецке судили Науруза Данилова, как он встретился с Талибом Кер-кетовым и о чем был разговор, как Талиб Керкетов направил его к отцу своему Шехиму, как добрался он до Шехима и Шехим направил его к Наурузу.
— Для чего проделал я весь этот трудный путь? — спросил он, вдруг встав с места.
И он сказал им те слова, которые зрели в душе его в продолжение этого трудного и опасного трехсуточного пути, слова привета от русских братьев и соратников, слова союза и помощи. Он сказал слово «демократия» и объяснил им: «государство народа», и его
704
вдохновенные слова впервые открыли им глаза, в тумане грядущего увидели они очертания того небывалого государства, которое сейчас уже создано и светит всему миру.
Закончив, он сел, достал из костра горящую ветку и закурил свою потухшую папиросу.
Константин думал, что Асад переведет его слова, но Асад молчал — очки сползли на кончик носа, рот был блаженно раскрыт, — Асад спал, — и Науруз заговорил.
«Складно как говорит», — думал Константин, любуясь той плавностью и силой в голосе и движениях Науруза, которые он приметил, когда впервые увидел его во дворе Верхних Баташевых.
Науруз закончил каким-то вопросом, и все заговорили разом. Потом встал дед Магмот, и все замолчали, слушая его рассудительно-ворчливый голос..
Науруз повернулся к Константину.
— Мы верим тебе, — перевел Науруз. — Нас много раз обманывали; нарушены все древние клятвы: Темиркан нарушил клятву Батыжа, царь Николай нарушил клятву царя Александра. Но мы знаем о той войне не на жизнь, а на смерть, которая давно идет между богатыми и бедными в России, и мы тебе верим — ты пришел от наших друзей и принес нам честное слово.
— Да, честное слово, — подтвердил Константин.
Все было тихо, только потрескивал костер.
— Нам о многом говорить надо, — сказал Науруз,— но сейчас ты, наверное, устал, отдохни, — добавил он заботливо.
— Нет, я не устал.
Мысли у него были необыкновенно ясны, сердце билось сильно, грудь дышала глубоко, и хотя он даже не мог сейчас вспомнить, когда и где последний раз спал, он чувствовал себя отдохнувшим и свежим.
— Скажи, что это такое? — спросил он Науруза, указывая в ту сторону, где горы расступились и где небо невидимо сходилось с землей; там все время колебались какие-то светлоголубые пятна, далекие бледные зарева.
— Что это? — спросил Константин.
705
— Города, — ответил Науруз. — Это огни русских городов. Вон Краснорецк, — указал он на самое большое и самое близкое зарево, — а вон там Екатерино-дар, — и он указал другое зарево, потусклее и дальше.
Сам он никогда не был там, но точно называл по именам города, созвездия русской земли. И в этой точности, обстоятельной и взволнованной, слышалось Константину пробуждение самых затаенных надежд весело-реченцев, надежд, обращенных к великому народу русскому.
19 декабря 1946 г.
Москва
СОДЕРЖАНИЕ
Пролог....................................... 5
КНИГА ПЕРВАЯ
Часть первая................................ 39
Часть вторая................................ 90
Часть третья............................... 174
Часть четвертая............................ 257
КНИГА ВТОРАЯ
Часть первая............................... 343
Часть вторая............................... 453
Часть третья............................... 551
Часть четвертая............................ 621
Редактор Л. Семёнов
Переплёт и титул художника И. Царевича Фронтиспис и рисунки художника А. Шеберстова Техн, редактор О. Котлякова Корректоры Н. Тырса и 77. Суздаль ский
А01336. Подписано в печать 4/Ш 1954 г. Формат бум. 84ХЮ8/з2 — 11,09 бум. л. — 36,39 печ. л. Авт. л. 33,71. Уч.-изд. л. 34,23. Тираж 75 000. Зак. № 965. Цена 11 р. 35 к.
2-я типография «Печатный Двор» им. А. М. Горького Союзполиграфпрома Главиздата Министерства культуры СССР. Ленинград, Гатчинская, 26.
Scan Kreyder -11.04.2017 STERLITAMAK