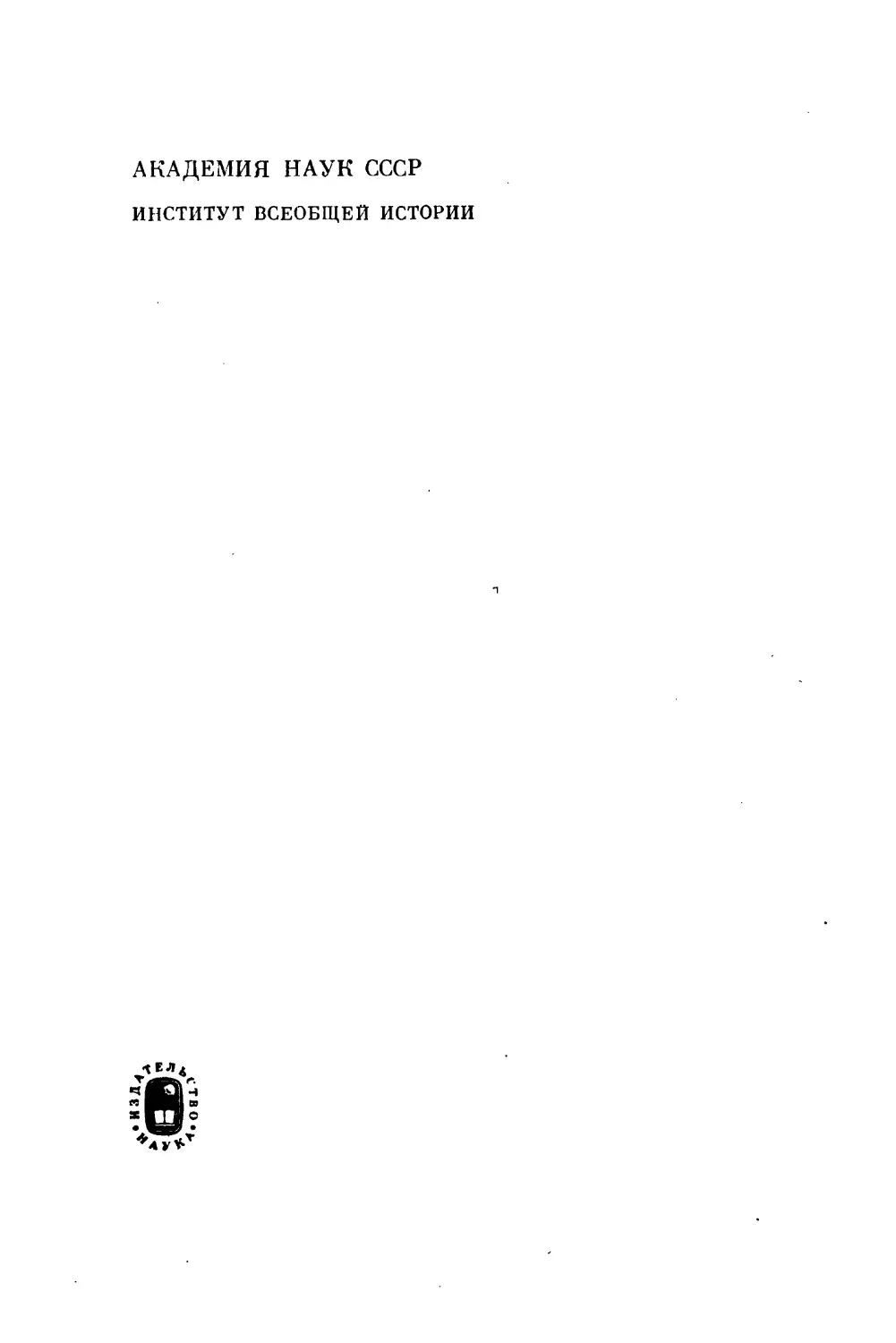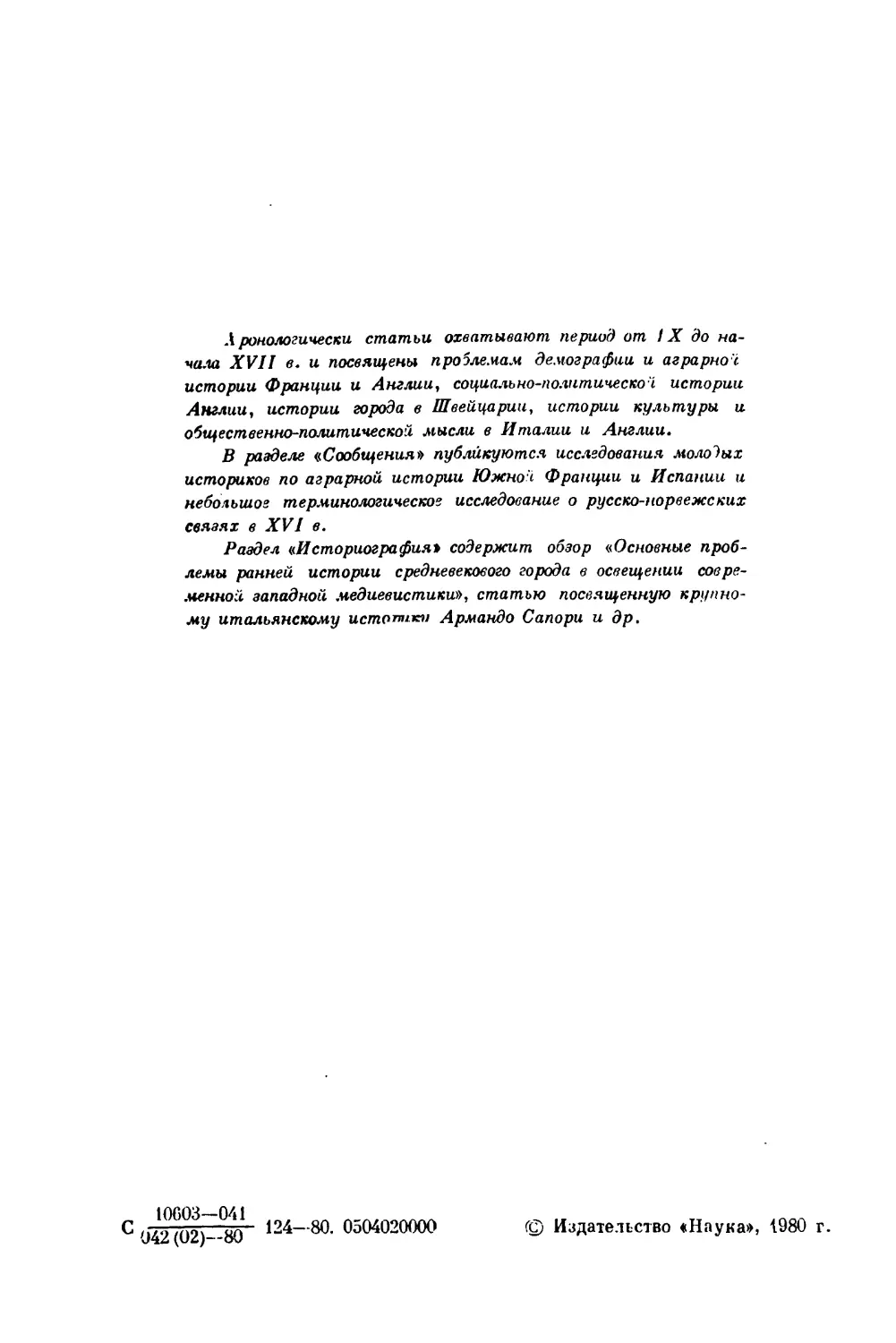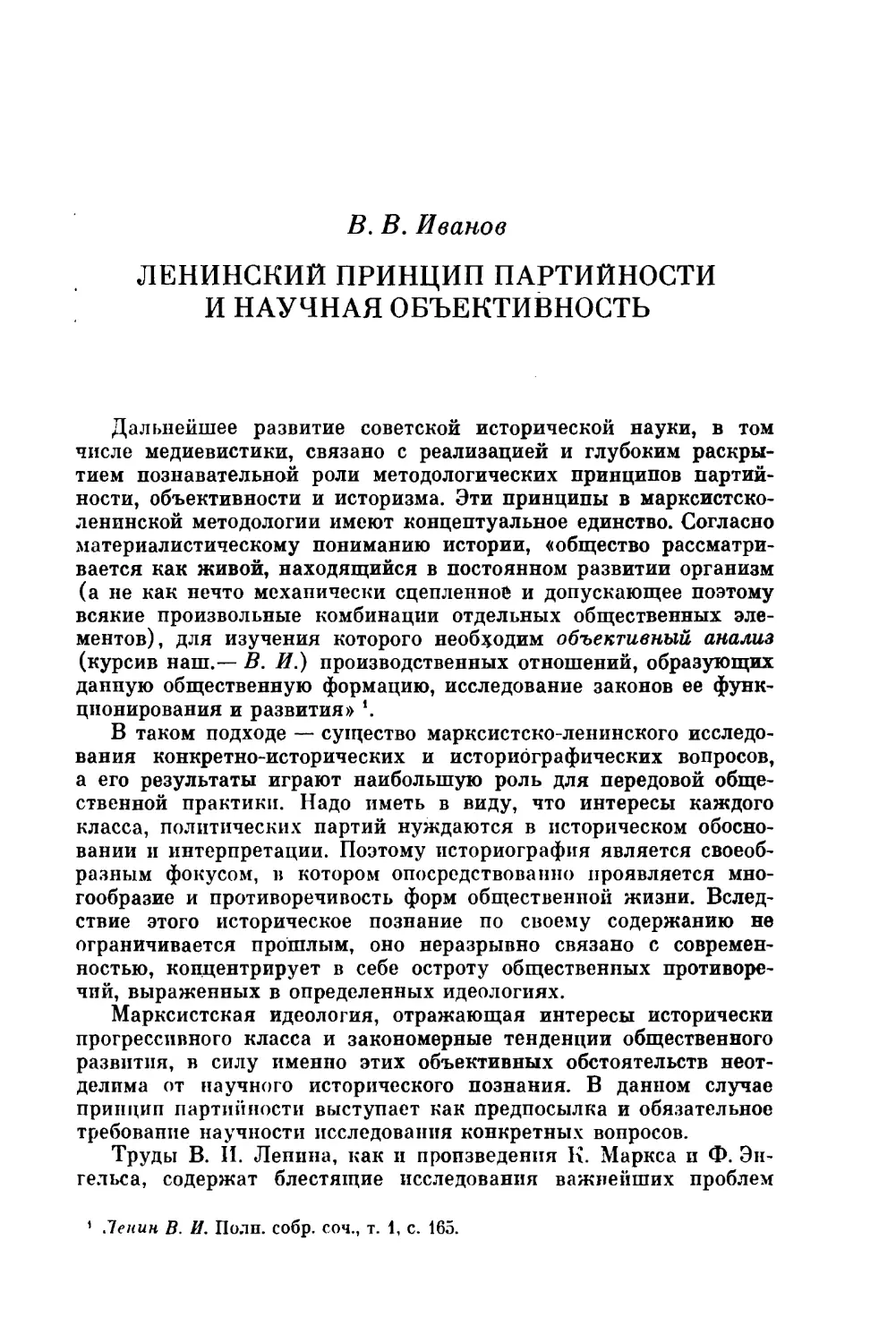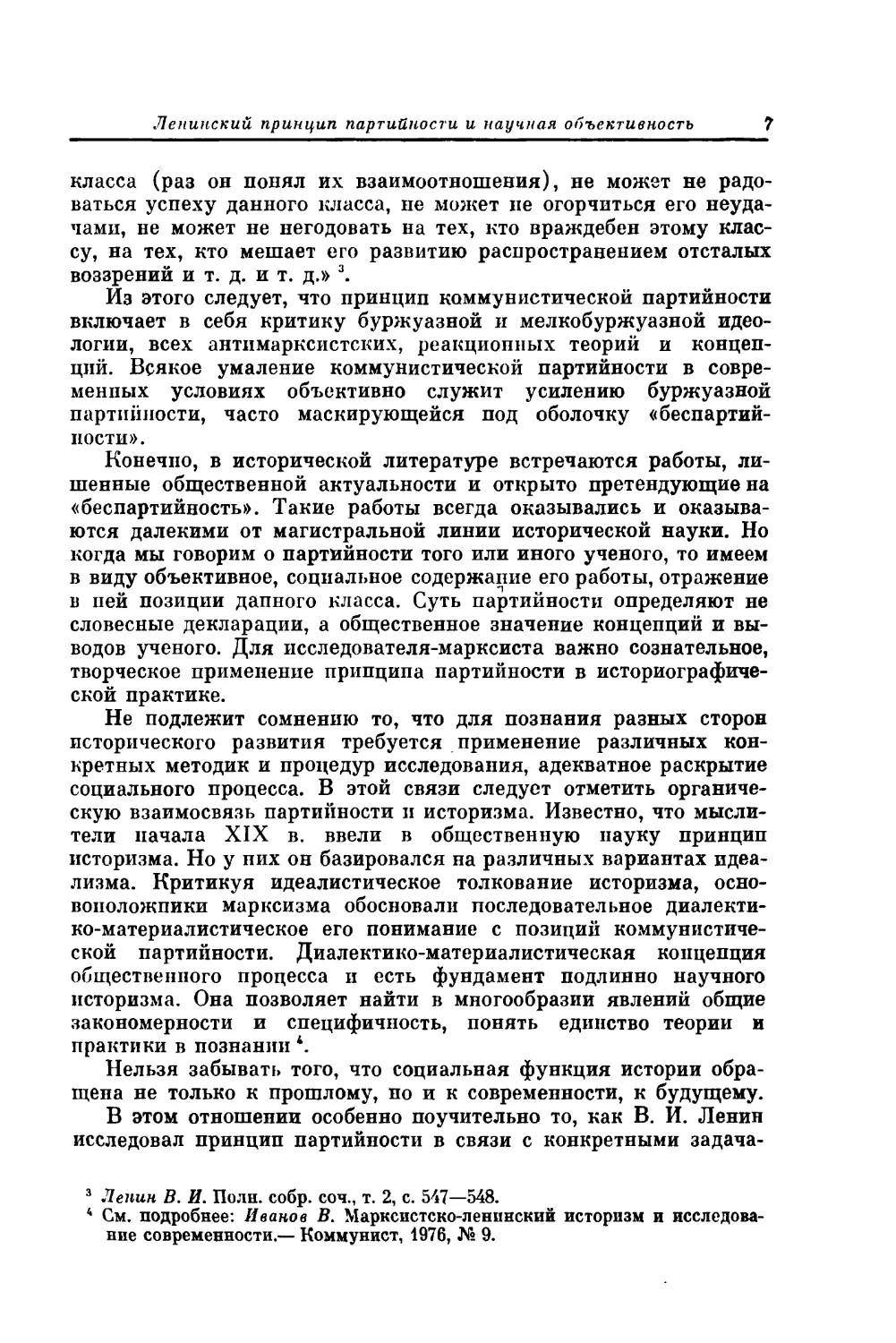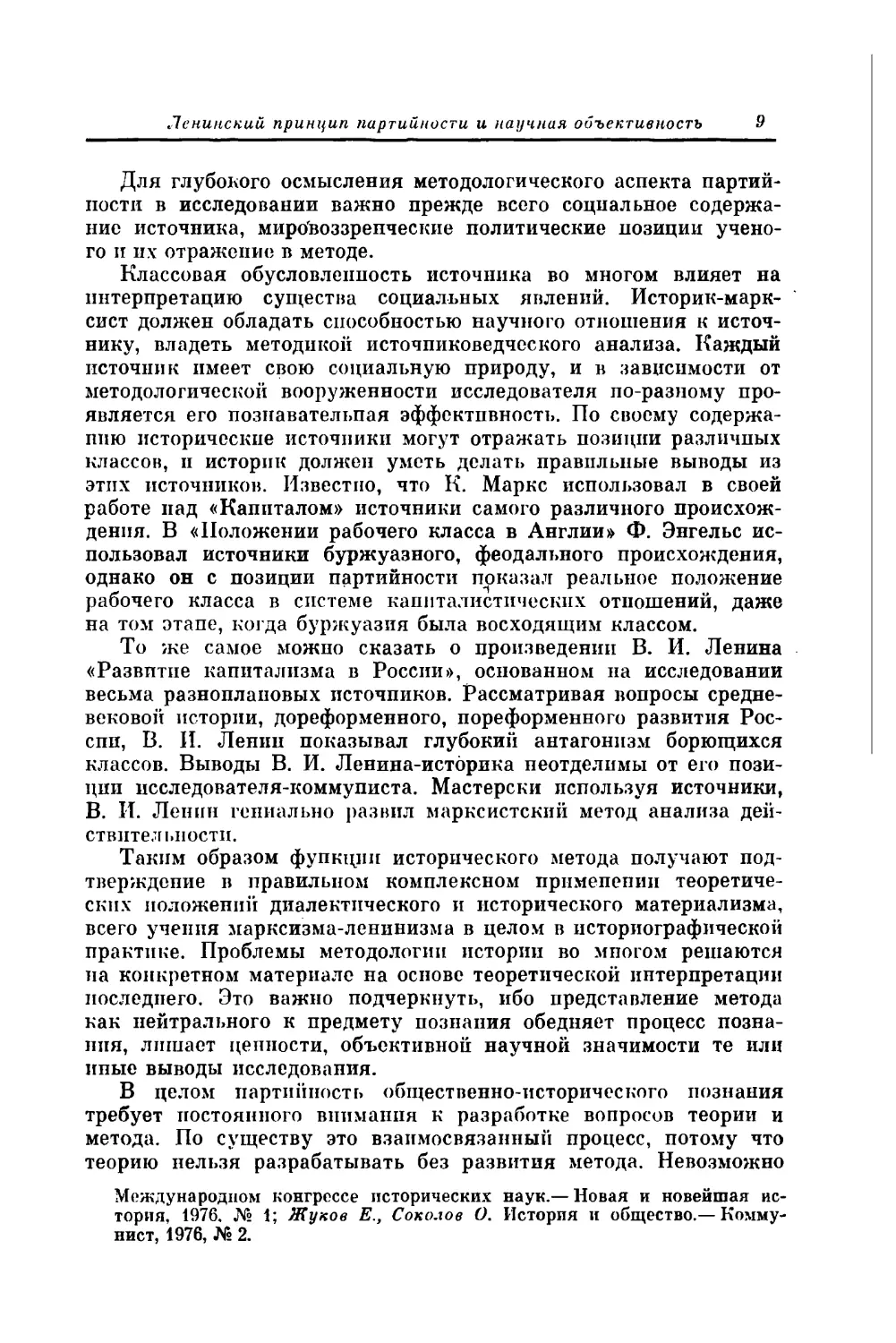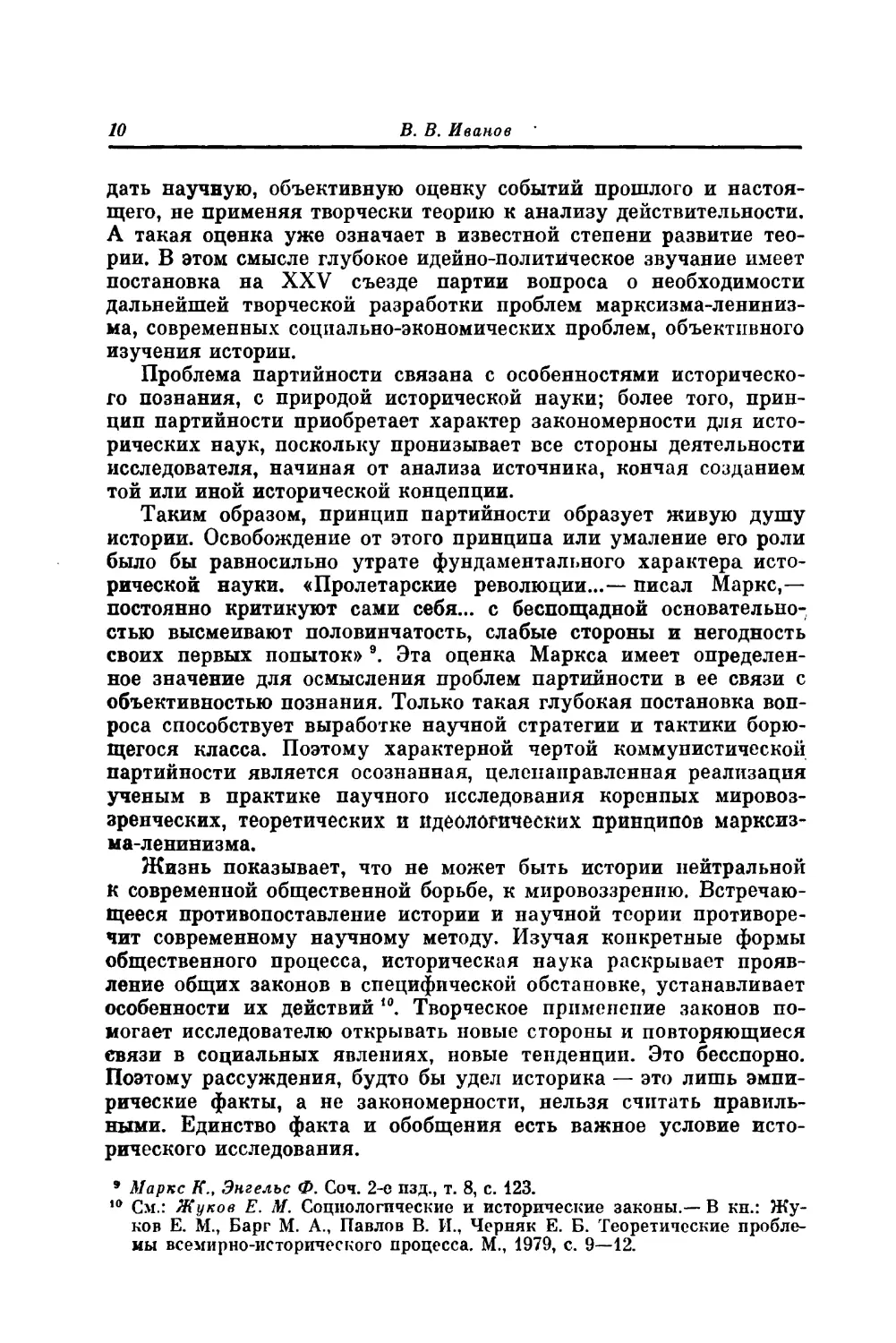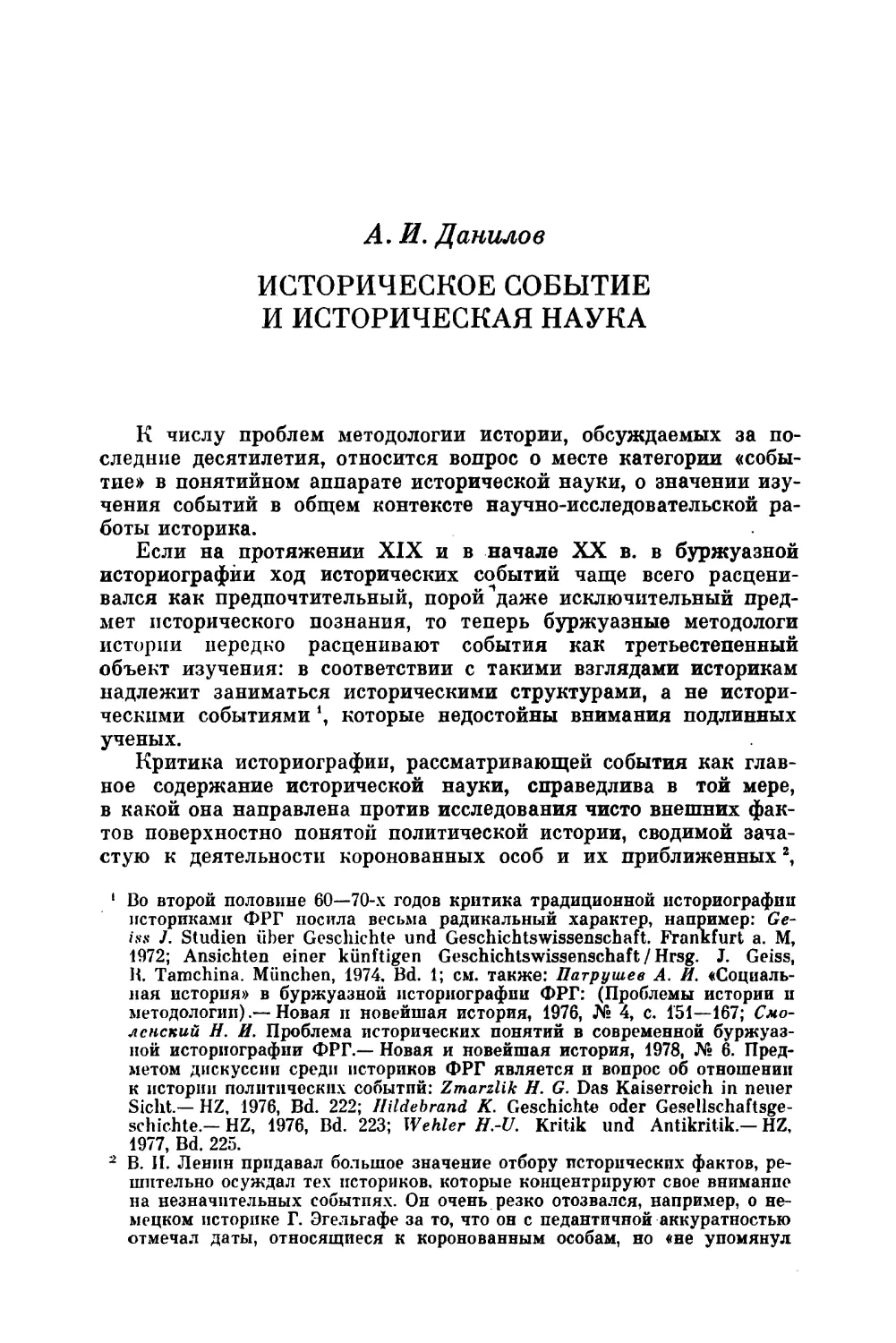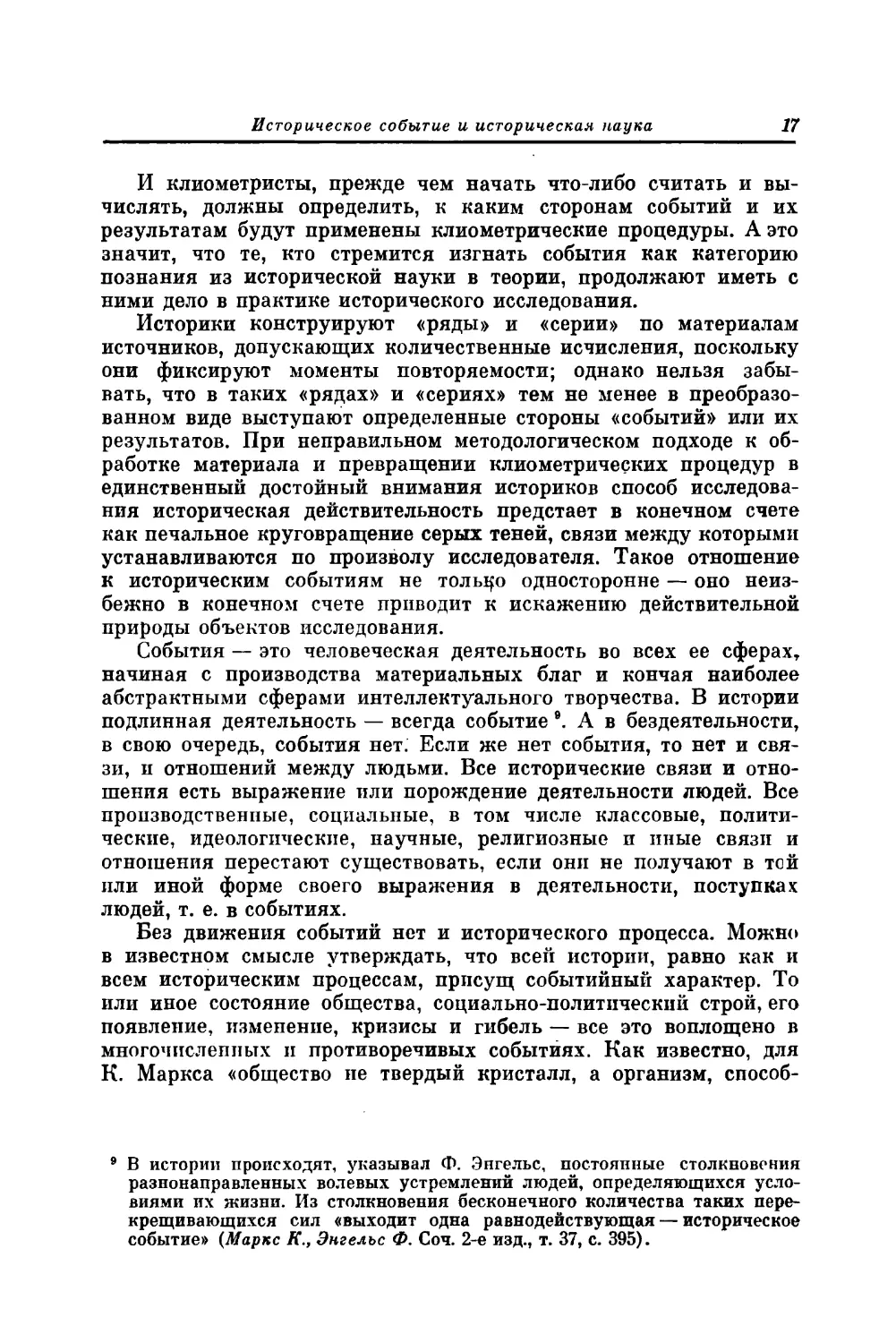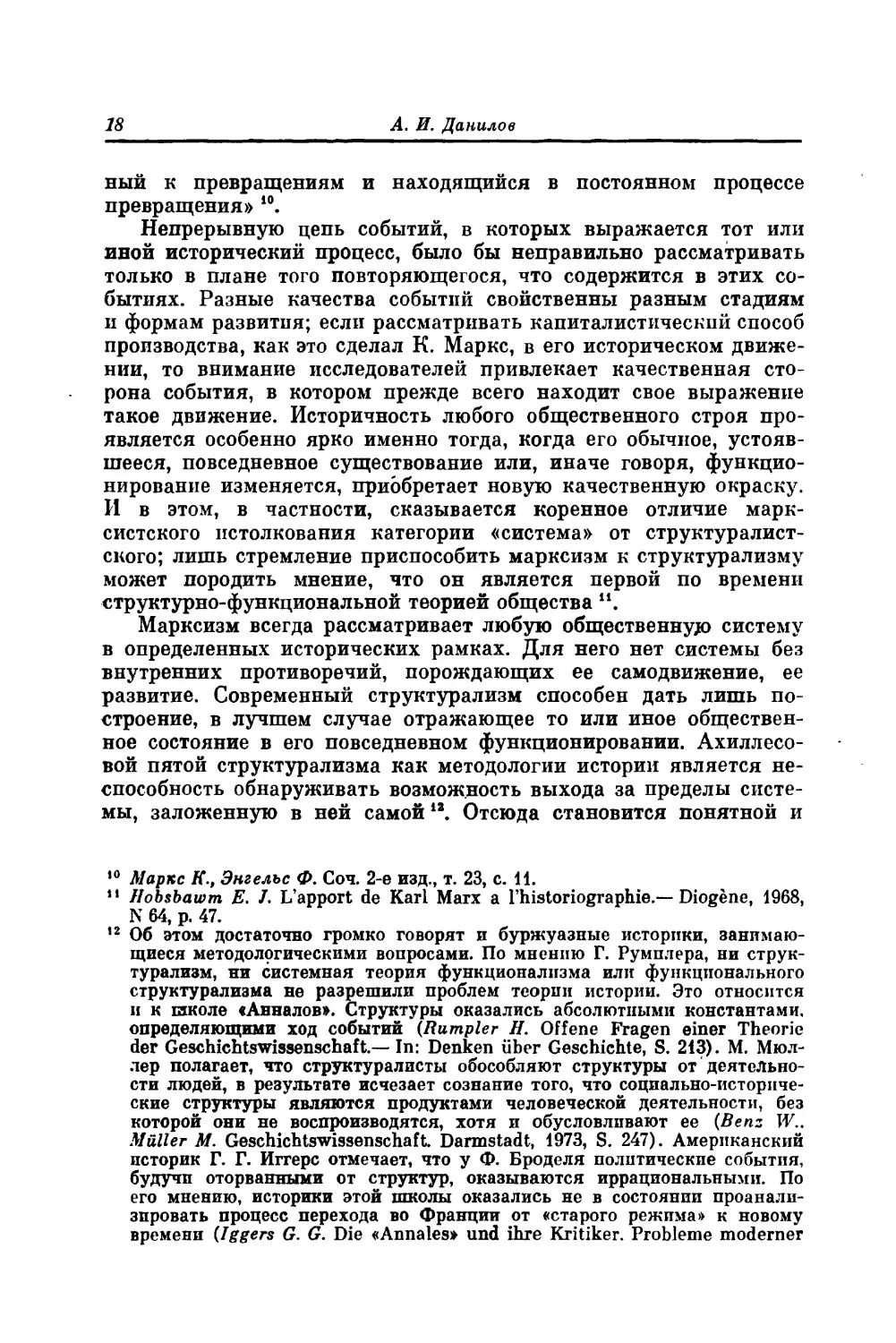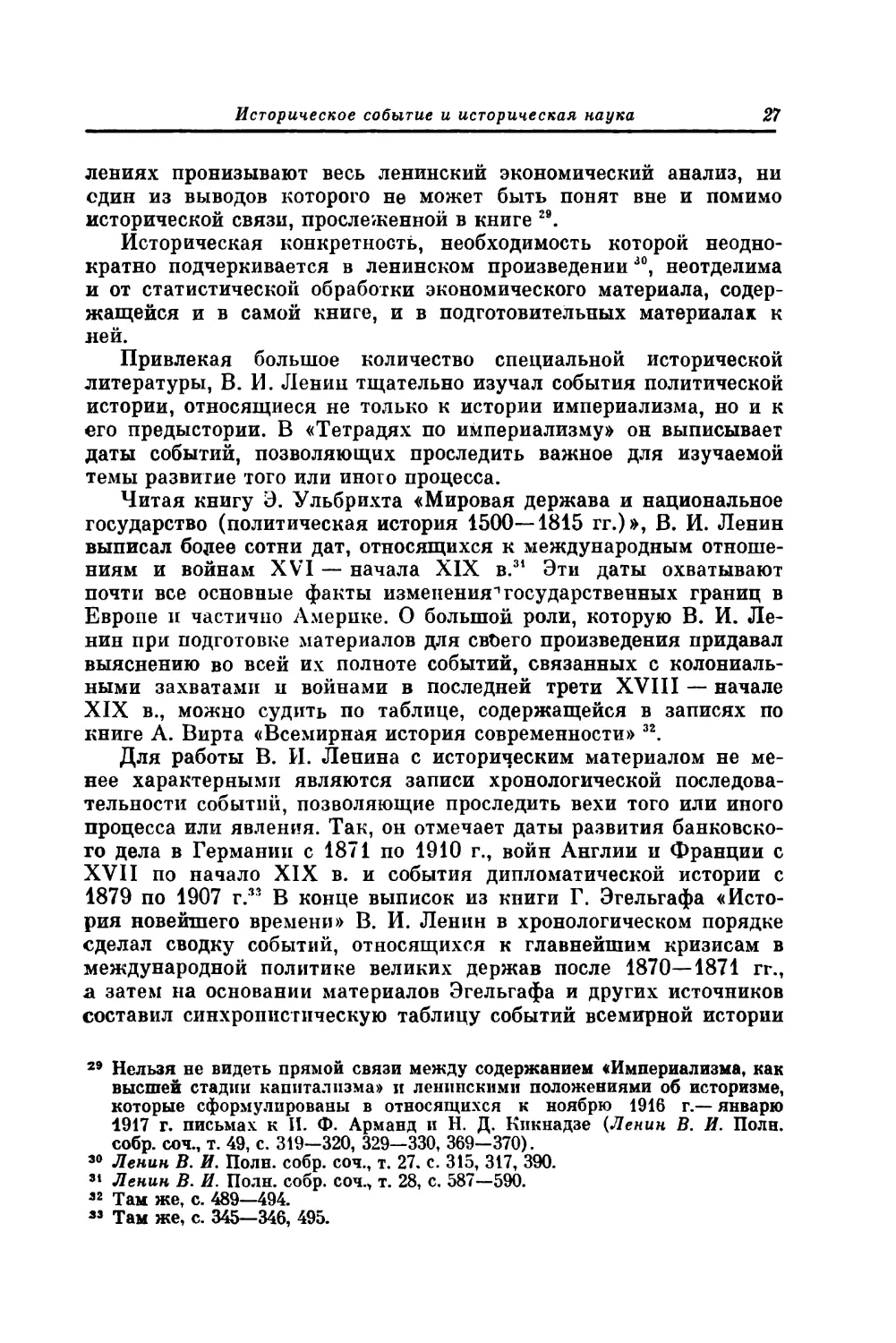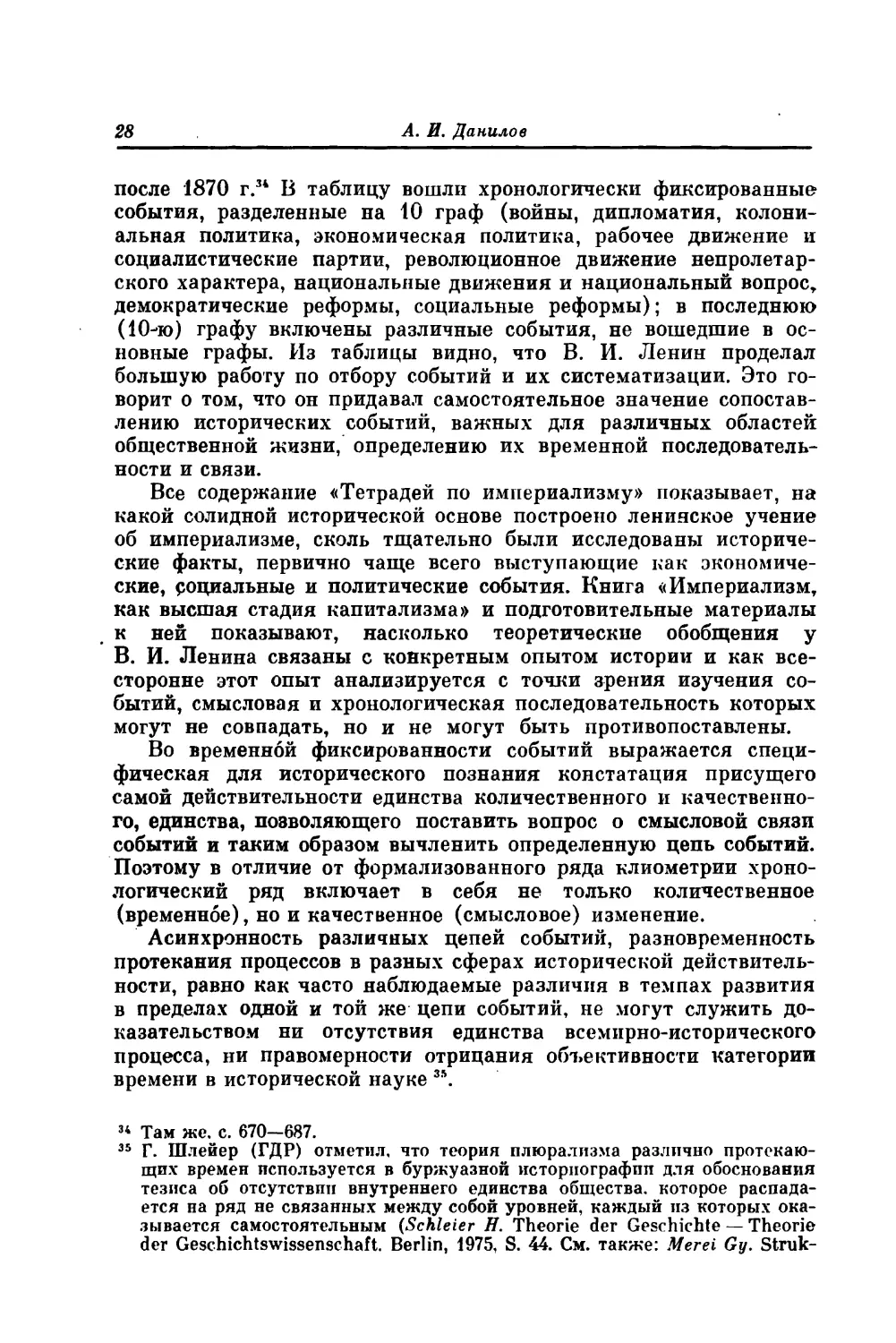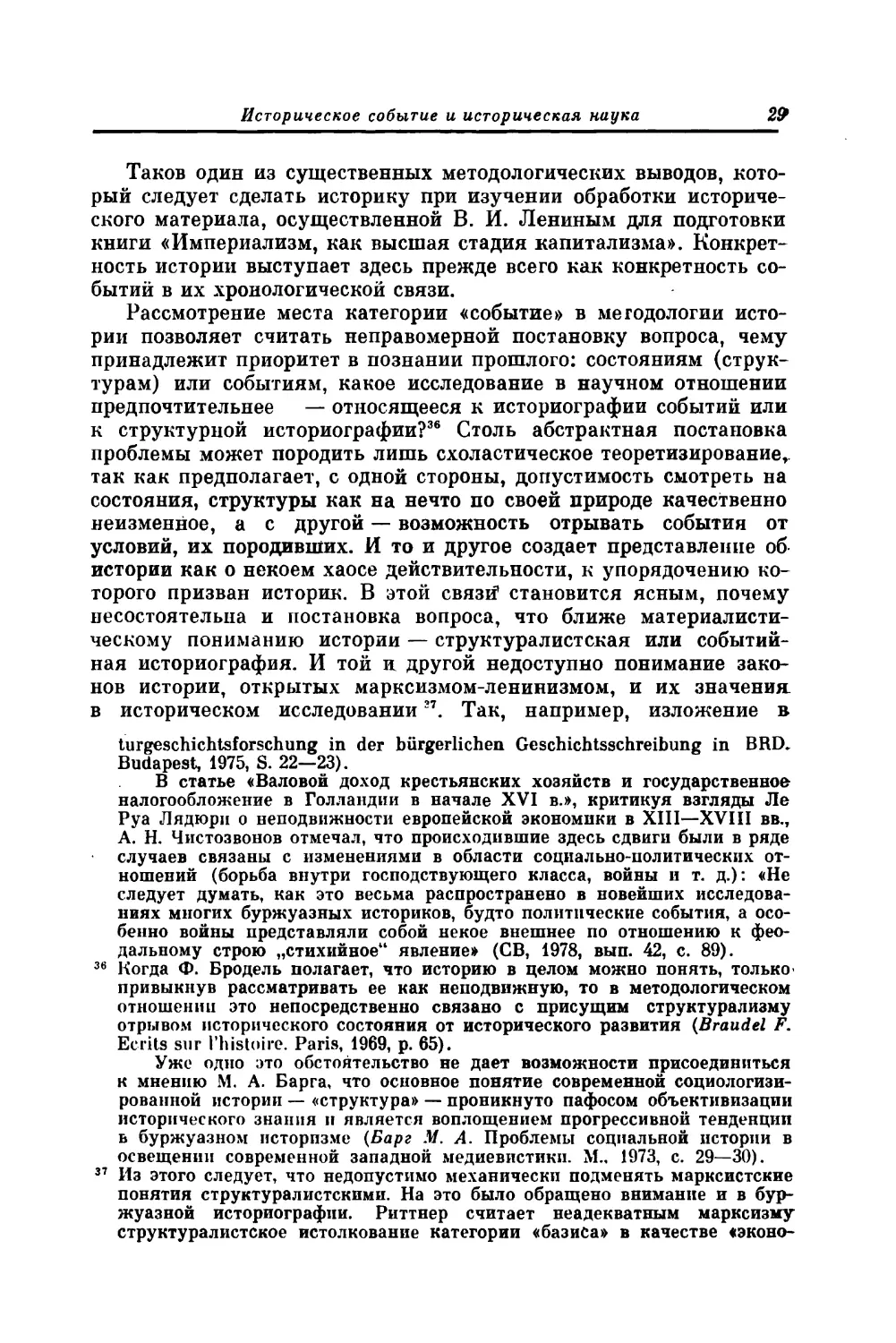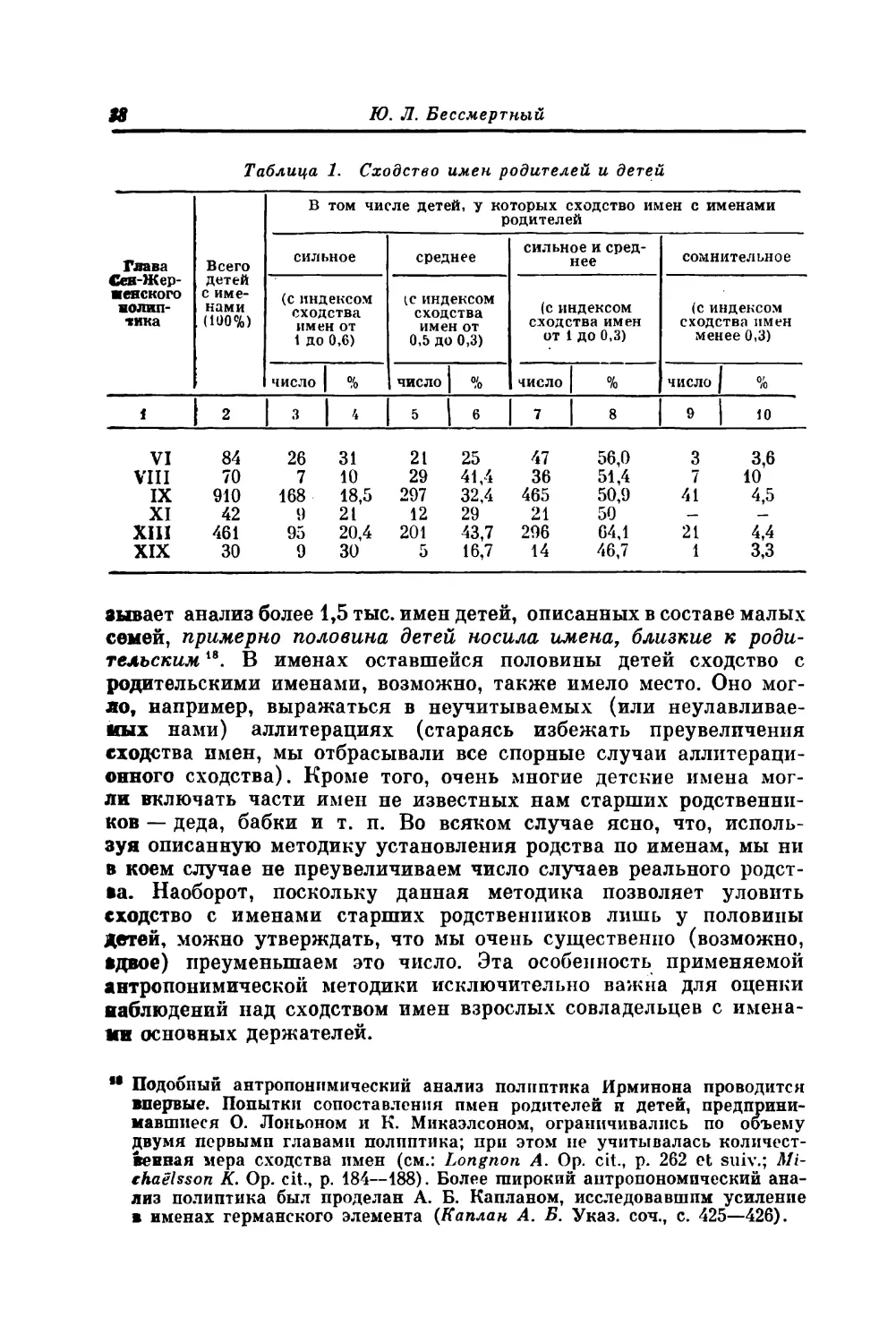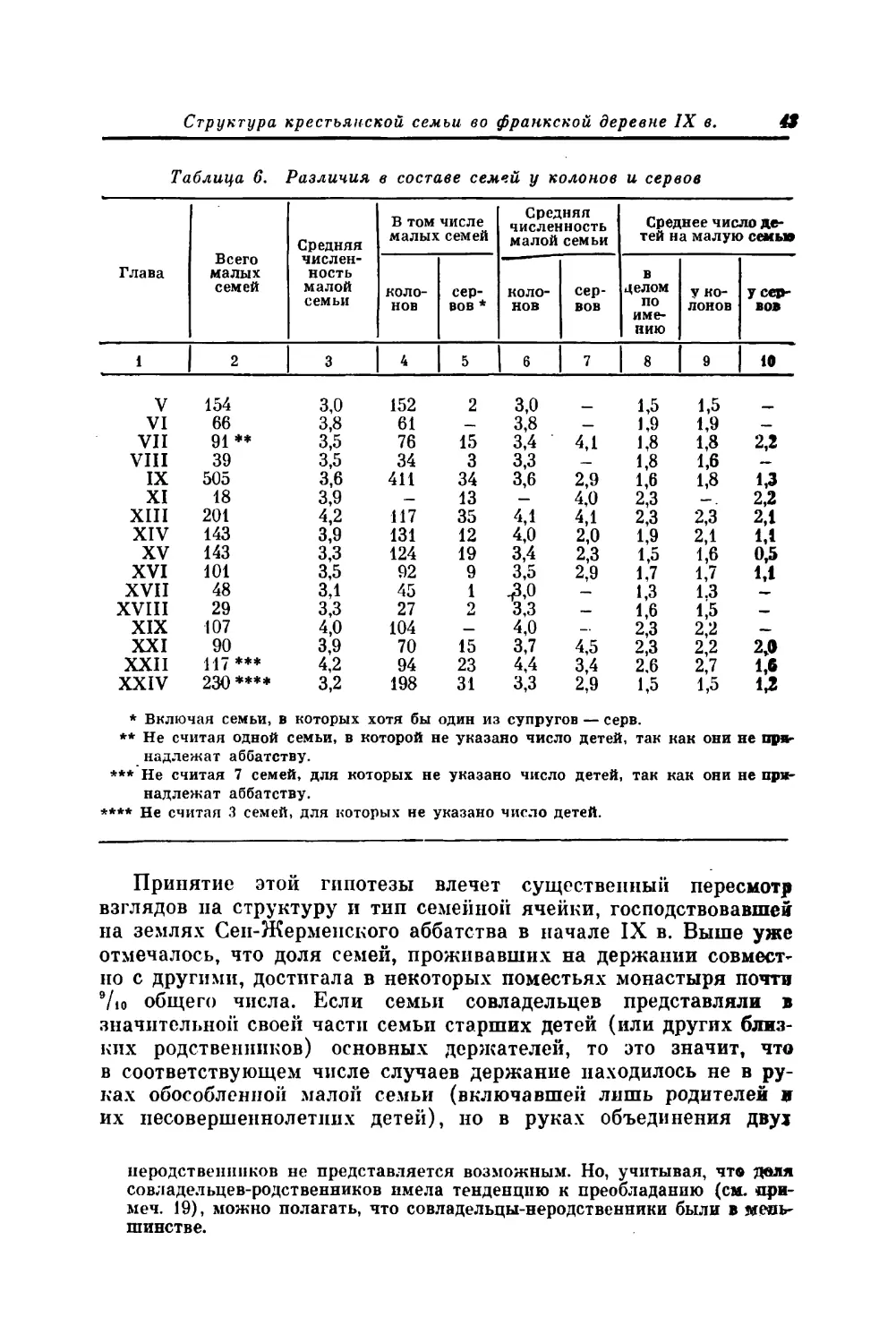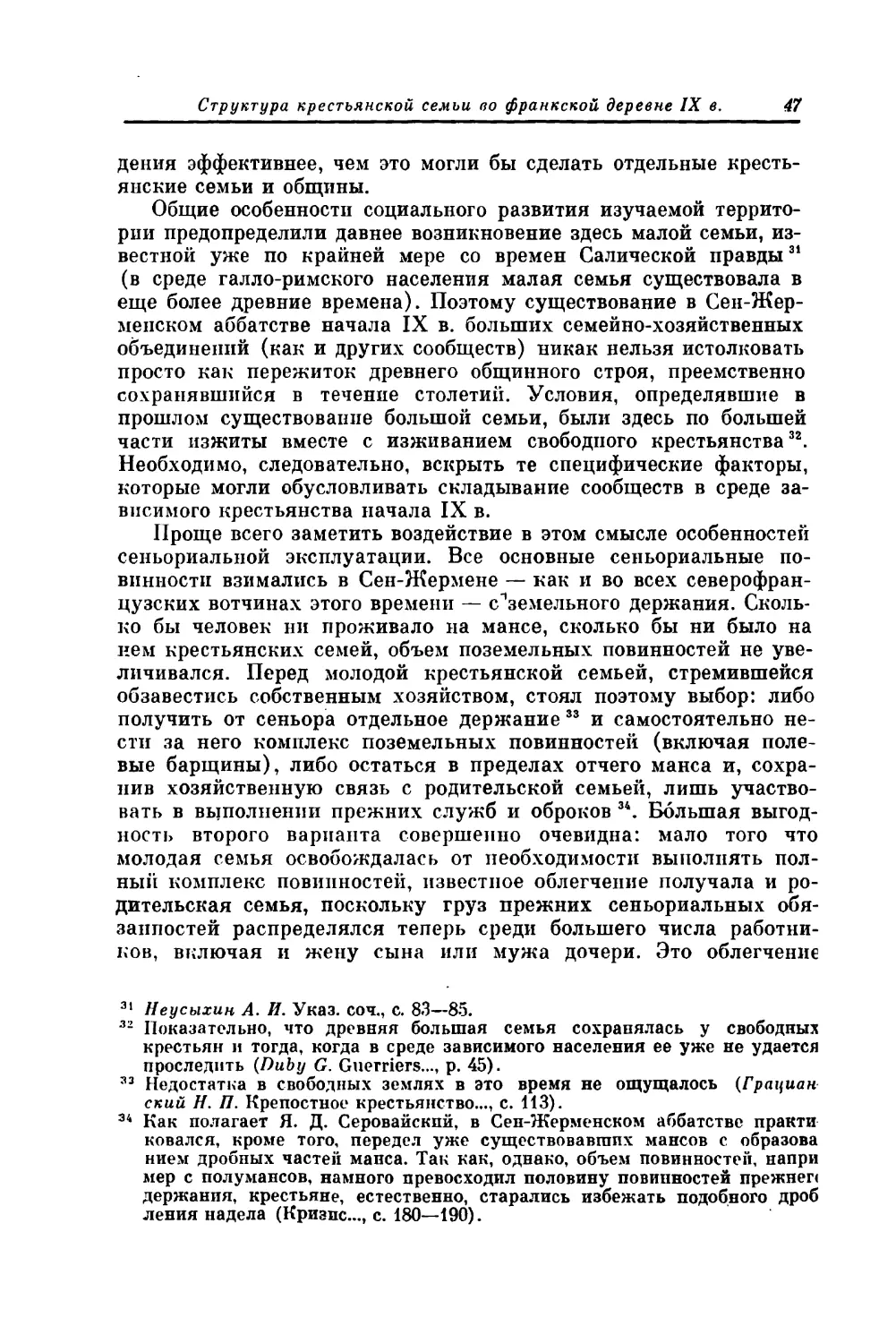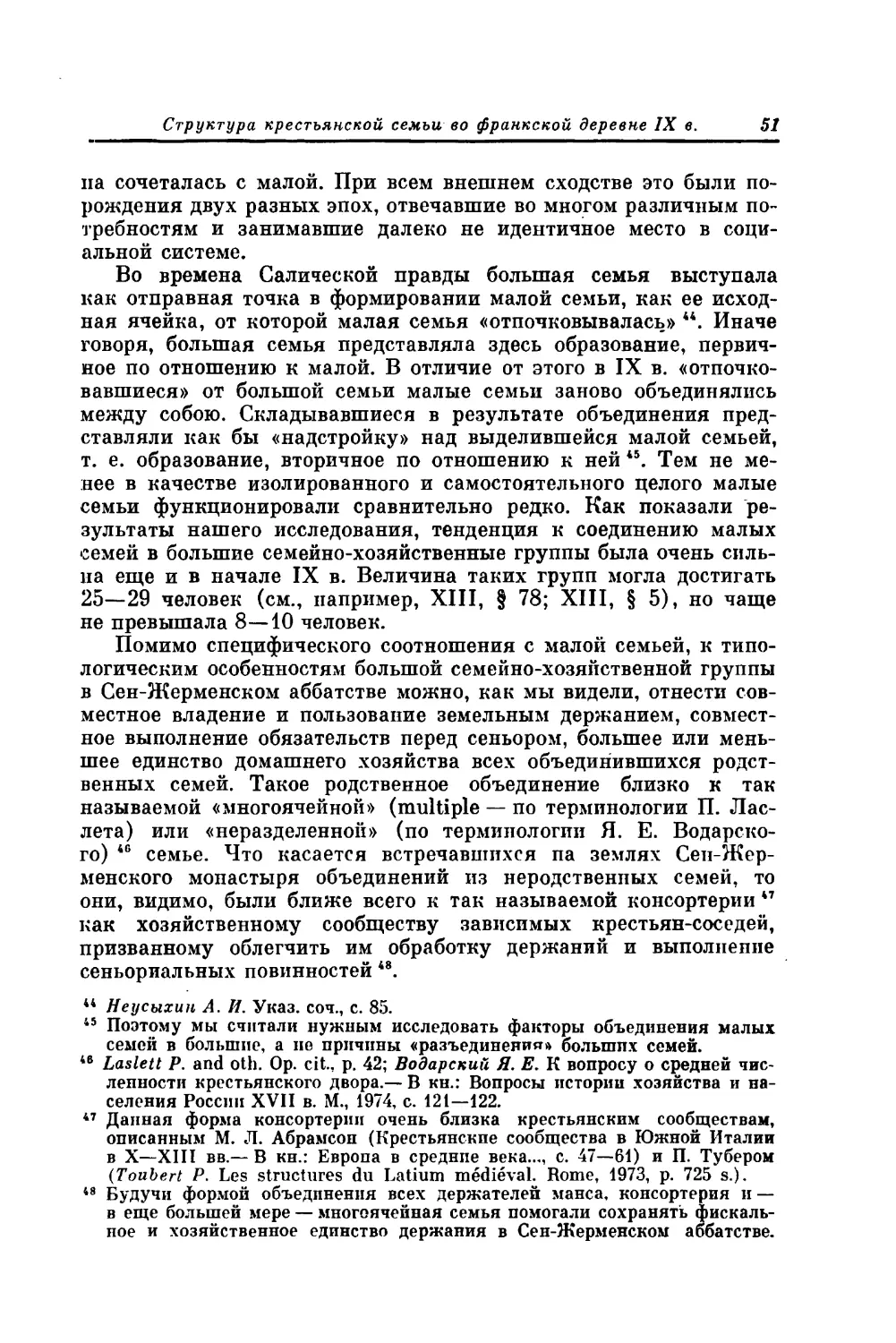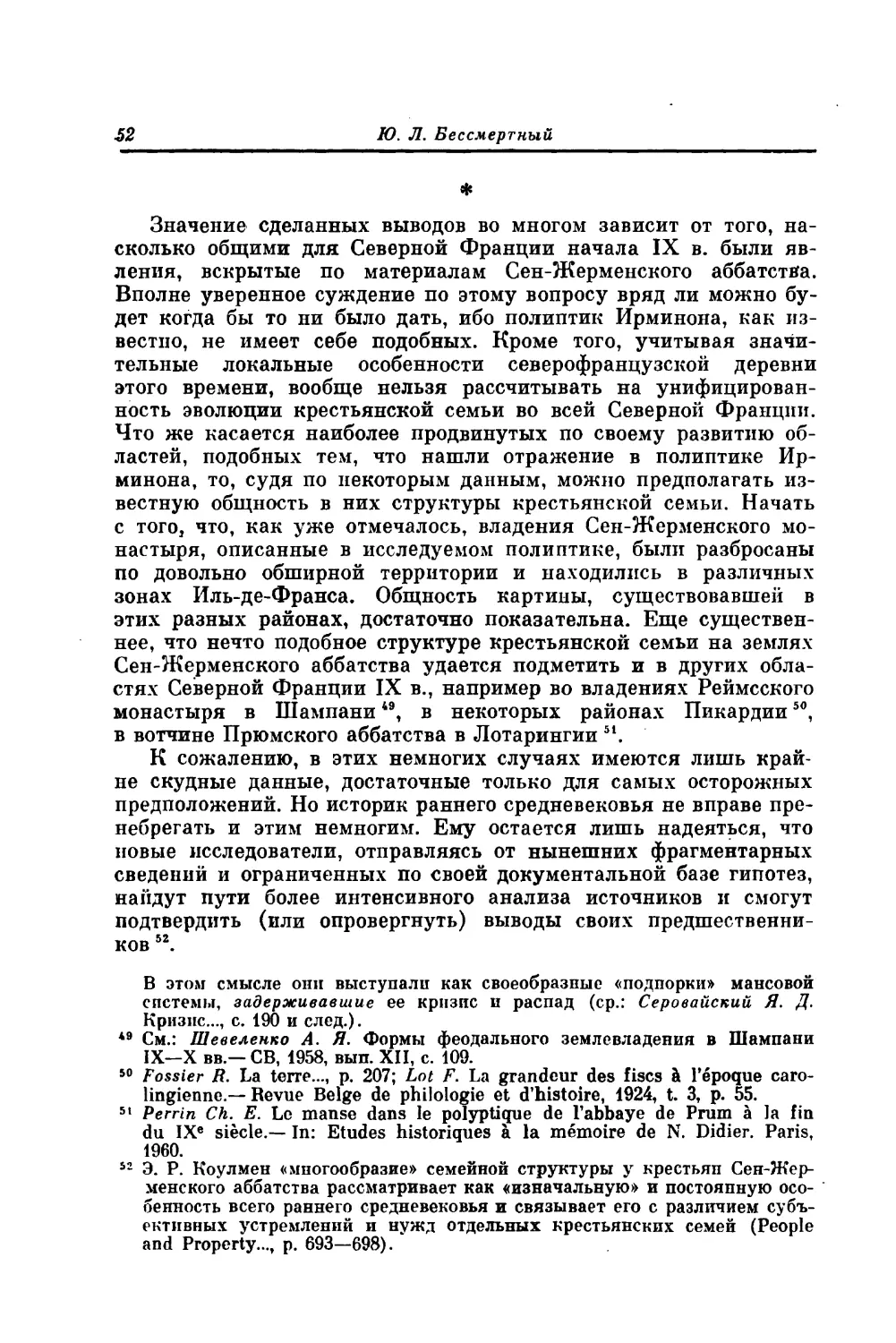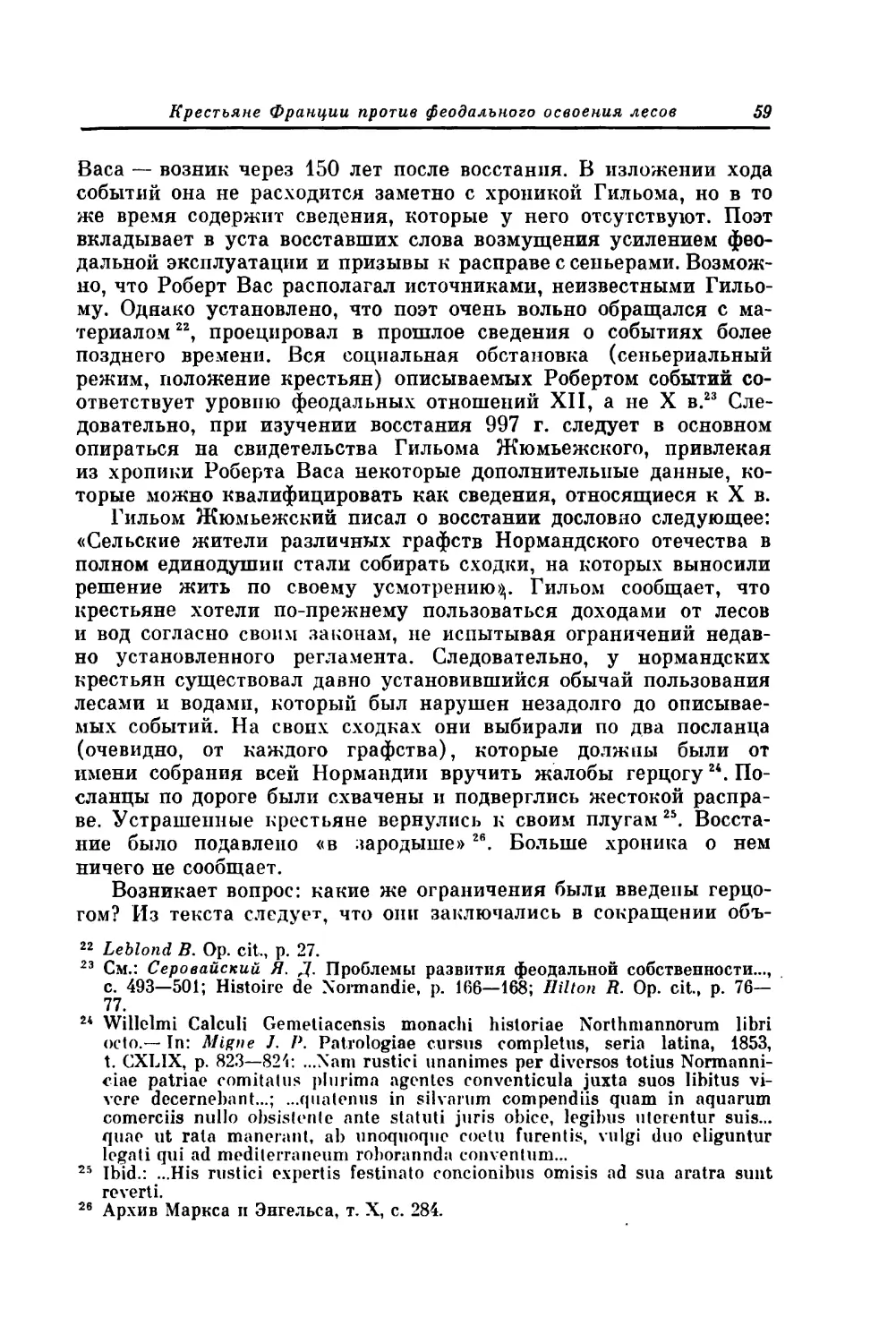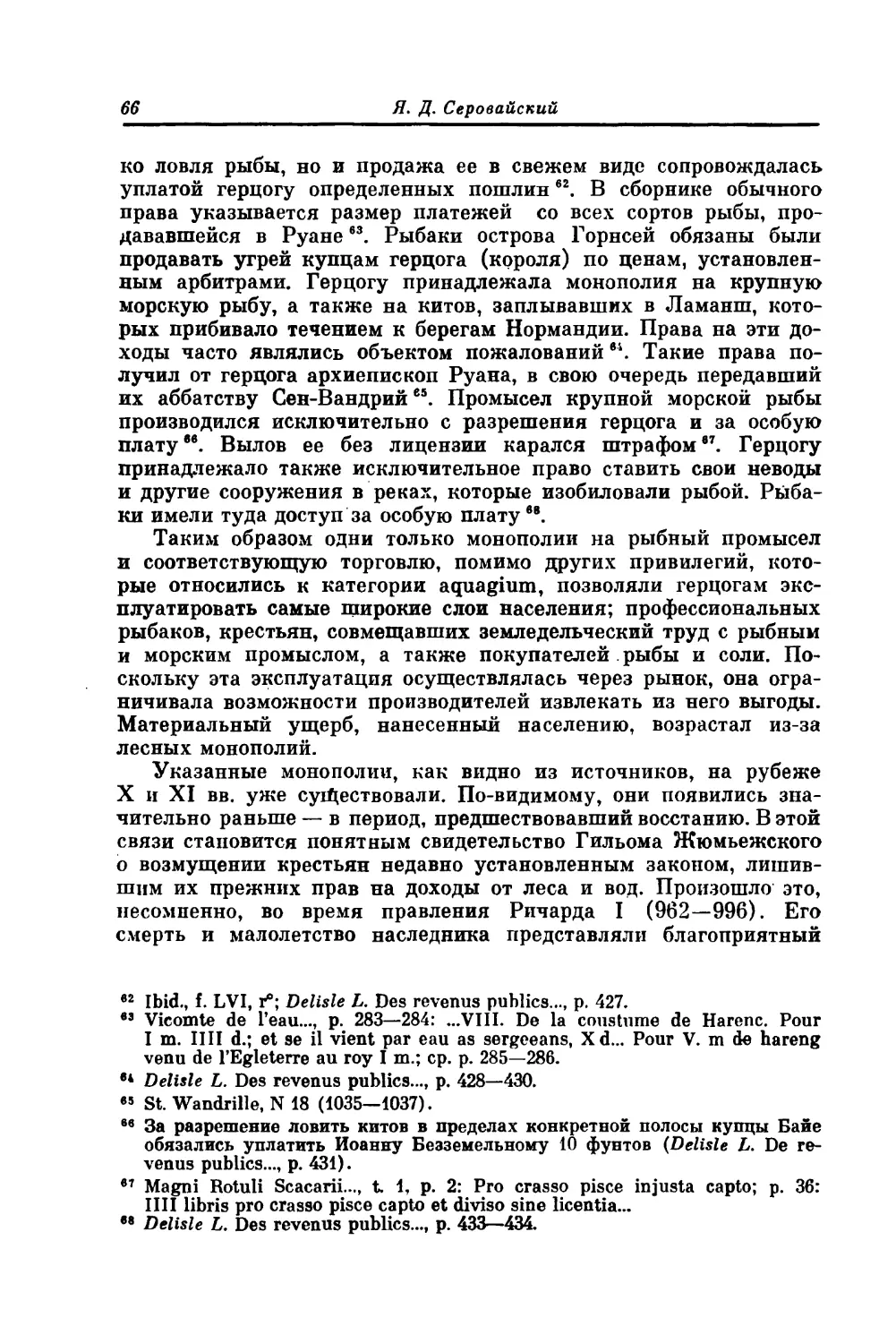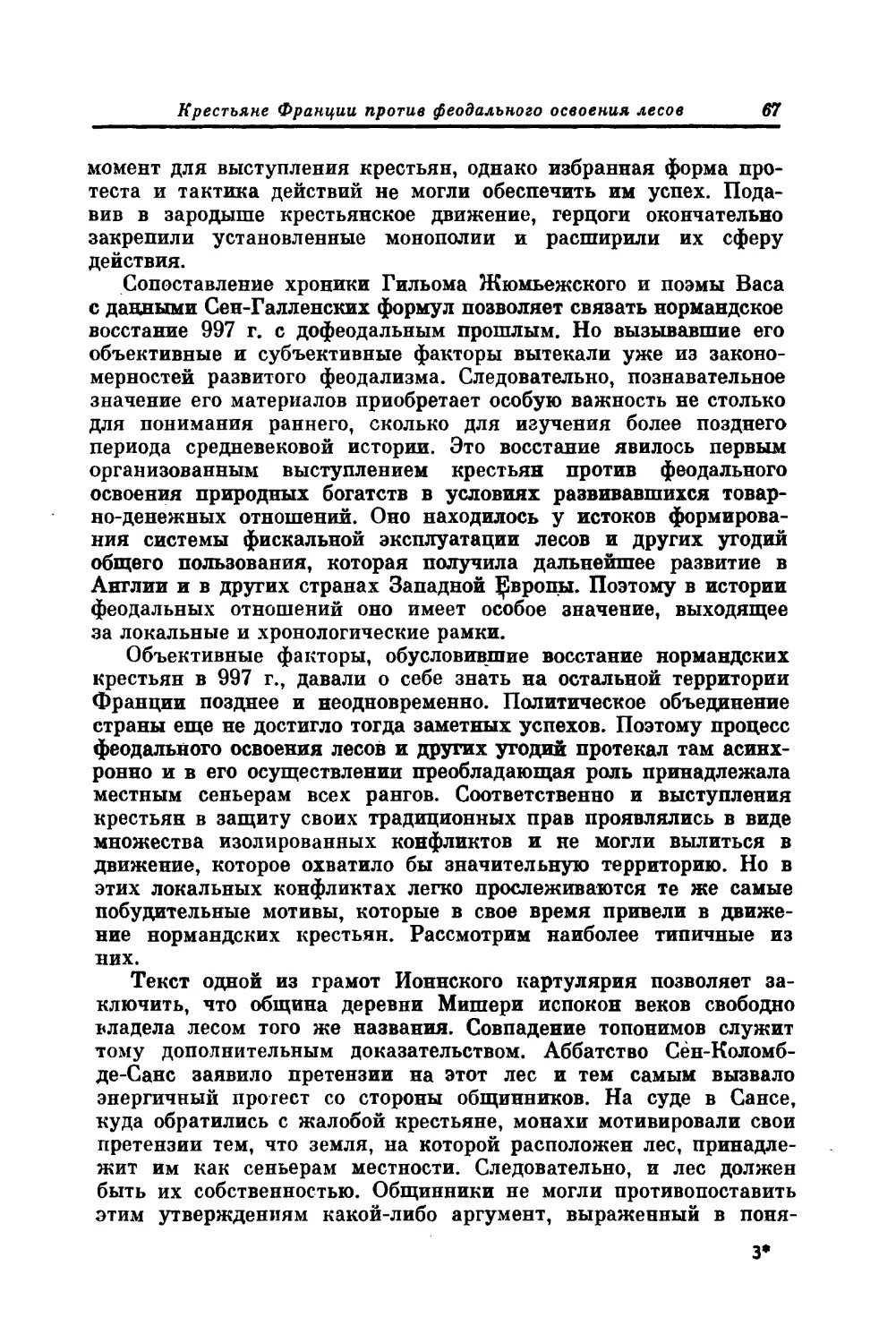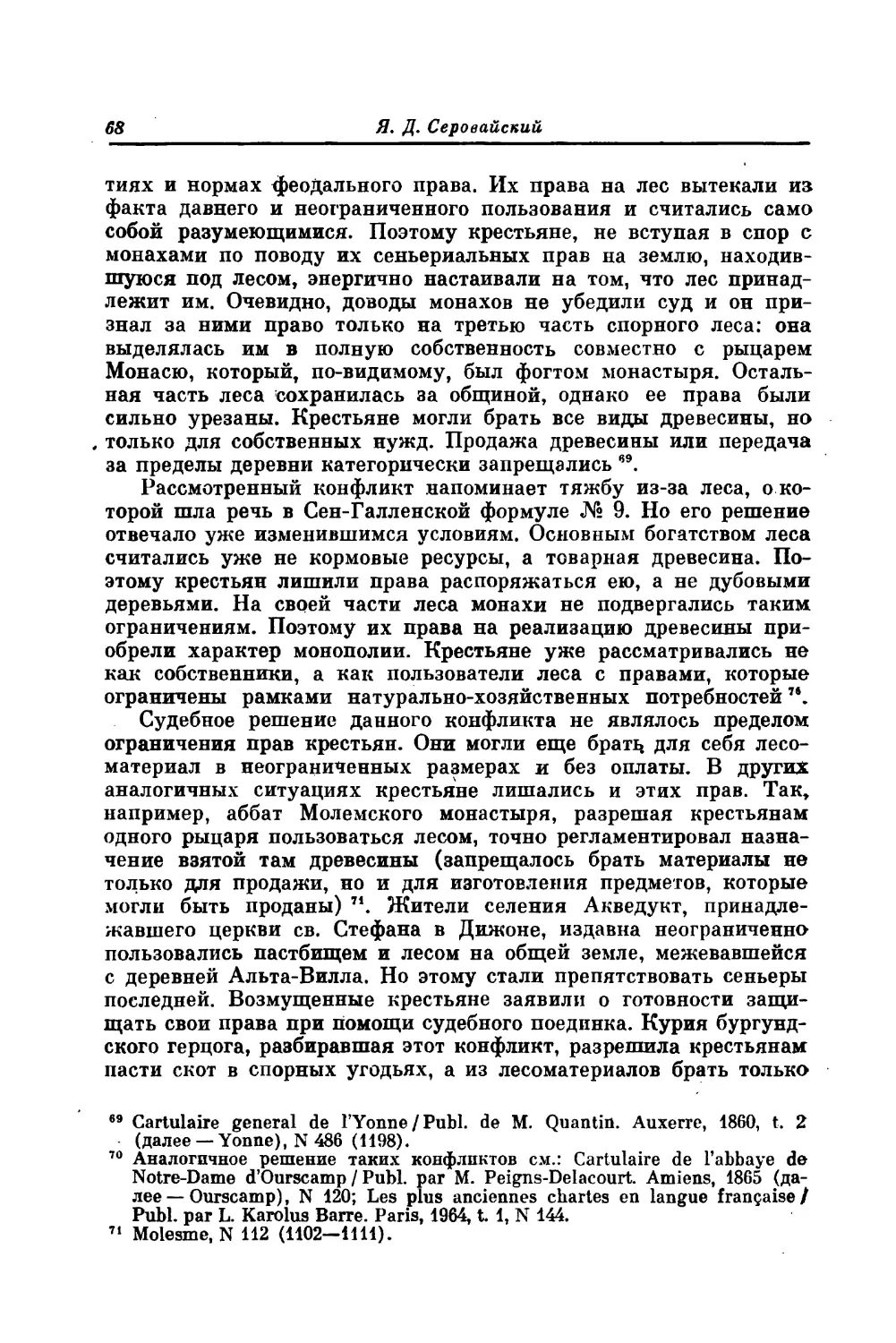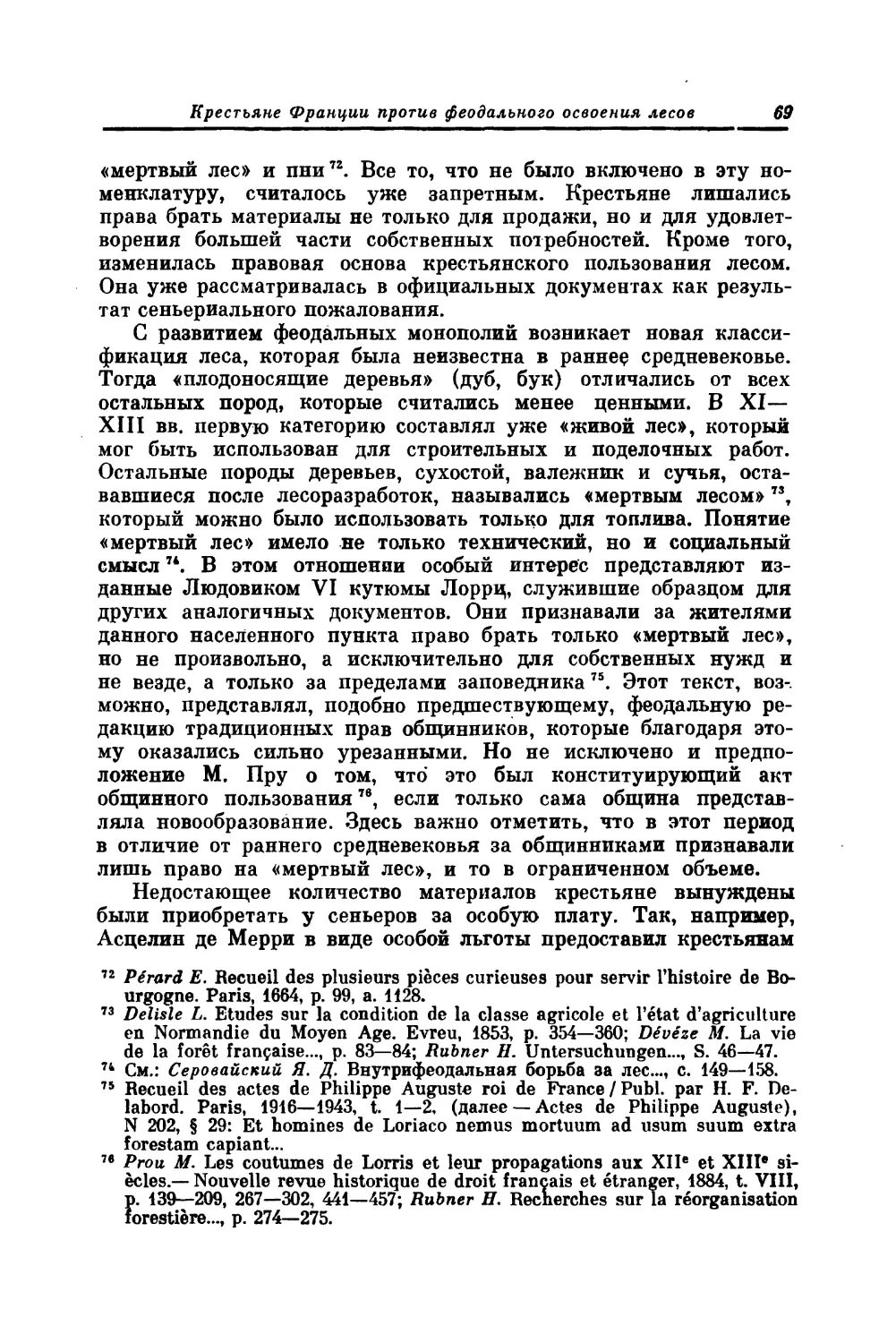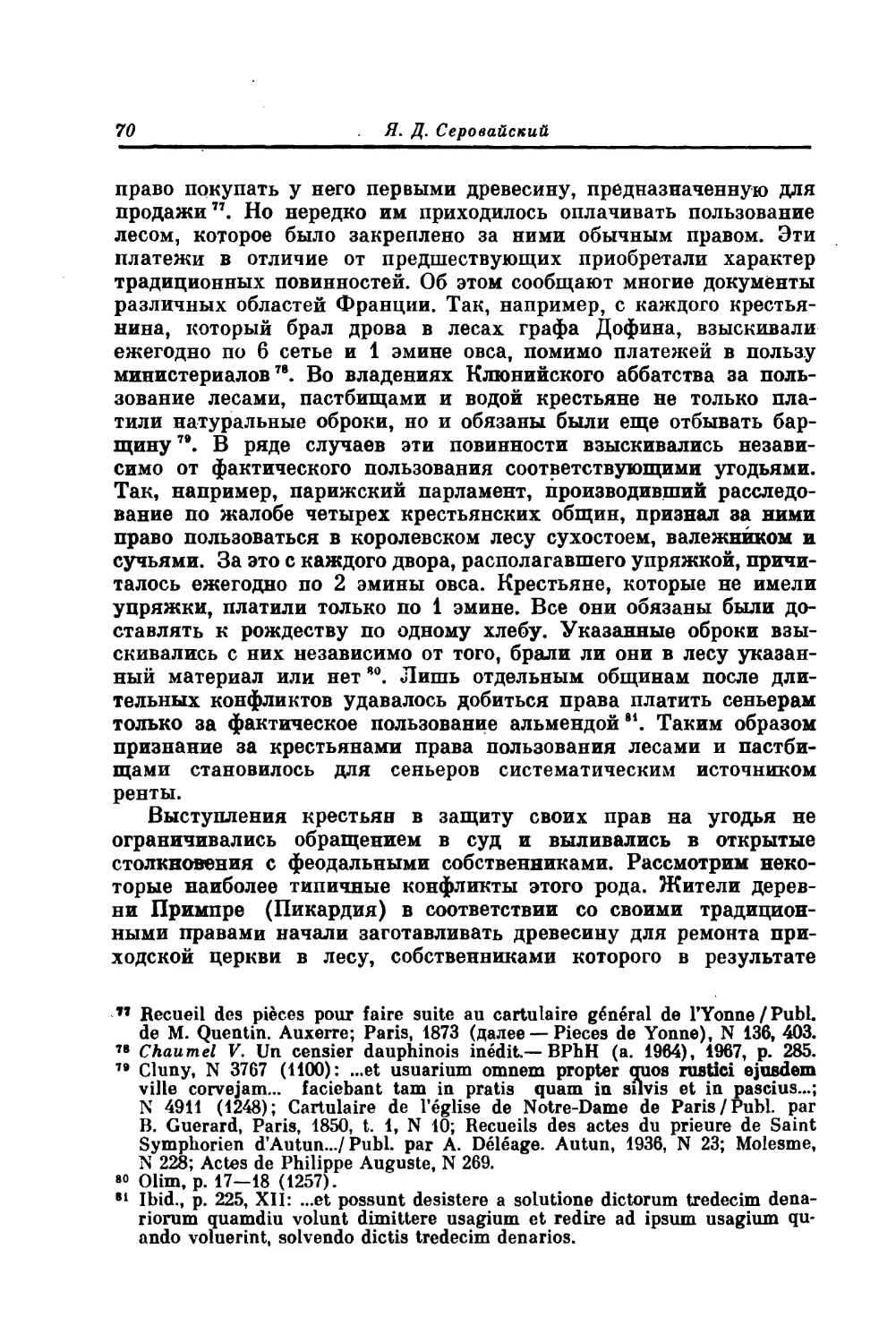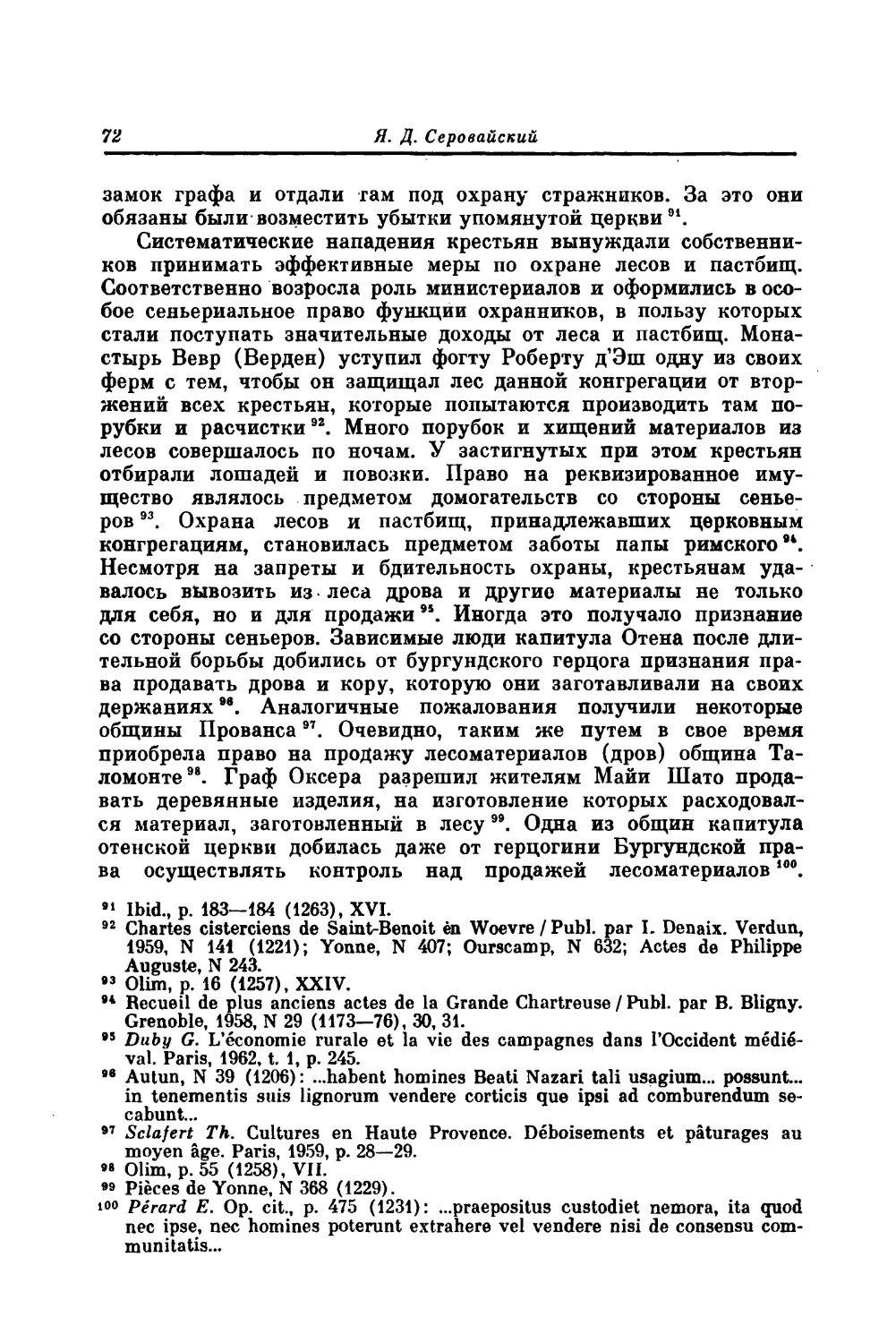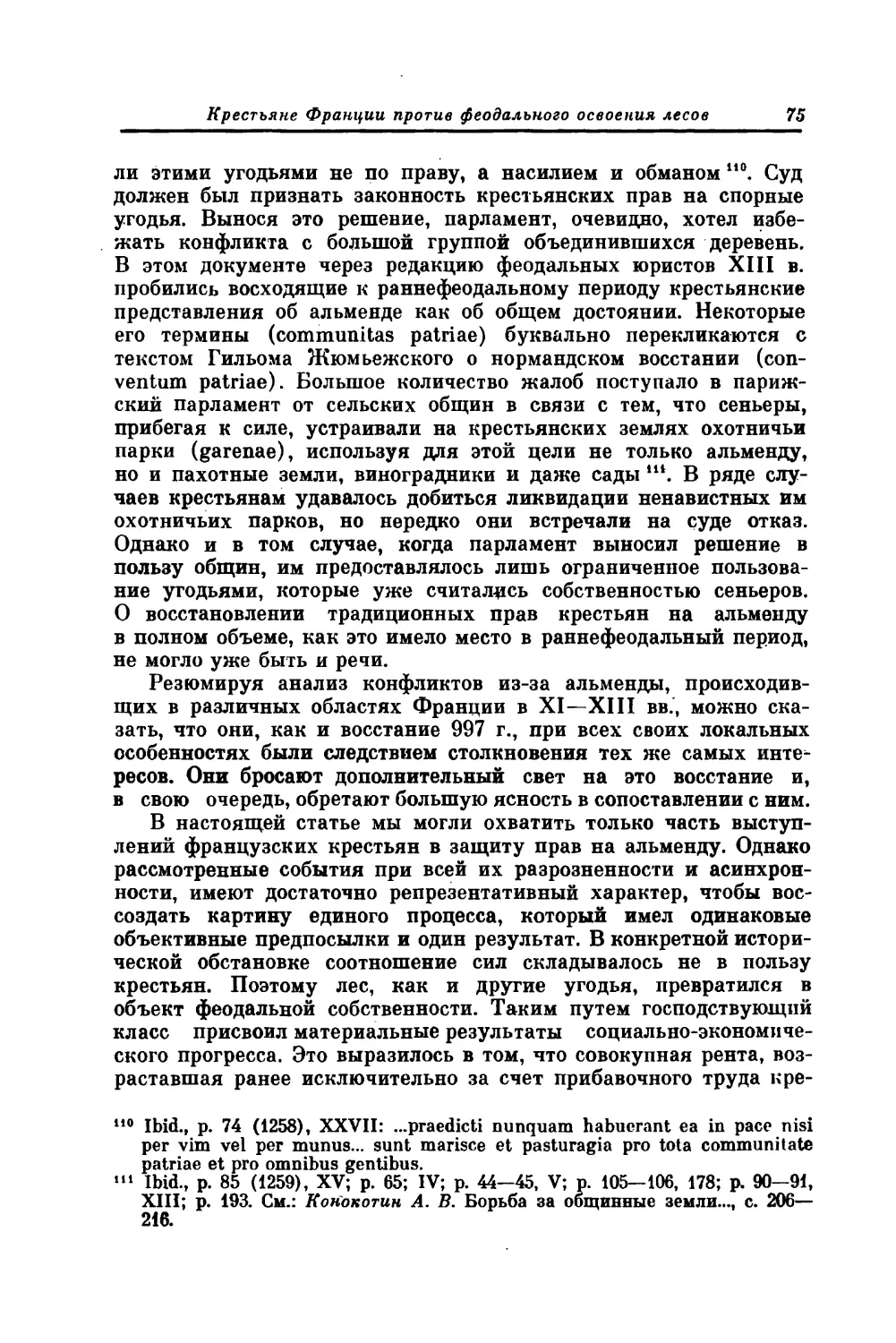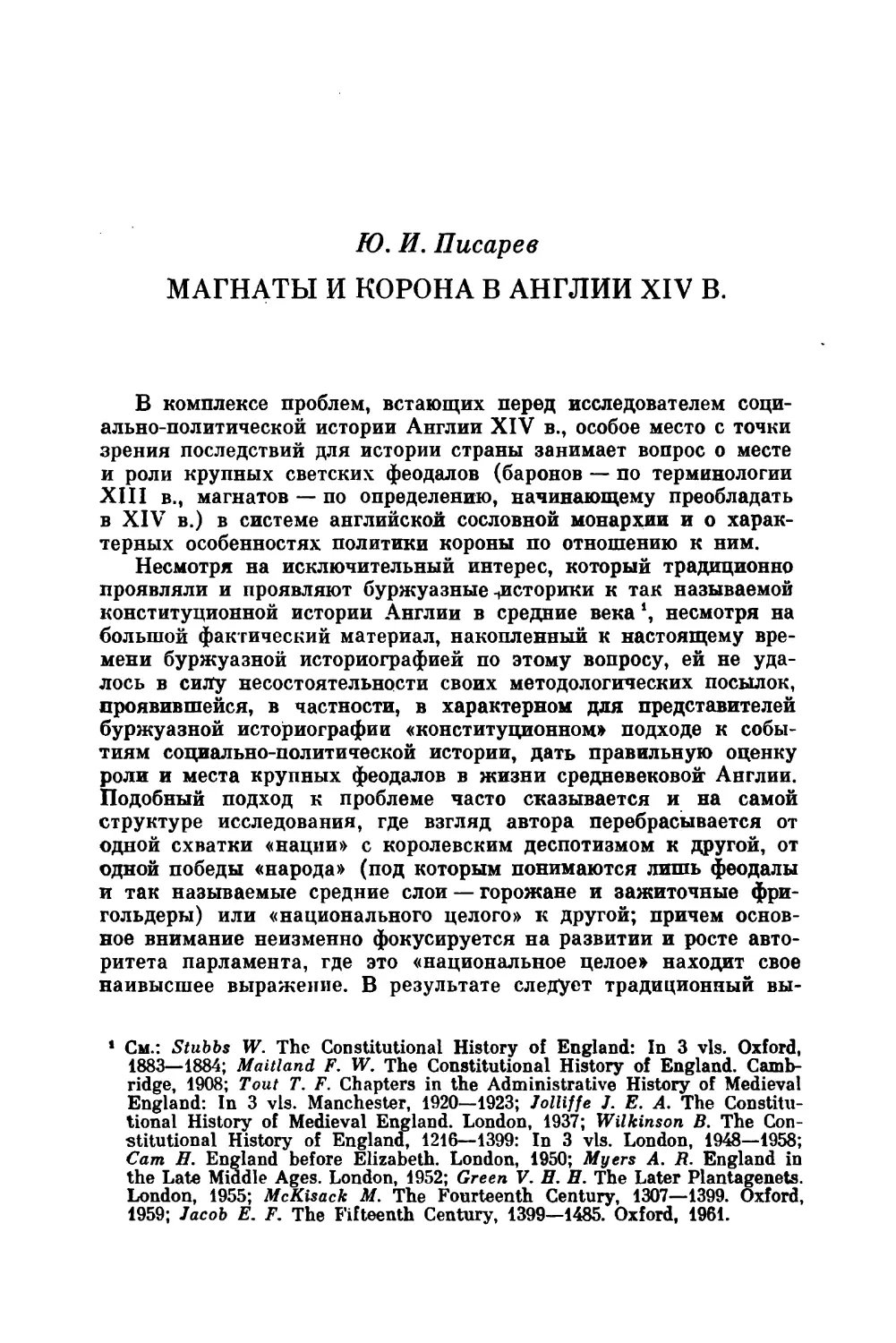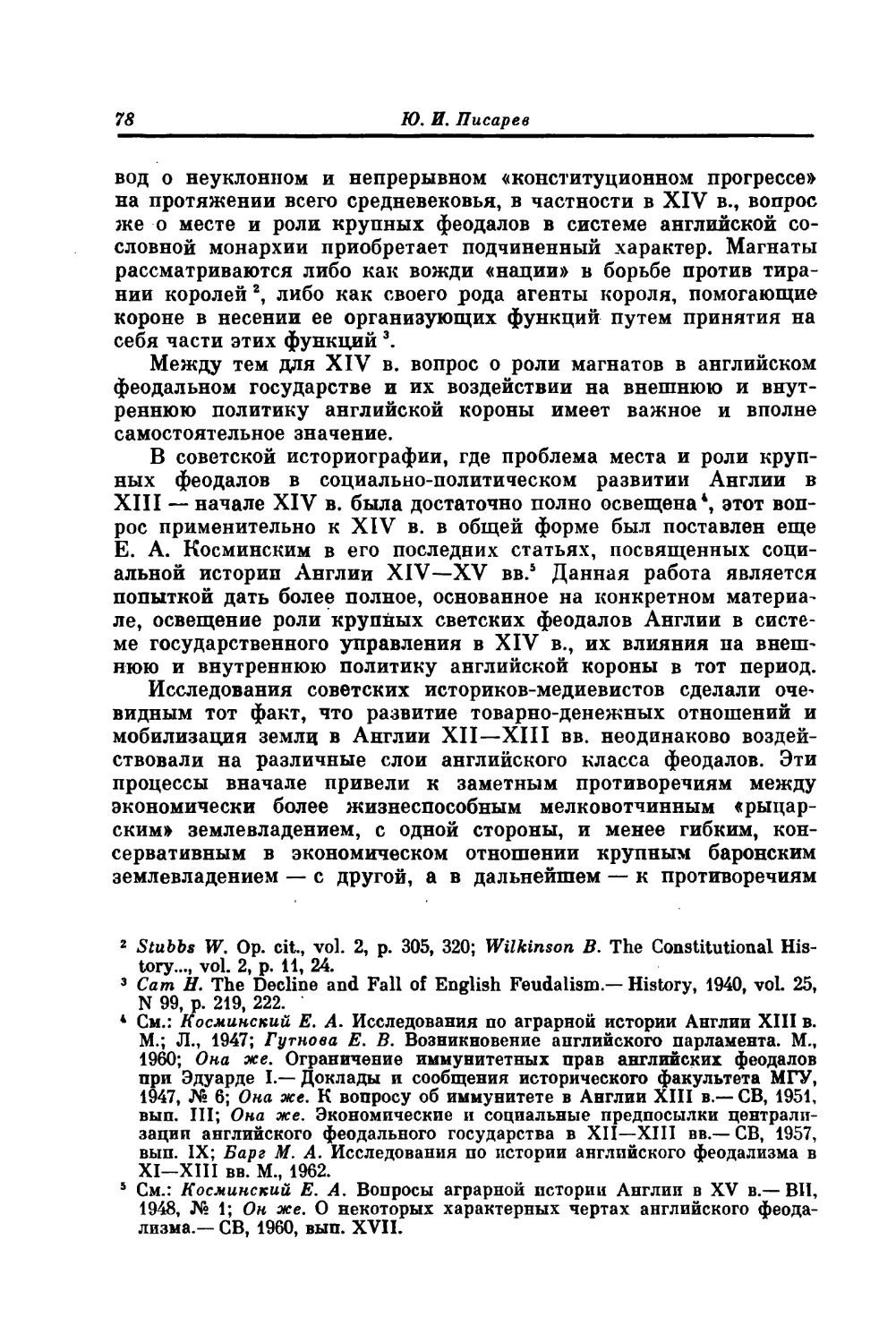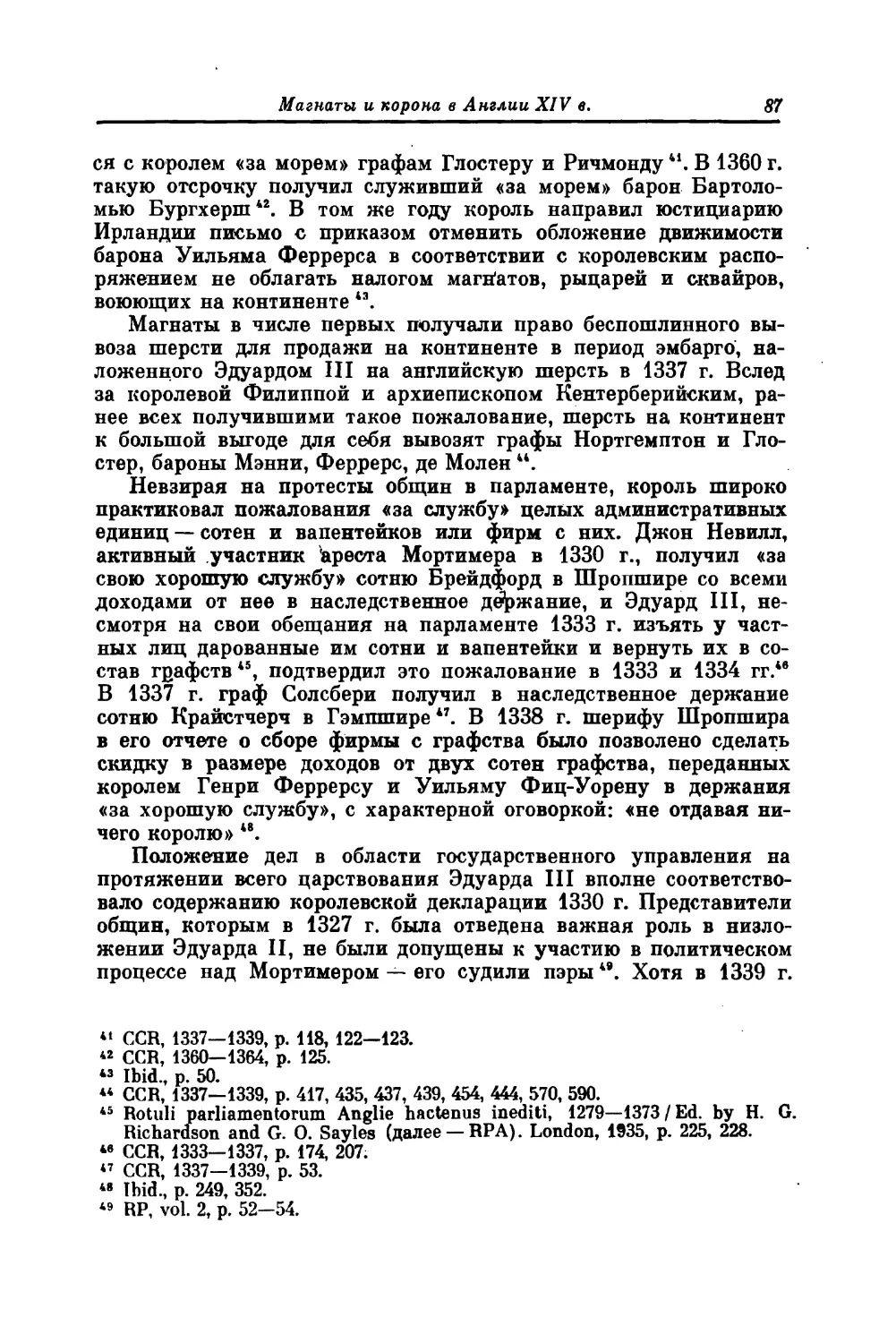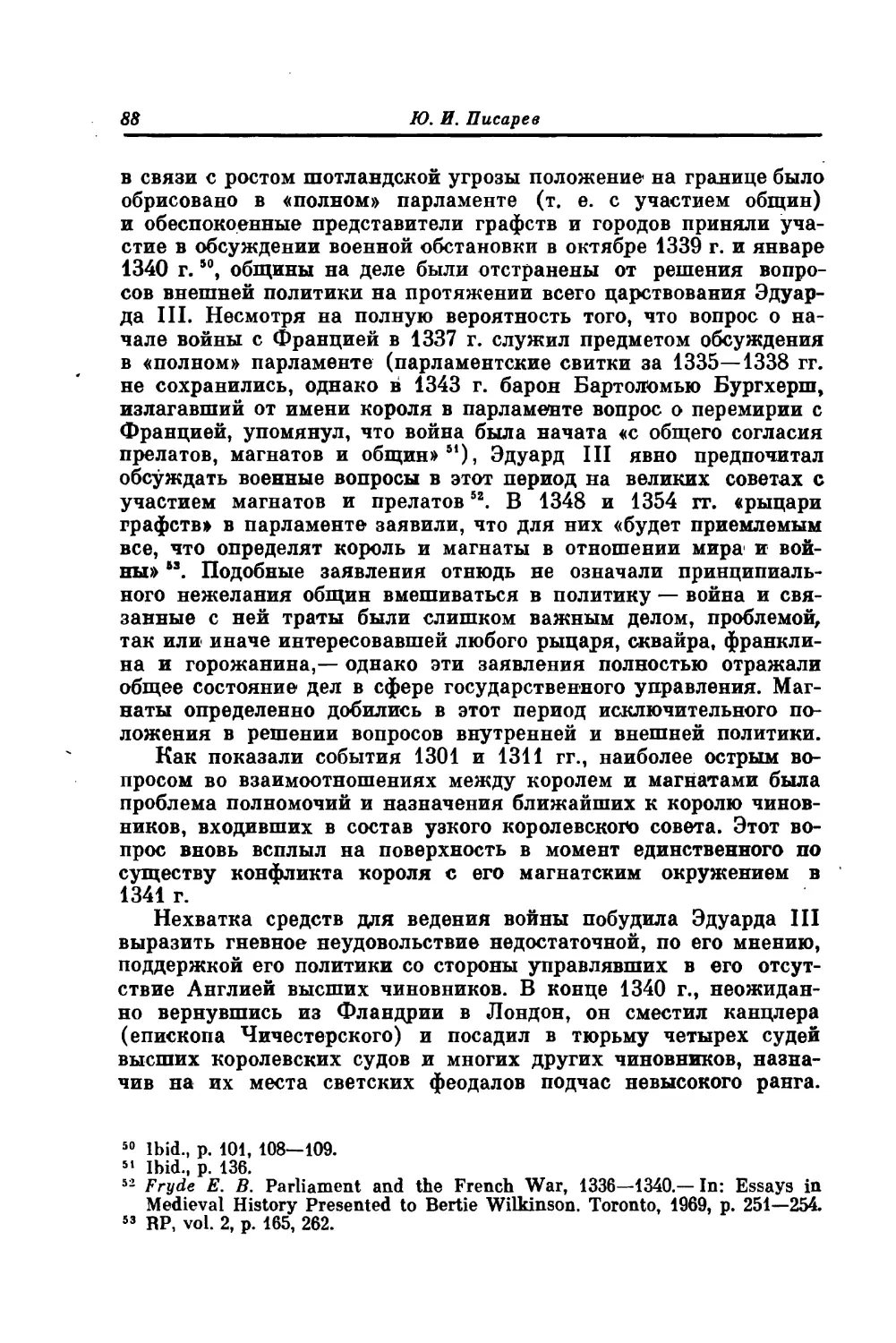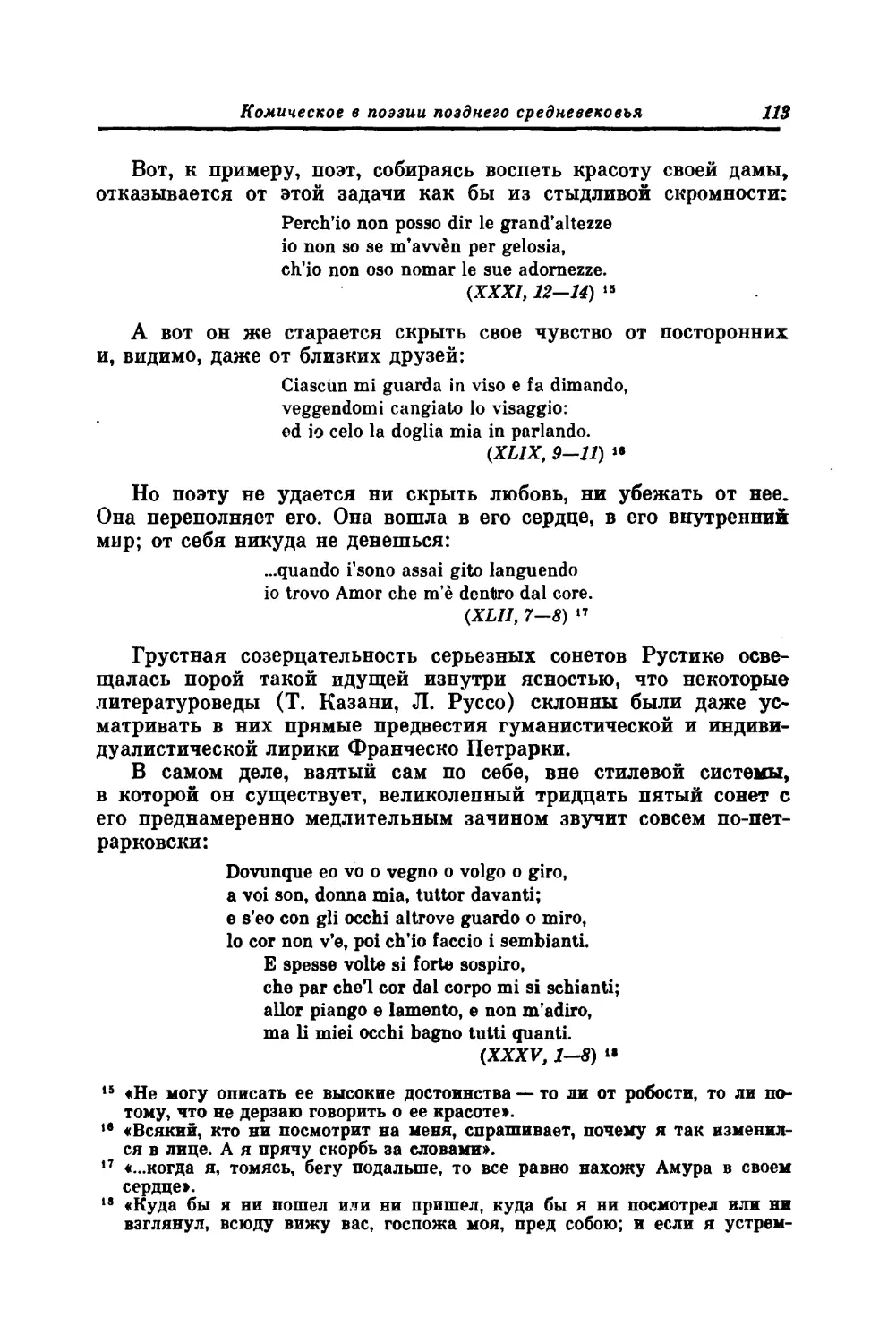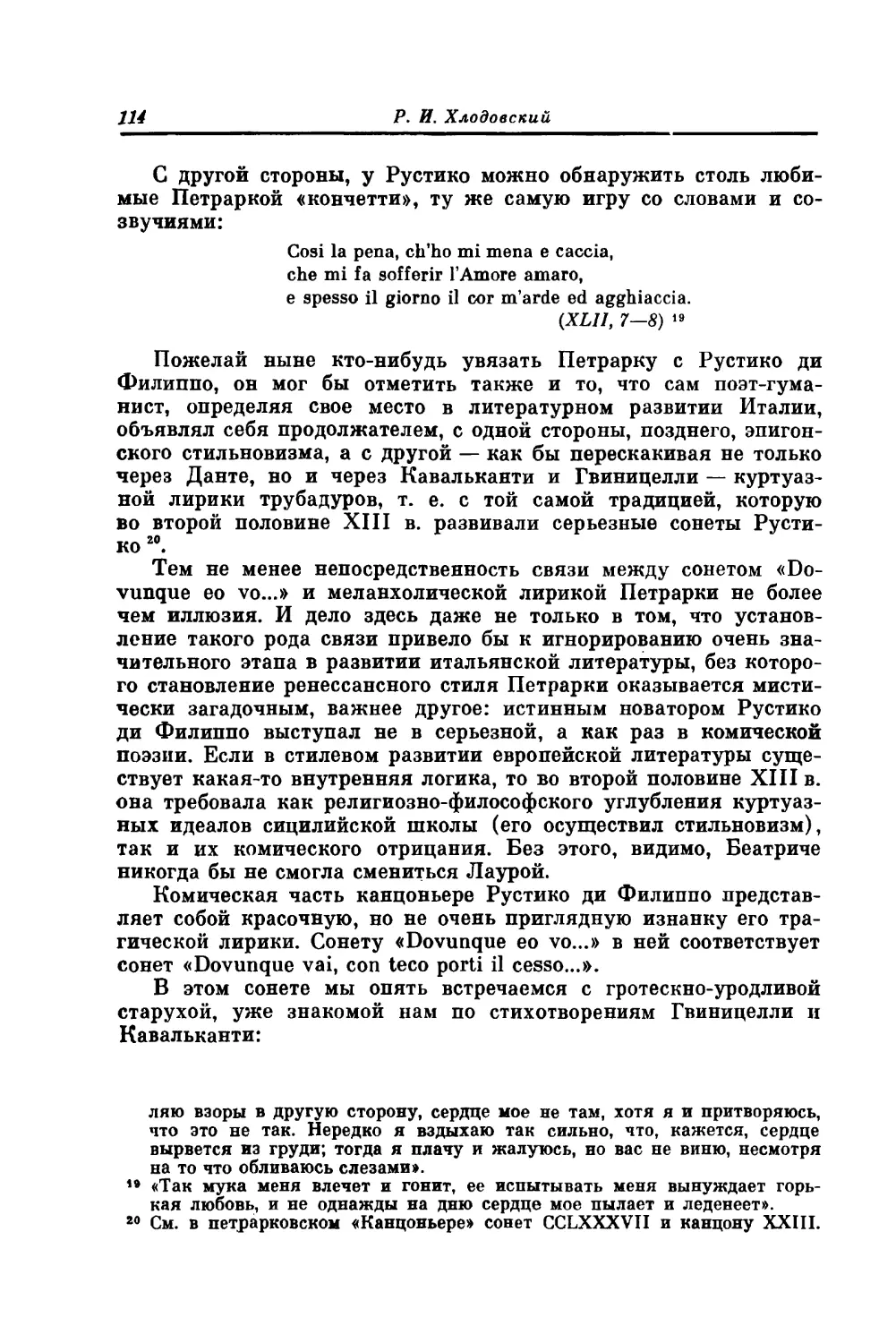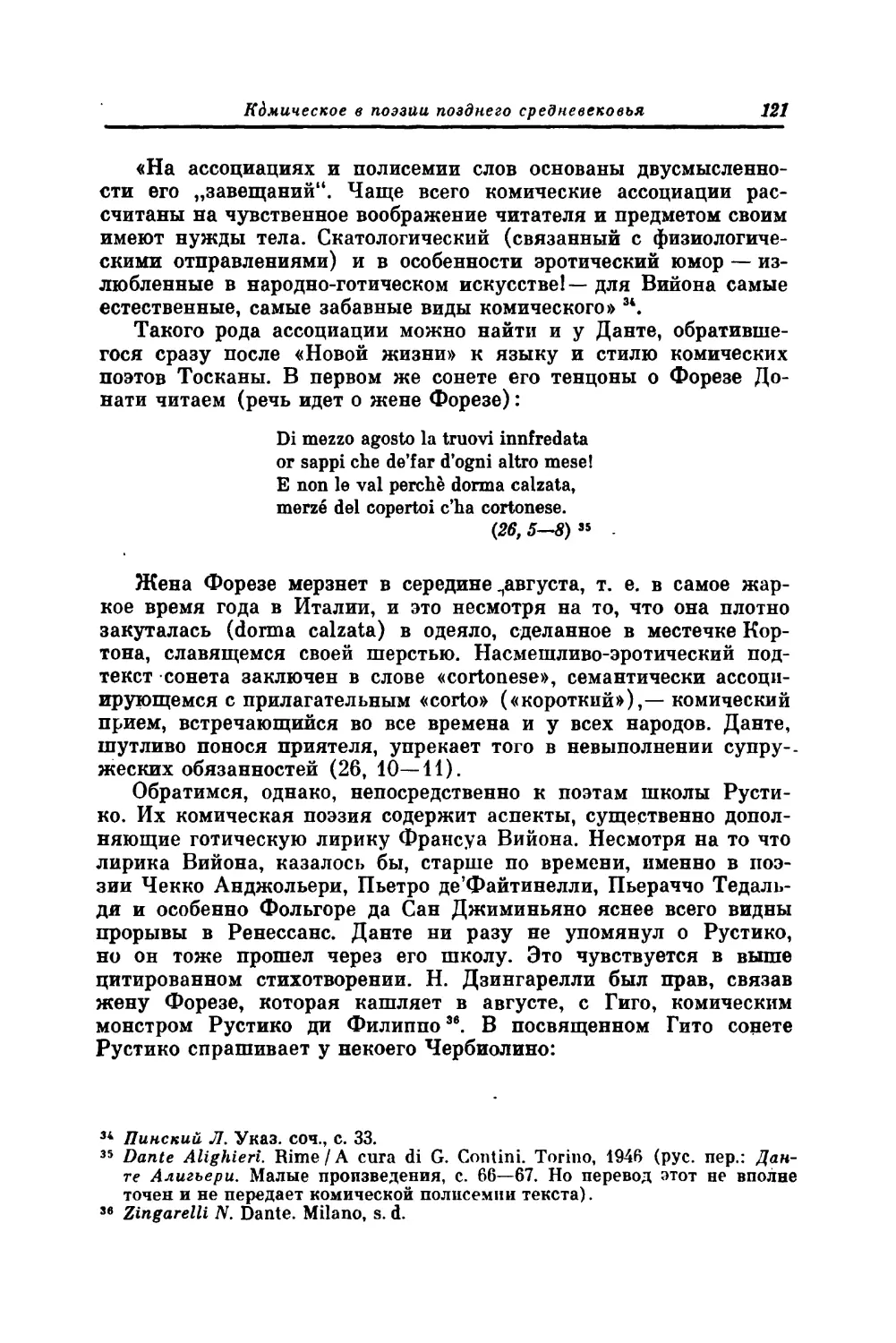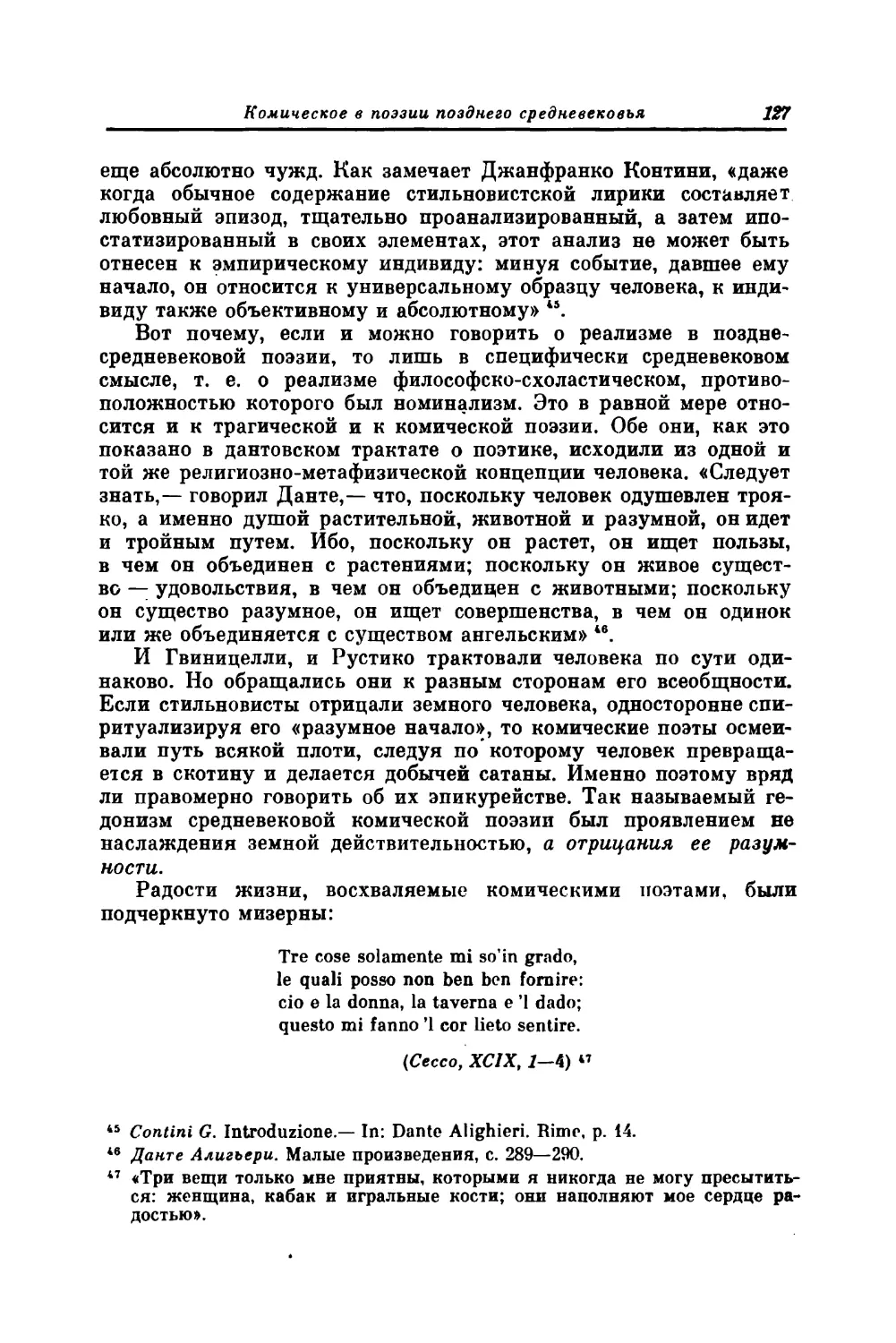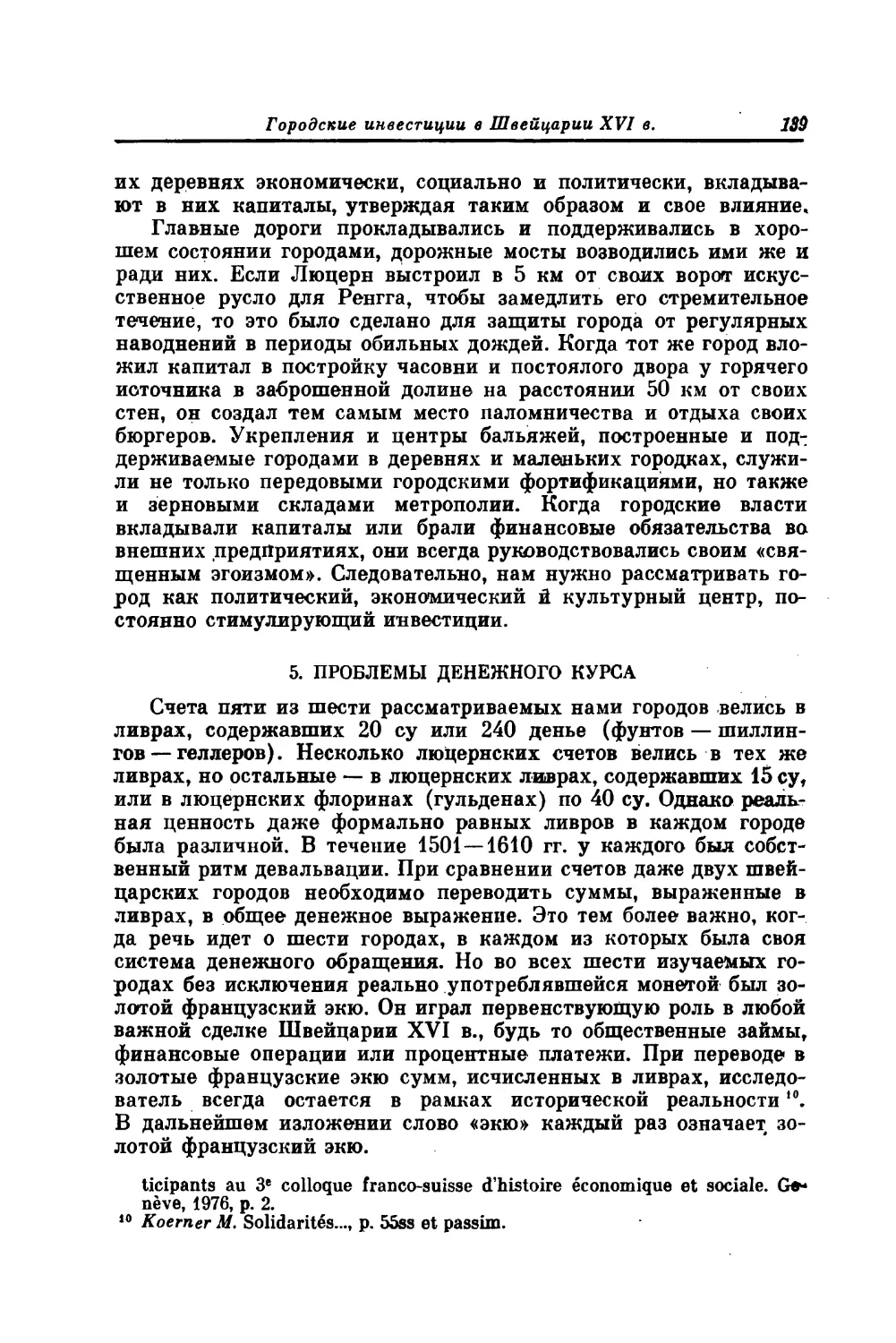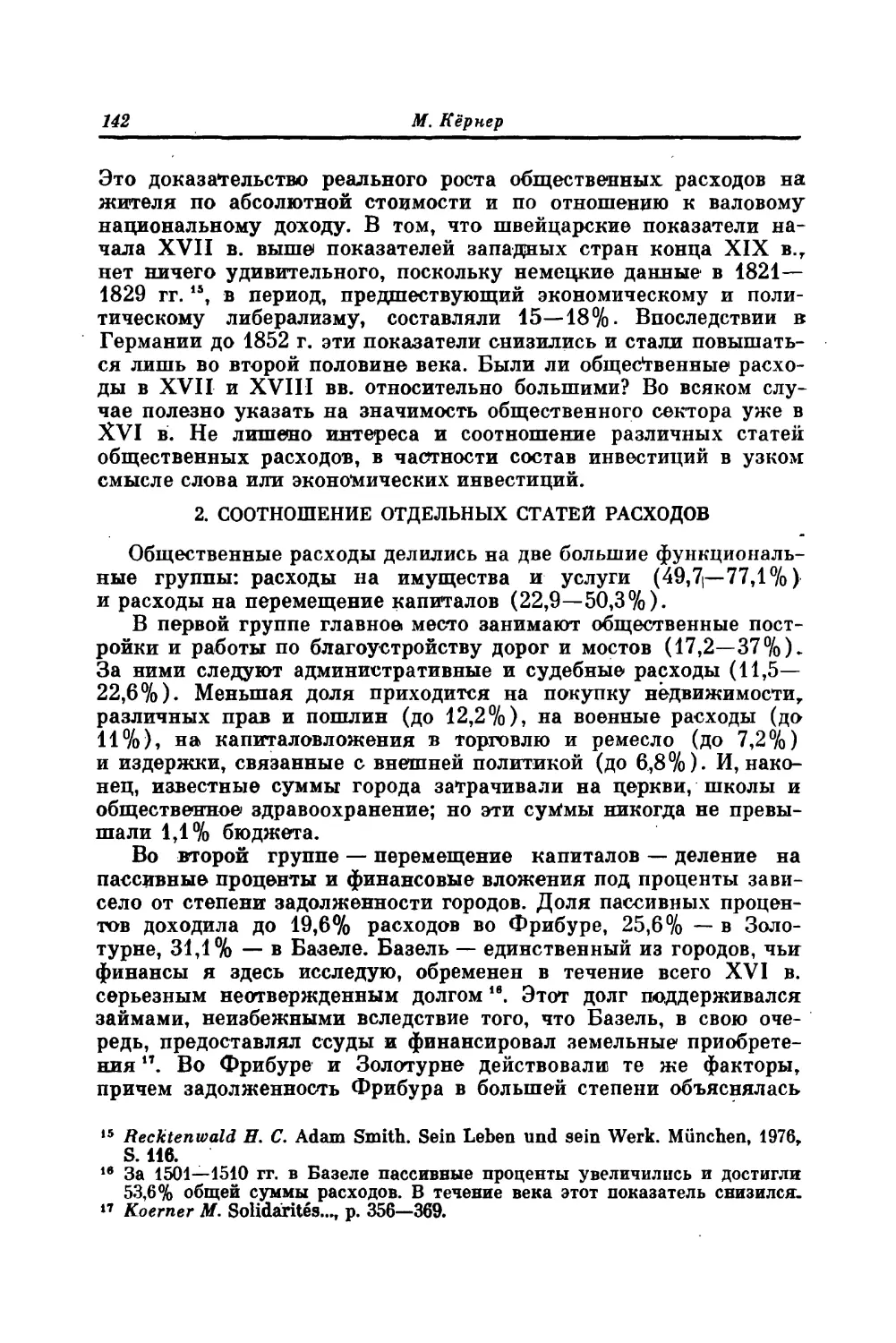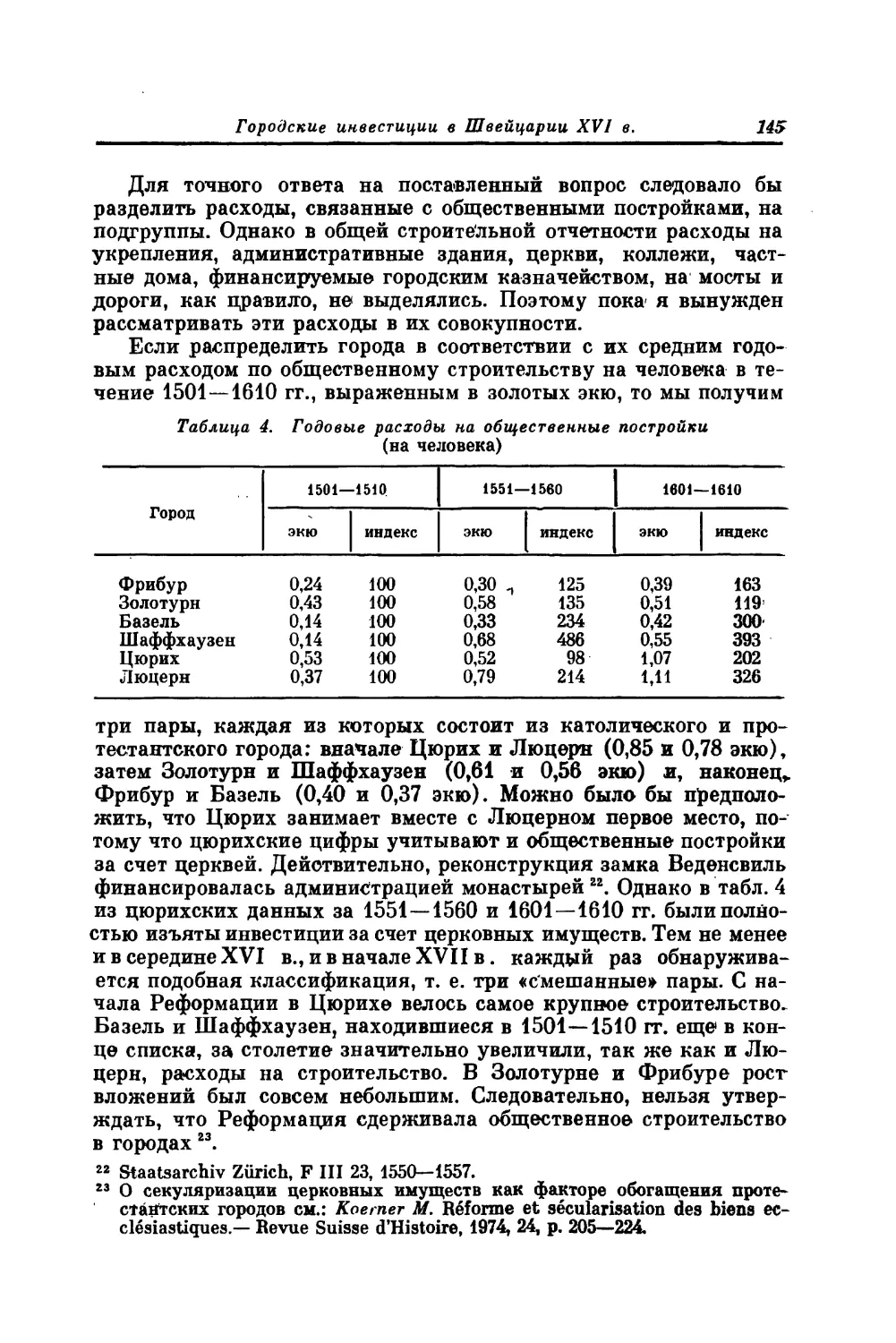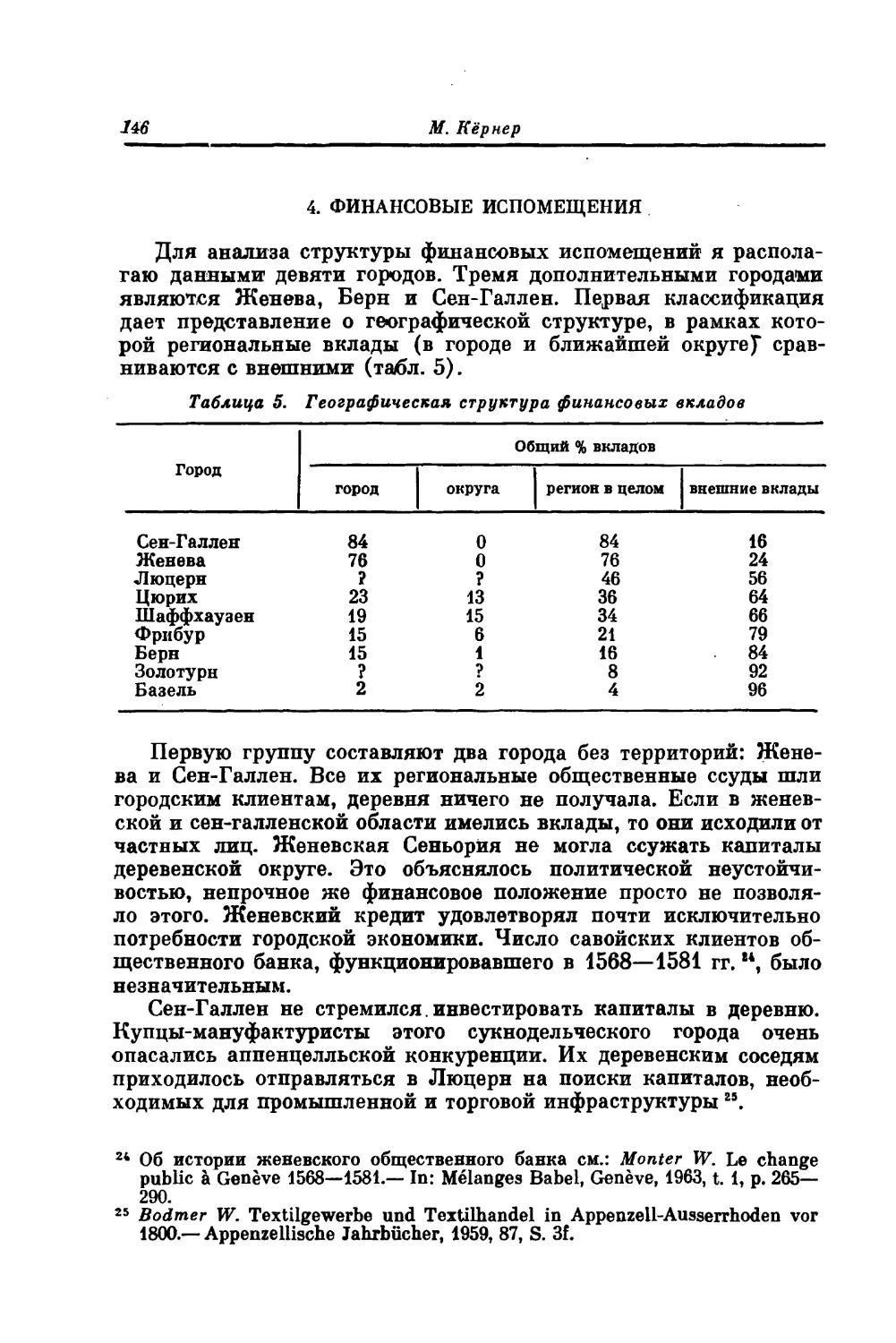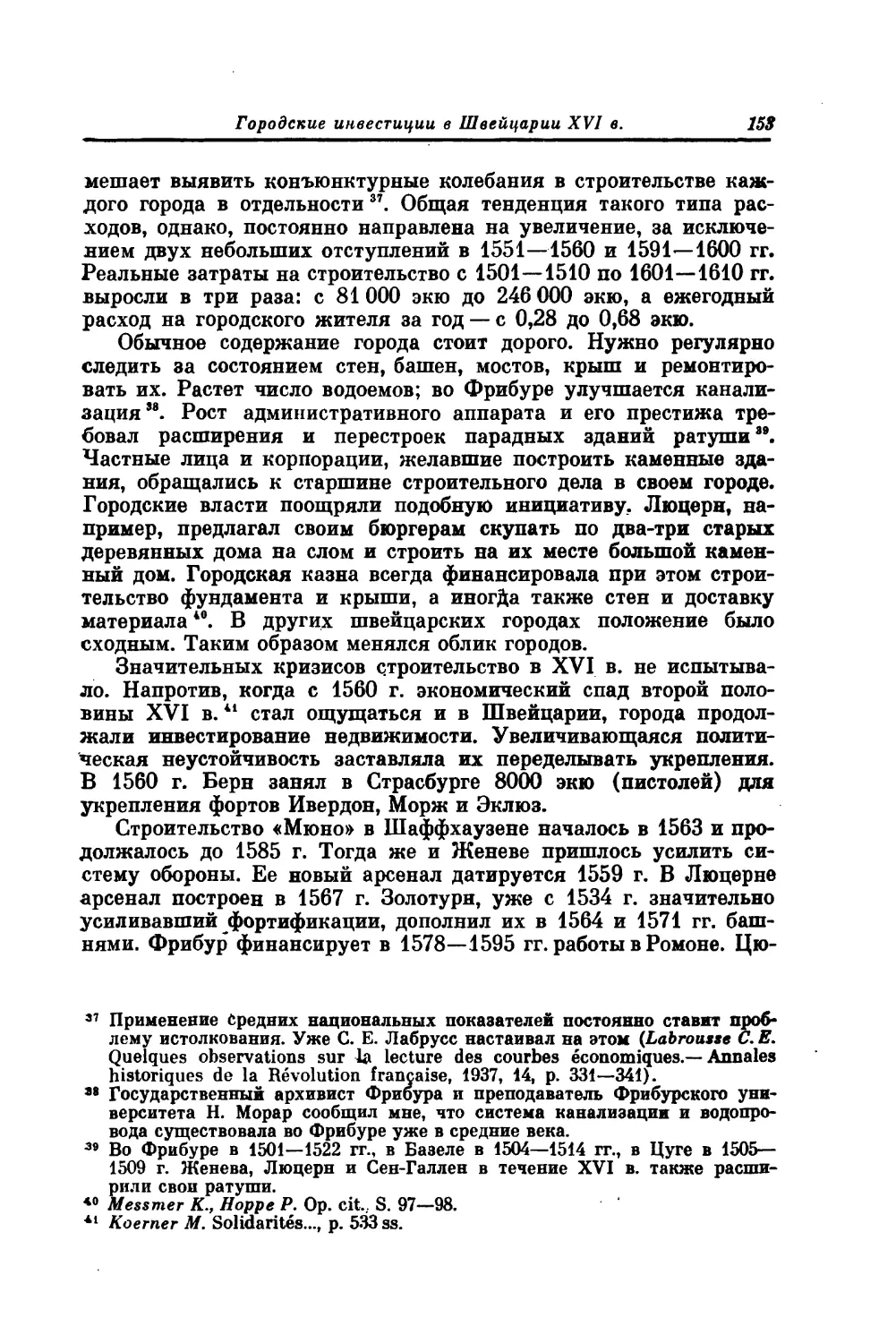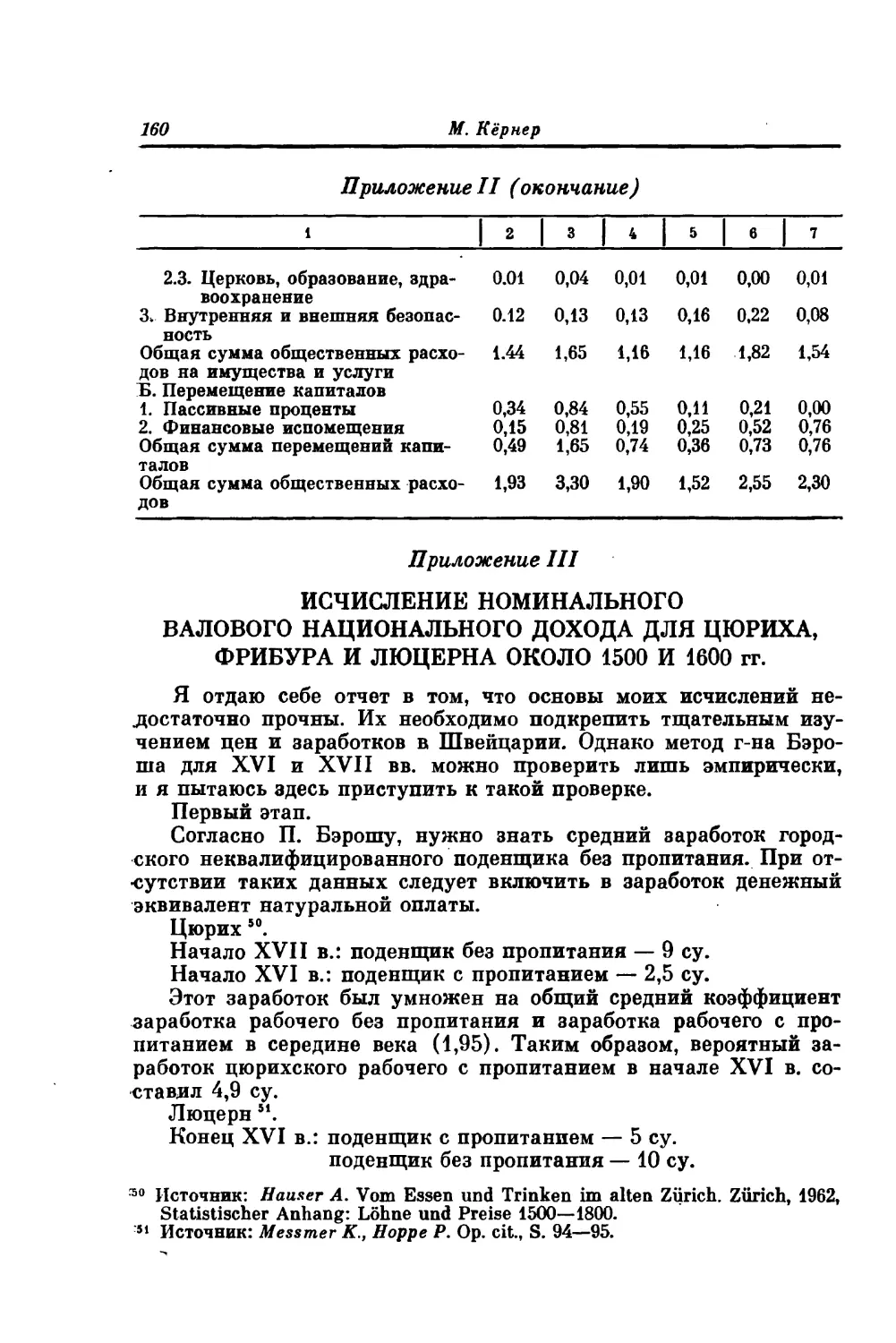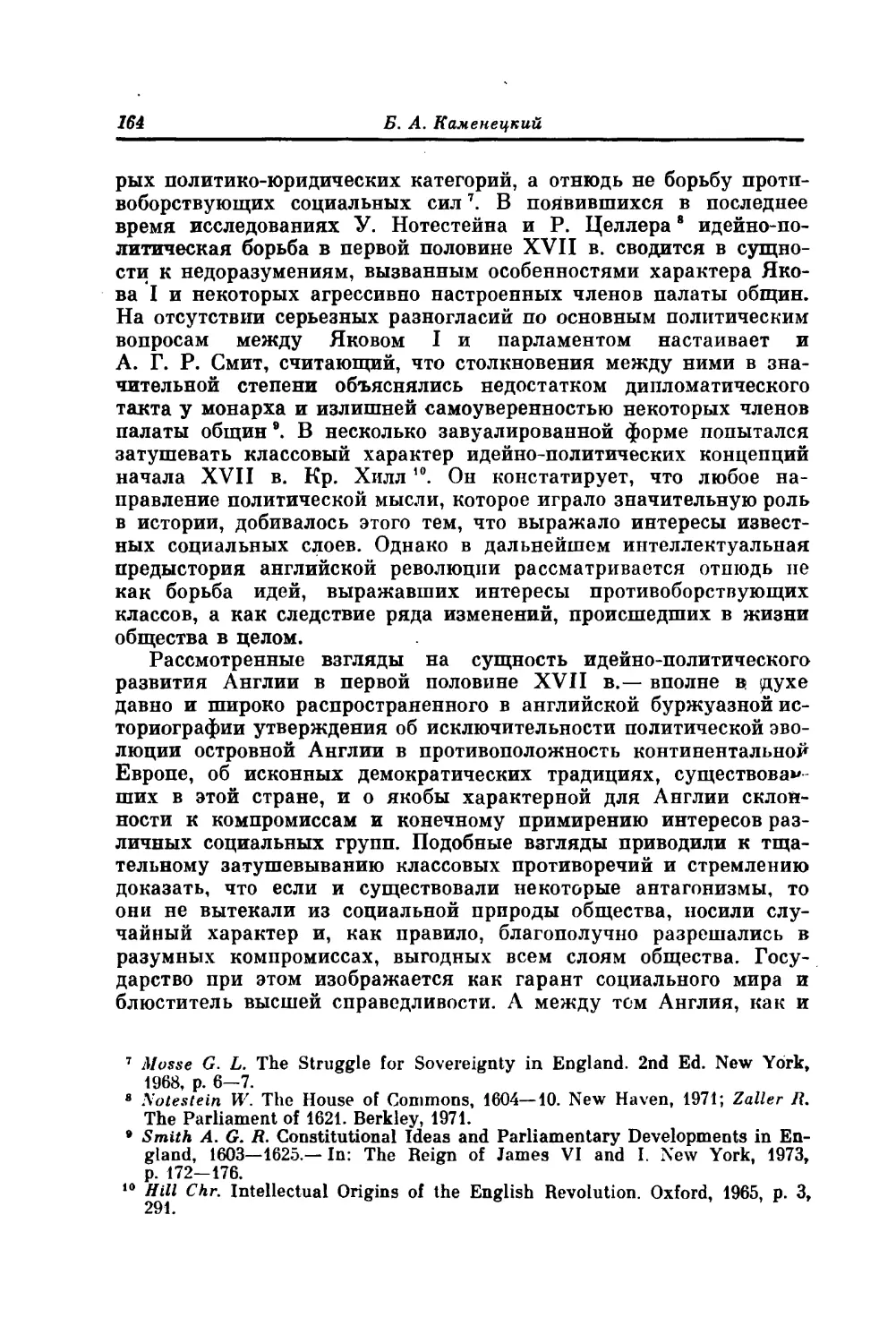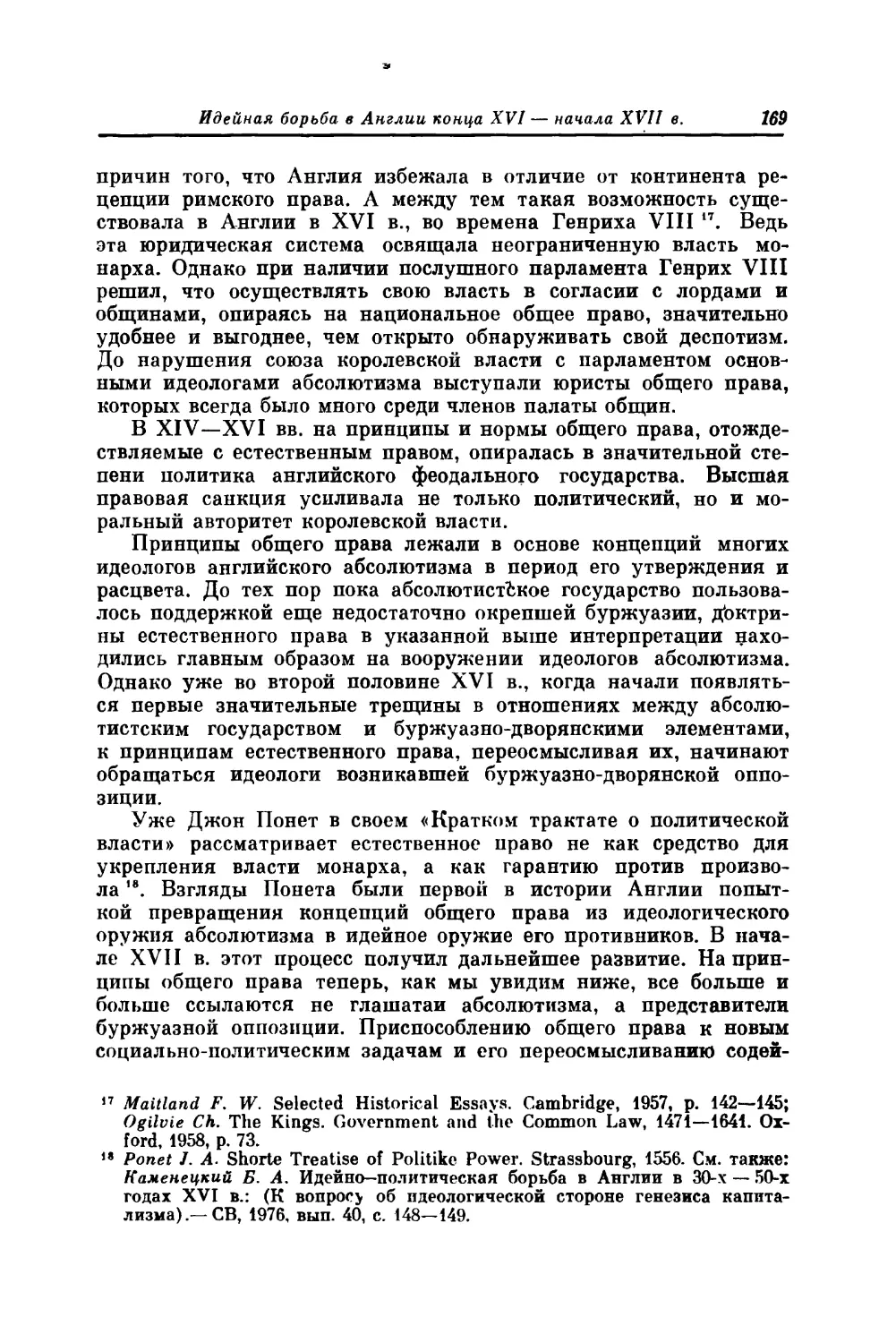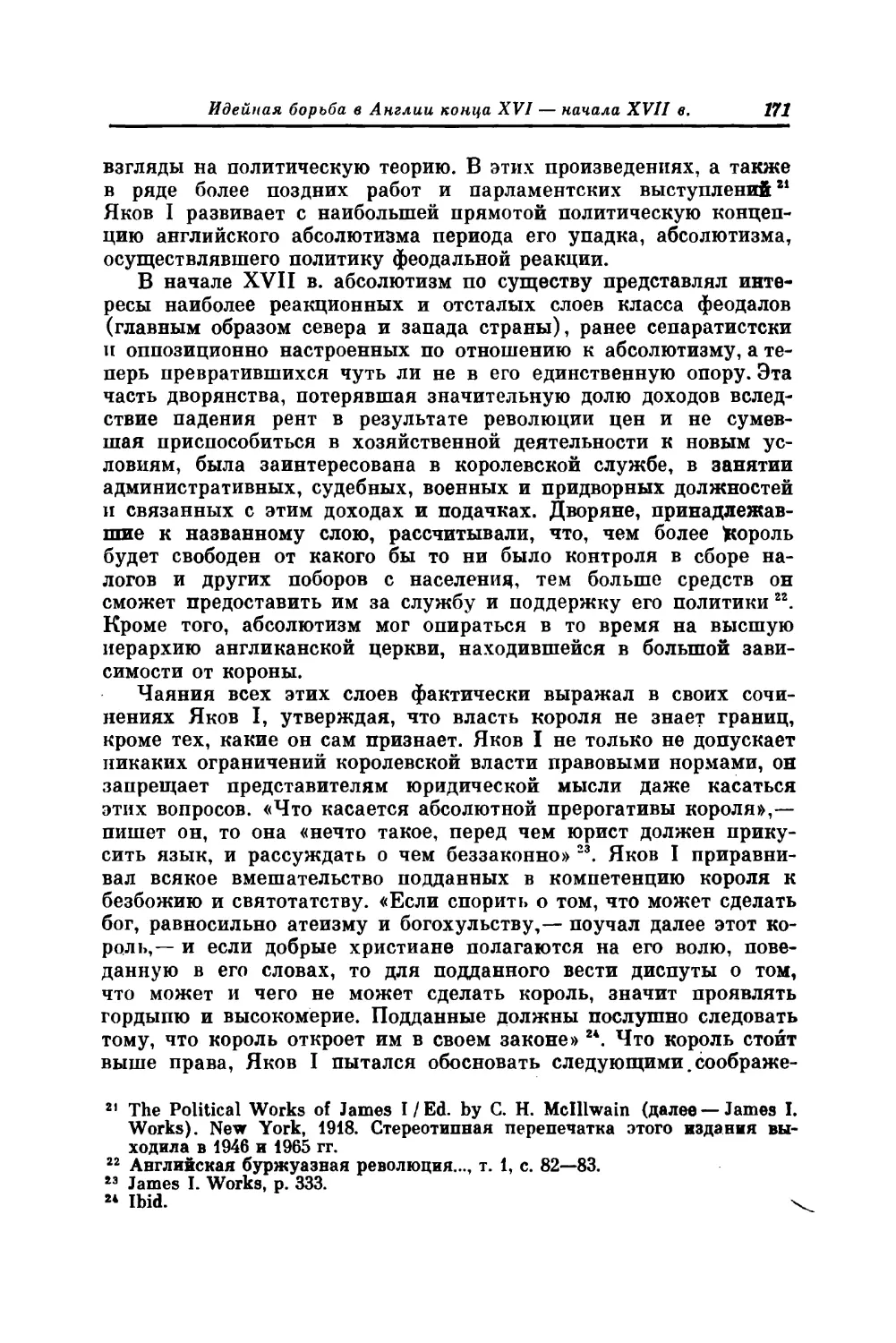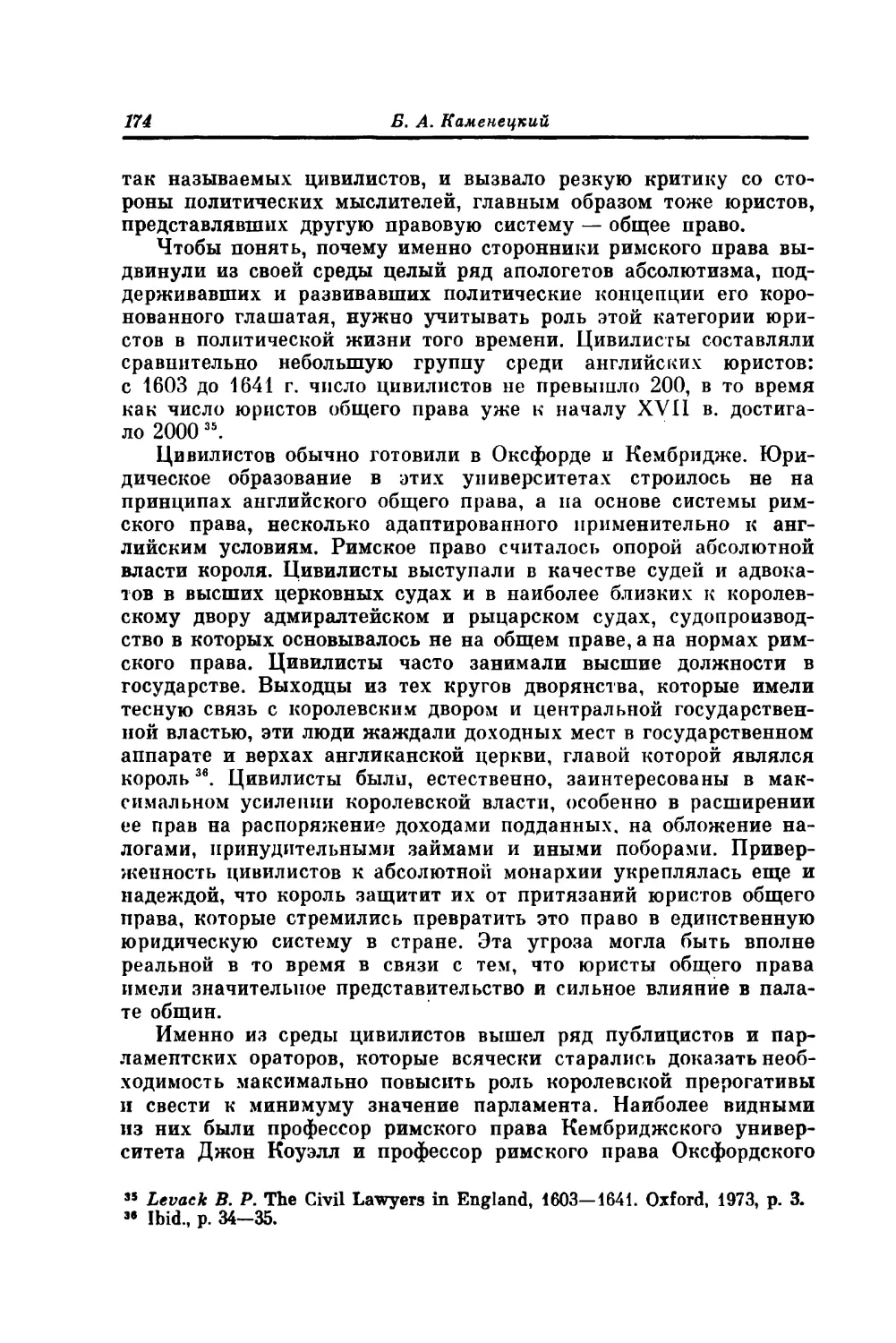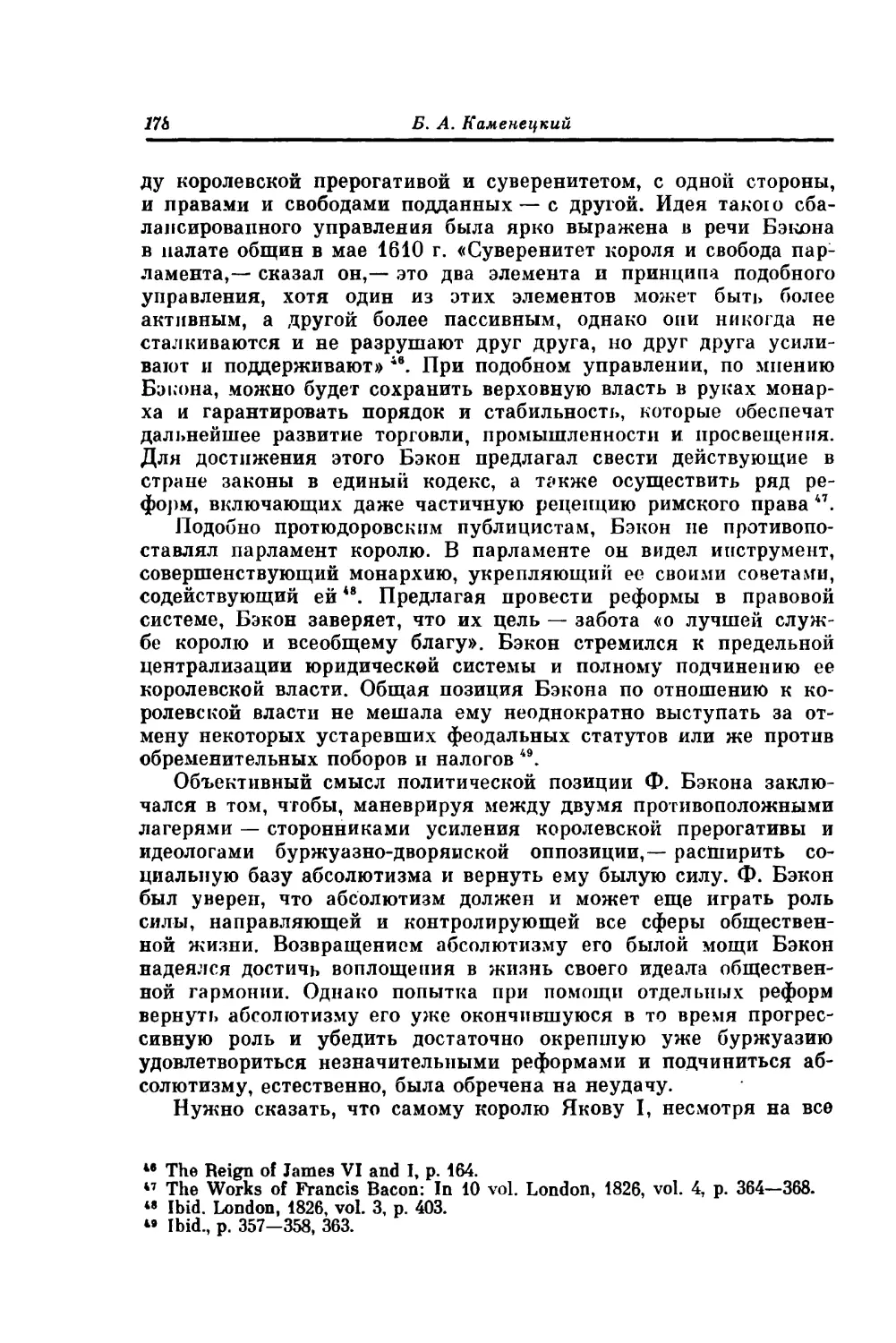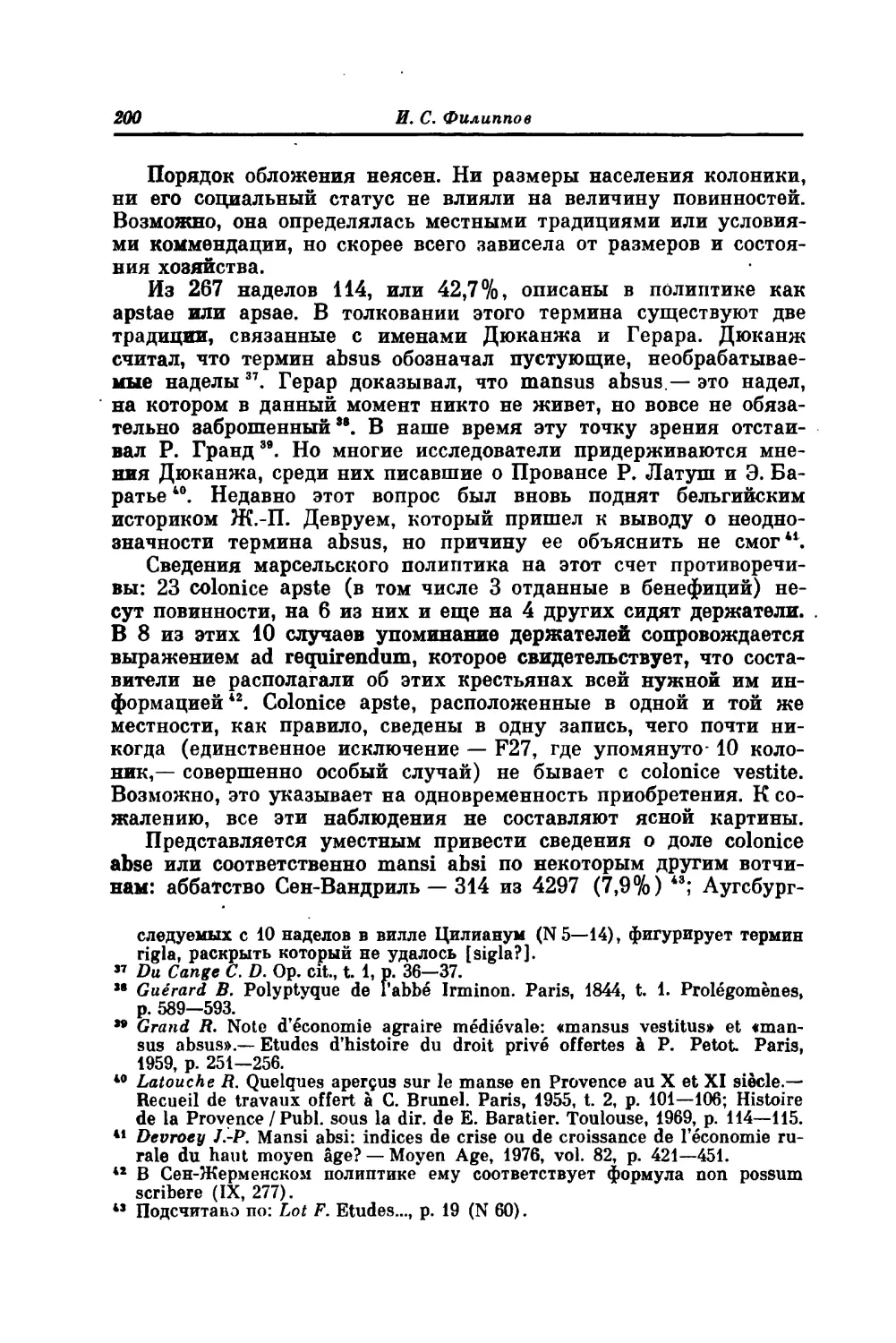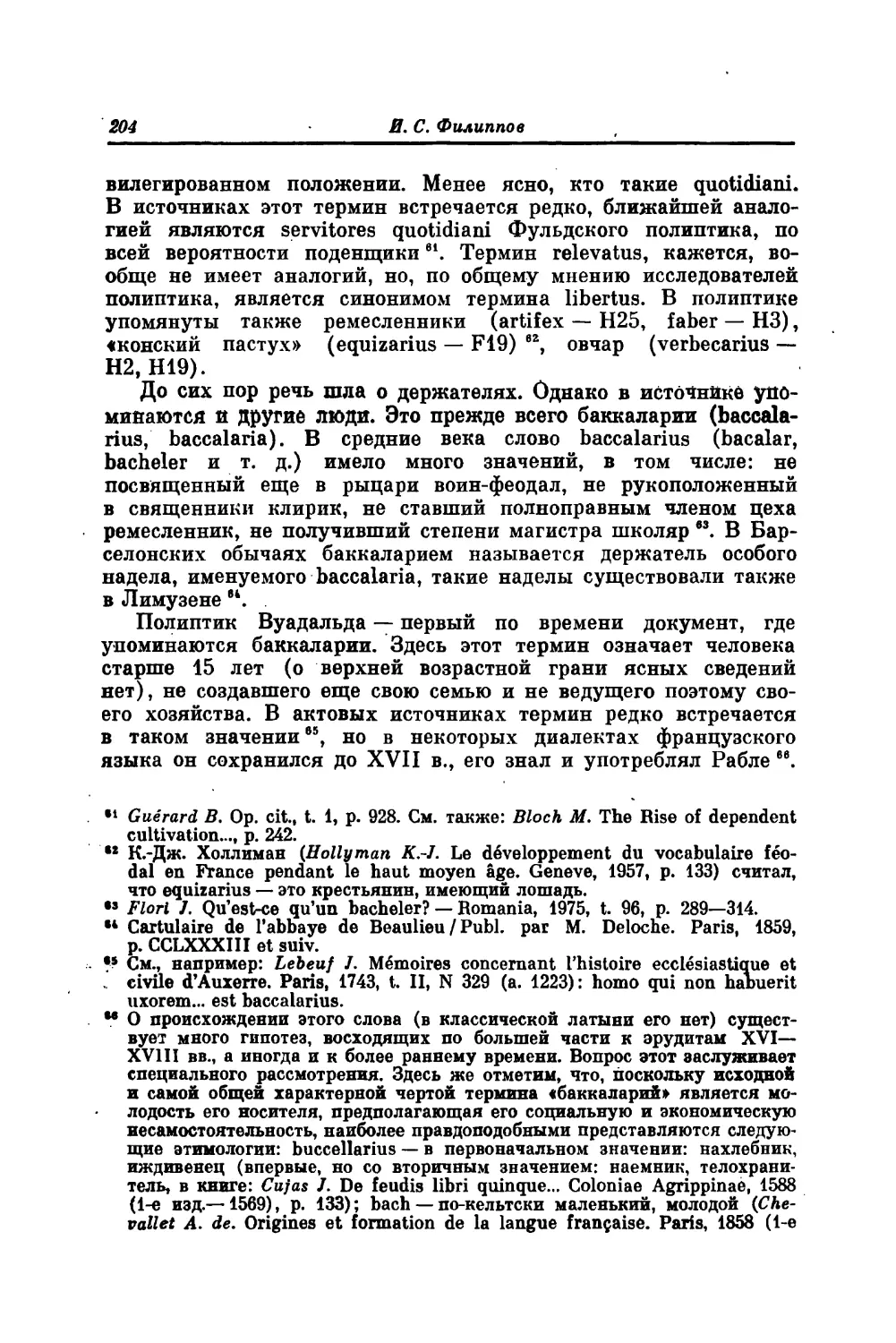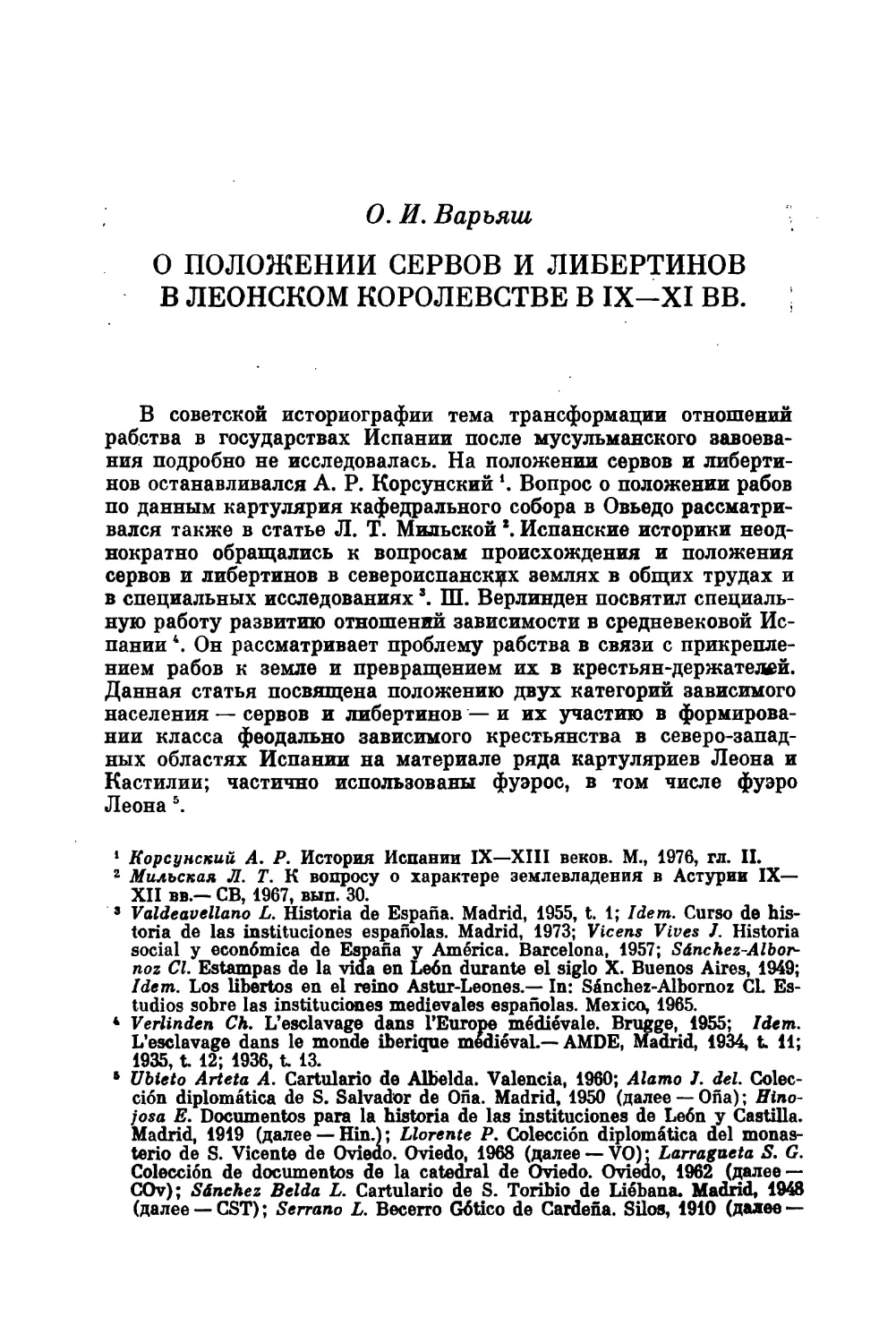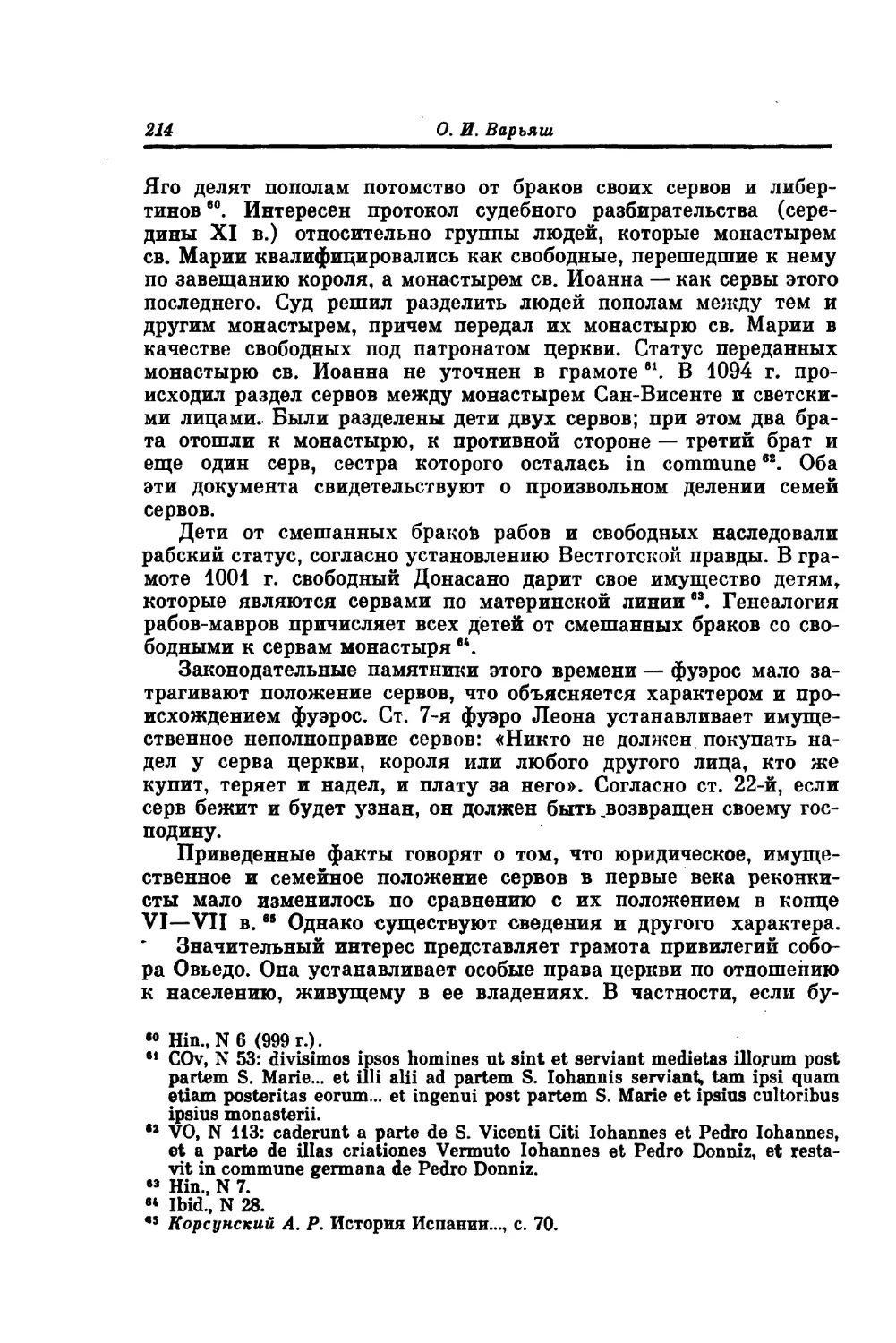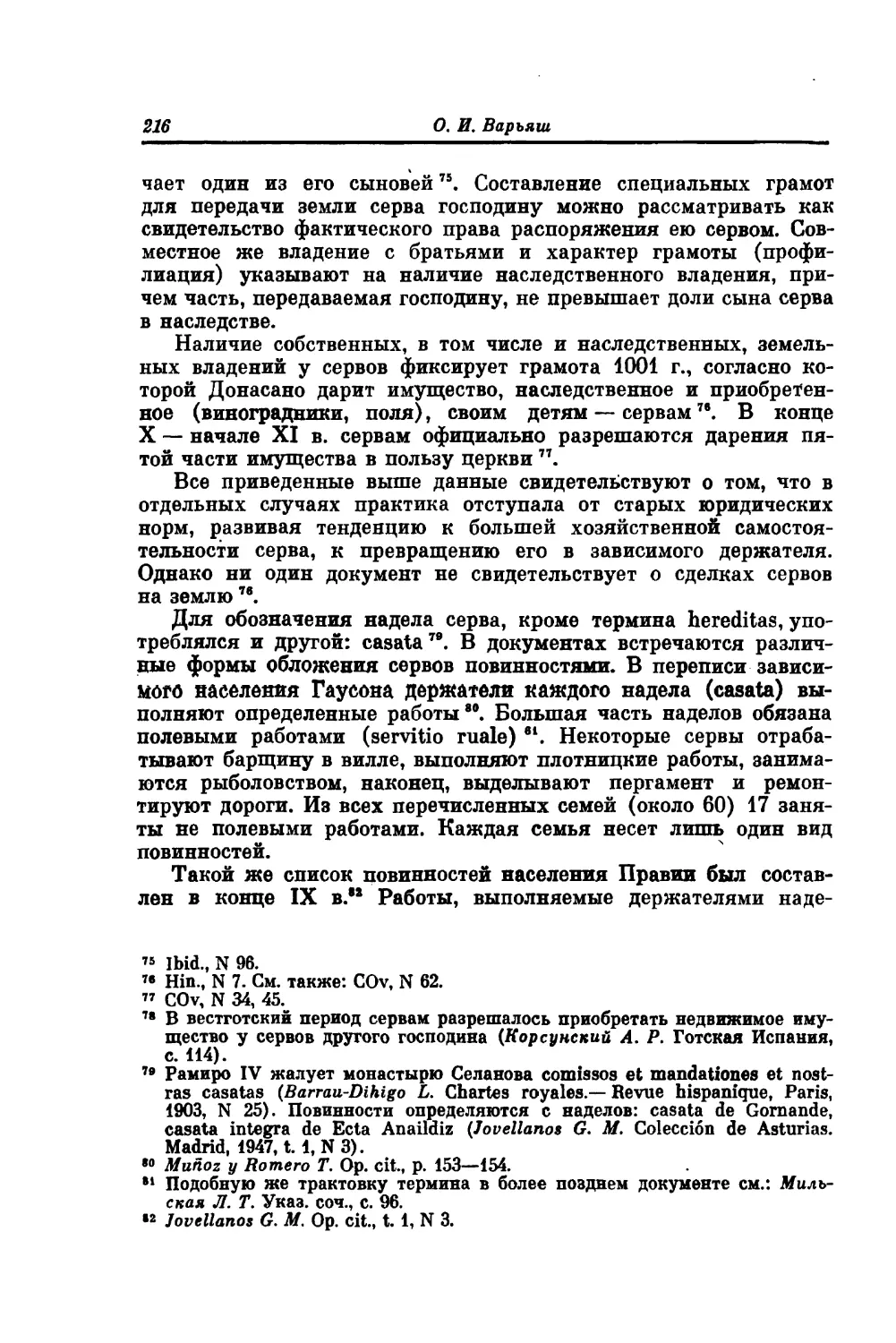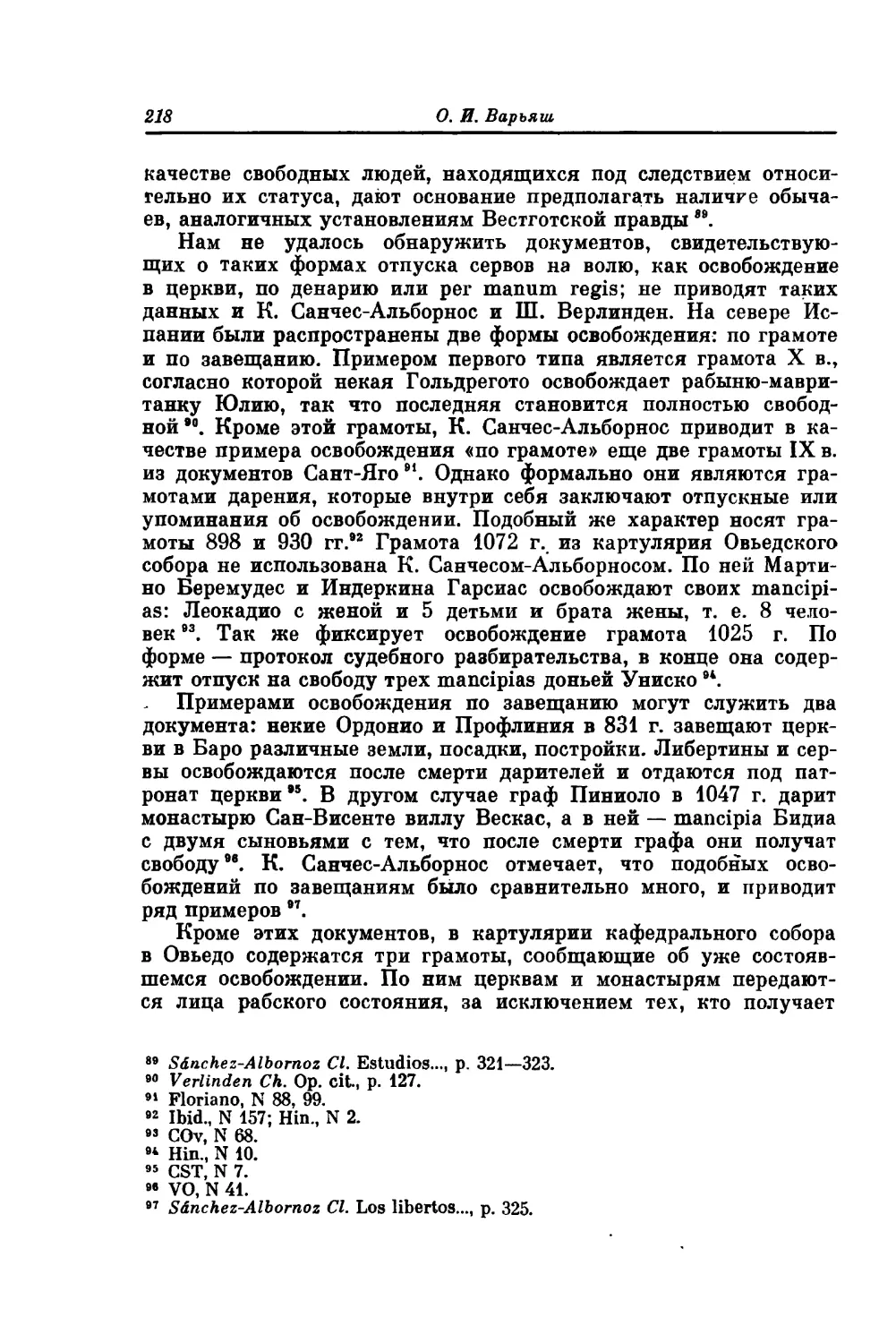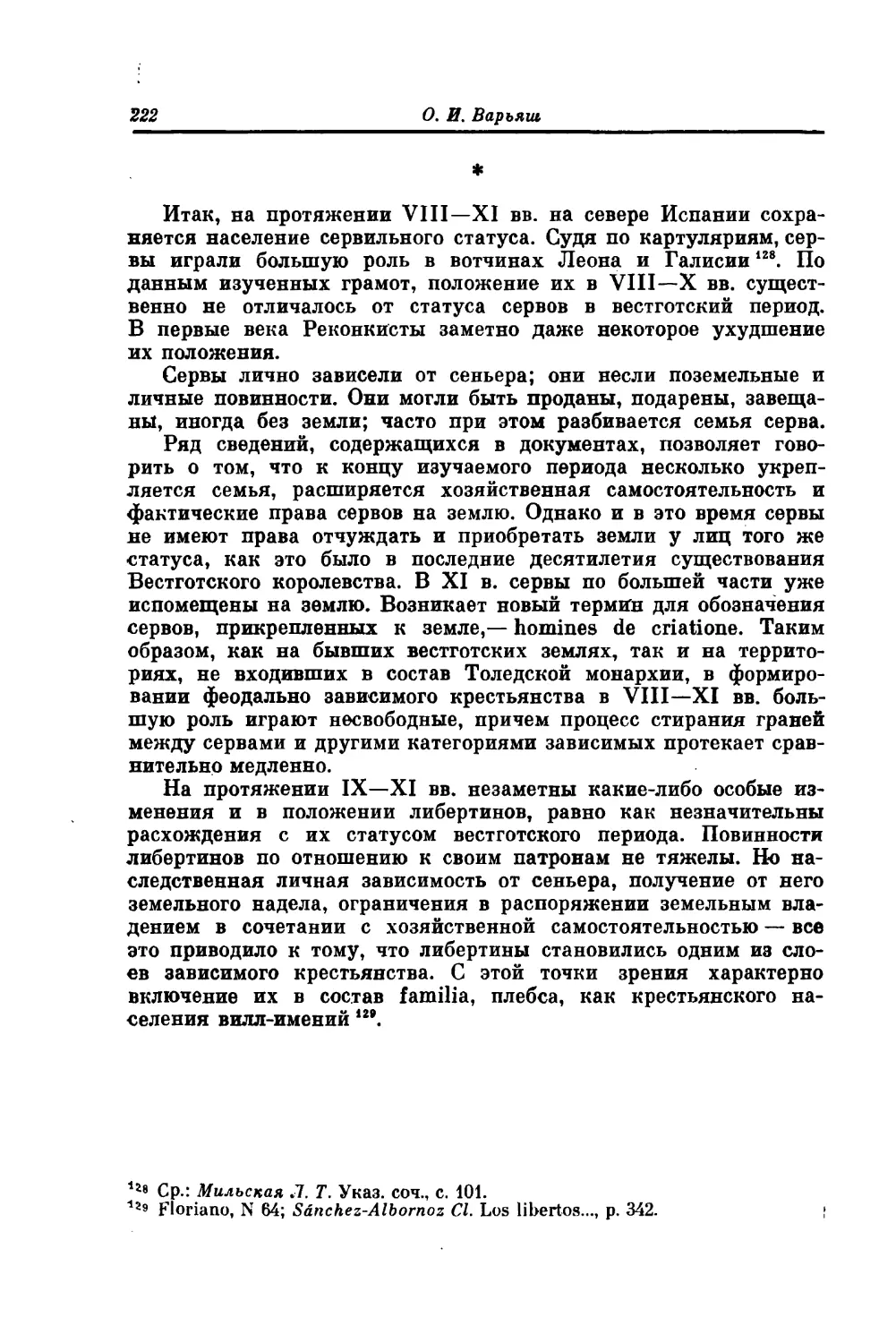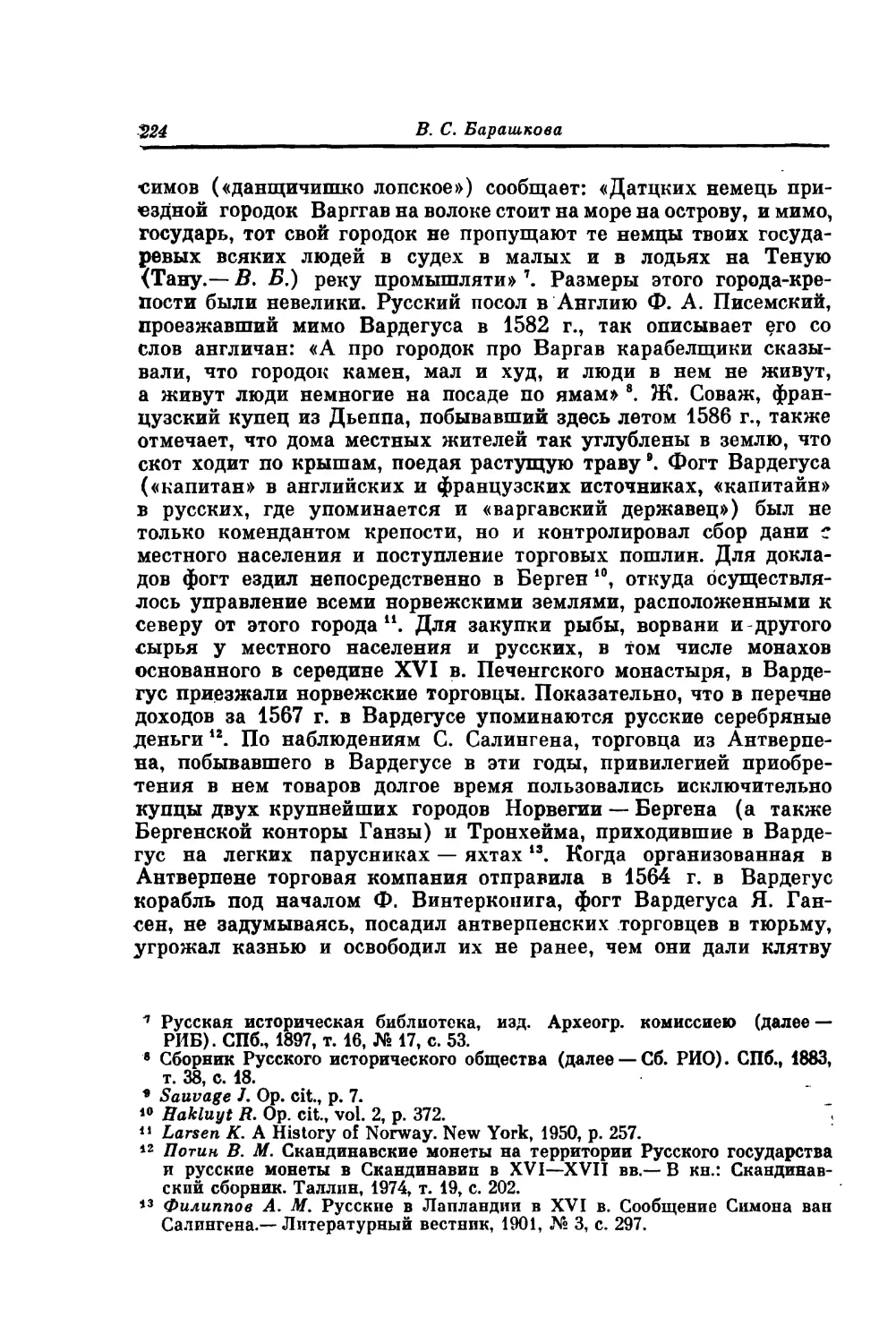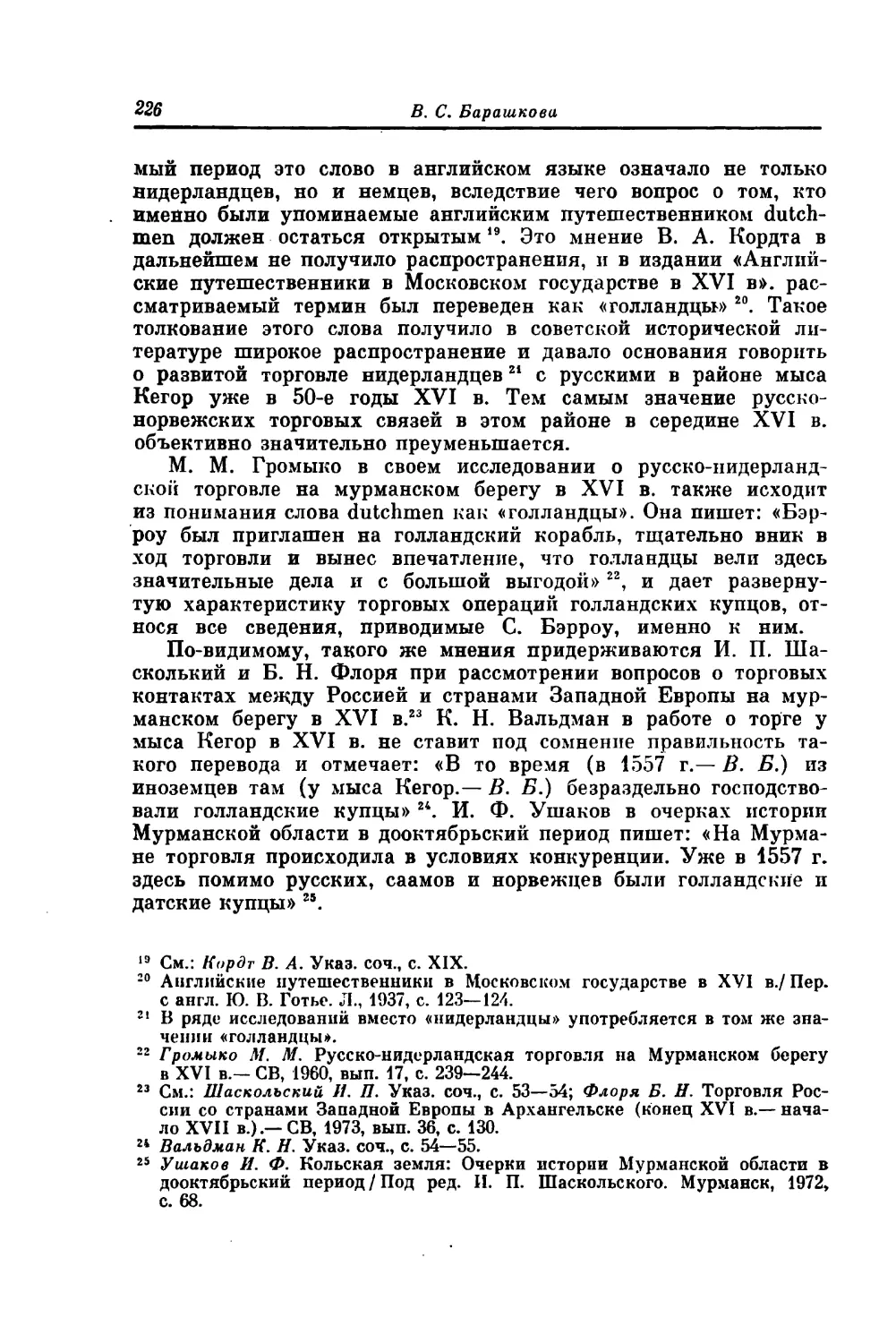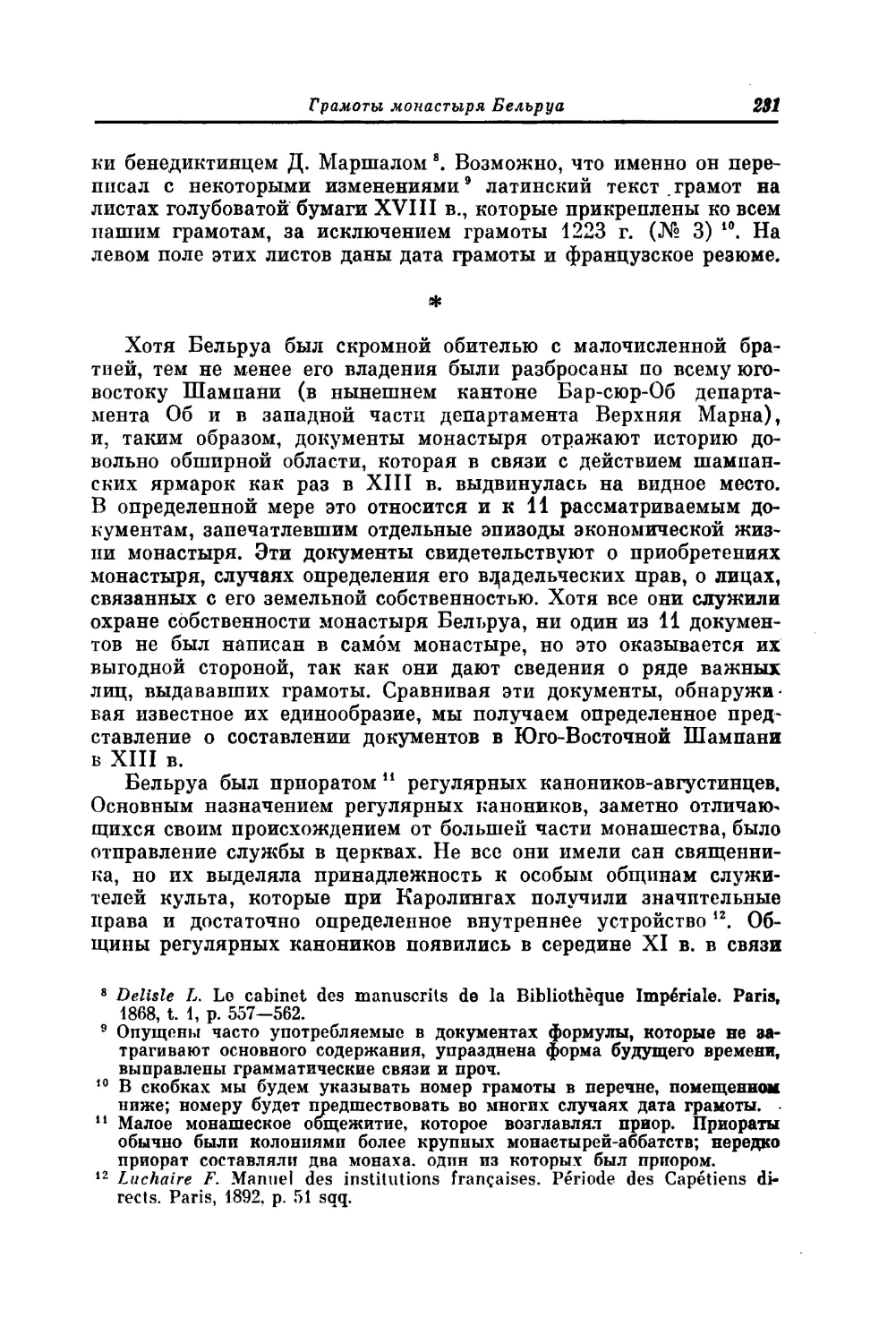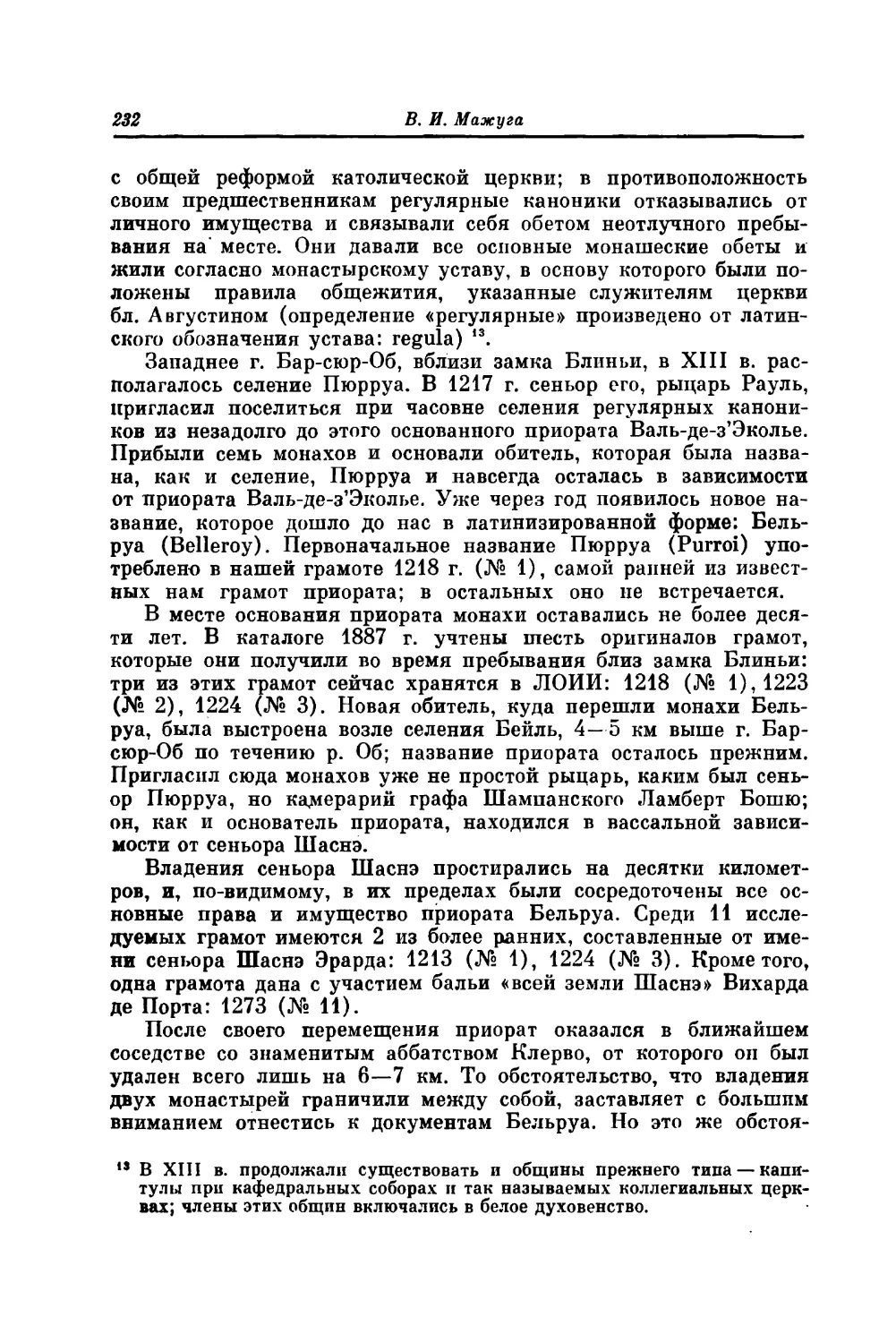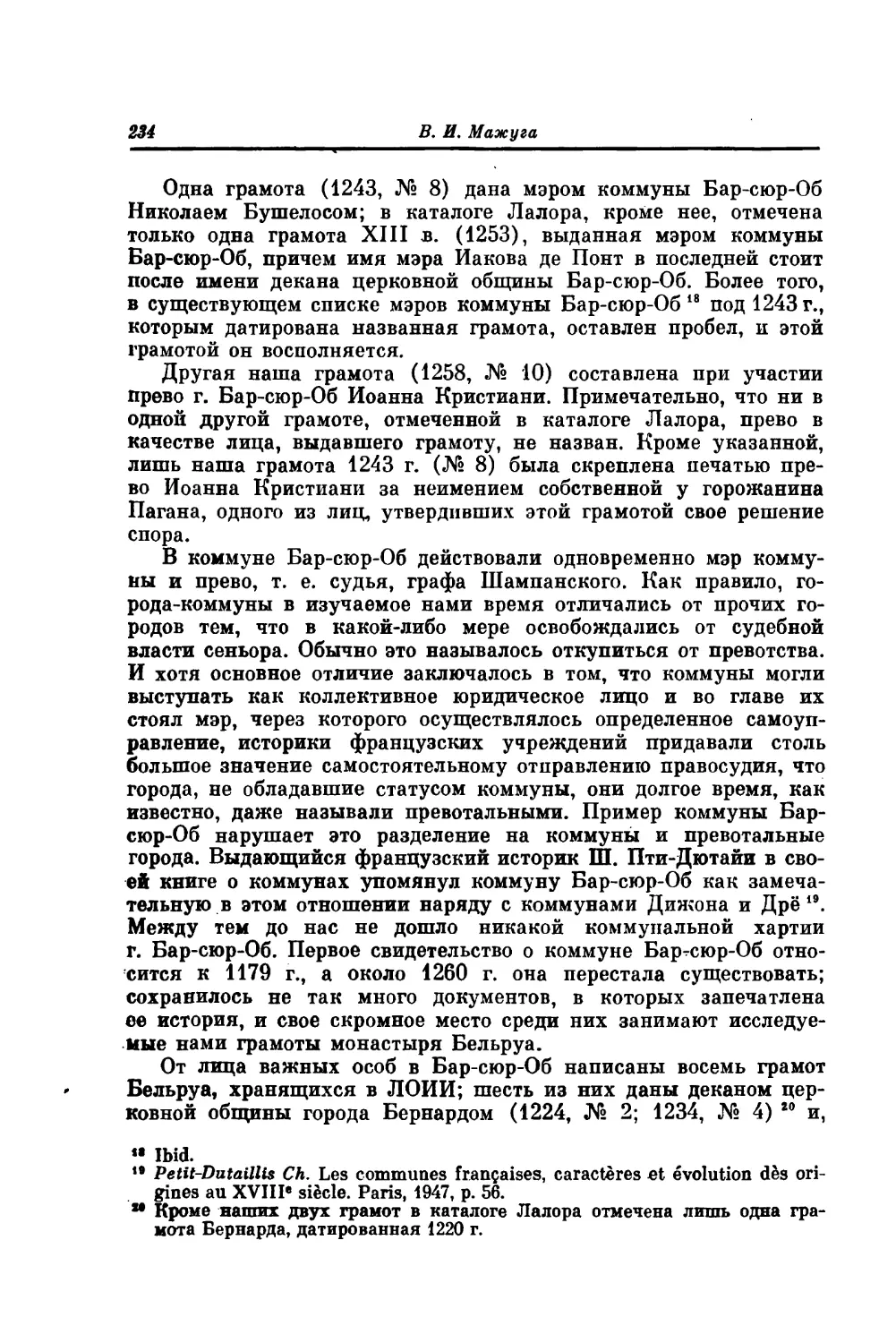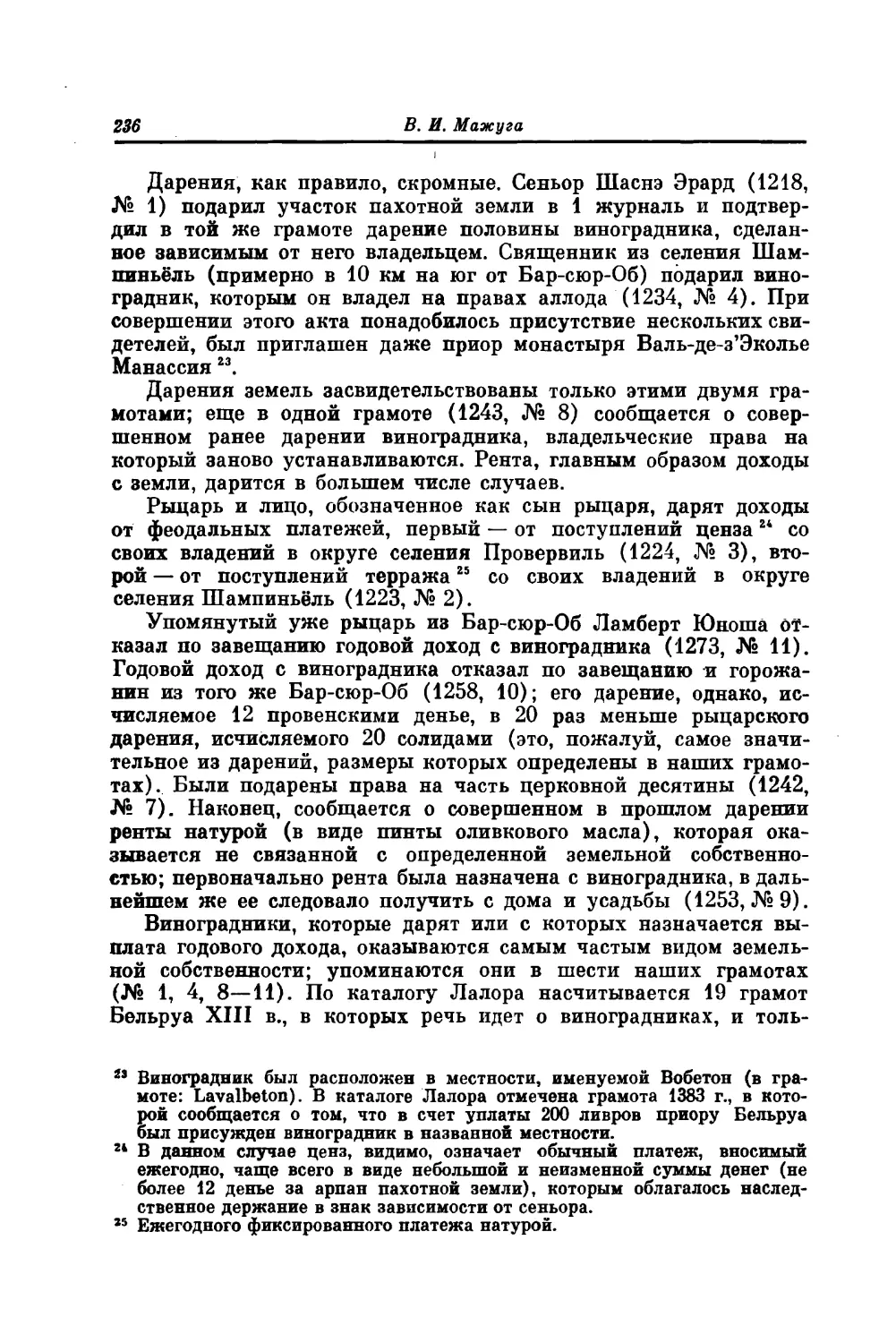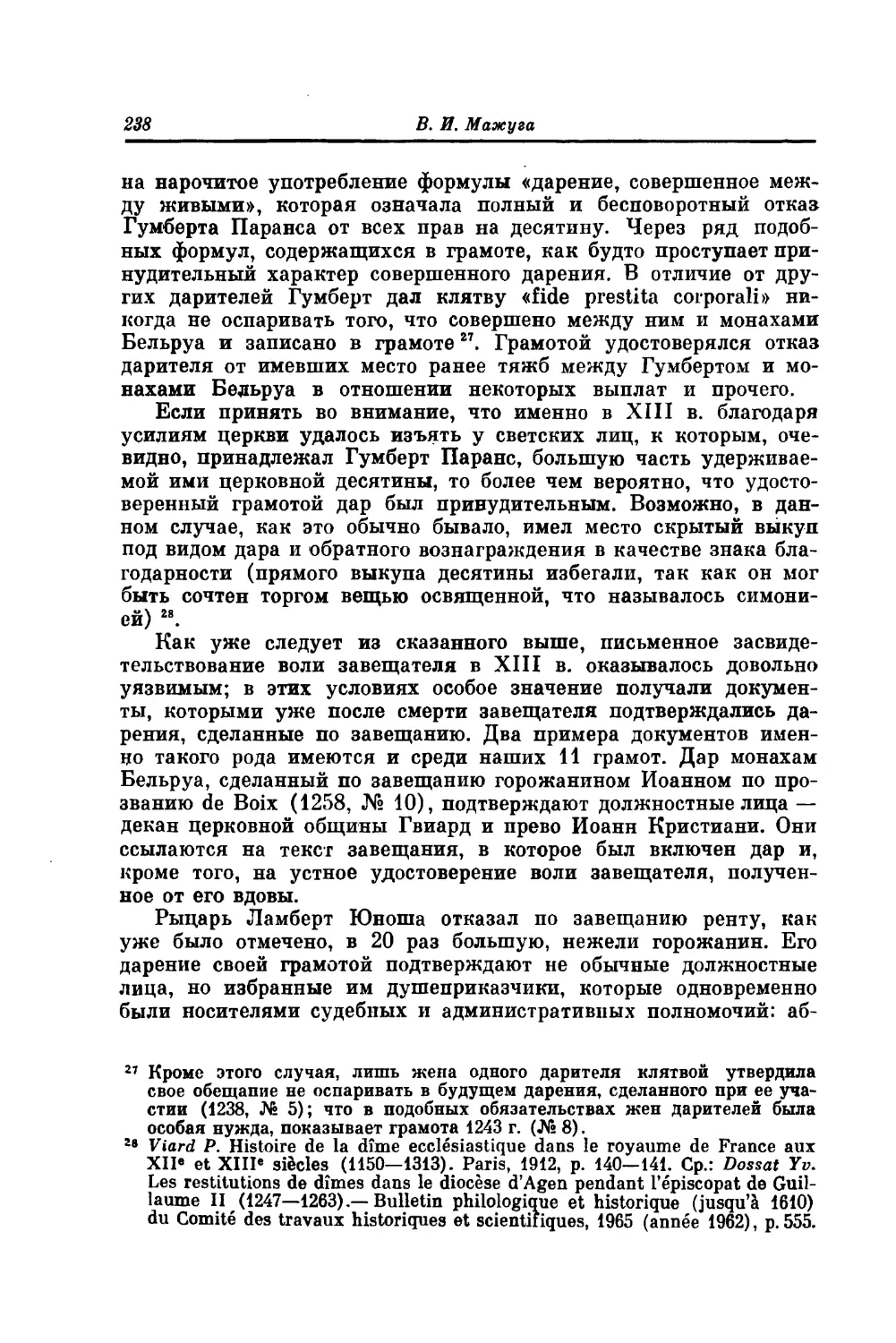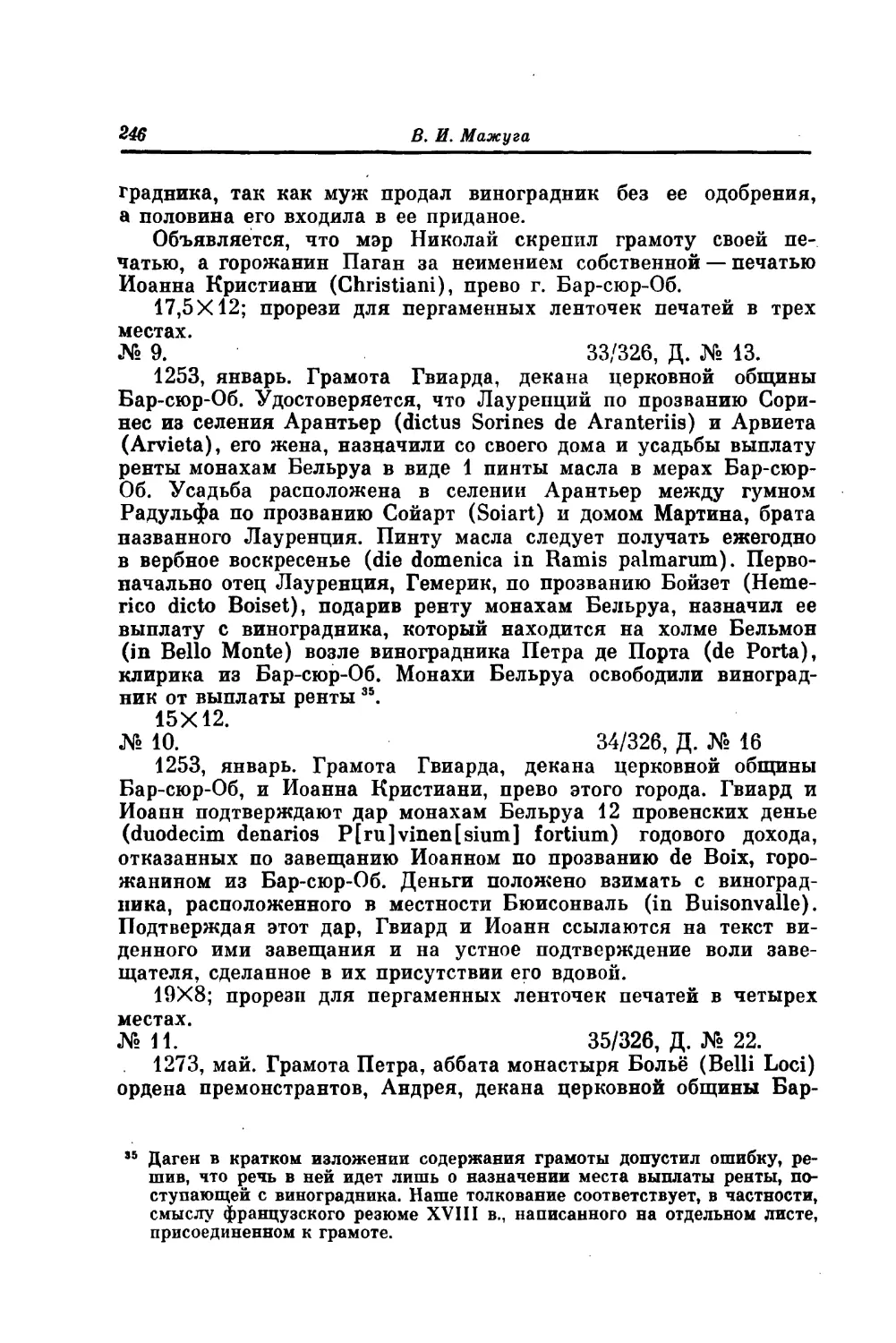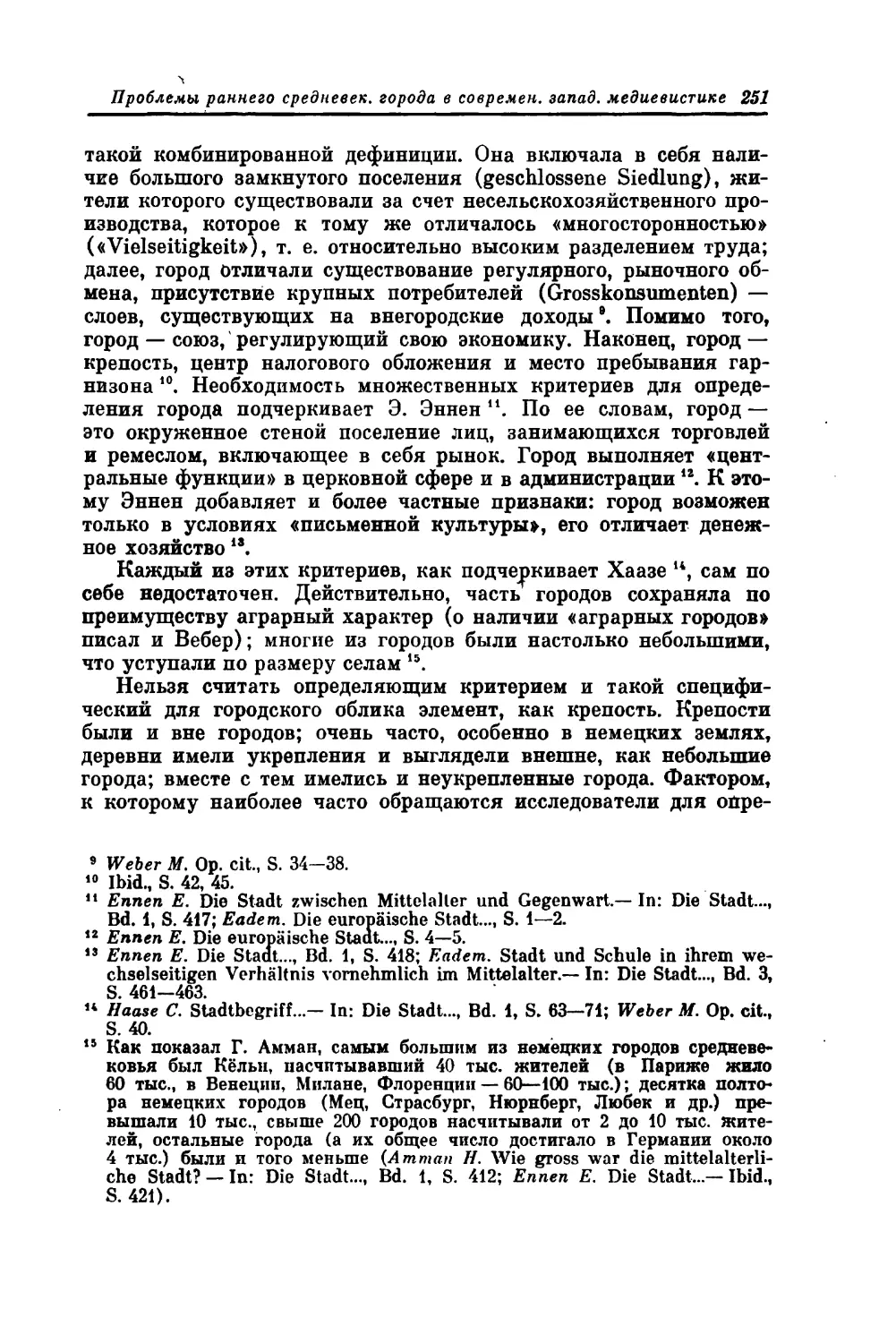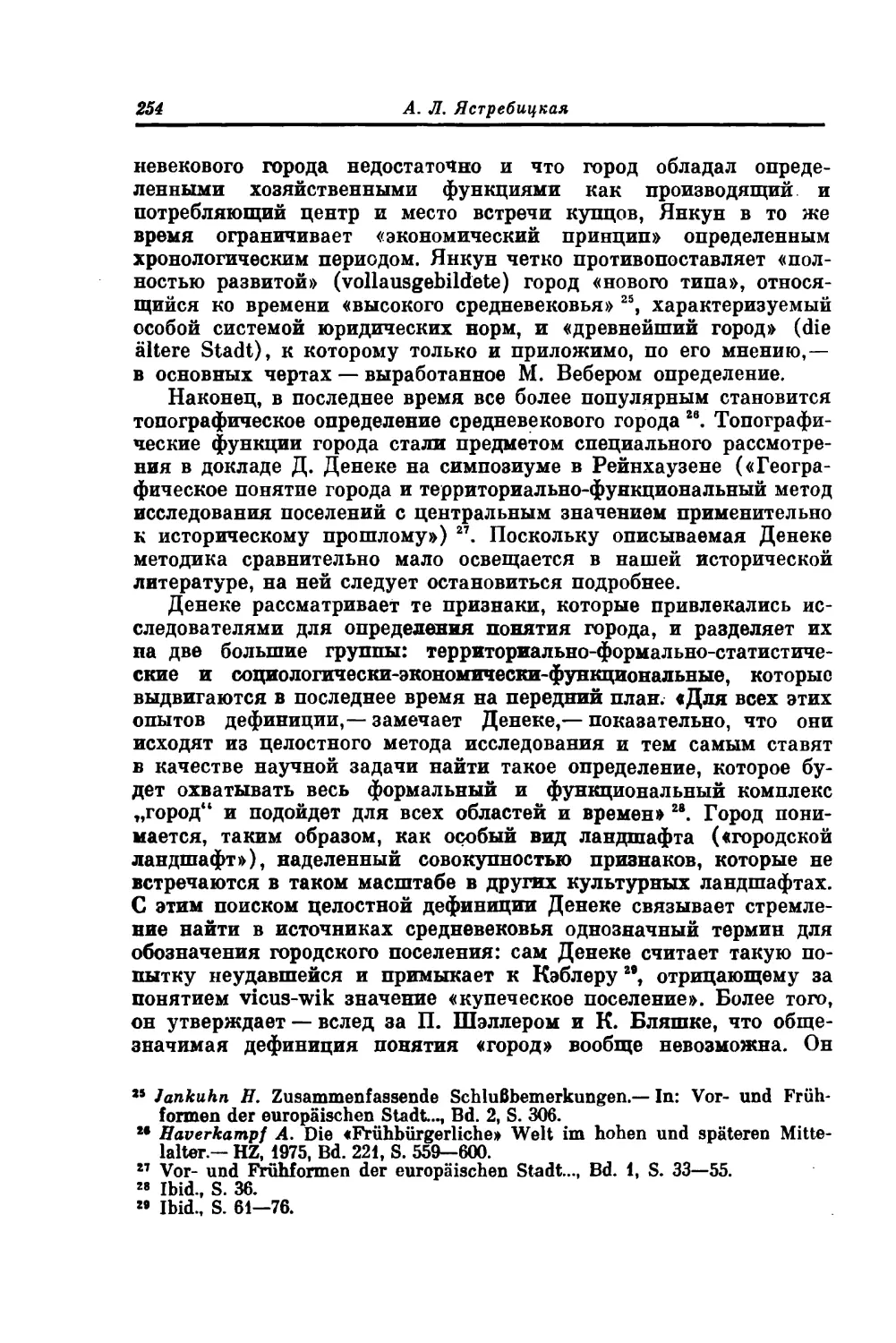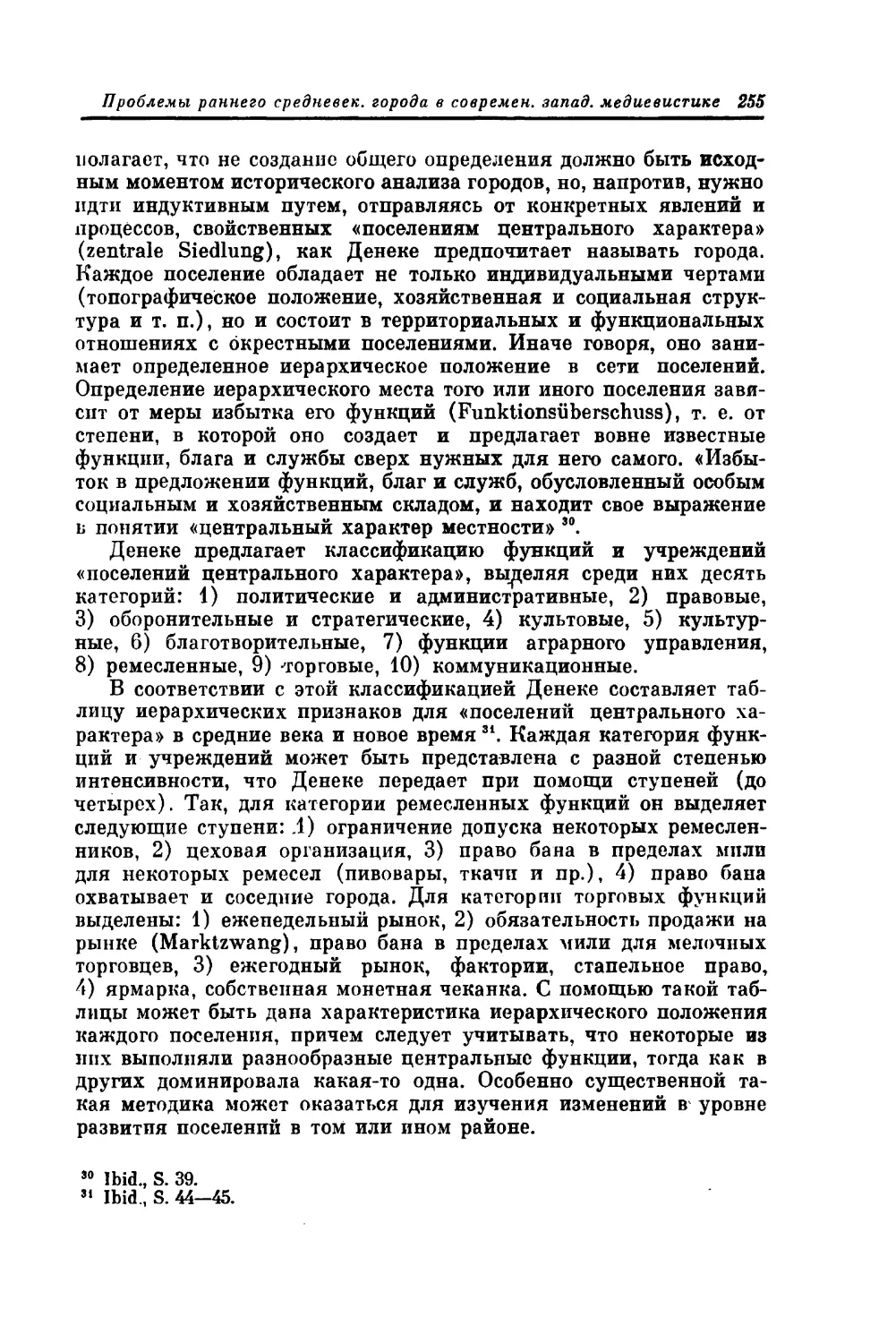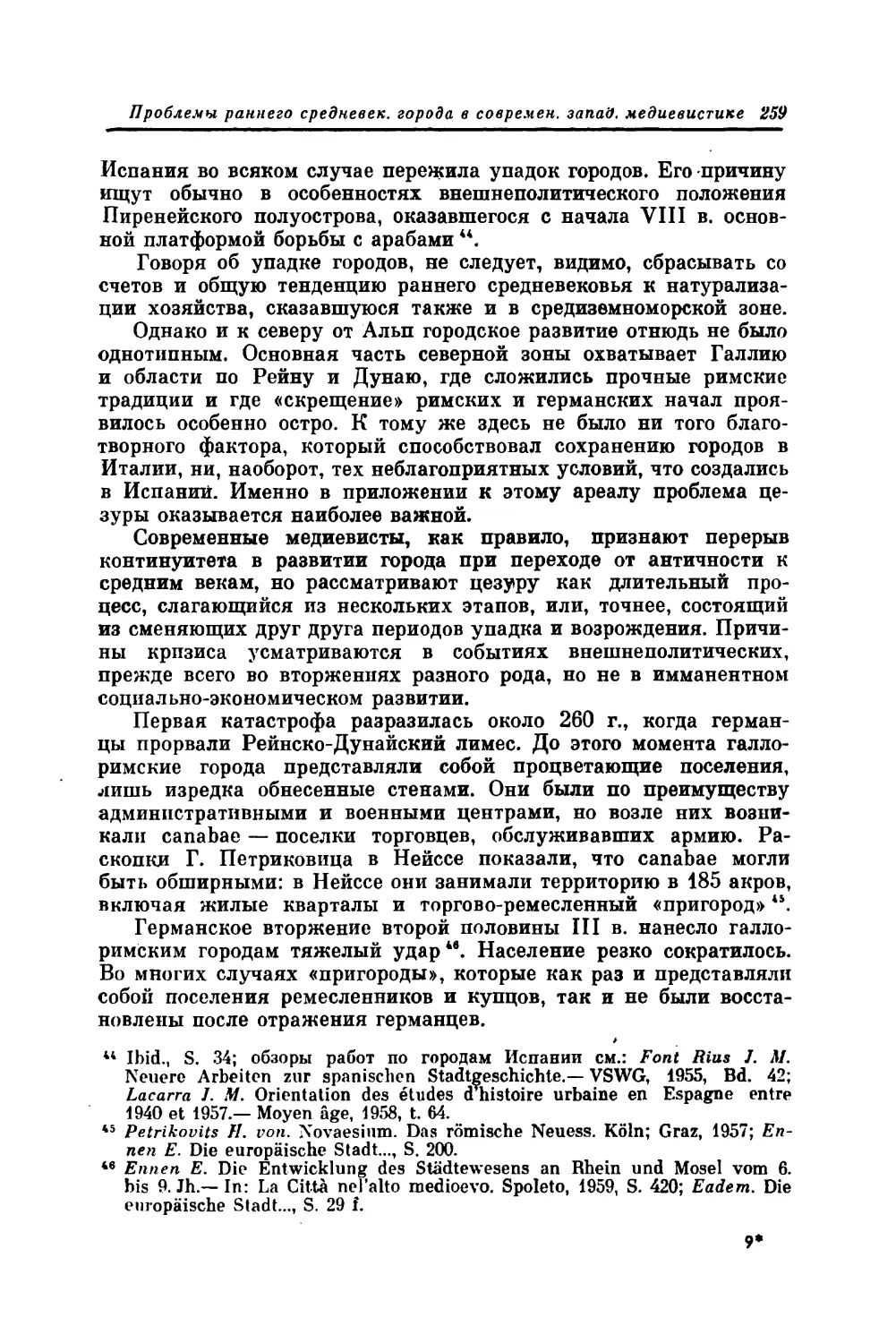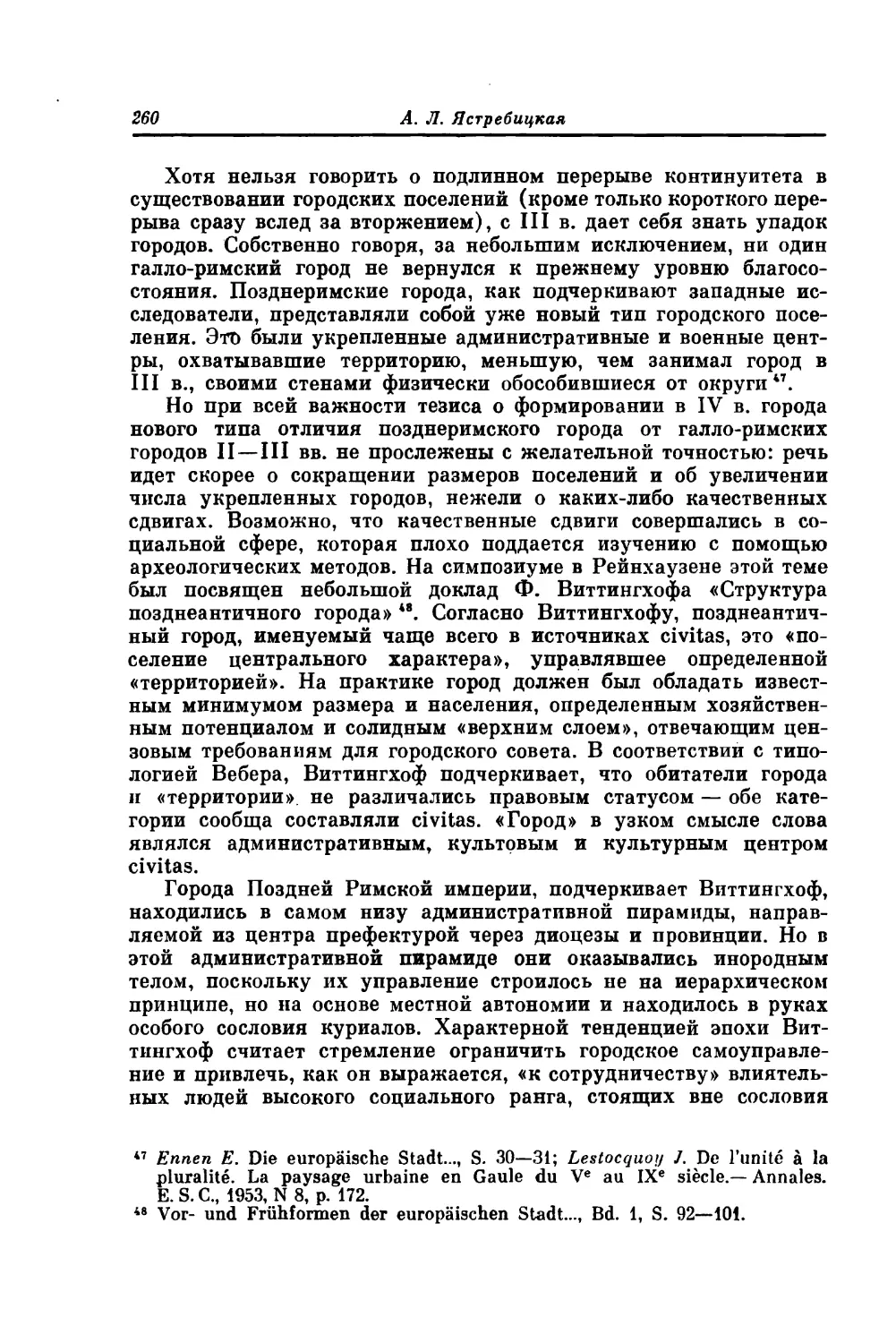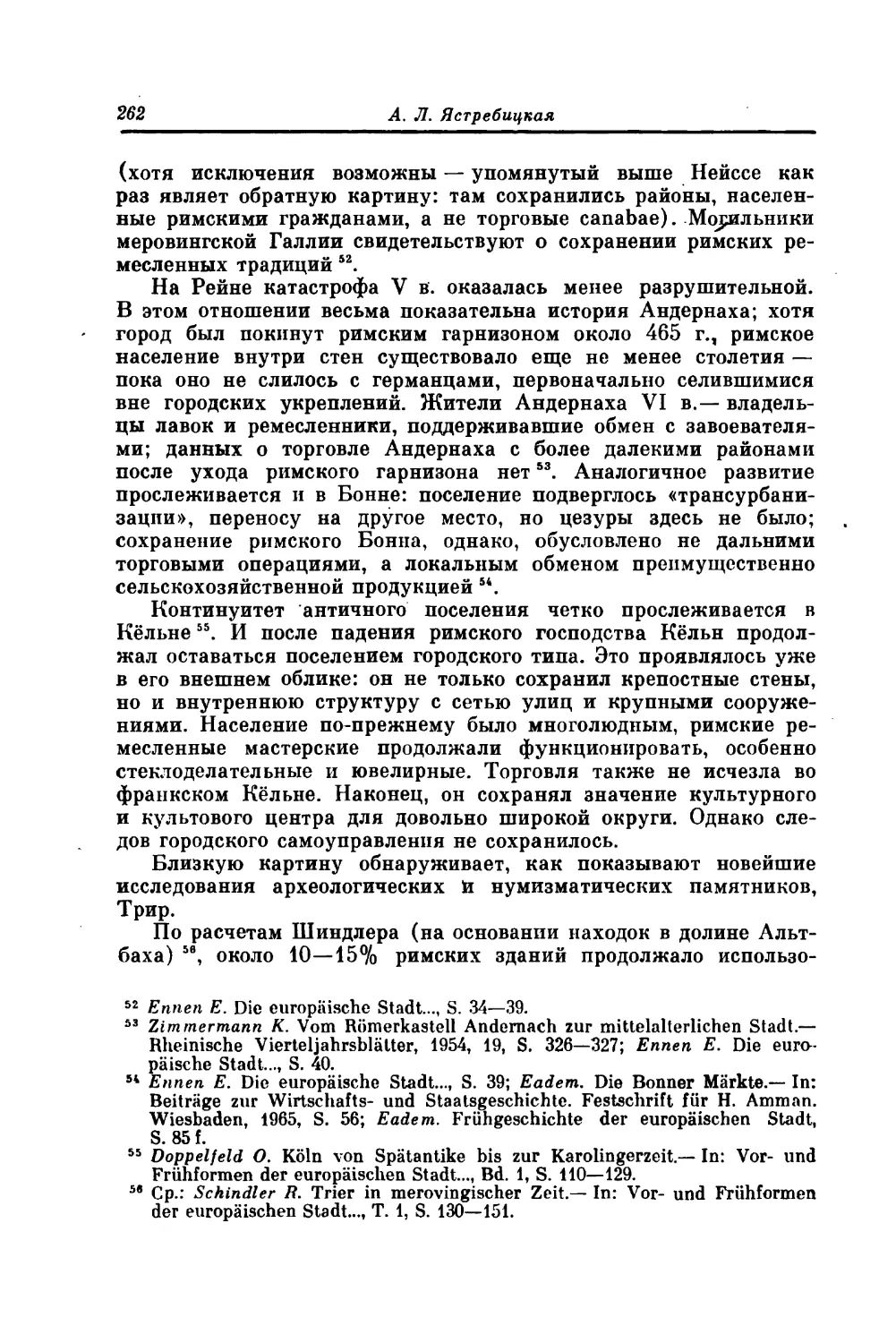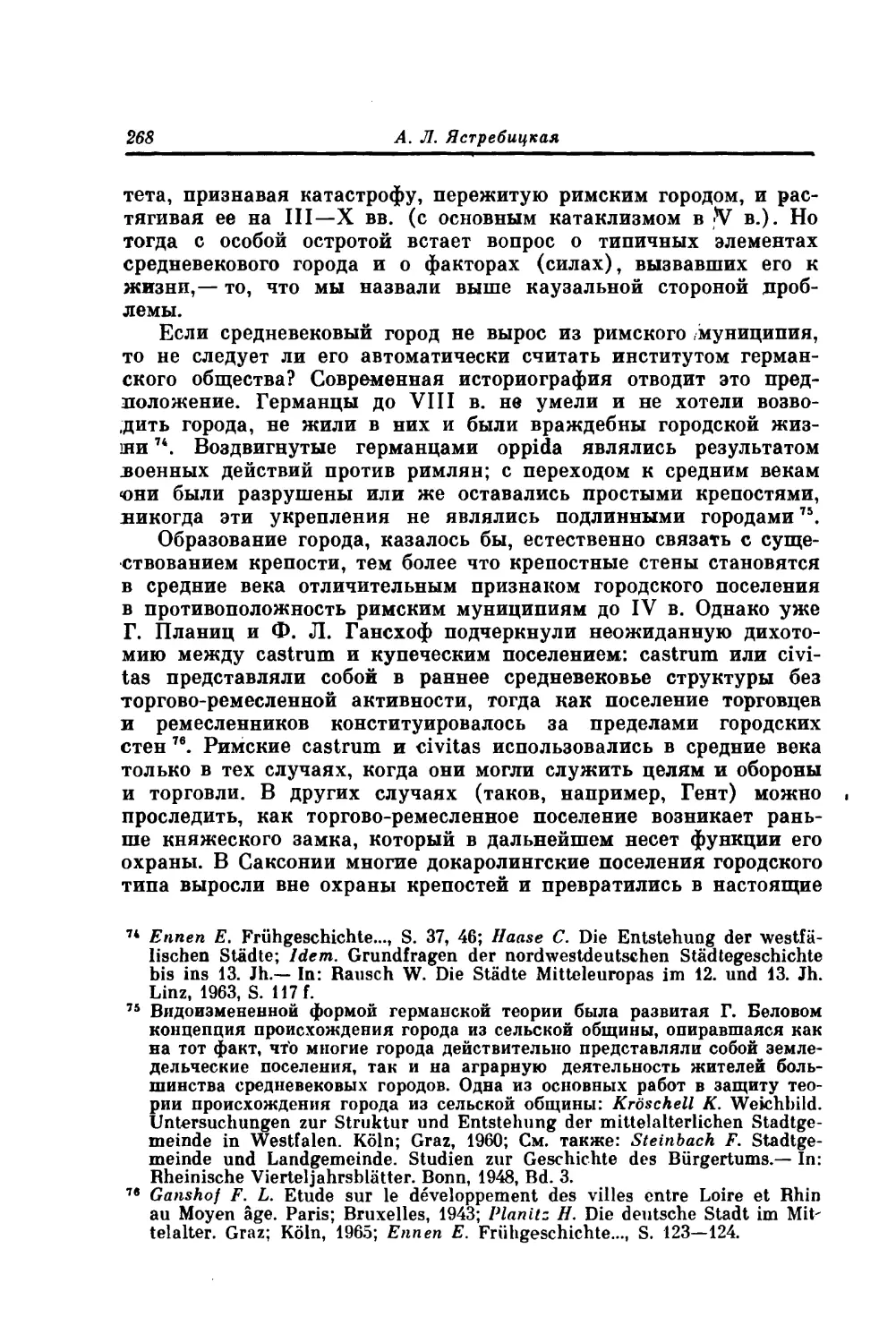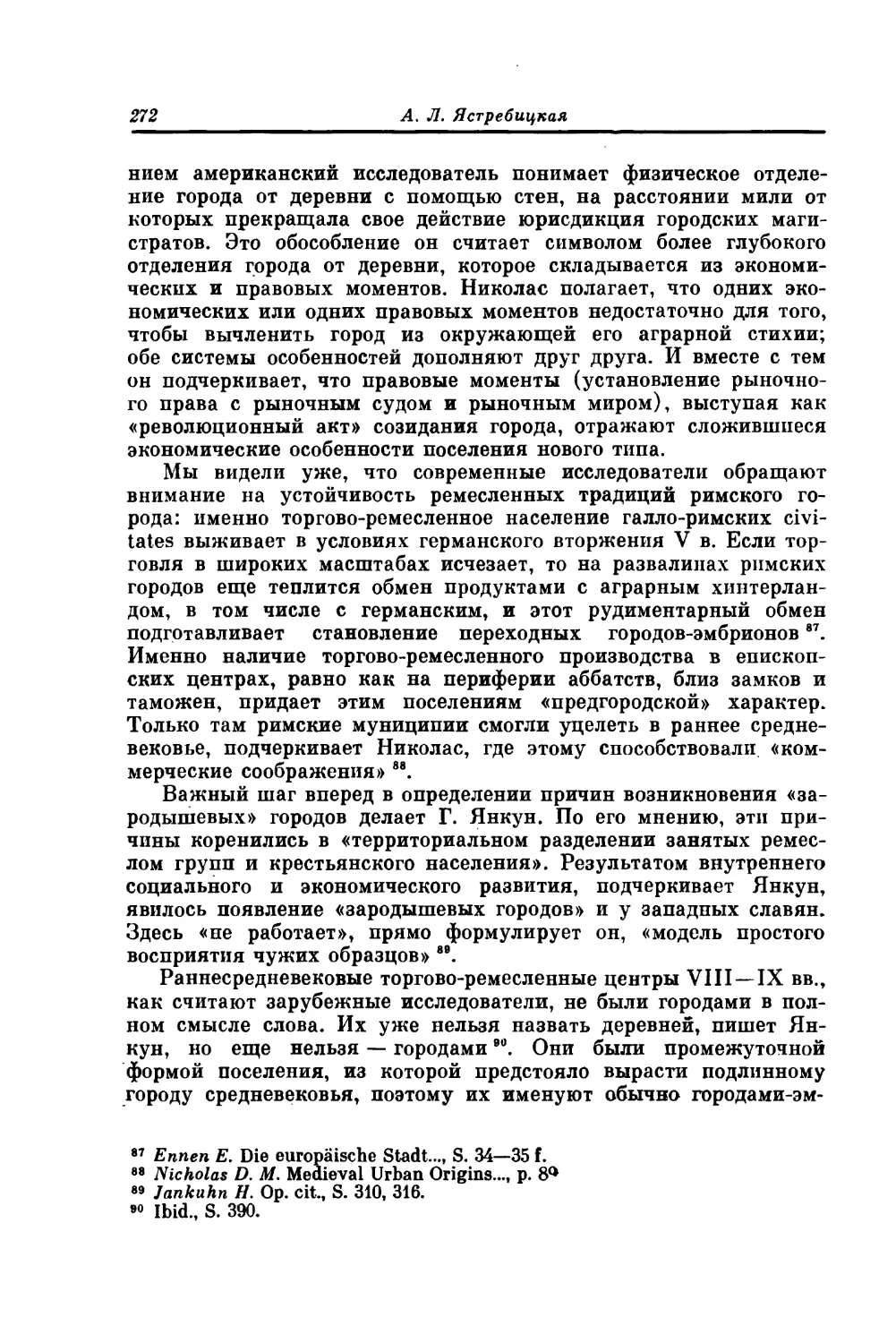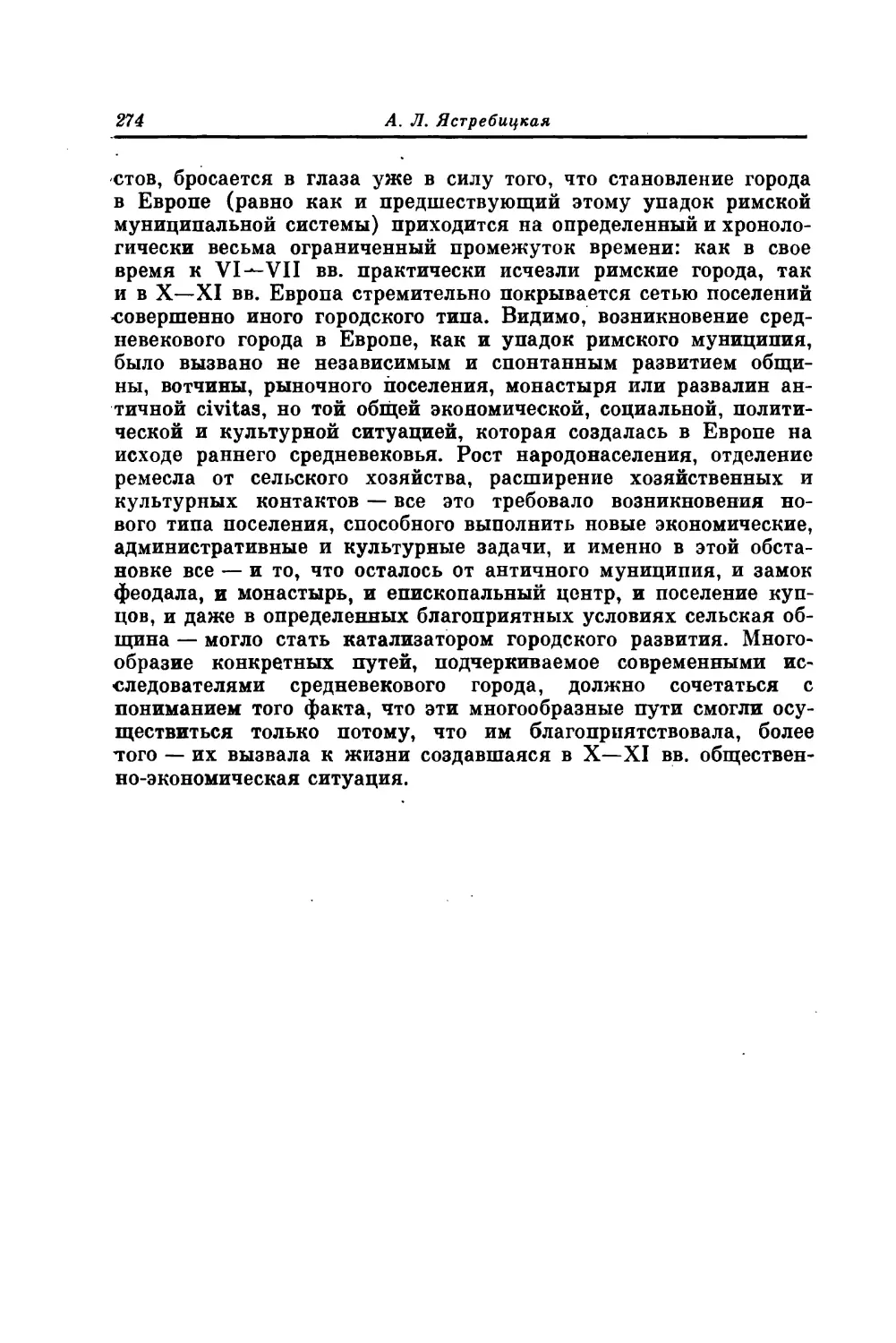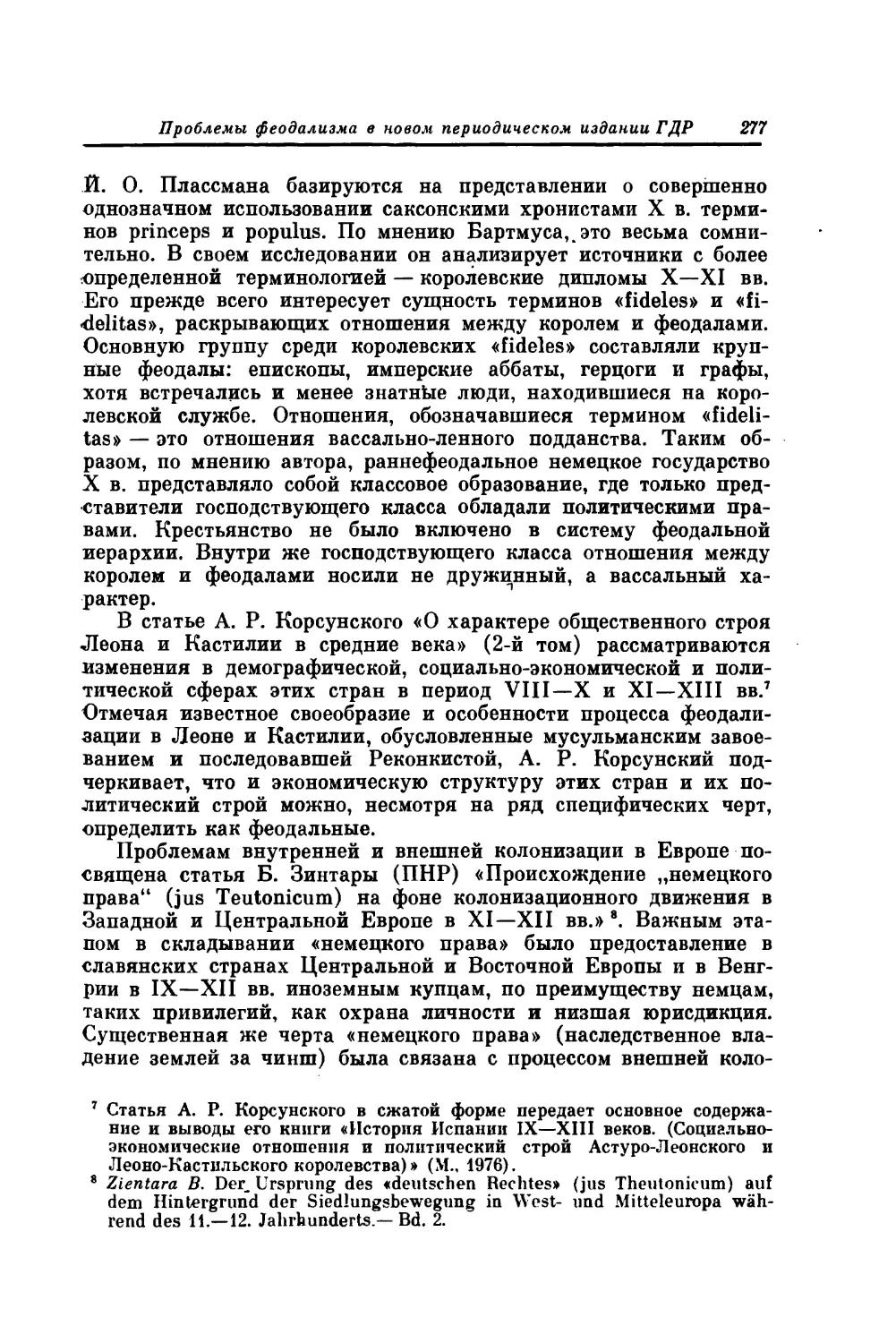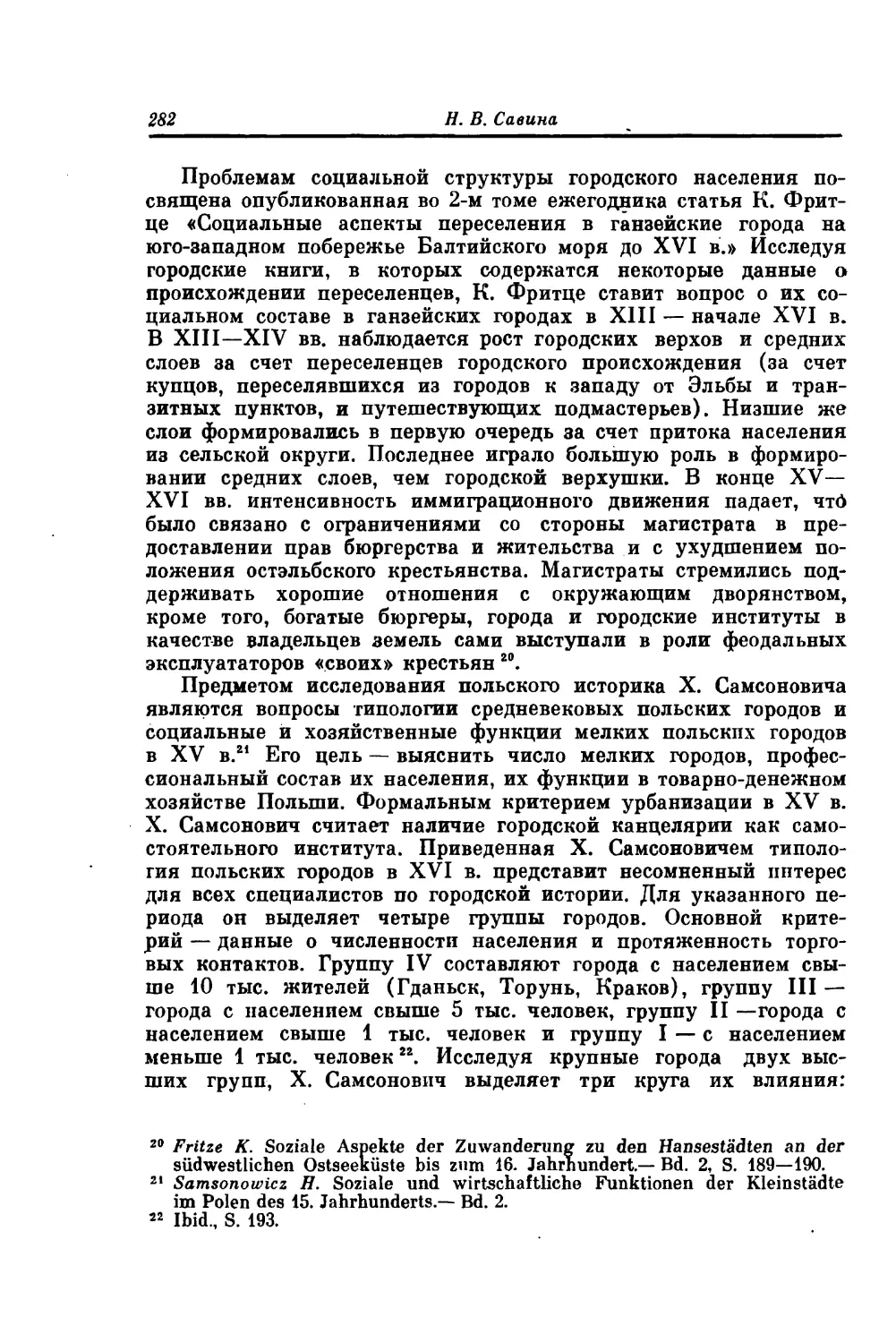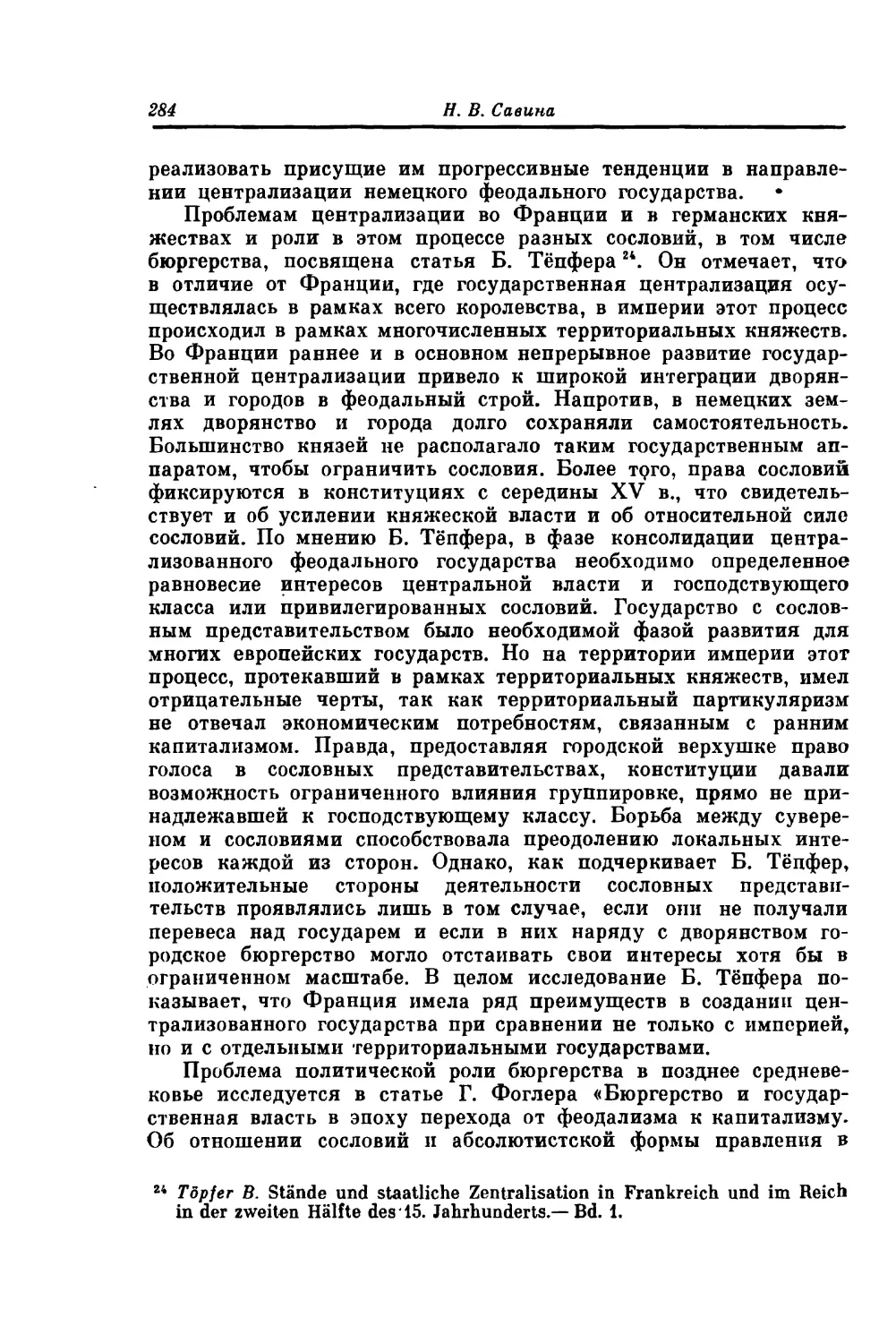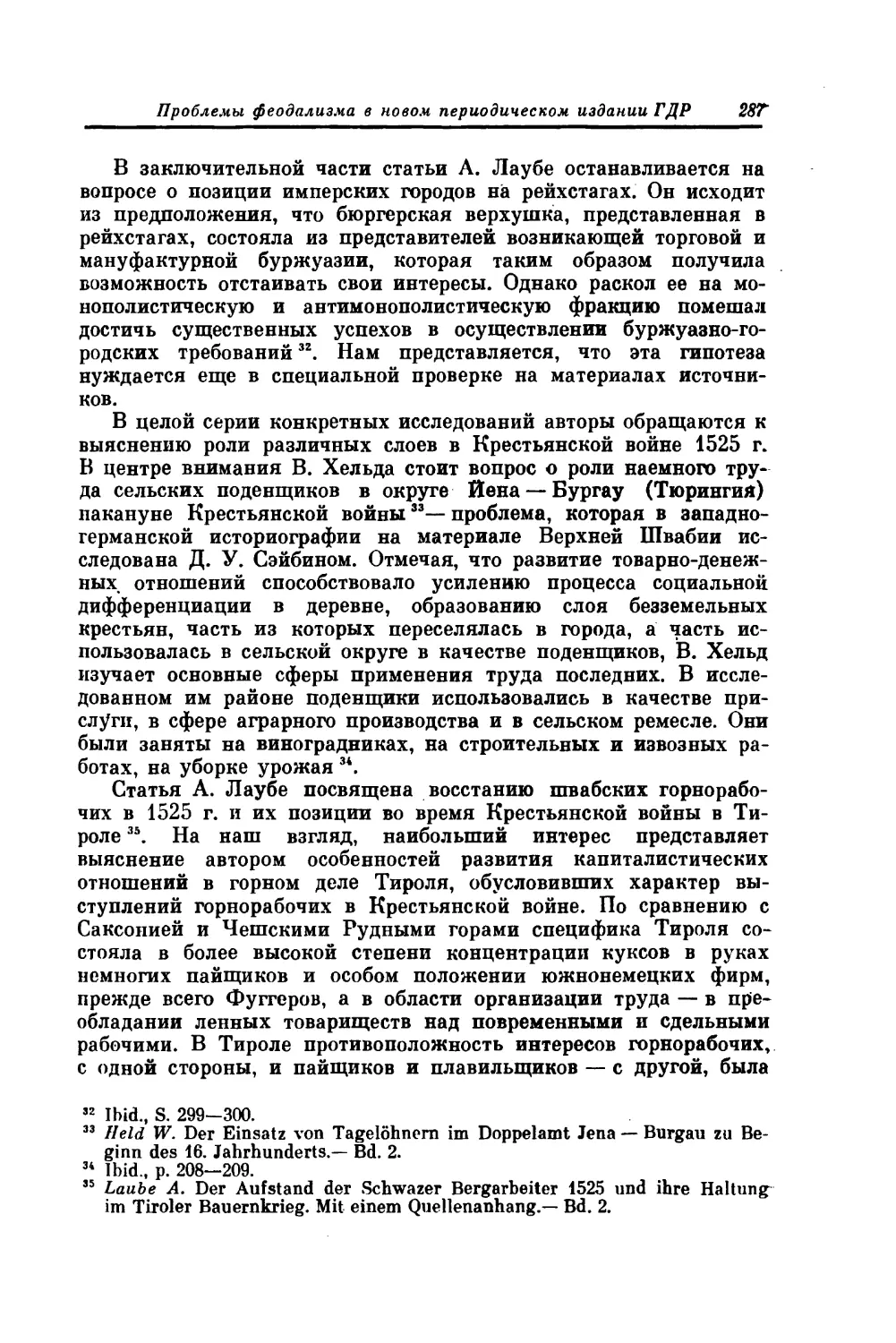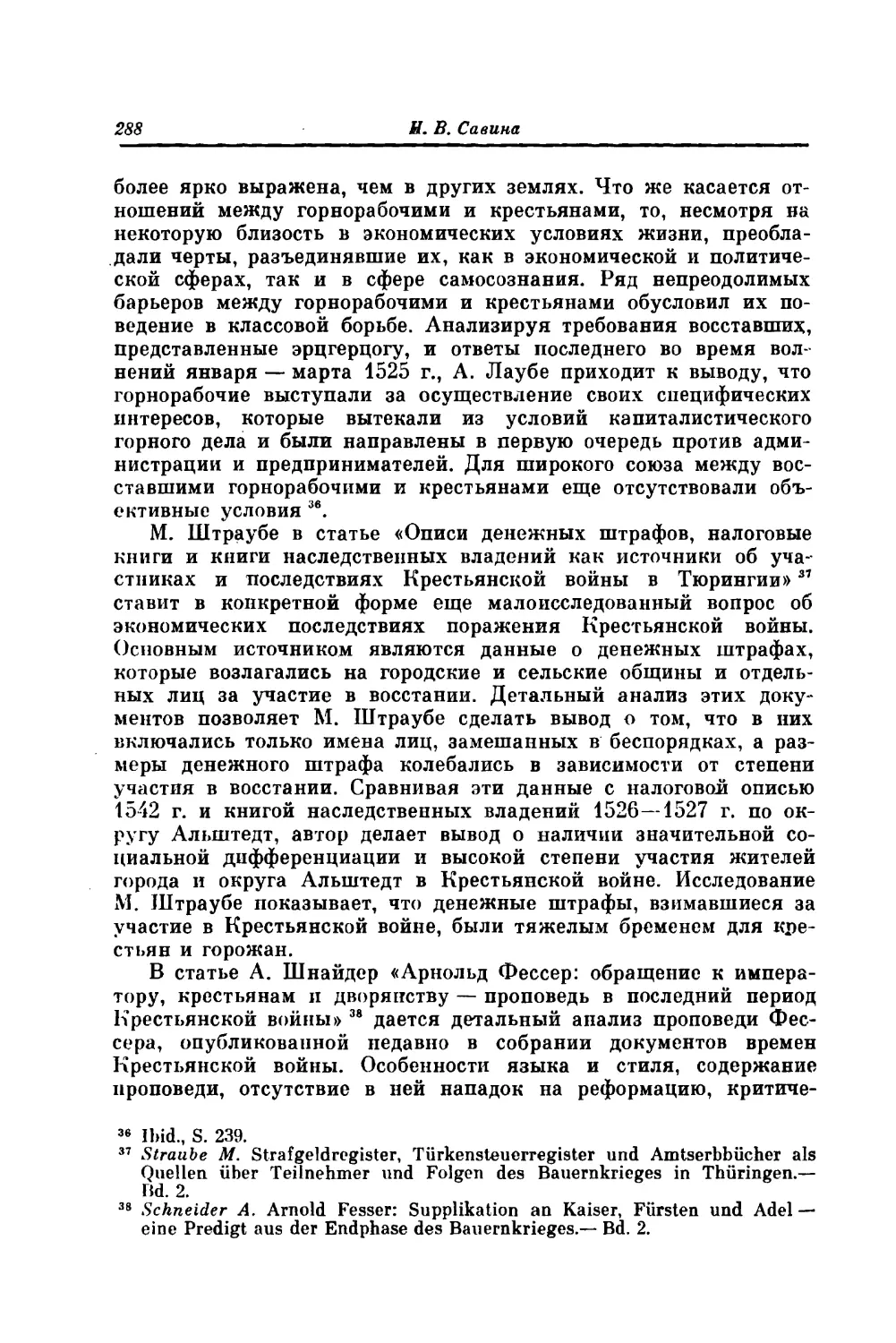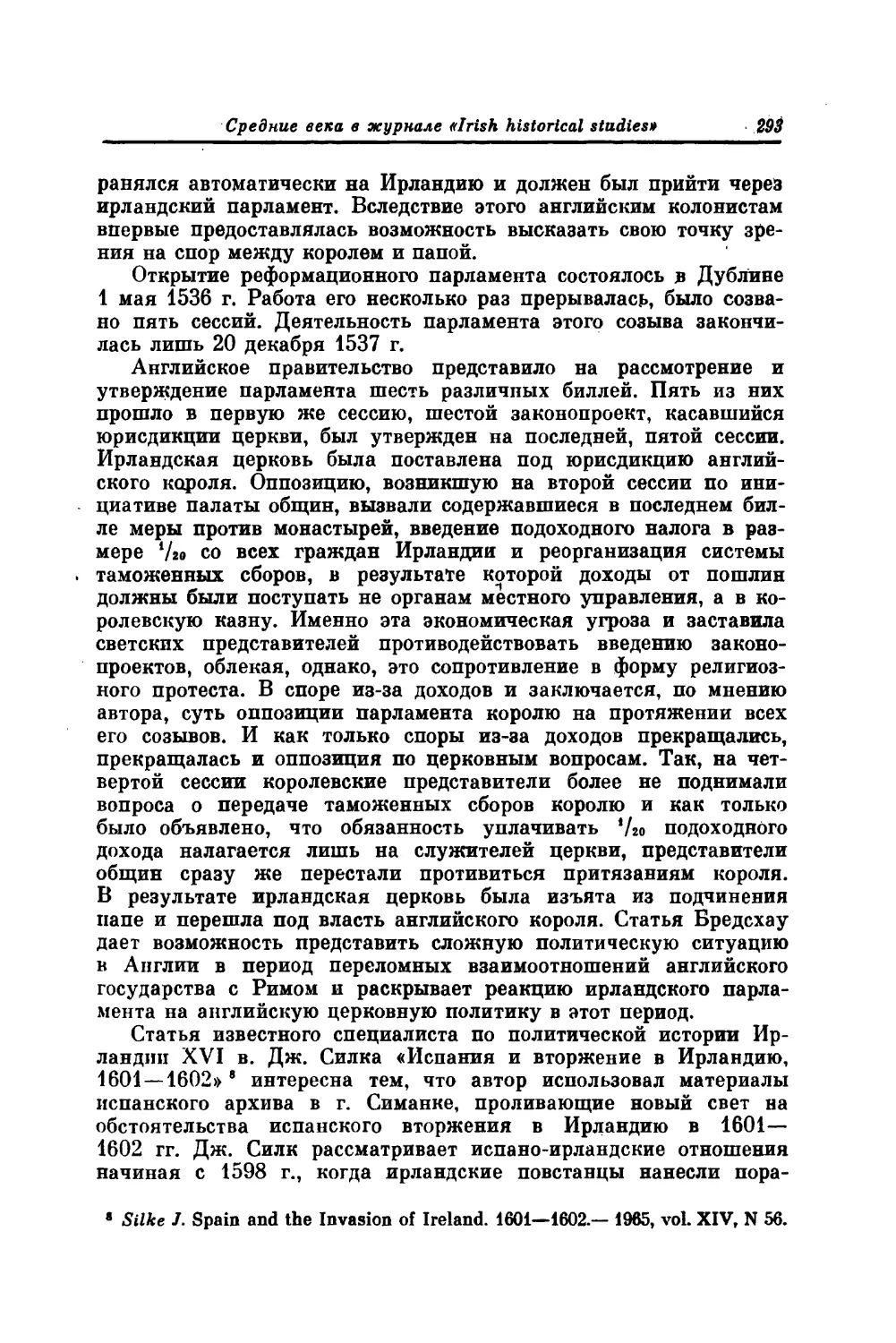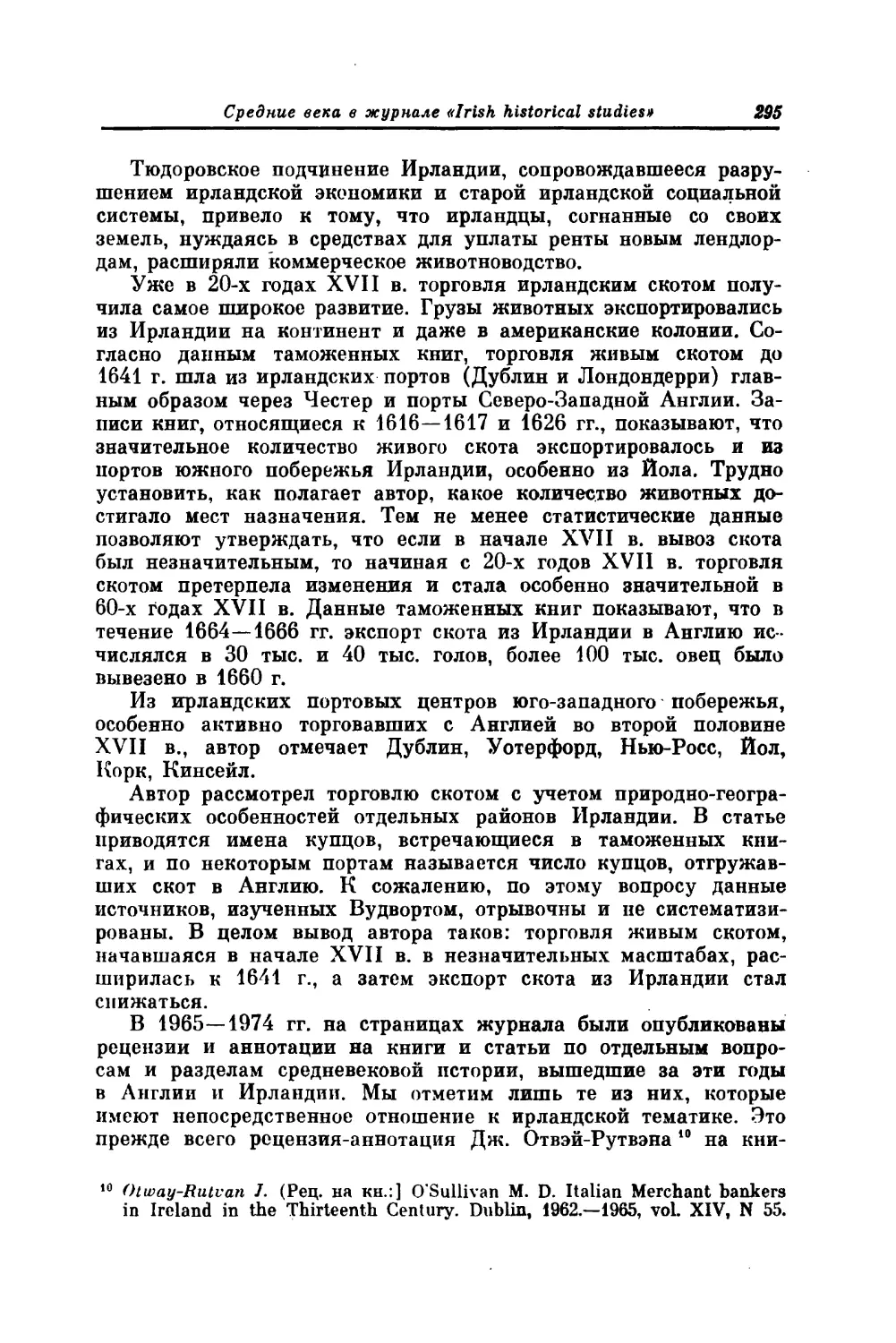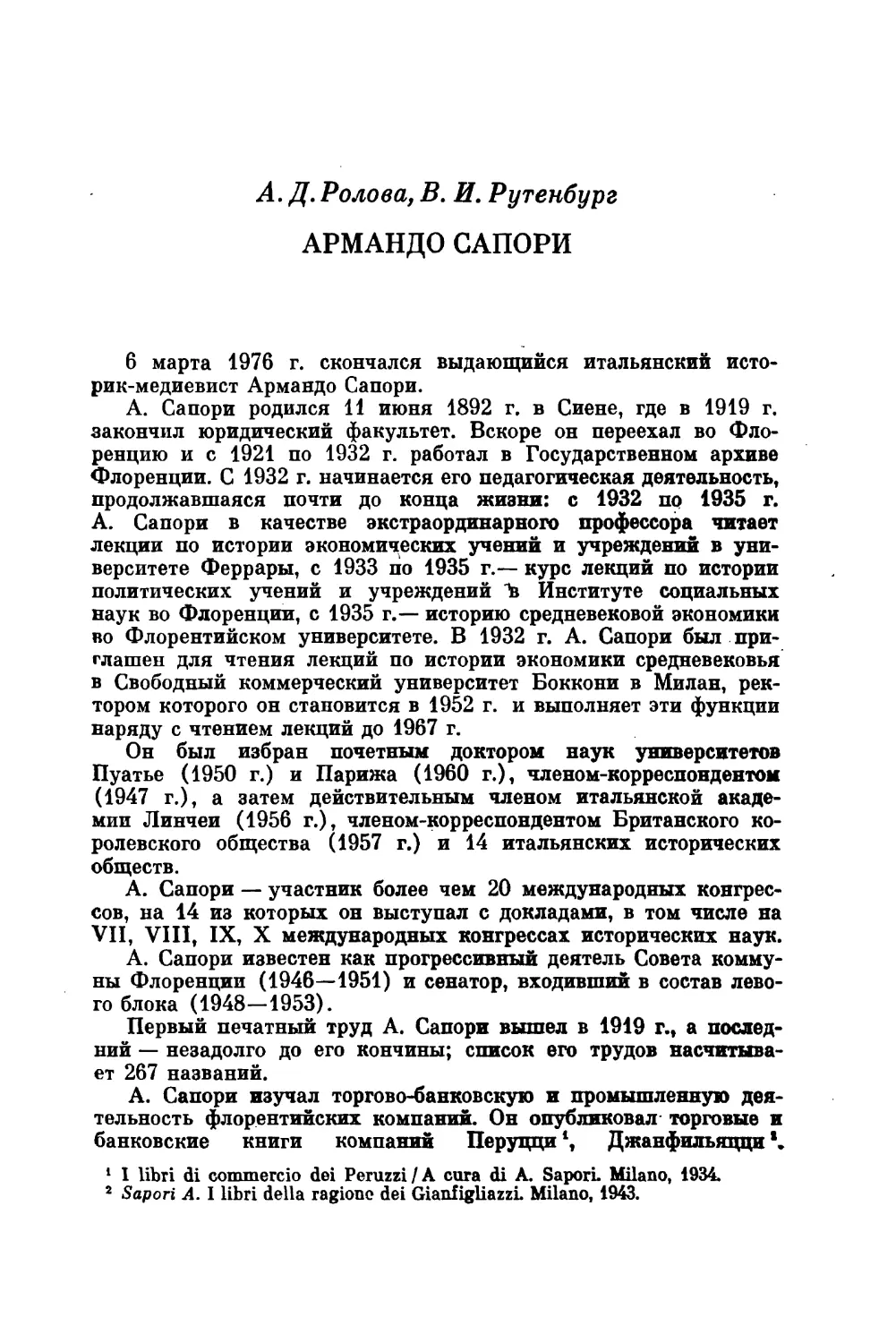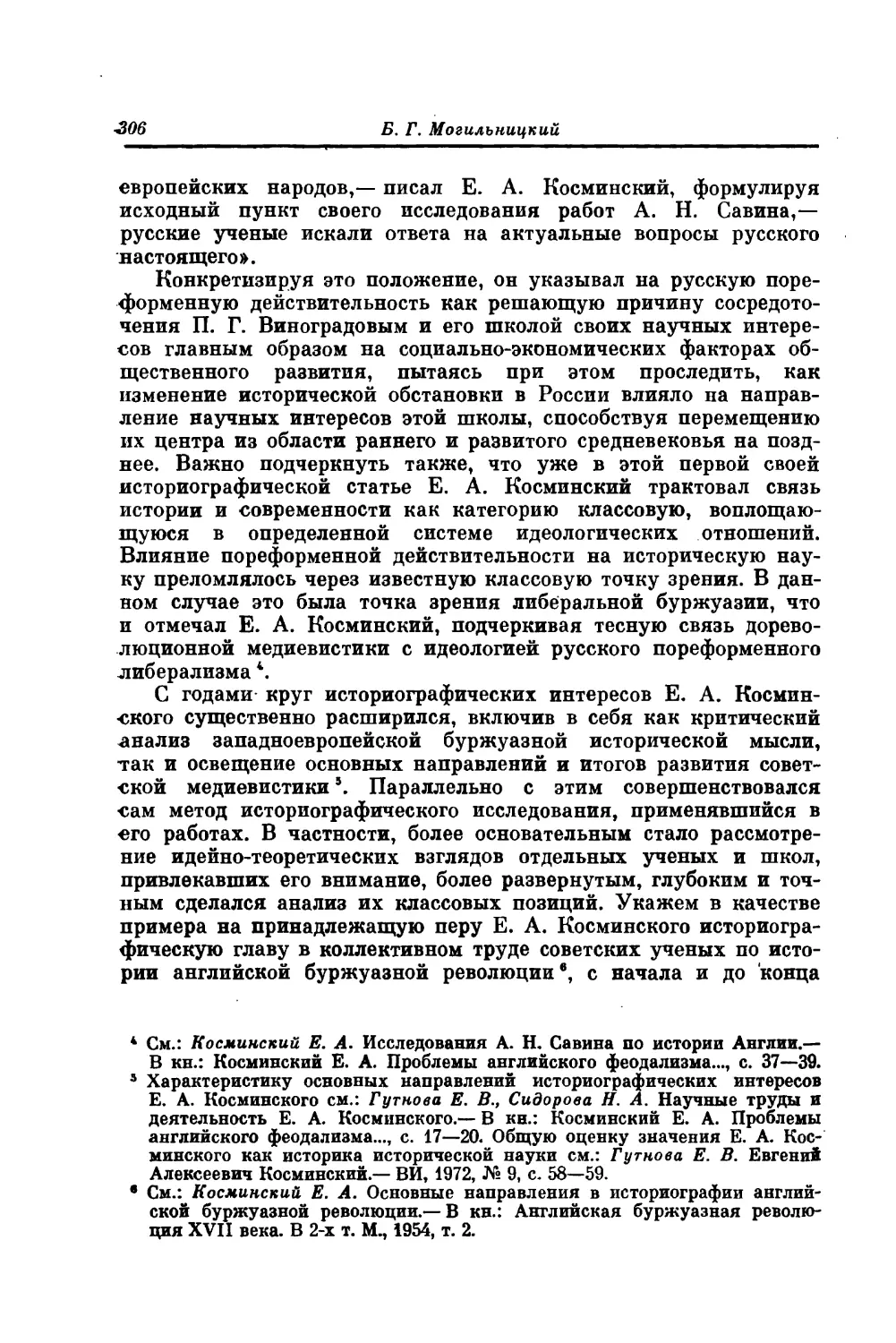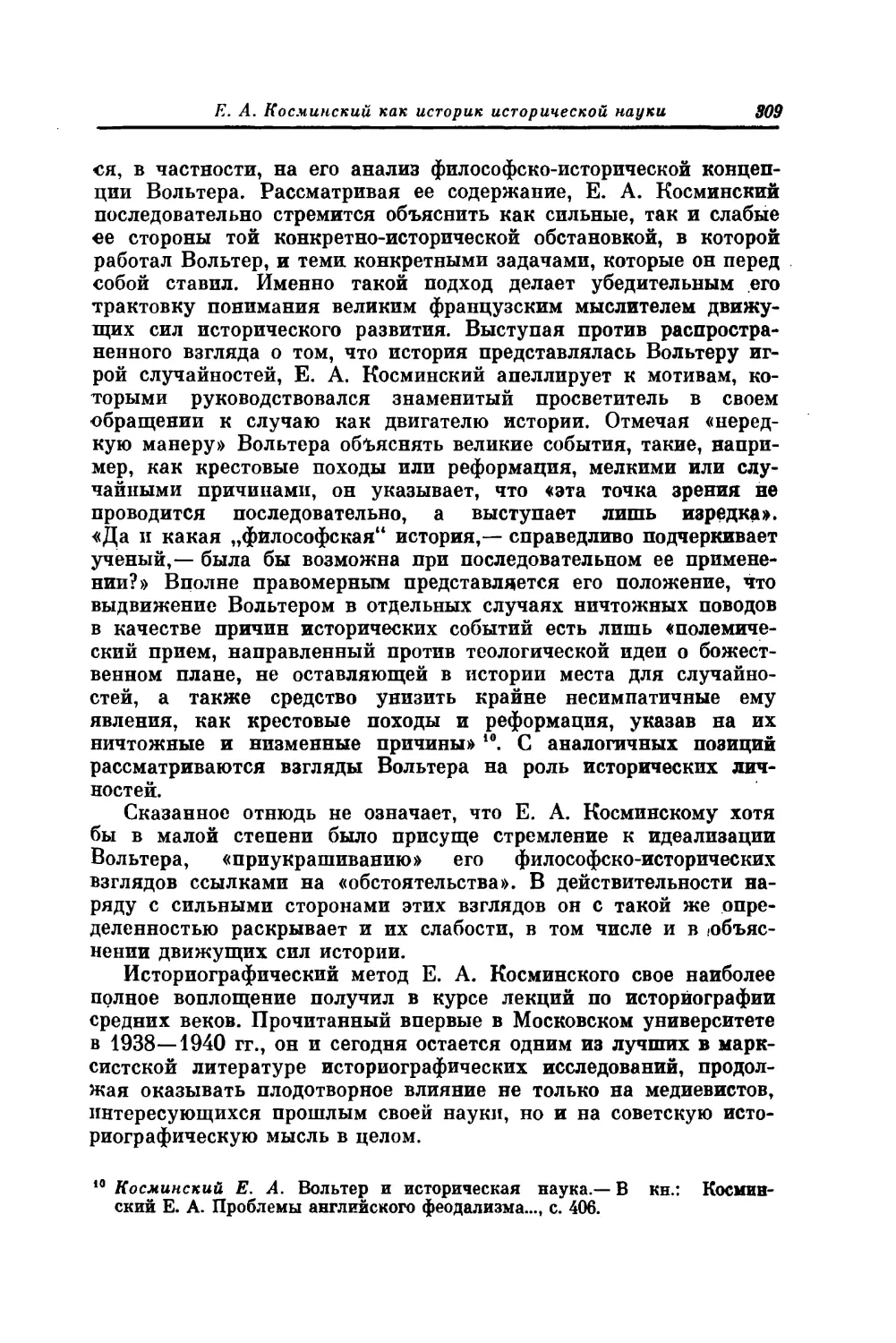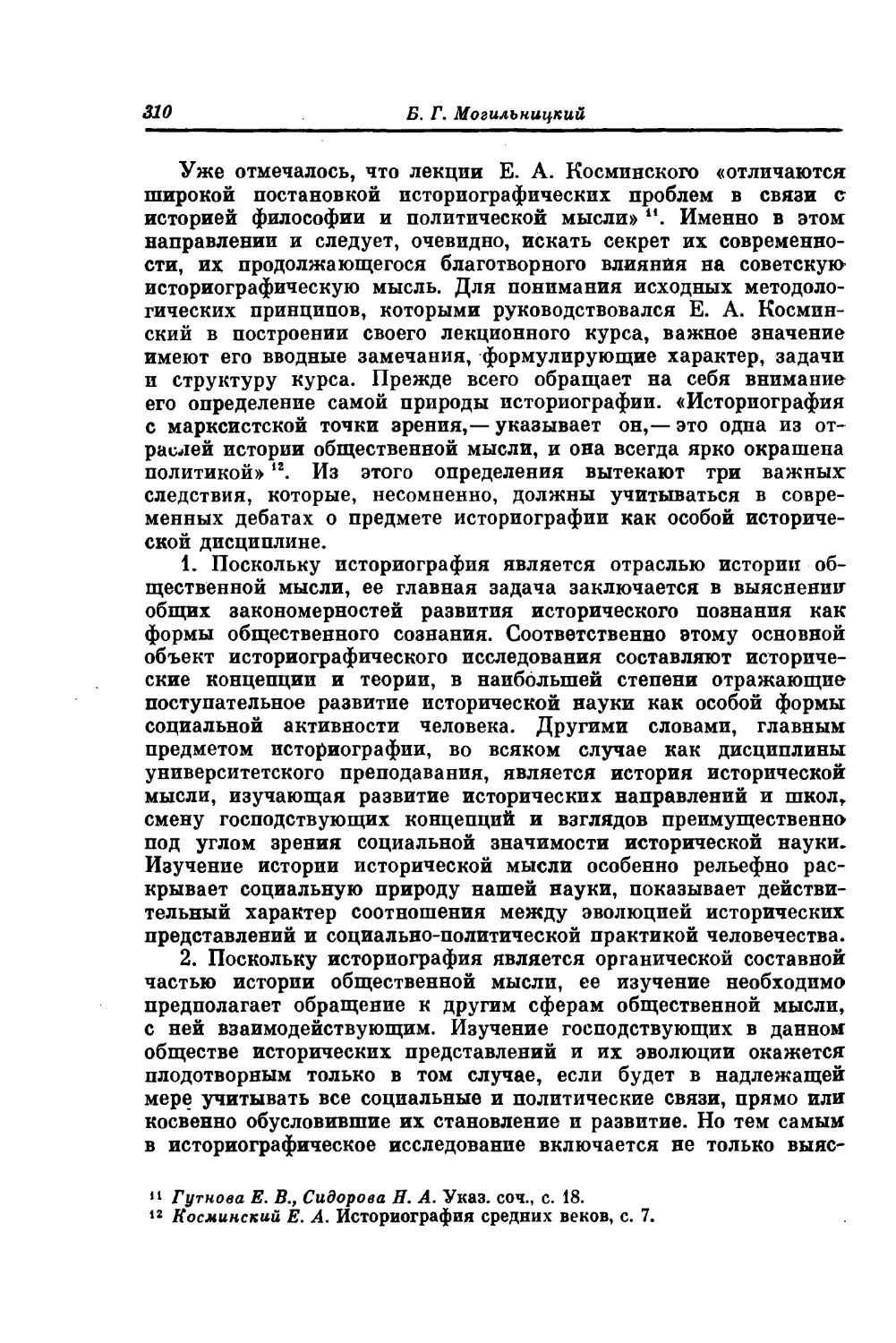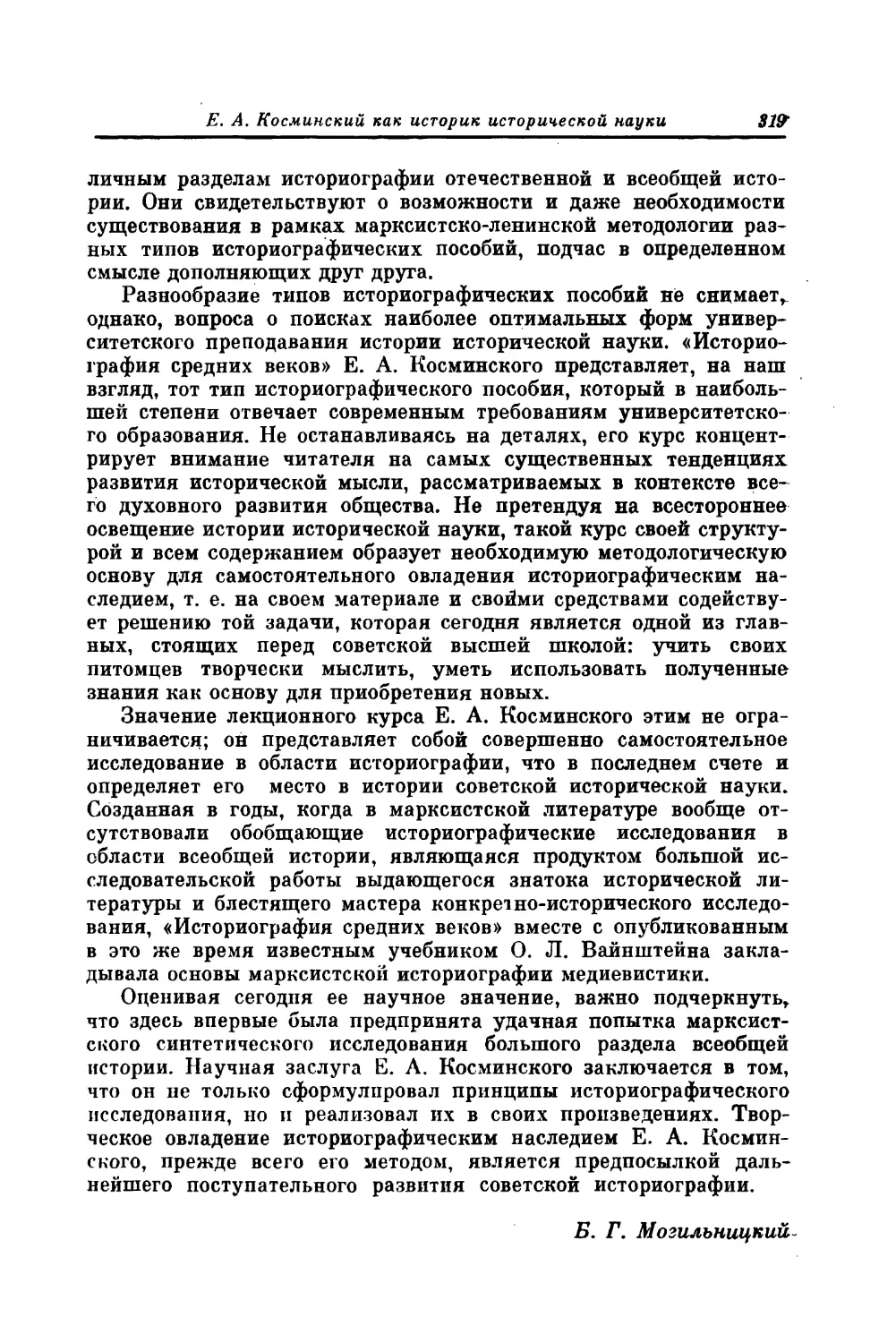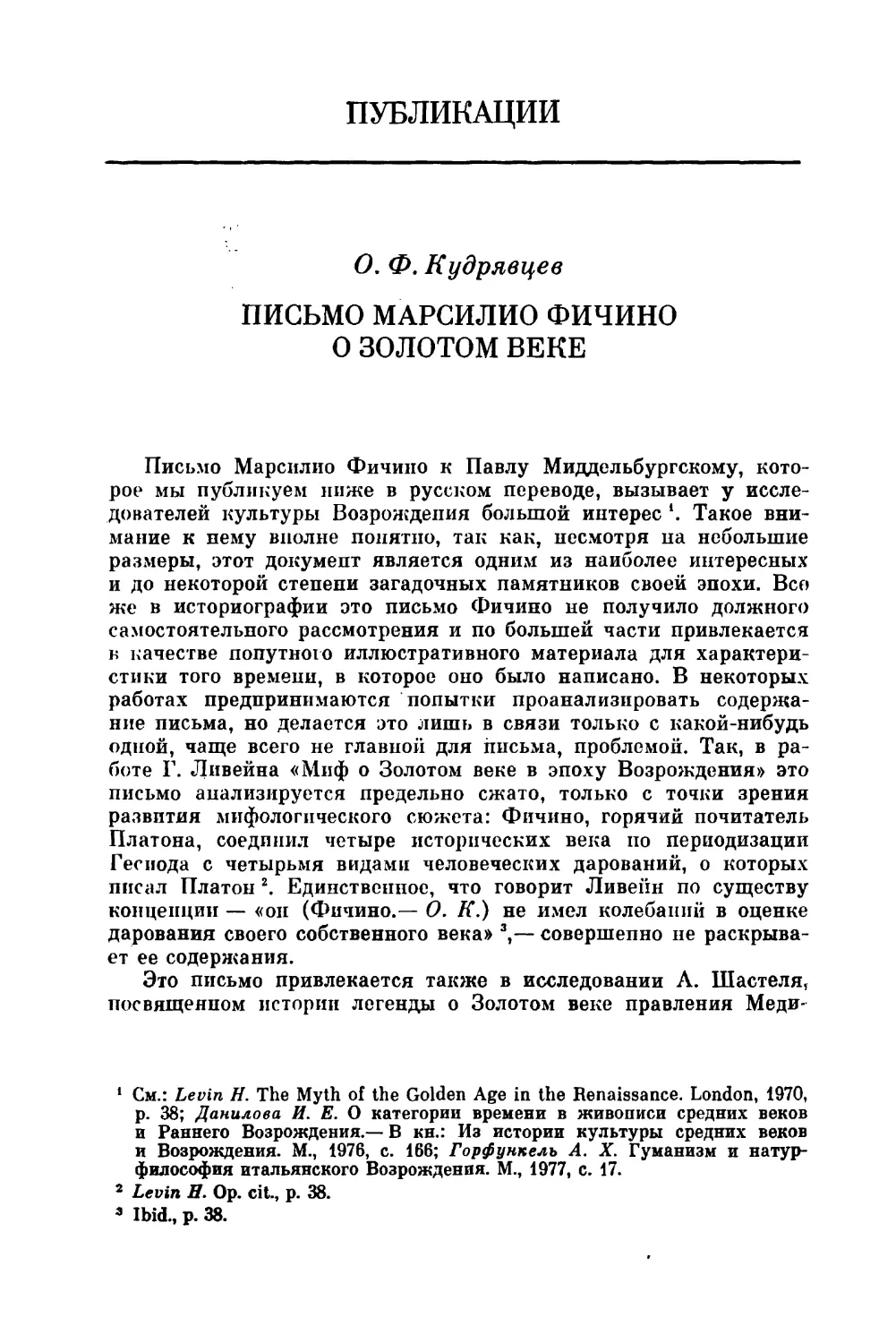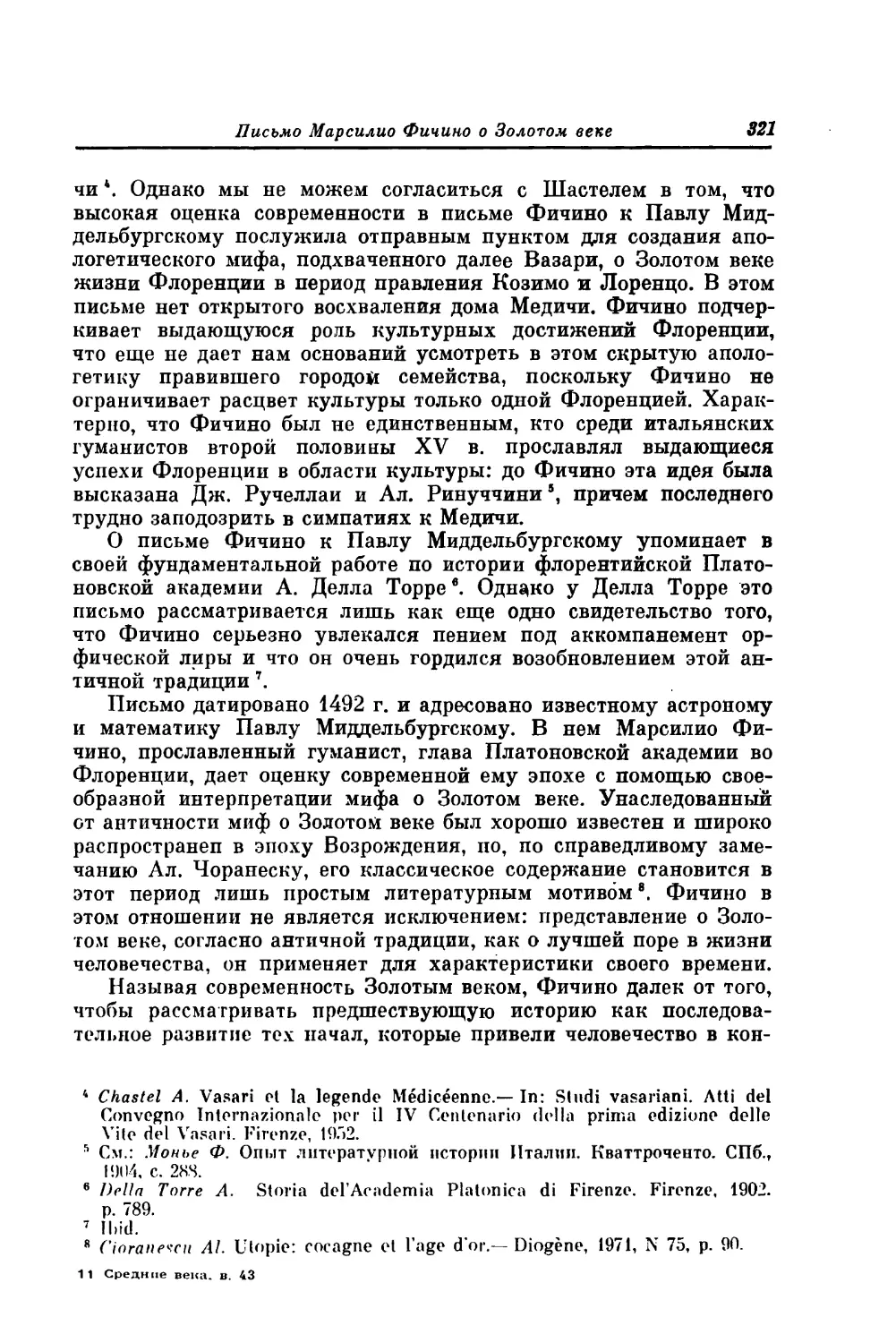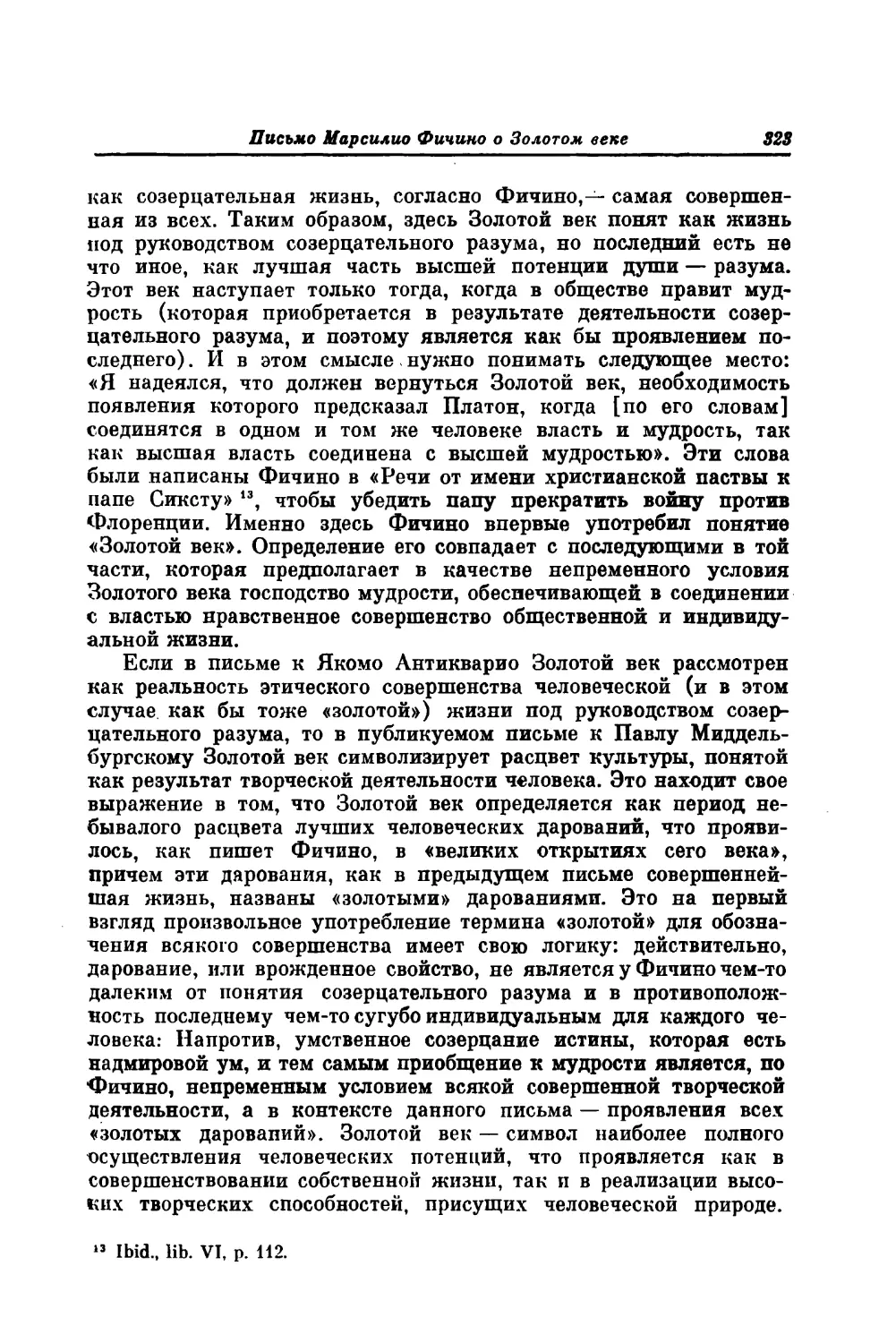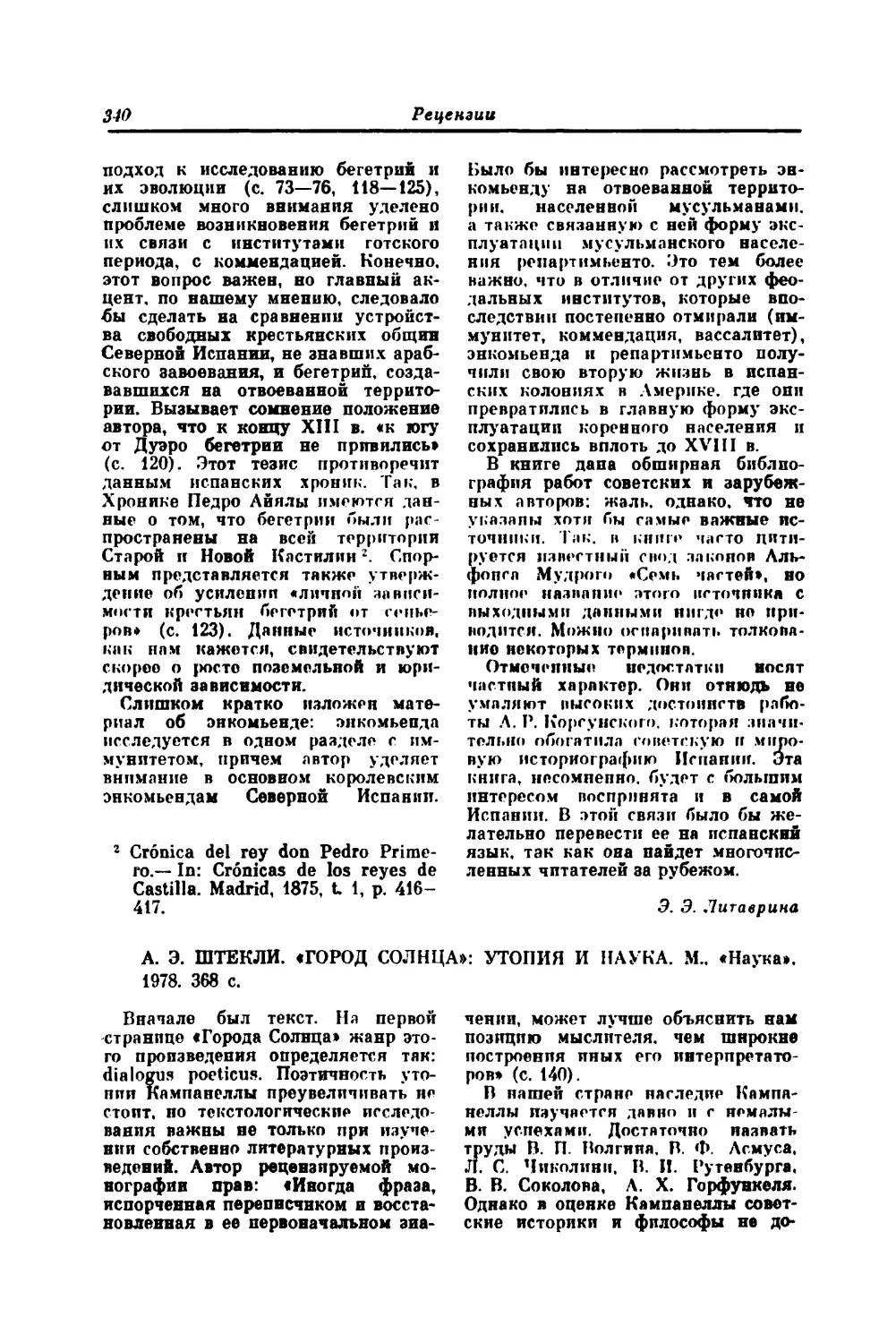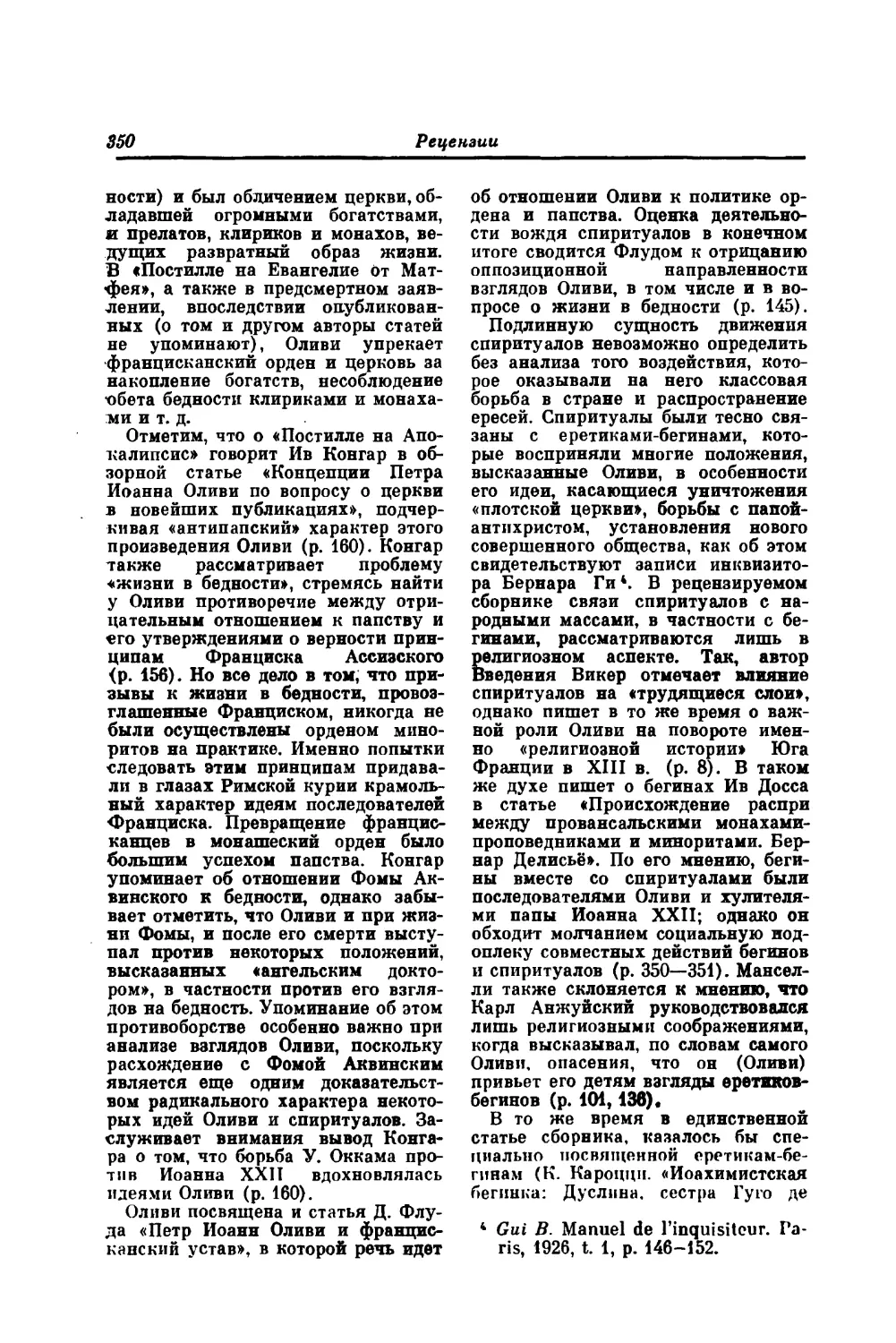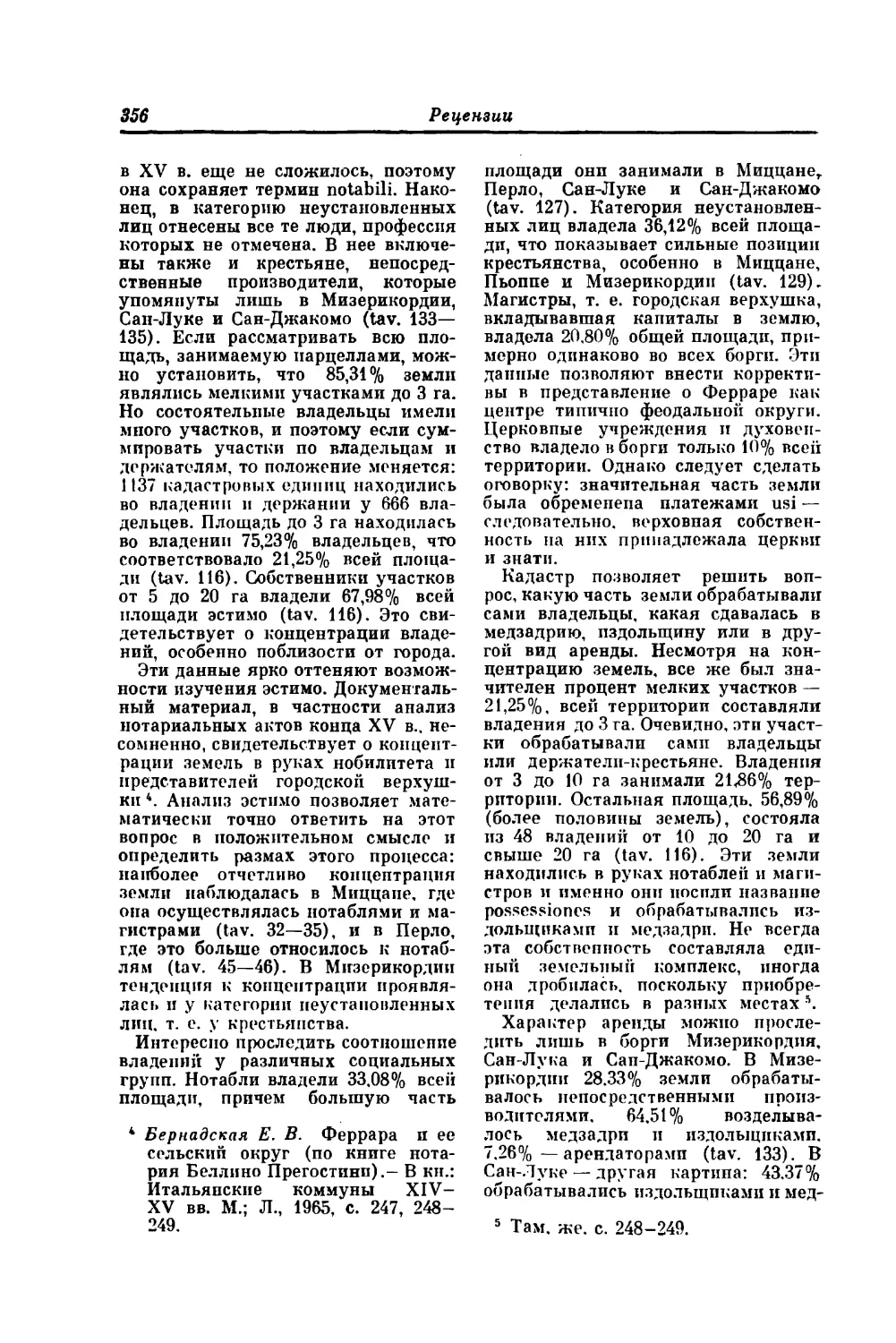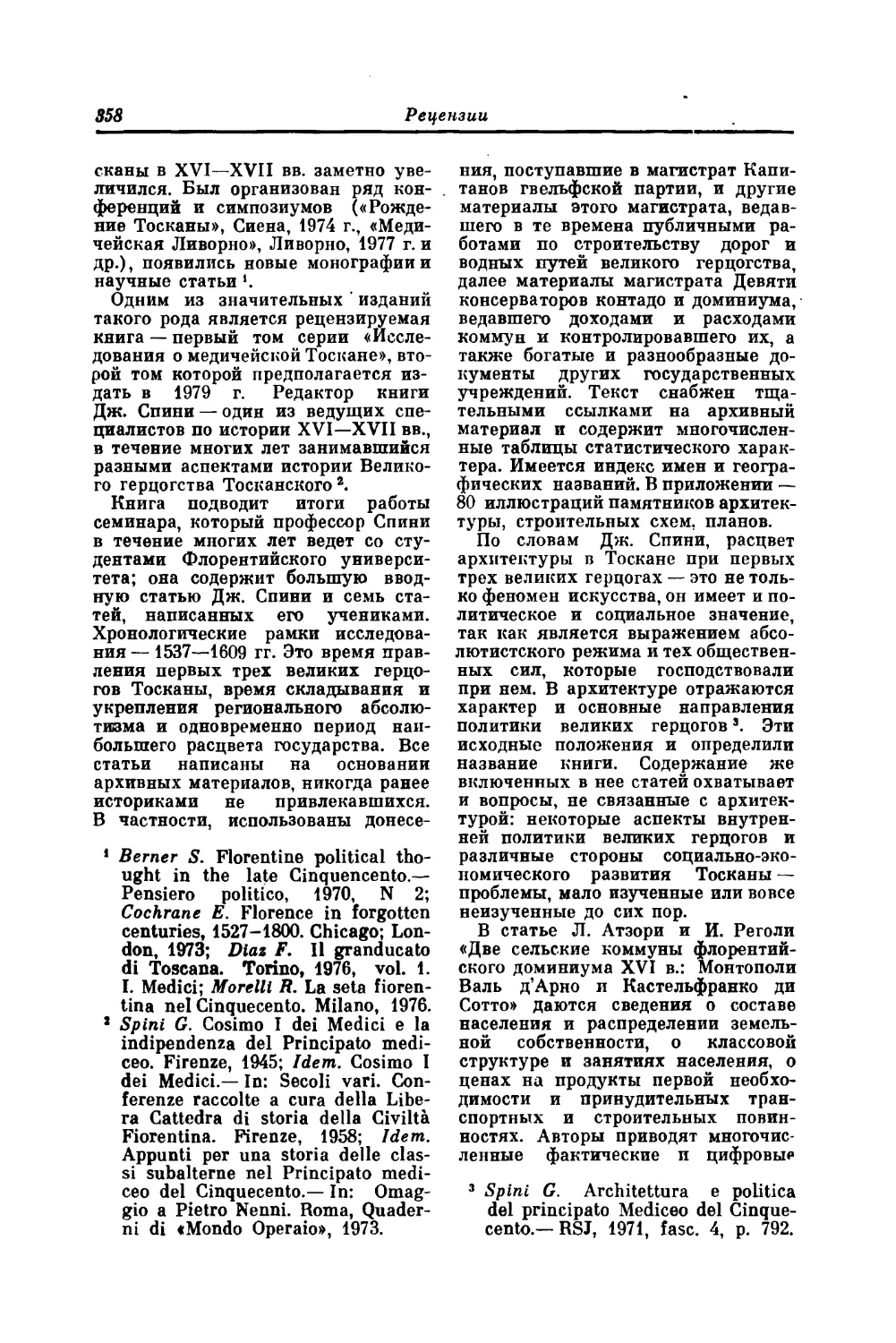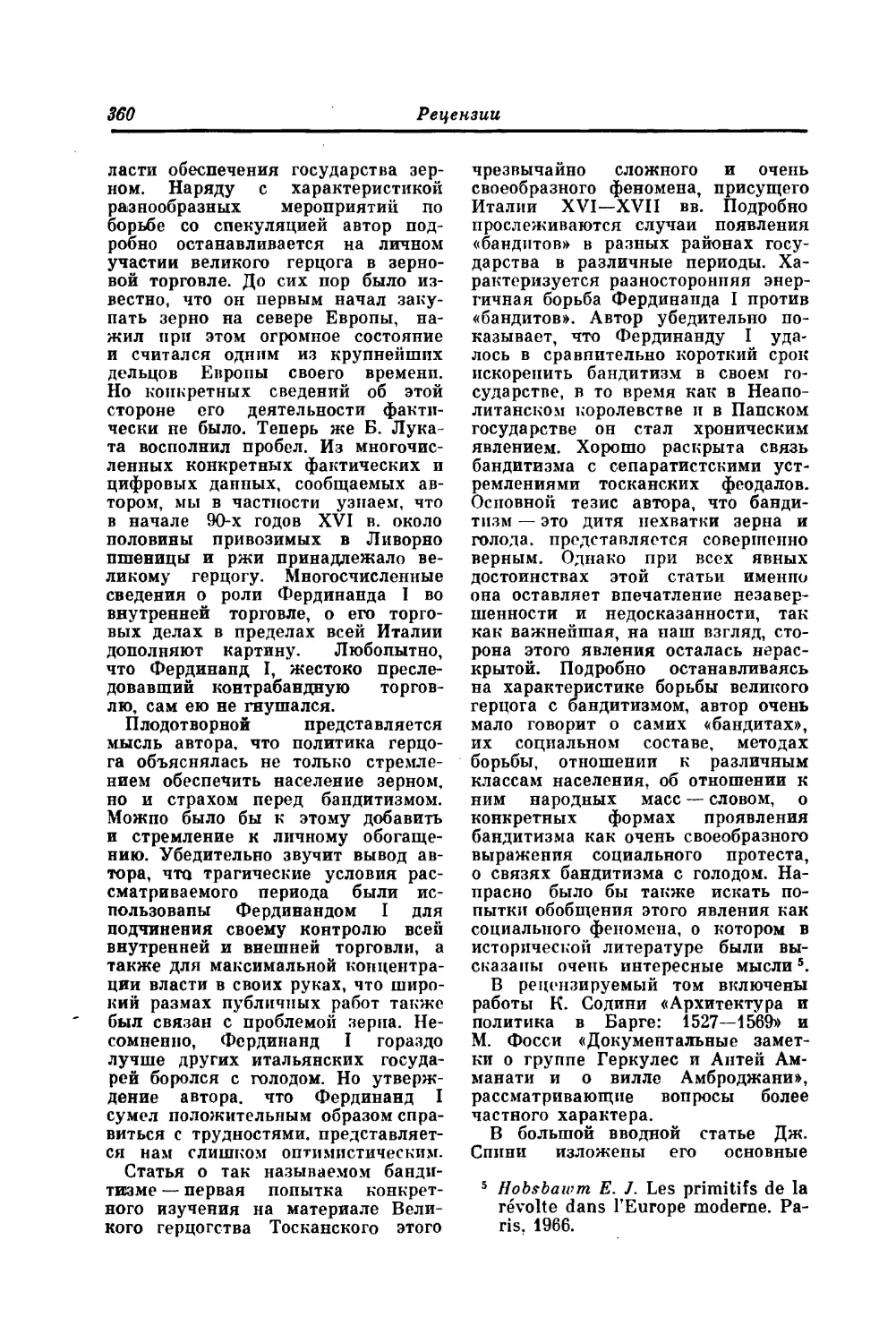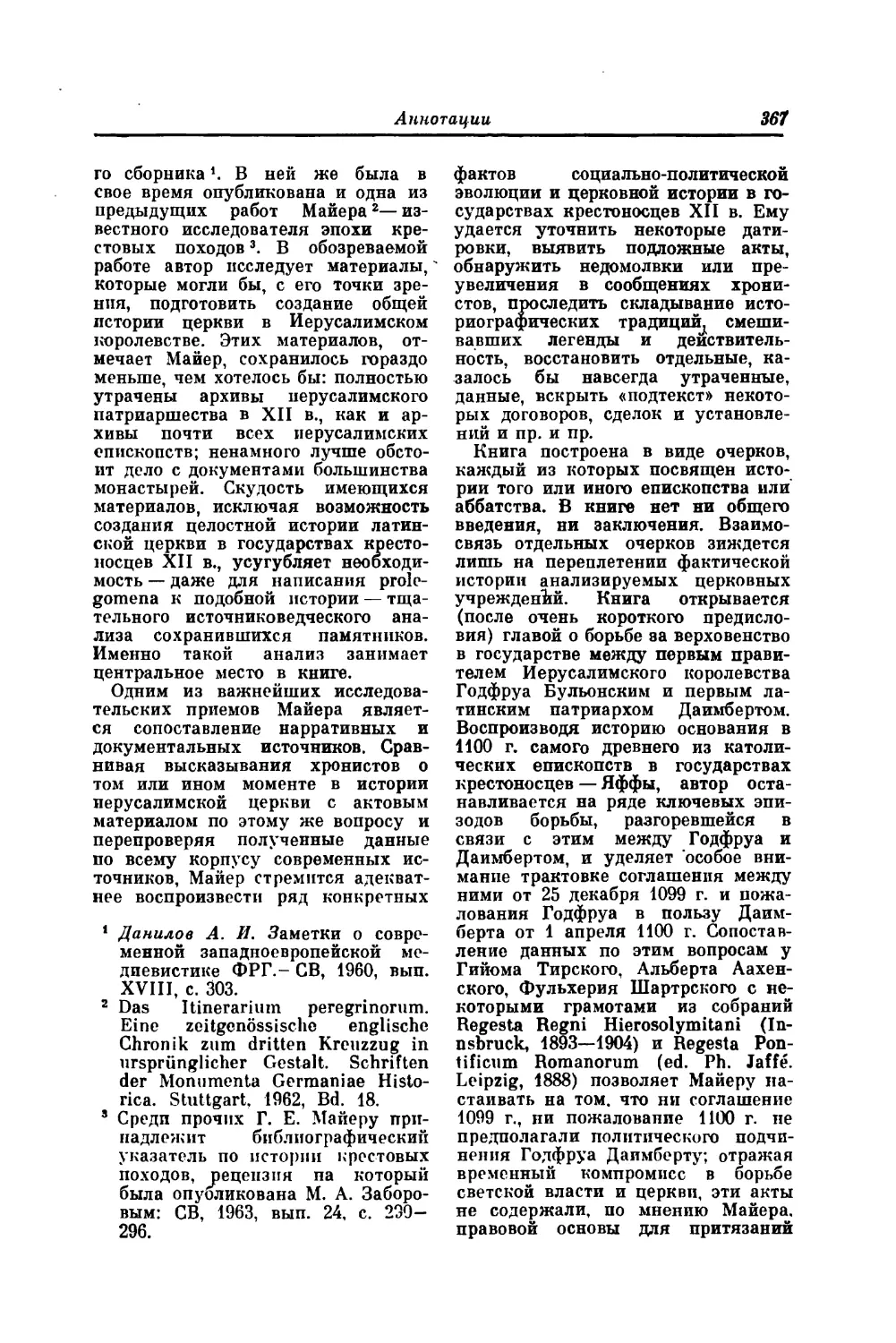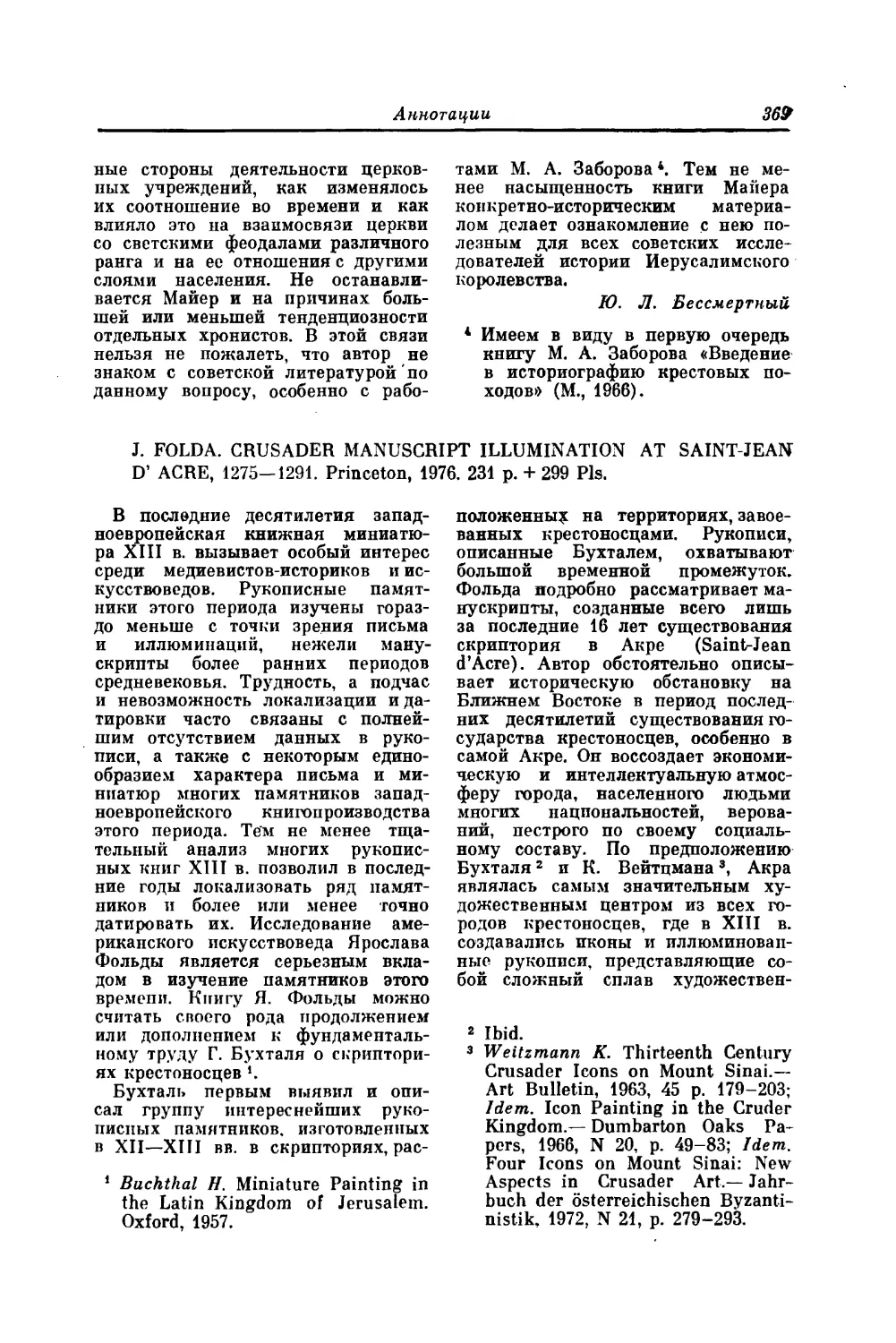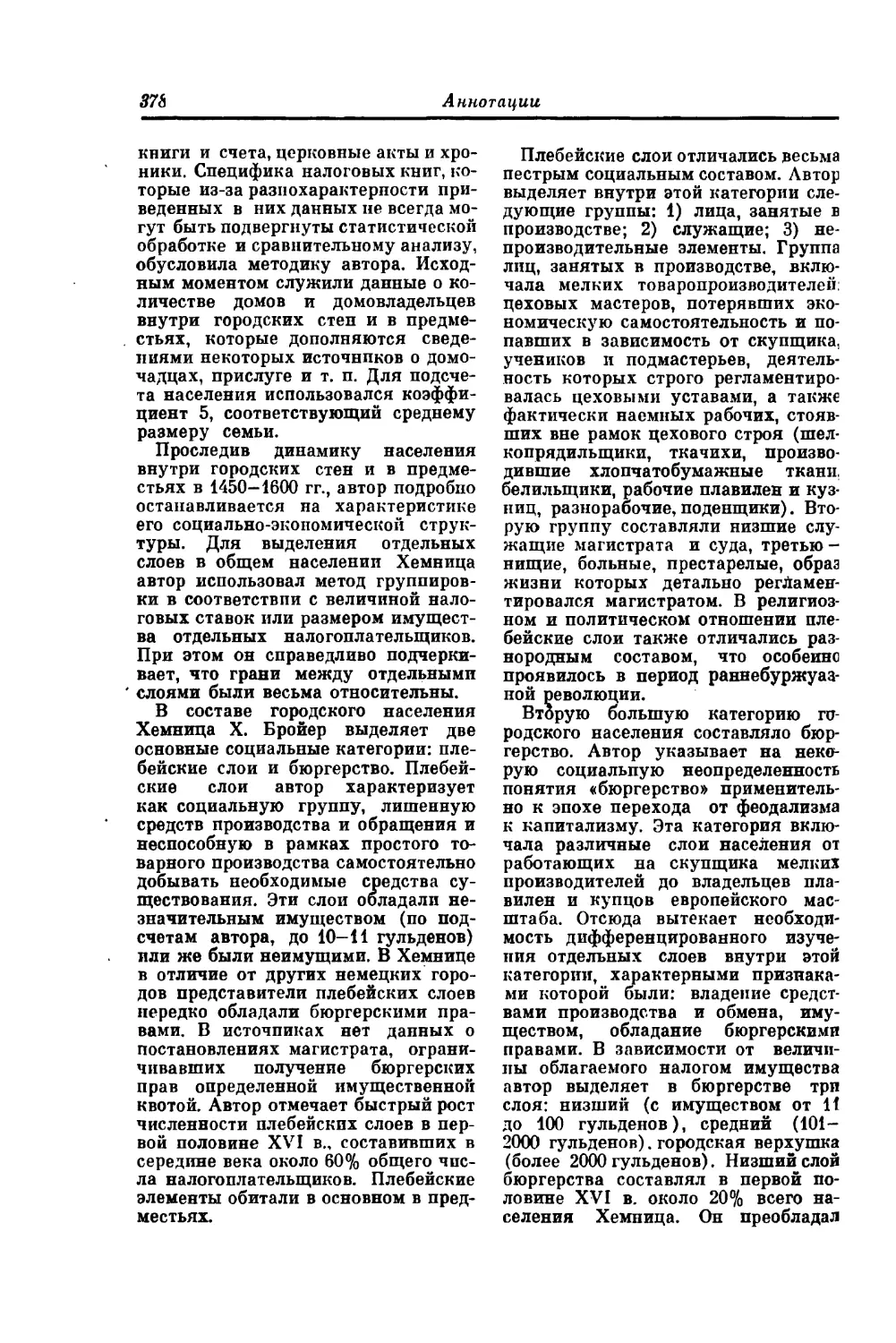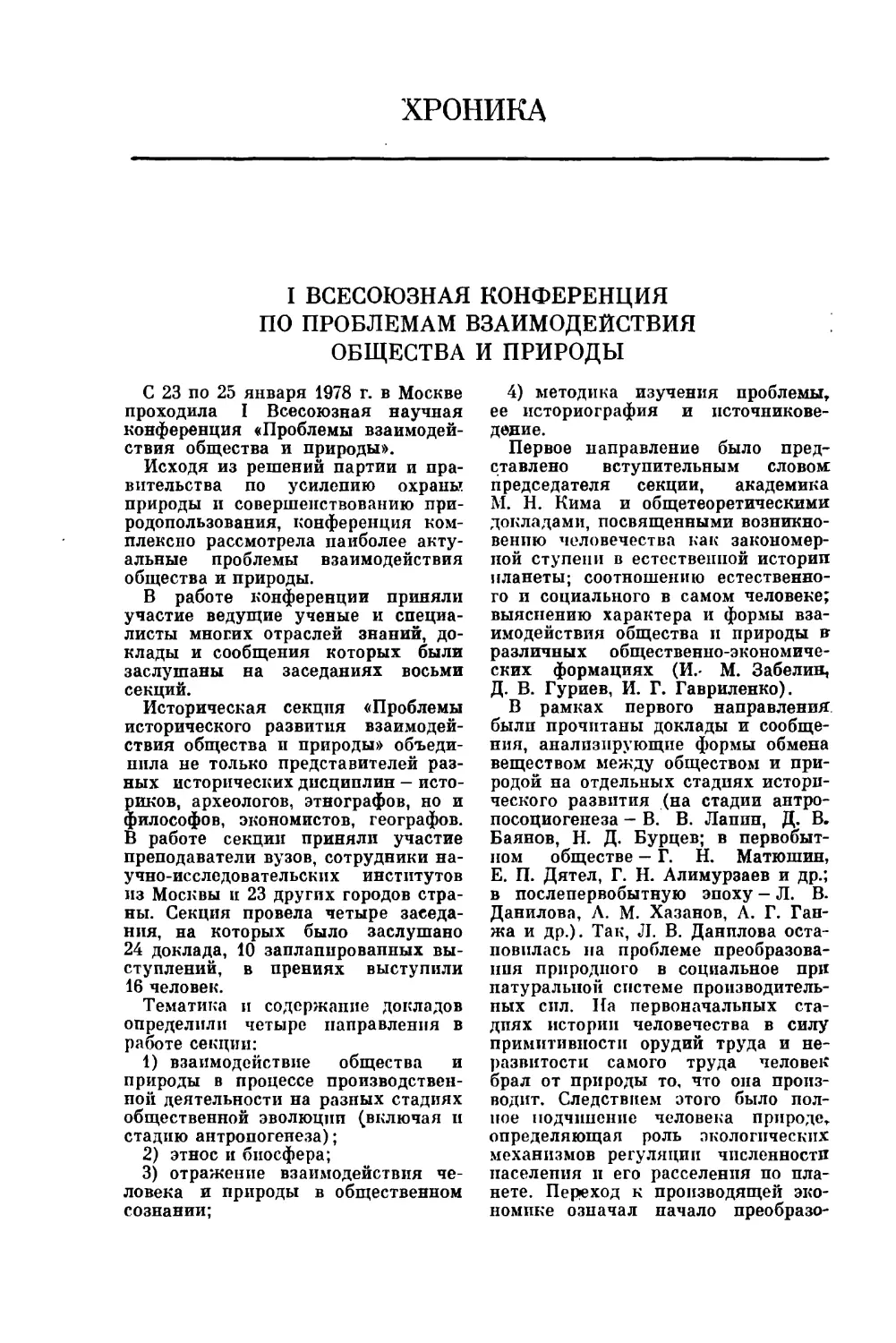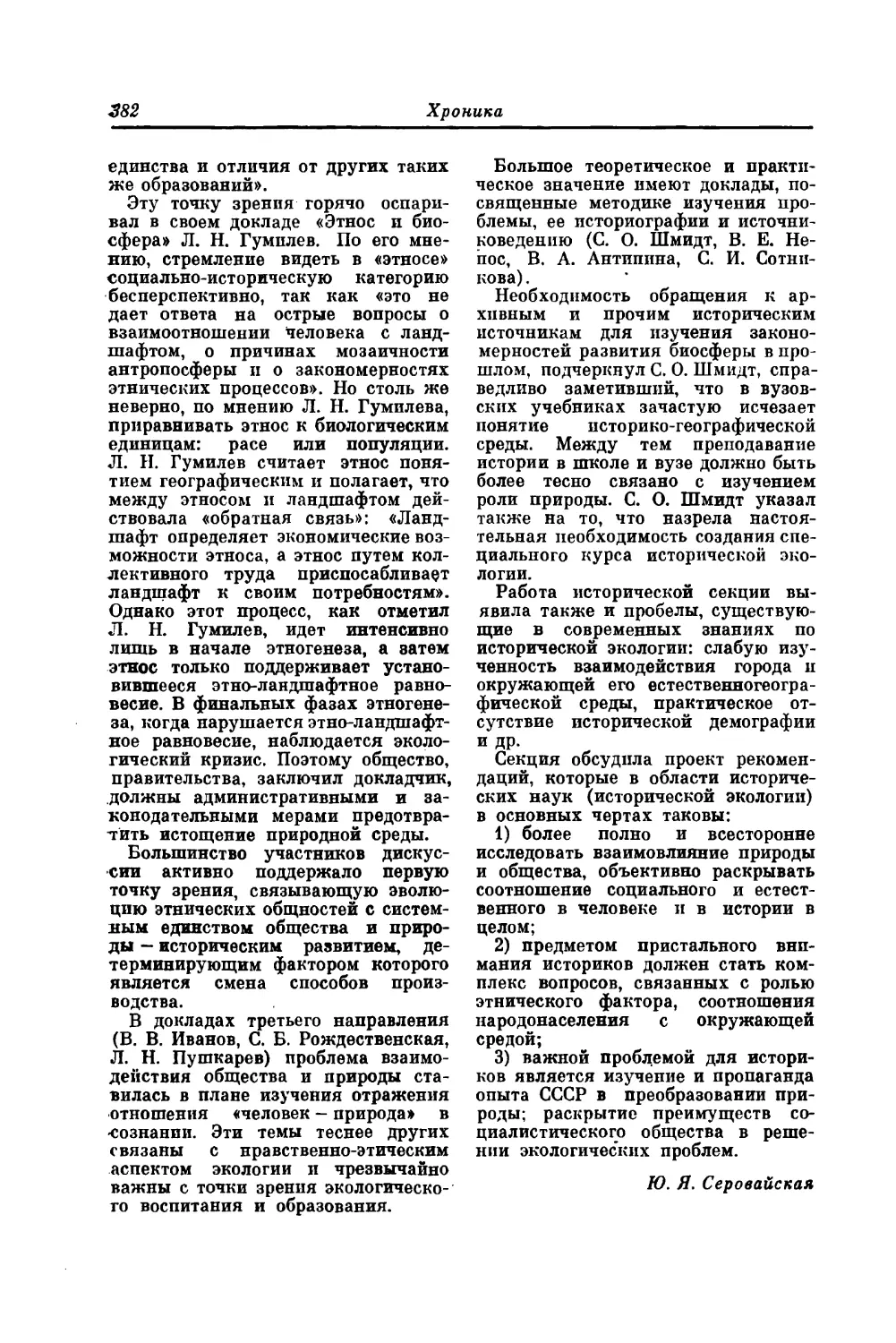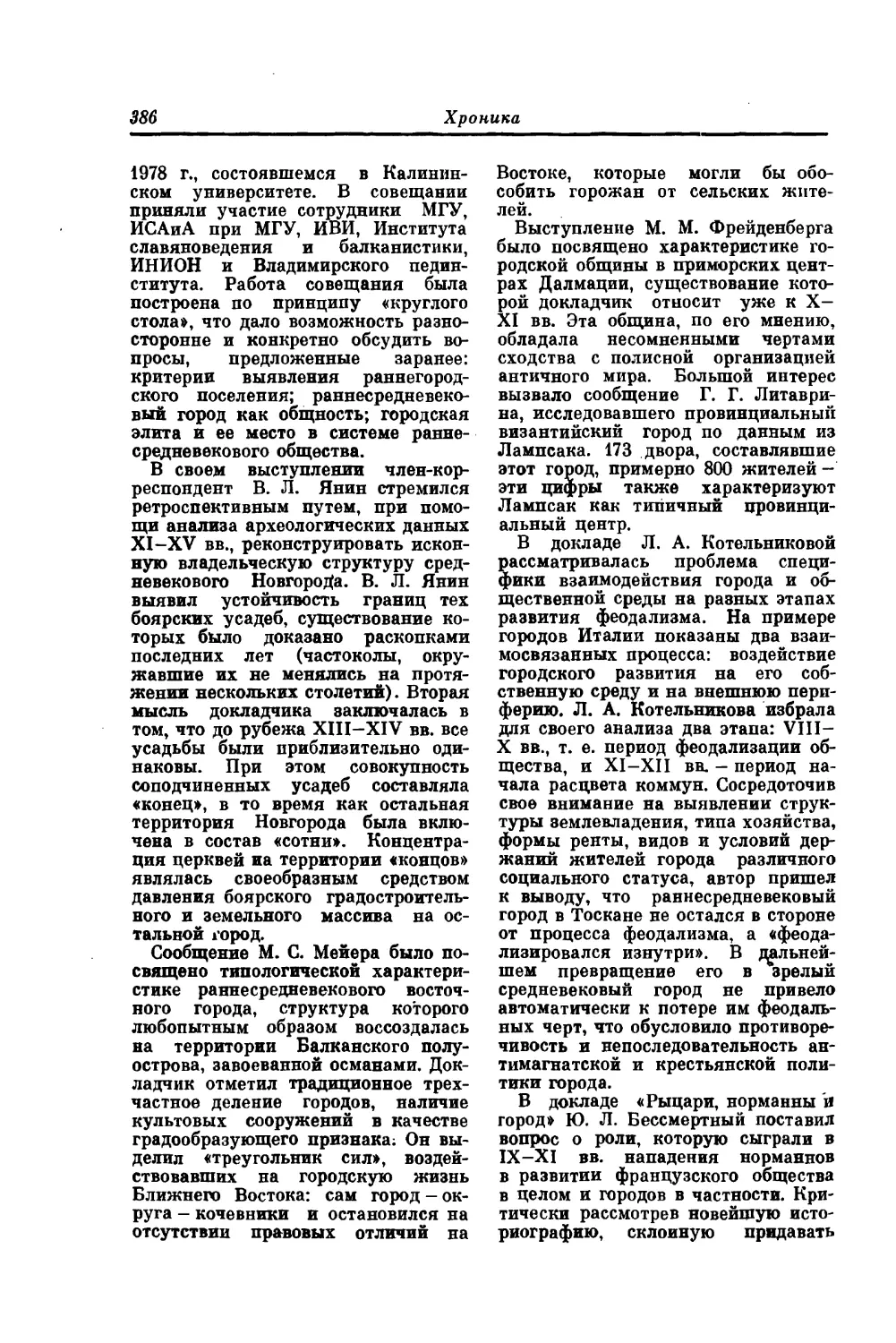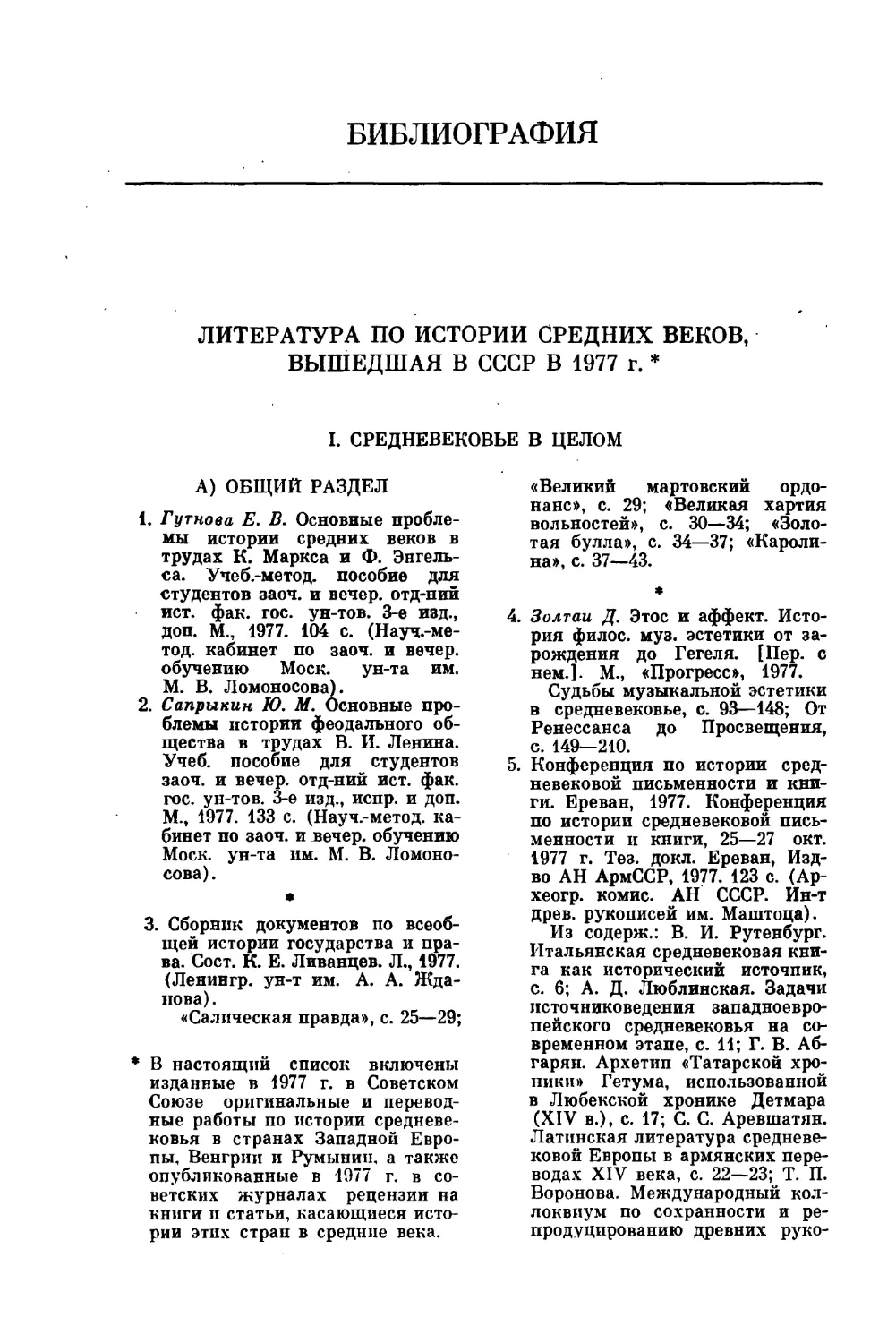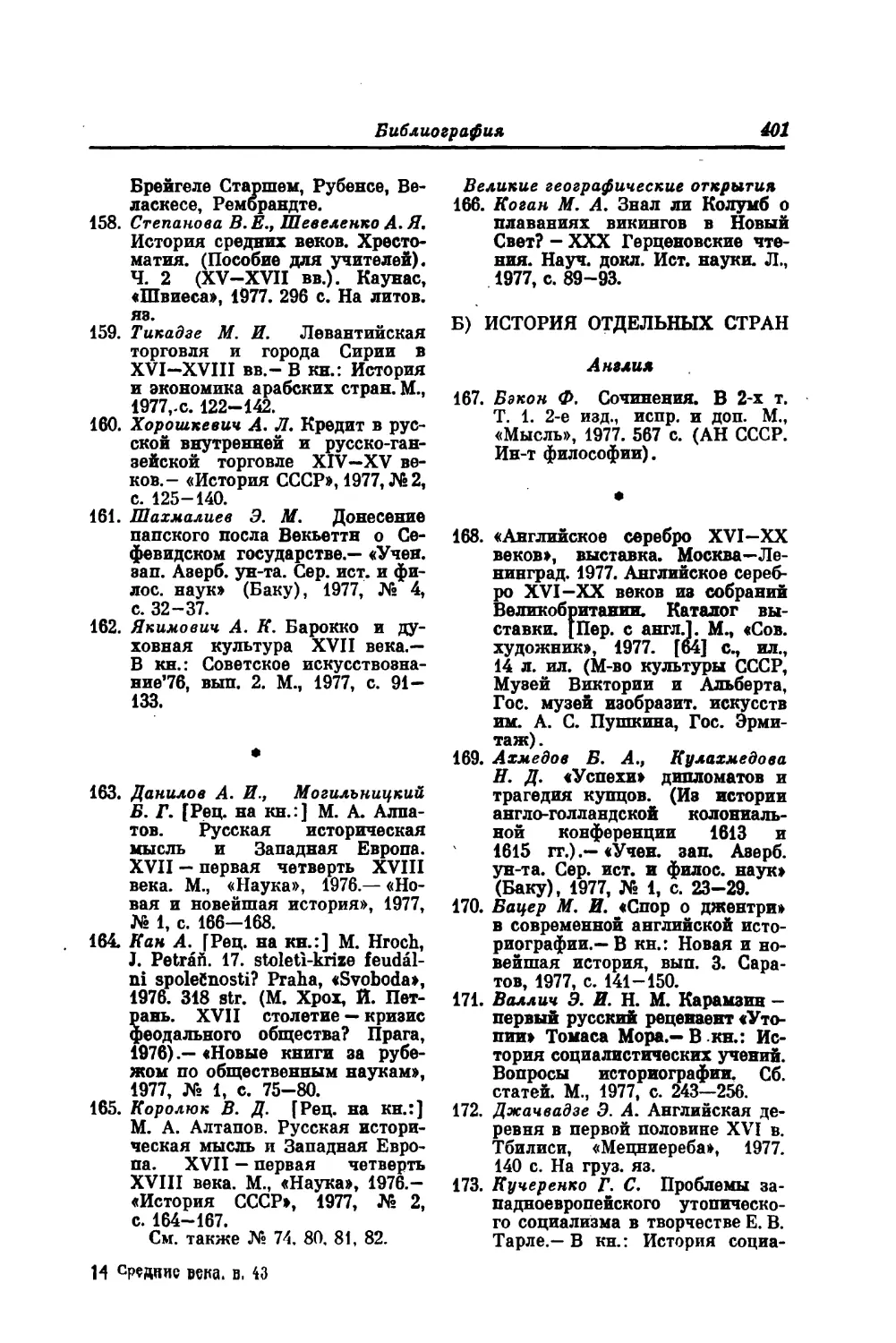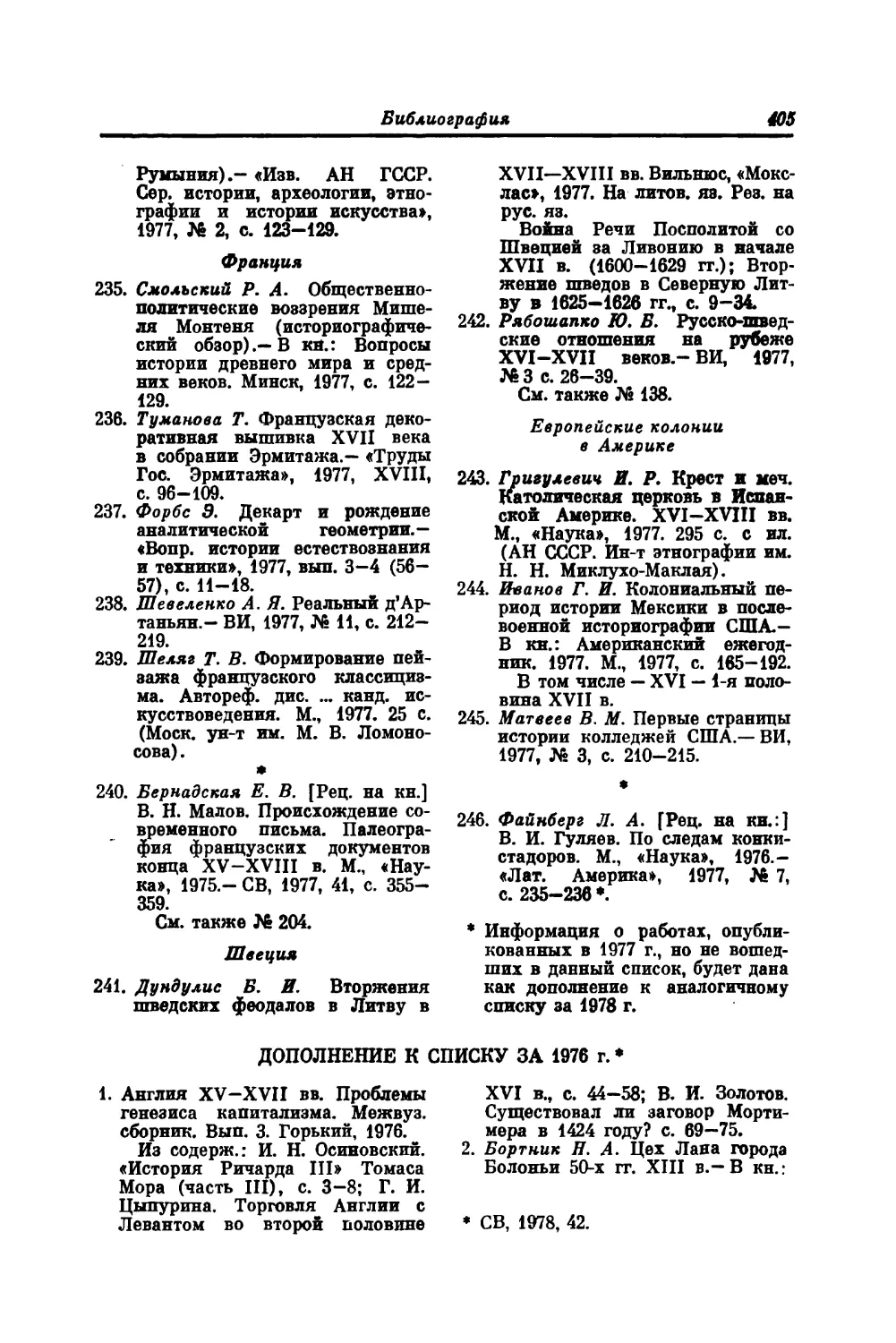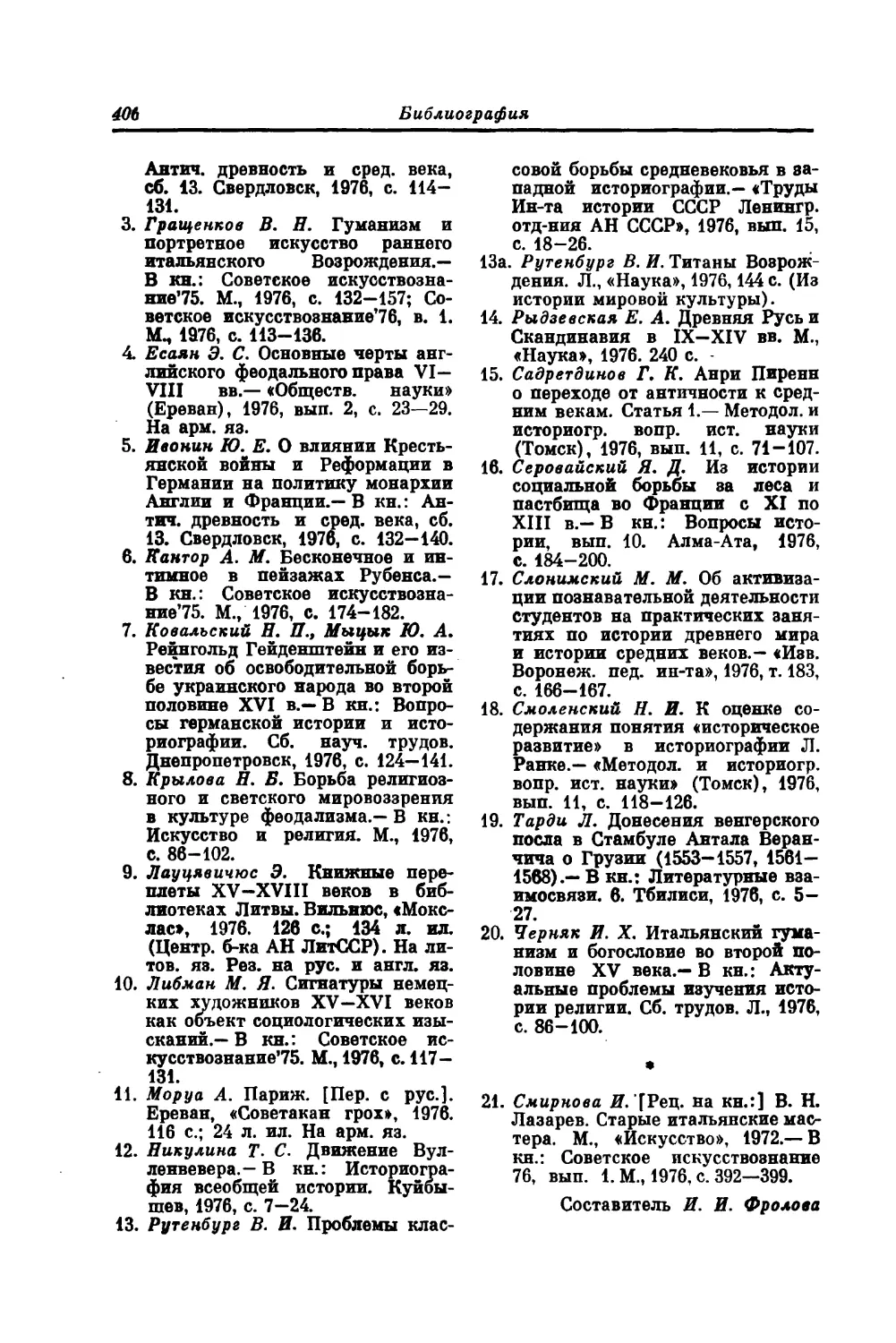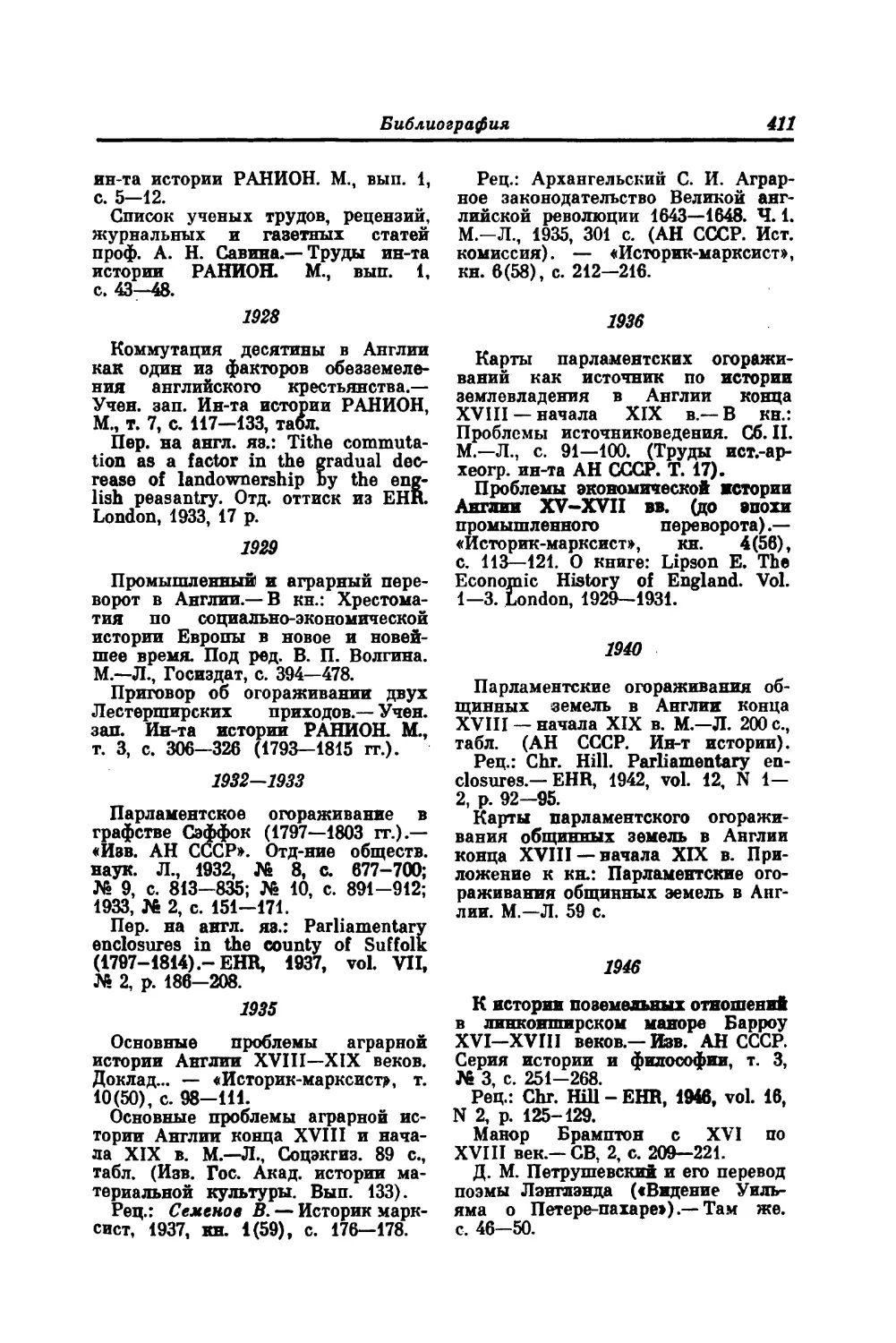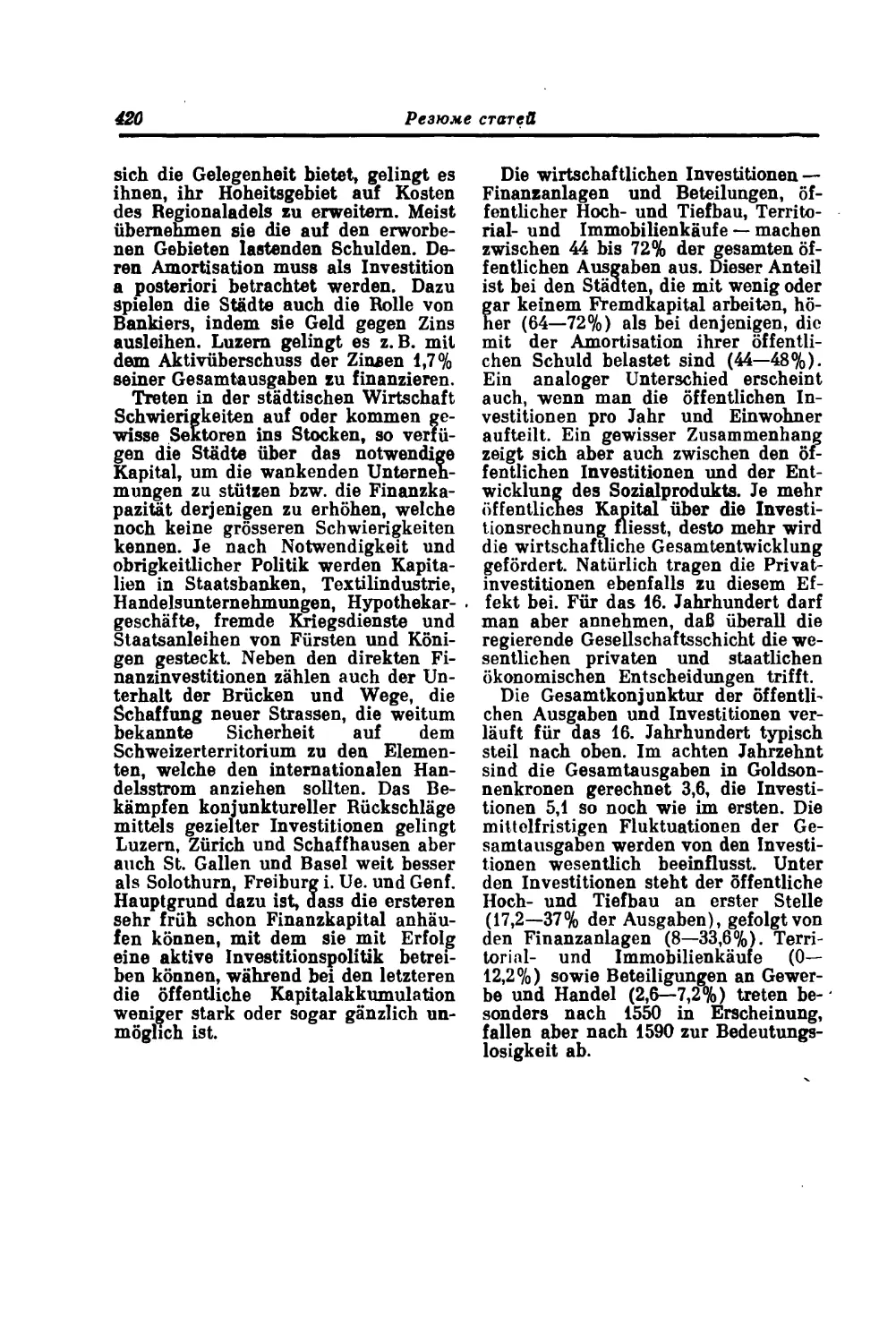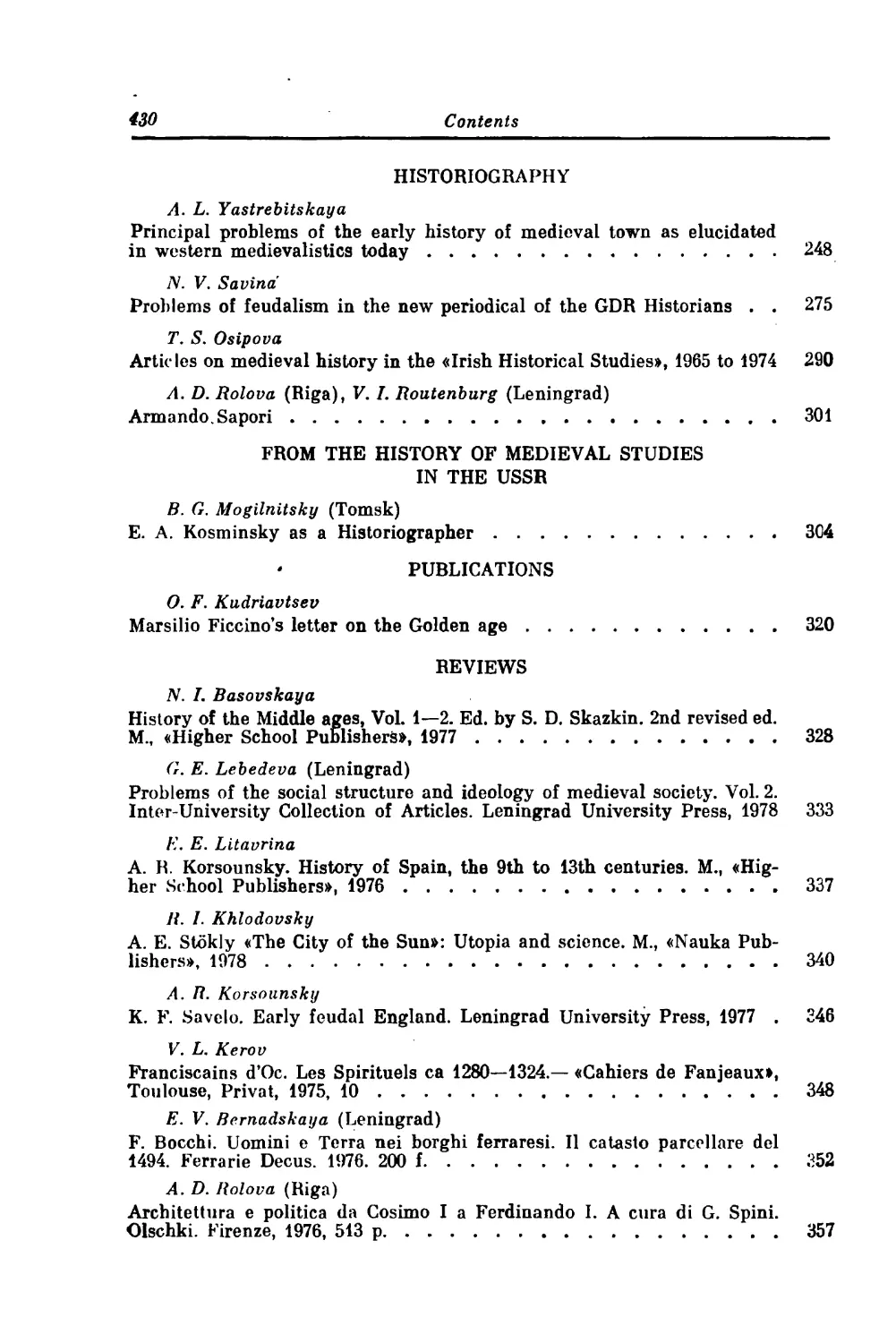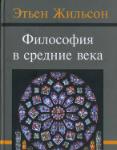Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
СРЕДНИЕ ВЕКА
СБОРНИК
Редакционная коллегия:
А. И. ДАНИЛОВ
(ответственный редактор),
Е. В. ГУТНОВА, Л. А. КОТЕЛЬНИКОВА.
|А. Д. ЛЮБЛИНСКАЯ],
Л. Т. МИЛЬСКАЯ
(ответственный секретарь),
В. И. РУТЕНБУРГ, Г. Э. САНЧУК,
Ю. М. САПРЫКИН, 3. В. УДАЛЬЦОВА,
А. Н. ЧИСТОЗВОНОВ
(зам. ответственного редактора)
СРЕДНИЕ ВЕКА.
ВЫПУСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1980
Хронологически статьи охватывают период от IX до на-
чала XVII в. и посвящены проблемам демографии и аграрной
истории Франции и Англии, социально-политической истории
Англии, истории города в Швейцарии, истории культуры и
общественно-политической мысли в Италии и Англии,
В разделе «Сообщения» публикуются исследования молодых
историков по аграрной истории Южной Франции и Испании и
небольшое терминологическое исследование о русско-норвежских
связях в XVI в.
Раздел «Историография» содержит обзор «Основные проб-
лемы ранней истории средневекового города в освещении совре-
менной западной медиевистики», статью посвященную крупно-
му итальянскому историки Армандо Сапори и др.
10603—041
С 042(02)--80 124~80' 0504020000
Гс) Издательство «Наука», 1980 г.
В. В. Иванов
ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП ПАРТИЙНОСТИ
И НАУЧНАЯ ОБЪЕКТИВНОСТЬ
Дальнейшее развитие советской исторической науки, в том
числе медиевистики, связано с реализацией и глубоким раскры-
тием познавательной роли методологических принципов партий-
ности, объективности и историзма. Эти принципы в марксистско-
ленинской методологии имеют концептуальное единство. Согласно
материалистическому пониманию истории, «общество рассматри-
вается как живой, находящийся в постоянном развитии организм
(а не как нечто механически сцепленное и допускающее поэтому
всякие произвольные комбинации отдельных общественных эле-
ментов), для изучения которого необходим объективный анализ
(курсив наш.— В. И.) производственных отношений, образующих
данную общественную формацию, исследование законов ее функ-
ционирования и развития» *.
В таком подходе — существо марксистско-ленинского исследо-
вания конкретно-исторических и историографических вопросов,
а его результаты играют наибольшую роль для передовой обще-
ственной практики. Надо иметь в виду, что интересы каждого
класса, политических партий нуждаются в историческом обосно-
вании и интерпретации. Поэтому историография является своеоб-
разным фокусом, в котором опосредствованно проявляется мно-
гообразие и противоречивость форм общественной жизни. Вслед-
ствие этого историческое познание по своему содержанию не
ограничивается прошлым, оно неразрывно связано с современ-
ностью, концентрирует в себе остроту общественных противоре-
чий, выраженных в определенных идеологиях.
Марксистская идеология, отражающая интересы исторически
прогрессивного класса и закономерные тенденции общественного
развития, в силу именно этих объективных обстоятельств неот-
делима от научного исторического познания. В данном случае
принцип партийности выступает как предпосылка и обязательное
требование научности исследования конкретных вопросов.
Труды В. И. Ленина, как и произведения К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, содержат блестящие исследования важнейших проблем
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 165.
6
В. В. Иванов
исторической науки. В тезисах ЦК КПСС «К 100-летию со дня
рождения Владимира Ильича Ленина» записано: «Главное в ле-
нинском подходе к общественным явлениям и процессам — орга-
ническое единство научной объективности и принципиальной
оценки их с позиций рабочего класса». Это положение имеет
первостепенное значение для выяснения роли партийности в ме-
тодологии исторического исследования.
Принцип партийности, во-первых, отражает социальное, клас-
совое содержание общественно-исторического познания, во-вто-
рых, он предполагает определенную оценку изучаемых явлений
и процессов. Эта оценка окажется научной или ненаучной в за-
висимости от партийности исследователя. Пролетарская, комму-
нистическая партийность обеспечивает последовательно научное
познание явлений прошлого и настоящего. Материалист (марк-
сист), указывал В. И. Ленин, «последовательнее объективиста и
глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается
указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно
общественно-экономическая формация дает содержание этому
процессу, какой именно класс определяет эту необходимость» 2.
«Объективизм», объективистский подход к историографии вы-
ражается в недооценке классового анализа, в абстрактной поста-
новке социальных вопросов, в игнорировании необходимости их
конкретно-исторического изучения.
Буржуазные идеологи, отделяя принцип партийности от дру-
гих требований марксистско-ленинской методолгии, делают вывод
о несовместимости партийности и науки. Но все дело в том, о ка-
кой партийности идет речь: буржуазной или пролетарской. Марк-
систы-ленинцы отстаивают пролетарскую, коммунистическую
партийность, являющуюся выражением интересов самого прогрес-
сивного класса современности — рабочего класса. Она не только
не противоречит объективному познанию действительности, но и
обусловливает его. Если же речь идет о буржуазной партийности,
то здесь партийность и объективность находятся в принципиаль-
ном противоречии.
Пролетарская партийность означает открытую защиту инте-
ресов рабочего класса, прогрессивных общественных классов.
Если марксистское учение, писал В. И. Ленин, требует от каждо-
го общественного деятеля неумолимо объективного анализа дей-
ствительности и складывающихся на почве этой действительности
отношений между различными классами, «то каким чудом можно
отсюда сделать вывод, что общественный деятель не должен сим-
патизировать тому или другому классу, что ему это „не полага-
ется“? Смешно даже и говорить тут о долге, ибо ни один живой
человек не может не становиться на сторону того или другого
2 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 1, с. 418.
Ленинский принцип партийности и научная объективность
7
класса (раз он понял их взаимоотношения), не может не радо-
ваться успеху данного класса, не может не огорчиться его неуда-
чами, не может не негодовать на тех, кто враждебен этому клас-
су, на тех, кто мешает его развитию распространением отсталых
воззрений и т. д. и т. д.» 3 4.
Из этого следует, что принцип коммунистической партийности
включает в себя критику буржуазной и мелкобуржуазной идео-
логии, всех антимарксистских, реакционных теорий и концеп-
ций. Всякое умаление коммунистической партийности в совре-
менных условиях объективно служит усилению буржуазной
партийности, часто маскирующейся под оболочку «беспартий-
ности».
Конечно, в исторической литературе встречаются работы, ли-
шенные общественной актуальности и открыто претендующие на
«беспартийность». Такие работы всегда оказывались и оказыва-
ются далекими от магистральной линии исторической науки. Но
когда мы говорим о партийности того или иного ученого, то имеем
в виду объективное, социальное содержание его работы, отражение
в пей позиции данного класса. Суть партийности определяют не
словесные декларации, а общественное значение концепций и вы-
водов ученого. Для исследователя-марксиста важно сознательное,
творческое применение принципа партийности в историографиче-
ской практике.
Не подлежит сомнению то, что для познания разных сторон
исторического развития требуется применение различных кон-
кретных методик и процедур исследования, адекватное раскрытие
социального процесса. В этой связи следует отметить органиче-
скую взаимосвязь партийности и историзма. Известно, что мысли-
тели начала XIX в. ввели в общественную пауку принцип
историзма. Но у них он базировался на различных вариантах идеа-
лизма. Критикуя идеалистическое толкование историзма, осно-
воположники марксизма обосновали последовательное диалекти-
ко-материалистическое его понимание с позиций коммунистиче-
ской партийности. Диалектико-материалистическая концепция
общественного процесса и есть фундамент подлинно научного
историзма. Она позволяет найти в многообразии явлений общие
закономерности и специфичность, понять единство теории и
практики в познании \
Нельзя забывать того, что социальная функция истории обра-
щена не только к прошлому, по и к современности, к будущему.
В этом отношении особенно поучительно то, как В. И. Ленин
исследовал принцип партийности в связи с конкретными задача-
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 547—548.
4 См. подробнее: Иванов В, Марксистско-ленинский историзм и исследова-
ние современности.— Коммунист, 1976, № 9.
8
В. В. Иванов
ми рабочего класса и его авангарда на различных исторических
этапах. Он последовательно подчеркивал значение классового
подхода для раскрытия объективного содержания исторических
явлений и событий: «Кто после опыта и Европы и Азии говорит
о «^классовой политике и о неклассовом социализме, того стоит
просто посадить в клетку и показывать рядом с каким-нибудь
австралийским кенгуру»,— писал В. И. Ленин в статье «Историче-
ские судьбы учения Карла Маркса» 5 *. Это положение особенно
актуально звучит сегодня, когда некоторые теоретики, именую-
щие себя марксистами-ленинцами, проявляя полную методологи-
ческую безответственность, предпочитают говорить о возможных
вариантах «демократического социализма», о возможностях «де-
мократии», о «правах и свободах» вообще в.
Здесь уместно вспомнить следующее положение В. И. Лени-
на: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами
обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любы-
ми нравственными, религиозными, политическими, социальными
фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех
или иных классов» 7 8.
Нелишне отметить, что в современной буржуазной историогра-
фии есть различные подходы к проблеме партийности. Некоторые
авторы партийность отвергают. Однако другие не соглашаются
с такой постановкой вопроса и утверждают, что в исторической
науке всегда имеет место борьба мнений, партийных, классовых
концепций. Ряд буржуазных идеологов и историков прямо под-
черкивают партийный характер исторической науки, ее значение
в идейной борьбе нашего времени. Иначе говоря, если часть исто-
риков выступает за деидеологизацию истории, за освобождение
истории от ее социальных функций в современной идеологиче-
ской борьбе, то другая часть историков вполне конкретно ука-
зывает на необходимость политизации исторической науки.
Об этом свидетельствует полемика, развернувшаяся на
XIV Международном конгрессе исторических наук, состоявшем-
ся в США, вокруг основного доклада «История и общество» (ав-
торы: А. И. Данилов, В. В. Иванов, М. П. Ким, Ю. С. Кукушкин,
А. М. Сахаров, Н. В. Сивачев) ’.
5 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 23, с. 4.
• См.: Коммунист, 1979, № 6, с. 6—8.
7 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 47.
8 Reports of the XIV International Congress of the Historical Sciences. New
York, 1977, vol. 1. См. подробнее: Кукушкин Ю. С. XIV Международный
конгресс исторических наук.— Преподавание истории в школе, 1976, № 2;
Сахаров А. М. О некоторых методологических вопросах на XIV Между-
народном конгрессе исторических наук (заметки делегата).— Вестник
МГУ. Сер. IX. История, 1976, № 3; Сахаров А. М., Хромов С. С. XIV Меж-
дународный конгресс исторических наук.— ВИ, 1976, № 3; Тихвин
ский С. Л., Тишков В. А. Проблемы новой и новейшей истории на ХГ
Ленинский принцип партийности и научная объективность
9
Для глубокого осмысления методологического аспекта партий-
ности в исследовании важно прежде всего социальное содержа-
ние источника, мировоззренческие политические позиции учено-
го и их отражение в методе.
Классовая обусловленность источника во многом влияет на
интерпретацию существа социальных явлений. Историк-марк-
сист должен обладать способностью научного отношения к источ-
нику, владеть методикой источниковедческого анализа. Каждый
источник имеет свою социальную природу, и в зависимости от
методологической вооруженности исследователя по-разпому про-
является его познавательная эффективность. По своему содержа-
нию исторические источники могут отражать позиции различных
классов, п историк должен уметь делать правильные выводы из
этих источников. Известно, что К. Маркс использовал в своей
работе над «Капиталом» источники самого различного происхож-
дения. В «Положении рабочего класса в Англии» Ф. Энгельс ис-
пользовал источники буржуазного, феодального происхождения,
однако он с позиции партийности показал реальное положение
рабочего класса в системе капиталистических отношений, даже
на том этапе, когда буржуазия была восходящим классом.
То же самое можно сказать о произведении В. И. Ленина
«Развитие капитализма в России», основанном па исследовании
весьма разноплановых источников. Рассматривая вопросы средне-
вековой истории, дореформенного, пореформенного развития Рос-
сии, В. И. Ленин показывал глубокий антагонизм борющихся
классов. Выводы В. И. Ленина-историка неотделимы от его пози-
ции исследователя-коммуниста. Мастерски используя источники,
В. И. Лепин гениально развил марксистский метод анализа дей-
ствительности.
Таким образом функции исторического метода получают под-
тверждение в правильном комплексном применении теоретиче-
ских положений диалектического и исторического материализма,
всего учения марксизма-ленинизма в целом в историографической
практике. Проблемы методологии истории во многом решаются
на конкретном материале на основе теоретической интерпретации
последнего. Это важно подчеркнуть, ибо представление метода
как нейтрального к предмету познания обедняет процесс позна-
ния, лишает ценности, объективной научной значимости те или
иные выводы исследования.
В целом партийность общественно-исторического познания
требует постоянного внимания к разработке вопросов теории и
метода. По существу это взаимосвязанный процесс, потому что
теорию нельзя разрабатывать без развития метода. Невозможно
Международном конгрессе исторических наук.— Новая и новейшая ис-
тория, 1976. № 1; Жуков Е., Соколов О. История и общество.— Комму-
нист, 1976, № 2.
10
В. В. Иванов
дать научную, объективную оценку событий прошлого и настоя-
щего, не применяя творчески теорию к анализу действительности.
А такая оценка уже означает в известной степени развитие тео-
рии. В этом смысле глубокое идейно-политическое звучание имеет
постановка на XXV съезде партии вопроса о необходимости
дальнейшей творческой разработки проблем марксизма-лениниз-
ма, современных социально-экономических проблем, объективного
изучения истории.
Проблема партийности связана с особенностями историческо-
го познания, с природой исторической науки; более того, прин-
цип партийности приобретает характер закономерности для исто-
рических наук, поскольку пронизывает все стороны деятельности
исследователя, начиная от анализа источника, кончая созданием
той или иной исторической концепции.
Таким образом, принцип партийности образует живую душу
истории. Освобождение от этого принципа или умаление его роли
было бы равносильно утрате фундаментального характера исто-
рической науки. «Пролетарские революции...— писал Маркс,—
постоянно критикуют сами себя... с беспощадной основательно-
стью высмеивают половинчатость, слабые стороны и негодность
своих первых попыток» 9. Эта оценка Маркса имеет определен-
ное значение для осмысления проблем партийности в ее связи с
объективностью познания. Только такая глубокая постановка воп-
роса способствует выработке научной стратегии и тактики борю-
щегося класса. Поэтому характерной чертой коммунистической
партийности является осознанная, целенаправленная реализация
ученым в практике научного исследования коренных мировоз-
зренческих, теоретических и идеологических принципов марксиз-
ма-ленинизма.
Жизнь показывает, что не может быть истории нейтральной
К современной общественной борьбе, к мировоззрению. Встречаю-
щееся противопоставление истории и научной теории противоре-
чит современному научному методу. Изучая конкретные формы
общественного процесса, историческая наука раскрывает прояв-
ление общих законов в специфической обстановке, устанавливает
особенности их действий 10. Творческое применение законов по-
могает исследователю открывать новые стороны и повторяющиеся
связи в социальных явлениях, новые тенденции. Это бесспорно.
Поэтому рассуждения, будто бы удел историка — это лишь эмпи-
рические факты, а не закономерности, нельзя считать правиль-
ными. Единство факта и обобщения есть важное условие исто-
рического исследования.
• Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 123.
,(> См.: Жуков Е. М. Социологические и исторические законы.— В кн.: Жу-
ков Е. М., Барг М. А., Павлов В. И., Черняк Е. Б. Теоретические пробле-
мы всемирно-исторического процесса. М., 1979, с. 9—12.
Ленинский принцип партийности и научная объективность
11
В исторических концепциях, если они претендуют на науч-
ность, не может быть нигилистического отрицания всего пред-
шествующего мыслительного материала. В них всегда должны
учитываться предшествующие данному исследованию выводы,
они должны содержать анализ предыдущего состояния историо-
графии, приемов изучения тех или иных сторон конкретной про-
блемы, ее источниковедческой базы. Следовательно, исторический
анализ всегда включает в себя как изучение самого факта, так
и процесс исследования этого факта, события. Поэтому нет осно-
ваний для противопоставления методологии методике исследова-
ния, как это делают буржуазные объективисты.
Научные концепции, отражающие новые, современные этапы
социального процесса, имеют, конечно, сложную генетическую
связь с предыдущими историческими интерпретациями. Новые
условия общественной практики порождают новые исторические
концепции. В этом случае преемственность в познании имеет силу
постольку, поскольку эти новые концепции включаются в общую
логику развития исторической науки.
Логика научного познания свидетельствует о том, что буржу-
азный объективизм ныне бесплоден и в теоретическом, и в прак-
тическом отношениях. Вот почему буржуазные авторы прибегли
к своеобразной переоценке объективизма. Они немало пишут об
ограниченности объективизма, имея в виду его традиционные
формы (в частности, объективизм ранкеанского толка, натурали-
стический объективизм), гораздо больше, чем раньше, апеллируют
к исторической теории, каузальности в объяснении природы фак-
та. В свете ленинской характеристики классовой и методологиче-
ской сущности буржуазного объективизма нетрудно понять под-
линный смысл этих и других аналогичных апелляций.
Но, как показывает научпый опыт, эти поиски не выводят бур-
жуазных историков из методологического кризиса, поскольку
последний носит ярко выраженный гносеологический, социаль-
ный характер.
Ленинский подход к изучению социальной жизни, явлений
прошлого и настоящего всегда отличался научной целенаправ-
ленностью, партийностью, умением выделять главное, определяю-
щее звено в исторической цепи событий. Глубокое понимание
действительности, для достижения которого исторический анализ
выдвигался в качестве обязательного требования, позволило
В. И. Ленину правильно ставить социальные вопросы, возник-
шие перед общественной мыслью и общественной практикой,
и определить пути их решения.
Партийность и объективность выступают как составные части
марксистско-ленинской методологии, лежащей в основе научно-
истинного познания действительности и ее революционного пре-
образования.
12 В. В. Иванов
Новые возможности для плодотворных исторических и исто-
риографических исследований открывает недавно принятое по-
становление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологиче-
ской, политико-воспитательной работы». Оно еще раз напоминает
всем обществоведам и историкам о том, что сердцевиной всей
идейно-воспитательной работы партии является формирование у
трудящихся коммунистического мировоззрения, воспитание их на
идеях марксизма-ленинизма. Этой задаче в полной мере отвечают
ie исторические исследования, в которых воплощено единство
партийности и объективности.
А. И. Данилов
ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА
К числу проблем методологии истории, обсуждаемых за по-
следние десятилетия, относится вопрос о месте категории «собы-
тие» в понятийном аппарате исторической науки, о значении изу-
чения событий в общем контексте научно-исследовательской ра-
боты историка.
Если на протяжении XIX и в начале XX в. в буржуазной
историографии ход исторических событий чаще всего расцени-
вался как предпочтительный, порой даже исключительный пред-
мет исторического познания, то теперь буржуазные методологи
истории нередко расценивают события как третьестепенный
объект изучения: в соответствии с такими взглядами историкам
надлежит заниматься историческими структурами, а не истори-
ческими событиями *, которые недостойны внимания подлинных
ученых.
Критика историографии, рассматривающей события как глав-
ное содержание исторической науки, справедлива в той мере,
в какой она направлена против исследования чисто внешних фак-
тов поверхностно понятой политической истории, сводимой зача-
стую к деятельности коронованных особ и их приближенных2,
‘ Во второй половине 60—70-х годов критика традиционной историографии
историками ФРГ носила весьма радикальный характер, например: Ge-
iss J. Studien fiber Geschichte und Geschichtswissenschaft. Frankfurt a. M,
1972; Ansichten einer kiinftigen Geschichtswissenschaft / Hrsg. J. Geiss,
It Tamchina. Miinchen, 1974, Bd. 1; см. также: Патрушев А. И. «Социаль-
ная история» в буржуазной историографии ФРГ: (Проблемы истории и
методологии).— Новая и новейшая история, 1976, № 4, с. 151—167; Смо-
ленский Н. Я. Проблема исторических понятий в современной буржуаз-
ной историографии ФРГ.— Новая и новейшая история, 1978, № 6. Пред-
метом дискуссии среди историков ФРГ является и вопрос об отношении
к истории политических событий: Zmarzlik Н. G. Das Kaiserreich in neuer
Sicht.— HZ, 1976, Bd. 222; Hildebrand K. Geschichte oder Gesellschaftsge-
schichte.— HZ, 1976, Bd. 223; Wehler H-U. Kritik und Antikritik.— HZ,
1977, Bd. 225.
2 В. И. Ленин придавал большое значение отбору исторических фактов, ре-
шительно осуждал тех историков, которые концентрируют свое внимание
на незначительных событиях. Он очень резко отозвался, например, о не-
мецком историке Г. Эгельгафе за то, что он с педантичной аккуратностью
отмечал даты, относящиеся к коронованным особам, но «не упомянул
14
А. И, Данилов
и в той мере, в какой она в противоположность идиографиче-
скому подходу стремится обратить внимание историков на необ-
ходимость выявить закономерность в исторической действитель-
ности, выяснить подлинные причины глубоких перемен и важней-
ших переворотов в жизни народов. Но в современной буржуазной
историографии во многих случаях противопоставление историче-
ских структур историческим событиям связано с иными методо-
логическими и идейно-теоретическими посылками. Так, среди
представителей квантитативной историографии бытует мнение,
что следовало бы вообще устранить понятие «событие» из исто-
рической науки. Сторонники этих взглядов, которые разделяют
и некоторые представители школы «Анналов» во Франции, усмат-
ривают преимущества квантитативного подхода к истории в том,
что он позволяет заменить понятие «событие» понятиями «ряд»
и «серия»: с помощью такой замены можно, по их мнению,
избавиться от представления, будто бы исторические факты дей-
ствительно зафиксированы в источниках. С точки зрения рас-
сматриваемого подхода, исторические факты сконструированы
учеными, как реальность они не существовали и не могут быть
основой научного познания. Эту фикцию можно преодолеть с
помощью статистики, которая позволяет с никогда ранее недо-
стижимой точностью измерить поток жизни 3.
Попытку теоретико-методологического обоснования такой за-
мены и предпринял, в частности, один из французских методоло-
гов квантитативной истории Франсуа Фюрэ4. По его мнению,
историческое сознание XIX в. склонно было приписывать особое
значение явлениям политической жизни и тем отчетливо высту-
пающим на поверхности явлений качественным изменениям,
с которыми она была связана. Это находило свое выражение в
таких категориях, как «республика», «свобода», «демократия»,
«прогресс», «разум». Именно с этими и им подобными понятиями
было связано и понимание самой истории прежде всего как сово-
купности качественных изменений.
Обновленная же историческая наука, обогатившаяся благода-
ря квантификации подлинно научной строгостью и точностью,
предпочитает иметь дело с количественными изменениями. Те-
перь, по мнению Фюрэ, доказано, что поскольку категория «исто-
рическое развитие» поддается научному истолкованию, постольку
она трактуется как количественный рост, носящий чаще всего
циклический характер. Разные сферы исторической жизни имеют
ни звуком восстания крестьян в Румынии в 1907 году» (Ленин В, И.
Поли. собр. соч., т. 28, с. 663).
3 Могагё Ch. Troi Essais sur histoire et culture. Paris, [1948], p. 35; ChaunuP.
L’histoire serielle.— RH, 1970, t. 243, p. 297—320.
4 Furet F. L’histoire quantitative et la construction du fait historiaue.— Anna-
les E. S. C., 1971, N 26, p. 63—75.
Историческое событие и историческая науп,а
15
разные темпы и разные циклы своего движения. Они не принад-
лежат одному историческому времени, не сводимы друг к другу,
не обусловливают друг друга.
Близок к этим рассуждениям и сторонник структурализма в
западногерманской историографии В. Конце. Исследуя историю
Германии в годы первой мировой войны и революции 1918—
1919 гг., Конце пытается доказать, что социальные изменения в
своих долговременных проявлениях не связаны с политическими
событиями, политическими решениями и политической борьбой 5.
Таким образом, пересмотр значения событий в исторической
науке оказался непосредственно связанным с определенными ме-
тодологическими устремлениями. Следует заметить, однако, что
мы отнюдь не ставим под сомнение самое применение количест-
венных методов в историческом исследовании; все дело в том,
в рамках какой методологии, с какими целями и в каких преде-
лах они используются.
Советские историки, разрабатывающие принципы применения
количественных методов исследования, неоднократно подчерки-
вали необходимость учета сильных-» и слабых сторон этого ме-
тода 6.
Оценка квантитативного метода дается и в трудах историков
стран социалистического лагеря. Так, Ц. Бобинская (ПНР) обос-
нованно отмечала, что одностороннее предпочтение статистических
данных может привести историка к игнорированию качествен-
ных изменений, которые на стадии возникновения этими данны-
ми не улавливаются7.
Критические голоса по адресу квантитативной историографии
звучат и во Франции: «С помощью количественных исчислений
и полноты изучаемой проблемы надеются, как об этом мечтали
старые позитивисты, поставить историю в ряд точных наук... Но не
рискуем ли мы таким образом потерять в дороге то главное, что
составляет истинную ценность исторических знаний,— непосред-
ственный контакт с прошлым? Уверены ли в том, что методы ма-
тематического толка смогут уловить в свои сети все, что есть наи-
более ценного в прошлом человечества? Когда в результате боль-
ших усилий, затраченных на изучение огромного числа архивных
документов, а затем оформление статистических данных, которые
5 Conze W. Die sozialgeschichtliche Bedeutung der deutschen Revolution von
1918—1919.— In: Vom Sinn der Geschichte I Hrsg. 0. Franz. Stuttgart, 1977,
S. 71—84.
6 Кахк Ю. Ю., Ковальченко И. Д. Методологические проблемы применения
количественных методов в исторических исследованиях.— История СССР,
1974, № 5; Ковальченко И. Д., Сивачев Н. В. Структурализм и структур-
но-количественные методы в современной исторической науке.— Исто-
рия СССР, .1976, № 5.
7 Bobinska С. Historiker und historische Wahrheit. Berlin, 1967, S. 78.
16
А. И. Данилов
при этом были получены, историк-демограф наконец нам сооб-
щит, что в тот или иной период население такой-то французской
провинции развивалось по фазам „А“ п „В“, разделенным, в свою
очередь, на периоды „а“ и „в“ ...не будем ли мы разочарованы?»8
Узкоколичественный подход к предмету исторического иссле-
дования, отрицание значения событий, которые не могут быть
выражены в виде «серий» или «рядов», а именно так обстоит
дело прежде всего со многими фактами политической жизни, не-
избежно связаны с поверхностным эволюционизмом или циклиз-
мом, доходящим до понимания развития как движения по замкну-
тому кругу.
В этом нельзя не видеть недооценки или прямого отрицания
роли качественных переворотов в истории. В этой связи вспом-
ним хотя бы рассуждения некоторых советологов о характере
социалистической индустриализации народного хозяйства в СССР,
которая была якобы лишь продолжением стадии роста, характер-
ной для царской России конца XIX — начала XX в.
Попытки элиминировать из исторической науки категорию
«событие» или по крайней мере всемерно ограничить ее значение
не привели и не могли привести к перевороту в историческом
сознании, как это полагал Фюрэ. Но они побуждают историков
вновь вернуться к рассмотрению в методологическом плане места
этой категории среди основных понятий исторического позна-
ния.
Такое рассмотрение тем более целесообразно, что осмысление
понятия «событие» позволяет более всесторонне подойти и к ис-
толкованию категории «исторический факт», а это важно при
постановке вопроса о том, насколько возможна объективность при
познании прошлого. Определение места категории «событие» сре-
ди других методологических категорий исторического познания
существенно и с точки зрения его центральной проблемы — про-
блемы объективного существования исторических законов.
Исторический мир — мир событий. Там, где их нет, нет п из-
менения, движения, развития, а следовательно — и истории как
действительности. Историческая реальность выступает перед тем,
кто обращается к ее рассмотрению, прежде всего как совокуп-
ность множества «событий». Конечно, разные историки будут
различно их оценивать: один будет понимать их как изолирован-
но существующие явления, другой — как взаимосвязанные и
взаимообусловленные, третий — как выражение определенных за-
кономерностей, толкуемых материалистически или идеалистиче-
ски, и т. д.
8 Marrou H.-I. L’epistemologie de l’histoire en France d’aujourd’hni.— In: Den-
ken fiber Geschichte / Hrsg. Fr. Engel-Janosi. Munchen, 1974, S. 105.
Историческое событие и историческая наука
17
И клиометристы, прежде чем начать что-либо считать и вы-
числять, должны определить, к каким сторонам событий и их
результатам будут применены клиометрические процедуры. А это
значит, что те, кто стремится изгнать события как категорию
познания из исторической науки в теории, продолжают иметь с
ними дело в практике исторического исследования.
Историки конструируют «ряды» и «серии» по материалам
источников, допускающих количественные исчисления, поскольку
они фиксируют моменты повторяемости; однако нельзя забы-
вать, что в таких «рядах» и «сериях» тем не менее в преобразо-
ванном виде выступают определенные стороны «событий» или их
результатов. При неправильном методологическом подходе к об-
работке материала и превращении клиометрических процедур в
единственный достойный внимания историков способ исследова-
ния историческая действительность предстает в конечном счете
как печальное круговращение серых теней, связи между которыми
устанавливаются по произволу исследователя. Такое отношение
к историческим событиям не только односторонне — оно неиз-
бежно в конечном счете приводит к искажению действительной
природы объектов исследования.
События — это человеческая деятельность во всех ее сферах,
начиная с производства материальных благ и кончая наиболее
абстрактными сферами интеллектуального творчества. В истории
подлинная деятельность — всегда событие ®. А в бездеятельности,
в свою очередь, события нет. Если же нет события, то нет и свя-
зи, и отношений между людьми. Все исторические связи и отно-
шения есть выражение или порождение деятельности людей. Все
производственные, социальные, в том числе классовые, полити-
ческие, идеологические, научные, религиозные и иные связи и
отношения перестают существовать, если они не получают в той
пли иной форме своего выражения в деятельности, поступках
людей, т. е. в событиях.
Без движения событий нет и исторического процесса. Можно
в известном смысле утверждать, что всей истории, равно как и
всем историческим процессам, присущ событийный характер. То
или иное состояние общества, социально-политический строй, его
появление, изменение, кризисы и гибель — все это воплощено в
многочисленных и противоречивых событиях. Как известно, для
К. Маркса «общество не твердый кристалл, а организм, способ-
9 В истории происходят, указывал Ф. Энгельс, постоянные столкновения
разнонаправленных волевых устремлений людей, определяющихся усло-
виями их жизни. Из столкновения бесконечного количества таких пере-
крещивающихся сил «выходит одна равнодействующая — историческое
событие» {Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 395).
18
А. И. Данилов
ный к превращениям и находящийся в постоянном процессе
превращения» 10 *.
Непрерывную цепь событий, в которых выражается тот или
иной исторический процесс, было бы неправильно рассматривать
только в плане того повторяющегося, что содержится в этих со-
бытиях. Разные качества событий свойственны разным стадиям
и формам развития; если рассматривать капиталистический способ
производства, как это сделал К. Маркс, в его историческом движе-
нии, то внимание исследователей привлекает качественная сто-
рона события, в котором прежде всего находит свое выражение
такое движение. Историчность любого общественного строя про-
является особенно ярко именно тогда, когда его обычное, устояв-
шееся, повседневное существование или, иначе говоря, функцио-
нирование изменяется, приобретает новую качественную окраску.
И в этом, в частности, сказывается коренное отличие марк-
систского истолкования категории «система» от структуралист-
ского; лишь стремление приспособить марксизм к структурализму
может породить мнение, что он является первой по времени
структурно-функциональной теорией общества и.
Марксизм всегда рассматривает любую общественную систему
в определенных исторических рамках. Для него нет системы без
внутренних противоречий, порождающих ее самодвижение, ее
развитие. Современный структурализм способен дать лишь по-
строение, в лучшем случае отражающее то или иное обществен-
ное состояние в его повседневном функционировании. Ахиллесо-
вой пятой структурализма как методологии истории является не-
способность обнаруживать возможность выхода за пределы систе-
мы, заложенную в ней самой12. Отсюда становится понятной и
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. И.
“ Hobsbawm Е. J. L’apport de Karl Marx a 1’historiographie.— Diogene, 1968,
N 64, p. 47.
12 Об этом достаточно громко говорят и буржуазные историки, занимаю-
щиеся методологическими вопросами. По мнению Г. Румплера, ни струк-
турализм, ни системная теория функционализма или функционального
структурализма не разрешили проблем теории истории. Это относится
и к школе «Анналов». Структуры оказались абсолютными константами,
определяющими ход событии {Rumpier Н. Offene Fragen einer Theorie
der Geschichtswissenschaft.— In: Denken uber Geschichte, S. 213). M. Мюл-
лер полагает, что структуралисты обособляют структуры от деятельно-
сти людей, в результате исчезает сознание того, что социально-историче-
ские структуры являются продуктами человеческой деятельности, без
которой они не воспроизводятся, хотя и обусловливают ее {Benz W..
Muller М. Geschichtswissenschaft. Darmstadt, 1973, S. 247). Американский
историк Г. Г. Иггерс отмечает, что у Ф. Броделя политические события,
будучи оторванными от структур, оказываются иррациональными. По
его мнению, историки этой школы оказались не в состоянии проанали-
зировать процесс перехода во Франции от «старого режима» к новому
времени {Iggers G. G. Die «Annales» und ihre Kritiker. Probleme moderner
Историческое событие и историческая наука
19
глубокая противоположность марксистского понимания общест-
венных законов их структуралистическому истолкованию, кото-
рое разрывает законы движения и законы развития. Достаточно
поставить вопрос, чем являются законы классовой борьбы: зако-
нами структуры, законами движения или законами развития об-
щества, чтобы стала очевидной несостоятельность такой типоло-
гии исторических законов.
Существуют единые законы общественного развития, которые
нельзя расчленить на законы структур, законы движения, законы
развития. Доказательством тому является все содержание «Капи-
тала» К. Маркса, если это содержание взять в его целом, а не
подвергать искусственному расчленению на отдельные части, как
это делают современные «неомарксисты», стремящиеся преодо-
леть пороки структурализма с помощью «диалектического мате-
риализма, трактуемого как генетический структурализм» 13.
В советской литературе о применении структурного метода
к изучению теоретических проблем исторической науки на про-
тяжении ряда лет пишет М. А. Барг. В сборнике «Теоретические
проблемы всемирно-исторического процесса» (М., 1979) им совме-
стно с Е. Б. Черняком предпринята попытка системной классифи-
кации законов и закономерностей. Выделив закономерности об-
щественно необходимых отношений и обозначив эти отношения
как структуру «А», авторы полагают, что она в качестве норма-
тивного субстрата «не знает ни региональных, ни стадиальных
разновидностей. Как абсолютное тождество она всегда равна се-
бе» 14. Мы полагаем, что независимо от того, будут ли закономер-
ности данной структуры в дальнейшем предметом рассмотрения
в политической экономил, как полагают авторы, или же к их
исследованию окажется причастной историческая наука, никакой,
даже самый высокий, уровень абстракции не сможет послужить
оправданием для отрицания применимости к структуре «А» ди-
алектики истории.
Что касается законов политической экономии, то нельзя не
вспомнить ту характеристику, которую им дал Ф. Энгельс в ре-
пензиях на первый том «Капитала». Он особо отметил историче-
ский подход, пронизывающий всю книгу и позволивший увидеть
«в экономических законах не вечные истины, а лишь формули-
ровку условий существования известных преходящих состояний
общества...» 15. Заслуга К. Маркса состоит в том, что он поло-
franzosischer Sozialgeschichte.— HZ, 1974, Bd. 219, S. 592—593, 604—605).
См. также: Groh D. Kritische Geschichtswissenschaft in emanzipatorischer
Absicht. Stuttgart, 1973, S. 81—90.
13 Benz W., Muller M. Op. cit, S. 248.
14 Жуков E. M., Барг M. А., Павлов В. И., Черняк Е. Б. Теоретические про-
блемы всемирно-исторического процесса. М., 1979, с. 114.
15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 16, с. 212.
20
А. И. Данилов
жил конец ограниченному представлению о политической эконо-
мии, согласно которому ее положения рассматривались как веч-
ные истины, а не как «результаты определенного исторического
развития» 1в.
Процесс не тождествен с событиями, его составляющими. Но
это не означает, что в исторической действительности тот или
иной процесс может протекать в каком-либо ином выражении,
кроме событий и их результатов. Это одинаково верно и для по-
литики, и для экономики, и для идеологии, и для культуры в
целом. Исторический процесс потому и является историческим,
что он никогда не является простым воспроизведением уже ранее
существовавшего состояния. Ему свойствен момент качественно
своеобразного движения не только в целом, но и на различных
его этапах. И это-то качественное своеобразие обязательно при-
влекает к себе внимание историка-исследователя. Без этого нель-
зя выяснить общее и особенное в историческом процессе, а затем
перейти к проникновению в присущие ему законы.
Подлинно историческое событие всегда оказывает влияние на
последовавшее за ним развитие. Степень длительности и глубины
такого влияния и определяет его значимость. Отсюда следует,
что исторический процесс не может быть понят без осмысления
всей цепи событий, в него входящих, события же раскрывают
свой смысл лишь как моменты движения этого процесса. Только
так можно обнаружить, с одной стороны, историческую обуслов-
ленность событий, а с другой — историческое содержание всего
процесса 16 17. Чем более значим исторический процесс, чем более
16 Там же, с. 222.
17 С этим связана необходимость осторожности не только при использова-
нии аналогии применительно к историческим событиям и процессам, но
и при разработке исторических типологий.
К. Маркс и Ф. Энгельс неоднократно отмечали, что аналогия между
обезземелением свободного крестьянства в древнем Риме, во Франкском
государстве и в Англии периода первоначального накопления имеет чи-
сто внешний характер, хотя этот процесс повсеместно выражался в при-
менении насильственных средств, вызывающих разорение хозяйств лич-
но свободных непосредственных производителей-земледельцев. Но в каж-
дом из этих случаев процесс завершался по-разному: свободные непо-
средственные производители в первом случае превращались в люмпенов,
во втором — в крепостных и феодально зависимых крестьян, в третьем —
в наемных рабочих (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 120—
121; 514—518, т. 21, с. 151—153; т. 23, с. 738).
«Таким образом,— писал К. Маркс,— события поразительно анало-
гичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели
к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюций в
отдельности и затем сопоставляя их, легко найтп ключ к пониманию это-
го явления; но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь уни-
версальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской
теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 121).
Историческое событие и историческая наука
21
он глубоко содержателен, тем большее влияние оказывает на
судьбы того или иного народа, общественного строя или на всю
всемирную историю. Вместе с тем огромную роль приобретают
события, знаменующие кульминацию такого процесса, его пере-
ломные рубежи. Это верно применительно к историческим явле-
ниям и процессам, относящимся к самым разным эпохам.
В работе «К истории древних германцев» Ф. Энгельс счел
необходимым дать описание происходивших на рубеже нашей
эры военных столкновений римских легионеров, поддерживаемых
их союзниками из варварских племен, с противостоящими на-
тиску завоевателей германскими племенами. В ряде мест он при-
бегнул к детальному описанию военных действий по годам, что
позволило ему проанализировать и показать все своеобразие
развития исторической ситуации, показать упорство, с которым
ряд древнегерманских племен противостоял завоевателям.
В цепи этих событий он выделил как поворотный момент, име-
ющий решающее значение, разгром легионов Вара в Тевтобург-
ском лесу: «Независимость германцев от Рима была этим сраже-
нием установлена раз навсегда» ,8. пБез этого события все исто-
рическое развитие, полагал Ф. Энгельс, получило бы иное на-
правление.
Взятая в отдельности, оторванная от исторических условий на-
чала I в. н. э., от коренной противоположности социально-поли-
тического строя Римской империи и древнегерманских племен,
противостоящих ее миродержавным планам, битва в Тевтобург-
ском лесу выглядит лишь как одно из многочисленных столкно-
вений между римлянами и варварами; исследуемая как звено в
цепи событий, обусловивших дальнейший ход истории, она при-
обретает то существенное значение, которое подчеркнул в своей
работе Ф. Энгельс.
В нашей стране было торжественно отмечено событие, проис-
шедшее 325 лет тому назад,— Переяславская рада. Внимание
к этому событию обусловлено той ролью, которую оно имеет в
истории нашей Родины. В приветствии ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР по случаю
юбилейной даты сказано: «Воссоединение Украины с Россией
явилось результатом многовекового развития их экойомических,
политических и культурных связей, выражало их обоюдное
стремление к единению, имело непреходящее значение для буду-
щего всей нашей Отчизны. Этим историческим актом навсегда
было закреплено единство двух братских народов, столь близких,
как отмечал В. И. Ленин, по языку, по месту жительства, по
характеру и по истории» 18 19.
18 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 465.
19 Правда, 1979, 30 янв.
22
А. И. Данилов
Воссоединение Украины с Россией было результатом многове-
кового развития, но оно требовало для своего завершения опре-
деленного события. Это был исторический акт политического со-
держания, который навсегда закрепил единство двух братских
народов. Именно это обстоятельство вновь привлекает наше вни-
мание к далекому по времени событию января 1654 г. Здесь
сказывается связь времен, их внутреннее единство, влияние ис-
тории на современность. В этом аспекте событие 1654 г. в полной
мере сохраняет свое историческое значение в общественной и
идейно-политической жизни нашего народа.
Особое место в мировой истории занимают социально-полити-
ческие революции, в которых находят свое выражение высшие
проявления классовой борьбы. Они определяют собой длитель-
ную историческую перспективу развития, если являются дей-
ствительно подлинными народными революциями. В. И. Ленин
особо отмечал присущее Марксу понимание того, что в великих
исторических событиях один день может равняться целому пе-
риоду20. Изучение хода событий в великих политических рево-
люциях позволяет отчетливо увидеть подлинную глубину пере-
лома, качественное изменение исторического процесса. Среди
всех революций величайшей является Великая Октябрьская со-
циалистическая революция — главное событие XX в. Она положи-
ла начало имеющему всемирно-историческое значение повороту
человечества от капитализма к социализму.
Именно поэтому советская историческая наука с такой тща-
тельностью изучает каждую деталь этого великого исторического
события. Исследовапие его влияния на мировую историю никогда
не перестанет быть объектом пристального внимания историче-
ской науки.
Вот почему создание научной хроники Великой Октябрьской
социалистической революции, равно как и хроники жизни и дея-
тельности В. И. Ленина, является выдающимся достижением со-
ветских историков.
Прогресс исторического познания, как известно, па ранних
этапах его развития сводился к тому, что от фиксации отдельных
событий стали переходить к выявлению цепи событий, стали
открывать сначала внешние, а затем внутренние связи, а также
их обусловленность конкретной ситуацией, в которой они совер-
шались. Позднее в совокупности качественно близких групп со-
бытий стали усматривать направление изменений, тенденцию раз-
вития, возникло представление об исторических процессах, а затем
20 «Один день октябрьской стачкп или декабрьского восстания во сто раз
больше значил и значит в истории борьбы за свободу, чем месяцы ла-
кейских речей кадетов в Думе...» {Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 16,
с. 26).
Историческое событие и историческая наука
23
и об общих законах и отдельных закономерностях, свойст-
венных лишь определенным процессам. Это стало возможным с
обнаружением противоречивости событий, а затем и внутренней
противоречивости самого процесса.
«Люди сами творят свою историю,— писал В. И. Ленин,— но
чем определяются мотивы людей и именно массы людей, чем
вызываются столкновения противоречивых идей и стремлений,
какова совокупность всех этих столкновений всей массы челове-
ческих обществ, каковы объективные условия производства ма-
териальной жизни, создающие базу всей исторической деятель-
ности людей, каков закон развития этих условий,— на все это
обратил внимание Маркс и указал путь к научному изучению
истории, как единого, закономерного во всей своей громадной
разносторонности и противоречивости, процесса» zl.
Таким образом, прогресс исторического познания привел к
выходу за пределы такого изучения событий, которое сводится
к их описанию. Но он не упразднил необходимости для истори-
ческой науки описывать события с тем, чтобы затем перейти к
последующим этапам исследования. Это верно и по отношению
к историческим процессам. Конечно, описать событие и процесс
еще не означает решить все задачи исторического исследования.
Но взятое в самом общем виде историческое исследование не
может обойтись без описания. Без установления достоверности
событий, без их описания немыслим переход к изучению пробле-
мы. Исследователь может основываться, конечно, на работе, про-
деланной в этой сфере другими историками, но это ничего не
меняет в существе дела, в методологии исследования.
Попытка осуществить изучение любой исторической пробле-
мы без выявления и описания относящихся к ней событий и
процессов, как правило, не дает ничего нового для исторической
науки, а порой превращается в пародию на нее. Это следует ска-
зать и о попытках заменить конкретное описание исторических
событий их абстрактно-структуралистскими определениями. Ни-
чем, например, не обогащает историческую науку рассмотрение
периода между февралем и октябрем 1917 г. в России как време-
ни ожесточенной борьбы между системостабилизирующими и
.системовзрывающими факторами. Боролись, как известно, не
факторы, а партии, классы и массы. И только изучение событий,
в которых нашла свое выражение эта борьба, позволяет понять
подлинное содержание данного периода.
Отношение к описанию событий как якобы к проявлению
слабости и неразвитости исторической науки и тем более прене-
брежение изучением событий и процессов являются свидетель-
ством в лучшем случае методологической незрелости. Такого рода
21 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 58.
24
А. И. Данилов
взгляды не имеют ничего общего с принципами и традициями
марксистской исторической науки. Для нее анализ и обобщение
истории в самом широком теоретическом плане немыслимы без
раскрытия содержания того или иного исторического процесса
или явления, раскрытия, начинающегося с описания событий.
Для марксизма руководящей нитью при изучении истории
является теория классовой борьбы, классовый подход, позволяю-
щий открыть закономерности общественной жизни. Классовая же
борьба проявляется в действиях и событиях, как и всякая борьба
в истории. Кто изучает историю как историю классовой борьбы,
тот неизбежно изучает действия борющихся классов, поступки их
представителей, выясняет содержание этих действий и поступков,
стремится к научному определению источников классовой борьбы,
коренящихся в положении различных классов, и ее результатов.
«При этом все классы и все страны рассматриваются не в стати-
ческом, а в динамическом виде, т. е. не в неподвижном состоя-
нии, а в движении (законы которого вытекают из экономических
условий существования каждого класса). Движение в свою оче-
редь рассматривается не только с точки зрения прошлого, но и с
точки зрения будущего и притом не в пошлом понимании „эво-
люционистов“, видящих лишь медленные изменения, а диалекти-
чески...» “2
Книга К. Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта»
принадлежит к классическим образцам материалистической исто-
риографии. Сделанные в ней выводы о коренном отличии проле-
тарских революций от буржуазных, определение важности взаи-
моотношений пролетариата и крестьянства в революции, тезис о
необходимости слома старой государственной машины в ходе этой
революции навсегда вошли в теоретическую сокровищницу марк-
сизма. Все эти обобщения сделаны в результате последователь-
ного раскрытия роли классовой борьбы как движущей силы исто-
рии и непосредственно вытекают из того анализа исторических
событий, который осуществлен в книге.
Суммируя опыт революции 1848—1851 гг., К. Маркс исходит
из всестороннего исследования событий, их взаимной связи, вы-
являет главные периоды революции, определяя то общее, что
свойственно каждому из этих периодов; вместе с тем он основы-
вается и на описании, порой весьма детальном, наиболее сущест-
венных событий революции. Это описание выступает как необхо-
димая предпосылка исторического анализа и историко-теоретиче-
ских обобщений. Для К. Маркса тщательное исследование
политических событий революции предполагает все более и более
глубокое проникновение в существо тех сдвигов, которые происхо-
дили в социально-экономическом строе Франции и которые, обус-
22 Ленин В. И. Полы. собр. соч., т. 26, с. 77—78.
Историческое событие и историческая наука
25
ловливая в конечном счете политические события, вместе с. тем не
могли быть реализованы вне и помимо определенных событий.
Поразительное по своей точности предвидение политической
судьбы бонапартизма, содержащееся в конце книги 23, обосновано
анализом расстановки классовых сил, сложившихся к концу
1851 г., и именно этот анализ потребовал описания событий ре-
волюции с классовых позиций пролетариата.
Первый том «Капитала» содержит обширные исторические
экскурсы, имеющие принципиальное значение для всего произве-
дения в целом. Они убедительно свидетельствуют, что для
К. Маркса описание исторических событий является неотъемле-
мым этапом исследования законов развития капиталистического
способа производства. Так, рассматривая в главе «Рабочий день»
принудительные законы об удлинении рабочего дня, издававшие-
ся в Англии с середины XIV в. до 1864 г., К. Маркс широко
прибегает к описанию событий, несущему на себе большую идей-
ную и научную нагрузку. Он подробно излагает содержащуюся
в рабочем статуте 1349 г. регламентацию рабочего дня, указывает
па те изменения, которые были внесены статутом 1562 г. Это слу-
жит исходным пунктом дальнейшего рассмотрения борьбы вокруг
продолжительности рабочего дня, тех отношений, которые здесь
складывались. Без описания целого комплекса исторических со-
бытий нельзя было бы осмыслить ни положения о том, что регу-
лирование рабочего дня развивалось из отношений капиталисти-
ческого способа производства, а их «официальное признание и
провозглашение государством явились результатом длительной
классовой борьбы»24 25 26, ни того значения, которое придается в
«Капитале» этой борьбе 23.
24-я глава 1-го тома «Капитала», являющаяся подлинным
шедевром материалистического понимания истории, представляет
собой сплав глубочайшего философского проникновения в соци-
альный процесс, предельной точности экономического анализа,
всестороннего исторического исследования с теоретическими вы-
водами, вооружавшими пролетариат в борьбе с буржуазией мощ-
ным оружием.
Знаменитая формула К. Маркса: «Бьет час капиталистической
частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют»м —
представляет собой теоретическое обобщение, все значение кото-
рого не может быть в должной мере научно осмыслено без уразу-
мения всей полноты исторического исследования, предпринятого
К. Марксом. Он вновь и вновь предстает нам как ученый, прони-
23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8. с. 217.
24 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 292.
25 Там же, с. 308, 310—311.
26 Там же, с. 773.
26
А. И. Данилов
кающий в суть исторического процесса, и это достигается им,
в частности, и в последовательном изучении хронологически на-
растающей цепи событий, наиболее существенных для данного
процесса.
События и социально-экономическое состояние общества, пе-
ремены в нем здесь, как и повсюду в «Капитале», слиты, не мо-
гут исследоваться отдельно друг от друга, и это является одним
из доказательств несостоятельности утверждения современного
«неомарксизма», будто бы у К. Маркса история структур как тео-
рия социальной эволюции и история событий разорваны27,
а в исторических разделах «Капитала» К. Маркс изучает не исто-
рическую действительность, а некий логически сконструирован-
ный объект 28.
Нет необходимости доказывать непреходящее теоретическое и
политическое значение классического труда В. И. Ленина «Импе-
риализм, как высшая стадия капитализма». Он обогатил все об-
щественные науки, выдвинув идеи, оказывающие мощное влияние
на их развитие и в наши дни. Эго в полной мере относится к
исторической науке, будем ли мы иметь в виду исследование
истории империализма или методологию исторических исследо-
ваний вообще.
Ленинское произведение представляет собой одно из наиболее
ярких свидетельств того, что с точки зрения марксизма-лениниз-
ма исторические знания имеют фундаментальное значение для
всех общественных наук. За каждым положением книги, за каж-
дой ее формулировкой и выводом стоит огромная работа по из-
учению обширнейшего исторического материала во всей его пол-
ноте. В этой работе В. И. Ленина все вопросы рассматриваются с
позиций последовательного историзма и каждое положение бази-
руется на бесспорных исторических доказательствах. Историче-
ский подход, концентрация внимания на качественно новых яв-
27 Такого рода утверждения противоречат прямым указаниям К. Маркса,
который характеризовал, например, 24-ю главу 1-го тома «Капитала» как
«исторический очерк возникновения капитализма в Западной Европе»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 120). Он специально подчер-
кивал историческую конкретность главы о первоначальном накоплении,
указывая, что она «претендует лишь на то, чтобы обрисовать тот путь,
которым в Западной Европе капиталистический экономический строй
вышел из недр феодального экономического строя» (Там же, с. 119).
28 Schmidt A. Zum Problem einer marxistischen Historik.— In: Wozu noch Ges-
chichte / Hrsg. W. Oelmiiller. Munchen, 1977, S. 155, 157.
Историки, заботящиеся о том, чтобы частично, как они пишут, ин-
корпорировать марксистские представления о феодализме в социальную
историографию ФРГ, Л. Кухенбух и Б. Михаэль считают, что взгляды
К. Маркса и Ф. Энгельса по конкретным вопросам истории средних ве-
ков якобы устарели и никак не связаны с их теоретическим пониманием
феодализма (Feudalismus — Materialen zur Theorie und Geschichte / Hrsg.
L. Kuchenbuch und B. Michael. Frankfurt a. M, 1977, S. 11—12, 750).
Историческое событие и историческая наука
27
лениях пронизывают весь ленинский экономический анализ, ни
един из выводов которого не может быть понят вне и помимо
исторической связи, прослеженной в книге 29.
Историческая конкретность, необходимость которой неодно-
кратно подчеркивается в ленинском произведении30, неотделима
и от статистической обработки экономического материала, содер-
жащейся и в самой книге, и в подготовительных материалах к
ней.
Привлекая большое количество специальной исторической
литературы, В. И. Ленин тщательно изучал события политической
истории, относящиеся не только к истории империализма, но и к
его предыстории. В «Тетрадях по империализму» он выписывает
даты событий, позволяющих проследить важное для изучаемой
темы развитие того или иного процесса.
Читая книгу Э. Ульбрихта «Мировая держава и национальное
государство (политическая история 1500—1815 гг.)», В. И. Ленин
выписал бодее сотни дат, относящихся к международным отноше-
ниям и войнам XVI — начала XIX в.31 Эти даты охватывают
почти все основные факты изменения"1 государственных границ в
Европе и частично Америке. О большой роли, которую В. И. Ле-
нин при подготовке материалов для своего произведения придавал
выяснению во всей их полноте событий, связанных с колониаль-
ными захватами и войнами в последней трети XVIII — начале
XIX в., можно судить по таблице, содержащейся в записях по
книге А. Вирта «Всемирная история современности» 32.
Для работы В. И. Ленина с историческим материалом не ме-
нее характерными являются записи хронологической последова-
тельности событий, позволяющие проследить вехи того или иного
процесса или явления. Так, он отмечает даты развития банковско-
го дела в Германии с 1871 по 1910 г., войн Англии и Франции с
XVII по начало XIX в. и события дипломатической истории с
1879 по 1907 г.33 В конце выписок из книги Г. Эгельгафа «Исто-
рия новейшего времени» В. И. Ленин в хронологическом порядке
сделал сводку событий, относящихся к главнейшим кризисам в
международной политике великих держав после 1870—1871 гг.,
а затем на основании материалов Эгельгафа и других источников
составил синхронистическую таблицу событий всемирной истории
29 Нельзя не видеть прямой связи между содержанием «Империализма, как
высшей стадии капитализма» и ленинскими положениями об историзме,
которые сформулированы в относящихся к ноябрю 1916 г.— январю
1917 г. письмах к И. Ф. Арманд и Н. Д. Кикнадзе {Ленин В. И. Поли,
собр. соч., т. 49, с. 319—320, 329—330, 369—370).
30 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 27. с. 315, 317, 390.
31 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 28, с, 587—590.
32 Там же, с. 489—494.
33 Там же, с. 345—346, 495.
28
А. И. Данилов
после 1870 г.34 В таблицу вошли хронологически фиксированные*
события, разделенные на 10 граф (войны, дипломатия, колони-
альная политика, экономическая политика, рабочее движение и
социалистические партии, революционное движение непролетар-
ского характера, национальные движения и национальный вопрос,
демократические реформы, социальные реформы); в последнюю
(10-ю) графу включены различные события, не вошедшие в ос-
новные графы. Из таблицы видно, что В. И. Ленин проделал
большую работу по отбору событий и их систематизации. Это го-
ворит о том, что он придавал самостоятельное значение сопостав-
лению исторических событий, важных для различных областей
общественной жизни, определению их временной последователь-
ности и связи.
Все содержание «Тетрадей по империализму» показывает, на
какой солидной исторической основе построено ленинское учение
об империализме, сколь тщательно были исследованы историче-
ские факты, первично чаще всего выступающие как экономиче-
ские, социальные и политические события. Книга «Империализм,
как высшая стадия капитализма» и подготовительные материалы
к ней показывают, насколько теоретические обобщения у
В. И. Ленина связаны с конкретным опытом истории и как все-
сторонне этот опыт анализируется с точки зрения изучения со-
бытий, смысловая и хронологическая последовательность которых
могут не совпадать, но и не могут быть противопоставлены.
Во временной фиксированности событий выражается специ-
фическая для исторического познания констатация присущего
самой действительности единства количественного и качественно-
го, единства, позволяющего поставить вопрос о смысловой связи
событий и таким образом вычленить определенную цепь событий.
Поэтому в отличие от формализованного ряда клиометрии хроно-
логический ряд включает в себя не только количественное
(временное), но и качественное (смысловое) изменение.
Асинхронность различных цепей событий, разновременность
протекания процессов в разных сферах исторической действитель-
ности, равно как часто наблюдаемые различия в темпах развития
в пределах одной и той же цепи событий, не могут служить до-
казательством ни отсутствия единства всемирно-исторического
процесса, ни правомерности отрицания объективности категории
времени в исторической науке 35.
34 Там же. с. 670—687.
35 Г. Шлейер (ГДР) отметил, что теория плюрализма различно протекаю-
щих времен используется в буржуазной историографии для обоснования
тезиса об отсутствии внутреннего единства общества, которое распада-
ется на ряд не связанных между собой уровней, каждый из которых ока-
зывается самостоятельным (Schleier Н. Theorie der Geschichte — Theorie
der Geschichtswissenschaft. Berlin, 1975, S. 44. См. также: Merei Gy. Struk-
Историческое событие и историческая наука
29
Таков один из существенных методологических выводов, кото-
рый следует сделать историку при изучении обработки историче-
ского материала, осуществленной В. И. Лениным для подготовки
книги «Империализм, как высшая стадия капитализма». Конкрет-
ность истории выступает здесь прежде всего как конкретность со-
бытий в их хронологической связи.
Рассмотрение места категории «событие» в методологии исто-
рии позволяет считать неправомерной постановку вопроса, чему
принадлежит приоритет в познании прошлого: состояниям (струк-
турам) или событиям, какое исследование в научном отношении
предпочтительнее — относящееся к историографии событий или
к структурной историографии?36 Столь абстрактная постановка
проблемы может породить лишь схоластическое теоретизирование,,
так как предполагает, с одной стороны, допустимость смотреть на
состояния, структуры как на нечто по своей природе качественно
неизменное, а с другой — возможность отрывать события от
условий, их породивших. И то и другое создает представление об
истории как о некоем хаосе действительности, к упорядочению ко-
торого призван историк. В этой связи* становится ясным, почему
несостоятельна и постановка вопроса, что ближе материалисти-
ческому пониманию истории — структуралистская или событий-
ная историография. И той и другой недоступно понимание зако-
нов истории, открытых марксизмом-ленинизмом, и их значения
в историческом исследовании37. Так, например, изложение в
turgeschichtsforschung in der biirgerlichen Geschicbtsschreibung in BRD.
Budapest, 1975, S. 22—23).
В статье «Валовой доход крестьянских хозяйств и государственное
налогообложение в Голландии в начале XVI в.», критикуя взгляды Ле
Руа Лядюри о неподвижности европейской экономики в XIII—XVIII вв.,
А. Н. Чистозвонов отмечал, что происходившие здесь сдвиги были в ряде
случаев связаны с изменениями в области социально-политических от-
ношений (борьба внутри господствующего класса, войны и т. д.): «Не
следует думать, как это весьма распространено в новейших исследова-
ниях многих буржуазных историков, будто политические события, а осо-
бенно войны представляли собой некое внешнее по отношению к фео-
дальному строю „стихийное11 явление» (СВ, 1978, вып. 42, с. 89).
36 Когда Ф. Бродель полагает, что историю в целом можно понять, только-
привыкнув рассматривать ее как неподвижную, то в методологическом
отношении это непосредственно связано с присущим структурализму
отрывом исторического состояния от исторического развития {Braudel F.
Ecrits sur l’histoire. Paris, 1969, p. 65).
Уже одно это обстоятельство не дает возможности присоединиться
к мнению М. А. Барга, что основное понятие современной социологизи-
рованной истории — «структура» — проникнуто пафосом объективизации
исторического знания и является воплощением прогрессивной тенденции
ь буржуазном историзме {Барг М. А. Проблемы социальной истории в
освещении современной западной медиевистики. М., 1973, с. 29—30).
37 Из этого следует, что недопустимо механически подменять марксистские
понятия структуралистскими. На это было обращено внимание и в бур-
жуазной историографии. Риттнер считает неадекватным марксизму
структуралистское истолкование категории «базиса» в качестве «эконо-
30
А. И. Данилов
книге Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии» не являет-
ся ни структурной, ни событийной историей. Оно не укладывает-
ся в прокрустово ложе ни той ни другой.
В книге исследованы основные черты экономического и со-
циально-политического строя средневекового общества на глав-
ных этапах его развития, характер идеологии этого общества,
различные формы проявления классовой борьбы (как закономер-
лого порождения феодализма), предпосылки и конкретные собы-
тия Реформации и Крестьянской войны в Германии и т. д. Тру-
ду Энгельса в равной мере чужды и структуралистский, и идио-
графический подход к исторической действительности, хотя,
конечно, при желании в одних его разделах можно усматривать
внешнюю аналогию с первым, а в других — со вторым. Но такие
аналогии будут носить характер явных натяжек и ничего не
дадут для понимания главного в книге: первого по времени при-
менения материалистического понимания истории к проблемно-
монографическому изучению целой эпохи средневековья, к иссле-
дованию многих закономерностей феодализма в их конкретно-
исторических проявлениях.
Для исторического материализма законы истории носят объ-
ективный характер, и, будучи раз открытыми, они не могут уста-
реть даже после того как исчезает то общество, в котором они
действовали. Никакое последующее общественное развитие не
может, например, отменить или упразднить те закономерности
движения феодальной ренты и связанное с ними своеобразие от-
ношений в средневековом обществе, которое было выяснено
К. Марксом38. Открытые марксизмом-ленинизмом законы исто-
рии не могут быть оторваны от действительного исторического
процесса, их реальность заключена в нем самом, и именно поэто-
му они не могут рассматриваться статично. Отсюда проистекает
одно из основных методологических требований, сформулирован-
ных К. Марксом и Ф. Энгельсом относительно применения мате-
мической частной системы». Такая трансформация приводит к предпо-
ложению, что в марксизме экономический оазис выступает в обществе
наряду с другими частными системами, которые являются относительно
равноправными и автономными, образуя вместе с тем единую систему.
Если же базису как субсистеме приписывать определяющую роль по
отношению к другим подсистемам, то, с точки зрения структурализма,
это оказывается актом явного произвола (Rittner К. «Das Kapital» als
historische und als Gegenwarts-Analyse.— In: Ansichten einer kiinftigen
Geschichtswissenschaft, Bd. 1, S. 144—145).
38 В этом отношении весьма показательно то, что писал один из творцов
революции, породившей современную физику, о теории относительности:
«...Не следует думать, что великое творение Ньютона можно ниспроверг-
нуть этими или какими-либо другими теориями. Ее ясные и всеобъем-
лющие идеи навсегда сохранят свое уникальное значение как фунда-
мент, на котором построено здание современной физики» (Эйнштейн А.
Собрание научных трудов. М., 1965, т. 1, с. 680).
Историческое событие и историческая наука
ЗТ
риалистического понимания истории: оно руководство к изучению,
а не рычаг для конструирования схем: «... Материалистиче-
ский метод превращается в свою противоположность, когда им
пользуются не как руководящей нитью при историческом иссле-
довании, а как готовым шаблоном, по которому кроят и перекраи-
вают исторические факты» 39.
Решительно отвергая шаблонно-догматическое истолкование
марксизма по меркам эпохи II Интернационала, В. И. Ленин
подчеркивал, что реформистам «совершенно чужда всякая мысль
о том, что при общей закономерности развития во всей всемирной
истории нисколько не исключаются, а, напротив, предполагаются
отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо
формы, либо порядка этого развития»40. Такое своеобразие не
меняет характера истории, но его игнорирование означает непони-
мание главного в марксизме — его революционной диалектики.
Отсюда вытекает необходимость исследования в историческом
процессе всей совокупности исторических событий, этот процесс
составляющих; установления того, как в нем выступают законы
общественного развития, каково здесы соотношение общего и осо-
бенного; далеко не в последнюю очередь важно исследовать, ка-
кова на том или ином этапе истории роль активной, целенаправ-
ленной деятельности людей.. Следует подчеркнуть в этой связи,
что одной из важнейших задач исторической науки является
обобщение исторического опыта.
В методологическом отношении категория «исторический
опыт» непосредственно связана с категориями «историческое со-
бытие» и «историческая ситуация». Все они образуют определен-
ное единство, которое требует специального анализа. В рамках
настоящей статьи отметим лишь, что этой триаде принадлежит
важная роль в познании исторической действительности как сфе-
ры активной целенаправленной деятельности людей. Без исполь-
зования этих категорий нельзя понять применительно к тому или
иному этапу данного процесса противоречивую картину соотно-
шения необходимого и случайного, объективного и субъективно-
го, относительно устойчивого и изменчивого. От того, с каких
методологических позиций привлекаются эти категории, прямо
зависит отбор ученым методических приемов работы с источника-
ми, приемов, которые позволяют в одних случаях приблизиться
к проникновению в объективное содержание изучаемых явлений,
а в других — напротив, создают условия для их истолкования с
позиций волюнтаризма или фатализма. Здесь речь идет уже о
переходе от методологии к конкретным методикам, вне и помимо
которого методологические принципы не могут быть реализованы.
И это, конечно, относится и к категории «историческое событие
39 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 37, с. 351; ср. с. 371.
40 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 379.
Ю. Л. Бессмертный
СТРУКТУРА КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ
ВО ФРАНКСКОЙ ДЕРЕВНЕ IX В.:
ДАННЫЕ АНТРОПОНИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СЕН-ЖЕРМЕНСКОГО ПОЛИПТИКА
Каждый, кто хоть раз открывал полиптик аббата Ирминона,
знает, сколь многообразны в нем крестьянские имена. Специали-
стами было подсчитано, что эти имена крайне редко повторялись:
три самых распространенных из них (Raganhilidis, Bernehardus,
Ermenarius) носило лишь немногим более 1% крестьян и даже
10 наиболее популярных имен принадлежали только 3% зависи-
мых людей монастыря *. Для сравнения заметим, что в том же
IX в. во владениях аббатства Сен-Виктор близ Марселя три пер-
вых по распространенности имени носило 8% крестьян, а 10 наи-
более «модных» имен — 16% населения. Что же касается более
позднего времени, то, например, в Париже в 1299 г. имена Жан,
Гильом и Пьер охватывали 30,3% горожан 2.
Несмотря на свою «индивидуальность», имена сен-жерменских
крестьян формировались отнюдь не случайно: в соответствии с
германской традицией имя, которое давали родители ребенку,
обычно включало те или иные части имен родителей или других
старших родственников (в прямом или аллитерационно преобра-
зованном виде) 3. Данная особенность антропонимической систе-
мы в Галлии VIII—IX вв. широко использовалась лингвистами
* Bergh, A. Etudes d’antroponimie proven^ale. Goteborg, 1941, p. 193; Huber K.
Les elements latins dans 1’onomastique de 1’epoque carolingienne.— Vox Ro-
manica, Bern, 1964, N 23/2, ,p. 253. Полный состав именника, использовав-
шегося в Сен-Жерменском аббатстве в начале IX в., воспроизведен
О. Лоньоном (Longnon A. Polyptyque de I’abbaye de Saint-Germain des
Pres, redige au temps de 1’abbe Irminon, IIе partie: Introduction. Paris,
1886, p. 254—404). Общую характеристику результатов антропонимиче-
ского анализа полиптика Ирминона см.: На пл ан А. В. Некоторые вопросы
изучения французской средневековой антропонимики: (Историография
и методика).— В кн.: Европа в средние века: экономика, политика, куль-
тура. М., 1972, с. 422 и след.
2 Bergh A. Op. cit, р. 193; Michaelsson К. Etudes sur les noms de personne
fran^ais d’apres les roles de taille parisiens. Uppsala, 1927, p. 60.
3 Longnon A. Op. cit., p. 262—269; Michaelsson K. Op. cit., p. 184—188;
Bergh A. Op. cit, p. 66, 196—197, 202; Huber K. Op. cit., p. 238—248. Этот же
порядок действовал и в знатных французских семьях: Werner К. F. Be-
deutende Adelsfamilien im Reich Karl des Grossen.— In: Karl der Gross*.
Lebenswerk und Nachleben. Dusseldorf, 1967, Bd. 1, S. 99—101.
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
33
и историками при анализе германизации галло-римского населе-
ния 4. Нельзя ли, однако, использовать своеобразие этой антропо-
нимической системы для решения некоторых проблем социальной
истории, в частности для решения спорных вопросов структуры
семьи, а также для изучения престижа главных ее членов, отно-
шений между ними и т. п.?
Исследование этих вопросов по данным Сен-Жерменского по-
липтика представляет тем больший интерес, что, как известно,
этот памятник уникален по своему содержанию и с давних пор
служит отправным пунктом при изучении экономической, соци-
альной и демографической структуры Северной Франции IX в.
(напомним, что в нем подробно описано свыше 10 тыс. крестьян,
более 2,5 тыс. отдельных семей, разбросанных почти по 200 де-
ревням, от устья Сены до среднего течения Марны — на востоке
и до верховьев реки Луар — северного притока Луары — на
юге) 5. Поэтому, если бы с помощью антропонимического анали-
за удалось бы получить новые материалы о структуре крестьян-
ской семьи в Сен-Жерменском аббатстве, они представляли бы
не только частный, но и более общий ^интерес и могли бы найти
применение в той широкой дискуссии о структуре родственных
групп, которая с нарастающей остротой развертывается в послед-
4 См. подробнее: Каплан А. Б. Указ, соч., с. 421—426.
5 Материалами полиптика широко пользуются начиная с конца XIX в. и
вплоть до наших дней авторы почти всех крупных трудов по истории
раннего средневековья (К. Инама-Штернег, К. Лампрехт, А. Сэ, А. Допш,
Ф. Лот, Л. Альфап, М. Блок, Ш. Перрен, Ж. Дюби, Р. Бутрюш, Б. Слихер
ван Бат. К. Чипола и др.). Парадоксально, что сплошное и комплексное
исследование этого обширного памятника не проводилось ни разу (если
только не считать того анализа, который был предпринят издателями
полиптика Б. Гераром и О. Лоньоном при составлении введений и ком-
ментариев к нему). Первый и притом весьма плодотворный опыт моно-
графической разработки данных всего полиптика с целью освещения
ряда важных аспектов аграрного строя принадлежит советскому медие-
висту Я. Д. Серовайскому («Кризис маисовой системы во владениях
Сеп-Жермепского аббатства».— Учен, труды кафедр всеобщей истории,
государства и международного права Каз. ун-та, Алма-Ата, 1964, вып. 9;
«О путях формирования феодальной собственности на леса и пастбища
во франкском государстве».— СВ, 1969, вып. 32; 1971, вып. 33; «Севообо-
роты средневековой Франции».—СВ, 1972, вып. 35). Сплошное обследова-
ние этой описи предприняла также американка Э. Коулмен (Coleman
Е. В. Medieval Marriage Characteristics: A Neglected Factor in the History
of Medieval Serfdom.—Journal of Interdisciplinary History, 1971, Autumn,
II; Eadem. L’infanticide dans le Haut Moyen Age.—Annales E. S. C., 1974,
N 2). См.: Бессмертный Ю. .1. Крестьянская семья во Франции IX в.: За-
метки о статье Э. Коулмен «Детоубийство в раннее средневековье».— СВ.
1975, вып. 39, с. 240—241. Недавпо Коулмен опубликовала новую статью
по материалам полпптика Ирмипона: «People and Property: the Structure
of a Medieval Seigneury».— Journal of European History, 1977, vol. 6, N 3
(см. ниже, примеч. 52).
2 Средние века, в. 43
34
Ю. Л. Бессмертный
ние годы в медиевистике 8 и которая особенно важна как раз для
периода раннего средневековья: хорошо известно, что многие
важнейшие проблемы генезиса феодализма — начиная от отно-
шений собственности и социальной структуры и кончая вопроса-
ми демографии и социальной психологии — не могут быть по-
настоящему изучены без уяснения путей развития семьи7.
Ограничиваясь в этой статье вопросом о составе и типе се-
мейной группы, отметим прежде всего преобладание среди специ-
алистов мнения о господстве в Северной Франции IX в. малой
супружеской семьи (включавшей родителей и их неженатых де-
тей — преимущественно несовершеннолетних) 8. Для доказатель-
8 Из числа наиболее важных западноевропейских работ последних лет
назовем: Laslett Р. and oth. Household and Family in Past Time. Cambrid-
ge, 1972; Famille et societe.— Numero special de 1’Annales E. S. C., Paris,
1972; Enfant et societes. Paris; La Haye, 1973; Aries Ph. L’enfant et la vie
familiale sous 1’Ancien Regime. Paris, 1973; Heers J. Le clan familial au
Moyen Age. Paris, 1974; Lebrun F. La vie conjugate sous 1’Ancien Regime.
Paris, 1975; Flandrin J. L. Families (Parente, maison, sexualite, dans 1’anci-
enne societe). Paris, 1976; Noonan J.-T. Contraception et manage: evolution
ou contradiction dans la pensee chretienne? Paris, 1969; Lafon J. Les epoux
bordelais. 1450—1550. Regimes matrimoniaux et mutations sociales. Paris,
1972; Armengaut A. La famille et l’enfant en France et en Angleterre. Paris,
1975; The Family in History. New York, 1976; Women in Medieval Society.
Philadelphia, 1976; Famille et parente dans 1’Occident medieval. Roma, 1977;
La femme dans les civilisations des XIе—XIIIе siecle. Poitiers, 1977.
Показательно, что в течение последних лет едва ли не ежегодно на
Западе проходят специальные конференции по истории семьи и брака в
средние века (Нью-Йорк, 1972; Гаага, 1973; Чикаго, 1974; Париж, 1974;
Сполето, апрель 1976; Пуатье, сентябрь 1976). Не удивительно, что проб-
лемы средневековой семьи намечено обсуждать как на секционных, так
п на пленарных заседаниях XV Международного конгресса исторических
наук в Бухаресте (1980 г.). См.: ВИ, 1977, № 12, с. 203—208.
7 Не случайно проблемы семьи специально рассматриваются в таких клас-
сических работах по истории раннего средневековья, как: Маркс К. Фор-
мы, предшествующие капиталистическому производству.— Маркс К.,
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. 1, с. 461—508; Энгельс Ф. Происхождение
семьи, частной собственности и государства.— Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
2-е изд., т. 21; Ковалевский М. М. Очерк происхождения и развития семьи
и собственности. М., 1939; Он же. Общинное землевладение, причины, ход
и последствия его разложения. М„ 1879; Неусыхин А. И. Возникновение
зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в' За-
падной Европе VI—VIII вв. М., 1956; Сказкин С. Д. Очерки по истории
западноевропейского крестьянства в средние века. М., 1968; и др.
8 Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. М., 1957,
с. 223: с каролингской эпохи «крепкую и большую патриархальную
семью заменяет в качестве ячейки общественной жизни супружеская
семья, состоящая главным образом из потомков еще живущих супру-
гов»: Fourquin G. Le premier Moyen age.— In: Hisloire de la France rura-
le. Paris, 1975. t. 1, p. 348: «Les manses tenues de Saint-Germain-des-Pres
autour de Paris semblent occupes non par une famille large, mais par nn
menage et ses enfants»; Coleman E. R. Medieval Marriage..., p. 208: «the
manors belonging to Saint-Germain-des-Pres did not show a trend toward
large families»; см. также: Dubu G. Guerriers et paysans. VIIе—XIIе siec-
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
35
ства этого тезиса широко используются как раз материалы по-
липтика Ирминона: в качестве основной единицы описания кресть-
янского населения здесь действительно чаще всего фигурирует
малая семья. Специалистами было, однако, давно замечено, что
признание полной обособленности малой семьи в Сен-Жермен-
ском аббатстве делает трудно объяснимыми два важных факта:
во-первых, исключительную развитость здесь совладения одним
и тем же земельным наделом (маисом) сразу нескольких малых
семей9, а во-вторых, относительную малочисленность самой этой
семьи 10. Для объяснения этих фактов были выдвинуты различ-
ные гипотезы. Ф. Лот связывал особую узость семьи в Сен-Жер-
les. Paris, 1973, р. 44. Сходную точку зрения высказывает Я. Д. Серовай-
ский («Мане и надел зависимого крестьянина во Франции по материа-
лам клюнийских грамот (X—XII вв.).— Учен. зап. Каз. ун-та, 1960, т. 47,
вып. 6, с. 80: «Большая семья как хозяйственная единица изживает себя
на основной территории Франции уже в V—VIII вв. ...Каждый мане на-
ходился, как правило, во владении одной семьи современного типа...»).
Более осторожен Р. Фоссье, подчеркивающий длительное сохранение —
наряду с малыми — больших семей (Fossier R. La terre et les hommes en
Picardie jusqu’a la fin du XIIIе siecle. Paris; Louvain, 1968, p. 207) и
Ш. Перрен, отмечающий, что, судя по материалам Сен-Жерменского по-
липтика, старшие женатые дети могли иногда жить совместно с роди-
телями в качестве их «совладельцев» (Perrin Ch. Е. Observations sur le
manse dans la region parisienne au debut du IX s.— Annales d’histoire so-
ciale, 1945, p. 45—48; Idem. Note sur la population de Villeneuve-Saint-
Georges au IX s.— Moyen Age, 1963, t. 69, p. 82).
9 Еще Герар отмечал, что, согласно полиптику Ирминона, на один кресть-
янский мане приходится в среднем 1,72 домохозяйства (Polyptyque de
ГаЬЬёе Irminon. I. Prolegomenes / Publ. par B. Guerard. Paris, 1844, p. 898;
Longnon A. Op. cit., p. 243). По подсчетам Я. Д. Серовайского, эта цифра
составляет 1,5 (Кризис.... с. 165). По данным Коулмен, доля населения,
проживавшего на мансах, где было совладение, составляет 40,6% (Me-
dieval Marriage..., р. 208). По нашим подсчетам, доля семей, проживав-
ших на держании совместно, достигает в некоторых поместьях монасты-
ря 85—87% общего числа крестьянских семей (гл. XIII и IX) и лишь
изредка опускается ниже его трети. Совладение неразвито всего в трех
небольших имениях (гл. VIII, XVII, XXIII).
,0 Если в Шампани, Пикардии, Бургундии и ряде областей того же Иль-де-
Франса среднее число детей на малую семью составляло в IX в. около
2.5, а средняя численность семьи — около 4,5 (см.: Fossier R. La terre...,
р. 204—205; Dub у G. Guerriers..., p. 97; Guillaume P., Poissou J. P. Demo-
graphic historique. Paris, 1970, p. 47), то в полиптике аббата Ирминона
эти показатели, по мнению большинства исследователей, равны соответ-
ственно 1.6 и 3,6 (см.: Guerard В. Prolegomenes, р. 898: 10026 крестьян,
2788 семей, средняя численность семьи — 3,6; эти цифры Герара воспро-
изводят: Longnon A. Op. cit., р. 243; Грацианский Н. П. Крепостное
крестьянство па землях аббатства св. Германа в начале IX столетия.—
В кп.: Грацианский Н. П. Из социально-экономической истории западно-
европейского средневековья. М.. 1960. с. 121, 115; Coleman Е. R. L’lnfanti-
cide..., р. 318; и др.); из этих же цифр исходят: Lot F. Conjectures demo-
graphiques sur la France au IX siecle.— Moyen Age, 1921, t. 32. p. 17—18;
Perrin Ch. E. Note..., p. 79—81. Однако в последнее время в некоторых
трудах стали появляться (со ссылкой на Герара или без нее) несколько
иные цифры по Сен-Жерменскому аббатству: средняя численность
2
36
Ю. Л. Бессмертный
мене с тем, что в полиптике учитывались якобы только совер-
шеннолетние дети, подлежавшие монастырскому обложению
Против этого возражал Ш. Перрен, полагавший, что монастыр-
ская опись фиксировала, наоборот, только несовершеннолетних
детей, тогда как взрослые отпрыски держателей мансов фигу-
рировали в описи либо в качестве самостоятельных держателей
мансов, либо как совладельцы родительского надела 12. Этот
последний тезис Перрена вызвал, однако, в свою очередь, возра-
жения Я. Д. Серовайского, утверждавшего, что там, где «на маи-
се проживало несколько семей, они не явля[лись] родственника-
ми»; совладение, по мнению Я. Д. Серовайского,— результат кри-
зиса маисовой системы и фактического распада манса на части 13.
Эти противоречащие друг другу гипотезы как нельзя лучше сви-
детельствуют о недостаточной изученности состава и типа семьи
в Сен-Жерменском аббатстве, а также о том, что для уяснения
ее характера исключительно важно понять взаимоотношения меж-
ду совладельцами, сообща державшими один и тот же мане.
До сих пор эти взаимоотношения и прежде всего наличие в
них родственных элементов освещались на основе единичных
примеров. Если бы эти вопросы удалось изучить на основе при-
влечения массовых данных, можно было бы надеяться на более
надежное изучение природы тех крестьянских общностей, ко-
торые складывались на мансах из основных держателей 14 и их
совладельцев. А это, в свою очередь, позволило бы определить,
насколько обособленными в действительности были малые супру-
жеские семьи и в какой мере можно сводить состав типичной
крестьянской семьи в Сен-Жерменском аббатстве к родителям
и их несовершеннолетним детям. Иными словами, первый и в из-
вестном смысле ключевой вопрос в исследовании состава и типа
семьи в Сен-Жермене сводится к тому, не состояла ли значитель-
ная часть совладельцев из детей (или иных близких родственни-
ков) основного держателя манса? 15
семьи — более 4 человек (Duby G. L’economie rurale el la vie des campag-
nes dans 1’Occident medieval. Paris, 1969, p. 68; Fourquin G. Le premier
Moyen age, p. 340), среднее число детей на семью—«чуть менее двух»
(Duby G. Guerriers..., р. 96). Проделанные нами с целью проверки под-
счеты показали, что средняя численность малой семьи в абсолютном
большинстве имений Сен-Жерменского аббатства существенно меньше
четырех, а среднее число детей на семью чаще всего было менее двух
(см. ниже, табл. 6).
n Lot F. Op. cit., р. 18.
12 Perrin Ch. E. Note..., p. 79—83; см. также: Duby G. Guerriers..., p. 93.
13 Сер.овайский Я. Д. Мапс и надел..., с. 80.
14 «Основным» условно обозначается держатель надела, который назван в
описи соответствующего держания первым: семьи всех остальных держа-
телей того же манса именуются совладельцами.
15 Отдельные случаи такого рода отмечены в самом полиптике: XXIV, § 140:
Aldrada, colona sancti Germani... Et socia ejus ac filia Adalguis; et Gunte-
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
91
Попытаемся решить этот вопрос с помощью антропонимиче-
ского анализа. Наша исходная посылка — сходство имен детей с
именами их родителей. Рассмотрим, насколько велико это сход-
ство внутри малых семей, описанных в полиптике, и сравним его
со сходством имен основных держателей и их взрослых совла-
дельцев. Чтобы произвести такое сравнение, введем особый ин-
декс сходства имен, равный частному от деления числа совпадаю-
щих слогов в двух сопоставляемых именах на общее число слогов
в этих именах. Подобный индекс позволит объективно измерять
сходство имен независимо от длины каждого из них. Если, на-
пример, отца зовут Sicharius, а сына Richarius (VI, § 28), то ин-
34- 3
деке сходства этих имен будет равен 4 _р4~ = J5; другого сына
того же крестьянина зовут Ermenarius; индекс сходства равен
0,44; третьего сына зовут Ermenoldus; индекс сходства в этом
случае считаем равным нулю, так как идентичность одних окон-
чаний — в силу ограниченности их вариантов — нельзя считать
достаточным основанием для вывода о сходстве имен 1в. Порою .
(хотя и не очень часто) индекс сходства достигает единицы —
с учетом аллитераций или даже без них (Vulframmis — Gul-
framnus — IX, 8; Gisleberta — Gislebertus — XIX, 18; Leutar-
dus — Leuthardus — XXIII, 10). Иногда же он оказывается очень
небольшим — 0,25—0,22 (Leudelgis — Waldedruda — XIX, 11; Ber-
neardus — Ermengarius — VI, 11). В целях осторожности мы будем
считать действительно сходными лишь те два имени, где индекс
сходства составляет 0,3 и выше. Случаи сходства имен с индексом
менее 0,3 отнесем к числу сомнительных. Все остальные разделим
на две группы: 1) с сильным сходством (индекс более 0,6); 2) со
средним сходством (индекс от 0,3 до 0,5).
Результаты подсчетов, проведенных в соответствии с разра-
ботанной нами методикой отражены в табл. 1 и 2 17. Как пока-
gisus est ejus filius... Tenent mansum I...; XIII, § 34: Frodegaus colonus...
Et frater ejus, nomine Fredebertus, colonus... Tenent dimidium mansum...;
см. также XII, § 22. Нас интересует, насколько часто встречались подоб-
ные случаи, не будучи зафиксированными в описи.
,е Bergh A. Op. cit., р. 67.
17 Мы приводим результаты подсчетов по шести поместьям монастыря
(включая наиболее представительные по объему данных поместья Ви-
ламильт и Буксидум), которые характеризуют все основные географиче-
ские зоны монастырской вотчины п в которых проживало более 1000 се-
мей (около 40% общего числа). Соавтор этих подсчетов — Г. А. Цело-
вэльнова; в работе использованы также подсчеты, выполненные в Горь-
ковском ун-те им. Лобачевского в соавторстве с В. А. Блонпным, П. Ш.
Габдарахмановым. С. А. Продпной и В. В. Целоуховой. Пользуемся слу-
чаем, чтобы выразить нашу благодарность как нм, так и руководству ис-
торического факультета этого университета, предоставившего нам воз-
можность в течение нескольких лет руководить занятиями перечислен-
ных студентов.
Ю. Л. Бессмертный
Таблица 1. Сходство имен родителей и детей
Глава Сен-Жер- ейского молип- чика Всего детей с име- нами (100%) В том числе детей, у которых сходство имен с именами родителей
сильное среднее сильное и сред- нее сомнительное
(с индексом сходства имен от 1 до 0,6) tc индексом сходства имен от 0,5 до 0,3) (с индексом сходства имен от 1 до 0,3) (с индексом сходства имен менее 0,3)
число % число % число % число %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI 84 26 31 21 25 47 56,0 3 3,6 VIII 70 7 10 29 41,4 36 51,4 7 10 IX 910 168 18,5 297 32,4 465 50,9 41 4,5 XI 42 9 21 12 29 21 50 - - XIII 461 95 20,4 201 43,7 296 64,1 21 4,4 XIX 30 9 30 5 16,7 14 46,7 1 3,3
зывает анализ более 1,5 тыс. имен детей, описанных в составе малых
семей, примерно половина детей носила имена, близкие к роди-
тельским t8. В именах оставшейся половины детей сходство с
родительскими именами, возможно, также имело место. Оно мог-
ло, например, выражаться в неучитываемых (или неулавливае-
кых нами) аллитерациях (стараясь избежать преувеличения
сходства имен, мы отбрасывали все спорные случаи аллитераци-
онного сходства). Кроме того, очень многие детские имена мог-
ли включать части имен не известных нам старших родственни-
ков — деда, бабки и т. п. Во всяком случае ясно, что, исполь-
зуя описанную методику установления родства по именам, мы ни
в коем случае не преувеличиваем число случаев реального родст-
ва. Наоборот, поскольку данная методика позволяет уловить
сходство с именами старших родственников лишь у половины
детей, можно утверждать, что мы очень существенно (возможно,
вдвое) преуменьшаем это число. Эта особенность применяемой
антропонимической методики исключительно важна для оценки
наблюдений над сходством имен взрослых совладельцев с имена-
in основных держателей.
м Подобный антропонимический анализ полиптика Ирминона проводится
впервые. Попытки сопоставления имен родителей и детей, предприни-
мавшиеся О. Лоньоном и К. Микаэлсоном, ограничивались по объему
двумя первымп главами полиптика; при этом не учитывалась количест-
венная мера сходства имен (см.: Longnon A. Op. cit., р. 262 et suiv.; Mi-
chaelsson К. Op. cit., p. 184—188). Более широкий антропономический ана-
лиз полиптика был проделан А. Б. Капланом, исследовавшпм усиление
в именах германского элемента {Каплан А. Б. Указ, соч., с. 425—426).
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
89
Таблица 2. Сходство имен основных держателей и их взрослых
совладельцев
Глава Всего взрослых совладельцев с именами В том числе взрослых совладельцев, у которых сходство имен с именами основных держателей
сильное среднее сильное и сред- нее сомнитель- ное
число % число % число % число %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI 23 2 8,7 4 17,4 6 26,1 1 4,3
VIII 6* — — 1 16,7 1 16,7* 1 16,7
IX 422 37 8,8 70 16,5 108 25,4 12 23
XI 16 1 0,6 4 25,0 5 31,0 —
XIII 192 12 6,2 37 19,3 49 25,5 7 3,6
XIX 120 8 6,7 15 12,5 23 19,2 4 3,3
XXV 26 4 15,4 1 3,8 5 19,2 2 7,6
* Еще у 6 совладельцев с именами не указаны имена их основных держателей, таж
что данные цифры должны быть, возможно, удвоены.
д.
Результаты соответствующих подсчетов сведены в табл. 2.
Как показывает стб. 8, сильное и среднее сходство с именами ос-
новных держателей прослеживается приблизительно в 25% имен
взрослых совладельцев. В поместьях монастыря, где общее число
поименованных совладельцев было невелико, эта цифра испыты-
вает те или иные колебания. Но как раз там, где статистические
данные наиболее представительны (см. гл. IX, XIII), сходство
обнаруживается именно в четверти случаев. С учетом только что
отмеченной особенности применяемой методики, существенно
(быть может, вдвое) преуменьшающей число случаев реального
родства, можно предполагать, что доля совладельцев, являвшихся
в действительности близкими родственниками (скорее всего деть-
ми) основных держателей тех же мансов, была намного больше
25% и могла порою вдвое превышать эту цифру. Иными слова-
ми, судя по сходству имен, можно было бы думать, что по крайней
мере в некоторых деревнях до половины всех совладельцев
составляли дети основных держателей тех же мансов 19.
Обращаясь к проверке этого результата антропонимического
анализа, удостоверимся прежде всего в том, что сходство имен
совладельцев с их основными держателями не зависело от обще-
го сходства имен крестьян каждой деревни. С этой целью сопо-
19 Эта цифра близка к предельной, поскольку из числа взрослых совладель-
цев (среди которых преобладали женатые) лишь каждый второй, мот
быть сыном (дочерью) основного держателя.
40
Ю. Л. Бессмертный
Таблица 3. Сходство имен взрослых соседей (основные держатели)
Глава Всего взрослых с именами в семьях основ- ных держате- лей В том числе имеют сходство по имени с соседями — основными держателями, проживающими в той же деревне (или имении)
сильное среднее сильное и среднее сомнитель- ное
число % число % число % число %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VI 90 3 3.3 13 14,5 16 17.8 6 6.7
VIII 63 1 1,6 8 12,7 9 14,3 6 7,9
IX 427 И 2,6 35 8,2 46 10,8 18 4,2
XI 18 1 6 1 6 2 12 — —
XIII 167 2 1,2 14 8,4 16 9.6 13 7,8
XIX 81 5 6,2 4 4,9 9 11,1 7 8,6
XXV 69 1 1,4 6 8,7 7 10 11 15,9
ставим по деревням имена основных держателей. Это сопоставле-
ние показывает, что имена взрослых соседей, хотя и обладали в
ряде случаев заметным сходством, совпадали все-таки существен-
но реже, чем у совладельцев и основных держателей (судя по
материалу наиболее представительных поместий — гл. IX, XIII,
XIX,—примерно вдвое реже; ср. табл. 2 и 3, стб. 8). Следова-
тельно, совладельцы основных держателей находились в гораздо
более тесном родстве с ними, чем все прочие жители той же де-
ревни.
Другим способом проверки гипотезы о включении в число со-
владельцев детей и других родственников основных держателей
можно было бы считать анализ того, какие именно основные дер-
жатели имели совладельцев-родичей. Как известно, совладельцы
встречались и у многодетных, и у малодетных основных держа-
телей. Изучим, у каких из них совладельцы чаще находились в
родстве с ними. Как показывает табл. 4 (стй. 15) более половины
совладельцев-родичей жили совместно с теми основными держа-
телями, у которых имелось, кроме того, по 2, 3, 4 и более других
детей. Иными словами, совладельцы-родичи чаще присутствова-
ли на тех мансах, где жили сравнительно более старшие семьи,
уже успевшие обзавестись сравнительно большим числом детей.
Именно в таких семьях скорее всего можно было ожидать обосо-
бления старших детей (особенно женатых) и превращения их в
«совладельцев» своих собственных родителей. Самое распределе-
ние совладельцев-родичей согласуется, таким образом, с предпо-
ложением, что большую их часть составляли старшие дети основ-
ных держателей. Впрочем, некоторые совладельцы-родичи жили
у холостых или бездетных основных держателей (табл. 4, стб. 3—
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
41
Таблица 4. Совладельцы — родственники основных держателей,
проживающие с семьями основных держателей с различным числом детей
XIII 49 6 12,2 3 6,1 11 22 9 18,4 8 16,3 13 26 41 84
XIX 23 5 21,9 4 17,4 2 8,6 5 21,7 3 13,0 4 17,414 60
XXV 9 3 33 — — — — 5 55,5 — — 1 11,1 6 67
4). В подобных случаях совладельцы представляли, возможно,
братьев (сестер) основного держателя* 20 21.
С нашим предположением о родстве значительной части со-
владельцев с их основными держателями согласуются и некоторые
другие факты. Так, среди основных держателей, имевших совла-
дельцев, почти везде абсолютно преобладают колоны. Они со-
ставляют большинство не только по отношению к общему числу
мансов с совладельцами, но обычно опережают сервов и по доле,
которую представляют впутри своего социального разряда (см.
табл. 5, стб. 4, 5). С демографической точки зрения колоны отли-
чались от сервов, в частности, тем, что имели большие по чис-
ленности семьи и соответственно — больше детей (см.-табл. 6) ”.
Большая частота совладельцев у колонов находит, следовательно,
объяснение в сравнительной многочисленности у них таких стар-
ших детей, которые могли обособляться в качестве совладельцев.
20 Отдельные примеры этого рода отмечены в самом полиптике: XIII, § 34;
XII, § 22.
21 Этот факт не был замечен Э. Коулмен (L’infanticide..., р. 319), которая,
как она сама признает, принимала во внимание только семьи, где гла-
ва— мужчина (Ibid., note 19); к тому же Коулмен включала в подсчеты
лишь парные супружескпе семьи. В нашей табл. 6 учтены в отличие
от этого все малые семьи, в том числе и бездетные, и семьи,
представленные холостяками и вдовами. Естественно, что наши цифры
существенно отличаются от полученных Коулмен (ср.: Medieval Marria-
ge..., р. 208).
42
Ю. Л. Бессмертный
Таблица 5. Юридический статус и земельная обеспеченность семей,
имеющих совладельцев
Глава । Всего мансов с совла- | дельцами В том числе мансов
где основной держатель где площадь пахоты на семью
колон серв больше средней в данном имении меньше средней в данном имении
число % к числу мансов с совладель- цами % к числу семей коло- нов число % к числу мансов 1 % к числу семей сер- пов । число % к числу мансов с совладель- цами число % к числу семей с со- владельцами
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
VI 14 14 100 30,2 — — — 11 78,5 3 21,5
VIII 3 3 100 8,3 — — — 3 100 — —
IX 152 141 98 34 1 0,6 2,7 94 61 58 39
XI 6 — — — 5 83,4 55,5 4 67 2 33
XIII 69 44 64 39 9 13 24,3 37 54,5 32 45,5
XIX 31 31 100 65,2 — — — 25 76 6 24
XXV 9 8 89 25,2 — — — 6 67 3 33
V 50 50 100 35,7 — — —
XIV 29 25 86 19,4 4 14 28,6
XVI 23 21 91 25,3 — — —
Среди основных держателей, имевших совладельцев, особенно
иного также крестьян, отличавшихся сравнительной многоземель-
иостью (см. табл. 5, стб. 10). В этом нетрудно видеть важную
предпосылку обособления старших детей: не будь мане достаточно
велик, всякое выделение взрослых детей создавало бы угрозу
чрезмерного раздробления надела и уменьшения жизненных ре-
сурсов каждой семьи. В общем есть достаточно оснований со
всей серьезностью отнестись к гипотезе о том, что среди совла-
дельцев было много старших детей (или других близких родст-
венников) основных держателей тех же мансов 2а.
11 Следует подчеркнуть, что данная гипотеза отнюдь не исключает присут-
ствия среди совладельцев таких крестьян, которые не являлись родст-
венниками основных держателей. Я. Д. Серовайский справедливо видит
доказательство существования подобных совладельцев в том, что неко-
торые из них названы «чужаками» или же имеют правовой статус, от-
личный от статуса основного держателя (Кризис..., с. 167). (Заметим, од-
нако, что разный юридический статус иногда мог быть здесь следствием
повторных браков основного держателя с женщинами различного про-
исхождения.) Сколько-нибудь точное определение доли совладельцев-
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
43
Таблица 6. Различия в составе семей у колонов и сервов
Глава Всего малых семей Средняя числен- ность малой семьи В том числе малых семей Средняя численность малой семьи Среднее число де- тей на малую семь»
коло- нов сер- вов * коло- нов сер- вов в целом по име- нию у ко- лонов у сер- вов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V 154 3,0 152 2 3,0 1,5 1,5
VI 66 3,8 61 — 3,8 — 1,9 1,9 —
VII 91 *♦ 3,5 76 15 3,4 4,1 1,8 1,8 2,2
VIII 39 3,5 34 3 3,3 — 1,8 1,6 ••
IX 505 3,6 411 34 3,6 2,9 1,6 1,8 1,3
XI 18 3,9 — 13 — 4,0 2,3 — 2,2
XIII 201 4,2 117 35 4,1 4,1 2,3 2,3 2,1
XIV 143 3,9 131 12 4,0 2,0 1,9 2,1 1,1
XV 143 3,3 124 19 3,4 2,3 1,5 1,6 0,5
XVI 101 3,5 92 9 3,5 2,9 1,7 1,7 1,1
XVII 48 3,1 45 1 -<3,0 1,3 1.3
XVIII 29 3,3 27 9 3,3 — 1,6 1,5 —
XIX 107 4,0 104 — 4,0 — 2,3 2,2 —
XXI 90 3,9 70 15 3,7 4,5 2,3 2,2 2,0
XXII 4,2 94 23 4,4 3,4 2,6 2,7 1Л
XXIV 230 **** 3,2 198 31 3,3 2,9 1,5 1,5 1Л
* Включая семьи, в которых хотя бы один из супругов — серв.
** Не считая одной семьи, в которой не указано число детей, так как они не при-
надлежат аббатству.
*** Не считая 7 семей, для которых не указано число детей, так как они не при-
надлежат аббатству.
**** Не считая 3 семей, для которых не указано число детей.
Принятие этой гипотезы влечет существенный пересмотр
взглядов па структуру и тип семейной ячейки, господствовавшей
на землях Сеп-Жерменского аббатства в начале IX в. Выше уже
отмечалось, что доля семей, проживавших на держании совмест-
но с другими, достигала в некоторых поместьях монастыря почти
9/ю общего числа. Если семьи совладельцев представляли в
значительной своей части семьи старших детей (или других близ-
ких родственников) основных держателей, то это значит, что
в соответствующем числе случаев держание находилось не в ру-
ках обособленной малой семьи (включавшей лишь родителей и
их несовершеннолетних детей), но в руках объединения двух
неродственнпков не представляется возможным. Но, учитывая, чт® доля
совладельцев-родственников имела тенденцию к преобладанию (см. «ри-
меч. 19), можно полагать, что совладельцы-неродственники были в мень-
шинстве.
44
Ю. Л. Бессмертный
(и более) родственных семей, соединявшего родителей с их жена-
тыми детьми и внуками или же нескольких женатых братьев и
замужних сестер.
Тип этого объединения во многом определялся комплексом со-
циально-экономических взаимоотношений между его членами. То
же самое следует сказать и об объединениях, в которые входили
семьи, не имевшие близкого родства или же вовсе не связанные
родственными отношениями. Рассмотрим подробнее совокупность
этих взаимоотношений между совладельцами и основными держа-
телями.
Как следует из полиптика Ирминона, все совладельцы выпол-
няли совместно с основными держателями все поземельные по-
винности, включая барщины с тяглым скотом23. Столь же
недвусмысленно подчеркивается в полиптике совместное владе-
ние землею манса 24. Специально оговаривается и тот факт, что
совладельцы и основной держатель проживают вместе в одной и
той же деревне 25. Вряд ли можно сомневаться также в совмест-
ном использовании ими имеющегося па маисе рабочего скота и
сельскохозяйственного инвентаря: трудно себе представить, что-
бы рабочий скот и сельскохозяйственный инвентарь, сообща ис-
пользовавшийся при выполнении полевых барщин, обособлялся
при обработке собственного надела. В полиптике нет указаний на
то, обрабатывали ли основной держатель и его совладельцы всю
площадь держания совместно или же прибегали к временному
разделу манса между отдельными семьями. Ясно, однако, что,
даже если такие временные разделы предпринимались, они не
ставили под сомнение единство держания, рассматривавшегося,
повторяем, как целостный и общий надел всех объединившихся
семей.
Для определения характера этих ббъёдйнёнйи очень важно
далее выяснить, жили ли объединившиеся семьи «одним домом»
23 Ни на одном держании, где есть совладельцы, не встречается раздельной
уплаты поземельных оброков или раздельного выполненпя барщин.
В большинстве случаев подчеркивается, что эти поземельные повинно-
сти «solvunt», «reddunt», «arant», «ducunt» etc. «ipsi qui ipsum mansum
tenent» (или же «solvunt inter totos»; см., например, IX, § 9). О том же
свидетельствуют обороты, подобные «solvunt similiter» или «cetera simi-
liter» (см., например, VIII, § 11; XXV, § 31; XI, § 4; XIV, § 21; Х1Х, § 16).
Иногда, однако, в том же смысле употребляется оборот «solvit similiter»
(XIV, § 52). По мнению М. Блока, «круговая порука» в исполнении сеньо-
риальных повинностей связывала всех совладельцев манса (Характерные
черты..., с. 223).
24 При описании совладельцев в полиптике повсеместно подчеркивается:
«isti duo tenent mansum» (Например, XIV, § 15, 17, 18. 21, 22 и т. д.; III,
§ 2—4; 16, 18, 20 и т. д.).
25 См., например: IX, § 8—22, 24—26, 29—40 и т. д.; XXIV, § 33, 36, 38—39
и т. д.
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в. 45
или врозь. К сожалению, этот вопрос, как и вопрос о распределе-
нии между основным держателем и его совладельцами получен-
ного на держании урожая, не получил в полиптике Ирминона
необходимого отражения. Известно лишь, что в четырех по-
местьях аббатства,'там, где, кроме мансов, отдельно подсчитыва-
лись focus («очаг», «дом», «семья»), число последних существен-
но превышало число держаний и более или менее приближалось
к общей численности семей (включая семьи совладельцев) 2в.
Констатируя этот факт и учитывая, что в описи одного из поме-
стий (гл. XIII) с каждого focus взимался небольшой дополни-
тельный оброк зерном. Я. Д. Серовайский заключил, что семьи
совладельцев имели отдельные дома, вели обособленное хозяйст-
во и обладали полной самостоятельностью 26 27. На наш взгляд, по-
липтик не дает оснований для столь определенного заключения
по данному вопросу. Во-первых, оброки, обособленно уплачивав-
шиеся с focus, не идут ни в какое сравнение со всеми прочими
повинностями, выполнявшимися всеми держателями манса сооб-
ща. Объединение семей в этом смысле явно превалировало над
их обособленностью. Во-вторых, во всех четырех главах полипти-
ка, где указывается число focus (см. выше, примеч. 26), оно
меньше реального числа семей, так что, даже если понимать
focus как «дом», можно думать, что не все совладельческие семьи
таковой отдельный дом имели. В-третьих, нельзя забывать отно-
сительность самого понятия «дом» в рассматриваемый период:
глинобитная хижина или временная землянка, лишенная порою и
очага, не всегда давала проживавшей в ней семье реальную
самостоятельность; наличие такого дома не исключало теснейшей
связи семьи, проживавшей в нем, с семьей основного держателя.
Учитывая все это, нам представляется более осторожным и
оправданным говорить о возможности разных объединений со-
владельцев с их основными держателями: в одних случаях совла-
дельцы жили и питались обособленно, в других — жили отдель-
но, но вели хозяйство и питались сообща с основным держателем,
в третьих — вовсе не отделялись от него. Думается, что второй и
третий варианты могли встречаться в первую очередь у объеди-
нений, охватывавших семьи родителей и. их отделившихся стар-
ших детей (или же семьи нескольких братьев и сестер), тогда
как первый вариант был всего типичнее для семей, не связанных
родством.
26 Так, в гл. XI, где описано 6V2 мансов и перечислено 19 семей, в § 10 го-
ворится: sunt per focos XVT, в Буксидуме (гл. XIII), где держаниями
владеет 190 семей, согласно § 99, sunt mansi inter ingenuiles et lidiles et
serviles LXXXI et pertica I; sunt per focos CLXXXII: в Сикавале (гл. XXII),
согласно § 97, имеется 122 focos и 125 семей; в Каване (гл. XXIII) на 17
мансах проживало 29 семей; а согласно § 26 — «per focos ХУПП».
27 Серовайский Я. Д. Кризис..., с. 168—170.
46
Ю. Л. Бессмертный
В общем полностью обособившаяся малая семья (из родите-
лей и несовершеннолетних детей) не была господствующим ти-
пом у крестьян Сен-Жерменского аббатства начала IX в. Она
была реальностью лишь на той части мансов, где надел был вла-
дением одной малой семьи 28. Всюду, где встречалось совладение,
т. е. на большой части держаний, обособленность малой семьи
была в той или иной мере и в том или ином смысле ограниче-
на. Малая семья существовала здесь либо как часть большой
семейно-хозяйственной группы, либо как часть соседского сооб-
щества 29.
Распространенность совладения и его характер имеют решаю-
щее значение и для объяснения относительной ограниченности
среднего числа детей на малую крестьянскую семью: эта ограни-
ченность была кажущейся, представляя результат пеучета в со-
ставе малых семей, описанных в полиптике, старших детей, ко-
торые входили в качестве совладельцев в те или иные крестьян-
ские сообщества.
Прежде чем окончательно уяснить тип этих сообществ, попы-
таемся понять, чем было вызвано их широкое распространение в
Сен-Жерменском аббатстве начала IX в. Задуматься над этим
вопросом тем более необходимо, что большесемейные общины,
известные в этом регионе, например во времена Салической
правды, к IX в. в силу ряда обстоятельств уже изжили себя.
Обработка давно освоенных плодородных земель Иль-де-Фрапса,
как об этом свидетельствует пример многих крестьян, вполне
могла осуществляться в рамках малой семьи. Площадь пахотной
земли, приходившаяся здесь на мане, была по большей части не
слишком велика для малой семьи 30. Величина плуговой запряж-
ки, в которую впрягались обычно одно-два тяглых животных,
также не превосходила возможностей малой семьи. Не было нуж-
ды в большесемейной общине и с точки зрения взаимопомощи и
взаимоподдержки против насилий извне: превращенные в зависи-
мых людей монастыря, крестьяне Сен-Жерменского аббатства
находились под властью и опекой могущественного сеньора,
предотвращавшего внешние посягательства па крестьянские вла-
28 Следует учитывать, что часть семей, обособленно владевших держания-
ми, не представляла собою малых супружеских семей (в собственном
смысле слова), так как включала, помимо родителей и их несовершенно-
летних детей, взрослых братьев, сестер, старших родственников. См. гл.
VI, § 44, 47—48; XIII, § 16, 39, 48; XXIV, 140 etc.
29 Распространенное среди специалистов представление о господстве на
землях Сен-Жерменского аббатства начала IX в. малой семьи требует,
как видим, определенных коррективов (ср. примеч. 8).
30 Наиболее часто встречавшаяся в Сен-Жерменском аббатстве площадь
пахотного надела (так называемая «мода» пахотной площади) состав-
ляла 4.5 бонуария (Coleman Е. R. People..., р. 683).
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
47
дения эффективнее, чем это могли бы сделать отдельные кресть-
янские семьи и общины.
Общие особенности социального развития изучаемой террито-
рии предопределили давнее возникновение здесь малой семьи, из-
вестной уже по крайней мере со времен Салической правды31
(в среде галло-римского населения малая семья существовала в
еще более древние времена). Поэтому существование в Сен-Жер-
мепском аббатстве начала IX в. больших семейно-хозяйственных
объединений (как и других сообществ) никак нельзя истолковать
просто как пережиток древнего общинного строя, преемственно
сохранявшийся в течение столетий. Условия, определявшие в
прошлом существование большой семьи, были здесь по большей
части изжиты вместе с изживанием свободного крестьянства32.
Необходимо, следовательно, вскрыть те специфические факторы,
которые могли обусловливать складывание сообществ в среде за-
висимого крестьянства начала IX в.
Проще всего заметить воздействие в этом смысле особенностей
сеньориальной эксплуатации. Все основные сеньориальные по-
винности взимались в Сен-Жермене — как и во всех северофран-
цузских вотчинах этого времени — ^земельного держания. Сколь-
ко бы человек ни проживало на мансе, сколько бы ни было на
нем крестьянских семей, объем поземельных повинностей не уве-
личивался. Перед молодой крестьянской семьей, стремившейся
обзавестись собственным хозяйством, стоял поэтому выбор: либо
получить от сеньора отдельное держание 33 и самостоятельно не-
сти за него комплекс поземельных повинностей (включая поле-
вые барщины), либо остаться в пределах отчего манса и, сохра-
нив хозяйственную связь с родительской семьей, лишь участво-
вать в выполнении прежних служб и оброков 34. Большая выгод-
ность второго варианта совершенно очевидна: мало того что
молодая семья освобождалась от необходимости выполнять пол-
ный комплекс повинностей, известное облегчение получала и ро-
дительская семья, поскольку груз прежних сеньориальных обя-
занностей распределялся теперь среди большего числа работни-
ков, включая и жену сына или мужа дочери. Это облегчение
31 Неусыхин А. И. Указ, соч., с. 83—85.
32 Показательно, что древняя большая семья сохранялась у свободных
крестьян и тогда, когда в среде зависимого населения ее уже не удается
проследить (Duby G. Guerriers..., р. 45).
33 Недостатка в свободных землях в это время не ощущалось (Грациан
ский И. П. Крепостное крестьянство..., с. ИЗ).
34 Как полагает Я. Д. Серовайскпй, в Сен-Жерменском аббатстве практи
ковался, кроме того, передел уже существовавптпх мансов с образова
нием дробных частей манса. Так как, однако, объем повинностей, напри
мер с полумансов, намного превосходил половину повинностей прежней
держания, крестьяне, естественно, старались избежать подобного дроб
ления надела (Кризис..., с. 180—190).
48
Ю. Л. Бессмертный
становилось особенно заметным, когда в совладельцев превраща-
лись двое или трое старших детей.
Для вновь сложившихся семей выгоды совладения, вытекав-
шие из особенностей сеньориальной эксплуатации, дополнялись
еще и возможностью пользоваться отцовским тяглым скотом и
инвентарем. Недостаток рабочего скота в рассматриваемый пери-
од хорошо известен. Его приобретение — особенно для ^молодой
семьи — было очень трудным делом. Отсутствие скота и плуговой
запряжки могло поэтому существенно тормозить самое образова-
ние семьи как самостоятельной хозяйственной ячейки. Совладе-
ние во многом снимало эти препятствия на пути складывания
новых семей. Их формирование ускорялось. Оно становилось воз-
можным на очень раннем возрастном рубеже: как видно из вар-
варских правд, агиографии, хроник и церковных установлений,
в Северной Франции раннего средневековья браки для мальчи-
ков разрешались с 12—13V2 лет, а для девочек — с 10—II1/» лет35.
В ранних браках были заинтересованы прежде всего родите-
ли, приобретавшее дополнительные рабочие рукизб. Известную
выгоду такие браки давали и сеньору, поскольку позволяли ему
раньше получить поочажный («посемейный») оброк. Но десяти-
двенадцатилетние женатые подростки вряд ли могли (и умели)
самостоятельно хозяйствовать. Теснейшее объединение с роди-
тельской семьей было для них на первых порах жизненно важ-
ным. Так возникал еще один стимул совладения старших детей
с их родителями; так складывался еще один фактор образования
большой семейно-хозяйственной группы.
Ясно, однако, что хозяйственные ресурсы мансов не были
безбрежными. В условиях застойной урожайности каждый из них
мог прокормить лишь ограниченное число держателей. Чем мане
был меньше по площади и беднее по плодородию, тем скорее об-
наруживалась необходимость выделения части держателей за
пределы родительского манса. В тех случаях, когда отделяющиеся
крестьянские семьи молодоженов не были способны (или не хоте-
ли) нести тяготы самостоятельных держателей, перед ними откры-
валась возможность стать совладельцами на стороне — в семье ка-
кого-либо малодетного и многоземельного крестьянина. Возмож-
ность сократить долю приходящихся на него повинностей по-
35 Л1скё Л. Problemes de demographic historique du Haut Moyen Age (V—
VIII s.).—Annales de demographie historique, 1966, p. 37—57; Idem. L’en-
fant dans le Haut Moyen Age.— L’enfant et societes, p. 95—97; Flandrin J. L.
Families..., p. 129.
36 Судя по обычному праву, во Франции, даже в позднее средневековье,
считалось, что ребенок может с 12 лет прокормить самого себя, а с 15 —
заработать сверх необходимого для него самого; поэтому субсидии опе-
кунам сирот прекращались по достижении опекаемыми 12-летнего воз-
раста (Baulant М. La famille en miettes: sur un aspect de la demographie
du XVIIе siecle.— Annales E. S. C., 1972, N 4/5, p. 962).
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
49
буждала такого крестьянина охотно соглашаться на прием со-
владельцев. Последние же получали возможность пользоваться
недостающим у них тяглым скотом и инвентарем. Вновь возни-
кающее объединение неродственных семей отвечало таким обра-
зом обоюдным интересам сторон. Что касается сеньора, то он при
этом ничего не проигрывал; если же новые совладельцы, как это
легко могло оказаться, были людьми пришлыми или хотя и жив-
шими в той же деревне, но находившимися впе юрисдикции дан-
ного вотчинника, то последний получал и прямую выгоду, так
как увеличивалось число зависимых от него людей.
Среди факторов, способствовавших в начале IX в. складыва-
нию и сохранению различных видов крестьянских сообществ,
следует назвать еще один: традицию общинных и родственных
взаимосвязей. Эта традиция отнюдь не исчезла с изживанием
свободного крестьянства и свободной общины. Коренившаяся в
самих условиях деревенской жизни, она, как известно, сохраняла
жизненную силу на протяжении всего средневековья, включая,
естественно, и рассматриваемый период. В канун составления по-
липтика Ирминона прямые и боковые1 родственники малой суп-
ружеской семьи, в частности старший мужской родственник и
братья, широко привлекались к санкционированию поземельных
сделок, к участию в судебных спорах 37. Подобными же правами
обладали они и позднее — в IX—X вв.38 Пользуясь своим автори-
тетом, эти родичи, несомненно, могли влиять на создание (или
сохранение) родственных сообществ даже в тех случаях, когда
младшие семьи этому противились.
Влияние старших родственников было тем заметнее, что пре-
стиж и прочность малой супружеской семьи в Северной Франции
IX в. были еще сравнительно невелики. Нерасторжимость бра-
ка — в соответствии с церковными канонами 39 — соблюдалась
на практике далеко не всегда40 41. Отказ мужа от жены или же
развод по обоюдному согласию встречались столь же часто, что
и заключение брака без церковного благословения или же насиль-
ственная выдача замуж4|. В самом выборе брачной партии ре-
37 Fossier R. Histoire sociale de 1’Occident medieval. Paris, 1970, p. 95.
38 Ibid., p. 124.
38 Следует учитывать, что даже юридически эта нерасторжимость была за-
креплена лишь в 789 г. (Capitularia regum Francorum. Hannoverae, 1883,
t. 1, N 22. Admonitio generalis, § 43: «...ut nec uxor a viro dimissa alium
accipiat virum vivente viro suo, nec vir aliam accipiat vivente uxore prio-
re>).
40 He исключено, что некоторые повторные браки крестьян, зафиксирован-
ные в полиптике Ирминона, также связаны с непрочностью малой семьи
и стремлением крестьян обеспечить своим детям благодаря браку с жен-
щиной более высокого юридического статуса улучшение их социально-
го положения (см., например, XIII, § 95).
41 Chelini J. Histoire religieuse de 1’Occident medieval. Paris, 1968, p. 152;
Fossier R. La terre..., p. 207; Idem. Histoire sociale..., p. 125.
40
Ю. Л. Бессмертный
шающее влияние оказывали старшие родственники. «Родня» —
в самом широком смысле этого понятия — представляла, несом-
ненно, более авторитетную родственную группу, чем малая
семья42. Особая авторитетность и влиятельность старших родст-
венников отражали, следовательно, своеобразие социально-психо-
логической обстановки в северофранцузской деревне IX в., бла-
гоприятствовавшее сохранению (или созданию) больших семей-
но-хозяйственных групп в среде зависимого населения.
Говоря о родственных связях внутри крестьянства IX в.,
нельзя забывать об их теснейшем переплетении с соседскими от-
ношениями. Соседи крестьянина — независимо от того, были ли
они его родственниками,— не только делили с ним труды и за-
боты повседневной деревенской жизни, по подчас были обязаны
участвовать в его семейных церемониях и торжествах, как и в
решении судебных споров, касающихся его43. Принадлежность к
соседской общине обусловливала таким образом самые непосред-
ственные личные контакты между всеми соседями. Постоянное
общение внутри тесного деревенского мирка сближало порою тес-
нее, чем кровное родство. Сызмальства знающие друг друга, объ-
единенные общностью интересов, устремлений, обычаев, соседи
по деревне представляли поэтому людей, сроднившихся и духовно
и материально. Этот специфический внутренний климат сосед-
ской общины также являлся, на наш взгляд, мощным стимулом
укрепления совладельческих общностей, особенно неродственных.
Характеристика причин и предпосылок, обусловливавших су-
ществование сообществ среди сен-жермепских крестьян, позволя-
ет лучше понять их типологические особенности. Было бы, как
мы видели, совершенно неверным отождествлять большие семей-
но-хозяйственные группы на землях Сен-Жерменского аббатства
IX в. с большой семьей, например, периода Салической правды,
хотя в обоих этих случаях большая семейно-хозяйственная груп-
42 В лексиконе составителя Сен-Жерменского полиптика пе было особого
обозначения ни для большой, ни для малой семейно-хозяйственной груп-
пы. Перечисляя две-три супружеские пары, владеющие мансами, аббат
Ирмпноп ограничивался неопределенными выражениями «isti duo», «isti
Ires», «isti», «omnes isti» etc. Он последовательно фиксировал, кто явля-
ется чьим мужем или чьей женой и от какой женщины прижиты дети.
Но совокупность мужа, жены и детей не получала у него особого наиме-
нования. Даже эвфемизм «Focus» употреблялся лишь в виде исключения.
Если отсутствие понятия большой семейно-хозяйственной группы может
быть естественным следствием невнимания Ирминона к внутрикрестьян-
ским отношениям, то отсутствие понятия малой семьи, являвшейся в
полпптике фактической единицей описания, объяснить этим нельзя.
Здесь сказывались, по-видимому, незавершенность формирования этого
понятия, его недостаточная определенность, меньшая престижность (см.:
Flandrin J. L Families..., р. 10—15; Goffart W. From Roman Taxation to
Medieval Seigneurie: Three Notes.— Speculum, 1972, t. 47, p. 166).
43 Flandrin J. L. Families..., p. 40, 10.
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.
51
па сочеталась с малой. При всем внешнем сходстве это были по-
рождения двух разных эпох, отвечавшие во многом различным по-
требностям и занимавшие далеко не идентичное место в соци-
альной системе.
Во времена Салической правды большая семья выступала
как отправная точка в формировании малой семьи, как ее исход-
ная ячейка, от которой малая семья «отпочковывалась» 44. Иначе
говоря, большая семья представляла здесь образование, первич-
ное по отношению к малой. В отличие от этого в IX в. «отпочко-
вавшиеся» от большой семьи малые семьи заново объединялись
между собою. Складывавшиеся в результате объединения пред-
ставляли как бы «надстройку» над выделившейся малой семьей,
т. е. образование, вторичное по отношению к ней 45 46. Тем не ме-
нее в качестве изолированного и самостоятельного целого малые
семьи функционировали сравнительно редко. Как показали ре-
зультаты нашего исследования, тенденция к соединению малых
семей в большие семейно-хозяйственные группы была очень силь-
на еще и в начале IX в. Величина таких групп могла достигать
25—29 человек (см., например, XIII, § 78; XIII, § 5), но чаще
не превышала 8—10 человек.
Помимо специфического соотношения с малой семьей, к типо-
логическим особенностям большой семейно-хозяйственной группы
в Сен-Жерменском аббатстве можно, как мы видели, отнести сов-
местное владение и пользование земельным держанием, совмест-
ное выполнение обязательств перед сеньором, большее или мень-
шее единство домашнего хозяйства всех объединившихся родст-
венных семей. Такое родственное объединение близко к так
называемой «многоячейной» (multiple — по терминологии П. Лас-
лета) или «неразделенной» (по терминологии Я. Е. Водарско-
го) 4G семье. Что касается встречавшихся па землях Сеп-Жер-
менского монастыря объединений из неродственных семей, то
они, видимо, были ближе всего к так называемой консортерии 47
как хозяйственному сообществу зависимых крестьян-соседей,
призванному облегчить им обработку держаний и выполнение
сеньориальных повинностей 48.
44 Неусыхин А. И. Указ, соч., с. 85.
45 Поэтому мы считали нужным исследовать факторы объединения малых
семей в большие, а не причины «разъединения» больших семей.
46 Laslett Р. and oth. Op. cit., p. 42; Водарский Я. E. К вопросу о средней чис-
ленности крестьянского двора.— В кн.: Вопросы истории хозяйства и на-
селения России XVII в. М., 1974, с. 121—122.
47 Данная форма консортерии очень близка крестьянским сообществам,
описанным М. Л. Абрамсон (Крестьянские сообщества в Южной Италии
в X—XIII вв.— В кн.: Европа в средние века..., с. 47—61) и П. Тубером
(Toubert Р. Les structures du Latium medieval. Rome, 1973, p. 725 s.).
48 Будучи формой объединения всех держателей манса, консортерия и —
в еще большей мере — многоячейная семья помогали сохранять фискаль-
ное и хозяйственное единство держания в Сен-Жерменском аббатстве.
52
Ю. Л. Бессмертный
*
Значение сделанных выводов во многом зависит от того, на-
сколько общими для Северной Франции начала IX в. были яв-
ления, вскрытые по материалам Сен-Жерменского аббатства.
Вполне уверенное суждение по этому вопросу вряд ли можно бу-
дет когда бы то ни было дать, ибо полиптик Ирминона, как из-
вестно, не имеет себе подобных. Кроме того, учитывая значи-
тельные локальные особенности северофранцузской деревни
этого времени, вообще нельзя рассчитывать на унифицирован-
ность эволюции крестьянской семьи во всей Северной Франции.
Что же касается наиболее продвинутых по своему развитию об-
ластей, подобных тем, что нашли отражение в полиптике Ир-
минона, то, судя по некоторым данным, можно предполагать из-
вестную общность в них структуры крестьянской семьи. Начать
с того, что, как уже отмечалось, владения Сен-Жерменского мо-
настыря, описанные в исследуемом полиптике, были разбросаны
по довольно обширной территории и находились в различных
зонах Иль-де-Франса. Общность картины, существовавшей в
этих разных районах, достаточно показательна. Еще существен-
нее, что нечто подобное структуре крестьянской семьи на землях
Сен-Жерменского аббатства удается подметить и в других обла-
стях Северной Франции IX в., например во владениях Реймсского
монастыря в Шампани49, в некоторых районах Пикардии50,
в вотчине Прюмского аббатства в Лотарингии 5l.
К сожалению, в этих немногих случаях имеются лишь край-
не скудные данные, достаточные только для самых осторожных
предположений. Но историк раннего средневековья не вправе пре-
небрегать и этим немногим. Ему остается лишь надеяться, что
новые исследователи, отправляясь от нынешних фрагментарных
сведений и ограниченных по своей документальной базе гипотез,
найдут пути более интенсивного анализа источников и смогут
подтвердить (или опровергнуть) выводы своих предшественни-
ков 52.
В этом смысле они выступали как своеобразные «подпорки» маисовой
системы, задерживавшие ее кризис и распад (ср.: Серовайский Я. Д.
Кризис..., с. 190 и след.).
49 См.: Шевеленко А. Я. Формы феодального землевладения в Шампани
IX—X вв.— СВ, 1958, вып. ХП, с. 109.
50 Fossier R. La terre..., р. 207; Lot F. La grandeur des fiscs й 1’epoque caro-
lingienne.— Revue Beige de philologie et d’histoire, 1924, t. 3, p. 55.
51 Perrin Ch. E. Le manse dans le polyptique de 1’abbaye de Prum a la fin
du IXе siecle.— In: Etudes historiques a la memoire de N. Didier. Paris,
1960.
52 Э. P. Коулмен «многообразие» семейной структуры у крестьян Сен-Жер-
менского аббатства рассматривает как «изначальную» и постоянную осо-
бенность всего раннего средневековья и связывает его с различием субъ-
ективных устремлений и нужд отдельных крестьянских семей (People
and Property..., р. 693—698).
Я. Д. Серовайский
БОРЬБА ФРАНЦУЗСКИХ КРЕСТЬЯН
ПРОТИВ ФЕОДАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
ВХ-ХШВВ.
Задача настоящей статьи, являющейся логическим продолжением
предыдущих публикаций автора *,— рассмотреть один из важ-
нейших аспектов отношений общества к лесу, антифеодальную
борьбу крестьянства. Эти отношения отражают характер взаимо-
действия общества с природой, уровень развития производитель-
ных сил, внутрисоциальную структуру, интересы и потребности
различных классовых групп. Материал источников об отношении
общества к лесу заключает в себе большие познавательные воз-
можности и позволяет увидеть в более ярком свете многие сто-
роны жизни средневековой Франции, и в первую очередь — про-
цесс развития феодальной собственности и классовую борьбу,
получившую столь превратное освещение в некоторых трудах
зарубежных ученых 2. В данной статье предпринимается попытка
использовать эти данные 3 и выявить многообразие форм актив-
ного выступления крестьян в защиту своих прав на общинные
угодья. 4
4 См.: Серовайский Я. Д. О путях формирования феодальной собственности
на леса и пастбища во Франкском государстве.— СВ, 1969, вып. 32, с. 48—
60; 1971, вып. 33, с. 61—80; Он же. Режим лесов и пастбищ на территории
Франции в начале средневековья.— В кн.: История: Республиканский
сборник трудов преподавателей истории. Алма-Ата, 1971, вып. 1, с. 162—
174; Он же. Внутрифеодальная борьба за лес во Франции (конец X —
тачало XIV в.).—В кн.: Вопросы истории: Сборник трудов преподавате-
лей вузов КазССР. Алма-Ата, 1975, вып. 7, с. 149—158; Он же. Из исто-
рии социальной борьбы за леса и пастбища во Франции с XI по XIII
век.— Там же. Алма-Ата, 1977, вып. 10, с. 184—200.
2 См.: Гутнова Е. В. Классовая борьба средневекового крестьянства (XI—
XIII вв.) в освещении современной французской, английской и амери-
канской медиевистики.— СВ, 1977, вып. 41, с. 203—229.
3 О том, что эти возможности еще не в полной мере реализованы советски-
ми медиевистами, свидетельствует ограниченный список работ, в кото-
рых затрагиваются поставленные вопросы. См.: Грацианский И. П. Бур-
гундская деревня. М.; Л., 1935, с. 136—162; Конокотин А. В. Борьба за
общинные земли во французской деревне XII—XIV вв.—СВ, 1957, вып. X,
с. 206—218; Он же. Очерки по аграрной истории Северной Франции в
IX—XIV веках.— Учен. зап. Иванов, пед. ин-та, 1958, т. 16; Он же. Борь-
ба крестьян за самоуправление и коммуну на севере Франции в XII—
XIV вв.— ВИ, 1957, № 9, с. 123—139.
54
Я. Д. Серовайский
Если в IX в., по нашему мнению, альменда находилась еще в
полном распоряжении крестьянских общин 4, то характерные для
последующих столетий сдвиги в экономике Франции изменили
роль леса в жизни общества. Численно возросшее население,
в котором повысился удельный вес социальных групп, не занятых
сельскохозяйственным трудом, предъявляло повышенный спрос
на различные предметы первой необходимости, включая и про-
дукты питания. Для их производства требовались новые площа-
ди пашни и пастбищ. Существенно увеличилась потребность в
различных видах древесины (строительный материал, топливо,
поделочные работы) и лесных материалах (дубильная кора, по-
таш, смола). Лесные недра скрывали руду; в жизни населения
большую роль играла охота. Таким образом, общество оказалось
в состоянии видеть и ценить в лесе новые богатства, форма освое-
ния которых изменилась: они приобрели меновую стоимость. Все
это отразилось и в социальной психологии. Люди раннего сред-
невековья считали важнейшим богатством леса желуди, которые
использовались для откорма свиней. Поэтому и площадь леса
определялась ими по числу свиней, которых там можпо было
содержать на откорме4 5. В XII—XIII вв. лес уже приравнивался
к наиболее ценным угодьям, которые в отличие от пашни изме-
рялись при помощи самых мелких единиц (арпан, квадратная
пертика) 6. О ценности леса судили теперь по запасам древеси-
ны и, имея в виду расчистки, по качеству почвы, на которой он
стоял 7.
Об изменившемся соотношении ценностей лесных богатств
свидетельствуют следующие данные. В 1198 г. английское казна-
чейство получило от лесов Нормандии 7866 турских ливров. В их
числе доходы от реализации древесины — 87,13%, а традицион-
ные поступления от выпаса свиней — только 1,55% 8.
Сведения, содержащиеся в «Капитулярии о поместьях» и в
полиптиках, хотя они и не имеют цифрового выражения, неоспо-
римо свидетельствуют о том, что основным источником доходов в
4 См.: Серовайский Я. Д. О путях формирования...
5 См.: Серовайский Я. Д. Изменение системы земельных мер, как резуль-
тат перемен в аграрном строе па территории Франции в период раннего
средневековья.—СВ, 1956, вып. VIII, с. 128; Он же. О путях формирова-
ния...— СВ, 1971, вып. 33, с. 61—68.
6 Beaumanoir Ph. Coutumes de Beauvaisies / Publ. par A. Salmon. Paris, 1844—
1900, I. 1—2, § 753; Fourquin G. Le domaine royal en Gatinais d’apres la
prisee de 1332. Paris, 1963, p. 65—66.
7 Beaumanoir Ph. Op. cit., § 774.
8 Цифры заимствованы из книги: Rubner Н. Unlersuchungen zur Forstver-
fassung des mittelalterlichen Frankreichs.— VSWG, Wiesbaden, 1965, Bei-
heft 49. S. 74—75; Huff el G. Economic forestiere. Paris, 1910, t. 1, p. 7;
Grand R., Delatouche R. L’agricullure an Moyen Age de la fin de 1’Empire
Romaine ап XV siecle. Paris, 1950. p. 429; Duval M. Forests seignenrial et
droit d’usage en Bretagne.— Annales E. S. C., 1953, N 4, p. 485.
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
55
соответствующих поместьях являлось барское полевое хозяйство
вместе с оброками, но отнюдь не лес. Значительно возрос удель-
ный вес поместных доходов от леса по сравнению с поступле-
ниями от других угодий. Валовой доход от лесов в королевском
владении Гатинэ за 1332 г. составлял 8708 парижских ливров. Из
них на долю лесоразработок (собственные лесосеки и доля от про-
дажи древесины другими собственниками) приходилось 7466 лив-
ров (85,7%). Выпас и другие виды пользования лесом приносили
королю только 515 ливров (5,94%) 9. Такие же пропорции дохо-
дов имели место не только в королевских поместьях. Рыцарь
Жан де Шаселли захватил на 4 года ряд владений Молемского
аббатства. За это время, как значится в жалобе парижскому пар-
ламенту, он нанес последнему следующие убытки: а) по статье
оброков и полевого хозяйства на 295 ливров; б) по статье леса и
охотничьих парков на 1071 ливр10 11. Примерно такой же удель-
ный вес занимали поступления от леса и во владениях других
духовных конгрегаций и.
В раннее средневековье лес рассматривался как обязательный
придаток к пахотной земле или к домохозяйству. Он включался
в состав «формулы принадлежности» (appenditia, adjacentia), со-
провождавшей почти каждый акт отчуждения земельных владе-
ний. Переходы отдельных участков леса к другим собственникам
вне «формулы принадлежности» представляли тогда сравнительно
редкое явление. В дальнейшем это отношение к лесу изменяется.
Тексты многих грамот, хотя они писались по старым шаблонам,
упоминают владельческие комплексы без участков леса и других
угодий пользования. Собственники при отчуждении того или дру-
гого владения часто сохраняли за собой принадлежавшие им
леса 12 или отчуждали их отдельно 13. О том, насколько увели-
чилось в обращении число владельческих комплексов без угодий
и лесных участков, свидетельствуют следующие данные. В дар-
ственных грамотах Карла Лысого упоминается 3094 владельче-
9 Сведения заимствованы из книги: Fourquin G. Le domaine royal..., p. 81.
10 Les Olim ou registres des arrets./Publ. par Beugnot. Paris, 1889, t. 1 (1254—
1273) (далее — Olim), XXXII, p. 42 (1258).
11 Platelle H. Le temporel de 1’abbaye de S. Ama nd des origines a 1340. Pa-
ris, 1962, p. 268—269.
12 Cartulaire de Saint Vincent de Macon connu sous le nom de Livre enchai-
ne/Publ. par G. Ragut. Macon, 1864, N 488 (1241): Colonicas cum omnibus
appenditis preter silvam reservamus; Cartulaire de leglise d’Autun/Publ.
par A. Charmasse. Paris, 1865, pt. 1—2 (далее — Au tun), N 23 (1190):
...a donatione ista tan turn excipimus nemora nostra...
13 Cartulaire de 1’abbaye de Molesme ancien diocese de Langre, 916—1250/
Publ. par I. Laurent. Paris, 1907—1911, t. 1—2 (далее — Molesme), N 14, 19,
240; Recueil des Chartes de 1’abbaye Cluny / Forme par Aug. Bernard; Publ.
par A. Bruel. Paris, 1876—1903, t. 1—6 (далее — Cluny), № 308, 343, 347,
2427, 2451, 2850, 2944, 3133, 3538, 3796, 3924, 3974 и др.
56
Я. Д. Серовайский
ских комплекса, из них только 293 (9,5%) были отчуждены без
угодий. Лесные участки как самостоятельные объекты отчужде-
ния там встречаются очень редко. Картулярии 11онна (XI—
XIII вв.) рисуют уже иную картину. Из общего числа грамот,
трактующих об отчуждении разных земель, в 33,7% оформляются
сделки по передаче в другие руки владений без угодий и в 35,9% —
одних только угодий, включая и леса 14. Таким образом лес стал
рассматриваться как самостоятельный вид земельных владений,
имеющий большую ценность. Поэтому он превратился в объект
притязаний со стороны различных классовых групп французского
общества, прежде всего господствующего класса. Обладание эти-
ми угодьями, составлявшими резерв земледелия, позволяло фео-
далам использовать в своих интересах рост народонаселения (рас-
чистки, новые поселения). Лес стал для них новым, неведомым
ранее источником феодальных доходов. Обладание лесами и охот-
ничьими угодьями повышало и социальный престиж представи-
телей класса феодалов. Борьба за лес вызывала обострение всех
социальных противоречий, включая и межфеодальные конфликты.
Большое место занимал лес в хозяйстве крестьянина. По
словам К. Маркса, «естественная производительность земледель-
ческого труда» включала «простое собирательство»15, главной
ареной которого являлись леса (дичь, .плоды, корм для скота, топ-
ливо, строительный материал и др.). Хозяйственное освоение
земель, расчищенных в лесу, обеспечивало крестьянам значитель-
ный прирост продукции даже при низком уровне техники16.
Благоприятная рыночная конъюнктура позволяла крестьянам
реализовать появлявшиеся у них продуктовые излишки. Эти об-
стоятельства существенно изменили психологический климат во
французской деревне, созданный прежними условиями натураль-
ного хозяйства. У ее обитателей возникла тяга к освоению новых
земель, явившаяся движущей силой «великих расчисток». Одни
из них расчищали леса в пределах прежних селений. Другие в
поисках неосвоенных земель совершали со своими семьями дале-
кие передвижения, образуя мощные волны внутренней колониза-
ции. Развитие товарно-денежных отношении открывало крестья-
нам возможность доставлять на рынки продукты лесного хозяй-
ства (дрова, строительный материал, уголь, смолу, дубильную
кору, дичь и др.). Это была наиболее выгодная форма приложе-
ния избыточного труда, поскольку цена указанных продуктов
14 См.: Серовайский Я. Д. Проблемы развития феодальной собственности во
Франции в IX—XIII вв.: Дис. ...докт. ист. наук. М., 1969, с. 421—424.
15 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 182.
16 См.: Серовайский Я. Д. К вопросу о продуктивности французского зем-
леделия в средние века (IX—XIV вв.).—В кн.: Вопросы истории: Сбор-
ник трудов преподавателей вузов КаэССР. Алма-Ата, 1972, вып. 4, с. 169—
180.
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
5?
включала плату не только за труд, но и за природные богатства.
Однако реализация указанных возможностей зависела целиком
от свободного доступа крестьян в леса. Поскольку увеличение
роли леса в жизни общества вызывалось социально-экономиче-
ским прогрессом, то и борьба за обладание этими угодьями, раз-
вернувшаяся в X—XIII вв., была по существу борьбой за присвое-
ние материальных результатов этого прогресса.
Начало этой борьбы уходит своими корнями в IX в. Это за-
свидетельствовали две Сен-Галленские формулы, которые явля-
лись своеобразными инструкциями императорской канцелярии
для решения конфликтов из-за альменды, происходивших на всей
территории франкского государства. Поэтому их целесообразно
рассмотреть, хотя они непосредственной связи с территорией
Франции не имеют. Одна из них сообщает о созыве собрания зна-
ти и простонародья, призванного положить конец длительным
конфликтам из-за альменды между населением графства и коро-
левским фиском. С этой целью было решено разделить марку меж-
ду спорящими сторонами. Доля короля рассматривалась уже как
его полная собственность, где пикто не мог без особого разреше-
ния охотиться пли брать материал 17. На остальной части марки
население графства сохранило прежние права неограниченного
пользования 18. О собрании высших и средних людей округа, со-
званном по аналогичному поводу, сообщает другая формула19.
Монастырь, пытавшийся доказать, что ему как сеньеру местности
принадлежит право собственности на весь лес, очевидно, не смог
обосновать свои претензии. Поэтому он должен был довольство-
ваться компромиссным решением, согласно которому ему была
выделена в собственность только часть спорного леса. Вторая его
часть, где жители округа сохраняли права неограниченного
пользования, должна была находиться под надзором лесничих
монастыря, в обязанность которых входило предотвращение по-
17 MGH, Legum, sectio V, Formulae Merovingici et Karolini aevi/Ed. K. Zeu-
mer. Hannoverae, 1886. Collect. Sangal., N 10: ...quod propter diuternissimas
lites reprimendas et perpetnam pacem conservandam factus est conventus
principium et vulgarium ...ad dividendam marcham inter fiscum et popula-
ces possessiones in ilia et in illo pago... quis sine permissione vel praefecti
procnratores regis aut venationem ibi exercere, vel ligna vel materiamen
cedere convictus fuerit juxta decretum senatorium provinciae componat.
См.: Удальцов Л. Д. Из аграрной истории каролингской Фландрии. М.;
Л., 1935, с. 58; Inama-Sternegg К. Th. Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis
zum Schluss der Karol ingerzeit. Leipzig, 1879, Bd. 1, S. 270; Huff el G. Op.
cit., t. 2, p. 83.
19 MGH. Formulae Sangal. Miscel., N 9: ...ad distruendum diutissimorum jur-
giorum litem factum est conventus procerum vel mediocrum... utrum et ce-
teri cives in eodem lignorum materiarumque caesuram pastum vel saginam
animalium habere per suam auctoritatem, an ex ejusdem loci dominis pre-
cario deberent.
58
Я. Д. Серовайский,
рубок дубовых деревьев. А это уже открывало монастырю путь
к дальнейшему освоению крестьянского леса.
Рассмотренные документы отражали противоречия раннефео-
дального периода. Они оформили выделение части лесов и пусто-
шей в собственность представителям господствующего класса. Но
в то же время они признавали права жителей округа на эти
угодья. Судьбу альменды решало исключительно собрание жите-
лей, и лишь с его согласия возможно было изменить традицион-
ные порядки пользования общими угодьями. При всяком нару-
шении своих прав население отваживалось вступать в конфликты
не только с духовными конгрегациями, но и с представителями
короля. Эти конфликты еще не рассматривались как бунт. Для
их мирного решения власти высылали на места своих уполно-
моченных, которые, как правило, прибегали к компромиссам.
Среди конфликтов из-за пользования лесом особого рассмотре-
ния заслуживает восстание крестьян в Нормандии в конце X в.20
Существенные расхождения в трактовке восстания во многом
объясняются состоянием источников. Первое упоминание о нем
мы находим в хронике Гильома Жюмьежского, составленной че-
рез 80 лет после описываемых событий. Тем не менее содержащи-
еся в нем сведения заслуживают доверия, ибо, по мнению уче-
ных, они были заимствованы из не дошедших до нас работ Дудо-
на — капеллана Ричарда II, современника восстания и учителя
Гильома21. Другой источник — рифмованная хроника Роберта
20 Различную трактовку этого восстания см.: Grand R., Delatouche R. Op.
cit., p. 200; Andrieu-Quitrancourt P. Histoire de Fempire normand et de sa
civilisation. Paris, 1952, p. 122—125; Ktenast W. Studien uber franzosische
Volksstamme des Friihmittelalters. Stuttgart, 1968, S. 96; Rubner H. Unter-
suchungen..., S. 8—9; Histoire de Normandie / Publ. de M. de Bouard. Tou-
louse, 1970, p. 52—53; Fossier R. Le mouvement populaires en Occident au
XI siecle.— Acad, des inscription et Belles-Lettres comptes rendus des se-
ances de 1’annee, 1971, Avr.— Join, p. 261; Hilton R. Peasant Society. Pea-
sant Movement and Feudalism in Medieval Europe.— In: Rural Protest;
Peasant Movements and Social Change. London, 1974, p. 76—77. В совет-
ской историографии см.: Бартенев А. С. Из истории крестьянского вос-
стания в Нормандии в конце X в.— Учен. зап. ЛГПИ, 1940, т. V, вып. 1,
с. 117—128; Сидорова Н. А. Очерки по истории раннегородской культуры
во Франции. М., 1953, с. 22—23; Шевеленко А. Я. Движение бретонских
крестьян в первой четверти XI в.— Французский ежегодник. 1967. М.,
1968, с. 241; Серовайский Я. Д. К вопросу возрастания ренты при феода-
лизме.— Учен. зап. Каз. ун-та, 1957, т. XXXI. Сер. историческая, вып. 3,
с. 96; Люблинская А. Д., Прицкер Д. П., Кузьмин М. Н. Очерки истории
Франции с древнейших времен до окончания первой мировой войны. Л.,
1957, с. 44; Конокотин А. В. Классовая борьба во французской деревне в
IX—XI вв.— Французский ежегодник. 1958. М.. 1959, с. 51; История Фран-
ции. М., 1972, т. 1, с. 92.
21 Leblond В. L’accession des Normands a la culture occidentale (X—XIе si-
ecle). Paris; Nitze, 1966, p. 205—206; Histoire de Normandie, p. 109; Hilton R.
Op. cit., p. 76—77.
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
59
Васа — возник через 150 лет после восстания. В изложении хода
событий она не расходится заметно с хроникой Гильома, но в то
же время содержит сведения, которые у него отсутствуют. Поэт
вкладывает в уста восставших слова возмущения усилением фео-
дальной эксплуатации и призывы к расправе с сеньерами. Возмож-
но, что Роберт Вас располагал источниками, неизвестными Гильо-
му. Однако установлено, что поэт очень вольно обращался с ма-
териалом 22, проецировал в прошлое сведения о событиях более
позднего времени. Вся социальная обстановка (сеньериальный
режим, положение крестьян) описываемых Робертом событий со-
ответствует уровню феодальных отношений XII, а не X в.23 Сле-
довательно, при изучении восстания 997 г. следует в основном
опираться на свидетельства Гильома Жюмьежского, привлекая
из хроники Роберта Васа некоторые дополнительные данные, ко-
торые можно квалифицировать как сведения, относящиеся к X в.
Гильом Жюмьежский писал о восстании дословно следующее:
«Сельские жители различных графств Нормандского отечества в
полном единодушии стали собирать сходки, на которых выносили
решение жить по своему усмотрению>}. Гильом сообщает, что
крестьяне хотели по-прежнему пользоваться доходами от лесов
и вод согласно своим законам, не испытывая ограничений недав-
но установленного регламента. Следовательно, у нормандских
крестьян существовал давно установившийся обычай пользования
лесами и водами, который был нарушен незадолго до описывае-
мых событий. На своих сходках они выбирали по два посланца
(очевидно, от каждого графства), которые должны были от
имени собрания всей Нормандии вручить жалобы герцогу24. По-
сланцы по дороге были схвачены и подверглись жестокой распра-
ве. Устрашенные крестьяне вернулись к своим плугам25. Восста-
ние было подавлено «в зародыше»26. Больше хроника о нем
ничего не сообщает.
Возникает вопрос: какие же ограничения были введены герцо-
гом? Из текста следует, что они заключались в сокращении объ-
22 Leblond В. Op. cit., р. 27.
23 См.: Серовайский Я. Д. Проблемы развития феодальной собственности...,
с. 493—501; Histoire de Normandie, р. 166—168; Hilton R. Op. cit., p. 76—
77.
24 Willclmi Calculi Gemetiacensis monachi historiae Northmannorum libri
octo.— In: Migne J. P. Patrologiae cursus completus, serin latina, 1853,
t. CXLIX, p. 823—824: ...Nam rustici unanimes per diversos totius Normanni-
ciae patriae comitatus plurima agenles conventicula juxta suos libitus vi-
vere decernebant...; ...quatenus in silvarum compendiis quam in aquarum
comerciis nullo obsistcuite ante statuti juris obice, legibus uterentur suis...
quae ut rata manerant, ab unoquoque coetu furentis, vulgi duo eliguntur
legati qui ad medilerraneum roborannda conventum...
25 Ibid.: ...His rustici expert is festinato concionibus omisis ad sua aratra sunt
reverti.
26 Архив Маркса п Энгельса, т. X, с. 284.
60
Я. Д. Серовайский
ема прав пользования альмендой, но не самой ее площади, как
это имело место во время конфликтов IX в. Характеризуя права,,
которые восставшие хотели вернуть, Гильом Жюмьежский упо-
требляет вместо обычных терминов, при помощи которых обозна-
чали пользование альмендой (usuarium, usaticum, aisantias), по-
нятия рыночных отношений (silvarum, compendiis, aquarum со-
mercciis). Следовательно, в результате ограничений подверглись
умалению не все, а только такие права, которые позволяли
крестьянам извлекать денежные выгоды из пользования лесом или
водами. Один фрагмент из хроники Реберта Васа, связанный со
свидетельствами Гильома Жюмьежского, проливает некоторый
свет на интересующий нас вопрос: он сообщает о надеждах кре-
стьян после победы над рыцарями: «...мы можем пойти в лес,
выбирать на сруб деревья, из садков брать рыбу, а из заповед-
ников — дичь. Всем мы сумеем распорядиться, лесами, водами и
лугами» 27. Этот текст позволяет установить, что крестьяне утра-
тили право свободного пользования лесами, лугами и водоемами.
Отборная древесина, дичь и рыба, очевидно, предназначались не
только для удовлетворения непосредственных потребностей, но
и для рынка. Это, по-видимому, имел в виду Гильом Жюмьеж-
ский. Другие права пользования альмендой, которые удовлетво-
ряли натурально-хозяйственные потребности крестьян, по всей
видимости, не были ущемлены. Поэтому о них не упоминают ав-
торы хроник. Изложение приводит нас к необходимости рассмот-
реть социально-экономическую и политическую обстановку, в ко-
торой происходило восстание.
Благодаря специфическим условиям своего возникновения
Нормандское герцогство уже в X в. оказалось втянутым в систе-
му морских торговых связей, созданных викингами. В самой стра-
не, как пишет Рауль Глабер, вскоре установился прочный мир,
который благоприятствовал развитию торговли и процветанию28 29.
Все исследователи единодушпо отмечают наметившийся в герцог-
стве во второй половине X в. экономический подъем, связанный
с активизацией денежного обращения 2Э. Крупнейший центр гер-
27 Мaitre Wares. Roman de Ron. Heilbronn, 1879, S. 64: Einsi porrum alter
el bois,/ Arbres trenchir e prendre a cliois,/Es vivier prendre les peissuns,
e es forez les veneisuns,/ De tut ferum nos volnntez,/del bois, des euves et
de prez.
28 MGH, SS, t. VII, Rod. Glaberi historian, 1. 5, p. 58.
29 Musset L. Les peoples scandinaves au Moyen Age. Paris, 1951, p. 67—76;
Idem. Relations et echanges d’influences dans FEurope et du Nord-Ouest
(Xе—XIе siecles).— Cahiers de civilisation medieval, 1958, N 1, Janv.—
Mars, p. 73—74; Idem. A-t-il existe en Normandie au XIе siecle une aristo-
cratic d’argent? — Annales de Normandie, 1959. N 4, p. 285—289; Lot F.,
Faw tier R. Histoire des institutions franca ises au Moyen Age. Paris, 1957,
t. 1, p. 5; Rubner IL Untersuchungen..., S. 68; I ver J. Les premiers institu-
tions du duche de Normandie.— I Normani e la loro espansione in Europa
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
61
цогства Руан был связан торговлей со странами Северного моря
и через Сену со всей Галлией. Известный как рынок вина и
рыбы, а также той добычи, которую привозили викинги, он испы-
тывал экономический подъем раньше Парижа30. Нормандское
герцогство поддерживало тесные связи с соседними княжествами
Франции, английскими королевствами и, конечно, скандинавским
миром. Здесь конфликты и войны самым причудливым образом
чередовались и сочетались с союзами и династическими браками.
Параллельно развивались контакты с наиболее влиятельными
центрами религиозной жизни (Реймс, Шартр, Дижон, аббатства
Сен-Дени, Сен-Жермен-де-Пре и Клюни) и непосредственно с
папской курией31. Таким образом герцогство, расположенное в
центре оживленных торговых связей Северного моря, находилось
в то же время на перекрестке всех политических и духовных
влияний того времени. Это не могло не оказать влияние на раз-
витие его институтов. Исследователи считают, что в отношении
эксплуатации лесов Нормандия унаследовала традиции франк-
ского государства, и расходятся между собой лишь в том, на-
сколько этот континуитет был прямы^ и непосредственным32.
Присвоив владения франкского фиска, исчезнувших монастырей
и опустевшие поместья светских магнатов, герцоги вместе с гра-
фами оказались собственниками большей части земель княжества,
и в первую очередь его лесов33. Следуя франкской традиции,
они практиковали сбор платы за откорм свиней в лесах всего
герцогства. По сведениям Дудона, эти доходы аббат Майол просил
пожертвовать клюнийцам за согласие принять монастырь Фекам
в состав конгрегации 34. Из текста видно, что речь шла о пла-
пеИ’аНо medioevo. Spoleto, 1969, р. 337; Fourquin G. Histoire economique
do 1’occident medieval. Paris, 1969, p. 14, 15, 176—177; Histoire de Norman-
die, p. 41—42, 51, 159—169; Fossier R. La lerre el les hommes en Picardie
jusqu’a la fin du XIIIе siecle.— L’information historique, 1973, N 3, p. 130.
30 Для борьбы с процветающим Руаном парижские купцы, торговавшие по
Сене и ее притокам, создали свое объединение (Pirenne II. A propos .de
la hanse parisienne des marschands de 1’eau.— In: Melanges d’histoire ef-
forts a Ch. Bemont. Paris, 1913, p. 91—97; Fourquin G. Histoire economi-
que..., p. 232).
31 Musset L. Les peoples scandinaves..., p. 128; Idem. Relations et echanges
d’influences..., p. 42—73; Andrieu-Quitran court P. Op. cit., p. 125; Wolter
II. S. I. Ordericus Vitalis. Wiesbaden, 1955, S. 24—25; Leblond B. Op. cit,
p. 54—59; Fourquin. G. Histoire economique..., p. 54—59, 128—129, 168;
Histoire de Normandie, p. 105—107; 125—129, 134, 138.
32 Petit-Dutallis Ch. Les origines franco-normandes de la «Foret» anglaiso.—
Tn: Melanges d'histoire efforts a Ch. Bemont, p. 59—76; Rubner П. L’nter-
suchungen..., S. 67—68; Iver J. Op. cit., p. 342.
33 Histoire de Normandie, p. 118—119; Lot F., Fair tier R. Op. cit., p. 5.
34 Migne J. P. Patrologiae cursus completus..., 1853, t. CXLI, col. 848: Excerp-
ta ex libro De revelatione aedificatione et autoritate monasterii Fiscamen-
sis, ex cap. XV... si per totum ducatum tuum consuetudinem que vulgaliter
pasnagium dicitur, Deo donaveris...; Leblond B. Op. cit., p. 34.
€2
Я. Д. Серовайский
тежах, сбор которых по всему герцогству носил характер давнего
обычая. Ричард отказал Майолу, но отдельным конгрегациям он
жаловал такие привилегии. Аббатство Сен-Торин д’Эвре получило
от герцога разрешение содержать свиней на откорме в принад-
лежавших ему лесах35. От Ричарда II оно получило пожалование
на откорм свиней и выпас другого скота в лесах графа Эвре.
Позднее граф пытался лишить монахов этой привилегии, но
Вильгельм Завоеватель подтвердил пожалование своего деда3®.
Дарение этого права подразумевалось и в других аналогичных
грамотах Ричарда II37. Следовательно, сбор платы за выпас сви-
ней и других видов скота в лесах отнюдь не являлся тем новым
установлением, которое, по словам Гильома Жюмьежского, вы-
зывало возмущение крестьян в 997 г. По-видимому, ему пред-
шествовало невыгодное для крестьян коренное изменение во всей
лесной фискальной системе, обусловленное характером экономи-
ческих связей герцогства. Большой спрос на древесину был свя-
зан со строительством боевых и торговых судов, лодок и барж
для рыбного промысла, жилищ, мостов, причалов и бургов. Дре-
весина высоко ценилась38. Известное влияние имели также
внешние факторы. Жители Скандинавии, посещая дальние края,
знали о высоких ценах на привозную древесину в странах, ли-
шенных собственного леса. Благодаря этому в Нормандском гер-
цогстве раньше, чем в других областях Европы, появился лесной
рынок. Соответственно у нормандских властителей был иной под-
ход к оценке лесных богатств, чем у других князей и даже фран-
цузского короля. Свою фискально-лесную политику они ориен-
тировали на рыночную конъюнктуру39. Нормандия, изобиловав-
шая прекрасным строевым лесом, изрезанная множеством рек,
устремлявшихся к морю, имела благоприятные условия для раз-
вития лесной торговли. Герцоги стремились распространить свои
права собственности на все леса своего княжества и монополи-
зировать торговлю древесиной. На осуществление этой политики,
очевидно, влиял хорошо известный им пример Норвегии, где та-
кая монополия была установлена уже в начале X в.40
Появление монополии на торговлю лесом в герцогстве отно-
сится ко времени, которое предшествовало восстанию. Ричард II
35 Recueil des actes de dues de Normandie de 911 a 1066/Publ. par L. Mus-
set. Caen, 1961 (далее — Actes de Normandie), N 5.
38 Lot F. Etudes critiques sur 1’abbaye de St. Wandrille. Paris, 1913 (далее —
St. Wandrille), N 37 (1074).
37 Ibid., N 11 (1024): ...ecclesiam cum consueludines in foresta... villa S. Ste-
phani et consuetudines in forestam.
38 См.: Исландские саги. M., 1956, с. 114, 176, 305, 414, 493—494, 757.
39 Ihibner II. Recherches sur la reorganisation forestiere en France (XII—
XIII s.).—BPhH (a. 1963), 1966, p. 277.
40 См.: Гуревич А. Я. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М.,
1967, с. 112; Musset L. Les peuples scandinaves..., p. 81—83, 111.
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
63‘
подтвердил аббатству Сен-Вандрий пожалованное его отцом пра-
во беспошлинного провоза во всех направлениях по Сене таких
товаров, как зерно, вино и лес41. Из этой грамоты ясно, что во
второй половине IX в. лес уже являлся важным товаром наряду
с зерном и вином, а торговля им контролировалась герцогом.
Документы более позднего времени обнаруживают дальней-
шее развитие монополии на торговлю лесом. Рассмотрим некото-
рые из них. Так, два светских собственника подарили аббатству
лес, находившийся в нераздельном владении с другим собствен-
ником, с условием, что на каждые три дерева, вырубленные в
лесу последним для продажи или других целей, монахи будут
брать только одно. Дарителями здесь были шурины Ричарда II,
установившего порядок совладения лесом и санкционировавшего
данный акт отчуждения42. Следовательно, торговля лесом носила
уже систематический характер и контролировалась герцогом,,
в детстве которого произошло восстание. О дальнейшем разви-
тии указанной монополии свидетельствует тенденция герцогов рас-
поряжаться лесными владениями графов и поступающими оттуда
доходами. Такая практика отмечается уже при Ричарде II, а уси-
ливается при Вильгельме. Вильгельм санкционировал дарение-
графа Эвре аббатству Сен-Вандрий (десятина от всех доходов с
леса Бротон, включая поступления от охоты) 43. Ему принадле-
жало также преимущественное право на приобретение лесных
владений графа, причем эта привилегия восходит к давнему вре-
мени 44. К моменту битвы при Гастингсе у нормандских герцогов,
накопился уже длительный опыт фискальной эксплуатации лесов,
который они затем использовали для создания общеанглийского
института foresta 45 * *. Его структура, которая хорошо прослежива-
ется по источникам, ретроспективно бросает дополнительный свет
на систему фискальной эксплуатации лесов, формировавшуюся в
герцогстве Нормандском.
В XII в. фискальная лесная система становится уже важней-
шим источником доходов для герцогов — английских королей. Це-
41 St. Wandrille, N 11 (1024): ...liberum quoque transitum baccomm eorum
sive navium per Sequanam ascendentium aut descendentium vina ant blada
sive a ligna portantium ab omni costuma pontagii vel transversi.
42 Actes de Normandie, N 46 (1017—1026): ...si Oloericns qui tres partes tene-
bat, tres arbores daret vel venderet aut acciperet monachi e contra... quar-
tern acciperent...; St. Wandrille, N 9 (1024).
43 Actes de Normandie, N 234; St. Wandrille, N 40.
44 Actes de Normandie, N 234: ...simili modo consuetudinem habemus in omni
silva comitisia dicli Ricardi... ut si alicui vendere voluerit nullius pecuni-
ary accipiat nisi nostram. Hunc autem consuetudinem habemus ab antiqui
temporis.
45 См.: Серовайская Ю. Я. Собственники английского заповедного леса в
XI—XIII вв. и характер их прав.— В кн.: Вопросы истории: Сб. трудов
преподавателей вузов КазССР. Алма-Ата, 1974, вып. 6, с. 139—147.
64
Я. Д. Серовайский
лые лесные массивы продавались ими с аукциона на сруб или же
сдавались в аренду для лесоразработок. Купцы Руана создали
свое объединение, которое брало на откуп торговлю деловой дре-
весиной, дровами и углем в области, прилегающей к Нижней
Сене и от Нормандии до Ирландии. Они поставляли лесоматериа-
лы даже в Сирию 48 49. К этому времени устанавливается контроль
над лесами графов и частных собственников, которые могли про-
изводить лесоразработки только на основании герцогских лицен-
зий 47. Старонормандское право, которое действовало задолго до
его записи (рубеж XII—XIII вв.), запрещало продажу леса (ле-
соматериалов) без разрешения герцога48. Опираясь на сущест-
вовавшие в герцогстве порядки, Филипп II Август в 1210 г. за-
претил всем собственникам продавать свой лес в ряде портов
Нормандии до тех пор, пока не будет реализована заготовленная
королевская древесина49. В эти столетия герцогская фискальная
система развивалась уже в ущерб правам феодальных собствен-
ников, ограничивая их возможности использовать в своих инте-
ресах рыночную конъюнктуру. Наступление на крестьянские
права по-прежнему продолжалось, но уже в ином направлении.
Оно преследовало цель ограничения их натурально-хозяйствен-
ных потребностей. Все леса Нормандии инспектировались долж-
ностными лицами, которые ведали заготовкой и продажей древе-
сины. Они решали вопрос о предоставлении в пользование кре-
стьянских общин конкретных угодий50. Не имея устойчивых
прав на альменду, крестьяне за особые оброки брали в держание
лес у короля51 или у светских и духовных собственников. На
этой почве возникали характерные конфликты. Рассмотрим один
из них. Жители трех деревень периодически пасли скот в лесу
аббатства св. Стефана в Кадоме и считали, что обязаны платить
только за фактическое пользование. Однако суд под страхом ли-
шения прав выпаса обязал их вносить соответствующие оброки
регулярно, независимо от того, посылали ли они свой скот в лес
48 Rubner II. Untersuchungen..., S. 73—84; De Beaurepaire Ch. De le vicomte
de 1’eau de Rouen et de coutumes de XIII au XIV siecle. Paris; Rouen,
1866 (далее — Vicomte de I’eau), p. 15.
47 См.: Серовайский Я. Д. Внутрифеодальная борьба..., с. 151—152.
48 Tres ancien coutumier — Сои turn iers de la Normandie / Par E. I. Tardif.
Rouen, 1881, pt 1, p. 128, cap. XXIII.
49 Rubner IJ. Untersuchungen..., S. 65.
50 Delisle L. Recueil de jugements de Fechiquier de Normandie. Paris, 1864,
N 499 (1232), p. 119: Preceptum est quod venditores domini regis eunt vi-
dere boscos per lotam Normanniam et reddant hominihus pasturagia et cos-
tumas suas quas ibi debent habere, nisi viderint quod hose us poteret cres-
cere vel ibi non poterit se defendere, ad usus et consuetudines Normannie
de boscus domini regis...
51 Ibid., N 510 (1232). p. 121: Preceptum est quod homines de Longa villa jux-
ta Vernonem, qni tenent boscum a domine pro centum modiis vini annua-
tim... et de quolibet igne ardente debent annuatim duos denarios...
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
65
аббатства или нет52. За отдельными общинами вообще не при-
знавали прав на альменду55. Целые общины привлекались к от-
ветственности за необоснованные, с точки зрения властей, пре-
тензии на альменду5Ь. Именно к этому периоду относятся содер-
жащиеся в поэме Роберта Васа жалобы крестьян, что им нет
покоя от непрерывных тяжб, прежде всего из-за леса55.
Фискальная система нормандских герцогов включала также
ряд монопольных прав пользования водами: права на получение
пошлин с портов, за солеварни, добычу ила, который использо-
вался для удобрений, права на доходы от рыбного промысла (реч-
ного и морского), поступления с мельниц. Совокупность этих
прав называлась aquagium (ewagium). Взимание поборов осуще-
ствляло ведомство vicomte de Геаи. Размеры отчислений в гер-
цогскую казну по каждой статье были закреплены обычным пра-
вом, нормы которого получили окончательную редакцию в XIII в.;
однако они, несомненно, восходят к более раннему времени56.
Уже в одной из грамот Ричарда I упоминается пожалование
земли и воды57. Термин aqua обозначает здесь, очевидно, те
права, которые затем стали называться^aquagium5в* Грамоты Ри-
чарда II, иногда подтверждающие пожалования его предшествен-
ника, показывают, что герцог распоряжался рыбной ловлей во
внутренних водоемах Нормандии и в море 5в. Свои права на до-
ходы от «воды» преемники Ричарда II со ссылкой на прежние
пожалования дарили церковным конгрегациям наряду с оброка-
ми от земли и лесовв0. Владельцы кораблей, предназначенных
для рыбного промысла в море, обязаны были платить герцогу
определенные сборы. Генрих I пожаловал монахам Конша права
получать эти доходы с принадлежавших им крестьян61. Не толь-
52 Ibid., N 301 (1220), р. 76: Judicatum est quod homines de Profundo Rivo,
...reddant abbati consuetudine... pro usuario sive veniant ad pasturam... sive
non...
53 Ibid., N 428 (1228), p. 106. ...homines de Briquevilla amitant pasturam quam
petebant a domina de Columberi...
54 Ibid., N 229 (1218), p. 58: ...quod pasturam de Vilers... de qua contencio
erat inter Nicholaum de Montigne, ex una parte et homines de Vilers ex
altera, remaneat eidem Nicolao... et predicti homines sunt in misericordia
domini regis pro falso clamore.
55 Maitre Waces. Roman de Rou, p. 62.
88 Delisle L. Des revenue publics en Normandie au XIIе siecle.— Bibliotheque
de 1’Ecole des chartes. IIIе serie, L 1, 1849, p. 420—421; См. также при-
меч. 46.
87 Actes de Normandie, N 5 (692—996): ...donavit terram cum aqua...
88 Coutumier de Dieppe, f. LXIV, r°; Magni Rotuli Scacari Normanniae/Ed.
Th. Stapleton. Londinii, 1840, t. 1, p. 53; Delisle L. Des revenue publics...,
p. 421.
»• St. Wandrille, N 11 (1024).
60 Ibid., N 14 (1031—1035).
81 Coutumier de Dieppe, f. LIX, r°: ...apud portum qui vocatur Deppa... si ho-
mines eorum habuerint naves in mari piscantes quiquid de navibus illis
ad me pertinentes concede predictis monachis...; f. XLIII, r°.
3 Средние века, в. 43
66
Я. Д. Серовайский
ко ловля рыбы, но и продажа ее в свежем виде сопровождалась
уплатой герцогу определенных пошлин62. В сборнике обычного
права указывается размер платежей со всех сортов рыбы, про-
дававшейся в Руане63. Рыбаки острова Горнсей обязаны были
продавать угрей купцам герцога (короля) по ценам, установлен-
ным арбитрами. Герцогу принадлежала монополия на крупную
морскую рыбу, а также на китов, заплывавших в Ламанш, кото-
рых прибивало течением к берегам Нормандии. Права на эти до-
ходы часто являлись объектом пожалований *'*. Такие права по-
лучил от герцога архиепископ Руана, в свою очередь передавший
их аббатству Сен-Вандрийе5. Промысел крупной морской рыбы
производился исключительно с разрешения герцога и за особую
платувв. Вылов ее без лицензии карался штрафом ®7. Герцогу
принадлежало также исключительное право ставить свои неводы
и другие сооружения в реках, которые изобиловали рыбой. Рыба-
ки имели туда доступ за особую платувв.
Таким образом одни только монополии на рыбный промысел
и соответствующую торговлю, помимо других привилегий, кото-
рые относились к категории aquagium, позволяли герцогам экс-
плуатировать самые широкие слои населения; профессиональных
рыбаков, крестьян, совмещавших земледельческий труд с рыбным
и морским промыслом, а также покупателей . рыбы и соли. По-
скольку эта эксплуатация осуществлялась через рынок, она огра-
ничивала возможности производителей извлекать из него выгоды.
Материальный ущерб, нанесенный населению, возрастал из-за
лесных монополий.
Указанные монополии, как видно из источников, на рубеже
X и XI вв. уже существовали. По-видимому, они появились зна-
чительно раньше — в период, предшествовавший восстанию. В этой
связи становится понятным свидетельство Гильома Жюмьежского
о возмущении крестьян недавно установленным законом, лишив-
шим их прежних прав на доходы от леса и вод. Произошло это,
несомненно, во время правления Ричарда I (962—996). Его
смерть и малолетство наследника представляли благоприятный
82 Ibid., f. LVI, r°; Delisle L. Des revenue publics..., p. 427.
63 Vicomte de 1’eau..., p. 283—284: ...VIII. De la coustume de Harenc. Pour
I m. IIII d.; et se il vient par eau as sergeeans, Xd... Pour V. m de hareng
venu de 1’Egleterre au toy I m.; cp. p. 285—286.
84 Delisle L. Des revenus publics..., p. 428—430.
85 St. Wandrille, N 18 (1035—1037).
88 За разрешение ловить китов в пределах конкретной полосы купцы Байе
обязались уплатить Иоанну Безземельному 10 фунтов (Delisle L. De re-
venus publics..., p. 431).
87 Magni Rotuli Scacarii..., t 1, p. 2: Pro crasso pisce injusta capto; p. 36:
IIII libris pro crasso pisce capto et diviso sine licentia...
88 Delisle L. Des revenus publics..., p. 433—434.
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов 67
момент для выступления крестьян, однако избранная форма про-
теста и тактика действий не могли обеспечить им успех. Пода-
вив в зародыше крестьянское движение, герцоги окончательно
закрепили установленные монополии и расширили их сферу
действия.
Сопоставление хроники Гильома Жюмьежского и поэмы Васа
с данными Сен-Галленских формул позволяет связать нормандское
восстание 997 г. с дофеодальным прошлым. Но вызывавшие его
объективные и субъективные факторы вытекали уже из законо-
мерностей развитого феодализма. Следовательно, познавательное
значение его материалов приобретает особую важность не столько
для понимания раннего, сколько для изучения более позднего
периода средневековой истории. Это восстание явилось первым
организованным выступлением крестьян против феодального
освоения природных богатств в условиях развивавшихся товар-
но-денежных отношений. Оно находилось у истоков формирова-
ния системы фискальной эксплуатации лесов и других угодий
общего пользования, которая получила дальнейшее развитие в
Англии и в других странах Западной ^вропы. Поэтому в истории
феодальных отношений оно имеет особое значение, выходящее
за локальные и хронологические рамки.
Объективные факторы, обусловившие восстание нормандских
крестьян в 997 г., давали о себе знать на остальной территории
Франции позднее и неодновременно. Политическое объединение
страны еще не достигло тогда заметных успехов. Поэтому процесс
феодального освоения лесов и других угодий протекал там асинх-
ронно и в его осуществлении преобладающая роль принадлежала
местным сеньерам всех рангов. Соответственно и выступления
крестьян в защиту своих традиционных прав проявлялись в виде
множества изолированных конфликтов и не могли вылиться в
движение, которое охватило бы значительную территорию. Но в
этих локальных конфликтах легко прослеживаются те же самые
побудительные мотивы, которые в свое время привели в движе-
ние нормандских крестьян. Рассмотрим наиболее типичные из
них.
Текст одной из грамот Ионнского картулярия позволяет за-
ключить, что община деревни Мишери испокон веков свободно
владела лесом того же названия. Совпадение топонимов служит
тому дополнительным доказательством. Аббатство Сён-Коломб-
де-Санс заявило претензии на этот лес и тем самым вызвало
энергичный протест со стороны общинников. На суде в Сансе,
куда обратились с жалобой крестьяне, монахи мотивировали свои
претензии тем, что земля, на которой расположен лес, принадле-
жит им как сеньерам местности. Следовательно, и лес должен
быть их собственностью. Общинники не могли противопоставить
этим утверждениям какой-либо аргумент, выраженный в поня-
3*
68
Я. Д. Серовайский
тиях и нормах феодального права. Их права на лес вытекали из
факта давнего и неограниченного пользования и считались само
собой разумеющимися. Поэтому крестьяне, не вступая в спор с
монахами по поводу их сеньериальных прав на землю, находив-
шуюся под лесом, энергично настаивали на том, что лес принад-
лежит им. Очевидно, доводы монахов не убедили суд и он при-
знал за ними право только на третью часть спорного леса: она
выделялась им в полную собственность совместно с рыцарем
Монасю, который, по-видимому, был фогтом монастыря. Осталь-
ная часть леса сохранилась за общиной, однако ее права были
сильно урезаны. Крестьяне могли брать все виды древесины, но
, только для собственных нужд. Продажа древесины или передача
за пределы деревни категорически запрещались 6Э.
Рассмотренный конфликт напоминает тяжбу из-за леса, о ко-
торой шла речь в Сен-Галленской формуле № 9. Но его решение
отвечало уже изменившимся условиям. Основным богатством леса
считались уже не кормовые ресурсы, а товарная древесина. По-
этому крестьян лишили права распоряжаться ею, а не дубовыми
деревьями. На своей части леса монахи не подвергались таким
ограничениям. Поэтому их права на реализацию древесины при-
обрели характер монополии. Крестьяне уже рассматривались не
как собственники, а как пользователи леса с правами, которые
ограничены рамками натурально-хозяйственных потребностей ”.
Судебное решение данного конфликта не являлось пределом
ограничения прав крестьян. Они могли еще брат^ для себя лесо-
материал в неограниченных размерах и без оплаты. В других
аналогичных ситуациях крестьяне лишались и этих прав. Так,
например, аббат Молемского монастыря, разрешая крестьянам
одного рыцаря пользоваться лесом, точно регламентировал назна-
чение взятой там древесины (запрещалось брать материалы не
только для продажи, но и для изготовления предметов, которые
могли быть проданы) ”. Жители селения Акведукт, принадле-
жавшего церкви св. Стефана в Дижоне, издавна неограниченно
пользовались пастбищем и лесом на общей земле, межевавшейся
с деревней Альта-Вилла. Но этому стали препятствовать сеньеры
последней. Возмущенные крестьяне заявили о готовности защи-
щать свои права при помощи судебного поединка. Курия бургунд-
ского герцога, разбиравшая этот конфликт, разрешила крестьянам
пасти скот в спорных угодьях, а из лесоматериалов брать только 69 70 71
69 Cartulaire general de 1’Yonne/Publ. de M. Quantin. Auxerre, 1860, t. 2
(далее —Yonne), N 486 (1198).
70 Аналогичное решение таких конфликтов см.: Cartulaire de 1’abbaye de
Notre-Dame d’Ourscamp / Publ. par M. Peigns-Delacourt. Amiens, 1865 (да-
лее — Ourscamp), N 120; Les plus anciennes chartes en langue fran^aise/
Publ. par L. Karolus Barre. Paris, 1964, t. 1, N 144.
71 Molesme, N 112 (1102—1111).
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
69
«мертвый лес» и пни72. Все то, что не было включено в эту но-
менклатуру, считалось уже запретным. Крестьяне лишались
права брать материалы не только для продажи, но и для удовлет-
ворения большей части собственных потребностей. Кроме того,
изменилась правовая основа крестьянского пользования лесом.
Она уже рассматривалась в официальных документах как резуль-
тат сеньериального пожалования.
С развитием феодальных монополий возникает новая класси-
фикация леса, которая была неизвестна в раннее средневековье.
Тогда «плодоносящие деревья» (дуб, бук) отличались от всех
остальных пород, которые считались менее ценными. В XI—
XIII вв. первую категорию составлял уже «живой лес», который
мог быть использован для строительных и поделочных работ.
Остальные породы деревьев, сухостой, валежник и сучья, оста-
вавшиеся после лесоразработок, назывались «мертвым лесом» 73 74,
который можно было использовать только для топлива. Понятие
«мертвый лес» имело не только технический, но и социальный
смысл7А. В этом отношении особый интерес представляют из-
данные Людовиком VI кутюмы Лоррц, служившие образцом для
других аналогичных документов. Они признавали за жителями
данного населенного пункта право брать только «мертвый лес»,
но не произвольно, а исключительно для собственных нужд и
не везде, а только за пределами заповедника75 76. Этот текст, воз-,
можно, представлял, подобно предшествующему, феодальную ре-
дакцию традиционных прав общинников, которые благодаря это-
му оказались сильно урезанными. Но не исключено и предпо-
ложение М. Пру о том, что это был конституирующий акт
общинного пользования7в, если только сама община представ-
ляла новообразование. Здесь важно отметить, что в этот период
в отличие от раннего средневековья за общинниками признавали
лишь право на «мертвый лес», и то в ограниченном объеме.
Недостающее количество материалов крестьяне вынуждены
были приобретать у сеньеров за особую плату. Так, например,
Асцелин де Мерри в виде особой льготы предоставил крестьянам
72 Ptrard Е. Recueil des plusieurs pieces curieuses pour servir 1’histoire de Bo-
urgogne. Paris, 1664, p. 99, a. 1128.
73 Delisle L. Etudes sur la condition de la classe agricole et 1’etat d’agriculture
en Normandie du Moyen Age. Evreu, 1853, p. 354—360; Deveze M. La vie
de la foret fran^aise..., p. 83—84; Rubner H. Untersuchungen..., S. 46—47.
74 См.: Серовайский Я. Д. Внутрифеодальная борьба за лес..., с. 149—158.
75 Recueil des actes de Philippe Auguste roi de France/Publ. par H. F. De-
labord. Paris, 1916—1943, t. 1—2, (далее — Actes de Philippe Auguste),
N 202, § 29: Et homines de Loriaco nemus mortuum ad usum suum extra
forestam capiant...
76 Prou M. Les coutumes de Lorris et leur propagations aux XIIе et XIIIе si-
ecles.— Nouvelle revue historique de droit francais et etranger, 1884, t. VIII,
p. 139—209, 267—302, 441—457; Rubner H. Recnerches sur la reorganisation
forestiere..., p. 274—275.
70
Я. Д. Серовайский
право покупать у него первыми древесину, предназначенную для
продажи77. Но нередко им приходилось оплачивать пользование
лесом, которое было закреплено за ними обычным правом. Эти
платежи в отличие от предшествующих приобретали характер
традиционных повинностей. Об этом сообщают многие документы
различных областей Франции. Так, например, с каждого крестья-
нина, который брал дрова в лесах графа Дофина, взыскивали
ежегодно по 6 сетье и 1 эмине овса, помимо платежей в пользу
министериалов7В. Во владениях Клюнийского аббатства за поль-
зование лесами, пастбищами и водой крестьяне не только пла-
тили натуральные оброки, но и обязаны были еще отбывать бар-
щину 7 80®. В ряде случаев эти повинности взыскивались незави-
симо от фактического пользования соответствующими угодьями.
Так, например, парижский парламент, производивший расследо-
вание по жалобе четырех крестьянских общин, признал за ними
право пользоваться в королевском лесу сухостоем, валежником и
сучьями. За это с каждого двора, располагавшего упряжкой, причи-
талось ежегодно по 2 эмины овса. Крестьяне, которые не имели
упряжки, платили только по 1 эмине. Все они обязаны были до-
ставлять к рождеству по одному хлебу. Указанные оброки взы-
скивались с них независимо от того, брали ли они в лесу указан-
ный материал или нет *°. Лишь отдельным общинам после дли-
тельных конфликтов удавалось добиться права платить сеньерам
только за фактическое пользование альмендой 81. Таким образом
признание за крестьянами права пользования лесами и пастби-
щами становилось для сеньеров систематическим источником
ренты.
Выступления крестьян в защиту своих прав на угодья не
ограничивались обращением в суд и выливались в открытые
столкновения с феодальными собственниками. Рассмотрим неко-
торые наиболее типичные конфликты этого рода. Жители дерев-
ни Примпре (Пикардия) в соответствии со своими традицион-
ными правами начали заготавливать древесину для ремонта при-
ходской церкви в лесу, собственниками которого в результате
77 Recueil des pieces pour faire suite au cartulaire general de 1’Yonne/Publ.
de M. Quentin. Auxerre; Paris, 1873 (далее — Pieces de Yonne), N 136, 403.
78 Chaumel V. Un censier dauphinois inedit.— BPhH (a. 1964), 1967, p. 285.
79 Cluny, N 3767 (1100): ...et usuarium omnem propter quos rustici ejusdem
ville corvejam... faciebant tarn in pratis quam in suvis et in pascius...;
N 4911 (1248); Cartulaire de 1’eglise de Notre-Dame de Paris/Publ. par
B. Guerard, Paris, 1850, t. 1, N 10; Recueils des actes du prieure de Saint
Symphorien d’Autun.../Publ. par A. Deleage. Autun, 1936, N 23; Molesme,
N 228; Actes de Philippe Auguste, N 269.
80 Olim, p. 17—18 (1257).
81 Ibid., p. 225, XII: ...et possunt desistere a solutione dictorum tredecim dena-
riorum quamdiu volunt dimittere usagium et redire ad ipsum usagium qu*
ando voluerint, solvendo dictis tredecim denarios.
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
71
акта дарения недавно оказались монахи Уркам. Монахи запре-
тили крестьянам делать в лесу заготовки. Крестьяне не подчини-
лись и вывезли заготовленные материалы. В конфликт вмешался
епископ, который потребовал вернуть лес и явиться в суд. В ответ
на отказ крестьян он запретил церковные службы в деревне.
Лишь после этого общинники доставили заготовленную древесину
в усадьбу аббатства и явились в епископскую курию, которая
не признала их прав на лес 82 83. Капитул Оксера, продавая лес на
сруб, лишил крестьян возможности пользоваться выпасом, и те
в виде мести напали на владения капитула, учинив там насилие
и разгром (violentiis et contumeliis) 8?. Так же отомстили люди
сеньера Анри де Вениси аббатству Волюнсан, которое лишило их
права пользования лесом *4. Крестьяне Элоизы де Шомон со-
вершили порубки и хищения в лесу аббатства де Прейи85 *. Мо-
нахи Шартреза пытались закрепить за собой право использования
земли общины Бенонция (Лионский округ) для выпаса и прого-
на своих стад. Но крестьяне не только оказали им сопротивле-
ние, но и сами стали вторгаться во владения указанной конгре-
гации, пасти там скот, рубить й вывозить лесоматериалы8в.
Разбирая этот конфликт, суд нашел, что крестьяне имели полное
право пользоваться этими угодьями. Следовательно, монахи захва-
тили их у крестьян87. Аббатство Сен-Бенин в Дижоне обрати-
лось с жалобой к бургундскому герцогу на жителей двух дере-
вень и Дижона, обвиняя их в том, что они, несмотря на запрет,
пасли скот, ловили рыбу, брали лесоматериалы и производили
расчистки во владениях указанной конгрегации88.
Много подобных фактов зарегистрировано в протоколах па-
рижского парламента. Крестьяне деревни Лонга-Вилла — люди
сепьера Гильома — с ведома последнего вырубили и расчистили
лес аббатства Якор, присвоив весь материал 89. Острый конфликт
из-за пастбища с крестьянами трех деревень возник у аббата
Аррезия. Крестьяне угрожали расправой, сожгли его ферму, сло-
мали мельницу, опустошили запасы сена90. За неуплату паст-
бищных платежей декан церкви Шаритэ захватил и угнал стадо
жителей селения Шэг. Общинники отбили свой скот и отобрали
лошадь у декана. Избив его до крови, крестьяне погнали его в
82 Ourscamp, N 124 (1174).
83 Pieces de Yonne, N 393.
84 Yonne, N 364 (1186).
85 Pieces de Yonne, N 478 (1241—42).
88 Cartulaire Lyonnais / Publ. par C. Guigue. Lyon, 1893, t. 2, (далее — Lyon-
nais), N 564 (1259).
87 Ibid.: ...predicti homines de Benoncia habent et possident vel quasi plenum
usum et percursum in pascius in glandibus nemoribus terrarum de Portis...
88 Perard E. Op. cit., p. 469—470, a. 1248.
89 Olim, p. 180 (1263), VIII, XIV.
90 Ibid., p. 48 (1258), XIX.
72
Я. Д. Серовайский
замок графа и отдали гам под охрану стражников. За это они
обязаны были возместить убытки упомянутой церкви91.
Систематические нападения крестьян вынуждали собственни-
ков принимать эффективные меры по охране лесов и пастбищ.
Соответственно возросла роль министериалов и оформились в осо-
бое сеньориальное право функции охранников, в пользу которых
стали поступать значительные доходы от леса и пастбищ. Мона-
стырь Вевр (Верден) уступил фогту Роберту д’Эш одну из своих
ферм с тем, чтобы он защищал лес данной конгрегации от втор-
жений всех крестьян, которые попытаются производить там по-
рубки и расчистки92. Много порубок и хищений материалов из
лесов совершалось по ночам. У застигнутых при этом крестьян
отбирали лошадей и повозки. Право на реквизированное иму-
щество являлось предметом домогательств со стороны сенье-
ров93 94. Охрана лесов и пастбищ, принадлежавших церковным
конгрегациям, становилась предметом заботы папы римского04.
Несмотря на запреты и бдительность охраны, крестьянам уда-
валось вывозить из леса дрова и другие материалы не только
для себя, но и для продажи95 96 97. Иногда это получало признание
со стороны сеньеров. Зависимые люди капитула Стена после дли-
тельной борьбы добились от бургундского герцога признания пра-
ва продавать дрова и кору, которую они заготавливали на своих
держаниях9в. Аналогичные пожалования получили некоторые
общины Прованса". Очевидно, таким же путем в свое время
приобрела право на продажу лесоматериалов (дров) община Та-
ломонте98 99. Граф Оксера разрешил жителям Майи Шато прода-
вать деревянные изделия, на изготовление которых расходовал-
ся материал, заготовленный в лесу". Одна из общин капитула
отенской церкви добилась даже от герцогини Бургундской пра-
ва осуществлять контроль над продажей лесоматериалов 10°.
91 Ibid., р. 183—184 (1263), XVI.
92 Chartes cisterciens de Saint-Benoit en Woevre / Publ. par I. Denaix. Verdun,
1959, N 141 (1221); Yonne, N 407; Ourscamp, N 632; Actes de Philippe
Auguste, N 243.
93 Olim, p. 16 (1257), XXIV.
94 Recueil de plus anciens actes de la Grande Chartreuse / Publ. par B. Bligny.
Grenoble, 1958, N 29 (1173—76), 30, 31.
95 Duby G. L’economie rurale et la vie des campagnes dans 1’Occident medie-
val. Paris, 1962, t. 1, p. 245.
96 Autun, N 39 (1206): ...habent homines Beati Nazari tali usagium... possunt...
in tenementis suis lignorum vendere corticis quo ipsi ad comburendum se-
cabunt...
97 Sclafert Th. Cultures en Haute Provence. Deboisements et paturages au
moyen age. Paris, 1959, p. 28—29.
99 Olim, p. 55 (1258), VII.
99 Pieces de Yonne, N 368 (1229).
too Perard E. Op. cit., p. 475 (1231): ...praepositus custodiet nemora, ita quod
nec ipse, nec homines poterunt extrahere vel vendere nisi de consensu com-
munitatis...
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
73
Трудно установить, на каких условиях в каждом конкретном
случае давалось такое разрешение. Но имеются прямые свиде-
тельства тому, что оно обусловливалось особой платой, которая
превращалась в традиционную повинность наряду с другими об-
роками. Право на их взыскание являлось предметом споров среди
феодальных собственников101. Отдельные общины Северной
Франции получили право продавать лесоматериалы с тем, чтобы
вырученную сумму использовать для поддержания приходской
церкви; за это им приходилось платить сеньерам по 12 денье с
каждого ливра выручки,02. Такие разрешения можно рассмат-
ривать как одну из форм экономической реализации монополии
феодалов на продажу древесины.
Очень сложный характер приобретала борьба из-за альменды
в горах Прованса и Дофине. Князья и местные сеньеры в пого-
не за доходами открыли крупным скотовладельцам доступ в вы-
сокогорные пастбища, нанося ущерб хозяйственным интересам
крестьян. Кроме того, они вырубали в больших масштабах лес.
Крестьяне стали оказывать вооруженное сопротивление, нападая
на собственников стад. Наибольший ^размах приобрело это дви-
жение в долине Бриансонэ, где в середине XIII в. возник союз
горожан и сельских общин. Они требовали, чтобы министериалы
дофина прекратили вырубку лесов, являвшихся общим достоя-
нием, и отменили все поборы за пользование альмендой. Они до-
бивались также права производить расчистки без уплаты оброков.
Эта борьба, длившаяся почти сто лет, вынудила дофина пойти на
уступки. Он запретил своим чиновникам опустошать крестьян-
ские леса и признал за общинами право свободного распоряжения
альмендой, заменив все оброки ежегодным денежным сбором ,03.
К началу XIII в. французские крестьяне, очевидно, уже по-
всеместно были отстранены от участия в продаже лесоматериа-
лов. Дальнейшее наступление феодалов на альменду угрожало
уже их непосредственным хозяйственным потребностям. Права
крестьян на леса и пастбища, ранее бесспорные и само собой
разумеющиеся, стали сомнительными. Их нужно было доказы-
вать, прибегая к юридическому обоснованию. Акты парижского
парламента пестрят такими расследованиями. Права некоторых
общин на леса и пастбища трактовались как сэзина, т. е. как
узаконенное право пользования чужой собственностью. Таким
образом исключение крестьян из числа собственников альменды
’о» Lionnais, N 550 (1258).
102 См.: Конокотин А. В. Борьба крестьян за самоуправление и коммуну...,
с. 137; Grand В., Delatouche В. Op. cit., р. 225.
103 Sclafert Th. Culture en Haute Provence, p. 14—49; Eadem. Le Haut-Dauphi-
ne au Moyen Age. Paris, 1926, p. 604—657; Vaillant P. Les libertes des com-
munautes dauphinoises. Grenobles, 1951, p. 398—407; Bubner H. Untersu-
chungen..., S. 55—63.
74
Я. Д. Серовайский
приобретало юридическую санкцию. Парижский парламент при-
знал за общиной Медун право сэзины в лесу сеньера Сепара, но,
как сказано в тексте, это не должно было умилять собственни-
ческие права последнего104. Сэзина как юридический титул не
всегда служила крестьянам надежной гарантией для их фактиче-
ского пользования. Так, например, община Брюэрия жаловалась
на тамплиеров, обвиняя их в том, что они, прибегая к силе, ли-
шили их возможности реализовать свое право сэзины в общем
пастбище. Расследование подтвердило обоснованность крестьян-
ских прав на эти угодья 105. В ряде случаев права крестьян на
лес и на пастбище не квалифицировались как сэзина 10в, а иног-
да вообще не признавались 1у7. Ограничения общинных прав на
альменду принимали различные формы. Сокращалась террито-
рия пользования 108, иногда наступление на права крестьян шло
изнутри общины. Жители деревни Шапель потребовали через
парижский парламент от монахов Кроли Лоци прекратить выпас
их скота на общинных полях, освобождавшихся из-под посевов,
а также и в соседней роще. Свои требования они мотивировали
тем, что у монахов несметное количество скота, а в упомянутую
рощу, как давно уговорено односельчанами, не следует вообще
пускать овец. Монахи заявили, что, поскольку у них имеется
дом в этой деревне, они считают себя в праве пользоваться об-
щими угодиями наряду с другими жителями109. Суд принял
сторону монахов, которые, таким образом, получили санкцию на
использование общинных угодий для выпаса своих огромных стад
в ущерб интересам односельчан. Чаще всего практиковались пря-
мые захваты общинных угодий, вызывавшие бурную реакцию со
стороны крестьян. Наглядным примером тому может служить
захват группой сеньеров во главе с Жаном де Эрменвилем луга
и пастбищ, принадлежавших селению Гонес (департамент Сена
и Уаза) и соседним деревням. Их жители, именуя себя общиной
данной местности (communitas ipsius Patriae), апеллировали к па-
рижскому парламенту и заявили, что указанные сеньеры завладе-
14)4 Olim, р. 50 (1258), XXIX: ...inquesta utrum homines de Meduno habent
usuagium in nemoribus domini de Separa ad pascendum animalia sua: de-
terminatum est quod dicti homines debent habere saisinam dictarum pas-
turarum salva proprietate eidem domino...; V, p. 4; XI, p. 12; XIII, p. 5.
105 Ibid., p. 250—251 (1267): inventum est quod dicti major et homines sunt
in saisina dicti pasturagii et colligendi ibidem herbas tamquam in pastura-
gio communi.
10e Ibid., p. 10—11, III; p. 17—18, VII, p. 144—145, I.
107 Ibid., p. 6 (1256), IV: ...inquesta facta super usagio quod petunt homines
de Tarrivilla in Foresta de Monteforti; Nihil est probatum...; V, p. 252—253;
VII, p. 7, 191; IX, p. 192; XXI, p. 9.
Ibid., p. 49 (1257).
Ibid., p. 138 (1261), IX.
Крестьяне Франции против феодального освоения лесов
75
ли этими угодьями не по праву, а насилием и обманом 11 °. Суд
должен был признать законность крестьянских прав на спорные
угодья. Вынося это решение, парламент, очевидно, хотел избе-
жать конфликта с большой группой объединившихся деревень.
В этом документе через редакцию феодальных юристов XIII в.
пробились восходящие к раннефеодальному периоду крестьянские
представления об альменде как об общем достоянии. Некоторые
его термины (communitas patriae) буквально перекликаются с
текстом Гильома Жюмьежского о нормандском восстании (соп-
ventum patriae). Большое количество жалоб поступало в париж-
ский парламент от сельских общин в связи с тем, что сеньеры,
прибегая к силе, устраивали на крестьянских землях охотничьи
парки (garenae), используя для этой цели не только альменду,
но и пахотные земли, виноградники и даже сады 1Н. В ряде слу-
чаев крестьянам удавалось добиться ликвидации ненавистных им
охотничьих парков, но нередко они встречали на суде отказ.
Однако и в том случае, когда парламент выносил решение в
пользу общин, им предоставлялось лишь ограниченное пользова-
ние угодьями, которые уже считались собственностью сеньеров.
О восстановлении традиционных прав крестьян на альменду
в полном объеме, как это имело место в раннефеодальный период,
не могло уже быть и речи.
Резюмируя анализ конфликтов из-за альменды, происходив-
щих в различных областях Франции в XI—XIII вв., можно ска-
зать, что они, как и восстание 997 г., при всех своих локальных
особенностях были следствием столкновения тех же самых инте-
ресов. Они бросают дополнительный свет на это восстание и,
в свою очередь, обретают большую ясность в сопоставлении с ним.
В настоящей статье мы могли охватить только часть выступ-
лений французских крестьян в защиту прав на альменду. Однако
рассмотренные события при всей их разрозненности и асинхрон-
ности, имеют достаточно репрезентативный характер, чтобы вос-
создать картину единого процесса, который имел одинаковые
объективные предпосылки и один результат. В конкретной истори-
ческой обстановке соотношение сил складывалось не в пользу
крестьян. Поэтому лес, как и другие угодья, превратился в
объект феодальной собственности. Таким путем господствующий
класс присвоил материальные результаты социально-экономиче-
ского прогресса. Это выразилось в том, что совокупная рента, воз-
раставшая ранее исключительно за счет прибавочного труда кре- 110 111
110 Ibid., р. 74 (1258), XXVII: ...praedicti nunquam habuerant еа in расе nisi
per vim vel per munus... sunt marisce et pasturagia pro tota communitate
patriae et pro omnibus gentibus.
111 Ibid., p. 85 (1259), XV; p. 65; IV; p. 44—45, V; p. 105—106, 178; p. 90—91,
XIII; p. 193. См.: Kohokotuh А. В. Борьба за общинные земли..., с. 206—
216.
76 Я. Д. Серовайский
стьянина, получила новый источник для своего расширения в
виде цены природных богатств, превратившихся в жизненные
средства благодаря указанному прогрессу. Производительность
труда крестьянина — потенциальный резерв для удовлетворения
его растущих потребностей112 не могла увеличиваться за счет
этого источника. Более того, в связи с изменившимися отноше-
ниями, крестьянин вынужден был затрачивать часть своего труда
на оплату материалов и природных ресурсов, свободное пользова-
ние которыми составляло ранее норму общественной жизни. Бла-
годаря указанным причинам удовлетворение растущих потреб-
ностей, вызванных изменением уровня социально-экономической
и культурной жизни, становилось привилегией господствующего
класса 113. Уровень жизни основной массы крестьянства при этом
консервировался1Н. Так все более усугублялись по мере даль-
нейшего социально-экономического прогресса различия в уровне
Жизни противоположных классов общества. Результатом явилось
не только абсолютное, но и относительное обнищание крестьянст-
ва — основная причина усиления классовой борьбы в ближайшие
столетия. Именно эти явления, а не внутривотчинные метаморфо-
зы 115 более всего могут объяснить связь между социально-эко-
номическим прогрессом и развитием крестьянских движений в
средние века. Они же объясняют и географию классовой борьбы.
Борьба французских крестьян за альменду, хотя и не увенча-
лась успехом, имела, однако, большое историческое значение.
Она способствовала сплочению членов общины, развитию у них
сознания общности интересов по отношению к господствующему
классу. В развитии общины наступила новая стадия, которая
придала этой организации черты, отличные от эпохи раннего
средневековья. Борьба за альменду не могла вылиться в обще-
французское движение. Но до самой революции она оставалась
непрерывным и повседневным фактором обострения социальных
противоречий в деревне. Тем самым она немало способствовала
накоплению там горючего материала, который периодически взры-
вался в виде крупных восстаний.
1*2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 357.
и® Мы в данном случае абстрагируемся от того обстоятельства, что не все
его группы имели в этом отношении одинаковые возможности.
и* Конечно, этому немало способствовали также и традиционные формы
феодальной эксплуатации, которые хорошо известны и не нуждаются в
специальном рассмотрении.
и® См.: Бессмертный Ю. Л. Предпосылки и характер крестьянских движе-
ний во Франции XIV в.— Французский ежегодник. 1974. М., 1976, с. 205—
224.
Ю. И. Писарев
МАГНАТЫ И КОРОНА В АНГЛИИ XIV В.
В комплексе проблем, встающих перед исследователем соци-
ально-политической истории Англии XIV в., особое место с точки
зрения последствий для истории страны занимает вопрос о месте
и роли крупных светских феодалов (баронов — по терминологии
XIII в., магнатов — по определению, начинающему преобладать
в XIV в.) в системе английской сословной монархии и о харак-
терных особенностях политики короны по отношению к ним.
Несмотря на исключительный интерес, который традиционно
проявляли и проявляют буржуазные-^историки к так называемой
конституционной истории Англии в средние века 1, несмотря на
большой фактический материал, накопленный к настоящему вре-
мени буржуазной историографией по этому вопросу, ей не уда-
лось в силу несостоятельности своих методологических посылок,
проявившейся, в частности, в характерном для представителей
буржуазной историографии «конституционном» подходе к собы-
тиям социально-политической истории, дать правильную оценку
роли и места крупных феодалов в жизни средневековой Англии.
Подобный подход к проблеме часто сказывается и на самой
структуре исследования, где взгляд автора перебрасывается от
одной схватки «нации» с королевским деспотизмом к другой, от
одной победы «народа» (под которым понимаются лишь феодалы
и так называемые средние слои — горожане и зажиточные фри-
гольдеры) или «национального целого» к другой; причем основ-
ное внимание неизменно фокусируется на развитии и росте авто-
ритета парламента, где это «национальное целое» находит свое
наивысшее выражение. В результате следует традиционный вы- 1
1 См.: Stubbs W. The Constitutional History of England: In 3 vis. Oxford,
1883—1884; Maitland F. W. The Constitutional History of England. Camb-
ridge, 1908; Tout T. F. Chapters in the Administrative History of Medieval
England: In 3 vis. Manchester, 1920—1923; Jolliffe J. E. A. The Constitu-
tional History of Medieval England. London, 1937; Wilkinson B. The Con-
stitutional History of England, 1216—1399: In 3 vis. London, 1948—1958;
Cam H. England before Elizabeth. London, 1950; Myers A. B. England in
the Late Middle Ages. London, 1952; Green V. H. H. The Later Plantagenets.
London, 1955; McKisack M. The Fourteenth Century, 1307—1399. Oxford,
1959; Jacob E. F. The Fifteenth Century, 1399—1485. Oxford, 1961.
78
Ю. И. Писарев
вод о неуклонном и непрерывном «конституционном прогрессе»
на протяжении всего средневековья, в частности в XIV в., вопрос
же о месте и роли крупных феодалов в системе английской со-
словной монархии приобретает подчиненный характер. Магнаты
рассматриваются либо как вожди «нации» в борьбе против тира-
нии королей 2, либо как своего рода агенты короля, помогающие
короне в несении ее организующих функций путем принятия на
себя части этих функций3.
Между тем для XIV в. вопрос о роли магнатов в английском
феодальном государстве и их воздействии на внешнюю и внут-
реннюю политику английской короны имеет важное и вполне
самостоятельное значение.
В советской историографии, где проблема места и роли круп-
ных феодалов в социально-политическом развитии Англии в
XIII — начале XIV в. была достаточно полно освещена4, этот воп-
рос применительно к XIV в. в общей форме был поставлен еще
Е. А. Косминским в его последних статьях, посвященных соци-
альной истории Англии XIV—XV вв.5 Данная работа является
попыткой дать более полное, основанное на конкретном материа-
ле, освещение роли крупных светских феодалов Англии в систе-
ме государственного управления в XIV в., их влияния па внеш-
нюю и внутреннюю политику английской короны в тот период.
Исследования советских историков-медиевистов сделали оче-
видным тот факт, что развитие товарно-денежных отношений и
мобилизация земли в Англии XII—XIII вв. неодинаково воздей-
ствовали на различные слои английского класса феодалов. Эти
процессы вначале привели к заметным противоречиям между
экономически более жизнеспособным мелковотчинным «рыцар-
ским» землевладением, с одной стороны, и менее гибким, кон-
сервативным в экономическом отношении крупным баронским
землевладением — с другой, а в дальнейшем — к противоречиям
2 Stubbs W. Op. cit., vol. 2, p. 305, 320; Wilkinson B. The Constitutional His-
tory..., vol. 2, p. 11, 24.
3 Cam H. The Decline and Fall of English Feudalism.— History, 1940, vol. 25,
N 99, p. 219, 222.
4 См.: К османский E. А. Исследования по аграрной истории Англии XIII в.
М.; Л., 1947; Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента. М.,
1960; Она же. Ограничение иммунитетных прав английских феодалов
при Эдуарде I.— Доклады и сообщения исторического факультета МГУ,
1947, № 6; Она же. К вопросу об иммунитете в Англии XIII в.— СВ, 1951,
вып. III; Она же. Экономические и социальные предпосылки централи-
зации английского феодального государства в XII—XIII вв.— СВ, 1957,
вып. IX; Варг М. А. Исследования по истории английского феодализма в
XI—XIII вв. М., 1962.
5 См.: Косминский Е. А. Вопросы аграрной истории Англии в XV в.— ВИ,
1948, № Г, Он же. О некоторых характерных чертах английского феода-
лизма.— СВ, 1960, вып. XVII.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
79
между обладателями «старой», основанной на традиционной си-
стеме эксплуатации земли и крестьян, вотчины (основную часть
которых составляли крупные феодалы) и владельцами «новой»
вотчины, по всей видимости генетически связанных с «новым дво-
рянством» XV—XVI вв.4 * 6
Эти противоречия уже в XIII в. выразились в конечном сче-
те в борьбе за землю и раздел ренты, которая заполнила собой
последующие 300 лет английской истории. Несмотря на внутри-
классовый характер, эта борьба оказала значительное влияние
на развитие английского феодального общества и государства в
целом. В ходе ее, в течение XII—XIII вв., когда шел интенсив-
ный процесс централизации страны, английская корона находи-
лась в союзе с мелкими феодалами, а также с городами, объ-
ективно заинтересованными в усилении центральной власти.
Такое соотношение социально-политических сил привело к не-
которым сдвигам внутри английской системы государственного
управления, в результате которых в этой системе определенное
место было предоставлено мелким и средним феодалам и в мень-
шей степени примыкавшим к ним богатым горожанам. Это вы-
разилось, в частности, в возникновении парламента и во включе-
нии в его состав представителей данной категории феодалов. Уча-
стие мелких феодалов в парламентских собраниях, несмотря на
их первоначально незначительную роль там, означало, с одной
стороны, некоторое ослабление политических позиций баронства.
С другой стороны, оно открывало перед «общинами» (в первую
очередь перед мелкими феодалами, составлявшими основное ядро
«общин») достаточно широкие перспективы — возможность не
только установить контроль над действиями короны в области
финансов (подобные попытки со стороны общин имеют место уже
в 1297 и 1300—1301 гг.) 7, но и активно влиять на всю политику
государства, во всех ее проявлениях и сферах. Эти возможности
в конечном счете могли быть реализованы именно через укреп-
ление и расширение функций парламента как государственного
органа, где позиции мелких феодалов были наиболее значительны.
4 См.: Косминский Е. А. Исследования...; Он же. Вопросы аграрной исто-
рии...; Он же. Эволюция форм феодальной ренты в Англии в XI—XV вв.—
ВИ, 1955, № 2; Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента;
Она же. Экономические и социальные предпосылки централизации...;
Барг М. А. Исследования...; Он же. Эволюция феодального землевладе-
ния в Англии XI—XIII вв.— ВИ, 1953, № 11; Ульянов Ю. Р. Рост нового
дворянства в Англии XV в.— В кн.: Из истории средневековой Европы
(X—XVII вв.). М., 1957; Он же. Землевладение семьи Стонор в XI—
XIII вв.— СВ, 1967, вып. 30; Он же. Образование и эволюция структуры
манора Стонор в XIV—XV вв.— СВ, 1971, вып. 34; 1972, вып. 35.
1 Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента..., с. 328—331.
443—457.
80
Ю. И. Писарев
Но политический успех «рыцарства» как особого слоя внутри
класса феодалов во многом зависел от степени его внутренней
консолидации, а также от характера его взаимоотношений с ба-
ронством (магнатами). Между тем развитие товарно-денежных
отношений хотя и способствовало уже к XIII в. появлению и
консолидации мелких феодалов-аграриев, составлявших в то вре-
мя основной костяк «рыцарства», которое противостояло крупным
феодалам в политических конфликтах этого столетия, отнюдь
не означало автоматической победы тенденций, носителями которых
являлись эти далекие предшественники джентри XVI—XVII вв.
Развитие товарно-денежных отношений создавало одновременно
реальную возможность консервации феодальной системы, призна-
ки чего в виде «феодальной» или «сеньериальной реакции» были
отмечены для XIII в. Е. А. Косминским и М. А. Баргом, а для
XIV в. еще Д. М. Петрушевским 8 9.
Это, несомненно, должно было привести к определенным из-
менениям в составе слоя английских мелких феодалов. Если чис-
ло их и в XIV в. продолжало расти, то теперь не только за счет
хозяйственных аграриев, занятых поисками новых и оптималь-
ных способов эксплуатации своих земель, но и за счет феода-
лов, отказывавшихся чем дальше, тем больше от участия в хо-
зяйственной деятельности, а нередко вообще не имевших земли и
не претендовавших на нее либо эксплуатировавших ее методами
«старой» вотчины. А это означало неминуемые перемены в поли-
тических позициях и тенденциях значительной части мелких фео-
далов. Распад старой военно-ленной системы, в немалой степени
обусловивший некоторое уменьшение политического влияния и
военной мощи магнатов в XIII в., сменяется в XIV столетии
своеобразным возрождением военного держания на новой основе
(рентный фьеф) в рамках контрактной системы формирования
войск, необходимость которой диктовала длительная война на кон-
тиненте. Это позволило магнатам вновь вовлечь в орбиту своего
влияния значительную часть мелких феодалов0.
Таким образом, борьба наметившихся в XIII в. двух полити-
ческих тенденций — тенденции к повышению роли мелких феода-
лов в политике и в системе государственного управления и тен-
денции к укреплению политической мощи и влияния магнатов —
в XIV в. вступает в новую фазу и протекает в условиях, от-
8 К ос минский Е. А. Исследования..., с. 400; Варг М. А. Исследования...,
с. 318, 330, 332—338; Петрушевский Д. М. Восстание Уота Тайлера. 4-е
изд. М., 1937, с. 323—335.
9 Подробнее об этом см.: Писарев Ю. И. К вопросу о характере и составе
свит английских феодалов первой половины XIV в.— Вестник МГУ.
Сер. IX. История, 1972, № 3; Он же. Место служилого рыцарства в соци-
ально-политической жизни Англии XIV в.—СВ, 1973, вып. 37.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
81
личающихся от условий, существовавших в XIII столетии. И эти
условия определенно благоприятствуют магнатам.
Между тем к началу XIV в., несмотря на достаточно энер-
гичные попытки королевской власти в лице Эдуарда I решать и
действовать в области внешней и внутренней политики едино-
лично, не считаясь ни с магнатами, ни с общинами, крупные
феодалы занимали важное место в системе государственного уп-
равления, оказывая заметное влияние и на законодательство, и на
внешнюю политику, и в какой-то мере на суд10 11. Вне всякого
сомнения, они не только не собирались упускать свои позиции,
но, напротив, всеми силами старались их упрочить и расширить.
При этом один из главных путей к упрочению своего экономи-
ческого и политического положения магнаты видели в установ-
лении контроля над верховной властью посредством захвата клю-
чевых постов в государственном аппарате, закреплении их за
представителями аристократических семейств или за их ставлен-
никами. В этом смысле чрезвычайно симптоматично требование,
предъявленное королю магнатами в 1301 г., предоставить полный
контроль парламенту (читай — самим магнатам, имевшим в этот
период исключительно сильные позиции в парламенте) над на-
значением королевских чиновников. Это было явной попыткой ис-
подволь подготовить почву для баронской олигархии в условиях
намечающегося усиления роли общин. Однако в 1301 г. предста-
вители графств и городов продемонстрировали очевидное нежела-
ние отдавать этот вопрос в ведение магнатов и объективно вы-
ступили в поддержку короны: в парламентскую петицию, подан-
ную королю, требование о назначении чиновников включено не
было 41.
Вопрос о роли магнатов в органах государственного управ-
ления в период правления Эдуарда II (1307—1327) стоял в цент-
ре длительной и кровопролитной борьбы между основной частью
баронства, на протяжении большей части этого времени возглав-
лявшейся графом Томасом Ланкастером, и королем, поддержи-
ваемым отдельными фракциями баронов.
Стремление феодальной аристократии расширить свое влияние
во всех важнейших областях государственной жизни нашло свое
наиболее четкое выражение в продиктованных королю осенью
1311 г. баронами Новых ордонансах. Назначение всех высших го-
сударственных чиновников, а также королевских наместников в
Гаскони, Ирландии и Шотландии должно было производиться
только «с согласия баронов в парламенте» 12. Шерифы и другие
чиновники на местах назначались и утверждались канцлером и
10 Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента..., с. 466—480.
11 Там же, с. 453.
12 The Statutes of the Realm (далее — Stat.). London, 1810, vol. 1, p. 160.
82
Ю. И. Писарев
другими высшими чиновниками, которые сами были назначены
магнатами и находились под баронским контролем 13. Таким об-
разом, ордонансы 1311 г. создавали систему чиновничьей иерар-
хиИ, на вершине которой царили бароны, освященные авторите-
том парламента. Вся эта система закреплялась необходимостью
для всех без исключения чиновников короны приносить в парла-
менте клятву верности баронским ордонансам, а также держать
ответ за свои проступки перед специальной комиссией магна-
тов 14 15 * 17.
Это был подлинный государственный переворот, в ходе ко-
торого власть была захвачена крупнейшими феодалами страны.
Требование решать все дела только «по совету баронов» 1в, ар-
гументация отмены предшествовавших ордонансам законодатель-
ных актов тем, что они были приняты «без общего согласия ба-
ронотва» 1в, наконец, сам состав ордейперов (верхушка англий-
ской аристократии), а также то обстоятельство, что наиболее
важные положения ордонансов 1311 г. были копиями статей,
выдвинутых в марте 1310 г. епископами и графами, т. е. наибо-
лее важными магнатамип,— все это подчеркивало феодально-
аристократический характер нового управления.
В своих замыслах бароны шли, по-видимому, гораздо даль-
ше. Дважды повторенное требование о пересмотре «темных мест»
в Великой хартии18 должно было обеспечить правовую основу
их контроля над государственным управлением и в конечном сче-
те правовую основу безраздельной и незыблемой баронской оли-
гархии.
Однако последовавший вскоре раскол среди неспособных при-
мирить свои личные интересы магнатов, чем не преминул вос-
пользоваться король, и кровопролитные события 1322—1327 гг.,
в ходе которых потеряли жизнь и Ланкастер, и Эдуард II, от-
резвили баронов. Даже непосредственно после своей формальной
победы, последовавшей в 1327 г. в виде низвержения и убийства
Эдуарда II, обескровленное в ходе столкновений 1311 — 1327 гг.
баронство (только после поражения Ланкастера при Борроубрид-
же в 1322 г. было казнено 92 барона, не считая рыцарей и
сквайров из их свит) не находило момент удобным для возвра-
щения к дебатам о своем праве контролировать королевскую
власть. Временщик Мортимер, бывший сподвижник Ланкастера,
с 1327 по 1330 г. фактически стоявший во главе государства,
13 Ibid., р. 160.
14 Ibid., р. 167.
15 Ibid., р. 159.
18 Ibid., р. 159, 160, 165.
17 Статьи 1310 г. составили первые шесть статей ордонансов.
18 Stat., vol. 1, р. 158,167.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
83
но более занятый сколачиванием своего собственного графства 4в,
чем интересами своего сословия, рассматривался баронами скорее
как препятствие, чем помощь в их делах.
Общая умеренность требований к короне, явное стремление
действовать совместно с общинами, не подчеркивая, не выделяя
особо свои собственные, специфически магнатские интересы,—
характерная особенность тактики магнатов в период 1327—1330 m
Тем более показательно то возвышение сословия магнатов, кото-
рое следует непосредственно вслед за «личной революцией» Эду-
арда III против фаворита своей матери, королевы Изабеллы, Род-
жера Мортимера в конце 1330 г. Главными участниками перево-
рота были молодые отпрыски магнатских фамилий (Уильям
Монтегю, братья Уильям и Эдуард Боэны, Роберт Аффорд, Джон
Невилл из Хорнби и другие), составлявшие личное окружение
Эдуарда III19 20 21 *. Здесь, по-видимому, и берет свое начало тот свое-
образный альянс короля с наиболее аристократическими семьями
Англии, который, почти не прерываясь (за исключением кратко-
временного конфликта 1341 г.), существует на протяжении все-
го долгого царствования Эдуарда III.
Верность и расположение молодых магнатов — любимцев ко-
роля — нуждались в материальном подкреплении. Следствием это-
го явился целый ряд пожалований в виде земель, денежных вы-
дач и выгодных должностей непосредственным участникам пере-
ворота и тем магнатам, которые поспешили примкнуть к
победителям. Уильям Монтегю получил в качестве награды кон-
фискованную у Мортимера сеньерию Денби с годовым доходом
в 1000 фунтов, два замка в Дорсетшире и Гэмпшире и шесть
маноров в различных графствах, а после успешного исхода вой-
ны в Шотландии в 1333 г. он получил вначале 200 марок, а за-
тем 100 фунтов «как дар короля» 24. Сын графа Херефорда Уиль-
ям Боэн, в то время всего лишь рыцарь, получил в 1331 г. из
королевской казны 117 фунтов, а затем еще 60 фунтов «для
того, чтобы он мог лучше поддержать себя на королевской служ-
бе и уплатить свои долги», а в 1333 г. получил «как дар коро-
19 Мортимер стал графом Марч в 1328 г. и не стеснялся в средствах, чтобы
увеличить свое новое графство, притесняя соседей, в том числе даже
крупных баронов, выступивших в свое время на его стороне (Calendar
of the Close Rolls (далее — CCR), 1330—1333. London, 1898, p. 470; CCR,
1333—1337. London, 1898, p. 281, 470).
20 Murimuth A. Continuatio Chronicarum, 1303—1347/Ed. by E. M. Thompson.
London, 1889, p. 61; Rotuli Parliamentorum, ut et petitiones et placita in
parliament© (далее — RP). London, 1768, vol. 2, p. 56—57; CCR, 1333—1337,
p. 174; Calendar of the Patent Rolls (далее — CPR), 1330—1334. London,
1894, p. 74; Foedera, conventiones, litterae et cujuscunque generis acta pub-
lica inter reges Angliae et alios quosvis imperatores, reges.../Ed. by Thoma
Rymer. The Hague, 1739, t. 2, part III, p. 65.
21 RP, vol. 2, p. 56; CPR, 1327—1330. London, 1891, p. 386, 523; CPR, 1330—
1334, p. 462, 464; CCR, 1333—1337, p. 7—8.
34
Ю. И. Писарев
ля» 200 марок22. Его брат Эдуард был назначен судьей Уэльса 23.
Роберт Аффорд, будущий граф Суффолк, помимо земельных по-
жалований из конфискованных у сторонников Мортимера земель,
получил в 1331 г. должность хранителя королевских лесов к югу
от реки Трент, т. е. всей Южной Англии, а в 1333 г.— 200 марок
«как дар короля» 24. Уильям Клинтон, будущий граф Хантинг-
дон, получил в 1334 г. должность констебля Дувра и хранителя
Пяти портов — влиятельной конфедерации городов Юго-Восточ-
ной Англии25 *.
Новый поток пожалований, преимущественно земельных, про-
лился на королевских любимцев в 1337 г. и был связан с созда-
нием Эдуардом III новых графских титулов и раздачей йх маг-
натам из ближайшего окружения2в. Однако щедрому королю оп-
ределенно не хватало земли для того, чтобы наделить ею всех,
кто получил пожалования, и в течение всех последующих лет
его правления значительная часть доходов от пошлин, собирав-
шихся в английских портах, и от фирм городов и графств идет
на «поддержание достоинства» обладателей новых титулов, иног-
да одновременно претендующих на одни и те же доходы. Так,
Генри Ланкастер, граф Дерби, которому король пожаловал вме-
сте с этим титулом 1000 марок в год «либо земли и ренты на
эту сумму», получал эти деньги за счет пошлин от портов Лон-
дона, Бостона и Кингстона-апон-Халл27. Роберт Аффорд, граф
Суффолк, «для поддержания достоинства» своего нового титула
наряду с пожалованными ему землями получал ежегодно 253 фун-
та из казначейства в компенсацию за манор Бенхейл, который
в это время держало иное лицо28. Хью Одли, граф Глостер, по-
лучал 100 фунтов в год, «пока король не дас*г ему земли или
ренты на эту сумму» 29. Уильям Монтегю, граф Солсбери, кото-
рому были обещаны земли, находившиеся в то время в руках
графа Суррей, получал ежегодную компенсацию в виде дохода
такого же размера от оловянных рудников в Корнуэлле. Однако
впоследствии ему пришлось вести за эти доходы нелегкую борьбу
с принцем Уэльским, который претендовал на них по праву своего
титула герцога Корнуэлла, но до поры до времени довольство-
вался заменой их в виде поступлений из пошлин Лондонского
порта30. Уильяму Боэну, графу Нортгемптон, так и не довелось
22 CCR, 1330—1333, р. 266, 352; CCR, 1333—1337, р. 7.
23 CCR, 1333—1337, р. 94.
24 CPR, 1330—1334, р. 73, 106; CCR, 1333—1337, р. 7, 72.
25 CCR, 1333—1337, р. 328.
20 CPR, 1334—1338. London, 1898, р. 416—418, 426, 479, 496; CPR, 1338—1340.
London, 1898, р. 14, 265.
27 CCR, 1337—1339. London, 1900, р. 173, 451.
28 Ibid., р. 60.
29 Ibid., р. 57.
30 Ibid., р. 48; CCR, 1354—1360. London, 1908, р. 360.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
85
полностью получить обещанные ему королем в 1337 г. земли,
взамен которых ему и его наследнику Хамфри выплачивались
суммы из доходов портов Лондона, Бостона и Кингстона-апон-
Халл, из фирмы Эссекса и Нортгемптона 81.
Тот факт, что в королевских хартиях часто оговаривается вре-
менный характер той или иной денежной выдачи и указывается
конкретное земельное владение, предназначенное обладателю хар-
тии, говорит о том, что магнаты из ближайшего окружения Эду-
арда III, рассматривая ежегодные денежные выдачи как паллиа-
тив, видели в земельных пожалованиях от короны главный стимул
для своей службы королю. Между тем на земельные пожалова-
ния от короны рассчитывают не только титулованные аристокра-
ты, но и следовавшая непосредственно вслед за ними в феодаль-
ной иерархии верхушка рыцарства — баннереты, принимавшие
активное участие во всех предприятиях Эдуарда _1П. Они так-
же получают королевские пожалования с обещаниями предоста-
вить землю ч «для поддержания статуса» с временной заменой на
выплаты из доходов от портов и графсТв 32.
В этой связи нельзя не вспцмнить высказанное еще
М. М. Ковалевским предположение о непосредственной связи ро-
ста отчуждений земель королевского фонда в XIV в. с появле-
нием на политической сцене «созданной самим правительством
молодой аристократии» ”. Можно спорить, имеются ли основа-
ния расценивать эту категорию феодалов как особую, противо-
стоящую другим вну трифеода л ьным группам, силу, как некое
«чиновное дворянство», заинтересованное в установлении едино-
властия короля34, однако едва ли можно сомневаться в сущест-
вовании теснейших связей между последними Плантагенетами,
в особенности между Эдуардом III, и крупными английскими
феодалами.
Поддержка, оказанная магнатами Эдуарду III в его военных
предприятиях, по существу определила благоприятный для Анг-
лии исход его войн в Шотландии и на континенте. В 1344 г.
английские магнаты, и ранее активно участвовавшие в военных
походах, торжественно обещали служить лично вместе с королем
за границей ”. Энтузиазм, проявленный крупнейшими феодалами
по отношению к войнам Эдуарда III, особенно впечатляет, если
э* CCR, 1337-1339, р. 49; CCR, 1346—1349. London, 1905, р. 20, 21; CCR, 1349—
1354. London, 1906, р. 14, 298; CCR, 1354—1360, р. 14, 149—150, 353—354,
449; CCR, 1360—1364. London, 1909, р. 482, 487, 488, 496.
32 CCR, 1330—1333, р. 18; CCR, 1333—1337, р. 5, 559; CCR, 1354—1360, р. 18—
19, 39, 127; CCR, 1360—1364, р. 185.
83 Ковалевский М. М. Общественный строй Англии в конце средних веков.
М., 1880, с. 27—28.
34 Там же, с. 28—29.
35 Stat., vol. 1, р. 300.
86
Ю. И. Писарев
вспомнить негативное отношение баронов к экспедициям его деда
и отца на континент в 1297 и 1324 гг. и к походам Эдуарда II
в Шотландию. Однако этот поворот становится в значительной
степени понятным, если учесть положение, которое получили маг-
наты в государстве при Эдуарде III.
Уже в конце 1330 г. в своей декларации по поводу ареста
Роджера Мортимера, направленной всем шерифам Англии, король
заявил, что отныне «дела, касающиеся нас и состояния нашего
королевства, будут вестись по общему совету магнатов нашего
королевства и никоим образом иначе» 3®. С этого момента инте-
ресы короля на долгие годы становятся интересами основной
части магнатов. Война с Шотландией, закончившаяся победой
Эдуарда III при Хэлидон-Хилле (1332 г.), началась как война
за возвращение конфискованных шотландским регентом ленов
английских баронов в Шотландии ”. Активность магнатов в воен-
ных предприятиях на континенте стимулировалась не только тем,
что значительная доля военной добычи Попадала в их руки
но и целой системой пожалований и поощрений со стороны ко-
роля. Значительная часть громадных сумм, прошедших через
английское казначейство за годы войны, была потрачена на содер-
жание магнатских отрядов-свит, на гарантированные им королем
компенсации за потерянных на войне коней, на пожалования и
выплаты за ту или иную услугу, оказанную королю в ходе войны
(охрана крепостей и стратегических пунктов, успешный набор
войск и т. д.). Выплата денег на содержание их отрядов, кото-
рая, согласно условиям большинства контрактов, должна была со-
вершаться в трехмесячный срок, постоянно задерживалась из-за
нехватки средств в казначействе, и король находился в постоян-
ном долгу у своих «капитанов» зв. Уже в период войны в Шот-
ландии Эдуард III разрешил отсрочку выплаты недоимок по раз-
личным налоговым сборам феодалам, находившимся в его войске,
в том числе графу Корнуэллу и баронам Бэдлисмиру, Моубрею,
Грею из Коднора и другим 40. Подобная практика получила свое
продолжение с началом военных действий на континенте, когда
такие отсрочки были предоставлены, среди других, находившим-
зв Foedera..., t. 2, pars III, p. 51—52.
37 Gesta Edwardi de Carnarvan, auctore canonico Bridlingtoniensi cum conti-
nuatione ad A. D. 1377.— In: Chronicles of the Reigns of Edward I and
Edward II / Ed. by W. Stubbs. London, 1883, vol. 2, p. 104—105.
38 Как предводители отдельных отрядов в составе королевского войска,
магнаты, помимо пленников и другой добычи, захваченной ими или их
ближайшими свитскими, забирали себе от одной трети до половины воен-
ной добычи своих подчиненных. См.: Hay D. The Division of the Spoils of
War in Fourteenth-Century England.— TRHS, 5th ser., 1954, vol. 4, p. 94—103.
39 Postan M. The Costs of the Hundred Years’ War.— Past and Present, 1964,
N 27, p. 43.
« CCR, 1333—1337, p. 96, 111, 127, 350, 612.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
87
ся с королем «за морем» графам Глостеру и Ричмонду4|. В 1360 г.
такую отсрочку получил служивший «за морем» барон Бартоло-
мью Бургхерш42. В том же году король направил юстициарию
Ирландии письмо с приказом отменить обложение движимости
барона Уильяма Феррерса в соответствии с королевским распо-
ряжением не облагать налогом магнатов, рыцарей и сквайров,
воюющих на континенте 43.
Магнаты в числе первых получали право беспошлинного вы-
воза шерсти для продажи на континенте в период эмбарго, на-
ложенного Эдуардом III на английскую шерсть в 1337 г. Вслед
за королевой Филиппой и архиепископом Кентерберийским, ра-
нее всех получившими такое пожалование, шерсть на континент
к большой выгоде для себя вывозят графы Нортгемптон и Гло-
стер, бароны Мэнни, Феррере, де Молен 4‘.
Невзирая на протесты общин в парламенте, король широко
практиковал пожалования «за службу» целых административных
единиц — сотен и вапентейков или фирм с них. Джон Невилл,
активный участник Бреста Мортимера в 1330 г., получил «за
свою хорошую службу» сотню Брейдфорд в Шропшире со всеми
доходами от нее в наследственное держание, и Эдуард III, не-
смотря на свои обещания на парламенте 1333 г. изъять у част-
ных лиц дарованные им сотни и вапентейки и вернуть их в со-
став графств45, подтвердил это пожалование в 1333 и 1334 гг.4в
В 1337 г. граф Солсбери получил в наследственное держание
сотню Крайстчерч в Гэмпшире47. В 1338 г. шерифу Шропшира
в его отчете о сборе фирмы с графства было позволено сделать
скидку в размере доходов от двух сотен графства, переданных
королем Генри Феррерсу и Уильяму Фиц-Уорену в держания
«за хорошую службу», с характерной оговоркой: «не отдавая ни-
чего королю» 48.
Положение дел в области государственного управления на
протяжении всего царствования Эдуарда III вполне соответство-
вало содержанию королевской декларации 1330 г. Представители
общин, которым в 1327 г. была отведена важная роль в низло-
жении Эдуарда II, не были допущены к участию в политическом
процессе над Мортимером — его судили пэры4*. Хотя в 1339 г.
CCR, 1337—1339, р. 118, 122—123.
42 CCR, 1360—1364, р. 125.
43 Ibid., р. 50.
44 CCR, 1337—1339, р. 417, 435, 437, 439, 454, 444, 570, 590.
45 Rotuli parliamentorum Anglie hactenus inediti, 1279—1373 / Ed. by H. G.
Richardson and G. O. Sayles (далее — RPA). London, 1935, p. 225, 228.
48 CCR, 1333—1337, p. 174, 207.
47 CCR, 1337—1339, p. 53.
48 Ibid., p. 249, 352.
49 RP, vol. 2, p. 52-54.
88
Ю. И. Писарев
в связи с ростом шотландской угрозы положение на границе было
обрисовано в «полном» парламенте (т. е. с участием общин)
и обеспокоенные представители графств и городов приняли уча-
стие в обсуждении военной обстановки в октябре 1339 г. и январе
1340 г.50, общины на деле были отстранены от решения вопро-
сов внешней политики на протяжении всего царствования Эдуар-
да III. Несмотря на полную вероятность того, что вопрос о на-
чале войны с Францией в 1337 г. служил предметом обсуждения
в «полном» парламенте (парламентские свитки за 1335—1338 гг.
не сохранились, однако в 1343 г. барон Бартоломью Бургхерш,
излагавший от имени короля в парламенте вопрос о перемирии с
Францией, упомянул, что война была начата «с общего согласия
прелатов, магнатов и общин»51 52), Эдуард III явно предпочитал
обсуждать военные вопросы в этот период на великих советах с
участием магнатов и прелатов5Z. В 1348 и 1354 гг. «рыцари
графств» в парламенте заявили, что для них «будет приемлемым
все, что определят король и магнаты в отношении мира и вой-
ны» 53. Подобные заявления отнюдь не означали принципиаль-
ного нежелания общин вмешиваться в политику — война и свя-
занные с ней траты были слишком важным делом, проблемой,
так или иначе интересовавшей любого рыцаря, сквайра, Франкли-
на и горожанина,— однако эти заявления полностью отражали
общее состояние дел в сфере государственного управления. Маг-
наты определенно добились в этот период исключительного по-
ложения в решении вопросов внутренней и внешней политики.
Как показали события 1301 и 1311 гг., наиболее острым во-
просом во взаимоотношениях между королем и магнатами была
проблема полномочий и назначения ближайших к королю чинов-
ников, входивших в состав узкого королевского совета. Этот во-
прос вновь всплыл на поверхность в момент единственного по
существу конфликта короля с его магнатским окружением в
1341 г.
Нехватка средств для ведения войны побудила Эдуарда III
выразить гневное неудовольствие недостаточной, по его мнению,
поддержкой его политики со стороны управлявших в его отсут-
ствие Англией высших чиновников. В конце 1340 г., неожидан-
но вернувшись из Фландрии в Лондон, он сместил канцлера
(епископа Чичестерского) и посадил в тюрьму четырех судей
высших королевских судов и многих других чиновников, назна-
чив на их места светских феодалов подчас невысокого ранга.
50 Ibid., р. 101, 108—109.
51 Ibid., р. 136,
52 Fryde Е. В. Parliament and the French War, 1336—1340.— In: Essays in
Medieval History Presented to Bertie Wilkinson. Toronto, 1969, p. 251—254.
53 BP, vol. 2, p. 165, 262.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
89
Король сместил также всех шерифов и прочих чиновников нэ
местах и направил в графства специальные комиссии для рас-
следования деятельности сборщиков налогов и пошлин54.
Однако поставленные во главе таких комиссий «графы и важ-
ные бароны», которые поначалу «судили столь строго и рьяно,
что никто не избежал наказания, хорошо ли или плохо он испол-
нял дело короля»55, внезапно поменяли фронт и Эдуарду III
на весеннем парламенте 1341 г. пришлось столкнуться с неожи-
данной оппозицией его друзей и советников. Формальным пово-
дом для их выступления было нежелание Эдуарда III передать
решение дела архиепископа Кентерберийского, главного, по его
мнению, виновника военных неудач, суду пэров; вырванное у ко-
роля подтверждение незыблемости права пэров судить и быть су-
димыми равными себе было немаловажной частью изданного впо-
следствии статута5б. Таким образом, главным мотивом действий
магнатов в 1341 г., вне всякого сомнения, был вновь возникший
вопрос о праве контроля крупнейших феодалов над государст-
венным аппаратом.
Главный оппонент короля, архиепдскоп Кентерберийский в
своих посланиях напоминал Эдуарду III о судьбе его отца, дей-
ствовавшего без поддержки со стороны баронов, утверждая, что
только им одним обязан король своими нынешними успехами,
и призывал его вновь позвать к себе «мудрых магнатов своего
совета»57. Выражая точку зрения виднейших магнатов, граф
Суррей заявил, что «только пэры королевства могут помочь и
поддержать» короля, и потребовал удаления с совета магнатов,
на котором он и произнес свою речь, недостаточно родовитых
советников короля 58 *. С удалением этих людей, активно поддер-
живавших короля в его стремлении самостоятельно решить дело
архиепископа, определенно согласились даже ближайшие друзья
Эдуарда III — графы Солсбери и Нортгемптон 5в.
В результате нажима магнатов на короля в новый статут,
изданный в 1341 г., было включено положение о том, что канц-
лер, казначей и бароны казначейства, судьи центральных коро-
левских судов и судьи на местах, сенешал двора и личный каз-
начей короля, а также ряд менее значительных чиновников цент-
ральной власти будут назначаться королем «по доброму совету и
с согласия магнатов» и что они будут приносить клятву пэрам
54 Muri mu th A. Op. cit., р. 116—118.
55 Ibid., р. 118.
56 Stat., vol. 1, р. 295.
57 Wilkinson В. The Constitutional History..., vol. 2, p. 191—193.
58 Wilkinson B. The Protest of the Earls of Arundel and Surrey in the Crisis
of 1341.— EHR, 1931, vol. 46, N 182, p. 179, 186.
» Ibid., p. 180.
90
Ю. И. Писарев
в парламенте, а в случае проступка наказание им будет опреде-
лено «согласно решению пэров» 60 * * * * * *.
Таким образом, в отличие от 1311 г., в 1341 г. не было и
речи об абсолютном и полном контроле магнатов над королем и
его .чиновниками. Статут 1341 г. был достаточно умеренным. Но,
если верить документу, содержащемуся в картуляции Вестмин-
стерского аббатства в1, Эдуарду III в ходе кризиса 1341 г. были
Предъявлены более жесткие требования. От короля потребова'ли,
чтобы на данном парламенте были назначены некие «пэры ко-
ролевства», в функции которых входило бы распоряжение всеми
видами государственных доходов. Все королевские чиновники
должны были приносить им присягу, отчитываться перед ними и
наказываться Теми в случае проступка. Эти пэры должны были
«надзирать над делами короля и государства» от4 парламента до
парламента, «советовать королю и управлять его королевством» ez.
Однако то обстоятельство, что эта версия не вошла ни в офи-
циальный отчет о весеннем парламенте 1341 г.вз, ни в статут,
дает веские основания считать, что в тот период магнаты были
весьма далеки от крайних взглядов, преобладавших среди баронов
в 1311 г. Показательно, что сравнительно быстрая отмена ста-
тута 1341 г. (король отменил его уже в конце 1341 г., «как про-
тиворечащий обычаям страны... и старым статутам», а в 1343 г.
вновь подтвердил его отмену) 84 не встретила оппозиции со сто-
роны магнатов, и аннулирование статута было сделано на совете
короля «с графами, баронами и другими опытными людьми ко-
ролевства» 85. Отменено же было, по-видимому, лишь положение
о назначении и отчетности перед пэрами королевских чиновни-
ков, во всяком случае именно об этом и шла речь на парламен-
те 1343 г.6в Вопрос же о привилегиях пэров даже не был под-
нят на этом собрании, что дает основание предполагать, что они
не были отменены67 68. Во всяком случае, данное годом позже
магнатами торжественное обещание воевать вместе с Эдуар-
дом III за границей, «пока он не увидит успех своего дела» вв,
говорит о полном примирении их с королем.
60 Stat., vol. 1, р. 296.
81 Опубликовано: Chartulary of Winchester Cathedral / Ed. by A. W. Good-
men. Winchester, 1927; Wilkinson B. The Constitutional History..., vol. 2,
p. 194—197.
82 Wilkinson B. The Constitutional History..., vol. 2, p. 195—197.
83 RP, vol. 2, p. 126—131.
84 Stat., vol. 1, p. 297; RP, vol. 2, p. 140.
85 Stat., vol. 1, p. 297.
68 RP, vol. 2, p. 140.
87 С архиепископом Кентерберийским король помирился еще в конце
1341 г., официально обвинения против него были сняты в 1345 г.
88 Stat., vol. 1, р. 300.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
91
v Относительная неудача, постигшая магнатов в их новой по-
пытке поставить под свой контроль высших чиновников короны,
отнюдь не повлияла на их общее положение в системе государ-
ственного управления. Особенно усиливаются их позиции в коро-
левском совете. Исследователи политической и административной
истории Англии XIV в. согласны в том, что магнатский нажим
на короля в 1341 г. положил начало процессу удаления из ко-
ролевского совета преобладавшего там до этого времени чинов-
ничьего элемента. Этот процесс интенсивно идет на протяжении
всего царствования Эдуарда III и имеет своим следствием гос-
подство магнатов в этом органе власти начиная по крайней мере
с 60—70-х годов XIV в.69 И после 1341 г. в королевском сове-
те присутствуют не только магнаты, но и чиновники, однако «ве-
ликие лорды» доминировали не только в совете престарелого
Эдуарда III ив постоянном регентском совете при малолетнем
Ричарде II (когда магнаты вновь на время получили право при-
нимать присягу королевских чиновников) 70, но и на протяже-
нии всего царствования Ричарда II; со вступлением же на пре-
стол Ланкастеров требования «люрдов совета» и стремление ари-
стократии к власти не только не уменьшились, но, напротив,
увеличились 7l.
Во второй половине XIV в. «Conseil» (королевский совет) в
парламентских документах становится, по существу, синонимом
понятия «Grand conseil» 72, с давних пор обозначавшего общий
совет магнатов, а в данный период чаще употреблявшегося как
определение для того государственного органа, который позже
будет назван палатой лордов72. Действительно, трудно отделить
от вершившего все дела государства королевского совета тех
«Grantz du Conseil» 74, «Seigneurs du Conseil» 75, на необходимость
совета и согласия которых ссылается король в своих ответах на
петиции. Если в начале века парламентские петиции адресуются
«королю и совету», то к концу царствования Эдуарда III они
обращены к «королю и лордам в парламенте» 7в. В период несо-
•• Baldwin J. Т. The King’s Council in England during the Middle Ages. Ox-
ford, 1913, p. 93, 98—99; Wilkinson B. The Chancery under Edward III.
Manchester, 1929, p. 112—113, 186—187; Idem. The Protest of the Earls...,
p. 187.
70 RP. London, 1769, vol. 3, p. 115.
71 Wilkinson B. Fact and Fancy in Fifteenth-Century English History.— Spe-
culum, 1967, vol. 42, N 4, p. 678—681.
72 Rayner D. The Forms and Machinery of the «Commune Petition» in the
Fourteenth Century.— EHR, 1941, vol. 56, N 222, p. 218.
73 Richardson H. G., Sayles G. The King’s Ministers in Parliament 1272—
1377.— EHR, 1932, vol. 47, N 186, p. 201.
74 RP, vol. 2, p. 140, 142, 160.
75 Ibid., p. 41, 115.
76 Myers A. R. Parliamentary Petitions in Fifteenth Century.— EHR, 1937,
vol. 52, N 207, p. 398.
92
Ю. И. Писарев
вершеннолетия Ричарда II они направляются не только «королю
и пэрам парламента» 77, но и просто «лордам парламента» 78. Но
еще в 1344 г. на петицию общин ответ был дан «par nostre
Seigner le Roi et par les Grantz en dit Parlement» 79; в 1348 г.
на протест общин против новой пошлины был дан ответ: «Угодно
нашему господину королю; прелатам, графам и другим магнатам,
чтобы эта пошлина оставалась в силе» 80 81, а в 1354 г. другая
петиция показалась приемлемой «as Seigneurs et a les Grantz» 8|.
Ведущее положение занимали магнаты в XIV в. и на иных
великих советах — на особых собраниях, широко распространив-
шихся в период царствования Эдуарда III. Эти великие советы,
рассматривая по существу тот же круг вопросов, что и парла-
мент, в частности вопросы, связанные с налоговым обложением,
и правовые вопросы, не предусматривали в отличие от парламен-
та подачи каких-либо петиций и ответа на них со стороны ко-
роны 82, оставляя, таким образом, в руках последней всю полно-
ту законодательной инициативы. В зависимости от характера
проблем, поднятых на совете, состав вызванных на него лиц
сильно варьировал: представители населения отдельного региона
(например, юга страны — 1342 г.), представители избранных го-
родов или только богатые купцы, ограниченное число «рыцарей
графств» (по одному вместо двух от графства в 1352 г.). Иногда
представители общин вовсе не вызывались83. Но магнаты явля-
лись непременной и главной составной частью всех великих со-
ветов Эдуарда III, и все законодательные акты, явившиеся ито-
гом таких собраний, должны были получить их одобрение. Между
тем среди этих законодательных актов (в отличие от парламен-
тов великие советы издавали ордонансы, а не статуты) были столь
важные, как Ноттингемский ордонанс 1336 г., законодательно
подтвердивший систему королевских протекций в суде, и ордо-
нанс о стапле 1352 г., определивший порядок торговли англий-
ской шерстью.
Характерная черта эволюции сословия магнатов в этот пе-
риод — выделение высшей титулованной знати в особую группу
по отношению к остальной части английской земельной аристо-
кратии. В последние годы правления Эдуарда I, когда состав пар-
ламента достаточно стабилизировался, среднее число баронов,
77 RP, vol. 3, р. 53.
78 Ibid., р. 89, 122.
79 RP, vol. 2, р. 149.
80 Ibid., р. 168.
81 Ibid, р. 262.
82 Richardson Н. G. The Parliaments of Edward III.— BIHR, 1930, vol. 8, N 23,
p. 65, 76.
83 Wilkinson B. The Constitutional History.., vol. 2, p. 44; Fryde E. B. Op. cit,
p. 252—254.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
93
получавших личные вызовы на парламент, колебалось от 80 до
1008<. Но уже в правление Эдуарда II среднее число вызываемых
сократилось до 74, а в эпоху Эдуарда III составляло 43 челове-
ка 84 85 86 — и это в тот период, когда общее число титулованных фео-
далов определенно увеличивалось. Уже в 1341 г. граф Суррей
требует удалить с собрания магнатов барона Стаффорда, как не-
достаточно знатного, чтобы заседать вместе с пэрами88. К 1377 г.
окончательно складывается иерархия внутри прослойки крупных
феодалов — петиция того времени указывает, что в парламенте
заседают «прелаты, герцоги, графы, бароны, те, кто держит по
праву баронии, и те, кто вызывается на парламент [специальны-
ми] приказами» 87. Раздача титулов новым графам в 1337 и по-
следующих годах, появление герцогов (в том же 1337 г. принц
Эдуард, первенец Эдуарда III, стал герцогом Корнуэлл), разви-
тие института пэрства и создание палатинатов были ступенями к
выделению в особую группу крупнейших магнатов, претендовав-
ших на наибольшую близость к королю и на наибольшую долю
его пожалований. Король не только не препятствовал, но и созна-
тельно* способствовал этому, превращая или надеясь превратить
подобным образом потенциальных врагов в друзей. Хитроумная
матримониальная политика Эдуарда III (браки сыновей короля
с наследницами самых знатных и богатых магнатских фамилий)
также была направлена на укрепление связей магнатов с королем.
Принятый в 1352 г. статут, точно определивший понятие «го-
сударственная измена», оговаривал возвращение конфискованных
в пользу короля земель участников феодальных междоусобиц и
стычек (ранее участие в усобице рассматривалось как государст-
венная измена) в руки «главных лордов феода» 88. Таким обра-
зом, магнаты получили возможность вернуть значительную часть
земель своих держателей, перешедшую некогда в руки короны.
Еще одним шагом короля навстречу желаниям его магнатского
окружения явилось аннулирование результатов политических
процессов 30-х годов против фаворитов Эдуарда II Деспенсе-
ров, сторонника этого короля графа Арупдела и его противника
Роджера Мортимера и возвращение большей части конфискован-
ных у них земель их наследникам 8®.
Король жалует лордам новые привилегии и подтверждает ста-
рые. Только магнатам было разрешено в 1343 г. вывозить за ру-
беж изделия из серебра90. Эдуард III подтвердил право членов
84 Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента..., с. 349.
85 Stubbs W. Op. cit., «vol. 2, p. 423.
86 Wilkinson B. The Protest of the Earls..., p. 179.
87 RP, vol. 2, p. 368.
88 Stat., vol. 1, p. 320.
89 RP, vol. 2, p. 254—262.
90 Stat., vol. 1, p. 299.
$4
Ю. И. Писарев
магнатских фамилий на выгодные наследственные должности.
В 1330 г. король подтвердил право графа Уорика на наследствен-
ную должность шерифа Уорикшира, а в 1334—1335 гг. — право
графов Девон на третье пенни из фирмы Девоншира 91. В 1346 г.
юн подтвердил права семьи Клиффордов на наследственное ше-
рифство Уэстморленда, а в 1360 г,— права графов Оксфорд на
наследственную должность главного лесничего в Эссексе 9Z.
В 1335 г. в ответ на жалобы графов Норфолка, Ланкастера и
Херефорда, будущего графа Глостера Хью Одли, барона Моубрея
и других лордов Уэльской марки на нарушение их права не при-
нимать королевский приказ в пределах их владений (право
retumum brevium) Эдуард III обещал «оказать справедливость»
тем лордам, «которые чувствуют себя обиженными» 93. Между тем
лорды Уэльской марки, рассматривавшие себя как собственников
земли по праву завоевания, еще во времена Эдуарда I пытались
сохранить в своих владениях особые «обычаи марки», несовмести-
мые с общим правом и прерогативами короля, а также имели
обыкновение решать свои споры в вооруженных междоусобицах,
что в свое время вызвало резкое противодействие со стороны
короны 94.
В 1347 г . Эдуард III подтвердил право returnum brevium,
которым располагали епископ Даремский и принц Уэльский в
палатинатах Дарем и Честер95. В 1339 г. под предлогом того,
что исполнение статута, разрешающего свободную торговлю анг-
лийских и иностранных купцов по всей стране, нанесет ущерб
иммунитетным правам принца в Честере, король приказал при-
остановить исполнение статута в пределах этого иммунитета9в,
а в 1347 г. на жалобу в парламенте, что чиновники принца в
графстве Корнуэлл препятствуют там торговле оловом, - заявил,
что «в полной воле принца разрешать продавать олово там, где
ему будет угодно», подтвердив это и на следующем парламенте97.
После 1344 г. особенно широкие масштабы получает практи-
ка отчуждения сотен и других частей графств и превращения их
в новые иммунитетные единицы, находящиеся в руках у магна-
тов м. Уже в 1347 г. парламентская петиция утверждает, что
»* CCR, 1330—1333, р. 110; CGR, 1333—1337, р. 341, 376, 399.
92 CCR, 1346—1349, р. 12; CCR, 1360—1364, р. 27.
93 RP, vol. 2, р. 91, 95.
94 Гутнова Е. В. Возникновение английского парламента..., с. 274—275.
95 RP, vol. 2, р. 171.
99 CCR, 1337—1339, р. 141.
™ RP, vol. 2, р. 180, 203.
98 Обычно отчуждались сотни, вапентейки, рыночные местечки и другие
части графств, но иногда в рубрику иммунитетов попадало право на
различные доходы, должности (RP, vol. 3, р. 305). Жители Ноттингема
жаловались в 1344 г., что должность хранителя местной тюрьмы пожиз-
ненно отдана Джону де Брокас (RP, vol. 2, р. 155). В 1343 г. «рыцари
Магнаты и корона в Англии XIV в.
95
вследствие чрезмерно широких пожалований короля «почти вся
страна иммунизирована»,".
Поскольку поступления от иммунизированных земель изыма-
лись из фирмы графства и составляли доход лорда-иммуниста,
но общая сумма фирмы оставалась прежней и неэкзимированная
часть графства должна была выплачивать ее полностью, раздача
иммунитетов резко увеличивала бремя поборов, ложившихся не
только на зависимое крестьянство, но и на основную часть сво-
бодного населения. Отсюда — нарастающая к концу века лавина
петиций отдельных графств, настаивающих на возврате короне
отчужденных сотен и вапентейков либо на сокращении фирмы
графств в соответствии с ростом иммунитетов. Еще в 1334 г.
шериф Ноттингемшира и Дербишира Томас Лонгвиллерс обра-
тился к королю с просьбой сделать ему скидку с причитающейся
с него суммы фирмы Ноттингемшира, поскольку он не мог ниче-
го получить с жителей иммунитета Тикхэлл, охватывающего поч-
ти половину этого графства 10°. В упоминавшейся выше петиции
1347 г. общины просили короля прекратить дальнейшие пожало-
вания иммунитетов, которые ведут к-i«ущербу для общего права
и к большим тяготам для народа» 101. Другая петиция того же
года настаивала на том, чтобы королевские иммунитеты, корон-
ные земли и феоды не отдавались частным лицам и не отчуж-
дались от короны 102. В 1369 г. представители графств просили,
чтобы, имея в виду большую смертность в графствах и большое
число иммунитетов, пожалованных королем, шерифам было поз-
волено сдавать в казначейство не всю сумму фирмы, которой,
было обязано графство, а лишь то, что они смогут собрать|03.
В 1376 г. в парламенте раздавались жалобы на передачу сотен
в графствах Суррей и Суффолк графу Арунделу и просьбы о со-
кращении фирм графств Эссекс, Хартфордшир и Нортумбер-
ленд iOt. Подобные же просьбы и жалобы раздаются и на пар-
ламентах Ричарда II, о сокращении фирмы в связи с многочис-
ленными отчуждениями сотен просят графства Эссекс, Суссекс,
Хартфордшир, Девоншир, Норфолк, Суффолк, Дербишир и дру-
гие 105. Однако и Эдуард III, и его внук на все подобные прось-
графств» заявили, что бейлифы лордов-иммунистов, располагающих пра-
вом на движимость, конфискованную у преступников, и правом нала-
гать штрафы и проверять свободное поручительство, занимаются вымо-
гательством «риг pier a lour Seigneurs, et риг singuler profit de еих» (RP,,
vol. 2, p. 140).
99 RP, vol. 2, p. 166: ...qe toute ceste Terre est a poi enfraunchee.
io° Ibid., p. 179.
101 Ibid., p. 166.
Ibid., p. 169,
юз Ibid., p. 301.
io* Ibid., p. 348—349.
Ю5 RP, vol. 3, p. 45, 95, 141, 161, 210—212, 280, 290, 305, 321, 330.
96
Ю. И. Писарев
бы отвечали в лучшем случае обещанием «посоветоваться» со
своим советом и магнатами 10в.
На жителей неиммунизированной части графств ложилось
дополнительное бремя и по той причине, что обитатели иммуни-
тетов не вносили своей доли в собиравшиеся по графствам суммы
на содержание представителей графств в парламенте. Практика
сбора этих сумм в пределах иммунитетов, введенная, было,
Эдуардом I в 1305 г., была на деле ликвидирована и лишь фор-
мально, как показывают многочисленные жалобы «рыцарей
графств», восстановлена с 1354 г. В этом году общины в парла-
менте жаловались на то, что держатели сеньеров, которые дер-
жат землю на праве бароиии и получают вызовы в парламент,
отказываются платить на содержание представителей своих
графств в парламенте107. В 1364 г. «рыцари графств» просили,
чтобы средства на их содержание давали бы и жители иммуните-
тов в пределах каждого графства 108. Король на обе петиции от-
ветил, что все в подобных случаях должно делаться так, «как
было в обычае до сего времени», однако жалобы по этому пово-
ду раздаются и на парламентах 1376, 1377, 1379 и 1385 гг.109
Весьма показателен тот факт, что петиции общин второй по-
ловины века вовсе не настаивают на полном прекращении по-
жалований новых иммунитетов и ликвидации старых, ограничи-
ваясь лишь просьбами снять накопившиеся недоимки с шерифов
и сократить сумму фирмы. «Рыцарям графств» в парламенте
явно противостоял казавшийся им непреодолимым альянс маг-
натов, рьяно отстаивавших свои привилегии, с королем, стерео-
типно отвечавшим на петиции ссылкой на необходимость совета
с теми же магнатами. Нельзя не прийти к выводу, что расшире-
ние и сохранение старых (Уэльская марка, Дарем и другие цер-
ковные иммунитеты) и создание новых иммунитетов, в особенно-
сти палатинатов (палатинаты Честер — 1337 г., Пембрук — 1339 г.,
Ланкастер —1351 и 1371 гг.), обладавших всей полнотой имму-
нитетных прав, в частности собственными канцеляриями и пра-
вом returnum brevium, является одним из кардинальных на-
правлений политики английской короны по отношению к крупным
феодалам после 1330 г., резко контрастирующей с действия-
ми королевской власти в соответствующей области в конце XIII—
начале XIV в. После бурных столкновений первой трети века
корона и магнаты явно приходят к соглашению — ив немалой
степени за счет мелких феодалов, «людей из графств».
юв RP, vol. 2, р. 166, 169; RP, vol. 3, р. 45, 210—212, 280.
ют Rp, vol. 2, р. 258.
toe Ibid., р. 287.
toe Ibid., р. 368; RP, vol. 3, р. 64, 212, 293. .
Магнаты и корона в Англии XIV в.
97
Преобладание магнатов в центральных органах государствен-
ной власти подчеркивается фактами магнатского «пэкинга»
(packing — заполнение своими сторонниками) в парламентах
XIV в. После низвержения Мортимера в 1330 г. Эдуард III объ-
явил, что в предшествовавший период, когда «некие магнаты»
чинили притеснения народу, «рыцари, приходившие на парла-
менты от общин графств», направлялись туда «по сговору» но.
По утверждению современника-хрониста, герцог Ланкастерский
Джон Гонт постарался ввести своих сторонников в состав пред-
ставителей графств на последнем парламенте Эдуарда III (пар-
ламент декабря 1376 — января 1377 г.) с тем, чтобы отменить
неугодные ему решения предшествовавшего апрельского парла-
мента 1376 г.111 В той или иной степени с этим согласны мно-
гие современные исследователи. Так, Н. Б. Льюис, считая, что
число свитских Джона Гонта, присутствовавших на парламенте
1376—1377 гг., несколько завышено хронистом и составляло 6,
а* не 12 человек, полагает тем не менее, что к ним следует при-
бавить также не входивших формально в свиту герцога четырех'
представителей от Ланкашира и Лестершира — графств, где Джоп
Гонт располагал почти абсолютным влиянием и властью112. Со
своей стороны Дж. Уэджвуд (на чьих данных о числе свитских
герцога в парламенте 1376—1377 гг. основывал свои соображе-
ния Н. Б. Льюис) указывает на тенденцию к росту числа свит-
ских герцога среди парламентских «рыцарей» на протяжении
1372—1382 гг. (от пяти человек в 1372 г. до десяти в 1382 г.) 113.
Между тем парламентская процедура в XIV в. была весьма дале-
ка по своему характеру даже от парламентской процедуры XVII в.,
не говоря уже о парламентских обычаях более поздних времен,
где решающее значение имеет арифметическое большинство сре-
ди членов палаты общин. В условиях XIV в. десяток или дюжи-
на решительных и активно поддерживаемых своим лордом «ры-
царей графств» могли оказать самое действенное влияние на
решения, выносимые общинами на их совещаниях.
Разумеется, выгоду заполнения парламента своими ставлен-
никами учитывал не только герцог Ланкастерский, но и другие
магнаты, прежде всего из числа его политических противников.
В этом смысле определенный интерес представляет замечание
И. Денхолм-Янга, что так называемый Добрый парламент (an-
no CCR, 1330—1333, р. 16.
Chronicon Angliae ab Anno Domini 1328 usque ad Annum 1388, auclore
monacho quodam Sancti Albani/Ed. by E. M. Thompson. London, 1874.
p. 112.
ns Lewis N. B. Re-election to Parliament in the Reign of Richard IL— EHR,
1933, vol. 48, N 191, p. 381.
из Wedgwood J. C. John of Gaunt and the Packing of Parliament.—EHR,
1930, vol. 45, N 180, p. 625.
4 Средние века, в 43
98
Ю. И. Писарев
рель 1376 г.), традиционно считающийся в буржуазной историо-
графии парламентом, где «конституционная оппозиция», пред-
ставленная в первую очередь общинами и их первым спикером
Питером де ла Маром, одержала значительную победу в борьбе
с «коррумпированной дворцовой партией» 114, был в той же сте-
пени намеренно заполнен сторонниками старшего сына Эдуар-
да III, Черного принца, в какой ставленники его брата, Джо-
на Гонта, заполонили парламент 1376—1377 гг.115 Несомненно,
борьба Черного принца, поддерживаемого графом Марчем, против
герцога Ланкастерского за влияние на престарелого Эдуарда III,
а затем борьба вдовы принца и графа Марча с герцогом за регент-
скую власть при малолетнем Ричарде II, ясно отразившаяся на
составе регентского совета при короле в 1377—1380 гг.iie,
должна была отразиться на составе и общей политической на-
правленности парламентов тех времен. Неожиданный поворот в
делах, когда менее чем через год после принятия весьма выгод-
ных для графств и городов решений на Добром парламенте пред-
ставители тех же общин деятельно способствуют отмене этих ре-
шений на следующем парламенте 1376—1377 гг., несомненно до-
казывает известную обусловленность успеха общин в апреле
1376 г. победой одной из двух боровшихся в то время между со-
бой магнатских группировок.
Первый спикер общин на Добром парламенте 1376 г., Питер
де ла Мар, апологию которого можно найти практически в любой
работе по «конституционной» истории Англии XIV в., был сене-
шалом графа Марча, личного врага Джона Гонта, в то время как
спикером парламента 1376—1377 гг., предоставившего полную
власть герцогу Ланкастерскому и отменившего решения Доброго
парламента, был сенешал этого герцога Томас Хангерфорд117.
Несомненны связи с магнатами и прочих спикеров конца XIV в.
Джеймс Пикеринг, спикер парламентов 1378 и 1383 гг., был тес-
но связан с семьей лордов Клиффордов; спикер парламента 1380 г.
Джон Гилдсбург воевал в Шотландии под началом у Джона Гон-
та в составе свиты другого сына Эдуарда III — Томаса Вудсто-
ка; Джон Баси, спикер парламентов 1394, 1397—1398 гг., состоял
в свите герцога Ланкастерского с 1382 г., а в 1394 г. являлся
главным сенешалом его владений на севере 118.
и* Stubbs W. Op. cit., vol. 2, p. 428; Trevelyan G. M. England in the Age of
Wycliffe. London, 1900, p. 10, 17—23; Tout T. F. Op. cit, vol. 3, p. 297.
ns Denholm-Young N. The Country Gentry in the Fourteenth Century. Oxford,
1969, p. 71.
ив Lewis N. B. The «Continual Council» in the Early Years of Richard II,
1377—1380.— EHR, 1926, vol. 41, N 162, p. 246—251.
in Trevelyan G. M. Op. cit., p. 23; Roskell J. S. The Commons and their Spea-
kers in English Parliaments 1376—1532. Manchester, 1965, p. 119, 156.
ив Roskell J. S. Op. cit., p. 350, 355, 361.
Магнаты и корона в Англии XI V в.
99
В тексте стихотворного памфлета, относящегося к концу
XIV в., в числе сатирически описанных представителей
графств в парламенте фигурируют «нанятые», которые «боятся
шаг ступить без приказа своих хозяев», и те, кто боится магна-
тов, и просто подкупленные, «отказавшиеся от справедливости,
так что графствам не было никакой выгоды от их присутствия»
в парламенте 11в.
Все это относится главным образом к последней трети века,
однако Мортимер, как мы видели, заполнял своими сторонниками
парламенты и в первой трети столетия. Н. Денхолм-Янг, по-ви-
димому, близок к истине, полагая, что «пэкинг» был обычным
методом заполнения мест в парламенте в течение всего века,
причем своего рода «пэкинг» практиковал и король, обеспечивая
на местах избрание либо назначение нужного кандидата через
посредство рыцарей своего хаусхолда119 120, обитавших во всех
графствах страны 121. Нельзя не вспомнить в связи с этим точ-
ку зрения К. Вуд-Лег, считавшей, что в течение всего своего цар-
ствования Эдуард III сознательно предпочитал вызывать в каче-
стве представителей графств на парламенты, где речь шла о
военных вопросах, только полноправных, «опоясанных» рыцарей,
как членов военного сословия, которые из всех подданных короля
с наибольшим энтузиазмом поддерживали его военную политику122.
Само существование подобного королевского «пэкинга», доми-
нирующего в стране и подавляющего частный «пэкинг» магна-
тов, вполне вероятно, в то время как отсутствие прямых жалоб
и нападок на эту систему вполне естественно в тот период, когда
альянс короны и магнатов был крепок и устойчив, т. е. на протя-
жении большей части 50-летнего правления Эдуарда III. В пос-
ледней трети века, в период дряхлости Эдуарда III и малолетства
Ричарда II, в период некоторого ослабления авторитета королев-
ской власти, преобладать начинает магнатский «пэкинг» — при-
сутствие среди представителей графств ставленников и зависимых
лиц того или иного магната становится явной и немаловажной
чертой политической жизни тех времен.
Явным следствием подобного положения была тенденция
представителей графств передать решение важнейших государст-
венных дел в руки магнатов и фактическое установление конт-
роля лордов над палатой общин. Подтверждением этого является
119 Political Poems and Songs relating to English History from the Accession
of Edward III to that of Richard III/Ed. by Th. Wright. London, 1859,
vol. 1, p. 414—417.
120 Household (Hosteil du Roi) — в широком смысле слова — королевский
двор и королевские земли под его управлением.
121 Denholm-Young N. Op. cit., р. 71.
122 Wood-Legh К. L. Sheriffs, Lawvers and Belted Knights in the Parliaments
of Edward III.— EHR, 1931, vol. 46, N 183, p. 382—387.
100
Ю. И. Писарев
укоренившаяся в 1373—1407 гг. практика предварительного об-
суждения дел, подлежащих рассмотрению представителями
графств и городов, при участии специального комитета из нес-
кольких лордов, о назначении которого общины «просят» магна-
тов 12S.
В непосредственную связь с этим обстоятельством надо поста-
вить определившийся к концу века отказ общин от требований о
тотальной ликвидации иммунитетов. Более того, в своих петици-
ях на парламенте 1376—1377 гг. общины просили, в частности,
чтобы «никакого лорда или другого человека, владеющего имму-
нитетом, не принуждали отвечать относительно его иммунитет-
ных прав», а также требовали, чтобы мировым судьям было за-
прещено вмешиваться в дела частных судов иммунистов, владе-
ющих правом проверки круговой поруки 12\ Это последнее тре-
бование находится в явном противоречии с просьбой парламента
о расширении юрисдикции мировых судей на иммунитеты, вы-
сказанной в 1351 г.125
Между тем за истекшее время магнаты не только отстояли и
укрепили свое исключительное положение как сословия, практи-
чески неподсудного суду общего права, но и определенно преус-
пели в сохранении и распространении своего влияния на королев-
ский суд в целом. Королевский судья, состоящий на службе у
крупного феодала,— вполне обычное явление в XIV в. В ходе
конфликта, возникшего в 1351 г. между аббатом Уитби (Йорк-
шир) и его держателями в бурге Уитби, выяснилось, что из шести
королевских судей, назначенных для разбирательства этого дела,
трое «долго были в свите и совете аббата» 126 . В ордонансе о
судьях 1346 г., пространно повествующем о распространенной
в тот период практике «альянсов», т. е. сговора и давления на
судей в ходе имущественных и прочих тяжб127, отмечается,
* 23 RP, vol. 2, р. 316, 322, 363; vol. 3, р. 5, 36, 100, 145, 167, 486, 610.
«24 RP, vol. 2, р. 366.
* 25 Ibid., р. 238. См. также: Ковалевский №. №. История полицейской адми-
нистрации и полицейского суда в английских графствах с древнейших
времен до смерти Эдуарда III. Прага, 1877, с. 204—205.
* 2« CCR, 1349—1354, р. 377—378.
* 27 Подобные «альянсы», жалобы на которые поступают в парламент уже
в начале века (RP., vo], 1, р. 288, 299 — петиции 1314—1315 гг.; о социаль-
ной направленности этих петиций см.: Гутнова Е. В. Возникновение анг-
лийского парламента..., с. 544—547), несмотря на торжественные коро-
левские обещания и парламентские запрещения (Stat., vol. 1, р. 256, 264;
CCR, 1330—1333, р. 422; RP, vol. 2. р. 62; RPA, р. 234), являлись у магна-
тов излюбленным методом расширения владений. В петиции, поданной
на одном из парламентов Эдуарда III, некий Уолтер Станвей из Вустер-
шира жаловался на Джона Батлера, сенешала лорда Деспенсера, и его
подручного Джона Голафра, которые «с одобрения и пользуясь могуще-
ством упомянутого лорда... побудили некоего чужака начать тяжбу про-
Магнаты и корона в Англии XIV в.
101
что многие из тех, кто затевает тяжбы и оказывает протекцию
тяжущимся сторонам в графствах, «поддерживаются и покрыва-
ются лордами», что судьи получают содержание («фьефы») не
от короля128. В 1376 г. представители графств в парламенте
просят не назначать ассизных судей разбирать дела в их родных
графствах, так как каждый из них имеет там своих «лордов, гос-
под, родственников и друзей», а петиция 1386 г. вновь, несмотря
на ордонанс 1346 г., настаивает на том, чтобы судьи королевских
судов не получали содержания ни от кого, кроме самого коро-
ля 12Я. Магнаты-иммунисгы могли влиять на судопроизводство,
вводя своих чиновников — свитских — в состав королевских судеб-
ных комиссий. В 1343 г. общины просили, чтобы «сенешалы маг-
натов, имеющих иммунитеты, не присоединялись бы к судьям,
получившим полномочия судить уголовные преступления» 13°.
В течение всего XIV в. немалые усилия предпринимаются маг-
натами и для того, чтобы заставить служить себе новый и пер-
спективный орган местного управления — мировых судей.
Институт мировых судей почти сразу же после своего возник-
новения стал объектом пристального» внимания магнатов. Однако
попытки, предпринятые феодальными владетелями в первой чет-
верти XIV в., присвоить себе право наследственного отправления
должности «хранителя мира» не удались|31. В течение всего
царствования Эдуарда II «хранители мира» назначались королем
иногда из числа магнатов, иногда из числа менее крупных фео-
далов. Но после 1327 г., когда «община королевства» просила в
своей петиции о назначении «bones gentz et leaux ... a la gard de
la pees» в графствах и это было разрешено статутом132, ста-
новится очевидным нежелание магнатов отдавать юрисдикцию
z на местах в руки «хранителей мира», значительную часть кото-
рых должны были составлять представители «рыцарства». Эта
оппозиция крупных феодалов выразилась, в частности, в стремле-
нии магнатов, окружавших молодого Эдуарда III после его при-
хода к власти, сохранить полномочия традиционных судов и су-
дей (судей по уголовным делам, судей по освобождению тюрем, ас-
сизных судей, посылавшихся в графства,— такие судьи назнача-
лись только из юристов и магнатов) в ущерб полномочиям «храни-
телей мира», которые могли лишь представлять свои обвинения за-
держанным ими преступникам на рассмотрение традиционных
тив упомянутого Уолтера» и полностью разорили его, отняв его земли
в результате подстроенного судебного процесса (RP, vol. 2, р. 385).
128 Stat., vol. 1, р. 303—305.
129 RP, vol. 2, р. 334; vol. 3, р. 222.
i3° RP, vol. 2, p. 141.
131 Ковалевский M. M. История полицейской администрации..., с. 194.
132 RP, vol. 2, p. 11; Stat., vol. 1, p. 257.
102
Ю. И. Писарев
судов133. А в 1332 г., отвечая на вопрос короля, как лучше
сохранить мир в стране, магнаты прямо потребовали, чтобы в
каждом графстве «наикрупнейшие магнаты» были назначены
«хранителями мира» и чтобы все ранее назначенные «хранители
мира» (т. е. «хранители» из числа мелких феодалов, появившие-
ся в графствах после статута 1327 г.) лишь помогали им. Маг-
наты — «хранители мира» должны были получить в отличие от
своих предшественников не только полномочия задерживать пре-
ступников, но и право судить их. Это требование нашло полную
поддержку у Эдуарда III134. Однако уже в 1333 г. общины жа-
луются в парламенте, что такие «хранители слишком многих об-
винили», аналогичные жалобы на «хранителей мира», во главе
которых стояли магнаты, раздаются и в 1334 г.135
В 1338 г. единственный раз за все столетие «хранители мира»
были выбраны на собраниях графств, и в составе их оказалось
очень мало магнатов и юристов 136. Однако магнаты по существу
сохранили контроль над мировыми судьями и в этот период, так
как параллельно с этими выборами королем были назначены свое-
го рода инспекторы над «хранителями», и именно из числа наибо-
лее видных магнатов137. В последующие годы общины неодно-
кратно пытаются добиться избрания мировых судей, если не на
собраниях графств, то в парламенте138, но лишь один раз за
все столетие, в 1390 г., такие судьи были назначены в парламен-
те лордами и «рыцарями графств» 139 *.
Свидетельством глубокой заинтересованности основной массы
«людей из графств» в том, чтобы быть как можно более широко
представленными среди мировых судей, являются часто повторя-
ющиеся просьбы, раздававшиеся в парламенте во второй полови-
не века, о предоставлении мировым судьям платы за исполнение
их должностиио. Однако вряд ли можно утверждать, что в на-
мерения петиционеров входило передать эти должности в руки
всех без исключения «людей графств», в том числе и наименее
состоятельной прослойки фригольдеров полукрестьянского типа.
Постоянные и настойчивые требования в парламенте о назначе-
нии на эти должности только «наиболее состоятельных» жителей
графства 141 наряду с обычным нежеланием видеть на админи-
1зз Rolls of Northamptonshire Sessions of the Peace/Ed. by M. Gollancz. Nor-
thampton, 1940, p. XX.
«з* RP, vol. 2, p. 64—65.
135 RPA, p. 226, 232.
1зв Some Sessions of the Peace in Cambridgeshire in the Fourteenth Century/
Ed. by M. M. Taylor. Cambridge, 1942, p. XXVII—XXVIII.
137 CPR, 1338—1340, p. 134, 141—142.
ns RP, vol. 2, p. 104, 277, 333.
13» RP, vol. 3, p. 279.
no RP, vol. 2, p. 271, 283, 312, 333; vol. 3, p. 65, 83.
Hi RP, vol. 2, p. 151, 252, 257.
Магнаты и корона в Англии XIV в.
103
стративных постах на местах бедных, а следовательно, и более
беззастенчиво занимающихся вымогательством с намерением как
можно скорее обогатиться феодалов говорят о том, что, по мысли
представителей общин в парламенте, должность мирового судьи
должна была стать неотъемлемой функцией лишь наиболее бога-
той и сравнительно немногочисленной категории феодалов «из
графств».
На протяжении всего царствования Эдуарда III петиции о
предоставлении мировым судьям платы успеха не имели. Долж-
ность мирового судьи не оплачивалась и была доступна лишь на-
иболее состоятельным рыцарям и, конечно, магнатам. Только в
1390 г. право мировых судей получать плату за отправление
своих обязанностей было признано в статуте 142, однако и после
этого оплата их производилась крайне нерегулярно нз.
Согласно статуту 1361 г., впервые вполне точно и определен-
но сформулировавшему положения о статусе и функциях миро-
вых судей, комиссии мировых судей в каждом графстве должны
были непременно включать в себя одного магната, несколько
юристов, и несколько менее крупных феодалов144. В таких ко-
миссиях магнаты бесспорно занимали доминирующее положение,
оказывая влияние и на самый подбор и назначение судей. Общи-
ны утверждают в своей петиции, поданной королю в 1376 г., что
«мировые судьи часто назначаются по сговору» (par brocage des
meyntenours) — в ущерб бедным людям графств145. В 1378 г.
представители графств в парламенте жалуются, что магнаты, чле-
ны комиссий мировых судей, передоверяют свои функции людям
небогатым, которые творят беззакония и потворствуют преступ-
никам 14в. Эти «небогатые» подручные магнатов, которым пос-
ледние охотно доверяли исполнение таких общественно важных
функций, как функция мирового судьи, без сомнения, являлись
их доверенными свитскими рыцарями и слугами, т. е. представи-
телями той категории феодалов, которая на протяжении всего
XIV в. была активной участницей всех беззаконий и насилий,
творившихся в стране.
Несмотря на внешнее укрепление престижа королевской вла-
сти, несмотря на известные сдвиги в сторону увеличения веса
мелких .феодалов в парламенте, XIV век ознаменовался несом-
ненным ростом влияния крупных феодалов практически во всех
областях государственной и общественной жизни Англии. Хотя
английским баронам и не удалось полностью осуществить свой
иг Stat., vol. 1, р. 63.
нз Records of Some Sessions of the Peace in Lincolnshire, 1360—1375/Ed. by
R. Sillem. Hereford, 1937, p. XXXI.
144 Stat, vol. 1, p. 365.
us RP, vol. 2, p. 333.
ue RP, vol. 3, p. -14.
104
Ю. И. Писарев
замысел об установлении их безраздельного контроля над цент-
ральным государственным аппаратом, нельзя не признать, что на
протяжении большей части века магнаты занимали в системе го-
сударственной власти положение, весьма близкое к тому, что яв-
лялось их целью в период их открытой борьбы с короной в нача-
ле века.
Примечательно, что значительного расширения сферы своего
влияния в органах центральной власти и на местах магнаты до-
стигли при явно благосклонном отношении со стороны короны,
которая часто предпочитает опираться именно на крупных феода-
лов. На протяжении большей части века в Англии определенно
существовал своеобразный блок, альянс короля с крупнейшими
феодалами. Это позволило магнатам шире, чем в XIII в., исполь-
зовать в своих целях государственный аппарат в целом и обра-
щать себе на пользу политические действия короны внутри и вне
страны. Магнаты в большей степени, чем иные группы феодалов,
извлекали непосредственную выгоду из затяжной войны на кон-
тиненте, развязанной Эдуардом III. Внутри страны под несом-
ненным давлением со стороны магнатов корона фактически отка-
зывается от активно проводившейся в конце XIII — начале
XIV в. политики ограничения иммунитетов и сама способствует
созданию новых, хотя и не очень многочисленных, но обширных
иммунитетов, что ведет к росту поборов, ложившихся на зависи-
мое крестьянство и на основную часть свободного населения
страны, а также к частичной дезорганизацип стабилизировавшей-
ся было судебно-административной системы.
Характерной чертой действий магнатов в XIV в. является
стремление использовать в своих интересах не только выкристал-
лизовавшиеся в ходе процесса государственной централизации
органы королевской власти (королевский совет, центральные ко-
ролевские суды), но и нижнюю палату парламента, выделение
которой в относительно обособленный орган государственной
власти явилось результатом определенного возрастания эконо-
мического и общественного значения слоя мелких феодалов в
этом столетии. Укоренившийся к концу века обычай, когда маг-
наты «советовали» общинам в парламенте при решении важных
дел, и расширяющаяся практика магнатскцго «пэкинга» в пар-
ламенте ясно указывают не только на место магнатов в англий-
ской системе внутригосударственных отношений к концу иссле-
дуемого периода, но и на то значение, которое они придавали
установлению своего контроля и над этим новым и перспектив-
ныхм органом власти.
Р. И. Хлодовский
КОМИЧЕСКОЕ
В ПОЭЗИИ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
(экскурс в предысторию ренессансного стиля)
1
В средние века комическое играло роль важную и большую.
Устремленные в небо соборы украшали не только химеры, но и
монументальные иллюстрации к забавным фабльо. Подле них
разыгрывались дьяблерии. В самих соборах устраивались шутов-
ские спектакли, в которых преобладала ничем не прикрытая буф-
фонада. Описав один из них, О. М. Фрейденберг изумленно вос-
кликнула: «Перед нами пародия не '’столько на литургию, сколь-
ко на самого бога! И кто же пародирует его при соучастии всего
духовенства? — Осел! Положительно, это такого рода шутка, ка-
ких не перенес бы ни один современный смертный!» 1
Но в средние века такого рода шутки были делом обычным.
В та время жития самых почитаемых и популярных святых до-
полнялись жизнеописаниями их комических двойников-дублеров,
а в новеллистике объектом смеха становилась сама дева Мария
и даже таинства жизни Христа. В одной из новелл Франко Сак-
кетти рассказывает такой случай: «...когда они проходили мимо
св. Марка и братства „Слуг девы Марии" и рассматривали по
обычаю живопись, один из спутников Джотто, увидев находив-
шееся там в стороне изображение богоматери и Иосифа, спросил
художника: „Скажи, Джотто, почему это Иосифу придают всегда
такой печальный вид?“ — Джотто ответил на это: „Разве у него
нет к тому оснований? Он видит жену свою беременной и не
знает, от кого она забеременела"»2.
В данном случае мы имеем дело отнюдь не со стихийным сво-
бодомыслием простого народа, высмеивающего чуждые ему сим-
волы официальной культуры. Франко Саккетти не принадлежал
к низам. Кроме того, он был писателем искренне и глубоко бла-
гочестивым. Джотто ни в коей мере не представлялся ему бого-
хульником. Подобно Боккаччо, он видел в нем просто весельчака
1 Фрейденберг О. М. Происхождение пародии.— В кн.: Труды по знаковым
системам. VI. Тарту, 1973, с. 491.
2 Франко Саккетти. Новеллы / Пер. с нт. В. Ф. Шишмарева. М., 1962, с. 157,
новелла 75.
106
Р. И. Хлодовский
и неутомимого острослова. Саккетти был твердо уверен, что са-
мые фривольные шутки Джотто не расшатывают веру, а, наобо-
рот, укрепляют ее.
Особенно существенной роль комического стала накануне эпо-
хи Возрождения, в тот исторический период, который принято
теперь именовать Проторенессансом3. Так называемая народная
смеховая культура никогда не была целиком и полностью изоли-
рована от культуры серьезной и официальной, пользующейся
языком церкви. Однако на исходе средневековья стирание гра-
ниц между этими двумя культурами происходило особенно ин-
тенсивно. Культура Проторенессанса прежде всего культура
городская. Практическая деятельность купцов и ремесленников
способствовала секуляризации средневековой культуры, проник-
новению в нее мирских интересов «мелкого», трудового люда.
Процесс этот, однако, был до крайности противоречивым. Не
следует забывать, что именно средневековые города конца XIII —
начала XIV в. становились главными центрами народных, ре-
лигиозно-аскетических ересей, возникавших как реакция на уси-
ление мирских притязаний церкви и церковников.
Сближение проторенессансной литературы и искусства с
жизнью «жирного» и «тощего» народа приводило к выявлению в
них как реалистических, так и спиритуалистических тенденций,
столь характерных для культуры «пламенеющей готики». Якопо-
не да Тоди был современником Джотто, а произведения Петрар-
ки и Боккаччо появляются в то самое время, когда всю Италию
захватывает массовое народное движение флагеллантов. Для
Проторенессанса в гораздо большей мере, чем для раннего Воз-
рождения, характерна бурная экспансия volgare, причем не
только в литературу, по также и в другие области культуры, в
том числе в религию и в науку. До «всеобщей карнавализации
сознания» дело, конечно, не дошло. Тем не менее вместе с народ-
ными языками «комическое начало» в той или иной мере орга-
низовывало все наиболее значительные поэтические произведения,
создававшиеся в Западной Европе в канун Возрождения. Не те-
3 Понятия «Проторенессанс» и особенно «Предвозрождение» в последнее
время получили широкое распространение и, видимо, именно в связи с
этим утратили терминологическую конкретность. Б ряде работ Предвоз-
рождение стало даже отождествляться с первым, начальным этапом эпо-
хи Возрождения или с ранним Ренессансом. Между тем Проторенессанс
или Предвозрождение — это всего лишь особая стадия в развитии сред-
невековой культуры. Об этом писал В. Н. Лазарев, считающий Проторе-
нессанс сугубо итальянским явлением (см.: Лазарев В. Н. Искусство
Проторенессанса. М., 1956, с. 123). Об этом же говорит и Д. С. Лихачев,
утверждающий, впрочем: «Предвозрождение и последующее Возрожде-
ние — это стадии культурного развития, которые общи для всего чело-
вечества» (Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков.
Л.. 1973, с. 79).
Комическое в поэзии позднего средневековья
107
ряя своего готического своеобразия, оно способствовало посте-
пенному вызреванию качественно новых нравственно-эстетиче-
ских систем ренессансного стиля.
Комическая природа проторенессансных «Кентерберийских
рассказов» сомнений, по-видимому, вызвать не может. Однако и
Франсуа Вийон — тоже поэт по-средневековому комический4. Та-
ким его изображал Рабле, и именно так воспринимали «бедного
школяра» все его современники. Он сам себя называл «folastre».
Величайшее творение позднего средневековья также было оза-
главлено «Комедия» не только потому, что оно обладает счаст-
ливым концом. В божественной поэме Данте языком и стилем
комической поэзии написан не «Рай», а «Ад». Между «суровым
Дантом» и Франсуа Вийоном существует гораздо большее родст-
во, чем это может показаться на первый взгляд. Комическое не
обязательно тождественно смешному, но оно почти всегда связа-
но с исторически конкретными типами культуры, идеологии и
мироощущения. Поэзия «Ада» и вийоновских «Завещаний» опи-
рается на сходную поэтику и восходит к одной и той же лите-
ратурной, риторической традиции.
Традиция эта особенно ясно выступает в литературе средне-
вековой Италии. На рубеже XIII и XIV вв. «трагическая» лири-
ка нового сладостного стиля преобладала в одной лишь Флорен-
ции — на территории всей остальной Тосканы почти безраздельно
господствовала поэзия, которую современные итальянские иссле-
дователи именуют то бурлескно-реалистической, то буржуазно-
реалистической, то комико-реалистической, то просто веселой или
прямо реалистической5.
Впрочем, первый из комических поэтов проторенессансной
Италии тоже был флорентинцем. Его звали Рустико ди Филиппо.
4 В нашем литературоведении о средневековой комичности Вийона впер-
вые сказали М. М. Бахтин и Л. Е. Пинский. Последний, прямо сопостав-
ляя Вийона с Данте, писал: «Лирика Вийона — в неменьшей мере, чем
„Божественная Комедия",— плод городской культуры, оцененной „сни-
зу" взглядом социальных низов» (Пинский Л. Поэзия Франсуа Вийона.—
В кн.: Вийон Ф. Стихи. М., 1963, с. 14).
5 См.: Sonetti burleschi е realistic! dei primi due secoli/A cura di A. F. Mas-
sera; nuova edizione riveduta e aggiornata da L. Russo. Bari, 1940; Poeti
giocosi del tempo di Dante / A cura di M. Marti. Milano, 1956; Rimatori co-
mico-realistici del Due e Trecento/A cura di M. Vitale. Torino, 1965. Поэ-
зией буржуазной и реалистической комическая поэзия Проторенессанса
именуется в работах Н. Сапеньо и Дж. Петрокки: Sapegno N. Il Trecen-
to.— In: Storia letteraria d’Italia. Milano, 1960, p. 67—113; Petrocchi G.
I poeti realisti.— In: Storia della letteratura italiana. Milano, 1965, vol. 1.
Le origini e il Duecento, p. 689—725. Об условности всех этих терминов
см.: Russo L. La letteratura «comico-realistica» nella Toscana del Duecen-
to.— In: Russo L. Ritratti e disegni storici. Serie terza. Studi sul Due e Tre-
cento. Bari, 1951, p. 159—223. В данной статье цитаты из комических
поэтов (кроме Рустико) даны по изданию Массера — Руссо и в некото-
рых, специально оговариваемых, случаях — по изданию М. Марти.
108
Р. И. Хлодовский
Он родился между 1230 и 1240 гг., принадлежал к гибеллинско-
му роду и дружил с «серьезным» поэтом Паламидези ди Беллин-
донне, автором архаической канцоны «Amor, grande peccato»,
а также с учителем Данте, сером Брунетто Латини, посвятив-
шим ему свой «Favoletto». Из этой небольшой поэмы явствует,
что «новый комический жанр» («tuo trovato adesso»), открытый
Рустико, сразу же получил во Флоренции широкое распростране-
ние ®. У Рустико ди Филиппо обнаружилось много последовате-
лей. Он создал своего рода школу. В конце XIII — начале
XIV в. в нее входили: сер Якопо да Леоне, сер Мино да Колле,
Монте Андреа, Никкола Муша, Чекко Анджольери, Якопо де’То-
ломеи, прозванный Зубастым, мессер Фино д’Ареццо, Иммануэль
Римский, Гверчо да Монтесанто, Гуальпертино да Кодерта, мес-
сер Бартоломео да Сант’Анджело, Парлантино да Фиренце,
Фольгоре да Сан Джиминьяно, Ченне далла Киттара д’Ареццо,
сер Пьетро де’Файтинелли, мессер Никколо дель Россо, сер Мари-
но Чекколи, сер Чекко Ник коли, Пьераччо Тедальди.
Из всей этой плеяды в нашем литературоведении иногда упо-
минаются лишь «итальянский Вийон» Чекко Анджольери и сам
Рустико. Делается это, как правило, мимоходом. Большой зна-
ток средневековой итальянской литературы И. Н. Голенищев-Ку-
тузов писал: «Кроме поэтов сладостного нового стиля, в Италии
XIII в. было немало сатирических поэтов-горожан, которые вы-
смеивали все, в том числе и высокие чувства. Несмотря на то что
многие представители сатирического направления происходили из
зажиточных слоев городского общества, они прибегали к выра-
жениям, почерпнутым из простонародного языка. Их образы раз-
рушали систему штампов, свойственных Гвиттоне д’Ареццо.
Сатирические поэты Тосканы в значительной мере подготови-
ли итальянскую новеллу. В их языке встречаются черты, кото-
рые — если не бояться анахронизма — можно было бы назвать
«натуралистическими». Иногда они откровенно циничны и не-
пристойны. Наиболее значительными представителями сатириче-
ской поэзии были Рустико Филиппо и Чекко Анджольери»7.
Обо многом здесь сказано приблизительно и даже неточно.
Анахронизмов бояться и следует и не следует. О роли натура-
лизма в общей художественной и мировоззренческой системе
готики говорил еще М. Дворжак. Однако понятие о пристойном —
особенно в комическом тексте или контексте — всегда историче-
ски относительно. Определение комической поэзии средневековья
как сатирической по преимуществу тоже не представляется слиш-
* Brunetto Latini II Favoletto.— In: Poemetti allegorico-didattici del sec. XIII /
A cura di Di Benedetto. Bari, 1941, p. 92.
7 Голенищев-Кутузов И. И. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971,
с. 290.
Комическое в поэзии позднего средневековья
109
ком удачным. Комические поэты позднего средневековья нередко
прибегали к сатире, особенно когда им приходилось вступать на
почву политики, но сатира не характеризовала ни эстетическое,
ни идеологическое своеобразие их поэзии. Распространение на
комическую литературу средних веков тех представлений об
очищающей общество и исправляющей человека сатире, которые
сложились в западноевропейской эстетике XIX в., не признавав-
шей за «животным смехом» собственно художественной и идей-
ной ценности, неизбежно вело к модернизации литературы Про-
торенессанса, а также к серьезному искажению ее исторического
развития. Стилистические и фразеологические «штампы» город-
ской, нравственно-дидактической поэзии Гвиттоне д’Ареццо были
сломаны не столько низменно-веселой, комической поэзией шко-
лы Рустико, в значительной мере развившей так называемые реа-
листические завоевания гвиттонианцев, сколько возвышенно-тра-
гической поэзией школы флорентинских «стильновистов». Школы
эти возникли одновременно и развивались они почти параллель-
но. Взаимоотношения между ними были достаточно сложными.
Последователи Рустико пародировали выспренный слог Гвини-
целли и Кавальканти, но они вовсе не высмеивали вдохновлявшие
«стильновистов» высокие чувства. Чувства эти, особенно в том,
что имело отношение к богу и сфере трансцендентных ценностей,
могли ими и разделяться. Это было одной из причин, почему они
сознательно не впускали их в поэзию собственного, комического
жанра. Пародия далеко не всегда предполагает полное отрицание
или хотя бы идеологическую критику пародируемого явления.
Как очень верно подметила О. М. Фрейденберг, античная и сред-
невековая пародия «была заложена не на шутке или подражании,
а на смежности с возвышенным» ’.
Неправильно предполагать, будто вульгарный язык комиче-
ских поэтов позднего средневековья был полностью тождествен
той плебейской речи, на которой судачили, сплетничали, кричали
и бранились рыночные торговки, завсегдатаи кабаков и обитате-
ли городских трущоб. В том, что среди комических поэтов италь-
янского Проторенессанса попадались не только «серы», но и
«мессеры», ничего парадоксального нет. Язык комической поэзии
средневековья был таким же особым поэтическим языком, как и
язык трагического «нового сладостного стиля» («стильновизма»).
Он был одним из компонентов общей литературной системы го-
тического стиля. Вослед Горацию Данте писал: «В том, о чем
случится говорить, надо сделать выбор и решить, воспевать ли
это слогом трагедии или комедии... Трагедией мы вводим более
высокий слог, комедией более низкий... Для того что оказывается
необходимым воспевать слогом трагедии, надо применять блиста-
• Фрейденберг О. М. Указ, соч., с. 493.
по
Р. И. Хлодовский
тельную народную речь и следовательно слагать канцону. А при
слоге комедии брать пошлую, а то и низкую речь» •.
Поэты позднего средневековья сознательно выбирали либо
один, либо другой слог и до Данте никогда не пытались соеди-
нить их в пределах одного произведения. Выбор этот никак не
был связан ни с их религиозно-философскими идеалами, ни тем
более с их социальным положением. Вот, к примеру, сонет, ти-
пичный для комической поэзии позднего средневековья:
Guata, Manetto, quella scrignituzza
e pon’ben mente com’e divisata
e com’e drittamente sfigurata
e quel che pare quand’ella s’agruzza 10.
Объектом комического в сонете оказывается физическое урод-
ство женщины. Поэт уверяет приятеля, что если тому доведется
увидеть эту горбунью разряженной и в сопровождении благо-
родной дамы, то он, если только не спасется бегством, несом-
ненно умрет, лопнув от смеха.
Автор этого комического сонета серьезный, возвышенный «тра-
гический» Гвидо Кавальканти, который даже для Боккаччо был
образцом аристократического писателя-философа, сторонящегося
вульгарных развлечений «толпы».
А вот еще одно по-средневековому комическое стихотворение.
Поэт призывает громы и молнии на голову чем-то досадившей
ему старухи:
Volvol te levi, vecchia rabbiosa n.
И в этом сонете осмеянию подвергается физическое безобра-
зие старой женщины. Автор сонета уверяет, что старуха до сих
пор не умерла только потому, что ее тело вызовет отвращение
даже у коршунов и стервятников:
Ma tant’ hai tu sugose carne e dure,
che non si curano averti tra ma no:
perd rimane, e quest’e la cagione 12.
Этот антифеминистский и малогуманный гротеск принадле-
жит Гвидо Гвиницелли, создателю программной канцоны тоскан-
• Данте Алигьери. О народном красноречии, IT, IV, 5—6.— В кн.: Дайте
Алигьери. Малые произведения / Пер. Ф. А. Петровского. М., 1968, с. 292.
10 «Взгляни, Манетто, на эту горбунью и посмотри, как она расфуфырилась,
как она прямо-таки омерзительна, и на что это похоже, когда она...» ит. д.
11 Poeti del Duecento/A сига di G. Contini. Milano; Napoli, 1960, vol. 2, p. 566
(«Дьявол пусть унесет тебя, злая старуха...»).
12 Ibid., р. 480 («Но у тебя столь жесткая и пахучая плоть, что они не же-
лают к тебе прпкасаться,— вот причина того, что ты остаешься в жи-
вых»).
Комическое в поэзии позднего средневековья
111
ского стильновизма: «Любовь таится в благородном сердце» («А1
cor gen til repara sempre Ашоте»).
Примеров использования стильновистами тематики и лексики
комической поэзии можно было бы привести довольно много. Вы-
делив их, видный итальянский литературовед Луиджи Руссо при-
зывал отказаться от мнения, согласно которому Гвиницелли, Ка-
вальканти и их последователи во всем противостояли поэтам
«реалистическим» и комическим, образуя в итальянской проторе-
нессансной поэзии самостоятельную школу и направление. Он го-
ворил о стильновистах: «Эти печальные и томно вздыхающие по-
эты умели вдохновляться реалистическим, комическим, житейским
и обнаруживали такой вкус к гиперболизированному гротеску, ка-
ксй, казалось, можно было бы ожидать найти разве что у Чекко
Анджольери» 13 14.
Все это действительно так. Однако столь характерные для
творчества Л. Руссо попытки разрушить существующие историко-
литературные схемы в данном случае ни к чему не привели. Ис-
торики литературы по-прежнему говорят о школе нового сладост-
ного . стиля, обособляя ее как от предшествовавшей ей школы
Гвиттоне, так и от средневековых «реалистов». И для этого у
них имеются достаточно веские основания. То, что стильновисты
могли писать на языке комической поэзии, а комические поэты
демонстрировали искусство владения языком поэзии высокой и
трагической, свидетельствует не о том, что уже до Петрарки и
Боккаччо в литературе итальянского Проторенессанса было до-
стигнуто некое новое стилевое единство, и даже не о многогран-
ности творческих индивидуальностей Гвидо Гвиницелли, Гвидо
Кавальканти, Чекко Анджольери и т. д., а именно о том, что в
поэзии позднего средневековья существовало два поэтических язы-
ка — трагический и комический и что функции этих языков были
различны, хотя и не исключали друг друга.
Поэзия итальянского Проторенессанса по самой природе своей
дуалистична. В ней господствует трансцендентность, и вся она,
так же как средневековое религиозное миропонимание, разры-
вается между душой и телом, между Богом и Сатаной. Это мож-
но более или менее наглядно показать на примере основополож-
ника итальянской комической лирики Рустико ди Филиппо. Его
«Канцоньере» является довольно точной моделью позднесредневе-
ковой поэзии в ту пору, когда в ней еще только зарождаются
проторенессансные тенденции ,4.
13 Russo L. La letteratura «comico-realistica»..., p. 162.
14 Сонеты Рустико цитируются по изданию: Rustico di Filippo. Sonetti/
A cura di P. V. Mengaldo. Torino, 1971.
112
Р. И. Хлодовский
2
«Канцоньере» Рустико ди Филиппо резко делится на две рав-
ные части. Тридцать девять сонетов в нем написаны «высоким»
языком и стилем и тридцать девять — «низким», становящимся
с этого времени языком и стилем итальянской комической поэ-
зии. Разделение проведено предельно четко и проходит по всем
уровням вплоть до лексики и фонетики.
В комических сонетах Рустико употребляет слова: bellezza,
ricordare, vendetta, atare, al mio parer, в сонетах высокого стиля
им соответствуют слова: bieltate, membrare, vengianza, aiutare, al
mio parvento. В первых оц, говорит: dolce, lodare, farabbo, veri-
ta, во вторых — dolze, laudare, faraggio, veritate. Комическим Dio
и no соответствуют трагические Deo и non.
Совершенно очевидно, что такого рода различия никак не свя-
заны с личностью поэта, с его внутренним миром и творческой
индивидуальностью: это просто разные языки, употребляемые,
так сказать, в разных сферах или, вернее в разных мирах.
Двоемирие канцоньере Рустико ди Филиппо еще более отчет-
ливо выступает на уровне идейно-тематическом. Именно при со-
поставлении высоких и низких сонетов на этом уровне явствен-
нее всего выявляются типологические особенности комического
стиля как самого Рустико так и всей его школы, что в свою
очередь дает возможность установить связь литературно-эстети-
ческого двоемирия, стилевой «дихотомии» Рустикова канцоньере,
его «бифронтальности» и т. п. с дуализмом и трансцендентно-
стью позднесредневековой идеологии, мироощущения, социально-
го мышления и таким образом ввести эту типологию в границы
конкретного историко-литературного процесса.
Высокая, трагическая лирика Рустико ди Филиппо значитель-
но более традиционна, нежели его комическая поэзия. В ней он
выступает продолжателем поэтов сицилийской или сицило-тоскан-
ской школы и вместе с тем, как это на первый взгляд ни пара-
доксально, прямым предшественником эпигонов великих стильно-
вистов. Рустико сохраняет архаическую форму сонета, созданную
Якопо Нотарием (перекрестная рифма в катренах), но суживает
п вместе с тем концентрирует (почти что «интимизирует») те-
матику и образные средства торжественной и величаво-припод-
нятой куртуазной поэзии. Он сосредоточивается на печальности
неразделенной любви (doglia и languire — ключевые слова в его
любовной лирике трагического стиля) и, используя минимум тра-
диционных слов, образов и метафор, достигает впечатляющего
художественного эффекта. Отказ от чувств высокого полета обо-
рачивается в них чем-то вроде открытия новой изобразительности,
подкупающей видимостью искренности и как будто бы невыска-
занной глубины.
Комическое в поэзии позднего средневековья
113
Вот, к примеру, поэт, собираясь воспеть красоту своей дамы,
отказывается от этой задачи как бы из стыдливой скромности:
Perch’io non posso dir le grand’altezze
io non so se m’awen per gelosia,
ch’io non oso nomar le sue adornezze.
(XXXI, 12—14) 15 *
А вот он же старается скрыть свое чувство от посторонних
и, видимо, даже от близких друзей:
Ciasciin mi guarda in viso e fa dimando,
veggendomi cangiato lo visaggio:
ed io celo la doglia mia in parlando.
(XLIX, 9—11) «•
Но поэту не удается ни скрыть любовь, ни убежать от нее.
Она переполняет его. Она вошла в его сердце, в его внутренний
мир; от себя никуда не денешься:
...quando i’sono assai gito languendo
io trovo Amor che m’e dentro dal core.
(XLII, 7—8) 17 18
Грустная созерцательность серьезных сонетов Рустико осве-
щалась порой такой идущей изнутри ясностью, что некоторые
литературоведы (Т. Казани, Л. Руссо) склонны были даже ус-
матривать в них прямые предвестия гуманистической и индиви-
дуалистической лирики Франческо Петрарки.
В самом деле, взятый сам по себе, вне стилевой системы,
в которой он существует, великолепный тридцать пятый сонет с
его преднамеренно медлительным зачином звучит совсем по-пет-
рарковски:
Dovunque ео vo о vegno о volgo о giro,
a voi son, donna mia, tuttor davanti;
e s'eo con gli occhi altrove guardo о miro,
lo cor non v’e, poi ch’io faccio i sembianti.
E spesse volte si forte sospiro,
che par chef cor dal corpo mi si schianti;
allor piango e lamento, e non m’adiro,
ma li miei occhi bagno tutti quanti.
(XXXV, 1—8) “
15 «Не могу описать ее высокие достоинства — то ли от робости, то ли по-
тому, что не дерзаю говорить о ее красоте».
18 «Всякий, кто ни посмотрит на меня, спрашивает, почему я так изменил-
ся в лице. А я прячу скорбь за словами».
17 «...когда я, томясь, бегу подальше, то все равно нахожу Амура в своем
сердце».
18 «Куда бы я ни пошел или ни пришел, куда бы я ни посмотрел или ни
взглянул, всюду вижу вас, госпожа моя, пред собою; и если я устрем-
114
Р. И. Хлодовский
С другой стороны, у Рустико можно обнаружить столь люби-
мые Петраркой «кончетти», ту же самую игру со словами и со-
звучиями:
Cosi la репа, ch’ho mi mena e caccia,
che mi fa sofferir 1’Amore amaro,
e spesso il giorno il cor m’arde ed agghiaccia.
(XLII, 7—8) 19
Пожелай ныне кто-нибудь увязать Петрарку с Рустико ди
Филиппо, он мог бы отметить также и то, что сам поэт-гума-
нист, определяя свое место в литературном развитии Италии,
объявлял себя продолжателем, с одной стороны, позднего, эпигон-
ского стильновизма, а с другой — как бы перескакивая не только
через Данте, но и через Кавальканти и Гвиницелли — куртуаз-
ной лирики трубадуров, т. е. с той самой традицией, которую
во второй половине XIII в. развивали серьезные сонеты Русти-
ко 20.
Тем не менее непосредственность связи между сонетом «Do-
vunque ео vo...» и меланхолической лирикой Петрарки не более
чем иллюзия. И дело здесь даже не только в том, что установ-
ление такого рода связи привело бы к игнорированию очень зна-
чительного этапа в развитии итальянской литературы, без которо-
го становление ренессансного стиля Петрарки оказывается мисти-
чески загадочным, важнее другое: истинным новатором Рустико
ди Филиппо выступал не в серьезной, а как раз в комической
поэзии. Если в стилевом развитии европейской литературы суще-
ствует какая-то внутренняя логика, то во второй половине XIII в.
она требовала как религиозно-философского углубления куртуаз-
ных идеалов сицилийской школы (его осуществил стильновизм),
так и их комического отрицания. Без этого, видимо, Беатриче
никогда бы не смогла смениться Лаурой.
Комическая часть канцоньере Рустико ди Филиппо представ-
ляет собой красочную, но не очень приглядную изнанку его тра-
гической лирики. Сонету «Dovunque ео vo...» в ней соответствует
сонет «Dovunque vai, con teco porti il cesso...».
В этом сонете мы опять встречаемся с гротескно-уродливой
старухой, уже знакомой нам по стихотворениям Гвиницелли и
Кавальканти:
ляю взоры в другую сторону, сердце мое не там, хотя я и притворяюсь,
что это не так. Нередко я вздыхаю так сильно, что, кажется, сердце
вырвется из груди; тогда я плачу и жалуюсь, но вас не виню, несмотря
на то что обливаюсь слезами».
«Так мука меня влечет и гонит, ее испытывать меня вынуждает горь-
кая любовь, и не однажды на дню сердце мое пылает и леденеет».
20 См. в петрарковском «Канцоньере» сонет CCLXXXVII и канцону XXIII.
Комическое в поэзии позднего средневековья
115
Dovunque vai, con teco porti il cesso,
oi buggeressa vecchia puzzolente:
che qualunque persona ti sta presso,
si tura il naso e fugge inmantenente.
(XXI, 1—4)
В комическом мире Рустико ди Филиппо царит материально-
телесное начало, и он почти полностью лишен какой-либо духов-
ности, носителем которой в литературе и искусстве Возрождения
станет целостный земной человек, осознавший непреходящую цен-
ность своей индивидуальности. Это в комических сонетах — от
готики. «Не человек,— пишет Л. Пинский,— не целостная его
личность, но именно человеческое тело — любимый герой поэзии
Вийона. Это тело, в концепции готического поэта, живет как бы
независимой от самого человека, от его сознания жизнью, напо-
добие, если угодно, самостоятельных сеньорий и корпораций сред-
невекового государства» 21 22.
В мире готического комизма душно и смрадно. Мир этот на-
сыщен зловониями. Их источают люди и вещи. Подле сонета о
сводне с ночным горшком в руке в канцоньере Рустико распо-
ложен сонет о некоем Луттьери:
Ne’la stia mi par esser col leone,
quando a Luttieri son presso a migliaio,
che pute pin che ’nfermo uom di prigione
о che nessun carname о che carnaio.
(XX, 1—4) 2’
Сравнения прямо отсылают к фактам конкретной действи-
тельности средневековой Флоренции: запах клетки со львом (1о
stia col leone) в XIII в. был знаком каждому флорентинцу, ибо
львов в то время держали в городе в качестве живой эмблемы
прочности государственной власти. То же самое можно было бы
сказать о тюремных больных (’nfermo uom di prigione), которые
всегда находились в антисанитарных условиях, и об ямах (car-
naio) , куда сваливали трупы людей, умерших в больницах. В ко-
мических сонетах Рустико ди Филиппо перед нами то и дело воз-
никает средневековый город и средневековые флорентинцы во
всей их бытовой и повседневной неприглядности. Для комическо-
го стиля готики чрезвычайно характерен интерес к отдельной,
эмпирической детали. Однако мы очень ошиблись бы, предпо-
ложив у комического поэта Проторенессанса стремление к реа-
21 Пинский Л. Указ, соч., с. 21.
22 «Мне кажется, что я нахожусь-в клетке со львом, когда приближаюсь
на версту к Луттьери, ибо он воняет сильнее, чем больной в тюрьме, чем
тухлое мясо и чем больничная яма с покойниками».
116
Р. И. Хлодовский
диетическому или хотя бы натуралистическому воспроизведению
современной ему действительности. Мы не только ничего не узна-
ем о Луттьери и многих других «героях» сонетов Рустико (хотя у
всех этих «героев» были реальные прототипы), но нам трудно
представить, что они вообще когда-либо существовали. И это объ-
ясняется вовсе не тем, что Рустико-комик преднамеренно обра-
щался к изображению мелких, незначительных, «не историче-
ских» личностей. Объясняется это другим — тем, как он изобра-
жал героев своей «комедии», его стилем, его методом, а следова-
тельно, и его нравственно-эстетическим отношением к действи-
тельности.
Так же как в наиболее спиритуалистических канцонах «Но-
вой жизни», в комических сонетах Рустико ди Филиппо преобла-
дают формы презенса 23 24. Однако если у Данте Любовь — это путь
к вечности, то у Рустико — там, где он пользуется комическим
стилем, земная жизнь берется в ее сиюминутности. В мире сред-
невековой комической поэзии жизнь еще не знает ни истории,
ни какого-либо движения во времени или, как говорят ныне не-
которые литературоведы и историки, движения по горизонтали.
Почти все комические персонажи Рустико мертвенно статичны.
Это не люди, а смешные, но и страшные куклы; это — карика-
туры на людей:
Un bestiuola ho vista molto fera,
armata forte d’una nuova guerra,
a cui risiede si la cervelliera,
che del legnaggio per di Salinguerra.
Laida la cera e periglioso ha ’1 piglio,
e burfa spesso a guisa di leone;
torrebbe ’1 tinto a cui desse di piglio.
(XIII, 1—4, 9^11) “
Сравнение «свирепой зверушки» co львом в данном случае
носит явно иронический характер, так же как и указание на ее
мнимую принадлежность к храброму гибеллинскому роду Салин-
гуэрра. Это обычная насмешка. Однако уподобление высмеивае-
мого человека животному существенно и для карикатур Рустико
весьма типично. Это тоже типологическая черта, характеризую-
щая стиль. Именно такие карикатуры получались у Рустико осо-
23 Marti М. Cultura е stile nei poeti giocosi del tempo di Dante. Pisa, 1954,
p. 58.
24 «Я видел очень свирепую зверушку, всю покрытую необычным оружи-
ем; на ней так был нахлобучен шлем, что казалось, будто она из рода Са-
лингуэрра... У нее злая морда и угрожающий взгляд, и часто рычит
она, словно лев; кто тронет ее, побледнеет [от страха]».
Комическое в поэзии позднего средневековья
117
бенно хорошо. Сошлемся на один из лучших его сонетов, став-
ших теперь почти что хрестоматийным:
Quando Dio messer Messerin fece,
ben si credette far gran maraviglia:
ch’uccello e bestia ne sodisfece,
ch’a ciascheduna natura s'appiglia.
(XIV, 1—4) 25
После этого разъясняется, в чем именно мессер Мессерин
причастен природе жирафа, ворона, скотины (XIV, 5—6, 9—10).
Что же до природы человека, то
ed uomo ё somigliato al vestimento.
(XIV, 11) *•
Перед нами великолепный образец комического гротеска, столь
характерного для готики позднего средневековья. То же самое мы
встретим у Франсуа Вийона. Л. Пинский пишет: «Человек —
тело, нецивилизованная плоть, охваченная лишь инстинктивным
желанием жить, полуживотное. С наивной непринужденностью,
обычной для готики, Вийон охотно сравнивает себя с животным,
он — „бедный, съежившийся в уголке пес" („Спор Сердца и
Тела Вийона"). „И ты, туловище, грязное, как медведь или ка-
бан, залегший в трясине" („Баллада-восхваление Парижского
суда“). Взывая из тюремной ямы, он умоляет друзей взять при-
мер у свиней: „заслышав визг поросенка, они толпой сбегаются
к нему на помощь"» 25 * 27.
Тут подмечена важная особенность. Однако вряд ли можно
полностью принять точку зрения Л. Пинского на мировоззрен-
ческую подоплеку описанного им явления. Мне не кажется, что
образ тела в позднесредневековой готической поэзии столь уж
тесно «связан с народно-языческим гилозоизмом — первобытными
поэтическими представлениями об одушевленности всего суще-
го» 28. Во всяком случае в комических сонетах Рустико одухотво-
ренность отсутствует. Их мир — это мир без бога или, точнее,
вне бога. Мессер Мессерин — шутка и причуда творца. Бог со-
здал его, дабы доказать безграничность своего всемогущества:
он может создавать людей и не по собственному образу и по-
добию.
25 «Когда Бог создавал мессера Мессерина, он намеревался явить великое
чудо: не обездолил он пи птицу, ни зверя, ибо мессер прилепился к при-
роде их обоих».
2в «А на человека похож одеждой».
27 Пинский Л. Указ, соч., с. 23.
2а Там же, с. 22.
118
Р. И. Хлодовский
Quando Dio il fece, poco avea che fare,
ma voile dimostrare lo suo potere,
si stranna cosa fare ebbe in talento.
(XIV, 12—14) 2«
Созданный богом гротеск тяготеет, однако, не к богу, а к дьяволу.
Рустико ди Филиппо изображал современную ему действи-
тельность во всей ее пошлости, поверхностности и сиюминутности
вовсе не потому, что он видел в пошлости истинную сущность
действительности. Совсем наоборот: он изображал пошлость по-
вседневной жизни, дабы обнаружить ее неистинность, дабы по-
казать ее связь с низменными сферами негативных, так сказать,
отрицательно заряженных ценностей. Рустико использовал в сво-
их комических сонетах пошлый слог и тривиальные выражения
для комического отрицания земной, материальной действительно-
сти, которая для него, как и для большинства писателей сред-
невековья, не обладала подлинной реальностью и, следовательно,
не заслуживала идеологически серьезного к себе отношения. Если
в комической части его канцоньере почти не заметно движения
по горизонтали, то пресловутая готическая вертикаль выявлена
в ней очень отчетливо.
Вернемся к сонету о старухе. Он написан, но-видимому, до
аналогичного сонета Гвидо Гвиницелли, но обладает большей вы-
разительностью. Рустико концентрирует внимание на вони, исто-
чаемой старухой, и, сгущая краски, гиперболизируя, создает чув-
ственно отталкивающую и именно поэтому впечатляющую карти-
ну. В первом терцете ночной горшок превращается у него в
тысячу смердящих могил:
...par che s’apran mille monimenta
quand’ apri il ceffo...
(XXI, 9—10) *
У Гвиницелли стервятники не прикасаются к останкам умер-
шей старухи, потому что ее бренная плоть даже для них слиш-
ком черства и жестка. У Рустико от живой старухи исходит
тлетворное зловоние смерти. Образ у него отвратительнее, страш-
нее, но в чем-то гораздо конкретнее. Его старуха не просто
старая вонючка, это — сводня (buggeressa vecchia).
Вместе с тем образ старухи подается у Рустико еще более
сниженным. В комическом сонете Гвидо Гвиницелли все-таки
чувствуется столь характерное для стильновизма и не до конца
здесь преодоленное движение вверх — от земли к небу. «Volvol
29 «Бог создал его от нечего делать, только чтобы показать свою силу —
что он сумеет сделать и такую странную штуку».
30 «...кажется, разверзается сотня могил, когда ты разеваешь пасть...»
Комическое в поэзии позднего средневековья
119
ti levi, vecchia rabiosa»,— говорит Гвиницелли. В конце сонета
он смотрит на старуху как бы с высоты птичьего полета. У Рустико
же подчеркнуто только движение вниз. Его старуха находится
много ниже уровня и обыденной реальности, и элементарной че-
ловечности. От безобразной сводни с отвращением и страхом от-
шатываются люди не только из-за того, что от нее смердит, но и
потому, что в ней есть что-то скотское, зверское и звериное.
У нее не рот, а пасть (il ceffo); она воняет, потому что в ее
теле, кажется, засела лисица; и весь комический эффект заклю-
чающего сонет терцета связан с гротеском несколько неожидан-
ного превращения лисообразной сводни в мерзкую кобылу:
Рего che tutto ’1 mondo ti paventa;
in corpo credo figlinti le volpe,
tai lezzo n’esce fuor, sozza giomenta.
(XXI, 12—14) 31
Образ уродливой старухи — традиционен. Он постоянно встре-
чается в фольклоре, где старость и безобразие нередко оказыва-
ются характерными признаками ведьмы, бабы-яги, злой колду-
ньи, связанных с инфернальным миром, и мы не раз еще обнару-
жим его в прозе барокко, в которой рустикова сводня обретет
свою дальнейшую и в чем-то новую жизнь.
Однако к вопросу о литературных традициях позднесредне-
вековой комической поэзии мы обратимся в дальнейшем. Сейчас
же мне хотелось показать не столько традиционность сюжета
безобразной старости, сколько своеобразие его разработки. В кан-
цоньере Рустико ди Филиппо сонет о сводне не лучший, но он
дает достаточно точное представление как о мере его комичности,
так и о главной направленности средневекового комического
стиля.
В комических сонетах Рустико материально-телесная сти-
хия — ив этом коренное отличие готики от ренессанса — почти
всегда лежит гораздо ниже уровня земного, плотского человека,
сохраняющего связь с богом и заключающего в себе божествен-
ное начало. Динамика их предвозрожденческого комизма яснее
всего выявляется в трактовке центральной почти для всякой ли-
рики темы — темы любви. В комическом мире любовь, как пра-
вило, облекается в форму скотской похоти. Недоступная возлюб-
ленная «серьезного» Рустико оказывается вдруг податливой лю-
бовницей, и ее теперь характеризуют уже не слова alma (душа)
и core (сердце), а словечко cul (задница). Если в «серьезной»
части «Канцоньере» Рустико ди Филиппо звучат только печаль-
ные жалобы на неразделенность высокодуховного чувства, то в
31 «Все тебя пугаются; в твоем теле, верно, засела лисица, такое от тебя
исходит зловонье, грязная кобыла».
120
Р. И. Хлодовский
его сонетах комического стиля, наоборот, выставляется напоказ
блудливость дамы, именуемой теперь просто «девкой» (XXVI,
2—4).
Метафоры этого сонета комически экспрессивны, хотя и, с на-
шей точки зрения, пожалуй, непристойны. Такой же экспрессив-
ностью обладает и сразу же следующий за этим сонет, тоже
«неприличный», но художественно очень выразительный и у Ру-
стико один из самых удачных (XXVII, 1—8).
Второй, эротический смысл его метафор более чем очевиден.
Тем не менее в данном случае мы имеем дело не с порногра-
фией и не грязновато-шуточной поэзией, не могущей обойтись
без внелитературного словаря, а с подлинным, хотя и истори-
чески чуждым нам комизмом, достигаемым не только метафори-
зацией, но и в еще большей мере подчеркнутой гиперболизацией
чувственной любви.
Тем не менее никакой «амбивалентности» тут нет. Точно так
же, как нет и цинизма. Движение в сторону «материально-те-
лесного низа» (термин М. М. Бахтина) в пределах той стилевой
системы, которой придерживается Рустико, почти что абсолютно.
Это спуск в ад. Гиперболы выводят сонет за пределы обыден-
ной реальности, придают ему своего рода «сюрреалистичность»,
позволяющую воспринимать его «непристойности» эстетически —
как проявления исторически-конкретной поэтической системы,
в которой комическое теснейшим образом связано с метафизи-
кой и с религиозно-онтологическими концепциями бытия 32. Луид-
жи Руссо был совершенно прав, когда он называл Рустико ди
Филиппо моралистом и утверждал: «При всех ее различиях, поэ-
зия его всегда обладает прочным единством» 33. Двух Рустико не
существует. Внутреннее единство его, казалось бы, столь разно-
планового канцоньере обеспечивается единством по-средневеково-
му дуалистического миропонимания и целостностью системы двух
лишь внешне противоположных друг другу стилей.
Сонеты Рустико предвосхищали не столько «Rerum vulgarium
fragmenta» Петрарки, сколько «Комедию» Данте Алигьери.
3
Такого рода выводы подтверждаются анализом лирики Чекко
Анджольери, Пьетро де’Файтинелли, Пьераччо Тедальди, Муша
да Сьена и многих других позднесредневековых комических поэ-
тов вплоть до Франсуа Вийона, о котором Л. Пинский писал в
уже цитировавшейся статье:
32 О религиозно-этической основе средневековой комической поэзии см.:
Basso L. La letteratura «comico-realistica»..., p. 165.
39 Ibid., p. 174
Кдмическое в поэзии позднего средневековья
121
«На ассоциациях и полисемии слов основаны двусмысленно-
сти его „завещаний". Чаще всего комические ассоциации рас-
считаны на чувственное воображение читателя и предметом своим
имеют нужды тела. Скатологический (связанный с физиологиче-
скими отправлениями) и в особенности эротический юмор — из-
любленные в народно-готическом искусстве!— для Вийона самые
естественные, самые забавные виды комического» 34 35 36.
Такого рода ассоциации можно найти и у Данте, обративше-
гося сразу после «Новой жизни» к языку и стилю комических
поэтов Тосканы. В первом же сонете его тенцоны о Форезе До-
нати читаем (речь идет о жене Форезе):
Di mezzo agosto la truovi innfredata
or sappi che de’far d’ogni altro mese!
E non le val perche dorm a calzata,
merze del copertoi c’ha cortonese.
(26, 5—8) 33 .
Жена Форезе мерзнет в середине ^августа, т. е. в самое жар-
кое время года в Италии, и это несмотря на то, что она плотно
закуталась (donna calzata) в одеяло, сделанное в местечке Кор-
тона, славящемся своей шерстью. Насмешливо-эротический под-
текст сонета заключен в слове «cortonese», семантически ассоци-
ирующемся с прилагательным «corto» («короткий»),— комический
прием, встречающийся во все времена и у всех народов. Данте,
шутливо понося приятеля, упрекает того в невыполнении супру--
жеских обязанностей (26, 10—11).
Обратимся, однако, непосредственно к поэтам школы Русти-
ко. Их комическая поэзия содержит аспекты, существенно допол-
няющие готическую лирику Франсуа Вийона. Несмотря на то что
лирика Вийона, казалось бы, старше по времени, именно в поэ-
зии Чекко Анджольери, Пьетро де’Файтинелли, Пьераччо Тедаль-
ди и особенно Фольгоре да Сан Джиминьяно яснее всего видны
прорывы в Ренессанс. Данте ни разу не упомянул о Рустико,
но он тоже прошел через его школу. Это чувствуется в выше
цитированном стихотворении. Н. Дзингарелли был прав, связав
жену Форезе, которая кашляет в августе, с Гиго, комическим
монстром Рустико ди Филиппозв. В посвященном Гито сонете
Рустико спрашивает у некоего Чербиолино:
34 Пинский Л. Указ, соч., с. 33.
35 Dante Alighieri. Rime/А сига di G. Contini. Torino, 1946 (рус. пер.: Дан-
те Алигьери. Малые произведения, с. 66—67. Но перевод этот не вполне
точен и не передает комической полисемии текста).
36 Zingarelli N. Dante. Milano, s. d.
122
Р. И. Хлодовский
Non vedi che di mezzo luglio tosse,
e 1 guarnel tien di sotto foderato?
(XV III, 5—6) з’
Впрочем, комическая поэзия вливалась в Ренессанс, не только
переплескиваясь через Данте, но и в обход него. Это был мощ-
ный поток.
Почти у всех комических поэтов Тосканы мы обнаруживаем
такое же, как у Рустико, смеховое снижение любви до физиоло-
гии, а затем ее полную аннигиляцию с помощью гипербол, фор-
сирующих движение к материально-телесному низу. Беккина Чек-
ко Анджольери, эта, как ее часто называют, «Анти-Беатриче»
тосканской поэзии конца XIII в, не только соглашается удов-
летворить чувственную страсть поэта, но и заявляет об этом с ха-
рактерной комической радостью:
Сессо, I’umilila tua m’ha si rimossa,
che giamma’ ben ne gioia ’1 mie cor sente
se di te nove mesi non vo grossa.
(Cecco Angiolieri, XLIV, 12—14) 88
Перипетии гротескно-комического «романа» Чекко и Беккины
более или менее известны. Я не стану на них останавливаться.
Для раскрытия заявленной темы важнее другое: вульгарная чув-
ственность капризной Беккины не является у Чекко Анджольери
крайним пределом низменной любви. Он спускается еще ниже,
переступает — подобно Рустико — границы человечности, реаль-
ности и естественности и обращается к комическому изображе-
нию противоестественной страсти. В конце его канцоньере Бек-
кину заменяет некий сер Корсо. Это он заставляет Чекко не про-
сто страдать от ревности, а «непрестанно реветь медведем или
мычать, как бык» («Е facciavi mugghiare a tutte Гоге del gior-
no, come mugghia bue ed orso», CXXIII, 5—6) se.
Мы очень ошиблись бы, предположив, будто в данном случае
имеем дело с декадентской поэтизацией гомосексуализма. Воз-
можно, содомия и была в средневековых городах явлением обыч-
ным, но — скажем об этом еще раз — средневековая комическая
поэзия, как правило, не давала реалистического, зеркального, не
искаженного отражения обыденной действительности. Это было ее
принципом. В своих содомитских сонетах и Муша, и Чекко при-
37 «Не видишь, что он кашляет посреди июля и носит подбитый [шерстью]
халат?»
38 «Чекко, твое смирение меня до того переменило, что сердце мое не уз-
нает радости, пока я девять месяцев не прохожу от тебя беремен-
ной».
39 Та же тема — в сонете Муша да Сьены: «Giugiale di queresima a 1’usci-
ta...».
Комическое в поэзии позднего средневековья
123
бегают к формам и оборотам куртуазной лирики для высмеива-
ния и комического снижения естественной земной любви, во имя
полной дискредитации-ее духовности и человечности. Они следу-
ют тут традиции, восходящей к основателю их школы. Старая,
безобразная старуха Рустико не просто сводня: buggeressa vec-
chia — это сводня, к услугам которой прибегали педерасты.
Чисто комические преувеличения и гротесковость особенно на-
глядно проступают в сонете Чекко. Поэт так запутывается в кур-
туазных оборотах, что у читателя возникает подозрение, будто
он пылает страстью не только к серу Корсо, но и к своему
счастливому сопернику:
Е se non fosse ch’i’non son lasciato,
si mal direi, e vie piu fieramente
al vostro gaio compagno e awenente
che di belezze avanza ogni uom nato;
ma si mi stringe 1’amor infiammato,
che verso lui ho sparato per la mente
(СXXII I, 9—14)
Это — не синтаксическая ошибка: это комический гротеск, по-
строенный с помощью синтаксической двусмысленности.
В связи с содомитскими сонетами следует обратить внимание
также и еще на одну немаловажную деталь. В фольклоре и во
всей восходящей к средним векам литературе противоестествен-
ная любовь является таким же характерным признаком инфер-
нальности, как и отталкивающе-безобразная старость. Последо-
вательное снижение любви от подчеркнуто вульгарной страсти
к Беккине до содомии является, таким образом, форсированным
движением вниз, спуском в глубь ада. По мере того, как в вы-
сокой и трагической поэзии стильновизма женщина все дальше и
дальше удаляется от земли и, как говорил И. Н. Голенищев-
Кутузов, «ангелизируется» *°, в комической поэзии она все боль-
ше и больше отождествляется с чертом.
Внутристилевую оппозицию известному дантовскому сонету
«Tanto gentile...» («Vita nuova», XXVI) представляет сонет Пьетро
де’Файтинелли:
In buon verita non m’e awiso,
awenga ch’ello piaccia a la Scrittura
che femmena pur veggia il Paradiso,
non che v’appressi a far dentro calura;
40 Голенищев-Кутузов И. H. Данте и «сладостный новый стиль».— В кн.:
Данте и всемирная литература / Под ред. Н. И. Балашова, И. Н. Голени-
щева-Кутузова, А. Д. Михайлова. М., 1967, с. 68—69.
124
Р. И. Хлодовский
пё che Dio padre li formasse ’1 viso
a somiglianza de la sua figura:
anzi fu, per sacramento presiso,
la femmena diabolica fattura.
(11,1—8) 41
Обычно здесь говорят о пародии. И это справедливо. Нака-
пуне эпохи Возрождения комическая поэзия в Италии, действи-
тельно, пародировала трагику стильновизма. Однако пародирова-
ла она ее совсем не так, как нынешние пародисты пародируют
своих предшественников и современников. Ее смех глубок, а глав-
ное, содержателен. Отрицая, он утверждал те же самые нравст-
венные, религиозные и идеологические ценности, которые отстаи-
вали Гвиницелли, Кавальканти и автор «Новой жизни». Рустико
ди Филиппо поделил свой канцоньере на две равные части вовсе
не потому, что ему вздумалось поиздеваться над самим собой.
Кроме того, надо иметь в виду, что он и Гвидо Гвиницелли,
основавший школу трагической поэзии нового сладостного стиля,
были одногодками. В допущении, что пародия на стильновизм
могла появиться раньше, чем стильновизм сформировался в осо-
бое направление, нет ничего невероятного. Оно вытекает из из-
вечной сути пародии. «Комизм,— утверждала О. М. Фрейден-
берг,— сопутствие трагизма. Пародия — тот же священный при-
зыв, та же песнь псалма или пэана. Дело лишь в наличии или
отсутствии „существа1*... Единство двух основ, трагической и ко-
мической, абсолютная общность этих двух форм мышленья,— а от-
сюда и слова и литературного произведения,— внутренняя тож-
дественность — вот природа всякой пародии в чистом ее виде.
Это есть природа не только древней комедии, древнего литера-
турного слуги, древнего религиозного обряда: это есть идея
всякой маски и всякого двойника... В пародии лежит не маски-
рование в нашем современном понятии и не отсутствие, как ка-
жется, содержания: в ней лежит усиление содержания, усиление
природы богов, и смеется она не над ними, а только над нами,
и так удачно, что до сих пор мы принимаем ее за комедию,
имитацию или сатиру» 42.
Та симметрия «высокого» и «низкого», трагического и коми-
ческого, пародируемого и пародии, которая создавала внутрен-
нюю структуру канцоньере Рустико ди Филиппо, не была повто-
рена ни одним из его последователей. И это — закономерно.
41 «По правде, я не думаю,— пусть то и угодно Писанию,— чтобы женщи-
на, хотя она и увидит рай, могла бы приблизиться к нему настолько,
чтобы он согрел ее своим теплом, а также, что Бог-отец сотворил ее лицо
по своему подобию; напротив, по священному соизволению женщина по-
лучила дьявольское обличье».
42 Фрейденберг О. М. Указ, соч., с. 496—497.
Комическое в поэзии позднего средневековья
Ш
Именно потому, что структура Рустикова канцоньере отражала
существенные особенности позднесредневековой идеологии, она
развивалась, а развиваясь, разрасталась, ломала рамки книги сти-
хов и превращалась из структуры лирики единичного поэта в
структуру всей позднесредневековой поэзии, в целостность си-
стемы ее стилей.
Одной из типологических черт культуры итальянского Про-
торенессанса является центробежность сил, образующих ее идео-
логическое поле. Расширение функций светской литературы не
сопровождалось накануне эпохи Возрождения соответственной се-
куляризацией общественного сознания. По мере приближения эпо-
хи Возрождения религиозно-аскетические тенденции в культуре
итальянских городов не только не затухают, но, наоборот, уси-
ливаются, хотя и принимают в это время внецерковные и даже
антицерковные формы (радикальное францисканство, «фратичел-
ли», Якопоне да Тоди и т. п.). В светской литературе, вби-
рающей в себя религиозно-этические идеалы времени, происхо-
дит в это время своего рода разделение труда. Подле поэзии,
специализирующейся на низменном и комическом, появляется
поэзия, специализирующаяся на возвьйпенном и трагическом. Тео-
рия этой последней дана в незаконченном трактате Данте «О на-
родном красноречии», а ее практику представляет стильновизм,
в котором происходит дальнейшая — по сравнению с трубадура-
ми, «сицилийцами» и Гвиттоне д’Ареццо — спириту ализация вы-
сокой любви к прекрасной даме. Для стильновизма характерно
еще более резко выраженное движение вверх, от земли к небу,
от эмпирически конкретного и материального к высшим и абсо-
лютным духовным ценностям, от человека к трансцендентному
богу, мыслимому существующим вне человека, за пределами ко-
нечной земной действительности. Поэты трагического стиля та-
ким образом тоже отталкивали от себя повседневность быта и
последовательно преодолевали субъективность (а следовательно,
и единичность, в известной мере случайность и преходящесть)
лирических переживаний, Поэтому, так же как и поэтам коми-
ческого стиля, им часто приходилось прибегать к «сюрреалисти-
ческим» преувеличениям. Отметив, что во втором стихотворном
цикле «Новой жизни» страдания влюбленного «изображены в
очень гиперболической форме», Н. Г. Елина замечает: «Этот ги-
перболизм, т. е. идеализация, свойственная поэзии Данте, про-
тиворечит тенденции к созданию субъективной лирики, которая
была у Кавальканти, и вместе с тем является характерной, т. е.
индивидуальной, чертой дантовской поэзии» 43.
43 Елина Н. Г. Поэзия «Новой жизни».— В кн.: Дантовские чтения. 1971 /
Под общей ред. И. Белзы. М.. 1971, с. 88—89.
126
Р. И. Хлодовский
Но ведь «Новая жизнь» — это и есть наиболее совершенное
проявление стильновизма, в котором трагический стиль поздне-
средневековой поэзии раскрылся во всей своей полноте. Поэтому
индивидуальная черта ее автора является одновременно и типо-
логической чертой школы, рассматриваемой в динамике ее внут-
реннего развития.
На гиперболах строилась высшая гармония. Внешним прояв-
лением ее была «сладостность» стиля, а основой — взаимоотно-
шения между человеком и богом в сфере трансцендентного бы-
тия, находящегося бесконечно выше уровня земной действитель-
ности. Тщательно проанализировав одиннадцатый сонет «Новой
жизни» — «Ne li occhi porta la mia donna Ашоге», H. Г. Елина
пришла к выводу: «Сочетание человеческого и божественного,
гармония между влюбленным «я» и миром достигнута. Эта гар-
мония и в самой поэтической форме, которая стремится пере-
дать не неподвижность царицы небесной, а движение,— жизнь
духовной человеческой красоты. В сонете нет известных нам тра-
диционных эпитетов и ставших условными метафор, придающих,
как торжественное облачение, скованность фигуре. Уменьшилось
количество прилагательных и, по сравнению с сонетами Гвини-
целли и Кавальканти, возросло количество глаголов, преимуще-
ственно в настоящем времени» *4.
Лирика нового сладостного стиля изучена в нашем литера-
туроведении хорошо и достаточно всесторонне. Я останавливаюсь
на некоторых ее чертах только потому, что без них многое в
комичности средневековой поэзии становится малопонятным. Ко-
мическую поэзию итальянского Проторенессанса невозможно обо-
собить от поэзии трагической, а тем более социологически про-
тивопоставлять ей в качестве поэзии «народной», «демократиче-
ской», «реалистической» и т. п. Несмотря на то что комическая
и трагическая поэзия ориентировались, по-видимому, на различ-
ные социальные слои средневекового города, обе они имели одно
и то же мировоззренческое, идеологическое ядро и образовывали
единую литературно-эстетическую целостность, единую стилевую
систему, историческая жизпь которой обусловливалась, в частно-
сти, и тем, что стремительное движение вверх, характерное для
стильновизма, уравновешивалось не менее стремительным движе-
нием вниз, типичным для лирики комического стиля.
Поэты нового сладостного стиля, при всей их тенденции к
субъективности, никогда не идеализировали внутренний мир ре-
альной человеческой личности (реального Гвиницелли, Каваль-
канти, Данте и т. д.), беря человека в его абсолютной объек-
тивности, всеобщности и абстрактности. Гуманистический инди-
видуализм Возрождения проторенессанспому стильновизму был
44 Там же, с. 115.
Комическое в поэзии позднего средневековья
127
еще абсолютно чужд. Как замечает Джанфранко Контини, «даже
когда обычное содержание стильновистской лирики составляет
любовный эпизод, тщательно проанализированный, а затем ипо-
статизированный в своих элементах, этот анализ не может быть
отнесен к эмпирическому индивиду: минуя событие, давшее ему
начало, он относится к универсальному образцу человека, к инди-
виду также объективному и абсолютному» 45.
Вот почему, если и можно говорить о реализме в поздне-
средневековой поэзии, то лишь в специфически средневековом
смысле, т. е. о реализме философско-схоластическом, противо-
положностью которого был номинализм. Это в равной мере отно-
сится и к трагической и к комической поэзии. Обе они, как это
показано в дантовском трактате о поэтике, исходили из одной и
той же религиозно-метафизической концепции человека. «Следует
знать,— говорил Данте,— что, поскольку человек одушевлен троя-
ко, а именно душой растительной, животной и разумной, он идет
и тройным путем. Ибо, поскольку он растет, он ищет пользы,
в чем он объединен с растениями; поскольку он живое сущест-
во — удовольствия, в чем он объедицен с животными; поскольку
он существо разумное, он ищет совершенства, в чем он одинок
или же объединяется с существом ангельским» 46.
И Гвиницелли, и Рустико трактовали человека по сути оди-
наково. Но обращались они к разным сторонам его всеобщности.
Если стильновисты отрицали земного человека, односторонне спи-
ритуализируя его «разумное начало», то комические поэты осмеи-
вали путь всякой плоти, следуя по которому человек превраща-
ется в скотину и делается добычей сатаны. Именно поэтому вряд
ли правомерно говорить об их эпикурействе. Так называемый ге-
донизм средневековой комической поэзии был проявлением не
наслаждения земной действительностью, а отрицания ее разум-
ности.
Радости жизни, восхваляемые комическими поэтами, были
подчеркнуто мизерны:
Тге cose solamente mi so’in grado,
le quali posso non ben ben fornire:
cio e la donna, la taverna e ’1 dado;
questo mi fanno ’1 cor lieto sentire.
(Cecco, XCIX, 7—4) 47
45 Contini G. Introduzione.— In: Dante Alighieri. Rime, p. 14.
46 Данте Алигьери. Малые произведения, с. 289—290.
47 «Три вещи только мне приятны, которыми я никогда не могу пресытить-
ся: женщина, кабак и игральные кости; они наполняют мое сердце ра-
достью».
128
Р. И. Хлодовский
i
Почти о том же говорил Иммануэль Римский. Смысл сущест-
вования сводился для него к тому, чтобы хорошо поесть, напить-
ся и беспрепятственно предаться блуду. О себе он писал:
mal giudeo sono io, non saraclno:
ver’li cristiani non drizzo la proda.
Ma d’ogni legge so’ ben desiroso
alcun parte voter osservare:
de’cristiani lo bever e ’1 mangiare,
e del bon Moises poco digiunare
e la lussuria di Macon prezioso:
che non ten fe de la cintura in gioso.
(II, 7—17) 48
Освобождение от нравственных догм трех главных религий
средневековой Европы в какой-то мере помогло Иммануэлю Рим-
скому по-новому взглянуть на некоторые стороны земной дейст-
вительности и написать один из лучших комических сонетов о
чисто земной природе любви («Ашог non lesse mai 1’avemaria:
Amor non tenne mai legge ne fede...»). Однако религиозный ин-
дифферентизм этого «плохого иудея» для комического стиля
итальянского Проторенессанса в целом не показателен. Поэзия
этого стиля осмеивала, обесценивала и отвергала материальный
мир с позиций если не официальной церкви, то во всяком случае
религиозно-аскетической идеологии. Именно поэтому для нее был
так характерен антифеминизм, и именно поэтому ее смех звучал
скорее жестоко, чем радостно. Почти все последователи Рустико
жаловались на меланхолию. «La mia balia fu malinconia»,— при-
знается Чекко Анджольери (XCI, 4); «La mia malinconia e tanta
e tale...» (XII). Ему вторит Meo де’Толомеи:
Caro mi costa la malinconia,
che, per fuggirla, son renduto a fare
1’arte disgraziata de I’usurare
la qual consuma la persona mia 49.
Служение земной действительности греховно и съедает чело-
века. В комической поэзии итальянского Проторенессанса господ-
48 «...и плохой иудей и не сарацин, и не направляюсь к христианскому
брегу. Но я весьма расположен соблюдать некоторые предписания всех
трех законов: христианского — о питье и еде, доброго Моисея — о ред-
ких постах, драгоценнейшего Макона (т. е. Магомета) — о распутстве,
ибо оп дает мало веры ремню от штанов».
49 «Дорого стоит мне грусть, ибо, дабы убежать от нее, я вынужден был
заняться злосчастным ремеслом ростовщичества, которое съедает мою
личность». Цит. по: Poeti giocosi del tempo di Dante. В сб. Массера —
Руссо этот сонет приписан Чекко Анджольери. О новой атрибуции см.:
Marti М. Sui sonetti attributi а Сессо Angolieri.— Giornale storico della
letteratura italiana, 1950, vol. 127, p. 253—275.
Комическое в поэзии позднего средневековья
129
ствует не божественный промысел, не Провидение, а слепая слу-
чайность — Fortuna, трактуемая здесь не как удача, а как зло-
счастье. Миру высшей, райской гармонии стильновизма — полного
согласия между трансцендентным богом и человеком, подняв-
шимся над своим земным естеством,— в итальянской средневеко-
вой комической поэзии противостоит мир темного хаоса и дисгар-
монии, мир, в котором нарушены и извращены все естественные
связи между людьми. Комических поэтов мучает не только про-
тивоестественная любовь — они обуреваемы не менее противоес-
тественной ненавистью.
Пьетро де’Файтинелли с шутовскими ужимками благодарит
Смерть, не погнушавшуюся войти в тело его жены:
Io non sconfesso, Morte communale,
che pur non tpgna dono о cortesia:
ch’entrasti ’n corpo de la donna mia:
e s’io ne fosse ingrato, farei male.
(ZZZ, 1—4) 50
Пьераччо Тедальди клянет тот пчас, когда женился (VIII),
и ждет не дождется известия о смерти «скотины, именуемой моею
супругой»:
Qualunque m’arrecassi la novella
vera, о di veduta о vuoi d’udita,
che la mia sposa si fussa partita
di questa vita...
io gli darei guarnacchia о vuoi genella,
cintura e borsa con denar fornita.
(IX, 1-6) ’I
Meo де’Толомеи поносит мать, брата и друга. Чекко Анджоль-
ери зло препирается с отцом и тоже с нетерпением ждет смер-
ти своих родителей. Добрые родственники для Чекко — только
флорины:
I buon parenti, dica chi dir vuole
a chi ne pud aver, sono i fiorini:
quei son fratei carnali e ver cugini,
e padre e mad re, figliuoli e figliuole.
(LXXIV, 1—4) 52
5° «Я не отрицаю, смерть людская, что ты даришь подарки и весьма лю-
безна, ведь ты вошла в тело моей жены; и если бы я не был за то бла-
годарен, то поступил бы дурно».
51 «Если бы кто-нибудь мне принес достоверную весть или хотя бы слух
о том, что моя жена ушла из этой жизни... то я подарил бы тому ниж-
нюю юбку или, коли угодно, и юбку, и пояс, и кошелек с деньгами».
52 «Добрые родственники, что там ни говори, это флорины: они — родные и
двоюродные братья, отец и мать, сыновья и дочки».
5 Средние века, в. 43
130
Р. И. Хлодовский
Широкую известность получил сонет Чекко «S’i’fosse foco аг-
derei ’1 mondo...». В нем можно было бы усмотреть дьявольски
нигилистическое отрицание всего земного миропорядка, если бы
в финале громовые проклятия поэта не смягчались шуткой:
S’i’fosse Cecco, com’i’sono е fui,
torrei le donne giovanni e leggiadre: 2
e vecchie e laide lasserei altrui.
(XCVIH, 12—14) 5S
Все это — комические гиперболы. Видеть в «циничных» соне-
тах Чекко, Мео, Пьетро де’Файтинелли и других выражение их
подлинных чувств и переживаний нет никаких оснований. Роман-
тико-позитивистская легенда о «проклятых поэтах» позднего сред-
невековья разбилась о факты. Теперь, например, точно установ-
лено, что цитировавшийся сонет Пьетро де’Файтинелли, в кото-
ром он радуется смерти жены, ни в коей мере не является
автобиографическим. Жена Пьетро де’Файтинелли пережила свое-
го мужа. Пьетро умер у нее на руках и завещал ей все свое
состояние, потому что ближе нее у него никого не было.
Весьма вероятно, что и Чекко Анджольери не был ни баб-
ником, ни пьяницей, ни игроком. В хронике Салимбене Парм-
ского приведено стихотворение Архипииты Кельнского, с помо-
щью которого тот защищался, когда был обвинен в трех грехах:
прелюбодеянии, игре и пьянстве. Великий голиард подробно оста-
новился в своей «защите» на теме, «1а donna, la taverna, ’1 dado».
В данном случае он разрабатывал общие места пародийной ли-
рики вагантов, оказавшей огромное влияние на всю комическую
литературу европейского средневековья, в том числе, конечно,
и на Чекко.
Данте тоже попрекал Форезе нищетой не потому, что тот
был действительно беден (Донати принадлежали к влиятельным
и состоятельным кругам Флоренции), а потому, что темы ни-
щеты требовал комический стиль.
В комической поэзии итальянского Проторенессанса, так же
как в стильновизме, еще отсутствовала реальность быта и реаль-
ная человеческая личность. Гуманистическое «открытие природы
и человека» пока что не было осуществлено, и комические поэ-
ты, даже тогда, когда они широко пользовались материалом, по-
черпнутым из собственного жизненного опыта, строго следовали
литературному этикету и стилю, тщательно разработанному в
средневековых «Artes dictandi». Задолго до того, как Данте кос- 53
53 «А если бы я оказался Чекко, каковым я был п являюсь, то я забрал
бы себе молодых и хорошеньких женщин, а старых и безобразных оста-
вил бы другим».
Комическое в поэзии позднего средневековья
131
нулей проблемы комического языка и стиля в трактате Ю на-
родном красноречии», Гофр у а де Венсоф писал в «Poetria nova»:
Attamen est quandoque color vitare colores,
exceptis quos sermo capit vulgaris et usus
offert communis. Res comica namque recusat
arte laboratos sermones: sola requirit plana5*.
Комическая поэзия итальянского Проторенессанса непосредст-
венно примкнула к комической литературе романского средневе-
ковья. Но продолжила она ее в новых исторических условиях —
в условиях города, постепенно превращающегося в город-госу-
дарство, т. е. в некий политический микрокосмос, соизмеримый
с Церковью и Империей. Все главные темы проторенессансной
поэзии комического стиля: «баба, кабак, вино», «злая жена», «не-
навистные зажившиеся родители», «непостоянная фортуна», про-
фанированная любовь, мужеложество — все это извечно темы фаб-
льо, Рютбефа, второй части «Романа о Розе», «Книги доброй
Любви» Хуана Руиса, латинской эдегии Арриго да Саттимелло
«De diversitate fortunae» и анонимной поэмы «Цветок», припи-
сывавшейся — и это весьма показательно — то Рустико ди Фи-
липпо, то Данте Алигьери ”.
Новым в итальянской комической поэзии было расширение
темы политики (именно с ней больше всего связана проторе-
нессансная реабилитация земной действительности в качестве са-
модовлеющего объекта художественного и идеологического твор-
чества) и пародирование уже не официально-церковной литера-
туры, как это имело место в фольклоре, в народной смеховой
культуре, а поэзии светской, хотя и по-средневековому религи-
озно-возвышенной. Проторенессанс, как уже говорилось, сблизил
комическое с трагическим, заключив их в границы единой ли-
тературно-эстетической целостности. Благодаря этому в литера-
туре итальянского Проторенессанса четче, чем где бы то ни было,
выявлены как типологические, собственно литературные харак-
теристики средневекового комического стиля, так и его мировоз-
зренческие, идеологические функции. Начатая симметрично тра-
гико-комическим канцоньере Рустико ди Филиппо, литература 54 55
54 Цит. по: Faral Е. Les arts poetiques du XIIе et du XIIIе siecles. Paris, 1924
(«Однако порой украшение — избегать украшений, исключая тех, кото-
рые достигаются обыденной речью и которые нам предлагает повседнев-
ное словоупотребление. Ибо комическое ие допускает чересчур отделан-
ных речений и требует пошлостей»).
55 Percopo Е. Il «Fiore» a di Rustico di Filippo? — Rassegna critica della let-
teratura italiana, 1907, a. XII, p. 48—59; Contini G. La questione del «Fio-
re».— Culture e scuola, Roma, 1965, N 13/14; Голенищев-Кутузов И. Рево-
люция в дантологии.— Вопросы литературы, 1969, № 7.
5*
132
Р. И. Хлодовский
итальянского Проторенессанса завершилась «Божественной Ко-
медией», в которой низменно-материальное и духовно-возвышен-
ное оказались опять соединенными в пределах одного грандиоз-
ного художественного произведения, являющегося своего рода мо-
делью трансцендентности, т. е,— с точки зрения средневекового
сознания — мира абсолютных, богооткровенных истин.
Устремленность средневековой комической поэзии к «мате-
риально-телесному низу» не была, конечно, тягой к дьяволу, ко-
торый никак не мог стать для Рустико и Чекко тем, чем он
представится Бодлеру и Кардуччи. Движение это пародийно и
потому является не истинным, а мнимым. В Дантовской «Коме-
дии» комическое и трагическое соотнесены по принципу готи-
ческой иерархии. На примере «священной поэмы» Проторенес-
санса ясно видно, что столь характерный для низкой, комиче-
ской поэзии спуск в ад оказывается абсолютным движением вниз
лишь до известного предела, после Которого движение это, не
теряя своей метафизической прямолинейности, обретает ту же ко-
нечную цель, что и поэзия трагическая, возвышенная. Вслед за
Вергилием Данте спустился на самое дно преисподней, потому
что там проходила самая прямая дорога к богу. Цепляясь за
шерсть Вельзевула, он уже поднимался к звездам:
Мой вождь и я на этот путь незримый
Ступили, чтоб вернуться в ясный свет,
И двигались все вверх, неутомимы,
Он впереди, а я ему вослед,
Пока моих очей ие озарила
Краса небес в зияющий просвет;
И здесь мы вышли вновь узреть светила.
(«Ад», XXXIV, 133—139)
Из всего этого, безусловно, не следует, будто художествен-
ные и идеологические функции позднесредневековой комической
поэзии ограничивались или исчерпывались пародийным углубле-
нием религиозно-аскетического содержания трагической лирики.
Уже по одному тому, что комическая поэзия создавала свои па-
родийные формы из материала конкретно-жизненной действитель-
ности, объектом ее особого языка и стиля могла становиться
реальность, имманентная конечной, земной жизни. Знаменитый
сонет Рустико «О, мой милый муженек Альдобрандино» имеет
отчетливо выраженную вертикальную структуру ренессансной но-
веллы, а мироощущение «знатной и благородной компании», фи-
гурирующей в сонетах Фольгоре да Сан Джиминьяно («Сонеты
о временах года»), прямо предвосхищает веселую жизнерадост-
ность общества рассказчиков «Декамерона». Средневековая паро-
дия, как отметил М. М. Бахтин, «подготовляла новое литератур-
Комическое в поэзии позднего средневековья
133
но-языковое сознание» 56. Ее формы «освобождали предмет от вла-
сти языка, в котором предмет запутывался, как в сетях, они
разрушали нераздельную власть мифа над языком, освобождали
сознание от власти прямого слова, разрушали глухую замкну-
тость сознания в своем слове, в своем языке» ”. Но проблема
вызревания Ренессанса в средневековой комической литерату-
ре — проблема совсем особая. Она требует специального рассмот-
рения. 36 37
36 Бахтин М. М. Из предыстории романного слова.— В кн.: Русская и за-
рубежная литература: (Исследования, статьи, публикации). (Учеи. зап.
Мордовского ун-та, Саранск. Вып. 61). 1967, с. 18.
37 Там же, с. 10.
М. Кёрнер
ГОРОДСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ШВЕЙЦАРИИ XVI В.
ОТРАСЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Следует ли в счетах швейцарских городов XVI в. проводить
резкую грань между инвестициями и текущими расходами?
Оправдано ли исследование такого рода затрат в рамках разви-
тия городской цивилизации (причем под цивилизацией мы пони-
маем всю совокупность материальных благ и продуктов, необхо-
димых как для физического существования, так и для удовлетво-
рения культурных потребностей1), в котором все внимание
уделено инвестициям (финансовым вкладам, расходам, связан-
ным с экономической инфраструктурой) и полностью игнориру-
ются так называемые непроизводительные расходы, так как даже
самые непроизводительные из них (те, которые не реализуются
в услугах или товарах, как, например, военные издержки)
в конечном счете ведут к росту заказов, увеличению спроса на
рабочую силу, росту инвестиций, прибыли и заработной платы 2.
В самом широком смысле слова любой общественный расход в
городе составляет часть капитала, прямо или косвенно, осознанно
или неосознанно предназначенный развивать городскую цивили-
зацию. Современники не знали этого. Историк же должен это по-
нимать, если он стремится рассматривать город в каждый дан-
ный момент его исторического развития как некое целое, а куль-
турные феномены — в их многообразных связях, если он хочет
избежать бесплодного размежевания между экономикой и куль-
турой, их противопоставления друг другу и априорного утверж-
дения их взаимозависимости3.
Все это представляется вполне логичным, пока речь идет об
общественных расходах на имущества и услуги, предназначен-
ных для формирования материальных средств материального
1 Tenentl A. Note a 1’attention des participants a la IXе semaine d'etudes de
Prato «Investissement et civilisation urbaine». Paris, 5 novembre 1976.
2 Bouvier J. «Histoire financiere et problemes d’analyse des depenses publi-
ques», communication dactylograpniee a 1’intention des participants au 4е
colloque de 1’Association fran$aise des historiens economistes. Paris, janvi-
er 1977, p. 2.
• Braudel F. Lettre adressee aux participants a la IXе semaine d’etudes de
Prato «Investissement et civilisation urbaine». Paris, 3 juin 1976.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
135
капитала. Инвестировали капиталы общественные власти, созда-
вавшие резервы зерна, соли и вина для продажи — либо с при-
былью в обычное время, либо в убыток в период кризиса. В эко-
номическом смысле эти инвестиции в ближайшем будущем не
обязательно оказывались прибыльными, однако они были вполне
закономерны для городской цивилизации. Разве можно предста-
вить себе город, не снабжавший своего населения? Каждый круп-
ный швейцарский город чеканил собственную монету. Это состав-
ляло неотъемлемую часть экономической инфраструктуры город-
ской жизни. Следовательно, и авансы чеканщикам монеты были
инвестициями. Города строили мосты, ремонтцровали дороги,
воздвигали церкви, дворцы и укрепления, финансировали строи-
тельство, осуществляемое частными лицами (с целью перепрода-
жи). В этом и состояли реальные городские инвестиции. Швей-
царские города — города-суверены. Они покупали территории,
поборы и доходы. Иногда они применяли военную силу, а в ряде
случаев пользовались финансовой несостоятельностью обременен-
ных долгами князей, чтобы захватить их владения. В этом слу-
чае1 погашение долга, унаследованного городом вместе с обреме-
ненным ипотекой имуществом князя, следует рассматривать как
апостериорную инвестицию.
В затратах на создание нематериального капитала инвестиции
на первый взгляд незаметны. Однако не следует забывать, что
долгое время существующие административные и судебные расхо-
ды создавали юридические и административные нормы, прису-
щие городской жизни Швейцарии. Расходы в сфере внешней по-
литики (посольства, дипломатические курьеры) и на оборону
(вооружение) вместе с расходами на внутреннюю политику (по-
лиция) приносили двойную пользу. В каждый данный момент
они способствовали завоеванию и сохранению независимости
швейцарских городов. В длительной дерспективе они позволяли
Швейцарии избавиться от тяжелых имперских налогов и обеспе-
чить городам дополнительные доходы (папские, французские и
испанские пенсии). Тем самым расходы на внешнюю политику и
оборону прй .определенной политической конъюнктуре могли
быть подлинными инвестициями, весьма полезными городской
общине.
Капиталы, затраченные на войны, в частности на религиоз-
ные войны в Швейцарии, позволили одним городам сохранить
свою приверженность римско-католической вере, а другим —
утвердиться в протестантизме. Суверенитет, политическая и фи-
нансовая независимость, административная и судебная самостоя-
тельность, религиозная автономия составляют культурное достоя-
ние того же типа, что и церкви, дворцы, мосты и памятники.
Хотя последние легче определить и оценить как эстетические и
экономические блага, однако не следует упускать из виду первые.
136
М. Кёрнер
Очевидно, что расходы на образование, профессиональное обуче-
ние, финансовую поддержку церкви, ссуды, предоставляемые горо-
дами, относятся к инвестициям в сфере экономики и культуры.
При таком понимании инвестиции в узком смысле слова труд-
но отделить от текущих расходов. Подобный подход к проблеме
вполне допустим, если признать, что общественные расходы
швейцарских городов в XVI в. состояли из инвестиций в узком
смысле слова (финансовые, торговые, земельные вклады, опера-
ции с недвижимостью...) и инвестиций в широком смысле слова
(обычные текущие расходы и расходы экстраординарные, пред-
ставляющие собой на первый взгляд нематериальные инвестиции) *.
Более того, это позволяет отличать в расходах швейцарских го-
родов, с одной стороны, удовлетворение материальных или эко-
номических нужд, а с другой — удовлетворение политических,
религиозных, культурных и т. п. требований*. В данном сообще-
нии краткий анализ городских расходов в целом предваряет бо-
лее детальное рассмотрение инвестиций в узком смысле слова.
I. МЕТОД
1. ВЫБОР ГОРОДОВ
Я выбрал шесть городов: Фрибур, Золотурн, Базель, Шаффха-
узен, Цюрих и Люцерн. Они различны по величине: численность
жителей в Золотурне колебалась примерно от 2800 около 1500 г.
до 3200 около 1610 г., в Люцерне — от 3500 до 4100, в Шаффхау-
зене — от 3700 до 6000, в Цюрихе — от 5000 до 7500, в Базеле —
от 8800 до 10000; во Фрибуре в течение всего XVI в. население
не превышало 5200 человек8. Все города, кроме Люцерна, за
* Некоторые термины и наблюдения автора воспринимаются как дискус-
сионные.— Ред.
* Tenenti A. Op. cit.
9 Amiet В. Solothurnische Geschichte. Solothurn, 1952, Bd. 1, S. 454; Amiet B.,
Siegrist H. Solothurnische Geschichte. Solothurn, 1976, t. 2, S. 131; Bickel W.
Bevolkerungsgeschichto und Bevolkerungspolitik der Schweiz seit dem Aus-
gang des Mittelalters. Zurich, 1947, S. 61—65; Mauersberg H. Wirtschafts-
und Sozialgeschichte zentraleuropaischer Stadte in neuerer Zeit. Dargestellt
an den Beispielen von Basel, Frankfurt a. M, Hamburg, Hannover und Mun-
chen. Gottingen, 1960, S. 22—27; Idem. Die Wirtschaft und Gesellschaft Ful-
das in neuerer Zeit. Eine stadtegeschichtliche Studie. Gottingen, 1969, S. 65—
<66; Messmer K., Hoppe P. Luzerner Patriziat Luzerne, 1976, S. 35—37; Pey-
er H. C. Von Handel und Bank im alten Zurich. Zurich, 1968, S. 13; Idem.
Wollgewerbe, Viehzucht, Solddienst und Bevolkerungsentwicklung in Stadt
und Landschaft Freiburg i. Ue. vom 14. bis 16. Jahrhundert— In: Agrari-
sches Nebengewerbe und Formen der Reagrarisierung im Spatmittelalter und
19/20. Jahrhundert / Hrsg. von H. Kellenbenz. Stuttgart, 1975, S. 88—89;
Steinemann E. Der Zoll im Schaffhauser Wirtschaftsleben.— Schaffhauser
Beitrage zur Geschichte, 1950, N 27, S. 205 f.; Walter E. Soziologie der alten
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
137
100 лет расширили подвластные им территории. Наиболее значи-
тельным по сравнению с 1500 г. было территориальное расшире-
ние Шаффхаузена. Три города (Базель, Шаффхаузен и Цюрих)
примкнули к Реформации, остальные (Фрибур, Золотурн и Лю-
церн) сохранили верность римско-католической церкви.
2. ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИХ ЛАКУНАМИ
Источники моих статистических выкладок — основные и до-
полнительные счета городских казначейств за 1501—1610 гг. •
(дополнительные! счета — за общественные работы, мосты и до-
роги, доставку воды, хлебные амбары, надзор за мельницами и
т. п.). К счетам присоединены другие документы и финансовые
бумаги.
В счетах имеются лакуны. Для Базеля (за 1584 г.) и Золо-
турна (за 1520 г.) они несущественны. В счетах Шаффхаузена
пропущены уже многие годы. В Цюрихе вообще отсутствуют ос-
новные счета за 1512—1530 гг. Прочие лакуны (за 1502, 1506,
1509, 1574—1576, 1581—1582, 1586 гг.) менее значительны. В Лю-
церне казначеи иногда отчитывались только раз в два года, но
при этом за весь период своей деятельности; таким образом здесь
лакуны не очень мешают статистическим подсчетам. Только фри-
бурские счета целы за весь рассматриваемый период.
Для обычных или циклических расходов лакуны за один-два
года можно дополнить среднестатистическими данными того же
периода. Для Шаффхаузена я вынужден был пользоваться сред-
ними десятилетними данными, вычисленными на основании су-
ществующих за различные десятилетия счетов. Для каждого го-
рода восстановлены также по счетам, документам и квитанциям
ссуды, пассивные проценты и погашение общественного долга.
3. ПРОБЛЕМА СТРУКТУРЫ СЧЕТОВ
Счетоводство в швейцарских городах, за исключением Люцер-
на и Женевы, к счастью, довольно единообразно по своей струк-
туре. Почти повсюду сохранились счета на пассивные проценты,
предоставленные ссуды, оплаченные долги, издержки на пеших
и конных курьеров, на дела Конфедерации, оплату центральной
администрации, обедов и вин, судебных издержек, счета адми-
нистрации бальяжей, счета за общественные работы, покупку ви-
Eidgenossenschaft. Eine Analyse ihrer Sozial- und Berufsstruktur von der
Reformation bis zur franzosischen Revolution. Bern, 1966, S. 136, 146—147,
212 f.
6 Об анализе общественных доходов швейцарских городов см.: Koerner М.
Solidarites financieres suisses au XVIе siecle. Geneve, 1976, p. 66—143 (The-
se dactylographiee).
138
М. Кёрнер
на и зерна, военные расходы и т. п., а также счета по самым
различным статьям расходов.
Последние нередко превосходили все прочие платежи вместе.
Следовательно, необходим отбор счетов, а также сравнение ос-
новных счетов с дополнительными или специальными, чтобы ни-
чего не упустить или не использовать дважды.
Состояние источников не позволило мне распределить обще-
ственные расходы по экономическим категориям7. Я предпочел
применить к данным XVI в. функциональный принцип, разрабо-
танный современной финансово-экономической наукой. Общест-
венные расходы шести изучаемых городов были, насколько это
оказалось возможным, распределены в следующем порядке:
А. Публичные расходы на имущества и услуги.
1. Формирование материальных средств (материального капи-
тала) (3 вида счетов).
1.1. Регулярное или спорадическое участие в торговле зерном,
вином, солью, чеканке монеты, постройке судов и барок и т. п.
1.2. Общественные сооружения, мосты и дороги.
1.3. Приобретение поборов и доходов (со своей территории).
2. Формирование нематериального капитала (3 вида счетов).
2.1. Управление, судопроизводство.
2.2. Внешняя политика.
2.3. Церковь, образование, здравоохранение.
3. Внутренняя и внешняя безопасность (1 вид счетов).
Б. Перемещение капиталов (2 вида счетов).
1. Пассивные проценты.
2. Финансовые испомещения.
Эта функциональная классификация, согласно Ж. Бувье, от-
ражает «волюнтаристские аспекты общественных расходов, прямо
преследуемые ими цели, социально-экономические отрасли и сфе-
ры, в которых государство является активной стороной» 8. Веро-
ятно, именно это в первую очередь позволяет историку-экономисту
наиболее отчетливо выявить стремление городских властей к
вмешательству в экономическую деятельность городов или к ее
инвестированию.
4. ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИИ РАСХОДОВ
Разве городская цивилизация ограничена стенами города?
Вместе с А.-М. Пьюз мы спрашиваем: где кончается город и на-
чинается деревня? 9 Швейцарские города, господствующие в сво-
7 Bouvier J. Op. cit, р. 6; Wittmann W. Einfiihrung in die Finanzwissenschaft.
Stuttgart, 1975, 1. Teil. Die offentlichen Ausgaben, S. 4—9.
e Bouvier J. Op. cit., p. 7.
9 Piuz A.-M. Les relations economiques entre les villes et les campagnes dans
les societees preindustrielles. Rapport dactylographic a Fintention des par-
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в. 139
их деревнях экономически, социально и политически, вкладыва-
ют в них капиталы, утверждая таким образом и свое влияние.
Главные дороги прокладывались и поддерживались в хоро-
шем состоянии городами, дорожные мосты возводились ими же и
ради них. Если Люцерн выстроил в 5 км от своих ворот искус-
ственное русло для Ренгга, чтобы замедлить его стремительное
течение, то это было сделано для защиты города от регулярных
наводнений в периоды обильных дождей. Когда тот же город вло-
жил капитал в постройку часовни и постоялого двора у горячего
источника в заброшенной долине на расстоянии 50 км от своих
стен, он создал тем самым место паломничества и отдыха своих
бюргеров. Укрепления и центры бальяжей, построенные и под-
держиваемые городами в деревнях и маленьких городках, служи-
ли не только передовыми городскими фортификациями, но также
и зерновыми складами метрополии. Когда городские власти
вкладывали капиталы или брали финансовые обязательства во
внешних предприятиях, они всегда руководствовались своим «свя-
щенным эгоизмом». Следовательно, нам нужно рассматривать го-
род как политический, экономический й культурный центр, по-
стоянно стимулирующий инвестиции.
5. ПРОБЛЕМЫ ДЕНЕЖНОГО КУРСА
Счета пяти из шести рассматриваемых нами городов пелись в
ливрах, содержавших 20 су или 240 денье (фунтов — шиллин-
гов— геллеров). Несколько люцернских счетов велись в тех же
ливрах, но остальные — в люцернских ливрах, содержавших 15 су,
или в люцернских флоринах (гульденах) по 40 су. Однако реаль-
ная ценность даже формально равных ливров в каждом городе
была различной. В течение 1501 — 1610 гг. у каждого был собст-
венный ритм девальвации. При сравнении счетов даже двух швей-
царских городов необходимо переводить суммы, выраженные в
ливрах, в общее денежное выражение. Это тем более важно, ког-
да речь идет о шести городах, в каждом из которых была своя
система денежного обращения. Но во всех шести изучаемых го-
родах без исключения реально употреблявшейся монетой был зо-
лотой французский экю. Он играл первенствующую роль в любой
важной сделке Швейцарии XVI в., будь то общественные займы,
финансовые операции или процентные платежи. При переводе в
золотые французские экю сумм, исчисленных в ливрах, исследо-
ватель всегда остается в рамках исторической реальности,0.
В дальнейшем изложении слово «экю» каждый раз означает зо-
лотой французский экю.
ticipants au 3е colloque franco-suisse d’histoire economique et sociale. Ge-
neve, 1976, p. 2.
10 Koerner M. Solidarites..., p. 55ss et passim.
140
М. Кёрнер
II. АНАЛИЗ СТРУКТУР
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РАСХОДОВ
Если вычесть из общих расходов шести избранных для иссле-
дования городов 1 522 000 экю, предназначенные для погашения
общественного долга по займам, то сумма расходов на имущест-
ва, услуги и переводы капиталов составит 7 678 000 экю. Не су-
ществует непосредственной корреляции между величиной и зна-
чением города и объемом его общественных расходов, хотя Ба-
Таблица 1. Общественные расходы на жителя за год {1501—1610 гг.)
в золотых французских экю
Города по убы- вающей вели- чине тальи *
1501—1510 1551 — 1560 1601—1610 1501—1610
Базель 1,12 1,77 1,76 1,90
Цюрих 1,31 1,72 3,51 2,55
Фрибур 1,07 2,26 1,87 1,93
Шаффхаузен 0,89 1,35 1,42 1,52
Люцерн 1,06 1,94 3,27 2,30
Золотурн 0,94 4,03 4,28 3,30
В среднем ♦♦ 0,98 1,99 2,48 2,15
* См. примеч. 5. Для середины века я выбрал средние предложенные авторами
цифры, кроме Шаффхаузена, для которого Штейнман предложил около 5300 че-
ловек.
** Среднее арифметическое.
зель, самый большой город, занимает первое место по расходам
(1960 000 экю), за ним следует Цюрих, второй по населенности
город (1753 000 экю). Среди остальных четырех городов иерар-
хия величин не соблюдается. Одно из объяснений — обществен-
ный заем, с помощью которого каждый город мог в любой мо-
мент повысить свои доходы и таким образом финансировать ин-
вестиции средствами, не ограниченными ординарными поступле-
ниями.
Сопоставление средних ежегодных расходов на жителя за год
в шести городах с размерами городской тальи также обнаружи-
вает «ножницы», никак не соответствующие величине городов
(табл. 1).
В современном анализе общественных финансов принято про-
водить сравнения между долей расходов и долей валового нацио-
нального дохода на жителяи. Для Швейцарии XVI в. вычисле-
11 WtUmaitn W. Op. cit., S. 19.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
141
ние валового национального дохода невозможно. Однако Поль Бэ-
рош применил косвенный метод исчисления национального до-
хода* В * * * 12. Он предложил два* показателя, с помощью которых мож-
но определить национальный доход — в обращающейся монете и
реальный уровень национального дохода на каждого жителя.
Бэрош предупреждает, что «применение этих методов следует
рассматривать как эвристический подход, позволяющий лишь
приблизительно определить искомые данные» 13. Я следую его
Таблица 2. Общественные расходы на жителя в год в сравнении
с валовым национальным доходом (ВНД) *
Город Около 1500 г. Около 1600 г.
ВНД Общественные расходы вид Общественные расходы
экю экю % от ВНД экю экю % от ВНД
Цюрих 18,6 1,31 7,0 22,1 3,51 15,9
Фрибур 18,5 1,07 5,8 18,5 1,87 10,1
Люцерн 15,4 1,06 6,9 ’’ 20 3,27 16,4
* Исчисление валового национального дохода Цюриха, Фрибура и Люцерна см. в
Приложении III.
методу, полностью отдавая себе отчет в том, что наши исчисле-
ния приблизительны, и заранее допуская вслед за Бэрошем
15—30% ошибочности. Тем не менее нужно признать, что даже
приблизительное определение номинального валового нацио-
нального дохода может быть полезным, если ограничить свою
задачу определенными рамками, например исчислением расходов
центральных властей в их соотношении с валовым национальным
доходом в обращающейся монете.
В начале XVI в. объем общественных расходов в принятых
ценах, выраженный в процентах валового национального дохода,
составлял в Цюрихе, Фрибуре и Люцерне 5,8—7,0% (табл. 2).
Именно такие показатели обнаружил и Р. А. Масгрейв в кон-
це XIX в. в индустриальных странах Запада — США, Велико-
британии и Германии14. Значит, уже в начале XVI в. в швей-
царских городах общественный сектор обладал определенным ве-
сом. Спустя 100 лет его показатели увеличились до 10,1—16,4%.
12 Bairoch Р. Estimations du revenu national dans les soci6t& occidentales
preindustrielles et au XIXе siecle: propositions d’approches indirectes.— Re-
vue economique, 1977, mars.
12 Ibid.
14 Musgrave R. A. Fiscal Systems.—Studies in Comparative Economics, 1969,
N 10, p. 101.
142
М. Кёрнер
Это доказательство реального роста общественных расходов на
жителя по абсолютной стоимости и по отношению к валовому
национальному доходу. В том, что швейцарские показатели на-
чала XVII в. выше показателей западных стран конца XIX в.т
нет ничего удивительного, поскольку немецкие данные в 1821—
1829 гг.15 16 17, в период, предшествующий экономическому и поли-
тическому либерализму, составляли 15—18%. Впоследствии в
Германии до 1852 г. эти показатели снизились и стали повышать-
ся лишь во второй половине века. Были ли общественные расхо-
ды в XVII и XVIII вв. относительно большими? Во всяком слу-
чае полезно указать на значимость общественного сектора уже в
XVI в. Не лишено интереса и соотношение различных статей
общественных расходов, в частности состав инвестиций в узком
смысле слова или экономических инвестиций.
2. СООТНОШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
Общественные расходы делились на две большие функциональ-
ные группы: расходы на имущества и услуги (49,7|— 77,1%)
и расходы на перемещение капиталов (22,9—50,3%).
В первой группе главное место занимают общественные пост-
ройки и работы по благоустройству дорог и мостов (17,2—37%).
За ними следуют административные и судебные расходы (11,5—
22,6%). Меньшая доля приходится на покупку недвижимости,,
различных прав и пошлин (до 12,2%), на военные расходы (до
11%), на капиталовложения в торговлю и ремесло (до 7,2%)
и издержки, связанные с внешней политикой (до 6,8%). И, нако-
нец, известные суммы города затрачивали на церкви, школы и
общественное здравоохранение; но эти суммы никогда не превы-
шали 1,1% бюджета.
Во второй группе — перемещение капиталов — деление на
пассивные проценты и финансовые вложения под проценты зави-
село от степени задолженности городов. Доля пассивных процен-
тов доходила до 19,6% расходов во Фрибуре, 25,6% — в Золо-
турне, 31,1% — в Базеле. Базель — единственный из городов, чьи
финансы я здесь исследую, обременен в течение всего XVI в.
серьезным неотвержденным долгом 1в. Этот долг поддерживался
займами, неизбежными вследствие того, что Базель, в свою оче-
редь, предоставлял ссуды и финансировал земельные приобрете-
ния Во Фрибуре и Золотурне действовали те же факторы,
причем задолженность Фрибура в большей степени объяснялась
15 Recktenwdld Н. С. Adam Smith. Sein Leben und sein Werk. Munchen, 1976,
S. 116.
16 3a 1501—1510 гг. в Базеле пассивные проценты увеличились и достигли
53,6% общей суммы расходов. В течение века этот показатель снизился.
17 Koerner М. Solidarites..., р. 356—369.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
143
многочисленными земельными приобретениями, а Золотурна —
многочисленными финансовыми претензиями князей и королей.
При этом Фрибур с его 8% финансовых вложений занял в на-
шей классификации по процентным вкладам последнее место, тог-
да как впереди Золотурна (24,7%) оказался только Люцерн
(33,6%). Если же учесть средние годовые общественные расходы
на жителя, то Золотурн с 0,81 экю окажется впереди Люцерна
(0,76 экю). Однако между этими двумя городами есть существен-
ное различие. Люцерн не имел долгов в течение всего XVI в.
и никогда не платил по ним пассивных процентов. Шаффхаузен
Таблица 3. Инвестиции 1501—1610 гг.
Город Ежегодная сумма на жителя в экю в % к обществен- ным расходам в % кВНД
Фрибур 0,87 45 4,7
Золотурн 1,57 48 ?
Базель 0,84 44 ?
Шаффхаузен 0,97 п 64 ?
Цюрих 1,67 65 8,2
Люцерн 1,65 72 9,3
и Цюрих с их незначительными пассивными процентами (6,2—
8,3%) в некоторой степени приближались к привилегированному
положению Люцерна.
Теперь можно сгруппировать инвестиции в узком смысле, т. е.
ссуды под проценты, вложения или беспроцентные авансы в тор-
говлю и ремесло (зерновые, соляные и винные запасы, чеканка
монет, строительство судов и паромов), общественное строитель’
ство и работы по благоустройству дорог и мостов, покупка не-
движимости, различных прав и сборов.
Из этого следует первый вывод: в Люцерне, Цюрихе и Шафф-
хаузене, привлекавших в очень малой степени или совсем не при-
влекавших иностранный капитал, на инвестиции шла гораздо
большая часть расходов, нежели в трех других городах. Цюрих
и Люцерн также впереди по годичным расходам на' жителя в экю.
Здесь следует заметить (подробнее об этом см. далее), что Золо-
турн помещает почти все свои’Капиталы вовне и его экономика
от этого ничего не выигрывает. Если же основываться на исчи-
слении валового национального дохода, можно установить, что по
сравнению с Фрибуром инвестиции Люцерна и Цюриха велики.
Изменение вычисленного для этих трех городов валового на-
ционального дохода дает следующие показатели для 1501—
1510 гг.: если принять за 100 данные 1501—1510 гг., то он равен
130 для Люцерна, 119 для Цюриха и 100 для Фрибура.
144
М. Кёрнер
Отсюда и второй вывод: по-видимому, существует прямая за-
висимость между общественными инвестициями и изменением
валового национального дохода. Чем больше капиталовложения
в экономику, тем больше город стимулирует развитие своей эко-
номики. Я не думаю, впрочем, что общественные инвестиции
были единственным фактором роста региональной экономики. Но
общественная тенденция инвестирования может рассматриваться
как эквивалент частной экономической политики. Крупнейшие
общественные и частные экономические мероприятия определя-
лись патрициатом, т. е. городской аристократией18.
Я подошел к третьему выводу: существует связь между ин-
вестициями и устойчивостью монетного курса. В Люцерне, Цюри-
хе и Шаффхаузене, к которым я присоединяю Сен-Галлен19 20 21,
были в XVI в. (начиная с 1550 г.) хорошо обеспеченные общест-
венные фонды, обладавшие достаточны'м количеством пригодного
для инвестирования капитала1.
Наличие полноценной монеты (главная из находящейся в об-
ращении — золотой французский экю) привело к тому, что в го-
родах Центральной и Восточной Швейцарии девальвация обра-
щающейся монеты происходила не так быстро, как в городах
Западной Швейцарии, например во Фрибуре 2°.
3. ОБЩЕСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Можно поставить вопрос, существовало ли различие в обще-
ственных расходах на строительство между католическими и
протестантскими* городами. Казалось бы, протестантские города
должны были вследствие секуляризации церковных имуществ сэ-
кономить на расходах по постройке амбаров, соляных складов,
арсеналов, казарм, тюрем, школ, приютов и больниц, католиче-
ские же города воспользоваться церковными зданиями не могли.
Более того, они должны были финансировать необходимое строи-
тельство, не прибегшая к церковным богатствам 2‘.
18 Amiet В., Siegrist Н. Op. cit, S. 134—136; Geering Т. Handel und Industrie
der Stadt Basel. Basel, 1886, S. 355—397; Messmer K., Hoppe P. Op. cit.,
S. 154; Peyer H. C. Von Handel und Bank im alten Zurich, S. 12—34; Idem.
Die Anfange der schweizerischen Aristokratien.— In: Messmer K., Hoppe P.
Op. cit., S. 16—17; Schib K. Geschichte der Stadt und Landschaft Schaffhau-
sen. Schaffhausen, 1972, S. 324—327.
19 Koerner M. Solidarites..., p. 127 ss.
20 Ibid., p. 59 ss.
21 Профессор Базельского университета и государственный архивист
А. Штелин любезно обратил мое внимание на то, что в Базеле, напри-
мер, монастырь Клингенталь стал казармой, монастырь св. Леонарда пре-
вратили в тюрьму, здания монастыря св. Мадлены были использованы
под приют, а здания доминиканского монастыря — под военный госпи-
таль.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
14$
Для точного ответа на поставленный вопрос следовало бы
разделить расходы, связанные с общественными постройками, на
подгруппы. Однако в общей строительной отчетности расходы на
укрепления, административные здания, церкви, коллежи, част-
ные дома, финансируемые городским казначейством, на мосты и
дороги, как правило, не выделялись. Поэтому пока я вынужден
рассматривать эти расходы в их совокупности.
Если распределить города в соответствии с их средним годо-
вым расходом по общественному строительству на человека в те-
чение 1501 — 1610 гг., выраженным в золотых экю, то мы получим
Таблица 4. Годовые расходы на общественные постройки
(на человека)
Город 1501—1510 1551—1560 1601—1610
экю индекс экю индекс экю индекс
Фрибур 0,24 100 0,30 л 125 0,39 163
Золотурн 0,43 100 0,58 135 0,51 119
Базель 0,14 100 0,33 234 0,42 300
Шаффхаузен 0,14 100 0,68 486 0,55 393
Цюрих 0,53 100 0,52 98 1,07 202
Люцерн 0,37 100 0,79 214 1,11 326
три пары, каждая из которых состоит из католического и про-
тестантского города: вначале Цюрих и Люцерн (0,85 и 0,78 экю),
затем Золотурн и Шаффхаузен (0,61 и 0,56 экю) и, наконец,.
Фрибур и Базель (0,40 и 0,37 экю). Можно было бы предполо-
жить, что Цюрих занимает вместе с Люцерном первое место, по-
тому что цюрихские цифры учитывают и общественные постройки
за счет церквей. Действительно, реконструкция замка Веденсвиль
финансировалась администрацией монастырей 22. Однако в табл. 4
из цюрихских данных за 1551—1560 и 1601—1610 гг. были полно-
стью изъяты инвестиции за счет церковных имуществ. Тем не менее
и в середине XVI в., и в начале XVII в. каждый раз обнаружива-
ется подобная классификация, т. е. три «Смешанные» пары. С на-
чала Реформации в Цюрихе велось самое крупное строительство.
Базель и Шаффхаузен, находившиеся в 1501—1510 гт. еще в кон-
це списка, за столетие значительно увеличили, так же как и Лю-
церн, расходы на строительство. В Золотурне и Фрибуре рост
вложений был совсем небольшим. Следовательно, нельзя утвер-
ждать, что Реформация сдерживала общественное строительство
в городах 23.
22 Staatsarchiv Zurich, F III 23, 1550—1557.
23 О секуляризации церковных имуществ как факторе обогащения проте-
стантских городов см.: Koerner М. Reforme et secularisation des biens ec-
clesiastiques.— Revue Suisse d’Histoire, 1974, 24, p. 205—224.
146
М. Кёрнер
4. ФИНАНСОВЫЕ ИСПОМЕЩЕНИЯ
Для анализа структуры финансовых испомещений я распола-
гаю данными девяти городов. Тремя дополнительными городами
являются Женева, Берн и Сен-Галлен. Первая классификация
дает представление о географической структуре, в рамках кото-
рой региональные вклады (в городе и ближайшей округе)* срав-
ниваются с внешними (табл. 5).
Таблица 5. Географическая структура финансовых вкладов
Город Общий % вкладов
город округа регион в целом внешние вклады
Сен-Галлен 84 0 84 16
Женева 76 0 76 24
Люцерн ? ? 46 56
Цюрих 23 13 36 64
Шаффхаузен 19 15 34 66
Фрибур 15 6 21 79
Берн 15 1 16 84
Золотурн ? ? 8 92
Базель 2 2 4 96
Первую группу составляют два города без территорий: Жене-
ва и Сен-Галлен. Все их региональные общественные ссуды шли
городским клиентам, деревня ничего не получала. Если в женев-
ской и сен-галленской области имелись вклады, то они исходили от
частных лиц. Женевская Сеньория не могла ссужать капиталы
деревенской округе. Это объяснялось политической неустойчи-
востью, непрочное же финансовое положение просто не позволя-
ло этого. Женевский кредит удовлетворял почти исключительно
потребности городской экономики. Число савойских клиентов об-
щественного банка, функционировавшего в 1568—1581 гг. м, было
незначительным.
Сен-Галлен не стремился. инвестировать капиталы в деревню.
Купцы-мануфактуристы этого сукнодельческого города очень
опасались аппенцелльской конкуренции. Их деревенским соседям
приходилось отправляться в Люцерн на поиски капиталов, необ-
ходимых для промышленной и торговой инфраструктуры24 25 *.
24 Об истории женевского общественного банка см.: Monter W. Le change
public a Geneve 1568—1581.— In: Melanges Babel, Geneve, 1963, t. 1, p. 265—
290.
25 Bodmer W. Textilgewerbe und Textilhandel in Appenzell-Ausserrhoden vor
1800.— Appenzellische Jahrbiicher, 1959, 87, S. 3f.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в. 1АТ
Во второй группе, распределявшей региональные вклады меж-
ду городом и деревней более или менее равномерно, находятся
Люцерн, Цюрих и Шаффхаузен. Кредит предоставлялся прямо
или косвенно, т. е. общественное казначейство дайало финансовые
ссуды или принимало закладные в уплату казенных и прочих
долгов 2в. Предоставляя рассрочки платежей, города увеличивали
подвижность свободных капиталов и стимулировали экономику
своих регионов.
В третьей группе городов, ссужавших округе капиталы в не-
большом количестве, находятся Фрибур, Берн, Золотурн и Ба-
зель. В Базеле был свой общественный банк и достаточное число
кредиторов, готовых предоставить ссуду. Общественное казначей-
ство не занималось местным кредитом и никогда долгое время не
хранило облигаций, поступавших туда по казенным каналам ”.
У Золотурна не было средств, достаточных для денежных ссуд.
Он сам вынужден был занимать капиталы, чаще всего в Базеле,
чтобы удовлетворить многочисленные финансовые требования
иностранных князей. Немногочисленные ссуды, предоставляемые
Бернов своей области, в основном концентрировались в городе.
И, наконец, Фрибур, по-видимому, предпочитал территориальные
приобретения, которым он отдавал 12,2% своих расходов, уделяя
лишь шестую часть этой суммы местным и региональным ссу-
дам 28.
Если же рассмотреть иностранные вложения, т. е. ссуды
князьям и городам, то порядок классификации станет обратным.
Впереди теперь располагаются Базель, Золотурн, Берн и Фрибур,
(от 96 до 79%), далее Шаффхаузен, Цюрих и Люцерн (от 66 до
54%), завершают ряд Женева и Сен-Галлен (от 24 до 16%).
Я считаю это проявлением двух различных тенденций: чем боль-
ше капиталов ссужает город за границу, тем более он достигает
политических целей, а чем больше он вкладывает денег в округу
либо в городское хозяйство, тем важнее для него экономические
мотивы. Это предположение подкрепляется также делением об-
щественных ссуд на политические и экономические и их распре-
делением по отдельным отраслям экономики.
Сразу отметим, что табл. 6 содержит лишь те ссуды, за кото-
рые город взимал с должников проценты. Беспроцентные вложе-
ния в общественную торговлю зерном, солью и в чеканку монеты
отнесены под общим наименованием общественных расходов на
28 Koerner М. Endettement paysan, placements bourgeois et finances urbaines
en Suisse au XVIе siecle. Communication presentee au 3е colloque franco-
suisse d’histoire economique et sociale, avril 1976. Publication prevue pour
1977.
27 Hallauer R. Der Basler Stadtwechsel 1504—1746. Basel, 1904; Koerner AL
Solidarites..., p. 401 ss.
28 Koerner M. Solidarity..., p. 162—173, 311—318.
148
М. Кёрнер
Таблица 6. Структура финансовых вкладов в % от общего числа данных городами ссуд {1501—1610)
Отрасль финан- сирования Женева Фрибур Берн Золо- турн Базель Шаффха- узен Цюрих Сет- Галл ен Люцерн
Зерно, соль 3 2 4 ? 6 7
Сукноделие 3 13 81 6
Банк, монет- 65 1 1 3 2
ное дело Строительство 1 4 3 8 2 ? 14 3 18
Иностранная служба (пря- 2 8 9 1 13
мая) Экономическая 71 17 46 10 з В 36 м 46
мотивация
Иностранная служба 21 55 74 45 57 25 48 14 8
(косвенная) Беспроцент- ные ссуды 28 10 45 38 40 16 2 28
Контррефор- 17
мация Политическая мотивация 21 83 84 90 95 65 64 16 53
имущества и услуги в рубрику «Участие в торговле и производ-
стве» 2в.
В ссудах швейцарских городов, предоставляемых под процен-
ты, единообразия не наблюдается. Интенсивность финансирова-
ния аналогичных отраслей менялась от города к городу в зави-
симости от обстоятельств. В Женеве, где, как правило, денежные
средства казны были скудными, они ссужались скупо. Следует
упомянуть о попытке Сеньории учредить общественный банк,
обеспечив почти весь его денежный фонд. Предполагалось, что
капитал в 40 000—60 000 экю, занятый как 5% ссуда в Базеле,
будет вложен в женевскую экономику в виде 10% займа. Удач-
но начатое в 1568 г. предприятие в результате плохого руковод-
ства и несостоятельности многих клиентов было ликвидировано
Женевским советом в 1579—1581 гг.80
Среди клиентов женевского банка были и купцы-суконщики.
Систематическое изучение счетов этого банка, быть может, поз-
волит когда-нибудь обнаружить величину полученного суконщи-
29 См. выше, с. 138.
30 Monter W, Op. cit., р. 276—281.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
149
ками кредита. Помимо Женевы, капиталами из общественной
казны для ссуд купцам-сукноделам пользовались и другие горо-
да: в значительной степени Фрибур — на покупку сырья (шер-
сти или шелка), Люцерн — на оборудование, Цюрих — на расши-
рение предприятий. Объем инвестиций в сукноделие возрастал от
города к городу: около 5400 экю во Фрибуре, 19 000 экю в Лю-
церне, 35 000 экю в Цюрихе. Впрочем, всех превзошел Сен-Гал-
лен: его купцы и мануфактуристы-сукноделы получили 90 000 экю.
Общественные капиталы в торговле зерном и солью, строи-
тельстве городов Центральной и Восточной Швейцарии имели не
меньшее значение, чем в производстве и торговле сукном. В це-
лом изученные до настоящего времени ссуды в экономику Лю-
церна, Цюриха, Сен-Галлена и Шаффхаузена резко отличаются
от базельских, золотурнских, бернских и фрибурских ссуд.
Люцерн, кроме того, играл главную роль в прямом финанси-
ровании наемничества — важной для старинной Швейцарии эко-
номической отрасли.
Так, люцернское казначейство авансировало около 42 000 экю
полковникам и капитанам, отправлявшймся служить во Францию
и Испанию. Берн дал 27 000 экю своим солдатам, пришедшим
на помощь Генриху Наваррскому. Фрибур принял на себя уплату
15000 экю. Изредка вкладывавшиеся Женевой, Золотурном и
Цюрихом суммы не идут ни в какое сравнение со средствами,
которые предоставляли наемным войскам Люцерн, Берн и Фри-
бур.
К этим прямым инвестициям, предназначенным для иностран-
ной военной службы, следует добавить займы французским ко-
ролям (от Франциска I до Генриха IV), протестантским князь-
ям Франции, курфюрсту Пфальцскому и союзным городам. Все
эти клиенты заняли 825 000 экю, которыми они и оплатили боль-
шую часть расходов за службу швейцарских отрядов, использо-
ванных в войнах. Города ссужали эти деньги отчасти потому,
что поддерживали политику князей, обращавшихся за займами,
отчасти же исходя из интересов швейцарских наемников, кото-
рые в ряде случаев не увидели бы своих денег без финансового
участия городов. Эти «ссуды из любезности» косвенно помогали
швейцарской экономике, поскольку часть платежей и все пенсии
и проценты (например, с французских королей) снова направля-
лись в Швейцарию.
Каждый из девяти городов в тот или иной период предостав-
лял такого рода ссуды. Самыми осторожными были Сен-Галлен,
Люцерн и Женева (15 000—28 000 экю), самыми щедрыми —
Фрибур, Золотурн, Цюрих, Базель и Берн (100000—220000экю).
Беспроцентные ссуды общественных казначейств окрестному
дворянству на первый взгляд не должны как будто стимулировать
городскую экономику. Однако поскольку эти деньги расходовались
150
М. Кёрнер
дворянской клиентурой на поддержание привычного ей образа
жизни, и покупки тканей, вин, оружия и т. п. предметов роско-
ши совершались в городе 3‘, это приносило доход городской эко-
номике. Если же должник не мог вернуть занятого капитала, то
беспроцентная ссуда, предоставленная вначале как бы из любез-
ности, превращалась в земельную инвестицию, особенно в тех
случаях, когда город-кредитор принуждал уступать ему сборы и
доходы31 32 33.
Последним видом ссуды, который следует упомянуть, явля-
ется «политико-культурная» ссуда с целью поддержки Контрре-
формации. В 1589—1610 гг. поборник римско-католической веры
Люцерн (добавочно!) вложил около 48 000 экю в монастыри, аб-
батства и епископства. Таким образом было произведено финан-
сирование монастырей, выросших за счет новообращенных при-
верженцев католического благочестия.
III. КОНЪЮНКТУРА
Конъюнктурные элементы общественных расходов швейцар-
ских городов, в частности инвестиций в узком смысле слова
(в дальнейшем мы будем называть их для краткости просто ин-
вестициями) , будут охарактеризованы лишь в общих чертах.
В данное время я ограничился наблюдением их эволюции по де-
сятилетиям (см. график). Более детальный анализ с построени-
ем кривых на основе годичных числовых данных — дело ближай-
шего будущего.
1. ОБЩИЕ РАСХОДЫ И ИНВЕСТИЦИИ
За 100 лет общие расходы городов 88 выросли почти в три раза:
примерно с 315 000 экю в 1501—1510 гг. до 895 000 экю в 1601—
1610 гг. Если проследить относительный рост по десятилетиям,
то эволюция не была равномерной (табл. 7). Объяснения требу-
ют резкие скачки в 1511—1520 и 1571—1580 гг. Скачок 1511—
1520 гг. отразил существенное увеличение общих поступлений в
швейцарские казначейства, в особенности экстраординарные пап-
ские, миланские и французские пенсии34. Факторы роста в 1571 —
1580 гг. были иными. За трудный период первой половины века
31 Например, в 1542 г. граф де Грюер, покупая во Фрибуре оружие, упла-
тил 1114 экю за доспехи, копья и т. п. (Archives d’Etat de Fribourg, Comp-
tes des tr^soriers, N 279).
32 Koerner M. Endettement paysan...
33 Фрибур, Золотурн, Базель, Шаффхаузен, Цюрих, Люцерн.
34 Koerner М. Reforme et secularisation des biens ecclesiastiques, p. 221—223;
Idem. Solidarites..., p. 123 ss.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
151
Общественные расходы и инвестиции швейцарских городов (1501—1610 гг.)
в золотых экю
D ~~ общие расходы; I — инвестиции в узком значении слова; С — общественное
строительство, мосты, дороги; F — финансовые вклады; Е — участие в торговле и ре-
месле; Т — приобретение сборов и пошлин, территорий
152
М. Кёрнер
города исчерпали свой резервный фонд. Нехватку капиталов по-
крывали общественным займом. В 1581—1590 гг. был достигнут
рекорд по расходам — 1 135 000 экю. Но уже в следующем деся-
тилетии эта цифра снизилась на 22%, что отражает определен-
ный спад после двух десятилетий «финансовой лихорадки»35 36.
Эволюция инвестиций почти совпадала с общей эволюцией:
расходов (коэффициент поправки +0,95). Но по сравнению с
другими расходами, например с довольно жесткими расходами
на центральную администрацию, инвестиции являются более
гибкими зв< Это ясно из сравнения показателей роста и спада за
100 лет в табл. 7. Обычно рост инвестиций выражен резче, чем
Таблица 7. Сравнительная эволюция общих расходов и инвестиций (в %)
Годы Общие расходы Инвестиции Годы Общие расходы Инвестиции
1501-1510 1561-1570 +6,7 + 11,5
1511-1520 +64,8 +91,6 1571-1580 +49,0 +61,4
1521-1530 + 1,6 -7,4 1581-1590 +7,1 -5,0
1531-1540 +4,8 + 15,8 1591-1600 -22,0 -43,2
1541-1550 +4,4 +23,7 1601-1610 +1,0 +20,1
1551-1560 +15,4 + 16,7
подъем общих расходов. После резких подъемов в 1511 — 1520 и
1571 — 1580 гг. инвестиции стали медленно сокращаться по мере
того, как замедлялся рост общих расходов.
Снижение инвестиций в 1591—1600 гг. в два раза превысило
снижение общих расходов. Отсюда следует, что инвестиции, со-
ставлявшие минимально 41,9% (1501—1510) и максимально
66,6% (1571—1580) общих расходов, и определяют их колебния-
2. ОБЩЕСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В группе инвестиций расходы на общественные постройки об-
наруживают— особенно по сравнению с финансовыми вкладами,,
участием в торговле и ремесле и земельными приобретениями —
относительно небольшую гибкость (см. график). При этом нужно
иметь в виду, что речь идет о всех десятилетних данных по всем
шести городам в их совокупности. Это методическое упрощение
35 О конъюнктурных колебаниях общественных доходов см.: Koerner М.
Solidarites..., р. Ill ss. В большинстве городов рост доходов замедлился
около 1580 г. Однако города продолжали инвестирование по экономиче-
ским и политическим мотивам.
36 Относительно того, насколько быстро и гибко изменялись общественные
поступления и расходы в зависимости от конъюнктуры, см.: Ваггеге А.
Economic financiere. Paris, 1971, р. 298—360.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
158
мешает выявить конъюнктурные колебания в строительстве каж-
дого города в отдельности ”. Общая тенденция такого типа рас-
ходов, однако, постоянно направлена на увеличение, за исключе-
нием двух небольших отступлений в 1551—1560 и 1591—1600 гг.
Реальные затраты на строительство с 1501—1510 по 1601—1610 гг.
выросли в три раза: с 81 000 экю до 246 000 экю, а ежегодный
расход на городского жителя за год — с 0,28 до 0,68 экю.
Обычное содержание города стоит дорого. Нужно регулярно
следить за состоянием стен, башен, мостов, крыш и ремонтиро-
вать их. Растет число водоемов; во Фрибуре улучшается канали-
зация’8. Рост административного аппарата и его престижа тре-
бовал расширения и перестроек парадных зданий ратуши ”.
Частные лица и корпорации, желавшие построить каменные зда-
ния, обращались к старшине строительного дела в своем городе.
Городские власти поощряли подобную инициативу, Люцерн, на-
пример, предлагал своим бюргерам скупать по два-три старых
деревянных дома на слом и строить на их месте большой камен-
ный дом. Городская казна всегда финансировала при этом строи-
тельство фундамента и крыши, а иногДа также стен и доставку
материала37 38 39 40. В других швейцарских городах положение было
сходным. Таким образом менялся облик городов.
Значительных кризисов строительство в XVI в. не испытыва-
ло. Напротив, когда с 1560 г. экономический спад второй поло-
вины XVI в.41 стал ощущаться и в Швейцарии, города продол-
жали инвестирование недвижимости. Увеличивающаяся полити-
ческая неустойчивость заставляла их переделывать укрепления.
В 1560 г. Берн занял в Страсбурге 8000 экю (пистолей) для
укрепления фортов Ивердон, Морж и Эклюз.
Строительство «Мюно» в Шаффхаузене началось в 1563 и про-
должалось до 1585 г. Тогда же и Женеве пришлось усилить си-
стему обороны. Ее новый арсенал датируется 1559 г. В Люцерне
арсенал построен в 1567 г. Золотурн, уже с 1534 г. значительно
усиливавший фортификации, дополнил их в 1564 и 1571 гг. баш-
нями. Фрибур финансирует в 1578—1595 гг. работы в Ромоне. Цю-
37 Применение Средних национальных показателей постоянно ставит проб-
лему истолкования. Уже С. Е. Лабрусс настаивал на этом (Labrousse С. Е.
Quelques observations sur la lecture des courbes economiques.— Annales
historiques de la Revolution francaise, 1937, 14, p. 331—341).
38 Государственный архивист Фрибура и преподаватель Фрибурского уни-
верситета Н. Морар сообщил мне, что система канализации и водопро-
вода существовала во Фрибуре уже в средние века.
39 Во Фрибуре в 1501—1522 гг., в Базеле в 1504—1514 гг., в Цуге в 1505—
1509 г. Женева, Люцерн и Сен-Галлен в течение XVI в. также расши-
рили свои ратуши.
*° Messmer К., Hoppe Р. Op. cit.. S. 97—98.
41 Koerner М. Solidarites..., р. 533 ss.
154
М. Кёрнер
рих строит крепость Веденсвиль в 1551—1557 гг., а по окончании
этих работ расширяет в 1560—1564 гг. замок Грюнинген.
В городском строительстве второй половины XVI в. Реформа-
ция и Контрреформация в разной степени играли важную роль.
Кальвиновская академия в Женеве была построена в 1558—1563 гг.7
Цюрих строил церкви главным образом в деревне. Католические
Люцерн, Золотурн и Фрибур целиком или частично финансирова-
ли строительство церквей и часовен. Золотурн в 1580 г. расши-
рил свою школу. Фрибур в 1584—1592 гг. выстроил иезуитский
коллеж. Люцерн за это время закончил работы во дворце Риттер,
где также разместится иезуитский коллеж. Почти всюду строи-
лись часовенки — за чертой городов, по обочинам дорог, при въез-
де на мосты. Перестройка и расширение городских монастырей
часто велись и финансировались ведомством общественных работ.
Общественные заказы на алтари, на изваяния и прочие украше-
ния церквей выполнялись художниками.
Города инвестировали строительство, пока это было возможно.
Общее сокращение общественных доходов в 1591—1600 гг. выз-
вало одинаково заметное во всех отраслях ослабление инвести-
ций и общих расходов. Какое-то время города должны были сдер-
живать свое строительное рвение42. В начале XVII в. инвестиро-
вание недвижимости вновь увеличилось.
3. ФИНАНСОВЫЕ ИСПОМЕЩЕНИЯ
Изменение финансовых испомещений отчасти отражает обога-
щение швейцарских городов. Большинство городов еще в начале
XVI в. было обременено долгами, но, постепенно освободившись
от них, сами начали все больше и больше ссужать капиталы под
проценты. В сравнении с прочими инвестициями увеличение фи-
нансовых испомещений — наибольшее. Их подъем, замедление и
спад более четко выражены, чем в инвестициях вообще. Это очень
гибкий вид расходов, поскольку города свободно использовали
свои резервы полноценной монеты или приводили в движение
свой кредит у частных лиц.
Для первой трети века характерны беспроцентные ссуды
местному или областному дворянству, а также соседним со
Швейцарией князьям.
Пик этих операций приходится на 1511—1520 гг. (см. гра-
фик). В эти годы города могли ссужать значительные капиталы,
поскольку они приобрели еще больше во время Итальянских войн
и после их окончания. Впрочем, множество княжеских долгов ни-
когда не было погашено обращающейся монетой. Города возна-
42 В Люцерне замедление общественного строительства заметно с 1580 г.,
в других городах — с 1591 г.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
155
граждали себя конфискациями или приобретением территорий и
закладных на недвижимость43.
Со второй трети века города все более и более облегчали пла-
тежи частных лиц по казенным обязательствам. Долги консоли-
дировались в долговых обязательствах городам. Городские долж-
ники имели право на отчуждение любых имеющихся у них об-
лигаций. Таким образом их подвижность облегчала выплату
долгов без применения наличных денег. Одновременно встреча-
ются и ссуды частным лицам и торговым предприятиям в обра-
щающейся монете. Начиная с 1560 г., т. е. в период стагнации
большинства экономических отраслей, этот тип вложений на сред-
ний и долгий срок приобретает важное значение.
На это уже указали В. Бодмер и X. К. Пайер при исследова-
нии борьбы Цюриха против безработицы и экономического за-
стоя 44. В 1568 г. Ганс Генрих Лохманн, казначей Генрих Томан,
Ганс Келлер и Ганс Конрад Эшер получили из общественной
казны 12 000 экю на суконную мануфактуру. Позднее Совет до-
бавил им еще 3000 экю. Лохманн занял в казне в 1565 г.
6000 экю и в 1567 г. 10 200 экю на собственную торговлю солью.
Вернув в 1568 г. 6000 экю, он вложил 10200 экю в сукноделие.
В 1574 г. город снова ссудил Гансу Келлеру около 2800 экю 45 46.
Тогда же Фрибур пытался оживить свое суконное производ-
ство инвестициями 2900 экю в 1569 г., 7200 экю в 1572 г. и
2800 экю в 1575 г. Политика инвестирования в Сен-Галлене с
1545 г. одновременно направлялась и на ремесло, и на торговлю.
Для этого города не было ничего необычного в выдаче ссуд в
период упадка. Это соответствовало линии поведения городских
властей. Благодаря общественным капиталам и поддержке маги-
страта цюрихские суконщики приспособили свое дело к новым
требованиям и быстро распространили в деревне систему раздачи
сырья. Во Фрибуре традиционные корпорации упорно сопротив-
лялись всякому новшеству в производстве, в торговле и даже от-
казывались подчинить качество сукна требованиям моды. Цюрих-
ские и сен-галленские мануфактуры сумели преодолеть неблаго-
приятную полосу, в то время как инвестирование фрибурских
промыслов не принесло желаемых для магистрата результатов4в.
Предоставляя ссуды купцам, города поощряли также и тор-
говлю. Так обстояло дело с ввозом соли во Фрибур и Женеву
около 1560 г., в Цюрих и Люцерн после 1572 г., в Берн в 1579 и
43 Koerner М. Endettement paysan...
44 Bodmer IF. Die Entwicklung der schweizerischen Textilwirtschaft im Rah-
men der iibrigen Industrien und Wirtschaftszweige. Zurich, 1960, S. 99—
102; Peyer H. C. Von Handel und Bank im alten Zurich, S. 25—29.
45 Staatsarchiv Zurich, С. I, Stadt und Land, 370 I (10 000 L).
46 Peyer H. C. Wollgewerbe, Viehzucht, Solddienst und Bevolkerungsentwick-
lung..., S. 85—86.
156
М. Кёрнер
1580 гг. Шаффхаузен предоставил в 1562 г. ссуду корпорации
перевозчиков, живших в Брютизеллене и Хедингене. Женева под-
держала свои предприятия ссудами в 1565 г. Открытие общест-
венного кредита в 1568 г. явно связано с попыткой магистрата
укрепить женевскую экономику с помощью дешевых базельских
капиталов.
Однако наиболее хлопотным «национальным делом» была
иностранная служба. Пока шла война между Францией и Испа-
нией, швейцарские наемники имели работу и хлеб. Признаки
кризиса обнаружились в 1550—1560 гг. Французский король, ис-
черпав все возможности, вынужден был прекратить войну. Но
столь желанный в принципе мир означал безработицу для тысяч
людей. Если наемники возвращались в Швейцарию с карманами,
набитыми заработанными на войне экю, это было еще не столь
опасно. Они могли прожить некоторое время до вербовки на сле-
дующую войну. Но дело обстояло иначе, если они возвращались
в неурожайный год, когда еды не хватало и оседлому населению.
Нежелательны были и дополнительные едоки, и обременительные
экю, косвенно служившие причиной роста цен из-за увеличения
спроса. С этой точки зрения сотни тысяч экю городских и бюр-
герских ссуд королям Франции приобретали значение инвести-
ций, отодвигавших для наемников угрозу безработицы на буду-
щие времена.
До воцарения Генриха IV ссуды князьям и их агентам по вер-
бовке солдат преследуют аналогичную цель: финансировать по-
средством кредита службу наемных солдат и предотвратить свя-
занную с их возвращением безработицу. Финансовые вложения
городов достигли высшей точки в 1571—1580 гг., а затем, когда
города решили не истощать более свои денежные запасы, стали
уменьшаться. Тогда же города своим поручительством помогли
обоим Генрихам облегчить эмиссию займов в Базеле47. 4 * * * * * * * * * * * * *
4. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Наряду с прочими инвестициями шла покупка сборов и пош-
лин, а также оплата долгов, с которыми были связаны земель-
ные приобретения. Обстоятельства сложились так, что в течение
1581—1590 гг. города полностью освободились от обязательств
по закладным, связанным с различными приобретениями. Бла-
гоприятная для швейцарских городов финансовая конъюнктура
в XVI в. позволила им округлить свои территории48.
47 См. раздел «Франко-швейцарская финансовая солидарность» в кн.: Ko-
erner М. Solidarites..., р. 499—526.
48 Единственным городом, который в XVI в. не увеличил своей территории,
был Люцерн. Может быть, это одна из причин его первенства по годич-
ным инвестициям на жителя в области строительства и финансовых
операций.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
157
5. ТОРГОВЛЯ И РЕМЕСЛО
В ремесле й торговле прослеживается относительная стабиль-
ность расходов, предназначенных финансировать определенные
предприятия,— подобно тому, как это совершается в наши дни.
Города стремились обеспечить стабильный запас зерна, вина и
соли. Для этого в каждом городе ежегодно или время от време-
ни выделялись капиталы. Фрибур ежегодно финансирует построй-
ку плотов, перевозивших бюргерские товары в Золотурн и Цюр-
зах. Люцерн содержит верфь на берегу озера Четырех Канто-
нов. Там постоянно строятся транспортные суда для перевозки
транзитных товаров — камня, леса и прочих строительных мате-
риалов. Чеканщики монеты чаще всего получали из казны аванс,
который вместе с их собственным капиталом позволял им чека-
нить монету, приобретать драгоценные металлы, скупать обесце-
нившуюся монету. Выручка делилась между городом и чеканщи-
ком монет. Городские менялы работали на сходных условиях.
В течение XVI в. этот тип городских инвестиций возрос в
шести исследуемых нами городах примерно на 20 000 экю за де-
сятилетие. Особенно эти инвестиции увеличились в 1561—1590 гг.:
вначале в связи с кризисом торговли, а затем сельского хозяй-
ства. Население городов уже не обеспечивается в должной мере
съестными припасами. Частная инициатива оказалась недостаточ-
но динамичной, чтобы удовлетворить растущий спрос увеличи-
вавшегося городского населения. И тогда городские власти вложе-
нием своих капиталов обеспечили снабжение хлебом, вином и
солью не только города, но и деревни.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В XVI в. швейцарские города находятся в благоприятном
положении. Они богаты, располагают достаточными капиталами
и кредитом, чтобы суверенно размещать бблыпую часть своих
инвестиций. Так, например, они определяют характер и качество'
финансируемых ими построек. Если это представляется им нуж-
ным, они приглашают для реализации своих проектов специа-
листов из других стран4®. Города располагают достаточным ка-
питалом, чтобы полностью или частично финансировать полезные*
обществу мероприятия. Как только выдается случай, они расши-
ряют свои территории в ущерб окрестному дворянству. Кроме
того, они выступают в роли банкиров, ссужая деньги под про-
центы. Люцерн, например, смог финансировать за счет активно-
го сальдо 1,7% своих общих расходов. 40
40 В 1560—1561 гг. старшина люцернских строителей нанял итальянских
резчиков и каменщиков для работы над дворцом Риттер (Staatsarchiv
Luzern, cod. 9925, 1560—1561).
158'
М. Кёрнер
В инвестициях можно в известной степени отличить матери-
альные или экономические потребности, с одной стороны, удов-
летворение политических, религиозных и культурных требова-
ний — с другой. Однако нередко — и я надеюсь, что мне удалось
это показать посредством анализа структур и конъюнктуры,—
при решении проблемы инвестирования политические требования
сочетались с экономическими, экономические — с религиозными,
а религиозные — с политическими.
Когда же городам угрожал застой и экономические трудно-
сти, они направляли капиталы на поддержку испытывающих за-
труднения предприятий и, вероятно, для усиления финансовых
возможностей тех предприятий, которым еше только угрожали
сложности. Города делали все для поощрения коммерческих пе-
ревозок, следя за дорогами и мостами, прокладывая новые до-
роги, обеспечивая безопасность на своей территории. В целом в
рамках своего политического влияния они обладали достаточны-
ми финансовыми средствами, чтобы преодолеть упадок с помощью
целенаправленных инвестиций. При этом Люцерн, Цюрих и Шаф-
фхаузен, а иногда и Сен-Галлен и Базель преодолевали грозя-
щие им затруднения лучше, чем Золотурн, Фрибур и Женева.
Это объяснялось тем, что первые сумели быстро аккумулировать
финансовый капитал, что позволило им успешно проводить по-
литику активного инвестирования, тогда как в других городах
накопление капитала было не столь значительным и результаты
инвестирования экономики оказались менее благоприятными.
Приложение I
ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ГОРОДОВ ШВЕЙЦАРИИ
К ОБЩИМ РАСХОДАМ В ОБРАЩАЮЩЕЙСЯ МОНЕТЕ
КАЖДОГО ГОРОДА ЗА 1501 — 1610 гг.
Функциональная классификация расходов Фрибур Золо- турн Базель Шаффха- узен Цюрих Люцерн
Л. Общественные расходы на иму- щества и услуги 1. Формирование материального ка- питала 1.1. Участие в торговле и ремесле 3,7 2,6 6,3 6,5 7,2 4,6
1.2. Общественное строительство, 20,6 17,2 18,6 37,0 32,6 34,0
мосты, дороги 1.3. Приобретение сборов и пош- лин 12,2 3,9 7,3 3,7 4,7 0,0
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
159
Приложение I (окончание)
Функциональная классификация расходов Фрибур Золо- турн Базель Шаффха- узен Цюрих Люцерн
2. Формирование нематериального
капитала
2.1. Администрация, судопро- изводство 22,6 17,8 14,4 14,2 11,5| 24,0
2.2. Внешняя политика 6,8 3,7 4,8 4,3 6,4]
2.3. Церковь, образование, здра- 0,7 1,1 03 0,4 6,0 0,3
воохранение
3. Внешняя и внутренняя безопас- ность 5,8 3,4 5,6 11,0 8,8 3,5
Сумма общественных расходов на 72,4 49,7 57,3 77,1 71,2 66,4
имущества и услуги Б. Перемещение капиталов
1. Пассивные проценты 19,6 25,6 31,1 6,2 8,3 0,0
2. Финансовые испомещения 8,0 24,7 11,6 16,7 20,5 33,6
Общая сумма переводов капиталов 27,6 5р,3 42,7 22,9 28,8 33,6
Общие расходы в 1000 экю 1104 1089 1960 811 1753 961
Приложение II
ГОДИЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
ШВЕЙЦАРСКИХ ГОРОДОВ
В ЗОЛОТЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ЭКЮ НА ЖИТЕЛЯ
(средние данные за 1501—1610 гг.)
Функциональная классификация расходов Фрибур Золо- турн Базель Шаффха- узен ; Цюрих Люцерн
1 2 3 4 5 1 0 7
А. Общественные расходы на иму- щества и услуги 1. Формирование материального капитала 1.1. Участие в торговле и ремесле 0,07 0,09 0,13 0,10 0,18 0,11
1.2. Общественное строительство, 0,40 0,61 0,37 0,56 0,85 0,78
мосты, дороги 1.3. Приобретение сборов и пош- 0,25 0,06 0,15 0,06 0,12 0,00
лин 2. Формирование нематериального капитала 2.1. Администрация, судопро- 0,44 0,59 0,28 0,21 0,29 'J 0,58
изводство 2.2. Внешняя политика 0,15 0,13 0,09 0,06 0,16 J
160
М. Кёрнер
Приложение II (окончание)
i 1 2 1 3 1 * 1 5 6 7
2.3. Церковь, образование, здра- воохранение 0.01 0,04 0,01 0,01 0,00 0,01
3. Внутренняя и внешняя безопас- ность 0.12 0,13 0,13 0,16 0,22 0,08
Общая сумма общественных расхо- дов на имущества и услуги Б. Перемещение капиталов 1.44 1,65 1,16 1,16 1,82 1,54
1. Пассивные проценты 0,34 0,84 0,55 0,11 0,21 0,00
2. Финансовые испомещения 0,15 0,81 0,19 0,25 0,52 0,76
Общая сумма перемещений капи- талов 0,49 1,65 0,74 0,36 0,73 0,76
Общая сумма общественных расхо- дов 1,93 3,30 1,90 1,52 2,55 2,30
Приложение III
ИСЧИСЛЕНИЕ НОМИНАЛЬНОГО
ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА ДЛЯ ЦЮРИХА,
ФРИБУРА И ЛЮЦЕРНА ОКОЛО 1500 И 1600 гг.
Я отдаю себе отчет в том, что основы моих исчислений не-
достаточно прочны. Их необходимо подкрепить тщательным изу-
чением цен и заработков в Швейцарии. Однако метод г-на Бэро-
ша для XVI и XVII вв. можно проверить лишь эмпирически,
и я пытаюсь здесь приступить к такой проверке.
Первый этап.
Согласно П. Бэрошу, нужно знать средний заработок город-
ского неквалифицированного поденщика без пропитания. При от-
сутствии таких данных следует включить в заработок денежный
эквивалент натуральной оплаты.
Цюрих 50.
Начало XVII в.: поденщик без пропитания — 9 су.
Начало XVI в.: поденщик с пропитанием — 2,5 су.
Этот заработок был умножен на общий средний коэффициент
заработка рабочего без пропитания и заработка рабочего с про-
питанием в середине века (1,95). Таким образом, вероятный за-
работок цюрихского рабочего с пропитанием в начале XVI в. со-
ставил 4,9 су.
Люцерн и.
Конец XVI в.: поденщик с пропитанием — 5 су.
поденщик без пропитания — 10 су.
30 Источник: Hauser A. Vom Essen und Trinken im alten Zurich. Zurich, 1962,
Statistischer Anhang: Lohne und Preise 1500—1800.
51 Источник: Messmer K., Hoppe P. Op. cit., S. 94—95.
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в.
161
Начало XVI в.: поденщик с пропитанием — 2,5 су.
Умножив этот заработок на 2 (поскольку сравнение возмож-
но, коэффициенты 1,95—2,35 общие для заработков рабочих без
питания и рабочих с питанием), получим 5 су — вероятный за-
работок люцернского рабочего без пропитания в начале XVI в.
Фрибур “2.
Начало XVI в.: заработки поденщиков колебались от 3 до
3,3 су.
Весьма вероятно, что здесь, как и в Люцерне и Цюрихе, речь
идет о заработках рабочих с пропитанием. Но поскольку для Фри-
бура ныне отсутствуют сравнительные данные о заработке рабоче-
го с питанием и без него, то я увеличил вдвое средний зарабо-
ток начала XVI в. Вероятный заработок фрибурского рабочего
без пропитания приближался к 6,2 су. Конец XVI — начало
XVII в.: последние точные цифры счетов относятся к 1581—
1590 гг.: 7,5-8,2 су.
Данными о заработках поденщиков в последние годы мы не
располагаем. Но по аналогии с ростом заработков в период 1551 —
1590 гг. во Фрибуре и тем, который установлен для Цюриха и
Люцерна, средний фрибурский заработок должен был к концу
XVI — началу XVII в. составлять около 12,5 су.
Второй этап.
П. Бэрош предлагает увеличить в 200 раз заработок поденщи-
ка, чтобы получить номинальный валовой национальный доход
в обращающейся монете, т. е. в цюрихских, люцернских и фри-
бурских су. Разделив эту цифру на количество су в каждом ме-
стном ливре и на средние десятилетние показатели курса золо-
того экю, получим выражение номинального валового националь-
ного дохода в реальной монете.
Цюрих: начало XVI в.
начало XVII в
Люцерн: начало XVI в
начало XVII в
Фрибур: начало XVI в
начало XVII в.: ”20x^75' = 18,5 экю.
Перевод с французского
Н. В. Ревуненковой
52 Источник: Archives d’Etat de Fribourg, Comptes des tresoriers, N 193—406.
6 Средние века, в. 43
4,9X200
“ 20X2,63 = 18,6 экю,
9X200
’ 20X4,073 =22,1 экю.
. 5x200
"Т5Х4,32=15,4 экю,
. _10х200
” ”15X6,68 =20,0 экю.
. _§,2Х2ОО
" 20X3,35 =18,5 экю,
Б. Л. Каменецкий
ИДЕЙНАЯ БОРЬБА В АНГЛИИ
В ПЕРИОД КРИЗИСА АБСОЛЮТИЗМА
(КОНЕЦ XVI - НАЧАЛО XVII В.).
ПОЛИТИКО-ЮРИДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
До конца XVI в. идейно-политическая борьба в Англии ве-
лась, когда английское абсолютистское государство еще не исчер-
пало полностью своего потенциала и играло до известной степени
прогрессивную роль, способствуя или во всяком случае не препят-
ствуя развитию капиталистического уклада. Парламент в это вре-
мя служил, как правило, опорой абсолютистской политики; на-
рождавшаяся буржуазия и новое дворянство в основном поддер-
живали ее, так как абсолютная монархия тогда еще «покрови-
тельствовала торговле и промышленности, одновременно поощряя
тем самым возвышение класса буржуазии, и видела в них необ-
ходимые условия как национальной мощи, так и собственного ве-
ликолепия» \
Положение существенно изменилось в связи со значительным
увеличением удельного веса капиталистического уклада в эконо-
мике страны и укреплением позиции буржуазии и нового дво-
рянства: политика абсолютистского государства, которое теперь
часто «становится поперек дороги торговле и промышленности» 1 2,
перестала удовлетворять эти социальные слои. Назойливое вме-
шательство государства в отношения собственности и регламен-
тация предпринимательской деятельности, внешняя политика, под-
час диктуемая династическими интересами,— все это вызывало
острое недовольство новых классов.
Уже с начала 90-х годов XVI в. начинают проявляться су-
щественные признаки приближавшегося кризиса английского аб-
солютизма. Его причина — нарушение альянса абсолютистского
государства с буржуазией и новым дворянством, его симптомы —
возникновение и усиление дворянско-буржуазной оппозиции в
парламенте, все чаще вступавшей в конфликты с королевской
властью, его результат — сужение сферы воздействия идеологии
абсолютизма на общественное сознание. Кризис обострялся все
возраставшим недовольством низов деревенского и городского на-
селения, возмущенных ростом налогов, свирепостью законодатель-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 308. '
2 Там же.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в. 163
ства о бедных, коррупцией королевских чиновников, беспощад-
ным подавлением вспыхивавших в разных частях страны кре-
стьянских восстаний 3.
Надвигавшийся кризис абсолютизма и обусловленные им рез-
кие изменения в положении всех социальных сил естественно
оказали существенное влияние на различные направления поли-
тической мысли. Решительные сдвиги произошли в это время в
идейно-политических позициях как сторонников абсолютистских
концепций, так и идеологов буржуазии и нового дворянства,
борьба между ними стала более острой и открытой. Конфликты
короны с парламентом возникали все чаще. Уже в конце XVI в.,
отмечал К. Маркс, «в Англии сословие горожан с каждым годом
становилось все более дерзким; оно окрепло благодаря (разви-
тию) промышленности и торговли». Язык нижней палаты «стано-
вился все строптивее» 4.
Дерзость и строптивость буржуазии усиливались в связи с
тем, что она могла зачастую действовать вместе с новым дво-
рянством. «Этот связанный с буржуазией класс крупных земле-
владельцев — возникший, впрочем, уже при Генрихе VIII — на-
ходился, в отличие от французского феодального землевладения
1789 г., не в противоречии, а, наоборот, в полном согласии с
условиями существования буржуазии. Земельные владения этого
класса представляли на деле не феодальную, а буржуазную соб-
ственность» 5 6.
В современной буржуазной историографии, проявляющей не-
малый интерес к конфликтам между королем и парламентом в
начале XVII в., существует тенденция всячески затушевывать
классовый характер столкновений сторонников абсолютизма и дво-
рянско-буржуазной оппозиции. Так, например, американская ис-
следовательница М. Джадсон утверждает, что в сущности никако-
го серьезного конфликта между короной и парламентской оппо-
зицией не было: обе стороны находились в полном согласии по
основным вопросам, признавая, что необходимо выработать кон-
ституцию, учитывающую интересы обеих сторон; их споры, по
мнению автора, касались лишь отдельных деталей, мешавших
достижению компромиссов, к которым каждая из сторон по суще-
ству стремилась ®.
Дж. Л. Моссе, хотя и признает наличие серьезных разногла-
сий между королем и парламентом в начале XVII в., видит в
этих разногласиях лишь различное понимание сторонами некото-
3 Английская буржуазная революция XVII века/Под ред. Е. А. Космин-
ского, Я. А. Левицкого. М., 1954, т. 1, с. 82.
4 Архив Маркса и Энгельса. М., 1946, т. 8, с. 86.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 222.
6 Judson М. The Crisis of the Constitution. New Brunswick, 1949, p. 12—14.
6*
164 Б. А. Каменецкий
рых политико-юридических категорий, а отнюдь не борьбу проти-
воборствующих социальных сил7. В появившихся в последнее
время исследованиях У. Нотестейна и Р. Целлера8 * 10 идейно-по-
литическая борьба в первой половине XVII в. сводится в сущно-
сти к недоразумениям, вызванным особенностями характера Яко-
ва I и некоторых агрессивно настроенных членов палаты общин.
На отсутствии серьезных разногласий по основным политическим
вопросам между Яковом I и парламентом настаивает и
А. Г. Р. Смит, считающий, что столкновения между ними в зна-
чительной степени объяснялись недостатком дипломатического
такта у монарха и излишней самоуверенностью некоторых членов
палаты общин В несколько завуалированной форме попытался
затушевать классовый характер идейно-политических концепций
начала XVII в. Кр. Хилл,0. Он констатирует, что любое на-
правление политической мысли, которое играло значительную роль
в истории, добивалось этого тем, что выражало интересы извест-
ных социальных слоев. Однако в дальнейшем интеллектуальная
предыстория английской революции рассматривается отнюдь не
как борьба идей, выражавших интересы противоборствующих
классов, а как следствие ряда изменений, происшедших в жизни
общества в целом.
Рассмотренные взгляды на сущность идейно-политического
развития Англии в первой половине XVII в.— вполне в духе
давно и широко распространенного в английской буржуазной ис-
ториографии утверждения об исключительности политической эво-
люции островной Англии в противоположность континентальной
Европе, об исконных демократических традициях, существовав
ших в этой стране, и о якобы характерной для Англии склон-
ности к компромиссам и конечному примирению интересов раз-
личных социальных групп. Подобные взгляды приводили к тща-
тельному затушевыванию классовых противоречий и стремлению
доказать, что если и существовали некоторые антагонизмы, то
они не вытекали из социальной природы общества, носили слу-
чайный характер и, как правило, благополучно разрешались в
разумных компромиссах, выгодных всем слоям общества. Госу-
дарство при этом изображается как гарант социального мира и
блюститель высшей справедливости. Л между том Англия, как и
7 Masse G. L. The Struggle for Sovereignty in England. 2nd Ed. New York,
1968, p. 6—7.
8 Xotestein ИЛ The House of Commons, 1604—10. New Haven, 1971; Zaller R.
The Parliament of 1621. Berkley, 1971.
• Smith A. G. R. Constitutional Ideas and Parliamentary Developments in En-
gland, 1603—1625.— In: The Reign of James VI and I. New York, 1973,
p. 172-176.
10 Hill Chr. Intellectual Origins of the English Revolution. Oxford, 1965, p. 3,
Идейная борьба в Англии конца XVI— начала XVII в.
165
другие страны, на всех этапах своего исторического развития яв-
лялась ареной классовой борьбы, и идейно-политическая борьба
в начале XVII в. отнюдь не являлась исключением, хотя компро-
миссы между борющимися силами и имели еще место в это время.
Конфликт между королем и парламентом, разгоревшийся в
этот период и переросший в начале 40-х годов XVII в. в рево-
люцию, был закономерным выражением и формой проявления
классовых противоречий между абсолютистским государством и
образовавшимся тогда буржуазно-дворянским блоком. Определить
особенности идейно-политических конфликтов указанного периода,
охарактеризовать позиции главных ее участников и вскрыть
классовые корни их идей — такова задача этой статьи.
Как известно, в рассматриваемое время идейная борьба бур-
жуазно-дворянского блока с абсолютизмом весьма ярко прояв-
лялась в религиозно-церковной сфере, в пуританском движении.
Эта сторона идейной борьбы в период генезиса капитализма дав-
но вызывает интерес и зарубежных и советских историков. Мы
же сконцентрируем свое внимание на^ политико-юридическом ас-
пекте классовой борьбы в области идеологии в период начав-
шегося кризиса английского абсолютизма, вопросе, который еще
не получил освещения в советской историографии. В связи с
этим объектом анализа будут взгляды мыслителей, в произведе-
ниях которых содержится либо моделирование определенных
структур государственного и общественного устройства, либо юри-
дическое обоснование соответствующего политического строя и
предлагаемых реформ в нем.
Одной из важнейших арен политической борьбы в рассмат-
риваемый период являлся парламент, главным образом палата
общин. При первых Тюдорах парламент превратился из органа,
ограничивавшего королевскую власть, каким он был при сослов-
ной монархии, в послушный инструмент королевской политики.
Тактике английского абсолютизма до наступления его кризиса
было свойственно прикрывать почти неограниченную- власть мо-
нарха маской якобы строго соблюдаемой парламентской закон-
ности и подчинения принципам общего права. Общее право —
это сложившаяся в Англии юридическая система, принципы ко-
торой были извлечены из судебных прецедентов и служили осно-
ванием для толкования законов и регулирования отношений, не
предусмотренных законом. В практике абсолютистского государ-
ства в пору его расцвета была реализована выдвинутая еще в
XV в. Дж. Фортескью идея о целесообразности и возможности
превращения ограничивающих королевскую власть представитель-
ных учреждений сословной монархии в одно из эффективных
средств для ее усиления. В то время как на континенте Европы
уже в XVI в. вследствие укрепления абсолютизма появились си-
стемы политической мысли, обосновывавшие необходимость едй-
166
Б. А. Каменецкий
ноличпой власти монарха (Макьявелли, Боден, Ферро, Грасель),
в Англии большинство стоящих на абсолютистских позициях фи-
лософов и публицистов предпочитало утверждать, что там в отли-
чие от континентальных стран Европы король правит не едино-
лично, а всегда в союзе и согласии с парламентом.
Политический строй своей страны они. вслед за Фортескью,
называли смешанной монархией. Английский абсолютизм в пери-
од своего утверждения не нуждался в характерных для конти-
нента формах абсолютистской идеологии, он предпочитал рядить-
ся в тогу власти, действующей в контакте с сословно-представи-
тельными учреждениями11. Только в конце царствования
Елизаветы I, когда капиталистические элементы стали настолько
сильными, что не хотели уже мириться с монополией абсолют-
ной монархии на политическую власть, начался конфликт меж-
ду абсолютизмом и парламентом, обе стороны — приверженцы аб-
солютизма и буржуазно-дворянская оппозиция — начали выраба-
тывать и противопоставлять друг другу свои взгляды и требо-
вания.
Тюдоровские теоретики и пропагандисты идеологии абсолю-
тизма, обосновывая, защищая и популяризируя формировавшую-
ся в XVI в. структуру английского абсолютистского государст-
ва, изображали его обычно как воплощение высших принципов
права и справедливости. Этими принципами, а не собственным
произволом определялась деятельность монархов — таков был ос-
новной тезис протюдоровских публицистов и политических фило-
софов: Хр. Сент-Джермена, Т. Старки, Т. Смита и др. Они же
всегда подчеркивали, что высшую власть в государстве осуществ-
ляет не король единолично, а король в парламенте. До наступ-
ления кризиса абсолютизма король, как правило, не противопо-
ставлялся парламенту, а был его естественным главой. До извест-
ного времени такая форма правления была выгодна не только
феодальным, но и буржуазно-дворянским слоям, поскольку она
до некоторой степени учитывала и потребности развивавшегося
капиталистического уклада. Однако усиление позиций этих соци-
альных слоев вызывало все нарастающую их оппозицию абсо-
лютизму, стремление противопоставить ему свои собственные ин-
тересы.
Еще с начала 70-х годов XVI в. в парламенте неоднократно
поднимался вопрос о свободе слова. В 1576 г. один из пуритан-
ских лидеров, П. Уэнтуорт, выступил в палате общин с яркой ре-
чью, доказывая, что члены палаты общин имеют право свободно
обсуждать и критиковать все религиозные и политические вопро-
11 См.: Каменецкий Б. А. Формирование абсолютистской идеологии в Анг-
лии XVI в. и ее особенности.— ВИ, 1969, №8.
Идейная борьба в Англии конца XVI— начала XVII в.
167
сы, в том числе и те, решение которых считалось прерогативой
монарха 12.
В 80—90-х годах конфликты между короной и парламентом
участились и усилились. Борьба шла главным образом против
налоговой политики правительства, против непомерных требова-
ний субсидий и поставок. Особенно бурными были атаки парла-
ментской оппозиции в связи с вопросом о монополиях, т. е. о
прерогативе монарха предоставлять отдельным лицам или компа-
ниям исключительное право на занятие той или иной отраслью
промышленной или торговой деятельности, права на монопольное
производство определенных товаров или торговли ими.
Выдача соответствующих патентов использовалась королев-
ским правительством как в фискальных интересах, так и для
осуществления контроля над экономической жизнью, что тормо-
зило развитие капиталистического уклада. Борьба против пред-
оставления монополий делалась все более острой. Если в 1597 г.
парламентская оппозиция обратилась с петицией к королеве Ели-
завете, прося уничтожить некоторые наиболее тяжелые монопо-
лии, то в 1601 г. многие члены палаты общин требовали уже
отмены самой прерогативы предоставлять монополии 13.
Королева в это время в борьбе с парламентской оппозици-
ей неоднократно ссылалась на нарушение* своей прерогативы и
широко пользовалась правом вето, в результате чего многие не-
угодные ей билли, отражавшие интересы буржуазии и нового
дворянства, не превращались в законодательные акты14. Нару-
шение альянса короля и парламента, отражавшее усиление по-
зиций капиталистического уклада в стране, создало новое поло-
жение. Теперь монарх и парламент зачастую выступали уже не
как части одного целого, не как союзники, а как антагонисты,
боровшиеся между собой. Разумеется, каждая из противостояв-
ших сторон стремилась создать свою идейную платформу. В ре-
зультате выкристаллизовываются новые формы идеологии как аб-
солютизма, так и оппозиционной буржуазии и нового дворянства.
Большую роль в формировании идейного арсенала обеих сто-
рон играли вопросы права. Каждая из борющихся сторон стре-
милась переосмыслить и использовать для своих целей сложив-
шиеся и циркулировавшие в то время политико-юридические
концепции. В центре спора оказалось, как уже не раз в про-
шлом, английское общее право, которое еще в XV в. выдающий-
ся политический мыслитель и юрист Дж. Фортескью отождест-
12 Elton G. R. England under the Tudors. London, 1969, p. 317.
13 Ibid., p. 461—463.
14 Neale J. E. Elizabeth I and her Parliaments, 1584—1601. London, 1957, p. 211,
212, 357, 358; Hinton R. W. K. The Decline of Parliamentary Government
under Elizabeth I and the Early Stuarts.— Cambridge Historical Journal,
1957. vol. 13, N 2, p. 116—132.
168
Б. А. Каменецкий
вил с естественным правом, считая его основой государственного
строя Англии и опорой сильной королевской власти 15 16.
В течение большей части XVI в. публицисты абсолютистско-
го направления, следуя за Фортескью, рассматривали общее пра-
во Англии как основание роста и укрепления власти монарха.
Оно признавалось тогда высшим авторитетом даже для самой ко-
роны. И это естественно. Общее право развивалось в средневе-
ковой Англии в целостную юридическую систему в связи с воз-
никновением в этой стране централизованного феодального госу-
дарства. Практика королевской юстиции, особенно института
разъездных судей, т. е. рассылки членов королевской курии на
места для судебных расследований и взимания поборов, способ-
ствовала выработке из пестрой смеси правового материала, свое-
образного в каждом графстве, общего для всей страны права —
common law. Источником общего права были отчеты и записи о
судебных решениях; из них судьи черпали основания для своих
приговоров и решений. В процессе формирования общего права
известную роль сыграли и элементы римского, а также средневе-
кового канонического права, занесенные в Англию с континента.
Общее право с самого начала противопоставлялось как местному
обычному праву, так и чужеземному римскому праву.
Общее право явилась важным орудием централизационной и
интеграционной политики национального феодального государст-
ва, особенно при переходе его в стадию абсолютизма. Оно было
испытанным оружием в борьбе с феодальной раздробленностью и
своеволием феодальных магнатов и надежным защитником инте-
ресов имущих классов от покушения на их собственность со
стороны народных масс. «Суды общего права были королевскими
судами, и судьи в них были королевскими судьями, и осуществ-
ляли они королевскую политику» 1в. Как единая для всей страны
правовая система, общее право оказывало известное содействие
развитию товарно-денежных отношений. Эту юридическую си-
стему поддерживали в ту пору все классы, так или иначе за-
интересованные в развитии капиталистического уклада: новое
дворянство, верхушка йоменов и городская буржуазия.
Общее право играло в истории средневековой Англии не
только значительную юридическую, но и большую политическую
роль. Специфические особенности английского абсолютизма и осо-
бая роль общего права в обосновании и укреплении позиций
феодального государства этой страны в период его временного
союза с нарождающейся буржуазией явились одной из основных
15 Каменецкий Б. А. Джон Фортескью и его учение о праве и собственно-
сти.— Научные доклады высшей школы. Исторические науки, 1960, № 4.
16 Holdsworth W. A. History of English Law. 3rd Ed. London, 1922, vol. 1,
p. 194.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в. 169
Sf
причин того, что Англия избежала в отличие от континента ре-
цепции римского права. А между тем такая возможность суще-
ствовала в Англии в XVI в., во времена Генриха VIII 17 18. Ведь
эта юридическая система освящала неограниченную власть мо-
нарха. Однако при наличии послушного парламента Генрих VIII
решил, что осуществлять свою власть в согласии с лордами и
общинами, опираясь на национальное общее право, значительно
удобнее и выгоднее, чем открыто обнаруживать свой деспотизм.
До нарушения союза королевской власти с парламентом основ-
ными идеологами абсолютизма выступали юристы общего права,
которых всегда было много среди членов палаты общин.
В XIV—XVI вв. на принципы и нормы общего права, отожде-
ствляемые с естественным правом, опиралась в значительной сте-
пени политика английского феодального государства. Высшая
правовая санкция усиливала не только политический, но и мо-
ральный авторитет королевской власти.
Принципы общего права лежали в основе концепций многих
идеологов английского абсолютизма в период его утверждения и
расцвета. До тех пор пока абсолютистское государство пользова-
лось поддержкой еще недостаточно окрепшей буржуазии, доктри-
ны естественного права в указанной выше интерпретации нахо-
дились главным образом на вооружении идеологов абсолютизма.
Однако уже во второй половине XVI в., когда начали появлять-
ся первые значительные трещины в отношениях между абсолю-
тистским государством и буржуазно-дворянскими элементами,
к принципам естественного права, переосмысливая их, начинают
обращаться идеологи возникавшей буржуазно-дворянской оппо-
зиции.
Уже Джон Понет в своем «Кратком трактате о политической
власти» рассматривает естественное право не как средство для
укрепления власти монарха, а как гарантию против произво-
ла ,8. Взгляды Понета были первой в истории Англии попыт-
кой превращения концепций общего права из идеологического
оружия абсолютизма в идейное оружие его противников. В нача-
ле XVII в. этот процесс получил дальнейшее развитие. На прин-
ципы общего права теперь, как мы увидим ниже, все больше и
больше ссылаются не глашатаи абсолютизма, а представители
буржуазной оппозиции. Приспособлению общего права к новым
социально-политическим задачам и его переосмысливанию содей-
17 Maitland F. W. Selected Historical Essays. Cambridge, 1957, p. 142—145;
Ogilvie Ch. The Kings. Government and the Common Law, 1471—1641. Ox-
ford, 1958, p. 73.
18 Ponet J. A. Shorte Treatise of Politike Power. Strassbourg, 1556. См. также:
Каменецкий Б. А. Идейно—политическая борьба в Англии в 30-х — 50-х
годах XVI в.: (К вопросу об идеологической стороне генезиса капита-
лизма).— СВ, 1976, вып. 40, с. 148—149.
170
Б. А. Каменецкий
ствовало то, что эта правовая система представляла собой не со-
вокупность точно очерченных норм, а, как заметил Р. Паунд,
«скорее способ трактовки правовых проблем, чем фиксированную
совокупность определенных правил» 19. Не будучи никогда коди-
фицировано и базируясь на приложении юридических прецеден-
тов к новым обстоятельствам, общее право, очень часто приме-
няемое при разборе имущественных тяжб, накопило ряд сущест-
венных принципов защиты всех форм собственности, в том числе
и возникавшей буржуазной собственности.
Что же касается идеологов абсолютизма, то они произвели в
это время некоторое идейное перевооружение. В противовес прин-
ципам верховенства естественного права они стали выдвигать
принцип верховенства королевской прерогативы, суверенитета ко-
ролевской власти, которая объявлялась стоящей превыше всех
правовых санкций. Элементы подобных абсолютистских взглядов
можно обнаружить уже в ряде высказываний Елизаветы I, осо-
бенно относящихся к концу ее царствования, когда парламенты
неоднократно становились в оппозицию к требованиям короле-
вы 20. Однако в развернутом виде новая форма абсолютистской
идеологии выступает в сочинениях короля Якова I Стюарта,
а также в трактатах ряда юристов и политических мыслителей
того времени. Вспыхнувшая в начале XVII в. острая политиче-
ская борьба между апологетами королевской прерогативы и сто-
ронниками принципов общего права являлась проявлением ост-
рой классовой борьбы в идейно-политической области между
теряющим свое влияние на общественное сознание феодально-абсо-
лютистским государством и все более осознающим свою увеличи-
вавшуюся силу дворянско-буржуазным блоком.
Изменение формы абсолютистской теории в Англии было симп-
томом начавшегося упадка абсолютизма, средством удержания и
укрепления сильно пошатнувшейся власти абсолютистского госу-
дарства. Если в период Тюдоров разрабатывались политико-фи-
лософские концепции, способствовавшие приспособлению фео-
дального строя к новым условиям, то при Стюартах главное вни-
мание глашатаев абсолютизма было направлено на всяческое ума-
ление значения политических и юридических институтов, альянс
с которыми был нарушен, и на всемерное превознесение королев-
ской прерогативы.
Еще до вступления на английский престол, в бытность шот-
ландским королем, Яков I написал два трактата, излагавших его
*• Pound R. The Spirit of Common Law. New York, 1921, p. 13.
20 См.: Штокмар В. В. Идеология английского абсолютизма в письмах Ели-
заветы Тюдор.— Учен. зап. ЛГУ. Сер. ист. наук, 1950, вып. 127; Neale J.E.
Elizabeth I and her Parliaments; Dunham W. H. Regal Power and the Rule
of Law: A Tudor Paradox.— Journal of British Studies, 1964, v61. 3, N 1,
p. 30—32.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в.
171
взгляды на политическую теорию. В этих произведениях, а также
в ряде более поздних работ и парламентских выступлений21
Яков I развивает с наибольшей прямотой политическую концеп-
цию английского абсолютизма периода его упадка, абсолютизма,
осуществлявшего политику феодальной реакции.
В начале XVII в. абсолютизм по существу представлял инте-
ресы наиболее реакционных и отсталых слоев класса феодалов
(главным образом севера и запада страны), ранее сепаратистски
и оппозиционно настроенных по отношению к абсолютизму, а те-
перь превратившихся чуть ли не в его единственную опору. Эта
часть дворянства, потерявшая значительную долю доходов вслед-
ствие падения рент в результате революции цен и не сумев-
шая приспособиться в хозяйственной деятельности к новым ус-
ловиям, была заинтересована в королевской службе, в занятии
административных, судебных, военных и придворных должностей
и связанных с этим доходах и подачках. Дворяне, принадлежав-
шие к названному слою, рассчитывали, что, чем более Король
будет свободен от какого бы то ни было контроля в сборе на-
логов и других поборов с населения, тем больше средств он
сможет предоставить им за службу и поддержку его политики 22.
Кроме того, абсолютизм мог опираться в то время на высшую
иерархию англиканской церкви, находившейся в большой зави-
симости от короны.
Чаяния всех этих слоев фактически выражал в своих сочи-
нениях Яков I, утверждая, что власть короля не знает границ,
кроме тех, какие он сам признает. Яков I не только не допускает
никаких ограничений королевской власти правовыми нормами, он
запрещает представителям юридической мысли даже касаться
этих вопросов. «Что касается абсолютной прерогативы короля»,—
пишет он, то она «нечто такое, перед чем юрист должен прику-
сить язык, и рассуждать о чем беззаконно» 23. Яков I приравни-
вал всякое вмешательство подданных в компетенцию короля к
безбожию и святотатству. «Если спорить о том, что может сделать
бог, равносильно атеизму и богохульству,— поучал далее этот ко-
роль,— и если добрые христиане полагаются на его волю, пове-
данную в его словах, то для подданного вести диспуты о том,
что может и чего не может сделать король, значит проявлять
гордыпю и высокомерие. Подданные должны послушно следовать
тому, что король откроет им в своем законе» 24. Что король стоит
выше права, Яков I пытался обосновать следующими.соображе-
21 The Political Works of James I/Ed. by С. H. Mclllwain (далее — James I.
Works). New York, 1918. Стереотипная перепечатка этого издания вы-
ходила в 1946 и 1965 гг.
22 Английская буржуазная революция..., т. 1, с. 82—83.
23 James I. Works, р. 333.
24 Ibid.
172
Б. А. Каменецкий
ниями. «Законы,— писал он,— не устанавливались ни в одной
стране до появления короля. Короли создавали и устанавливали
законы, так же как и формы управления. Поэтому короли были
творцами законов, а не законы создавали королей» 25 *.
Выступая в 1609 г. на объединенном заседании палаты лор-
дов и палаты общин, Яков I определил свое понимание приро-
ды и границ королевской власти и указал, в чем, по его мне-
нию, состоит прерогатива монарха. Исходя из известной средневе-
ковой теории о священном праве королей, Яков I провозглашал:
«Короли — образ или подобие божественной власти на Земле...
Они имеют власть возвышать своих подданных или принижать их,
в руках королей находится жизнь и смерть их подданных, короли
являются судьями над ними во всех делах, отдавая в своих дей-
ствиях о_тчет только одному богу ... Так же как ныне [любой]
отец может распоряжаться по своему усмотрению тем, что он
оставляет в наследство своим детям... делать из них по своей
воле богачей или нищих... так и король может поступать со свои-
ми подданными»2в. Таким образом, священное право королей
Яков I понимает как абсолютную власть, граничащую с явным
произволом. При этом, однако, он не доходил до отрицания пар-
ламента. Парламент для Якова I лишь королевский большой со-
вет, который он созывает по своему усмотрению и с которым
он советуется об отмене старых и введении новых законов27.
Но король может и не считаться с мнением парламента: твор-
цом законов является король, а парламент — лишь совещатель-
ный орган при нем28. Впрочем, король может и без совета с
парламентом издавать угодные ему законы (статуты и ордонан-
сы), парламент же не имеет права на какую-либо законодатель-
ную деятельность без санкции короля 29. Яков I не отрицал, что
король должен признавать существующую в стране систему пра-
ва, но творить право, по его мнению, могут только монархи.
Вследствие этого король сделался сам как бы воплощением права:
«говорящим правом» 30.
Зная о популярности в стране общего права и о том, что мно-
гие оппозиционные абсолютизму юристы стремились противопо-
ставить общее право королевской прерогативе, Яков I пытался
дать свою интерпретацию этой правовой системы. У короля нет
никаких оснований быть недовольным общим правом, так как ни-
какое другое право не является столь благоприятным и полезным
25 Ibid., р. 62.
.'le Ibid., р. 307—308.
>27 Ibid., р. 287—288.
;28 Commons Debates. 1621/Ed. by W. Notestein, F. H. Relf and H. Simpson.
New Haven, 1935, vol. 2, p. 4.
29 James I. Works, p. 62.
50 Ibid., p. 309.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в. 173
для монарха, как common law, потому что оно не умаляет, а, как
подчеркивает Яков I, усиливает его прерогативу31. Что же каса-
ется римского права, то Яков 1 заявлял о своем высоком ува-
жении к нему и считал обязательным применять его и впредь в
тех судах, которые им пользуются издавна, а также в международ-
ных отношениях. Отмена римского права, заявляет Яков I, об-
рекла бы Англию на варварство32. Таким образом, по мнению
Якова I, и английское общее право, и римское право, поскольку
их творцами были монархи, находились под его властью.
Яков I признавал стоящим над собой лишь так называемое
божественное право, превосходящее всякое человеческое право.
Божественное право, говорил он, «дало мне честь предписывать
внутри государства законы моим подданным»33. Теория о бо-
жественном праве королей возникла в средние века как идеологи-
ческое оружие светской власти королей против притязаний ка-
толической церкви. Яков I пытался использовать эту концепцию
в борьбе против нараставшей оппозиции буржуазии и нового
дворянства. Соблюдать божественное право Яков I обязался в
своей коронационной клятве. Однакол он полагал, что в случае
нарушения им своих обязательств только один бог мог судить его
за это нарушение. В противном случае подданные смогли бы соз-
дать орган власти, стоящий над королем 34.
При такой идентификации высшего права с волей короля по
существу сводилось на нет данное монархом обещание уважать и
защищать собственность и права подданных и создавались усло-
вия для нарушения этих прав, для произвольного обложения на-
логами и другими поборами подданных без их согласия, что не-
однократно являлось поводом для конфликтов короны с палатой
общин, большинство членов которой стремилось оградить собст-
венность от феодальных пут и ликвидировать отжившие свой век
ограничения в распоряжении ею. Основным содержанием идейно-
политической борьбы в этот период были вопросы об отношении
короля к праву, о правах парламента, гарантиях собственности
подданных, правовых основах и границах прерогативы монарха
и т. п. Поэтому участниками борьбы выступали главным обра-
зом юристы, многие из которых были членами палаты общин.
Выраженное в сочинениях и речах Якова I стремление мак-
симально усилить королевскую власть за счет ущемления прав
подданных и его желание поставить монарха выше права нашло
в Англии первых десятилетий XVII в. поддержку со стороны
ряда юристов, стоявших на защите принципов римского права,
81 Ibid., р. 310.
12 Ibid., р. 310—311.
83 Ibid., р. 169.
34 Ibid., р. 65.
174
Б. А. Каменецкий
так называемых цивилистов, и вызвало резкую критику со сто-
роны политических мыслителей, главным образом тоже юристов,
представлявших другую правовую систему — общее право.
Чтобы понять, почему именно сторонники римского права вы-
двинули из своей среды целый ряд апологетов абсолютизма, под-
держивавших и развивавших политические концепции его коро-
нованного глашатая, нужно учитывать роль этой категории юри-
стов в политической жизни того времени. Цивилисты составляли
сравнительно небольшую группу среди английских юристов:
с 1603 до 1641 г. число цивилистов не превышло 200, в то время
как число юристов общего права уже к началу XVII в. достига-
ло 2000 35.
Цивилистов обычно готовили в Оксфорде и Кембридже. Юри-
дическое образование в этих университетах строилось не на
принципах английского общего права, а на основе системы рим-
ского права, несколько адаптированного применительно к анг-
лийским условиям. Римское право считалось опорой абсолютной
власти короля. Цивилисты выступали в качестве судей и адвока-
тов в высших церковных судах и в наиболее близких к королев-
скому двору адмиралтейском и рыцарском судах, судопроизвод-
ство в которых основывалось не на общем праве, а на нормах рим-
ского права. Цивилисты часто занимали высшие должности в
государстве. Выходцы из тех кругов дворянства, которые имели
тесную связь с королевским двором и центральной государствен-
ной властью, эти люди жаждали доходных мест в государственном
аппарате и верхах англиканской церкви, главой которой являлся
корользв. Цивилисты были, естественно, заинтересованы в мак-
симальном усилении королевской власти, особенно в расширении
ее прав на распоряжение доходами подданных, на обложение на-
логами, принудительными займами и иными поборами. Привер-
женность цивилистов к абсолютной монархии укреплялась еще и
надеждой, что король защитит их от притязаний юристов общего
права, которые стремились превратить это право в единственную
юридическую систему в стране. Эта угроза могла быть вполне
реальной в то время в связи с тем, что юристы общего права
имели значительное представительство и сильное влияние в пала-
те общин.
Именно из среды цивилистов вышел ряд публицистов и пар-
ламентских ораторов, которые всячески старались доказать необ-
ходимость максимально повысить роль королевской прерогативы
и свести к минимуму значение парламента. Наиболее видными
из них были профессор римского права Кембриджского универ-
ситета Джон Коуэлл и профессор римского права Оксфордского
35 Levack В. Р. The Civil Lawyers in England, 1603—1641. Oxford, 1973, p. 3.
’• Ibid., p. 34-35.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в.
175
университета, выходец из Италии Альберико Джентили. Оба они
находились под влиянием выдающегося французского политиче-
ского мыслителя и идеолога абсолютизма Жана Бодена; в своих
работах они часто ссылались на его произведения. Не случайно
уже в 1606 г. вышел перевод на английский язык одного из глав-
ных произведений Ж. Бодена «Шесть книг о государстве» 37.
Общеизвестны положения римского права: «Что угодно монар-
ху, имеет силу закона» и «Монарх не связан правом и, следова-
тельно, стоит выше него». На эти положения часто ссылался в
своих сочинениях и Яков I, и некоторые цивилисты. Однако эти,
казалось бы, предельно абсолютистские формулы, определяющие
характер власти монарха, страдали известной уязвимостью. Ведь
постулаты римского права исходили из того, что декларируемые
ими права монарха были якобы уступлены ему в силу соглашения
с народом. В связи с этим от противников абсолютной власти мо-
нарха можно было ожидать возражения: если первоначально
высшей законодательной властью владел народ, то он может при
известных обстоятельствах потребовать, чтобы монарх возвратил
ему это право. И такие возражения действительно имели место38.
Поэтому идеологи английского абсолютизма начала XVII в., даже
из числа цивилистов, предпочитали, как и сам Яков I, ссылаться
не на римское право, а на средневековое, божественное право ко-
роля, гласившее, что короли получают свою власть непосредст-
венно от всемогущего бога, а отнюдь не в силу договора с под-
данными и, таким образом, отдают отчет в своих действиях толь-
ко всевышнему 39. Теория о божественном праве королей возникла
в процессе борьбы за супрематию между феодальной монар-
хией и католической церковью; в начале XVII в. ее приспосо-
били для обоснования права монархов на неограниченную власть.
Свое главное внимание цивилисты — апологеты абсолютиз-
ма — направили на выяснение и уточнение конкретного содержа-
ния таких понятий, как прерогатива короля, его суверенитет,
отношение монарха к праву и парламенту, стараясь юридически
обосновать священное, по их мнению, право английских королей
поступать в любых ситуациях только по своему усмотрению.
Особенно полно и откровенно подобные взгляды выражены
в своеобразной книге Джона Коуэлла «Истолкователь» — толко-
вом словаре политических и юридических терминов ‘°. Интер-
37 Bodin J. The Six Books of a Commonwealth / Transl. by R. Knolles. London,
1606.
38 Kern F. Kingship and Law in the Middle Ages. New York, 1956, p. 118—120;
Carlyle A. J. A History of Medieval Political Theory in the West. Edinburgh,
1936', vol. 6, p. 116—118.
39 Bitter G. Divine Right und Prerogative der englischen Konige. 1603—1640.—
HZ, 1963. Bd. 196. H. 3. S. 585-586.
40 Cou'ell J. The Interpreter, a Book containing the signification of words whe-
rein is set forth the true meaning of all such words and terms as are men-
176
Б. А. Каменецкий
претация в ней таких терминов, как «король», «прерогатива ко-
роля», «парламент», «право» и другие, сводила фактически на
нет законодательную роль парламента, а также его право утвер-
ждать налоги и иные поборы, при этом категорически осужда-
лось сопротивление любому волеизъявлению монарха. В рубрике
«Король» Коуэлл провозглашает, что абсолютная власть англий-
ского короля ставит его над правом. В рубрике «Парламент»
указывается, что абсолютный монарх, хотя и совещается с лор-
дами и общинами, однако стоит над парламентом и может еди-
нолично издавать новые законы, а также отменять любые суще-
ствующие законодательные акты. Парламент же никакой само-
стоятельной власти не имеети. Неудивительно, что появление
книги Дж. Коуэлла вызвало бурное негодование в парламенте,
особенно в палате общин. Многие ее члены требовали привлече-
ния Коуэлла к судебной ответственности, от которой его спасло
только вмешательство самого Якова I, вынужденного, однако, осу-
дить взгляды своего слишком ревностного и откровенного сто-
ронника. Книгу же постановили сжечь.
Подобную же абсолютистскую концепцию развивает Лльбери-
ко Джентили. И он считает английского монарха абсолютным
правителем, т. е. свободным от любых внешних или внутренних
ограничений его власти. Суверенные властелины, к которым
Джентили относит английских королей,— это «те, кто превосхо-
дит всех людей во всех отношениях». Суверенную власть англий-
ских королей Джентили определяет словами Бодена: «абсолютная
неограниченная власть, которую римляне называли ,,majestas“».
Только божественному праву подчинен, по мнению Джентили,
английский король, но он же является единственным толковате-
лем норм этого нрава 42.
Аналогичные в основном взгляды на королевскую прерогати-
ву, право и парламент развивал в ряде своих трактатов Томас
Эльсмер, с 1603 по 1617 г. лорд-канцлер Англии43. Однако в
своей политической деятельности он стремился путем умеренных
реформ и известного компромисса с усиливающейся парламент-
ской оппозицией укрепить позиции абсолютизма.
tioned in the law writers or statutes... requiring any exposition. Cambrid-
ge, 1607. Отрывки из этой книги, содержащие объяснение наиболее важ-
ных политических терминов, помещены в качестве приложения к статье:
Chrim.es S. В. The Constitutional Ideas of Dr John Cowell.— EHR, 1949,
vol. 64, N 253, а также в кн.: Select Statutes and other Constitutional Docu-
ments / Ed. by G. W. Prothero. Oxford, 1934, p. 409—411.
41 Cowell J. Op. cit., s. V. «King», «Parliament».
41 Gentili A. Regales disputationes tres de Potestate regis absolute, de unione
regnorum, de vicivium. London, 1605, p. 8, 9, 17.
43 Knafla A. L. Law and Politics in Jacobean England. The Tracts of Lord
Chancell Ellesmere. Cambridge, 1977, p. 197—262.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в.
177
Особое место среди участников идейно-политической борьбы
в Англии конца XVI — начала XVII в. занимают Уолтер Рэли
(1552—1618) и Френсис Бэкон (1567—1626). Во взглядах этих
весьма разнящихся друг от друга деятелей есть, однако, важные
общие черты. В своих политических трактатах оба выступали
как приверженцы абсолютизма. В рамках настоящей статьи мы
не имеем возможности подробно охарактеризовать политико-юри-
дическое мировоззрение Уолтера Рэли и Френсиса Бэкона — это
тема специальных исследований. Тем более что в советской исто-
рической литературе имеется ряд работ, посвященных каждому
из этих деятелей 44. Мы ограничимся самой общей характеристи-
кой их социально-политических взглядов.
В начале XVII в. при Якове I и Бэкон, и Рэли поддерживали
его политику. Оба были склонны видеть в абсолютной монархии
английского типа в период ее расцвета некий путь к воплощению
ренессансного идеала гармонического общества, процветающего
под эгидой мудрого правителя. И Рэли, и Бэкон остро ощущали
кризис абсолютистской системы. Однакр пути преодоления кри-
зиса абсолютизма эти деятели видели по-разному. У. Рэли видел
единственный выход из создавшегося положения в возвращении
к порядкам, существовавшим при Елизавете I, которые каза-
лись ему, бывшему некоторое время фаворитом этой королевы,
государственным строем, обеспечивающим полную гармонию меж-
ду абсолютной властью монарха и интересами подданных, защи-
щаемыми парламентом. При этом парламент мыслился как учреж-
дение, дающее советы королю, но не посягающее на его преро-
гативу. Считая, что монархия должна быть соединением верховной
власти с правами подданных, Рэли противопоставляет англий-
скую абсолютную монархию, действующую в союзе с парламентом,
деспотическому правлению Филиппа II в Испании45.
Иной выход из создавшегося кризиса усматривал Ф. Бэкон.
Он считал, что нарушенная гармония между королем и парла-
ментом может быть восстановлена при помощи взаимных усту-
пок, в результате которых образуется известное равновесие меж-
44 См.: Яковлева Е. И. Идеальное государство Уолтера Рэли.— Вестник
МГУ. Сер. IX. История, 1972, № 1; Коган-Бернштейн Ф. А. «Новая Ат-
лантида» и «Опыты» Ф. Бэкона.— В кн.: Бэкон Ф. Новая Атлантида.
Опыты и наставления. М., 1962: Шупина В. М. Взгляды Френсиса Бэкона
на право, мораль и церковь.— Учен. зап. Москов. обл. пед. ин-та, 1955,
т. 22, вып. 2 (Труды кафедры истории средних веков); Она же. Государ-
ственная (профессионально-юридическая) деятельность Френсиса Бэко-
на.— Учен. зап. Калининград, ун-та, 1968, вып. 1; Она же. Общественно-
политическая (парламентская) деятельность Френсиса Бэкона.— Учен,
зап. Калининград, ун-та, 1968, вып. 3; Карев В. М. К вопросу о взглядах
Френсиса Бэкона на английскую историю.— СВ, 1975, вып. 38; Михай-
ленко Ю. П. Френсис Бэкон и его учение. М., 1975.
45 Ralegh W. History of the World. London, 1736, vol. 1, p. XXVI, 104.
178 Б. А. Каменецкий
ду королевской прерогативой и суверенитетом, с одной стороны,
и правами и свободами подданных— с другой. Идея такою сба-
лансированного управления была ярко выражена в речи Бэкона
в палате общин в мае 1610 г. «Суверенитет короля и свобода пар-
ламента,— сказал он,— это два элемента и принципа подобного
управления, хотя один из этих элементов может быть более
активным, а другой более пассивным, однако они никогда не
сталкиваются и не разрушают друг друга, но друг друга усили-
вают и поддерживают» 4в. При подобном управлении, по мнению
Бэкона, можно будет сохранить верховную власть в руках монар-
ха и гарантировать порядок и стабильность, которые обеспечат
дальнейшее развитие торговли, промышленности и просвещения.
Для достижения этого Бэкон предлагал свести действующие в
стране законы в единый кодекс, а также осуществить ряд ре-
форм, включающих даже частичную рецепцию римского права 46 47.
Подобно протюдоровским публицистам, Бэкон пе противопо-
ставлял парламент королю. В парламенте он видел инструмент,
совершенствующий монархию, укрепляющий ее своими советами,
содействующий ей48. Предлагая провести реформы в правовой
системе, Бэкон заверяет, что их цель — забота «о лучшей служ-
бе королю и всеобщему благу». Бэкон стремился к предельной
централизации юридической системы и полному подчинению ее
королевской власти. Общая позиция Бэкона по отношению к ко-
ролевской власти не мешала ему неоднократно выступать за от-
мену некоторых устаревших феодальных статутов или же против
обременительных поборов и налогов 49.
Объективный смысл политической позиции Ф. Бэкона заклю-
чался в том, чтобы, маневрируя между двумя противоположными
лагерями — сторонниками усиления королевской прерогативы и
идеологами буржуазно-дворянской оппозиции,— расширить со-
циальную базу абсолютизма и вернуть ему былую силу. Ф. Бэкон
был уверен, что абсолютизм должен и может еще играть роль
силы, направляющей и контролирующей все сферы обществен-
ной жизни. Возвращением абсолютизму его былой мощи Бэкон
надеялся достичь воплощения в жизнь своего идеала обществен-
ной гармонии. Однако попытка при помощи отдельных реформ
вернуть абсолютизму его уже окончившуюся в то время прогрес-
сивную роль и убедить достаточно окрепшую уже буржуазию
удовлетвориться незначительными реформами и подчиниться аб-
солютизму, естественно, была обречена на неудачу.
Нужно сказать, что самому королю Якову I, несмотря на все
46 The Reign of James VI and I, p. 164.
47 The Works of Francis Bacon: In 10 vol. London, 1826, vol. 4, p. 364—368.
48 Ibid. London, 1826, vol. 3, p. 403.
49 Ibid., p. 357—358, 363.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в.
т
его наступательные абсолютистские декларации, неоднократно
приходилось в столкновениях с непокорным и уже прекрасно
чувствующим свою силу парламентом идти на уступки и для до-
стижения компромисса с ним порой отказываться от своих уже
слишком откровенных авторитарных притязаний. Якову I случа-
лось не рав< публично возвещать о своем неизменном уважении
к принципам общего права, признавать за парламентом право за-
конодательной инициативы и утверждения налогов и займов.
Некоторые зарубежные исследователи, приводя подобные выска-
зывания Якова I, делали вывод, что по конституционным вопро-
сам король и парламент в основном придерживались одних и тех
же взглядов и, следовательно, «при всех своих претензиях он
(Яков I.— Б. К.) являлся конституционным правителем» 50.
В действительности же подобными «уступками» Яков I пытался
избежать резкой конфронтации с оппозицией и несколько осла-
бить таким способом ее нажим. В условиях нараставшего кризиса
абсолютизма подобная тактика являлась, пожалуй, единственным
средством сохранить и продлить существование абсолютизма.
Следует отметить также, что уступай, которые Яков I вы-
нужден был сделать оппозиции, отнюдь не ограничивались только
словесными формулировками. Король вынужден был неоднократ-
но считаться и с парламентом, и с принципами общего права,
и с решениями судов. Из этого следует, что политическую кон-
цепцию Якова I и его сторонников отнюдь не нужно принимать
за адекватное отражение реальной политической действитель-
ности. Эта абсолютистская теория была лишь программой, кото-
рую король безуспешно пытался провести в жизнь, так как столк-
нулся с противодействием уже достаточно мощных тогда социаль-
ных сил. Нужно согласиться с М. Джадсон, отметившей, что
«и Яков I и Карл I доходили до высшей степени абсолютистской
экзальтации в своих речах и трактатах, однако в своей практике
им приходилось быть значительно скромнее и умереннее, чем на
словах» 51.
Вообще следует иметь в виду, что между идеальной моделью
абсолютистского строя, которую обычно в каждой стране в опре-
деленный период создают идеологи феодального государства,
и исторически реальным политическим устройством соответству-
ющего абсолютистского государства всегда существовал значи-
тельный разрыв. Более того, абсолютистский идеал, предусматри-
вавший полное подчинение всей экономической, социальной и
культурной жизни общества контролю административно-бюрокра-
тического и полицейского аппарата феодального государства, пол-
50 Gough J. W. Fundamental Law in English Constitutional History. Oxford,
1955, p. 51.
51 Judson M. Op. cit, p. 106.
186 Б. А. Каменецкий
ностью не удавалось осуществить ни в одной стране. Реализации
политических идеалов абсолютизма на разных этапах его исто-
рии, особенно на последней его стадии, препятствовало сопротив-
ление различных социальных сил. В борьбе с ними абсолютизм в
конечном итоге потерпел поражение раньше, чем сумел воплотить
в жизнь все свои чаяния.
Ожесточенная идейная борьба между идеологами абсолютист-
ского государства, все более и более терявшего свою социальную
опору, с одной стороны, и дворянско-буржуазной оппозицией,
заметно наращивавшей свои силы — с другой, наполняет весь
двадцатидвухлетний период царствования Якова I. Борьба эта
велась и на парламентской трибуне, и в судебных заседаниях,
и с церковной кафедры, а также на страницах теологических и
политико-юридических трактатов.
Борьба буржуазно-дворянской оппозиции против притязаний
абсолютизма на неограниченную власть шла как в парламенте,
так и за его пределами по следующим направлениям: стремление
доказать правомерность ограничения королевской прерогативы и
расширения компетенции парламента; критика теории о божест-
венном праве монархов и противопоставление ей концепции о
верховенстве естественного, т. е. по существу общего права;
борьба за полное освобождение буржуазной собственности от фео-
дальных ограничений, за превращение держания в полную соб-
ственность; борьба с регламентацией предпринимательской дея-
тельности, за финансовую независимость от короны.
Уже в первом парламенте, созванном при Якове I в 1604 г.,
ему была представлена «Апология палаты общин» 52, являющая-
ся фактически полемикой с основными идеями, изложенными в
сочинениях, написанных Яковом I еще в бытность шотландским
королем, до его вступления на английский престол53. Этот до-
кумент открыто противопоставил притязаниям короля на неогра-
ниченную власть идейно-политическую программу буржуазно-
дворянской оппозиции. Это был резкий протест, вызванный стрем-
лением монарха припизить значение становящегося все более и
более непослушным королевскому диктату парламента. «Аполо-
гия» отвергала претензии короля на абсолютную, независимую от
парламента власть и провозглашала, что парламенты созываются
не по милости короля в каждом отдельном случае, а в силу
«прав и вольностей», которые принадлежат подданным и соблю-
дать которые монархи обязаны. Не объявляя себя еще противни-
цей монархического правления, парламентская оппозиция стре-
милась максимально ограничить компетенцию монарха. Она ре-
шительно сопротивлялась ее притязаниям на единоличное ру-
52 Select Statutes..., р. 286—293.
53 James I. Works, p. 3—70.
Идейная борьба в Англии конца XVI— начала XVII в.
181
ководство всеми функциями общества и стремилась поставить
королевскую власть под контроль парламента.
Еще более энергично точка зрения буржуазно-дворянской
оппозиции на взаимоотношения короля и парламента была изло-
жена в речи известного юриста общего права Джеймса Уайтлока,
произнесенной им в палате общин в 1610 г. Выступая против
права короля облагать население налогами по своей воле, Уайт-
лок дал следующее определение компетенции королевской вла-
сти: «Король обладает двумя формами власти, одну из них он
осуществляет в парламенте, при содействии и согласии всего
государства, другую — вне парламента, руководствуясь только
своей волей. Из этих двух форм власти одна превосходит другую и
может направлять и контролировать ее; первая — высшая власть,
а вторая — подчиненная. Выработку законов, обложение налогами,
право выносить судебные приговоры, не подлежащие апелляции,
король может осуществлять только совместно с парламентом» 54.
При Тюдорах формула власти. «суверенитет короля в парла-
менте» являлась символом английского варианта абсолютизма,
при Стюартах, претендовавших на неограниченную власть, эта
формула приобретала иное значение. В условиях, когда король
и парламент выступали как антагонисты, в устах представите-
лей оппозиции она означала стремление поставить действия монар-
ха под контроль парламента. Не случайно с подобными требо-
ваниями и с попытками дать им правовое обоснование выступа-
ли главным образом юристы судов общего права, которых было
не мало и среди членов палаты общин.
Юристы общего права в своем большинстве были выходцами
из среды среднего и нового дворянства, т. е. уже по своему
происхождению были близки к кругам, связанным с товарно-денеж-
ными отношениями. С этими кругами их сближало и другое важ-
ное обстоятельство: тогда как дела публично-правового характе-
ра со времени Тюдоров обычно разбирались в прерогативных су-
дах и в некоторых судах, где действовало римское право, тяжбы
имущественного характера решались главным образом в судах
общего права, где подвизались эти юристы. Адвокатам в этих
судах приходилось защищать интересы буржузии и капитали-
стического фермерства, в частности, и от незаконных, по их
мнению, притязаний со стороны феодального государства.
До тех пор, пока парламент действовал заодно с королевской
властью, сохранялся и союз с ней адептов общего права. Нару-
шение альянса короля и парламента и идейное перевооружение
абсолютизма, переставшего рядиться в «конституционные» фор-
мы, знаменовало переход глашатаев общего права в оппозицию.
54 Constitutional Documents of the Reign of James I/Ed. by J. A. Tanner.
Cambridge, 1930, p. 260—261.
182
В. А. Каменецкий
В результате общее право стало превращаться из опоры абсо-
лютной монархии в оружие тех, кто стремился ее ограничить.
Естественно, что это не могло произойти без известной адапта-
ции некоторых принципов общего права к новой роли.
Процесс превращения теоретиков общего права из адептов
абсолютизма в глашатаев буржузно-дворянской оппозиции был
отнюдь не гладок. Некоторые из них остались верпы абсолютиз-
му, другие, например Ф. Бэкон, который на заре своей деятель-
ности выступал как адвокат в судах общего права, стремились
занять компромиссную позицию. Наиболее интересен путь Эдуар-
да Кока, выдающегося теоретика общего права, выступившего в
период, когда это право превращалось в платформу борьбы с при-
тязаниями абсолютизма. Э. Кок был одним из крупнейших пред-
ставителей английской юридической мысли XVII в.; в течение
многих лет он был лидером буржуазной оппозиции в парламенте»
Биография Эдуарда Кока (1552—1634) весьма характерна58»
По ней можно до некоторой степени проследить эволюцию взаи-
моотношений буржуазии и нового дворянства с королевской вла-
стью в Англии. Получив высшее юридическое образование в
Кембриджском университете, Э. Кок в начале своей карьеры
выступил верным слугой монархии. Благодаря этому он быстро
продвигался и занимал последовательно ряд высших судебных
должностей в королевстве. В начале XVII в. Э. Кок провел не-
сколько крупных политических процессов, в их числе процесс
Рэли в 1603 г., процесс участников «порохового заговора» в
1605 г. и другие, на которых он жестоко расправлялся с неугод-
ными королевской власти оппозиционными элементами, чем вы-
звал благосклонность Якова I.
Однако по мере усиления абсолютистских притязаний короля
и обострения противоречий между абсолютистским государством
и растущей оппозицией буржуазии и нового дворянства, Э. Кок
решительно изменил свою политическую линию. Он примкнул к
оппозиции и стал часто и резко выступать против попыток
Якова I расширить королевскую прерогативу, обосновывая свои
взгляды ссылками на принципы общего права. Э. Кок резко про-
тестовал против вмешательства суда лорда-канцлера в дела судов
общего права. Он считал незаконным, что лорд-канцлер, ссылаясь
на нормы римского права, часто отменял приговоры судов об-
щего права по гражданским делам, чем, как правило, нарушались
интересы буржуазии и нового дворянства. Король стал на сторо-
ну лорда-канцлера, объясняя свою позицию тем, что абсолютная
и неограниченная власть дает ему право через своих слуг вме- 55 * *
55 Lyon Н., Block Н. Edward Coke, Oracle of the Law. London, 1929; Bowen
C. D. The Lion and the Throne. The Life and Times of Sir Edward Coke.
London, 1957.
Идейная борьба в Англии конца XVI— начала XVII в.
183
шиваться в осуществление правосудия. В результате в 1616 г.
последовало увольнение Кока с должности главного судьи коро-
левства, которую он занимал в это время. Но это обстоятельство
не прекратило, а еще более усилило его политическую активность.
Он был избран в палату общин и скоро сделался основным
лидером оппозиции в парламенте. Свою огромную юридическую
эрудицию и политический опыт Эдуард Кок использовал, чтобы
приспособить и истолковать старинные обычаи, традиции и прин-
ципы общего права для обоснования необходимости установле-
ния ограниченной монархии. Он также выступал пламенным за-
щитником верховенства естественного права, как в свое время
Джон Фортескью, и отождествлял его с общим правом, доказывая
преимущество естественного права перед статутным. Статуты, по
его мнению, обладали законной силой только в том случае, если
они не противоречили общему праву. Э. Кок был одним из авто-
ров известной «Петиции о праве» 1628 г., в которой парламент
потребовал от короля гарантий личных и имущественных прав
подданных. Э. Кок написал ряд трактатов, в которых развивал
свои взгляды на право и государственный строй Англии 56. В этих
сочинениях Кок попытался систематизировать и переосмыслить
действовавшее в стране общее право, а также модифицировать
и рационализировать это во многих своих чертах еще феодаль-
ное право, чтобы приспособить его к защите интересов буржуа-
зии. В трактатах Э. Кока, а также в его судебных и парламент-
ских речах с предельной четкостью выражена политико-юридиче-
ская платформа оппозиции буржуазии и нового дворянства. Кок
с наибольшей для того времени последовательностью сформу-
лировал и с неистощимой энергией защищал политико-юридиче-
ские взгляды большинства юристов общего права, весьма актив-
ных тогда и в судах, и в парламенте. Таким образом, взгляды,
развиваемые Э. Коком, являлись по существу единой политико-
юридической платформой юристов общего права и тех социаль-
ных слоев, интересы которых они представляли.
Политико-юридическим взглядам Э. Кока присуща одна осо-
бенность, сближающая его с другим крупным представителем
политико-юридической мысли Англии, Джоном Фортескью. Оба
они пытались приспособить старые средневековые концепции о
праве и политические теории периода сословно-представительной
монархии к новым классовым целям, вытекавшим из новой соци-
ально-политической ситуации. И Кок и Фортескью, выражаясь
фигурально, лили новое вино в старые меха. Хотя эти мыслители
представляли интересы одних и тех же социальных слоев — но-
и Coke Е. The Institutes of the Lawes of England: In IV pt. London, 1628—
1669; The Reports of Sir Edward Coke, Knight: In 6 vol./ Ed. by Y. H. Tho-
mas, Y. F. Eraser. London, 1826.
184
Б. А. Каменецкий
вого дворянства и буржуазии, но каждый из них представлял
интересы этих классов на различных стадиях их развития. За
полтора века, отделявшие Эдуарда Кока от Джона Фортескью,
классы, которые они представляли, пережили значительную эво-
люцию: место их в социальной жизни страны стало иным и цели
стали другими, что, конечно, отразилось и на концепциях их
идеологов. Дж. Фортескью выступал, хотя и не всегда после-
довательно, как глашатай зарождавшегося английского абсолю-
тизма, политика которого тогда содействовала развитию капитали-
стического уклада. Э. Кок защищал интересы этих классов в период
кризиса абсолютизма, когда кончался союз феодально-абсолюти-
стского государства с социальными слоями, заинтересованными
в капиталистическом развитии, в период феодальной реакции.
Обращаясь к старым средневековым юридическим и полити-
ческим концепциям, Фортескью и Кок руководствовались разны-
ми принципами и приходили к различным результатам. Если
Фортескью стремился к превращению ограничивающих королев-
скую власть представительных учреждений сословной монархий в
одно из эффективных средств ее усиления, то Э. Кок ставил себе
иную задачу. Он попытался переосмыслить юридические нормы
и по-новому истолковать политические документы, ограничивав-
шие королевскую власть в интересах феодалов, и применить их
для ограничения королевской прерогативы в пользу окрепшей
буржуазии и нового дворянства. В центре рассуждений Форте-
скью — король, в основе рассуждений Э. Кока — парламент и об-
щее право. Учитывая это, нельзя согласиться с Моссе, утвержда-
ющим, что взгляды Фортескью и Кока по существу идентичны ”.
Нельзя не отметить, однако, что в работах Э. Кока, как и в
работах других политических мыслителей его круга, часто встре-
чаются ссылки на авторитет Фортескью для обоснования анти-
абсолютистских позиций. Это можно объяснить тем, что, будучи
мыслителем переходного периода от сословно-представительной
монархии к абсолютизму, Фортескью, как было сказано выше,
во-первых, сохранил в своих воззрениях некоторые ограничитель-
ные мотивы, во-вторых, прибегал к маскировке абсолютистских
взглядов. Все это давало возможность ссылаться на разные места
из работ этого мыслителя как идеологам раннего и зрелого аб-
солютизма в XVI в., так и его противникам в начале XVII в.
Характерное для средневековых политических мыслителей и
юристов отношение к естественному или божественному праву
как к высшему авторитету еще оставалось в первые десятилетия
XVII в. некоторым общепринятым стандартом политико-юридиче-
ского мышления, так же как и идущая еще *от Фортескью
традиция фактического отождествления этого высшего права с анг-
57 Моззе G. L. Op. cit., р. 163.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в.
185
лийским общим правом. Высшее право, которое тогда было при-
нято считать основой государственного строя Англии, Кок назы-
вает основным правом (fundamental law) и, так же как Форте-
скью, отождествляет с общим правом 58. Однако феодально-абсо-
лютистской интерпретации этого права Э. Кок противопоставляет
новое понимание общего права. «Общее право,— писал Кок,—
являет собой высшее совершенство разума» 59 * 61. Этим он хотел
сказать, что в общем праве воплощены извечные и неизменные
политические, юридические и моральные принципы, с которыми
должна соотноситься и согласовываться любая законодательная
деятельность. Дабы подчеркнуть высший авторитет общего пра-
ва, Э. Кок утверждал вопреки исторической реальности, что оно
существовало с незапамятных времен, до нормандского завоева-
ния и даже до возникновения королевской власти, и что одна из
основных его функций состояла в установлении границ и степе-
ни компетенции власти монархов. В общем праве, по мнению
Э. Кока, коренятся и им определяются все исконные «свободы»
и «вольности», которые нашли наиболее полное и точное выраже-
ние в Великой хартии вольностей 1215 Г. Её Э. Кок считал источ-
ником всех основных законов страныв0.
Воплощающая основные принципы общего права «Великая
хартия вольностей» являлась, по мнению Э. Кока, «древней кон-
ституцией», незыблемой основой правопорядка и государственно-
го строя Англии. Соблюдать эту конституцию обязаны все, пося-
гать на нее не смеют даже монархиei. Таким образом, феодаль-
ную в своей основе средневековую правовую систему и документ,
ограничивавший власть короля в пользу крупных феодалов и
регулировавший имущественные отношения между отдельными
ступенями феодальной иерархии, Э. Кок стремился превратить
в средство защиты буржуазной собственности от посягательства
феодального государства и в идеологическое оружие в борьбе за
ограничение королевской прерогативы в пользу буржуазии и но-
вого дворянства. Для этой цели, разумеется, необходимо было
переосмыслить эти институты, адаптировать их к новым условиям.
И действительно, та древняя конституция и то общее право, ко-
торые пропагандировали и на которые ссылались Э. Кок и его
последователи в своих трактатах, а также в парламентских и
судебных речах, были отнюдь не адекватны тем нормам, которые
сложились в политической и судебной практике XIII—XIV вв.
Это право пе было полностью и тем общим правом, которым руке-
58 Gough I. И7. Op. cit., р. 31—32; Eusden J. D. Puritans, Lawyers and Politics
in Early Seventeenth Century England. Hempden, 1968, p. 47.
59 Coke E. The Institutes, pt 2, p. 179.
•° Ibid., pt 1, p. 108.
61 Pocock J. G. A. The Ancient Constitution and the Feudal Law. Cambridge,
1957, p. 44—46.
186
Б. А. Каменецкий
водствовались в соответствующих судах Англии в XVI — начале
XVII в. Кок и его приверженцы скорее идеализировали общее
право, предвосхищая, каким оно должно быть в интересах класса
буржуазии. Это было своего рода попыткой моделировать даль-
нейшее развитие общего права в определенном направлении.
Необходимость приспособления к новым условиям, связанным
с развитием капиталистического уклада, назревала давно, так как
все труднее становилось применять правовые нормы, извлеченные
из старых прецедентов, к усложнившимся общественным отноше-
ниям. Еще при Елизавете I в парламентах 1593 и 1597 гг. разда-
вались голоса, требовавшие реформ в области права 62.
Значение Э. Кока и его коллег и последователей в развитии об-
щественной мысли Англии состояло в том, что они сделали ре-
шительный шаг на пути к превращению феодальной по своей
природе политико-юридической системы в опору и стимул капи-
талистического развития. Они создали идеал общего права, защи-
щавшего классовые интересы буржуазии и нового дворянства.
Для парламентской и внепарламентской оппозиции модифи-
цированные и переосмысленные ^принципы общего права были
юридической формой, в которую облекались ее политические тре-
бования. Ссылка на «традиции» и освященные временем «воль-
ности и привилегии» служила средством для придания большей
убедительности и авторитета этим требованиям.
Большую роль в подходе Э. Кока и его последователей к об-
щему праву играло стремление придать этому праву не только
новую юридическую форму, но и новое политическое содержание.
Э. Кок много сделал, чтобы заложить основы для трактовки этого
права не как опоры абсолютизма, а как альтернативы к нему,
для превращения общего права из средства усиления королевской
власти, каким оно издавно было, в орудие для ее ограничения.
Эта роль особенно важна, если принять во внимание, что еще
в 1604 г., в цитированной выше «Апологии палаты общин», ее
авторы исходили из того, что общее право — оплот абсолютизма,
и противопоставляли ему статутное право63. А в 1610 г. в пар-
ламенте происходили дебаты по вопросу о границах вмешательст-
ва короля в сферу отношений, регулируемых общим правом.
В связи с этим Э. Кок подчеркивал, что король ни в коем случае
не должен своим указом изменять существующие законы и тем
самым нарушать права подданных; он может только убеждать
их соблюдать существующие законы. Общее право, по мнению
Э. Кока, определяет границы королевской прерогативы. «У коро-
ля нет иной прерогативы, кроме той, которую ему разрешает
право страны»,— писал он 64. Э. Кок считал, что король не дол-
82 Hill Ch. Op. cit., р. 230; Neale J. Е. Op. cit., р. 241—323.
83 Select Statutes..., р. 290.
84 Constitutional Documents..., р. 187.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в.
187
жен нарушать какую бы то ни было часть общего права, он не
может считать преступным какое бы то ни было действие, кото-
рое до того не считалось таковым 65.
Принципы общего права Э. Кок ставит даже выше парламен-
та, функциям которого в государстве он придавал огромное зна-
чение 66. Однако Э. Кок полагал, что и над парламентом следует
-ставить еще более авторитетный политико-юридический орган,
который бы определял, насколько тот или иной законодательный
акт, принятый парламентом, находится в согласии с принципами
•общего права, и в случае отрицательного решения этого вопроса
признавать эти акты недействительными67. Таким образом,
Э. Кок считал, что юристы — знатоки и интерпретаторы общего
права — должны стать высшими арбитрами в вопросе о том, на-
сколько законодательная деятельность парламента правомерна.
Предпринятая Э. Коком и его коллегами адаптация принци-
пов общего права применительно к защите интересов буржуазии
и нового дворянства особенно рельефно выступает в его работах,
когда речь идет о защите собственности. Определяя границы ко-
ролевской прерогативы и компетенции'* королевского совета, Кок
четко сформулировал требования буржуазной оппозиции о невме-
шательстве монарха в отношения собственности. «Все, что каса-
ется вопросов, связанных с понятиями „мое“ и „твое“,— писал
Кок,— должно быть вне досягаемости для короля. Королевский
совет должен заниматься только государственными делами и не
вмешиваться в частноправовые отношения» 68.
В 1608 г. единомышленник Э. Кока Дж. Уайтлок во время де-
батов в палате общин в связи с попытками Якова I без парла-
ментской санкции обложить поборами торговые операции и про-
мышленную деятельность в своей речи подчеркнул: «Дело идет
о самом нашем существовании..., о том, будем ли мы иметь что-
либо или у нас ничего не будет». Далее он высказал опасение,
что в случае, если притязания короля будут осуществлены, его
подданные окажутся только держателями по королевской воле 6Э.
Смысл этого ясен: не хотим, чтобы наше имущество было держа-
нием по феодальному праву; хотим свободно владеть и неогра-
ниченно распоряжаться своей собственностью.
Э. Кок последовательно и резко выступал против всего того,
что сковывало свободу распоряжения собственностью и личную
инициативу в области торговли и предпринимательской деятель-
в5 A Complete Collection of State Trials / Ed. by W. Cobbet. London, 1809, vol. 2,
p. 726—727.
66 Coke E. The Institutes..., pt IV, p. 36.
*7 The Reports of Sir Edward Coke..., vol. 4, p. 375.
68 Coke E. The Institutes..., pt 4. p. 52.
419 A Complete Colection of State Trials, vol. 2, p. 479.
188
Б. А. Каменецкий
ности. Он хотел, чтобы собственность и личная свобода владею-
щих ею были защищены принципами общего права и основанны-
ми на них статутами. Ссылаясь па «Великую хартию вольностей»,
Кок выступал против монополий, т. е. против исключительного
права на производство определенных товаров и торговлю ими,
предоставляемого короной отдельным лицам или компаниям, что
лишало буржуазию основного условия капиталистического накоп-
ления — свободы конкуренции. Он писал: «Вообще все монополии
противоречат этой великой хартии потому, что они противоречат
свободе и вольностям подданных, противоречат праву страны» 70.
Кок отвергал всякие ограничения предпринимательской деятель-
ности, любые запреты на занятие каким бы то ни было промыс-
лом. Он выступал также против особых привилегий, предостав-
ляемых гильдиям королевскими хартиями, ссылаясь на то, что,
согласно общему праву, никому нельзя запретить заниматься ка-
кой бы то ни было законной деятельностью 71. Он гневно обру-
шивался против всех попыток феодального государства устано-
вить контроль над какой-либо сферой экономической жизни72.
Кок выступал против осуществляемого с фискальными целя-
ми правительственного контроля за количеством и качеством вы-
пускаемой продукции, за применяемой в производстве техноло-
гией, против контроля, который крайне затруднял усовершенст-
вование производственного процесса и его переустройство на
выгодных для буржуазии началах. В пример Англии, еще опутан-
ной феодальными ограничениями, Кок ставит якобы свободные
от них Нидерланды. «Свобода торговли,— указывает Э. Кок в
своей речи в палате общин в 1621 г.,— вот причина процветания
Нидерландов; там торговля не обременена налогами и не огра-
ничена монополиями» 73. Нужно отметить, однако, что в дейст-
вительности в Нидерландах в данное время еще не было свободной
торговли и существовало много монопольных компаний. Сле-
довательно, тирада Кока носит по существу демагогический ха-
рактер, что не меняет, однако, ее классовой направленности.
В процессе деятельности по адаптации общего права к нуж-
дам развивающегося капиталистического уклада Э. Кок часто
вступал в полемику с Ф. Бэконом. Горячие и резкие споры меж-
ду ними в палате общин и в судах выливались подчас в обоюд-
ные оскорбительные выпады. В идейных столкновениях Кока и
Бэкона В. М. Шупина видит борьбу двух тенденций в развитии
английской правовой системы. Бэкон, по ее мнению, защищал про-
70 Coke Е. The Institutes..., pt 2, р. 47.
71 Ibid.
78 Ае/ J. W. Industry and Government in France and England, 1540—1640.
New York, 1940, p. 42.
73 Commons Debates. 1621. New Haven, 1935, vol. 5, p. 93.
Идейная борьба в Англии конца XVI — начала XVII в.
189
грессивную идею централизации в политической и юридической
сфере, а Кок являлся носителем «консервативно-сепаратист-
ских основ английского права» 74. С таким противопоставлением
«новатора» Бэкона «консерватору» Коку трудно согласиться. Оба
эти деятеля несомненно стремились к реформе существовавшей
в то время в Англии политико-юридической системы, оба пред-
ставляли интересы буржуазии и нового дворянства. Разница же
между их взглядами заключалась в следующем. Бэкон считал,
что максимальная централизация юридической системы и полное
подчинение ее королевской власти будут лучше служить разви-
тию торговли и промышленности, т. е. интересам тех классов,
которые он представлял. Поэтому Бэкон предостерегал от того,
чтобы под предлогом независимости судебного ведомства не по-
явилась бы в государстве какая-либо другая высшая власть, кро-
ме власти королевской 75. Бэкон по существу стремился усилить
позиции абсолютизма, потому что считал, что от этого может
выиграть буржуазия. В связи с этим Ф. Бэкон, как явствует из
анализа его работы «История Генриха VII», в отличие от лиде-
ров парламентской оппозиции 20-х гбдов XVII в. относился с
одобрением к вмешательству королевской власти в дела торгов-
ли и промышленности, считая это вполне соответствующим инте-
ресам буржуазии и нового дворянства76. В начале XVII в.
такая точка зрения явилась анахронизмом, так как в это время
значительная часть буржуазии и нового дворянства уже не хо-
тела мириться с регламентацией и протекционизмом и стремилась
к свободной конкуренции и ограничению королевской власти.
Защитником этих интересов являлся Э. Кок и его последователи.
Принципы общего права сделались юридической формой вы-
ражения политических требований буржуазии и нового дворян-
ства. Длительный союз этих сил, который К. Маркс считал при-
чиной консервативного характера английской революции77, обус-
ловил то, что еще в начале XVII в. идеологи английской буржуазии
старались всячески подчеркивать свое отрицательное отношение
к сторонникам революционной ломки существующего обществен-
ного и государственного строя, утверждая, ,что их требования
«законны», так как они лишь защищают старинные права и сво-
боды, попираемые королевской властью.
Вместе с тем идеологи буржуазно-дворянской оппозиции упор-
но сопротивлялись заимствованию широко распространенной в то
время на континенте системы римского права. Рецепция римского
права отвергалась ими решительно, хотя нормы этого права в
74 Шупина В. М. Государственная (профессионально-юридическая) дея-
тельность Френсиса Бэкона, с. 98.
75 Bacon F. Works. London, 1826, vol. 6, p. 110, 423—427.
76 См.: Карев В. M. Указ, соч., с. 277—278.
77 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 7, с. 222.
190
Б. А. Каменецкий
модернизированном виде и были лучше приспособлены к регу-
лированию товарно-денежных отношений. Сопротивление к вве-
дению в Англии системы римского права объяснялось тем, что
оно и на континенте и в Англии являлось идеологическим ору-
дием абсолютизма, а также тем, что этому энергично и успешно
сопротивлялись сильные и влиятельные корпорации юристов об-
щего права, тесно связанные с буржуазией и новым дворянством.
Юристы общего права не без основания усматривали в рецепции
римского права угрозу своему влиянию и интересам тех классов,
которые они представляли. Этим классам импонировало противо-
поставление абсолютистским концепциям сторонников рецеп-
ции римского права английского национального права, а его арха-
изм и традиционность соответствовали их консерватизму. Они пред-
почитали защищать новые общественные отношения, ссылаясь
на старые, веками вырабатывавшиеся формы общего права. Не-
определенность и расплывчатость многих норм этого феодального
права давала большие возможности истолковывать их в интере-
сах новых социальных сил.
Такая тенденция продолжалась и после английской револю-
ции, когда, по словам Энгельса, «в Англии преемственная связь
между дореволюционными и послереволюционными учреждения-
ми и компромисс между крупными землевладельцами и капита-
листами нашли свое выражение в преемственности судебных пре-
цедентов, равно как в почтительном сохранении феодальных пра-
вовых норм». В результате, указывает далее Энгельс, «английское
право продолжает выражать экономические отношения капита-
листического общества на варварски-феодальном наречии...»78
Превращение правовой системы, являвшейся издавна опорой
абсолютизма, в идейное оружие для борьбы с ним, свобода и не-
прикосновенность буржуазной собственности и ее избавление от
сковывающих ее феодальных ограничений — вот за что в основ-
ном боролась набиравшая силу парламентская оппозиция в
Англии и в конце XVI, и в первые десятилетия XVII в.
Э. Кок и его последователи не выступали еще против монар-
хии, они старались изображать себя ревнителями древних на-
циональных традиций, стремящимися к восстановлению старин-
ных порядков. В действительности же общее право в их интерпре-
тации стало знаменем в политической борьбе буржуазии и нового
дворянства против притязаний Стюартов превратить Англию в
завершенное абсолютистское государство континентального типа.
В антиабсолютистской борьбе вырабатывалась идейная плат-
форма буржуазии и нового дворянства, объединившая эти классы
в революционных битвах 40-х годов XVII в.
78 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 312.
СООБЩЕНИЯ
И. С. Филиппов
ЦЕРКОВНАЯ ВОТЧИНА В ПРОВАНСЕ
НАЧАЛА IX ВЕКА
Аграрная история раннесредневекового Прованса изучена сла-
бо. Это объясняется прежде всего состоянием источников, мало-
численных и скудных по сравнению с источниками по другим
районам каролингского государства. Наиболее содержательным из
всех провансальских документов того, времени (но едва ли не
самым трудным для понимания) является так называемый полип-
тик Вуадальда. На материале его и написана предлагаемая
статья.
Рукопись полиптика была обнаружена в 1854 г. в архивах де-
партамента Буш-дю-Рон марсельским историком Ж. Мортреем.
В 1857 г. она । была опубликована Леопольдом Делил ем и Жюлем
Марионом1 как приложение к картулярию монастыря Сен-Вик-
тор де Марсель 2. Оригинал дошел до нас в хорошей сохранности
и, по мнению первооткрывателя, полностью3 4. Текст написан
каролингским минускулом с сокращениями и разделен горизонталь-
ными линиями на 13 частей. Каждая из них озаглавлена: Discrip-
tio mancipiorum такой-то виллы. В свою очередь описания дер-
жаний разграничены значком +, но не всегда, так что предло-
женная издателями нумерация держаний несколько условна *.
Столь же условно и название, данное ими всему документу: De-
scriptio mancipiorum ecclesiae massiliensis.
1 Имена издателей установлены по: Bibliographic des travaux de L. Delisle.
Paris, 1902, p. 31, 476. У А. Стена (Stein A. Bibliographic generale des car-
tulaires franjaises... Paris, 1907, p. 325) ошибочно: A. Marion.
2 Cartulaire de 1’abbaye de Saint-Victor de Marseille (далее — SVM) / Publ.
par B. Guerard. Paris, 1857, t 2, p. 633—654.
3 Mortreuil J. A. B. Les possessions de 1’eglise de Marseille au commencement
du IX siecle. Marseille, 1855, p. 9.
4 Фотокопия подлинника воспроизведена в кн.: Bergh A. Etudes d’anthro-
ponimie proven^ale. Les noms de personne du polyptyque de Wadalde (a.
814). Goteborg, 1941.
192
И. С. Филиппов
Полиптик был составлен примерно в 814 г. по распоряжению
марсельского епископа Вуадальда5 *. В литературе нет единого
мнения о том, кому принадлежали описанные в нем земли: аб-
батству Сен-Виктор де Марсель, кафедральному собору Марселя
или обоим учреждениям вместе. Но все исследователи сходятся
на том, что в начале IX в. марсельский епископ был либо одно-
временно аббатом Сен-Виктор, либо его полновластным сенье-
ром в. Первая точка зрения представляется наиболее убедитель-
ной, так как в дальнейшем большинство упомянутых в полиптике
земель оказывается в составе именно монастырской вотчины. Кро-
ме того, почти все они находятся вне марсельского диоцеза —
земли кафедрального собора были бы расположены преимущест-
венно в его пределах.
Эти владения, как правило, отстоят от Марселя на многие
десятки километров и лежат в основном во внутренних районах
Прованса (см. карту). На восточном побережье и в долине Роны,
видимо, преобладало влияние других крупных монастырей, на-
пример Лерен и Псальмоди7. Труднее объяснить, почему в
окрестностях Марселя монастырю принадлежало всего 10 кресть-
янских наделов. Настораживают также незначительные размеры
вотчины. Сен-Виктор де Марсель был одним из важнейших мо-
настырей Южной Галлии, между тем в источнике описано всего
267 наделов 8. Этот факт, возможно, указывает на сравнительную
земельную бедность южногалльской церкви, которую, по мнению
некоторых историков, особенно сильно затронули секуляризации
VIII в.9 Но не кроется ли объяснение в том, что до нас дошел
не весь полиптик, а какая-то его часть?
Попытаемся восстановить структуру вотчины. Бенефициаль-
пые держания упоминаются в полиптике всего 8 раз. Обычно их
размеры ограничены одним-двумя наделами, и только однажды
5 Монахи Сен-Виктор де Марсель располагали таким документом уже в
780 г. См.: SVM, N 31.
* Этот вопрос подробнее всего рассмотрен в следующих статьях: Laban-
de L. IL L’eglise de Marseille et 1’abbayc de Saint-Vidor a 1’epoque carolin-
gienne.— In: Melanges d’histoire du moyen age offerts a F. Lot. Paris, 1925;
Dupral E. L’eglise de Marseille et 1’abbaye de Saint-Victor a 1’epoque caro-
lingienne.— Memoires de I’lnstilut historique de Provence, 1927, t. 4.
7 Baratier E. Atlas historique. Provence, Comtat... Paris, 1969, а также карты
в кн.: Bligny В. L’eglise et les ordres reljgieux dans lo royaume de Bour-
gogne aux XI et XII siecles. Paris, 1960; Moris H. L’abbaye de Lerins.
Histoire et monuments. Paris, 1909.
’ Крупные монастыри часто имели в то время по нескольку тысяч наде-
лов. См.: Ковалевский М. М. Экономический рост Европы до возникнове-
ния капиталистического хозяйства. М., 1898, т. 1, с. 381.
* Manteyer G. de. La Provence du premier au douzieme siecle. Paris, 1908,
p. 71; Lewis A. R. The Development of Southern French and Catalan Socie-
ty, 718—1050. Austin, 1965. p. 32.
Церковная вотчина в Провансе начала IX в.
193
Владения монастыря Сен-Виктор де Марсель в начале IX в.
речь идет о villare (Н5) 10. Все бенефициарии, кроме владельца
villare, обязаны монастырю теми же повинностями, что и осталь-
ные держатели. О их социальном положение сведении нет, лишь
в одной записи говорится о священнике (F5). Не исключено, что
и в других случаях, когда упоминаются clerici, diaconi, presbiteri,
речь идет о бенефициях. Однако лица духовного звания называ-
ются, как правило (одно исключение — F26), вперемежку с сидя-
щими на том же наделе крестьянами, причем иногда они состоят
с ними в родстве. В источнике встречается также (10 раз) фор-
мулировка colonica quern... habet, при этом, как и в случае с
бенефициариями, не указывается социальный статус держателя.
Возможно, это выражение равнозначно выражению colonica
quern... habet in beneficio. Кроме того, в полиптике не всегда от-
мечен характер держания. Свидетельством тому опись виллы
Синака, где слово «бенефиций» встречается только при подведе-
нии итога (G25). Но даже с учетом этих оговорок доля бенефи-
циальных земель в вотчине Сен-Виктор де Марсель останется
10 Этот термин обычно означал новое поселение, выросшее из хутора. См.:
Balon, J. La structure et la gestion du domaine de I’eglise au moyen age
dans 1’Europe des Francs. Namur, 1959, p. 204—208. 7
7 Средние века, в. 43
194
И, С. Филиппов
намного меньше, чем в крупных монастырских вотчинах Север-
ной Галлии н.
В этой связи следует сказать, что, судя по документам X—
XII вв., монастырские бенефиции не получили в Провансе боль-
шого распространения11 12. Думается все же, что есть основания
присоединиться к мнению Э. Леня, который считал, что в полип-
тике Вуадальда учтена только часть бенефициев Сен-Виктор де
Марсель. По его словам, в опись крестьянских держаний вклю-
чались лишь небольшие бенефиции, тогда как для крупных со-
ставлялась отдельная сводка 13 14.
Домениальные владения упоминаются в полиптике дважды
(Н66 и Н74). Кроме того, в источнике встречается термин conda-
mina (L7), который чаще всего так или иначе связывают с до-
меном н. Сведений об отработочных повинностях нет15 16. На
основании этих данных следовало бы сделать вывод, что господ-
ское хозяйство занимало в монастырской вотчине очень скромное
место. Однако настораживает тот факт, что оброчные платежи со-
стоят, как правило, только из денег и живности 1в. Если не рас-
сматривать денежную повинность как выражение стоимости на-
туральных продуктов (а для этого нет оснований), напрашивается
вывод, что обеспечение аббатства плодами земледелия не зави-
село от оброчных поступлений. Трудно допустить, чтобы в таком
11 В вотчине нормандского монастыря Сен-Вандриль в бенефиций было
отдано 59,4% всех наделов (2551 из 4291). См.: Lot F. Etudes critiques sur
1’abbaye de Saint-Wandrille. Paris, 1913, p. 19 (N 60).
12 Cp.: Poly J.-P. La Provence et la societe feodale (879—1166). Paris, 1976,
p. 143 sqq.
13 Lesne E. Histoire de la propriete ecclesiastique en France. Paris, 1936, t. 3,.
p. 29—63.
14 See H. Les classes rurales et le regime domanial en France an moyen age.
Paris, 1901, p. 148; Deleage A. La vie rurale en Bourgogne jusqu’au debut
du onzieme siecle. Macon, 1941, p. 452—459, 466—467, 474—477; Bloch M.
Caracteres originaux de 1’histoire rurale fran$aise. Paris, 1956, t. 2. Supple-
ment, p. 125; Tenant de la Tour G. L’homme et la terre de Charlemagne &
Saint Louis. Paris, 1942, p. 153.
15 Считается, что слабое развитие барщины вообще характерно для Южной
Галлии. См., например: Fournier G. Le peuplement rurale en Basse Auverg-
ne durant le haut moyen age. Paris, 1962, p. 326; Magnou-Nortier E. La so-
ciete lai’cjuo et I’eglise dans la province ecclesiastique de Narbonne (zone
cispyreneenne) de la fin du VIII a la fin du XI siecle. Toulouse, 1974,
p. 136—137.
16 Исключение составляют 10 держаний в вилле Цилианум, где в состав
оброка входили зерно, воск или мед: mel aut cera libra I et media, rubio
sestario (N 5—14), и 2 держания в вилле Галадиус, с которых причита-
лась мера овса: cevate 1 (НН—12). Данные топонимики свидетельству-
ют о распространении и других сельскохозяйственных культур: colonica
inter vineas (В2), colonica ad Oliveto (DI, 10), colonica ad Orto (D6). Это
подтверждается и другими документами. См., например: SVM, N 163
(а. 817); Gallia Christiana novissima / Publ. par J. H. Albanes. Montbeliard,
1895. t. 1, col. 440-441 (a. 812); Valence, 1898, t. 3, col. 79—81 (a. 824).
Церковная вотчина в Провансе начала IX в.
195
Таблица 1. Структура поместья
Индекс по- местья Название поместья Число наделов Число геогра- фических названий Число «пус- тых» наделов
А Ново 5 4
В Домадо 5 5 3
С Ламбискум 23 14 15
D Ведада 30 20 27
Е Мар циана 11 10 10
F Бетторида 45 26 18
G Синака 22 16 9
Н Галадиус 81 50 25
I Вирго 7 7
К Трегенция 9 8 4
L Роваго 8 7 3
М Бергемулум 7 7
N Цилианум 14 13
Итого 2^7 187 114
деле монастырь полагался на неустойчивый в то время рынок.
Более правдоподобно, что он получал земледельческие продукты
(а также рыбу, дичь, лес) из своих домениальных владений, об-
рабатываемых поденщиками или монастырской челядью. Некото-
рое значение, возможно, сохранял труд самих монахов. Все эти
источники рабочей силы вероятнее было бы обнаружить в районе
Марселя, где и должны были находиться основные домениальные
земли аббатства. Не исключено, конечно, что у монастыря были
и другие, более доходные оброчные владения, но сведений об
этом нет.
О неполноте полиптика свидетельствуют и размеры оброчных
платежей. Даже самые значительные из них по сравнению с
теми, что обычно значатся в полиптиках Северной Галлии, нельзя
назвать очень обременительными. В большинстве же случаев они
ограничивались мелкой монетой или овцой. Скорее всего эти пла-
тежи носили символический характер и призваны были главным
образом зафиксировать сам факт зависимости крестьян от аб-
батства. Показательно, что бенефициарии, как правило, были
обязаны монастырю теми же повинностями, что и остальные дер-
жатели.
И еще одно соображение. Структура вотчины отличалась
крайней рассредоточенностью: 267 наделов на 187 географических
названий (табл. 1). Многие из них, видимо, относятся к урочи-
щам, где находились крестьянские усадьбы, на что указывают
записи вроде colonica in medio in valle (El), colonica in Lubi-
nianicus... inibi colonica super Roca (E8—9). Но в иных местно-
стях насчитывается по нескольку наделов, причем по крайней
7*
196
И, С. Филиппов
мере в одном случае усадьба прямо противопоставляется посе-
лению: colonica ad Marciana, ad Petro (E6). Такое поселение
иногда называется villare: abemus in Salo ilia tercia parte de
illo villare et sunt colonice III apste (F29). Словом, среди гео-
графических названий, упомянутых в описи той или иной виллы,
несомненно, есть названия деревень.
Локализация держаний затруднена тем, что после опустоше-
ний, которым Прованс подвергся в IX—X вв., многие поселе-
ния были заброшены, а большинство сохранившихся сменило на-
звание п. Исследование топонимики полиптика не закончено, но
то, что удалось сделать, позволило Э. Баратье написать, что не-
которые держания удалены от центра виллы на 30—40 км |8.
Такая рассредоточенность чрезмерна даже для юго-западного
Прованса, где поселения часто состояли из уединенных, отстоя-
щих далеко друг от друга усадеб 1в. Не свидетельствует ли она,
что в полиптике Вуадальда речь идет не о поместьях в собствен-
ном смысле слова, а о комплексах разрозненных, разбросанных
на большой территории наделов, различными путями попавших
в руки аббатства и приписанных к ближайшему из его старых
владений? Другим аргументом может служить тот факт, что в
некоторых описях для обозначения совокупности перечисляемых
наделов, которая обычно называется villa, используется термин
ager, означавший в то время часть округа (pagus), примерно со-
ответствующую современному кантону. Что представлял собой
центр такого владения, неизвестно. Заметим только, что в описях
поместий Вирго, Галадиус и Марциана упомянуты одноименные
с ними пункты, а одна вилла была известна составителям под
двумя названиями, которые фигурируют далее как местонахож-
дения входящих в нее наделов: villa Nono sive Campania.
Итак, в полиптике, по всей вероятности, описана только часть
владений аббатства, а именно наиболее удаленные и рассредото-
ченные из них, где было трудно организовать не только домени-
альное, но и по-настоящему развитое оброчное хозяйство. Отсюда
характерные для таких владений20 незначительные размеры по-
винностей, преобладание в составе оброка птицы и мелкого ско-
та 21, высокий удельный вес денежных платежей.
17 Mortreuil J. А. В. Op. cit., р. 15—18.
• 8 Baratier Е. La formation et 1’etendue du temporel de 1’abbaye de Saint-Vic-
tor.— Provence historique, 1966, t. 16, p. 396.
Livet R. Habitat rural et structures agraires en Basse Provence. Gap, 1962,
pt. II.
г® См.: Бессмертный Ю. Л. Социально-экономическое положение зависимо-
го крестьянства среднерейнской Германии по данным Прюмского полип-
тика (IX в.).— СВ, 1957, вып. X, с. 67.
21 О роли скотоводства в экономике средневекового Прованса см.: Sclafert Т.
Cultures en Haute Provence. Deboisements et paturages au moyen age. Pa-
Церковная вотчина в Провансе начала IX в.
197
Таким образом, на основании данного источника нельзя су-
дить о размерах и структуре вотчины Сен-Виктор в целом,
и лишь с большой осторожностью можно говорить о структуре
поместья определенного типа, характере бенефициальных дер-
жаний и крестьянских повинностей. Кроме того, полиптик Вуа-
дальда вообще уступает современным ему северофранцузским
описям по количеству сведений о крестьянском хозяйстве или
сеньериальном управлении. Однако по некоторым аспектам он
содержит очень ценную информацию. В нем, например, подроб-
нее, чем в других аналогичных источниках, описаны родствен-
ные связи держателей и (что уникально) указан возраст их де-
тей. В целом материал полиптика позволяет рассмотреть два важ-
ных вопроса: характер некоторых видов держаний и социальное
положение определенной части крестьянства.
ХАРАКТЕР ДЕРЖАНИЯ
Судя по политику Вуадальда, наиболее распространенным
типом крестьянского надела в Провансе начала IX в. была colo-
nica 22. Этот термин, известный по документам из южных, цент-
ральных и восточных областей Галлии, а также Италии и Южной
Германии, более или менее соответствует северофранцузскому
мансу23 24. Первоначально, например, в Бургундской правде, коло-
ника — это надел колона 2t, но к IX в. держателями ее уже мог-
ли быть люди различного статуса. Превратившись таким образом
в обозначение надела вообще, колоника постепенно уступила мес-
то семантически нейтральному и более соответствующему новым
условиям термину «мане» 25 * *.
Другой тип крестьянского надела назван в полиптике verca-
ria. Дюканж производит это слово от vervex (овца)28. Такая эти-
22 Согласно другому прочтению: colonia. В текстах того времени встреча-
ются обе формы. См., например: SVM, N 163, 291, 654.
23 Bloch М. The Rise of Dependent Cultivation and Seigneurial Institutions.—
Cambridge Economic History. London, 1942, vol. 1, p. 265—268; Herlihy D.
The Carolingian Mansus.— EHR, 1960, vol. 13, p. 79—89.
24 Неусыхин А. И. Возникновение зависимого крестьянства как класса ран-
нефеодального общества в Западной Европе VI—VIII веков. М., 1956,
с. 310, 312.
25 Первое упоминание термина «мане» в провансальских источниках отно-
сится к 898 г. (Recueil des actes des rois de Provence (855—928) / Publ.
par R. Poupardin, Paris, 1920, N XXXVI), но он еще долго сосуществует
с колоникой и становится общепризнанным названием крестьянского
надела только столетие спустя. Ср.: Deleage A. Op. cit., р. 566—567. О со-
отношении колоники и манса в других регионах см.: Dollinger Ph. L’evo-
lution des classes rurales en Baviere depuis la fin de I’epoque carolingienne
jusqu’au milieu du XIII siecle. Paris, 1949, p. 121.
28 Du Cange C. D. Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. Pa-
ris, 1937, t. 1, p. 636; 1939, t. 8, p. 278.
198 И. С. Филиппов
мология тем более правдоподобна, что держателем одной из вер-
карий выступает verbecarius (Н19). Заслуживает внимания и то,
что в 20 случаях из 22 термин «веркария» встречается в описи
расположенной в горах виллы Галадиус, где овцеводство должно
было играть особо важную роль. Таким образом, веркария — это
пастушеское хозяйство, овчарня27. При перегонном овцеводстве
требуется много овчарен и много рабочих рук. Не удивительно
поэтому, что описи нескольких веркарий обычно сведены в одну
(в 16 из 22 случаев в источнике дано множ, число: vercarias),
а в некоторых из этих записей (например, Н71, 72) упомянуто
до 10 семей.
В отличие от полиптиков Северной Галлии в полиптике Вуа-
дальда не встречаются держания'величиной в половину или чет-
верть стандартного надела, каким была на Юге колоника28. Но
и в Провансе крестьянский надел был уже не столько хозяйст-
венной, сколько фискальной единицей: по предварительным дан-
ным, на 25 из 112 колонии, о которых имеются необходимые све-
дения, сидело более одной семьи 29.
Повинности установлены для колоники в целом, а не для той
или другой сидящей на ней семьи30 и указываются, как прави-
ло, в конце описи надела. Но в 28 случаях имена стоят и после
перечня повинностей. Не вправе ли мы предположить, что соста-
вители хотели таким образом выделить основного держателя на-
дела? На это может указывать и формулировка qui ipsa colonica
regere debet (F20, H18, 46, 47; Ml, 4) 31. Менее вероятно, чтобы
17 Показательно, что в других источниках веркария упоминается среди тя-
нущих к наделу угодии. См., например: Recueil des actes..., N VII (a. 861):
concedimus... colonica vestita una et altera apsa cum vercaria; Cartulaire
de Saint-Vincent de Macon/Publ. par M.-C. Ragut. Macon, 1864, N 422
(a. 882—884): infra istas terminationes, hoc sunt curtilis, vircariis, campis
et pratis, silvis cum decimis, exiis et regressiis...; Cartulaire de 1’abbaye de
Savigny / Publ. par A. Bernard. Paris, 1853, N 6 (a. 919): ecclesia... cum man-
so, et curtilis, et vercariis, et campis, et pratis, et silvis.
28 В описи попадаются записи вроде colonica in Vultonas, abemus in ipsa
tercia parte (K9), но речь здесь, видимо, идет не о трети держания, а о
трети дохода с него. См.: Poly J.~P. Op. cit., р. 103.
29 При подсчетах были использованы данные антропонимики, обработан-
ные в соответствии с методикой, предложенной Ю. Л. Бессмертным. См.
его статью о структуре крестьянской семьи по материалам полиптика
Ирминона в настоящем сборнике.
20 Сомнение вызывает только одна запись (Н71): Vercarias in Stolegario,
ad requirendum. Pasco verbecem I. Marcella, Ansebertus, infantes suos,
nummos II. Dominicus, infantes suos, tributum nummos II... (далее упо-
мянуты еще 8 семей без указания повинностей). Непонятно, кто должен
платить первый оброк (pasco verbecem I), но второй и третий (nummos
II: tributum nummos II) касались, вероятно, только двух соответствую-
щих семей. Расчленение оброка здесь скорее всего кажущееся — по-ви-
димому, перед нами описи нескольких веркарий, сведенные в одну.
31 Во французских источниках термин regere применительно к крестьян-
скому держанию встречается крайне редко (Cartulaire de 1’abbaye de Sa-
Церковная вотчина в Провансе начала IX в.
199
речь шла о крестьянах, освобожденных от уплаты повинностей
(впрочем, они возложены только на 113, или 42,3% наделов).
Не исключено, что на землях аббатства получили распростране-
ние держания ad medium plantum, известные в Провансе, по
крайней мере, с начала IX в.32
В полиптике упоминаются три повинности: census, pasco и
tributum. Census, как и везде, по-видимому, представляет собой
плату за наследственное пользование держанием. Pasco обычно
является платежом за выпас скота на господской земле, но иног-
да он не связан с выпасом и представляет собой оброчную раз-
верстку. Именно так, по мнению Я. Д. Серовайского, обстояло
дело в вотчине марсельского аббатства 33. Менее ясно, что такое
tributum. Ф. Кинер считал, что это позднеримский государствен-
ный налог, который землевладельцы с течением времени при-
своили себе 3t.
Самым крупным платежом является census. Величина его
варьирует в зависимости от поместья, но внутри его, как правило,
неизменна. Census состоит обычно из овцы, свиньи, поросенка,
5—10 кур, 2 цыплят, 20—40 яиц, а» изредка уплачивается день-
гами (1—2 денария) 35. Величина tributum едина для всего по-
липтика (одно исключение — Н71) и измеряется мелкой медной
монетой nummus. Размеры pasco колеблются от держания к дер-
жанию; в 76 случаях это натуральная повинность (чаще всего
1 овца), в 16 — денежная, уплачиваемая в денариях и нуммах.
Общая величина оброка очень непостоянна: на 9 наделов воз-
ложены все три повинности, на 28 наделов — по две, на осталь-
ные 76 — по одной, в том числе в 64 случаях — pasco. В целом
на ИЗ наделов приходится 39 вариантов оброка. Всего же мо-
настырь получал с описанных в полиптике владений 118 овец,
14 ягнят, 32 свиньи, 21 поросенка, 225 кур, 73 цыпленка, 1180
яиц, 2 меры овса, 10 секстариев зерна, 15 фунтов меда или воска,
41 денарий и 23 нуммазв.
int-Andre-le-Bas de Vienne.../Publ. par C. U. J. Chevalier. Lyon, 1869, Ap-
pendix, N 18, (a. 922), где, впрочем, речь идет о наделе священника).
Но в Италии, как свидетельствуют картулярии Боббио, Лукки или Фар-
фы, крестьяне любого статуса считались rectores своих наделов.
32 SVM, N 167 (а. 817). Это самое раннее упоминание таких держаний в
средневековых источниках. См.: Grand R. Le contrat de complant depuis
les origines jusqu’a nos jours. Paris, 1917, p. 13—19.
33 Серовайский Я. Д. О путях формирования феодальной собственности на
леса и пастбища во Франкском государстве.— СВ, 1971, вып. 33, с. 73—74.
34 Kiener F. Verfassungsgeschichte der Provence seit der Ostgothenherrschaft
bis zur Errichtung der Konsulate (510—1200). Leipzig, 1900, S. 40.
35 При подсчетах здесь и далее цифра, обозначенная издателями унциаль-
ным «G», принимается равной 6. См.: Prou М. Manuel de paleographie la-
tine et fran^aise. Paris, 1910, p. 284.
33 Здесь не учтены 8 наделов в вилле Галадиус (Н21, 23, 66, 68, 40, 45, 46,
55), платившие некий censo medio. Кроме того, в перечне повинностей,
200
И. С. Филиппов
Порядок обложения неясен. Ни размеры населения колоники,
ни его социальный статус не влияли на величину повинностей.
Возможно, она определялась местными традициями или условия-
ми коммендации, но скорее всего зависела от размеров и состоя-
ния хозяйства.
Из 267 наделов 114, или 42,7%, описаны в полиптике как
apstae или apsae. В толковании этого термина существуют две
традиции, связанные с именами Дюканжа и Герара. Дюканж
считал, что термин absus обозначал пустующие, необрабатывае-
мые наделы 37. Герар доказывал, что mansus absus.— это надел,
на котором в данный момент никто не живет, но вовсе не обяза-
тельно заброшенный8®. В наше время эту точку зрения отстаи-
вал Р. Грандзв. Но многие исследователи придерживаются мне-
ния Дюканжа, среди них писавшие о Провансе Р. Латуш и Э. Ба-
ратьеА0. Недавно этот вопрос был вновь поднят бельгийским
историком Ж.-П. Девруем, который пришел к выводу о неодно-
значности термина absus, но причину ее объяснить не смог41.
Сведения марсельского полиптика на этот счет противоречи-
вы: 23 colonice apste (в том числе 3 отданные в бенефиций) не-
сут повинности, на 6 из них и еще на 4 других сидят держатели.
В 8 из этих 10 случаев упоминание держателей сопровождается
выражением ad requirendum, которое свидетельствует, что соста-
вители не располагали об этих крестьянах всей нужной им ин-
формацией 42. Colonice apste, расположенные в одной и той же
местности, как правило, сведены в одну запись, чего почти ни-
когда (единственное исключение — F27, где упомянуто-10 коло-
ник,— совершенно особый случай) не бывает с colonice vestite.
Возможно, это указывает на одновременность приобретения. К со-
жалению, все эти наблюдения не составляют ясной картины.
Представляется уместным привести сведения о доле colonice
abse или соответственно mansi absi по некоторым другим вотчи-
нам: аббатство Сен-Вандриль — 314 из 4297 (7,9%) 43; Аугсбург-
следуемых с 10 наделов в вилле Цилианум (N 5—14), фигурирует термин
rigla, раскрыть который не удалось [sigla?].
37 Du Cange С. D. Op. cit., t. 1, p. 36—37.
33 Guerard B. Polyptyque de I'abbe Irminon. Paris, 1844, t. 1. Prolegomenes,
p. 589—593.
39 Grand R. Note d’economie agraire medieval©: «mansus vestitus» et «man-
sus absus».— Etudes d’histoire du droit prive offertes A P. Petot Paris,
1959, p. 251—256.
40 Latouche R. Quelques aper^us sur le manse en Provence au X et XI siecle.—
Recueil de travaux offert a C. Brune]. Paris, 1955, t. 2, p. 101—106; Histoire
de la Provence / Publ. sous la dir. de E. Bara tier. Toulouse, 1969, p. 114—115.
41 Devroey J.-P. Mansi absi: indices de crise ou de croissance de I’economie ru-
rale du haut moyen age? — Moyen Age, 1976, vol. 82, p. 421—451.
41 В Сен-Жерменском полиптике ему соответствует формула non possum
scribere (IX, 277).
43 Подсчитано по: Lot F. Etudes..., р. 19 (N 60).
Церковная вотчина в Провансе начала IX в.
201
ское епископство — 80 из 1507 (5,3%) 44 45 *; Лионская церковь —
224 из 1476 (15,2%) 48; Сан-Коломбано ди Боббио—72 из
650 (11,1%) 4в; Санта-Джулиа ди Бреша — 88 из 340—400 (при-
близительно 22—26%) 47; Сен-Реми де Реймс — 34 из 816
(4,2%) «
Сколь ни отрывочны эти сведения, очевидно, что доля «пу-
стых» наделов в вотчине Сен-Виктор де Марсель была намного
выше, чем в вотчинах, расположенных в других, особенно север-
ных, районах империи. Объяснение этому факту предлагали толь-
ко те историки, которые переводили absus как необрабатываемый,
заброшенный. Например, Ж. Дюби видел причину запустения
Прованса в налетах арабских пиратов49 50 51. С. Вайнбергер смотрел
на это явление с точки зрения «перенаселенности» наделов и
объяснял ее концентрацией населения в целях безопасности в
отдельных укрепленных усадьбах *°. Ж.-П. Поли обратил вни-
мание на факты, свидетельствующие о бегстве крестьян со своих
наделов81.
Вопрос о термине absus для полиптика Вуадальда особенно
важен. В зависимости от его толкования мы получаем совершен-
но различные картины: глубокого упадка (Р. Латуш) или же
экономического роста (Ж.-П. Девруй). Но для решения этого
44 Подсчитано по: Capitularia regum Francorum / Ed. A. Boretius. Hannove-
rae, 1883,1 1, N 128.
45 Подсчитано no: Cartulaire Lyonnais / Publ. par M.-C. Guigue. Lyon, 1885,
t. 1, p. 4—5. Данные А. Ковиля, M. Блока, M. Давида (Covilte A, Recher-
ches sur l’histoire de Lyon du V siecle au IX siecle (450—800). Paris, 1828,
p. 527; Bloch M. Les caracteres originaux de l’histoire rurale irangaise. Pa-
ris; Oslo, 1931, p. 4; David M. Le patrimoine fonciere de 1’eglise de Lyon de
984 a 1267. Lyon, 1942, p. 43) неточны.
48 Hartmann L. M. Zur Wirtschaftsgeschichte Italiens im friihen Mittelalter.
Gotha, 1904, S. 60.
47 Luzzatto G. I servi nelle grandi proprieta ecclesiasliche italiane dei secoli
IX e X. Pisa, 1910, p. 146.
48 Подсчитано no: Polyptyque de 1’abbaye de Saint-Remi de Reims/Publ.
par B. Guerard. Paris, 1853. Аналогичные подсчеты по Сен-Жерменскому
полиптику невозможны, так как его составители, по-видимому, далеке
не всегда выделяли mansi absi в особую графу: Fiunt simul inter mansos
vestitos et absos LXX (III, 62).
49 Duby G. Les villes du Sud-Est de la Gaule du VIII au XI siecle.— In: Du-
by G. Hommes et structures du moyen age. Paris; La Haye, 1973, p. 115.
Об арабских набегах на побережье Прованса в начале IX в. см.: Sher-
wani Н. К. Muslim Colonies in France, Northern Italy and Switzerland. La-
hore, 1955, p. 131—135; Lewis A. R. Naval Power and Trade in the Mediter-
ranean. A. D. 500—1100. Princeton, 1970, p. 100—103.
50 Weinberger S. Peasant Households in Provence: ca 800—1100.— Speculum,
1973, vol. 48, p. 247—257. Cp.: Perrin Ch.-E. Recherches sur la seigneurie
rurale en Lorraine d’apres les plus anciens censiers (IX—XII siecles). Pa-
ris, 1935, p. 243.
51 Poly J.-P. Op. cit., p. 109.
202
И. С. Филиппов
вопроса данных марсельского полиптика явно недостаточно; что-
бы ответить на него, нужно, по-видимому, изучить все случаи
употребления термина absus 52.
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕРЖАТЕЛЕЙ '
В полиптике Вуадальда упомянуто около тысячи-человек, из
них по имени названо 812. Согласно А. Бергу, 429 человек носят
греко-римские имена, 313 — германские, остальные — имена
смешанного и неясного происхождения58. Эти цифры, конечно,
не отражают действительного соотношения между коренным и
Пришлым населением Прованса, так как галло-римляне охотно
давали своим детям «варварские» имена54. Но, учитывая, что в
северофранцузских документах того времени эти имена состав-
ляют подавляющее большинство55, следует думать, что герман-
ское влияние в Провансе было очень невелико. При этом, как
показал А. Берг, на севере и в центре области оно ощущалось
сильнее, чем на юго-западе и особенно на юго-востоке.
Сведения о социальном составе держателей имеются примерно
только для 100 человек. Это объясняется, видимо, не столько не-
брежностью составителей, сколько тем, что очень часто они счи-
тали свои сведения недостаточными, о чем свидетельствуют 64
употребления формулы ad requirendum. О социальной принад-
лежности держателей, чей статус известен, дает представление
табл. 2.
Итак, основная масса манципиев сосредоточена в тех поме-
стьях, где германское присутствие было наиболее заметным. В це-
лом среди манципиев нордические имена носит 31 человек из
51, т. е. 60,8%, тогда как среди колонов только 7 из 39 (одно
имя неразборчиво), или 17,9%.
В остальном существенных различий между держателями упо-
мянутых категорий обнаружить не удалось. Полиптик объединяет
их всех под рубрикой mancipia, помещает на однотипных наде-
лах, устанавливает для них одни и те же повинности. В карту-
п Большой интерес представляют в этой связи итальянские источники.
См., например, данные картулярия Фарфы, собранные П. Ту б ером: Тои-
bert Р. Les structures du Latium mddiGvale. Rome, 1973, p. 484—486.
и Bergh Д. Op. cit., p. 184.
54 Lot F. Les invasions germaniques. Paris, 1935, p. 230—232.
55 В полиптике Ирминона—более 90% (Longnon A. Polyptyque de 1’abbaye
de Saint-Germain des Pr6s. Paris, 1895, t. 1. Introduction, p. 254); в состав-
ленных во второй половине VII в. описях владений аббатства Сен-Мар-
тен де Тур — более 95% (Documents comptables de Saint-Martin de Tours
& 1’epoque merovingienne / Publ. par P. Gasnault. Paris, 1975, p. 17).
Церковная вотчина в Провансе начала IX в.
203
Таблица 2. Социальные группы
Название поместья % герман- ских имен * mancipi- um colonus accola relevatus quotidia- nus
Ноно 35 3
Домадо 53,3 1 1
Ламбискум 13 5
Бетторида 51,7 3 5 1 1
Синака 55,6 4 5
Галадиус 50,5 32 6 1 1
Вирго 23,5 2 4
Трегенция 40 2
Роваго 38,6
Бергемулум 29,5 5 2
Цилианум 19,8 4 9 1 1 1
* от суммы германских и греко-римских имен.
лярии они в равной мере противопоставлены свободным (homines
ingenui) 5в. л
Термин mancipia в узком смысле был равнозначен выражению
servi non casati. Но иногда он применялся и в отношении дер-’
жателей и даже мог обозначать несвободных людей вообще57.
О правовом положении колонов полиптик не дает каких-либо
сведений, но, исходя из данных других источников того времени,
можно предположить, что они находятся не только в поземель-
ной, но и в личной зависимости от своего сеньера58.
Accola — это пришелец, колонист в первом поколении59. В по-
липтике этот термин встречается трижды, всякий раз в самом
начале описи (F1, Л1, Ml). Сыновья первого акколы учатся в
школе (filius ad scola) 60, второй упомянут перед сидящим на
том же наделе манципием. Возможно, это свидетельствует о при-
98 SVM, N 31 (а. 780). В этой грамоте говорится также о переводе зависи-
мых людей различного статуса из одного поместья в другое: villa Cala-
dius, una cum apendiciis suis, vel omnes adjacentias suas, mancipia, tarn
rustica, quam urbana, libertis, accolabus, inquilinis, tarn ibidem consistent
tibus quam et aliunde ibidem translatis...
57 Dubled H. Mancipium au moyen age.— Revue du moyen age latin, 1949,
t. 5, p. 51—56.
58 См.: Корсунский A. P. О статусе франкских колонов.—СВ, 1969, вып. 32,
с. 26—47.
99 Некоторые исследователи сближают эту группу с инквилинами. См.:
Blancard L. Le polyptyque de Vuadalde, eveque de Marseille, etudie au po-
int de vue de la condition des personnes en Provence aux VIII et IX siec-
les. Marseille, 1878, p. 38—39.
80 Впрочем, слово scola могло в то время означать и любое учреждение,
где обучали какому-либо ремеслу.
204
И. С. Филиппов
вилегированном положении. Менее ясно, кто такие quotidiani.
В источниках этот термин встречается редко, ближайшей анало-
гией являются servitores quotidiani Фульдского полиптика, по
всей вероятности поденщики81. Термин relevatus, кажется, во-
обще не имеет аналогий, но, по общему мнению исследователей
полиптика, является синонимом термина libertus. В полиптике
упомянуты также ремесленники (artifex — Н25, faber — НЗ),
«конский пастух» (equizarius — F19) 62, овчар (verbecarius —
Н2, Н19).
До сих пор речь шла о держателях. Однако в источнике упо-
минаются и Другие люди. Это прежде всего баккаларии (baccala-
rius, baccalaria). В средние века слово baccalarius (bacalar,
bacheler и т. д.) имело много значений, в том числе: не
посвященный еще в рыцари воин-феодал, не рукоположенный
в священники клирик, не ставший полноправным членом цеха
ремесленник, не получивший степени магистра школяр вз. В Бар-
селонских обычаях баккаларием называется держатель особого
надела, именуемого baccalaria, такие наделы существовали также
в Лимузене 84.
Полиптик Вуадальда — первый по времени документ, где
упоминаются баккаларии. Здесь этот термин означает человека
старше 15 лет (о верхней возрастной грани ясных сведений
нет), не создавшего еще свою семью и не ведущего поэтому сво-
его хозяйства. В актовых источниках термин редко встречается
в таком значении ®5, но в некоторых диалектах французского
языка он сохранился до XVII в., его знал и употреблял Рабле вв. •*
•* Guerard В. Op. cit., t. 1, р. 928. См. также: Bloch М. The Rise of dependent
cultivation..., p. 242.
•2 К.-Дж. Холлиман (Hollyman К-J. Le developpement du vocabulaire feo-
dal en France pendant le haut moyen age. Geneve, 1957, p. 133) считал,
что equizarius — это крестьянин, имеющий лошадь.
•s Fiori J. Qu’est-ce qu’un bacheler? — Romania, 1975, t. 96, p. 289—314.
•4 Cartulaire de 1'abbaye de Beaulieu / Publ. par M. Deloche. Paris, 1859,
p. CCLXXXIII et suiv.
*5 См., например: Lebeuf J. Memoires concernant I’histoire ecclesiastique et
.. civile d’Auxerre. Paris, 1743, t. II, N 329 (a. 1223): homo qui non habuerit
uxorem... est baccalarius.
м О происхождении этого слова (в классической латыни его нет) сущест-
вует много гипотез, восходящих по большей части к эрудитам XVI—
XVIII вв., а иногда и к более раннему времени. Вопрос этот заслуживает
специального рассмотрения. Здесь же отметим, что, поскольку исходной
и самой общей характерной чертой термина «баккаларий» является мо-
лодость его носителя, предполагающая его социальную и экономическую
несамостоятельность, наиболее правдоподобными представляются следую-
щие этимологии: buccellarius — в первоначальном значении: нахлебник,
иждивенец (впервые, но со вторичным значением: наемник, телохрани-
тель, в книге: Cujas J. De feudis libri quinque... Coloniae Agrippinae, 1588
(1-е изд.—1569), p. 133); bach — по-кельтски маленький, молодой (Che-
vallet A. de. Origines et formation de la langue fran$aise. Paris, 1858 (1-e
Церковная вотчина в Провансе начала IX в.
205
Таблица 3. Возрастные группы
Возраст Пол 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M 177734 Н 18 Ж 1 4 7 5 21 10 6 4 7 10 ? 30* 2 ** 152 1 Итого 30 1 5 16 13 33 15 10 15 8 19
Возраст Пол 11 12 13 14 15 FB*** в**** F***** Взрослые
М 1 1 1 98 32 40 227
Ж 1 2 78 42 18 204
? 121 •
Итого 2 1 3 176 74 179 431
* infans ad uber; ** infans annorum III; ***^Ши8 baccalaria?, filia baccalaria ;
**** baccalarias, baccalaria, отличие этой группы от предшествующей несколько
условно; ***** в этой графе учтены все filii и filiae, кромэ баккалариев и тех, чей
возраст известен.
К характеристике баккалариев полиптика Вуадальда можно
добавить только одну черту, касающуюся их роли в разверстке
повинностей. Как свидетельствует табл. 3, доля детей старших
возрастов неправдоподобна малав7. Возможно, это объясняется
тем, что при переходе подростка в разряд баккалариев размеры
повинностей, возложенных на колонику, увеличивались, и кресть-
яне были поэтому заинтересованы занижать возраст своих детей.
В заключение остановимся на чужаках (marito extraneo, uxore
extranea, соответственно 39 и 24 упоминания). С. Вайнбергер
считает, что они осели на земле монастыря ”* 8, но это мало веро-
ятно, так как в полиптике не указаны даже их имена. Напомним,
что держания монастыря лежали вперемежку с землями других
собственников. Extranei происходили, по-видимому, из той же
(или соседней) деревни, что и их супруги. Социальный статус
изд.—1850), I. 1, р. 20); Ьасса, или vacca — корова (Stubbs W, Select Char-
ters of English Constitutional History. Oxford, 1890 (1-е изд.—1866), p. 534;
KOrting G. Lateinisch — romanisches Worterbuch. Paderborn, 1907 (1-е изд.
1890), S. 126); bachlach — шнсельтски: пастух, слуга (Thumeusen R. Kel-
toromanisches. Halle, 1884, S. 38—39).
e7 Подсчеты Дж. Рассела и Д. Герлихи (Russel I. С. Late Ancient and Me-
dieval Population. Philadelphia, 1958, p. 31; Herlihy D. Life Expectancies
for Women in Medieval Society.— In: The Role of Woman in the Middle
Ages / Ed. by R. T. Morewedge. Albany, 1975, p. 22) неточны.
w Weinberger S. Op. cit., p. 252—253.
206
И. С. Филиппов
их неясен, но это, наверное, также лично зависимые люди. Во
всяком случае, составители особо отметили брак одной из своих
крестьянок со свободным (Frederada mancipium, marito inge-
nuo — N4).
Подведем итоги. Полиптик Вуадальда представляет собой, по
всей вероятности, опись лишь наиболее удаленных и рассредото-
ченных земель аббатства, повинности с которых ограничивались
оброчными платежами, часто символическими, возможно, в знак
признания зависимости. Поэтому источник не позволяет составить
ясное представление не только о провансальской экономике как
таковой, но даже о монастырской вотчине в целом и освещает
только некоторые стороны ее жизни.
Владения Сен-Виктор де Марсель разбросаны по всему Про-
вансу. Держания часто отстоят от центра поместья на большом
расстоянии. Многие из них не имеют постоянных держателей.
Крестьянские бенефиции заметного распространения не получили.
Крестьянский надел именуется, как правило, колоникой, ко-
торая, по-видимому, идентична маису. Колоника еще остается
единицей податного обложения, но налицо уже симптомы ее
разложения: на каждом четвертом наделе живут две и более
семьи.
Зависимое население вотчины состоит из нескольких социаль-
ных групп. Наиболее многочисленные из них — манципии и ко-
лоны. Положение этих групп достаточно схоже. На размеры по-
винностей социальный статус не влияет. Оброчные платежи со-
стоят почти исключительно из живности и денег, что во многом
объясняется природными условиями Прованса.
О. И. Варъяш
О ПОЛОЖЕНИИ СЕРВОВ И ЛИБЕРТИНОВ
В ЛЕОНСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ В IX-XI ВВ.
В советской историографии тема трансформации отношении
рабства в государствах Испании после мусульманского завоева-
ния подробно не исследовалась. На положении сервов и либерти-
нов останавливался А. Р. Корсунский *. Вопрос о положении рабов
по данным картулярия кафедрального собора в Овьедо рассматри-
вался также в статье Л. Т. Мильской 1 2. Испанские историки неод-
нократно обращались к вопросам происхождения и положения
сервов и либертинов в североиспанскцх землях в общих трудах и
в специальных исследованиях3. Ш. Верлинден посвятил специаль-
ную работу развитию отношений зависимости в средневековой Ис-
пании 4. Он рассматривает проблему рабства в связи с прикрепле-
нием рабов к земле и превращением их в крестьян-держателей.
Данная статья посвящена положению двух категорий зависимого
населения — сервов и либертинов — и их участию в формирова-
нии класса феодально зависимого крестьянства в северо-запад-
ных областях Испании на материале ряда картуляриев Леона и
Кастилии; частично использованы фуэрос, в том числе фуэро
Леона 5.
1 Корсунский А. Р. История Испании IX—XIII веков. М., 1976, гл. II.
2 Мильская Л. Т. К вопросу о характере землевладения в Астурии IX—
XII вв.— СВ, 1967, вып. 30.
8 Valdeavellano L. Historia de Espana. Madrid, 1955, t. 1; Idem. Curso de his-
toria de las instituciones espanolas. Madrid, 1973; Vicens Vives J. Historia
social у econdmica de Espana у America. Barcelona, 1957; Sdnchez-Albor-
noz Cl. Estampas de la vida en Le6n durante el siglo X. Buenos Aires, 1949;
Idem. Los libertos en el reino Astur-Leones.— In: Sdnchez-Albornoz Cl. Es-
tudios sobre las instituciones medievales espanolas. Mexico, 1965.
4 Verlinden Ch. L’esclavage dans 1’Europe mddievale. Brugge, 1955; Idem.
L’esclavage dans le monde iberique medieval.— AMDE, Madrid, 1934, t 11;
1935, t 12; 1936, t. 13.
8 Ubieto Arteta A. Cartulario de Albelda. Valencia, 1960; Alamo J. del. Colec-
cion diplomatica de S. Salvador de Ona. Madrid, 1950 (далее — Ona); Hino-
josa E. Documentos para la historia de las instituciones de Le6n у Castilla.
Madrid, 1919 (далее — Hin.); Llorente P. Coleccion diplomatica del monas-
terio de S. Vicente de Oviedo. Oviedo, 1968 (далее — VO); Larragueta S. G.
Coleccion de documentos de la catedral de Oviedo. Oviedo, 1962 (далее —
COv); Sdnchez Belda L. Cartulario de S. Toribio de Liebana. Madrid, 1948
(далее — CST); Serrano L. Becerro Gdtico de Cardena. Silos, 1910 (далее —
208
О. И. Варьяш
Вестготское королевство характеризовалось широким распро-
странением латифундий с использованием рабского трудав.
В этот период по сравнению с временем римского господства хо-
зяйственное и юридическое положение сервов меняется. Они об-
ладали землями, постройками, рабочим скотом, жили в своих до-
мах, с собственными семьями7. Они имели право на получение
наследства от своих родственников-либертинов, на заключение
торговых сделок на движимое имущество и землю; изменяется и
юридическое положение рабов: они получают определенные права
в суде. Среди сервов начинается имущественная дифференциа-
ция. Таким образом, «эволюция в экономическом положении вест-
готских сервов, наделенных землей, состоит в постепенном пре-
вращении их в собственников орудий производства и своего част-
ного хозяйства. Такова, во всяком случае, ведущая тенденция
происходивших в рассматриваемую эпоху изменений» 8.
После мусульманского завоевания несвободные не исчезают.
К правлению короля Аурелио (768—774) относится запись в
Альбельдской хронике, которая сообщает, что в эти годы восста-
ли сервы, но были возвращены в рабство *. Почти дословно ее
повторяет «Хроника Альфонсо III» 10.
Рассмотрим леонские материалы. Кроме термина servi, в них
существует обозначение mancipia. Mancipia встречаются реже, чем
сервы. В хорошо известном «Завещании короля Альфонсо» церк-
ви Овьедо от 812 г. более 30 рабов (mancipia) передаются со-
бору без земли ”. Так же они фигурируют и в других грамотах
IX — начала X в. В 873 г. епископ Леона дарит монастырю
Сант-Яго движимое и недвижимое имущество и 2 mancipia ”. Две
португальские грамоты начала X в. удостоверяют передачу ра-
бынь-мусульманок 13. В 898 г. Гелойра передает монастырю
св. Марии две деревушки — Камьяс и Лауса делу — и более
20 mancipia, но из текста грамоты неясно, живут они в этих дерев-
нях или нет ”. До XI в. лишь в одной грамоте фигурируют
mancipia, испомещенные на землю. В 899 г. Альфонсо III дарит
BG); Floriano А. С. Diplomatica espanola del periodo Astur: In 2t. Oviedo,
1948—1951 (далее — Floriano); Munoz у Romero T. Colecci6n de fueros mu-
nicipales у cartas pueblas. Madrid, 1847.
e Корсунский A. P. Готская Испания. M., 1969, с. 101, 104, 111 и др.
7 Там же, с. ИЗ.
• Там же, с. 114—115.
9 Cronica Albeldense.— Boletin de la Academia de la Historia. Madrid, 1932,
t. 100, p. 602.
10 Cronica de Alfonso III. Valencia, 1961, p. 42—44.
11 Floriano, N 24.
« Ibid., N 105.
13 Ibid., N 188, 190. В то же время о сервах говорится: servos de ipsis vil-
lis (Floriano, N 26).
14 Ibid., N 157.
Сервы и либертины в Леонском. королевстве в IX—XI вв.
209
церкви Сант-Яго церкви, виллы, монастыри. О части этих вилл
сказано, что они передаются со всеми mancipiis, живущими в
них 15 16. Судя по этим данным, можно предположить, что manci-
pia обычно не связаны с землей и хозяйством. Возможно, что
часть из них была пленниками — маврами, использовавшимися к
качестве домашних рабов 1в. В таком значении термин mancipia
иногда встречаются и в XI в.17 Однако появляются и mancipia^
живущие в виллах *8 19. В грамоте 1050 г. термины servi и manci-
pia отождествляются1в. Одновременно пленники мавры фигури-
руют в качестве жителей вилл 20. Таким образом, в XI в. терми-
ны servi и mancipia совпадают.
Кастильские материалы дают меньше сведений о наличии не-
свободных. Большинство документов упоминает лишь homines
или solares populates 21. Четыре грамоты из картуляриев Карде-
ньи, грамоты конца X и начала XI в. используют термин casa-
tos 22 *, грамоты XI в. из Альбельды — термин servi2S.
В большом количестве грамот зависимое население обознача-
ется как familia. Особенно много упоминаний familia в докумен-
тах картулярия Овьедского собора. KaR правило, familia переда-
ется вместе с виллами или земельными участками 24.
Однако термин familia неоднозначен. В ряде документов, где
он уточняется, под familia понимаются лица сервильного стату-
15 Ibid., N 158: cum omnibus mancipiis nostris habitantibus in eis intus et fo-
ris.
16 Ш. Верлинден полагает, что под термином mancipia скрывались несво-
бодные именно арабского происхождения, в то время как термин servi
указывает на их христианское происхождение. См.: Verlinden Ch. L’es-
clavage dans 1’Europe medievale, t. 1, p. 113, nota 28. Однако в фуэро Лео-
на встречается употребление этого термина и относительно раба-мавра:
servus veto, qui per veridicos homines probatus fuerit, tam de cristianis
quam etiam de agarenis (F. Legionae, tit. 22). To же в грамоте 1044 г.:
damus autem servos istos de tribu Ismaelitarum (Hin., N 12). Наконец,
в слой homines de criatione, по мнению Ш. Верлиндена, по преимущест-
ву бывших арабских mancipia, входили лица, именуемые servi et ancil-
lae (COv, N 46, 118). Таким образом, употребление терминов servi, man-
cipia не может, видимо, служить точным определением происхождения
несвободного.
17 COv, N 50 (1045 г.). Передаются 2 церкви, различное имущество, 11 вилл
и «mancipias Illes nominibus... Jalla, Nullio, et Maria». См. также: Hin.,
N 12.
18 Hin., N 12 (1044a); VO, N 41 (a. 1047).
19 COv, N 53 (a. 1045): Et Enalso dicente contra quos erant servi vel manci-
pia post partem S. Iohannis.
20 COv, N 97. Фортес Санксис завещает виллу cum omnibus hedificiis et сшц
sex mauros in ea.
21 См., например: BG, N 14, 73, 170, 185, 186, 201, 246.
28 BG, N 36; Ona, N 8.
28 COv, N 21—23, 37, 40, 45, 61. 107 etc.
24 COv, N 21—23, 37, 40, 45, 61, 107.
210
О. И. Варьяш
са25 *. В других случаях его значение более широко: в него включа-
ются зависимые разных категорий (сервы, либертины), свобод-
ные держатели и даже низшие слои дворянства — инфансоны2в.
В большинстве грамот этот термин не расшифровывается, но,
судя по контексту, под familia имеется в виду зависимое насе-
ление, чаще всего сервы. Этот термин употребляется как в доку-
ментах IX—X вв., так и в документах XI в.
В XI в. в картуляриях появляется другой термин: homines
de criatione. Ш. Верлинден считает, что они произошли из ра-
бов-мавров, связанных со своим господином в течение несколь-
ких поколений; они были посажены на землю и составляли часть
зависимого класса (classe servil), занимая лучшее положение,
чем античные рабы27. Тексты нередко отождествляют homines
de criatione и сервов 28. Homines de criatione в документах всег-
да связаны с землей; грамоты, фиксирующие дарения и передачи,
подчеркивают факт их наличия в виллах 29 и на наделах30. Та-
ким образом, homines de criatione представляли собой, видимо,
категорию посаженных на землю сервов и их потомков. Предпо-
ложение Ш. Верлиндена о их арабском происхождении не подда-
ется проверке. В целом бельгийский историк придает большое
значение захвату мусульманских пленников в пополнении слоя
рабов. Одновременно он отвергает точку зрения А. Эркулано об
исключительно арабском происхождении рабов и в дискуссии
А. Эркулано с Т. Муньосом-и-Ромеро становится на сторону по-
следнего, признававшего в Испании наличие рабов-христиан3l.
О том, что в христианские государства поступало значитель-
ное число арабских пленников, говорят хроники. Уже в конце
VIII в. при первых победах Альфонсо II и галисийцев были за-
хвачены мусульмане и обращены в рабство32. Под 881 г. в хро-
нике Сампиро приводятся сведения о походе короля Гарсии на
арабов: «Дал ему господь победу; он захватил [земли], сжег их
и увел с собой много рабов» (mancipia) 33. Говоря о победе
леонцев (около 940 г.), Сампиро сообщает: «И, начав войну, он
(король,— О. В») убил там 12 тыс. сарацинов и взял 7 тыс. плен-
ными» 34. После осады и падения Коимбры в 1064 г. христиане
25 См., например: COv, N 86, 91.
28 COv, N 73; Floriano, N 26.
27 Verlinden Ch. Op. cit., t. 1, p. 112.
28 COv, N 18: de criatione servorum filios quinque... omnes has villas et mo-
nasteriis, ...servis et ancillis.
29 COv, N 86.
30 Ibid., N 81.
31 Verlinden Ch. Op. cit., p. 105—106; Munoz у Romero T. Op. cit., p. 123, 127.
32 Verlinden Ch. Op. cit., p. 117.
33 Perez de Urbel J. Sampiro, su cronica у la monarquia Leonesa en el siglo
X. Madrid, 1952, p. 309.
34 Ibid., p. 331.
Сервы и либертины в Леонском королевстве в IX—XI вв.
211
«вывели оттуда в плен 6 тыс. сарацинов» 35 *. Даже если хронист
преувеличивает эти цифры, число пленных было значительным.
Свидетельством достаточно широкого распространения рабов-
пленников можно считать особое выделение их в статье фуэро
Леона, в которой говорится об опознании «верными людьми»
серва, христианина или сарацина зв. Наконец, уже в конце XI в.
в монастыре Собрадо была сделана запись генеалогии рабов-мав-
ров. Она прослеживает по три-четыре поколения несвободных —
потомков арабских пленников, которые были куплены, переда-
ны или приведены во владения монастыря. Многие из них были кре-
щены и получили христианские имена. Судя по генеалогии, они
заключали браки с местным галисийским населением. Число сер-
вов-родоначальников, поступивших в распоряжение монастыря,
составляет около 20 человек 37.
Ряд сведений о сервах арабского происхождения дают карту-
лярии. Выше уже упоминались дарственные грамоты, которые
содержат данные о несвободных маврах, передаваемых светскими
лицами, членами графских семей в распоряжение церквей, мо-
настырей, частных лиц38. В грамотах обычно говорится о не-
большом числе сервов — от 2 до 7. В королевских и графских
дарениях число сервов арабского происхождения, естественно,
больше. Так, по «Завещанию короля Альфонсо» церкви Овьедо
передаются 40 mancipia39. Церкви Луго Альфонсо III передал
50 рабов-арабов; в 978 г. граф Гарей Фернандес дает монастырю
Коварубиас 50 мавров 40.
Несмотря на непрерывные войны с арабами, в целом упоми-
нания картуляриев о сервах и других категориях несвободных
немногочисленны. Возможно, это явление объясняется тем, что
рабы, происходившие из мусульманских пленников, часто исполь-
зовались в качестве домашних рабов или рабов-ремесленников:
грамоты говорят о mancipia без указания на связь их с землей41,
иногда перечисляют рабов арабского происхождения, занимаю-
щихся тем или иным ремеслом42. Есть сведения о смешанных
браках сервов-мавров; часть их принимала христианство, изменяя
свои имена на христианские. Поэтому не всегда можно установить
этническую принадлежность того или иного лица на основа-
35 Verlinden Ch. Op. cit, p. 129.
38 F. Legionae, tit 22.
37 Hin., N 28.
38 GOv, N 30, 50, 97, 118; Floriano, N 188, 190.
38 Floriano, N 24.
40 Verlinden Ch. Op. cit, p. 118, 120. См. также грамоту 1044 г., по которой
граф Пиниоло Хименес дарит монастырю в Корине более 50 рабов-му-^
сульман (Hin., N 12).
41 Floriano, N 188, 190.
42 COv, N 118; Hin., N 28; Valdeavellano L. Historia..., t. 1, p. 78.
212
О. И. Варьяш
нии данных ономастики, а самый факт происхождения человека
из сарацинов отражается в именах очень редко (это отмечено
лишь в двух случаях в генеалогии рабов-мавров из Собрадо —
упоминаются sarracino и loannis Sarracinis43).
Учитывая эти факты, можно считать, что доля мавров в об-
щем количестве несвободных несколько выше, чем может пока-
заться на первый взгляд. Многие из них использовались в ка-
честве домашних рабов, челяди, некоторые занимались ремеслом,
часть сервов испомещали на землю. Но даже через четыре поко-
ления, судя по генеалогии из Собрадо, их обособленность не ис-
чезала полностью44. Не прекращался, видимо, и постоянный при-
ток новых арабских пленников.
Однако не только пленники были источником рабства в север-
ных испанских государствах. Выше уже приводилось свидетель-
ство хроники о восстании сервов во второй половине VIII в. Это
говорит о сохранении в достаточно широком масштабе прежних
отношений зависимости.
В генеалогии рабов-мавров нередки записи, свидетельствую-
щие о браках арабов с галисийцами (galego, galegu), но лишь
в одном случае указано на свободное происхождение галисийки45 *.
Видимо, в остальных случаях их нужно считать сервами-
христианами.
О наследственности рабского статуса свидетельствуют и доку-
менты, фиксирующие разделы сервов между разными господа-
ми 4в.
В этих же документах, а также в генеалогии рабов-мавров
упоминаются смешанные браки между сервами и свободными47 48 *.
Дети от этих браков наследовали статус сервов, что было еще
одним источником пополнения слоя рабов.
Л. Вальдеавельяно отмечает в качестве источников рабства,
кроме уже указанных выше, добровольное вступление в зави-
симость и обращение в рабство за долги4*. Однако его работы име-
ют обобщающий характер и на документы он не ссылается.
Ш. Верлинден приводит лишь один случай обращения в рабство
за преступление4’, но ничего не говорит о долговом или добро-
43 Hin., N 12.
44 Ibid., N 28. См. также грамоту (Verlinden Ch. Op. cit, p. Ill), где проти-
вопоставляются mancipiis ex gente mahelitarum и de avolengarum cria-
zone parentum (a. 1028).
45 Hin., N 28.
48 VO, N 113; COv, N 100; Floriano, N 90; Hin., N 6. Подробнее см. ниже.
47 Hin., N 7, 28. При разделах потомства от браков с' полусвободными и за-
висимыми других категорий дети делились пополам между господами.
См.: Hin., N 6.
48 Valdeavellano L. Historia..., t. 1, p. 78; Idem. Curso de historia de las insti-
tuciones espanolas, p. 357—358.
** Verlinden Ch. Op. Cit., p. 137.
Сервы и либертины в Леонском королевстве в IX—XI вв.
213
вольном рабстве. В изученных нами картуляриях также нет дан-
ных о подобных случаях.
Грамота 1062 г., разбираемая Ш. Верлинденом как пример
servitutis роепае, фиксирует следующее событие. Некая Гатеа
скрыла преступление своего мужа-вора и была присуждена к
уплате 300 солидов, а за неимением их была обращена в раб-
ство 50.
Ш. Верлинден приводит также один случай продажи в рабст-
во, зафиксированный в грамоте XI в. Вор, ограбив дом, «вывел
с собой шесть человек и продал их как пленников» 51 52.
Редкость случаев долгового и отсутствие добровольного рабст-
ва характерны. Серв по рождению или пленник принадлежал
господину, и власть последнего охранялась законом82. Но сво-
бодный человек в Испании в условиях постоянной реконкисты
и колонизации имел больше возможностей избежать грозящей
ему кабалы или поправить свое экономическое положение, чем в
других областях Западной Европы в это время.
Юридически в исследуемый период сервы оставались на том
же положении, что и в готскую эпоху, так как Вестготская прав-
да оставалась законодательством для североиспанских государств.
В дарственных грамотах, документах купли-продажи, сервы фигу-
рируют на последнем месте, после земельных владений и постро-
ек 53. Серв, как и раб готского периода, принадлежит господи-
ну. Он может быть подарен “4 55 *, передан монастырю ”, завещан ”,
продан57 58. Выше уже приводились документы, в которых зафик-
сированы дарения несвободных без земли ”.
Концом IX — началом X в. датируется документ, фиксирую-
щий раздел сервов между епископом Коимбры Наусто и сыновья-
ми Педро и Саррацины. Сервы являются детьми и внуками ра-
бов Абиту и Ведрагесы, принадлежавших разным господам.
Их потомство делится пополам”. Некий Вегила и церковь Сант-
50 Hin., N 15.
61 Verlinden Ch. Op. cit., p. 137.
52 F. Legionae, tit. 22.
53 COv, N 24 (eclesie... cum rebus mobiles vel inmobiles sive et servos), 49, 70;
CST, 57.
34 COv, N 46, 49, 70, 85; CST, N 58; Hin., N 12; BG, N 306 etc.
55 CST, N 63.
58 COv, N 27, 28, 61, 88, 90, 91, 92, 96, 97, 104, 105, 112, 113.
37 В использованных документах есть лишь одна грамота, фиксирующая
продажу сервов. См.: Floriano, N 148. В 895 г. священник Гундесиндо
продает Алоиту и его жене Октавии ’/а своего наследства в 6 виллах и
всех своих сервов за коня «и прочее». В данном случае цена остается
неясной. Ш. Верлинден приводит другие документы о продаже сервов.
Цена их различна. В XI в. в Португалии за раба-мавра платили 40 и
100 солидов (Verlinden Ch. Op. cit., p. 129).
58 Floriano, N 24,105,188, 190; COv, N 30, 50; Hin., N 12.
38 Floriano, N 90 (как и вестготский период). См.: Корсунский А. Р. Гот-
ская Испания, с. 102.
214
О. И. Варьяш
Яго делят пополам потомство от браков своих сервов и либер-
тинов “°. Интересен протокол судебного разбирательства (сере-
дины XI в.) относительно группы людей, которые монастырем
св. Марии квалифицировались как свободные, перешедшие к нему
по завещанию короля, а монастырем св. Иоанна — как сервы этого
последнего. Суд решил разделить людей пополам между тем и
другим монастырем, причем передал их монастырю св. Марии в
качестве свободных под патронатом церкви. Статус переданных
монастырю св. Иоанна не уточнен в грамоте 80 81. В 1094 г. про-
исходил раздел сервов между монастырем Сан-Висенте и светски-
ми лицами. Были разделены дети двух сервов; при этом два бра-
та отошли к монастырю, к противной стороне — третий брат и
еще один серв, сестра которого осталась in commune82. Оба
эти документа свидетельствуют о произвольном делении семей
сервов.
Дети от смешанных бракоЬ рабов и свободных наследовали
рабский статус, согласно установлению Вестготской правды. В гра-
моте 1001 г. свободный Донасано дарит свое имущество детям,
которые являются сервами по материнской линии83. Генеалогия
рабов-мавров причисляет всех детей от смешанных браков со сво-
бодными к сервам монастыря84.
Законодательные памятники этого времени — фуэрос мало за-
трагивают положение сервов, что объясняется характером и про-
исхождением фуэрос. Ст. 7-я фуэро Леона устанавливает имуще-
ственное неполноправие сервов: «Никто не должен, покупать на-
дел у серва церкви, короля или любого другого лица, кто же
купит, теряет и надел, и плату за него». Согласно ст. 22-й, если
серв бежит и будет узнан, он должен быть .возвращен своему гос-
подину.
Приведенные факты говорят о том, что юридическое, имуще-
ственное и семейное положение сервов в первые века реконки-
сты мало изменилось по сравнению с их положением в конце
VI—VII в.85 Однако существуют сведения и другого характера.
Значительный интерес представляет грамота привилегий собо-
ра Овьедо. Она устанавливает особые права церкви по отношению
к населению, живущему в ее владениях. В частности, если бу-
80 Hin., N 6 (999 г.).
81 COv, N 53: divisimos ipsos homines ut sint et serviant medietas illorum post
partem S. Marie... et illi alii ad partem S. Iohannis serviant; tam ipsi quam
etiam posteritas eorum... et ingenui post partem S. Marie et ipsius cultoribus
ipsius monasterii.
82 VO, N 113: caderunt a parte de S. Vicenti Citi lohannes et Pedro lohannes,
et a parte de illas criationes Vermuto lohannes et Pedro Donniz, et resta-
vit in commune germ ana de Pedro Donniz.
•» Hin., N 7.
•* Ibid., N 28.
•5 Корсунский A. P. История Испании..., с. 70.
Сервы и либертины в Леонском королевстве в IX—XI вв.
215
дет убит человек церкви, все равно — серв или свободный, за
него уплачивается пеня (integrum homicidium); если же убийца
не может ее уплатить, его самого отдают церкви. Здесь за уби-
того раба выплачивается не цена, а скорее вергельд, как и за
свободного. Исключительность условий не меняет того, что грамо-
та в этом отношении ставит серва фактически на одну доску с
юридически свободным крестьянином, принадлежащим церкви”.
Фуэро Леона настаивает на возвращении беглого раба госпо-
дину, однако неузнанному рабу разрешалось свободно жить в
городев7. Еще дальше идут другие фуэрос, отвечая нуждам коло-
низации. По фуэро Вильявисенсио сервы-ремесленники, пришед-
шие туда, становились свободными”. Такая возможность улуч-
шить свое положение, несомненно, должна была влиять на общее
состояние сервов.
Разделы сервов не всегда производятся произвольно. Ряд гра-
мот XI в. фиксируют передачу целых семей, без дробления
их ”. Браки рабов со свободными становятся обычным явлени-
ем. В генеалогии рабов-мавров зафиксирован брак серва со сво-
бодной женщиной — галисийкой (uxoreiii galegam de ingenuo ge-
nere) 70. Брак серва носит название conjugium71. Таким обра-
зом, можно говорить об укреплении семьи сервов.
Обратимся к вопросу о фактических правах сервов на их иму-
щество. Характерно, что земельные наделы сервов именуются
иногда hereditates72. Можно предположить, что наделы сервов
были наследственными. Некоторые грамоты фиксируют участие
сервов в прессурах в качестве непосредственных производителей.
В 877 г. Нунило дарит виллу, полученную ею по наследству,
которую в свое время ее дед «получил от своего серва Фронти-
ниано, который ее возделал» 73. Хозяйственная самостоятельность
сервов в условиях освоения новых земель приводила к явлениям,
отраженным в двух документах IX в. В 864 г. серв Аусонио
дарит своему господину Нунно свои доли в вилле Таборнета в
двух садах, которые принадлежат Аусонио совместно с его братья-
ми74. В 870 г. серв Флациан составляет грамоту профилиации
своему господину на свои наделы в двух виллах; при этом он
отмечает, что эта доля составляет такую же часть, какую полу-
COv, N 45: homo habitans in hereditates... S. Salvatoris, servos sive liber.
®7 F. Legionae, tit. 21.
68 Munoz у Romero T. Op. cit., p. 171.
COv, N 118, ИЗ. Эта тенденция наблюдалась уже в вестготский период
(Корсунский А. Р. Готская Испания, с. 118).
70 Hin., N 28. См. также: Hin., N 17. По Вестготской правде браки рабов со
свободными были запрещены (Корсунский А. Р. Готская Испания, с. 102).
71 Floriano, N 96.
72 Ibid., N 4, 96.
73 Ibid., N 117.
54 Floriano, N 81.
216
О. И. Варьяш
чает один из его сыновей75 *. Составление специальных грамот
для передачи земли серва господину можно рассматривать как
свидетельство фактического права распоряжения ею сервом. Сов-*
местное же владение с братьями и характер грамоты (профи-
лиация) указывают на наличие наследственного владения, при-
чем часть, передаваемая господину, не превышает доли сына серва
в наследстве.
Наличие собственных, в том числе и наследственных, земель-
ных владений у сервов фиксирует грамота 1001 г., согласно ко-
торой Донасано дарит имущество, наследственное и приобретен-
ное (виноградники, поля), своим детям сервам7в. В конце
X — начале XI в. сервам официально разрешаются дарения пя-
той части имущества в пользу церкви77 78 79.
Все приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в
отдельных случаях практика отступала от старых юридических
норм, развивая тенденцию к большей хозяйственной самостоя-
тельности серва, к превращению его в зависимого держателя.
Однако ни один документ не свидетельствует о сделках сервов
на землю7в.
Для обозначения надела серва, кроме термина hereditas, упо-
треблялся и другой: casata7®. В документах встречаются различ-
ные формы обложения сервов повинностями. В переписи зависи-
мого населения Гаусона держатели каждого надела (casata) вы-
полняют определенные работы80. Большая часть наделов обязана
полевыми работами (servitio ruale) 81 82. Некоторые сервы отраба-
тывают барщину в вилле, выполняют плотницкие работы, занима-
ются рыболовством, наконец, выделывают пергамент и ремон-
тируют дороги. Из всех перечисленных семей (около 60) 17 заня-
ты не полевыми работами. Каждая семья несет лишь один вид
повинностей.
Такой же список повинностей населения Правил был состав-
лен в конце IX в.и Работы, выполняемые держателями наде-
75 Ibid., N 96.
78 Hin., N 7. См. также: COv, N 62.
77 COv, N 34, 45г
78 В вестготский период сервам разрешалось приобретать недвижимое иму-
щество у сервов другого господина (Корсунский А. Р. Готская Испания,
с. 114).
79 Рамиро IV жалует монастырю Селанова comissos et mandationes et nost-
ras casatas (Barrau-Dihigo L. Chartes royales.— Revue hispanique, Paris,
1903, N 25). Повинности определяются с наделов: casata de Gornande,
casata Integra de Ecta Anaildiz (Jovellanos G. M. Coleccion de Asturias.
Madrid, 1947,1.1, N 3).
80 Munoz у Romero T. Op. cit., p. 153—154.
81 Подобную же трактовку термина в более позднем документе см.: Миль-
ская Л. Т. Указ, соч., с. 96.
82 Jovellanos G. М. Op. cit., t. 1, N 3.
Сервы и либертины в Леонском королевстве в IX—XI вв.
217
лйв,— не сельскохозяйственные. В нескольких случаях, кроме ос-
новной обязанности, сервы должны исполнять totum servitio.
Однако что подразумевается под этим обозначением, сказать
трудно.
Документы XI в. фиксируют другую форму обложения. По
дарственной графа Пиниоло Хименеса 1044 г., все сервы должны
отрабатывать два дня в неделю на монастырь, выполняя любую
работу, указанную аббатом83. По документам из картулярия Се-
лановы (XI в.), серв Адульфо был обязан сторожить стада и
мыть чаны, в которых вместе со своим семейством он готовил
ванны для монахов. Такие же повинности нес и другой серв —
Педро Аквилон 8‘. Т. Муньос-и-Ромеро отмечал, что по спискам
монастырей сервы выполняли работы пекарей, рыбаков, сапожни-
ков, плотников, ткачей, портных, поваров, кузнецов, свинопасов,
конюхов и т. д.85 * Таким образом, в XI в. сервы были обязаны
господину разными личными службами наряду с наличием поле-
вых работ и оброков. В грамоте графа Пиниоло Хименеса ука-
зывается, что четыре дня в неделю сервы работают quod volue-
rint, т. е., видимо, на своих наделах **.
*
В северных испанских государствах, так же как и в вестгот-
ском королевстве, существовал институт вольноотпущенничест-
ва. Положение либертинов подробно рассмотрено К. Санчес-Аль-
борносом в статье «Либертины в Астуро-Леонском королев-
стве» 87 88. Испанский историк, концентрируя внимание на IX—
X вв., использует и материалы XI в. В статье предложена класси-
фикация грамот, фиксирующих отпуск на свободу, и типов воль-
ноотпущенников.
В изученных нами материалах содержится 16 документов,
касающихся либертинов: 7 из них относятся к IX в., 2 — к X,
7 — к XI в. Собственно отпускная грамота среди них всего однав8.
К. Санчес-Альборнос отмечает, что было известно три пути на
свободу: выкуп, получение свободы по истечении срока давности
и освобождение. Первый способ зафиксирован в грамоте X в.,
где упоминаются два раба-араба и «выкуп за третьего, 200 со-
лидов». Второй способ не имеет прямых свидетельств, но К. Сан-
чес-Альборнос считает, что заявления о давности проживания в
83 Hin., N 12.
84 Sdnchez-Albornoz Cl. Estampas de la vida en Leon durante el siglo X, p. 124,
nota 69.
85 Ibid., p. 125, nota 71.
88 Hin., N 12.
87 Sdnchez-Albornoz Cl. Estudios..., p. 315—351.
88 COv, № 68.
218
О. И. Варьяш
качестве свободных людей, находящихся под следствием относи-
тельно их статуса, дают основание предполагать наличие обыча-
ев, аналогичных установлениям Вестготской правды ®9.
Нам не удалось обнаружить документов, свидетельствую-
щих о таких формах отпуска сервов на волю, как освобождение
в церкви, по денарию или per manum regis; не приводят таких
данных и К. Санчес-Альборнос и Ш. Верлинден. На севере Ис-
пании были распространены две формы освобождения: по грамоте
и по завещанию. Примером первого типа является грамота X в.,
согласно которой некая Гольдрегото освобождает рабыню-маври-
танку Юлию, так что последняя становится полностью свобод-
ной ’°. Кроме этой грамоты, К. Санчес-Альборнос приводит в ка-
честве примера освобождения «по грамоте» еще две грамоты IX в.
из документов Сант-Яго89 90 91. Однако формально они являются гра-
мотами дарения, которые внутри себя заключают отпускные или
упоминания об освобождении. Подобный же характер носят гра-
моты 898 и 930 гг.92 Грамота 1072 г. из картулярия Овьедского
собора не использована К. Санчесом-Альборносом. По ней Марти-
но Беремудес и Индеркина Гарсиас освобождают своих mancipi-
as: Леокадио с женой и 5 детьми и брата жены, т. е. 8 чело-
век 93. Так же фиксирует освобождение грамота 1025 г. По
форме — протокол судебного разбирательства, в конце она содер-
жит отпуск на свободу трех mancipias доньей Униско94.
Примерами освобождения по завещанию могут служить два
документа: некие Ордонио и Профлиния в 831 г. завещают церк-
ви в Баро различные земли, посадки, постройки. Либертины и сер-
вы освобождаются после смерти дарителей и отдаются под пат-
ронат церкви95 *. В другом случае граф Пиниоло в 1047 г. дарит
монастырю Сан-Висенте виллу Вескас, а в ней — mancipia Бидиа
с двумя сыновьями с тем, что после смерти графа они получат
свободу". К. Санчес-Альборнос отмечает, что подобных осво-
бождений по завещаниям было сравнительно много, и приводит
ряд примеров 97.
Кроме этих документов, в картулярии кафедрального собора
в Овьедо содержатся три грамоты, сообщающие об уже состояв-
шемся освобождении. По ним церквам и монастырям передают-
ся лица рабского состояния, за исключением тех, кто получает
89 Sdnchez-Albornoz Cl. Estudios..., р. 321—323.
90 Verlinden Ch. Op. cit, p. 127.
91 Floriano, N 88, 99.
92 Ibid., N 157; Hin., N 2.
93 COv, N 68.
94 Hin., N 10.
95 CST, N 7.
98 VO, N 41.
97 S&nchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 325.
Сервы и либертины в Леонском королевстве в IX—XI вв.
219
освобождение98, или уже освобожденные прежде, либертины
На освобождение «по грамоте» указывает грамота 930 г.100 Ос-
тальные документы содержат упоминания о либертинах в раз-
личных ситуациях101.
По условиям освобождения либертины различаются. Сущест-
вовала возможность получения полной, ничем не стесненной сво-
боды. К. Санчес-Альборнос отмечает, что к астуро-леонскому пе-
риоду относятся лишь два случая такого полного освобождения108.
В 837 г. Эксемена Моньис освобождает Мариану Моньис, однако
с тем, чтобы она «служила любому,, кому захочет», т. е. ее сво-
бода все же ограничена103. Более пространная формула приме-
нена во втором документе — грамоте Гольдрегото. Освобожденная
Юлия получает свободу передвижения и выбора места житель-
ства. Специально подчеркивается ее полная независимость, сво-
бода на правах «римской гражданки» 104.
По документам XI в. невозможно сказать, на каких условиях
освобождаются рабы. Дарственная графа Пиниоло указывает на
освобождение сыновей Бидии после его смерти так, что они «ста-
новятся свободными перед лицом бога» 105> В грамоте 1097 г. Пед-
ро Эктас завещает собору Овьедо людей, часть из них он отпуска-
ет на свободу, другие же остаются под властью церкви10в. Из
документа неясно, насколько независимы от церкви первые, рас-
пространяется ли на них, как на либертинов, патроциний или им
предоставляется полная свобода.
Более распространенный тип освобождения сервов заключа-
ют в себе другие грамоты. В 817 г. Помпейано передает сыну
сервов и либертинов, населяющих виллы, которые представляют
собой наследственную долю сына107. Либертины, таким образом,
зависят как от отца, так и от сына, т. е. состоят в постоянной,
вечной связи с господином. В 831 г. по дарственной Ордонио
церкви в Баро освобожденные остаются под патроцинием церк-
ви 10в. Ту же картину рисует грамота 863 г.109 По грамоте из
португальских земель 867 г. некий Рудесиндо освобождает сервов
м COv, N 107; 108.
ев Ibid., N 8.
Hin., N 2.
ioi Floriano, N 26; Hin., N 6, 12; COv, N 114.
юг Sdnchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 327.
юз Ibid., nota 30.
io* Verlinden Ch. Op. cit., p. 127.
Ю5 VO, N 41.
toe COv, N 114.
ют Floriano, N 26.
Ю8 CST, N 7.
Ю9 COv, N 8; епископ Гладила передает церкви Трубиа omnes meos liberos
quos ego ingenuavi... et ad ipsos cultores sint commendati et per omnem
patrocinium vel maulatum dcserviunt.
220
О. И. Варьяш
и отдает их и освобожденных прежде под патроциний монасты-
ря ио.
Грамоты X и XV вв., не употребляя термина «патроциний»
или подобного ему, устанавливают свободу передвижения и места
жительства, но накладывают на либертинов определенные обяза-
тельства в пользу сеньера 1И.
К. Санчес-Альборнос среди либертинов, не получивших пол-
ной свободы, выделяет две группы: первая имела ограничения
свободы лишь на протяжении жизни господина, вторая остава-
лась в вечной зависимостиИ2. В качестве свидетельства о пер-
вом типе освобождения он приводит документ 912 г., по которо-
му король освобождает сервов, оставляя их под патроцинием Сант-
Яго на протяжении жизни епископа Сиснандо. Затем они стано-
вятся свободными полностьюиз. Остальные документы, как и
наши грамоты, фиксируют освобождение второго типа, т. е. с со-
хранением вечной зависимости.
В чем же выражалась эта зависимость либертинов? В грамоте
831 г. либертины, находящиеся под патроцинием церкви, обяза-
ны в день св. Фомы и в день св. Фруктуоза давать «милостыню
и приношения» |14. В 943 г. грамота монастыря Селанова фикси-
рует обязанность либертинов на рождество поставлять монастырю
«воск и другие приношения» Н5. То же — в грамоте 1000 г. из
монастыря Собрадо11в. В 1025 г. донья Униско, отмечая свобо-
ду трех ее бывших рабынь в выборе места жительства, подчерки-
вает, что они не состоят под патроцинием, но обязаны в день
св. Адриана и Наталии приношениями,17. К. Санчес-Альбор-
нос считает, что лишь в одном случае можно предположить со-
четание обычных общих повинностей с обязательством приноше-
ния воска и раздачи милостыни — в грамоте 990 г. из Галисии 1|8.
Однако текст ее лаконичен и оставляет свободу для толкования.
Итак, повинности либертинов сводились к доставке сеньеру
воска раз в год и другим незначительным службам, при этом
исполнение этих обязанностей не было связано с прикреплением
к земле И9.
ио Floriano, N 88.
1,1 Hin., N 10; COv, N 68; Sdnchez-Albornoz Cl. Los libertos..., nota 41.
иг Sdnchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 328.
из Ibid., nota 39.
nt CST, N 7.
ns Sdnchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 331.
ив Ibid., nota 41.
иi Hin., N 10. См. также грамоту 1072 г.: COv, N 68.
ив Sdnchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 332—333: homines... qui ibi inveni-
mus... serviant sicut ceteri ingenui et prodie S. Petri сегешп et oblationem
deferant.
и9 Ibid.: si voluerint relinquant ipsos saltos et alios requirant et dominatio
monasterii possideant illos in iure hereditario, et quando voluerint rever-
tere hereditatem recipient et negotium persolvant.
Сервы и либертины в Леонском королевстве в IX—XI вв.
221
Нередко при освобождении либертины получают землю. В гра-
моте 817 г. упоминаются либертины в виллах 120. В 867 г. Руде-
синдо, распределяя наследство, часть земли передает либерти-
нам в качестве пекулиев. Формулировка, характеризующая вла-
дельческие права либертинов, типична для обычных земельных
сделок и между свободными лицами: «in perpetuo vindicent et
defendent». Они имеют владельческие права на все, что делит
между ними Рудесиндо, а также на то, что они приобретут в
будущем121. В грамоте из Селановы 943 г. на владение пекулием
накладывается условие не продавать его на сторону; продавать
землю можно лишь родственникам, находящимся в том же поло-
жении либертинов, или монастырю 122 123 124. Грамота XI в. свидетель-
ствует о передаче либертинам пекулия с правом приобретения
другого имущества, расширения земельных владений12S 126 *. Таким
образом, на протяжении IX—XI вв. владельческие права либер-
тинов не изменяются, хотя возможны различные варианты огра-
ничения свободы распоряжения наделом и хозяйственной само-
стоятельности.
Законодательные памятники этого времени молчат о либерти-
нах. В документах либертинов называют liberi, ingenui, однако
эта свобода, видимо, не совершенна. В протоколе судебного раз-
бирательства 999 г. между неким Вигилой и церковью Сант-Яго
по поводу браков между их людьми сервы и либертины высту-
пают единой массой 12‘. Результатом суда явился раздел и сервов
и либертинов поровну между Вигилой и Сант-Яго125. Подобные
разделы — явное свидетельство того, что свобода либертинов была
ограничена.
Ничего не известно ни о вергельдах либертинов в это время,,
ни о системе наказаний, применявшихся по отношению к ним,
ни о их судебной дееспособности. К. Санчес-Альборнос полагает,
что либертины, остававшиеся под патроцинием, находились в сфе-
ре ответственности патрона 12в. Либертины могли быть подарены,
завещаны, переданы господином другому лицу или церкви *27.
120 Floriano, N 26.
121 Ibid., N 88.
122 S&nchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 331: non vendas nisi heredibus tuis
qui uno modo tecum a nobis liberi sunt aut etiam ad confessoribus mo-
nasterii Cellenove.
123 Hin., N 10.
124 Ibid., N 6: perquisivit omnes servos vel libertos, qui erant permixti cum ho-
m ini bus S. Jacobi.
125 См. также: Sanchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 342. По грамоте 1019 г.
из Собрадо либертины включаются в familia: omnis familia nostra... ser-
vi vel liberti (Floriano, N 26).
126 Sanchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 343.
и? Floriano, N 26, 88, 99; COv, 88; Hin., N 2.
222
О. И. Варьяш
*
Итак, на протяжении VIII—XI вв. на севере Испании сохра-
няется население сервильного статуса. Судя по картуляриям, сер-
вы играли большую роль в вотчинах Леона и Галисии128. По
данным изученных грамот, положение их в VIII—X вв. сущест-
венно не отличалось от статуса сервов в вестготский период.
В первые века Реконкисты заметно даже некоторое ухудшение
их положения.
Сервы лично зависели от сеньера; они несли поземельные и
личные повинности. Они могли быть проданы, подарены, завеща-
ны, иногда без земли; часто при этом разбивается семья серва.
Ряд сведений, содержащихся в документах, позволяет гово-
рить о том, что к концу изучаемого периода несколько укреп-
ляется семья, расширяется хозяйственная самостоятельность и
фактические права сервов на землю. Однако и в это время сервы
не имеют права отчуждать и приобретать земли у лиц того же
статуса, как это было в последние десятилетия существования
Вестготского королевства. В XI в. сервы по большей части уже
испомещены на землю. Возникает новый термин для обозначения
сервов, прикрепленных к земле,— homines de criatione. Таким
образом, как на бывших вестготских землях, так и на террито-
риях, не входивших в состав Толедской монархии, в формиро-
вании феодально зависимого крестьянства в VIII—XI вв. боль-
шую роль играют несвободные, причем процесс стирания граней
между сернами и другими категориями зависимых протекает срав-
нительно медленно.
На протяжении IX—XI вв. незаметны какие-либо особые из-
менения и в положении либертинов, равно как незначительны
расхождения с их статусом вестготского периода. Повинности
либертинов по отношению к своим патронам не тяжелы. Но на-
следственная личная зависимость от сеньера, получение от него
земельного надела, ограничения в распоряжении земельным вла-
дением в сочетании с хозяйственной самостоятельностью — все
это приводило к тому, что либертины становились одним из сло-
ев зависимого крестьянства. С этой точки зрения характерно
включение их в состав familia, плебса, как крестьянского на-
селения вилл-имений i2’.
128 Ср.: Мильская Л. Т. Указ, соч., с. 101.
128 Floriano, N 64; Sanchez-Albornoz Cl. Los libertos..., p. 342.
В. С. Барашкова
К ВОПРОСУ
О РУССКО-НОРВЕЖСКИХ СВЯЗЯХ В XVI В.
В XVI в. залив Варангер-фьорд, ограниченный с юга полу-
островами Средним и Рыбачьим, являвшимися русскими владе-
ниями, а с севера полуостровом Варангером, принадлежавшим
Норвегии *, которая с 1536 г. стала частью Датского королевства,
был не только известным центром добычи рыбы и морского зве-
ря, но и местом, где происходила оживленная торговля между
русскими, саами (лопарями), карелами и норвежцами, по всей
видимости приносившая последним немалые выгоды 1 2. Этот район
характеризуется сравнительно благоприятными климатическими
условиями: здесь проходят южная ветвь Нордкапского теплого
течения и Мурманское прибрежное течение, летом никогда не
наблюдались морские плавучие льды, как это имеет место в бо-
лее южной части Кольского полуострова3. Центрами торговли
района на норвежской стороне был Вардегус, а на русской сторо-
не мыс Кегор (Кекурский) — Вайда-губа, в датских документах
XVI в. называвшийся, по-видимому, Кирвагеном4. Вардегус (в пе-
реводе на русский язык— «дом стражи») —морская крепость и
торговый порт Северной Норвегии в области Финмарк — нахо-
дился на одном из трех островов у восточной оконечности Ва-
рангера5. Здесь имелась удобная стоянка для кораблей, где мож-
но было достать опытного лоцмана, а крепость считалась наиболее
укрепленной в Финмарке 6. В челобитной 1559 г. саами Е. Они-
1 Seines К. Les conflits diplomatiques dano-russes sur la frontiSre norvegien-
ne aux XVIе et XVIIе siecles.— Scandoslavica, Copenhaven, 1961, t 7,
p. 312—313.
2 Шасколъский И. П. Экономические связи России с Данией и Норвегией
в IX—XVII вв.— В кн.: Исторические связи Скандинавии и России. IX—
XX вв. Л., 1970, с. 48—51.
3 Атлас Мурманской области. М., 1971, с. II, 15.
4 О происхождении наименования мыса Кегор см.: Вальдман К. Н. Ста-
ринное становище и торг (XVI в.) на Крайнем Севере (Кегор — Вайда-
губа).— Изв. Всесоюз. геогр. общества, 1968, вып. 1, с. 53; Щербачов Ю. В.
Датский архив. Материалы из истории Древней России, хранящиеся в
Копенгагене. 1326—1690 гг. М., 1893, с. 123, 140.
5 Sauvage J. Memoire du voiage en Russie fait en 1586. Paris, 1855, p. 4.
6 Hakluyt R. The principal Navigations, Voyages, Traffiques and Discoveri-
es of the English Nation: In 12 vol. Glasgow, 1903, vol. 2, p. 220.
224
В. С. Барашкова
симов («дашцичишко лопское») сообщает: «Датцких немець при-
«ездной городок Варггав на волоке стоит на море на острову, и мимо,
государь, тот свой городок не пропущают те немцы твоих госуда-
ревых всяких людей в судех в малых и в лодьях на Теную
{Тану.— В. Б.) реку промышляти» 7. Размеры этого города-кре-
пости были невелики. Русский посол в Англию Ф. А. Писемский,
проезжавший мимо Вардегуса в 1582 г., так описывает его со
слов англичан: «А про городок про Варгав карабелщики сказы-
вали, что городок камен, мал и худ, и люди в нем не живут,
а живут люди немногие на посаде по ямам» 8. Ж. Соваж, фран-
цузский купец из Дьеппа, побывавший здесь летом 1586 г., также
отмечает, что дома местных жителей так углублены в землю, что
скот ходит по крышам, поедая растущую траву ’. Фогт Вардегуса
(«капитан» в английских и французских источниках, «капитайн»
в русских, где упоминается и «варгавский державец») был не
только комендантом крепости, но и контролировал сбор дани е
местного населения и поступление торговых пошлин. Для докла-
дов фогт ездил непосредственно в Берген 10, откуда осуществля-
лось управление всеми норвежскими землями, расположенными к
северу от этого города1 11. Для закупки рыбы, ворвани и-другого
сырья у местного населения и русских, в том числе монахов
основанного в середине XVI в. Печенгского монастыря, в Варде-
гус приезжали норвежские торговцы. Показательно, что в перечне
доходов за 1567 г. в Вардегусе упоминаются русские серебряные
деньги 12. По наблюдениям С. Салингена, торговца из Антверпе-
на, побывавшего в Вардегусе в эти годы, привилегией приобре-
тения в нем товаров долгое время пользовались исключительно
купцы двух крупнейших городов Норвегии — Бергена (а также
Бергенской конторы Ганзы) и Тронхейма, приходившие в Варде-
гус на легких парусниках — яхтах13. Когда организованная в
Антверпене торговая компания отправила в 1564 г. в Вардегус
корабль под началом Ф. Винтерконига, фогт Вардегуса Я. Ган-
сен, не задумываясь, посадил антверпенских торговцев в тюрьму,
угрожал казнью и освободил их не ранее, чем они дали клятву
1 Русская историческая библиотека, изд. Археогр. комиссией) (далее —
РИБ). СПб., 1897, т. 16, № 17, с. 53.
8 Сборник Русского исторического общества (далее — Сб. РИО). СПб., 1883,
т. 38, с. 18.
* Sauvage J. Op. cit., р. 7.
10 Hakluyt R. Op. cit., vol. 2, p. 372. ;
11 Larsen K. A History of Norway. New York, 1950, p. 257.
12 Потин В. M. Скандинавские монеты на территории Русского государства
и русские монеты в Скандинавии в XVI—XVII вв,— В кн.: Скандинав-
ский сборник. Таллин, 1974, т. 19, с. 202.
13 Филиппов А. М. Русские в Лапландии в XVI в. Сообщение Симона ван
Салингена.— Литературный вестник, 1901, № 3, с. 297.
К вопросу о русско-норвежских связях в XVI в.
225
никогда не торговать в этом местеu. С наблюдениями С. Са-
лингена о преимущественной торговле в районе Вардегуса нор-
вежских купцов из Бергена и Тронхейма, ганзейских купцов из
Бергенской конторы хорошо согласуется свидетельство Стивена
Бэрроу о том, что 30 июня 1557 г. у мыса Кегор, расположен-
ного на северной оконечности полуострова Рыбачьего напротив
Вардегуса, он в бухте увидел барк — большой парусный ко-
рабль 15 — из Дронтона (Тронхейма) и 3—4 норвежские яхты —
легкие парусники из Бергена1в. Сойдя на берег, где происхо-
дил оживленный торг, он встретил сына бургомистра Тронхейма,
который сообщил С. Бэрроу, что английский корабль «Филипп и
Мария», перезимовав в Тронхейме, весной отплыл в Англию,
а «Упование» погиб и он приобрел его паруса для своего ко-
рабля ”. Говоря о лицах, среди которых находился сын тронхейм-
ского бургомистра, С. Бэрроу постоянно употребляет термин du-
tchmen. Кто были эти dutchmen, которые, не опасаясь притесне-
ний со стороны фогта Вардегуса, принимали участие в торге у •
мыса Кегор не спорадически, а из года в год, как об этом можно
судить исходя из всего контекста сообщения С. Бэрроу?
Основываясь на одном из наиболее распространенных в его
время значений этого слова — «голландцы», В. О. Ключевский
писал в «Сказаниях иностранцев о Московском государстве» о том,
что Стивен Бэрроу «встретил здесь несколько норвежских и гол-
ландских судов, пришедших сюда для менового торга с русскими и
туземцами, лопарями и корельцами» 18. Позднее В. А. Кордт,
рассматривая вопрос о торговых связях нидерландцев с русским
Севером в XVI в., особо останавливался на значении слова dutch-
men в сообщении С. Бэрроу и указывал, что в рассматривае-
14 Там же, с. 297—298.
15 В. А. Кордт неточно перевел barke как «баржа». См.: Кордт В. А. Очерк
сношений Московского государства с Республикою Соединенных Нидер-
ландов по 1631 г.— Сб. РИО. СПб., 1902, т. 116, с. XVIII.
16 Даже значительно позднее, в 1595 г., именно бергенские и тронхеймские
купцы жаловались датским послам на англичан и голландцев, торговав-
ших по лапландскому побережью (по их словам, с начала 80-х годов
XVI в.) и тем самым подрывавших привилегии купцов из Бергена и
Тронхейма. См.: Щербачов Ю. Н. Указ, соч., № 503, с. 139—140. Дж. Флет-
чер, побывавший в России в 1588—1589 гг., сообщает: «Обыкновенно ле-
том отправляются они (лаппы.— В. Б.) большими группами к морской
стороне, к Вардегусу, Коле, Кегору и заливу Видагуба (Вайда-губа.—
В. Б.), где ловят треску, семгу, камбалу, которые они продают русским,
датчанам и норвежцам, а с недавнего времени и англичанам, привозя-
щим туда сукно, которое они меняют у лаппов и карел на их рыбу, вор-
вань и меха, которых у них также имеется некоторый запас» (Fletcher G.
Of the Russe Commonwealth. Cambridge (Mass.), 1966, p. 77 v.).
17 Hakluyt R. Op. cit., vol. 2, p. 372.
18 Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М.,
1866, с. 245. 8
8 Средние века, в. 43
226
В. С. Барашкова
мый период это слово в английском языке означало не только
нидерландцев, но и немцев, вследствие чего вопрос о том, кто
именно были упоминаемые английским путешественником dutch-
men должен остаться открытым19. Это мнение В. А. Кордта в
дальнейшем не получило распространения, и в издании «Англий-
ские путешественники в Московском государстве в XVI в», рас-
сматриваемый термин был переведен как «голландцы» 20. Такое
толкование этого слова получило в советской исторической ли-
тературе широкое распространение и давало основания говорить
о развитой торговле нидерландцев 21 с русскими в районе мыса
Кегор уже в 50-е годы XVI в. Тем самым значение русско-
норвежских торговых связей в этом районе в середине XVI в.
объективно значительно преуменьшается.
М. М. Громыко в своем исследовании о русско-нидерланд-
ской торговле на мурманском берегу в XVI в. также исходит
из понимания слова dutchmen как «голландцы». Она пишет: «Бэр-
роу был приглашен на голландский корабль, тщательно вник в
ход торговли и вынес впечатление, что голландцы вели здесь
значительные дела и с большой выгодой»22, и дает разверну-
тую характеристику торговых операций голландских купцов, от-
нося все сведения, приводимые С. Бэрроу, именно к ним.
По-видимому, такого же мнения придерживаются И. П. Ша-
сколький и Б. Н. Флоря при рассмотрении вопросов о торговых
контактах между Россией и странами Западной Европы на мур-
манском берегу в XVI в.23 К. Н. Вальдман в работе о торге у
мыса Кегор в XVI в. не ставит под сомнение правильность та-
кого перевода и отмечает: «В то время (в 1557 г.— В. Б.) из
иноземцев там (у мыса Кегор.— В. Б.) безраздельно господство-
вали голландские купцы» 24. И. Ф. Ушаков в очерках истории
Мурманской области в дооктябрьский период пишет: «На Мурма-
не торговля происходила в условиях конкуренции. Уже в 1557 г.
здесь помимо русских, саамов и норвежцев были голландские и
датские купцы» 25.
19 См.: Кордт В. А. Указ, соч., с. XIX.
20 Английские путешественники в Московском государстве в XVI в./Пер.
с англ. Ю. В. Готье. Л., 1937, с. 123—124.
21 В ряде исследований вместо «нидерландцы» употребляется в том же зна-
чении «голландцы».
22 Громыко М. М. Русско-нидерландская торговля на Мурманском берегу
в XVI в.— СВ, 1960, вып. 17, с. 239—244.
23 См.: Шаскольский И. П. Указ, соч., с. 53—54; Флоря Б. Н. Торговля Рос-
сии со странами Западной Европы в Архангельске (конец XVI в.— нача-
ло XVII в.).— СВ, 1973, вып. 36, с. 130.
24 Вальдман К. Н. Указ, соч., с. 54—55.
25 Ушаков И. Ф. Кольская земля: Очерки истории Мурманской области в
дооктябрьский период/Под ред. И. П. Шаскольского. Мурманск, 1972,
с. 68.
К вопросу о русско-норвежских связях в XVI в.
227
Рассмотрим же подробнее сообщение С. Бэрроу о торговле,
происходившей в конце июня 1557 г. у мыса Кегор, ведь имен-
но на нем основываются исследователи, говоря о торговле гол-
ландцев на Мурмане в 50-е годы XVI в. Хотя исследователи и
пишут о «голландских кораблях», встреченных на Мурмане Сти-
веном Бэрроу, сам он говорит лишь о яхтах и барке из норвеж-
ских городов Бергена и Тронхейма, о чем мы упоминали выше.
Сомнительно, чтобы сын тронхеймского бургомистра, являвшийся
представителем патрициата этого города, и другие норвежские
купцы предоставили бы конкурентам, купцам нидерландским, ме-
сто на своих кораблях, а тем более чтобы «распоряжались нор-
вежскими судами голландцы», как об этом пишет К. Н. Вальд-
ман 26.
Кроме того, купцам из Нидерландов, где в первой половине
XVI в. был совершен переворот в мировом кораблестроении, и не
было никакой необходимости пользоваться норвежскими, менее
экономичными и более устаревшими по своей конструкции суда-
ми 27. Кажется невероятным также намерение «голландцев» от-
везти приобретенный ими груз рыбц в Вардегус, а самим вер-
нуться за новым. Если бы эти купцы были на самом деле «гол-
ландцами», фогт норвежской крепости Вардегус должен был, без
сомнения, конфисковать все их товары 28.
Не менее важным представляется и тот простой факт, уже от-
меченный В. А. Кордтом, что вплоть до XVII в. словом dutch-
men в английском языке обозначали не «голландцев» 29, а «нем-
цев» в широком смысле слова, в том числе жителей Ливонии
и пр.30.
Особое значение для более точного понимания сообщения Сти-
вена Бэрроу имеет свидетельство его младшего брата Уильяма
Бэрроу, участвовавшего вместе с ним в этом путешествии. У. Бэр-
роу, описывая приуроченный к петрову дню 29 июня торг на
26 Вальдман К. Н. Указ, соч., с. 54.
27 См.: Чистозвонов А. Н. Реформационное движение и классовая борьба
в Нидерландах в первой половине XVI в. М., 1964, с. 77—79.
28 При этом следует отметить, что те же норвежские купцы, которые рев-
ниво оберегали свои привилегии в районе Вардегуса и мыса Кегор, впол-
не могли, как мы предполагаем, вступать в торговые контакты со сво-
ими контрагентами из Нидерландов (корпорацией «бергенских купцов»
из Девентера, цехом купцов-мореходов из Амстердама и др.) в самом
Бергене, поставляя им рыбу и рыбопродукты по более высоким, «моно-
польным» ценам.
29 Little W. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles.
3rd ed., revised with addenda. Oxford, 1956, p. 574. См. также другие тол-
ковые словари английского языка.
30 Hakluyt R. Op. cit., vol. 2, p. 276. Мы встретили в английском дипломати-
ческом документе 1608 г. употребление слова Dutchland в значении Да-
ния. См.: Gross Ch. The Gild Merchant: In 2 vol. Oxford, 1890, vol. >1, p. 150,
note 1.
8*
228
В. С. Барашкова
мысе Кегор в 1557 г., на котором присутствовало много народа,
не употребляет слово dutchmen, но пишет прямо, что в торговле с
русскими, карелами и саами, подданными могущественного рус-
ского государя, участвовали «норвежцы или скандинавы и жите-
ли Финмарка, подданные короля Дании» 31.
В силу всего сказанного мы склоняемся к тому выводу, что
в сообщении Стивена Бэрроу о торге, происходившем в июне
1557 г. у мыса Кегор, речь идет не о торговле местных жителей
с голландцами, а о торговле их с норвежцами (из погранично-
го Финмарка, Бергена и Тронхейма) 32, привозившими для обме-
на на рыбу и рыбопродукты серебряные поделки, сукна различ-
ных цветов, пиво особой крепости 33, меха выдр и лисиц высокого
качества (что характерно для северных регионов Европы, в том
числе Норвегии).
31 Hakluyl R. Op. cit., vol. 3, p. 205—206: the Norwegians or Norses and peop-
les of FinmarKe subjects to the king of Denmarke. См. также: Английские
путешественники в Московском государстве в XVI в., с. 92.
32 Возможно, что среди них были и ганзейские торговцы Бергенской кон-
торы.
33 И позднее, в 1585 г., Кольский воевода писал о поступлении из Вардегу-
са сукна и пива. См.: РИБ, т. 16, № 53, с. 213.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
В, И. Мажуга
ГРАМОТЫ XIII В. МОНАСТЫРЯ БЕЛЬРУА
(Архив ЛОИИ СССР АН СССР)
В Западноевропейской секции Архива Ленинградского отделе-
ния Института истории СССР АН СССР насчитывается около
ста французских грамот, относящихся к периоду между 1040 и
1300 гг. Среди этих грамот выделяются небольшие, более или
менее целостные группы документов, происходящие из какого-
либо одного средневекового архива;'•имеются и единичные доку-
менты, никак в своей архивной судьбе между собой не связан-
ные. Наше внимание привлекли 11 грамот XIII в., некогда при-
надлежавших небольшому шампанскому монастырю Бельруа *.
В 1887 г. был опубликован подробный каталог1 2 3 4 грамот мо-
настыря Бельруа, что позволяет рассмотреть эти 11 грамот в
сопоставлении с резюме, а порой и полным текстом других гра-
мот монастыря и определить их место в документальном насле-
дии последнего. Каталог состоит из двух частей. В первой пред-
ставлены 28 грамот Бельруа, которые Артюр Даген, член-кор-
респондент Академического общества департамента Об, обнаружил
среди документов церкви св. Петра в Муленеs, и в их числе
указаны все 11 грамот, в настоящее время хранящихся в Архи-
ве ЛОИИ А.
Перед этим разделом каталога помещено письмо Дагена, на-
писанное в Париже 20 января 1887 г., которым он извещал о
своей находке Академическое общество департамента Об, .ибо в
этой области располагались в прошлом основные владения Бель-
руа и хранились многие его документы. Вместе с письмом из
Парижа был выслан перечень найденных грамот. Можно думать,
1 Их инвентарные номера: картон 326, № 27—35, 39; картон 327, № 6.
2 Chartes du prieure de Belroy recueillies par M. Arthur Daguin.— Memoires
de la Societe acadenrcique d'agriculture, des sciences, arts et belles lettres da
departement de Г Aube, 1887, t. LI, p. 163—168; Lalore Ch. Chartes du prieu-
re de Belroy aux Archives de PAube.— Ibid., p. 183—196.
3 Главный город департамента Алье, а до того герцогства Бурбонского.
4 В перечне наших грамот, помещенном ниже, мы отметим номер каждой
в этом печатном каталоге.
230
В. И. Мажуга
что Даген хотел их продать, именно поэтому он и составил ка-
талог. В Париже он мог воспользоваться услугами крупного анти-
кварного торгового дома Шаравэ, постоянным клиентом которого
уже в 90-е годы был Н. П. Лихачев, создатель собрания фран-
цузских документов XI—XIV вв. в Архиве ЛОИИ. По-видимо-
му, таким путем 11 исследуемых ныне грамот — из 28 мулен-
ских — попали к Лихачеву.
Даген в своем перечне кратко изложил содержание грамот,
допустив значительные ошибки. Смысл многих слов и словосо-
четаний он не раскрыл (может быть, и не понял) и лишь вста-
вил без перевода в свой французский текст; ничего не сообщает
он и о дипломатических особенностях грамот. Судя по всему,
он не был достаточно сведущ в средневековых документах, и наши
грамоты, несмотря на его публикацию, нуждаются в том, чтобы
их ввести по-настоящему в научный оборот.
Во второй части каталога 1887 г. представлены 52 грамоты
Бельруа, хранившиеся в архиве департамента Об, где они, веро-
ятно, находятся и по сей день; 45 из них относятся к XIII в.,
а остальные — к XIV и XVI вв. Эта часть каталога выполнена
с должной основательностью местным историком аббатом Шарлем
Лалором, который уже ранее опубликовал некоторые документы
Бельруа в своей книге, посвященной сеньорам Шаснэ 5. В ката-
логе текст нескольких грамот Лалор дал полностью 6. Свой раз-
дел каталога он предварил очерком истории монастыря Бельруа,
основанным главным образом на данных своих грамот7. Даген,
прислав свои материалы, дал как бы повод к публикации ката-
лога всех грамот Бельруа; Лалор ее осуществил, доведя их общее
число до 80.
10 из наших 11 грамот относятся к 1218—1258 гг., т. е. пер-
вым 40 годам существования монастыря Бельруа, основанного в
1217 г.; 11-я, самая поздняя, датирована 1273 г. В обеих частях
каталога Лалора насчитывается 55 грамот, написанных ранее
1274 г.; следовательно, группа наших грамот составляет пятую
их часть. Представляя ныне грамоты Бельруа, хранящиеся в
ЛОИИ, мы существенным образом способствуем воссозданию ар-
хива, сохранность и полноту которого некогда высоко оценил та-
кой знаток французских средневековых архивов, как Шарль
Лалор.
В 60-х годах XVIII в. архив монастыря был обследован по
поручению директора кабинета рукописей Королевской библиоте-
* Lalore Ch. Les sires et les barons de Chacenay. Troyes, 1885.
• N 5, 27, 42, 44.
7 Lalore Ch. Notice sur le prieure de Belroy.— Memoires..., p. 169—182. Ниже
печатный каталог грамот Бельруа 1887 г. мы будем указывать как ката-
лог Лалора.
Грамоты монастыря Бельруа
231
ки бенедиктинцем Д. Маршалом 8. Возможно, что именно он пере-
писал с некоторыми изменениями9 латинский текст .грамот на
листах голубоватой бумаги XVIII в., которые прикреплены ко всем
нашим грамотам, за исключением грамоты 1223 г. (№ 3) 10. На
левом поле этих листов даны дата грамоты и французское резюме.
Хотя Бельруа был скромной обителью с малочисленной бра-
тией, тем не менее его владения были разбросаны по всему юго-
востоку Шампани (в нынешнем кантоне Бар-сюр-Об департа-
мента Об и в западной части департамента Верхняя Марна),
и, таким образом, документы монастыря отражают историю до-
вольно обширной области, которая в связи с действием шампан-
ских ярмарок как раз в XIII в. выдвинулась на видное место.
В определенной мере это относится и к 11 рассматриваемым до-
кументам, запечатлевшим отдельные эпизоды экономической жиз-
ни монастыря. Эти документы свидетельствуют о приобретениях
монастыря, случаях определения его владельческих прав, о лицах,
связанных с его земельной собственностью. Хотя все они служили
охране собственности монастыря Бельруа, ни один из 11 докумен-
тов не был написан в самом монастыре, но это оказывается их
выгодной стороной, так как они дают сведения о ряде важных
лиц, выдававших грамоты. Сравнивая эти документы, обнаружи-
вая известное их единообразие, мы получаем определенное пред-
ставление о составлении документов в Юго-Восточной Шампани
в XIII в.
Бельруа был приоратом 11 регулярных каноников-августинцев.
Основным назначением регулярных каноников, заметно отличаю-
щихся своим происхождением от большей части монашества, было
отправление службы в церквах. Не все они имели сан священни-
ка, но их выделяла принадлежность к особым общинам служи-
телей культа, которые при Каролингах получили значительные
права и достаточно определенное внутреннее устройство12. Об-
щины регулярных каноников появились в середине XI в. в связи
8 Delisle L. Le cabinet des manuscrits de la Bibliotheque Imp^riale. Paris,
1868, t. 1, p. 557—562.
9 Опущены часто употребляемые в документах формулы, которые не за-
трагивают основного содержания, упразднена форма будущего времени,
выправлены грамматические связи и проч.
10 В скобках мы будем указывать номер грамоты в перечне, помещенном
ниже; номеру будет предшествовать во многих случаях дата грамоты.
11 Малое монашеское общежитие, которое возглавлял приор. Приораты
обычно были колониями более крупных монастырей-аббатств; нередко
приорат составляли два монаха, один из которых был приором.
12 Luchaire F. Manuel des institutions francaises. Periode des Capetiens di-
rects. Paris, 1892, p. 51 sqq.
232
В. И. Мажуга
с общей реформой католической церкви; в противоположность
своим предшественникам регулярные каноники отказывались от
личного имущества и связывали себя обетом неотлучного пребы-
вания на' месте. Они давали все основные монашеские обеты и
жили согласно монастырскому уставу, в основу которого были по-
ложены правила общежития, указанные служителям церкви
бл. Августином (определение «регулярные» произведено от латин-
ского обозначения устава: regula) ,3.
Западнее г. Бар-сюр-Об, вблизи замка Блиньи, в XIII в. рас-
полагалось селение Пюрруа. В 1217 г. сеньор его, рыцарь Рауль,
пригласил поселиться при часовне селения регулярных канони-
ков из незадолго до этого основанного приората Валь-де-з’Эколье.
Прибыли семь монахов и основали обитель, которая была назва-
на, как и селение, Пюрруа и навсегда осталась в зависимости
от приората Валь-де-з’Эколье. Уже через год появилось новое на-
звание, которое дошло до нас в латинизированной форме: Бель-
руа (Belleroy). Первоначальное название Пюрруа (Purroi) упо-
треблено в нашей грамоте 1218 г. (№ 1), самой ранней из извест-
ных нам грамот приората; в остальных оно не встречается.
В месте основания приората монахи оставались не более деся-
ти лет. В каталоге 1887 г. учтены шесть оригиналов грамот,
которые они получили во время пребывания близ замка Блиньи:
три из этих грамот сейчас хранятся в ЛОИИ: 1218 (№ 1), 1223
(№ 2), 1224 (№ 3). Новая обитель, куда перешли монахи Бель-
руа, была выстроена возле селения Бейль, 4—5 км выше г. Бар-
сюр-Об по течению р. Об; название приората осталось прежним.
Пригласил сюда монахов уже не простой рыцарь, каким был сень-
ор Пюрруа, но камерарий графа Шампанского Ламберт Бошю;
он, как и основатель приората, находился в вассальной зависи-
мости от сеньора Шаснэ.
Владения сеньора Шаснэ простирались на десятки километ-
ров, и, по-видимому, в их пределах были сосредоточены все ос-
новные права и имущество приората Бельруа. Среди 11 иссле-
дуемых грамот имеются 2 из более ранних, составленные от име-
ни сеньора Шаснэ Эрарда: 1213 (№ 1), 1224 (№ 3). Кроме того,
одна грамота дана с участием бальи «всей земли Шаснэ» Вихарда
де Порта: 1273 (№ 11).
После своего перемещения приорат оказался в ближайшем
соседстве со знаменитым аббатством Клерво, от которого оп был
удален всего лишь на 6—7 км. То обстоятельство, что владения
двух монастырей граничили между собой, заставляет с большим
вниманием отнестись к документам Бельруа. Но это же обстоя-
13 В XIII в. продолжали существовать и общины прежнего типа — капи-
тулы при кафедральных соборах и так называемых коллегиальных церк-
вах; члены этих общин включались в белое духовенство.
Грамоты монастыря Бельруа
233
тельство положило предел росту приората, так как монахи Клер-
во, которые имели выпасы в той самой долине Жоншер, куда
переселились монахи Бельруа, согласились допустить последних
в качестве соседей лишь на том условии, что число монахов
Бельруа не превысит 16, не считая прислуги, а коров и телят
будет не более 3014. Насколько можно судить по тем сведе-
ниям, которые сообщает Лалор в кратком очерке истории прио-
рата Бельруа, эти ограничения в последующие времена остались
в силе.
Край, где малозаметно разворачивалась история скромного прио-
рата, не похож на большую часть Шампани. Шампанская рав-
нина сменяется здесь поросшими лесом холмами с обрывистыми
склонами, между которыми располагаются небольшие долины, при-
годные для земледелия. Виноградарство было важнейшим заняти-
ем здешних жителей15; об этом свидетельствуют, как увидим
ниже, и наши грамоты.
Средоточием жизни этих мест издавно был г. Бар-сюр-Об.
В XIX в. в нем насчитывалось лишь 4,5 тыс. жителей, но в
XII—XIII вв. благодаря своему полЪжению на пересечении ста-
рых римских дорог16 17 он выделялся как один из четырех горо-
дов, где поочередно в течение всего года устраивались знамени-
тые шампанские ярмарки. Ярмарка в Бар-сюр-Об располагалась
главным образом внутри стен замка графов Шампанских. Воз-
можно, замок был к этому времени необитаем. Возле церкви
св. Маклу, которая находилась в его пределах, среди прочих тор-
гующих продавали свои товары купцы из многих итальянских
городов (в частности, из Генуи, Лукки и Пьяченцы). По одной
из рассматриваемых в статье грамот (1238, № 5) монахи Бель-
руа получили ряд прав на дома вблизи этой церкви, носившие
название «Графские палаты».
Приорат Бельруа был теснейшим образом связан с г. Бар-
сюр-Об. В исследуемых грамотах упоминаются его жители, про-
стые горожане (burgenses; 1243, № 8; 1258, № 10), к сожале-
нию, без указания рода их занятий; рыцарь Ламберт по прозва-
нию «Юноша» (Juvenis; 1273, № 11), клирик Петр де Порта
(1253, № 9), священник Паризий, каноник капитула церкви Сен-
Маклу (1234, № 4). Уже названный нами бальи Шаснэ Вихард
де Порта также был из числа горожан Бар-сюр-Об (там же) |7.
14 Lalore Ch. Notice..., р. 175.
15 Они производили вино высокого качества. См. об этом в кн.: Chapin Е.
'Les vilies de foires de Champagne (des origines au debut du XIV siecle).
Paris, 1937, p. 100—101.
16 Ibid., p. 20.
17 Кроме того, он известен как мэр коммуны Бар-сюр-Об в 1258 г. (Ibid.,
р. 253).
234
В. И, Мажуга
Одна грамота (1243, № 8) дана мэром коммуны Бар-сюр-Об
Николаем Бушелосом; в каталоге Лалора, кроме нее, отмечена
только одна грамота XIII в. (1253), выданная мэром коммуны
Бар-сюр-Об, причем имя мэра Иакова де Понт в последней стоит
после имени декана церковной общины Бар-сюр-Об. Более того,
в существующем списке мэров коммуны Бар-сюр-Об 18 под 1243 г.,
которым датирована названная грамота, оставлен пробел, и этой
грамотой он восполняется.
Другая наша грамота (1258, № 10) составлена при участии
прево г. Бар-сюр-Об Иоанна Кристиани. Примечательно, что ни в
одной другой грамоте, отмеченной в каталоге Лалора, прево в
качестве лица, выдавшего грамоту, не назван. Кроме указанной,
лишь наша грамота 1243 г. (№ 8) была скреплена печатью пре-
во Иоанна Кристиани за неимением собственной у горожанина
Пагана, одного из лиц, утвердивших этой грамотой свое решение
спора.
В коммуне Бар-сюр-Об действовали одновременно мэр комму-
ны и прево, т. е. судья, графа Шампанского. Как правило, го-
рода-коммуны в изучаемое нами время отличались от прочих го-
родов тем, что в какой-либо мере освобождались от судебной
власти сеньора. Обычно это называлось откупиться от превотства.
И хотя основное отличие заключалось в том, что коммуны могли
выступать как коллективное юридическое лицо и во главе их
стоял мэр, через которого осуществлялось определенное самоуп-
равление, историки французских учреждений придавали столь
большое значение самостоятельному отправлению правосудия, что
города, не обладавшие статусом коммуны, они долгое время, как
известно, даже называли превотальными. Пример коммуны Бар-
сюр-Об нарушает это разделение на коммуны и превотальные
города. Выдающийся французский историк Ш. Пти-Дютайи в сво-
ей книге о коммунах упомянул коммуну Бар-сюр-Об как замеча-
тельную в этом отношении наряду с коммунами Дижона и Дрё 19.
Между тем до нас не дошло никакой коммунальной хартии
г. Бар-сюр-Об. Первое свидетельство о коммуне Бар-сюр-Об отно-
сится к 1179 г., а около 1260 г. она перестала существовать;
сохранилось не так много документов, в которых запечатлена
ее история, и свое скромное место среди них занимают исследуе-
мые нами грамоты монастыря Бельруа.
От лица важных особ в Бар-сюр-Об написаны восемь грамот
Бельруа, хранящихся в ЛОИИ; шесть из них даны деканом цер-
ковной общины города Бернардом (1224, № 2; 1234, № 4) 20 и,
« Ibid.
,e Petit-Dutaillls Ch. Les communes frangaises, caracteres et evolution des ori-
gines au XVIIIе siecle. Paris, 1947, p. 56.
Кроме наших двух грамот в каталоге Лалора отмечена лишь одна гра-
мота Бернарда, датированная 1220 г.
Грамоты, монастыря Бельруа
285
видимо, непосредственным его преемником Гвиардом (1239, № 5;
1242, № 7; 1253, № 9; 1258, № 10) 21; седьмая составлена с уча-
стием декана Андрея (1273, № И) 22. Более точное обозначение
этого сана — декан христианской общины Бар-сюр-Об; таким де-
каном, по всей вероятности, был старший священник главной в
городе церкви, поставленный епископом над другими городскими
приходами и осуществляющий его судебную власть.
В большинстве областей Франции XIII в. правом удостове-
рять волеизъявления и сделки частных лиц — акты именно такого
рода преобладают среди рассматриваемых документов — пользо-
вались преимущественно представители судебной власти еписко-
пов. Бар-сюр-Об не был исключением из этого правила; дека-
ном церковной общины даны почти все учтенные в каталоге Ла-
лора документы, которые были составлены в этом городе ранее
70-х годов XIII в. для подтверждения новых отношений нашего
приората с частными лицами. Как можно судить по документам
Бельруа, в три последних десятилетия XIII в. декана церковной
общины заметно потеснил в данной роли глава капитула канони-
ков церкви Сен-Маклу, который такйсе назывался деканом, но,
разумеется, с иным определением. Обратим внимание на то об-
стоятельство, что мэр коммуны Бар-сюр-Об выдал свою грамоту
(1243, № 8) по особому случаю не как лицо, к которому обычно
обращаются частные лица для составления документов: в паре с
простым горожанином он выступает в грамоте третейским судьей.
А прево Бар-сюр-Об лишь присоединился к декану церковной
общины, чтобы подтвердить завещание (1258, № 10), для чего;
видимо, требовалось участие не менее двух человек.
Помимо восьми грамот рассматриваемой группы, написан-,
пых в Бар-сюр-Об, и двух, исходящих от сеньора Шаснэ, имеет-;
ся грамота, написанная в г. Шатильон-сюр-Сен (примерно в 40 км
па юг от Бар-сюр-Об) (1238, № 5). Дана она опять-таки дека-,
ном церковной общины этого города Радульфом. , ।
Исследуемые документы, как уже было отмечено, удостове-
ряли права монастыря Бельруа на вновь приобретенную собст^
венность либо определяли и подтверждали его права на собст-
венность, поступившую к нему ранее. Собственность монастыря
складывалась, как обычно, главным образом из дарений; они пре-
обладают и среди актов, засвидетельствованных 11 нашими доку-
ментами. Дарения содержатся в 6 грамотах (№ 1—4, 6, 7), к ним
добавляются два дарения по завещанию (№ 10, 11) и, кроме того,
еще в 2 грамотах речь идет о собственности, некогда подаренной
родственниками действующих лиц документов (№ 8, 9).
21 Имя Гвиарда пишется в трех формах: Guiardus, Viardus, Wiardus; самая
ранняя его грамота в каталоге Лалора датирована 1235 г., самая позд-
няя — 1260 г.
22 Самая ранняя грамота Андрея в каталоге Лалора датирована 1264 г.
236
В. И. Мажуга
Дарения, как правило, скромные. Сеньор Шаснэ Эрард (1218,
№ 1) подарил участок пахотной земли в 1 журналь и подтвер-
дил в той же грамоте дарение половины виноградника, сделан-
ное зависимым от него владельцем. Священник из селения Шам-
пиньёль (примерно в 10 км на юг от Бар-сюр-Об) подарил вино-
градник, которым он владел на правах аллода (1234, № 4). При
совершении этого акта понадобилось присутствие нескольких сви-
детелей, был приглашен даже приор монастыря Валь-де-з’Эколье
Манассия 23.
Дарения земель засвидетельствованы только этими двумя гра-
мотами; еще в одной грамоте (1243, № 8) сообщается о совер-
шенном ранее дарении виноградника, владельческие права на
который заново устанавливаются. Рента, главным образом доходы
с земли, дарится в большем числе случаев.
Рыцарь и лицо, обозначенное как сын рыцаря, дарят доходы
от феодальных платежей, первый — от поступлений ценза24 со
своих владений в округе селения Провервиль (1224, № 3), вто-
рой — от поступлений терража25 со своих владений в округе
селения Шампиньёль (1223, № 2).
Упомянутый уже рыцарь из Бар-сюр-Об Ламберт Юноша от-
казал по завещанию годовой доход с виноградника (1273, № 11).
Годовой доход с виноградника отказал по завещанию и горожа-
нин из того же Бар-сюр-Об (1258, 10); его дарение, однако, ис-
числяемое 12 провенскими денье, в 20 раз меньше рыцарского
дарения, исчисляемого 20 солидами (это, пожалуй, самое значи-
тельное из дарений, размеры которых определены в наших грамо-
тах). Были подарены права на часть церковной десятины (1242,
№ 7). Наконец, сообщается о совершенном в прошлом дарении
ренты натурой (в виде пинты оливкового масла), которая ока-
зывается не связанной с определенной земельной собственно-
стью; первоначально рента была назначена с виноградника, в даль-
нейшем же ее следовало получить с дома и усадьбы (1253, №9).
Виноградники, которые дарят или с которых назначается вы-
плата годового дохода, оказываются самым частым видом земель-
ной собственности; упоминаются они в шести наших грамотах
(№ 1, 4, 8—11). По каталогу Лалора насчитывается 19 грамот
Бельруа XIII в., в которых речь идет о виноградниках, и толь-
23 Виноградник был расположен в местности, именуемой Вобетон (в гра-
моте: Lavalbeton). В каталоге Лалора отмечена грамота 1383 г., в кото-
рой сообщается о том, что в счет уплаты 200 ливров приору Бельруа
был присужден виноградник в названной местности.
24 В данном случае ценз, видимо, означает обычный платеж, вносимый
ежегодно, чаще всего в виде небольшой и неизменной суммы денег (не
более 12 денье за арпан пахотной земли), которым облагалось наслед-
ственное держание в знак зависимости от сеньора.
25 Ежегодного фиксированного платежа натурой.
Грамоты монастыря Бельруа
237
ко 14 грамот этого времени, в которых называются участки па-
хотной земли либо говорится о ренте с нее.
Соотношение между числом дарений земель и дарений ренты
с земли, устанавливаемое в группе 11 грамот, не является пока-
зательным, как можно было бы думать, для совокупности извест-
ных грамот Бельруа. По приблизительным данным всех грамот
Бельруа XIII в. земля отчуждалась в пользу монастыря в 20 слу-
чаях, а рента с земли — в 17 случаях.
Все дарения представлены в грамотах как благочестивые по-
жертвования, исключением является передача прав на церковную
десятину Гумбертом Парансом (1242, № 7): она определена как
«дарение, совершенное между живыми». Так или еще словами
«простое дарение» определялось в римском праве всякое дарение
в противоположность особому виду дарения «на случай смерти»,
которое вступало в силу лишь со смертью дарителя, когда одари-
ваемый его переживал. «Дарение, совершенное между живыми»,
являлось актом неотменяемым и вступало в силу немедленно.
Вполне вероятно, что, употребляя формулу римского права, ав-
тор грамоты хотел отвести возможнее толкование совершенной
уже передачи прав на десятину как всего лишь завещательно-
го распоряжения, которое не только оставляло права на десятину
в руках дарителя до конца его жизни, но и могло быть отменено
по его воле.
Состояние нотариального дела во Франции XIII в. было тако-
во, что даритель при желании мог перетолковать в подобном
смысле засвидетельствованное в грамоте дарение. В предшествую-
щее столетие дар по завещанию еще уподобляли простому неот-
меняемому дарению; XIII век был веком мощного возрождения
римского права, которое до некоторой степени утвердило новое
для средневекового человека понимание завещательного распоря-
жения как чего-то отличного от безусловного и непреложного
дарственного акта. Однако в областях обычного права во Франции
легистам так и не удалось ввести строгую форму римского за-
вещания 2в, которому противоречила практика наследования, ус-
тановленная обычаем; в XIII в. наблюдалось большое разнообра-
зие в способах удостоверения завещательных распоряжений и
не всегда проводилось четкое различие между этими распоряже-
ниями и простыми дарениями.
Какую бы возможность перетолкования засвидетельствован-
ного им акта автор грамоты ни имел в виду, важно указать
26 Завещательное распоряжение с обязательным назначением универсаль-
ного наследника в отношении всего остающегося после смерти завеща-
теля имущества и с обязательным упоминанием всех частных распоря-
жений в пользу непрямых наследников, исполнение которых возлагает-
ся на универсального наследника как продолжателя правовой личности
завещателя.
238
В. И. Мажуга
на нарочитое употребление формулы «дарение, совершенное меж-
ду живыми», которая означала полный и бесповоротный отказ
Гумберта Паранса от всех прав на десятину. Через ряд подоб-
ных формул, содержащихся в грамоте, как будто проступает при-
нудительный характер совершенного дарения. В отличие от дру-
гих дарителей Гумберт дал клятву «£ide prestita corporali» ни-
когда не оспаривать того, что совершено между ним и монахами
Бельруа и записано в грамоте27. Грамотой удостоверялся отказ
дарителя от имевших место ранее тяжб между Гумбертом и мо-
нахами Бельруа в отношении некоторых выплат и прочего.
Бели принять во внимание, что именно в XIII в. благодаря
усилиям церкви удалось изъять у светских лиц, к которым, оче-
видно, принадлежал Гумберт Паране, большую часть удерживае-
мой ими церковной десятины, то более чем вероятно, что удосто-
веренный грамотой дар был принудительным. Возможно, в дан-
ном случае, как это обычно бывало, имел место скрытый выкуп
под видом дара и обратного вознаграждения в качестве знака бла-
годарности (прямого выкупа десятины избегали, так как он мог
быть сочтен торгом вещью освященной, что называлось симони-
ей) 28.
Как уже следует из сказанного выше, письменное засвиде-
тельствование воли завещателя в XIII в. оказывалось довольно
уязвимым; в этих условиях особое значение получали докумен-
ты, которыми уже после смерти завещателя подтверждались да-
рения, сделанные по завещанию. Два примера документов имен-
но такого рода имеются и среди наших 11 грамот. Дар монахам
Бельруа, сделанный по завещанию горожанином Иоанном по про-
званию de Boix (1258, № 10), подтверждают должностные лица —
декан церковной общины Гвиард и прево Иоанн Кристиани. Они
ссылаются на текст завещания, в которое был включен дар и,
кроме того, на устное удостоверение воли завещателя, получен-
ное от его вдовы.
Рыцарь Ламберт Юноша отказал по завещанию ренту, как
уже было отмечено, в 20 раз большую, нежели горожанин. Его
дарение своей грамотой подтверждают не обычные должностные
лица, но избранные им душеприказчики, которые одновременно
были носителями судебных и административных полномочий: аб-
27 Кроме этого случая, лишь жена одного дарителя клятвой утвердила
свое обещание не оспаривать в будущем дарения, сделанного при ее уча-
стии (1238, № 5); что в подобных обязательствах жен дарителей была
особая нужда, показывает грамота 1243 г. (№ 8).
28 Viard Р. Histoire de la dime ecclesiastique dans le royaume de France aux
XIIе et XIIIе siecles (1150—1313). Paris, 1912, p. 140—141. Cp.: Dossat Yv.
Les restitutions de dimes dans le diocese d’Agen pendant I’episcopat de Guil-
laume II (1247—1263).— Bulletin philologique et historique (jusqu’H 1610)
du Comite des travaux historiques et scientiiiques, 1965 (annee 1962), p. 555.
Грамоты монастыря Бельруа
239
бат монастыря Бельлье Петр, декан церковной общины Бар-сюр-
Об Андрей и бальи Шаснэ Вихард де Порта. Дарение подтверж-
дается исключительно на основе текста завещания.
Помимо дарений и завещаний, отдельные грамоты содержат
акты, которые для Бельруа являются единственными в своем
роде. Например, грамота, которой удостоверяется уговор тяжу-
щихся сторон подчиниться решению избираемых ими сообща по-
средников и утверждается само решение посредников (1243, №8).
Не имеет себе подобных среди документов Бельруа также
грамота 1253 г. (№ 9), содержание которой можно определить,
как «переназначение ренты». Мы уже отмечали, что в этой гра-
моте выплата ренты в виде пинты оливкового масла, которую пер-
воначально, согласно воле дарителя, следовало получать с вино-
градника, назначается с усадьбы. Главными действующими лица-
ми выступают наследники дарителя и его жена; обещание
выплачивать ренту с усадьбы они утверждают клятвой, кроме
того, в отношении его исполнения они подчинились судебной
власти декана церковной общины Бар-сюр-Об Гвиарда и его пре-
емника. Употреблены сразу два действенных средства, чтобы вер-
нее обеспечить монахам Бельруа поступление ренты — может
быть, именно потому, что однажды она была отделена от опреде-
ленного владения. Особо сообщается о том, что монахи освободи-
ли виноградник от ежегодных выплат.
По-настоящему редким представляется имеющийся у нас акт
перевода свободного имущества в держание на правах цензивы
(1239, № 6). Вообще об отдаче имущества в держание с упла-
той ценза, кроме данного случая, говорится только в одной из
учтенных в каталоге Лалора грамот. В исследовании, посвящен-
ном городам шампанских ярмарок, отмечается, что в документах
Бар-сюр-Об содержится меньше примеров отдачи имущества в
держание с уплатой ценза, нежели в документах Труа и Провэ-
на29. Старая цензива в каталоге Лалора. упоминается тоже в
единичных случаях; с этим, по-видимому, связаны частые упоми-
нания о свободном отчуждении земельной собственности в поль-
зу монастыря Бельруа, а также сведения о сохранении в XIII в.
в этой части Шампани аллода.
В рассматриваемой грамоте речь идет о пожизненной цензиве,
которая вообще встречается сравнительно редко; после смерти
супругов все имущество должно остаться монахам Бельруа. Вме-
сте с тем оговаривается право супругов завещать некоторую
часть имущества.
Если рассмотреть, как составлены грамоты, независимо от
их основного содержания, обнаружатся черты, типичные для мно-
жества современных им французских документов. О подтвержде-
29 Chapin Е. Op. cit., р. 155.
240
В. И. Мажуга
нии двух дарений по завещанию (1258, № 10; 1273, № 11) глав-
ное уже сказано. Если оставить в стороне еще грамоту сеньора
Шаснэ, в которой он сам выступает дарителем (1218, № 1), а так-
же грамоту мэра коммуны Бар-сюр-Об (1243, № 8), которой по-
следний утверждает свое собственное решение по поводу тяжбы,
то остальные семь документов окажутся едиными в том, что да-
рители и участники сделок в них представлены в третьем лице.
Удостоверяя дарения и сделки, лица, выдающие грамоты, либо
просто уведомляют о совершении таковых (1223, № 2; 1239,
№ 6), либо свидетельствуют о них, как о совершенных в их при-
сутствии; при этом употребляется обычная формула: in mea рге-
sentia constitutus (-ti) (1224, № 3; 1238, № 5); в одной грамоте
обстоятельства дела показывают, что сделка произошла в присут-
ствии лица, выдавшего грамоту (1253, № 9). Наконец, в двух
случаях авторы грамот ссылаются на устное утверждение дари-
телей об имевшей место передаче прав на собственность (1234,
№ 4; 1242, № 7).
Это утверждение имело форму признания, в обоих случаях
употреблено характерное слово recognovit, а в грамоте 1234 г.
форма признания даже подчеркнута: во-первых, сказано, что явив-
шийся к автору грамоты «признал» свое дарение, а во-вторых,
что свидетелями этого «признания» были такие-то лица (qui et
ipsi in presentia mea recognition! predicte interfuerunt). Грамо-
ты, построенные на таком утверждении-признании, принадлежат
к устойчивому, повсеместно употреблявшемуся во Франции инте-
ресующего нас времени типу документов, который выработался
под влиянием того представления, что носитель судебной власти
о принятых частными лицами друг перед другом обязательствах
может свидетельствовать как о признанном ими долге. Это был
способ введения частных сделок в сферу компетенции носителя
судебной власти, который придавал им исполнительную силу су-
дебного решения в соответствии с положением: признавшийся
считается осужденным.
В начальной части и в заключении исследуемых грамот мы
встречаем ряд обычных формул; тем не менее о них стоит ска-
зать даже по причине одинаковости этих формул в десяти грамо-
тах, данных разными лицами до 1259 г. Все десять начинаются
субскрипцией — обозначением имени автора грамоты, его должно-
стного положения или сеньориальных прав; далее следует ноти-
фикация — формула уведомления и обращение; последние в вось-
ми грамотах, написанных до 1244 г., даются неизменно в такой
форме: notum facio (-imus) omnibus presentes litteras inspecturis,
и только в двух грамотах 1253 г. (№ 9) и 1258 (№ 10), на-
писанных, судя по почерку, одним писцом от имени декана Гви-
арда, мы встречаем несколько иную формулу: notum facio (-imus)
presentibus et futuris.
Грамоты монастыря Бельруа
241
Помещаемые в конце грамот формулы утверждения (согго-
boratio), которыми объявляется о скреплении документа печатью,
тоже переходят из грамоты в грамоту. В самой ранней (1218,
№ 1) формула утверждения отсутствует, хотя имеется пергамен-
ная ленточка печати, пропущенная через прорези у нижнего края
грамоты. В двух следующих по времени грамотах: декана Бернар-
да (1223, № 2) и сеньора Шаснэ (1224, № 3)—употреблена
одна и та же формула: Ut hoc autem ratum sit et firmum penna-
neat presentem paginam sigilli mei munimine roboravi. Во всех
грамотах более позднего времени, за исключением самой поздней
в рассматриваемой группе (1273, № 11), формула утверждения
начинается словами: «In cuius rei testimonium...»
Однако грамота 1273 г. заметно отличается от остальных.
Начинается она не субскрипцией, но обращением наподобие гра-
мот-посланий, затем следует субскрипция и за ней приветствие
(salutem in domino Jhesu Christo), которое отсутствует во всех
прочих наших грамотах; ниже помещена нотификация. Так начи-
нались во второй половине XIII в. грамоты епископских офи-
циалов-судей, которым подражали многие писцы того времени. На-
ряду с приветствием началу грамоты придает торжественный тон
развернутое обозначение сана и должностного положения трех
лиц, выдавших ее. Письмо, организация листа грамоты ничем осо-
бенно не выделяют ее среди других.
Внешние особенности рассматриваемых документов в целом
еще менее, чем различия в способе их составления, дают нам
основания для группировки весьма небольшого числа документов
по признакам стиля либо для выделения отдельных, чем-нибудь
замечательных документов. Помимо несомненной тождественно-
сти почерка грамот 1253 и 1258 гг., заметное сходство наблюда-
ется между почерками, которыми написаны грамоты 1239 г. (№ 6)
и 1242 г. (№ 7), исходящие от декана Гвиарда, однако, по на-
шему мнению, эти почерки принадлежат разным писцам. Все гра-
моты написаны обычным для французских документов XIII в.
письмом, легким и довольно мелким, строчные буквы лишь в са-
мых крупных почерках достигают 2 мм по высоте. В примерном
соответствии с общими изменениями в письме французских кан-
целярий XIII в. возрастает беглость почерков от более ранних гра-
мот к поздним. В письме двух самых ранних грамот (1218,1223)
выносная буквы d имеет еще вид палки, явно неудобной при бы-
стром начертании, а в грамоте мэра коммуны 1243 г., написан-
ной особенно мелким почерком с высотой строчных букв, равной
примерно 1 мм, мы уже видим многочисленные петли верхних
выносных, которые появляются вследствие быстроты письма, но
не всякий раз (см. рисунок). В письме грамоты 1273 г. эти петли
приобретают вид устойчивой стилистической особенности.
242
В. И. Мажуга
Все грамоты, разумеется, написаны на пергамене, имеют фор-
му вытянутых по горизонтали прямоугольников, в нижней части
всех грамот загнута узкая полоска • и имеется определенное ко-
личество прорезей для пергаменных ленточек печатей.
Язык грамот латинский.
В завершение мы предлагаем перечень изученных грамот с
кратким изложением содержания каждой, которое, мы надеемся,
создаст необходимое целостное представление о каждой грамоте.
Кроме того, в перечне мы учтем ряд частных обстоятельств,
имен и названий, которые приходится опускать в развернутом
описании группы грамот и которые тем не менее могут приго-
диться для будущих исследований 30.
№ 1. 27/326, Д. № 1.
1218, июль. Грамота Эрарда II, сеньора Шаснэ. Эрард объяв-
ляет, что он пожаловал церкви и монахам Пюрруа право выво-
зить из его рощ валежник в количестве не более одной двухко-
лесной повозки (ad uiiam bigam) (по-видимому, ежедневно). Он
передал им также свои права на половину виноградника в долине
Шарлён (in valle Charlun), которую ранее подарил монахам со
своей стороны зависимый от него владелец из селения Витри по
прозвищу Старик (homo mens de Vitercio nomine Viex). Кроме
того, сеньор Шаснэ дал им участок земли в 1 журналь в мест-
ности Ла Колони (quoddam jornale quod est de Lacolunie); уча-
сток расположен между лугами де Бонарден (de Bonardin) и де-
ревней.
44 ^V7
№ 2. ’ ’ ’ 28/326, Д. № 3
1223, январь. Грамота Бернарда, декана церковной общины
Бар-сюр-Об. Удостоверяется, что Гуго, сын рыцаря Гвидо де Шам-
пиньёль (domini Guidonis militis de Champainole), подарил мона-
хам — служителям церкви св. Марии Бельруа (de Biauroy) ренту
в 2 муатона пшеницы (duos metteons frumenti) 31, взимаемых
ежегодно из терража, получаемого дарителем в селении Шампи-
ньёль (in t[er]ragiis suis de Champanole). Дарение сопровожда-
лось одобрением и согласием жены Гвидо Саррацины (Sarracina).
1 S 5 v 7
№ 3. ’ ’ ’ 39/326, Д. № 4..
1224, январь. Грамота Эрарда II, сеньора Шаснэ. Эрард удо-
стоверяет, что рыцарь Милон де Провервиль (dominus Milo miles
30 Шифр каждой грамоты указывается в виде дроби, где в знаменателе обо-
значен номер картона, а в числителе — номер документа. Рядом отме-
чаем номер данной грамоты в перечне Дагена, кратко обозначив послед-
ний буквой «Д». Размеры грамот указываются в сантиметрах без учета
загнутой полоски.
31 1 муатон равнялся 2 буассо; установлено, что буассо, основная мера сы-
пучих тел, в округе близлежащего г. Бар-сюр-Сен колебался в пределах
24 и 41,9 л.
Грамоты монастыря Бельруа
243
Грамота 1243 г, монастыря Бельруа
'244
В. И. Мажуга
de Provorre ville) в его присутствии подарил монахам—служите-
лям церкви св. Марии Бельруа (Веаигоу) 5 солидов годового
дохода, выплачиваемых ежегодно в праздник св. Ремигия из
поступлений ценза, получаемого дарителем в селении Провервиль
(in censu suo de Provorreville).
14,5X6.
№ 4. 29/326, Д. № 7.
1234, сентябрь. Грамота Бернарда, декана церковной общины
Бар-сюр-Об. На основе устного утверждения Петра, священника
из Шампиньёли (presbiter de Champagnoilla), Бернард удостове-
ряет, что названный священник подарил монахам Бельруа (Biau-
roi) свой виноградник в долине Вобетон, расположенный в округе
Фонтен (vineam suam de Lavalbeton in territorio de Fontanis);
свидетелями дарения и его последующего удостоверения высту-
пали: Манассия (Manasses), приор монастыря Валь-де-з’Эколье,
Николай де Марейо (de Mareio), священник, и Паризий, каноник-
священник в Бар-сюр-Об.
16,7X8.
№ 5. 6/327, Д. № 8.
1238, 5 апрелд (в грамоте — Светлый понедельник). Грамота
Радульфа, декана церковной общины г. Шатильон-сюр-Сен. Ра-
дульф удостоверяет, что в его присутствии Бойн, сын Годфрида,
жившего в Шатильон-сюр-Сен (Boynus filius [def] uncti Godefridi
de Castellione), и Помета (Pometa), жена Бойна, подарили мона-
хам Бельруа (de Bello Rege) все свои права на дома в Бар-сюр-Об,
называемые «Графскими палатами» (que... vocari solent Aule
• comitis) и находящиеся в замке близ церкви св. Маклу (beati
Machuti).
16X9; грамота немного повреждена.
№ 6. 30/326, Д. № 6.
1239, май. Грамота Гвиарда, декана церковной общины Бар-
сюр-Об. Удостоверяется, что Дроко, прозываемый де Жиланкор
(Droco dictusde Gilancort), и Одеарда (Odeardis), его жена, отка-
зались в пользу монахов Бельруа (Belli Regis) 32 от всего своего
движимого и недвижимого имущества (investierint... de toto mobili
et immobili suo). В свою очередь монахи отдали это имущество
бывшим владельцам в держание в качестве цензивы (ascensive-
runt) 33, однако с тем условием, что после смерти последних иму-
щество вернется к монахам. Оговаривается право супругов заве-
щать некоторую часть имущества. В знак признания устанавли-
\
32 В такой форме название монастыря дается и во всех следующих грамо-
тах.
33 Правильной была форма accensiverunt; «з» в приставке появилось, ве-
роятно, под влиянием часто употреблявшегося слова ascensio, что обыч-
но означало право наследования; видеть же в данном глаголе однокорен-
ное с последним слово нельзя, так как это не дает никакого смысла.
Грамоты монастыря Бельруа
245
ваемых отношений Дроко и Одеарда обязаны выплачивать
монахам Бельруа ежегодно 12 денье в восьмой день после пасхи
в г. Бар-сюр-Об.
18X9.
№ 7. 31/326, Д. № 10.
1242, 31 октября (в грамоте — канун праздника всех святых), к
Грамота Гвиарда, декана церковной общины Бар-сюр-Об. На осно-
ве устного утверждения Гумберта Паранса (Paranz’) Гвиард удо-
стоверяет, что последний передал монахам Бельруа свои права
на десятину с селения Блеконвиль (decima de Bleconville). Пере-
дача прав совершена в форме «дарения между живыми». Кроме
того, Гумберт отказался от всех своих исков (quitavit omnes que-
relas) против монахов в отношении невыплаченных долгов и про-
чего. Он поклялся не оспаривать того, что совершено между ним
и монахами Бельруа и записано в грамоте.
15X7 5.
№ 8. ’ 32/326, Д. №11.
1243, ноябрь. Грамота Николая Бущелоса (Boucheloz), мэра
коммуны Бар-сюр-Об, и Пагана, горожанина из Бар-сюр-Об
(Paganus burgensis de... Вагго). Николай и Паган утверждают за
Маргаритой, дочерью покойной Раселины по прозванию де Молем
из г. Бар-сюр-Об (defuncte Raceline dicte de Molismo de... Вагго),
право на владение половиной виноградника. Виноградник распо-
ложен у дороги, спускающейся с холма Сен-Жермен, в том месте
возле источника, которое называется Монашеским полем (ubi
dicitur in Campo monachorum). Маргарите поставлено условие не
продавать и не отчуждать каким-либо другим образом эту поло-
вину виноградника, с тем чтобы после ее смерти или вступления
в монастырь эта половина виноградника вернулась к монахам
Бельруа, последним ее владельцам.
Свое постановление мэр Николай и горожанин Паган вынесли
в качестве посредников, избранных по соглашению между назван-
ной Маргаритой и монахами Бельруа для разрешения их тяжбы.
Обстоятельства дела таковы. Некогда муж Маргариты Виардин
(Viardinus) продал Доминику Ремузату де Курсель (D[omini]co
Remusato de Corcellis) этот виноградник. У последнего виноград-
ник затем выкупил Гукт, бондарь (Huctus cuvelarius), и его жена
Верделета (W[er]deleta) 3‘, поскольку он им должен был при-
надлежать по праву наследования, и подарили его монахам Бель-
руа. По прошествии продолжительного времени Маргарита уже
После смерти мужа заявила свои права на половину этого вино-
414 Оделета (Odeleta), жена Гуона (Huonis), бондаря, упоминается в каче-
стве владелицы виноградника, после ее смерти перешедшего к монахам
Бельруа, в грамоте 1250 г., отмеченной в перечне Дагена под номером 12.
246
В. И. Мажуга
градника, так как муж продал виноградник без ее одобрения,
а половина его входила в ее приданое.
Объявляется, что мэр Николай скрепил грамоту своей пе-
чатью, а горожанин Паган за неимением собственной — печатью
Иоанна Кристиани (Christiani), прево г. Бар-сюр-Об.
17,5X12; прорези для пергаменных ленточек печатей в трех
местах.
№ 9. 33/326, Д. № 13.
1253, январь. Грамота Гвиарда, декана церковной общины
Бар-сюр-Об. Удостоверяется, что Лаурепций по прозванию Сори-
нес из селения Арантьер (dictus Sorines de Aranteriis) и Арвиета
(Arvieta), его жена, назначили со своего дома и усадьбы выплату
ренты монахам Бельруа в виде 1 пинты масла в мерах Бар-сюр-
Об. Усадьба расположена в селении Арантьер между гумном
Радульфа по прозванию Сойарт (Soiart) и домом Мартина, брата
названного Лауренция. Пинту масла следует получать ежегодно
в вербное воскресенье (die domenica in Ramis palmarum). Перво-
начально отец Лауренция, Гемерик, по прозванию Бойзет (Нете-
rico dicto Boiset), подарив ренту монахам Бельруа, назначил ее
выплату с виноградника, который находится на холме Бельмон
(in Bello Monte) возле виноградника Петра де Порта (de Porta),
клирика из Бар-сюр-Об. Монахи Бельруа освободили виноград-
ник от выплаты ренты 35.
15X12.
№ 10. ’ 34/326, Д. № 16
1253, январь. Грамота Гвиарда, декана церковной общины
Бар-сюр-Об, и Иоанна Кристиани, прево этого города. Гвиард и
Иоанн подтверждают дар монахам Бельруа 12 провенских денье
(duodecim denarios P[ru]vinen[sium] fortium) годового дохода,
отказанных по завещанию Иоанном по прозванию de Boix, горо-
жанином из Бар-сюр-Об. Деньги положено взимать с виноград-
ника, расположенного в местности Бюисонваль (in Buisonvalle).
Подтверждая этот дар, Гвиард и Иоанн ссылаются на текст ви-
денного ими завещания и на устное подтверждение воли заве-
щателя, сделанное в их присутствии его вдовой.
19X8; прорези для пергаменных ленточек печатей в четырех
местах.
№ 11. 35/326, Д. № 22.
1273, май. Грамота Петра, аббата монастыря Больё (Belli Loci)
ордена премонстрантов, Андрея, декана церковной общины Бар-
95 Даген в кратком изложении содержания грамоты допустил ошибку, ре-
шив, что речь в ней идет лишь о назначении места выплаты ренты, по-
ступающей с виноградника. Наше толкование соответствует, в частности,
смыслу французского резюме XVIII в., написанного на отдельном листе,
присоединенном к грамоте.
Грамоты монастыря Бельруа 247
сюр-Об, и Вихарда де Порта (Wichardus de Porta), исполняющего
обязанности бальи всей земли Шаснэ. Авторы грамоты — душе-
приказчики рыцаря Ламберта Юноши из Бар-сюр-Об — подтверж-
дают дар монахам Бельруа 20 турских солидов (viginti solidos
turon/ensium) годового дохода, отказанных по завещанию Ламбер-
том. Деньги следует взимать с виноградника, расположенного в
местности, именуемой Руажё (Roigeux), между виноградником
госпитальеров и виноградником, который некогда принадлежал
Гвидо Роланду (Guidonis Rolandi), покойному брату Ламберта.
Подтверждая дар, авторы грамоты ссылаются на текст виденного
ими завещания.
20X12; прорези для пергаменных ленточек печатей в четырех
местах.
ИСТОРИОГРАФИЯ
А. Л. Ястребицкая
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАННЕЙ ИСТОРИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА
В ОСВЕЩЕНИИ
СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ МЕДИЕВИСТИКИ
История города занимает в настоящее время одно из цент-
ральных мест в зарубежной медиевистике. Создание специальных
международных и национальных исследовательских центров, мас-
са конкретных и теоретических исследований — свидетельство
чрезвычайного интереса историков к городской проблематике, свя-
занного с качественными сдвигами в развитии зарубежной исто-
риографии последних трех десятилетий.
Среди разнородных причин этого явления существенную роль
сыграло знакомство зарубежных исследователей с марксистской
историографией, с присущим ей диалектическим подходом к дей-
ствительности и вниманием к феноменам материальной жизни
общества. В области изучения ранней истории города большую
роль сыграли археологические изыскания, развернувшиеся после
второй мировой войны почти во всех европейских странах.
До недавнего времени изучение средневекового города начи-
нали с XI в., когда в большинстве европейских стран он уже
сформировался. Генезис городского строя исследовался поэтому
в несколько абстрактной форме, шел спор о континуитете антич-
ных форм в городской жизни средневековья. Хотя судьбы и ха-
рактер городских поселений IX—X вв. были почти неизвестны,
решение дискуссионной проблемы, что считать «эмбрионом» го-
года, при крайней скудости конкретных данных основывалось
на ретроспективном методе исследования.
Археология позволила привлечь новые материалы. Немалое
значение имело и изменение самого отношения к письменным
источникам: все отчетливее становилось стремление исследовате-
лей не навязывать средневековью чуждые ему понятия и пред-
ставления в рамках античных или новых правовых категорий.
Как археологический материал, так и углубленный термино-
логический анализ обнаружили многообразные переходные виды:
предгородские поселения, ранние «города» — одним словом, раз-
личные ступени и стадии в процессе становления города.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 249
Усложнение картины генезиса средневекового города потре-
бовало и постановки новых теоретических задач. Стала очевидной
ограниченность господствовавшего в буржуазной медиевистике
чисто юридического определения средневекового города как по-
селения, защищенного особым городским правом: археологический
материал заставил обратиться прежде всего к экономической сто-
роне городской жизни. Становилась все более очевидной неудов-
летворительность любого монокаузального объяснения генезиса
городского строя.
Задача предлагаемого обзора — ознакомить читателя с новы-
ми тенденциями современной урбанистики в решении таких уз-
ловых проблем, как понятие города и возникновение европейско-
го средневекового города, и с новыми материалами и методами
исследования ранней городской истории. Для этого отобран ряд
работ различного характера, главным образом обобщающих и
систематизирующих результаты локальных исследований и мно-
гочисленных дискуссий на протяжении последних десятилетий:
«Средневековый город» *; историографическая работа американ-
ского историка Дэвида М. Николаса 1 2; к^ига Э. Эннен «Европей-
ский средневековый город» 3 и материалы первого международ-
ного симпозиума историков и археологов, организованного Меж-
дународным комитетом по ранней истории города4, в которых
обобщен новый материал и показаны новые методы изучения
средневекового города.
Чтобы уточнить постановку проблемы понятия «город» в со-
временной историографии, следует выделить в ней три стороны,
или три оппозиции: 1) европейский город и внеевропейский го-
род; 2) европейский средневековый город и античный город;
1 Die Stadt des Mittelalters: In 3. Bd./ Hrsg. von C. Haase. Darmstadt, 1972—
1975 (сюда вошли статьи или части из книг крупных западногерманских
и бельгийских ученых, писавших в 50—60-х годах). Каждый том имеет
тематический характер: в первом томе рассматривается понятие города
и проблема происхождения городов; во втором томе — вопросы город-
ского права и администрации; не рассматриваемый в обзоре третий том
посвящен вопросам социально-экономической жизни средневекового го-
рода.
2 Nicholas D. М. Medieval Urban Origins in Northern Continental Europe:
State of Research and Some Tentative Conclusions.— In: Studies in Medie-
val and Renaissance History. Lincoln, 1969, vol. 6. В центре внимания ав-
тора, специалиста по истории городов средневековой Фландрии, работы
европейских медиевистов, касающиеся проблемы континуитета город-
ского развития и происхождения средневековых городов преимуществен-
но к северу от Альп.
3 Ennen Е. Die europaische Stadt des Mittelalters. Gottingen, 1972. Эта ра-
бота может рассматриваться как обобщение достижений современной
зарубежной историографии города.
4 Vor- und Friihformen der europaischen Stadt im Mittelalter. Bericht uber
ein Symposium in Reinhausen bei Gottingen in der Zeit vom 18. bis 24.
Apr. 1972/Hrsg. von H. Jankuhn et. al. Gottingen, 1974.
250
А. Л. Ястребицкая
3) европейский средневековый город и деревня. Первый из этих
трех аспектов затронут в рассматриваемых нами работах крайне
бегло. М. Вебер считал городскую общину (Stadtgemeinde) ха-
рактерным институтом западного мира; восточный город знал
объединения по родственному принципу (Geschlechtersippen),
производственные объединения (Berufsverbande), наконец, ло-
кальные группировки, но на Востоке не сложились ни сословие
горожан, ни общегородские институты5 *. Именно в противопостав-
ление к Востоку (как его понимал Вебер) и выдвигается на пе-
редний план и подчеркивается административно-правовая специ-
фика европейского средневекового города.
Сопоставление с античностью позволяет увидеть другую осо-
бенность средневекового города. В античности, по мнению
Ф. Феркаутерена, существовало два параллельных понятия:
urbs — город в «современном смысле слова», сосредоточение лю-
дей на небольшом пространстве, и civitas — городская община,
центром которой была urbs, но куда входило и territorium, соот-
ветствующая сельская округа в. Только в IV в. происходит отде-
ление «территории» от города и возникает «средневековый дуа-
лизм города и деревни», что находит внешнее выражение, с одной
стороны, в обнесении города стенами, а с другой — в переселении
знати в ее освобожденные от налогов поместья и в образовании
тем самым в округе самостоятельных экономических и политиче-
ских центров 7.
Коль скоро дуализм города и деревни оказывается отличитель-
ной чертой средневекового общественного устройства, выяснение
природы третьей оппозиции — города и деревни в средние века —
становится особенно важной задачей, которую так или иначе
ставят и решают современные исследователи. К. Хаазе, который
столкнулся с этой проблемой при решении конкретной задачи —
составления исторической карты городов Вестфалии, подчеркивает
особенности нового подхода к проблеме, характерного для совре-
менной историографии: дефиниция города должпа родиться не в
результате строго логического определения, но в форме «ограничи-
вающего описания» (beschreibende Umgrenzung und Abgren-
zung), включающего в себя разнообразные факторы: хозяйство,
право, топографию, статистику, официальную терминологию. В ре-
зультате такого описания создается «комбинированное» понятие
города ’. По сути дела уже М. Вебер пришел к необходимости
5 Weber М. Die Stadt. Begriff und Kategorien.— In: Die Stadt..., Bd. 1, S. 51,
59.
• Vercauteren F. Die Spatantike civitas im friihen Mittelalter.— In: Die Stadt...,
Bd. 1, S. 122.
7 Ibid., S. 127. См. также: Ennen E. Die europaische Stadt..., S. 25.
• Haase C. Stadtbegriff und Stadtentstehungsscbicbten in Westfalen.— In:
Die Stadt..., Bd. 1, S. 62, 72. •
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 251
такой комбинированной дефиниции. Она включала в себя нали-
чие большого замкнутого поселения (geschlossene Siedlung), жи-
тели которого существовали за счет несельскохозяйственного про-
изводства, которое к тому же отличалось «многосторонностью»
(«Vielseitigkeit»), т. е. относительно высоким разделением труда;
далее, город отличали существование регулярного, рыночного об-
мена, присутствие крупных потребителей (Grosskonsumenten) —
слоев, существующих на внегородские доходы °. Помимо того,
город — союз, регулирующий свою экономику. Наконец, город —
крепость, центр налогового обложения и место пребывания гар-
низона 9 10 11 12 13. Необходимость множественных критериев для опреде-
ления города подчеркивает Э. Эннен и. По ее словам, город —
это окруженное стеной поселение лиц, занимающихся торговлей
и ремеслом, включающее в себя рынок. Город выполняет «цент-
ральные функции» в церковной сфере и в администрации1г. К это-
му Эннен добавляет и более частные признаки: город возможен
только в условиях «письменной культуры», его отличает денеж-
ное хозяйство1S.
Каждый из этих критериев, как подчеркивает Хаазе 14, сам по
себе недостаточен. Действительно, часть городов сохраняла по
преимуществу аграрный характер (о наличии «аграрных городов»
писал и Вебер); многие из городов были настолько небольшими,
что уступали по размеру селам 15.
Нельзя считать определяющим критерием и такой специфи-
ческий для городского облика элемент, как крепость. Крепости
были и вне городов; очень часто, особенно в немецких землях,
деревни имели укрепления и выглядели внешне, как небольшие
города; вместе с тем имелись и неукрепленные города. Фактором,
к которому наиболее часто обращаются исследователи для ойре-
9 Weber М. Op. cit., S. 34-38.
10 Ibid., S. 42, 45.
11 Ennen E. Die Stadt zwischen Mittelaller und Gegenwart.— In: Die Stadt...,
Bd. 1, S. 417; Eadem. Die europaische Stadt..., S. 1—2.
12 Ennen E. Die europaische Staat..., S. 4—5.
13 Ennen E. Die Staat..., Bd. 1, S. 418; Eadem. Stadt und Schule in ihrem we-
chselseitigen Verhaltnis vomehmlich im Mittelalter.— In: Die Stadt..., Bd. 3,
S. 461-463.
14 Haase C. Stadtbegriff...— In: Die Stadt..., Bd. 1, S. 63—71; Weber M. Op. cit,
S. 40.
15 Как показал Г. Амман, самым большим из немецких городов средневе-
ковья был Кёльн, пасчптывавший 40 тыс. жителей (в Париже жило
60 тыс., в Венеции, Милане, Флоренции — 60—100 тыс.); десятка полто-
ра немецких городов (Мец, Страсбург, Нюрнберг, Любек и др.) пре-
вышали 10 тыс., свыше 200 городов насчитывали от 2 до 10 тыс. жите-
лей, остальные города (а их общее число достигало в Германии около
4 тыс.) были и того меньше (Amman Н. Wie gross war die mittelalterli-
che Stadt? — In: Die Stadt..., Bd. 1, S. 412; Ennen E. Die Stadt...— Ibid.,
S. 421).
252
А. Л. Ястребицкая
деления города, является право, но, утверждает Хаазе, различие
между городским и сельским правом не является столь очевид-
ным, как это представлялось ранее. Исследования показали1в,
что не только на востоке Европы, в области действия магдебург-
ского городского права, но также и в старинных, исконных им-
перских землях негородские поселения могли быть наделены та-
ким же правом, что и города. Наконец, Хаазе цитирует формулу
Э. Кайзера, согласно которой городом было то, что называло себя
городом, и отмечает, что сами названия средневековых городов
настолько подвижны и нечетки, что и этот критерий не является
однозначным.
Тенденция современной историографии к созданию описатель-
ного многообразия критериев грозит вылиться в такую расплыв-
чатость, в которой может раствориться то общее, что отличало
средневековый город. В самом деле, Э. Эннен настоятельно под-
черкивает не только то, что городской жизни была свойственна
динамичность, изменчивость форм, но и другое обстоятельство:
каждый город обладал своим индивидуальным лицом ”. Другой
западногерманский исследователь, К. Фрэлих, рассматривая сред-
невековый город в духе теории множественности критериев, ви-
дит в нем «живое единство», образованное взаимосвязью топогра-
фических особенностей, хозяйственной деятельности и правовых
моментов, но одновременно подчеркивает, что подобное призна-
ние разнообразных критериев ведет к тому, что основным объ-
ектом исследования становится отдельный город «в его историче-
ской реальности и своеобразии» ,8. Еще резче формулирует ту
же мысль К. Крэшель: следуя за Эннен, он даже готов допустить,
что единого феномена «средневековый город» вообще не существо-
вало 1в. Объективная реальность признается только за конкрет-
ным городом или за некоторыми типами городов.
В отличие от сторонников теории множественности критериев
некоторые исследователи стремятся выделить те факторы (или
фактор), которые, с их точки зрения, определяли лицо средневе-
кового города. Фриц Рэриг из множественности признаков, пред-
ложенной М. Вебером, выдвигал на первое место три: относитель-
но большое число жителей; создание достаточно большой массы
продукта, в обмен на который можно получить сельскохозяйст-
венные товары; наличие слоя потребителей, какими в римскую
16 Haase С. Die Entstehung der westfalischen Stadte. Munster. Westfalen,
1969, S. 5.
17 Ennen E. Die Stadt..., S. 418; Eadem. Die europaische Stadt..., S. 11—12.
18 Frolich K. Das verfassungstopographische Bild der mittelalterlichen Stadt
im Lichte der neueren Forschung.— In: Die Stadt..., Bd. 1, S. 279.
19 Kroeschell K. Stadtrecht und Stadtrechtsgeschichte.— In: Die Stadt..., Bd. 2,
S. 288.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 25<Г
эпоху были легионы 20. Для западногерманского историка В. Эбе-
ля таким признаком является сословное состояние горожан: в го-
роде, подчеркивает он, создается сословие нового типа, основан-
ное не на принципе происхождения, а на профессиональной при-
надлежности, сословие свободных людей — горожан. Это сословное
состояние формируется, продолжает Эбель, из разнообразных
«строительных элементов», почерпнутых из сферы сельского пра-
ва, рыночного права, пожалованных городам привилегий, но все
эти имевшиеся в наличии элементы были перестроены самими
горожанами. Хотя Эбель рассматривает, казалось бы, одну сто-
рону городской жизни — ее сословно-правовой аспект, он вно-
сит в исследование один чрезвычайно важный момент, опущен-
ный его предшественниками: в городской действительности все
разнородные элементы, существовавшие в той или иной форме
в догородекой Европе и сохранявшиеся бок о бок с городами в
атрарной Европе, срослись и видоизменились; существенным, та-
ким образом, становится не сосуществование этих элементов, а их
творческое преобразование в городской атмосфере 21.
Другое решение проблемы предлагает К. Хаазе, который под-
черкивает, что город — не крепость, а прежде всего «хозяйствен-
ный феномен», вызванный к жизни развитием экономики, в част-
ности углублением разделения труда и интенсификацией сельско-
хозяйственного производства. Одновременно с экономическим
сдвигом, но в зависимости от него создается особое право, общин-
ные формы и оборонительная система22. Хозяйство, пишет
К. Хаазе, являлось «конститутивным, определяющим фактором
для средневекового города, во всяком случае для наиболее круп-
ных из них» 23. Характерно, что и Эннен, несмотря на исходный
плюрализм своей общей концепции средневекового города, при
сопоставлении его с античным муниципием подчеркивает в каче-
стве ведущего критерия именно экономическую специфику: «не-
известная до сих пор концентрация ремесел и торговли» — то, что
характеризует средневековый город и отличает его от античного,
являвшегося прежде всего политическим устройством: средневеко-
вый город — суть производящий город и его «экономическая функ-
ция — господствующая, она определяет взаимоотношения городов
между собой и окружающим их миром» 24.
Другая тенденция в определении общего понятия города ха-
рактерна для Г. Янкуна. Принимая и поддерживая мысль М. Ве-
бера о том, что одной юридической характеристики понятия сред-
20 Rorig F. Die Stadt in der deutschen Geschichte.— In: Die Stadt..., Bd. 1„
S. 7.
21 Ebel W. Liibisches Recht im Ostseeraum.— In: Die Stadt..., Bd. 2, S. 255.
22 Haase C. Stadtbegriff..., S. 378.
23 Haase C. Einleitung.— In: Die Stadt..., Bd. 3, S. 1—2.
24 Die Stadt.... Bd. 3, S. 462.
254
А. Л. Ястребицкая
невекового города недостаточно и что город обладал опреде-
ленными хозяйственными функциями как производящий и
потребляющий центр и место встречи купцов, Янкун в то же
время ограничивает «экономический принцип» определенным
хронологическим периодом. Янкун четко противопоставляет «пол-
ностью развитой» (vollausgebildete) город «нового типа», относя-
щийся ко времени «высокого средневековья» 2S *, характеризуемый
особой системой юридических норм, и «древнейший город» (die
aitere Stadt), к которому только и приложимо, по его мнению,—
в основных чертах — выработанное М. Вебером определение.
Наконец, в последнее время все более популярным становится
топографическое определение средневекового города 2в. Топографи-
ческие функции города стали предметом специального рассмотре-
ния в докладе Д. Денеке на симпозиуме в Рейнхаузене («Геогра-
фическое понятие города и территориально-функциональный метод
исследования поселений с центральным значением применительно
к историческому прошлому») 27 28. Поскольку описываемая Денеке
методика сравнительно мало освещается в нашей исторической
литературе, на ней следует остановиться подробнее.
Денеке рассматривает те признаки, которые привлекались ис-
следователями для определения понятия города, и разделяет их
па две большие группы: территориально-формально-статистиче-
ские и социологически-экономически-функциональные, которые
выдвигаются в последнее время на передний план. «Для всех этих
опытов дефиниции,— замечает Денеке,— показательно, что они
исходят из целостного метода исследования и тем самым ставят
в качестве научной задачи найти такое определение, которое бу-
дет охватывать весь формальный и функциональный комплекс
„город** и подойдет для всех областей и времен» 2в. Город пони-
мается, таким образом, как особый вид ландшафта («городской
ландшафт»), наделенный совокупностью признаков, которые не
встречаются в таком масштабе в других культурных ландшафтах.
С этим поиском целостной дефиниции Денеке связывает стремле-
ние найти в источниках средневековья однозначный термин для
обозначения городского поселения: сам Денеке считает такую по-
пытку неудавшейся и примыкает к Кэблеру29, отрицающему за
понятием vicus-wik значение «купеческое поселение». Более того,
он утверждает — вслед за П. Шэллером и К. Бляшке, что обще-
значимая дефиниция понятия «город» вообще невозможна. Он
2S Jankuhn Н. Zusammenfassende SchluBbemerkungen.— In: Vor- und Friih-
formen der europaischen Stadt.., Bd. 2, S. 306.
*• Haverkampf A. Die «Fruhbiirgerliche» Welt im hohen und spateren Mitte-
lalter.— HZ, 1975, Bd. 221, S. 559—600.
27 Vor- und Friihformen der europaischen Stadt..., Bd. 1, S. 33—55.
28 Ibid., S. 36.
28 Ibid., S. 61—76.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 255
полагает, что не создание общего определения должно быть исход-
ным моментом исторического анализа городов, но, напротив, нужно
идти индуктивным путем, отправляясь от конкретных явлений и
процессов, свойственных «поселениям центрального характера»
(zentrale Siedlung), как Денеке предпочитает называть города.
Каждое поселение обладает не только индивидуальными чертами
(топографическое положение, хозяйственная и социальная струк-
тура и т. п.), но и состоит в территориальных и функциональных
отношениях с окрестными поселениями. Иначе говоря, оно зани-
мает определенное иерархическое положение в сети поселений.
Определение иерархического места того или иного поселения зави-
сит от меры избытка его функций (Funktionsuberschuss), т. е. от
степени, в которой оно создает и предлагает вовне известные
функции, блага и службы сверх нужных для него самого. «Избы-
ток в предложении функций, благ и служб, обусловленный особым
социальным и хозяйственным складом, и находит свое выражение
в понятии «центральный характер местности» 30.
Денеке предлагает классификацию функций и учреждений
«поселений центрального характера», выделяя среди них десять
категорий: 1) политические и административные, 2) правовые,
3) оборонительные и стратегические, 4) культовые, 5) культур-
ные, 6) благотворительные, 7) функции аграрного управления,
8) ремесленные, 9) •'торговые, 10) коммуникационные.
В соответствии с этой классификацией Денеке составляет таб-
лицу иерархических признаков для «поселений центрального ха-
рактера» в средние века и новое время31. Каждая категория функ-
ций и учреждений может быть представлена с разной степенью
интенсивности, что Денеке передает при помощи ступеней (до
четырех). Так, для категории ремесленных функций он выделяет
следующие ступени: Д) ограничение допуска некоторых ремеслен-
ников, 2) цеховая организация, 3) право бана в пределах мили
для некоторых ремесел (пивовары, ткачи и пр.), 4) право бана
охватывает и соседние города. Для категории торговых функций
выделены: 1) еженедельный рынок, 2) обязательность продажи на
рынке (Marktzwang), право бана в пределах мили для мелочных
торговцев, 3) ежегодный рынок, фактории, стапельное право,
4) ярмарка, собственная монетная чеканка. С помощью такой таб-
лицы может быть дана характеристика иерархического положения
каждого поселения, причем следует учитывать, что некоторые из
них выполняли разнообразные центральные функции, тогда как в
других доминировала какая-то одна. Особенно существенной та-
кая методика может оказаться для изучения изменений в уровне
развития поселений в том или ином районе.
30 Ibid, S. 39.
31 Ibid, S. 44—45.
256
А. Л. Ястребицкая
Таким образом, характеризуя в целом подход современной за-
рубежной медиевистики к определению понятия средневекового
города, нельзя не отметить как одно из ее важнейших достижений
прежде всего отказ от однозначно правовой трактовки, стремление
к осмыслению сложности и многообразия феномена «город», по-
пытки отдельных историков выделить в качестве ведущего крите-
рия экономическую специфику городов и подчеркнуть важную
роль хозяйственного фактора на всем протяжении их существова-
ния. Именно в этом проявляется известное сближение с марксист-
ским пониманием средневекового города. Разумеется, речь идет
о заимствовании лишь элементов марксистской концепции и в
целом работы названных выше историков остаются на почве идеа-
листического историзма 32.
В целом же можно сказать, что западной медиевистике пока
еще не удалось выработать общезначимое понятие города и мы
сталкиваемся на практике с множеством противоречащих друг
другу или расходящихся между собой определений.
Не менее острую дискуссию, нежели дефиниция города, вызы-
вает в настоящее время и проблема происхождения средневеко-
вого города. Работы, включенные в сборник К. Хаазе, в частности
статья К. Крэшеля33, позволяют представить основные этапы в
трактовке этой проблемы немецкой классической историографией
и характер преемственности в этом вопросе современной историче-
ской науки. Первоначально К. Ф. Эйхгорн выводил средневековый
город непосредственно из римской городской административной
системы (Stadtverfassung), элементы которой сохранялись в ран-
нее средневековье под защитой духовного иммунитета 34. В кон-
цепции Эйхгорна, таким образом, слились два «градообразующих»
фактора: континуитет античных порядков и роль христианской
церкви, которым предстояло, как мы увидим далее, занимать вид-
ное место в историографии этой проблемы. Уже Э. Т. Гауп внес
известные коррективы в концепцию своего учителя, подчеркнув
существование самобытных корней германского городского права.
Это представление о самобытных германских корнях получило в
дальнейшем конкретизацию в форме нескольких боровшихся меж-
ду собой теорий. Во-педвых, Г. Белов, опираясь на труды
32 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 49—50; т. 21, с. 163, 165;
т. 23, с. 365. См. также работы советских историков о средневековом ев-
ропейском городе: Стоклицкая-Терешкович В. В. Основные проблемы ис-
тории средневекового города X—XV вв. М., 1960, с. 6—51; Корхов Ю. А.
Европейский город в эпоху феодализма.— СИЭ. М., 1963, т. 4, с. 548—
555; Левицкий Я. А. Города и городское ремесло в Англии в X—ХП вв.
М.; Л., 1960; Стам С. М. Экономическое и социальное развитие раннего
города (Тулуза X—XIII веков). Саратов, 1969; Сванидзе А. А. Ремесло
и ремесленники средневековой Швеции. М., 1967.
33 Die Stadt..., Bd. 2, S. 281—299.
34 Ibid., S. 281, 290 f.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 257
Г. Л. Маурера, выводил городскую общину из сельской. К этой
точке зрения были близки также К. Хегель и О. Гирке, видевшие
источник городской организации в старинных формах общины или
сообщества 35 *. Во-вторых, Р. Зом предположил, что городское пра-
во сложилось на базе рыночного, которое в свою очередь родилось
из королевских пожалований зв.
Новым этапом в развитии историографии Крэшель считает
работу С. Ритшеля. Прежде всего в отличие от своих предшествен-
ников, опиравшихся исключительно на письменные памятники,
Ритшель пристальное внимание уделил топографии средневековых
городов; далее, отказавшись от монокаузального объяснения гене-
зиса немецкого города, Ритшель выводил его из дуализма епископ-
ского города с римскими традициями (концепция Эйхгорна) и
рыночного города (Marktstadt), отличавшегося чисто купеческим
и ремесленным характером. Последующее развитие историографии
приводило, с одной стороны, к развитию намеченной Ритшелем
идеи дуализма рыночного поселения и крепости (таковы, в част-
ности, взгляды Ф. Байерле), с другой — к подчеркиванию актив-
ной роли купцов-предпринимателей, что*1 характерно для концеп-
ций Ф. Рэрига и Г. Планица 37.
Наконец, Крэшель отмечает работы Э. Штайнбаха и Э. Эннен,
отмечавших действие многообразных факторов в процессе станов-
ления города 38.
В проблеме возникновения средневекового города, таким обра-
зом, отчетливо можно выделить две стороны. Первая из них, «фак-
тологическая», сводится к выяснению того, существовала или нет
цезура между античным и средневековым городом. Иными слова-
ми, можем ли мы считать средневековый город прямым и непо-
средственным продолжением античного полиса-муниципия, или
же он возникает как новый институт в новых условиях. Вторая,
«каузальная», сторона проблемы обнаруживается, собственно
говоря, только при позитивном решении вопроса о цезуре: если
признать средневековый город новым институтом, генетически
невозводимым к античному муниципию, естественно задуматься
над тем, откуда он вырастает, каковы причины и условия его
появления 39.
Перед началом второй мировой войны в зарубежной историо-
35 Ibid., S. 282—295 f.
38 Ibid., S. 296.
37 Ibid., S. 282. 283, 297 f.
38 Ibid., S. 284.
39 В своем последующем изложении автор стремился, учитывая характер
имеющегося в его распоряжении историографического материала, осве-
тить в целом подход западной медиевистики к решению проблемы про-
исхождения средневековых городов, акцентируя в ряде случаев специфи-
ку трактовки тех или иных аспектов проблемы отдельными исследова-
телями.
9 Средние века, в. 43
258
А. Л. Ястребицкая
графин, как известно, доминировали представления о сохранении
античного города в раннем средневековье. Представления эти в
категорической форме были выражены А. Допшем, вообще отверг-
шем тезис о катастрофе, отделяющей средние века от античности,
а в несколько модифицированном виде — А. Пиренном, который
отодвинул упадок городской жизни и денежного хозяйства к каро-
лингскому периоду и объяснил эти перемены последствиями араб-
ских завоеваний и превращением Средиземного моря в сферу араб-
ского владычества.
После 1945 г. начинается реакция против представлений о
городском континуитете, в значительной степени стимулированная
широким привлечением нового, в первую очередь археологического,
материала. При этом подчеркивается прежде всего отчетливо
проступающее различие между двумя зонами — средиземноморской
и «северной», лежащей за Альпами 40. Итальянские города в основ-
ном ведут свое начало от римской эпохи — после недолгого пере-
рыва или без всякого перерыва в существовании поселения даже
во время лангобардского нашествия, чему способствовали выгод-
ное географическое положение Апеннинского полуострова и сохра-
нившиеся связи с Востоком41. Впрочем, по всей видимости, и кон-
тинуитет городской жизни в Италии не следует переоценивать:
если этот тезис в известной степени применим к южноитальян-
ским центрам (Амальфи, Неаполь и др.), то важнейшие города
Северной Италии, как Венеция, Флоренция или Милан,— скорее
средневековые новообразования, нежели уцелевшие римские муни-
ципии 42. Италия, пишет в своей последней книге Э. Эннен,
также не избежала отступления городской культуры, вследствие
тех хозяйственных и политических потрясений, которыми сопро-
вождалось в той или иной степени начиная с III в. переселение
народов; свидетельства тому — гибель многих античных городов,
прежде всего на юге, перенос их на другое место и вообще пере-
группировка в распределении городских центров, сокращение
городской территории, хотя и менее сильное, чем за Альпами43.
40 Особенно подчеркнуто Э. Эннен: Ennen Е. Friihgeschichte der europiiischen
Stadt. Bonn, 1953, S. 233; Eadem. Die europaische Stadt..., S. 16 f.; S. 30—32.
41 См.: Луццатто Дж. Экономическая история Италии. М., 1954, с. 184—188;
Schmid Н. F. Das Weiterleben und Wiederbelebung antiker Institutionen
im nrittelalterlichen Stadtewesen.— Annali di Storia del Diritto, 1957, vol. 1,
S. 85—135.
42 Nicholas D. M. Medieval Urban Origins..., p. 56. См. также работы совет-
ских историков: Котельникова Л. А. Итальянский город раннего средне-
вековья и его роль в процессе генезиса феодализма.— СВ, 1975, вып. 38,
с. 100—115; Она же. Городская община в Северной и Средней Италии в
VIII—X вв.: Действительность раннего средневековья и античные тра-
диции.— В кн.: Страны Средиземноморья в эпоху феодализма. Горький,
1975. вып. 2, с. 60—72; Абрамсон М. Л. Характерные черты южноиталь-
янского города в раннее средневековье.— СВ, 1976, вып. 40, с. 12—28.
43 Ennen Е. Die europaische Stadt..., S. 31.
П роблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 259
Испания во всяком случае пережила упадок городов. Его причину
ищут обычно в особенностях внешнеполитического положения
Пиренейского полуострова, оказавшегося с начала VIII в. основ-
ной платформой борьбы с арабами
Говоря об упадке городов, не следует, видимо, сбрасывать со
счетов и общую тенденцию раннего средневековья к натурализа-
ции хозяйства, сказавшуюся также и в средиземноморской зоне.
Однако и к северу от Альп городское развитие отнюдь не было
однотипным. Основная часть северной зоны охватывает Галлию
и области по Рейну и Дунаю, где сложились прочные римские
традиции и где «скрещение» римских и германских начал проя-
вилось особенно остро. К тому же здесь не было ни того благо-
творного фактора, который способствовал сохранению городов в
Италии, ни, наоборот, тех неблагоприятных условий, что создались
в Испании. Именно в приложении к этому ареалу проблема це-
зуры оказывается наиболее важной.
Современные медиевисты, как правило, признают перерыв
континуитета в развитии города при переходе от античности к
средним векам, но рассматривают цезуру как длительный про-
цесс, слагающийся из нескольких этапов, или, точнее, состоящий
из сменяющих друг друга периодов упадка и возрождения. Причи-
ны кризиса усматриваются в событиях внешнеполитических,
прежде всего во вторжениях разного рода, но не в имманентном
социал ьно-экономическом развитии.
Первая катастрофа разразилась около 260 г., когда герман-
цы прорвали Рейнско-Дунайский лимес. До этого момента галло-
римские города представляли собой процветающие поселения,
лишь изредка обнесенные стенами. Они были по преимуществу
административными и военными центрами, но возле них возни-
кали canabae — поселки торговцев, обслуживавших армию. Ра-
скопки Г. Петриковица в Нейссе показали, что canabae могли
быть обширными: в Нейссе они занимали территорию в 185 акров,
включая жилые кварталы и торгово-ремесленный «пригород»44 4S 46.
Германское вторжение второй половины III в. нанесло галло-
римским городам тяжелый удар4в. Население резко сократилось.
Во многих случаях «пригороды», которые как раз и представляли
собой поселения ремесленников и купцов, так и не были восста-
новлены после отражения германцев.
44 Ibid., S. 34; обзоры работ по городам Испании см.: Font Rius J. М.
Neuere Arbeiten zur spanischen Stadtgeschichte.— VSWG, 1955, Bd. 42;
Lacarra J. M. Orientation des etudes d nistoire urbaine en Espagne entre
1940 et 1957.— Moyen age, 1958, t. 64.
45 Petrikovits H. von. Novaesinm. Das romische Neuess. Koln; Graz, 1957; En-
nen E. Die europaische Stadt..., S. 200.
46 Ennen E. Die Entwicklung des Stiidtewesens an Rhein und Mosel vom 6.
bis 9. Jh.— In: La Citta nel’alto medioevo. Spoleto, 1959, S. 420; Eadem. Die
europaische Stadt..., S. 29 f.
9
260
А. Л. Ястребицкая
Хотя нельзя говорить о подлинном перерыве континуитета в
существовании городских поселений (кроме только короткого пере-
рыва сразу вслед за вторжением), с III в. дает себя знать упадок
городов. Собственно говоря, за небольшим исключением, ни один
галло-римский город не вернулся к прежнему уровню благосо-
стояния. Позднеримские города, как подчеркивают западные ис-
следователи, представляли собой уже новый тип городского посе-
ления. Это были укрепленные административные и военные цент-
ры, охватывавшие территорию, меньшую, чем занимал город в
III в., своими стенами физически обособившиеся от округи47.
Но при всей важности тезиса о формировании в IV в. города
нового типа отличия позднеримского города от галло-римских
городов II—III вв. не прослежены с желательной точностью: речь
идет скорее о сокращении размеров поселений и об увеличении
числа укрепленных городов, нежели о каких-либо качественных
сдвигах. Возможно, что качественные сдвиги совершались в со-
циальной сфере, которая плохо поддается изучению с помощью
археологических методов. На симпозиуме в Рейнхаузене этой теме
был посвящен небольшой доклад Ф. Виттингхофа «Структура
позднеантичного города» 48. Согласно Виттингхофу, позднеантич-
ный город, именуемый чаще всего в источниках civitas, это «по-
селение центрального характера», управлявшее определенной
«территорией». На практике город должен был обладать извест-
ным минимумом размера и населения, определенным хозяйствен-
ным потенциалом и солидным «верхним слоем», отвечающим цен-
зовым требованиям для городского совета. В соответствии с типо-
логией Вебера, Виттингхоф подчеркивает, что обитатели города
и «территории», не различались правовым статусом — обе кате-
гории сообща составляли civitas. «Город» в узком смысле слова
являлся административным, культовым и культурным центром
civitas.
Города Поздней Римской империи, подчеркивает Виттингхоф,
находились в самом низу административной пирамиды, направ-
ляемой из центра префектурой через диоцезы и провинции. Но в
этой административной пирамиде они оказывались инородным
телом, поскольку их управление строилось не на иерархическом
принципе, но на основе местной автономии и находилось в руках
особого сословия куриалов. Характерной тенденцией эпохи Вит-
тингхоф считает стремление ограничить городское самоуправле-
ние и привлечь, как он выражается, «к сотрудничеству» влиятель-
ных людей высокого социального ранга, стоящих вне сословия
47 Ennen Е. Die europaische Stadt..., S. 30—31; Lestocquoy J. De I’unite a la
pluralite. La paysage urbaine en Gaule du Vе au IXе siecle.— Annales.
E. S. C., 1953, N 8, p. 172.
48 Vor- und Friihformen der europaischen Stadt..., Bd. 1, S. 92—101.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 261
куриалов: высших чиновников, наделенных контрольными функ-
циями (defensor civitatis); могущественных в социально-экономи-
ческом плане лиц (honorati), в том числе верхушку куриалов
(principales); наконец, городских епископов. Создание новой груп-
пы носителей власти знаменовало «незаметное изменение струк-
туры», в результате чего от «города горожан», по определению
Виттингхофа, остались лишь внешние организационные формы.
Новый и более серьезный удар был нанесен городам вторже-
ниями конца IV—V в. Правобережье Рейна, по существу, не знало
прямого влияния римской цивилизации, так что говорить об
«упадке» города в этом районе не приходится. Северная Галлия
и области по Рейну и Дунаю пережили глубокую катастрофу,
хотя античные традиции исчезли здесь не совсем. В Южной Гал-
лии они удерживались прочнее, но и здесь римская муниципаль-
ная организация перестала функционировать. Естественно, что
черты континуитета проступают резче в тех областях, которые
сумели (хотя бы частично) оправиться от кризиса III в., нежели
там, где этот кризис знаменовал конец римской цивилизации (на-
пример, в низовьях Рейна) 49.
Города Южной Галлии сохранили позднеримские черты: они
были военными центрами, связанными — за редким исключени-
ем, каким был Марсель,— скорее с аграрной, нежели с торговой
деятельностью50. Однако встает вопрос, вправе ли мы говорить
о сохранении этих черт или речь должна идти о приобретении
их в ходе относительно ровной внутренней эволюции, не сопро-
вождавшейся такими резкими катаклизмами, как на севере и
востоке.
Германское вторжение V в. оказалось катастрофическим для
городов Рейнско-Дунайского лимеса. Правда, рудиментарные по-
селения сохранились на месте почти каждого римского муници-
пия или в его окрестностях; новые нумизматические, археологи-
ческие и топографические исследования (изучение торговых
путей) подтверждают это5l. При этом последствия германского
вторжения сказались особенно тяжело на положении господст-
вующей верхушки галло-римского общества; ремесленники и
торговцы, напротив, сумели оправиться и найти себе место в
новых условиях. От римских городов уцелели не их администра-
тивные центры, но прежде всего их торгово-ремесленные canabae
49 Ennen Е. Les differents types de formation des villes europeennes.— Moy-
en age, 1956, N 62, p. 397—411; Eadem. Die europaische Stadt..., S. 38 f.;
Eadem. Рец. на кн.: Claude D. Topographic und Verfassung der Stadte
Burges et Poitiers bis ins 11. Jh. Liibech. 1960.— HZ, 1964, Bd. 198, S. 165—
169.
50 Ennen E. Die europaische Stadt..., S. 36; Duby G. Les villes du Sud-Est de
la Gaule du VIIIе au XIе siecle.— In; La cittJi nell’alto medioevo, p. 232 s.
51 Ennen E. Die europaische Stadt..., S. 34—36; Lombard M. L’evolution ur-
baine pendant le haut moyen age.— Annales. E. S. C., 1957, N 12, p. 7 s.
262
А. Л. Ястребицкая
(хотя исключения возможны — упомянутый выше Нейссе как
раз являет обратную картину: там сохранились районы, населен-
ные римскими гражданами, а не торговые canabae). Мобильники
меровингской Галлии свидетельствуют о сохранении римских ре-
месленных традиций 52.
На Рейне катастрофа V в. оказалась менее разрушительной.
В этом отношении весьма показательна история Андернаха; хотя
город был покинут римским гарнизоном около 465 г., римское
население внутри стен существовало еще не менее столетия —
пока оно не слилось с германцами, первоначально селившимися
вне городских укреплений. Жители Андернаха VI в.— владель-
цы лавок и ремесленники, поддерживавшие обмен с завоевателя-
ми; данных о торговле Андернаха с более далекими районами
после ухода римского гарнизона нет53. Аналогичное развитие
прослеживается и в Бонне: поселение подверглось «трансурбани-
зации», переносу на другое место, но цезуры здесь не было;
сохранение римского Бонна, однако, обусловлено не дальними
торговыми операциями, а локальным обменом преимущественно
сельскохозяйственной продукцией 54.
Континуитет античного поселения четко прослеживается в
Кёльне55. И после падения римского господства Кёльн продол-
жал оставаться поселением городского типа. Это проявлялось уже
в его внешнем облике: он не только сохранил крепостные стены,
но и внутреннюю структуру с сетью улиц и крупными сооруже-
ниями. Население по-прежнему было многолюдным, римские ре-
месленные мастерские продолжали функционировать, особенно
стеклоделательные и ювелирные. Торговля также не исчезла во
франкском Кёльне. Наконец, он сохранял значение культурного
и культового центра для довольно широкой округи. Однако сле-
дов городского самоуправления не сохранилось.
Близкую картину обнаруживает, как показывают новейшие
исследования археологических И нумизматических памятников,
Трир.
По расчетам Шиндлера (на основании находок в долине Альт-
баха) 5в, около 10—15% римских зданий продолжало использо-
52 Ennen Е. Die europaische Stadt..., S. 34—39.
53 Zimmermann К. Vom Romerkastell Andemach zur mittelalterlichen Stadt.—
Rheinische Vierteljahrsblatter, 1954, 19, S. 326—327; Ennen E. Die euro-
paische Stadt..., S. 40.
54 Ennen E. Die europaische Stadt..., S. 39; Eadem. Die Bonner Markte.— In:
Beitriige zur Wirtschafts- und Staatsgeschichte. Festschrift fiir H. Amman.
Wiesbaden, 1965, S. 56; Eadem. Friihgeschichte der europaischen Stadt,
S. 85 f.
55 Doppelfeld O. Koln von Spatantike bis zur Karolingerzeit.— In: Vor- und
Friihformen der europaischen Stadt..., Bd. 1, S. 110—129.
5e Cp.: Schindler R. Trier in merovingischer Zeit.— In: Vor- und Friihformen
der europaischen Stadt..., T. 1, S. 130—151.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 263
ваться вплоть до каролингского времени; кое-какие из них несут
следы перестройки, свидетельствующие о наличии опытных ре-
месленников. Правда, когда епископ Ницетий предпринял в VI в.
перестройку соборной церкви св. Петра, он был вынужден при-
гласить для этих работ мастеров из Италии. В Трире сохраня-
лись не только позднеантичные культовые сооружения и термы,
но также римские городские стены и римский мост через Мо-
зель. Чеканенные в Трире монеты были обнаружены в бассейне
Луары и во Фрисландии, что свидетельствует о довольно широ-
ких торговых связях меровингского Трира.
Гораздо более скептически, чем Шиндлер, оценивает свиде-
тельства о сохранении в Трире римских традиций Г. Шэпбер-
гер57. По его формулировке, еще следует выяснить, действитель-
но ли можно говорить о континуитете поселения или же только
о «континуитете руин». Во всяком случае, полагает Шэнбергер,
в средние века сохранились лишь те позднеантичные сооружения
Трира, которые приобрели принципиально иные функции: так,
северные ворота Porta Nigra были превращены в XI в. в церковь,
а термы в середине XII в. были включены в систему городских
укреплений. Скептически расценивает он и развитие позднеан-
тичного Майнца, на месте которого, по его мнению возникло сель-
ское поселение, a Colonia Ulpia Traiana (к северу от Ксантена)
вообще перестала существовать во второй половине IV в. Шэн-
бергер, напротив, опираясь на новые археологические материа-
лы, подчеркивает континуитет римских традиций в бассейне Ду-
ная. Из римских поселений на Дунае в средневековье перешел
не только Клостернейбург, но и Регенсбург. Возникший как ла-
герь легиона, он продолжал оставаться важным укрепленным
пунктом в V—VIII вв.; в дальнейшем там возник рынок и соз-
дались условия для формирования средневекового города58. Пе-
режил эпоху переселения народов и Municipium Lauriacum (Лорх
близ Эннза), также возникший как лагерь легиона. Означает ли
это, что именно военные лагеря оказались в смутную пору IV—
V вв. наиболее жизнеспособной формой римского поселения?
Шэнбергер не ставит этого вопроса.
Своеобразным исключением в общем направлении деурбани-
зации раннего средневековья явились города по Маасу, который
стал в VII в. важнейшей торговой артерией на севере конти-
нента. Если Турне и другие города по Шельде пережили упадок
57 Schonberger Н. Das Leben oder das Fortleben spatromischer Stadte an
Rhein und Donau.— In: Vor- und Friihformen der europaischen Stadt...,
Bd. 1, S. 102-109.
58 Petrikovits H. von. Das Fortleben romischer Stadte an Rhein und Donau.—
In: Studien zu den Anfangen des europaischen Stadtewesens. Konstanz;
Lindau, 1958, S. 63—76; Idem. Das romiscne Rheinland. Archaologische For-
schungen seit 1945. Cologne; Opladen. 1960; Klebel E. Regensburg.— In: Stu-
dien zu den Anfangen des europaischen Stadtewesens, S. 87—104.
264
А. Л. Ястребицкая
(хотя в меровингском Турне сохранялись римские традиции,
в том числе в текстильном и камнерезном производстве), в по-
селениях по Маасу отчетливо проступает непрерывная линия раз-
вития от римской эпохи до эмбриональных средневековых горо-
дов Намюра, Маастрихта, Динана, Вердена; из них только Верден
был крупным центром в VI в., остальные выросли в VII в. Горо-
да здесь были многочисленны: вдоль Мааса через каждые 12—
18 миль находился castruin, служивший местом монетной чекан-
ки. Около 700 г. в низовьях Мааса функционировали два важных
торговых центра — Домбург и Дурстеде 5в.
Чем объяснить экономическое процветание бассейна Мааса в
VII в.? Возможно, что через эти центры проходила торговля
Византии со Скандинавией после того, как германские и аварские
вторжения прервали коммуникации в Восточной Европе; может
быть, по Маасу осуществлялась связь континента с Англией. Во
всяком случае, как подчеркивают современные исследователи,
подъем городов в бассейне Мааса связан с переходом от римской
сухопутной транспортной системы к раннесредневековой систе-
ме перевозок по речным артериям в0.
В настоящее время уже невозможна, разумеется, концепция
Эйхгорна в ее обнаженном виде, однако элементы теории «рим-
ского континуитета» все еще сохраняются — всего отчетливее,
пожалуй, в трудах сторонницы «поликаузального» объяснения
происхождения города Э. Эннен. Она подчеркивает, как отмеча-
лось выше, прежде всего сохранение городской жизни (Urbani-
tat) в романских землях, тогда как северные области носили
отчетливо выраженный сельский характер. Но и в эту аграрную
картину северных областей Эннен вносит двоякие ограничения:
во-первых, сохранились многие отдельные черты римского прош-
лого, во-вторых, существовали переходные и контактные зоны в1.
Вслед за Эннен В. Шлезингер также выделяет две большие
области: южную и северную. При этом он полагает, что антич-
ная Urbanitat постепенно продвигалась на север, причем продви-
галась по двум линиям: одна из них проходила через бассейны
Роны и Соны к Мозелю и Рейну, другая — по старой янтарной
дороге, через Аквилею и Карнунт. Разные пути проникновения
античного влияния и разные политические судьбы двух «линий»
городского континуитета определили, согласно Шлезингеру,
различия характера прирейнских и придунайских городов ®2.
59 Ennen Е. Die europaische Stadt..., S. 35—36, 40, 54.
•° Adelson H. Early Medieval Trade Routes.— American Historical Review,
1960, vol. 65, p. 278 s.; Ennen E. Die europaische Stadt..., S. 39—40.
81 Ennen E. Das Stadtewesen Nordwestdeutschlands von der frankischen bis
zur salischen Zeit.— In: Die Stadt..., Bd. 1, S. 148—149; Eadem. Die euro-
paische Stadt..., S. 31.
62 Schlesinger W. Uber mitteleuropaische Stadtelandschaften der Fruhzeit.—
In: Die Stadt..., Bd. 1, S. 244 f.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 265
Взгляды Эннен близки к старой концепции Эйхгорна и еще
в одном пункте: гораздо мягче, чем Эйхгорн, Эннен все-таки до-
пускает существенную роль церкви в сохранении античного го-
рода или, как она выражается, «ретардирующий момент» вз.
Другая форма сохранения теории «римского континуитета»
характерна для работ Ф. Феркаутерена, который подчеркивает
длительность существования античных элементов в городской
жизни к северу от Альп и постепенность совершавшихся в горо-
де перемен. Еще в VI в., пишет Феркаутерен, галльские города
сохраняли античный облик — от многоэтажности зданий до хо-
зяйственной активности. С VI в. происходят существенные пе-
ремены в управлении городом: исчезают курии и город переходит
в подчинение графу. Хозяйственные сдвиги Феркаутерен дати-
рует только VIII—IX вв., когда из галльских городов исчезают
иноземные купцы и Северная Галлия обращает свои экономиче-
ские интересы к Ацглии и другим северным областям. Феркауте-
рен датирует упадок civitas VIII в., хотя и подчеркивает, что
это явление не должно быть чрезмерно генерализировано. И толь-
ко к X—XI вв. он относит разрыв с айтичной традицией, который
усматривает прежде всего в том, что города расширяют свои сте-
ны, отходя тем самым от завещанной поздней античностью топо-
графической ограниченности. Раннему средневековью, пишет
Феркаутерен, были присущи «известный континуитет и известная
революционность» в сфере городской жизни. По всей видимости,
для Феркаутерена, как и для Э. Эннен, события III и IV вв.
кажутся более катастрофическими для судеб античного города,
чем раннее средневековье, не уничтожившее, но скорее сохранив-
шее и преобразовавшее античную civitas®4. 4
Разумеется, в настоящее время даже сторонники концепции
римско-христианского континуитета не придерживаются той
точки зрения, что средневековый город вырос только из антич-
ного, и допускают наряду с сохранением римских элементов дей-
ствие новых, не римских начал. «Римское наследие,— пишет
Э. Эннер,— только один из катализаторов (Ursprungskraft) сред-
невековой урбанизации. Неаграрные новые поселения франкской
эпохи — торговые эмпории, прежде всего на побережье, бурги и
рынки (Markte) — своеобразные формы организации, которые
также несли в себе зародыш городской жизни» ®5. В. Шлезингер,
который утверждает, что еще в IX в. с понятием civitas связы-
валось «отчетливое представление о продолжающейся римской
63 Ennen Е. Das Stadtewesen..., S. 146; Eadem. Die europaische Stadt..., S. 45.
Критику концепции Э. Эннен в советской историографии см.: Стам С. М.
Некоторые тенденции в современной буржуазной историографии сред-
невекового города.-— СВ, 1975, вып. 38, с. 75 и след. ;
в4 Die Stadt..., Bd. 1, 129, 130, 133, 135, 138, 142.
65 Ennen E. Die europaische Stadt..., S. 46. .
266
А. Л. Ястребицкая
городской жизни», вместе с тем подчеркивает, что средневековый
burgus не был продолжением античного — наоборот, эта форма
поселения образовалась в период так называемого Великого пере-
селения народов и была занесена германцами на территорию
Римской империи. Благодаря археологическим раскопкам посе-
ления такого типа известны у славян и англосаксов; они содер-
жали в себе элементы городского характера (Elemente stadtischer
Art), хотя и несопоставимые с формами позднеантичной civitas.
Таким образом, по Шлезингеру, в раннее средневековье как бы
«предсуществовали» два типа поселений с городским или предго-
родским обликом: позднеантичная civitas и германо-славянский
burgus — град. Поэтому процесс становления средневекового го-
рода представляется Шлезингеру постепенным слиянием двух
предгородских элементов. Civitas дала ему крепостные стены,
германское поселение, именовавшееся в раннее средневековье
виком (wik), образовало предместье, suburbium, которое до
XII в. называлось burgus, а потом получило название stat. Шле-
зингер придает очень большое значение словам Лиутпранда Кре-
монского, который определяет «бург» как совокупность домов,
не окруженных стенами6в, и подчеркивает, что эта традиция
сохранилась во французском и итальянском языках, тогда как
в германской среде слово этого корня со временем было сохране-
но для обозначения крепости.
Г. Янкун, рассматривающий историю городской жизни в рам-
ках теории континуитета, точнее, «континуитетов», подчеркивает,
что появлению «правового города нового типа» (Rechtsstadt neuer
Art) в7 предшествовало наряду с позднеримскими традициями
городской жизни также возникновение «зародышевых городов»:
горных крепостей (Bergbefestigungen) (с III в.), неукрепленных
торгово-ремесленных поселений (VIII—IX вв.), королевских и
церковных рыночных поселений эпохи Каролингов и Оттонов.
В противоположность исследователям, ставящим акцент имен-
но на традиционном в развитии города, Д. Николас формулирует
отход от теории городского континуитета и констатирует не про-
сто катастрофу, пережитую городами в результате германского
вторжения, но и диалектику трансформации города. Несмотря на
то, что германское вторжение не привело к уничтожению город-
ской жизни в Северной Галлии, но лишь к кратковременному пе-
рерыву в городской активности большинства центров, город, воз-
никший на месте римского муниципия после кризиса V в., пишет
он, был «новым организмом», коренным образом отличавшимся
от своего предшественника. Можно говорить о «топографической
«« Die Stadt..., Bd. 1, S. 116, 119, 241, 266.
Jankuhn H. Zusammenfassende Schluflbemerkungen.— In: Vor- und Friih-
formen der europaischen Stadt..., Bd. 2, S. 317.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 267
преемственности» (при наличии ряда случаев трансурбанизации)
и о преемственности в качестве административного или церков-
ного центра — и этим, полагает Д. Николас, городской континуи-
тет исчерпывается. «Средневековый город,— подчеркивает он,—
ни в каком реальном смысле не может рассматриваться как про-
должение римского города» в8. В меровингскую эпоху античный
город подвергся полной трансформации. «Римский город,— раз-
вивает свою мысль Николас,— должен был быть разрушен как
хозяйственное и организационное целое (economically and insti-
tutionelly) прежде, чем средневековый город смог выкристалли-
зоваться» в9. И в другом месте: «Процветание города в средние
века часто зависело в очень большой мере, хотя возможно и не
прежде всего, от степени, в какой он порвал со своими римскими
предшественниками; временный экономический и культурный
спад в Северной Галлии,— по мнению Николаса,— расчистил почву
для расцвета городов в последующие века, которого не пережили
южногалльские центры с их римским наследием» 70.
Разрыв городского континуитета, согласно представлениям со-
временных западных исследователей, приходится на V в. и связан
с германским вторжением 71. Зарождение нового средневекового
города начинается с VII—VIII вв. Однако этот процесс протекал
неровно, прерывисто. IX столетие ознаменовалось общим подъе-
мом городов-эмбрионов, охватившим, как показывают археологи-
ческие изыскания последних десятилетий, также Центральную и
Северную Европу, включая славянские территории72. Этот пе-
риод относительного подъема завершился в конце IX в. Вторже-
ния викингов (норманнов) и венгров привели в X в. к новому
перерыву в городском развитии: археологические данные обнару-
живают «провалы» в существовании поселений, равно как и воз-
ведение новых укреплений73. Однако цезура X в. не была ни
столь глубокой, ни столь длительной, как перерыв, вызванный
германским вторжением конца IV—V вв. И самое существенное:
она не породила нового типа города; восстановленные после на-
бегов викингов поселения представляли собой те же города-эмб-
рионы, что и «предгородские» центры IX в.
Таким образом, современная западная историография в об-
щем и целом отвергает допшианскую идею городского континуи-
•8 Nicholas D. М. Medieval Urban Origins..., р. 88.
69 Ibid., S. 89.
79 Ibid., S. 66—67.
71 Ennen E. Die europaische Stadt..., S. 29.
72 Jankuhn H. Op. cit., S. 311—312; Reynolds S. An Introduction to the Histo-
ry of English Medieval Towns. Oxford, 1977, p. 1—45.
73 Ennen E. Die europaische Stadt..., S. 29; Eadem. Die Entwicklung des Stad-
tewesens..., S. 448 f.; Vercauteren F. La vie urbaine entre Meuse et Loire
du VIе et IXе siecle, p. 463.
268
А. Л. Ястребицкая
тета, признавая катастрофу, пережитую римским городом, и рас-
тягивая ее на III—X вв. (с основным катаклизмом в V в.). Но
тогда с особой остротой встает вопрос о типичных элементах
средневекового города и о факторах (силах), вызвавших его к
жизни,— то, что мы назвали выше каузальной стороной проб-
лемы.
Если средневековый город не вырос из римского /муниципия,
то не следует ли его автоматически считать институтом герман-
ского общества? Современная историография отводит это пред-
положение. Германцы до VIII в. не умели и не хотели возво-
дить города, не жили в них и были враждебны городской жив-
ши 74. Воздвигнутые германцами oppida являлись результатом
поенных действий против римлян; с переходом к средним векам
<они были разрушены или же оставались простыми крепостями,
никогда эти укрепления не являлись подлинными городами75 *.
Образование города, казалось бы, естественно связать с суще-
ствованием крепости, тем более что крепостные стены становятся
в средние века отличительным признаком городского поселения
в противоположность римским муниципиям до IV в. Однако уже
Г. Планиц и Ф. Л. Гансхоф подчеркнули неожиданную дихото-
мию между castrum и купеческим поселением: castrum или civi-
tas представляли собой в раннее средневековье структуры без
торгово-ремесленной активности, тогда как поселение торговцев
и ремесленников конституировалось за пределами городских
стен 7в. Римские castrum и civitas использовались в средние века
только в тех случаях, когда они могли служить целям и обороны
и торговли. В других случаях (таков, например, Гент) можно
проследить, как торгово-ремесленное поселение возникает рань-
ше княжеского замка, который в дальнейшем несет функции его
охраны. В Саксонии многие докаролингские поселения городского
типа выросли вне охраны крепостей и превратились в настоящие
74 Ennen Е. Friihgeschichte..., S. 37, 46; Haase С. Die Entstehung der westfa-
lischen Stadte; Idem. Grundfragen der nordwestdeutschen Stadtegeschichte
bis ins 13. Jh.— In: Rausch W. Die Stadte Mitteleuropas im 12. und 13. Jh.
Linz, 1963, S. 117 f.
75 Видоизмененной формой германской теории была развитая Г. Беловом
концепция происхождения города из сельской общины, опиравшаяся как
на тот факт, что многие города действительно представляли собой земле-
дельческие поселения, так и на аграрную деятельность жителей боль-
шинства средневековых городов. Одна из основных работ в защиту тео-
рии происхождения города из сельской общины: Kroschell К. Weichbild.
Untersuchungen zur Struktur und Entstehung der mittelalterlichen Stadtge-
meinde in Westfalen. Koln; Graz, 1960; См. также: Steinbach F. Stadtge-
meinde und Landgemeinde. Studien zur Geschichte des Biirgertums.— In:
Rheinische Vierteljahrsblatter. Bonn, 1948, Bd. 3.
7e Ganshof F. L. Etude sur le developpement des villes cntre Loire et Rhin
au Moyen age. Paris; Bruxelles, 1943; Planltz H. Die deutsche Stadt im Mik
telalter. Graz; Koln, 1965; Ennen E. Friihgeschichte..., S. 123—124.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 269
города раньше, чем были обнесены валом. Крепость — римская
или княжеская — могла служить дополнительным стимулом к
образованию того или иного конкретного города, но не причиной
возникновения средневековой городской жизни. То же самое от-
носится к дворцам и таможням 77 — они стимулировали скопле-
ния торгово-ремесленного населения, но сами по себе не созда-
вали города.
Широко распространено в западной историографии представ-
ление о генетической связи средневекового города с церковными
учреждениями — как римскими, так и сложившимися вне сферы
римской активности: епископиями, приходскими церквами, мо-
настырями. Давно уже было обращено внимание на совпадение
границ многих диоцезов с территорией римских civitates. Однако
следует ли из этого, что епископальная власть поддерживала му-
ниципальные институты и городской строй? Конечно, многие
епископские центры пережили падение Римской империи и Т»
епископских городах Галлии продолжали жить не только клири-
ки, но л ремесленники, но само по себе присутствие епископа и
его окружения еще не делало поселение городом78. Могущество
раннесредневековых епископов зиждилось не на ремесленно-тор-
говой деятельности, но на их земельной собственности и имму-
нитете, выделявшем епископские владения из сферы графской
юрисдикции 79. Разумеется, в конкретных случаях епископы спо-
собствовали сохранению римских традиций и остатков римского
населения. К тому же епископы раннего средневековья (в отли-
чие от позднеримских) имели тенденцию полностью подчинить
своей власти города-эмбрионы. В Трире епископ сперва овладел
некоторыми правами старой римской администрации (надзор за
зданиями и укреплениями), а затем, в VII в., вытеснил графа и
стал сеньором города80. В Шпейере епископ в X в. получил
контроль над эмбриональным купеческим поселением, сплотив-
шимся первоначально вокруг герцогской резиденции. В других
случаях (особенно в восточных землях, где епископии создава-
лись Карлом Великим и его преемниками как административно-
религиозные центры для обращения и подчинения «язычников»)
епископии стимулировали концентрацию торгово-ремесленного
населения. Так, в Бремене появление епископа предшествует
77 Nicholas D. М. Medieval Urban Origins..., р. 96—97.
78 Vercauteren F. Le vie urbaine entre Meuse et Loire..., p. 465 f.; Jankuhn N.
Op. cit., S. 321—322.
79 Роль иммунитета в процессе роста епископской власти была подчерк-
нута уже Г. Планпцем. См.: Planitz Н. Die deutsche Stadt..., S. 29 f.
80 Ewig E. Trier im Merowingerreich..., S. 80 f. Об укреплении власти еписко-
пов в раннесредневековых поселениях см.: Vittinghoff F. Zur Verfassung
der Spatantiken Stadt.— In: Studien zu den Anfangen des europaischen
Stadtewesens, T. 1, S. 37.
270
А. Л. Ястребицкая
наиболее ранним свидетельствам о торговой деятельности бремен-
цев; однако Бремен был королевской villa в VIII в., прежде чем
стал епископией, и вполне возможно, что уже на этой стадии его
истории зарождались его торговля и ремесло. Короче говоря, по-
добно крепости, дворцу или таможне, епископия могла служить
катализатором становления городов-эмбрионов, но не являлась
причиной генезиса раннесредневекового города. Более того, меж-
ду епископом — носителем сеньориальной власти и поселением
подвластных ему ремесленников и торговцев существовало корен-
ное противоречие интересов, выразившееся в том, что городское
движение XI в., приведшее к становлению подлинного средневе-
кового города, было обращено своим острием именно против епи-
скопов-сеньоров. «Предгород», «город-эмбрион» был вынужден
мириться с епископскими привилегиями, покупая дорогой ценой
покровительство могущественных сеньоров, но зрелые городские
порядки оказались несовместимыми с верховенством церкви. Про-
тиворечие между епископской ciyitas и пригородом со своими
приходскими церквами, также обнаружившееся в XI в. (см. ни-
же), лишний раз подчеркивает отсутствие каузальной связи меж-
ду основанием епископии и возникновением средневекового го-
рода. То же самое может быть отнесено и к приходским церквам,
особенно к тем из них, которые возникали в пригородах или в
областях за пределами прежней римской территории. В Северной
п Центральной Галлии комплексы, сложившиеся в меровингский
период вокруг святилищ в предместьях, в XI в. нередко так раз-
растаются, что превосходят по территории и значению сами civi-
tas. Предместье римского или епископского города-эмбриона ста-
новится центральным элементом растущего средневекового горо-
да, поскольку в пригороде население оказывается более свобод-
ным от ограничений, нежели внутри стен. Трир оказывается
единственным исключением в этом районе: его обширная терри-
тория позволяла возродить новые приходские церкви внутри стен.
Напротив, в Южной Галлии предместья и святилища предместий
не играли конституирующей роли (кроме Тулузы и Нарбонна) —
развитие suburbia в значительном масштабе началось здесь толь-
ко с X в.81
В восточных областях «купеческая церковь» часто являлась
центром постоянного поселения82, однако из этого отнюдь не
следует, что церковь вызвала это поселение к жизни, вполне ве-
роятно, что она сама возникает тогда, когда какие-то' иные при-
чины создавали предпосылки для прочного обоснования купцов и
ремесленников на новом месте.
81 Duby G. Les villes du Sud-Est de la Gaule..., p. 243.
82 Nicholas D. M. Medieval Urbain Origins..., p. 103, 104.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 271
Наконец, монастыри (аббатства) подчас играли немаловаж-
ную роль в возникновении городов. Подобно приходским церк-
вам, аббатства возникали обычно вне развалин римских городов
в VI и даже в VII в. В VIII в. они оказывались центрами при-
тяжения для разнородного населения, в том числе для торговцев.
Сооружение монастырей близ городских укреплений было одной
из важнейших новых черт во внешнем облике городов V—IX вв.
Однако возникавшие вокруг аббатств городки оставались, как
правило, незначительными83. В некоторых случаях функциони-
рование монастыря выступает как один из факторов, стимули-
рующих развитие города. Аррас был римским городом, и там со-
хранились остатки старого поселения, когда в середине VII в.
было основано аббатство св. Вааста у римской дороги, проходящей
в Аррас. Новое население стало появляться близ аббатства, здесь
же сооружались приходские церкви, но аррасский рынок возник
у стен замка графского шателена. Постепенно внутри старых стен
остались только собор и обслуживавшее его духовенство ’4.
Здесь, таким образом, проступает влияние разных факторов —
от римской дороги до феодального castrum, и одним из этих фак-
торов оказывалось наличие монастыря. В Туре средневековое
поселение развивалось между остатками римской civitas; служив-
шей административным центром Капетингов, и castrum, в который
превратилось аббатство, укрепленное в период норманнских на-
бегов, причем торгово-ремесленные элементы все более концент-
рировались вокруг castrum, особенно после того, как Капетинги
потеряли графские прерогативы в Туре ”.
Таким образом, признавая, что все институты римского, гер-
манского или церковного происхождения могли служить материа-
лом или катализатором для возникновения городов-эмбрионов, за-
падные медиевисты все же склоняются к тому, что ни какой-
либо из них сам по себе, ни все они в совокупности не создавали
внутренней причины, источника и корня средневекового город-
ского строя. Эту внутреннюю причину, источник и корень совре-
менная западная медиевистика все чаще и чаще ищет в торгово-
ремесленной деятельности.
Определяя город как институт средневекового общества,
Д. Николас выделяет два основных критерия ”. Во-первых, это
наличие постоянного поселения, а не только рыночного места, ко-
лонии «бродячих купцов» и иных нестабильных форм. Во-вторых,
обособление от окружающей территории в экономическом, право-
вом и топографическом плане; под топографическим обособле-
83 Ibid., р. 104—105.
84 Ibid., р. 106.
85 Ibid., р. 58.
88 Ibid.
272
А. Л. Ястребицкая
нием американский исследователь понимает физическое отделе-
ние города от деревни с помощью стен, на расстоянии мили от
которых прекращала свое действие юрисдикция городских маги-
стратов. Это обособление он считает символом более глубокого
отделения города от деревни, которое складывается из экономи-
ческих и правовых моментов. Николас полагает, что одних эко-
номических или одних правовых моментов недостаточно для того,
чтобы вычленить город из окружающей его аграрной стихии;
обе системы особенностей дополняют друг друга. И вместе с тем
он подчеркивает, что правовые моменты (установление рыночно-
го права с рыночным судом и рыночным миром), выступая как
«революционный акт» созидания города, отражают сложившиеся
экономические особенности поселения нового типа.
Мы видели уже, что современные исследователи обращают
внимание на устойчивость ремесленных традиций римского го-
рода: именно торгово-ремесленное население галло-римских civi-
tates выживает в условиях германского вторжения V в. Если тор-
говля в широких масштабах исчезает, то на развалинах римских
городов еще теплится обмен продуктами с аграрным хинтерлан-
дом, в том числе с германским, и этот рудиментарный обмен
подготавливает становление переходных городов-эмбрионов87.
Именно наличие торгово-ремесленного производства в епископ-
ских центрах, равно как на периферии аббатств, близ замков и
таможен, придает этим поселениям «предгородской» характер.
Только там римские муниципии смогли уцелеть в раннее средне-
вековье, подчеркивает Николас, где этому способствовали, «ком-
мерческие соображения» 88.
Важный шаг вперед в определении причин возникновения «за-
родышевых» городов делает Г. Янкун. По его мнению, эти при-
чины коренились в «территориальном разделении занятых ремес-
лом групп и крестьянского населения». Результатом внутреннего
социального и экономического развития, подчеркивает Янкун,
явилось появление «зародышевых городов» и у западных славян.
Здесь «не работает», прямо формулирует он, «модель простого
восприятия чужих образцов» 80.
Раннесредневековые торгово-ремесленные центры VIII —IX вв.,
как считают зарубежные исследователи, не были городами в пол-
ном смысле слова. Их уже нельзя назвать деревней, пишет Ян-
кун, но еще нельзя — городами0О. Они были промежуточной
формой поселения, из которой предстояло вырасти подлинному
городу средневековья, поэтому их именуют обычно городами-эм-
87 Ennen Е. Die europaische Stadt..., S. 34—35 f.
88 Nicholas D. M. Medieval Urban Origins..., p. 8Q
89 Jankuhn H. Op. cit., S. 310, 316.
90 Ibid., S. 390.
Проблемы раннего средневек. города в современ. запад, медиевистике 273'
брионами (эмбриональными городами) или городами-nuclei (от
nucleus — ядро) 91. Их доминантой, подчеркивает Д. Николас,
остается аграрная сфера, ремесло и торговля захватывают только
поверхностные слои.
Но акцентируя аграрные черты городов-эмбрионов и незначи-
тельный размах в них ремесел и торговли, современные медие-
висты, по сути дела, отказываются от концепции А. Пиренна92,
считавшего, что предтечей развитого средневекового города яви-
лось поселение «бродячих» торговцев, занятых далекой торгов-
лей: одноуличный вик, создавшийся под охраной сильной кре-
пости. Локальные исследования свидетельствуют, что начало го-
родского развития связано именно с местной региональной торгов-
лей изделиями собственного производства и лишь на дальнейшем
этапе дальние торговые операции становятся источником процве-
тания городов; новый класс купцов «не явился неизвестно отку-
да», но вырос из полуаграрной среды в окружении городов-
nuclei 93.
Суммируя результаты анализа историографического материа-
ла, можно отметить, что для современной медиевистики характер-
но признание: 1) внешнего континуитета римских городов, но
без континуитета их функций; 2) относительного возрождения
«городов» сразу после конца вторжений; 3) формирования «пред-
городских эмбрионов» (nuclei) в VII в.; 4) значительного места
аграрно-домениальных учреждений в качестве предшественников
средневекового торгово-ремесленного в своей сущности города;
5) четкой грани между сельской общиной и городом; 6) извест-
ной активности замка (castrum), сеньориального элемента в ста-
новлении городов. Создание подлинных городов XI—XII вв. рас-
сматривается как завершение длительного исторического процесса
«физического» расчленения города и деревни.
В отличие от историков конца XIX в. и предвоенного периода
современные исследователи отказываются от однозначного объяс-
нения генезиса средневекового города и признают наличие мно-
жества факторов, определявших его становление.
Но при такой постановке вопроса возникновение городов вы-
ступает, по сути дела, как историческая случайность. А меж-
ду тем закономерность генезиса средневекового города, усколь-
зающая от внимания большинства западноевропейских медиеви-
01 Nicholas D. М. Medieval Urban Origins..., р. 90.
92 Оценку концепции А. Пиренна в советской историографии см.: Стоклиц-
кая-Терешкович В. В. Анри -Пиренн как историк средневекового горо-
да.— В кн.: Пиренн А. Средневековые города Бельгии. М., 1937, с. 5—24;
Гутнова Е. В. Историография средних веков. М.. 1974, с. 381—388.
93 Ennen Е. Die europaische Stadt..., S. 73—74, 78 f.; Schlesinger W. Der Markt
als Friihform der deutschen Stadt.— In: Vor- und Friihformen der europa-
ischen Stadt..., Bd. 1, S. 262—293.
274
А. Л. Ястребицкая
стов, бросается в глаза уже в силу того, что становление города
в Европе (равно как и предшествующий этому упадок римской
муниципальной системы) приходится на определенный и хроноло-
гически весьма ограниченный промежуток времени: как в свое
время к VI — VII вв. практически исчезли римские города, так
и в X—XI вв. Европа стремительно покрывается сетью поселений
-совершенно иного городского типа. Видимо, возникновение сред-
невекового города в Европе, как и упадок римского муниципия,
было вызвано не независимым и спонтанным развитием общи-
ны, вотчины, рыночного поселения, монастыря или развалин ан-
тичной civitas, но той общей экономической, социальной, полити-
ческой и культурной ситуацией, которая создалась в Европе на
исходе раннего средневековья. Рост народонаселения, отделение
ремесла от сельского хозяйства, расширение хозяйственных и
культурных контактов — все это требовало возникновения но-
вого типа поселения, способного выполнить новые экономические,
административные и культурные задачи, и именно в этой обста-
новке все — и то, что осталось от античного муниципия, и замок
феодала, и монастырь, и епископальный центр, и поселение куп-
цов, и даже в определенных благоприятных условиях сельская об-
щина — могло стать катализатором городского развития. Много-
образие конкретных путей, подчеркиваемое современными ис-
следователями средневекового города, должно сочетаться с
пониманием того факта, что эти многообразные пути смогли осу-
ществиться только потому, что им благоприятствовала, более
того — их вызвала к жизни создавшаяся в X—XI вв. обществен-
но-экономическая ситуация.
Н. В. Савина
ПРОБЛЕМЫ ФЕОДАЛИЗМА В НОВОМ
ПЕРИОДИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ
ИСТОРИКОВ ГДР
Центральный институт истории АН ГДР выпустил в свет
два тома «Ежегодника по истории феодализма» 1 — нового пе-
риодического издания, суммирующего результаты исследования
феодализма в ГДР. Статьи, опубликованные в сборнике (1-й
том — 14, 2-й — 15), охватывают период от эпохи перехода к
феодализму до смены его в историческом масштабе капиталисти-
ческой формацией, до 1789 г., по периодизации, принятой в ГДР.
Преобладают статьи, посвященные германской истории, однако
есть и работы по истории феодализма в России, Византии, Поль-
ше. Наряду с трудами историков ГДР в сборнике помещены ис-
следования медиевистов СССР и Польши 2.
В ежегоднике публикуются исследования по конкретным во-
просам, статьи теоретико-методологического характера, 1-й том
открывается редакционной статьей «Проблемы исследования фео-
дализма в ГДР (1970—1975)»3, в которой большое внимание
уделено вопросам, дискуссионным в историографии ГДР и в марк-
систской историографии вообще. Во 2-м томе помещена статья
В. Кюттлера «Понятие и анализ феодализма в работах Ленина».
Исследуя вклад В. И. Ленина в теоретико-методологические осно-
вы изучения феодализма, В. Кюттлер основное внимание уделяет
таким вопросам, как 1) анализ Лениным феодализма и докапи-
талистических отношений в различные периоды его творчества,
2) основные черты ленинской концепции феодализма, 3) отноше-
ние феодализма к другим докапиталистическим общественным
формам, 4) соотношение анализа феодализма и генезиса капита-
лизма в работах В. И. Ленина. В. Кюттлер приходит к выводу,
что, хотя в ленинских работах относительно небольшие отрывки
о докапиталистической (феодальной) системе посвящены анализу
1 Jahrbuch fiir Geschichte des Feudalismus. Berlin, 1977—1978, Bd. 1—2 (да-
лее при ссылках на это издание дается только том без названия сбор-
2 В 1-м томе — В. Т. Пашуто, Ю. Ю. Кахка (СССР), во 2-м томе — А. Р.
Корсунского, С. М. Стама, А. М. Сахарова (СССР), X. Самсоновича, Б. Зин-
тары (ПНР).
3 Перевод этой статьи в несколько сокращенном варианте см.: СВ, 1978,
вып. 42.
276
И. В. Савина
перехода от крепостничества к капитализму, его высказывания
относятся к феодальной формации в целом, поскольку Ленин
стремился определить сущность системы эксплуатации, господст-
вовавшей до капитализма. Основные черты феодального строя
В. И. Ленин формулировал по контрасту с капитализмом 4. Оста-
навливаясь на дискуссионном в марксистской историографии во-
просе о смене и последовательности докапиталистических фор-
маций, В. Кюттлер подчеркивает, что ленинская концепция важ-
на прежде всего для представления о феодальном обществе в
целом и не может быть использована для доказательства трех-
ступенчатости докапиталистических формаций. Ленинские выска-
зывания по этой проблеме оставляют открытым вопрос о различ-
ных типах формаций между первобытным обществом и капита-
лизмом, но ориентируют на исторические исследования в
соответствии с марксистской теорией формаций. Точно так же, по
мнению В. Кюттлера, методологической цели и теоретическим
выводам ленинского анализа формаций противоречит гипотеза о
единой докапиталистической формации, которая использует по-
нятие «уклад» для охвата гетерогенных структурных форм внутри
единого общественного целого 5 6.
Ряд статей ежегодника посвящен проблемам раннего феода-
лизма. В статье Г.-Й. Бартмуса «Королевская власть и феодаль-
ное дворянство. О характере связей внутри господствующего клас-
са в раннефеодальном немецком государстве в X в.» рассматрива-
ется вопрос о материальных и правовых основах королевской
властив. Автор ставит перед собой задачу выяснить, лежала ли
в основе отношений между королевской властью и феодалами
ленная система или германское дружинное начало, существовала
или нет преемственность между Франкской империей и ранне-
феодальным германским государством. Статья Г.-Й. Бартмуса по-
лемически заострена против распространенной в историографии
ФРГ точки зрения, представленной В. Шлезингером, и Й. О. Плас-
сманом, которые считают, что характер немецкого государства
X в. определяли свободные дружинные связи, основанные на
чувстве верности. Они не только соединяли короля со знатью, но
и пронизывали всю систему общественных отношений, распрост-
раняясь и на крестьян. Таким образом, германское государство
X в. не было простым продолжением империи Каролингов
и франкской ленной системы, оно выросло из старой герман-
ской государственности. Г.-Й. Бартмус отмечает, что выводы
4 Kuttler W. Begriff und Analyse des Feudalismus in den Arbeiten Lenins.—
Bd. 2, S. 24—25.
5 Ibid., S. 34—35.
6 Bartmuss H.-J. Konigtum und Feudaladel. Zum Wesen der Bindungen in-
nerhalb der herrschenden Klasse im Rahmen der Herrschaftsordnung des
fruhfeudalen deutschen Staates im 10. Jahrhundert.— Bd. 1.
Проблемы феодализма в новом периодическом издании ГДР 277
Й. О. Плассмана базируются на представлении о совершенно
однозначном использовании саксонскими хронистами X в. терми-
нов princeps и populus. По мнению Бартмуса, это весьма сомни-
тельно. В своем исследовании он анализирует источники с более
определенной терминологией — королевские дипломы X—XI вв.
Его прежде всего интересует сущность терминов «fideles» и «fi-
-delitas», раскрывающих отношения между королем и феодалами.
Основную группу среди королевских «fideles» составляли круп-
ные феодалы: епископы, имперские аббаты, герцоги и графы,
хотя встречались и менее знатнее люди, находившиеся на коро-
левской службе. Отношения, обозначавшиеся термином «fideli-
tas» — это отношения вассально-ленного подданства. Таким об-
разом, по мнению автора, раннефеодальное немецкое государство
X в. представляло собой классовое образование, где только пред-
ставители господствующего класса обладали политическими пра-
вами. Крестьянство не было включено в систему феодальной
иерархии. Внутри же господствующего класса отношения между
королем и феодалами носили не дружинный, а вассальный ха-
рактер.
В статье А. Р. Корсунского «О характере общественного строя
Леона и Кастилии в средние века» (2-й том) рассматриваются
изменения в демографической, социально-экономической и поли-
тической сферах этих стран в период VIII—X и XI—XIII вв.7
Отмечая известное своеобразие и особенности процесса феодали-
зации в Леоне и Кастилии, обусловленные мусульманским завое-
ванием и последовавшей Реконкистой, А. Р. Корсунский под-
черкивает, что и экономическую структуру этих стран и их по-
литический строй можно, несмотря на ряд специфических черт,
определить как феодальные.
Проблемам внутренней и внешней колонизации в Европе по-
священа статья Б. Зинтары (ПНР) «Происхождение „немецкого
права" (jus Teutonicum) на фоне колонизационного движения в
Западной и Центральной Европе в XI—XII вв.» 8. Важным эта-
пом в складывании «немецкого права» было предоставление в
славянских странах Центральной и Восточной Европы и в Венг-
рии в IX—XII вв. иноземным купцам, по преимуществу немцам,
таких привилегий, как охрана личности и низшая юрисдикция.
Существенная же черта «немецкого права» (наследственное вла-
дение землей за чинш) была связана с процессом внешней коло-
7 Статья А. Р. Корсунского в сжатой форме передает основное содержа-
ние и выводы его книги «История Испании IX—XIII веков. (Социально-
экономические отношения и политический строй Астуро-Леонского и
Леоно-Кастильского королевства)» (М., 1976).
8 Zientara В. Der_ Ursprung des «deutschen Rechtes» (jus Theutonicum) auf
dem Hintergrund der Siedlungsbewegung in West- und Mitteleuropa wah-
rend des 11.—12. Jahrhunderts.— Bd. 2.
278
Н. В. Савина
низации в XIII в.— притоком в славянские страны и Венгрию
колонистов из разных германских земель. Для ответа на вопрос
о происхождении права колонистов на наследственное владение
землей автор исследует европейское колонизационное движение
XI—XIII вв. в Северо-Западной Германии, Саксонии, Тюрингии,
Силезии, Чехии, Южной Франции, Испании. Б. Зинтара выдви-
гает гипотезу, что прародину «немецкого права» можно искать в
области между Нижним Рейном и Маасом, а наследственное вла-
дение землей восходит к каролингской бенефициальной реформе,
которая в свою очередь связана с позднеримским прекарием. Од-
нако, как подчеркивает Б. Зинтара, более существенное влияние
на формирование «немецкого права» оказал сам процесс коло-
низации, стимулировавшийся феодальными властями.
Статья В. Эггерта «Lampertus scriptor calidissimus. О тенден-
ции и литературной технике „Анналов44 Герсфельдского мона-
ха» носит источниковедческий характер. Подробно останавли-
ваясь на историографии творчества Ламберта с конца XIX в.
и до наших дней, автор особое внимание уделяет своей полемике
с Т. Штруве, опубликовавшим в 1969 г. в «Гессенском ежегодни-
ке местной истории» исследование о Ламберте. Возражение
В. Эггера вызывает метод Т. Штруве, который пытается устано-
вить достоверность произведения, выяснив личность автора, его
«картину мира». Т. Штруве полагает, что Ламберт везде и всегда
в своих «Анналах» субъективно говорил правду, что, как считает
В. Эггерт, весьма проблематично. Т. Штруве недостаточно учи-
тывает сложную формальную структуру произведения Ламберта,
выяснению которой и посвящена статья В. Эггерта. Кажущаяся
объективность Ламберта объясняется композицией и структурой
«Анналов». Хронист сознательно подражал в языке Ливию, а в
композиции Саллюстию. Свое отношение к событиям Ламберт
обычно высказывает очень редко, но было бы неверно считать
его совершенно беспристрастным. В. Эггерт демонстрирует сред-
ства, с помощью которых Ламберт добивался необходимого эф-
фекта: искажение фактов, искусная композиция, многословие9.
Автору статьи удается выявить собственное мнение хрониста,
несмотря на его композиционные и стилистические приемы, хотя,
как подчеркивает В. Эггерт, в «Анналах» остается еще немало
загадок для историка.
Статья Ф. Бека «Образование готического курсива в области
немецкой восточной экспансии» 10 посвящена проблемам палео-
графии. Предметом рассмотрения автора являются изменения,
происходившие в письме в XIII в. и связанные с интенсифика-
0 Eggert W. Lampertus scriptor callidissimus. Uber Tendenz und literarische
Technik der «Annalen» des Hersfelder Monches — Bd. 1, S. Ill—113.
10 Beck F. Zur Herausbildung der gotischen Kursive im Gebiet der deutschen
Ostexpansion.— Bd. 2.
Проблемы феодализма в новом периодическом издании ГДР
279
цией делопроизводства в городах и канцеляриях будущих тер-
риториальных государств, техническими нововведениями (заме-
ной пергамена бумагой), что способствовало развитию скорописи.
Эти вопросы Ф. Бек исследует на двух группах источников —
документах из канцелярии маркграфов Мейссенских и Бранден-
бургских, герцогов Померанских и городских книгах городов
Вендской Ганзы—Ростока и Любека в XIII в. Анализ особен-
ностей письма привлекаемых документов позволяет Ф. Беку сде-
лать вывод о трех последовательно сменяющихся этапах в раз-
витии готического курсива: 1 — беглое цаписание элементов букв,
состоявших до этого из отдельных штрихов, 2 — курсивное напи-
сание отдельных букв, 3 — беглое написание нескольких букв,
слогов, слов. По мнению Ф. Бека, в области, им исследованной,
готический курсив можно считать дальнейшим развитием более
раннего дипломатического минускула.
Большинство статей ежегодника по истории развитого и позд-
него феодализма связаны с проблемой города и городского бюр-
герства, по которой в последнее время в марксистской историо-
графии, особенно в ГДР, имел место рПд дискуссий11 12. Как из-
вестно, и в историографии СССР, и в историографии ГДР нет
единства мнений о социальной природе города и бюргерства при
феодализме. Наиболее дискуссионными являются вопросы:
1) о характере простого товарного производства при феодализме,
феодальной (по мнению большинства историков СССР) или не-
феодальной (по мнению многих историков ГДР) природе сред-
невекового города; 2) об определении места бюргерства в фео-
дальном обществе как особого дополнительного класса — Neben-
klasse (как считает большинство историков ГДР) — или как слоя,
группы слоев, сословия. С этими вопросами тесно связаны такие
аспекты городской истории, как характер коммунального движе-
ния, внутригородской борьбы, политическая роль бюргерства в
феодальном государстве, взаимосвязь между средневековым бюр-
герством и ранней буржуазией, роль последней в раннебуржуаз-
ной революции.
В статье С. М. Стама (СССР) «Экономические основы обра-
зования и развития средневекового города в Западной и Цент-
ральной Европе» предпринята попытка интерпретации генезиса
и специфики общественных предпосылок и условий, на основе
которых развился средневековый город 1Х. Автор исследует проб-
11 Дискуссии нашли отражение в статьях, опубликованных в ZfG и в дру-
гих изданиях, и в работе коллоквиумов. Вопросы социальной природы
бюргерства при феодализме и при переходе от феодализма к капитализ-
му обсуждались на двустороннем коллоквиуме историков СССР и ГДР
в сентябре 1978 г. См.: ВЛ, 1979, № 3.
12 Stam S. М. Die okonomischeu Grundlagen der Herausbildung und Entwick-
lung der mittelalterlichen Stadt in West- und Mitteleuropa.— Bd. 2.
280
Н. В. Савина
лему происхождения и сущности средневекового города, его фео-
дального или нефеодального характера. Рассматривая город как
результат большого общественного разделения труда, С. М. Стам
подчеркивает, что его сущность определялась особым положением
простого товарного производства при феодализме. Производствен-
ные отношения в городе коренным образом отличались от отно-
шений в феодальной вотчине. Ремесленник был собственником
своих условий труда, орудий производства и сырья. Хозяйство
ремесленника не было больше частью феодальной вотчины, и,
следовательно, как считает автор, «оно не было втянуто в фео-
дальный способ производства» 13. Определяющим было то, что
ремесленник являлся свободным частным собственником своих
условий труда. Черты корпоративного, сословного характера соб-
ственности были вторичным, производным моментом 14. По мне-
нию С. М. Стама, город в средние века был явлением нефеодаль-
Ным и антифеодальным и противостоял феодальной округе. Прав-
да, он отмечает, что города, дома и мастерские ремесленников
находились на земле феодального сеньера, сами ремесленники
часто имели подсобные хозяйства, городской сеньер присваивал
часть доходов купцов и ремесленников, однако эти явления но-
сили подчиненный характер и не меняли экономической сущно-
сти ремесленного производства *5. В ходе коммунального движе-
ния феодальная эксплуатация со стороны городских сеньеров
была устранена. По мнению С. М. Стама, город находился в про-
тиворечии с феодализмом, но не абсолютном, поскольку товарное
производство не носило еще всеобщего характера. Неабсолют-
ность противоречия выразилась во взаимном приспособлении фео-
дализма к товарному производству и товарного производства к
феодализму, проявлением последнего и был корпоративный ха-
рактер городского ремесла. Корпоративность, монополии, принуж-
дение составляли лишь феодальную окраску социальных связей.
В заключение С. М. Стам подчеркивает, что попытка «предста-
вить средневековый город как явление, находящееся в абсолют-
ном противоречии с феодализмом, точно так же ненаучна, как
и утверждение, что он был полностью феодальным и развивался
не в противоречии, а в гармонии с феодальным строем» 1в. С та-
ким выводом С. М. Стама, по-видимому, согласятся многие ме-
диевисты. Однако нельзя не отметить, что сам автор, стремясь
подчеркнуть то новое, что было связано с возникновением горо-
дов в феодальном обществе, в основном акцентирует противопо-
ложность города и феодализма. Это, в частности, выражается в
43 Ibid., S. 86—87.
44 Ibid., S. 77, 92, 98.
45 Ibid., S. 89—90.
46 Ibid., S. 100.
Проблемы феодализма в новом периодическом издании ГДР
281
том, что город и феодализм рассматриваются как два чуждых
феномена, а отношения между ними — как взаимодействие меж-
ду существующим извне эксплуататором (феодалом) и эксплуа-
тируемым (городом). При этом не учитывается, например, то,
что города, городские корпорации и отдельные бюргеры высту-
пали в качестве феодалов, эксплуатировавших сельскую округу.
И в самом городе корпоративные, сословные связи, привилегии,
монополии не были только феодальной окраской социальных
связей. Они отражали специфику отношений собственности в
феодальном городе 17.
Б. Бертольд, одна из авторов статьи, давшей в ГДР толчок
дискуссии о социальной природе и роли бюргерства при феода-
лизме, придерживается точки зрения о том, что при феодализме
городское бюргерство выступает в качестве неосновного класса
(Nebenklasse) 18. Исследованием внутригородской борьбы в
Страсбурге в XIV в., опубликованном в 1-м томе 19, Б. Бертольд
стремится подкрепить этот тезис, учитывая социальную диф-
ференциацию бюргерства на слои. Она отмечает пеструю социаль-
ную структуру бюргерства в Страсбурге. '’Здесь, как и в других
городах, непатрицианское купечество и ремесленники, а нередко
и часть патрициата, выступали против патрицианской верхушки,
управлявшей городом. По мнению Б. Бертольд, внутригородская
борьба способствовала сближению имущих бюргерских слоев, ук-
реплению бюргерства как общественной силы и обострению про-
тиворечий между имущими и низшими слоями бюргерства. Од-
нако эти противоречия носили не антагонистический характер,
так как: 1) соперничавшие слои были интегрированы в город-
ское хозяйство, где уже не господствовали феодальные отноше-
ния производства и эксплуатации; 2) купцы и ремесленники дей-
ствовали в сфере простого товарного производства; 3) они, а также
патрициат, были свободными бюргерами; 4) патрициат неред-
ко участвовал в непатрицианской оппозиции. Все это позволяет
Б. Бертольд говорить о городском бюргерстве XIV в., включая
патрициат, как о классе феодального общества, хотя приведен-
ный ею фактический материал, на наш взгляд, свидетельствует
в первую очередь о чрезвычайно пестрой социальной структуре
населения Страсбурга.
17 Концепция С. М. Стама не является общепринятой в советской историо-
графии. Многие советские историки подчеркивают органическую связь
средневекового города с феодальной системой, его феодальный харак-
тер. Эта точка зрения отражена в коллективной монографии «Социаль-
ная природа средневекового бюргерства» (М., 1979).
18 Berthold В., Engel Е., Laube Л. Die Stellung des Biirgertums in der deut-
schen Feudalgesellschaft bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts.— ZfG, 1973,
H. 2.
19 Berthold B. Innerstadtische Anseinandersetzungen in Strassburg wahrend
des 14. Jahrhunderts.— Bd. 1.
282
Н. В. Савина
Проблемам социальной структуры городского населения по-
священа опубликованная во 2-м томе ежегодника статья К. Фрит-
це «Социальные аспекты переселения в ганзейские города на
юго-западном побережье Балтийского моря до XVI в.» Исследуя
городские книги, в которых содержатся некоторые данные о
происхождении переселенцев, К. Фритце ставит вопрос о их со-
циальном составе в ганзейских городах в XIII — начале XVI в.
В XIII—XIV вв. наблюдается рост городских верхов и средних
слоев за счет переселенцев городского происхождения (за счет
купцов, переселявшихся из городов к западу от Эльбы и тран-
зитных пунктов, и путешествующих подмастерьев). Низшие же
слои формировались в первую очередь за счет притока населения
из сельской округи. Последнее играло большую роль в формиро-
вании средних слоев, чем городской верхушки. В конце XV—
XVI вв. интенсивность иммиграционного движения падает, чтд
было связано с ограничениями со стороны магистрата в пре-
доставлении прав бюргерства и жительства и с ухудшением по-
ложения остэльбского крестьянства. Магистраты стремились под-
держивать хорошие отношения с окружающим дворянством,
кроме того, богатые бюргеры, города и городские институты в
качестве владельцев земель сами выступали в роли феодальных
эксплуататоров «своих» крестьян 20.
Предметом исследования польского историка X. Самсоновича
являются вопросы типологии средневековых польских городов и
социальные и хозяйственные функции мелких польских городов
в XV в.21 Его цель — выяснить число мелких городов, профес-
сиональный состав их населения, их функции в товарно-денежном
хозяйстве Польши. Формальным критерием урбанизации в XV в.
X. Самсонович считает наличие городской канцелярии как само-
стоятельного института. Приведенная X. Самсоновичем типоло-
гия польских городов в XVI в. представит несомненный интерес
для всех специалистов по городской истории. Для указанного пе-
риода он выделяет четыре группы городов. Основной крите-
рий — данные о численности населения и протяженность торго-
вых контактов. Группу IV составляют города с населением свы-
ше 10 тыс. жителей (Гданьск, Торунь, Краков), группу III —
города с населением свыше 5 тыс. человек, группу II —города с
населением свыше 1 тыс. человек и группу I — с населением
меньше 1 тыс. человек22. Исследуя крупные города двух выс-
ших групп, X. Самсонович выделяет три крута их влияния:
20 Fritze К. Soziale Aspekte der Zuwanderung zu den Hansestadten an der
siidwestlichen Ostseekiiste bis zum 16. Jahrhundert — Bd. 2, S. 189—190.
21 Samsonowicz H. Soziale und wirtschaftliche Funktionen der Kleinstadte
im Polen des 15. Jahrhunderts.— Bd. 2.
22 Ibid, S. 193.
Проблемы, феодализма в новом периодическом издании ГДР
283
локальный рынок, региональные контакты с городами такой же ве-
личины, выходившие за рамки существовавших административ-
ных и политических границ, контакты с крупными международ-
ными эмпориями. Небольшие города 1 и II групп были не только
центрами локального товарообмена, но и промежуточными пунк-
тами более широкой торговли, центрами кредитных сделок.
В мелких городах существовали различные профессиональные
группы ремесленников, купцы, многие из которых вели не толь-
ко локальную, но и более широкую торговлю. X. Самсонович
предполагает, что в определенной степени торговлей занимались
все более или менее состоятельные жители мелких городов. Од-
нако в хозяйственной и политической жизни города доминировали
владельцы недвижимости, среди которых особое место занимало
дворянство. Поскольку сословные границы в Польше в XV в. еще
не были достаточно жесткими, была возможна прежде всего в
мелких городах определенная мобильность между различными
общественными группами — дворянством, богатыми крестьянами,
участвовавшими в денежных и кредитных операциях, купцами и
ремесленниками, имевшими земельные владения. Выводы X. Сам-
соновича о социальных и хозяйственных функциях мелких горо-
дов, на наш взгляд, имеют значение не только для Польши.
Дискуссия о характере средневекового бюргерства стимули-
ровала в ГДР изучение его политической роли в различные пе-
риоды феодализма. Проблеме союзов городов, отношений между
ними и императором посвящена статья И. Шильдхауэра «Шваб-
ский союз городов — проявление силы немецкого городского
бюргерства во второй половине XIV в.» 23 Останавливаясь на от-
ношениях между городами Южной Германии и императором,
И. Шильдхауэр отмечает, что города были вынуждены рассчи-
тывать на свои силы, чтобы в условиях политической раздроб-
ленности Германии противостоять грабежам и разбоям со сто-
роны феодалов. Политика Карла IV была враждебна городам.
Образование в 1376 г. Швабского союза городов было реакцией
на избрание королем сына Карла IV Венцеля. Швабский союз
городов выступал против заклада и продажи городов императо-
ром, против территориальных князей, в защиту торговли, лично-
сти и имущества купца, создавая таким образом существенные
предпосылки для дальнейшего усиления бюргерства внутри фео-
дального общества. Швабский союз использовался и в целях по-
давления внутригородских движений, способствуя усилению
господства патрициата. Как отмечает Й. Шильдхауэр, ни коро-
левская власть, ни городское бюргерство не были в состоянии
23 Schildhauer J. Der schwabische Stadtebund — Ausdruck der Kraftentfaltung
des deutschen Stadteburgertums in der zweiten Halfte des 14. Jahrhun-
derts.— Bd. 1.
284
Н. В. Савина
реализовать присущие им прогрессивные тенденции в направле-
нии централизации немецкого феодального государства. •
Проблемам централизации во Франции и в германских кня-
жествах и роли в этом процессе разных сословий, в том числе
бюргерства, посвящена статья Б. Тёпфера24. Он отмечает, что
в отличие от Франции, где государственная централизация осу-
ществлялась в рамках всего королевства, в империи этот процесс
происходил в рамках многочисленных территориальных княжеств.
Во Франции раннее и в основном непрерывное развитие государ-
ственной централизации привело к широкой интеграции дворян-
ства и городов в феодальный строй. Напротив, в немецких зем-
лях дворянство и города долго сохраняли самостоятельность.
Большинство князей не располагало таким государственным ап-
паратом, чтобы ограничить сословия. Более трго, права сословий
фиксируются в конституциях с середины XV в., что свидетель-
ствует и об усилении княжеской власти и об относительной силе
сословий. По мнению Б. Тёпфера, в фазе консолидации центра-
лизованного феодального государства необходимо определенное
равновесие интересов центральной власти и господствующего
класса или привилегированных сословий. Государство с сослов-
ным представительством было необходимой фазой развития для
многих европейских государств. Но на территории империи этот
процесс, протекавший в рамках территориальных княжеств, имел
отрицательные черты, так как территориальный партикуляризм
не отвечал экономическим потребностям, связанным с ранним
капитализмом. Правда, предоставляя городской верхушке право
голоса в сословных представительствах, конституции давали
возможность ограниченного влияния группировке, прямо не при-
надлежавшей к господствующему классу. Борьба между сувере-
ном и сословиями способствовала преодолению локальных инте-
ресов каждой из сторон. Однако, как подчеркивает Б. Тёпфер,
положительные стороны деятельности сословных представи-
тельств проявлялись лишь в том случае, если они не получали
перевеса над государем и если в них наряду с дворянством го-
родское бюргерство могло отстаивать свои интересы хотя бы в
ограниченном масштабе. В целом исследование Б. Тёпфера по-
казывает, что Франция имела ряд преимуществ в создании цен-
трализованного государства при сравнении не только с империей,
но и с отдельными территориальными государствами.
Проблема политической роли бюргерства в позднее средневе-
ковье исследуется в статье Г. Фоглера «Бюргерство и государ-
ственная власть в эпоху перехода от феодализма к капитализму-
Об отношении сословий и абсолютистской формы правления в
24 Topfer В. Stande und staatliche Zentralisation in Frankreich und im Reich
in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts.— Bd. 1.
Проблемы феодализма в новом периодическом издании ГДР
285
государствах ганзейского региона» Рассматривая Нидерланды
в XVI в., Данию в XVII в. и Мекленбург в XVIII в.— страны с
различной степенью зрелости бюргерства — и роль бюргерства в
создании абсолютистских форм правления, автор отмечает, что во-
всех этих случаях позиция городов и бюргерства в сословных
представительствах была фактором, существенно повлиявшим на
исход внутренней борьбы. Так, в Нидерландах вп многих про-
винциальных штатах было сильно влияние городов, в ходе рево-
люции оно возросло и города являлись основными носителями со-
зданной государственной организации. В Дании, хотя города и
были представлены в рейхстаге, они не оказывали существенного
влияния на политическое развитие, так как политика страны оп-
ределялась рейхсратом, в котором господствовало дворянство.
Лишь союз бюргерства и духовенства с королевской властью по-
дорвал влияние дворянства и привел к созданию абсолютистской,
формы правления. В Мекленбурге города были представлены в
ландтаге, но вследствие невысокого уровня социально-экономи-
ческого развития большинства из них были не в состоянии суще-
ственно противостоять сильному рыцарству, вместе с г. Ростоком
успешно выступавшему против абсолютистских устремлений гер-
цога. Рассмотренный материал позволяет Г. Фоглеру сделать вы-
вод о том, что для образования абсолютистских форм правления
необходима определенная степень социальной зрелости бюргер-
ства 2в.
Целый комплекс статей рассматриваемого издания посвящен
наиболее актуальным и дискуссионным вопросам позднего сред-
невековья — проблеме генезиса капитализма, формирования ран-
ней буржуазии, роли ее, а также других слоев населения в ран-
небуржуазной революции. Статья А. Лаубе «Образование элемен-
тов торговой и мануфактурной буржуазии и их роль в немецкой
раннебуржуазной революции»25 26 27 отличается широтой поставлен-
ных проблем. В этой работе получили дальнейшее развитие по-
ложения, высказанные автором в статье, написанной им совмест-
но с Б. Бертольд и Э. Энгель, о роли бюргерства в формирова-
нии ранней буржуазии. Отмечая специфику генезиса капитализма
в Германии (неравномерность капиталистического развития в
различных отраслях и регионах, отсутствие централизованного
национального государства), А. Лаубе подчеркивает, что опре-
деляющими для характера социально-экономических отношений
25 Vogler G. Biirgertum und Staatsgewalt in der Epoche des Ubergangs vom
Feudalismus zum Kapitalismus. Zum Verhaltnis von Standen und absolu
tistischer Herrschaftslorm in Staaten des hansischen Raumes.— Bd. 1.
26 Ibid, S. 328—329.
27 Laube A. Die Herausbildung von Elementen einer Handels- und Manufak-
turbourgeoisie und deren Rolle in der deutschen friihburgerlichen Revolu-
tion.— Bd. 1.
286
Н. В. Савина
были не эти особенности, а общие закономерности мануфактур-
ного капитализма, возникновение которого в германских землях
он датирует началом XVI в.28 29 Останавливаясь на изменениях в
социальной сфере, автор отмечает складывание нового социаль-
ного слоя, весьма пестрого как по своему составу, так и по про-
исхождению. Предприниматели в горном деле, купцы, дворяне,
перешедшие к предпринимательству,— таковы его представители.
Если ранее А. Лаубе определял этот новый социальный слой как
«раннекапиталистическое бюргерство», «слой раннекапиталисти-
ческих предпринимателей» 2fl, то теперь он считает возможным
говорить о нем, как об элементах торговой и мануфактурной
буржуазии. Правда, автор делает ряд оговорок о длительности и
сложности процесса возникновения буржуазии и оставляет в
стороне «неактуальный для этого раннего времени вопрос о фор-
мировании класса буржуазии» 3°. Хотя предлагаемый А. Лаубе
критерий — собственник денежных средств становится буржуа,
когда он вкладывает их в производство с целью получения при-
были, эксплуатирует производителей, присваивая созданную ими
прибавочную стоимость,— с теоретической точки зрения не вы-
зывает возражений, его применение в конкретных случаях, на
наш взгляд, связано с известными трудностями, поскольку в тот
период мы не встречаемся с капиталистическими отношениями
в чистом виде.
Рассматривая особенности складывания и развития ранней
буржуазии в Германии, А. Лаубе отмечает, что ее специфика со-
стояла в расколе на два лагеря: монополистов и антимонополи-
стов. Монополисты, в основном представители крупных компаний,
были тесно связаны с феодальными властями, получали от них
привилегии. Хотя в экономическом отношении эта группа зани-
мала прочные передовые позиции, в политическом отношении она
была реакционна, тесно связана с феодальными властями, что и
проявилось в период раннебуржуазной революции. Антимонопо-
листы, прежде всего часть предпринимателей в горном деле, часть
купечества, выступая против крупных компаний, отстаивали ус-
ловия более быстрого капиталистического развития. А. Лаубе
справедливо подчеркивает сложный противоречивый характер
пестрого по своему социальному составу антимонополистического
движения 31. Он ставит также вопрос о социально-экономическом
содержании реформационной идеологии, указывая на необходи-
мость пересмотра оценки экономических воззрений Лютера, ко-
торые ранее рассматривались исследователями как антикапита-
лпстические.
28 Ibid., S. 281—282.
29 Berthold В., Engel Е., Laube A. Op. cit., S. 214.
30 Ibid., S. 285—286.
31 Ibid., S. 290—297.
Проблемы феодализма в новом периодическом издании ГДР
28Г
В заключительной части статьи А. Лаубе останавливается на
вопросе о позиции имперских городов на рейхстагах. Он исходит
из предположения, что бюргерская верхушка, представленная в
рейхстагах, состояла из представителей возникающей торговой и
мануфактурной буржуазии, которая таким образом получила
возможность отстаивать свои интересы. Однако раскол ее на мо-
нополистическую и антимонополистическую фракцию помешал
достичь существенных успехов в осуществлении буржуазно-го-
родских требований32. Нам представляется, что эта гипотеза
нуждается еще в специальной проверке на материалах источни-
ков.
В целой серии конкретных исследований авторы обращаются к
выяснению роли различных слоев в Крестьянской войне 1525 г.
В центре внимания В. Хельда стоит вопрос о роли наемного тру-
да сельских поденщиков в округе Йена — Бургау (Тюрингия)
накануне Крестьянской войны33— проблема, которая в западно-
германской историографии на материале Верхней Швабии ис-
следована Д. У. Сэйбином. Отмечая, что развитие товарно-денеж-
ных отношений способствовало усилению процесса социальной
дифференциации в деревне, образованию слоя безземельных
крестьян, часть из которых переселялась в города, а часть ис-
пользовалась в сельской округе в качестве поденщиков, В. Хельд
изучает основные сферы применения труда последних. В иссле-
дованном им районе поденщики использовались в качестве при-
слуги, в сфере аграрного производства и в сельском ремесле. Они
были заняты на виноградниках, на строительных и извозных ра-
ботах, на уборке урожая 34.
Статья А. Лаубе посвящена восстанию швабских горнорабо-
чих в 1525 г. и их позиции во время Крестьянской войны в Ти-
роле 35. На наш взгляд, наибольший интерес представляет
выяснение автором особенностей развития капиталистических
отношений в горном деле Тироля, обусловивших характер вы-
ступлений горнорабочих в Крестьянской войне. По сравнению с
Саксонией и Чешскими Рудными горами специфика Тироля со-
стояла в более высокой степени концентрации куксов в руках
немногих пайщиков и особом положении южнонемецких фирм,
прежде всего Фуггеров, а в области организации труда — в пре-
обладании ленных товариществ над повременными и сдельными
рабочими. В Тироле противоположность интересов горнорабочих,
с одной стороны, и пайщиков и плавильщиков — с другой, была
32 Ibid., S. 299-300.
33 Held W. Der Einsatz von Tagelohnern im Doppelamt Jena — Burgau zu Be-
ginn des 16. Jahrhunderts.— Bd. 2.
34 Ibid., p. 208—209.
35 Laube A. Der Aufstand der Schwazer Bergarbeiter 1525 und ihre Haltung
im Tiroler Bauernkrieg. Mit einem Quellenanhang.— Bd. 2.
288
И. В. Савина
более ярко выражена, чем в других землях. Что же касается от-
ношений между горнорабочими и крестьянами, то, несмотря на
некоторую близость в экономических условиях жизни, преобла-
дали черты, разъединявшие их, как в экономической и политиче-
ской сферах, так и в сфере самосознания. Ряд непреодолимых
барьеров между горнорабочими и крестьянами обусловил их по-
ведение в классовой борьбе. Анализируя требования восставших,
представленные эрцгерцогу, и ответы последнего во время вол-
нений января — марта 1525 г., А. Лаубе приходит к выводу, что
горнорабочие выступали за осуществление своих специфических
интересов, которые вытекали из условий капиталистического
горного дела и были направлены в первую очередь против адми-
нистрации и предпринимателей. Для широкого союза между вос-
ставшими горнорабочими и крестьянами еще отсутствовали объ-
ективные условия зв.
М. Штраубе в статье «Описи денежных штрафов, налоговые
книги и книги наследственных владений как источники об уча-
стниках и последствиях Крестьянской войны в Тюрингии»36 37
ставит в конкретной форме еще малоисследованный вопрос об
экономических последствиях поражения Крестьянской войны.
Основным источником являются данные о денежных штрафах,
которые возлагались на городские и сельские общины и отдель-
ных лиц за участие в восстании. Детальный анализ этих доку-
ментов позволяет М. Штраубе сделать вывод о том, что в них
включались только имена лиц, замешанных в беспорядках, а раз-
меры денежного штрафа колебались в зависимости от степени
участия в восстании. Сравнивая эти данные с налоговой описью
1542 г. и книгой наследственных владений 1526—1527 г. по ок-
ругу Альштедт, автор делает вывод о наличии значительной со-
циальной дифференциации и высокой степени участия жителей
города и округа Альштедт в Крестьянской войне. Исследование
М. Штраубе показывает, что денежные штрафы, взимавшиеся за
участие в Крестьянской войне, были тяжелым бременем для кре-
стьян и горожан.
В статье А. Шнайдер «Арнольд Фессер: обращение к импера-
тору, крестьянам и дворянству — проповедь в последний период
Крестьянской войны» 38 дается детальный анализ проповеди Фес-
сера, опубликованной недавно в собрании документов времен
Крестьянской войны. Особенности языка и стиля, содержание
проповеди, отсутствие в ней нападок на реформацию, критиче-
36 Ibid., S. 239.
37 Straub е М. Strafgeldregister, Turkensteuerregister und Amtserbbiicher als
Quellen fiber Teilnehmer und Folgen des Bauernkrieges in Thiiringen.—
Bd. 2.
38 Schneider A. Arnold Fesser: Supplikation an Kaiser, Fiirsten und Adel —
eine Predigt aus der Endphase des Bauernkrieges.— Bd. 2.
Проблемы феодализма в новом периодическом издании ГДР 289
ские замечания по адресу господ и дружеское отношение к кре-
стьянам позволяют автору предположить, что этот документ воз-
ник в одном из верхненемецких городов, возможно в Аугсбурге.
Основное содержание проповеди — обращение к императору и
князьям с призывом проявить милосердие по отношению к по-
бежденным крестьянам и заключить с ними мир. Отношение к
миру — главный критерий для Фессера и в оценке господ и в
оценке крестьян: восстание крестьян он осуждает, но проявляет
сочувствие к побежденным. Из проповеди не совсем ясно отноше-
ние Фессера к Реформации, очевидно потому, что обращение бы-
ло направлено католическим князьям. А. Шнайдер считает, что
Фессера можно отнести к умеренно-бюргерскому крылу Рефор-
мации, правда с некоторыми оговорками, так как для него ха-
рактерно бескомпромиссное выступление в защиту угнетенных.
Проводя параллель между страданиями крестьян и страстями
Христа, Фессер придает первым характер святости.
Серия статей, посвященных Крестьянской войне во 2-м томе
ежегодника, дополняется библиографией публикаций по ее исто-
рии за 1973—1976 гг., составленной И. Фольц и Х.-Ш. Братхером.
Опубликованные два тома ежегодника дают возможность от-
метить некоторые характерные черты нового издания. Прежде
всего, это внимание и интерес к важным теоретико-методологи-
ческим проблемам, многие из которых носят дискуссионный ха-
рактер, таким, как проблема места и роли городов и бюргерства
при феодализме и при переходе от феодализма к капитализму,
комплекс вопросов, связанных с проблемой генезиса капитализма
и раннебуржуазпой революции в Германии. Теоретико-методоло-
гические статьи сочетаются с конкретными исследованиями, боль-
шинство из которых написано на основе широкого круга архив-
ных материалов, впервые входящих в научный оборот. Публи-
кация группы статей по отдельным аспектам важных дискуссион-
ных проблем придает, на наш взгляд, законченность и цельность
отдельным томам. Несомненно, издатели и авторы «Ежегодника
по истории феодализма» найдут в советских медиевистах заинте-
ресованных читателей.
10 Средние века, в. 43
Т. С. Осипова
СТАТЬИ ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ
«IRISH HISTORICAL STUDIES»
ЗА 1965-1974 ГГ.
Журнал «Ирландские исторические исследования», издавае-
мый с 1938 г. в Дублине, играет значительную роль в развитии
национальной ирландской историографии ‘. Этот журнал, осно-
ванный двумя историческими обществами.— Ольстерским общест-
вом по ирландским исследованиям и Ирландским историческим
обществом в Дублине, объединяет вокруг себя ученых, работаю-
щих в университетах и колледжах страны и является своеобраз-
ным научным центром Ирландии.
Структура журнала, сложившаяся в течение 40 лет, остается
неизменной, в нем не появляется новых разделов. Главное место
занимают исследовательские статьи по истории Ирландии, за по-
следние 9 лет Возросло число статей, рецензий, аннотаций по
ирландскому средневековью; история других стран находит от-
ражение преимущественно в рецензиях, критических обзорах,
кратких аннотациях. В библиографическом и справочном разде-
лах журнала содержится информация о тематике исследований,
ведущихся в ирландских университетах (в Дублине, Корке, Го-
луэе) и других научных центрах.
Из числа исследовательских статей, опубликованных в 18 рас-
сматриваемых номерах журнала, непосредственное отношение к
средневековой истории Ирландии имеют 9 статей, охватывающих
период с V — до середины XVII в., значительное число рецензий,
аннотаций, коротких заметок.
Раннему периоду ирландского средневековья посвящена ста-
тья Т. О. Райфеартайджа «Жизнь св. Патрика: новая точка зре-
ния» 1 2. Автор пытается с новой стороны подойти к проблеме
личности св. Патрика, в частности к вопросу о его тождестве с
первым ирландским епископом Палладиусом, присланным папой
Целестином в Ирландию в 431 г. Одним из основных методов
исследования является лингвистический анализ документов.
1 Общую характеристику журнала н обзоры статей см.: СВ, 1959, вып. XV;
1963, вып. 24; 1967, вып. 30. В примечаниях к настоящему обзору ука-
зывается лишь год, том и номер издания.
2 Raifeartaigh Т. О. The Life of St. Patrick: a New Approach.— 1968, vol. XVI,
N 62.
Средние века в журнале «Irish historical studies»
291
В другой статье — «Двадцативосьмидневное путешествие святого
Патрика» 3, сопоставляя события, изложенные самим св. Патри-
ком, и их действительную хронологию, автор приходит к заклю-
чению, что св. Патрик умышленно излагал события в искажен-
ном виде, так как стремился создать назидательное повествова-
ние, способствующее его миссионерской деятельности.
М. О’Брайен посвятил свою статью рассмотрению издания
«Corpus genealogiarum Hiberniae», представляющего собой ука-
затель-справочник в трех частях («Кланы и роды», «Личные
имена» и «Топонимы»), В справочник внесены родословные кла-
новых вождей, исторические сведения о кланах, списки правите-
лей Ирландии, поэмы генеалогического содержания и даже ком-
ментированные фрагменты из «Великой книги» — известного сво-
да ирландских законов V в. Автор отмечает, что научную
ценность издания снижает отсутствие ссылок на источники \
Проблемы истории раннего средневековья Ирландии нашли
отражение также в отделе рецензий журнала, что дополняет
представление об исследованиях ирландских историков в этой
области.
Ряд статей посвящен периоду XVI — первой половине XVII в.
Статья Д. Уайта «Правление Эдуарда VI в Ирландии, его поли-
тический, социальный и экономический аспекты» 5 имеет дискус-
сионный характер. Автор полемизирует с положениями англий-
ского историка Р. Денлопа, выдвинутыми в его работе «Некото-
рые аспекты ирландской политики Генриха VIII». Р. Денлоп
указывает, что политика Генриха VIII, которая сводилась к «по-
давлению и одариванию» путем «сдачи и повторного пожалова-
ния» поместий ирландской знати английским королем, в Ирлан-
дии потерпела крах6. Причинами этого, по мнению Денлопа,
были не религиозные разногласия и не противоречия между кла-
новым строем и феодальными порядками, вводившимися англи-
чанами, а позиция ирландской знати, верхушка которой в период
правления Генриха VIII совершенно не противилась завоеватель-
ным устремлениям английского правительства, оставалась, по
сути дела, индифферентной. Это в свою очередь, как полагает
Денлоп, приводило в дальнейшем к жестокости со стороны анг-
личан, а далее — к краху всей английской политики в Ирландии.
Уайт считает соображения Денлопа расплывчатыми и стремится
найти причины этих явлений в особенностях правления Эдуар-
да VI (1547-1553).
3 Baifeartaigh Т. О. Saint Patrick’s Twenty-Eight Days Journey.— 1969,
vol. XVI, N 64.
4 O'Brien M. Corpus genealogiarum Hiberniae.— 1968, vol. XVI, N 62.
5 White D. G. The Reign of Edward VI in Irelands: some political, social
and economic aspects.— 1965, vol. XIV, N 55.
6 Ibid., p. 208.
10*
292
Т. С. Осипова
Автор статьи прослеживает во всех подробностях деятельность
и взаимоотношения высших должностных лиц английской коро-
ны в Ирландии (У. Брабазон, Ст. Леджер, Т. Кьюсак, Дж. Ален,
Э. Беллингем и др.), а также их отношения с королем. Он по-
лагает, что политика Англии по отношению к Ирландии в зна-
чительной степени модифицировалась в зависимости от борьбы
этих деятелей между собой и от их политической ориентации.
Уайт приводит ценные сведения о значительных военных
расходах английского правительства в борьбе с Ирландией, не-
прерывно возраставших с 1542 г. и достигших к концу правления
Эдуарда VI небывалых до того размеров.
В последние месяцы правления Эдуарда VI английское пра-
вительство настойчиво искало новые формы управления Ирлан-
дией, стремясь снизить административные расходы, уменьшить
траты на военные нужды и вместе с тем добиться умиротворения
неспокойной Ирландии. Автор приходит к выводу, что правитель-
ство Англии, в начале правления Эдуарда огказавшееся от по-
литики Генриха VIII и ее выразителя Ст. Леджера, должно
было вернуться к прежней политике.
Показав, какими мерами английское правительство при Генри-
хе VIII и Эдуарде VI пыталось управлять Ирландией, Уайт
вскрыл противоречия, которые существовали между представи-
телями английского короля в Ирландии, выражавшими различ-
ные точки зрения на методы управления страной.
Значительный интерес представляет статья Б. Бредсхау
«Оппозиция церковному законодательству в ирландском рефор-
мационном парламенте» 7. Автор отмечает, что историки избега-
ют рассматривать деятельность тюдоровских парламентов в Ир-
ландии прежде всего из-за скудости документов, и предлагает
результаты исследования одного из частных вопросов этой проб-
лемы — реакции ирландского парламента на церковное законо-
дательство, целью которого был переход ирландской церкви в
подчинение английского короля. Большое значение в этой связи
автор придает тем драматическим событиям, которые сопровож-
дали прохождение данного законопроекта на сессиях ирланд-
ского парламента в 1536—1537 гг.
В статье подробно рассматриваются события, предшествовав-
шие созыву ирландского парламента и связанные с проведением
Генрихом VIII реформации. Автор подчеркивает большую раз-
ницу в политической ситуации, сложившейся в Англии и Ирлан-
дии в этот период. Излагая предысторию созыва реформацион-
ного парламента в Ирландии, Бредсхау подчеркивает, что акт
1534 г. о подчинении церкви английскому королю не распрост-
7 Bradshaw В. The Opposition of the Ecclesiastical Legislation in the Irish
Reformation Parliament.— 1969, vol. XVI, N 63—64.
Средние века в журнале «Irish historical studies»
293
ранился автоматически на Ирландию и должен был прийти через
ирландский парламент. Вследствие этого английским колонистам
впервые предоставлялась возможность высказать свою точку зре-
ния на спор между королем и папой.
Открытие реформационного парламента состоялось в Дублине
1 мая 1536 г. Работа его несколько раз прерывалась, было созва-
но пять сессий. Деятельность парламента этого созыва закончи-
лась лишь 20 декабря 1537 г.
Английское правительство представило на рассмотрение и
утверждение парламента шесть различных биллей. Пять из них
прошло в первую же сессию, шестой законопроект, касавшийся
юрисдикции церкви, был утвержден на последней, пятой сессии.
Ирландская церковь была поставлена под юрисдикцию англий-
ского короля. Оппозицию, возникшую на второй сессии по ини-
циативе палаты общин, вызвали содержавшиеся в последнем бил-
ле меры против монастырей, введение подоходного налога в раз-
мере Vzo со всех граждан Ирландии и реорганизация системы
таможенных сборов, в результате которой доходы от пошлин
должны были поступать не органам местного управления, а в ко-
ролевскую казну. Именно эта экономическая угроза и заставила
светских представителей противодействовать введению законо-
проектов, облекая, однако, это сопротивление в форму религиоз-
ного протеста. В споре из-за доходов и заключается, по мнению
автора, суть оппозиции парламента королю на протяжении всех
его созывов. И как только споры из-за доходов прекращались,
прекращалась и оппозиция по церковным вопросам. Так, на чет-
вертой сессии королевские представители более не поднимали
вопроса о передаче таможенных сборов королю и как только
было объявлено, что обязанность уплачивать 7го подоходного
дохода налагается лишь на служителей церкви, представители
общин сразу же перестали противиться притязаниям короля.
В результате ирландская церковь была изъята из подчинения
папе и перешла под власть английского короля. Статья Бредсхау
дает возможность представить сложную политическую ситуацию
в Англии в период переломных взаимоотношений английского
государства с Римом и раскрывает реакцию ирландского парла-
мента на английскую церковную политику в этот период.
Статья известного специалиста по политической истории Ир-
ландии XVI в. Дж. Силка «Испания и вторжение в Ирландию,
1601 — 1602» 8 интересна тем, что автор использовал материалы
испанского архива в г. Симанке, проливающие новый свет на
обстоятельства испанского вторжения в Ирландию в 1601—
1602 гг. Дж. Силк рассматривает испано-ирландские отношения
начиная с 1598 г., когда ирландские повстанцы нанесли пора-
e Silke J. Spain and the Invasion of Ireland. 1601—1602.— 1965, vol. XIV, N 56.
294
Т. С. Осипова
жение английским войскам при Желтом броде (август 1598 г.).
За поражением англичан последовала активизация ирландских
освободительных сил. О’Нейл, граф Тирон, расширил действия
повстанческой армии, и по сути дела вся Ирландия, за исклю-
чением городов, находилась в руках восставших. Испанское пра-
вительство в июне 1599 г. решило оказать помощь О’Нейлу, и в
Ирландию был послан небольшой груз оружия, главным обра-
зом пушек.
Испанские документы дали возможность автору глубже рас-
крыть политику ирландских вождей в отношениях с Испанией.
От других ирландских вождей, как показывает автор, О’Нейла
отличало не только умение организовать дисциплину в армии,
но и использовать дипломатию. Он имел своих представителей
при испанском дворе и в Риме. Интересы О’Нейла в Риме за-
щищал Петр Ломбард, ирландский архиепископ. О’Нейл рас-
считывал использовать в борьбе с англичанами помощь испан-
цев, призывая их к защите католической веры. Дипломатия
О’Нейла принесла определенные плоды, и в апреле 1600 г. в за-
лив Донегол прибыл груз оружия, пороха и свинца. Папа на-
значил О’Нейла капитаном католической армии в Ирландии.
Поддержанный государственным советом, Филипп III отдал
приказ об отправке в Ирландию 6 тыс. пехотинцев. После семи
месяцев приготовлений, в августе 1601 г., галеры Хуана Аквилы
достигли порта Кинсейл, остальные галеры из-за шторма верну-
лись в Испанию. Хуан Аквила высадился в Кинсейле, имея лишь
около 3400 солдат, плохо вооруженных и недостаточно обеспе-
ченных продовольствием.
В сражении 23 декабря 1601 г. помощь испанцев была крайне
незначительной, О’Нейл потерпел поражение.
Через десять дней после этого разгрома Аквила капитулиро-
вал. Несмотря на дальнейшие проекты О’Нейла, испанское пра-
вительство решило покончить с «ирландской авантюрой». После
смерти Елизаветы стало возможным заключение мира Испании
с Англией. К этому же времени О’Нейл подчинился. Мирный до-
говор, подписанный в Лондоне 1604 г., и перемирие в 1606 г. с
Нидерландами, как полагает автор, вносили разрядку в европей-
ские отношения.
Д. Вудворт в статье «Англо-ирландская торговля живым ско-
том в XVII в.» 9 сделал попытку на основе сопоставления стати-
стических данных, извлеченных из английских таможенных книг,
проследить развитие импорта ирландского скота в Англии, вы-
явить различные этапы англо-ирландской торговли на протяже-
нии XVII в.
• Woodward D. The Anglo-Irish Livestock Trade of the Seventeenth Centu-
ry.— 1973, vol. XVIII, N 72.
Средние века в журнале «Irish historical studies»
295
Тюдоровское подчинение Ирландии, сопровождавшееся разру-
шением ирландской экономики и старой ирландской социальной
системы, привело к тому, что ирландцы, согнанные со своих
земель, нуждаясь в средствах для уплаты ренты новым лендлор-
дам, расширяли коммерческое животноводство.
Уже в 20-х годах XVII в. торговля ирландским скотом полу-
чила самое широкое развитие. Грузы животных экспортировались
из Ирландии на континент и даже в американские колонии. Со-
гласно данным таможенных книг, торговля живым скотом до
1641 г. шла из ирландских портов (Дублин и Лондондерри) глав-
ным образом через Честер и порты Северо-Западной Англии. За-
писи книг, относящиеся к 1616—1617 и 1626 гг., показывают, что
значительное количество живого скота экспортировалось и из
портов южного побережья Ирландии, особенно из Йола. Трудно
установить, как полагает автор, какое количество животных до-
стигало мест назначения. Тем не менее статистические данные
позволяют утверждать, что если в начале XVII в. вывоз скота
был незначительным, то начиная с 20-х годов XVII в. торговля
скотом претерпела изменения и стала особенно значительной в
60-х годах XVII в. Данные таможенных книг показывают, что в
течение 1664—1666 гг. экспорт скота из Ирландии в Англию ис-
числялся в 30 тыс. и 40 тыс. голов, более 100 тыс. овец было
вывезено в 1660 г.
Из ирландских портовых центров юго-западного побережья,
особенно активно торговавших с Англией во второй половине
XVII в., автор отмечает Дублин, Уотерфорд, Нью-Росс, Йол,
Корк, Кинсейл.
Автор рассмотрел торговлю скотом с учетом природно-геогра-
фических особенностей отдельных районов Ирландии. В статье
приводятся имена купцов, встречающиеся в таможенных кни-
гах, и по некоторым портам называется число купцов, отгружав-
ших скот в Англию. К сожалению, по этому вопросу данные
источников, изученных Вудвортом, отрывочны и не систематизи-
рованы. В целом вывод автора таков: торговля живым скотом,
начавшаяся в начале XVII в. в незначительных масштабах, рас-
ширилась к 1641 г., а затем экспорт скота из Ирландии стал
снижаться.
В 1965—1974 гг. на страницах журнала были опубликованы
рецензии и аннотации на книги и статьи по отдельным вопро-
сам и разделам средневековой истории, вышедшие за эти годы
в Англии и Ирландии. Мы отметим лишь те из них, которые
имеют непосредственное отношение к ирландской тематике. Это
прежде всего рецензия-аннотация Дж. Отвэй-Рутвэна10 на кни-
10 Otway-Rutvan 1. (Рец. на кн.:] O’Sullivan М. D. Italian Merchant bankers
in Ireland in the Thirteenth Century. Dublin, 1962.—1965, vol. XIV, N 55.
296
Т. С. Осипова
гу М. О’Сэлливэн «Итальянские купеческие банкиры в Ирландии
в XIII в.», где рассматривается деятельность итальянских бан-
кирских фирм в Ирландии. Во второй половине XIII в. итальян-
ские банкиры стали основными финансистами английских коро-
лей и по мере проникновения английского влияния в Ирландию
получили доступ и в эту страну. Влияние итальянских купцов в
заморской торговле Ирландии начинает особенно возрастать с
конца XIII в. после передачи Эдуардом I в руки банкирских
домов Флоренции и Лукки сбора «новой пошлины» (1275 г.).
В ноябре 1299 г. Фрискобальди и их агенты получили от Эдуар-
да I охранные свидетельства на право торговли в Ирландии.
Итальянские купцы и банкиры не только были допущены для
сбора таможенных пошлин на шерсть и овчины, но и принимали
активное участие в импорте вина и вывозе шерсти. Некоторые
из них, являясь королевскими чиновниками, постоянно жили в
стране. Так, Камблинус Донати приобрел земли в Ирландии и
был шерифом Корка и Лимерика, Уильям Спинто — шерифом в
Лоуте. Но с усилением в стране беспорядков и народных волне-
ний уже с XIV в. Ирландия перестает привлекать внимание
итальянских банкиров. Книга, как подчеркивает рецензент, по-
священа теме, совершенно не разработанной в ирландской сред-
невековой истории, и до настоящего времени остается в ирланд-
ской историографии единственным исследованием по экономиче-
ской истории. Но и здесь автор ограничился рассмотрением
только финансовых взаимоотношений английского короля с
итальянскими банкирами, ведшими свои финансовые операции на
территории, подчиненной Англии.
В отделе рецензий помещено сообщение о переиздании книги
К. Холидея «Скандинавское королевство Дублин» и. Первое из-
дание ее вышло более 100 лет назад, но, как считает автор ре-
цензии, остается по сей день единственным трудом по истории
скандинавов в Ирландии. Книга возникла в результате изучения
Холидеем истории дублинского морского порта и представляет
собой сборник отдельных очерков о пребывании скандинавов в
Ирландии.
Из помещенных в журнале рецензий заслуживает внимания
рецензия на книгу К. Мак-Нейла «Святой Патрик» 12, которая,
как отмечает рецензент, представляет, по существу, второе из-
дание широко известной работы Мак-Нейла «Св. Патрик, апостол
Ирландии», опубликованной еще в 1934 г., но значительную
часть нового издания этой книги составляют источники, впервые
напечатанные в ирландских журналах в 1928—1930 гг. Рецензент
отмечает интересные высказывания Мак-Нейла по вопросу о
11 Holiday Ch. The Scandinavian Kingdom of Dublin, Irish University Press,
I960.— 1966, vol. XV, N 58.
12 Рец. на кн.: Mac Neill К. Saint Patrick. Dublin, 1964.—1968, vol. XVI, N 62.
Средние века в журнале «Irish historical studies»
297
теории «двух Патриков», выдвинутой ирландским историком
Т. О’Рэли, и о двух слоях латинских заимствований в ирланд-
ском языке.
Отметим также помещенную в сентябрьском номере журнала
за 1968 г. рецензию Дж. Отвэй-Рутвэна на второе издание книги
Дж. Ричардсона и Дж. Сэйлса «Ирландский парламент в сред-
ние века» 13. Единственным отличием нового издания, по мнению
автора рецензии, является внесение некоторых уточнений. Цен-
ность этого издания заключается в обстоятельном изложении
всех сторон деятельности англо-ирландского правительства с
конца XIII до конца XV в. Авторы построили свое исследование
на тщательном анализе всех протокольных материалов ирланд-
ского парламента, петиций и других документов. Однако не все
их утверждения, по мнению рецензента, бесспорны. Он, в част-
ности, подчеркивает, что структура деятельности парламента в
Ирландии оформилась раньше, чем в Англии. Приводится также
таблица дополнений и исправлений к списку парламентов, созы-
вавшихся в Ирландии.
На страницах журнала опубликована рецензия на книгу
Мак-Коя «Битвы ирландцев»14. Рецензент считает, что автор
свел военную историю Ирландии в основном к описанию тех че-
тырех битв, которые пришлось вести ирландцам против англи-
чан,— с битвы при Клонтарфе в 1014 г. до битвы при Арклоу
в 1798 г. История каждой из битв дается на фоне общей полити-
ческой и военной обстановки. Книга снабжена картами и обшир-
ной библиографией, хотя в тексте ссылки на нее почти отсутст-
вуют.
В этом же номере журнала помещена рецензия на 4-томное
издание Г. Орпена «Ирландия при норманнах» 15 *. Книга остает-
ся до настоящего времени одним из основных исследований для
специалистов, изучающих этот период. Орпен обстоятельно рас-
смотрел процесс проникновения английских поселенцев на ирланд-
ские земли, завоеванные англо-норманнскими феодалами в конце
XII в. Наиболее серьезный упрек рецензента сводится к тому,
что история гэльской Ирландии XI — начала XIV в. остается в
книге не затронутой.
В разделе рецензий журнала за 1970 г. нельзя не отметить
отзыв на книгу К. Хьюгесс «Церковь в Ирландии в эпоху ранне-
го средневековья» 1в. По мнению рецензента, автору особенно уда-
13 Otway-Rutvan J. [Рец. на кн.:] Richardson Н. G., Sayles G. О. The Irish
Parliament in the Middle Ages. London, 1967.—1968, vol. XVI, N 62.
14 Рец. на кн.: Hages Me Coy G. A. Irish Battles. London, 1969.
15 Рец. на кн.: Orpen G. Ireland under Normans. London, 1911—1920, vol. 1—
4.
18 Рец. на кн.: Hughes К. The Church in Early Irish Society. London, 1966.—
1970, vol. XVII, N 65.
298
Т. С. Осипова
лись разделы, посвященные VII—X вв. Большой заслугой автора
является привлечение ранее не использованных архивных мате-
риалов. Книга особенно ценна показом сложных взаимоотноше-
ний церковных и светских властей в Ирландии до английского
вторжения.
Следует также остановиться на рецензии Д. Лайдена на
книгу Дж. Отвэй-Рутвэна «История средневековой Ирландии» 17.
Монография Отвэй-Рутвэна — итог его 30-летней исследователь-
ской работы. Написанная на основе тщательного анализа и со-
поставления правовых и законодательных документов, государст-
венной переписки, английских хроник и других источников,
книга является одним из наиболее фундаментальных исследова-
ний по истории средневековой Ирландии, вышедших за послед-
ние годы.
Особенно высоко рецензент оценивает научную значимость
двух глав: «Структура норманнско-ирландского общества» и
«Управление норманно-ирландским государством». В первой гла-
ве воссоздана структура норманнско-ирландского общества и про-
слежен процесс образования феодальных поселений на террито-
риях, вошедших в завоеванные области.
Во второй главе, посвященной рассмотрению организации
управления английской колонией, приведен большой фактиче-
ский материал по формированию административного аппарата в
провинциях и графствах Ирландии. В книге рассматривается
также один из сложнейших вопросов — вопрос о практическом
взаимодействии ирландских правовых норм и обычаев с введени-
ем на землях колонистов английского права. Не менее важны
разделы о вторжении в Ирландию Р. Брюса и о его взаимоотно-
шениях с независимыми ольстерскими графами. Хорошо просле-
живается влияние политических событий Англии середины
XIV в. на внутреннюю обстановку в Ирландии. В целом моно-
графия Дж. Отвэй-Рутвэна отличается преимущественным инте-
ресом к внутриполитическим вопросам ирландской средневековой
истории. Автор рецензии замечает, что изучение средневековой
истории Ирландии особенно трудно, причем не столько из-за
утраты архивных материалов, сколько по причине сложного
взаимодействия двух различных культур (гэльской и английской).
Рецензент упрекает автора за то, что тот совершенно опускает
историю гэльской Ирландии, ограничиваясь только событиями,
которые связаны с колонизацией. Кроме того, подобно другим
историкам, автор не пытается дать экономическую историю Ир-
ландии.
17 Рец. на кн.: Otway-Ruthvan J. History of Medieval Ireland. London; New
York, 1968.
Средние века в журнале «Irish historical studies» 299
В мартовском номере журнала за 1967 г. опубликованы анно-
тации на книги М. Долли, вышедшие в 1965 и 1966 гг.,в Одна
из них посвящена ирландско-скандинавским монетам, находящим-
ся в экспозиции Британского музея. Изучение монет, чеканен-
ных викингами в Ирландии, давно является проблемой, требую-
щей особого внимания нумизматов. Долли выпустил две моно-
графии, посвященные данному вопросу, и сделал большой шаг в
его исследовании с 1949 г., когда вышла книга У. О’Сэлливэна
«Ранняя ирландская чеканка монет». Долли считает, что Ирлан-
дия в ранний период не имела своей чеканки монет, в то время
как англосаксы создали действующие монетные дворы и даже
викинги из Дублина чеканили свои монеты в Йорке (Англия).
Позже, когда был создан монетный двор Дублина, там имитиро-
вали современные английские монеты (вплоть до королевского
титула).
Автор отвергает гипотезы о существовании других монетных
дворов, помимо Дублина, в первоначальный период монетной
чеканки в Ирландии.
Обзор публикаций по истории средних веков в 18 номерах
журнала «Ирландские исторические исследования» за 1965—
1974 гг. позволяет заключить, что журнал поднимает на своих
страницах важные проблемы медиевистики. В последнее время
ирландские ученые значительно больший интерес проявляют к
истории XVI — середины XVII в., отдельным экономическим п
политическим проблемам этого времени. Положительным явлени-
ем в современной ирландской историографии следует считать
комплексное использование авторами широкого круга источни-
ков, особенно архивных материалов. Однако исследовательские
статьи, опубликованные в журнале и содержащие свежие факти-
ческие данные, отличаются отсутствием выводов и обобщений.
По-прежнему недостаточно отражена на страницах журнала эко-
номическая история Ирландии.
Как можно судить на основании статей и раздела аннотаций
на опубликованные в Ирландии книги, слабее в ирландской исто-
риографии освещаются первые семь веков средневековья, очень
мало внимания уделяется периоду «донормандской» Ирландии,
несмотря на то что имеющиеся источники по данному периоду
гораздо богаче (как считают сами ирландские специалисты), чем
англосаксонские. Причиной этого являются, по-видимому, языко-
вые трудности.
Тем не менее, как можно судить на основании статей и ин-
формационных сообщений данного издания, интерес к раннему
18 Рец. на кн.: Dolley М. The Hiberno-Norse Coins in the British Museum.
London, 1966; Dolley M. Viking Coins of the Danelaw and of Dublin. Lon-
don, 1965.— 1967, vol. XV, N 59.
300 Т. С. Осипова
периоду ирландской истории и культуры у ирландских исследо-
вателей сохраняется. Библиографические сведения, имеющиеся в
журнале, содержат дополнительные данные о тематике исследо-
ваний, ведущихся в стране. Они содержат перечень работ, по-
священных изучению политической истории Ирландии, диплома-
тических отношений, церковной, законодательной и военной
истории страны, мореходства, некоторых отдельных вопросов
гэльской (ирландской) культуры.
Новым положительным фактором развития ирландской исто-
риографии следует считать более широкое участие ирландских
ученых в международных заседаниях, симпозиумах и конгрессах,
что свидетельствует о возросшем значении исследований ирланд-
ских историков в международной историографии.
А. Д. Ролова, В. И. Рутенбург
АРМАНДО САПОРИ
6 марта 1976 г. скончался выдающийся итальянский исто-
рик-медиевист Армандо Сапори.
А. Сапори родился И июня 1892 г, в Сиене, где в 1919 г.
закончил юридический факультет. Вскоре он переехал во Фло-
ренцию и с 1921 по 1932 г. работал в Государственном архиве
Флоренции. С 1932 г. начинается его педагогическая деятельность,
продолжавшаяся почти до конца жизни: с 1932 по 1935 г.
А. Сапори в качестве экстраординарного профессора читает
лекции по истории экономических учений и учреждении в уни-
верситете Феррары, с 1933 по 1935 г.— курс лекций по истории
политических учений и учреждений Ъ Институте социальных
наук во Флоренции, с 1935 г.— историю средневековой экономики
во Флорентийском университете. В 1932 г. А. Сапори был при-
глашен для чтения лекций по истории экономики средневековья
в Свободный коммерческий университет Боккони в Милан, рек-
тором которого он становится в 1952 г. и выполняет эти функции
наряду с чтением лекций до 1967 г.
Он был избран почетным доктором наук университетов
Пуатье (1950 г.) и Парижа (1960 г.), членом-корреспондентом
(1947 г.), а затем действительным членом итальянской акаде-
мии Линчеи (1956 г.), членом-корреспондентом Британского ко-
ролевского общества (1957 г.) и 14 итальянских исторических
обществ.
А. Сапори — участник более чем 20 международных конгрес-
сов, на 14 из которых он выступал с докладами, в том числе на
VII, VIII, IX, X международных конгрессах исторических наук.
А. Сапори известен как прогрессивный деятель Совета комму-
ны Флоренции (1946—1951) и сенатор, входивший в состав лево-
го блока (1948—1953).
Первый печатный труд А. Сапори вышел в 1919 г., а послед-
ний — незадолго до его кончины; список его трудов насчитыва-
ет 267 названий.
А. Сапори изучал торгово-банковскую и промышленную дея-
тельность флорентийских компаний. Он опубликовал торговые и
банковские книги компаний Перуцци1, Джанфильяцци Ч
1 I libri di commercio dei Peruzzi/A сига di A. Sapori. Milano, 1934.
2 Sapori A. I libri della ragione dei Gianfigliazzi. Milano, 1943.
302
А. Д.. Ролова, В. И. Рутенбург
Альберти дель Джудиче3 и Ковони4. На основании этих издан-
ных им и других многочисленных источников он написал моно-
графические исследования «Кризис торговых компаний Барди и
Перуцци» 5 *, «Компания цеха Калималы в начале XIV в.» %
«Итальянский купец в средние века» 7 и др. Большое количест-
во статей, появившихся в разное время и касающихся всевоз-
можных аспектов торговой, банковской и промышленной деятель-
ности итальянских купцов, истории цехов и ярмарок как в Ита-
лии, так и в других странах Западной Европы, истории итальян-
ских коммун и различных слоев их населения было собрано в
книге «Исследования по экономической истории в средние века» 8.
Впервые она была издана в 1940 г., вторым расширенным изда-
нием вышла в 1946 г., и третьим расширенным изданием в двух
томах — в 1955 г. Третий том «Исследований» вышел в 1967 г.
и содержит работы последних десятилетий, которые группируют-
ся главным образом вокруг вопросов генезиса капитализма, пе-
риодизации средних веков и Возрождения, а также различных
аспектов развития флорентийской экономики в XIII—XVI вв.9
Тщательный и тонкий анализ источников, широта охвата про-
блем и глубокие обобщения выдвинули Сапори уже на началь-
ном этапе его творческой деятельности в первые ряды итальян-
ских ученых, сделали его известным и высоко ценимым среди
специалистов во всем мире.
Исследовательской манере А. Сапори свойствен глубокий исто-
ризм, убеждение в том, что историк обязан проникнуть в глубь
и суть эпохи, восстановить жизнь во всей ее сложности и много-
гранности, выявить ее специфику. Человек и человеческое об-
щество — подлинный объект исследования историка, целью кото-
рого, по мнению А. Сапори, должно быть восстановление по
мере возможности основных этапов истории человечества. Сапо-
ри верил в поступательное развитие человеческого общества и
считал долгом историка выявить новые прогрессивные явления
с момента их зарождения.
Убежденный в том, что историк не должен ограничиваться
сбором фактов и отказываться от обобщений, А. Сапори в пос-
3 I libri degli Alberti del Giudice/A cura di A. Sapori. Milano, 1952.
4 La compagnia fiorentina dei Covoni.— In: Melanges d’histoire economique
et sociale en hommage au professeur A. Babel. Geneve, 1963, vol. 1, p. 129—
143.
5 Sapori A. La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi. Firen-
ze, 1926.
* Sapori A. Una compagnia di Calimala ai primi del Trecento. Firenze, 1932.
7 Sapori A. Le marchand italien au moyen-age. Paris, 1952.
8 Sapori A. Studi di storia economica medioevale. Firenze, 1940; 2da ed. Firen-
ze, 1946; Idem. Studi di storia economica (secoli XIII—XIV—XV). 3a ed.
accresciuta. Firenze, 1955, vol. 1—2.
8 Sapori A. Studi di storia economica. Firenze, 1967, vol. 3.
Армандо Сапори
303
левоенные годы уделил большое внимание характеристике, оцен-
ке и периодизации эпохи Возрождения 10 11.
Он подходит к Возрождению как к комплексному явлению,
включающему все стороны деятельности человека, начиная от
экономики, политики, религии и кончая всеми аспектами куль-
туры. При этом он особо подчеркивает значение экономики, счи-
тая ее базисом развития других феноменов Возрождения. Сапори
говорит об «экономическом Возрождении», вслед за которым по-
является возрождение искусства, литературы, науки и т. д. Эта
исходная позиция Сапори была причиной резких нападок на
него со стороны многих буржуазных историков. Популярный в
зарубежной историографии тезис об экономическом кризисе
XIV в. отвергается им категорически, однако он несколько идеа-
лизирует итальянского купца XIII—XIV вв. А. Сапори собирал
и внимательно изучал советские работы по средневековью и
Возрождению.
Историческая концепция, методологические позиции и конк-
ретно-исторические исследования позволяют причислить Арман-
до Сапори к ведущим прогрессивным п западным историкам.
Армандо Сапори был многосторонне талантливым человеком,
он был и художником, и музыкантом, но история была всем со
держанием его жизни. Он умел рассказывать об исторических
явлениях и событиях удивительно ярким, сочным и образным
языком. Его девизом были слова, взятые из цехового устава
Сиены: «Ни одна работа не может быть начата и окончена без
трех вещей: умения, знания и любви» и.
10 Sapori А. II ргоЫеша economico.— In: Il Rinascimento. Significati e li-
miti. Atti del III convegno internazionale sul Rinascimento. Firenze, 25—
28 sett. 1952. Firenze, 1953.
11 Sapori A. Studi di storia economica, 3a ed., vol. 1, p. VII.
ИЗ ИСТОРИИ советской медиевистики
Е. А. КОСМИНСКИЙ
КАК ИСТОРИК исторической науки
Академик Е. А. Косминский вошел в историю отечественной
и мировой науки прежде всего как выдающийся исследователь
английской средневековой деревни. При этом несколько в тени
остаются его историографические исследования. Между тем
история исторической науки неизменно вызывала его серьезный
научный интерес, сохранявшийся на протяжении всей жизни.
Не будет преувеличением утверждать, что после истории анг-
лийского феодализма она образует вторую тему, пронизывающую
все его научное творчество. Всего опубликовано около 40 исто -
риографических работ ученого, не считая многочисленных рецен-
зий и библиографических обзоров, составляющих заметную часть
его творческого наследия. Вот почему всесторонняя характеристи-
ка научной деятельности Е. А. Косминского невозможна без обра-
щения к специальному изучению его историографических произ-
ведений.
После кончины Е. А. Косминского его ученики и коллеги мно-
го сделали для привлечения внимания широкой научной общест-
венности к историографическому наследию выдающегося совет-
ского ученого. Были переизданы некоторые, в большинстве своем
ставшие библиографической редкостью, историографические
статьи Е. А. Косминского *, а также впервые опубликован его
курс лекций по историографии средних веков, читавшийся в те-
чение ряда лет в Московском университете1 2. Обоим изданиям
предпосланы содержательные вступительные статьи, характери-
зующие историографические труды ученого, однако при всем
значении этих статей, впервые поднявших проблему «Е. Л. Кос-
минский как историк исторической науки», всесторонне исчер-
пать ее они не могли.
1 См.: Косминский Е. А. Проблемы английского феодализма и историогра-
фии средних веков. М., 1963.
2 См.: Косминский Е. А. Историография средних веков (V — середина
XIX в.): Лекции. М., 1963.
Е. А. Косминский как историк исторической науки
305
Не претендует на это и настоящая статья. Мы попытаемся
осветить историографический метод Е. А. Косминского, сосредо-
точив главное внимание на характеристике под этим углом зре-
ния его лекций по историографии средних веков. Мы не будем
входить в рассмотрение отдельных историографических оценок,
делавшихся ученым3, полагая, что при всей их важности в
творчестве исследователя такого масштаба, каким был
Е. А. Косминский, наибольшее значение для нас сегодня имеют
не те или иные конкретные положения, в большинстве своем
ставшие прочным достоянием советской науки, а сам метод исто-
риографического анализа, применявшийся ученым. Обращение в
таком плане к историографическому наследию большого совет-
ского ученого может оказаться полезным в решении актуальных
задач, стоящих перед нашей наукой, в частности задачи созда-
ния новых полноценных историографических учебников и учеб-
ных пособий.
Определяя значение Е. А. Косминского как историка истори-
ческой науки, необходимо прежде всего подчеркнуть, что он был
одним из основоположников советской 'Марксистской историогра-
фии средних веков. Особенно велики его заслуги в марксистской
разработке истории русской медиевистики, пионером которой ои
по праву является. В его трудах, опубликованных в 20—40-е го-
ды, были заложены основы общепризнанной сейчас в нашей нау-
ке концепции истории русской либеральной медиевистики. Не
останавливаясь на ее характеристике, отметим только, что уже
в работах, посвященных русским историкам западноевропейского
средневековья, ярко проявились характерные черты его историо-
графического метода. По существу первым он поставил вопрос об
изучении идейных истоков русской либеральной медиевист ики
как необходимой предпосылки осмысления развивавшихся ее
представителями исторических взглядов.
Показательна в данном отношении первая же статья Е. А. Кос-
минского из этого цикла, опубликованная в 1926 г. Посвященная
исследованиям А. Н. Савина в области английского феодализма,
она в то время содержала некоторые общие принципиальные по-
ложения, сделавшиеся впоследствии отправным моментом в ана-
лизе советскими учеными русской либеральной медиевистики в
целом. В частности, в этой статье было высказано положение а
связи истории и современности как методологическом принципе
анализа конкретно-исторических воззрений того или иного ученого
или целой научной школы. «В историческом прошлом западно-
3 Отнюдь не потому, что они сняты последующим ходом развития исто-
рической науки. Как правило, они получили свое подтверждение и раз-
витие в дальнейших исследованиях ученых-марксистов. Более того, в от-
дельных случаях его оценки представляются сегодня более обоснован-
ными, чем сделанные позднее другими авторами.
306 Б. Г. Могильницкий
европейских народов,— писал Е. А. Косминский, формулируя
исходный пункт своего исследования работ А. Н. Савина,—
русские ученые искали ответа на актуальные вопросы русского
настоящего».
Конкретизируя это положение, он указывал на русскую поре-
форменную действительность как решающую причину сосредото-
чения П. Г. Виноградовым и его школой своих научных интере-
сов главным образом на социально-экономических факторах об-
щественного развития, пытаясь при этом проследить, как
изменение исторической обстановки в России влияло на направ-
ление научных интересов этой школы, способствуя перемещению
их центра из области раннего и развитого средневековья на позд-
нее. Важно подчеркнуть также, что уже в этой первой своей
историографической статье Е. А. Косминский трактовал связь
истории и современности как категорию классовую, воплощаю-
щуюся в определенной системе идеологических отношений.
Влияние пореформенной действительности на историческую нау-
ку преломлялось через известную классовую точку зрения. В дан-
ном случае это была точка зрения либеральной буржуазии, что
и отмечал Е. А. Косминский, подчеркивая тесную связь дорево-
люционной медиевистики с идеологией русского пореформенного
либерализма4.
С годами круг историографических интересов Е. А. Космин-
•ского существенно расширился, включив в себя как критический
анализ западноевропейской буржуазной исторической мысли,
так и освещение основных направлений и итогов развития совет-
ской медиевистики5. Параллельно с этим совершенствовался
сам метод историографического исследования, применявшийся в
его работах. В частности, более основательным стало рассмотре-
ние идейно-теоретических взглядов отдельных ученых и школ,
привлекавших его внимание, более развернутым, глубоким и точ-
ным сделался анализ их классовых позиций. Укажем в качестве
примера на принадлежащую перу Е. А. Косминского историогра-
фическую главу в коллективном труде советских ученых по исто-
рии английской буржуазной революции6, с начала и до конца
4 См.: Косминский Е. А. Исследования А. Н. Савина по истории Англии.—
В кн.: Косминский Е. А. Проблемы английского феодализма..., с. 37—39.
9 Характеристику основных направлений историографических интересов
Е. А. Косминского см.: Гутнова Е. В., Сидорова Н. А. Научные труды и
деятельность Е. А. Косминского.— В кн.: Косминский Е. А. Проблемы
английского феодализма..., с. 17—20. Общую оценку значения Е. А. Кос-
минского как историка исторической науки см.: Гутнова Е. В. Евгений
Алексеевич Косминский.— ВИ, 1972, № 9, с. 58—59.
* См.: Косминский Е. А. Основные направления в историографии англий-
ской буржуазной революции.— В кн.: Английская буржуазная револю-
ция XVII века. В 2-х т. М., 1954, т. 2.
Е. А. Косминский как историк исторической науки
ВОТ
пронизанную классовым подходом к характеристике основных
направлений в историографии революции. Понимание характера
английской революции выступает здесь главным критерием, опре-
деляющим выбор авторов, взгляды которых рассматриваются в
главе, в особенности их оценку. Тем самым на немногих страни-
цах воссоздается динамика движения исторической мысли по
одной из ключевых проблем истории, выступающая как отраже-
ние общих закономерностей исторического развития ’.
Историографический метод Е. А. Косминского окончательно
складывается во второй половине 30-х годов. В работах, создан-
ных ученым в последние 20 лет жизни, отчетливо обнаруживают-
ся характерные черты этого метода, позволяющие оценить его
как выдающееся явление в советской историографии. В их чис-
ле отметим следующие: 1) рассмотрение конкретно-исторических
взглядов отдельных ученых в широкой общеисторической перс-
пективе; 2) последовательный историзм в их оценке; 3) стремле-
ние выяснить их идейно-теоретическую основу. Если попытаться
в немногих словах выразить существо историографического ме-
тода Е. А. Косминского, то его можно определить как метод
панорамного исследования. Прекрасный знаток материала, о ко-
тором он писал, ученый никогда не злоупотреблял своей поисти-
не безграничной эрудицией. В историографическом анализе он
избегал излишней детализации, концентрируя внимание читате-
лей на самых существенных моментах, позволяющих наиболее
адекватно раскрыть действительное содержание изучаемого вопро-
са, будь это взгляды А. Пиренна на историю Бельгии или исто-
рико-философские воззрения Вольтера. Метод Е. А. Косминско-
го — это метод создания общей картины широкими мазками, по-
зволяющими рельефно выделить наиболее важные ее элементы.
О чем бы ни писал ученый, он стремился в первую очередь
раскрыть главные черты, определяющие общий облик изучаемого
им историка или школы, выяснить их место в развитии истори-
ческой мысли.
Этим объясняется пристальное внимание Е. А. Косминского
к идейно-теоретическим аспектам историографического исследо-
вания. В идейно-теоретических позициях, которых придерживал-
ся тот или иной ученый, он ищет ключ к пониманию его истори-
ческой концепции и объяснению наиболее существенных сторон
его конкретно-исторических построений. Рассмотрим в этом пла-
не его статью «Анри Пиренн — историк Бельгии». Мы намеренно
7 Рассматриваемая глава показательна и в другом отношении. Она отра-
зила пристальное внимание Е. А. Косминского к новейшим течениям
зарубежной исторической мысли, что позволило ему, в частности, одно-
му из первых в советской литературе указать на наличие прогрессивного
направления в современной английской историографии. См.: Англий-
ская буржуазная революция XVII века, т. 2, с. 237—238.
308
Б. Г. Могилъницкйй
оставляем в стороне такие работы Е. А. Косминского, как «Воль-
тер и историческая наука», «Памяти Т. Н. Грановского», «Реак-
ционная историософия Арнольда Тойнби» и некоторые другие,
^непосредственно посвященные выяснению идейно-теоретических
> взглядов тех или иных ученых. Нам сейчас важно подчеркнуть,
что и в историографических работах Е. А. Косминский неизмен-
но обращался к выяснению мировоззренческих позиций интере-
сующих его авторов как к необходимой предпосылке научного
осмысления их исторических представлений. Именно так, в част-
ности, он поступает в статье о Пиренне, предварявшей русское
издание книги бельгийского ученого «Нидерландская револю-
ция» (М., 1937). Рассматривая в ней научное творчество Пирен-
на в связи с его концепцией Нидерландской революции,
Е. А. Косминский в соответствии со своей целевой установкой —
дать советскому читателю общее представление о выдающемся
бельгийском историке — специально не акцентирует внимание на
его идейно-теоретических взглядах. Вместе с тем именно в этих
последних он стремится понять те или иные характерные особен-
ности исторических представлений своего автора. Он указывает
на два важных элемента методологии Пиренна — «экономизм» и
крайний психологизм8 9, объясняя с их помощью отличительные
черты его исторической концепции. Другой определяющий источ-
ник концепции Пиренна он усматривает в его классовой пози-
ции *.
Таким образом, Е. А. Косминский получает необходимый от-
правной пункт для общего подхода к оценке исторических взгля-
дов бельгийского ученого. В то же время в своем подходе он
далек от вульгарного социологизма, полностью сводившего науч-
ное творчество историка к его мировоззрению. Он неоднократно
отмечает обширную эрудицию Пиренна, его «большое историче-
ское чутье», подчеркивает «несомненный демократизм», «широ-
кую гуманность» бельгийского ученого, показывая, как эти черты
отражались на его исторической концепции. В итоге достигается
последовательный марксистский историзм в оценке такого слож-
ного, внутренне противоречивого явления, каким являются
исторические взгляды А. Пиренна.
Последовательное проведение принципа марксистского исто-
ризма в историографическом исследовании необходимо предпола-
гает рассмотрение исторических представлений данного ученого
в тесной связи с конкретными условиями того времени, когда они
создавались. Поучительные примеры такого рассмотрения содер-
жатся в историографических работах Е. А. Косминского. Сошлем-
8 Косминский Е. А. Пиренн — историк Бельгии.— В кн.: Косминский Е. А.
Проблемы английского феодализма..., с. 379.
9 Там же, с. 394.
Е. А. Косминский как историк исторической науки
309
ся, в частности, на его анализ философско-исторической концеп-
ции Вольтера. Рассматривая ее содержание, Е. А. Косминский
последовательно стремится объяснить как сильные, так и слабые
ее стороны той конкретно-исторической обстановкой, в которой
работал Вольтер, и теми конкретными задачами, которые он перед
собой ставил. Именно такой подход делает убедительным его
трактовку понимания великим французским мыслителем движу-
щих сил исторического развития. Выступая против распростра-
ненного взгляда о том, что история представлялась Вольтеру иг-
рой случайностей, Е. А. Косминский апеллирует к мотивам, ко-
торыми руководствовался знаменитый просветитель в своем
обращении к случаю как двигателю истории. Отмечая «неред-
кую манеру» Вольтера объяснять великие события, такие, напри-
мер, как крестовые походы или реформация, мелкими или слу-
чайными причинами, он указывает, что «эта точка зрения не
проводится последовательно, а выступает лишь изредка».
«Да и какая „философская44 история,— справедливо подчеркивает
ученый,— была бы возможна при последовательном ее примене-
нии?» Вполне правомерным представляется его положение, что
выдвижение Вольтером в отдельных случаях ничтожных поводов
в качестве причин исторических событий есть лишь «полемиче-
ский прием, направленный против теологической идеи о божест-
венном плане, не оставляющей в истории места для случайно-
стей, а также средство унизить крайне несимпатичные ему
явления, как крестовые походы и реформация, указав на их
ничтожные и низменные причины» 10. С аналогичных позиций
рассматриваются взгляды Вольтера на роль исторических лич-
ностей.
Сказанное отнюдь не означает, что Е. А. Косминскому хотя
бы в малой степени было присуще стремление к идеализации
Вольтера, «приукрашиванию» его философско-исторических
взглядов ссылками на «обстоятельства». В действительности на-
ряду с сильными сторонами этих взглядов он с такой же опре-
деленностью раскрывает и их слабости, в том числе и в юбъяс-
нении движущих сил истории.
Историографический метод Е. А. Косминского свое наиболее
полное воплощение получил в курсе лекций по историографии
средних веков. Прочитанный впервые в Московском университете
в 1938—1940 гг., он и сегодня остается одним из лучших в марк-
систской литературе историографических исследований, продол-
жая оказывать плодотворное влияние не только на медиевистов,
интересующихся прошлым своей науки, но и на советскую исто-
риографическую мысль в целом.
10 Косминский Е. А. Вольтер и историческая наука.— В кн.: Космин-
ский Е. А. Проблемы английского феодализма..., с. 406.
310
Б. Г. Могильницкий
Уже отмечалось, что лекции Е. А. Косминского «отличаются
широкой постановкой историографических проблем в связи с
историей философии и политической мысли» 11. Именно в этом
направлении и следует, очевидно, искать секрет их современно-
сти, их продолжающегося благотворного влияния на советскую
историографическую мысль. Для понимания исходных методоло-
гических принципов, которыми руководствовался Е. А. Космин-
ский в построении своего лекционного курса, важное значение
имеют его вводные замечания, формулирующие характер, задачи
и структуру курса. Прежде всего обращает на себя внимание
его определение самой природы историографии. «Историография
с марксистской точки зрения,— указывает он,— это одна из от-
раслей истории общественной мысли, и она всегда ярко окрашена
политикой»12. Из этого определения вытекают три важных:
следствия, которые, несомненно, должны учитываться в совре-
менных дебатах о предмете историографии как особой историче-
ской дисциплине.
1. Поскольку историография является отраслью истории об-
щественной мысли, ее главная задача заключается в выяснении
общих закономерностей развития исторического познания как
формы общественного сознания. Соответственно этому основной
объект историографического исследования составляют историче-
ские концепции и теории, в наибольшей степени отражающие
поступательное развитие исторической науки как особой формы
социальной активности человека. Другими словами, главным
предметом историографии, во всяком случае как дисциплины
университетского преподавания, является история исторической
мысли, изучающая развитие исторических направлений и школ,
смену господствующих концепций и взглядов преимущественно
под углом зрения социальной значимости исторической науки.
Изучение истории исторической мысли особенно рельефно рас-
крывает социальную природу нашей науки, показывает действи-
тельный характер соотношения между эволюцией исторических
представлений и социально-политической практикой человечества.
2. Поскольку историография является органической составной
частью истории общественной мысли, ее изучение необходимо
предполагает обращение к другим сферам общественной мысли,
с ней взаимодействующим. Изучение господствующих в данном
обществе исторических представлений и их эволюции окажется
плодотворным только в том случае, если будет в надлежащей
мере учитывать все социальные и политические связи, прямо или
косвенно обусловившие их становление и развитие. Но тем самым
в историографическое исследование включается не только выяс-
11 Гутнова Е. В., Сидорова Н. А. Указ, соч., с. 18.
12 Косминский Е. А. Историография средних веков, с. 7.
Е. А. Косминский как историк исторической науки
811
нение общих социальных факторов, влияющих на развитие исто-
рической науки, но и обращение к данным других научных дис-
циплин, раскрывающих в своей совокупности ту интеллектуаль-
ную атмосферу, без учета которой оно также не может быть до
конца понято.
3. Поскольку историография «ярко окрашена политикой»,
в число важнейших задач историографического исследования вхо-
дит изучение широкого круга вопросов, связанных с выяснением
взаимоотношения истории и политики. Как и всякой обществен-
ной науке, истории присуща определенная политическая тенден-
ция, которая присутствует во всех исторических школах и тече-
ниях, оказывая свое влияние на подход к тем или иным истори-
ческим проблемам и на их решение. Вот почему выяснение
политических позиций данного историка или школы составляет
необходимый элемент историографического исследования.
Большой интерес представляют соображения Е. А. Косминско-
го о характере марксистского курса историографии средних веков.
Их исходную посылку образует убеждение о классовой природе
исторической науки в классовом обществе. Е. А. Косминский
подчеркивает: «Нашей первой задачей является вскрытие тех
классовых пружин, которые так или иначе двигали историками
предшествующих формаций в их построениях» 13. Вместе с тем
он предостерегает против упрощенного понимания связи между
историографией и политикой, указывая на необходимость учета
специфики исторического познания14. Отсюда вытекают задачи
курса историографии. С одной стороны, он должен вести непри-
миримую борьбу с буржуазной идеологией во всех ее проявле-
ниях, «должен учить отбрасывать негодное и обличать враждеб-
ное», с другой — учитывать достижения буржуазной историогра-
фии в объективном познании прошлого, прежде всего в области
методики исторического исследования. Указывая на расширение
сферы тех фактов, которыми оперирует историческая наука, уточ-
нение методики, развитие исследовательской техники, Е. А. Кос-
минский усматривал в этом то, чему можно учиться у историков
предшествующих поколений.
Сказанное, конечно, не означает, что Е. А. Косминский про-
тивопоставлял идейно-теоретические принципы методике истори-
ческого исследования или допускал независимость последней от
первых. Напротив, его историографический метод исходил из
признания органической связи методологии и методики, что ярко
проявилось во всем его лекционном курсе. Для Е. А. Косминского
совершенствование методики исторического исследования, расши-
рение круга источников, появление новых точек их освещения
неразрывно связаны с поступательным развитием методологии,
13 Косминский Е. А. Историография средних веков, с. 7.
14 Там же, с. 9.
312
Б. Г. Могильницкий
общей идейной атмосферой, которая окружает историческую нау-
ку. Не случайно в его лекционном курсе анализу исследователь-
ской методики ученого всегда предшествует рассмотрение его об-
щих идейно-теоретических представлений в связи с характеристи-
кой эпохи, в которой он работал. Вместе с тем продолжает оста-
ваться актуальным предостережение против недооценки учета
специфики исторической науки, не являющейся зеркальным отра-
жением общественной борьбы.
Важная задача историографического исследования заключает-
ся именно в том, чтобы, раскрывая эту диалектическую связь,
показать определяющее влияние на развитие исторической мысли
господствующих в обществе политических и философских идей и
внутреннюю закономерность движения самого исторического по-
знания, не сводимого целиком к этому влиянию. Рассматривая
взгляды той или иной школы, того или иного ученого, историк-
марксист обязан не только раскрыть классовую основу этих взгля-
дов, но и аргументированно показать во всей сложности и проти-
воречивости их взаимодействие с историографической практикой
данной школы или ученого. В особенности это относится к исто-
риографическим курсам и учебникам, претендующим на создание
широкой картины развития определенного раздела исторической
науки, так как именно в ее рамках получает наиболее рельефное
освещение сам процесс исторического познания. Курс лекций
Е. А. Косминского по историографии средних веков является за-
мечательным примером такого освещения, органически сочета-
ющего рассмотрение эволюции идейно-теоретических представле-
ний западноевропейской медиевистики и развития конкретно-ис-
торической методики и исследовательской техники. Автору уда-
лось показать достижения домарксистской историографии средних
веков в ее поступательном движении и ее классовую и теорети-
ко-методологическую ограниченность.
Для каждого, занимающегося преподаванием историографии,
являются поучительными соображения Е. А. Косминского о прин-
ципах построения курса историографии средних веков. Можно
выделить четыре таких принципа: 1) рассмотрение историографии
средних веков в связи с более общими течениями политической и
философской мысли эпохи; 2) связь курса историографии средних
веков с историографией других исторических периодов; 3) сосре-
доточение внимания на общих взглядах рассматриваемых ученых
на историю в целом и на средние века в частности, а также на
их исследовательском методе; 4) изучение историографии сред-
них веков по ведущим фигурам той или иной эпохи
15 Косминский Е. А. Историография средних веков, с. 8—10. Строго гово-
ря, Е. А. Косминский формулирует еще один принцип, уделяя значи-
тельное место его обоснованию: курс историографии средних веков сле-
дует начинать не с эпохи Возрождения, как это делал, например, Э. Фю-
Е. Л. Косминскийкак историк исторической науки
S18
Особепно важной представляется мысль Е. А. Косминского о
том, что задачей университетского курса историографии является
выяснение наиболее общих проблем, позволяющих в своей сово-
купности осветить ведущие тенденции развития исторической
мысли. В этом плане и решается им вопрос о соотношении общего
и особенного в историографическом, курсе. Безусловный акцент
делается на общем, выступающем в форме господствующих фи-
лософских, социально-политических и исторических идей эпохи и
в виде исторических теорий и концепций, определяющих развитие
данной отрасли исторической пауки (в нашем случае — истории
средних веков). Что же касается особенного — проблем, хотя и
несомненно важных, но являющихся частными по отношению к
общему процессу исторического познания, то их место в общем
курсе историографии зависит от того, в какой мере их историо-
графическое освещение помогает раскрытию общих закономерно-
стей развития исторической науки.
Историография средних веков не равна сумме историографий
отдельных проблем, составляющих в своей совокупности историю
средних веков. Более того, общий и специальный историографи-
ческие курсы преследуют существенно разные цели. Если, на-
пример, историография средневекового города призвана дать все-
сторонний анализ теорий, освещающих различные аспекты исто-
рии средневекового города, показать накопление фактического
материала, совершенствование методики его обработки и т. п., то
задачи общего курса историографии как истории исторической
мысли лежат, как мы видели, в иной плоскости. В этой связи
методологически важным представляется следующее положение
Е. А. Космипского. «Я пе думаю,— указывал он, обосновывая
структуру своего курса,— здесь делать специальных экскурсов в
историографию таких разделов, как история средневекового по-
местья или средневекового города пли история английской или
нидерландской революции и т. д.,— все это задачи специальных
курсов» 1в.
Чем более исторически значимой является данная проблема,
тем, естественно, большее место ей принадлежит в общем исто-
риографическом курсе. Нельзя, например, представить себе курса
историографии средних веков, в котором не рассматривались бы
взгляды па переход от античности к средним векам, и это зако-
номерно, ибо в течение долгого времени указанная проблема яв-
лялась своеобразным фокусом, в котором пересекались взгляды
различных историографических направлений. Именно поэтому.
тер, а со средневековой историографии. См. там же, с. 10—12. Однако
ввиду очевидной бесспорности этого положения для современного чита-
теля и более специального, чем у остальных принципов, характера мы
оставляем его в стороне.
18 Там же, с. 9.
314
Б. Г. Могилъницкий
в частности, она занимает значительное место в курсе Е. А. Кос-
минского. Он подробно рассматривает возникновение германо-
романской проблемы во французской литературе XVIII в., пока-
зывает ее развитие в первой половине XIX в., в особенности в
творчестве О. Тьерри и Ф. Гизо, освещая ее под углом зрения от-
ражения в исторической мысли борьбы основных социальных сил
французского общества того времени — буржуазии и дворянства.
Такая постановка вопроса позволила ему на конкретном историо-
графическом материале показать ведущие тенденции развития
французской исторической мысли XVIII — первой половины
XIX в. и в то же время раскрыть существенное содержание гер-
мано-романской проблемы.
Соображения Е. А. Косминского о структуре общего историо-
графического курса, равно как и реализация их в его «Историо-
графии средних веков», позволяют сделать определенные выво-
ды, представляющие для нас несомненный интерес. Общий исто-
риографический курс не может и не должен претендовать на
всестороннее или детализированное рассмотрение исторических
проблем, какими бы важными они ни являлись. Как подчеркивает
Е. А. Косминский, это — задача специальных историографических
курсов. Общий же курс должен обращаться к этим проблемам
лишь в той мере, в какой их историографический анализ будет
содействовать выяснению общих тенденций развития исторической
мысли в связи с общественно-политической и идейной борьбой,
в атмосфере и под могущественным воздействием которой проте-
кало это развитие.
Могут возникнуть опасения, не приведет ли такая постановка
вопроса к сведению истории исторической науки к истории эво-
люции ее идейно-теоретических принципов. Пример самого лек-
ционного курса Е. А. Косминского, однако, убедительно доказы-
вает неосновательность этих опасений. Выяснение закономерно-
стей развития исторической науки невозможно без обращения к
многовековой историографической практике. Все дело заключает-
ся в том, какие цели преследует это обращение. Поучительность
курса Е. А. Косминского состоит как раз в том, что он демонст-
рирует оптимальное соотношение между изложением философ-
ских и общественно-политических концепций, влиявших на раз-
витие исторической мысли, с одной стороны, общеисторических
представлений — с другой, и наиболее выдающихся результатов
конкретно-исторических исследований и их методики — с третьей.
Это, конечно, не означает что невозможны другие принципы по-
строения историографического курса. Мы хотим лишь указать на
уже имеющийся удачный опыт такого построения.
Обращение к творческому наследию Е. А. Косминского пред-
ставляет интерес и в другом отношении. До настоящего времени
остается дискуссионным вопрос о том, что же должно являться
Е. А. Косминский как историк исторической науки
815
главным объектом анализа в общем историографическом курсе —
творчество отдельных выдающихся ученых, господствующие в
науке теории и концепции или общий историографический про-
цесс. Конечно, на практике в историографическом анализе имеет
место фактическое переплетение всех трех элементов, что, одна-
ко, не снимает вопроса о том, на каком материале преимущест-
венно должен строиться историографический курс.
Поучительные соображения на этот счет содержатся в лекци-
онном курсе Е. Л. Косминского. Показательна уже сама его струк-
тура. Большинство лекций посвящено освещению исторических
взглядов выдающихся мыслителей прошлого от Августина до
Мишле. Эти взгляды рассматриваются весьма обстоятельно (как
правило, в одной лекции излагаются воззрения не более 1—2 уче-
ных), что не только облегчает их усвоение, но и позволяет авто-
ру рельефно представить основные линии развития 'западноевро-
пейской историографии средних веков на протяжении полутора
тысячелетий. Таким образом, вместо калейдоскопического мелька-
ния имен и работ, до настоящего времен^ встречающегося в исто-
риографических учебных пособиях, в книге Е. А. Косминского
мы находим весьма ограниченный круг исследователей — действи-
тельно крупных ученых, оставивших заметный след в развитии
исторической мысли, с именами которых связаны значительные
достижения в области исторической теории и исследовательской
техники. В работах таких историков находят свое выражение не
только исторические, но и общественно-политические, философ-
ские идеи их времени. Их произведения указывают на возможно-
сти и границы исторического познания в каждый данный период
развития исторической науки. Другими словами, в деятельности
крупных историков наиболее выпукло отражаются общие законо-
мерности развития исторической науки. Изучая их творчество,
мы получаем возможность выявить наиболее яркие факты исто-
рии пашей науки, проследить ее существенные тенденции.
Особенно велико значение рассматриваемого метода именно
для историографических курсов и учебников, призванных не
только раскрывать самые общие закономерности развития того
или иного раздела исторической науки, но и делать их удобопо-
нимаемыми для учащихся. Наиболее эффективно эта задача мо-
жет быть решена на ограниченном, но вместе с тем достаточно
репрезентативном историографическом материале. Как раз такой
материал и представляет творчество крупных историков. Более
того, Е. В. Гутнова говорит даже о «портретном» методе как на-
иболее удобном и полезном с методической точки зрения, «так
как он помогает усвоению сложного материала и пробуждению у
читателей интереса к историографическим проблемам»п.
17 Гутнова Е. В. Историография истории средних веков (середина XIX в.—
1917 г.). М., 1974, с. И.
316
Б. Г. Могилъницкий
Вместе с тем Е. А. Косминский отнюдь не абсолютизирует
этот метод, сочетая его в реальной практике историографического
исследования с другими приемами, позволяющими в своей сово-
купности наиболее глубоко раскрывать ведущие закономерности
развития исторической науки. В свой курс он включает обобщаю-
щие разделы, в которых дается общая характеристика историче-
ских и историко-философских представлений определенного пе-
риода.
Присмотримся, в каких случаях это делается. Во-первых, тог-
да, . когда отсутствует крупный историк, взгляды которого могли
бы служить выражением целого периода в развитии исторической
мысли. Так, в частности, поступает Е. А. Косминский при харак-
теристике средневековой историографии. Вслед за лекцией, по-
священной историческим воззрениям Августина, идет лекция,
в которой рассматриваются средневековые хроники. Формулируя
ее цель, автор указывает задачу «обрисовать лишь некоторые об-
щие, наиболее существенные особенности средневековых хроник»
до возникновения гуманистического, мировоззрения, «чтобы иметь
отправную точку для характеристики дальнейшего развития исто-
риографии, ее постепенного превращения в научную дисципли-
ну»'18. Эта задача решается путем обобщающего анализа сущест-
венных черт западноевропейской средневековой хронистики — от
ее философско-исторических представлений до отношения к источ-
никам. Основные положения этого анализа иллюстрируются на
материале ряда хроник. В лекции рассматриваются хроники От-
тона Фрейзингенского, Гвиберта Ножанского и некоторые другие.
Но они интересуют Е. А. Косминского лишь постольку, посколь-
ку позволяют продемонстрировать определенные черты средневе-
кового исторического мировоззрения.
Обращает на себя внимание одна деталь. И в этой, носящей
обобщающий характер, лекции Е. А. Косминский весьма эконо-
мен в подборе историографических фактов. Многие известнейшие
средневековые хроники, такие, например, как хроника Фруассара,
им даже не упоминаются. Другие рассматриваются лишь в одном
интересующем автора аспекте, отнюдь не исчерпывающем их со-
держание. Так, произведения Гвиберта Ножанского привлекаются
лишь в связи с рассмотрением вопроса о степени присутствия
исторической критики в средневековой хронистике; «Славянская
хроника» Гельмольда приводится, чтобы продемонстрировать на
ее примере характерные для средневековых исторических пове-
ствований преувеличения и несуразицы и т. д. Даже хроника От-
тона Фрейзингенского, единственная, которой в лекции уделено
более или менее значительное внимание, рассматривается лишь в
плане характеристики господствующей в средние века философии
18 Косминский Е. А. Историография средних веков, с. 23.
Е. А. Косминский как историк исторической науки 31Т
истории. Таким образом, все изложение материала в этой лекции,
само ее построение подчинены главной цели — раскрыть сущест-
венное содержание средневековой историографии. Цель эта успеш-
но достигается не в последнюю очередь благодаря адекватно из-
бранному методу отбора и анализа историографического материала.
Во-вторых, Е. А. Косминский отступает от принятого им в
своем курсе метода историографического анализа в тех случаях,
когда ему требуется предварить рассмотрение взглядов отдельных
ученых общей характеристикой данного историографического яв-
ления, представителями которого они были. Так, анализу исто-
рико-философских взглядов крупнейших деятелей эпохи Просве-
щения предпослана лекция, в которой содержится общая харак-
теристика просветительской идеологии и историографии (лекция
XIV). В итоге достигается целостная картина такого сложного ис-
ториографического феномена, каким является историческая мысль
эпохи Просвещения, что было бы невозможно, если бы автор ог-
раничился анализом исторических взглядов отдельный, пусть даже
самых выдающихся, ее представителей.
Наконец, в-третьих, ряд лекций в свб'ем курсе Е. А. Космин-
ский посвящает суммарной характеристике общественно-полити-
ческой мысли некоторых периодов западноевропейской истории в
связи с ее ролью в развитии исторической науки. Так, специаль-
ная лекция посвящается анализу политических учений XVI в.
(лекция VIII). В ней рассматриваются политические идеи Люте-
ра и Мелапхтона. монархомахов и Бодена. Свое внимание Е. А.
Косминский концентрирует на трактовке этими мыслителями про-
блему государства, ибо она оказала большое влияние на после-
дующую буржуазную историческую мысль. Аналогичными моти-
вами руководствовался ученый, включая в свой курс раздел «Со-
циальная физика XVII в.» (лекция XI). Подчеркивая, что XVII
столетие было временем усиленных исканий в области социальной
теории, отразивших успехи естествознания и воплотившихся в
стремлении создать науку об обществе по образцу естественных
наук, он рассматривает учения Г. Гроция и Т. Гоббса как наибо-
лее яркое выражение попыток рационалистического века постро-
ить «социальную физику» на прочном основании общих законов
физики и механики. Эти попытки по сути своей были антиисто-
ричны. Тем не менее они составляли звено в общем процессе ста-
новления буржуазного обществоведения как теоретической осно-
вы буржуазной историографии, что и обусловило обращение к
ним Е. А. Косминского в своем лекционном курсе.
Отметим также лекцию XXI, в которой рассматривается реак-
ционная публицистика конца XVIII — начала XIX в. Обосновы-
вая необходимость этой проблематики в историографическом кур-
се, Е. А. Косминский указывает на значение сформулированных
в произведениях реакционных публицистов положений для осмыс-
318
Б. Г. Могилъницкий
ления определенных течений в развитии западноевропейской ис-
торической мысли' эпохи Французской революции. Он подчерки-
вает, что доктрины революционной историографии конца XVIII —
начала XIX в. на первых порах развивались не столько истори-
ками, сколько публицистами, вследствие чего, «не познакомившись
с реакционными политическими мыслителями этой эпохи, нельзя
полностью понять и характер реакционной историографии этого
времени» 1в. В этих словах — ключ к пониманию одного из важ-
нейших принципов, которыми руководствовался Е. А. Косминский
в построении своего лекционного курса. Освещая общие законо-
мерности развития исторической мысли, ученый в той мере, в ка-
кой это представлялось ему необходимым, включал в свой курс
данные смежных дисциплин, помогающие раскрыть эти законо-
мерности. Тем самым он добивался того характерного для всего
курса рассмотрения развития исторической науки в органическом
единстве с движением философской и общественно-политической
мысли, которое подчеркивалось выше.
Таким образом, историографический метод Е. А. Косминского
значительно шире чисто «персоналистского» принципа освещения
истории исторической науки. Его характерной чертой является
своеобразная гибкость, отсутствие заданности в подходе к исто-
риографическому материалу. Напротив, сам этот материал опре-
деляет характер и приемы его анализа. Отсюда вытекало свобод-
ное построение курса, в котором лекции, посвященные историче-
ским взглядам отдельных крупных ученых, перемежаются с
лекциями, дающими общую характеристику развития историче-
ской мысли на определенном ее этапе или рассматривающими фи-
лософские и общественно-политические учения известного перио-
да. В итоге Е. А. Косминскому удалось воссоздать широкую картину
движения исторической мысли XVIII — середины XIX в., кото-
рая раскрывала существенное содержание процесса становления
западноевропейской медиевистики и в то же время далеко выхо-
дила за эти рамки, освещая закЪномерности развития историче-
ской науки. В этом отношении курс «Историография средних
веков» и сегодня, через 40 лет после того, как он был впервые про-
читан, продолжает оставаться новаторским, глубоко современным.
Конечно, избранный Е. А. Косминским путь построения исто-
риографического курса не является универсальным и не исклю-
чает возможности создания полноценных марксистских учебни-
ков и учебных пособий по историографии с иной структурой и
иными принципами отбора и подачи материала. В настоящее вре-
мя советская историческая наука имеет в своем активе целый
ряд учебников, учебных пособий и лекционных курсов по раз-
19 Косминский Е. А. Историография средних веков, с. 274.
Е. А. Косминский как историк исторической науки 31Р
личным разделам историографии отечественной и всеобщей исто-
рии. Они свидетельствуют о возможности и даже необходимости
существования в рамках марксистско-ленинской методологии раз-
ных типов историографических пособий, подчас в определенном
смысле дополняющих друг друга.
Разнообразие типов историографических пособий не снимает,
однако, вопроса о поисках наиболее оптимальных форм универ-
ситетского преподавания истории исторической науки. «Историо-
графия средних веков» Е. А. Косминского представляет, на наш
взгляд, тот тип историографического пособия, который в наиболь-
шей степени отвечает современным требованиям университетско-
го образования. Не останавливаясь на деталях, его курс концент-
рирует внимание читателя на самых существенных тенденциях
развития исторической мысли, рассматриваемых в контексте все-
го духовного развития общества. Не претендуя на всестороннее
освещение истории исторической науки, такой курс своей структу-
рой и всем содержанием образует необходимую методологическую
основу для самостоятельного овладения историографическим на-
следием, т. е. на своем материале и свойми средствами содейству-
ет решению той задачи, которая сегодня является одной из глав-
ных, стоящих перед советской высшей школой: учить своих
питомцев творчески мыслить, уметь использовать полученные
знания как основу для приобретения новых.
Значение лекционного курса Е. А. Косминского этим не огра-
ничивается; он представляет собой совершенно самостоятельное
исследование в области историографии, что в последнем счете и
определяет его место в истории советской исторической науки.
Созданная в годы, когда в марксистской литературе вообще от-
сутствовали обобщающие историографические исследования в
области всеобщей истории, являющаяся продуктом большой ис-
следовательской работы выдающегося знатока исторической ли-
тературы и блестящего мастера конкретно-исторического исследо-
вания, «Историография средних веков» вместе с опубликованным
в это же время известным учебником О. Л. Вайнштейна закла-
дывала основы марксистской историографии медиевистики.
Оценивая сегодня ее научное значение, важно подчеркнуть,
что здесь впервые была предпринята удачная попытка марксист-
ского синтетического исследования большого раздела всеобщей
истории. Научная заслуга Е. А. Косминского заключается в том,
что он не только сформулировал принципы историографического
исследования, но и реализовал их в своих произведениях. Твор-
ческое овладение историографическим наследием Е. А. Космин-
ского, прежде всего его методом, является предпосылкой даль-
нейшего поступательного развития советской историографии.
Б. Г. Могилъницкий
ПУБЛИКАЦИИ
О. Ф. Кудрявцев
ПИСЬМО МАРСИЛИО ФИЧИНО
О ЗОЛОТОМ ВЕКЕ
Письмо Марсилио Фичино к Павлу Миддельбургскому, кото-
рое мы публикуем ниже в русском переводе, вызывает у иссле-
дователей культуры Возрождения большой интерес *. Такое вни-
мание к нему вполне понятно, так как, несмотря на небольшие
размеры, этот документ является одним из наиболее интересных
и до некоторой степени загадочных памятников своей эпохи. Всо
же в историографии это письмо Фичино не получило должного
самостоятельного рассмотрения и по большей части привлекается
в качестве попутного иллюстративного материала для характери-
стики того времени, в которое оно было написано. В некоторых
работах предпринимаются попытки проанализировать содержа-
ние письма, но делается это лишь в связи только с какой-нибудь
одной, чаще всего не главной для письма, проблемой. Так, в ра-
боте Г. Ливейна «Миф о Золотом веке в эпоху Возрождения» это
письмо анализируется предельно сжато, только с точки зрения
развития мифологического сюжета: Фичино, горячий почитатель
Платона, соединил четыре исторических века по периодизации
Гесиода с четырьмя видами человеческих дарований, о которых
писал Платон 1 2. Единственное, что говорит Ливепн по существу
концепции — «он (Фичино.— О. К.) не имел колебаний в оценке
дарования своего собственного века» 3,— совершенно не раскрыва-
ет ее содержания.
Это письмо привлекается также в исследовании А. Шастеля,
посвященном истории легенды о Золотом веке правления Меди-
1 См.: Levin Н. The Myth of the Golden Age in the Renaissance. London, 1970,
p. 38; Данилова И. E. О категории времени в живописи средних веков
и Раннего Возрождения.— В кн.: Из истории культуры средних веков
и Возрождения. М., 1976, с. 166; Горфункель А. X. Гуманизм и натур-
философия итальянского Возрождения. М., 1977, с. 17.
2 Levin Н. Op. cit., р. 38.
3 Ibid., р. 38.
Письмо Марсилио Фичино о Золотом веке
321
чи4. Однако мы не можем согласиться с Шастелем в том, что
высокая оценка современности в письме Фичино к Павлу Мид-
дельбургскому послужила отправным пунктом для создания апо-
логетического мифа, подхваченного далее Вазари, о Золотом веке
жизни Флоренции в период правления Козимо и Лоренцо. В этом
письме нет открытого восхваления дома Медичи. Фичино подчер-
кивает выдающуюся роль культурных достижении Флоренции,
что еще не дает нам оснований усмотреть в этом скрытую аполо-
гетику правившего городой семейства, поскольку Фичино не
ограничивает расцвет культуры только одной Флоренцией. Харак-
терно, что Фичино был не единственным, кто среди итальянских
гуманистов второй половины XV в. прославлял выдающиеся
успехи Флоренции в области культуры: до Фичино эта идея была
высказана Дж. Ручеллаи и Ал. Ринуччини5, причем последнего
трудно заподозрить в симпатиях к Медичи.
О письме Фичино к Павлу Миддельбургскому упоминает в
своей фундаментальной работе по истории флорентийской Плато-
новской академии А. Делла Торрев. Однако у Делла Торре это
письмо рассматривается лишь как еще одно свидетельство того,
что Фичино серьезно увлекался пением под аккомпанемент ор-
фической лиры и что он очень гордился возобновлением этой ан-
тичной традиции 7.
Письмо датировано 1492 г. и адресовано известному астроному
и математику Павлу Миддельбургскому. В нем Марсилио Фи-
чино, прославленный гуманист, глава Платоновской академии во
Флоренции, дает оценку современной ему эпохе с помощью свое-
образной интерпретации мифа о Золотом веке. Унаследованный
от античности миф о Золотом веке был хорошо известен и широко
распространен в эпоху Возрождения, по, по справедливому заме-
чанию Ал. Чоранеску, его классическое содержание становится в
этот период лишь простым литературным мотивом8. Фичино в
этом отношении не является исключением: представление о Золо-
том веке, согласно античной традиции, как о лучшей поре в жизни
человечества, он применяет для характеристики своего времени.
Называя современность Золотым веком, Фичино далек от того,
чтобы рассматривать предшествующую историю как последова-
тельное развитие тех начал, которые привели человечество в кон-
4 Chastel A. Vasari el la legende Mediceenne.— In: Sludi vasariani. Atti del
Convegno Intornazionale per il IV Cenlenario della prima edizione delie
Vile del Vasari. Firenze, 1952.
5 См.: Монъе Ф. Опыт литературной истории Италии. Кваттроченто. СПб.,
1904, с. 288.
6 Della Torre A. Storia del’Academia Plalonica di Firenze. Firenze, 1902.
p. 789.
7 Ibid.
8 Cioranetcu Al. Ulopie: cocagne el 1’age d’or.—Diogene, 1971, N 75, p. 90. 11
11 Средние века. в. 43
322
О, Ф. Кудрявцев
це концов к теперешнему Золотому веку — как бы высшему эта-
пу развития •. По контексту письма можно понять, что Золотой
век — не только современное состояние человечества, но уже был
некогда, а именно в античности, в эпоху высокого расцвета куль-
туры. И поэтому возвращение античности Фичино рассматривает
как условие осуществления Золотого века в современности. (Но,
как увидим ниже, Фичино не сводит сущность своей эпохи к ре-
ставрации античности.) Эту идею Фичино ясно формулирует в
«Аллегорическом письме о Золотом и иных веках» к Якомо Ан-
тикварно: «И чем же иным, мы думаем, является восстановление
древности, если не возвращением того Золотого века, который та-
ким счастливым был в то время, когда правил Сатурн» 10. Мож-
но было бы сказать, что в основе исторических взглядов Фичино
лежит представление о круговороте истории с периодическим по-
вторением отдельных ее ступеней. Однако представление Фичино
о Золотом веке по своей сути наполнено не историческим, а эти-
ко-эстетическим содержанием. Здесь мы имеем дело с использо-
ванием древнего мифа в качестве символического образа, кото-
рым гуманист выражает свою идею расцвета культуры как реа-
лизацию высших потенций, заложенных в природе человека.
Действительно, в более раннем письме к Якомо Антикварно
Фичино почти полностью сводит Золотой век, Сатурновы царст-
ва, к понятию «Золотой жизни» под руководством созерцательно-
го разума, которую он обозначает именем Сатурна 11; иные виды
человеческой жизни, протекающие под эгидой практического ра-
зума, гнева и наслаждения, он обозначает именами Юпитера,
Марса и Венеры и соответственно их называет (серебряная, же-
лезная и свинцовая) 12. В этом письме смысл Золотого века за-
ключается в достижении человеком этического совершенства, так
9 Следует отметить, что современник Фичино, флорентийский художник
Пьеро ди Козимо, формулирует идею прогресса как развитие от перво-
бытного животного состояния человека каменного века к «Царству Вул-
кана и Диониса», Золотому веку, однако он видит опаспость, следующую
за дальнейшим развитием человечества, на той ступени, когда человек
отрывается от природы. Пьеро ди Козимо в отличие от Фичино и боль-
шинства других современников лишен оптимизма в оценке современного
состояния общества, ибо полагает, что человек уже преступил этот опас-
ный предел своего развития. Анализируя концепцию Золотого века у
Пьеро ди Козимо, Панофски приходит к выводу, что «такое отношение
(к прогрессу человечества и современности.— О. К.), не имеющее себе
равного в Раннее Возрождение, может быть объяснено только психоло-
гически» (Panofsky Е. The Early History of Man in Two Cycles of Paintings
by Piero di Cosimo.—In: Studies in Iconology. New York, 1939, p. 65).
10 Epistole Marsilii Ficini Florentine Venetiis, 1495, lib. VII, p. 139.
11 Здесь понятие «Золотой век» (в оригинале «золотые века») лишено зна-
чения исторического периода, которым оно обладало в древнем мифе,
и поэтому точнее его можно передать как «золотые (в смысле «прекрас-
ные») времена» (Epistole..., lib. VII, р. 139).
12 Ibid.
Письмо Марсилио Фичино о Золотом веке
323
как созерцательная жизнь, согласно Фичино,— самая совершен-
ная из всех. Таким образом, здесь Золотой век понят как жизнь
нод руководством созерцательного разума, но последний есть не
что иное, как лучшая часть высшей потенции души — разума.
Этот век наступает только тогда, когда в обществе правит муд-
рость (которая приобретается в результате деятельности созер-
цательного разума, и поэтому является как бы проявлением по-
следнего). И в этом смысле , нужно понимать следующее место:
«Я надеялся, что должен вернуться Золотой век, необходимость
появления которого предсказал Платон, когда [по его словам]
соединятся в одном и том же человеке власть и мудрость, так
как высшая власть соединена с высшей мудростью». Эти слова
были написаны Фичино в «Речи от имени христианской паствы к
папе Сиксту» 13, чтобы убедить папу прекратить войну против
Флоренции. Именно здесь Фичино впервые употребил понятие
«Золотой век». Определение его совпадает с последующими в той
части, которая предполагает в качестве непременного условия
Золотого века господство мудрости, обеспечивающей в соединении
с властью нравственное совершенство общественной и индивиду-
альной жизни.
Если в письме к Якомо Антикварно Золотой век рассмотрен
как реальность этического совершенства человеческой (и в этом
случае как бы тоже «золотой») жизни под руководством созер-
цательного разума, то в публикуемом письме к Павлу Миддель-
бургскому Золотой век символизирует расцвет культуры, понятой
как результат творческой деятельности человека. Это находит свое
выражение в том, что Золотой век определяется как период не-
бывалого расцвета лучших человеческих дарований, что прояви-
лось, как пишет Фичино, в «великих открытиях сего века»,
причем эти дарования, как в предыдущем письме совершенней-
шая жизнь, названы «золотыми» дарованиями. Это на первый
взгляд произвольное употребление термина «золотой» для обозна-
чения всякого совершенства имеет свою логику: действительно,
дарование, или врожденное свойство, не является у Фичино чем-то
далеким от понятия созерцательного разума и в противополож-
ность последнему чем-то сугубо индивидуальным для каждого че-
ловека: Напротив, умственное созерцание истины, которая есть
надмировой ум, и тем самым приобщение к мудрости является, по
Фичино, непременным условием всякой совершенной творческой
деятельности, а в контексте данного письма — проявления всех
«золотых дарований». Золотой век — символ наиболее полного
осуществления человеческих потенций, что проявляется как в
совершенствовании собственной жизни, так и в реализации высо-
ких творческих способностей, присущих человеческой природе.
13 Ibid., lib. VI, р. 112.
324
О, Ф. Кудрявцев
Таким образом, символический образ Золотого века самым тес-
нейшим образом связан у Фичино с его учением о человеке.
Концепция достоинства человека и безграничности его творческих
способностей являлась сущностью гуманистического учения о
человеке и предопределяла оптимистическую направленность гу-
манистического мировоззрения. Это нашло отражение в том, что
Фичино воспринимал современность как Золотой век.
Но формирование такого мировоззрения и соответственно та-
кого восприятия современности можно объяснить лишь характе-
ром самой эпохи. Переворот во многих областях искусства и на-
учной мысли, проявившийся особенно наглядно к концу XV в.,
породил в гуманистических кругах веру в великое предназначе-
ние и бесконечные способности человека и, осуществление кото-
рых видели в современных культурных достижениях. Эта вера
или, лучше сказать, признание человеческого всемогущества, от-
разились наиболее полно в разработке концепции человека —
универсального творца, как бы бога на земле. Поэтому, рассмат-
ривая успехи самых различных искусств и наук своей эпохи как
реализацию выдающихся дарований, Фичино тем самым разделя-
ет гуманистическую веру в универсальные творческие потенции
человека.
Но почему Фичино обращает внимание на результаты только
духовной практики человека, в них видит реализацию выдающих-
ся дарований и свою характеристику Золотого века ограничивает
успехами в области духовной культуры человечества? Вероятно,
потому что именно в разуме (высшей и лучшей части души) он
видел основу достоинства, всемогущества и совершенства челове-
ка. И, следовательно, подходящим мерилом оценки характера эпо-
хи для него могли быть только достижения в области духовной
культуры, причем понятые прежде всего как раскрытие врож-
денных способностей человека. Поэтому Золотой век здесь не
только является характеристикой реальной эпохи с ее действи-
тельно выдающимися достижениями, по и символизирует одновре-
менно идеальный образ человеческой жизни, при этом понятой не
только как индивидуальная человеческая жизнь.
По структуре письмо Фичино к Павлу Миддельбургскому со-
стоит из трех частей: краткого введения с определением его по-
14 Концепция достоинства человека была подробно разработана в филосо-
фии Фичино. Он писал: «Бог создал людей не для малых дел, но для ве-
ликих, (ибо] люди не удовлетворяются малыми делами, но стремятся к
великим. Напротив, он создал их для бесконечных деяний, которые они
нашли на земле в бесконечности природы» (Epistole.... lib. V, р. 99). Рас-
цвет человеческих способностей и талантов в современности, прояв-
ляющийся в достижениях культуры, подчеркивали и другие флорентий-
ские гуманисты, старшие современники Фпчино: М. Пальмьери, Дж. Ру-
челлаи. Ал. Рннуччинп. См.: Монье Ф. Указ, соч., с. 289.
Письмо Марсилио Фичино о Золотом веке 325
нимания Золотого века и ссылкой на исторические источники;
основной части, в которой Фичино конкретизирует это понимание,
и концовки, в которой он прощается со своим адресатом.
Интересным представляется проследить, как Фичино подбира-
ет материал в основной части,. где он конкретно говорит о тех
великих открытиях человеческого гения, благодаря которым стало
возможным называть его время Золотым веком. В первую очередь
Фичино перечисляет культурные достижения, которые были осу-
ществлены во Флоренции. Затем он упоминает изобретение кни-
гопечатания, таблицы немецкого астронома Региомонтана и астро-
номические усовершенствования Павла Миддельбургского — три
достижения, связанные с Германией, откуда родом адресат. Но в
момент написания письма Павел Миддельбургский находился на
службе у герцога Урбинского Гвидобальдо да Монтефельтро, по-
этому затем Фичино отмечает как достижение успехи урбинских
герцогов в военном искусстве. Таким образом, немного упрощая,
можно сказать, что в духе современного ему литературного эти-
кета Фичино относит великие открытии своего времени к Фло-
ренции, Германии и Урбино, с которыми прямо связана жизнь
и деятельность автора письма и адресата. В этом мы можем уз-
нать характерные черты гуманистического эпистолярного стиля.
Среди великих достижений, в которых он видит признаки Зо-
лотого века, Фичино перечисляет как заново открытые античные
достижения культуры, к числу которых гуманист относит и вос-
крешение платонизма, чему посвятила свою деятельность возглав-
ляемая им Платоновская академия во Флоренции15 * *, так и со-
временные, осуществленные впервые открытия в области культу-
ры. И это очень показательно в том отношении, что Фичино
никогда не сводил сущность своей эпохи лишь к освоению антич-
ного наследия, хотя его деятельность была полностью этому по-
15 Этот нюанс письма Фичино к Павлу Миддельбургскому превращается
в основной мотив письма Эджидио да Витербо к Марсилио Фичино. Эд-
жидио, августинский монах, разочаровавшись в аристотелевской филосо-
фии, которую он изучал в Падуанском университете, был обязан Фи-
чино своим приобщением к платонизму, почитателем и ревностным за-
щитником которого он вскоре стал (Garin Е. Storia della filosofia italiana.
Bari, 1966, vol. 1, p. 424—425). В своем письме он связывает наступление
Золотого века с воскрешением и освоением платоновского наследия, т. е.
с философской деятельностью Фичино. Эджидио пишет: «Считаем, что
Марсилио Фичино послан [нам] божественным провидением, чтобы ясно
показать, что тайное богословие Платона полностью согласуется с на-
шими святыми установлениями и предвосхищает их. Это. мой Марси-
лио,— Сатурновы царства, Золотой век, столько раз возвещенный Сивил-
лой и пророками, это те времена Платона, в которые он предсказал пол-
ный расцвет своего учения» (Suppiementum Ficinianum / Ed. Р. О. Kris-
teller. Firenze, 1937, vol. 1, p. 316). Важно подчеркнуть в этой связи, что
у самого Фичино нет и намека на такое исключительное место его от-
крытий среди тех, о которых он пишет в своем письме.
326
О. Ф. Кудрявцев
священа. Фичино рассматривал успехи своего времени в плане
продвижения человеческого духа на пути реализации своих потен-
ций, и воскрешение античности в этой связи являлось лишь частью
этой работы. Поэтому в письме Фичино к Павлу Миддель-
бургскому тщательно перечисляются все, открытые заново или
впервые, культурные достижения современности от изобретения
книгопечатания до возвращения к древнему искусству игры на
орфической лире, ибо в то время, когда культура выступала для
человека эпохи Возрождения самодовлеющей и определяющей
сферой жизни, любое явление культурной жизни для Фичино име-
ло значение и каждое из них в равной мере создавало духовный
облик его эпохи, который он пытался запечатлеть в этом письме.
ПОХВАЛЫ НАШЕМУ ВЕКУ КАК ЗОЛОТОМУ ВЕКУ,
ПОТОМУ ЧТО ОН ПОРОЖДАЕТ ЗОЛОТЫЕ ДАРОВАНИЯ.
ПРЕВОСХОДНОМУ МЕДИКУ И АСТРОНОМУ
ПАВЛУ МИДДЕЛЬБУРГСКОМУ «
То, что некогда поэты сочиняли относительно четырех веков,
т. е. свинцового, железного, серебряного и золотого 17, наш Пла-
тон перенес в книгах «Государства» на четыре вида человеческих
дарований, говоря, что, по природе, дарованиям одних людей при-
сущ свинец, других — железо, третьих — серебро, четвертых — зо-
лото 18 19. Итак, если мы должны называть какой-нибудь век золо-
тым, то это, без сомнения, такой век, который всюду порождает
золотые дарования. И тот не усомнится, что таков наш век, кто
захочет рассмотреть великие открытия сего века. Этот наш. век,
как Золотой век, вернул к жизни почти уже угасшие свободные
искусства, т. е. грамматику, поэзию, ораторское искусство, живо-
пись, скульптуру, архитектуру, музыку, древнее искусство рас-
певать стихи под аккомпанемент орфической лиры ,9: и все это,
18 Павел Миддельбургский (1455—1534) — математик, астроном и медик,
в 1492 г. в качестве астронома и лейб-медика находился при дворе Гви-
добальдо да Монтефельтро, герцога Урбинского, в 1494 г.— епископ в
Фоссомброне.
17 Фичино подразумевает рассказ Гесиода о смене человеческих поколений
(Гесиод. Работы и дни. М., 1927, с. 43—45). Однако он неточно передает
их чередование и название. По Гесиоду, вначале следует золотое поко-
ление людей, затем серебряное, медное и, наконец, железное.
18 Платон. Государство, 415-a-d. В этом письме Фичино вольно интерпрети-
рует рассказ Платона, допуская такую же, как и в отношении Гесиодо-
ва предания, неточность в названиях.
19 В этих словах непосредственно отразилось увлечение Фичино и некото-
рых его друзей по Платоновской академии игрой на лире и пением под
ее аккомпанемент, а также интерес гуманиста к античной орфической
традиции.
Письмо Марсилио Фичино о Золотом веке
327
что у древних почиталось, но было уже почти утрачено,— во
Флоренции. [Этот век] соединил мудрость с красноречием, и по-
следнее наилучшим образом он явил в Федериго Урбинском20,
словно в Палладе; и его сын21, и зять22 унаследовали его до-
блести. Я также думаю, мой Павел, что ты усовершенствовал
астрономию 23. Во Флоренции же из мрака было извлечено на свет
учение Платона 24. В Германии в наше время изобрели станки для
печатания книг и, кроме того, таблицы, с помощью которых мож-
но тотчас же определить вид неба на будущее время25; следует
упомянуть также о флорентийском устройстве, имитирующем
ежесуточные движения небес26. Теперь эти немецкие таблицы,
аккуратно отпечатанные, наш Микелоцци27 вам везет, чтобы
преподнести их вашему славному герцогу 28. Ведь дар небесный
достоин небесного государя. Достоин также, как я думаю, быть
принятым тобой, созерцателем небесных явлений. Достоин, на-
конец, чтобы вы нас похвалили.
Прощайте. XIII сентября 1492 г. Марсилио Фичино.
Переведено по: Epistole Marsilii Ficini Florentini.
Venetiis, 1495, p. 186.
20 Федериго да Монтефельтро — правитель Урбино с 1444 по 1482 г., в 1474 г.
получил от папы титул герцога, знаменитый итальянский кондотьер, по-
кровитель гуманистов и художников.
21 Гвидобальдо да Монтефельтро — сын Федериго, герцог Урбинский с
1482 по 1508 г.
22 Джованни делла Ровере — племянник папы Сикста IV, префект Рима,
синьор Синигалии, участник некоторых военных предприятий Федери-
го да Монтефельтро, был женат на его дочери Джованне.
23 О деятельности Павла Миддельбургского в области астрономии, кроме
того, что сообщается в этом письме, известно также, что он выступил на
Латеранском соборе с предложением о частичной реформе юлианского
календаря.
24 Фичино подразумевает свою деятельность в качестве переводчика и ком-
ментатора Платона и неоплатоников.
25 Вероятно, Фичино имеет в виду «Таблицы» немецкого астронома Регио-
монтана, изданные в Аугсбурге в 1492 г.
28 Речь идет о Сфере.
27 Бернардо Микелоцци — друг Фичино, гуманист, собиратель древних ру-
кописей, поэт. С 1512 г. советник папы Льва X. В 1516 г. получил сан
епископа Форли. Умер в 1519 г.
28 Гвидобальдо да Монтефельтро.
РЕЦЕНЗИИ
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. В 2-х т. Под общей редакцией
С. Д. Сказкина. I том — редакционная коллегия: Е. В. Гутнова,
А. И. Данилов, А. Р. Корсунский, В. В. Самаркин; II том — редакцион-
ная коллегия: А. Д. Люблинская, Ю. М. Сапрыкин, М. М. Смирив,
А. Н. Чистозвонов, Т. С. Осипова, В. Л. Романова. М., «Высшая школа»,
1977
Выход в свет нового издания
двухтомного учебника истории сред-
них веков для университетов —
важное событие в жизни высшей
школы. Этот учебник — наиболее
полное и фундаментальное учебное
пособие по истории западноевро-
пейского средневековья, подготов-
ленное коллективом ведущих совет-
ских медиевистов.
Двухтомная «История средних ве-
ков», бесспорно, соответствует тем
высоким требованиям, которые
предъявляются в настоящее время к
учебной литературе для высшей
школы. Все главы учебника отра-
жают новейшие достижения исто-
рической науки по тем или иным
разделам медиевистики; сопровож-
дающий каждую главу список на-
учной литературы позволяет студен-
там использовать для самостоятель-
ной работы над изучаемым курсом
основные источники, а также наи-
более значительные отечественные
и зарубежные исследования. Изла-
гаемый учебный материал прочно
опирается на фундамент марксист-
ско-ленинской методологии; наибо-
лее принципиальные ошибочные по-
ложения буржуазной историогра-
фии* подвергнуты предметному кри-
тическому разбору.
Заслуживает глубокого одобрения
сам принцип построения учебника,
в котором изложение конкретно-
исторического материала сочетается
с проблемными главами, посвящен-
ными наиболее важным теоретиче-
ским вопросам, анализу историо-
графии, широкому обобщенному
рассмотрению общих для определен-
ного исторического периода явле-
ний. К числу таких глав можно от-
нести главу 2 — «Сущность феодализ-
ма и проблема его происхождения
в исторической науке», § 4 гла-
вы 3 — «Пути развития феодальных
отношений в Западной Европе», гла-
ву 7 — «Возникновение и рост сред-
невековых городов, их место и роль
в феодальном обществе», главу 23 —
«Возникновение капиталистических
отношений в странах Западной Ев-
ропы» и некоторые другие.
Важным положительным качест-
вом учебника истории средних ве-
ков является серьезное внимание к
историческим источникам. Об этом
свидетельствует как наличие специ-
альной главы, так и частое обраще-
ние к документам в других разделах.
Издание хорошо обеспечено карта-
ми, существенно облегчающими
усвоение учебного материала; бес-
спорно, улучшилось его оформление.
Значительная часть глав учебника
не подверглась принципиальным из-
менениям, поскольку они сохраняют
свое научное и педагогическое зна-
чение. Главы, написанные такими
видными советскими медиевистами,
как С. Д. Сказкин, Е. В. Гутнова, А. Д.
Люблинская, А. И. Данилов, А. Н.
Чистозвонов, 3. В. Удальцова, М. М.
Смирин, В. И. Рутенбург и другие,
по-прежнему представляют собой
прекрасные образцы советской науч-
но-педагогической литературы для
высшей школы.
Однако при переиздании учебник
был частично переработан. В него
были включены новые разделы, со-
держание отдельных глав обновлено
329
Рецензии
или написано заново, фактический
материал изложен более компактно,
что привело к некоторому сокраще-
нию объема учебника, не нанеся
урона его содержанию.
В качестве достоинства рецензиру-
емого учебника следует отметить,
что наиболее радикально перерабо-
таны или написаны заново были
несколько глав 1-го тома, посвящен-
ных важным проблемным вопросам
и вызывавших критические замеча-
ния при более ранних изданиях.
Речь идет о таких главах, как «Су-
щность феодализма и проблема его
происхождения в исторической нау-
ке», «Возникновение и рост средне-
вековых городов, их место и роль в
феодальном обществе», «Церковь и
ее организация в Западной Европе.
Народные еретические движения»,
«Средневековая культура и идеоло-
гия в странах Западной Европы в
V—XV вв.»
Остановимся в первую очередь
несколько подробнее на рассмотре-
нии именно этих разделов 1-го тома
учебника.
Представляется безусловно оправ-
данным и полезным разделение
второй главы на два самостоятель-
ных параграфа, посвященных сущ-
ности феодализма и проблеме его
происхождения. При этом назван-
ные сложные и принципиально важ-
ные проблемы рассматриваются под
углом зрения эволюции их понима-
ния в исторической науке. Не вы-
зывает сомнения, что историографи-
ческие вопросы являются одними
из наиболее сложных для усвоения
в процессе изучения исторических
курсов в высшей школе. В этой свя-
зи следует полностью одобрить, что
историографическим аспектам ме-
диевистики в рецензируемом учеб-
нике отведено видное место.
Уделив достаточно значительное
внимание марксистскому пониманию
таких основополагающих проблем,
как сущность феодализма, специ-
фические черты феодальной формы
собственности на землю, проблема
происхождения феодализма, авторы
учебника прослеживают развитие
взглядов на эти коренные вопросы
в исторической науке.
В главе основательно вскрыты
философские, классовые корни идеа-
листического понимания феодализ-
ма как специфической политико-
юридической системы, основанной
на военных или просто «личных»
связях людей. Это, несомненно^
должно способствовать формирова-
нию у студентов важного для буду-
щих историков-марксистов критиче-
ского подхода к идеалистической
трактовке существа исторического
процесса. Кроме того, наличие подоб-
ных разделов в учебнике подчерки-
вает научную и идеологическую ак-
туальность изучения любого истори-
ческого периода, в том числе исто-
рии средних веков.
Достоинством историографический
разделов учебника является также
то объективное и доброжелательное
внимание, с которым представлены
лучшие прогрессивные достижения
русской и зарубежной буржуазной
историографии. В качестве примера
можно назвать анализ взглядов од-
ного из наиболее видных француз-
ских медиевистов, Марка Блока, и
его школы (с. 33, 34—35).
Как уже отмечалось выше, нам
представляется совершенно правиль-
ным и плодотворным с методической
точки зрения выделение в отдельный
раздел историографии сложнейшей
проблемы перехода западноевропей-
ских народов к феодализму. Практи-
ка преподавания курса истории
средних веков в вузе показывает,
что этот вопрос принадлежит к
числу наиболее трудно понимаемых
и усваиваемых студентами. В этой
связи следует приветствовать зна-
чительное внимание к теории данной
проблемы, в частности к теоретиче-
скому вкладу советских медиеви-
стов в ее решение (с. 48—50).
В новом учебнике значительно пе-
реработана глава о средневековых
городах (гл. 7). Изменения и допол-
нения в изложении этого вопроса,
бесспорно, должны способствовать
его более глубокому усвоению. В
частности, следует одобрить внесение
большей конкретности в картину со-
стояния средневековых поселений
городского типа до превращения их
в центры развития ремесла и торгов-
330
Рецензии
ли (с. 178). Обрисованное нескольки-
ми выразительными штрихами со-
стояние немногочисленных пережив-
ших падение Римской империи го-
родских поселений ярче подчеркива-
ет качественный перелом в развитии
"Экономики феодального общества, на-
ступивший в результате массового
превращения городов в центры ре-
месленного производства и торговли.
С нашей точки зрения, важно так-
Эке выделение социальных предпо-
Зклок становления средневековых
городов (с. 179), проведение типоло-
гизаций городов в соответствии со
спецификой исторической судьбы и
экономической жизни отдельных
районов Западной Европы.
Следует приветствовать включе-
ние в учебник принципиально важ-
ного нового параграфа «Простое то-
варное производство при феодализ-
ме» (с. 183—184). Однако, учитывая
сложность и спорность этого вопро-
са даже в советской иториографии,
в будущем представляется желатель-
ным усиление внимания к этой
проблеме, так же как и к вопросам
политической экономии феодализма
в целом. Лишь на фундаменте осно-
вательных политэкономических
представлений могут быть достаточ-
но глубокими знания студентов
по отдельным вопросам изучаемого
курса истории средних веков.
Можно также высказать пожела-
ние методического характера, приме-
нимое, впрочем,* и к некоторым дру-
гим главам учебника. Думается, что
усвоению студентами фактического
материала могло бы способствовать
введение более тесных связей меж-
ду главами с помощью отсылок к
тем или иным конкретным эпизодам,
уже описанным ранее или представ-
ленным в последующих главах. Так,
например, на наш взгляд, при рас-
смотрении основных этапов город-
ской борьбы следовало бы сослаться
на примеры ее проявления, описан-
ные при изложении истории отдель-
ных стран (история Ланской комму-
ны, восстание чомпи во Флоренции
и др.).
Одно? из весьма важных глав об-
щего характера является глава, по-
священная роли церкви в истории
западноевропейского феодализма и
народным еретическим движениям
(гл. 18). Она также существенно пе-
реработана в новом издании, преи-
мущественно в направлении больше-
го обобщения конкретного материа-
ла и усиления внимания к общетео-
ретическим положениям.
Весьма интересны и содержатель-
ны разделы главы, посвященные
средневековым ересям. Здесь ярко
показана непрерывная по существу
линия развития еретических учений
и движений, сопровождавшая феода-
лизм как на ранних, так и на зрелых
ступенях его развития. История сре-
дневековых ересей в целом изложе-
на более подробно, чем в прежних
изданиях, что представляется вполне
правомерным.
Однако по данной главе можно, с
нашей точки зрения, высказать не-
которые пожелания, направленные
на возможное улучшение освещения
этой важной идеологической пробле-
мы. Так, представляется недостаточ-
но прорисованной связь еретических
учений с крестьянскими движения-
ми в феодальном обществе. Безус-
ловно, справедливо выделение ереси
городов в качестве основной, однако
глубоко закономерно и симптоматич-
но слияние еретических движений с
крестьянскими восстаниями периода
развитого феодализма, когда борьба
именно этого класса достигает своего
апогея. Было бы желательно более
подробно разъяснить, что высокий
подъем классовой борьбы крестьян-
ства вызвал потребность в ее идеоло-
гическом обосновании, что и приво-
дило к объединению еретических
учений с конкретными крестьянски-
ми выступлениями.
При рассмотрении бюргерского
направления средневековой ереси, в
целом весьма основательном и инте-
ресном, следовало бы, по нашему
мнению, несколько подробнее разъ-
яснить ее некоторые основные поло-
жения. В качестве примера можно
назвать идею «дешевой» церкви, по-
данную лишь под углом зрения дей-
ствительного удешевления культа.
Между тем уже пришло время пос-
тавить вопрос о более сложных идей-
ных корнях этого лозунга. В частно-
Рецензии
331
сти, думается, можно было бы
попытаться теснее связать идею «де-
шевой» церкви с социальной приро-
дой бюргерства, занимавшего свое-
образное место в экономической и
политической жизни феодального
общества, отличавшегося собствен-
ным этическим идеалом, собствен-
ным представлением о нравственных
ценностях и, наконец, собственным
вкусом.
Подобные разъяснения особенно
важны в свете последующего изло-
жения сущности реформационных
идей, среди которых требованию
«дешевой» церкви принадлежало не-
малое место. Заметим сразу же, что
в главах, посвященных Реформа-
ции, этот вопрос также не получил
достаточно основательного разъясне-
ния. В то же время практика пре-
подавания подсказывает острую не-
обходимость значительного внима-
ния к подобным вопросам в связи с
недостаточной информированностью
студентов по истории церкви в це-
лом и в связи с тем, что в современ-
ном мире проблема церкви и рели-
гии еще отнюдь не исчезла.
Заново написана в новом издании
учебника глава о средневековой
культуре и идеологии в странах За-
падной Европы в V—XV вв. Данная
глава представляется в целом бес-
спорной удачей. В первую очередь
следует отметить совершенно спра-
ведливое выделение основных пе-
риодов в развитии средневековой
культуры и характеристику каждого
из намеченных этапов в отдельно-
сти. Глубокая дифференцирован-
ность культуры раннего феодализ-
ма, а также периодов XI—XIII и
XIV—XV вв. делает такой подход
вполне правомерным и плодотвор-
ным для усвоения в учебном курсе.
Шире и конкретнее, чем в преж-
них изданиях, показаны позитивные
достижения средневековой культу-
ры, ее хотя и слабая, но все же су-
ществовавшая связь с античным на-
следием и арабской культурой. Бо-
лее разносторонне рассмотрены и
оценены элементы рыцарской куль-
туры на примере романа и лириче-
ской поэзии (с. 424—425). Здесь
весьма ясно и определенно выделе-
ны лучшие и более слабые стороны
этой литературы в неразрывной свя-
зи с идеологией господствующего
класса и его реальным положением
в обществе.
Представляется правомерным вы-
деление в специальный раздел ана-
лиза средневекового западноевро-
пейского эпоса в качестве специфи-
ческого литературного жанра,
который не может быть безоговороч-
но отнесен ни к народной, ни к ры-
царской литературе.
Следует, безусловно, приветство-
вать введение параграфа, посвящен-
ного крестьянской литературе сред-
невекового общества. Появление
такого нового раздела, по-видимому,,
в значительной мере является след-
ствием углубления внимания совет-
ских медиевистов к изучению идео-
логии и духовной жизни средневеко-
вого крестьянства.
С нашей точки зрения, в данной
главе было бы желательно несколь-
ко более подробно остановиться
лишь на некоторых общих положе-
ниях (например, более основательно
разъяснить причины монополии
церкви на интеллектуальное образо-
вание и истоки ее руководящей
роли в духовной жизни средневеко-
вого общества). Кроме того, нам
представлялось бы методически по-
лезным для учебных целей в главе
о культуре подчеркнуть принципи-
ально важное положение, раскрытое
в другом аспекте в третьей главе.
Следовало бы отметить, что времен-
ный относительный упадок духов-
ной культуры в период раннего
средневековья представлял собой
естественную грань прогрессивного
в целом процесса синтеза элементов
античной цивилизации с находив-
шимся на гораздо более низком
уровне духовной жизни «варвар-
ским» миром.
Необходимо подчеркнуть, что пол-
ная переработка главы о средневе-
ковой культуре в новом издании
учебника и приведение ее в соответ-
ствие с новейшими достижениями
советской медиевистики представ-
ляют собой положительное явление.
Думается, что вопросам культуры в
832
Рецензий
учебных исторических курсах выс-
шей школы должно уделяться воз-
растающее внимание, обусловлен-
ное современными задачами нрав-
ственного и эстетического воспи-
тания.
До сих пор преимущественное
внимание в нашей рецензии было
уделено отдельным главам 1-го тома
учебника, так как именно они под-
верглись наиболее существенной пе-
реработке. 2-й том претерпел зна-
чительно меньшие изменения.
2-й том «Истории средних веков»
посвящен позднему средневековью
в странах Западной Европы. Он
охватывает период глубочайших
внутренних перемен в системе фео-
дализма, вызванных к жизни зарож-
дением в недрах феодальной систе-
мы элементов капиталистического
уклада. Это обусловило большую
сложность задач, стоявших перед
авторами, в первую очередь необхо-
димость доступного и ясного изло-
жения ряда глубоких теоретических
проблем. Выше уже отмечалось, что
эти задачи в значительной степени
решаются в интересной и содержа-
тельной главе проблемного характе-
ра «-Возникновение капиталистиче-
ских отношений в странах Запад-
ной Европы».
Во 2-м томе учебника, кроме того,
есть еще несколько обобщающих
разделов, такие, как «Великие гео-
графические открытия», «Феодаль-
ная реакция и контрреформация в
Европе», «Международные отноше-
ния в XVI — первой половине
XVII в.» В сочетании с главами,
посвященными истории отдельных
стран, они помогают читателю не
утрачивать представления об обще-
европейском масштабе наиболее зна-
чительных событий и явлений пе-
риода позднего феодализма.
В качестве положительного свой-
ства следует также отметить нали-
чие ярко написанных персональных
исторических портретов (например,
в главах, посвященных Реформации,
Нидерландской буржуазной револю-
ции и др.), которые должны способ-
ствовать усвоению студентами учеб-
ного материала.
Пути дальнейшего совершенство-
вания 2-го тома рецензируемого
учебника должны быть, на наш
взгляд, в первую очередь связаны с
некоторым усилением внимания к
проблемно-теоретическим вопросам.
Так, например, с нашей точки зре-
ния, следовало бы несколько подроб-
нее раскрыть сложную проблему
Реформации в Западной Европе.
Имеется в виду не конкретная исто-
рия реформационных движений в
отдельных странах, представленная
в учебнике достаточно полно, а не-
которые общие аспекты сущности
Реформации в целом. Думается,
в частности, что желательно пока-
зать ее внутреннюю связь с еретиче-
скими движениями периода развито-
го феодализма, более ярко подчерк-
нуть сочетание в реформационном
движении унаследованной от сред-
невековья религиозной оболочки с
принципиально новым социальным
содержанием.
При рассмотрении проблемы за-
падноевропейского абсолютизма
представляется желательным и уже
возможным на сегодняшний день
дать типологизацию этой формы го-
сударства, собрав воедино и обоб-
щив содержащиеся в отдельных гла-
вах конкретные данные об особен-
ностях абсолютной монархии в
различных странах. Связав их с кон-
кретно-историческими особенностя-
ми феодализма, можно было бы
выделить основные типы западно-
европейского абсолютизма.
По-видимому, при дальнейшей ра-
боте над учебником потребует пе-
реработки и дополнения глава,
посвященная Италии XVI — первой
половины XVII в. За последнее вре-
мя по данному периоду итальянской
истории появилось немало работ,
в которых по-разному ставится ряд
сложных вопросов развития страны
в эпоху позднего феодализма.
В частности, очевидно, требует оп-
ределенных корректив освещение
проблемы экономического упадка
Италии.
В заключение следует отметить,
что новое издание рецензируемого
учебника, безусловно, свидетель-
ствует о дальнейшем повышении
его качества. Этому в первую оче-
редь способствует углубление про-
блемно-теоретического подхода к
Рецензии
333
изложению материала, отличающее
данный учебник от большинства по-
добных изданий. Именно такой под-
ход в наибольшей степени соответ-
ствует основному направлению раз-
вития современной марксистской
медиевистики. Представляется целе-
сообразным в перспективе дальней-
шей работы по усовершенствованию
данного учебника усилить именно
это качество. Так, например, было
бы желательно обобщить и пред-
послать истории каждого периода
феодализма изложение его основ-
ных, наиболее характерных черт;
сконцентрировать в одном из разде-
лов учебника вопросы политэконо-
мии феодализма, выделив специфи-
ческие черты его западноевропейско-
го варианта. Представляется также
целесообразным отразить в обобщен-
ной форме эволюцию феодального
государства в странах Западной Ев-
ропы; дать теоретический анализ
развития классовой борьбы феодаль-
ного крестьянства применительно к
истории западноевропейских госу-
дарств.
Подводя итоги рассмотрению но-
вого издания учебника истории
средних веков для университетов,
следует отметить, что он, безуслов-
но, представляет собой важное до-
стижение в обеспечении советской
высшей школы научно-педагогиче-
ской литературой самого высокого
современного уровня.
Н. И. Басовская
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И ИДЕОЛОГИИ СРЕДНЕ-
ВЕКОВОГО ОБЩЕСТВА. Межвузовский научный сборник. Отв. редак-
тор проф. Г. Л. Курбатов. Л., Изд-во ЛГУ, 1978. Вып. 2. 142 с.
Первый выпуск сборника (1974 г.)
вызвал положительные отклики. Вто-
рой позволяет уже в какой-то мере
говорить, что сам тип этого издания
принял определенные очертания.
Проблемы социальной структуры
средневекового общества, стадиаль-
ных ее вариантов и особенностей,
типологии, генезиса и развития фео-
дализма, идеологии и культуры фео-
дального общества — темы, объеди-
няющие все статьи, входящие в
сборники. Одной из особенностей
обоих выпусков является отчетливо
проводимая установка на выявление
общего и отличного в развитии об-
щества, идеологии и культуры стран
Западной Европы, славянских стран,
Византии, Ближнего Востока.
В сборниках выдерживается хро-
нологический принцип объединения
материала и разделение на два те-
матических подраздела: история,
идеология и культура. Большие про-
блемные статьи сочетаются с не-
большими исследованиями, примы-
кающими к ведущим темам. Если
первые принадлежат, как правило,
перу известных исследователей, то
вторые — молодым начинающим уче-
ным. Таким образом, сборник удач-
но сочетает «представительство» ме-
диевистов разных поколений и опы-
та. Если в 1-м выпуске редколлегии
удалось привлечь научные силы ве-
дущих университетов в области ме-
диевистики, то авторская «геогра-
фия» 2-го выпуска шире. Видно
стремление редколлегии обеспечить
творческое содружество по важней-
шим узловым вопросам с учеными
университетов социалистических
стран. Так, во 2-м выпуске помеще-
на интересная проблемная статья
известного медиевиста, профессора
Лейпцигского университета Э. Вер-
нера.
Первая группа статей относится
к проблемам перехода от антично-
сти к средневековью. Она представ-
лена статьями Г. Л. Курбатова,
А. Р. Корсунского, К. Ф. Савело.
В статье Г. Л. Курбатова «К про-
блеме рабства в ранней Византии»
(с. 3—11) рассматриваются и сумми-
руются данные и выводы вышед-
ших в последние годы работ, посвя-
щенных выяснению роли рабства в
производстве ранней Византии, рас-
пространенности рабского труда и
рабства. Рассмотрение этих вопро-
сов имеет принципиальное значение
для выяснения характера ранневи-
зантийского общества IV—VI вв.—
334
Рецензии
вопроса, который является дискус-
сионным и в советской историогра-
фии. Автор подчеркивает не только
массовость и распространенность ра-
бовладения среди всех категории на-
селения восточных провинций на
протяжении всего IV в., но и еще
продолжавшую оставаться очень су-
щественной производственную роль
рабского труда в ранневизантийском
обществе. Г. Л. Курбатов считает,
что в целом в некоторых производ-
ствах, в том числе и «массовых»,
экономическая невыгодность исполь-
зования рабского труда еще не про-
явилась в той степени, как это иног-
да изображается.
Существенный общий методиче-
ский и методологический интерес
представляет попытка автора более
четко вычленить постановку пробле-
мы рабства, исходные научные кри-
терии подхода к ней именно для
эпохи поздней античности как ново-
го качественного этапа эволюции ан-
тичного общества, выявить отноше-
ние поздней античности к рабству и
в экономической и в социальной
сфере.
Небольшая статья Г. Л. Курбато-
ва тесно смыкается со статьей
А. Р. Корсунского «Об экономиче-
ской политике государства раннего
средневековья в Западной Европе»
(с. 11—25). Она представляет собой,
дальнейшую разработку автором ос-
новных идей и положений, сформу-
лированных им на VI Международ-
ном конгрессе экономической исто-
рии в Копенгагене (1974 г.) и в по-
следующих работах. Не приходится
говорить об огромной роли, которую
играло раннесредневековое государ-
ство в формировании и утверждении
феодальных отношений, и о значи-
мости данной проблемы. Заслужи-
вает внимания выделение автором
из всей совокупности мероприятий
государства «экономической» поли-
тики, в которую автор включает
прежде всего то, что безусловно иг-
рало важнейшую роль в «формиро-
вании экономического базиса нового
общества феодальной собственно-
сти».
А. Р. Корсунскому удалось не
только четко выявить «составляю-
щие» экономической политики, но и
рассмотреть эту политику в целом,
в соотношении и взаимодействии ее
«составляющих». Автор делает ак-
цент на трех важнейших аспектах
экономической политики раннесред-
невекового государства: налоговой,
королевском землевладении и поли-
тике по отношению к крестьянству.
А. Р. Корсунский убедительно пока-
зывает, что «в общегосударственном
плане» эта политика во многих слу-
чаях рождалась «из практики» коро-
левских владений. В статье раскры-
та особая роль раннесредневекового
государства как активного регуля-
тора общественных отношений, по-
казаны тенденции, которые приво-
дили к постепенному складыванию
форм феодальной зависимости.
В центре внимания автора политика
государства в «синтезных» регионах.
Для других лишь отмечаются черты
своеобразия, но не рассматривается
специфика в целом. Остался в сторо-
не и вопрос о соотношении «стихий-
ного» и «сознательного»: можно ли
для раннего средневековья говорить
об определенных элементах эконо-
мической «политики», теории или
речь идет просто о «реагирова-
нии» государства на конкретные об-
стоятельства и ситуацию.
К этому же кругу проблем отно-
сится и статья покойной К. Ф. Са-
вело «Раннеанглийские законы
о браке и семейном имуществе»
(с. 25—33), в которой рассматривает-
ся эволюция отношений собственно-
сти внутри семейного коллектива в
VII—X вв. На основании тщательно-
го изучения данных законодательст-
ва автору удалось четко обозначить
«качественные» грани этапов разви-
тия этих отношений: укрепление
прав членов родственного коллекти-
ва и членов малой семьи (IX—
X вв.), которое первоначально вело к
упрочению наследственных прав
всех ее членов, а затем к начавше-
муся ограничению части из них. «По
мере утверждения феодального зем-
левладения, оформления вассально-
ленной системы,— пишет К. Ф. Са-
вело,— свобода в распоряжении зе-
мельным имуществом, проявившаяся
в укреплении в IX—X вв. наследст-
венных прав женщины, приходит
в несоответствие со спецификой об-
Рецензии
335
щественных связей и структурой
землевладения» (с. 33).
Проблемы развития западноевро-
пейского феодализма представлены
в сборнике статьей К. Д. Авдеевой
«К проблеме внутренней колониза-
ции Северной Англии в XI—XIII вв.»
(с. 34—50). Автор подчеркивает
принципиальную значимость изуче-
ния проблем внутренней колониза-
ции как важного фактора в разви-
тии феодализма, характерного для
определенного его этапа. Именно в
колонизации «кроются причины мно-
гих явлений средневековой е с ромей-
ской действительности» (с. 34).
В центре внимания автора — внут-
ренняя колонизация как процесс в
его основных тенденциях, этапах,
качественных и количественных ха-
рактеристиках. В статье представлен
материал сплошных подсчетов авто-
ра по книге Страшного суда и топо-
нимическим справочникам, имев-
ших целью уяснение масштабов
колонизации, сопровождавшейся по-
явлением новых селений. Эти под-
счеты дали К. Д. Авдеевой возмож-
ность не только выяснить ведущие
тенденции процесса колонизации Се-
верной Англии, но и выделить этап
наивысшего ее подъема: «Общая
площадь новых приходов и вилл со-
ставляет в Северной Англии около
900 тыс. а., почти половина из кото-
рых приходится на XII в.» (с. 49).
Некоторые проблемы своеобразия
развития феодализма рассматри-
ваются в статье А. Д. Новичева
«Рабство в Османской империи в
средние века» (с. 55—72). Автор от-
мечает, что «рабство составляло
одну из характерных черт социаль-
но-экономической структуры Осман-
ской империи» (с. 55). А. Д. Новичев
исследует проблему рабства на боль-
шом хронологическом отрезке — с
середины XIV до конца XVIII в. Он
акцентирует свое внимание на изу-
чении данных, связанных с важней-
шим источником пополнения ра-
бов — войнами, захватом пленных.
Большой фактический материал,
приведенный автором, показывает,
что захват пленных, рабов был до
самого конца указанного периода
важной целью и стимулом турецких
войн. А. Д. Новичев стремился рас-
крыть и «внутренние^ корни этого
явления. В результате ему удалось
показать, что роль рабства была не
просто наследием, своего рода пере-
житком условий эпохи рождения и
становления Османской империи,
поддержанным последующим стече-
нием обстоятельств, а неотъемле-
мым и органичным элементом всей
турецкой феодальной системы, спо-
собствовавшим ее укреплению и
развитию.
В небольшой статье Т. Г. Ложки-
ной «К вопросу о социальных и по-
литических отношениях в Англии в
период правления Ричарда III»
(с. 50—55) делается попытка
вскрыть глубинные подосновы бур-
ной эпохи его правления. Произве-
денный автором анализ интересов
политических группировок дает оп-
ределенный материал для понима-
ния причин недолговечности правле-
ния Ричарда.
Дискуссионной проблеме эволюции
социальной структуры общества в
эпоху позднего средневековья посвя-
щена статья Э. Вернера (Лейпциг-
ский университет) «Изменения в
структуре позднесредневекового об-
щества в свете новейших исследова-
ний на примере Италии» (с. 72—
85). Дискуссия вокруг «кризиса фео-
дализма» в XIV в. дала толчок но-
вым разработкам и новым концеп-
циям. Статья Э. Вернера в постанов-
ке и рассмотрении проблем социаль-
ной эволюции XIV—XV вв. во мно-
гом примыкает и идет в одном русле
с работами М. А. Барга и А. Н. Чис-
тозвонова. Автор вновь анализирует
и оценивает тенденции экономиче-
ского развития Италии в XIV в., их
сложный и противоречивый харак-
тер и убедительно показывает, что
нет оснований «говорить о кризисе
в XIV в. в экономическом смысле
слова» (с. 83), но не следует недо-
оценивать изменений, которые про-
изошли в XIV в., их воздействия на
феодальную экономику. Э. Вернер
четко проводит грань между XIV—
XV и XVI столетиями: «Новая аг-
рарная система XV в. хотя и стаби-
лизировала ситуацию в деревне, но
не превратилась в прогрессивную
ячейку экономики. Ее относительная
стабилизация препятствовала аг-
>36
Рецензии
рарной революции. Раннекапитали-
стические предпосылки в городском
секторе не были достаточными для
превращения сельского хозяйства в
капиталистическое» (с. 84—85).
Проблемы развития экономики, аг-
рарных отношений в эпоху позднего
феодализма рассматриваются в
статье В. А. Якубского «К типологии
польского фольварка» (с. 85—92).
В центре внимания автора — вопрос
о взаимосвязи между «вторым изда-
нием крепостничества» и государст-
венной надстройкой. В. А. Якубский
ставит под сомнение обоснованность
тезиса, что политической формой,
соответствовавшей наиболее закон-
ченному варианту барщинно-кре-
постническпх порядков, была не
абсолютная монархия, а аристокра-
тически-дворянская полу республика,
полумонархия. Полемизируя с чехо-
словацким историком Л. Шписом, ав-
тор показывает сложный характер
польской государственности и при-
водит доводы в пользу мнения о том,
что нет оснований объявлять само
существование централизованного
абсолютистского государства «враж-
дебным» второму изданию крепост-
ничества.
В статье В. В. Штокмар «Рели-
гиозно-политический и националь-
ный аспекты объединения Англии
и Шотландии в начале XVII в.»
(с. 92—103) рассматриваются имею-
щие большое значение и во многом
еще неизученные аспекты политики
абсолютизма. Автор всесторонне
анализирует события, предшество-
вавшие унии 1604 г., которая яви-
лась важным этапом в процессе
подчинения Англией Шотландии, и
ее последствия. В. В. Штокмар убе-
дительно показала связь между раз-
витием социально-экономических от-
ношений в Англии и усилением
наступления на Шотландию. В ста-
тье также прослеживаются полити-
ческие формы и методы его осуще-
ствления. Автор ставит вопрос о зна-
чении унии для становления в Шот-
ландии абсолютистского правления
и показывает, как борьба с инозем-
ным господством в Шотландии сли-
валась с борьбой против абсолю-
тизма.
Ряд статей сборника посвящен
проблемам идеологии и культуры.
Этот раздел открывается статьей
Н. И. Девятайкиной «Идейно-поли-
тические истоки и ведущие принци-
пы этического учения Августина»
(с. 103—113). Обращение к этой теме
является весьма актуальным в свя-
зи с той ролью, которую сыграл Ав-
густин в истории средневековой
мысли. Автор выступает против
взглядов тех исследователей, кото-
рые слишком тесно связывают эти-
ку Августина с развитием и транс-
формацией античных идеалов
(П. Курсель и др.). Н. И. Девятай-
кина прослеживает связь между
идеями Августина и порождавшей
их обстановкой IV в. и показывает,
почему необходимость разработки
именно проблем христианской эти-
ки приобрела в этом столетии осо-
бое значение.
Проблемам генезиса гуманизма
посвящена статья Л. II. Немилова
«Вена — очаг раннего немецкого гу-
манизма» (с. 113—118). Автор пока-
зывает не только значение, но и
своеобразие Вены как центра ранне-
го немецкого гуманизма. Он отме-
чает, что городской организм Вены
был значительно консервативнее, чем
Нюрнберга, Аугсбурга или Страсбур-
га. Гуманистическое движение в
Вене зародилось лишь в форме
кружка при имперской канцелярии,
но через Венский университет оно
имело прямое воздействие на куль-
турную жизнь самой Вены. По своей
природе этот кружок гуманистов
был традиционным продолжением
ориентации на культурную жизнь
Италии. Средневековая городская
культура самой Вены медленно раз-
вивалась, приобретая гуманистиче-
ские черты, отчасти под воздейст-
вием спонтанных процессов по мере
вовлечения городской экономики в
сферу раннекапиталистических от-
ношений, отчасти же впитывая эле-
менты гуманистической культуры по
мере распространения повых идей в
университетском образовании и в
стиле придворной жизни (с. 117—
118).
В большой статье «К вопросу об
идейном содержании творчества
Леонардо да Винчи» (с. 118—142)
Рецензии
337
С. М. Стам вновь поднимает дискус-
сионный вопрос о причинах, побу-
дивших Леонардо покинуть в 1482 г.
Флоренцию. По мнению автора, «по-
ложение Леонардо в медичейской
Флоренции, как и его отъезд из нее,
не могут быть правильно поняты
вне той идейной атмосферы, кото-
рая возобладала в столице ренес-
сансной Италии в эту пору, и вне
отношения Леонардо к этому „духу
времени"» (с 124). Автор расходится
с рядом зарубежных (П. О. Кристел-
лер и др.) и советских (В. И. Рутен-
бург и др.) исследователей в оцен-
ке флорентийского неоплатонизма
XV в. и исходит из мысли М. А. Гу-
ковского о прямой враждебности
«всей системы мышления реалиста
и экспериментатора Леонардо ми-
стически-религиозной системе Фи-
чино» (с. 125). Известные пути для
выяснения поставленной проблемы,,
по мнению С. М. Стама, открывает
более глубокое изучение творчества*
Леонардо в период перед его отъез-
дом из Флоренции, и прежде всего
его незаконченной картины «Покло-
нение волхвов». Автор считает, что,,
создавая эту картину, «Леонардо....
осмелился бросить открытый вызов
тому христианско-созерцательному
идеалу, который стремились в новой,
синкретической философско-религи-
озной форме насадить флорентий-
ские платоники» (с. 142).
Г. Е. Лебедева
А. Р. КОРСУНСКИЙ. ИСТОРИЯ ИСПАНИИ IX—XIII ВЕКОВ (Социаль-
но-экономические отношения и политический строй Астуро-Леопского
и Лоопо-Кастильского королевства). Учебное пособие. М. Высшая шко-
ла, 1976.
Вопрос о характере социально-эко-
номического строя и особенностях
развития Испании в раннее и клас-
сическое средневековье издавна слу-
жит предметом острой полемики
среди историков-медиевистов разных
стран. В Испании н за ее предела-
ми исписаны тысячи страниц, что-
бы доказать, что в испанских госу-
дарствах в изучаемый период феода-
лизм не сложился, ибо этому
воспрепятствовала Реконкиста, важ-
нейшими последствиями которой
было сохранение значительного слоя
свободного крестьянства и усиление
королевской власти. Противники
этой концепции доказывали суще-
ствование феодализма в Испании,
подчеркивая вместе с тем его свое-
образие по сравнению с другими
странами Европы. В последние де-
сятилетия этот спор приобрел осо-
бую остроту. К полемике историков-
испанистов, начавшейся более
100 лет тому назад, присоединились
многие ученые-латипоамериканп-
сты. Суждения о характере испан-
ского феодализма оказались очень
существенными для понимания со-
циально-экономической структуры
американских колоний Испании и
особенностей современного развития
стран Латинской Америки.
Новая книга профессора МГУ
А. Р. Корсунского задумана как
учебное пособие для студентов исто-
рических факультетов, но значение
ее выходит за рамки чисто учебных
задач. Перед нами серьезное моно-
графическое исследование, цель ко-
торого осмыслить своеобразие разви-
тия феодализма в Астуро-Леонском
государстве и в Кастилии в IX—
XIII вв. и предложить типологию
испанского феодализма. А. Р. Кор-
сунский дает детальную картину со-
циально-экономического ра звитпя
испанских государств в изучаемую
эпоху, анализирует влияние рекон-
кисты и колонизации на ход истори-
ческого развития страны. Автор ши-
роко использует сравнительно-исто-
рический метод исследования, по-
следовательно сопоставляя экономи-
ческие, социальные и политические
процессы в Испании с развитием
аналогичных явлений во Франции,
Англии, Германии. Выявляя общие
закономерности и расхождения в
развитии феодализма в ряде стран
Европы и Испании, автор так фор-
мулирует главную проблему своей
338
Рецензии
книги: «Следует ли рассматривать
эти расхождения как своеобразие
испанского феодализма или как не-
феодальный характер общественно-
го строя названных испанских го-
сударств?» (с. 9).
Большим достоинством книги сле-
дует считать ее полемическую за-
остренность. Автор полемизирует с
буржуазными историками, большин-
ству из которых присущ формально-
юридический подход к решению
проблем испанского феодализма.
Рассматривая феодализм лишь как
чисто политическую систему, кото-
рой свойственно дробление сувере-
нитета и господство ленной систе-
мы, многие видные испанские исто-
рики, в частности Р. Альтамира,
К. Санчес-Альборнос, Л. Вальде-
авельяно и другие, отрицают суще-
ствование феодализма в Испании в
изучаемую эпоху на том основании,
что отдельные феодальные институ-
ты в Испании (например, иммуни-
тет, субинфеодация, лен) не достиг-
ли такого полного развития, как во
Франции. Давая развернутую кри-
тику основных концепций буржуаз-
ных историков, А. Р. Корсунский
подчеркивает, что их главный недо-
статок заключается в формально-
юридическом анализе проблемы,
оторванном от исследования соци-
ально-экономического развития ис-
панских государств. А. Р. Корсун-
ский изучает социальную сущность
испанских государств в тесной свя-
зи с исследованием экономического
строя и социальных отношений,
форм собственности, характера клас-
совой структуры в целом, рассмат-
ривая эти проблемы в рамках пони-
мания феодализма как социально-
экономической формации.
Автор уделяет большое внимание
характеру земельной собственности
и росту крупного землевладения,
роли общины, особенностям разви-
тия городов. Важное место занимает
проблема воздействия Реконкисты
на характер социального и эконо-
мического развития страны. Так, в
главе П, посвященной социально-
экономическим отношениям в Асту-
ро-Леонском королевстве в VIII—
X вв., подчеркивается, что наиболее
важным последствием арабского за-
воевания для северных районов по-
луострова было некоторое упроще-
ние социального строя по сравне-
нию с готской эпохой: произошло
увеличение числа мелких собствен-
ников, укрепились общинные отно-
шения, в области экономического
развития возросло значение ското-
водства по сравнению с земледе-
лием. Автор анализирует источники,
касающиеся структуры феодальных
вотчин в Галисии и Астурии, суще-
ствовавших еще в готскую эпоху,
и приходит к выводу, что социаль-
но-экономический строй на севере
страны может быть определен как
раннефеодальный (с. 96).
Центральное место в книге зани-
мает исследование эволюции фео-
дальных отношений в Кастилии и
Леоне в XI XIII вв.. когда в ре-
зультате успешного отвоевания зе-
мель у арабов произошло значитель-
ное расширение территории этих
государств. В ходе Реконкисты в
XI—XIII вв. к христианским госу-
дарствам были присоединены не
бесплодные опустошенные земли,
а плодородные густо населенные
районы с процветающим земледе-
лием и развитыми городами.
А. Р. Корсунский убедительно пока-
зывает существенное отличив коло-
низации XI—XIII вв. от предшест-
вующего периода. Встреча сельской
христианской Испании с городской
мусульманской Испанией привела к
глубоким демографическим сдвигам:
переселению выходцев из Леона и
Кастилии на отвоеванные земли и
перемещению масс мусульманского
населения и военнопленных во
внутренние области. Эти процессы
оказали огромное влияние на со-
циально-экономическое развитие
страны.
. Интересной стороной работы
А. Р. Корсунского является рассмот-
рение им в IV—VI главах книги про-
блемы влияния этих изменений на
социально-экономические процессы
вообще и на эволюцию феодального
строя в частности. Главное внима-
ние автора привлекает изучение
различных категорий зависимых
крестьян, эволюции свободных об-
щин-бегетрий на фоне дальнейшего
роста крупного землевладения н ух-
Рецензии
339
репления положения знати. В книге
показано, что «общая линия соци-
ального развития Леона и Кастилии
заключалась в смягчении зависимо-
сти различных категорий крестьян-
ства» (с. НО). Вместе с тем изуче-
ние крупного землевладения в XI-
XI П вв., предпринятое автором,
позволяет рассмотреть другую сто-
рону воздействия Реконкисты на
развитие феодальных отношении.
Подводя итоги исследованию ука-
занного периода, А. Р. Корсунский
пишет: «Реконкиста способствовала
сохранению значительного слоя мел-
ких земельных собственников в Кас-
тилии, но она же создала и такие
благоприятные условия для концен-
трации земли в руках короны, кото-
рые редко где еще встречались в
Европе в средние века» (с. 131).
Прослеживая изменения социально-
экономической структуры, автор
дает основательный анализ полити-
ческих и юридических аспектов раз-
вития испанского феодализма;
в книге исследуются бенефиций, вас-
салитет, иммунитет и коммендация
в леоно-кастильском обществе XI —
XIII вв. Автор и здесь проводит
сравнение эволюции этих институ-
тов в Испании и в других странах
Европы и приходит к вполне обос-
нованному выводу о том, что в Лео-
но-Кастильском государстве, так же
как и в других странах Европы, раз-
витие феодальных отношений приво-
дило к сосредоточению политической
власти в вотчине.
Заключительная часть работы
(главы VII—IX) посвящена пробле-
мам эволюции политического строя
Леоно-Кастильского королевства в
XI—XIII вв. Автор рассматривает
политику королевской власти по от-
ношению к различным сословиям,
совершенствование государственного
аппарата и административной систе-
мы, происходившее в упорной борь-
бе против партикуляризма феодаль-
ной знати. Автор видит основную
тенденцию политического развития
данного периода в постепенной эво-
люции к сословпо представительной
монархии.
Очень интересен и содержателен
материал последних (VIII. IX) глав
работы, посвященных военным орде-
нам и истории классовой борьбы в>
изучаемую эпоху.
Подводя итоги исследованию со-
циально-экономических отношений
и политического строя Леоно-Кас-
тильского королевства, автор впол-
не обоснованно приходит к выводу,
что следует «говорить о леоно-кас-
тильском варианте феодализма на-
ряду с каталонским, французским,
английским и т. п., но не о „несло-
жившемся“ феодализме северо-за-
падной и центральной частей Пире-
нейского полуострова» (с. 233).
Высоко оценивая работу А. Р. Кор-
сунского в целом, следует остано-
виться и на некоторых недостатках
и спорных моментах.
На наш взгляд, следовало бы во>
введении, где характеризуются ос-
новные направления историографии
вопроса, уделить больше внимания
концепции Рафаэля Альтамиры, по-
скольку его труд «История Испании»
издан в русском переводе и досту-
пен студентам и широкому кругу
читателей. Можно было бы подроб-
нее осветить во вводной части и в
основных разделах книги вклад рус-
ской дореволюционной историогра-
фии в изучение испанского феода-
лизма, в частности, это касается раз-
делов о свободных общинах-бегет-
риях. Так, в разделе о возникновении
бегетрий лишь вскользь упоминает-
ся работа И. В. Лучицкого, хотя он
дал очень интересное исследование
этой проблемы, не потерявшее своей
научной ценности и в наши дни.
Совсем не упомянут М. М. Ковалев-
ский — один из первых историков
испанской общины, который отка-
зался от чисто юридического анали-
за этой проблемы, обратив внимание
на социально-экономические аспек-
ты. Ему же принадлежит мысль
о том, что в Реконкисте важную
роль сыграли именно свободные об-
щины, а не просто свободное кре-
стьянство *.
Представляется не вполне оправ-
данным несколько ретроспективный
* Ковалевский М. М. Парод в драме
Лопе де Вега «Овечий источ-
ник».- В кп.: Памяти С. А. Юрь-
ева. М., 1895.
340
Рецензии
подход к исследованию бегетрий и
их эволюции (с. 73—76, 118—125),
слишком много внимания уделено
проблеме возникновения бегетрий и
их связи с институтами готского
периода, с коммендацией. Конечно,
этот вопрос важен, но главный ак-
цент, по нашему мнению, следовало
бы сделать на сравнении устройст-
ва свободных крестьянских общин
Северной Испании, не знавших араб-
ского завоевания, и бегетрий, созда-
вавшихся на отвоеванной террито-
рии. Вызывает сомнение положение
автора, что к концу XIII в. «к югу
от Дуэро бегетрии не привились»
(с. 120). Этот тезис противоречит
данным испанских хроник. Так, в
Хронике Педро Айялы имеются дан-
ные о том, что бегетрии были рас-
пространены на всей территории
Старой и Новой Кастилии2. Спор-
ным представляется также утверж-
дение об усилеппп «личной зависи-
мости крестьян бегетрий от сеньо-
ров» (с. 123). Данные источников,
как нам кажется, свидетельствуют
скорее о росте поземельной и юри-
дической зависимости.
Слишком кратко изложен мате-
риал об энкомьенде: энкомьепда
исследуется в одном разделе с им-
мунитетом, причем автор уделяет
внимание в основном королевским
энкомьендам Северной Испании.
2 Сгбшса del геу don Pedro Prime-
ro.— In: Cronicas de los reyes de
Castilla. Madrid, 1875, t 1, p. 416-
417.
Было бы интересно рассмотреть эн-
комьенду на отвоеванной террито-
рии. населенной мусульманами,
а также связанную с ней форму экс-
плуатации мусульманского населе-
ния репартимьенто. Это тем более
важно, что в отличие от других фео-
дальных институтов, которые впо-
следствии постепенно отмирали (им-
мунитет, коммендация, вассалитет),
энкомьенда и репартимьенто полу-
чили свою вторую жизнь в испан-
ских колониях в Америке, где они
превратились в главную форму экс-
плуатации коренного населения и
сохранились вплоть до XVIII в.
В книге дана обширная библио-
графия работ советских и зарубеж-
ных авторов: жаль, однако, что не
указаны хотя бы самые важные ис-
точники. Гак. в книге часто цити-
руется известный свод законов Аль-
фонса Мудрого «Семь частей», но
полное название этого источника с
выходными данными нигде но при-
водится. Можно оспаривать толкова-
ние некоторых терминов.
Отмеченные недостатки носят
частный характер. Они отнюдь не
умаляют высоких достоинств рабо-
ты А. Р. Корсунского. которая значи-
тельно обогатила советскую п миро-
вую историографию Испании. Эта
книга, несомненно, будет с большим
интересом воспринята и в самой
Испании. В этой связи было бы же-
лательно перевести ее на испанский
язык, так как она найдет многочис-
ленных читателей за рубежом.
Э. Э. Литаврина
А. Э. ШТЕКЛИ. «ГОРОД СОЛНЦА»: УТОПИЯ И НАУКА. М.. «Наука».
1978. 368 с.
Вначале был текст. Ня первой
странице «Города Солнца» жанр это-
го произведения определяется так:
dialogos poeticus. Поэтичность уто-
пии Кампанеллы преувеличивать нс
стоит, но текстологические исследо-
вания важны не только при изуче-
нии собственно литературных произ-
ведений. Автор рецензируемой мо-
нографии прав: «Иногда фраза,
испорченная переписчиком и восста-
новленная в ее первоначальном зна-
чении, может лучше объяснить нам
позицию мыслителя, чем широкие
построения иных его интерпретато-
ров» (с. 140).
В нашей стране наследие Кампа-
неллы изучается давно и с немалы-
мп успехами. Достаточно назвать
труды В. П. Волгина, В. Ф. Асмуса,
Л. С. Пиколин и. В. И. Рутенбурга,
В. В. Соколова, A. X. Горфункеля.
Однако в оценке Кампанеллы совет-
ские историки и философы не до*
Рецензии
341
ст и гл и единодушия, а в последние
годы спопы о * Городе Солнца» осо-
бенно обострились. Дискутируется
не только вопрос об отношении ком*
ыунистическнх утопий к гуманисти-
ческой культуре эпохи Возрождения.
Речь идет и о вещах более важных.
Все еще не* выяснено подлинное мес-
то Томаса Мора и Кампанеллы
в истории социалистической мысли.
Если в некоторых популярных,
а также справочных советских изда-
ниях Кампанелла и Томас Мор име-
нуются не просто утопическими со-
циалистами, но прямо-таки осново-
положниками утопического социа-
лизма, то А. И. Володин утверждает,
что и «Город Солнца» и «Утопия»
являются «реакционными в своей
положительной части» ’. Другие уче-
ные идут еще дальше. «Кампанел-
ла. писал Л. М. Баткин.— был ре-
троградным революционером, или.
если угодно, революционным ретро
градом»г. В советской историогра-
фии. посвященной Кампанелле. воз
ник некоторый риск ток», что
плоское।ной образ вождя несостояв
шейся крестьянской революции бу
дет вытеснен не менее плоскостным
ликом «самого великого мученика
ка топической Контрре<|м)рмацни».
Вс«* это объясняет не только науч-
ную актуальность новой работы
Л. 3. Штекли, но также ее характер
и методологию. Книга полемична.
В ней подробно проанализированы
доводы, на основании которых от-
дельные итальянские ученые объяв-
ляют теперь создателя одной из са-
мых знаменитых коммунистических
утопий чуть ли не официальным
философом феодально-католической
реакции. Наиболее обстоятельно п
убедительно А. 3. Штекли опровер-
гает аргументацию Джованни Дп
Наполи, хотя это в число глав-
ных задач работы никак не вхо-
дит. «Откровенно говоря. - пишет
автор.- нас больше заботит не
то. как на Западе толкуют ..Уто
пню" или ..Город Солнцв'*, а то.
1 Колодин Л. И. Утопия и история.
М.. 1976, с. 77.
’ Баткин Л. №. Парадокс Кампанел
лы.- Вопросы философия, 1971.
№ 2, с. 137.
что н в советской историогра-
фии до сих пор не выработано до-
статочно четкой их опенки» (с. 5).
Полемика к книге А. 3. Штекли не
предполагает памфлетности. Не спе-
ша объявить «теорию искреннего об-
ращения» Кампанеллы окончатель-
но похороненной, А. Э. Штекли про-
тивопоставляет ей не эффектные
спекулятивные построения, а реаль-
ность текстов. Прежде чем строить
ту или иную концепцию, утверждает
он. надо «попытаться понять, о чем
на самом деле говорили Мор п Кам-
панелла» (с. 17). До недавнего вре-
мени у нас считалось, что для исчер-
пывающего понимания «Города
Солнца» достаточно обратиться к его
латинскому варианту пли даже к пе-
реводу его на русский язык.
Перевод «Города Солнца», осуще-
ствленный выдающимся филологом-
классиком Ф. А. Петровским, дейст-
вительна очень хорош. Он ясен,
изящен и почти всегда точен, одна-
ко. как это хорошо показал
А. 3. Штекли. отдельные детали
<1>. А. Петровскому остались не впол-
не» ясны. Объясняется это не столь-
ко недостаточной осведомленностью
переводчика в области естественно-
научных представлений начала
XVII в., сколько прежде всего каче-
ством тех латинских текстов, с ко-
торыми ому пришлось иметь дело.
Кроме того. Петровский был искрен-
не убежден, что переводят «оконча-
тельный текст» «Города Солнца»,
и считал, будто существенных раз-
личий между латинским и итальян-
ским вариаптами пет1 * 3. До недавнего
времени иной концепции не сущест-
вовало. Такие авторитетные ученые
и крупнейшие текстологи, как
Н. Боббио. Л. Фирпо, Р. Америо,
твердо уверены, что Кампанелла
сам перевел итальянский текст «Го-
рода Солнца» на латынь в той вер-
сии. которая в 1623 г. была опубли-
кована Товием Алами во Франкфур-
те. (Сомневаться в этом было нр при-
нято.
’ Петровский Ф. А. Издания и пе-
К»воды «Города Солнца»,- В ки.:
ампанелла. Город Солнца. М.;
Л., 1947, с. 137.
342
Рецензии
В рецензируемой книге устояв-
шиеся традиции нарушены. А. Э.
Штекли стал первым советским уче-
ным, обратившимся к текстологии
«Города Солнца». Он проанализиро-
вал основные этапы исследования и
издания текста «поэтического диало-
га» Кампанеллы как на итальян-
ском, так и на латинском языке, от-
метил достигнутые в этой области
успехи и, что, пожалуй, самое важ-
ное, выявил все еще нерешенные
текстологические проблемы. Их ока-
залось не так уж мало. Обнаружи-
лась поразительная ситуация. То,
что считалось аксиомой, с некоторо-
го времени стало препятствием для
дальнейшего развития текстологии
одного из важнейших сочинений
Кампанеллы. А. Э. Штекли пишет:
«...мысль о переводе, осуществлен-
ном самим автором, зажала все
текстологические исследования „Го-
рода Солнца** в такие тиски, что про-
блема о взаимоотношении подлин-
ника с переводом до сих пор не
только не решена, но даже по суще-
ству и не поставлена» (с. 101). По-
пытки А. Э. Штекли решить про-
блему, не поставленную итальян-
скими текстологами, составляют
основное содержание его подлинно
новаторской книги. Реализуя выска-
занную В. И. Рутенбургом идею
о принципиальной важности изуче-
ния не только латинского перевода
«Города Солнца», но и всех его
итальянских редакций, А. Э. Штекли
в результате тщательно и, я сказал
бы, красиво выполненных текстоло-
гических сопоставлений пришел к
ряду интересных наблюдений и вы-
водов. Вот некоторые и, как пред-
ставляется, важнейшие из них: ре-
дакция, сохраненная Луккским спис-
ком, вопреки мнению И. Боббио и
Л. Фирпо, не может быть признана
отражением окончательной и самой
полной редакции итальянского текс-
та «Города Солнца»; в основу латин-
ского перевода лег не Луккский ва-
риант, а какой-то еще ненайденный
список, условно именуемый А. Э.
Штекли «Товиевым»; латинский пе-
ревод «Города Солнца» был сделан
не самим Кампанеллой, а либо То
вием Адами, либо кем-то из его бли-
жайших друзей.
Если мысль А. Э. Штекли о суще-
ствовании «Товиева списка» может
быть принята пока что как вероят-
ная, многое проясняющая рабочая
гипотеза, то несравненно более су-
щественное и влекущее за собой да-
леко идущие последствия положе-
ние о том, что автором латинского
перевода «Города Солнца» мог быть
кто угодно, только не сам Кампа-
нелла, выглядит вполне доказанным.
Основываясь на глубоком изучении
не только идей Кампанеллы, но так-
же его стиля, стилистики и даже
особенностей пунктуации («Вся не-
разбериха началась с исчезнувшей
точки!»), А. Э. Штекли, сопоставляя
латинский перевод с итальянскими
текстами, обнаружил, что при пере-
воде были допущены отступления,
которые невозможно объяснить ни
авторским желанием изменить свою
мысль, пи обычным недосмотром пли
небрежностью. Переводчик, в боль-
шинстве случаев добросовестный и
точный, иногда вдруг вносил «уточ-
нения» в па и бол ее темные места
оригинала, причем делал это подчас
с таким усердием, что совершенно
уходил от первоначальною смысля
При этом, как замечает А. 9. Штек-
ли, «при переводе наиболее заметно
„перерабатывались’* либо фразы, где
отразилась специфичная лекепка
Кампанеллы, либо пассажи, плохо
читаемые в итальянских списках»
(с. 96).
Приводимые в книге примеры, по-
казывающие, что переводчик в ряде
случаев явно не понимал лежащий
перед ним текст, многочисленны и
красноречивы. Не разобрав почерка
переписчика или просто по рассеян-
ности, переводчик прочел слово ge-
nera tore как governatore. В резуль-
тате «человек, который, по мнению
Гостинника. мог терзаться ревно-
стью оттого, что его не сделали ,.ро-
дителем**, превратился в несчастно-
го честолюбца, коего обошли, не
сделав ,,начальником**!» (с. 134), а в
первом издании «Города Солнца» по-
явилась совсем не вяжущаяся с со-
держанием текста маргиналия: «Об
искоренении зависти и честолюбия»!
С текстологическими исследова-
ниями в книге связаны наиболее ин-
тересные наблюдения, а зачастую и
Рецензии
343
самые настоящие открытия, которые
можно было бы назвать сенсацион-
ными, если бы этому не противоре-
чил строго научный стиль исследо-
вателя. Иногда возникает даже
впечатление, будто в книге все под-
чинено одной текстологии. Так, по-
дробно изложив сложный, а кроме
того, и сознательно запутанный не-
которыми исследователями вопрос
об отношении Кампанеллы, с одной
стороны, к «Звездному вестнику»
Галилея, а с другой — к идеям Ко-
перника и Бруно, автор замечает:
«Здесь мы не ставим себе цель с не-
обходимой обстоятельностью иссле-
довать эволюцию космологических
воззрений Кампанеллы... Основная
задача была в другом: показать,
сколько еще загадок таит в себе
текстология „Города Солнца" и как
обманчивы те вехи, которые обычно
принимаются за надежный ориентир
в исследовании творческой истории
любимого детища Кампанеллы»
(с. 2<К'> 207).
Однако в данном случае автор
явно несправедлив к* себе. Раздел
его монографии: «„Город Солнца" и
..Звездпый вестник"» привлекает не
только остроумием соображений
о возможных датах «вставки об оку-
ляре» и «вставки о сомнениях»,
а также о связп между ними, но
прежде всего богатством сведений,
воссоздающих ту атмосферу «ожи-
дания чудесных изобретений, кото-
рая в первые годы XVII столетия
царила среди неаполитанцев»
(с. 190) п которая многое объясняет
в научных воззрениях соляриев.
Текстология в работе А. Э. Штекли
не самоцель — она превращается в
своего рода методологию научного
исследования. Это тот новый взгляд
на всем хорошо известное произве-
дение, который обусловливает ори-
гинальность и вместе с тем большую
убедительность выводов или дает
дополнительные аргументы в поль-
зу истинности ряда положений, вы-
двинутых автором рецензируемой
монографии в его предыдущих рабо-
тах. Показав, как принципиально из-
менился смысл «космологического
пассажа» «Города Солнца» из-за то-
го. что переводчик принял сущест-
вительное fixae за глагольную фор-
му, А. Э. Штекли сильно пошатнул
мнение некоторых исследователей,
все еще склонных усматривать в
Кампанелле безоговорочного сторон-
ника тех самых концепций, во сла-
ву коих был сожжен Джордано Бру-
но и подвергнут нравственным
пыткам старик Галилей.
Очень важную роль текстологиче-
ские сопоставления играют в треть-
ем, важнейшем разделе книги, оза-
главленном: «Философский образ
жизни общиной». Именно обращение
к итальянскому тексту позволило
А. Э. Штекли внести ряд важных
уточнений в распространенные до
сих пор представления о политиче-
ской системе «Города Солнца» п,
восстановив ряд существенных дета-
лей, утраченных в латинской версии
из-за того, что переводчик не заме-
тил лакуны в лежащем перед ним
мапускрцпте, не только воссоздать
«управленческую пирамиду» во
всей ее целостности, но и уточнить
состав Малого совета, о наличии ко-
торого большинство прежних иссле-
дователей просто не догадывалось.
Не имея возможности остановить-
ся в деталях па анализе «философ-
ского образа жизни общиной»,
проведенном А. Э. Штекли, отмечу
лишь некоторые аспекты, имеющие
непосредственное отношение к гума-
низму эпохи Возрождения.
А. Э. Штекли совершенно прав,
когда он рассматривает социальные
утопии XVI — начала XVII в. в пре-
делах культуры Возрождения в ряду
характернейших проявлений типич-
но возрожденческих общественных
идеалов. Эпоха Возрождения никог-
да не исчерпывалась классическим
Ренессансом. Подле Боккаччо всегда
находилось место для Франко Сак-
кетти, а Пьетро Бембо нисколько не
помешал Бенвенуто Челлини про-
диктовать его знаменитую «Жизнь».
Общественно-политические и эконо-
мические потрясения начала XVI в.
не сокрушили гуманистическую
культуру Возрождения, а лишь за-
ставили гуманистов точнее соотне-
сти идеал внутренне свободной лич-
ности с государством, обществом и
с жизненными потребностями народ-
ных масс. Макьявелли и Томас Мор
были современниками и вовсе не так
344
Рецензии
исключали друг друга, как это мо-
жет показаться при поверхностном
прочтении «Государя». Коммунисти-
ческие утопии XVI — начала XVII в.
породил не только кризис ренессанс-
ного индивидуализма, но также и
попытки преодолеть этот кризис из-
нутри, не жертвуя главными идеоло-
гическими завоеваниями гуманизма.
Кампанелла, философ и эстетик,
творил, подобно Данте, на стыке
двух больших исторических эпох;
его стихотворения — яркий образец
народного барокко. Но «Город Солн-
ца» тяготеет к социальным идеалам
«Утопии» Мора. Правда, различия
между общественными проектами
этих двух великих утопистов Воз-
рождения весьма значительны. В от-
личие от Мора Кампанелла «не толь-
ко верит в технический прогресс,
а прямо-таки одержим этой идеей»
(с. 236). Его социальные проекты —
одно из проявлений этой одержимо-
сти. Неспокойное XVI столетие
внесло существенные коррективы в
представления гуманистов о возмож-
ностях науки и о ее роли в органи-
зации общества. «Давняя мечта о
царствовании философов утратила в
утопии Кампанеллы придававшийся
ей порой дух элитаризма: под „фи-
лософами" он понимал не замкну-
тую жреческую касту, не кучку
мудрецов, стоящую над остальным
народом,— „философами" были все
солярии, поскольку они сообща вели
..философский образ жизни"» (с. 225).
Наблюдение интересное и принци-
пиально важное. «Кампанелла,—
подчеркивает А. Э. Штекли,— был
первым мыслителем, кто свой идеал
государства, построенного на ком-
мунистических началах, связал с
подлинным расцветом науки»
(с. 235). Вместе с тем автор не за-
бывает указать и на ограниченность
представлений Кампанеллы о науке:
они «ближе к Джордано Бруно и
всей магически-герметической тради-
ции Возрождения, чем к представле-
нию Галилея» (с. 248).
Жизнь в «Городе Солнца» органи-
зована так, чтобы обеспечить лич-
ности наилучшие условия для все-
стороннего развития. В этом смысле
особенно интересны главы «Отноше-
ние к труду» и «Организация произ-
водства». В них А. Э. Штекли, опять-
таки пробиваясь сквозь латинский
перевод к оригиналу, показывает,
что в утопии Кампанеллы труд всег-
да соответствует природным наклон-
ностям человека и потому не толь-
ко не является общественно необхо-
димым «телесным рабством», как это
было даже в «Утопии» Мора, но, на-
против, служит самовыражению лич-
ности и способствует сохранению ин-
дивидуальности.
Представление о производящем
материальные блага труде как о ра-
дости, несомненно, нелегко обнару-
жить у ренессансных гуманистов
XV—XVI вв. Тем не менее вряд ли
следует выводить это представлен не
за пределы собственно гуманистиче-
ских идеалов: это последнее слово
Возрождения, культуры, которая до
сих пор не утратила для нас ни
своего исторического значения, ни
своей привлекательности.
Во многом существенно по-новому
в книге А. Э. Штекли проанализиро-
вана так называемая «общность
жен» — одна из характернейших
черт утопического проекта Кампа-
неллы. Именно ее во все времена без-
жалостно эксплуатировали против-
ники коммунистических идей. Тут
легко было впасть в апологетический
тон. А. Э. Штекли такой опасности
избежал. Показав, что отмена семьи
вытекала для Кампанеллы из прин-
ципа ликвидации частной собствен-
ности, он вскрыл и более глубокие
причины установленной соляриями
«общности жен», до сих пор усколь-
завшие от внимания исследователей.
«Анализ „Города Солнца",— пишет
А. Э. Штекли,— приводит нас к
убеждению, что, обосновывая необ-
ходимость упразднить семью, Кам-
панелла выдвинул на первый план
второстепенные аргументы, а глав-
ный свой довод прямо не высказал.
Он же заключался в следующем:
привычные формы брака и весь су-
ществующий уклад семейной жизни
должны быть отменены прежде все-
го в силу высших для государства
соображений его заботы о наилуч-
шем потомстве, т. е., говоря совре-
менным языком. ..евгенических" со-
ображений» (с. 326—327).
Эти соображения, или «чувство
Рецензии
345
ответственности перед грядущим по-
колением прежде всего за его, как
сказали бы теперь, биологическое
(или генетическое) благополучие»
(с. 337), тоже, как это ни парадок-
сально, связаны с гуманистически-
ми аспектами утопии Кампанеллы.
Подобно всем великим мыслителям
Возрождения, создатель «Города
Солнца» мечтал о «новом человеке»,
естественном, свободном и гармонич-
ном. Однако если поэты и живопис-
цы XV—XVI вв. воплощали эту
типично ренессансную мечту в фор-
мах литературы и искусства, то Кам-
панелла, который гораздо теснее,
чем они, был связан с народно-осво-
бодительным движением, попытался
реализовать идеал «нового человека»
в формах новой социально-полити-
ческой организации и как раз поэто-
му пришел к мысли о необходимо-
сти поставить «улучшение человече-
ской природы» под контроль общест-
ва. Преодоление ренессансного
индивидуализма изнутри оказалось
процессом не менее противоречи-
вым, чем формирование индивидуа-
листической идеологии, так сказать,
классического Ренессанса. Во имя
построения естественного и свобод-
ного от эксплуатации общества Кам-
панелла считал возможным жертво-
вать наиболее естественными и бо-
лезненнее всего отчуждаемыми пра-
вами отдельной личности. По
сравнению с эстетическими идеала-
ми Петрарки, Ариосто, Рафаэля воз-
рожденческий гуманизм Кампанел-
лы, несмотря на его благие порывы,
выглядит не только рационалистич-
нее, но и в чем-то аскетичнее и
бледнее.
Не все в новой книге А. Э. Штек-
ли в равной мере доказано и дока-
зательно. Это естественно: книга по-
рождена спорами о Кампанелле.
Хотя исследование и посвящено в
основном «Городу Солнца», автора
можно упрекнуть, что он как бы сво-
дит общественно-политическую про-
грамму Кампанеллы по преимущест-
ву к одной линии — к идеалу учреж-
денного соляриями «философского
образа жизни общиной». Автор, ви-
димо, совершенно прав, когда он
отказывается рассматривать разные
и р несхожих ситуациях написанные
сочинения многострадального калаб-
рийца как «различные фазы одной и
той же ,,вселенско-теократической
утопии"» (с. 209), однако его пози-
ция оказалась бы много прочнее,
если бы он не так решительно обры-
вал связи между «Городом Солнца»
и такими политико-богословскими
трактатами, как «Испанская монар-
хия», «Монархия Мессии», «О граде
божьем». Именно потому, что Кам-
панелла всю жизнь твердо верил в
возможность коренной перестройки
современного ему мира и старался
активно содействовать такой пере-
стройке, его радикальные идеи про-
являлись почти во всех его произве-
дениях, правда чаще всего в очень
причудливых формах. Но такова уж
была эпоха.
Представляется, что А. Э. Штекли
несколько преуменьшает этатизм
Кампанеллы и тем самым слишком
обособляет «Город Солнца» от поли-
тической мысли конца XVI — начала
XVII в. Вероятно, сложный вопрос
об * отношении Кампанеллы к хри-
стианству заслуживает большего вни-
мания, чем ему уделено в рецензи-
руемой монографии. Не думаю, что
можно говорить о религиозном ра-
ционализме и даже пантеизме Кам-
панеллы, основываясь только на
некоторых местах в итальянском
тексте «Города Солнца» (см. с. 231).
Однако все эти частные замеча-
ния не могут заслонить главного.
Одно из несомненных достоинств но-
вой книги А. Э. Штекли состоит в
том, что после нее споры об истол-
ковании «Города Солнца» никогда
уже не смогут вестись на прежнем
уровне. А. Э. Штекли убедительно и
даже с блеском доказал, что изуче-
ние широких проблем, связанных
с утопическим коммунизмом Кампа-
неллы, невозможно без обращения к
итальянским редакциям знаменитого
диалога и без тщательного сопостав-
ления латинского перевода с руко-
писными версиями, по-разному от-
ражающими, вероятно, навсегда
утраченный оригинал.
Перед нами капитальное исследо-
вание о Кампанелле, позволяющее
лучше понять общественные идеалы
позднего Возрождения.
Р. И. Хлодовский
346
Рецензии
К. Ф. САВЕЛО. РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ АНГЛИЯ. Л., Изд. ЛГУ, 1977. 144 с.
Проблемы истории государствен-
ности в англосаксонской Англии не
были до сих пор объектом моногра-
фических исследований в советской
исторической литературе; опублико-
ванная в Ленинграде книга К. Ф. Са-
вело — первая советская монография
в этой области знания.
Недавно скончавшаяся ленинград-
ская медиевистка К. Ф. Савело опуб-
ликовала в последние годы несколь-
ко статей, посвященных различным
проблемам политического строя анг-
лосаксонской Англии *, а затем под-
готовила рецензируемую книгу.
Процесс становления государствен-
ности в Англии утке давно и обстоя-
тельно освещается в трудах англий-
ских медиевистов, однако преимуще-
ственно в формально-правовом
аспекте. Для автора же «Раннефео-
дальной Англии» важно было вы-
явить социально-экономические
предпосылки процесса формирова-
ния англосаксонской государствен-
ности. К. Ф. Савело имела возмож-
ность опираться на труды советских
медиевистов, занимавшихся ранне-
феодальным периодом истории За-
падной Европы, в первую очередь
А. И. Неусыхина, а также ученых,
исследовавших историю феодальной
Англии,— Е. А. Косминского и др.
Она широко использовала также бо-
гатый материал, накопленный в ис-
следованиях зарубежных медиеви-
стов, посвященных донорманнской
Англии,— Дж. Кембла, У. Стэббса,
Ф. Мэтленда, X. Чэдвика, Дж. Джо-
лиффа, Ф. Стентона и др.
Автор различает в процессе фор-
мирования государственности в анг-
лосаксонской Англии два этапа:
VII—VIII вв. и IX — начало X в.
Соответственно эти этапы рассмат-
риваются в первых двух главах
работы. В двух других главах содер-
жится анализ процесса формирова-
ния органов публичной власти — ад-
министративного аппарата (королев-
ских должностных лиц) — в связи
1 Библиографию научных трудов
К. Ф. Савело см.: СВ, 1978,
вып. 42, с. 398-399.
с вопросом о социальном составе
знати (3 гл.); анализ характера об-
щекоролевского совета знати и его
эволюции (4 гл.).
Останавливаясь на социально-эко-
номических предпосылках возникно-
вения государственности в Англии,
К. Ф. Савело отмечает, что мысль
П. Г. Виноградова об изначальности
свободной общины у англосаксов,
несмотря на попытки опровергнуть
или поставить под сомнение этот те-
зис (от Сибома до Постана), приня-
та большинством современных исто-
риков. Автор исходит из положения,
что основную массу англосаксонско-
го населения к VII в. составляли
рядовые общинники-керлы. Но в
этот же период возникла имущест-
венная дифференциация среди сво-
бодных людей, часть общинников
беднела и впадала в зависимость от
зажиточных людей, сложился гла-
фордат. Наряду со свободными име-
лись слои полусвободных (лэты и
эсне) и рабы. Все это создавало
предпосылки для процесса классо-
образования. Формирование классов
в свою очередь предопределяло ста-
новление государства.
Первыми признаками возникнове-
ния государства на территории бу-
дущей Англии автор считает при-
обретение королем Кента особого
статуса, возвысившего его не только
над массой рядовых свободных лю-
дей, но и над высшим слоем, при-
нятие христианства в конце VI в.,
запись права в Кенте в начале
VII в., присвоение королем части
имущества общин, взимание им в
свою пользу судебных штрафов.
Останавливаясь на развитии госу-
дарственности в VI—VIII вв. в анг-
лосаксонской Англии, автор отме-
чает возрастание роли короля в
гражданском управлении: король
присваивает себе право суда, насе-
ление выплачивает ему фирму
(в форме натуральных поставок),
складывается представление о коро-
ле как о верховном правителе. Ко-
роль осуществляет пожалование зем-
ли в бокленд. Зарождается идея
«подданства». Усиливается влияние
Рецензии
347
церкви на государство и на процесс
феодализации в целом.
Предпосылками укрепления госу-
дарства в IX — начале X в. в Уэссек-
се, по мнению автора, были социаль-
ные изменения — ослабление огра-
ничений в праве распоряжения
фольклендом, существовавших до
того времени, втягивание свободных
общинников в феодальную зависи-
мость, усиление частной власти лор-
дов, утверждение практики иммуни-
тетных пожалований.
Сдвиги в политическом устройстве
выражаются в этот период в даль-
нейшем повышении статуса короля
(приобретение королем высшей
юрисдикции, введение процедуры
помазания, распространение идеи
сакрального характера королевской
власти), а также в расширении его
функций в общественной жизни. Ко-
роль регулирует отношения между
глафордами и зависимыми от них
людьми, осуществляет контроль над
торговлей, монетой, кодифицирует
право.
В некоторых случаях королевская
власть еще поддерживает свободных
крестьян (в основном из военных и
фискальных соображений), но в то
же время продолжает узурпацию об-
щинных земель, ускоряет перестрой-
ку имущественных отношений,
содействуя ослаблению кровнородст-
венных семейных связей. В IX—
X вв. происходит политическая кон-
солидация англосаксонских коро-
левств, почвой которой было зарож-
дение внутренних экономических
связей и появление общей государ-
ственной идеи.
Останавливаясь на формировании
органов публичной власти, К. Ф. Са-
вело уделяет особое внимание ин-
ституту гереф. Допуская, что перво-
начально герефы представляли собой
королевских управляющих, автор от-
мечает, что постепенно они приобре-
тали функции государственных
должностных лиц. В англосаксон-
ском королевстве сотенные собрания
сохраняют свое значение судебных
и административных органов. В них
участвуют и крестьяне. Королевская
власть пытается опереться на мест-
ные собрания. Она не могла не счи-
таться с этим жизнеспособным,
имевшим широкую социальную опо-
ру институтом и стремилась исполь-
зовать его для ограничения своево-
лия знати. К. Ф. Савело считает, что
незавершенность процесса феодали-
зации в рассматриваемый период
наложила отпечаток и на процесс
формирования органов государствен-
ной власти. Это проявилось в сохра-
нении значения судебных собраний
сотен и графств, в отсутствии чет-
кого распределения функций среди
королевских должностных лиц.
Автор довольно обстоятельно рас-
сматривает вопрос о роли уитенаге-
мота в государственной жизни Анг-
лии. В исторической литературе, как
отмечает К. Ф. Савело, уитенагемо-
ту придается очень большое значе-
ние: он, как обычно подчеркивают,
участвует в законодательстве, в рас-
пределении1 земли, играет роль выс-
шей судебной инстанции, санкцио-
нирует налоги, избирает и смещает
короля, обсуждает различные вопро-
сы внутренней и внешней политики
государства. По мнению автора, сфе-
ра деятельности уитенагемота не
так обширна и его роль не столь
значительна. Наиболее существен-
ной стороной его деятельности было
правосудие. Уитенагемот участвовал
в налогообложении, но право ут-
верждения налогов оставалось за
королем. Грамоты земельных пожа-
лований обычно оформлялись в бо-
лее узком кругу. Санкция этих по-
жалований уитенагемотом вряд ли
была необходима, полагает К. Ф. Са-
вело, во всяком случае в конце IX —
начале X в. Законы, даже если они
подготавливались королем совмест-
но с уитанами, провозглашались от
имени короля. Автор считает необ-
ходимым различать два этапа в ис-
тории уитенагемота. На раннем эта-
пе становления государства в Анг-
лии в этот совет входили представи-
тели верхушки крестьянства и
земледельцев, занимавших проме-
жуточное положение между крестья-
нами и знатью. На более позднем
этапе развития государственности
крепнущая королевская власть стре-
милась управлять знатью. Совет'
знати был отстранен от решения
.наиболее важных вопросов государ-
348
Рецензии
ственной жизни, в том числе от рас-
пределения земель.
Как видно из изложенного, в кни-
ге К. Ф. Савело содержится анализ
центральных проблем истории ран-
нефеодального государства в Анг-
лии. Для рассмотрения указанных
проблем автор привлек широкий
круг источников — юридические па-
мятники, грамоты, нарративную ли-
тературу. К. Ф. Савело хорошо знает
и использует также специальную
литературу, прежде всего англий-
скую. Основные выводы автора пред-
ставляются обоснованными и не вы-
зывают возражений. В ряде случаев,
правда, возникают сомнения в точ-
ности формулировок. Некоторые по-
ложения работы кажутся спорными
или плохо доказанными. Так, изло-
жив данные о возникновении госу-
дарства в VII в., К. Ф. Савело за-
ключает: «Черты формирующегося
государства выступают в источнике
крайне смутно» (с. 29). Остается не-
ясным, каков вывод автора: можно
ли говорить о том, что государство
все же возникло в этот период, или
для решения этого вопроса в источ-
никах слишком мало данных.
К. Ф. Савело полагает, что в анг-
лосаксонской Англии существовала
верховная собственность короля на
всю землю, так как прерогативой
короля было пожалование земли в
бокленд (с. 45). Подобного довода,
по нашему мнению, недостаточно
для обоснования столь спорного по-
ложения.
Показав ограниченность полномо-
чий уитенагемота, отстранение его
от решения наиболее значительных
вопросов государственной жизни,
автор отмечает, что этот орган со-
хранил, однако, свое значение поли-
тического учреждения (с. 118).
В чем состояло реальное значение
этого учреждения, не вполне ясно.
В книге отсутствует заключение,
в котором следовало бы сделать об-
щие выводы о характере и своеобра-
зии англосаксонского государства.
Несмотря на указанные недочеты,
работа К. Ф. Савело, посвященная
недостаточно изученной в марксист-
ской историографии проблеме исто-
рии Англии, несомненно, полезна и
восполняет существенный пробел в
советской медиевистике.
А. Р. Корсунский
FRANCISCAINS D’OC. LES SPIRITUELS СА 1280—1324,— «CAHIERS DE
FANJEAUX», Toulouse, Privat. 1975, 10.
ФРАНЦИСКАНЦЫ ЛАНГЕДОКА. СПИРИТУАЛЫ В 1280—1324 гг.-
«ТЕТРРАДИ ФАНЖО». Тулуза, 1975, № 10.
Начиная с 1965 г. ежегодно в не-
большом южнофранцузском городке
Фанжо проводятся коллоквиумы, на
которых должны рассматриваться,
по замыслу их организаторов, «раз-
личные проблемы религиозной жиз-
ни Лангедока XIII в.» В число этих
проблем включается деятельность
церкви и нищенствующих орденов,
кале в области идеологии, так и в об-
ласти политики, а также деятель-
ность антпцерковных, еретических
сект. В коллоквиумах участвуют не
только французские историки, но и
историки других стран. На следую-
щий год материалы этих обсужде-
ний публикуются в виде сборников
под заглавием «Тетради Фанжо». Их
выпуск организован Институтом сре-
диземноморских исследований при
университете и Католическим инсти-
тутом Тулузы. Рецензируемая нами
книга является публикацией мате-
риалов десятого по счету коллок-
виума.
Основная тенденция сборника —
это полное отрицание, что весьма
характерно для современной бур-
жуазной историографии, каких оы
то ни было социально-политических
причин появления спиритуалов и их
дальнейшей деятельности. Между
тем формирование во 2-й половине
XIII в. во францисканском ордене
мятежной группировки еппритуалов
во главе с Оливи было результатом
резкого обострения социальных и
классовых противоречий во Франции
(а также в Италии). Характер изло-
жения материалов был определен из-
Рецензии
349
вестным французским медиевистом
М. Ю. Викером во введении к сбор-
нику, который подчеркивал, что дви-
жение спиритуалов — это всего лишь
«одно из наиболее распространен-
ных в Лангедоке францисканских
течений» (р. 7). К тому же Викер
искусственно сужает круг спири-
туалов, включая в их число лишь
личных последователей Оливи и под-
черкивая, что появление группы
спиритуалов носило случайный ха-
рактер (р. 10).
Анализу взглядов Оливи посвяще-
на большая статья известного ис-
следователя движения спиритуалов,
итальянского историка Р. Манселли
«Идеал спиритуалов согласно Петру
Иоанну Оливи». Критические взгля-
ды на католическую церковь и на
папство изложены в основном про-
изведении Оливи — «Постилле (ком-
ментарии) на Апокалипсис». Ее со-
держание стало известно лишь пос-
ле смерти мыслителя. Вождь спирп-
туалов называет католическую цер-
ковь «блудницей», «Вавилоном»,
«плотской церковью», погрязшей в
различных чувственных излишест-
вах и пороках, которая должна быть
заменена новой церковью — «духов-
ной», объединяющей людей, пресле-
дующих возвышенные, духовные
цели и пренебрегающих низменной
чувственностью, т. е. спиритуалов.
Оливи писал в «Постилле» о развра-
щенности прелатов, клириков и мо-
нахов, а римского папу называл
псевдопапой, антихристом *. Специ-
альная комиссия теологов, создан-
ная в конце 20-х годов XIV в. по
распоряжению папы Иоанна XXII
для изучения «Постиллы», охарак-
теризовала ее как еретическое про-
изведение, подлежащее осуждению
Римской курией 1 2. В 1955 г. в статье,
1 Dollinger I. Beitrage zur Sektenge-
schichte des Mittelalters, 2. Th.
Munchen, 1890, S. 527-585.
2 Littera magistrorum in theologia
infrascriptorum, qui articulos in-
fra scrip tog de post ilia fratris Pet-
ri Johannis Olivi quondam ordinis
Minorum facta super Apocalypsi
extractos diligenter examinave-
runt, et ipsos temerarios quam
посвященной «Постилле» Оливи,
Манселли отмечал антицерковную,
антипапскую направленность этого
произведения 3. В рецензируемом же
сборнике Манселли излагает сущ-
ность взглядов Оливи на основе
анализа его письма от 18 мая 1295 г.
сыновьям Карла II Анжуйского —
королю Неаполитанскому и графу
Прованса, задержанным в качестве
заложников королем Арагона (текст
дан в сборнике в переводе на фран-
цузский язык). Манселли справед-
ливо говорит, что в письме нашли
отражение некоторые идеи, выска-
занные Оливи в «Постилле» (р. 111—
113). Речь идет прежде всего о срав-
нении католической церкви с раз-
вращенным Вавилоном и блудницей,
о намеке в письме на неминуемую
борьбу спиритуалов с церковью
(р. 133—134). Однако очевидно, что
в целом 'Это письмо не может быть
сравнимо с «Постиллой на Апока-
липсис» в качестве источника для
определения взглядов Оливи. Она
носит, как подчеркивает сам Ман-
селли, целенаправленный харак-
тер — дать утешение адресатам
(р. 101). По мнению Манселли, Оли-
ви стремился подчеркнуть, что
«страдание — это основное свойство
человеческого существования», чер-
та «подлинного христианина и
францисканца», идеалом которого
является жизнь Франциска Ассиз-
ского (р. 109—112). Одной из форм
жизни в страданиях было, по Оли-
ви, утверждает далее Манселли, сле-
дование «образу жизни в бедности»
(usus pauper) (р. 119). Однако в дей-
ствительности призыв Оливи к со-
вершенной евангельской жизни (бед-
haereticos judicaverunt.- In: Step-
hani Baluzii tutelensis Miscella-
nea novo ordine digesta. Lucae,
1761, t. II, p. 258-271; Керов В. Л.
Борьба папства и спиритуалов
после Вьеинского собора.— В кн.:
Вопросы истории феодализма.
М., 1974, с. 31 и след.
3 Manselli R. La «Lectura super Apo-
calipsim» di Pietro di Giovanni
Olivi. Ricerche sull’escatologismo
medioevale.— Studi Storici, Roma,
1955, fasc. 19-21.
350
Рецензии
ности) и был обличением церкви, об-
ладавшей огромными богатствами,
и прелатов, клириков и монахов, ве-
дущих развратный образ жизни.
В «Постилле на Евангелие От Мат-
фея», а также в предсмертном заяв-
лении, впоследствии опубликован-
ных (о том и другом авторы статей
не упоминают), Оливи упрекает
францисканский орден и церковь за
накопление богатств, несоблюдение
обета бедности клириками и монаха-
ми и т. д.
Отметим, что о «Постилле на Апо-
калипсис» говорит Ив Конгар в об-
зорной статье «Концепции Петра
Иоанна Оливи по вопросу о церкви
в новейших публикациях», подчер-
кивая «антипапский» характер этого
произведения Оливи (р. 160). Конгар
также рассматривает проблему
«жизни в бедности», стремясь найти
у Оливи противоречие между отри-
цательным отношением к папству и
его утверждениями о верности прин-
ципам Франциска Ассизского
(р. 156). Но все дело в том; что при-
зывы к жизни в бедности, провоз-
глашенные Франциском, никогда не
были осуществлены орденом мино-
ритов на практике. Именно попытки
следовать этим принципам придава-
ли в глазах Римской курии крамоль-
ный характер идеям последователей
Франциска. Превращение францис-
канцев в монашеский орден было
большим успехом папства. Конгар
упоминает об отношении Фомы Ак-
винского к бедности, однако забы-
вает отметить, что Оливи и при жиз-
ни Фомы, и после его смерти высту-
пал против некоторых положений,
высказанных «ангельским докто-
ром», в частности против его взгля-
дов на бедность. Упоминание об этом
противоборстве особенно важно при
анализе взглядов Оливи, поскольку
расхождение с Фомой Аквинским
является еще одним доказательст-
вом радикального характера некото-
рых идей Оливи и спиритуалов. За-
служивает внимания вывод Конге-
ра о том, что борьба У. Оккама про-
тив Иоанна XXII вдохновлялась
идеями Оливи (р. 160).
Оливи посвящена и статья Д. Флу-
да «Петр Иоанн Оливи и францис-
канский устав», в которой речь идет
об отношении Оливи к политике ор-
дена и папства. Оценка деятельно-
сти вождя спиритуалов в конечном
итоге сводится Флудом к отрицанию
оппозиционной направленности
взглядов Оливи, в том числе и в во-
просе о жизни в бедности (р. 145).
Подлинную сущность движения
спиритуалов невозможно определить
без анализа того воздействия, кото-
рое оказывали на него классовая
борьба в стране и распространение
ересей. Спиритуалы были тесно свя-
заны с еретиками-бегинами, кото-
рые восприняли многие положения,
высказанные Оливи, в особенности
его идеи, касающиеся уничтожения
«плотской церкви», борьбы с папой-
антихристом, установления нового
совершенного общества, как об этом
свидетельствуют записи инквизито-
ра Бернара Ги4. В рецензируемом
сборнике связи спиритуалов с на-
родными массами, в частности с бе-
гинами, рассматриваются лишь в
Религиозном аспекте. Так, автор
«ведения Викер отмечает влияние
спиритуалов на «трудящиеся слои»,
однако пишет в то же время о важ-
ной роли Оливи на повороте имен-
но «религиозной истории» Юга
Франции в XIII в. (р. 8). В таком
же духе пишет о бегинах Ив Досса
в статье «Происхождение распри
между провансальскими монахами-
проповедниками и миноритами. Бер-
нар Делисьё». По его мнению, беги-
ны вместе со спиритуалами были
последователями Оливи и хулителя-
ми папы Иоанна XXII; однако он
обходит молчанием социальную под-
оплеку совместных действий бегинов
и спиритуалов (р. 350—351). Мансел-
ли также склоняется к мнению, что
Карл Анжуйский руководствовался
лишь религиозными соображениями,
когда высказывал, по словам самого
Оливи, опасения, что он (Оливи)
привьет его детям взгляды еретиков-
бегинов (р. 101,136).
В то же время в единственной
статье сборника, казалось бы спе-
циально посвященной еретикам-бе-
гинам (К. Кароццн. «Иоахимистская
бегинка: Дуслнна. сестра Гуго де
4 Gul В. Manuel de I’inquisitcur. Pa-
ris, 1926, t. 1, p. 146—152.
Рецензии
351
Дииь») (р. 169 s.), речь идет о сугу-
бо религиозной общине бегинок, не
носившей, как известно, антицерков-
ного, еретического характера.
Чрезвычайно важным является во-
прос об идейных истоках взглядов
Оливи и спиритуалов. В буржуазной
историографии встречаются поляр-
ные точки зрения на эту проблему.
Одни авторы пишут о преобладаю-
щей роли идей Иоахима Флорского
и формировании концепций Оливи.
Другие отрицают влияние этих идей
и рассматривают главу спиритуалов
как прямого апологета идей Фран-
циска Ассизского, неправомерно
отождествленных с официальными
концепциями католицизма (напри-
мер, по вопросу о бедности). Вторая
точка зрения разделяется автором
статьи «Отражение идей св. Фран-
циска в сочинениях спиритуалов»
В. К. Ван Дайком (р. 203 s.). Не
разделяя крайности этих точек зре-
ния, Маиселли отмечает, что взгля-
ды Иоахима, как и Франциска, ока-
зали сильное воздействие на Оливи,
но отождествлять их нельзя
(р. 115 в.).
Авторы некоторых статей сборни-
ка нередко преуменьшают влияние
Оливи на своих сторонников и по-
следователей. Так, Ч. Т. Дэвис в
статье «Папа Иоанн XXII и спири-
туалы. Убертино да Казале», под-
черкивая влияние Оливи на Убер-
тино, проявившееся, в частности в
сочинении Убертино «Древо жизни
распятого Христа», сводит это влия-
ние к проблеме жизни в бедности
(р. 280—282). В действительности же
Убертино вслед за Оливи мечтает о
полной ликвидацип католической
церкви и о социальном переустрой-
стве общества.
Одним из видных спиритуалов
был Бернар Делисьё, установивший
в начале XIV в. связи с еретиками-
бегинами. Однако Ив Досса в уже
упомянутой статье смысл деятельно-
сти этого спиритуала видит в борь-
бе не с самой инквизицией, а с за-
сильем в ней доминиканцев (р. 315).
Вместе с тем в статьях сборника
имеется немало интересных наблю-
дений. Так, в статье Ш. Кампру
«Спиритуалистское» умонастроение
у Петра Карденала» рассматривает-
ся вопрос о близости идеалов спи-
ритуалов взглядам трубадуров5
(р. 288). Рассматривая поэтическое
творчество Петра Карденала (1180—
1278), автор подчеркивает, что в его-
сочинениях идеалы спиритуалов*
четко противопоставляются «духу
зла», под которым поэт разумел
силы, опустошившие Южную Фран-
цию во время Альбигойских войн
т. е. крестоносцев и папство. Судя
по всему, отмечает Кампру, Карде-
нал не встречался с Оливи и други-
ми спиритуалами, но и его поэзию,
п их идеалы породила одна и га же
духовная атмосфера (р. 310—311}.
Большой интерес представляет
статья П. Амаржье, рассказывающая
о влиянии спиритуалов на Франчес-
ко Петрарку («Петрарка и полеми-
ка против курии»). В западноевро-
пейской исторической литературе
имеется» немало работ, посвящен-
ных проблеме влияния спиритуалов
на Данте, но их воздействие на
творчество другого знаменитого
итальянского поэта — сюжет более
редкий. К тому же, если Данте был
знаком, как это можно предполо-
жить, главным образом с произве-
дениями итальянских спиритуалов,
Петрарка имел связи с их южно-
французскими единомышленника-
ми ®. Амаржье упоминает, что Пет-
5 О связях бегинов с трубадурами
писал В. М. Шишмарев (Избран-
ные статьи. Французская лите-
ратура. М.; Л., 1965, с. 210 и
след.), однако проблема непос-
редственного влияния спиритуа-
лов на трубадуров в советской
медиевистике еще не рассматри-
валась.
6 О влиянии политической и идео-
логической атмосферы, сложив-
шейся в Южной Франции в пер-
вой половине XIV в., на творче-
ство Петрарки см., например: Го-
ленищев-Кутузов И. Н. Роман-
ские литературы. М., 1975, с. 27 и
след.; Брагина Л. М. Петрарка.-
СИЭ. М.. 1968. т. 11; Она же. Пет-
рарка.- В кп.: Краткая литера-
турная энциклопедия. М., 1968,
т. 5; Добиаш-Рождественская О. А.
К юбилею Франческо Петрарки.—
СВ. 1977. вып. 41.
S52
Рецензии
рарка называл папскую резиденцию
'в Авиньоне и все папство «вторым
Вавилоном», «адом живых» (р. 355).
Отсутствие в сборнике материа-
лов, освещающих социальные усло-
вия деятельности спиритуалов, пред-
ставляется нам серьезным недостат-
ком. Это помешало авторам дать
всестороннюю оценку роли спири-
туалов, что в определенной степени
признается и самими организатора-
ми коллоквиума и создателями
сборника. В заключительном слове
на коллоквиуме . (напечатанном в
виде заключения в сборнике),
Ж. Дюби высказал пожелание более
глубоко изучить деятельность и
взгляды спиритуалов и их последо-
вателей, т. е. еретиков из народа.
«Разве совершенно невозможен со-
циологический анализ сторонников
спиритуалов?» — спрашивает Дюби,
выразив надежду на то, что эти про-
блемы станут предметом обсуждения
па будущих коллоквиумах (р. 377).
В. Л. Керов
F. BOCCHI. UOMINI Е TERRA NEI BORGHI FERRARESI. IL GATASTO
PARCELLARE DEL 1494. Ferrariae Decus, 1976, 200 f.
Ф. БОККИ. НАСЕЛЕНИЕ И ЗЕМЛИ ФЕРРАРСКОЙ ОКРУГИ. ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ КАДАСТР 1494 г. Феррара, 1976.
Книга молодого профессора Болон-
ского университета Франчески Бок-
ки посвящена анализу налоговой
описи земель феррарских предмес-
тий — эстимо 1494 г.1
Привлечение кадастров и эстимо
для изучения экономики, социаль-
ного анализа, топографии и топони-
мики особенно распространилось в
последние два десятилетия и дало
блестящие результаты. Оно вполне
оправдало большую затрату сил и
времени, израсходованных на эту
работу. Благодаря многим трудам
для исследователей стали доступны
кадастры ряда городов Италии: Па-
дуи, Вероны, Милана, Прато, Пи-
стойи, Снены, Флоренции, Пизы, 4
Перуджи, Орвьето, Мачерато
(р. 14) 2 *.
Эстимо Феррары до сих пор не
изучалось, и труд Бокки открывает
в этом отношении новую для исто-
рии страницу. К сожалению, в Фер-
раре не сохранилось полного эсти-
мо; предмет исследования Ф. Бок-
кп — эстимо 1494 г.— относится
только к «борги» Феррары, т. е. к
1 Libro dell’antico estimo dei Borg-
hi.— Archivio di Stato di Ferrara,
Archivio storico del Comune, serie
patrimoniale, b. 11, inserto 4, 181 f.,
perg.
2 См.: Катушкина Л. Г. Изучение и
издание итальянских кадастров
XV в.- В кн.: Вспомогательные
исторические дисциплины. Л.,
1968, т. 1, с. 290.
территории семи предместьев горо-
да, охватывавших его большим коль-
цом.
Книга Ф. Бокки делится на две
части. В первой (р. 1—97) автор
исследует ряд важных проблем эко-
номического и социального разви-
тия феррарского «округа на основе
изучения эстимо 1494 г., других
источников и литературы. Вторая
часть (р. 103—200) содержит 135 таб-
лиц (составленных автором на осно-
вании анализа эстимо), список свет-
ских держателей феодальных владе-
ний, именной и географический
указатели. Между первой и второй
частью расположен иллюстратив-
ный материал (р. 98—101): карта
борги Феррары согласно кадастру
1494 г., фотографии текста некото-
рых листов книги эстимо и тех двор-
цов, которые были построены в кон-
це XV в. на территории борги.
В первой главе «Эстимо борги
1494» Ф. Бокки анализирует изучае-
мый документ и приходит к выводу
о том, что дошедший до нас ко-
декс — часть большого финансового
плана д’Эсте, вызванного необходи-
мостью упорядочения налогов после
разорительной для Феррары войны
с Венецией. Документы эстимо ха-
рактеризуют весьма специфическую
территорию предместий, которая
уже перестает быть деревней, но
еще не стала городом. Структура
описания каждой кадастровой еди-
ницы борго была следующей. Имя
и профессия владельца, описание его
Рецензии
353
недвижимого имущества: построек,
земли, виноградников с указанием
границ участка, его размера в фер-
рарских мерах — модиях, стайо,
квартах и меццете. Затем, в зависи-
мости от количества земли, качества
почвы, типа культуры, определялась
фискальная стоимость каждой еди-
ницы, т. е. эстимо. При этом отмеча-
лось, лежали ли на владении какие-
либо феодальные платежи. С учетом
всей оценки ежегодно раскладывал-
ся налог на каждого владельца (1а
coletta).
Облагались, таким образом, лишь
единицы недвижимого имущества,
а не владельцы и все их доходы.
Отсюда Ф. Бокки делает законный
вывод: источник, который ею изу-
чается, являлся не эстимо, в поня-
тие которого входило выявление на-
логоплатежности лиц, а подлинным
парцеллярным кадастром, где велся
точный учет ценности земли (р. 14).
Во второй главе исследования
«Прямой налог к концу XV в.» ав-
тор отмечает, что эстимо было ос-
новным налоговым инструментом в
системе обложения, при котором
прямой налог составлял 2/з дохо-
дов; поэтому он часто подвергался
ревизии. Коллегия «мудрых», кото-
рая ведала финансами Феррары,
обычно в начале года налагала пря-
мой налог (la colletta ordinaria), т. е.
устанавливала определенный коэф-
фициент на эстимо. Обложению под-
лежали главы семейств, проживаю-
щие в городе и сельской местности.
Освобождались от налога вдовы,
дети, сироты, бедняки, семья и слуги
маркиза, глашатаи, виночерпии, бо-
чары, судьи, врачи, профессора
грамматики, менялы.
Духовенство большей частью было
освобождено от налогов, но в от-
дельные годы оно платило невысокий
взнос — десять сольди с денария
оценки, в то время как светские на-
логоплательщики платили в два
раза больше — в 1481 г. 21 сольдо с
денария эстимо, в 1483 г. — 24 соль-
ди, в 1484 — 25 сольди, а в 1491 г.—
34 сольди, что вызвало большое не-
довольство населения (р. 21).
Третья глава посвящена характе-
ристике предместий Феррары и исто-
рии их возникновения. Ф. Бокки
приводит убедительный материал,
свидетельствующий о том, что под-
разделение на борги в конце XV в.
возникло не столько в результате
постепенной эволюции феррарской
деревни, сколько диктовалось стрем-
лениями администрации герцогов
д’Эсте создать более крепкие объ-
единения в целях укрепления воен-
ной обороны и необходимости усо-
вершенствования гидравлических
работ (р. 55—57). Действительно,
часть территории борги представля-
ла собой сельскую местность, разби-
тую на довольно мелкие парцеллы
со злаковыми культурами и вино-
градниками.
Общая площадь всех феррарских
борги составляла 2487,80 га.. Самое
крупное из них, Миццана, занимало
площадь в 814,58 га и было располо-
жено на северо-запад от стен Фер-
рары. Большая часть его территории
была разбита на мелкие владения
от 0,1 до 2 га земли (71,77%); име-
лось также много пастбищ и лугов,
которые не засевались (на западе);
следующее борго — Перло охваты-
вало небольшую территорию в
318,38 га и было единственным, ко-
торое не примыкало к городу, а рас-
полагалось в нескольких километ-
рах от него на север. Оно должно
было играть роль военного заслона
от Венеции. Непосредственно к се-
верным стенам Феррары примыкало
борго Сан-Гульельмо, интересное
тем, что здесь соединялась сельская
и городская топография. В ближай-
шие годы после составления эстимо
на части его территории были воз-
двигнуты архитектором Россети
знаменитые дворцы: чудесный па-
мятник феррарской архитектуры па-
лаццо Диаманти (владение Сиджиз-
мондо д’Эсте), палаццо Проспери-
Сакрати, герцогские сады Бельфио-
ре, госпиталь св. Анны; эта часть
борго занимала современные магист-
рали города — улицы Эрколе I, Бор-
со, Кавура, проспект Джовекка. Об-
щая площадь борго насчитывала
201.01 га. Далее, на востоке от стен
Феррары, было расположено борго
Пьоппа; западная его часть в на-
стоящее время занята городом. Об-
щая облагаемая площадь борго
(291,2 га) главным образом была за-
12 Средние века, в. 43
354
Рецензии
нята пахотными землями и вино-
градниками. Следующее борго, Ми-
зерикордия, располагалось на юго-
восток от города между двумя
большими рукавами р. По (По ди
Волано и По ди Примаро); оно
охватывало площадь в 491,46 га;
большинство его земель делилось на
мелкие парцеллы. Это наиболее
плодородные и издревле обрабаты-
ваемые площади феррарской терри-
тории, засеянные злаками, виноград-
ной лозой и огородными культу-
рами.
Последние два борги, Сан-Лука и
Сан-Джакомо, занимали узкие тер-
ритории на юго-западе города. Бор-
го Сан-Лука было расположено меж-
ду двумя рукавами По и большой
низменностью Саммартино. Значи-
тельная его часть была занята ка-
налами, плотинами и болотами. Об-
щая территория борго — 227,1 га, из
них 37% было покрыто водой;
в конце XV в. здесь осуществлялись
осушительные работы. Борго Сан-
Джакомо вошло позже в состав го-
рода; его площадь — 250 га, значи-
тельная часть — 60% — была покры-
та водой.
В четвертой главе рассматривает-
ся важная проблема — «Земля и
культура». Из анализа эстимо сле-
дует, что 68,32% всей облагаемой
земли занимали пашни (tav. 13).
Интересно соотношение разных
культур в борги: в Миццане было
630,4 га пахотной земли, что состав-
ляло 35,65% пашни во всех борги,
в Перло —83,33% составляли пахот-
ные земли, смешанные с виноград-
ной лозой. В Миццане и Перло была
отведена под луга Vs пахотной пло-
щади. Это характерно для типично-
го феррарского хозяйства, в котором
необходимость фуража для скота и
потребность в удобрении почвы тре-
бовали именно такого соотношения.
Высокий процент пашни был также
в Пьоппе (84,45%), в Мизерикордии
(74,23%) и Сан-Гульельмо (71,64).
Изучение земель борги приводит
Бокки к выводу, что в Ферраре
XV в. складывается новый тип зе-
мельного хозяйства, типичный для
всей Эмилии-Романыт, носящий
здесь термин «braglia» или «abbrag-
liato» (от германского термина brai-
da — равнина, который означал за-
сеянный участок земли, прерывае-
мый посадками виноградной лозы,
часто с самостоятельной системой
орошения).
Аграрный пейзаж близких к горо-
ду борги был отличен от периферий-
ных районов. Здесь превалировали
садовые и огородные культуры, ви-
ноградники. Нет надобности доказы-
вать, сколь важны для исследовате-
лей конкретные данные о соотноше-
нии различных видов земель и
выращиваемых на них культурах.
Для характеристики особенностей
феррарского хозяйства XV в. инте-
ресна пятая глава — «Культура ви-
ноградной лозы: специальные вино-
градники, посадки шпалерами или
в виде террас». Для Феррары, как
отмечает Ф. Бокки, были характер-
ны два вида культуры виноградной
лозы. Первый — собственно вино-
градники, занимающие ту или иную
территорию. Эта культура больше
распространялась в той части бор-
ги, которая примыкала к городу.
Феррарские статуты (1287 и 1476 гг.)
регламентировали труд по уходу за
виноградниками. Однако большей
частью в феррарских борги посадки
виноградной лозы перемежались с
пашней п другими культурами;
обычно в кадастре фигурировали два
вида таких посадок: a pergolato или
ad altana.
Исследование эстимо 1494 г. помо-
гает Бокки выяснить большую раз-
ницу между этими двумя видами
насаждений: при системе a pergo-
lati виноградная лоза с мелкими по-
бегами опиралась на деревянные
подпорки на расстоянии 3—4 фута
между собой; при системе ad altana
лоза располагалась на деревьях, до-
вольно высоко, на расстоянии 16—
20 футов. Там, где культура лозы
была более древней (в Сан Гуль-
ельмо, Пьоппе, Мизерикордии), пре-
обладали i pergolati; там, где почва
была сырая и земли стали обраба-
тываться сравнительно недавно
(Миццано, Перло), процент altana
был высок (tav. 14). Оценка фута
лозы altana в эстимо в 10—12 раз
была выше pergolato. Новая культу-
ра виноградарства сопутствовала
общей перестройке сельского хозяй-
Рецензии
355
ства и образованию нового типа
владения, основанного на симбиозе
пашни с посадками виноградной
лозы,— владения, обрабатываемого
медзадри с использованием рогато-
го скота. Возникновение этого типа
хозяйства было связано с вкладыва-
нием капиталов в сельское хозяйст-
во со стороны энергичных предста-
вителей городской верхушки. Пере-
ход к новой системе способствовал
удовлетворению потребностей рас-
тущего городского населения.
В шестой главе «Феодальные пла-
тежи» рассматривается вопрос о
феодальной ренте за держание
земли.
Общеизвестно, что в Феррарском
герцогстве в XV—XVI вв. сохра-
нялись феодальные отношения,
и многие документы подтверждают
наличие феодальных платежей. Но
каков удельный вес феодальных
форм эксплуатации? Исследование
Бокки в значительной степени от-
вечает иа этот вопрос. Из произве-
денного ею анализа следует, что из
1167 парцелл кадастра 599 сохраня-
ли феодальные платежи, usi, что
составляло 51,33% всех земель
борги. Следовательно, немногим бо-
лее половины парцелл не эксплуа-
тировались непосредственно соб-
ственниками, а являлись феодаль-
ным держанием. Ф. Бокки останав-
ливается на истории института usi
и приходит к выводу, что под этим
термином следует понимать вечно-
наследственное держание земли за
плату ежегодной ренты. Его условия
были близки к эмфитевзису и ли-
беллярному держанию3.
Особенно велики платежи были в
Мизерикордии и Пьоппе, где они об-
ременяли 59% парцелл (tav. 17).
Больше половины держаний всех
борги принадлежали церкви —
58%, светским владельцам — 39%,
религиозным братствам, городским
корпорациям и герцогской казне —
3%. Большая часть канонов плати-
лась в днежной форме, но встреча-
лись натуральные приношения —
каплуны, куры, козы. Как правило,
3 См.: Котельникова Л. А. Итальян-
ское крестьянство и город XI-
XIV вв. М., 1967, с. 187-231.
usi частично или полностью погло-
щали стоимость эстимо.
Больше всего земель на правах
usi имел феррарский епископат,
далее церковь Сан-Джованни и св.
Троицы (tav. 20) и т. д. Хотя коли-
чественно преобладала церковная
собственность на usi, представители
духовенства извлекали из своих
земель меньший доход, чем другие
собственники: с 397 владений 1865
лир, в то время как светские соб-
ственники с 265 парцелл получали
2333 лиры (tav. 29). Это обстоятель-
ство Ф. Бокки справедливо свя-
зывает с тем, что держания от
церкви, как правило, были более
старого происхождения и величина
канона не могла изменяться в со-
ответствии с буллой папы Бонифа-
ция IX от 1392 г., которая запреща-
ла повышать ценз на церковных
землях^ Бокки считает бесцельным
сравнивать феодальную ренту от-
дельных usuarii в связи с разными
ее размерами. Здесь, нам представ-
ляется, автор не вполне прав, так
как все же были бы интересны
подсчеты этих канонов (даже в от-
дельных случаях) и их сравнение с
оценками эстимо.
В целом материал главы, особен-
но количественные величины и со-
отношения usi, позволяют сделать
интересные выводы о действитель-
ном месте феодальных форм ренты
на большой территории феррарско-
го дистретто.
Наконец, последняя глава посвя-
щена социальному анализу состава
держателей и владельцев парцелл.
Поскольку в эстимо 1494 г. часто
указаны профессии, представляет-
ся возможным объединить собст-
венников в определенные группы.
Ф. Бокки выделяет пять таких
групп: 1) церковные учреждения,
2) духовенство, 3) магистры, 4) но-
табли, 5) неустановленные лица.
Под магистрами автор понимает
тогдашнюю «буржуазию» (учитывая
условность термина): от крупных
торговцев, предпринимателей, менял
до мелких ремесленников борги.
В состав нотаблей включены при-
дворные, носящие титулы dominus,
spectabilis, magnificus. По мнению
Бокки, сословие дворян в Ферраре
12*
356
Рецензии
в XV в. еще не сложилось, поэтому
она сохраняет термин notabili. Нако-
нец, в категорию неустановленных
лиц отнесены все те люди, профессия
которых не отмечена. В нее включе-
ны также и крестьяне, непосред-
ственные производители, которые
упомянуты лишь в Мизерикордии,
Can-Луке и Сан-Джакомо (tav. 133—
135). Если рассматривать всю пло-
щадь, занимаемую парцеллами, мож-
но установить, что 85,31% земли
являлись мелкими участками до 3 га.
Но состоятельные владельцы имели
много участков, и поэтому если сум-
мировать участки по владельцам и
держателям, то положение меняется:
1137 кадастровых единиц находились
во владении и держании у 666 вла-
дельцев. Площадь до 3 га находилась
во владении 75,23% владельцев, что
соответствовало 21,25% всей площа-
ди (tav. 116). Собственники участков
от 5 до 20 га владели 67,98% всей
площади эстимо (tav. 116). Это сви-
детельствует о концентрации владе-
ний, особенно поблизости от города.
Эти данные ярко оттеняют возмож-
ности изучения эстимо. Документаль-
ный материал, в частности анализ
нотариальных актов конца XV в., не-
сомненно, свидетельствует о концент-
рации земель в руках нобилитета и
представителей городской верхуш-
ки 4. Анализ эстимо позволяет мате-
матически точно ответить на этот
вопрос в положительном смысле и
определить размах этого процесса:
наиболее отчетливо концентрация
земли наблюдалась в Миццапе, где
опа осуществлялась нотаблями и ма-
гистрами (tav. 32—35), и в Перло,
где это больше относилось к нотаб-
лям (tav. 45—46). В Мизерикордии
тенденция к концентрации проявля-
лась и у категории неустановленных
лип. т. е. у крестьянства.
Интересно проследить соотношение
владений у различных социальных
групп. Нотабли владели 33,08% всей
площади, причем большую часть
4 Вернадская Е. В. Феррара и ее
сельский округ (по книге нота-
ция Беллино Прегостинп).- В кн.:
Итальянские коммуны XIV-
XV вв. М.; Л., 1965, с. 247, 248-
249.
площади они занимали в Миццанег
Перло, Сан-Луке и Сан-Джакомо
(tav. 127). Категория неустановлен-
ных лиц владела 36,12% всей площа-
ди, что показывает сильные позиции
крестьянства, особенно в Миццане,
Пьоппе и Мизерикордии (tav. 129)-
Магистры, т. е. городская верхушка,
вкладывавшая капиталы в землю,
владела 20,80% общей площади, при-
мерно одинаково во всех борги. Эти
данные позволяют внести корректи-
вы в представление о Ферраре как
центре типично феодальной округи.
Церковные учреждения и духовен-
ство владело в борги только 10% всей
территории. Однако следует сделать
оговорку: значительная часть земли
была обременена платежами usi —
следовательно, верховная собствен-
ность на них принадлежала церкви
и знати.
Кадастр позволяет решить воп-
рос, какую часть земли обрабатывали
сами владельцы, какая сдавалась в
медзадрию, пздолыцину или в дру-
гой вид аренды. Несмотря на кон-
центрацию земель, все же был зна-
чителен процент мелких участков —
21,25%, всей территории составляли
владения до 3 га. Очевидно, эти участ-
ки обрабатывали сами владельцы
или держатели-крестьяне. Владения
от 3 до 10 га занимали 21«86% тер-
ритории. Остальная площадь. 56,89%
(более половины земель), состояла
из 48 владений от 10 до 20 га и
свыше 20 га (tav. 116). Эти земли
находились в руках нотаблей и маги-
стров и именно они носили название
possessiones и обрабатывались из-
дольщиками и медзадрп. Не всегда
эта собственность составляла еди-
ный земельный комплекс, иногда
она дробилась, поскольку приобре-
тения делались в разных местах5.
Характер аренды можно просле-
дить лишь в борги Мизерикордии,
Сан-Лука и Сап-Джакомо. В Мизе-
рикордии 28.33% земли обрабаты-
валось непосредственными произ-
водителями. 64,51% возделыва-
лось медзадрп и издолыцпкамп.
7.26% — арендаторами (tav. 133). В
Сан-Луке — другая картина: 43.37%
обрабатывались издольщиками и мед-
5 Там, же. с. 248-249.
Рецензии
357
задри, а 54,80% — крестьянами (tav.
134), в Сан-Джакомо сами крестьяне
обрабатывали 86,50% земли.
Положение медзадри можно про-
следить по данным Мизерикордии.
Большинство из них, кроме аренду-
емых участков, имели держания,
переданные им в узуфрукт. Многие
медзадри принадлежали к опреде-
ленным фамилиям. Так, 6 семейств
Пичинини обрабатывали 15 га земли
и т. д. (р. 95).
Рядом с крестьянским миром были
крупные владельцы — могуществен-
ные придворные и чиновники герцог-
ства, богатые торговцы и менялы, ко-
торые поддерживали правление
д'Эсте. Это суконщик Кристофоро
Корецапо, который зимой 1497/98 г.
продал коммуне 300 модиев зерна и
75 модиев проса; другой суконщик
Стефано Корецано только в борго
Миццана объединил в своих руках
24 владения площадью в 106 га
(р. 96). Среди земельных владельцев
встречаются почти все городские
профессии — суконщики, менялы,
юристы, врачи, каменщики, нотарии,
типографы, художники, ювелиры
и т. д.
В заключение своего исследования
Ф. Бокки отмечает разнообразие со-
циальных групп, живших и трудив-
шихся в борги и подчеркивает, что
феррарское законодательство всегда
отстаивало интересы крупных соб-
ственников.
Вторую часть труда Ф. Бокки за-
нимают таблицы, разделяемые на
четыре группы.
I. Культуры и типы земель в
борги.
1. а) пахотные, б) садовые, в) луга,
г) пастбища — 12 таблиц, содержа-
щих сведения по каждому борго и
13-я — сводная.
2. Культура виноградной лозы (per-
golati, altane, земли abbragliati)
(tav. 14—16).
II. Право «uso» (tav. 17—29). Под-
счеты даны не только по борги, но и
по отдельным церковным владе-
ниям, корпорациям и т. д.
III. Социальные группы (tav. 30—
132).
IV. Условия аграрной аренды (tav.
133-135).
Исследователи могут получить
здесь очень важную информацию
для всесторонней характеристики от-
дельных борго, специфики феодаль-
ных обычаев, размеров и особен-
ностей церковного хозяйства и вла-
дений светских собственников, дер-
жаний отдельных семей и т. д.
Нет сомнения, что ценный труд
Ф. Бокки, позволяющий весьма пол-
но представить характерные черты
феррарского сельского хозяйства, не
только послужит отправным пунк-
том для новых исследований его
специфики, но и позволит лучше
изучить общие проблемы аграрного
развития Италии XV в.
Е. В. Вернадская
ARCHITETTURA Е POLITICA DA COSIMO I A FERDINANDO. А сига
di Giorgio Spini. Firenze, 1976, p. 513.
АРХИТЕКТУРА И ПОЛИТИКА ОТ КОЗИМО I ДО ФЕРДИНАНДА I.
Под ред. Дж. Спили. Флоренция, 1976. 513 с.
История Италии в XVI—XVII вв.
уже в течение многих лет привлека-
ет к себе особое внимание истори-
ков. Одпако до недавних пор и Фло-
ренция, и все Великое герцогство
Тосканское были незаслуженно
оставлены без должного внимания.
Это отчасти объясняется тем. что к
середине XVI в. блестящая история
ренессансной Флоренции была уже
позади: превратившаяся из наиболее
значительного экономического и
культурного центра Италии в столи-
цу одного из многочисленных италь-
янских государств, Флоренция пере-
стала интересовать ученых. Другая
причина заключается в невероятном
изобилии материалов по этому
периоду, хранящихся в архивах Фло-
ренции п других тосканских городов,
которое не столько привлекало,
столько отпугивало исследователей.
Однако в самые последние годы
интерес к истории Флоренции и То-
358
Рецензии
сканы в XVI—XVII вв. заметно уве-
личился. Был организован ряд кон-
ференций и симпозиумов («Рожде-
ние Тосканы», Сиена, 1974 г., «Меди-
чейская Ливорно», Ливорно, 1977 г. и
др.), появились новые монографии и
научные статьи *.
Одним из значительных ' изданий
такого рода является рецензируемая
книга — первый том серии «Иссле-
дования о медичейской Тоскане», вто-
рой том которой предполагается из-
дать в 1979 г. Редактор книги
Дж. Спини — один из ведущих спе-
циалистов по истории XVI—XVII вв.,
в течение многих лет занимавшийся
разными аспектами истории Велико-
го герцогства Тосканского 1 2.
Книга подводит итоги работы
семинара, который профессор Спини
в течение многих лет ведет со сту-
дентами Флорентийского универси-
тета; она содержит большую ввод-
ную статью Дж. Спини и семь ста-
тей, написанных его учениками.
Хронологические рамки исследова-
ния — 1537—1609 гг. Это время прав-
ления первых трех великих герцо-
гов Тосканы, время складывания и
укрепления регионального абсолю-
тизма и одновременно период наи-
большего расцвета государства. Все
статьи написаны на основании
архивных материалов, никогда ранее
историками не привлекавшихся.
В частности, использованы донесе-
1 Berner S. Florentine political tho-
ught in the late Cinquencento.—
Pensiero politico, 1970, N 2;
Cochrane E. Florence in forgotten
centuries, 1527-1800. Chicago; Lon-
don, 1973; Diaz F. Il granducato
di Toscana. Torino, 1976, vol. 1.
I. Medici; Morelli R. La seta fioren-
tina nel Cinquecento. Milano, 1976.
2 Spini G. Cosimo I dei Medici e la
indipendenza del Principato medi-
ceo. Firenze, 1945; Idem. Cosimo I
dei Medici.— In: Secoli vari. Con-
ferenze raccolte a cura della Libe-
ra Cattedra di storia della Civilta
Fiorentina. Firenze, 1958; Idem.
Appunti per una storia delle clas-
si subalterne nel Principato medi-
ceo del Cinquecento.— In: Omag-
gio a Pietro Nenni. Roma, Quader-
ni di «Mondo Operaio», 1973.
ния, поступавшие в магистрат Капи-
танов гвельфской партии, и другие
материалы этого магистрата, ведав-
шего в те времена публичными ра-
ботами по строительству дорог и
водных путей великого герцогства,
далее материалы магистрата Девяти
консерваторов контадо и доминиума,
ведавшего доходами и расходами
коммун и контролировавшего их, а
также богатые и разнообразные до-
кументы других государственных
учреждений. Текст снабжен тща-
тельными ссылками на архивный
материал и содержит многочислен-
ные таблицы статистического харак-
тера. Имеется индекс имен и геогра-
фических названий. В приложении —
80 иллюстраций памятников архитек-
туры, строительных схем, планов.
По словам Дж. Спини, расцвет
архитектуры в Тоскане при первых
трех великих герцогах — это не толь-
ко феномен искусства, он имеет и по-
литическое и социальное значение,
так как является выражением абсо-
лютистского режима и тех обществен-
ных сил, которые господствовали
при нем. В архитектуре отражаются
характер и основные направления
политики великих герцогов3. Эти
исходные положения и определили
название книги. Содержание же
включенных в нее статей охватывает
и вопросы, не связанные с архитек-
турой: некоторые аспекты внутрен-
ней политики великих герцогов и
различные стороны социально-эко-
номического развития Тосканы —
проблемы, мало изученные или вовсе
неизученные до сих пор.
В статье Л. Атзори и И. Реголи
«Две сельские коммуны флорентий-
ского доминиума XVI в.: Монтополи
Валь д’Арно и Кастельфранко ди
Сотто» даются сведения о составе
населения и распределении земель-
ной собственности, о классовой
структуре и занятиях населения, о
ценах на продукты первой необхо-
димости и принудительных тран-
спортных и строительных повин-
ностях. Авторы приводят многочис-
ленные фактические и цифровые
3 Spini G. Architettura е politic»
del principato Mediceo del Cinque-
cento.— RSJ, 1971, fasc. 4, p. 792.
Рецензии
359
данные, которые свидетельствуют о
том, что земельные владения были
главным образом средней величины
и что примерно 3Л из них находи-
лось в руках местных жителей;
остальные принадлежали флорентий-
ским гражданам и религиозным
учреждениям. Практически для всех
слоев населения землевладение со-
четалось с занятиями в области тор-
говли, промышленности и транспор-
та. Из промышленных занятий пер-
вое место принадлежало сукноделию
и изготовлению шелковых нитей для
нужд флорентийских шелковщиков.
Местная экономика через внутрен-
нюю торговлю была тесно связана с
экономикой других частей герцогст-
ва. В рассматриваемое время она пе-
реживала относительный расцвет.
Наиболее доходные отрасли эконо-
мической жизни, в частности изго-
товление шелковых нитей, находи-
лись всецело в руках местных бога-
чей, которые, занимая ведущие дол-
жности в коммунах, обладали всей
полнотой административной и поли-
тической власти.
Статья знакомит читателя с тяже-
лыми условиями жизни трудящихся
масс. Рост заработной платы не пос-
певал за ростом цен. В неурожай-
ные годы к голоду добавлялась без-
работица. Для них существовала
только одна проблема — выжить.
Статьи А. Черкиаи и К. Квирикони
«Донесения магистрату Капитанов
гвельфской партии. Часть I. Прин-
ципат Франческо деи Медичи» и
А. Галлерани и Б. Гвиди «Донесения
магистрату Капитанов гвельфской
партии. Часть II. Принципат Ферди-
нанда I» посвящены анализу харак-
тера публичных работ, проводив-
шихся по регулированию течения
рек и борьбе с наводнениями, по
осушению болот, реорганизации и
ремонту дорожной сети, ио строи-
тельству и ремонту мостов. Исследо-
вания подробно знакомят читателя с
состоянием важнейших дорог и вод-
ных путей и с большим размахом ра-
бот по их усовершенствованию. Ав-
торы показывают, что активная по-
литика великих герцогов, особенно
Фердинанда I, имела целью создать
более благоприятные условия для
развития промышленности, торговли,
и прежде всего торговли зерном.
Приводятся наглядные примеры, сви-
детельствующие о том, что осушение
болотистых местностей и многие
другие работы велись ради обеспече-
ния личных экономических интере-
сов великих герцогов. Организация
строительства находилась в руках
опытных людей, среди которых были
и известные художники и архитек-
торы Бернардо Буонталенти и Бар-
толомео Амманати.
Все эти работы ложились тяжким
бременем на плечи крестьян, вы-
нужденных участвовать в них
в принудительном порядке. По-
путно в статье затрагивается и ор-
ганизация и функционирование про-
мышленного производства в рамках
всего государства.
Авторы собрали очень интересный
и совершенно новый материал, на
основании которого выводы звучат
достаточно убедительно. Нам, одна-
ко, представляется, что при объеди-
нении обеих статей в одну можно
было бы избегнуть лишних повторе-
ний и сделать материал более обоз-
римым.
К наиболее интересным статьям
рецензируемого сборника относятся
работы Б. Луката «Проблема зерна
и голода» и А. Ванцулли «Банди-
тизм», которые охватывают период
тяжелых неурожайных и голодных
годов конца XVI и начала XVII в.
Если до сих пор была известна ди-
намика цен во Флоренции4, то
теперь историки получили возмож-
ность ознакомиться с соответству-
ющими данными по различным ме-
стностям великого герцогства, что
позволяет лучше постичь размеры
бедствия, обрушившегося на населе-
ние. При сопоставлении цен во Фло-
ренции с ценами, приводимыми в
работе Луката, обнаруживаются не-
малые расхождения по отдельным
годам и продуктам. Все ясе созда-
ется впечатление, что в основном
кривая цен была одинаковой во
всем государстве.
Автор уделяет основное внима-
ние политике Фердинанда I в об-
4 Parenti G. Prime ricerche sulla гь
voluzione dei prezzi in Firenze.
Firenze, 1939.
360
Рецензии
ласти обеспечения государства зер-
ном. Наряду с характеристикой
разнообразных мероприятий по
борьбе со спекуляцией автор под-
робно останавливается на личном
участии великого герцога в зерно-
вой торговле. До сих пор было из-
вестно, что он первым начал заку-
пать зерно на севере Европы, на-
жил при этом огромное состояние
и считался одним из крупнейших
дельцов Европы своего времени.
Но конкретных сведений об этой
стороне его деятельности факти-
чески не было. Теперь же Б. Дука-
та восполнил пробел. Из многочис-
ленных конкретных фактических и
цифровых данных, сообщаемых ав-
тором, мы в частности узнаем, что
в начале 9О-х годов XVI в. около
половины привозимых в Ливорно
пшеницы и ржи принадлежало ве-
ликому герцогу. Многосчисленные
сведения о роли Фердинанда I во
внутренней торговле, о его торго-
вых делах в пределах всей Италии
дополняют картину. Любопытно,
что Фердинанд I, жестоко пресле-
довавший контрабандную торгов-
лю, сам ею не гнушался.
Плодотворной представляется
мысль автора, что политика герцо-
га объяснялась не только стремле-
нием обеспечить население зерном,
но и страхом перед бандитизмом.
Можпо было бы к этому добавить
и стремление к личному обогаще-
нию. Убедительно звучит вывод ав-
тора, что трагические условия рас-
сматриваемого периода были ис-
пользованы Фердинандом I для
подчинения своему контролю всей
внутренней и внешней торговли, а
также для максимальной концентра-
ции власти в своих руках, что широ-
кий размах публичных работ также
был связан с проблемой зерна. Не-
сомненно, Фердинанд I гораздо
лучше других итальянских госуда-
рей боролся с голодом. Но утверж-
дение автора, что Фердинанд I
сумел положительным образом спра-
виться с трудностями, представляет-
ся нам слишком оптимистическим.
Статья о так называемом банди-
тизме — первая попытка конкрет-
ного изучения на материале Вели-
кого герцогства Тосканского этого
чрезвычайно сложного и очень
своеобразного феномена, присущего
Италии XVI—XVII вв. Подробно
прослеживаются случаи появления
«бандитов» в разных районах госу-
дарства в различные периоды. Ха-
рактеризуется разносторонняя энер-
гичная борьба Фердинанда I против
«бандитов». Автор убедительно по-
казывает, что Фердинанду I уда-
лось в сравнительно короткий срок
искоренить бандитизм в своем го-
сударстве, в то время как в Неапо-
литанском королевстве и в Папском
государстве он стал хроническим
явлением. Хорошо раскрыта связь
бандитизма с сепаратистскими уст-
ремлениями тосканских феодалов.
Основной тезис автора, что банди-
тизм — это дитя нехватки зерна и
голода, представляется совершенно
верным. Однако при всех явных
достоинствах этой статьи именно
она оставляет впечатление незавер-
шенности и недосказанности, так
как важнейшая, на наш взгляд, сто-
рона этого явления осталась нерас-
крытой. Подробно останавливаясь
на характеристике борьбы великого
герцога с бандитизмом, автор очень
мало говорит о самих «бандитах»,
их социальном составе, методах
борьбы, отношении к различным
классам населения, об отношении к
ним народных масс — словом, о
конкретных формах проявления
бандитизма как очень своеобразного
выражения социального протеста,
о связях бандитизма с голодом. На-
прасно было бы также искать по-
пытки обобщения этого явления как
социального феномена, о котором в
исторической литературе были вы-
сказаны очень интересные мысли5.
В рецензируемый том включены
работы К. Содини «Архитектура и
политика в Барге: 1527—1569» и
М. Фосси «Документальные замет-
ки о группе Геркулес и Антей Ам-
манати и о вилле Амброджани»,
рассматривающие вопросы более
частного характера.
В большой вводной статье Дж.
Спини изложены его основные
5 Hobsbawm Е. J. Les primitifs de la
revolte dans ГЕнгоре moderne. Pa-
ris, 1966.
Рецензии
361
взгляды на медичейскую власть и
ее политику. Эта статья является
результатом собственных исследо-
ваний Дж. Спини и одновременно
итогом работ его учеников6. Она
содержит выводы и обобщение конк-
ретного материала, лежащего в
основе опубликованных статей.
Спини характеризует государ-
ственную форму Великого герцог-
ства Тосканского как абсолютист-
скую, говоря об абсолютизме лишь
в плане самостоятельности госуда-
рей и их неограниченного могуще-
ства во всех областях государствен-
ной жизни. Спини считает, что ме-
дичейские великие герцоги доби-
лись такой концентрации власти,
которая напоминает французский
абсолютизм XVII в. и которая во
многих формах своего проявления
опережала абсолютизм того време-
ни в других странах. Они достигли
этого, полностью подчинив своему
контролю не только политическую
жизнь, но и экономику. Крупней-
шие землевладельцы, монополисты
в торговле солью, добыче железа и
других ископаемых, крупнейшие
купцы и финансисты Тосканы, они,
не делая различия между государ-
ственными и личными интересами,
могли пользоваться всей полнотой
власти для собственного обогащения.
Давая широкий обобщающий об-
зор деятельности великих герцогов
в области строительства укрепле-
ний, дворцов и домов, церквей и
памятников искусства, а также в
области осушительных работ, строи-
тельства дорог и т. п., автор подчер-
кивает, что все это было сделано в
интересах обороны государства и раз-
вития торговли, улучшения земель,
принадлежавших самим Медичи, и в
конечном итоге в интересах увели-
чения их богатства и власти.
В работе Спини полностью отсут-
ствует та идеализация личности
великого герцога Козимо I, которая
была в свое время столь распрост-
ранена в итальянской историогра-
фии. В отличие от господствовавше-
го прежде мнения об уравнительной
политике Медичи в рамках всего го-
в Она ранее была опубликована в
виде отдельной статьи. См. сн. 2.
сударства и в отношении всех слоев
населения Спини говорит о слож-
ном переплетении местных и касто-
вых привилегий, над которыми воз-
вышалась власть великих герцогов;
они не только не стремились унич-
тожить эту систему, но еще больше
усложняли ее предоставлением все
новых привилегии.
Вопросы социальной структуры
великого герцогства автор затраги-
вает лишь вскользь, хотя и выска-
зывает ряд интересных соображе-
ний, в частности по вопросу об от-
ношении различных слоев населе-
ния к строительной деятельности.
Ею занималась, помимо самого го-
сударя, только та часть флорентий-
ской купеческой аристократии и
наиболее влиятельных семей доми-
ниума, которая была тесно связана
с режимом, а также представители
ново^ бюрократии и духовенства,
которые были орудием абсолютист-
ской власти Медичи. В то же время
все эти работы осуществлялись за
счет жестокой эксплуатации народ-
ных масс. Автор дает конкретные
примеры, свидетельствующие о тя-
желейших условиях труда, низком
уровне заработной платы, об уча-
стии женщин в непосильных физи-
ческих работах. Спини пишет: «В
значительной мере архитектурная
красота тосканских городов позд-
него Чинквеченто и загородных
домов, окружающих их, возникла
за счет пота и бедности крестьян-
ских масс, подвергавшихся массовой
эксплуатации» (р. 61).
В целом новая книга по истории
Великого герцогства Тосканского
дает много новых сведений, обога-
щающих наши знания об этом госу-
дарстве; они могут быть использо-
ваны для дальнейшей работы по
изучению характера итальянского
регионального абсолютизма. Неко-
торые соображения, высказанные
авторами сборника, представляются
спорными. Ряд статей не имеет не-
посредственного отношения к архи-
тектуре, но сама мысль об архитек-
туре как зеркале политики тоскан-
ского абсолютизма вполне обосно-
вана материалами опубликованных
работ.
А. Д. Ролоеа
АННОТАЦИИ
СОТРУДНИЧЕСТВО ВЕНГЕРСКИХ И СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ. Ма-
териалы сессии II отделения Венгерской академии наук, посвященной
25-летию венгерско-советского научно-технического сотрудничества.
18 сентября 1974 года. Будапешт, 1977.
На сессии Венгерской академии
наук, посвященной 25-летию вен-
герско-советского научно-техниче-
ского сотрудничества, материалы
которого содержит книга, был про-
читан ряд докладов, освещающих
различные стороны отношений вен-
герской и советской исторической
науки. Вступительное слово произ-
нес академик Л. Матраи, отметив-
ший, что в результате совместной
работы венгерских и советских
историков в течение 25 лет марк-
систско-ленинская методология ста-
ла основой исследовательской рабо-
ты в исторической науке Венгрии,
сложилось успешное, плодотворное
для обеих сторон сотрудничество.
Директор Института истории Вен-
герской академии наук, академик
Ж. П. Пах посвятил свое выступле-
ние анализу результатов и задач
развития отношений советских и
венгерских историков, подчеркнув
важность советско-венгерского со-
трудничества, начавшегося сразу
же после окончания второй мировой
войны. Академик Пах напомнил о
большом значении, которое имели
для венгерских историков доклады
академика Б. Д. Грекова, прочитан-
ные им в 1948 г. в Будапеште. Эти
доклады, в которых он рассмотрел
проблемы истории Киевской Руси и
общие закономерности развития
европейского крестьянства, впервые
познакомили венгерских историков
с достижениями советской истори-
ческой науки, в том числе с марк-
систской концепцией истории
крестьянства.
Важную роль в изучении венгер-
ской истории сыграли работы
академика Е. В. Тарле. Так, напри-
мер в 1953 г. на конгрессе венгер-
ских историков он прочитал доклад
о восстании крестьян под руковод-
ством Дьердя Дожи; поставив это
восстание в один ряд с Великой кре-
стьянской войной в Германии и
восстанием под руководством Болот-
никова, Е. В. Тарле обратил внима-
ние на классовую сущность этого
движения и на проблемы классовой
борьбы в Венгрии в период
до XIX в. Существенное влияние на
изучение классовой борьбы венгер-
скими историками оказали также
работы и доклады Б. Ф. Поршнева.
Ж. П. Пах подчеркнул, что работы
таких ученых, как Е. В. Тарле,
Е. А. Косминский, С. Д. Сказкин,
В. М. Хвостов, А. Л. Сидоров, в зна-
чительной мере содействовали
утверждению марксистского Срав-
нительно-исторического метода, а
также тому, что общепризнанным
методологическим принципом вен-
герской исторической науки стало
изучение венгерской истории в
рамках всеевропейского историче-
ского процесса.
С 50-х годов в Венгрии началась
работа по созданию обобщающих
трудов, п среди них — серии учеб-
ников. При определении структуры
исследований и в ходе решения
принципиальных вопросов изложе-
ния истории и ее периодизации
учитывался опыт советских
историков.
На конференциях советских и
венгерских историков, проходивших
ежегодно с 1969 г., неоднократно
ставились и вопросы средневековой
истории: взаимоотношения венгров,
Османской империи и Габсбургов
в XVI—XVII вв.; познавательная
ценность раннесредневекового ну-
мизматического материала; вэаимо-
Аннотации
363
связи этнографии и исторической
науки ит. д. В заключение
Ж. П. Пах подчеркнул необходи-
мость продолжения и расширения
советско-венгерского сотрудничества
в области истории.
Доклад академиков А. П. Оклад-
никова и Ю. В. Бромлея отражал
основные этапы и направления со-
трудничества историков обеих стран
после второй мировой войны. Док-
ладчики указали на большое зна-
чение для развития советско-вен-
герских исторических связей таких
форм работы, как обмен научными
кадрами, подготовка специалистов
в вузах стран-партнеров, публика-
ции переводов исторических трудов.
Особенное сближение исторической
науки Венгрии и СССР наметилось
в результате совместных работ, на-
пример «Проблемы археологии и
древней истории угров» (М., 1972).
Опыт, накопленный до создания
Комиссии историков СССР и ВНР
в 1968 г., был использован и развит
и в дальнейшем. Много внимания
уделялось организации совместных
симпозиумов. Была продолжена ра-
бота по созданию обобщающих
трудов, таких,, как «История Венг-
рии» в трех томах, коллективная
монография «Славянские народы
Австрийской империи», предприни-
маются совместные археологические
экспедиции. Таким образом, послед-
ние годы свидетельствуют о по-
стоянном углублении и совершен-
ствовании форм сотрудничества
историков обеих стран на основе
общности марксистской методологии
истории.
Профессор Э. Нидерхаузер оста-
новился на решении проблем исто-
рии СССР в венгерской историогра-
фии. Он отметил, что исторические
исследования в этой области шли
в русле выявления специфических
черт развития восточноевропейских
народов. В связи с изучением древ-
ней истории венгров развертывалось
изучение финно-угорских народов
Советского Союза. Значительный
интерес вызвала история закарпат-
ских украинцев, исследуется исто-
рия и других пародов СССР.
В центре внимания исследовате-
лей раннего средневековья находи-
лась история кочевников южнорус-
ских степей, в частности Хазарского
каганата и венгерских племен, на-
ходившихся под его властью, а
также вопрос о характере контак-
тов между венгерскими и восточно-
славянскими племенами. В резуль-
тате сравнительно-исторического
изучения этих связей венгерские
историки пришли к выводу о посте-
пенном складывании феодальных от-
ношений в Древнерусском государ-
стве и Хазарском каганате на осно-
ве разложения первобытнообщин-
ного строя, в рамках которого
существовало и рабство с чертами,
присущими рабству варварского
периода (А. Барта); были сделаны
наблюдения, что в развитии Восточ-
ной Европы существовал ряд общих
характерных черт, например уча-
стие княжеских дружин в закрепо-
щении свободных, применение в
крупных имениях рабского труда
(Л. Маккан).
В работах, посвященных ранним
периодам истории, заметен интерес
венгерских историков к истории
венгров на территории СССР.
Так, Й. Переньи по данным XIII в.
локализовал «Великую Венгрию»
на правобережье Волги, отвергнув
прежнее предположение о том, что
она находилась в Башкирии. В ис-
следованиях более поздних эпох
авторы чаще обращаются к темам,
непосредственно связанным с ис-
торией СССР (например, торговые
связи между Западной и Восточной
Европой (Ж. П. Пах), государствен-
ная централизация па Руси (Л. Эле-
кеш), монетная система Руси в
XV в. и т. д.). Таким образом, вен-
герские историки предприняли зна-
чительное число исследований и в
области истории русского средневе-
ковья.
Изучению проблем венгерской
истории в советской историографии
был посвящен доклад Т. М. Исламо-
ва (АН СССР) Общим признанием
специалистов пользуются разыска-
ния советских историков по отдель-
ным проблемам истории Среднего
Подунавья VI—IX вв. (М. И. Арта-
монов, А. И. Бернштам, Н. П. Гра-
цианский, П. Н. Третьяков,
В. А. Истрин, Ю. В. Бромлей). Ряд
364
Аннотации
работ освещает вопрос об этногенезе
венгерских племен на основе ар-
хеологических данных (О. Н. Бадер,
В. Н. Чернецов, А. П. Смирнов и
др.), свидетельств восточных авто-
ров (И. Ю. Крачковский), лингви-
стических данных (А. М. Рот,
П. Н. Лизанц, Ш. Фодор), комплекс-
ного использования этих материалов
(В. П. Шушарин).
Продолжая традиции русской до-
революционной науки, советские
историки на базе марксистско-ле-
нинской методологии обратились к
решению ряда проблем истории
XI— XIII вв., в том числе проблемы
классовой и внутриполитической
борьбы (М. А. Павлушкова, В. Ф. Се-
менов), внешнеполитических связей
(В. Т. Пашуто). В. П. Шушарин ис-
следовал социально-экономические
причины специфики внутреннего
развития Венгрии, а также опреде-
лил основные моменты социально-
экономического развития XIV — на-
чала XV в., что позволило ему по-
дойти к пониманию причин и харак-
тера восстания 1437—1438 гг. в Тран-
сильвании. Классовой борьбе в позд-
нее средневековье посвящены и дру-
гие работы (В. Н. Никитина, К. В. Ба-
зилевич, Е. В. Тарле). В настоящее
время советский читатель имеет в
своем расположении подробное изло-
жение средневековой истории Венг-
рии, характеризуемое стремлением
выявить глубинные социально-эко-
номические истоки явлений внутри-
и внешнеполитической истории
Венгрии («История Венгрии», т. 1).
Сессия продемонстрировала пло-
дотворность сотрудничества венгер-
ских и советских историков и глу-
бокую заинтересованность ученых
обеих стран в дальнейшем развитии
научных связей.
Книга снабжена подробной биб-
лиографией, а также приложением,
включающим «Положение о комис-
сии историков СССР и ВНР» и спи-
сок состава комиссии.
О. И. Варъяш
ДВЕ КНИГИ ОБ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ РУКОПИСЯХ БОДЛЕЯН-
СКОЙ БИБЛИОТЕКИ.
A. G. AND W. О. HASSALL. TREASURES FROM THE BODLEIAN LIBRA-
RY. INTRODUCTION BY R. W. HUNT. London, Gordon Fraser, 1976. 160 p.,
36 plates with col. ill., bibl., index.
T. H. OHLGREN. ILLUMINATED MANUSCRIPTS: AN INDEX TO SELEC-
TED BODLEIAN LIBRARY COLOR REPRODUCTIONS. New York and Lon-
don, Garland Publishing, Inc., 1977, XXXIV, 646 p., 13 plates.
Мы уже информировали читате-
лей «Средних веков» об исключи-
тельно богатой коллекции иллюст-
рированных средневековых рукопи-
сей, хранящейся в Бодлеянской
библиотеке в Оксфорде, и о цветных
микрофильмах, составленных на ос-
нове многочисленных мипиатюр,
украшающих эти рукописи *. С тех
пор в свет вышли две книги, позво-
ляющие лучше оценить наиболее
выдающиеся рукописи и облегчаю-
щие работу с цветными микрофиль-
мами.
В опубликованной в 1976 г. мо-
нографии А. Г. и У. О. Хассалл
1 См.: Ульянов Ю. Р. Цветные мик-
рофильмы Бодлеянской библиоте-
ки.- СВ, 1975, вып. 38, с. 323-324.
«Сокровища из Бодлеянской библи-
отеки» представлены 36 наиболее
замечательных цветных иллюстра-
ций из такого же числа различных
рукописей (библий, евангелий,
псалтырей, требников, апокалипси-
сов, часословов, бестиариев, поэм,
хроник, трактатов и т. д.), создан-
ных в различных странах (Англии,
Франции, Германии, Фландрии, Ита-
лии, Византии, Мексике) в период
между 800 и 1540 гг. и хранящихся
в Отделе западных рукописей Бод-
леянской библиотеки.
Большой формат книги (36*
*26 см) позволил воспроизвести
большинство мипиатюр в натураль-
ную величину, остальные были
лишь немного уменьшены. Трудно
переоценить также значение публи-
Аннотации
365
нации иллюстраций в цвете: мы ви-
дим их примерно так, как видели
их современники, и можем предста-
вить себе замысел средневекового
художника, часто использовавшего
цвета в качестве символов. Техни-
ческое же исполнение цветных ил-
люстраций стоит на очень высоком
уровне.
В составленном авторами преди-
словии раскрывается значение пуб-
ликации цветных иллюстраций для
исследователей, преподавателей и
всех интересующихся средневековой
историей и искусством. В квалифи-
цированном введении к книге д-р
Р. У. Хапт, хранитель западных ру-
кописей, сообщает весьма важные
и интересные данные об основании
и истории Бодлеянской библиотеки,
сведения о собирании на протяже-
нии веков коллекции средневековых
рукописей, дает краткую характе-
ристику наиболее значительных из
них, а также излагает историю си-
стематизации и описания рукопи-
сей.
Супруги Хассалл, большие знато-
ки в области средневекового искус-
ства, не ограничились публикацией
трех дюжин великолепных миниа-
тюр, но сопроводили каждую из них
авторским текстом. Этот текст со-
держит краткое описание рукописи,
сведения о ее происхождении и
истории, виде, к которому данная
рукопись принадлежит, и детальный
анализ самой иллюстрации, вклю-
чающий определение художествен-
ной школы и манеры исполнения,
сведения об авторе рисунка и тек-
ста, разбор сюжета и художествен-
ных особенностей рисунка, рамки
или обрамления, красок, использо-
ванных художником, и т. д. Завер-
шается текст библиографией к
каждой иллюстрации, содержащей
ссылки как на опубликованные
труды, так и на цветные микро-
фильмы Бодлеянской библиотеки.
Книга снабжена указателем.
Бодлеянская библиотека издает
печатные списки цветных микро-
фильмов, уже изготовленных и
имеющихся в продаже. Однако эти
списки слишком кратки, чтобы слу-
жить надежным путеводителем для
исследователя и преподавателя при
подборе ими нужного материала.
Вот почему можно только приветст-
вовать появление справочника «Ил-
люстрированные рукописи. Указа-
тель к избранным цветным репро-
дукциям Бодлеянской библиотеки»,
составленного профессором универ-
ситета Пардью Т. Г. Олгреном и вы-
шедшего в свет в конце 1977 г.
. К этому времени число микро-
фильмов Бодлеянской библиотеки
превысило 900 и, хотя в них воспро-
изведена лишь сравнительно не-
большая часть богатой коллекции,
проблема поиска и нахождения
нужных иллюстраций оказалась
сложной и для тех, кому известны
материалы рукописного фонда биб-
лиотеки, но особенно для тех, кто
не знаком с оригиналами и не имеет
возможности пользоваться библи-
отечными каталогами.
Для составления справочника
проф. Олгрен использовал коллек-
цию микрофильмов университета
Пардью (штат Индиана), где собра-
на большая часть (750) цветных
микрофильмов Бодлеянской библио-
теки. Данный справочник является
ключом к 500 наиболее важным
микрофильмам, состоящим пример-
но из 20 тыс. отдельных слайдов,
изготовленных на основе более 1100
рукописей и первопечатных книг.
Их оригиналы находятся главным
образом в Бодлеянской библиотеке,
однако некоторые принадлежат
библиотекам университетских кол-
леджей в Оксфорде и даже библио-
текам вне Оксфорда, в частности в
Хокеме (Норфолк).
Обработка информации о 500
микрофильмах была произведена с
помощью ЭВМ. В результате был
составлен каталог и 11 указателей.
В каталоге содержится описание
каждого из 500 микрофильмов,
включая библиотеку, которой при-
надлежит рукопись, название, вид
и шифр рукописи, название и шифр
микрофильма, место (страна, город)
и время (век, год) создания рукопи-
си, язык текста, имя художника
и название художественной школы.,
содержание фильма, т. е. описание
каждого кадра (слайда) в данном
микрофильме. Указатели содержат
информацию по отдельным пунктам
366
Аннотации
описания микрофильмов со ссылка-
ми на каталог. Таким образом,
справочник дает описание иконо-
графии каждого иллюстрированного
листа или страницы, а потому с его
помощью легко найти любой слайд
и подобрать слайды по нужной
теме. Так, справочник дает возмож-
ность найти, например, все бестиа-
рии, все рукописи, происходящие из
определенной страны, все изобра-
жения плугов или пахоты, все из-
ображения какого-либо историче-
ского персонажа или святого и
т. п.— и это доступно даже тем, кто
никогда ранее не видел ни слайдов,
ни оригинальных рукописей.
Каталогу предпослано предисло-
вие д-ра Хассалла — большого зна-
тока иллюстрированных рукописей
и инициатора изготовления и рас-
пространения цветных микрофиль-
мов Бодлеянской библиотеки и вве-
дение проф. Олгрена. Два других
введения написаны специалистами,
занимавшимися непосредственной
подготовкой информации для ЭВМ —
кодированием п программировани-
ем. В них излагаются проблемы,
стоявшие перед этими специалиста-
ми, и методы их разрешения. Зна-
комство с введениями, несомненно,
облегчит читателю пользование
книгой.
Справочник проф. Олгрена — плод
шестилетних трудов автора — явля-
ется полезным вкладом в изучение
средних веков и Возрождения. Он
предназначается как для препода-
вателей, так и для ученых, которые
могут с его помощью подобрать
материал для иллюстрации отдель-
ных исторических периодов, тем или
вопросов. Он послужит также ука-
зателем к главным иллюстрирован-
ным рукописям и первопечатным
книгам Бодлеянской библиотеки.
В заключение отметим, что подго-
тавливается дополнительный том
справочника, который охватит еще
250 микрофильмов.
Ю. Р. Ульянов
Н. Е. MAYER. BISTUMER, KLOSTER UND STIFTE IM KONIGREICH
JERUSALEM. SCHRIFTEN DER MONUMENTA GERMANIAE HISTORICA,
Bd. 26. Stuttgart, 1977, 438 S.
Г. Э. МАЙЕР. ЕПИСКОПСТВА И МОНАСТЫРИ ИЕРУСАЛИМСКОГО
КОРОЛЕВСТВА. Штутгарт, 1977. 438 с.
Чем интенсивнее исследуются до-
шедшие до нас средневековые па-
мятники, тем шире становятся тре-
бования, предъявляемые к их
источниковедческой характеристике.
Историку, интересовавшемуся лишь
общей - канвой событий, достаточно
было самого общего источниковед-
ческого анализа. Изучая, например,
в целях установления основных вех
событийной истории какое-либо по-
литическое соглашение, историк мог
удовлетвориться выяснением его
подлинности. Иное дело, если ис-
следователь стремится выявить
истолкование, которое хотела бы
дать подобному соглашению каждая
из сторон, если он стремится отде-
лить утверждения, соответствующие
действительности, от тех, что фик-
сируют лишь желательные той или
другой стороне представления о
прошлом или настоящем, если он
ищет умолчания, существенные по-
рой не менее, чем включенные в
текст положения, старается понять
смысл изменяющихся от поколения
к поколению слов и понятий. Оче-
видно, что анализ таких аспектов
требует уяснения очень широкого
круга вопросов, затрагивающих
условия составления документа, его
истолкование современниками и
потомками, особенности мировос-
приятия составителей документа и
т. п. Источниковедческий анализ
здесь фактически смыкается с со-
держательным.
Все это еще раз приходит на ум,
когда читаешь новую работу
Г. Э. Майера. Опа вышла в серии,
главное предназначение которой —
источниковедческая критика. В этой
серии вышло уже немало интерес-
ных трудов, отдельные из которых
упоминались и на страницах наше-
Аннотации
367
го сборника \ В ней же была в
свое время опубликована и одна из
предыдущих работ Майера 1 2— из-
вестного исследователя эпохи кре-
стовых походов3. В обозреваемой
работе автор исследует материалы,'
которые могли бы, с его точки зре-
ния, подготовить создание общей
истории церкви в Иерусалимском
королевстве. Этих материалов, от-
мечает Майер, сохранилось гораздо
меньше, чем хотелось бы: полностью
утрачены архивы иерусалимского
патриаршества в XII в., как и ар-
хивы почти всех иерусалимских
епископств; ненамного лучше обсто-
ит дело с документами большинства
монастырей. Скудость имеющихся
материалов, исключая возможность
создания целостной истории латин-
ской церкви в государствах кресто-
носцев XII в., усугубляет необходи-
мость — даже для написания prole-
gomena к подобной истории — тща-
тельного источниковедческого ана-
лиза сохранившихся памятников.
Именно такой анализ занимает
центральное место в книге.
Одним из важнейших исследова-
тельских приемов Майера являет-
ся сопоставление нарративных и
документальных источников. Срав-
нивая высказывания хронистов о
том или ином моменте в истории
иерусалимской церкви с актовым
материалом по этому же вопросу и
перепроверяя полученные данные
по всему корпусу современных ис-
точников, Майер стремится адекват-
нее воспроизвести ряд конкретных
1 Данилов А. И. Заметки о совре-
менной западноевропейской ме-
диевистике ФРГ.- СВ, 1960, вып.
XVIII, с. 303.
2 Das Itinerariuin peregrinorum.
Eine zeitgenossische englische
Chronik zum dritten Kreuzzug in
urspriinglicher Gestalt. Schriften
der Monumenta Germaniae Histo-
rica. Stuttgart, 1962, Bd. 18.
3 Среди прочих Г. E. Майеру при-
надлежит библиографический
указатель по истории крестовых
походов, рецензия на который
была опубликована М. А. Заборо-
вым: СВ, 1963, вып. 24, с. 290—
296.
фактов социально-политической
эволюции и церковной истории в го-
сударствах крестоносцев XII в. Ему
удается уточнить некоторые дати-
ровки, выявить подложные акты,
обнаружить недомолвки или пре-
увеличения в сообщениях хрони-
стов, проследить складывание исто-
риографических традиций^ смеши-
вавших легенды и действитель-
ность, восстановить отдельные, ка-
залось бы навсегда утраченные,
данные, вскрыть «подтекст» некото-
рых договоров, сделок и установле-
ний и пр. и пр.
Книга построена в виде очерков,
каждый из которых посвящен исто-
рии того или иного епископства или
аббатства. В книге нет ни общего
введения, ни заключения. Взаимо-
связь отдельных очерков зиждется
лишь на переплетении фактической
истории анализируемых церковных
учреждений. Книга открывается
(после очень короткого предисло-
вия) главой о борьбе за верховенство
в государстве между первым прави-
телем Иерусалимского королевства
Годфруа Бульонским и первым ла-
тинским патриархом Даимбертом.
Воспроизводя историю основания в
1100 г. самого древнего из католи-
ческих епископств в государствах
крестоносцев — Яффы, автор оста-
навливается на ряде ключевых эпи-
зодов борьбы, разгоревшейся в
связи с этим между Годфруа и
Даимбертом, и уделяет особое вни-
мание трактовке соглашения между
ними от 25 декабря 1099 г. и пожа-
лования Годфруа в пользу Даим-
берта от 1 апреля 1100 г. Сопостав-
ление данных по этим вопросам у
Гийома Тирского, Альберта Аахен-
ского, Фульхерия Шартрского с не-
которыми грамотами из собраний
Regesta Regni Hierosolymitani (In-
nsbruck, 1893—1904) и Regesta Pon-
tificum Romanorum (ed. Ph. Jaffe.
Leipzig, 1888) позволяет Майеру на-
стаивать на том. что ни соглашение
1099 г., ни пожалование 1100 г. не
предполагали политического подчи-
нения Годфруа Даимберту; отражая
временный компромисс в борьбе
светской власти и церкви, эти акты
не содержали, по мнению Майера,
правовой основы для притязаний
368
Аннотации
патриарха на суверенитет в Иеру-
салимском государстве. Как бы про-
должением этой первой главы, об-
рисовывающей общую расстановку
сил в борьбе между церковью и го-
сударством в Иерусалимском коро-
левстве, служат главы 2—7, в кото-
рых анализируются источники по
ранней истории епископств в Виф-
лееме, Аскалоне, Тивериаде, Тире.
В этих главах привлекают особое
внимание: критика традиции удрев-
лять дату основания епископства в
Вифлееме (в действительности, как
полагает Майер,— не ранее 1108 г.);
выявление особой заинтересован-
ности иерусалимского короля в соз-
дании этого епископства — в проти-
вовес иерусалимскому патриарше-
ству; анализ состава и условий мно-
гочисленных земельных и иных
дарений в пользу ряда епископств;
исследование памятников, касаю-
щихся основания епископства в
Аскалоне, где скрестились интересы
папства, иерусалимского патриар-
шества и местных графов Яффы и
Аскалона (сопоставление нарратив-
ных и актовых материалов позволя-
ет здесь автору заметить что Гийом
Тирский, воспроизводя историю
борьбы патриарха Фульхерия за
назначение епископом аскалонским
его ставленника Абсалона, прибег-
нул к искусственному отбору фак-
тов и многочисленным умолчани-
ям).
Во второй части книги, где ана-
лизируются данные по истории мо-
настырей Иерусалимского королев-
ства в XII в., отдельные главы пос-
вящаются иерусалимским аббат-
ствам св. Марии Латинской и
св. Анны, женскому монастырю
св. Лазаря в Вифании, клюний-
скому аббатству в Аккопе, право-
славной лавре св. Саввы в Иеруса-
лиме, а также монастырю св. Марии
в долине Иосафата, история кото-
рого рассматривается особенно под-
робно. Автор устанавливает, что
представление об основании этого
монастыря еще при Годфруа Буль-
онском — результат созданной в
самом аббатстве легенды, подхва-
ченной впоследствии Гийомом Тир-
ским; неверны также данные о
возникновении этого монастыря в
первые годы XII в., сообщаемые
Гвибертом Ножанским и Альбертом
Аахенским; в действительности,
как полагает Майер, становление
монастырской общины в долине
Иосафата относится к началу вто-
рого десятилетия XII в., а превра-
щение в привилегированное коро-
левское аббатство — только к концу
третьего десятилетия этого века.
Небезынтересны и изыскания Май-
ера, показывающие подложность
ряда документов этого монастыря,
в частности письма аббата Гуго от
1106 г. о сооружении церкви у
гробницы св. Марии, а также гра-
мот об освобождении монастыря от
морских торговых пошлин и тамо-
женных сборов; как подчеркивает
автор, эти фальшивки составля-
лись с единственной целью расши-
рить монастырские доходы. Несом-
ненный интерес представляют так-
же наблюдения автора, основыва-
ющиеся частично па неопублико-
ванных материалах, о земельных
приобретениях этого аббатства, в
результате которых оно стало од-
ним из самых крупных земельных
собственников в Иерусалимском ко-
ролевстве.
Как уже отмечалось выше, книга
не содержит обобщающих разделов.
Не богаты общими наблюдениями
и основные главы. В результате не-
которые общие линии во взаимо-
отношениях церкви и государства в
Иерусалимском королевстве, как и
характерные особенности соответ-
ствующих исторических памятни-
ков, намечены лишь пунктирно.
Вовсе не обобщен материал об
источниках по хозяйственной
структуре изучаемых в книге цер-
ковных учреждений и применяв-
шейся в них системе эксплуатации
зависимого населения. Не получи-
ли, как нам кажется, достаточной
характеристики отношения, скла-
дывавшиеся между аббатствами и
епископствами, с одной стороны, и
их социальным окружением (вклю-
чая и светских вассалов, и иноп-
леменное население) — с другой.
Между тем большее внимание это-
му аспекту позволило бы, возмож-
но, проследить, как переплетались
военно-политические и хозяйствен-
Аннотации
36?
ные стороны деятельности церков-
ных учреждений, как изменялось
их соотношение во времени и как
влияло это на взаимосвязи церкви
со светскими феодалами различного
ранга и на ее отношения с другими
слоями населения. Не останавли-
вается Майер и на причинах боль-
шей или меньшей тенденциозности
отдельных хронистов. В этой связи
нельзя не пожалеть, что автор не
знаком с советской литературой по
данному вопросу, особенно с рабо-
тами М. А. Заборова4. Тем не ме-
нее насыщенность книги Майера
конкретно-историческим материа-
лом делает ознакомление с нею по-
лезным для всех советских иссле-
дователей истории Иерусалимского
королевства.
Ю. Л. Бессмертный
4 Имеем в виду в первую очередь
книгу М. А. Заборова «Введение
в историографию крестовых по-
ходов» (М., 1966).
J. FOLDA. CRUSADER MANUSCRIPT ILLUMINATION AT SAINT-JEAN
D’ ACRE, 1275—1291. Princeton, 1976. 231 p. + 299 Pls.
В последние десятилетия запад-
ноевропейская книжная миниатю-
ра XIII в. вызывает особый интерес
среди медиевистов-историков и ис-
кусствоведов. Рукописные памят-
ники этого периода изучены гораз-
до меньше с точки зрения письма
и иллюминаций, нежели ману-
скрипты более ранних периодов
средневековья. Трудность, а подчас
и невозможность локализации и да-
тировки часто связаны с полней-
шим отсутствием данных в руко-
писи, а также с некоторым едино-
образием характера письма и ми-
ниатюр многих памятников запад-
ноевропейского книгопроизводства
этого периода. Тем не менее тща-
тельный анализ многих рукопис-
ных книг XIII в. позволил в послед-
ние годы локализовать ряд памят-
ников и более или менее точно
датировать их. Исследование аме-
риканского искусствоведа Ярослава
Фольды является серьезным вкла-
дом в изучение памятников этого
времени. Книгу Я. Фольды можно
считать своего рода продолжением
или дополнением к фундаменталь-
ному труду Г. Бухталя о скриптори-
ях крестоносцев *.
Бухталь первым выявил и опи-
сал группу интереснейших руко-
писных памятников, изготовленных
в XII—XIII вв. в скрипториях, рас-
1 Buchthal Н. Miniature Painting in
the Latin Kingdom of Jerusalem.
Oxford, 1957.
положенные на территориях, завое-
ванных крестоносцами. Рукописи,
описанные Бухталем, охватывают
большой временной промежуток.
Фольда подробно рассматривает ма-
нускрипты, созданные всего лишь
за последние 16 лет существования
скриптория в Акре (Saint-Jean
d’Acre). Автор обстоятельно описы-
вает историческую обстановку на
Ближнем Востоке в период послед-
них десятилетий существования го-
сударства крестоносцев, особенно в
самой Акре. Он воссоздает экономи-
ческую и интеллектуальную атмос-
феру города, населенного людьми
многих национальностей, верова-
ний, пестрого по своему социаль-
ному составу. По предположению
Бухталя1 2 и К. Вейтцмана3, Акра
являлась самым значительным ху-
дожественным центром из всех го-
родов крестоносцев, где в XIII в.
создавались иконы и иллюминован-
ные рукописи, представляющие со-
бой сложный сплав художествен-
2 Ibid.
3 Weitzmann К. Thirteenth Century
Crusader Icons on Mount Sinai.—
Art Bulletin, 1963, 45 p. 179-203;
Idem. Icon Painting in the Cruder
Kingdom.— Dumbarton Oaks Pa-
pers, 1966, N 20, p. 49—83; Idem.
Four Icons on Mount Sinai: New
Aspects in Crusader Art.— Jahr-
buch der osterreichischen Byzanti-
nistik, 1972, N 21, p. 279-293.
370
Аннотации
ных течений, процветавших в то
время на Востоке (Византия), на
юге Европы (Венеция) и в «готиче-
ской» Западной Европе. Объясняет-
ся это обстоятельство тем, что
именно в Акре наиболее стабильно
удерживалась власть крестоносцев.
С 1250 по 1254 г. Акра служила ре-
зиденцией французского короля Лю-
довика IX во время седьмого кре-
стового похода, и, по-видимому, им
же и был учрежден скрипторий,
функционировавший до самого зах-
вата города турками в 1291 г.
Лишь в трех сохранившихся ру-
кописных памятниках имеются пря-
мые указания па изготовление их
в Акре. Это обстоятельство позво-
лило в свое время Бухталю, а за-
тем Я. Фольде с помощью тщатель-
ного кодикологического анализа
присоединить к ним и датировать
ряд других кодексов. Автор дает
подробную характеристику тем ма-
нускриптам, которые, с его точки
зрения, были написаны и украше-
ны в скриптории Акры или по не-
которым признакам были с ним
связаны. Таким образом он выделя-
ет группу из 39 кодексов (часть их
была описана ранее Бухталем).
В состав акрских манускриптов
входят памятники различного со-
держания: литургические книги,
поэтическое переложение на фран-
цузский язык библейской истории
(«Histoire universelle»), несколько
сборников современных француз-
ских религиозных произведений
(например, «Чудеса Богоматери»
Тотье де Куанси) и рыцарские ро-
маны. Но большинство книг этой
группы (16 списков) составляет
французский перевод латинской
хроники Гийома Тирского (ИЗО—
ок. 1186)—«Истории деяний в за-
морских землях», доведенной им до
1184 г. и продолженной до различ-
ных сроков хронистами последу-
ющих времен.
По предположению Фольды, око-
ло 1280 г. в Акрском скриптории
был изготовлен список хроники
Гийома Тирского, доведенный до
событий 1264 г., в настоящее время
хранящийся в Государственной Пуб-
личной библиотеке им. М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина в Ленинграде под
названием «История Святой Земли»
(«Histoire de la Terre Sainte»,
Fr. F. vol. IV. 5, r. 1—2).
Миниатюры рукописи, хотя и невы-
сокого художественного достоинст-
ва и посредственной сохранности,
вызывают интерес своей иконогра-
фией и сходством их с миниатюра-
ми двух списков хроники, храня-
щихся в Лионе и Парижской на-
циональной библиотеке, исполнен-
ных, видимо, в том же скриптории
(эти списки были в свое время ис-
следованы и описаны Бухталем).
Фольда подробно разбирает ленин-
градскую рукопись, в особенности
ее миниатюры, впервые давая их
полную публикацию. По его мне-
нию, миниатюры ленинградского и
лионского кодексов выполнены были
примерно в одно время и, возможно,
одним и тем же мастером, прибыв-
шим, по всей вероятности, с Евро-
пейского континента и восприняв-
шим местные художественные тра-
диции. Миниатюры ленинградского
кодекса были исполнены им, по-
видимому, раньше лионского списка.
Палеографы и историки средневе-
вековой книжной миниатюры мо-
гут оценить, насколько важно вы-
явление какого-либо лица, причаст-
ного к созданию манускрипта,—
будь то заказчик, писец или иллю-
минатор. Поэтому следует отдать
должное Фольде за исследование
им творчества иллюминатора, ус-
ловно названного автором «масте-
ром госпитальеров» (от названия
ордена госпитальеров св. Иоанна,
имевшего владения в Акре, для ко-
торого художник украсил одну из
рукописей).
Фольда выделяет группу из ше-
сти манускриптов самого разного
содержания, миниатюры которых
выполнены этим художником. В от-
личие от остальных работ, изготов-
ленных в акрском скриптории, ми-
ниатюры «мастера госпитальеров» от-
личаются более высоким мастерством
и свидетельствуют о парижской
школе их автора. Творчеству «ма-
стера госпитальеров» присущи все
лучшие качества парижского иллю-
минирования 2-й половины XIII в.,
которых не знали остальные худож-
ники Акры, использовавшие в сво-
Аннотации
371
их работах достижения уже отжив-
шего в Европе романского искусст-
ва. Если «мастер госпитальеров» и
заимствовал какие-то иконографи-
ческие черты, свойственные визан-
тийскому и местному искусству,
то перерабатывал их на свой,
«парижский» лад. Фоль да просле-
живает творческий путь этого ху-
дожника начиная с миниатюр ру-
кописи, выполненной им в Париже
в 1276 г. (Опись владений париж-
ского аббатства св. Женевьевы), и
затем характеризует его работу в
Акрском скриптории. Наряду с ил-
люстрированием такого необычно-
го для Акры по своей тематике ма-
териала, как французские перево-
ды произведений Цицерона, париж-
ский мастер исполняет миниатюры
к французскому переложению биб-
лейской истории и традиционной
для Акрского скриптория «Истории
заморских деяний». Фольда высоко
оценивает творчество «мастера го-
спитальеров» и усматривает его
влияние (иконографические и не-
которые художественно-стилисти-
ческие особенности) в иллюмина-
циях ряда кодексов, выполненных
в Западной Европе в течение пос-
ледних десятилетий XIII в. Фольда
делает вывод о существовании в
Акре в ее последние годы двух сти-
лей оформления рукописных книг:
местной, традиционной, достаточно
провипциальной манеры и новей-
шего «парижского» стиля готиче-
ской миниатюры, представителем
которого можно считать «мастера
госпитальеров». Необходимость об-
ращаться к «заморским» иллюми-
наторам возникла, вероятно, в свя-
зи с возросшим желанием заказчи-
ков иметь изысканно украшенные
книги, которые не в состоянии
были изготовить для них местные
мастера.
Исследуя процесс изготовления
книг в Акре, Фольда предполагает,
что существовал не один, а не-
сколько скрипториев, где занима-
лись только перепиской книг
(в частности, литургические кодексы,,
видимо, выпускались в местном до-
миниканском монастыре), в то вре-
мя как мастерских иллюминаторов
было меньше — возможно, одна-
единственная. Так или иначе к
концу столетия, когда один или не-
сколько скрипториев в этом городе
достигли значительного расцвета,
Акра была захвачена и разрушена
турками (1291 г.), вследствие чего
оборвалась не только работа по из-
готовлению латинских и француз-
ских книг, но и культурная и поли-
тическая жизнь этого последнего
оплота крестоносцев на Ближнем
Востоке.
Автор исследования приводит
подробнейшую библиографию, ка-
сающуюся всех затронутых им воп-
росов; он прибегает также к наг-
лядной демонстрации своих изыска^
пий с помощью различных схем и
диаграмм. Важным обстоятельст-
вом является то, что ему удалось
опубликовать почти все миниатюры
исследуемых1* им рукописей. Безус-
ловную ценность имеет составлен-
ный им каталог, в котором, кроме
указания на все сюжеты миниатюр
и текст рубрик, автор дает также
графическую схему расположения
текста на листе, что облегчает вос-
приятие и сравнение этой группы
памятников.
Исследование Ярослава ' Фольды
безусловно заслуживает самого боль-
шого внимания со стороны исто-
риков западноевропейского искус-
ства и палеографов, занимающихся
этим периодом.
И. П. Мокрецова
RICERCHE DI STORIA MODERNA. Pisa, 1976, 1. 415 р.
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОВОЙ ИСТОРИИ. ПИЗА, 1976, т. 1. 415 с.
Настоящее издание включает ис-
следования преимущественно по
аграрной истории провинции Пизы,
подготовленные и обсужденные в
рамках семинара, в котором уча-
ствовали как начинающие ученые,
так и преподаватели университета,
на тему «Экономика и общество в Ев-
ропе в XVI—XVIII вв.» под руковод-
ством проф. Марио Мирри в Инсти-
372
Аннотации
туте истории средних веков и новой
истории Пизанского университета.
В предисловии, которое носит ха-
рактер одновременно и вступления
к тому, и своего рода заключения,
подводящего некоторые итоги поме-
щенных в томе исследований,
М. Мирри делает ряд общих заме-
чаний относительно проблематики
рассматриваемого периода приме-
нительно в первую очередь к исто-
рии Италии, в частности к области
Пизы. Он отмечает демографиче-
ский рост в этой провинции в
XVI—XVIII вв., контрастирующий
со стагнацией и даже упадком в
ряде областей Западной Европы.
При этом Мирри особенно подчер-
кивает связь этого явления с про-
цессом сельскохозяйственного ос-
воения довольно обширных терри-
торий и частично с интенсифика-
цией производства вопреки нео-
мальтузианским построениям о про-
тиворечии между ростом населения и
возможностью удовлетворения его
потребностей при ограниченности
средств существования. Он считает
необходимым исследовать уровень
общественного разделения труда,
типологию взаимоотношений меж-
ду городом и деревней, промышлен-
ностью и сельским хозяйством, ее
связь с господствующими произ-
водственными отношениями. Взаи-
мосвязь ресурсы — население в де-
ревне включена в сложную систему
общих экономических отношений,
ее функционирование зависит от
господствующей формы эксплуата-
ции земли и производства средств
существования людьми, разделен-
ными на различные обществен-
ные группировки и классы. Поэто-
му важно исследовать прежде все-
го тип агрикультуры, способ произ-
водства и общественные отноше-
ния, в рамках которых развивается
сельское хозяйство.
Применительно к истории про-
винции Пизы на протяжении так
называемого длительного периода
Мирри считает необходимым изу-
чение распределения собственно-
сти, т. е. отношений между непо-
средственными производителями —
мелкими собственниками и аренда-
торами — и представителями гос-
подствующего класса, привилегиро-
ванным патрициатом — горожана-
ми Пизы и Флоренции, владения
которых в провинции неуклонно
возрастали. Очень важно исследовать
распространение новых, более до-
ходных форм эксплуатации, тесно
связанных с образованием poderi и
заменой либеллярных держаний
медзадрией, особенно ее господст-
вующей формой mezzadria poderale,
в том числе и на крупных по раз-
меру poderi, объединенных в фак-
тории. М. Мирри призывает к осто-
рожности в использовании количе-
ственных данных источников «до-
статистической эпохи» и замене
«количественной истории» «сериаль-
ной историей», для создания кото-
торой в эту эпоху нет заслужи-
вающих доверия комплексов ста-
тистических данных. Он подчерки-
вает важность интерпретации ре-
зультатов, достигнутых при приме-
нении количественных методов,
необходимость сочетания количест-
венного и качественного анализа
явлений на протяжении «длитель-
ного периода» (при изучении, на-
пример, динамики народонаселения,
распределения собственности, уров-
ня урожайности и т. п.). Следует
уделять особое внимание изучению
процессов на протяжении так назы-
ваемых «коротких промежутков вре-
мени» в пределах «длительного пе-
риода» и не относить лишь к «со-
бытийной истории» активную и соз-
нательную деятельность масс лю-
дей, борьбу классов, революции и
т. п. Важнейшей задачей историка,
отмечает Мирри, является установ-
ление связи между экономическими
условиями и политической и куль-
турной жизнью, обусловленной в
своей основе экономической дейст-
вительностью. Структура общества
на протяжении «длительного перио-
да» зависит не только от измене-
ний ее внутренних экономических
механизмов, циклов подъемов и
кризисов, по и от комплексного воз-
действия многих условий, в том
числе политических процессов.
Мирри специально останавлива-
ется на роли цен и заработной пла-
ты для определения уровня эконо-
мического развития общества на
Аннотации
373
протяжении «длительного периода»
в «докапиталистическую эпоху».
Признавая важность привлече-
ния данных о движении цен для по-
нимания отдельных сторон эконо-
мического развития, он вместе с
тем предостерегает от переоценки
репрезентативности этого показате-
ля для докапиталистической эпохи,
так же как и уровня заработной
платы. Прибыль и заработная плата
не являлись тогда господствующими
категориями в обществе, не суще-
ствовало широкого свободного рынка
рабочей силы, последняя еще не
стала товаром, который в свою оче-
редь не превратился во всеобщую
категорию. В докапиталистическую
эпоху цены, как справедливо пола-
гал В. Куля, должны оцениваться
лишь как вспомогательный момент,
одно из проявлений специфики меха-
низма экономического развития.
Опубликованные в аннотируемом
томе исследования подвергают ана-
лизу различные аспекты аграрных
отношений и политико-администра-
Ъйвпой истории сельской округи
провинции Пизы в XVI—XVIII вв.
Элена Фазана Гуаринп рассмат-
ривает политико-административную,
юридическую и церковную органи-
зацию Пизанской провинции, вхо-
дившей в этот период в состав Ве-
ликого герцогства Тосканского. Де-
мографический и социальный со-
став контадо Пизы в XV—XVI вв.
по данным до сих пор практически
неиспользованных описей-эстимо и
кадастров контадо Пизы изучается
в статье Микеле Дуццатти, в под-
готовке которой принимали участие
и учепики проф. Дуццатти. Особен-
но подробно автор останавливается
па составе семьи, подчеркнув пре-
обладание большесемейных групп
среди крестьянства в исследован-
ных им районах Сап Систо аль
Пино и Музильяно. Эстимо Пизы
1622 г. и в связи с ним фискальной
политике Флоренции посвятил свою
статью Андреа Менцопе. В статье
«Аспекты рынка и цепы на пшеницу
и рожь в Пизе в 1548-1818 гг.» Пао-
ло Малапима на основе обширного
материала ежегодных данных о ценах
па зерно (сведенных им в многочис-
ленные таблицы и графики) показал
функционирование и организацию
рынка в Пизе, а также изменчивость
экономической политики Флоренции
в отношении Пизы.
Анна Мария Пульт Куальй в ра-
боте о земельной собственности мо-
настыря блаженной Кристины в
XVI—XVIII вв., по существу, по-
строила своего рода модель функ-
ционирования развитого сельско-
хозяйственного комплекса во мно-
гих аспектах его деятельности.
В статье рассматриваются вопросы
распределения земельной собствен-
ности и в связи с этим— процесс
образования poderi и исчезновения
с середины XVI в. аффикта и ли-
беллярных держаний, на смену ко-
торым приходит медзадрия; под-
робно анализируются обязанности
испольщиков, среди которых — по-
ставки полностью (а не половины)
семян основных культур, а также
«дополнительные работы», которые
лишь частично оплачиваются цер-
ковным собственником. В конце
XVII в, наблюдается значительный
рост дополнительных обязанностей
испольщиков - как в натуральных
платежах, так и в несении, по
сути дела, настоящей барщи-
ны. Сравнение продуктивности
монастырских poderi на протяжении
1554-1605 и 1689-1735 гг. показывает
характерные в конце XVI и в конце
XVII в. колебания подъемов и спа-
дов, но в целом доходность господ-
ской части сохраняется примерно на
одинаковом уровне за счет пшеницы
и возрастает порой в 1,5-2 раза за
счет вина. Несомненным фактом и
при росте продуктивности poderi в
целом остается постоянная задол-
женность испольщика, который едва
в состоянии удовлетворять необхо-
димые потребности из оставшейся
части «своих доходов».
Изучая организацию фактории в
1651-1746 гг. на примере Фонте а
Ронко в Вальдекьяпе, принадлежа-
щей ордену св. Стефана, Эльза Лу-
тации Грегори проследила процесс
мелиорации и освоения значительной
заболоченной территории, типы ин-
вестиций, функции фактора. Как
представитель исполнительной вла-
сти министров Ордена, фактор вы-
полнял их предписания, регистриро-
374
Аннотации
вал доходы и расходы, покупал и
продавал скот, приобретал семена,
вел расчеты с испольщиками, но не
обладал сколько-нибудь значитель-
ной хозяйственной самостоятельно-
стью. Тосканские факторы, как пра-
вило, не превращались в изучаемое
время в арендаторов капиталистиче-
ского типа, что имело место в хозяй-
ствах Пьемонта в начале XVIII в.,-
к этому выводу подводит большой
материал, собранный автором и под-
вергнутый статистической обработке.
Положение испольщиков и здесь
можно считать бедственным: посто-
янная задолженность, значительные
«дополнительные работы» на хозяи-
на, помимо «традиционной» полови-
ны, носящей, по существу, характер
барщины. Все это усугублялось тя-
желыми природными условиями, ча-
стой заболеваемостью арендаторов,
трудившихся в фактории, значитель-
ная территория которой состояла из
заболоченных или недавно осушен-
ных земель.
В статье Марко Делла Пина «На-
селение Каррары в XVII в.» рассмат-
ривается «нетипичная зона» для То-
сканы, а именно район производства
мрамора. Автор стремится показать
связь между условиями хозяйствен-
ного развития территории, ее ресур-
сами и демографическим ростом, а
также распределением населения
между городом и деревней.
Опубликованные в Приложении к
тому Луиджиной Карратори описи
доходов и расходов архиепископства
Пизы в XV в., позволяют проанали-
зировать состав владений архиепи-
скопства, его распределение по раз-
личным зонам контадо, изменение
характера землепользования и реор-
ганизацию церковного хозяйства в
целом (на примере Пизы) в конце
средних веков.
Подводя итоги, следует отметить,
что помещенные в книге работы со-
держат богатейший материал, извле-
ченный из архивов Пизы, отчасти
Флоренции и некоторых других то-
сканских центров, нередко впервые
вводимый в научный оборот, подверг-
нутый статистической обработке и
уже сейчас содержащий немало ин-
тересных и ценных выводов и наблю-
дений. Можно целиком согласиться
с М. Мирри в том, что напечатанные
в томе труды представляют собой
хорошую основу для дальнейших
углубленных исследований и отправ-
ной пункт для научных дискуссий.
Л. А. Котельникова
JACQUES LE GOFF. POUR UNE AUTRE MOYEN AGE. TEMPS, TRAVAIL
ET CULTURE EN OCCIDENT: 18 essais. Bibliotheque des Histoires. Paris,
Edition Callimard, 1977, 424 p.
ЖАК ЛЕГОФФ. ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. ПРОБЛЕ-
МЫ ВРЕМЕНИ, ТРУДА И КУЛЬТУРЫ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОМ
СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ. 18 эссе. Париж, «Галимар», 1977.424 с.
Название этой книги звучит на
первый взгляд несколько странно.
О каком переосмыслении средневе-
ковья идет речь? Почему для этого
необходимо анализировать проблемы
времени, труда и культуры? Ближай-
шее знакомство с книгой обнаружи-
вает, одпако, что ее заголовок избран
очень точно, передавая как ее содер-
жание, так и общий замысел.
Этот замысел достаточно широк.
Отвергая живучую традицию рас-
сматривать средневековье как эпоху
сплошного упадка и застоя, Ле-
гофф - известный французский ме-
диевист, один из редакторов журнала
«Анналы. Экономика, общества, ци-
вилизации» — исходит из принципи-
ально иного взгляда. Средневековье -*
это «эпоха создания нового общества
и той новой цивилизации, которая —
умирающая или мертвая в своих тра-
диционно крестьянских формах -
создала главное в наших социальных
и духовных структурах»; эта циви-
лизация не была ни «провалом», ни
«мостом» между разными историче-
скими эпохами; наоборот, она пред-
ставляла собой новый и «мощный
созидающий порыв» (р. 10). Суть за-
Аннотации
375
мысла Легоффа отнюдь не ограничи-
вается, однако, тем, чтобы, говоря его
собственными словами, подменить
очерняющую картину средневековья
позолоченной. Главным в своем под-
ходе к средневековью Легофф счи-
тает воспроизведение целостного об-
лика этого общества и выявление
структурной взаимосвязанности всех
элементов его социальной системы.
Этот подход может быть реализован,
по мнению Легоффа, лишь при рез-
ком расширении круга используемых
медиевистами источников за счет па-
мятников фольклора, литературы,
искусства, археологии. В результате
может быть получена картина «дру-
гого средневековья», т. е. той средне-
вековой цивилизации, которая, бу-
дучи структурированной социальной
системой, смогла наложить глубокий
отпечаток на эпоху, начинающуюся
в первые века нашей эры и продол-
жающуюся вплоть до промышленной
революции XVIII—XIX вв. Не уди-
вительно, что эта цивилизация сыг-
рала громадную роль в развитии ми-
ровой культуры (р. 10-11). Ближай-
шей задачей книги-Легоффа как раз
и является характеристика культур-
ного вклада средневековья.
Поскольку всестороннее решение
подобной задачи не может быть
дано в рамках одной книги, Легофф
концентрирует внимание лишь на
нескольких, ключевых, с его точки
зрения, аспектах. В их число он
включает складывание новых пред-
ставлений о труде, возникновение но-
вой концепции времени и раскрытие
своеобразия социокультурной систе-
мы средневековья, в первую очередь
раскрытие оппозиции народной и
официально-церковной («ученой»)
культуры. Ни один из этих аспектов
не поддается изолированному рас-
смотрению. Поэтому основная масса
эссе, составляющих книгу (они пуб-
ликовались в 60-70-е годы в различ-
ных изданиях), посвящена взаимо-
связанному развитию этих историко-
культурных явлений.
Взятые вместе, эти статьи позво-
ляют глубже понять характерные
черты исследовательского метода
Легоффа (нашедшего отражение так-
же в специально написанном автором
предисловии к книге). Легофф под-
черкивает неудовлетворительность
того распространенного в западной
историографии подхода к изучению
прошлого, когда' в центре внимания
историков находятся лишь «правя-
щие слои белых людей» и лишь со-
бытия политической борьбы (р. 9).
Вместо этого Легофф считает нуж-
ным сосредоточиться на анализе про-
цессов, затрагивавших широкие на-
родные массы (р. 43-44). Среди этих
процессов Легоффа — в соответствии
с проблематикой его книги — интере-
суют в первую очередь историко-
культурные процессы, позволяющие
выявить глубинные пласты народно-
го сознания. Легофф стремится избе-
жать абсолютизации этой сферы. Он
хочет понять ее в «контексте соци-
ально-экономического анализа обще-
ства» (р. 14), хотя и подчеркнуто «от-
межевывается» от марксистской по-
становки^ вопроса о соотношении ба-
зиса и надстройки. В конкретном же
анализе он иногда слишком прямоли-
нейно связывает историко-культур-
ные явления с их социально-эконо-
мическим «контекстом» (например,
Легофф объясняет изменения в под-
ходе некоторых авторов XII в., со-
ставлявших руководства для испо-
ведников, к «достойности» различных
ремесел, и в частности «ремесла»
проституток, экономическими пер-
турбациями этого времени (р. 102-
106); вам же представляется, что без
учета сложной эволюции взглядов
на женщину, брак, семью, половую
любовь и т. п. этот вопрос решить
невозможно). Не меньшего внимания
заслуживает другая черта исследова-
тельского метода Легоффа - его
стремление отказаться от недооценки
внутреннего развития и изменения
доиндустриальных обществ. Хотя
автор не раз отмечает плодотвор-
ность использования историком сред-
невековья методов этнологии (со
свойственной ей вниманием к функ-
циональным связям и глубинным
субстратам), он со всей силой под-
черкивает неприемлемость концепции
«неподвижности» средневековых (и
вообще всех древних) обществ, за-
имствуемой некоторыми медиевиста-
ми у этнологов (р. 9—10, 347). Легофф
называет представление о подобной
«иммобильности» общества в докапп-
376
Аннотации
талистический период иллюзией, не
подтверждающейся даже по отноше-
нию к стадии, изучаемой этнографа-
ми (р. 347). В связи с этим наш автор
специально останавливается на смыс-
ле и использовании понятия «диахро-
ния», широко применяемого в рабо-
тах К. Леви-Стросса. По мнению
Легоффа, для историка этого понятия
совершенно недостаточно. Ибо с его
помощью нельзя воспроизвести тот
процесс постоянного изменения и
трансформации, который переживают
общества, изучаемые историками, и
нельзя объяснить рост и развитие
(croissance) — этот «главный фено-
мен» исторических обществ (р. 346—
347) *. Соответственно сквозь всю
книгу Легоффа красной нитью про-
ходит стремление уделить особое
внимание изменению социокультур-
ных представлений, их перестройке
и трансформации в ходе обществен-
ной эволюции. И можно смело ска-
зать, что анализ этих изменений
представляет едва ли не самое инте-
ресное в рассматриваемой работе.
Они прослеживаются для каждого
из основных историко-культурных
аспектов, освещаемых в книге. Ха-
рактеризуя эволюцию воззрений на
труд, Легофф исследует трансформа-
цию свойственного раннему средне-
вековью официально-церковного пред-
ставления о труде как о «божьем
наказании» за первородный грех.
В ходе сложного культурно-историче-
ского синтеза это первоначальное
представление в XI—XIII вв. усту-
пает место новым взглядам. Труд
перестает быть презираемым заня-
тием. Он начинает рассматриваться
как заслуга, как достоинство, более
того — как способ «спасения души»,
как оправдание той или иной мир-
ской деятельности (р. 99, 172, 176).
Соответственно исчезает и свойствен-
ное раннему периоду безоговорочное
1 В этих тезисах Легоффа нетрудно
подметить полемику против точ-
ки зрения другого видного пред-
ставителя школы «Анналов» -
Э. Леруа Ладюрп, сформулиро-
ванной особенно резко в его ста-
тье «Неподвижная история»
(Annales Е. S. С., 1974, № 3).
предпочтение созерцания мирской
активности (р. 96). Легофф связы-
вает эту глубокую метаморфозу с
последствиями социально-экономиче-
ской эволюции: рост городов, разви-
тие торговли, распространение де-
нежных отношений побуждали пра-
вящие классы и церковь считаться с
появлением новых социальных слоев,
учитывать специфику их трудовой
деятельности, приспосабливаться к
новым экономическим условиям
(р. 104-107, 171). В то же время
автор подчеркивает особое значение
«давления трудящихся на идеологи-
ческие и духовные представления
средневековья» (р. 125), приводяще-
го к проникновению в эти последние
неофициальных народных воззрений.
С этой эволюцией взглядов на
труд тесно связано и изменение
отношения к понятию «время». Ран-
нее представление о . времени как о
«божьем» даре, не подвластном чело-
веку, уступает постепенно место но-
вому. На время начинают смотреть
как на один из важнейших видов
собственности, которым человек впра-
ве распоряжаться по своему разуме-
нию (р. 78-79). Это делает понятной
борьбу трудящихся против хозяев за
ограничение рабочего времени и рас-
ширение свободной его части (р. 72).
Переосмысление представлений о
труде и времени отражается и на
воззрениях, касающихся обществен-
ной стратификации. Характерное для
раннего средневековья разделение
общества на три разряда: oratores,
bellatores, laboratores — отступает на
задний план по сравнению с новыми
воззрениями, признающими множест-
венность профессиональных катего-
рий и соответствующих им социаль-
ных состояний (например, руковод-
ства для исповедников начала XIV в.
различали в качестве разных социо-
профессиональных групп князей,
клириков, рыцарей, купцов, чиновни-
ков, ремесленников, рабочих, кресть-
ян...-см. р. 177). Признание возмож-
ности нового активного отношения к
«миру» порождает и новый взгляд на
человеческое достоинство и даже на
возможности интеллекта. Появляют-
ся попытки предпочесть смирению
исследовательский поиск (р. 192);
субъективизация и интериоризация
Аннотации
377
духовной жизни закладывают основы
для развития самосознания личности
<р. 171).
Разумеется, все эти новые явления
не возникают и тем более не побеж-
дают сразу; они складываются в дли-
тельном противоборстве двух социо-
культурных систем. Как подчерки-
вает Легофф, это противоборство
было многообразным. Оно не исчер-
пывалось их антагонистическим про-
тивостоянием. Опо включало, кроме
того, активное взаимопроникновение
соответствующих воззрений. В ходе
такого взаимопроникновения народ-
ная культура, вобравшая в себя мощ-
ные пласты традиционных дохристи-
анских представлений, сыграла очень
значительную — если не решающую —
роль в развитии средневековой циви-
лизации (р. 272-278).
Документальная база всех этих на-
блюдений и выводов Легоффа весьма
многообразна. Помимо городских до-
кументов, актов церковных соборов,
хроник и теологических трактатов,
им привлечены редко используемые
медиевистами руководства для испо-
ведников, памятники светской лите-
ратуры, народные легенды и преда-
ния, иконографические материалы,
проповеди, переписка и т. п.
Как отмечает Легофф, ряд вклю-
чеппых в книгу статей является
лишь подготовительным материалом
для книги «Представления о труде в
средние века». Судя по опубликован-
ным разделам, эта кнпга представит
несомненный интерес для медиеви-
стов 2.
Ю. Л. Бессмертный
2 Реферат аннотированной книги см.
в реферативном журнале «Обще-
ственные пауки за рубежом. Ис-
тория» (1979, № 2).
II. BRAUER. DIE STADTBEVOLKERUNG VON CHEMNITZ ZWISCHEN
1450 UND 1600. Karl-Marx-Stadt, 1978. 100 S.
X. БРОЙЕР. ГОРОДСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ХЕМНИЦА В 1450—1600 гг.
Карл-Маркс-Штадт, 1978. 100 с.
Интерес к проблеме города и бюр-
герства при феодализме и при пере-
ходе от феодализма к капитализму,
характерный для историографии ГДР
последних лет, выразился не только
в проведении ряда конференций и
коллоквиумов по этой теме, публика-
ции серии общетеоретических и ме-
тодологических статей, но и в появ-
лении специальных исследований, в
которых общие проблемы рассматри-
ваются па локально ограниченном
материале. К числу последних отно-
сится монография X. Бройера. Автор
поставил перед собой цель просле-
дить изменения в социальной струк-
туре городского населения Хемница
(ныпе Карл-Маркс-Штадт) за 150 лет,
не ограничиваясь только социальны-
ми проблемами. Он детально иссле-
дует все отрасли юродского хозяйст-
ва, особенно текстильное и металлур-
гическое производство, где в XVI в.
развиваются элементы раннего капи-
тализма, выясняет изменения в по-
литико-идеологической сфере в связи
с Реформацией и Крестьянской вой-
ной, старается дать всестороннюю
картину жизни городского населения.
Вопросы, поставленные автором,
представляют интерес по следующим
причинам. Хемниц, принадлежавший
к городам среднего размера, в конце
XV - начале XVI в. переживал эко-
номический подъем. По подсчетам
автора, его население составляло в
1474 г. 3455 жителей, в 1501 г.- 4440,
в 1530 г.- 4318, в 1551 г.- 5616, в
1586 г.- 5476 жителей (S. 18-19).
В середине XVI в. Хемниц входил в
десятку крупнейших городов Саксо-
нии. Еще в период развитого средне-
вековья это был важный центр ре-
месла и торговли, чему способствова-
ли его географическое положение у
подножия Эрцгебпрге и тесные связи
с экономикой горных районов.
Для исследования автором был
использован широкий круг источни-
ков из архивов Дрездена. Цвиккау,
Гёрлица, Карл-Маркс-Штадта: раз-
нообразные налоговые книги (так на-
зываемые Geschossbiicher, Turken
steuerregister). грамоты, городские
378
Аннотации
книги и счета, церковные акты и хро-
ники. Специфика налоговых книг, ко-
торые из-за разнохарактерности при-
веденных в них данных не всегда мо-
гут быть подвергнуты статистической
обработке и сравнительному анализу,
обусловила методику автора. Исход-
ным моментом служили данные о ко-
личестве домов и домовладельцев
внутри городских стен и в предме-
стьях, которые дополняются сведе-
ниями некоторых источников о домо-
чадцах, прислуге и т. п. Для подсче-
та населения использовался коэффи-
циент 5, соответствующий среднему
размеру семьи.
Проследив динамику населения
внутри городских стен и в предме-
стьях в 1450-1600 гг., автор подробно
останавливается на характеристике
его социально-экономической струк-
туры. Для выделения отдельных
слоев в общем населении Хемница
автор использовал метод группиров-
ки в соответствии с величиной нало-
говых ставок или размером имущест-
ва отдельных налогоплательщиков.
При этом он справедливо подчерки-
вает, что грани между отдельными
слоями были весьма относительны.
В составе городского населения
Хемница X. Бройер выделяет две
основные социальные категории: пле-
бейские слои и бюргерство. Плебей-
ские слои автор характеризует
как социальную группу, лишенную
средств производства и обращения и
неспособную в рамках простого то-
варного производства самостоятельно
добывать необходимые средства су-
ществования. Эти слои обладали не-
значительным имуществом (по под-
счетам автора, до 10-11 гульденов)
или же были неимущими. В Хемнице
в отличие от других немецких горо-
дов представители плебейских слоев
нередко обладали бюргерскими пра-
вами. В источниках нет данных о
постановлениях магистрата, ограни-
чивавших получение бюргерских
прав определенной имущественной
квотой. Автор отмечает быстрый рост
численности плебейских слоев в пер-
вой половине XVI в., составивших в
середине века около 60% общего чис-
ла налогоплательщиков. Плебейские
элементы обитали в основном в пред-
местьях.
Плебейские слои отличались весьма
пестрым социальным составом. Автор
выделяет внутри этой категории сле-
дующие группы: 1) лица, занятые в
производстве; 2) служащие; 3) не-
производительные элементы. Группа
лиц, занятых в производстве, вклю-
чала мелких товаропроизводителей:
цеховых мастеров, потерявших эко-
номическую самостоятельность и по-
павших в зависимость от скупщика,
учеников и подмастерьев, деятель-
ность которых строго регламентиро-
валась цеховыми уставами, а также
фактически наемных рабочих, стояв-
ших вне рамок цехового строя (шел-
копрядильщики, ткачихи, произво-
дившие хлопчатобумажные ткани,
белилыцики, рабочие плавилен и куз-
ниц, разнорабочие, поденщики). Вто-
рую группу составляли низшие слу-
жащие магистрата и суда, третью -
нищие, больные, престарелые, образ
жизни которых детально регламен-
тировался магистратом. В религиоз-
ном и политическом отношении пле-
бейские слои также отличались раз-
нородным составом, что особенно
проявилось в период раннебуржуаз-
ной революции.
Вторую большую категорию го-
родского населения составляло бюр-
герство. Автор указывает на неко-
рую социальную неопределенность
понятия «бюргерство» применитель-
но к эпохе перехода от феодализма
к капитализму. Эта категория вклю-
чала различные слои населения от
работающих на скупщика мелких
производителей до владельцев пла-
вилен и купцов европейского мас-
штаба. Отсюда вытекает необходи-
мость дифференцированного изуче-
ния отдельных слоев внутри этой
категории, характерными признака-
ми которой были: владение средст-
вами производства и обмена, иму-
ществом, обладание бюргерскими
правами. В зависимости от величи-
ны облагаемого налогом имущества
автор выделяет в бюргерстве три
слоя: низший (с имуществом от 11
до 100 гульденов), средний (101—
2000 гульденов). городская верхушка
(более 2000 гульденов). Низший слой
бюргерства составлял в первой по-
ловине XVI в. около 20% всего на-
селения Хемница. Он преобладал
Аннотации
379
главным образом в предместьях.
Характерным признаком этой груп-
пы было владение домом, встреча-
ются и съемщики домов. Этот слой
отличается нестабильностью, особен-
но в период генезиса капитализма.
Хозяйственный профиль города и
его развитие определяли средние
слои и городская верхушка. Это
купцы, предприниматели, цеховые
мастера, они занимают важные
должности в магистрате, имеют де-
ловые контакты с саксонскими гер-
цогами. 80% их живет внутри го-
родских стен. Обычно они владеют
одним или несколькими домами, зе-
мельными участками, движимым
имуществом. Среди них и те, кого
можно считать представителями
раннекапиталистического развития:
владельцы горных паев, плавилен и
кузниц, торговцы металлической и
текстильной продукцией. Автор не
выделяет раннекапиталистическое
бюргерство в качестве особого соци-
ального слоя, очевидно, потому, что
для подобной дефиниции недостато-
чен используемый им критерий —
величина имущества. По его словам,
«степень буржуазности» определяет-
ся при учете не только экономиче-
ских, но и политических и идеоло-
гических моментов (S. 52). В течение
XVI в. в составе раннекапита-
листического бюргерства наблюда-
ются важные структурные измене-
ния. До середины века передовые
экономические позиции занимали
элементы, связанные с горным де-
лом. После упадка горного дела в
середине XVI в. в экономике Хемни-
ца стало доминировать текстильное
производство с широко распростра-
ненной системой авансирования, до-
стигшее своего расцвета в конце
XVI - начале XVII в.
В заключение автор останавлива-
ется на проблеме идеологической и
политической роли бюргерских сло-
ев. Он рассматривает вопросы обра-
зования, экономической этики, а
также исследует внутригородскую
борьбу в Хемнице в 1470, 1512, 1524,
1539, 1547 гг. и выясняет отношение
различных групп к Реформации.
В целом монография X. Бройера,
написанная на базе широкого круга
архивных материалов, представляет
интерес для всех специалистов, за-
нимающихся проблемами бюргерст-
ва, особенно при переходе от фео-
дализма к капитализму.
Я. В. Савина
ХРОНИКА
I ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
С 23 по 25 января 1978 г. в Москве
проходила I Всесоюзная научная
конференция «Проблемы взаимодей-
ствия общества и природы».
Исходя из решений партии и пра-
вительства по усилению охраны
природы и совершенствованию при-
родопользования, конференция ком-
плексно рассмотрела наиболее акту-
альные проблемы взаимодействия
общества и природы.
В работе конференции приняли
участие ведущие ученые и специа-
листы многих отраслей знаний, до-
клады и сообщения которых были
заслушаны на заседаниях восьми
секций.
Историческая секция «Проблемы
исторического развития взаимодей-
ствия общества и природы» объеди-
нила не только представителей раз-
ных исторических дисциплин — исто-
риков, археологов, этнографов, но и
философов, экономистов, географов.
В работе секции приняли участие
преподаватели вузов, сотрудники на-
учно-исследовательских институтов
из Москвы и 23 других городов стра-
ны. Секция провела четыре заседа-
ния, на которых было заслушано
24 доклада, 10 заплапировапных вы-
ступлений, в прениях выступили
16 человек.
Тематика и содержание докладов
определили четыре направления в
работе секции:
1) взаимодействие общества и
природы в процессе производствен-
ной деятельности на разных стадиях
общественной эволюции (включая и
стадию антропогенеза);
2) этнос и биосфера;
3) отражение взаимодействия че-
ловека и природы в общественном
сознании;
4) методика изучения проблемы,
ее историография и источникове-
дение.
Первое направление было пред-
ставлено вступительным словом:
председателя секции, академика
М. Н. Кима и общетеоретическими
докладами, посвященными возникно-
вению человечества как закономер-
ной ступени в естественной истории
планеты; соотношению естественно-
го и социального в самом человеке;
выяснению характера и формы вза-
имодействия общества и природы в
различных общественно-экономиче-
ских формациях (И.* М. Забелин,
Д. В. Гуриев, И. Г. Гавриленко).
В рамках первого направления
были прочитаны доклады и сообще-
ния, анализирующие формы обмена
веществом между обществом и при-
родой на отдельных стадиях истори-
ческого развития (на стадии антро-
посоциогенеза - В. В. Лаппн, Д. В.
Баянов, Н. Д. Бурцев; в первобыт-
ном обществе — Г. Н. Матюшин,
Е. П. Дятел, Г. Н. Алимурзаев и др.;
в послепервобытную эпоху — Л. В.
Данилова, А. М. Хазанов, А. Г. Ган-
жа и др.). Так, Л. В. Данилова оста-
новилась на проблеме преобразова-
ния природного в социальное при
натуральной системе производитель-
ных сил. На первоначальных ста-
диях истории человечества в силу
примитивности орудий труда и не-
развитости самого труда человек
брал от природы то, что она произ-
водит. Следствием этого было пол-
ное подчинение человека природе,
определяющая роль экологических
механизмов регуляции численности
населения п его расселения по пла-
нете. Переход к производящей эко-
номике означал начало преобразо-
Хроника
381
вания природы, замены естественных
веществ продуктами труда. Доклад-
чица пришла к выводу, что через
посредство производительных сил
естественпогеографическая среда из
внешнего условия существования
человека превращается в фактор
внутреннего содержания обществен-
ной жиени.
Ряд докладов и сообщений стави-
ли своей целью выяснение особен-
ностей взаимодействия общества и
природы в отдельных регионах
(Ю. Л. Бессмертный, А. Б. Ковель-
ман, А. А. Александров, Ю. С. Ва-
сильев, Г. В. Иванов, Ю. Я. Серовай-
ская). Ю. Л. Бессмертный в докладе
«Климат и сельское хозяйство в
средневековой Франции» пытался
выяснить влияние длительных веко-
вых климатических колебаний на
аграрное развитие. Опираясь на дан-
ные исторической климатологии и
на материалы динамики сельского
хозяйства в средневековой Франции,
докладчик констатировал для V—
XVIII вв. совпадение (или близость)
хронологических границ главных
этапов климатической и сельскохо-
зяйственной эволюции. Эти совпаде-
ния не дают, по мнению докладчика,
оснований говорить о детерминирую-
щей роли вековых климатических
циклов в изменении объема сельско-
хозяйственного производства. Одна-
ко эти совпадения - и само содер-
жание сельскохозяйственной пере-
стройки в течение ряда этапов — по-
зволяют выдвинуть гипотезу об
определенном влиянии климатиче-
ских колебаний на эволюцию сред-
невековой агрикультуры. Через по-
средство таких агрикультурных из-
менений вековые климатические
колебания могли косвенно влиять и
на общий уровень и объем сельско-
хозяйственного производства.
Я. Д. Серовайскпй свой доклад
«История леса как наука», посвятил
исторической взаимосвязи общества
и леса. Автор стремился привлечь
внимание аудитории к «истории леса
как самостоятельной области знаний,
которая еще не получила развития
в нашей стране». Докладчик под-
черкнул. что объектом данной дис-
циплины является отнюдь не лес
как биологический феномен, но
исторически развивающееся взаимо-
действие общества и природы. Изу-
чение последовательного развития
функций леса в истории общества
имеет большое познавательное зна-
чение. Оно позволит воссоздать бо-
лее полную картину развития про-
изводительных сил, выявить изме-
няющуюся зависимость общества от
природы и степень использования
им природных богатств, а также
лучше понять сменяющиеся этапы
внутриобщественных отношений.
В целом содержащиеся в докладах
первого направления сведения о
прошлом биосферы представляют
несомненный интерес для познания
закономерностей таких природных
процессов, как изменение климата,
эволюция рельефа, изменение соот-
ношения воды и суши и т. д. Анали-
зируя эти процессы, историческая
наука может принести большую
пользу наукам естественным, так
как знание прошлых этапов в разви-
тии природы необходимо для прогно-
зирования путей преобразования
природы, оптимального сочетания
способов эксплуатации природы и
условий существования человека.
Направление «Этнос и биосфера»
было представлено докладами акад.
Ю. В. Бромлея и Л. Н. Гумилева и
рядом выступлений (Э. С. Маркарян,
Б. В. Андрианов и др.). В них про-
анализированы этнокультурные тра-
диции прошлых исторических эпох
с точки зрения адаптивного взаимо-
действия общества и природы.
В ходе обсуждения этих докладов
острая полемика развернулась во-
круг вопроса, что же представляет
собой этнос: социально-культурное,
биологическое или географическое
единство — и какова его связь с при-
родной средой?
Ю. В. Бромлей в докладе «Эколо-
гические аспекты этнпческих про-
цессов» определил этнос как соци-
ально-культурное явление: «Этнос в
узком смысле слова в самой общей
форме может быть определен как
исторически сложившаяся совокуп-
ность людей, обладающих относи-
тельно стабильными особенностями
культуры (в том числе в языке) и
психики, а также сознанием своего
382
Хроника
единства и отличия от других таких
же образований».
Эту точку зрения горячо оспари-
вал в своем докладе «Этнос и био-
сфера» Л. Н. Гумилев. По его мне-
нию, стремление видеть в «этносе»
социально-историческую категорию
бесперспективно, так как «это не
дает ответа на острые вопросы о
взаимоотношении человека с ланд-
шафтом, о причинах мозаичности
антропосферы и о закономерностях
этнических процессов». Но столь же
неверно, по мнению Л. Н. Гумилева,
приравнивать этнос к биологическим
единицам: расе или популяции.
Л. Н. Гумилев считает этнос поня-
тием географическим и полагает, что
между этносом и ландшафтом дей-
ствовала «обратная связь»: «Ланд-
шафт определяет экономические воз-
можности этноса, а этнос путем кол-
лективного труда приспосабливает
ландшафт к своим потребностям».
Однако этот процесс, как отметил
Л. Н. Гумилев, идет интенсивно
лишь в начале этногенеза, а затем
этнос только поддерживает устано-
вившееся этно-ландшафтное равно-
весие. В финальных фазах этногене-
за, когда нарушается этно-ландшафт-
ное равновесие, наблюдается эколо-
гический кризис. Поэтому общество,
правительства, заключил докладчик,
должны административными и за-
конодательными мерами предотвра-
тить истощение природной среды.
Большинство участников дискус-
сии активно поддержало первую
точку зрения, связывающую эволю-
цию этнических общностей с систем-
ным единством общества и приро-
ды — историческим развитием, де-
терминирующим фактором которого
является смена способов произ-
водства.
В докладах третьего направления
(В. В. Иванов, С. Б. Рождественская,
Л. Н. Пушкарев) проблема взаимо-
действия общества и природы ста-
вилась в плане изучения отражения
отношения «человек — природа» в
сознании. Эти темы теснее других
связаны с нравственно-этическим
аспектом экологии и чрезвычайно
важны с точки зрения экологическо-
го воспитания и образования.
Большое теоретическое и практи-
ческое значение имеют доклады, по-
священные методике изучения про-
блемы, ее историографии и источни-
коведению (С. О. Шмидт, В. Е. Не-
пос, В. А. Антипина, С. И. Сотни-
кова) .
Необходимость обращения к ар-
хивным и прочим историческим
источникам для изучения законо-
мерностей развития биосферы в про-
шлом, подчеркнул С. О. Шмидт, спра-
ведливо заметивший, что в вузов-
ских учебниках зачастую исчезает
понятие историко-географической
среды. Между тем преподавание
истории в школе и вузе должно быть
более тесно связано с изучением
роли природы. С. О. Шмидт указал
также на то, что назрела настоя-
тельная необходимость создания спе-
циального курса исторической эко-
логии.
Работа исторической секции вы-
явила также и пробелы, существую-
щие в современных знаниях по
исторической экологии: слабую изу-
ченность взаимодействия города и
окружающей его естественногеогра-
фической среды, практическое от-
сутствие исторической демографии
и др.
Секция обсудила проект рекомен-
даций, которые в области историче-
ских наук (исторической экологии)
в основных чертах таковы:
1) более полно и всесторонне
исследовать взаимовлияние природы
и общества, объективно раскрывать
соотношение социального и естест-
венного в человеке и в истории в
целом;
2) предметом пристального вни-
мания историков должен стать ком-
плекс вопросов, связанных с ролью
этнического фактора, соотношения
народонаселения с окружающей
средой;
3) важной проблемой для истори-
ков является изучение и пропаганда
опыта СССР в преобразовании при-
роды; раскрытие преимуществ со-
циалистического общества в реше-
нии экологических проблем.
Ю. Я. Серовайская
Хроника
38?
КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
В СОВЕТСКОЙ НАУКЕ ЗА 60 ЛЕТ».
НАУЧНЫЙ СОВЕТ
ПО ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ АН СССР.
КОМИССИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ КУЛЬТУРЫ
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ГРУППА
(20 октября 1977 года)
Конференция, на заседаниях кото-
рой присутствовали историки, искус-
ствоведы, филологи из научных и
педагогических учреждений Ленин-
града: Университета им. А. А. Жда-
нова, Института им. И. Е. Репина,
Академии художеств СССР, Ленин-
градского отделения Института ис-
тории АН СССР, Библиотеки АН
СССР, Публичной библиотеки им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина, Гос. Эр-
митажа, Музея истории религии й
атеизма, подвела итоги исследова-
тельской работы советских ученых
за 60 лет.
Вступительное слово произнес
член-корреспондент АН СССР В. И.
Рутенбург, подчеркнувший истори-
ческое значение эпохи Возрождения,
необходимость комплексного изуче-
ния культуры и истории этого пе-
риода. Назвав имена наиболее вид-
ных ученых, работавших в советское
время над проблемами Возрождения,
он. отметил появление в последние
годы работ молодых исследователей,
только начинающих работать в этой
области.
На конференции выступили с до-
кладами пять ленинградских ученых.
И. X. Черняк (Музей истории рели-
гии и атеизма) в докладе «Изучение
идеологии итальянского Возрожде-
ния советскими учеными» дал ана-
лиз первых советских исследований
по истории ренессансной идеологии
(А. И. Хоментовской, А. К. Дживе-
легова и др.), подчеркнул важное
значение трудов М. А. Гуковского в
утверждении марксистской концеп-
ции Возрождения в 30-е годы. Док-
ладчик остановился па работах со-
ветских исследователей, опублико-
ванных в последние десятилетия,
внимание которых привлекли такие
ранее почти не разработанные про-
блемы, как типология ренессансного
свободомыслия; взаимодействие гу-
манизма с Реформацией и Контрре-
формацией; значение итальянского
неоплатонизма и его связь с пред-
шествующим гуманистическим дви-
жением, а также его влияние на на-
турфилософию XVI в.; этика гума-
низма; наконец, исследованию под-
верглась натурфилософия итальян-
ского Возрождения (Л. М. Баткин,.
Л. М. Брагина, Н. И. Голенищев-Ку-
тузов, А. X. Горфункель, В. И. Ру-
тенбург, А. Э. Штекли). Наряду с
этим продолжались исследования в;
областях, традиционных для нашей
историографии, прежде всего это ка-
сается изучения идеологии раннего
гуманизма и идейных движений
XVI в. (Л. М. Баткин, А. X. Горфун-
кель, Н. В. Ревякина, В. И. Рутен-
бург, Р. И. Хлодовский и др.).
Характерной чертой историогра-
фии последних десятилетий наряду
с разработкой новых тем является
стремление к переходу от описатель-
но-монографических исследований к
структурно-типологическим, т. е. по-
пытка дать широкое определение
феномену ренессансной культуры.
3. И. Плавскин в докладе «Про-
блемы Ренессанса в советском ли-
тературоведении» отметил давние
традиции, которые существовали в
изучении ренессансных литератур
еще до революции, и подчеркнул
расцвет науки в этой сфере иссле-
дования в годы Советской власти.
Революция приобщила к духовной
культуре народные массы, поставив
тем самым задачу не только изуче-
ния литературы прошлого, но и ее
пропаганды. Этим и было обуслов-
лено появление в советское время
новых переводов наиболее значи-
384
Хроника
тельных памятников ренессансной
литературы.
Переход на новые методологиче-
ские позиции дал своп результаты
далеко не сразу. Литературоведению
пришлось преодолеть и «детскую бо-
лезнь» вульгарного социологизма,
и схематический формализм, и дог-
матизм.
Свидетельством зрелости науки
являются те дискуссии, которые раз-
вернулись в последние годы вокруг
’ отдельных проблем, связанных с
изучением ренессансных литератур.
К числу спорных вопросов относится
и определение самого понятия Воз-
рождения, которое рассматривают
то как особый тип культуры, то как
обязательный этап в развитии чело-
вечества, то как определенный ху-
дожественный стиль. С точки зрения
докладчика, Возрождение следует
рассматривать как широкое идейное
и культурное движение эпохи, когда
феодальное общество вступает в
начальную стадию кризиса, а в его
недрах зарождаются раннебуржуаз-
ные отношения.
Другой дискуссионный момент —
определение понятия ренессансного
гуманизма. В последнее время все
большее признание получает широ-
кое толкование этого термина как
идеологической основы ренессансной
культуры. Наконец, следует отметить
дискуссию, посвященную вопросам о
хронологических границах и соотно-
шении литературы Возрождения с
предшествующей средневековой ли-
тературой и последующей литерату-
рой барокко и классицизма.
А. С. Гривнина в докладе «Искус-
ство итальянского Возрождения в
трудах советских ученых» отметила,
что основу для изучения искусства
Ренессанса заложили труды дорево-
люционных исследователей художе-
ственного наследия Ренессанса
(Н. П. Кондакова, Д. В. Айналова,
А. Н. Бенуа и Н. И. Романова). Уже
тогда наметилось два направления:
изучение общих проблем и отдель-
ных памятников, в основном на базе
богатейших коллекций Эрмитажа.
Докладчица особо отметила вклад в
изучение искусства Возрождения,
сделанный В. Н. Лазаревым, Б. Р.
Виппером и М. В. Алпатовым. Их
труды, взятые в совокупности, дают
целостную картину развития ренес-
сансного искусства и в то же время
предлагают оригинальную разработ-
ку важнейших теоретических про-
блем.
В настоящее время московские
искусствоведы исследуют проблемы
искусства XVI в., уделяя большое
внимание венецианской школе, изу-
чают специфику отдельных жанров,
прежде всего портретной живописи,
отдельные виды искусства — рису-
нок, монументальную живопись,
скульптуру (В. Н. Гращенков, А. И.
Смирнова, И. А. Антонова, Е. И. Ро-
тенберг, М. Я. Либман, Е. И. Дани-
лова и др.).
В сферу конкретного изучения па-
мятников искусства Возрождения
огромный вклад внесли ленинград-
ские исследователи, сотрудники Эр-
митажа, создавшие ряд каталогов,
опубликовавшие многочисленные
статьи атрибуционного характера и
обобщающие работы по проблемам
культуры Возрождения (М. В. Доб-
роклонский, В. Ф. Левинсон-Лессинг.
М. А. Гуковский, Ж. А. Мацулевич,
М. И. Щербачева, Т. Д. Каменская,
Т. Д. Фомичева, С. Н. Всеволожская
и др.). Особо следует отметить дея-
тельность Н. Н. Пунина, Ц. Г. Нес-
селыптраус и И. А. Бартенева — ав-
торов разделов по искусству Воз-
рождения в учебных пособиях для
вузов.
С. А. Андросов посвятил свое вы-
ступление изучению памятников
итальянского искусства эпохи Воз-
рождения в советских музеях. При-
соединившись к мнению тех ученых,
для которых точное исследование
отдельных произведений представ-
ляет основу для широких обобщений,
он отметил роль Э. К. Липгарта, хра-
нителя итальянской живописи в Эр-
митаже, как зачинателя применения
этой методики в России.
В послереволюционные годы музеи
пополнились огромным количеством
произведений из национализирован-
ных собраний, что поставило вопро-
сы систематизации и атрибуции в
качестве первоочередных задач.
Большую роль в изучении итальян-
ских картин сыграл В. Н. Лазарев.
Исследуя конкретный памятник, он
Хроника
385
тщательно изучал творчество масте-
ра в целом, придавал большое зна-
чение выработке критериев качества
произведения, уточнению происхож-
дения работ для подтверждения пра-
вильности атрибуций. Важным эта-
пом в исследовании отдельного па-
мятника было использование рентге-
на*-впервые к этому методу обра-
тился Д. В. Анналов.
Большая школа исследователей
памятников эпохи Возрождения со-
здалась в Эрмитаже. На высоком на-
учном уровне было изучено собрание
рисунков М. В. Доброклонским, жи-
вописи - М. И. Щербачевой и Т. Д.
Фомичевой. Докладчик отметил
большую работу, которая ведется в
настоящее время в музее над изуче-
нием коллекции живописи (С. Н. Все-
воложская и Т. К. Кустодиева), ри-
сунка (И. С. Григорьева), приклад-
ного искусства (Л. И. Фаэнсон,
М. Н. Лопато, О. Э. Михайлова), под-
черкнул необходимость исследования
скульптуры, которой до сих пор уде-
лялось недостаточное внимание.
А. Н. Немилов в докладе «Пробле-
ма «Северного Ренессанса» в совет-
ской историографии» отметил, что
существо так называемого Северно-
го Возрождения заключается в при-
знании элементов единства куль-
туры эпохи Возрождения стран
Центральной Европы, расположен-
ных к северу от Италии. Важней-
шее значение для понимания этой
проблемы имеет работа Отто Бенеша
«Искусство Ренессанса в Северной
Европе», написанная с позиций,
близких к марксистскому понима-
нию истории культуры.
В работах советских историков
раннего периода эта общность приз-
навалась, однако либо сама культу-
ра Северной Европы XV-XVI вв.
рассматривалась как готическая,
наличие же Возрождения признава-
лось только в Италии (О. А. До-
биаш-Рождественская), либо наблю-
далась прямолинейная социологиза-
ция понимания истории культуры
(Э. Ф. Голлербах).
Важнейшее значение в изучении
конкретных вопросов становления и
развития Возрождения в отдельных
странах Северной Европы имели
труды Д. А. Шмидта, Н. М. Гершен-
зон-Чего даевой, А. А. Сидорова. Осо-
бое внимание уделяется советскими
исследователями культуре Германии
в эпоху Реформации и Крестьянской
войны (М. М. Смирин, М. Фабрикант).
В трудах советских ученых, опуб-
ликованных после Великой Отече-
ственной войны, главное внимание
уделялось проблеме зарождения на-
циональной * культуры. Важнейшее
значение имели труды М. В. Алпа-
това, М.-»М. Бахтина, Н. М. Гершен-
зон-Чегодаевой, Ц. Г. Несселыптраус,
М. М. Смирила. В последние годы
наряду с изучением отдельных проб-
лем, в особенности искусства Герма-
нии и Нидерландов (М. Я. Либман,
Н. Н. Никулин), литературы и осо-
бенностей общественной мысли во
Франции и Англии (И. Н. Осинов-
ский, Ю. Б. Виппер), все чаще ис-
следователи обращаются к проблеме
Северного Возрождения во всем ее
объеме (В. Н. Гращенков).
Докладчики ярко охарактеризова-
ли итоги огромной работы, проде-
ланной советскими учеными за
60 лет и в основных чертах намети-
ли ряд проблем, дальнейшая разра-
ботка которых послужит развитию
одного из важнейших направлений
в исследовании истории мировой
культуры.
И. X. Черняк
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА
Проблематика развитого средневе-
кового города интенсивно исследу-
ется в современной литературе: что
представляли собой города раннего
средневековья; в чем их своеобра-
зие, как складывались их отноше-
13 Средние века, в. 43
ния с окружающей средой; наконец,
в чем специфика городского разви-
тия отдельных регионов Европы в
этот период? Все эти вопросы яви-
лись предметом обсуждения на на-
учном совещании 13—14 июня
386
Хроника
1978 г., состоявшемся в Калинин-
ском университете. В совещании
приняли участие сотрудники МГУ,
ИСАиА при МГУ, ИВИ, Института
славяноведения и балканистики,
ИНИОН и Владимирского педин-
ститута. Работа совещания была
построена по принципу «круглого
стола», что дало возможность разно-
сторонне и конкретно обсудить во-
просы, предложенные заранее:
критерии выявления раннегород-
ского поселения; раннесредневеко-
вый город как общность; городская
элита и ее место в системе ранне-
средневекового общества.
В своем выступлении член-кор-
респондент В. Л. Янин стремился
ретроспективным путем, при помо-
щи анализа археологических данных
XI-XV вв., реконструировать искон-
ную владельческую структуру сред-
невекового Новгорода. В. Л. Янин
выявил устойчивость границ тех
боярских усадеб, существование ко-
торых было доказано раскопками
последних лет (частоколы, окру-
жавшие их не менялись на протя-
жении нескольких столетий). Вторая
мысль докладчика заключалась в
том, что до рубежа XIII-XIV вв. все
усадьбы были приблизительно оди-
наковы. При этом совокупность
соподчиненных усадеб составляла
«конец», в то время как остальная
территория Новгорода была вклю-
чена в состав «сотни». Концентра-
ция церквей на территории «концов»
являлась своеобразным средством
давления боярского градостроитель-
ного и земельного массива на ос-
тальной город.
Сообщение М. С. Мейера было по-
священо типологической характери-
стике раннесредневекового восточ-
ного города, структура которого
любопытным образом воссоздалась
на территории Балканского полу-
острова, завоеванной османами. Док-
ладчик отметил традиционное трех-
частное деление городов, наличие
культовых сооружений в качестве
градообразующего признака; Он вы-
делил «треугольник сил», воздей-
ствовавших на городскую жизнь
Ближнего Востока: сам город — ок-
руга - кочевники и остановился на
отсутствии правовых отличий на
Востоке, которые могли бы обо-
собить горожан от сельских жите-
лей.
Выступление М. М. Фрейденберга
было посвящено характеристике го-
родской общины в приморских цент-
рах Далмации, существование кото-
рой докладчик относит уже к X—
XI вв. Эта община, по его мнению,
обладала несомненными чертами
сходства с полисной организацией
античного мира. Большой интерес
вызвало сообщение Г. Г. Литаври-
на, исследовавшего провинциальный
византийский город по данным из
Лампсака. 173 двора, составлявшие
этот город, примерно 800 жителей -
эти цифры также характеризуют
Лампсак как типичный провинци-
альный центр.
В докладе Л. А. Котельниковой
рассматривалась проблема специ-
фики взаимодействия города и об-
щественной среды на разных этапах
развития феодализма. На примере
городов Италии показаны два взаи-
мосвязанных процесса: воздействие
городского развития на его соб-
ственную среду и на внешнюю пери-
ферию. Л. А. Котельникова избрала
для своего анализа два этапа: VIII—
X вв., т. е. период феодализации об-
щества, и XI-XII вв. - период на-
чала расцвета коммун. Сосредоточив
свое внимание на выявлении струк-
туры землевладения, типа хозяйства,
формы ренты, видов и условий дер-
жаний жителей города различного
социального статуса, автор пришел
к выводу, что раннесредневековый
город в Тоскане не остался в стороне
от процесса феодализма, а «феода-
лизировался изнутри». В дальней-
шем превращение его в зрелый
средневековый город не привело
автоматически к потере им феодаль-
ных черт, что обусловило противоре-
чивость и непоследовательность ан-
тимагнатской и крестьянской поли-
тики города.
В докладе «Рыцари, норманны и
город» Ю. Л. Бессмертный поставил
вопрос о роли, которую сыграли в
IX—XI вв. нападения норманнов
в развитии французского общества
в целом и городов в частности. Кри-
тически рассмотрев новейшую исто-
риографию, склонную придавать
Хроника 387
этим нападениям роль решающего
стимула общественной перестройки,
докладчик проанализировал соци-
ально-политические причины воен-
ных успехов норманнов во Франции
40-60-х годов IX в. и социальные
изменения, обусловившие их пора-
жение в этой стране в конце того
же века. По мнению Ю. Л. Бессмерт-
ного, необходимость обороны страны
от норманнов сыграла роль лишь «в
ускорении создания нового рыцар-
ского войска во главе с графами и в
интенсивном строительстве горо-
дов-крепостей, где это войско, в ча-
стности, концентрировалось. Опи-
раясь на этот материал, докладчик
развивал ту мысль, что раннесред-
невековому городу свойствен особо
большой удельный вес военно-ад-
министративного населения и соот-
ветствующих видов социальной
деятельности; в общем же город
отличался от деревни этого времени
«относительным многообразием ви-
дов социальной деятельности».
А. А. Сванидзе предложила систе-
му критериев отличия города от
села, имея в виду в первую очередь
раннюю стадию развития городских
поселений. Это — а) сравнительно
высокая концентрация населения
(материал всей Европы показывает,
что город был населеннее деревни
этого района); б) существование ре-
месла как товарного производства;
в) функции городов как центров
ранней государственности; г) осо-
бая топографическая структура;
д) наличие особого права города
(в рамках общего права своего вре-
мени); е) наличие предметов импор-
та в раскопках - (как свидетельство
относительно широких торговых
связей); ж) этническая неоднород-
ность городского населения. Послед-
ние два момента характерны особенно
и по большей части для приморских
городов. Можно спорить по поводу
иерархии критериев, предложенных
А. А. Сванидзе, но нет сомнения в
том, что сама постановка вопроса о
критериях выделения раннего города
представляется плодотворной.
А. Л. Ястребицкая предложила
вниманию собравшихся оозор точек
зрения, существующих в современ-
ной зарубежной литературе относи-
тельно генезиса раннесредневековых
городов, их общей характеристики
и той общественной и политической
ситуации, которая их породила.
Доклады и дискуссия продемон-
стрировали очевидность факта суще-
ствованйя городов в Европе и до той
грани, с которой традиционно ве-
дется отсчет городской жизни, т. е.
до рубежа X и XI вв.; было еще раз
подтверждено, что раннесредневе-
ковый город - это реально суще-
ствовавшее явление, ждущее своего
изучения и истолкования. Научное
совещание в Калинине явилось ус-
пехом и еще в одном отношении.
Объединив специалистов по истории
разных регионов, оно доказало, как
важно сравнительное изучение ма-
териала различных стран, рассмот-
ренного под единым углом зрения.
М. М. Фрейденберг
КАФЕДРА
ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ
ГОРЬКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО
Коллектив кафедры истории древ-
него мира и средних веков Горь-
ковского университета складывался
в течение ряда десятилетий с мо-
мента основания историко-филоло-
гического факультета (сентябрь
1946 г.). Вначале на факультете была
кафедра всеобщей истории, в 1974 г.
из нее была выделена кафедра исто-
рии древнего мира и средних веков.
В настоящее время на кафедре
работают 11 преподавателей и 2 ла-
боранта: трое преподавателей -
специалисты по античной исто-
рии доцепт М. С. Садовская,
к. и. н. В. М. Строгецкий, ассистент
13*
388
Хроника
Н. А. Касаткина; востоковеды к.и.н.
О. А. Колобов, к.и.н. Т. В. Гусева,
кандидат искусствоведения В. А. Фи-
липпов, медиевисты - д.и.н., проф.
Н. П. Соколов (скончался летом
1979 г.), доцент Е. Д. Воробьева, ас-
систент В. И. Золотов, ассистент
В. М. Меженин, доцент Н. А. Фионо-
ва, доцент Т. М. Червонная.
Основные научные направления в
Изучении медиевистики были опре-
делены основателями факультета и
кафедры всеобщей истории членом-
корреспондентом АН СССР С. И. Ар-
хангельским, д.и.н., проф. Н. П. Со-
коловым, доцентом С. В. Фрязино-
вым и их учеником и продолжате-
лем д.и.н., проф. Е. В. Кузнецовым.
Интересы горьковских медиеви-
стов группируются вокруг двух
проблем: изучение феодализма в
странах Средиземноморского бассей-
на - о-ва Крит, Византии, Италии и
Франции — и изучение средневековой
Англии XV-XVII вв. Помимо общих
курсов по истории средних веков,
преподаватели-медиевисты читают
ряд спецкурсов, посвященных изу-
чению генезиса капитализма в стра-
нах Западной Европы, а также фео-
дализма в романских странах1. На
основе изучения этих двух проблем
кафедра организовала издание двух
межвузовских сборников: «Страны
Средиземноморья в эпоху феодализ-
ма» (вып. 1, 1973; вып. 2, 1975),
а также «Англия XIV—XVII вв. Про-
блемы генезиса капитализма» (вып. 1,
1974; вып. 2, 1975; вып. 3, 1976).
В разработке и чтении спецкур-
сов, в организации спецсеминаров
коллектив горьковских медиевистов
стремится к постановке и изучению
таких проблем, которые, с одной
стороны, дали бы возможность озна-
комить студентов с последними но-
вейшими достижениями в советской,
а также и зарубежной исторической
науке, с другой - способствовали бы
углубленному изучению отдельных
проблем и тем по истории средних
веков с широким привлечением ра-
бот основоположников марксизма.
1 См.: Средние века и генезис ка-
питализма: Программы специ-
альных курсов для студентов-
историков. Горький, 1977.
Н. II. Соколов читал спецкурсы
по истории Византии (IV-VIII вв.
и IX — первая половина XV в.), цикл
спецкурсов по истории Венеции:
«История Венеции в средние века»,
«Венециано-византийские отношения
в период от образования венециан-
ского дуката до правления послед-
них Палеологов в Византии», «Исто-
рия IV крестового похода», а также
спецкурс по истории раннего хри-
стианства (и арианства). Н. А. Фио-
нова читает спецкурсы «Венеци-
анская промышленность», «Италь-
янский город в X—XV вв.»,
Т. М. Червонная продолжает иссле-
дование истории Франции XVI-
XVII вв. и читает спецкурсы по аг-
рарному строю Франции в XVI-
XVII вв., а также развитию эконо-
мической мысли во Франции в XVI-
XVII вв. До последних лет Г. М. Ту-
шина читала спецкурсы по вопро-
сам развития западноевропейского и
южнофранцузского города в средние
века, истории средиземноморской
торговли в XI-XV вв.
Вторым направлением в изучении
медиевистики является изучение
истории Англии в XV-XVII вв.
В своем большинстве горьковские
специалисты по истории средневе-
ковой Англии — ученики С. И. Ар-
хангельского. Е. В. Кузнецов разра-
ботал спецкурсы «История обще-
ственно-политической борьбы в Анг-
лии в 1-й половине XV в.», «История
религиозного свободомыслия в стра-
нах Западной Европы в средние
века», «Движение лоллардов в XIV -
начале XV в.»; спецкурс «Реформа-
ция в Англии» читал Н. П. Соколов.
Спецкурсы «Историография Вели-
кобритании и США в конце XIX-
начале XX в. о генезисе капита-
лизма», «Проблемы генезиса капита-
лизма в английской и американской
буржуазной историографии 20-60-х
годов XX в.», «Советская историче-
ская наука о генезисе капитализма»
разработаны Е. Д. Воробьевой и
Е. В. Кузнецовым; «Генезис капита-
лизма в Германии (ранний пери-
од)», «Из истории английского сук-
ноделия в средние века» - Е. Д. Во-
робьевой.
В тесной связи с этими проблема-
ми ставятся и темы дипломных со-
Хроника
389
чинепий студентов: «Проблемы
Ренессанса в немецком искусстве
XV-XVI вв.», «Пьетро Бембо - пред-
ставитель венецианского Возрожде-
ния», «Византийско-венецианские
отношения в конЦе XIV в.», «Соци-
альное устройство Франции в XVI в.
по трактату Бодена „О государст-
ве“», «Немецкий торговый двор в
Венеции в XIII-XVI вв.», «Кресть-
янская семья Северной Франции
начала IX в. по данным антропони-
мического анализа» (руководитель -
д.и.н. Ю. Л. Бессмертный, ИВИ АН
СССР), «Современники о торгово-
промышленном кризисе 20-х годов
XVII в. в Англии» и многие другие.
На занятиях и практикумах по
средним векам, кроме изучения и
комментирования исторических до-
кументов всей группой студентов,
широко практикуются рефераты по
какому-либо небольшому вопросу с
привлечением источника. Иногда по-
добные рефераты становятся частью
курсовых или дипломных работ,
практикуются и письменные работы
после завершения изучения отдель-
ных тем.
С 1970 по 1976 г. на кафедре были
защищены одна докторская
(Е. В. Кузнецов) и две кандидатские
диссертации по истории европейско-
го средневековья (Н. А. Фионова,
Г. М. Тушина) 2.
Двое преподавателей-медиевистов
завершают работу над кандидатски-
ми диссертациями: В. М. Меженин
работает над темой «Социально-эко-
номические отношения на Кипре
в XV в.», в сфере интересов В. И. Зо-
лотова общественно-политическая
борьба в Англии 20-х годов XV в.
Е. Д. Воробьева
2 См. сцисок диссертаций: СВ, 1978,
вып. 42, с. 369-380.
БИБЛИОГРАФИЯ
ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ,
ВЫШЕДШАЯ В СССР В 1977 г. *
I. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В ЦЕЛОМ
А) ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
1. Гутнова Е. В. Основные пробле-
мы истории средних веков в
трудах К. Маркса и Ф. Энгель-
са. Учеб-метод, пособие для
студентов заоч. и вечер, отд-ний
ист. фак. гос. ун-тов. 3-е изд.,
доп. М., 1977. 104 с. (Науч.-ме-
тод. кабинет по заоч. и вечер,
обучению Моск. ун-та им.
М. В. Ломоносова).
2. Сапрыкин Ю. М. Основные про-
блемы истории феодального об-
щества в трудах В. И. Ленина.
Учеб, пособие для студентов
заоч. и вечер, отд-ний ист. фак.
гос. ун-тов. 3-е изд., испр. и доп.
М., 1977. 133 с. (Науч.-метод. ка-
бинет по заоч. и вечер, обучению
Моск, ун-та им. М. В. Ломоно-
сова).
*
3. Сборник документов по всеоб-
щей истории государства и пра-
ва. Сост. К. Е. Ливанцев. Л., 1977.
(Ленингр. ун-т им. А. А. Жда-
нова).
«Салическая правда», с. 25—29;
* В настоящий список включены
изданные в 1977 г. в Советском
Союзе оригинальные и перевод-
ные работы по истории средневе-
ковья в странах Западной Евро-
пы, Венгрии и Румынии, а также
опубликованные в 1977 г. в со-
ветских журналах рецензии на
книги п статьи, касающиеся исто-
рии этих стран в средние века.
«Великий мартовский ордо-
нанс», с. 29; «Великая хартия
вольностей», с. 30—34; «Золо-
тая булла», с. 34—37; «Кароли-
на», с. 37—43.
♦
4. Золтаи Д. Этос и аффект. Исто-
рия филос. муз. эстетики от за-
рождения до Гегеля. [Пер. с
нем.]. М., «Прогресс», 1977.
Судьбы музыкальной эстетики
в средневековье, с. 93—148; От
Ренессанса до Просвещения,
с. 149—210.
5. Конференция по истории сред-
невековой письменности и кни-
ги. Ереван, 1977. Конференция
по истории средневековой пись-
менности и книги, 25—27 окт.
1977 г. Тез. докл. Ереван, Изд-
во АН АрмССР, 1977. 123 с. (Ар-
хеогр. комис. АН СССР. Ин-т
древ, рукописей им. Маштоца).
Из содерж.: В. И. Рутенбург.
Итальянская средневековая кни-
га как исторический источник,
с. 6; А. Д. Люблинская. Задачи
источниковедения западноевро-
пейского средневековья на со-
временном этапе, с. 11; Г. В. Аб-
гарян. Архетип «Татарской хро-
ники» Гетума, использованной
в Любекской хронике Детмара
(XIV в.), с. 17; С. С. Аревшатян.
Латинская литература средневе-
ковой Европы в армянских пере-
водах XIV века, с. 22—23; Т. П.
Воронова. Международный кол-
локвиум по сохранности и ре-
продуцированию древних руко-
Библиография
391
писей и редких книг, с. 29—30;
Л. И. Киселева. Латинские ру-
кописи Матенадарана, с. 38.
6. Краткая всемирная история.
В 2-х кн. Под ред. А. 3. Манфре-
да. Кн. 1. М., «Прогресс», 1977.
578 с., с ил. и карт.; 6 л. портр.
и карт. На исп. яз.
Часть книги — эпоха средне-
вековья.
7. Крыжановская М. Некоторые
аспекты собирательства и ис-
следования памятников искус-
ства средневековья в XIX веке.—
«Труды Гос. Эрмитажа», 1977,
XVIII, с. 5—14.
8. Лившиц Г. М. Католическая
церковь — оплот феодализма и
реакции в Западной Европе.—
В кв.: Вопросы истории древне-
го мира и средних веков. Минск,
1977, с. 89—96.
9. Мильская Л. Т. Средневековая
деревня в трехтомном труде
К. 3. Бадера.—СВ, 1977, 41,
с. 300—321.
10. Самаркин В. В. Историческая
демография западноевропейско-
го средневековья.— ВИ, 1977,
№ 2, с. 186—192.
11. Семенова Л. А. Некоторые проб-
лемы экономики арабского сред-
невековья в зарубежной исто-
риографии.— В кн.: Актуальные
проблемы стран Арабского Во-
стока и Северной Африки. М.,
1977, с. 216—254.
С. 216—227; проблемы среди-
земноморской торговли.
12. Федоров К. Г. История государ-
ства и права зарубежных стран.
[Учеб, пособие]. 2-е изд., пере-
раб. и доп. Л., 1977.
Разд. 2. Феодальное государст-
во и право, с. 58—137.
13. Художественно - историческая
хрестоматия. Средние века. По-
собие для учителей. Сост. О. В.
Волобуев и С. А. Секиринский.
2-е изд., доп. М., «Просвещение»,
1977. 239 с.
14. Черняк Е. Б. Пять столетий тай-
ной войны. Из истории секрет-
ной дипломатии и разведки. 3-е
изд. М., «Междупар. отноше-
ния», 1977. 464 с.
Часть книги посвящена эпохе
средневековья.
♦
15. Кантор В. К., Керимов В. И.,
Садов Р. В. [Рец. на кн.:] Из
истории культуры средних веков
и Возрождения. М., «Наука»,
1976.— «Вопр. философии», 1977,
№ И, с. 181-185.
16. Озолин А. И. [Рец. на кн.:] Про-
блемы социальной структуры и
идеологии средневекового обще-
ства. Межвуз. науч. сб. Вып. 1.
Л., 1974.—ВВ, 1977, 38, с. 175—
181.
17. Шаймухамбетова Г. Ислам и
средневековая Европа. [Рец. на
кн.:] Уотт У. М. Влияние исла-
ма на средневековую Европу.
М., «Наука», 1976.— «Наука и
религия», 1977, № 9, с. 93—94.
Б)., ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Историческая география
18. Сванидзе А. А. [Рец. на кн.:]
Самаркин В. В. Историческая
география Западной Европы в
средние века. М., «Высш, шко-
ла», 1976.—ВИ, 1977, № И,
с. 181—183.
Источниковедение
См. № 5, 220.
Кодикология
19. Мокрецова И. П. Проблемы ре-
ставрации средневековых перга-
менных рукописей. (Техника и
реставрация средневековых ил-
люминованных рукописей на
пергамене. Обзорная информа-
ция.). М., 1977. 48 с. (Гос. б-ка
СССР им. В. И. Ленина. Информ,
центр по проблемам культуры п
искусства).
См. также № 5, 129.
Нумизматика
20. Потин В. М. Основные периоды
монетной чеканки в Европе и
денежное обращение русского
392
Библиография
государства в X—XVII веках.—
В кн.: Нумизматический сбор-
ник. Поев, памяти Д. Г. Капа-
надзе. Тбилиси, 1977, с. 126—
130.
См. также № 45, 60, 71, 80, 81,
153.
Палеография
21. Воронова Т. П. Новые советские
исследования пб латинской па-
леографии.— В кн.: Археографи-
ческий ежегодник за 1976 г. М.,
1977, «с. 256—262.
См. также № 85, 136, 240. •
В) ИСТОРИОГРАФИЯ
22. Исакова Л. В. Кафедра истории
средних веков Ленинградского
университета в 1970—1975 гг.-
СВ, 1977, 41, с. 379—381.
23. Возгрин В. Е. М. А. Коган — со-
ветский историк-скандинавист.—
В кн.: Скандинавский сборник.
22. Таллин, 1977, с. 299—301.
24. Фаина Абрамовна Коган-Берн-
штейн. 1899—1976. [Некролог].—
СВ, 1977, 41, с. 424.
25. Попова О. С. Виктор Никитич
Лазарев (1897—1976).—ВВ, 1977,
38, с. 271—275.
26. Памяти В. В. Самаркина. [Не-
кролог].— «Вести. Моск, ун-та.
История», 1977, № 4, с. 93—96.
«Печатные работы В. В. Са-
маркина», с. 94—96.
С. Д. Сказкина. Т. 1-2. 2-е изд.,
перераб. М., «Высш, школа»,
1977.
29. Каминская И. М. История кос-
тюма. [Учеб, пособие для сред,
спец. учеб, заведений легкой
пром-сти]. М., «Легкая индуст-
рия», 1977.
Разд. 2, гл. 1-3 - эпоха сред-
невековья.
См. также № 1, 2, 12, 18, 87,
107, 127.
Д) МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ
30. Методика обучения истории
древнего мира и средних веков
в V-VI классах. (Пособие для
учителей). Под ред. Ф. П. Ко-
ровкина, Н. И. Запорожец. Баку,
«Маариф», 1977. 340 с. (НИИ
содерж. и методов обучения
АПН СССР). На азерб. яз.
Е) БИБЛИОГРАФИЯ
31. Крайнева Н. Я. Труды Инсти-
тута всеобщей истории Акаде-
мия наук СССР. 1969-1975 гг.
Указ. лит. I—II. М., 1977. 297 с.
В числе прочих — работы по
истории средних веков.
32. Фролова И. И. Литература по
истории средних веков, вышед-
шая в СССР в 1974—1975 гг.- СВ,
1977, 41, с. 387-423.
27. Беленкова Л. П. Вопросы исто-
рии философии в произведениях
Д. И. Писарева. Автореф. дис.
... канд. филос. наук. М., 1977.
23 с. (Моск, ун-т им. М. В. Ло-
моносова) .
См. также № 9—11, 38, 40, 48,
64, 73, 78, 109, 122, 133, 170, 171,
173, 175, 179, 218, 221, 233, 235,
244.
Г) УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ
28. История средних веков. Учеб-
ник для ун-тов по специально-
сти «История». Под общ. ред.
33. Л. М. [Рец. на кн.:] И. И. Фро-
лова. Иностранные справочники
по истории зарубежных стран.
Европа. Америка, Австралия.
Аннот. указ. лит. М., «Книга»,
1976-СВ, 1977, 41, с. 377-378.
34. Степанова В. Е. [Рец. на кн.:]
История древнего мира. Исто-
рия средних веков. Рек. указ,
лит. для учителей сред, школы.
Под ред. Б. А. Каменецкого. М.,
«Книга», 1976.- «Преподавание
истории в школе», 1977, № 5,
с. 110-119.
См. также № 26, 42.
Библиография
398
Ж) ХРОНИКА
35. Беляева Е. К. Конференция по
проблеме феодальной земельной
собственности в странах Евро-
пы.— «Вести. Моск. ун-та».
Сер. IX. История, 1977, № 3,
с. 88-90.
36. Пичугина И. С. Заседание, по-
священное памяти академика
Сергея Даниловича Сказкина.-
СВ, 1977, 41, с. 382-383.
37. Чтения памяти академика
Е. А. Косминского.- СВ, 1977,
41, с. 383-386.
См. также № 43, 47, 50.
3) ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
Англия
38. Сванидзе А. А. История средне-
вековой Англии в трудах
Я. А. Левицкого.- СВ, 1977, 41,
с. 334-349.
Германия
39. Колесницкий Н. Ф. «Священная
Римская империя»: притязания
и действительность. М., «Наука»,
1977. 199 с., с карт., 5 л. ил.,
карт. (АН СССР. Науч.-попул.
серия).
40. Колесницкий И. Ф. Проблема
возникновения территориальной
властп в Германии в немецкой
буржуазной историографин.-
СВ, 1977, 41, с. 230-253.
Испания
41. Мартынов П. И. Музыка Испа-
нии. М., 1977. 360 с.
Часть гл. 2 - эпоха средневе-
ковья.
Италия
42. Голенищева-Кутузова И. В. Ис-
тория итальянской литературы.
Указ, работ, изд. в СССР на рус.
яз. 1917-1975. Под ред. акад.
М. П. Алексеева. Т. 1-2. М., 1977.
382 с. (АН СССР. Ин-т науч, ин-
формации по обществ, наукам).
Среди прочих — значительное
число работ по истории италь-
янской культуры в средние
века.
Скандинавские страны
43. Свердлов М. Б. VII Всесоюзная
конференция скандинавистов.
[Ленинград. Дек. 1976 г.].—
В кн.: Скандинавский сборник.
22. Таллин, 1977, с. 310-314.
Франция
44. Вахнина Л. К. Исследования по
истории французской песни.
[Рец. па кн.: Тьерсо Ж. Исто-
рия народной' песни во Фран-
ции. М., 1975].— «Нар. творч1сть
та етнография» (КиТв), 1977,
№ 4, с. 97-98.
II. ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА (V-XI вв.)
А) ОЫЦИП РАЗДЕЛ
45. Беляков А. С., Янина С. А. Ко-
лодезский клад куфических и
западноевропейских серебряных
монет 60-х годов XI в.— В кн.:
Нумизматический сборник, ч. 5,
вып. 2. М., 1977, с. 10—99.
46. Кирпичников А. И. Вооружение
воинов Киевской державы в
свете русско-скандинавских кон-
тактов.- В кн.: Скандинавский
сборник. 22. Таллин, 1977,
с. 159-174.
47. Корсунский А. Р. Конференция
по проблеме падения Западной
Римской империи.- ВИ, 1977,
№ 6, с. 177-180.
48. Садретдинов Г. К. Анри Пиренн
о переходе от античности к сред-
ним векам (статья вторая).—
«Методол. и историогр. вопр.
ист. науки» (Томск), 1977, вып.
12, с. 59-93.
Статью первую см.: «Методол.
и историогр. вопр. ист. науки»,
1976, вып. И.
394
Библиография
49. Удальцова 3. В. Византия и За-
падная Европа (типологические
наблюдения)В кн.: Византий-
ские очерки. Труды сов. ученых
к XV Междунар. конгрессу ви-
зантинистов. М., 1977, с. 3-65.
50. Шаскольский И. П., Лебедев Г. С.
«Северная Русь и ее соседи в
эпоху раннего средневековья».
(Научное совещание на кафедре
археологии ЛГУ).-В кн.: Скан-
динавский сборник. 22. Таллин,
1977, с. 307-309.
*
51. Эрдели И. Венгерская карта
Винляндии.- «Природа», 1977,
№ 5, с. 90-95.
52. Гумилев Л. Н. Викинги не сол-
гали.— «Природа», 1977, № 5,
с. 95-99.
*
53. Балакин В. Д. Международные
связи стран Балтийского моря
в раннесредневековую эпоху.
(О статье И. Германа в журн.
«Das Altertum». Berlin, 1975,
№ 3).- ВИ, 1977, № 1, с. 199—
200.
См. также № 71, 83, 84.
Б) ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
И НАРОДОВ
Германцы
54. А. К. [Рец. на кн.:] Р. Lakatos.
Quellenbuch zur Geschichte der
Gepiden.- «Acta Universitatis de
Attila Jozef nominatae. Acta
anti qua et archaeologica», t. XVII.
Szeged, 1973. 135 S-BB, 1977,
38, c. 241-242.
См. также № 58.
Лангобарды
55. Дворецкая И. А. О социально-
политических противоречиях в
лангобардском обществе.— СВ,
1977, 41, с. 78-99. Рез. на итал.
чз., с. 427-429.
Франкское государство
Меровингов и Каролингов
56. Эйнгард. Жизнь Карла Велико-
го. (Вступит, статья, примеч. и
пер. с латин. А. П. Левандовско-
го).— В кн.: Прометей. Истори-
ко-биогр. альманах серии
«Жизнь замечательных людей»,
т. 11. М., 1977, с. 153-162.
Англия
57. Савело К. Ф. Раннефеодальная
Англия. Л., 1977.144 с. (Ленингр.
ун-т им. А. А. Жданова).
58. Шервуд Е. А. Некоторые осо-
бенности этнических процессов
у германских племен в период
разложения первобытнообщин-
ных отношений (к становлению
этнического самосознания англо-
саксов VI—IX вв.).-В кн.: Про-
блемы романизации, этногенеза
и городского устройства. М.,
1977, с. 117-145.
Венгрия
59. Генинг В. Ф. Проблема проис-
хождения венгров.- «Сов. архео-
логия», 1977, № 1, с. 317-321.
Германия
60. Беляков А. С. Девентерский де-
нарий конца X в. (из археоло-
гических раскопок в Калинин-
ской области).—В кн.: Нумиз-
матический сборник, ч. 5, вып. 2.
М., 1977, с. 7-9.
*
61. Ястребицкая А. [Рец. на кн.:]
Видукинд Корвейский. Деяния
саксов. Вступит, статья, перевод
и коммент. Г. Э. Санчука. М.,
«Наука»,' 1975.- «Сов. славяно-
ведение», 1977, № 4, с. 113-115.
Испания
62. Бойко К. А. Арабская историче-
ская литература в Испании
(VIII-первая треть XI в.). М.,
«Наука», 1977. (АН СССР, Ин-т
востоковедения).
Библиография
395
Арабская историография в
Испании в период от завоевания
до провозглашения омейядского
халифата — 711-929 гг. (общий
очерк), с. 11-36; Арабская исто-
риография в Испании в период
омейядского халифата — 929-
ЮЗ! гг. (общий очерк), с. 75-90.
См. также № 98.
Италия
63. Дворецкая И. А. Возникновение
раннефеодального общества и
государства в Северной Италии
VI—VIII вв. Автореф. дис.
... д-ра ист. наук. М., 1977. 22 с.
(Моск. пед. ин-т им. В. И. Ле-
нина) .
64. Дворецкая И. А. Раннесредневе-
ковые города Северной Италии
в лангобардский период и неко-
торые аспекты их изучения в
буржуазной историографии.-
В кн.: Проблемы историографии.
Сб. трудов. М., 1977, с. 144—203.
65. Дворецкая И. А. Синтез римских
и германских форм зависимости
в Северной Италии VII—VIII ве-
ков,— В кн.: Проблемы романи-
зации, этногенеза и городского
устройства. М., 1977, с. 3-53.
См. также № 100.
Норвегия
66. Гуревич А. Я. Норвежское об-
щество в раннее средневековье.
Проблемы социального строя и
культуры. М., «Наука», 1977.
327 с. (АН СССР. Ин-т всеобщей
истории).
Скандинавские страны
67. Лебедев Г. С. Социальная топо-
графия могильника «эпохи ви-
кингов» в Бирке.— В кн.: Скан-
динавский сборник. 22. Таллин,
1977, с. 141-158.
68-69. Мельникова Е. А. Скандинав-
ские рунические надписи. Тек-
сты, перевод, коммент. М.,
«Наука», 1977. 276 с. с ил., карт.
Франция
См. № Л35.
Швеция
70. Ковалевский С. Д. [Рец. на кн.:]
С. A. Ekbom. Viennetionde och
hundaresindelning. Studier гб-
rande Sveriges aldsta politiska
indelning. Lund, 1974. 335 s.
(К. А. Экбум. Авиньонская деся-
тина и деление на хундаре.
Очерки о древнейшем политиче-
ском делении Швеции. Лунд,
1974).-СВ, 1977, 41, с. 376-377.
См. также № 138.
III. ПЕРИОД РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА (XI-XV вв.)
А) ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
71. Берга Т. М. Анализ нумизмати-
ческого материала из археологи-
ческих памятников Латвии X-
XII веков,— «Изв. АН ЛатвССР».
1977, № 6, с. 86-99.
72. Государственная библиотека
СССР им. В. И. Ленина. Инвен-
тарь инкунабулов. Вып. 2. [Сост.
II. П. Черкашина. К. Л. Билень-
кая]. М., 1977. 71 с. с ил. (Ма-
териалы для сводного каталога
инкунабулов. хранящихся в
б-ках СССР).
73. Гутнова Е. В. Классовая борьба
средневекового крестьянства
(XI-XV вв.) в освещении совре-
менной французской, английской
и американской медиевистики.—
СВ, 1977, 41, с. 203-229.
74. Евдокимова Ю. Проблема перво-
источника.— «Сов. музыка», 1977,
№ 3. с. 109-112.
К изучению западноевроп. муз.
искусства XV-XVI вв.
75. Жаворонков П. И. Никейско-бол-
гарские отношения при Иване II
Асепе (1218-1241).-В кн.: Ви-
зантийские очерки. Труды сов.
ученых к XV Междунар. кон-
грессу византин иегов. М., 1977,
с. 195-209.
396
Библиография
76. Искусство XIII века. М., «Ис-
кусство», 1977; Dresden, Verl.
der Kunst, 1978. 375 с. (Малая
история искусств).
77. Казакова Н. А. Европейские
страны в записках русских пу-
тешественников середины XV
века.—ВИ, 1977, № 6, с. 37—48.
78. Либман М. Западноевропейское
искусство около 1400 года и про-
блема так называемой интерна-
циональной готики.- В кн.:
Современное искусствознание
Запада о классическом искусст-
ве XIII-XVII вв. Очерки. М.,
1977, с. 55-65.
79. Пашу то В. Т. Монгольский по-
ход в глубь Европы.— В кн. Та-
таро-монголы в Азии и Европе.
Со. статей. 2-е изд., перераб. и
доп. М., 1977, с. 210-227.
80. Пелда К. Р. Находки монет
XIII - первой половины XVI ве-
ка в археологических памятни-
ках Латвии.- «Иэв. АН Латв-
ССР», 1977, № 8, с. 103-113.
81. Пелда К, Р, Особенности рас-
пространения монетных кладов
на территории Латвийской ССР
в XIII - первой половине XVI
века.— «Иав. АН ЛатвССР», 1977,
№ 4, с. 65-77.
82. Соколов М. Н. От золотого фона
к золотому небу. К вопросу о
натурализации условных прост-
ранственных и колористических
решений в искусстве позднего
средневековья и Воэрождения.-
В кн.: Советское искусствозна-
ние, 76, вып. 2. М., 1977, с. 45—
67.
83. Гутнова Е. В. [Рец. на кн.:]
S. Epperlein. Der Bauer im Bild
des Mittelalters. Leipzig-Jena-
Berlin, 1975. 149 S. (3. Эппер-
лейн. Крестьянин в изображени-
ях средневековья. Лейпциг—
Иена-Берлин, 1975) .-СВ, 1977,
41, с. 368-369.
84. Коган М. А. Существовали ли
до Колумба контакты между
Старым и Новым Светом?
(О статье У. Шлентер в жури.
«Das Altertum». Berlin, 1975,
№ 4).- ВИ, 1977, № 1, с. 200-202.
85. Романова В. Л. [Рец. на кн.:]
Л. И. Киселева. Готический кур-
сив XIII-XV вв. Л., «Наука»,
1974.- СВ, 1977, 41, с. 350-354.
86. Творогов О. В. Необходимые
уточнения к книге И. Б. Грекова
«Восточная Европа и упадок
Золотой Орды».— «Труды Отдела
древнерусской литературы Ин-та
русской литературы (Пушкин-
ский Дом)», 1977, т. 32, с. 402—
404.
См. также № 49, 51, 52, 140,
150, 157, 158.
Крестовые походы
87. Заборов М. А. История кресто-
вых походов в документах и ма-
териалах. [Учеб, пособие для
вузов по спец-ти «История»].
М., «Высш, школа», 1977. 272 с.
88. Заборов М. А. [Рец. на кн.:]
V. Hrochovi, М. Hrochovi, Kfiiaci
v Levants. Praha, 1975. 313 s.
(В. и M. Грохи. Крестоносцы на
Востоке. Прага, 1975. 313 с.).—
ВИ, 1977, № 6, с. 192-195.
Б) ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
Англия
89. Авдеева К. Д. Внутренняя коло-
низация в Северной Англии в
XII—XIII вв.- В кн.: Социально-
экономические проблемы исто-
рии древнего мира и средних ве-
ков. Красноярск, 1977, с. 43—57.
90. Авдеева К. Д. Внутренняя ко-
лонизация и судьбы крестьян-
ства в Англии XII-XIII вв.-
СВ, 1977, 41, с. 5-33. Рез. на анг.
яз., с. 425—426.
91. Иванченко О. X. Миниатюры из
Апокалипсиса в Государствен-
ной библиотеке СССР имени
В. И. Ленина.- В кн.: Памятни-
ки культуры. Новые открытия.
Письменность. Искусство. Ар-
хеология. Ежегодник. 1977. М.,
1977, с. 377-383.
92. Крылова С. Е. К вопросу о соз-
дании Анжуйской империи.-
Библиография
397
В кп.: XXX Герценовские чте-
ния. Науч. докл. Ист. науки. Л.,
1977, с. 98-103.
93. Крылова С. Е. Церковная ре-
форма Генриха II Плантагене-
та.- В кн.: XXX Герценовские
чтения. Науч. докл. Ист. науки.
Л., 1977, с. 93-98.
94. Серовайская Ю. Я. Королевские
заповедные леса и их роль в
английском феодальном общест-
ве в XI-XIII вв. Автореф. дне.
... канд. ист. наук. М., 1977. 24 с.
(Моск, ун-т ям. М. В. Ломоно-
сова).
Германия
95. Илларионов С. А. К вопросу о
торговле и торгово-экономиче-
ских связях г. Майнца в XIV—
XV вв.— «Вести. Ленингр. ун-та»,
1977, № 14. История. Яз. Лит.,
вып. 3, с. 47-52. Рез. на англ. яз.
96. Савина И. В. [Рец. на кн.:]
A. Laube. Studien iiber den
Erzgebirgischen Silberbergbau
von 1470 bis 1546. Berlin, 1974.
301 S. (А. Лаубе. Исследования
по истории серебряных рудни-
ков Эрцгебирге в 1470-1546 гг.
Берлин, 1974).-СВ, 1977, 41,
с. 374-376.
См. также № 39, 184, 185.
Испания
97. Линник И. Впервые опознанные
картины мастера «Встречи Ма-
рии и Елизаветы» из Вальядо-
лида.— «Труды Гос. Эрмитажа»,
1977, XVIII, с. 15-21.
98. Минаков С. Т. Зависимое кресть-
янство во владениях Саагунско-
го монастыря в Х-ХП1 вв.—
В кн.: Проблемы всеобщей ис-
тории. М., 1977, с. 268-286.
Италия
99. Майстров Л. Е. [Рец. на кн.:]
Пачоли Лука. Трактат о счетах
и записях. М.. «Статистика»,
1974.— «Вопр. истории естество-
знания и техники», 1977, вып.
3-4 (56-57), с. 113.
*
100. Абрамсон М. Л. История общин-
ных угодий в Южной Италии
(IX-XIII века).- В кн.: Соци-
ально-экономические проблемы
истории древнего мира и сред-
них веков. Красноярск, 1977,
с. 58-74.
101. Андросов С. Мадонна Тино ди
Камаино в собрании Эрмита-
жа.- «Сообщ. Гос. Эрмитажа»,
1977, 42, с. 3-4.
102. Андросов С. Микеланджело и
Поллайоло.—ч<Труды Гос. Эрми-
тажа», 1977, XVIII, с. 41-49.
103. Андросов. С. О. Флорентийская
скульптура начала XV века.
Автореф. дис. ... канд. искусст-
воведения. Л., 1977. 20 с. (Акад,
художеств СССР. Ин-т живопи-
си, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина).
104. ААрсенишвили И. Натюрморт в
творчестве венецианского ху-
дожника XV в. Карло Кривел-
ли.- «Изв. АН ГССР. Серия ис-
тории, археологии, этнографии
и истории искусства», 1977, № 1,
с. 115-122.
105. Арсенишвили И. В. Натюрморт
в творчестве Карло Кривелли.
Автореф. дис. ...канд. искусст-
воведения. М., 1977. 19 с. (НИИ
теории и истории изобразит, ис-
кусств Акад, художеств. СССР).
106. Баткин Л. М. Диалогичность
итальянского Возрождения. -
В кн.: Советское искусствозна-
ние * 76, вып. 2. М., 1977,
с. 68-90.
107. Брагина Л. М. Итальянский гу-
манизм. Этич. учения XIV—
XV веков. Учеб, пособие для
студентов ист. фак. ун-тов и пед.
ин-тов. М., «Высш, школа», 1977.
254 с.
108. Виппер Б. Р. Итальянский Ре-
нессанс XIII-XVI веков. Курс
лекций по истории изобразит,
искусства н архитектуры. Т. 1-
2. М., «Искусство», 1977. (Ин-т
истории искусств М-ва культуры
СССР).
109. Дегтярев А. В. Методологиче-
ские проблемы итальянского
Возрождения в трудах Н. Г. Чер-
нышевского,- В кн.: Вопросы
398
Библиография
историографии и методологии
истории. Ростов н/Д, 1977,
с. 73-83.
110. Добиаш-Рождественская О. А.
К юбилею Франческо Петрарки.
Публикация Е. В. Вернадской. -
GB, 1977, 41, с. 322-333.
111. Дунаев Г. С. Сандро Боттичелли.
М., «Изобразит, искусство», 1977,
239 с., ил.
112. Казакова Н. А. Заметка о Риме
русского путешественника сере-
дины XV в.- «Труды Отдела
древнерусской литературы Ин-та
русской литературы (Пушкин-
ский Дом)», 1977, т. 32, с. 252—
255.
113. Леон Баттиста Альберти. [Сб.
статей. Отв. ред. В. Н. Лазарев].
М., «Наука», 1977.
Из содерж.: В. Н. Лазарев.
Леон Баттиста Альберти, с. 3—
9; Л. М. Брагина. Альберти —
гуманист, с. 10-49; В. П. Зубов.
Архитектурная теория Альбер-
ти, с. 50-149; В. Н. Гращенков.
Альберти как архитектор,
с. 150-191.
114. Либман Е. М. Миниатюры италь-
янского Миссала в Государст-
венной библиотеке СССР имени
В. И. Ленина.- В кн.: Памятни-
ки культуры. Новые открытия.
Письменность. Искусство. Ар-
хеология. Ежегодник. 1977. М.,
1977, с. 384-391.
115. Маркова В. Э. Новое произведе-
ние Якобелло дель Фьоре.-
В кн.: Памятники культуры. Но-
вые открытия. Письменность.
Искусство. Археология. Ежегод-
ник, 1977. М., 1977, с. 392-399.
116. Медведев И. П. Договор Визан-
тии и Генуи от 6 мая 1352 г.-
ВВ, 1977, 38, с. 161-172.
117. Ревякина Н. В. Проблемы чело-
века в итальянском гуманизме
второй половины XIV - первой
половины XV в. М., «Наука»,
1977. 272 с. [АН СССР. Сиб.
отд-ние. Ин-т истории, филоло-
гии и философии. Новосиб.
ун-т].
118. Стам С. М. Культура Возрожде-
ния: вопросы содержания, эво-
люции, периодизации.- ВИ,
1977, № 4. с. 75-93.
119. Элъфонд И. Я. Общественно-по-
литические взгляды итальянско-
го гуманиста Леонардо Бруни
Аретино. Автореф. дис. ... канд.
ист. наук. М., 1977. 17 с. (Моск,
ун-т им. М. В. Ломоносова).
*
120. Котельникова Л. А., Рутенбург
В. И. [Рец. на кн.:] F. Melis.
Origini е sviluppi delle assicu-
razioni in Italia (secoli XIV—
XVI). Vol. 1. Le fonti. Roma,
1975. XLV, 308 p. (Ф. Мелис.
Происхождение и развитие стра-
хового дела в Италии (XIV—
XVI вв.). Т. 1. Источники. Рим,
1975)- СВ, 1977, 41, с. 370-371.
121. Стяжкин Н. И. [Рец. на кн.:]
Kristeller Р. О. Huit philosophes
de la Renaissance italienne. Ge-
neve, 1976. 168 p. (П. О. Кристел-
лер. Восемь философов италь-
янского Возрождения. Женева,
1976. 168 с.).— «Вопр. филосо-
фии», 1977, № 4, с. 183-184.
См. также № 123, 199, 200-203,
205, 208, 209, 213, 217.
Нидерланды
122. Гершензон-Чегодаева Н. Запад-
ная наука XX века о братьях
ван Эйк.- В кн.: Современное
искусствознание Запада о клас-
сическом искусстве XIII—
XVII вв. М., 1977, с. 66-117.
123. Чистозвонов А. Н. К вопросу об
эволюции итальянской и нидер-
ландской экономики и торговли
в условиях европейской «эконо-
мической депрессии» XIV—
XV вв.- СВ, 1977, 41, с. 34-49.
Рез. на франц, яз., с. 426.
Норвегия
См. № 66.
Скандинавские страны
См. № 68.
Франция
124. Атаян А. А. Особенности горо-
дов-коммун Северной Франции
Библиография
399
в XII—XIII веках.- В кн.: Про-
блемы романизации, этногенеза
и городского устройства. М.,
1977, с. 81-116.
125. Атаян А. А. Социально-экономи-
ческое и политическое развитие
городов-коммун Северной Фран-
ции в XII-XIV в. Автореф. дис.
... канд. ист. наук. М., 1977. 16 с.
(Моск. пед. ин-т им. В. И. Ле-
нина).
126. Быховский Б. Э. Сигер Брабант-
ский — представитель француз-
ского материализма.- «Науч,
докл. высш, школы. Филос. на-
уки», 1977, № 1, с. 73-81.
126а. Долидзе Д. И. Многоголосная
светская песня Гийома де Маню.
(Особенности строения). Авто-
реф. дне. ...канд. искусствоведе-
ния. Л., 1977. 24 с. (Ленингр.
ин-т театра, музыки и кинема-
тографии) .
127. Керов В. Л. Борьба народных
масс против католической церк-
ви во Франции в конце XIII —
начале XIV вв. (Бегины и спи-
риту алы). Учеб, пособие по кур-
су «История средн, веков». М.,
Д977. 81 с. с ил. (Ун-т дружбы
народов им. П. Лумумбы).
128. Кузовникова В. Поставец XV ве-
ка из Савойи.- «Сообщ. Гос. Эр-
митажа», 1977, 42, с. 4-7.
129. Мокрецова И. П. Иллюминиро-
ванная парижская Псалтирь из
Библиотеки Академии наук
СССР.- В кн.: Памятники куль-
туры. Новые открытия. Пись-
менность. Искусство. Археоло-
гия. Ежегодник. 1977. М., 1977,
с. 367-376.
130. Плешкова С. Л. К истории ку-
печеского капитала во Франции
в XV в. (Жак Кер и его деятель-
ность). М., Изд-во Моск, ун-та,
1977. 181 с. с ил.
131. Стерлигов А. Б. «Часовник Эть-
ена Шевалье» п его место в ис-
тории французской книжной
миниатюры.— В кн.: Античность.
Средние века. Новое время. Про-
блемы искусства. М., 1977,
с. 48-65.
132. Ювалова Е. П. Королевский пор-
тал Шартрского собора.— В кн.:
Античность. Средние века. Новое
время. Проблемы искусства. М.,
1977, с. 18-38.
133. Ювалова Е. О некоторых интер-
претациях ранней и высокой го-
тики в современном западном
искусствознании.— В кн.: Совре-
менное искусствознание Запада
о классическом искусстве XIII-
XVII вв. Очерки. М., 1977,
с. 30-54.
*
134. Басовская Н. И. [Рец. на кн.:]
Хачатурян Н. А. Возникновение
Генеральных Штатов во Фран-
ции. М., Изд-во Моск, ун-та,
1976-СВ, 1977, 41, с. 362-367.
135. Бессмертный Ю. Л» [Рец. на
кн.:] Histoire de la France ru-
rale. Sous la dir. de G. Duby et
A. Wai Ion. T. 1. La formation des
campagnes francaises des origi-
nesi au XIV siecle. [Paris], 1975.
624 p. (Аграрная история Фран-
ции. Под общ. ред. Ж. Дюби и
А. Валлона. Т. 1. Формирование
французской деревни (от воз-
никновения до XIV в.). [Па-
риж], 1975).-СВ, 1977, 41,
с. 372-373.
136. Гранстрем Е. Э. [Рец. на кн.:]
В. Л. Романова. Рукописная кни-
га и готическое письмо во Фран-
ции в XIII—XIV вв. По мате-
риалам собрания рукопис. книг
Гос. Публ. б-ки им. М. Е. Салты-
кова-Щедрина. М., «Наука»,
1975.-СВ, 1977, 41, с. 359-362.
137. Гутнова Е. В, [Рец. на кн.:] •
Н. А. Хачатурян. Возникновение
Генеральных штатов во Фран-
ции. М., Изд-во МГУ, 1976.- ВИ,
1977, № 9, с. 178-181.
См. также № 91, 92.
Швеция
138. Ковалевский С. Д. Образование
классового общества и государ-
ства в Швеции. М., «Наука»,
1977. 279 с. (АН СССР. Ин-т все-
общей истории).
139. Нордлинг К. О. К вопросу о це-
лях и задачах крестового похо-
да Биргера ярла в Финляндию
в 1240 г.- В кн.: Скандинавский
сборник. 22. Таллин, 1977, с. 71-
82.
400
Библиография
IV. ПЕРИОД РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА
(XVI — 1-я ПОЛОВИНА XVII в.)
А) ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
140. Билевич В. В. Старопечатные
иностранные книги естественно-
научной тематики в фондах
ФБАН БССР.— В кн.: Книгове-
дение в Белоруссии. Минск,
1977, с. 108-121.
141. Бискуп М. Польша на Балтий-
ском море в XVI веке.— ВИ,
1977, № 12, с. 168-181.
142. Геровский Ю. А. Польша среди
европейских государств (XVI—
XVIII вв.).—ВИ, 1977, № 12,
с. 135-147.
143. Горфункель А. X. Собрание па-
леотипов Ленинградского уни-
верситета.— «Вести. Ленингр.
ун-та», 1977, № 8. История. Яз.
Лит., вып. 2, с. 42—48. Рез. на
англ. яз.
144. Дубравская Т. Н. Музыкальный
мадригал XVI—XVII вв. Авто-
реф. дис. ...канд. искусствоведе-
ния. М., 1977. 23 с. (Моск, кон-
серватория им. П. И. Чайков-
ского) .
445. Ивонин Ю. Е. Восшествие на
престол Марии Тюдор и Габ-
сбургская дипломатия.— В кн.:
Вопросы истории древнего мира
и средних веков. Минск, 1977,
с. 106-115.
146. Костелов В, С. Историзм в по-
нимании Ф. Бэкона — «Вопр. ис-
тории естествознания и техни-
ки», 1977, вып. 3-4 (56-57),
с. 20-29.
147. Кузнецов А. Б. Политика России
на Балтике в первой четверти
XVI в.-В кн.: Вопросы исто-
рии Европейского Севера. Меж-
вуэ. сб. Петрозаводск, 1977,
с. 129-144.
148. Курбанова Ч. А. Шелк Азербай-
джана в торгово-дипломатиче-
ских отношениях правительства
шаха Аббаса I со странами За-
падной Европы.- «Изв. АН
АзССР. Сер. истории, филосо-
фии и права», 1977, № 1, с. 64-
71.
149. Ливанова Т. Н. Западноевропей-
ская музыка XVII—XVIII веков
в ряду искусств. М., «Музыка»,
1977. 528 с. (Ин-т истории ис-
кусств М-ва культуры СССР).
150. Можейко И. В. В Индийском
океане. Очерки истории пират-
ства в Индийском океане и юж-
ных морях (XV—XX века). М.,
«Наука», 1977. 336 с. ил., карт.
Часть книги — эпоха средне-
вековья.
151. Можейко И. Из истории вторже-
ния колонизаторов в Южную
Азию,— «Азия и Африка сегод-
ня», 1977, № 1, с. 56-60.
152. Потин В.- М. Малоизвестный
иностранный источник о моне-
тах, ценах и мерах в России на-
чала XVI века.— В кн.: Прош-
лое нашей Родины в памятни-
ках нумизматики. Л., 1977,
с. 206-208.
153. Потин В. М. Талеры на терри-
тории русского государства в
XVI—XVII веках.— В кн.: Прош-
лое нашей Родины в памятни-
ках нумизматики. Л., 1977,
с. 50-103.
154. Прошин Н. И. Триполитания
под властью испанцев и Маль-
тийского ордена (1510—
1551 гг.).— В кн.: Актуальные
проблемы стран Арабского Вос-
тока и Северной Африки. М.,
1977, с. 189—215.
155. Пуцко В. Западноевропейская
живопись в Калуге.— «Худож-
ник», 1977, № 9, с. 45—49.
В том числе - о картинах
XVI-XVII вв.
156. Ротенберг Е. И. Вопросы худо-
жественной тематики в живопи-
си XVII века.—В кн.: Антич-
ность. Средние века. Новое вре-
мя. Проблемы искусства. М.,
1977, с. 66-86.
157. С веком наравне. Кн. 4. Расска-
зы о мастерах западноевропей-
ской живописи от Леонардо до
Пикассо. М., 1977.
Материалы о Леонардо да
Винчи, Боттичелли, Микеланд-
жело, Рафаэле, Тициане, Тинто-
ретто, Дюрере, Лукасе Кранахе
Старшем, Караваджо, Питере
Библиография
401
Брейгеле Старшем, Рубенсе, Ве-
ласкесе, Рембрандте.
158. Степанова В. Е., Шевеленко А. Я.
История средних веков. Хресто-
матия. (Пособие для учителей).
Ч. 2 (XV-XVII вв.). Каунас,
«Швиеса», 1977. 296 с. На литов,
яз.
159. Тикадзе М. И. Левантийская
торговля и города Сирии в
XVI-XVIII вв.- В кн.: История
и экономика арабских стран. М.,
1977,.с. 122-142.
160. Хорошкевич А. Л. Кредит в рус-
ской внутренней и русско-ган-
зейской торговле XIV—XV ве-
ков.- «История СССР», 1977, №2,
с. 125-140.
161. Шахмалиев Э. М, Донесение
папского посла Векьеттн о Се-
февидском государстве.— «Учен,
зап. Азерб. ун-та. Сер. ист. и фи-
лос. наук» (Баку), 1977, № 4,
с. 32-37.
162. Якимович А. К. Барокко и ду-
ховная культура XVII века.—
В кн.: Советское искусствозна-
ние’76, вып. 2. М., 1977, с. 91—
133.
163. Данилов А. И., Могилъницкий
В. Г. [Рец. на кн.:] М. А. Алпа-
тов. Русская историческая
мысль и Западная Европа.
XVII — первая четверть XVIII
века. М., «Наука», 1976.— «Но-
вая и новейшая история», 1977,
№ 1, с. 166—168.
164. Кам А. [Рец. на кн.:] М. Hroch,
J. Petraft. 17. stoleti-krize feudal-
ni spoleCnosti? Praha, «Svoboda»,
1976. 318 str. (M. Хрох, И. Нет-
рань. XVII столетие — кризис
феодального общества? Прага,
1976).— «Новые книги за рубе-
жом по общественным наукам»,
1977, № 1, с. 75-80.
165. Королюк В. Д. [Рец. на кн.:]
М. А. Алтапов. Русская истори-
ческая мысль и Западная Евро-
па. XVII — первая четверть
XVIII века. М., «Наука», 1976.-
«История СССР», 1977, № 2,
с. 164-167.
См. также № 74. 80, 81, 82.
Великие географические открытия
166. Коган М. А. Знал ли Колумб о
плаваниях викингов в Новый
Свет? - XXX Герценовские чте-
ния. Науч. докл. Ист. науки. Л.,
1977, с. 89-93.
Б) ИСТОРИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН
Англия
167. Бэкон Ф. Сочинения. В 2-х т.
Т. 1. 2-е изд., испр. и доп. М.,
«Мысль», 1977. 567 с. (АН СССР.
Ин-т философии).
168. «Английское серебро XVI—XX
веков», выставка. Москва—Ле-
нинград. 1977. Английское сереб-
ро XVI-XX веков из собрании
Великобритании. Каталог вы-
ставки. [Пер. с англ.]. М., «Сов.
художник», 1977. [64] с., ил.,
14 л. ил. (М-во культуры СССР,
Музей Виктории и Альберта,
Гос. музей изобразит, искусств
им. А. С. Пушкина, Гос. Эрми-
таж).
169. Ахмедов Б. А., Кулахмедова
Н. Д. «Успехи» дипломатов и
трагедия купцов. (Из истории
англо-голландской колониаль-
ной конференции 1613 и
1615 гг.).— «Учен. зап. Азерб.
ун-та. Сер. ист. и филос. наук»
(Баку), 1977, № 1, с. 23-29.
170. Бацер М. И. «Спор о джентри»
в современной английской исто-
риографии.—В кн.: Новая и но-
вейшая история, вып. 3. Сара-
тов, 1977, с. 141-150.
171. Валлич Э. Я. Н. М. Карамзин -
первый русский рецензент «Уто-
пии» Томаса Мора.— В кн.: Ис-
тория социалистических учений.
Вопросы историографии, Сб.
статей. М., 1977, с. 243—256.
172. Джачвадзе Э. А. Английская де-
ревня в первой половине XVI в.
Тбилиси, «Мецниереба», 1977.
140 с. На груз. яз.
173. Кучеренко Г. С, Проблемы за-
падноевропейского утопическо-
го социализма в творчестве Е. В.
Тарле.—В кн.: История социа-
14 ср?днис века. в. 43
402
Библиография
диетических учений. Вопросы
историографии. Сб. статей. М;,
1977, с. 60-86.
С. 73—85: о Томасе Море.
174. Лакшин В. Я. Путешествие фи-
лософии, или канцлер Бэкон и
его переводчики.— «Природа»,
1977, № 7, с. 111-123; № 8,
с. 110-123.
175. Осиновский И. Н. Об изучении
наследия Томаса Мора в совре-
менной буржуазной историогра-
фии.—В кн.: История социали-
стических учений. Вопросы ис-
ториографии. Сб. статей. М.,
1977, с. 142-165.
176. Севастьянова А. А. Записки о
Московии Джерома Горсея. (К
вопросу о принципах научного
перевода терминов при публи-
кации источников).— В кн.: Ар-
хеографический ежегодник за
1976 год. М., 1977, с. 71-78.
177. Форбс Э. Шотландские универ-
ситеты в XVII столетии.— «Вопр.
истории естествознания и тех-
ники», 1977, № 1 (58), с. 99-104.
178. Чикин С. Я. Френсис Бэкон и
его влияние на развитие меди-
цины. К 350-летию со дня смер-
ти.—«Сов. медицина», 1977, №1,
с. 129-135.
179. Шарифжанов И. И. Историче-
ские предпосылки английской
революции XVII в. в освещении
современной английской и аме-
риканской буржуазной историо-
графии.— СВ, 1977, 41, с. 278—
299.
180. Щербань П. Н. Разложение ре-
месленного производства в анг-
лийских городах во второй по-
ловине XVI в.— В кн.: Пробле-
мы всеобщей истории. М., 1977,
с. 287-302.
.♦
181. Тимошенко Е. Е. [Рец. на кн.:]
Ю. П. Михаленко. Ф. Бэкон и
его учение. М., «Наука», 1975.-
«Вопр. философии», 1977, № 7,
с. 182-183.
См. также № 145.
Германия
182. Бартель X. Исторические тради-
ции и уроки Великой Крестьян-
ской войны.— В кн.: Ежегодник
германской истории. 1976. М.,
1977, с. 243- 266.
183. Вельчинская И. Л. Альбрехт
Альтдорфер. М., «Искусство»,
1977. 119 с.
184. Львов С. Л. Альбрехт Дюрер.
М., «Искусство», 1977. 302 с.;
24 л. ил. (Серия «Жизнь в ис-
кусстве») .
185. Мезенцева Ч. Значение графики
для развития немецкой скульп-
туры и прикладного искусства
эпохи Возрождения.— «Труды
Гос. Эрмитажа», 1977, XVIII,
с. 23-40.
186. Некрасов Ю. К. Городские хро-
нисты первой половины XVI в.
о причинах и характере Кресть-
янской войны в Германии.— СВ,
1977, 41, с. 121—142. Рез. на нем.
яз., с. 430-431.
187. Некрасов Ю. К. О роли городов
в событиях Крестьянской войны
в Германии. (По материалам
хронистики XVI в.).— «Вести.
Моск, ун-та. Сер. IX. История»,
1977, № 4, с. 63-79.
188. Некрасов Ю. К. Южнонемецкий
город в начале Крестьянской
войны (май-сентябрь 1524 г.).—
В кн.: Ежегодник германской
истории. 1976. М., 1977, с. 267—
292.
189. Первухин В. В. Реформацион-
ное движение в Любеке в 1529—
1530 гг. (К вопросу о социаль-
но-политической борьбе в ган-
зейских городах в первой трети
XVI в.).-СВ, 1977, 41, с. 100-
120. Рез. на нем. яз., с. 429—430.
190. Савина Н. В. О характере экс-
плуатации земельных владений
Фуггерами в первой половине
XVI в.-СВ, 1977, 41, с. 173-186.
191. Фараджева С. А. К вопросу об
эволюции «дирекционного прин-
ципа» в горном деле Саксонии
XVI в.- СВ, 1977, 41, с. 187-202.
См. также № 96.
Испания
192. Испанская эстетика. Ренессанс,
барокко, Просвещение. [Сбор-
ник. Сост., вступит, статья А. Л.
Штейна. Коммент. А. Л. Штей-
на, И. В. Брагинской]. М., «Ис-
Библиография
403
кусство», 1977. 695 с. (История
эстетики в памятниках и доку-
ментах) .
♦
193. Каганэ Л. Л. Испанская живо-
пись XVI—XVIII вв. в Эрмита-
же. Очерк-путеводитель. 2-е изд.,
испр. и доп. Л., «Аврора», 1977.
111 с.; ил. Загл. 1-го изд.: Ис-
панская живопись в Эрмитаже.
194. Каганэ Л. Л. Портреты Филип-
па III и Маргариты Австрий-
ской.—В кн.: Памятники куль-
туры. Новые открытия. Пись-
менность. Искусство. Археоло-
гия. Ежегодник. 1977. М., 1977,
с. 400-404.
195. Каганэ Л. Раннее портретное
творчество Эль Греко и про-
блема атрибуции портрета
Алонсо Эрсильи и Суньиги,—
«Труды Гос. Эрмитажа», 1977,
XVIII, с. 59-73.
196. Кеменов В. С. Веласкес в музе-
ях СССР. Анализ картин и их
место в творчестве художника.
Л., «Аврора», 1977. 179 с.
197. Сабельникова С. Портретные об-
разы Риберы. — «Художник»,
1977, № 3, с. 57-60.
Италия
198. Алешин А. Б. Реставрационно-
техническое исследование ново-
открытой картины В. Кастел-
ло.— В кн.: Культура и рели-
гия. Сб. трудов. Л., 1977, с. 122—
129.
199. Баткин Л. М. Макьявелли: опыт
и умозрение.— «Вопр. филосо-
фии», 1977, № 12, с. 105-119.
200. Белоусова Н. «Любовь земная
и небесная» Тициана и «Фья-
метта» Бокаччо.— «Искусство»,
1977, № 3, с. 61-68.
201. Бурлацкий Ф. М. Загадка и урок
Никколо Макиавелли. Драма-
тург., ист. и социол. новеллы.
М., «Мол. гвардия», 1977. 255 с.
202. Габибов И. Д. Микеланджело.
Баку, «Ишыг», 1977. 46 с. с ил.
На азерб. яз.
203. Горфункель А. X. Гуманизм и на-
турфилософия итальянского Воз-
рождения. М., «Мысль», 1977.
359 с.
204 Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А. С.
Пушкина. Москва. Тез. докл. на-
уч. сессии, посвящ. итогам ра-
боты ГМИИ за 1976 г. М., «Сов.
художник», 1977.
Из содерж.: В. Э. Маркова.
Картина Франческо Граначчииз
Музея западного и восточного
искусства г. Одессы, с. 3—4;
М. И. Майская. О некоторых ат-
рибуциях рисунков XVII века в
собрании ГМИИ: Пьетро да Кор-
тона и Никола Пуссен, с. 4—6.
205. Дживелегов А. К. Микеландже-
ло. Ереван, «Советакан грох»,
1977. 298 с., 28 л. ил. На арм. яз.
206. «Итальянский рисунок XVI в.»,
выставка. Ленинград-Москва.
1977. Итальянский рисунок
XVI в. из собрания Британского
музея. Каталог выставки. [Пер.
с англ.]. Л., «Аврора», 1977, 42 с.
(Брит, музей, Гос. Эрмитаж, Гос.
муЬей изобразит, искусств им.
А. С. Пушкина).
207. Кустодиева Т, К вопросу об ав-
торстве картины «Состязание
Аполлона с Марсием».— «Труды
Гос. Эрмитажа», 1977, XVIII,
с. 50-58.
208. Лазурский В. В. Альд и альди-
ны. Посвящается знаменитому
издателю эпохи Возрождения
Альду Пию Мануцию и просла-
вившим в веках его имя книгам,
напечат. в Доме Альда в Вене-
ции на рубеже XV—XVI столе-
тий. М., «Книга», 1977.142 с. с ил.
209. Маркова В. Картина Франческо
Граначчи.— «Искусство», 1977,
№ 9, с. 61-65.
210. Маркова В. Э. Новые атрибуции
картин неаполитанской школы
XVII-XVIII веков.-В кн.: Му-
зейное дело в СССР. Труды. М.,
1977, с. 114-130.
211. Пуцко В. Великолепный вене-
цианец. — «Художник», 1977,
№ 12, с. 49-52.
О Джорджоне.
212. Ролова А. Д. Налоговая полити-
ка тосканских герцогов во вто-
рой половине XVI в. и в начале
XVII в.-СВ, 1977, 41, с. 50-77.
Рез. на итал. яз., с. 426—427.
213. Ротенберг Е. И. Микеланджело
Буонаротти. [Альбом]. М., «Изо-
бразит. искусство», 1977. 31 с.;
88 л. ил.
U*
404
Библиография
214. Свидерская М. И. Творчество
Орацио Джентилески,— В кн.:
Античность. Средние века. Но-
вое время. Проблемы искусства.
М., 1977, с. 87-122.
215. Смирнов Н. «Юдифь» Джорджо-
не,— «Художник», 1977, № 12,
с. 46-47.
216. Фомичева Т. Вновь опознанный
портрет работы Доменико Робу-
сти.— «Сообщ. Гос. Эрмитажа»,
1977, 42, с. 6-7.
217. Художественная бронза италь-
янского Возрождения. Каталог
выставки. Авт. вступит, статьи
и каталога С. О. Андросов и
Л. И. Фаенсон. Л., «Аврора»,
1977. 67 с. с ил. (Гос. Эрмитаж).
218. Чиколини Л. С, Зарубежные ис-
торики об идее оощности иму-
щества и спорах о наилучшем
государственном устройстве
в итальянской публицистике
XVI—XVII столетий.—В кн.:
История социалистических уче-
ний. Вопросы историографии.
Сб. статей. М., 1977, с. 166—186.
219. Чиколини Л. С. Идеи общности
имуществ и социального равен-
ства в Италии XVI — начала
XVII в. Автореф. дне. ... д-ра
ист. наук. Киев, 1977. 51 с. (Ки-
ев. ун-т им. Т. Г. Шевченко).
220. Штекли А. Э. Источниковедче-
ские аспекты изучения «Города
Солнца».—СВ, 1977, 41, с. 143—
172. Рез. на итал. яз., с. 431—432.
221. Штекли А. Э. Основные этапы
текстологических исследований
«Города Солнца».-В кн.: Исто-
рия социалистических учений.
Вопросы историографии. Сб.
статей. М., 1977, с. 187-217.
222. Itaalia 16.— 17. eajandl graafike.
TRO Teadusliku raamatukogu
fondides. Kataloog. (Red. koll.:
R. Kleis et. al. Tartu, 1977. 64 Ik.
iihes ill. (Tartu riiklik dlikool.
Tead. raamatukogu). Рез. на рус.
и англ. яз.
См. также № 106, 108, 109, 118,
120, 121, 239.
Нидерланды
223. Петер Пауль Рубенс. Письма.
Документы. Суждения совре-
менников. [Переводы]. Сост.,
вступит, статья и примеч. К. С.
Егоровой. М., «Искусство», 1977.
480 с.; 33 л. ил. (Мир худож-
ника).
♦
224. Авермат Р. Петер Пауль Рубенс.
[Пер. с франц.]. М., «Искусство»,
1977. 222 с. (Серия «Жизнь в ис-
кусстве») .
225. Воронов Вл. Сверкающий Ру-
бенс. К 400-летию со дня рожде-
ния.— «Юность», 1977, № 6,
с. 64—67 с табл.
226. «Голландский натюрморт XVII
века», выставка. Таллин, 1977.
Голландский натюрморт XVII
века из собраний Государствен-
ного музея Шверина. [Каталог].
Сост. и авт. вступит, статьи
Л. Юрсс. Таллин, 1977. [15] с.
с ил.; список экспонатов (7 с.).
(Гос. худож. музей ЭССР). На
эст., рус. и нем. яз.
227. Грицай Н. Портреты Якоба Иор-
данса в Эрмитаже.— «Труды Гос.
Эрмитажа», 1977, XVIII, с. 83—95.
228. Кисунько В. Гениальный фла-
мандец.— «Художник», 1977, №8,
с. 36-48.
К 400-летию со дня рождения
Рубенса.
229. Лопато М. К вопросу об эрми-
тажных плакетках Пауля ван
Фианена,— «Труды Гос. Эрмита-
жа», 1977, XVIII, с. 74-82.
230. Прусс И. «Гомер живописи».
400 лет со дня рождения Питера
Пауля Рубенса.— «Наука и ре-
лигия», 1977, № 6, с. 76—80.
231. Садков В. Новые атрибуции ни-
дерландских картин в музее
Серпухова.— «Искусство», 1977,
№ 6, с. 63-68.
В том числе — о картинах
XVII в.
232. Тарасов Ю. Арт ван дер Нер.—
«Искусство», 1977, № 7, с. 60—66.
См. также № 169.
Португалия
233. Хазанов А. М. История порту-
гальского колониализма в осве-
щении буржуазной историогра-
фии.— «Новая и новейшая исто-
рия», 1977, № 2, с. 68-82.
Румыния
234. Торманян А. X. Еще раз об ар-
хитектуре епископской церкви
в Куртя де Арджеше. (Южная
Библиография
405
Румыния).- «Изв. АН ГССР.
Сер. истории, археологии, этно-
графии и истории искусства»,
1977, № 2, с. 123-129.
Франция
235. Смольский Р. А. Общественно-
политические воззрения Мише-
ля Монтеня (историографиче-
ский обзор).—В кн.: Вопросы
истории древнего мира и сред-
них веков. Минск, 1977, с. 122—
129.
236. Туманова Т. Французская деко-
ративная вышивка XVII века
в собрании Эрмитажа.— «Труды
Гос. Эрмитажа», 1977, XVIII,
с. 96-109.
237. Форбс Э. Декарт и рождение
аналитической геометрии.—
«Вопр. истории естествознания
и техники», 1977, вып. 3—4 (56—
57), с. 11-18.
238. Шевеленко А. Я. Реальный д’Ар-
таньян.— ВИ, 1977, № 11, с. 212—
219.
239. Шеляг Т. В. Формирование пей-
зажа французского классициз-
ма. Автореф. дис. ... канд. ис-
кусствоведения. М., 1977. 25 с.
(Моск, ун-т им. М. В. Ломоно-
сова) .
♦
240. Вернадская Е. В. [Рец. на кн.]
В. Н. Малов. Происхождение со-
временного письма. Палеогра-
фия французских документов
конца XV-XVIII в. М., «Нау-
ка», 1975.- СВ, 1977, 41, с. 355-
359.
См. также № 204.
Швеция
241. Дундулис Б. И. Вторжения
шведских феодалов в Литву в
XVII—XVIII вв. Вильнюс, «Мокс-
лас», 1977. На литов, яз. Рез. на
рус. яз.
Война Речи Посполитой со
Швецией за Ливонию в начале
XVII в. (1600-1629 гг.); Втор-
жение шведов в Северную Лит-
ву в 1625—1626 гг., с. 9—34.
242. Рябошапко Ю. В. Русско-швед-
ские отношения на рубеже
XVI-XVII веков.- ВИ, 1977,
№3 с. 26-39.
См. также № 138.
Европейские колонии
в Америке
243. Гривулевич И. Р. Крест и меч.
Католическая церковь в Испан-
ской Америке. XVI—XVIII вв.
М., «Наука», 1977. 295 с. с ил.
(АН СССР. Ин-т этнографии им.
Н. Н. Миклухо-Маклая).
244. Иванов Г. И. Колониальный пе-
риод истории Мексики в после-
военной историографии США.—
В кн.: Американский ежегод-
ник. 1977. М., 1977, с. 165-192.
В том числе — XVI — 1-я поло-
вина XVII в.
245. Матвеев В. М. Первые страницы
истории колледжей США.— ВИ,
1977, № 3, с. 210-215.
•
246. Файнберг Л. А. [Рец. на кн.:]
В. И. Гуляев. По следам конки-
стадоров. М., «Наука», 1976.-
«Лат. Америка», 1977, № 7,
с. 235-236 ♦.
* Информация о работах, опубли-
кованных в 1977 г., но не вошед-
ших в данный список, будет дана
как дополнение к аналогичному
списку за 1978 г.
ДОПОЛНЕНИЕ К СПИСКУ ЗА 1976 г. ♦
1. Англия XV-XVII вв. Проблемы
генезиса капитализма. Межвуз.
сборник. Вып. 3. Горький, 1976.
Из содерж.: И. Н. Осиновский.
«История Ричарда III» Томаса
Мора (часть III), с. 3—8; Г. И.
Цыпурина. Торговля Англии с
Левантом во второй половине
XVI в., с. 44-58; В. И. Золотов.
Существовал ли заговор Морти-
мера в 1424 году? с. 69—75.
2. Бортник Н. А. Цех Лана города
Болоньи 50-х гг. XIII в.—В кн.:
» СВ, 1978, 42.
406
Библиография
Антич. древность и сред, века,
сб. 13. Свердловск, 1976, с. 114-
131.
3. Гращенков В. Н. Гуманизм и
портретное искусство раннего
итальянского Возрождения.—
В кн.: Советское искусствозна-
ние’75. М., 1976, с. 132-157; Со-
ветское искусствознание’7 6, в. 1.
М., 1976, с. 113-136.
4 Есаян Э. С. Основные черты анг-
лийского феодального права VI—
VIII вв.— «Обществ. науки»
(Ереван), 1976, вып. 2, с. 23—29.
На арм. яз.
5. Ввонин Ю. Е. О влиянии Кресть-
янской войны и Реформации в
Германии на политику монархии
Англии и Франции.— В кн.: Ан-
тич. древность и сред, века, сб.
13. Свердловск, 1976, с. 132—140.
6. Кантор А. М. Бесконечное и ин-
тимное в пейзажах Рубенса.—
В кн.: Советское искусствозна-
ние^. М., 1976, с. 174-182.
7. Ковальский Н. П., Мыцык JO. А.
Рейнгольд Гейденштейн и его из-
вестия об освободительной борь-
бе украинского народа во второй
половине XVI в.—В кн.: Вопро-
сы германской истории и исто-
риографии. Сб. науч, трудов.
Днепропетровск, 1976, с. 124—141.
8. Крылова Н. В. Борьба религиоз-
ного и светского мировоззрения
в культуре феодализма.—В кн.:
Искусство и религия. М., 1976,
с. 86-102.
9. Лауцявичюс Э. Книжные пере-
плеты XV—XVIII веков в биб-
лиотеках Литвы. Вильнюс, «Мокс-
лас», 1976. 126 с.; 134 л. ил.
(Центр, б-ка АН ЛитССР). На ли-
тов. яз. Рез. на рус. и англ. яз.
10. Либман М. Я. Сигнатуры немец-
ких художников XV—XVI веков
как объект социологических изы-
сканий.— В кн.: Советское ис-
кусствознание’75. М., 1976, с. 117—
131.
11. Моруа А. Париж. [Пер. с рус.].
Ереван, «Советакан грох», 1976.
116 с.; 24 л. ил. На арм. яз.
12. Викулина Т. С. Движение Вул-
ленвевера.— В кн.: Историогра-
фия всеобщей истории. Куйбы-
шев, 1976, с. 7—24.
13. Рутенбург В. В. Проблемы клас-
совой борьбы средневековья в за-
падной историографии.— «Труды
Ин-та истории СССР Ленингр.
отд-ния АН СССР», 1976, вып. 15,
с. 18-26.
13а. Рутенбург В. И. Титаны Возрож-
дения. Л., «Наука», 1976,144 с. (Из
истории мировой культуры).
14. Рыдзевская Е. А. Древняя Русь и
Скандинавия в IX—XIV вв. М.,
«Наука», 1976. 240 с.
15. Садретдинов Г, К. Анри Пиренн
о переходе от античности к сред-
ним векам. Статья 1.— Методол. и
историогр. вопр. ист. науки
(Томск), 1976, вып. И, с. 71-107.
16. Серовайский Я. Д. Из истории
социальной борьбы за леса и
пастбища во Франции с XI по
XIII в.—В кн.: Вопросы исто-
рии, вып. 10. Алма-Ата, 1976,
с. 184-200.
17. Слонимский М. М. Об активиза-
ции познавательной деятельности
студентов на практических заня-
тиях по истории древнего мира
и истории средних веков.— «Изв.
Воронеж, пед. ин-та», 1976, т. 183,
с. 166-167.
18. Смоленский Н. В. К оценке со-
держания понятия «историческое
развитие» в историографии Л.
Ранке.— «Методол. и историогр.
вопр. ист. науки» (Томск), 1976,
вып. И, с. 118-126.
19. Тарди Л, Донесения венгерского
посла в Стамбуле Антала Веран-
чича о Грузии (1553-1557, 1561—
1568).— В кн.: Литературные вза-
имосвязи. 6. Тбилиси, 1976, с. 5-
27.
20. Черняк В. X. Итальянский гума-
низм и богословие во второй по-
ловине XV века.— В кн.: Акту-
альные проблемы изучения исто-
рии религии. Сб. трудов. Л., 1976,
с. 86-100.
21. Смирнова Я. [Рец. на кн.:] В. Н.
Лазарев. Старые итальянские мас-
тера. М., «Искусство», 1972.— В
кн.: Советское искусствознание
76, вып. 1. М., 1976, с. 392—399.
Составитель И. В. Фролова
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ А. В. КОНОКОТИНА*
1926
Черносотенное движение в Кост-
ромской губернии.— В кн.: 1905 год
в Костроме. Кострома, с. 146—154.
1927
Хроника событий 1917 года.
Май.—«Октябрь», (Кострома), № 2,
с. 95-98.
1928
Н. Г. Чернышевский. К столе-
тию со дня рождения. 1828—1928.—
«Октябрь» (Кострома), № 11,
с. 26—27.
Кострома в дни октябрьского
переворота.— «Северная правда»
(Кострома), 4 и 5 ноября.
* Аркадий Владимирович Коноко-
тин род. 25.1 (7.II) 1901 г. в
г. Дмитрове, в семье учителя
словесности. В 1919 г. он окон-
чил гимназию в Костроме.
В 1920 г. вступил в РКП (б). В ря-
дах Красной Армии участвовал
в гражданской войне, затем слу-
жил в Костромской губчека и
был политработником в погран-
войсках (на финляндской грани-
це). В 1925 г. А. В. Конокотин
перешел на преподавательскую
работу. Преподавал обществен-
ные дисциплины в педтехникуме
и на рабфаке в Костроме, а с
1930 г.— всеобщую историю в Ко-
муниверситете в Иваново-Возне-
сенске. В 1932 г. закончил сдачу
экзаменов экстерном за истори-
ко-экономический факультет 2-го
МГУ (ныне МГПИ им. В. И. Ле-
нина) и начал работать в Иванов-
ском пединституте, где трудился
до 1968 г. По научной работе кон-
сультировался у О. А. Добиаш-
Чернышевский и его эпоха.—
Там же, 25 ноября.
Чернышевский как экономист.—
Там же, 28 ноября.
Материализм в воззрениях
Н. Г. Чернышевского.— Там же,
2 декабря.
Чернышевский — революцио-
нер.— Там же, 8 декабря.
1929
Н. К. Михайловский. (К 20-летию
со дня смерти).— «Октябрь» (Кост-
рома), № 2—3. с. 17—18.
Как и что нужно читать по воп-
росам истории.— «В помощь про-
свещенцу» (Кострома), № 4—5,
с. 15—17.
Рождественской, а затем у.
Н. П. Грацианского. В 1945 г.
защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата
исторических наук («Деревня па-
рижского района в XIII столе-
тии»); с 1946 г.- доцент, с 1962 г.-
профессор. В пединституте заве-
довал кафедрой всеобщей исто-
рии, был деканом (1938-1941 гг.
и 1946—1952 гг.), а также замди-
ректора (1941-1943 гг.). В 1960 г.
защитил докторскую диссерта-
цию «Крестьяне Северной Фран-
ции в IX-XIV вв. и их антифео-
дальная борьба». С 1968 г.-пер-
сональный пенсионер республи-
канского значения. Награжден
орденом Ленина и другими орде-
нами и медалями. Составитель
выражает благодарность А. В. Ко-
нокотину за присылку материа-
лов личного архива и А. Н. Го-
ряйнову за проверку статей 20-х
годов.
408
Библиография
Парижская коммуна и диктатура
пролетариата.— «На помощь» (Ко-
строма), 18 марта.
1931
Против гнилого либерализма в
программах по обществоведению.—
«Рабочий край» (Иваново-Возне-
сенск), 29 декабря.
1932
Go знаменем Ленина к новым по-
бедам.— «Ударник» (Иваново), № 2,
с. 3—5. (К восьмой годовщине со
дня смерти В. И. Ленина).
1933
Коммунистический Интернацио-
нал — партия мировой пролетар-
ской революции. Москва—Иваново
(В помощь руководителям канди-
датской школы партпросвещения).
Всеобщий кризис капитализма —
конец капиталистической стабили-
зации и борьба Коминтерна за ре-
волюционный выход из кризиса.
Иваново (В помощь пропаганди-
сту).
1934
Тихоокеанский узел междуна-
родных противоречий.— «На ленин-
ском пути» (Иваново), № 7—8,
с. 34—43.
Жизнь " бивмовского 1 рабочего
30 лет назад.— Там же, № 15,
с. 31—37.
1935
Прежде и теперь (жизнь бивмов-
ского рабочего 30 лет тому назад и
в настоящее время).— «Хозяйство
Ивановской промышленной обла-
сти» (Иваново), № 10, с. 87—95.
(В соавторстве с И. А. Беловым).
1947
Научная конференция в Иванов-
ском государственном педагогиче-
ском институте.—ВИ, № 8, с. 151—
152.
1 БИВМ — Большая иваново-возне-
сенская мануфактура.
1948
Очередная научная конференция
в Ивановском государственном пе-
дагогическом институте.— ВИ,№ 11,
с. 155—156.
1951
Конференция по итогам научно-
исследовательской работы за
1950 год в Ивановском государст-
венном педагогическом институ-
те.— ВИ, № 5, с. 141—143.
1952
Из истории одного крупного зем-
левладения феодальной Франции
XIII в.— «Учен. зап. Иван. гос. пед.
ин-та», т. 3, с. 190—216.
Научная конференция историков
Ивановского государственного пе-
дагогического института.— ВИ,
№ 6, с. 168-169.
1954
Расслоение крестьянства и обост-
рение классовой борьбы во фран-
цузской деревне XIII века.— «Учен,
зап. МГПИ им. В. И. Ленина», т. 68,
вып. 4, с. 91—138.
1955
Ред: «Учен. зап. Иван. гос. пед.
ин-та», т. 7. 132 с.
Феодальная рента во Франции
XII—XIV вв. и борьба крестьян за
укрепление своего хозяйства, осно-
ванного на личном труде.—Там же,
с. 88—130.
1957
Борьба за общинные земли во
французской деревне XII—XIV вв.
(Из истории классовой борьбы в
феодальной Франции).— СВ, 10,
с. 206—216.
Борьба крестьян за самоуправле-
ние и коммуну на севере Франции
в XII—XIV веках.—ВИ, № 9,
с. 123—139.
Ред.: «Учен. зап. Иван. гос. пед
ин-та», т. И. 112 с.
О некоторых особенностях поме-
стного строя в средневековой
Франции.— Там же, с. 45—52.
Библиография
409
Элементы рабства в Меровинт-
ской и Каролингской Франции.—
Там же, с. 67—88.
1917 год в городе Костроме и Ко-
стромской губернии. (Хроника со-
бытии.— «Учен. зап. Иван. гос.
пед. ин-та», т. 15, с. 3—64.
1958
Очерки по аграрной истории Се-
верной Франции в IX—XI веках.
Иваново. 190 с. («Учен. зап. Иван,
гос. пед. ин-та», т. 16).
1959
Классовая борьба во французской
деревне IX—XI вв.— В кн.: Фран-
цузский ежегодник. 1958. М., с. 41—
54. Пер. на япон. яз. и напечатана
в журнале «История» (Токио).
1960
Крестьяне Северной Франции в
IX—XIV веках и их антифеодаль-
ная борьба. Автореф. докт. дис.
Иваново—Шуя, 1960. 36 с.
1961
Ред.: Венкстерн Л. В. Атеистиче-
ское воспитание школьников на
уроках истории средних веков. (Ма-
териалы в помощь учителю VI клас-
са). Иваново. 36 с.
1962
Баналитет.— СИЭ, т. 2, стб. 95.
(Без подписи).
1963
Великий мартовский ордонанс
1357 г.- СИЭ, т. 3, стб. 142.
Генрих III.—СИЭ, т. 4, стб. 208.
(Без подписи).
Генрих IV.— Там же, стб. 208—
209. (Без подписи).
Гиень.— Там же, стб. 434. (Без
подписи).
Глабер, Рауль.—Там же, стб. 461.
(Без подписи).
Глассон, Эрнест.— Там же, стб. 467.
(Без подписи).
Гугеноты.—Там же, стб. 876—877.
(Без подписи).
1964
Жакерия 1358 года во Франции,—
В кн.: Из истории народных вос-
станий против феодализма и коло-
ниализма. Иваново, с. 3—98 («Учен,
зап. Иван. гос. пед. ин-та», т. 35).
1965
Три карты по истории Жакерии. -
СВ, 28, с. 227-237.
1966
Об одной французской рукописи
XIV в. (Из истории виноделия во
Франции).— СВ, 29, с. 254—269.
1967
Ред.: Вопросы всеобщей истории.
Иваново. 250 с. («Учен. зап. Иван,
гос. пед. ин-та», т. 43).
Цензива в парижском районе
XIV ^в. (По данным «книги цензов»
парижской церкви Сен-Марри).—
Там же, с. 224—248.
1971
Гильом Каль.—БСЭ, т. 6, с. 522.
(Без подписи).
Глассон.— Там же, т. 586. (Без
подписи).
1972
Жакерия.— БСЭ, т. 9, с. 116.
1973
К вопросу о времени возникно-
вения цензивы в феодальной Фран-
ции.— СВ, 36, с. 157—164.
Аренда на севере Франции в
XIII—XIV вв.— В кн.: Вопросы
всеобщей истории. Иваново, с. 3—
23 («Учен. зап. Иван. гос. пед.
ин-та», т. 112).
1974
Цензива.— СИЭ, т. 15, стб. 715.
1975
Цензива в деревне Северной
Франции в период развитого фео-
дализма (XII—XIV вв.).—СВ, вып
39, с. 105—128.
Составитель А. Е. Москаленко
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ В. М. ЛАВРОВСКОГО ♦
1925
Аграрный переворот в Англии.
(Сб. источников). М., Гос. изд-во,
75 с. (История в источниках. Посо-
бие для практических занятий).
Английский капитализм во вто-
рой половине XIX века. М., Гос.
изд-во. 181 с. (История в источни-
ках. Пособие для практических за-
нятий).
Промышленный переворот в Анг-
лии. М.—Л., Гос. изд-во. 80 с. (Исто-
рия в источниках. Пособие для
практических занятий).
1926
Проблема исчезновения кресть-
янства в Англии.— Труды ин-та
истории РАНИОН. М., вып. 1,
с. 295—321. (Историографический
очерк. Конец XVIII - начало
XIX в.).
Александр Николаевич Савин.
1873—1923. Биогр. данные.— Труды
1 Владимир Михайлович Лавров-
ский (1891—1971) — доктор исто-
рических наук, профессор МГУ,
старший научный сотрудник Ин-
ститута истории АН СССР. Вид-
ный советский историк,
В. М. Лавровский был крупней-
шим специалистом по аграрной
и социально-экономической исто-
рии Англии позднего средневе-
ковья и нового времени, автором
ряда монографий и многочислен-
ных статей по этой проблемати-
ке (переводы статей В. М. Лав-
ровского публиковались в анг-
лийских и японских журналах);
хорошо известны его труды по
истории английской революции;
он издал ряд учебных пособий
и сборников документов для
практических занятий со студен-
тами. В последние годы жизни
В. М. Лавровский проявлял глу-
бокий интерес к вопросам мето-
дологии, в частности к примене-
нию математических методов
И исторической науке; он заду-
мывал большой труд в этой обла-
сти, началом которого являются
статья «К вопросу о предмете и
методе истории как науки», опуб-
ликованная в 1966 г. в журнале
«Вопросы истории», и две статьи,
вышедшие в Казани.
В. М. Лавровский был неуто-
мимым и увлеченным педаго-
гом. Выпускник Московского уни-
верситета (1915 г.), оставленный
на кафедре всеобщей истории
для подготовки к профессорской
деятельности, с 1919 г. он нераз-
рывно связал свою жизнь с МГУ;
преподавал он также в МИФЛИ,
Горьковском университете, Ярос-
лавском пединституте и в ряде
других вузов страны., В. М. Лав-
ровский вел просеминарии и
спецсеминары, читал общие и
специальные курсы; среди спец-
курсов, выходящих за рамки его
основной специальности, следует
отметить прочитанные им в пос-
левоенные годы курсы «Корни
западноевропейской Реформации»
и «История средневековой музы-
ки». Школу В. М. Лавровского
прошли многочисленные учени-
ки, он подготовил ряд кандида-
тов и докторов исторических
наук.
Библиография
411
ин-та истории РАНИОН. М., вып. 1,
с. 5—12.
Список ученых трудов, рецензий,
журнальных и газетных статей
проф. А. Н. Савина.— Труды ин-та
истории РАНИОН. М., вып. 1,
с. 43—48.
1928
Коммутация десятины в Англии
как один из факторов обезземеле-
ния английского крестьянства.—
Учен. зап. Ин-та истории РАНИОН,
М., т. 7, с. 117—133, таол.
Пер. на англ, яз.: Tithe commuta-
tion as a factor in the gradual dec-
rease of landownership by the eng-
lish peasantry. Отд. оттиск из EHR.
London, 1933, 17 p.
1929
Промышленный) и аграрный пере-
ворот в Англии.— В кн.: Хрестома-
тия по социально-экономической
истории Европы в новое и новей-
шее время. Под ред. В. П. Волгина.
М.~Л., Госиздат, с. 394—478.
Приговор об огораживании двух
Лестерширских приходов.— Учен,
зап. Ин-та истории РАНИОН. М.,
т. 3, с. 306—326 (1793-1815 гг.).
1932—1933
Парламентское огораживание в
графстве Сэффок (1797—1803 гг.).—
«Изв. АН СССР». Отд-ние обществ,
наук. Л., 1932, № 8, с. 677-700;
№ 9, с. 813-835; № 10, с. 891-912;
1933, № 2, с. 151—171.
Пер. на англ, яз.: Parliamentary
enclosures in the county of Suffolk
(1797-1814).- EHR, 1937, vol. VII,
№ 2, p. 186-208.
1935
Основные проблемы аграрной
истории Англии XVIII—XIX веков.
Доклад... — «Историк-марксист)», т.
10(50), с. 98-111.
Основные проблемы аграрной ис-
тории Англии конца XVIII и нача-
ла XIX в. М.—Л., Соцэкгиз. 89 с.,
табл. (Изв. Гос. Акад, истории ма-
териальной культуры. Вып. 133).
Рец.: Семенов В. — Историк марк-
сист, 1937, кн. 1(59), с. 176—178.
Рец.: Архангельский С. И. Аграр-
ное законодательство Великой анг-
лийской революции 1643—1648. Ч. 1.
М.-Л., 1935, 301 с. (АН СССР. Ист.
комиссия). — «Историк-марксист»,
кн. 6(58), с. 212—216.
1936
Карты парламентских огоражи-
ваний как источник по истории
землевладения в Англии конца
XVIII —начала XIX в.—В кн.:
Проблемы источниковедения. Сб. II.
М.—Л., с. 91—100. (Труды ист.-ар-
хеогр. ин-та АН СССР. Т. 17).
Проблемы экономической истории
Англии XV-XVII вв. (до эпохи
промышленного переворота).—
«Историк-марксист», кн. 4(56),
с. 113—121. О книге: Lipson Е. The
Economic History of England. Vol.
1—3. London, 1929—1931.
1940
Парламентские огораживания об-
щинных земель в Англии конца
XVIII —начала XIX в. М.—Л. 200 с.,
табл. (АН СССР. Ин-т истории).
Рец.: Chr. Hill. Parliamentary en-
closures.— EHR, 1942, vol. 12, N 1—
2, p. 92—95.
Карты парламентского огоражи-
вания общинных земель в Англии
конца XVIII —начала XIX в. При-
ложение к кн.: Парламентские ого-
раживания общинных земель в Анг-
лии. М.—Л. 59 с.
1946
К истории поземельных отношений
в линкошпирском маноре Барроу
XVI-XVIII веков.— Изв. АН СССР.
Серия истории и философии, т. 3,
№ 3, с. 251-268.
Рец.: Chr. НШ - EHR, 1946, vol. 16,
N 2, р. 125-129.
Манор Брамптон с XVI по
XVIII век.—СВ, 2, с. 209—221.
Д. М. Петрушевский и его перевод
поэмы Лэнглэнда («Видение Уиль-
яма о Петере-пахаре»).—Там же.
с. 46-50.
412
Библиография
1948
Распределение земельной собст-
венности и формы земельной рен-
ты в Англии XVI—XVIII вв.—Изв.
АН СССР. Серия истории и филосо-
фии, т. 5, № 2, с. 193—200. Авто-
реф. исслед.
1954—1955
Краткий обзор статей об основ-
ном экономическом законе феода-
лизма.— ВИ, 1955, № 2, с. 79—81.
Некоторые спорные вопросы анг-
лийской буржуазной революции
XVII века — «Вести. Моск, ун-та»,
1954, № 1, с. 47-56; 1955, № 1,
с. 27—45.
Обсуждение вопроса об основном
законе феодализма.— ВИ, 1955, № 4,
с. 92.
О социальной природе англий-
ского нового дворянства и йоменри
первой половины XVII века (со-
вместно с М. А. Баргом).— ВИ,
1955, № 6: с. 77—86.
Русские революционные демокра-
ты о чартистском движении в Анг-
лии.— В кн.: Из истории социаль-
но-политических идей. Сб. статей.
К 75-летию В. П. Волгина. М., 1955,
с. 466—478. (АН СССР).
Рец.: Английская буржуазная
революция XVII века. Под ред.
Е. А. Косминского и Я. А. Левицко-
го. Т. 1—2. М., 1954, 494; 384 с.
(АН СССР. Ин-т истории. Б-ка
всемирной истории).—СВ, 1955, 7,
с. 361—372.
1956
К вопросу о дифференциации
английского крестьянства в 30—80-х
годах XVII в —СВ, 8, с. 348-362.
Expropriation of the English pea-
santry in the 18th century.— EHR,
vol. 9, N 2, p. 271-282.
The English Revolution 1640 (со-
вместно с M. А. Баргом).— Labour
Monthly, London, voL 3, N 7, p. 325 -
330. По поводу кн.: Ch. Hill. English
Revolution 1640. London, 1955.
Рец.: К. Хилл. Английская рево-
люция 1640 г. 3-е изд.— ВИ, 1956,
№ 8, с. 172—177.
1957
Обсуждение доклада советского
ученого в Англии.— ВИ, № 4,
с. 206—209.
Экспроприация английского кре-
стьянства в XVIII в.—В кн.: Из
истории общественных движений
и международных отношений. Сб.
статей в память Е. В. Тарле. М.,
с. 72-86 (АН СССР).
1958
Английская буржуазная револю-
ция. Некоторые проблемы англий-
ской буржуазной революции 40-х
годов XVII века. М., Соцэкгиз.
366 с. (совместно с М. А. Баргом).
Проблемы исследования земель-
ной собственности в Англии XVII—
XVIII вв. М., 180 с., илл. (АН СССР.
Ин-т истории).
Рец.: Барг М. "А — ВИ, 1960, № 7,
с. 166—168.
Рец.: Barta Janos.— Agrartorteneti
szemle, Budapest, 1964, N 1—2,
c. 292—293.
1959
Встреча историков СССР и Анг-
лии,— «Вести. АН СССР, 1959, № 1,
с. 105-106.
Некоторые спорные вопросы пер-
воначального накопления.— ВЙ,
1959, № 8, с. 96—105.
Пер. на румын. яз.:ипе1е proble-
ms controversate ale acumularii pri-
mitive.— Analele romino-sovietice.
Istorie. Bucure§ti. 1960, N 1, p. 99—
110;
пер. на япон. яз. в журнале «То-
ти сэйдо сигаку». Токио, 1959, № 10,
с. 54—61.
К столетию со дня смерти
Р. Оуэна.— «Вопросы философии»,
№ 6, с. 173—177. Подпись: Л. Щ.
Обзор докладов В. М. Лавровского
«Роберт Оуэн и промышленная ре-
волюция в Англии» и И. Я. Щипа-
нова «Роберт Оуэн и передовая
русская общественная мысль
XIX века».
Рец.: Черняк Е. Б. Демократиче-
ское движение в Англии. 1816—
1820. М., 1957 (АН СССР. Ин-т исто-
Библиография
413
рии).— «Новая и новейшая исто-
рия», 1959, № 2, с. 187—189.
Рец.: Новая история. Т. 2. 1789—
1870. Под ред. И. С. Галкина,
Н. А. Ерофеева, М. И. Михайлова,
А. Л. Нарочницкого, Ф. В. Потем-
кина (отв. ред.). М., Соцэкгиз, 1958.
848 с. (совместно с А. В. Лукаше-
вым и Р. Я. Цирульником).- «Новая
и новейшая история», 1959, № 5,
с. 165-169.
1960
Крупное поместье в Англии с
XVI по XVIII век.— СВ, 17, с. 307—
318.
Пер. на англ, яз.: The great es-
tate in England from the 16th to the
18th centuries.— In: Conference in-
ternationale d’histoire economique,
1-re. Stockholm. 1960. Contributions.
Paris, 1960, p. 353—369.
Предисл.: Архангельский С. И.
Крестьянское движение в Англии
в 40—50-х годах 17 века. М. 365 с.,
илл., карты (АН СССР. Ин-т исто-
рии).
1961
Историография чартистского дви-
жения 30—50-х годов XIX в. (сов-
местно с В. Ф. Семеновым).—В кн.:
Чартизм. Сб. статей. М., Изд-во
АН СССР, с. 5-63.
К вопросу о первоначальном на-
коплении в странах Западной и
Восточной Европы.— В кн.: Ежегод-
ник по аграрной истории Восточ-
ной Европы. 1959. М., с. 132—13G
(АН СССР. Ин-т истории). Об Анг-
лии и Франции XVI в.— начала
XVIII в.
Правовая теория крестьянского
землевладения в Англии XV— сер.
XVIII в. (Памяти акад. Е. А. Кос-
минского).— «Тоти сэйдо сигаку»,
Токио, № 10.
The English peasantry prior to and
after the bourgeois revolution of the
XVII century. (Доклад на конфе-
ренции англо-советских историков
18 сент. 1958 г.).— «Тоти сэйдо си-
гаку», Токио, № 13.
1963
Рец.: А. Д. Эпштейн. История
Германии от позднего средневе-
ковья до революции 1848 г. М.,
Изд-во ИМО, 1961, 619 с. (совмест-
но с С. Д. СказкинЫм и М. А. Бар-
гом).—ВИ, № 7, с. 149—153.
1964
The legal theories of the peasant
landownership of the epoch of pre-
vious accumulation.— «Тоти сэйдо
сигаку». Токио. № 7.
1965
Крупное капиталистическое по-
местье в Англии XVII—XX веков.—
ВИ, № 10, с. 163—174.
1966
Исследование по аграрной исто-
рии Англии XVII—XIX вв. М.,
«Наука». 256 с.
Рец.: Семенов В. Ф.— ВИ, 1968,
№ 2, с. 175—177.
К вопросу о предмете и методе
истории как науки.— ВИ, № 4,
с. 72—77.
1967
Вопросы аграрной теории в тру-
дах классиков марксизма-лениниз-
ма (совместно с Ю. Г. Тройским).—
В кн.: Проблемы всеобщей истории,
вып. 1. Казань, с. 35—48.
Проблема единства метода исто-
рического и естественнонаучного
познания.— Там же.
1968
Рец.: С. Д. Сказкин. Очерки по
истории западноевропейского кре-
стьянства в средние века. М., Изд-
Во МГУ. 1968. 377 с.— «Новая и но-
вейшая история», № 3, с. 162—165,
1969
К вопросу о методе аграрно-исто-
рического исследования.— «Учен,
зап. Казан, пед. ин-та», вып. 70,
с. 436—445.
414
Библиография
Аграрная история Англии и Уэл-
са. Т. IV (1500—1640).—ВИ, № 3,
с. 186—189. Рец. на кн.: The Agra-
rian history of England and Wales.
Vol. IV (1500—1640). Cambridge
University Press, 1967. XL, 919 p.
1973
Сборник документов по истории
английской буржуазной революции
XVIII в. Учеб, пособие для студен-
тов ист. фак. вузов. Под ред.
М. А. Барга. М., «Высшая школа».
342 с.
*
ЛИТЕРАТУРА
О В. М. ЛАВРОВСКОМ
В. М. Лавровский (Некролог).—
ВИ, 1971, № 2, с. 220.
В. М. Лавровский (Некролог).—
«Новая и новейшая история», 1971,
№ 3, с. 237.
Такахаси Кохатиро. Памяти Вла-
димира Михайловича Лавровско-
го.— «Тоти сэйдо сигаку», Токио,
1971, № 3(51), с. 77—78 (на япон.
яз.).
Составитель Э. И. Ускова
РЕЗЮМЕ СТАТЕЙ
V. V. IVANOV. LENINS GRUNDSATZ DER PARTEILICHKEIT UND DIE
WISSENSCHAFTLICHE OBJEKTIVITAT
Im Aufsatz wird Lenins Grundsatz
der Parteilichkeit als Grundlage der
echten Objektivitat betrachtet. Indem
der Verfasser Lenins Ausserungen
analysiert, betrachtet er die Bestim-
mungen der proletarischen, kommuni-
stischen Parteilichkeit und zeigt in
welchem Masse dem marxistischen
Forscher eine bewusste, schopferische
Anwendung des Grundsatzes der Par-
teilichkeit in der geschichtlichen Pra-
xis wichtig ist.
Im Aufsatz wird die unumgangliche
Beziehung der kommunistischen Par-
teilichkeit zu dem echten wissens-
chaftlichen Historismus aufgedeckt.
Der Verfasser betont, dass die Partei-
lichkeit des gesellschaftlich-geschicht-
lichen Er*onnens eine bestandige
Aufmerksamkeit der Erarbeitung der
theoretischen Fragen und der Methode
fordert. Das Problem der Parteilich-
keit steht in engster Beziehung mit
den Besonderheiten der geschichtli-
chen Erkenntnis, mit dem Wesen der
Geschichte als Wissenschaft. Partei-
lichkeit und Objektivitat treten als
Bestandteile der marxistisch-leninisti-
schen Methodologie, die die Grunlage
der wissenschaftfichen Erkenntnis der
Wirklichkeit und ihrer Umgestaltung
bildet
A. I. DANILOV. HISTORISCHES EREIGNIS UND HISTORISCHE
WISSENSCHAFT
Im vorliegenden Aufsatz wird das
Problem der Forschung des Begriffs
«historisches Ereignis» einer der wich-
tigsten Kategorien der Geschichts-
wissenschaft behandelt. Der Verfasser
zeigt die Unhaltbarkeit der Entgegen-
setzung der Begriffe «historische
Strukturen» und «historische Zu-
stande» dem Begriff «historisches
Ereignis», wie es oft in Werken gegen-
Wartiger Historiker geschieht, die das
historische Ereignis als ein bedeu-
tungsloses veraltetes Objekt der Ge-
schichtswissenschaft betrachten, das
der Aufmerksamkeit des Forschers
nicht wert ist Solche Ansichten wer-
den im Aufsatz kritisch beurteilt. Der
Verfasser widmet seine Aufmerksam-
keit auch der quantitativen Methode,
wobei er ihre Beschranktheit und die
methodologische Unhaltbarkeit ihrer
Absolutisierung aufweist.
Betont wird im Aufsatz die Bedeu-
tung der qualitativen Analyse, deren
Grundlage die Erforschung vom his-
torischen Ereignis bildet, in dem sich
die reale Tatigkeit der Menschen wi-
derspiegelt. Indem der Verfasser meh-
rere Werke der Klassiker des Marxis-
mus — Leninismus analysiert, hebt er
hervor wie fest das Fundament des
konkreten historischen Wissens und
der tiefen Eindringung in den Sinn
historischer Ereignisse war, auf dem
sie ihre theoretische Folgerungen und
Verallgemeinerungen griindeten. Fur
die marxistische Geschichtswissen-
schaft sindAnalysen und Verallgeme-
inerungen im weitesten theoretischen
Rahmen nur dann sinnvoll, wenn sie
zur Aufdeckung des Inhalts eines his-
torischen Prozesses oder einer histo-
rischen Erscheinung fuhren, einer Auf-
deckung, deren erste Stufe die Erfor-
schung und Darstellung vom histori-
schen Ereignis bildet.
416
Резюме статей
Y. L. BESSMERTNY. STRUCTURE DE LA FAMILLE DANS LE VILLAGE
FRANQUE DU IX SIECLE (d’apres les donnees d’une analyse anthropo-
nymique du polyptique de 1’abbaye de Saint-Germain-des-Pres).
La structure familiale et le type de
famille chez les paysans franques
du IXе siecle interessent de longue
date des historiens. Le cllebre polyp*
tique de I’abbd Inninon est un docu-
ment unique pour operer une dtude de
ces questions. La plupart des cherche*
urs qui ont eu 1’occasion de le consul-
ter sent portls a croire que e’est la
famille conjugate slparle, qui prlva-
lait parmi les paysans dependants de
cette abbaye. Pour verifier cette thdse
1’auteur du present article a utilise les
donnees anthroponymiques du polyp*
tique d’Inninon. On sait que d’apres
le systeme anthroponymique en vigue-
ur au IXе sifecle dans la France du
Nord, le nom donne par les parents
a un enfant devait, d’ordinaire, comp-
rendre des parties des noms des pa-
rents ou autres ascendants. Sachant
cette particularite des noms des pay-
sans de Saint-Germain 1’auteur a com-
pare d’une part les noms des parents
et de leurs enfants et de 1’autre, ceux
des parents qui etaient les principals
tenanciers de manses aux noms des
co-tenanciers adultes. Les noms des
enfants revelent une similitude cer-
taine avec ceux des parents dans 50%
des cas (Tableau l).Pour les autres,
la similitude n’a pu etre etablie avec
suffisamment de certitude. Quant aux
co-tenanciers, leur noms offrent 6ga-
lement dans 25% des cas de nettes si-
militudes avec ceux des principals
tenanciers (Tableau 2). Ainsi il est
permis de supposer que beaucoup des
co-tenanciers (la moitie peut-etre)
Itaient en fait les fils aines des prin-
cipals tenanciers de manses.
Cette hypothdse est verifiee dans
Particle de diverses fa^ons: par une
etude des noms de tous les paysans de
chaque village (Tableau 3), en com-
parant le nombre d’enfants de pay-
sans ayant ou n’ayant pas de co-te-
nanciers (Tableau 4), par une analyse
du statut social et de 1’etat de fortune
des tenanciers ayant des co-tenanci-
ers (Tableau 5), par une etude des
differences du nombre moyens d’en-
fants chez les colons et les serfs, la
frequence de ceux-ci (colons et serfs)
n’etant pas la тёте parmi les pay-
sans ayant des co-tenanciers (Tab-
leau 6). Tous ces relevls viennent
confirmer dans 1’ensemble la possibi-
litl d’une liaison familiale particulie-
rement etroite d’un grand nombre de
co-tenanciers avec les principals te-
nanciers. Quand on sait qu’en cas d’un
manse detenu en commun les paysans
possedaient en commun la terre, les
bStes de trait et les outils agricoles,
s’acquittaient en commun des rede-
vances, travaillaient ensemble la terre
et constituaient deux ou trois maisons
attenantes (ou meme une setfle mai-
sonnee) on peut considlrer le groupe-
ment de paysans parents co-tenanci-
ers comme une famille multiple (ou
meme comme un mlnage multiple).
Il s’ensuit que la famille conjugate
separee (parente et enfants mineurs)
ne soit pas aussi caracteristique des
paysans de Saint-Germain que be-
aucoup de chercheurs ont pu le croire:
partout ou il у avait co-possession (la
plupart des manses), la famille con-
jugate etait un partie de la famille
multiple ou bien (quand les co-tenan-
ciers n’etaient pas des parents) elle
representait une partie d’une soctete
de consorts.
La famille multiple des possessions
de 1’abbaye de Saint-Germain du de-
but du IXе silcle etait une structure
familiale de type particulier. Elie se
distingue sensiblement de la famille
conjugate, aussi que de la famille
large patriarcale. Elie s’ltait consti-
tuee du fait du d£sir des fils ainls
maries d’lviter d’avoir & fournir des
redevances seigneuriales sur un nou-
veau manse et de pouvoir se servir
des bites et des instruments du pftre.
La famille multiple augmentait le
nombre de travailleurs sur la terre du
pere (gr^ce aux belles-filles ou gend-
res); cette forme de famille avait sou-
vent pour corollaire des mariages pre-
coces. La formation de ces families et
des sociltes de consorts etait favori-
Резюме статей
4П
see par la vigueur des liens familiaux
traditionnels et la solidite des liens de
voisinage. La frequence de la famiUe
multiple parmi les paysans de 1’ab-
baye de Saint-Germain explique de
meme le nombre relativement restra-
int des enfants des families conjuga-
tes: tout simplement on ne tenait pas
compte des fils ainds, qui faisaient
figure de co-tenanciers.
Y. D. SEROV AISKII. LA LUTTE
I
i
Le role des forets dans la vie de la
societd frangaise a changd vu le pro-
gres dconomique gdndral dans la рё-
riode du XI au XIII siecles. La mise
en valeur des forets a fait decouvrir
a la socidte des nouvelles richesses a
Fexploitation desquelles elle n’avait
pas ete preparee au cours des siecles
precedents. La societd s’appropriait les
moyens de vivre augmentds dont les
forets etaient la source comme les va-
leurs d’echange. Grace a ce processus
la foret devenue une sorte de pro-
priete fonciere commengait a etre ob-
jet des pretentions de differentes clas-
ses de la societe frangaise. Par leur
nature ces pretentions etaient la lutte
pour 1’appropriation des resultats ma-
teriels du progres social et econo-
mique.
Voyant dans les forets une nouvelle
source d’enrichissement les represen-
tants de classe dominante ont com-
mence a usurper les forets qui avai-
ent ete considerees comme la proprie-
te de tous. Leur politique s’est heurtee
aux interdts des communautds pour
qui la fordt se trouvait la base du
fonctionement normal des exploitati-
ons paysannes. Cela a entratnd les
paysans & rdsister aux attaques feo-
dales sur les fordts des communautds.
La lutte des paysans pour la defense
de leurs droits aux fordts a commence
en Normandie & la fin du X sidcle.
Les matdriaux forestiers у sont deve-
nus la merchandise plus tot que dans
d’autres rdgions de la France grdce
aux traits specifitjues dans le ddvelop-
pement du duche. Les dues ont mo-
nopolise le commerce et Fexploitation
des fordts. La tentative des paysans
de convoquer la reunion de toute la
region pour defendre leurs droits tra-
ditionnels a ete ecrasee de force. Vu
la decentralisation politique et le ni-
/USURPATION FEODALE DES FORETS AUX X—XIII SS.
DES PAYSANS FRANQAIS CONTRE
veau inegal du developpement social
et dconomique 1’attaque fdodale sur
terres communaux se rdalisait dans de
differentes pdriodes sur le reste du
territoire frangais D’ou il suit que le
mouvement paysan pour leurs droits
avait le caractere de nombreux conf-
lits locaux qui aboutissaient parfois
aux heurts avec les representants de
classe dominante.
Pour les paysans le rapport des for-
ces etait defavorable dans cette peri-
ods historique. G’est ainsi que les
fordts et d'autres terres d’usage com-
mon sont devenues les proprietes fdo-
dales. Les seigneurs se sont appropri-
es les resultats matdriels du progrds
social et dconomique. La totautd des
rentes qui n’augmentait jadis qu’au
detriment du surtravail du paysan a
acquis une nouvelle source d’elargis-
sement Cette source dtait le prix des
ressources naturelles transformdes en
des moyens de vivre grdee & ce pro-
gres. Le revenu du paysan — rdserve
potentiel de la satisfaction de ses de-
mandes croissantes — ne pouvait aug-
menter aux ddpends de cette source.
Compte tenu des rapports dvoluds, le
paysan dtait fored & ddpenser en plus
la part de son travail pour payer les
materiaux et les ressources naturelies
dont 1’utilisation libra dtait aupara-
vant le norme de la vie social. La lut-
te des paysans frangais pour leurs
droits et pour les fordts et les autres
terres d’usage commun n’a pas provo-
que le mouvement national frangais.
Etant un facteur incessant et perma-
nent jusqu’fc la Rdvolution mdme,
cette lutte a fait aggraver les contra-
dictions sociales dans la campagne. Le
mecontentement paysan s’y accumu-
late comme la poudre qui eclatait pe-
riod iquement.
418
Резюме статей
YU. I. PISAREV. MAGNATES AND THE CROWN IN ENGLAND, THE 14TH
CENTURY
Despite the outward consolidation
of royal power, despite certain chan-
ges increasing the weight of small
feudal landowners in Parliament, the
14th century was undoubtedly mar-
ked by an increase of influence of
great landlords in practically all the
spheres of England's political and so-
cial life.
Though the English barons did not
fully succeed in realizing their dream
of establishing unlimited control of
the central government apparatus, it
should be noted, that the most part of
the century, and under Edward III in
particular, the position of the magna-
tes inside the system of royal govern-
ment was already very close to what
they aspired to during their open
struggle against the Crown at the be-
ginning of the century.
It is remarkable that the magnates
achieved a considerable extention of
the sphere of influence both in the
central and local governmental bodi-
es, enjoying an unmistakably favou-
rable attitude of the Crown, that as
often as not chose to be supported na-
mely by great landlords. In England,
through the greater part of the 14th
century there undoubtedly existed a
kind of alliance between the king and
the greatest landlords. That gave the
magnates an opportunity of using the
state machinery to their advantage on
a wider scale than in the 13th centu-
ry. Accordingly, they acquired a pos-
sibility to turn to their benefit the
political actions of the Crown both wi-
thin the realm and without. On a lar-
ger scale than other groups of land-
lords, the magnates gained direct pro-
fit from the continuous war on the
continent, unleashed by Edward III.
Inside the country, umistakably un-
der the pressure of the magnates, the
Crown not only practically gave up
the policy of limiting franchises, that
had been actively conducted through
the late 13th and early 14th centuri-
es, but in fact assisted in creating
new ones, though not very numerous.
That brought about growth of taxes
burdening both dependent peasants
and the principal part of the free po-
pulation of the country, and caused
a partial disorganization of the nearly
stabilized judicial and administrative
system.
A characteristic feature of the mag-
nates' activities in the 14th century
was their desire to use to their advan-
tage not only the organs of royal po-
wer which had crystallized in the pro-
cess of government centralization,
such as the King’s Council and King’s
Courts, but also the Lower House of
Parliament, that in the 14th century
as a result of a certain increase of the
economic and social importance of the
small feudal landowners, got moulded
as a comparatively independent go-
vernment organ. The custom of the
magnates' «advising» the Commons
in Parliament when taking decisions
on matters of importance, and the in-
creasing practice of the magnates’
«packing» of Parliament, all these
clearly indicate the position of the
magnates inside the system of interior
relations towards the end of the stu-
died period, and show the importance
the magnates attached to establishing
their control of the new promising go-
vernmental body.
R. CHLODOWSKI. IL COMICO NELLA POESIA DEL TARDO MEDIOEVO
Il presente saggio ha per oggetto
1’analisi delle particolarita’ artistiche
ed ideologiche della poesia comica
medioevale, protorinascimentale, detta
«burlesco-realistica» (Massera), «bor-
ghese-realistica» (Sapegno) о anche
«realistica» (Petrocchi). L'analisi si
riferisce alia struttura dicotomica del
canzoniere tragicomico di Rustico di
Filippo, i versi dei suoi continuatori
piu' diretti (Cecco Angiolieri), Muscia
da Siena, Emanuele Romano, Pietro
dei Faitinelli ed altri), nonche ai so-
ne tti di stile comico, scritti da Guido
Guinizelli, Guido Cavalcanti, Dante
Alighieri. Nel saggio viene dimostrato
Резюме статей
419
che la «lingua» della poesia comica
del Tardo Medioevo era una lingua
poetica di tipo particolare, al pari del-
la «lingua» della lirica tragica del
«Dolce stil nuovo». (V. Dante. De vul-
gar! eloquentia, II, IV, 5-6) e che
etrambe queste lingue cosi specifiche
e original!, medioevalmente parodian-
dosi e ideologicamente completandosi
a vicenda formavano, nella letteratura
del Protorinascimento Italian о (ter-
mine di V. N. Lasarev) un sistema ar-
tistico omogeneo, equilibrate al suo
interno, anche se dualistico, fondato
su concezioni religioso — filosofiche
del mondo del Dio e dell’ uomo pret-
tamente medioevali.
A differenza del rinascimento, il
Protorinascimento non conosceva an-
cora la concezione della personality
umana come di un essere integro e
bastante a se stesso. «...Si deve sape-
re,— afferma Dante,— che 1’uomo sic-
come in triplice maniera e animate —
con anima cio& vegetative, animate e
razionale — percorre una triplice via.
Infatti e essere vegetativo cerca Futi-
le, e in cid s’accomuna colie piante; in
quanto e essere animate cerca il pia-
cere, e in s’accumuna coi bruti; in qu-
anto e essere razionale cerca 1’onesto,
e in cid e solo e associate colla natu-
re angelica». («De vulgari eloquen-
tia», II, II, 6). Guido Guinizelli e Cec-
co Angiolieri avevano in comune le
medesime concezioni dell’ uomo, ma
si rivolgevano a diverse espressioni
della sua essenza tredimensionale.
Mentre i poeti del dolce stil nuovo tra-
gico, ignorando quasi del tutto nell’uo-
mo Г «essere vegetivo» angelizzavano
1’uomo, elevando e decantando la sua
«essenza razionale», i poeti di stile
comico, al contrario, concentrando tut-
ta la loro attenzione sulla nature ani-
mate dell’uomo e ricorrendo ad imma-
gini grottesche e material!, deridevano
la «via di ogni corpo», percorrendo la
quale 1’uomo inevitabilmente si abbas-
sa a bestia a si fa preda del satana.
Il progredire impetuoso verso 1’alto, il
muoversi verso il paradiso e verso Dio,
cosi caratteristico della lirica degli
stilnovisti ha, nella poesia protorinas-
cimentale di stile comico, un corri-
spondente movimento altrettano impe-
tuoso in basso, che, in definitiva, porta
anch’esso a Dio, ma attraverso 1’in-
ferno. Il mondo grottescamente mate-
riale, rappresentato nella poesia comi-
ca medievale, si mantiene sempre al
di sotto della realty quotidiana. Pro-
prio per queste non ё assolutamente
lecito parlare ne del realismo dei poe-
ti medievali comici, ne della loro li-
berty di pensiere religioso, molto dub-
bia. Il cosidette «edonismo» di guesti
poeti У state espressione non del go-
dimento gioioso della vita terrena,
come lo sara negli scrittori del Rinas-
cimento, ma della negazione estetica
della «razionality» della realty terre-
na e, di conseguenza, in definitiva, an-
che della sua verity ontologica.
M. KOERNER. SEKTORALE GLIEDERUNG DER OFFENTLICHEN AUS-
GABEN UND INVESTITIONEN SCHWEIZERISCHER STADTE IM
16 JAHRHUNDERT
Ein erster, methodologischer Teil be-
fasst sich mit der Auswahl der Stadte,
erklart die Quellen und das Problem
der Quellenlucken, zeigt Moglichkeiten
zur Vereinheitlichung von alten Buch-
haltungsstrukturen, lost das Problem
der Wahrungsvielfalt in der Alten
Schweiz. Darauf folgt die eigentliche
Untersuchung: zuerst kommen die
Strukturen; dann folgt die konjunktu-
relle Entwicklung.
Die schweizerischen Stadte befinden
sich im 16. Jahrhundert in einer be-
vorzugten Lage. Sie sind relativ reich.
Sie verfiigen uber geniigend Finanzka-
pital und uber den notigen Kredit,
um uber die Mehrzahl ihrer Investitio-
nen souveran entscheiden zu konnen.
Aus diesem Grund bestimmen sie
auch fiber die Form und Qualitat der
offentlichen Bauten, die sie in Auftrag
geben und finanzieren. Na ch Bedari
konnen sie von fem Spezialisten zur
Ausfiihrung gewisser Arbeiten kom-
men lassen. Sie verfiigen iiber das no-
tige Kapital, um ganz oder teilweise
offentlichniitzliche Untemehmungen
zu finanzieren. Beinahe jedesmal, wenn
420
Резюме статей
sich die Gelegenheit bietet, gelingt es
ihnen, ihr Hoheitsgebiet auf Kosten
des Regionaladels zu erweitem. Meist
iibemehmen sie die auf den erworbe-
nen Gebieten lastenden Schulden. De-
reu Amortisation muss als Investition
a posteriori betrachtet werden. Dazu
spielen die Stadte auch die Rolle von
Bankiers, indem sie Geld gegen Zins
ausleihen. Luzern gelingt es z. B. mil
dam Aktiviiberschuss der Zinaen 1,7%
seiner Gesamtausgaben zu finanzieren.
Treten in der stadtischen Wirtschaft
Schwierigkeiten auf oder kommen ge-
wisse Sektoren ins Stocken, so verfii-
gen die Stadte uber das notwendige
Kapital, um die wankenden Unternen-
mungen zu stutzen bzw. die Finanzka-
pazitat derjenigen zu erhohen, welche
noch keine grosseren Schwierigkeiten
kennen. Je nach Notwendigkeit und
obrigkeitlicher Politik werden Kapita-
lien in Staatsbanken, Textilindustrie,
Handelsunternehmungen, Hypothekar-
geschafte, fremde Kriegsdienste und
Staatsanleihen von Fiirsten und Koni-
gen gesteckt. Neben den direkten Fi-
nanzinvestitionen zahlen auch der Un-
terhalt der Briicken und Wege, die
Schaffung neuer Strassen, die weitum
bekannte Sicherheit auf dem
Schweizerterritorium zu den Elemen-
ten, welche den internationalen Han-
delsstrom anziehen so 11 ten. Das Be-
kampfen konjunktureller Riickschlage
mittels gezielter Investitionen gelingt
Luzern, Zurich und Schaffhausen aber
auch St. Gallen und Basel weit besser
als Solothurn, Freiburg i. Ue. und Genf.
Hauptgrund dazu ist, dass die ersteren
sehr friih schon Finanzkapital anhau-
fen konnen, mit dem sie mit Erfolg
eine aktive Investitionspolitik betrei-
ben konnen, wahrend bei den letzteren
die offentliche Kapitalakkumulation
weniger stark oder sogar ganzlich un-
moglich ist.
Die wirtschaftlichen Investitionen —
Finanzanlagen und Beteilungen, of-
fentlicher Hoch- und Tiefbau, Territo-
rial- und Immobilienkaufe— machen
zwischen 44 bis 72% der gesamten 6f-
fentlichen Ausgaben aus. Dieser Anteil
ist bei den Stadten, die mit wenig oder
gar keinem Fremdkapital arbeiten, ho-
her (64—72%) als bei denjenigen, die
mit der Amortisation ihrer off entli-
chen Schuld belastet sind (44—48%)-
Ein analoger Unterschied erscheint
auch, wenn man die off entlichen In-
vestitionen pro Jahr und Einwohner
aufteilt. Ein gewisser Zusammenhang
zeigt sich aber auch zwischen den of-
fentlichen Investitionen und der Ent-
wicklung des Sozialprodukts. Je mehr
offentlicnes Kapital uber die Investi-
tionsrechnung fliesst, desto mehr wird
die wirtschaftliche Gesamtentwicklung
gefordert. Natiirlich tragen die Privat-
investitionen ebenfalls zu diesem Ef-
fekt bei. Fur das 16. Jahrhundert darf
man aber annehmen, daB liberal! die
regierende Gesellschaftsschicht die we-
sentlichen privaten und staatlichen
okonomischen Entscheidungen trifft.
Die Gesamtkonjunktur der off entli-
chen Ausgaben und Investitionen ver-
lauft fiir das 16. Jahrhundert typisch
steil nach oben. Im achten Jahrzehnt
sind die Gesamtausgaben in Goldson-
nenkronen gerechnet 3,6, die Investi-
tionen 5,1 so noch wie im ersten. Die
mittelfristigen Fluktuationen der Ge-
samtausgaben werden von den Investi-
tionen wesentlich beeinflusst. Unter
den Investitionen steht der offentliche
Hoch- und Tiefbau an erster Stelle
(17,2—37% der Ausgaben), gefolgtvon
den Finanzanlagen (8—33,6%). Terri-
torial- und Immobilienkaufe (0—
12,2%) sowie Beteiligungen an Gewer-
be und Handel (2,6— 7,2%) treten be-
sonders nach 1550 in Erscheinung,
fallen aber nach 1590 zur Bedeutungs-
losigkeit ab.
Резюме статей
421
В. A. KAMENETSKY. THE STRUGGLE OF IDEAS IN ENGLAND DURING
THE CRISIS OF ABSOLUTISM, THE LATE 16TH AND THE EARLY 17TH
CENTURIES. POLITICAL AND JURIDICAL ASPECTS
The crisis of English absolutism re-
sulting from a considerable consolida-
tion or capitalist structure and distur-
bance of tne alliance between the ab-
solute feudal state on the one hand,
and the bourgeoisie and new nobility
on the other, caused acute changes in
the condition of all the social strata
of the country. This influenced very
essentially the various trends of po-
litical thinking characteristic of Eng-
land in the late 16th and early 17th
centuries.
The conflict between the King and
Parliament, bursting aflame in the pe-
riod and growing into the revolution
of the early 1640s, was a natural ref-
lection of class contradictions between
feudal absolutism and the newly for-
med bloc of bourgeoisie and new no-
bility. The bourgeois historiography
today showing a considerable interest
in the discussed period tends very
strongly to disguise the class charac-
ter of the struggle, trying to reduce
the differences to arguments concer-
ning certain details hindering the
compromise which the struggling
parties were allegedly striving for.
The main purpose of the present pa-
per is to define specific features of
ideologic and political conflicts of the
time, to characterize positions of the
principal parties in the conflicts, and
to reveal the class roots of their ideas.
The attention here is concentrated
upon the political and juridical as-
pects of the class struggle in ideology
at the time of the crisis of English ab-
solutism which as yet have not been
elucidated in Soviet historiography.
The author leaves aside problems of
church and religion, as well as those
of puritanism, which have been alrea-
dy studied in a number of works by
both Soviet and foreign scholars.
The tactics of the English absolu-
tism before its decline were characte-
rised by attempts to disguise the al-
most completely unlimited power of
the Crown under the mask of strictly
keeping to Parliamentary rule and
abiding by the principles of Common
Law. It was the time when the idea
of J. Fortescue, suggested back in the
15th century and propagating a pos-
sibility and advisability of using the
institutions called to limit royal po-
wer as an effective means of streng-
thening the Crown, was in fact reali-
zed. That is why England of that pe-
riod boasted of lack of openly abso-
lutist concepts.
Before the crisis of absolutism, the
sovereign was not as a rule opposed
to Parliament, but was regarded as its
natural head. This form of govern-
ment was advantageous for not only
fepdal, but bourgeois and new nobi-
lity groups as well, as it satisfied to
a certain extent the requirements of
the developing capitalist structure. In
the pre-crisis period English absolu-
tism found a strong support in Com-
mon Law, which pro-Tudorian publi-
cists like J. Fortescue and his follo-
wers considered to be a means of
strengthening the sovereign's power.
Common Law in the history of media-
eval England was not only important
juridically, but played a great role
politically as well. It was an impor-
tant instrument of the policy of cent-
ralization and integration conducted by
the feudal state, and it presented re-
liable defence of the interests of the
proprietary classes from attempts of
popular masses upon their property.
The legal system based upon Common
Law was at the time supported by all
the social groups involved in the de-
velopment of the capitalist structure,
such as the new nobility, the upper
groups of yeomen, and town bourgeoi-
sie. while the absolute feudal state
enjoyed the support of these social
groups, the doctrine of natural law,
actually identified with Common Law,
was mainly used by the ideologists of
absolutism to their advantage. But
with the growth of the conflict, the
principles of Common Law turned into
the principal mottoes of the streng-
thening bourgeois opposition, who in-
terpreted it to their own advantage
and adapted it to their own needs,
defending their social and political in-
terests. As a result, we can see a cer-
422
Резюме статей
tain ideological re-armament of ideo-
logues of absolutism. Contrary to the
idea of the reign of natural law, they
now claimed that the royal preroga-
tive, the sovereignity of the monarch
were above all legal sanctions. This
denoted the appearance in England of
the openly absolutist ideology, a clear
analogue of the ideology developing
on the Continent. Certain elements of
the ideology had already revealed
themselves in some statements of Eli-
zabeth I: they became quite clearly
expressed in the works of her succes-
sor James I. Stuart and some of the ci-
vil lawyers (Y. Couell, A. Gentivi).
The appearance of the openly abso-
lutist theory in England was a symp-
tom of the beginning decline of abso-
lutism. A fierce ideological struggle
between the ideologists of absolutism
irreversibly loosing its social foothold
on the one hand, and the opposition
of bourgeoisie and new nobility on the
other, went through the whole twenty
year rule of James I. The struggle was
waged everywhere; in Parliament, at
court sessions, from church pulpits,
through political and juridical treati-
ses. A particularly significant part in
the struggle was played by E. Coke.
Modifying the mediaeval theory of na-
tural law and the principles of Com-
mon Law E. Coke and his followers
turned the legal system then existing
in England into a reliable instrument
of opposing feudal reaction, into an
essential element of the ideologic
platform that united the bouregoisie
and new nobility in the revolutionary
battles of the 1640s.
В редактировании данного выпус-
ка принимали участие научные со-
трудники сектора истории средних
веков ИВИ АН СССР 3. А. Бычкова,
О. И. Варьяш, И. С. Пичугина, Ю. Р.
Ульянов, Н. В. Савина.
Переводы резюме принадлежат
И. М. Бессмертной (англ.), О. В. Та-
тариновой (франц.), О. Н. Лобаче-
вой (франц.), А. Б. Канестри (итал.).
ПАМЯТИ
АЛЕКСАНДРЫ ДМИТРИЕВНЫ
ЛЮБЛИНСКОЙ
(1902—1980)
22 января 1980 г. скончалась Алек-
сандра Дмитриевна Люблинская —
один из крупнейших советских ме-
диевистов. На протяжении несколь-
ких десятилетий ни одно заметное
начинание в советской медиевистике
не обходилось без ее деятельного
участия. Она была автором и редак-
тором таких изданий, как универси-
тетские учебники по истории сред-
них веков, «Всемирная история»,
«История Франции», «Проблемы ис-
точниковедения западноевропейско-
го средневековья» и многих других.
Редко случалось, чтобы крупная
конференция медиевистов проходила
без ее доклада или выступления. Ей
не раз доводилось защищать честь
советской медиевистики на между-
народных конгрессах — в Москве, Ле-
нинграде, Вене, Париже, Лейпциге.
Она представляла СССР в несколь-
ких международных научных обще-
ствах (Международный комитет по
истории представительных учрежде-
ний, Международный комитет по па-
леографии, Международное общество
по изучению XVIII в.). Ее лекции
слушали студенты не только Ленин-
градского университета, профессо-
ром которого (и заведующим кафед-
рой истории средних веков) она яв-
лялась в течение ряда лет, но и уни-
верситетов и пединститутов Москвы
и ряда других городов, куда она, не
жалея сил, ездила до последнего года
своей жизни. Свыше 40 аспирантов
написали под ее руководством свои
диссертации. Среди ее учеников —
8 докторов наук. Человек разносто-
ронних знаний, в любом научном за-
седании, на котором ей доводилось
присутствовать, она всегда была
компетентным и доброжелательным
рецензентом, к мнению которого
охотно прислушивалась аудитория:
она скончалась на заседании Учено-
го совета ЛОИИ, выступив на диспу-
те по докторской диссертации, по-
священной русским источникам
XIX в. по истории Бразилии...
А. Д. Люблинская — автор почти
200 печатных работ. В их числе три
крупных монографии: «Франция в
начале XVII в.» (1959), «Француз-
ский абсолютизм первой трети
XVII в.» (1965), «Французские
крестьяне в XVI—XVIII вв.» (1978),
четвертая монография «Французский
абсолютизм в XVII в.», т. II (1630—
1642), законченная в 1978 г., Ждет
своего издания. Под руководством
А. Д. Люблинской и при ее непо-
средственном участии в 1962—1980 гг.
были изданы четыре тома архивных
материалов из коллекции П. П. Дуб-
ровского в Ленинграде и Ламуаньо-
на в Москве. Перу А. Д. Люблинской
принадлежат также учебные посо-
бия «Источниковедение истории
средних веков» (1955) и «Латинская
палеография» (1969). Ряд моногра-
фий и статей А Д. Люблинской не
раз переводились на иностранные
языки и издавались в ГДР, Румы-
нии, Болгарии, Франции, Великобри-
тании, Италии, Испании, Японии.
А. Д. Люблинская разработала ори-
гинальную концепцию экономическо-
го и социально-политического разви-
424
Памяти Александры Дмитриевны Люблинской
тия Франции XV—XVIII вв., кото-
рая привлекала и несомненно будет
еще не раз привлекать внимание со-
ветских и зарубежных специалистов.
Не замыкаясь в кругу проблем ис-
тории XV—XVII вв., А. Д. Люблин-
ская оставила яркий след в разра-
ботке самых различных вопросов, ка-
сающихся истории представитель-
ных учреждений средневековья,
типологии феодализма, французской
общины, средневекового города, меж-
дународных отношений, историогра-
фии, палеографии, архивоведения,
библиотековедения и многих других.
А. Д. Люблинская ушла из жизни
полная творческих замыслов. На ее
письменном столе остался в основ-
ных чертах завершенный III том
«Истории европейского крестьянст-
ва», ответственным редактором кото-
рого она являлась. Она активно ра-
ботала над монографией о Фронде,
подготавливала исследование о Па-
рижском университете, планировала
теоретический доклад об аллоде, го-
товила курс о французской средневе-
ковой культуре... Ей было почти
78 лет. Но никто из знавших Алек-
сандру Дмитриевну никогда не вос-
принимал ее как старого человека.
Ибо она до последнего часа сохра-
нила свойственные молодости неус-
покоенность, жажду поиска, готов-
ность взяться за решение любой са-
мой сложной и трудной проблемы,
каких бы усилий это не потребова-
ло. Ее поддержкой и помощью в нау-
ке и жизни пользовались многие и
многие. Она была не только круп-
ным ученым, чьи идеи и труды на-
долго останутся в науке. Она была
настоящим большим человеком, ко-
торого не сможет забыть никто из
знавших ее.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВ — Византийский временник
ВИ — Вопросы истории
СВ — Средние века
AHDE — Anuario de historia del de-
recho espanol
Annales,
E.S.C. - Annales. Economies, Soci6-
tds, Civilisations.
BIHR - Bulletin of the Institute of
Historical Research.
BPhH — Bulletin philologique et his-
torique du Comitle de tra-
vaux historiques et scienti-
fiques
EHR — English Historical Review
HZ - Historische Zeitschrift
RH - Revue historique
RSI — Rivista storica Italians ,
TRHS — Transactions of the Royal
Historical Society
VSWG - Vierteljahrschrift fiir Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte
ZfG — Zeitschrift fiir Geschichts-
wissenschaft
СОДЕРЖАНИЕ
СТАТЬИ
В. В. Иванов (Казань)
Ленинский принцип партийности и научная объективность .... 5
А. И. Данилов
Историческое событие и историческая наука..................... 13
Ю. Л. Бессмертный
Структура крестьянской семьи во франкской деревне IX в.: данные
антропонимического анализа Сен-Жерменского полиптика . . . 32
Я. Д. Серовайский (Алма-Ата)
Борьба французских крестьян против феодального освоения лесов в
X—XIII вв..................................................... 53
Ю. И. Писарев
Магнаты и корона в Англии XIV в............................... 77
Р. И. Хлодовский
Комическое в поэзии позднего средневековья (экскурс в предысто-
рию ренессансного стиля)......................................105
М. Кёрнер (Швейцария)
Городские инвестиции в Швейцарии XVI в. Отраслевое распределение 134
В. А. Каменецкий
Идейная борьба в Англии в период кризиса абсолютизма (конец
XVI — начало XVII в.). Политико-юридический аспект............162
СООБЩЕНИЯ
И. С. Филиппов
Церковная вотчина в Провансе начала IX века...................191
О. И. Варьяш
О положении сервов и либертинов в Леонском королевстве в IX—
XI вп.........................................................207
В. С. Барашкова
К вопросу о русско-норвежских связях в XVI в..................223
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
В. И. Мажуга (Ленинград)
Грамоты XIII в. монастыря Бельруа (Архив ЛОИИ СССР АН СССР) 229
Содержание
427
ИСТОРИОГРАФИЯ
А. Л. Ястребицкая
Основные проблемы ранней истории средневекового города в освеще-
нии современной западной медиевистики.............................248
Н. В. Савина
Проблемы феодализма в новом периодическом издании историков ГДР 275
Т. С. Осипова
Статьи по истории средних веков, опубликованные в журнале «Irish
historical studies» за 1965—1974 гг...............................290
А. Д. Ролова (Рига), В. И. Рутенбург (Ленинград)
Армандо Сапори....................................................301
ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ МЕДИЕВИСТИКИ
Б. Г. Могилъницкий (Томск)
Е. А. Косминский как историк исторической науки . ?...............304
ПУБЛИКАЦИИ
О. Ф. Кудрявцев
Письмо Марсилио Фичино о Золотом веке . ..........................320
РЕЦЕНЗИИ
Н. И. Басовская
История средних веков. В 2-х т. Изд. 2-е перераб. Под общей ред.
С. Д. Сказкина. М., 1977 ........................................ 328
Г. Е. Лебедева (Ленинград)
Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового обще-
ства. Межвузовский научный сборник. Л., Изд-во ЛГУ, 1978. Вып. 2. 333
Э. Э. Литаврина
А. Р. Корсунский. История Испании IX—XIII вв. М., «Высшая шко-
ла», 1976 ....................................................... 337
Р. И. Хлодовский
А. Э. Штекли. «Город солнца»: Утопия и наука. М., «Наука», 1978 . 340
А. Р. Корсунский
К. Ф. Савело. Раннефеодальная Англия. Л., Изд-во ЛГУ, 1977 . . . 346
В. Л. Керов
Franciscains d’Oc. Les Spirituels ca 1280—1324.— «Cahiers de Fanjeaux»,
Toulouse, Privat, 1975, 10. Францисканцы Лангедока. Спиритуалы в
1280—1324 гг.— «Тетради Фанжо», Тулуза, 1975, 10 ................ 348
Е. В. Вернадская (Ленинград)
F. Bocchi. U от ini е terra nei borghi ferraresi. Il catasto parcellare del
1494. Ferrarie Decus. 1976. Ф. Бокки. Население и земли Феррарской
округи. Земельный кадастр 1494 г. Феррара, 1976 ................. 352
А. Д. Ролова (Рига)
Architettura е politica da Cosimo I a Ferdinando I. A cura di G. Spini.
Firenze, 1976. Архитектура и политика от Козимо I до Фердинанда I.
Под ред. Дж. Спини. Флоренция, 1976 ............................. 357
428
Содержание
АННОТАЦИИ
О. И. Варьяш
Сотрудничество венгерских и советских историков. Будапешт, 1977 . 362
Ю. Р. Ульянов
Две книги об иллюстрированных рукописях Бодлеянской библиотеки 364
Ю. Л. Бессмертный
Н. Е. Mayer. Bistumer, Kloster und Stifte im Konigsreich Jerusalem. Stutt-
gart, 1977. Г. Э. Майер. Епископства и монастыри Иерусалимского ко-
ролевства. Штутгарт, 1977 ................................... 366
И. П. Мокрецова
J. Folda. Crusader Manuscript illumination at Saint-Jean d’Acre, 1275—
1291. Princeton, 1976. Я. Фольда. Иллюминирование в скрипториях
крестоносцев в Акре, 1275—1291 .............................. 369
Л. А. Котельникова
Richerche di storia moderna. Pisa, 1976. 1. Исследования по новой ис-
тории. Пиза, 1976, т. 1.......................................371
Ю. Л. Бессмертный
J. Le Goff. Pour une autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Oc-
cident: 18 essais. Bibliotheque des Histoires. Paris, Gallimard, 1977. Жак
Легофф. Переосмысливая средневековье. Проблемы времени, труда и
культуры в западноевропейском средневековом обществе. 18 эссе.
Париж, 1977 ................................................. 374
И. В. Савина
Н. Brauer. Die Stadtbevolkerung von Chemnitz zwischen 1450 und 1600.
Karl-Marx-Stadt, 1978. X. Бройер. Городское население Хемница в 1450—
1600 гг. Карл-Маркс-Штадт, 1978 ............................. 377
ХРОНИКА
Ю. Я. Серовайская (Караганда)
I Всесоюзная конференция по проблемам взаимодействия общества
и природы.....................................................380
И. X. Черняк (Ленинград)
Конференция «Проблемы Возрождения в советской науке за 60 лет» 383
М. М. Фрейденберг *(Калинин)
Обсуждение проблем раннесредневекового города.................385
Е. Д. Воробьева (Горький)
Кафедра истории древнего мира и средних веков Горьковского уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского..............................387
БИБЛИОГРАФИЯ
И, И. Фролова (Ленинград)
Литература по истории средних веков, вышедшая в СССР в 1977 г. 390
А. Е. Москаленко
Научные труды А. В. Конокотина................................407
Э. И. Ускова
Научные труды В. М. Лавровского...............................410
Резюме статей.................................................415
Памяти Александры Дмитриевны Люблинской.......................423
Список сокращений.............................................425
CONTENTS
ARTICLES
V. V. Ivanov (Kazan)
V. I. Lenin’s Party Principle and scientific objectivity................... 5
A. I. Danilov
Historical event and historical science................................... 13
Yu. L. Bessmertny
The Structure of peasant family in frank village: Data of an anthropo*
nomic analysis of the Polyptique de I’abbaye de Saint-Germain des Pres,
the early 9th century..................................................... 32
J. D. Serovaysky (Alma-Ata)
The Struggle of french peasants against feudal exploitation of forests in
the 9th to 13th centuries................................................. 53
Yu. I. Pisarev
Magnates and the crown in England, the 14th century....................... 77
R. I. Khlodovsky
The comic in the poetry of the Later Middle Ages: an excursion into the
prehistory of the renaissance style...................................... 105
M. Koerner (Switzerland)
Town investments in Switzerland, the 16th century. Branch distribution 134
B. A. Kamenetsky
The struggle of ideas in England during the crisis of absolutism, the late
161 h and the early 17th centuries. Political and juridical aspects . . . 162
COMMUNICATIONS
7. 5. Philippov
Church estates in Provence, the early 9th century.........................191
О. I. Varyash
On the condition of «servi» and «libertini» in the Kingdom of Leon, the
9th to 11 th centuries....................................................207
V. S. Barashkova
Concerning russian-norwegian ties in the 16th century.....................223
STUDIES OF SOURCES
V. I. Mazhouga (Leningrad)
The 13th century charters of the abbey of Belroy. The archives of the
Leningrad Department of the Institute of history, Academy of Sciences
of the USSR...............................................................229
430
Contents
HISTORIOGRAPHY
A. L. Yastrebitskaya
Principal problems of the early history of medieval town as elucidated
in western medievalistics today.......................................248
TV. V. Savina
Problems of feudalism in the new periodical of the GDR Historians . . 275
T. S. Osipova
Articles on medieval history in the «Irish Historical Studies», 1965 to 1974 290
A. D. Rolova (Riga), V. I. Routenburg (Leningrad)
Armando. Sapori.......................................................301
FROM THE HISTORY OF MEDIEVAL STUDIES
IN THE USSR
B. G. Mogilnitsky (Tomsk)
E. A. Kosminsky as a Historiographer..................................304
* PUBLICATIONS
O. F. Kudriavtsev
Marsilio Ficcino’s letter on the Golden age...........................320
REVIEWS
V. I. Basovskaya
History of the Middle ages, Vol. 1—2. Ed. by S. D. Skazkin. 2nd revised ed.
M., «Higher School Publishers», 1977 ................................ 328
G. E. Lebedeva (Leningrad)
Problems of the social structure and ideology of medieval society. Vol. 2.
Inter-University Collection of Articles. Leningrad University Press, 1978 333
E. E. Litavrina
A. R. Korsounsky. History of Spain, the 9th to 13th centuries. M., «Hig-
her School Publishers», 1976 ........................................ 337
R. I. Khlodovsky
A. E. Stokly «The City of the Sun»: Utopia and science. M., «Nauka Pub-
lishers», 1978 ...................................................... 340
A. R. Korsounsky
K. F. Savelo. Early feudal England. Leningrad University Press, 1977 . 346
V. L. Kerov
Franciscains d’Oc. Les Spirituels ca 1280—1324.— «Cahiers de Fanjeaux»,
Toulouse, Privat, 1975, 10 .......................................... 348
E. V. Bernadskaya (Leningrad)
F. Bocchi. Uomini e Terra nei borghi ferraresi. Il catasto parcellare del
1494. Ferrarie Decus. 1976. 200 f.....................................352
A. D. Rolova (Riga)
Architettura e politico da Cosimo I a Ferdinando I. A cura di G. Spini.
Olschki. Firenze, 1976, 513 p.........................................357
Contents
431
ANNOTATIONS
О. I. Varyash
Cooperation of hungarian and soviet historians. Budapest, 1977 .... 362
Yu. R. Ulyanov
Two Books on illustrated manuscripts of the Bodleyan library .... 364
Yu. L. Bessmertny
H. E. Mayer. Bistumer, Kloster und Stifte im Konigsreich Jerusalem.
Stuttgart, 1977 .................................................... 366
I. P. Mokretsova
J. Folda. Crusader Manuscript illumination at Saint Jean d’Acre, 1275—
1291. Princeton. 1976 .............................................. 369
L. A. Kotelnikova
Ricerche di Storia moderna. Pisa, 1976 ............................. 371
Yu. L. Bessmertny
J. Le Goff. Pour une autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Oc-
cident: 18 essais. Bibliotheque des Histoires. Paris, Edition Gallimard,
1977 ............................................................... 374
N. V. Savina **
H. Brauer. Die Stadtbevolkerung von Chemnitz zwischen 1450 und 1600.
Karl-Marx-Stadt, 1978 .............................................. 377
CHRONICLE
Yu. J. Serovayskaya (Karaganda)
Problems of interaction of society and nature. The 1st All-Union confe-
rence ...............................................................380
I. H. Cherniak (Leningrad)
Conference on «Problems of Renaissance in soviet science during
60 years».......................................................... 383
M. M. Freidenberg (Kalinin)
Discussing problems of the early medieval town.......................385
E. D. Vorobyeva (Gorky)
Chair of ancient and medieval history, the N. I. Lobachevsky University,
Gorky................................................................387
BIBLIOGRAPHY
I. I. Frolova (Leningrad)
Literature on medieval history, published in the USSR in 1977 .... 390
A. E. Moskalenko
Scientific works of A. V. Konokotin..................................407
E. I. Uskova
Scientific works of V. M. Lavrovsky..................................410
Summaries of articles................................................415
In memory of A. D. Liublinskaya......................................423
List of abbreviations....................................... .... 425