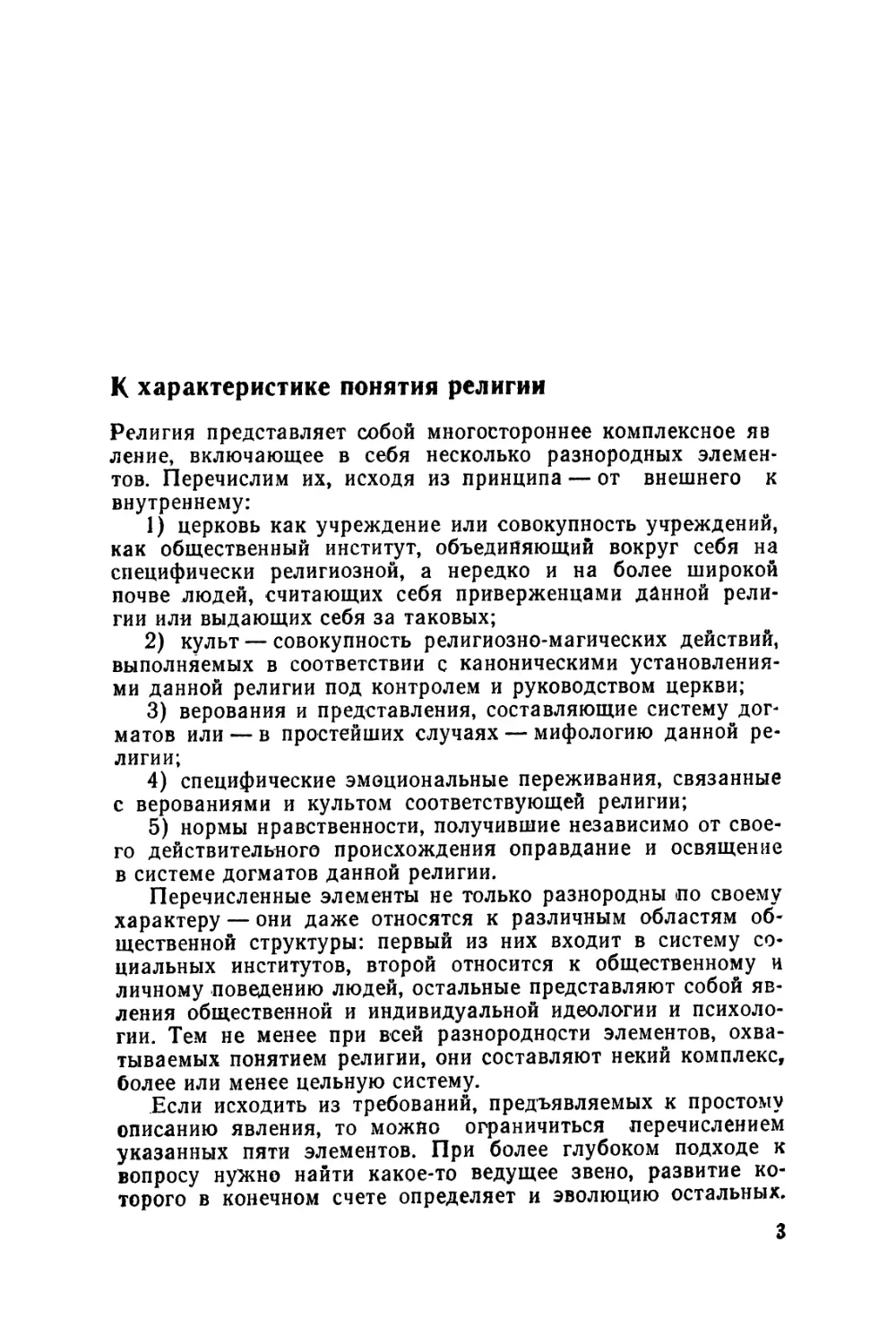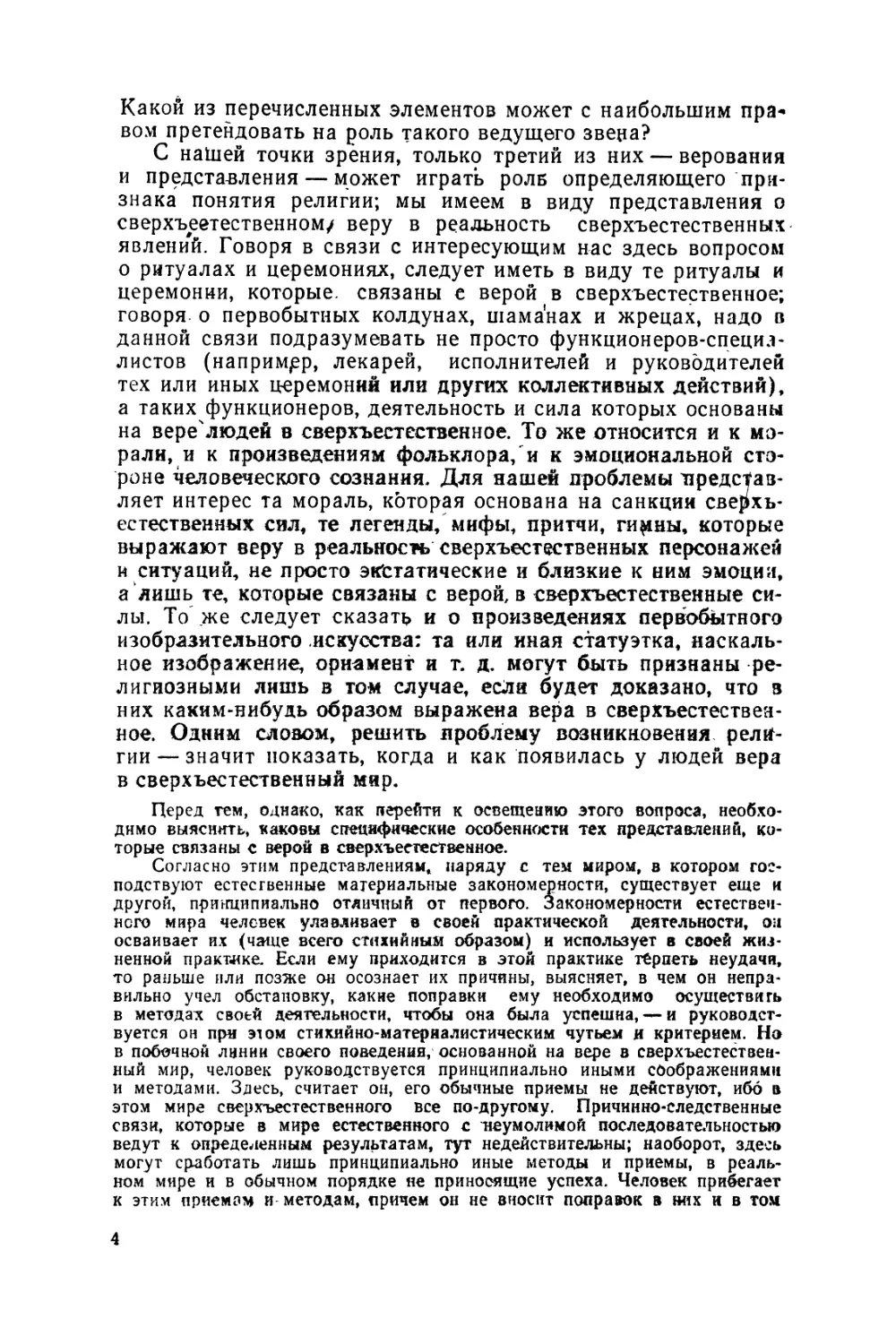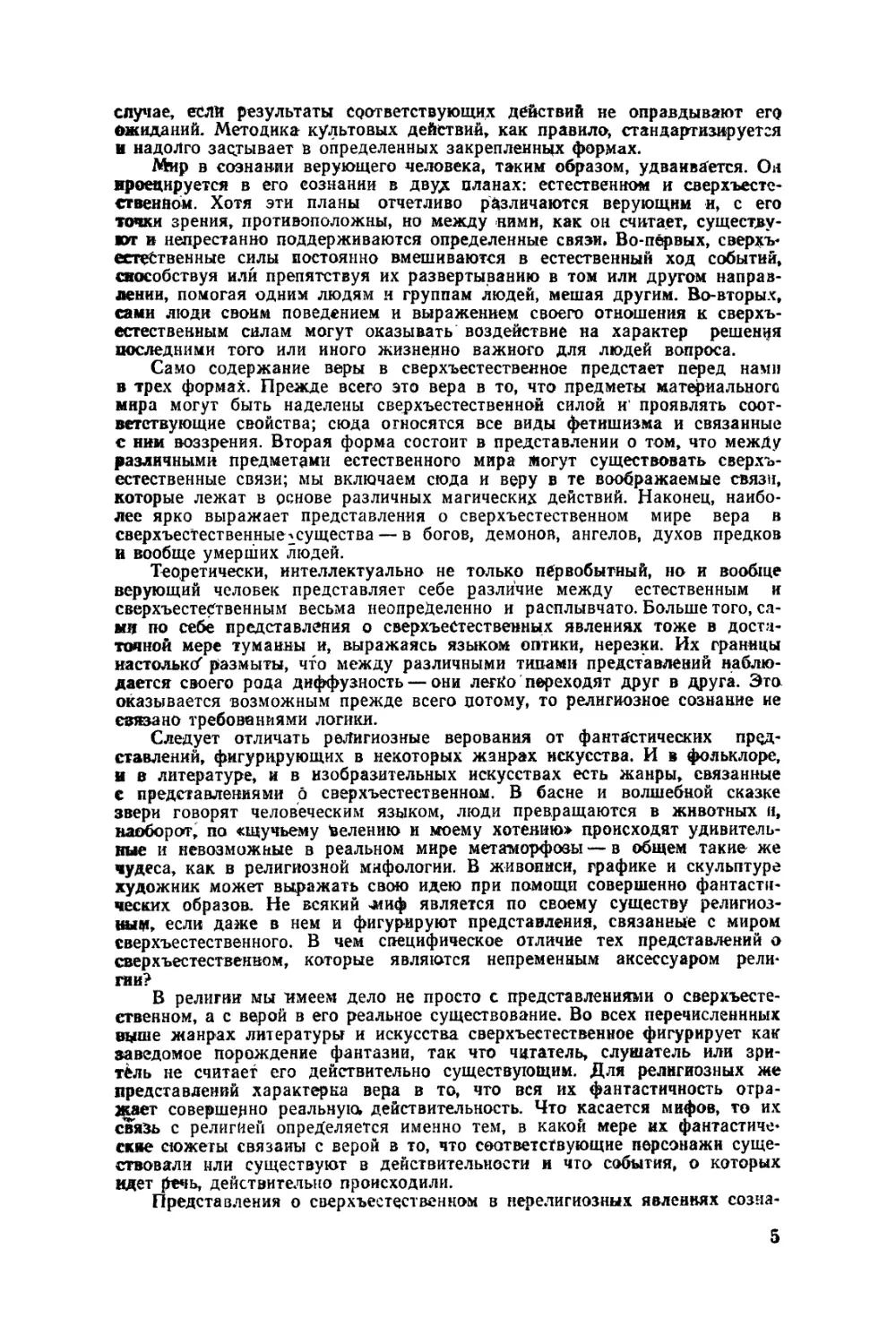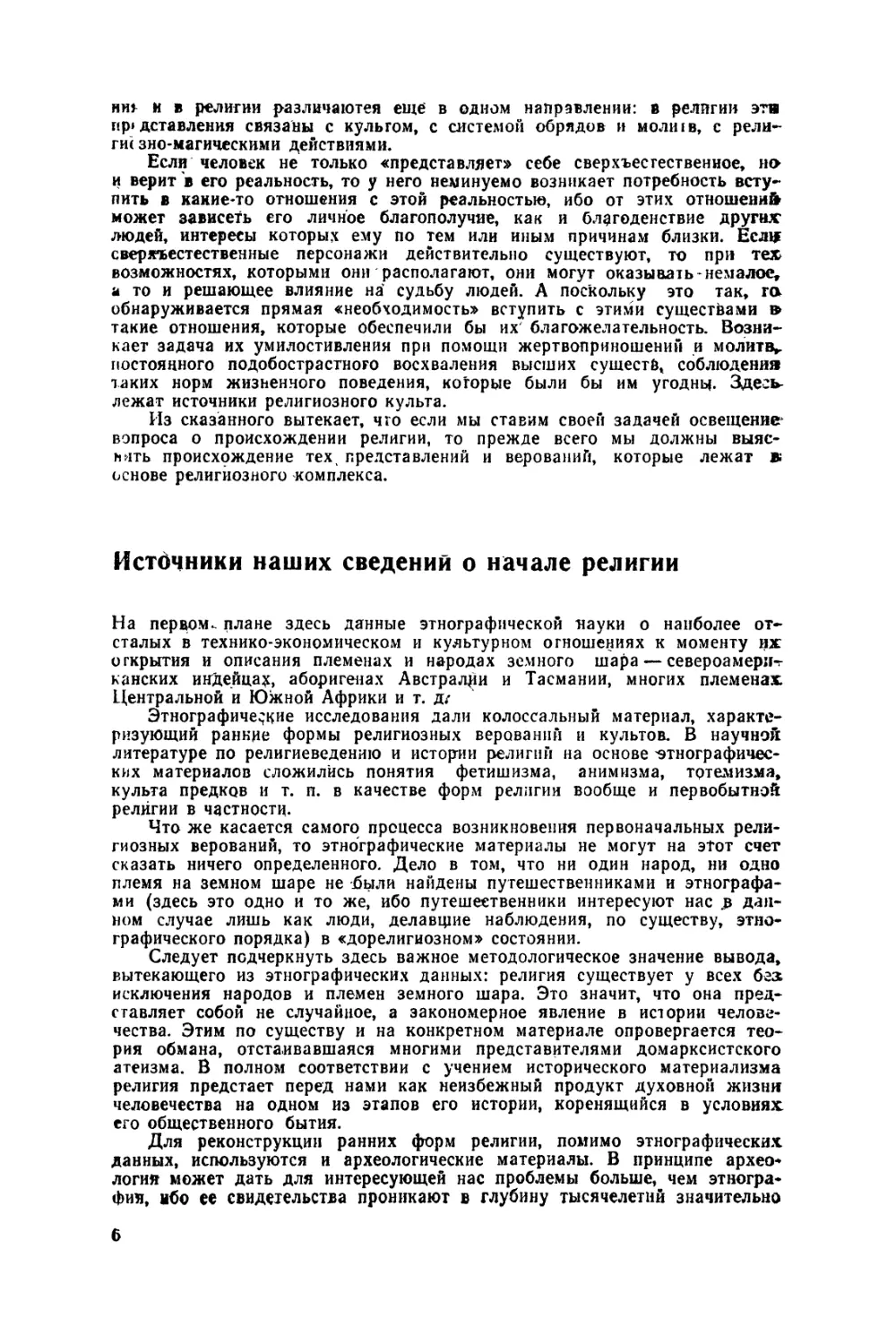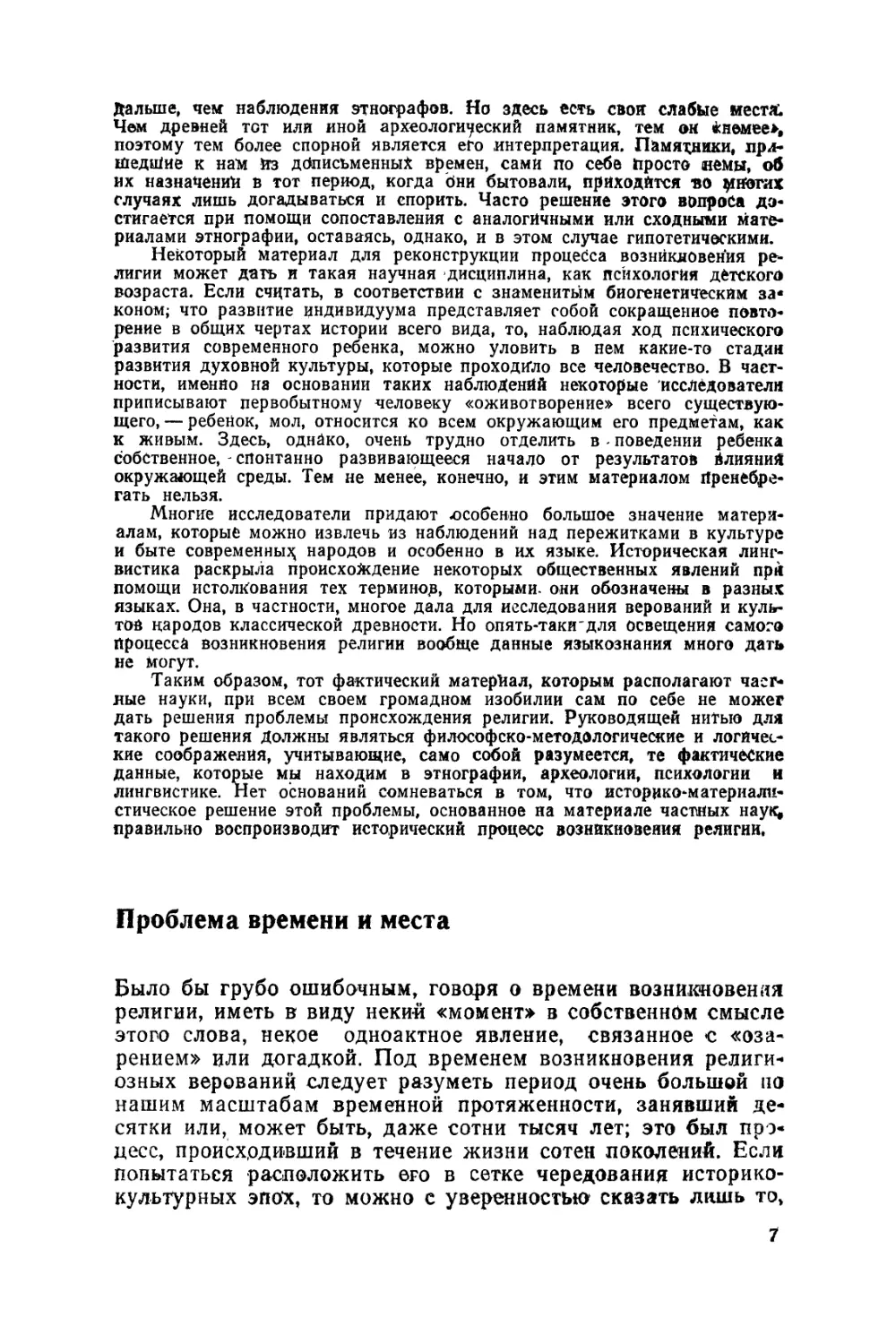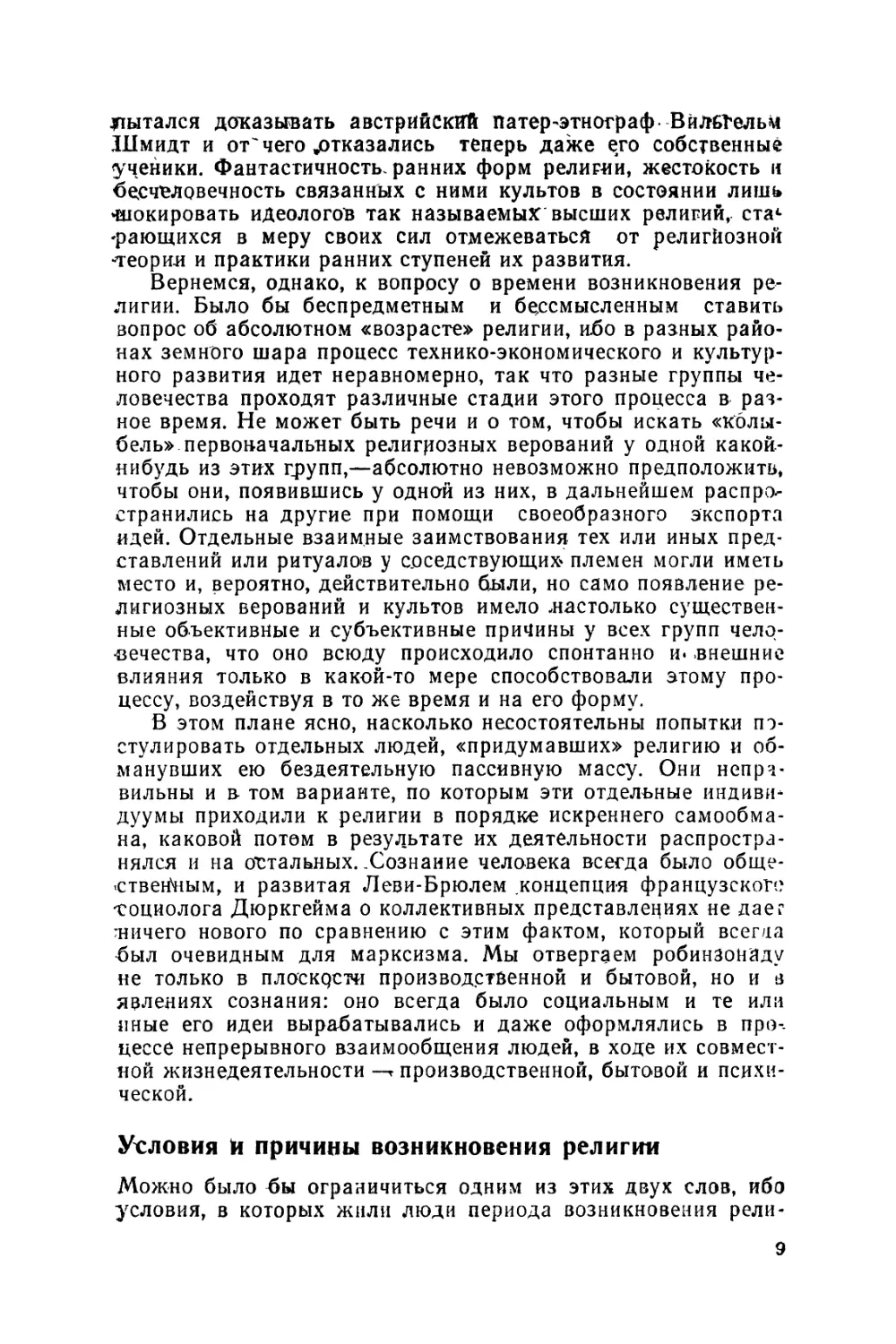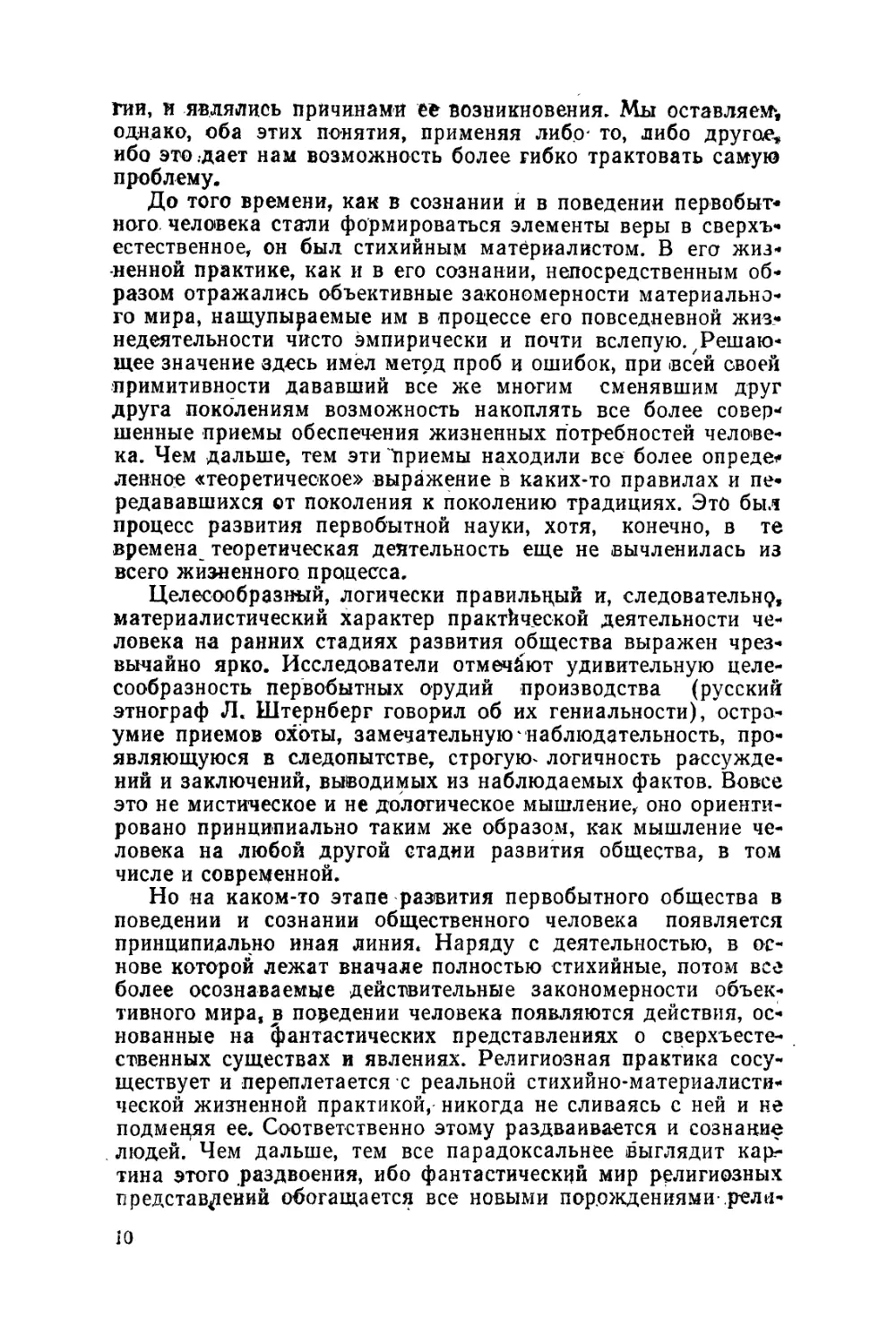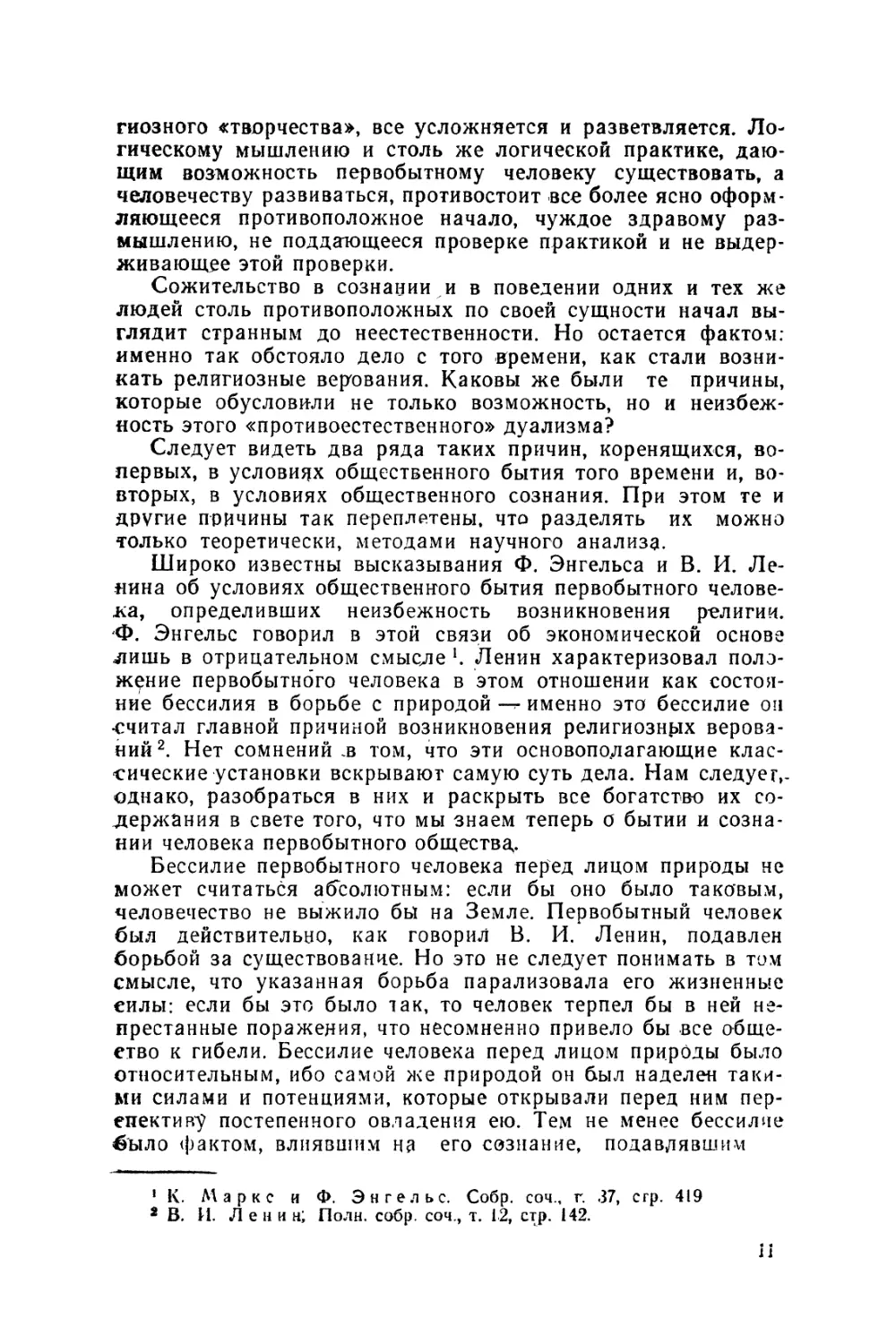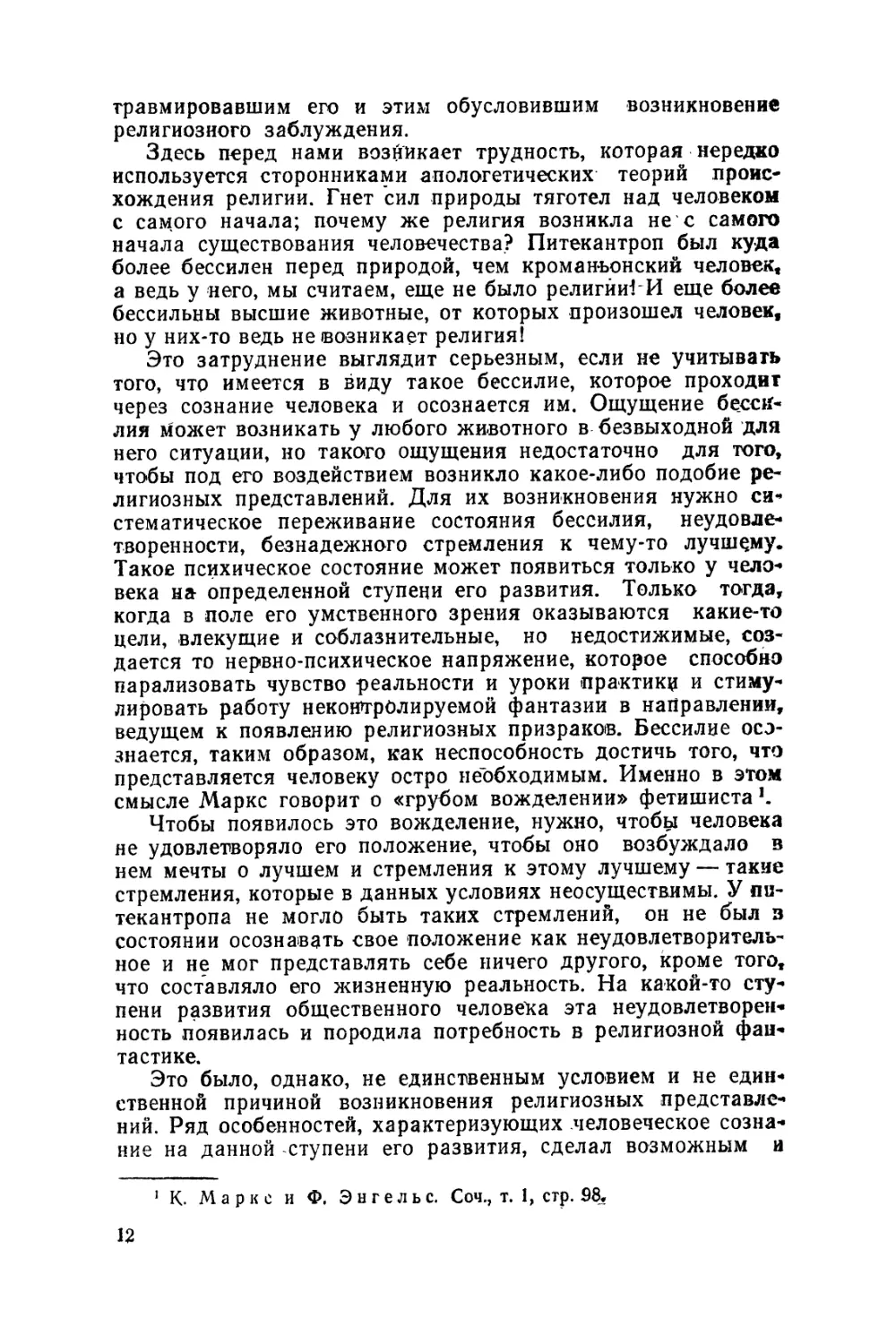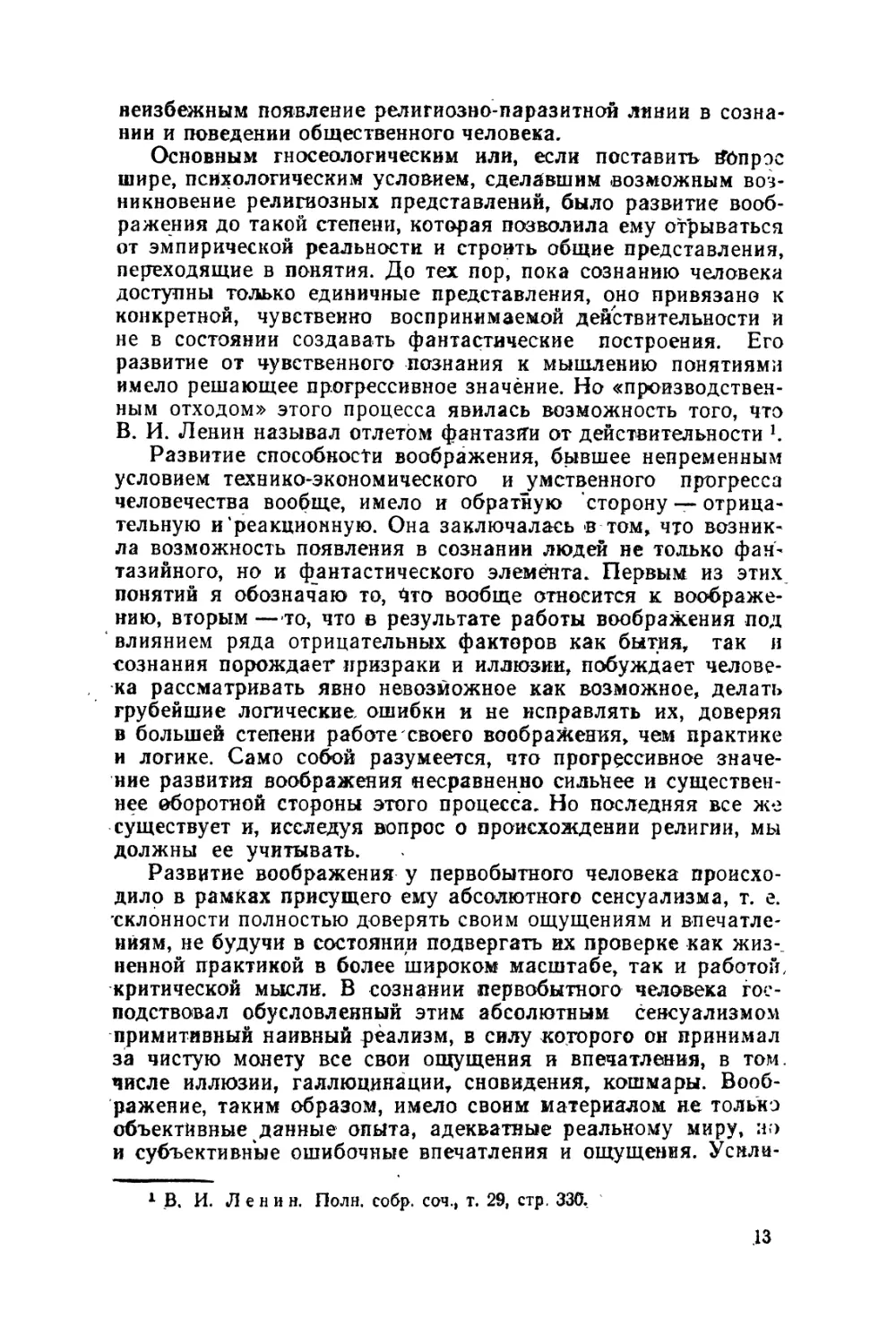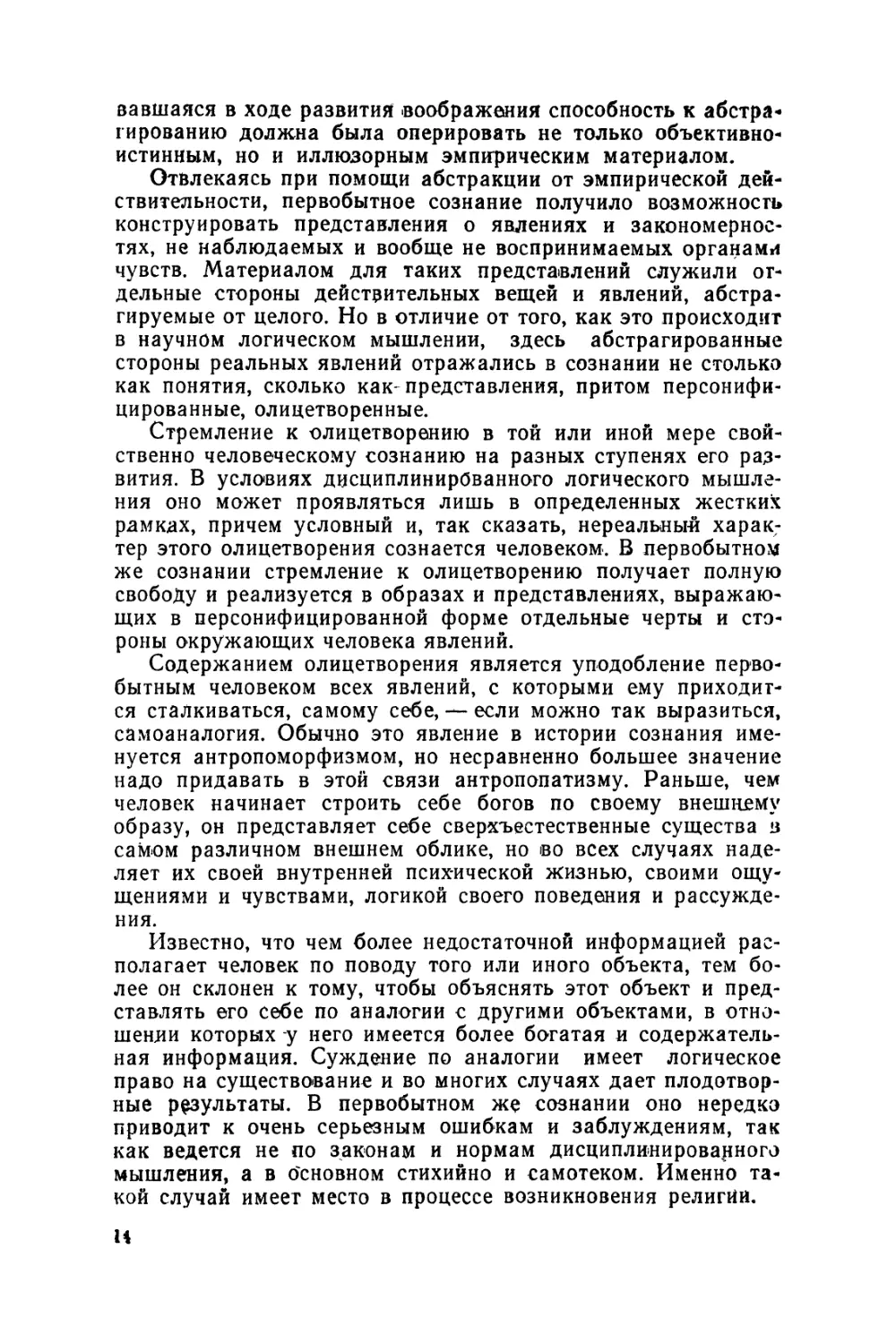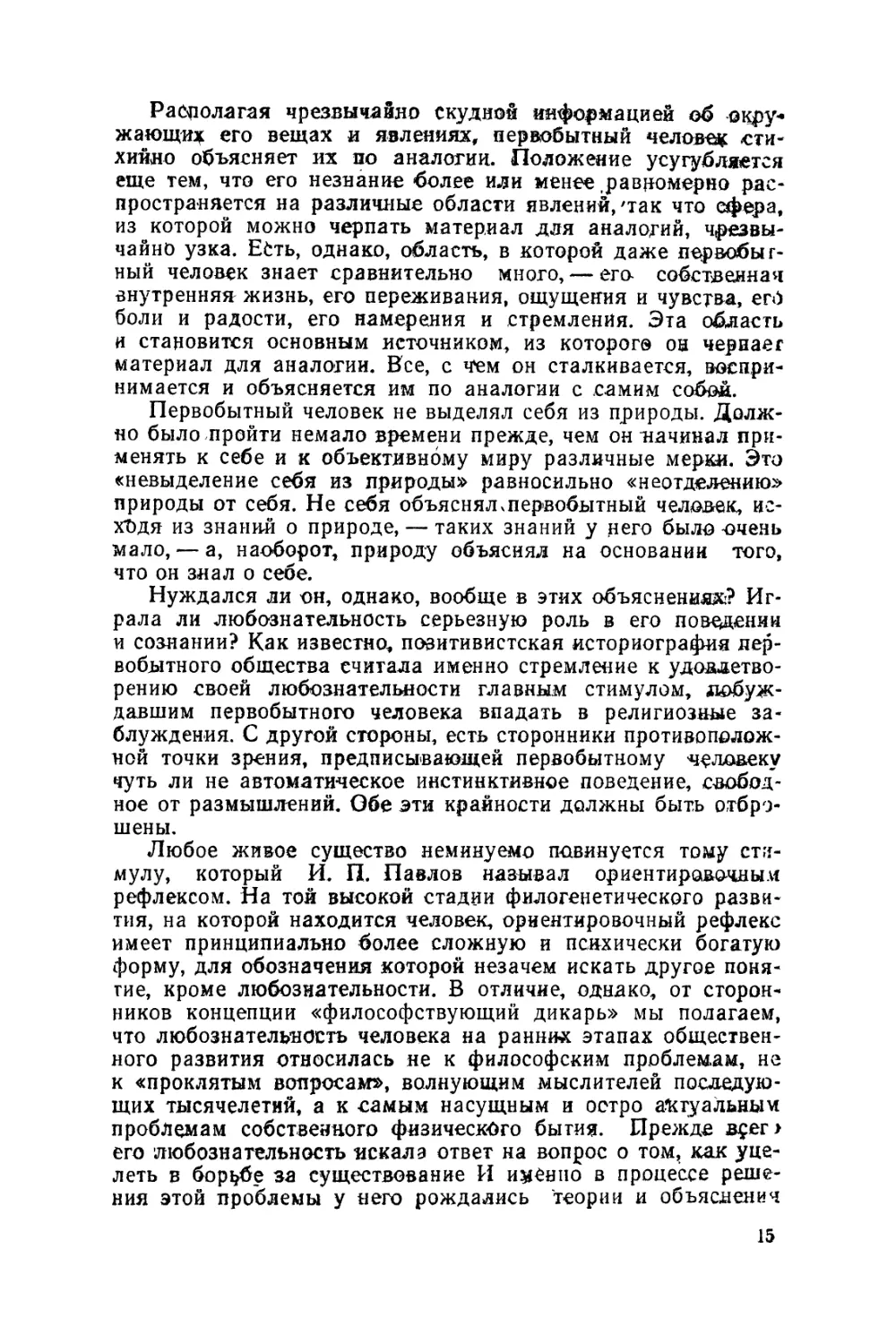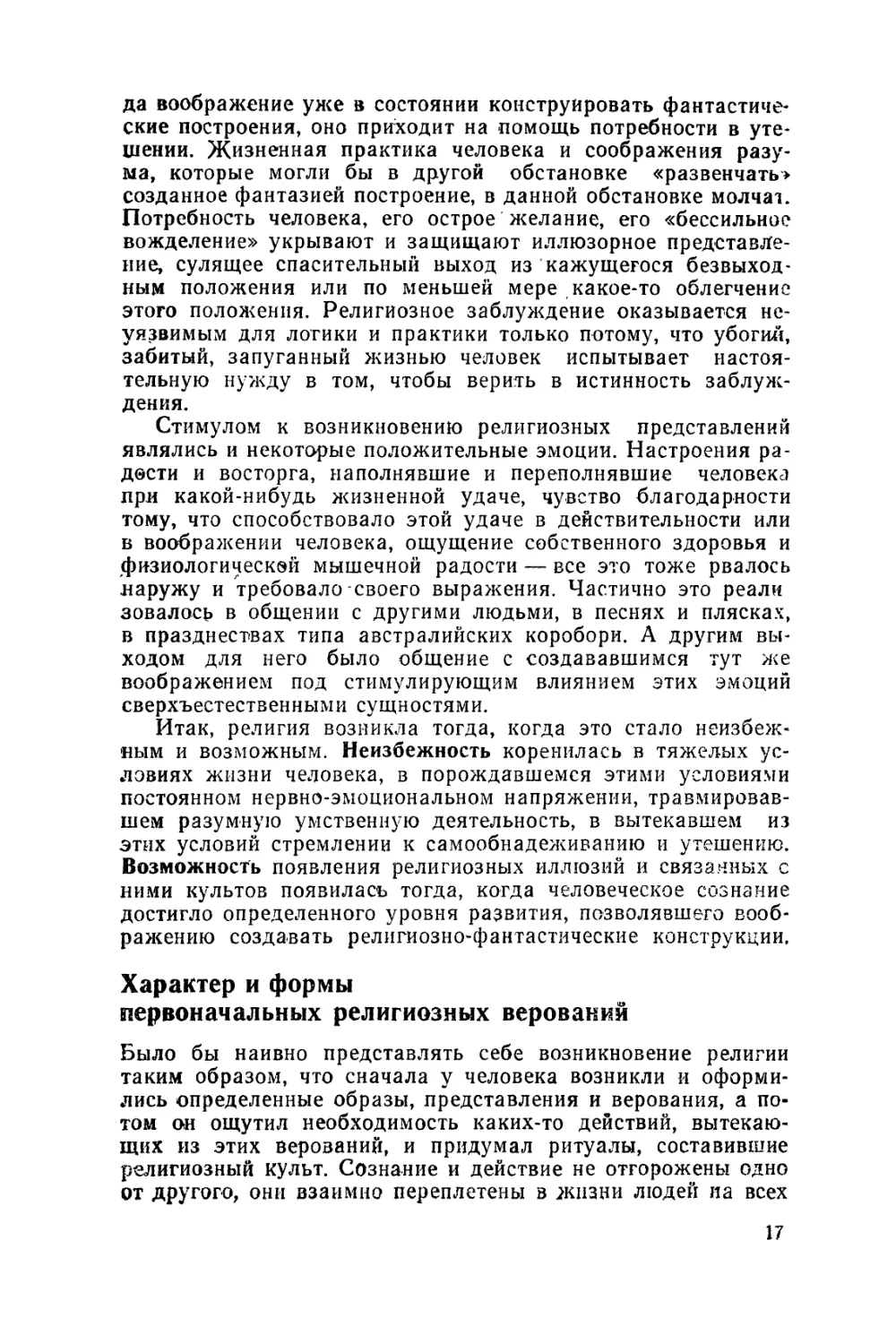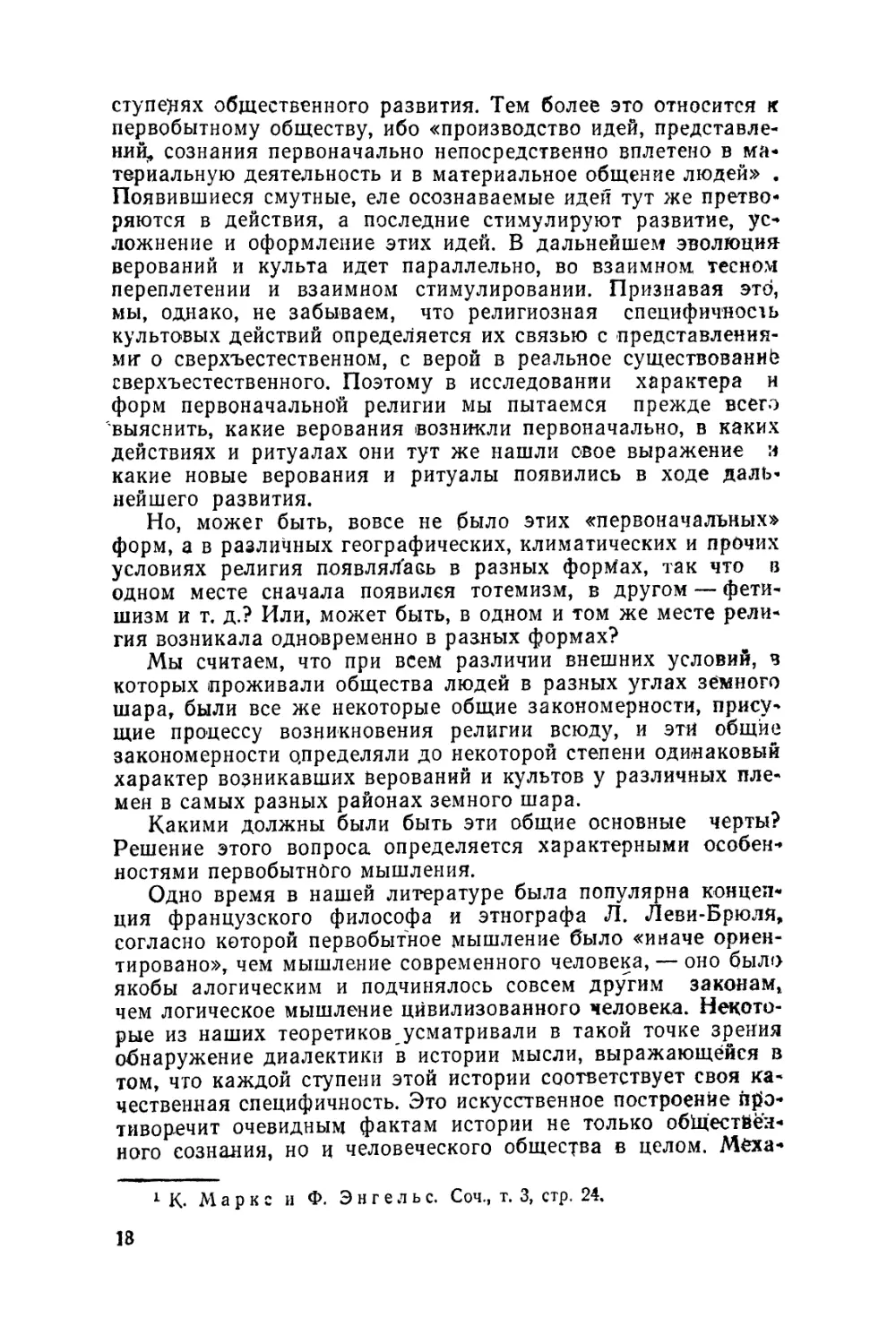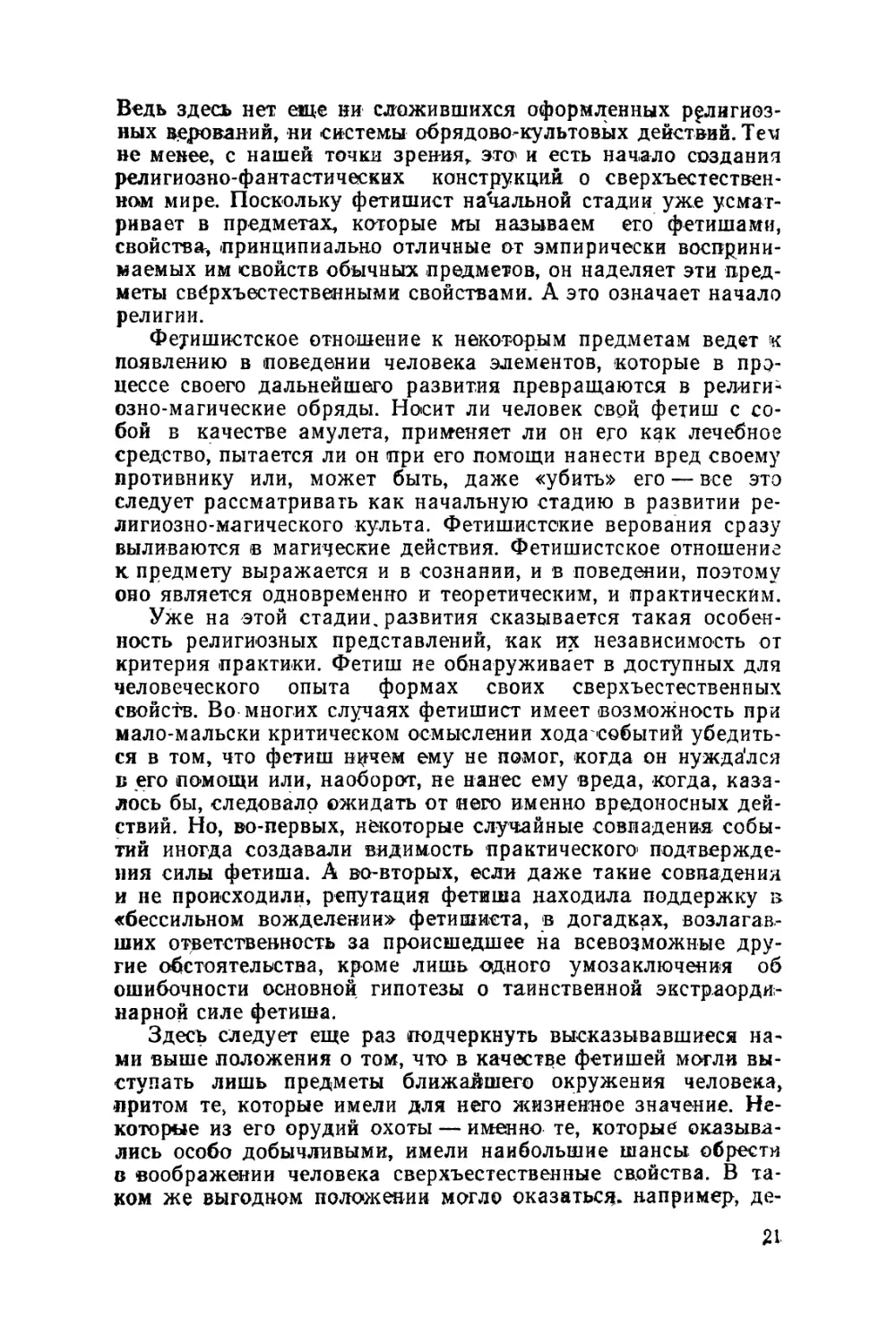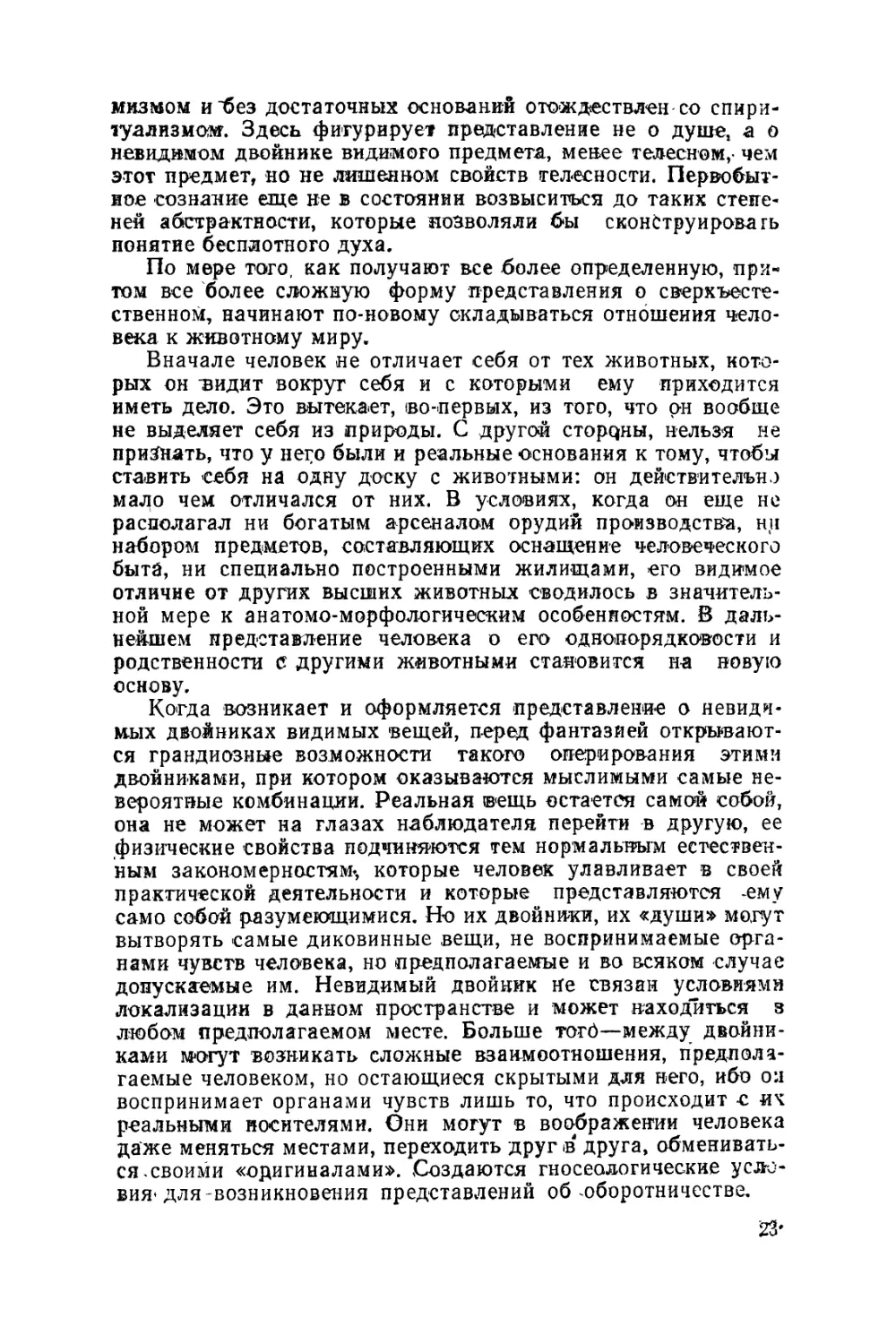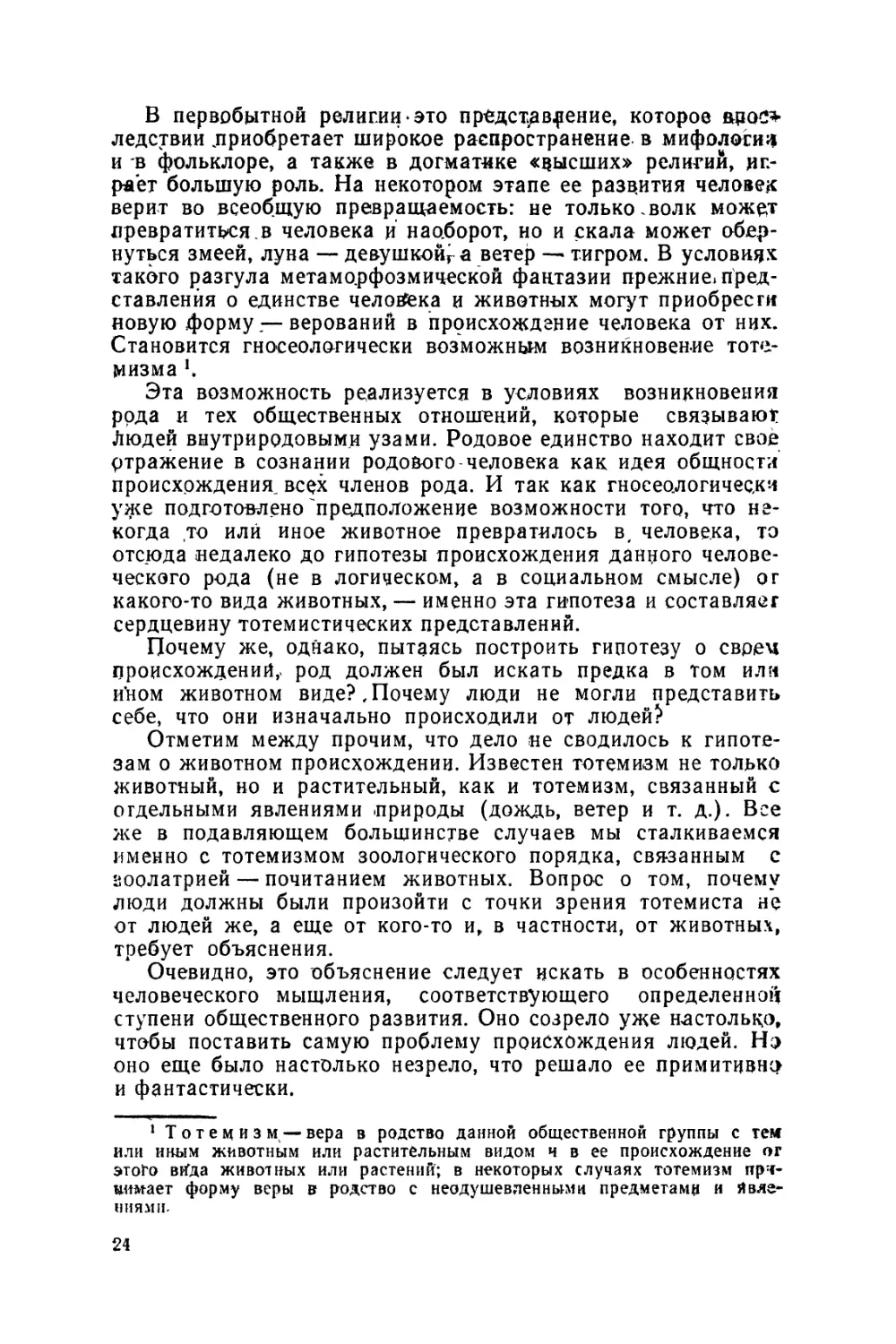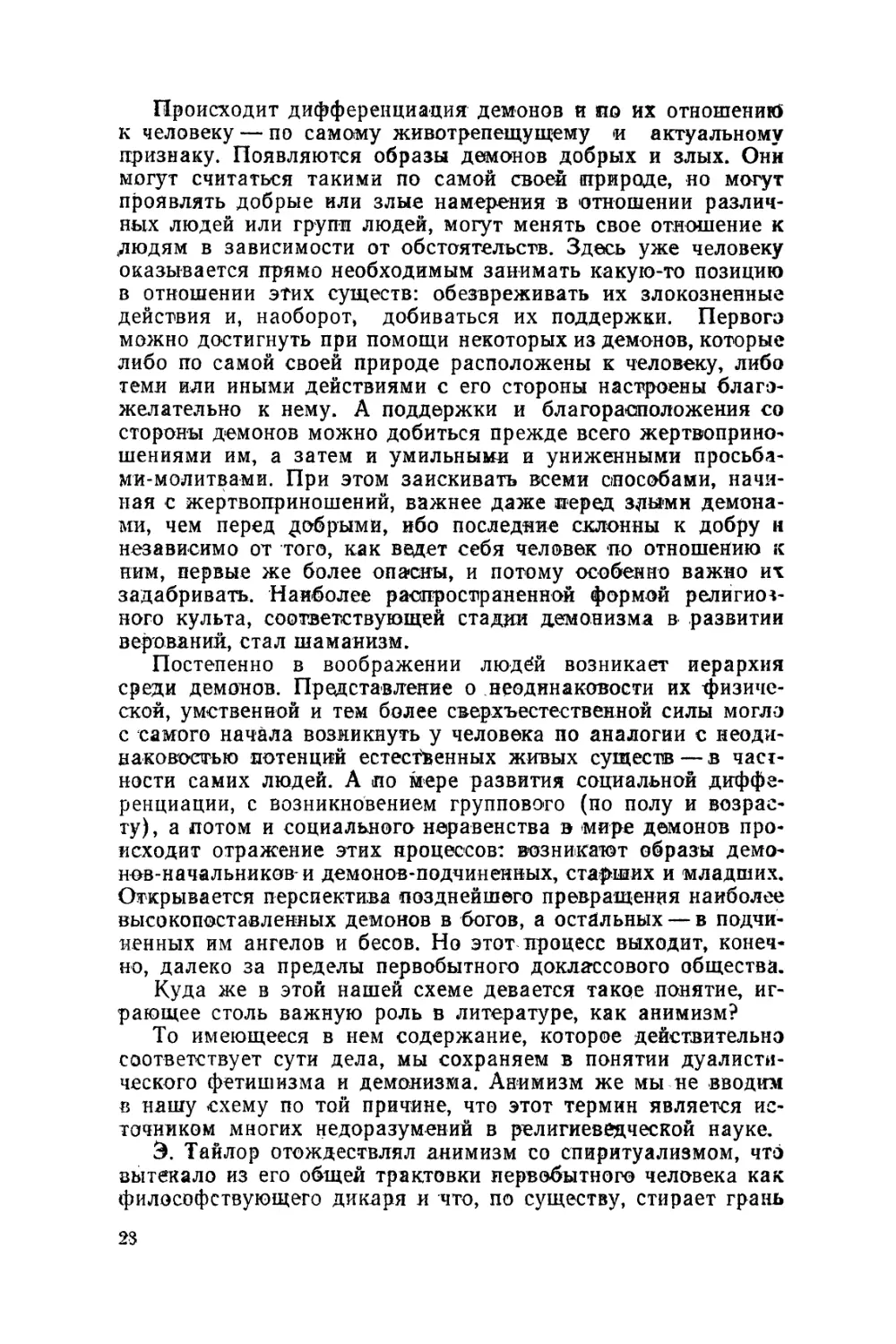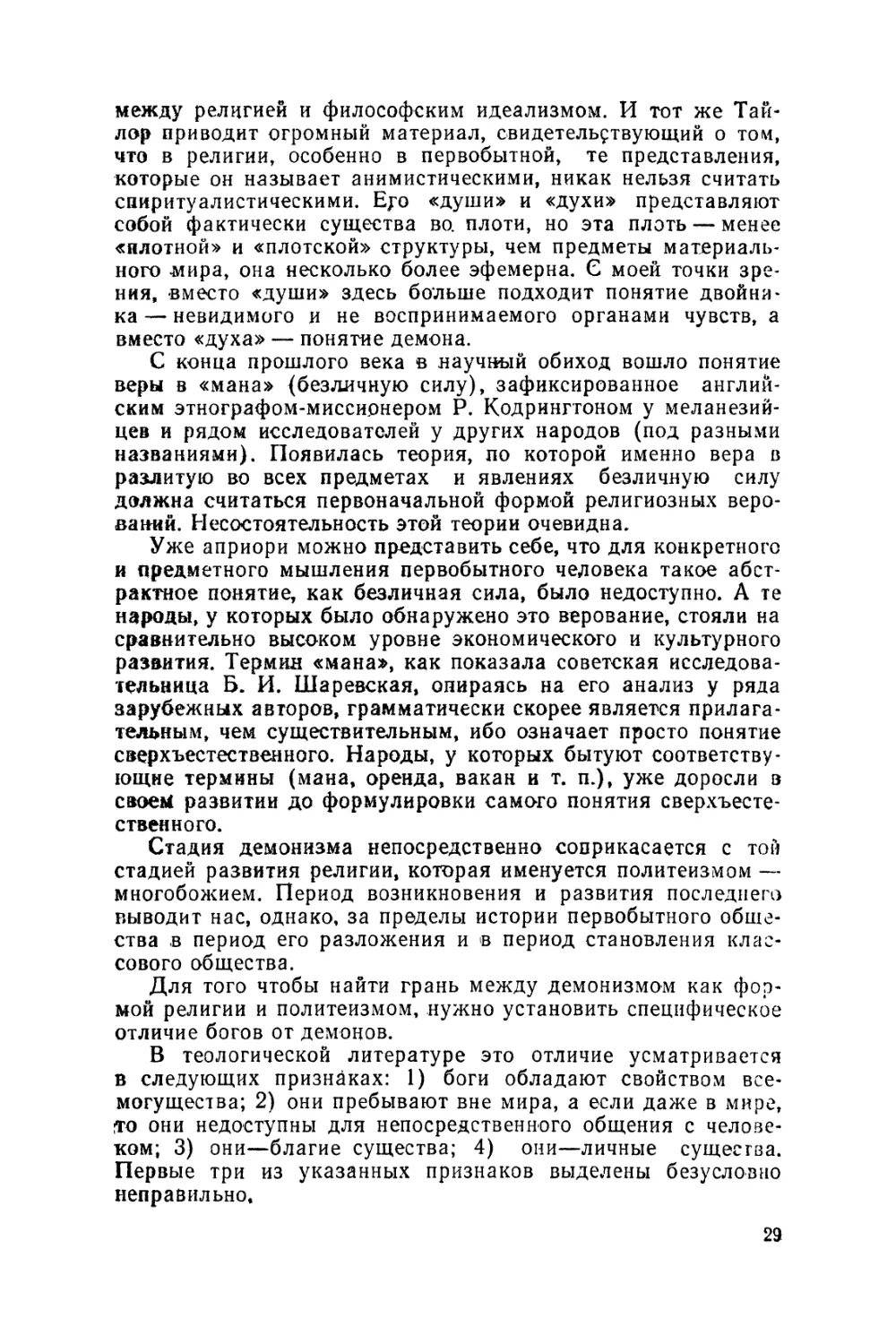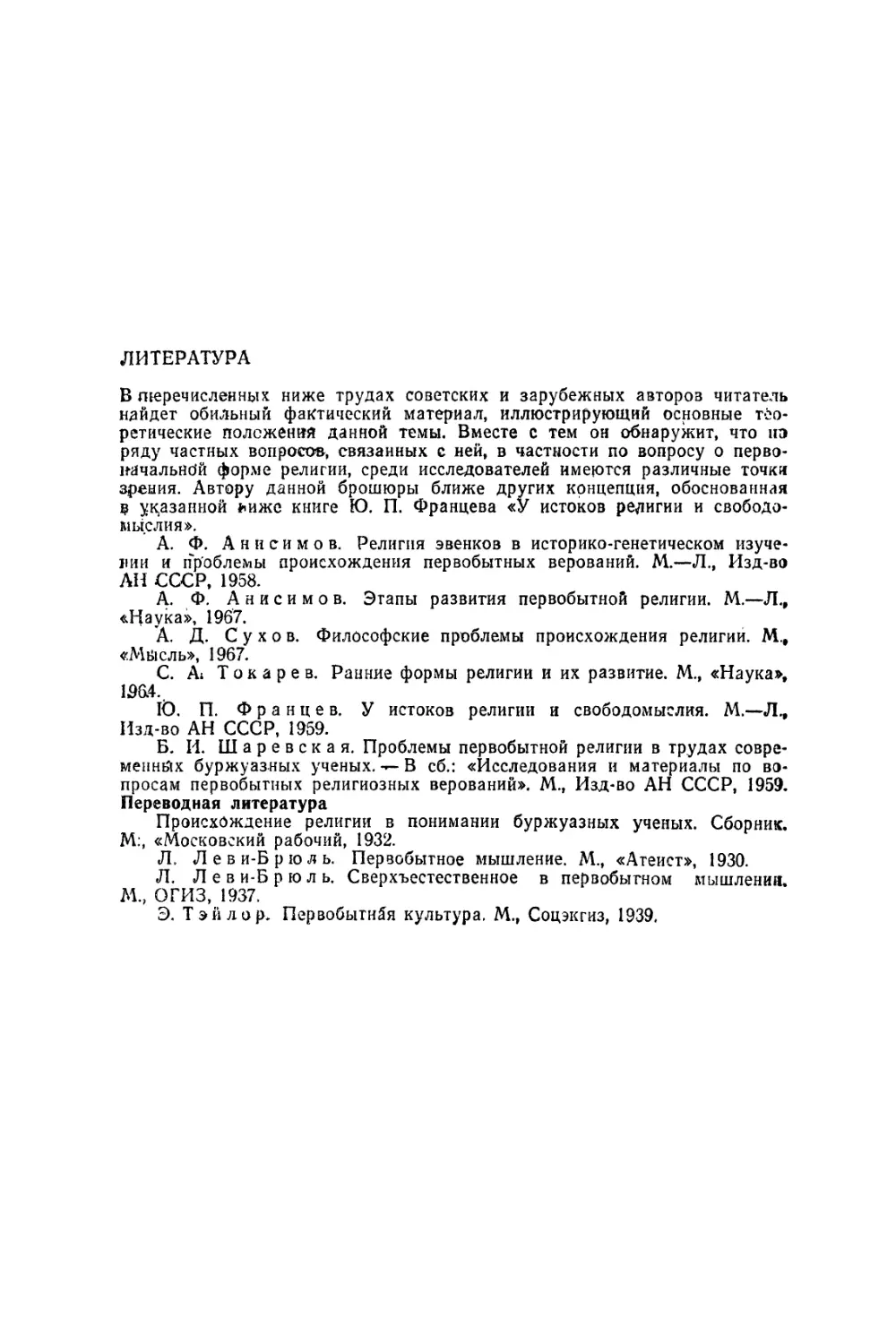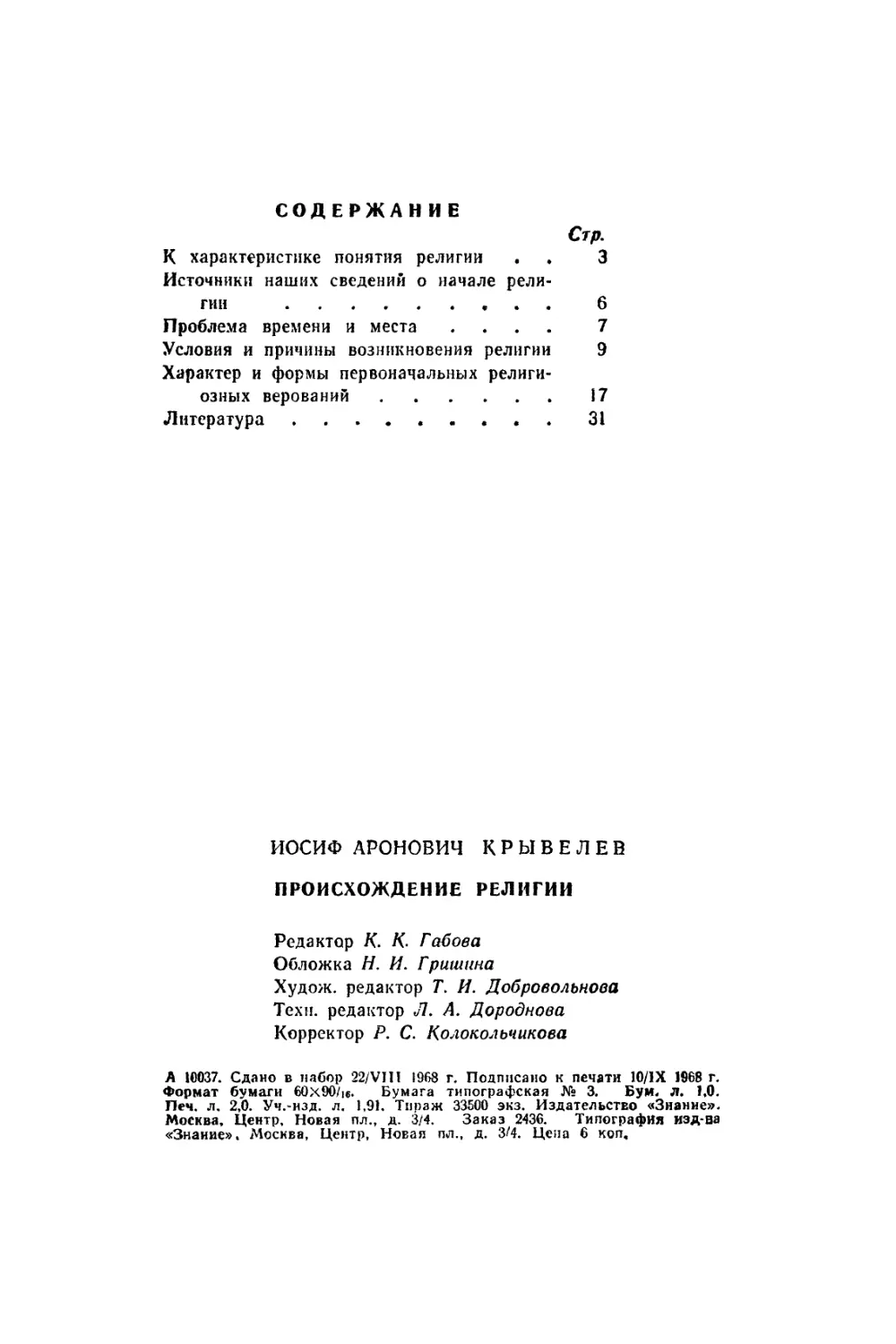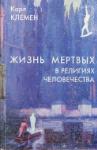Text
*1968* СВРИ«1
естествознание
и религия
И»
и а кры велев
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
РЕЛИГИИ
И. А. КРЫВЕЛЕВ,
доктор
философских
наук
Происхождение
религии
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЗНАНИЕ»
Москва
1968
29
К85
1-5-8
К характеристике понятия религии
Религия представляет собой многостороннее комплексное яв
ление, включающее в себя несколько разнородных элемен-
тов. Перечислим их, исходя из принципа — от внешнего к
внутреннему:
1) церковь как учреждение или совокупность учреждений,
как общественный институт, объединяющий вокруг себя на
специфически религиозной, а нередко и на более широкой
почве людей, считающих себя приверженцами данной рели-
гии или выдающих себя за таковых;
2) культ — совокупность религиозно-магических действий,
выполняемых в соответствии с каноническими установления-
ми данной религии под контролем и руководством церкви;
3) верования и представления, составляющие систему дог-
матов или — в простейших случаях — мифологию данной ре-
лигии;
4) специфические эмоциональные переживания, связанные
с верованиями и культом соответствующей религии;
5) нормы нравственности, получившие независимо от свое-
го действительного происхождения оправдание и освящение
в системе догматов данной религии.
Перечисленные элементы не только разнородны по своему
характеру — они даже относятся к различным областям об-
щественной структуры: первый из них входит в систему со-
циальных институтов, второй относится к общественному и
личному поведению людей, остальные представляют собой яв-
ления общественной и индивидуальной идеологии и психоло-
гии. Тем не менее при всей разнородности элементов, охва-
тываемых понятием религии, они составляют некий комплекс,
более или менее цельную систему.
Если исходить из требований, предъявляемых к простому
описанию явления, то можно ограничиться перечислением
указанных пяти элементов. При более глубоком подходе к
вопросу нужно найти какое-то ведущее звено, развитие ко-
торого в конечном счете определяет и эволюцию остальных.
3
Какой из перечисленных элементов может с наибольшим пра-
вом претендовать на роль такого ведущего звена?
С нашей точки зрения, только третий из них — верования
и представления — может играть роль определяющего при-
знака понятия религии; мы имеем в виду представления о
сверхъеетественном/ веру в реальность сверхъестественных
явлений. Говоря в связи с интересующим нас здесь вопросом
о ритуалах и церемониях, следует иметь в виду те ритуалы и
церемонии, которые, связаны с верой в сверхъестественное;
говоря о первобытных колдунах, шаманах и жрецах, надо в
данной связи подразумевать не просто функционеров-специа-
листов (напримрр, лекарей, исполнителей и руководителей
тех или иных церемоний или других коллективных действий),
а таких функционеров, деятельность и сила которых основаны
на вере'людей в сверхъестественное. То же относится и к мо-
рали, и к произведениям фольклора, и к эмоциональной сто-
роне человеческого сознания. Для нашей проблемы представ-
ляет интерес та мораль, которая основана на санкции сверхъ-
естественных сил, те легенды, мифы, притчи, ги^ны, которые
выражают веру в реальность сверхъестественных персонажей
и ситуаций, не просто экстатические и близкие к ним эмоции,
а лишь те, которые связаны с верой, в сверхъестественные си-
лы. То же следует сказать и о произведениях первобытного
изобразительного искусства: та или иная статуэтка, наскаль-
ное изображение, орнамент и т. д. могут быть признаны ре-
лигиозными лишь в том случае, если будет доказано, что в
них каким-нибудь образом выражена вера в сверхъестествен-
ное. Одним словом, решить проблему возникновения рели-
гии— значит показать, когда и как появилась у людей вера
в сверхъестественный мир.
Перед тем, однако, как перейти к освещению этого вопроса, необхо-
димо выяснять, каковы специфические особенности тех представлений, ко-
торые связаны с верой в сверхъестественное.
Согласно этим представлениям, наряду с тем миром, в котором гос-
подствуют естественные материальные закономерности, существует еще и
другой, принципиально отличный от первого. Закономерности естествен-
ного мира человек улавливает в своей практической деятельности, он
осваивает их (чаще всего стихийным образом) и использует в своей жиз-
ненной практике. Если ему приходится в этой практике терпеть неудачи,
то раньше или позже он осознает их причины, выясняет, в чем он непра-
вильно учел обстановку, какие поправки ему необходимо осуществить
в методах своей деятельности, чтобы она была успешна, — и руководст-
вуется он при эюм стихийно-материалистическим чутьем и критерием. Но
в побочной линии своего поведения, основанной на вере в сверхъестествен-
ный мир, человек руководствуется принципиально иными соображениями
и методами. Здесь, считает он, его обычные приемы не действуют, ибо в
этом мире сверхъестественного все по-другому. Причинно-следственные
связи, которые в мире естественного с неумолимой последовательностью
ведут к определенным результатам, тут недействительны; наоборот, здесь
могут сработать лишь принципиально иные методы и приемы, в реаль-
ном мире и в обычном порядке не приносящие успеха. Человек прибегает
к этим приемам и методам, причем он не вносит поправок в них и в том
4
случае, если результаты соответствующих действий не оправдывают его
ожиданий. Методика культовых действий, как правило, стандартизируется
и надолго застывает в определенных закрепленных формах.
Мир в сознании верующего человека, таким образом, удваивается. Он
проецируется в его сознании в двуд планах: естественном и сверхъесте-
ственном. Хотя эти планы отчетливо различаются верующим и, с его
точки зрения, противоположны, но между ними, как он считает, существу-
ют и непрестанно поддерживаются определенные связи» Во-первых, сверхъ-
естественные силы постоянно вмешиваются в естественный ход событий,
способствуя или препятствуя их развертыванию в том или другом направ-
лении, помогая одним людям и группам людей, мешая другим. Во-вторых,
сами люди своим поведением и выражением своего отношения к сверхъ-
естественным силам могут оказывать воздействие на характер решения
последними того или иного жизненно важного для людей вопроса.
Само содержание веры в сверхъестественное предстает перед нами
в трех формах. Прежде всего это вера в то, что предметы материального
мира могут быть наделены сверхъестественной силой и* проявлять соот-
ветствующие свойства; сюда относятся все виды фетишизма и связанные
с ним воззрения. Вторая форма состоит в представлении о том, что между
различными предметами естественного мира могут существовать сверхъ-
естественные связи; мы включаем сюда и веру в те воображаемые связи,
которые лежат в основе различных магических действий. Наконец, наибо-
лее ярко выражает представления о сверхъестественном мире вера в
сверхъестественные^существа — в богов, демонов, ангелов, духов предков
и вообще умерших людей.
Теоретически, интеллектуально не только первобытный, но и вообще
верующий человек представляет себе различие между естественным и
сверхъестественным весьма неопределенно и расплывчато. Больше того, са-
ми по себе представления о сверхъестественных явлениях тоже в доста-
точной мере туманны и, выражаясь языком оптики, нерезки. Их границы
настолько размыты, что между различными типами представлений наблю-
дается своего рода диффузность — они легко переходят друг в друга. Это
оказывается возможным прежде всего потому, то религиозное сознание не
евявано требованиями логики.
Следует отличать религиозные верования от фантастических пред-
ставлений, фигурирующих в некоторых жанрах искусства. И в фольклоре,
в в литературе, и в изобразительных искусствах есть жанры, связанные
е представлениями б сверхъестественном. В басне и волшебной сказке
звери говорят человеческим языком, люди превращаются в животных и,
наоборот, по «щучьему Велению и моему хотению» происходят удивитель-
ные и невозможные в реальном мире метаморфозы — в общем такие же
чудеса, как в религиозной мифологии. В живописи, графике и скульптуре
художник может выражать свою идею при помощи совершенно фантасти-
ческих образов. Не всякий .миф является по своему существу религиоз-
ным, если даже в нем и фигурируют представления, связанные с миром
сверхъестественного. В чем специфическое отличие тех представлений о
сверхъестественном, которые являются непременным аксессуаром рели-
гии?
В религии мы имеем дело не просто с представлениями о сверхъесте-
ственном, а с верой в его реальное существование. Во всех перечисленнных
выше жанрах литературы и искусства сверхъестественное фигурирует как
заведомое порождение фантазии, так что читатель, слушатель или зри-
тель не считает его действительно существующим. Для религиозных же
представлений характерна вера в то, что вся их фантастичность отра-
зкает совершенно реальную действительность. Что касается мифов, то их
связь с религией определяется именно тем, в какой мере их фантастиче*
екяе сюжеты связаны с верой в то, что соответствующие персонажи суще-
ствовали или существуют в действительности и что события, о которых
идет речь, действительно происходили.
Представления о сверхъестественном в нерелигиозных явлениях созиа-
5
нш к в религии различаются еще в одном направлении: в религии эти
представления связаны с кульгом, с системой обрядов и моли i в, с рели-
гий зно-магическими действиями.
Если человек не только «представляет» себе сверхъестественное, но
и верит в его реальность, то у него неминуемо возникает потребность всту-
пить в какие-то отношения с этой реальностью, ибо от этих отношений
может зависеть его личное благополучие, как и благоденствие других
людей, интересы которых ему по тем или иным причинам близки. Если
сверхъестественные персонажи действительно существуют, то при тех
возможностях, которыми они располагают, они могут оказывать -немалое,
а то и решающее влияние на судьбу людей. А поскольку это так, га
обнаруживается прямая «необходимость» вступить с этими существами »
такие отношения, которые обеспечили бы их' благожелательность. Возни-
кает задача их умилостивления при помощи жертвоприношений и молитв^
постоянного подобострастного восхваления высших существ, соблюдения
таких норм жизненного поведения, которые были бы им угодны. Здесь-
лежат источники религиозного культа.
Из сказанного вытекает, чго если мы ставим своей задачей освещение
вопроса о происхождении религии, то прежде всего мы должны выяс-
нить происхождение тех% представлений и верований, которые лежат в
основе религйозного комплекса.
Источники наших сведении о начале религии
На первом, плане здесь данные этнографической науки о наиболее от-
сталых в технико-экономическом и культурном отношениях к моменту их
открытия и описания племенах и народах земного шара — североамерп-г
канских индейцах, аборигенах Австралии и Тасмании, многих племенах
Центральной и Южной Африки и т. д/
Этнографические исследования дали колоссальный материал, характе-
ризующий ранние формы религиозных верований и культов. В научной
литературе по религиеведению и истории религий на основе этнографичес-
ких материалов сложились понятия фетишизма, анимизма, тотемизма,
культа предков и т. п. в качестве форм религии вообще и первобытной
религии в частности.
Что же касается самого процесса возникновения первоначальных рели-
гиозных верований, то этнографические материалы не могут на этот счет
сказать ничего определенного. Дело в том, что ни один народ, ни одно
племя на земном шаре не были найдены путешественниками и этнографа-
ми (здесь это одно и то же, ибо путешественники интересуют нас £ дан-
ном случае лишь как люди, делавщие наблюдения, по существу, этно-
графического порядка) в «дорелигиозном» состоянии.
Следует подчеркнуть здесь важное методологическое значение вывода,
вытекающего из этнографических данных: религия существует у всех беа
исключения народов и племен земного шара. Это значит, что она пред-
ставляет собой не случайное, а закономерное явление в истории челове-
чества. Этим по существу и на конкретном материале опровергается тео-
рия обмана, отстаивавшаяся многими представителями домарксистского
атеизма. В полном соответствии с учением исторического материализма
религия предстает перед нами как неизбежный продукт духовной жизни
человечества на одном из этапов его истории, коренящийся в условиях
его общественного бытия.
Для реконструкции ранних форм религии, помимо этнографических
данных, используются и археологические материалы. В принципе архео-
логия может дать для интересующей нас проблемы больше, чем этногра-
фия, ибо ее свидетельства проникают в глубину тысячелетий значительно
б
Дальше, чем наблюдения этнографов. Но здесь есть свои слабые мест#.
Чем древней тот или иной археологический памятник, тем он «немеем
поэтому тем более спорной является его .интерпретация. Памятники, прл-
шедШие к нам Из дйписьменны* времен, сами по себе Просто немы, об
их назначений в тот период, когда Они бытовали, прйходйтся bo многих
случаях лишь догадываться и спорить. Часто решение этого вопроса до-
стигается при помощи сопоставления с аналогичными или сходными мате-
риалами этнографии, оставаясь, однако, и в этом случае гипотетическими.
Некоторый материал для реконструкции процесса возникновения ре-
лигии может дать и такая парная дисциплина, как психология детского
возраста. Если считать, в соответствии с знаменитым биогенетическим за«
коном; что развитие индивидуума представляет собой сокращенное повто-
рение в общих чертах истории всего вида, то, наблюдая ход психического
развития современного ребенка, можно уловить в нем какие-то стадии
развития духовной культуры, которые проходило все человечество. В част-
ности, именно на основании таких наблюдений некоторые исследователи
приписывают первобытному человеку «оживотворение» всего существую-
щего,— ребенок, мол, относится ко всем окружающим его предметам, как
к живым. Здесь, однако, очень трудно отделить в - поведении ребенка
собственное, - спонтанно развивающееся начало от результатов Влияний
окружающей среды. Тем не менее, конечно, и этим материалом Пренебре-
гать нельзя.
Многие исследователи придают -особенно большое значение матери-
алам, которые можно извлечь из наблюдений над пережитками в культуре
и быте современны^ народов и особенно в их языке. Историческая линг-
вистика раскрыла происхождение некоторых общественных явлений при
помощи истолкования тех терминор, которыми, они обозначены в разных
языках. Она, в частности, многое дала для исследования верований и куль-
тов народов классической древности. Но опять-таки'для освещения самого
Процесса возникновения религии вообще данные языкознания много дать
не могут.
Таким образом, тот фактический материал, которым располагают част-
ные науки, при всем своем громадном изобилии сам по себе не можег
дать решения проблемы происхождения религии. Руководящей нитью для
такого решения Должны являться философско-методологические и логичес-
кие соображения, учитывающие, само собой разумеется, те фактические
данные, которые мы находим в этнографии, археологии, психологии и
лингвистике. Нет оснований сомневаться в том, что историко-материали-
стическое решение этой проблемы, основанное на материале частных наук^
правильно воспроизводит исторический процесс возникновения религии.
Проблема времени и места
Было бы грубо ошибочным, говоря о времени возникновения
религии, иметь в виду некий «момент» в собственном смысле
этого слова, некое одноактное явление, связанное с «оза-
рением» или догадкой. Под временем возникновения религи-
озных верований следует разуметь период очень большой по
нашим масштабам временной протяженности, занявший де-
сятки или, может быть, даже сотни тысяч лет; это был про-
цесс, происходивший в течение жизни сотен поколений. Если
попытаться расположить его в сетке чередования историко-
культурных эпох, то можно с уверенностью сказать лишь то,
7
что он начался в период среднего палеолита т, а в позднем
палеолите существовали уже более или менее оформленные
религиозные представления и культы. Независимо от того,
признавать ли неандертальские погребения в какой-нибудь
степени связанными с религиозными' верованиями, очевидно,
что в сознании человека мустьерской культуры уже начали
брезжить туманные представления о сверхъестественном. И
£ж во всяком случае для ориньяко-солютрейского времени
можно предположить наличие этих представлений с полной
уверенностью.
У кроманьонца 1 2 религия уже безусловно существует. То,
что могут нам дать в этом вопросе археологические и этно-
графические данные, свидетельствует об этом с полной оче-
видностью.
Для того чтобы в сознании человека могли появиться ре-
лигиозные представления, необходимо, чтобы это сознание
достигло известной степени своего развития. Способность к
заблуждению не должна рассматриваться как механически-
уменьшающаяся в ходе технико-экономического и интеллекту-
ального прогресса общества. Чем дальше, тем все более слож-
ные задачи ставит перед собой человеческий разум и тем:
более высокого уровня достигают и его открытия и его за-
блуждения. Как говорил Г. В. Плеханов, животное не может
ошибаться в решении алгебраических задач, ибо -перед, ним.
не возникают сами эти задачи, так что лишь на несравненно!
более высокой ступени развития интеллекта появляется сама
возможность таких ошибок. Это полностью относится и к во-
просу о возникновении религии. Для появления религиозного-
заблуждения необходимы определенные гносеологические воз-^
можности, возникающие лишь на определенной, ступени исто-
рии человечества и человеческого интеллекта.
Не лишним будет также указать здесь, что религия, кото-
рую «открывает» человек на начальной стадии своего разви-
тия, по своему характеру вряд ли может импонировать совре-
менным апологетам религиозной идеологии. Это вовсе не-
культ Верховного существа, как это в течение полустолетия
1 Так называемый каменный век принято в науке делить на древне-
каменный— палеолит и новокаменный — неолит. Каждая из этих эпох а
свою очередь делится на периоды, различающиеся по степени развития
каменной техники, единственной в то время; названия периодов устано-
вились по тем местностям, в которых были впервые найдены археологами
соответствующие данному периоду каменные орудия. Палеолит делится-
на периоды дошелльский, шелльский, ашелльский, м'устьерский; неолит —
на ориньякский, солютрейский и мадленский периоды.
2 В развитии и оформлении физического’ типа человека выделяются
следующие стадиальные формы: питекантроп («обезьяночеловек»), синан-
троп, гейдельбергский человек, неандерталец, кроманьонский человек.
С последней из указанных форм начинается существование на Земле?
современного человеческого Вида—Homo Sapiens ‘(человек разумный).
8
^пытался доказывать австрийский патер-этнограф Вильгельм
Шмидт и от'чего отказались теперь даже его собственные
ученики. Фантастичность, ранних форм религии, жестокость и
бесчеловечность связанных с ними культов в состоянии лишь
♦шокировать идеологов так называемых высших религий, ста*-
дающихся в меру своих сил отмежеваться от религиозной
-теории и практики ранних ступеней их развития.
Вернемся, однако, к вопросу о времени возникновения ре-
лигии. Было бы беспредметным и бессмысленным ставить
вопрос об абсолютном «возрасте» религии, ибо в разных райо-
нах земного шара процесс технико-экономического и культур-
ного развития идет неравномерно, так что разные группы че-
ловечества проходят различные стадии этого процесса в раз-
ное время. Не может быть речи и о том, чтобы искать «колы-
бель» первоначальных религиозных верований у одной какой-
нибудь из этих групп,—абсолютно невозможно предположить,
чтобы они, появившись у одной из них, в дальнейшем распро-
странились на другие при помощи своеобразного экспорта
идей. Отдельные взаимные заимствования тех или иных пред-
ставлений или ритуалов у соседствующих* племен могли иметь
место и, вероятно, действительно были, но само появление ре-
лигиозных верований и культов имело -настолько существен-
ные объективные и субъективные причины у всех групп чело-
вечества, что оно всюду происходило спонтанно и* внешние
влияния только в какой-то мере способствовали этому про-
цессу, воздействуя в то же время и на его форму.
В этом плане ясно, насколько несостоятельны попытки по-
стулировать отдельных людей, «придумавших» религию и об-
манувших ею бездеятельную пассивную массу. Они непра-
вильны и в том варианте, по которым эти отдельные индиви-
дуумы приходили к религии в порядке искреннего самообма-
на, каковой потом в результате их деятельности распростра-
нялся и на остальных..Сознание человека всегда было обще-
ственным, и развитая Леви-Брюлем концепция французского
социолога Дюркгейма о коллективных представлениях не лае г
ничего нового по сравнению с этим фактом, который всег/ха
был очевидным для марксизма. Мы отвергаем робинзонаду
не только в плоскдсти производственной и бытовой, но и в
явлениях сознания: оно всегда было социальным и те или
иные его идеи вырабатывались и даже оформлялись в про--
цессе непрерывного взаимообщения людей, в ходе их совмест-
ной жизнедеятельности производственной, бытовой и психи-
ческой.
Условия И причины возникновения религии
Можно было бы ограничиться одним из этих двух слов, ибо
условия, в которых жили люди периода возникновения рели-
9
ши, и являлись причинами ее возникновения. Мы оставляем*,
однако, оба этих понятия, применяя либо- то, либо другое,
ибо это .дает нам возможность более гибко трактовать самую
проблему.
До того времени, как в сознании и в поведении первобыт-
него человека стали формироваться элементы веры в сверхъ-
естественное, он был стихийным материалистом. В его жиз-
ценной практике, как и в его сознании, непосредственным об-
разом отражались объективные закономерности материально-
го мира, нащупываемые им в процессе его повседневной жиз-
недеятельности чисто эмпирически и почти вслепую, решаю-
щее значение здесь имел метод проб и ошибок, при всей своей
примитивности дававший все же многим сменявшим друг
друга поколениям возможность накоплять все более совер-
шенные приемы обеспечения жизненных потребностей челове-
ка. Чем дальше, тем эти Приемы находили все более опреде-
ленное «теоретическое» выражение в каких-то правилах и пе-
редававшихся от поколения к поколению традициях. Это был
процесс развития первобытной науки, хотя, конечно, в те
времена теоретическая деятельность еще не вычленялась из
всего жизненного процесса.
Целесообразный, логически правильцый и, следовательн?,
материалистический характер практической деятельности че-
ловека на ранних стадиях развития общества выражен чрез-
вычайно ярко. Исследователи отмечают удивительную целе-
сообразность первобытных орудий производства (русский
этнограф Л. Штернберг говорил об их гениальности), остро-
умие приемов охоты, замечательную- наблюдательность, про-
являющуюся в следопытстве, строгую- логичность рассужде-
ний и заключений, выводимых из наблюдаемых фактов. Вовсе
это не мистическое и не дологическое мышление, оно ориенти-
ровано принципиально таким же образом, как мышление че-
ловека на любой другой стадии развития общества, в том
числе и современной.
Но на каком-то этапе развития первобытного общества в
поведении и сознании общественного человека появляется
принципиально иная линия. Наряду с деятельностью, в ос-
нове которой лежат вначале полностью стихийные, потом все
более осознаваемые действительные закономерности объек-
тивного мира, в поредении человека появляются действия, ос-
нованные на фантастических представлениях о сверхъесте-
ственных существах и явлениях. Религиозная практика сосу-
ществует и переплетается с реальной стихийно-материалисти-
ческой жизненной практикой, никогда не сливаясь с ней и не
подмецяя ее. Соответственно этому раздваивается и сознание
. людей. Чем дальше, тем все парадоксальнее выглядит кар?*
тина этого раздвоения, ибо фантастический мир религиозных
представлений обогащается все новыми порождениями рели-
10
гиозного «творчества», все усложняется и разветвляется. Ло-
гическому мышлению и столь же логической практике, даю-
щим возможность первобытному человеку существовать, а
человечеству развиваться, противостоит все более ясно оформ-
ляющееся противоположное начало, чуждое здравому раз-
мышлению, не поддающееся проверке практикой и не выдер-
живающее этой проверки.
Сожительство в сознании и в поведении одних и тех же
людей столь противоположных по своей сущности начал вы-
глядит странным до неестественности. Но остается фактом:
именно так обстояло дело с того времени, как стали возни-
кать религиозные верования. Каковы же были те причины,
которые обусловили не только возможность, но и неизбеж-
ность этого «противоестественного» дуализма?
Следует видеть два ряда таких причин, коренящихся, во-
первых, в условиях общественного бытия того времени и, во-
вторых, в условиях общественного сознания. При этом те и
другие причины так переплетены, что разделять их можно
только теоретически, методами научного анализа.
Широко известны высказывания Ф. Энгельса и В. И. Ле-
нина об условиях общественного бытия первобытного челове-
ка, определивших неизбежность возникновения религии.
Ф. Энгельс говорил в этой связи об экономической основе
лишь в отрицательном смысле L Ленин характеризовал поло-
жение первобытного человека в этом отношении как состоя-
ние бессилия в борьбе с природой именно это бессилие он
•считал главной причиной возникновения религиозных верова-
ний1 2. Нет сомнений .в том, что эти основополагающие клас-
сические установки вскрывают самую суть дела. Нам следуег,-
однако, разобраться в них и раскрыть все богатство их со-
держания в свете того, что мы знаем теперь о бытии и созна-
нии человека первобытного общества,.
Бессилие первобытного человека перед лицом природы не
может считаться абсолютным: если бы оно было таковым,
человечество не выжило бы на Земле. Первобытный человек
был действительно, как говорил В. И. Ленин, подавлен
борьбой за существование. Но это не следует понимать в том
смысле, что указанная борьба парализовала его жизненные
силы: если бы это было так, то человек терпел бы в ней не-
престанные поражения, что несомненно привело бы все обще-
ство к гибели. Бессилие человека перед лицом природы было
относительным, ибо самой же природой он был наделен таки-
ми силами и потенциями, которые открывали перед ним пер-
спективу постепенного овладения ею. Тем не менее бессилие
было фактом, влиявшим на его сознание, подавлявшим
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч., г. 37, сгр. 419
2 В. И. Ленин; Полн. собр. соч., т. 12, стр. 142.
травмировавшим его и этим обусловившим возникновение
религиозного заблуждения.
Здесь перед нами возникает трудность, которая нередко
используется сторонниками апологетических теорий проис-
хождения религии. Гнет сил природы тяготел над человеком
с самого начала; почему же религия возникла не с самого
начала существования человечества? Питекантроп был куда
более бессилен перед природой, чем кроманьонский человек,
а ведь у него, мы считаем, еще не было религйиГИ еще более
бессильны высшие животные, от которых произошел человек,
но у них-то ведь не возникает религия!
Это затруднение выглядит серьезным, если не учитывать
того, что имеется в виду такое бессилие, которое проходит
через сознание человека и осознается им. Ощущение бесси-
лия может возникать у любого животного в безвыходной для
него ситуации, но такого ощущения недостаточно для того,
чтобы под его воздействием возникло какое-либо подобие ре-
лигиозных представлений. Для их возникновения нужно си-
стематическое переживание состояния бессилия, неудовле-
творенности, безнадежного стремления к чему-то лучшему.
Такое психическое состояние может появиться только у чело-
века на определенной ступени его развития. Только тогда,
когда в поле его умственного зрения оказываются какие-то
цели, влекущие и соблазнительные, но недостижимые, соз-
дается то нервно-психическое напряжение, которое способно
парализовать чувство реальности и уроки практики и стиму-
лировать работу неконтролируемой фантазии в направлении,
ведущем к появлению религиозных призраков. Бессилие осо-
знается, таким образом, как неспособность достичь того, что
представляется человеку остро необходимым. Именно в этом
смысле Маркс говорит о «грубом вожделении» фетишиста
Чтобы появилось это вожделение, нужно, чтобц человека
не удовлетворяло его положение, чтобы оно возбуждало в
нем мечты о лучшем и стремления к этому лучшему — такие
стремления, которые в данных условиях неосуществимы. У пи-
текантропа не могло быть таких стремлений, он не был в
состоянии осознавать свое положение как неудовлетворитель-
ное и не мог представлять себе ничего другого, кроме того,
что составляло его жизненную реальность. На какой-то сту-
пени развития общественного человека эта неудовлетворен-
ность появилась и породила потребность в религиозной фан-
тастике.
Это было, однако, не единственным условием и не един-
ственной причиной возникновения религиозных представле-
ний. Ряд особенностей, характеризующих человеческое созна-
ние на данной -ступени его развития, сделал возможным и
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, стр. 98,
12
неизбежным появление религиозно-паразитной линии в созна-
нии и поведении общественного человека.
Основным гносеологическим или, если поставить вопрос
шире, психологическим условием, сделавшим возможным воз-
никновение религиозных представлений, было развитие вооб-
ражения до такой степени, которая позволила ему отрываться
от эмпирической реальности и строить общие представления,
переходящие в понятия. До тех пор, пока сознанию человека
доступны только единичные представления, оно привязано к
конкретной, чувственно воспринимаемой действительности и
не в состоянии создавать фантастические построения. Его
развитие от чувственного познания к мышлению понятиями
имело решающее прогрессивное значение. Но «производствен-
ным отходом» этого процесса явилась возможность того, что
В. И. Ленин называл отлетом фантазии от действительности L
Развитие способности воображения, бывшее непременным
условием технико-экономического и умственного прогресса
человечества вообще, имело и обратную сторону — отрица-
тельную «'реакционную. Она заключалась в том, что возник-
ла возможность появления в сознании людей не только фан-
тазийного, но и фантастического элемента. Первым из этих
понятий я обозначаю то, Что вообще относится к воображе-
нию, вторым —то, что в результате работы воображения под
влиянием ряда отрицательных факторов как бытия, так и
сознания порождает* призраки и иллюзии, побуждает челове-
ка рассматривать явно невозможное как возможное, делать
грубейшие логические ошибки и не исправлять их, доверяя
в большей степени работе своего воображения, чем практике
и логике. Само собой разумеется, что прогрессивное значе-
ние развития воображения несравненно сильнее и существен-
нее оборотной стороны этого процесса. Но последняя все же
существует и, исследуя вопрос о происхождении религии, мы
должны ее учитывать.
Развитие воображения у первобытного человека происхо-
дило в рамках присущего ему абсолютного сенсуализма, т. е.
'склонности полностью доверять своим ощущениям и впечатле-
ниям, не будучи в состоянии подвергать их проверке как жиз-„
ненной практикой в более широком масштабе, так и работой,
критической мысли. В сознании первобытного человека гос-
подствовал обусловленный этим абсолютным сенсуализмом
примитивный наивный реализм, в силу которого он принимал
за чистую монету все свои ощущения и впечатления, в том.
числе иллюзии, галлюцинации, сновидения, кошмары. Вооб-
ражение, таким образом, имело своим материалом не только
объективные данные опыта, адекватные реальному миру, но
и субъективные ошибочные впечатления и ощущения. Усили-
1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 330.
.13
вавшаяся в ходе развития воображения способность к абстра-
гированию должна была оперировать не только объективно-
истинным, но и иллюзорным эмпирическим материалом.
Отвлекаясь при помощи абстракции от эмпирической дей-
ствительности, первобытное сознание получило возможность
конструировать представления о явлениях и закономернос-
тях, не наблюдаемых и вообще не воспринимаемых органами
чувств. Материалом для таких представлений служили от-
дельные стороны действительных вещей и явлений, абстра-
гируемые от целого. Но в отличие от того, как это происходит
в научном логическом мышлении, здесь абстрагированные
стороны реальных явлений отражались в сознании не столько
как понятия, сколько как-представления, притом персонифи-
цированные, олицетворенные.
Стремление к олицетворению в той или иной мере свой-
ственно человеческому сознанию на разных ступенях его раз-
вития. В условиях дисциплинированного логического мышле-
ния оно может проявляться лишь в определенных жестких
рамках, причем условный и, так сказать, нереальный харак-
тер этого олицетворения сознается человеком. В первобытном
же сознании стремление к олицетворению получает полную
свободу и реализуется в образах и представлениях, выражаю-
щих в персонифицированной форме отдельные черты и сто-
роны окружающих человека явлений.
Содержанием олицетворения является уподобление перво-
бытным человеком всех явлений, с которыми ему приходит-
ся сталкиваться, самому себе, — если можно так выразиться,
самоаналогия. Обычно это явление в истории сознания име-
нуется антропоморфизмом, но несравненно большее значение
надо придавать в этой связи антропопатизму. Раньше, чем
человек начинает строить себе богов по своему внешнему
образу, он представляет себе сверхъестественные существа в
самом различном внешнем облике, но во всех случаях наде-
ляет их своей внутренней псих-ической жизнью, своими ощу-
щениями и чувствами, логикой своего поведения и рассужде-
ния.
Известно, что чем более недостаточной информацией рас-
полагает человек по поводу того или иного объекта, тем бо-
лее он склонен к тому, чтобы объяснять этот объект и пред-
ставлять его себе по аналогии с другими объектами, в отно-
шении которых у него имеется более богатая и содержатель-
ная информация. Суждение по аналогии имеет логическое
право на существование и во многих случаях дает плодотвор-
ные результаты. В первобытном же сознании оно нередко
приводит к очень серьезным ошибкам и заблуждениям, так
как ведется не по законам и нормам дисциплинированного
мышления, а в основном стихийно и самотеком. Именно та-
кой случай имеет место в процессе возникновения религии.
U
Располагая чрезвычайно скудной информацией об окру-
жающих его вещах и явлениях, первобытный человек сти-
хийно объясняет их по аналогии. Положение усугубляется
еще тем, что его незнание более или менее равномерно рас-
пространяется на различные области явлений,'так что сфера,
из которой можно черпать материал для аналогий, чрезвы-
чайно узка. Есть, однако, область, в которой даже первобыт-
ный человек знает сравнительно много, — его- собственная
внутренняя жизнь, его переживания, ощущения и чувства, его
боли и радости, его намерения и стремления. Эта область
и становится основным источником, из которого он чернаег
материал для аналогии. Все, с чем он сталкивается, воспри-
нимается и объясняется им по аналогии с самим собой.
Первобытный человек не выделял себя из природы. Долж-
но было пройти немало времени прежде, чем он начинал при-
менять к себе и к объективному миру различные мерки. Это
«невыделение себя из природы» равносильно «неотделению»
природы от себя. Не себя объяснял,первобытный человек, ис-
ходя из знаний о природе, — таких знаний у него было -очень
мало, — а, наоборот, природу объяснял на основании того,
что он знал о себе.
Нуждался ли он, однако, вообще в этих объяснениях:? Иг-
рала ли любознательность серьезную роль в его поведении
и сознании? Как известно, позитивистская историография пер-
вобытного общества считала именно стремление к удовлетво-
рению своей любознательности главным стимулом, побуж-
давшим первобытного человека впадать в религиозные за-
блуждения. С другой стороны, есть сторонники противополож-
ной точки зрения, предписывающей первобытному человеку
чуть ли не автоматическое инстинктивное поведение, свобод-
ное от размышлений. Обе эти крайности должны быть отбро-
шены.
Любое живое существо неминуемо повинуется тому сти-
мулу, который И. П. Павлов называл ориентировочным
рефлексом. На той высокой стадии филогенетического разви-
тия, на которой находится человек, ориентировочный рефлекс
имеет принципиально более сложную и психически богатую
форму, для обозначения которой незачем искать другое поня-
тие, кроме любознательности. В отличие, одиако, от сторон-
ников концепции «философствующий дикарь» мы полагаем,
что любознательность человека на ранних этапах обществен-
ного развития относилась не к философским проблемам, не
к «проклятым вопросам», волнующим мыслителей последую-
щих тысячелетий, а к самым насущным и остро актуальным
проблемам собственного физического бытия. Прежде в^ег»
его любознательность искала ответ на вопрос о том, как уце-
леть в борьбе за существование И именно в процессе реше-
ния этой проблемы у него рождались теории и объяснения
15
как жизненно-реалистического, так и фантастически-иллюзор*
ного порядка. Аналогии с самим собой у него рождались,
таким образом, не для объяснения сущности природных явле-
ний в целом, а для ориентировки в непосредственном окру-
жении — в предметах и явлениях, близких ему, притом не
только территориально, но и функционально.
Во всяком случае какие-то вопросы ему приходилось ре-
шать «теоретически» и в соответствии с этими решениями
строить объяснения. Отсюда возникли этиологические мифы.
Мы не разделяем концепции, по которой религиозные пред-
ставления вообще возникли из этиологической мифологии.
Тем не менее нельзя не видеть ту роль, которую сыграли в
процессе этого- Возникновения стихийно возникавшие объяс-
нения.
То обстоятельство, что эти объяснения были в значитель-
ной своей доле не просто ошибочными, а религиозно-фанта-
стическими, имело одним из своих источников эмоционально-
импульсивный характер всей умственной деятельности перво-
бытного человека.
Следует отвергнуть ходячее представление о том, что по
мере развития цивилизации растет нервная возбудимость лю-
дей. Нельзя представлять себе первобытного человека- как су-
щество, особо устойчивое в нервно-психическом отношении.
Наоборот, большое количество этнографических наблюдений
свидетельствует о том, что на ранних ступенях’развития об-
щества человек в массе своей был значительно более нерво-
зен, чем в последующее время. Тяжелые условия существо-
вания, подстерегавшие человека всюду опасности, бедствия,
часто обрушивавшиеся на него и на его родичей, — все эю
обусловливало систематическую травматизацию нервной си-
стемы. Надо полагать (и этнографические материалы дают
много косвенных доказательств этого), что среди людей пер-
вобытного общества был значительно больший процент и
психически больных, и просто неуравновешенных людей, чем
на последующих ступенях общественного развития. В общем
эмоциональная возбудимость первобытного человека была
чрезвычайно большой, чему способствовала также слабость
логического мышления, способного в других условиях вводить
эмоции в спокойное русло контролируемых разумом пережи-
ваний.
На возникновение в сознании первобытного человека ре-
лигиозных призраков должны были оказывать влияние преж-
де всего отрицательные эмоции: страх, внутренняя подавлен-
ность, ощущение бессилия, нередко — отчаяние. В таких ус-
ловиях человек испытывает обычно потребность в утешении.
Его сознание подсказывает ему такие возможности и такие
варианты развития событий, которые способны дать это уте-
шение. На той стадии развития общественного сознания, ког«
16
да воображение уже в состоянии конструировать фантастиче-
ские построения, оно приходит на помощь потребности в уте-
шении. Жизненная практика человека и соображения разу-
ма, которые могли бы в другой обстановке «развенчать»
созданное фантазией построение, в данной обстановке молчат.
Потребность человека, его острое желание, его «бессильное
вожделение» укрывают и защищают иллюзорное представле-
ние, сулящее спасительный выход из кажущегося безвыход-
ным положения или по меньшей мере какое-то облегчение
этого положения. Религиозное заблуждение оказывается не-
уязвимым для логики и практики только потому, что убогий,
забитый, запуганный жизнью человек испытывает настоя-
тельную нужду в том, чтобы верить в истинность заблуж-
дения.
Стимулом к возникновению религиозных представлений
являлись и некоторые положительные эмоции. Настроения ра-
дости и восторга, наполнявшие и переполнявшие человека
при какой-нибудь жизненной удаче, чувство благодарности
тому, что способствовало этой удаче в действительности или
в воображении человека, ощущение собственного здоровья и
физиологической мышечной радости — все это тоже рвалось
наружу и требовало своего выражения. Частично это реали
зовалось в общении с другими людьми, в песнях и плясках,
в празднествах типа австралийских коробори. А другим вы-
ходом для него было общение с создававшимся тут же
воображением под стимулирующим влиянием этих эмоций
сверхъестественными сущностями.
Итак, религия возникла тогда, когда это стало неизбеж-
ным и возможным. Неизбежность коренилась в тяжелых ус-
ловиях жизни человека, в порождавшемся этими условиями
постоянном нервно-эмоциональном напряжении, травмировав-
шем разумную умственную деятельность, в вытекавшем из
этих условий стремлении к самообнадеживанию и утешению.
Возможность появления религиозных иллюзий и связанных с
ними культов появилась тогда, когда человеческое сознание
достигло определенного уровня развития, позволявшего вооб-
ражению создавать религиозно-фантастические конструкции.
Характер и формы
первоначальных религиозных верований
Было бы наивно представлять себе возникновение религии
таким образом, что сначала у человека возникли и оформи-
лись определенные образы, представления и верования, а по-
том он ощутил необходимость каких-то действий, вытекаю-
щих из этих верований, и придумал ритуалы, составившие
религиозный культ. Сознание и действие не отгорожены одно
от другого, они взаимно переплетены в жизни людей на всех
17
ступенях общественного развития. Тем более это относится к
первобытному обществу, ибо «производство идей, представле-
нии, сознания первоначально непосредственно вплетено в ма-
териальную деятельность и в материальное общение людей» .
Появившиеся смутные, еле осознаваемые идей тут же претво-
ряются в действия, а последние стимулируют развитие, ус-
ложнение и оформление этих идей. В дальнейшем эволюция
верований и культа идет параллельно, во взаимном, тесном
переплетении и взаимном стимулировании. Признавая это,
мы, однако, не забываем, что религиозная специфичносгь
культовых действий определяется их связью с представления-
ми’ о сверхъестественном, с верой в реальное существований
сверхъестественного. Поэтому в исследовании характера и
форм первоначальной религии мы пытаемся прежде всего
'выяснить, какие верования возникли первоначально, в каких
действиях и ритуалах они тут же нашли свое выражение и
какие новые верования и ритуалы появились в ходе даль-
нейшего развития.
Но, можег быть, вовсе не было этих «первоначальных»
форм, а в различных географических, климатических и прочих
условиях религия появлялась в разных формах, так что в
одном месте сначала появился тотемизм, в другом — фети-
шизм и т. д.? Или, может быть, в одном и том же месте рели-
гия возникала одновременно в разных формах?
Мы считаем, что при всем различии внешних условий, в
которых проживали общества людей в разных углах земного
шара, были все же некоторые общие закономерности, прису-
щие процессу возникновения религии всюду, и этй общие
закономерности определяли до некоторой степени одинаковый
характер возникавших верований и культов у различных пле-
мен в самых разных районах земного шара.
Какими должны были быть эти общие основные черты?
Решение этого вопроса определяется характерными особен-
ностями первобытного мышления.
Одно время в нашей литературе была популярна концеп-
ция французского философа и этнографа Л. Леви-Брюля,
согласно которой первобытное мышление было «иначе ориен-
тировано», чем мышление современного человека, — оно было
якобы алогическим и подчинялось совсем другим законам,
чем логическое мышление цивилизованного человека. Некото-
рые из наших теоретиков усматривали в такой точке зрения
обнаружение диалектики в истории мысли, выражающейся в
том, что каждой ступени этой истории соответствует своя ка-
чественная специфичность. Это искусственное построение про-
тиворечит очевидным фактам истории не только обществен-
ного сознания, но и человеческого общества в целом. Мёха-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 3, стр. 24.
18
пизм и законы мышления остаются одними и теми же на- всех
ступенях развития общества, ибо в них отражается объек-
тивная логика самой природы, частью которой человек яв-
ляется и закономерности которой он познает в процессе своей
трудовой и вообще жизненной практики. Это теоретическое
соображение подкрепляется тем непреложным фактом, что
первобытное общество не погибло, а вьркило и развилось,
что было бы невозможно, если бы мышление и, следователь-
но, поведение его членов было алогическим и мистическим в
своей основе.
Нельзя в то же время не видеть того, что для первобыт-
ного мышления характерны некоторые особенности, которые
не могли не оказать^влияния на те формы, в которых возник-
ли религиозные верования.
Прежде всего следует отметить такую его особенность,
как предметность, конкретность; свое яркое выражение она
нашла в языках тех отсталых народов, которые изучались и
продолжают изучаться этнографической наукой. По сравне-
нию с языками более развитых народов в них значительно
меньше терминов, ъыражающих общие понятия, и в то же
время они чрезвычайно богаты словами, обозначающими еди-
ничные представления, а также общие представления и поня-
тия весьма малого объема. И первоначальные религиозные
представления тоже должны были быть весьма конкретны и
предметны.
Второй важнейшей особенностью мышления первобытного
человека являлось то, что его объектом и материалом были
предметы и явления, входившие в его непосредственное окру-
жение и имевшие для него жизненное значение. Поэтому и
религиозные представления должны были вначале относиться
к предметам и явлениям ближайшего окружения, притом к
таким, которые вплетены в жизнедеятельность человека.
Если подойти к установлению первоначальной формы ре-
лигиозных верований, учитывая эти особенности первобытно-
го мышления, то наиболее правдоподобным представляется
•тот вариант, по которому этой первоначальной формой мог
быть лишь фетишизм.
Содержание этого понятия раскрывается в научной лите-
ратуре по-разному. В некоторых случаях фетишизмом име-
нуется религиозное почитание как животных и растений, так
и неодушевленных предметов. При ограничении же круга объ-
ектов поклонения только неодушевленными предметами в по-
нятие фетишизма иногда входит и обоготворение Солнца и
других небесных светил, а также и вообще великих и гроз-
ных явлений природы. При таком подходе фетишизм теряет
свою специфичность — так можно дойти до его отождествле-
ния с понятием религии в целом. Мы исходим из значитель-
но более узкой трактовки данного термина.
19
В более сложных системах религиозных верований/ фети-
шизм выступает перед нами во взаимосвязи с другимй рели-
гиозными явлениями и сам выглядит поэтому более сложным,
чем тот, который можно предположить на первых ступенях
существования религии. Например, почитание икон, мощей
и реликвий несомненно связано с фетишистским отношением
к этим предметам. Нельзя, однако, не видеть, что здесь фети-
шизм представляет собой лишь один из компонентов слож-
ной .и разветвленной системы верований, так что выделить
его можно* лишь умозрительно, средствами научного анализа;
помимо фетишизма, в данных культах наличествуют и демо-
низм, и культ мертвых, и тотемизм, и т. д. Первобытный фети-
шизм несравненно проще, он по своему существу элемента-
рен.
С нашей точки зрения, фетишизм в его первоначальной
форме не связан ни с анимистическими V ни с какими бы то
ни было другими сложными представлениями и верованиями.,
Нам представляется по меньшей мере неточным и применение
для его трактовки таких понятии, как обоготворение, покло-
нение или почитание. В первобытном фетишизме предметам
просто приписываются наряду с естественными и чувственно
воспринимаемыми свойствами также и свойства, не восприняв
маемые органами чувств. Они предполагаются в фетише,
причем это предположение не имеет каких-либо серьезных
логических мотивировок и делается на основании мимолетной
догадки, по случайной ассоциации. Вещь оказывается в вооб-
ражении человека, как говорил Маркс, «чувственно-сверхчув-
ственной». Его отношение к ней — не то, что отношение к ор-
динарным вещам, не облеченным в воображении фетишиста
сверхчувственными свойствами, оно окрашено особой насто-
роженностью, оно может быть проникнуто страхом. Это еще
не обоготворение и даже не почитание — такое отношение к
фетишу возникнет лишь в дальнейшем через ряд поколений,
в ходе развития и усложнения религиозно-фантастических
представлений.
На первой стадии существования фетишистских представ-
лений в них еще нет ни антропопатизма в полном смысле это-
го слова, ни удвоения предмета. Фетишист не наделяет его
всей сложной совокупностью человеческих чувствований и пе-
реживаний. Он еще не усматривает в нем, помимо его види-
мого телесного начала, невидимого двойника—души. Все это
придет лишь в дальнейшем. Пока же налицо только «особое
отношение» к некоторым предметам, выделяемым из всего
окружения человека, поскольку они приобрели для последнего
какой-то таинственный характер.
Можно, ли считать это особое отношение религиозным?
1 Анимизм- вера в душу и в духов.
20
Ведь здесь нет еще ни сложившихся оформленных религиоз-
ных верований, ни системы обрядово-культовых действий. Тем
не менее, с нашей точки зрения,, это и есть начало создания
религиозно-фантастических конструкций о сверхъестествен-
ном мире. Поскольку фетишист начальной стадии уже усмат-
ривает в предметах, которые мы называем его фетишами,
свойства, принципиально отличные от эмпирически восприни-
маемых им свойств обычных предметов, он наделяет эти пред-
меты сверхъестественными свойствами. А это означает начало
религии.
Фетишистское отношение к некоторым предметам ведет к
появлению в поведении человека элементов, которые в про-
цессе своего дальнейшего развития превращаются в религи-
озно-магические обряды. Носит ли человек свой фетиш с со-
бой в качестве амулета, применяет ли он его как лечебное
средство, пытается ли он при его помощи нанести вред своему
противнику или, может быть, даже «убить» его — все это
следует рассматривать как начальную стадию в развитии ре-
лигиозно-магического культа. Фетишистские верования сразу
выливаются в магические действия. Фетишистское отношение
к предмету выражается и в сознании, и в поведении, поэтому
оно является одновременно и теоретическим, и практическим.
Уже на этой стадии, развития сказывается такая особен-
ность религиозных представлений, как их независимость от
критерия практики. Фетиш не обнаруживает в доступных для
человеческого опыта формах своих сверхъестественных
свойств. Во многих случаях фетишист имеет возможность при
мало-мальски критическом осмыслении ходасобытий убедить-
ся в том, что фетиш нцчем ему не помог, когда он нуждался
в его помощи или, наоборот, не нанес ему вреда, когда, каза-
лось бы, следовало ожидать от пего именно вредоносных дей-
ствий. Но, во-первых, некоторые случайные совпадения собы-
тий иногда создавали видимость практического подтвержде-
ния силы фетиша. А во-вторых, если даже такие совпадения
и не происходили, репутация фетиша находила поддержку в
«бессильном вожделении» фетишиста, в догадках, возлагав-
ших ответственность за происшедшее на всевозможные дру-
гие обстоятельства, кроме лишь одного умозаключения об
ошибочности основной гипотезы о таинственной экстраорди-
нарной силе фетиша.
Здесь следует еще раз подчеркнуть высказывавшиеся на-
ми выше положения о том, что в качестве фетишей могли вы-
ступать лишь предметы ближайшего окружения человека,
притом те, которые имели для него жизненное значение. Не-
которые из его орудий охоты — именно те, которые оказыва-
лись особо добычливыми, имели наибольшие шансы, обрести
в воображении человека сверхъестественные свойства. В та-
ком же выгодном положении могло оказаться, например, де-
21
рево, плодами которого 'человек насытился в момент, когда,
казалось бы, у него не было никаких перспектив спасения от
голодной смерти. Могла стать фетишем яма или пещера, ко-
торая удачно оказалась на пути преследуемого зверем чело-
века, дав ему возможность скрыться в ней. И представления
о чудодейственной силе этих предметов вовсе не должны бы-
ли складываться в какие-то отчетливые и систематизирован-
ные воззрения для того, чтобы послужить источником фети-
шизма. Достаточно было для этого смутной и мимолетной
ассоциаци.
Чем дальше развивались и чем больше усложнялись пер-
воначальные фетишистские представления, тем более опреде-
ленным становился их антропопатический смысл.
Загадочность фетиша постёпенно раскрывается в сознании
человека как результат того, что это как будто неживое и
неподвижное существо наделено человеческими чувствами и
намерениями. Фегиш оказывает на человека то или иное бла-
годетельное или вредоносное влияние именно потому, что он,
фетиш, этого хочет, — он рассердился или, наоборот, проник-
ся добрыми чувствами. А стремясь исполнить свои намерения,
он выбирает те или иные- методы их осуществления; тут уж
ему приходится. размышлять, хитрить, колебаться в принятий
того или другого решения и т. д. Никак по-иному не может
фетишист представлять себе внутреннюю жизнь фетиша, как
по образцу своей собственной. Нельзя, однако, упускать из
виду, что, такое оформление антропопатических представле-
ний о фетише происходит постепенно и чрезвычайно медленно.
Параллельно с этим процессом, а может быть, в какой-то
мере вслед за ним идет процесс перехода фетишизма на более
высокую ступень в смысле сложности. Если на первом этапе
его развития сверхчувственными свойствами наделялся сам
предмет, то теперь воображению фетишиста начинает все
более определенно чудиться заложенный в этом предмете не-
видимый двойник, который и является носителем сверхъесте-
ственных свойств. На первой стадии мышление фетишиста
не интересуется вопросом об источнике сверхъестественных
свойств фетиша, оно не в состоянии даже уразуметь самый
этот вопрос и поставить его перед собой .как требующий реше-
ния. На втором этапе он уже не только возникает, но и нахо-
дит свое решение, заключающееся в том, что в фетише содер-
жится, кроме видимого и вообще воспринимаемого органами
чувств начала, еще и другое, невидимое и неощущаемое, но
более важное и более действенное, чем первое, — носитель
сверхъестественных свойств. Это то, Что в дальнейшем раз-
витии религиозных верований приобретает форму и значение
двойника. Возникает тот самый первобытный дуализм, кото-
рый был английским этнографом Э. Тайлором назван ани-
22
мизмом и без достаточных оснований отождествлен со спири-
туализмом. Здесь фигурирует представление не о душе, а о
невидимом двойнике видимого предмета, менее телесном,- чем
этот предмет, но не лишенном свойств телесности. Первобыт-
ное сознание еще не в состоянии возвыситься до таких степе-
нен абстрактности, которые позволяли бы сконструировать
понятие бесплотного духа.
По мере того, как получают все более определенную, при-
том все более сложную форму представления о сверхъесте-
ственном, начинают по-новому складываться отношения чело-
века к животному миру.
Вначале человек не отличает себя от тех животных, кото-
рых он "видит вокруг себя и с которыми ему приходится
иметь дело. Это вытекает, во-первых, из того, что р-н вообще
не выделяет себя из природы. С другой стордны, нельзя не
признать, что у него были и реальные основания к тому, чтобы
ставить себя на одну доску с животными: он действительно
ма^о чем отличался от них. В условиях, когда он еще не
располагал ни богатым арсеналам орудий производства, hji
набором предметов, составляющих оснащение человеческого
быта, ни специально построенными жилищами, его видимое
отличие от других высших животных сводилось в значитель-
ной мере к анатомо-морфологическим особенностям. В даль-
нейшем представление человека о его однопорядковости и
родственности с другими животными становится на новую
основу.
Когда возникает и оформляется представление о невиди-
мых двойниках видимых вещей, перед фантазией открывают-
ся грандиозные возможности такого оперирования этими
двойниками, при котором оказываются мыслимыми самые не-
вероятные комбинации. Реальная вещь остается самой собой,
она не может на глазах наблюдателя перейти в другую, ее
физические свойства подчиняются тем нормальным естествен-
ным закономерностям*, которые человек улавливает в своей
практической деятельности и которые представляются -ему
само собой разумеющимися. Но их двойники, их «души» могут
вытворять самые диковинные вещи, не воспринимаемые орга-
нами чувств человека, но предполагаемые и во всяком случае
допускаемые им. Невидимый двойник не связан условиями
локализации в данном пространстве и может находиться в
любом предполагаемом месте. Больше тогд—между двойни-
ками могут возникать сложные взаимоотношения, предпола-
гаемые человеком, но остающиеся скрытыми для него, ибо он
воспринимает органами чувств лишь то, что происходит с их
реальными носителями. Они могут в воображении человека
даже меняться местами, переходить друг в друга, обменивать-
ся.своими «оригиналами». Создаются гносеологические усло-
вия* для-возникновения представлений об-оборотничестве.
23*
В первобытной религии‘Это представление, которое вцос>
ледствии .приобретает широкое распространение в мифологии
и в фольклоре, а также в догматике «щясших» религий, иг-
рает большую роль. На некотором этапе ее развития человек
верит во всеобщую превращаемость: не только.волк может
превратиться.в человека и наоборот, но и скала может обер-
нуться змеей, луна — девушкойга ветер — тигром. В условиях
такого разгула метаморфозмической фантазии прежние^ пред-
ставления о единстве человека и животных могут приобрести
новую форму — верований в происхождение человека от них.
Становится гносеологически возможным возникновение тоте-
мизма
Эта возможность реализуется в условиях возникновения
рода и тех общественных отношений, которые связываюг
Людей внутриродовыми узами. Родовое единство находит свое
отражение в сознании родового человека как идея общности
происхождения всех членов рода. И так как гносеологически
уже подготовлено предположение возможности того, что не-
когда то или иное животное превратилось в, человека, то
отсюда недалеко до гипотезы происхождения данного челове-
ческого рода (не в логическом, а в социальном смысле) ог
какого-то вида животных, — именно эта гипотеза и составляет
сердцевину тотемистических представлений.
Почему же, однако, пытаясь построить гипотезу о евреи
происхождений,, род должен был искать предка в том или
и’ном животном виде?.Почему люди не могли представить
себе, что они изначально происходили от людей?
Отметим между прочим, что дело не сводилось к гипоте-
зам о животном происхождении. Известен тотемизм не только
животный, но и растительный, как и тотемизм, связанный с
отдельными явлениями природы (дождь, ветер и т. д.). Все
же в подавляющем большинстве случаев мы сталкиваемся
именно с тотемизмом зоологического порядка, связанным с
зоолатрией — почитанием животных. Вопрос о том, почему
люди должны были произойти с точки зрения тотемиста не
от людей же, а еще от кого-то и, в частности, от животных,
требует объяснения.
Очевидно, это объяснение следует искать в особенностях
человеческого мышления, соответствующего определенной
ступени общественного развития. Оно созрело уже настолько,
чтобы поставить самую проблему происхождения людей. Но
оно еще было настолько незрело, что решало ее примитивно
и фантастически.
1 Тотемизме—вера в родство данной общественной группы с тем
или иным животным или растительным видом ч в ее происхождение ог
этого вКда животных или растений; в некоторых случаях тотемизм при-
нимает форму веры в родство с неодушевленными предметами и Явле-
ниями.
24
Разные роды должны были, с точки зрения тотемиста, про-
изойти от разных предков — в этом сказалась родовая огра-
ниченность кругозора людей, в этом отразилось родовое об-
щественное устройство. Сама по. себе проблема происхожде-
ния по своему характеру требует решения в направлении —
происхождения от чего-то другого. А это другое должно быть
многообразным, поскольку речь идет о происхождении раз-
ных родов, в некотором смысле в себе замкнутых и в глазах
членов каждого из них — непохожих на все остальные. Зна-
чит,-речь должна идти о различных исходных сущностях.
Где же еще могло взять сознание материал для этого, кроме
как в животном мире?! Значительно меньший простор для
работы воображения в этом направлении давал растительный
мир и еще меньше — неживая природа.
В идее происхождения людей от животных или растений,
взятой самой по себе, еще нет ничего религиозного. Но когда
эта идея связана с целой системой представлений о взаимной
превращаемости всего во все, о таинственной сверхъестест-
венной связи между явлениями, в силу которой, например,
кенгуру есть человек и человек есть кенгуру, когда человек,
убежденный в наличии такой связи, совершает действия,
нри помощи которых он, по его мнению, вступает в дружес-
кие отношения со своим тотемом, когда сознание своей сЬязи
с тотемом накладывает на человека определенные обязатель-
ства, регулирующие его образ жизни и поведение (пищевые
и прочие запреты и рекомендации и т. д.), то мы имеем здесь
дело уже с какой-то формой религии.
Тотемистические верования и связанный с ними культ по-
рождают зоолатрию и теротеизм (почитание животных и обо-
ждествление зверей). Но, конечно, отношение тотемиста к
своему тотему не сводится к почитанию и поклонению. Как
и в фетишистском культе, отношения строятся здесь по прин-
ципу взаимности: ты мне, я тебе. Это деловой союз, в кото-
ром каждая сторона должна добросовестно исполнять взятые
на себя обязательства, а нарушение этих обязательств ка-
рается и кары'эти касаются обеих сторон; тотем, если он того
заслужил, подвергается наказанию человеком, как и чело-
век — наказанию тотемом.
Дуализм или дуалистический фетишизм находит в про-
цессе своего развития и другую линию, — помимо тотемиз-
ма,— притом такую, которая в дальнейшем ходе истории ре-
лигии играет несравненно большую роль. Мы имеем в виду
культ предков.
Его следы уходят так далеко в древность, что это побуди-
ло Спенсера счесть этот культ первоначальной формой рели-
гии. В нашей схеме он занимает менее «почетное» место од-
ного из звеньев в цепи развития форм первобытной религии.
Даже признание неандертальских погребений выражением
25
религиозного отношения к покойникам еще не свидетельствует
о том, что неандерталец исповедывал культ предков; Во^
первых, там погребались не только родители, но и покойники
всех возрастов, в том числе и дети, так что в крайнем случае
здесь может идти речь о культе покойников. В остальном на-
ши соображения о неандертальских погребениях высказаны
выше. Мы полагаем, что религиозное отношение к предкам
могло появиться лишь после того, как в сознании человека
оформилось представление о наличии во многих предметах, в
том числе и в1 человеке, невидимого двойника, то есть с по-
явлением фетишистского дуализма.
Признав, что в человеке, помимо его видимой телесной
сущности, имеется невидимый двойник, фантазия могла на
этой основе строить любые комбинации. Все, что было сказа-
но Тайлором, Вундтом й многими другими этнографами о
роли сновидений и о значении наблюдений над обмороком,
смертью, спящими людьми и животными, несомненно должно
при этом1 учитываться. Все это способствовало оформлению
представлений- о посмертном существовании человеческого
двойника, а в дальнейшей истории религии — к возникнове-
нию сложных учений о загробной- жизни. В первобытном об-
ществе религиозное отношение к факту смерти и к покой-
нику могло превратиться в культ предков лишь с возникнове-
нием соответствующих социальных условий (после того, как
в реальной жизни приобрела особое значение возрастная
группа старейших), а тем более после выделения главы мат-
риархального или патриархального рода (их высокое положе-
ние в земной жизни не могло не сказаться на отношении к
ним родичей после их смерти),. Таким образом, возникшее
ранее религиозное отношение к покойникам с течением вре-
мени переходит в культ предков.
Постепенно мир оказывается населенным в воображения
человека колоссальным количеством невидимых двойников
реальных предметов и явлений. И объекты тотемистического
культа, и души своих же «бывших людей» — родичей, пред-
ков;. членов чужих родов, и племен — населяют мировое про-
странство и, будучи невидимы, ведут таинственное для живых
людей существование. У них складываются свои внутренние
взаимоотношения, создаются свои группировки, между кото-
рыми тоже возможны отношения сотрудничества, нейтраль-
ности или борьбы. Но людей интересуют не столько внутрен-
ние отношения в мире «духов», сколько отношения последних
к самим людям, их возможное влияние на судьбы людей.
Мы взяли в кавычки наименование «духи», так как счи-
таем этот традиционный термин, вошедший в науку из бого-
словия, по меньшей мере неточным и ведущим к той путани-
це, которая царит в этом вопросе. Понятие духа должно про-
тивопоставляться понятию плоти, вещества, материи в грубом
26
^телесном смысле этого слова. Д1ежду тем в первобытном
мышлении это представление имеет чрезвычайно мало общего
с тем понятием духа, которым оперирует идеалистическая
философия. Мы отказываемся поэтому от применения терми-
на «анимизм» для обозначения этого понятия. Ту форму рели-
гиозных верований, которая связана с признанием существо-
вания невидимых сверхъестественных существ, могущих ока*
зывать положительное или отрицательное влияние на ход со-
бытий во внешнем мире и на судьбы людей, мы предпочитаем
называть демонизмом.
Демоны могли быть ранее, по верованиям людей разби-
раемой эпохи, двойниками реальных вещей и явлений объек-
тивного мира, а также и людей. Покинув своих реальных но-
сителей, двойники обретают свободу и становятся самостоя-
тельными существами. Их недоступность нашим органам
чувств окружает их особым ореолом таинственности, а так
как человек не может, воздействовать на них теми же сред-
ствами, какими он воздействует на своих собратьев, то у него
поневоле возникает представление об их особом могуществе,
принципиально ином, чем сила любого из земных людей: он
меня видит, он знает, что я делаю в каждый данный момент,
а я о нем ничего не знаю; он может воздействовать на меня
и обычными, и сверхъестественными средствами, я же могу
на него действовать лишь сверхъестественно — магическими
средствами.
Вначале демоны представляют собой однородную массу,
но в ходе эволюции религиозного сознания, как под влиянием
развития социальных условий, так и повинуясь собственной
внутренней логике, религиозная фантазия начинает их диффе-
ренцировать, причем идет эта дифференциация по разным
признакам.
Прежде всего демоны начинают различаться по месту сво-
его обитания. Они, правда, в общем не так связаны простран-
ственными условиями, как существа естественного мира, — в
каком-то смысле они даже внепространсгвенны, так как в со-
стоянии передвигаться темпами и способами, недоступными
для естественных существ, могут также проникать через, пре-
пятствия, обычными способами непреодолимые. И все же воо-
бражение человека не настолько автономно, чтобы не под-
даться соблазну пространственной детерминации демонов.
Так оказывается, что одни из них живут в пещерах, другие —
в лесу, третьи — в болоте, озере, реке, в горах и т. д. А жи-
вущий в том или ином- месте имеет на него особые права, он
скоро получает в сознании людей функции «хозяина места».
Отсюда уже недалеко до представления о демоне или, пожа-
луй, боге той или другой области явлений природы, той иля
иной стихии—короче говоря, до того самого натуризма, ко-
торый одно время считался первоначальной формой религии.
27.
Происходит дифференциация демонов и по их отношений
к человеку — по самому животрепещущему и актуальному
признаку. Появляются образы демонов добрых и злых. Они
могут считаться такими по самой своей природе, но могут
проявлять добрые или злые намерения в отношении различ-
ных людей или групп людей, могут менять свое отношение к
людям в зависимости от обстоятельств. Здесь уже человеку
оказывается прямо необходимым занимать какую-то позицию
в отношении этих существ: обезвреживать их злокозненные
действия и, наоборот» добиваться их поддержки. Первого
можно достигнуть при помощи некоторых из демонов, которые
либо по самой своей природе расположены к человеку, либо
теми или иными действиями с его стороны настроены благо-
желательно к нему. А поддержки и благорасположения со
стороны демонов можно добиться прежде всего жертвоприно-
шениями им, а затем и умильными и униженными просьба-
ми-молитвами. При этом заискивать всеми способами, начи-
ная с жертвоприношений, важнее даже перед злыми демона-
ми, чем перед добрыми, ибо последние склонны к добру н
независимо от того, как ведет себя человек по отношению к
ним, первые же более опасны, и потому особенно важно их
задабривать. Наиболее распространенной формой религиоз-
ного культа, соответствующей стадии демонизма в развитии
верований, стал шаманизм.
Постепенно в воображении людёй возникает иерархия
среди демонов. Представление о неодинаковости их физиче-
ской, умственной и тем более сверхъестественной силы могло
с самого начала возникнуть у человека по аналогии с неоди-
наковостью потенций естественных живых существ — в част-
ности самих людей. А по мере развития социальной диффе-
ренциации, с возникновением группового (по полу и возрас-
ту), а потом и социального неравенства в мире демонов про-
исходит отражение этих процессов: возникают образы демо-
нов-начальников-и демонов-подчиненных, старших и младших.
Открывается перспектива позднейшего превращения наиболее
высокопоставленных демонов в богов, а остальных — в подчи-
ненных им ангелов и бесов. Но этот процесс выходит, конеч-
но, далеко за пределы первобытного доклассового общества.
Куда же в этой нашей схеме девается такое понятие, иг-
рающее столь важную роль в литературе, как анимизм?
То имеющееся в нем содержание, которое действительно
соответствует сути дела, мы сохраняем в понятии дуалисти-
ческого фетишизма и демонизма. Анимизм же мы не вводим
в нашу схему по той причине, что этот термин является ис-
точником многих недоразумений в религиеведческой науке.
Э. Тайлор отождествлял анимизм со спиритуализмом, что
вытекало из его общей трактовки первобытного человека как
философствующего дикаря и что, по существу, стирает грань
23
между религией и философским идеализмом. И тот же Тай-
лор приводит огромный материал, свидетельствующий о том,
что в религии, особенно в первобытной, те представления,
которые он называет анимистическими, никак нельзя считать
спиритуалистическими. Еро «души» и «духи» представляют
собой фактически существа во. плоти, но эта плоть — менее
«плотной» и «плотской» структуры, чем предметы материаль-
ного мира, она несколько более эфемерна. С моей точки зре-
ния, вместо «души» здесь больше подходит понятие двойни-
ка — невидимого и не воспринимаемого органами чувств, а
вместо «духа» — понятие демона.
С конца прошлого века в научный обиход вошло понятие
веры в «мана» (безличную силу), зафиксированное англий-
ским этнографом-миссионером Р. Кодрингтоном у меланезий-
цев и рядом исследователей у других народов (под разными
названиями). Появилась теория, по которой именно вера в
разлитую во всех предметах и явлениях безличную силу
должна считаться первоначальной формой религиозных веро-
ваний. Несостоятельность этой теории очевидна.
Уже априори можно представить себе, что для конкретного
и предметного мышления первобытного человека такое абст-
рактное понятие, как безличная сила, было недоступно. А те
народы, у которых было обнаружено это верование, стояли на
сравнительно высоком уровне экономического и культурного
развития. Термин «мана», как показала советская исследова-
тельница Б. И. Шаревская, опираясь на его анализ у ряда
зарубежных авторов, грамматически скорее является прилага-
тельным, чем существительным, ибо означает просто понятие
сверхъестественного. Народы, у которых бытуют соответству-
ющие термины (мана, оренда, вакан и т. п.), уже доросли в
своем развитии до формулировки самого понятия сверхъесте-
ственного.
Стадия демонизма непосредственно соприкасается с той
стадией развития религии, которая именуется политеизмом —
многобожием. Период возникновения и развития последнего
выводит нас, однако, за пределы истории первобытного обще-
ства в период его разложения и в период становления клас-
сового общества.
Для того чтобы найти грань между демонизмом как фор-
мой религии и политеизмом, нужно установить специфическое
отличие богов от демонов.
В теологической литературе это отличие усматривается
в следующих признаках: 1) боги обладают свойством все-
могущества; 2) они пребывают вне мира, а если даже в мире,
до они недоступны для непосредственного общения с челове-
ком; 3) они—благие существа; 4) они—личные существа.
Первые три из указанных признаков выделены безусловно
неправильно.
29
Далеко не все боги во многих религиях представляются
всемогущими, а в политеистических религиях древности вооб-
ще не было всемогущих богов. Боги многих религий, в том
числе и библейские элохим, живут вовсе не вне мира и иног-
да являются людям либо в своем действительном облике, ли-
бо в каком-нибудь воплощении. О благости всех богов не при-
ходится и говорить. В древнеиранской религии Ангра-Манью
является по самой своей сущности злым богом, а вообще в
религиях древности можно составить огромный список богов,
благих в отношении одних живых существ и свирепо-злых в
отношении других. Всеблагость иудейско-христианского бога
гоже представляется весьма относительной — она совмещает-
ся со страшными карами за ничтожные прегрешения, с веч-
ностью адских мук и т. д. С другой стороны, демоны-покро-
вители, например, выглядят как достаточно благие существа.
Пожалуй, единственным признаком, по которому можно уста-
новить грань между богами и демонами, является т^, что пер-
вым, в представлении верующих, присуща индивидуальность,
они обладают личным именем; Демоны являются безличной и
безымянной массой, боги же суть личности.
Правда, и это специфическое отличие богов от демонов
весьма условно. Дело в том, что в некоторых случаях и демо-
ны имеют личные имена, то есть наделены индивидуальными
свойствами. В частности, покровители или хозяева местности
нередко носят то же имя, что и название данной местности,
и на их индивидуальность накладывает отпечаток характер
этой местности с присущими ему свойствами. Таким образом,
различие между богами и демонами трудно уловимо, и немец-
кий философ и психолог Вундт правильно говорил, что, на-
пример, боги Гомера мало чем отличаются от демонов.
Подвижность и условность грани между богами и демона-
ми находит свое выражение в такой же подвижности грани
между демонизмом и политеизмом. Рассмотрение этой проб-
лемы выходит, однако, уже зд пределы нашей темы.
ЛИТЕРАТУРА
В перечисленных ниже трудах советских и зарубежных авторов читатель
найдет обильный фактический материал, иллюстрирующий основные тео-
ретические положения данной темы. Вместе с тем он обнаружит, что по
ряду частных вопросов, связанных с ней, в частности по вопросу о перво-
начальной форме религии, среди исследователей имеются различные точки
зрения. Автору данной брошюры ближе других концепция, обоснованная
9 указанной *иже книге Ю. П. Францева «У истоков религии и свободо-
мыслия».
А. Ф. Анисимов. Религия эвенков в историко-генетическом изуче-
нии и проблемы происхождения первобытных верований. М.—Л., Изд-во
АН СССР, 1958.
А. Ф. Анисимов. Этапы развития первобытной религии. М,—Л.,
«Наука», 1967.
А. Д. Сухо в. Философские проблемы происхождения религии. М.,
«Мысль», 1967.
С. Ai Токарев. Ранние формы религии и их развитие. М., «Наука»,
196.4.
10. П. Францев. У истоков религии и свободомыслия. М,—-Л.,
Изд-во АН СССР, 1959.
Б. И. Ш а р е в с к а я. Проблемы первобытной религии в трудах совре-
менных буржуазных ученых. — В сб.: «Исследования и материалы по во-
просам первобытных религиозных верований». М., Изд-во АН СССР, 1959.
Переводная литература
Происхождение религии в понимании буржуазных ученых. Сборник.
М:, «Московский рабочий, 1932.
Л. Леви-Брюль. Первобытное мышление. М., «Атеист», 1930.
Л. Лев и-Б р ю л ь. Сверхъестественное в первобытном мышлении.
М, ОГИЗ, 1937.
Э. Тэйлор. Первобытная культура. М., Соцэкгиз, 1939.
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
К характеристике понятия религии . . 3
Источники наших сведений о начале рели-
гии .................................. 6
Проблема времени и места .... 7
Условия и причины возникновения религии 9
Характер и формы первоначальных религи-
озных верований...................17
Литература...........................31
ИОСИФ АРОНОВИЧ КРЫВЕЛЕВ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ РЕЛИГИИ
Редактор К. К. Габова
Обложка Н. И. Гришина
Худож. редактор Т. И. Добровольнова
Техн, редактор Л. А. Дороднова
Корректор Р. С. Колокольчикова
А 16037. Сдано в набор 22/VI П 1968 г. Подписано к печати 10/IX 1968 г.
Формат бумаги 60x90/1®. Бумага типографская № 3. Бум. л. 1,0.
Печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 1,91. Тираж 33500 экз. Издательство «Знание».
Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4. Заказ 2436. Типография изд-ва
«Знание», Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4. Цена 6 коп.
6 коп.
Индекс
70075
ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1969 ГОД НА
СЕРИЮ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ПОДПИСНЫХ БРОШЮР
«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И РЕЛИГИЯ».
БРОШЮРЫ СЕРИИ ПРОПАГАНДИРУЮТ МАРКСИСТ-
СКО-ЛЕНИНСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ЗНАКОМЯТ С НО-
ВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И РАЗ-
ВИТИЕМ ПРОГРЕССИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ,
ОПРОВЕРГАЮТ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О
МИРЕ, РАЗОБЛАЧАЮТ МОДЕРНИЗИРОВАННУЮ ПРИ-
СПОСОБЛЕНЧЕСКУЮ ТАКТИКУ СОВРЕМЕННЫХ БОГО-
СЛОВОВ, СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕРИА-
ЛИСТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ.
В 1969 году подписчики серии получат 12 бро-
шюр. среди них:
Анохин П. К., академик. Биология предвидев
ния.
Никшиов С. И., д-р фило-соф. наук. Ленин о
религии.
Угренович Д. М., д-р философ, наук. Психоло-
гия религии.
Шахнович М. И., д-р философ, наук. Мифы о
сотворении мира.
Серия «Естествознание и религия» в каталоге
«Союзпечати» расположена в разделе «Научно-
популярные журналы» под рубрикой «Брошюры
издательства «Знание». Индекс 70075.
ВЫПИСЫВАЙТЕ! ЧИТАЙТЕ! СЕРИЮ НАУЧНО-ПОПУ-
ЛЯРНЫХ БРОШЮР «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ И РЕЛИГИЯ».
Подписная цена на год 1 руб. 08 коп.
Издательство «Знание»