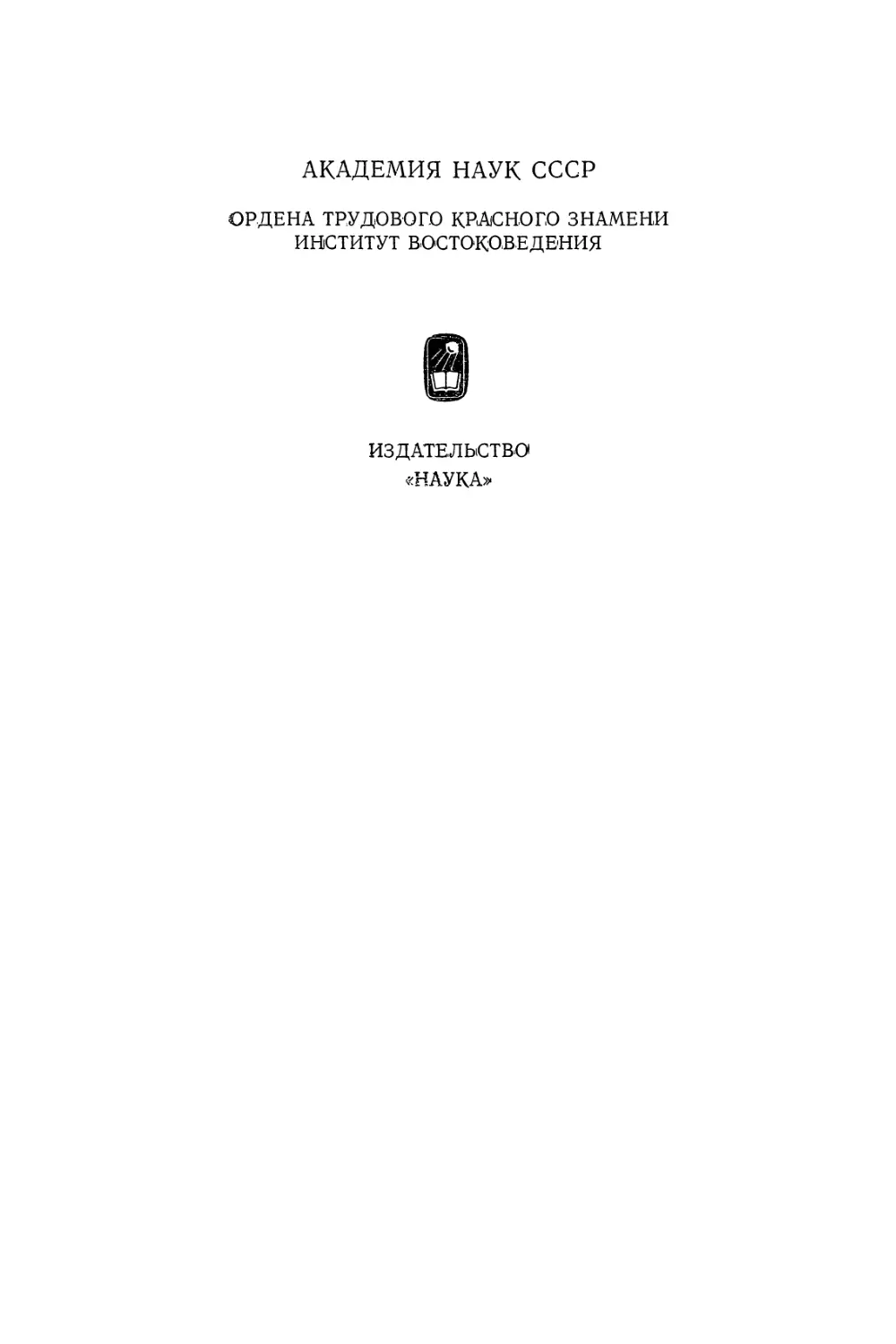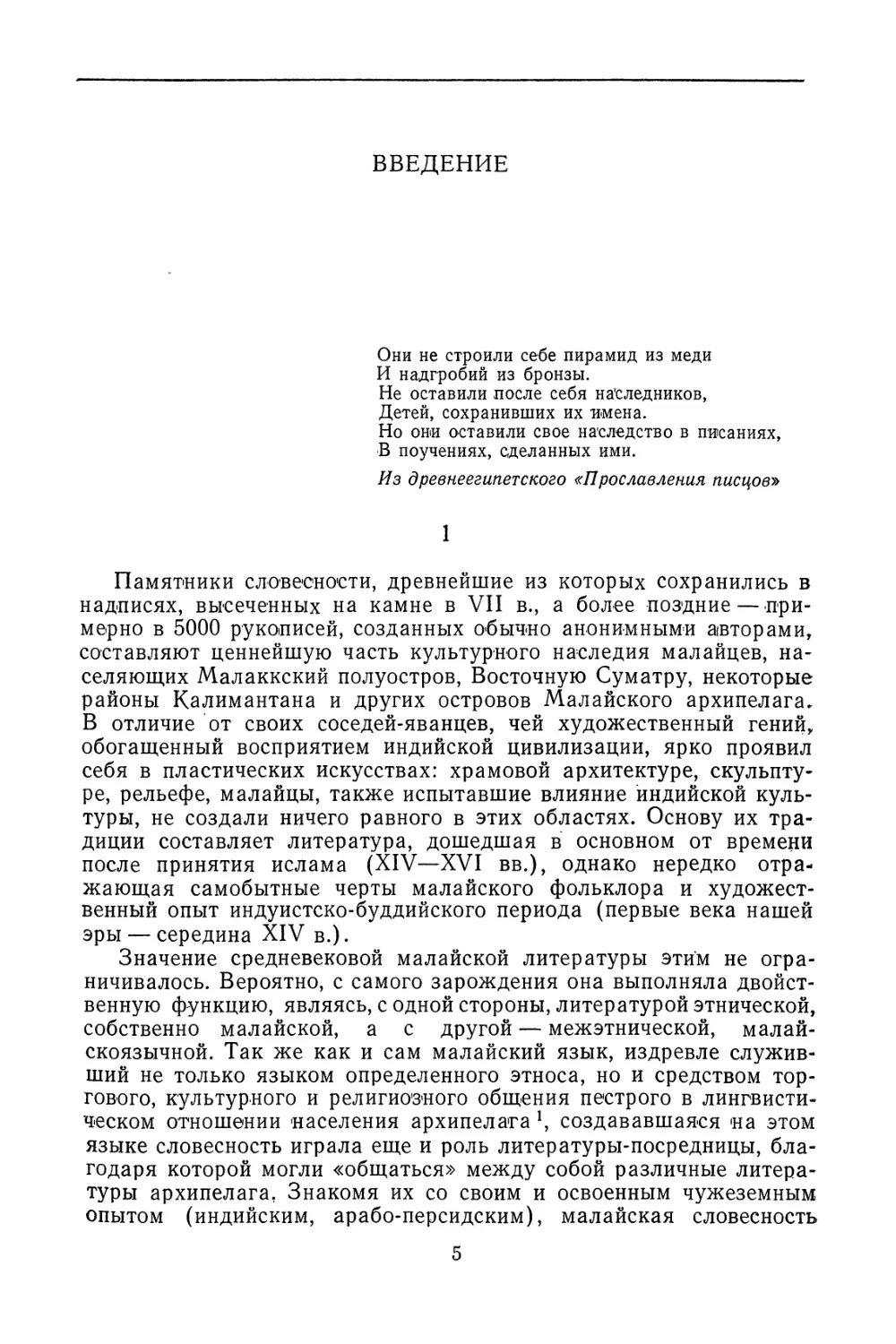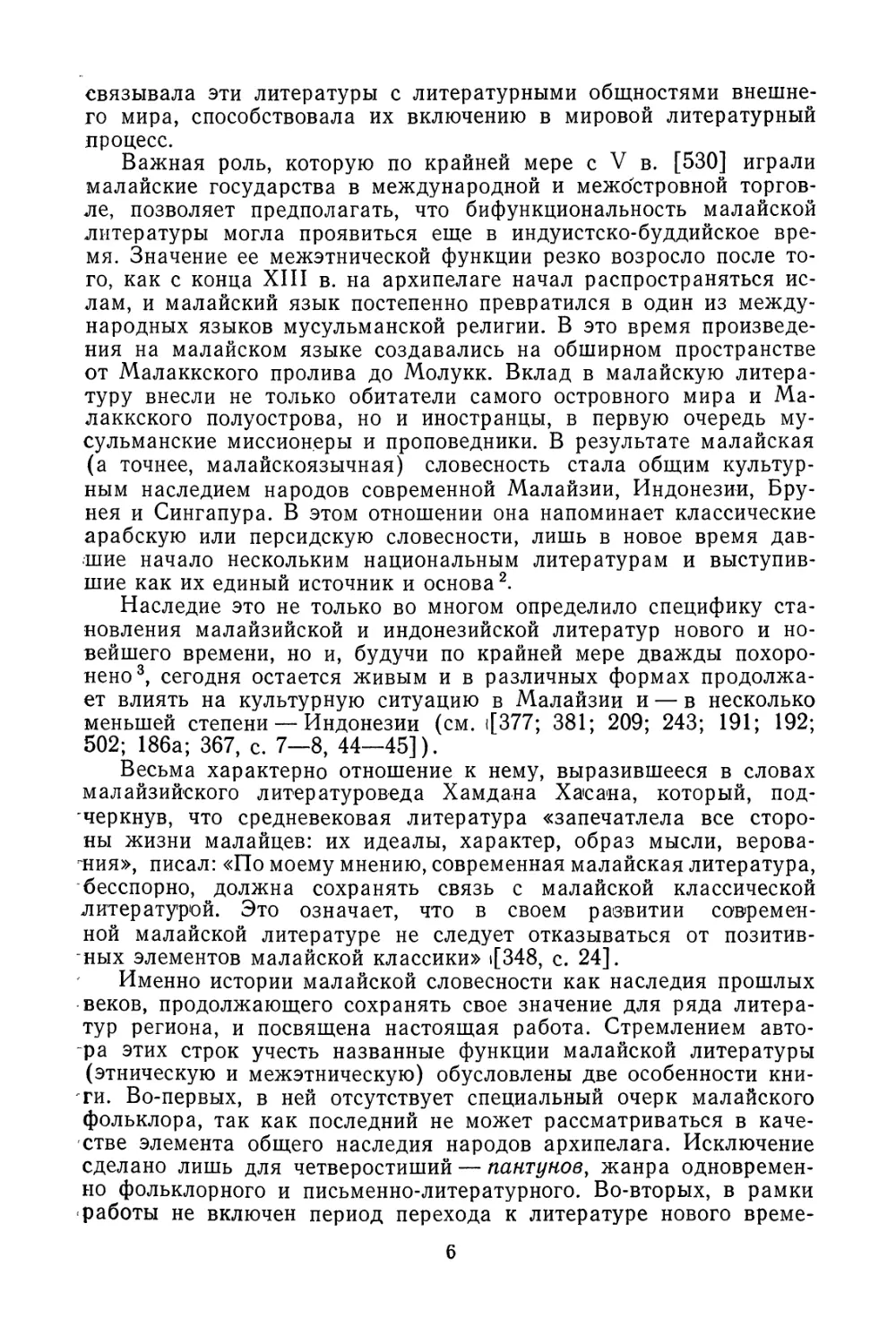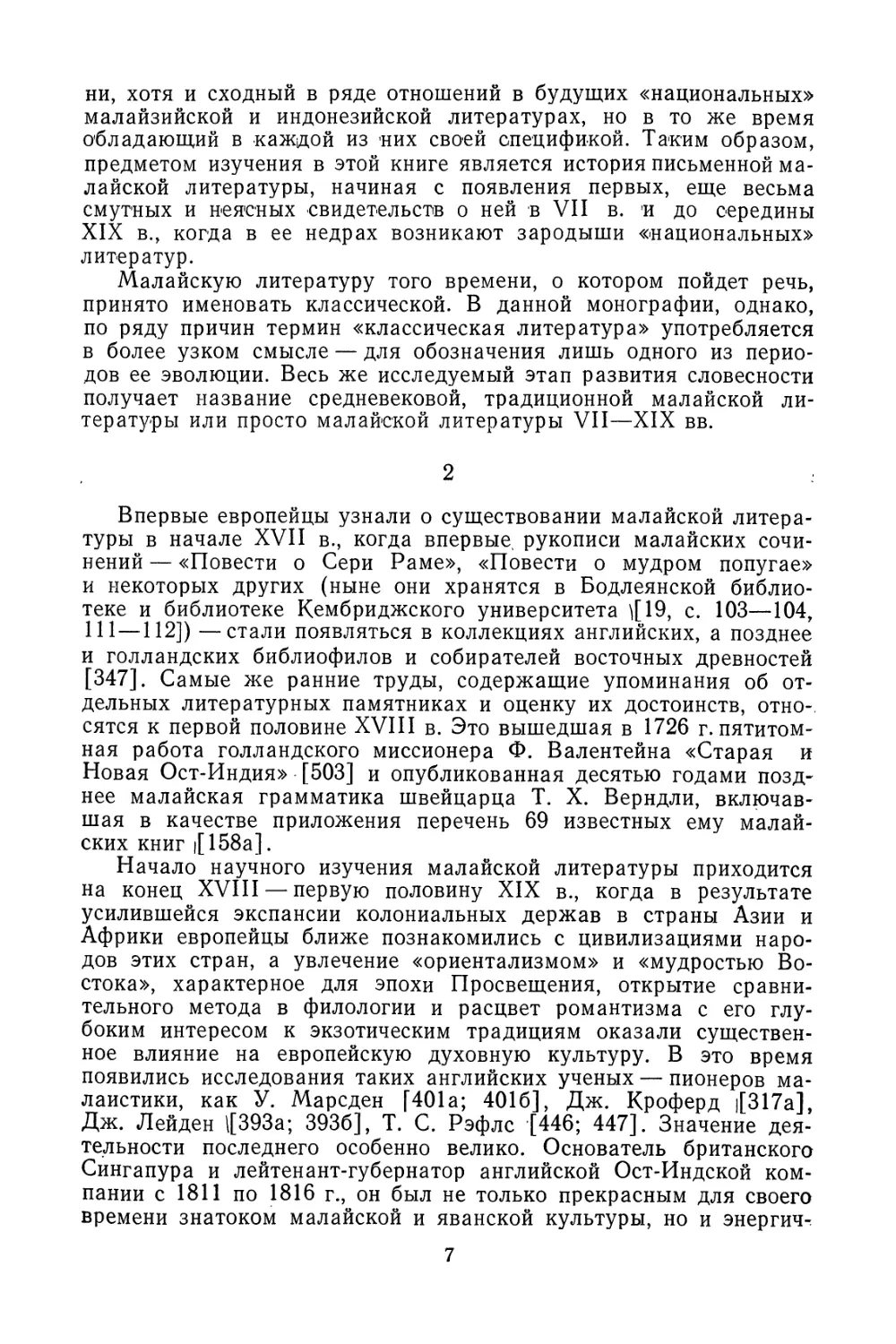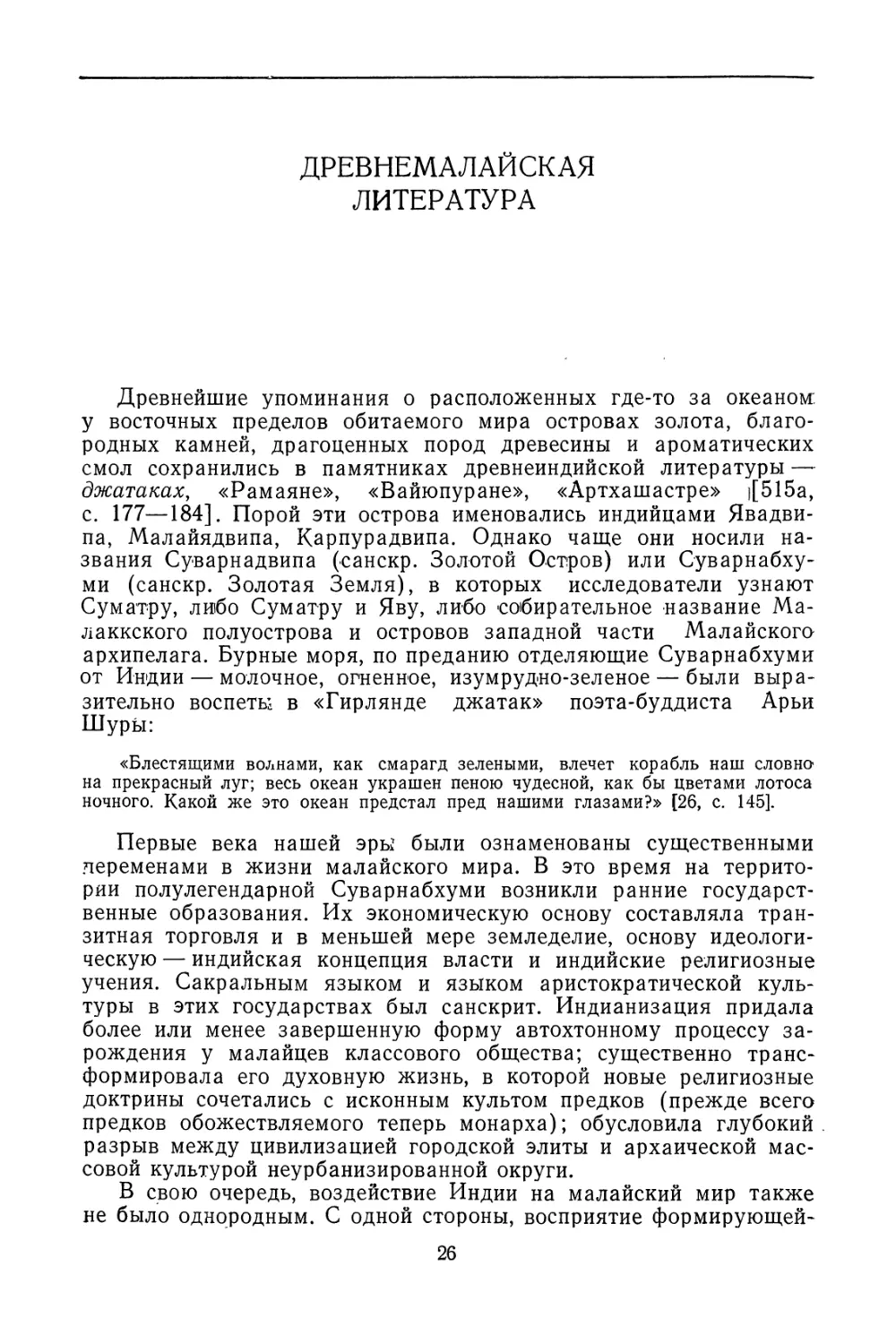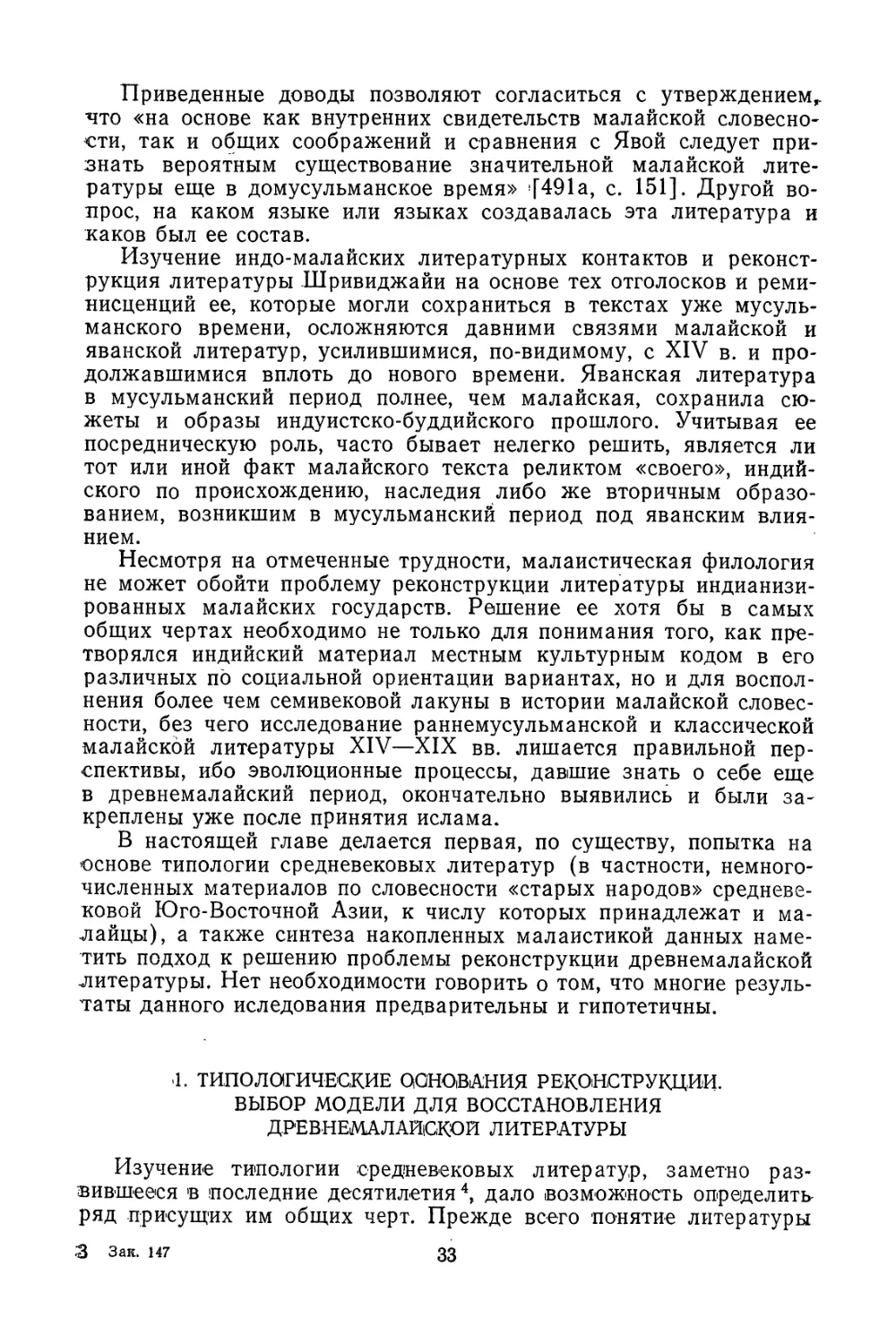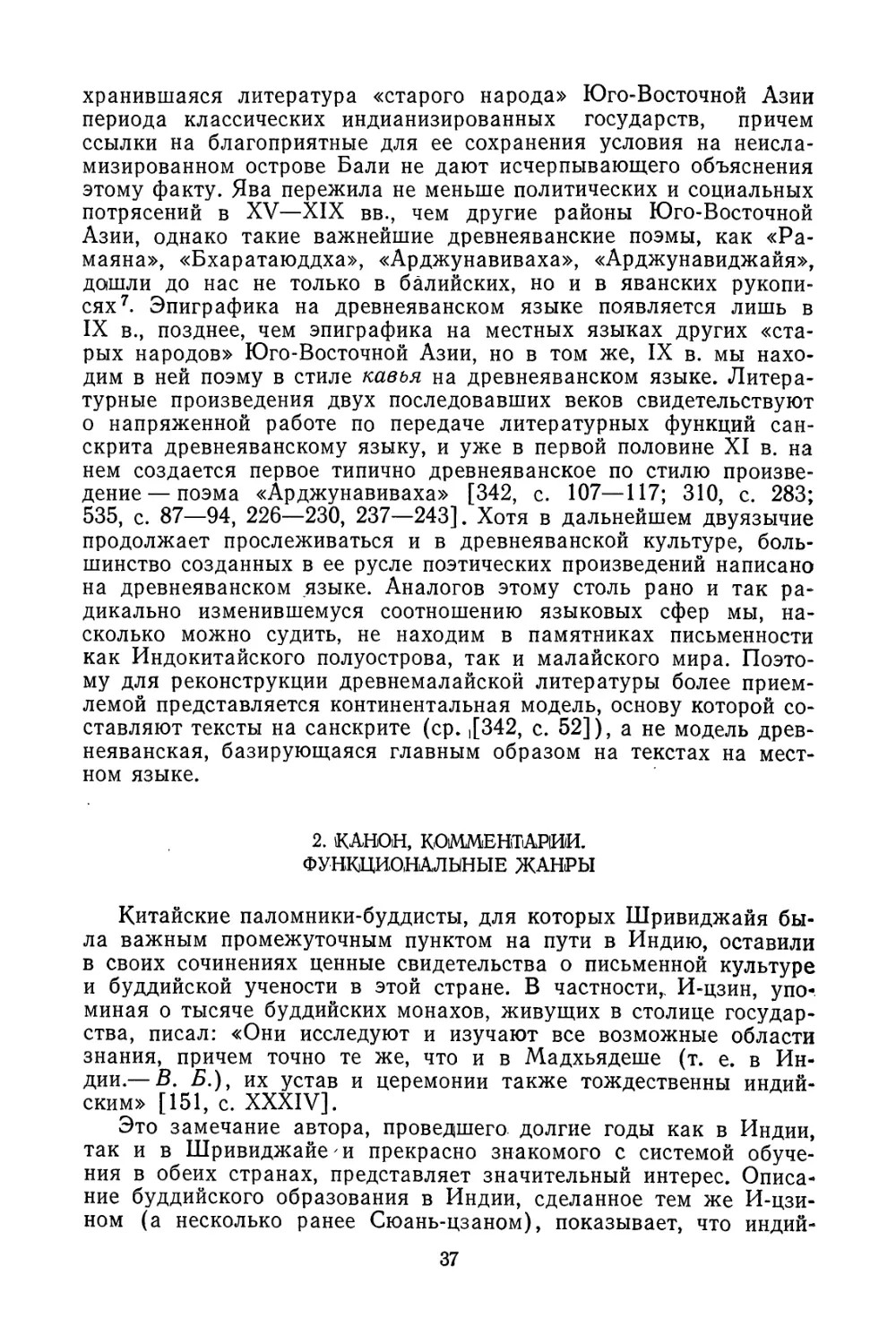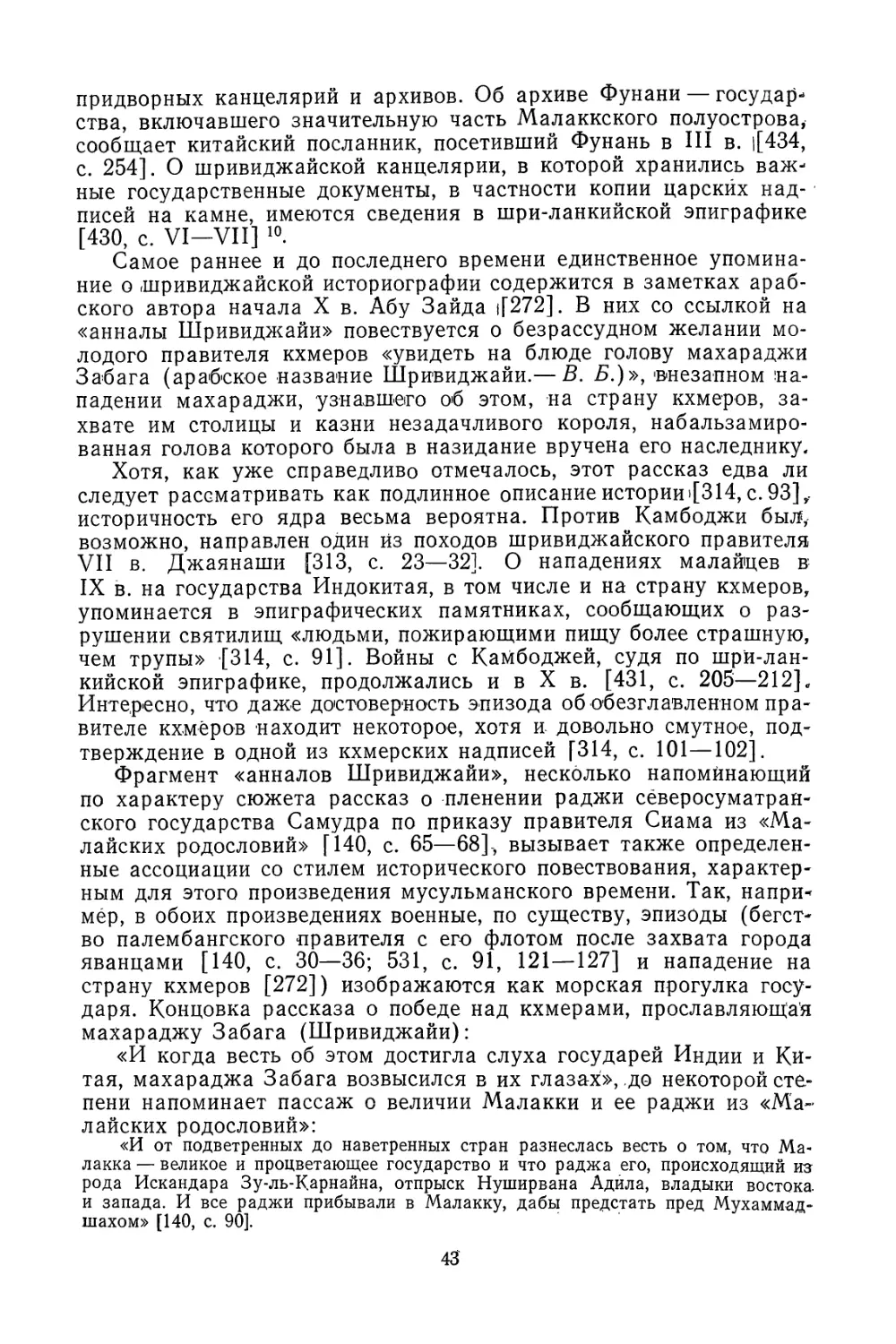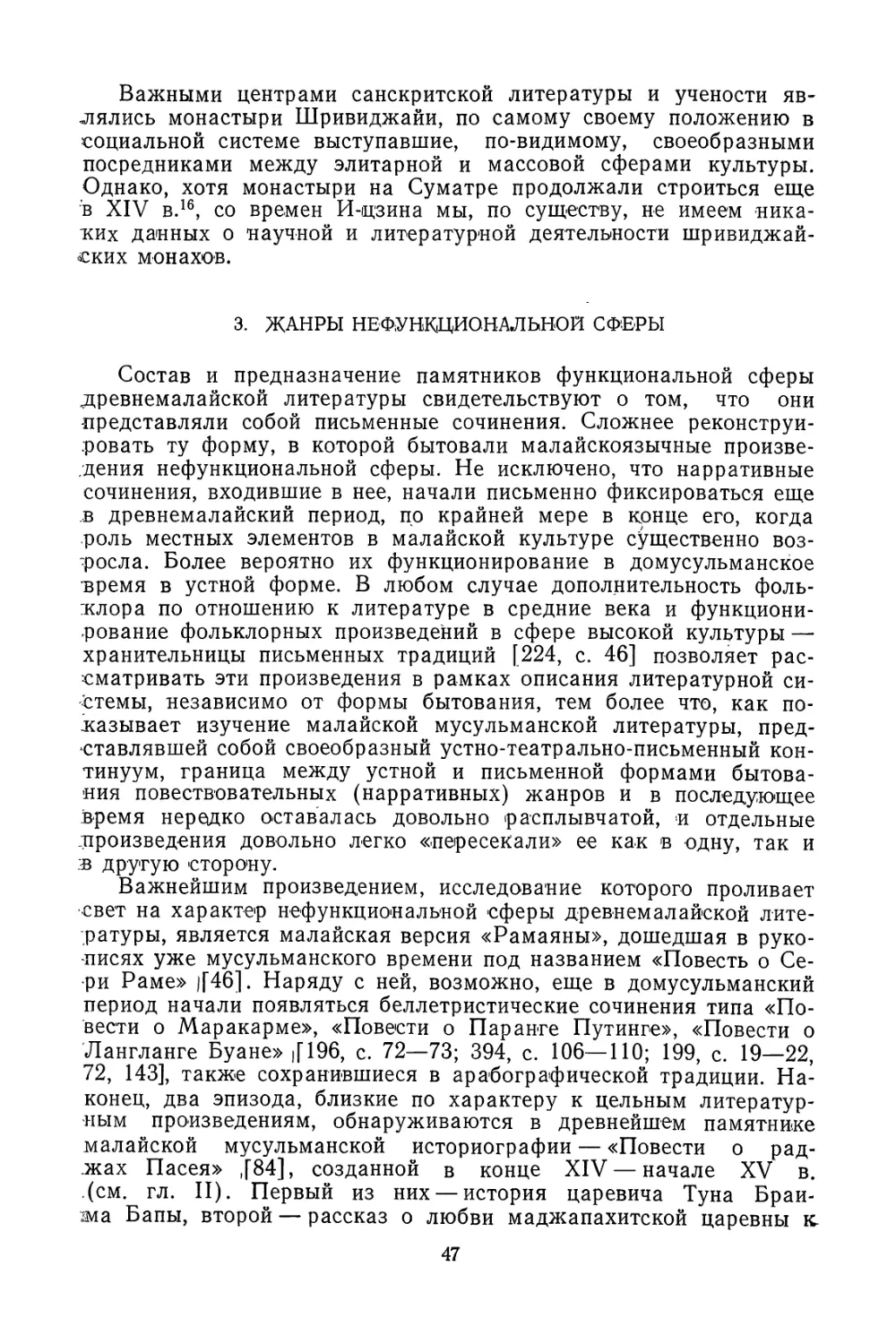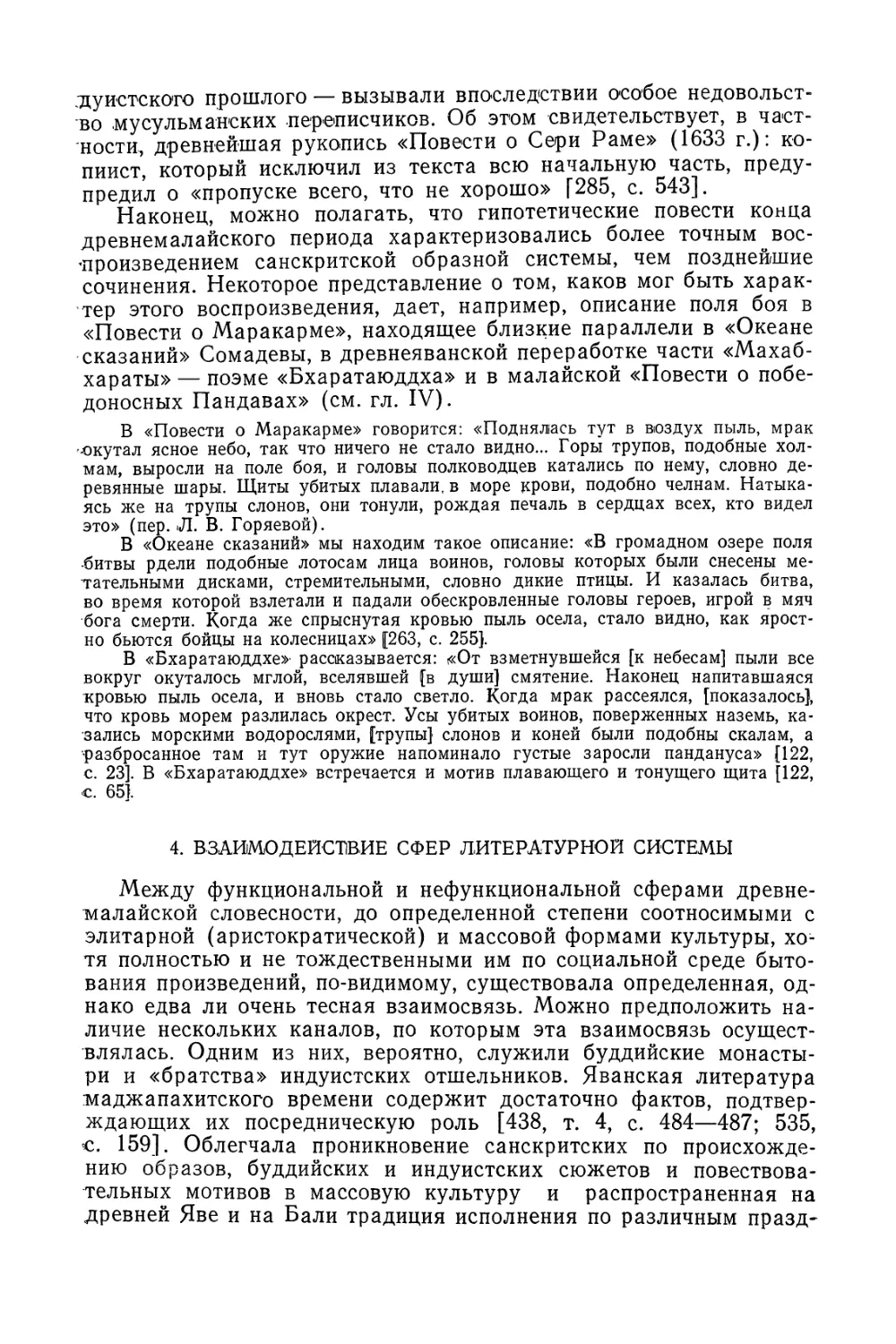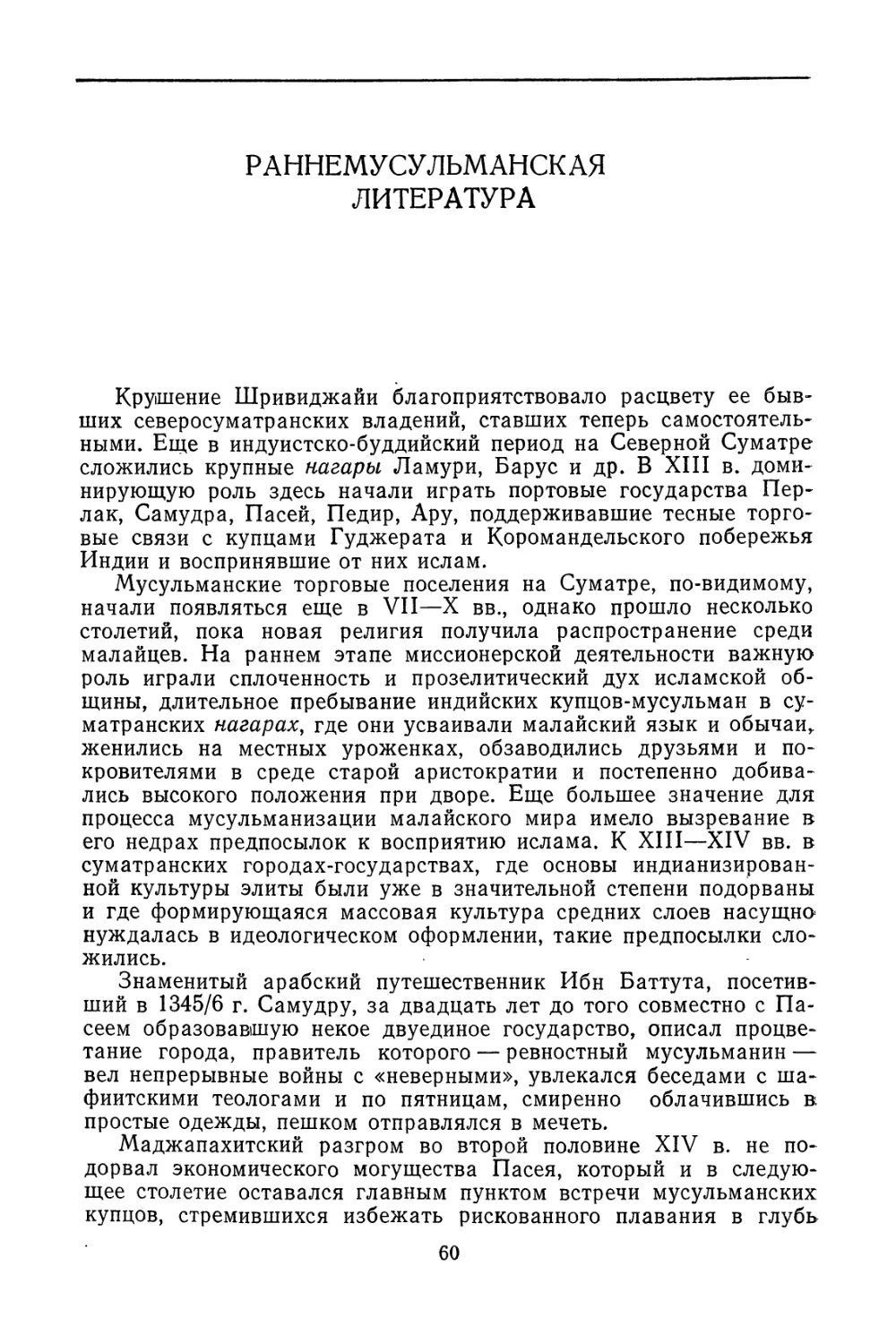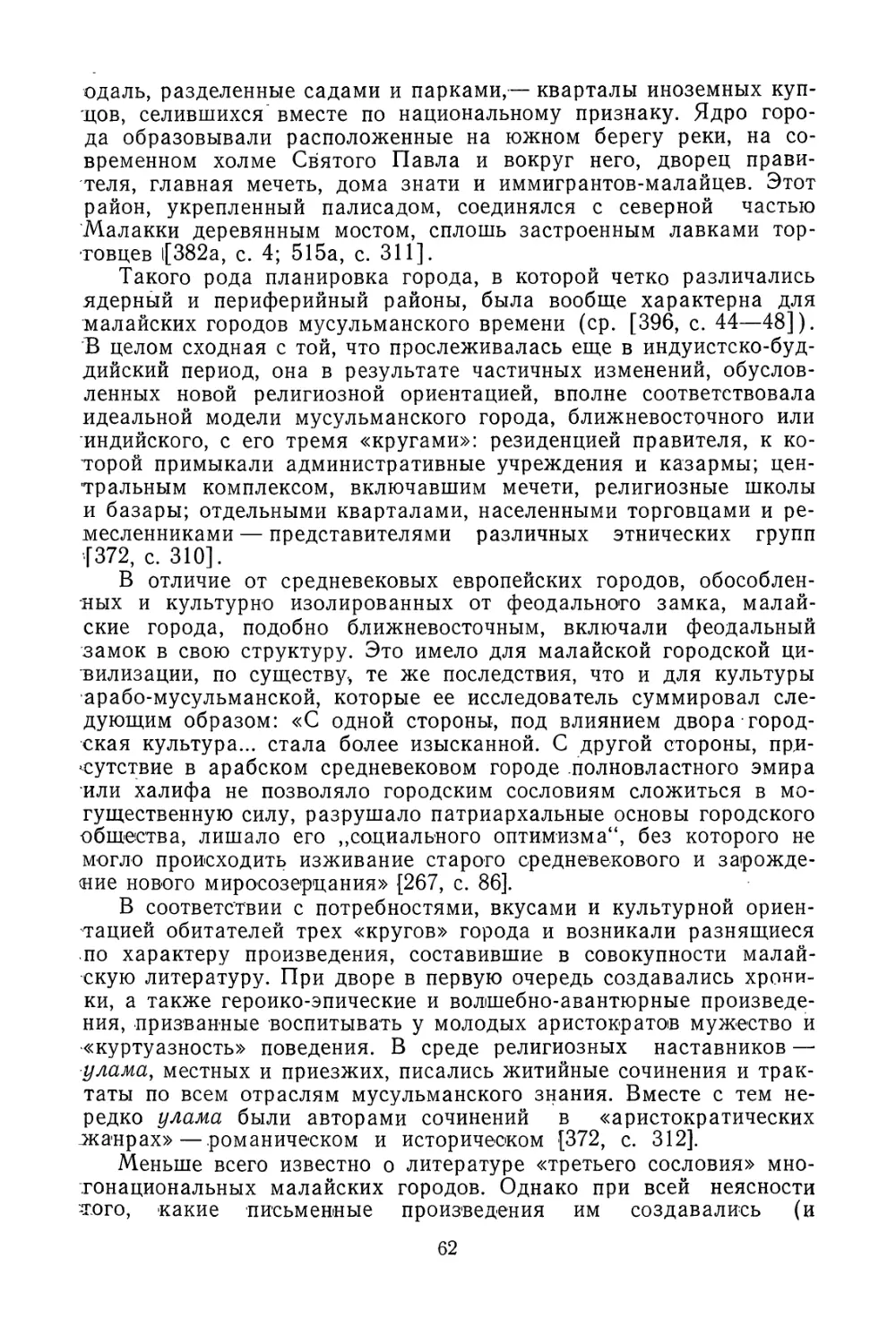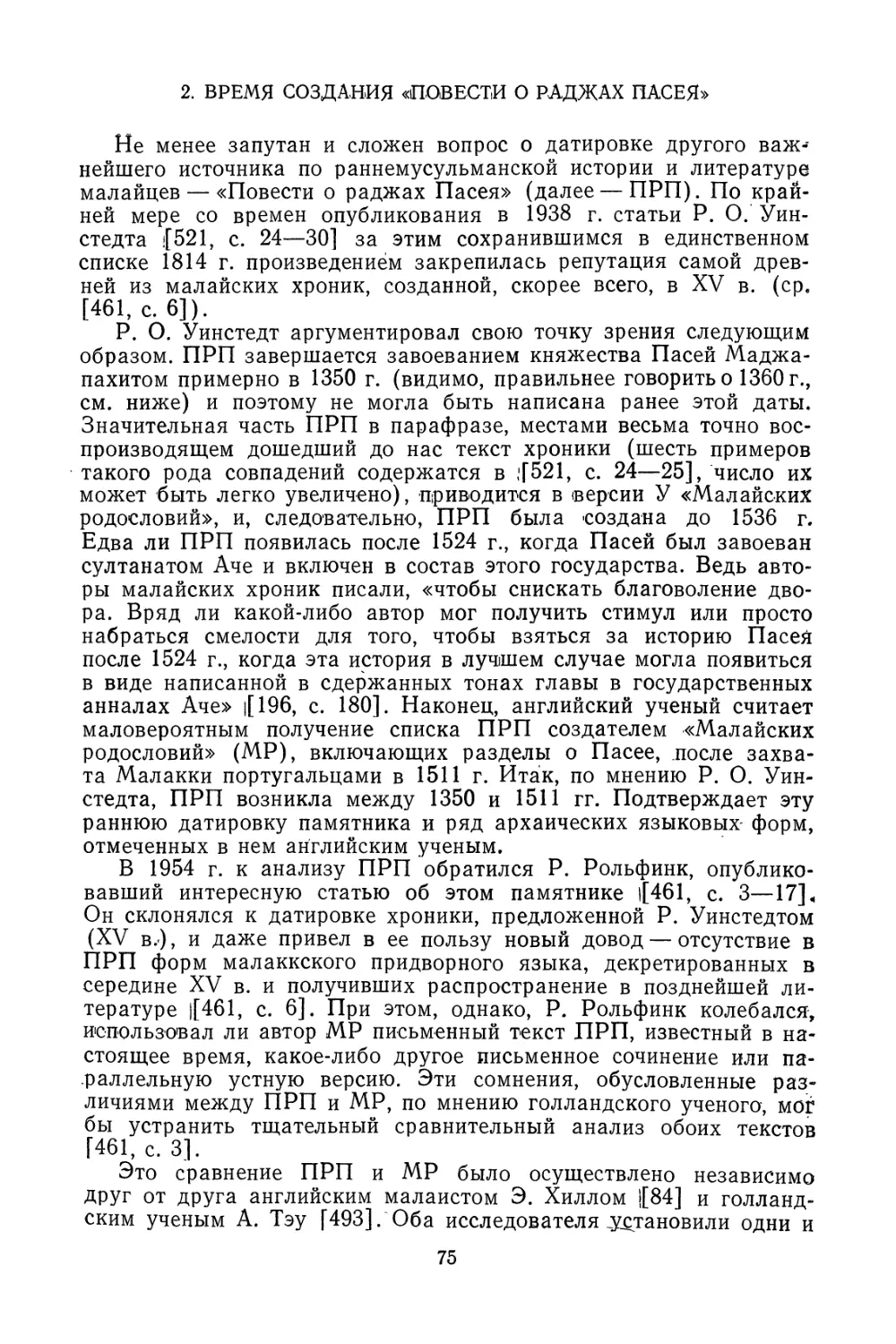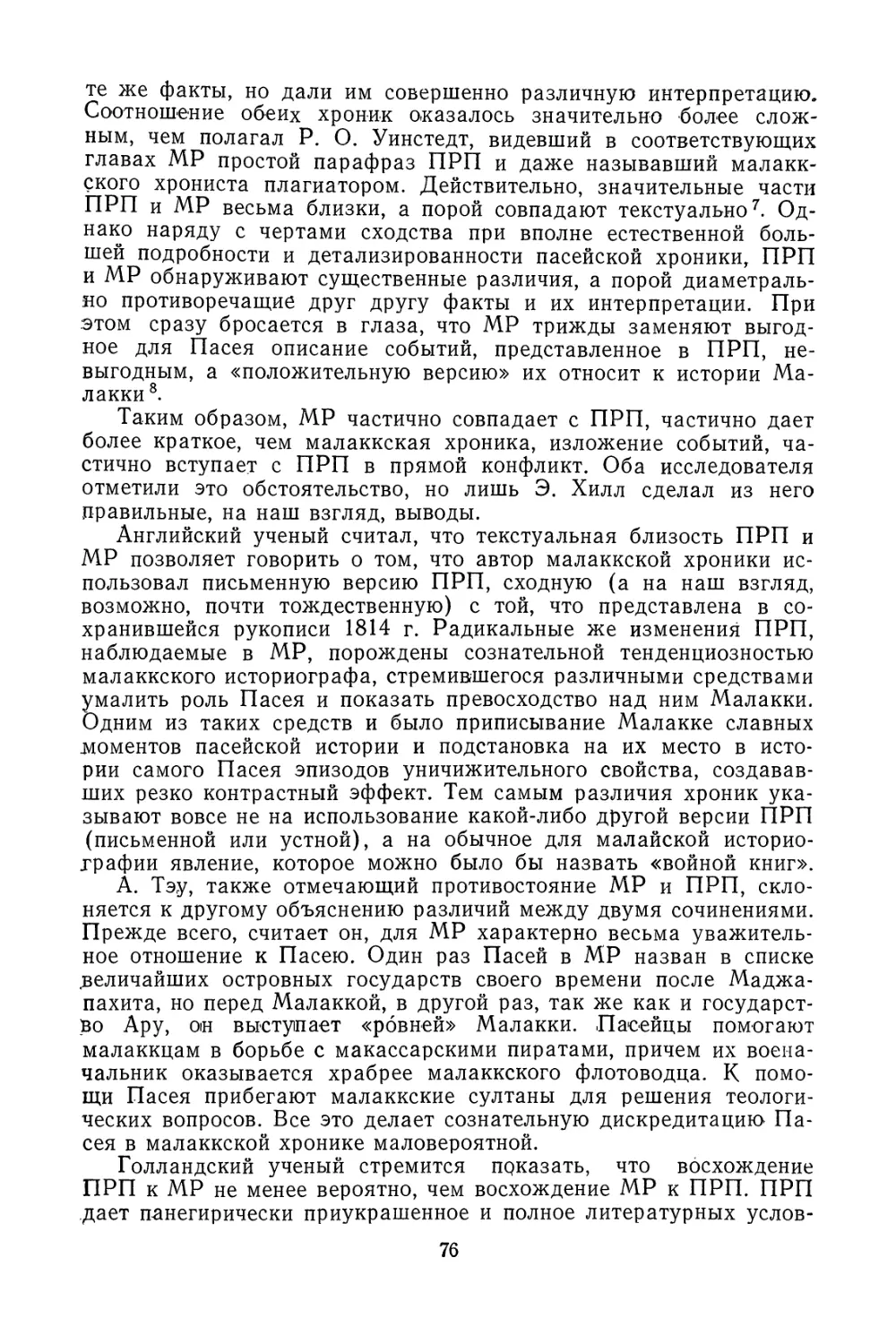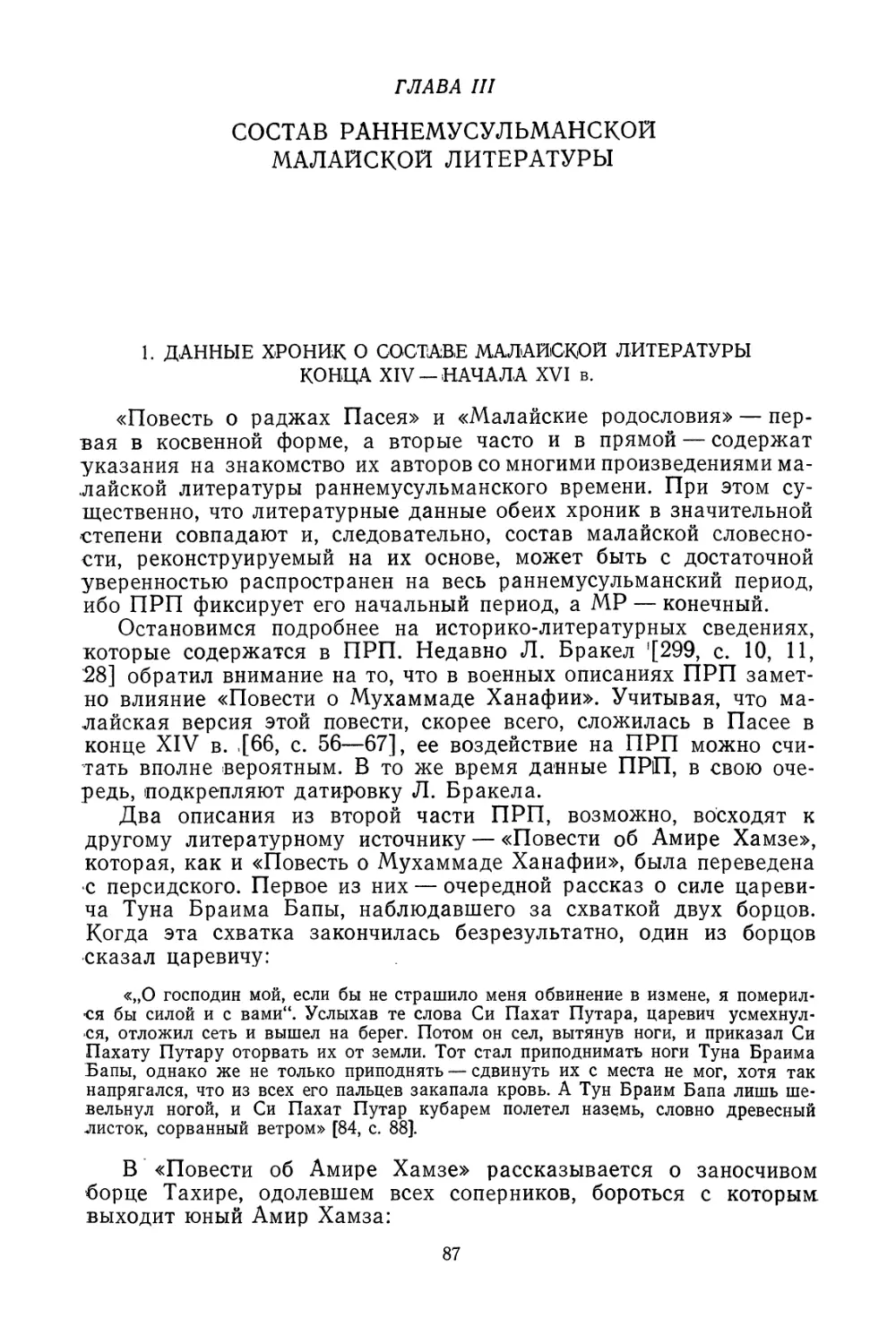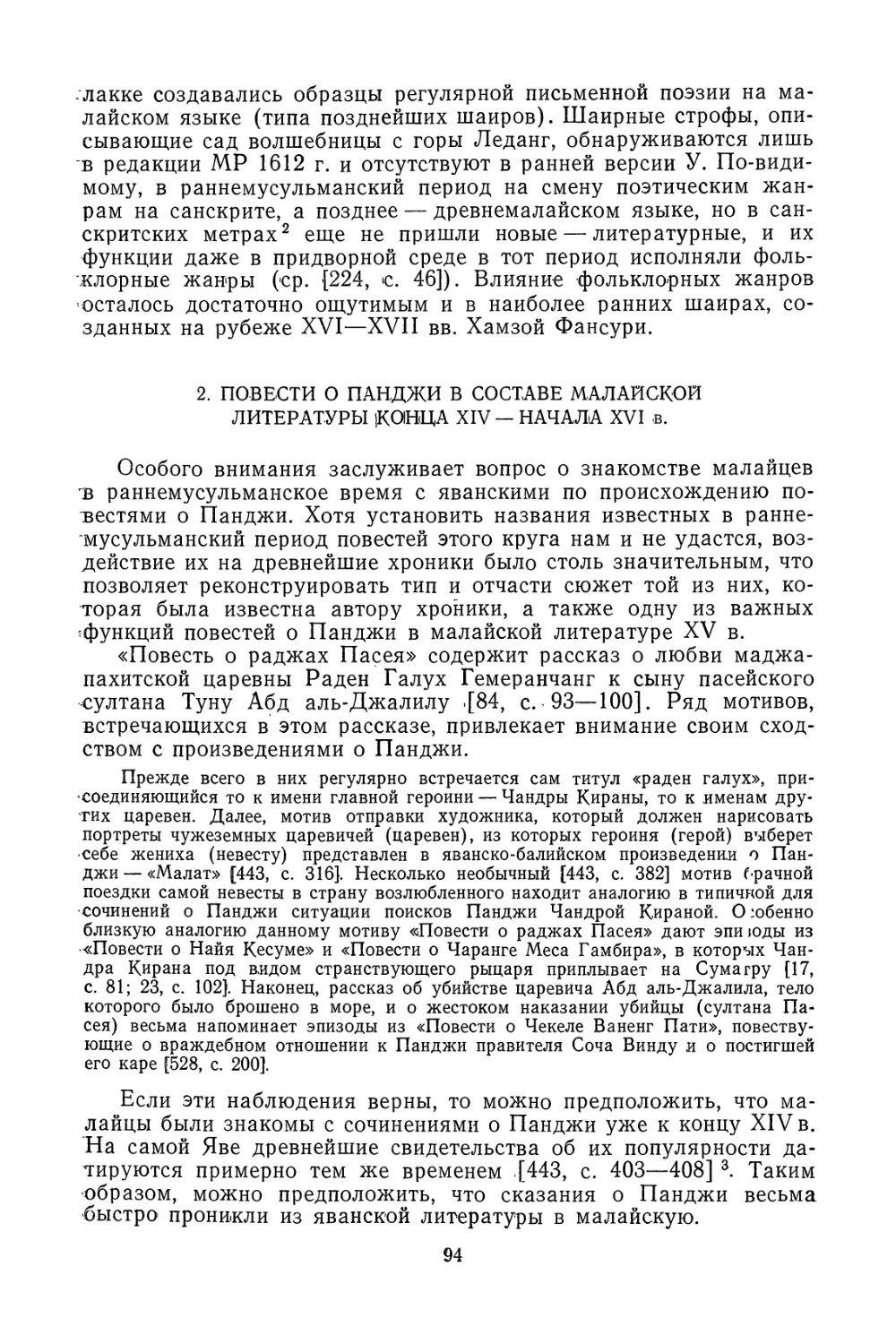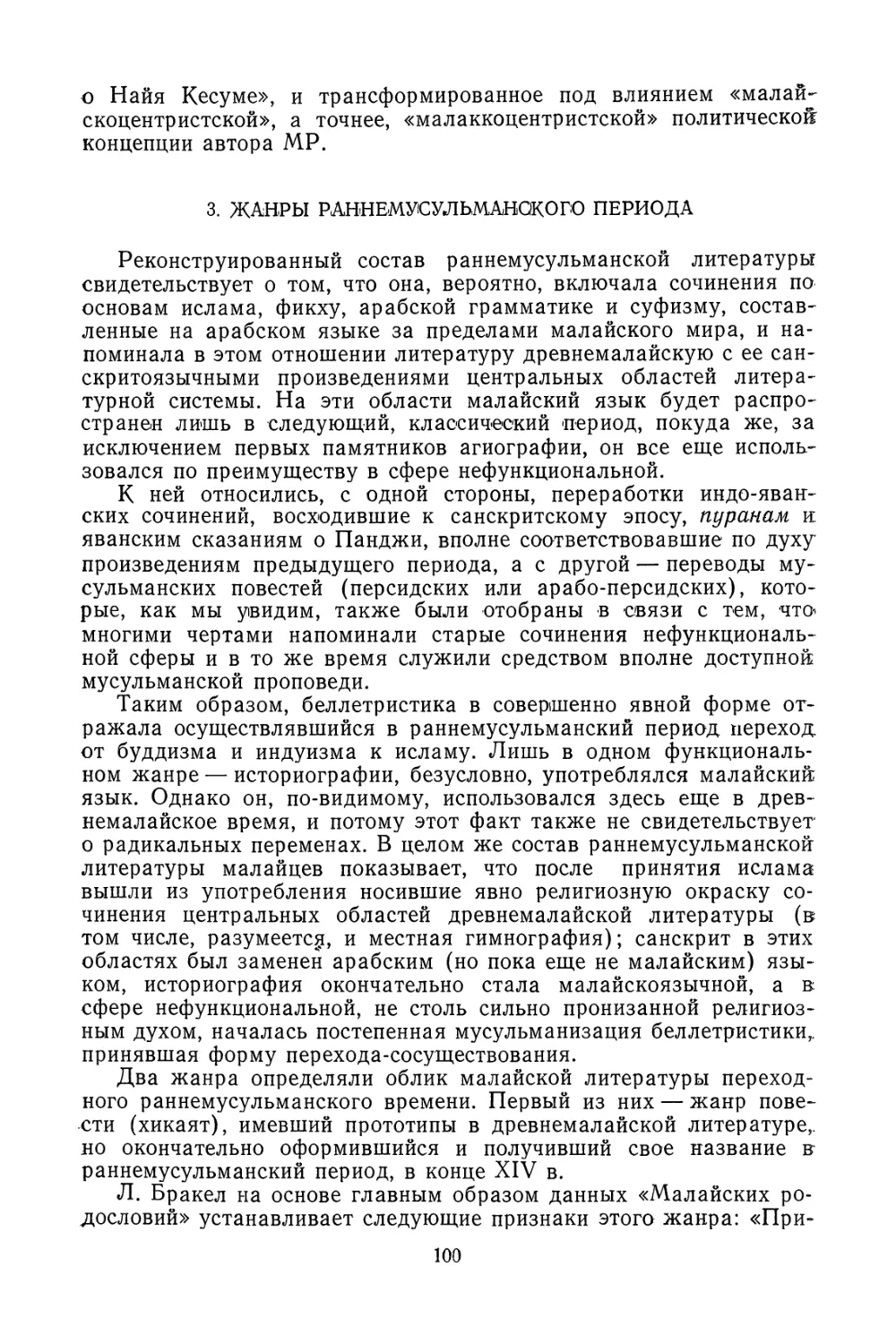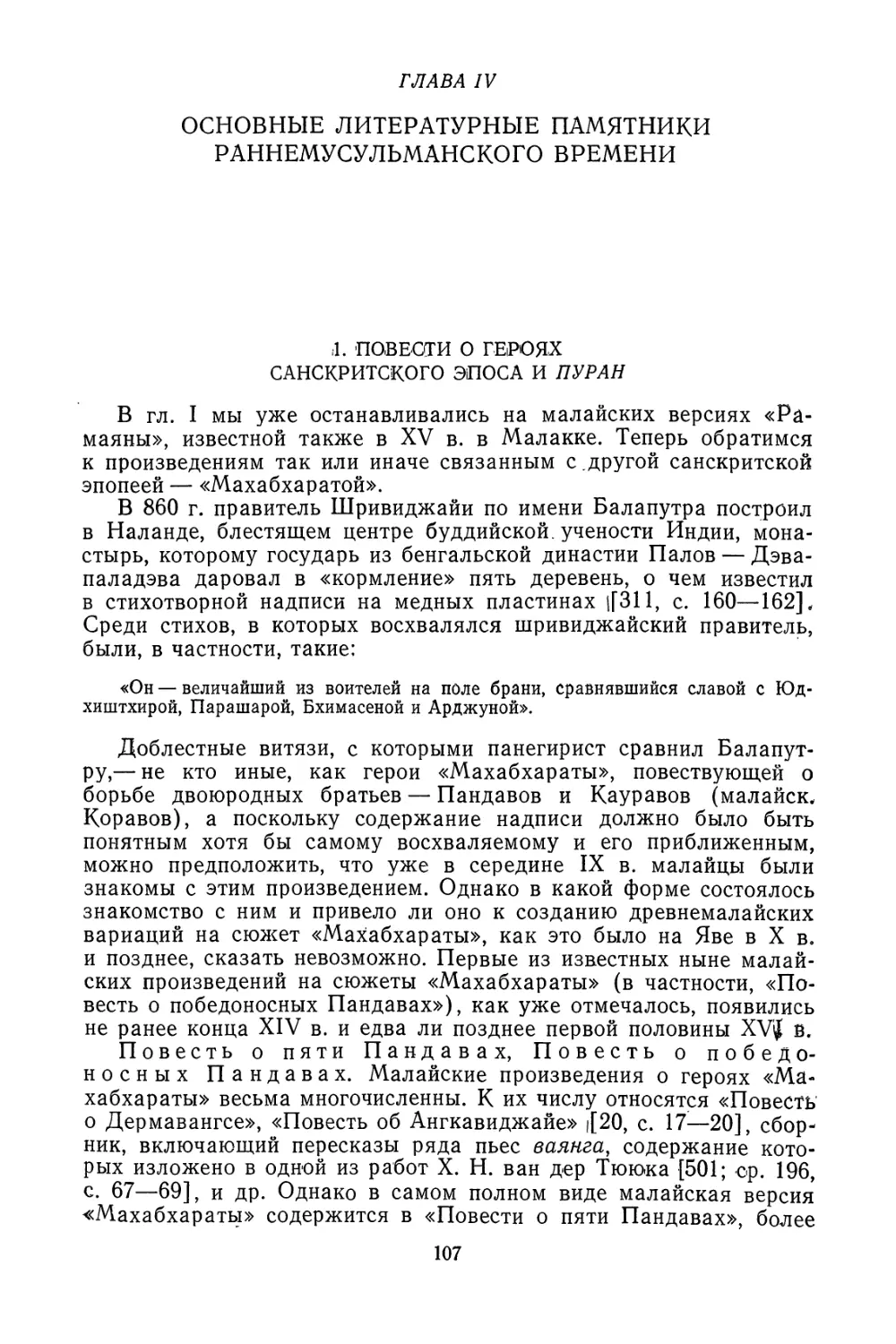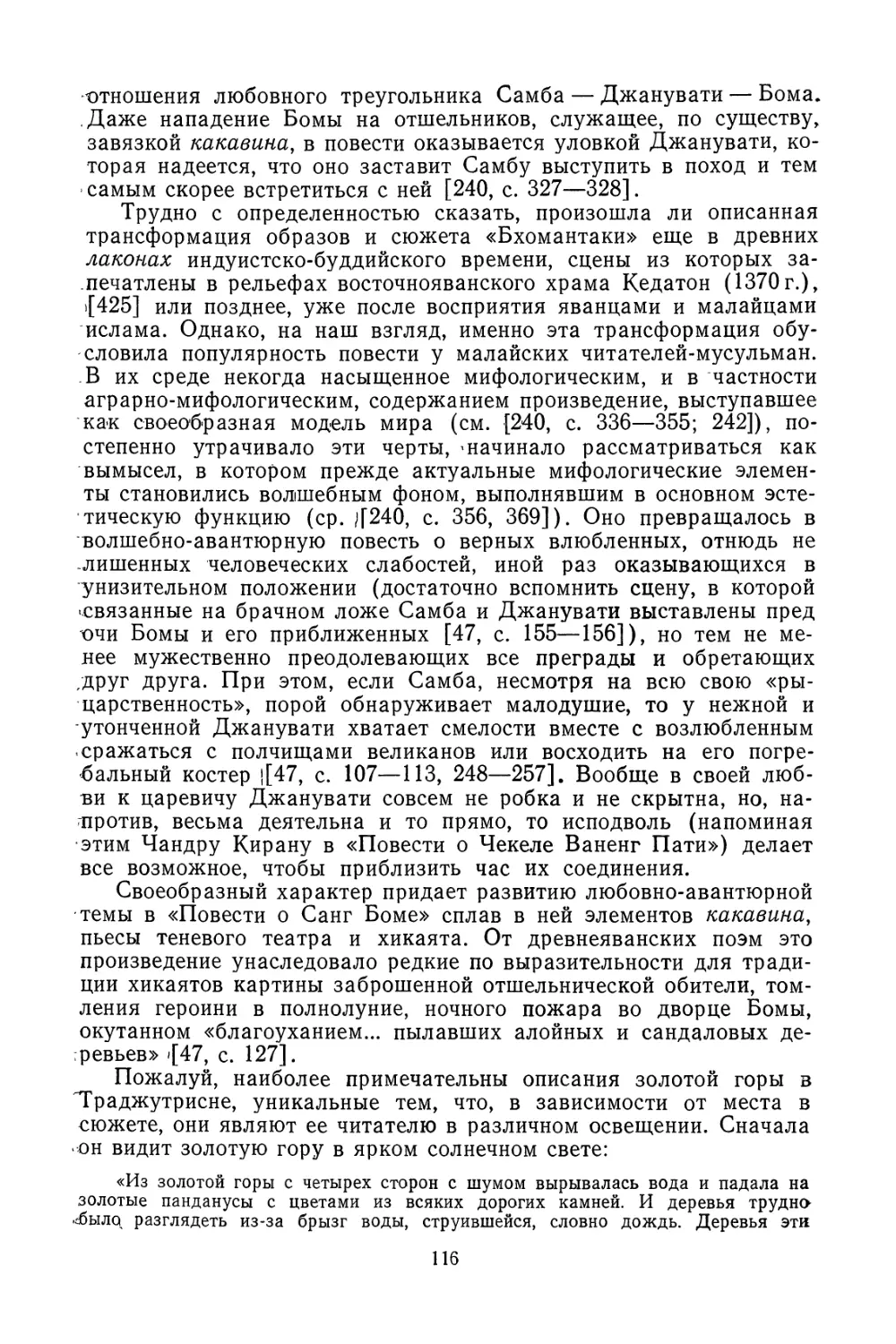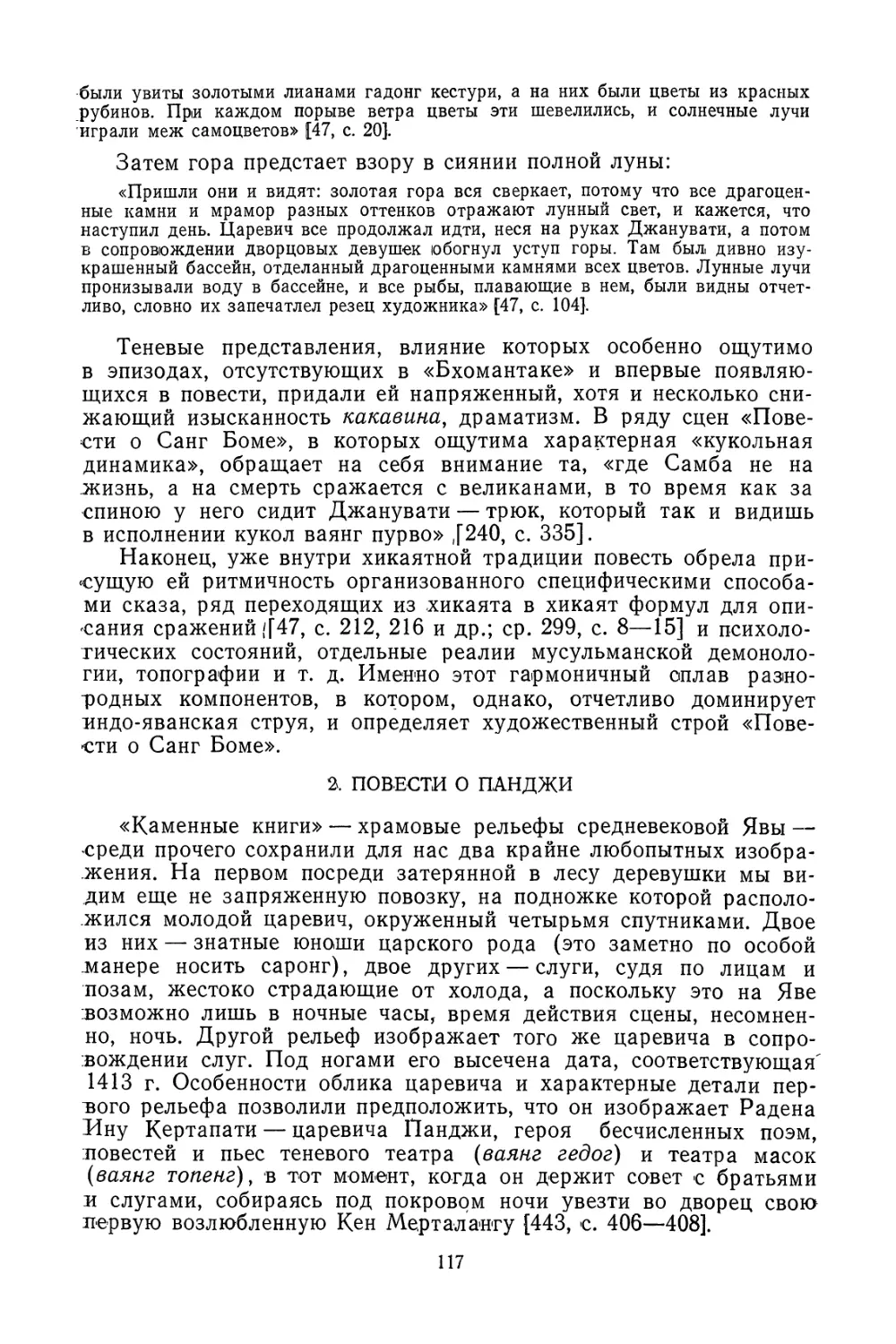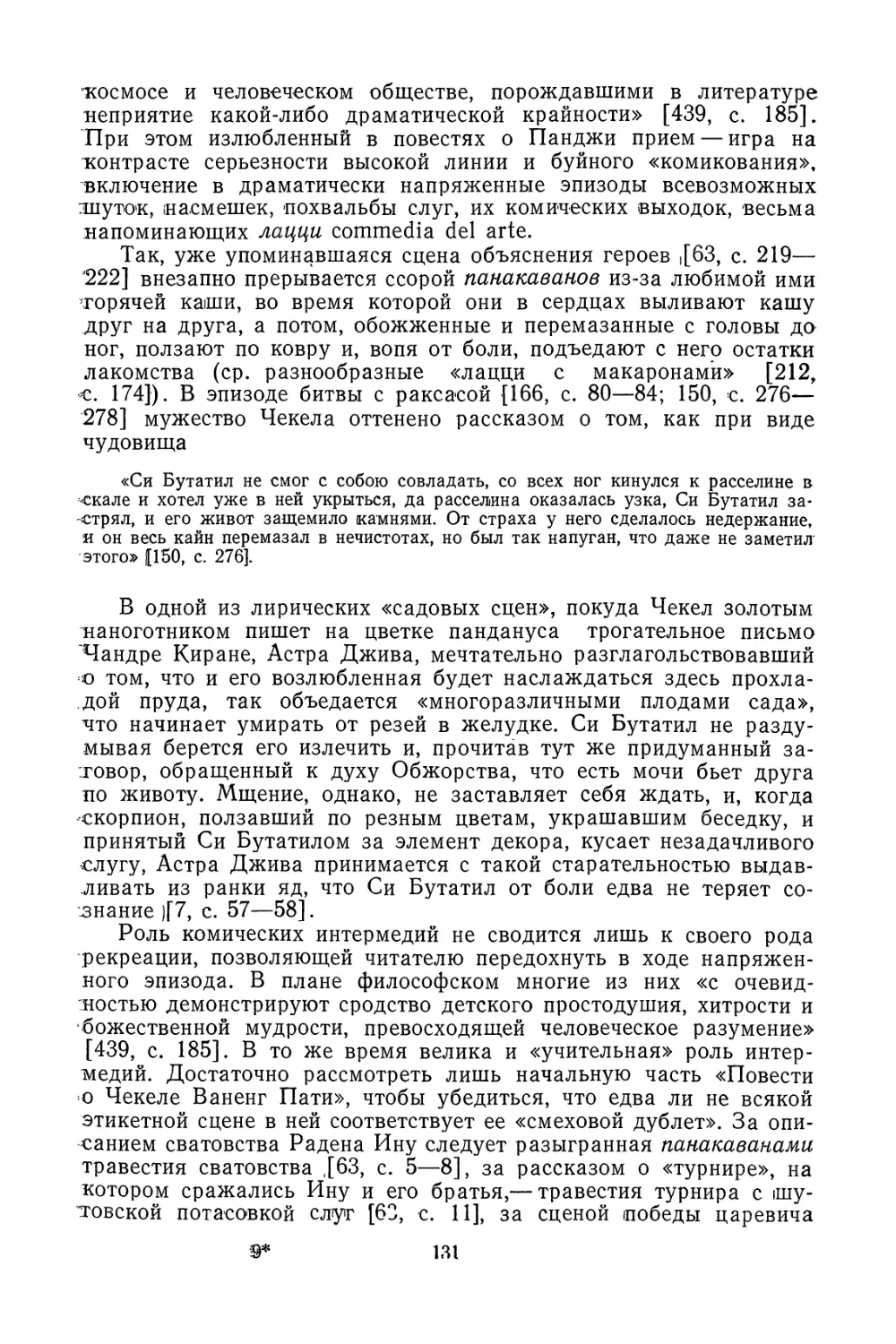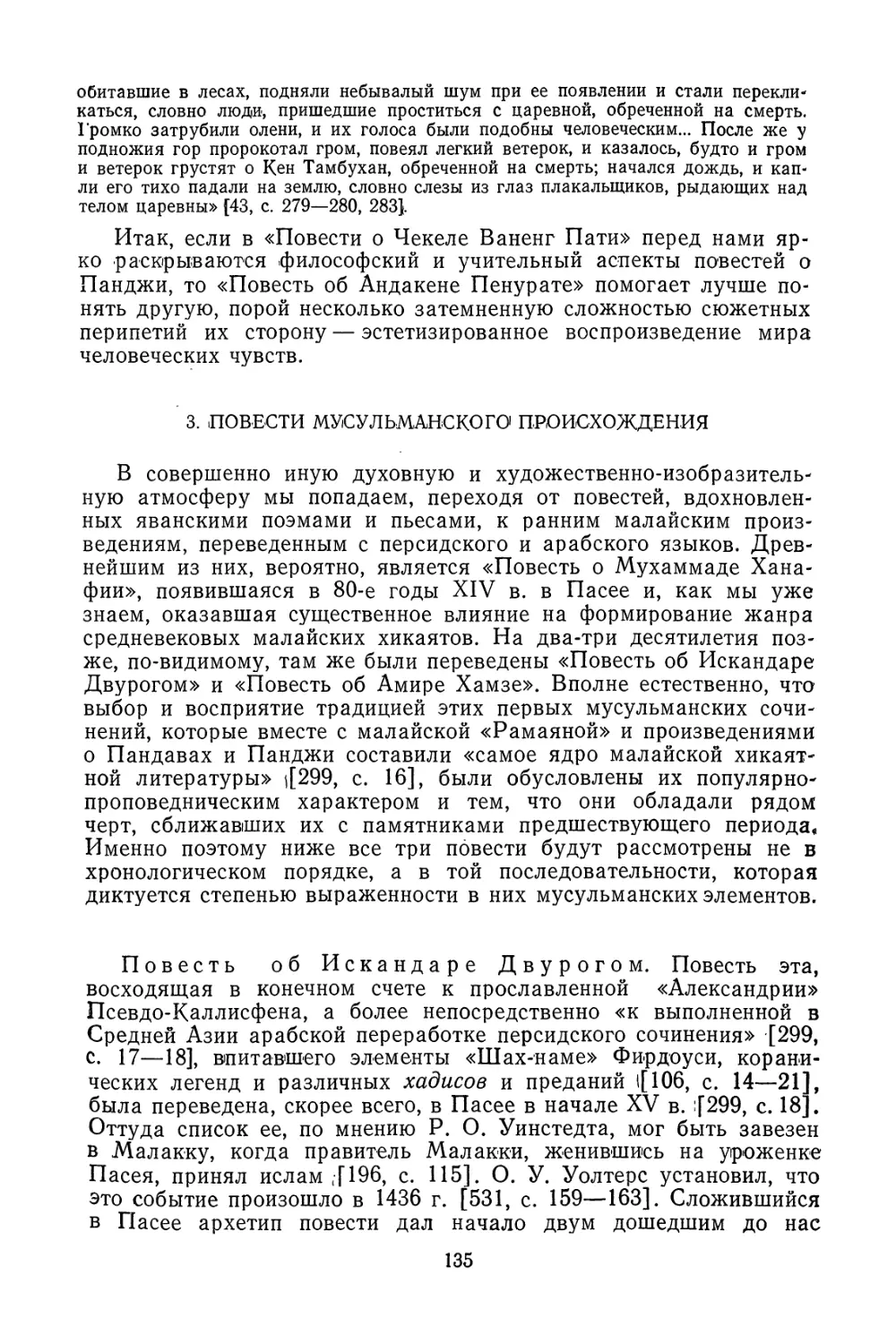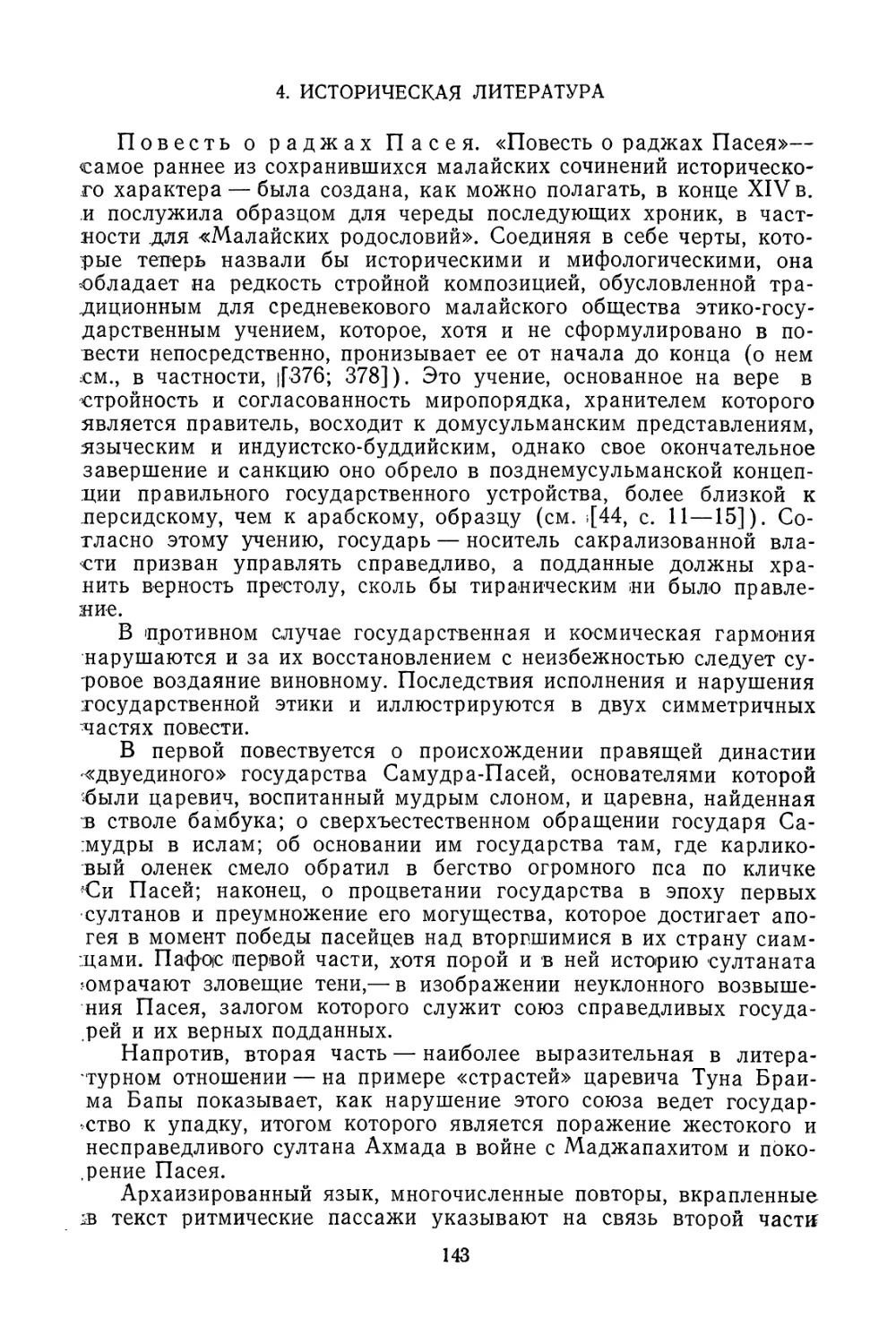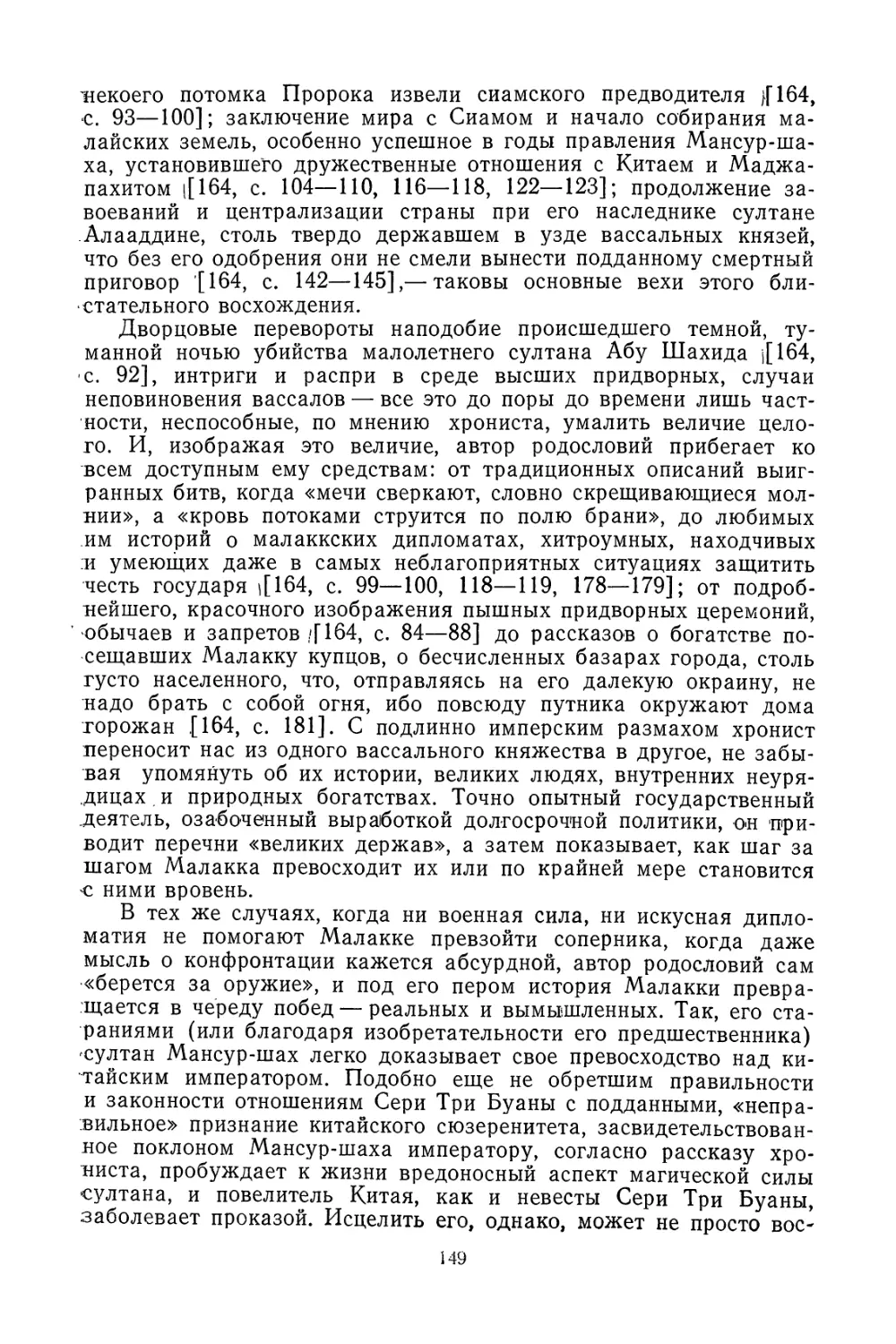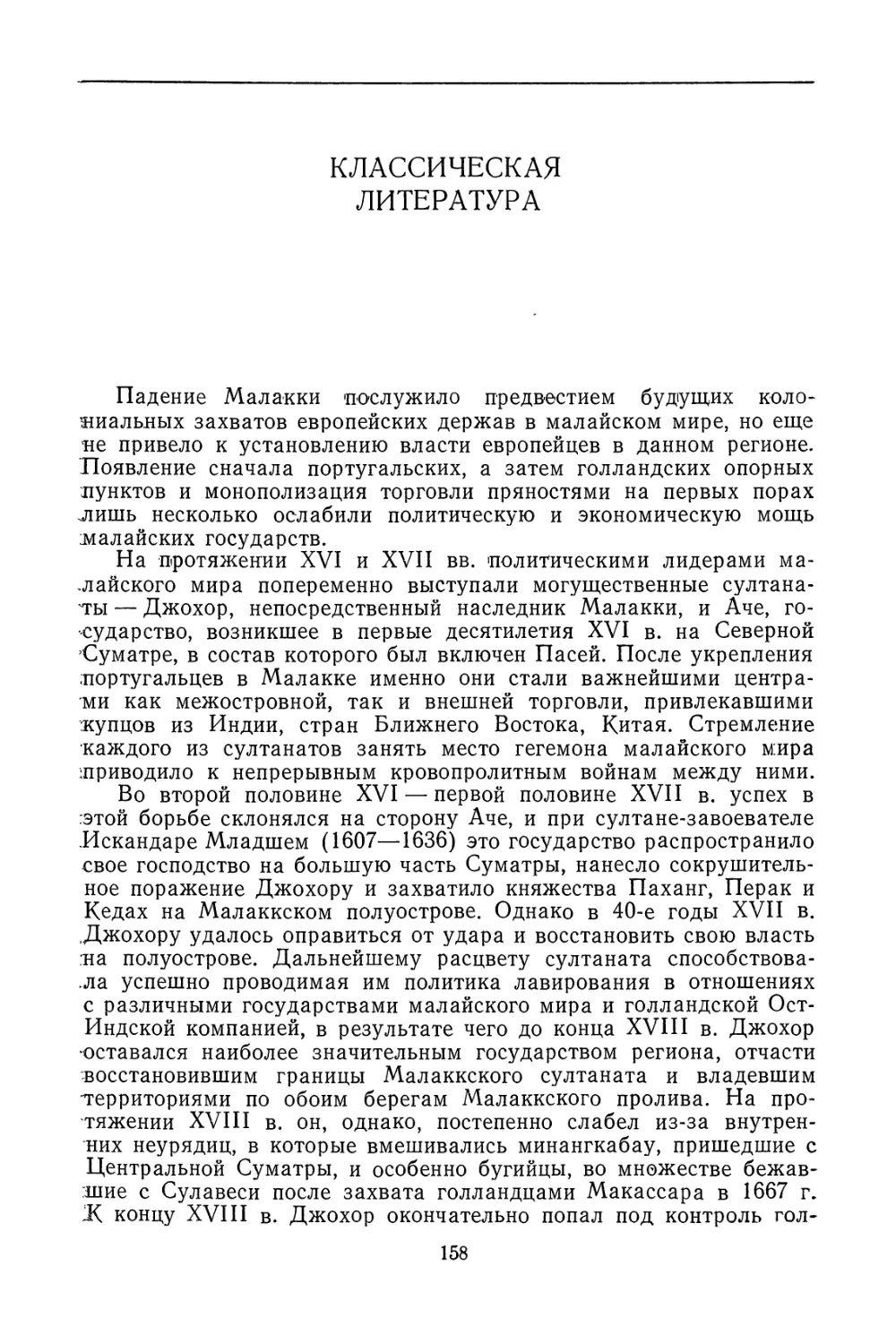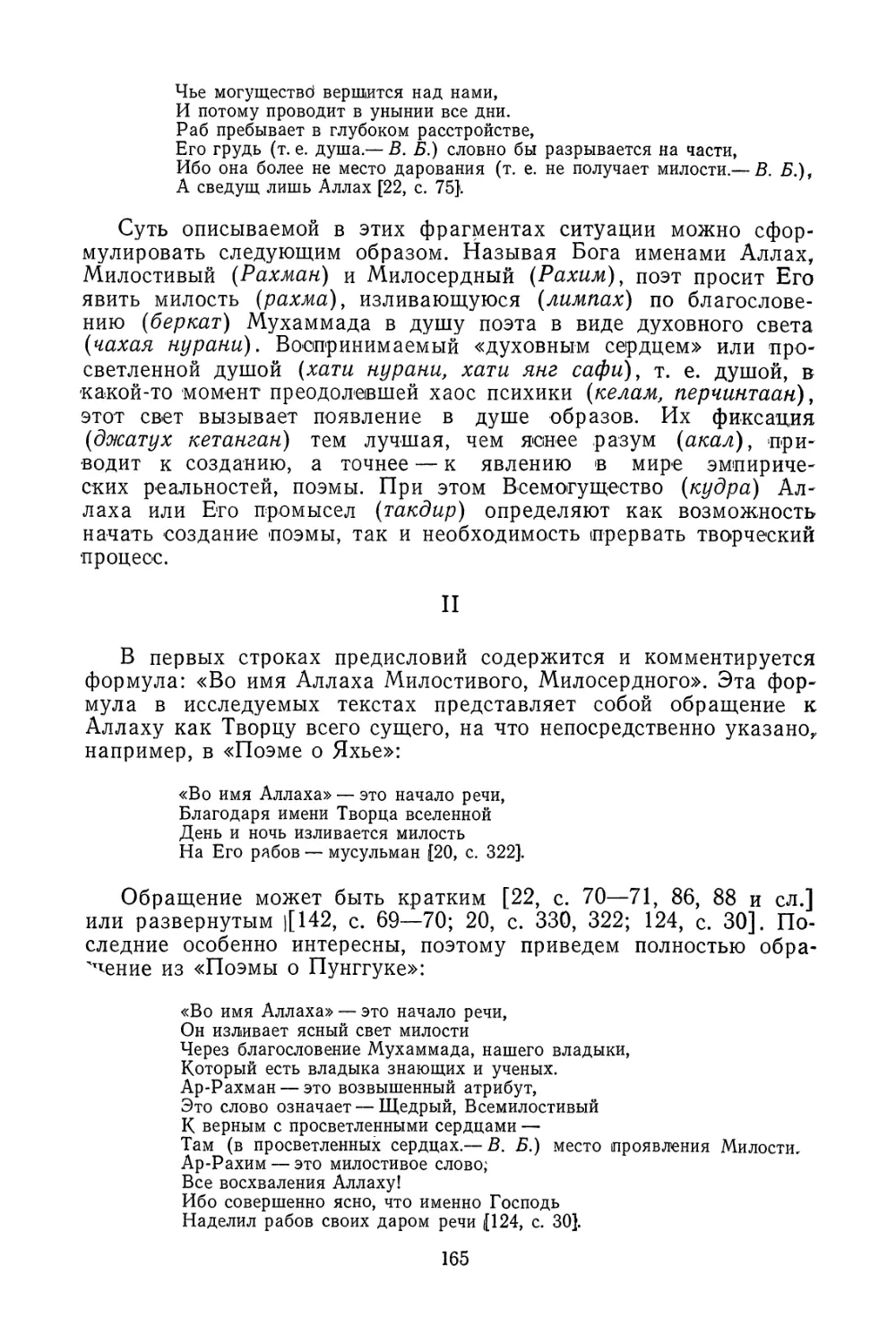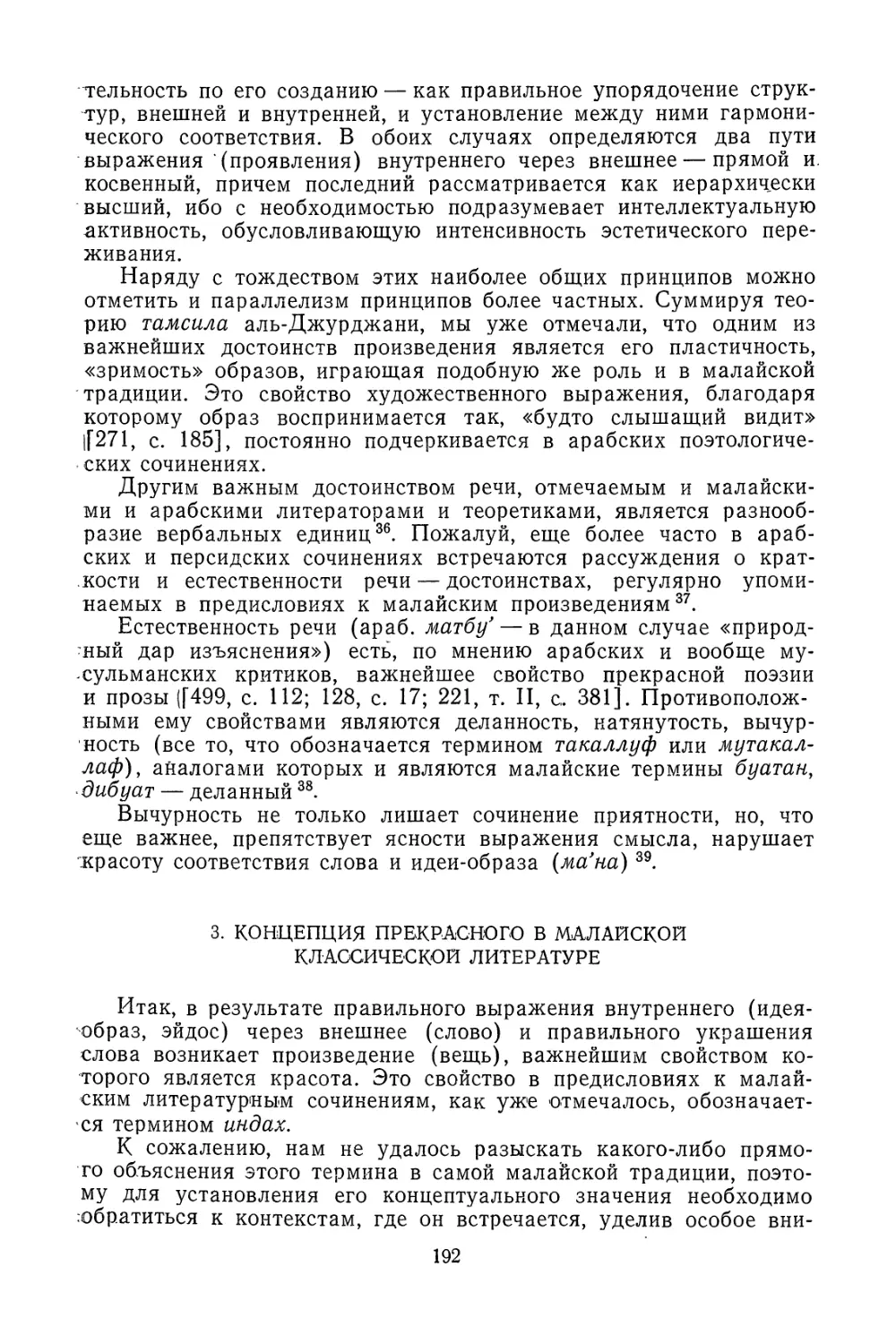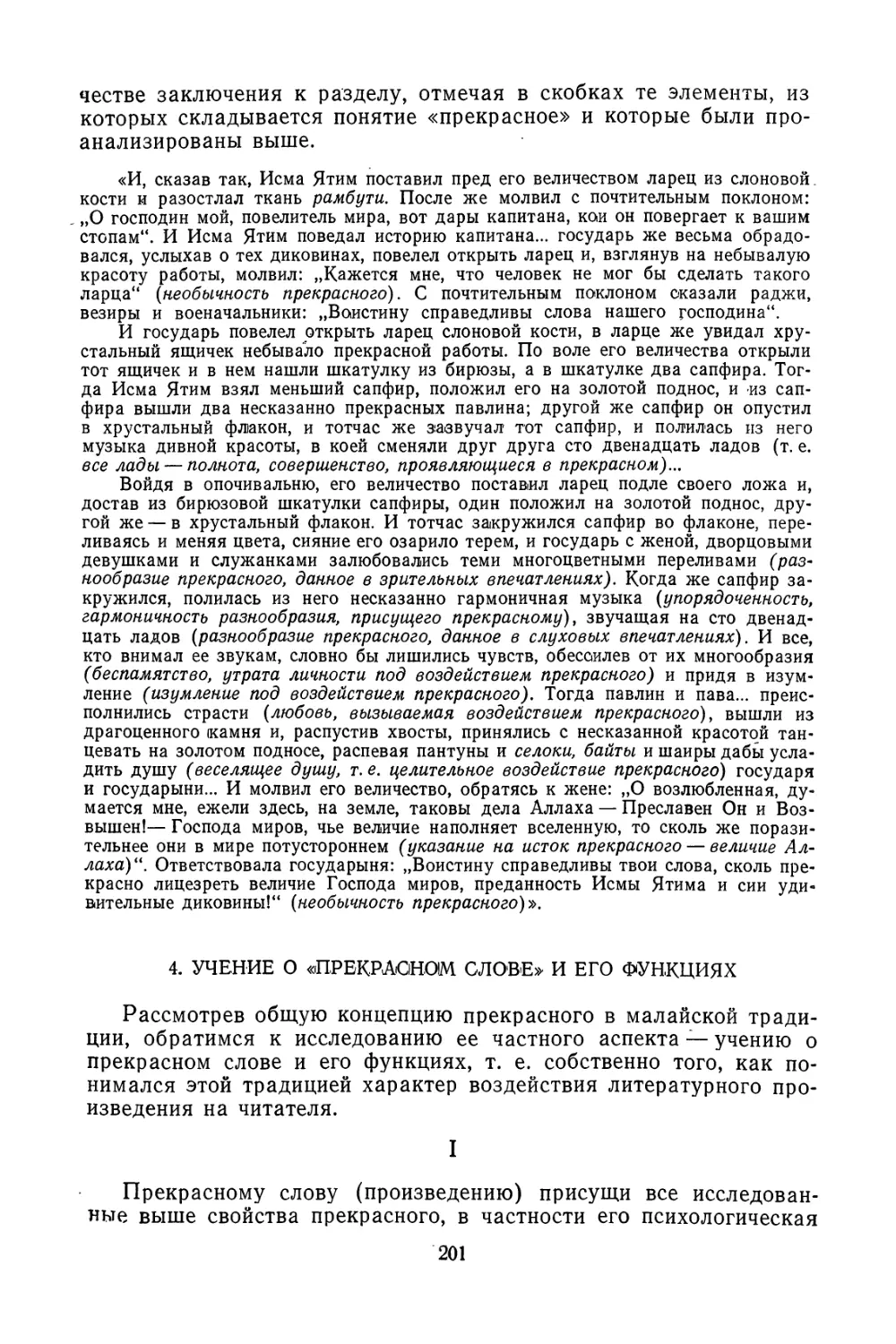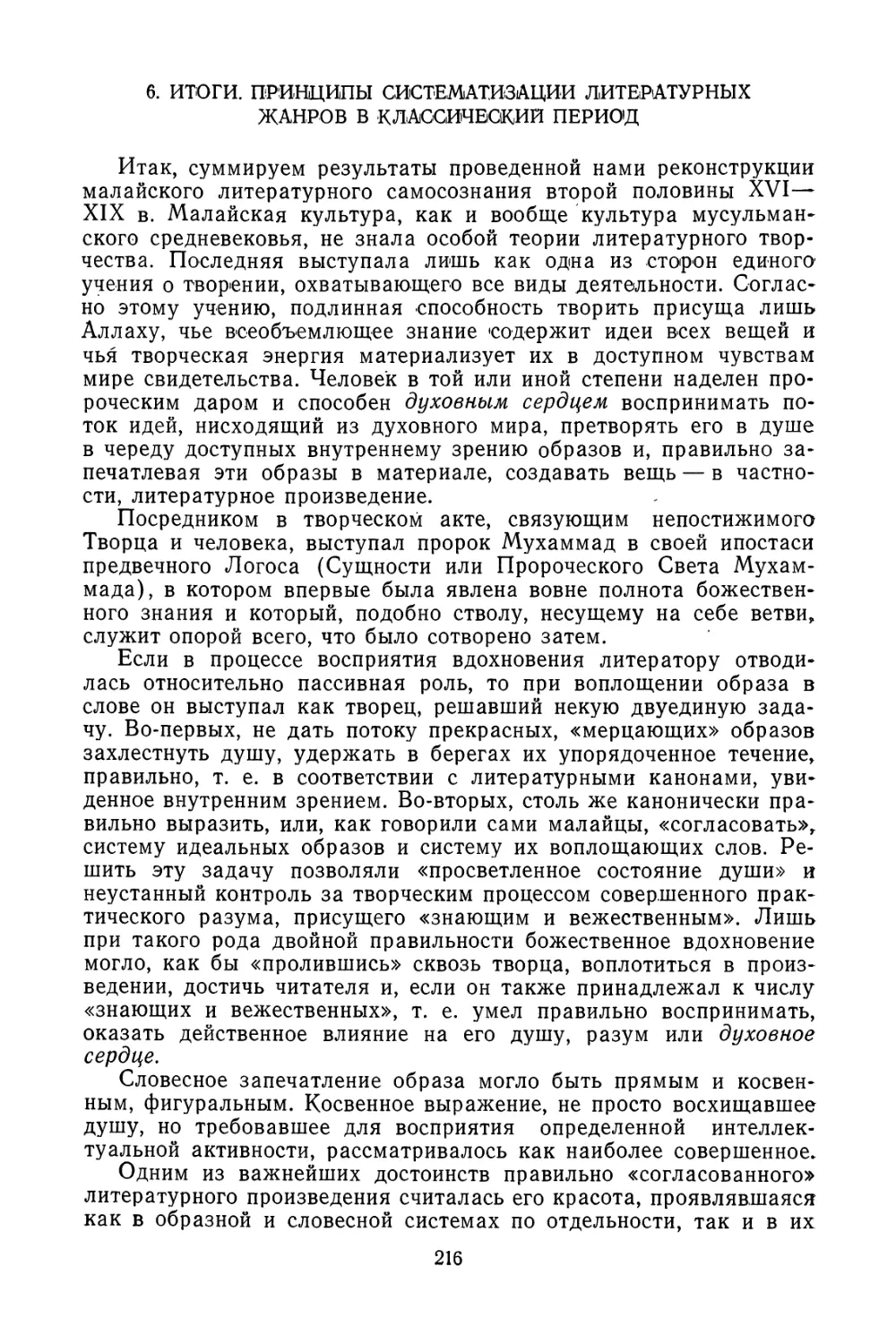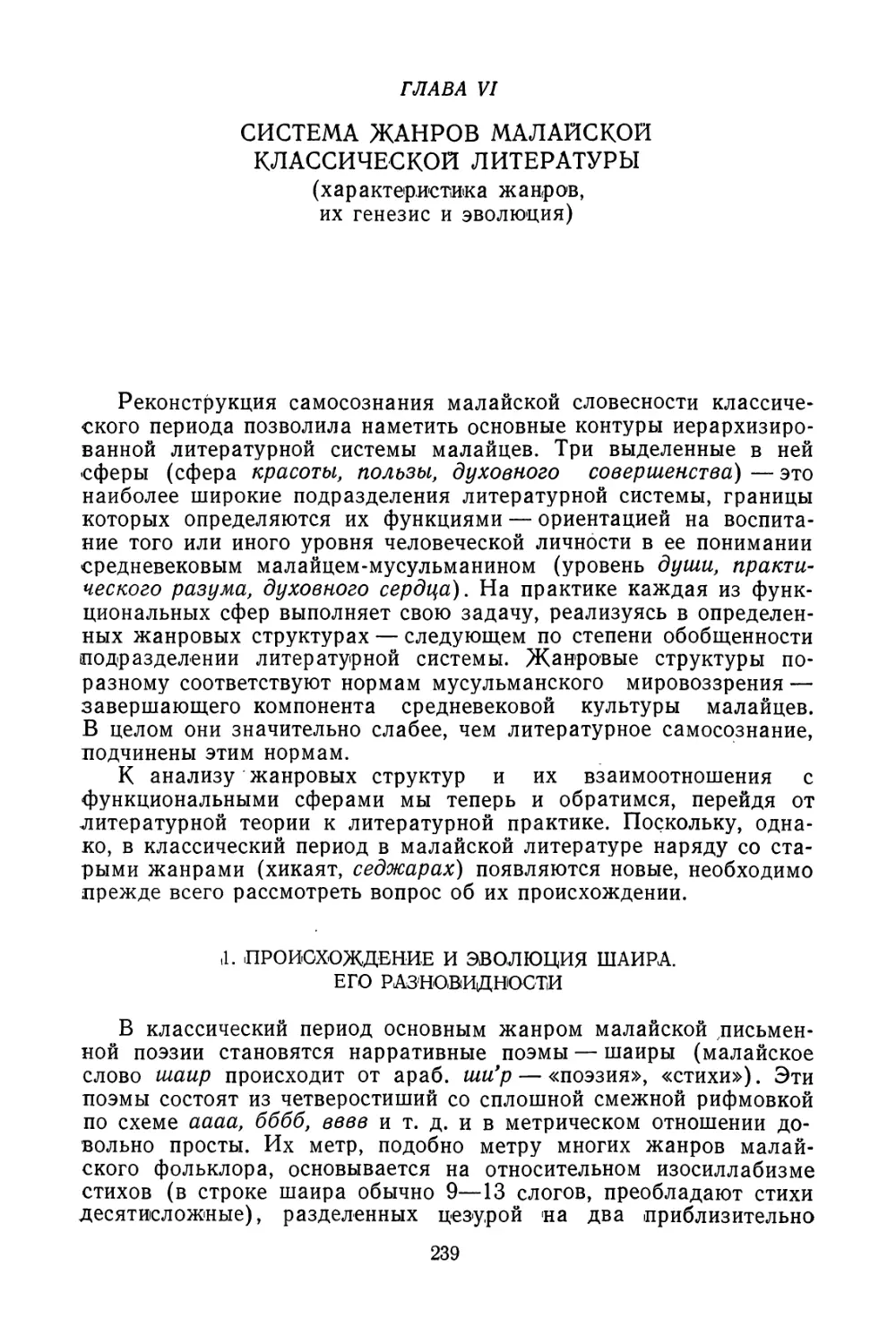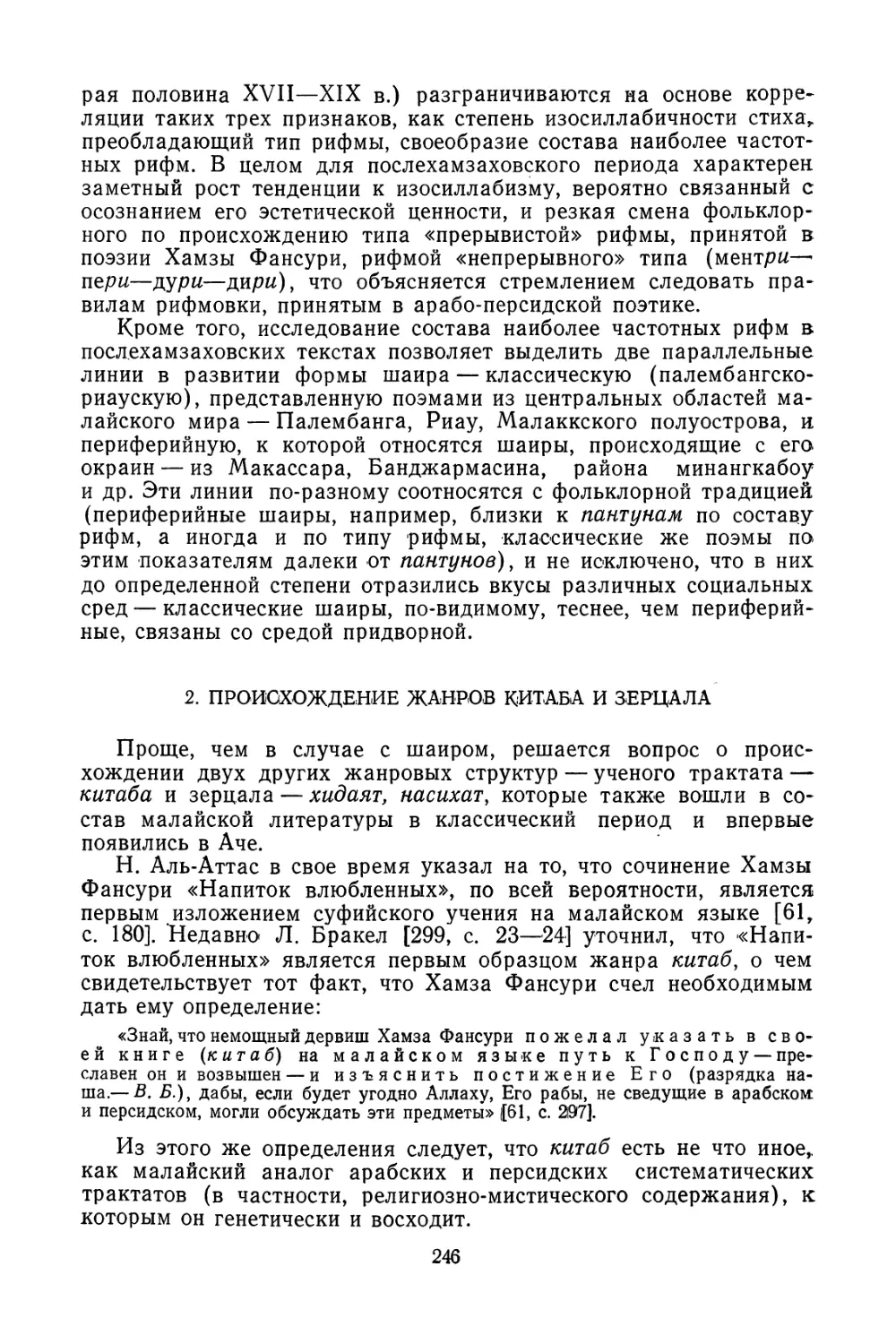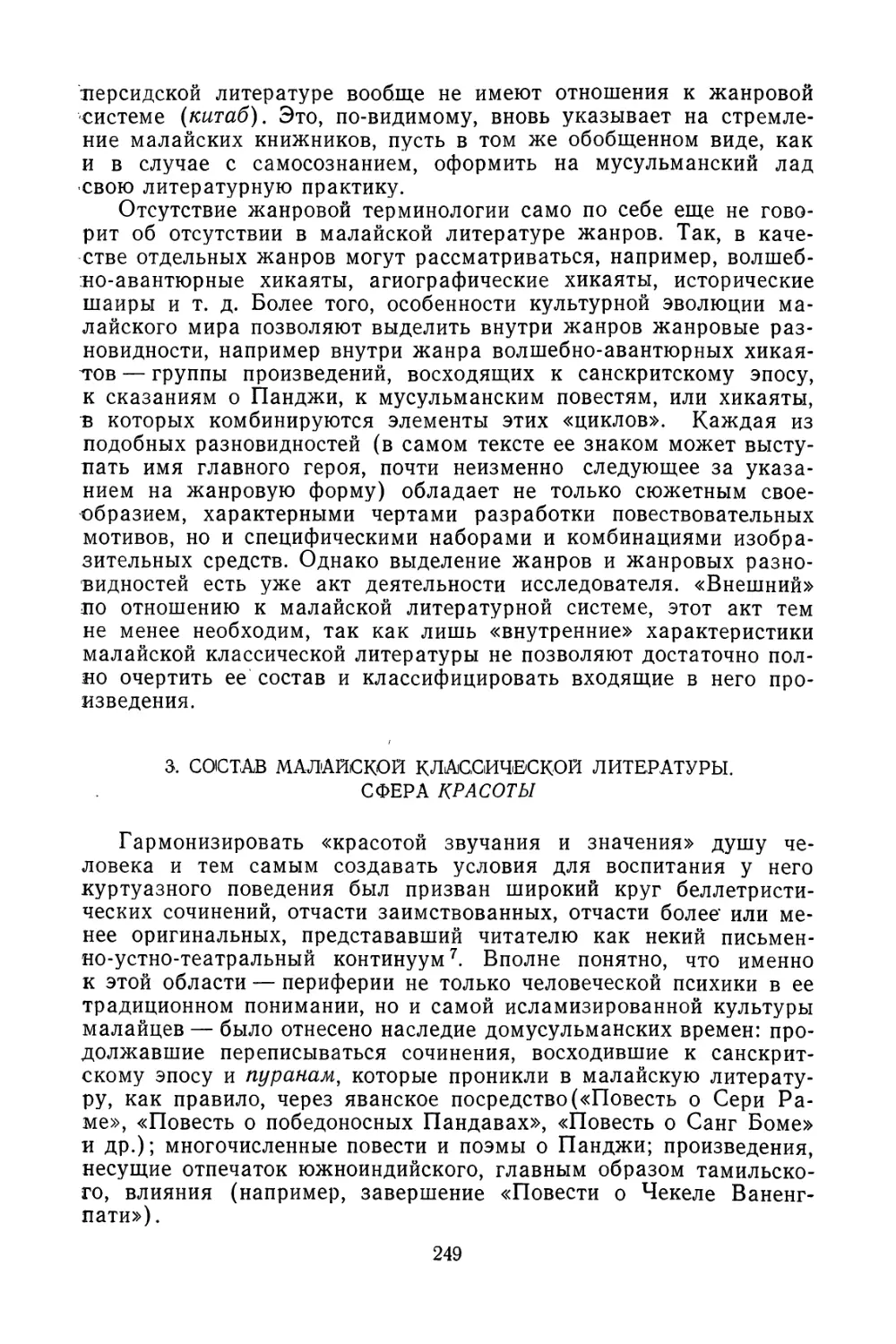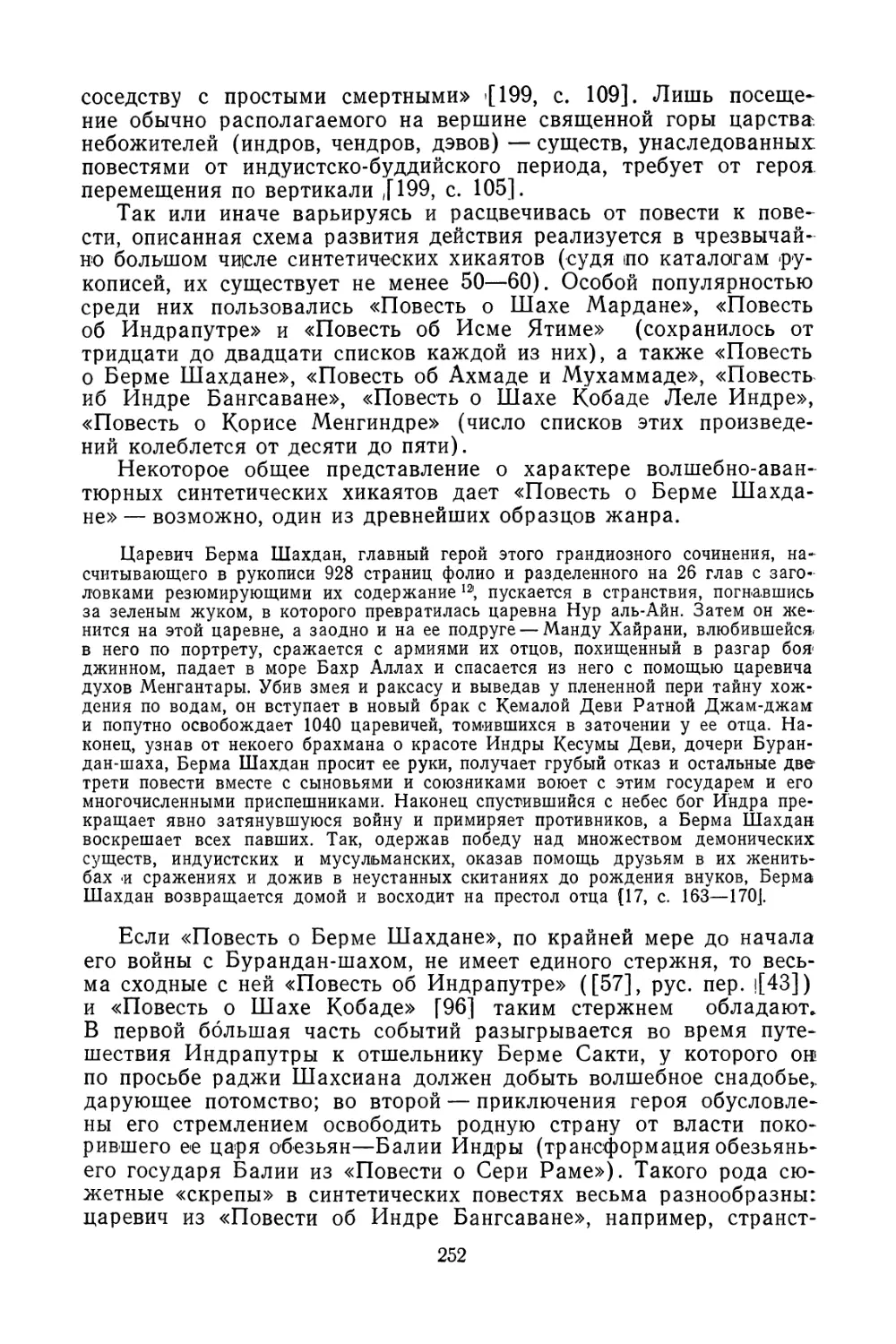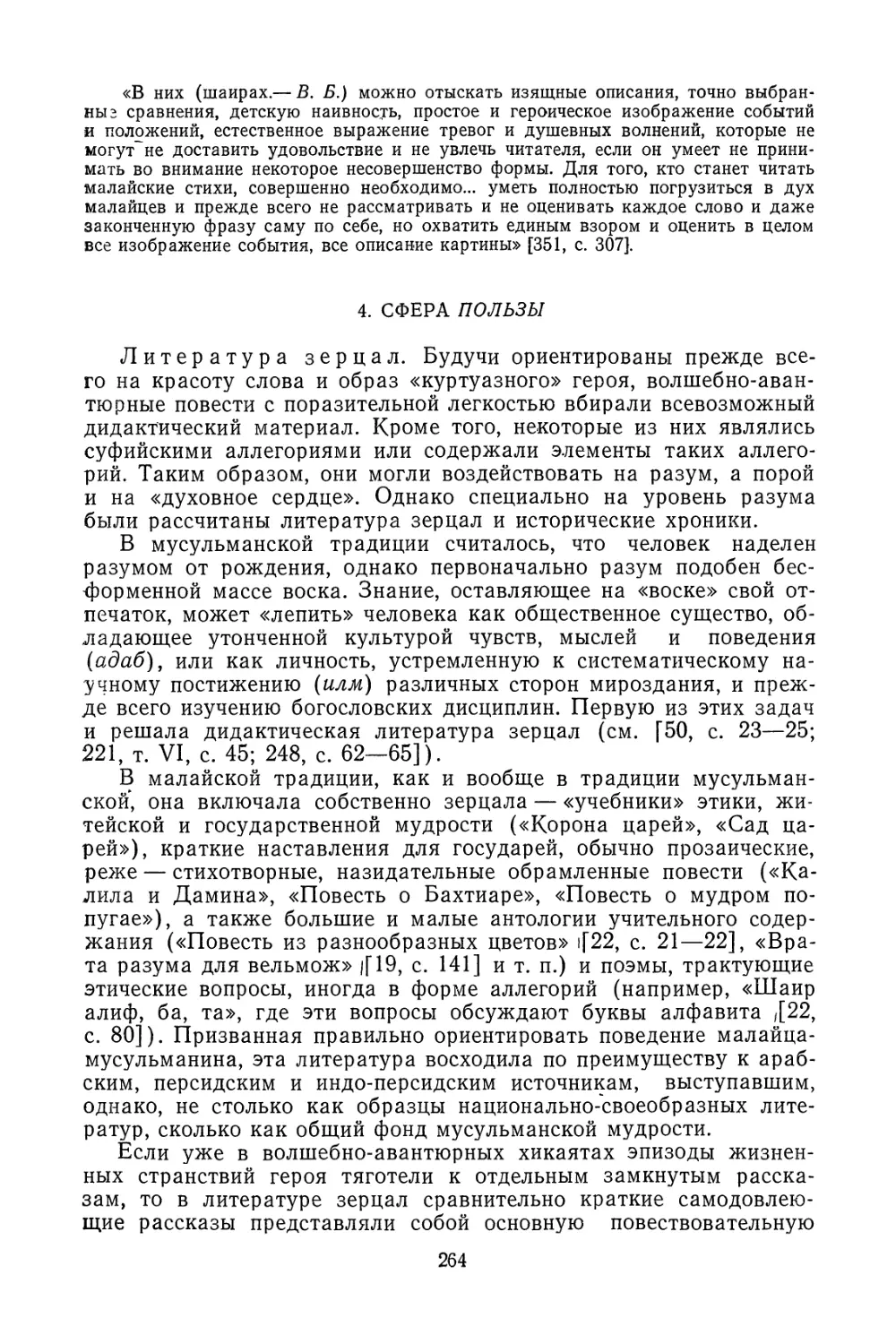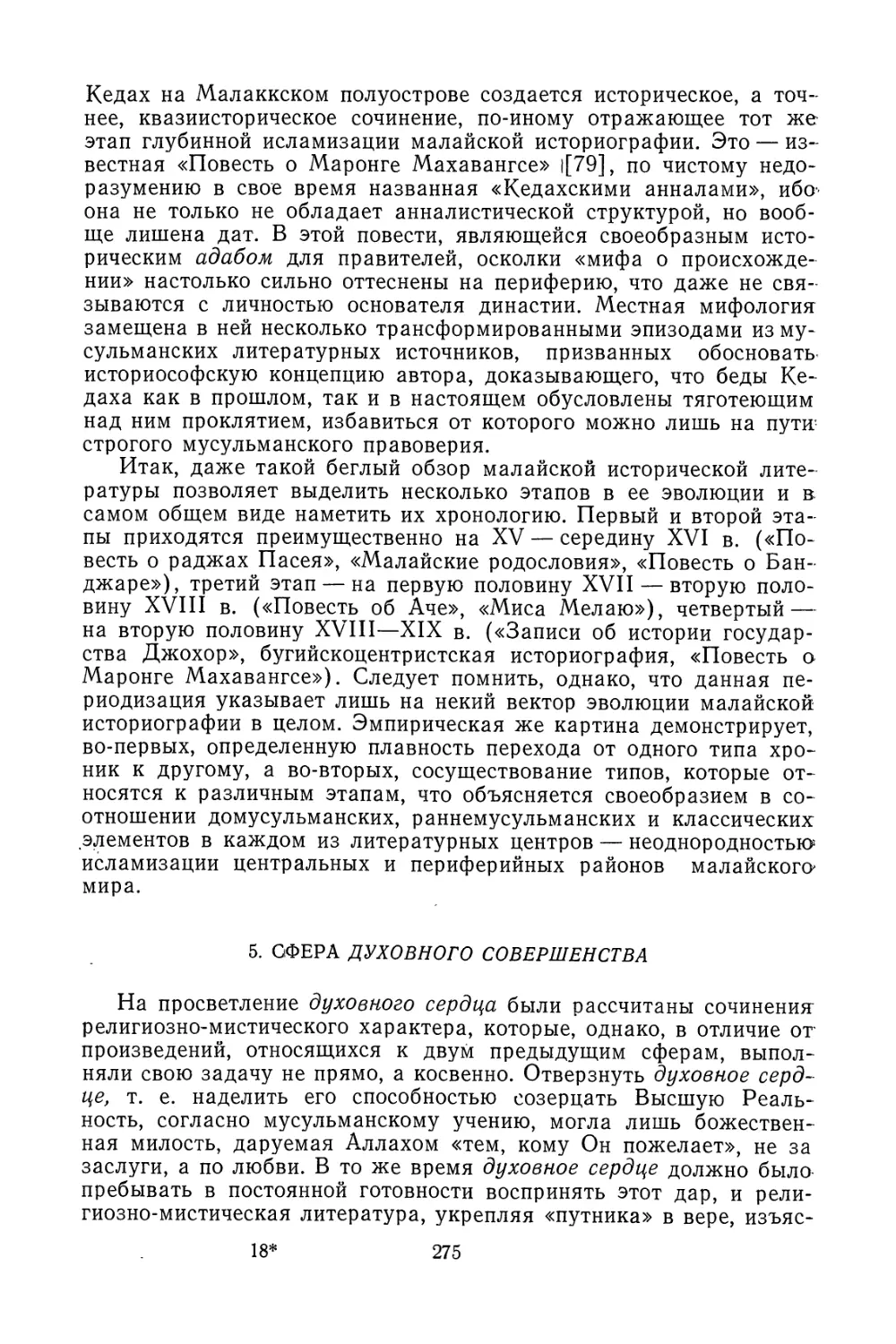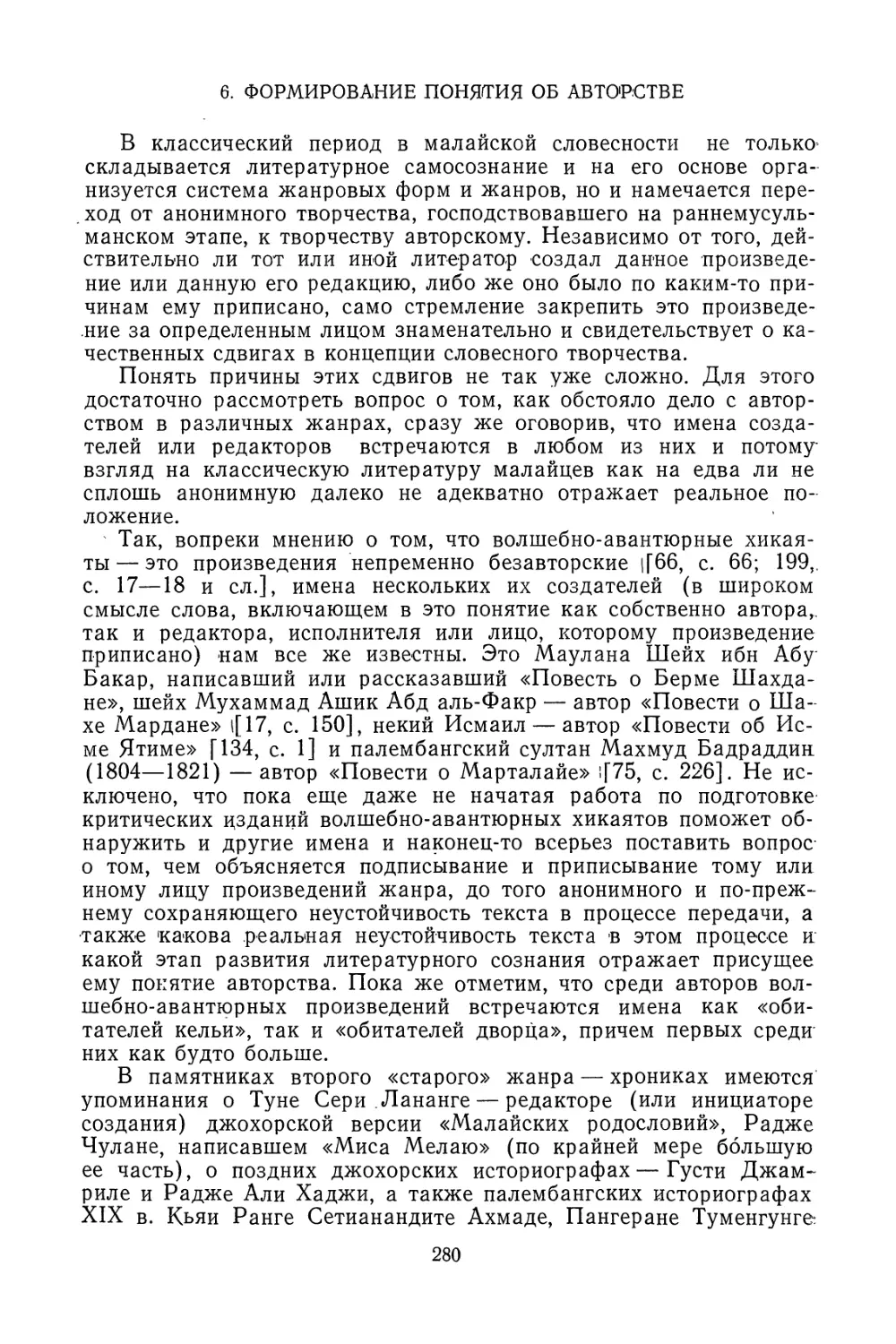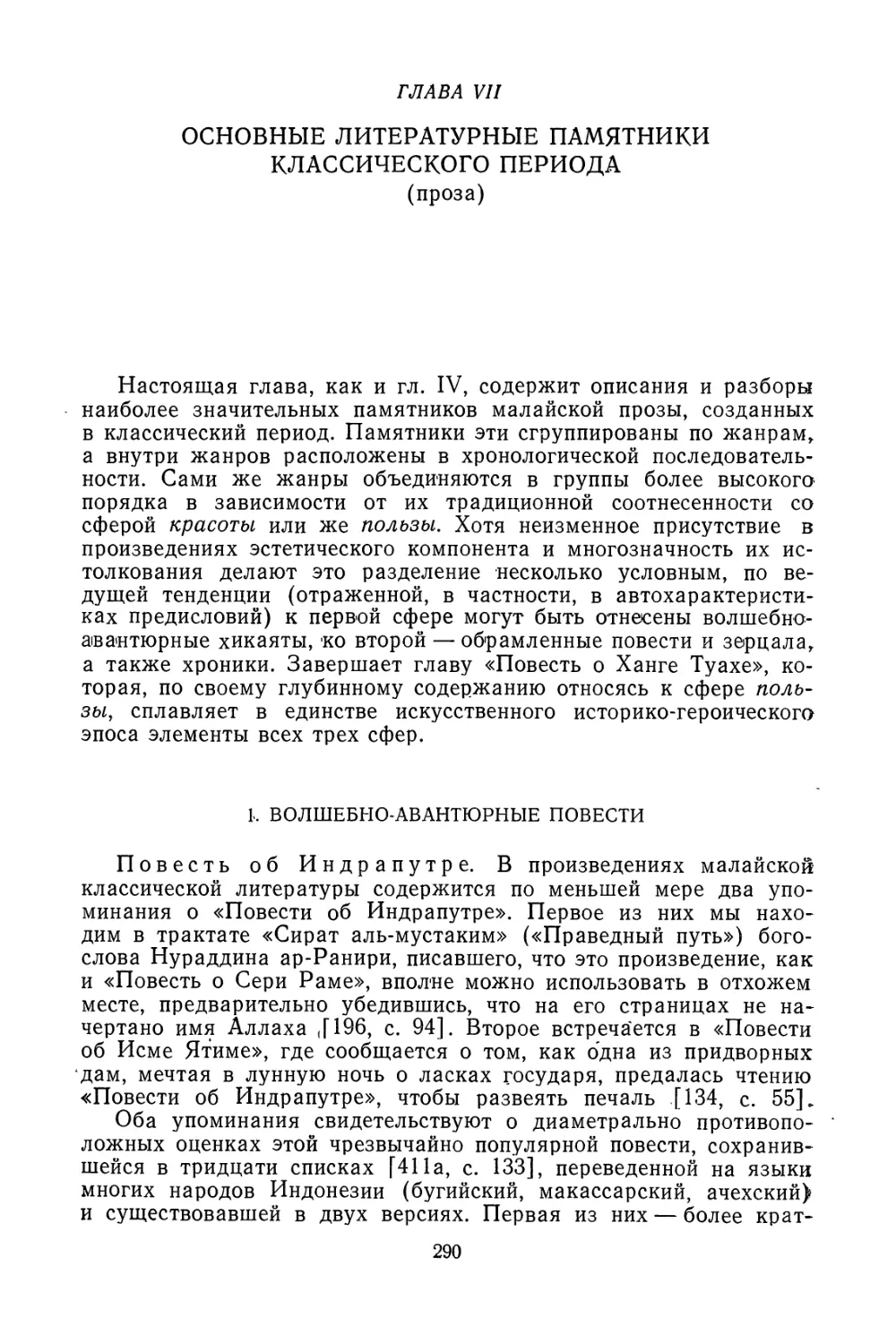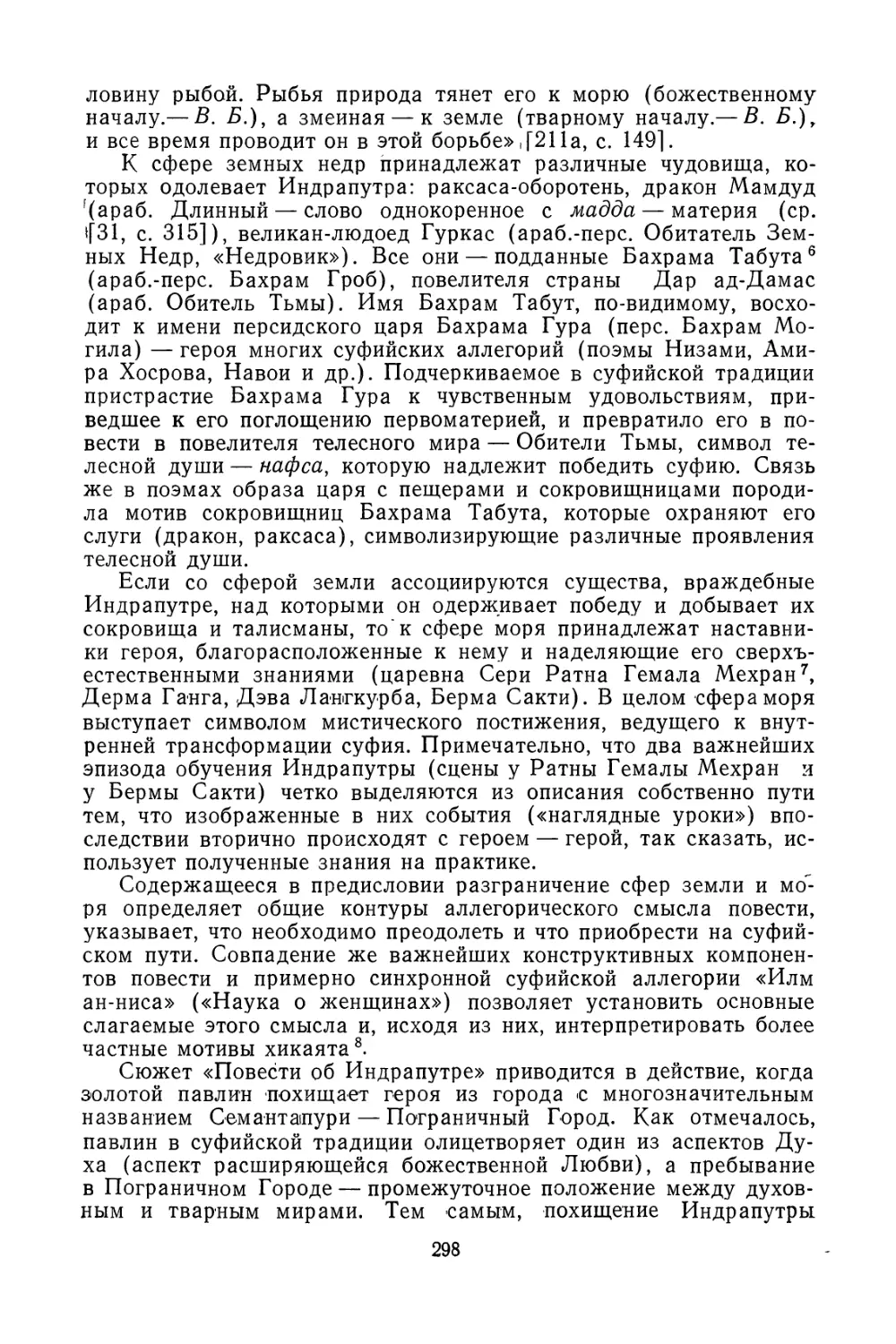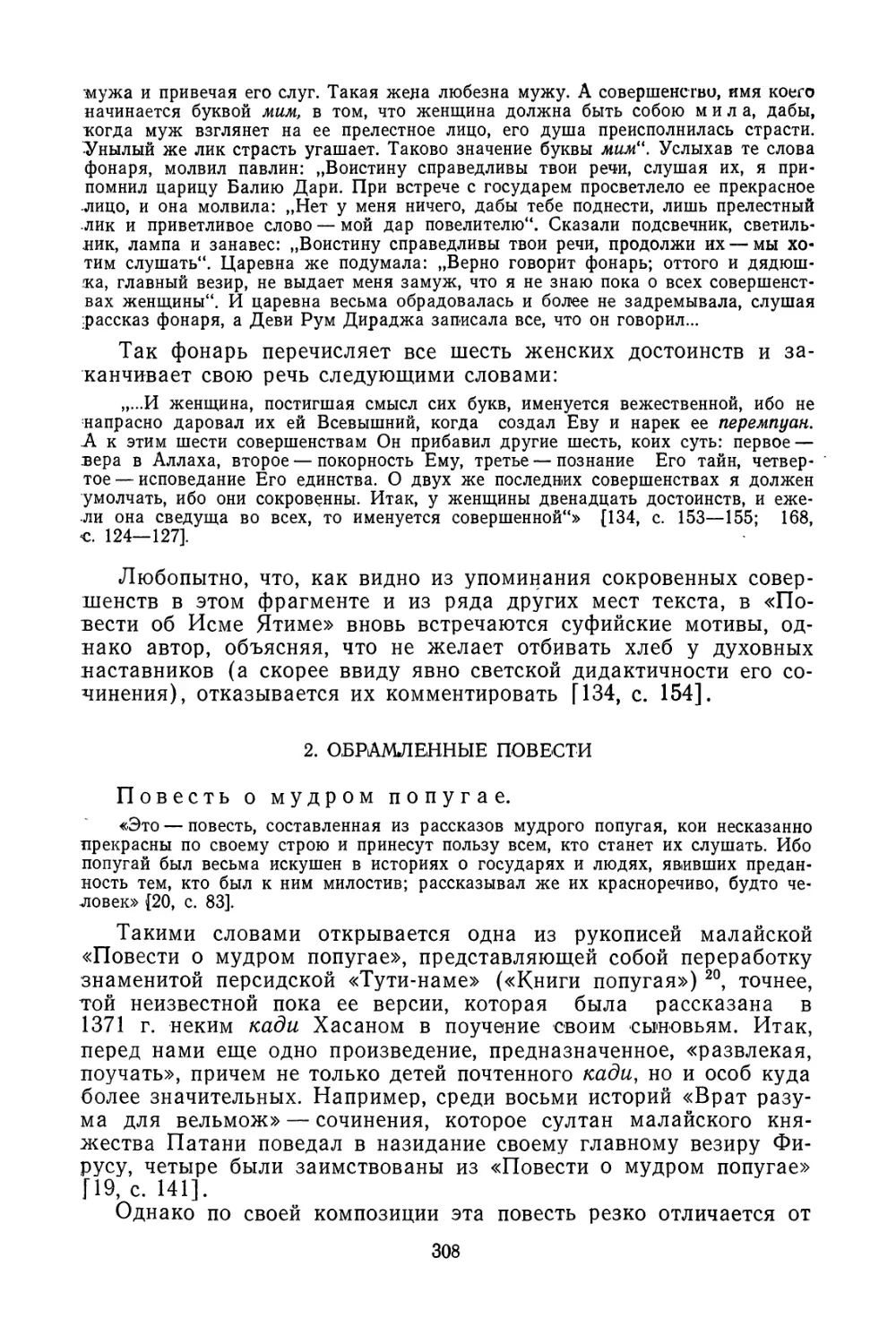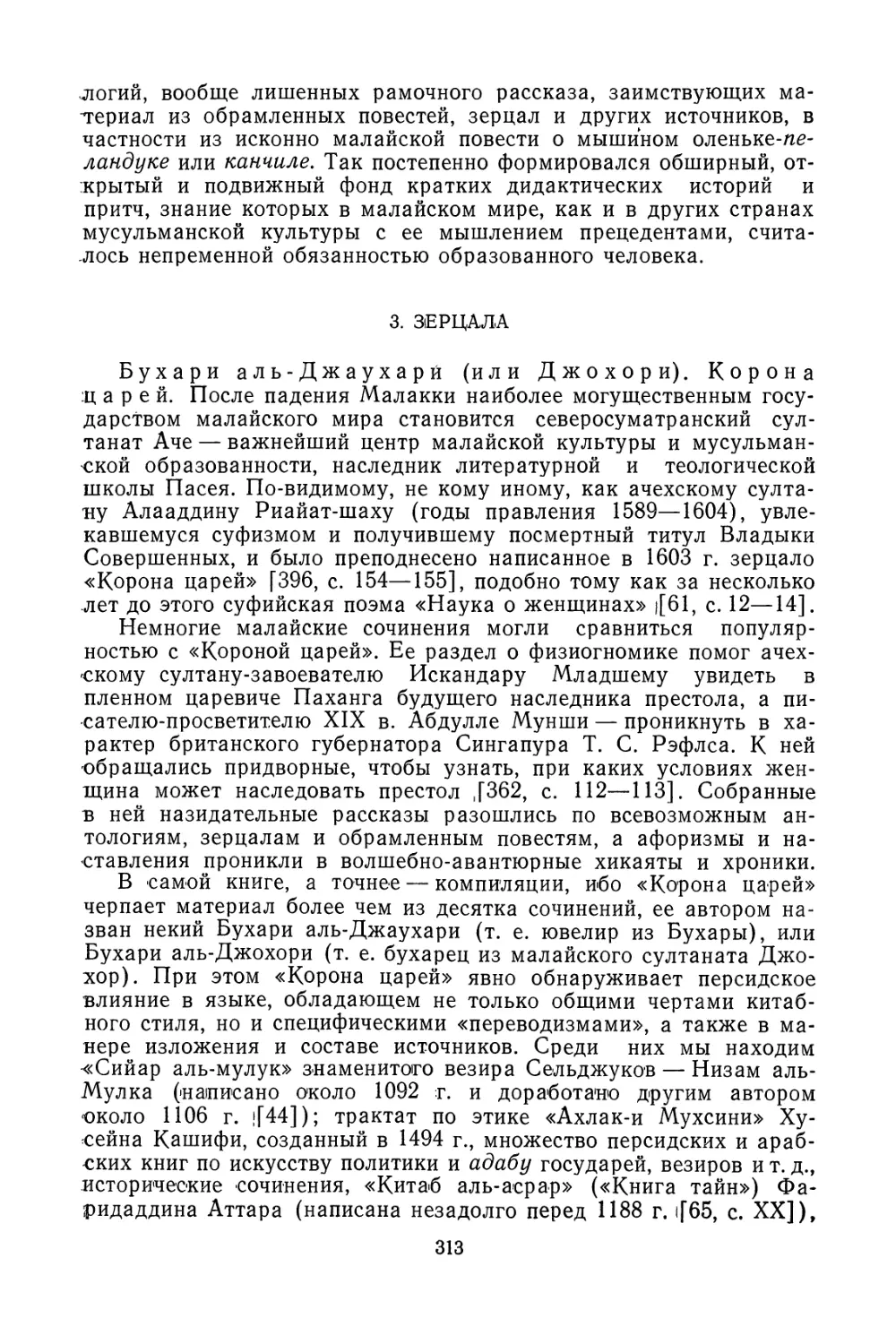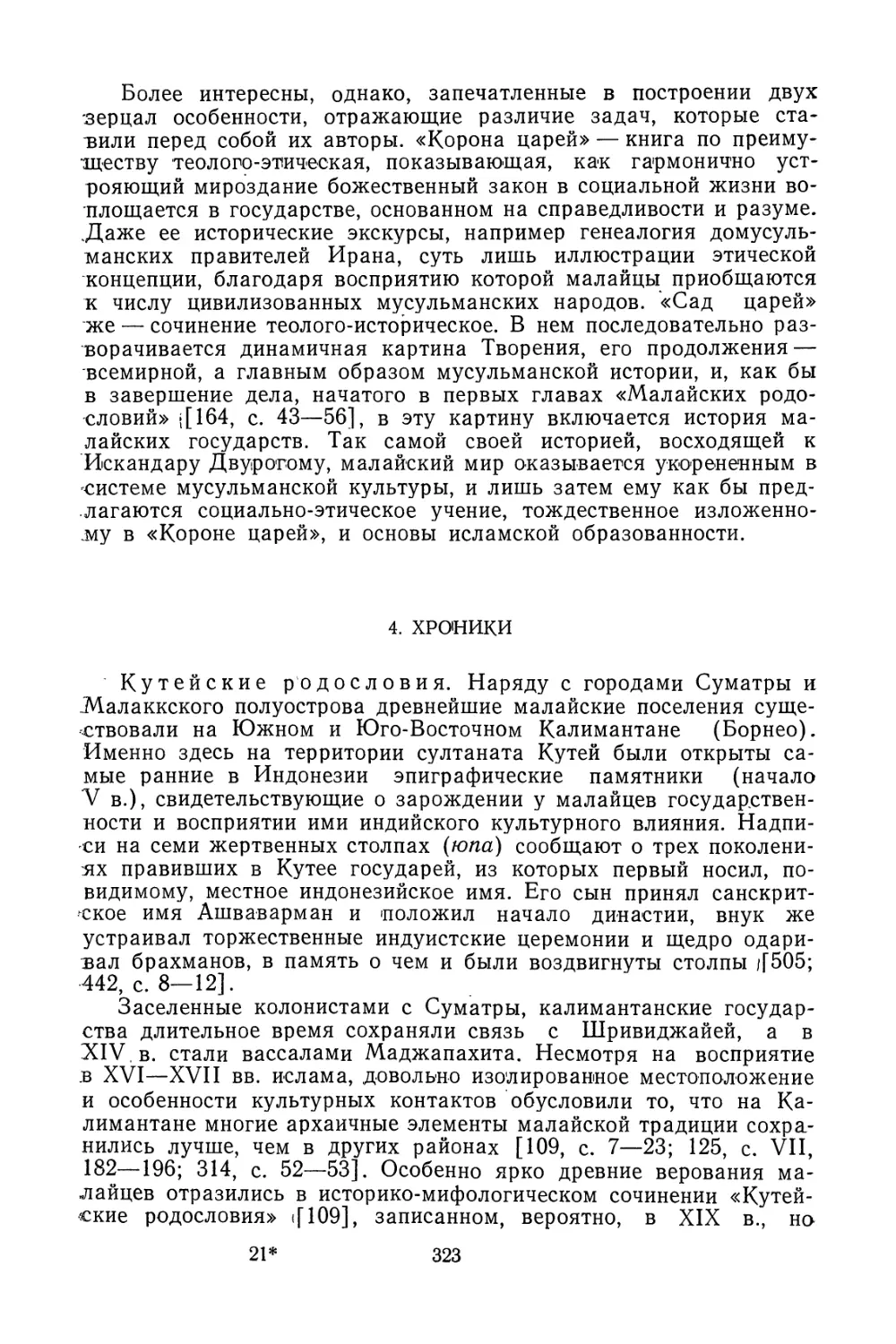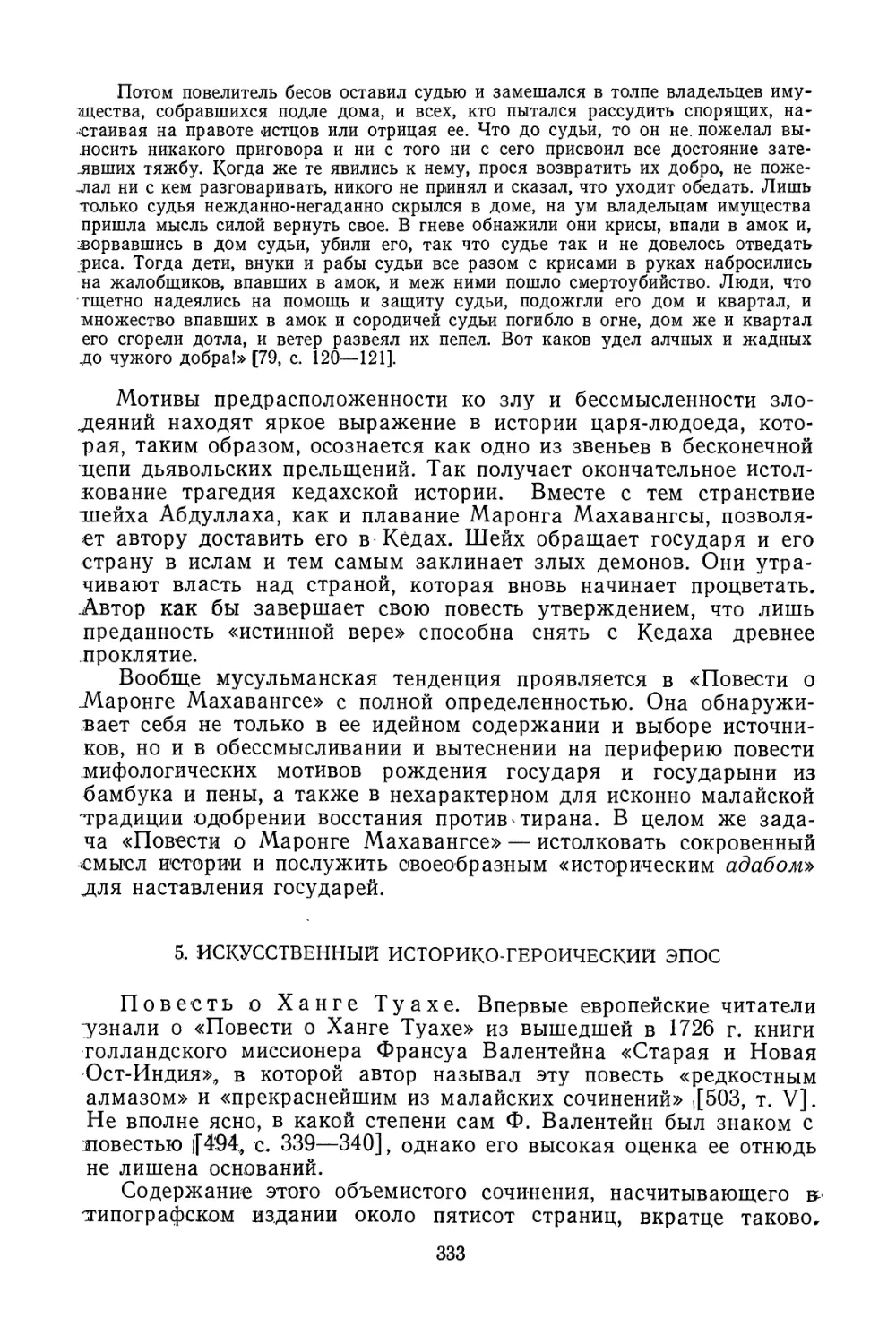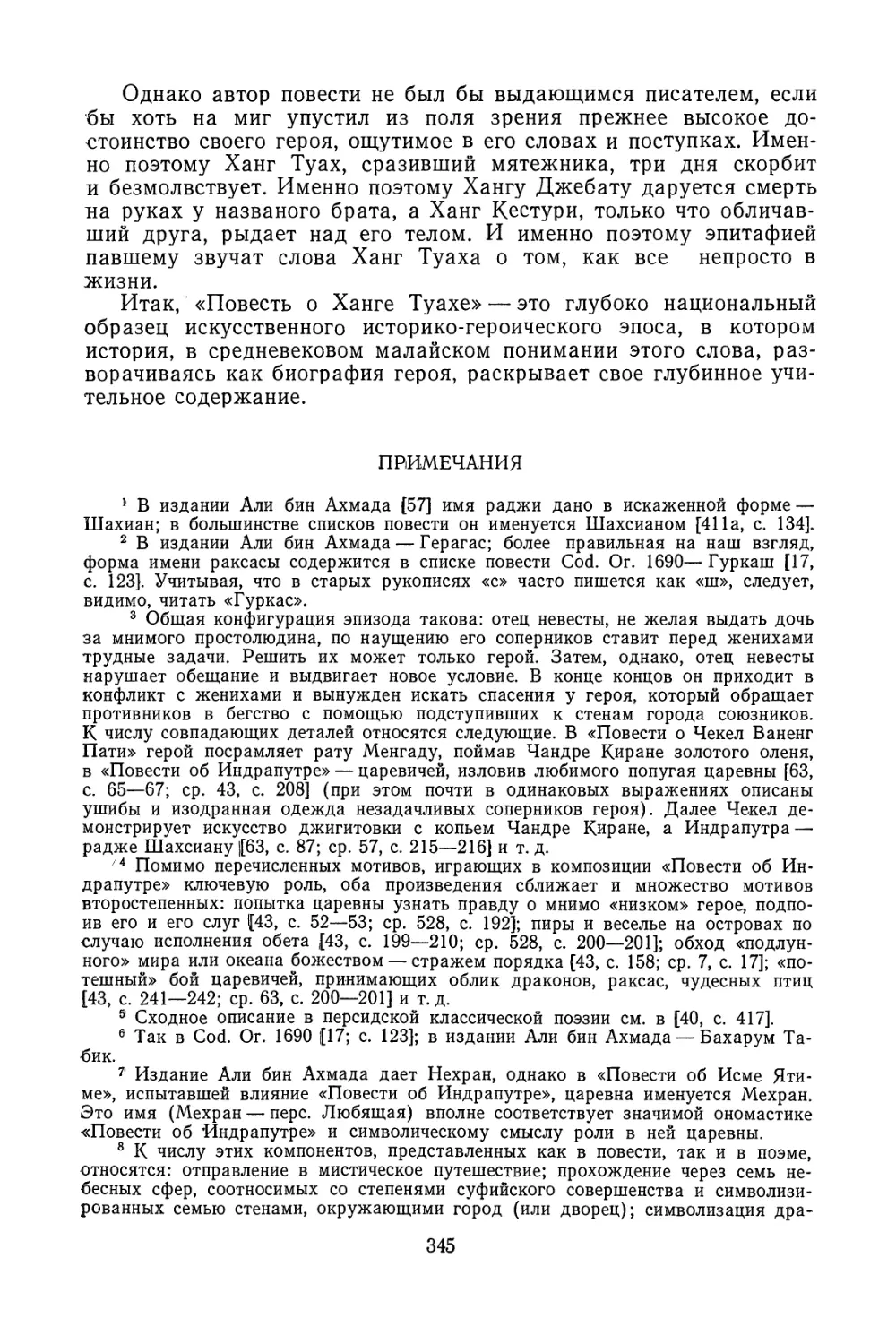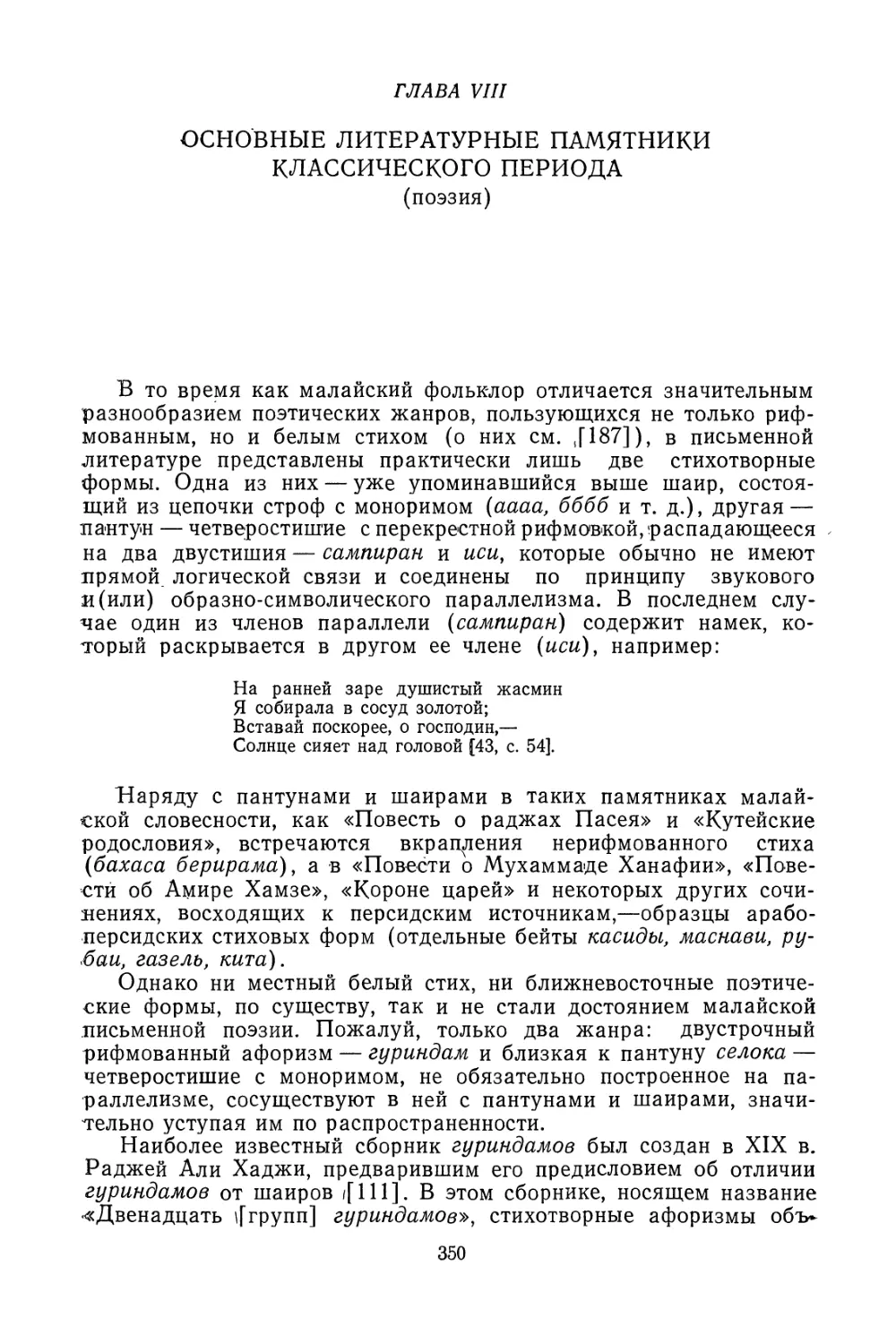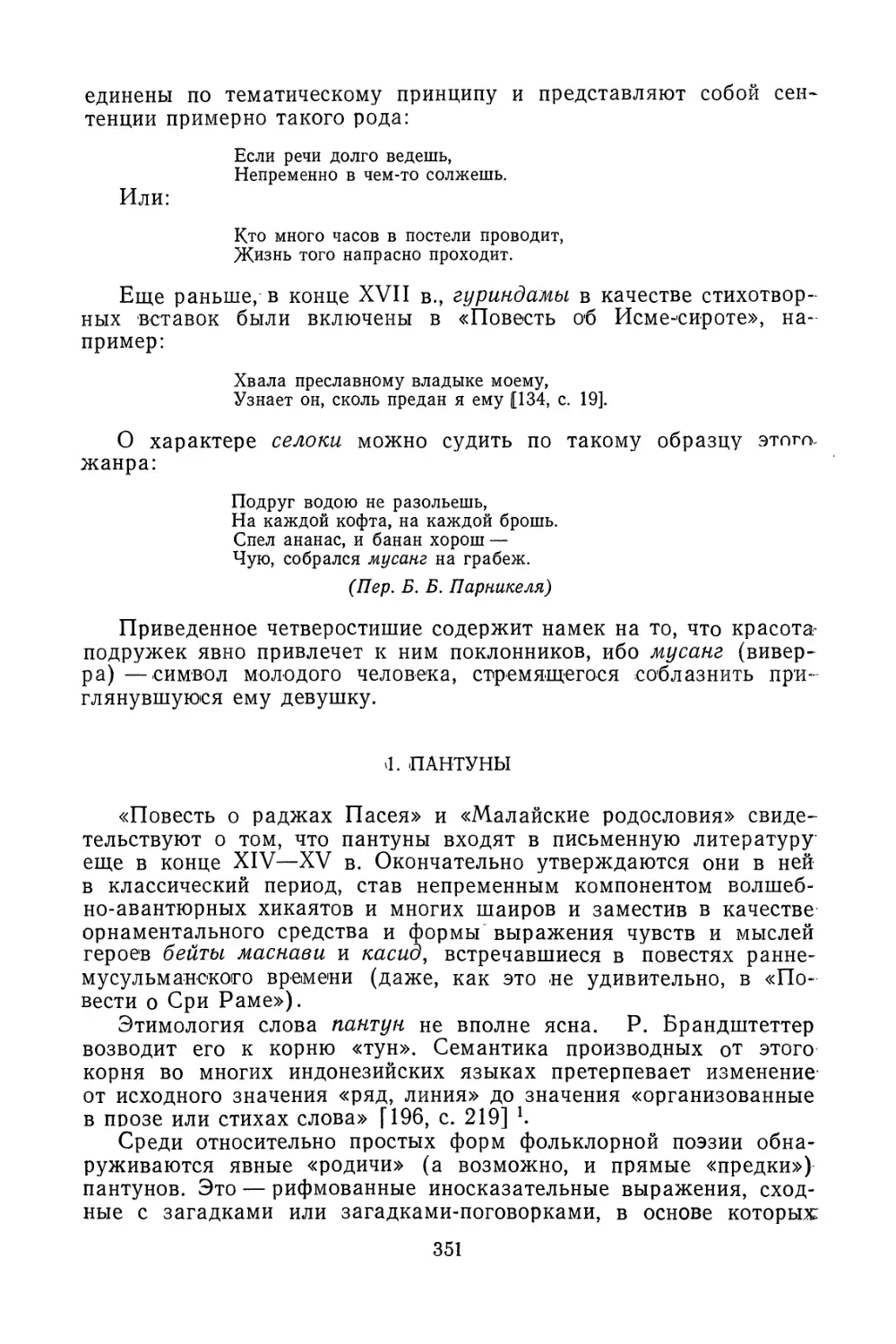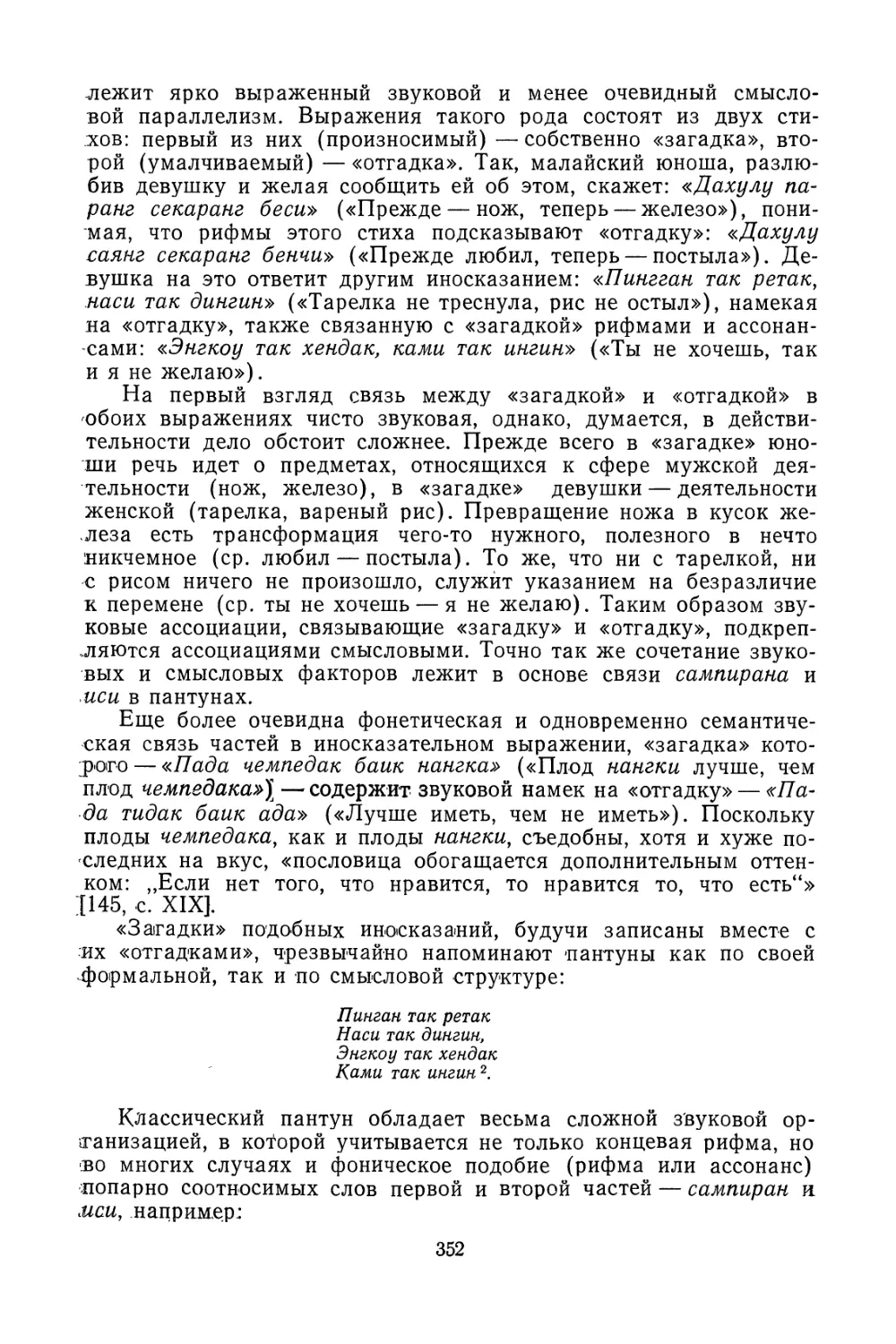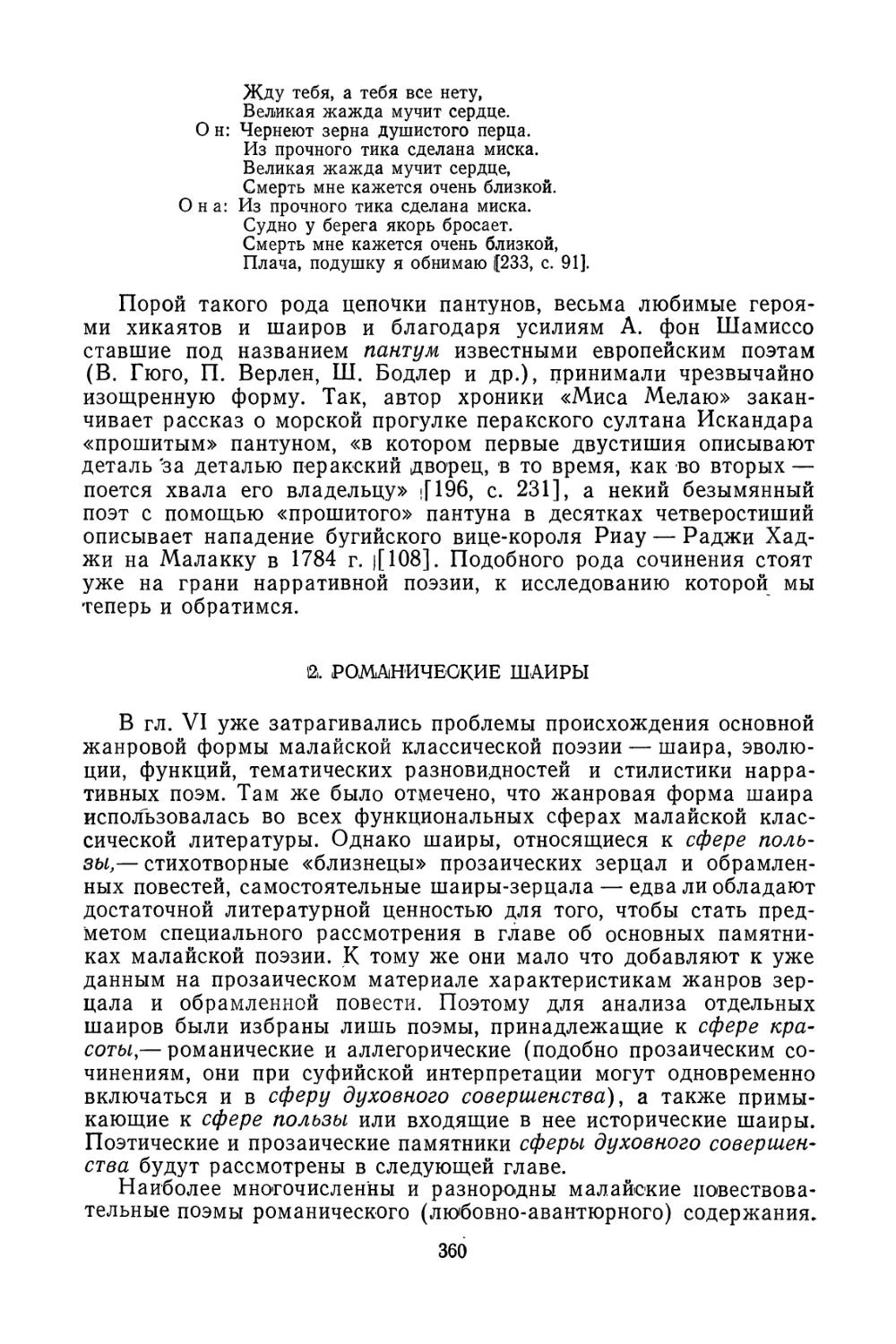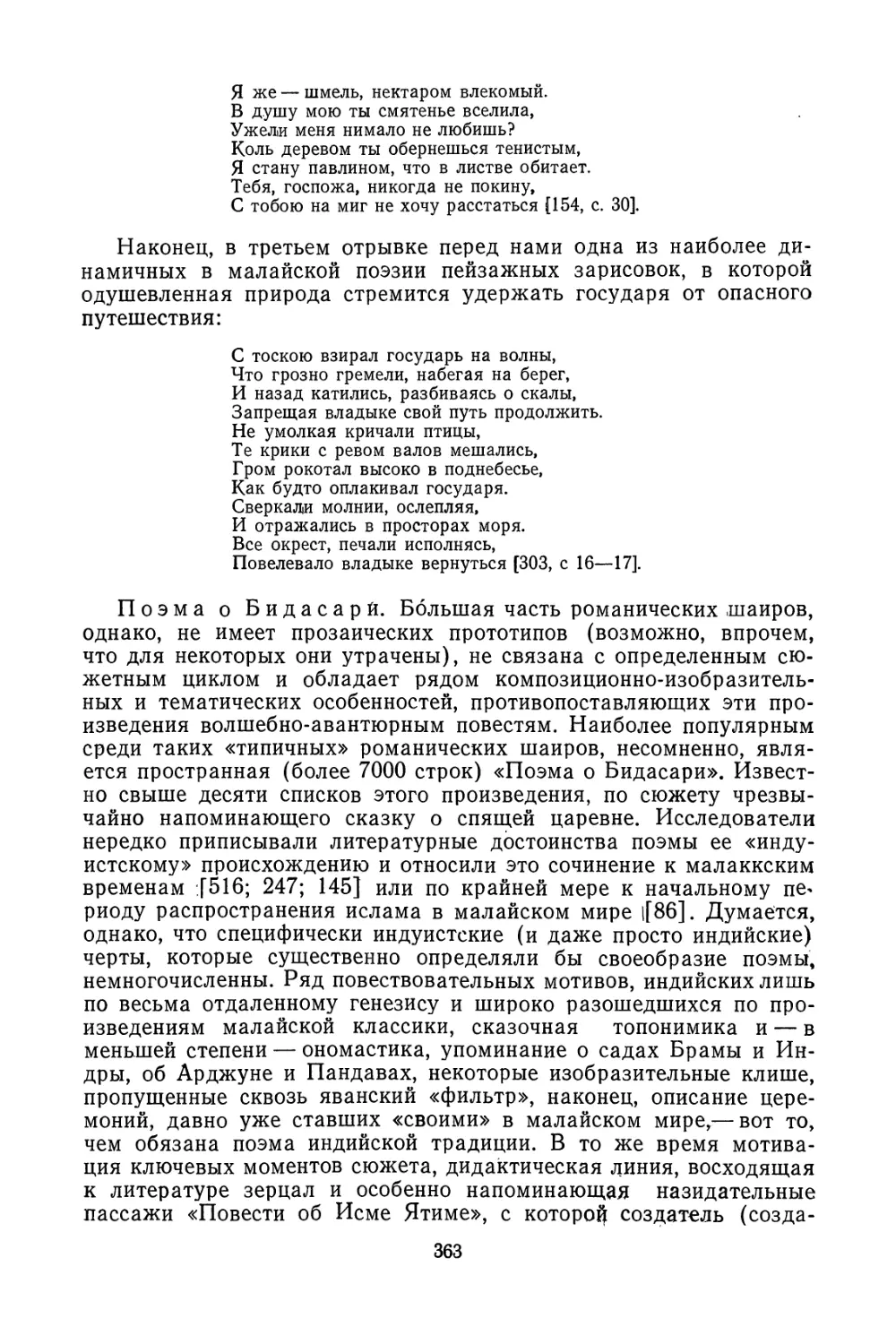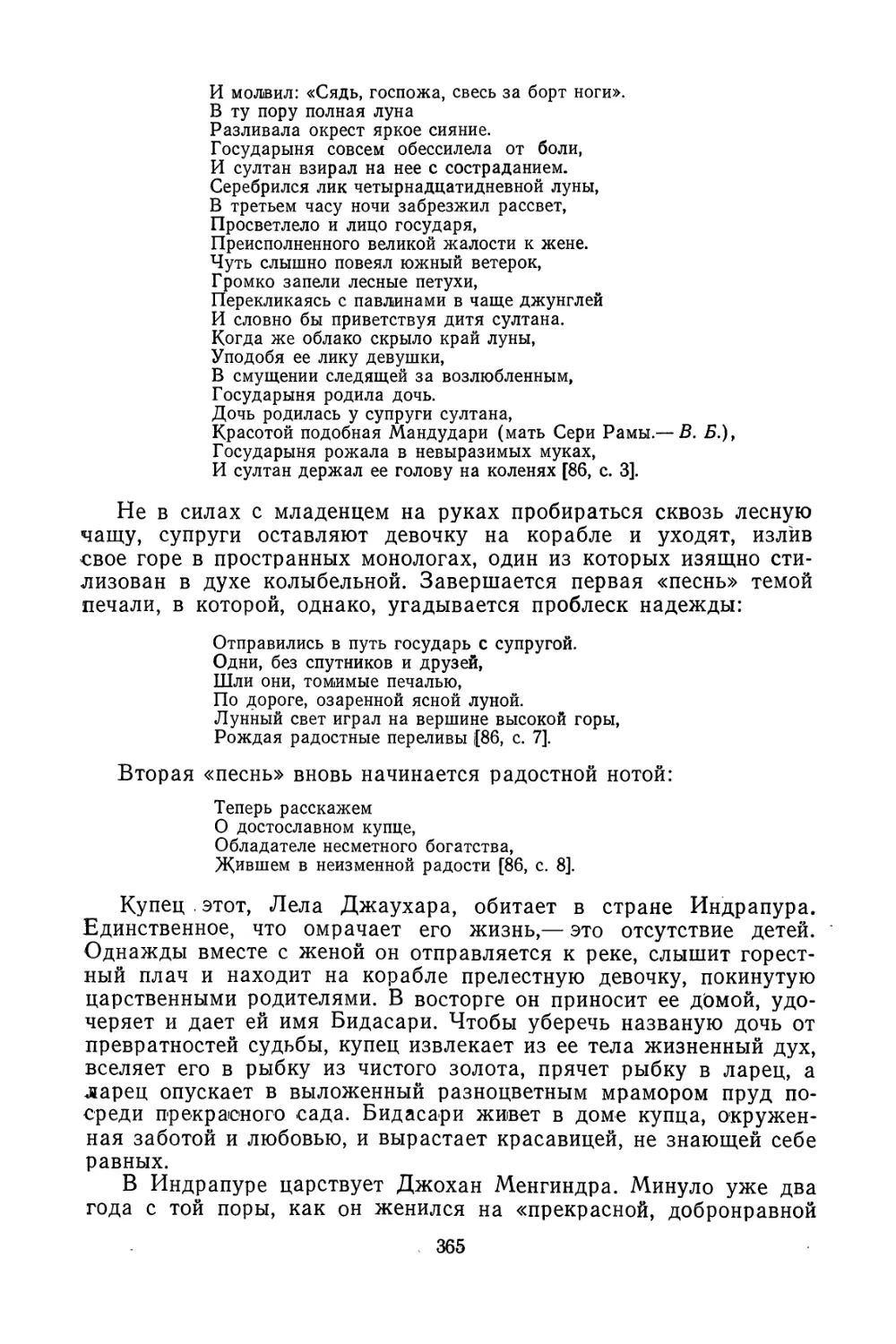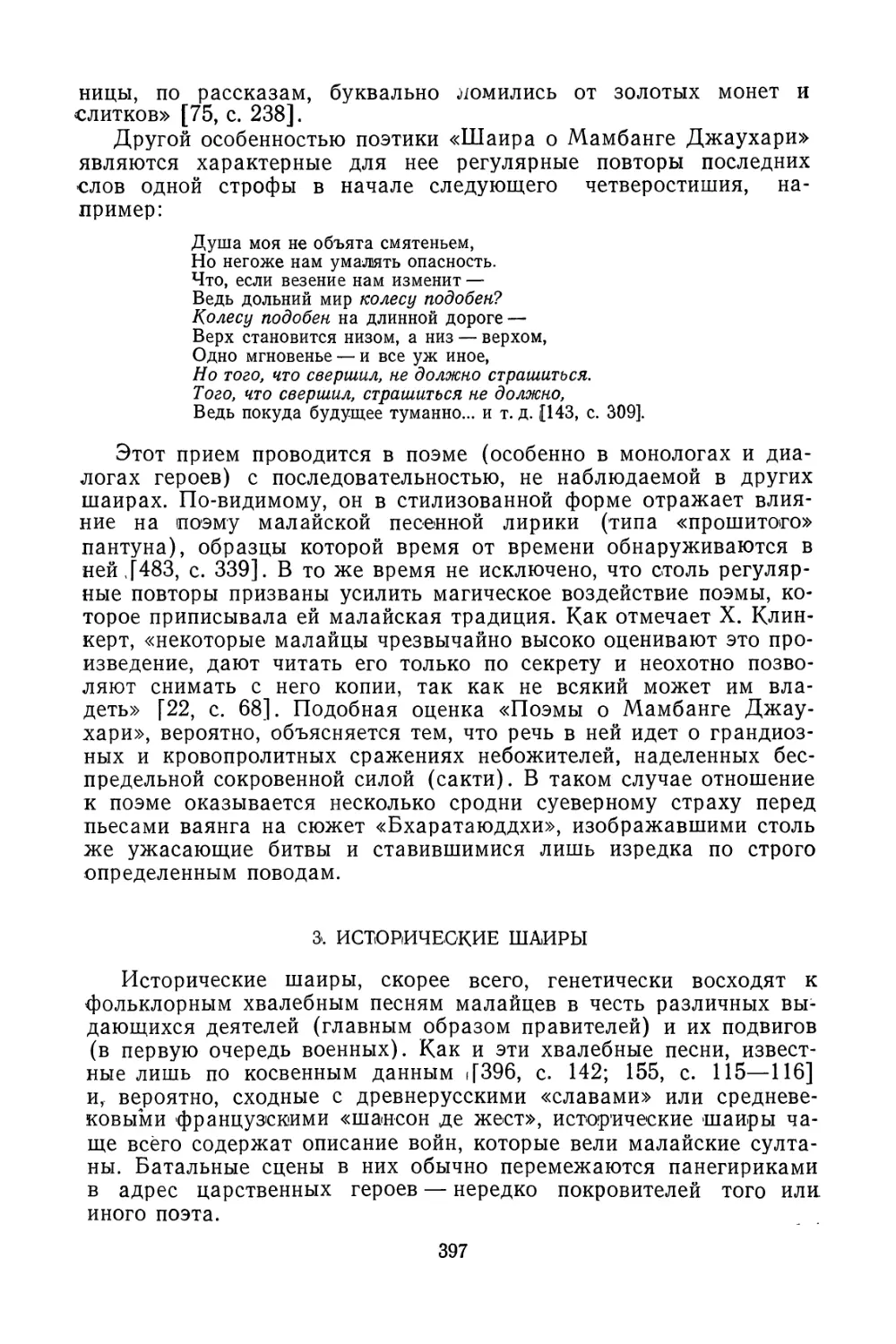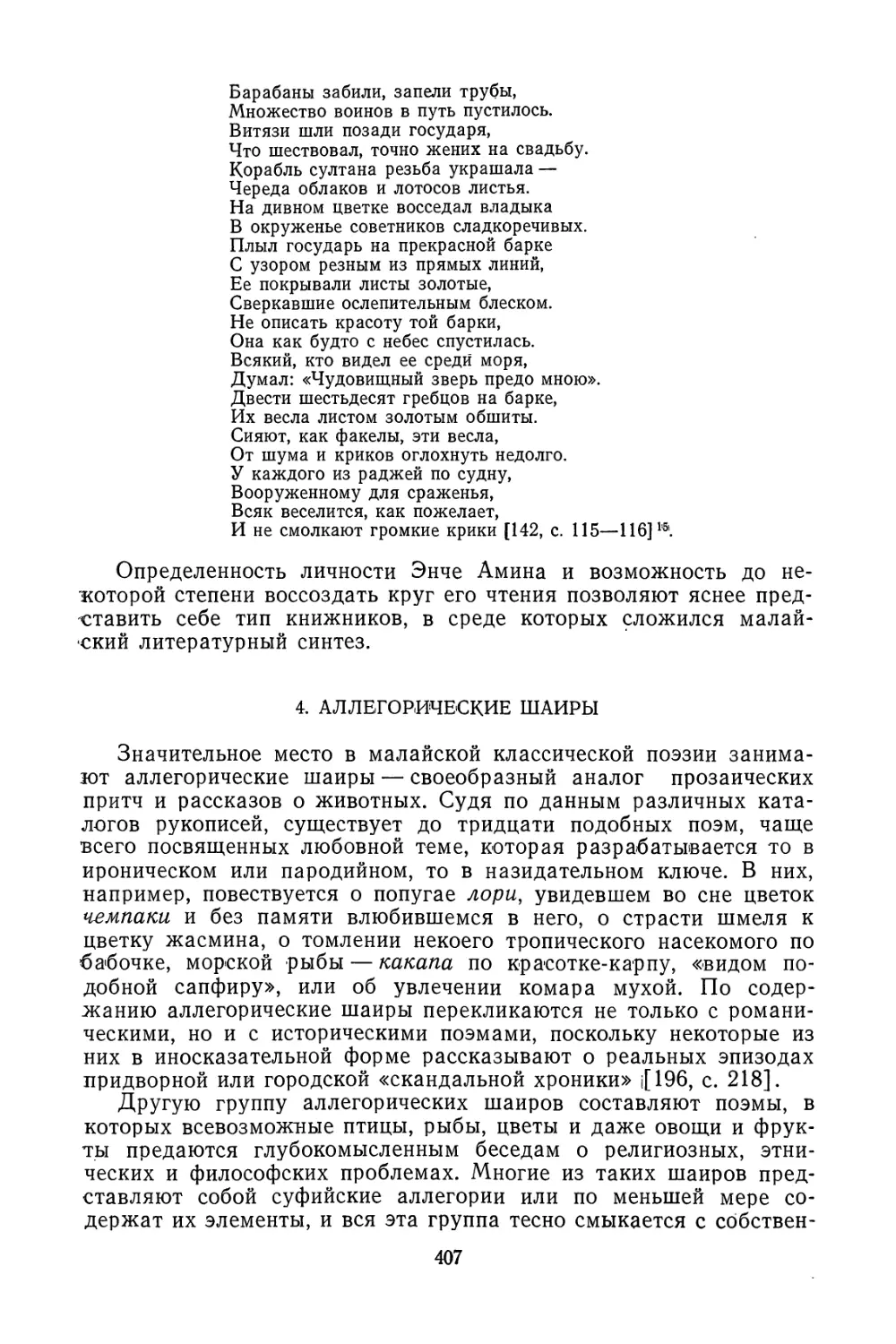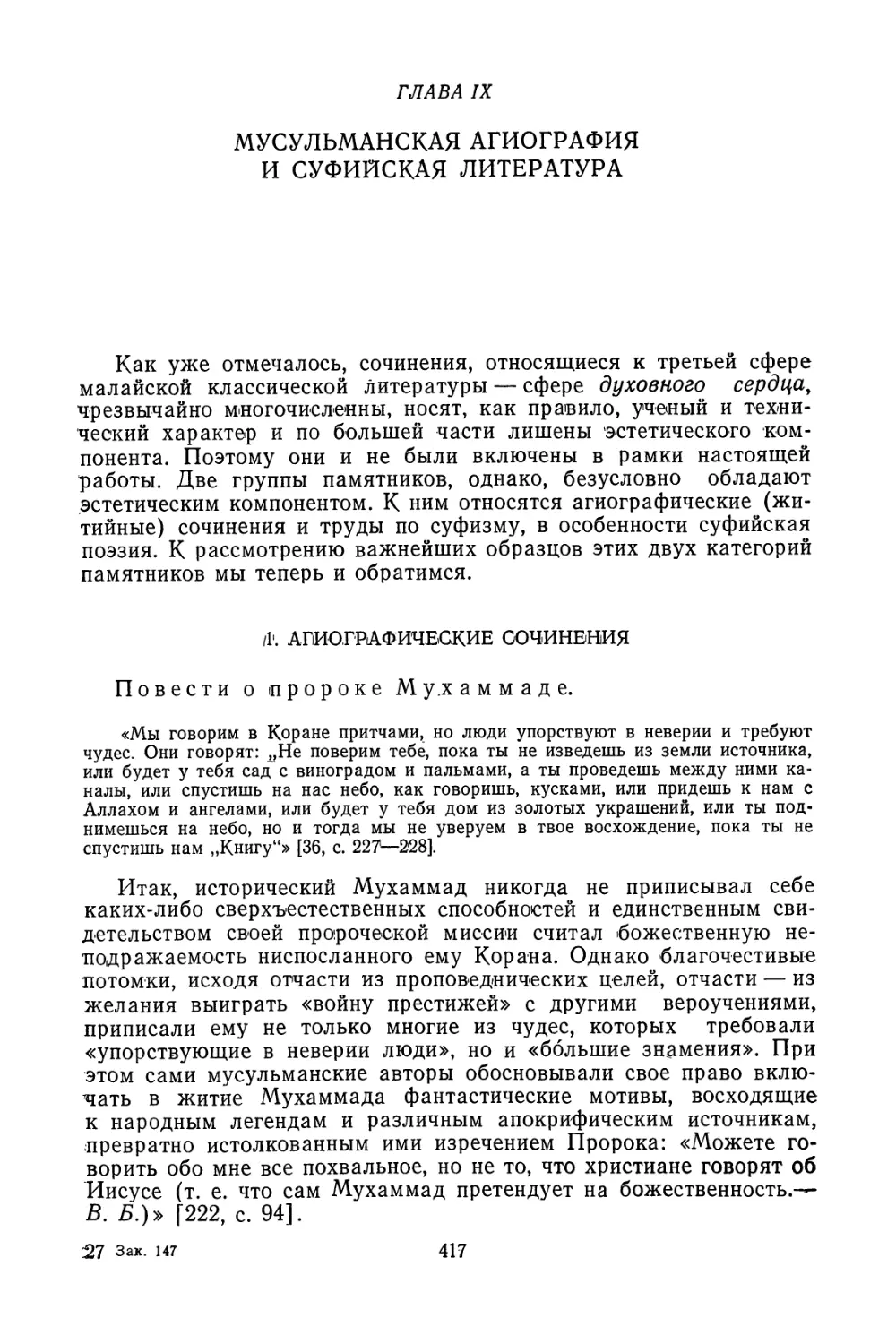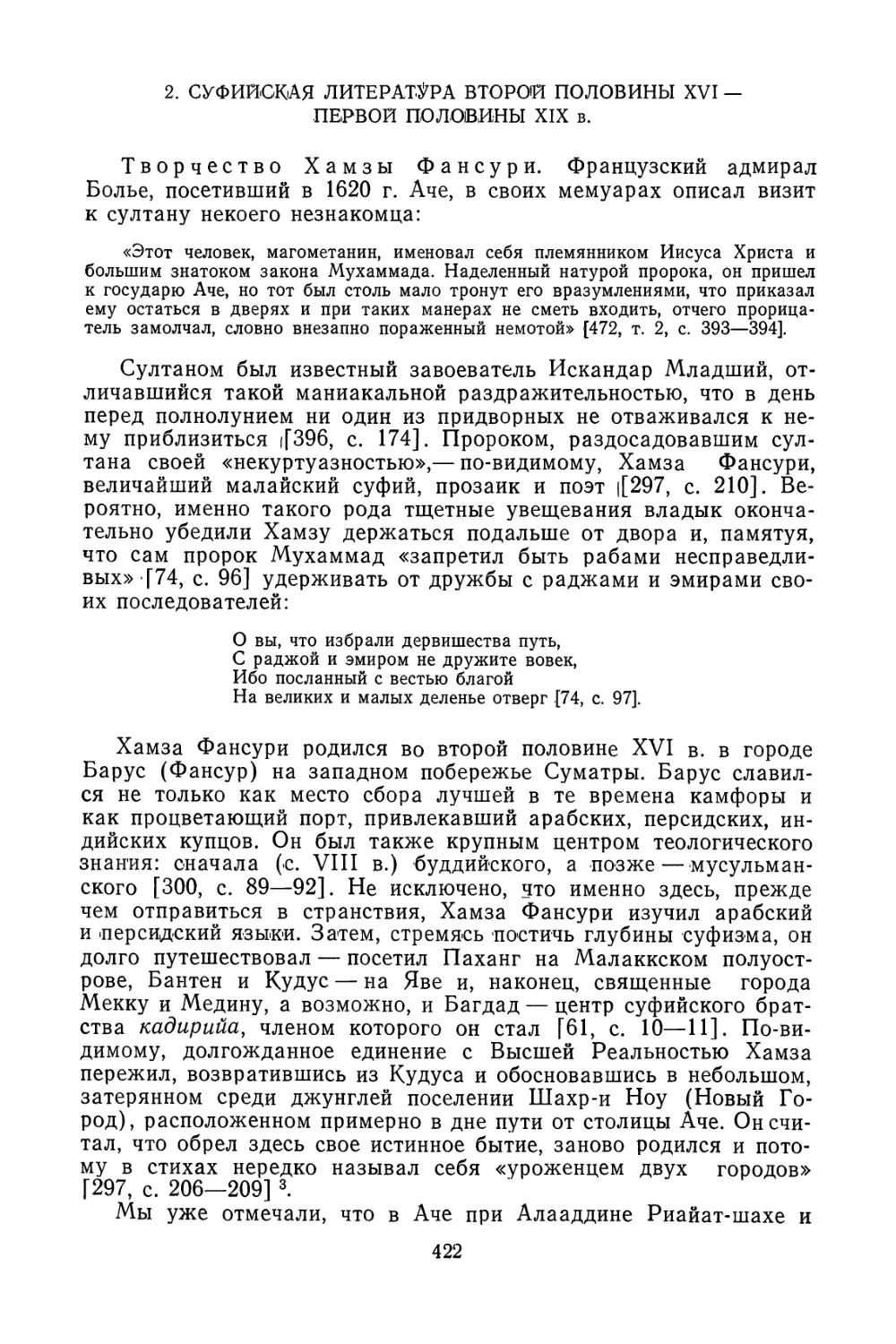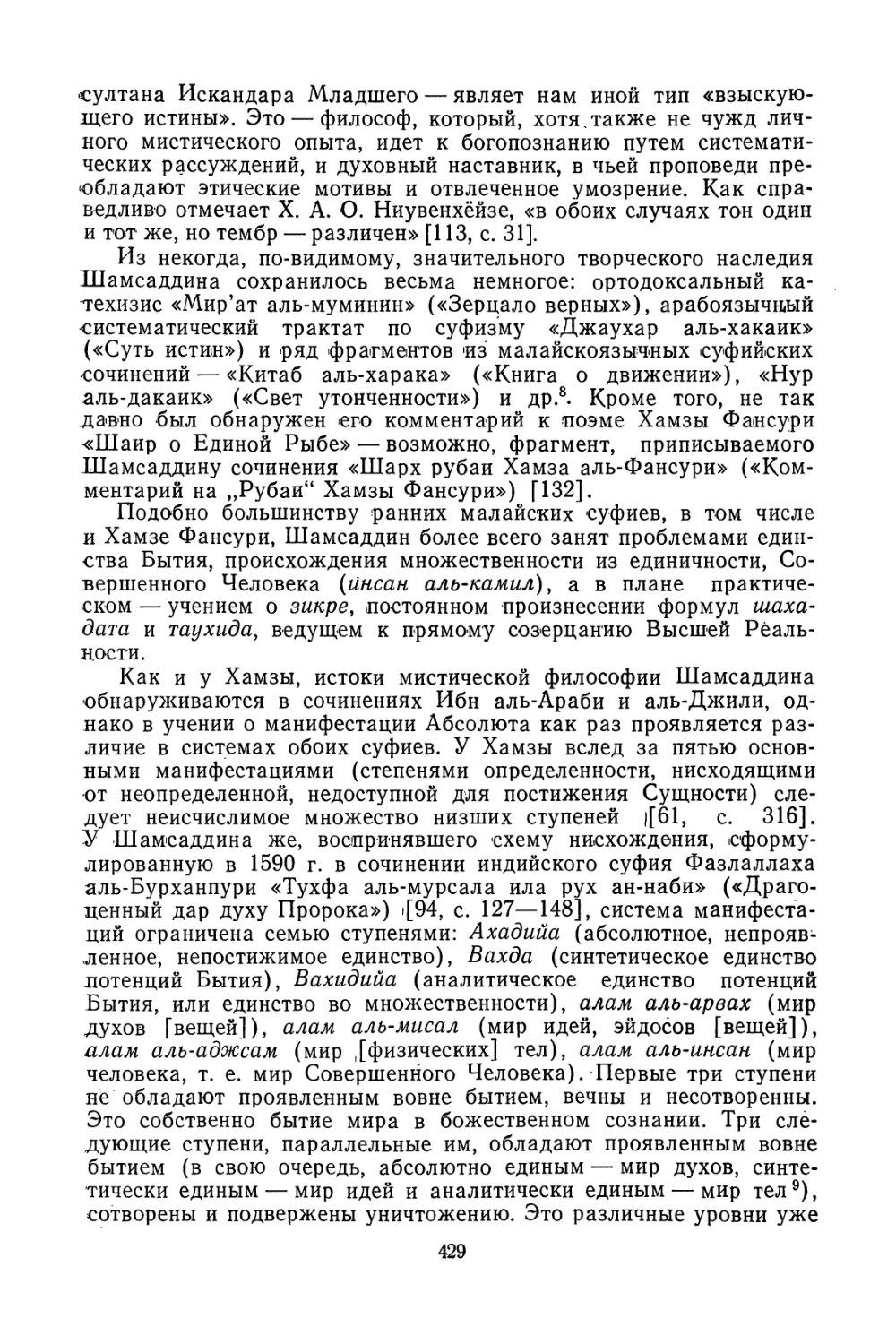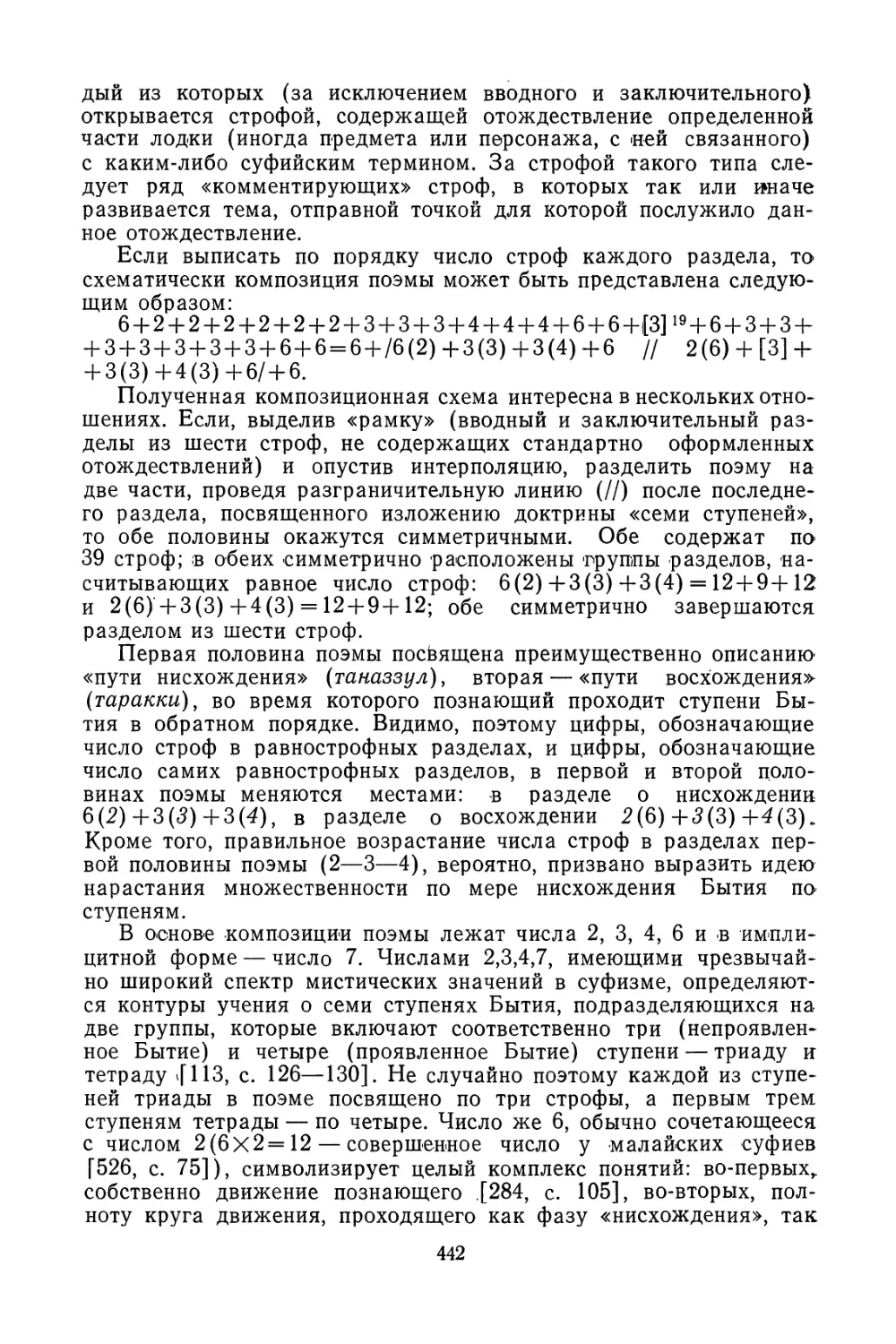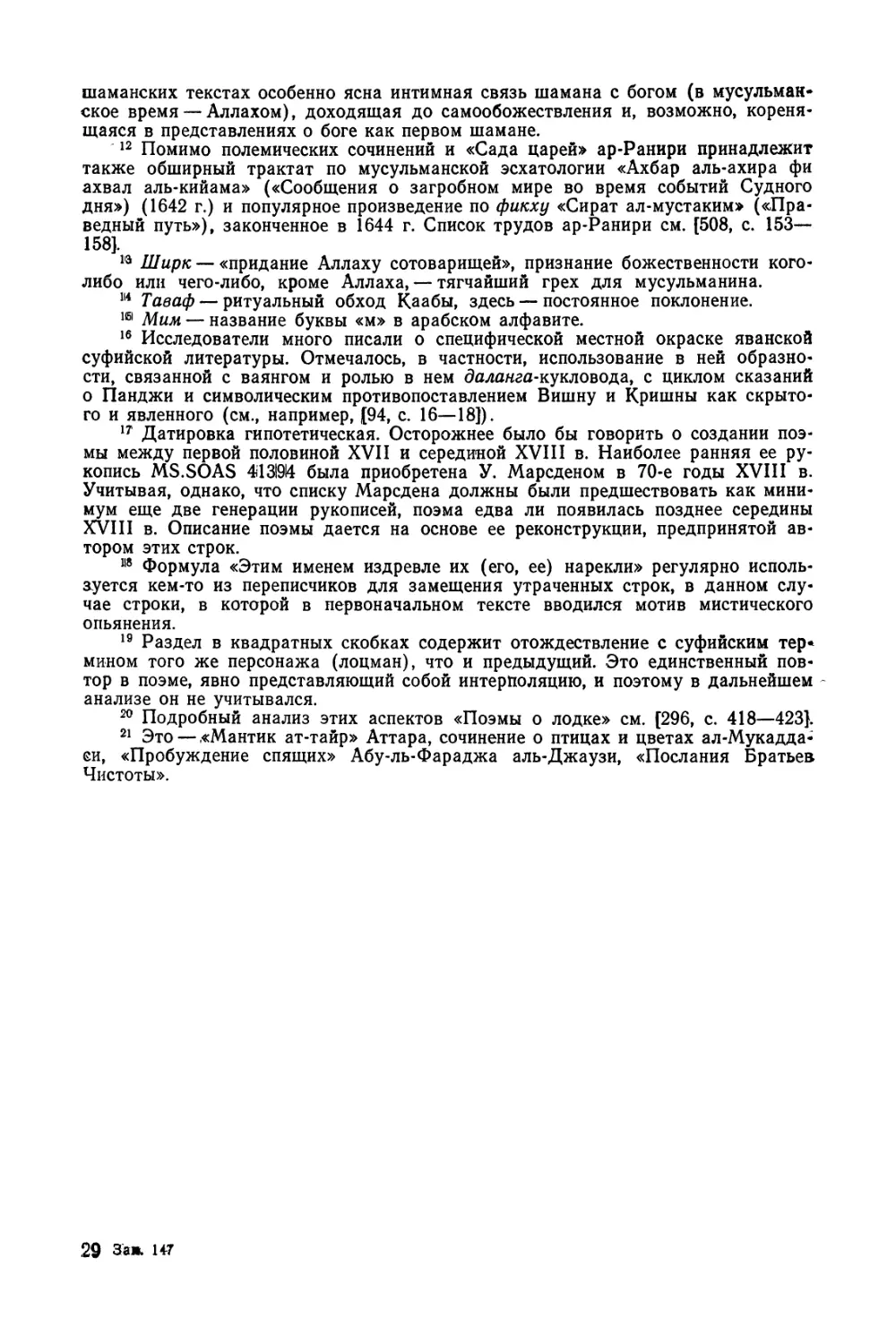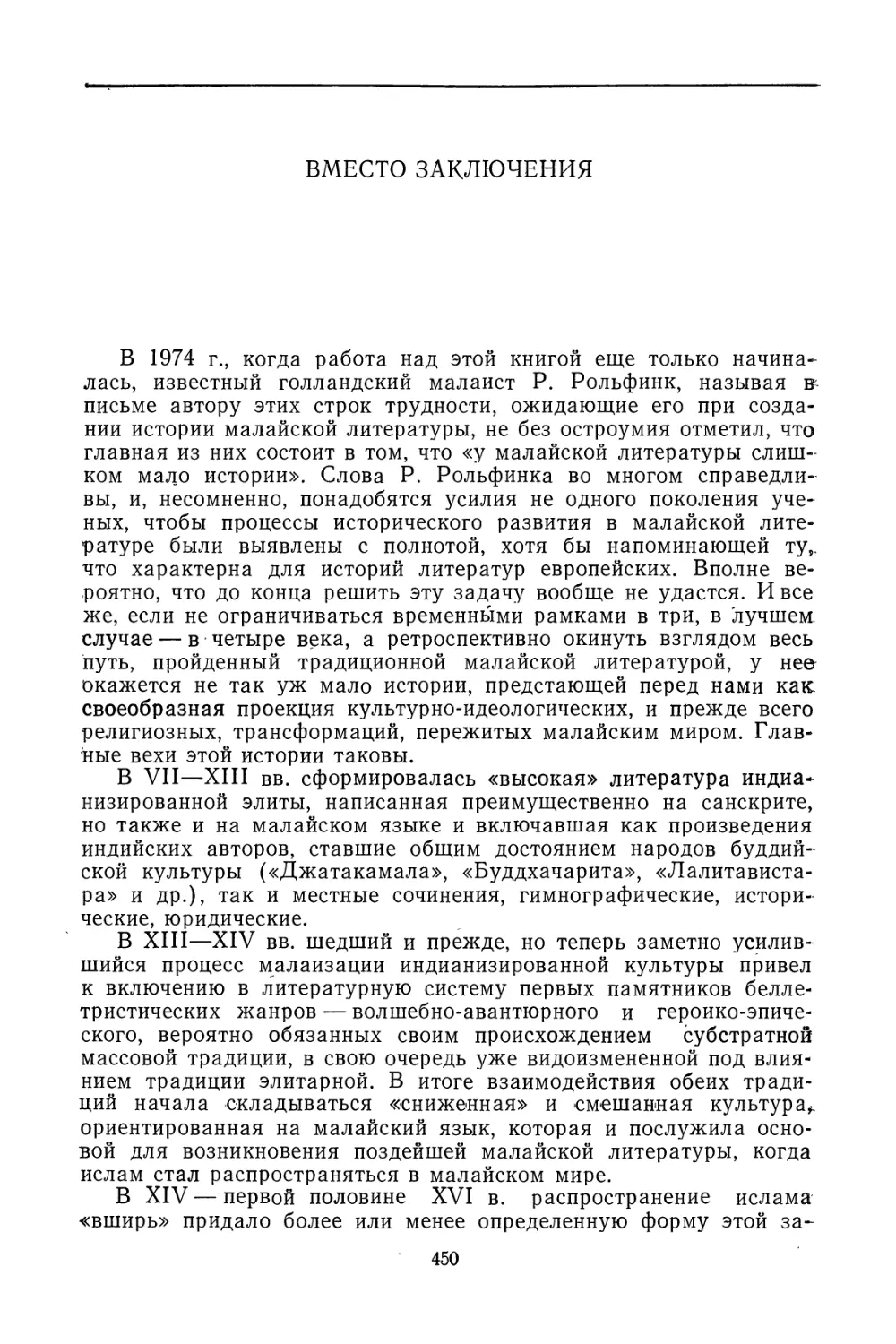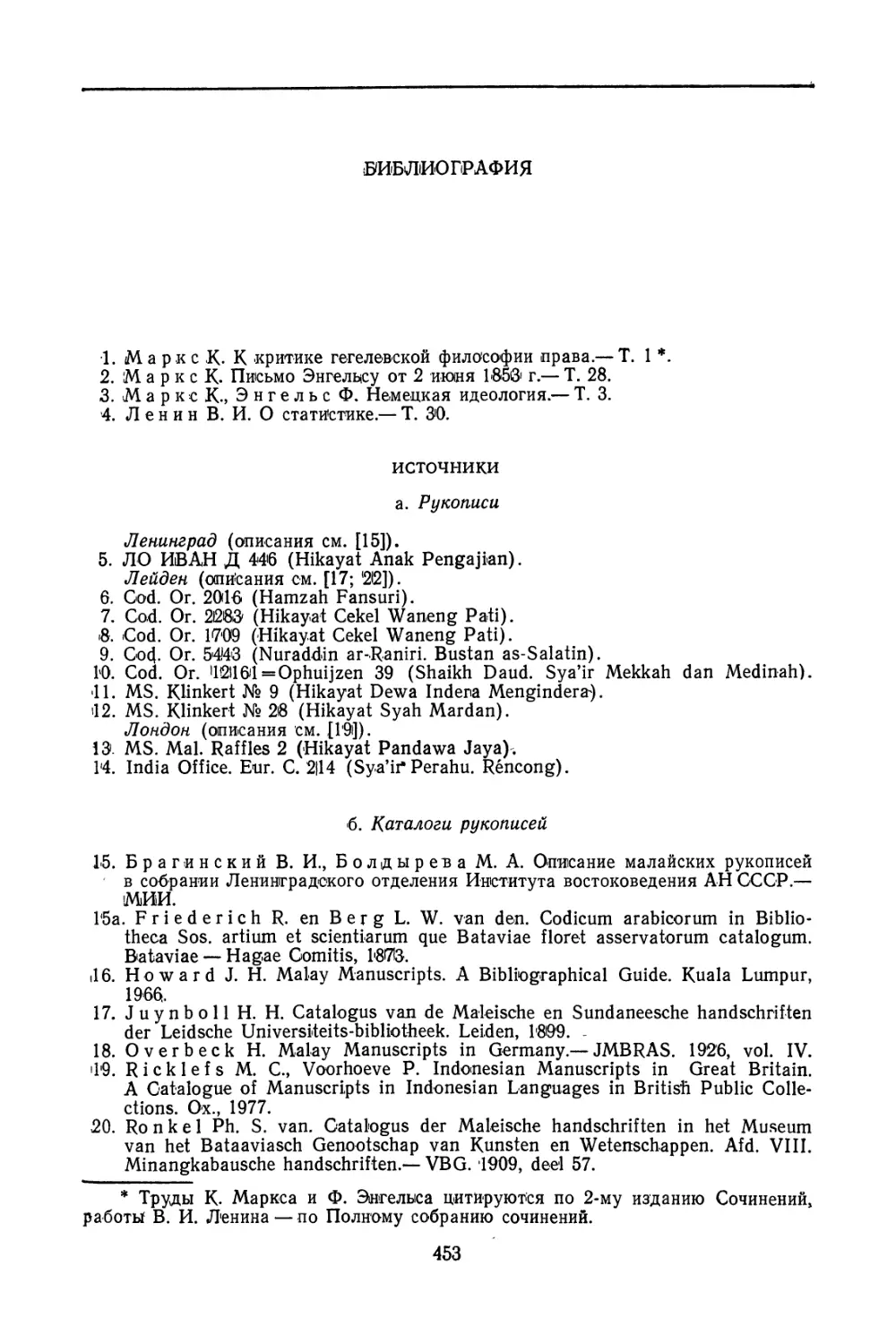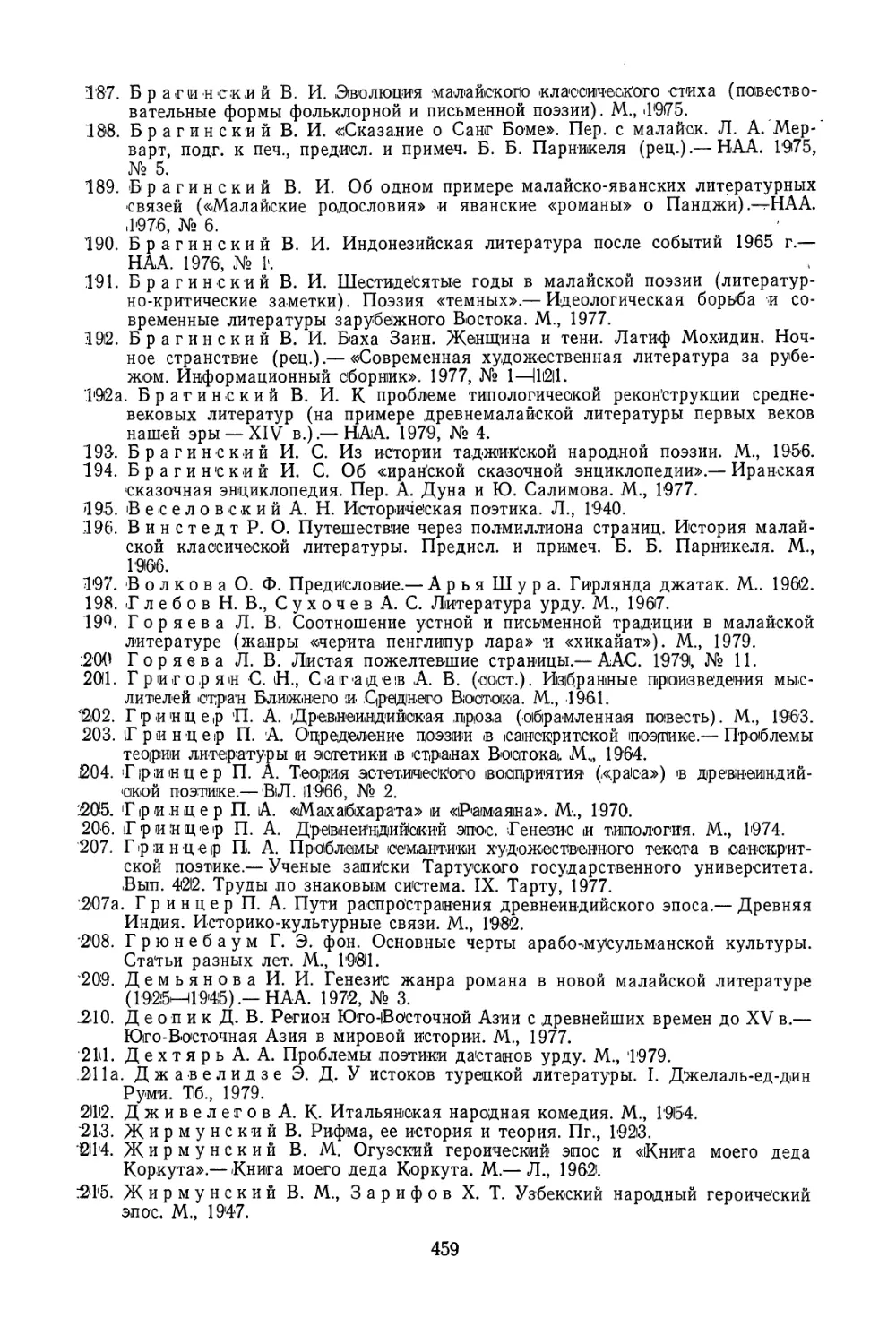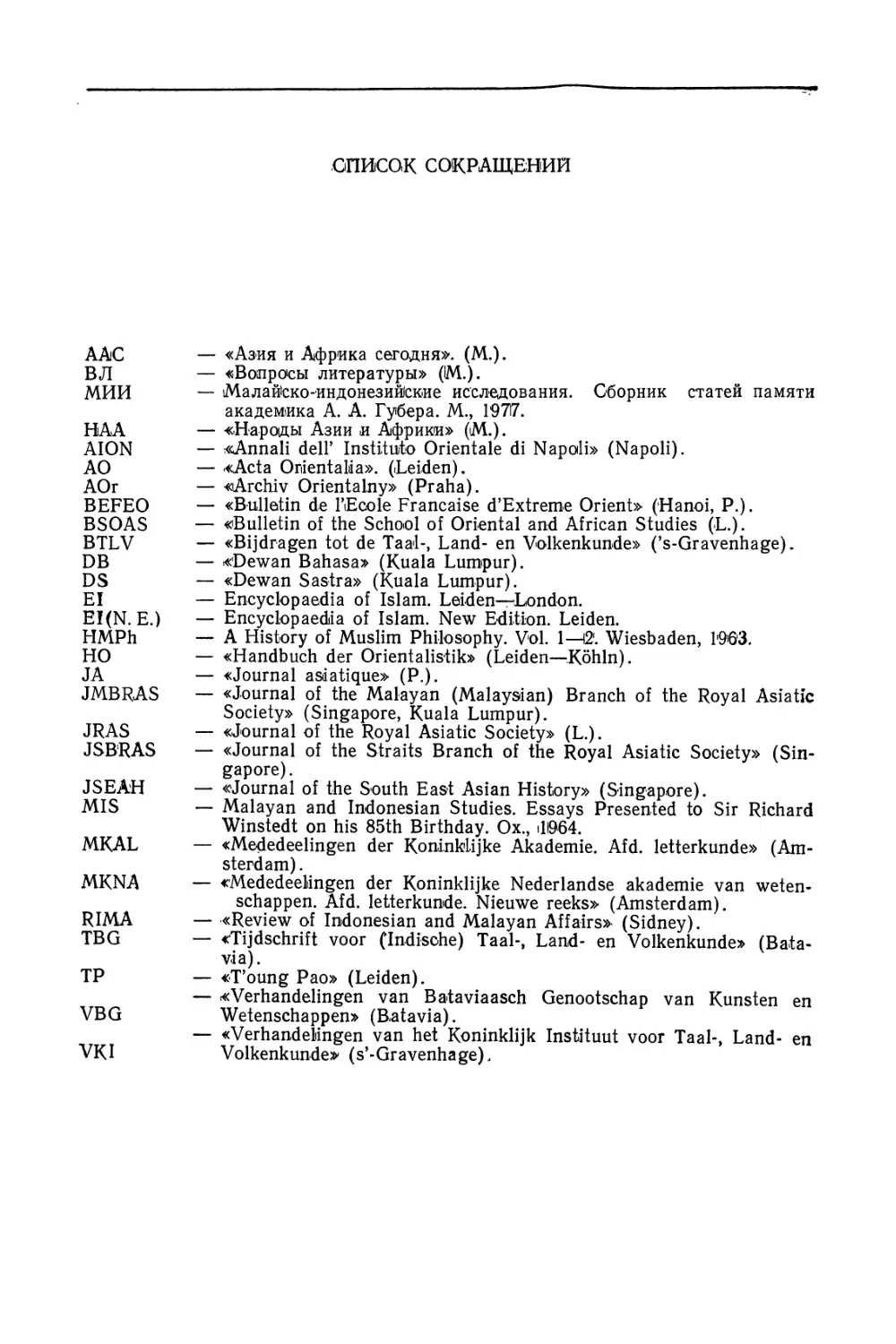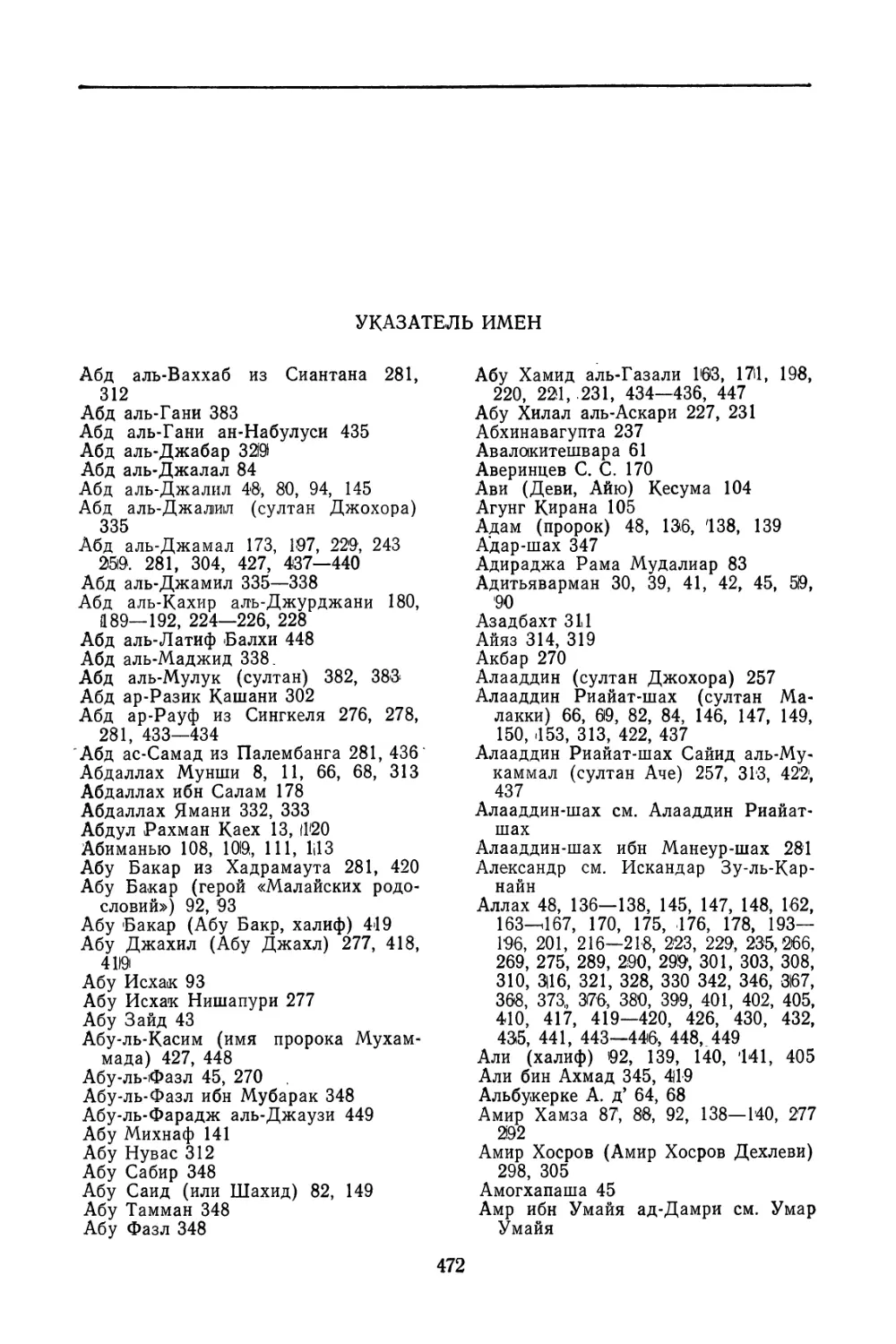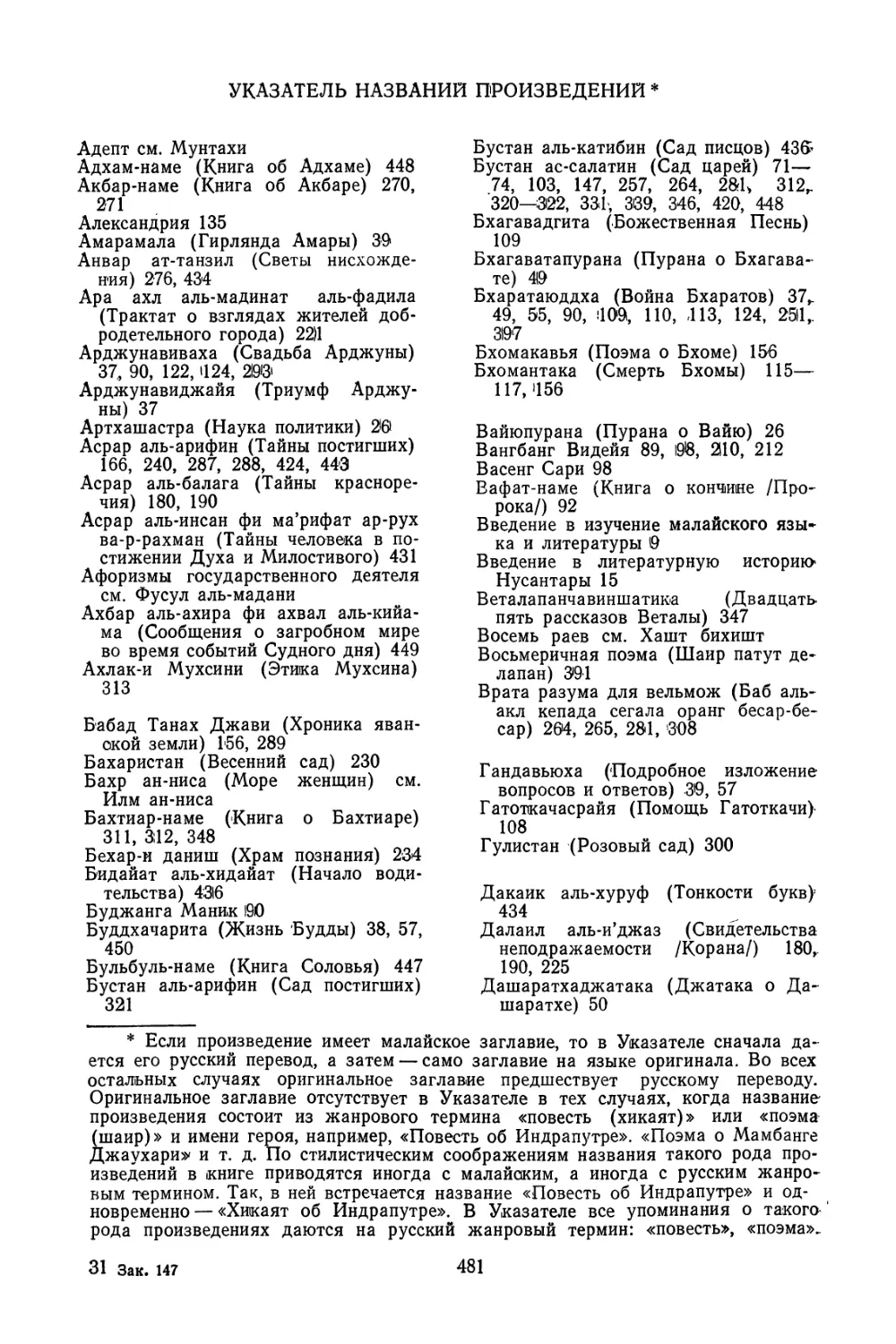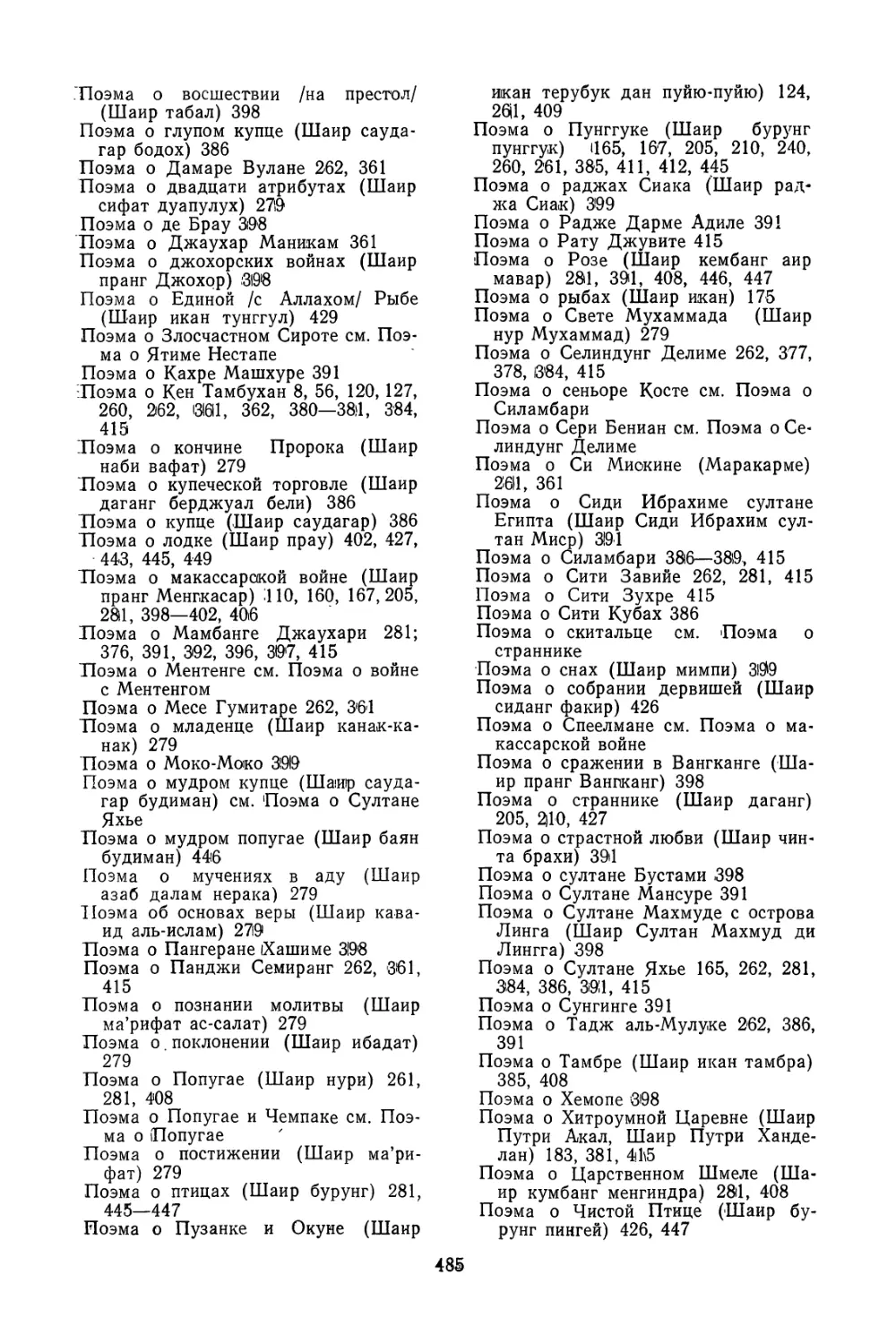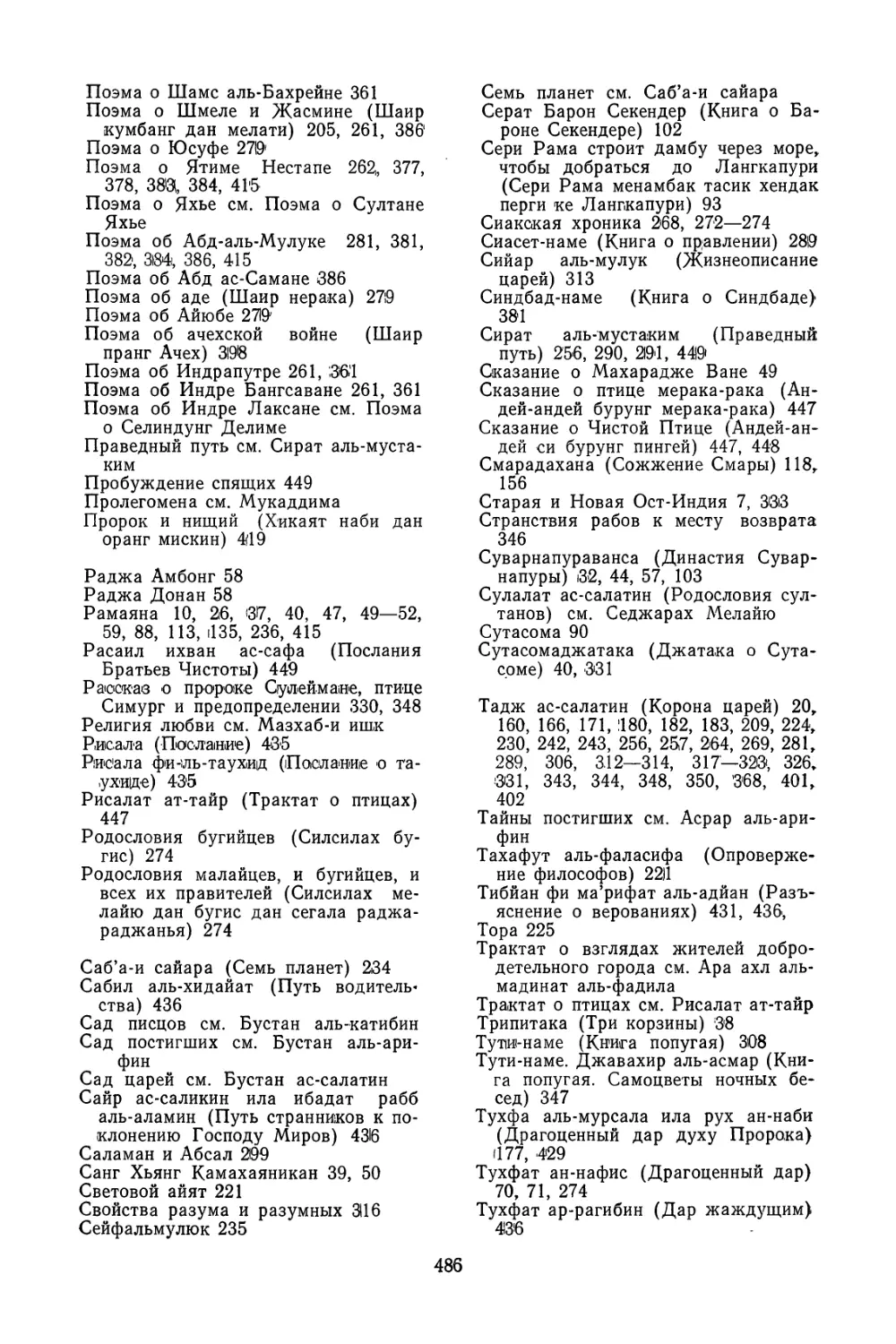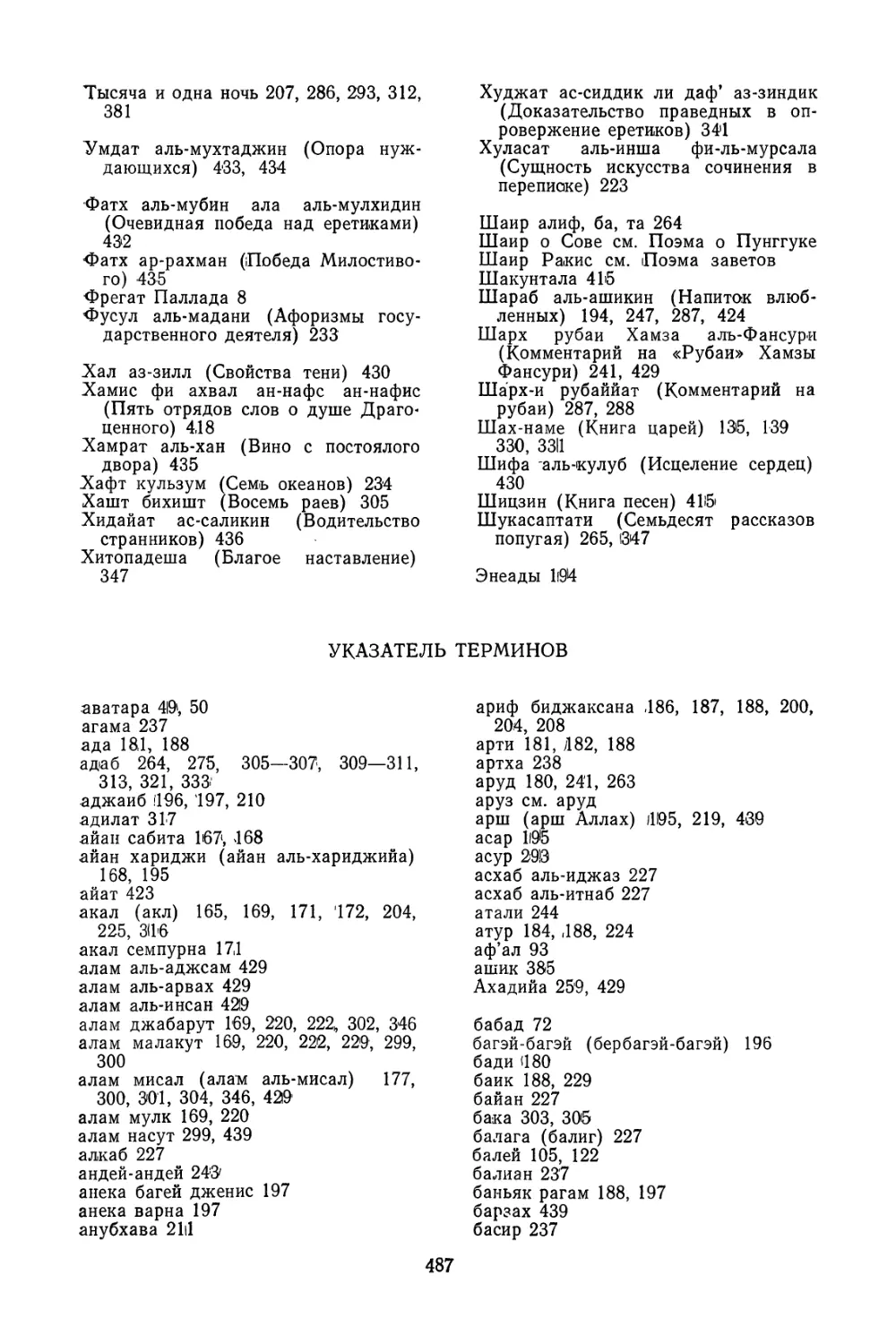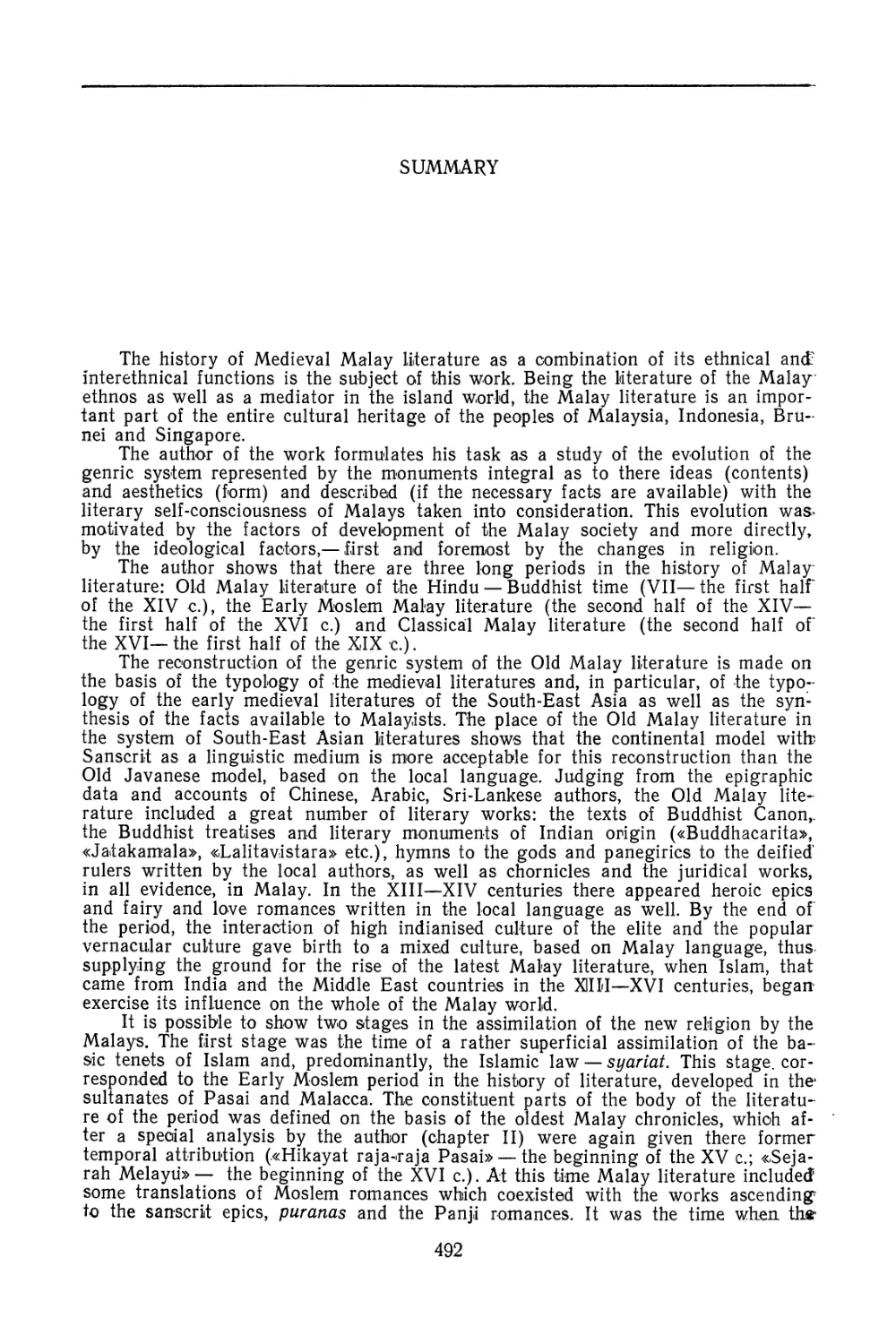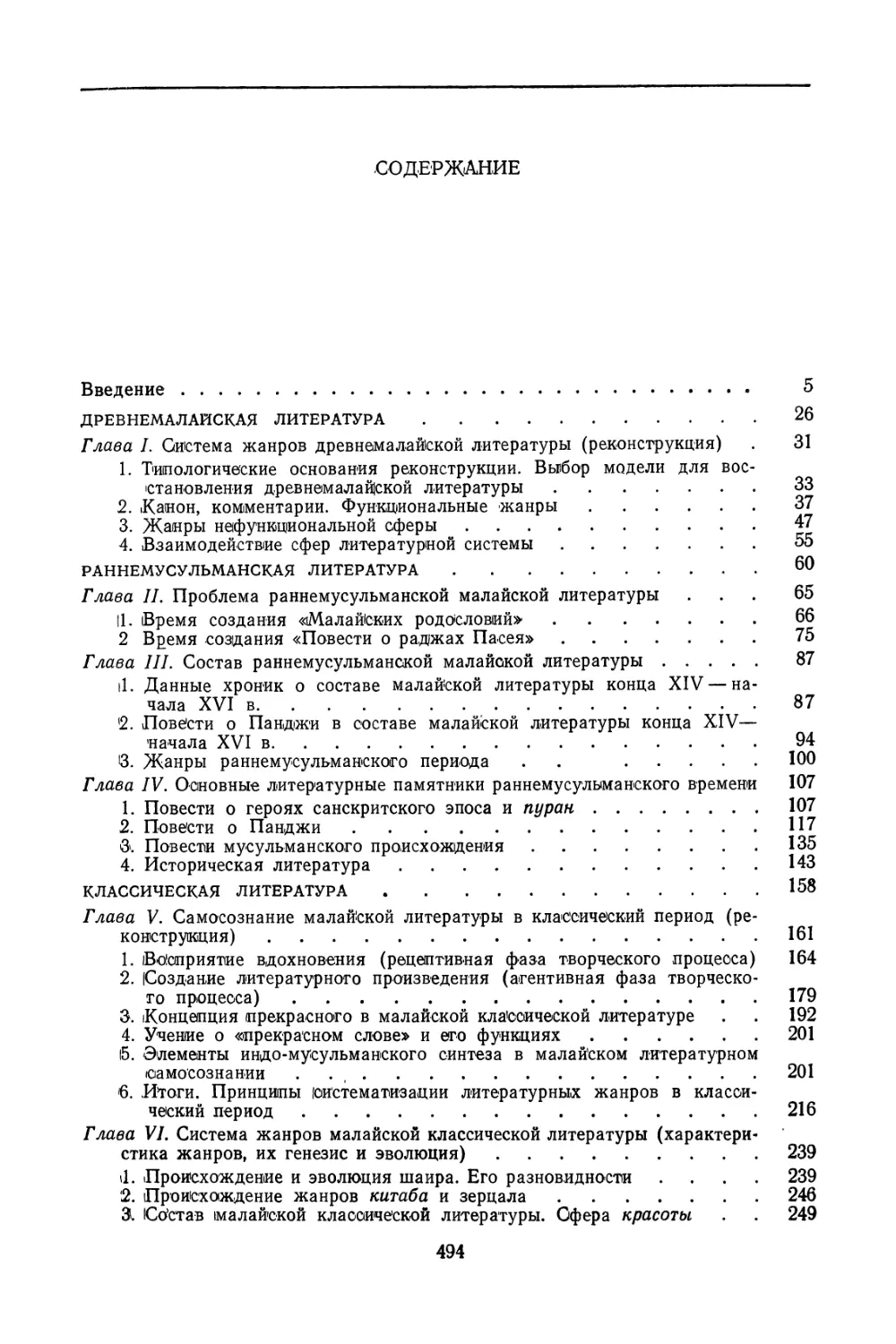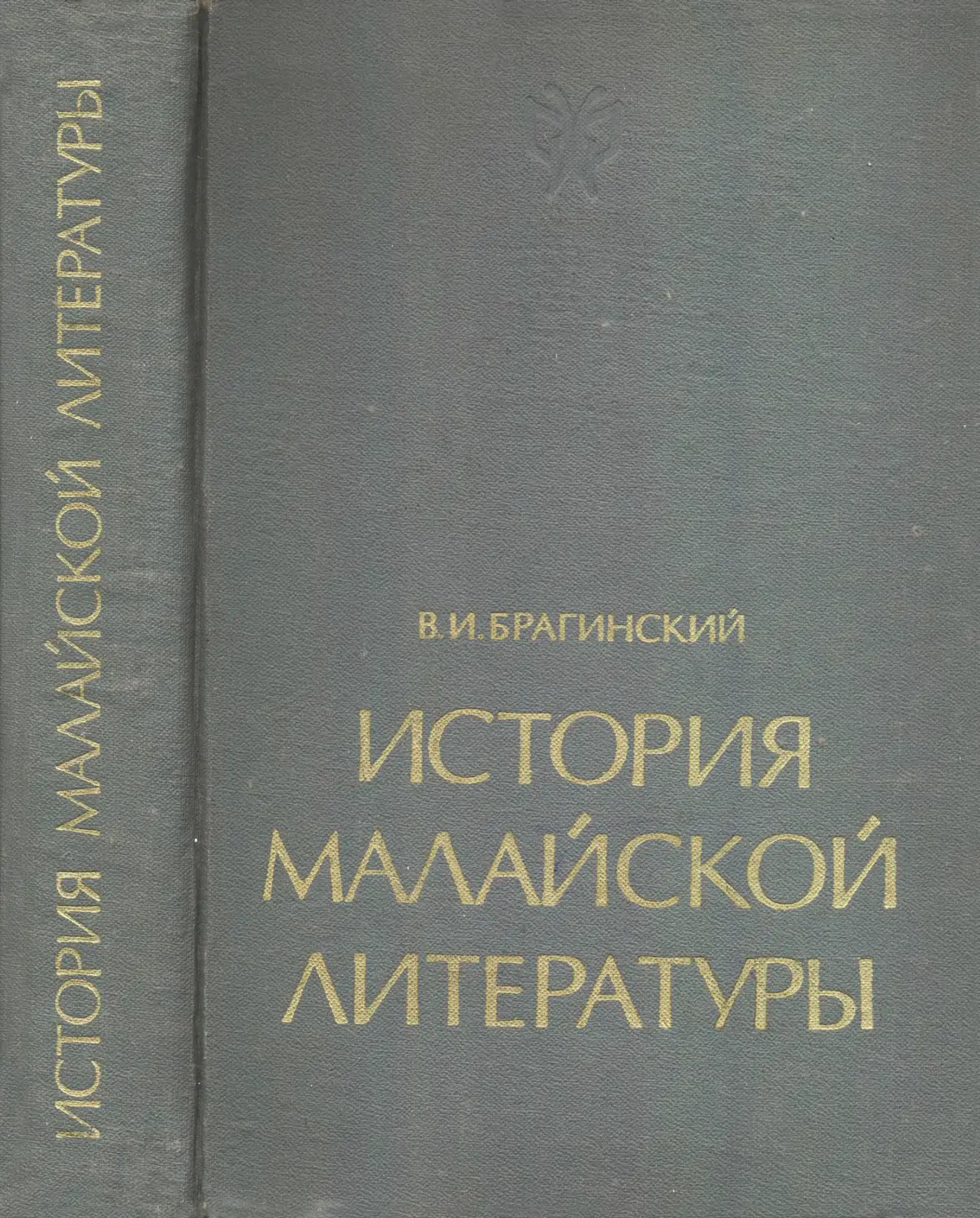Text
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»
*
ИСТОРИИ
ЛИТЕРАТУР ВОСТОКА
Редакционная коллегия серии
М. С. АСИМОВ, Ю. Б. ВИППЕР, Г. Ф. ГИРС,
И. НИКУЛИН, Н. О. ОСМАНОВ, Б. Б. ПИОТРОВСКИЕ
А. А. СУВОРОВА (отв. секретарь),
А. С. СУХОЧЕВ, Н. Т. ФЕДОРЕНКО,
Е. П. ЧЕЛЫШЕВ (председатель),
Л. 3. ЭИДЛИН
В.И.БРАГИНСКИЙ
ИСТОРИЯ
МАЛАЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
VII-XIX ВЕКОВ
МОСКВА
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1983
Ответственный редактор
H. И. ПРИГАРИНА
Жнига является первым в отечественном востоковедении.'
систематическим и подробным изложением истории -малайской
литературы VII—XIX вв. В работе предложена периодизация,
средневекового литературного процесса малайцев и на фоне
изменяющейся историко-литературной ситуации рассмотрена,
эволюция словесности как целостной системы. Прослежена
история жанров, проанализированы особенности их поэтики.
Исследуются проблемы индуеско-мусульманского синтеза в
малайской литературе и процесс формирования у средневековых
малайцев литературного самосознания.
,, 4603020000-187
Б • 167-83
013(02)-83
© Главная редакция восточной литературы?
издательства «Наука». 1983,
ВВЕДЕНИЕ
Они не строили себе пирамид из меди
И надгробий из бронзы.
Не оставили после себя наследников,
Детей, сохранивших их имена.
Но они оставили свое наследство в писаниях,
•В поучениях, сделанных ими.
Из древнеегипетского «Прославления писцов»
1
Памятники словесности, древнейшие из которых сохранились в
надписях, высеченных на камне в VII в., а более поздние—
примерно в 5000 рукописей, созданных обычно анонимными авторами,
составляют ценнейшую часть культурного наследия малайцев,
населяющих Малаккский полуостров, Восточную Суматру, некоторые
районы Калимантана и других островов Малайского архипелага.
В отличие от своих соседей-яванцев, чей художественный гений,
обогащенный восприятием индийской цивилизации, ярко проявил
себя в пластических искусствах: храмовой архитектуре,
скульптуре, рельефе, малайцы, также испытавшие влияние индийской
культуры, не создали ничего равного в этих областях. Основу их
традиции составляет литература, дошедшая в основном от времени
после принятия ислама (XIV—XVI вв.), однако нередко
отражающая самобытные черты малайского фольклора и
художественный опыт индуистско-буддийского периода (первые века нашей
эры — середина XIV в.).
Значение средневековой малайской литературы этим не
ограничивалось. Вероятно, с самого зарождения она выполняла
двойственную функцию, являясь, с одной стороны, литературой этнической,
собственно малайской, а с другой — межэтнической, малай-
скоязычной. Так же как и сам малайский язык, издревле
служивший не только языком определенного этноса, но и средством
торгового, культурного и религиозного общения пестрого в
лингвистическом отношении 'населения архипелага1, создававшаяся на этом
языке словесность играла еще и роль литературы-посредницы,
благодаря которой могли «общаться» между собой различные
литературы архипелага, Знакомя их со своим и освоенным чужеземным
опытом (индийским, арабо-персидским), малайская словесность
5
связывала эти литературы с литературными общностями
внешнего мира, способствовала их включению в мировой литературный
процесс.
Важная роль, которую по крайней мере с V в. [530] играли
малайские государства в международной и межостровной
торговле, позволяет предполагать, что бифункциональность малайской
литературы могла проявиться еще в индуистско-буддийское
время. Значение ее межэтнической функции резко возросло после
того, как с конца XIII в. на архипелаге начал распространяться
ислам, и малайский язык постепенно превратился в один из
международных языков мусульманской религии. В это время
произведения на малайском языке создавались на обширном пространстве
от Малаккского пролива до Молукк. Вклад в малайскую
литературу внесли не только обитатели самого островного мира и
Малаккского полуострова, но и иностранцы, в первую очередь
мусульманские миссионеры и проповедники. В результате малайская
(а точнее, малайскоязычная) словесность стала общим
культурным наследием народов современной Малайзии, Индонезии,
Брунея и Сингапура. В этом отношении она напоминает классические
арабскую или персидскую словесности, лишь в новое время
давшие начало нескольким национальным литературам и
выступившие как их единый источник и основа2.
Наследие это не только во многом определило специфику
становления малайзийской и индонезийской литератур нового и
новейшего времени, но и, будучи по крайней мере дважды
похоронено3, сегодня остается живым и в различных формах
продолжает влиять на культурную ситуацию в Малайзии и — в несколько
меньшей степени — Индонезии (см. ([377; 381; 209; 243; 191; 192;
502; 186а; 367, с. 7—8, 44—45]).
Весьма характерно отношение к нему, выразившееся в словах
малайзийского литературоведа Хамдана Хаса-на, который,
подчеркнув, что средневековая литература «запечатлела все
стороны жизни малайцев: их идеалы, характер, образ мысли,
верования», писал: «По моему мнению, современная малайская литература,
бесспорно, должна сохранять связь с малайской классической
литературой. Это означает, что в своем развитии
современной малайской литературе не следует отказываться от
позитивных элементов малайской классики» i[348, с. 24].
Именно истории малайской словесности как наследия прошлых
веков, продолжающего сохранять свое значение для ряда
литератур региона, и посвящена настоящая работа. Стремлением
автора этих строк учесть названные функции малайской литературы
(этническую и межэтническую) обусловлены две особенности
книги. Во-первых, в ней отсутствует специальный очерк малайского
фольклора, так как последний не может рассматриваться в
качестве элемента общего наследия народов архипелага. Исключение
сделано лишь для четверостиший — пантунов, жанра
одновременно фольклорного и письменно-литературного. Во-вторых, в рамки
работы не включен период перехода к литературе нового време-
6
ни, хотя и сходный в ряде отношений в будущих «национальных»
малайзийской и индонезийской литературах, но в то же время
обладающий в каждой из -них своей спецификой. Таким образом,
предметом изучения в этой книге является история письменной
малайской литературы, начиная с появления первых, еще весьма
смутных и неясных свидетельств о ней в VII в. !и до середины
XIX в., когда в ее недрах возникают зародыши «национальных»
литератур.
Малайскую литературу того времени, о котором пойдет речь,
принято именовать классической. В данной монографии, однако,
по ряду причин термин «классическая литература» употребляется
в более узком смысле — для обозначения лишь одного из
периодов ее эволюции. Весь же исследуемый этап развития словесности
получает название средневековой, традиционной малайской
литературы или просто малайской литературы VII—XIX вв.
2
Впервые европейцы узнали о существовании малайской
литературы в начале XVII в., когда впервые рукописи малайских
сочинений — «Повести о Сери Раме», «Повести о мудром попугае»
и некоторых других (ныне они хранятся в Бодлеянской
библиотеке и библиотеке Кембриджского университета ^[19, с. 103—104,
111—112]) —стали появляться в коллекциях английских, а позднее
и голландских библиофилов и собирателей восточных древностей
[347]. Самые же ранние труды, содержащие упоминания об
отдельных литературных памятниках и оценку их достоинств, отно-
сятся к первой половине XVIII в. Это вышедшая в 1726 г.
пятитомная работа голландского миссионера Ф. Валентейна «Старая и
Новая Ост-Индия» [503] и опубликованная десятью годами
позднее малайская грамматика швейцарца Т. X. Верндли,
включавшая в качестве приложения перечень 69 известных ему
малайских книг |[158а].
Начало научного изучения малайской литературы приходится
на конец XVIII — первую половину XIX в., когда в результате
усилившейся экспансии колониальных держав в страны Азии и
Африки европейцы ближе познакомились с цивилизациями
народов этих стран, а увлечение «ориентализмом» и «мудростью
Востока», характерное для эпохи Просвещения, открытие
сравнительного метода в филологии и расцвет романтизма с его
глубоким интересом к экзотическим традициям оказали
существенное влияние на европейскую духовную культуру. В это время
появились исследования таких английских ученых — пионеров ма-
лаистики, как У. Марсден [401а; 4016], Дж. Кроферд |[317а],
Дж. Лейден |[393а; 3936], Т. С. Рэфлс [446; 447]. Значение
деятельности последнего особенно велико. Основатель британского
Сингапура и лейтенант-губернатор английской Ост-Индской
компании с 1811 по 1816 г., он был не только прекрасным для своего
времени знатоком малайской и яванской культуры, но и энергич^
7
ным коллекционером, собравшим, по словам его секретаря —
известного литератора Абдаллаха Мунши, более 300 малайских
рукописей. Хотя значительная часть этой коллекции погибла во
время пожара на корабле «Фейм», везшем Т. С. Рэфлса в Англию,
80 уцелевших манускриптов, хранящихся ныне в библиотеке
Британского Азиатского общества, являются едва ли не ценнейшим
собранием памятников малайской литературы, включающим
уникальные рукописи — «Повесть о раджах Пасея» и «Малайские
родословия».
Любопытно, что уже в конце XVIII — начале XIX в. первые
сведения о малайской литературе достигают России. В 1798 г.
известный русский путешественник И. Ф. Крузенштерн привез в
Петербург рукопись «Малайских родословий» )[15, с. 162—167].
В 1826 г. в «Азиатском вестнике» появилась статья «Нечто о
яванской словесности», посвященная, однако, не яванской, а
малайской литературе. Во второй половине XIX в. «малайская
тема» нашла отражение в произведениях русских-
писателей-классиков: И. С. Гончарова («Фрегат „Паллада"») и И. С. Тургенева
(«Песнь торжествующей любви») ,[432а].
- Важным явлением в истории малаистики было основание в
конце XVIII — начале XIX в. в Батавии (совр. Джакарта),
Лейдене и Сингапуре специальных журналов, предназначавшихся для
публикаций малайско-индонезийских исследований. В то же время
в Нидерландской Индии, Малайе, Англии, Голландии, Франции
появляются первые малаистические центры.
Основной вклад, внесенный учеными XIX в. в изучение
малайской литературы, связан с их деятельностью по собиранию
рукописей, их систематизации и каталогизации, первичному описанию
отдельных сочинений и пересказу их содержания и, наконец, по
изданию текстов и антологий. Заметную роль на этапе исходного
ознакомления с материалом сыграли англичане У. Максуэлл,
С. О. Благден, американец У. Г. Шелабер, голландцы П. Роорда
ван Эйсинга, X. X. Клинкерт, А. Ф. фон де Вал, Я. Пейнаппел,
X. Н. ван дер Тююк, X. А. ван Опхейзен, Я. Брандес, Г. К. Ни-
ман, французы А. Дозон, П. Фавр, Э. Дюлорье, швейцарец
Р. Брандштеттер4.
В теоретическом отношении работы большинства этих ученых
стояли на невысоком уровне. Главными недостатками их были,
во-первых, крайнее преувеличение роли индийских или арабских
заимствований в малайской словесности, а во-вторых, навязывание
средневековой по типу малайской литературе европейских
эстетических норм XIX в. В результате малайские исторические
сочинения рассматривались как бесполезные для историка «наивные
сказки», где хаотически перемешаны мифологические и реальные
элементы, а малайская беллетристика — как собрание
бессодержательных, удручающе монотонных произведений. Некоторые
положительные оценки (например, восхищение «Поэмой о Кен Там-
бухан», в неполной версии завершающейся трагической гибелью
влюбленных) были не более основательны, ибо, исходя из тех
8
же критериев, акцентировали черты, случайно соответствовавшие
вкусам эпохи романтизма.
Единственной работой XIX в., в которой делалась попытка
представить сводку данных о малайской литературе, была книга
голландского исследователя Я. де Холландера «Введение в
изучение малайского языка и литературы» if351]. Вышедшая в 1845 г.
и выдержавшая менее чем за пятьдесят лет шесть изданий, эта
работа ярко отразила систематизаторскую направленность и
теоретическую слабость малаистики своего времени. Литературный
раздел ее включал пять обобщающих глав, посвященных истории
малайцев, малайского языка и периодизации малайской
литературы, в которой весьма бесхитростно выделялись доевропейский и
европейский периоды. Далее следовали краткие характеристики
различных жанров и перечень 398 памятников малайской
литературы, известных автору, с их краткими аннотациями. Завершала
работу антология, составленная из фрагментов различных
произведений.
Каталогизация и первоначальная систематизация памятников
малайской литературы продолжалась в XX в., и уже к первым
его десятилетиям были описаны все основные собрания
малайских рукописей: батавское( джакартское), лейденское, лондонское,
парижское и др., что позволило составить достаточно полное
представление о подлинном богатстве и значении малайской
литературы. Особенно велики в этой работе заслуги голландского
исследователя Ф. С. ван Ронкеля — одного из крупнейших
довоенных малаистов, наследие которого наряду с каталогами рукописей
[20; 22 и др.] включает множество ценных статей и заметок,
существенно прояснивших, в частности, вопросы тамильского,
персидского и арабского влияний на малайский язык и литературу
(их библиографию см. [293а]).
Углублению знаний о малайской словесности во многом
способствовали монографические исследования, начавшие
появляться с конца XIX в. (главным образом защищавшиеся в Лейдене
докторские диссертации), содержащие квалифицированный
текстологический и историко-литературный анализ важнейших
произведений, а также издание их текстов и обычно подробный цере-
сказ. К их числу относятся книги Ф. ван Ронкеля, В. Рассерса,
В. Стюттерхейма, А. Цизениса, IL ван Левена, посвященные
памятникам беллетристики; Д. Ринкеса, Г. Пейпера и Я. Доорен-
боса о теологической (особенно суфийской) литературе
малайцев; А. Сензе, X. Мееса и Т. Рускони о малайских исторических
сочинениях (см. Библиографию). Из довоенных трудов
английских ученых следует упомянуть работы известного лексикографа
Р. Уилкинсона [516; 160] и выдающегося мал аиста Р. О. Уин-
стедта, начавшего свою исследовательскую деятельность в 1904 г.
Значительный вклад в развитие малаистики внесли и первые
индонезийские ученые Р. М. Н. Пурбочороко и Хуссейн Джайядининг-
рат (см. Библиографию).
К концу 30-х годов изучение малайской литературы сделало
9
столь значительные успехи, что обобщающий курс Я. де Холлан-
дера уже явно устарел. В 1937 г. на смену ему пришла книга
голландского ученого X. Хойкаса «О малайской литературе»
(второе издание ее |[354]), в которой был довольно полно обобщен
накопленный к тому времени материал. Очертив во вводной
главе контуры истории малайской культуры, отметив глубокое
воздействие на нее индуистско-буддийской и мусульманской
традиции и постулировав невозможность создания подлинной истории
малайской литературы, большинство памятников которой
анонимно, лишено дат и характеризуется смешением элементов обеих
влиявших культур, X. Хойкас переходил к пожанровому описанию
различных групп литературных произведений. Книга его
распадалась на две примерно равные части. Первая из них (гл. 2—12)
была посвящена преимущественно оригинальным образцам
малайской словесности: фольклорным произведениям, письменной
поэзии, историческим сочинениям, эпосу о Ханге Туахе. Вторая
(гл. 13—21) —сочинениям, представляющим собой адаптации
иноязычных памятников: волшебно-авантюрным повестям, малайским
версиям «Махабхараты» и «Рамаяны», обрамленным повестям,
мусульманским сказаниям об Амире Хамзе, Искандаре Двурогом,
царским зерцалам и т. д. Каждая из этих небольших по объему
глав книги — популярного введения в малайскую литературу —
была написана живо, информативно и содержала немало тонких
замечаний, нередко не утративших значения до сегодняшнего дня.
В то же время трудно не согласиться с советским исследователем
Б. Б. Парникелем, отмечавшим, что «книге не хватало
собственной концепции; X. Хойкас не столько осмысливал и
переосмысливал, сколько излагал сделанные его предшественниками выводы»
[239а, с. 9].
Ценным дополнением к книге X. Хойкаса была обширная
рецензия на нее немецкого исследователя X. Овербека, прекрасного
знатока малайской литературы и публикатора ряда ее памятников
(о нем см. ,[389а, с. 17—23]). Эта рецензия содержала и
некоторые; моменты концептуального характера. В ней затрагивались
вопросы специфики малайской литературы, обусловленной
особенностями жизненного уклада и национального характера
малайцев, воздействия на литературу политической ситуации того или
иного времени, адекватной оценки памятников, учитывающей
задачи, ставившиеся их авторами, предлагалась небезынтересная,
хотя и спорная, систематизация литературных жанров i[428].
Книга X. Хойкаса может рассматриваться как второй .шаг на
пути создания синтетического труда, воссоздающего развитие
.средневековой литературы малайцев. Следующий шаг в этом
направлении был сделан крупнейшим английским малаистом XX в.
Р. О. Уинстедтом, чья книга, вышедшая в 1940 г. (второе,
дополненное издание 1961 г., русский перевод |[196]), была и остается
единственной работой, названной «История (разрядка моя —
В. Б.) малайской литературы».
Собственные исследования Р. О. Уинстедта, предшествовавшие
10
написанию его истории литературы, носили на редкость
разносторонний характер, включая множество работ по малайской
лингвистике и истории, этнологии, искусствознанию и фольклористике,
религиеведению, традиционным правовым системам и, разумеется,
литературе. В число последних входят около 20 публикаций
различных текстов и антологий и едва ли не полсотни статей,
посвященных всевозможным памятникам словесности (о жизни и
трудах ученого см. |[285а; 533а]). Владение материалом малайской
литературы во всей его полноте часто давало Р. О. Уинстедту
возможность более проницательно и точно судить об отдельном
произведении, чем это позволяет глубокое, монографическое, но
изолированное исследование его самого по себе. Кроме того,
незаурядную эрудицию английский ученый счастливо сочетал с
несомненным художественным дарованием, тонким вкусом и подлинной
любовью к изучаемому предмету. И все же нельзя не отметить,
что, хотя труд Р. О. Уинстедта, чрезвычайно богатый по
материалу, систематизированному и по возможности хронологизиро-
ванному, содержит множество интереснейших замечаний об истории
тех или иных памятников и в целом создает довольно
достоверный образ малайской средневековой литературы, труд этот
отнюдь не лишен ряда серьезных недостатков — прежде всего
теоретических просчетов (о них см. [239а; 366]).
В основе «Истории малайской классической литературы»
Р. О. Уинстедта лежит нигде не сформулированная, но дающая,
знать о себе буквально на каждом шагу концепция трех этапов
эволюции малайской словесности, методологически восходящая к
представлениям культурно-исторической школы. Первый из этих
этапов — период «автохтонного» развития словесности,
воспоминания о котором сохранились в памятниках фольклора; второй —
период индийского влияния на литературу и фольклор и во
многом близкого к нему влияния яванского (этими влияниями
объясняется почти все эстетически ценное в малайской литературе);
третий — период мусульманского (арабо-персидского) влияния (с
ним, по крайней мере после XVII в., связывается постулируемый
ученым упадок малайской литературы). Между вторым и
третьим периодами помещается некое довольно неясно трактуемое
время «перехода от индуизма к исламу», примерно соответствующее
эпохе расцвета Малаккского султаната (XV в.). Именно эта
эпоха, по мнению Р. О. Уинстедта, является высшей точкой
развития малайской словесности, когда были созданы местные
переработки санскритского эпоса и ранние мусульманские «романы»,
лучшие обрамленные и волшебно-авантюрные повести,
сочетающие индийские и мусульманские элементы, и важнейшие образцы
нарративной поэзии. Описанная концепция литературного
развития и запечатлена в структуре книги, начальные пять глав которой
посвящены первым двум периодам и переходному времени, а
следующие шесть — в основном различным группам памятников
малайской мусульманской литературы. Завершают книгу разделы
о творчестве писателя-просветителя XIX в. Абдаллаха Мунши и
11
стоящая несколько особняком глава о фольклорной и классиче*
ской поэзии.
Наиболее уязвимым моментом теории английского ученого
является его «периодизация по влияниям». При всей несомненности
воздействия на малайскую словесность литературного опыта
Индии и стран Ближнего Востока и ее многовековой взаимосвязи с
литературой яванской для истории малайской литературы
первостепенную важность имеют не столько факты влияний сами по
себе, сколько процессы адаптации, усвоения, претворения,
обусловленные характером развития малайской культуры,
потребностями самого малайского общества. Следствиями переоценки
Р. О. Уинстедтом роли влияний в малайской литературе является,
с одной стороны, недостаточно тесная связь истории малайского
мира( прежде всего истории его идеологии) с процессом
литературной эволюции, а с другой — обычное для английского ученого
рассмотрение произведений не как целостных образований, но как
суммы разнородных элементов, восходящих к различным
влиявшим традициям.
Другим существенным недостатком работы, также отчасти
связанным с названными выше, является отказ от подхода к
малайской литературе как к развивающейся по определенным
закономерностям системе. Это становится особенно очевидным при
обращении к проблеме жанров. В книге Р. О. Уинстедта не только
не ставится вопрос о взаимодействии жанров литературы, но
почти ничего не говорится об их происхождении и особенно об
эволюции. Малайская литература предстает в ней как в целом
статичная совокупность изолированных произведений.
Наконец, обращает на себя внимание «внешний» подход
Р. О. Уинстедта к литературным памятникам, которым с
позиций образованного европейца XX в. выносятся решительные
субъективно-вкусовые оценки. Собственные представления малайцев о
задачах различного рода литературных сочинений, о принципах их
создания, об особенностях эстетических и этических критериев
остаются за пределами его книги. Результаты этого с
очевидностью сказываются в разделах, посвященных мусульманскому
периоду, и в явной переоценке действительно немаловажной роли
малаккского времени. Рассматривая ислам как в основном
негативный фактор в истории малайской литературы и не допуская
возможности создания значительных произведений в период
глубокой мусульманизации (XVIII—XIX вв.), Р. С. Уинстедт без
должных оснований относит ряд сочинений этого периода к ма-
лаккской эпохе — «привольному XV веку», когда еще были
сильны индийское и яванское влияния [196, с. 211] и когда благодаря
им в литературе «сохранялся дразнящий обоняние аромат,
который так скоро испарился затем в пустыне мусульманского
пуританства» 096, с. 62].
Подводя итог разбору книги Р. О. Уинстедта, следует
отметить, что, несмотря на все концептуальные недостатки,
характерные не только для ее автора, но и для всей довоенной, а в зна-
12
тчительной степени и послевоенной малаистики, труд английского
;ученого по сей день сохраняет значение наиболее компетентного
и всестороннего руководства по средневековой малайской
словесности.
Хотя в исследовательской литературе часто раздаются
справедливые жалобы на чрезвычайно медленный прогресс в области
малаи'стического знания, 'нельзя не отметить, что в послевоенный
период, и особенно в последние два десятилетия, оно сильно
шагнуло вперед. Большую роль в развитии малаистики сыграли такие
факторы, как рост числа исследователей-профессионалов,
получивших специальную филологическую и литературоведческую
подготовку, формирование кадров исследователей в Индонезии и
Малайзии, добившихся независимости, создание новых малаистиче-
ских центров в Австралии, Малайзии, СССР, США, появление
новых малаистических журналов. Значительно повысились
текстологический уровень изданий и качество перевода малайских текстов,
чему способствовала начавшая выходить в 1968 г. в Голландии
серия «Biblioteka Indonesica».
Важной предпосылкой развития малаистического
литературоведения явились успехи в смежных областях. Издание в
английских переводах трудов видных голландских социологов Я. ван Ле-
ра и Б. Схрике, а также выход в свет исследований историков:
М. Мейлинк-Рулофсх, О. Уолтерса, Д. Ломбара, Л. Андайя и
других значительно прояснили социально-экономические,
политические и идеологические условия, в которых проходили
формирование и эволюция средневековой малайской культуры и
литературы.
Среди наиболее содержательных как в описательном, так и в
концептуальном плане работ зарубежных ученых 50—70-х годов,
посвященных малайской беллетристической прозе, следует
упомянуть труды Э. Барета, А. Суини, К. Берга, С. Робсона, Я. Раса,
-Абдул Рахмана Каеха, Л. Бракела, А. Баузани, А. Тэу, Касима
Ахмада, П. де Иосселина де Йонга. Значительный вклад в
изучение малайской средневековой поэзии внесли А. Тэу, С. Скиннер; в
исследование историческихо сочинений — А. Тэу, Р. Рольфинк,
Я. Рас, О. Уолтере, П. де Йосселин де Ионг, Э. Кратц, Т. Искан-
.дар, Исмаил Хуссейн, М. Таиб Осман; в разработку проблем
малайской мусульманской литературы (в особенности суфийской) —
Г. Древес, П. Ворхуве, Э. Джонс, Р. Джонс, С. М. Нагиб аль-Ат-
тас и др. (см. список их трудов в Библиографии и в [368; 274а]).
Особенно примечательной чертой современного
малаистического литературоведения является обращение к теоретическим
проблемам, дополнение прежнего диахронического подхода к
литературным феноменам, заметно усовершенствованного со времени
^итогового труда Р. О. Уинстедта, подходом синхроническим,
ориентированным не столько на изучение истории тех или иных
явлений, сколько на анализ их структуры ц функций. Впервые
заявивший о себе еще в довоенных трудах ученых, находившихся под
влиянием лейденской культурно-антропологической школы, этот под-
13
код, исходящий из представления-о целостном- характере
произведений малайской литературы, в полной мере проявился в малаи^
стике в послевоенное время. При этом, если раньше единства
литературного памятника, как правило, объяснялось
переосмыслением вошедших в его состав элементов (нередко заимствованных)
в духе местных мифологических архетипов (см., например, {450;
451]), то в настоящее время причины этого единства все чаще
усматриваются исследователями в эстетических и идеологических
задачах, которые стояли перед малайскими литераторами.
Последнее особенно характерно для работ голландского малаиста А. Тэу
с их акцентом на синхроническом исследовании структуры
памятников словесности, установлении функции их компонентов в
рамках 'Произведения и функции всего произведения в целом в
пределах средневековой малайской литературы и культуры [495; 496]..
Синтез того положительного, что дало малаистическому,
литературоведению применение обоих подходов, позволил перейти к
анализу происхождения жанров, их истории и, наконец, сделать
первые шаги в осознании малайской литературы как системного
единства (см., например, s[299] ). Это же, в свою очередь,
заставило уделить большее внимание воздействию на малайскую
литературу изменявшейся исторической и идеологической ситуации,
начать пересмотр привычных представлений о роли ислама в
эволюции малайской литературы (см. {61; 175; 369; 371; 372; 464; 465]),
заняться изучением поэтологических особенностей малайской
словесности и взглядов на нее ее создателей [299; 494; 496]. Пока,,
однако, большинство названных теоретических проблем только
начинает осознаваться, и до постановки их в полном объеме, а
тем более до разрешения еще весьма далеко.
Первое знакомство с малайским языком и литературой в
России, как уже отмечалось, относится к XIX в. О малайской
культуре узнавали тогда не столько из трудов специалистов-ученых или
из переводов малайских произведений, сколько из путевых записок
и из сочинений писателей и поэтов. Русская литература, чутко
воспринимавшая восточные мотивы, не прошла мимо изящной
звуковой и символической игры народных четверостиший — пантунов,
выразительных образов малайских заклинаний, нашедших
отражение в стихах В. Я. Брюсова, К. Бальмонта, И. Бунина.
Востоковедная же наука не могла похвастать сколь бы то ни было
заметными достижениями в области малаястики.
Положение начало меняться лишь в конце 20-х — начале 30-х
годов, когда вышли в свет первые работы советских
исследователей, посвященные малайско-индонезийской тематике. Важную роль в
развитии малаистических дисциплин в СССР сыграли труды и
педагогическая деятельность А. А. Губера — одного из крупнейших
советских историков-востоковедов, с 1967 по 1971 г. неизменного
председателя Малайско-индонезийских чтений.
Основоположницей изучения малайской литературы в СССР
была Л. А. Мерварт. Изучая малайскую филологию сначала в
Париже, а затем в Лейдене, она собрала богатый материал, ко-
14
торый лег в основу статьи «Малайский театр» i[231]—первого
отечественного исследования по малайской культуре и
словесности. В трудах Л. А. Мерварт наметились некоторые особенности
советского малаистического литературоведения, существенно
развитые и дополненные в работах ее учеников и коллег (Б. Б. Пар-
никеля, Е. М. Ревуненковой, В. И. Брагинского, Л. В. Горяевой
"и ДР.).
Можно выделить три основных направления исследований,
характерных для советских малаистов-литературоведов. Первое из
них связано с разработкой историко-литературных проблем —
взаимоотношением литературных явлений с конкретными
историческими условиями; определением специфики тех или иных
этапов развития малайской словесности, функций ее языка как
средства межэтнического литературного общения, места отдельных
значительных памятников в литературной эволюции;
исследованием типологии малайской литературы и ее связей с мировым
литературным процессом [237—239; 241; 245; 247; 253; 255;
192а; 43].
Второе направление нашло отражение в работах, где
предпринимается попытка осмыслить механизм культурных влияний в
средневековой малайской традиции, ответить на вопросы, почему
и как малайская словесность воспринимала и трансформировала
те или иные элементы литератур Индии, Явы, стран Ближнего
Востока, в чем состояло ее своеобразие [231; 46; 240; 296; 189].
К третьему направлению относятся исследования,
посвященные особенностям жанровой структуры малайской словесности,
происхождению и эволюции жанров, поэтике художественных
произведений. Для этих исследований характерно стремление
выявить каноны, которым следовали создатели литературных
сочинений, дать оценку достоинствам последних, выяснить причины их
воздействия на средневекового читателя — словом, показать
эстетическую сторону малайской литературы как «извне», с позиций
современного читателя, так и «изнутри», на основе
реконструкции литературного самосознания средневековых малайцев '[199;
187; 188; 296а; 246].
Важное место в советской малаистике занимает также работа
по переводу памятников малайской литературы j[43; 45—47а].
В послевоенные годы появилось несколько обобщающих
очерков средневековой малайской литературы, принадлежащих перу
как европейских ученых {341; 289; 145; 298а], так и малайзийских
и индонезийских исследователей [468; 489; 394]. Все они, однако,
с некоторыми вариациями воспроизводят концепцию и факты,
изложенные в книге Р. О. Уинстедта (хотя и дополняют ее новыми
материалами), весьма кратки и носят по преимуществу
популярный характер. Лучший очерк подобного рода — богатый новыми
мыслями и наблюдениями малайский раздел в книге Б. Б. Пар-
никеля «Введение в литературную историю Нусантары IX—
XIX вв.» [247], призванной показать общие черты исторического
движения всех письменных традиций островного мира в их взаимо-
15
связи и взаимозависимости. Эта задача и определила место,
занимаемое в книге средневековой малайской литературой, в
изложении которой автор был вынужден ограничиться лишь
генерализированной характеристикой важнейших явлений словесности
XVI—XIX вв., не воссоздавая детальную историю малайской
литературы на всех этапах ее развития.
Таким образом, единственной историей малайской литературы
по сей день является книга Р. О. Уинстедта, уже значительно
устаревшая. В свете этого более чем оправданными
представляются слова А. Тэу, призывающего к новым, «хотя бы и самым
предварительным, попыткам синтеза и теоретического обобщения»
в области малайской литературы и других литератур региона ([497,.
с. 343].
3
Степень изученности малайской средневековой словесности за
рубежом и в СССР предопределила задачи, которые необходимо
было решить автору настоящей работы, для того чтобы она могла,
хотя бы в первом приближении, именоваться историей малайской
литературы VII—XIX вв. Несколько преувеличивая
неразработанность современного малаистического литературоведения,
австралийский исследователь Э. Джонс в основном верно суммировал
некоторые из его главных недостатков: «История малайской
литературы все еще не написана. Как ее традиционному, так и
современному аспектам посвящено чрезвычайно мало трудов, да и те
по преимуществу представляют ценность лишь как хорошие
каталоги, ибо ни один из их авторов не предложил пока каких-либо
организующих принципов, позволяющих сделать литературы
малайского мира предметом всестороннего, обсуждения. Наконец,
число критически изданных малайских текстов весьма невелико,
число текстов, доступных широкому читателю в переводах, и того
меньше, а с литературоведческой точки зрения не
проанализирован ни один из них» {372, с. 30].
Таким образом, создание истории малайской литературы
настоятельно требует решения теоретических проблем — уяснения
«организующих принципов» литературного процесса как
целостного, развивающегося явления и вместе с тем исследования,
малайской словесности не только в историко-культурном, но и в
собственно литературоведческом аспекте.
Подобным подходом объясняется особое внимание, которое
уделяется в настоящей работе трем группам вопросов
концептуального характера.
Первая группа включает вопросы, связанные с тем,
прослеживается ли в малайской литературе на протяжении ее
исторического существования некий внутренне мотивированный
эволюционный процесс и, если он может быть прослежен, каковы причины,
этой эволюции и ее движущие силы. Решение этих вопросов
наталкивается на трудности двоякого рода. Одна из них вызвана ано-
16
нимностью большинства средневековых малайских сочинений, в
которых обычно отсутствуют даты их создания, и относительной
текучестью текстовой традиции. В результате исследователи, как
правило, имеют дело не с «разворачивающимся во времени
процессом, отдельные моменты которого отмечены рядом исторически
конкретных памятников письменности, но с некоторым
синхронным срезом, характеризующим состояние малайской литературы
в ту эпоху, когда исследователи ознакомились с первыми
собраниями малайских рукописей» [199, с. 18]. Естественно, что
реконструкция на основе этой синхронии диахронического
процесса — дело нелегкое, и во многих случаях исследователю при
всей изобретательности его методических приемов, при всем
внимании к текстологическим вопросам не остается ничего иного,
как удовольствоваться более или менее основательными
гипотезами.
Другая трудность обусловлена полной неизученностью
литературы домусульманского этапа, от которого не сохранилось
письменных памятников и облик которого может быть воссоздан лишь
на основе косвенных данных, а также смутностью представлений
об этапе раннемусульманском, лишь усугубившейся за последние
два десятилетия. Такое положение дел значительно сужает
временные рамки, в которых может рассматриваться эволюция
малайской литературы. Исследователи ее ограничиваются
преимущественно этапом с XVII по первую половину XIX в. Учитывая же
весьма медленные темпы развития средневековых литератур,
априори трудно предположить достаточно наглядную трансформацию
одной из них на протяжении всего лишь двух — двух с половиной
веков, последние полтора из которых прошли к тому же в
условиях усиливающейся стагнации, вызванной европейской
колониальной экспансией. Именно поэтому в настоящей работе
предпринята попытка реконструкции домусульманского и раннему-
сульмакского этапов истории малайской словесности, создающих
перспективу, в которой яснее становятся изменения,
происходившие в ней в XVII—XIX вв.
Предпосылки эволюции малайской литературы коренились во
внутренней социальной структуре породившего ее общества, в
особенностях развития в нем феодальных отношений. Однако
воздействие социальных факторов на литературный процесс
осуществлялось, разумеется, не непосредственно, а косвенно, через ту
промежуточную сферу, которую советский литературовед.
П. Н. Медведев назвал «идеологической средой», понимая под.
последней всю совокупность идеологических явлений, «со всех
сторон плотным кольцом окружавших человека... вещей-знаков
разных типов и категорий: слов в многоразличнейших формах их
осуществления, звучащих, написанных и иных, научных
утверждений, религиозных символов и верований, художественных
произведений и inp.» [229, с. 24]. Являясь «выраженным вовне
«социальным сознанием данного коллектива», идеологическая среда по-
своему преломляет социальное бытие, и лишь в таком преломлен-
2 Зак. 147
17
ном «идеологической средой» виде оно воздействует на
литературу.
Естественно, что центральное место и роль
структурирующего начала в средневековой «идеологической среде» принадлежали
той или иной религии, представлявшей собой, по словам К.
Маркса, «общую теорию этого мира, его энциклопедический
компендиум, его логику в популярной форме... его всеобщее основание»
|1, с. 414]. Значительные изменения в религиозной сфере,
пережитые малайским миром на протяжении его истории, всякий раз
придавали характерную окраску всей идеологической среде, в
которой создавалась и функционировала малайская литература,
выступая важнейшим фактором ее эволюции. Ниже нам еще
предстоит рассмотреть этот вопрос более детально.
Для исследования истории средневековой малайской
литературы, однако, недостаточно установить сам факт эволюции,
определить ее предпосылки и направление. Научное требование изучать
факты «в их целом, в их связи; всю совокупность... фактов» i[4,
с. 350—351] заставляет обратиться ко второй группе вопросов,
связанных с изучением литературной эволюции как движения
некой системы. В случае литературы средневековой такой системой
является иерархически организованная совокупность взаимосоотне-
сенных жанров, выделяемых в первую очередь по той функции,
которую они призваны исполнять в жизни общества (ср. i[225,
с. 55—56]). В отмирании или видоизменении одних жанров,
рождении других и обусловленной этими процессами частичной
или полной перестройке системы словесности и проявляет себя
реальная литературная эволюция. При этом для подлинно
исторической реконструкции литературной системы, понимаемой как
сцепление явлений, обладающих определенной социальной
функцией, необходимо исследовать не только сами памятники
словесности, но и присущие данной традиции и в той или иной
форме зафиксированные ею представления о литературе.
Мысль о необходимости подобного «внутреннего» подхода к
истории словесности сформулирована в трудах Н. И. Конрада,
который, отмечая зависимость состава литературы каждой эпохи
от «представлений о ее сущности, о ее задачах и видах» —
словом, от ее самосознания, писал: «Непосредственно с этим связан
вопрос о представлениях о литературе как об элементе се
истории. Забыть об этом элементе просто нельзя: сам наш материал
настойчиво напоминает о том, что история литературы есть вместе
с тем и история представлений о ней» {218, с. 450].
Наконец, третья группа вопросов, тесно связанная с двумя
предыдущими, относится к изучению отдельных литературных
произведений. Каждый литературный памятник рассматривается
в настоящей работе как целостный, художественно-значимый
феномен, неизменное или исторически изменяющееся,
концептуальное единство которого реализуется в определенной поэтологиче-
ской структуре. Последнее обусловливает внимание к поэтике
литературных произведений, вновь по возможности изучаемой с
18
привлечением взглядов на нее средневековых малайцев. Такое-
внимание, на наш взгляд, вполне оправданно в книге,
стремящейся быть не просто историей письменности, но прежде всего
историей литературы.
Итак, история малайской средневековой литературы
понималась в настоящей работе как опосредованно мотивированная
внутренними социальными факторами, а непосредственно —
факторами идеологическими эволюция жанровой системы. Эта система,
включавшая целостные в идейно-художественном отношении
памятники, при наличии необходимых текстов исследовалась не
только «извне», но и «изнутри», т. е. с учетом ее самосознания.
4
Попытаемся несколько подробнее охарактеризовать движущие-
силы, обусловившие эволюцию малайской культуры и
литературы.
Как известно, сложные политические образования (империи),,
возникавшие в ходе истории малайского мира, представляли
собой своего рода конфедерации городов-государств, весьма
различных по типу социального устройства и уровню культурного
развития и слабо связанных в единое целое (см. [531, с. 8—18]).,
В экономическом плане эти государства объединяло то, что их:
процветание всецело зависело от международной торговли,
проходившей через их порты, которые играли ключевую роль на одном:
из важнейших участков пути, ведущего из стран
Средиземноморья, вокруг Индии в Китай.
Основу этого процветания составляли не столько доходы от
торговой деятельности местных купцов (включая и самого
правителя), сколько налоги и пошлины, взимавшиеся с
купцов-иностранцев, поступавшие в казну и затем различными способами;
перераспределявшиеся среди местной аристократии и
чиновничества. Богатство и мощь государства тем самым находились в прямой:
зависимости от числа торговых кораблей, посещавших его, а
последнее, с одной стороны, от удобства расположения порта,
качества его организации, упорядоченности торговли, а с другой — от
безопасности судоходства и успешной борьбы с пиратством в
своих водах и, напротив, от создания помех для мореплавания в
водах соперников.
Таким образом, само существование малайских государств на
протяжении всей истории зиждилось на успешном исполнении
ими административно-военных функций, а успешным оно могло^
быть лишь при достаточно высокой степени государственной
централизации. В противном случае острая конкурентная борьба:
между отдельными городами-государствами (ее важнейшим
средством было пиратство на торговых путях соперника и
принуждение следовавших в его.порт судов изменить маршрут) грозила
создать хаос на морских коммуникациях, чрезвычайно затруднить,
мореплавание и, уменьшив объем торговли в целом, нанести серь-
2*
19
•езный урон всем конкурирующим сторонам. Поэтому всякий раз,
когда в силу тех или иных внешнеполитических причин торговая
конъюнктура складывалась благоприятно для малайского мира,
в нем неизменно возникало государство-лидер, военными и
дипломатическими путями воссоздававшее относительно
централизованную конфедерацию. В V в. таким лидером стало государство,
именуемое в китайских хрониках Гандьоли <Г530], в VII в. на
смену ему пришла морская империя Шривиджайя |f530], в XV в.
значительная часть малайского мира была объединена под
властью Малакки i[531; 407], в XVII в. его поочередно
возглавляли северосуматранское государство Аче и султанат Джохор
[396; 277].
Описанная экономическая система и порождавшийся ею тип
.политической и социальной организации малайского феодального
общества были чрезвычайно устойчивы на протяжении мйогих
•веков. Лишь установление полного господства европейцев на
торговых путях в XVIII в. смогли подорвать их. Естественно
поэтому, что4 сами по себе эти факторы едва ли могли выступать в
.'качестве динамического начала, определявшего эволюцию
малайской культуры, и в частности малайской литературы. Однако
подобного рода статичностью базисных явлений (например, так и
не возникшей во многих азиатских странах частной собственностью
на землю) объясняется, по словам К. Маркса, то, что «история
Востока принимает вид истории религий» [2, с. 214]. Именно
такой вид история — в первую очередь история идеологии,
культуры и связанных с ними явлений — приняла в малайском мире.
Вызванная экономическими причинами необходимость
централизации малайского мира в сочетании с трудностями регулярного
контроля из единого центра за его отдельными малодоступными
районами, обусловили важную роль в сдерживании центробежных
тенденций, военной мощи верховного правителя, главы
конфедерации, и его особой идеологической «выделенности». Одним лишь
военным путем, вне осознания насущной важности единства и вне
сознательного единения вокруг «выделенного» правителя,
длительное сохранение централизованной империи едва ли было бы
возможно.
Таким образом, значение идеологического фактора в
малайских «морских империях» было отнюдь не меньшим, если .не
большим, чем в «империях аграрных» типа яванских или кхмерских.
Не случайно безоговорочная верность вассала сюзерену
составляет сквозную тему всей малайской письменности, начиная от
памятников эпиграфики VII в. (надпись из Телага Бату),
продолжая хрониками XV—XVI вв. («Повесть о раджах Пасея»,
«Малайские родословия») и завершая такими сочинениями XVII в., как
«Повесть о Ханге Туахе», «Корона царей», малайская версия
«Повести о Бахтиаре» и множество других. Для сравнения можно
-отметить, что ни в один из периодов истории яванской литературы
зта тема не занимала в ней столь видного места.
Основу идеологической «выделенности» правителя на протяже-
20
зши всей средневековой малайской истории составляла
автохтонная по происхождению концепция, согласно которой он
воспринимался как средоточие некоей магической силы власти,
обеспечивавшей благоденствие государства и его защиту как от внутренних
смут, так и от вторжений извне. Естественно, что с течением
времени, /в зависимости от изменявшейся религиозной
ситуации в малайском мире, эта харизматическая основа концепции
власти получала различное символическое оформление.
Восходящие, по-видимому, еще к последним векам до нашей
эры торговые контакты с Индией обусловили знакомство
малайцев с индийскими государственно-политическими и религиозными
•системами. Это знакомство постепенно углублялось, в чем
важную роль сыграли не только посещения древнейших малайских
государств индийцами, и в особенности носителями культурной и
религиозной традиции, принадлежавшими к касте брахманов, но
и плавания самих малайцев в Индию, а несколько позднее и
обучение их в крупнейших центрах индийской образованности (На-
ланде, Негапатаме и др.).
Говоря о ранних малайско-индийских связях первых веков
нашей эры, следует учитывать, что в малайском мире индийцы
сталкивались уже отнюдь не с первобытными обществами, но с
раннеклассовыми государственными образованиями, достигшими
довольно высокого уровня развития в результате внутренней
социально-экономической эволюции (см. f210, с. 31—35]), где остро
осознавалась необходимость оформления надстроечных
институтов, и в первую очередь идеологического комплекса, связанного
с «выделенностью» правителя. Именно эти причины и вызвали
восприятие санскритской культуры, буддизма и индуизма и
приглашение ко дворам местных правителей инддастских брахманов
и буддийских монахов, считавшихся носителями «огромной маги-
ко-ритуалистической силы» ,[393, с. 79]. Как справедливо отмечал
голландский историк Я. ван Лёр; «инициатива, обусловившая
приход индийской цивилизации, исходила от индонезийских правящих
кругов или по меньшей мере была делом как индонезийских
династий, так и индийской иерократии... Индийское жречество
призывалось на восток — разумеется, благодаря его широкой
известности — для магического, сакрального утверждения династических
интересов и для „приручения" подданных, а также, возможно,
для организации территории правителя в государство» «[393, с. 85].
Растянувшийся более чем на тысячелетие процесс восприятия
малайским миром индийской культуры, в особенности ее
центральной сферы — религиозных учений, слагался из двух потоков. С
одной стороны, собственно индианизации — усвоения индийских
доктрин и концепций, в значительной степени определивших
идеологическое оформление социальной и культурной жизни малайских
государств; с другой — во встречной малаизации, т. е. отборе и
приспособлении воспринятых элементов к местным культурным
традициям, становившейся все более интенсивной с течением вре-
мени. Примером такого избирательного восприятия и адаптации
21
может служить преобладание в малайском мире махаянского
буддизма и синкретических индуистско-буддийских культов с сильной
тантрической окрашенностью, как нельзя лучше
соответствовавших местным магическим практикам.
Однако, несмотря на постепенно усиливавшуюся малаизацию
индианизированной санскритоязычной культуры, как махаянский
буддизм, так и индуизм на протяжении всего периода их
господства оставались у малайцев аристократическими религиями, мало
затрагивавшими анимистические верования масс и выступавшими
по преимуществу как царские культы, призванные укрепить
харизму правителя, что вело к сращению светской и духовной власти,
концентрации их в лице обожествленного монарха (культ дева-
раджи, буддараджи) [210, с. 38].
XIII—XIV века являются переломным этапом в истории Юго-
Восточной Азии. В политической сфере это время — период
развитых феодальных отношений — ознаменовалось крушением всех
могущественных индианизированных империй и приходом им на
смену моноэтнических государств, в сфере идеологической —
упадком аристократических религий и заменой их религиями
массовыми с характерной для них широкой проповедью не только в
придворной, но и в народной среде (ср. [210, с. 49—50]). В
малайском мире такой религией стал ислам.
Предпосылки мусульманизации малайского мира следует, по-
видимому, вновь искать в торговом характере малайских
государств и их традиционных связях с Индией. С одной стороны,
расширение объема торговли и спроса на ценное местное сырье вело
к увеличению числа городов и росту провинциальной элиты, а
также повышению роли средних городских слоев, занятых
ремеслом и торговлей. Обе эти социальные группы были слабо связаны
с изощренной индианизированной культурой столичной ариста-
кратии, и, вероятно, именно их влиянию эта культура во многом-
обязана своей постепенной малаизацией. Они же, как можно
полагать, переживая своеобразный «урбанистический» разрыв с
системой ценностей и верованиями архаического общества, оказывались
особенно восприимчивы к более динамичному духу ислама с его;
эгалитаризмом, простотой догматики и общедоступностью
проповеди, учением об интимно-личностной, осуществляемой без
посредников связи с Творцом.
С другой стороны, успешный ход завоевания Индии
мусульманскими султанами в XIII—XIV вв.— покорение Бенгалии, Гуд-
жерата, государств Декана, с которыми малайский мир издавна;
поддерживал торговые контакты, не могло не произвести сильное
впечатление на малайских правителей и аристократию. Эти
завоевания, во-первых, чрезвычайно увеличили долю мусульманской
торговли в малайском мире и поставили лидирующую роЛь" в нем
того или иного государства в зависимость от искусного
привлечения в свой порт купцов-мусульман. Как видно на примере северо--
сумат'ранских княжеств, принятие ислама было едва ли не лучшим
способом решения этой задачи ('ср. [531, с. 157—163]). Во-вторых,,
22
само торжество ислама над буддизмом и индуизмом в Индии
увеличивало его идеологическую (а точнее, видимо, магическую)
притягательность для малайских правящих кругов, тем более что
ислам мог быть использован ими для утверждения своей
политико-культурной самостоятельности в борьбе против яванской
индуистской империи Маджапахит и буддийского Сиама, в
вассальную зависимость от которых попали в XIII—XIV вв. малайские
государства.
Наконец, сама активность мусульманских проповедников после
эпохи Крестовых походов и создания мощных и разветвленных
суфийских орденов заметно возросла. Последний момент
особенно важен, ибо именно в суфийской форме идеи ислама могли
восприниматься как созвучные в ряде аспектов тем, что уже
присутствовали как в элитарной, так и в массовой сферах малайской
культуры, а носители суфизма (ими в отличие от провозвестников
индуистского и буддийского учений могли выступать и
многочисленные мусульманские купцы) разработали и успешно
использовали еще в Индии чрезвычайно искусную и эффективную систему
проповеди, ориентированную как на придворные круги, так и на
народные массы.
Сочетание всех этих факторов — экономических, политических,
социальных и идеологических — и повело к восприятию ислама
малайским миром. Однако путь от первоначального
поверхностного обращения до достаточно глубокой мусульманизации малайской
культуры был весьма длинным и растянулся на три-четыре века.
Во всех малайских хрониках единодушно утверждается, что
начало мусульманизации того или иного малайского государства
было положено обращением в ислам его правителя ([375а]. Эти
•свидетельства, вовсе не обязательно достоверные, чрезвычайно
ценны в историко-культурном плане как обобщенное выражение
взгляда самих малайцев на механизм мусульманизации. Принятие
ислама правителем прежде всего преследовало цель укрепить
новым символическим оформлением старый харизматический
статус — идеологическую «выделенность», столь важную в борьбе с
центробежными тенденциями. В то же время оно служило важным
-стимулом для обращения подданных.
Став религией малайских государств, ислам с течением
времени начал проявлять имманентно присущие ему свойства,
отличавшие это вероучение от его предшественников в островном мире.
В числе этих отличительных черт следует назвать существование в
исламе целостного унифицированного писания — Корана, ясно
сформулированную догматику и, что не менее важно, присущий
исламу демократизм и прозелитический дух (ср. |[175, с. 94—95]).
Мусульманские духовные наставники и проповедники — улама,
сами выходцы из средних слоев, обращались в равной степени к
малайской аристократии и массам, умели говорить с последними
на доступном для них языке, прибегая к символике,
перекликавшейся с символами фольклорной традиции. Их взаимоотношения
с двором, хотя отчасти и напоминали прежние связи правителя
,3
со жречеством, существенно отличались от них значительно
большей независимостью у лама, положившей конец прежнему
сращению духовной и светской власти.
Укрепление позиций улама в малайском обществе привело к
бифокальности малайской культуры, выступавшей теперь, как
сложное взаимодействие традиций, порожденных ее придворным
(еще во многом верном индуистско-буддийскому прошлому)
центром и центром религиозным. При этом роль последнего в
малайской культуре постоянно возрастала, охватывая все области
социальной жизни, влияя на ценностную систему придворной
аристократии и постепенно трансформируя ее. Таким образом, ислам
не стал новой аристократической религией малайского мира.
Он проник во все сферы малайских городов-государств от дворца
до торгово-ремесленных кварталов и шаг за шагом пронизал все
слои малайской культуры.
Описанная идеологическая эволюция и явилась
непосредственной движущей силой литературного развития, отразившего все ее
фазы: восприятие буддийского и индуистского вероучений и их син-
кретизацию, малаизацию индианизированной культуры, начальную
мусульманизацию, в процессе которой важнейшую роль играло
восприятие внешней стороны новой религии, последующую
глубинную мусульманизацию (см. [61, с. 191—192]). Соответственно
идеологические факторы легли в основу периодизации
литературного процесса у малайцев в VII—XIX вв., принятой в настоящей
монографии. Учитывая наряду с ними факторы языковые и
собственно литературоведческие, автор этих, строк выделил в
истории малайской литературы три больших периода: древнемалай-
ский (период индианизированных государств Суматры и Ma-
лаккского полуострова — VII — первая половина XIV в.), ранне-
мусульманский (вторая половина XIV — первая половина XVI в.)
и классический (вторая половина XVI — первая половина XIX в.) —
время, когда малайская литература осознала себя одной из
литератур мусульманского мира и когда было создано большинство
ее значительнейших произведений.
5
В заключение несколько слов о структуре и жанровой
специфике данной монографии. С одной стороны, неразработанность в
современной малаистике концептуальных вопросов, вне изучения
которых предложенный выше подход не может быть реализован, и
необходимость решать эти вопросы по ходу исследования, приводя
необходимую аргументацию, обусловили появление в книге ряда
теоретических разделов. С другой стороны, недостаточное
знакомство читателя с «материей» малайской средневековой
словесности заставило включить в монографию обширный описательный
материал: историко-литературные характеристики памятников,
анализ их поэтики, в большинстве случаев выполненный автором на--
стоящей работы.
24
Отбирая наиболее представительные произведения для
литературоведческого анализа, автор стремился руководствоваться не
только установившимися в малаистике пристрастиями, но и
оценкой значимости, данной тем или иным сочинениям самой
малайской традицией и выразившейся в числе их списков. Работе над
историей литературы предшествовала подготовка- антологии,
содержащей переводы на русский язык фрагментов основных
памятников малайской прозы >[47а]. Отсутствием подобной антологии
образцов малайской поэзии объясняются более подробный
пересказ и более обильное цитирование в книге поэтических
произведений.
Сочетание теоретических и описательно-аналитических глав
определило то промежуточное положение, которое занимает
монография между двумя жанрами историй литературы,
выделяемыми Д. С. Лихачевым,— «традиционным», в котором основное
внимание уделяется систематизированному описанию материала, и
«теоретическим», где акцент делается на исследовании самого
процесса литературной эволюции, его движущих силах и т. д.
[224, с. 3—4]. Такой жанровый «синкретизм» вызван самим
современным состоянием малаистики и пока, видимо, непреодолим.
Им же объясняется и стиль изложения, принятый в монографии,
скорее исследовательский, чем обобщающий и подытоживающий,
более обычный в историях литературы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Судя по памятникам эпиграфики, малайский язык уже в VII в.
обладал наддиалектной специфически письменной формой. Такого же рода форму
в нескольких модификациях донесла до нас и малайская литература XIV—XilX вв.
(см. [491а]).
2 Подробно о бифункционально^ти малайской литературы см. [12145; 465].
3 Первый раз в 20-е годы немецким ученым X. Овербеком [389а, с. 17], а во
второй —в сороковом году .английским малаистом Р. О. Уинстедтом [1'96, с. 18].
4 Перечень трудов этих ученых занял бы слишком много места. Названия
некоторых из них читатель найдет в разделе Библиография настоящей работы.
Более подробные данные содержатся в недавно опубликованных сравнительно
полных библиографических трудах [3168; 274а].
ДРЕВНЕМАЛАЙСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Древнейшие упоминания о расположенных где-то за океаном:
у восточных пределов обитаемого мира островах золота,
благородных камней, драгоценных пород древесины и ароматических
смол сохранились в памятниках древнеиндийской литературы —
джатаках, «Рамаяне», «Вайюпуране», «Артхашастре» )[515а,
с. 177—184]. Порой эти острова именовались индийцами Явадви-
па, Малайядвипа, Карпурадвипа. Однако чаще они носили
названия Суварнадвипа (санскр. Золотой Остров) или Суварнабху-
ми (санскр. Золотая Земля), в которых исследователи узнают
Суматру, либо Суматру и Яву, либо собирательное название Ma-
лаккского полуострова и островов западной части Малайского
архипелага. Бурные моря, по преданию отделяющие Суварнабхуми
от Индии — молочное, огненное, изумрудно-зеленое — были
выразительно воспеты в «Гирлянде джатак» поэта-буддиста Арьи
Шуры:
«Блестящими волнами, как смарагд зелеными, влечет корабль наш словно
на прекрасный луг; весь океан украшен пеною чудесной, как бы цветами лотоса
ночного. Какой же это океан предстал пред нашими глазами?» [26, с. 145].
Первые века нашей эры были ознаменованы существенными
переменами в жизни малайского мира. В это время на
территории полулегендарной Суварнабхуми возникли ранние
государственные образования. Их экономическую основу составляла
транзитная торговля и в меньшей мере земледелие, основу
идеологическую — индийская концепция власти и индийские религиозные
учения. Сакральным языком и языком аристократической
культуры в этих государствах был санскрит. Индианизация придала
более или менее завершенную форму автохтонному процессу
зарождения у малайцев классового общества; существенно
трансформировала его духовную жизнь, в которой новые религиозные
доктрины сочетались с исконным культом предков (прежде всего
предков обожествляемого теперь монарха); обусловила глубокий
разрыв между цивилизацией городской элиты и архаической
массовой культурой неурбанизированной округи.
В свою очередь, воздействие Индии на малайский мир также
не было однородным. С одной стороны, восприятие формирующей-
26
ся местной аристократией буддизма и индуизма, древнеиндийского
искусства и литературы, трансплантированных на малайскую
почву, приводило к созданию высокой, элитарной формы культуры,
демонстрировавшей скорее книжное, ученое знание индийской
традиции, чем освоение ее в ходе живых практических контактов.
Об этом свидетельствовали, например, преимущественное влияние
на малайский язык санскрита, а не пракритов или тамили;
осведомленность о варнах, но полное незнакомство с системой каст —
джатщ влияние на местную архитектуру и скульптуру канонов,
описанных в теоретических трактатах — шильпашастрах, но
крайне скудные данные о непосредственных контактах с индийскими
ваятелями и зодчими и о знании их технических приемов. Все
это и позволило предположить, что важнейшую роль в создании
элитарной культуры малайцев сыграла немногочисленная группа
индийских брахманов, живших при местных дворах, а также
обучение средневековой малайской интеллигенции в Индии 1294]. ^
С другой стороны, постоянные контакты с купцами из
восточных, западных и южных районов Индостана обусловили
проникновение индийских элементов, обычно фольклорных, в массовую
культуру и словесность малайцев. Обе культурные сферы долгое
время были резко разграничены, однако процесс их
взаимодействия все же шел, и к концу индуистско-буддийского периода (к
XIII—XIV вв.) местный субстрат существенно трансформировал
индианизированную культуру элиты, в свою очередь восприняв
ряд ее характерных черт ,[314, с. 33, 369].
Ранее других индианизированные государства появились на
севере Малаккского полуострова близ перешейка Кра — древнего
торгового пути, соединявшего Бенгальский и Сиамский заливы.
Около II в. н. э. здесь уже существовали города-государства
(нагары) Лангкасука, Кедах, Тамбралинга и др. Несколько позднее—
в V—VI вв.— города-государства, называемые в китайских
источниках Цзиту и Даньдань, появились на территории современных
малайзийских штатов Келантан и Тренгану.
Подобные города-государства располагались на побережье или
в судоходных устьях рек и обводились палисадом либо каменной
стеной с башнями и воротами. Планировка города, как и в
других районах Юго-Восточной Азии, воспроизводила структуру
буддийского или индуистского космоса. Установленная таким образом
гармония микрокосма ( города) и макрокосма (вселенной)
должна была обеспечивать процветание нагары. В центре города
возвышался храм — государственный палладиум, символизирующий
ось мироздания — гору Меру, в непосредственной близости от
него — дворец правителя-девараджи, средоточия харизматической
власти, носившего санскритский титул или имя — Шри Парамеш-
вара, Бхагадатта, Гаутама. Вокруг дворца в соответствии с
основными и промежуточными направлениями космической модели
группировались административные здания и дома
сановников-брахманов, также обладавших санскритскими титулами сардхакара
(помощник), дхананда (распределитель благ), найака (советник).
27
За пределами аристократического района начинались кварталы
ремесленников, обслуживавших двор. Храмы были, по-видимому,,
единственными каменными зданиями в городе. Не только дома
простых горожан, но и дворцы правителей и знати строились из
дерева и покрывались соломой или листьями пальмы. Застройка
не была сплошной, и густонаселенные кварталы перемежались
садами и парками '{5156, с. 52—58; ср. 217, с. 524—529].
Сообщение китайского посла, побывавшего в VII в. при дворе
правителя Цзиту, восполняет это обобщенное описание рядом
красочных деталей.
«Резиденция государя находится в Львином городе с тройными воротами,,
отстоящими друг от друга более чем на сто шагов. На каждых воротах
изображены летящие духи, бодхисаттвы и иные бессмертные, увешанные золотыми
цветами и колокольчиками, а также десятки женщин с музыкальными
инструментами или золотыми цветами и украшениями. Четыре мужские фигуры, одетые на
манер чудовищных великанов, что высятся по сторонам буддийских пагод, стоят
у ворот... Все здания во дворце правителя состоят из множества павильонов с
дверями на северной стороне. Государь, облаченный в розовое одеяние с
гирляндой золотых цветов и ожерельем из разнообразных драгоценных камней на шее,
восседает на трехъярусном троне лицом на север... Несколько сотен брахманов
сидят рядами на восточной и западной сторонах зала для приемов лицом друг
к другу... В обычае поклонение Будде, но брахманам выказывается большое
уважение» [515а, с. 27—28].
Распространенный у жителей Цзиту обряд кремации покойных,
в деталях соответствующий требованиям индуистского ритуала,
свидетельствует о глубокой индианизации государства.
Любопытно, что после смерти государя Цзиту его прах в отличие от
останков прочих смертных «заключался в золотой сосуд и
сохранялся в святилище» — одно из первых сообщений о
храмах-усыпальницах и о посмертном культе царя в малайском мире. Интересные
сведения о придворной культуре содержатся и в описании приема,
оказанного послам, где упоминается не только о поданных им
«печеньях четырех цветов — желтого, белого, лилового и красного»,
но и об исполнении индийской музыки и о местной письменности —
подаренной китайцам «золотой «опии с листа растения то-ло, на
котором была начертана рельефная надпись» {[515а, с. 29—30].
Почти одновременно с нагарами Малаккского полуострова ин-
дианизированные города-государства появились на Суматре.
В V—VI вв. здесь доминировало государство Гандьоли
(возможно, санскр. Гандхари). В VII в. на смену ему пришла Шриви-
джайя, чья столица располагалась на Южной Суматре близ
современного Палембанга.
О возвышении Шривиджайи свидетельствуют пять надписей
на древнемалайском языке ее правителя Джайянаши, которые,
наряду с образцами эпиграфики тямов Южного Вьетнама, являются
древнейшими письменными памятниками на языке малайско-поли-
незийской группы [311а; 333а; 310, с. 15—46]. В период высшего
расцвета (VIII—XII вв.) Шривиджайя контролировала Зондский
и Малаккский проливы, а также волоки на перешейке Кра,
господствуя, таким образом, на всех морских путях из стран Ближ-
28
него Востока и Индии в Китай и установив здесь торговую
монополию. В состав Шривиджайи в это время вошли старые
цивилизованные нагары Малаккского полуострова, крупнейшая из
которых — Кедах — стала «северной столицей» империи; государства
Суматры от Ламури на севере до Лампунга на юге, в частности-
богатые естественными ресурсами княжества Северной Суматры
и рассеянные вдоль побережья Восточной Суматры и на
близлежащих островах примитивные поселения «морских» малайцев —
наиболее лояльных подданных правителя, составлявших его
главную военную силу — флот. Кроме того, Шривиджайя подчинила
себе западнояванское государство Тарума и малайские колоний'
на Калимантане.
Арабские географы и путешественники IX—X вв. восторженно-
описывали богатство и могущество махараджей Забага —
Шривиджайи, обширность и населенность их владений.
«Когда петухи в этой стране поют на рассвете,— писал один из арабских
авторов,— их перекликающиеся голоса слышны на пространстве в сто и более пар--
сангов (шестьсот-семьсот километров.— В. Б.), ибо деревни здесь примыкают одна
к другой и тянутся без перерыва» [314, с. 131].
При всей преувеличенности это сообщение хорошо передает
чувства путешественника, попавшего в многолюдную страну.
Окруженная кирпичными стенами, имевшими несколько
километров в периметре, столица Шривиджайи планировкой,
вероятно, напоминала города, Малаккского полуострова. Характерный^
облик придавали ей поднимавшиеся из воды каналов и речных-
проток дома на сваях, до которых добирались на лодках. В
столице находилась и легендарная сокровищница правителей
Шривиджайи — соединявшийся с морем искусственный водоем, в
который, по рассказам, махараджа каждый день бросал слитки:
золота, сверкавшие в ^лучах солнца во время отлива. Хотя
развалины буддийских храмов, обнаруженные близ самого Палембан-
га, не позволяют говорить о значительной строительной
деятельности в городе, шривиджайская скульптура и храмовые
комплексы на юге Суматры — в долине реки Батанг Хари и на северо-
западе острова — в Паданг Лавасе свидетельствуют о высоком
искусстве шривиджайских мастеров, своеобразно сочетавших
индийские каноны и нормы малайской художественной традиции. -
Важную роль в жизни столицы империи — крупнейшего
торгового порта Юго-Восточной Азии — играло иноземное купечество, о
многонациональном составе которого свидетельствует знаменитое-
описание шривиджайских ручных попугаев, якобы умевших
говорить «на арабском, персидском, индийском и греческом языках».
Несмотря на политические потрясения X—XI вв.— войну с
яванским государством Матарам и опустошительный рейд
тамильского правителя Раджендры Чолы,— до XIII в. Шривиджайя
сохраняла свое господствующее положение на морях западной части
архипелага. Лишь столица ее за это время переместилась на
территорию прежде подвластного Палембангу государства Малайю
(Дхармашрайя). Однако в конце XIII—XIV в. начинается посте-
га
пенный распад империи. В 80-х годах XIII в. Малайю попало в
зависимость от яванского государства Сингасари, а несколько
позднее, как и Палембанг, стало вассалом могущественнейшей в
истории Явы империи Маджапахит. Одновременно усилившееся
"тайское государство Сукотай захватило владения Шривиджайи на
Малаккском полуострове. Еще через десятилетие на Суматре
начало ощущаться мусульманское влияние, и в 1292 г. Марко Поло
•сообщал, что жители северосуматранского княжества Перлак,
прежде бывшие идолопоклонниками (т. е. индуистами или
буддистами), теперь «обращены в веру Магомета» (об истории
Шривиджайи см. ][314; 419; 530; 531]).
В итоге ко второй половине XIV в. политическая и культурная
.ситуация на Суматре весьма напоминала ту, что через столетие
стала типичной для значительной части островного мира и лучше
всего известна по Яве XV в. В прибрежных районах на севере
юстровов набирали силу мусульманские торговые порты Перлак,
Самудра, Пасей, тогда как на юге, в глубинных районах Суматры,
доживало свой век государство Малайю — осколок некогда
великой индианизированной империи, столица которого при
ревностном тантристе Адитьявармане располагалась в горах страны ми-
■яангкабоу.
ГЛАВА I
СИСТЕМА ЖАНРОВ
ДРЕВНЕМАЛАИСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(реконструкция)
Высокий уровень развития, которого к началу нашей эры
достиг фольклор народов Малайского архипелага, в частности
малайцев (см. {247, с. 11—30]), и культурные связи с Индией
послужили предпосылками зарождения малайской письменной
литературы. Характерно, однако, что, хотя библиография трудов,
посвященных индо-малайским контактам, насчитывает многие
десятки названий, вопрос о словесности малайцев 1 в период индиа-
низированных государств Суматры и Малаккского полуострова,
когда эти контакты были особенно интенсивны, разработан
совершенно недостаточно. Подобное положение, впрочем, вполне
объяснимо.
Сведения о малайской литературе того времени настолько
немногочисленны и фрагментарны, что исследователи порой
сомневались в самом факте ее существования2. Ведь хотя время
расцвета шривиджайской талассократии отмечено едва ли не
высшим в средневековой малайской истории политическим,
экономическим и культурным подъемом, наука до сих пор не располагает
литературными произведениями, которые определенно датируются
этим периодом.
На наш взгляд, однако, существование в Шривиджайе
развитой письменной традиции подтверждается многими вескими
аргументами. Прежде всего это данные, свидетельствующие о том,
что Шривиджайя была одним из мировых центров буддизма (в
XI в., по сведениям тибетских источников, даже главным центром
этой религии [311, с. 62—63]). Китайский паломник И-цзин
(VII в.) упоминает о тысяче шривиджайских монахов и советует
соотечественникам, отправляющимся учиться в буддийские
монастыри Индии, сделать остановку в Шривиджайе и у здешних
наставников подготовиться к будущей учебе '[151, с. XXXIV].
В Шривиджайе в различное время жило немало выдающихся
буддийских ученых. В VI в. на Суматре работал видный
представитель школы Дигнаги — Дхармапала из Канчи '[420, с. 38—39], в.
VII в.— Шакьякирти, один из семи великих буддийских
проповедников. В XI в. шривиджайскую сангху возглавлял Дхармакирти —
учитель Атиши (одного из известнейших деятелей буддизма),
называемый в тибетских сочинениях величайшим ученым своего
времени. Сам Атиша в течение двенадцати лет обучался в Шриви-
31
джайе/[311, с. 62—63]. Крупными буддийскими центрами на Ма-
лаккском полуострове были Лигор и Кедах, долгое время
входившие в сферу политического и культурного влияния Шривиджайи.
Статуи Будды, служившие предметом поклонения в Шривиджайе
и Кедахе, были известны вплоть до Непала и изображены в
одной из непальских рукописей -с миниатюрами [420, с. 78—79].
Трудно предположить, чтобы в одном из крупнейших
буддийских государств существовали лишь эпиграфические памятники и
совершенно отсутствовали сочинения на обычных писчих
материалах. Это соображение общего порядка подкрепляется и
внутренними данными, полученными в результате изучения самих
памятников малайской письменности. Так, лингвистические и
орфографические особенности ранних малайских рукописей (XVI—
XVII вв.), находящие объяснение лишь в языке и орфографии
древнемалайской эпиграфики, могут интерпретироваться как
«сохранившиеся следы более древнего литературного малайского
языка» [491а, с. 152]. Не менее интересные результаты дает
палеографический анализ яванских, балийских и малайских надписей
на камне, который показал, что резчики, высекавшие их,
копировали оригинал, написанный острым стилом или тонкой кистью на
.пальмовых листьях, точно воспроизводя специфические черты
шрифта этого оригинала [310а, с. 4—5]. Подобный метод работы
резчиков с необходимостью предполагает наряду с текстами на
«вечных» материалах существование письменности на материалах
более «хрупких» (а тем самым и возможность существования
литературы). Кроме того, при изучении эволюции того или иного
шрифта учет этого метода позволяет объяснить значительные
палеографические изменения, наблюдаемые в сохранившихся
памятниках эпиграфики, нередко разделенных значительными
временными интервалами, постепенным «латентным» развитием
шрифта в несохранившихся текстах на^ «хрупких» материалах.
.Для решения проблемы существования древнемалайской
литературы особенно существенно то, что лишь гипотеза о длительной
традиции письменности на пальмовых листьях (или бамбуке) дает
удовлетворительное объяснение эволюции шрифта малайской
эпиграфики с XI по XIV в. [310а, с. 56—58, 72].
Наконец, о существовании письменной древнемалайской
литературы свидетельствуют китайские источники, упоминающие о
связках книг (возможно, аналогов балийских лонтаров —
специально обработанных листьев пальмы с отверстием, в которое
продевалась скрепляющая их бечевка), подаренных государем
Шривиджайи китайскому императору [344, с. 65], а также об
использовании малайцами «индийского шрифта» еще в малаккское
время (XV в.) 3. Китайские свидетельства дополняются данными
есуматранской эпиграфики, сообщающей о писцах и поэтах ,[310,
•с. 32, 37; 384, с. 271] и сохранившей древнемалайское
восьмистишие на камне, написанное санскритским размером упаджати
[487а; 402а], а также сведениями одной из ланкийских надписей
*ю шривиджайской хронике «Суварнапураванса» {432]>
32
Приведенные доводы позволяют согласиться с утверждением,,
что «на основе как внутренних свидетельств малайской словесно-
сти, так и общих соображений и сравнения с Явой следует
признать вероятным существование значительной малайской
литературы еще в домусульманское время» [491а, с. 151]. Другой
вопрос, на каком языке или языках создавалась эта литература и
каков был ее состав.
Изучение индо-малайских литературных контактов и
реконструкция литературы Шривиджайи на основе тех отголосков и
реминисценций ее, которые могли сохраниться в текстах уже
мусульманского времени, осложняются давними связями малайской и
яванской литератур, усилившимися, по-видимому, с XIV в. и
продолжавшимися вплоть до нового времени. Яванская литература
в мусульманский период полнее, чем малайская, сохранила
сюжеты и образы индуистско-буддийского прошлого. Учитывая ее
посредническую роль, часто бывает нелегко решить, является ли
тот или иной факт малайского текста реликтом «своего»,
индийского по происхождению, наследия либо же вторичным
образованием, возникшим в мусульманский период под яванским
влиянием.
Несмотря на отмеченные трудности, малаистическая филология
не может обойти проблему реконструкции литературы индианизи-
рованных малайских государств. Решение ее хотя бы в самых
общих чертах необходимо не только для понимания того, как
претворялся индийский материал местным культурным кодом в его
различных по социальной ориентации вариантах, но и для
восполнения более чем семивековой лакуны в истории малайской
словесности, без чего исследование раннемусульманской и классической
малайской литературы XIV—XIX вв. лишается правильной
перспективы, ибо эволюционные процессы, давшие знать о себе еще
в древнемалайский период, окончательно выявились и были
закреплены уже после принятия ислама.
В настоящей главе делается первая, по существу, попытка на
основе типологии средневековых литератур (в частности,
немногочисленных материалов по словесности «старых народов»
средневековой Юго-Восточной Азии, к числу которых принадлежат и
малайцы), а также синтеза накопленных малаистикой данных
наметить подход к решению проблемы реконструкции древнемалайской
литературы. Нет необходимости говорить о том, что многие
результаты данного иследования предварительны и гипотетичны.
•1. типологические основания реконструкции.
выбор модели для восстановления
древнемалайской литературы
Изучение типологии средневековых литератур, заметно
развившееся в последние десятилетия4, дало возможность определить
ряд присущих им общих черт. Прежде всего понятие литературы
3 Зак. 147
33
в средние века включает в себя, по существу, всю письменную
традицию — все памятники письменности, созданные данным
коллективом. Центром, вокруг которого группируются
функционирующие в обществе тексты, является религиозный канон,
определяющий картину мира, характерную для соответствующей культуры,,
место в ней человека, телеологию его деятельности, основы этики,
и эстетики и т. д.
Прочие тексты определенным образом соотносятся с
каноническими, что обеспечивает целостность средневековой литературной
системы, и в зависимости от степени соотнесенности образуют как
бы несколько концентрических кругов, ценностная характеристика
которых уменьшается по мере удаления от центра. Естественна
поэтому, что основу системы средневековой литературы
составляют наиболее тесно связанные с каноном произведения
функциональных жанров (религиозно-обрядовые, историографические,
панегирические, деловые и т. д.), имеющие в первую очередь вне-
эстетическое назначение, однако благодаря характерной для
средневековья синкретичности мировосприятия нередко обладающие
ярко выраженным эстетическим компонентом. Жанры же
собственно литературные в современном понимании
(нефункциональные), дальше отстоящие от канона, например различные виды
беллетристики, а иногда и лирической поэзии, занимают место на
периферии этой системы, на границе ее с системой фольклора, что
приводит к возникновению в этой области промежуточных и
смешанных форм.
Письменная культура средневековья, типологически
надстраивающаяся над фольклорной традицией, в каждом исторически
конкретном случае вступает с последней в весьма сложные
отношения, во многом отличные от тех, которые складываются а
новое время. В частности, так как система средневековой
литературы, организованной каноном, не удовлетворяет всех
потребностей общества в слове, то фольклор в эту эпоху функционирует
не только в массовой культуре, но и в культуре элиты, где он
обслуживает «свободные» области, вступая в отношение
дополнительности с (письменной традицией.
Более широкая, чем в новое время, сфера распространения
фольклора и инкорпорация в высокую культуру средневековья
определенных фольклорных институтов, 'например института
придворных сказителей, облегчает движение текстов из фольклора в:
литературу и обратно.
Важной особенностью средневековых литератур является
свойственное им, как правило, двуязычие. Часть текстов,
охватывающая обычно центральные области литературной системы,
создается на надэтническом сакральном языке той или иной мировой
религии (латинском, церковнославянском, санскрите, арабском
и т. д.), другая же часть, обычно более близкая к периферии,—
на языке данного этноса. При этом граница между сферами
распространения обоих языков в истории литературы конкретного*
народа может существенно изменяться.
34
Двуязычие средневековых литератур заставляет с большой
осторожностью применять к ним некоторые понятия современного
литературоведения, такие, например, как «заимствование»,
«перевод» и т. д., так как многие произведения на сакральном над-
этническом языке являются общим достоянием всех носителей
данной религиозной традиции, частью их литературной системы.
Характер соотношения сакрального и этнического языков в
письменной культуре Шривиджайи, возможно, является причиной
исчезновения ее высокой литературы после принятия малайцами
ислама. Ключ к пониманию этого специфического соотношения
дает типология индианизированных литератур «старых народов»
Юго-Восточной Азии (монов, кхмеров, тямов, яванцев).
При обращении к типологии индианизированных литератур
Юго-Восточной Азии сразу же обращает на себя внимание тот
факт, что не только малайцы, но и все «старые народы» этого
региона, за исключением яванцев, не сохранили литературного
наследия периода высшего культурного и государственного
расцвета. Реконструировать их письменную культуру приходится
преимущественно по материалам эпиграфики, которая, хотя и не может
дать вполне адекватного представления о составе
соответствующих литератур и их эволюции, демонстрирует ряд общих черт,
позволяющих предполагать существование определенного
параллелизма, в том числе и хронологического, в развитии литератур
«старых народов» Юго-Восточной Азии5.
Первые эпиграфические памятники, созданные, за редчайшими
-исключениями, на санскрите, появляются в Юго-Восточной Азии
в III—V вв. В IV—VII вв. к ним добавляются надписи на
местных языках — монском, кхмерском, малайском, тямском6, а с
начала IX в.— на яванском. С этого момента в эпиграфике
складывается характерное двуязычие с довольно четким
функциональным разграничением языковых сфер. Надписи на санскрите (реже
на пали) содержат гимны богам, панегирики правителям и
знатным особам, основывавшим храмы или преподносившим им дары,
царские генеалогии и т. п. Эти надписи, высеченные на камне,
:как правило, имеют стихотворную форму, составляются в
утонченном риторическом стиле кавья и демонстрируют знание
нюансов средневековой санскритской просодии, образности,
религиозной, философской и художественной литературы; порой подобные
надписи, в особенности кхмерские и тямские, представляют собой
весьма обширные (до 200 строф и более) поэмы. Эпиграфика же
на местных языках, в подавляющем большинстве случаев
прозаическая, редко обладает литературной ценностью и носит в
основном деловой и юридический характер. Она представлена
перечнями даров храмам, «грамотами» о пожаловании землей или
освобождении от налогов, царскими указами и т. п.
Можно предположить, что прослеживаемые в эпиграфике
оппозиции санскрит (пали) <—-» местный язык и стихи <—^неукрашенная
•проза, имплицирующие противопоставление текстов, имеющих
эстетический компонент, и текстов чисто деловых, были характер-
3*
35
ны и для гипотетических литератур «старых народов»
Юго-Восточной Азии (за исключением яванцев).
Некоторые изменения в характере эпиграфики на местных:
языках дают знать о себе примерно с конца XI в. Так,
французский исследователь П. Мю отмечает, что стиль нарративных
частей тямских надписей с этого времени становится живее, знание
санскрита в XII в. ухудшается, а в XIII в. он почти полностыа
вытесняется тямским языком |[412, с. 194]. Сходные явления
наблюдаются и в монской эпиграфике. Если древнейшие надписи,
на древнемонском языке носят деловой характер, то ряд текстов
конца XI—XII в. обладают развитым литературным стилем /[397,,
с. 53—54] и «могут считаться литературными произведениями, а:
не только образцами эпиграфики» [327, с. 75]. Все же, насколько»
можно судить по крайне немногочисленным исследованиям, ни у
«старых народов» Индокитая, ни у малайцев до XIV в. так и не
сложилась традиция стихотворных надписей на местных языках,»
хотя позднейшая литература кхмеров и тямов в значительной
степени стихотворна '[312; 412].
Период XIII—XIV вв., как уже отмечалось, характеризуется:
коренными переменами в истории Юго-Восточной Азии. В это
время место классических индианизированных обществ занимают
государственные образования «молодых народов» — бирманцев ш
тайцев. В сфере культуры наступившие перемены
характеризовались все большим давлением местного субстрата на воспринятую
элитой «старых народов» санскритскую цивилизацию,
исчезновением хранительницы этой цивилизации — утонченной индианизи-
рованной аристократии с характерными для нее культом
бога-царя (девараджи), махаянским буддизмом и индуизмом — и
распространением массовых религий: буддизма тхеравады — на
материке, ислама — в островном мире ;Г314, с. 33, 369].
Трудно предположить, что подобная экспансия массовой
культуры не имела решающих последствий для литературного
развития. Об этом свидетельствует не только быстрое прохождение
«поры ученичества» «молодыми народами» и создание ими Haï
своих языках литератур, в определенной степени являющихся
продолжением письменной традиции соответствующих «старых:
народов» (достаточно вспомнить о культурных функциях монско-
го языка в Паганском государстве XII в. «Г327, с. 73; 397] или об;
аналогичной роли кхмерского языка при дворе Сукотайя в;
XIV в.). Малайская литература начиная с XIV в. позволяет
проследить трансформацию и расширение сферы этнического языка?
одного из старых народов в изменившихся условиях.
Предложенная схема изменения границ сакрального и местного"
языков в литературных системах Юго-Восточной Азии, коль скоро*
она справедлива, заставляет усомниться в возможности
реконструкции древнемалайской литературы по модели древнеяванской.
В рамках прослеженной эволюции история древнеяванской
литературы представляется исключением, нуждающимся в особой
интерпретации. Древнеяванская литература — это единственная со-
36
хранившаяся литература «старого народа» Юго-Восточной Азии
периода классических индианизированных государств, причем
ссылки на благоприятные для ее сохранения условия на неисла-
мизированном острове Бали не дают исчерпывающего объяснения
этому факту. Ява пережила не меньше политических и социальных
потрясений в XV—XIX вв., чем другие районы Юго-Восточной
Азии, однако такие важнейшие древнеяванские поэмы, как
«Рамаяна», «Бхаратаюддха», «Арджунавиваха», «Арджунавиджайя»,
дошли до нас не только в балийских, но и в яванских
рукописях7. Эпиграфика на древнеяванском языке появляется лишь в
IX в., позднее, чем эпиграфика на местных языках других
«старых народов» Юго-Восточной Азии, но в том же, IX в. мы
находим в ней поэму в стиле кавья на древнеяванском языке.
Литературные произведения двух последовавших веков свидетельствуют
о напряженной работе по передаче литературных функций
санскрита древнеяванскому языку, и уже в первой половине XI в. на
нем создается первое типично древнеяванское по стилю
произведение— поэма «Арджунавиваха» [342, с. 107—117; 310, с. 283;
535, с. 87—94, 226—230, 237—243]. Хотя в дальнейшем двуязычие
продолжает прослеживаться и в древнеяванской культуре,
большинство созданных в ее русле поэтических произведений написано
на древнеяванском языке. Аналогов этому столь рано и так
радикально изменившемуся соотношению языковых сфер мы,
насколько можно судить, не находим в памятниках письменности
как Индокитайского полуострова, так и малайского мира.
Поэтому для реконструкции древнемалайской литературы более
приемлемой представляется континентальная модель, основу которой
составляют тексты на санскрите (ср. ,[342, с. 52]), а не модель древ-
неяванская, базирующаяся главным образом на текстах на
местном языке.
2. КАНОН, КОММЕНТАРИИ.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ
Китайские паломники-буддисты, для которых Шривиджайя
была важным промежуточным пунктом на пути в Индию, оставили
в своих сочинениях ценные свидетельства о письменной культуре
и буддийской учености в этой стране. В частности,, И-цзин,
упоминая о тысяче буддийских монахов, живущих в столице
государства, писал: «Они исследуют и изучают все возможные области
знания, причем точно те же, что и в Мадхьядеше (т. е. в
Индии.— В. £.), их устав и церемонии также тождественны
индийским» [151, с. XXXIV].
Это замечание автора, проведшего, долгие годы как в Индии,
так и в Шривиджайеи прекрасно знакомого с системой
обучения в обеих странах, представляет значительный интерес.
Описание буддийского образования в Индии, сделанное тем же И-цзи-
ном (а несколько ранее Сюань-цзаном), показывает, что индий-
37
ские монастыри являлись центрами не только духовного, но и
светского знания, где изучались как религиозные сочинения
различных буддийских школ, буддийская философия и логика, так
и грамматика Панини с комментариями Патанджали,
грамматические труды Бхартрихари, классическая санскритская
литература и искусство (см. [409, с. 239—248]). Его фраза о «точно тех
же областях знания», по-видимому, указывает на изучение в Шри-
виджайе сходного круга дисциплин.
И-цзин писал также, что «Буддхачарита» («Жизнь Будды») —
одна из первых кавья, «хорошо украшенных поэм» на санскрите
великого Ашвагхоши, на островах Южных морей была не менее
популярна, чем в самой Индии «[151, с. 165—166]. Возможно,
именно к «Буддхачарите» восходят в конечном счете некоторые
характерные для малайской и яванской литератур описания,
находящие отклик в этой поэме. Особенно очевидна параллель с
рассказом Ашвагхоши о том, как при вести о приближении
царевича лотосоликие обитательницы города, путаясь в широких
поясах и распугивая птиц звоном браслетов, выбежали на крыши
и прильнули к окнам, отчего, казалось, дома украсились
сплошной завесой из цветов лотоса [413, с. 32]. Сходные, хотя и не
столь утонченные описания, встречаются во многих малайских
повестях.
Упоминания о литературе в Шривиджайе, -встречающиеся в
обоих сочинениях И-цзина, озабоченного по преимуществу
собиранием священных текстов, носят, разумеется, несколько
односторонний характер. Однако именно из них мы узнаем о существовании
в малайском государстве Кедах, расположенном на Малакк-
ском полуострове, санскритской версии буддийского канона «Три-
питака» и о махаянских сутрах и шастрах, в частности о «Иога-
чарьябхумишастре», одном из основных сочинений Асанги на
Суматре [70, с. 125, 77].
В «Записках о знаменитых монахах, искавших Закон в
западных странах» И-цзин называет имена многих китайских
паломников, изучавших санскрит и санскритскую литературу в
Шривиджайе, причем почти о каждом из них говорится, что, прежде
чем прочитать здесь «великое множество санскритских книг», он
занимался местным языком кун лунь J70, с. 63—64, 158—159, 183].
Последнее дает некоторые основания для гипотезы о религиозной
литературе на древнемалайском языке в Шривиджайе, что может
быть отчасти подкреплено также и молитвой (пранидхана) на
этом языке, содержащейся в надписи 684 г. из Таланг Туво ,[420,
с. 113—115]. Скорее, однако, И-цзин имеет в виду использование
местного языка как посредника при изучении санскрита, а
возможно, и при объяснении ученикам буддийских текстов.
Представить себе характер этого обучения помогают сохранившиеся древ-
неяванские «учебники» санскрита, так называемые критабаса
(сокр. от санскритабхаша), демонстрирующие довольно развитую
педагогико-дидактическую культуру; словари санскритских
синонимов и образов, служившие руководством для поэтов, например
38
переведенный на Яве в VIII в. санскритский словарь «Амарама-
ла»; религиозные сочинения, подобные «Санг Хьянг Камахаяни-
кан», в которых каждая санскритская строфа сопровождается
древнеяванским парафразом ;[342, с. 105—117].
Важным источником по литературе народов Юго-Восточной
Азии является храмовая архитектура, и в особенности храмовые
рельефы, позволяющие порой не только судить об индийских
произведениях, известных в той или иной традиции, но и
реконструировать до некоторой степени ту модификацию их, которая была
характерна для данной традиции. Однако рельефы суматранских
храмов представляют для этой цели крайне скудный материал:
государи Шривиджайи в отличие от кхмерских и яванских
правителей сосредоточили свое внимание почти исключительно на
проблемах политического и экономического характера и мало
покровительствовали храмовому зодчеству и скульптуре [314, с. 134].
Поэтому первостепенное значение для реконструкции литературы
Шривиджайи приобретают рельефы яванских храмов (в
особенности прославленного Боробудура), воздвигнутых в период
правления династии Шайлендр (VIII—IX вв.), имевшей как яванскую,
так и суматранскую ветви.
Независимо от того, рассматривать ли время Шайлендр как
яванский период в суматранской истории [486] или как сумат-
ранский период — в яванской [390], что нашло новые, хотя, в свою
очередь, также весьма неопределенные подтверждения в
надписи Дапунты Селендры из Кеду ,[306] и свидетельствах ланкий-
ской эпиграфики [432], совершенно очевидно, что династия
яванских Шайлендр была тесными узами связана с царствующим
домом Шривиджайи и, что еще важнее, культурная и религиозная
жизнь обоих государств была в основном ориентирована на
крупнейший центр махаянского буддизма — университет Наланда в'
Бенгалии |[314, с. 91—93, 107—109; 309, с. 99; 311, с. 45].
Эти обстоятельства позволяют предположить, что буддийские
сочинения, распространенные на Яве в период Шайлендр, были
известны также в сфере высокой аристократической культуры
Шривиджайи.
Многочисленные рельефы Боробудура свидетельствуют о
знакомстве с такими санскритскими памятниками, как «Кармавиб-
ханга» и «Гандавьюха», в первом из которых изображаются
перспективы, раскрывающиеся «перед верующими, твердо идущими
по пути буддизма», а во втором — «повествуется о хождении бод-
хисаттвы Судханы в поисках просветления» [247, с. 36]. Кроме
того, в этих рельефах запечатлены сцены из махаянского
жизнеописания Будды — «Лалитавистара» («Книга игры {Будды]»)
(цитата из этого произведения в надписи Адитьявармана из Бу-
кит Гомбака подтверждает его популярность на Суматре еще в
XIV в.) и, что особенно интересно, из «Джатакамала» («Гирлянды
джатак») Арья Шуры [243, с. 46—47; 380, с. 70—111].
Это произведение, основной пафос которого — «спасение мира,
измученного страданиями, не имеющего ни защитников, ни покро-
39
вителей, ни руководителя, полного многих несчастий...» [197,
с. 15], а главный герой — благородный бодхисаттва,
преисполненный любви и милосердия ко всем живым существам, является
наряду с поэмой Ашвагхоши одним из величайших в
художественном отношении произведений буддийской литературы. Его автор
«выполнил те требования, которые согласно индийской
классической поэтике предъявлялись к произведениям стиля кавья. Здесь
и герой, наделенный всеми высокими моральными и
интеллектуальными качествами, и сюжеты, взятые из исторических
преданий... и описания моря, гор, восхода солнца и луны, игр в воде,
садов и рощ, путешествий, битвы и победы и т. д., которые были
обязательны в художественном произведении этого жанра» <Г 197,
с. 18—19].
Разнообразны, выразительны сравнения, к которым прибегает
Арья Шура. Так, «лев с испачканными кровью пастью, когтями
и гривой сравнивается с темным облаком, освещенным отблеском
вечерней зари; берега озера украшены золотой нитью, свитой
пальцами волн из пыльцы лотосов и лилий; не спят лотосы,
ласкаемые лунным светом, напоминая осколки месяца в тени
деревьев» |Г197, с. 21—22].
Поражает и виртуозность звуковой организации «Гирлянды
джатак», характерной не только для стихотворных частей ее, но
и для прозы. Особенно 'часто и в прозе, и в стихах •встречаются
так называемые ямака — повторяющиеся сочетания омонимичных
слогов )[197, с. 22—23], прием, кстати сказать, характерный для
древнейших и наиболее близких к санскритским образцам
яванских какавинов (в частности, для поэмы на камне IX в. и древне-
яванской «Рамаяны» [310, с. 285—286; 356; 535, с. 230]).
Распространенность джатак в малайском мире подтверждается
также их отголосками в фольклоре и литературе мусульманского
времени (в цикле сказаний о мышином оленьке — пеландуке,
некоторых исторических и беллетристических сочинениях [196,
с. 25—27, 189; 433, с. 375]). В отдельных случаях, однако,
влияние джатак может объясняться довольно поздними тайско-малай-
скими литературными связями (например, как в случае с
рассказом о радже-людоеде из «Повести о Маронге Махавангсе»,
перекликающимся с эпизодом из «Сутасомаджатаки»8).
Эпиграфика показывает, что в Шривиджайе и вообще на
Суматре не только изучались санскритские сочинения в стиле кавья,
но и создавались произведения на этом языке и в этом же стиле,
в первую очередь гимны богам и панегирики обожествленным
царям, которые, очевидно, как и на Яве, исполнялись во время
пышных церемоний |[438, т. 4, с. 333—334].
Первые санскритские поэтические панегирики,, высеченные на
каменных плитах, появляются в Шривиджайе в конце VII в.,
одновременно с надписями на древнемалайском языке \[310, с. 6—8].
Традиция создания их существовала, возможно, и раньше, о чем
свидетельствует стиль сохраненного в «Истории лянской династии»
послания правителя государства Гандьоли, предшественника Шри-
40
виджайи, китайскому императору [344, с. 61—62]. Наиболее
яркий и художественно совершенный образец царского панегирика
представляет собой надпись на стороне А знаменитой лигорской
стелы, начинающаяся следующими стихами:
«Далеко разнеслась его слава — которую питают неиссякающие источники
осмотрительности* умеренности, мужества, осведомленности в науках,
самообладания, воздержанности, непоколебимой твердости, терпимости, мудрости и
милосердия,— затмив блеск величия других государей, подобно тому как свет
осенней луны затмевает мерцание звезд.
Он — вместилище добродетелей, благодаря своему сиянию, озаряющему даже
снежные вершины Гималаев, пребывающий опорой праведников и достойнейших
мужей этого мира; величием он подобен океану — сокрушителю зла, средоточию
несметных сокровищ, обители нагов, вкруг чела которых переливаются лучами
сверкающие нимбы из драгоценных камней.
Все те, чьи сердца неисчислимыми пламенными языками сжигает огонь ни*
щеты, прибегая к нему, обретают совершенное утоление страданий, подобно тому
как слоны, изнывающие под жгучими лучами солнца, находят прохладу в
прекрасном озере, прозрачные тихие воды которого, алеющие от пыльцы лотосов,
не иссякают круглый год.
Все те, кто в этом мире наделен добродетелью, отовсюду устремляя взоры
на него — добродетельного, словно Ману,— преумножают свою красоту, подобно
божественным деревьям манго и кесара, расцветающим с приближением весны»
[420, с. 123—124].
Автор лигорской стелы9 не только обнаруживает мастерское
владение сложной системой санскритской образности и
разнообразными стилистическими приемами, но и использует в
сравнительно коротком произведении все четыре вида метров, опи*
санных в индийских трактатах по поэтике j[342, с. 102].
Жанр панегирика государю просуществовал до XIV в., и
последние образцы его, написанные довольно правильными метрами,
но, по выражению X. Керна, на «тарабарском санскрите» [384,
с. 252], встречаются'в надписях Адитьявармана из Букит Гом*
бака и Кубур Раджи ,Г384, с. 271; 311, с. 197].
В ранней эпиграфике Суматры и Малаккского полуострова
не встречаются гимны богам махаянского пантеона. Однако
славословия Таре, высеченные на стеле из Каласана по приказу
яванских Шайлендр, \Г420, с. 122], а также восхваления тантрических
божеств Матангини и Матангиниши и воспетый в санскритской
стихотворной надписи Адитьявармана их священный эротический
танец подтверждают, что подобные гимны могли существовать
[420, с. 122; 311, с. 193—195].
Вот характерный фрагмент из упомянутой надписи:
«В золотых чертогах, украшенных небесными девами, среди благоухающих,
словно лотосы, деревьев девадару, чья прелесть преумножена гомоном птиц и
играми резвящихся слонов, Матангиниша плещется в божественном пруду»
Повелитель дайтьев, божеств и видьядхаров, владыка небесных нимф,
пляшущих под неумолчное жужжание пчел, Матангиниша, переполненный
безграничным восторгом, движется в изящном танце.
Он, рассеявший одиночество Матангини, друг гандхарвов Хаха и Хуху, кра?
сотой, преуспеянием и благостью подобный полной луне, приняв облик Джины
(Будды.—Б. Б.), снизошел на землю и нарекся Удаявармагуптой — повелителем
земных владык» [311, с. 193—195].
41
Среди эпиграфических памятников XIV в. сохранилась также
краткая поэма на санскрите из Суровасо, в аллегорической
форме описывающая кровавое тантрическое жертвоприношение
Адитьявармана. В этой поэме площадка для сожжения трупов
уподоблена высокому царскому трону, а груда тел, сгорающих на
погребальных кострах,— мириадам цветов, распространяющих окрест
невыразимое благоухание [311, с. 95—96].
Наконец, эпиграфика позволяет предполагать существование в
Шривиджайе юридической литературы. Упоминание о Ману в ли-
горской стеле, быть может, указывает на знакомство с «Ману-
смрити» («Законы Ману»), широко известными в Юго-Восточной
Азии [314, с. 254], а некоторые надписи, в особенности текст на
каменной плите из Телага Бату, представляющий собой перечень
преступлений по отношению к трону и лиц, совершающих эти
преступления [310, с. 42—46], .показывают, что шривиджайские
юридические сочинения могли быть написаны не только на санскрите,
йо и на древнемалайском языке. Кроме того, учитывая, что
морская торговля составляла основу шривиджайской экономики,
кажется маловероятным отсутствие в Шривиджайе кодекса морского
права типа позднейшего малаккского кодекса [169]. Не
исключено, что описанное в одном из китайских источников
преследование флотом Шривиджайи иностранных торговых судов, стремив-
щихся миновать порты этого государства и тем самым избежать
уплаты пошлины [85, с. 62], и представляло собой наказание за
царушение статьи такого кодекса.
Сочинения китайских, арабских и шри-ланкийских авторов
позволяют составить некоторое представление еще об одном
функциональном жанре шривиджайской литературы — историографии.
с- Одной из предпосылок раннего появления в малайском мире
исторических сочинений была, по-видимому, преимущественно
буддийская ориентация древнемалайской культуры. Такие
особенности, буддизма, как институт церкви и миссионерский характер
этой, религии, предопределили большую, нежели индуистская,
доощь буддийской исторической традиции, с необходимостью
вырастающей из комментаторской литературы. .Первоначально уделяв-
шие> основное внимание религиозной истории — жизни Будды и
распространению его учения — комментаторы сакральных текстов
^ля.облегчения хронологической ориентации включали в свои
сочинения генеалогии и даты правления государей Магадхи,
сведения об их отношениях с буддийской сангхой и т. п., составившие
ядро позднейшего изложения истории политической. Обе линии —
религиозная и политическая — переплелись в хрониках — жанре,
Существовавшем у всех народов буддийской культуры (на Шри
Ланке, в Тибете, Бирме, Таиланде и т. д.), который с течением
Ьремени впитал популярные местные мифы и легенды о прошлом,
повествования о героических деяниях правителей и всевозможных
примечательных событиях.
Другой предпосылкой развития шривиджайской историографии,
по-видимому, послужило существование в малайских государствах
42
придворных канцелярий и архивов. Об архиве Фунани —
государства, включавшего значительную часть Малаккского полуострова,
сообщает китайский посланник, посетивший Фунань в III в. |[434,
с. 254]. О шривиджайской канцелярии, в которой хранились
важные государственные документы, в частности копии царских
надписей на камне, имеются сведения в шри-ланкийской эпиграфике
[430, с. VI—VII] 10.
Самое раннее и до последнего времени единственное
упоминание о шривиджайской историографии содержится в заметках
арабского автора начала X в. Абу Зайда |Г272]. В них со ссылкой на
«анналы Шривиджайи» повествуется о безрассудном желании
молодого правителя кхмеров «увидеть на блюде голову махараджи
Забага (арабское название Шривиджайи.— В. 5.)», -внезапном
нападении махараджи, узнавшего об этом, на страну кхмеров,
захвате им столицы и казни незадачливого короля,
набальзамированная голова которого была в назидание вручена его наследнику.
Хотя, как уже справедливо отмечалось, этот рассказ едва ли
следует рассматривать как подлинное описание истории)[314, с. 93]у.
историчность его ядра весьма вероятна. Против Камбоджи был,
возможно, направлен один из походов шривиджайского правителя
VII в. Джаянаши [313, с. 23—321. О нападениях малайцев в
IX в. на государства Индокитая, в том числе и на страну кхмеров,
упоминается в эпиграфических памятниках, сообщающих о
разрушении святилищ «людьми, пожирающими пищу более страшную,
чем трупы» [314, с. 91]. Войны с Камбоджей, судя по шрй-лан-
кийской эпиграфике, продолжались и в X в. [431, с. 205—212].
Интересно, что даже достоверность эпизода об обезглавленном
правителе кхмеров находит некоторое, хотя и довольно смутное,
подтверждение в одной из кхмерских надписей Г314, с. 101—102].
Фрагмент «анналов Шривиджайи», несколько напоминающий
по характеру сюжета рассказ о пленении раджи северосуматран-
ского государства Самудра по приказу правителя Сиама из
«Малайских родословий» [140, с. 65—68]-, вызывает также
определенные ассоциации со стилем исторического повествования,
характерным для этого произведения мусульманского времени. Так, напри*
мер, в обоих произведениях военные, по существу, эпизоды
(бегство палембангского правителя с его флотом после захвата города
яванцами [140, с. 30—36; 531, с. 91, 121—127] и нападение на
страну кхмеров [272]) изображаются как морская прогулка
государя. Концовка рассказа о победе над кхмерами, прославляющая
махараджу Забага (Шривиджайи):
«И когда весть об этом достигла слуха государей Индии и
Китая, махараджа Забага возвысился в их глазах:», до некоторой
степени напоминает пассаж о величии Малакки и ее раджи из
«Малайских родословий»:
«И от подветренных до наветренных стран разнеслась весть о том, что Ма-
лакка — великое и процветающее государство и что раджа его, происходящий из
рода Искандара Зу-ль-Карнайна, отпрыск Нуширвана Адила, владыки востока,
и запада. И все раджи прибывали в Малакку, дабы предстать пред Мухаммад-
шахом» [140, с. 90].
43
Подобные завершения повествований о важных исторических
событиях вообще характерны для малайских хроник11. Однако не
вполне ясно, отражают ли эти черты стилистического сходства
близость «Щфивиджайских анналов» и исторических сочинений
мусульманского периода или же объясняются тем, что фрагмент
анналов сохранился в пересказе автора-мусульманина. Не меньшую
трудность представляет и вопрос о том, влиянию буддийской
традиции или же мусульманской передачи следует приписать,
пожалуй, несколько чрезмерный для стиля позднейших малайских
хроник дидактический элемент, свойственный рассказу из «анналов».
Открытие шри-ланкийского ученого С. Паранавитаны
подтвердило существование в Шривиджайе исторических сочинений [432].
.Среди памятников эпиграфики Шри Ланки С. Паранавитана
обнаружил изложение диспута о сравнительной надежности
цейлонской хроники «Махаванса» и шривиджайской хроники «Суварна-
пураванса», имевшего место в 1173 г. в королевском дворце в
Полло'ннаруву. Один из участников этого диспута — Буддхаприя-
стхавира, ученик Ананда-стхавиры, прибывшего на Шри Ланку из
Шривиджайи,— отстаивая достоверность «Суварнапуравансы»,
завершенной в XI в., привел ее краткий поглавный пересказ,
естественно уделяя особое внимание событиям, нашедшим отклик в
истории Цейлона. Судя по этому пересказу, «Суварнапураванса»
излагала исторические события от введения буддизма на
Суматре до изгнания из Шривиджайи захвативших ее тамилов и
возведения на престол государства Чолов шривиджайского
ставленника Кулоттунги. Особый интерес представляет замечание Буддха-
прии о том, что первоначально шривиджайская хроника была
написана на малайском языке, а затем переведена на санскрит,
пали, тамильский и сингальский.
Описание функциональной сферы шривиджайской литературы
останется неполным без краткого обзора тех, к сожалению, весьма
скудных сведений, которые сохранились о ее создателях.
Одной из центральных фигур функциональной сферы,
насколько можно судить по ее реконструированному жанровому составу,
являлся придворный историограф-панегирист типа древнеяванско-
го кави или позднейшего яванского пуджанги, деятельность
которых была сакрализована ,1290; 291, с. 13—89] 12. Важной функцией
кави было использование сокровенной силы слова для
укрепления магического могущества обожествленного правителя (дева-
раджи), служившего залогом процветания государства. Такое
магическое укрепление могущества, по представлениям общества,
верящего в сверхъестественное влияние слова и словесных
произведений («литературную магию»), могло достигаться как
благодаря прямому приписыванию правителю определенных свойств, так
и при помощи отождествления государя с богами и героями,
воплощением которых он якобы являлся или в мистический союз с
которыми вступал. Примером первого рода может служить
панегирик лигорской стелы, примером второго — последовательное
уподобление королевы Шривиджайи по имени Тара — Пауломи, Рати
44
Парвати и Таре в надписи из Наланды ([311, с. 160—161] или
скрытое отождествление Адитьявармана и его супруги с Матанги-
ни и Матангинишей в надписи на спине статуи Амогхапаши )[311,
с. 95—96].
По-видимому, подобного рода историографы-панегиристы — в
реальности могли существовать различные категории их —
упоминаются в одном из памятников эпиграфики времен
Адитьявармана:
«Благосклонность, милосердие, умиротворенность, радость счастью других,
^готовность оказать помощь ([всем] существам — таковы твои добродетели.
Ты, о государь,—государь добрых верований, которые останутся жить в
«сочинениях поэтов» [384, с. 271].
Память об институте панегиристов-историографов сохранили
«Малайские родословия». В содержащемся в них рассказе о
нисхождении на гору Сегунтанг Махамеру в окрестностях Палембан-
та (Шривиджайи) основателя малайской государственности Санг
Супарбы {[140, с. 24] (по другой версии —Санг Утамы [164,
с. 56]) повествуется среди прочего о том, что волшебный, цвета
серебра ездовой бык государя (по другой версии — бык,
принадлежавший двум женщинам, первыми увидевшими Санг Утаму
[164, с. 56]) отрыгнул пену, из которой «вышел человек по имени
Бат», восславивший государя в панегирике, давший ему титул
Сери Тери Буана и скрепивший его брак с Ван Сендари —
дочерью местного вождя. Текст «восхвалений Бата», содержащийся
в древнейшей версии «Малайских родословий», представляет собой
:панегирик, написанный на сильно искаженном санскрите, и в
целом весьма близок к шривиджайским поэмам, известным по эпи-
трафике:
«Слава его величеству Шри Махарадже, повелителю всей Суварнабхуми, чья
жорона украшена счастьем мощи и победы... украшение трех миров... закон...
прибегают к покровительству... трон... солнечный восход драгоценного камня
мужества... с богами и демонами... до времен уничтожения Вселенной, венец правед-
.ных государей, государь — верховный повелитель» [69, с. 15].
Титул, аналогичный бату, неизвестен в древнемалайском мире.
Однако в Гуджерате, области Индии, издавна поддерживавшей
тесные торговые связи с малайскими государствами и сыгравшей
важную роль в их мусульманизации, бхаты составляют
профессиональную касту бардов и панегиристов, претендовавших на
полубожественное происхождение 1401, с. 90—93]. Историк Индии
Абу-ль-Фазл сообщает, что согласно традиции они произошли из
позвоночника Махадео (Шивы), однако чаруны — члены
профессиональной касты, существующей также в Гуджерате и
функционально аналогичной касте бхатов,— считают, что они были
сотворены из пота со лба Махадео, поручившего их впоследствии
заботам своего быка Нанди. Эта версия не может не вызвать
ассоциаций с рассказом из «Малайских родословий».
В обязанности бхатов входило составление так называемых
45
вье — генеалогий знатных семей, включавших хвалебные поэмы в
адрес их членов. Так как вье являлись важными документами,
удостоверявшими ранг владельцев, то бхаты, скитаясь от одного-
покровителя к другому, должны были вести учет бракам,,
смертям, рождениям и другим важным событиям в жизни семьи
патрона.
Нетрудно заметить, что функции бхатов близки функциям Бата
из «Малайских родословий» и во многом аналогичны задачам
упомянутых панегиристов-историографов и древнеяванских кави1Ъ.
По-видимому термин бат заместил в «Малайских родословиях»
какое-то обозначение придворного шривиджайского поэта.
Появление термина-заместителя, сохранившего связь с индийской
культурой, может быть объяснено удобной для автора-мусульманина
ассоциацией Гуджерата с исламом. Возможно, не случайно
единственным атрибутом Бата в поздней версии «Малайских
родословий» является тюрбан '{140, с. 24].
Другим носителем письменной культуры Шривиджайи,
имевшим отношение преимущественно к ее деловой сфере, был писец —
каястха, упомянутый в надписи из Телага Бату [310, с. 32]. Круг
его функций не вполне ясен. В Индии термином каястха
обозначались представители особой профессиональной касты, в которую
входили дети отца-кшатрия и матери-шудры, выполнявшие
разнообразные чиновничьи функции канцеляристов, судебных писцов,
составителей различных документов и т. д. [219, с. 148, 174; 227г
с. 200]. Так как начиная с IV в. санскрит часто использовался
для ведения придворной документации, то в обязанность каястха
входило знание этого языка, причем для облегчения их работы
существовали специальные образцы писем, судебных
постановлений и т. п./[219, с. 174] и.
На Яве каястха, возможно, обладали сакральными
функциями15. В шривиджайской надписи из Телага Бату'термин каястха
включен в' перечень светских функционеров, однако характерно^
что, как и в яванской эпиграфике, он идет в паре с архитектором-
скульптором (стхапака), который назван первым среди духовных
лиц, хорошо знающих веды [442, т. 1, с. 62—63], и является скорее
жрецом, дающим указания мастерам, нежели собственно
ваятелем ([310,.с. 37]. '.- -
Данные эпиграфики свидетельствуют о том, что социальный
статус каястха в Шривиджайе был весьма высок, и не исключено,
что они, зная санскрит [344, с. 63; 311, с. 46], выступали в
качестве составителей не только обыденных документов, но и
утонченных посланий,- подобных упоминавшемуся письму правителя.
Гандьоли китайскому императору, представление о стиле
которого дает такой фрагмент:
^ «Его (императора — В. Б.) подданные пребывают в благе и согласии;
истинный закон возродил их к новой жизни, и счастье ее переполняет все окрест,
подобно талым водам, стекающим со склонов одетой снегом горы, которые, свежие-
и прозрачные, разбегаются во все стороны ручьями, но [в конпе концов! должным?
лутем изливаются в море» [344, с. 61—62].
46
Важными центрами санскритской литературы и учености
являлись монастыри Шривиджайи, по самому своему положению в
социальной системе выступавшие, по-видимому, своеобразными
посредниками между элитарной и массовой сферами культуры.
Однако, хотя монастыри на Суматре продолжали строиться еще
в XIV в.16, со времен И-цзина мы, по существу, не имеем
никаких данных о научной и литературной деятельности шривиджай-
ских монахов.
3. ЖАНРЫ НЕФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Состав и предназначение памятников функциональной сферы
древнемалайской литературы свидетельствуют о том, что они
представляли собой письменные сочинения. Сложнее
реконструировать ту форму, в которой бытовали малайскоязычные
произведения нефункциональной сферы. Не исключено, что нарративные
сочинения, входившие в нее, начали письменно фиксироваться еще
;в древнемалайский период, по крайней мере в конце его, когда
роль местных элементов в малайской культуре существенно
возросла. Более вероятно их функционирование в домусульманское
время в устной форме. В любом случае дополнительность фоль-
гклора по отношению к литературе в средние века и
функционирование фольклорных произведений в сфере высокой культуры —
хранительницы письменных традиций [224, с. 46] позволяет
рассматривать эти произведения в рамках описания литературной
системы, независимо от формы бытования, тем более что, как
показывает изучение малайской мусульманской литературы,
представлявшей собой своеобразный устно-театрально-письменный
континуум, граница между устной и письменной формами
бытования повествовательных (нарративных) жанров и в последующее
время нередко оставалась довольно расплывчатой, <и отдельные
.^произведения довольно легко «пересекали» ее как в одну, так и
:в другую сторону.
Важнейшим произведением, исследование которого проливает
•свет на характер нефункциональной сферы древнемалайской
литературы, является малайская версия «Рамаяны», дошедшая в
рукописях уже мусульманского времени под названием «Повесть о
Сери Раме» )[46]. Наряду с ней, возможно, еще в домусульманский
период начали появляться беллетристические сочинения типа
«Повести о Маракарме», «Повести о Паранге Путинге», «Повести о
Лангланге Буане» ,[196, с. 72—73; 394, с. 106—110; 199, с. 19—22,
72, 143], также сохранившиеся в арабографической традиции.
Наконец, два эпизода, близкие по характеру к цельным
литературным произведениям, обнаруживаются в древнейшем памятнике
малайской мусульманской историографии — «Повести о
раджах Пасея» ,f84], созданной в конце XIV — начале XV в.
(см. гл. II). Первый из них — история царевича Туна Браи-
жа Бапы, второй — рассказ о любви маджапахитской царевны к.
47
его брату Абд аль-Джалилу. Зрелость нарративного стиля
позволяет видеть в этих эпизодах результат длительного развития
традиции, начавшегося задолго до распространения в Пасее ислама;
при этом история Туна Браима Бапы свидетельствует о том, что
в нефункциональной сфере древнемалайской литературы,
возможно, были представлены не только волшебно-романические
произведения, но и богатырские сказания, основу которых составлял
конфликт преданного вассала и несправедливого сюзерена.
Повесть о Сери Раме. Полный текст «Повести о Сери
Раме» особенно сильно отличается от санскритской эпопеи Валь-
мики в своей начальной части [524; 285].
В ней чудовищный великан (раксаса) Сиранчак (искаж. санскр. Хираньяка-
шипу, или Хираньякша,— один из привратников Вишну, которого проклятие
обрекло трижды родиться демоном) встречает юную красавицу, преисполняется к:
ней страстью, но едва лишь хочет обнять девушку, как та скрывается из глаз.
Сиранчак догадывается, что в образе этой девушки воплотился Махабисну
(Вишну), клянется ему отомстить и предается подвижничеству, чтобы вымолить у
верховного божества (Великого и Преславного бога) сокровенную силу,
необходимую для войны с Махабисну. Удалившись в лес, Сиранчак соблазняет семерых,
спрятанных в дуплах деревьев жен отшельника Бегавана Биспарупана, за что-
Махабисну, одолев демона низвергает его в недра земли ниже седьмой земной
сферы. Возвратившись на небеса, Махабисну объявляет, что через двенадцать
лет подвижничества Сиранчак вновь возвратится на землю и вступит с ним в-
бой. Поэтому Махабисну верхом на Золотой Паве, которая в следующем
рождении станет его женой Ситой Деви, сопровождаемый небожителями (будущими;
военачальниками) и драконом Нагой Пуспой Перталой Сегандой Дэвой
(которому суждено превратиться в волшебную стрелу), нисходит на землю и также
собирается предаться аскетическим подвигам. Однако прежде по его просьбе
Великий и Преславный бог превращает цветок чемпаки в брата и сподвижника
Махабисну— Кисну Дэву (будущего Лаксаману), вместе с которым они воплотятся?
в семье могущественного государя Дасараты Махараджи.
Меж тем Сиранчак под землей горько сетует и помышляет лишь о мести. Ore
отрезает одну из своих голов, делает из головы, пальцев и руки скрипку и
двенадцать лет на ней играет, за что очарованный прекрасной игрой Великий и
Преславный бог возвращает его на землю. Сиранчак отправляется на поиски своих
братьев и сестры и вместе с ними собирается воплотиться в семье государя Бер-
мараджи. У государя Бермараджи, правителя Индрапуры, семеро сыновей, один
из которых по имени Читрабаха — великий воин. Государь посылает его на бой
с раксасой Дати Куачей, он побеждает раксасу, женится на его дочери, и та от
Читрабаху рождает сына, которого вынашивала 100 лет,— демона Равану. За
жестокий нрав Бермараджа изгоняет Равану из своей страны и, посадив в
лодку, отправляет на гору Серендиб (т. е. на Ланку). Равана посылает родителям три
цветка лотоса, они съедают их, и жена Читрабахи рождает братьев Раваны —
Кумбакарну и Бибисанама, а также его сестру Суру Пандаки.
Поселившись на горе Серендиб, Равана вновь предается строгому
подвижничеству, вися вниз головой на дереве. Через двенадцать лет, сжалившись над ним,
Аллах посылает к Раване пророка Адама, который спрашивает, чего тот хочет.
Равана просит даровать ему власть над четырьмя мирами — градом небожителей,
океаном, подземным царством и сушей — и получает ее при условии, что будет
справедливо ими повелевать. От царевен трех миров у него рождаются сыновья:
Индра Джата, Патала Махарани и Гангга Махасура. Сам же Равана основывает
на земле (на острове Ланка) город Лангкапури, воцаряется в нем, и все земные
страны признают его власть. Лишь Индрапура, Бирухаса, Лагур Катагина,
столица обезьяньего царства, и Испаха Бога, где властвует Дасарата Махараджа,,
ему не подчиняются [285, с. 532—543].
48
Далее следует рассказ о рождении Рамы (аватары Махабисну) и Ситы. С
этого места произведение в большей степени следует обычному сюжету «Рамаяны»,,
повествуя о брачном испытании Рамы, его женитьбе на Сите, похищении Ситы
Раваной, борьбе царевича и его союзников — обезьян с демоном и победе над,
ним 038; 135].
Наряду с «Повестью о Сери Раме», сохранившейся примерно
в двадцати списках Г301, с. 147—151], известны также заметна*
отличающаяся от нее литературная версия «Повесть о Махарадже
Раване» ([115а], версия, разыгрываемая в малайском теневом
театре ваянг сиам, «Сказание о Махарадже Ване» )Г488, с. 89—127]
и некоторые другие.
Изучение рукописей «Повести о Сери Раме» показало, чта
«праверсия» этого произведения формировалась в устной
традиции и была обязана своим происхождением не столько
классической «Рамаяне» Вальмики, сколько более фольклорным по
характеру редакциям этого эпоса, бытовавшим в Восточной, Западной к
Юго-Западной Индии17.
Последнее подтверждается множеством разнообразных по
своему генезису повествовательных мотивов, впитанных
малайской повестью [534, с. 107—114; 285]. Таким образом, процесс
формирования этого памятника несет на себе отпечаток не (высокой,
ученой санскритизированной среды, а скорее набирающей силу
массовой культуры, тесно связанной, в частности, с индийскими
кварталами малайских городов-государств.
Один из ранних этапов эволюции устной «праверсии»
зафиксирован на рельефах яванского храма Прамбанан (IX в.).
Дошедший до нас полный текст «Повести о Сери Раме», пересказан-
ный выше, не мог появиться ранее XIII в., так как в нем
содержится эпизод о Сиранчаке, обязанный своим происхождением
санскритскому сочинению «Бхагаватапурана», созданному в XIII в.
Хотя старейший список повести (MS. Laud Or. 291) датируется
первой третью XVII в., ее популярность в Малакке XV в., быть
может, позволяет предполагать, что письменную форму известная
нам версия приобрела между XIII и XV вв.
Существование единого письменного прототипа, к которому
так или иначе восходят все сохранившиеся списки «Повести о
Сери Раме», доказали текстологические разыскания, проделанные
голландским ученым (работавшим в Австралии и ФРГ) Л. Бра-
келом. По его мнению, устная «праверсия» повести,
сохранявшаяся в репертуаре теневого театра ваянг по крайней мере до XIII в.,
«была письменно зафиксирована в форме пураны (?) или лако-
на (?) или комбинации того и другого», которая и «послужила
прототипом „Повести о Сери Раме", когда во второй половине
XIV в. последняя была создана в Пасее» i[301, с. 153]. Пасейская
повесть представляла собой классического рода хикаят «с
фиксированной структурой, разбивкой на главы и цитатами на
персидском языке» [301, с. 150] 18.
По-видимому, главенствующей ролью буддизма в древнемалай-
ских государствах объясняется тот факт, что из двух великих ин-
4 Зак. 147
49
дийских эпосов именно «Рамаяна» оказала глубокое воздействие
на малайскую литературу и фольклор, особенно ощутимое в
традиционной историографии мусульманского времени и
волшебно-романических повестях (хикаятах). Местные версии «Рамаяны»
были распространены во многих странах, где исповедовался
буддизм,—на Шри Ланке, в Тибете, Таиланде, Бирме, Монголии
'и др. [206, с. 186—191; 207а, с. 80], в то время как на культуре
индуистской по преимуществу Явы сильнее сказалось влияние
«Махабхараты». Можно предполагать, что большая
привлекательность «Рамаяны» для буддистов была связана как с
отождествлением Будды и Рамы в «Дашаратхаджатаке» (Я был тогда Рама-
пандитой), обнаруживающей ряд важных схождений с малайской
«Повестью о Сери Раме» )["485, т. I, с. 105—108], так и с
индуистской традицией о Будде как аватаре Вишну i[4Ô4, с. 69].
Восприятие же повестью индуистских мотивов облегчалось прежде всего
синкретическим характером малайского и яванского
тантрического буддизма, особенно влиятельного на Суматре именно в XII —
"XIV вв. и еще в X в., судя по яванскому сочинению «Санг Хьянг
;Камахаяникан» i[310, с. 98], включившего в свою систему
мироздания индуистскую троицу. Интересно, что глухие отголоски
тантризма могут быть прослежены в самой малайской «Рамаяне»
((как и в некоторых позднейших повестях), в частности в эпизоде
о нисхождении Рамы в преисподнюю и в упоминании о
волшебном мече Раваны — Чандрахаее [534, с. 99].
Кроме того, XIII—XIV века представляют собой период
интенсивного яванского влияния на малайский мир, который не только
оказался втянутым в политическую орбиту яванской империи
Маджапахит, но и испытал глубокое культурное воздействие Явы
(ср. [247, с. 83—84]) 19. В частности, именно в это время
яванские сказания о странствующем рыцаре и покорителе женских
сердец Панджи дают знать о себе в малайской литературе, о
чем свидетельствует беллетристическая вставка из «Повести о
раджах Пасея», в которой повествуется о любви маджапахитской
принцессы и пасейского царевича.
Контакты с яванской культурой, по-видимому, усилили
индуистские элементы, существовавшие в самой древнемалайской
традиции, но до тех пор несколько отодвинутые на периферию, и
способствовали включению индуистских мотивов в «праверсию»
«Повести о Сери Раме» и росту ее авторитета в малайской
словесности. Вместе с тем размывание границ высокой санскритизирован-
ной культуры Шривиджайи культурой массовой, опирающейся как
на местный этнос, так и на торгово-ремесленную индийскую
среду в малайских городах-государствах, также стимулировалось
воздействием Явы, на которой аналогичный процесс, как можно
полагать, зашел к этому времени дальше. Достаточно вспомнить о
моде на поэзию в народном стиле при дворе маджапахитского
правителя XIV в. Хаяма Вурука, о сильнейшем влиянии местной
традиции в архитектуре восточнояванских храмов XIII—XIV вв. и
[Шзднемаджапахитской скульптуре, о бесчисленных театральных
50
представлениях и выступлениях сказителей на праздниках в
столице Маджапахита и т. д. [438, т. 4, с. 135, 514].
Характерно, что не столько буддизм, вероятно
представлявшийся обыденному сознанию малайцев, как и яванцев, чуждой
религией элиты, сколько индуизм и синкретизированные с ним
культы с их более мощной (часто типологически близкой к местной)
мифологией и связанной с ней пластичностью и «нарративностью»
мировосприятия воздействовали на формирование массовой
малайской литературы и культуры. При этом интересно отметить,,
что в традициях как яванской (какавин «Рамаяна»), так и в
малайской (устная «праверсия») сказание о Раме выступает
первым в собственном смысле слова литературным произведением на
местном языке, однако если на Яве оно знаменует раннее
превращение древнеяванского языка в язык высокой
аристократической культуры, то в малайском мире может служить
предвестником той сниженной городской культуры, которая составит основу
о 9П
цивилизации малайских мусульманских султанатов .
Реконструировать характер бытования произведений в
нефункциональной сфере древнемалайской словесности помогают
недавние исследования, посвященные «Рамаяне» в живой традиции:
малайского теневого театра ваянг кулит, распространенного в.
султанате Келднтал '[488]. Данные этих исследований
представляют особый интерес в связи с гипотезой о ваянговом
происхождении «Повести о Сери Раме» [488, с. 260; ср. 247, с. 86] и
бесспорным влиянием ее, по существу, на всю малайскую
беллетристику.
Судя по келантанской традиции, цикл Рамы представлялся
малайцам своего рода «деревом», имевшим наряду со сказанием-
стволом — относительно стабильным основным сюжетом — также
сказания-ветви, сказания:листья, сказания-цветы — зыбкую и
подвижную периферию, образуемую рассказами о более поздних или
менее значительных приключениях героев и их потомков. В
отличие от сказания-ствола эти сказания, как правило, не
претендовали на историческую достоверность и часто «придумывались»,
точнее, конструировались отдельными далангами (кукловодами).
Порой «придуманные» пьесы канонизировались и, становясь общим,
достоянием кукловодов, приобретали более стабильную форму
[488, с. 264—272].
Предпосылкой подобного конструирования является выделение
на одном полюсе традиции некой совокупности повествовательных
мотивов, постоянно пополняемой далангом из всевозможных
устных и письменных источников ( ср. вбирание различных по
происхождению мотивов сюжетом «Повести о Сери Раме»), а на
другом ее полюсе — набора композиционных приемов и схем,
позволяющих упорядочивать имеющийся в распоряжении материал,
организуя его в связное повествование ^[488, с. 263].
Эти схемы исторически возникали в процессе наложения
дополнительных жанровых и сюжетных ограничений на единую
композиционную структуру исходного «мономифа» \f206, с. 282—284],.
4*
51
зю-разному прочитывавшегося в социальном, природном,
земледельческом и тому подобных аспектах, и даже после
«выветривания» первоначальной сакральной семантики сохраняли память
о синтаксисе «мономифа», что облегчало их взаимную
отождествляемость. Так, включение в репертуар келантанского теневого
театра, основу которого составляла «Рамаяна», сказаний о Панд-
жи требовало лишь незначительных, главным образом мотивацион-
ных, изменений нового сюжета и идентификации функционально
близких героев |[488, с. 264—268], тем более что сама «Рамаяна»
в малайской среде, особенно в традиции профессиональных
сказителей (пенглипур лара, то селампит), все более
трансформировалась в любовно-романическое повествование, реализуя
потенции, заложенные еще в -классической версии. Столь же легко
мотивы «Повести о Сери Раме» переходили в другие сюжеты.
Например, эпизод о золотом павлине (трансформация гаруды
Вишну?), похитившем царевича Индрапутру и перенесшем его в сад
старухи Ненек Кебаян /[43, с. 10—11], скорее всего, восходит к
рассказу о золотом павлине, спустившем Вишну на землю в сад
<среди джунглей, где он предавался аскетизму перед воплощением
в образе Рамы ([285, с. 536, 537]. Тот же золотой павлин
присутствует и в «Повести о Лангланг Буане» i[82, с. 73—75] и других
малайских хикаятах. Можно привести множество подобных
призеров.
Варьирование и включение в текст все новых и новых мотивов,
заимствованных из различных источников и традиций (келантан-
ские даланги, например, черпали материал как из репертуара
сказителей, так и из литературных хикаятов), наряду с инверсиями
:мотивов в известных сюжетах, их контаминациями и
повторениями, осуществляющимися в рамках единой в конечном счете
композиционной схемы, обусловливали безграничные возможности
развития малайской беллетристики. При подобном подходе
отдельные словесные произведения оказывались как бы
композиционно идентичными, но сюжетно различными сгустками
«роящейся» традиции. Письменная фиксация, один из путей для
которой открывала повествовательная форма передачи репертуара от
учителя к ученику (а порой и запись репертуара учителя) ([488,
с 49—54], заметно ограничивала свободу дальнейшей
трансформации текста, -но, как показывают рукописи малайских хикаятов,
отнюдь не приводила к его полной стабилизации. Переписчик
почти всегда являлся и -соавтором.
Зарождение малайской беллетристики.
Текстологический анализ «Повести о Сери Раме» дает основание
предполагать, что сходная картина создания произведения и
дальнейшего обращения с ним была характерна для всей
нефункциональной, беллетристической сферы древнемалайской литературы по
крайней мере в поздний период ее существования.
Своими корнями малайская беллетристика уходит в фольклор,
где и сложился «прообраз» будущих классических повестей, их
52
«сюжетно-морфологический тип» [199, с. 132], послуживший
основой при восприятии внешних влияний. Судя по таким
произведениям, как «Повесть о Маракарме», «Повесть о Лангланге Буане»,
«Повесть о Паранге Путинге», возможно, лучше, чем другие
памятники мусульманского времени, отражающим этот «прообраз»,
древнейшие волшебно-авантюрные сочинения, несмотря на
разнообразие повествовательных мотивов, обладали довольно простым
и, что еще важнее, устойчивым, единообразным строем. Базу
композиционной структуры малайской беллетристики, по-видимому,
составлял местный вариант индонезийского мифа о сакральном
космическом браке женского и мужского .начал, ассоциируемых
обычно с водой и солнцем )[125, с. 93—97; 448, с. 448—454],
рождающем единство и упорядоченность Вселенной. В социальном
аспекте он выступал как священный рассказ о первой человеческой
паре, выпавших на ее долю испытаниях инициационного характера
и конечном воссоединении любящих, которое приводило к
основанию первого поселения, живущего установленным законом {451,
•с. 2—4].
В аспекте же «природном» этот миф истолковывался как
история вечного круговорота умираний и возрождений
растительности, смены сухого и дождливого сезонов (ср. [240, с. 340—355]).
Характер, содержание и функции названного мифа,
реконструированного в общих чертах под названием «мифа о Панджи» еще в
начале века |[450], были не так давно существенно уточнены на
основании параллелей с первобытной мифологией даяков нгаджу
Южного Калимантана [448, с. 445—454].
Даякские параллели, насколько можно судить, позволяют
также реконструировать исторические корни центрального мотива
малайской беллетристики — «темы пути», скитаний героя.
Восходящая к представлениям о переселении души умершего в страну
мертвых, что в типологическом плане было отмечено еще
В. Я. Проппом ([251], «тема пути», даже пережив значительнейшие
трансформации и семантические изменения (см. -с. 296—305), все
еще обнаруживает в некоторых повестях XVI—XVII вв.
определенные аналогии с шаманистской традицией, в частности той, что
зафиксирована в шаманских письменных досках даяков ибанов —
лапан турай \[234, с. 36]. Так, например, путь в волшебную страну
в «Повести об Индрапутре» [43, с. 72—77], как и путь в страну
мертвых в «описании» одной из папан турай, вначале пролегает
через долину, где растут прекрасные цветы. Далее Индрапутра
одолевает восемь гор, на каждой из которых обитают птицы своей
лороды. Подобно ему, душа умершего минует восемь холмов, на
которых растут деревья различных видов (всевозможные породы
птиц также упоминаются в папан турай, однако они обитают в
горах, расположенных на подступах к царству мертвых). При
этом, как и в «Повести об Индрапутре», один из этих холмов
оказывается звучащим, другой сверкает, «как зарница на закате»,
я т. д. Наконец, перенесенный джиннами через последнюю,
восьмую гору, Индрапутра достигает берега моря. За горами же в
^3
стране мертвых течет река Мандай, по которой душа продолжает
свой путь в лодке. Характерно, что оба текста совпадают не
только в общей «топографии» пути, но и во множестве частных
деталей.
На Яве эволюция исходного мифа вызвала к жизни повести о
Панджи, в малайском мире — древнейшие сказания, наследниками
которых являются устные волшебно-авантюрные черта пенгли-
пур лара (сказания «утешителей в печали») деревенских
рапсодов, сохранившие такие, вероятно, исконные элементы жанра, как
ведущая роль «семейно-брачной» темы, герой, от рождения
наделенный магической силой, архаический образ старухи Ненек Ке-
баян — посредницы между земным и небесным царством, не
менее старый мотив постройки волшебного корабля и плавания на
нем, географическая и этнографическая конкретность обстановки
>[199, с. 85, 97, 100—102, 121—122, 134—135]. Заслуживает
внимания то, что уже упоминавшиеся стадиально наиболее ранние
повести мусульманского времени демонстрируют «ряд
существенных типологических черт общности с жанром сказаний
„утешителей в печали", причем наиболее древние образцы хикайатов
(„Повесть о Маракарме" и др.— В. Б.) по ряду признаков
представляют собой как бы переходную ступень между двумя
жанрами» -[199, с. 132].
Под влиянием буддийско-индуистской концепции бесконечной
цепи рождений композиционная схема, развивавшаяся на основе-
местной мифологии, была переосмыслена в рассказ о
нисхождении божественного или полубожественного героя в мир, его
рождении — инкарнации в этом мире, жизни и подвигах в нем ,[286^
с. 153—192]. По-видимому, специфичной для домусульманскога
времени являлась двучленная композиционная конструкция, в
первой части дающая как бы краткую экспозицию жизни героя или:
героев в рождении, предшествующем тому, повествование о
котором составляет основное содержание произведения, излагаемое во
второй части. Подобная композиция, уже знакомая нам по
«Повести о Сери Раме», присуща также восприемникам словесности:
буддийско-индуистского периода — малайско-яванским
театральным повестям и ранним классическим хикаятам, отличающимся
многоходовой структурой сюжета21, а иногда, подобно более
архаичным в этом отношении черита пенглипур лара, обладающим
многоуровневой вертикальной организацией художественного
пространства 1[199, с. 72, 105].
Так, злоключения Маракармы [73] 22, который некогда был
«небожителем по имени Анкаса Дэва, безотлучно сидевшим у <ногг
Шивы» [196, с. 73], начинаются .после того, как, проклятый -богом
Инд-рой, он -вынужден родиться на земле. Героя «Повести оПаран-
ге Путинге» рождает дочь одного из небесных владык, по навету
изгнанная на землю [518, с. 62]. Индра Бумайя, главное
действующее лицо «Повести о Лангланге Буане», в прежнем воплощении
был раджей небожителей [82; 199, с. 105] и т. д.
Именно упоминания об инкарнации — наследии буддийско-ин-
54
дуистского прошлого — вызывали впоследствии особое
недовольство мусульманских переписчиков. Об этом свидетельствует, в
частности, древнейшая руко-пись «Повести о Сери Раме» (1633 г.):
копиист, который исключил из текста всю начальную часть,
предупредил о «пропуске всего, что не хорошо» Г285, с. 543].
Наконец, можно полагать, что гипотетические повести конца
древнемалайского периода характеризовались более точным
воспроизведением санскритской образной системы, чем позднейшие
сочинения. Некоторое представление о том, каков мог быть
характер этого воспроизведения, дает, например, описание поля боя в
«Повести о Маракарме», находящее близкие параллели в «Океане
сказаний» Сомадевы, в древнеяванской переработке части «Махаб-
хараты» — поэме «Бхаратаюддха» и в малайской «Повести о
победоносных Пандавах» (см. гл. IV).
В «Повести о Маракарме» говорится: «Поднялась тут в воздух пыль, мрак
-окутал ясное небо, так что ничего не стало видно... Горы трупов, подобные
холмам, выросли на поле боя, и головы полководцев катались по нему, словно
деревянные шары. Щиты убитых плавали, в море крови, подобно челнам.
Натыкаясь же на трупы слонов, они тонули, рождая печаль в сердцах всех, кто видел
это» (пер. Л. В. Горяевой).
В «Океане сказаний» мы находим такое описание: «В громадном озере поля
-битвы рдели подобные лотосам лица воинов, головы которых были снесены
метательными дисками, стремительными, словно дикие птицы. И казалась битва,
во время которой взлетали и падали обескровленные головы героев, игрой в мяч
бога смерти. Когда же спрыснутая кровью пыль осела, стало видно, как
яростно бьются бойцы на колесницах» [263, с. 255].
В «Бхаратаюддхе» рассказывается: «От взметнувшейся [к небесам] пыли все
вокруг окуталось мглой, вселявшей [в души] смятение. Наконец напитавшаяся
кровью пыль осела, и вновь стало светло. Когда мрак рассеялся, [показалось],
что кровь морем разлилась окрест. Усы убитых воинов, поверженных наземь,
казались морскими водорослями, [трупы] слонов и коней были подобны скалам, а
разбросанное там и тут оружие напоминало густые заросли пандануса» [122,
с. 23]. В «Бхаратаюддхе» встречается и мотив плавающего и тонущего щита [122,
с. 65].
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СФЕР ЛИТЕРАТУРНОЙ СИСТЕМЫ
Между функциональной и нефункциональной сферами древне-
малайской словесности, до определенной степени соотносимыми с
элитарной (аристократической) и массовой формами культуры,
хотя полностью и не тождественными им по социальной среде
бытования произведений, по-видимому, существовала определенная,
однако едва ли очень тесная взаимосвязь. Можно предположить
наличие нескольких каналов, по которым эта взаимосвязь
осуществлялась. Одним из них, вероятно, служили буддийские
монастыри и «братства» индуистских отшельников. Яванская литература
маджапахитского времени содержит достаточно фактов,
подтверждающих их посредническую роль [438, т. 4, с. 484—487; 535,
с. 159]. Облегчала проникновение санскритских по
происхождению образов, буддийских и индуистских сюжетов и
повествовательных мотивов в массовую культуру и распространенная на
древней Яве и на Бали традиция исполнения по различным празд-
никам классических поэм двумя чтецами, один из которых
репетировал оригинальный текст, а другой осуществлял его построфный
парафраз на разговорный язык J439, с. 176]. Не исключено^ что
подобная практика существовала в монастырях Шривиджайи иг
при дворах ее правителей. Посреднические функции также,
возможно, выполняли различные виды театра. Об одном из
театральных представлений, каким-то образом связанном с культом Амог-
хапаши, упоминается в эпиграфике Адитьявармана ;[470, с. 9].
Наконец, не менее, если не более, важной была в этом
отношении роль профессиональных сказителей, живших при дворе или
приглашаемых ко двору.
Институт придворных сказителей существовал в древней и
средневековой Индии. Они упоминаются в древнеяванской поэме
«Нагаракертагама» в связи с повествованием о грандиозном
религиозном празднике.
«(Царевичи) устроили всевозможные увеселения, дающие радость людям-,
Сказители (виду аманчангах), участники танцевальных драм (ракет) и певцы
выступали каждый день» [438, т. 3, с. 78].
Очевидно, репертуар этих сказителей в значительной степени:
состоял из различных сказаний о событиях древности |[438, т. 4,
с. 120, 514]. Влияние их традиции сказывается и в
древнеяванской историографии, например в историческом сочинении «Пара-
ратон» i[438, т. 4, с. 120].
К сожалению, данные о придворных сказителях в Шривиджайе
отсутствуют, однако предположить их существование позволяют
не только древнеиндийские и древнеяванские параллели, но и
упоминания о придворных сказителях в малайской литературе
мусульманского времени. Так, например, героиня «Поэмы о Кен
Тамбухан», объясняя супруге раджи причину своего опоздания,
говорит:
Кен Пенглипур я так долго внимала,
'Что веки смежились, и я задремала.
В речах искусна она небывало,
Историй и повестей знает немало [154, с. 8] .
Подобные упоминания позволили выдвинуть гипотезу о том, что
если устные сказания так называемых «утешителей в печали»
были созданы деревенскими сказителями, то во многом
аналогичные им литературные повести — хикаяты возникли в результате
записи текстов со слов придворных сказителей [428, с. 308].
Подтверждают эту, пожалуй, все же неоправданно универсальную
гипотезу как неизменные ссылки на «рассказывание», содержащиеся
в хикаятах, в том числе и в «литературных эпизодах» «Повести о
раджах Пасея», так и распространенная практика чтения хикая-
тов вслух собравшейся аудитории, как бы «сказывания по книге».
Судя по таким образцам жанра хикаятов, как «Повесть о Сери
Раме», «Повесть о Маракарме», «Повесть о Лангланге Буане»
и др., репертуар придворных сказителей мусульманского времени,
возможно, в определенной части восходил к репертуару их
предшественников шривиджайского времени.
56
* * *
Суммируя изложенные выше данные, древнемалайскую
литературу можно представить в виде системы из четырех
концентрических кругов. Если описать эту систему в порядке увеличения
их радиусов, то она будет иметь следующий вид.
I. Буддийский канон (на санскрите).
И. Комментарии и тексты, примыкающие к канону.
1. На санскрите: комментарии, учебные тексты, индийские
буддийские сочинения и поэмы («Кармавибханга», «Ган-
давьюха», «Лалитавистара», «Буддхачарита», «Джатака-
мала»).
2. На малайском языке: комментарии, учебные тексты.
III. Функциональная сфера.
1. На санскрите: местная религиозная поэзия — гимны
богам, панегирики обожествленным правителям, юридиче-
ческие сочинения («Манусмрити»),
2. На малайском языке: юридические сочинения (типа
надписи из Телага Бату), исторические сочинения («Сувар-
напураванса»),
IV. Нефункциональная сфера (тексты на малайском языке):
героико-эпические сказания (типа истории о Туне Браиме
Бапе), «праверсия» «Повести о Сери Раме»,
волшебно-романические произведения (типа «Повести о Маракарме»,
«Повести о Лангланге Буане», «Повести о Паранге Путин-
ге»), повести о Панджи.
Возможно, именно характер системы древнемалайской
литературы предопределил то, что в мусульманское время она была в
основном предана забвению. Письменные памятники, которые
могли бы сохраниться, принадлежали главным образом к
функциональной сфере и были в первую очередь замещены после
принятия малайцами ислама. Написанные обычно на санскрите, а не
на местном языке, они почти не оставили следа в позднейшей
традиции в отличие от памятников на древнеяванском языке,
наложивших заметный отпечаток на литературу исламизированной
Явы. Произведения нефункциональной сферы, в основном устные,
частично исчезли, а частично, трансформировавшись, вошли в
фольклор малайцев и в малайскую раннемусульманскую и
классическую литературу, где тесно переплелись с элементами
близких по духу яванских -произведений.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Термин «древнемалайская литература» используется в настоящей главе
для обозначения литературы малайцев домусульманского времени (ислам
распространяется в малайском мире с XIV в.). Как его синоним иногда условно
применяется и термин шривиджайская литература, образованный от названия
крупнейшего в малайской истории государственного 01бъединения Шривиджайя (VII—
XIII вв.)* Материалы для данной реконструкции пока все еще настолько
скудны, что заставляют также условно рассматривать всю реконструируемую
малайскую словесность периода индианизированных государств как некое единое
целое. К сожалению, в настоящее время автор не видит иной возможности.
57
2 Некоторые соображения о возможности существования древнемалайской
литературы и о проблеме ее языка ом. Ц2146, с. 9(1—93; 247, с. 3ô—i38].
* Секретарь знаменитого мореплавателя Чжан Хэ — Ma Хуань, знакомый с
Явой начала XV в., где еще господствовало индуистоко-буддийское государство^
Маджапахит, отмечал, что книги малаккцев чрезвычайно напоминают яванские
(т.е., вероятно, написаны шрифтом индийского происхождения на чем-то вроде
лонтара) [515а, с. 323]. Другой китайский источник, относящийся к 1537 г.,
прямо сообщает о том, что в Малакке использовалась индийская письменность {344,
с. 11216]. Эти сообщения хорошо согласуются с новейшими данными о том, что в
Малакку были перенесены культурно-религиозные традиции Палембанга, бывшей:
столицы Шривид1жайи {9311, с. 128—/Ш5].
4 Из работ на русском языке см. в первую очередь [211$; 2124, с. 15—iGl; 259;
261, с. 73—11031]. Следующая ниже типологическая характеристика средневековой
литературы основывается на результатах названных исследований.
5'В данном обзоре эпиграфики и литератур «старых народов» Юго-Восточной
Азии были использованы .материалы следующих исследований и публикаций: [3,13;
3114; ЗШ; 39в; 399; 400; 41Э; 31217; 360; 397; 4139; 5315; 469; 309; 310].
6 Первая надпись на местном языке появилась в Тямпе одновременно с
самыми ранними надписями на санскрите (в IV в.), однако затем в тямской
эпиграфике наблюдается перерыв до VI в. [3114', с. 48, 70].
7 Заслуживает внимания тот факт, что самая ранняя рукопись на древне-
яванском языке, датируемая XIV в. и содержащая какавин «Кунджяракарна»,
происходит не с Бали, а из Черйбона на Западной Яве.
8 Ассоциации с буддийскими произведениями' вызывают также некоторые
описания в фольклорных сказаниях (так называемых черита пенглипур лара),
которые встречаются, например, в «Радже Донане», «Радже Ам:бонге», «Повести
о Радже Муде» i|jll65, с. 1—(2].
9 Грамматические ошибки в панегирике [343, с. 102], а также использование
для его записи архаического варианта шрифта кави [3110а, с. 31—132] позволяют
предполагать, что автор текста лигорской стелы был местным уроженцем.
1Ю Я. де Каспарис отмечает, что именно в канцеляриях правителей на
«хрупких», писчих материалах составлялись юридические документы, которые затем
переносились резчиками на камень [3ll0a, с. 5].
11 Ср., например, {'140, с. 163] или (Ш2Б], где в конце одного из рассказов
приводится такое описание величия правителя Нагара Дипы (Банджара) : «...
владыка Сукаданы, владыка Самбаса, вожди Батанг Лавай и Кота Варингина,
государи Пасира, Кутея, Карасикана и вожди Барау—все признали верховную власть
Махараджи Сурьянаты из Нагара Дипы. Даже повелитель Маджапахита, хотя
Маджапахит и был великим государством, благоговел перед Махараджей Сурь-
янатой, ибо (сверхъестественное.— В. Б.) происхождение его и его супруги было
не таково, как происхождение раджей других стран. Оттого-то владыка
Маджапахита и испытывал перед ним почтительный трепет» [125, с. 326—328].
Упоминания о величии Банджара и его раджи заключают многие эпизоды этой
хроники, являясь композиционно важной формулой (юм. [125, с. 236—233, 255, 262.,
2190, 3212', 442 и ел.]). Интересно, что повествование о благоденствии Нагара Дипы
и о множестве купцов, устремившихся в ее гавань после того, как в ответ на дары
правителя этой страны китайский император послал в нее мастеров,
изготовивших статуи божеств [125, с. 2154'—0612], чрезвычайно напоминает сохраненный в
«Истории лянской династии» рассказ посланцев Гандьоли о таинственном
предсказании процветания их страны и стократном преумножении числа купцов,
посещающих ее, в случае посылки даров императору [344, с. 60—6)1]. Возможно,
рассказ посланцев Гандьоли в какой-то степени отражает стиль древнемалайских
сочинений, в частности хроник.
12 iC течением времени К. X. Берг все более абсолютизировал свои взгляды
на «литературную магию» и функции пуджанг как жрецов «литературной
магии». Эта абсолютизация подверглась критике в работах многих ученых
(>Ф. Д. К. Босх, Т. Пижо, Ш. Даме, Я. де КаСпарис, П. Зутмюльдер и др.). Наи-"
более приемлемым представляется изложение идей К. X. Берга с теми поправками
и оговорками, которые были сделаны П. Зутмюльдер ом в его книге [536, с. 165—
173].
58
1,3 По-видимому, кави нередко сопровождали государя в военных походах
Ï535, с. 249]. Подобно им, бхаты также следовали за войском, .исполняя на марше
и перед сражением песни, вселявшие боевой дух и побуждавшие воинов
подражать подвигам предков [40|1, с. Ш—99].
14 Сатира на сословие каястха, написанная выдающимся индийским поэтом
Кшемендрой, показывает, что по -крайней мере в Кашмире XI в. представители
высших рангов этого сословия занимали значительные, посты, являясь «главными
администраторами по части внутренних дел», ведавшими военными и
религиозными вопросами {2166<, с. 2817].
15 В надписи IX в. из Кеду [487, с. 817] этот термин стоит в списке духовных
лиц, присутствовавших при дарении поля погребальному храму, после жреца-
астролога (джатака), инспектора храмов (мархьянг), но перед помощником
жреца (упакалыга).
116 Так, например, одна из надписей Адитьявармана сообщает об основании
«великолепной вихары, снабженной всем, чего только может пожелать сердце.
Никто не должен нарушать покой священного сооружения; проклятие падет на
голову того, кто ослушается этого приказа, и благословен будет покровитель хра-
. ма» [470, с. 8i].
17 П. А. Гринцер, проделавший сравнение многочисленных неиндийских
версий «Рамаяны», отмечает, что они обнаруживают значительное сходство друг с
другом-и в конечном счете восходят к некоему единому варианту, отличному от
-«Рамаяны» Вальмики и «отмеченному чертами большего фольклоризма и
архаичности». «Тщательное и полное изучение сюжетных соответствий между
индийскими и неиндийскими версиями „Сказания о Раме",— как полагает советский
ученый,— позволит в будущем надежно реконструировать содержание этого
варианта и определить конкретные пути его проникновения в соседние с Индией
страны Азии» [207а, с. 80].
18 Выдвинутая Л. Бракелом гипотеза об истории письменного бытования
текста «Повести о 'Сери Раме» представляется наиболее убедительным на
сегодняшний день объяснением этой чрезвычайно сложной проблемы. В то же время
трудно согласиться с исследователем., когда он, по-видимому, склоняется к
рассмотрению истории малайских сочинений на сюжеты «Рамаяны» и «Махабхара-
ты» в одном ряду. Допускаемая самим Л. Бракелом возможность восхождения
яванских версий сказания о Раме к малайским {301, с. 15-2J, а в особенности
воздействие этого сказания на малайский династийный миф индуистско-буддийского
времени [301, с. Ii3i3] и предпочтение, отдаваемое «Рамаяне» в странах буддийской
культуры, позволяют предполагать существование устной «праверсии» данного
произведения еще в древнемалайский период. Эпиграфические памятники V и
IX вв., в которых упоминаются герои «Махабхараты», едва ли дают основания
для такого предположения. Именно поэтому малайская «Рамаяна», хотя и с
некоторой долей условности, рассматривается в данной главе, тоща как сочинения
на сюжеты к<Махабхараты» — в главе о раннемусульманской литературе
малайцев.
119 Древнеяванская поэма «Нагаракертагама» содержит упоминание о
многочисленных купцах-индуистах с Явы, торговавших с Суматрой по патенту
государя Маджапахита, совмещая торговые функции с религиозно-проповедническими
[4Э8, т. 4, с. Э8]. .В «Нагаракертагаме» сообщается также о яванских буддийских
монастырях, основанных на Южной Суматре, в частности в Лампунге [4*38, т. 4,
с. 250—267]. Кстати сказать, из того же Лампунга происходит единственная на
Суматре шиваитская надпись [31Г9, с. 2189—340].
20 Показательно в этом отношении стилистическое сравнение аналогичных по
сюжету фрагментов из древнеяванского какавина «Рамаяна» и малайской
«Повести о Сери Раме», осуществленное В. Стюттерхеймом [485, т. I, с. 113—118].
21 То есть отдельные эпизоды не просто объединяются в них личностью
главного героя, но обладают «единством основных действующих персонажей и
общей линии развития действия» [199, с. 72].
22 Русский пересказ повести [200, с. 59]; продолжение истории Маракармы,
рассказывающее о его потомках, содержится в рукописях Л О ИВАН С 1967,
В 21506, Д 450 [15, с. 150—ШГ, 146-448, 15»—'160]; изложение их содержания
1200, с. 60].
59
РАННЕМУСУЛЬМАНСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Крушение Шривиджайи благоприятствовало расцвету ее
бывших северосуматранских владений, ставших теперь
самостоятельными. Еще в индуистско-буддийский период на Северной Суматре
сложились крупные нагары Ламури, Барус и др. В XIII в.
доминирующую роль здесь начали играть портовые государства
Перлах, Самудра, Пасей, Педир, Ару, поддерживавшие тесные
торговые связи с купцами Гуджерата и Коромандельского побережья
Индии и воспринявшие от них ислам.
Мусульманские торговые поселения на Суматре, по-видимому,
начали появляться еще в VII—X вв., однако прошло несколько
столетий, пока новая религия получила распространение среди
малайцев. На раннем этапе миссионерской деятельности важную
роль играли сплоченность и прозелитический дух исламской
общины, длительное пребывание индийских купцов-мусульман в су-
матранских нагарах, где они усваивали малайский язык и обычаи,,
женились на местных уроженках, обзаводились друзьями и
покровителями в среде старой аристократии и постепенно
добивались высокого положения при дворе. Еще большее значение для
процесса мусульманизации малайского мира имело вызревание в
его недрах предпосылок к восприятию ислама. К XIII—XIV вв. в
суматранских городах-государствах, где основы индианизирован-
ной культуры элиты были уже в значительной степени подорваны
и где формирующаяся массовая культура средних слоев насущно
нуждалась в идеологическом оформлении, такие предпосылки
сложились.
Знаменитый арабский путешественник Ибн Баттута,
посетивший в 1345/6 г. Самудру, за двадцать лет до того совместно с Па-
сеем образовавшую некое двуединое государство, описал
процветание города, правитель которого — ревностный мусульманин —
вел непрерывные войны с «неверными», увлекался беседами с ша-
фиитскими теологами и по пятницам, смиренно облачившись в.
простые одежды, пешком отправлялся в мечеть.
Маджапахитский разгром во второй половине XIV в. не
подорвал экономического могущества Пасея, который и в
следующее столетие оставался главным пунктом встречи мусульманских
купцов, стремившихся избежать рискованного плавания в глубь
60
архипелага, с их яванскими торговыми партнерами |Г531, с. 158] *
Столь же высокий престиж сохранял Пасей и как старейший в-
малайском мире центр богословской и литературной деятельность
(об истории Самудры-Пасея см. [314, с. 231; 84, с. 7—24]).
И все же не раджам Пасея было суждено возродить прежнюю
славу Шривиджайи. Осуществление этого честолюбивого замысла,
начал правитель Палембанга, наследник маха-раджей великой
империи Парамешвара — Искандар-шах «Малайских родословий»..
В 90-е годы XIV в. он предпринял попытку избавиться от роли
вассала Маджапахита и для укрепления своей харизматической:
власти провозгласил себя воплощением «бодхисаттвы алмазных
лучей» — Авалокитешвары. Месть со стороны яванцев не
заставила себя ждать, и через год или два Палембанг подвергся
очередному опустошению, а Парамешвара был вынужден поспешно*
покинуть город. Его, однако, поддержали «морские» малайцы
(прежде всего обладавший значительным флотом правитель
острова Бинтан), и после непродолжительного царствования в
Сингапуре, откуда Парамешвару изгнал тайский вассал — раджа*
Паханга или Патани,— ему удалось основать новую столицу на
юге Малаккского полуострова, в Малакке.
Поддержка минского Китая спасла Малакку от нового
тайского нападения. В 1436 г. внук Парамешвары женился на
царевне Пасея, принял ислам и стал именоваться султаном Мухам-
мад-шахом. Этим он привлек в более удобно расположенную ма-
лаккскую гавань часть мусульманских купцов, ориентировавшихся
прежде на Пасей, а также купцов Явы. Отныне рост Малакки
как торгового порта и ее возвышение в качестве мусульманского
центра пошли рука об руку, Малакка стяжала славу «второй-
Мекки», а сам процесс мусульманизации в островном мире
заметно ускорился. В XV в. была исламизирована значительная часть-
Суматры и Малаккского полуострова, к XVI — началу XVII в.—
практически все государства в прибрежной зоне архипелага.
В Малакке был с некоторыми изменениями восстановлен
старый шривиджайский придворный церемониал, упорядочена
административная система, введены кодексы уголовного и морского
права. Флот «морских» малайцев обеспечивал безопасность
торгового судоходства. В середине XV в. Малакка начала проводить,
широкую завоевательную политику и за 50 лет подчинила себе
почти весь -полуостров и ряд восточномусульманских княжеств,
подобно Шривиджайе установив господство над обоими берегами
Малаккского пролива. Все это придало Малакке характерный
блеск имперской столицы и превратило ее в тот «город, созданный
для торговли», который увидели в ней в начале XVI в.
португальцы, а до них тысячи гуджератских, тамильских, китайских,
арабских и индонезийских купцов, чьи корабли бросали якорь к югу
от входа в устье реки Малакки.
Вдоль северного берега реки тянулись склады товаров,
огражденные высоким забором и охранявшиеся по ночам. Неподалеку от
них начинались прославленные базары города, а несколько по-
61
одаль, разделенные садами и парками,— кварталы иноземных
купцов, селившихся" вместе по национальному признаку. Ядро
города образовывали расположенные на южном берегу реки, на
современном холме Святого Павла и вокруг него, дворец
правителя, главная мечеть, дома знати и иммигрантов-малайцев. Этот
район, укрепленный палисадом, соединялся с северной частью
Малакки деревянным мостом, сплошь застроенным лавками
торговцев l[382a, с. 4; 515а, с. 311].
Такого рода планировка города, в которой четко различались
ядерный и периферийный районы, была вообще характерна для
малайских городов мусульманского времени (ср. [396, с. 44—48]).
"В целом сходная с той, что прослеживалась еще в индуистско-буд-
дийский период, она в результате частичных изменений,
обусловленных новой религиозной ориентацией, вполне соответствовала
идеальной модели мусульманского города, ближневосточного или
индийского, с его тремя «кругами»: резиденцией правителя, к
которой примыкали административные учреждения и казармы;
центральным комплексом, включавшим мечети, религиозные школы
и базары; отдельными кварталами, населенными торговцами и
ремесленниками — представителями различных этнических групп
[372, с. 310].
В отличие от средневековых европейских городов,
обособленных и культурно изолированных от феодального замка,
малайские города, подобно ближневосточным, включали феодальный
замок в свою структуру. Это имело для малайской городской
цивилизации, по существу-, те же последствия, что и для культуры
арабо-мусульманской, которые ее исследователь суммировал
следующим образом: «С одной стороны, под влиянием двора
городская культура... стала более изысканной. С другой стороны,
присутствие в арабском средневековом городе полновластного эмира
или халифа не позволяло городским сословиям сложиться в
могущественную силу, разрушало патриархальные основы городского
общества, лишало его „социального оптимизма", без которого не
могло происходить изживание старого средневекового и
зарождение нового миросозерцания» [267, с. 86].
В соответствии с потребностями, вкусами и культурной
ориентацией обитателей трех «кругов» города и возникали разнящиеся
по характеру произведения, составившие в совокупности
малайскую литературу. При дворе в первую очередь создавались
хроники, а также героико-эпические и волшебно-авантюрные
произведения, призванные воспитывать у молодых аристократов мужество и
«куртуазность» поведения. В среде религиозных наставников —
■улама, местных и приезжих, писались житийные сочинения и
трактаты по всем отраслям мусульманского знания. Вместе с тем
нередко улама были авторами сочинений в «аристократических
жанрах»—романическом и историческом [372, с. 312].
Меньше всего известно о литературе «третьего сословия»
многонациональных малайских городов. Однако при всей неясности
того, какие письменные произведения им создавались (и
62
создавались ли?), вполне очевидно, что литература наряду с фоль-
клором (проникавшим, в частности, из сельской округи, связанной,
с городом плавным переходом) жила в торгово-ремесленных
кварталах.
Малайские сочинения повествуют не только о царевичах и
царевнах, читавших повести в одиночестве или в окружении
придворных, но и о маджлисах — своего рода литературных
собраниях горожан, где книга переходила от одного исполнителя к.
другому |[5, с. 2—3], или о профессиональных чтецах,
находивших приверженцев своего искусства на базарах и нередко
приглашавшихся в частные дома. О том, в сколь непринужденной
обстановке проходило чтение, свидетельствуют приписки в конце
книг с просьбой не жевать во время исполнения бетель, чтобы
не запачкать редкую рукопись [98, с. 248]. Вместе с тем
декламация как в малайских, так и в арабских, индийских, яванских
кварталах своих фольклорных произведений и постановка
театральных пьес обогащали малайскую литературу новыми
сюжетами и мотивами. При достаточно высокой социальной
«проходимости», господствовавшей в малайских городах, и важной
посреднической роли, которую играли в социальном общении
религиозные наставники, эти сюжеты и мотивы достигали «письменных
центров» — дворца, школы — и там записывались,
обрабатывались, шлифовались.
Описанная стратификация малайской словесности
существовала на протяжении всего мусульманского времени. Однако
совокупность культурно-исторических традиций, на фоне которых
развивалась литература, и ее идеологические задачи в раннемусуль-
манский и классический периоды были различны. С приходом
ислама был положен конец индуистско-буддийскому культу бога-
царя, новые династии, в большей степени связанные с торгово-
ремесленными слоями, лучше знали их культуру и нередко
покровительствовали ей (ср. /["439, с. 77]). Вместе с тем роль в
государстве старой индианизированной аристократии, как показывает
история Пасея |[84, с. 13—14], Малакки ;[266, с. 44—45], Банджа-
ра [125, с. 156], была еще очень велика, ее культурные навыки,,
традиции, пристрастия не могли не оказывать существенное
влияние на формирующуюся раннемусульманскую литературу
малайцев.
Становление раннемусульманской литературы в Пасее и Ма-
лакке соответствовало первому из двух этапов освоения
малайцами ислама (о них см. [61, с. 191—192]). На этом этапе довольно
внешнего восприятия основ новой религии (Корана, хадисов) и
главным образом установлений мусульманского закона — шариата
главную роль играли общедоступная проповедь и исламская
юриспруденция (фикх). На втором этапе большее значение приобрела
задача распространения ислама не столько вширь, сколько вглубь,.
чему в истории малайской литературы и соответствовал
классический период.
Первое десятилетие XVI в. было временем высшего политиче-
63
ского и культурного расцвета Малаккского султаната. Малакка
стала одним из крупнейших в то время центров мировой торговли
<с населением около сорока тысяч человек и четырехтысячной
колонией купцов едва ли не из всех стран Востока. Это, однако,
было и последнее десятилетие самостоятельного существования
города. 24 августа 1511 г. после двух яростных штурмов он был
захвачен войсками португальского губернатора Индии Афонсу
д'Альбукерке, воспользовавшегося раздорами в придворной среде
и отсутствием вблизи города основных сил «морских» малайцев.
"Падение Малакки знаменовало начало европейской экспансии в
малайском мире (об истории Малакки см. -[531; 520; 382а; 407],
на рус. яз. |[266]).
ГЛАВА II
ПРОБЛЕМА РАННЕМУСУЛЬМАНСКОИ
МАЛАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Распространение ислама в малайском мире вызвало серьезные
изменения во всей системе средневековой малайской культуры и
соответственно словесности. Однако судить о том, в какой
степени эти изменения дали знать о себе уже на раннем этапе исла-
мизации в XIV — начале XVI в., нелегко, так как малайская
филология не располагает достаточно надежными данными о
.составе литературы того времени.
Дело в том, что древнейшие малайские рукописи восходят в
лучшем случае к рубежу XVI—XVII вв., а уже упоминавшиеся
выше недатированность и анонимность большинства литературных
памятников затрудняют отнесение какой-то их части к раннему-
сульманскому периоду. Если добавить к этому определенную
«текучесть» текста сочинений, обусловленную их редактированием и
искажением в процессе переписки, продолжавшейся вплоть до
конца XIX в., а также слабую разработанность методов
датировки литературных памятников на основе их внутреннего, в
частности стилистического, анализа, трудности, встающие перед
исследователем начального этапа малайской мусульманской
словесности, станут вполне очевидны.
Для того чтобы справиться с этими трудностями, малаисты
прибегали к помощи различных внешних данных, начиная от
датировок оригиналов, если соответствующие малайские
произведения относились к числу переводных, и кончая упоминаниями или
отсутствием упоминаний в текстах датируемых реалий, например
огнестрельного оружия |455, с. 113; 299, с. 18—20].
Одним из наиболее важных для хронологизации литературных
сочинений моментов служило появление названий тех или иных
из них в исторических хрониках, так как последние по самой
своей природе легче поддаются датированию. Так, представления
Р. О. Уиистедта о составе литературы малаккского периода
(XV — начало XVI в.) находились в прямой зависимости от
установленной им даты создания важнейшей из местных хроник —
«Малайских родословий» (1535—1536) [164, с. 27—34].
Определенную роль во взглядах этого английского ученого играло и то,
что временем написания другого исторического сочинения —
«Повести о раджах Пасея» — он считал XV в. [196, с. 180—183].
В 60-е годы нынешнего столетия голландские малаисты
Р. Рольфинк и А. Тэу оспорили датировки обеих хроник, предло-
5 Зак. 147
65
женные Р. О. Уинстедтом. А. Тэу признал, что при сегодняшнее
состоянии малаистических знаний определить время создания:
«Повести о раджах Пасея» невозможно )Г493, с. 229—234], а:
Р. Рольфинк отнес древнейшую версию «Малайских родословий»-
к началу XVII в. |[463, с. 310]. Взгляды голландских
исследователей «получили широкое признание (см., например, [371; 2475.
с. 133 и ел.]), а в результате и без того расплывчатые очертания
малайской литературы конца XIV— начала XVI в. утратили
всякую ясность i[372, с: 312]. Понадобились (и еще явно
понадобятся) новые усилия и новые подходы к материалу для того,
чтобы придать ее контурам хотя бы прежнюю степень четкости,.
О том, что это 'возможно, свидетельствуют, в частности,
интересные исследования Л. Бракела, посвященные «Повести о Мухамма-
де Ханафии» и происхождению жанра хикаят в малайской
литературе [66; 67; 299].
На наш взгляд, однако, еще не вполне исчерпал себя и тог
старый метод хронологизации, что был основан на изучении
исторических сочинений, равно как и не вполне убедительны новые
даты, предложенные для них. Во всяком случае, различия во<
взглядах Р. О. Уинстедта и голландских исследователей
заслуживают пристального внимания и свидетельствуют о том, что
состав раннемусульманской словесности в малайском мире все еще
остается одной из важнейших нерешенных проблем, стоящих
перед литературоведами-малаистами. Как и в случае со
словесностью древнемалайского периода, ее неизученность, препятствуя-
воссозданию цепи преемственности и изучению литературной
эволюции, искажает картину литературного процесса в целом. Для
того чтобы наметить пути решения данной проблемы, необходим,
весьма обширный экскурс в сферу малаистической текстологии^
'1. ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ «МАЛАЙСКИХ РОДОСЛОВИИ»
«Малайские родословия» (далее — MP) были одним из
первых памятников малайской литературы, с которым познакомились
европейские исследователи. Этот памятник не раз издавался и уже
в XIX в. был полностью или частично переведен на английский,
голландский, французский языки1. До 1938 г. MP считались
произведением, созданным в 1612 г. в малайском султанате Джохор
в период правления султана Алааддина Риайат-шаха. В
предисловии к наиболее известной версии текста, изданной У. Г. Ше-
лабером )Г 139] (далее — Ш), как, впрочем, и в предисловиях к
изданиям Абдаллаха Мунши [140] (далее — А) и Э. Дюлорье
[76], сообщалось, что автором MP 1612 г. был бендахара
(премьер-министр) Тун Сери Лананг2, на которого в собрании вельмож
была возложена миссия в назидание потомкам отредактировать,
«малайскую историю, привезенную из Гоа».
В 1938 £. Р. О. Уинстедт, занимавшийся изучением MP,
признал один из списков хроники (рукопись Raffles 18) копией «ис-
66
тории, привезенной из Гоа», т. е. первоначальной версией МРГ
переработанной в 1612 г. (далее — У). Английский ученый считал,
что У следует датировать примерно 1536 г.
Наиболее важные доводы Р. О. Уинстедта в пользу
предложенной датировки версии У и ее предшествования версии Ш таковы
£164, с. 27—34].
1. В рукописи Raffles 18 повествование обрывается на рассказе о событиях
"1535 г., что само по себе есть некоторое основание для датировки. К тому же
предисловие к У в отличие от предисловия к Ш (и, добавим, А), вполне
органично для этой версии, не содержит интерполяций и не упоминает ни о собрании
.вельмож, ни об «истории из Гоа».
2. Логическая последовательность глав и отдельных разделов, а также
внутренняя логика и мотивированность ряда рассказов в У значительно яснее и
правильнее, чем в -Ш ;(и .А)..
3. У в отличие от Ш (и А) содержит лишь короткие родословия знатных
-семей. В частности, генеалогия семьи бендахары доходит в У лишь до внука бен*
дахары Сери Махараджи, казненного в 1510 г., чей сын был достаточно взрос-
.лым, чтобы занимать высокий государственный пост еще в 1509 г.
4. В У в отличие от Ш (и А) не наблюдается стремления любыми
средствами прославить малаккскую линию-султанов и их бендахар, а также во что бы то
ни стало подчеркнуть их семейные связи. Так, например, в У султану Мансур-
•адаху наследует его сын от яванской жены — Раджа Раден, в Ш (и А) — сын от
женщины из рода бендахар Хусейн, даже не упоминающийся в У. Нужды в
подобных искажениях не существовало в Малакке, но они были насущно
необходимы в Джохоре 1612 г. в связи с возросшей ролью бендахар и крайне слабой
-связью джохорских султанов с их предшественниками по малаккской линии. По
этим же причинам в Ш отсутствуют все упоминания У о легитимной, старшей
ветви рода малаккских султанов, правившей в ТТераке. Политические
соображения обусловили также то, что в Ш в отличие от У опущены многие сообщения
о конфликтах с португальцами, с которыми Джохор в 1610 г. заключил договор
о дружбе.
5. Широкая литературная эрудиция автора У, его знакомство с рядом
иностранных языков и привлечение им пасейских, тамильских, яванских, минангка-
боуских и тямских традиций вполне объяснимы, если считать его малаккцем, но
малопонятны, коль скоро он жил «при маленьком эмигрантском дворе,
обосновавшемся в верховьях реки Джохор» [196, с. 186].
6. Стиль рассказа о правлении последнего малаккского султана
Махмуд-шаха выдает в авторе У современника описываемых событий. Естественно, что он
не мог приписать государю легендарного сватовства к царевне-волшебнице с горы
.Леданг. И действительно, если в Ш (и в А) к ней сватается Махмуд-шах, то в
'.У это делает его дед — Мансур-шах.
По мнению Р. О. Уинстедта первоначальная версия MP — У
была создана хронистом, современником Махмуд-шаха,
пережившим захват Малакки португальцами в 1511 г. и доведшим работу
над хроникой до 1535 г. Затем MP были вывезены в центр
португальских владений на Востоке — город Гоа в Индии, откуда
впоследствии возвратились в Джохор и были отредактированы в
1612 г. в соответствии с изменившейся ситуацией.
Вопрос о местоположении Гоа, из которого была привезена
«малайская история», продолжал обсуждаться и в дальнейшем
[397; 339]. С. А. Джибсон-Хилл подтвердил мнение Р. О.
Уинстедта о том, что речь в MP шла о португальской колонии. По его
мнению, хроника могла попасть в исторический архив Гоа, где
<е ней ознакомился португальский историк Д. де Куто. Следы этого
5*
67
знакомства заметны в содержащихся в его сочинении рассказах:
об основателе Малакки Искандар-шахе и о захвате города
португальцами, близких к MP, но существенно отличающихся от
сообщений других португальских историков. (А. д'Альбукерке, Т. Пи-
реша, Ж. Барроша).
Свои взгляды на MP Р. Уинстедт кратко изложил в
«Истории малайской классической литературы», и они на несколько
десятилетий определили представления малаистов об эволюции этой,
хроники. Однако в 1967 г. концепция английского ученого была
весьма решительно оспорена Р. Рольфинком в его статье о
различных версиях этого памятника )[463]. Р. Рольфинк обратил
внимание на известные ранним голландским исследователям.
П. ван дер Форму и Ф. Валентейну, а позднее Э. Нетсхеру
генеалогические списки малайских правителей, содержащие даты:
восхождения на престол и смерти, а также перечень важнейших
событий, происшедших в период царствования некоторых из них..
Самому Р. Рольфинку удалось разыскать рукопись одного из
таких генеалогических списков (Cod. Or. 3199 |[3]), который око
считал весьма близким к тем, что имелись в распоряжении
П. ван дер Форма и Ф. Валентейна, так как в них совпадали
«имена и по временам целые фразы» ^463, с. 34]. Р. Рольфинк
высказал предположение, что такого рода список, называвшийся:
«Сулалат ас-салатин» («Родословие султанов»), послужил
основой, которая, впитав в себя рассказы исторического и иного
характера и утратив даты, постепенно развилась в известную ныне
в разных версиях хронику (прежде «Сулалат ас-салатин» считали:
просто синонимом названия «Седжарах Мелаю» — «Малайские
родословия» и относили к самой хронике).
Первым этапом эволюции генеалогического списка в хронику
Р. Рольфинк считал краткий текст в 25 страниц, предпосланный
родословию султанов княжества Перак в рукописи Maxwell 10S
i[463, с. 306—307, 311], и, несомненно, связанный с версией У.
Саму версию У голландский ученый рассматривал как второй этап
этой эволюции и полагал, что она появилась в 1612 г., который
упоминается в предисловии к ней. Затем один из экземпляров У
каким-то образом попал в город Гоа, но не португальский, как
считал Р. О. Уинстедт, а сулавесийский, в начале XVIII в. был
привезен оттуда в Джохор и отредактирован при дворе
приобретших сильное политическое влияние в малайском мире бугийских
ям-туанов («вице-королей») — выходцев с Сулавеси. Результатом
двух последовательных редакций У, осуществленных бугийскими.
«вице-королями», явились две версии «Малайских родословий»:
«краткая» (версия Абдаллаха Мунши — А) и «пространная»
(представленная в издании Дюлорье и отчасти в «гибридном
тексте Шелабера — Ш).
Таким образом, Р. Рольфинк отвергает предложенную^
Р. О. Уинстедтом датировку У (1536 г.) и датировки версий А
и Ш 4( 1612 г.), переносит историю эволюции самой хроники в,
значительно более позднюю эпоху и соответственно не ставит
68
вопроса о джохорской редакции 1612 г., понимая под Гоа город
на Сулавеси. Описанная им эволюция памятника крайне проста —
это история его неуклонного разбухания от двух-трехстраничного
генеалогического списка до обширного текста в несколько сотен
страниц.
Трудно судить, простота ли предложенной схемы,
избавляющая от необходимости пересматривать дату (1612 г.), которая
встречается в предисловии к У, или строгость и полнота
классификации известных рукописей «Малайских родословий» заставили
м ал аистов безоговорочно -принять точку зрения Р. Рольфинка, не
заметив, что его концепция не столько устраняет имеющиеся
вопросы, сколько выдвигает множество новых. Кроме того, сама
аргументация голландского ученого при более пристальном
внимании к ней оказывается весьма уязвимой.
Прежде всего Р. Рольфинк рассматривал генеалогические
списки (далее — ГС) недифференцированно и не исследовал даты
правлений, приводимые в них. Э. Нетсхер в уже упоминавшейся
статье [415] опубликовал три таких списка: свой собственный
(Н), список Ф. Валентейна (В) и список, принадлежащий бугий-
ским «вице-королям» Риау (Р). Сравнение с ними списка,
изданного Р. Рольфинком (К), показывает, что он вполне тождествен
Р и лишь доходит до более поздней даты. Примечательно, что
В и H по датам близки друг другу и заметно отличаются от
Р и К3.
Специфические черты H будут особо рассмотрены ниже.
Остальные ГС указывают по крайней мере на две традиции
датировки правлений сингапурско-малаккской династии,
существовавшие у малайцев,— Р/К и В. Традиция Р/К, вторично открытая
Р. Рольфинком, вопреки мнению голландского ученого, не могла
развиться в версию хроники У, ибо периоды правления в Р/К и У
резко разнятся. Традиция же В дает в основном те же периоды,
что и У, однако, на наш взгляд, равновероятно как развитие У
из В, так и развитие В из У. Достаточно знать какую-либо одну
дату из истории династии, чтобы по периодам правления
вычислить остальные.
Так, например, У сообщает, что взятие Малакки португальцами приходится
на 30-й год правления султана Махмуд-шаха [164, с. 215]. По не вполне
понятным причинам малайцы в период составления Р считали, что это событие
произошло в 1506 г. (а не в 1511, как это было в действительности) {415, с. 150]. Если
предположить, что период правления султана Алааддина лишь в результате
описки копииста насчитывает в У 33 года (скорее всего, это диттография) и в
протографе рукописи был равен 30 годам (Н и В—30 лет, Р/К—29 лет), то
подсчитанные по У даты правления остальных государей будут лишь на один год
отличаться от тех, что приводятся в В. Это отклонение можно объяснить
обычными при пересчете лет хиджры колебаниями, тем более что в У отсутствуют
данные о месяце, в котором произошла смена правителей.
В и Р/К по крайней мере содержат тождественный перечень
имен султанов, который соответствует также и У; H отличается
и в этом отношении, вводя вместо одного Султана Мегата Раджу
Бесара Муду и Раджу Тенгаха. Точно так же обстоит дело в
69
А и Ш. Возможно, данное изменение связано с тем, что Э. Нетсхер
составил свой список на основе А или Ш, а затем датировал его
по другим источникам; возможно, оно восходит к третьей
местной традиции ГС, приноровленной к А и Ш. В любом случае ясно,
что, прежде чем рассматривать ГС с датами как прототип
«Малайских родословий», необходимо изучить историю самих ГС, не
отбрасывая априори гипотезу об их возможном вторичном
происхождении из хроники, содержавшей лишь периоды правления, и
объяснить, как, когда и по какой причине одним и тем же
султанам были приписаны различные даты и периоды правления.
Говоря о вероятности вторичного, «высчитанного»
датирования правлений, не следует упускать из виду и тот интерес к
датам, который, возможно усиленный бугийским влиянием J421],
проявился в малайской историографии XVIII—XIX вв. Многие
хроники этого времени, и в их числе «Тухфат ан-нафис»
(«Драгоценный дар») Раджи Али Хаджи {163], включающая изложение
малаккской истории, содержат даты. Именно этот интерес и мог
побудить хронистов «высчитывать» годы правления султанов,
хронология царствования которых не была известна. Некоторую
аналогию этому гипотетическому процессу можно обнаружить в
творчестве яванского поэта Ронговарсито, педантично датировавшего
события мифической и эпической истории Явы {439, с. 170].
Не более убедительны и аргументы в пользу того, что
генеалогический список — прототип «Малайских родословий» носил
название «Сулалат ас-салатин». Ни один из трех авторов, на
которых ссылается Р. Рольфинк, не дает оснований для уверенности
в том, что использованный им ГС и сочинение под названием
«Сулалат ас-салатин» тождественны, ибо тот и другой тексты
неизменно упоминаются в разных местах их работ.
О том, что ГС и хроника могли быть двумя различными произведениями,
свидетельствует рекомендация П. ван дер Форма изучать «Сулалат ас-салатин»,
«всем, кто интересуется малайским языком» [463, с. 308], малопонятная, если
имеется в виду двух-трехстраничное произведение, составленное из
небольшого числа повторяющихся фраз. Кроме того, П. ван дер Форм утверждает, что
«Сулалат ас-салатин» завершается рассказом о появлении португальцев, тогда
как все известные ГС перечисляют также султанов, правивших через два-три
столетия после этого события. Слова Э. Нетсхера, на основе которых Р. Рольфинк
заключает, что ГС именовался «Сулалат ас-салатин», возможно, относятся лишь
к именному списку государей, составленному им. Говоря же об уточненных
датах их правления, Э. Нетсхер ссылается на устную информацию Раджи Али и
Раджи Абдаллаха с Риау, а также на данные ряда источников, чьи названия он
не приводит [415, с. .149]. Как уже отмечалось, вполне возможно, что именной
список правителей Э. Нетсхера, содержавший имена, отсутствующие в других
ГС, был составлен по одному источнику (источникам) — хронике, а датирован по
другому (другим) — ГС. Тем самым отпадает необходимость считать, что Э.
Нетсхер пользовался хроникой «Сулалат ас-салатин», содержавшей даты правления,
что справедливо отрицалось Р. Рольфинком. Кроме того, излагая содержание трех
имевшихся в его распоряжении списков «Сулалат ас-салатин», Э. Нетсхер
называет ряд фактов, присутствующих в версиях АиШ хроники, но не упоминаемых
в генеалогических списках В и Р/К4. Наконец, именной список правителей Э. Йет-
схера, как уже отмечалось, также соответствует не В и Р/К, а версиям А и III
хроники.
70
Пожалуй, еще важнее, что созданное в 40-е годы XVII в. (т. е.
задолго до работ П. ван дер Форма и Ф. Валентейна) сочинение
гуджератского богослова Нураддина ар-Ранири «Бустан ас-сала-
тин» («Сад царей») в разделе 12 главы 2 содержит
недвусмысленное указание на то, что название «Сулалат ас-салатин» относится
не к ГС, а к хронике [9, с. 5].
Аргументы Р. Рольфинка в пользу того, что следующим за ГС
этапом формирования версии У послужила краткая «хроника
типа Maxwell 105», также не представляются достаточно
убедительными. Альтернативой им служит некогда высказанное Р. О. Уин-
стедтом мнение, что Maxwell 105 — это сокращенное изложение У,
которое никак не опровергнуто Р. Рольфинком. Между тем
подтверждает его ряд списков «Малайских родословий» (как
сокращенных, так и полных), продолженных родословием или
хроникой той или иной местной династии, возводящей свою генеалогию
к сингапурско-малайскому правящему дому. Сам Р. Рольфинк
упоминает два подобных текста — сиакскую и палембангскую
версии «Малайских родословий». К сходным по типу произведениям
можно отнести также «Тухфат ан-нафис» и историю сингапурско-
малаккских правителей, кратко изложенную в «Бустан ас-салатин»
с теми же легитимирующими целями, что и в Maxwell 105.
Обращение же перакского хрониста именно к версии У более чем
естественно, ибо, как показал Р. Уинстедт, лишь эта версия
«Малайских родословий» не умалчивает о старшей легитимной ветви
малаккской династии, до сих пор правящей в Пераке.
Убедительные доводы в пользу вторичности текста рукописи Maxwell 105 по
отношению к версии У привел американский историк О. У. Уолтере [531, с. 186—
248}, показавший, что автор Maxwell 105 порой опускает детали, отсутствие
которых делает его повествование непонятным и в то же время свидетельствует
о знакомстве с более полной версией.
Наконец, обращает на себя внимание и то, что сама идея
развития «Малайских родословий» из ГС едва ли плодотворна. Во-
первых, она слишком обща, ибо все малайские хроники,
независимо от того, можно ли найти соответствующий каждой из них
генеалогический список, обладают генеалогической структурой,
непременно включающей повествовательные элементы [496,
с. 15—16].
Во-вторых, Р. Рольфинк не делает никаких попыток объяснить,
почему, впитав повествовательные элементы, хроника должна
была лишиться дат. В-третьих, «Малайские родословия» — это
отнюдь не конгломерат рассказов и анекдотов, лишь с внешней
стороны упорядоченный «сеткой» периодов правления, но целостное
произведение с единой государственно-политической концепцией
и единой, хотя и допускающей дальнейшее расширение,
композицией. Вопрос о целостности «Малайских родословий», как
справедливо заметил А. Тэу [496, с. 17], Р. Рольфинком не был
поставлен, и, по-видимому, в рамках предлагаемой им
механистической концепции развития хроники из ГС путем простого расши-
71
рения поставить его весьма затруднительно. Выше была показана
правомерность противоположной гипотезы о развитии ГС из
хроники с периодами правления, которая, однако, отнюдь не
претендует на разрешение вопроса о первичности любого из этих типов
сочинений.
Вполне вероятно, что в малайской исторической традиции, как
и множестве других, в частности в мусульманской историографии
(о ней см. ||"466]), оба жанра возникли и существовали
параллельно, выполняя свои специфические функции. Хроника в' рамках
легитимистической доктрины давала обобщенное осмысление
судеб страны и династии и играла определенную учительную роль;
ГС выступали прежде ©сего как легитимирующие документы и,
естественно, не претендовали на обобщения и постановку
историософских проблем. Соотношение того и другого жанров у
малайцев, видимо, во многом напоминало связь датированных
хронограммами списков событий (сангкала) и хроник (бабадов) в
яванской историографии, в которой, по словам Т. Пижо, «ни
старые всеобщие истории, ни хроники матарамского Бремени не
следует рассматривать как простой результат развернутого
изложения данных, содержащихся в сангкала. Вероятно, в яванской
литературе, особенно в мусульманский период, но также и ранее,
сосуществовали (более точная) традиция хронограмм и (более
разработанная) традиция рассказов о мифологии и истории,
оказывавшие влияние друг на друга» ,[439, с. 157].
Если в отношении предполагаемых Р. Рольфинком
прототипов «Малайских родословий» (ГС, Maxwell 105) можно выдвинуть
альтернативные гипотезы, то с утверждением голландского
ученого о существовании до XVIII в. лишь одной развернутой
версии хроники (У) согласиться попросту невозможно. Опровергает
это утверждение сравнение известных версий «Малайских
родословий» с «Бустан ас-салатин». Несмотря на свою краткость,- этот
источник восходит, несомненно, к развернутой хронике, а не к ГС.
Об этом свидетельствует как ссылка его автора — ар-Ранири на
сочинение бендахары Падуки Раджи (Туна Сери Лананга), так и
несколько рассказов, дословно или почти дословно совпадающих
в «Бустан ас-салатин» и в версиях А и Ш (история о походе
раджи Сурана против Китая и о хитрости китайцев, история
посещения Сураном подводного царства, описание Биджанагара) [9,
с. 6—11]. Другое обстоятельство, обращающее на себя
внимание,— это отсутствие в «Бустан ас-салатин» дат или периодов
правления сингапурско-малаккских государей. Трудно
предположить, что искушенный в мусульманской исторической традиции
ар-Ранири, неизменно приводящий то годы правления, то даже
месяцы и дни восхождения на престол ачехских султанов [91],
опустил бы даты малаккских государей, не попытался бы
вычислить их по периодам правления, если бы они были в его
источнике (сделать это весьма несложно), или 'не указал бы эти
периоды в своей книге. Скорее всего, в распоряжении ар-Ранири был
•некий иолный текст хро-ники без дат и периодов правления.
72
Если следовать, концепции Р. Рольфинка, то во время
создания «Бустан ас-салатин» (около 1640 г.) существовала лишь одна
развернутая версия хроники У. О том, однако, что ар-Ранири
пользовался не ею, свидетельствуют не только приведенные
соображения, но и результаты сравнения «Бустан ас-салатин» с
версиями У и А/Ш5, которое показывает, что сочинение гуджератско-
го шейха лишь в одном существенном моменте (нисхождение
родоначальников малайских династий на гору Сегунтанг и их
последующее воцарение) следует версии У, в остальном же
обнаруживает все основные особенности А и Ш.
Ар-Ранири отмечал, что его сведения восходят к хикаяту,
написанному бендахарой Падукой Раджей и датированному
воскресеньем месяца АРаби' аль-аввал 1612 г. Ту же дату дает и У,
причем в обоих случаях совпадает день недели — воскресенье,
точно соответствующий упомянутому в У 12 Раби' аль-аввал.
Другие списки «Малайских родословий», как отмечает Р. О. Уинстедт
[164, с. 34], приводят неверный день недели. Как и «Бустан ас-
салатин», У называет автором хроники бендахару, правда не
уточняя его имени.
Из сказанного выше следует ряд выводов. В 1640 г.
существовали две, а не одна, как считал Р. Рольфинк, развернутые
версии хроники. Поскольку маловероятно, чтобы одно и то же лицо —
бендахара — датировал одним и тем же днем создание двух
радикально различных и, кроме того, в политическом отношении друг
другу противостоящих версий MP, следует предположить, что
одна из версий предшествовала другой. Такой предшествующей
версией, по нашему [мнению, могла быть лишь версия У, которая,,
как было доказано Р. О. Уинстедтом и единодушно признано
всеми малаистами, включая и Р. Рольфинка, содержит древнейший
из дошедших текстов MP.
По-прежнему открытым остается вопрос о причинах
появления даты 1612 г. в предисловии к У. По этому поводу могут быть
выдвинуты различные гипотезы. Здесь достаточно сослаться на:
одну из них, предложенную Р. О. Уинстедтом: «Возможно, все
дело в том, что благденовская рецензия (версия У.— В. Б.) —
не что иное, как „история из Гоа", принадлежавшая Радже Бонг-
су (т. е. султану Джохора Абдаллаху.— В. £.). Снимая с нее ко->
пию, редактор мог просто упомянуть его (султана.— В. Б.)
указания и их дату в предисловии, а затем продолжить писать уже в
другой тетради давно известную пересмотренную версию» |[164,.
с. 34]. Вероятно, возможны и другие решения этой проблемы.
Требует дальнейшего исследования вопрос о том, каким
именно текстом пользовался ар-Ранири, Наряду с отмеченным выше
моментом, в котором «Бустан ас-салатин» совпадает с У, в
сочинении гуджератского богослова имеется ряд черт, присущих лишь
ему. Не вполне понятно, обязаны ли эти черты своим
происхождением изысканиям самого ар-Ранири; использованию им наряду е
источником, подобным А/Ш, еще какого-то исторического
сочинения; копиистам, исказившим первоначальный текст «Бустан ас-
73
салатин» или не дошедшей до нас промежуточной версий MP, из
которой развились А и Ш.
Как бы ни были решены два последних вопроса, вполне
очевидно, что на сегодняшний день теория Р. О. Уинстедта о версии
1536 г. и ее джохорской редакции 1612 г. остается наиболее
убедительной реконструкцией истории сохранившихся полных
версий MP. Основные аргументы в пользу этой теории не только не
были опровергнуты Р. Рольфинком, но даже не были им
рассмотрены, что и естественно, поскольку голландский ученый
датировал У 1612 г. Между тем исследование «Бустан ас-салатин»
возвращает аргументам Р. О. Уинстедта всю их актуальность и
весомость.
Установленный в результате анализа «Бустан ас-салатин» факт
существования в 1640 г. двух версий MP сильно ослабляет и
гипотезу Р. Рольфинка о сулавесийском происхождении «рукописи
:из Гоа», ибо для того времени еще невозможно говорить о
значительном бугийском влиянии на малайский мир, а тем более о
дворе бугийских «вице-королей», где могли быть
отредактированы MP. К тому же сама вставка о «рукописи из Гоа» в
предисловии к хронике сделана так, что ее трудно отнести к началу XVIII в.
С одной стороны, она явно выдает себя ссылкой на Гоа, так как
в XVIII в. этот топоним понимался, скорее всего, именно как город
на Сулавеси, с другой — всячески «маскируется» под нетронутый
текст 1612 г. (см. дату памятника и родословие бендахары,
доходящее примерно до этой даты). Если же считать, что речь в
предисловии действительно идет о 1612 г. и португальском Гоа
(это название без всяких спецификаторов типа «город»
многократно встречается в У; см. ;[164, с. 182, 191 и др.]), то все эти
затруднения сами собой отпадают.
Таким образом, имеются веские основания для того, чтобы и
в этом вопросе возвратиться к точке зрения Р. О. Уинстедта,
развитой и уточненной С. А. Джибсон-Хиллом. Разумеется, этот
возврат никак не умаляет отмеченной Р. Рольфинком роли
бугийских «вице-королей» в процессе дальнейшего редактирования
текста MP, в особенности при оформлении его «пространной»
версии, представленной в наибольшем числе сохранившихся списков
[463, с. 308] 6.
Итак, в настоящее время ничто не мешает вслед за Р. О. Уин-
стедтом утверждать, что версия «Малайских родословий» У
возникла вскоре после падения Малакки (1536г.), была создана
автором, хорошо знавшим быт малаккских придворных кругов и,
возможно, жившим в городе еще до захвата его португальцами, и
отражает малаккский, а не джохорский этап истории малайской
культуры.
2. ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ «ПОВЕСТИ О РАДЖАХ ПАСЕЯ»
Не менее запутан и сложен вопрос о датировке другого важ--
нейшего источника по раннемусульманской истории и литературе
малайцев — «Повести о раджах Пасея» (далее — ПРП). По
крайней мере со времен опубликования в 1938 г. статьи Р. О. Уин-
стедта i[521, с. 24—30] за этим сохранившимся в единственном
списке 1814 г. произведением закрепилась репутация самой
древней из малайских хроник, созданной, скорее всего, в XV в. (ср,
[461, с. 6]).
Р. О. Уинстедт аргументировал свою точку зрения следующим
образом. ПРП завершается завоеванием княжества Пасей Маджа-
пахитом примерно в 1350 г. (видимо, правильнее говорить о 1360 г.,
см. ниже) и поэтому не могла быть написана ранее этой даты.
Значительная часть ПРП в парафразе, местами весьма точно
воспроизводящем дошедший до нас текст хроники (шесть примеров
такого рода совпадений содержатся в ,Т521, с. 24—25], число их
может быть легко увеличено), приводится в версии У «Малайских
родословий», и, следовательно, ПРП была -создана до 1536 г.
Едва ли ПРП появилась после 1524 г., когда Пасей был завоеван
султанатом Аче и включен в состав этого государства. Ведь
авторы малайских хроник писали, «чтобы снискать благоволение
двора. Вряд ли какой-либо автор мог получить стимул или просто
набраться смелости для того, чтобы взяться за историю Пасея
после 1524 г., когда эта история в лучшем случае могла появиться
в виде написанной в сдержанных тонах главы в государственных
анналах Аче» |[196, с. 180]. Наконец, английский ученый считает
маловероятным получение списка ПРП создателем «Малайских
родословий» (MP), включающих разделы о Пасее, после
захвата Малакки португальцами в 1511 г. Итак, по мнению Р. О. Уин-
стедта, ПРП возникла между 1350 и 1511 гг. Подтверждает эту
раннюю датировку памятника и ряд архаических языковых форм,
отмеченных в нем английским ученым.
В 1954 г. к анализу ПРП обратился Р. Рольфинк,
опубликовавший интересную статью об этом памятнике l[461, с. 3—17]«
Он склонялся к датировке хроники, предложенной Р. Уинстедтом
(XV в.), и даже привел в ее пользу новый довод — отсутствие в
ПРП форм малаккского придворного языка, декретированных в
середине XV в. и получивших распространение в позднейшей
литературе |[461, с. 6]. При этом, однако, Р. Рольфинк колебался,
использовал ли автор MP письменный текст ПРП, известный в
настоящее время, какое-либо другое письменное сочинение или
параллельную устную версию. Эти сомнения, обусловленные
различиями между ПРП и MP, по мнению голландского ученого, мог
бы устранить тщательный сравнительный анализ обоих текстов
[461, с. 3].
Это сравнение ПРП и MP было осуществлено независимо
Друг от друга английским малаистом Э. Хи-ллом <[84] и
голландским ученым А. Тэу [493]. Оба исследователя .установили одни и
75
те же факты, но дали им совершенно различную интерпретацию.
Соотношение обеих хроник оказалось значительно более
сложным, чем полагал Р. О. Уинстедт, видевший в соответствующих
главах MP простой парафраз ПРП и даже называвший
малаккского хрониста плагиатором. Действительно, значительные части
ПРП и MP весьма близки, а порой совпадают текстуально7.
Однако наряду с чертами сходства при вполне естественной
большей подробности и детализированности пасейской хроники, ПРП
и MP обнаруживают существенные различия, а порой
диаметрально противоречащие друг другу факты и их интерпретации. При
этом сразу бросается в глаза, что MP трижды заменяют
выгодное для Пасея описание событий, представленное в ПРП,
невыгодным, а «положительную версию» их относит к истории Ма-
лакки8.
Таким образом, MP частично совпадает с ПРП, частично дает
более краткое, чем малаккская хроника, изложение событий,
частично вступает с ПРП в прямой конфликт. Оба исследователя
отметили это обстоятельство, но лишь Э. Хилл сделал из него
правильные, на наш взгляд, выводы.
Английский ученый считал, что текстуальная близость ПРП и
MP позволяет говорить о том, что автор малаккской хроники
использовал письменную версию ПРП, сходную (а на наш взгляд,
возможно, почти тождественную) с той, что представлена в
сохранившейся рукописи 1814 г. Радикальные же изменения ПРП,
наблюдаемые в MP, порождены сознательной тенденциозностью
малаккского историографа, стремившегося различными средствами
умалить роль Пасея и показать превосходство над ним Малакки.
Одним из таких средств и было приписывание Малакке славных
моментов пасейской истории и подстановка на их место в
истории самого Пасея эпизодов уничижительного свойства,
создававших резко контрастный эффект. Тем самым различия хроник
указывают вовсе не на использование какой-либо другой версии ПРП
(письменной или устной), а на обычное для малайской
историографии явление, которое можно было бы назвать «войной книг».
А. Тэу, также отмечающий противостояние MP и ПРП,
склоняется к другому объяснению различий между двумя сочинениями.
Прежде всего, считает он, для MP характерно весьма
уважительное отношение к Пасею. Один раз Пасей в MP назван в списке
.величайших островных государств своего времени после Маджа-
пахита, но перед Малаккой, в другой раз, так же как и
государство Ару, он выступает «ровней» Малакки. Пасейцы помогают
малаккцам в борьбе с макассарскими пиратами, причем их
военачальник оказывается храбрее малаккского флотоводца. К
помощи Пасея прибегают малаккские султаны для решения
теологических вопросов. Все это делает сознательную дискредитацию
Пасея в малаккской хронике маловероятной.
Голландский ученый стремится прказать, что восхождение
ПРП к MP не менее вероятно, чем восхождение MP к ПРП. ПРП
дает панегирически приукрашенное и полное литературных услов-
76
яюстей описание событий, тогда как MP отличается гораздо более
живым и реалистическим стилем изложения. Это, возможно,
свидетельствует о большей историчности MP и вызывает сомнения в
том, что ПРП предшествовала MP. Поскольку А. Тэу полагает,
что какая-то версия MP возникла около 1450 г., то ответом на ее
пасейские главы могла послужить ПРП, созданная для
прославления Пасея. Тем самым отпадает аргумент Р. О. Уинстедта, что
ПРП едва ли была написана после 1524 г., а потому
предшествовала MP, сложившейся в 1536 г.
Наконец, А. Тэу указывает, что автор ПРП не упоминает ни
о Малакке, ни о ранней малайской истории, ни об Искандаре
Двурогом — предке малайских правящих домов, что свидетельствует
о его незнакомстве с MP. В то же время MP хранит молчание
об истории пасейского царевича Туна Браим Бапы и о маджапа-
хитском завоевании Пасея, о чем, как считает исследователь, в них
непременно было бы рассказано, если бы автор MP располагал
списком известной нам ПРП. Исходя из этого, А. Тэу приходит
к выводу, что прямая связь MP и ПРП крайне сомнительна.
Скорее оба сочинения фиксируют две параллельные традиции севе-
росуматранских исторических преданий, лишь в конечном счете
восходящие к общему источнику.
В заключение голландский ученый вслед за Р. Рольфинком
отвечает значительную гетерогенность ПРП и высказывает
предположение, что эта хроника представляет собой незавершенный
фрагмент большего целого, а возможно, собрание историй и
легенд, происходящих из различных источников,
скомпилированное после 1524 г. где-то за пределами Пасея.
Аргументация А. Тэу едва ли обладает должной
убедительностью. Во-первых, она не учитывает крайней полемичности МРГ
:и к тому же полемичности искусной и тонкой. Хроника создает
явное впечатление, что, например, упоминаемые А. Тэу
«уважительные» сйиски великих держав Малайского архипелага
приводятся в ней лишь для того, чтобы показать, что Малакка в конце
гконцов сравнивается с ними или превосходит их. Как именно
«торжествует» она над возглавляющим список Маджапахитом, будет
показано ниже (см. гл. III). Превосходящим силам Ару наносится
-серьезное поражение при малаккском султане Алааддине. Даже
Китай, к которому MP проявляют уж никак не меньше пиетета,
чем к Пасею, подвергается унижению за нежелание признать
равенство Малакки. Такова общая тональность хроники. Осуждение
-Же «чрезмерных» притязаний именно Пасея вполне очевидно не
только в эпизодах MP, где пасейские султаны требуют от
иностранных послов, в частности малаккских, не «приветствия», а «по-
гкланения» (т. е. признания более -низкого статуса своего государя
(ср. \[493, с. 231]), но и в рассказе о том, как низложенный па-
сейский правитель был возведен малаккцами на престол и, сверг-
гнутый вторично, отказался признать зависимость от Малакки Г164,
с. 133].
Исторически стремление автора MP принизить роль Пасея
77
и родовитость пасейской династии вполне понятно. В первой
трети XV в. Пасей был важнейшим торговым соперником Малаюда
(подробности см. в [531, с. 158—162]), старейшим и поэтому
особенно почитаемым в малайском мире мусульманским центром —
роль, на которую Малакка также все более активно претендовала.
Наконец, несмотря на попытки вмешаться в борьбу за пасейский:
трон, Малакке так никогда и не удалось превратить это
государство в своего вассала.
Два других свидетельства уважения к Пасею, приводимые
А. Тэу, также не безусловны. Вполне вероятно, что пасейский
военачальник ставится выше малаккского лаксаманы
(флотоводца) не в силу уважения к Пасею, а в связи с характерной для
MP тенденцией умалить заслуги лаксаманы, для тога чтобы
оттенить превосходство над ним бендахары. Позднее именно в
пасейской кампании особенно ярко раскрылось их противостояние.
История же с вопросами к пасейским богословам и вовсе ничего
не доказывает, тем более что Р. Рольфинк отметил в палембанг-
ской версии MP явную насмешку над полученным ответом, чта
по-новому освещает этот эпизод и в других версиях {462]. Таким
образом, нарочитая дискредитация истории Пасея в MP вполне
вероятна.
Ни о чем не говорят и стилистические различия между MP и:
ПРП. Нет ничего удивительного в том, что автор ПРП, пасеец^
создавая хронику к вящей славе родной страны, избрал более
панегирический и украшенный стиль, тогда как автор MP,
житель Малакки, отнюдь не ставивший перед собой такую задачу,,
вполне мог прибегнуть к своей излюбленной живой и
юмористической манере. При этом большая историчность пасейских
эпизодов MP сама нуждается в доказательстве9. В любом случае
выбор стилистики повествования даже в средневековой литературе
в определенной степени зависел от пристрастий и эрудиции
автора. Не следует также забывать об особом месте стиля MP в
малайской литературе.
Устанавливая, каким именно источником пользовался автор
MP, важно знать, был ли он знаком с теми частями известной
нам версии ПРП, которые не излагаются в его хронике. Все
исследователи выделяют в ПРП три части.
Первая из них описывает историю основания и исламизации
Пасея, вторая — трагическую судьбу царевича Туна Браима Бапы,
которого погубил отец — султан Ахмад, третья — захват Пасея
Маджапахитом и маджапахитские завоевания на Малайском
архипелаге /[461, с. 4; 84, с. 32—35; 493, с. 233—234].
События второй и третьей частей ПРП в MP не описываются,
однако трудно с полной определенностью утверждать вслед за
А. Тэу, что автор MP ничего о них не знал.
Прежде всего этико-государственная концепция, пронизывающая ПРП и
раскрывающаяся лишь в единстве первой и второй частей хроники, чрезвычайно
близка к той, что характерна для MP как в идеологическом, так и в
композиционном плане.
78
Далее, MP не только упоминает пасейского султана Ахмада — одного из глав*
шых героев второй части ПРП, но и приводит предсмертное наставление его отца,
играющее в ПРП роль связки между частями. В MP, как и в ПРП, такого рода
назидания, всякий раз специфичные, как бы предрекают дальнейший ход событий,
ибо, не исполненные сыновьями, приводят к последующему конфликту. Так, в
-MP, наставляя своих сыновей, основатель династии султан Самудры-Пасея
предостерегает их от алчности, призывает не посягать на жен и дочерей подданных,
жить в согласии и не ссориться. Один из братьев похищает наложницу другого,
из-за чего гибнет его верный везир, а сам он попадает в неволю fl64J. Наставляя
-султана Ахмада, отец учит его быть внимательным к просьбам подданных, во
-всех делах советоваться с везирами, не гонять попусту слуг, не спешить с
расправами и не поступать с людьми несправедливо [84]. Во второй части ПРП
султан Ахмад нарушает именно эти заветы. Весьма точно воспроизведенные в MP
•слова назиданий отца Ахмада, возможно, свидетельствуют о том, что в
распоряжении автора малаккской хроники был текст ПРП со второй частью.
Кроме того, один из героев MP, похваляясь своей силой, произносит почти
те же слова, что и царевич Тун Браим Бапа во второй части ПРП («пусть
выйдет против меня весь Пасей, пусть выйдет против меня вся Малакка») [84; ср.
164].
Наконец, описанный в MP слуга с прибором для бетеля в руках, бегущий по
яятам за скачущим на коне султаном Махмудом, удивительно напоминает
военачальника с зонтом Туна Браима Бапы, точно так же ни на шаг не отстающего
от лодки царевича, стремительно несущейся по реке [84; ср. 164]. Не исключено,
что данная сцена в MP также навеяна эпизодом из ПРП.
Приведенные схождения MP и ПРП указывают на возможное
знакомство автора MP с протагонистами второй части ПРП,
конфликтом, в который они вступают, и функцией этого конфликта
в социально-этической концепции пасейского хрониста.
Итак, имеются достаточно веские основания считать, что
автор MP сознательно, под малаккским углом зрения
трансформировал текст первой части ПРП, а также некоторые косвенные
данные о его знакомстве со второй частью пасейской хроники.
Все это позволяет, определяя взаимоотношения MP и ПРП,
согласиться скорее с Р. Уинстедтом и Э. Хиллом, чем с А. Тэу.
Если же обе части ПРП были известны автору MP, то ПРП
сложилась по крайней мере до 1536 г. и, скорее всего, до 1511-го.
Исходя из отсутствия в ПРП упоминаний о Малакке,
Сингапуре, женитьбе малаккского султана на пасейской царевне,
бегстве пасейского правителя в Малакку после восстания против него
и вообще о каких-либо событиях пасейской или малаккской
истории XV в., Э. Хилл считает датой окончательного сложения
ПРП конец XIV в. Этим, однако, он не ограничивается и создает
концепцию поэтапного формирования памятника.
Ранее всего, полагает он, сложилась первая часть ПР.П. Быть может, уже
около 1330 г. существовала ее древнейшая редакция, которая содержала ту же
генеалогию пасейских правителей, что и MP, и, подобно последним, была
написана менее арабизированным языком, чем текст, дошедший до нас. Первая
редакция после восстановления самостоятельности Пасея была увезена в его новую
-столицу, а оттуда попала в Малакку. Вторая редакция этой части ПРП,
известная по рукописи 1814 г., сложилась между 1350 и 1355 гг. ю и принадлежала
перу ортодоксального мусульманина, склонного демонстрировать свою эрудицию
ai знание арабского языка.
Наименее исторична, по мнению Э. Хилла, вторая часть ПРП, представляю*-
79
щая собой эпическое произведение о царевиче Туне Браиме Бапе. Для этой
части характерны фольклорные по типу стилистические повторы, архаическая
лексика, включение нерифмованного стиха, меньшая, чем в первой части, арабиза-
ция языка, но вместе с тем и свободное использование довольно редких
заимствованных слов |[84, с. 38]. Исходя из этих стилистических различий и резко
отрицательной характеристики султана Ахмада во второй части, Э. Хилл полагает,
что автор первой части не мог быть одновременно создателем второй, и относит
ее написание ко времени после бегства пасейского двора в Пасанган, т. е. около
1360 г.
Особенно многослойной считает 3. Хилл третью часть ПРП. Первый ее
эпизод, идущий вслед за рассказом о планировке Пасея (это, по мнению Э. Хиллаг
либо «постскриптум» к истории Туна Браима Бапы, либо интерполяция), а
также повествование о любви маджапакитской царевны к пасейскому царевичу Абд,
ал-Джалилу и захвате Пасея Маджапахитом приписаны четвертому хронисту на
основе стилистических доводов п. Наконец, еще два автора создали эпизоды о
завоеваниях Маджапахита в островном мире и о народе минангкабау, с помощью
хитрости победившем яванцев. Аргументы в пользу этого предположения, вновь
чисто стилистические, крайне немногочисленны и не обладают достаточной
убедительностью. Вся третья часть, как считает Э. Хилл, была написана между 1380
и 1390 г. Последняя дата и есть время завершения ПРП.
На наш взгляд, концепция формирования ПРП, предложенная
Э. Хиллом, неоправданно усложнена и, по существу, не доказана.
Особенно сомнительна опирающаяся лишь на крайне
немногочисленные наблюдения идея множественного авторства третьей
части. Так, например, использование отдельных яванских слов и
выражений в «яванских эпизодах» малайских произведений —
явление настолько обычное [155, с. 238], что на основе только его
весьма рискованно предполагать, что второй раздел третьей части
принадлежит не тому же автору, что и ее третий раздел.
Выделяя в ПРП различные слои, Э. Хилл не уделяет
должного внимания отмеченному им же стремлению малайских авторов
«придать тексту нетронутый вид» |84, с. 31], т. е. представить
его как некое целостное произведение. Надо сказать, что ПРП как
раз и является таким целостным произведением, отнюдь не
производит впечатления «склеенной» из кусочков и, как уже
отмечалось, обладает единой композицией и государственно-этической
концепцией. Это свидетельствует, скорее всего, о написании ее
окончательного варианта, известного нам, а возможно, и автору
MP, одним лицом. Даже если в распоряжении последнего и
имелся какой-то прототип первой части ПРП, создание или фиксация
второй и третьей частей и согласование всех трех в рамках
целого были делом его рук.
Уже Р. Рольфинк справедливо отмечал гармоничное единство-
первой и второй частей [461, с. 5], в совокупности показывающих,
как следование определенным принципам ведет государство к
процветанию, а нарушение их — к гибели (завоевание
Маджапахитом). Действительно, существовавшие стилистические различия
первой и второй частей, продемонстрированные Э. Хиллом, на наш
взгляд, свидетельствуют не о множественности авторов, а о
характерной для средневековой литературы детерминированности
стиля жанром, проявляющейся, в частности, в стилистической
разнородности, комплексных в -жанровом отношении сочинений
80
[225, с. 60—61]. По нашему мнению, ПРП, подобно написанной-
примерно в то же время и, скорее всего, в том же Пасее
«Повести о Мухаммаде Ханафии», сочетает элементы двух жанров:
династийной хроники и повести (хикаят) в ее героической и
романической разновидностях.
На первый взгляд конец третьей части хроники слабо связан
с двумя ее первыми частями [461, с. 5]. Однако и эта часть
выполняет, как нам кажется, важную функцию в рамках целого.
Э. Хилл вскользь заметил, что финал третьей части производит
впечатление неожиданной развязки {[84, с. 40]. Именно такой
развязкой, или, скорее, эпилогом, она и служит, подчеркивая, что
Пасей удалось завоевать лишь чрезвычайно могущественному,
непобедимому государству, которому все же можно противостоять.,
Понимание ПРП как целостного текста, который, хотя и
вобрал в себя предшествующий материал, был создан или
окончательно отредактирован единовременно, несколько по-иному ставит
вопрос о ее датировке. Едва ли ПРП возникла позже 1511 г. Еще
менее вероятно, что хроника, сугубо отрицательно изображающая:
султана Ахмада, была написана при его жизни. Султан Ахмад был
современником маджапахитского завоевания 1360 г. Не исключено,,
что он же был и инициатором миссии в Китай в 1383 г., вероятно
свидетельствующей о восстановлении независимости Пасея 12.
Итак, ПРП должна была появиться после 1383 г.
Свойственное ПРП и нехарактерное для других малайских
хроник хорошее знание4 географии маджапахитских завоеваний не
позволяет слишком далеко отодвигать время создания этого
памятника от эпохи их осуществления, описанной в 1365 г. в древне-
яванской поэме «Нагаракертагама», и от смерти царя-завоевателя
Хаям а Вурука, последовавшей в 1389 г. В то же время ПРП,
возможно, испытала на себе влияние «Повести об Амире Хамзе», в
которой, как и в ее персидском оригинале, упоминается
огнестрельное оружие, ставшее известным в Иране в 1387 г. )[287]. Если
последнее предположение верно, ПРП едва ли появилась ранее
рубежа XIV—XV вв.— периода правления наследника Ахмада —
Зайн аль-Абидина, умершего либо в 1405 г. [317, с. 260], либо
в 30-е годы XV в. .[531, с. 157; 435, с. 293, 313]. Представляется
вполне вероятным, что именно при этом султане, укреплявшем
политическое влияние Пасея и заинтересованном в таком объяснении
разгрома своей страны, кото-рое давало бы оптимистические
прогнозы на будущее, ПРП и была написана. Таким образом, рубеж
XIV—XV вв. или начало XV в. и следует считать наиболее
вероятной датой создания ПРП.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Об изданиях и переводах MP см. [4631, с. 301—303].
2 .О Туне Сери Лананге ом., в частности, ,[3159].
3 Ниже в таблице приводятся даты и периоды правления сингапурских ш
малаккских государей.по всем четырем ГС, а также версии У.
б Зак. 147
81
CM*"
~ О
CO
8
со
CO
I I
CO
CM Oi
CO
CO CM
Ю
CO
«
о
эЯ
s
a
s
Ч
H
ч
и
о?
s
я
а>
ч
со
сЗ
О.
Я
•=с
о
а
о
я
0>
S
S
Я
сз
H
я
u
!»
Я
я
я
<D
<L>
CU
(S
I
(M
CM
i
ci
со
CM
CM
^ со
(M CM
Tf 5
Ci
CM
Ю
СО
CM
со
00 t^
"* GO
со со
5
l^ CM
со
i-O
со со
со со
t^ CO I**
со rt« t^
СО -^ Tf
I I
CM
Го
CM
- g
со
СО
ю
со
СО
см
см
см
см
см
см
ч*
см
СО
СО
см
см
ч*
см
о
со
см
s
5
со
о
со
см
со
00
2 4
СО
о> tr^ см
ч* Г^ *-•
-^ -^ ю
со as t>
со ■* ^
со ^ ■**
со
со
ю
см
1—*
ю
ю
см
- ?
со
8
s
00
8
à
со
CM
CM
1
00
со
со
CM
1
со
CM
CM
3
CM
1
со
CM
1
CM
со
со
со
1
*
СО
CM
Tf
со
со
1
со
s?
ч*
t^
со
4
со
со
t*r-
5
4.
I^
со
r^
t^
чф
J.
^1
^
со
Ю
Д
t^
Th
о
^r
Ю
1
со
Ю
со ю
Ю
CM
со
N W (N
00
§3
1
8
СО
CM
CM
1
CM
со
со
CM
t
со
CM
CM
5?
CM
1
со
CM
CM
CM
1
CM
со
CM
À
CM
CM
1
со
CM
со
со
со
1
со
CM
58
ri*
JL
со
со
1
4
So
s?
1
1
00
1
5
1
00
Ю
S
X
сз
i §
CQ
сз
сз
s eu
(D S
H E
и и
eu
«
s
OQ
сз
eu
03
я
СЗ
S s
a»
я s
eu eu
U U
я
CU
<L>
и
и
я
Ч
сз
H
ч
U
Я
<
я
СЗ
и
3 а
I СЗ
£< В
сз
eu
в
I
я
СЗ
s s < s
сз
о
я
я
eu
о
H
ffl
и
сз
>i
и
сз
сз
ч ч
ч
ч
я я
сз сз
H H
ч ч
>> >»
U U
8
82
4 В частности, потомком Иекандара в «Сулалат ас-салатин» Э. Нетсхера
выступает Санг Сапурба, который приплывает на остров Биитан, где правит царица
с весьма странным именем Пермейсури Искандар-шах. Сын Санг Салурбы—-
Нила Утама женится на ее дочери и остается на Бинтане, а его дед с
материнской стороны — Деманг Лебар Даун отправляется дальше. Нила Утама через
некоторое время покидает Бинтан, основывает Сингапуру, дав городу название в
честь льва, которого там увидел, и, лишь поселившись в Сингапуре, принимает
титул Сери Три Буана [415, с. 144—U 45].
5 1. В «бустан ас-салатин» (далее —Б) как и в А/Ш, период правления*
Ариютун-шаха— 3150 лет, в У — ,3l56 лет.
2. В Б, как и в А/Ш, потомок Искандара Двурогого — Терси Бердерас
женится на дочери правителя Амдан Негары — раджи Сулана и имеет от нее
троих сыновей: раджу Хирана, правившего в Индии, раджу Сурана, взятого на
воспитание дедом (т.е. Суданом), и раджу Пандина, государя Туркестана. Суран-
после смерти деда воцаряется в Амдан Негаре. Ему покоряются все страны,.
кроме Китая., против которого он и выступает. По пути в Китай он завоевывает
Гангга Негару и Геланггиу (А/Ш — Ганггайю-Ленггайю, У — Геланг-Гуи),
убивает их правителей — Гангга Шах Джохана и раджу Чулана и женится на
сестре первого Зарис Гангга и дочери второго Вананг (или Унанг) Киу. Затем он.
движется дальше и останавливается у Тумясика. Напуганные китайцы
прибегают к хитрости и спасают свою страну, убедив Сурана, что расстояние до их.
родины бесконечно велико. После этого Суран опускается в подводное царство,,
женится на дочери морского царя, порождает трех сыновей и, возвратившись к.
войску, отправляется в обратный путь. Затем он основывает город Биджаянага-
рам.
В У изложение этих событий существенно отличается. Рассказ здесь
начинается с сообщения о правителе Негапатама радже Шулане, который выступает-
в поход, покоряет страны Гангга Шах Негара, где правит раджа Лингги Шах,.
и Гланг Гун, где властвует раджа Чулин. Убив обоих правителей, но женившись
лишь на дочери Чулина — Онанг Киу, Шулан возвращается домой и основывает
Биджаяна-гар. От брака с Онанг Киу у Шулана рождается дочь Чендана Васис.
На реи Бердерас сватает ее за своего сына Сурана Падшаха, и от этого брака,
рождается трое сыновей: раджа Джиран, правитель Чендрагири Нагары, раджа
Чулан, воспитанный дедом, и раджа Пандаян, правитель Негапатама. После
смерти Шулана Чулан воцаряется в Бидж,а ян агаре и выступает в поход против
Китая. Далее в Б, как и в У, и в А/Ш, следуют эпизоды с хитростью китайцев,,
спуском в подводное царство, браком и рождением трех сыновей от морской
царевны, возвращением. Итак, в У не один, а два завоевателя и два похода, иные-
имена правителей и стран, где они правят, иные брачные союзы, основание Би-
джаянагара до спуска в морское царство и т.д.
&. В. Б, как и в А/Ш, у Сурана от Вананг (Унанг) Киу рождается дочь
Чендана Васис, а от другой жены трое сыновей: Бичитрам-шах, правитель страньг
Чанду Кани, Палду Тани, правитель Амдан Негары, и Нила Манам, правитель-
Биджаянагары: Недовольный тем, что он, старший, властвует в ничтожной
стране, Бичитрам-шах отплывает в море, веяв с со;бой царские регалии. В У события,
излагаются совершенно иначе. Чулан, вернувшись домой, женится на дочери
раджи Кудар-шах Джохана, внучке Нарой (Турси) Бердераса, и у него рождается-
сын Адираджа Рама Мудалиар, «потомки которого доныне правят в Биджаяна-
гаре».
4. .В Б, как и в У, предками малайских правящих домов названы нисшедшие
на гору Сегунтанг Санг Супраба Хинди (в У — Санг Сапурба), Санг 'Баниака
(в У — Санг Маниака) и Санг Нила Утама (в У—Санг Утама). Первый из них
стал правителем страны минангкабоу, второй — Танджунг Пуры, третий —
государем Палембанга и основателем сингапурско-малайской династии. В А/Ш
рассказ о нисхождении на гору Сегунтанг и основании династий существенно
отличается. Однако в Р, как и в А/Ш, имеется отсутствующее в У сообщение о мече
Семанданг Кини и печати Кемпа, с которыми опустились царевичи, и в отличие
от У не названы собственные имена царевичей, а даны лишь имена, принятые ими-
после воцарения.
5. В Б Санг Утама женится на правительнице Бинтана, а в А/Ш — на доче-
6*
83
ри правительницы Бинтана (возможно, это различие — результат ошибки
переписчика). В У никаких упоминаний о бинтанском браке Санг Нилы Утамы нет.
Соответственно наследник государя— Сери Пикрама Вира в У рождается от
его палембангской жены Ван Сендари, в Б и А/Ш от бинтанской царицы или
ее дочери. Тем самым в Б„ как и в А/Ш, подчеркивается роль бинтанских связей
сингапурско-малаккской династии, что хорошо '.согласуется с джохороцентризмом
А/Ш.
6. В iB, как и в А/Ш, Сери Пикрама Вира женится на дочери келингского
раджи, в У — на внучке царицы Бинтана.
7. В Б, как и в А/Ш, список правителей от Искандар-шаха до султана Му-
:хаммад-шаха полностью совпадает: Раджа Ахмад (-Раджа iBecap Муда),
Раджа Тенгах, Раджа Кечил Бесар (Мухаммад-шах) ; в У этот 'список иной:
Раджа Кечил Бесар (Султан Мегат) и Раден Тенгах (Мухаммад-шах).
8. В Б и А/Ш Раджа Тенгах и его братья Раден Багус и Раджа Аном (Б—
Ину) женятся на трех дочерях бендахары Туна Перпатиха Путиха; в У никаких
упоминаний об этом браке нет.
19. Согласно Б, Искандар-шах правил 32 года, согласно А/Ш, он правил
32 года в Сингапуре и 3 года в Малакке; в У данные о периоде его правления
совершенно иные: 3 года в Сингапуре и 120— в Малакке.
10. В Б и А/Ш султан Мансур-шах женится на Ваненг Сари, дочери
побежденного правителя Паханга, и имеет от нее сыновей Ахмада и Мухаммада. В У
■отсутствует упоминание о браке султана с пахангской царевной, -а Ахмад и Му-
.хаммад — дети Мансур-шаха от сестры Сери Нары Дираджи.
11. В iB и А/Ш сын Мансур-шаха — Раден Геланг гибнет от руки человека,
-впавшего в амок. Этого эпизода нет в У, и Рату ди Келанг, тождественный Ра-
дену Гелангу (он именуется в У также Раджа Раден), наследует малаккский
престол, приняв имя Алааддин Риайат-шах.
12. В Б и А/Ш Алааддин Риайат-шах — сын султана Мансур-шаха от сест-
гры (Б — дочери) бендахары, носящий имя Раджа (Хусейн. В У Раджа Хусейн
вообще не упоминается.
13. В Б и-А/Ш Ма-лакка завоевывает княжество Кампар при Мансур-шахе,
в У — при Алааддине Риайат-шахе.
14. В Б и А/Ш упоминается об отправлении раджи Мухаммада, сына
Мансур-шаха, для встречи с братом в Паханг; в У такое упоминание отсутствует.
15. В Б и А/Ш одинаковый порядок перечисления жен султана Алааддина
Риайат-шаха и тождественный список его детей. Как и в А, в Б сначала названы
дети от царевны, затем от Тун Наджи, последних трое: старшая дочь Путри
Хитам, сын Махмуд и младшая дочь 'Фатима. В У порядок перечисления жен и
список детей иной: сначала дети от Тун Наджи, число которых не указано
(«несколько»), и по имени названы лишь сыновья — Акмад (он же Махмуд) и Абд
.аль-Джалал, отсутствующий в ,Б и А/Ш, затем перечислены дети от царевны.
île. В Б и А/Ш говорится о детях султана Махмуд-шаха от пахангской
царевны (в Б их пять: три дочери и два сына; возможно, это ошибка переписчика
или самого ар-Ранири, в А — две дочери и сын). В У также упоминается о двух
.дочерях и сыне султана от одного из браков, но ничего не говорится о том, что
.их матерью была пахангская царевна.
!17. Б и А/Ш, сообщая о детях Махмуд-шаха от келантанской царевны,
приводят одинаковые имена их дочерей; в У имена этих дочерей не названы.
'18. В Б и А/Ш, в отличие от У не упомянут брак Махмуд-шаха с Тун Вирах,
дочерью лаксаманы. В У от этого брака рождается дочь Раджа Деви. В Б и А/Ш
'Раджа Деви — дочь келантанской царевны. Однако, возможно, та и другая
дочери носили одинаковые имена.
6 Возможно, Р. О. Уинстедт был прав и в предположении, что замена
последних глав MP в редакции '1636 г. сухим «джохорским продолжением», характерная
для списков, входящих в «длинную» версию хроники j[46l3', с. ЗЮ8<— 309], была
осуществлена тем же джохорским редактором Щ12 т. (Туном Сери Ланангом).
Помимо того что продолжение доходит примерно до Ц6И2 г., о котором идет речь в
предисловии к MP, один из копиистов, судя по колофону [139, с. 3110], читал его
в 16-73 г. (во время нападения Джам(би на Джохор), а ар-Ранири в 1ДО40 г.,
по-видимому, из этого приложения почерпнул сведения о генеалогии правителей Па-
84
ханга 19]. Таким образом, насколько можно судить, «продолжение» существовало
до XVIII в., которым Р. Рольфинк датирует создание «длинной»1 версии [463,
7 Э. Хилл особо подчеркивает сходство -начальных эпизодов ПРП и MP
(начиная от ссоры Мер axa Силу, основателя северосуматранского государства Са-
тиудра, с братом и кончая миссией шейха Исмаила, обратившего Самудру в
ислам) и пишет о них: «Определенные фрагменты обоих ([текстов] содержат почти
одинаковые слова, идущие в одном и том же порядке... нет сомнения, что автор
.MP пользовался письменным источником, очень сходным с первой частью (ПРП —
В. £.), в том виде, в котором мы знаем ее сейчас» [8,4, с. 37]. А. Тэу указывает на
особую близость последних эпизодов, представленных как в ПРП, так и в MP
(в них описываются взаимоотношения правителей Самудры и Пасея), и считает,
что в данном случае действительно можно говорить о парафразе 1493, с. '2'2!8'—220].
•Он же отмечает, что «оба текста демонстрируют ряд поразительных совпадений,
причем даже в выборе слов» [406, с. 1200].
8 Важнейшие различия между хрониками, сформулированные на основе
исследований Э. Хилл а и А. Тэу, таковы.
1. В MP отсутствует мифологическая часть ПРП, описывающая
сверхъестественное происхождение основателя династии 'Саму!дры-Пасея.
2. Пасей в ПРП выступает первым в малайском мире мусульманским
государством. В ислам его обращает сам пророк Мухаммад, явившийся во сне
правителю Самудры, который просыпается, зная наизусть Коран. В MP Самудра —
шоследнее из северосуматранских государств, исламизированных миссионерами, а
история таинственного обращения правителя явившимся ему во сне пророком Му-
хаммадом, содержащая множество пасейоких деталей, отнесена к малаккскому
султану Мухаммад-шаху (1424—1444).
3. Легенда об основании Пасея на месте, где оленек обратил в бегство
собаку, сильно приглушена в MP, но дана подробно в другом месте — как история
•основания самой Малакки.
4. Эпизод, повествующий о победе пасейцев над вторгшимися в их страну
сиамцами, играющий важную роль в ПРП, заменен в MP позорным сообщением о
пленении сиамцами пасейского султана, который вынужден служить птичником
у «неверных». В то же время рассказ о первой войне малаккцев с сиамцами и
победе малаккцев обладает рядом черт, сходных с историей из ПРП.
5. Описанное в ПРП сватовство пасейского правителя к дочери государя Пер-
лака, во врем'я которого пасейский везир проявляет свою мудрость, в MP
превращается в рассказ о глупом везире, неспособном отличить достойную своего
повелителя невесту от девушки более низкого, чем он, звания.
16. В ПРП и MP даны несколько различные генеалогии династии Оамудры-
Пасея. Эти различия, возможно, возникли в .результате превращения в ПРП
одного и того 1же лица i(пасейского султана Мухаммада) в двух — Малика ат-Тахира
и Малика аль-Махмуда [84, с. 1Г6—19] — либо были призваны принизить статус
пасейской династии в сравнении с династией малаккской [493, с. 230}. Последняя
-гипотеза подтверждается, на наш взгляд, и тем, что в MP отсутствует
мифологическая часть (ПРП и основатель пасейской династии выступает человеком без
рода и племени (ср. (51311, с. 244]).
7. В MP отсутствует ряд менее значительных эпизодов, имеющихся в ПРП
(замечание о статусе iDapyca и Пасея, об отыскании золота индийским
предсказателем и др.), что, по мнению Э. 'Хилл а, также преследует цель умалить
значение Пасея. Некоторые же рассказы в MP, близкие к ПРП, акцентируют моменты,
■рисующие пасейских правителей в невыгодном свете. Таков, например, эпизод о
•конфликте между государем Самудры —Маликом аль-Мансуром и государем Па-
'Сея — Маликом ат-Тахиром [84, с. 1189}.
9 Пока что можно предполагать большую достоверность лишь генеалогии
пасейских правителей в MP i[410). Однако появление ее в MP именно в таком виде
:как Э. Хилл, так и А. Тэу объясняют с помощью не столько исторических,
сколько текстологических гипотез.
10 Подтверждение этой даты английский ученый видит в упоминании в ПРП
■о червях геланг-геланг, по его мнению (не слишком убедительному) содержащему
намек на Гагеланг — государство на Яве, название которого, как отмечает индо-
-5
незийский ученый Пурбочороко, исчезает в повестях о Панджи около 1360 г. m
замещается топонимом Ураван [443, с. 376iJ.
11 К их числу относятся: исчезновение архаической лексики, включение пан-
тунов, видовые названия судов вместо родового — корабль в предыдущих частях.
11(2 Если учесть, что арабский путешественник Ибн Баттута в 13415—(1346 гг.,.
как полагают, застал на троне именно этого правителя, причем уже немолодым
(84,1С. 212], то в ШЗ г. Ахмад 'был весьма стар.
ГЛАВА III
состав раннемусульманскои
малайской литературы
1. ДАННЫЕ ХРОНИК О СОСТАВЕ МАЛАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КОНЦА XIV —НАЧАЛА XVI в.
«Повесть о раджах Пасея» и «Малайские родословия» —
первая в косвенной форме, а вторые часто и в прямой — содержат
указания на знакомство их авторов со многими произведениями
малайской литературы раннемусульманского времени. При этом
существенно, что литературные данные обеих хроник в значительной
степени совпадают и, следовательно, состав малайской
словесности, реконструируемый на их основе, может быть с достаточной
уверенностью распространен на весь раннемусульманский период,
ибо ПРП фиксирует его начальный период, a MP — конечный.
Остановимся подробнее на историко-литературных сведениях,
которые содержатся в ПРП. Недавно Л. Бракел '[299, с. 10, 11,
28] обратил внимание на то, что в военных описаниях ПРП
заметно влияние «Повести о Мухаммаде Ханафии». Учитывая, что
малайская версия этой повести, скорее всего, сложилась в Пасее в
конце XIV в. [66, с. 56—67], ее воздействие на ПРП можно
считать вполне вероятным. В то же время данные ПРП, в свою
очередь, подкрепляют датировку Л. Бракела.
Два описания из второй части ПРП, возможно, восходят к
другому литературному источнику — «Повести об Амире Хамзе»,
которая, как и «Повесть о Мухаммаде Ханафии», была переведена
с персидского. Первое из них — очередной рассказ о силе
царевича Туна Браима Бапы, наблюдавшего за схваткой двух борцов.
Когда эта схватка закончилась безрезультатно, один из борцов
сказал царевичу:
«„О господин мой, если бы не страшило меня обвинение в измене, я
померился бы силой и с вами". Услыхав те слова Си Пахат Путара, царевич
усмехнулся, отложил сеть и вышел на берег. Потом он сел, вытянув ноги, и приказал Си
Пахату Путару оторвать их от земли. Тот стал приподнимать ноги Туна Браима
Бапы, однако же не только приподнять — сдвинуть их с места не мог, хотя так
напрягался, что из всех его пальцев закапала кровь. А Тун Браим Бапа лишь
шевельнул ногой, и Си Пахат Путар кубарем полетел наземь, словно древесный
листок, сорванный ветром» [84, с. 88].
В «Повести об Амире Хамзе» рассказывается о заносчивом
борце Тахире, одолевшем всех соперников, бороться с которым
выходит юный Амир Хамза:
87
«При тех словах Умара Умайи Амир Хамза выступил вперед и стал напротив
борца Тахира. Когда же перед ним остановился, выставил вперед ногу и сказал:
„О богатырь, если ты вправду мужчина, оторви мою ногу от земли..." Услыхав те
слова, Тахир пришел в ярость, кинулся к Амиру Хамзе и, ухватив его за ногу,
принялся ее поднимать. Но хоть от натуги у него из-под ногтей потекла кровь,
оторвать его ногу от земли так и не смог и, выбившись из сил, отпустил ее.
А Амир Хамза, когда пришел ело черед, протянул руку, схватил Тахира за ногу
и, подняв на воздух, принялся вертеть над головой. После же швырнул оземь
с такой силой, что переломал все кости и вышиб из черепа мозг» [150, с. Г32].
Весьма значительным, хотя и не столь ярким, сходством
обладают описания вонзившегося в землю копья Туна Браима Бапы
и скрывшейся в земные недра стрелы Амира Хамзы (ср. {84, с. 93,.
и 150, с. 138]).
Р. О. Уинстедт относил к числу источников ПРП еще
несколько литературных произведений. По его мнению, содержащиеся в
повести мотивы царевны, явившейся на свет из ствола бамбука,
а также ненависти султана Ахмада к сыну, в которого по
портрету влюбилась маджапахитская принцесса, указывают на
знакомство автора с малайской версией «Рамаяны». Описание бегущих
женщин (в действительности лишь одной женщины), наспех
одетых и не успевших причесаться, восходит к пьесам на мотивы
«Махабхараты» {196, с. 182], а имя одного из персонажей — мегат
Скандар — «свидетельствует о том, что легенда об Александре
была известна в Пасее в XIII в.» ,[196, с. 181].
Как ни соблазнительна гипотеза о влиянии всех этих
сочинений на ПРП, основания для нее все же слишком слабы. После
работ голландского исследователя Я. Раса [125, с. 81—99] мотив
«царевны из бамбука» уже не может считаться достаточным
аргументом для установления связи с «Повестью о Сери Раме».
Не менее точные аналогии к описанию «бегущих женщин» и более
точные к мотиву «влюбления по портрету» обнаруживаются в
повестях о Панджи (см. ниже). Имя «Скандар» — недостаточное
основание для вывода о знакомстве Пасея XIII в. с легендой об
Александре; повесть о нем была переведена в Пасее лишь в
начале XV в. Интересно, что все упомянутые Р. О. Уинстедтом
сочинения стали, по-видимому, известны в XV в. и в Малакке.
В MP, в частности, рассказывается, что знаменитый
флотоводец Ханг Туах в юности, мерясь силами со сверстниками,
закатывал, бывало, рукава и презрительно восклицал: «Ну-ка, Лаксамана
(брат Рамы.— 5. £.), сразись со мной!», за что и был прозван
Лаксаманой (впоследствии это прозвище стало официальным
званием малайских адмиралов) ,[164, с. 85—86]. Судя по той же
хронике, смотритель слонов малаккского султана носил титул
Сери Рама.
Литературные и театральные версии другой санскритской
эпопеи — «Махабхараты» — труднее с определенностью отнести к
раннемусульманскому периоду. Герои ее упоминались еще в
надписи на жертвенном столпе с Южного Калимантана, датируемой
V в., и в «хартии» IX в. из Наланды (Бенгалия), сообщавшей об
основании здесь шривиджайским правителем буддийского мона-
88
стыря [[505; 311, с. 160—162]. Оба упоминания, однако, не дают
оснований предполагать, что в древнемалайский период
создавались произведения на сюжет эпопеи.
Дошедшие до нас рукописи малайских версий написаны
арабским шрифтом, а потому не могли появиться ранее конца XIV—
XV в.; содержание же их указывает на то, что к санскритскому
источнику они, несомненно, восходят через яванское посредство.
Первоначально считалось, что ранние малайские повести о героях
«Махабхараты» представляют собой переработки утонченных
древнеяванских поэм—какавинов (аналог санскритских кавья)
if500; 354, с. 128], язык которых — кави, как полагали, был непо-
нятен уже в XV в. i[196, с. 75].
Со временем, однако, выяснилось, что знание кави сохранялось
б среде яванской культурной элиты значительно дольше, возможно
вплоть до XVIII в. [454, с. 215—217], и, что еще важнее,
малайские версии обнаруживают заметное сходство с пьесами
флаконами) яванского теневого театра ваянг пурва, основу репертуара
которого составляют яванские переработки «Махабхараты» (см.,
например, )Г240, с. 329—336]). К тому же большое число малайских
повестей на мотивы санскритского эпоса не находит аналогий в
какавинах и явно представляет собой плод творчества режиссеров
и кукловодов этого театра — далангов.
Все же влияние в конечном счете традиции какавинов на
некоторые из этих повестей (в особенности на «Повесть о
победоносных Пандавах») вполне вероятно. Как становится все
очевидней (см., например, J448, с. 442]), лаконы ваянга претерпели
длительную эволюцию и первоначально, подобно пьесам,
разыгрывающимся и поныне на острове Бали J350, с. 421, 426],
непосредственно основывались на какавинах и были гораздо
ближе к ним по содержанию. Даланги во время представления
строго следовали сюжетам древнеяванских поэм и к тому же
рецитировали большие фрагменты из них, которые тем или иным
способом (часто в репликах «божественных шутов» — слуг
главных героев) переводились на современный язык. О пении
какавинов во время представления и их переводе сообщается, в
частности, в среднеяванской поэме второй половины XVI в. «Вангбанг
Видейя» [130, с. 35—38, 186—189]. Эта же практика могла
существовать и в маджапахитском теневом театре, с которым
малайцы XIV—XV вв. были знакомы и записи репертуара
которого положили начало жанру малайских «театральных»
повестей.
Таким образом, для решения проблемы датировок ранних
малайских версий «Махабхараты» не столь уж существенно,
восходят они непосредственно (или опосредованно) к какавинам либо к
подобным пьесам «старинного стиля». Важнее, что эти версии едва
ли обязаны своим происхождением новояванским пьесам,
появившимся во второй половине XVI в. [449, с. 60].
Недавнее исследование Л. Бракела [301, с. 153—158]
-позволяет с большей определенностью установить источник древнейше-
89
го из малайских произведений на сюжеты «Махабхараты» —
«Повести о победоносных Пандавах». Л. Бракел показал, что эта
повесть основывается »не на какавине «Бхаратаюддха» («Война
Бхаратов»), созданном яванскими поэтами Мпу Седахом и Мпу
Панулухом в 1157 г., а на маджапахитской версии этой поэмы,
которая, судя по упоминаниям в какавине «Сутасома» и древнесун-
данском сочинении «Буджанга Маник», сложилась во второй
половине XIV — начале XV в. и, как и малайское сочинение, носила
название «Победоносные Пандавы». Именно вторую половину
XIV в., когда на севере Суматры уже существовало мусульманское
княжество Пасей, где и сформировался сам жанр малайских
повестей (хикаят), а на юге острова расцвет государства Адитьявар-
мана знаменовал апогей яванского влияния на малайский мир,,
исследователь считал наиболее вероятной датой перевода
«Победоносных Пандавов» на малайский язык. В качестве же даты, позже
которой повесть не могла быть создана, он называл 1638 г., когда
«Повесть о победоносных Пандавах» упоминается в сочинении
ар-Ранири «Бустан ас-салатин» («Сад царей»).
Думается, однако, что знакомство малайцев с циклом
Пандавов не следует отодвигать позднее первой половины XVI в. Об этом
свидетельствуют, в частности, «Малайские родословия», в
которых один из персонажей носит имя Джакнака (т. е. Джанака —
Арджуна, третий из братьев Пандавов) '[164, с. 136], а другой —
имя Раджуна Тапа [164, с. 81], т. е. Арджуна-отшельник,
вызывающее ассоциации с древнеяванской поэмой «Арджунавиваха»
[121] и пьесами на ее сюжет (см., например, |[349, с. 143—145]) \
мотивы которых встречаются в малайской «Повести о пяти
Пандавах» |[354, с. 128].
К этому можно добавить два других свидетельства. Вскоре
после захвата португальцами Малакки Томе Пиреш писал, что ее
жители «увлекаются представлениями на яванский манер» [72,
т. II, с. 268], а как известно, еще задолго до начала XIV в.
сюжеты подобных представлений обычно черпались из яванских
версий «Махабхараты». Кроме того, в написанных в середине XVI в.
частях хроники «Повесть о Банджаре» [125, с. 196] упоминается
об основывавшемся на «Махабхарате» театре ваянг пурва и, в
частности, о правителе Пангеране Тумангунге, убитом в то время,
когда он показывал «Пьесу о победоносной войне» [125, с. 152],
события которой описаны в малайской «Повести о победоносных
Пандавах».
Таким образом, первые версии «Махабхараты», восходящие
к яванским литературным и театральным произведениям,
появляются в малайском мире в конце XIV в. и получают известность
в XV — начале XVI в., что и позволяет включить их в рамки ран-
немусульманского периода.
Наряду с вариациями на темы санскритских эпосов в Малакке
были достаточно популярны по крайней мере три мусульманских
по характеру сочинения. Первое из них — малайская
«Александрия»— «Повесть об Искандаре Двурогом» [106; 99], не проста
90
упоминаемая в MP («и встретились два войска, как
рассказывается о том в „Повести об Искандаре"» jfl64, с. 43]), но оказавшая
на них столь сильное влияние, что главы 1—2 хроники в
определенном смысле могут быть названы псевдоповестью об
Александре.
Два других произведения — это уже известные нам «Повесть
о Мухаммаде Ханафии» и «Повесть об Амире Хамзе». О том,
насколько высоко эти повести ценились, свидетельствует
упоминание о них в рассказе MP о ночи накануне решительного штурма
Малакки португальцами:
«Тем временем наступила ночь, военачальники и юноши из знатных семей
остались нести стражу в зале для приемов и так говорили друг другу: „Не лучше
ли, чем сидеть без дела, почитать какую-нибудь повесть, дабы нам была от того
польза". Молвил Тун Мухаммад по прозвищу Верблюд: „Справедливы ваши
слова, о господа. Давайте попросим у государя „Повесть о Мухаммаде Ханафии".
Сказали тогда те знатные юноши Туну Арье: „ Ступайте, господин, и повергните
к стопам его величества просьбу дать нам „Повесть о Мухаммаде Ханафии",
дабы мы извлекли из нее пользу — ведь завтра франки пойдут на штурм". Тун
Арья вошел к султану Ахмаду, почтительно доложил об их просьбе, но тот дал
им „Повесть об Амире Хамзе" и молвил: „Дал бы я „Повесть о Мухаммаде
Ханафии", да боюсь, не достанет им мужества сравниться с ним. Довольно будет,
если не уступят в храбрости Хамзе, потому и даю повесть о нем".
Тун Арья вышел от государя, неся „Повесть об Амире Хамзе", и передал
знатным юношам слова султана Ахмада. Они же замолчали, не зная, что
ответить. Один лишь Тун Исак Бераках сказал, обратясь к Туну Арье: „Передайте его
величеству, что он не прав, это ему подобает сравниться с Мухаммадом Ханафи-
ей, нам же — с полководцами из Буниары. Если он будет храбр, как Мухаммад
Ханафля, мы не уступим в мужестве буниарцам". И Тун Арья почтительно
передал султану Ахмаду слова Туна Исака Беракаха, тот же улыбнулся и дал ему
„Повесть о Мухаммаде Ханафии"» [164, с. 191—192].
MP содержат некоторые данные о собственно мусульманской
литературе у малайцев в конце XIV — начале XVI в. Судя по
сообщениям этой хроники, в Пасее и Малакке изучались арабская
грамматика, богословие и юриспруденция (фикх). В MP
содержатся рассказы об учителях арабского языка и суфийских
наставниках, учениками которых среди прочих были и султаны Малакки
Мансур-iuiax и Мухаммад-шах i[164, с. 127, 157, 177, 191], а также
о некоем Туне Мухаммаде, знавшем арабскую морфологию и
синтаксис и разбиравшемся в фикхе и науке об основах веры
(илму усул) {164, с. 145]. Наиболее компетентными знатоками
богословия у малайцев, по-видимому, считались теологи Пасея;
к ним обращались за разъяснением спорных теологических
проблем jf 164, с. 127—129, 178—179]. Что же касается фикха, то его
влияние ощущается в таком безусловно относящемся к XV в.
юридическом сочинении, как «Малаккское уложение» [107], тогда как
созданный в то же время морской кодекс )[169] еще сохраняет все
черты обычного права.
В обоих центрах малайской культуры пользовались
известностью жития пророка Мухаммада, нередко имевшие шиитскую
окраску. Знакомство с ними подтверждают, в частности, данные
«Повести о Мухаммаде Ханафии», которая не только содержит
91
раздел, повествующий о Мухаммаде, Али и мучениках Хасане и
Хусейне, но и обнаруживает следы влияния «Повести о кончине
пророка» |[66, с. 18—19, 50—51]. О том, что последняя могла
появиться еще в XIV в. в Пасее, свидетельствует обширный
фрагмент из нее, включенный в рукопись Cambridge L. 1.6.5 (вторая
половина XVI в., Северная Суматра) — текст, наиболее близкий к
малайскому архетипу «Повести о Мухаммаде Ханафии». К тому
же, подобно историям Мухаммада Ханафии и Амира Хамзы,
«Повесть о кончине пророка» была, скорее всего, переведена с
персидского языка. По крайней мере Ф. ван Ронкель описал ее как
«одну из многочисленных имитаций персидской „Вафат-наме"» [20],.
Наряду с житиями Пророка малайцы, как можно полагать,,
интересовались и суфийской агиографией. Это видно, в частности,,
из двух рассказов MP. Первый из них посвящен
«многознающему» кади Юсуфу, не желавшему учиться у суфийского наставника
Мауланы Абу Бакара, по однажды случайно увидевшему, что тело
праведника окружает сияние, «точно пламя — фитилек свечи», и с
тех пор ставшему его ревностным последователем {164, с. 129].
Второй повествует о том же кади Юсуфе, который, сам став
суфийским учителем, однажды не впустил в дом султана Махмуд-
шаха, явившегося к нему с многочисленной свитой, но согласился
принять государя в ученики, когда тот, сопровождаемый лишь
двумя слугами, с книгой в руках постучался в его дверь [164„
с. 157]. Такого рода истории весьма характерны для сборников
житий суфийских шейхов. Второй рассказ из MP, например,
обнаруживает сходство с эпизодами из житий Фудайла ибн Ийяда (его
встреча с Харуном ар-Рашидом), Харакани (свидание святого с
Махмудом Газневидом) и др. ,[179, с. 200—202, 274—275]. К
сожалению, нам ничего не известно о том, как именно и в какой
форме (письменной или устной, на арабском, персидском или
малайском языке) распространялась суфийская агиография у
малайцев в XIV—XV вв.
Зато MP приводят название одного из первых систематических
трактатов по суфизму, с которым познакомились в Малакке.
В версии У этой хроники рассказывается: «После этого с корабля
сошел маулана Абу Бакар, привезший книгу „Дурр Манзум"
(Нанизанный жемчуг). Когда он прибыл в Малакку, султан Мансур-
шах оказал ему множество почестей и приказал в торжественной
процессии доставить во дворец».
«И султан Мансур-шах начал учиться у мауланы Абу Бакара, тот же
всячески его прославлял, ибо, обладая просветленным сердцем, государь приобрел
обширные познания. И султан Мансур-шах приказал отослать „Нанизанный
жемчуг" в Пасей господину Пематакану, дабы тот изъяснил его смысл. Господин
Пематакан откомментировал книгу и препроводил ее в Малакку. А султан
Мансур-шах очень тому обрадовался и передал комментарий к „Нанизанному
жемчугу" маулане Абу Бакару. Тому пришлись по душе слова, в которых было
изъяснено значение „Нанизанного жемчуга", и он очень хвалил господина Пематака-
на» [164, с. 127].
Более 'поздние версии MP (Ш, А) позволяют лучше понять»
что представлял собой «Нанизанный жемчуг». Согласно им, эту
92
книгу написал искушенный в суфизме маулана Абу Исхак «из*
наветренных стран» (т. е. с запада — из Индии или Ближнего
Востока). Его сочинение первоначально включало два раздела: один
из них был посвящен сущности Аллаха (зат), а другой — Его
атрибутам (сифат). Затем по просьбе ученика, мауланы Абу Бакараг
Абу Исхак добавил третий раздел, трактующий о делах Аллаха
(аф'ал), и послал Абу Бакара (видимо, из Мекки) проповедовать
суфизм в Малакку :[139, с. 148—149]. По-видимому, «Нанизанный
жемчуг», как и другие ученые сочинения раннемусульманского
времени, был написан не по-малайски, а по-арабски. В связи с
этим не вполне ясно, что именно содержал комментарий Пемата-
кана: более пространное и понятное истолкование текста на
арабском языке или его разъяснение-перевод на малайский.
Наконец, содержание самих ПРП и MP ярко свидетельствует
о развитости у малайцев в XIV—XVI вв. историографии и о ее
специфических чертах.
Наряду с упоминаниями о прозаических сочинениях, MP и ПРП
содержат образцы малайского стиха — как рифмованного (панту-
ны, различного рода песенки «на случай»), так и белого
(эпические клише). Весьма вероятно, что помимо поэзии «малых форм»,
представленной в хрониках, у малайцев в XIV—XVI вв.
существовали и более пространные нарративные поэмы, в частности
исторического содержания.
Не так давно А. Тэу обратил внимание на упоминающиеся в
хронике «Повесть о Патани» поэмы, которые обозначались
термином икат-икатан (шатан — «связка») и исполнялись
театральной труппой при дворе султана Патани, правившего в 1624—
1625 гг. Одна из этих эпических песен, «Сери Рама строит дамбу
через море, чтобы добраться до Лангкапури», упоминается также
в «Повести о Ханге Туахе», в повествовании о событиях XV в., и,
таким образом, могла быть известна еще в то время (если только
упоминание о ней не очередной анахронизм). Насколько можно-
судить по заглавию, быть может, к началу XVI в. относится и
вторая поэма — «Малаккский бендахара Падука Раджа в битве
с португальцами». О том, что такого рода исторические поэмы
возникали по горячим следам событий, свидетельствует рассказ
французского адмирала Болье, посетившего в начале XVII в. Аче
и слышавшего при дворе султана Искандара Младшего певиц,.
прославлявших в своих песнях его боевые походы s[396, с. 142].
Трудно судить, к какой из стиховых форм относились
упоминаемые в «Хикаят Патани» икат-икатан. Напоминали ли они по
рифмовке (а само название жанра указывает на рифмованный стих)
шаир, или длинный «прошитый» пантун (см. с. 359), или тирадные
поэмы типа тех, что распространены и поныне в султанате Ке-
лантан [187, с. 115—120]?
Возможно, как считает А. Тэу, этот термин обозначал вообще
всякое стихотворное произведение. Ответить на этот вопрос могут
лишь дальнейшие исследования. Так или иначе, ни MP, ни ПРП;
не дают оснований для предположения о том, что в Пасее или Ма-
93
;лакке создавались образцы регулярной письменной поэзии на
малайском языке (типа позднейших шаиров). Шаирные строфы,
описывающие сад волшебницы с горы Леданг, обнаруживаются лишь
в редакции MP 1612 г. и отсутствуют в ранней версии У.
По-видимому, в раннемусульманский период на смену поэтическим
жанрам на санскрите, а позднее — древнемалайском языке, но в
санскритских метрах2 еще не пришли новые — литературные, и их
функции даже в придворной среде в тот период исполняли
фольклорные жанры (ср. [224, «с. 46]). Влияние фольклорных жанров
осталось достаточно ощутимым и в наиболее ранних шаирах,
созданных на рубеже XVI—XVII вв. Хамзой Фансури.
2. ПОВЕСТИ О ПАНДЖИ В СОСТАВЕ МАЛАЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ (КОНЦА XIV — НАЧАЛА XVI в.
Особого внимания заслуживает вопрос о знакомстве малайцев
-в раннемусульманское время с яванскими по происхождению
повестями о Панджи. Хотя установить названия известных в ранне-
мусульманский период повестей этого круга нам и не удастся,
воздействие их на древнейшие хроники было столь значительным, что
позволяет реконструировать тип и отчасти сюжет той из них,
которая была известна автору хроники, а также одну из важных
-функций повестей о Панджи в малайской литературе XV в.
«Повесть о раджах Пасея» содержит рассказ о любви маджа-
пахитской царевны Раден Галух Гемеранчанг к сыну пасейского
султана Туну Абд аль-Джалилу {84, с. 93—100]. Ряд мотивов,
встречающихся в этом рассказе, привлекает внимание своим
сходством с произведениями о Панджи.
Прежде всего в них регулярно встречается сам титул «раден галух»,
присоединяющийся то к имени главной героини — Чандры Кираны, то к именам
других царевен. Далее, мотив отправки художника, который должен нарисовать
портреты чужеземных царевичей (царевен), из которых героиня (герой) выберет
себе жениха (невесту) представлен в яванско-балийском произведении о
Панджи— «Малат» [443, с. 316}. Несколько необычный [443, с. 382] мотив брачной
поездки самой невесты в страну возлюбленного находит аналогию в типичной для
•сочинений о Панджи ситуации поисков Панджи Чандрой Кираной. Оюбенно
близкую аналогию данному мотиву «Повести о раджах Пасея» дают эпиюды из
«Повести о Найя Кесуме» и «Повести о Чаранге Меса Гамбира», в которых Чан-
дра Кирана под влдом странствующего рыцаря приплывает на Сумагру [17,
с. 81; 23, с. 102]. Наконец, рассказ об убийстве царевича Абд аль-Джалила, тело
которого было брошено в море, и о жестоком наказании убийцы (султана
Пасея) весьма напоминает эпизоды из «Повести о Чекеле Ваненг Пати»,
повествующие о враждебном отношении к Панджи правителя Соча Винду и о постигшей
его каре [528, с. 200].
Если эти наблюдения верны, то можно предположить, что
малайцы были знакомы с сочинениями о Панджи уже к концу XIV в.
"На самой Яве древнейшие свидетельства об их популярности
датируются примерно тем же временем [443, с. 403—408] 3. Таким
образом, можно предположить, что сказания о Панджи весьма
быстро проникли из яванской литературы в малайскую.
94
Несомненное влияние «романов» о Панджи прослеживается в^
«Малайских родословиях» (MP).
На это влияние указал в свое время голландский ученый
X. Н. ван дер Тююк /[23, с. 99]. Позднее X. Хойкас отметил, что
один из эпизодов MP (гл. IX в версии У) особенно насыщен
мотивами как повестей о Панджи, так и сказания о Дамаре Вулане
(что, по-видимому, более проблематично) [354, с. 227]. В начале'
этого эпизода повествуется о царевиче из расположенного на
Калимантане государства Танджунг Пура, потерпевшем
кораблекрушение и выброшенном на берег Явы. Там его нашел и выходил
мастер, изготовлявший пальмовое вино. Впоследствии маджапа-
хитская царевна избрала себе юношу в мужья и сделала его ба-
тарой (государем) Маджапахита. Во второй половине рассказав
сообщается о сватовстве малаккского султана Мансур-шаха к
дочери нового батары |[164, с. 100—111].
Упомянутый эпизод из MP, как мы увидим, не только
подтверждает популярность сказаний о Панджи в Малакке, но и
свидетельствует о том, что эти сказания были настолько
адаптированы средой малайских литераторов XV—XVI вв., что автор
свободно комбинировал их мотивы, выражая промалаккскую
государственную концепцию о родственных связях местных правителей с:
владыками Маджапахита и даже определенном приоритете первых.
Влияние повестей о Панджи на то или иное произведение
может быть установлено на основании по меньшей мере двух
критериев: специфичного набора имен героев и специфичного набора
повествовательных мотивов. Второй критерий приобретает особую
значимость в том случае, когда число характерных мотивов
достаточно велико, а порядок их соединения близок к наблюдаемому в
обычной схеме сказаний (о ней см. [129, с. 10; 130, с. 12—13])..
Хотя наборы персонажей, действующих в «яванских эпизодах»
MP, несколько разнятся в версиях У и Ш/А4, все используемые
в них имена, которых насчитывается около десятка, весьма
типичны для сказаний о Панджи5. Исследование же сюжетики «яван-
ских эпизодов», и в особенности главы IX MP в редакции У,
обнаруживает в этом произведении множество повествовательных
мотивов, характерных для повестей о Панджи. В чистом виде ряд,
мотивов гл. IX, являющейся, по существу, «псевдосказанием о
Панджи», встречается в таких, например, произведениях, как
яванская поэма «Панджи Ангрени» [443, с. 186—189], малайская
«Повесть о Найя Кесуме» [17, с. 80—81] и др.6.
Естественно, встает вопрос о том, на основе каких источниковг-
автор MP создал свое «псевдосказание о Панджи». Опирался ли
он на ряд произведений (на первый взгляд подтверждением тому
служит значительное число сочинений, содержащих те или иные
мотивы, вошедшие в гл. IX MP) или же исходил в основном из-
одного сочинения, быть может дополняя его отдельными мотивами:
других?
Если рассматривать «псевдосказание о Панджи» как
контаминацию мотивов, заимствованных из многих произведений, то„
95
по-видимому, проще предположить, что автор MP познакомился с
•ними через посредство театральных представлений,
разыгрывавшихся в кукольно-теневом театре (ваяна кулит), театре актера в
маске (ваянг топенг) и различных видах танцевальной драмы
(например, ракет). Репертуар этих видов театра в настоящее
время состоит в значительной части из пьес о Панджи. Имеются
некоторые данные о том, что эти виды театра были известны и в
Малакке. Выше уже упоминалось сообщение Т. Пиреша о
«представлениях на яванский манер» в Малакке [72, т. 2, с. 268].,
Театральные же представления на Яве он описывал следующим
образом:
«Ява — страна лицедеев и всевозможных масок; как мужчины, так и
женщины занимаются этим ремеслом. Они развлекаются танцами и рассказами; они
устраивают представления; они наряжаются в платье лицедеев и их одежду. Они
на редкость изящны; они играют на колокольчиках, совместное звучание которых
напоминает звуки органа. Эти лицедеи ночью и днем тешат ([зрителей] тысячами
изящных забав такого рода. По ночам они показывают тени разнообразных форм»
[72, т. 1, с. 177].
Трудно предположить, что в описанном Пирешем театре как
яванских актеров, так и их малаккских последователей не
ставились пьесы о Панджи. Кроме того, в самих MP \[164, с. 108]
упоминается не только ваянг, но и ракет — род танцевальных драм,
также черпающий сюжеты из сказаний о Панджи. Правда, оба эти
термина встречаются в MP в эпизоде, описывающем свадьбу на
Яве, однако то, что они оставлены в тексте без перевода, скорее
всего, говорит о знакомстве с ними малайцев.
Все же, на наш взгляд, гипотеза о возникновении
«псевдосказания о Панджи», содержащегося в MP, в результате простой
контаминации едва ли основательна. Против нее свидетельствуют
глубокие, хотя в некоторых случаях и не сразу бросающиеся в
•глаза, черты сходства главы IX MP (а также некоторых мотивов,
встречающихся в других эпизодах хроники) с малайской
«Повестью о Чекеле Ваненг Пати» (ЧВП) и близкими к ней
произведениями.
Еще Р. О. Уинстедт указал на стилистическое сходство MP и
ЧВП и отметил влияние ЧВП на MP {196, с. 76—77]. Затрудняет
исследование этого влияния «рассеянность» многих мотивов,
близких к ЧВП, по тексту MP. Кроме того, мотивы, входящие в ЧВП
в сферу действия одного героя, распределяются в MP между
несколькими персонажами, иногда же, напротив, в MP наблюдается
контаминация мотивов, связанных в ЧВП с различными
действующими лицами.
Сравнение ЧВП и MP позволяет установить не менее
двенадцати мотивов, совпадающих в обоих сочинениях7. Разумеется,
сам факт сходства некоторых из них еще не доказывает
зависимости хроники от повести, так как сопоставляемые мотивы
встречаются в ряде сказаний о Панджи. Тем не менее конфигурация
тлавы IX MP, создающаяся такими мотивами, как: (1) исходный
«мнимо низкий» статус героя, выброшенного на доске на берег
96
и «оживленного» «низким» персонажем; (2) выбор царевной
героя в мужья; (3) обращенный мотив плавания в Танджунг Пуру
и брака с дочерью ее правителя (в MP встречается и прямой
вариант этого мотива!); (4) намеки на рождение сына Чандры
Кираны в Гагеланге—указывает на влияние ЧВП или, что более
вероятно, какого-то в основном сходного с ЧВП варианта
прототипа как самого этого произведения, так и близких к нему
сказаний о Панджи (например, малайской «Повести о Найе Кесуме»,
среднеяванского «Малата» и др.).
Сопоставление ЧВП и «Повести о Найе Кесуме» позволяет
выдвинуть еще одно предположение о характере этого варианта.
В обоих произведениях представлены сходные мотивы нападения
на правителя, при дворе которого неузнанным живет Раден Ину,
могущественного противника; усыновления Радена Ину
напуганным этой угрозой правителем; победы Ину над противником и
женитьбы на дочери правителя. В ЧВП описанные события
происходят в Гагеланге, и Раден Ину женится на дочери государя
Гагеланга, в «Повести о Найе Кесуме» — в Маджапахите, и женой
Радена Ину становится маджапахитская царевна Деви Кесума.
Упоминание Деви Кесумы и Маджапахита в MP, возможно,
указывает на то, что «маджапахитский эпизод», будучи смоделирован
по образцу «гагелангского», представление о котором дает ЧВП,
существовал в сказании о Панджи, повлиявшем на MP. Такое
дублирование сходных сюжетных конструкций, придающее
многоходовой характер сказаниям о Панджи, весьма типично для них.
В случае, если данное предположение верно,
«маджапахитский эпизод» должен был помещаться между повествованиями о
жизни Радена Ину в Дахе и его пребыванием в Гагеланге, что и
имеет место в «Повести о Найе Кесуме». Кроме того, в этом
случае в повлиявшем на MP сказании должен был отсутствовать
специфичный для ЧВП запрет на брак Ину с какой-либо царевной
до его женитьбы на Чандре Киране. Этот запрет отсутствует как
в «Повести о Найе Кесуме», так и в близком к ЧВП «Малате».
Автор же MP контаминировал в начальной части гл. IX элементы
рассказов о событиях, происходивших с Раденом Ину в Дахе и
Маджапахите.
В начальной части ЧВП, посвященной событиям до ухода
Чандры Кираны из Дахи по настоянию божества Батары Калы,
обнаруживается наибольшее число параллелей к гл. IX MP.
Именно это обстоятельство в первую очередь позволяет
определить тип сказания о Панджи, повлиявшего на MP. Сравнение
различных сочинений о Панджи показывает, что они могут быть
отнесены к нескольким типам в зависимости главным образом от
своей начальной части.
Один из этих типов включает произведения, где Панджи после
какой-либо беды предстает в качестве «низкого» персонажа,
поступающего на службу к какому-либо государю и
заслуживающего любовь его дочери (обычно Чандры Кираны), другой — повести,
в которых он сразу же выступает как «высокий» герой, силой ору-
7 Зак. 147
97
жия добывающий жен. «Псевдосказание о Панджи» из MP
относится к первому типу. Не углубляясь в дискуссии о том, какой из;
двух типов следует считать изначальным (см. i[443, с. XVII—
XVIII; 443а, с. 89—90; 129, с. 11—12; 130, с. 14]) (влияние
повести первого типа на версию У «Малайских родословий» само по*
себе свидетельствует о его относительной древности), можно
отметить, что наиболее ранние из сказаний о Панджи, сохранившиеся
на Бали на среднеяванском языке,— «Вангбанг Видейя» i[130]?,
«Васенг Сари» [535, с. 430—433], «Малат» \[443, с. 290—369J
и др.— относятся также к первому типу. Они начинаются с того,,
что Панджи поступает слугой к государю (в первых двух
произведениях— Дахи, в третьем — Гагеланта). В «Васеиг Сари»,
кроме того, повторяется ряд мотивов, общих для ЧВП и MP. Сред-
неяванские сказания, датируемые иногда второй половиной XVI в.
[130, с. 8—11] и, как считал X. Н. ван дер Тююк, более близкие
по сюжету к малайским, чем новояванские )[443, с. 291], можно?
полагать, демонстрируют традицию о Панджи, сходную с той„
которая была знакома автору MP.
Особого внимания заслуживает представленный в ЧВП и
некоторых других произведениях о Панджи мотив плавания
яванского царевича в Танджунг Пуру и его брака с дочерью местного*
правителя. В MP, как уже отмечалось, дважды встречаются
аналоги этого мотива. Если вновь обратиться к образу царевича
Танджунг Пуры — Кирана Лангу из MP, можно заметить, что
конструкция этого образа весьма сложна. Наряду с рассмотренными;
выше чертами Радена Ину ему присущ также ряд черт Гунунгса-
ри, брата Чандры Кирана из ЧВП. В ЧВП Гунунгсари отплывает
из Тубана в «страны за морем», в морском бою наносит
поражение флоту правителя Танджунг Пуры ,[528, с. 193] и женится на
его дочери. В MP буря уничтожает флот правителя Танджунг
Пуры и выбрасывает его сына на берег Явы, где он женится на
дочери правителя Маджапахита. Таким образом, в обоих
произведениях присутствуют сходные мотивы8, только в MP они
представлены как бы с обратным знаком, в «обращенной» форме.
Нельзя не заметить, что именно ЧВП дает основания для
контаминации образов Ину и Гунунгсари. В этом произведении не
только ярко прослеживается параллелизм обоих образов,
особенно в описании любовных отношений Чекела — Чандры Кираны;
и Гунунгсари — Ракны Вилис, но и происходит сюжетная подмена
одним героем другого. Обычно в сказаниях о Панджи великан
похищает Ракну Вилис и Гунунгсари спасает ее |Г443, с. 384]. В ЧВП
же великан похищает Чандру Кирану и в роли ее спасителя,
естественно, выступает Чекел.
Примечательно и то, как резко разграничены в образе Кирана
Лангу «линия Ину» и «линия Гунунгсари»: мотивы первой линии
даны в авторском повествовании, мотивы второй — в собственном:
рассказе Кирана Лангу о себе.
Наконец, само имя Кирана Лангу (скорее женское, чем
мужское), так же как и изложение в MP «прямой» версии женитьбы;
98
эдаджапахитского государя на принцессе Танджунг Пуры,
свидетельствует о знакомстве автора MP с той версией «мотива
Танджунг Пуры», которая излагается в ЧВП и близких к нему
произведениях. Можно предположить, что обращение этого мотива
было вызвано сознательным желанием автора MP заменить
отраженную в ЧВП «яваноцентристскую», «агрессивную» концеп-
дию установления яванского сюзеренитета над одним из
крупнейших во время составления памятника малайских государств [125,
с. 191] «мирной» «малайскоцеитристской» концепцией.
Согласно ей, правители Маджапахита не только происходят
по женской линии от потомков Искандара (Александра
Македонского), от которых ведут свой род и государи Малакки, но
•с некоторого времени оказываются связанными с последними и по
мужской линии. Батарой Маджапахита с этого момента
становится малайский царевич, причем свою власть он устанавливает
исключительно мирным путем, по воле самой правительницы страны.
Последнее обстоятельство, по-видимому, и приводит к опусканию
и ослаблению «агрессивных» мотивов ЧВП — мотивов
вооруженной борьбы с претендентом на руку царевны и морского боя за
Танджунг Пуру. Замещение мотива морского боя мотивом бури
позволило автору MP объединить и развить в образе Кирана
Лангу «линию Радена Ину» и «линию Гунунгсари», не слишком
отклоняясь от «романа» о Панджи, послужившего ему
источником, и не противореча своей политической задаче. Не случайно
эпизод о Кирана Лангу помещен в весьма важном идеологически
месте MP — после упоминания о трех величайших государствах
островного мира: Маджапахите, Пасее и Малакке и перед
рассказом о женитьбе малаккского султана Мансура на маджапахит-
ской царевне.
Рассказ MP о женитьбе султана Мацсура на царевне
Маджапахита (Чандре Киране!) представляет собой как бы второй ход
«псевдосказания о Панджи». В подобных вторых (третьих и т. д.)
ходах сказаний описывались события, связанные с новым
торжеством Панджи и его сподвижников над соперниками, и новые
браки царевича. «Малат», например, дает нескончаемую вереницу
почти одинаковых сцен, в которых Панджи приобретает все новых
:и новых жен. Обращает на себя внимание хо, что в данном
эпизоде MP соперниками султана Мансура, претендующими на руку
Чандры Кираны, являются царевичи Танджунг Пуры и Дахи (не
яванской, а калимантанской, расположенной по соседству с
Танджунг Пурой) [125, с. 191].
Таким образом, если в первой части гл. IX MP малайский
царевич из Танджунг Пуры торжествует в Маджапахите, то во
второй ее части правитель Малакки утверждает свой приоритет над
государем Танджунг Пуры, выступая тем самым
могущественнейшим из малайских правителей.
Итак, источником «псевдосказания о Панджи», включенного в
MP, по-видимому, послужило произведение, близкое к ЧВП,
однако включавшее некоторые элементы, сохранившиеся в «Повести
7*
99
о Найя Кесуме», и трансформированное под влиянием «малай-
скоцентристской», а точнее, «малаккоцентристской» политической
концепции автора MP.
3. ЖАНРЫ РАБНЕМУСУЛЬМАБОКОГО ПЕРИОДА
Реконструированный состав раннемусульманской литературы
свидетельствует о том, что она, вероятно, включала сочинения по
основам ислама, фикху, арабской грамматике и суфизму,
составленные на арабском языке за пределами малайского мира, и
напоминала в этом отношении литературу древнемалайскую с ее сан-
скритоязычными произведениями центральных областей
литературной системы. На эти области малайский язык будет
распространен лишь в следующий, классический «период, покуда же, за
исключением первых памятников агиографии, он все еще
использовался по преимуществу в сфере нефункциональной.
К ней относились, с одной стороны, переработки индо-яван-
ских сочинений, восходившие к санскритскому эпосу, пуранам к
яванским сказаниям о Панджи, вполне соответствовавшие по духу
произведениям предыдущего периода, а с другой — переводы
мусульманских повестей (персидских или арабо-персидских),
которые, как мы увидим, также были отобраны в связи с тем, что»
многими чертами напоминали старые сочинения
нефункциональной сферы и в то же время служили средством вполне доступной
мусульманской проповеди.
Таким образом, беллетристика в совершенно явной форме
отражала осуществлявшийся в раннемусульманский период переход
от буддизма и индуизма к исламу. Лишь в одном
функциональном жанре — историографии, безусловно, употреблялся малайский
язык. Однако он, по-видимому, использовался здесь еще в древ-
немалайское время, и потому этот факт также не свидетельствует
о радикальных переменах. В целом же состав раннемусульманской
литературы малайцев показывает, что после принятия ислама
вышли из употребления носившие явно религиозную окраску
сочинения центральных областей древнемалайской литературы (в
том числе, разумеется, и местная гимнография); санскрит в этих
областях был заменен арабским (но пока еще не малайским)
языком, историография окончательно стала малайскоязычной, а в
сфере нефункциональной, не столь сильно пронизанной
религиозным духом, началась постепенная мусульманизация беллетристики,,
принявшая форму перехода-сосуществования.
Два жанра определяли облик малайской литературы
переходного раннемусульманского времени. Первый из них — жанр
повести (хикаят), имевший прототипы в древнемалайской литературе,,
но окончательно оформившийся и получивший свое название к
раннемусульманский период, в конце XIV в.
Л. Бракел на основе главным образом данных «Малайских
родословий» устанавливает следующие признаки этого жанра: «При»
100
надлежность к письменной арабографической традиции, анонимное
авторство, предназначенность для чтения вслух, более или менее
фантастическое содержание, передача в рукописной традиции, где
переписчики были не слишком связаны копируемыми образцами,
но обладали правом изменять, исправлять и „украшать"
воспроизводимые тексты» 1Г66, с. 66].
К этому определению можно добавить, что стиль хикаятов до
определенной степени имитирует некую обобщенную модель ара-
бо-персидского сказа, присущего «массовой» прозе, с его фразами,
начинающимися союзом «и» [мака), тенденцией к инверсии, сло-
вами-ритмизаторами. Кроме того, ранние хикаяты
характеризуются разбивкой на главы, использованием значительного числа
арабских и персидских описательных клише (в частности, описаний
боя), тяготением к различным видам композиционной симметрии.
По-видимому, исходным образцом для последующих
памятников жанра хикаят послужила переведенная с персидского языка
«Повесть о Мухаммаде Ханафии». Л. Бракел, обосновывая это
предположение, прежде всего указал на то, что данная повесть
едва ли не единственное пространное нарративное сочинение,
носящее название хикаят как в персидском оригинале, так и в
малайском переводе (в персидской литературе хикаят — короткий
рассказик типа анекдота). Далее он продемонстрировал, что
описание боя из этого хикаята, перешедшее с незначительными
изменениями во многие более поздние памятники, буквально
воспроизводит персидский оригинал; и, наконец, исследователь довольно
убедительно показал, что «Повесть о Мухаммаде Ханафии»
является древнейшим из сохранившихся письменных хикаятов
(имеются в виду зафиксированные в арабской графике тексты, а не
их устные или какие-либо иные прототипы) [299].
Таким образом, имеются основания полагать, что, хотя
аналоги позднейших хикаятов существовали еще в древнемалайский
период, форма, которую они приобрели в малайской
мусульманской литературе, ведет происхождение от «Повести о Мухаммаде
Ханафии». Неизвестно, имели ли в раннемусульманский период эту
форму малайские переработки индо-яванских сочинений. В
подобном1 предположении нет ничего невероятного, и тогда именно в
придании ее, а также в поверхностной религиозной цензуре и
заключалась первоначальная мусульманизация малайской
беллетристики в целом.
Второй важнейший жанр раннемусульманского периода — это
хроники, которые, как и повести, обозначались термином хикаят
или носили более специфичное жанровое наименование седжа-
рах — родословие. Впрочем, хрониками их можно назвать лишь
с оговорками, ибо они, в частности, еще не содержали дат.
Исторические сочинения выполняли двойственную функцию.
Во-первых, они удостоверяли высокое происхождение и
законность той или иной малайской династии. Во-вторых, повествование
о судьбах правящего дома и страны велось в них так, чтобы
вскрыть тайный смысл событий и природу незримых сил, дейст-
101
вующих под их видимой поверхностью, и тем самым обретало
дидактическую направленность, на примерах или, точнее, уроках
истории воспитывая государей и их подданных. Такое
предназначение хроник придавало им. не только и не столько
историографический, сколь историософский характер.
Композиция ранних хроник (как, впрочем, и большинства
хроник классического периода) была двухчастной. В первой части
так или иначе излагался миф о происхождении династии, в
изначальной форме запечатленный в сравнительно поздних, но
чрезвычайно архаичных по содержанию и стилю «Кутейских
родословиях», и соответствовавший тому, который послужил прообразом
волшебно-авантюрным повестям древнемалайского периода. В нем
повествовалось о женитьбе царевича-солнца на рожденной из пены
царевне-воде, а затем о браке их сына и царевны, найденной з
стволе бамбука — символе земли, чьи дети и основывали
династию 1125, с. 81—99].
Со временем на этот миф наслаивались сюжеты, восходящие
к индийской и яванской эпике, мусульманским легендам.
Однако, поскольку хронист воспринимал их как тождественные
автохтонному «мифу о происхождении» по теме и структуре, они, как
правило, сочетались не хаотично, но как бы повторяя его контур.
Как отмечал Я. Рас, «псевдосказание о Раме (форма которого
была на определенном этапе придана хронике середины XVI в.
„Повесть о Банджаре".— В. Б.) воплотило в себе комплекс
представлений, характерных для малайской концепции того, как
основывается династия. Позднее в это псевдосказание о Раме был
включен ряд элементов, восходящих к сказанию об Искандаре, в
результате чего сложилось сочетание: „миф о происхождении" —
псевдосказание о Раме — псевдосказание об Искандаре. Нечто
подобное имеет место в яванском сочинении „Серат Барон Се-
кендер", исследуя которое Т. Пижо указал на полную
взаимозаменяемость имен героев и предметов, принадлежащих к одной и
той же группе в системе классификации, принятой в яванском
обществе того времени. Эта формулировка приложима также к
„Малайским родословиям" (имеется в виду версия Туна Сери
Лананга.— В. Б.) и „Повести о Банджаре"» [125, с. 134].
И в другом 'месте: «Включение этих элементов (элементов
сказания об Искандаре.— В. Б.) скорее следует связывать с
необходимостью придать старому, в основе языческому мифу об их
происхождении (т. е. происхождении малаккских и банджарских
султанов.— В. Б.) „приличествующую" квазимусульманскую окраску,
чтобы легализовать его и таким образом приспособить к новой
эре, в которую доминировала новая религия (ислам.— В. £.).
Именно соответствие сказания об Искандаре такого рода цели
сделало его популярным. Точно так же его предшественник —
сказание о Раме ранее, в индуистский период, приобрело
известность не в силу своей внутренней ценности или престижа, но в
результате того, что оно воспринималось как трактующее в
основном ту же тему, что и „миф о происхождении", служивший для
102
малайских правителей патентом на благородство» |[125, с. 133;
ср. 125, с. 155—157].
В ранней версии «Малайских родословий» (У) и «Повести о
раджах Пасея» «миф о происхождении» заметно
трансформируется под влиянием ислама и из сакральной санкции, которую дает
династии символизация в ней союза стихий, постепенно
превращается в рассказ о ее сверхъестественном возникновении,
призванный обеспечить связь времен. Однако и в такой форме данный
миф наделяет династию беспредельным магическим могуществом,
необходимым правителям, чтобы исполнять роль средоточия
космического и социального порядка и их хранителя. Эту роль
приписывала государю малайская традиция, и именно она оставалась
неизменной глубинной основой концепции власти вопреки всем
модификациям, обусловленным сменами религий:
Вторая часть хроники повествовала уже не о мифических, а
об исторических временах. Она складывалась из генеалогических
элементов — восходящего к «мифу о происхождении» перечня
правителей, который организовывал текст в единый, сквозной рассказ,
и элементов повествовательных — сообщений о наиболее важных
событиях, в которых воплотились судьбы государства (ср. [496,
с. 15—17]). При этом как генеалогические, так и
повествовательные элементы тесно увязывались друг с другом историософской
концепцией автора или авторов хроники.
Такого рода композиция исторических сочинений была,
несомненно, местным явлением. Ее прообразы нетрудно обнаружить
в фольклоре родственных малайцам народов Индонезии, не
испытавших индийского и мусульманского влияний: мифах,
исторических легендах и особенно в генеалогических преданиях t|"334].
Возникшие на той же основе яванские сочинения индуистско-буддий-
ского периода, например «Параратон» («Книга царей») j[68] или
балийские исторические сочинения [170], близкие по типу к ран-
немусульманским малайским хроникам, позволяют предполагать,
что и их древнемалайские предшественники — «анналы Шриви-
джайи» и «Суварнапураванса» — могли обладать сходной
композицией.
Приняв ислам, малайцы, хотя и познакомились с принципами
мусульманской историографии (об этом свидетельствует хотя бы
популярность «Сада царей» ар-Ранири), до середины XVIII в.
не прибегали к типичной для нее анналистической форме,
сохраняя свою традицию и лишь обработав ее в духе жанра
родословий, ставшего в странах ислама уже несколько провинциальным
'[466, с. 96—97]. Основу его здесь, как и в малайском мире,
составляло сочетание генеалогических элементов и композиционно
завершенных, логически слабо друг с другом связанных рассказов
об отдельных событиях (хабаров), в которых живость и
красочность повествования преобладали над фактологической точностью
{466, с. 66—67].
Для того чтобы придать своим хроникам черты сходства с
мусульманскими родословиями, малайские авторы с помощью ска-
103
зания об Искандаре Двурогом несколько изменили «миф о
происхождении», ввели в начало рассказа о том или ином правлении
характеристику моральных качеств государя, а в конец — его
предсмертные наставления наследнику о бренности земного величия
и, наконец, чуть изменили старые этико-государственные
концепции, связав их с установлениями шариата и подкрепив
изречениями Пророка. В итоге малайские хроники могли рассматриваться
как мусульманские, ибо обладали всеми необходимыми для
последних «пользами»: демонстрировали переменчивость судьбы и
божественную предопределенность событий, пагубность тирании и
благотворность справедливости, наставляли в политической
мудрости и древних обычаях, а сверх того, позволяли образованному
человеку блеснуть в разговоре знанием исторических
прецедентов и поучительных рассказов из жизни царей и иных
выдающихся личностей 1[466, с. 261, 299].
Эти свойства характерны уже для самой ранней хроники —
«Повести о раджах Пасея», но особенно ярко они проявились в
образцовом историческом сочинении «Малайские родословия»,
включавшем «новеллы», которые не только обладали чертами
структурного сходства с хабарами, но и приближались к ним по
своим художественным достоинствам и формальной завершенности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Лакон аб Арджуне-отшельнике (Лелакун Раджуна Тана) упоминается,
например, в («Повести об Андакене Пенурате» (с. 311 ).
2 Такова, например, известная эпитафия из Минье Туджух, 'составленная на
древнемалайском языке в размере упаджати и извещавшая о .смерти поавитель-
ницы-мусульмаики, которая владела Насеем и Кедахом (см. [4i8i7a; affila}).
3 Из последних работ, в которых допускается .более раннее время
возникновения сказаний на Яве, см. [130, с. 14; 448, с. 437—440].
4 '-В У упоминаются: безымянный батара МаДжапахита; два его также
безымянных сына; некая Лутри Семанинграт — отдаленный предок старшего из них;
дочь этого же старшего сына — Раден Галух Ави ;Кееума (иногда Наи Кесума) ;
царевич Танджунг Пуры— Раден (Перлангу, ставший ее мужем; дочь,
родившаяся от ©того брака,— Раден Галух Чандра .Кирана; ее сестра (?) Раден ОГалух Ад-
жанг и, наконец, сын Чандры Кчюраны от малаккского султана Мансура,
получивший имя (а точнее, титул) Рату ди Келанг— Властитель Келанга (одна из
форм яванского топонима Гагеланг [31514, с. ;2l28ï]i), в дальнейшем в тексте не
упоминающееся. В Ш/А сыновья безымянного батары Маджапахита именуются
Раден |Ину Мертавангса и Раден Мае Ламари; царевна Семанинграт оказывается
царевичем Асмара Нингратом; Раден Перлангу назван Раденом 'Кирана Лангу.
Остальные имена тождественны в обеих редакциях. Различия в именах
Семанинграт и Асмаранинграт, а также Лерлангу и Кирана Лангу легко могут быть
объяснены ошибкой копииста, переписывавшего дошедший список редакции \Ш& г.
Правильно даны они, по-видимому, в редакции (161© г. Имена Раден Мае Ламари
и Ину Мертавангса 'были, скорее всего, вставлены в позднюю редакцию (189,
с. 1127).
5 Имя Асмаранинграт носит в одной из повестей о Панджи брат Ину Кертаиа-
ти — Чарангтинанглух [И7, с. 118], в другой —сам Ину [20, с. 47]. Имена,
аналогичные Ави (искаж. Деви или Айю) Кесуме, встречаются в «Повести о Дэве Асма-
ре Джайе» (Айю Кесума и Деви Кесума) и в «Повести о Найя Кесума» (Кесума
Деви) |[17, с. 11011, 811] и др., где они также принадлежат маджапахитским
царевнам. В изданиях, пересказах, а также каталогах рукописей, содержащих изложе-
104
ния многих сказаний о Панджи, нам не встретилось имя Кирана Лангу, однако?
в них представлено множество близких к нему имен с элементом «.Кирана» —
«Луч», например Агунг Кирана, Пуопа Кирана J17, с. 8|2i, '84} и др., а также почти
синонимичные Кирана Лангу (Луч Очарования) имена Лесми Кирана
(Прекрасный Луч) .и Наванг Лангу '(Свет Очарования) |17, с. '86, 86]. Характерно, что если
в MP Кирана Лангу — имя царевича, то в повестях о Панджи, содержащих
сходные имена, они принадлежат царевнам.
Причины этого изменения "будут проанализированы ниже. Наконец, имена
Чандры Кираны и ее сестры Р.аден |Г,алух Аджанг (или Адженг) встречаются во
множестве сказаний о Панджи, например в «Повести о Чекеле Ваненг Пати»,
«Повести о Панджи Семиранг» и др.
6 Подробное сравнение мотивов из этих сочинений и MP см. fil89, с. 12$—Ф29]<
7 Полный текст ЧВП до сих пор не издан. Мы использовали подробные
пересказы повести |[63>; '512$, с. \Ш7—!2'03; (17, с. 64—76]. В дальнейшем ссылки па тот
или иной пересказ даются лишь в тех случаях, когда данный мотив встречается
в одном из них.
К числу мотивов (вне зависимости от героев, которым они прписаны),
сближающих ЧИП и MP, относятся следующие (мотивы даются в порядке их
появления в ЧВП) :
11. В ЧВП у Радена Пну два обрата и сестра. В MP у царевича Кирана Лангу
также два брата и сестра. Характерно, .что упоминание о них не несет никакой
сюжетной функции в эпизоде MP, оно появляется лишь как следствие влияния
повести о Панджи (видимо, ЧВП); в других повестях у Радена Ину иное число
братьев и сестер.
2. В ЧВП у Чандры Кираны имеется сестра Раден Галух Адженг. В MP у
батары Ма'джапахита имеется дочь Раден Галух Аджанг, возможно сестра
Чандры Кираны.
3. В ЧВП Раден Ину, считающийся мертвым после истязаний и пыток,
которым подверг его правитель страны Соча Винду, брошен на плоту в море; плот
прибивает к (берегу. В MP Кирана Лангу после кораблекрушения плавает по
морю на доске; доску с телом мнимого умершего прибивает к берегу.
4. (В ЧВП слуги Радена "Ину («низкие» персонажи) находят его тело,
«воскрешают» хозяина и, накапав ему в рот воды, возвращают царевичу силы. В MP
винодел («низкий» персонаж) находит тело Кирана Лангу и «воскрешает» царе-*
вича, накапав ему в рот крахмальной воды.
5. В ЧВП Раден Ину выдает себя за («лесного жителя» («низкий» персонаж),
и слуги, зная о его настоящем статусе., поддерживают эту версию. В MP Кирана
Лангу выдает себя за сына винодела (.«низкий» персонаж), и тот, зная о его
настоящем статусе, поддерживает эту версию.
6. 'В ЧВП правитель Дахи объявляет саембару, обещая выдать дочь за того,,
кто освободит ее из рук буты (великана). Чекел-Ину освобождает царевну и
должен получить ее в жены. В MP также объявляется саембара, на которую
созывают всех мужчин Маджшахита: тот из них, кого выберет сама царевна,
станет ее мужем. Царевна избирает Кирана Лангу.
Характерно, что в обоих произведениях речь идет, по существу, о свободном
выборе царевной жениха. В MP это находит непосредственное выражение; в ЧВП
выражено характерным, поворотом .сюжета: несмотря на нарушение своего слова
правителем Дахи, Чандра Кирана, влюбившаяся в Чекела в его «низком» облике
(сама избравшая его), всецело предана юноше.
7. В ЧВП Чекел, прибывший со спасенной царевной в Даху, демонстрируя
свое могущество, восходит на запретный балей (возвышение на сваях) и остается:
жив. Затем без всякого перехода и вне прямой сюжетной связи с эпизодом со-*
общается о том восхищении, которое вызывал он у женщин Дахи. В MP Ханг
Туах также восходит на запретный балей и остается жив, после чего встык со*
общается о восхищении им женщин Маджапахита и о песнях, в которых они вое*
певали его. В предисловии к ЧВП рассказывается о любовных песнях яванских
женщин, посвященных ,Ину.
■8. 'В ЧВП, после того как Чекел спасает Чандру Кирану от великана-раксасы;
и должен жениться на ней, появляется новый претендент на руку царевны, борь*
ба с которым и составляет содержание последующих эпизодов. В MP также при-»
105
сутствует мотив соперника, однако в ослабленном виде. Он выражен в речах
«части маджапахитцев», утверждающих, будто опекун Деви Кесумы — патих Гаджах
Мада .сам стремится к браку с ней.
9. Б ЧВП описываются плавание брата Чандры .Кираны — Гунунгсари в
Танджунг Пуру и его женитьба на дочери местного правителя. В MP (гл. IV) —
плавание в Танджунг Пуру государя Маджапахита и его брак с дочерью местного
правителя. îB обращенном виде этот мотив представлен также в гл. IX М'Р, в
рассказе о кораблекрушении, в результате которого царевич Танджунг Пуры — Ки-
рана Лангу попадает в (Маджапахит и женится на маджалахитской царевне.
'10. В ЧВП демоническая .Нини Муни требует у Чекела за помощь в
соединении с Чандрой Кираной 1Ш бамбуковых блюд с пищей, 170 жареных цыплят,
р7в тарелки печенья (в другом списке 100 анчаров сырого мяса {5281, с. 195]).
Б MP демоническое существо — царевна горы Ладанг требует у султана Мансура
в качестве брачного подарка семь подносов печени вшей, кадушку слез, кадушку
.сока молодых арековых пальм, чашу его крови и чашу крови его сына.
vlll. В ЧВП у Чандры Кираны и Че'кела в Гагеланге рождается сын Миса
Тандераман, в MP у Чандры Кираны и Султана Мансура рождается сын,
получивший имя Рату ди Келанг. По-видимому, он был назван так по ассоциации с
родившимся в Гагеланге сыном Чандры Кираны.
12, В ЧВП перед самой встречей с Ину его отец, пребывающий с момента
исчезновения сына в глубокой печали, посылает своего старшего сына Картабуа-
ну разузнать о царевиче в Даху, где Картабуана и встречает брата. (Впоследствии
об этом сообщают отцу. В MP отец Кирана Лангу также посылает гонца в Ма-
джапахит, где тот находит царевича и сообщает об этом государю Танджунг
Пуры.
Весь пассаж, описывающий эти события, замкнут в себе, и его появление
никак не диктуется логикой повествования. Можно предположить, что он был
унаследован MP от одного из сказаний о Панджи, например ЧВП.
8 Можно предположить, что мотивы бури и морского сражения (или захвата
кораблей) по своему 'значению тождественны и взаимозаменимы. Об этом
свидетельствует .их сюжетная эквивалентность не только в ЧВП и MP, но и в яванских
«романах» «Джайякесума» и «Панджи Ангрени». В первом из этих романов
слуги Панджи строят плоты, приплывают на Бали и, прикинувшись потерпевшими
кораблекрушение, получают разрешение высадиться на берег. Высадившись, они
захватывают в бою корабли балийцев, используя которые Паджи затем
нападает на остров (см. [433, с. »152—1(55]). В «Панджи Ангрени» Панджи нападает
на \Бали после того, как на его флот налетает буря, относящая корабли к этому
острову [443, с. 188—1189].
ГЛАВА IV
ОСНОВНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
РАННЕМУСУЛЬМАНСКОГО ВРЕМЕНИ
,1. ПОВЕСТИ О ГЕРОЯХ
САНСКРИТСКОГО ЭПОСА И ПУРАН
В гл. I мы уже останавливались на малайских версиях
«Рамаяны», известной также в XV в. в Малакке. Теперь обратимся
к произведениям так или иначе связанным с.другой санскритской
эпопеей — «Махабхаратой».
В 860 г. правитель Шривиджайи по имени Балапутра построил
в Наланде, блестящем центре буддийской, учености Индии,
монастырь, которому государь из бенгальской династии Палов — Дэва-
паладэва даровал в «кормление» пять деревень, о чем известил
в стихотворной надписи на медных пластинах ||"311, с. 160—162],
Среди стихов, в которых восхвалялся шривиджайский правитель,
были, в частности, такие;
«Он — величайший из воителей на поле брани, сравнявшийся славой с Юд-
хиштхирой, Парашарой, Бхимасеной и Арджуной».
Доблестные витязи, с которыми панегирист сравнил Балапут-
ру,— не кто иные, как герои «Махабхараты», повествующей о
борьбе двоюродных братьев — Пандавов и Кауравов (малайск.
Коравов), а поскольку содержание надписи должно было быть
понятным хотя бы самому восхваляемому и его приближенным,
можно предположить, что уже в середине IX в. малайцы были
знакомы с этим произведением. Однако в какой форме состоялось
знакомство с ним и привело ли оно к созданию древнемалайских
вариаций на сюжет «Махабхараты», как это было на Яве в X в.
и позднее, сказать невозможно. Первые из известных ныне
малайских произведений на сюжеты «Махабхараты» (в частности,
«Повесть о победоносных Пандавах»), как уже отмечалось, появились
не ранее конца XIV в. и едва ли позднее первой половины XViJ в.
Повесть о пяти Пандавах, Повесть о
победоносных Пандавах. Малайские произведения о героях
«Махабхараты» весьма многочисленны. К их числу относятся «Повесть
о Дермавангсе», «Повесть об Ангкавиджайе» |[20, с. 17—20],
сборник, включающий пересказы ряда пьес ваянга, содержание
которых изложено в одной из работ X. Н. ван дер Тюкжа [501; ср. 196,
с. 67—69], и др. Однако в самом полном виде малайская версия
«Махабхараты» содержится в «Повести о пяти Пандавах», более
107
или менее близкие варианты которой известны примерно в десятке
списков, порой несколько различающихся названиями. Возможно,
лучший из этих списков — лондонская рукопись Raffles 2 [19,
с. 133], в основном совпадающая с изданием повести, позволяет
не только представить характер этого сочинения, но и понять,
сколь многим оно обязано пьесам ваянга, сильно отличающимся
от санскритского эпоса.
«Повесть о пяти Пандавах» состоит из трех частей. Первая, согласно
предваряющему ее предисловию, составленная из нескольких «несказанно прекрасных»
лаконов, начинается с истории о том, как небожитель Берма Сакти, померившись
силой с богом Брахмой, снизошел на землю и породил сына — Варгадеву. После
этого рассказывается о различных любовных и военных подвигах самого Варга-
девы — событиях, служащих прологом к дальнейшим действиям. По ходу
рассказа одна из жен Варгадевы вместе с любовником бросается в костер .и вновь
рождается как дочь Махараджи Вангсапати (санскр. Матсьяпати) — Деви Утари, а
покончившая с собой дочь его побежденного противника Варгасинги воплощается
в семье Батары Кресны (санскр. Кришны) в облике прекрасной Сити Сундари.
Завершается первая часть рассказа о Варгадеве историей его сватовства и
добыванием им по требованию будущего тестя сорока небесных дев из царства бога
Индры.
Затем действие переносится в столицу Коравов Астинапуру, и следует
знаменитая сцена игры в кости. Повелитель Коравов Дурьюдана, прибегнув к
хитрости, выигрывает у старшего ,из Пандавов, Дермавангсы (санскр. Юдхиштхи-
ры), его имущество, дворец и, наконец, всех братьев, которые становятся слугами
в Астинапуре. Издеваясь над Пандавами, брат Дурьюданы — Дурсана (санскр.
Духшасана) за волосы приволакивает в зал их жену — Друпадщ и Бима дает обет
в отместку напиться его крови. Коравы ищут способа погубить Пандавов и
посылают их за стрелой, упавшей в речной омут, где обитает огромная змея Арда-
лика, обещая братьям полцарства, если они добудут стрелу. Змея проглатывает
Пандавов, но они, оказавшись в ее чреве, убивают ее.
Не желая возвращаться в Астинапуру, Пандавы изменяют имена, поступают
на службу к Варгадеве и остаются жить в его дворце, где Арджуна одну за
другой соблазняет всех жен государя.
Прибывший в резиденцию Пандавов Индрапасту, Кресна не застает братьев
и увозит жену Арджуны — Субадру ,и его сына — Абиманью к себе в страну Да-
равати. Там Абиманью встречается с Сити Сундари, просватанной за Лаксаману
Кумару, наследника Дурьюданы, и с помощью сына Бимы — Гатоткачи женится
на ней. Описание романтической любви Абиманью и Сити Сундари, относящееся
к числу наиболее выразительных в художественном отношении страниц повести,
по-видимому, основывается на театральной версии древнеяванского какавина
«Гатоткачасрайя» (см. |[535, с. 263—269]).
Затем повествование вновь возвращается к Пандавам. Посланник богов
Парада приказывает им возвратиться в Индрапасту. Пандавы собирают своих
союзников: Кресну, его брата Баладеву, махараджу Вангсапати — и устраивают
грандиозное празднество. По его окончании Арджуна отправляется отшельни-
чать, чтобы добыть волшебное оружие для будущей войны с Коравами (здесь
в повести обнаруживается ряд мотивов из древнеяванского какавина «Арджуна-
виваха» [535, с. 234—237]), а тем временем Абиманью женится на дочери
Вангсапати — Деви Утари.
Пандавы требуют, чтобы Коравы, условие которых выполнено, отдали им
полцарства, и Дурьюдана соглашается, выдвигая новое условие: для того чтобы
Обрести желаемое, Пандавы должны удалиться в изгнание на двенадцать лет,
двенадцать месяцев и двенадцать дней. Во время изгнания Пандавы вступают
в бой с Варгадевой, которого подстрекают к нападению на пятерых братьев
добытые им небесные девы, надеющиеся, что Варгадева потерпит поражение и
тогда они смогут возвратиться в царство Индры. Нарада и Берма Сакти
останавливают кровопролитие, воскрешают убитых и отсылают небесных дев в их
заоблачную обитель. Так заканчивается первая часть повести.
108
Вторая часть ее, более близкая к санскритскому прототипу, а в особенности
ж древнеяванскому какавину «Бхаратаюддха», 1535, с. 256—263; 122], согласна
тому же предисловию, содержит историю победоносных Пандавов (иногда эта^
история выступает и как отдельное произведение). Она начинается с рассказа о
посольстве Кресны в Астинапуру с повторным требованием возвратить Пандавам
полцарства. Затем следует описание самой великой войны, в которой гибнут все
Коравы и множество союзников и родственников Пандавов —в их числе
могучие богатыри Гатоткача и Абиманью. Завершается вторая часть ночным
нападением на лагерь Пандавов Бамбанга Сутомо (санскр. Ашватхаман), который
убивает царевича Панча Кумару и приносит его голову Дурьюдане. Дурьюдана
страшно мучается от тяжелой раны, но не может умереть, пока не увидит
отрубленные головы всех Пандавов. Поскольку Панча Кумара — общий сын Пандавов,
а имя его означает «пять царевичей», это условие оказывается выполненным, и
Дурьюдана умирает. Бима убивает Бамбанга Сутомо.
Третья часть «Повести о пяти Пандавах» — это вновь обработка нескольких
пьес ваянга. Открывается она рассказом о борьбе Пандавов с чудесным образом
воскресшим патихом (министром) Коравов — Сангкуни (санскр. Шакуни),
скрывшимся с остатками войска в лесу. Спасаясь от победителей, он превращается
сначала в манящую своей красотой гору, где Пандавов подстерегает множество
опасностей, затем — в реку, в которой едва не тонут Бима и Арджуна, и, нако-
лец, похищает тень Дермавангсы, отчего тот лишается сил. Взлетев с тенью в
поднебесье, Сангкуни пронзает ее, кричит, подражая голосу старшего из
братьев, и льет сверху красный сок, который Пандавы принимают за кровь умершего,
как они считают, Дермавангсы. Арджуна и Бима в отчаянии готовы покончить с
собой, но, как и в двух прежних случаях, от чар Сангкуни их спасает младший
брат — Садева (санскр. Сахадева), который и убивает злокозненного колдуна.
Следующий эпизод посвящен женитьбе Арджуны на супруге Дурьюданы —
Банувати и рождению у жены Абиманью — Санг Утари сына Парикасти (санскр.
Парикшит). После этого рассказывается о том, как душа Дурьюданы вселяется
в Арджуну, отчего тот теряет рассудок и вступает в яростную битву с братьями.
-Побоище превращается лишь после того, как Дермавангса изгоняет душу
Дурьюданы из' тела Арджуны и, прокляв брата, заставляет его удалиться в лес. Там
Арджуна одолевает в поединке великого воителя Арджуну Сасрабаху (сасраба-
.ху— «Тысячерукий»), женится на его супруге, как две капли воды схожей с пав-
злей в битве с Коравами женой Арджуны — Сриканди (так в малайских и
яванских произведениях был переосмыслен Шикхандин санскритского эпоса), и
возвращается к братьям. По просьбе Кресны Дермавангса прощает его.
Пандавы отправляются развлечься на берег моря и осушают его, чтобы
полюбоваться подводными диковинами. Разгневанные морские раксасы в отместку
похищают Парикасти, но Арджуна, превратившись в птицу, спасает его.
Наконец является Нарада и объявляет, что срок жизни Пандавов подошел
ж концу. Братья гибнут, каждый от своего волшебного оружия, причем за
беспощадность в бою самая мучительная смерть суждена Бйме. Небожители осыпают
тела сраженных Пандавов лепестками цветов, а Парикасти, предав их сожжению,
^восходит на трон и становится справедливым правителем народа Пандавов.
Таково вкратце содержание повести.
В чем же состояла привлекательность произведений о героях
«Махабхараты» для малайских читателей мусульманского
времени? Судя по содержанию этих произведений, отнюдь не в
индуистских философских идеях, пронизывающих санскритский эпос. Так,
;;уже в древнеяванской «Бхаратаюддхе» «Божественная Песнь»
(«Бхагавадгита»), игравшая в «Махабхарате» роль смыслового
центра ([205, с. 57], была заменена всего лишь двумя стихами, в
которых Арджуна выражал свое смятение перед битвой с
родичами и наставниками, а Кришна призывал его следовать кшатрий-
скому долгу. То же самое, естественно, наблюдается и в
«Повести о победоносных Пандавах». Другой древнеяванский какавинг
109
«Дэва Ручи», рассказывающий о мистическом самопознании Бимьг,,
превратился в малайской переработке в «приемлемую для
мусульман» повесть о вероломстве и отмщении за него, «почти лишеннук>
глубинного смысла» |343, с. 216]. В произведениях на сюжеты
«Махабхараты» малайцы видели увлекательное повествование о
героях, являвших собой эталон воинской доблести и куртуазного
поведения. Не случайно в «Поэме о макассарской войне» (1670 г.)
макассарские воины, сражавшиеся с голландцами, сравнивались е
Арджуной, Бимой и Гатоткачей [142, с. 25—26], а в народной
поэзии Арджуна выступал излюбленным персонажем любовных
пантунов и приворотных заклинаний {526, с. 129].
Вероятно, еще более важным достоинством повестей в глазах
малайских ценителей была их «несравненная красота»'[13,е. 1—2]т
которая в первую очередь усматривалась знатоками в
изысканности описаний.
Действительно, в «Повести о пяти Пандавах» или в «Повеств
о победоносных Пандавах» перед нами проходит вереница
подобных описаний, оставшихся непревзойденными в средневековой
малайской литературе. Таковы, например, рассказы о столице Ко-
равов — Астинапуре, о женщинах, сбежавшихся поглядеть на
Кришну, о дворце Дурьюданы или о томлении Деви Банувати,
супруги старшего из Коравов, в лунную ночь. Впоследствии заметна
упрощенные и от этого потерявшие в выразительности, многие
такого рода описания стали общими местами и вошли в другие
малайские произведения, в частности в повести о Панджи.
Два основных принципа определяли своеобразие как древне-
яванской «Бхаратаюддхи», так и более или менее
непосредственно восходящей к ней «Повести о победоносных Пандавах». Первый,
из них — принцип контраста, вполне естественный в произведении,,
изначальный пафос которого составляло решительное
единоборство сил мирового порядка и мирового хаоса, воплощенных
соответственно в образах Пандавов и Коравов. В то же время
характерная для мусульманского периода десакрализация и
демифологизация сочинений, восходящих к индуистско-буддийским временам,
которые по-новому высветили антропоцентрический аспект их
содержания, заметно приглушили в произведениях на сюжеты
«Махабхараты» тему противостояния космических сил и оттенили в
них мотивы противоборства живых человеческих существ и их
чувств — любви и ненависти, сдержанности и необузданности,
самоотречения и вероломства. Свою роль в этом процессе сыграл,
и ощутимый еще в древнеяванских прототипах этих сочинений, а
тем более' явственно — в их малайских версиях «переход от
объективности к субъективности, от эпической полноты повествования
к его эмоциональности, от поэзии действия к поэзии чувства» ,[240,
с. 360].
О том, какой выразительности и верности деталей достигают
порой традиционно «овнешненные» описания противоположных
эмоций героев в «Повести о победоносных Пандавах»,
свидетельствуют, в частности, два ее эпизода. В первом из них повествуется*
110
«о неудержимой ярости Бимы, исполнившего обет напиться крови
Дурсаны:
«И Санг Бима вонзил свой коготь Панчанака Санг Дурсане в живот,
обагрил его кровью и распорол. Санг Дурсана же, почувствовав нестерпимую боль,
закусил губу и попытался было ударить Санг Биму кулаком в лицо, но тот успел
отстраниться. И Санг Дурсана испустил дух, а Санг Бима припал к той ране и
принялся пить кровь двоюродного брата, точно молния, [всасывающая воду]1,
И его борода и усы, напитавшиеся кровью, стали багряными, словно лес,
охваченный пожаром. Потом он швырнул труп Санг Дурсаны Махарадже Дурьюда-
ле и крикнул: „Эй, Дурьюдана, получай тело брата!" И ужас объял всех
раджей Коравов при виде Бимы, исполненного ярости и опьяненного кровью» [98,
*. 139].
Во втором эпизоде рассказывается об уходе на последнюю
битву Махараджи Сальи, нежно любящего жену — Деви Сетиавати и
боящегося потревожить ее:
«Когда рассвело., Махараджа Салья пробудился ото сна. Потихоньку
высвободил он руку из-под головы Деви Сетиавати и взамен положил ей под
голову подушку. Деви Сетиавати придавила край его каина (кусок ткани,
оборачивающейся вокруг бедер, род юбки.— В. £.), и Махараджа Салья, боясь разбудить
жену, обнажил крис и отсек его. Потом он отправился на поле брани, однако
прежде взял бетель .из своего сосуда, отведал его и положил початый бетель в
сосуд жены. Еще же взял ее куклу из слоновой кости, начертан на ней строки
из кидунгов и какавинов и иные нежные слова и положил подле Деви Сетиавати,
сказав кукле: „Если мать спросит, ответь — отец ушел на войну"» [98, с. 150—
151].
Другой принцип поэтики повести — сплетение в ней, казалось
бы, резко противопоставленных тем, в особенности тем войны
(смерти) и любви, их неожиданные отождествления и
превращения одной в другую. Так, взятие Астинапуры, которую посланец
Пандавов — Кришна впервые видит «затуманенной, подобно
женщине, побледневшей от рисовой пудры и выглядывающей из-за
двери» |[196, с. 62], это, по существу, овладение недоступной
^красавицей. Та же эротическая тональность окрашивает и
описание примет, предвещающих падение столицы Коравов [166, с. 42].
Особенно поразительно описание гибели Абиманью, на поле
<брани, оказывающееся как бы рассказом о его браке со смертью,
накануне которого кровь, сочащаяся из ран, «облекает» юношу в
уборы жениха:
«([Следы] от стрел, изранивших его с головы до ног, были словно притирания
:яа теле женщины, искупавшейся в воде, смешанной с красным соком бетеля.
.Раны на его горле алели, точно два ряда бус, раны на теле — словно наплечные
украшения, ожерелье и шарф, кровь же, струившаяся по груди, источала
аромат цветочных благовоний. Казалось, будто раны на его руках подобны
запястьем, усыпанным переливающимися самоцветами, а раны на предплечьях —
свадебным браслетам. И все восхваляли мужество Санг Абиманью в битве, он же был
•прекрасен, как .изображение на картине, и в своих кровавых уборах являл
сходство с Бетарой Мерпатой (т.е. богом любви Камой.— В. £.), вступающим в брак
с Деви Рати (богиней любви.— В. Б.). В реве слонов и ржании коней Санг
Абиманью чудился шепот юноши, склоняющего к любви юную девственницу,
оробевшую при его приближении, и тело царевича, пронзенное стрелами, было словна
^ее уложенные в пучок волосы, украшенные драгоценными булавками» ([98, с. 113J
с уточнениями по [13]).
111
Особенно тонко переплетение тем любви и смерти проведена
з уже упоминавшемся эпизоде о Салье и Сетиавати,
отсутствующем в санскритском эпосе и, по-видимому, добавленном к
описанию великой войны по приказу царственного патрона одним из
авторов «Бхаратаюддхи» — Мпу Панулухом {535, с. 282]. В «Бха-
ратаюддхе» этот эпизод образует как бы самостоятельную «поэму
в поэме», которую П. Зутмюльдер склонен назвать «Сальявадхой»
(«Смертью Сальи») i[535, с. 282]. Малайская повесть весьма
точно воспроизводит яванский оригинал, но, несколько упрощая его-
изощренную изобразительность, яснее обнаруживают два друг
другу противостоящих и друг через друга проявляющихся
композиционных центра эпизода: образ «медового моря» — традиционного
для яванских и малайских сочинений символа любовной страсти
(см., например, J43, с. 40, 97]) и «моря крови» — символа войны
и смерти.
Понимая справедливость дела Пандавов, любя их, но в то же
время не желая нарушить верность союзникам-Коравам, Салья
обрекает себя на гибель, открыв одному из сыновей Панду тайну
своей неуязвимости. Сетиавати догадывается об этом, мучается;
дурными предчувствиями, и тогда Салья, желая отвлечь жену от
ее мыслей, говорит:
«Видно, ты меня разлюбила. Тогда я хочу умереть. Ведь если ты больше
меня не любишь и не желаешь ни говорить со мной, ни глвдеть на меня, мне,
одинокому, лучше уйти из жизни. Об одном лишь прошу — когда я вступлю в
небесную обитель, одари меня цветами [из твоей прически], которые ты
пожелаешь выбросить, и прикажи осыпать ими мое тело, после же вверь его волнам
медового моря, дабы слетевшиеся шмели оплакали меня, тебе немилого» [98,.
с. 149}.
Так впервые вводятся мотивы медового моря и цветов, в
которых чуть позднее пересекутся темы любви и смерти. Обе темы
продолжают развиваться, и, когда Салья, лаская жену, распускает
ее волосы, Сетиавати видит, как, точно в ответ на только что
прозвучавшую просьбу, «выпали из ее волос все цветы,
украшавшие прическу». Когда же Салья увлекает жену на ложе и
начинает напевать ей кидуиги, его голос звучит сладостно, точно
«медовое море и сахарный океан» j[98, с. 150].
Задремавшей Сетиавати чудится, будто она купается в море7
и роковой смысл сна раскрывается ей, когда после смерти Сальи
она, теряя в отчаянии чувство реальности, смотрит на волны
другого «моря»:
«И увидела Деви Сетиавати, что поле битвы подобно морю крови и груды
человеческих тел высились в нем, подобно островам, трупы слонов, коней и
обломки колесниц громоздились там -и тут, словно морские губки, отрубленные
головы перекатывались, словно подводные камни, а бунчуки копий напоминали
коралловые рифы. Стрелы плавали в крови либо же торчали, вонзившись в
землю, как шипы, стяги вздымались, словно затопленные деревья, и вороны сидели
на их верхушках. Многоразличные щиты из меди, кожи и ротанга, круглые и
продолговатые, плавали, подобно челнокам. Когда же поднялся ветер,
всколыхнулось море и от мертвых тел поднялся запах тления. Но Деви Сетиавати
почудилось, будто она вдыхает благоухание нарда. Подгоняемые ветром, стремитель-
112
но заскользили перед ней по волнам щиты и начали тонуть; сталкиваясь с
трупами слонов. И радовалась Деви Сетиавати всем тем зрелищам, ибо мнилось ей,,
что на людное гуляние взял ее Махараджа Салья — ведь множество мертвых
раджей, сияющих в своих драгоценных одеяниях, повидала она» ([166, с. 44] с
уточнениями по [98, с. 155]).
Объясняя специфические особенности «Бхаратаюддхи» (а тем
самым во многом и «Повести о победоносных Пандавах») и ее^
отличие от «Махабхараты», выразившееся в первую очередь во
введении любовных сцен и эротической переакцентуации сцен
батальных, П. Зутмюльдер приходит к выводу, что без такой
переработки оригинала поэма «в недостаточной степени отвечала бы
нормам жанра какавинов и не обладала бы важнейшими чертами
калангона (прекрасного.— В. Б.)» [535, с. 279]. С ним трудно не
согласиться, тем более что, судя по содержанию самих
литературных памятников, прекрасное в глазах как яванских, так и
малайских ценителей рождалось именно в искусном сочетании любовной
и военной тем. Мастерство же древнеяванского поэта и его
малайского последователя, порой (например, в сцене гибели Аби-
манью) умеющего блеснуть своеобразной вариацией, состояло в
том, что они, стремясь сохранить основу санскритского оригинала,
прибегали не к обычному чередованию обеих тем в изолированных
эпизодах, а к сложному выражению их через двуплановость
текста.
Можно предположить, однако, и другую причину
взаимопроникновения контрастных начал в «Бхаратаюддхе», архаичных пьесах:
ваянга на ее сюжет и «Повести о победоносных Пандавах».
Яванская традиция (особенно ваянговая) в своей космологии исходит
из еще доиндуистских представлений об «устойчивости мира,
основанной на его конфликтности» '[353, с. 140], которые, вероятно^
как полуосознанный архетип сохранялись и в сознании малайцев
XV—XVI вв. Согласно этим представлениям, мировая гармония иг
хаос, Пандавы и Коравы ,[147] 2. любовь, рождающая новук>
жизнь, и смерть, кладущая ей конец, не только находятся в
вечном противоборстве, но и немыслимы друг без друга. Такое
понимание миропорядка, вероятно, и составляет глубинную основу
поэтики как древвеяванской поэмы, так и малайской повести.
Пожалуй, еще более отчетливо это понимание выражено в повестях
о Панджи.
Повесть о Санг Боме. К произведениям о героях
«Махабхараты» примыкает не"'менее популярная, чем история
победоносных Пандавов, «Повесть о Санг Боме», или «Повесть о Санг
Самбе», дошедшая до нас также примерно в десяти списках (527,
с. 187]. Однако, хотя среди персонажей этой повести мы вновь
встречаем пятерых братьев Пандавов, их жен и детей (а наряду
с ними обезьяньих царей и полководцев из «Рамаяны» и
буффонов из театральных повестей о Панджи), ее главные действующие
лица— это герои из рода Яду: Кресна — земное воплощение бога
Бисну (санскр. Вишну), его отец — Басудева (санскр. Васудева),
брат—Баладева и в особенности сын — Самба Правира Джайя.
8 Зак. 147
ИЗ
Начинается повесть [47; 527, с. 184—187] с рассказа о том, как божественные
'братья Брама (санскр. Брахма) и Бисну поспорили, кто из них старше, и для
разрешения спора договорились сыграть в прятки. Бисну укрылся в земных
недрах и там, овладев богиней земли Пертивй (санскр. Притхиви), породил
чудовищного великана (раксасу) Бому (санскр. Бхаума). Сын Пертиви, Бома,
неуязвим и воскресает, едва лишь соприкоснется с землей. К тому же боги наделяют
его цветком бессмертия и чудесной ездовой птицей Вилманой, созданной из пяти
металлов. Свои подвиги Бома начинает с того, что одолевает в поединке
могущественного махараджу Данисвару и обосновывается в его резиденции — Траджут-
рисне.
Затем рассказывается о том, как Брама и Бисну создают из цветков дерева
нагасари юношу — Дармадеву и девушку — Дармадеви, которые вступают в брак
и поселяются на горе Тенунан (искаж. кави Тапавана — Лес Отшельника). Через
некоторое время по воле Ёисну Дармадева покидает супругу и воплощатся в об-
.лике сына Кресны — Самбы. Дармадеви не в силах пережить разлуку с мужем —
она бросается в огонь и в следующем рождении оказывается дочерью махарад-
-жи Джантаки — красавицей Джанувати (санскр. Яджнявати).
Бома сватается к Джанувати, получает отказ и в гневе убивает ее отца, а
-самое Джанувати увозит в Траджутрисну и старается уговорить стать его
женой. До просьбе царевны он нападает на небесное царство, заставляет бога Ин-
дру отдать в служанки Джанувати двух небесных дев — Нилу Утаму и Сакурбу,
а затем начинает разорять обители отшельников.
Вняв мольбам отшельников, Самба выступает в поход против великана, по
дороге наносит поражение его военачальникам, находит в прекрасном саду трех
небожительниц, укрывающихся там от посягательств бога Камы, и женится на
одной из них — Танджунг Сари. После этого он попадает на гору Тенунан и,
вспомнив о своей прежней супруге, с помощью Нилы Утамы встречается с
Джанувати. Влюбленные узнают друг друга и вновь соединяются. Узнав об этом,
великанша, охраняющая красавицу, насылает на Самбу стражников и, покуда
он от них отбивается, похищает Джанувати и прячет ее в глубине золотой горы
во дворце Бомы.
Далее повествуется о серии сражений Самбы с великанами, в которых
царевичу помогают его отец, родичи и Пандавы. Наконец по приказу Бомы, до того
-занятого войной на небе Индры, великаны похищают влюбленных, в очередной
фаз обретших друг друга, и уже готовы сжечь их на костре, когда в действие
гвмешивается предводитель обезьян Хануман и убивает Бому. Однако в
последовавшем бою и Самба, и Арджуна также гибнут. В финале повести верховное
божество Батара Гуру воскрешает павших, но отказывается возвратить к жизни
Самбу, поскольку тот, по его словам, причинил Боме слишком много зла и
истребил всех его родичей. Обе жены царевича — Танджунг Сари и Джанувати —
собираются взойти на погребальный костер супруга, а тем временем его слуга Се-
мар одолевает на небесах всех богов, в их числе и самого Батару Гуру, и
добивается воскрешения господина. Самба и Джанувати торжественно празднуют
«свадьбу, .и юный герой воцаряется в стране Кресны — Даравати Пурве. Так
заканчивается повесть.
Р. О. Уинстедт в свое время высказал мнение, что «Повесть
о Санг Боме», как и произведения о Пандавах, была создана в
XV в. в Малакке, но не привел сколько-нибудь серьезных
доводов в пользу своей датировки if 196, с. 57—58]. Советский
исследователь Б. Б. Парникель, посвятивший «Повести о Санг Боме»
несколько интересных работ [240; 242], полагает, что она
сложилась в начале XVII в. в одном из городов восточного побережья
Явы. Однако и его гипотеза, аргументированная тем, что эта
повесть могла выступать в качестве государственного мифа,
призванного идеологически обосновать противостояние коалиции во-
сточнояванских княжеств их центральнояванскому сопернику —
Матараму, не кажется достаточно убедительной (подробнее см.
114
[188, с. 215—216]). На наш взгляд, пока можно лишь
утверждать, что «Повесть о Санг Боме» возникла, скорее всего, между
XV—XVI вв. в одном из традиционных центров яванско-малай-
ских контактов, к числу которых наряду с Малаккой относятся:
Южный Калимантан и Южная Суматра.
Не менее сложен и вопрос об индийских источниках «Повести
о Санг Боме» и ее прообраза в древнеяванской литературе —
поэмы «Бхомантака». А. Тэу, исследуя эту проблему, остроумно
заметил, что установить индийские источники не легче, чем найта
иголку в стоге сена, когда к тому же сомнительно, что она вообще
находится именно в этом стоге ,[153, с. 8—9]. Хотя голландскому
ученому так и не удалось отыскать санскритский прототип
истории о Боме в целом, его поиски все же дали некоторые
результаты. Как мы видели, сюжет повести, а также древнеяванской поэмы
рождается на пересечении двух тем: одна из них — борьба Ядавов,
с Бомой, другая — история любви Самбы и Джанувати (Яджня-
вати). Первая тема не раз упоминается в «Махабхарате» и при:
всем своеобразии ее трактовки в древнеяванском и малайском,
произведениях представляет собой обычную пураническую легенду
о Кришне {535, с. 322], хотя подробности о рождении и юности
Бомы (он же Нарака) сообщаются только в «Каликапуране».
О второй же известно лишь из одного санскритского
произведения— романа Даидина «Дашакумарачарита», где рассказывается
о царе Самбе и его жене Яджнявати, поймавших лебедя, а
обличье которого воплотился отшельник, в гневе обрекший их на
разлуку .в следующем рождении Т153, с. 10—20].
Как бы то ни было, пока что соединение обеих тем впервые
обнаруживается в какавине XIII в. «Бхомантака» (прежде его
неточно именовали . «Бхомакавьей» [535, с. 321] 3), парафразом
которого долгое время и считалась «Повесть о Санг Боме» (см.,.
например, »[ 196, с. 56]). Однако еще Р. Уилкинсон [516, с. 50]
высказал предположение о том, что первоначально повесть
предназначалась для использования в теневом театре, а Б. Б. Парни-
кель, тщательно исследовавший ее содержание, стиль и
композицию, убедительно показал, что «в основе ее лежат, по-видимому»
архаичные и не дошедшие до нас лаконы яванского театра ваянг
пурво» .[240, с. 336].
Хотя пьесы, легшие в основу «Повести о Санг Боме», порой,,
по-видимому, весьма точно следовали «Бхомантаке» (см. ,[153,
с. 21—38]), что было вообще характерно для лаконов «старого^
стиля», различие малайской повести и древнеяванской поэмы
оказывается весьма значительным. Главным героем ее в отличие от
какавина является Самба, а не Крисна, который, несмотря на
свое могущество, не в состоянии сразить сына земли. Сам Бома
из опекуна царевны превращается в страстного и подчас весьма
комичного «влюбленного великана» (см., например, [47, с. 41^
199]), претендующего на ее руку, а центр тяжести сюжета пере-"
носится с героической борьбы Крисны и его сородичей против
носителя злого, разрушительного начала на романические взаимо-
8*
115
отношения любовного треугольника Самба — Джанувати — Бома.
Даже нападение Бомы на отшельников, служащее, по существу,
завязкой какавина, в повести оказывается уловкой Джанувати,
которая надеется, что оно заставит Самбу выступить в поход и тем
самым скорее встретиться с ней [240, с. 327—328].
Трудно с определенностью сказать, произошла ли описанная
трансформация образов и сюжета «Бхомантаки» еще в древних
лаконах индуистско-буддийского времени, сцены из которых
запечатлены в рельефах восточнояванского храма Кедатон (1370г.),
)[425] или позднее, уже после восприятия яванцами и малайцами
ислама. Однако, на наш взгляд, именно эта трансформация
обусловила популярность повести у малайских читателей-мусульман.
В их среде некогда насыщенное мифологическим, и в частности
аграрно-мифологическим, содержанием произведение, выступавшее
как своеобразная модель мира (см. [240, с. 336—355; 242]),
постепенно утрачивало эти черты, >начинало рассматриваться как
вымысел, в котором прежде актуальные мифологические
элементы становились волшебным фоном, выполнявшим в основном
эстетическую функцию (ср. ;[240, с. 356, 369]). Оно превращалось в
волшебно-авантюрную повесть о верных влюбленных, отнюдь не
-лишенных человеческих слабостей, иной раз оказывающихся в
унизительном положении (достаточно вспомнить сцену, в которой
«связанные на брачном ложе Самба и Джанувати выставлены пред
очи Бомы и его приближенных [47, с. 155—156]), но тем не
менее мужественно преодолевающих все преграды и обретающих
/друг друга. При этом, если Самба, несмотря на всю свою
«рыцарственность», порой обнаруживает малодушие, то у нежной и
-утонченной Джанувати хватает смелости вместе с возлюбленным
сражаться с полчищами великанов или восходить на его
погребальный костер |[47, с. 107—113, 248—257]. Вообще в своей
любви к царевичу Джанувати совсем не робка и не скрытна, но,
напротив, весьма деятельна и то прямо, то исподволь (напоминая
этим Чандру Кирану в «Повести о Чекеле Ваненг Пати») делает
все возможное, чтобы приблизить час их соединения.
Своеобразный характер придает развитию любовно-авантюрной
темы в «Повести о Санг Боме» сплав в ней элементов какавина,
пьесы теневого театра и хикаята. От древнеяванских поэм это
произведение унаследовало редкие по выразительности для
традиции хикаятов картины заброшенной отшельнической обители,
томления героини в полнолуние, ночного пожара во дворце Бомы,
окутанном «благоуханием... пылавших алойных и сандаловых де-
;ревьев» '[47, с. 127].
Пожалуй, наиболее примечательны описания золотой горы з
Траджутрисне, уникальные тем, что, в зависимости от места в
сюжете, они являют ее читателю в различном освещении. Сначала
он видит золотую гору в ярком солнечном свете:
«Из золотой горы с четырех сторон с шумом вырывалась вода и падала на
золотые панданусы с цветами из всяких дорогих камней. И деревья трудна
-.-было разглядеть из-за брызг воды, струившейся, словно дождь. Деревья эти
116
были увиты золотыми лианами гадонг кестури, а на них были цветы из красных
рубинов. При каждом порыве ветра цветы эти шевелились, и солнечные лучи
играли меж самоцветов» [47, с. 20].
Затем гора предстает взору в сиянии полной луны:
«Пришли они и видят: золотая гора вся сверкает, потому что все
драгоценные камни и мрамор разных оттенков отражают лунный свет, и кажется, что
наступил день. Царевич все продолжал идти, неся на руках Джанувати, а потом
в сопровюждении дворцовых девушек юбогнул уступ горы. Там был дивно
изукрашенный бассейн, отделанный драгоценными камнями всех цветов. Лунные лучи
пронизывали воду в бассейне, и все рыбы, плавающие в нем, были видны
отчетливо, словно их запечатлел резец художника» [47, с. 104].
Теневые представления, влияние которых особенно ощутимо
в эпизодах, отсутствующих в «Бхомантаке» и впервые
появляющихся в повести, придали ей напряженный, хотя и несколько
снижающий изысканность какавина, драматизм. В ряду сцен
«Повести о Санг Боме», в которых ощутима характерная «кукольная
динамика», обращает на себя внимание та, «где Самба не на
жизнь, а на смерть сражается с великанами, в то время как за
спиною у него сидит Джанувати — трюк, который так и видишь
в исполнении кукол ваянг пурво» ,[240, с. 335].
Наконец, уже внутри хикаятной традиции повесть обрела
присущую ей ритмичность организованного специфическими
способами сказа, ряд переходящих из хикаята в хикаят формул для
описания сражений /[47, с. 212, 216 и др.; ср. 299, с. 8—15] и
психологических состояний, отдельные реалии мусульманской
демонологии, топографии и т. д. Именно этот гармоничный сплав
разнородных компонентов, в котором, однако, отчетливо доминирует
индо-яванская струя, и определяет художественный строй
«Повести о Санг Боме».
2. ПОВЕСТИ О ПАНДЖИ
«Каменные книги» — храмовые рельефы средневековой Явы —
среди прочего сохранили для нас два крайне любопытных
изображения. На первом посреди затерянной в лесу деревушки мы
видим еще не запряженную повозку, на подножке которой
расположился молодой царевич, окруженный четырьмя спутниками. Двое
из них — знатные юноши царского рода (это заметно по особой
лианере носить саронг), двое других — слуги, судя по лицам и
позам, жестоко страдающие от холода, а поскольку это на Яве
возможно лишь в ночные часы, время действия сцены,
несомненно, ночь. Другой рельеф изображает того же царевича в
сопровождении слуг. Под ногами его высечена дата, соответствующая'
1413 г. Особенности облика царевича и характерные детали
первого рельефа позволили предположить, что он изображает Радена
Ину Кертапати — царевича Панджи, героя бесчисленных поэм,
повестей и пьес теневого театра (ваянг гедог) и театра масок
(ваянг топенг), в тот момент, когда он держит совет с братьями
и слугами, собираясь под покровом ночи увезти во дворец свою
первую возлюбленную Кен Мерталангу [443, с. 406—408].
117
Свидетельства этих рельефов в совокупности с данными таких'
хроник, как «Малайские родословия» и «Повесть о Банджаре»
,[449, с. 138—155], позволяют считать, что уже в XV —первой
половине XVI в. произведения о Панджи были широко популярны
как на Яве, так и в малайском мире. Эпизод из «Малайских
родословий» знакомит нас с первым из упоминавшихся выше типов
этих произведений, история же о Мерталангу — со вторым.
Исследователи уделили немало внимания проблеме генезиса
и распространения сочинений о Панджи, известных не только в
Малайзии и Индонезии, но и далеко за их пределами — в
Кампучии, Таиланде, Бирме (см. [235]). Одни ученые (В. Рассерс„
Я. Рас) стремились показать, что они развились из древнего
индонезийского дуалистического мифа о первопредках, тесно
связанного с социальной структурой архаического яванского общества.
Другие считали, что в основе произведений о Панджи лежат
события яванской истории, и предпринимали попытки определить
исторические прототипы главных героев. Так, голландский индо-
незист П. ван Стейн Калленфельс рассматривал в качестве
прототипа Панджи одного из могущественных яванских правителей —
Эрлангу (XI в.) {484, с. 300—308]. P. M. Н. Пурбочороко,
опираясь на данные эпиграфических источников и древнеяванской
поэмы «Смарадахана», отождествлял Панджи с правителем
яванского государства Кедири — Камешварой I (1117—ИЗО), а Чанд-
ру Кирану — с его супругой Киранарату из Дженгалы и
соответственно относил зарождение сюжета к кедирийскому времени5
(XII—XIII вв.) |Г441, с. 478] 4. Новейшие эпиграфические
исследования (см. [307]) подтвердили, что в произведениях о Пайджи:
могли найти отражение некоторые факты яванской истории XI в.г
в частности разделение Эрлангой своего государства между
сыновьями, один из которых правил в Кедири, а другой — в Джен-
гале. К. X. Берг, напротив, считал, что историческая обстановка,
запечатленная в произведениях о Панджи, указывает на то, что
они возникли в Маджапахите, и прототип их главного героя от
видел в прославленном государе Маджапахита — Хаяме Вуруке-
(Раджасанегаре), правившем с 1350 по 1389 г. ч[292; ср. 443,.
с. 404—405].
Суммируя результаты этих исследований, можно в
предварительном порядке предположить, что прообраз пьес, поэм и
повестей о Панджи возник в кедирийский период в результате
насыщения старой мифологической схемы историческими
реминисценциями и реалиями. В дальнейшем около двух веков он, скорее
всего, сохранялся в устной традиции типа той, что передавалась
профессиональными сказителями виду аманчангах, чей репертуар
включал мифологические и исторические повествования (см. )[438,,
т. 3, с. 78; 130, с. 17—19]), а возможно, и в театральных кругах.
Значительную популярность произведения о Панджи, выросшие
на основе этого прототипа, приобрели; по-видимому, в эпоху
Маджапахита, для придворных поэтов которого вообще было
характерно увлечение местными сюжетами и жанрами, до топь
118
остававшимися несколько в тени. Должно быть, от маджапахит-
ских (если еще не от кедирийских) времен сказания о Панджи
унаследовали ряд тантрических элементов, заметных, например, в
описаниях ужасающих призраков, являющихся Радену Ину ночью
на кремационной площадке, в сцене соблазнения его их
повелительницей 18, с. 150—152] или ритуального свадебного танца
(пулир), в котором царевич исполняет партию невесты, а Чандра
Кирана — жениха |[357, с. 689—691].
Период расцвета Маджапахита, власть которого в то время
.простиралась на обширные территории Малайского архипелага и
Малаккского полуострова, был особенно благоприятным и для
распространения сочинений о Панджи за пределы Явы. В этой
■связи немецкий малаист X. Овербек высказал, пожалуй,
чрезмерно смелую гипотезу о том, что повести о Панджи, как и
произведения о Пандавах, специально создавались по-малайски на Яве
к в качестве средства маджапахитской политической пропаганды
посылались в страны, над которыми Ява установила свой
суверенитет или с которыми поддерживала дружеские отношения, для
демонстрации духовного могущества яванских правителей [428,
с. 305, 309].
Более вероятно, однако, предположение Я. Раса о том, что
важным каналом распространения сказаний первоначально были
династийные браки яванских и малайских правителей. В свиту
отправлявшихся за море яванских царевен обычно входила
театральная труппа, которая на свадебных торжествах в форме
приспособленной к данному случаю пьесы о Панджи инсценировала
священный миф о браке первопредков. Чтобы быть понятными
аудитории, эти пьесы переводились на малайский язык, что
создавало основу для восприятия сказаний о Панджи малайской
традицией i[448, с. 439—440].
Как бы то ни было, в сознании малайцев XV—XVI в;в.
повести о Панджи постепенно утрачивали свои ритуальные функции,
превращаясь в собственно литературные памятники (ср. .[130,
с. 14]). Поэтому, на наш взгляд, трудно не согласиться с
Р. О. Уинстедтом, писавшим об односторонности их
исключительно генетического изучения: «Историку литературы, в сущности,
так же мало дела до того, какой миф лежит в основе повестей о
Панджи, как до того, являются ли неизменно фигурирующие в
повестях о Панджи княжества... воспоминаниями о четырех
экзогамных группах, существовавших в древности на Яве. Точно так же
едва ли литературовед должен уделять слишком много внимания
историческим намекам» /[196, с. 80]. По той же причине более чем
оправдан наметившийся в последние годы литературоведческий
подход к повестям, внимание к характеристике действующих в
них персонажей, сюжетике, изобразительным средствам и т. д.
(см. |[129; 130; 379]).
Повести о Панджи составляют важнейшую и количественно
«два ли не самую обширную отрасль средневековой малайской
беллетристики, оказавшую огромное влияние на художественную
119
прозу и поэзию, традиционную историографию и даже суфийские
сочинения малайцев. Малайзийский исследователь Абдул Рахман
Каех насчитывает в различных библиотеках мира до 200
рукописей произведений о Панджи, содержащих около сотни различных
(по крайней мере по названию) текстов, нередко весьма
объемистых [379, с. 15—16, 174—180]. Так, наиболее пространный из
этих текстов, «Повесть о Джинатуре Джаенге Кесуме»,
представляет собой семитомное сочинение объемом в 1236 страниц,
вполне же обычный объем повести о Панджи — 400—500 страниц.
Судя по числу сохранившихся списков, наибольшей популярностью
пользовались такие сочинения, как «Повесть о Мисе Прабу
Джайе», «Повесть о Панджи Куде Семиранге», «Повесть о
Панджи Семираег», «Повесть о Найе Кесуме», «Повесть о Чаране
Кулине», «Поэма о Кен Тамбухан», дошедшие в 5—10 рукописях..
Особенно же распространена была «Повесть о Чекеле Ваненг Па-
ти», сохранившаяся в рекордном числе списков — двадцати девяти.
Естественно, что большинство рукописей повестей происходит
из тех районов малайского мира, где пустили глубокие корни
традиции ваянга (в Малайзии — из султанатов Келантан и Кедах).
При этом их владельцами и переписчиками, а стало быть,
главными ценителями, как правило, оказываются знатные дамы иа
султанского окружения или непосредственно из султанской семьи
(379, с. 23—24].
Многочисленные малайские произведения о Панджи не
образуют цикла, в котором одна повесть служит продолжением другой-
Каждая из них — завершенное целое, а их совокупность — особый
«переводной» жанр, единая сюжетно-композиционная канва
которого всякий раз по-новому расцвечена (ср. понятие «роящейся
традиции» в гл. I). Отнюдь не абсолютен и переводной характер
повестей. Насколько можно судить, постоянные упоминания в них
о переводе с яванского — это часто лишь дань канонам жанра
{154, с. XXIII; 129, с. 8], и многие малайские сочинения о Панджи
были созданы непосредственно литераторами и далангами — ма-
лайпами.
Обычно ядро повестей о Панджи таково. На Яве в четырех
княжествах (чаще всего они носят названия Курипан, Даха, Га-
геланг, или Ураван, и Сингасари) правят четверо братьев. У
государей Курипана и Дахи рождаются сын и дочь — Раден Ину
Кертапати и Чандра Кирана, с детства предназначенные друг для
друга. Однако накануне свадьбы роковые обстоятельства
разлучают жениха и невесту, и Раден Ину устремляется на поиски:
Чандры Кираны в сопровождении слуг (панакаванов) —
комических персонажей и в то же время мудрых наставников царевича^
сохраняющих ряд черт могущественных местных божеств доин-
дуистского пантеона J439, с. 1, 139, 140; ср. 498, с, 22, 24]. Слуги
обычно носят имена Семар, Джемурас, Пунта, Персанта, Керта-
ла, Джеруде и др.
По пути Раден Ину завоевывает различные страны и
захватывает в качестве трофеев их царевен. Одолев множество преград,,
120
возведенных на пути любящих судьбой, воплощением которой
выступает божество Батара Кала, подолгу живя неузнанным бок о
бок с царевной при дворе одного из дядьев, не раз, казалось бы,
уже отыскав суженую и вновь ее утратив, Раден Ину окончательно
соединяется с Чандрой Кираной. Как .правило, у обоих
возлюбленных имеются братья и сестры, которые также 'странствуют в их
поисках. Рассказы об их приключениях (и любовных драмах
образуют осложняющие ветви -сюжета, то «по сходству, то сто контрасту
оттеняющие основное действие.
К числу типичных для повестей мотивов относятся обретение
бездетными родителями главных героев сына и дочери по обету,
данному богам; притязания на руку Чандры Кираны заносчивого
и грубого чужеземного правителя, выступающего как
демоническое существо; переодевания героев (нередко мужчины в женщину
или женщины в мужчину); бесчисленные изменения ими облика
и имени; аскетические подвиги и плавания в заморские страны;
безумие или тяжкая болезнь одного из протагонистов, от которой
его может исцелить лишь вмешательство возлюбленной
(возлюбленного), и др.
В зависимости от характера начальной части, как уже
отмечалось, могут быть выделены два основных типа повестей о Панд-
жи. К повестям первого типа относятся произведения, в которых
Раден Ину после какого-либо бедствия предстает в качестве
«низкого» персонажа, неузнанным поступает на службу к одному из
дядьев и своей куртуазностью и мужеством покоряет сердце его
дочери (обычно ею оказывается Чандра Кирана). Повести второго
типа начинаются с рассказа о первой (до Чандры Кираны),
«низкой» по происхождению или положению возлюбленной Радена
Ину, впоследствии тайно убитой по воле отца или матери
царевича. Этот начальный эпизод по одной из известных яванских поэм,
«Панджи Ангрени» (пересказ ^[443, с. 178—241]), принято
называть «мотивом Ангрени». Панджи, узнающий о смерти
возлюбленной, приходит в отчаяние и отправляется странствовать,
свершая свои рыцарские подвиги. В повестях второго типа он, таким
образом, сразу же вступает в действие как «высокий» герой,
силой оружия добывающий жен. Существуют также произведения,
дающие промежуточные или смешанные варианты.
Многие повести о Панджи предваряются своеобразным
«прологом на небесах» — повествованием о событиях, предшествующих
земному рождению Радена Ину, воплотившегося небожителя или
героя «Махабхараты», призванного возродить жизнь в мире,
обезлюдевшем после Великой войны. Некоторые произведения
(например, «Повесть о повешенной царевне») добавляют к прологу
еще и пространную генеалогию небожителя, которому суждено
родиться в облике Радена Ину [426, с. 209].
Именно в отношении к богам индо-яванского пантеона,
играющим в «прологе на небесах» главную роль, пожалуй, особенно
ощутим тот дух театрально-литературной условности, который в
повестях пришел на смену глубокой серьезности мифа. Типичный
121
образец подобного пролога содержит, например, «Повесть об Ас-
маре Пати», божественные герои которой, словно актеры на
распределении ролей, приходят в отчаяние и интригуют друг против.
Друга:
«Батара Гуру и все небожители, прослышавшие об этом (о желании
божества Найи Кёсумы возродить жизнь на земле.— В. £.), весьма ликовали, и Батара
Бисну с Санг Хьянг Тунгалом говорили в ту пору так: „Воистину Батара Найяг
Кесума достоин снизойти в дольний мир и со своими потомками разыграть в нем
пьесу нашего повелителя. Никто, кроме него, почитаемого всеми богами, не
сможет этого сделать". Услыхав те слова, Батара Гуру, знавший, что таково
старинное желание обоих небожителей, улыбнулся. Брахма Сакти же (также один и$
богов.— В. Б.) от огорчения понурился, ибо сам желал сыграть на Яве ту пьесу г
раздав роли потомкам Брахмы Нусы. Уже давно он просил разрешения у Ба-
тары Гуру, но Батара Бисну и Санг Хьянг Тунгал воспротивились, и пьеса на
свет так и не явилась» [103, с. 70],
Вообще мотивы театрального зрелища и — в'несколько меньшей
степени— исполнения литературного произведения играют крайне
важную роль в повестях о Паыджи. С одной стороны, как мы
видели, мир предстает в повестях как своего рода театр,
режиссерами которого выступают боги, и прежде всего театральный
deus ex machina — Батара Кала. Радос/ги и жизненные невзгоды^
выпадающие на долю героев, постоянно мотивируются его
заботами о том, «чтобы продолжилась пьеса» или «чтобы не
прерывалось представление даланга». С другой стороны, излюбленный
художественный прием повестей — это «театр в театре». Их
персонажи (в частности, Ину Кертапати и Чандра Кирана) нередко
являются читателю в обличье кукловодов, или режиссеров и
исполнителей танцевальных драм, или чтецов классических поэм
(какавинов и кидунгов).
Функции включения в повести пьес и поэм весьма
многообразны. Иной раз они служат аллюзией на развитие действия в
будущем. Таково, например, исполнение «Арджунавивахи» в «Повести,
о Чекеле Ваненг Пати», намекающее на грядущую победу Раде-
на Ину над демоническим женихом царевны:
«Чекел Ваненг Пати подошел к балею (крытый помост на сваях.— В. Б.)
Индра Буана, поднялся на него и взял лежавшую на балее кнчгу. После же
уселся, скрестив ноги, и принялся читать вслух. И несказанно прекрасным был
его голос, благоуханным и сладостным, так что всякий, кто его слышал, впивал
тот голос, точно струящийся мед. Теперь расскажем о царевне Раден Галух Чан-
дре Киране... Войдя в сад, она направилась к балею Индра Буана и услыхала
чей-то голос, читавший по книге любовную поэму на том месте, где описывалось^
как государь Анта Кавача (повелитель раксас— В. Б) решительно склонял к
любовным ласкам Деви Сакурбу (небесную деву,—Б. Б.)... И тогда молвил
Астра Джива (слуга царевича, Семар — В. Б.): „О господин мой, я больше люблю
слушать рассказ о том, как Санг Арджуна отбил Деви Сакурбу у государя Анта
Кавачи. Куда бы как лучше почитать его"» (последняя фраза несколько
двусмысленна и может быть понята так: «Куда бы как лучше, если бы вышло так») [7У
с. 58—59].
С такой же целью в «Повести о Мисе Тамане Джайе Кесуме»
исполняется лакон о Санг Боме [95, с. 159—163].
122
Б других случаях с помощью театральных постановок героям
разъясняют неправильно понятые ими события прошлого
(разыгрывание пьес об оклеветанной царевне в тех же повестях, с тем
чтобы показать Радену Ину, как несправедливо он обошелся с
ни в чем не повинной Чандрой Кираной). Наконец, пьеса может
выступать в качестве резюме сюжета повести. Так, в конце
«Повести о Чекеле Ваненг Пати» Раден Ину и Чандра Кирана
разыгрывают историю своих злоключений {527, с. 201]. В то же время
театрально-литературные «цитаты», почерпнутые из известных или
по ходу дела пересказываемых произведений, создают
эмоциональную атмосферу соответствующего эпизода и позволяют героям,
вынужденным скрывать свои истинные чувства, выразить их
иносказательно. Такое использование мотива театра в повестях
несколько напоминает включение пантунов в более поздние,
синтетические хикаяты.
Даже этого беглого обзора повестей о Панджи достаточно
для того, чтобы узнать в них одну из разновидностей любовно-
авантюрного жанра, распространенного в литературах многих
народов мира. На наш взгляд, типологически повести стоят ближе
всего к античным романам с их вполне очевидными
мифологическими корнями и вместе с тем бесспорно беллетристической
функцией, устойчивой сюжетной схемой и ярко выраженными
театральными элементами, порой нарочито подчеркнутыми автором
{185, с. 253]. Насколько сюжетная схема античного романа
напоминает фабулы повестей о Панджи, видно, например, из ее
изложения, данного И. М. Тройским: «Случайно встретившись на
празднестве, герои немедленно друг в друга влюбляются.
Наступает период обоюдного любовного томления, заканчивающийся
- свадьбой или тайной помолвкой и бегством, <>сли брак встречает
препятствия со стороны родителей. Основное, однако, впереди.
Наступает разлука. Один из героев попадает во власть разбойников,
другой отправляется на его поиски. Они блуждают по разным
странам, ищут друг друга, находят и вновь оказываются
разлученными... Несчастья, постигающие влюбленных, не имеют
внутреннего оправдания; они мотивированы лишь капризом Судьбы,
непонятной волей какого-нибудь божества или его традиционным
гневом... В некоторый момент всей этой неправдоподобной серии
злоключений любящая пара воссоединяется, на этот раз уже
прочно, для долгой и счастливой совместной жизни» )[264, с. 273—
274]. Пожалуй, особенно близок к произведениям о Панджи роман
Харитона Афродисийского «Повесть о любви Херея и Каллирои»,
главный герой которого выведен не только преданным
любовником, но и победоносным полководцем [185, с. 252].
Вместе с тем сходство повестей с античными романами лишь
оттеняет их различия. Прежде всего античному роману чужда та
«бесконечная временная перспектива» [240, с. 369], которую
придает повестям о Панджи кармическая концепция цепи рождений.
Далее, относительно своеобразен набор мотивов повестей, для
которых, в частности, нехарактерны похищения героев разбойника-
123
ми, продажа их в рабство и ряд других стереотипных
повествовательных элементов античного жанра. Наконец, герой повестей
обычно воинственнее своего греческого собрата, а сохранение
верности героине редко удерживает его от вступления в брак с
с другими красавицами по ходу поисков суженой.
Чем же объясняется подобная многочисленность повестей о
Панджи, основывающихся на одной и той же сюжетной схеме,
разыгранных в одних и тех же «декорациях» и посвященных, по
существу, одним и тем же героям? По-видимому, прежде всего
причинами литературного характера — несколько различными
представлениями безымянных авторов о том, каким должно быть
занимательное и хорошо построенное повествование, какой
морально-этический урок оно должно содержать, что именно
придется по вкусу заказчику или покровителю и т. д. Эти же мотивы
поддерживались и непрерывавшейся связью данного жанра с
театральной традицией, учитывавшей возрастной состав и настроение
аудитории, а также соревнованиями далангов, стремившихся
превзойти друг друга в искусном и еще не приевшемся сочетании
стандартных мотивов, точном выборе пропорции любовных,
военных и комических сцен в пьесе [488, с. 269].
Однако была и другая, не менее важная причина разнообразия
произведений о Панджи. Мы уже видели, что в самих повестях
часто описывается исполнение литературных и театральных
произведений, содержавших намек на определенные события
прошлого или будущего. О такого рода предназначении пьес ваянга
Я. Рас писал: «Яванские поэмы и пьесы ваянга очень часто
приурочивались к определенному случаю: они создавались для
рецитации или постановки по тому или иному поводу и должны были
ему соответствовать. Когда даланга приглашали для того, чтобы
украсить празднество, он крайне тщательно выбирал
предназначенный для исполнения лакон, и во время представления опытный
даланг приноравливал интригу повествования к обстоятельствам
жизни своего патрона. Он делал это так, чтобы зрители заметили
параллелизм между содержанием пьесы ваянга и событиями,
обусловившими организацию праздника. Таким образом,
поставленная пьеса ваянга представляет собой сложно построенную и
систематически проведенную аллюзию, или, как говорят сами
яванцы, пасемон» /[449, с. 65].
Принцип пасемона был известен не только современному ва-
янгу (примеры см. /[449, с. 65]), новояванским поэмам и
историческим сочинениям [453, с. 176—226], но и литературе древне-
яванской. Он использовался, например, в какавинах «Арджунави-
ваха» ;[290], «Бхаратаюддха» ^[449, с. 63—64] и других
произведениях. Этот принцип не только объясняет разнообразие
малайских повестей о Панджи и героях «Махабхараты», но и, по-
видимому, является важнейшим в малайской словесности звеном,
связывавшим литературу с жизнью. Нам еще не раз предстоит
встретиться с ним, говоря об аллегорических поэмах («Поэма о
Пузанке и Лазающем Окуне»), исторической прозе («Повесть о>
124
Маронге Махавангсе»), некоторых памятниках беллетристики'
(«Повесть о Хаите Туахе»).
Повесть о Чекеле Ваненг Пат и. Одно из самых
популярных средневековых малайских произведений — «Повесть о
Чекеле Ваненг Пати», созданная, возможно, еще в XV — начале
XVI в., принадлежит к первому типу повестей о Панджи — тому,
где Раден Ину добивается любви Чандры Кираны в обличье
«низкого» персонажа. Оценивая его значение, известный голландский,
иадонезист X. Н. ван дер Тююк писал: «Это одно из самых
интересных сочинений на малайском языке, оказавшее влияние едва,
ли не на всю малайскую литературу» [23, с. 99]. Согласие с
такой оценкой выражал в своих трудах и Р. О. Уинстедт н[196,
с. 76—77].
Как и многие другие сказания о Панджи, «Повесть о Чекеле Ваненг Пати»-
начинается с «пролога на небесах». У небожителя Батары Найи Кесумы
рождается сын — Дэва Индра Камаджайя и дочь — Деви Нила Кенчана. Брат -и сестра
влюбляются друг в друга и дают клятву вечной верности. Отец изгоняет их из
небесной обители и превращает в голубой и белый лотосы, которые по обету-
даруются верховным божеством государям Курипана и Дахи. В результате у
правителя Курипана рождается сын — Раден Ину Кертапати, а у правителя
Дахи— дочь, Чандра Кирана, в образе которых воплощаются изгнанные
небожители. Вместе с господами воплощаются и их слуги, рождающиеся в семьях
знатных царедворцев обеих стран.
Достигнув брачного возраста, Раден Ину сватается к Чандре Киране.
Начинается подготовка к свадьбе, в суете которой родители жениха забывают о
данных ими обетах. В гневе божество Батара Кала клянется «превратить радость
влюбленных в горе», и по его наущению правитель страны Соча Винду похищает
царевича и подвергает его пыткам, а чудовищный великан-раксаса уносит
царевну в свое логово. Так начинаются главные события повести, протагонистами
которых выступают уже сами влюбленные.
Раден Ину, брошенный в реку правителем Соча Винду и возвращенный к
жизни слугами, приходит к Даху, узнает о похищении Чандры Кираны и спасает
ее из рук великана. Неузнанный, он под видом «обитателя лесов» Чекела Ваненг
Пати поселяется во дворце государя Дахи, на руку дочери которого в это время
прентендует «грубый мужлан» — правитель страны Менгада. Чекел завоевывает
любовь Чандры Кираны и не раз одерживает верх над соперником, добывая для
нее золотую лань и разгадывая хитроумные загадки странствующего брахмана-
воителя, грозящего покорить Даху. Однако отец царевны всякий раз нарушает
уговор и отказывается отдать свою дочь в жены Чекелу, хотя тот и выполняет-
все его поручения.
Тем временем отправившийся на поиски Радена Ину его брат Чаранг Тинан-
глух, покорив множество стран, является под стены Дахи. При его приближении
жители города в ужасе цепенеют, «точно куклы ваянга, когда гаснет свет,
озарявший экран». Чекел Ваненг Пати вступает в бой, побеждает и, узнав брата,
лишается чувств. В действие опять вмешивается Батара Кала, воскрешает
братьев, но переносит Чандру Кирану в лес, где ее находит и удочеряет государь
княжества Ласем. Чекел Ваненг Пати и Чаранг Тинанглух, в очередной раз
переменив имена, вновь устремляются на поиски, которые приводят их во дворец
другого из дядьев — правителя Гагеланга. Сюда же через некоторое время приходит
и Чандра Кирана. Влюбленные встречаются, и Чекел, излечив Чандру Кирану от
тяжелой болезни, которую на нее наслали помогающие царевичу демоническиа-
силы, женится на ней. Вслед за тем он берет в жены дочь государя Гагеланга, и
та по наущению Батары Калы, все еще гневающегося на главных героев, окле-
ветывает Чандру Кирану: прячет ей под подушку портрет юноши,
наведывавшегося во дворец к одной из придворных дам. Чекел, теперь именуемый Пангера-
ном Адипати, изгоняет жену в чащу леса, на площадку для кремации и погребе-
125
зшя, где ее окружает сонм ужасных призраков. Однако их повелительница
благосклонно встречает изгнанницу, и Чандра Кирана рождает в царстве призраков
сына — царевича Мису Тандрамана.
(Поняв свою вину перед супругой, Раден Ину (Пангеран Адипати) тяжко
тза'болевает. Излечить его может лишь небесный цветок Гандапура Ванги, на
поиски которого отправляется Миса Тандраман. Предавшись строгому
подвижничеству, он призывает Шиву, и тот открывает юноше, что Гандапура Ванги — не
обычный цветок, но кровь из груди небесной девы Сукарбы. Миса Тандраман
проникает в небесный сад, становится возлюбленным Сукарбы и, получив
несколько капель крови из ее груди, заключает их в ларец и возвращается на землю.
По пути сводный брат убивает его, похищает ларец, но не может открыть
крышку. Воскрешенный Миса Тандраман исцеляет отца, и тот, прикинувшись
невидимым богом любви и пробравшись к Чандре Киране, вновь обретает ее. Затем
Чаранг Тинанглух наносит поражение все еще настаивающему на браке с
царевной Дахи правителю Менгады, а Раден Ину вместе с сыном и внуком, рожденным
Сукарбой, одолевает своего заклятого врага — государя Соча Винду,
пытавшегося похитить Чандру Кирану. Злодея, как некогда Радена Ину, привязывают к
•столбу и забрасывают камнями, после чего воссоединившиеся наконец герои
повести вместе с родителями отправляются исполнить данные богам обеты. Часто
к этому основному повествованию добавляется еще пространный эпизод о войне
царевича и его родителей с келингским государем Аньякрой Буанавати [528,
•с. 201—203].
Огромный объем повести, хитросплетения сюжетных линий,
бесчисленные приключения героев, их сестер и братьев,
непрестанно меняющих имена5,— все это делает ее в глазах европейских
исследователей чем-то до крайности путанным и хаотичным.
Однако «калейдоскопичность» повести, скорее, кажущаяся.
Постоянное вмешательство в ход событий Батары Калы организует
любовные перипетии персонажей, их поединки, битвы, превращения в
достаточно стройное композиционное целое — своего рода
четырехактную драму. При этом, несмотря на высокую
вариативность и многообразие частных мотивов в рамках отдельного
«акта» (их действие последовательно разворачивается в Курипане,
Дахе, Гагеланге и вновь в Дахе), повторяемость в каждом из
них строго определенного набора основных элементов
(романические партии влюбленных, преодолевающих встающие на их пути
препятствия; смеховая линия слуг; комбинация стандартных
описаний) придает всей драме циклический характер.
На первый взгляд вторжения божества в развитие сюжета
мотивировано чисто литературными причинами — его стремлением
«продлить пьесу», однако их подлинный смысл значительно
глубже и отражает уже известные нам представления творцов повестей
о незыблемости мирового порядка и вместе с тем о конфликте,
которым эта незыблемость чревата, о предопределении, игре
судьбы (не случайно горе и радость в «Повести о Чекеле Ваненг Па-
ти» неизменно идут «встык») и человеческой активности. Трижды,
когда, казалось бы, желанная гармония и устойчивость уже
достигнуты и ничто более не мешает соединению влюбленных,
своенравные внешние силы — судьба, воплощенная в Батаре Кале,—
вновь их разлучают, и трижды «движимые любовью» силы
внутренние — сами герои повести — с неизменным упорством
принимаются восстанавливать нарушенную гармонию. При этом увекове-
126
чить ее может лишь правильное согласование обеих сил,
символизируемое венчающим повесть исполнением обета. Таковы основы
миропорядка в повести, вырисовывающиеся в самой ее
композиции.
Философско-мировоззренческий аспект произведения тесно
связан с его не менее важной дидактической направленностью.
«Повесть о Чекеле Ван-енг Пати» является 'подлинным учебником
куртуазного, т. е., в понимании ее автора (авторов), правильного и
уравновешенного поведения, существенную сторону которого
составляет искусство наслаждаться прекрасным в трех его
важнейших ипостасях — красоте возлюбленной, природы и слова, в
особенности слова иносказательного (ср. [535, с. 152—154, 158])..
В бесчисленных эпизодах повести перебраны все возможные
ситуации, в которых может оказаться молодой аристократ, и
показано, как человеку с хорошими манерами надлежит есть, пить,
жевать бетель, каковы должны быть походка и жесты
воспитанного человека, когда он должен быть учтивым и уступчивым, а
когда непреклонно твердым, как надлежит выражать свои
чувства и как обходиться со слугами, с лицами более знатными, чем
он сам, и ему равными, с дружественными и враждебными
государями, с оказывающими сопротивление и покоряющимися без
боя противниками и т. д.
Особенно важную роль в яванско-малайском кодексе
куртуазного поведения играет своеобразная «наука любви», в
зависимости от социального статуса героев, предстающая в двух ипостасях..
Одна из них, присущая тем произведениям о Панджи, в которых:
героиня выступает как «низкий» персонаж, хорошо описана
Б. Б. Парникелем на основе «Поэмы о Кен Тамбухан»6: «Задача;
мужчины улестить, расположить в свою пользу и подчинить
предмет своей страсти. Царевич осыпает Кен Тамбухан
бесчисленными суперлативно-ласкательными наименованиями: „золотце мое",-
„небесная дева", „благороднорожденная младшая сестра", „луче-
зарноликая", „жизнь моя", „свет моих глаз", „повелительница"'
и т. п. ... Далее он без околичностей сообщает девушке, что просто
не в состоянии ее покинуть и отныне ей не пристало спать в
одиночестве. А как же ведет себя во время объяснения Кен
Тамбухан? Отвечает на первые этикетные вопросы царевича. Просит еп>
поскорее удалиться, иначе разгневается государыня-мать. Просит
убрать руки. И еще пугается, смущается, тоскует, томится,
грустит и плачет, плачет. Разумеется, можно увидеть за этим опять-
таки литературный этикет... Но справедливо ли это, когда о
подневольности героини неоднократно говорят и она сама, и ее
служанки, когда настойчивый влюбленный, в сущности, не
предоставляет девушке никакого выбора, а о „положительных эмоциях"*
Кен Тамбухан можно судить лишь по одному упоминанию о тому.
что сердце ее смягчилось, и другому — о том, что она слегка
улыбнулась, приласкав царевича по его просьбе» \[247, с. 124—125;;
ср. 43, с. 258—261].
Иначе строятся любовные отношения протагонистов в «Повесга
127
о Чекеле Ваненг Пати» и других произведениях о Панджи, где в
обличье «низкого» персонажа предстает сам Раден Ину. На
смену откровенному «неотступному напору» i[240, с. 361]
торжествующего любовника в них приходят хорошо знакомые нам по
европейскому рыцарскому роману или мусульманской романической
литературе скрытые от посторонних глаз томления, хранимые
«в сердце своем» любовные признания и мольбы, а главное —
сдерживаемые порывы чувств тайного вздыхателя.
Вот, сразив раксасу, похитившего Чандру Кирану, Чекел
Ваненг Пати провожает царевну через джунгли в Даху, неприметно
любуясь ее поступью, изящной, точно «подрагивание на ветру
ветки ангсоки». Весьма условно выписанный лес на каждом шагу
являет ему все новые символы любовной страсти (индийцы
сказали бы «возбудителей» эротической расы): благоухают цветы,
томительно гудят пчелы, и Чекел уже готов отдаться ее порыву, но
■усилием воли перебарывает себя и лишь заботливо приказывает
слуге: «Братец Астра Джива (Семар.— В. £.), ступай наломай
веток и приготовь для царевны ложе. Здесь во множестве водятся
тигры» ïf63, с. 41]. А потом проводит подле царевны бессонную
ночь, лишь изредка разрешая себе взглянуть на нее.
Вот чудовищный повелитель Менгады, нарушив все нормы
придворного этикета, сватается к Чандре Киране. Царевна умоляет
Чекела не покидать Даху, прозрачно намекая на свои чувства к
нему: «Ты не умрешь в Дахе одиноким, будет кому последовать
за тобой в смерти» ,[63, с. 221]. Слыша эти слова, Чекел забывает
на миг о том, что они на людях, и во власти любовного
опьянения восклицает:
«„О дыхание жизни моей, о госпожа и повелительница, о богиня цветов,
ъерно, ты меня и вправду любишь, если желаешь умереть вместе со мною,
злосчастным. О моя благородная владычица, о червонное золото мое, позволь мне
:взять тебя на руки". С теми словами он было уже поднялся с места, однако
Астра Джива тотчас ухватил его за край поясного платка и молвил: „Да ты
никак пьян, почтеннейший Чекел. Должно быть, ты совсем обезумел, раз ведешь
себя точно влюбленный". Чекел Ваненг Пати улыбнулся и, оглянувшись,
ответствовал: „Что-то очень уж, братец, кружится у меня голова, совсем я давеча
захмелел". Сказав же так, смущенно поглядел на царевну и, вновь улыбнувшись,
молвил: „О госпожа, позволь мне удалиться, ибо я до беспамятства пьян"» [63,
-с. 222—223].
Такого рода «сдерживания чувств», перемежающиеся
всевозможными подвигами, которые несколько напоминают рыцарские
свершения во имя дамы (так завязываются в один узел военная
и любовная темы, и Чекел готов завоевать всю Яву, чтобы
встретиться с возлюбленной, ибо «умереть легче, чем терпеть любовные
муки» [63, с. 106]), суть самый «нерв» партии влюбленного в
повести. Период же тайных воздыханий, когда Раден Ину в обличье
«обитателя лесов» Чекела Ваненг Пати покорил сердце Чандры
Кираны,— ее смысловой центр. Не случайно именно от него
повесть получила свое название. Не случайно в финале именно
время, когда герой носил имя Чекела Ваненг Пати, приходит на
128
ум влюбленным, когда они, видя внезапно выбежавшего из леса
носорога, одновременно вспоминают охоту на золотого оленя:
«Раден Ину засмеялся и молвил: „К чему вспоминать о Чекеле Ваненг Пати,
что поймал тогда золотого оленя! Теперь вместо него с тобою я". Нахмурясь,
ответствовала царевна: „Ты — точно проницательный подвижник. Знаешь все, что
у человека на сердце". Молвил Бетара Анум (т. е. Раден Ину.— В. Б.): „Где-то
Чекел Ваненг Пати сейчас? Жаль мне его, ведь как он страдал от любви к тебе".
При тех словах царевна лукаво взглянула на Бетару Анума, он же улыбнулся»
163, с. 214—215].
Соответственно изменению партии влюбленного меняется и
роль возлюбленной. Из персонажа «страдательного» во всех
смыслах этого слова она становится активным началом любовных
перипетий повести, тайно поощряя своего избранника, храня ему
верность, бесстрашно отправляясь на его поиски. Подобное
развитие темы позволяет автору «Повести о Чекеле Ваненг Пати»
продемонстрировать не только мужской, но и женский вариант
деятельного куртуазного поведения, в то время как невозможность
для протагонистов прямо выразить свои чувства (причиной тому
служат для героя его низкий социальный статус, для героини —
сами нормы яванского этикета) позволяет ему пронизать повесть
стихией иносказательности, которая составляет основу «науки
любви» в ее второй ипостаси.
Эта стихия дает знать о себе уже в самом выборе
изобразительных средств. Если, рассказывая о Радене Ину, автор
прибегает к более «открытым» образам зрительного и слухового
планов, то в повествовании о Чандре Киране он отводит важное
место более интимным и «прикровенным» «ароматическим» образам.
Уже в самом начале повести — z рассказе о помолвке героев —
Раден Ину получает в дар от царевны жемчужный ларец с
притираниями, запах которых разносится на всю страну (в
дальнейшем ларец оказывается одним из символов самой Чандры Кира-
ны {63, с. 77; ср. 43, с. 261]); в уже упоминавшемся эпизоде
объяснения Чандра Кирана дарит возлюбленному каин и поясной
ллаток, хранящие аромат ее тела, этот же аромат чудится
царевичу, охотящемуся на золотого оленя, в благоухании цветов и т.д.
Вообще эротическая тема «поощрения ароматами» не менее
характерна для партии царевны, чем тема «сдерживаемых порывов»
для партии царевича.
Стихия иносказательности (излюбленная малайская киасан)
в «Повести о Чекеле Ваненг Пати» проявляется не только в
обилии любовных символов (чаще всего это символика растений,
цветов, красочной гаммы), не только в недомолвках и
многозначительных намеках, которыми обмениваются герои, использовании
автором приема «театр в театре» или его пристрастии к
парафрастическим оборотам (брачное соединение Радена Ину и
девственницы Чандры Кираны, например, описывается им в таких словах:
«И тогда Туменгуиг Арья Вангса (Раден Ину.— В. Б.) утолил
свою страсть за драгоценным пологом, и не стало госпожи
блистательного дворца, не стало ее, и другой уж не будет, исчезла и
9 Зак. 147
129
более не вернется, канула, и уже не отыщешь» ^[8, с. 158]).
Нередко она характерна и для композиции целых эпизодов,
основывающихся на какой-нибудь достаточно тривиальной метафоре
(любовь — опьянение, муки любви и утоление их — болезнь и
исцеление от болезни), «оживленной» благодаря искусной драматизации»
порой сочетающейся с изысканным построением всей сцены по
принципу параллелизма, присущего также малайской пантунной
лирике.
В этом случае, так же как и в четверостишии-пантуне,
первый член параллели содержит иносказательно-символическую
разработку темы, прямой смысл которой разъясняется во втором
члене. Яркий пример такого построения дает решающий для
отношений героев эпизод, в котором Раден Ину (Туменгунг Арья Ванг-
са) проникает в опочивальню Чандры Кираны и исцеляет
царевну, страдающую тяжким недугом, дав ей под видом снадобья
початый им бетель (принятие початого бетеля — традиционный
малайский знак взаимной любви). Таков первый член параллели,,
«прикровенность» смысла которого подчеркнута тем, что
«смежившая веки» Чандра Кирана принимает Радена Ину за своего
брата. В одно мгновение исцелившаяся царевна открывает глаза и
видит «перед собой незнакомца, в котором не узнает своего
возлюбленного. Далее следует сцена испытания верности Чандры
Кираны, завершающаяся тем, что Раден Ину открывается ей и.
впервые предается с нею любви. Таков второй член параллели^
воспроизводящий первый, но уже не в
символически-иносказательном, а в явном плане. В сложном сплетении подобных эпизодов,,
идущих crescendo (к числу лучших из них относится случайная
встреча героев в саду, замечательная строго симметричным
построением мизансцены ["8, с. 141—148]), и раскрывается более
возвышенный и утонченный вариант яванско-малайской
куртуазной любви.
Возвышенная куртуазная линия взаимоотношений главных
героев в «Повести о Чекеле Ваненг Пати», как и в других
произведениях о Панджи, теснейшим образом связана с комической
линией слуг, уже сама внешность которых не может не вызвать
смеха. Вот, например, портреты двух из них — Астра Дживы и Си
Бутатила:
«Вот этому-то имечко как раз впору — на голове три волосинки дыбом, нос
колуном, брюхо торчит, а статью — ну чисто буйвол! Да и другой куда как
хорош— носище огромный, руки будто крючья, и космы курчавятся» [166, с. 78—
79].
Собственно говоря, серьезная иносказательно-символическая
стихия и стихия смеховая — это как бы основа и уток,
переплетение которых и создает характерную художественную ткань
«Повести о Чекеле Ваненг Пати», а равно и всего жанра, к которому
она принадлежит. Сочетание этих противоположных начал, па
мнению голландского яваниста Т. Пижо, обусловлено «сознанием
яванцами (и, добавим, малайцами.— В. Б.) извечного Порядка в.
130
космосе и человеческом обществе, порождавшими в литературе
неприятие какой-либо драматической крайности» [439, с. 185].
"При этом излюбленный в повестях о Панджи прием — игра на
"контрасте серьезности высокой линии и буйного «комикования»,
включение в драматически напряженные эпизоды всевозможных
тшуток, насмешек, похвальбы слуг, их комических ;выходок, весьма
напоминающих лацци commedia del arte.
Так, уже упоминавшаяся сцена объяснения героев ,[63, с. 219—
222] внезапно прерывается ссорой панакаванов из-за любимой ими
торячей каши, во время которой они в сердцах выливают кашу
друг на друга, а потом, обожженные и перемазанные с головы до
ног, ползают по ковру и, вопя от боли, подъедают с него остатки
лакомства (ср. разнообразные «лацци с макаронами» [212,
■с. 174]). В эпизоде битвы с ракса-сой [166, с. 80—84; 150, с. 276—
278] мужество Чекела оттенено рассказом о том, как при виде
чудовища
«Си Бутатил не смог с собою совладать, со всех ног кинулся к расселине б
скале и хотел уже в ней укрыться, да расселина оказалась узка, Си Бутатил
застрял, и его живот защемило камнями. От страха у него сделалось недержание,
и он весь каин перемазал в нечистотах, но был так напуган, что даже не заметил
этого» J150, с. 276].
В одной из лирических «садовых сцен», покуда Чекел золотым
наноготником пишет на цветке пандануса трогательное письмо
"Чандре Киране, Астра Джива, мечтательно разглагольствовавший
ю том, что и его возлюбленная будет наслаждаться здесь
прохладой пруда, так объедается «многоразличными плодами сада»,
что начинает умирать от резей в желудке. Си Бутатил не
раздумывая берется его излечить и, прочитав тут же придуманный за-
товор, обращенный к духу Обжорства, что есть мочи бьет друга
по животу. Мщение, однако, не заставляет себя ждать, и, когда
скорпион, ползавший по резным цветам, украшавшим беседку, и
принятый Си Бутатилом за элемент декора, кусает незадачливого
слугу, Астра Джива принимается с такой старательностью
выдавливать из ранки яд, что Си Бутатил от боли едва не теряет
сознание )[7, с. 57—58].
Роль комических интермедий не сводится лишь к своего рода
рекреации, позволяющей читателю передохнуть в ходе
напряженного эпизода. В плане философском многие из них «с
очевидностью демонстрируют сродство детского простодушия, хитрости и
божественной мудрости, превосходящей человеческое разумение»
[439, с. 185]. В то же время велика и «учительная» роль
интермедий. Достаточно рассмотреть лишь начальную часть «Повести
о Чекеле Ваненг Пати», чтобы убедиться, что едва ли не всякой
этикетной сцене в ней соответствует ее «смеховой дублет». За
описанием сватовства Радена Ину следует разыгранная панакаванами
травестия сватовства ,[63, с. 5—8], за рассказом о «турнире», на
котором сражались Ину и его братья,— травестия турнира с
шутовской потасовкой слуг [63, с. 11], за сценой победы царевича
9*
131
над раксасой — травестия подвига [63, с. 38—39] и т. д. В
«Повести о Чекеле Ваненг Пати» мы находим также пародию на пир,,
галантное ухаживание и даже на традиционный мотив
божественного дара. Си Бутатил получает от Шивы магическую
способность подчинить себе всякое существо, на которое о-н укажет
пальцем, и тотчас испытывает дар, указав пальцем на самого
Шиву, так что тот не может взлететь. В гневе божество лишает Ск
Бутатила дарованного могущества и улетает. Тщетно панакаван
продолжает указывать на него пальцем, а потом, отчаявшись, к
обеими руками )f63, с. 39—40].
Назначение подобного смехового дублирования состоит, в
частности, в том, чтобы осуществленными «навыворот»,
«неправильными» поступками слуг «от противного» утвердить идею
нормативно-правильного поведения. К этому приему вполне
применимы слова исследователя древнерусской смеховой культуры:
«Изнаночный мир не теряет связи с настоящим миром. Наизнанку
выворачиваются настоящие вещи, понятия, идеи, молитвы (ср.
взывание к духу Обжорства в «Повести о Чекеле Ваненг Пати».—
В. Б.), церемонии, жанровые формы и т. д. ...Позади изнаночного
мира всегда находится некий идеал, пусть даже самый
пустячный — в виде чувства сытости и довольства» [226, с. 21]-
Повесть о Панджи Куде Семиранге, Повесть
об Андакене Пенурате. Наиболее полной и
художественно совершенной повестью второго типа (Раден Ину —
сразу «высокий» персонаж) является «Повесть о Панджи Куде
Семиранге», сценка из которой, возможно, изображена на одном
из упоминавшихся храмовых рельефов начала XV в. В этой
повести (ее подробное изложение см. {443, с. 3—42]) Раден Ину Кер-
тапати и Чандра Кирана выступают как воплощения Арджуны и
его жены Сумбадры, а влюбленные друг в друга брат царевны —
Гунунг Сари и сестра царевича — Ракна Вилис — как вновь
родившиеся на земле герои «Повести о Санг Боме» Самба и Джа-
нувати. «Низкая» же возлюбленная Ину — не кто иная, как
небесная дева Анггар Маянг, проклятая богом Индрой за незаконную
связь с небожителем Джайякусумой и обреченная воплотиться в
облике дочери сельского старосты — Кен Мерталангу.
Царевич случайно встречается с ней, преследуя лань на
одной из своих веселых и шумных охот, описание которой
принадлежит едва ли не к лучшим страницам повести |[166, с. 89—93].
Это описание — прием, близкий к тому, что уже знаком нам.
по «Повести о победоносных Пандавах»,— служит как бы
развернутой метафорической параллелью к другой «охоте» —
любовной, о чем недвусмысленно свидетельствуют реплики слуг Радена
Ину и его братьев, обсуждающих, сколь необычная дичь попалась
в силки царевича. В то же время комическая «рукопашная» с
носорогом и кабаном панакаванов Семара и Джемураса, разом до
смерти напуганных зверями и взбешенных насмешками
спутников, образует контрастный фон последующим драматическим
событиям: мать Радена Ину, раздосадованная тем, что страсть ца-
132
ревича к безродной «горянке» помешает его браку с Чандрой
Кираной, прикинувшись больной, отправляет сына на поиски
целебного снадобья — тигриного сердца, а сама между тем убивает
Кен Мерталангу. Узнав об этом, обезумевший от горя царевич
покидает родительский дворец, и в дальнейшем повесть
развивается по циклической сюжетной схеме, сходной с предыдущей, с
тем существенным различием, что здесь Чандра Кирана (как и в
«Повести о Панджи Семира-нге» [45]) .по временам выступает в
облике доблестного воителя Куды Семиранга Сиры Панджи Пандей
Рупы и в поисках Радена Ину Кертапати, подобно ему самому,
завоевывает соседние страны.
Пожалуй, еще большей популярностью в малайской
литературе пользовалась близкая к начальному эпизоду «Повести о
Панджи Куде Семиранге» история о любви Радена Ину
Кертапати (он же Раден Ментри, или Андакен Пенурат) и Кен Тамбу-
хан7. Выделившаяся в самостоятельное повествование, эта
история известна в нескольких стихотворных |Г154, с. XX—XXXII],
театральных [478, с. 520] и.прозаических if 129] версиях. Сюжет ее
сложился либо на Южном Калимантане в Банджермасине в
первой половине XVI в. [125, с. 152, 190—191], либо на Южной
Суматре в Палембанге во второй половине XVII—XVIII в. [154,
с. XXXIII—XXXIV]. Прозаическая же версия, о которой ниже
пойдет речь, как можно полагать, была создана в конце XVIII —
начале XIX в. палембангцем Ахмедом ибн Абдуллахом |[514,
с. 259—260].
Если две описанные выше повести о Панджи обладают
сложной и запутанной интригой и представляют собой
последовательность эпизодов, данных, как правило, дальним и средним планами,
то прозаическая «Повесть об.Андакене Пенурате» равна как бы
одному такому эпизоду, зато показанному крупным планом. Это
особенно заметно на примере раскрытия в повести темы пути.
Непременные скитания героя заменены в ней, пожалуй, несколько
назойливыми его «проходами» из сада во дворец отца и обратно.
Укрупнение изображения сразу же меняет расстановку
акцентов в повести и сосредоточивает наше внимание на ее
психологизме. Сквозь строгую' этикетность поведения героев,
традиционно внешнее изображение их эмоций, проявляющееся в чрезмерной,
на наш (но отнюдь не на средневековый малайский) взгляд, мело-
драматизации описаний, начинают проглядывать характеры живых
людей.
Это и снисходительный к «причудам» любимого сына раджа
Пуры Негары, с неизменным добродушием успокаивающий
государыню словами о том, что «в обычае . мужчин наслаждаться
близостью многих жен» и что «любовь не длится вечно» j[43,
с. 262]. И мстительная, не позволяющая становиться себе поперек
дороги государыня, изъясняющаяся с язвительными недомолвками
и настойчиво твердящая: «До тех пор моя душа не обретет
покоя, покуда не лишу я жизни презренную Кен Тамбухан» [43,
с. 262 и ел.]. И сам царевич Андакен Пенурат, предпочитающий
133
забавы с друзьями аудиенциям у отца и всякий раз объясняющий
свое отсутствие недомоганиями и нестерпимой головной болью,
по-детски эгоистичный и легкомысленный (недаром Кен Тамбухан,
оскорбленная по вине царевича, укоряет его: «Ты словно дитя,
не ведающее забот» [43, с. 263] ) и внезапно постигающий всю
силу любви и всю нестерпимость утраты. И, наконец, Кен
Тамбухан — наиболее живой, нежный и переменчивый образ повести.
То мы видим ее до смерти напуганной грозящей немилостью
правителя Пуры Негары, а то, как бы вспомнив о благородной крови,
струящейся в ее жилах, она 'Произносит гневную речь об
унижениях в чужом дворце или, своенравно прищелкнув языком,
отворачивается и «замыкает уста». То она пишет Андакену Пенура-
ту исполненное преданности письмо («я стану рабыней у ног
господина и его жены...» |["43, с. 281—282]), а то, по-женски
раздосадованная робкими ласками вновь обретенного супруга,
восклицает: «О старший брат мой, уж не нынче ли ты меня встретил, что
ведешь себя будто новобрачный, впервые вошедший к невесте!»
.[43, с. 298].
С Кен Тамбухан связаны наиболее тонкие по рисунку сцены
повести. Мы находим ее в залитом лунным светом саду
всматривающейся в скольжение легких облаков и угадывающей в череде
их встреч и расставаний свою горькую судьбу. Или застаем за
игрой на гендере (род ксилофона), «дрожащие, пресекающиеся и
готовые вот-вот умолкнуть» звуки которого так точно
соответствуют состоянию ее души. Или видим прислонившейся к
усыпанному белыми цветами стволу дерева кемунинг, закутавшейся в
широкий шарф и готовой принять смерть, словно неотвратимую
расплату за свою любовь.
Характерной чертой «Повести об Андакене Пенурате» является
нарастающая трагичность ее звучания, та тема
предопределенности гибели героев, которую может разрешить лишь
вмешательство Батары Калы. Лейтмотивом проходят через повествование
слова придворных и государя, любующихся красотой
влюбленных, о том, что они видят царевича и царевну в последний раз или
будто навек прощаются с ними. Одно за другим следуют
зловещие предзнаменования: спотыкается Андакен Пенурат, не хотят
бежать впереди его коня охотничьи собаки, грают вороны на
деревьях. С предзнаменованиями чередуются провидческие сны, в
одном из которых Кен Тамбухан, облаченная во все красное,
восходит в небесную обитель Батары Гуру. Сон сбывается, и кровь
умирающей царевны окрашивает в алый цвет ее одежды.
Психологизм повести сам собой обращает ее к образам
природы — неисчерпаемого источника параллелей к человеческим
настроениям. Природный «аккомпанемент» слышен на всем
протяжении повести. Он сопровождает и рождение царевича, и
раздумья Кен Тамбухан в саду, и ее смертный путь:
«При виде царевны раскрылись цветы в лесах, источая дивные ароматы,
сладостно загудели шмели, во множестве вившиеся над цветами ангсоки, и
жужжание их было подобно голосам людей, оплакивающих Кен Тамбухан... Все твари,
134
обитавшие в лесах, подняли небывалый шум при ее появлении и стали
перекликаться, словно люди, пришедшие проститься с царевной, обреченной на смерть.
Громко затрубили олени, и их голоса были подобны человеческим... После же у
подножия гор пророкотал гром, повеял легкий ветерок, и казалось, будто и гром
и ветерок грустят о Кен Тамбухан, обреченной на смерть; начался дождь, и
капли его тихо падали на землю, словно слезы из глаз плакальщиков, рыдающих над
телом царевны» [43, с. 279—280, 283].
Итак, если в «Повести о Чекеле Ваненг Пати» перед нами
ярко раскрываются философский и учительный аспекты повестей о
Панджи, то «Повесть об Андакене Пенурате» помогает лучше
понять другую, порой несколько затемненную сложностью сюжетных
перипетий их сторону — эстетизированное воспроизведение мира
человеческих чувств.
3. ПОВЕСТИ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В совершенно иную духовную и
художественно-изобразительную атмосферу мы попадаем, переходя от повестей,
вдохновленных яванскими поэмами и пьесами, к ранним малайским
произведениям, переведенным с персидского и арабского языков.
Древнейшим из них, вероятно, является «Повесть о Мухаммаде Хана-
фии», появившаяся в 80-е годы XIV в. в Пасее и, как мы уже
знаем, оказавшая существенное влияние на формирование жанра
средневековых малайских хикаятов. На два-три десятилетия
позже, по-видимому, там же были переведены «Повесть об Искандаре
Двурогом» и «Повесть об Амире Хамзе». Вполне естественно, что
выбор и восприятие традицией этих первых мусульманских
сочинений, которые вместе с малайской «Рамаяной» и произведениями
о Пандавах и Панджи составили «самое ядро малайской хикаят-
ной литературы» Î299, с. 16], были обусловлены их популярно-
проповедническим характером и тем, что они обладали рядом
черт, сближавших их с памятниками предшествующего периода,
Именно поэтому ниже все три повести будут рассмотрены не в
хронологическом порядке, а в той последовательности, которая
диктуется степенью выраженности в них мусульманских элементов.
Повесть об Искандаре Двурогом. Повесть эта,
восходящая в конечном счете к прославленной «Александрии»
Псевдо-Каллисфена, а более непосредственно «к выполненной в
Средней Азии арабской переработке персидского сочинения» [299,
с. 17—18], впитавшего элементы «Шах-наме» Фирдоуси, корани-
ческих легенд и различных хадисов и преданий i[106, с. 14—21],
была переведена, скорее всего, в Пасее в начале XV в. ;[299, с. 18].
Оттуда список ее, по мнению Р. О. Уинстедта, мог быть завезен
в Малакку, когда правитель Малакки, женившись на уроженке
Пасея, принял ислам ,1196, с. 115]. О. У. Уолтере установил, что
это событие произошло в 1436 г. [531, с. 159—163]. Сложившийся
в Пасее архетип повести дал начало двум дошедшим до нас
135
ее изводам — суматранскому и полуостровному [106, с. 28—14;
164, с. 5].
Суматранский извод после прославления Аллаха и Мухаммада
содержит отсутствующий в полуостровной версии рассказ о том,
как Аллах показал Адаму его потомков: Мухаммада —
славнейшего и возлюбленнейшего из них, Дауда (библейск. Давид) и
Сулеймана (библейск. Соломон), после которого слава
величайшего из правителей была суждена Искандару. Весь этот эпизод
отчасти напоминает характерные для повестей о Пандавах и
Панджи «прологи на небесах», затем — также лишь в суматран-
ском изводе — следует генеалогия царя Бахмана, отдаленного
предка Искандара, начинающаяся с родоначальника персидских
царей и культурного героя Гаюмарта (Каюмарса). Завершается
суматранский извод рассказом о том, как жена убитого Искаи-
даром повелителя Дамаска и Палестины, царя Тибуса, подсылает
к македонцу свою дочь, которая должна его отравить, но,
разоблаченная и прощенная, становится одной из жен Искандара |[164,
с. 9]. Повествование полуостровного извода в его наиболее
полных списках продолжается значительно дальше и заканчивается
смертью Искандара (полный пересказ повести см. if 164, с. 10—
23]). В остальном оба извода весьма близки друг другу, что и
позволяет говорить об общем для них малайском архетипе {\106у
с. 28—34] 8.
Содержание «романа об Александре» достаточно хорошо
известно, чтобы пересказывать его в подробностях (см., в
частности, \[180, с. 283—416; 220]). Искандару даровано завоевать весь
мир, искоренить идолопоклонство и распространить веру Ибра-
хима (библейск. Авраам), понимаемую как древнейший
монотеизм, своего рода «ислам до ислама» (а точнее, до пророческой
миссии Мухаммада). Сопутствуемый греческими мудрецами и
пророком Хидиром (араб. Хизр) — вторым героем повести, под
стопой которого бесплодная земля покрывается растительностью,
Искандар совершает походы на Запад и Восток, покоряет Иран
и Египет, Андалусию и Эфиопию, Сирию и Индию и, наконец,
достигает пределов4 земли, окруженной горами Каф и «океаном
объемлющим». Удивительной широты панорама раскрывается
перед взором завоевателя, а вместе с ним и малайских читателей,
приобщавшихся благодаря повести к полулегендарным всемирным
космографиям мусульманского средневековья и узнававших о
реальных странах, раскинувшихся на лице земли, а еще более —
о всевозможных чудесах, ее наполняющих; о «долине муравьев;
племени, ездящем на жирафах; одноногих и одноглазых
пещерных жителях; местности, где ангелы, наблюдая за солнечным
закатом, перебирают свои четки, а грохот уходящего за горизонт
светила заставляет Александра лишиться чувств; об огромных
мухах, побивающих камнями войско Александра, пока одну из
них не поймали и не посадили на нее куклу-наездника; ангелах,
пронзающих копьями дьяволов, обитающих в коптских идолах;
поклоняющихся птицам черкесах в туниках из тигровых шкур;
136
гимнософистах, которые никак не могут понять, зачем человеку
нужно покорять мир; гогах и магогах; бриллиантовых копях
(Эфира и медных стенах Джабалки; скачке на кобылицах в царство
мрака и посещении источника жизни...» [196, с. 111].
Ислам, принесший в малайский мир «Повесть об Искандаре
Двурогом» и пропагандируемый повестью, раздвинул для
малайцев границы ойкумены, указал им на единство человеческого
рода и их собственное место в этом единстве. Не случайно, ссылаясь
на морскую переправу в Андалусию (араб. Андалус; Анделас —
древнее название Суматры) и особенно на брак Искандара с
индийской царевной, малайские государи возводили к македонцу
свои родословные древа. В этом, разумеется, сказывалось
честолюбие неофитов, стремившихся обеспечить себе достойного
предка — предтечу ислама, но в то же время через Искандара
малайские правители, а стало быть, и олицетворяемые ими, по
средневековым понятиям, малайцы в прямом смысле слова оказались в
родстве с народами Ирана, Рума, Индии и т. д.
И все же главный пафос повести — не в описании триумфа
победоносного полководца и проповедника. Покорен и обращен в
истинную веру мир «от Востока до Запада», постигнуты величие
Творца, незримая механика мироздания и тайны будущего
«сынов человеческих» (эти мотивы занимают очень важное место в
предназначенной для неофитов повести), и вместе с тем по мере
свершения Искандаром своего предназначения в повести все
отчетливее слышится пессимистическая тема тщеты земного бытия
и неотвратимости смерти. Своего рода эпиграфом к ней могли бы
послужить слова эпитафии одного из султанов того самого Пасея,
где повесть была переведена. В ней земная юдоль уподоблена
паутинке/сотканной пауком [274, с. 34], и именно такой
паутинкой — радужной и эфемерной — оказывается распростертый у ног
Искандара мир со всеми его чудесами и собственная слава
величайшего из земных владык. Об этом царю напоминают
индийские брахманы («гимнософисты»), недоумевающие, к чему
стремиться обладать чем-то столь непрочным )[106, с. 99—101]. С
особой силой эта же тема развита в, по существу, заключительном
эпизоде поисков источника бессмертия 1106, с. 208—231]. Кстати
сказать, этот мотив (как и мотив иллюзорности бытия) играл
немаловажную роль в древнеяванской и балийской литературе и,
по-видимому, издревле занимал также малайцев, о чем
свидетельствует малайская переработка яванского какавина «Дэва Ру-
чи», в котором наставник Пандавов и Коравов Дрона коварна
отправляет Биму искать источник вечной жизни |[343; ср. 294; 370]*
Все в том же стремлении увековечить свою суетную славу Ис-
кандар вступает в страну мрака. Ослепленный эгоизмом, он
прилагает все усилия, чтобы отыскать источник для одного лишь
себя, и не находит его, тогда как пророк Хидир, посвятивший жизнь
самоотреченному служению Аллаху и бескорыстному
водительству людей на пути этого служения, безо всяких поисков обретает
воду бессмертия. Более того, покорность страстям заставляет Ис~
137
кандара пережить в стране мрака ту же трагедию грехопадения,
что некогда выпала на долю Адама, искушенного Иблисом.
Подобно праотцу человечества, прельщенный красотой яблока —
символа земных благ,— он лишается ветки изюма, «пищи вечной»,
дарованной ему Аллахом, и низвергается в бездну отчаяния. Так,
на примере величайшего из «мужей своего времени» перед
новообращенными читателями-малайцами наглядно раскрывались
основы мусульманского вероучения, и в частности его антропологии —
представления о неисчерпаемых возможностях человека и вместе
£ тем о его ограниченности, преодолеваемой лишь через победу
над страстями, духовное совершенствование.
Повесть об Амире Хамзе. Амир Хамза, реальная
личность времен зарождения ислама, принадлежал к обитавшему в
Мекке племени Курейш и приходился дядей пророку Мухаммаду.
Как и многие курейшиты, он на первых порах не принял учения
племянника, но через несколько лет признал его пророческую
миссию и последовал за ним в Медину, где настолько прославился
воинскими талантами, что после битвы при Бадре заслужил
титул «льва Аллаха и Пророка». Погиб Амир Хамза в возрасте
примерно 60 лет в сражении у горы Ухуд. По преданию,
сразивший его копьем негр Вахши вырвал из груди павшего сердце и
бросил матери первого халифа из рода Омейядов — Муавии,
которая в ярости вонзила в него зубы [337, с. 131].
Однако не об этих достаточно скудных и не столь уж
значительных фактах предстояло прочесть защитникам Малакки,
которые, как мы помним, в ночь перед штурмом города португальцами
взяли «Повесть об Амире Хамзе» в библиотеке султана. Их
воображение должен был потрясти тот подлинно героический образ
арабского богатыря, что сложился первоначально в персидском
«романе» «Кисса-и Амир Хамза», через Индию проник в Пасей и
был здесь не позднее XV в. со значительными добавлениями
переложен на малайский язык. Эта повесть в две тысячи страниц,
выдающая свое персидское происхождение не только самим
содержанием, но и предисловием, частично написанным по-персидски,
множеством персидских стихов и делением на главы с
описательными названиями типа «О том времени, когда повелителю
правоверных Амиру Хамзе и Умару Умайе исполнилось по семь лет»
и т. д., соответствующими рубрикации персидского прототипа
[455, с. 98—99], уже в глазах автора «Малайских родословий»
/[139, с. 19] была синонимам грандиознейшего литературного
произведения.
Подробное изложение малайской повести в сравнении с
персидской дал Ф. ван Ронкель ^455, с. 102—180].
Герой повести, которому великий звездочет и везирь
персидского царя Кобада Шахриара — Бузурджмихр предсказывает
славу величайшего из богатырей своего времени, весьма бурно
проведя детские и юношеские годы (см. [150, с. 126—136]) и добыв
138
лук и коня пророка Исхака, кольчугу пророка Исмаила и шлем
пророка Худа, поступает на службу к сыну Кобада Шахриара —■
Нуширвану. Здесь, добиваясь руки дочери государя — царевны
Михрнигар (на которой впоследствии и женится) и разрушая
козни завистливых придворных богатырей и коварного везиря Бехте-
ка, Амир Хамза совершает множество подвигов. Он отправляется
на остров Серендиб (Ланку), в семнадцатидневном поединке одо^
левает исполина Лендехура и возвращает царство законному
владельцу. Странствуя по отдаленным островам, Амир Хамза без
устали собирает всевозможные диковины, некогда принадлежавшие
пророкам Адаму, Ибрахиму, Исмаилу и Сулейману, и, подобно
Синдбаду-Мореходу, становится жертвой старика, взбирающегося
ему на плечи, от которого он, как и герой «Тысячи и одной
ночи», избавляется, опоив его вином [35, т. 5, с. 317—319].
Отправленный Нуширваном собрать дань с государей Греции, Рума й
Египта, он приводит их в покорность, как и прежних противников,,
обращает в ислам и, наконец, после очередного вероломства за*,
вистников выступает против самого Нуширвана, убивает своего
заклятого врага — богатыря Густехема и посрамляет Бехтека,
В странствиях Амир Хамза достигает горы Каф и попадает в
волшебную страну. Он помогает правоверным пери в их
вековечной борьбе с неверными дивами, едва не гибнет, обольщенный
коварной пери, освобождает некоего джинна от заклятия Сулей-
мана и совершает множество иных деяний. Значительная часть их
(убийство белого и морского дивов, льва Бебри, дракона, злого
колдуна, спасение с помощью птицы Симург) повторяет подвиги.
Рустам а—героя эпопеи Фирдоуси «Шах-наме», оказавшей
сильное влияние на сказание об Амире Хамзе l[455, с. 239—240]. В,
заключительной части повести Амир Хамза вместе с племянником —
пророком Мухаммадом и его сподвижником и зятем — Али
выступает защитником Мекки от накатывающихся на нее волна за
волной полчищ «неверных». Он отражает нападение индийского
царя Пура Хинди, затем его матери, приведшей воинства румий-
цев, сирийцев, эфиопов и занзибарцев, и гибнет в битве с царем
Лахадом (так было 'переосмыслено малайцами название горы
Ухуд). Победители вырывают сердце Амира Хамзы и, желая
сравниться с героем в мужестве, съедают его.
Во всех подвигах Амира Хамзу сопровождает его слуга и
наперсник Умар Умайя (Амр ибн Умайя ад-Дамри), весьма
склонный к шутовству и жестоким проделкам, вороватый, но в то же
время искушенный в чародействе и беспредельно мужественный.
Сочетание этих черт делает его весьма похожим на панакаванов
повестей о Панджи. Умар Умайя не раз выручает Амира Хамзу'
и за свои заслуги получает от пророка Мухаммада разрешение
умереть, когда сам того пожелает.
Надеясь, что таким образом он избег смерти, Умар Умайя
проводит время в беспечности, но в один прекрасный день встречает
ангела смерти в обличье юноши и множество людей, копающюс
могилы. На вопрос, кому они предназначаются, Умар Умайя не-
*39
изменно слышит, что для него, покоряется судьбе и добровольно
ложится в могилу.
Этот эпизод, как и бой с царем Лахадом, является малайским
добавлением к персидскому прототипу ;[455, с. 167—180].
Несмотря на свою фантастичность, а скорее именно благодаря
ей, «Повесть об Амире Хамзе», подобно «Повести об Искандаре
Двурогом», сыграла важную роль в проповеди ислама среди
малайцев, выступив в качестве противовеса сухим трактатам по
мусульманскому праву, изучавшимся на начальном этапе
распространения новой религии. Мусульманский «рыцарь», ни в чем не
уступавший Арджуне или Радену Ину, благосклонно
воспринимался новообращенными читателями, в его подвигах перед
ними раскрывался увлекательный мир популярной мусульманской
мифологии, и, что еще важнее, повесть помогала им гармонично
разрешить вопрос о соотношении домусульманской и
мусульманской традиций. Для этой цели герой типа Амира Хамзы — верный
вассал и зять царя-язычника и в то же время военачальник
пророка Мухаммада, обращавший поверженных и пощаженных
врагов в «истинную веру»,— был весьма подходящей фигурой (ср.
J247, с. 100]).
Повесть о Мухаммаде Ханафии. Эпизод из
«Малайских родословий», повествующий о ночи перед штурмом Ма-
лакки, не только указывает на популярность «Повести о
Мухаммаде Ханафии» в Малакке начала XVI в., но и свидетельствует,
что ей отдавалось предпочтение перед грандиозной эпопеей об
Амире Хамзе. Объясняется это, по-видимому, отчасти
приписыванием повести особой магической силы — секты |[66, с. 11],
отчасти — обычной для малайцев оценкой достоинств произведения
в прямой зависимости от достоинств его героя (см. [516, с. 16]).
Если Амир Хамза, несмотря на приверженность «вере Ибрахима»,
был все же деятелем переходного периода, служившим государю-
огнепоклоннику и совершившим множество подвигов любовного
или волшебно-авантюрного характера, не имевших отношения к
исламу, то Мухаммад Ханафия в глазах его первых малайских
почитателей, испытавших влияние шиизма, являлся подлинным
мусульманским героем и святым, всецело посвятившим себя
борьбе с «неверными» и защите рода Али — единственного, с точки
зрения шиитов, законного претендента на власть в халифате.
При этом вряд ли малайцы отдавали себе отчет, что, подобно
Амиру Хамзе, Мухаммад Ханафия, воспетый в повести, имел мало
общего с Мухаммадом Ханафией историческим — сыном халифа
'Али от рабыни, жившим в смутную пору борьбы сторонников его
отца.с Омейядами за халифский престол и проявившим в этой
борьбе полную пассивность [66, с. 1—4].
Начало героизации Мухаммада Ханафии, связанной с
попыткой провозгласить его после смерти сводных братьев — Хасана и
Хусейна «праведным вождем» (махди), положили некоторые ши-
140
чтение секты, которые утверждали, что он не умер, но лишь
скрылся в горах, и ожидали его скорого «второго пришествия». Важную
роль в создании «мифа Мухаммада Ханафии» сыграл «роман»
средневекового арабского писателя Абу Михнафа, послуживший
моделью для персидской повести, сложившейся в XIV в. и,
возможно, в том же столетии переведенной на малайский язык {66,
с. 25, 54—57].
Примечательной чертой перевода является сосуществование в
малайской версии двух стилистически дифференцированных
пластов. Почти все повествование переведено гладким идиоматичным
«хикаятным» стилем, лишенным неуклюжих калек и буквализмов
и характерным для памятников раннемусульманского периода,
описанных выше ]|"Д96, с. ДЗО д ел.]. В то же время, переводы
арабских и персидских цитат, включенных в текст, выражений,
^относящихся к области шариата, а также парафразы арабских
изречений грешат именно буквализмом, тяжеловесностью и
нарушением грамматических норм в результате копирования чуждых
:малайскому языку синтаксических конструкций (особенно это
заметно в употреблении предлогов). Такой стиль через два века
станет обычным явлением в ученых трактатах (штабах) и потому
может быть назван «китабным». Интересно, однако, что в
«Повести о Мухаммаде Ханафии» еще не наблюдается нередкое в
позднейшей традиции стилистическое смешение и выход «китабного»
стиля в нарративные части повестей. Пока что оба они взаимно
.дополнительны и контрастны; иными словами, их употребление
структурно детерминировано как «выбор альтернативных форм
для осуществления противоположных функций» i[66, с. 44].
Персидский прототип повести состоял из двух частей,
различных по жанру, но образующих логически единое целое. Первая
из .них — в жанре мактал, повествующем о мученической гибели
шиитских святых, сыновей Али — Хасана и Хусейна,—
предназначалась для драматизированной декламации во время ежегодных
торжеств в их честь.
Ее отличало постепенное нарастание трагизма, который
исподволь возникал в рассказе о мрачных предчувствиях пророка
Мухаммада, обретал черты неотвратимости после воцарения омейяд-
•ского халифа Муавии, еще более усиливался в описании бедствий,
обрушивающихся на род Али, и, наконец, достигал кульминации
в сценах, где покинутый всеми, кроме горстки соратников, Хусейн
на равнине Кербелы вступает в бой с войском своего главного
ненавистника, сына Муавии — Язида, и гибнет, оплакиваемый не
только людьми, но и самой природой. Во второй части,
написанной в жанре повести (хикаят), эта достигшая предела
трагическая тема разрешалась в рассказе о мести Мухаммада Ханафии
Язиду — убийце сыновей Али.
Та же структура своего рода дилогии сохранилась и в
малайской «Повести о Мухаммаде Ханафии», которая первоначальна
в обеих своих частях, по-видимому, строго следовала персидской.
Со временем, однако, по мере усиления в малайской культуре ан~
141
тишиитских тенденций, первая часть ее утратила первоначальную*
стройность и напряженность и превратилась в аморфный
конгломерат рассказов — нечто вроде сжатого изложения истории
раннего ислама. Этот процесс разложения макталя переделками и
вставками отражен в трех сохранившихся версиях повести, наиболее
развернутая из которых включает повествование о мистическом
Свете Мухаммада, биографии пророка и праведных халифов и
лишь на их фоне сказание о мученичестве Хасана и Хусейна,,
иногда завершающееся осуждением тех, кто пожелает считать
Муавию и Язида «неверными» [66, с. 23].
Вторая часть повести сохранилась почти без изменений. В ней
рассказывается о тринадцатилетней войне Мухаммада Ханафив
и его восьмерых побратимов с полчищами франков, китайцев,
эфиопов и занзибарцев под водительством Язида и его
злокозненного везиря Марвана, победе героев, сожжении Язида в вырытом:
им же колодце, возведении на престол сына Хусейна — Зайн аль-
Абидина и, наконец, об исчезновении Мухаммада Ханафии,
избивающего врагов, в таинственной пещере, ворота которой
закрываются за его спиной.
В отличие от аморфной первой части повести вторая ее часть,,
несмотря на, казалось бы, неупорядоченное описание
бесчисленных поединков, обладает строгой архитектоникой. В основе ее
лежит правильный ритм взаимодействия главного героя и его
побратимов (разлука — встреча — разлука — встреча — разлука —
встреча), образующий как бы два полных цикла. В каждом из них
герои в определенной последовательности воссоединяются с
Мухаммедом Ханафией -перед лицом некой угрозы, одерживают
победу, вновь разлучаются и, едва лишь успев осознать, что
трудности позади, узнают о новой опасности [66, с. 66—69]. Эта
циклическая структура с ее резкими сменами радости и горя
напоминает композиционные принципы «Повести о Чекеле Ваненг Пати».
Характерный малайско-яванский облик придают повести
комические персонажи, которые, подобно слугам (панакаванам) из
повестей о Панджи или Умару Умайе из «Повести об Амире Хам-
зе», совершают нелепые поступки, обладают странной внешностью,
но при этом наделены великим могуществом и не раз спасают
героев от беды. Другой особенностью произведения, оказывающейся
во многом малайской инновацией, является четкое разделение
персонажей на два лагеря. Первый из них, возглавляемый Мухамма1
дом Ханафией, связан с высшим божественным миром, на что
указывают провидческие сновидения главного героя и
происходящие с ним чудеса. Второй, возглавляемый Язидом, связан с
миром демоническим, о чем свидетельствуют, например, рождение
Язида от отравленного ядом скорпиона Муавии и старухи
эфиопки, безобразная внешность его соратников и ряд других деталей
166, с. 69—71].
Такое разделение характерно для пьес ваянга и 'восходящих
к ним повестей. Все эти черты повести объясняют механизм ее
восприятия малайцами и ее стойкую популярность.
142
4. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Повесть о раджах Пасе я. «Повесть о раджах Пасея»—
самое раннее из сохранившихся малайских сочинений
исторического характера — была создана, как можно полагать, в конце XIV в.
и послужила образцом для череды последующих хроник, в
частности для «Малайских родословий». Соединяя в себе черты,
которые теперь назвали бы историческими и мифологическими, она
обладает на редкость стройной композицией, обусловленной
традиционным для средневекового малайского общества этико-госу-
дарственным учением, которое, хотя и не сформулировано в
повести непосредственно, пронизывает ее от начала до конца (о нем
см., в частности, jf376; 378]). Это учение, основанное на вере в
стройность и согласованность миропорядка, хранителем которого
является правитель, восходит к домусульманским представлениям,
языческим и индуистско-буддийским, однако свое окончательное
завершение и санкцию оно обрело в позднемусульманской концеп-
дии правильного государственного устройства, более близкой к
персидскому, чем к арабскому, образцу (см. {44, с. 11—15]).
Согласно этому учению, государь — носитель сакрализованной
власти призван управлять справедливо, а подданные должны
хранить верность престолу, сколь бы тираническим ни было
правление.
В (противном случае государственная и космическая гармония
нарушаются и за их восстановлением с неизбежностью следует
суровое воздаяние виновному. Последствия исполнения и нарушения
государственной этики и иллюстрируются в двух симметричных
частях повести.
В первой повествуется о происхождении правящей династии
«двуединого» государства Самудра-Пасей, основателями которой
;были царевич, воспитанный мудрым слоном, и царевна, найденная
в стволе бамбука; о сверхъестественном обращении государя Са-
:мудры в ислам; об основании им государства там, где
карликовый оленек смело обратил в бегство огромного пса по кличке
Си Пасей; наконец, о процветании государства в эпоху первых
султанов и преумножение его могущества, которое достигает
апогея в момент победы пасейцев над вторгшимися в их страну сиам-
:цами. ПафО|С первой части, хотя порой и в ней историю султаната
юмрачают зловещие тени,— в изображении неуклонного
возвышения Пасея, залогом которого служит союз справедливых госуда-
.рей и их верных подданных.
Напротив, вторая часть — наиболее выразительная в
литературном отношении — на примере «страстей» царевича Туна Браи-
ма Бапы показывает, как нарушение этого союза ведет
государство к упадку, итогом которого является поражение жестокого и
несправедливого султана Ахмада в войне с Маджапахитом и
поколение Пасея.
Архаизированный язык, многочисленные повторы, вкрапленные
& текст ритмические пассажи указывают на связь второй част
143
повести с традицией эпоса, но эпоса исторического,
складывавшегося по горячим следам событий и к тому же прошедшего
стадию письменной обработки. Литературный талант автора второй
части проявился в ее стройной и напряженной композиции, в
мастерском использовании подтекста, в точности отбора предметных
деталей. Достаточно вспомнить мелькнувшие в лунном свете
лепестки роз -в неубранных волосах, заспанной наложницы султана,
спешащей на его зов [84, с. 78]; или длиннейший перечень речных
тварей, на ловлю которых послан Тун Браим Бапа [84, с. 87];
или сгрудившиеся посреди извилистой реки султанские корабли,
стремительно заскользившие вниз по течению, едва царевич сломал
удерживавшее их бревно |[84, с. 87—89], и т. д.
Прелюдией к разыгравшейся трагедии служит сцена, в
которой отец султана Ахмада на смертном одре рисует ему идеал
справедливого правителя и предостерегает против беззакония.
Султан Ахмад, однако, остается глух к завещанию отца и
вопреки космическому и этическому законам готов уступить пагубной
страсти к своим красавицам дочерям. Дальнейшее повествование
строится на пластичном и психологически достоверном
противопоставлении двух сюжетных линий — истории Туна Браима Бапы и
рассказа о его отце, султане Ахмаде: каждому эпизоду, в котором
шаг за шагом раскрываются прямодушие, мужество и верность
долгу царевича, соответствует эпизод, демонстрирующий
мстительность, трусость, коварство султана. Контраст между ними
подчеркнут еще и тем, что султан неизменно прибегает ко лжи,
скрывая свои истинные намерения, в действиях же Туна Браима Бапы
нет и намека на скрытность, но его искренним побуждениям
султан нарочито приписывает ложные мотивы. С особой
наглядностью этот контраст выражен в двойственной трактовке
традиционной для малайской литературы темы незаконной любовной
связи.
Одно из самых страшных для государя преступлений, ведущее,,
по мнению малайцев, его страну к гибели,— кровосмешение.
Замышляя его, султан Ахмад скрывает свои тайные намерения под
видом невинного вопроса: кто, дескать, первым должен отведать
плодов из своего сада — садовник или чужак?
Одно из самых страшных преступлений для подданного —
посягательство на наложницу государя. Не допуская и мысли о
подобной низости, Тун Браим Бапа бросается в погоню за
султанской наложницей, разгневанный тем, что она истолковала его
вежливый интерес к ее букету как попытку флирта, и тем самым
дает повод султану обвинить сына именно в посягательстве на
государеву наложницу. Отныне гибель царевича предрешена, иба
султан наконец-то может представить его убийство в законном
свете, а Тун Браим Бапа понимает, что не сможет противостоять
клевете, не восстав против отца и сюзерена, т. е. опять-таки не
нарушив закон. Отсюда чувство обреченности, с которым он
отправляется на роковую рыбную ловлю, полная покорность
судьбе и смерть после мучительной агонии, описание которой вызы-
144
вает ассоциации с мифами о мытарствах души, нисходящей в
царство мертвых.
С социально-этическим аспектом повести неразделимо слит ее
религиозно-этический аспект. Султан Ахмад потворствует
обуревающим его низменным страстям и потому губит детей, себя и
страну. Тун Браим Бапа в служении долгу обуздывает порывы к
бунту, достигает полного самоотречения, и именно поэтому в
конце рассказа соратники хоронят его на горе с многозначительным
названием Фазлаллах (араб. «Милость Аллаха» или
«Превосходство от Аллаха»), «словно дервиша» — мусульманского
подвижника, отвергшего свое эгоистическое «я»9.
Отравив сына и дочерей, султан Ахмад уже не в силах
остановиться. Следующей жертвой оказывается его средний сын,
красавец Абд аль-Джалил, в которого по портрету влюбляется дочь
государя Маджапахита. В порыве ревности султан казнит и его,
и тогда приплывшая за возлюбленным царевна молит Аллаха
потопить ее корабль и гибнет в волнах. Разгневанный отец царевны
посылает войска против лишившегося защитников Пасея, предает
город разграблению и переселяет пленных пасейцев на Яву.
Султан Ахмад спасается бегством.
Здесь история могла бы и завершиться, ибо, пусть и слишком
дорогой ценой, мировая гармония восстановлена. Далее, однако.,
следует, казалось бы, слабо связанный с предшествующим
повествованием «эпилог» — описание многочисленных побед маджапа-
хитской армии и поражения, которое хитростью нанес ей сумат-
ранский народ минангкабау. Тем не менее обособленность
«эпилога» скорее мнимая. «Повесть о раджах Пасея», как можно
полагать, была завершена вскоре после маджапахитского завоевания
(XIV в.) с целью объяснить его причины и описанием прежнего-
величия поднять дух пасейцев. В таком контексте роль «эпилога»
вполне понятна: он подчеркивал, что даже ослабленный
несправедливым правлением Пасей покорился лишь необычайно
могущественному противнику, которому все же возможно
противостоять.
Малайские родословия. «Проиграв битву за Малакку,.
предводители малайцев бежали: султан Махмуд — к истокам реки.
Малакка в Бату Хампар, его сын Ахмад — на юг, в Пагох на реке
Муар, где еще не утратило белизны изваянное каких-нибудь два
десятилетия назад надгробие его деда, надпись на котором
возвещала о бренности жизни. Однако в тот последний раз Ахмаду
не суждено было задержаться у родных могил. Португальцы
заставили безрассудного юношу присоединиться к отцу, который,
отступая, пересекал полуостров и двигался лесными дебрями, куда
враг не отважился проникнуть. Для императора Малакки отряд
был невелик — сам султан, члены его семьи да человек
пятьдесят приближенных. Путешествие, должно быть, также не
радовало: женщин и детей мутило от мерного покачивания на спинах
слонов, то спускавшихся, то поднимавшихся по крутым склонам,,
они тосковали о морской рыбе и роскоши навсегда покинутого*
10 Зак. 147
145
:многоязычного порта, оплакивали пропавшие шелка и безделушки,
разбежавшихся рабов и павших в бою родственников, страшились
злых духов, затаившихся в безбрежном море джунглей» [520,
с. 139]. Так, восполняя силой фантазии скупые строки создателя
«Малайских родословий», описывает современный ученый
трагическое завершение самого блестящего периода позднесредневековой
малайской истории — исход из захваченной португальцами Ма-
.лакки^ в течение столетия господствовавшей на Южных морях.
Малакка пала. Ночное чтение повести о подвигах Мухаммада
Ханафии не смогло защитить ее от огня артиллерии «франков».
Тщетно султан-изгнанник взывал о помощи к императору Китая.
Столь же тщетно пытался он освободить город собственными
силами. Столица государства была потеряна, и, как год от года
становилось яснее, навсегда.
Чем очевиднее становилась утрата, тем настоятельнее
требовала объяснения загадочная история стремительного возвышения
-Малакки и ее внезапной гибели — событий, в которых средневе-
-ковый малаец не мог не видеть провиденциального смысла. За
решение этой задачи и взялся безымянный автор «Малайских
родословий»— современник султана Махмуд-шаха, переживший падение
города и, как можно полагать происходивший из семьи бен-
дахар — верховных везиров Малакки. Придерживаясь
генеалогического принципа, он обстоятельно рассказал о мифической пред-
:ыстории малаккских государей, их кратком и, возможно,
легендарном правлении в Сингапуре [531, с. 136—153], а затем — и это
главное — в Малакке и около 1536 г. создал хронику, которой
суждено было сыграть не менее выдающуюся роль в малайской
литературе, чем самой Малакке — в малайской истории.
Неизвестно, был ли он первым, кто принялся за создание ма-
лаккской хроники. Возможно, ее самая ранняя версия возникла в
1436 г., когда третий правитель Малакки, Мухаммад-шах, принял
ислам [531, с. 163—168], и была пересмотрена и дополнена в
1482 г., в правление султана Мансур-шаха \[164, с. 37—38] 10.
Во всяком случае, потомок бендахар, скорее всего, описал
правления Алааддина и Махмуд-шаха, несколько изменил и
«авторизовал» уже существовавший текст, согласовал его старую и новую
части и потому может условно считаться автором целостного
произведения в его первой сохранившейся версии.
Первоначальное предисловие к версии 1536 г. (о которой ниже
и пойдет речь) не сохранилось, однако трудно сомневаться, что
ее автор решал ту же задачу, которая в 1612 г. была поставлена
перед Туном Сери Ланангом, взявшимся в 1612 г. «рассказать
ю родственных связях малайских государей и об их обычаях, дабы
потомки извлекли из этого рассказа пользу» '[139, с. 2]. Под
пользой же в малайской традиции разумелся смысл событий, проявить
который и предстояло автору. Образец такого проявления смысла
истории давала хорошо известная хронисту «Повесть о раджах
Пасея». Однако автору «Малайских родословий» предстояло
истолковать историю не отдельного суматранского княжества, на
146
могущественной империи, успешно претендовавшей на верховный
сюзеренитет в малайском мире. К тому же за прошедшие
полтора столетия ислам заметно укрепил свои позиции в этой части
света, и установки автора малаккской хроники в большей степени
соответствовали духу мусульманской династийной историографии,-
пусть и в ее более провинциальном, генеалогическом варианте
[466, с. 96—97]. Поэтому выраженная им в начальной части
«Малайских родословий» государственно-этическая концепция была
по сравнению с трудом предшественника серьезно «исправлена:
и дополнена».
Во-первых, хронист решительно пересмотрел исконный
«политический» миф малайцев о происхождении их государей от брака
сверхъестественных существ, олицетворявших стихии солнца, воды
и земли. Малаккские султаны нуждались не в «обычном»
сверхъестественном прародителе, но в великом мусульманском предке,,
каковым и стал Искандар Двурогий — завоеватель мира, до самых:
его пределов распространивший «веру Ибрахима». Уступкой
местной мифологии, призванной сохранить «связь времен», осталось
лишь утверждение, что основатели малайских правящих домов
были рождены в море от брака морской царевны и внука Искан-
дара, а затем снизошли на гору Си Гунтанг Махамеру с небес
[164, с. 52—56]. Прежний миф обеспечивал малайским
правителям легитимность и окружал их власть ореолом магического
могущества. Новый — о родстве с Искандаром, сохранив в
интерпретации хрониста те же черты, позволил малаккским султанам,
а с ними и малайцам, как равным, вступить в мир ислама и
обрести в нем свою историю. Впоследствии эту идею успешно
разовьет в своем «Саде царей» гуджератский богослов Нураддии ар-
Ранири, а Тун Сери Лананг, попытавшись более обильно ввести
в «миф об Искандаре» автохтонные и древнеиндийские элементы,
лишь создаст в хронике ряд неразрешимых противоречий.
Во-вторых, еще непосредственно не сформулированная и
довольно грубая социальная этика «Повести о раджах Пасея», ничем,
не ограничивающая ни подчиненное положение подданных, ни
произвол государя, обретает в «Малайских родословиях» ясно
выраженную, более утонченную и гуманную форму добровольного
общественного договора. Подданные клянутся сохранять верность
династии, сколь бы жестоки ни были правители, государи — не
обесчестить подданных, как бы тяжко те ни провинились, и всегда
обходиться с ними в соответствии с установлениями шариата [164,
с. 57]. В предсмертных наставлениях наследнику каждый из
султанов Малакки как бы вновь оглядывается на этот договор,
верховным арбитром которого выступает сам Аллах, и уточняет
обязанности правителя. Особенно подробно рассматривает их
султан Алааддин, по словам которого государь должен быть
богобоязнен, справедлив, прислушиваться к словам советников, не
покушаться на то, что принадлежит подданным, и не карать их без
тщательного дознания, ибо «царство того, кто казнил невиновного,
падет» {164, с. 150].
10*
147
Гармонизирующее воздействие договора на малайскую
историю сказывается тотчас после его заключения. Благодаря ему
обуздывается и обретает благую направленность до того
вредоносная и хаотичная магическая сила первого малайского
правителя — Сери Три Буаны, вызывавшая тяжкий кожный недуг у его
невест [164, с. 56—58]. Сери Три Буана женится на дочери
местного старейшины, и его отношения с подданными принимают
форму сулящего стране процветание брачного союза государя с
малайской землей и народом, символом которых в хронике
выступают бендхары j[378, с. 6]. С не меньшей определенностью дают
знать о себе и катастрофические последствия нарушения
договора. Когда последний, сингапурский и первый малаккский
правитель — Искандар-шах по ложному обвинению в измене предает
позорной казни одну из наложниц, маджапахитские войска до
основания разрушают Сингапуру ([ 164, с. 81].
Мотив договора не только дает ключ к скрытому смыслу
событий прошлого, но и позволяет хронисту вселить в
современников надежду на будущее, ибо гарантированный Аллахом договор
неизменен и вечен и, покуда живы потомки Сери Три Буаны,
готовые вместе с подданными этот договор исполнить, слава
малайцев может вновь возродиться [376, с. 240—241]. Наконец, трудно
переоценить композиционную роль этого мотива в оформлении
хроники как целостного, хотя и принципиально открытого,
произведения, эпизоды которого нередко через многостепенное
опосредование ему подчинены.
Автор «Малайских родословий», как и его пасейский
предшественник, описывает историю постепенного возвышения и
стремительного падения государства, историю, в которой наглядно
воплотилась излюбленная идея мусульманских хроник об
эфемерности земной славы ,[466, с. 39]. Труд этот поражает незаурядной
эрудицией. Автор свободно оперирует местными и общемалай-
-скими мифами и легендами, этиологическими преданиями и
народными песнями, родословиями государей, устными
«мемуарами» знатных родов и множеством литературных источников. Кто-
;му же он умеет на языке подлинника процитировать хадис,
персидское изречение или яванскую «частушку». Сплавивший все эти
элементы воедино, автор родословий может считаться одним из
пионеров литературного синтеза, характерного для последующего
развития малайской словесности.
Под пером хрониста история Малакки при верных
изначальному договору потомках Искандара Двурогого превращается в
непрерывное восхождение к вершинам славы. Основание города
на сулящем удачу месте и превращение его из богом забытой
рыбацкой деревушки в крупный торговый порт, в котором
распространился ислам, воспринятый от самого Пророка при третьем
правителе — Мухаммад-шахе Г164, с. 83—84]; отражение
нападений сиамцев при его сыне Музаффар-шахе: в первый раз малаккцы
заставили врага поверить, будто подожженный лес — это костры
•неисчислимого малаккского войска, а во второй с помощью чар
148
некоего потомка Пророка извели сиамского предводителя >Г 164,
■с. 93—100]; заключение мира с Сиамом и начало собирания
малайских земель, особенно успешное в годы правления Мансур-ша-
ха, установившего дружественные отношения с Китаем и Маджа-
пахитом ([164, с. 104—110, 116—118, 122—123]; продолжение
завоеваний и централизации страны при его наследнике султане
Алааддине, столь твердо державшем в узде вассальных князей,
что без его одобрения они не смели вынести подданному смертный
приговор [164, с. 142—145],— таковы основные вехи этого
блистательного восхождения.
Дворцовые перевороты наподобие происшедшего темной,
туманной ночью убийства малолетнего султана Абу Шахида j[164,
с. 92], интриги и распри в среде высших придворных, случаи
неповиновения вассалов — все это до поры до времени лишь
частности, неспособные, по мнению хрониста, умалить величие
целого. И, изображая это величие, автор родословий прибегает ко
всем доступным ему средствам: от традиционных описаний
выигранных битв, когда «мечи сверкают, словно скрещивающиеся
молнии», а «кровь потоками струится по полю брани», до любимых
им историй о малаккских дипломатах, хитроумных, находчивых
и умеющих даже в самых неблагоприятных ситуациях защитить
честь государя ^[164, с. 99—100, 118—119, 178—179]; от
подробнейшего, красочного изображения пышных придворных церемоний,
обычаев и запретов /[164, с. 84—88] до рассказов о богатстве
посещавших Малакку купцов, о бесчисленных базарах города, столь
густо населенного, что, отправляясь на его далекую окраину, не
надо брать с собой огня, ибо повсюду путника окружают дома
горожан [164, с. 181]. С подлинно имперским размахом хронист
переносит нас из одного вассального княжества в другое, не
забывая упомянуть об их истории, великих людях, внутренних
неурядицах . и природных богатствах. Точно опытный государственный
деятель, озабоченный выработкой долгосрочной политики, о«
приводит перечни «великих держав», а затем показывает, как шаг за
шагом Малакка превосходит их или по крайней мере становится
<: ними вровень.
В тех же случаях, когда ни военная сила, ни искусная
дипломатия не помогают Малакке превзойти соперника, когда даже
мысль о конфронтации кажется абсурдной, автор родословий сам
«берется за оружие», и под его пером история Малакки
превращается в череду побед — реальных и вымышленных. Так, его
стараниями (или благодаря изобретательности его предшественника)
султан Мансур-шах легко доказывает свое превосходство над
китайским императором. Подобно еще не обретшим правильности
и законности отношениям Сери Три Буаны с подданными,
«неправильное» признание китайского сюзеренитета,
засвидетельствованное поклоном Мансур-шаха императору, согласно рассказу
хрониста, пробуждает к жизни вредоносный аспект магической силы
султана, и повелитель Китая, как и невесты Сери Три Буаны,
заболевает проказой. Исцелить его, однако, может не просто вое-
149
становление равных отношений, но не лишенное унизительности
купание в воде, в которой прежде Мансур-шах вымоет ноги. Так
автор родословий не только уравнивает Малакку с Китаем, но
и лукаво намекает на превосходство родного города. Еще более
тонко урегулируется в «Малайских родословиях» старый
конфликт с Маджапахитом (см. гл. III).
Итак, Малакка достигает зенита славы. Восшедшему на
престол сыну Алааддина — Махмуд-шаху достается обширная
империя, включающая практически весь Малаккский полуостров и
восточное побережье Суматры. Торговля, главный источник
доходов, процветает. На этом мажорная часть «Малайских
родословий» близится к концу, но, прежде чем обратиться к
изображению хронистом гибели города, необходимо присмотреться к его
писательской манере, иначе трудно оценить своеобразие
минорной части хроники.
Автор «Малайских родословий» — не только
историограф-эрудит, но и талантливый литератор, простой, ясный и прозрачный
стиль которого, признанный образцовым для малайской
придворной прозы, замечательно гармонирует с его изобразительным
мастерством, также оставшимся непревзойденным в малайской
литературе. Важнейшей особенностью его стиля является
стремление, по возможности избегая прямых оценочных высказываний,
выражать свои мысли о событиях и людях с помощью тщательна
отобранных и с графической наглядностью выписанных рассказов,
в которых герои речами и поступками сами свидетельствуют о
себе.
Эти рассказы различны по длине и типу изложения. Как
правило, в первой половине хроники они пространнее, традиционнее^
содержат больше loci communes и легендарных мотивов, во
второй же, особенно в главах о правлении Алааддина и Махмуд-
шаха, рассказы становятся более краткими и определеннее
отражают авторскую индивидуальность хрониста. В литературном
отношении особенно интересна та большая группа новелл, в которой
даются портреты обитателей Малакки. По своей композиции
новеллы, входящие в нее, обычно очень просты. Каждая из них —
самодовлеющая завершенная миниатюра с минимумом действия
и скупо очерченной обстановкой, выразительная благодаря
всякий раз точно найденному «пуанту» — меткой детали или острой
реплике, в которых с предельной полнотой запечатлевается та или
иная черточка персонажа. Именно так создаются составившие
славу «Малайских родословий» слегка гротескные портреты, в
которых, точно в рисунке, единым росчерком пера схватывается
лишь самое характерное.
Герой как бы навсегда отмечается яркой деталью, и потому
в памяти читателя надолго остаются и вдохновитель
государственной политики — мудрый бендахара Перак, умеющий
язвительной фразой поставить на место вельможу, вмешивающегося в его
дела (164, с. 95], и осмотрительно избегающий двусмысленного,
положения, отказавшись сесть, в пожалованный султаном палан-
150
кин [164, с. 138—139], и Туменгунг Хасан — распорядитель на
тшрах, с изяществом танцора скользящий среди гостей и
неприметным движением веера указывающий слугам на тот или иной
промах (Г 164, с. 160]; и горький пьяница — смотритель султанских
слонов Сери Рама, остроумным рифмованным ответом
по-арабски «срезавший» чванливого миссионера J164, с. 177—178].
Стремясь сохранить для потомков все яркое и примечательное
в жизни Малакки, хронист особенно чуток к тем эпизодам, в
которых проявляются ум, изобретательность, какое-либо необычное
умение его героев, и вместе с тем к странностям и причудам,
которые придают им живость, человеческую теплоту, своеобычность.
Он восхищается гонцами султана, с помощью хитрости сумевшими
лицезреть китайского императора и так ловко прочитавшими
послание к нему, что соседнему правителю пришлось поверить,
будто малаккский султан величием равен императору [164, с. 118].
Он повествует о том, что один из будущих лаксаман был
искусным художником и резчиком, что Серива Раджа на редкость
умело обращался со слонами и лошадьми, что сын бендахары Туна
Перака превосходно играл в шахматы, а Исак Бераках был столь
ловок, что перебегал по плавучему мосту реку, даже не замочив
ног [164, с. 166, 154—155, 157]. И в то же время в присущей ему
внешне бесстрастной манере, в которой порой сквозит ирония,
порой видится изумленная улыбка, автор родословий рассказывает
о франте и любимце дам — Зайн аль-Абидине, умащавшем
благовониями своего коня, или о полубезумном кади Юсуфе,
непрестанно воевавшем с мальчишками, запускавшими змеев с его крыши,
или о том же Сериве Радже, который, вместо того чтобы спешить
на зов султана, качался на качелях {164, с. 158, 157, 153].
Вообще автору «Малайских родословий», несомненно, присуще
чувство юмора, не столь уж частое в средневековой малайской
прозе — умение рассказать о комических ситуациях, в которые
попадали персонажи хроники, будь то забавное беспокойство
старого вельможи о том, чтобы платок, которым он связывал
шалопая сына, выдавая его за очередную провинность султану,
гармонировал по цвету с его одеждой, или жадность молодожена, без
остатка съевшего ритуальный рис под предлогом, что «свадьба
обошлась ему недешево», или безуспешные попытки заносчивого
богослова-араба правильно выговорить хоть одно малайское слово
[164, с. 188—189, 178, 157].
Характерно, что правители — на первый взгляд главные герои
хроники — изображены в ней куда менее ярко, чем окружающие
их придворные, в особенности бендахары (ср. )[378]) Тун Перак
к Тун Мутахир — ее подлинные протагонисты. При этом, чем
больше тот или иной султан соответствует заданному
государственно-этической концепцией автора идеалу, тем меньше мы
узнаем о нем как о человеке. В этом случае автор предоставляет
ему роль своего рода «неподвижного движителя» действия,
скрытого за сценой и появляющегося лишь на официальных
церемониях, чтобы распорядиться очередной политической акцией или
) 1
наградить ее исполнителей. Если же правитель далек от идеала,
он для недвусмысленного, хотя и косвенного, обвинения
изображается во множестве рассказов и обретает таким образом черты
живой индивидуальности.
Это правило особенно наглядно проявляется при сравнении
сходных по детальности описаний правления султана Мансура,
при котором Малакка достигает высшего расцвета, и правления
Махмуда — виновника ее гибели. О человеческих чертах первого,
несмотря на пространность рассказа о его деяниях (а точнее,
деяниях бендахары Туна Перака, совершенных в его правление),
нам приходится судить по шаблонному восхвалению хрониста,
двум-трем выразительным репликам да, пожалуй, по восхищению
султана благородством бендахары, с похвалой отозвавшегося о
прежде очернившем его царедворце [164, с. 134], тогда как
портрет второго является подлинным шедевром малайской классики»
При этом поступки людей, действующих в «Малайских
родословиях», настолько обусловлены местным бытом, традиционной
системой ценностей, особенностями национальной психологии, что,,
не учитывая этих факторов, далеко не просто понять, хорош или
дурен тот или иной человек в глазах ее автора.
Герои хроники, в особенности главные, редко появляются лишь
в одном рассказе или компактной группе новелл. Обычно их
история прерывистой линией проходит через значительную часть
произведения: складывающееся из отдельных повествовательных
«квантов» жизнеописание одного из действующих лиц уступает
место рассказу о другом, третьем, а потом вновь возобновляется,,
чтобы исчезнуть и вновь появиться. Благодаря этому вторая
половина малаккской части родословий напоминает сложную
плетенку из разноцветных прутиков, в которой каждый — «с лица»
или «с изнанки» — видится пунктирной линией, но, пересекаясь
с другими, образует целостный узор. Продолжая эту аналогию,,
можно сказать, что ряды плетения «равняются» по периодам
правления малаккских султанов, узор, в который слагаются
«прутики»,— это проведенная через судьбы героев этическая концепция;
автора, окраску же «прутикам» придает своеобразие каждой из
судеб.
Весьма сложная техника «пунктирного» изображения
персонажей, последовательно проведенная во второй половине
«Малайских родословий» как важный поэтологический принцип, не
только превращает жизнеописания в более податливый материал для.
выражения авторских идей, но и благодаря многократным
возвращениям каждой из линий создает ощущение временного потока, в^
который погружены герои. Так возникает эффект если не
развивающихся, то по крайней мере раскрывающихся во все большей
полноте характеров. Именно эта техника, рождая иллюзию
одновременного движения, беседы, переклички множества людей с
их страстями и привязанностями, увлечениями и чудачествами,,
формирует поразительную по своей жизненности атмосферу
«Малайских родословий», в которой отчетливо слышатся ностальгиче.-
152
екие нотки. Не только «официальная» тоска по былому величию
и могуществу, но и попросту личная грусть о неповторимом
прошлом с его своеобразным бытом и людьми, ярко одаренными
и столь не похожими один на другого. Особую выразительность
эта повествовательная техника придает рассказу о гибели Ма-
лакки.
Подобно разгрому Пасея, падение Малакки объясняется в
родословиях нарушением государственной этики — жестокой и
несправедливой казнью великого бендахары Туна Мутахира (Сери
Махараджи) и всей его семьи по повелению султана
Махмуд-шаха. Однако в отличие от своего пасейского предшественника ма-
лаккский хронист не посвящает этим событиям отдельной
«повести в повести», выдержанной в обобщенных тонах эпического
сказа. Прибегая к излюбленной «пунктирной» манере, он вплетает
новеллы, из которых слагаются образы бендахары и султана, в
целостную ткань малаккской истории и делает это с таким
композиционным мастерством, что противостояние главных героев
становится сквозной темой хроники. Отражаясь той или иной
гранью в повествовании о судьбах других персонажей, эта тема
неизменно стремится к трагической развязке и, в свою очередь,
в каждый момент развития светит ее отраженным светом.
Впервые хроника сообщает о будущем бендахаре еще в
разделе о временах Музаффар-шаха. Вскоре мы узнаем о смерти отца
Туна Мутахира, оставившего детей на попечение бендахары Туна
Перака, а также о назначении подающего надежды юноши на
должность начальника городской стражи — туменгунга. После
этого Тун Мутахир надолго исчезает и появляется вновь лишь в
годы правления Алааддина, чтобы выслушать от султана упрек в
плохой осведомленности о бесчинствах, творимых ворами в Ма-
лакке. Туменгунг устрожает охрану города и за какую-то
провинность перед юным наследником престола — Махмудом
приказывает казнить одного из малаккцев. Узнав об этом, воспитатель
Туна Мутахира — Тун Перак восклицает: «Взгляните-ка на Сери
Махараджу (титул Туна Мутахира.— В. £.), который учит
тигренка есть мясо, как бы тот потом на него самого не бросился!»
[164, с. 141]. Так впервые перекрещиваются судьбы героев,
встреча которых не сулит ничего доброго.
Еще более мрачные предчувствия вызывают два
предсказания, о которых сообщает хронист. Бендахара Тун Перак, умирая,
дает наставления внукам и воспитанникам и, обращаясь к Туну
Мутахиру, говорит: «Мутахир, ты будешь великим мужем и славой
превзойдешь меня, но не полагайся на то, что ты — дядя
государя, иначе не миновать тебе смерти» ,[164, с. 144]. Султан Алаад-
дин перед кончиной пытается внушить Махмуду уважение к
справедливости, но его уже упоминавшийся перечень запретных для
правителей деяний — лишь слабо завуалированное предсказание
того, что будет нарушено.
Махмуд-шах становится султаном и ознаменовывает начало
правления не слишком убедительно обоснованной казнью одного
153
из самых видных сановников. Это вновь отблеск грядущей раз^
вязки, и их еще будет немало впереди. А пока от несправедливой
казни автор переходит к «покушению на чужое» — любовным
похождениям султана. За первое из них платится жизнью некий Тун
Али, а заодно и его убийца Тун Исак, заколовший соперника
государя после того, как Махмуд со свойственной ему мрачной
скрытностью молча подал юноше бетель из своего сосуда, давая
понять, что за эту милость придется заплатить [\ 164, с. 151—152].
Перед 'смертью Тун Перак предостерегал Туна Исака от службы
Махмуд-шаху. Исполнение этого предсказания подготавливает
читателя к тому, что сбудется и другое, адресованное Туну Мута-
хиру, тем более что тому также суждено погибнуть из-за
любовного увлечения Махмуд-шаха. Второе похождение едва не
приводит к гибели самого Махмуда — лишь нежелание оскорбленного
мужа нарушить извечный договор спасает султана. Затем следует
серия новелл о фаворитах Махмуд-шаха — людях незаурядных,,
но алчных и пренебрегающих службой, и, наконец, рассказ о
вновь тайно подстроенном султаном, умеющим скрывать свой
гнев, убийстве — на этот раз сводного брата, красавца и щеголя
Зайн аль-Абидина, пользовавшегося большим, чем он, успехом у
женщин ,1164, с. 158].
Сколь ни ужасающи деяния Махмуд-чпаха, хронист не
изображает его одной лишь черной краской. Султан умеет оценить
благородство опозоренного супруга, сохранившего ему жизнь, порой
остановить зарвавшихся любимцев, взыскуя суфийской мудрости,
смиренно склониться перед полубезумным кади Юсуфом. Натура
султана показана противоречивой и сложной, однако в
решающих случаях верх в ней берет потворство страстям, и именно оно
превращает «тигренка» в тигра.
На все это время Тун Мутахир исчезает со сцены и вновь
появляется лишь после того, как по совету матери Махмуд-шах
вручает ему традиционную чернильницу бендахар и делает
вторым человеком в государстве. При нем Малакка процветает.
Он справедлив, щедр и так заботится о купцах, что со временем
превращается в один из символов процветания города.
«Приветствуем порт Малакку, бананы Джерама, питьевую воду с
Китайского холма, бендахару Сери Махараджу» — так перед отплытием
в Малакку заканчивают молитву экипажи всех торговых судов
[164, с. 160]. Аллах одарил его многочисленными детьми и
внуками, но и в преклонном возрасте он по-прежнему хорош собой и
любит постоять перед высоким, в человеческий рост, зеркалом
и посоветоваться с женой, какой тюрбан пойдет к его костюму.
Но главное — он столь богат и могуществен, что встает лишь
перед наследником престола, а султан Махмуд-шах, покуда
благоволящий к своему дяд£'бендахареу утверждает, что оскорбление,
нанесенное ему, равносильно оскорблению самого венценосца.
Однако, заканчивая эту серию рассказов вполне оптимистически,
хронист заставляет приглушенно зазвучать и основную тему. Брат
бендахары осмотрительно отдает в жены султану свою дочь. Тун
154
Мутахир, уповая на расположение Махмуд-шаха, так не
поступит и погибнет [164, с. 160—161].
Поочередно сменяют друг друга эпизоды контрастно
сопоставленных жизнеописаний. Вот султан третирует вассалов, отнимает
у раджи Паханга невесту (вновь роковой любовный мотив), а
затем приказывает посланцу, отправленному,, чтобы успокоить
униженного раджу, похитить его любимого слона. «Махмуд делает
из меня обезьяну: в рот сует банан, а в зад колет шипом»,— с
горечью замечает отчаявшийся вассал и удаляется в
отшельничество, предрекая тем судьбу запоздало раскаявшегося
Махмуд-шаха [164, с. 175—176]. Вот Тун Мутахир беседует о науках с
приехавшим в Малакку богословом, остроумно придумывает
отправить к пасейцам «живое письмо» — гонца, наизусть выучившего
текст, или одерживает победу над лигорцами, напавшими на Па-
ханг [164, с. 177—181]. Разумеется, на современный взгляд Тун
Мутахир, в новеллах о котором угадываются и заносчивость, и
умение не упустить своего, весьма далек от идеала, но для
средневекового хрониста он, несомненно, воплощение идеального
вельможи — богатого, могущественного, умелого и преданного султану.
Итак, параллельно раскрывавшиеся характеры героев
окончательно очерчены. Теперь хронист решительно сводит их. Однако
гибель бендахары для него — причина падения Малакки, и
потому он предваряет описание трагических событий предсказанием
п@ртугальского капитана: «Покуда жив бендахара Сери
Махараджа, Малакка не падет» [164, с. 182]. Это последнее в цепи
предсказаний, и оно, как и предыдущие, должно исполниться —
отныне гибель бендахары предрешена.
Причиной ее вновь становится неуемное женолюбие Махмуд-
шаха. Вопреки предостережениям, твердо намеренный выдать
красавицу дочь Фатиму за племянника, сына Туна Тахира,
бендахара не желает прежде показать ее султану. Но не пригласить
Махмуд-шаха на свадьбу — значит нанести ему оскорбление.
Видя Фатиму в наряде новобрачной, султан, разумеется, тотчас в
нее влюбляется и затаивает в душе обиду на «недогадливого»
отца ([164, с. 183]. Читатель, знакомый с тем, как кончаются
затаенные вспышки государева гнева, понимает всю серьезность
положения, а хронист, как бы бросая прощальный взгляд на любимого
героя, завершает портрет бендахары рассказами о его
чудачествах. На этот раз мы видим состарившегося Туна Мутахира в
кругу семьи: он балует детей и внуков, давая для игр младшим по
пригоршне золотого песка и снисходительно улыбаясь, когда
старшие после неудачной охоты «охотятся» на буйволов в его загоне
[164, с. 184].
Сразу за этими идиллическими сценами следует усиливающий
напряжение эпизод, в котором бендахара резко одергивает
именитого тамильского купца Раджу Мудалиара, в нарушение этикета
осмелившегося приветствовать его во дворце государя. Этот
эпизод обладает двойной значимостью: он, во-первых, еще раз
подчеркивает преданность бендахары султану, а во-вторых, укрепляет
155
купца в мысли, что Тун Мутахир завидует его богатству и готсж
его погубить.
Дальнейшие события разворачиваются стремительно: ночной
визит к Радже Мудалиару его должника и оговор бендахары,
донос на него фавориту султана — лаксамане и клевета не
устоявшего перед силой денег лаксаманы, уверяющего Махмуд-шаха,
будто Тун Мутахир задумал узурпировать власть и даже успел
уже заказать себе трон. Наконец-то у султана, терпеливо
ожидавшего своего часа, развязаны руки, и тотчас в дом бендахары
отправляются палачи, которым, по обычаю, вручается крис султана
на подносе, покрытом желтым государевым платком. Напрасна
родичи бендахары умоляют Туна Мутахира оказать
сопротивление. Напрасно рвется в бой его сын — Туменгунг Хасан. Бендаха-
ра, непреклонный в верности изначальному договору, спокойно
и твердо принимает смерть. Изо всей его многочисленной семьи
в живых остается лишь малолетний Хамза, на голове которого
в память о побоище навсегда сохранится ужасающий шрам [164,.
с. 186—187].
Махмуд-шах, кажется, может торжествовать: он обрел
желаемое. Но брак ценой преступления не приносит ему радости.
Разучившаяся улыбаться Фатима — последняя, а возможно, и первая
настоящая любовь султана, приближенный им Хамза — все
вызывает угрызения совести, которую не успокоить расправой с
клеветниками. Отрекшись от престола, Махмуд-шах удаляется от
мира, чтобы, как и во времена занятий с кади Юсуфом, в
суфийской мудрости обрести утраченное равновесие. Накануне захвата
города мы видим его скачущим по равнине в сопровождении
единственного слуги, затаптывающего следы коня — султан никого не
желает видеть — и на бегу сворачивающего господину порцию
бетеля f 164, с. 190].
Так в соответствии с гуманной для своего жестокого века
концепцией общественного договора автор «Малайских родословий»
показывает, что справедливость ведет государство к процветанию,
а тирания губит его, и делает это с замечательным и порой
удивляющим современностью мастерством.
ПРИМЕЧАНИЯ
v (Молния, пьющая воду и от этого «крепнущая», увеличивающая свою
«мощь», по-видимому, образ, восходящий к яванской мифологии. В яванской
хронике XVM в. «Ба'бад Танах Джави» рассказывается о заключенном в клетку
старике-молнии, который с оглушительным грозовым раскатом вырвался на волю,
едва лишь ему дали напиться [116а, с. 46—47].
2 (Характерно, например, что еще в XVIII в. автор малайской «Поэмы о Бида-
сари» сравнивал нерасторжимость супружеского союза с единством тела и
души, Пандавов и Коравов ,[86, с. 163]i.
3 П. Зутмюльдер предполагает, что упоминаемая в предисловии к «Бхоман-
таке» «Бхомакавья», возможно, шредставляет собой покуда неизвестный
санскритский прототип поэмы [Шб, с. 31211].
4 После работ Л. Ш. Даме [318, с. 66—67] Камешвар,ой, упоминающимся а
156
«Смарадахане», -следует считать яванского .правителя, находившегося у власти с.
ï№ по 11®5 г.
5 О причинах изменения имен героев в повестях о Ланджи существуют
различные гипотезы (объединение в одном произведении •нескольких сюжетов, учение-
о переселении душ, вера в то, что перемена имени приносит счастье и сбивает с
толку злых духов, и т. д., см. i[196, с. 79]). Такого рода перемены имен в
повестях отмечают едва ли не всякий новый этап в жизни героев и соответственно в
развитии действия.
8 Эта ипостась в «'Повести о Чекеле Ваненг (Пати» раскрыта в отношениях
«дублера» Радена Ину — Гунунгсари и царевны Ратнавати.
7 Основные отличия этой истории (в прозаической версии «(Повесть об Ан-
дакене Пенурате») сводятся к тому, что Кен Тамбухан — не воплотившаяся в
облике дочери сельского старосты небожительница, а пленная царевна Венгкера —
княжества на Центральной Яве; царевич знакомится с ней не в лесной
деревушке, а в саду отца (но также во время охоты!); государыня не сама убивает Кен
Тамбухан, а поручает это палачу, и, наконец, в финале повести Батара Кала
воскрешает царевну и Андакена Пенурата, в порыве отчаяния лишившего себя
жизни, после (чего влюбленные вступают в 1брак, к великой радости
раскаявшихся родителей царевича (рус. пер. см. [4(3, с. 21417—1300]).
8 Большие фрагменты обоих изводов, позволяющие судить об их различиях,
были изданы П. ван Лёвеном |[Ч06]; смешанная версия, начало которой
соответствует суматранскому изводу, была опубликована Халидом Хуссейном [99].
9 Несколько отличную в деталях интерпретацию дает этим событиям
Б. Б. 'Парникель, который вслед за X. Хойкасом [8155, с. 130] считает, что,
«формально взглянув» на ©пизод с наложницей, можно усмотреть в нем оскорбление
«классификационной матери» и, следовательно, «тяжкий проступок», а в
путешествии умирающего царевича на гору Фазлаллах по не вполне понятным
причинам видит «материализацию зикра — мысленной .молитвы суфия» [247, с. 1'30—
l'3i2]. Такая интерпретация заставляет исследователя довольно искусственно
постулировать противоречие «аффекта содержания» и «аффекта формы» (термины-
Л. С. Выготского) в повести.
10 А. Тэу полагает, что хроника .могла появиться около Н50 г., в правление
Музаффар-шаха, вдохновителя «Малаккского уложения» [493, с. 2i3l2i].
КЛАССИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Падение Малакки послужило предвестием будущих
колониальных захватов европейских держав в малайском мире, но еще
не привело к установлению власти европейцев в данном регионе.
Появление сначала португальских, а затем голландских опорных
пунктов и монополизация торговли пряностями на первых порах
лишь несколько ослабили политическую и экономическую мощь
малайских государств.
На протяжении XVI и XVII вв. политическими лидерами
малайского мира попеременно выступали могущественные
султанаты — Джохор, непосредственный наследник Малакки, и Аче,
государство, возникшее в первые десятилетия XVI в. на Северной
Суматре, в состав которого был включен Пасей. После укрепления
.португальцев в Малакке именно они стали важнейшими
центрами как межостровной, так и внешней торговли, привлекавшими
жупцов из Индии, стран Ближнего Востока, Китая. Стремление
каждого из султанатов занять место гегемона малайского мира
приводило к непрерывным кровопролитным войнам между ними.
Во второй половине XVI — первой половине XVII в. успех в
этой борьбе склонялся на сторону Аче, и при султане-завоевателе
Мскандаре Младшем (1607—1636) это государство распространило
свое господство на большую часть Суматры, нанесло
сокрушительное поражение Джохору и захватило княжества Паханг, Перак и
Кедах на Малаккском полуострове. Однако в 40-е годы XVII в.
Джохору удалось оправиться от удара и восстановить свою власть
на полуострове. Дальнейшему расцвету султаната
способствовала успешно проводимая им политика лавирования в отношениях
с различными государствами малайского мира и голландской Ост-
Индской компанией, в результате чего до конца XVIII в. Джохор
оставался наиболее значительным государством региона, отчасти
восстановившим границы Малаккского султаната и владевшим
территориями по обоим берегам Малаккского пролива. На
протяжении XVIII в. он, однако, постепенно слабел из-за
внутренних неурядиц, в которые вмешивались минангкабау, пришедшие с
Центральной Суматры, и особенно бугийцы, во множестве
бежавшие с Сулавеси после захвата голландцами Макассара в 1667 г.
Ж концу XVIII в. Джохор окончательно попал под контроль гол-
158
ландцев, и в столице государства, находившейся тогда на
архипелаге Риау, был расквартирован голландский гарнизон (об
истории Джохора и Аче см. |[277, 396], на рус. яз. |[266]).
В различных частях малайского мира существовали и другие>
более или менее значительные политико-экономические и
культурные центры, то крепнувшие, то слабевшие и связанные весьма-
сложными отношениями как между собой, так и с Аче,
Джохором и государствами Явы. К их числу относились Палембанг и
Джамби на Южной Суматре, Бруней на Северном Калимантане
и Банджармасин — на Юго-Восточном, княжества Малаккского*»
полуострова: Перак, Паханг, Кедах, Патани и др. Значительные
группы малайцев обитали также на Сулавеси, на Молуккском:
архипелаге, в городах северного побережья Явы.
Несмотря на некоторое ослабление и фрагментацию
малайского мира, вторая половина XVI—XVIII в. были временем
значительного культурного, и особенно литературного, расцвета.
Подобного рода явления вообще характерны для средневековья. Так,
например, заметный подъем наблюдался в немецкой литературе в-
XII—XIII вв., когда в Германии «установилась феодальная
раздробленность» [252, с. 43]. Э. Броун, стремясь объяснить расцвет
персидской литературы в XIV—XV вв., отмечал, что «в периоды
анархии и разделения власти персидская литература особенно
процветала» /[305, т. III, с. 160], а А. Арберри (со ссылкой на
Е. Э. Бертельса) считал причиной этого расцвета стремление
многочисленных местных династов возродить блестящую придворную
жизнь, характерную для их предшественников в домонгольское-
время i[278, с. 28]. Сходные процессы наблюдались и на Яве в-
конце XVIII— первой половине XIX в. [439, с. 7—8].
Важнейшим культурно-идеологическим явлением второй
половины XVI—XVII в. было продолжающееся распространение в
малайском мире ислама. Если на предыдущем этапе процесс му-
сульманизации развивался главным образом вширь и ведущая
роль в нем принадлежала исламской юриспруденции (фикх), то
теперь наблюдается движение этого процесса вглубь и особое
значение приобретают разъяснение основ теологии (калам) и?
суфийская проповедь. Отмечая эти различия двух этапов ислами-
зации, малайзийский исследователь Нагиб аль-Аттас образно
называет первый период «обращением тела», тогда как второй —
«обращением души» ,[61, с. 191—192].
Развитие ислама вглубь оказало значительное влияние на
малайскую литературу. Под мусульманским воздействием в ней
появилось множество новых произведений — религиозных,
назидательных, беллетристических, исторических, возник ряд новых
жанров и даже целых областей литературной деятельности, прежде
всего письменная поэзия, усилилась роль индивидуального ав^
торства.
Не менее важно и другое — все богатство малайской
литературы было переосмыслено в этот период в соответствии с
мусульманскими принципами как некое упорядоченное целое — литера?-
159
чгурная система. Авторефлексии подверглись такие понятия, как
творческий процесс, функции красоты и учительной пользы
литературы, способы создания произведений словесности. Словом,
как показывают многие памятники конца XVI—XVII в.
(например, «Повесть об Индрапутре», «Корона царей», «Поэма о макас-
сарской войне»), в это время сложилось самосознание малайской
литературы.
Таким образом, высший в истории малайской словесности
расцвет литературной практики в сочетании с ее «внутренним»
теоретическим осмыслением и позволяет рассматривать вторую
половину XVI—XVIII в. (отчасти и XIX в.) как классический период
в развитии малайской литературы, а XVII столетие — как ее
золотой век.
До сих пор, располагая в лучшем случае текстами
литературных сочинений и не имея данных о том, как они понимались
их создателями, мы были вынуждены рассматривать малайскую
словесность преимущественно извне. Зарождение литературного
самосознания в классический период ставит перед исследователем
несколько иную задачу. Без изучения «внутреннего» взгляда
малайцев на свою словесность трудно, а порой почти невозможно
лонять предназначение различных произведений, взаимосвязь и
взаимоотношения между ними, принципы их поэтики, систему
ценностей, которыми руководствовались их авторы, т. е.
представить картину малайской литературы в этот период в ее полноте.
Не учитывая особенностей самосознания малайской литературы,
исследователь вольно или невольно вынужден «интерпретировать
старое мировоззрение в духе нового, вследствие чего оно
становится каким-то межеумочным мировоззрением, где форма обманывает
относительно значения, а значение — относительно формы» [1,
с. 314].
Задача подобного изучения чрезвычайно сложна. Во-первых,
литературные представления средневековых малайцев не только
совершенно не изучены, но и сам факт их существования и
письменной фиксации покуда далеко не осознан. Во-вторых, данные
о малайском литературном самосознании разбросаны в виде
отдельных вкраплений по многочисленным сочинениям,
фрагментарны и могут быть должным образом реконструированы и поняты
.лишь с привлечением фактов арабской и персидской теоретико-
литературной и эстетической мысли (оба термина, разумеется,
условны), степень исследованности которой, в свою очередь, далека
от желаемой. В-третьих, основы самосознания малайской
словесности, стремившейся так или иначе охватить все сферы жизни ее
создателей и читателей, носили религиозный характер, что
вполне естественно для литературы средневекового типа. Тем самым
специфика изучения средневековых представлений о литературе
требует от исследователя постоянных переходов из области
литературоведения и эстетики в область религиеведения.
160
ГЛАВА V
САМОСОЗНАНИЕ МАЛАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
(реконструкция)
До сих пор в малаистике господствовало мнение о том, что
среди памятников малайской письменности отсутствуют тексты
поэтологического и теоретико-литературного характера,
позволяющие проникнуть в литературное самосознание создателей
классической словесности. Если говорить о специальных сочинениях
подобного рода, то следует признать это мнение справедливым. В то
же время многочисленные высказывания, встречающиеся в
богословских, дидактических, беллетристических сочинениях, и
прежде всего в предисловиях к ним, дают достаточный материал для
реконструкции этого самосознания в классический период (вторая
половина XVI — первая половина XIX в.). Особенно велико для
данной реконструкции значение предисловий и послесловий к
сочинениям, являющихся тем звеном, благодаря которому
отдельное произведение включается в центрированную, целостную и
стройную систему мироздания средневековой традиции. В силу
этого в предисловиях не только раскрываются
литературно-эстетические принципы малайской культуры, но и выявляются их
мировоззренческие основания.
Превосходный образец реконструкции литературного
самосознания на материале предисловий к древнеяванским поэмам-/са/са-
винам дал сравнительно недавно голландский ученый П. Зутмюль-
дер ("535, с. 173—186]. Продемонстрированная им насыщенность
предисловий терминами, значение которых может быть
установлено благодаря привлечению синхронных сочинений, в первую
очередь философско-теологических, во многом определила принятую
в этой работе методику исследования.
Другой важной предпосылкой настоящей работы послужило
утверждение известного английского малаиста Р. Уилкинсона, что
памятники малайской словесности создавались людьми, чья
образованность носила по преимуществу богословский^ характер, и
адресовались сравнительно узкому кругу ценителей и знатоков
i[516, с. 6—7]. Сходные высказывания (порой весьма
раздраженные) встречаются в трудах многих исследователей малайской
классической литературы -Г 196, с. 99, 105 и ел.; 372, с. 312—313;
480, с. 468], и это, естественно, заставляет с большим вниманием
отнестись к религиозным основам литературной теории малайцев-
мусульман.
11 Зак. 147
161
При реконструкции самосознания малайской классической
литературы естественно встает вопрос о том, насколько глубоко
осознавали создатели отдельных текстов значение
теоретико-литературных «формул», которые они употребляли в предисловиях к
своим сочинениям. По-видимому, всякий раз мера такого осознания
была различной, и теперь уже установить ее практически
невозможно. Однако, даже если тот или иной конкретный автор
воспринимал характерные для предисловий сцепления «формул» лишь
как привычный и не обязательно глубоко «прочувствованный»
[243, с. 205] стереотип, этот стереотип отнюдь не утрачивал своей
осмысленности в рамках малайской культуры как коллективно
хранимого целого. Поэтому предмет данного исследования
составляет литературное самосознание, присущее малайской культуре
именно как целому, а не его реализация во взглядах отдельных
авторов.
Итак, основным материалом для реконструкции послужили
(предисловия и -послесловия к малайским литературным
произведениям, стихотворным и прозаическим. Материал этот вполне
доступен, так как предисловия и послесловия помимо изданий
текстов («не слишком многочисленных) содержатся в каталогах
рукописей |[20; 22 и др.], где они как начальные и конечные строки
приводятся для идентификации сочинений.
Предисловия к поэтическим текстам — их объем колеблется от
нескольких десятков строф [142] до двух-трех четверостиший и
менее — включают восхваление Аллаха и Мухаммада, описания:
•стимулов, шодвигших автора на сочинение поэмы (или целей ее
создания), трудностей, вставших перед поэтом, преодоления их и
недостатков произведения (реже — его достоинств). Далее иногда
следует ряд моментов более личного характера: психологическое
состояние в процессе сочинения, обстановка, в которой создавалась,
поэма, автохарактеристика творца, обращение к ценителям,
просьба о вознаграждении и т. д.1.
Объемы предисловий к прозаическим памятникам также
крайне разнообразны (от нескольких страниц \[ 133; 134] до
нескольких строк). В них после обращения к Творцу и Пророку, к
которым автор прибегает за помощью, указывается на достоинства
сочинения, формулируются его полезные свойства и описывается
воздействие на «читающего или слушающего»2.
Уже из этих описаний видно, что в предисловиях к
поэтическим сочинениям подробнее описан процесс создания текста, а в
предисловиях к сочинениям прозаическим — процесс его
восприятия.
Содержание предисловий может как угодно редуцироваться.
Во многих предисловиях к прозаическим текстам мы
сталкиваемся с предельным случаем редукции до двучленной арабской
формулы: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! К Нему
прибегаем, ([ибо все] возвышеннейшее (т. е. в данном случае —
совершенное произведение.— В. Б.)—благодаря Аллаху». При этом,,
однако, смысловое ядро сообщаемого не меняется и не становится
162
менее очевидным. Анализ предисловий показывает, что в них на-
шла выражение концепция Творения (а точнее, Творения через
посредника — человека) завершенной схоластической системы
позднего ислама, пронизанной суфизмом. Эта система сложилась на
основе трудов в первую очередь Ибн Сины, аль-Газали, Ибн аль-
Араби (если называть только самые важные имена) и обладала
настолько разработанным терминологическим аппаратом, что
обычно каждый из ее терминов, находясь в необходимой связи
с остальными, ясно указывал на другие даже при их отсутствии в
том или ином тексте.
Мусульманская концепция Творения через человека (довольно
условно ее можно назвать концепцией творчества) выступала
как теоретическая основа и парадигма для всех форм
деятельности, в том числе и деятельности литературной. Никакого
особого общего учения о создании литературных произведений не
существовало, и специфика теории словесности обусловливалась
лишь особенностями вербального материала, с которым работал
■писатель. Именно поэтому интерпретация содержания 'предисловий
невозможна без хотя бы краткого изложения концепции Творения.
Всякое творение представляет собой процесс выведения вещи из ее
потенциального бытия в каком-либо субстрате и придания ей актуального (внешнего)
бытия. Эта актуализация бытия вещи, т. е. возникновения ее как таковой,
возможна только благодаря действию некоторого активного начала, например фор-
тмы создаваемой вещи, рассматривавшейся как самостоятельная сущность,
воздействующая на материю, в которой создаваемая вещь присутствует лишь
потенциально. Для объяснения описанного процесса часто прибегают к такому
примеру: активное начало подобно свету, потенциальное бытие — способности глаза
ъидеть, которую он сохраняет в темноте, актуальное бытие — актуальному
видению глазом при свете [50, с. 34—36; ср. 201, с. 259—260; 284, с. 20 и ел.].
Активным началом всякого созидания является в конечном счете Аллах —
«Свет светов». Творение, осуществляемое Аллахом, понимается как нисхождение
его Духа, отождествляемого со светом, по ступеням, которые представляют собой
как бы систему зеркал, отражающих и передающих этот свет далее, во тьму
жира потенциальности.
Творение осуществляется как бы в два этапа. Первый — Творение в
божественном Сознании, объемлющем пребывающие в состоянии нерасчлененной
потенциальности идеи всех вещей, точнее, выдвижение идеи данной вещи из
логически предшествующего синтетического единства, вычленение данной идеи из
совокупности других. Второй (следующий за произнесением созидающего слова —
«Будь!») — нисхождение идеи вещи в мир материи и обретение вещью
актуального бытия, т. е. собственно Творение. На первом этапе идея (внутренняя
духовная сущность вещи) — актуальна, ее внешнее телесное воплощение
потенциально; на втором — внешнее телесное воплощение актуально, внутренняя духовная
-сущность вещи — потенциальна.
Структура космоса (макрокосма) подобна структуре человеческой души
(микрокосма), что позволяет говорить о параллелизме традиционных мусульманских
онтологии и космололии, с одной стороны, и психологии — с другой.
Соответственно параллельны и процессы творения во вселенной и в душе.
Человеческая душа представляет собой сложную иерархически
организованную структуру, в которой низшие функции (силы) служат высшим и
воспитываются, рафинируются высшими. Венчает эту иерархию разумная или речевая душа
(именно она носит название человеческой), способная воспринимать общие
понятия. Далее следует животная душа (часто — просто душа в отличие от
человеческой души — разума), при помощи пяти внешних и пяти внутренних чувств
воспринимающая единичные понятия и имеющая основной функцией воображение.
11*
163
Наряду с восприятием благодаря животной душе осуществляются двигательные-
функции. Затем идут растительная и природная души. Душа, управляющая те^
лом, представляет собой пассивное женское начало, деятельность которого
актуализируется благодаря соединению с Духом (божественным Светом) — активным:
мужским началом. Поэтому душа имеет как бы две стороны: одну, обращенную
к Духовному Миру, способную воспринимать его свет, и другую, обращенную к
телу и руководящую им.
Исходя из сказанного выше, человеческое творчество может быть описано
следующим образом: разумная душа (интеллект), воспринимая общую идею
вещи, нисходящую из Духовного мира, передает ее животной душе, так что в
воображении возникает образ данной единичной вещи, который затем передается
руке, завершающей создание данной вещи (придающей ей актуальное бытие).
Соединение интеллекта с Духом, сообщающим ему идею вещи или освещающим
(актуализирующим) ее потенциальное бытие, в самом интеллекте может
осуществляться двумя путями — прямым откровением или обучением. Последнее также
имеет в своей основе откровение, передающееся благодаря учебному тексту
(письменному или устному) от учителя к ученику. Обычно акт творения
символизируется в образах письма (писец — процесс письма — написанное) — Космического •
Письма Творца и малого письма человека, последнее при этом оказывается как
бы письмом под диктовку или перепиской [183, с. 22, 24]. Таким образом, в акте-
создания вещи человеком выделяются две фазы: рецептивная (восприятие идеи)
и агентивная (воплощение или фиксация идеи в вещи).
1. ВОСПРИЯТИЕ ВДОХНОВЕНИЯ
(РЕЦЕПТИВНАЯ ФАЗА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА)
I
Обычное для предисловий к малайским поэмам описание
рецептивного этапа творческого процесса начинается с обращения
к Аллаху, за которым следует ряд устойчиво повторяющихся:
мотивов, наглядно представленных в следующих фрагментах
предисловий.
«Во имя Аллаха» — это начало речи,
Он изливает ясный свет милости...
В просветленных душах верных —
Там место проявления милости [124, с. 30].
Благодаря благословению Мухаммада, нашего владыки,
Дервиш (т. е. автор.— В. Б.) написал некое повествование.
[148, с. 1].
Опамятовался юноша (т. е. автор.— В. Б.) этой ночью,
Увидав нисхождение духовного света...
И прежде всего
Написал о стране и ее радже [22, с. 70].
Эта поэма, которую я написал,
Ясно явилась в душе и упала в реку (т. е. была записана. —
В. Б.).
Промысел Аллаха властвует над теми,
Кто не сведущ в ученых книгах и Коране [20, с. 357].
Дервиш (т. е. автор.— В. Б.) не станет длить речь,
Ведь его просветленная душа становится темной,
Пребывая в озабоченности ночью и днем [10, с. 1].
Воистину ничтожно мое сочинение/
Поскольку разум погружен во мрак [20, с. 353].
Раб не может более говорить,
Ибо таково повеление Абсолютного Господина,
164
Чье могущество вершится над нами,
И потому проводит в унынии все дни.
Раб пребывает в глубоком расстройстве,
Его грудь (т. е. душа.— В. Б.) словно бы разрывается на части,
Ибо она более не место дарования (т. е. не получает милости.— В. Б.),
А сведущ лишь Аллах [22, с. 75}.
Суть описываемой в этих фрагментах ситуации можно
сформулировать следующим образом. Называя Бога именами Аллах,
Милостивый (Рахман) и Милосердный (Рахим), поэт просит Его
явить милость (рахма), изливающуюся (лимпах) по
благословению (беркат) Мухаммада в душу поэта в виде духовного света
(чахая нурани). Воспринимаемый «духовным сердцем» или
просветленной душой (хати нурани, хати янг сафи), т. е. душой, в
какой-то момент преодолевшей хаос психики (келам, перчинтаан),
этот свет вызывает появление в душе образов. Их фиксация
(джатух кетанган) тем лучшая, чем яснее разум (акал),
приводит к созданию, а точнее — к явлению в мире
эмпирических реальностей, поэмы. При этом Всемогущество (кудра)
Аллаха или Его промысел (такдир) определяют как возможность
начать создание поэмы, так и необходимость прервать творческий
процесс.
II
В первых строках предисловий содержится и комментируется
формула: «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного». Эта
формула в исследуемых текстах представляет собой обращение к
Аллаху как Творцу всего сущего, на что непосредственно указано,,
например, в «Поэме о Яхье»:
«Во имя Аллаха» — это начало речи,
Благодаря имени Творца вселенной
День и ночь изливается милость
На Его рябов — мусульман [20, с. 322].
Обращение может быть кратким [22, с. 70—71, 86, 88 и ел.]
или развернутым ][142, с. 69—70; 20, с. 330, 322; 124, с. 30].
Последние особенно интересны, поэтому приведем полностью
обращение из «Поэмы о Пунггуке»:
«Во имя Аллаха» — это начало речи,
Он изливает ясный свет милости
Через благословение Мухаммада, нашего владыки,
Который есть владыка знающих и ученых.
Ар-Рахман — это возвышенный атрибут,
Это слово означает — Щедрый, Всемилостивый
К верным с просветленными сердцами —
Там (в просветленных сердцах.— В. Б.) место проявления Милости,
Ар-Рахим — это милостивое слово;
Все восхваления Аллаху!
Ибо совершенно ясно, что именно Господь
Наделил рабов своих даром речи |[124, с. 30].
165
По существу, эти три четверостишия содержат целостную
концепцию создания литературного текста. Ключом к ней может
служить фрагмент из сочинения «Тайны постигших» малайского
поэта-суфия Хамзы Фансури:
«...Аллах — это Имя Сущности Аллаха, собрание всех Имен, как это
говорилось выше; Рахман же —Имя, впервые даровавшее милость (рахма)
Вселенной, т. е. сотворившее Вселенную... Это Рахман — владыка милости дарует
бытие всей Вселенной... благое и дурное получает бытие по милости Рахмана. А Ра-
хим— Имя специфичное только для всего благого...» [61, с. 255].
Согласно широко распространенному в малайском мире с
начала XVII в. учению о семи ступенях (мартабат туджух)
нисхождения Бытия от абсолютного единства к множественности мира
вещей (см. (Г93, с. 21—29; 113, с. 78—197]), имя Аллах
соответствует второй ступени — вахда, на которой идеи вещей
существуют в божественном Сознании в нерасчлененном виде, а имя
Милостивый (Рахман) — его третьей ступени — вахидийа, на
которой они существуют в расчлененном виде «[93, с. 91]. Поэтому-
то поэт, обращаясь к Творцу, последовательно прибегает к Его
имени Аллах, указывающему на имманентный аспект Единой
Сущности, содержащей нерасчлененную потенциальность всего
творимого, из которой даруется бытие вещам, затем к имени
Рахман, которое впервые дарует бытие всем единичным вещам, и,
наконец, к имени Рахим, дарующему бытие вещам благим и
прекрасным.
Рассматриваемое со стороны автора, это обращение
представляет собой молитву, в которой поэт просит позволить ему создать
поэму, т. е. актуализировать его потенциальную творческую
способность, ибо только Аллах есть Необходимое Бытие и только он
может наделять бытием, только Он творит. Поэт же является
лишь орудием творения, которое приводится в действие благодаря
милости, т. е. созидающей энергии Творца. С полной ясностью
это отношение Аллаха и литератора видно в молитве, которой
заканчивается широко известное малайское зерцало «Корона царей»
(1604 г.):
«Хвала Господу, который это благочестивое послание его завершением
завершил! Благодарение Господу, который эту благую беседу ее концом окончил!
Всякое благодеяние от Господа, который руководил моей грудью, моим сердцем и
моим языком при изъяснении этих слов и упорядочении их расположения» [133,
Итак, акт создания поэмы осуществляется благодаря
восприятию поэтом божественной творческой энергии. Проявление
последней может описываться как истечение идеи создаваемой вещи
из божественного Разума в способный к соединению с ним разум
человеческий или как озарение души духовным светом. Для
исследуемых предисловий более характерна именно вторая форма
описания, однако обе они представляют собой лишь два варианта
изображения одной и той же реальности. Ведь в человеке как в
микрокосме содержится в потенциальном состоянии все, втомчис-
166
ле мир Идей или Архетипов (айан сабита) [284, с. 19—20], и
поэтому не столь существенно, воспринимается ли поэтом
истечение из мира Архетипов или божественный Свет, озаряющий тьму
•потенциальности и актуализирующий мир Архетипов в самой
душе.
III
Далее предисловия указывают на элемент, посредующий
между миром человеческой духовности поэта и миром созидающей
активности Творца. Таким элементом является Свет (Свет
милости, Духовный Свет и т. д.), озаряющий «просветленную душу»
и способный быть ею воспринятым.
Символ Света (Света вдохновения) стоит в тесной связи с
понятием «благословение Мухаммада», которое не случайно в
приведенном выше фрагменте из «Поэмы о Пунггуке» следует сразу
же за упоминанием о божественной милости, изливаемой через
него. Это понятие в предисловиях включается в контекст
обращений к Пророку как к «главе знающих и ученых» с просьбой
«позволить создать поэму».
В «Повести об Исме-сироте» понятие «благословение
Мухаммада» раскрывается несколько подробнее. В крайне интересном
эпизоде создания Исмой литературного произведения — повести —
говорится:
«Через некоторое время по произволению (такдир) Всевышнего пришла ему
на ум мысль, и он сказал себе: „Хорошо бы мне сочинить повесть, в которой
давались бы наставления раджам, дабы снискать милость государя". Подумав так,.
Исма Ятим совершил поклонение Преславному Господу, прося у Него даровать
разум, совершенный в делах управления, для написания этих наставлений. И по
милости Аллаха и благословению заступническому (беркат шафа'а) Мухаммада...
написал он совершенную повесть» [134, с. 4]i
Изображенная в даном фрагменте повести ситуация, как
нетрудно заметить, точно соответствует той, которая описывается
в предисловиях к поэмам. Особенно важен в ней термин
«благословение заступничества». Под ним разумеется дарованное
Аллахом Мухаммаду благословение быть перед Ним ходатаем за
людей — прежде всего в Судный день, но также и во всяком деле.
Поэтому «благословение заступничества» может пониматься в
данном контексте как ходатайство Мухаммада перед Аллахом о
том, чтобы Исме было даровано создать его произведение, т. е.
явлена милость в описанном выше смысле. Однако существует
более глубокое значение термина «благословение Мухаммада».
В некоторых предисловиях, например в предисловии к «Поэме о
макассарской войне», подчеркивается роль Предвечной Сущности
(Света) Мухаммада как Логоса:
Там (т. е. в Мухаммаде.— В. Б.) — начало проявлений Аллаха
И совершенное вместилище, в которое нисходит Его откровение.
167
Хотя прежде проявление Мухаммада было темным
(т. е. до некоторой онтологической фазы он не был проявлен.— В. £.),
Из его излучения возникла вся Вселенная [142, с. 69].
Мухаммад-Логос (Свет Мухаммада, Сущность Мухаммада)
есть Всеобъемлющее Божественное Знание о сотворенных вещах,
впервые проявленное вовне, как бы зеркало, отражающее скрытое
бытие этого Знания в трансцендентной божественной Сущности
(Хува). Благодаря Свету Мухаммада проявляется и освещается,
«становится видимым» потенциально присущее душе «знаемое»,
т. е. потенциальность вещей в ней. Он — первое, что было явлено,
первый результат действия божественной творческой активности,
и из него же сотворена вся Вселенная [61, с. 256—259].
В учении о семи ступенях Бытия концепция Мухаммада-Логоса
соответствует ступени вахда [93, с. 21]. В зависимости от
выполняемых функций Логос получает множество имен3.
Как Всеобъемлющее Знание Он есть «глава знающих и
ученых», как Связующий Дух — посредник между Творцом и
тварью — он оказывает заступничество, «позволяет сочинить
поэму», т. е. служит проводником милости, как Свет — озаряет
потенциальность вещей в душе поэта.
IV
Установив, что создание литературного произведения
становится возможным благодаря восприятию раскрывающейся в Логосе
божественной творческой энергии, обратимся к рассмотрению
того, из каких элементов складывается далее процесс поэтического
творчества. Хотя в ближневосточных 'произведениях этот процесс
многократно описан, среди малайских текстов нелегко отыскать
подобное целостное описание. Однако, учитывая сказанное выше
о строгой системности средневекового мусульманского
мировоззрения, можно обнаружить в малайских литературных,
суфийских и теолого-дидактических сочинениях ряд высказываний,
делающих возможной его реконструкцию. Приступая к ней,
необходимо еще раз напомнить о параллелизме процесса творения в
макрокосме и микрокосме, т. е. о параллелизме традиционной
мусульманской онтологии и психологии.
Достаточно полное описание обоих процессов дает следующий
•персидский суфийский текст:
«Когда Великий и Пресвятой Бог хочет создать что-либо в мире, Он сначала
приводит форму на Престол, с Престола приводит ее на Трон, а с Трона на
Хранимую Скрижаль устойчивых (т. е. устойчивых сущностей — айан сабита.— В. Б.)}
затем приводит ее под семь небес, затем она идет со светом звезд и приходит в
низший мир. Всеобщая Натура, которая является падишахом низшего мира,
встречает этого странника из сокровенного мира, который прибыл из присутствия
Всевышнего, и вручает ему четвероногого скакуна, соответствующего состоянию того
странника из сокрытого мира, чтобы тот странник из сокрытого мира сел верхом
на скакуна и явился в явном мире. И (когда он появляется в явном мире, та вещь,
которая была знанием Бога, становится его деянием... О дервиш, если ты
постигнешь смысл этого в макрокосме, то его же постигни в микрокосме. Итак, в ми-
168
крокосме разум является наместником Бога... Когда наместник Бога захочет
сделать какое-либо дело, форма этой вещи сначала приходит в человеческий дух,
который является престолом, от человеческого духа — в животный дух, который
является троном, а от животного — переходит в растительный дух, который
устойчив (т.е. является Хранимой Скрижалью устойчивых сущностей.— В. £.), a of
растительного духа переходит к семи внутренним чувствам, которые суть семь
небес, и, присоединяясь к силам внутренних чувств, выходит наружу. Если форма
выходит из руки, то рука встречает того странника, который пришел от
наместника Бога, и вручает ему четвероногого скакуна, чьи ноги — купорос, чернильный
орешек, камедь и сажа (составные части чернил.— В. Б.), соответствующего
состоянию того странника, из сокрытого мира, чтобы тот странник из сокрытого
мира сел на скакуна из четырех элементов и явился в явном мире. И как только
он появляется в мире свидетельства, та вещь, которая была знанием наместника
Бога, становится письмом наместника Бога» [183, с. 191—193].
Схема макрокосмического творения, аналогичная
вышеприведенной, встречается с незначительными вариациями во многих
малайских суфийских текстах, в частности в сочинениях Хамзы
Фансури. Малайзийский ученый Нагиб аль-Аттас выделяет в ней
следующие уровни [61, с. 71—72, 155—157; 282, с. 42—44].
Первый (тождественный Престолу). На этом уровне
творения существуют в божественном Знании синтетически — в виде
общих идей, единых и не отчлененных друг от друга (обычной
метафорой синтетического бытия являются чернила в чернильнице,
содержащие в нерасчлененной потенциальности все буквы
будущего текста).
Второй (тождественный Трону). На этом уровне из
нерасчлененной потенциальности общих идей как бы «выходят»,
«выдвигаются» идеи отдельных вещей, творения существуют
аналитически как потенциальные «внешние сущности» (айан хариджи),
готовые обрести актуальное, внешнее бытие.
Третий. На этом уровне Вышнее Перо запечатлевает формы
творений на Хранимой Скрижали и, повинуясь Творящему Слову:
«да будет!», идеи (духи) вещей нисходят из божественного
Звания в материальный мир — Творец и тварь разъединяются.
Четвертый. На этом уровне происходит материализация
идеальных форм в мире материи.
Итак, первые два уровня соответствуют внутреннему аспекту
создания вещи, возникающей сначала в нерасчлененном единстве
идей, а затем в виде единичной идеи данной вещи. Третий же и
четвертый уровни соответствуют собственно творческой
деятельности, воплощению замысла, возникновению данной вещи в
актуальном виде.
Несколько иначе на первый взгляд обстоит дело с малайскими
текстами, описывающими творение на микрокосмическом уровне.
Несмотря на множество мест в этих текстах, объясняющих
макро- и микрокосмическое соответствия, в них нелегко как буд.ф® бш
обнаружить точный аналог второй половине приведенного
персидского фрагмента. Дело в том, что на микрокосмическом уровне в
малайских текстах обычно описывается не собственно творение'
(создание вещи) как путь нисхождения (таназзул) от
абсолютного идеального бытия к бытию тварному, а напротив, путь кос-
169
хождения (таракки), осуществляемого суфием в обратной
последовательности. Этот путь в христианской аскетике удачно
охарактеризован С. С. Аверинцевым как особое «„художество" работы
над собой» \[172, с. 32]. При этом путь восхождения тождествен
пути нисхождения.
Примером подобного описания может служить следующее
наставление суфиям, восходящим к Абсолютному Единству:
Отправляйтесь из тварного мира (алам мулк)
В мир воображения, именуемый миром владычества
(алам малакут),
Оттуда возвращайтесь
В вечно сияющий мир духов [74, с. 87].
Проанализировав терминологию данного фрагмента, можно
убедиться в том, что по смыслу он совпадает с описаниями как
макрокосмического творения у Хамзы Фансури, так и микрокосми-
^ческого творения в персидском сочинении.
Мир воображения, как указано в самом малайском тексте, тождествен миру
владычества, а мир духов — миру всемогущества (алам джабарут) [74, с. 86]4.
В микрокосмическом плане мир всемогущества — это сфера умопостижимого
(ноуменального) и умопостигающего, уровень человеческой духовности (рухани),
человеческой разумной души или человеческого духа (рух инсан) [113, с. 137—
138]. При перечислении того, что в человеке относится к миру всемогущества,
прежде всего называются интеллект (разум — акал) и умопостигаемые знания
(илм) [93, с. 76.—7i6]5.
Мир владычества в микро|КОСмическом плане — это сфера чувственно
постижимого и чувственно постигающего, но взятого в идеальном, отвлеченном от
материи виде, уровень человеческой телесности (джусмани) так называемой
животной души или животного духа (рух хайавани) [113, с. 137—138; 93, с. 75—
76].
Итак, алам мулк — это мир твари, физических тел; алам малакут — мир
образов (пластически воплощенных единичных идей, аналогичных эйдосам
греческой философии) и животной души; алам джабарут — мир общих идей и
человеческой (разумной) души. Восхождение происходит от мира твари к миру
всемогущества, а нисхождение — от мира всемогущества к миру твари.
Мир твари в анализируемом фрагменте соответствует
четвертому уровню в схеме макрокосмического творения у Хамзы
Фансури, мир владычества — второму уровню (идеальное аналитическое
бытие), мир всемогущества — первому уровню (идеальное
синтетическое бытие), третий же уровень схемы Хамзы Фансури, как
уже отмечалось, есть собственно деятельность по превращению
сокровенного замысла (батин) в явное (захир), вещь.
Исследуемый малайский фрагмент обнаруживает смысловое
тождество также и с персидским описанием микрокосмического
творения:' Понятию разума — наместника Аллаха из персидского
описания соответствует постоянно упоминаемый в малайских
текстах в той же функции Святой Дух (рух аль-кудус),
человеческому духу (престол) — мир всемогущества из малайского
фрагмента, животному духу (трон) — мир владычества, наконец,
воплощению «странника из сокровенного мира» в мире явном — мир твари.
Основная для мусульманской теории творения триада (общая
170
идея->единичная идея-образ->вещь) отражена в ряде малайских
литературных текстов, особенно ясно в уже цитировавшемся
заключительном восхвалении из «Короны царей» (Г 133, с. 277], где
термин «грудь» (садр) обозначает человеческую душу,
постигающую общие идеи; «сердце» (калб) — животную душу, средоточие
единичных идей-образов; «язык» (лисан), символизирующий
словесную фиксацию идеи,— появление текста (вещи) в тварном
мире6.
То же самое имеется в виду, когда в малайской литературе
произведение называется «спряденным в уме и сотканным в
сердце» [516, с. 7]. В этом выражении общая идея, воспринимаемая
интеллектом, уподобляется нити, единичная же идея-образ вещи,
рождающаяся в животной душе (сердце),— ткани.
Тождественное описание творческого акта на
микрокосмическом (человеческом) уровне представлено и в большинстве
поэтических предисловий. Наиболее характерная для них триада:
интеллект (разум — акал или «духовное сердце» — хати нурани)->
душа {хати, калбу, ньява) 7->-рука ( т. е. акт фиксации) или само
произведение — результат фиксации (саджак, каранган, сурат
и т. д.).
Остановимся подробнее на первых двух членах триады.
Принятое в мусульманской традиции определение разума, или
разумной души8, дает Газали, который, соглашаясь в данном
случае с «философами», отмечает, что разум имеет два аспекта —
познающий, обращенный к духовному миру (миру ангелов), и
практический, обращенный к телесному миру, регулирующий
деятельность тела9. Описания обоих аспектов разума обнаруживаются во
многих малайских текстах10. Резюмируя их содержание, понятие
«разум» можно охарактеризовать следующим образом.
Разум — это интеллектуальный аспект человеческого духа,,
обладающий способностью к проникновению в невидимый, тайный
(гаиб) мир — мир умопостигаемых, ноуменальных сущностей или
общих идей. Разум совершенствуется (становится акал семпур-
на — совершенным разумом) по мере того, как воспринимает эти
общие идеи — непосредственно (от Логоса — Разума разумов) или-
опосредованно (в обучении) и, согласно одному из текстов,
достигает совершенства к сорока годам |[113, с. 388].
Благодаря способности постигать ноуменальное он является
«владыкой души», свечой, озаряющей ее, «светом духовной
упорядоченности», который ублаготворяет душу, высвечивая в ней
благое и дурное, уберегая от возмущений, вызываемых внешней
реальностью, внося в нее порядок и устойчивость. Свое влияние
на душу разум оказывает через «слуг», из которых особенно важ--
ны мысль ( = сила догадки) и память — силы души,
воспринимающие значения {ма'ани), т. е. идеи единичных вещей -Г201
с. 225—226]. L '
Другим органом интеллектуального постижения является
«духовное сердце», противопоставляемое темному сердцу (хати янг
келам), несведущему сердцу (калбу так перикса), сердцу, охва-
171
чинному волнением (хати янг гелорат), и т. д.— синонимам
хаотического психизма, свойственного в обычном состоянии животной
душе, не озаренной духовным светом. Духовное сердце обладает
способностью постигать сверхреальный мир и регулировать
деятельность души ][93, с. 68]. Оноч представляет собой световую
форму души (Г93, с. 68] (т. е. душа — это материя, формой
которой является духовное сердце) и в силу своей светоносности — по
закону восприятия подобного подобным — воспринимает Свет,
нисходящий из ноуменальной сферы.
Существенным отличием духовного сердца от разума является
характер восприятия им умопостигаемого. Человеческий разум в
суфийской традиции, влияние которой ощутимо в предисловиях,
описывается как постигающий на основе логического
размышления и книжного обучения и потому ограниченный и не дающий
абсолютно достоверного знания11. Духовное сердце же способно
к прямому созерцанию ноуменальной сферы в пластических
образах, к восприятию вдохновения, и потому знание, даваемое им,
„абсолютно достоверно [284, с. 19—20; 320, т. II, с. 869].
В принципе для описания творческого акта не столь
существенно, разум или духовное сердце упоминается в качестве органа
интеллектуальной деятельности, хотя, как мы увидим, в
зависимости от этого могут быть выделены два пути создания
литературного произведения 12. Важнее то, что интеллектуальное
проникновение в сверхреальную сферу и интеллектуальная регуляция
деятельности души (воображения) в любом случае составляют его
непременный компонент.
Как правило, в малайских поэтических предисловиях в роли
начала, постигающего сверхреальную сферу, выступает духовное
сердце, а разум чаще упоминается в них при описании активной,
фиксирующей фазы, творчества, а не его рецептивной фазы. Таким
образом, разум выступает в своей регулирующей функции при
словесном -воплощении идеального образа, воспринятого духовным
сердцем, т. е. в аспекте практического разума, «движущего тело
к целенаправленным человеческим искусствам» }[201, с. 528]. Это
зидно, например, из таких строк:
Я подношу (султану.— В. Б.) это сочинение,
Моля о прощении и милости;
В его композиции нет порядка, в нем много несообразностей,
Поскольку мой разум несовершенен [142, с. 76].
В подобных случаях термин «разум» (акал) довольно
регулярно заменяется термином «понимание Гкак сделать то-то]» (фа-
хам) —одним из «слуг» разума [133, с. 174]. Например:
В стихах поэмы нет порядка, в ней много несообразностей,
Поскольку мое понимание (фахам) несовершенно [124, с. 30].
Теперь обратимся к концепции души13. Душа и (хати, нафсу,
ньява) — это сфера соединения умопостигаемого (ноуменального)
и чувственно постигаемого (феноменального).
172
В мусульманской традиции выделяются две группы
воспринимающих функций (сил), присущих душе. Они называются
обычно внешними (захир) и внутренними (батин) чувствами и могут
рассматриваться соответственно как сенсорная и психическая
структуры души \f284, с. 19] 15. Поскольку наибольший интерес
для нас представляют внутренние чувства, в которых возникает
образ, остановимся на них подробнее.
При всем весьма значительном терминологическом разнобое
в описании психической структуры души инвариантной остается
ее трехчленная схема. Одна из сил воспринимает чувственно
постигаемое — формы вещей, получая данные о них от внешних
чувств (эту функцию выполняет общее чувство). Вторая сила
воспринимает умопостижимое — идеи единичных вещей (это функция
силы догадки, или мыслительной силы). Наконец, третья сила
осуществляет сочетание и регулирует равновесие формы и идеи 16
в образе (эйдосе), представляющем собой видимый внутренним
взором пластический облик идеи. В суфийской традиции, где, как
уже отмечалось, акцент делается на прямом созерцании в образах
ноуменальной сферы, осуществляемом просветленной душой, сила,
которая сочетает идеи, доставляемые актом интеллекции, и фор-
:мы,— это и есть духовное сердце, именуемое также Активным
Воображением или Активным Интеллектом [284, с. 19—20] 17.
^Каждой воспринимающей силе соответствует своя сохраняющая
сила: формы сохраняются в силе воображения, идеи — в силе
памяти. Данная структура души отражена в перечнях ее сил,
возглавляемых органом духовной интеллекции (сирр)у- содержащихся
в малайских суфийских сочинениях t[ 113, с. 146; 526, с. 141—142] 18.
Хорошее описание процессов, происходящих в душе, дано в
одном из фрагментов поэмы Абд аль-Джамала — малайского
суфийского поэта круга Хамзы Фансури i[74, с. 85—86] 19:
Мир владычества пребывает там,
Постоянно расспрашивай о его сути,
Он именуется также миром воображения,
Там то место, за которым надзирают обладатели разума.
Мир соединения [соединений] — это мир владычества,
Здесь избавляются от тварного и человеческого,
Это место, где «играют глазами» (т. е. кокетничают.— В. Б.)
С большеглазыми небесными девами.
Этот мир соединения соединений необычно прекрасен,
В нем не иссякают образы,
Этого места постоянно опасайся!
Из осторожности постоянно закрывайся щитом всемогущества.
Жак удивительны те, кто отправились в путь.
Искать пристанища в наветренных странах (т. е. на Западе,
в мире материи.— В. Б.).
Там они забылись в животном вожделении,
Как же познают они Возвышенный Лик?
Резюмируя содержание этого фрагмента, можно отметить
следующее. В душе —«мире воображения» в ее обычном (не
просветленном) состоянии непрерывно протекает поток «мерцающих»
173
(кокетничающих) прекрасных образов внешней реальности,
доставляемых чувствами. Этот изменчивый поток требует
неустанного контроля со стороны интеллекта («постоянно закрывайся
щитом всемогущества», т. е. интеллектуального, умопостижимого).
При отсутствии такого контроля и регуляции человек,
очарованный красотой изменчивых образов, может утратить понимание
того, что эти образы суть лишь знаки высшей ноуменальной
сферы, придать им самодовлеющее значение и впасть в забытье —
как бы остаться лишь при животной душе, способной только к
чувственному познанию («там они забылись в животном
вожделении») .
Именно это взволнованное состояние непросветленной души„
мешающее не только сосредоточению мысли, которое является
предпосылкой процесса интеллекции, но и правильной фиксации
увиденного внутренним взором образа, постоянно подчеркивается.
в предисловиях:
Если в поэме что не так, исправьте при чтении,
Ведь сердце мое не было просветленным [142, с. 218].
Эта поэма окончена, о господа,
Волнение в моей душе все растет,
Мысли пребывают в беспокойстве,
От этого в сочинении нет порядка.
Глаза туманятся, в голове тяжесть,
Словно бы качают меня западные волны.
Поскольку в сердце нет сосредоточенности (устойчивости),
В нем не одна, а множество мыслей [20, с. 330].
Для проникновения в умопостигаемый мир интеллекции
необходимо «отправиться» из мира воображения, т. е. как бы
отключить чувства, остановить отвлекающий поток внешних
впечатлений. Это не только создает возможность постижения ноуменальной
сферы, но и просветляет воображение, делает его проницаемым
для лучей интеллекта. Газали пишет об этом в своем
комментарии к «Световому айату»:
«Стекло символизирует второй аспект — воображение, которое, как и стекло,,
есть часть материального мира... Как и стекло при его изготовлении, оно
первоначально непроницаемо для лучей интеллекта... Когда же воображение прояснено-
и утончено, оно обретает сходство с Активным Интеллектом или духовным серд-
. цем и становится прозрачным для его света» [284, с. 20].
V
Исследовав логическую очередность этапов создания вещи ш
особо остановившись на вопросе о том, какими органами
интеллекции и формирования образов наделен человек в
мусульманской, и в частности малайской, традиции, обратимся к анализу
творческого акта как динамического целого, рассматривая его
теперь в аспекте «восхождения» — процесса, протекающего в
сознании поэта.
Малайская традиция позволяет говорить о двух путях, которы-
174
ми следовали поэты при осуществлении рецептивной фазы
творческого акта.
Первый путь, реже упоминающийся в предисловиях, связан
с усвоением общих идей опосредованно, в результате обучения.
Это путь людей знания, эрудитов, «ученых» (пандита).
Важнейшую роль в его реализации играет способность к накоплению
знаний в памяти — меморизация — и к воспроизведению усвоенно-
то в необходимый момент.
Описание его мы находим, например, в дидактической «Поэме
ю рыбах»:
Это — поэма о всех рыбах, живущих в море,
В реках, болотах и на заливных полях, что на западе;
Всех их подробно описал дервиш,
Ибо был знатоком создатель поэмы.
Поскольку в радости и спокойствии пребывала душа,
Я смог изложить то, что припомнил,
Припомнил же в душе я всех рыб,
И первым селара — почтенную рыбу [152, с. 1].
Частный случай описания того же пути представляет собой
указание автора на то, что, создавая поэму, он имел перед
глазами некий ее образец (канву, общий замысел), созданный кем-то
другим:
О Боже, Господь мой и Владыка,
У немощного дервиша есть образец (данного сочинения.— В. Б.) 20,
Написанный сведущим человеком [22, с. 64].
Психологический механизм творчества поэта-эрудита вполне
!ясен: общие идеи (или план произведения), воспринятые извне,
-в частности от наставника, существуют в его памяти и, переходя
-оттуда в воображение, также определенным образом
тренированное, «обученное», фиксируются затем в тексте. Таким образом,
рецептивная фаза создания поэмы в данном случае тождественна
^обучению. Характер последнего подробно объяснен в знаменитой
«Пролегомене» арабского философа и историка Ибн Халдуна,
согласно которому поэт-эрудит абстрагирует из стихотворений
предшественников общие модели для выражения тех или иных
поэтических смыслов, запечатлевает эти модели в воображении и потом
на их основе создает свои произведения. Это, таким образом, путь
«рационального» получения общих идей «снизу», за счет их
абстрагирования от словесной материи, а не «интеллектуального»
вдохновения свыше — восприятия идей из ноуменальной сферы,
иерархически более высокой, чем душа.
Другой путь, более характерный для малайской традиции,
связан с непосредственным восприятием интеллектом поэта
творческой энергии Аллаха, раскрывающейся ов Логосе. Характерными
.приметами этого пути являются молодость поэта — синоним его
неэрудированности, несовершенства его разума («написавший поэ-
:му не эрудит» |[124, с. 77]) —и восхваление милости Всевышнего,
.дарующего вдохновение неопытному юноше, всецело зависящему
175
от Его произволения («Произволение властвует над теми, кто не
сведущ в ученых книгах и Коране» [20, с. 357]).
В качестве примеров описания этого пути приведем следующие
четыре фрагмента предисловий:
1. Я в изумлений размышлял (медитировал.— В. Б.) о славе
Аллаха»
О величии Господа, Всемилостивого Владыки,
День и ночь пребывал в озабоченности,
Желая написать о рыбе тамбра.
Как-то я молился, стоя на циновке,
Внезапно опамятовался посреди ночи,
Увидав внутренним взором рыбу в глубокой воде,
Видом своим подобную изумруду [143, с. 277}.
2. «Слава Аллаху» — мое неустанное восхваление
Аллаха — Господа Могущественного,
Прибегаю к благословению Пророка, владыки пророков,
Дабы мне было позволено написать поэму.
Внезапно проснулся юноша (т. е. автор.— В. Б.) этой ночью,
Увидав нисхождение духовного света...
Прежде всего
Он описал страну и ее раджу (представших его
внутреннему взору.— В. Б.).
Большое усердие властвовало пером,
С увлечением предавшимся своей работе [22, с. 70—71].
3. Дервиш не станет чрезмерно длить речь,
Ведь его просветленная душа становится темной
Из-за того, что пребывает в озабоченности днем и ночью.
Однажды ночью я задумался,
Стал вспоминать об удаче, судьбе и предопределении,
Взял чернила, маленький калам
И написал сочинение в стихах, нечто вроде поэмы [10, с. 1].
4. Итак, это — сочинение в стихах,
Дервиш не станет чрезмерно длить речь,
Ведь его просветленная душа становится темной
Из-за того, что пребывает в озабоченности и днем и ночью...
Однажды ночью дервиш задумался,
Стал вспоминать об удаче, судьбе и предопределении,
О друзьях, не желающих близости с ним,
И написал о том, что проявилось (захир) в его душе.
Из-за того что душа его пребывала в печали,
Он написал поэму о птице,
Одолеваемой любовной болезнью,
В безумной тоске мечущейся по улицам [124, с. 31].
Суммируя данные четырех приведенных фрагментов (далее-
первая цифра в скобках — номер фрагмента, цифры после
запятой— номера строк в нем), можно выделить в них следующие
основные моменты, характеризующие анализируемый процесс.
Сильный волевой импульс к созданию поэмы и
связанное с ним непрерывное беспокойство о том, будет ли поэту
даровано осуществить свое предприятие (например, 1, 3—421).
Медитативное сосредоточение поэта (тепекур) на
мысли о божественном Величии и Могуществе (т. е. Его власти-
творить), осуществляемое благодаря напряжению мыслительной
силы (фикир) и силы памяти (ингат), с целью проникновения в.
176
мир духовных сущностей. Непрерывное молитвенное состояние
души поэта (1, 1—2; 2, 1—4; 4, 5—6).
Полное отключение сознания от внешней реальности
в молитвенно-медитативном акте (своего рода аналоге суфийского
«воспоминания» — зикра), интенсивности которого способствуют
ночь и одиночество (1, 6; 2, 5; 3, 4; 4, 5, 7). Погружение в сон
(2, 5) или молитвенную отреченность, подобную ^сну (1, 5—6).
Восприятие духовного света (чахайя нурани) (2,6)
или указание на просветленность души поэта (в отличие от ее
обычного «темного» состояния), т. е., по существу, на то же
самое (3; 2; 4, 3).
Проявление (захир) образов в душе, озаренной духовным,
светом (1, 7—8; 2, 8; 4, 8—12), и фиксация этих образов,
рождающая желанное для поэта произведение.
Эта модель творческого акта, описанная с различной степенью
полноты и акцентировкой то медитативных усилий поэта, то
восприятия им духовного света во многих предисловиях,
представляет собой не что иное, как обычную для мусульманской традиции:
концепцию постижения сверхреальной сферы, в частности ее
низшего уровня — мира воображения. Последний может быть
определен как «мир автономных форм и образов... не связанных
постоянно с материальным субстратом... сохраняющий все богатство и;
разнообразие чувственно воспринимаемого, но в духовном
состоянии» Г284, с. 116].
Краткое описание постижения этой сферы (алам мисал —
мира эйдосов) дано в яванской версии сочинения «Тухфа аль-мур~
сала ила рух ан-наби», созданной в первой трети XVII в.:
Ступень идеальных образов —
Это род сущностей,
Обладающих сложным бытием.
Оно утончено и не подвержено
Сжатию и растяжению,
Оно не «имеет частей
И не видимо глазом,
Но видимо духовным сердцем
В форме видения.
При сильном мыслительном напряжении
И надлежащем водительстве
Идеальные образы становятся видимыми J94, с. 64—6?*].
Сходство приведенного фрагмента и рассматриваемых
предисловий станет еще более очевидным, если учесть, что понятие
«надлежащее водительство» тождественно в малайских текстах
понятию «духовный (отверзающий) свет (нур кашиф)» ([93, с. 87—88].
В четырех анализируемых отрывках из предисловий
постоянно упоминаются ночь и сон (пробуждение ото сна). Упоминания
эти далеко не случайны. Психология сна со сновидениями (одна,
из основных функций души) выступает в качестве идеальной
модели психологии творческого процесса в его рецептивной фазе..
Как таковая, она и осознается творцами исследуемых текстов,,
12 Зак. 147
177
хорошим комментарием к которым является раздел о сновидениях
из «Пролегомены» Ибн Халдуна Г88, т. II, с. 209—211] 22.
Однако восприятие духовного мира во сне происходит при
весьма слабом участии воли спящего, путем естественного
отвлечения его чувств от внешней реальности. Поэтому более близкой
моделью, иерархически определяющей творческий акт и
акцентирующей именно волютивный момент, является суфийское
«воспоминание» — зикр. Эта практика основана на постоянном
«воспоминании» имени Аллаха или 'первой половины формулы шаха-
ды («Нет бога, кроме Аллаха») и полном сосредоточении мысли
на ее значении, благодаря чему активизируются функции
мыслительной силы и силы памяти, отключаются внешние чувства, и
все существо суфия обращается как бы в единое чувствилище,
способное лицезреть Аллаха (восприятие образа) :
«И пусть тот, кто осуществляет этот зикр (т. е. зикр, основанный на
повторении формулы „Нет бога, кроме Аллаха".— В. Б.)у возведет мысленный образ
слов „Нет Бога" от пупа вверх и ударит себя по груди мысленным образом слов
„кроме Аллаха", с тем чтобы воздействие этого зикра присоединилось ко всем
членам, укрепилось в нем, увековечилось в нем и чтобы, если это угодно
Всевышнему, он увидел Его Бытие.
Указание к этому зикру: если хочешь осуществить зикр, произнося языком
^формулу „Нет Бога, кроме Аллаха", помни в душе значения слов „отрицание"
(нафи) и „утверждение" (исбат), которые даются им людьми божьими (т.е.
суфиями.— В. Б.). Значение „отрицания" в том, что ты отрицаешь свое
индивидуальное бытие, которое иллюзорно, и свою ступень определенности, которая также
иллюзорна и метафорична; при этом ты создаешь в душе изображение (тасвир):
„Я не обладаю бытием". А значение „утверждения" в том, что ты утверждаешь
в душе Абсолютное Бытие Аллаха и создаешь в ней изображение слов „кроме
Аллаха"» [93, с. 97].
Психологическая близость рецептивной фазы творческого
процесса и зикра очевидна. В обоих случаях сильный волевой импульс
(желание создать поэму, желание лицезреть истинное Бытие
Аллаха) неустанно побуждает память и мыслительную силу к
активности и сосредоточенности. Это ведет к вхождению в глубокую
медитацию, отключению чувств, воспринимающих внешнюю
реальность, возникновению в просветленной таким образом душе
способности воспринимать реальности духовного порядка. Наконец,
на третьем этапе благодаря божественной Милости («если это
угодно Всевышнему») душе даруется прямое лицезрение
(образов создаваемой поэмы, истинного Бытия Аллаха). Таким образом,
акт поэтического творчества может быть назван особым
сниженным зикром. Особым и сниженным потому, что целью
собственно зикра, во-первых, является полная трансформация личности, а
отнюдь не создание еще одной вещи в «мире свидетельства»
(правда, вещи, способной частично трансформировать личность
читателя, а также и поэта), а во-вторых, благодаря практике
.зикра суфий осуществляет лицезрение гораздо более высокого
уровня духовного мира.
В заключение раздела приведем фрагмент из «Повести об Ин-
драпутре», являющийся как бы резюме изложенной выше
концепции рецептивной фазы творчества.
178
Влюбившись в Индрапутру по описанию золотого павлина,
царевна Талела Маду Ратна призывает художника и просит era
нарисовать портрет царевича.
«Почтительно склонившись, ответствовал мастер: „О госпожа, как же я на-
рисую Индрапутру, ежели ни разу в жизни его не видел?" Тогда к художнику
приблизился золотой павлин и коснулся крылом его груди, так что, подобно
молнии, вспыхнул в груди художника образ Индрапутры. И художник сумел
разглядеть образ Индрапутры и запечатлеть его, ничего не упустив» [57, с. 145].
Итак, «а душу (грудь в данном случае синоним души)
художника, никогда не видевшего Индрапутру, оказывается некое
таинственное воздействие, благодаря которому он в воображении:
(душе) видит отчетливый образ и, будучи искусным мастером,
может воплотить его в материале, придать ему актуальное бытие.
Таинственное же воздействие, как можно полагать, объясняется,
не только сказочными мотивами, но и тем, что в мусульманской
(суфийской) традиции павлин — символ Божественного Духа,
совершающего движение от единичности к множественности,
создавая бесконечное число проявлений Божественной Красоты ,[284^
с. 74], а касание крылом или осенение им символизирует передачу
откровения. Таким образом, перед нами вновь описанный выше
процесс: восприятие вдохновения->трансформация его в
воображении в идеальный образ->фиксация образа в материале. К
исследованию последнего члена этой триады мы теперь и обратимся..
2. (СОЗДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(АГЕНТИВНАЯ ФАЗА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА)
I
Итак, если душа (средоточие воображения) создателя
литературного произведения пребывает в просветленном состоянии:
либо должным образом «обучена» и контролируется разумом,,
идеи-образы (эйдосы) создаваемого произведения протекают в ней
правильно упорядоченным образом и могут быть фиксированы,,
а точнее, воплощены в материальном субстрате — звучащем (ила
графическом) слове.
Переход произведения с эйдетического уровня на уровень
вещный, т. е. превращение его из гармонической упорядоченности,
взаимосвязанных идеальных образов в материальный текст,
обладающий актуальным бытием, согласно мусульманской
литературной теории, также должен осуществляться правильным
образом.
Важнейшими аспектами этого перехода являются соответствие"
слова идее-образу, композиционная упорядоченность словесного
материала и передача идеи-образа наиболее действенным
способом. Правильность данной процедуры исследуется и регулируется
«наукой о красноречии» (илм аль-балага), соединяющей поэтику
12*
179
ш риторику и окончательно сформировавшейся в трудах
арабского ученого XI в. Абд аль-Кахира аль-Джурджани «Далаил аль-
и'джаз» («Свидетельства неподражаемости ([Корана]») [56] и
«Асрар аль-балага» («Тайны красноречия») ;[128], а также
комментаторов и систематизаторов его идей (Фахраддина ар-Рази,
Саккаки, Казвини). На основе их сочинений были созданы
многочисленные учебники и компендиумы, часть которых, судя по
собраниям арабских рукописей, происходящих из стран малайского
мира, была известна в этом регионе |21, с. 477—486]23.
Знание арабо-мусульманской теории «красноречия»,
по-видимому, проникало в малайскую литературу и через людей,
обучавшихся в различных городах Ближнего Востока, в частности в
Мекке24. Посетивший Мекку в начале XIX в. малайский поэт
Шейх Дауд призывает соотечественников изучать там различные
науки, в числе которых он называет все риторические
дисциплины:
Слушайте, о братья,
Не пренебрегайте наукой о значениях (илму ма'ани).
Ваше чтение произведений вслух станет сладостным,
понимание — блестящим,
Знание — острым, словно шип.
Наука ю риторических фигурах (бади') и метрика (аруд)
Вместе с наукой изъяснения (байан) образуют триаду.
Взыскуй их вместе с друзьями,
Благодаря этим наукам будут ясны поэзия и стихи,
И вы станете искусны в правильном измерении стихов
метром [10].
Для того чтобы понять характер традиционной малайской
литературной теории, нам следовало бы сейчас обратиться к
сравнению ее принципов с основами «науки красноречия», однако,
жак уже отмечалось, среди памятников малайской письменности
не встречается систематизированных поэтологических трактатов, и,
таким образом, предпосылкой подобного сравнения должна
явиться реконструкция малайского учения о правильно
построенном словесном произведении.
II
Наиболее полно понимание правильного выражения смысла
m литературном произведении изложено в предисловии и
заключении «Короны царей» — ключевых текстах, позволяющих
интерпретировать предисловия ко многим классическим сочинениям.
В «Короне царей» сразу же после доксологического
вступления говорится:
«1. Эта преславная книга (штаб) составлена (дикарангкан) в прекраснейших
выражениях (ибарат янг ихсан [98а, с. 5]) и с совершенным усердием, дабы
изъяснить (меньятакан25), каким нравом должны обладать государи... с тем чтобы
люди, читая ее, получали пользу, а следуя ее словам, обретали сан» [133, с. 5].
«2. Тот венценосец, который эту книгу при себе имеет, постоянно читает»
180
внимает ее словам (ката) и следует ее смыслу (ма'на), есть государь
совершенный...» [133, с. 5].
«3. Воистину счастлив тот, кто украшен этой короной (т. е. книгой „Корона
царей".— В. Б.), благодаря всему, что в ней содержится кеадааннья) и что в ней
проявлено (кеньятааннья), благодаря ее словам (ката) и смыслу (арти ката)»
£133, с. 6].
4. Слово мое — явленная драгоценность (джаухар янг ньята).
Драгоценностью назовешь его, услыхав его звучание (буньи)у
Драгоценностью назовешь его, узрев его значение
(иси; букв.: содержание.—В. Б.)...
Бухари явил себя ювелиром
Благодаря украшениям, которыми он убрал корону {133, с. 6].
В этих фрагментах даны все основные термины, позволяющие
реконструировать малайское мусульманское учение о том, что
представляет собой литературное произведение и как
осуществляется агентивная фаза его создания — превращение
воспринятого на рецептивной фазе в саму вещь. При этом следует
отметить, что процесс описан не в порядке нисхождения от исходной
точки (воспринятая идея-образ) к точке завершающей (вещь), а,
напротив, в порядке восхождения от уже наличествующей вещи
к тому, из чего она возникла (образ). Завершает же описание
указание на ноуменальную сферу (гаиб), откуда идеи-образы
нисходят в душу (халват хати) автора [133, с. 7].
Прежде всего вводится термин «книга» — вещь, которая
создана путем упорядоченного расположения (дикарангкан)
прекраснейших выражений. Эта вещь создана ради того, чтобы сделать
явным (меньятакан) то, что иначе явным не было бы,— некую
духовную сущность, нрав, которым должны обладать государи.
Эта сущность не получает в данном фрагменте
терминологического обозначения и передается пока описательно — как изложение
содержания книги.
Третий фрагмент существенно уточняет первый, поскольку
вводит две соотнесенные между собой ключевые оппозиции: сущее,
обладающее актуальным бытием (кеадаан) <-* проявляемое,
переводящее из скрытого состояния в явное (кеньятаан), и слово <->
значение, смысл. Последняя оппозиция представлена и во втором
фрагменте: слово (ката)<->смысл (мани). Смысл — это и есть
термин для той духовной сущности, которая в первом фрагменте
была выражена описательно. Слова — то, из чего составлена кни-
та, обладают, таким образом, актуальным бытием, а смысл —
бытием потенциальным, скрытым, нуждающимся в проявлении и
.актуализации через слово.
Наконец, последний фрагмент показывает, что термин «слово»
ъ зависимости от контекста и добавочных спецификаций может
совмещать в себе оба аспекта: внешний (вещный)—собственно
звучащее слово и внутренний (духовный) — его значение. В этом
случае для обозначения первого аспекта, обладающего
актуальным бытием, вводится термин «звучание» (буньи)у а для второго,
обладающего потенциальным бытием, «содержание» {иси),
тождественный значению.
181
Концепция литературного произведения как вещи, в которой
могут быть выделены внешний и внутренний аспекты, выражена
не только в «Короне царей», но так или иначе во всех
предисловиях к поэтическим и прозаическим произведениям. Эта
концепция характерна для малайской классической литературы в целом.
Часто в предисловиях оппозиции «звучание*-» содержание, смысл»
соответствует оппозиция «голос, звучание (внешний аспект
слова) ^история, сюжет (внутренний аспект)», например:
«Иные же — те, кто сами читают вслух,— внимая своему голосу (суара) и
вникая в историю (черта), содержащуюся в повести (хикаят), составленной с
несказанной красотой, порой также испытывают в душе страсть... [5, с. 2].
И, воспроизведя в чтении звучание (буньи) поэмы,
Ты воспримешь содержащуюся в ней историю (черта)» [20, с. 329].
«Это повесть (хикаят), содержащая историю (черта)
о Шамс аль-Бахрейне, слова которой прекрасны» [83, с. 1].
Сравнительно полный набор терминов, встречающихся в
предисловиях и указывающих на противопоставление внешнего и
внутреннего аспектов произведения, таков: слово (/сага),
звучание (буньи), голос (суара), выражение (ибарат), язык (бахаса),
речь (калам), слово (лафаз) -<->смысл слова (арти ката),
содержание (иси), история (черита), значение (ма'на). Необходимо
отметить также, что во всех контекстах, содержащих
противопоставление история (черита)*-» повесть (хикаят), поэма (шаир, пазам),
смысл последних терминов аналогичен объясненному выше
значению термина «книга» (китаб) в «Короне царей». Эти термины
обозначают актуально существующую вещь, призванную сделать
явным нечто скрытое (историю).
В приведенных фрагментах из «Короны царей» прямо не
говорится о том, как соотносятся внешний и внутренний аспекты
словесного произведения, однако уподобление того и другого
драгоценности косвенно указывает на некое их соответствие друг
другу. Непосредственно идея соответствия слова смыслу выражена в-
предисловии к одному из собраний нравоучительных историй:
«Человек, наделенный разумом, с разбором подходит к словам (перкатаан)
повести, и, когда хорош их смысл (макна), когда соответствуют (патут) ему
выражения (ибарат), когда изящны назидания, он принимает их в свою душу и
сберегает в ней» |[5, с. 2].
Оставив пока в стороне указание на дидактическую функцию
произведения, можно отметить, что термин «слово» предстает в
нем, как и в-«Короне царей», в единстве двух аспектов: смысл —
выражение, однако наряду с этими терминами вводится новый —
патут — «соответствие», «гармония», «правильное соотношение
выражения и выражаемого»26. Только то словесное произведение, в
котором имеется такое соответствие, рассматривается как
приемлемое для разума.
Далее в предисловии эта мысль повторяется и добавочно
проясняется.
182
«Если в повести имеются слова, которые наносят вред вере обладателя
разума или его душе или не соответствуют (тидак берпатутан) разуму и не имеют
■соответствующего (патут) звучания, он их отвергает и, взвесив в душе, не
запечатлевает в памяти» [5, с. 2}.
!3десь (это подчеркнуто повторяющимся союзом «или»)
приведен перечень пороков словесного произведения: религиозных,
нравственных и собственно литературных. Последние как раз и состоят
в разрушении взаимного соответствия (патут) внутреннего аспекта
слова — значения, поверяемого разумом, и его внешнего
аспекта — звучания. Иными словами, дефектным может быть либо
смысл, либо не соответствующее смыслу выражение.
Термин патут, призванный передать идею правильного
соответствия внешнего и внутреннего аспектов произведения, во
многих предисловиях оказывается близким термину ньята —
«проявлять», «делать явным скрытое», «выражать», акцентируя
внимание, однако, не столько на процессе выражения самом по себе,
сколько на его правильности, правильном соответствии
выражающего выражаемому.
Так, если в «Короне царей» говорилось:
«Эта преславная книга составлена... дабы изъяснить (ньята), каким нравом
.должны обладать государи (описательное указание на внутренний аспект —
содержание.—Б. £.)» [133, с. 5],
то в «Повести об Исме-сироте» сообщается, что это
«...прекрасно составленная повесть... в которой то, что касается любви (как
л в предыдущей цитате, описательное указание на содержание.— В. Б.),
правильно выражено (патут) знающими и вежественными» [134, с. 2].
Синонимом патут в поэтических предисловиях выступает
термин кена. Особенно ясно их тождество в следующем
четверостишии из «Поэмы о Хитроумной Царевне»:
Та царевна была наделена вежеством,
Ее ум и разум отличались совершенством,
Прекрасно сведущая в слове (лафаз) и значении (макна),
Что бы она ни произнесла — все было подобающим (кена)
(т. е. во всем проявлялось соответствие слова и
смысла.—-Б. Б.) 1141, с. 43].
Противоположное же понятие выражается терминами та'
кена — «несоответствующий» и салах, галат — «ошибочный», «не-
лравильный», например:
Строй поэмы не упорядочен (джанггал), многое в ней
не соответствует должному (та'кена) [22, с. 76].
Ее стихи не упорядочены, многое в ней выражено неправильно
(салах) 1124, с. 76].
Установив смысл термина патут, можно точнее определить и
значение других терминов, выражающих идею правильности по-
18:'»
строения литературного произведения. Прежде всего характер
использования термина патут довольно ясно указывает на его
противопоставление термину каранг — «составлять». Термин каранг
указывает на упорядочение словесных единиц, рассматриваемых
либо в одном из аспектов — внешнем (звучание) или внутреннем
(значение), либо в единстве обоих аспектов, и в этом случае
имеет наиболее широкое значение — «создавать во всех отношениях
правильно построенное произведение», например:
прекрасно упорядоченный (дикаранг) малайский язык
[129, с. 21]
(язык — внешнее, то, при помощи чего осуществляется
выражение) ;
прекрасно составленная (дикаранг) история |[20, с. 35]
(история — внутреннее, то что должно быть выражено) ;
прекрасно составленная (дикаранг) «Повесть об Исме-сироте»
[134, с. 21]
(повесть — вещь, единство, в котором указание
на дифференциацию выражения и выражаемого
отсутствует).
Таким образом, в отличие от патут термин каранг относится
к упорядочению множества единиц, рассматриваемых как
однородные, а не к установлению взаимного соответствия между
двумя рядами единиц, различных по своему характеру.
Если прибегнуть к современной лингвистической терминологии,,
то термины каранг и каранган (последний — существительное от
того же корня) следует переводить соответственно как
«структурировать» и «структура», причем в одних случаях это структура
произведения в целом, а в других — структура его «плана
выражения» либо «плана содержания».
Наряду с термином каранг в предисловиях часто используется,
синонимичный ему термин атур — «упорядочивать», «располагать
в правильном порядке»:
Ее строй (атурнья) не упорядочен, многое в ней не соответствует должному-
[142, с. 77].
Ее строй (каранган) не упорядочен, стихи не соответствуют должному [124,.
с. 77].
Однако, в контекстах, где встречаются как каранг, так и атур,
с помощью последнего термина подчеркивается скорее
упорядоченность внешнего аспекта слова (звучания), а благодаря
первому— идея создания произведения как упорядоченного целого,,
например:
Составил (дикаранг) строфы, стихи которых
не соответствуют должному,
Несовершенно упорядочил (атур) речь [20, с. 329].
В пользу предложенного толкования термина атур говорит и.
то, что ни в одном из исследованных предисловий он не
встретился нам в сочетании с терминами, относящимися к внутреннему
аспекту произведения («плану содержания»), типа история и т. п„.
184
Антонимом понятий карана и атур является термин джанггал—
«беспорядочный», «хаотичный», например:
Строй поэмы не упорядочен (джанггал), многое в ней
не соответствует должному [142, с. 76}.
Итак, анализ терминов, определяющих понятие организации
литературного произведения, показывает, что наиболее широк
круг значений термина каранг, указывающего на правильную
упорядоченность произведения вообще, а также — в более частном
смысле — на правильную упорядоченность любого его аспекта.
Близок к нему термин атур, более тесно связанный, однако, с
указанием на упорядоченность внешнего аспекта текста (звучания,
речи). Наконец, термины патут и кена указывают на правильную
соотнесенность в произведении внешнего и внутреннего аспектов,
правильное выражение внутреннего через внешнее27.
Предисловия позволяют не только установить значения
основных малайских поэтологических терминов, но и соотнести их с
концептами психологического уровня. Основания для такого
соотнесения имеются уже в рассматривавшемся фрагменте 4 из
«Короны царей», а также в приводимых ниже фрагментах 5 и 6 из
этого же памятника:
«5. И по этим двум причинам люди должны возвеличивать эту книгу,
влагая ее слова (ката), подобные жемчужинам, в уши (телинга) разума и сохраняя
ее смысл (ма'на), подобный самоцвету, в кольце души (хати), из-за украшений
внешних (захир) и внутренних (батин), имеющихся в ней» [133, с. 226}.
6. ...Бухари, обладающему этой короной,
Что приносит радость государю,
Становящемуся повелителем царства смысла
И проявляющему себя, как государь доброго нрава.
Если корона на голове его,
А смысл в душе его,
Становится явным содержание его сокровищницы,
Более прекрасное, чем любая драгоценность.
Что же сейчас ты скажешь,
Видя достояние его — полноту смысла? [133, с. 227].
Судя по фрагментам 4—5, материальное -слово (звучание) есть
концепт уровня сенсорной структуры души, воспринимающей вещи
(по традиционной терминологии — внешние чувства, символом
которых здесь является слух), а значение слова—психической
структуры, воспринимающей идеи-образы вещей (по
традиционной терминологии — внутренние чувства, символом которых
выступает зрение). Подтверждает это. и взаимное соотнесение
следующих оппозиций: «слово^-» смысл», «уши (внешние чувства) «-»
душа (внутренние чувства)», «внешние украшения<-* внутренние
украшения». Наконец, во фрагменте 6 значение прямо называется
сокровищем, пребывающем в душе, и вновь подчеркивается
восприятие его внутренним зрением28.
Термин патут (кена), рассматриваемый с психологической
точки зрения, обзначает некую деятельность души по претворению
185
того, что составляет содержание «внутренних чувств», в то, что
может быть воспринято «внешними чувствами». С наибольшей
полнотой этот аспект его значения раскрывается в следующих
отрывках из предисловий к «Повести о Чекеле Ваненг Пати» и
«Повести о победоносных Пандавах»:
«{Случилось так], что даланг Сумирада (автор повести.— В. Б.) воспылал
страстью к дочери пангерана Арьи Джайи Вираты по имени Чандрадеви,
наделенной небывалой красотой. Оттого-то он и сочинил это произведение, дабы
обрести в нем утешителя души (пенгхибур хати)... Что же касается его сочинения,
то возьмите из него, что возможно, ибо даланг не мог скрыть небывалого
любовного опьянения, так что вы, знающие и вежественные господа (ариф биджакса-
на), придайте его повести правильное выражение смысла (мематут). Ведь,
пребывая в беспамятстве, даланг прибегал к первым попавшимся кидунгам и кака-
винам, уже не отличая ошибочного от верного» [20, с. 35].
«Однако это произведение — лишь повествование, развлекающее душу
(пенгхибур хати), ибо структура его несовершенна. Ведь мою душу охватило
крайнее смятение от изложения небывало прекрасных и диковинных событий, так что
вы, знающие и вежественные господа, читая это произведение, придайте ему
более правильное, чем ныне, выражение смысла (мематуткан)» [13, с. 4].
Приведенные фрагменты совершенно ясно указывают на то, что
осуществление писателем его функции правильного выражения
(патут) оказывается невозможным, когда поток прекрасных
образов (например, «небывало прекрасных событий»), протекающий
перед его внутренним взором и до поры обретавший
соответствие в правильном строе слов, успокаивавшем душу, становится
чрезмерным и захлестывает ее, вызывая смятение, беспамятство
и т. д.
Нетрудно заметить, что описанная ситуация точно
соответствует не только учению о душе — «мире воображения», но и
отражению этого учения в предисловиях типа:
Дервиш не станет длить речь,
Ибо его просветленная душа становится темной,
Пребывая в волнении днем и ночью [124, с. 31].
Данные прозаических и стихотворных предисловий
показывают, что волнение души, препятствующее правильному
выражению смысла, обусловливает следующий двуединый процесс: во-
первых, образы (эйдосы), протекающие в душе, «тонут во тьме»,,
утрачивая ясность и четкость очертаний, которые придавала им
«освещенность»; во-вторых, смятенная душа выходит из-под
контроля разума, благодаря которому не только поддерживалось
равновесие умопостижимого и чувственно постижимого в идее-
образе, но и осуществлялось правильное запечатление идеальных
образов в материальном субстрате (звучащем слове) 29. Таким
образом, способность правильного выражения стоит в теснейшей
связи с разумом и непосредственно зависит от его совершенства:
В строе поэмы нет порядка, в ней много несообразного,
Поскольку мой разум несовершенен [142, с. 76].
^Именно поэтому авторы предисловий и обращаются с
просьбой исправить соотношение плана содержания и плана выраже-
186
ния в повести к людям «знающим и вежественным» (ариф бид-
жаксана), т. е. к тем знатокам словесных искусств, чья
психическая и интеллектуальная деятельность правильно иерархизированы
и организованы.
Таким образом, рассмотренный с точки зрения традиционной
психологии термин патут (кена) есть проявляемая вовне
творческая деятельность «просветленной души», руководимой разумом
в его практическом аспекте, и присущая «знающим и
вежественным».
Помимо упомянутых терминов в предисловиях встречается еще
несколько других — относящихся по большей части к внешнему
аспекту литературного произведения и указывающих либо на
способ, которым передается в нем содержание, либо на те
достоинства, которыми оно обладает.
Насколько можно судить, наиболее совершенным способом
передачи идей считалось их косвенное или фигуральное
выражение (киас ибарат, тамсил ибарат). Именно на недостаточную
искусность в нем часто сетуют малайские литераторы:
Начинается некое сочинение,
Фигуральные выражения (тамсил ибарат) в нем лишены
изящества и не соответствуют должному;
Из-за того что душа была в крайнем смятении,
Оно было создано лишь как средство утолить волнение
(пенгхибур гаират) нищенствующего дервмша ,[20, с. 357].
Я еще не владею искусством фигурального выражения
(тамсил ибарат),
{Мое произведение] лишь средство умерить (пенглипур)
необычайное смятение.
От смятения и тоски
Моя душа, казалось, отделяется от тела,
Так что простите меня, знающие и вежественные,
В особенности же мастера слагать стихи [20, с. 351].
Поэтологический и психологический смысл термина тамсил
ибарат будет проанализирован ниже. Пока отметим лишь, что
противостоящие ему понятия нефигуральное выражение, прямое,
обыденное выражение встречаются сравнительно редко, например в
поэме «Шаир Ракис»:
Образы в душе предельно ясны,
Но выливаются лишь в обыденные слова (мадах себаранг)
{[119, с. 20].
Обыкновенно, как видно из приведенных фрагментов, термину
тамсил ибарат противопоставляются термины пенгхибур —
«средство рассеяться» и пенглипур — «средство развлечься», т. е.
психологические концепты уровня души.
Одним из важнейших достоинств произведений с правильной
структурой плана выражения является «красота» (индах),
например:
«„Повесть об Индрапутре"», структура (каранган) которой необычайно
прекрасна (индах)» ([57, с. 1].
187
«Это „Повесть о Чекеле Ваненг Пати", структура (каранган) которой
необычайно прекрасна (индах)» |[5а, с. 1].
«Это повесть людей давних времен, звучание (буньи) которой необычайно
прекрасно (индах)» |[11, с. 2].
«Это повесть людей давних времен, слова (перкатаан) которой необычайно
прекрасны (индах)» ([20, с. 51].
Упорядочил поэтическую речь (назам) в прекрасную (индах) поэму {22, с. 79].
Несколько реже термин индах употребляется в отношении
структуры плана содержания («прекрасно \\индах\ составленная
история» |[477, с. 46]). Иногда в подобных случаях используется
термин баик— «благой», «хороший» ;[5, с. 2].
Из более частных терминов, указывающих на достоинств а
внешнего аспекта произведения, необходимо назвать следующие.
Разнообразие (баньяк разам) единиц плана выражения:
Сочинил поэму, лишенную разнообразия (баньяк рагам)
120, с. 315—316].
Естественность (отсутствие деланности — тиада дибуат) :
«И если смысл какого-либо слова, содержащегося в повести, трудно понять,
он опускает его и не понуждает душу к его разумению в отличие от глупца,
лишенного разума» ![5, с. 2].
Краткость, лапидарность речи (мухтасар) :
Речь в поэме краткая (мухтасар), лишенная деланности
(тиас)а дибуат) [142, с. 90].
* * *
Подводя итог всему сказанному выше, малайскую теорию аген-
тивной фазы литературного творчества можно сформулировать
следующим образом. Литературное произведение — «книга»,
«повесть», «поэма», как и всякая вещь при ее создании, предстает
в единстве двух аспектов: внешнего (захир) и внутреннего
(батин). В первом аспекте оно представляет собой упорядоченную
систему (каранган, атур) материальных слов (/сага, буньи, лафазу
ибарат), обладающих актуальным бытием (кеадаан) и
воспринимаемых внешними чувствами, во втором — систему потенциальных
по своему бытию значений (арти, черита, иси, ма'на),
актуализирующихся (диньятакан) через систему материальных слов и
воспринимаемых в пластической форме внутренними чувствами.
В совершенном произведении обе системы правильным образом
согласованы (патут), причем условием этого согласования
являются «просветленное состояние» души (хати янг сафи) и контроль
практического разума, присущие «знающим и вежественным»
(ариф биджаксана). Система выражения может быть прямой (ма-
дах себаранг) или фигуральной, косвенной (тамсил ибарат);
последняя, однако, рассматривается как иерархически высшая.
Важными качествами системы выражения являются разнообразие
словесных единиц (баньяк рагам), краткость (мухтасар) и естествен-
188
ность (тиада дибуат) речи. Одним же из основных достоинств
литературного сочинения является его красота (индах), присущая
как выражению и содержанию по отдельности, так и их
единству — произведению в целом.
III
Обратимся теперь к основным положениям арабской
литературной теории — преимущественно «науки о красноречии»,
развивавшейся Абд аль-Кахиром аль-Джурджани и его
последователями и синтезировавшей опыт изучения как стилистической
«неподражаемости» Корана, так и критики поэтических текстов. Краткий
обзор этих положений, известных во всех странах мусульманской
культуры, позволит перейти к их сравнению с
реконструированным малайским учением о воплощении образа в слове, и не
только выявить генетические корни этого учения, но и установить-
смысл некоторых не до конца проясненных терминов (в
частности, тамсил ибарат — «косвенное выражение»).
Исходными понятиями арабской риторики и поэтики являются
два взаимосоотнесенных термина — лафз и ма'на. Лафз (комплекс
членораздельных звуков, слово или совокупность слов в их
фонетическом аспекте) — это материальная, внешняя сторона речи,
воспринимаемая слухом, -ее звучание30, ма'на — «значение»,.,
«смысл» — идеальный, скрытый, внутренний аспект речи,
проявляемый благодаря лафзу. Традиционные сравнения, при помощи
которых объясняются данные термины,— это сосуд и его
содержимое ([88, т. III, с. 392], одежда и тело, скрытое под одеждой [271,
с. 190], тело и душа ,[89, с. 124]. Последнее сравнение
представляется нам наиболее точным31.
Термин ма'на (мн. ч. ма'ани) переводится исследователями*
поэтики по-разному: то как идея (в частности, поэтическая идея)
(88, т. III, с. 399—406], то как мотив [345, с. 97], то как мысль
или образ [271, с. 188]. В самих поэтологических трактатах этот,
термин не получает определения, и поэтому для его объяснения,,
быть может, небесполезно перейти из сферы «арабских наук» (к
которым по традиции относятся филологические дисциплины) в-
сферу наук «древних», включающих, в частности, философию и
психологию \[346]. Ма'на в арабских сочинениях по психологии
есть концепт уровня души, означающий идею единичной вещи в
противовес общей идее (например, не враждебность вообще, а
враждебность волка), притом идею единичной вещи,
представляемую пластически, т. е. эйдос вещи — образ, в котором ясней
светится идея, как светится идея враждебности в образе волка,
возникающем в воображении овцы (Г201, с. 221—226, 526]. Таковы
же по своему характеру традиционные поэтические ма'ани, такие,
как «щедрость восхваляемого», «мудрость восхваляемого» и т. д..
Однако это еще «е все. Совершенно очевидно, что «щедрость
восхваляемого» может быть «увидена» в воображении во множестве:
образов — «картин». Ма'ани же в поэзии и поэтике — это те ото-
189
бранные традицией правильные образы, в которых
эрудированному поэту надлежит «видеть» единичную идею. Например,
«мудрость восхваляемого» надлежит «видеть», как дождь, или море,
или поток; его силу — как ураган, грозу и т. д. 1Г271]. Разумеется,
-предложенное объяснение несколько упрощено (не учитывает
индивидуальных ма'ани и сложных сцецлений и трансформаций их,
возникающих, в частности, за счет использования различных
риторических фигур и т. д.), однако первичные моменты этого
понятия оно, как нам кажется, отражает32.
Соответствие лафза и ма'ны— одна из центральных идей
арабских и персидских поэтик. Особенно глубоко она разработана в
труде Абд аль-Кахира аль-Джурджани «Далаил аль-и'джаз» и
•восходящих к нему позднейших риториках, где лафз и ма'на
представлены как две взаимосоотнесенные и правильно упорядоченные
структуры33. В этих поздних риториках суть «науки красноречия»
•(илм аль-балага) формулируется как «всестороннее соответствие
речи ;[подразумеваемому] значению, достигаемое посредством
определенных качеств, придающих это соответствие сочетаниям
.слов» [88, т. III, с. 358], или «соответствие (мутабака)1 речи
требованиям ситуации (хал)» ;[88, т. III, с. 399], где под ситуаци/ей
имелось в виду то, что подлежало выражению, т. е. совокупность
значений (ма'ани).
Такой подход к 'риторике и обусловил выделение в ней двух
основных наук: требования ситуации (муктади аль-хал)
исследовались «наукой о значениях» (илм аль-ма'ани)у изучавшей
различные категории и модальности представления смысла
приличествующим образом î[406, с. 19]; наилучшее же соответствие речи
-«требованиям ситуации» являлось предметом «науки о
правильном выражении» (илм аль-байан), на основе которой
осуществлялся «выбор среди многих форм выражения красивейших и
яснейших» ff406, с. 18].
Исходные принципы илм аль-байан также были
сформулированы Абд аль-Кахиром аль-Джурджани в другом его труде —
«Асрар аль-балага» ,[128, с. 7—18]. Подчеркнув, что именно
значения — ма'ани являются в речи подлинными господами,
требующими повиновения от материальных звучащих слов (алфаз; мн.ч.
от лафз), аль-Джурджани в этой работе переходит от проблемы
структуры значения к проблеме его эффективного, доставляющего
эстетическое наслаждение выражения, характеризующего
совершенное произведение.
Важнейшей частью исследования способов выражения,
осуществленного аль-Джурджани, является его учение о косвенном,
фигуральном выражении смысла, аналогии — тамсил [128, с. 9—
18]34.
В ходе своего исследования аль-Джурджани показывает,
что тамсил — это содержащая новую информацию метафора,
основанная на переносе значения не на определенный объект
(такой-то человек — лев), а на объект неопределенный (рука
северного ветра; у в^тоа нет части, к которой приложимо понятие «ру-
190
ка», ему, таким образом, приписывается не обладание рукой, m
определенное свойство). Благодаря интеллектуальному анализу
характера переноса эта метафора ведет к регрессии с умопостижи-
мого уровня на уровень чувственно постижимый. Своей
эстетической активностью тамсил обязан особой «детализированности» и
«странности» возникающего образа. По силе воздействия тамсил
значительно выше прямого выражения; будучи правильно построен,
он свободен от затрудняющей понимание и разрушающей смысл
произведения неестественной связи вещей и апеллирует
преимущественно к пластическому (зрительному) восприятию.
Развернутый тамсил у аль-Джурджани приобретает «притчеобразные»
черты.
Определение тамсила, данное аль-Джурджани, представляет
значительный интерес для реконструкции малайской
литературной теории, так как этот важнейший риторический термин
нередко встречается в предисловиях к малайским сочинениям, не
получая в них разъяснения. Однако отнесение в предисловиях тамсила
к сфере, постигаемой «знающими и ведающими», и
противопоставление произведений с тамсилом произведениям без него,
влияющим лишь на душу (пенгхибур хати), указывают на понимание
малайскими литераторами интеллектуального аспекта
фигуральных выражений, позволяя предполагать, что интерпретация
тамсила ими была близка или тождественна изложенной в «Асрар
аль-балага» и других арабских риториках. Это подтверждается
также и иерархически высшим положением тамсила в малайской
теории выражения. Насколько можно судить, концепция тамсила
в малайской литературе понималась весьма широко (предпосылки
такого понимания также заложены в учении аль-Джурджани) и
прилагалась не только к тронам в поэзии, но и ко ©сякому
косвенному, и прежде всего притчевому, аллегоризированному,
выражению смысла. Последнее было весьма характерно для памятников
дидактической литературы, а также для исторических и
беллетристических сочинений.
Краткое и ясное резюме арабской теории красноречия в ее
окончательной, принятой в поздних трактатах форме мы находим
в «Пролегомене» Ибн Халдуна, где определяется место в
риторике илм аль-ма'ани, илм алъ-байан и илм аль-бади* (наука
о поэтических украшениях) 35. Основу эстетической действенности
литературного произведения, согласно Ибн Халдуну, составляет
правильность соответствия в нем «плана выражения» и «плана
содержания», обусловливающая его «ясность и красоту» (ср. [406,.
с. 18]). Усиливают же эту действенность различные риторические
украшения, правила применения которых как к лафзу, так и к
ма'на регулируются илм аль-бааи\
Кратко изложенные здесь основы арабской теории
«красноречия» полностью совпадают с реконструированной малайской-
литературной теорией. В обоих случаях литературное
произведение есть вещь, предстающая как единство внешнего («план
выражения») и внутреннего («план содержания») аспектов, а дея-
191
тельность по его созданию — как правильное упорядочение
структур, внешней и внутренней, и установление между ними
гармонического соответствия. В обоих случаях определяются два пути
выражения (проявления) внутреннего через внешнее — прямой и.
косвенный, причем последний рассматривается как иерархически
высший, ибо с необходимостью подразумевает интеллектуальную
активность, обусловливающую интенсивность эстетического
переживания.
Наряду с тождеством этих наиболее общих принципов можно
отметить и параллелизм принципов более частных. Суммируя
теорию тамсила аль-Джурджани, мы уже отмечали, что одним из
важнейших достоинств произведения является его пластичность,
«зримость» образов, играющая подобную же роль и в малайской
традиции. Это свойство художественного выражения, благодаря
которому образ воспринимается так, «будто слышащий видит»
|f271, с. 185], постоянно подчеркивается в арабских поэтологиче-
ских сочинениях.
Другим важным достоинством речи, отмечаемым и
малайскими и арабскими литераторами и теоретиками, является
разнообразие вербальных единиц36. Пожалуй, еще более часто в
арабских и персидских сочинениях встречаются рассуждения о
краткости и естественности речи — достоинствах, регулярно
упоминаемых в предисловиях к малайским произведениям37.
Естественность речи (араб. матбу' — в данном случае
«природный дар изъяснения») есть, по мнению арабских и вообще
мусульманских критиков, важнейшее свойство прекрасной поэзии
и прозы ([499, с. 112; 128, с. 17; 221, т. II, с. 381].
Противоположными ему свойствами являются деланность, натянутость,
вычурность (все то, что обозначается термином такаллуф или мутакал-
лаф), аналогами которых и являются малайские термины буатан,
дибуат — деланный38.
Вычурность не только лишает сочинение приятности, но, что
еще важнее, препятствует ясности выражения смысла, нарушает
жрасоту соответствия слова и идеи-образа (ма'на)39.
3. КОНЦЕПЦИЯ ПРЕКРАСНОГО В МАЛАЙСКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Итак, в результате правильного выражения внутреннего (идея-
образ, эйдос) через внешнее (слово) и правильного украшения
слова возникает произведение (вещь), важнейшим свойством
которого является красота. Это свойство в предисловиях к
малайским литературным сочинениям, как уж'е отмечалось,
обозначается термином индах.
К сожалению, нам не удалось разыскать какого-либо
прямого объяснения этого термина в самой малайской традиции,
поэтому для установления его концептуального значения необходимо
обратиться к контекстам, где он встречается, уделив особое вни-
192
мание синонимам, замещающим его, и описанию психологических
состояний, которые вызывает восприятие красоты.
Разумеется, невозможно определить все оттенки такого
употребительного слова, как индах, представленного в малайской
классической литературе в бесчисленном множестве контекстов,
однако анализ, основанный на материале ряда литературных
повестей («Повесть об Индрапутре», «Повесть об Исме-сироте»
и др.) и суфийских текстов (сочинений Хамзы Фансури и сборника
анонимных трактатов [93]), как нам представляется, позволяет
выделить основные концептуальные аспекты его значения. Таких
аспектов, непосредственно выраженных в текстах, благодаря
синонимическим заменам, три.
I
Первый аспект связан с истоком, происхождением прекрасного.
На этот аспект указывает синонимическое замещение термина
индах выражением кекайяан Тухан — «проявление могущества
(или мощи) Господа», или, как переводят это выражение
Р. Дж. Уилкинсон и X. X. Клинкерт, «дела божественного
могущества» [517, т. I, с. 519; 388, с. 757], например:
«На равнине произрастали травы, цветом подобные изумруду. И Индрапутра
достиг той равнины, где высилась гора необычайной красоты, по склону которой
струился прохладный ручей, у подножия же росли деревья всевозможных
цветов. И тогда вслушался Индрапутра в шелест деревьев, и был он подобен
звучанию хора, в котором иные из людей распевали шаиры, иные распевали пан-
туны, иные возносили хвалы. И Индрапутра остановился, чтобы лицезреть те
проявления могущества Господа (кекайяан Тухан), и преумножил (великолепие] тех
красот (индах-индах). Насытившись же их лицезрением, он вознес благодарения
Аллаху...» 157, с. 27].
«Индрапутра, войдя в сад, увидал в том саду различные небывало
прекрасные (индах-индах) творения рук... (далее следует описание диковин сада.— В. Б.).
И Индрапутра восславил Величайшего Господа и так помыслил в душе: „Если
таковы дела его рабов, каково же Его могущество (кекайяан)}"» (57, с. 65—66].
Из этих примеров видно, что понятие «прекрасное»
определенным образом связано с концептом «божественное Могущество» и
своими проявлениями указует на него.
Рассмотрим, в чем же состоит эта соотнесенность и прежде
всего каково концептуальное значение выражения кекайяан Тухан
{Аллах) — божественное Могущество. Термин кайя, производным
от которого является существительное кекайяан — «могущество»,
«богатство», часто встречается в начале предисловий к
литературным произведениям — там, где поэт размышляет о своей
творческой беспомощности, творческом всесилии Аллаха и обращается к
Нему, чтобы получить .возможность создать -свою поэму:
«Хвала Аллаху» — мое неустанное восхваление
Аллаха — Господа Могущественного (кайя) j[22, с. 70—71].
«Хвала Аллаху!» — преславное восхваление,
Восхвалим Аллаха, Господа Могущественного (кайя) {[22, с. 751].
13 Зак. 147
193
Этот термин тождествен арабскому гана — «богатый», «могу-
щественный», «самодостаточный» (ср. {61, с. 139]), также
нередкому в малайских текстах. Значение понятия кекайяан
становится вполне очевидным из трактата Хамзы Фансури «Напиток
влюбленных», где он в примере, объясняющем согласие творческой
силы Аллаха с Его Мудростью (хикма), образует параллель к
термину кудра — Атрибуту Могущества, благодаря которому
осуществляется творение:
«Другую аналогию представляет умозаключение государя, наделенного столь
совершенным могуществом (кекайяан), что он властен над всяким превращением?
слонов может обратить в лощадей, а лошадей — в слонов, коз обратить в собак,
а собак — в коз. Однако государь добровольно не совершает тех превращений,
ибо иначе он лишился бы своего совершенства (камал), как бы признав, что
существовавшее прежде еще не было совершенным и что лишь сейчас он пожелал
наделить его совершенством и величием (кебесаран)» [61, с. 324].
С концептом кекайяан тесно связано понятие кебесаран —
«величие», иногда замещающее его в предисловиях к литературным
произведениям:
В изумлении размышлял я о Славе Аллаха,
О величии (кебесаран) Господа, Всемилостивого Владыки [143, с. 277].
Из уже процитированного фрагмента «Напитка влюбленных»,,
а также строк, предшествующих ему, следует, что величие — это
Совершенство (камал) Аллаха, присущее Его Творческой
Потенции (кудра) и запечатленное в совершенстве сотворенных вещей:
«Если Он подвергнет изменению эти виды Предрасположенности, исчезнет
Его Величие, а Оно — не что иное, как Его неизменное Совершенство. Итак, если
Он подвергнет изменению Свое Величие, то не будет Совершенен» [61, с. 324].
Таким образом, термины кекайяан Аллах и кебесаран Аллах
указывают на ничем (за исключением Мудрости) не
ограниченную и ничем не обусловленную, самодостаточную и совершенную
способность Аллаха творить, свидетельством которой и является
красота Его творений. Именно этот божественный исток
прекрасного и раскрывается в синонимии выражений индах
(прекрасное) и кекайяан Аллах (проявление Могущества Аллаха) или
кебесаран Аллах (проявление Величия Аллаха). Прекрасное тем
самым — это совершенное Бытие, которым Аллах наделяет вещи
и которое проявляется в них, прорывается вовне — «цветение
бытия» (Плотин, Энеады, V, 8.10); возникновение же у вещи
свойства прекрасного тождественно ее созданию, рассмотренному
выше. Достаточно полное и систематичное изложение малайской
суфийской концепции создания прекрасного дает в одной из своих
работ малайзийский ученый Нагиб аль-Аттас:
«...согласно учению суфиев, Божественные Атрибуты тождественны
Божественной Сущности (зат). Они суть не что иное, как Сущность, проявляющая Себя
во „внешнем" аспекте. Сущность в том или ином из своих бесчисленных аспектов
манифестирует Себя в форме Божественных Имен. Атрибуты — это, таким
образом, Божественные Имена, проявленные во внешнем мире. Существует два аспек-
194
та Божественных Имен, которые противопоставляются друг другу под
собирательными названиями Красота (джамал) .и Могущество (джалал) и управляются
•Совершенством (камал). Каждое Имя обусловливает определенный результат
воздействия (асар), и все Имена находятся в непрерывном деятельном состоянии,
прекращение которого для них невозможно... Результаты воздействия при этом
постоянно заменяются, каждый из них уничтожается и замещается подобным,
точно так же как волны на поверхности океана постоянно появляются и исчезают
гпод действием невидимых природных сил. Так динамическая Творческая
Активность истекает из Божественных Имен, которые постоянно совершают действия
в Божественном Акте Самораскрытия (таджалли). В этом Акте Его частные
проявления (таксис) охватывают все: как Прекрасное, так и Могущественное —
добро и зло, верных и неверных. Таким образом, Имя Милостивый (Рахман),
благодаря которому Бог из Своей Милости (рахма) впервые создал мир, объемлет
<все вещи и представляет собой совокупность Его Могущества, в
противоположность Его Имени Милосердный (Рахим), благодаря которому Он проявился лишь
во всем Прекрасном и Благом...» [282, с. 34, 43}.
Местом проявления Могущества Милостивого является Его Престол (Арш),
но, пишет Н. Аль-Аттас, «Рахман, являясь тем аспектом Божественного Имени,
•-который всеобъемлющ в своих частных проявлениях, включает также сумму
Атрибутов Красоты... Мы, таким образом, видим, что Престол —„место пребывания"
Рахмана — является также как бы сферой действия Божественных Атрибутов
красоты — Джамал» [282, с. 43}. Престол, как уже отмечалось выше, понимается
m качестве' «Второго Нисхождения и Второй Ступени Определенности Сущности в
Ее Самораскрытии, онтологически символизирует тот уровень бытия, на котором
творимое индивидуализируется как единство, чуждое дифференциации,— общая
идея (иджмали) в Божественном Знании» (282, с. 43}. Следующая Ступень
Определенности Сущности символизируется Троном. На этом уровне «творимое
обретает аналитическое существование в качестве потенциальной экзистенции или
„внешней сущности" (аль-айану'л-хариджийа)» (282, с. 44]. Ниже Трона
начинается мир феноменального, куда нисходят идеальные формы (духи вещей) после
того, как Вышнее Перо запечатлевает их, пребывавших прежде в Божественном
Сознании, на Хранимой Скрижали. «Согласно взглядам суфиев вообще и аль-
Джили в частности, Джамал означает — как было объяснено выше —
Божественную Красоту, а хусн — ее внешнее проявление (в феноменальном мире.— В. Б.)...
Как я уже отмечал, каждый Божественный Атрибут имеет свой результат
воздействия (асар), в котором манифестируется его Джамал, Джалал или Камал.
Таким образом, хусн (феноменальная красота) есть результат воздействия
Джамал (Абсолютной Красоты)...» [282, с. 35}.
Пожалуй, наиболее краткое выражение данная концепция
нашла в одном из малайских заклинаний на обретение прекрасной
внешности (пеманис), в котором анализируемый
терминологический комплекс весьма характерным для малайской словесности
.образом соединен с традиционным описанием женской красоты:
Я омываюсь в Престоле, омываюсь в Троне,
Омываюсь в Скрижали, омываюсь в Пере,
Я омываюсь в Сущности Аллаха,
Омываюсь в Атрибутах Аллаха,
Омываюсь в ограде слов: «Нет Бога, кроме Аллаха».
О сияние мое — сияние Света (Hyp),
Света Аллаха, Света Мухаммада,
Сияние его величества Посланника Аллаха.
На груди моей — три звезды,
Мои губы, словно цепочка муравьев,
Мой язык, словно змейка Чинтамани,
Ибо я облеклась в сияние Света [478, с. 631J.
Присущая мусульманскому мировоззрению оппозиция
Абсолютной Красоты и красоты относительной, феноменальной (Джа-
13*
195
мал++хусн) отразилась, на наш взгляд, в семантике двух
наиболее распространенных слов, обозначающих прекрасное в
литературных и суфийских сочинениях малайцев — терминов элок и
индах.
Данные о сфере употребления этих терминов показывают, что,,
хотя их семантические поля частично совпадают, в индах
акцентирован внешний, выраженный, чувственно воспринимаемый аспект
прекрасного, а в элок — его внутренний, скрытый, сущностный ас)-
пект, связанный с понятием «благо», и, таким образом, первый
термин соотносим с хусн в его суфийском понимании, а второй —
с Джамал40.
Итак, исследование первого аспекта понятия «прекрасное» в
малайской традиции свидетельствует о том, что в качестве его*
источника в малайском, как и вообще в мусульманском мире,
понималась творческая потенция Аллаха (кудра-кекайяан),
благодаря которой присущая Ему божественная Красота (Джамал-элок)
запечатлевается в красоте явлений феноменального мира (хусн*
индах), в частности литературных произведений. Ясное
выражение эта концепция находит в одной из малайских суфийских поэм:
Слава Аллаха поражает Твоих рабов,
В каждое мгновение Ты действуешь,
В каждой форме Твоя Красота (элок),
В каждом звуке Твой голос (113, с. 386].
II
Второй аспект понятия индах связан с имманентными
свойствами прекрасного.
Прекрасное (индах)41 — это прежде всего нечто необычное,
диковинное, удивительное, некое небывалое зрелище (хайран, ад-
жаиб, гариб, тамаша). Именно эти слова чаще всего выступают
в повестях в качестве синонимов индах, например:
«И Индрапутра изумился, увидав те прекрасные вещи. После же принялся
разглядывать те различные диковины (янг хайран)» [57, с. 70].
«И царевна узрела тот сад несказанно прекрасного вида (следует описание
сада.— В. Б.). Когда же царевна осмотрела все те зрелища (тамаша) Индрапут-
ры, его величество владыка вселенной также отправился взглянуть на то
диковинное (аджаиб) и удивительное (хайран)...» [57, с. 286].
«Ведь мою душу охватило крайнее смятение от изложения небывало
прекрасных и диковинных (гариб-гариб) событий...» [13, с. 4].
Далее, прекрасное есть нечто разнообразное (бербагэй-багэй)
или многогранно себя проявляющее, выступая во всей полноте
возможностей, свойственных объекту. Мы уже наблюдали это в
описании деревьев всевозможных видов и цветов, представших
Индрапутре на прекрасной равнине, или хора, исполнявшего
всевозможные виды песен, с которыми сравнивался шелест этих
деревьев. Подобными описаниями «многоразличных» деревьев,
цветов, птиц, одеяний, мелодий и т. д. наполнена любая
классическая повесть, и выражения типа «разнообразный» (бербагэй, ане-
196
ка варна, баньяк разам) синонимичны в них самому понятию пре^
красного, например:
«И Индрапутра изумился, увидав те прекрасные вещи» [57, с. 70].
Ср. в другом месте:
«И Индрапутра поднялся на гору и увидал там множество разнообразных
вещей (букв, „разновидностей" — анека багэй дженис)» [57, с. 101].
Указание на связь понятий «прекрасное» и «разнообразное» мы
находим и в суфийских текстах, например:
Эта птица необычайно прекрасна
Благодаря разнообразию (баньяк рагам) повадок и уловок .[74, с. 34].
Наконец, прекрасное — это не просто многообразие, а
многообразие упорядоченное, гармонизированное. Последнее
подчеркивается в самых различных описаниях, будь то упоминание о
прекрасно подобранных друг к другу жемчужинах в бахроме свадебного
паланкина или — особенно интересный для нас — рассказ о
прекрасном звучании голоса либо оркестра, в котором индах
регулярно замещается синонимом мерду — «согласованно, гармонично
звучащий, лишенный фальшивых нот» {533, с. 596]. Сравним для
примера два описания одного и того же звучащего сапфира в
«Подвести об Исме-сироте»:
«И несказанно прекрасно зазвучал тот драгоценный камень в хрустальном
флаконе.
И несказанно гармоничным (мерду) было его звучание» [134, с. 21, 24].
Итак, прекрасное само по себе — это нечто необычное, чье
разнообразие или полнота проявлений должным образом
упорядочено, гармонизировано.
Реконструированное определение прекрасного в малайской
традиции в полной мере соответствует его общемусульманскому
пониманию. Выше уже отмечалось, сколь важную роль играли
понятия неожиданного, необычного и разнообразного в создании
эстетического эффекта, исследуемого в средневековых арабских
риториках и поэтиках. Формулируя роль первых двух 'понятий,
Г. фон Грюнебаум в статье об основах мусульманской эстетики
писал, что наибольшее эстетическое наслаждение читателю и
слушателю доставляло раскрытие неясного и внезапного постижения
концептуальной связи вещей, казавшихся прежде совершенно
различными. «Таким образом автор стремится к неожиданному (ад-
жаиб), экстраординарному (надир), необычному и странному
(варив)» [345, с. 137].
Понятие разнообразия прекрасного, с одной стороны, тесно свяг
зано с концептом его «необычности», ибо именно «разнообразие»
придает прекрасной вещи ее диковинный «мерцающий» характер,
ошеломляя все новымц и новыми проявлениями (ср.
цитировавшийся выше фрагмент из поэмы Абд аль-Джамала [74, с. 86]).
197
Не случайно одним из самых распространенных символов
прекрасного в мусульманской традиции являются «играющие»,
переливающиеся драгоценные камни. С другой же стороны, благодаря
полноте этих проявлений разнообразие выступает синонимом
совершенства, также занимающего важнейшее место в
мусульманских эстетических теориях. Так, интерпретируя концепцию
прекрасного, изложенную в сочинении Газали «Оживление
богословских наук», советский исследователь А. В. Сагадеев писал:
«Газали дает общее определение прекрасного как проявления совершенства,
которое осуществлено в предмете и соответствует его природе. Для каждого
предмета есть свойственное ему совершенство, противоположность которого, однако,
может составить совершенство, присущее какому-либо другому предмету. Красота
находит свое высшее проявление тогда, когда в предмете наличествуют все черты
его совершенства, отсутствие части которых ведет к пропорциональному снижению
воплощенной в нем красоты» {262, с. 34].
Именно эта концепция разнообразия как полноты и
совершенства лежит в основе бесчисленных в малайских классических
повестях описаний садов, пейзажей, одеяний, оркестров, красоты
героев и т. д., включающих детальные перечни всех необходимых
элементов и их разновидностей.
Наконец, основополагающими понятиями мусульманской
эстетики являются упорядоченность, гармоничность, соразмерность. Эти
понятия встречаются в Коране:
«Ты не видишь в творении Милосердного никакой несоразмерности. Обрати
свой взор: увидишь ли ты расстройство?» [36, с. 452].
Они же неизменно упоминаются, когда речь заходит о
прекрасном:
«Если красота заключена в пропорциональности внешнего облика и в
чистоте цвета, то она воспринимается чувством зрения [262, с. 53]. Если созерцаемый
предмет гармоничен по приданным ему формам и очертаниям в соответствии с
материей, из которой он создан, так, чтобы требования его собственной материи
в отношении совершенной гармонии и сочетания не были оставлены без
внимания — а в этом -и заключается смысл красоты и очарования, то...» [88, т. II, с. 397—
398].
III
Третий аспект понятия индах связан с психологией восприятия
прекрасного. Будучи чем-то необычным, «диковинным зрелищем»,
прекрасное приковывает к себе внимание и, воспринимаемое
«внешними чувствами», вызывает в воспринимающем интенсивное
влечение к себе, некий род любви (брахи) :
«И при виде той птицы сердце царевны исполнилось небывалой любви
(брахи), ибо вид птицы был несказанно прекрасен» [[143, с. 126].
«Ей (повести.— В. Б.) предшествует несколько несказанно прекрасных
историй, которые вызовут любовь (брахи) у всех читающих или слушающих» [13,
с. 3—4].
198
Интенсивность влечения к прекрасному зависит от его
воздействия на несколько чувств сразу. Не случайно поэтому
малайские литераторы, описывая прекрасный объект, стремятся
показать его во всей полноте зрительных, слуховых, обонятельных
проявлений, создать некий синестетический комплекс, который,
согласно традиционной психологии, приводится к единому
целостному образу общим чувством:
«На том цветке оидела птица, что была необычайно хороша собой и
несказанно прекрасно пела. Голос же другой птицы, небывало диковинного вида,
звучавший, словно бамбуковая свирель, доносился с ковра. И та птица, {вспорхнув],
уселась на край сосуда для омовения и обрызгала Индрапутру благоуханным
нардом. И Индрапутра изумился при виде тех прекраснейших диковин и
принялся разглядывать те дива и уснул, исполненный влечения к напевам, в которые
вслушивался» [57, с. 70].
Влечение (любовь — брахи) к прекрасному вызывает в душе
изумление, которое при большой напряженности, полном
поглощении всех чувств проявлениями прекрасного и слабом
контролировании души интеллектом переходит в некое шоковое
состояние— беспамятство (мерча), забытье (лупа) и т. д.
Воспринимающий как бы растворяется в прекрасном, утрачивая свою личность:
«И словно бы растворились (или исчезли — леньяп) их (слушателей.— В. Б.)
чувства в тех звуках, ибо ослабели они, внимая тому разнообразию, и пришли
в изумление» [134, с. 24].
«И служанка, посланная царевной, впала в забытье (лупа), ибо услышала
те звуки и увидала многоразличные зрелища» [57, с. 295].
Такое воздействие прекрасного делает его крайне опасным для
тех, кто не способен его подчинить, контролировать, ввести в
определенные берега. Мы уже видели, как описывается эта
опасность в суфийских текстах. В классических повестях присутствует
специальный мотив эстетического подвига — победы над
прекрасным, не уступающего по значению подвигам на поприщах брани
и любви. В «Повести об Индрапутре», например, герой одолевает
чары прекрасно звучащей алмазной горы:
«По прошествии недолгого времени алмазная гора зазвучала, подобно
„грустящему бамбуку" (эолова арфа.— В. Б.), и несказанно прекрасны были ее
звуки. И Индрапутра остановился на миг, после же опамятовался и поспешил прочь.
Всякий другой же, несомненно, остался бы на горе, зачарованный ее звучанием»
[57, с. 101].
Еще более выразительно противопоставление Индрапутры
одному из таких «других», неспособному одолеть могущества
прекрасного, в эпизоде о царевне Чандре Леле Hyp Леле, укрытой
отцом в высоком тереме, обведенном рвами, через которые были
перекинуты неприметные стеклянные мосты. Попугай и майна,
развлекающие царевну в ее одиночестве, хотят отыскать ей
жениха. Попугай летит к царевичу, любителю волшебных повестей,
и рассказывает ему о красоте своей госпожи. Царевич,
охваченный страстью, устремляется к терему. С трудом, испуская стоны
199
я осмеянный рыбами, он находит мост, перебирается через рвы
и начинает подниматься по лестнице, золотые ступени которой
перемежаются мечами.
<4В это время] царевна улыбнулась и выглянула из терема. Царевич же
взглянул наверх, и они с царевной Чандрой Лелой Hyp Лелой увидели друг друга.
И чувства царевича словно бы растворились в море любви, ибо несказанно
прекрасна (элок) была царевна, ноги его соскользнули с золотой ступени, он упал
на меч и, рассеченный надвое, испустил дух» 157, с. 133].
Так гибнут тридцать девять царевичей. Наконец, к царевне
отправляется Индрапутра. Он сразу же обнаруживает силу
разума, догадавшись, как найти прозрачный стеклянный мост («там,
где вода не колышется, верно, и есть мост»), подойдя же к
терему, вторично проявляет сообразительность — молнией взлетает по
ступеням и лишь затем поднимает глаза на царевну:
«И Индрапутра изумился небывалой красоте лица царевны, сверкающего и
сияющего, так что невозможно было взглянуть на него в упор. И Индрапутра на
мгновение лишился чувств (мерча). Тогда царевна взяла розовой воды и
брызнула в лицо Индрапутре и изумилась при виде его облика. Индрапутра же пришел
в себя и поднялся» [57, с. 135—136].
Так сообразительность — проявление силы разума у человека,
знающего и вежественного (ариф биджаксана) — а именно этот
момент постоянно подчеркивается в характере Индрапутры,—
берет верх над смертельной опасностью красоты. Данный мотив
исключительно важен, ибо именно разумно построенное, введенное
в разумные границы и разумно дозированное прекрасное способно
оказывать исцеляющее воздействие на душу (пенгхибур хати, пен-
глипур), стремящуюся к нему, рассеивая ее подавленность,
угнетенность и аналогичные психические состояния (традиция
рассматривает их как болезни души).
Именно в этом состоит одна из основных функций
литературного произведения согласно малайской и — шире — мусульманской
эстетике. Та функция его, которая выражена в постоянно
повторяющемся в предисловиях, термине индах, противопоставляемом
терминами фаэдах, манфа'ат (польза), указывающим на
интеллектуальные и поведенческие блага, которые сулит прочтение книги.
Ниже эта функция будет рассмотрена подробно. Пока же
можно подвести итоги исследования психологического аспекта
прекрасного. Прекрасное вызывает к себе влечение, любовь и
изумление. Будучи чрезмерно интенсивным и выходя из-под
контроля интеллекта, оно обусловливает некий чрезвычайно
опасный «столбняк» души — забытье, беспамятство; введенное же в
разумные границы, оказывает целительное, успокаивающее
воздействие на душу.
Все три исследованных аспекта понятия «прекрасное» (индах)
запечатлены в «Повести об Исме Ятиме», в описании одной из
диковин, добытых Исмой для государя, которое может служить
своеобразным определением этого понятия в малайской
литературе {134, с. 20—21, 24—25]. Поэтому приведем его целиком в ка-
200
честве заключения к разделу, отмечая в скобках те элементы, из
которых складывается понятие «прекрасное» и которые были
проанализированы выше.
«И, сказав так, Исма Ятим поставил пред его величеством ларец из слоновой,
кости и разостлал ткань рамбути. После же молвил с почтительным поклоном:
„О господин мой, повелитель мира, вот дары капитана, кои он повергает к вашим
стопам". И Исма Ятим поведал историю капитана... государь же весьма
обрадовался, услыхав о тех диковинах, повелел открыть ларец и, взглянув на небывалую
красоту работы, молвил: „Кажется мне, что человек не мог бы сделать такого
ларца" (необычность прекрасного). С почтительным поклоном оказали раджи,
везиры и военачальники: „Воистину справедливы слова нашего господина".
И государь повелел открыть ларец слоновой кости, в ларце же увидал
хрустальный ящичек небывало прекрасной работы. По воле его величества открыли
тот ящичек и в нем нашли шкатулку из бирюзы, а в шкатулке два сапфира.
Тогда Исма Ятим взял меньший сапфир, положил его на золотой поднос, и из
сапфира вышли два несказанно прекрасных павлина; другой же сапфир он опустил
в хрустальный флакон, и тотчас же зазвучал1 тот сапфир, и полилась из него
музыка дивной красоты, в коей сменяли друг друга сто двенадцать ладов (т. е.
все лады— полнота, совершенство, проявляющиеся в прекрасном)...
Войдя в опочивальню, его величество поставил ларец подле своего ложа и,
достав из бирюзовой шкатулки сапфиры, один положил на золотой поднос,
другой же — в хрустальный флакон. И тотчас закружился сапфир во флаконе,
переливаясь и меняя цвета, сияние его озарило терем, и государь с женой, дворцовыми
девушками и служанками залюбовались теми многоцветными переливами
(разнообразие прекрасного, данное в зрительных впечатлениях). Когда же сапфир
закружился, полилась из него несказанно гармоничная музыка (упорядоченность,
гармоничность разнообразия, присущего прекрасному), звучащая на сто
двенадцать ладов (разнообразие прекрасного, данное в слуховых впечатлениях). И все,
кто внимал ее звукам, словно бы лишились чувств, обессилев от их многообразия
(беспамятство, утрата личности под воздействием прекрасного) и придя в
изумление (изумление под воздействием прекрасного). Тогда павлин и пава...
преисполнились страсти (любовь, вызываемая воздействием прекрасного), вышли из
драгоценного камня и, распустив хвосты, принялись с несказанной красотой
танцевать на золотом подносе, распевая пантуны и селоки, байты и шаиры дабы
усладить душу (веселящее душу, т. е. целительное воздействие прекрасного) государя
и государыни... И молвил его величество, обратясь к жене: „О возлюбленная,
думается мне, ежели здесь, на земле, таковы дела Аллаха — Преславен Он и
Возвышен!— Господа миров, чье величие наполняет вселенную, то сколь же
поразительнее они в мире потустороннем (указание на исток прекрасного — величие
Аллаха)11. Ответствовала государыня: „Воистину справедливы твои слова, сколь
прекрасно лицезреть величие Господа миров, преданность Исмы Ятима и сии
удивительные диковины!" (необычность прекрасного)».
4. УЧЕНИЕ О «ПРЕКРАСНОМ СЛОВЕ» И ЕГО ФУНКЦИЯХ
Рассмотрев общую концепцию прекрасного в малайской
традиции, обратимся к исследованию ее частного аспекта — учению о
прекрасном слове и его функциях, т. е. собственно того, как
понимался этой традицией характер воздействия литературного
произведения на читателя.
I
Прекрасному слову (произведению) присущи все
исследованные выше свойства прекрасного, в частности его психологическая
201
активность, способность трансформировать состояние души,
причем именно прекрасное слово является преимущественным
средством такой трансформации.
Прежде всего прекрасное слово вызывает к себе страстное
влечение, любовь:
«И души мужчин и женщин, внимающих повести, превосходной по
содержанию, преисполняются страстным влечением (ринду) к ней. Иные испытывают
влечение (брахи) к чтецу, особенно если хорош его голос и распев, и оттого любовь
в их душах преумножается. Не только душами женщин овладевает тогда
беспокойство, сердца большинства мужчин, слушающих повесть, также начинают
биться в лад (берпатутан) с голосом чтеца. Иные же — те, кто читают сами, слышат
свой голос и, вникая в содержание повести, составленной с несказанной красотой
(индах), порой также испытывают в душе страсть, влечение и любовь благодаря
звукам своего голоса. И все те люди словно бы становятся одержимыми» [5,
с. 2]42.
Приведенный фрагмент не только дает, пожалуй, наиболее
яркую в малайской словесности картину воздействия словесного
произведения на душу читающего или слушающего, но и
косвенно свидетельствует о восприятии малайскими литераторами
общего для мусульманской культуры представления о том, что в
основе любви души к прекрасному лежит гармоническое
соответствие ее природы.'Природе прекрасного43 («если хорош его голос и
распев ...сердца... начинают биться в лад с голосом чтеца») 44.
Данная концепция изложена во множестве сочинений арабских
и персидских авторов, в первую очередь в музыковедческих
трудах (см., например, if38, с. 262—283, 303—306]). Хорошее резюме
ее мы находим в «Пролегомене» Ибн Халдуна:
«Как было установлено в надлежащем месте книги, удовольствие — это до-
стижение чего-то соответствующего. Такой вещью в чувственном восприятии
может быть только качество. Если (качество] является соразмерным и
соответствующим тому лицу, которое воспринимает, оно приятно, если же несовместимо
с ним и несогласно — неприятно... Соответствующие зрительные и слуховые
ощущения обусловлены гармоничной организацией форм и качеств видимого и
слышимого. Эта организация благодаря гармоничности производит впечатление на
душу и в большей мере соответствует ей.
Если объект зрительного восприятия гармоничен по приданным ему форме
и очертанию и соответствует материи, из которой он создан... в чем и состоит
сущность красоты и прелести, к какому бы объекту чувственного восприятия они
ни прилагались, тогда этот зрительный объект гармонирует с душой,
воспринимающей его, и душа, таким образом, испытывает наслаждение от восприятия
чего-то, что соответствует ей. Поэтому влюбленные, особенно глубоко любящие
друг друга, выражают свою крайнюю влюбленность, говоря, что их дух слился
с духом возлюбленной... Красота в слуховых объектах — это гармония и
отсутствие несогласованности в звуках» [88, т. II, с. 397—398].
Далее Ибн Халдун пишет, о том, что в мире существует
целый «океан звуковой гармонии», и относит к нему не только
вокальную и инструментальную музыку, но и рецитацию Корана и
поэзию, оказывающие на душу такое же воздействие, как и
музыка:
202
«Первоначально арабы имели только поэзию. Они составляли своего рода речь
из равных частей, обладавших гармонической пропорциональностью в отношении
числа огласованных и неогласованных согласных. В рамках этих частей они
разделяли речь таким образом, чтобы каждая из них имела собственный смысл и не
должна была бы опираться на другую. Такой отрезок речи они называли стихом.
Он был подобающим для природы (души.—Б. Б.) прежде всего благодаря
разделению на части, затем благодаря гармоничному расположению этих частей в
начале и конце и, наконец, благодаря тому, что им передавалось
подразумеваемое значение и в нем использовались выражения, соответствующие этому
значению» ,[88, т. II, с. 399—402].
То есть целостная гармония произведения (вещи; речь в своем
«лафзическом» аспекте — одна из разновидностей звуковой
материи) и души складывается как бы из двух гармонических
сущностей: «музыкальной» по типу гармонии лафза (разделение на
части, гармоническое расположение частей) и гармонии лафза с
соответствующей ему идеей-образом (ма'на).
Последнее замечание Ибн Халдуна важно как для
интерпретации приведенного малайского фрагмента об искусстве чтеца (в
нем, как и в сочинении арабского- автора, одновременное влияние
на душу оказывают и красота ритмического распева — лагу, и
прекрасное выражение смысла — черита... амат индах), так и для
понимания воздействия литературного произведения в малайской
традиции в целом. О ритмической, гармонизированной рецитации
не только поэтических текстов, но и повестей сообщается во
многих классических сочинениях, например:
«Отправился попугай в некую страну и там узрел несказанно прекрасного
царевича небожителей — индров, который, сидя во дворце, необычайно
мелодичным (мерду) голосом читал вслух некую повесть» [57, с. 129].
«Царевна воссела на позлащенный престол, усыпанный самоцветами, и,
окруженная детьми раджей и везирей, дворцовыми девушками, служанками и
кормилицами, принялась читать вслух повесть. И той повести... с восторгом
внимали все обитатели дворца, ибо звучание (буньи) ее было несказанно прекрасно
(индах) и в ней излагались всевозможные наставления мудрых. И голос
царевны, читавшей повесть, звучал столь мелодично, что все, кто внимал ей, не могли
насытиться слушанием» (134, с. 153].
Характерно, что нигде в классической малайской литературе —
даже при описании чтения в одиночестве — нам не встретилось
упоминаний о чтении глазами, «про себя».
О предназначенности для мелодической рецитации
свидетельствует и структура сказа самих повестей, расчлененных на более
или менее равномерные ритмические отрезки, меньшие, чем
логически завершенное предложение, но большие, чем
словосочетание. Эти ритмические отрезки, единство интонации которых
усилено за счет частых инверсий (сказуемое — подлежащее),
отграничиваются друг от друга союзом мака — «и», повторяющимся в
начале каждого из них, и выполняют функции, примерно
аналогичные стихотворным строкам. При этом, будучи, как правило,
интонационно незавершенными, они благодаря этому же союзу
объединяются в некое непрерывное целое более высокого
порядка — как бы «строфоид», соответствующий микроэпизоду
повествования. В рамках этого микроэпизода в основном сохраняется
203
восходящая интонация, в конце же его наблюдается
окончательный интонационный спад, предшествующий началу следующего
«строфоида», которое часто маркируется словами типа
«рассказывают...», «и вот...» (аль-киссах, аракиан, шахдан, хатта и др.)
или союзами «после того как...», «когда же...» и т. д. Разумеется,
описанная композиция сказа — в основных чертах сходная с
арабской и персидской — не выдерживается с абсолютной строгостью,
однако она прослеживается в большей части текста, определяя
его гармонизированность и близость по строю к стиху.
Далее, прекрасное слово, как и красота вообще, чрезвычайно
опасно для человека, не обладающего «совершенным разумом».
Подтверждение этого мы находим в предисловии к рукописи
ЛО ИВАН Д 446:
«Это повествование составлено из выдержек, заимствованных отовсюду, и от
него преумножатся добродетели разумных (янг беракал) и пороки глупцов. Ибо
наделенный разумом раб Божий, внимающий историям, повестям либо же
назиданиям и запечатлевающий их в своей душе, подобен человеку, который вступает
в сад, полный всяческих плодов и всевозможных цветов многоразличной
окраски... И те плоды, что хороши на вкус, он срывает и ест, те же, что одурманивают
и ввергают в беспамятство (лалей), отбрасывает прочь, опасаясь, как бы они не
причинили вреда его душе... Пороки же в душе глупца преумножатся оттого, что
он, войдя в сад и уввдев те невиданные диковины, возликует и примется
хохотать и скакать от радости, словно ненасытный обжора... Мнящий одного лишь
себя знатоком, он пренебрежет тем, что не всякий плод едят и не всяким цветком
украшаются, что не следует тешиться ими, не разобравшись прежде, который
плох, который кисел, который сладок, а который горек и может лишь
одурманить... От незнания этого и неразборчивости проистечет вред для глупца. Точно
так же обстоит дело и, с тем, кто читает повесть» [5, с. 1].
Наконец, составленное «знающим и вежественным» {ариф бид-
жаксана) автором прекрасное (индах) произведение способно
оказывать успокаивающее, целительное воздействие (менглипур) на
душу также «знающего и вежественного» читателя, охваченную
страстной любовью или подавленную тоской и другими
чрезмерными аффектами, что и является его важнейшей функцией в
малайской классической литературе.
II
Указания на успокаивающую, целительную функцию
литературы встречаются в произведениях самых различных жанров с
большей или меньшей мусульманской окраской.
В яванских по происхождению повестях о Панджи, например
в «Повести о Чекеле Ваненг Пати»45:
«Это — повествование людей прежних времен, излагаемое по-малайски и по-
явански, поведал даланг и поэт, наделенный высшим искусством в слагании
стихов. Переложили же его на малайский язык, дабы, ставшее ваянговой повестью,
оно послужило утешителем (пенгхибур) в любовных муках. Но как же проходят
смятение души и неисчислимые любовные муки? Об этом-то (или: для этого-то.—
В. Б.) и рассказывает даланг, дабы наделить средством, угашающим пожар
души, объятой страстью, и длит свою повесть, дабы продолжились песни, кидунги
и какавины, предназначенные для всех тех знающих и вежественных (ариф би-
204
джаксана), кто лишь в глубинах души проявляет свою влюбленность. Ведь,
выскажи они сокрытое в душе, это не принесло бы им блага. Для этого сочинили
«сию повесть...» [196, с. 76].
В «Повести о победоносных Пандавах»:
«Ей же (т. е. повести.— В. Б.) предшествует несколько несказанно прекрасных
(индах) историй из числа тех удивительных и крайне диковинных, что
содержатся в пьесах ваянга, которые вызовут влечение (брахи) у всех читающих либо
•слушающих их, и возродят души тех, кто одержим страстной любовью. Однако
истории эти — лишь повествования, развлекающие душу (пенгхибур хати), ибо
строй их несовершенен» [13, с. 4].
В «Повести об Исме Ятиме» с ее характерной мусульманской
учительной тенденцией, где именно способность радовать души,
пребывающие в подавленности, называется основным признаком
жанра хикаят:
«Четвертый же вид [полезности этой повести] заключается в том, что, если
услышат ее люди, пребывающие в подавленности, возрадуются их души, потому
и называется она — повесть» {134, с. 1].
В различных разновидностях поэм-шаиров: исторической
«Поэме о макассарской войне»:
Благодаря листу бумаги — пропитанию пера
Я пытался развлечь души (пенгхибур анган-анган) [142, с. 220].
В аллегорической «Поэме о Пунггуке» (ср. предисловие к
«Поэме о шмеле и жасмине» i[20, с. 351]):
Я написал поэму, не будучи поэтом-эрудитом,
Для того, чтобы тоска оставила душу [124, с. 77].
В дидактической «Поэме о скитальце»:
О все мои друзья и приятели,
Я описал некий путь,
Создал некое произведение
Из-за того, что мое сердце пребывало в крайней тоске,
Сменился месяц, прошел год,
Чувства в душе моей сокрушены,
Тело словно бы мертво,
Эта поэма — утешение души (пенгхибур хати) [74, с. 28—29].
Описание утешающего воздействия прекрасного слова
встречается не только в предисловиях, но и в самих литературных
произведениях (например, в «Повести об Индрапутре» )[57, с. 38]
и др.). Ограничимся лишь одним примером из «Повести об Исме
Ятиме»:
«В ту пору взошла луна, окруженная бесчисленными звездами, и мерцающее
сияние ее озарило облака, проплывавшие по небу, уподобив их веренице
зажженных фонариков. В ветвях лимонных деревьев подняли гомон всевозможные
ночные твари, чьи голоса звучали, словно мольбы влюбленных, томящихся в разлуке
с любимыми. Благоухающие соцветия пальм раскрыли свои лепестки, словно бы
ожидая, когда слетят на них небесные девы. Тогда Тун Сендари, мечтавшая о
205
радже, заплакала и обняла подушку... Тун Манду Дари, томясь от страсти к
повелителю, постаралась утешиться песней о прекрасном юноше, тосковавшем,
скрывая свою любовь; Тун Юса Ратна, взволнованная мечтами о государе, тихонько,
запела и принялась читать главу из «Повести об Индрапутре», в которой
рассказывалось о том, как Индрапутра предавался любви с царевной Менгиндрой Сери
Булан» [134, с. 55—56].
Для интерпретации механизма действия «утешающего
произведения» необходимо вновь обратиться к мусульманской эстетике..
Очень краткое, но при этом всестороннее и последовательное
изложение того, как понималось ею воздействие литературного
произведения на читателя, дает персидский поэт и теоретик XII в.
Низами Арузи Самарканди, чье определение поэтического искусств
ва, по мнению крупнейшего английского ираниста А. Дж. Арберри
[278, с. 16], равным образом приложимо как к поэзии, так и к
художественной прозе:
«Поэзия,— пишет Низами Арузи,— это искусство, посредством которого поэт
располагает воображаемые посылки (мукаддимат-и мухама) и составляет
действенные оиллогизмы (киясат-и мунтаджа) таким образом, что малую ма'на (идею-
образ.— В. Б.) превращает в великую, а великую ма'на — в малую, и благое
(^прекрасное — пеку) облачает в скверные ( = безобразные — зишт) одежды,,
а скверное являет в благом облике (сурат), и воздействием на воображение-
(ихам) возбуждает силы гнева (кувват-и газбани) и страсти (кувват-и шахвани}
так, что благодаря этому воздействию на воображение натуры (тиба')
переживают расширение (инкибад) или сужение (инбисат), а это вызывает величественные
дела в устройстве мира» £115, с. 42].
Терминологический анализ определения поэзии, данного
Низами Арузи, где тесно переплелись понятия традиционной
мусульманской логики, лингвистики, поэтики, психологии и физиологии46,.
позволяет перефразировать его следующим образом. Поэт
выстраивает специфические силлогизмы, которые, вопреки своей
неистинности и благодаря присущей им красоте, воспринимаются
воображением, возбуждающим определенные функции души
(силу гнева, силу страсти). Их действие обусловливает существенное
изменение человеческой натуры, понимаемой как смесь элементов
(огонь, воздух, вода, земля), что, в свою очередь, приводит к
психологической и физиологической трансформации читателя.
Последняя же вызывает те или иные его действия — поступки.
Данная концепция в том или ином виде является основой
использования литературных произведений в воспитательных целях,
которое описывается в работах по этике и смежным
дисциплинам 47.
К ней же в теоретическом плане восходят всевозможные ьиды
психотерапии, в частности лечение меланхолии \[30, кн. III, т. 1г
с. 126—127], «однодневных лихорадок», возникающих в
результате различных душевных аффектов, важным элементом врачевания
которых является «успокоение больных увеселяющими рассказами^
приятной музыкой, играми и диковинными зрелищами» )[30у
кн. IV, с. 20—22], и, что особенно важно для интерпретации
исследуемых малайских текстов, болезни, называемой в
традиционных лечебниках «страстная любовь»48.
206
Можно выделить три вида рекомендаций, дающихся для
исцеления от этой болезни и, по существу, соответствующих трем
силам, дисциплинируемым этикой (разумная сила, сила гнева и
сила страсти), которые в данном случае подвергаются
воздействию с целью восстановления не столько духовного, сколько
физического здоровья. Во-первых, влияние на разум при помощи
советов, увещеваний и т. п.; во-вторых, влияние на угнетающий
душу «чрезмерный аффект» посредством возбуждения в душе
аффекта противоположного, по большей части «гнева»,
уравновешивающего «горе» влюбленного; в-третьих, сохранение самого
аффекта (любви) неизменным, но перенос его на другой объект и
затем угашение, т. е. своего рода сублимация. При этом во всех
случаях воздействие на душу больного должно быть достаточно
впечатляющим и длительным.
Данные методы психотерапии не являются достоянием одной
лишь традиционной научной литературы — трактатов по этике,
медицине, поэтическому искусству483, применение их описано во
множестве литературных произведений любого из народов
мусульманской культуры, как авторских (поэмы Низами ^[178, с. 401—
402], Навои {39, т. VI, с. 64—87] 4д и др.), так и анонимных,
типологически наиболее близких к классическим малайским
повестям («Тысяча и одна ночь» [35, т. IV, с. 74, 170—171, 189],
персидская романическая проза [42, с. 86], дастаны урду )[25, с. 21]).
Разумеется, далеко не во всех случаях мы можем быть уверены
в знакомстве автора с тонкостями изложенной выше теории,
однако несомненно, что ее практические следствия — «методы
лечения» были восприняты как в высокой, так и в массовой сфере
мусульманской культуры.
Арабские, персидские, тюркские литературные памятники, в
которых описывается психотерапевтическое воздействие
прекрасных произведений, содержат все те элементы, которые характерны
и для малайских предисловий50.
Литературное произведение выступает в них средством для
исцеления души, охваченной неким чрезмерным аффектом —
любовью, печалью, горем (ср. малайск. пенгхибур хата, пенглипур
лара).
Оно способно выполнить эту функцию благодаря своим
высоким эстетическим достоинствам, «прекрасному слову» (ер.
малайск. индах). Именно «несказанная красота» сочинения
обусловливает то, что вызываемый им аффект пересиливает исходный
либо отвлекает от него; поэтому в малайских предисловиях
влюбленным и не рекомендуется просто рассказывать о своих чувствах,
а предлагается для исцеления использовать прекрасную повесть,
созданую профессионалом.
Рассказывание должно быть длительным (ср. «и длит свое
повествование, дабы продолжились песни, кидунгиккакавины...»);
лишь при достаточной продолжительности повествования
вызываемый им аффект достигает нужной интенсивности.
Рассказывание должно вестись человеком мудрым и быть на-
207
правлено на слушателя, также обладающего возвышенным
разумом и тонкой душевной организацией, ценителя (ср. ариф бид-
жаксана в характеристике как автора «утешительной истории»,
так и ее читателя или слушателя в малайских предисловиях).
С функцией «утешения души» во многом связана поэтика
классических малайских повестей и поэм. Это в свое время подметил
известный английский малаист Р. Уилкинсон, писавший:
«Малаец определяет литературное сочинение как «нанизывание»,
«связывание» прекрасных слов и выражений; он описывает повесть как ожерелье из
жемчуга, или корону из алмазов, или гирлянду цветов, или заповедный сад, полный
прудов и цветников. Он не считает части повести чем-то второстепенным по
отношению к ней как целому; они — жемчужины, а сюжет — необходимая нить.
Малайский автор обещает слушателям лишь умерить их беспокойство и
отогнать заботы. Для осуществления этой задачи он больше пользуется рассказом
о событиях, чем сюжетом. Начав, например, с захватывающего слушателей
рассказа о какой-нибудь гомерической битве, он внезапно прерывает его, чтобы
описать красоту невесты, роскошные одеяния героя, остроумие влюбленной пары,,
искусство колдуна или галантность рыцаря... Сюжет служит лишь нитью, на
которую нанизываются жемчужины деталей» [516, с. 5, 12—13],
Такое доминирование описательных элементов над
сюжетными в произведениях, рассчитанных на аффективное воздействие
(вызывание противоположного аффекта или переключение его с
исходного предмета на текст с целью сублимации), вполне
понятно. Разработанные, детальные описания эмоционально
особенно активны, способны благодаря «эффекту присутствия»
заражать душу любовью, гневом и т. д. При этом повторяющиеся,
эмоционально однородные и лишь по-разному нюансированные
описания, из цепи которых и складываются малайские хикаяты
и шаиры, накладываясь одно на другое, как бы «экстрагируют» из
многообразия проявлений аффекта сам аффект в «чистом виде»,
который и проецирует в душу читателя. Внушающее воздействие
описаний еще более усиливается за счет влияния их на душу не
только непосредственно, но и косвенно — через интеллект, что
бывает в случае применения тамсила. Сюжет же произведений типа
хикаятов и шаиров аффективно более нейтрален, служит в
основном средством, удерживающим внимание и композиционно
упорядочивающим «рассказы о событиях» — описания. Именно
поэтому в художественно наиболее совершенных классических
повестях, таких, как «Повесть об Индрапутре» или «Повесть об Индре
Менгиндре», описаниям отводится большая часть текста, а
сюжетные элементы сильно редуцируются, превращаясь, по существу*
в краткие связки.
III
Наряду с функцией утешения (пенгхибур) в предисловиях
часто упоминается еще одна функция литературного произведения—
«польза» (фаэдах, манфа'ат). Так, восхваляя достоинства
«Повести о мудром попугае», автор предисловия к ней пишет:
208
«Это повесть, содержащая историю о мудром попугае, которая составлена с-
небывалой красотой (индах) и принесет пользу (манфа'ат) всем, кто станет ее-
слушать» [20, с. 83].
Проявления этой функции многообразны и, пожалуй, лучше
всего описаны в «Повести об Исме-сироте», «Повести о Шахе
Мардане» и «Короне царей». В первом произведении мы читаем:
«Знайте же все, кто станет читать эту повесть, что в ней заключено четыре
вида пользы (эмпат перкара фаэдах). Первый вид проявится, когда вы станете
следовать словам этой повести, и имя ему — указание; второй — когда, говоря в*
собрании, вы процитируете (к случаю] что-либо из нее, и <имя ему — выражение;
третий вид обнаружится, когда раджи станут спрашивать вас о каком-либо
трудном вопросе, и вы с почтительным поклоном ответите: „О господин мой,
повелитель мира, вот что узнал раб из некоей повести", и имя ему — [подходящая]
история; четвертый же вид (полезности этой повести] заключается в том, что, если-
услышат ее пребывающие в подавленности, возрадуются их души, потому и
называется она — повесть. Вот что должны знать о благих свойствах этого
сочинения все, кто станут читать его, и тогда (если чтение будет осуществляться с
учетом этих свойств.— В. Б.) их назовут знающими (ариф)» [134, с. 1]1
В «Повести о Шахе Мардане» дается несколько иной список
«польз», хотя число их остается тем же (четыре «пользы»
упоминаются и в «Короне царей»):
«Тот, кто станет слушать или читать эту повесть, получит от нее пользу (фаэ~
дах) и наставления, почерпнутые из хадисов и „знамений" (т. е. Корана.— В. Б.)г
и она обладает также четырьмя достоинствами (эмпат перкара). Если будет
использована она на пути богопознания, то имя достоинству ее — духовное
совершенство, если в связи с установлениями раджей, то имя ему — совершенство
правления; если будет использована при истолковании закона главы нашего пророка
Мухаммада — Благословение ему и мир!—то имя ему — шариат, если же — в:
утехах, которым предаются молодые, то имя ему — совершенство мужей» (12,.
с. 1].
В «Короне царей», претендующей на изъяснение «нрава
раджей, везирей, военачальников и простых подданных, а также дел
правления и того, что связано с ними... с тем чтобы от чтения ее
люди -получали пользу {манфа'ат), а от следования ее словам —
сан» (["133, с. 5], «пользы» обретают и некую социальную
определенность, изменяясь в зависимости от того, читает ли книгу
правитель, вельможа или простолюдин [133, с. 219—225].
Приведенные фрагменты свидетельствуют о том, что под
«пользой» имеется в виду скрытый в глубинной структуре
произведения дидактический аспект его содержания, на .котором и
должен сосредоточиться читатель. Проникновение в эту
глубинную структуру сулит различные блага интеллектуального и
поведенческого характера, в том числе и совершенствование
речевого поведения.
Таким образом, «польза» соотносится с иерархически высшими
психологическими концептами — разумом (в его теоретическом и
практическом аспектах, особенно с последним) и духовным
сердцем (богопознание, ведущее к духовному совершенству).
Совершенствование души («познания в утехах молодых», «утешение») f
связанное с понятием «прекрасное», неизменно занимает в подоб-
14 Зак. 147
209
ных перечнях последнее место. Воздействие красоты на душу
само по себе рассматривается в них как «польза» низшего
порядка либо вообще как противоположность «пользы». Более
достойный статус красота обретает, лишь соединяясь с «пользами»
высших иерархических уровней, становясь их планом выражения.
5. ЭЛЕМЕНТЫ ИНДОчМУСУЛЬМАВОКОГО СИНТЕЗА
В МАЛАЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ САМОСОЗНАНИИ
I
Мы уже отмечали, что, хотя общий принцип «утешения»
{пенгхибур, пенглипур) остается одним и тем же во всех
предисловиях, рассмотренных в предыдущем разделе главы, степень
«мусульманизации» их заметно различна. В предисловиях к
сказаниям о Панджи («Повесть о Чекеле Ваненг Пати» и др.), по
существу, нет ничего специфически мусульманского. В «Повести
о победоносных Пандавах» малайский термин индах поставлен в
параллель его частичным арабским синонимам (аджаиб, гариб) и
отмечено, что прекрасное вызывает к себе любовь (брахи). Кроме
того, в этом предисловии в скрытой форме присутствует
противопоставление пенгхибур <^тамсил [13, с. 3—4], эксплицитно, как
оппозиция иерархически низшего иерархически высшему,
представленная во мчшгих предисловиях, мусульманских по духу.
В «Поэме о Пунггуке» указание на утешительную функцию
включено в обрамляющее его довольно подробное изложение
мусульманской теории творчества .J124, с. 30—31, 76—77]. В
дидактическом же сочинении «Поэма о скитальце» оно не только
появляется в типично мусульманском контексте, но и содержит
характерное замечание о физическом страдании, исцелить которое
призвана поэма |[74, с. 28—29]. В целостном контексте малайской
литературы второй половины XVI — первой половины XIX в. все
эти упоминания могут быть интерпретированы на основе учения
о психотерапевтическом воздействии словесного искусства. В то
же время сравнение предисловий к малайским повестям о Панджи,
в наименьшей степени подвергшихся мусульманскому влиянию, с
некоторыми древне- и среднеяванскими текстами, относящимися к
индуистско-буддийской традиции, указывает на, возможно, иное
первоначально объяснение механизма действия «утешительной»
функции и позволяет до некоторой степени реконструировать те
представления, на основе которых воспринималась мусульманская
эстетика в малайском мире.
Исследуя литературную сторону одной из написанных на Бали
на среднеяванском языке поэм о Панджи — «Вангбанг Видейя»,
голландский индонезист С. О. Робсон обращает внимание на ее
заключительные строки, объясняющие цель создания поэмы:
«Это конец истории, которую я составил, [заимствовав ее] из ваянг антебан
(вид балийского театра.— В. Б.), и изложил в стихах; я не стану возражать, если
меня сочтут самонадеянным.
210
Ибо она (эта история.— В. Б.) служит как бы слезами для тех, кого согнули!
муки душевной боли и любовного томления. Но как могла бы она принести об-
легчение? Став кидунгом в метре papa кедири» [130, с. 241].
«Слова поэта,— пишет С. О. Робсон,— кратки и, возможно, не
вполне ясны. Они могут быть перефразированы следующим
образом: поэма заступает место реальной душевной боли
индивидуального слушателя или читателя и превращает ее в эстетическое
наслаждение. Можно недоумевать относительно того, как
достигается этот эффект, однако исследователь индийских эстетических:
учений тотчас узнает общий принцип» [130, с. 24]. Указав на
сходное описание предназначения литературного произведения в
малайской «Повести об Андакене Пенурате» (можно добавить сюда
и приведенное выше предисловие к «Повести о Чекеле Ваненг Па-
ти», предисловие к «Повести о Панджи Куде Семиранге» и др.) г
на нарративный, а не лирический характер исследуемой поэмы и:
изображение в ней эмоций героев через их внешние проявления,.
С. О. Робсон усматривает этот «общий принцип» в санскритской
теории эстетического опыта — раса [130, с. 25—30].
Сам С. О. Робсон ограничивается в изложении этой теории
лишь краткой цитатой из «Истории санскритской литературы»
А. Б. Кейта [382, с. 389]. Мы также не видим необходимости в<
подробном ее описании и осветим здесь лишь некоторые стороны
учения о расе, необходимые в дальнейшем изложении.
Раса есть особое свойство объекта, вызывающее эстетическое переживание
и одновременно само это эстетическое переживание. Источником расы являются
существующие в человеческой психике устойчивые душевные комплексы — стхай-
ибхава (любовь, веселье, страх, гнев и т.д.), сформировавшиеся в результате
опыта нынешнего и прежних рождений и сохраняемые в подсознании в виде
впечатлений (васана). Описывая их «симптомы» (анубхава), например характерную
мимику и жесты персонажей, возбудителей (вибхава), например весеннее время,,
легкий ветерок в лесу, запах цветов и т.д., и сопутствующие преходящие
настроения (вьябхичарибхава), например ревность, томление, надежду, связанные
с любовью,— все то, что в реальной жизни вызвало бы пробуждение того или
иного устойчивого психологического комплекса, поэт заставляет ценителя «вкушать»
корреспондентное этому комплексу эстетическое переживание — расу (эротическую,
комическую, страшную, гневную и т.д.). Прямое описание аффекта само по себе
не способно возбудить эстетическую эмоцию, поэтому выражением расы в поэме
или драме служит дхвани — гул, отзвук, некий скрытый, но проявляемый смысл,
воплощенный в изображении «симптомов», возбудителей и настроений. Так,
например, застенчивость героини — одно из «настроений» эротической расы — может
быть передана не прямым называнием, а упоминанием о том, как, слушая слова
сватов, она, «опустив голову и отвернувшись от отца, считала лепестки лотосе^
[204, с. 135—136, 139—140, 146],
Вкушение расы отлично от обычных жизненных переживаний, поскольку
обусловливается идеальным объектом — литературным произведением, не
вызывающим эгоистических реакций на то, о чем повествуется,— желания обладать
чем-то приятным, уклониться от чего-то опасного и т.д. В отречении субъекта
эстетического восприятия от эгоистического «я» состоит его универсализация.
Универсализируется, однако, не только субъект восприятия, но и его объект.
Герой произведения, согласно теории расы,— это не определенное лицо в
определенном месте и времени, а воплощение лишенных индивидуальной окраски
наиболее общих психических качеств, например «страха самого по себе».
Вкушение расы не есть только эмоциональный процесс. Оно представляет
собой особый род познания — непосредственное интуитивное постижение универ-
14*
211
сализированным субъектом универсализированного объекта. Осуществляемое
благодаря полному отождествлению субъекта и объекта (растворению
субъекта-ценителя в объекте-герое), это постижение вызывает в душе ценителя состояние
блаженства [204, с. 140—1143].
Переживаемое блаженство, блаженное самозабвение (наматкара —
«восхищение», «восторг» (515, с. 35], а также «вызывающий изумление», «поражающий»,
«чарующий» [321, с. 56]) есть свободное от ограничений эгоистического «я» и
ничем не отвлекаемое самопознание субъекта, идентичное «реализации в
индивидуальном „я" абсолютного „Я", или Брахмана» [204, с. 143] с которым раса как
таковая и отождествляется. Чаматкара представляет собой единую основу всех
раса, которые через универсализацию ведут к достижению блаженства
независимо от того, какого рода события изображаются. Достижение же блаженства,
единение с Абсолютом-Брахманом в акте самопознания через эстетическое
постижение есть, как отмечает индийский исследователь С. К. Де, особого рода
религиозный путь [321, с. 56—57]5l. В реализации данного пути и достижении
«эстетического блаженства» сам эстетический объект — произведение является
своеобразным медиумом, который, подобно (изображению Вишну, помогает
сосредоточению и созерцанию [429, с. 154].
Отголосок учения об эстетическом постижении как
религиозном пути, по-видимому, и обнаруживается в среднеяванской поэме
«Вангбанг Видейя» в указании на исцеление от «душевных болей
и любовного томления». Через восприятие универсализованного
объекта и универсализацию субъекта происходит отрешение от
эгоистического «я» (а именно его «волнением» и вызываются
«душевные боли и любовное томление») и достигается блаженство52.
При этом, поскольку такое блаженство носит преходящий
характер и длится, лишь пока звучит произведение, даланг, должен
рецитировать текст достаточно долго, «вплоть до полного исцеления»
(ситуация, описанная в предисловии к «Повести о Чекеле Ваненг
Пати»).
Вновь встречаемся мы с учением, близким к теории раса,
обращаясь к эстетическим основам древнеяванской литературы.
Анализируя их и давая интерпретацию центральному термину
древнеяванской эстетики — ланго, голландский ученый П. Зутмюльдер
пишет:
«Среди этих (выражающих понятие „эстетическое", „прекрасное".— В. Б.)
терминов видное место занимают слова ланго, ленгенг, ленгленг и их
производные. Они выражают чувство, которое, возможно, лучше всего передается словом
„восторг". Это своего рода обморочное состояние, в котором субъект полностью
растворяется и утрачивает себя в объекте, притягательность которого столь
ошеломляюща, что все прочее тонет в небытии и забвении. Всякая деятельность
рассудка прекращается; восприятие самого объекта становится неясным, и в
переживании единения, стирающем различия субъекта й объекта, исчезает также
осознание своего „я".
Слова, выражающие эту идею затухания деятельности сознания или
состояния, подобного трансу, примечательны еще и по иной причине. Они, так
сказать, „двусторонни", означают не только сам этот трансоподобный опыт, но
также и качество объекта, обусловливающее его. Ланго означает как „охваченный
восторгом", так и „вызывающий восторг". Это слово может относиться и к
прекрасному виду, и к человеку, находящемуся под впечатлением его красоты. Оно
обладает тем, что мы назвали бы „субъективным" и „объективным" аспектами,
ибо как у субъекта, так и у объекта имеется общий элемент — индийцы сказали
бы общая раса,— делающий их единосущными и способными к слиянию воедино.
Объективно ланго — это качество, посредством которого предмет привлекает к
212
себе эстетическое чувство. Он осуществляет это не благодаря ясности и
самоочевидности своей красоты, а, напротив, поскольку она представляется далекой, при-
жровенной, труднодостижимой, поскольку она суггестивна, а не вполне очевидна,
поскольку она манит, привлекая намеком, словно еще не найденный клад, так
что искатель красоты сгорает от тоски по ней и желания ее достичь» [535, с. 172—
173].
В этом определении мы находим основные элементы учения
о расе и чаматкара как сущности расы (на наш взгляд, др.-яванск.
ланго и есть термин, соответствующий санскр. чаматкара —
«восторг», «восхищение» и «вызывающий восхищение», «чарующий»):
двусторонность ланго как обозначения свойства эстетического
объекта и самого эстетического переживания; блаженный
характер переживания ланго, в котором утрачивается ощущение
индивидуального «я» и происходит слияние субъекта и объекта,
наконец, суггестивность выражения ланго (ср. выражение расы через
дхвани).
II
Еще более очевидной становится близость санскритской и
древнеяванской эстетики благодаря реконструированной П. Зутмюль-
дером на основе анализа предисловий к поэмам-какавинам теории
литературного творчества и функций литературного произведения,
выступавшего на Яве в качестве инструмента особого
эстетического пути обретения религиозного опыта («литературная йога»,
«поэтическая религия» [535, с. 173—-185]) 53.
Однако для нас важнее другое. Древнеяванская эстетика
оказывается во многих основных чертах поразительно близка
малайской эстетике мусульманского периода. Весь ход творческого
процесса древнеяванского поэта и его малайского
коллеги-мусульманина тождествен. И у того и у другого мы наблюдаем обращение
к божеству в аспекте красоты, медитативное сосредоточение на
нем (в одном случае йогическое, в другом — зикрическое),
приводящее к «отключению» внешнего «я», погруженного в
эмпирическую реальность, и благодаря этому к созерцанию
ноуменальной сферы в виде потока образов, протекающих в душе, и,
наконец, к правильному воплощению увиденного образа в слове54.
Весьма сходны и концепции прекрасного в древнеяванской
(ланго) и малайской (индах) литературах. Особенно заметно это
сходство в психологии восприятия прекрасного. В обоих случаях речь
идет об ошеломляющем воздействии ланго и индах, которое
ведет к забвению своего «я», растворяющегося в объекте,
наделенном этим свойством, и переживании при этом наслаждения.
Сходство малайской и древнеяванской эстетических теорий
имеет не только типологический интерес. Хотя нам практически
ничего не известно о знакомстве малайцев в период индианизиро-
ванных государств с индийской эстетикой (правда, памятники
эпиграфики, например лигорская стела, как отмечалось,
демонстрируют осведомленность в канонах санскритской поэзии кавья),
213
трудно, учитывая длительные культурные и литературные
контакты с яванцами, сомневаться в том, что древнеяванский вариант
этой теории в каком-то виде мог быть усвоен в малайском мире,,
где именно с Явой связывалось наиболее утонченное понимание
прекрасного. Не случайно в «Повести о раджах Пасея» яванцы
выступают признанными экспертами в области красоты |[84г
с. 40—41], а в поэме о Панджи на среднеяванском языке — «Ма-
лат» они по этому же признаку противопоставляются малайцам
из Малаю, прибывшим из-за моря с братом Чандры Кираны:
«...яванцы искушены в прекрасном (калангван; Пурбочороко
переводит это слово как кеиндахан), а люди из-за моря неловки» |[443^
с. 315]. Не случайно также глухие отголоски учения о расе
представлены в малайской литературе именно в предисловиях к
произведениям яванского цикла о Панджи. Поскольку, однако,
ключевой для этих предисловий термин пенгхибур регулярно
встречается в типично мусульманских предисловиях, можно думать, что
и в повестях о Панджи актуальное значение его
интерпретировалось скорее в духе мусульманской концепции
«психотерапевтической функции» литературы.
Если предположить, что в малайской культуре домусульман-
ского времени в той или иной форме существовала эстетическая
теория, родственная древнеяванской, то черты сходства эстетики,,
присущей малайской классической литературе и литературе
древнеяванской, приобретают особое значение, позволяя представить,,
сквозь какую призму преломлялось малайцами воспринимаемое
мусульманское учение о прекрасном слове, его создании и
функциях. Не исключено, что именйо характер предшествующей
традиции до некоторой степени обусловил предпочтение, оказываемое
концепции прямого пророческого созерцания поэта, перед
учением о пути поэта-эрудита, подобно тому как он же
предопределил наибольшую влиятельность суфийской формы ислама в
данном регионе (см., например, [369, с. 15, 23]).
Малайское литертурное самосознание оказывается тогда
«фактом с двойственной мотивацией» '[187, с. 93—99] —определяется,
с одной стороны, индийским (в древнеяванском варианте), а с
другой — мусульманским эстетическим учением. Установление
типологических соответствий между обоими учениями и — шире —
создание своеобразного «типологического словаря», позволяющего
усваивать новые мировоззренческие системы, и составляло в силу
определенных исторических обстоятельств одну из важнейших
особенностей малайской культуры на протяжении всего ее
существования. Это установление соответствий и взаимоотождествление
фрагментов различных культур, а не простое их смешение (хотя
нередко бывало и так) обусловили синтетический характер
малайской культуры. Оно же превратило, в частности, историю
малайской литературы в историю литературного синтеза, а период
малайской классической литературы — в ту ступень этого
синтеза, когда его завершением выступала мусульманская концепция
литературы и литературного творчества.
214
Не следует, однако, думать, что дело ограничивалось лишь вза-
ммоотождествлением старых и новых фрагментов. На каждом
этапе мировоззрение культуры, завершающей синтез, существенно
видоизменяло характер прежних концепций, порой оттесняло их
на периферию культуры или сохраняло о них лишь глухие
воспоминания. Этот процесс был тем интенсивнее, чем ближе
прилетала та или иная «труднопереводимая» на новый «язык»
концепция к центральной сфере культуры — религиозному канону.
Если концепция создания литературного произведения,
подобная древнеяванской или санскритской, могла быть в основных
элементах согласована с мусульманской теорией творчества, то уже
учение о «прекрасном» было существенно трансформировано в
соответствии с рационалистическим и дидактическим пониманием
функций литературы в исламе.
Прежде всего индах в отличие от ланго — термин
«односторонний», обозначающий лишь качество, что вообще характерно для
понятия «прекрасное» в мусульманской традиции. В соответствии
с этой же традицией чувство, вызываемое индах, есть любовь
(брахи, ср. араб, махаббат аль-джамал — «любовь к красоте» [262,
-с. 190]).
Еще важнее, что малайской эстетике в отличие от санскритской
и древнеяванской было в высшей степени присуще представление
о крайней опасности эстетического объекта, в частности красоты
литературного произведения. Эта опасность связывалась с тем, что
красота, завораживая душу, нарушает правильную иерархическую
структуру личности, в которой душа должна постоянно
контролироваться интеллектом. Таким образом, малайской литературе было
свойственно общемусульманское представление об эстетически
активном, но вредном для души произведении.
Наконец, малайская концепция утешительной функции
произведений (пенгхибур, пенглипур) носила лишь
психотерапевтический и этический характер и не поднималась до уровня особого
эстетического пути в религиозной сфере. Эта концепция
соотносилась именно с уровнем души, точнее — животной души,
противопоставлявшейся интеллекту. Считалось, что прекрасное способно
доставлять наслаждение также и разуму, лишь будучи
репрезентированным в произведении через тамсил — косвенное выражение
смысла, возбуждающее интеллектуальную активность.
Однако и соединение пенгхибур с тамсил, если оно не
превращало произведение в символическое описание высших сфер
бытия, само по себе лишь усиливало воздействие на душу, влияя
на нее и через воображение, и через разум. Можно сказать, что
соединение пенгхибур и тамсил было призвано «излечивать» более
тонко организованные, интеллектуализированные души, тогда как
пенгхибур без тамсил выступало либо как неудача автора, либо
как «целебное средство» для душ менее тонко организованных,
неинтеллектуализированных.
215
6. ИТОГИ. ПРИНЦИПЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ЖАНРОВ В КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Итак, суммируем результаты проведенной нами реконструкции
малайского литературного самосознания второй половины XVI—
XIX в. Малайская культура, как и вообще культура
мусульманского средневековья, не знала особой теории литературного
творчества. Последняя выступала лишь как одна из сторон единого-
учения о творении, охватывающего все виды деятельности.
Согласно этому учению, подлинная способность творить присуща лишь
Аллаху, чье всеобъемлющее знание «содержит идеи всех вещей и
чья творческая энергия материализует их в доступном чувствам
мире свидетельства. Человек в той или иной степени наделен
пророческим даром и способен духовным сердцем воспринимать
поток идей, нисходящий из духовного мира, претворять его в душе
в череду доступных внутреннему зрению образов и, правильно
запечатлевая эти образы в материале, создавать вещь — в
частности, литературное произведение.
Посредником в творческом акте, связующим непостижимого
Творца и человека, выступал пророк Мухаммад в своей ипостаси
предвечного Логоса (Сущности или Пророческого Света Мухам-
мада), в котором впервые была явлена вовне полнота
божественного знания и который, подобно стволу, несущему на себе ветви,
служит опорой всего, что было сотворено затем.
Если в процессе восприятия вдохновения литератору
отводилась относительно пассивная роль, то при воплощении образа в
слове он выступал как творец, решавший некую двуединую
задачу. Во-первых, не дать потоку прекрасных, «мерцающих» образов
захлестнуть душу, удержать в берегах их упорядоченное течение,
правильно, т. е. в соответствии с литературными канонами,
увиденное внутренним зрением. Во-вторых, столь же канонически
правильно выразить, или, как говорили сами малайцы, «согласовать»,
систему идеальных образов и систему их воплощающих слов.
Решить эту задачу позволяли «просветленное состояние души» и
неустанный контроль за творческим процессом совершенного
практического разума, присущего «знающим и вежественным». Лишь
при такого рода двойной правильности божественное вдохновение
могло, как бы «пролившись» сквозь творца, воплотиться в
произведении, достичь читателя и, если он также принадлежал к числу
«знающих и вежественных», т. е. умел правильно воспринимать,
оказать действенное влияние на его душу, разум или духовное
сердце.
Словесное запечатление образа могло быть прямым и
косвенным, фигуральным. Косвенное выражение, не просто восхищавшее
душу, но требовавшее для восприятия определенной
интеллектуальной активности, рассматривалось как наиболее совершенное.
Одним из важнейших достоинств правильно «согласованного»
литературного произведения считалась его красота, проявлявшаяся
как в образной и словесной системах по отдельности, так и в их
216
единстве. Источником прекрасного в литературе малайцев, как и
других народов мусульманского мира, выступала творческая
потенция Аллаха, благодаря которой Его Абсолютная Красота
воплощалась в красоте вещей, в частности литературных
произведений. Само по себе прекрасное рассматривалось как прежде
всего нечто необычное, данное во всей полноте многообразных
проявлений и при этом должным образом упорядоченное,
гармонизированное. Будучи чем-то необычным, прекрасное приковывало к
себе внимание и вызывало в душе воспринимающего интенсивное
влечение, некий род любви, предпосылкой которой — по закону
воздействия подобного на подобное — являлось его гармоническое
соответствие природе души.
Любовь к прекрасному вызывала в душе чувство изумления,
которое при большой интенсивности, полном поглощении души
проявлениями прекрасного и слабом контроле над ней разума
нарушало правильную «структуру» психики, вело к шоковому
состоянию — беспамятству, забытью. В то же время считалось, что
разумно созданное, разумно дозированное и разумно воспринятое
прекрасное способно стать «утешителем души», стремящейся к
нему, рассеять ее подавленность, смятение чувств и аналогичные
состояния психики. Учение о психотерапевтическом воздействии
прекрасного литературного произведения основывалось на
представлении о том, что оно способно вызвать <в душе аффект,
противоположный тому, что причиняет страдания, и тем самым
восстановить нарушенное равновесие души. Если же душу угнетала
неразделенная любовь, то чтение прекрасного произведения
могло ее сублимировать, вызвав к себе более сильную страсть.
Еще более важным, чем красота, достоинством «правильного»
литературного произведения была присущая ему «польза» (точнее,
ряд «польз»), под которой понимался учительный смысл
произведения, светский или религиозный, скрытый в его глубинной
структуре и потому в отличие от красоты постигаемый не
чувствами, а разумом, способным проникать в мир невидимого. В свою
очередь, считалось, что «пользы» укрепляюще N воздействуют на
разум.
Таковы были средневековые малайские представления о
литературе, делавшие ее единой, целостной и иерархически
упорядоченной системой. Единство системы зиждилось на том, что при
всей разнородности впитанных ею элементов (исконно местных,
индуистско-буддийских, исламских) самосознание малайской
словесности в классический период было мусульманским. Это
цементировало ее и заставляло литераторов переосмысливать старые
произведения и создавать новые в духе мусульманской культуры
или по крайней мере не противореча этому духу. И не столь уж
существенно, вело ли такое переосмысление старого произведения
к его более или менее радикальной перестройке или всего лишь
к добавлению «мусульманизирующего» предисловия. Важнее, что
благодаря такому предисловию оно могло вписаться в «картину
мира» мусульманской культуры и обрести в ней свое место и
217
предназначение. Иное дело литературная практика. Она могла
расходиться, и часто весьма резко, с той, что была присуща
ближневосточной или индийской мусульманской словесности
(характерно, что основные жанры арабско-персидской поэзии — касида, мае-
нави, газель и т. д. так и не получили распространения в
литературе малайцев). Литературное самосознание не столько
диктовало конкретные правила порождения поэтических и прозаических,
сочинений в соответствии с рекомендациями мусульманских
поэтик в области метрики, фигур, стиховых жанров и т. д., сколько
служило для истолкования и тем самым легализации уже
созданных и создаваемых произведений в рамках системы исламской
словесности. Для решения этой задачи реконструированная выше
литературная теория, лишь в основных принципах
соответствовавшая мусульманскому мировоззрению и не слишком вдававшаяся
в «технические детали» поэтики, оказывалась особенно удобной и
гибкой, ибо как раз для этих «технических деталей» было труднее
всего подыскать аналоги в «типологическом словаре» малайской
традиции. К тому же такая обобщенная теория была наиболее
естественной для творцов, составителей, редакторов литературных
сочинений, чье мусульманское образование носило скорее схоласти-
ко-теологический, нежели филологический характер. Таким
образом, восприятие мусульманского литературного самосознания б
малайском мире во многом напоминало то по преимуществу
обобщенно-теоретическое усвоение в нем канонов индийского
зодчества, о котором речь шла выше (см. с. 27).
Присущая культуре ислама концепция Мухаммада-Логоса —
источника и «опоры» любой из сотворенных вещей (из их числа
отнюдь не исключались литературные произведения), придающего1
стройность и осмысленную целостность мирозданию,
естественно, обусловливала и целостность литературной системы.
Упорядоченность же ее основывалась на том, что каждая группа
произведений соотносилась со строго определенной ступенью в
иерархии мироздания, «истекающего» из этого источника.
Обращаясь к Аллаху, раскрывающему себя в Мухаммаде-Лого-
се, чтобы создать произведение, которое послужит «утешителем
души» [124, с. 30, 70; 134, с. 1—2; 20, с. 322 и др.], или
«наделит разумом, совершенным в делах правления» |[134, с. 3—4]г
или «отверзнет грудь познающих ключами Его бытия и украсит
их „духовные сердца" Его тайнами» [61, с. 354], творцы
малайской литературы достигали той или иной ступени духовного мира,,
и благодаря этому их произведения, как считалось, могли
воздействовать на соответствующий этой ступени уровень
человеческой духовности.
Самое «низкое» восхождение вело к созданию произведений,
наделенных красотой и потому способных гармонизировать душу,,
тем самым создавая условия для воспитания у человека
куртуазного поведения. К числу этих произведений принадлежали в
первую очередь различные волшебно-авантюрные повести и поэмы.
Более высокое восхождение порождало тексты, которые «польза-
218
ми» укрепляли разум. К ним относился весь круг дидактических
сочинений (см., например, [133, с. 5]) и более историософские, чем
историографические по духу, малайские хроники lfl39, с. 3].
Наконец, предельно возвышенное выливалось в сочинения, которые
делали богопознание человека совершенным и подготавливали к
озарению духовное сердце. Они включали агиографические в
самом широком смысле слова произведения и так называемую
«литературу штабов» — ученые трактаты по теологии,
мусульманскому праву и суфизму.
В соответствии с психологическим уровнем, на который была
лризвана воздействовать та или иная группа произведений,
выстраивалась и система ценностей малайской литературы:
совершенство уравновешенной души-кювершенство отточенного разу-
ма-^совершенство просветленного духовного сердца. С
восхождением на более высокий уровень ценности предыдущего, как
правило, отрицались. «Прекрасный мир» волшебно-авантюрных
повестей, хоть и сулил утешение душе, рассматривался как
бесполезный, если не вредный, для «обладателей разума», который и без
того, «если ты болен — излечит те'бя, если упал — поднимет, если
в ничтожество впал — возвеличит, если достояния лишился — обо-
татит» |Г 133, с. 171—172]. Для тех же, кто отвергал мирские
блага, доставляемые разумом, и стремился к очищению «духовного
сердца», разум становился враждебным началом, ибо «разум
стремится к стяжанию богатств, любовь — к расточению их, разум
стремится к сану владыки и везира, любовь — к уделу нищего,
разум стремится к телесной крепости, любовь — к немощи, разум
стремится к славе, любовь — к унижению... Поэтому суфии
говорят: ,,Любовь — противник разума"» [61, с. 325].
Итак, объемля все уровни человеческой психологии, система
малайской литературы сама оказывалась «человекоподобной».
Более всего она напоминала своего рода форму, в которой человек
отливался как духовное существо, но не заданное раз и навсегда,
а находящееся в неустанном движении, непрерывно
совершенствующееся, разумеется, в средневековом смысле этого слова.
Выделение трех совокупностей сочинений, соответствующих трем
психологическим уровням, позволяет ориентироваться в массе
произведений малайской литературы, не слишком отклоняясь от
совокупного взгляда на нее ее творцов и читателей.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Для реконструкции было привлечено около 60 поэтических предисловий и
послесловий.
2 В настоящей работе использовано примерно 40 прозаических предисловий.
3 «Он именуется Духом Божьим (рух Аллах), поскольку благодаря нему
проявляются Бытие и Жизнь Аллаха; он именуется Связующим Духом (рух ида-
>фи)у поскольку соединяет Бытие Аллаха и .бытие всего сотворенного; он именуется
Зеркалом Истинного и Истины (Мир'ат аль-Хакк ва-ль-хакика), поскольку
истинная сущность Всевышнего и всех вещей отражается в нем; он именуется
Престолом Аллаха (арш Аллах), поскольку представляет собой место проявления Все-
219
вышнего; он именуется Простой (Субстанцией (Джаухар фард), поскольку в нем
проявляются все атрибуты Всевышнего и все Его имена и 'поскольку он есть тело,,
поддерживающее их; он именуется также Центром Кругов (марказ аль-даваир)^
поскольку круги сущего и ступени определенности Бытия имеют началом то, что
проявлено в нем» [913, с. <6l7—Щ.
4 Иногда в тексте смешение алам малакут и алам джабарут, так как в Аче
в XVII в. были, по-видимому, известны две терминологические системы,
связанные с учением о трех мирах (мулк — малакут — джабарут). Одна из них (ШЗ-,
с. 13'6'—tl3'8'; 16II, с. 1156}, широко распространенная в суфизме {2Ш\ с. Ю], с таким
порядком: мир твари (алам мулк)\ мир владычества (алам малакут) — уровень
души, мир всемогущества (алам джабарут) — уровень интеллекта. Другая,
принадлежащая аль-Газа'ли, в которой уровню души соответствует джабарут, а
интеллекта — малакут {4167, с. 6120; 93, с. 77—78]. Как бы ни именовался
промежуточный уровень, связующий мир твари и .мир интеллекта, характеристика,
дающаяся в данных стихах, может быть отнесена только к нему.
5 С соответствующей поправкой, так как в трактате, изданном Э. Джонсом,
джабарут и малакут объясняются по алыГазали.
6 'Связь термина садр с понятиями «сознание», «разум» подтверждается тем,
что одно из значений этого слова — «престол» (т. е. сфера общих идей). У
известного комментатора Корана алыБайдави термином садир именуется Первора-
зум [308, с. 8129]. Вообще при установлении терминологических значений следует'
в первую очередь учитывать набор, в который входит интересующий нас термин.
Так, в противопоставлении понятиям садр, с одной стороны, и лисан — с другой,
калб, несомненно, выступает в значении животной души — сферы образов,
однако в других контекстах он может означать духовное сердце, орган мистического
постижения «скорее интеллектуального, чем эмоционального характера» [417,.
с. 68i}.
7 То есть животная душа (хати хайавани) или материальное сердце (щлбу-
санаубари) — синоним животной души в суфийских текстах.
8 Нафс натика, или, в теологической терминологии, нафс аль-акл [283, с. 70].
9 «Что касается души, которая мыслит вещи и называется философами
разумной или речевой (ибо речь является наиболее типическим внешним
проявлением разума...), то она имеет две силы: познающую и практическую. Обе эти силы,
называются разумом, так что „разум" в данном случае является омонимом.
Практическая сила является таким началом, которое движет человеческое тело к
целенаправленным человеческим искусствам, целенаправленность которых зависит
от способности к осмыслению, свойственной человеку. Познающая же сила — эта
та, которая называется умозрительной; она воспринимает истинную природу
предметов разумного восприятия, отвлеченных от материи, места и положения, т. е.
природу тех общих понятий, которые мутакаллимы называют то состояниями, то-
разновидностями, а философы — отвлеченными универсалиями.
Эти две силы души обращены к двум разным сторонам: умозрительная сила
обращена к ангелам, ибо благодаря ей душа получает от ангелов истинные
знания (эта сила должна быть восприимчивой к тому, что нисходит свыше),
практическая сила обращена книзу, т. е. к телу, коим она управляет и нравственные
качества которого исправляет. Эта сила должна господствовать над всеми другими
телесными силами, все остальные силы должны воспитываться ею и подчиняться*
ей. Она сама не должна подвергаться их воздействию или находиться под их
влиянием; она должна воздействовать на них таким образом, чтобы из-за
телесных качеств в душе не возникли подчиненные состояния, называемые пороками.
Напротив, эта сила должна оставаться господствующей и вызывать в душе
состояния, называемые добродетелями» j[i2l0)l, с. 5126].
10 («Принимающее духовное именуется телесным, принимающее Связующий
Дух именуется духовным, -Связующий Дух же принимает от Истинного — Пре-
славе Он и возвышен!» (111Ю, с. il3'8J—1139].
«Человеческий дух (рух инсан) имеет множество имен. Поскольку им
человек жив, он именуется человеческим духом, однако своей жизнью человеческий
дух обязан Духу Святому, ибо последний есть дух человеческого духа. Он
именуется также духовным сердцем, поскольку благодаря ему человеческое сердце
поворачивается и видит, при этом, однако, человеческое сердце подобно световой
220
форме, а Дух .Святой есть око сердца. Он именуется также разумом, поскольку
благодаря ему человек мыслит, однако совершенство мышлению человека
придает Дух Святой, ибо он есть Разум всех разумов» (93, с. 68].
««Более того, Истинный — Преславен Он и .возвышен!—даровал тебе
наилучший разум (т.е. интеллект.—В. £.), да1бы он отличал истинные высказывания от
ложных и, проницая видимое, постигал то, что сокровенно (гаиб), и являл тебе
величайшие чудеса. И это именно разум обретает возвышенные атрибуты
Аллаха благодаря исследованию требований шариата» [931, с. 47].
«Разум в теле человека подобен государю, пребывающему в своем городе
и окруженному рабами, готовыми исполнять его повеления. И те рабы — память,,
понимание, мышление и воля — убла!жают душу, она же умиротворяет плоть и
украшает ее» §138*, с. /174}.
«Всем благим душа обязана разуму, подобному свече в ее тайнике,
озаряющей все уголки того тайника. Ничему не укрыться от ее света, и в его лучах ясно
различимо все праведное в душе и все шрешное в ней...» [1331, с. '176—176'}.
«(Тот, кто не имеет знаний и разума, никогда не ощутит аромата
совершенства, и ничтожное будет его уделом. Его ворота открыты, так что ничтожное
проникает внутрь через все эти ворота. Все свойства ничтожного объединяются в
том теле, которое покинул разум. .Когда все свойства ничтожного объединяются
в чьем-либо теле, разум покидает рушащуюся крепость тела, так как для него
там не остается места. Если разум уходит из тела, то тело человека, лишившегося
разума, может рассматриваться как тело животного, в том случае, когда он не
причиняет беспокойства людям. Когда же причиняет — как тело дикого зверя,
сатаны или Ибдиса» JJ13I1, с. 5120—321].
111 Аль-Джили, например, сравнивает космический Универсальный Разум с
отражением солнца в воде, а человеческий разум—с колеблющейся тенью воды на
стене [320, т. Ы, -с. 8164'}.
12 Характерно, что еще Ибн Сина писал: «Всякое знание может быть
сведено в конечном счете к постигаемым благодаря проницательности началам,
которые те, кто приобрел их впервые, сообщили обучающимся», понимая под
«проницательностью» «способность совершенствоваться без наставника», «форму
пророческой способности» [201, с. 230]. А Газали в «Опровержении философов»
пользовался термином «разумная душа» (20(1, с. 520-45128], давая же суфийскую
интерпретацию «Светового айата», прибегал к термину духовное сердце ![284, с. 20]..
13 Мусульманское учение о душе излагается в основном по сочинениям Фа-
раби «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» [50, с. 264—270],,
Ибн Сины — «(Канон врачебной науки» |[30, кн. I, с. 124—140] и, «О душе» f20il,
с. 219—275], Газали — «Опровержение ^философов» [201, с. 526—529], и
комментарии на «Световой айат» |[284, с. 20], а также по суфийским трактатам «Мир'аг
аль-1мухаккикин» и «Зубдат аль-хакаик» (|1-83>, с. 30—4(1, .1Ш—<11б|9].
м В теологической терминологии нафс ар-рух — «душа дыхания», или нафс
аль-хайат — «жизненная душа» {283*, с. 70}; в философской тер;минологии нафс
хайавани — «животная душа».
15 Внешних чувств, согласно большинству описаний,— пять: зрение, слух,
обоняние, осязание, вкус. Внутренних — также пять, причем терминология их
довольно неустойчива и варьируется в различных сочинениях; в философской
терминологии обычно говорят о памяти, мыслительной силе, силе догадки, воображении
и О'бщем чувстве. Кроме того, душа обладает двумя движущими тело
функциями: силой вожделения, движущей тело к положительно оцениваемому объекту,,
и силой гнева, движущей его от отрицательно оцениваемого объекта.
ьб форма отличается от идеи тем,, что «не может быть без материи», а идея:
не нуждается в материи для своего существования. Разведение этих понятий
объясняется обычно на таком традиционном примере: форма — это цвет и внешний
вид волка, воспринимаемый овцой, а идея — воспринимаемая ею враждебность
волка или дружественность ягненка [120(1, с. 5(26].
17 Так, например, в «Зубдат аль-хакаик» Активный Интеллект именуется
Владычицей (мутасирфа), которая «обнаруживает тайное (гаиб)» и «в воображении
производит сочетания путем присоединения и разъединения» ;[183', с. )169}.
18 Термин сирр встречается в обоих перечнях. Он обозначает глубочайшую-
сущность души, Дух Аллаха, зароненный в нее и являющийся самосветящимся,,
221
т. е. обладающим знанием по своей природе, а не воспринимающим его извне
1284, с. SO].
Далее в первом перечне (|1<Ш, с. >146] можно было бы ожидать появления
термина .«память» (хифз), однако в тексте вместо пего появляется термин «мысль»,
«ментальное напряжение» (чипта). На фойе исключительно арабских терминов
перечня это слово выглядит как ошибка переписчика, неправильно прочитавшего
диакритические точки у «х» и принявшего эмфатическое «з» за эмфатическое «т».
Ош.ибка эта тем более объяснима, что и мысль и память в равной степени
связаны с медитативным процессом.
После памяти идут мысль (фикр), вымысел (вахм) и воображение (хайал).
"Судя по всему, в этом перечне мысль и воображение являются воспринимающими
- (идеи ,и формы) силами, а память и вымысел — сохраняющими.
iB другом перечне {5126, с. !14(1—Il412] чувство (раса) занимает место
воображения из первого перечня, термин чита — «сильное ментальное напряжение», «мысль»
стоит на месте термина фшр, а место памяти занимает не вполне понятный в
данном контексте термин и'тикад, который едва ли следует переводить как «вера»
[526, с. 79], а скорее, исходя из его места в перечне и таких значений, как
«приобретать, собирать» и «закрывать, запирать» [Э9121, т. V, с. 2105},— как «память»
(ср. такие определения пам!яти, как «сокровищница», «кладовая» El8В, с. 169]) .<
Таким образом, оба известных нам малайских '.списка внутренних чувств принци-
"пиально идентичны и точно передают описанную тройственную структуру души.
19 В переводе восстановлен правильный порядок строк, нарушенный в тексте
в основном из-за смешения джабарут и малакут.
20 Перевод «образец» условен. iB тексте суджи — «мука -грубого помола»; на
наш взгляд, это метафора для плана, наброска, дающего абрис поэмы, сама же
^предлагаемая читателю разработка, в которой тема детализирована,— «мука
тонкого помола».
21 «[Термин поэтический метод] применяется к ментальной форме для
метрически организованных словосочетаний, которая универсальна, т. е. подходит для
любых единичных словосочетаний. Эта форма отвлекается разумом от наиболее
знаменитых (т. е. образцовых.— Б. Б.) словосочетаний и, получившая место в
-воображении, может быть уподоблена деревянной рамке (для изготовления
кирпичей.—В. Б.) или ткацкому станку. Словосочетания, которые ара'бы считают
правильными в грамматическом и стилистическом отношениях, затем отбираются
[разумом] и заключаются в эту форму, [используемую} подобно тому, как
строитель использует рамку для изготовления кирпичей или ткач — ткацкий станок»
•{88, т. illil, с. Э7Щ. В другом месте Ибн Халдун замечает: «Первое условие
[создания поэтических произведений] составляет профессиональное знание ее рода, т. е.
рода арабской поэзии. Это [знание] в конце концов вырабатывает у души
привычку, которая, словно ткацкий станок, позволяет поэту „ткать". Материал для
меморизации должен отбираться из истиннейших, чистейших и разнообразнейших
'-[произведений]... Часто говорят, что одно из условий, управляющих [поэтическим
творчеством],— забыть меморизованный материал, так чтобы его внешние
буквальные формы стерлись из ^памяти}, ибо они мешают настоящему
использованию поэтической привычки. (После того как они воздействовали на душу и были
забыты, метод {поэтического творчества] оказывается выгравированным в душе и
становится схожим с ткацким станком, на котором по мере необходимости можно
ткать аналогичные словосочетания» |[818, т. НИ, с. 3-814'].
22 iB сновидениях, как отмечает Ибн Халдун, душа проникает в духовный мир
(мир ангелов) и, созерцая «проблески» этого мира, получает знания о
будущем, «которые ее интересуют». Причем способность • проникать в духовный мир
во сне есть форма пророческой способности, присущая всем людям. Реализуется
она благодаря потенциальной духовности души, освобождающейся во сне от
«завесы» чувственных восприятий, отвлекающих душу и мешающих ей, уединившись
в себе, предаться созерцанию умопостигаемого (т. е. духовных миров).
Далее Ибн Халдун пишет: «Причина того, почему завеса чувств
приподнимается во сне, такова. Восприятия и действия разумной души есть результат
действия телесного животного духа (животной пневмы.— В. Б.). Этот дух
представляет собой тонкий пар, сконцентрированный в левом желудочке -сердца, как
сообщается об этом в сочинениях Галена и др. Он разносится с кровью по венам
222
и артериям и делает 'возможными чувственные восприятия, движения и другие
телесные действия. Его наиболее тонкая фракция поднимается в мозг. Там она
подвергается воздействию холода [мозга] и оказывает влияние на действие сил»,
расположенных в желудочках мозга (внутренних чувств.— В. Б.). Разумная душа,
воспринимает и действует только при помощи парообразного духа. Она связана
с ним... Так через посредство {.животного духа] влияние разумной души
достигает тела.
Мы уже говорили ранее, что восприятия разумной души бывают двух родов:
внешнее восприятие посредством пяти чувств и внутреннее восприятие
посредством мозговых сил. Все эти восприятия отвлекают разумную душу от восприятия,
к которому она подготовлена по природе, [а именно} восприятия духовных
сущностей, которые (иерархически.— В. Б.) выше, чем она. Так как внешние чувства,
телесны, они подвержены ослаблению и усталости в результате напряжения иг
утомления, а также измождению из-за чрезмерной активности. Поэтому Аллах
даровал им стремление к отдыху, с тем чтобы совершенное восприятие могла-
быть затем возобновлено.
Такой отдых осуществляется благодаря отливу животного духа от всех
внешних чувств и его возвращению к внутренним чувствам. Этот процесс
поддерживается благодаря холоду, который охватывает тело ночью. Под влиянием ночного-
холода.природное тепло удаляется в глубочайшие глубины тела и обращается ог
внешнего к внутреннему...
Итак, дух удаляется от внешних чувств и возвращается к внутренним силам.
Дела и препятствия чувственного восприятия ослабляют хватку, {которой они;
держат] душу, и она возвращается к (формам, которые существуют в силе памяти^
(ср. начало медитативного процесса в предисловиях.— В. Б.). Затем благодаря*
процессу синтеза и анализа (осуществляемого мыслительной силой.— В. Б.) [эти
формы] претворяются в воображаемые картины. Большинство из них — обычные-
картины, поскольку [душа] лишь незадолго до этого оставила общепринятые
объекты чувственного восприятия. Она затем передает их общему чувству, которое^
сочетает [данные] всех пяти внешних чувств, чтобы они были восприняты на
манер {полученных от] пяти чувств (ср. волнение, предшествующее медитативному
процессу в предисловиях.— В. Б.).
Часто, однако, душа во взаимодействии с внутренними силами обращается
к своей духовной сущности. Она тогда осуществляет духовный вид восприятия,,
который свойствен ей по природе. Она воспринимает некоторые формы вещей, и.
они в это время укореняются в ее сущности (ср. глубокую медитацию, отвлечение:
от внешнего в предисловиях.— В. Б:). Воображение захватывает эти воспринятые
формы и запечатлевает их в обычных моделях, реалистических или
аллегорических» [88, т. 1, с. 210-Ч21И1].
23 Примером одной из таких рукописей, в которых достаточно подробно'
излагается традиционная арабская теория красноречия, может служить «Хуласат аль-
инша фи-ль-мурсала» («(Сущность искусства сочинения в переписке») некоего Фа-
хараддина Ахмада ибн Джалаладдина Махмуда аль-Хасани аль-Бухари, состоящая;
из трех разделов. Первый раздел трактата посвящен «изъяснению того, что из
знания о слове, речи, красноречии, риторике, прямом и переносном значении
относится к науке сочинения и что согласуется с ней». Она состоит из 7 глав: слово
и речь, красноречие и риторика, прямое и переносное значения, сравнение (таш~
бих), метафора (истиара), метонимия (кинайя), намек. Второй раздел, который-
на-зывается «О подразделениях речи, принятых у сочинителей, и требованиях к
словам, используемым в сочинении, требованиях к речи и способах ее улучшения
с помощью лаконичного стиля (иджмал) и заимствования (иктибас)», состоит из
шести глав: подразделения речи, требования к словам, используемым в
конструкциях сочинения, требования к речи, одобряемой риторами в прозе и поэзии,
способы улучшения речи с помощью лаконичного стиля, заимствований и различных-
средств выражения и композиции (градация, намек, красивые начало, конец и
переход от темы к теме), знания писца и сочинителя. Третий раздел посвящен
собственно эпистолографии 1)211, с. 479—'4180].
24 Малайцы более или менее регулярно посещали Мекку начиная с XVII в.-
Об изучении в Мекке риторики и поэтики и специалистах в этих областях из ма-
223
лайского мира упоминает Снук Хюргронье [482, с. 268; см. также 187, с. 102—il08].
25 Малайск. ньята — «сделать явным» соответствует араб, захир.
26 Основное значение слова патут — «соответствующий», «подходящий»,
«находящийся в гармоней с чем-либо». Патут обозначает взаимную гармонию,
согласованность двух различных по характеру явлений или действий, например:
«Пантер а н Манткунинграт искусно управлял куклами в соответствии (т.е. в лад.—
Б. В.) со своим пением какавина» |[4!216, с. 218]. Здесь патут указывает на
обязательную в ваянге согласованность движений кукол и напева. Или: «...даже сердца
большинства мужчин, слушающих повесть, начинают биться в соответствии с (бер-
патутан двиган) голосом чтеца» [5, с. 2].
2,7 Подтверждает этот вывод одно из предисловий, содержащее все три
термина, следующие один за другим в порядке сужения и спецификации понятия
«правильная организация». Сначала вводится наиболее широкий термин каранг
(общая организация), затем патут (установление соответствия внешнего и
внутреннего аспектов) и, наконец, атур (упорядочение внешнего аспекта):
«Повествователь рассказывает старинную историю о тяжких томлениях и неотступной
страсти. И |это произведение], переложенное с яванского языка на малайский,
составлено (дикаранг) нищенствующим дервишем, [содержание его] правильно
выражено (дипатут) людьми прежних времен и упорядочено (диатур) знатоками» [20,
с. 16].
28 Символизация зрением внутренних чувств во фрагменте подтверждается,
в частности, тем, что в другом месте книги позицию зрения в том же
противопоставлении занимает память:
(Восприми звучание и краски книги
И запечатлей в памяти ее значение (il 33», с. Щ.
29 См. выше: «Не отличая ошибочного от верного» — это различение и
является основной функцией разума, который, как говорится в «Короне царей», «святое
отличит от нечистого, а ложное отделит от истинного» [1133, с. 1731
,зю Теоретик XV в. ас-Суйути дает такое определение термину лафз: «То, что
вышло изо рта, даже если оно не содержит в себе харфа (т. е. не
членораздельно.— В. Б.), есть звук (саут); если же оно содержит харф, но не передает смысл
•(ма'на), то это лафз, если же передает смысл, то это слово (калима) [146, с. 2].
3,1 «Лафз — это тело, а его душа — это ма'на. Одно связано с другим, как
-тело с душой; душа слабеет, когда слабеет тело, и приобретает силу, когда тело
становится сильнее. Если ма'на невредима, а часть лафза подпорчена, то это не-
.достаток стихов и их порок. Это подобно тому, как некоторые члены тела может
поразить хромота, или паралич, или кривота и тому подобное, но душа при этом
не покидает тело. Точно так же, если ма'на ослабла и часть ее подпортилась,
то от этого в полной мере страдает лафз. Это подобно тому, как тела могут
постигать болезни вследствие болезней души. И обнаружить, что ма'на подпорчена,
•можно только со стороны лафза и того, что он не должным образом соответствует
ей, по аналогии с тем, что было сказано о болезнях тел и душ. Если же ма'на
полностью испортилась и прогнила, то лафз оказывается мертвецом, не имеющим
пользы,, даже если он и красив на слух. Точно так же и в мертвеце нет никакого
видимого изъяна, однако нет от него ни выгоды, ни пользы. Если же лафз
полностью испорчен и распался, то не может у него быть и ма'на, так как душа
обнаруживается только в телах» [89, с. 124]. Я глубоко признателен кандидату
чфилологичеслйх наук Д. В. Фролову, любезно предоставившему мне переводы
текстов ас-Суйути и Ибн Рашика.
32 Обычно считалось, что в литературном произведении ма'на может быть
выражена рядом различных лафзов (существовал и взгляд, согласно которому
жаждой ма'на соответствует свой лафз ([88, т. III, с. 400]), разнообразие и
искусное использование которых рассматривалось как одно из важнейших достоинств
сочинения: «Задача поэта или литератора-прозаика — „одеть" эти тела (т. е.
маани—В. Б.) в одежду разнообразных слов. Ценится не разнообразие образов
шли мыслей, а разнообразие слов, „отделка мыслей", компоновка сюжетов» [57,
-•с. 190], Однако число лафзов также не бесконечно и ограничено идеей правильного
'Соответствия их ма'ани. Как отмечает Абд аль-Кахир аль-Джурджани: «Лучше
всего предоставить мысли (ма'ани) их собственным средствам выражения и дать
224
им выбирать свои 'собственные алфаз (мн. ч. от лафз.— В. Б.). Они сами
подберут себе одежды, которые подойдут им и будут впору» {ili28, е. ИЗ»—»14].
33 'В «Далаил аль-и'двказ» аль-Джурджани, возражая некоторым ранним
теоретикам, считавшим, что красноречие зависит в первую очередь от достоинств
вербальных элементов (лафз), утверждал, что последние сами по себе не образуют
языка. Они выполняют эту функцию, лишь (будучи организованы в
конструктивную систему, согласно требованиям значения. Таким образом, важным
элементом в литературном сочинении является структура, а сутью структуры —
значение. Когда значения в правильной последовательности определяются в сознании,
их словесные выражения покорно следуют за ними также в определенном
порядке. Литературное сочинение достигает своей цели, когда оно составлено
правильным и подобающим (т.е. соответствующим (значениям.— В. Б.) образом. Оно
становится темным, неясным, затрудненным и в целом неудовлетворительным, если
словесные элементы не соответствуют значениям или если сами значения в
сознании говорящего или пишущего не ясны или бессвязны» [387, с. 1038].
3,4 Свое исследование аль-Джурджани начинает с определения метафоры и ее
классификации. Метафоры (исти'ара) первоначально подразделяются на два вида:-
метафоры, несущие новую информацию (муфида) и ее не несущие (гайр муфи-
да). Примером первого вида метафоры могут служить слова «я видел льва»,
относящиеся к мужественному человеку. Они выражают нечто такое, что не
возникает в сознании при простом указании на мужество, поскольку добавочно
вызывают в нем образ могучего и свирепого зверя.
Далее .метафоры «информативные» классифицируются на те, в которых
осуществляется перенос значения с определенного объекта на другой, также
определенный (такой-то человек — лев; лев — некто определенный, реально
существующий), и те, в которых происходит перенос значения на место, где нет чего-либо
определенного, о чем можно было бы сказать: «это обозначается этим словом».
Пример последнего вида метафоры — выражения типа «рука северного ветра».
В этом примере нельзя указать, к какой же части ветра прилагается слово
«рука», ибо такой части у ветра нет, и тем самым невозможно сказать, что же с чем
сравнивается '(как в случае сравнения человека со львом). Северный ветер
изображается обладателем вещи (руки), но в действительности поэт хочет
приписать ему не обладание вещью, а некое свойство, обусловленное обладанием ей.
Именно такого рода метафору аль-Джурджани называет тамсил — аналогия.
|Важнейшей особенностью тамсила является то, что в нем сходство между
объектами не очевидно и не может быть установлено чувствами >(как, например,
при уподоблении чего-то круглого кольцу или щеки — розе), а требует мысленной
реконструкции (та'вил) и активности интеллекта (акл). Этот интеллектуальный
анализ необходим даже в простейших случаях, при рассмотрении таких,
например, метафор, как «доказательство-солнце»: сомнения подобны завесе между
глазом и объектом, доказательство «срывает» завесу, и сомневаться в фактах
становится также невозможно, как отрицать существование солнца. Более сложный
случай тамсила представляет сравнение двух групп объектов, в каждой из
которых существует внутренняя взаимосвязь. Такого рода пример дает следующий
стих Корана: «Те, кому было дано нести Тору, а они ее не понесли, подобны ослу,
который несет книги»1. .Сходство здесь заключено во всей ситуации с ослом и
основано на взаимосвязи ряда элементов: действие осла (переноска), груз,
который должен быть чем-то определенным (книга), и неосведомленность о
содержании груза. Достаточно опустить любой из этих элементов, чтобы тамсил распался.
Разновидностью тамсила является масал — фигуральное «косвенное»
выражение мысли, эстетическое и психологическое воздействие которого, по мнению
аль-Джурджани, значительно сильнее впечатления от ее прямого выражения.
Психологический эффект масала аль-Джурджани объясняет следующим образом.
Природа человеческого разума такова, что он лучше всего воспринимает новый
объект познания, когда может установить связь между ним и чем-то уже
известным, привычным. Знания же, которые доставляются ему органами чувств, во-
первых, гораздо более достоверны и конкретны, чем полученные путем
рассуждения и вывода, а во-вторых, более привычны, поскольку получены на том
раннем этапе жизни, когда человек познает благодаря органам чувств и естественной
предрасположенности (тиба'), а не позднее, когда в процессе познания включа-
15 Зак. 147
225
ются мысль и размышления. Если поэт при помощи наглядного образа ведет душу
от умопостижимоло к чувственно постижимому, он уподобляется человеку,
который, желая представить кому-либо чужеземца, прибегает к посредничеству
старого друга того, кому хочет его представить. Таким образом, использование в
поээии фигурального выражения приводит к регрессии на уровень сознания,
относящийся к более ранней фазе развития — познанию, основанному на
чувственных впечатлениях.
Зрительные впечатления обладают наибольшей; силой убеждения и
внушения. Идея влияет на душу более живо и глубоко, если она как бы «увидена»,
«воспринята» в сфере, «подвластной глазу». В качестве примера,
иллюстрирующего эту мысль, альпДжурджани приводит два поэтических выражения: «ночь,
долгая, будто к ней присоединились другие ночи», и «день, длинный, как тень
копья»— и усматривает превосходство второго именно в>его пластичности,
наглядности.
iKpOMe того, второе выражение странно, необычно. Эта странность (гараба)
является второй причиной эстетического воздействия фигурального выражения,
ибо человеческая природа такова, что душа чувствует особое влечение, своего
рода любовь, к вещам, проявляющимся в неожиданной связи, и испытывает
сильнейшее наслаждение, устанавливая сходство и гармоническое единство между
тем, что обычно представляется несходным.
Установление сходства мажду далекими вещами требует задержки
внимания и интеллектуальной активности,- что также усиливает эстетическое
наслаждение, которое стоит в тесной связи с интенсивностью интеллектуального усилия,
необходимого для раскрытия сходства. Аль-Джурджани, однако, предостерегает
против такой усложненности стиха, которая чрезмерно затрудняет его
понимание. Опыт, доказывающий, что Сближение отдаленного доставляет удовольствие,
не дает оснований для произвольного отыскания гармонического соответствия
несовместимых родов.
(Далее аль-Джурджани исследует вопрос о том, почему же множество черт
сходства, роднящих вещи, ускользает от взгляда и обычно не привлекает
внимания. Причины этого он усматривает, во-первых, в том, что обобщенное
восприятие «контуров» вещи предшествует ее детализированному восприятию, и,
во-вторых, в том, что в памяти запечатлевается лишь видимое часто и почти не
оставляет следа видимое редко, а именно оно-то и является наиболее ценным в
поэтическом отношении. Поэт же наделен особым даром видения, которого лишены
обычные люди. Вознесенный в аферы, далекие от повседневности, он
воспринимает и заставляет нас воспринимать вещи, на которые в повседневной жизни не
обращается внимания.
Описание неприметных обычно деталей именуется тафсил («расчленение»),
сравнение с необычными вещами — гариб («странное», «(диковинное»). Эти два
приема являются основой большинства фигуральных выражений Ц1(2в, с. 9—4'8].
35 Поскольку малайские литераторы были знакомы именно с поздней формой,
приведем ниже это резюме с небольшими сокращениями.
«Следует знать, что тайна и дух речи — то есть выражения и обращения —
состоит в передаче идей (ма'ани). Если не предпринимается никаких усилий для
передачи идей, речь уподобляется „мертвой земле" (мават), которая не подлежит
учету.
Совершенный способ передачи идей — это красноречие. Это видно из
определения красноречия, даваемого литературными критиками. Они говорят, что
красноречие есть соответствие речи требованиям ситуации (в смысле, определенном
выше.— В. Б.). Знание^ условий и законов, управляющих соответствием
словосочетаний требованиям ситуации, образует „науку красноречия" (риторику.—
-В. Б.)».
Затем Ибн Халдун отмечает, что для правильного определения «требований
ситуации» существует совокупность законов и правил, исследуемая в первом
разделе риторики — «науке о значениях». Дав ее краткое определение, он
продолжает: «После того как требования дайной ситуации таким образом определены („в
науке о значениях".— В. Б.), являются различные способы, которыми разум
движется среди идей с помощью различных видов [словесных] значений. В своем
конвенциональном значении каждое словосочетание указывает на одну определен-
226
•ную идею, во затем разум устремляется к тому, что может 'быть следствием этой
идеи или иметь идею в качестве следствия, или тому, что может быть подобно ей
и, таким образом, выражает Цнекую идею] косвенно как метафору или метонимию,
что было установлено в должных местах (т. е. в трудах литературных
критиков.— В. Б.).
Это кружение доставляет разуму удовольствие, возможно даже большее, чем
f удовольствие], вызываемое указанием -на требования ситуации. Ведь вое это
означает получение вывода из аргумента, призванного дать основание (этому
выводу.— В. Б.), а получение вывода, как известно, доставляет удовольствие.
Различные способы, которыми кружит разум, также имеют свои условия и законы,
подобные правилам. Они были выделены в особое искусство и названы „наука
о стиле" (байан).
Эта наука — сестра „науки о значениях", которая указывает на требования
данной ситуации. „Наука о стиле" имеет отношение к идеям и значениям
словосочетаний. Правила „науки о значениях" имеют отношение к самим ситуациям,
которые должны быть переданы в словосочетаниях, в той мере, в какой они
влияют на значение. Слова и идеи «зависят друг от друга и, как известно, стоят бок
о >бок (т. е. соответствуют — мутабака — друг другу.— В. Б.). Таким образом,
как „наука о значениях'^ так и „наука о стиле" обеспечивают совершенное
указание на требования ситуации и соответствие им...
Итак, после того как совершенное указание (на требования ситуации
достигнуто], словосочетания в соответствии с духом, присущим арабскому языку,
многоразличными способами украшаются. Эти украшения придают словосочетаниям
блеск правильной речи. Виды художественных украшений включают в себя
орнаментальное использование рифмованной прозы с идентичной структурой
клаузул, омонимы, намекающие на зашифрованное значение, антитезы и другие
риторические фигуры-'(ал/саб), изобретенные и перечисленные [литературными
критиками], для которых были установлены условия ([употребления] и правила,
получившие название „наука о риторических фигурах" (илм аль-бади'). Они придают
блеск речи и доставляют слуху удовольствие, приятность и красоту в дополнение
к указанию [на значение]» ,[818', т. III, с. 399-^4016].
36 (См. примеч. 312.
37 Так, например, Абу Хилал аль-Аскари, арабский теоретик X в., излагая в
своей «Китаб ас-сына'атайн» («Книга о двух искусствах») взгляды сторонников
многословия (асхаб аль-итнаб) и сторонников «лаконичного стиля» (асхаб аль-
иджаз), приходит к заключению, что лаконичный стиль иерархически выше, что
он предназначен для избранных {217(1, с. 174]. По его мнению, слова Корана
«являются высшим непревзойденным образцом „лаконичного стиля"»: «...и если ты
хочешь проверить, то попытайся переставить слова в этих речениях и увидишь,
что слов станет в несколько раз больше, а мыслей меньше» [271, с. 174].
Описывая различия между двумя видами красноречия (фасаха и балага), он пишет:
«'Если речь заключает в себе все похвальные качества, но не будет обладать
пышностью и достоинством краткости, то ее можно назвать балиг, но нельзя назвать
фасих» (2711, с. 104]. Именно фасих же, с его точки зрения, есть наиболее
красноречивая речь.
&8 Часто в трудах арабо-персидских теоретиков встречается тройная
оппозиция матбу'** мансу' (от сана' — «ремесло», «искусство»; т. е. не выражение по
природному дару, а тщательная «искусственная работа над стилем» [499, с. 138]) «■*
такаллуф. Оценка поэзии — масну' может быть различна. Иногда она
рассматривается как худшая, чем матбу'j иногда как равная матбу' или даже
превосходящая ее. Такаллуф же в таком случае оказывается как бы чрезмерным масну* и
оценивается негативно. Так, например, Ибн Рашик пишет: «Мы не оспариваем, что
если на ма'на предельно совершенного бейта матбу' будет написан предельно
прекрасный бейт масну', в котором не скажется деланность (кулфа, то же, что
такаллуф.— В. Б.) и не проявится чрезмерное усилие, то из двух этих бейтов
лучшим будет масну1» I[4i919, с. '.140]. Такаллуф проявляется в особой
вычурности языка, нагромождении поэтических идей ма'ани в бейте и т. д,
и представляет собой плод длительной «натужной» работы по украшению
стиха.
39 Так, Джами в касиде «Полировка духа» пишет:
15*
227
«Стихи мои, словно шелк, чисты от рисунка изыска (такаллуф).
Что за беда, если тот или другой из-за их простоты
• назовет их бесцветными.
Искусство в слове у поэта хорошо, но только не настолько,
Чтобы нанести ущерб совершенству .смысла (ма'на).
Изысканная фантазия (точнее, «оригинальный вымысел» {1$6,
с. »150—(16)1].—В. Б.) —родинка на лице красавицы смысла:
Бели на щеках мало родинок, они придают им большую красу,
Но если от обилия родинок они захватят все лицо красавицы,
То дадут ей среди простолицых черноличие (позор)» fl'80, с. 2i54].
О вреде чрезмерной усложненности, мешающей правильному выражению,,
пишет аль-Джурджани [128, с. 117]. Особенно ясна эта мысль в «Лролегомене»
Ибн Халдуна: «Поэту следует также изо всех сил воздерживаться от
запутанных словосочетаний. Ему следует пользоваться лишь теми, чьи значения можно
понять быстрее, чем значения ([отдельных] слов, из которых они состоят. То же
самое относится и к включению слишком большого числа идей (ма'ани) в один
стих, что делает его слишком трудным для понимания. Образцовый стих — тот,
число слов в котором соответствует числу идей, либо превышает последнее. Если
идей в стихе слишком много, он становится перегруженным. Сознание тогда,
исследуя идеи, не может еоередоточитыся. В (результате [литературный] вкус
[слушающего] отвращается от оодобающего ему полного понимания красноречия
[стиха]. Поэма бывает изящной (букв, легкой.—В. Б.) лишь тогда, когда
сознание быстрее постигает идеи, чем слова» [88, т. ЬЫ, с. 3814].
40 Семантическое поле прилагательного индах описывается в словарях как
образованное понятиями «красивый», «прекрасный», «ценный (=драгоценный)»
[388, с. 77; 517, т. I, с. 4124], «диковинный», «странный», «интересный»,
«курьезный» \Щ8, с. 77], Глагольное значение корня индах — обращать внимание на что-
либо. Таким образом, в индах прежде всего подчеркивается привлекающая
внимание, притягательная для органов чувств необычайность прекрасного объекта.
Эта же концепция присуща данному слову в яванском языке, где оно означает
«прекрасный», т.е. .«бросающийся в глаза» .[437, с. 106]. Разумеется, в таком
значении понятие «прекрасное» приложимо лишь к явленному объекту, феномену.
В отличие от индах в зафиксированной словарями семантике слова элок
подчеркивается понимание прекрасного как благого, хорошего [360', с. 250],
пригодного для чего-либо Р$8, с. lllll]. Поэтому синонимом элок часто выступает слово
баик — ««хороший», '«благой», а антонимом — слово бурук—«дурной», «плохой».
Это значение зафиксировано в таких, например, выражениях, как: «элок денган
бурук та'берчерэйъ («хорошее неотделимо от дурного» [388, с. liM]), «хабар элок»
(«хорошая весть»), «элок дипакэй» («пригодный для использования»). Очевидно,,
что понимаемая таким образом красота присуща объекту субстанционально,
может быть явлена в чувственном восприятии, но может быть и скрыта от него и
потому присуща как феноменальной, так и ноуменальной сферам бытия.
Исследование смысловых контекстов, в которых употребляются слова индах
и элок в литературных произведениях и суфийских текстах, подтверждает
справедливость предложенного разведения этих понятий.
В литературных повестях, важнейшей функцией которых является
воспитание правильной поведенческой ориентации в феноменальном мире, слово индах
встречается очень часто, прилагаясь ко множеству предстающих глазу объектов
(элементам пейзажа, дворцам, цветам, птицам, драгоценным камням, одеяниям
•и пр.) и действий (битве, полету и т.д.). Слово элок используется в повестях,
пожалуй, реже, причем как индах, так и элок нередко прилагаются к одним и тем
же предметам, то замещая друг друга, то образуя устойчивую
взаимодополняющую пару. 'Например: «несказанно прекрасный (индах) и пригожий собой (элок)
цветок розы» [57, с. 107]. Или: «И государь увидел того павлина, коий был
несказанно хорош собой (элок) и на диво дрекрасен (индах)» [57, с. 7],
Однако в ряде случаев преимущество явно отдается индах, в ряде же — эло/с
Так, во всех исследованных предисловиях к повестям — наиболее
концептуальной, а следовательно, терминологически точной их части — при описании красоты
произведения («звучащей вещи») используется только термин индах. Это вполне
понятно, ибо речь, звучание есть выражение по преимуществу; то, благодаря чему
228
тайное (мысль, значение, история) обретает внешнее бытие, может быть
воспринято. Точно так же именно индах прилагается ко всякому звучанию, делающему
явным внутреннее содержание, будь то беседа или музыка, пение и т.п.
В то же ар ем я при описании прекрасного лица используется лишь слово элок
(или его синоним баик). Это объясняется тем, что лицо согласно мусульманской
(и не только мусульманской) традиции есть запечатление внутренней духовной
сущности (именно поэтому Сущность Аллаха — зат именуется Его Ликом — вад-
жах (61, с. 90]), причем запечатление тайное, скрытое, не воспринимаемое
непосвященными, но раскрывающееся благодаря знанию физиогномики, науки о
внутреннем значении черт лица.
■Совершенно иная картина наблюдается в суфийских произведениях,
ориентирующих читателя н,а уход из феноменальной сферы и постижение ноуменальных
сущностей. В этих текстах явно господствует слово элок и лишь оно приложимо
к таким центральным понятиям, как божественное Бытие, божественные
Атрибуты и др. (см., например, (74, с. '53, 721—73'}), замещая арабское Джамал.
Слово индах встречается в них редко, и (поэтому рассмотрение тех контекстов, где
оно появляется, особенно показательно.
В стихах Хамзы Фансури это слово в форме прилагательного встретилось
нам лишь однажды в описании Чистой Птицы, символизирующей Дух:
Эта отица необычайно прекрасна Сиядах)
Благодаря разнообразию {повадок] и уловок ,[74, с. 34].
Несмотря на символический контекст, совершенно очевидно, что слово
индах использовано здесь не для обозначения неизменного субстанционального
аспекта красоты Духа, а для выражения того ее аспекта, который переменчиво
проявляет себя вовне, «мерцает» в разнообразных явлениях феноменального мира
[284, с. 74].
В сборнике анонимных трактатов индах используется также всего один раз
для прямого указания на красоту феноменального мира: «... в сфере
относительного бытия нет ничего более прекрасного (индах), украшенного и совершенного,
чем этот мир...»' [93, с. 76].
Наконец, дважды этого слово встречается в стихах, входящих в собрание
Хамзы Фансури, но подписанных Абд аль-Джамалом. В первый раз оно
употребляется в описании горы и окружающей ее реки, которое, хотя и дает
символическое изображение ноуменальной реальности [2i82, с. 36—49], по своей внешней
форме представляет собой как бы пейзажную зарисовку, и потому использование
в нем индах совершенно естественно.
/Второй случай особенно интересен, поскольку в нем индах выступает в
прямой оппозиции к Джамал — божественной Красоте. Речь идет об уже
цитировавшемся фрагменте о мире души, в котором говорится о двух типах
«странников», идущих суфийским путем. Одни из них, достигнув алам малакут,
очаровываются потоком прекрасных (индах) образов феноменального мира, «забываются
в животном влечении» к ним как таковым, теряют ориентацию и оказываются
отброшенными в наветренные страны — царство материи. Другие же, не
остановленные этим потоком, проходят ряд духовных миров и, наконец, достигают
«единения с Благородным Господом, т. е. с Высочайшей Красотой (Джамал)». В этом
' фрагменте индах, несомненно, является внешним, феноменальным проявлением
красоты — синонимом хусн.
411 В дальнейшем, если при слове «прекрасный» не стоит какой-либо
малайский термин, оно представляет собой перевод термина индах.
4,2 Автору предисловия к рукописи ЛО HiBAH Д 446 это свойство повестей
кажется волшебством — хикмат (ср. приписываемое пророку Мухамм.аду
высказывание о двух функциях литературы: колдовстве — сихр и мудрости — хикма
[345, с. 324]), для объяснения которого он пытается возвести этимологию слова
хикаят к хикмат явно по аналогии с часто излагаемыми в арабских и персидских
поэтиках основным (знание, этимологически — ведовство 1221', т. II, с. 66]) и
терминологическим (стих) значением слов,а ши'р § 1(8(2), с. 316].
43 Традиционное для мусульманской культуры представление о влечении
(любви) к чему-либо как свойстве, обусловленном гармоническим соответствием,
своего рода единосущностью (см., например, [30, с. .17—21]), было глубоко
усвоено малайской культурой, по-видимому, на основе еще магических представлений
229
о воздействии подобного на подобное. Оно отразилось как в суфийских
сочинениях, так и в беллетристике, например в многочисленных описаниях идеального
-соответствия друг другу влюбленных. Характерное описание любви как влечения,
основанного на .гармонии, встречается в газели из «Короны царей»:
(Возлюбленная моя, подобная душе, любима и преславна,
И душа моя от этой души далека.
Если проживешь даже тысячу лет — все тщета,
Лишь достигнув этой души, воистину возрадуешься fli3&, с. 170].
Отвлекаясь от глубинного, суфийского смысла стихотворения и обращаясь
лишь к его внешней конструкции, можно заметить, что в основе ее лежит
уподобление возлюбленной — душе, т.е. тому, что единосущно душе автора,
испытывающей влечение к возлюбленной. При этом радость (т. е. наслаждение)
достигается благодаря соединению этих двух гармонических соотнесенных сущностей.
44 Выразительное описание «пульсации» души в такт музыке дает Джами,
следующий в нем Ибн Сине: «Сочетания звуков имеют одну особенность, которая
отсутствует у сочетаний всякого другого рода, а именно: когда нежный тон
внезапно достигает духа (т. е. сердечной пневмы.— В. £.), он делается для духа
усладой, ,и дух впадает в экстаз (т.е. расширяется.—В. Б.), как от небывалого
нежного явления. Однако едва дух успел испытать наслаждение от восприятия тона,
как этот тон прячет лицо прощания в покрывало исчезновения, и дух сжимается
в отчаянии расставания, чтобы снова перейти от отчаяния к восторгу,
вызванному появлением следующего тона, который является как бы тем же исчезнувшим
предыдущим тоном, в силу чего этот последующий тон включается в
композиционное единство» [28, с. 14—116].
45 Ср. предисловие к «Повести о Панджи Куда Семиранге» [477, с. 46},
«Повести об Андакене Пенурате» |129, с. 211] и др., а также процитированный выше
фрагмент из другого списка «Повести о Чекеле Ваненг Пати».
46 Первый раздел определения включает в себя два термина традиционной
логики: «посылка» и «силлогизм». Деятельность поэта предстает в нем как
создание силлогизмов, призванных успешно доказать некое положение. При этом, как
становится ясно далее, объектом воздействия доказательств выступает не разум,
а душа (воображение). (Силлогизм тем самым приобретает довольно
своеобразный характер.
Аль-Фараби, наряду со многими авторами также рассматривавший
«поэтические суждения» как разновидность силлогизма, так определял эту специфику:
«Из этого подразделения вытекает, что поэтическое суждение — это такое
суждение, которое не является ни доказательным, ни дидактическим, ни риторическим,
ни софистическим, но при всем этом оно является видом силлогизма или скорее
„послесиллогизмом" (под „послесиллогизмом" я подразумеваю индукцию,
аналогию, интуицию и т.п., т.е. то, что имеет силу силлогизма)» [512', с. 532:—503}.
Итак, поэтическое творчество — это создание своего рода аналогов силлогизма,
способных воздействовать на душу (воображение).
Второй и третий разделы определения характеризуют собственно поэтологи-
ческий аспект «доказанного» душе — поэтического высказывания, поэтического
силлогизма. Второй указывает на то, что в душу (воображение) вводится и
душой воспринимается ма'на, «поэтический образ-идея» — термин, значение
которого было объяснено выше; третий — на то, что ма'на доводится до души
благодаря «оболочке» соответствующего лафза (хотя этот термин прямо не упомянут,
такие выражения, как «одежды», «облик», в подобных контекстах, как мы уже
видели, суть метафоры лафза). Однако сказанного было бы еще недостаточно
для собственно поэтологического определения, поскольку оппозиция ма'на^^лафз
еще не выводит нас за границы .лингвистики. Область литературной теории
отграничивает указание на неистинность высказывания, которая тем не менее
не мешает душе принимать его, «считать доказанным» («действенные
силлогизмы»). цТак, Ибн Сина, определяя поэзию как метризованную и рифмованную речь,
воздействующую на воображение (мухайил), писал: «Аль-мухайил — речь,
которой подчиняется душа, испытывая удовольствие или страдание без созерцания,
мысли и опыта; и подчиняется ее влиянию независимо от того, будет ли считать
сказанное истиной или вымыслом» [121211, т. II, с. 61]. Джами (XV в.), давая в своем
«Бахаристане» определение поэзии, в целом тождественное определениям Низа-
230
ми Арузи и Ибн Сины, приводил такие примеры неистинных поэтических ма'ант
«Вино—расплавленный лал», «Вино — струящийся яхонт» [29, с. 4*50].
Обсуждение вопроса о специфической «лживости» поэзии и причинах, побуждающих душу
тем не менее принимать эту «ложь», встречается едва ли не в "любом
мусульманском, литературоведческом сочинении (кстати, и в предисловии к малайскому
сборнику повестей ЛО ИВАН Д 4416). Ограничимся лишь одним вполне
хрестоматийным примером: «Аскари в „Китаб ас-сына'атайн", размышляя о
соответствии „мыслей" и „слов" в произведениях прозы и поэзии, говорит, что
„правильная мысль" нетождественна с жизненным правдоподобием, важно, чтобы был
„правильным" образ в соответствующем словесном выражении. Автор
совершенно согласен с неким „философом", имени коего он не называет, который в ответ
на обвинение, 'брошенное в адрес поэта: „Он л1жет в своих стихах", ответил: „От
поэтов требуется прекрасная (разрядка наша.— В. Б.) речь, .а истины можно
требовать только от пророков"» {2711, с. 102]. Итак, истинность вовсе не должна
быть свойственна литературному произведению. Душа принимает то, что им
«доказывается» благодаря, его внешней и внутренней красоте, красота его лафза,
ма'ани и их соответствия, которые и составляют сущность прекрасной речи (ср.
выше). Причины же, обусловливающие это приятие, нами уже проанализированы.
Они заключаются в гармоническом родстве прекрасного и души, вызывающего
ее любовь к прекрасному.
В четвертом разделе определения Низами Арузи описывает психологический
механизм воздействия поэзии, переходя от логической и поэтологической
терминологии к терминам традиционной мусульманской психологии. Первым в их ряду
выступает термин ихам— «воздействие на воображение», близкий к мухайил в
определении Ибн Сины. Прибегая к этому термину, Низами Арузи несколько
отклоняется от обычной терминологии Ибн Сины и «философов»1, заложивших
основы мусульманской психологии, воспринятой у них с некоторыми
модификациями суфиями, в частности Газали. В философской терминологии термином вахм,
образованным от того же корня, что и ихам, обозначалось не собственно
воображаемое (хайал), сохраняющее образы, доставляемые «общим чувством», или
«воображающая сила» (кувват аль-мутахайила — она же мыслительная сила),
воспринимающая образы единичных вещей, -а также производящая их сочетание
и разъединение, но «сила догадки», воспринимающая идеи единичных вещей
[30, кн. I, с. 1135—136]. Причиной подобной терминологической
нечеткости послужило, видимо, то, что большинство «внутренних чувств»
оказывались так или иначе связанными с функцией воображения, что и
позволило говорить о душе как о «мире воображения». Так, Ибн Сина называл
воображением (хайал) силу, сохраняющую образы; воображающей силой — силу,
разъединяющую и сочетающую их; наконец, он же упоминал о людях,
называвших воображением силу догадки [30, кн. I, с. il«36i—1136]. Аль-Фараби объединял
.-почти все силы внутренних чувств в одну «воображающую силу» [51, с. 177; 50,
с. 266] и т. д. В значении «воображение» (точнее, «воображающая сила» в
терминах Ибн Сины) термин вахм, подобно Низами Арузи, использовал автор
персидского суфийского сочинения «Зерцало взыскующих истины», писавший:
«Другое из внутренних чувств — это воображение (вахм). Его действие состоит в том,
что оно допускает восприятие вещей, представляющихся душе видимыми или
невидимыми, истинными или неистинными, ма'ани которых вне формы (сурат)
или не вне ее (т. е. имеют материальный носитель или не имеют его.— В. В.).
Например, люди хотят представить себе тысячи солнц на небе или представляют себе
тысячи ртутных морей, хотя [в действительности] не существует ни одного такого,
или тысячи гор из яхонта, золота и бирюзы, хотя нет ни одной такой» ['183', с. 34].
3ia термином ихам следуют выражения «сила гнева» и «сила страсти»,
которые, как мы уже знаем, также являются психологическими терминами. Их
значение и характер воздействия на них воображения могут быть поняты на основе
следующего определения Ибн Сины: «Двигательная сила как побуждающее
начало есть вожделеющая сила. 'Когда искомая или избегаемая форма
запечатлевается в воображении, она побуждает эти силу к движению. Вожделеющая сила
делится на силу, называемую силой страсти,— она побуждает к такому
движению, посредством которого она заставляет тело в поисках удовольствия
приближаться к вещам, представляющимся необходимыми и полезными, и на силу,
называющуюся силой гнева,— она побуждает тело к такому движению, посредст-
231
вом которого она заставляет его отвергать вещи вредные и тлетворные для их
лоборения» [SOI1, с. 260—021].
Одно из сочинений Аль-Фараби дает возможность дополнить это определение
перечнем душевных аффектов, в которых проявляется действие вожделеющей
(стремящейся) силы: «Стремящаяся сила — это та, благодаря которой
возникают стремления животного к чему-либо, поиск и избегание, предпочтение и
отвращение, гнев и удовольствие, страх, смелость и трусость, жестокость и сострадание,
любовь и ненависть, страсть, вожделение и другие аффекты души» [51, с. 178—
179}.
Наконец, в пятом разделе определения Низами Арузи мы переходим к
терминам смежного с психологией раздела средневековой мусульманской медицины
(по существу, к традиционной физиологии) — «.натура», «расширение», «сужение».
Натура (таби'а, мизадж — «темперамент») представляет собой смесь в
определенных пропорциях четырех первичных элементов (земля, вода, воздух, огонь),
присущую телу в целом и каждому его органу. В зависимости от этой пропорции
натуры бывают «уравновешенными» (смесь элементов в равном количестве) и
«неуравновешенными» (преобладание какого-либо элемента в смеси). Так как
каждый элемент обладает определенными «первичными качествами»: земля —
сухостью и холодностью, вода — холодностью и влажностью, воздух — горячестью
и влажностью, огонь — горячестью и сухостью, то и неуравновешенные натуры
определяются свойствами преобладающего элемента. В натурах различных
органов в зависимости от их функций преобладают те или иные «качеству»; характер
натуры зависит также от возраста, «климата» (т. е. одного из семи поясов
обитания) и — далеко не в последнюю очередь — от состояния души, т. е. присущих ей
аффектов [30, кн. I, с. 11— 315].
Натура способна реагировать на психический импульс (побуждаемое
воображением действие сил гнева и страсти) благодаря подготовленности к этому за счет
восприятия животной (т. е. жизненной) силы и передачи соответствующей
душевной силы. Носителем этих сил является «зарождающаяся в сердце» пневма. Ибн
Сина в «Каноне медицины» дает такое ее определение: «(К(ак из грубых соков
зарождается вследствие [влияния] некой натуры плотное вещество, а именно орган
или часть органа, так из парообразных и летучих [частей] соков в соответствии
с некой натурой рождается летучая субстанция, а именно пневма... Пневма, когда
она возникает вследствие (наличия] натуры, которую ей надлежит иметь,
способна к восприятию некой силы; это та сила, которая делает органы способными
воспринимать другие силы — душевные (т. е. силы внутренних чувств и
двигательные силы — гнев и страсть) и прочие» £30, кн. II, с. 1-3(2].
Изменяя в мозгу свою натуру ща ту, которая необходима для восприятия сил
гнева и страсти и их аффектов, пневма расширяется и сужается, приливает к
органам и отливает от них. За счет этого и происходит изменение натуры тела,
так как пневма по природе горяча и, приливая, усиливает качества горячести
и сухости,,а при отливе — холодности и влажности. Ибн Сина так описывает эти
процессы: «За всеми душевными проявлениями следуют или им сопутствуют
движения пневмы либо наружу, либо внутрь, причем это происходит либо разом,
либо мало-помалу. За движением наружу следует холод внутри. Иногда это
становится чрезмерным, и |[пневм|а] сразу растворяется и охлаждает тело как
внутри, так и снаружи. Это вызывает обморок или смерть. За движениями внутрь
следует холод снаружи и жар внутри. Иногда пневма задыхается от сильного
стеснения и охлаждает тело снаружи и внутри; за этим следуют глубокий
обморок или смерть. Движение пневмы наружу происходит либо разом, как при
гневе, либо понемногу, как при наслаждении и умеренной радости. Движение внутрь
[происходит] либо разом, как при испуге, либо понемногу, как при огорчении;
что же касается упомянутых явлений растворения и задушения, то они всегда
следуют за тем, что происходит разом, а уменьшение и истощение прирожденной
[теплоты] всегда следует за тем, что [происходит] мало-оомалу. Бывает, что
[пневма] движется одновременно в двух направлениях, когда это явление вызвано
двумя причинами. Таково, например, горе. Случается, что его сопровождают гнев
и печаль, и тогда оба [душевных] движения различны, или, к примеру, стыд: он
сначала сжимает |[все] внутри, потом разум и рассудок возвращается, и [стыд]
отпускает сжатое и устремляется наружу; и цвет лица становится красным. Тело
232
испытывает воздействие и от [других] душевных настроений, кроме тех, которые
мы упомянули. Таковы (всевозможные} психические представления, которые
возбуждают в естестве [разные] переживания... По той же причине изменяется
натура, когда представишь себе что-нибудь страшное или радостное» |[30, кн. I, с. Ш—
1812].
Изменение первоначального состава натуры есть проявление того, что
психический импульс (.начинающийся от восприятия произведения воображением), во-
первых, трансформирует все существо человека, как психическое, так и
физиологическое (наиболее яркими симптомами этой трансформации является изменение
ритмов дыхания и пульса [30, кн. I, с. 21611]), и, во-вторых, вызывает
определенные действия органов — .«орудий стремящейся силы» [2Ш, с. 21211, 232], т.е.
становится причиной человеческой деятельности — «величественных дел'в устройстве
мира». Именно поэтому один из персидских государственных деятелей,
упоминающийся в примере, которым Низами Арузи иллюстрировал свое определение
поэзии, и утверждал, что всеми своими успехами он обязан нескольким бейтам
стихов Р'15, с. 412—413].
47 (Например, в «Афоризмах государственного деятеля» Аль-Фараби пишет:
«Способностью отлично представлять в воображении пользуются, чтобы вызвать
недовольство и удовольствие, страх и доверие и для проявления прочих аффектов
души, которые смягчают душу или очерствляют ее. |[.Йспользуя] эту способность,
можно побудить человека что-то сделать и внушить ему стремление к этому, даже
если его знание об этом говорит о необходимости противоположного тому, что
он воображает об этом... Все поэтические произведения сочинены только для того,
чтобы нечто отлично представить в воображении. Их шесть видов, из которых три
похвальны, а три заслуживают порицания. Посредством одного из трех
похвальных видов стремятся к улучшению разумной силы и направлению ее действий и
мысли к счастью, к представлению в воображении Божественных и благих вещей,
к отличному представлению в нем добродетелей, к выявлению их и выявлению
безобразности и низости злых поступков и порядков. Посредством второго вида
стремятся к улучшению и ослаблению аффектов души, возводимых к силе (т. е.
проявлений силы гневя.— В. В.). Их изменяют до тех пор, пош они не станут
умеренными и не перестанут быть чрезмерными. Такими аффектами являются,
например, гнев, гордость, жестокость, наглость, честолюбие, властолюбие,
жадность и т. п. Те, кто обладает этими качествами, направляются [данным видом
поэзии] к тому, чтобы использовать их в благих, а не в дурных делах.
Посредством третьего вида стремятся к улучшению и умерению аффектов души,
возводимых к слабости и мягкости (т.е. проявлений силы страсти.— В. В.), каковы
страсти, низменные удовольствия, криводушие, слабохарактерность, жалость,
страх, тревога, печаль, стыд, изнеженность, податливость и т.п., с тем чтобы они
были сломлены, перестали быть чрезмерными и стали умеренными и чтобы их
использовали в благих, а не дурных делах. Три заслуживающие порицания [вида
поэзии] составляют противоположность похвальным [видам]: что последние
исправляют, то первые разрушают, приводят от умеренного состояния к
чрезмерному. [Различные] виды мелодий и песен соответствуют (различным] видам
поэтических произведений; разряды первых такие же, как -разряды последних» И,
с. 21i0—2,17; ср. 150, с. 168].
48 |Ибн Сина рекомендует следующие способы врачевания страстной любви:
«'Их (пациентов.— В. Б.) следует вызывать на пререкания, занимать всякими
делами и спорами и вообще вещами, отвлекающими ,[от любви],— это иногда
заставляет [влюбленных] забыть то, что их [так] изнуряет. Или-же нужно влюбить их
в другую |[женщину], доступную им, согласно закону и вероисповеданию, и затем
отвлечь их мысли от второй возлюбленной, прежде чем любовь упрочится, но
только после того, как они забудут первую.
Если влюбленный принадлежит к числу разумных людей, то очень помогают
советы, увещевания, насмешки, брань и представления любви как наваждения
и разновидности безумия; ведь слово в подобньих случаях весьма действенно.
К влюбленному подсылают старух, которые внушают ему отвращение к
возлюбленной, рассказывают о грязных дедах и отвратительных поступках любимой и
сообщают о многих проявлениях ее жестокости; это нередко успокаивает
[влюбленных]. Полезно также, когда старухи описывают внешность возлюбленной^ лри-
233
бегая к мерзким сравнениям, и изображают части ее лица в отвратительном виде,
углубляясь и входя в большие подробности» [30, кн. III, т. I, с \Ш-^\40].
48а В классических персидских трактатах по поэтике «Му'джам» («Перечень»)
Шам'с-и Кайса ар-Рази (XIИ в.) и «Хафт кульзум» («Семь океанов») Кабула Му-
хаммада (XV в.) газель, предметом описания которой названы любовь и красота,
рассматривается как средство «успокаивать мысли и услаждать душу» и в этом
качестве противопоставляется другим видам поэзии, «содержащим .назидания и
увещевания» (т.е. рассчитанным на уровень не души, а разума). Успокаивающая
функция газели, подчеркнутая в обоих памятниках., предопределяет ее поэтологи-
ческие особенности, -сформулированные в них рб&а, с. 8-—9].
49 Алишер Навои в поэме «Семь планет» дает целый «трактат» об
«эстетическом лечении» царя Бахрама Гура, обезумевшего от горя по утраченной красавице
Диларам. Бахрамя лечат сперва прекрасной «архитектурой, затем живопдсью и,
наконец, литературой — рассказыванием удивительных повестей.
50 Приведем несколько примеров, иллюстрирующих все три опособа лечения,
описанные у Ибн Сины.
Возбуждение аффекта, противоположного любви (гнева).
В сочинении ин до-персидского прозаика Инаятуллаха Канбу (XVII в.) «Бехар-и
да ниш» описывается, как царевич Джажандар, влюбившийся по портрету в
прекрасную Бахравар-бану, тотчас заболевает «страстной любовью»: «Падишах, видя
состояние сына, погрузился в пропасть скорби, .созвал твердых духом везирей
и мудрых советников и попросил1 их развязать этот тугой узел. Те пустили в ход
тонкий разум и находчивый ум, стали придумывать всякие хитрости, но это не
принесло никакой пользы, и с каждым днем пламя скорби все больше охватывало
шахзаде, а огонь безумия все сильнее разгорался в его сердце. Когда искусные
лекари и ,те многоопытные мужи не нашли пути к исцелению, то другие мудрецы
посоветовали днем и ночью рассказывать царевичу, избравшему своим уделом
трон безумия, удивительные истории о неверности и непостоянстве женщин, этих
слабых умом существ, надеясь, что, быть может, так удастся его исцелить. И вот
один из мудрых и проницательных надимов (собеседников падишаха.— В. Б.)
стал наряжать невесту-слово в брачной комнате красноречия» (34, с. 3>1].
С о единен и ев оз действия на разум и возбуждения
аффекта, противоположного горю (гневя). В одной из сказок арабского
сборника конца ХШ—.начала XIV в., носящего условное название
«Удивительные рассказы и необыкновенные истории», повествуется о смерти любимой дочери
царя. Царь переживает глубокое горе, доверенный везир его на пути во дворец
встречает слепца, который берется исцелить царя рассказом. «Проводи меня в
такое место,— сказал ему слепец,— где царь может .меня услышать. Я обращу к
нему слово увещевания, которое исцеляет сердце и устраняет печали и заботы.
Затем я расскажу ему, если он призовет меня к себе, прекрасную и диковинную
историю, и воспылает сердце его ненавистью к женщинам и девушкам, и
возрадуется он смерти собственной дочери» (затем слепец увещевает царя
«красноречивой проповедью»). «Сердце его (царя.— В. Б.) успокоилось, заботы и печали
его немного улеглись». Царь говорит: «О старец, ты немного облегчил в моем
сердце плач, стенания и печаль, так продол!жи свои речи, они пришлись мне по
душе».— «О царь,— ответил ему шейх,— я знал одну прекрасную историю,
которая утешит тебя и вызовет у тебя ненави/сть к хитрым, ков-арным, изменчивым
женщинам. Хотя эта история длинная, необычайная и странная, но для мудрых
в ней много поучительного».— «Мне нравятся длинные истории,— сказал царь,—
потому что они отвлекают от печалей и укорачивают ночь». Сказка завершается
словами: «И когда окончил слепой рассказывать историю проклятой Арус,
удивился царь, и утешил его рассказ слепого, и улеглась в сердце царя печаль по
умершей дочери» [49, с. 1311—/132,, 160].
•Перенесение афф екта н<а другой объект (сублимация).
В том же сочинении Канбу иопупай, стремясь утешить влюбленного царевича,
указывает ему на множество влюбленных, вынесших горшие муки. Царевич
просит рассказать о них. «Тогда попугай начал рассказывать Джахандару
увлекательные и занимательные любовные истории, которые приятно слушать и которые
дают пищу тем, у кого есть вкус, полагая, что этими рассказами он развлечет
его... Каждую ночь он рассказывал приятный дастан или чудесную сказку, кото-
234
рые были для раненых помьцслов шахзаде как бы целительным бальзамом, а для
егю безумного сердца — заклинанием»1 ,[314, с. '1612].
Б дастане тюркского поэта XVI в. Маджлиеи «Сейф.альмулюк» встречается -
этот же мотив, причем в особенно близкой к малайским предисловиям форме:
«Султан Махмуд (Газневид.— В. Б.) почувствовал себя больным,
Несколько дней удивительно мрачным был,
Лик солнца [для него] темным стал.
Он повелел призвать к ,себе двух везирей,
Обладателей утонченного ума.
Сказал султан: „Я в великом смятении,
Будто от страсти, пребываю в печали,
От этой страсти становлюсь безумным.
Найдите мне какую-нибудь-повесть,
Подобной которой не было ни в какие времени,
Чтобы я, читая, обрел покой".
{'После ряда злоключений везири находят персидскую повесть о Сейфальму-
люке и приносят ее султану.]
Было рассказано предание о страсти и любви,
Ему (Махмуду.— В. Б.) понравилась прелестная повесть,
И, у(слышав ее, султан стал веселым» [317, т. III, с. 180—»18)1].
51 «Эта идея (идея чаматкара как трансцендентного наслаждения.— В. Б.)
достигла последней ступени развития благодаря попытке поднять поэзию на
уровень религии, уподобив эстетическое наслаждение экстатическому блаженству
божественного созерцания (брахмасвада). Вишванатха кратко суммирует ее
следующим образом: раса, возникающая от возвышенности саттвы, неделимая, са-
м ©проявляющаяся, состоящая из радости и мысли в их единстве (чаматкара),
свободная от связи с чем-либо воспринимаемым, подобна осознанию Брахм,ана,
жизнью в котором, представляющей собой сверхъестественное чудо, наслаждаются
„искушенные в нераздельности" [объекта от его осознания]. Из этого следует, что
праматр (этот искушенный.— В. Б.), которому лишь одному даровано такое
блаженство, подобен йогину, удостоенному такого преимущества благодаря
накопленным заслугам» [3121Г, с. 56—67].
50 Как пишет У ордер [5115, с. 34], «действие эстетического опыта сводится
как бы к сублимации чувства из психологического в эстетический план. В этом
процессе эстетическая эмоция трансформируется или замещается эстетическим
опытом — расой. Индивид достилает самозабвения и обретает универсальность
взгляда, что приносит ему высочайшее счастье».
53 Коротко изложим эту теорию, попутно отмечая черты ее сходства с
проанализированным выше мусульманским учением о творческом процессе.
Творческая деятельность поэта начинается актом поклонения избранному им божеству,
его иштадевата. Этим божеством может быть Кама, Сараевати, но также и Шива,
Вишну, Будда. Существенно в данном случае не имя и функции божества, а тот
особый аспект красоты, в котором оно рассматривается (ср. обращение
мусульманского поэта к Аллаху в его аспекте красоты — Джамал), представление о том,
что оно не только является началом и концом в)сего прекрасного (ср.
мусульманское учение об Аллахе мак источнике прекрасного)', но и проявляется во всем,
что прекрасно, например в природе, человеческой красоте, а также в поэме и даже
графитной пыли затачиваемого «кар/анДаша» поэта.
Целью поклонения древнеяванекого поэта является единение с иштадевата
в его аспекте красоты. Метод достижения этого единения — разновидность
тантрической йоги, в которой единение достигается благодаря посредующему
предмету, где божество присутствует или куда оно нисходит (ср. концепцию тасав-
вур —вспомогательного медиума для проникновения в ноуменальную реаль- '
ноеть — в исламе и ее описание в цитировавшемся руководстве к зикру).
П. П. Зутмюльдер называет эту разновидность йоги литературной йогой или
«религией поэта».
В тантрической йоге (как и в исламе) божество одновременно трансцендент-
но и имманентно по отношению к миру. Имманентность божества в космосе и
человеке рассматривается в трех формах: нискала — «нематериальная», сакала-
235
нискала — «материально-нематериальная» .и сакала — «материальная». Нискала—
это также трансцендентный аспект Абсолюта, «а уровне самого йогина
соответствующий глубинной сущности ело души, (ср. духовное сердце в суфизме,
непосредственно созерцающее мир ноуменов, Дух Божий в человеке). Форму сака-
ла-нискала божество принимает в сердце йогина (ср. идею-образ, пребывающую
в мире воображения — душе, часто отождествляемой с телесным сердцем).
Наконец, форма сакала — это вещь, доступная чувственному восприятию.
Путем непрерывной медитации и сосредоточения (ср. описание «зикрическо-
го» сосредоточения и медицации малайского поэта-мусульманина) йогин как бы
вызывает божество из его состояния нискала, т,ак что оно предстает его
внутреннему взору как сакала-нискала, затем он проецирует его за границы тела и
заставляет войти в материальный объект (ср. триаду мусульманской теории
творения: ноумен -*• единичная идея-образ ->вещь). Этот объект — янтра, на котором
затем фокусируются чувства и сознание йогина, является средством достижения
эффективного контакта с божеством и в то же врем'Я его вместилищем, местом
пребывания в состоянии сакала. Интенсифицируя этот контакт путем непрерывной
аскетической практики и медитации, йогин может затем двинуться дальше, к
более глубокой реализации своего единства с божеством. В конечном счете
сознание йогина, сосредоточенное на янтре, до такой степени наполняется образом
божества, что все другие объекты исчезают из поля зрения и, наконец, утрачивается
даже сознание своего «я», так что йогин полностью растворяется в божестве (ср.
инструкцию к зикру).
В литературной йоге янтрой является сама поэма. В предисловиях к древне-
яванским поэмам (как с соответствующими уточнениями и к малайским
мусульманским сочинениям) достаточно подробно описывается вызывание божества из
его состояния нискала в сакала-нискала, а затем воплощение его в поэме, часто
уподобляемой храму или статуе божества (ср. зикр как модель творческого
процесса).
П. Зутмюльдер так описывает «проблески» единения с божеством,
достигаемого посредством поэмы-янтры: .«Создавая поэму или наслаждаясь ею в
завершенном виде, человек может быть приведен .в экстатический восторг — ланго, обрести
эстетический опыт в отрешенности от своего сознания, суметь ощутить
приближение того мистического единения с божеством, в котором исчезает всякое
осознание своего „я"... Это единение носит преходящий характер, длясь не более чем
краткий миг экстатического восторга... Однако оно является также
предвкушением и приготовлением к тому единению с божеством, которое является калепа-
сан — освобождением (синоним санскр. мокша) и окончательным избавлением от
пут, в которых мир держит человека, и от крупа все новых и новых рождений.
А это и есть конечная цель йогина. Для поэта освобождение означает полное
растворение в единении с божеством кра'соты» [513в, с. ГЭ5]. Это освобождение
достигается постоянной практикой в литературной йоге.
Данное описание находит достаточно определенные прототипы в санскритской
эстетике, где, как и в эстетике древнеяванской, и аспект создания вещи, и аспект
ее восприятия могут рассматриваться как особого ррда йогическая практика.
Пример сходства целей, достигаемых йогином и эстетом, «искушенным в
нераздельности», был приведен выше. Здесь же рассмотрим пример создания
произведения как йогического акта: «Общая природа метода, используемого
художником, едина в литературе и искусстве. Мы уже видели, как Вальмики, авггор
„Рамаяны", прибег к йогическому методу, когда, „сидя лицом на восток и
пригубливая воду, согласно правилу [индуистского религиозного ритуала]", он предался
йогическому созерцанию темы. Благодаря своей йогиче'ской силе он ясно увидел
перед собой Раму, Лакшману и Ситу, а также Дашаратху вместе с женами в его
царстве, смеющихся, разговаривающих, действующих и движущихся, как в
реальной жизни... Посредством йогичёской силы этот праведник узрел все, что
произошло и что еще произойдет, словно плод нелли (символ ясного прозрения) на
ладони. И, истинным образом увидав все это благодаря сосредоточению,
благородный отшельник начал изложение истории о Раме» [276, с. 7<4—75].
^Индийский исследователь Кумарасвами так резюмирует принципы
санскритской теории эстетического творчества и восприятия: «...суммируем указания,
встречающиеся в книгах, которые содержат предписания по изготовлению
изображений. От их создателя требуется после освобождения своего сердца от всех посто-
236
рош'И'Х интересов увидеть внутри себя умопоотижимый образ, отождествиться с
ним, удерживать его в сознании столько, сколько это необходимо, и только затем
лерейти к его воплощению в камне, металле или краске» [315, с. 499]. При этом
для успешного возникновения этого умственного образа в ходе медитативного
сосредоточения попользуется его описание, своего рода аналог янтры [3il'5, с. 499].
Кумараевами продолжает: <«С другой стороны, точно так же, как художник
начинает ic темы или цели работы (как рае и задающейся этим описанием.— В. Б.)
и должен отождествиться с ее значением, прежде чем он сможет воплотить ее,
зритель не может достичь видения красоты вне темы, но лишь путем идеального
сочувствия и согласия со страстями, оживающими в теме, только путем
осуществляемой в воображении интеграции со значением темы. Видение красоты, таким
образом, есть акт чистого созерцания, но не в отсутствии объекта созерцания, а
в сознательном отождествлении с ним» {3116, с. 306—507]. итак, наслаждение
чистой красотой, т. е. вкушение расы, а мы помним, что оно тождественно
слиянию с Брахманом, также осуществляется при помощи аналога янтры —
собственно произведения («темы, в которой оживают отрасти»).
Думается, данное сравнение позволяет утверждать, что древнеяванская
эстетика в основных своих принципах: создание литературного произведения и его
«вкушение» как своего рода йога, литературное произведение как аналог янтры,
эстетический опыт как религиозный путь и преддверие слияния с Абсолютом —
обнаруживает сущностное единство с эстетикой санскритской, так что последняя
должна рассматриваться в качестве источника^ первой.
Мы столь подробно остановились на принципах древнеяванской и
санскритской эстетики и их сходстве, объясняемом восприятием индийского влияния
яванцами, в связи с сомнениями, высказанными Б. Б. Парникелем в его рецензии на
книгу П. Зутмюльдера [244, с. 201], относительно «степени осознанности
эстетического наслаждения древнеяванскими кави, самой возможности отчетливой
кристаллизации категории „-прекрасное" и некоего божества как его сублимации в
сознании яванцев XI—XI/I вв.». Свои сомнения рецензент стремится обосновать,
в частности, типологическими аналогиями «из хронологически более поздней (?—
Абхинавагупта, в трудах которого теория расы нашла свое классическое
выражение, жил в X—XI вв.— В. Б.) индийской или китайской литературной критики»,
в которой якобы «представление о прекрасном связывается прежде всего с
доставляющим удовольствие словом, поэтическим языком». Тем же внешним
языковым аспектом ограничивает Б. Б. Парникель сферу понятия «прекрасное» и в
малайской литературе. Исходя из своего убеждения в неосознанности понятия
«прекрасное» (точнее, «эстетическое» )в древнеяванской литературе, Б. Б. Парникель,
во-первых, считает анахронистическим истолкование Л. Зутмюльдером термина
ланго .и связывает его с практикой шаманского транса батакских дату, даякских
■басиров и балиан, одержимостью поэта-шамана, а во-вторых, возражает против
выделения голландским ученым особой сферы, так сказать, «изящной
словесности» в древнеяванской литературе.
Поскольку сомнения Б. Б. Парникеля обязаны в своей основе литературной
типологии, мы не станем здесь входить в анализ фактов древнеяванской
литературы, подробно осуществленный П. Зутмюльдером. Отметим лишь, что, хотя
древнеяванская культура и сохранила множество архаических черт, как
социальная среда, в которой функционировали какавины, так и особенности их поэтики
весьма далеки от сферы действия и «литературной» практики сельских шаманов.
Что же касается средневековой индийской традиции, то в ней, как мы видели,
эстетическое наслаждение носило вполне осознанный характер. Если обратиться к
книге А. К. Уордера [ЭГ5, с. 1], которую Б. Б. Парникель довольно случайным
образом цитирует в подтверждение своих взглядов, то в ней на первой же
странице мы найдем противопоставление изящной словесности (кавья) иным видам
письменности (агама, иттихаса, шастра) и далее [515, с. 9—tfO] указание на то,
что «эстетический опыт (раса) эффективно передается читателю, поскольку язык,
выражающий его, прекрасен». Наконец, выше мы пытались также
продемонстрировать близость древнеяванского ланго и санскритского чаматкара. Что же
касается понятия «прекрасное слово» в малайской традиции, то проведенный анализ
показал, что оно, рассматриваемое в «плане выражения», является не столько
предметом наслаждения само по себе (хотя и этот момент немаловажен),
сколько средством, благодаря которому читатель наслаждается красотой идеи-образа,
237
отражающей в конечном счете божественную Красоту (Джамал), в чем и
состоит основа малайской и вообще мусульманской эстетики. Несомненно, исконно-
яванские представления о творческом процессе могли наложить свой отпечаток
на восприятие индийской эстетической теории, однако при исследовании подобных
трансформаций не следует забывать, что опасность 'архаизации объекта при
установлении его исторически-актуального значения, окажем, в яванской культуре
XI—XIII вв. ничуть не меньше опасности ело модернизации [1188}.
54 Интересно, что как в арабо-мусульманской, так и в санскритской
традиции в произведении выделяются «план выражения» и «план содержания» (шаб-
<да — букв, «звук», «объект слухового восприятия» и артха — «смысл» в
санскритских поэтиках и лафз и ма'на точно в тех же значениях — в поэтике арабской),
которые для эффективного воздействия произведения должны быть правильным
образом поставлены в соответствие или правильно соединены (санскр. сахитья—
«соединение», араб, мутабака — «соответствие», иногда замещаемое выражениями
гипа «совместно», «сочетание» и т.д.). В итоге санскритское определение поэзии
Î203; 207, с. 6—7] оказывается совершенно тождественным арабскому
определению красноречия, приводившемуся выше. В санскритской традиции термин са*
хитья стал синонимом понятия «поэзия». В малайской же термин мематут —
«приводить в соответствие» (точный аналог араб, мутабака) — синонимом
литературного творчества.
ГЛАВА VI
система жанров малайской
классической литературы
(характеристика жанров,
их генезис и эволюция)
Реконструкция самосознания малайской словесности
классического периода позволила наметить основные контуры иерархизиро-
ванной литературной системы малайцев. Три выделенные в ней
«сферы (сфера красоты, пользы, духовного совершенства) — это
наиболее широкие подразделения литературной системы, границы
которых определяются их функциями — ориентацией на
воспитание того или иного уровня человеческой личности в ее понимании
средневековым малайцем-мусульманином (уровень души,
практического разума, духовного сердца). На практике каждая из
функциональных сфер выполняет свою задачу, реализуясь в
определенных жанровых структурах — следующем по степени обобщенности
подразделении литературной системы. Жанровые структуры по-
разному соответствуют нормам мусульманского мировоззрения —
завершающего компонента средневековой культуры малайцев.
В целом они значительно слабее, чем литературное самосознание,
подчинены этим нормам.
К анализу жанровых структур и их взаимоотношения с
функциональными сферами мы теперь и обратимся, перейдя от
литературной теории к литературной практике. Поскольку,
однако, в классический период в малайской литературе наряду со
старыми жанрами (хикаят, седжарах) появляются новые, необходимо
прежде всего рассмотреть вопрос об их происхождении.
,1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ и ЭВОЛЮЦИЯ ШАИРА.
ЕГО РАЗ'НО,ВИДВ0СТ,И
В классический период основным жанром малайской
письменной поэзии становятся нарративные поэмы — шаиры (малайское
слово шаир происходит от араб, ши'р — «поэзия», «стихи»). Эти
поэмы состоят из четверостиший со сплошной смежной рифмовкой
по схеме аааа, бббб, вввв и т. д. и в метрическом отношении
довольно просты. Их метр, подобно метру многих жанров
малайского фольклора, основывается на относительном изосиллабизме
стихов (в строке шаира обычно 9—13 слогов, преобладают стихи
десятисложные), разделенных цезурой на два приблизительно
239
равных полустишия и представляющих собой в большинстве
случаев замкнутые синтаксические единства (подробнее см. [187,
с. 148—174]). Некоторое представление о стиховой форме
классических малайских поэм дает следующий отрывок из «Шаира о
Пунггуке (Сове)»:
О господин мой, услышьте рассказ,
Нищим скитальцем пропетый для вас,
Ни складу в шаире моем, ни прикрас —
Ведь разум певцу изменяет подчас.
В один «з мрачных, ненастных дней
Сложил я шаир о птице ночей,
Страдавшей от страстной любви все сильней,
Не знавшей в смятенье дорог и путей.
Пунггук впервые любовь испытал,
И гром, как предвестье, пророкотал —
Сердце птицы тоской напитал,
Изрезал на части, как будто кинжал.
Разнесся в ночи его жалобный зов:
«Луна, хоть на миг отринь свой покров.
Я втайне тоскую, мой жребий суров,
Блесни же лучом в пелене облаков!» [58, с. 64]..
Проблема происхождения шаира привлекла внимание
исследователей малайской литературы сравнительно недавно. В 1952 г*
голландский филолог П. Ворхуве впервые выдвинул гипотезу о
зарождении данного жанра [511], нашедшую затем
подтверждение в работах А. Тэу и Н. Аль-Аттаса [495; 281]. Все трое
отметили, что стиховая форма, тождественная шаиру, не обнаруживается
в фольклоре малайцев и других народов архипелага. Наиболее
ранние шаиры представлены в творчестве Хамзы Фансури —
крупнейшего суматранского поэта-суфия XVI—XVII вв., который, как
предполагается, и был создателем этого жанра, тем более что в
его трактате «Асрар ал-арифин» («Тайны постигших») дается
единственное в малайской литературе до XIX в. описание
основных стиховых особенностей шаира: косвенное свидетельство его
новизны. По мнению названных исследователей, шаир
сформировался в суфийской среде под влиянием образцов персидской и
арабской поэзии.
Гипотеза о происхождении шаира, выдвинутая П. Ворхуве,,
А. Тэу и Н. Аль-Аттасом, при всей своей убедительности
нуждается, на наш взгляд, в ряде дополнений и уточнений, в дальнейшей
разработке.
Необходимо сразу же оговориться, что в арабо-персидской
литературной теории и практике не существует ни одной стиховой
формы, которая могла бы претендовать на роль безусловного
прототипа шаира. Арабское же название этого жанра не может само
по себе служить решающим аргументом в пользу его
происхождения с Ближнего Востока \ где к тому же термином ши'р обозна-
240
чалась поэзия вообще, а не какой-либо определенный стиховой
жанр.
Весьма показательно и то, что подлинные арабо-персидские
поэтические формы, безусловно знакомые малайцам, так и не
стали достоянием их литературы. В то же время шаир необычайно
быстро занял в ней прочное место и просуществовал до наших дней.
Уже это показывает, что в отличие от касыды, газели и других,
моноримических жанров шаир отвечал сложившимся в недрах:
фольклора требованиям малайской культуры к стиховой форме..
Уточнить вопрос о происхождении шаира помогает
исследование того, как воспринималось ближневосточное влияние суфиями
Суматры. Анализ этого процесса обнаруживает в творчестве
суфийских авторов XVI—XVII вв. значительное число элементов,
обладающих двойственной мотивацией: с одной стороны, их
проникновение в суфийские сочинения может быть объяснено
ближневосточным влиянием, с другой — воздействием местной традиции,,
обычно фольклорной )[187, с. 92—99]. Именно явления
воздействующей культуры, находящие типологические соответствия в*
местном культурном субстрате, воспринимались и усваивались
наиболее прочно (ср. .[472, т. 1, с. 232]). К литературным фактам
с двойственной мотивацией относится, по-видимому, и шаир.
Учитывая это, следует рассмотреть соответствие его формальной:
структуры нормам как арабо-персидской поэтики, так и поэтики
малайского фольклора.
Отыскивая ближневосточные корни шаира, П. Ворхуве и А. Тэу
усматривают прообраз шаирных строф в персидских рубай. При
этом они исходят из совпадения в обоих жанрах схемы рифмовки
(аааа) и рассматривают шаир как цепочку своего рода рубай-
строф [511, с. 277—278; 495, с. 536—537]. Этому, однако,
противоречит тот факт, что отдельное рубай является законченным
поэтическим произведением и, насколько известно, в литературе персов
не создавалось нарративных поэм, составленных из рубай [305,,
т. И, с. 34]. К тому же рубай состоит из двух бейтов — стихов, и
поэтому, во-первых, не может называться бейтом (а именно так:
именует свои четверостишия Хамза Фансури), а во-вторых,
поскольку бейт по правилам аруза является законченной, замкнутой
единицей, то рубай чаще всего состоит из двух завершенных
смысловых единств, что нехарактерно для строф шаира '1281,.
с. 28—30].
У самого 'Хамзы термин рубай появляется лишь при цитировании
произведений соответствующего жанра. В единственном авторском объяснении
используемой формы этот термин отсутствует. У Хасана Фансури, одного из учеников
Хамзы, стихи учителя обозначаются термином руба', который А. Тэу по непонятным
причинам переводит как рубай.
Наконец, в качестве подтверждения того, что стихи Хамзы назывались
рубай, А. Тэу ссылается на комментарий Шамсаддина Пасейского «Шарх рубай
Хамза аль-Фансури», переводя это название как «Комментарий на
четверостишия Хамзы Фансури». Термин рубай, однако, не следует переводить как
четверостишия во множественном числе (мн. ч. от рубай—рубаййат). Кроме того, Н. Аль-
Аттас приводит высказывание Нураддина ар-Ранири, из которого следует, чта
16 Зак. 147
241
рубай — это название одной из книг Хамзы, содержавшей собрание его
мистических поэм, а отнюдь не технический термин, характеризующий их структуру [281,
с. 23].
Итак, в настоящее время не имеется достаточно веских
оснований для того, чтобы считать персидские рубай прообразом .ша-
лрных строф Хамзы.
Можно предположить, что на форму поэм Хамзы Фансури
повлиял персидский мусаммат-и мурабба'2. На это указывает
определение, данное самим Хамзой своему стиху, которое гласит:
«Адапун ини эмпат седжаванг пада себуах байт». А. Тэу считает,
что седжаванг — это искаженное саджак — «рифма» ([495, с. 437].
По-видимому, лучшей конъектурой является такой термин арабо-
иерсидской поэтики, как садж', к которому и восходит малайское
£аджакъ. С конъектурой садж' определение Хамзы может быть
переведено следующим образом: «Что до них (бейтов поэмы.—
В. £.), то в каждом четыре (раза употреблен.— В. Б.) садж'».
Обращение к персидским трактатам по поэтике позволяет
интерпретировать смысл этой фразы. Так, автор одного из них —
Рашид Ватват (XII в.) пишет: «Эта фигура (мусаммат.— В. Е.)
состоит в том, что поэт делит бейт (касиды.— В. Б.) на четыре
части и на концах трех из них ставит садж', а в четвертой части
ставит рифму, и это называют также ши'р-и мусаджджа' (саджи-
рованный стих)» |[26а, с. 128]. Таким образом, рифмы трех
первых полустиший мусаммата считаются саджем, собственно рифма
(монорим) ставится в четвертых полустишиях бейтов. Можно
предположить, что Хамза не только стремился объяснить своим
читателям, в какой-то мере знакомым с арабо-персидской
поэтикой (о знакомстве с ней на Суматре в XVI—XVII вв.
свидетельствует «Корона царей»; другое дело — степень этого знакомства),
вводимую им форму, но и обращал их внимание на ту ее
особенность, что в отличие от мусаммата классического типа он
использует садж во всех полустишиях и отказывается от конечного мо-,
иорима. Такого рода мусаммат без конечного монорима
встречается, например, у персидского поэта XI в. Манучехри [305, т. II,
с. 42].
Предложенная интерпретация определения Хамзы дает
возможность объяснить употребление еще двух терминов: термина
бейт для четырехстрочной строфы, так как в мусаммате каждый
бейт состоит из нескольких (чаще четырех) полустиший; термина
руба' — «по четыре», который может рассматриваться как
реминисценция технического названия мусаммата из четырех
полустиший — мурабба* — «счетверенный». Наконец, шаиры Хамзы
содержат подпись автора в последнем бейте, что характерно для
касиды, газели и мусаммата и нехарактерно для рубай. Таким
образом, предположение о мусаммате как форме, при помощи
которой Хамза истолковывал структуру своих поэм, связывает
воедино и объясняет все высказывания его самого и его ученика по
данному вопросу. Ши'р-и мусаджджа', насколько можно судить,
представляет собой единственную форму, благодаря которой поэ-
242
мы Хамзы могли быть приведены в соответствующие с
правилами арабо-персидской поэтики, в частности с ее учением о бейте4-
Прежде чем перейти к вопросу о том, в какой мере шаир
соответствовал нормам устной поэзии малайцев, необходимо отметить
широкое использование фольклорных стиховых форм суфиями
Суматры и Явы — явление, типологически сходное с влиянием
фольклора на иранскую суфийскую поэзию, изученным Е. Э. Бертель-
сом i[179, с. 43—53]. Так, почти одновременно с появлением у.
малайцев шаира в обиход яванской суфийской литературы
вводится местная система стихосложения — тембанг мачапат,
обязанная своим происхождением фольклорной традиции |[439, с. 20].
В малайской суфийской среде на Суматре были распространены
такие фольклорные жанры, как пантун, андей-андей и пр. (см..
[481, с. 218—248; 187, с. 100—101; 296, с. 418—423]). Ачехские
суфии сочиняли стихи в исконно местном, фольклорном метре
санджа [481, с. 77, 226—227]. Все эти факты весьма
примечательны и заставляют с большим вниманием отнестись <к чертам,
сближающим шаир с произведениями устной малайской поэзии.
При анализе этих черт обращает на себя внимание чисто
малайская метрика ранних шаиров, структура их рифмы (в шаирах.
Хамзы и поэтов его круга преобладает специфическая
«прерывистая» рифма или рифма с ассонансом типа: сулух-гурух-мущх-ту-
бух, широко распространенная в малайском фольклоре и не
предусмотренная арабо-персидским учением о кафийа — рифме [187,,
с. 109—115]), и, наконец, смежная рифмовка всех четырех строк,
строфы (аааа, бббб).
Можно предположить, что прообраз шаирных строф следует
искать в фольклорной тирадной поэзии, где отдельные стихи
объединяются рифмой или ассонансом в «строфоиды» (тирады)
различного объема (ср. тюркскую или старофранцузскую тирады
[214, с. 244—247; 213, с. 43—44]). Тирадная традиция была
распространена у ряда народов Индонезии и Малайзии (яванцев, иба-
нов, муалангских даяков, тораджей-баре'е горонтало), в том
числе и у малайцев в загадках, песнях и, что особенно важно, в
эпических сказаниях из Келантана |[187, с. 115—120]5. Некоторые
стихотворные вставки из «Короны царей», весьма сходные с
тирадами и не соответствующие персидским жанровым
обозначениям, которыми они предваряются (см. 1187, с. 121—125]),
позволяют говорить о знакомстве с тирадной традицией в Аче начала
XVII в. Черты сходства с тирадной традицией обнаруживают и:
некоторые суфийские стихи поэтов круга Хамзы Фансури.
Особенно показательно в этом отношении сочетание двустиший со смежной7
рифмовкой с типичными шаирными четверостишиями в поэме, подписанной Аб^
аль-Джамалом |[74, с. 86—89]. Другой характерной чертой этого фрагмента
является стечение в нем четверостиший с одинаковой рифмой. Так, например, в нем.
одна за другой следуют четыре шаирные строфы, рифмующиеся на «и». Как
показало исследование послехамзаховских шаиров, такое стечение одинаково
рифмующихся строф в целом нехарактерно для более поздней шаирной традиции*.
Если стечения двух строф еще изредка встречаются, то стечение трех, а тем
более четырех строф не встретилось нам ни разу в двадцати просмотренных поэмах
16*
243
f 187, с. 149—150]. Схему рифм в исследуемом фрагменте можно представить
следующим образом: 12(IV) +2(11) +8(IV) +1 (XVI) +4(IV) +1 (II) +1 (VIII) +
+24(11) +2(IV) +4(11) +1 (IV) +7(11) + 1 (IV) +2(11) +1 (IV), где: (II) -
двустишие, (IV) — четверостишие, (VIII) — восьмистишие, (XVI) — шестнадцатистишие.
Наконец, имеются основания считать, что фольклорные
истоки шаиров Хамзы осознавались современниками поэта. В
сочинениях Хамзы и поэтов его круга часто встречается утверждение,
что их стихи — это не_ песни (пьяни), что они лишь напоминают
«поющееся» (араб, атйли) ,[74, с. 78]. Судя по данным,
содержащимся в «Повести о Ханге Туахе», «Малайских родословиях»,
«Повести о Банджаре», «Повести о Патани», под термином пьяни
понимались разнообразные малайские народные песни различного
объема, с различным расположением рифм в строфе или тираде,
нередко любовного содержания [187, с. 133—143]. Если учесть
напряженные отношения Хамзы и его учеников с мусульманской
■ортодоксией Аче, то анализ контекстов, в которых данное
утверждение встречается, позволяет предполагать, что формальное
сходство шаиров с образцами фольклорной поэзии наряду с
любовной суфийской терминологией, впервые в стихах Хамзы
зазвучавшей на малайском языке, позволяло ачехскому духовенству
обвинять поэтов-суфиев в сочинении простонародных песенок.
Им же в полемике с ортодоксией приходилось отрицать
тождество шаира с фольклорными песнями (ср. |[ 179, с. 48]). Возможно,
этим же объясняется стремление Хамзы представить форму своих
стихов, не находящую точной аналогии в арабо-персидской
поэтике, как отвечающую букве последней, прибегнув к таким
терминам, как шаир, бейт, садж', руба'.
Итак, структура шаира в одном аспекте может -
рассматриваться как мотивированная влиянием норм персидской поэтики,
в другом же — как своеобразная трансформа фольклорной
традиции. Можно сказать, что с точки зрения арабо-персидской
поэтики Хамза ввел в малайскую поэзию мусаммат, отказавшись,
однако, от монорима в последнем полустишии; с точки зрения же ма-,
лайского народного стихосложения он упорядочил свободное число
стихов в тираде, канонизировав четырехстрочный «строфоид».
Думается, что ни один из этих аспектов сам по себе не
может исчерпывающе объяснить проблему происхождения шаира.
Скорее, Хамза Фансури, хорошо знакомый с арабской и
персидской поэзией |Г281, с. 55—57], в которой техника рифмовки
(строгий порядок расположения и повторяемости рифм) является
существеннейшим признаком стиха, создавая (или вводя) свою
форму, стремился к тому, чтобы она удовлетворяла этим
требованиям. В то же время направление его поиска определяла
исконная малайская традиция, и именно она заставила обратиться
поэта к мусаммату — форме, в наибольшей мере соответствующей ее
требованиям. Возможно и другое — Хамза стремился представить
фольклорную, по существу, форму как отвечающую правилам
арабо-персидской поэтики. Оба эти предположения нисколько не
противоречат друг другу. Как в том, так и в другом случае най-
244
денная Хамзой форма соответствовала, с одной стороны, нормам
влияющей традиции, а с другой — традиции, воспринимающей
влияние. Таким образом, она являлась литературным фактом с
двойственной мотивацией, свидетельствующим об активной роли
малайского субстрата в восприятии влияния и о синтезирующей
способности малайской литературы.
Вывод о том, что шаир представлял собой форму с
двойственной мотивацией, возникшую в суфийской среде, объясняет
быстрое распространение его в малайском мире. Во-первых, влияние и
активность суфиев в XVI—XVII вв. были весьма велики, и, во-
вторых, шаир, как можно предполагать, не явился особой
неожиданностью для малайских поэтов, узнавших в нем форму,
близкую народной поэзии.
В XVII—XVIII вв. на базе стиховой формы суфийского шаира
сложились основные разновидности малайских письменных
нарративных поэм, содержание и образный строй которых, по-видимому,
<были многим обязаны различным видам фольклорных поэм, а
также прозаическим хикаятам. В качестве этих разновидностей обычно
выделяются шаиры любовно-романические, исторические,
аллегорические (примыкающие отчасти к любовно-романическим,
однако с героями — цветами, птицами, животными, насекомыми,
отчасти — к шаирам суфийским) и, наконец,
религиозно-дидактические.
Эта довольно приблизительная классификация основана на
содержательно-тематическом принципе, не подкреплена анализом
стиховой формы и изобразительных средств шаиров и является
«внешней», т. е. предложена исследователями малайской
литературы. Сами создатели и переписчики поэм неизменно именуют их
просто шаирами и порой с помощью уже известных нам терминов
красота, польза, утешение в печали и т. д. относят к одной из сфер
литературной системы.
Все же при всех недостатках данной классификации она была
сохранена в данной работе как за неимением лучшей, так и в
силу удобства для первоначальной ориентации в массе текстов.
X. Хойкас называл шаиры поэмами, «пригодными на все случаи
жизни» ([354, с. 68]. В этом определении много справедливого.
С появлением шаиров малайская литература как бы удваивается,
ибо у каждого прозаического жанра появляется стихотворный
двойник. Все же различия между стихотворными и
прозаическими жанрами-двойниками довольно значительны как в
изобразительно-композиционном плане, так и в плане идейном,
тематическом и мировоззренческом (шаиры, в частности, как «новая»
жанровая форма исламизируются быстрее хикаятов), а возможно, и
в среде преимущественного бытования.
Стиховая форма шаира также не оставалась неизменной на
протяжении трех последующих веков. В своей эволюции (см.
подробнее {187, с. 148—176]) она прошла по меньшей мере два
этапа — ранний, хамзаховский, и поздний, послехамэаховский. Эти
этапы (соответственно конец XVI — первая половина XVII в.; вто-
245
рая половина XVII—XIX в.) разграничиваются на основе
корреляции таких трех признаков, как степень изосиллабичности стиха,,
преобладающий тип рифмы, своеобразие состава наиболее
частотных рифм. В целом для послехамзаховского периода характерен
заметный рост тенденции к изосиллабизму, вероятно связанный с
осознанием его эстетической ценности, и резкая смена
фольклорного по происхождению типа «прерывистой» рифмы, принятой в
поэзии Хамзы Фансури, рифмой «непрерывного» типа (мент/ш—
пери—дури—ди/ш), что объясняется стремлением следовать
правилам рифмовки, принятым в арабо-персидской поэтике.
Кроме того, исследование состава наиболее частотных рифм в
послехамзаховских текстах позволяет выделить две параллельные
линии в развитии формы шаира — классическую (палембангско-
риаускую), представленную поэмами из центральных областей
малайского мира — Палембанга, Риау, Малаккского полуострова, и
периферийную, к которой относятся шаиры, происходящие с его
окраин — из Макассара, Банджармасина, района минангкабоу
и др. Эти линии по-разному соотносятся с фольклорной традицией
(периферийные шаиры, например, близки к пантунам по составу
рифм, а иногда и по типу рифмы, классические же поэмы па
этим показателям далеки от пантунов), и не исключено, что в них
до определенной степени отразились вкусы различных социальных
сред — классические шаиры, по-видимому, теснее, чем
периферийные, связаны со средой придворной.
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖАНРОВ КИТАБА И ЗЕРЦАЛА
Проще, чем в случае с шаиром, решается вопрос о
происхождении двух других жанровых структур — ученого трактата —
китаба и зерцала — хидаят, насихат, которые также вошли в со*
став малайской литературы в классический период и впервые
появились в Аче.
Н. Аль-Аттас в свое время указал на то, что сочинение Хамзы
Фансури «Напиток влюбленных», по всей вероятности, является
первым изложением суфийского учения на малайском языке [61у
с. 180]. Недавно Л. Бракел [299, с. 23—24] уточнил, что
«Напиток влюбленных» является первым образцом жанра штаб, о чем
свидетельствует тот факт, что Хамза Фансури счел необходимым
дать ему определение:
«Знай, что немощный дервиш Хамза Фансури пожелал указать в
своей книге (кит а б) на малайском языке путь к Господу — пре-
славен он и возвышен — и изъяснить постижение Его (разрядка
наша.— В. £.), дабы, если будет угодно Аллаху, Его рабы, не сведущие в арабском:
и персидском, могли обсуждать эти предметы» {61, с. 297].
Из этого же определения следует, что штаб есть не что иное,,
как малайский аналог арабских и персидских систематических
трактатов (в частности, религиозно-мистического содержания), к
которым он генетически и восходит.
246
Примерно в то же время (в 1603 г.) термин китаб появляется
в «Короне царей», представляющей собой, однако, не ученый
религиозный трактат, а теологически обоснованное наставление о
правильно упорядоченном поведении в миру, по структуре и
содержанию целиком соответствующее образцам мусульманских зерцал
для правителей. В заключительной главе этого сочинения его
автор — Бухари аль-Джаухари (или Джохори) уточняет жанровую
принадлежность своей книги, называя ее хидаят (руководство,
наставление, путеводительство), т. е. зерцало:
«Знай, что эта преславная книга — хидаят, путеводительство, низведанное
Всевышним, а также путеводительство, данное Бухари, всем, кто ею владеет.
И по этим двум причинам эту книгу надлежит возвеличивать» [133, с. 226].
Далее Бухари аль-Джаухари поясняет, что его сочинение
именуется путеводительством, поскольку оно, во-первых, «открывает
луть ко всем благам этого и того миров», во-вторых, содержит
«все, что ни на есть прекраснейшего, избраннейшего и
возвышеннейшего», а для мудрых нет ничего выше истинного пути,
который оно указует «справедливым государям и обладателям
разума», и в-третьих, «по истинности и совершенству есть
проявление милости Всевышнего, укрепляющей дух читателя».
Таким образом, одновременно с китабом — важнейшим жанром
сферы духовного совершенства — в малайскую классическую
литературу через литературу персидскую приходит и главный жанр
сферы пользы — зерцало.
В итоге терминология жанровых структур, которой оперирует
сама малайская классическая литература, включает следующие
понятия: хикаят (повесть), шаир (поэма), седжарах или саласилах
(родословие, хроника), китаб (трактат), хидаят (иногда насихат;
зерцало)—набор хотя и более разнообразный, чем в раннему-
сульманский период, но все же весьма скудный6.
Перечисленные обозначения жанровых структур различны по
характеру и образуют две группы. К первой принадлежат
термины седжарах/саласилах и хидаят!насихат, которые обозначают
сочинения, обладающие определенной устойчивостью как
содержания, так и формы; ко второй — термины хикаят, шаир, китаб,
указывающие на произведения, разнородные по содержанию. Термин
хикаят относится ко всей прозаической беллетристике, части
исторических сочинений, агиографии и некоторым произведениям в
зоне, пограничной с китабами (например, (Г 120, с. 80]). Термин
шаир — к любой письменной нарративной поэме
любовно-авантюрного, исторического, дидактического или религиозно-мистического
содержания. Наконец, термин китаб — к любым систематическим
ученым сочинениям, посвященным главным образом наукам
религиозного цикла (фикх, калам, суфизм).
С помощью жанровых структур, именующихся терминами пер-
247
вой группы, реализует свои задачи лишь одна функциональная
сфера — сфера пользы; с помощью структур, именующихся
терминами второй группы,— несколько сфер: хикаяты и шаиры
используются во всех трех сферах (в первую очередь в сфере /ера-
соты), штабы — в двух: сфере пользы медресе духовного
совершенства (преимущественно в последней). Наконец, термины первой'
группы могут рассматриваться как уточняющие по отношению к
терминам второй. Нередко исторические сочинения носят
название хикаят (дальнейшие исследования, возможно, покажут
различную пропорцию генеалогических и повествовательных
элементов в хрониках-хикаят и хропкках-седжарах), а ориентированные
на мирскую деятельность дидактические сочинения — китаб. Это
позволяет считать термины хикаят, шаир, китаб основными для
обозначения жанровых структур малайской литературной системы..
Главным отличительным признаком штаба,
противопоставляющим его хикаяту и шаиру, является способ передачи содержания..
В штабах — это ученое, логическое изложение, в хикаятах и шаи-
рах — изложение популярное, эмоционального характера,
соответственно прозаическое или стихотворное. Способ изложения, с
одной стороны, детерминирует иерархически высшее место штабов4
среди жанровых структур — их функционирование в центральных
сферах литературной системы. С другой стороны, он же
определяет основные моменты формы (в частности, формы
композиционной) того или иного сочинения и его стилевые характеристики:
выбор языкового стиля (арабизированный язык штабов и более
чистый малайский — хикаятов и шаиров), набор формульных
выражений, изобразительных средств и т. д. Естественно, что эти
формальные моменты получают дополнительную спецификацию
в зависимости от прозаического или стихотворного характера
текста.
Анализ группы из трех основных терминов показывает, чта
все они подразумевают не определенный тип взаимного
соответствия формы содержанию, реализующемуся в устойчивом наборе
тем, а тип формальной организации произведения. Таким образом,,
они обозначают не собственно жанры, а жанровые формы,
способные передавать разнообразное содержание (ср., например,
жанровую форму касиды).
Итак, термины самой литературной системы малайцев
призваны указывать, по существу, на два аспекта произведения: его
функцию (сферу) и жанровую форму, в которой решается задача
той или иной сферы. Лишь термины седжарах/саласилах и хида-
ят/насихат являются названиями литературных жанров, что
говорит о жанровой неразработанности малайской словесности, еще
одном свидетельстве ее «нежелания» осмысливать литературную
конкретику, выразившемся в отсутствии специальных поэтологи-
ческих трактатов.
Вместе с тем жанровые формы и жанры классического
времени носят арабские названия, хотя терминологическое значение
одних названий (хикаят, шаир) «сдвинуто», а другие в арабской и
248
персидской литературе вообще не имеют отношения к жанровой
системе (китаб). Это, по-видимому, вновь указывает на
стремление малайских книжников, пусть в том же обобщенном виде, как
и в случае с самосознанием, оформить на мусульманский лад
•свою литературную практику.
Отсутствие жанровой терминологии само по себе еще не
говорит об отсутствии в малайской литературе жанров. Так, в
качестве отдельных жанров могут рассматриваться, например,
волшебно-авантюрные хикаяты, агиографические хикаяты, исторические
шаиры и т. д. Более того, особенности культурной эволюции
малайского мира позволяют выделить внутри жанров жанровые
разновидности, например внутри жанра волшебно-авантюрных хикая-
тов — группы произведений, восходящих к санскритскому эпосу,
к сказаниям о Панджи, к мусульманским повестям, или хикаяты,
в которых комбинируются элементы этих «циклов». Каждая из
подобных разновидностей (в самом тексте ее знаком может
выступать имя главного героя, почти неизменно следующее за
указанием на жанровую форму) обладает не только сюжетным
своеобразием, характерными чертами разработки повествовательных
мотивов, но и специфическими наборами и комбинациями
изобразительных средств. Однако выделение жанров и жанровых
разновидностей есть уже акт деятельности исследователя. «Внешний»
но отношению к малайской литературной системе, этот акт тем
не менее необходим, так как лишь «внутренние» характеристики
малайской классической литературы не позволяют достаточно
полно очертить ее состав и классифицировать входящие в него
произведения.
3. СОСТАВ малайской классической литературы.
СФЕРА КРАСОТЫ
Гармонизировать «красотой звучания и значения» душу
человека и тем самым создавать условия для воспитания у него
куртуазного поведения был призван широкий круг
беллетристических сочинений, отчасти заимствованных, отчасти более или
менее оригинальных, представавший читателю как некий
письменно-устно-театральный континуум7. Вполне понятно, что именно
к этой области — периферии не только человеческой психики в ее
традиционном понимании, но и самой исламизированной культуры
малайцев — было отнесено наследие домусульманских времен:
продолжавшие переписываться сочинения, восходившие к
санскритскому эпосу и пуранам, которые проникли в малайскую
литературу, как правило, через яванское посредство («Повесть о Сери
Раме», «Повесть о победоносных Пандавах», «Повесть о Санг Боме»
и др.) ; многочисленные повести и поэмы о Панджи; произведения,
несущие отпечаток южноиндийского, главным образом
тамильского, влияния (например, завершение «Повести о Чекеле Ваненг-
пати»).
249
Другим существенным компонентом малайской беллетристики
продолжали оставаться мусульманские (персидские или индо-пер-
сидские) сочинения. Одни из них, подобно «Повести об Искандаре
Двурогом» или «Повести об Амире Хамзе», преподносили
неофитам истины новой веры в столь увлекательной форме, что
содержали не меньше «прекрасных» фантастических мотивов, .чем
повести и поэмы, специально призванные «утешать в печали».
Другие (по крайней мере частично) — знакомили их опять-таки с
южноиндийской традицией, но уже мусульманской, восходящей к
деканским романическим дастанам [196, с. 92].
Наконец, по-видимому уже в классический период,
параллельно с появлением в малайской словесности новых жанров пережил
определенную трансформацию старый жанр
волшебно-авантюрных повестей, и на его основе сформировалась довольно
специфическая жанровая разновидность романических хикаятов и шаи-
ров.
Повести синтетического типа. Прозаические
сочинения названной разновидности, обязанные множеством
нарративных мотивов и описательных клише индийской, яванской и
ближневосточной традициям, в отличие от повестей раннемусульман-
ского периода не могут быть возведены к какой-либо одной из
них, отличаются синтетическим характером и в достаточной мере
самобытны. Так, несмотря на значительную близость к
памятникам дастанного жанра, широко распространенного на Ближнем
Востоке и в Индии8, повести синтетического типа но являются
переводами или переработками каких-либо определенных
иноязычных сочинений. Их творцы, сумевшие на основе требований
жанровой формы хикаята сплавить в единое целое разнородные по
происхождению мотивы, обнаруживают, по удачному выражению
А. Баузани, «свойства создателей уравновешенных конструкций»
[286, с. 190]. При этом, вопреки мнению итальянского ученого,
данные свойства присущи не только автору исследованной им
«Повести о Махарадже Али», но вообще той культурной среде, в
которой создавалась данная разновидность хикаятов. По крайней
мере уравновешенность конструкции отмечает лучшие образцы
волшебно-авантюрных повестей, написанных во второй половине
XVI—XVII в. Соединение в этих повестях разнородных
изобразительных элементов можно продемонстрировать на примере весьма
типичного для них по стилю описания битвы Индрапутры с
царевичем Дэвой Лелой Менгерной из «Повести об Индрапутре».
«И джинны, пребывавшие в талисмане, воины и предводители пери и небо-
жителей-дэвов ринулись на поле брани и предстали перед военачальниками Дэвье
Лелы Менгерны, направив на них луки, нацелясь дротиками и обнажив мечи.
Их боевые кличи и возгласы гремели, подобно раскатам грома в небесах. [Все
потонуло] в оглушительном грохоте и кромешном мраке. Пыль поднялась к небу*
так что померк свет солнца. Но вот молниями засверкали скрестившиеся мечи*
и от их блеска вновь стало светло» [57, с. 76].
250
Изобразительные клише первой части рассказа о битве
восходят к «Повести о Мухаммаде Ханафии» и имеют точные аналоги
в ее персидском оригинале [66, с. 115; 299, с. 8—11] 9. Вторая же
часть — собственно поединок героев — воссоздана совершенно
иначе и обнаруживает явное сходство со сражением Арджуны и
Карны из «Повести о пяти Пандавах», которая в данном эпизоде
весьма точно следует древнеяванской «Бхаратаюддхе» {122,
с. 52—53] :
«Вслед за тем Дэва Лела Менгерна метнул в воздух стрелу, и с грохотом,
•подобным раскату грома, {взлетела] та стрела и, обратившись в тучу, устремилась
к Индрапутре, чтобы его окутать. Индрапутра же не мешкая воззвал к
талисману и тотчас явился из него Дикар Агус, низведший с небес ветер, мрак, бурю и
ураган. И туча пролилась водяными потоками, разметавшими стяги Дэвы Лелы
Менгерны. Дэва Лела Менгерна разгневался и метнул к небесам свой меч.
Загремел гром, 31а|сверкал1и молнии, и меч превратился в сполох пламени, готового
изрубить Индрапутру. Однако же Индрапутра вновь повернул талисман, и
тотчас сгустилась мгла, пошел дождь, и пламя угасло» [57, с. 82]10.
Несмотря на необычайное богатство и разнообразие
волшебных мотивов в синтетических повестях, часто приближающихся к
своеобразным сказочным энциклопедиям, композиционный строй,
их довольно прост и, что еще важнее, устойчив, единообразен.
Из произведения в произведение повторяется рассказ о
могущественной и процветающей стране, в которой рождается
царственный герой повествования; о какой-либо беде или «недостаче»,
заставляющей юного царевича покинуть родные края; о его долгих
странствиях «по градам и весям», битвах с чудовищами и
соперниками, добывании волшебных талисманов, женитьбах и в конце
концов о воцарении героя в своей стране — как бы возвращении
его к начальной точке повести, но уже в новом, более высоком
качестве п.
В общих чертах эта схема, восходящая к многозначному
древнему мифу (см. с. 53—54), отражает содержание и
реконструированных волшебно-авантюрных повестей древнемалайского
периода. Мусульманизация малайской литературы сказалась,
однако, в двух ее существенных моментах.
Герой синтетического хикаята классического периода, как
правило, уже прямо не называется воплотившимся на земле
небожителем. Он — наследник земного царя, именующий себя «сыном
человеческим» или «потомком Адама», и лишь тщательное
исследование позволяет обнаружить в этом царевиче черты его
прежнего небесного происхождения, а в сказочном царстве, где он
рождается и откуда отправляется в странствия,— признаки горней
обители (Г286, с. 175—177].
Изучение «картины мира» синтетических хикаятов показывает,
что более ранняя многоярусная структура пространства, по
которому путешествует герой, уступает в них место структуре
плоскостной: «Для героя хикаятов более характерно постоянное
пребывание в одноуровневом мире, хотя бы и населенном джиннами,
драконами и пери, которые обитают в своих особых княжествах по
251
соседству с простыми смертными» {199, с. 109]. Лишь
посещение обычно располагаемого на вершине священной горы царства
небожителей (индров, чендров, дэвов) — существ, унаследованных:
повестями от индуистско-буддийского периода, требует от героя:
перемещения по вертикали ,[199, с. 105].
Так или иначе варьируясь и расцвечивась от повести к
повести, описанная схема развития действия реализуется в
чрезвычайно большом чи|сле синтетических хикаятов (судя то каталогам
рукописей, их существует не менее 50—60). Особой популярностью
среди них пользовались «Повесть о Шахе Мардане», «Повесть
об Индрапутре» и «Повесть об Исме Ятиме» (сохранилось от
тридцати до двадцати списков каждой из них), а также «Повесть
о Берме Шахдане», «Повесть об Ахмаде и Мухаммаде», «Повесть
иб Индре Бангсаване», «Повесть о Шахе Кобаде Леле Индре»,
«Повесть о Корисе Менгиндре» (число списков этих
произведений колеблется от десяти до пяти).
Некоторое общее представление о характере
волшебно-авантюрных синтетических хикаятов дает «Повесть о Берме
Шахдане» — возможно, один из древнейших образцов жанра.
Царевич Берма Шахдан, главный герой этого грандиозного сочинения,
насчитывающего в рукописи 928 страниц фолио и разделенного на 26 глав с
заголовками резюмирующими их содержание 12, пускается в странствия, погнавшись
за зеленым жуком, в которого превратилась царевна Hyp а ль-Айн. Затем он
женится на этой царевне, а заодно и на ее подруге — Манду Хайрани, влюбившейся*
в него по портрету, сражается с армиями их отцов, похищенный в разгар боя*
джинном, падает в море Бахр Аллах и спасается из него с помощью царевича
духов Менгантары. Убив змея и раксасу и выведав у плененной пери тайну
хождения по водам, он вступает в новый брак с Кемалой Деви Ратной Джам-джам
и попутно освобождает 1040 царевичей, томившихся в заточении у ее отца.
Наконец, узнав от некоего брахмана о красоте Индры Кесумы Деви, дочери Буран-
дан-шаха, Берма Шахдан просит ее руки, получает грубый отказ и остальные две
трети повести вместе с сыновьями и союзниками воюет с этим государем и его
многочисленными приспешниками. Наконец спустившийся с небес бог И'ндра
прекращает явно затянувшуюся войну и примиряет противников, а Берма Шахдан
воскрешает всех павших. Так, одержав победу над множеством демонических
существ, индуистских и мусульманских, оказав помощь друзьям в. их
женитьбах -и сражениях и дожив в неустанных скитаниях до рождения внуков, Берма
Шахдан возвращается домой и восходит на престол отца (17, с. 163—170J.
Если «Повесть о Берме Шахдане», по крайней мере до начала
его войны с Бурандан-шахом, не имеет единого стержня, то
весьма сходные с ней «Повесть об Индрапутре» ([57], рус. пер. |[43])
и «Повесть о Шахе Кобаде» [96] таким стержнем обладают.
В первой большая часть событий разыгрывается во время
путешествия Индрапутры к отшельнику Берме Сакти, у которого он
по просьбе раджи Шахсиана должен добыть волшебное снадобье,,
дарующее потомство; во второй — приключения героя
обусловлены его стремлением освободить родную страну от власти
покорившего ее царя обезьян—Балии Индры (трансформация
обезьяньего государя Балии из «Повести о Сери Раме»). Такого рода
сюжетные «скрепы» в синтетических повестях весьма разнообразны:
царевич из «Повести об Индре Бангсаване», например, странст-
252
вует в поисках «влюбленного бамбука» — эоловой арфы, обретя
которую он сможет унаследовать престол ["81], герой «Повести
о Шахе Мардане» скитается, взыскуя суфийского знания /[528,.
с. 205—209; 143, с. 123—148], а Корне из «Повести о Корисе Мен-
гиндре», из-за безмерного женолюбия проклятый отцом своей
суженой и довольно быстро сумевший ее отыскать, почти всю
повесть путешествует вместе с ней, пытаясь завоевать сердце
возлюбленной. Всякий раз, однако, добившись с великим трудом ее
благосклонности, он не в силах с собой совладать, увлекается
новой красавицей, и разгневанная Пермейсури Индра вновь его
отвергает — ситуация, диаметрально противоположная той, что мы
наблюдали в «Повести о Чекеле Ваненг Пати». Подобное редкое
в хикаятах неумение героя владеть собой позволило
исследователю повести предположить, что в ней осуждаются придворные
нравы i[100, с. 56].
Несмотря на то что изредка вся повесть, чаще — ряд ее
эпизодов бывают связаны неким подобием динамического,
целенаправленно развивающегося сюжета, в основе организации
повествования в них лежит не сюжетный, но композиционный принцип. Как
справедливо отмечает Л. В. Горяева, большинство хикаятов,
которые здесь были названы синтетическими, представляют собой
последовательность отдельных, «завершенных сюжетных циклов (от
беды, вредительства или недостачи к их ликвидации),
объединенных между собой лишь личностью главного героя». Такого
рода повести исследовательница относит к сложноподчиненному
(точнее было бы сказать — сложносочиненному) типу и
противопоставляет их более единым в сюжетном отношении хикаятам
«многоходового типа», характерным для раннего этапа развития
жанра [199, с. 72] (ср. с. 54).
В таких образцах «сложносочиненных» волшебно-авантюрных,
хикаятов, как «Повесть об Индрапутре», «Повесть о Берме Шах-
дане», «Повесть о Корисе Менгиндре» и «Повесть о Шахе Коба-
де»^, близких между собой не только по общей конфигурации
описываемых событий, но и по набору основных повествовательных,
мотивов 13 и наиболее полно отражающих классическую модель
жанра, сформировавшуюся, по-видимому, в конце XVI—XVII в.,.
исходной композиционной единицей является эпизод, в котором
герой встречает прекрасную царевну, проникает в ее дворец и,
добившись взаимности, склоняет ее к любовным утехам. Узнав
об этом, отец или жених царевны приказывает войску окружить
дворец и захватить «грабителя», однако герой с помощью спеша-
-щих на подмогу союзников или волшебных сил — каких-нибудь
джиннов, пери или иедров, «исходящих» из талисмана,—
одерживает верх над противником и в конце концов женится на своей
избраннице.
Подобные «базовые» эпизоды, каждый из которых включает
все необходимые элементы «любовно-военного комплекса» и
резким преобладанием описания над действием прекрасно
соответствует задаче «утешения печалей», вписываются в композиционную
253
конструкцию, симметричность которой определяется тождеством
начала и 'конца хикаята ' (конечная ситуация оказывается
восстановлением начальной, но в снятом и «возвышенном» виде) и
особой выделенностью его середины (обычно именно середину
повести занимает решающий эпизод в жизни героя). Отмеченность
этих трех точек повествования создает лишь некий минимум
композиционной симметрии синтетических хикаятов. В его рамках
отдельные «любовно-военные комплексы», связанные
непрекращающимися скитаниями героя, также обычно оказываются
сбалансированными с помощью разнообразных приемов (ср. [286]), что и
создает сложную композицию хикаята в целом, напоминающую
по структуре своего рода орнамент.
Ту же тенденцию к культивированию орнаментального начала
демонстрирует и стилистика синтетических волшебно-авантюрных
повестей, «отшлифованная в придворных кругах» и
«показавшаяся бы слишком напыщенной в Малакке периода расцвета» if 196,
с. 104]. Сказанное прежде всего относится к описательным
пассажам хикаятов, гораздо более многочисленным и разработанным,
чем в сочинениях раннемусульманского времени. Орнаменталь-
ность эта, однако, создается не за счет «барочного»
«нанизывания синонимичных метафор» и насыщения описаний тропами и
стилистическими фигурами, как это имеет место, например, в
дает анах. урду [211, с. 26—27]. Чувственная конкретность,
«зримость» предметов в синтетических хикаятах ослабляется
благодаря абстрагирующему и функциональному характеру их описания,
направленного на выявление единой «драгоценной» сущности всех
вещей, после чего совокупность, а точнее, переплетение «распред-
меченных» таким образом предметов сливается в своего рода
декоративный фон, по которому движутся обычно не менее
декоративно изображенные герои.
По-видимому, более явная, чем прежде, тенденция к
орнаментальное™ композиции и стилистического строя синтетических
хикаятов наряду с отмеченными изменениями в образе их героя и
присущей им «картины мира» и есть те специфические формы, в
которых дальнейшая мусульманизация малайской литературы
проявилась в волшебно-авантюрных повестях.
При всей открытости волшебно-авантюрных синтетических
хикаятов для внешних влияний они сохраняли многие чисто
малайские черты. Важнейшей особенностью повестей был их «наивный
реализм» (подробнее см. i[286, с. 178—179]) и. Малайские
литераторы подробно описывали характерные жесты героев, бытовые
детали, повадки животных, каждое движение сражающихся
противников, переливы лунного света на гранях драгоценного камня.
Столь пристальное внимание к незначительным на первый взгляд
деталям явилось наследием устных народных сказаний, где эта
особенность выражена еще отчетливее Г196, с. 53—54]. Не только
разворачивая повествование, но и следя «боковым зрением» за
мелочами жизни, авторы повестей как бы стремились показать
действительность в ее полноте и многокрасочности, пробудить у
254
читателя и слушателя «вкус к жизни». Другим проявлением
исконно малайской фольклорной стихии в повестях было включение
в них импровизированных четверостиший — пантунов, в обмен
которыми обычно выливалась беседа влюбленных.
Наконец, и это также весьма характерно, в поле зрения
литераторов постоянно находился малайский прибрежный город. Город
этот, обнесенный стенами, неизменно стоял в устье реки при ее
впадении в море, приветствуя вернувшегося царевича пальбой из
пушек и высылая навстречу его кораблю, входящему в устье,
лодку — именно так, как это описывалось в хрониках и
происходило в действительности. Авторы повестей самим ходом рассказа
зримо воссоздавали запруженные толпой базары, широкие улицы,
ведущие к площади перед дворцом и украшенные по случаю
возвращения героя, разбросанные там и тут отдельные кварталы-
кампунги, живущие достаточно уединенной жизнью, чтобы Ин-
драпутра, например, мог незамеченным построить на реке подле
одного из них волшебный корабль, и настолько удаленные от
центра города, что царевна, находившаяся во дворце, не могла
понять, откуда доносятся звуки оркестра Индрапутры i[43, с. 200—
201, 218—219]. Черты малайской жизни отразились ив описаниях
многочисленных церемоний, занимающих значительное место в
повестях.
Время возникновения синтетических повестей.
До сих пор хикаяты синтетического типа без особых оговорок
рассматривались как явление, возникшее в классический период
малайской литературы в определенном выше смысле. Такой взгляд
на них, однако, отнюдь не является общепринятым и нуждается, в
аргументации.
Р. О. Уинстедт считал, что повести синтетического типа «не
всегда по времени, так как многие из них принадлежат уже к
мусульманскому этапу малайской истории, но, во всяком случае,
по содержанию и по духу» относятся к «периоду перехода от
индуизма к исламу» 1.Г 196, с. 92], и датировал многие из них ма-
лаккским периодом [196, с. 93, 96, 98, 101]. С тех пор этот взгляд
прочно утвердился в историях малайской литературы [468; 394
и др.], а также в немногочисленных специальных исследованиях,,
посвященных этому жанру [199, с. 19—22]. Думается, однако, что
отнесение синтетических повестей к переходному периоду,
понимаемому как период малаккский, едва ли правомерно. Пока что
ни одна из них не может быть достоверно датирована столь
ранним временем.
Вместе с тем состав раннемусульманской литературы,
создававшейся в Пасее и Малакке, примерно одинаково
реконструированный как в этой работе на основе сведений, содержащихся в
хрониках, так и в статьях Л. Бракела на базе изучения отдельных
произведений |[66; 299; 301], и относительная стабильность этого
состава на протяжении всего раннемусульманского этапа не
подтверждают, казалось бы, естественную мысль о том, что само
смешение индуистских и мусульманских элементов в повестях указы-
255
вает на отраженный ими «переход от индуизма к исламу».
Литература переходного периода в собственном смысле слова, как уже
отмечалось, включала, с одной стороны, переработки индийских и
яванских произведений, а с другой— переводы произведений
ближневосточных (в первую очередь персидских). Синтез же элементов
той и другой традиций наблюдался лишь в сфере историографии
ж вызывался непосредственными династийными, нуждами.
По-видимому, понадобились определенное время и определенные
внутренние стимулы для того, чтобы подобная
переходность-сосуществование, обусловленная довольно поверхностным восприятием
мусульманской культуры, пока что распространявшейся «вширь»,
сменилась и в литературной области
переходностью-взаимопроникновением, связанной с более фундаментальным усвоением
ислама и его движением «вглубь». Если вообще позволительно
говорить о синтетических повестях как о явлении переходном, то в
них совершался переход не от «индуизма» — древнемалайской
литературы к литературе ислама, а от раннемусульманской
литературы к литературе классической. Более же правомерно
рассматривать их появление наряду с выработкой мусульманского
литературного самосознания и становлением новых жанровых форм—
"шаира и штаба в сфере словесного творчества, а также торжест-
бом суфизма в области религиозной как феномен, знаменующий
глубинное приобщение малайской литературы к мусульманской
культуре — «обращение духа». На этом этапе малайская
мусульманская традиция была уже достаточно сильна, чтобы сплавить
на единой основе разнородные элементы.
Не случайно поэтому первыми сведениями о синтетических вол-
шебно-авантюрйых хикаятах мы вновь обязаны сочинениям,
создававшимся в Аче в первой половине XVII в. Наиболее раннее
упоминание о произведениях, в которых лишь сугубо
гипотетически можно угадывать такого рода хикаяты, относится к 1603 г. и
•содержится в зерцале «Корона царей». Его автор (или
переводчик), упомянув о полезности своей книги для малайских
правителей и их подданных, писал:
«... и пусть не учатся они читать другие повести, ибо большинство повестей,
прославленных в малайских землях, введут их и тех, кто станет их слушать, в
-соблазн в этом и том мирах. Ведь истории, содержащиеся во многих хикаятах,
исполнены заблуждений и неверия, и читать или же слушать их — грех» [133,
>с. 223—224].
С полной определенностью о популярности в Аче XVII в. по
крайней мере одного хикаята синтетического типа — «Повести об
Индрапутре» свидетельствует упоминание о нем в трактате шейха
Нураддина ар-Ранири «Праведный путь» (1644 г.) jf 196, с. 94],
познакомившегося с малайской литературой после прибытия в Аче
Г157, с. 6].
Наконец, третье, вновь не вполне ясное указание на
известность в Аче синтетических повестей содержится в предисловии к
одной из них — «Хикаяту о Берме Шахдане» (рук. Raffles
256
Mal. 12). В этом предисловии сообщается, что «диковинное и
редкостное содержание повести сошло в Высочайшем Присутствии с
красноречивого языка Мауланы Шейха ибн Абу Бакара, гостя с
Запада, который был весьма знаменит и хорошо известен в
прежние дни, во времена султана — ученого и подвижника (захид),
верного слову, блистательного покровителя» i[403, с. 58]. Далее
султан характеризуется как «тот, чье счастье и помыслы
высоки», как «опора всех государей и султанов, источник света для
правоверных, воздвигавший знамена мудрости и справедливости
над головами гонимых и гонителей» (перевод по \[ 196, с. 93—94]
с некоторыми уточнениями).
Р. О. Уинстедт, полагавший, что не названный по имени
правитель — это не кто иной, как последний малаккский султан
Махмуд, датировал повесть малаккским временем, однако отмечал,
что «такие эпитеты могли быть отнесены и к султану Аче» jf 196,
с. 94]. Последнее представляется более вероятным, так как мало
схожий, например, с восхвалением джохорского султана Алаадди-
на из «Малайских родословий» панегирик из «Повести о Берме
Шахдане» довольно сильно напоминает прославление ачехского
государя Искандара II из «Сада царей» Нураддина ар-Ранири
[91, с. 44—45].
Едва ли, однако, в повести имеется в виду Искандар И.
Даже Нураддин в своем весьма льстивом панегирике не называет
его подвижником. На эту роль мог скорее претендовать ачехский
султан Алааддин Сайид аль-Мукаммал (годы правления 1588—
1604). К стереотипной характеристике этого султана автор
хроники «Повесть об Аче» добавлял, что он «постоянно беседовал с
людьми, осведомленными в науке об истине (т. е. суфиями.—
В. Б.)» ([90, с. 100], а создатель поэмы «Наука о женщинах»,
«повергнутой» к стопам Алааддина в панегирике, вновь
перекликающемся с восхвалениями, уже знакомыми «нам из «Повести о
Берме Шахдане», прямо указывал на его высокое место в
суфийской иерархии:
Шах Алам (здесь титул Алааддина.— В. Б.) — справедливый владыка,
Полюс, обладающий полнотой совершенства,
Святой Аллаха, достигший полного единения,
Государь, наделенный суфийоким постижением и совершенный
(74, с. 70].
О том, что Алааддину вообще было «принято» подносить книги,
свидетельствует не только «Наука о женщинах», но и «Корона
царей», также посвященная ему |[396, с. 154]. Не против ли повестей
типа «Хикаята о Берме Шахдане», которые, возможно,
благосклонно принимал султан-подвижник, была направлена
процитированная инвектива из «Короны царей»?
Пожалуй, наиболее веские доводы в пользу широкой
известности в Аче одновременно суфийских сочинений и синтетических
волшебно-авантюрных хикаятов обнаруживаются в «Повести об
Аче» и историческом разделе «Сада царей». Оба источника в опи-
П Зак. 147
257
саниях различных придворных церемоний, приемов и
бракосочетаний постоянно прибегают к изобразительным клише такого рода
хикаятов, так что, читая иные их страницы, нелегко отделаться ог
чувства, что перед нами не хроника, а, скажем, «Повесть об Ин-
драпутре» (ср., в частности, [90, с. 100—115; 91, с. 60—69; 57^.
с. 84—89, 326—333]. К тому же основатели ачехской династии но>
сят «хикаятные» имена Индра Шах и Hyp Камарайн (Свет Двух:
Лун), а в династийном мифе, излагаемом в «Повести об Аче»,
представлен мотив похищения героем волшебных одежд небесной
девы, 'Прилетевшей купаться к пруду, и женитьбы на ней, который
широко распространен в малайском фольклорном и литературном
романическом эпосе, например в «Повести о Малиме Демане»
{169а, с. 19—37] и в «Повести об Индрапутре» {43, с. 35—55] г
но совершенно нехарактерен для малайской историографии [125,,
с. 81—99] 15.
Еще более красноречивы данные топонимики и ономастики
обеих хроник. Так, в «Повести об Аче» (см. указатель к |[90у
с. 188—193]) упоминаются Телук Ишкидар (Залив Преддверия
Любви, или Залив Влюбленного16), реки Дар ал-Ишки (Обитель
Любви) и Вади ас-Сафа (Русло Чистоты), равнина Медан Хаяли
(Площадь Воображения), устье реки — Куала Мерду Ишки (Устье
Любовной Гармонии), крепость Кота Халват (Град
Затворничества) и т. д. Во всех этих топонимах Н.аль-Аттас вполне
справедливо усматривает свидетельства популярности в Аче «суфийских
доктрин и суфийского образа жизни» [61, с. 17]. В то же время
многие названия топографических объектов выглядят так, будто они
сошли со страниц волшебно'-авантюрных повестей. С особой
наглядностью сочетание обоих типов названий прослеживается в.
описании сада ачехского султана [91, с. 48—52]. Здесь и ряд
суфийских топонимов: уже известные нам река Обитель Любви и
устье Любовной Гармонии (кстати, они, как и Залив
Влюбленного, вызывают в памяти Бахр аль-Идш — Море Любви из «Повести
об Индрапутре»), Мечеть Созерцательной Любви (Масджид Ишки
Мушахада) и др., и множество топонимов, встречающихся в
синтетических повестях. Сам сад, как и сад царевны-пери Ратны Ге-
малы Мехран из «Повести об Индрапутре», именуется Садом
Любовного Томления [57, с. 65] ; лужайка в этом саду — Полем
Чудес, как бы в память о Поле Чудес, в котором Индрапутра одолел
волшебных стражей дворца пери; искусственная гора —
Алмазной Башней (ср. Алмазную Гору в «Повести об Индрапутре» /[57,
с. 100], а также Алмазную Гору — топоним в Аче |[90, с. 25])
и т. д.
Множество топонимов сада включает имя Индра,
сопровождаемое каким-либо классификатором. Так, камень, вдающийся в
реку, именуется мысом Благородного Индры (Индра Бангса),
набережная — Берегом Благоприятствующего (?) Индры (Индра
Пакса), разноцветный гравий вокруг беседки — Гравием
Хитроумного Индры (Индра Река). Эта модель широко распространена в
волшебно-авантюрных повестях. Достаточно сказать, что в семь
258
-еадцати из шестидесяти упоминавшихся хикаятов по ней
построено имя главного героя — Царственный Индра (Индра Ната,
Индра Менгиндра) Небесный Индра (Индра Каянган) и т. д.
Подобными же именами наделены многие придворные в «Повести
об Аче», причем некоторые из них имеют точные аналоги в
волшебно-авантюрных хикаятах. Таковы имена Благородный Индра
(см. «Повесть о Благородном Индре»), Индра Джайя —
Победоносный Индра (см. «Повесть о Шахе Мардане», она же «Повесть
об Индре Джайе»), Индра Деви (см. «Повесть об Индре Дэве»),
Таким образом, парк султана Аче оказывается разом и вполне
традиционным садом суфийских аллегорий, и своего рода «садом
-волшебно-авантюрных повестей».
Приведенные данные подтверждают параллельное
существование в Аче как синтетических повестей, так и суфийских сочинений
и указывают на знакомство ачехских суфиев с такого рода
повестями. Однако лишь констатировать этот параллелизм
недостаточно. В суфийских сочинениях Хамзы Фансури, Абд аль-Джама-
ла, анонимного автора «Науки о женщинах» встречается немало
образов и повествовательных мотивов, широко распространенных
;в синтетических хикаятах (мотивы возлюбленной, обитающей на
горе, и борьбы с соперниками из-за невесты, описание подводного
города, обнесенного стенами, чудовищного дракона или
«несказанно прекрасных» гор, которые одолевает герой, и т. д.).
В то же время сохранившийся во множестве списков хикаят
«Повесть о Шахе Мардане» содержит ряд прямых суфийских
экскурсов (в частности, учение о «семи ступенях Бытия», что
делает вероятным его возникновение в Аче в первой половине
"XVII в.), которые бросают отсвет и на интерпретацию его
повествовательных частей.
Герой повести — царевич Шах Мардан, или Индра Джайя, заблудившись на
охоте, попадает во дворец царевны Кемалы Ратны Деви, похищенной раксасой.
'Царевич становится ее возлюбленным, но страшится чудовища, за что Кемала
Ратна Деви превращает его в попугайчика. Индра Джайя прилетает во дворец
другой царевны — Сити Деви, где его сажают в клетку. По ночам он принимает
человеческий облик и наслаждается любовью красавицы, на которой в конце
концов и женится. Затем, вновь отправясь в странствия, Индра Джайя попадает
на гору отшельника Саламаддина, а затем — мудреца Лукмана, которые
разъясняют ему символическое значение различных частей молитвы и ритуальных
действий, совершаемых во время нее, связывая их с четырьмя буквами имени Аллах,
•четверичностью первой^ манифестации Всевышнего, тремя первыми «ступенями
определенности» (Ахадийа, Вахда, Вахидийа), четырьмя этапами суфийского пути
(шариат, тарикат, хакикат, марифат) и т. д.
Обогащенный этими знаниями, Индра Джайя приходит в пустую мечеть на
берегу моря и встречает там таинственных всадников — воинов, павших за веру,
которые при жизни полностью предались Аллаху и удостоились лицезреть Его.
"Их предводитель продолжает истолкование символического значения ритуального
очищения и молитвы, в частности соотнося ее животворную силу с различными
уровнями человеческой пневматологии (душа, разум, абсолютная сущность, свет,
тайна-седо).
Простившись с всадниками, даровавшими ему власть над четырьмя
джиннами, исполняющими любые желания, Индра Джайя добирается до города,
опустошенного чудовищными птицами — гарудами. Джинны убивают гаруд, и Индра
17*
259
Джайя, оживив жителей города, женится на дочери его правителя — Чандре Сарш
Гемиланг Чахайе, к которой он обращается с суфийской проповедью о взаимной:
соотнесенности и подобии микрокосма и макрокосма. Затем, похищенный гару-
дой — родичем птиц, убитых джиннами, он вновь попадает на гору, где во
дворце обитает мнимонемая царевна с примечательным именем Джулус аль-Ашикинл
(Престол Влюбленных). Поочередно вселяя свою душу в занавес, свечу и сосуд,
для бетеля и загадывая оттуда красавице суфийские загадки, Индра Джайя
заставляет царевну заговорить и удостаивается ее руки, после чего изъясняет жене
учение о «семи ступенях Бытия». Одолев затем соперников, менее счастливых в.
своих любовных притязаниях, и пережив ряд новых приключений, царевич
возвращается домой и воцаряется там вместе с четырьмя женами под именем Шаха.
Мардана (одно из прозваний чрезвычайно почитаемого суфиями халифа Али)
(подробное изложение повести см. [528, с. 205—209], ее текст с очень
значительными сокращениями |[143, с. 123—148]).
Нетрудно заметить, что перед нами типичная суфийская
аллегория со стандартными для нее символами птицы — души,
клетки— дольнего мира, демонических существ — противников и
помощников взыскующего истины, странствием по горам, во время7
которого обретаются суфийские знания, и, наконец, достижением
божественного Престола и единением с божественной
Возлюбленной.
Влияние суфизма в различной степени сказалось и на других:
синтетических повестях, а несколько позднее, со второй половины
XVII в., на романических и аллегорических шаирах. Одни из них,,
подобно «Повести о Шахе Мардане», могли действительно
являться суфийскими аллегориями («Повесть об Индрапутре») или
частично стилизоваться под такие аллегории («Шаир о Сове»),
другие — включать отдельные суфийские мотивы, символы,
наставления («Повесть об Исме Ятиме», «Поэма о Бидасари»).
Любопытно, что даже в таком, не имеющем отношения к исламу шаире,
как «Поэма о Кен Тамбухан», обнаруживаются строфы,
призывающие читателя к суфийскому самопознанию [154, с. 291], что^
свидетельствует если не об истолковании поэмы одним из ее
читателей и .переписчиков, жившим, вероятно, в XVIII в., то <по
крайней мере об умонастроениях той среды, в которой она читалась и
переписывалась.
Таким образом, имеются основания полагать, что малайские-
суфийские сочинения и важнейший в классический период жанр
малайской беллетристики — синтетическая повесть не только
возникли синхронно и существовали бок о бок, но и формировались
в тесном взаимодействии, часто в одной и той же среде, отражая
единый историко-культурный процесс. В сфере мировоззренческой"
этот процесс- выразился в пересмотре прежних индуистско-буддий-
ских концепций, трансформации одних, отбрасывании других и
конечном торжестве «души ислама» — суфийского учения, сумевшего-
благодаря мусульманскому в своей основе синтезу преодолеть
разрыв старой и новой традиций 17. В сфере «изящной словесности»
сходная эволюция привела к взаимопроникновению мотивов,
ранее обособленных в различных по происхождению
произведениях,— созданию жанра синтетических повестей и синтетических:
шаиров. Связь обеих сфер повела к проникновению волшебно-аван-
260
тюрных мотивов в суфийские произведения, а суфийских
мотивов — в произведения волшебно-авантюрные и к созданию хикая-
тов и шаиров — суфийских аллегорий. Подобно тому как ислам
явился интегрирующим фактором в мировоззрении, стиль арабо-
персидского сказа, квазимусульманская форма стиха и
композиционные принципы мусульманской литературы придали единство
и целостность разнородным элементам, вошедшим в синтетические
повести и поэмы.
По-видимому, определенное влияние на течение этого
процесса оказали связи малайского мира (главным образом Аче XVI—
XVII вв.) с мусульманской Индией — Гуджератом, деканскими
княжествами Биджапуром и Голкондой, империей Великих
Моголов [472, т. 2, с. 249—253; 403; 396, с. 116—117]. Исследователи не
раз отмечали то воздействие, которое оказали индийские авторы
Мухаммад ибн Фазлаллах из Бурханпура, Нураддин из Ранира
(Рандер, порт в Гуджерате) и другие на малайский суфизм if 113у
с. 45—48; 93, с. 30—35; 510, с. 126—127]. По-видимому, не
меньшую роль сыграли деканские дастаны в процессе формирования
малайских синтетических повестей [196, с. 92; 286, с. 153, 190].
Весьма существенно, что в литературе деканских княжеств,
переживавших в те же XVI—XVII века период расцвета, сложился
своеобразный индо-мусульманский синтез, проявлявший себя в
сюжетике произведений, где действовали герои — индусы и
мусульмане, персидские пери и дэвы, а наряду с ними ракшасы и
Индра, а также в использовании одними и теми же авторами как
исконно индийских, так и арабо-персидских поэтических форм.
Для литературы этого синтеза были характерны чрезвычайно
сильная суфийская окрашенность и пристрастие к созданию
аллегорических суфийских маснави, использовавших местные сказочные
мотивы |[270, с. 8—11, 17—43; 198, с. 21—32]. Сходные явления
прослеживаются и в литературе, создававшейся при дворе Великих
Моголов [174, с. 93—127].
Не исключено, что параллелизм индийского и малайского
литературных синтезов не есть лишь типологическое схождение и
что опыт писателей и поэтов мусульманской Индии XVI—XVII вв.
послужил катализатором для создания синтетических
произведений их малайскими современниками. Исследование этой
практически не изученной проблемы могло бы, вероятно, прояснить многое
•в истории малайской литературы классического периода.
Романические и аллегорические шаиры. Помимо
различного рода волшебно-авантюрных повестей восстанавливать
«гармонию души» были призваны <не менее разнообразные по
содержанию романические шаиры и отличающиеся от них лишь
зооморфностью героев шаиры аллегорические («Поэма о Пузанке
и Окуне», «Поэма о Шмеле и Жасмине», «Поэма о Попугае и
Чемпаке», «Поэма о Сове» и др.). Среди романических шаиров
(их известно более 5018) встречаются непосредственные
стихотворные переработки волшебно-авантюрных хикаятов («Поэма об Ин-
драпутре», «Поэма об Индре Бангсаване», «Поэма о Си Мискине»
261
и др.) и пьес ваянга («Поэма о Дамаре Вулане», «Поэма о Ваян-
ге Кинуданге»), поэмы, относящиеся к кругу сказаний о Панджи
(«Поэма о Кен Тамбухан», «Поэма о Панджи Семиранг», «Поэма
о Месе Гумитаре» и др.), собственно мусульманские по сюжети*
ке и месту действия сочинения («Поэма о Сити Завийе», «Поэма
о султане Яхье», «Поэма о Тадж аль-Мулуке» и др.) и, наконец,
не столь многочисленные, как синтетические хикаяты, но
чрезвычайно популярные шаиры синтетического типа. Из последних
наибольшей известностью пользовались «Поэма о Бидасари» и
«Поэма о Селиндунг Делиме» (каждая из них сохранилась в
максимальном для шаиров числе списков — не менее 12), а также
«Поэма о Ятиме Нестапе». Объединенные общностью тематики и
сюжетных мотивов, эти поэмы образуют своего рода «пучок»
классических шаиров синтетического типа, подобно тому как «Повесть об
'Индрапутре», «Повесть о Берме Шахдане», «Повесть о Шахе Ко-
баде» и «Повесть о Корисе Менгиндре» — такого же рода «пучок»
классических волшебно-авантюрных хикаятов. Сопоставление этих
групп памятников особенно наглядно выявляет специфику
прозаической и поэтической разновидностей малайской романической
эпики.
Романические шаиры, как правило, рассматриваются в
качестве неких стихотворных аналогов волшебно-авантюрных повестей
(см., например, if286, с. 174]). Все же, несмотря на значительное
сходство обоих жанров и порой вторичность того или иного шаи-
ра по отношению к определенному хикаяту, версификацией
которого он является, различия между ними довольно велики.
Во-первых, хотя в шаирах, как и в хикаятах, важную роль играет
композиционный принцип, не композиция, а сюжет, обычно не слишком
разветвленный, выступает в них началом, организующим все
повествование. Во-вторых, шаирам в гораздо большей степени, чем
хикаятам, присущи черты психологизма и лиричность — в
частности, весьма значительное место в них занимают крайне редкие в
повестях лирические монологи, которые вслух или про себя
произносят герои. Обе эти черты с наибольшей выразительностью
воплотились в «Поэме о Бидасари».
Кроме того, не тождественны оба жанра, и по своей тематике.
Шаир более «демократичен», чем хикаят,— для него чрезвычайно
характерны «женская»19 и «купеческая» темы, появляющиеся лишь
в отдельных повестях («Повесть о Джаухар Маникам», «Повесть
о Та'ваддуд», «Повесть о Дарме Та'сие», «Повесть о том, как
купеческий сын стал раджей»), ближе ко второй половине XVIII —
началу XIX в., когда на смену синтетическим хикаятам
постепенно приходят произведения, в которых уже безраздельно
господствует дух ислама, а описываемые события происходят на Ближнем
Востоке. Наконец, различия жанров шаира и хикаята могут быть
прослежены и в языковой сфере, прежде всего в лексике.
Наряду с небольшим числом специфических поэтизмов — существительных и
местоимений — в шаирах представлено довольно много прилагательных, простых
и составных, которые почти не употребляются в произведениях прозаических:
262
покта — «прекрасный, наилучший»; бена — «необычайный, привлекающий
внимание»; гана — «могущественный»; шахда — «красивый»; ангкара — «злой, дерзкий»;
бахари — «молодой, блестящий», а также биджак-бестари — «вежественный и
учтивый»; муда-джаухари — «молодой и вежественный»; усул-бестари —
«родовитый и учтивый». По-видимому, широкое использование их в поэзии, главным
образом в конце стиха (в малайском языке определение следует за определяемым),
связано с довольно строгой рифмовой избирательностью шаира20, превратившей
эти прилагательные в своего рода «постоянные» эпитеты.
Определенное своеобразие присуще и малайскому поэтическому
синтаксису, который характеризуется отсутствием слов-ритмиза-
торов (мака, хатта, шахдан, ад any н и др.) и тенденцией опускать
служебные слова, что создает ощущение большей «прозрачности»,
«легкости», просторности языка поэзии по сравнению с прозой,
даже той, что не испытала влияния арабизированного стиля ки-
табов.
Несмотря на то что жанр шаира сформировался под явным
арабо-персидским, а скорее — персидским влиянием, все три
разновидности шаиров по своему стилю резко отличаются от образцов
персидской поэзии. Стиль персидской поэзии (см. if258, с. 110—
121; 236; 178, с. 200—203, 384—385, 478—480; 250, с. 125—156])
с его тяготением к неизобразительности тропов, метафоричностью
и «ученостью», с его изощренной архитектоникой отдельных
бейтов, обычно демонстрирующих достаточно строгую «выстроен-
ность» и насыщенность риторическими фигурами, с его
пристрастием к игре слов, призванной выявить все многообразие оттенков
их значения, смысловых и звуковых ассоциаций, остался не менее
чуждым малайской письменной поэме, чем метрика аруза и ара-
бо-персидские стиховые формы (касида, газель, маснави и др.)-
Даже наиболее простой из персидских поэтических стилей — хо-
расанский — должен был бы восприниматься малайскими поэтами
как верх утонченности и искусственности. То же следует сказать
и о невосприимчивости малайской поэзии к стилистике
санскритской кавьи, хотя отдельные образы и символы санскритского
происхождения, равно, впрочем, как и арабо-персидского, в ней вре-.
•мя от времени встречаются (см. [303; 196, с. 211; 389, с. 29; 300,
с. 94—95]).
Красота хорошо построенного шаира, в котором все
компоненты стиля подчинены задаче ясного и плавного изложения событий
(ср. [124, с. 11—12]), обнаруживает себя в пластичности описаний,,
точных по предметным деталям и психологическим мотивировкам,
в уместном использовании изобразительных эпитетов и сравнений,
не слишком частых, а потому не нарушающих гармоничность
повествования, наконец, в богатстве и тонкости инструментовки
стиха. Хотя в целом стиль шаиров, несомненно, литературен и в
определенной степени рафинирован, в нем не столь уж редко
обнаруживаются фольклорные черты. Поэтому, быть может, не вполне
устарела его обобщенная характеристика, данная более века тому
назад голландским ученым Я. де Холландером, который, однако,
в духе романтических представлений своего времени явно
переоценивал простоту и наивность малайских поэм:
263
«В них (шаирах.— В. Б.) можно отыскать изящные описания, точно выбран-
ныз сравнения, детскую наивность, простое и героическое изображение событий
и положений, естественное выражение тревог и душевных волнений, которые не
могут не доставить удовольствие и не увлечь читателя, если он умеет не
принимать во внимание некоторое несовершенство формы. Для того, кто станет читать
малайские стихи, совершенно необходимо... уметь полностью погрузиться в дух
малайцев и прежде всего не рассматривать и не оценивать каждое слово и даже
законченную фразу саму по себе, но охватить единым взором и оценить в целом
все изображение события, все описание картины» [351, с. 307].
4. СФЕРА ПОЛЬЗЫ
Литература зерцал. Будучи ориентированы прежде
всего на красоту слова и образ «куртуазного» героя,
волшебно-авантюрные повести с поразительной легкостью вбирали всевозможный
дидактический материал. Кроме того, некоторые из них являлись
суфийскими аллегориями или содержали элементы таких
аллегорий. Таким образом, они могли воздействовать на разум, а порой
и на «духовное сердце». Однако специально на уровень разума
были рассчитаны литература зерцал и исторические хроники.
В мусульманской традиции считалось, что человек наделен
разумом от рождения, однако первоначально разум подобен
бесформенной массе воска. Знание, оставляющее на «воске» свой
отпечаток, может «лепить» человека как общественное существо,
обладающее утонченной культурой чувств, мыслей и поведения
(адаб), или как личность, устремленную к систематическому
научному постижению (илм) различных сторон мироздания, и
прежде всего изучению богословских дисциплин. Первую из этих задач
и решала дидактическая литература зерцал (см. [50, с. 23—25;
221, т. VI, с. 45; 248, с. 62—65]).
В малайской традиции, как и вообще в традиции
мусульманской, она включала собственно зерцала — «учебники» этики,
житейской и государственной мудрости («Корона царей», «Сад
царей»), краткие наставления для государей, обычно прозаические,
реже — стихотворные, назидательные обрамленные повести
(«Калила и Дамина», «Повесть о Бахтиаре», «Повесть о мудром
попугае»), а также большие и малые антологии учительного
содержания («Повесть из разнообразных цветов» i[22, с. 21—22],
«Врата разума для вельмож» j["19, с. 141] и т. п.) и поэмы, трактующие
этические вопросы, иногда в форме аллегорий (например, «Шаир
алиф, ба, та», где эти вопросы обсуждают буквы алфавита /[22,
с. 80]). Призванная правильно ориентировать поведение малайца-
мусульманина, эта литература восходила по преимуществу к
арабским, персидским и индо-персидским источникам, выступавшим,
однако, не столько как образцы национально-своеобразных
литератур, сколько как общий фонд мусульманской мудрости.
Если уже в волшебно-авантюрных хикаятах эпизоды
жизненных странствий героя тяготели к отдельным замкнутым
рассказам, то в литературе зерцал сравнительно краткие
самодовлеющие рассказы представляли собой основную повествовательную
264
единицу. Ее предназначение, однако, состояло не в том, чтобы
изобразить очередное захватывающее приключение героя, а в том,
чтобы, «разыграв в лицах» или воплотив в пластических образах
определенную идею, «лепить» с ее помощью разум. При этом, если
красота в волшебно-авантюрных повестях благодаря «косвенному
выражению» могла воздействовать на душу через разум, то в
«литературе зерцал» она превращала идею не только в «полезную
для разума», но и в приятную для души и помогала пронизать ею
все существо человека.
Мусульманская дидактика не оказалась чем-то совершенно
новым для малайской словесности. Подобно тому как восприятие ею
индо-яванской и мусульманской эпики было в значительной мере
обусловлено «встречным течением» — местными романическими
сказаниями, почву для усвоения учительных исламских сочинений
подготовили фольклорные сказки о хитроумном карликовом олень-
ке-пеландуке и о различного рода глупцах и умниках наподобие
Папаши Стручка, Папаши Остолопа или Папаши Кузнечика |[71].
Порой прямо, порой «от противного», с помощью смехового
«выворачивания» принятых норм поведения, эти -сказки утверждали
высокое достоинство разума, преодолевающего любые преграды, и
неизменную правильность якобы отвергаемых норм. Не случайна1
поэтому сказки о канчиле наряду с историями из «Повести о
мудром попугае» вошли в те же, например, «Врата разума для
вельмож» и даже сложились в литературную «Повесть о хитроумном
пеландуке», по общему признанию, пародийную, но пародийную в
средневековом смысле слова, т. е. учительную «наизнанку», ибо
сквозь контуры царства животных с нелепыми титулами,
управляемого одолевшим их всех с помощью хитрости оленьком, в ней
проглядывает «перевернутая» картина должным образом упорядочен-
) ного мира.
Характерно также, что значительную часть «литературы зерцал»
составили мусульманские произведения, восходящие к индийским
источникам («Повесть о мудром попугае» — переработка
санскритской «Шукасаптати», «Калила и Дамина» — «Панчатантры»),
которые, судя по некоторым следам в малайской литературе и
фольклоре, могли быть хотя -бы частично известны малайцам еще <в
индуистско-буддийский период их истории [196, с. 25—27, 71].
Малайская историография и ее эволюция. Если
«литература зерцал» включала главным образом заимствованные
сочинения, то вторая группа памятников, относящихся к сфере
пользы,— историография составляла, быть может, самую оригинальную
часть средневековой малайской литературы. Число хроник и
близких к ним исторических шаиров, созданных в классический период,,
в которых, однако, чаще всего описывались не связанные
последовательности событий, а какое-либо одно событие, очень великое
Различного рода исторические сочинения создавались не только
в таких крупнейших центрах малайской государственности и
культуры, как Аче или Джохор, но практически во всех княжествах и*
султанатах малайского мира (на Суматре, Малаккском полуостро>
265
ве, Калимантане и др.), а учитывая посреднические функции
малайского языка — и всего архипелага.
Характеризуя в общих чертах чрезвычайно сложный и
разнородный комплекс малайской историографии середины XVI—XIX в.,
следует прежде всего отметить, что ему были присущи черты,
характеризовавшие еще хроники предыдущего периода: «Повесть
о раджах Пасея» и «Малайские родословия». К их числу
относится прежде всего ориентация не столько на фактологически точное
описание событий, сколько на раскрытие их учительного смысла.
Этот смысл раскрывался читателю, с одной стороны, на примере
строго отобранных, «типичных», а по существу символичных
событий, призванных продемонстрировать, как проявляется в истории
законосообразность миропорядка, переосмысленная теперь как
извечное установление Аллаха, и к чему ведет нарушение его
гармоничности. С другой стороны, он обнаруживал себя в
возвеличении правителей прошлого и настоящего как осевых фигур,
предназначенных Всевышним для поддержания этого миропорядка. Имен-
АО решение этих задач и позволяло относить исторические
сочинения к сфере «пользы», о чем свидетельствует, в частности,
предисловие к «Малайским родословиям».
КаК и в раннемусульманское время, содержательную основу
памятников историографии классического периода обычно
составляло соединение мифологической и исторической частей, а их
основу композиционную — сочетание генеалогических и
повествовательных элементов. Такого рода композиция, обладающая
значительной гибкостью, позволяла малайским авторам наряду с
сочинениями типа «Малайских родословий» и «Повести о раджах
Пасея», описывающими историю государства под властью ряда
правителей, выработать своеобразный тип «панегирической
историографии», где все внимание хрониста сосредоточивалось на
прославлении деяний одного государя, тогда как рассказ о правлении
его предшественников сильно редуцировался, сводясь иногда к
собственно генеалогии.
Наконец, как и прежде, целью хрониста было не только
воспроизвести внешнюю историческую реальность, пусть и
трансформированную тенденциозностью автора — выразителя интересов
определенной династии — и его учительными задачами, но и создать
некий внутренний «мир в словах» /[496, с. 12] —литературное
произведение, обладающее самоценностью формы и содержания,
целостной композицией, в рамках которой каждый эпизод выявляет
свое скрытое значение, определенным стилем и, наконец,
попросту увлекательностью и живостью изложения. Красота, никогда
iHe упоминавшаяся в предисловиях к хроникам, часто заявляла о
себе в искусно построенных «новеллах», из которых складывались
их повествовательные разделы и где наставником в отличие от
«литературы зерцал» выступала сама малайская история, или в
описаниях, подчас не менее красочных, чем в
волшебно-авантюрных хикаятах.
Кроме того, модели литературных произведений, будь то «По-
266
весть о Сери Раме», оказания о Панджи, «Повесть об Искандаре
Двурогом» или зерцала для правителей и обрамленные повести
(см., например, «Повесть о Маронге Махавангсе»), часто
использовались в малайских хрониках для структурирования
исторического и квазиисторического материала в тех или иных разделах
повествования (ср. |[496, с. 22—23]). Поэтому совершенно прав
А. Тэу, характеризующий индонезийскую, и в частности
малайскую, историографию как «историческую литературу»
(разрядка наша) и призывающий изучать ее не только
историческими, но и литературоведческими методами ,[496].
Наряду с чертами, присущими малайской историографии еще
в раннемусульманский период, во многих хрониках классического
времени могут быть прослежены закономерные количественные и
качественные изменения, обусловленные углублением мусульма-
низации малайской словесности и сложением литературного
синтеза, о котором шла речь в разделах о волшебно-авантюрных
хикаятах и шаирах. Богатство малайской «исторической
литературы» и сохранение ею разнообразных вариантов описанной
обобщенной модели — от чрезвычайно архаичных «Кутейских
родословий» до приближающихся к мусульманской анналистике
памятников поздней джохорской историографии — позволяет составить
представление о развитии исторического жанра в малайской
литературе.
Основу классификации хроник и последующего изучения их
эволюции могло бы составить исследование целого комплекса
присущих им характеристик: пропорции и роли мифологического и
исторического начал в различных сочинениях или группах сочинений,
особенностей взаимосвязи в хрониках генеалогического и
повествовательного элементов, наконец, степени обособленности
нарративных «новелл» или их интегрированности в целостный текст. Это,
однако, дело будущего. Покуда можно попытаться дать лишь
беглый и по необходимости приблизительный обзор этой эволюции,
В достаточно полном и связном виде малайский миф о
происхождении династии в результате священного брака трех стихий
сохранился в «Кутейских родословиях» i[109; 386] и «Повести о,
Банджаре» [125]—хрониках, созданных на Калимантане,
периферии малайского ,мира, испытавшей сильное яванское влияние.
Оба эти фактора наряду с ритуальной функцией «Кутейских ро-,
дословий» и по крайней мере одной из версий «Повести о
Банджаре», по-видимому, и способствовали консервации в этих хроник,
ках древнейших элементов. ., -т
Лучше всего малайский «миф о происхождении» изложен в
«Кутейских родословиях». В «Повести о Банджаре» уже заметно
некоторое его разложение [125, с. 96—97]. Это сочинение, описы-*
вающее ряд правлений и характеризующееся довольно высокой
степенью интегрированности «новелл», сохранилось в двух
версиях. Одна из них, как показал Я. Рас, «ваянговая» (разыгрывав-,
шаяся в специфически банджарском ваяна Абд аль-Мулук), почти-
целиком посвящена мифической и легендарной истории банджар-
267;
ской династии, отличается разработанностью стиля описаний и
литературностью и завершается рассказом о принятии Банджаром
ислама. Другая версия, «дворцовая» (большая часть ее создана
в середине XVI в.), содержит «миф о происхождении» в
искаженном и сокращенном виде, значительно интенсивнее насыщена
историческим или квазиисторическим материалом и описывает также
ряд событий, последовавших за мусульманизацией государства.
Кроме того, она более лапидарна по стилю и на мусульманский
лад интерпретирует индуистские эпизоды ваянговой версии. Я. Рас
считает, что прототип ваянговой версии был создан в индуистском
кратоне (резиденции) старой столицы Банджара, Нагары Дахи,
и «сохранился как своего рода реликт в до определенной степени
антимусульманской атмосфере ваянга», а прототип дворцовой
версии возник в результате пересмотра версии ваянговой и
приспособления ее к запросам «нового (уже определенно)
мусульманского кратона — Банджермасина» )[125, с. 75].
Второй этап эволюции малайской историографии отражен уже
знакомыми нам «Малайскими родословиями» и «Повестью о
раджах Пасея», где, несмотря на более раннюю, чем у «Повести о
Банджаре», дату создания, разложение исконного мифа зашло
дальше, чем даже в дворцовой версии последней, и где удельный
вес его в структуре хроники также не столь велик. Тем не менее
обе эти хроники, так же как и «Повесть о Банджаре»,
'синтетические по характеру, рассказывающие о династии, а не об
отдельном правителе и демонстрирующие как обособленный, так и
интегрированный типы связи повествовательных единиц, еще не
содержат дат. Лишь в версии У «Малайских родословий» отмечается
длительность того или иного правления—черта, вновь исчезающая
в редакции Туна Сери Лананга, где к тому же больше места
отводится мифологическому «введению». В обоих отношениях джо-
хорская историография на первых порах делает некий шаг назад
по сравнению с малаккской.
Примерно этот же этап отражает так называемая «Сиакская
хроника», первая часть которой содержит одну из версий
«Малайских родословий», а вторая посвящена в основном событиям в
Джохоре и Сиаке (Восточная Суматра) в XVIII в., но «довольно
далеко заходит в XIX в.» J277, с. 5; 463, с. 309], а также «Повесть
о Патани» — созданная на рубеже XVII—XVIII вв. хроника се-
веромалаккского султаната Патани [155]. «Повесть о Патани»,
составленная из разнородных по времени написания и содержанию
частей, открывается не «мифом о происхождении», а легендой,
рассказывающей об основании Патани и объясняющей значение этого
топонима. «Миф о происхождении» излагается в ней в нескольких
строках, завершающих основную первую часть, в обычной
искаженной форме (царевич, явившийся из ствола бамбука, женится
на «пенорожденной» царевне (Г155, с. 127—128]). Рассказ о
событиях в повести, будучи довольно достоверным, лишен как дат,
так^и указаний на число лет, которые царствовал тот или иной
правитель, а повествовательная часть слагается из обособленных
268
гновелл, подобных хабарам, и по стилистической отточенности и-
психологизму не уступающих «Малайским родословиям»,
возможно послуживших образцом для ее автора.
Существенные изменения в малайской историографии,
знаменующие собой третий этап ее эволюции, наблюдаются в «Повести
•об Аче» [90] (создана между 1607 и 1636 гг.) — первом и
наиболее ярком образце панегирической хроники, в центре которой —
жизнеописание одного правителя, ачехского султана Искандара
Младшего. Начинается «Повесть об Аче» как будто с обычного
«мифа о происхождении». Два брата, потомки Искандара
Двурогого, женятся на небесной нимфе и «царевне из бамбука» (эта
:женитьба в хронике непосредственно уподоблена браку Дасара-
ты — отца Сери Рамы — и Мандудари). Затем их дочь и сын, в
свою очередь, вступают в брак, и от них ведет начало родправите-
.лей Аче. Однако это мифологическое «©ведение» кажется обычным
лишь на первый взгляд. Во-первых, мотивы, восходящие в нем к
исконному «мифу о происхождении», перепутанны, обессмысленны
и дополнены историей о небесной деве и похищении ее платья, не
встречающейся в других малайских хрониках. Во-вторых, брак с
«царевной из бамбука» мотивирован тем, что, когда Аллах желает
гявить свою милость отпрыску царского рода, Он дает ему в жены
даревну, чей род восходит к Вишну,— вариант мусульманской
формулы, сопровождающей в том или ином виде описание в хронике
жаждого правления и представляющей собой в конечном счете
парафраз, одного из хадисов, цитируемого в «Короне царей» [133,
с. 224] 21. Кроме того, царевич, который женится на небесной деве,
призывает ее смириться со своей участью, ибо в ней проявился
замысел Аллаха, исток которого лежит в предвечности,— явный
суфийский мотив,.обнаруживаемый, в частности, в учении Ибн аль-
.Араби о Неизменных Сущностях. Так разрушенный и десеманти-
. зированный миф, занимающий ничтожную часть текста, впитавший
индуистские и ближневосточные мотивы и призванный обеспечить
«связь времен», получает завершающую мусульманскую
интерпретацию.
За мифологическим разделом следует родословие ачехских
правителей — предшественников Искандара Младшего, включающее
более или менее краткое изложение событий, происходивших в
их царствование. Каждый такой период описан по стандартной
схеме. Начинается повествование уже упоминавшейся формулой,
.имеющей в большинстве случаев следующий вид: «Когда Аллах —
преславен Он и возвышен! — желает явить свою мощь и величие
обитателям мира. Он делает одного из своих избранных рабов
государем в некой стране». Затем идет собственно событийная часть
и оценка моральных качеств правителя. Не входя в разбор этой
части, естественно различной в рассказах о различных
правлениях, отметим лишь, что в ней причина каждого события неизменно
усматривается в воле Аллаха, содержатся весьма резкие оценки
деятельности некоторых государей и уже совсем нехарактерные
для предшествующей традиции сообщения об убийстве того или
269
иного жестокого и несправедливого султана по решению
вельмож — например, об убийстве султана Зайн аль-Абидина во время
суфийского зикра. При этом ни одно из таких убийств не влечет за
собой кары Всевышнего, а стало быть, молчаливо предполагается,,
что они приемлются Им.
Наконец, завершается раздел датой смерти каждого из
султанов (она же дата воцарения его преемника), указанием
длительности периода правления и заключительной формулой: «А
Аллах— преславен Он и возвышен!—/всеведущ, и [Он]
искуснейший из рассказчиков всякой истории».
Таким образом, «Повесть об Аче» является первой малайской
хроникой, содержащей даты, а рассказы ее генеалогического
раздела при всем сходстве с описаниями событий в «Повести о
раджах Пасея» и «Малайских родословиях» организованы по
стереотипной схеме, значительно строже соответствующей требованиям
мусульманской историографии, и сильнее пронизаны
мусульманским этосом.
Мифологический и генеалогический разделы — это, однако,,
лишь прелюдия к главному содержанию хроники —
панегирическому прославлению Искандара Младшего. Их функция — не
столько изложение событий, предшествующих его рождению»
сколько демонстрация его сверхъестественного происхождения,
чистоты родословного древа и сопоставление Искандара с великими,
правителями прошлого, равно как и противопоставление
правителям дурным.
Форма следующего затем повествования о детских и
юношеских годах Искандара вновь необычна для малайской
исторической традиции. Композиционную основу этого раздела составляет
погодный «отчет» о различных подвигах царевича. В семь лет„
например, он умело обращается со слонами, в восемь —
устраивает потешные морские сражения, в девять — прекрасно владеет
оружием, в десять — посрамляет искусством джигитовки
португальских послов (этот эпизод, как и некоторые другие особенности
хроники, указывает на знакомство ее автора с «Повестью о
'раджах Пасея» i[90, с. 21, 23—24]), в двенадцать — убивает дикого
буйвола, в тринадцать — чудесным образом постигает премудрость
Корана и штабов, в четырнадцать — убивает свирепого тигра и т. д.
Полная сосредоточенность хроники на личности Искандара,
сочетание в ней генеалогического введения, характерных и
многократно повторяющихся накануне рождения младенца снов его
отца и матери, в которых предсказывается будущее величие героя,,
а особенно этот «погодный отчет» о возмужании и детских
подвигах царевича позволили индонезийскому исследователю Т. Ис-
кандару предположить, что образцом, вдохновившим создателя
«Повести об Аче», послужила одна из «персидских книг о
государях, возможно „Акбар-наме"», написанная везиром могольского
императора Акбара — Абу-ль-Фазлом около 1602 г. )[90, с. 20, 22—
24]. Число совпадений между обоими памятниками довольно
значительно, и выводы Т. Искандара явно заслуживают внимания:
270
(ср. 1496, с. 17]). Не так давно, однако, они были поставлены под
сомнение Э. Джонсом, подчеркнувшим резкое стилистическое
различие «Повести об Аче» и «Акбар-наме», указавшим на то, что
прототипы ряда эпизодов и описаний ачехской хроники
отыскиваются в традиции малайских сказителей — «утешителей в
печали» и пришедшим к выводу, что, хотя «Повесть об Аче» и «не
является просто особой формой фольклорного повествования», она
и фольклорные повествования «восходят к одной и той же
культурной матрице и отражают единое мировосприятие» i[372a, с. 55].
К сожалению, Э. Джонс не рассматривает аргументацию Т. Ис-
кандара во всей ее полноте (в частности, он игнорирует такие ее
существенные моменты, как многократно повторяющиеся
«световые» сны-предсказания, постижение Искандаром Корана
благодаря чудотворческой способности пророка Мухаммада, наконец,
необычный «погодный отчет»), но тем не менее его наблюдения
также чрезвычайно знаменательны.
Оба исследователя повести, как это часто бывает, акцентируют
юдин из аспектов в процессе культурного влияния (Т. Искандар —
роль «дающей» стороны, Э. Джонс — роль стороны
воспринимающей) и недоучитывают динамической синтезирующей способности
малайской традиции, в данном случае проявившейся в «Повести
об Аче». В действительности их работы прекрасно показывают
как установку на создание мусульманской панегирической
хроники типа «Акбар-наме», реализованную автором во всех разделах
повести, так и детерминированность сознания этого автора
исконно малайскими мировоззренческими и эстетическими
стереотипами, которая делает для него неприемлемым «барочный» стиль
«Акбар-наме» и заставляет взамен обращаться к некоторым скази-
тельским формулам и «пуантированной», порой окрашенной в
юмористические тона новеллистике в духе «Малайских родословий».
В итоге как целостный «организм» «Повесть об Аче» оказывается
очередным образцом литературного синтеза, где исходный местный
материал, поданный в обычной для малайских хроник манере (она,
однако, определенным образом «орнаментирована» под
воздействием стиля волшебно-авантюрных хикаятов), не только насыщен
мусульманскими мотивами, но и структурирован на основе
принципов мусульманской историографии (схема описания правления
в генеалогической части с ее формулами и датами, «погодный
отчет» в описании детства героя и т. д.). При этом взаимосвязь тех
и других элементов — «прочность» синтеза в «Повести об Аче»
значительно выше, чем в «Малайских родословиях» и «Повести
о раджах Пасея».
Несколько иначе проведена панегирическая линия в хронике
«Миса Мелаю», созданной в Пераке на Малаккском полуострове
во второй половине XVIII в. и, подобно «Повести об Аче»,
посвященной гливным образом рассказу о царствовании одного
султана — также Искандара, фоном для которого служат довольно
краткие описания правлений его предков. Это произведение менее
^рко, чем ачехская хроника, отражает мусульманскую тенденцию
271
в содержит лишь одну дату — год смерти предшественника Ис-
кандара и воцарения главного героя. При этом, однако, оно
вообще лишено мифологического «введения», «дает отличное
изложение перакской истории с 1742 по 1778 г.» j[196, с. 188] и является
редким образцом хроники авторской, что в совокупности и
позволяет отнести к<Миса Мелаю,» к тому же этапу эволюции, что и,
«Повесть об Аче».
Создатель «Миса Мелаю» — племянник Искаидара, Раджа
Чулан, занимавший высокий пост в придворной иерархии [361], не
только именуется автором хроники и выступает в ней в качестве
одного из действующих лиц, но и упоминает о своем ремесле
литератора, аттестуя себя то как «человека, искусного в составлении
хикаятов и поэм», то как «забытую летучую мышь, неизменно
пребывающую в небесах фантазии» [123, с. 41, 118]. Согласно
романтической легенде, он был убит ревнивым супругом своей
возлюбленной, по более же достоверным данным, скончался естественной
смертью в ранге наследника престола i[361, с. 246].
Большую часть своего сочинения Раджа Чулан посвящает
описанию придворного быта — охоте на слонов и рыбной ловле
султана, его увеселительной прогулке по реке, воссозданной в
форме шаира, многочисленным празднествам по случаю коронации,
бракосочетания, близящегося рождения наследника, с танцами,,
музыкой, турнирами, фейерверками, процессиями ярко
украшенных лодок, с постройкой купален, остекленных разноцветным
стеклом, где вода струилась из пасти дракона с золотой чешуей,,
глазами из рубинов и рогами, усыпанными самоцветами, или
дворцов, возведенных по образцам, почерпнутым из старинных
хикаятов [123, с. 90—91].
Все эти описания отнюдь не случайно превращают саму
хронику в некое подобие волшебно-авантюрной повести. Так же как
название хроники «Миса Мелаю» (т. е. «Малайский буйвол», в
переносном значении — «Малайский герой» Г394, с. 234]), которое в
духе излюбленной малайцами «войны книг» противопоставляет
ее чрезвычайно популярному в Иераке XVIII в. сказанию о Пан-
джи «Миса Джава» («Яванский буйвол»), они призваны показать,
что жизнь перакского султана и его двора не уступала по
богатству, роскоши и красочности жизни знаменитого яванского
царевича.
К типу хроник, прославляющих по преимуществу одно
правление, относится и историческое сочинение середины XVIII в.
«Записи об истории государства Джохор» [104], которое, однако,
принадлежит уже следующему этапу эволюции малайской
историографии. Этот этап, четвертый, представлен поздней джохорской
«исторической литературой».
В значительной степени Джохору была посвящена вторая:
часть уже упоминавшейся «Сиакской хроники». В ней, однако,,
важную роль играла основанная на мифологических «аргументах»
легитимация минангкабоуского правителя Раджи Кечила22 и
отсутствовали даты событий, изложенных в стиле, напоминающем
272
«блестяще выписанные эпизоды рэффлзовской версии „Малайских:
родословий"» )[277, с. 4]. Кроме того, в «Сиакской хронике» в
соответствии со стремлением ее автора доказать законность
воцарения в Джохоре Раджи Кечила, якобы сына убитого джохор-
ского султана Махмуда, решительно отстаивалась старая
концепция безоговорочной преданности подданных правителю и
недопустимости ни при каких обстоятельствах покушения на его жизнь..
В выразительной «новелле», посвященной ночи накануне
цареубийства, сообщалось о том, как один из придворных, Сери Биджа
Дираджа, отказывается примкнуть к заговорщикам, ибо джохор-
ская история не знает подобных прецедентов, и предсказывает
смерть бендахаре за участие в нем. Из ран же убийцы Махмуда,
описанного в самых мрачных тонах, в знак божьего гнева до
самой смерти растет трава .[277, с. 5].
На фоне близкой к «Малайским родословиям» «Сиакской
хроники», описывающей те же события, что и джохорские
исторические сочинения, особенно наглядно выступают специфические
черты последних. Наиболее ранней из сохранившихся джохорских
хроник (по-видимому, все произведения, повествовавшие о периоде
с 1612 по 1673 г., погибли при захвате столицы Джохора войсками
Джамби — государства на Юго-Восточной Суматре) являются
«Записи по истории государства Джохор», созданные в середине
XVIII в. автором, близким к семье бендахоры Туна Хасана, и
завершающиеся шаиром в честь его назначения на этот высокий
пост '[104]. Все внимание создателя хроники сосредоточено на
политической биографии джохорского султана Сулеймана. События,
предшествующие рождению этого правителя в 1699 г. и
воцарению в 1722 г., изложены сжато и, как и в истории Искандара
Младшего, призваны лишь создать фон описанию его
царствования.
Два момента определяют своеобразие этой чрезвычайно
просто написанной хроники, по временам включающей тот или иной
документ. Во-первых, как и в «Миса Мелаю», в ней отсутствует
мифологическое вступление и рассказ о событиях начинается
прямо со злополучного нападения Джамби. Во-вторых, по форме она
приближается к анналам (основной тип мусульманской
историографии Г466, с. 68]) и содержит, как правило, точные даты не
только правлений, но и большинства значительных событий до
1750 г.
В отличие от «Сиакской хроники» с ее минангкабоуцентрист-
ской тенденцией и «Записей по истории государства Джохор» —
произведения автора-малайца, который соответственно и уделил
главное внимание роли малайцев в бурных событиях истории
султаната XVIII в. (Г277, с. 11], большинство памятников джохорской
историографии было создано при дворе бугийских «вице-королей»
Риау (ям-туан муда) и отражает бугийский взгляд на эти сот
бытия.
Произведения данной группы, написанные в конце XVIII—
XIX в., весьма многочисленны. К ним относятся «Повесть о госу-
18 Зак. 147
273
дарстве Джохор» (между 1804 и 1845 гг.) [162; 364; 365] и
«Повесть об Опу Даеиге Менамбоне», созданная бугийским
предводителем и переведенная на малайский язык его 1сьгном — Густи
Джамрилом t[271, с. 19]. К последней, в свою очередь, восходят
анонимный «Договор о верности бугийцев и малайцев» (1818 г.)
[519], а также «Родословия бугийцев» и «Родословия малайцев,
и бугийцев, и всех их правителей» (1865 г.) [425],
принадлежащие перу историографа, богослова и грамматиста из семьи яж-
туанов Раджи Али Хаджи. Венцом бугийскоцентристской
историографии является написанная тем же Раджей Али Хаджи хроника
«Тухфат ан-нафис» («Драгоценный дар», 1865) [f 163; 405],
излагающая малайскую, а затем малайско-бугийскую историю от
основания Сингапуры Сери Тери Буаной до первых десятилетий XIX в.
и, 'по мнению Р. О. Уинстедта, представляющую собой наиболее
важный исторический памятник после «Малайских родословий»,
•автор которого «сумел местами придать своему произведению
реалистическую окраску, свойственную работе его великого
предшественника» j[196, с. 191]23.
Для бугийскоцентристских произведений, в которых
описывается история на протяжении ряда правлений, характерны
отсутствие мифологической части и датировка событий. Раджа Али
Хаджи к тому же, несмотря на обычную тенденциозность и
обусловленную ею умелую аранжировку фактов, впервые перечисляет
используемые источники, а иногда дает и их критическую оценку.
Вероятно, бесспорное возрастание историчности, присущее поздним
джохорским хроникам, до некоторой степени можно объяснить
влиянием на их авторов традиций более достоверной и
фактологически точной бугийской историографии Г421]. Однако те же черты
отразились и в собственно малайских «Записях об истории
государства Джохор», из чего следует, что они были характерны для
джохорской историографии второй половины XVIII—XIX в. в
целом и знаменовали собой завершающий этап эволюции малайской
«исторической литературы» — наибольшее приближение к
стандартам мусульманских династийных анналов при сохранении многих
национальных особенностей. Любопытно, что, подобно автору
«Сиакской хроники», излагая историю гибели султана Махмуда,
:но стремясь при этом обосновать законность бугийского
завоевания Джохора, Раджа Али Хаджи не столь ригористически, как его
предшественник, относится к идее цареубийства. Он сначала
показывает безумие поступков султана, в частности казни им
беременной жены одного из придворных, а «по адату, хорошо
известному в XIX в. на Риау, безумный или изменивший вере
правитель должен быть низложен» [277, с. 7] ; затем сводит до
минимума и оправдывает действия бендахары и, наконец, отказав Радже
Кечилу в родстве с Махмудом, делает бендахару законным
наследником бездетного султана. Лишь на непосредственного убийцу
-обрушивается кара за вероломство (дерхака), и из его ран
вырастает трава [277, с. 7—8].
Наконец, одновременно с джохорскими хрониками в султанате
274
Кедах на Малаккском полуострове создается историческое, а
точнее, квазиисторическое сочинение, по-иному отражающее тот же
этап глубинной исламизации малайской историографии. Это —
известная «Повесть о Маронге Махавангсе» ([79], по чистому
недоразумению в свое время названная «Кедахскими анналами», ибо*
она не только не обладает анналистической структурой, но
вообще лишена дат. В этой повести, являющейся своеобразным
историческим адабом для правителей, осколки «мифа о
происхождении» настолько сильно оттеснены на периферию, что даже не
связываются с личностью основателя династии. Местная мифология
замещена в ней несколько трансформированными эпизодами из
мусульманских литературных источников, призванных обосновать
историософскую концепцию автора, доказывающего, что беды Ке-
даха как в прошлом, так и в настоящем обусловлены тяготеющим
над ним проклятием, избавиться от которого можно лишь на пути-
строгого мусульманского правоверия.
Итак, даже такой беглый обзор малайской исторической
литературы позволяет выделить несколько этапов в ее эволюции и в
самом общем виде наметить их хронологию. Первый и второй
этапы приходятся преимущественно на XV — середину XVI в.
(«Повесть о раджах Пасея», «Малайские родословия», «Повесть о Бан-
джаре»), третий этап — на первую половину XVII — вторую
половину XVIII в. («Повесть об Аче», «Миса Мелаю»), четвертый —
на вторую половину XVIII—XIX в. («Записи об истории
государства Джохор», бугийскоцентристская историография, «Повесть о
Маронге Махавангсе»). Следует помнить, однако, что данная
периодизация указывает лишь на некий вектор эволюции малайской
историографии в целом. Эмпирическая же картина демонстрирует,
во-первых, определенную плавность перехода от одного типа
хроник к другому, а во-вторых, сосуществование типов, которые
относятся к различным этапам, что объясняется своеобразием в
соотношении домусульманских, раннемусульманских и классических
элементов в каждом из литературных центров — неоднородностью
исламизации центральных и периферийных районов малайскога
мира.
5. СФЕРА ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВА
На просветление духовного сердца были рассчитаны сочинения"
религиозно-мистического характера, которые, однако, в отличие ог
произведений, относящихся к двум предыдущим сферам,
выполняли свою задачу не прямо, а косвенно. Отверзнуть духовное
сердце, т. е. наделить его способностью созерцать Высшую
Реальность, согласно мусульманскому учению, могла лишь
божественная милость, даруемая Аллахом «тем, кому Он пожелает», не за
заслуги, а по любви. В то же время духовное сердце должно было*
пребывать в постоянной готовности воспринять этот дар, и
религиозно-мистическая литература, укрепляя «путника» в вере, изъяс-
18*
275
■няя ему каноническое право, догматику и метафизику ислама,
описывая этапы самопознания, предупреждая о подстерегающих
•опасностях, давая примеры их преодоления, помогала очистить
духовное сердце, подготовить его к озарению и в этом смысле
^воздействовала на него.
По числу сочинений данная группа памятников в малайской
•словесности, как и в других средневековых литературах, в
частности мусульманских, значительно превосходила все остальные.
По подсчетам малайзийского исследователя Исмаила Хуссейна, из
примерно восьмисот сохранившихся произведений малайской
литературы (сто из них,входят в рубрику «разное») триста
приходились на теологические сочинения i[366, с. 12]. К ним еще следует
добавить сорок шесть повестей, определяемых Исмаилом
Хуссейном как «мусульманские легенды», а также несколько десятков
шаиров религиозного, суфийского и этико-дидактиЗеского
содержания. Таким образом, к группе религиозно-мистических
сочинений относится около четырехсот произведений — половина или
(за вычетом «разного») более половины всех памятников
малайской литературы24. Кроме того, она включает многие десятки, если
не сотни, арабоязычных сочинений такого же рода,
распространенных в малайском мире [23а; 15а; 21].
В системе малайской мусульманской словесности религиозно-
гмистическая литература образовывала круг, ближайший к ее
центру — определяющему «картину мира» канону, представленному
текстами священного писания (Коран) и предания (сунна).
Непосредственно к этому центру прилежали арабоязычные и малайско-
язычные тафсиры — комментарии к Корану, среди которых
следует отметить малайскую переработку «Анвар ат-танзил» («Светы
нисхождения») знаменитого Байдави, выполненную ачехским
теологом и суфием второй половины XVII в. Абд ар-Рауфом из Синг-
келя. Эта переработка, впрочем, являлась не столько
комментарием (здесь текст Байдави сильно сокращен и дополнен
собственными вариациями), сколько первым полным переводом на
малайский язык Корана, осуществленным, как обычно, в форме
комментария (о малайских тафсирах см. [373]). В широком смысле сло-
/ва, однако, все религиозно-мистические сочинения были своего
:рода комментариями к канону, вмещавшему с мусульманской точ-
:ки зрения всю полноту откровения, постигаемого в каждом из них
с разной степенью глубины.
Рассматривая литературу духовного сердца предельно
обобщенно, можно выделить в ней два основных жанра. Первый из
:них — жанр агиографической повести, второй — штаба. Оба типа
сочинений включают памятники, как созданные малайскими
авторами, так и переведенные с арабского и персидского языков,
часто со значительными изменениями и переработкой.
В литературном отношении наиболее интересны житийные
повести, во многих отношениях близкие к волшебно-авантюрным
произведениям и литературе зерцал, но выдвигающие в качестве
^образцового героя не «куртуазную» личность, добивающуюся все-
276
возможных успехов в мирской жизни, но человека прежде всего
праведного и самоотреченного, исполненного глубокой веры,
наделенного религиозным знанием или взыскующего его. При этом в
полном соответствии с духом малайской (и не только малайской)
традиции, кем бы ни был этот герой — пророком, подвижником
или «воином ислама», в нем особенно подчеркивалось
сверхъестественное могущество, что и позволяло насытить повесть
фантастическими и приключенческими мотивами и преподнести читателю
истины мусульманского вероучения в увлекательной форме.
В малайской агиографии можно выделить несколько, условно
говоря, «циклов» (см. .{196, с. 112; 464, с. 1231—1232]). Первый
из них включает повести, посвященные пророкам и различным
персонажам Корана (см. [529]). Такие повести представляют
собой либо обширные своды «обо всех пророках» типа «Кисас аль-
анбийа» («Истории о пророках»), восходящей к персидскому
сочинению, принадлежащему перу Абу Исхака Нишапури [299,
€.23—24], либо, чаще, отдельные произведения о жизни одного
:из них («Повесть о Юсуфе», «Повесть о сокровенной беседе
пророка Мусы», «Повесть о Закарии» и др.) или о каком-нибудь
эпизоде из их жизни. Такова, например, популярнейшая «Повесть о
царе-черепе», в которой пророк Иса — Иисус оживляет череп
неправедного владыки, и тот повествует ему о мучениях грешников
в аду ([411; 196, с. 119—121]. К сочинениям о мусульманских
пророках примыкают и повести о героях «ислама до ислама» —
носителях первоначального монотеизма, «веры Ибрахима» Искандаре
Двурогом, Амире Хамзе и полулегендарном южноаравийском
правителе Сайфе ибн Зу-ль-Язане [87; 460].
Второй «цикл» образуют повести о различных этапах жизни
я чудесах «печати и венца» пророчества — пророке Мухаммаде
(«Повесть о Свете Мухаммада», «Повесть о бритье Пророка»,
«Повесть о расколовшейся луне» и т. д.). Наконец, третий «цикл»
состоит из произведений о современниках Мухаммада, его
сподвижниках и противниках. К их числу относятся «Повесть о Семау-
не» [458], излагающая историю борьбы^Семауна с ненавистником
Мухаммада — Абу Джахилем (араб. Абу Джахль) и его
союзником Бакти и любви праведного воина к дочери Бакти — Марьям,
в конце концов принимающей ислам, а также «Повесть о радже
Хандаке» ([528, с. 227—228] и «Повесть о радже Хайбаре»,
посвященные войнам раннего ислама. Все эти героико-фантастиче-
ские повести, почти не имеющие точек соприкосновения с
арабской исторической традицией, являются местными малайскими
сочинениями /Г464, с. 1232]. Из переводных произведений этого
«цикла» особой популярностью продолжала пользоваться уже
упоминавшаяся «Повесть о Мухаммаде Ханафии» (по всей
видимости, именно в классический период создаются ее расширенные
■версии) и «Повесть о Тамиме ад-Дари» — принявшем ислам
христианине, который пожелал искупаться в заповедном источнике,
был похищен джинном, а затем, совершенствуясь в мусульманской
мудрости, побывал в пещере пророка Сулеймана, на острове жен-
277
щин-людоедок, достиг райского сада и сумел повидать сатану —
одноглазого Иблиса с хоботом на месте рта \[196, с. 130—134].
Промежуточное положение между агиографическими хикаята-
ми и штабами занимает построенная в форме катехизиса
«Книга тысячи вопросов» [120], вероятно переведенная на малайский
язык с персидского не позднее XVII в. Композиционную рамку
книги составляет рассказ о хайбарском раввине Абдаллахе ибн
Саламе, явившемся « Мухаммаду, чтобы определить,
действительно ли тот является пророком, с помощью трех трудных
вопросов: каковы признаки'Судного дня, какое яство первым
вкушают праведники в раю, почему ребенок бывает похож то на отца„
то на дядю с материнской стороны? Мухаммад, естественно, дает
верные ответы. За первыми вопросами следуют новые,
посвященные главным образом тем же трем темам: сотворению мира,
смерти и Судному дню; жизни в раю и в аду; различным необычайным
явлениям, предметам и существам. В конце концов
удовлетворенный раввин принимает ислам.
Китабы — сочинения жанра сугубо специального — были,
разумеется, весьма далеки от решения художественных задач.
Однако и они представляют определенный интерес для историка
литературы, ибо в недрах именно этого жанра малайской словесности!
ранее всего дало знать о себе понятие индивидуального
авторства и сложилась своеобразная стилистическая форма малайского*
языка, испытавшего сильное влияние арабской лексики и
синтаксиса (о ней см. [456; 324; 75]), которая оказала воздействие на:
все области литературы малайцев, включая беллетристику.
В раннемусульманский период «китабный» и «хикаятный»
стили обладали в рамках произведения специфическими функциями:
и не смешивались. В классический период, чем дальше, тем
отчетливее, наблюдается экспансия «китабного» стиля также и в*
основное повествование. Причиной этого, вероятно, служила не
только та хорошо известная роль, которую играли в малайской:
литературе авторы-иностранцы или же сами малайцы, мыслившие
по-арабски, а затем уже выражавшие свои мысли на малайском:
языке (таков, например, Абд ар-Рауф из Сингкеля), но порой и:
сознательная стилизация текста «под арабский», призванная
продемонстрировать ученость литератора и придать большую
солидность его произведению.
Исследователи часто отмечали пагубность воздействия
«китабного» стиля на малайскую словесность, утрачивавшую исконную
идиоматичность языка и гармоническую уравновешенность
синтаксических периодов (см., например, {196, с. 113—114; 145,
с. XXXVIII—XXXIX]). При этом, однако, обычно упускалось из
виду, что именно язык штабов явился важной формой
языка-посредника в островном мире. «Лапидарный и упорядоченный» язык
штабов, предназначенный для «логического интеллектуального
рассуждения научного типа» \\ 175, с. 92, 98], помог малайцам и
другим народам архипелага приобщиться к сокровищнице арабо-
персидской мысли, а через нее — к античной философии и сущест-
278
вению обогатил их культуры. Не случайно Н. аль-Аттас
сравнивает период создания штабов с «эпохой переводов» в арабской
классической литературе [175, с. 99].
Если такие области знания, как право и теология, нередко
рассматривались как «тело» мусульманской традиции, то суфизм
называли душой, дарующей этому телу жизнь. Именно благодаря
суфизму ислам был глубоко воспринят в малайском мире, а
литература суфизма сыграла важную роль в формировании
малайской словесности и ее самосознания. Прежде всего суфийская
литература как из-за характера излагаемого учения, так и из-за
своего проповеднического пафоса охотно прибегала к
образно-символическому способу выражения, часто черпавшему материал в
толще местной культуры, и потому многие ее образцы, в
частности трактаты и поэмы Хамзы Фансури, обладали не только
идейной, но и эстетической ценностью. Кроме того, ей были присущи
специфические жанры, интересные в литературном отношении:
суфийская агиография («Повесть о султане Ибрахиме ибн Адхаме»,
«Повесть о шейхе Абд аль-Кадире Джилани», жития шейха Му-
:хаммада Саммана и др.) и стихотворные и прозаические
аллегории, иногда строившиеся на основе беллетристических сюжетов и,
в свою очередь, оказывавшие влияние на беллетристику.
Как обычно, религиозно-мистическая проза «удваивалась» в
малайской литературе религиозно-мистической поэзией. В ней
имеются «двойники», по существу, всех перечисленных жанров:
агиографические поэмы («Шаир о Юсуфе», «Шаир об Айюбе», «Шаир
о Свете Мухаммада», «Шаир о кончине Пророка»), поэмы-штабы
(«Шаир о двадцати атрибутах», «Шаир о познании молитвы»,
«Шаир об основах веры», «Шаир о поклонении» и др.). Особое
место среди последних занимают произведения эсхатологического
характера — всевозможные шаиры о Судном дне и поэмы о
загробном мире: «Шаир об аде», «Шаир о мучениях в аду», «Шаир
•о младенце», повествующий об умершем ребенке и его посмертной
судьбе Г22, с. 99—101]. Наконец, довольно многочисленную
группу образуют суфийские поэмы, в которых мистическое учение
излагается в прямой форме («Шаир о постижении») либо в форме
аллегорий (некоторые шаиры Хамзы Фансури и поэтов его круга,
«Наука о женщинах», шаиры о лодках и птицах).
Подобно произведениям, рассчитанным на уровни души и
разума, литература духовного сердца имела прототипы в
предшествующей традиции, облегчившие малайцам восприятие
иноязычных религиозно-мистических сочинений ислама и создание по их
образцам своих. В местном фольклоре такими — весьма, правда,
отдаленными — прототипами выступали некоторые мифы, в первую
очередь посвященные сотворению вселенной и человека, а также
древнейшие шаманистские представления (ср. 1257, с. 129—143]).
Еще более важную роль в подготовке к восприятию ислама
сыграл предшествующий ему в малайском мире буддизм, знакомство
€ богословскими и агиографическими памятниками которого было
рассмотрено в главе I этой книги (ср. [370]).
279
6. ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ОБ АВТОРСТВЕ
В классический период в малайской словесности не только
складывается литературное самосознание и на его основе
организуется система жанровых форм и жанров, но и намечается пере-
. ход от анонимного творчества, господствовавшего на раннемусуль-
манском этапе, к творчеству авторскому. Независимо от того,
действительно ли тот или иной литератор создал данное
произведение или данную его редакцию, либо же оно было по каким-то
причинам ему приписано, само стремление закрепить это
произведение за определенным лицом знаменательно и свидетельствует о
качественных сдвигах в концепции словесного творчества.
Понять причины этих сдвигов не так уже сложно. Для этого
достаточно рассмотреть вопрос о том, как обстояло дело с
авторством в различных жанрах, сразу же оговорив, что имена
создателей или редакторов встречаются в любом из них и потому
взгляд на классическую литературу малайцев как на едва ли не
сплошь анонимную далеко не адекватно отражает реальное
положение.
Так, вопреки мнению о том, что волшебно-авантюрные хикая-
ты — это произведения непременно безавторские |[66, с. 66; 199,.
с. 17—18 и ел.], имена нескольких их создателей (в широком
смысле слова, включающем в это понятие как собственно автора,,
так и редактора, исполнителя или лицо, которому произведение
приписано) -нам все же известны. Это Маулана Шейх ибн Абу-
Бакар, написавший или рассказавший «Повесть о Берме Шахда-
не», шейх Мухаммад Ашик Абд аль-Факр — автор «Повести о
Шахе Мардане» |[17, с. 150], некий Исмаил — автор «Повести об Ис-
ме Ятиме» [134, с. 1] и палембангский султан Махмуд Бадраддин
(1804—1821) —автор «Повести о Марталайе» i|"75, с. 226]. Не
исключено, что пока еще даже не начатая работа по подготовке
критических цзданий волшебно-авантюрных хикаятов поможет
обнаружить и другие имена и наконец-то всерьез поставить вопрос
о том, чем объясняется подписывание и приписывание тому или
иному лицу произведений жанра, до того анонимного и
по-прежнему сохраняющего неустойчивость текста в процессе передачи, а
•также 'какова реальная неустойчивость текста в этом процессе и
какой этап развития литературного сознания отражает присущее
ему понятие авторства. Пока же отметим, что среди авторов
волшебно-авантюрных произведений встречаются имена как
«обитателей кельи», так и «обитателей дворца», причем первых среди:
них как будто больше.
В памятниках второго «старого» жанра — хрониках имеются
упоминания о Туне Сери Лананге — редакторе (или инициаторе
создания) джохорской версии «Малайских родословий», Радже
Чулане, написавшем «Миса Мелаю» (по крайней мере большую
ее часть), о поздних джохорских историографах — Густи Джам-
риле и Радже Али Хаджи, а также палембангских историографах
XIX в. Кьяи Ранге Сетианандите Ахмаде, Пангеране Туменгунге
280
Карта Мангале и Деманге Мухиддине ,[75, с. 228—229]. Все они —
представители придворной аристократии.
Разумеется, учитывая многочисленность волшебно-авантюрных
хикаятов и исторических сочинений, этот список литераторов
невелик, однако даже в таком виде .он заслуживает внимания,
обнаруживая тенденцию к развитию авторского начала в малайской
литературе.
По-иному обстоит дело в «новых» жанрах, вошедших в
литературный обиход лишь в классический период. Известно более
тридцати авторов всех разновидностей шаира. Ранее других
нарушают анонимность малайской литературы создатели суфийских
поэм XVII в. Хамза Фансури, Хасан Фансури, Абд аль-Джамал,
ТПамсаддин из Пасея, Абд ар-Рауф из Сингкеля и его ученик Ман-
r.vp i[20, с. 362]. К XVII в. относится также первый и долгое
время единственный авторский исторический шаир — «Поэма о ма-
кассарской войне», созданный Энче Амином — секретарем макас-
сарского султана Хасанаддина. В XIX в. продолжают создаваться
авторские шаиры религиозные, суфийские, исторические, но к ним
присоединяются авторские романические поэмы, созданные
главным образом в Палембанге и Риау. Перу Панембахана Бупати
из Палембанга принадлежит «Шаир о Мамбанге Джаухари», Туа-
на Билала Абу —«Шаир о Сити Завийе», Салехи, сестры Раджи
Али Хаджи,— «Шаир об Абд аль-Мулуке», Даенг Вух — «Шаир
о султане Яхье» и др.— всего около десятка поэм, написанных
преимущественно не духовными лицами, а аристократами,
иногда — придворными дамами. Появляются и авторские
аллегорические поэмы. Панем'бахан Бупати создает «Шаир о Розе»,
султан Бадраддин — «Шаир о попугае», Раджа Хасан, сын Раджи
Али,— «Шаир о птицах», Сафийя, дочь Раджи Али,— «Шаир о
Царственном Шмеле» [20; 22; 75].
Сходная картина наблюдается в жанрах обрамленной
повести («Повесть о мудром попугае» приписана Кади Хасану, видимо
автору персидского оригинала, одна из версий «Повести о Бахтиа-
ре» переведена Абд аль-Ваххабом из Сиантана), зерцала
(«Корона царей» скомпилирована Бухари аль-Джаухари или аль-Джо-
хори, «Сад царей» — Нураддином ар-Ранири), учительной
антологии («Врата разума для вельмож», датированные 1670 г.,
приписаны султану Патани — Алааддин-шаху ибн Мансур-шаху [19,
с. 141]). Наконец, с самого зарождения жанра штаба в
произведениях, принадлежавших к нему, сравнительно регулярно
называются их создатели (Хамза Фансури, Шамсаддин из Пасея, Ну-
раддин ар-Ранири, Абд ар-Рауф из Сингкеля, Абд ас-Самад из
Палембанга, Кемас Фахраддин и др.)- Иногда указываются
авторы и агиографических сочинений (шейх Абу Бакар — «Повесть
об Ибрахиме ибн Адхаме», Мухаммад Мухиддин и Кемас Мухам-
мад ибн Ахмад — жития Мухаммада Саммана \[374, с. 12; 75,
с. 224—225]).
Таким образом, уже в XVII—XVIII вв. имена авторов
появляются во всех жанрах малайской литературы, а в XIX в. ид чис-
281
ло резко возрастает. Как в XVII—XVIII, так и в XIX в.
значительно чаще авторскими оказываются произведения «новых»
жанров, возникших уже в период углубленного восприятия культуры
и идеологии ислама, более непосредственно выражавших идеи
центральной религиозно-канонической области в системе
малайской литературы и соответственно сильнее мусульманизированных,
реже — в жанрах «старых», вошедших в литературную систему
еще в раннемусульманский период, отчетливее сохранявших
«память» о домусульманской эпохе и еще в древнемалайское время*
по крайней мере частично принадлежавших к нефункциональной
сфере на границе с фольклором. Поэтому в целом прав Э. Джонс,,
писавший: «Любой учебник сообщает нам о том, что малайская
литература, по крайней мере домусульманского времени,
анонимна. В той мере, в которой она является народной литературой
(т. е. своего рода фольклором.— В. Б.), она действительно
анонимна как в доисламский, так и в исламский период. Однако она
анонимная, потому что фольклорная, а не потому что малайскаяг
и становится авторской, потому что она мусульманская, а не в
силу своей малайской специфики» »[372, с. 312].
Это справедливое замечание, подтверждаемое, в частности,,
отмеченным ростом числа авторов в XIX в., когда происходит
окончательная исламизация всех жанров малайской словесности,
обусловившая полный или почти полный распад предшествующего
литературного синтеза, нуждается, однако, в одном существенном
уточнении. Дело в том, что проблема соотношения «фольклоро-
подобных» и собственно письменных жанров решалась и ко
времени малайской классики давно уже была решена в ведущих
литературах мусульманского мира — арабской и персидской.
Как в той, так и в другой (а равно и в литературах урду,
турецкой и др.) существовали жанры, занимавшие место на
границе письменной и устной словесности (перс, дастан,
фантастическая повесть; араб, сира) и нередко обозначающиеся в
современных исследованиях гибридными терминами типа «фольклорная
литература» |[42, с. 22].
Взаимоотношение этих жанров с фольклором, если отвлечься
от проблемы их древнейших генетических корней, носили
чрезвычайно сложный характер |[177, с. 85—87; 42, с. 23; 211, с. 9—13].
Они обладали множеством черт книжности как в сюжетике и
составе повествовательных мотивов, так и в выборе
изобразительных средств [177, с. 84, 85—86, 92; 215, с. 133; 194, с. 10; 211,,
с. 12—13] и при всех фольклорных чертах являлись все же особым
видом письменной литературы [194, с. 10]. Часто произведения
этих жанров были анонимны |[331]. Если же указания на автора
в них содержались, то им обычно являлся рассказчик, с чьих слов
дастан или сира были записаны, либо редактор-составитель, либо
некое авторитетное лицо, которому они приписывались i[53, с. 7,
10]. Таким образом, данные жанры характеризовались как
минимум «ослабленным авторством», что наряду с их ориентацией не
столько на индивидуальное чтение и переписывание, сколько на
282'
сказывание и восприятие на слух приводило к значительной
«текучести» текста, все же, однако, заметно более стабильного, чем
в фольклорных произведениях.
Наконец, данные жанры обычно третировались знатоками и
ценителями высокой литературы — ученой или риторически
украшенной художественной прозы и поэзии — и занимали низшие
ступени в иерархически организованной литературной системе ([42,
с. 10; 211, с. 6; 223, с. 88—89].
Все отмеченные типологические черты дастанов,
фантастических повестей, сира, равно как и низкая оценка их в «ученой»
среде (у малайцев особенно критическая из-за «индуистских»
элементов повестей), были присущи синтетическим волшебно-авантюрным
хикаятам, повестям о Панджи, части агиографических сочинений,
особенно тех, что были скомпрометированы шиитской окраской25.
По крайней мере на первых порах, на взгляд средневековых
малайских книжников, в одном ряду с этими прозаическими
произведениями стояли и романические шаиры (ср. уверения Хамзы
Фансури и его учеников, что их стихи — это не простонародные
песни о плотской любви, с которыми могли ассоциироваться у
мусульманских ригористов также и романические поэмы) 26.
Учитывая это, к словам Э. Джонса: «Малайская литература становится
авторской, поскольку она — мусульманская» — следует добавить:
и в той же мере, в какой жанры, занимающие различное место в
иерархии мусульманской литературной системы, являются
авторскими.
* * *
Подведем некоторые итоги. Сравнение с литературой раннему-
сульманского времени хорошо выявляет специфические черты
малайской классической литературы. В области теоретической,
мировоззренческой в ней во второй половине XVI—XVII в.
складывается мусульманское литературное самосознание, в области
практической этому соответствует появление новых жанровых форм и
жанров, значительная трансформация жанров старых, зарождение
понятия авторства, распространение арабизированного стиля ки-
табов. Наиболее же значительным явлением литературной
практики классического периода, знаменующим высшую фазу его
развития, является создание в XVII — первой половине XVIII в.
малайского литературного синтеза.
Как уже отмечалось, все три сферы системы малайской
классической литературы были весьма разнородны как по
происхождению памятников, так и по их составу. В каждой так или иначе
отражались три этапа эволюции малайской культуры: исконно
малайский, индуистско-буддийский и мусульманский; каждая
состояла из произведений, созданных местными авторами либо
восходивших к иноязычным традициям. Это, однако, не превращало
малайскую литературу в литературу «переделок и переводов» ни в
понимании ее читателей, ни в современной оценке.
283
С одной стороны, входя в ту или иную литературную общность,
малайская литература, по средневековым понятиям, могла
претендовать на все внутри этой общности созданное. С другой
стороны, и это, пожалуй, самое важное, в процессе усвоения
влияний определяющая роль неизменно принадлежит воспринимающей
стороне, по своим законам отбирающей и организующей то, что
«предлагает» ей иноязычная традиция. Именно при таком
взгляде на малайскую классическую литературу она предстанет перед
нами как плод литературного синтеза.
Подготовил малайскую литературу к созданию этого синтеза
осуществленный ею в раннемусульманский период отбор
необходимых произведений. Прошедшие «фильтр» малайской традиции
и порой несколько видоизмененные ею сочинения, относящиеся к
индийскому и мусульманскому культурным кругам, впервые
соприкоснулись в рамках малайской литературы как некоего
единства. Этот период, условно говоря, «протосинтеза» увенчался
созданием исторических хроник («Повесть о раджах Пасея»,
«Малайские родословия»), в которых местные, индо-яванские и
мусульманские элементы соединились уже не в пределах литературы
как целого, а в границах нового единства — произведения.
В классический период, по мере того как в малайском мире
все глубже усваивался ислам и складывалось мусульманское
литературное самосознание, процесс синтеза этих элементов обретал
все более ясные очертания. Во-первых, индо-яванские и арабо-пер-
сидские сочинения были окончательно включены в систему
малайской литературы и заняли место на разных уровнях ее иерархии.
Во-вторых, к хроникам, в которых еще в раннемусульманский
период разнородные элементы были приведены в единство,
«прочность» которого в XVII — первой половине XVIII в. продолжала
возрастать, добавился ряд жанров и отдельных произведений
также синтетического характера. В первую очередь к ним
принадлежала значительная часть волшебно-авантюрных повестей, в
которых на основе древнейшей композиции мифа сплавились воедино
индо-яванские мотивы любования дикой природой, «космических»
по характеру боев, описания волшебных стрел, превращающихся
в огненные горы или полчища ядовитых змей, присутствие в
произведении армии обезьян и выполненные ,в духе арабо-мусульман-
ской культуры картины садов и дворцов, пиров и сокровищниц.
Лучшие эпизоды таких повестей, сохранившие равновесие ин-
до-яванских и мусульманских элементов, освещены как бы двумя
пучками света. Смешиваясь в разных пропорциях, они постоянно
меняют «окраску» рассказа, подобно тому как изменяется цвет
одеяний царевиы из «Повести об Индрапутре», когда она
поворачивается то к одной, то к другой стороне восьмиугольного
ограждения трона, сделанного из цветного стекла. При этом
характерный оттенок каждому из «цветов» придают исконно малайские
черты повествования. Подобное же «смешение цветов»
наблюдается и в построении сюжета повестей.
Образцами литературного синтеза были и романические поэмы
284
XVII—XVIII вв., а также отчасти аллегорические шаиры,
содержанием и образами обязанные тем же традициям, что и
волшебно-авантюрные повести, а формой — взаимодействию узнавших
себя друг в друге фольклорной и арабо-персидской поэтик.
Наконец, само малайское литературное самосознание во многих
аспектах определялось, с одной стороны, санскритской (в древнеяван-
ском варианте), а с другой — мусульманской эстетикой и также
представляет собой их синтез.
Важную роль в сохранении синтетического характера
малайской литературы на протяжении классического периода играли ее
связи с литературой яванской, которая после принятия ислама
лучше сберегла достояние индо-буддийского времени.
Поддержание же относительного равновесия в синтезе осуществлялось
благодаря взаимовлиянию своеобразных по ориентации литературных
школ. Одни из них, как, например, школы, сложившиеся в Аче
в конце XVI—XVII в. или на Риау в XVIII—XIX вв., были по>
большей части проводниками мусульманских идей и образов,
другие — школы Банджермасина, Палембанга — индо-яванских
сюжетов и мотивов.
Формы, в которых в малайской литературе осуществлялся
синтез, были весьма разнообразными. Высшую из них, придающую
гармоническое единство «меняющему цвет» произведению,
породило «типологическое чутье» малайской литературы — умение не
просто соединить фрагменты различных традиций, но установить
внутреннее соответствие между ними и благодаря этому их
отождествить. Именно такое отождествление наблюдается в
исторической литературе, части беллетристики и в литературной теории.
Не следует, однако, думать, что дело ограничивалось лишь
отождествлением старого и нового. Если исходным пунктом син-.
теза послужили собственные основания малайской словесности,
отраженные в фольклоре, то его завершением выступила
мусульманская концепция литературы, а также композиционные,
изобразительные и стилистические принципы мусульманской
литературной практики, существенно изменившие прежнюю словесность.
Во второй половине XVIII—XIX в. ситуация в малайской
классической литературе заметно меняется. Изменения эти
обнаруживают себя в том, что сложившийся в процессе исламизации
малайской словесности литературный синтез в результате
дальнейшего развития этого процесса как бы достигает
«перенасыщения», утрачивает относительное равновесие элементов, восходящих
к различным традициям, и распадается. Появляется значительное-
число волшебно-авантюрных хикаятов и романических шаиров,
уже чисто мусульманских по своему содержанию, сюжетике,
«картине мира». Действие в них из фантастических вымышленных
городов переносится во вполне реальные страны Ближнего Востока,
усиливается религиозно-дидактический пафос, важную роль
начинают играть произведения на «купеческую» тему, насыщенные
бытовыми элементами, а тема «женская», доминировавшая еще в
синтетических шаирах, обретает ярко выраженную исламскую^
285
окраску и проникает в хикаяты. Чрезвычайно возрастает и
влияние на стиль повестей арабизированного языка штабов.
Сходные процессы протекают и в малайской исторической
литературе, все более приближающейся к стандартам
историографии мусульманской и равно утрачивающей синтетический
характер, а также в сфере религиозно-мистических сочинений, где <на
^смену суфийскому 'направлению вахдат аль-вуджуд, весьма
способствовавшему литературному синтезу, приходят куда более
ригористические «законнические» школы. Дальнейшее развитие
переживает концепция авторства, и именно XIX в. приносит
наибольшее число имен малайских литераторов. Наконец, в литературу
входят новые жанры — стихотворные и прозаические описания
путешествий и автобиографии.
В итоге малайская словесность конца XVIII—XIX в. по всем
основным признакам обнаруживает сходство с поздней арабской
литературой XVII—XVIII вв. В обеих наблюдается преобладание
«местных хроник и летописей отдельных областей и городов,
обыкновенно незатейливых и непритязательных» и «обильных
количественно» сочинений, «которые трактовали об
ортодоксально-богословских вопросах, о тесно связанной с богословием науке
мусульманского права, об исламской догматике, о Коране и
толкованиях на эту „пречестную книгу"» [223, с. 49, 39]. Для обеих
-характерен упадок художественного уровня памятников изящной
(словесности и «сохранение известной силы лишь в народной
литературе— сира, „Тысяча и одна ночь"» |[223, с. 47—48]. К ^той
народной арабской литературе малайская беллетристика заметно
приблизилась как по мусульманскому пафосу, так даже и по
месту действия.
Снижение художественной ценности малайской литературы в
жонце классического периода объясняется культурным застоем,
.вызванным усилением активности колониальных держав.
Колониальный раздел малайских государств Англией и Голландией
повел к практически полному лишению их инициативы в торговой
и политической областях, резко обострил и без того уже немалую
фрагментацию малайского мира и нарушил немаловажные для
культурного развития традиционные связи с Явой и Индией.
Вместе с тем этот (далеко не абсолютный) литературный
упадок был еще ранее предопределен все той же продолжающейся
исламизацией малайской культуры, что со второй половины
-XVII в. вызвало ее все более явную ориентацию на главные
центры суннитской учености — Мекку и Медину, города Хадрамаута
.и Каир. Именно во второй половине XVIII—XIX в. такая
ориентация стала едва ли не единственной. Литература же самих
арабских стран того времени, как уже отмечалось, находилась в
кризисном состоянии. А. Е. Крымский, в частности, так
характеризовал ее: «Количеством произведений она остается еще очень
обильна и богата, но в содержании она беднеет, иссякает. И этот
процесс качественного иссякания идет crescendo в XVII и XVIII вв.»
£223, с. 23].
286
Таким образом, малайская словесность исламизировалась и:
окончательно утвердилась в сообществе мусульманских литератур
во время, слишком неблагоприятное для того, чтобы получить
здесь стимулы для продуктивного развития. Напротив,
подражание поздним арабским образцам могло внести в нее лишь
семена упадка, о чем прежде всего свидетельствует разложение
классического литературного синтеза, не замененного чем-либо
художественно равнозначным. Однако вхождением в это сообщество
объясняется и то, что, подобно другим литературам стран ислама,
позднеклассическая словесность малайцев все ярче обнаруживает-
черты переходности к следующему этапу литературного
развития — литературе нового времени.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Известно, например, что термины арабо-персидской поэтики широко
применяются в ачехском метре санджа [481, с. 73—78; 323, с. 279, 462, 664], название
которого восходит к арабскому садж. Однако это вовсе не доказывает его
арабского или персидского происхождения. Оригинальная структура этого метра и
родство с архаическим тямским стихом [31i6] убедительно свидетельствуют о-
его незаимствованном характере.
2 Хамза был, скорее всего, знаком с этой формой, так как мусамматные
бейты встречаются в часто цитируемом им сочинении персидского поэта XIII в. Ира-
ки «Лама 'ат» («Молнии») [105, с. 376, 393, 457].
а Такое предположение позволяет построить конъектуру на трех буквах::
син, джим и ( айн; f айн отличается от нга лишь наличием у последней трех
диакритических точек. Объяснение того, как могло возникнуть такое искажение, см..
в [187, с. 104—105].
4 Хотя происхождение шаира Хамзы из цепочки рубай представляется
маловероятным (аналогичные сомнения высказывает и А. Баузани [289, с. 308—309]),,
все же пока едва ли стоит совершенно исключать такую возможность.
Пятнадцать бейтов из «Асрар аль-арифин», являющиеся, возможно, первым образцом'
шаира (поэтому в данном трактате и объясняется структура строфы) по форме-
весьма напоминают «Шарх-и рубаййат» («Комментарий на рубай») классика
персидской поэзии Джами. В этом сочинении за вступлением следуют 46 рубай,
систематически излагающие учение о единстве Бытия, а после каждого из них
(изредка после нескольких) — прозаический комментарий, как и в «Асрар
аль-арифин», принадлежащий самому автору [179, с. 445—468]. Таким образом, оба
произведения сходны как по структуре, так и по смыслу. Некоторая перекличка
заметна также в их вступлениях и содержании отдельных стихов, но все эти
совпадения слишком тривиальны, чтобы из них можно было делать выводы о
знакомстве Хамзы с шархом Джами. Все же заслуживает упоминания то, что почти
половина рубай в шархе рифмуется по схеме аааа — явление не столь уже частое-
в персидской поэзии.
Н. аль-Аттас отмечал возможное влияние рубащ принадлежащих перу
Джами, на формирование шаиров Хамзы [281, с. 57—58]. Однако все рубай Джами,.
цитируемые Хамзой, взяты не из шарха, а из сочинения «Лаваих» («Скрижали»).
Все же одно место из трактата Хамзы «Шараб аль-ашикин» («Напиток
влюбленных»), быть может, косвенно указывает на его знакомство с «Шарх-и
рубаййат». Излагая схему «нисхождения Бытия», Хамза пишет: «Когда океан
дышит— это именуют паром (разрядка наша.— В. Б.). Под ним разумеют
единичных духов и Соединяющий Дух, которые пронизывают Неподвижные
Сущности. Когда пар собирается в небе — это именуется тучей. Под:
ней разумеют вещи-в-потенции, которые, скопившись в Неподвижных Сущностях,,
готовы устремиться наружу. Когда капли капают из тучи в
небесах— этоименуетсядождем. Под ним разумеют Соединяющий Дух вме-
287
•ете с Неподвижными Сущностями, которые, повинуясь творящему Слову „Да
сбудет!", проявляют себе вовне, обретая многообразные формы. Когда дождь
течет по земле, это именуют потоком. Под потоком разумеют
Соединяющий Дух, Изначальные Потенции и Неподвижные Сущности, „струящиеся"
ниже ступени творящего Слова. Когда поток изливается в океан
(символ божественного Бытия.— В. Б.), он вновь становится океаном»
*[61, с. 316—317].
Л. Бракел обоснованно связывает этот пассаж с рубай и комментарием к
нему из «Лама'ат» Ираки, тем более что последние строки этого рубай
цитируются в «Асрар аль-арифин» и «Мунтахи» («Адепт») малайского суфия [300, с. 93—
94]. Характерно, однако, что Хамза в данном случае на Ираки не ссылается, а
приписывает весь набор «водяных» символов традиции суфиев вообще («суфии
уподобляют»), что может указывать на контаминацию нескольких источников.
Не менее важно, что в «Лама'ат» отсутствует символ потока, который, однако,
.встречается в рубай Джами, не менее близком к тексту Хамзы:
Когда море вздыхает, ([возникает то], что зовут туманом,
Когда это дыхание сгущается, считай это тучей.
Дождем становится туча, когда проливает капли,
Этот дождь становится потоком, а поток в конце концов —
снова морем {179, с. 464].
Все же даже если знакомство Хамзы с «Шарх-и рубаййат» подтвердится и
•.появится возможность предполагать, что, создавая первый шаир и комментарий
к нему, Хамза вдохновлялся сочинением Джами и его рубай, тем не менее
истолковать в духе арабо-персидской поэтики форму своих поэм, представлявших
последовательность четверостиший, малайский суфий, как уже отмечалось, мог лишь
с помощью саджированного стиха — ши'р-и мусаджджа'.
5 На сходство тирад с шаирной строфой обратили внимание голландские
исследователи В. Керн [386, с. 18—19} и П. Донатус Дюнсельман [77, с. 15—16].
:В типологическом плане ср. [338, с. 9-1—92; 11913, с. 271]. У яванцев тирадная
форма гуритан (гегуритан) рассматривалась как аналогичная сингиру (яванское
название шаира) [436, с. 304]. Таким образом, на Яве связь шаира и тирады, по-
видимому, осознавалась.
6 Для сравнения можно, например, указать на то, что в древнерусской
литературе существовало около сотни жанровых обозначений [225, с. 57]. Гораздо
богаче малайской и номенклатура жанров в арабской и персидской литературах.
7 Возможно, не только сочинения на сюжеты сказаний о Панджи и
санскритской эпики, но и другие типы волшебно-авантюрных повестей и поэм
разыгрывались в разнообразных видах малайского театра. Характерно, что в XIX в.,
например, многие романические шаиры составляли основу репертуара в театре
актеров-людей, а в XX в. такие повести, как «Хикаят об Индре Бангсаване», «Хи-
каят о Сейфе Зу-ль-Язане» и др., инсценировались в келантанском театре теней
[288, с. 75].
9 Пожалуй, малайские синтетические хикаяты в большей степени, чем даже
дастаны урду, насыщены «индуистскими» мотивами и образами.
9 В «Повести о Мухаммаде Ханафии» битва описана так: «Пыль [из-под
копыт] коней и из-под ног воинов поднялась к небесам. Ясный день обратился в
кромешный мрак. Воины обеих сторон смешались и уже не различали друг друга.
Не было слышно иных звуков, кроме боевых кличей и возгласов военачальников,
грома и грохота палиц и оглушительного рева бойцов, так что казалось, будто
настал Судный день» |[66, с. 208 и ел.].
10 Ср. «Повесть о победоносных Пандавах»: «Тогда Махараджа Карна
выпустил стрелу, носившую имя Нила Перджанда, и [низвел] сильный ветер, бурю
и ураган, |[так что] все войско Пандавов умчало по воздуху к морю... [Затем]
Махараджа Карна взял стрелу, наделенную сокровенной силой, по имени Ви-
.джайя Чапа... И покуда он держал ее, неисчерпаемая сокровенная сила, которой
была полна та стрела, излилась, точно проливной дождь, и из стрелы изверглись
скалы, змеи, призраки, бесы и раксасы... И Санг Арджуна скрестил руки на
груди, дабы явить свою сокровенную силу, и выпустил стрелу Батары Брахмы,
прозывавшуюся Висакти, что значит „пламя в облике человека". И изошел из стрелы
288
сполох огня величиной с гору, устремился на призраков, бесов и раксас и
испепелил всех до единого» [98, с. 141—142; ср. 122, с. 52—53].
11 Та же исходная модель лежит в основе ближневосточной
волшебно-авантюрной эпики, и прежде всего персидских дастанов и фантастических повестей
{177, с. 84; 42, с. 13].
112 Деление на главы с подобными заголовками, восходящее к персидской
традиции, в малайской литературе является признаком относительной древности
произведения. Оно представлено в «Повести о Мухаммаде Ханафии», «Повести
об Амире Хамзе» и одном из списков «Повести о Чекеле Ваненг Пати»,
относящихся к раннемусульманскому периоду, а также в «Повести об Индрапутре» и
«Повести об Исме Ятиме», созданных не позднее XVII в.
113 Ляо Ефан, в частности, считает, что «Повесть о Шахе Кобаде»
представляет собой свободное переложение или подражание «Повести об Индрапутре» [394,
с. 117).
14 Сочетание фантастики с «наивным реализмом», по мнению В. М.
Жирмунского, вообще характерно для романического эпоса, и в частности для
среднеазиатских дастанов {215, с. 379].
)5 Этот мотив, однако, использован в династийном мифе яванской хроники
«Бабад Танах Джави» {116а, с. 26—27].
16 Первый перевод принадлежит Н. аль-Аттасу [61, с. il 7], второй исходит
из (посессивного значения персидского дар в словах типа малд ар — «обладатель
богатства, богач», аналогично — Ишк(и)дёр — «обладающий любовью,
влюбленный». К сожалению, отсутствие долгот в латинизированном издании не позволяет
уточнить перевод.
17 Ср.: «Суфии были готовы основывать свою проповедь на тех культурных
формах и традициях, которые уже существовали в Индонезии, исключая или
перетолковывая, однако, все, что было несовместимо с фундаментальными
доктринами ислама» [369, с. 23].
19 Данные по каталогам [17; 20; 22; 19; 24].
19 Достаточно отметить, что из 13 романических шаиров, сохранившихся не
менее чем в 3 списках, 9 (т. е. 70%) названы по имени главной героини, тогда как
среди 29 столь же часто встречающихся волшебно-авантюрных хикаятов именем
героини названы лишь 2 (около 7%).
20 Двадцать наиболее употребительных рифм встречаются в шаирах в 70—
95%' строф [187, с. 167—169].
21 Ср.: «Когда Аллах Всевышний являет милость какому-либо народу, он
делает его повелителем наилучшего из его среды» («Корона царей») [133, с. 224].
Или: «Всевышний в каждую эпоху избирает одного из людей, прославляет и
украшает его достоинствами государя» («Сиасет-наме») [44, с. 11].
22 К тому же первая часть хроники содержит одну из версий «Малайских
родословий», в которой излагается известный малаккский вариант «мифа о
происхождении», важный для легитимации Раджи Кечила.
23 Общее представление о содержании памятников этой группы дает их
пересказ в [394, с. 237—254].
24 Для сравнения укажем, что, по тем же подсчетам, 150 названиями
представлены все виды малайской прозаической беллетристики, 47 — исторические
сочинения, 41—сочинения юридические, 116 —поэтические памятники.
25 Весьма сходным был и состав персидской «лубочной» литературы» ,[177,
с. 84—90; .42, с. 10—17].
26 Вполне закономерно, что в XIX в., как мы видели, романические шаиры
становятся в значительной степени авторскими, превосходя в этом отношении
прозаические хикаяты, в полном соответствии с высоким местом поэтических
жанров в мусульманских литературах.
19 Зак. 147
ГЛАВА VII
ОСНОВНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
(проза)
Настоящая глава, как и гл. IV, содержит описания и разборы
наиболее значительных памятников малайской прозы, созданных
в классический период. Памятники эти сгруппированы по жанрам,
а внутри жанров расположены в хронологической
последовательности. Сами же жанры объединяются в группы более высокого
порядка в зависимости от их традиционной соотнесенности со
сферой красоты или же пользы. Хотя неизменное присутствие в
произведениях эстетического компонента и многозначность их
истолкования делают это разделение несколько условным, по
ведущей тенденции (отраженной, в частности, в
автохарактеристиках предисловий) к первой сфере могут быть отнесены волшебно-
авантюрные хикаяты, ко второй — обрамленные повести и зерцала,
а также хроники. Завершает главу «Повесть о Ханге Туахе»,
которая, по своему глубинному содержанию относясь к сфере
пользы, сплавляет в единстве искусственного историко-героического
эпоса элементы всех трех сфер.
1, ВОЛШЕБНО-АВАНТЮРНЫЕ ПОВЕСТИ
Повесть об Индрапутре. В произведениях малайской
классической литературы содержится по меньшей мере два
упоминания о «Повести об Индрапутре». Первое из них мы
находим в трактате «Сират аль-мустаким» («Праведный путь»)
богослова Нураддина ар-Ранири, писавшего, что это произведение, как
и «Повесть о Сери Раме», вполне можно использовать в отхожем
месте, предварительно убедившись, что на его страницах не
начертано имя Аллаха 1196, с. 94]. Второе встречается в «Повести
об Исме Ятиме», где сообщается о том, как одна из придворных
дам, мечтая в лунную ночь о ласках государя, предалась чтению
«Повести об Индрапутре», чтобы развеять печаль [134, с. 55].
Оба упоминания свидетельствуют о диаметрально
противоположных оценках этой чрезвычайно популярной повести,
сохранившейся в тридцати списках Г4Иа, с. 133], переведенной на языки
многих народов Индонезии (бугийский, макассарский, ачехский)
и существовавшей в двух версиях. Первая из них — более крат-
290
кая и сильнее «индианизированная» — «Повесть о Путре (или
Индре) Джайе Пати» [196, с. 95], вторая — пространная,
мусульманская по духу — собственно «Повесть об Индрапутре».
Сведения, почерпнутые из «Праведного пути» и «Повести об Исме Яти-
ме», позволяют установить также время, когда повесть возникла,
я аудиторию, для которой она предназначалась.
«Праведный путь» был завершен в 1644 г. i[157, с. 6], а стало
быть, повесть, настолько известная, что ее без обиняков
приводили как пример произведения, не отличающегося благочестием,
вряд ли появилась позднее начала XVII в. В то же время,
поскольку «Повесть об Индрапутре», скорее всего, испытала
влияние «Повести о Чекеле Ваненг Пати» или ее близкого аналога,
она была написана не ранее начала XVI в. Итак, повесть
сложилась, по-видимому, в конце XVI — начале XVII в.
Начинается пространная версия повести, о которой в дальнейшем и пойдет
речь, рассказом о рождении у могущественного государя страны Семантапури —
махараджи Бикрамы Буспы сына, которого нарекают Индрапутрой. Астрологи
предсказывают младенцу ^счастливую судьбу и обширное царство», но
предупреждают родителей, что, когда царевичу исполнится семь лет, судьба разлучит
«их с ним.
Предсказание сбывается, и, едва лишь приходит назначенный срок, мальчика
похищает золотой павлин. Индрапутра попадает в сад цветочницы Ненек Кебаян
и становится ее названым внуком. Старуха знакомит Индрапутру с главным вези-
ром, а тот представляет его государю — радже Шахсиану1, по просьбе которого
Индрапутра отправляется на поиски волшебного средства, дарующего потомство.
Так начинаются странствия Индрапутры, полные всевозможных приключений.
Некоторое представление о них дает «резюме» повести, содержащееся в
предисловии к ней: «Ведь это Индрапутру послал к отшельнику Берме Сакти раджа
Шахсиан, и он встретился с небожителем Дэвой Лелой Менгерной, и его похитил
джинн Тамар Буга, и он повидал золотую гору и гору алмазную, море Бахр аль-
аджаиб и море Бахр аль-Ишк и прошел стезями, на которые не ступал ни один
человек. Вот сколь могуществен был Индрапутра! Это он странствовал месяц в
пещере и убил дракона Мамдуда и раксасу Гуркаса 2. Ни одна -из хитроумных
уловок не помогла радже Талела-шаху сразить чудовище. Индрапутра же без
труда лишил его жизни. Это Индрапутру везиры раджи Шахсиана бросили в
море. Там он провел три года и добыл чудесную шелковую ткань, подобную
росинке. В морских глубинах он св-иделся с Дэвой Лангкурбой, странствовал в море
джиннов и встретился с Дермой Гангой, который одарил его волшебной стрелой
и поведал заклинания, полезные в ратном деле. Вот сколь могуществен был
Индрапутра!» [[57, с. 2].
В конце концов Индрапутра, добывший во время скитаний трех царевен,
отыскивает отшельника Берму Сакти, получает волшебное средство, одолев
соперников, женится на дочери раджи Шахсиана и вместе с четырьмя женами
возвращается на родину, в Семантапури, где и воцаряется под именем Падуки Султана
Менгиндры (см. издание текста [57], рус. пер. |[43]).
«Повесть об Индрапутре» представляет собой один из
наиболее ярких образцов литературного синтеза, характерного для
классического периода истории малайской литературы. На это
указывает прежде всего набор повествовательных мотивов,
восходящих как к индо-яванским, так и к арабо-персидским
сочинениям.
По-видимому, одним из главных источников «Повести об
Индрапутре» послужила «Повесть о Чекеле Ваненг Пати» или какое-
19*
291
то произведение, близкое к ней. На связь повести со сказаниями
о Панджи указывает, в частности, эпизод из ее краткой версии,,
где рассказывается о царевне, читающей «Всепобеждающего
раджу»— «историю о Панджи» [196, с. 95]. Примечательно и то, что-
в пространной версии повести содержится пантун, в котором
упоминается исполнение яванцами ракет — танцевального
представления, в котором разыгрывались эпизоды из сказаний о Панджи
{43, с. 116].
О влиянии «Повести о Чекеле Ваненг Пати» на «Повесть об Индрапутре»
свидетельствуют такие мотивы, как желание раджи Шахсиана «меть наследника,
внезапно вспыхнувшее после того, как он увидел детеныша лани, оплакивающего1
убитую мать |[43, с. 15—16; ср. 528, с. 188]; неудачная борьба раджи Талелы Шаха
с раксасой-людоедом и победа Индрапутры над чудовищем [43, с. 142—145, 156—
157; ср. 166, с. 77—83]; рождение у раджи Шахсиана дочери после того, как он-
и его жена съели цветок лотоса, добытый Индрапутрой [43, с. 186—188; ср. 528,
с. 188]; попытка казнить Индрапутру, бросив его в море [43, с. 190—191; ср. 166,,
с. 75—76]; исцеление Индрапутрой безнадежно больной дочери раджи Шахсиана
[43, с. 194—198; ср. 63, с. 133—135]; отношения Индрапутры с раджей Шахсиа-
ном и с царевичами — женихами его дочери, обосновавшимися в столице [43,
с. 198—228; ср. 63, с. 47—93]. В последнем случае (как и в рассказе о борьбе
с раксасой) обе повести обнаруживают сходство не только в общей
конфигурации эпизода, но и в ряде деталей3. Разумеется, по отдельности данные мотивы
встречаются во многих хикаятах4, однако совпадение их совокупности и
особенностей трактовки указывает, на наш взгляд, на связь «Повести об Индрапутре»
с «Повестью о Чекеле Ваненг Пати».
Другим источником повести явилась малайская «Рамаяна», что^
подтверждается не только неоднокартными упоминаниями
Рамы и Лаксаманы во включенных в нее пантунах [43, с. 54, 121г
2191, но и рассказом об обезьяньем царстве, правитель которого^
становится союзником Индрапутры (ср. {46, с. 172—179 и ел.]).
В то же время значительное число повествовательных мотивов-
«Повести об Индрапутре» было заимствовано из
ближневосточных по происхождению хикаятов раннемусульманского периода.
К «Повести об Амире Хамзе» восходят такие из них, как
посещение таинственной сокровищницы и обретение в ней чудесного коня
s[43, с. 90—91; ср. 112, т. 1, с. 132—137]; убийство дракона Мам-
дуда [43, с. 90; ср. 455, с. 146]; помощь героя правоверным
джиннам в их битве с неверными джиннами (вся глава IV повести
чрезвычайно напоминает историю 23 из хикаята об Амире Хамзе
[43, с. 24—32; ср. 455, с. 131—132]). В «Повести об Искандаре»
обнаруживаются аналоги мотивам путешествия героя в подводное
царство [43, с. 192—194; ср. 106, с. 203—208] и взвешивания
талисмана Индрапутры [43, с. 213; ср. 106, с. 231].
Перечисленные произведения отнюдь не исчерпывают всего
многообразия источников «Повести об Индрапутре» (в частности,
ее автор был знаком с какой-то версией истории о везирах-кле-
ветниках, изложенной в «Повести о Бахтиаре»), однако и их
достаточно для подтверждения того, что «Повесть об Индрапутре»
представляет собой чрезвычайно сложный сплав мотивов,
восходящих к различным культурным традициям, и может служить
292
наглядной иллюстрацией синтетического характера малайских
волшебно-авантюрных повестей.
Литературный синтез проявляется и в образной структуре
повести, в которой рядом с описаниями чудесных стрел и
«космических» боев (ср. )[98]) без труда отыскиваются параллели арабо-
персидским клише.
«И город украсили наилучшим образом, и стали бить в тарелки и литавры,
и в городе навешали украшений и тканей, и под копыта коней постлали
роскошную парчу. И обрадовались вельможи царства и вынули все свои редкости, так
что у смотрящих захватило дыхание, и накормили нищих и бедняков, и устроили
великое празднество». Или: «Земля (на том острове.— В. Б.) из шафрана, и
камушки из яхонта и роскошных металлов, и ограды из жасмина, а растительность
из прекраснейших деревьев и наилучших цветов. Там протекали ручьи, и вместо
дров там лежало камарское и какулийское алоэ, а вместо камышей там рос
сахарный тростник» [35', т. 5, с. 212, 158; ср. 43, с. 237'—238, 33]5.
Нередко изобразительные элементы, относящиеся к различным
традициям, не просто сополагаются, но как бы взаимно
отождествляются в рамках целостного, но «двуслойного» описания. Так, в
сцене боя правоверных и неверных джиннов в лугах Дареал как
бы слышится отдаленное эхо развитой в санскритской литературе,
древнеяванских какавинах и связанных с ними малайских
повестях темы битвы небожителей и демонов (асуров). Так же,
например, как и в «Арджунавивахе», эта битва происходит у
подножия горы. Также с двух противоположных сторон, словно тучи,
приближаются к горе два войска, причем если в «Повести об Ин-
драпутре» непосредственно сообщается о черном и красном
цветах этих туч, то в яванской поэме тот же эффект контраста
достигается косвенным путем — упоминанием о стягах асуров,
сделанных из целых шкур слонов и кожи змей (темный цвет), и о
красных стягах войска небожителей. В обоих случаях, когда один
из бойцов 'наносит удар противнику, гремит гром, сверкают
молнии, сполохи пламени и черный дым, «исторгаясь» из его тела,
«низводят» мглу на поле боя ;[43, с. 24—29; ср. 118, с. 73—93].
Однако, как отмечалось, данная сцена, вероятно, восходит к
«Повести об Амире Хамзе», а описание звериного облика неверных
джиннов («иные из них с головами слонов, иные — тигров или
псов») перекликается с рассказом о сражении обезьян и
чудовищных гулей из «Тысячи и одной ночи»: «И Джаншах удивился
этим гулям, которые сидели на конях, и их огромному телу, а у
некоторых были головы коров, а у некоторых головы
верблюдов» J35, т. 5, с. 187].
Было бы неверно, однако, сводить содержание и образную
систему «Повести об Индрапутре» лишь к синтезу заимствованных
элементов. В ней легко обнаруживаются охарактеризованные
выше национальные черты, присущие лучшим образцам малайских
волшебно-авантюрных повестей: «наивный» реализм, отражение
жизни малайского города, включение в прозаический текст пан-
тунов, влияние поэтики которых ощутимо в одной из самых
изящных сцен повести, где Индрапутра, в типично пантунной манере
293
описывая различные цветы, дает понять, что он любовался
красотой обнаженных пери, купавшихся в море |Г43, с. 41—43].
Важную роль в повести играют различные малайские обряды
и церемонии. Это и изображение сватовства, когда герой, подобно
современному малайскому крестьянину, -посылает невесте кольцо
и в знак согласия получает от 'нее сосуд с листьями бетеля [43,
с. 113—119], и рассказы о торжественных свадебных шествиях
>[43, с. 65—67 и ел.], в которых достоверность размещения в
носилках членов свиты царевича и царевны может быть
подтверждена сведениями исторических источников |[91, с. 66], и обряды,
связанные с рождением царевича, обносом его вокруг городских
стен, коронацией |[43, с. 8—9, 242—243], и многое другое.
Историк культуры может усмотреть в большинстве
описываемых в повести церемоний отголоски индуистского влияния, но
перед малайскими читателями, не знакомыми со сравнительно-
историческим методом и едва ли склонными к историческим
реконструкциям, подобного вопроса не вставало. Они выросли среди
этих обрядов, привыкли считать их наследием предков. Такими,
по мнению малайских горожан, всегда были их жизнь, их
культура, и именно так следовало праздновать свадьбу или рождение
наследника.
Любопытно, что многие детали повествования, кажущиеся
чисто фантастическими, также оказываются порой вполне
достоверными. К примеру, чудесный свадебный паланкин Индрапутры,
изготовленный «наподобие зверя с телом из лазурита, глазами из
волшебных камней, языком из дамасской стали и когтями из
сапфиров» [43, с. 161], обнаруживает явное сходство не только с
ачехскими церемониальными носилками XVII в. |[91, с. 64—65],
но и с огромными, богато украшенными позолотой, резьбой,
самоцветами паланкинами, изображающими мифическую птицу га-
руду, которые еще в 30-е годы нынешнего столетия можно было
увидеть в султанате Келантан [474, с. 21—22].
Сад, до мелочей напоминающий те, что описаны в «Повести
об Индрапутре» ([43, с. 46—50, 201, 205—207 и ел.], как уже
отмечалось, реально существовал в XVII в. в султанате Аче {91,
с. 48—52]. Украшавшие его изваяния драконов с языками из
золота и самоцветов, из пастей которых непрестанно струилась вода,
напоминают чудесную статую дракона в купальне Индрапутры, а
резные фигуры сражающихся слонов, парящих птиц и свирепых
тигров — волшебных стражей дворца пери и изображения на
стенках паланкина царевича [43, с. 46—48, 239—240].
Интерес придворной дамы, охваченной любовным томлением,
к «Повести об Индрапутре», как и само предисловие к этому
сочинению, ясно указывающее на его принадлежность к сфере
прекрасного (индах), может служить ключом к анализу
художественной структуры повести. И действительно, ее ритмический сказ и
бесчисленные описания (картины оцепеневшего «а мгновение сада,
вслушивающегося в протяжный крик оленька; ветра,
пробегающего по глади вод и делающего море похожим на облако, трепещу-
294
щее в поднебесье; дворца, окруженного рвами и кажущегося
золотым островом, распространяющим окрест нестерпимое сияние;!
изображение изящных любовных сцен [43, с. 207, 79, 95]) вполне
отвечают требованию гармоничной красотой содержания и
звучания умерять печали читателей.
«Повесть об Индрапутре», в которой, как было показано,
«разыграна в лицах» целостная мусульманская теория
«прекрасного» — завершение малайского литературного синтеза, всем
своим строем на практике демонстрирует такие важнейшие принципы
мусульманской эстетики, как декоративность, орнаментальность,
преобладание композиционной упорядоченности «нанизанных»
эпизодов над логической сюжетной динамикой )Г228; 208, с. 164,
178—183; 271, с. 108—118; 284, с. 106—111]. К «Повести об
Индрапутре» в общих чертах применима характеристика, данная
дастанам урду:
«В той же степени, в какой создатели дастанов „плетут" тропы, они
„нанизывают" и события... Нагромождение новых и новых фабульных мотивов и ходов,
перенасыщенность художественного пространства повествования зачастую
немотивированными событиями, факультативность многих элементов сюжета также
напоминают дробную „открытую" композицию орнамента, отдельные части
которой могут быть опущены без ущерба для целого. Таким образом,
орнаментальность и носящая знаковый характер декоративность пронизывают текстуру всего
дастана, словно превращая ее в красочное узорочье, хитросплетение восточного
ковра» [211, с. 115].
Следует, однако, оговориться, что «открытость» структуры
повести отнюдь не абсолютна, но ограничена определенными
правилами композиционной (но не сюжетной), соотнесенности близких
по объему словесных масс.
«Повесть об Индрапутре» также весьма напоминает ковер или
декоративную ткань с пятью ярусами изображений, вытканных на
«основе», которую образует путь скитаний героя. Первые три
главы, повествующие о детстве царевича и его похищении золотым
павлином (первый ярус), а также примерно равная им по объему
четырнадцатая глава, рисующая финальный апофеоз Индрапутры
(последний, пятый ярус), создают обрамление для основных глав,
дающих жизнеописание героя и историю его подвигов. Во втором
ярусе (гл. 4—8) Индрапутра странствует в одиночестве, добывая
волшебные талисманы и приобретая союзников. В. центре почти
каждой главы — чередующиеся с правильной ритмичностью
военные и любовные сцены. В четвертом ярусе (гл. 10—13),
симметричном второму и близком к нему по объему, вновь военные
эпизоды перемежаются любовными, однако отличает этот ярус то,
что все важнейшие события сопровождаются здесь красочными
описаниями шествия войск царевичей-союзников, спешащих на
помощь Индрапутре. Особенно важную роль играет в повести
самая пространная девятая глава, занимающая целиком
центральный третий ярус. Она не только делит весь текст на две равные
части, но и является миниатюрной моделью всего произведения.
Вступивший в нее «нищим скитальцем», Индрапутра внезапно
295
преображается в могущественного государя, впервые
«принимающего парад» союзников и вассалов, а это и есть круг,
совершаемый сюжетом почти любой волшебно-авантюрной повести. Таков
геометрически правильный план «Повести об Индрапутре»,
открывающийся «с птичьего полета».
Однако и при более близком рассмотрении повести аналогия
с орнаментальным произведением остается в силе.
«Фигуративные» сцены — рассказы о всевозможных подвигах героя на
поприще любви, брани и волшебства, несмотря на свою
многочисленность, занимают сравнительно скромное место в повести. Они
растворены в подробных, чисто декоративных описаниях природы и
битв, свадеб и пиров, дворцов и садов. При этом каждое
описание, в свою очередь, составляется из детальнейшего перечня
множества предметов: свадебных носилок, купален, зонтов, стягов и
облачения воинов, туалетных приборов с золотыми чашами и
хрустальными кувшинчиками и т. д. Даже человек зачастую
оказывается лишь совокупностью дотошно описанных «превосходных
одеяний». Если еще более «приблизить» изображение к глазам,
очертания предметов начнут расплываться: дворец, например,
нетрудно будет спутать с золотой оградой; ограду — с садом,
полным золотых и серебряных деревьев с листвой из изумрудов;
сады— с волшебными кораблями, подобными невиданной барки
Индрапутры из зеленого стекла, которая, по существу, и
представляет собой «плавучий» сад ,[43, с. 200—201]. Все картины
окажутся созданными из одних и тех же материалов, и перед нами, как
по волшебству, воз-никнет золотое шитье, стежки которого
чередуются с переливающимися самоцветами. Видимо, не случайно
герой «Повести об Исме Ятиме»— Исма Мантри, автор «несказанно
прекрасного хикаята», был назначен не кем иным, как
«хранителем ковров» раджи и сам изготовил для него ковер.
Однако «Повесть об Индрапутре» и другие
волшебно-авантюрные произведения не только пленяли читателя красотой и сулили
ему утешение в любовных и житейских печалях. Порой у них
были и более серьезные задачи, которые не всегда понимали
мусульманские ригористы, чье осуждение хикаятов было несколько
сродни упоминавшимся выше нападкам на Хамзу Фансури и
поэтов его круга. Как и эти нападки, пренебрежительное отношение
к романическим повестям объяснялось глухотой к символическому
значению некоторых из них (разумеется, далеко не всех), к
тому, что любовные и волшебно-авантюрные мотивы сами по
себе составляли иногда лишь поверхностный пласт содержания
хикаятов.
Интерпретируя сходную двуплановость византийского романа,
его исследователь С. В. Полякова справедливо отмечала:
«Столь странное, с нашей точки зрения, понимание сферы любовного могло
возникнуть только вследствие символического характера средневекового
мышления, которое видело под одним другое и не стеснялось где угодно искать
жемчужные зерна. Этим же обусловлены две другие, более непосредственные
причины рассматриваемого явления: плотская земная любовь понималась теологами
296
как низшая форма любви к богу, вторая причина — право писателя,
интерпретирующего действительность, использовать любые художественные средства, чтобы
раскрыть мир, понимаемый как аллегорический шедевр творца» [249, с. 104].
Вполне вероятно, что «Повесть об Индрапутре» в своей ис-
ламизированной версии могла прочитываться не только как
любовный «роман», но и как суфийская аллегория, описывающая
духовное восхождение души. Ближневосточная и индийская
суфийская литература дали бесчисленные образцы подобных
аллегорий в жанрах трактата и поэмы-маснави (авторы многих из них
были хорошо известны в малайском мире; см. Г281, с. 55—56;
288]), а также прозаического дастана — аналога хикаята (таков,
например, дастан Нихалчанда Лахори «Религия любви» i[41]).
В самой малайской литературе XVI—XVII вв., вермени, когда
исповедание ислама у малайцев было едва ли не тождественно
принадлежности к какому-либо суфийскому братству »f3691,
суфийские аллегории в стихах и прозе также были отнюдь не редкостью.
Как уже отмечалось, они существовали бок о бок с волшебно-
авантюрными повестями, ассимилируя их мотивы и, в свою
очередь, оказывая на них влияние.
О том, что «Повесть об Индрапутре» является аллегорическим
произведением, говорят ее суфийская топонимика и ономастика,
множество мотивов, характерных для подобных аллегорий. Не
менее важным аргументом в пользу этого предположения выступает
и предисловие к повести. В первой же фразе предисловия
сообщается, что в предлагаемом хикаяте «с мудростью и вежеством
изъяснена любовь, еще не ставшая жемчужиной» J57, с. 1]. Мотив
любви-жемчужины в традиции хикаятов далеко не тривиален.
В то же время жемчужина является одним из распространенных
суфийских символов Абсолютной Любви |407а, с. 118; ср. 74,
с. 69] и порожденного божественной Любовью Перворазума —
Света Мухаммада Г179, с. 365—367]. Процесс же формирования
жемчужины в суфийских текстах символизирует путь
мистического постижения i[469a, с. 284]. Таким образом, тему повести,
символически сформулированную в предисловии, можно определить
как суфийское путешествие героя, в ходе которого его любовь
обретает статус Любви Абсолютной.
Тема путешествия получает эксплицитное выражение в
структуре предисловия, распадающегося на три пассажа. Первый из
них — собственно сообщение о путешествии («это Индрапутру
послал к отшельнику Берме Сакти раджа Шахсиан...»),
второй — перечисление подвигов Индрапутры на земле («это он
странствовал месяц в пещере и убил дракона Мамдуда...»),
третий — перечень его подвигов на море («это Индрапутру везиры
раджи Шахсиана бросили в море...». Сфера земли (точнее, земных
недр) и сфера моря — это две резко противопоставленные друг
другу области, с которыми Индрапутра постоянно сталкивается в
своих странствиях, как бы реализуя высказывание великого
персидского поэта-суфия Джалаладдина Руми (XIII в.) о том, что
«человек сотворен из разума и страстей... наполовину змеей, напо-
297
ловину рыбой. Рыбья природа тянет его к морю (божественному
началу.— В. £.), а змеиная — к земле (тварному началу.— В. Б.)г
и все время проводит он в этой борьбе»,[211а, с. 149].
К сфере земных недр принадлежат различные чудовища,
которых одолевает Индрапутра: раксаса-оборотень, дракон Мамдуд
f(apa6. Длинный — слово однокоренное с мадда — материя (ср.
*[31, с. 315]), великан-людоед Гуркас (араб.-перс. Обитатель
Земных Недр, «Недровик»). Все они — подданные Бахрама Табута6
(араб.-перс. Бахрам Гроб), повелителя страны Дар ад-Дамас
(араб. Обитель Тьмы). Имя Бахрам Табут, по-видимому,
восходит к имени персидского царя Бахрама Гура (перс. Бахрам
Могила) — героя многих суфийских аллегорий (поэмы Низами, Ами-
ра Хосрова, Навои и др.). Подчеркиваемое в суфийской традиции
пристрастие Бахрама Гура к чувственным удовольствиям,
приведшее к его поглощению первоматерией, и превратило его в
повести в повелителя телесного мира — Обители Тьмы, символ
телесной души — нафса, которую надлежит победить суфию. Связь
же в поэмах образа царя с пещерами и сокровищницами
породила мотив сокровищниц Бахрама Табута, которые охраняют его
слуги (дракон, раксаса), символизирующие различные проявления
телесной души.
Если со сферой земли ассоциируются существа, враждебные
Индрапутре, над которыми он одерживает победу и добывает их
сокровища и талисманы, то"к сфере моря принадлежат
наставники героя, благорасположенные к нему и наделяющие его
сверхъестественными знаниями (царевна Сери Ратна Гемала Мехран7,
Дерма Ганга, Дэва Лаигкурба, Берма Сакти). В целом сфера моря
выступает символом мистического постижения, ведущего к
внутренней трансформации суфия. Примечательно, что два важнейших
эпизода обучения Индрапутры (сцены у Ратны Гемалы Мехран и
у Бермы Сакти) четко выделяются из описания собственно пути
тем, что изображенные в них события («наглядные уроки»)
впоследствии вторично происходят с героем — герой, так сказать,
использует полученные знания на практике.
Содержащееся в предисловии разграничение сфер земли и мо*-
ря определяет общие контуры аллегорического смысла повести,
указывает, что необходимо преодолеть и что приобрести на
суфийском пути. Совпадение же важнейших конструктивных
компонентов повести и примерно синхронной суфийской аллегории «Илм
ан-ниса» («Наука о женщинах») позволяет установить основные
слагаемые этого смысла и, исходя из них, интерпретировать более
частные мотивы хикаята8.
Сюжет «Повести об Индрапутре» приводится в действие, когда
золотой павлин похищает героя из города с многозначительным
названием "Сем ант any р и— Пограничный Город. Как отмечалось,
павлин в суфийской традиции олицетворяет один из аспектов
Духа (аспект расширяющейся божественной Любви), а пребывание
в Пограничном Городе — промежуточное положение между
духовным и тварным мирами. Тем самым, похищение Индрапутры
298
павлином символизирует вдохновленное внезапным наитием
обращение героя к духовному миру — пробуждение души суфия.
Далее следует эпизод в стране раджи Шахсиана, имя
которого означает Государь Цветок Вьюнка. Вьюнок, оплетающий
дерево,— символ любви, и его персидское название сиан синонимично
арабскому ашика, от которого согласно суфийской этимологии
происходит слово ишк — любовь [407а, с. 1]. Индрапутра берется
отправиться к Берме Сакти и добыть для раджи средство,
дарующее потомство. Сходный мотив представлен в аллегории Джами
«Саламан и Абсал», где везир (символ Перворазума) чудесным
образом дарует сына страдающему без наследника царю (символ
разума подлунной сферы) Г27а, с. 428—431]. Если эта аналогия
верна, Берма Сакти должен рассматриваться как символ
Перворазума.
Первым шагом суфийского путешествия является отвержение
мира и возвращение души к ее изначальной природе,
предшествующей формированию нафса.— «шаг назад» к состоянию
растительной души if284, с. 19]. В повести аскетический отказ от мира-
символизируется убийством раксасы, лживость и оборотничество
которого символизируют обманчивый характер земной юдоли (ср.
[133, с. 39]). Добытый у раксасы меч Лаксаманы — это духовный
меч отречения от мира, с помощью которого Индрапутра
одолевает всех врагов. Следующая затем битва Индрапутры с царевичем
неверных джиннов символизирует обращение героя на путь
истинной веры и строгого соблюдения закона — шариата. Две победы
Индрапутры олицетворяют прохождение первого этапа пути —
шариата, соотносимого с миром человечности (алам пасут) [74,
с. 101]. Овладение этим этапом символизируется женитьбой героя
на царевне Джамджам Деви Гемале Ратне9.
Следующий этап пути суфия — тарикат, когда «странник»
переходит из мира человечности и мира физических тел в мир
владычества (алам малакут) [74, с. 101]—сферу идеальных форм.
Эта часть пути особенно опасна, так как на ней суфий переходит
к глубинному очищению беспокойной телесной души, нафса [284,
с. 19, 28].
Прежде чем перейти к тарикату, Индрапутра проходит
испытания и курс обучения у царевны Ратны Гемалы Мехран,
олицетворяющей «успокоившуюся душу» (нафс аль-мутмаина) суфия,
достигшего ступени раба Аллаха10 [282, с. 33]. Центральным
моментом испытания является вхождение героя в сад царевны, где
высится ее дворец, подобный пылающему вулкану. Сад обнесен
семью стенами из драгоценных металлов, символизирующими семь
небесных сфер и семь стадий совершенства суфия11. Ворота в
стенах охраняются «механическими» зверями и чудовищами,
олицетворяющими опасности пути. Разум подсказывает Индрапутре, что
стражи представляют лишь мнимую угрозу, царевич одолевает
их и входит в сад, символизирующий «сад души» — первый из
четырех коранических райских садов i[36, с. 428—429; 284, с. 28].
В саду Индрапутра купается в пруду и облачается в одежды, по-
299
даренные царевной, т. е. обретает уверенное знание (илм аль-йа-
кин) и атрибуты чистой души, а затем в беседке Шипы
Любовного Цветка посреди парка Любовного Желания переживает хал —
экстатическое ощущение близости Возлюбленной, ниспосылаемое
свыше по Ее милости 12 ,[179, с. 38, 57; 284, с. 98].
На следующий день Ратна Гемала Мехран дарит царевичу
талисман, которому подчиняются четыре джинна, олицетворяющие
четыре аспекта совершенствующейся души: гнев'ный, кающийся,
суфийский, умиротворенный (ср. [528, с. 206]).
Из сада царевны Индрапутру похищает неверный джинн
Тамар Буга. Царевич убивает его, падает на землю, и с ним, по
существу, повторяется сцена перед стенами сада царевны. Лугам,
окружающим сад, соответствуют равнины, которые пересекает
юноша, семи стенам сада — семь гор, олицетворяющие семь небес.
Преодоление алмазной или изумрудной горы, очаровывавшей
путников своим пением, тождественно победе над желанием навсегда
остаться в саду души, наконец, восьмая гора — вулкан
соответствует подобному вулкану дворцу царевны — по-видимому,
символу божественного Трона (курсы). На каждой из гор Индрапутру
приветствуют птицы различных пород. Поскольку горы
символизируют небеса, каждое из которых соотносится с одной из степеней
совершенства, олицетворенной в том или ином пророке ислама
[284, с. 97; 517, т. II, с. 262], то эти птицы символически
изображают души суфиев, достигших степени соответствующего пророка.
Одолев семь гор и выйдя за пределы физического мира, Ин-
драпутра, однако, еще не может достичь Трона. Он падает на
землю и оказывается на берегу Моря Любви (Бахр аль-ишк).
Поморю на кораблях катаются царевичи джиннов и небожителей. Ин-
драпутра насылает на море бурю, топит корабли, вновь поднимает
их на поверхность и благодаря этому удостаивается дружбы
царевичей. Весь этот эпизод интерпретируется на основе суфийского
комментария к одной из притч «Гулистана» Саади ,[24а, с. 74],
суть которой сводится к тому, что никакое обучение само по себе
не делает суфия обладателем истины. Лишь смело бросившись з
море, изведав все его опасности и преодолев их, суфий обретает
понимание божественного всеприсутствия )[386а, с. 6—7]. Таким
образом, эпизод у Моря Любви — это символ начала тариката.
Покинув мир тел, Индрапутра оказывается в мире души (алам
малакут, алам мисал). Об этом свидетельствует эпизод, в котором
рассказывается о приключениях героя на берегу Моря Чудес
(Бахр аль-аджаиб). Здесь он видит красавицу, которая, спасаясь
от преследующих ее царевичей-духов, переживает ряд превращений,
и узнает, что отец царевны просватал ее за обоих юношей и умер,
не в силах решить, как исполнить обещание. Индрапутра
предлагает царевне склониться над морем, и из ее отражения возникает
красавица, неотличимая от нее. В общем плане в этом эпизоде
разрешается онтологическая проблема возникновения
множественности из единичности: каждая последующая ступень Бытия есть
тень или отражение предыдущей. В плане же более конкретном
300
эпизод указывает на пребывание Индрапутры в алам мисал,
представляющем собой прототип мира физических тел ,[284, с. 116].
Об этом же свидетельствуют и непрерывные превращения,
наблюдаемые Индрапутрой и являющиеся характерным признаком
мира души — средоточия воображения, порождающего поток все
новых и новых прекрасных, «кокетничающих» образов i[74,
с. 85—86].
Разрешив спор царевичей, Индрапутра обнаруживает знание
сущности мира души. Поэтому государыня, мать царевны,
вознаграждает его жемчужным ларцом, в котором затем Индрапутра
укрывает своих жен,— символом алам мисал. Жемчужный ларец
тождествен пустой раковине, в которой предстоит родиться
жемчужине. Раковина в суфийской литературе символизирует
форму, чье содержание — мистическое знание Г 136а, с. 56—58; 179,
с. 160], и в этом качестве может быть отождествлена с алам мисал,
выступающим как внешняя форма первой из манифестаций
Бытия—Сущности Мухаммада [113, с. 339; 416а, с. 105],
изображаемой как белая жемчужина.
Следующая серия эпизодов символически изображает
аскетические подвиги Индрапутры — его борьбу со страстями нафса.
Первый из таких подвигов — убийство дракона Мамдуда,
олицетворяющего желания телесной души :Г284, с. 19]. В суфийской аскети-
ке умерщвление желаний именовалось «красной смертью» и
рассматривалось как акт, объединяющий все прочие победы
подвижника, в награду за который Аллах оживляет суфия светом знания
[55а, с. 58; 36, с. 116]. Последнее объясняет, почему в голове
дракона Индрапутра находит талисман Беди Захир (араб. Сияющий),
•способный своим светом рассеивать мрак и оживлять мертвых.
Вслед за «драконом желаний» царевич благодаря своему
разуму (ср. ([74, с. 86]) торжествует над красотой, символом
которой выступает царевна Чандра Лела Hyp Лела— дочь повелителя
страны Зайнун (от араб, зайн — «украшение», «красота»). Победа
над красотой отражает суфийское учение о «зеленой смерти» —
отказе от роскоши аскета, обретшего «сущностную красоту и не
нуждающегося в случайном украшении» |[55а, с. 58—59]. Затем
Индрапутра приходит в страну Дайнун (от араб, дайн —
«подчинение», «покорение») и дает урок небожителю по имени Малик
Захаб (араб. Царь Золото). Благополучие Малика Захаба
зависит от источника, из которого он поит свои стада. Индрапутра
осушает источник и тем самым демонстрирует преходящий
характер богатства. В стране Дайнун Индрапутра одолевает войско
раджи Гаухарджинса 13 (араб.-перс. Жемчугоподобный, Из-Рода-
Жемчуга) и женится на его дочери — Талеле Маду Ратне. Этот
брак символизирует овладение этапом тариката.
Вскоре после свадьбы царевич получает приглашение от рад-
^ки Талела-шаха прибыть в его страну Семанта Беранта 14,
которую опустошает раксаса-людоед Гуркас, обитающий в пещере Зул-
ма (араб. Мрак). Несмотря на все уловки, государь не может
одолеть чудовище и обращается за помощью к Индрапутре. Уже
301
само упоминание об уловках позволяет рассматривать Талела-ша-
ха как олицетворение разума. Это предположение
подтверждается суфийским учением о «белой смерти» — победе над алчностью
и чревоугодием телесной души, которые символизирует раке ас а*
людоед. «Голод,— по словам суфийского автора XIII—XIV ©в.
Абд ар-Разика Кашани,— освещает внутреннюю сущность
человека и обеляет лик его сердца. Если путник не насыщается, он
умирает белой смертью, и тогда просыпается его разум. Желудок
умерщвляет разум, а у того, чей желудок мертв, разум жив» |[55а,
с. 58]. Это объяснение помогает понять, почему разум (Талела-
шах) не способен справиться с людоедом, в пещере которого
царит мрак (т. е. не способен функционировать, когда душа
омрачена чревоугодием). Индрапутра же успешно выполняет эту
задачу, осветив пещеру талисманом Беди Захир (символ света
знания) и убив раксасу мечом Лаксаманы (символ отречения от
мира, аскезы).
Расправившись с Гуркасом, царевич входит в сокровищницу
Бахрама Табута, которую тот охранял, и, пройдя ее, оказывается
у ворот сада, символизирующего второй из коранических садов —
сад духовного сердца, бросается в водоем, сообщающийся с
морем (символ прямой связи сада сердца с садом Духа |Г284, с. 29]),
и, доплыв до места соединения водоема с морем, встречает
существо с именем божества воды — Дерма Ганга, дарующего ему
волшебную стрелу. По-видимому, место встречи водоема и моря
символизирует кораническое Соединение Двух Морей (маджма' аль-
бахрейн), где пророк Муса встретил Хизра, обучившего его
мистическому знанию ,[36, с. 235—237; 386а, с. 3—6]. Сам Дерма
Ганга выступает символом Хизра, «во многих частях Индии
отождествляющегося с речным божеством» J337, с. 235], а стрела —
символом стрелы мистического постижения (панах марифат)
малайских заклинаний и повестей Г528, с. 203; 20, с. 130—132]. \
Теперь Индрапутра преодолел третий этап суфийского пути
(хакикат), которому в иерархии миров соответствует алам джа-
барут, и может вступить в брак с дочерью Талела-шаха, не
случайно носящей имя Движущаяся-По-Кругу-Луна (Идари Сери
Булан), так как луна в суфийской литературе символизирует духов-
ное сердце. Перед героем открывается дорога к Берме Сакти —
Перворазуму, Духу, но прежде он должен победить уже не слуг
нафса, а сам нафс, олицетворяемый государем Бахрамом Табу-
том, ибо «на стоянке Духа остается лишь ядро личности мистика»
[284, с. 30].
После того как нафс приведен в покорность, супруг Сери Рат-
ны Гемалы — Мехран объясняет Индрапутре, как добраться до
Бермы Сакти. Царевич оказывается на равнине и внезапно видит
яркое сияние, символизирующее Свет Мухаммада. По молитве
героя в свете является убеленный сединами старец, а само
сияние обращается в сад. Индрапутра входит за ограду и видит в
саду Берму Сакти, окруженного учениками 15.
Сад, в который вступает царевич,— это третий из кораниче-
302
ских садов — сад Духа, разделенный в соответствии с суфийской
традицией на верхнюю и нижнюю части ^284, с. 30]. Верхняя
часть его расположена на возвышенности острова Макам Хай-
рани (араб. Стоянка Экстаза) посреди моря Бахр ан-нахр (араб.
Море Заклания). Здесь Индрапутра видит обсаженный деревьями
пруд и получает от отшельника белый лотос из пруда — средство,
дарующее потомство. Этот лотос напоминает плавающую на
поверхности золотого бассейна розу Бакавали из «Религии любви»
Г41, с. 40] —символ божественной Возлюбленной16.
Пребывание у Бермы Сакти — третий этап суфийского
обучения Индрапутры, важнейшим моментом которого является сцена
на Равнине Световых Цветов — еще один символ светового мира
Духа. По желанию Бермы Сакти из-за завесы, скрывающей
престол отшельника, вылетает меч и трижды рубит на части его
учеников. Дважды Индрапутра воскрешает, их с помощью
талисмана Беди Захир, но на третий раз оказывается бессилен вернуть
их к жизни. Вся сцена символически показывает, что суфийского
опыта царевича еще недостаточно, чтобы, пережив полную
аннигиляцию индивидуального «я» (фана — «черная смерть») ;Г55а,
с. 59—60], воскреснуть, перейдя в состояние бака — вечной
жизни в Аллахе. Поэтому Берма Сакти дает ему талисман,
способный оживить учеников, т. е. мистическое знание, необходимое на
последнем этапе пути. Данная сцена, по-видимому, объясняет,
почему море в стране Бермы Сакти именуется Морем Заклания.
Добыв цветок лотоса, Индрапутра возвращается в царство
раджи Шахсиана. У государя и его супруги, съевших цветок,
рождается дочь — Мегиндра Сери Бунга (малайск. Царственный
Цветок), которая предназначена в жены Индрапутре, однако везиры
раджи Шахсиана клевещут на царевича, и раджа приказывает
бросить его в море. В море Индрапутра попадает в город Дэвы
Лангкурбы17 — повелительницы морских джиннов и пери, бабки
Ратны Гемалы Мехран, символизирующей Мировую Душу (нафс
аль-кулл).
Отречение от мира, умерщвление страстей, победа над нафсом
и достижение областей Мирового Духа и Мировой Души
свидетельствуют о подготовленности Индрапутры к единению с
божественной Сущностью, тождественной Абсолютной Любви )[416,
с. 102]. Этому и посвящена заключительная часть повести.
Вернувшись из города Дэвы Лангкурбы, царевич исцеляет тяжко
заболевшую Менгиндру Сери Бунгу. Эта смертельная болезнь и
исцеление с помощью волшебной ткани символизирует
окончательное очищение царевны от последних следов тварности (ср.
|р41, с. 99, ПО—111]) и возрождение к жизни через
сопричастность Мировой Душе [273, с. 116—117] 18. Таким образом, Мен-
гиндра Сери Бунга рождена от Мирового Духа и возрождена
Мировой Душой — ее дух тождествен Мировому Духу, а душа —
Мировой Душе. Тем самым она выступает воплощением
божественной Сущности, божественного Бытия, Абсолютной Любви (ср.
;[416, с. 197]).
303
Олицетворение Менгиндрой Сери Бунгой Абсолютной Любви
подтверждается двумя рядами суфийских символов — цветочным:
и жемчужным. Сама о'на носит имя Царственный Цветок,
рождается от цветка лотоса из сада Духа. Отца ее зовут Цветок Вьюнка.
Вполне естественно, что родившаяся у государя по имени Сиан
( = ашика) царевна выступает символом Абсолютной Любви
\ишк). В завершающем разделе повести жены Индрапутры
(символы этапов пути) уподобляются четырем лепесткам цветка,
прекраснейший из которых — Медогиндра Сери Буига.
Не менее существенно и то, что от болезни царевну исцеляет
ткань, подобная росинке (или капельке тумана; малайск. эмбун
означает и то и другое [517, т. I, с. 300]). Капелька! тумана,
символ божественной Милости, в раковине жемчужницы
превращается в жемчужину — символ божественной Истины {136а, с. 56—•
58], Сущности Мухаммада и Абсолютной Любви \[74, с. 69], с
которой отождествляется царевна. Так ряд жемчужной символики,
впервые введенный в предисловии к повести, продолженный
жемчужным ларцом — символом алам мисал, получает завершение в
образе царевны, исцеленной тканью — капелькой тумана, тем
самым ставшей жемчужиной и вместе с другими женами
Индрапутры восседающей во дворце.
Как божественная Сущность и Абсолютная Любовь Менгиндра
Сери Бунга и выступает в чрезвычайно важном эпизоде,
повествующем о плавании царевны и Индрапутры на чудесном корабле
к острову Пелинггам Чахайя (Световой Мрамор). Корабль
Индрапутры, по существу, представляет собой сад с многообразными
цветами и деревьями, бассейном, в котором «обитают» раковины
из жемчуга (!), и, главное, троном царевны, обнесенным
восьмиугольным ограждением из цветных стекол. Каждая из сторон
ограждения символизирует одно из небес, трон — девятое небо,
сферу Престола (в отличие от дворца Ратны Гемалы Мехран,
окруженного семью стенами и символизирующего восьмое небо,—
сферу Трона). Царевна, восседающая на троне, олицетворяет
божественную Сущность (Возлюбленную), а ее одеяния,
окрашивающиеся в разные цвета, когда она поворачивается то в одну, то в
другую сторону,—Атрибуты, по-разному проявляющиеся на разных
ступенях мироздания 19.
Комментарием к этой сцене может служить описание Бытия
Аллаха из поэмы Абд аль-Джамала, где Оно отождествляется е
Возлюбленной и, изменчиво отражаясь в зеркалах (сферах
духовного и материального мира), обретает сходство с далангом,,
дающим представление в плавучей беседке [74, с. 73]. Аналогом
даланга в повести выступает царевна, его представления —
явление царевны за цветными стеклами, плавучей беседки — корабль
Индрапутры.
Чудесный корабль символизирует четвертый коранический
сад —сад Сущности [284, с. 30]. Войдя в него, суфий должен
пережить полное уничтожение индивидуальности — духовную
смерть. Ее описанию — достижению Индрапутрой состояния фа-
304
на — и посвящены заключительные главы. В них рассказывается:
о трехкратном убийстве героя царевичами — искателями рукиМен-
гиндры Сери Бунги, его воскрешении женами сначала с помощью-
талисмана Беди Захир, а затем — талисмана Бермы Сакти и,
наконец, о женитьбе на Менгивдре Сери Бунге, символизирующей
овладение марифатом — последним этапом пути и единение с
Сущностью. После этого Индрапутра с триумфом возвращается.
иа родину, что символизирует достижение состояния бака, и
возводится в сан султана — термин для Совершенного Человека.
Таков в общих чертах аллегорический смысл «Повести об Ин-
драпутре». Вполне вероятно, что истолкование отдельных эпизодов
повести может быть исправлено или уточнено, однако ее
сходство с суфийским описанием пути слишком велико, чтобы быть
случайным.
Итак, «Повесть об Индрапутре» по-разному прочитывалась
непосвященными читателями, искавшими в ней лишь красоту, и
читателями посвященными, постигавшими ее скрытое значение..
К ней вполне применимы слова Амира Хосрова Дехлеви из поэмы
«Восемь раев»:
Если найдется ценитель сокровищницы тайны,
Он оценит полет моей мысли.
А если он не обладает способностью постижения,
То вполне удовлетворится сказкой [249а, с. 91].
Впрочем, и для непосвященных повесть была не только
средством развлечения. Предисловия ко многим волшебно-авантюрным
хикаятам показывают, что эти произведения выполняли функцию
«учебников жизни», своеобразных «романов воспитания».
Подобно византийским повестям, их чтение «не настраивало на
легкомысленный лад, а,.напротив, уводило мысль в
нравственно-этическом направлении» [249, с. 103]. Всецело отождествлявший себя
с идеальным героем повести, читатель воспринимал путь, по
которому тот странствовал, как жизненный путь Человека и, таким:
образом, становился участником вечной драмы человеческих,
стремлений, поисков и свершений.
Повесть об Исме Ятиме. Принято считать, что в
малайской традиции была слабо развита такая важная отрасль
мусульманской словесности, как литература адаба :[464, с. 1231].
Само слово адаб (араб, «воспитанность», «правильный образ по*
ведения») означало совокупность моральных, общественных и
интеллектуальных достоинств, необходимых культурному человеку,,
благодаря которой его разум свободно и непринужденно
проявлял себя во всех его поступках |Г340; 336; 248; 221, т. VI, с. 45].
Литература адаба на Ближнем Востоке состояла главным
образом из тщательно подобранных антологий, включавших
утонченные назидательные истории, изречения мудрецов, отрывки из
стихотворений прославленных поэтов и т. д. Ее целью было, «беря
всего понемногу, просвещать, не утомляя, и наставлять, развле-
20 Зак. 147
305
<кая» • [248, с. 64]. Действительно, подобные антологии и близкие
к ним по характеру зерцала не столь уж часты в малайской
классической литературе — основные их функции здесь принимают на
себя иные литературные жанры, в частности волшебно-авантюрные
повести. Уже произведения типа «Повести об Индрапутре» (если
рассматривать поверхностный слой ее значения) предназначались
не только «для души», но и «для ума», точнее — практического
разума. Но делалось это косвенно, через показ жизненного пути
героя, в котором подчеркивались его разумность и воспитанность—
вежество. По своим задачам ближе к литературе адаба «Повесть
об Исме Ятиме», обнаруживающая в своей стилистике явное
воздействие языка китабов if 196, с. 104].
Это произведение, позволяющее предполагать, что его автор —
некий Исмаил — был знаком с «Повестью о Сери Раме», «Кали-
лой и Димной», «Короной царей» и другими малайскими
сочинениями, упоминалось в 1726 г. Франсуа Валентейном Г196, с. 105].
Поскольку же на него заметно повлияла «Повесть об Индрапутг
ре», оно, скорее всего, возникло во второй половине XVII в.
«Адабную» задачу своего труда автор «Повести об Исме
Ятиме» ясно излагает в предисловии к ней. Его произведение
призвано научить читателя «куртуазному» поведению, украсить его речь
изящными афоризмами, дать возможность ссылками на
прецеденты разрешать трудные вопросы и утешать в минуты печали.
«Повесть об Исме Ятиме» содержит все необходимые для
волшебно-авантюрного жанра мотивы. Здесь и брак государя с
царевной Мехран Лангкави, которая скрывалась в чудесном
сапфире, привезенном заморским купцом, и война с властителем Рума
Сафарданом, и спасение ожидающей ребенка царевны Мехран
Лангкави, которую старшая жена раджи из зависти обвинила в
попытке отравить государя, и многое другое. Однако в отличие
от автора «Повести об Индрапутре» для создателя «Повести об
Исме Ятиме» живые любовные сцены (одна из лучших среди
них — рассказ о том, как государь в полной темноте пытается
отыскать Мехран Лангкави по «дивному аромату»,
распространяемому ею), батальные эпизоды, описания различных чудес и
диковин — лишь необходимая канва, по которой он вышивает
узоры изящных назиданий.
Под стать этой установке и мудрый герой повести — Исма
Ятим, который отличается от большинства персонажей подобных
произведений тем, что он — не царевич, а литератор и советник
государя. Еще в детстве, пройдя обучение у наставника Суфиана,
Исма Ятим пишет повесть, которая с благословения родителей
тотчас становится настольной книгой его соучеников. Вслед за
тем он является к главному везиру и читает ему новое
произведение, сочиненное для государя страны Индра Патани. Везир,
восхищенный достоинством повести и ее изысканным слогом,
заверяет юношу, что она «ценнее золота и серебра», и ведет его к
повелителю. Тот, очарованный еще больше, принимает Исму Ятима
на службу. Отныне он пишет удивительные и назидательные сочи-
306
нения, «веселит душу» раджи всевозможными историями,
придумывает различные забавы, играет на музыкальных инструментах:
и, став «хранителем ковров и покровов», ткет государю
прекрасный ковер. Перечень всех этих искусств, которыми владел
придворный литератор, весьма характерен и многое объясняет в
особенностях художественного строя волшебно-авантюрных повестей.
Став государственным мужем, Исма Ятим неустанно проявляет
свою мудрость и вежество: миром улаживает военный конфликт с
Сафарданом, управляет страной на благо повелителю и
подданным, удерживает государя от безрассудных поступков и,
наконец, став опекуном дочери раджи, сменившей отца на престоле,
выдает ее замуж за царевича Индру Мемпелея, который, как и:
подобает просвещенному наследнику престола, делит время между
изучением богословских наук, воинскими забавами и занятием
изящными искусствами. При этом автор повести использует
всякую возможность, чтобы вложить в уста главного -героя или иных
персонажей наставления о свойствах идеального мужа и
идеальной жены (последнее «разыграно» как изысканная беседа фонаря,,
свечи, занавеса и павлина), о достоинствах государя, везира,
полководца, купца, об идеальном государственном устройстве и
знаниях, подобающих высокородному юноше. Как и во всей
литературе адаба, художественный и «учительный» элементы повести
неразрывно слиты, а назидания даются в афористической и
образной форме и легко запоминаются благодаря особым
мнемоническим приемам, к которым прибегает автор. Например,
запоминание свойств идеальной жены облегчено тем, что название
каждого из них совпадает с одной из букв слова «женщина»,
«Вскоре все обитатели дворца опочили подле ложа царевны, оберегая ее сон,,
и тогда промолвил подсвечник: „Послушай, фонарь, отчего до сих пор не
замужем все восьмеро твоих дочерей?" Китайский же фонарь завертелся на своей
нити, дивно зазвенели колокольчики из безоаров, и так ответствовал он, кружась:
„О подсвечник, нелегко выдать дочь замуж, ибо многими совершенствами должна
обладать женщина. Недаром по-малайски именуют ее перемпуан и пишут сие
слово шестью буквами — па, ра, мим, па, вав и нун".
Услыхав, что фонарь с подсвечником беседуют меж собой, пробудились
царевна и Деви Рум Дираджа, и дочь Исмы Мантри, приподнявшись, уселась на
ложе и стала прислушиваться. Подсвечник же, светильник, лампа и занавес в та
время спросили: „О фонарь, поведай, в чем совершенства женщины, дабы мы
узнали о них". Молвил фонарь: „Совершенство, имя коего начинается буквой па,
в том, что женщина должна подходить мужу и не говорить того, что он бы
не сказал, дабы не было меж ними разлада". Услыхав ответ фонаря, павлин
вышел из сапфира и сказал: „Воистину справедливы речи фонаря, что напомнили мне
такой пантун:
Сова и ржанка над полем летают,
Где Тун Али соломы припас;
Сядут и встанут как подобает —
Всяким движеньем радуют глаз.
В нем же под словами „как подобает" следует разуметь — во всем подходят
друг другу". Дивясь речам фонаря и пантуну павлина, царевна улыбнулась, а
Деви Рум Дираджа вынула из уха серьгу и записала на ней все, что сказал
фонарь.
Фонарь вновь заговорил и молвил: „Совершенство, имя коего начинается
буквой ра, в том, что женщина должна быть радушной, приветствуя
20*
307
мужа и привечая его слуг. Такая жена любезна мужу. А совершенство, имя коего
начинается буквой мим, в том, что женщина должна быть собою мила, дабы,
когда муж взглянет на ее прелестное лицо, его душа преисполнилась страсти.
Унылый же лик страсть угашает. Таково значение буквы мим11. Услыхав те слова
фонаря, молвил павлин: „Воистину справедливы твои речи, слушая их, я
припомнил царицу Балию Дари. При встрече с государем просветлело ее прекрасное
лицо, и она молвила: „Нет у меня ничего, дабы тебе поднести, лишь прелестный
лик и приветливое слово — мой дар повелителю". Сказали подсвечник,
светильник, лампа и занавес: „Воистину справедливы твои речи, продолжи их — мы
хотим слушать". Царевна же подумала: „Верно говорит фонарь; оттого и дядюш-
жа, главный везир, не выдает меня замуж, что я не знаю пока о всех
совершенствах женщины". И царевна весьма обрадовалась и более не задремывала, слушая
рассказ фонаря, а Деви Рум Дираджа записала все, что он говорил...
Так фонарь перечисляет все шесть женских достоинств и
заканчивает свою речь следующими словами:
„...И женщина, постигшая смысл сих букв, именуется вежественной, ибо не
напрасно даровал их ей Всевышний, когда создал Еву и нарек ее перемпуан.
А к этим шести совершенствам Он прибавил другие шесть, коих суть: первое —
вера в Аллаха, второе — покорность Ему, третье — познание Его тайн,
четвертое— исповедание Его единства. О двух же последних совершенствах я должен
умолчать, ибо они сокровенны. Итак, у женщины двенадцать достоинств, и
ежели она сведуща во всех, то именуется совершенной"» [134, с. 153—155; 168,
с. 124—127].
Любопытно, что, как видно из упоминания сокровенных
совершенств в этом фрагменте и из ряда других мест текста, в
«Повести об Исме Ятиме» вновь встречаются суфийские мотивы,
однако автор, объясняя, что не желает отбивать хлеб у духовных
наставников (а скорее ввиду явно светской дидактичности его
сочинения), отказывается их комментировать \ 134, с. 154].
2. ОБРАМЛЕННЫЕ ПОВЕСТИ
Повесть о мудром попугае.
«Это — повесть, составленная из рассказов мудрого попугая, кои несказанно
прекрасны по своему строю и принесут пользу всем, кто станет их слушать. Ибо
попугай был весьма искушен в историях о государях и людях, явивших
преданность тем, кто был к ним милостив; рассказывал же их красноречиво, будто
человек» (20, с. 83].
Такими словами открывается одна из рукописей малайской
«Повести о мудром попугае», представляющей собой переработку
знаменитой персидской «Тути-наме» («Книги попугая»)20, точнее,
той неизвестной пока ее версии, которая была рассказана в
1371 г. неким кади Хасаном в поучение своим сыновьям. Итак,
перед нами еще одно произведение, предназначенное, «развлекая,
поучать», причем не только детей почтенного кади, но и особ куда
более значительных. Например, среди восьми историй «Врат
разума для вельмож» — сочинения, которое султан малайского
княжества Патани поведал в назидание своему главному везиру Фи-
русу, четыре были заимствованы из «Повести о мудром попугае»
[19, с. 141].
Однако по своей композиции эта повесть резко отличается от
308
произведений волшебно-авантюрных, даже тех, что, подобно
«Помести об Исме Ятиме», буквально пронизаны дидактикой.
Важнейшее из отличий состоит в том, что части произведения не
примыкают друг к другу в линейной последовательности,
стержнем которой является жизненный путь героя или путь его
скитаний, но включаются в организующий повесть в единое целое
рассказ-рамку. Содержание его таково.
У богатого купца Ходжи Мубарака рождается сын — Ходжа Маймун.
Возмужав, юноша женится на красавице Биби Зайнаб и, позабыв о торговых делах, все
дни проводит в любовных утехах. Как-то раз он покупает на базаре редкостного
попугая, наделенного даром речи и умением предсказывать будущее, а через
несколько дней — в пару ему майну. Птицы неизменно тешат Ходжу Маймуна
диковинными историями и однажды заводят с ним разговор об увлекательности
морских странствий. Молодой купец, очарованный их рассказами, решает
снарядить торговый корабль и попытать удачи в заморских странах, жену же
препоручает заботам обеих птиц. В отсутствие мужа Сити Зайнаб влюбляется в
прекрасного царевича и, собираясь на свидание с ним, просит на то согласия у
майны. Майна стремится ее удержать, и Сити Зайнаб в гневе убивает птицу.
Попугай же, решив спасти не только свою жизнь, но и честь хозяина,
прикидывается, что одобряет решение госпожи, и говорит, что его судьба напоминает ему
участь другого попугая, которому хозяйка выщипала перья. Любопытная Сити
Зайнаб спрашивает, как это было, попугай начинает рассказывать, и жена
купца, увлеченная рассказом, забывает о своем намерении, а тем временем
наступает утро и свидание откладывается. День за днем попугай рассказывает ей
всевозможные истории, покуда купец не возвращается и Сити Зайнаб не избегает
опрометчивого поступка.
В итоге книга, состоящая из рамки и двадцати пяти21 (иногда
двадцати четырех) рассказов22, слагается в подлинную
энциклопедию житейской и государственной мудрости, композиция
которой значительно лучше, чем композиция «Повести об Исме
Ятиме», приспособлена для решения задач, ставившихся литературой
адаба. Дело в том, что искусная уравновешенность
повествовательного и дидактического начал в «Повести об Исме Ятиме» все
же не создавала читателю наиболее благоприятных условий для
восприятия важнейшего в ней — «учительного» смысла. Динамика
«пути героя», еще явно далекого от завершения, и ожидание все
новых перипетий и «несказанно прекрасных» описаний не могли
не отвлекать от восприятия наставлений. Эти наставления, отнюдь
не всегда иллюстрируемые развитием действия, которое они
тормозили, нагнетали интерес скорее к дальнейшим событиям, чем
к собственному содержанию. Иначе обстояло дело в обрамленных
повестях. Прежде всего их рамка была достаточно проста,
условна и разрывалась однажды — в момент кульминации, на
разрешение которой вставные новеллы отчасти затягиванием времени,
отчасти самим содержанием непосредственно влияли. Далее по
завершении каждой вставной новеллы читатель вновь и вновь
возвращался в одну и ту же точку обрамляющего рассказа, и, таким
образом, время внутри этого рассказа останавливалось ,[204,
с. 213—214]. Все застывало, и воцарялась сосредоточенная, ничем
не отвлекаемая тишина, своего рода «тишина классной комнаты»,
в которой высвечивались лишь фигуры рассказчика и слушателя.
309
Так создавались условия для концентрации внимания на
вставных новеллах, дидактичность которых подчеркивалась самим их
характером. Ведь в отличие от обрамляющего рассказа или
эпизода «линейной повести» они предназначались не для изображения
так или иначе складывающейся судьбы героя, но для выражения
определенной, часто наперед сформулированной идеи, чьим
«ожившим» воплощением вставные новеллы и становились. Разумеется,
структура, которая обусловливала именно такое распределение
внимания, как и способность рамки включать в себя самый
разнородный материал, прекрасно соответствовала целям адаба.
«Повесть о мудром попугае» (она же «Повесть о ходже Май-
муне», «Повесть о ходже Мубараке») была, по-видимому,
наиболее ранним образцом обрамленной повести в малайской ли*
тературе. Судя по бодлеянской рукописи (Рососке 433),
относящейся примерно к 1600 г., она появилась едва ли позднее
середины XVI в. [196, с. 139—140] и по составу вставных новелл
существенно отличалась от известных персидских версий,
предшествовавших ей23. Э. Джонс, исходя из описания социальной
среды, в которой разворачивается действие повести, и особенностей
присущей ей этической концепции, высказал предположение, что
это произведение возникло не во дворце, а в купеческих
кварталах, возможно, в результате записи устного сказа {372, с. 313].
Эта любопытная гипотеза, однако, никоим образом не может пока
считаться доказанной.
Повесть о Бахтиаре.
В некой стране правит справедливый государь. Однажды он узнает, что era
брат собирается против него восстать, и, не желая кровопролития, вместе с женой
тайно удаляется в непроходимые джунгли, Здесь у государыни рождается
младенец редкостной красоты, распространяющий окрест дивное сияние. Несчастным"
родителям приходится оставить сына в лесу на милость Аллаха, а самим
продолжить путь. Мальчика же подбирает купец Идрис, усыновляет его и нарекает Бах-
тиаром. Долго странствуют супруги и наконец приходят в страну, повелитель
которой только что скончался. Вельможи решают выпустить слона, чтобы off
отыскал им нового государя, и слон останавливает свой выбор на радже-беглеце.
Меж тем Бахтиар подрастает, превосходит искусство чтения Корана,
обучается письму и становится знатоком старинных повестей. Как-то раз Идрис
приводит приемного сына к государю. Красота и изящные манеры настолько era
очаровывают, что государь принимает Бахтиара на службу. При дворе Бахтиар,,
мудро разрешающий самые трудные государственные дела, удостаивается не
только любви государя, но и ненависти его советников, особенно завистливого везира
Тахкима. Чтобы оклеветать юношу, тот уговаривает свою жену похитить шаль-
любимой государевой наложницы и подбросить ее Бахтиару. Ни в чем не
повинного юношу обвиняют в связи с наложницей и бросают в темницу. Тахким
требует его казни, и тогда Бахтиар, чтобы ее отсрочить, рассказывает повелителю*
пять (в некоторых списках — четыре) историй. Тем временем во дворец приходит
Идрис и сообщает государю о том, как он нашел в лесу Бахтиара. Государь
узнает сына и возводит его на престол [158].
Таков рамочный рассказ краткой версии малайской «Повести
о Бахтиаре», возникшей, как можно полагать, во второй
половине XVI в. в султанате Джохор под влиянием персидской «Бах-
310
тиар-наме» («Книги о Бахтиаре») 'Т196, с. 150]. Однако даже
рамочный рассказ малайской повести лишь в самых общих чертах
повторяет персидский прототип, в котором царь Азадбахт
покидает страну, потерпев поражение в битвс с восставшим
военачальником, а затем вновь воцаряется в ней, оставленного в пустыне
царевича находят и воспитывают разбойники, обвинение Бахтиа-
ру мотивировано тем, что, в опьянении перепутав двери, он
засылает на ложе государя, а смертного приговора для него требуют
по очереди десять везиров (см., например, )[27, с. 5—150]). В ней,
таким образом, отсутствуют и излюбленный в малайских повестях
рассказ об избрании государя мудрым слоном, и история шали —
своеобразная малайская версия «платка Дездемоны». Да и сам
мотив незаконной любовной связи дан в более соответствующем
малайской традиции духе. Если к этому добавить, что ни одна
вставная новелла краткой версии не встречается в персидском
произведении или в его арабских обработках, самобытность
малайской повести станет совершенно очевидной24.
В отличие от многих других обрамленных повестей связь рамки
и вставных новелл в краткой версии на редкость органична, что
придает повести подлинную целостность. Характерное для нее
сцепление идей, таких, как переменчивость судьбы, необходимость
продуманных и неспешных решений, недопустимость
прислушиваться к наветам придворных, конечное торжество справедливости,
выражается во всех частях повести, обнаруживающих
ассоциативную перекличку и высвечивающих то одну, то другую грань темы.
Уже сама рамка с ее мотивами несправедливого изгнания
государя, мытарств беглеца, его воцарения и торжества над
покаявшимся в конце концов братом исподволь предсказывает коллизию
Бахтиара. Далее следуют рассказы о наказании везиров,
стремившихся оклеветать неповинных людей перед царем, и наконец —
четвертая встав-ная новелла, заимствованная из индийской по
происхождению «Повести о махарадже Пуспе Вирадже», в
которой не только осуждаются поспешные решения, но и описываются
события, сильно напоминающие историю самого Бахтиара и его
отца, их разлуку и встречу. Причем рассказывается она накануне
финальной сцены узнавания государем сына.
Несмотря на совпадение некоторых новелл (история о
птицелове, история о купце и его мудрой жене), длинная версия
«Повести о Бахтиаре» резко отличается от краткой как по
содержанию, так и по композиции [302; 62]. Дата ее возникновения
неизвестна, однако, судя по использованным источникам, она не
могла появиться ранее второй половины XVII в. Длинная
версия напоминает персидский прототип не более, чем краткая.
Начинается длинная версия с нападения на справедливого царя
Туркестана жестокого правителя сопредельной страны,
поражения справедливого владыки и его бегства с женой в джунгли, где
государыня рождает Бахтиара. Последние эпизоды выдержаны
в духе «лесных сцен» из повестей о Панджи. Затем мор
уничтожает войско тирана, и государь вновь восходит на престол. Бахтиара
311
находит пастух Расдас, приводит юношу к отцу, который его
не узнает, и тот принимает Бахтиара на службу. Любопытно, чта
герой длинной версии еще более, чем краткой, напоминает Исму
Ятима. Он также весьма образованный знаток адаба, также «с
порога» начинает наставлять государя, также убирает коврами его
приемный зал и т. д.
Как и в краткой версии, завистливый везир с помощью жены
оклеветывает Бахтиара, и тот, уповая, что его невиновность когда-
нибудь обнаружится, просит государя не спешить с казнью и
рассказывает ему уже не пять, а шестьдесят семь или даже сто пять
[513, с. 374—375] историй, значительная часть которых
заимствована из «Повести о мудром попугае», зерцал «Корона царей» и:
«Сад царей», а также Корана, хадисов, преданий об арабском
поэте и острослове Абу Нувасе, халифе Харуне ар-Рашиде и т. д-
Наряду с сюжетными рассказами длинная версия содержит и
инструкции по различным вопросам, например о том, как государю-
следует заботиться о своем здоровье <\62, с. 95—96].
Таким образом, перед нами, по существу, не компактная,
гармонично построенная повесть, подобная краткой версии, но
объемистое зерцало для правителей, охватывающее широкий круг тем
(в первую очередь тему справедливого и несправедливого
правления). Роль рамочного рассказа сведена до минимума — он
превращен лишь в средство организации разнородного материала,,
причем по временам государь, как кажется, забывает, зачем Бах-
тиар к нему приведен, и сам просит рассказать о том или ином?
аспекте правильного поведения. Эти «заголовки»-вопросы
несколько напоминают заглавия тематических разделов в обычных
зерцалах.
Существует, наконец, и третья малайская версия истории
Бахтиара — «Повесть о Голаме», известная также под названием
«Повесть о радже Азбахе» и «Повесть о Заде Бахтине» ,<Г196,
с. 155—158]. Это произведение, упоминаемое Верндли в 1736 г.
и датируемое Р. О. Уинстедтом XVII в., как рамочным рассказом,,
так и набором вставных новелл соответствует ближневосточным
вариантам. Один из списков (Лейден Cod. Or. 1718 i[17, с. 154])
сообщает, что «Повесть о Голаме» была переведена с арабского
языка неким Абд аль-Ваххабом из Сиантана. И действительно, по*
рядок вставных новелл в ней точно совпадает с тем, который
обнаруживается в рукописи «Тысяча и одной ночи» Рейхарта [27у
t. 165] (но не в ее бреслауском издании, с которым сопоставляет
повесть Р. О. Уинстедт), и, таким образом, «Повесть о Голаме»
восходит к арабским, а не к персидским вариантам «Бахтиар-
наме».
Обрамленные повести легко обменивались вставными
новеллами. Не только длинная версия «Повести о Бахтиаре» содержит
шестнадцать историй из «Повести о мудром попугае», но и
малайская обработка «Калилы и Димны» включает почти все рассказы
«Повести о Голаме». Значительная самостоятельность вставных
новелл на следующем этапе эволюции привела к созданию анто-
312
логий, вообще лишенных рамочного рассказа, заимствующих
материал из обрамленных повестей, зерцал и других источников, в
частности из исконно малайской повести о мышином оленьке-пе-
ландуке или канчиле. Так постепенно формировался обширный,
открытый и подвижный фонд кратких дидактических историй и
притч, знание которых в малайском мире, как и в других странах
мусульманской культуры с ее мышлением прецедентами,
считалось непременной обязанностью образованного человека.
3. ЗЕРЦАЛА
Бухари аль-Джаухарй (или Джохори). Корона
:ц а р е й. После падения Малакки наиболее могущественным
государством малайского мира становится северосуматранский
султанат Аче — важнейший центр малайской культуры и
мусульманской образованности, наследник литературной и теологической
школы Пасея. По-видимому, не кому иному, как ачехскому
султану Алааддину Риайат-шаху (годы правления 1589—1604),
увлекавшемуся суфизмом и получившему посмертный титул Владыки
Совершенных, и было преподнесено написанное в 1603 г. зерцало
«Корона царей» [396, с. 154—155], подобно тому как за несколько
лет до этого суфийская поэма «Наука о женщинах» i[61, с. 12—14].
Немногие малайские сочинения могли сравниться
популярностью с «Короной царей». Ее раздел о физиогномике помог
ачехскому султану-завоевателю Искандару Младшему увидеть в
пленном царевиче Паханга будущего наследника престола, а
писателю-просветителю XIX в. Абдулле Мунши — проникнуть в
характер британского губернатора Сингапура Т. С. Рэфлса. К ней
обращались придворные, чтобы узнать, при каких условиях
женщина может наследовать престол J362, с. 112—ИЗ]. Собранные
в ней назидательные рассказы разошлись по всевозможным
антологиям, зерцалам и обрамленным повестям, а афоризмы и
наставления проникли в волшебно-авантюрные хикаяты и хроники.
В самой книге, а точнее — компиляции, ибо «Корона царей»
черпает материал более чем из десятка сочинений, ее автором
назван некий Бухари аль-Джаухари (т. е. ювелир из Бухары), или
Бухари аль-Джохори (т. е. бухарец из малайского султаната
Джохор). При этом «Корона царей» явно обнаруживает персидское
влияние в языке, обладающем не только общими чертами китаб-
ного стиля, но и специфическими «переводизмами», а также в
манере изложения и составе источников. Среди них мы находим
«Сийар аль-мулук» знаменитого везира Сельджуков — Низам аль-
Мулка (написано около 1092 г. и доработано другим автором
около 1106 г. |[44] ) ; трактат по этике «Ахлак-и Мухсини»
Хусейна Кашифи, созданный в 1494 г., множество персидских и
арабских книг по искусству политики и адабу государей, везиров и т. д.,
исторические сочинения, «Китаб аль-асрар» («Книга тайн») Фа-
ридаддина Аттара (написана незадолго перед 1188 г. i[65, с. XX]),
313
а также какие-то версии персидских «романов» о Махмуде и Айя-
зе, Хосрове и Ширин, Юсуфе и Зулейхе.
Остается неясным, однако, являлась ли «Корона царей»
переводом персидского зерцала, выполненным анонимным малайским
книжником, как считали Ф. ван Ронкель [457] и вслед за ним
Р. О. Уинстедт/[196], или она была скомпилирована образованным
бухарцем, имевшим какое-то отношение к Джохору и знавшим:
малайский язык (к этой точке зрения близок индонезийский
исследователь Т. Искандар |[362, с. 109—ПО]). Языковые и
стилистические аргументы, естественно, не позволяют разрешить эту
проблему, так как персидские черты зерцала могут восходить как
к переводчику, так и к компилятору. Персидский же оригинал
«Короны царей» пока неизвестен. Судя по одной из новелл î[133„
с. 149—150], в которой со ссылкой на некий «Китаб та'рих»
рассказывается о могольском правителе Хумаюне (годы правления:
1535—1556), этот оригинал, если он вообще существовал, должен:
был появиться, скорее всего, после 1556 г. т. е. менее чем за
полвека до малайского перевода. Р. О. Уинстедт полагал, что,
поскольку в XVII в. у малайцев не было прямых связей с Ираном,
они «могли заполучить оригинал только через Индию» {196,,
с. 163]. Учитывая тесную связь мусульманской Индии со
Средней Азией в XVI—XVII вв. и особенно активные литературные
контакты с Бухарой [232], вполне вероятно как проникновение
оттуда к малайцам персоязычного текста, так и приезд бухарца
через Индию в Джохор или Аче.
Не решает дела и замечание Ф. ван Ронкеля о том, что есле
нисбу автора читать как Джохори (а не джаухари — «ювелир») *
то лишатся смысла его стихи:
Эта книга воистину корона,
А всякое слово ее — драгоценный камень...
Если перед вами драгоценность,
То ясно, что я — ювелир (джаухари).
Бухари явил себя ювелиром
В тех украшениях, которыми он убрал корону |[133, с. 6—7].
Здесь, возможно, поэт прибег к игре слов (Джохори —
Джаухари), сходно звучащих и одинаково пишущихся в арабской графике»,
«скрыв» одно слово в другом (ср. [300, с. 83]), тем более что
еще Рауфаер возводил этимологию топонима Джохор к джаухари
(«драгоценность», «жемчужина») [362, с. 108]. Таким образом,,
вопрос о происхождении «Короны царей» пока остается открытым..
Как бы то ни было, составитель или переводчик явно
стремился приспособить книгу к запросам своей аудитории, сравнив,
например, величие государя с малайским кинжалом-крисом или
противопоставив «Корону царей» «лживым повестям», которыми
по неведению увлекаются малайцы. В то же время, желая
познакомить читателей с арабо-персидскими литературными формами,
а заодно продемонстрировать образованность и мастерство, он
создал произведение, включающее значительные фрагменты, напи-
314
санные рифмованной прозой — саджем, а также поэтические
вставки в арабо-персидских жанрах рубай, маснави, кита и т. д.25.
Большое искусство и эрудицию проявил Бухари в
канонически-правильном построении каждой из двадцати четырех глав
своей книги. Авторитетность и достоверность интерпретации той или
иной темы в большинстве из них обосновывается возведением ее
•трактовки к тому или иному стиху Корана или, реже, хадису —
священным текстам, в которых, по мусульманским
представлениям, явлена полнота истинного знания. Лишь в последних главах,
разъясняющих периферийные темы, подобное обоснование
отсутствует. После сакральной санкции следует изложение' темы,
представляющее собой, по сути дела, комментарий к цитате из
писания или предания, призванный правильным образом развернуть
леред читателем многообразие и ситуационную определенность
смыслов, скрытых в божественном слове — неизменном
прообразе сущего |[ср. 269, с. 10—11]. Это комментирование в сниженном
виде повторяет акт Творения, в процессе которого из
«неизменных сущностей» вещей рождается изменчивое многообразие
конкретных явлений.
Комментирующие части глав слагаются из разнородных
элементов: определения рассматриваемого понятия, нередко
сводящегося к истолкованию его этимологии, прямых рассуждений о нем
(авторских или заимствованных из различных источников),
изречений мудрецов, афористически его разъясняющих, перечней
свойств, которыми-оно должно обладать26, и, наконец, серии
художественных миниатюр — рассказов, посвященных
рассматриваемой теме. Значение этих рассказов отнюдь не ограничивается
иллюстрированием заранее сформулированного положения. Зачастую
именно эти рассказы и составляют основу комментария, ибо в
совокупности очерчивают общие контуры объясняемого понятия и
тем самым определяют его без помощи логических операций, а
по отдельности позволяют непосредственно «созерцать»
различные аспекты понятия в конкретных образах и «переживать» их как
нечто, вызывающее душевный отклик, что было бы невозможно
•при чисто логическом подходе. Именно в комментировании
посредством рассказов, дающих к тому же авторитетные образцы
правильного и неправильного поведения, особенно ярко проявился
средневековый взгляд на знание, понимавшееся не как абстракция,
отделенная от личности познающего, но как начало
пронизывающее и преобразующее все его существо — мысли, чувства и волю
в их нерасторжимости.
Наконец, главы или самостоятельные по смыслу разделы глав
завершаются стихами, в лаконичной и удобной для запоминания
форме обобщающими уже сказанное. Так, отправляясь от корани-
ческого стиха и пройдя этап своеобразного комментаторского
развертывания, рассуждение вновь сжимается в формулу-стих, но уже
авторский.
Примером описанной конструкции может служить глава о
разуме, дающая представление о садже «Короны царей»27.
315
«Говорит Всевышний: „Бойтесь Аллаха, о обладатели разума". В арабском
языке существует множество слов для выражения понятия „разум", из коих
самое известное — акл. И люди сведущие возводят это последнее к слову икал,.
что по-арабски означает пещеру в горе высочайшей, до которой добраться
невыразимо трудно. Сверх же того, арабы обозначают словом икал нечто прочное.
А Пророк, наделенный совершенством разума, указуя на его величие, сказал:
„Вначале Аллах сотворил разум"...
Семь признаков человека, чей разум лишен изъянов, таковы. Во-первых, такой"
человек творит добро тому, кто содеял ему зло, услаждает его душу и прощает
обиду. Во-вторых, являет смирение перед всеми, кто ниже его по сану, и потому
стяжает славу у тех, кто его по сану выше. В-третьих, с усердием исполняет и
без промедления ускоряет всякое благое дело и всякое достохвальное свершение.
В-четвертых, питает ненависть ко всякому злому деянию и всякому дурному
человеку. В-пятых, неизменно призывает имя Всевышнего, и испрашивает у него-
отпущения грехов, и помнит о смерти и погребении. В-шестых, ведет речь так,,
что всякое слово его являет знание и ясность, своевременность и уместность.
В-седьмых, во всяком затруднении полагается на милость Аллаха и пребывает
в непреложной уверенности, что Господь может облегчить ему всякий труд, ибо
для него ничто не трудно. И потому во всех тяготах он просит у Него помощи
и пред Ним повергается ниц, что Его милосердие не знает границ.
Рассказ. Рассказывают, что во времена государя Нуширвана Справедливого
жил мудрец, прославленный своим вежеством и познаниями. И этот мудрец,
преподнес Нуширвану послание, в коем свойства разума изъясняли так государю-
писал: „О Нуширван Справедливый, знай, что разум в душах людей подобен-
дневному светилу, что в небесах восходит и когда лучами его вселенная
озарится, тому, что в ней пребывает, от света его не скрыться, а тем, кто при
свете идет, с пути никогда не сбиться. Тому, кто разумом наделен, различие^
между добром и злом раскроется столь же ясно, как в ярком свете меж белым
и черным грань. Итак, возвеличивай разум, совершенным владыкой стан ь!"'
Когда Нуширван прочел то послание, он был восхищен безмерно
наставлениями мудреца и ему отвечал словами, от коих ликуют сердца: „О мудрец,
достославны речения твои и превосходны твои слов<а, что преумножат радость,
тех, кто разумом обладает. О мудрец, владыки, что правили прежде,
облекались в разума одежды, кои правление их украшали, придавая всем делам
совершенство. Как же мне на разум восстать, когда он — истины древо, и как
удалиться мне от него, когда он Всевышнему ближе всего? О мудрец, кто
разумом наделен, воистину словно древо, что прекраснейший плод рождает, и, покуда
оно приносит прекрасный плод, слава его в глазах людей растет, любовь к
доброму древу всеми овладевает, влечение к нему души переполняет,
а его прельстительный вид все сердца услаждает. Тот же, в ком разума нет,,
словно бесплодное древо, что не стяжает славы в глазах людей, никому не
согреет душу красотою своей, чей жалкий удел — тщета до конца его дне й*.
И древо такое срубают, в горящий костер ввергают и поспешают прочь,
ибо пламя его обжигает. Таков же разумный и тот, кто разумом не о б-
л а д а ет"...
Некий мудрец спросил у Бузурджмихра: „Что всего нужнее людям?" Бу-
зурджмихр ответствовал и сказал: „Всего нужнее им разум". Тогда вновь
спросил мудрец: „А где предел разума?" Бузурджмихр ответствовал ему и сказал?
„Как можно указать предел того, в чем никто не достиг предела"...
Разум, укрепившийся в теле человека, подобен государю, пребывающему во
граде своем и окруженному рабами, готовыми исполнять его повеления. И те
рабы — сообразительность, понимание, мышление и воля — ублажают душу, она
же умиротворяет плоть и украшает ее. Ибо душа в теле подобна светильнику в-
доме, озаряющему тот дом своим светом. И обладатель разума не ведает печали,,
ибо не совершает поступков, последствия которых огорчительны...
В книге „Свойства разума и разумных" говорится, что бытие человека
подобно процветающей стране, государь коей разум, везир — рассуждение, гонец —
язык, послание его — речь, и по тому, каковы деяния гонца и как он ведет речь,
узнают о достоинствах государя и о добродетельности его правления,, подобна
тому как сказал Бухари:
316
Маснави
О мудрый, поведать настала пора,
Что разум — воистину древо добра.
Благое деяние — разума плод,
Иная дорога к нему не ведет.
Разумный — богат, неподвластен нужде,
А кто неразумен — живет в нищете.
И если все тайны постиг ты, о раб,
Но разумом несовершенен и слаб,
Вовек не прославится имя твое,
И смысла лишится твое бытие.
Взыскуя богатства, и славы, и сил,
Молитесь, чтоб разум ваш путь озарил.
Господь, прибегает к тебе Бухари,
Величием разума нас озари» (133, с. 169—177].
Предлагающая полный курс государственной мудрости и, как
правило, счастливо избегающая мелочной регламентации каждога
поступка, что нередко свойственно мусульманским зерцалам,
«Корона царей» не только по структуре отдельных глав, но и по
общему содержанию представляет собой единое целое,
организованное проходящей через весь текст центральной идеей — идеей
справедливости (адилат). Идея эта композиционно реализуется
не только в «последовательном сужении» — развитии от более
общего и единого к более частному и множественному, но и в ее
«фокальной» позиции в книге. Подобно персидской газели, которая:
«связывает воедино, слО)В1но в фокусе собирает пучки образов и
оттенки слов, относящиеся к изображаемой теме» \[258, с. 263],
«Корона царей» стягивает все многообразие обсуждаемых предметов
к «фокальной» точке — идее справедливости.
В первом разделе, состоящем из четырех глав (о
самопознании, постижении Творца, сущности земной юдоли и «последнем
вздохе в час смерти»), в суфийском духе дается религиозное
обоснование концепции государства и его средоточия —
справедливого правителя. Величие человека в том, что в его существе сокрыт
прекрасный и совершенный образ Творца. Благодаря
самопознанию он может яв!ить этот образ миру, став совершенным
человеком, которому Аллах предназначил сан своего 'наместника. Мир
при всей его изменчивости и бренности не есть нечто абсолютно
лишенное ценности и смысла. Он место испытания, где
поступки людей определяют их муки или блаженство в вечной жизни.
Самая жестокая кара ожидает несправедливых правителей, ибо*
государь, несущий в себе образ Творца и призванный быть Его
тенью на земле, должен подражать Всевышнему в благости и
милосердии. Подобно Аллаху, которому ведомы «воздыхания
ничтожного муравья, пребывающего ниже седьмой земной сферы» [133г.
с. 32—33], и который тотчас же устремляется « «ему «а помощь,,
государь обязан знать о бедах любого из своих подданных и быть
готовым поддержать его. Несправедливость же и тирания — бунт
против Творца и гармонично сотворенного им космоса. Таким
образом, понятие справедливости приобретает в «Короне царей» не
только этическое, но и онтологическое значение.
317
В следующем разделе из пяти глав (о сане государя,
справедливости и справедливых деяниях, нравах справедливого царя,
справедливых правителях-«неверных», тирании и деяниях тиранов)
концепция справедливости конкретизируется и развивается уже в
социальном плане. Необходимость строго следовать ей делает
бремя власти столь тяжким, что первоначально оно было
возложено на пророков, руководимых непосредственно Аллахом, а от
них перешло к государям. На многочисленных примерах из жизни
пророков, сподвижников Мухаммада, арабских халифов, царей
Ирана, Китая и т. д. (их список см. в [396, с. 186—187]) Булари
рассматривает разнообразные аспекты справедливости,
выступающей как самоотреченная, чуждая гордыни и своекорыстия,
нередко требующая суровости забота о благополучии подданных и
законном устроении государства. При этом вновь и вновь
подчеркивается неизбежность божьей кары, постигающей
царей-притеснителей за гробом, а иногда еще и при жизни, и грозная сила
молитвы угнетенных, даже если они не мусульмане.
Все эти идеи сконцентрированы в одной из наиболее
выразительных новелл книги — истории об огнепоклоннике (зороастрий-
це) и правителе Басры, которая по стилю чрезвычайно
характерна для сюжетных рассказов «Короны царей».
«Рассказывают, что в лета отдаленные в городе Басра правил государь,
своевластие коего не знало предела и с коим в те времена ни один из владык
подлунного мира в жестокости сравниться не мог. На дороге, по которой люд
отовсюду стекался по делам в Басру, он устроил заставу из рабов своих, дабы со
всех проходящих по дирхему взимали, и всякого, кто в город или из города шел
и дирхема того не платил, через заставу не пропускали.
А еще говорят, что в ту пору жил в Басре некий огнепоклонник,
прозябавший в крайней нужде и не имеющий иного достояния, кроме вьючного осла, на
.коем поклажу в доме доставлял и тем пропитание добывал. Когда же случалось
работы не находил, день, а то и два голодал вместе с женой, что непраздна была
л потому работать на людей не могла и хлеб зарабатывать свой. И вот, гонимые
голодом и нуждой и сил не имея, чтобы их превозмочь, те муж и жена решили
с Басрой проститься и в место иное переселиться. Видя же, что беременной его
жене пешком идти невозможно, муж на осла ее усадил и, поддерживая
осторожно, пустился в путь себе на горе и вскоре заставы достиг, где со всякого, кто
проходил мимо, по дирхему взимали неумолимо.
Когда же со стражами поравнялся, те с него стали два дирхема просить,
а он, не зная, как быть, им о нужде своей рассказал, и невзгоды свои, описал,
и сказал, что от голода страждет, и потому вместе с женою покинул дом, и в
леса и поля удаляется, чтоб пропитание добыть, и не может «м ни дирхема
заплатить.
Тогда молвили государевы рабы: ,„Раз так, плати четыре дирхема, и мы
отпустим тебя восвояси". Ответствовал огнепоклонник: „Нет у меня ни единой
вещи, ценой хоть в дирхем, где же взять мне четыре? Если вы не дозволяете мне
пройти, я уж лучше возвращусь обратно". Молвили государевы рабы: „Тогда
заплати четыре дирхема за возвращение".
И огнепоклонник пришел в великое изумление, ибо не мог ни вперед ехать,
ни назад поворотить, и, задумавшись над деянием жестоким тех притеснителей,
долго не трогался с места, изнемогая от голода и усталости. Наконец решился
он былю вернуться в Басру, но тут государевы рабы на него напали и избили
немилосердно, а его беременную жену сбросили с осла, и она, упавши наземь,
выкинула мертвого младенца. И тогда огнепоклонник и жена его над участью
своей зарыдали, и некому было им пожаловаться на свое великое горе и удел
318
прискорбный. А стражники меж тем отрезали хвост у осла того огнепоклонника,,
его самого в толчки прогнали и от жены отторгли, а ее увели в свой дом. И
незнала жена, куда ее мужа прогнали, а муж не ведал, куда жену повлекли.
И жена огнепоклонника предалась печали и скорби, ибо с мужем ее
разлучили, и младенца лишили, и саму в доме тех притеснителей заключили. И, терпят
жестокие муки, о коих никто, кроме Господа ее, не ведал, она от великой обиды
возрыдала, и стала Господу жаловаться, и так взывала: „О Господь, Ты видишь
деяния злые притеснителей сих и ведаешь о судьбе горестной гонимой рабы
Твоей, ибо ничто от Тебя не укроется! Кому же, как не Тебе, мне пожаловаться, и?
кто, как не Ты, мучителям за меня воздаст?".
А покуда она так рыдала и душу Господу открывала, огнепоклонник,
проливая слезы, взял под уздцы осла, и отправился с ним в Басру, и вскоре достиг
ворот государева дворца. Наконец удалось ему к государю войти, и жалобу
принести на удел злосчастный, и рассказать беспристрастно о мытарствах, кои or
стражников претерпел, но государь своевластный и слушать о том не хотел,
слова его смехом встречал и так отвечал: „О огнепоклонник, нет в том беды, что у
осла твоего отрезали хвост, потерпи немного, он и заживет. В том же, что ребенок
твой умер, горя и того меньше: в доме стражей моих жену твою в миг
обрюхатят, и она тебе другого родит".
И едва лишь огнепоклонник те слова недостойные услыхал, всякое из них:
тысячу мук ему причинило, и душу дотла испепелило, и удесятерило тоску и
позор, так что он в горе безмерном, горе возведя взор и руки воздев к небесам,
молитву к Господу обратил и так возопил: „О Господь, сотворивший небесную-
твердь и все, что на ней пребывает, Ты слышишь речи сего государя злонравного
и видишь муки раба Твоего утесненного, и Ты — справедливый владыка, а
посему кому, как не Тебе, пожалуюсь на мою прискорбную участь, дабы Ты по своей5
справедливости сих притеснителей покарал праведной карой!"
И с теми словами огнепоклонник, горестно рыдая, зашагал прочь от ворот
дворца того жестокого государя, не ведая, куда идет, и не зная, где остановится.
И покуда шел, печалясь и скорбя, услыхал глас из мира незримого: „О
огнепоклонник, оглянись назад!"— и, оглянувшись, увидел, что по воле Всевышнего-
земля разверзлась и поглотила дворец государя вместе со всеми его везирами,,
и военачальниками, и теми, кто поблизости оказался. И там, где прежде стоял
дворец, клокоча, разлились воды черные, которые и доныне заполняют ту
впадину в старой Басре» [133, с. 106—109].
Главы о справедливых и несправедливых государях сменяются:
разделом о их советниках и должностных лицах (писцах,
посланцах, придворных), призванных укреплять повелителя в понимании:
долга, распространять его справедливые решения среди
подданных и с безукоризненной точностью доводить их до соседей. В
пяти главах этого раздела Бухари указывает на необходимость для
царя советоваться с мудрыми везирами, способными удержать его-
от необдуманных поступков; напоминает, что перо писца
могущественнее меча, что посланцам надлежит во всем следовать своему
идеальному образцу — посланнику Аллаха — Мухаммаду, а
вельможам — быть преданными государю, как юный тюркский раб
Аяз газневидскому султану Махмуду, но не забывать, что
придворный, по малодушию не удержавший властелина от
жестокости, предстанет в Судный день его соучастником. Завершается
этот раздел главой о правильном воспитании детей, которое и
формирует достойных слуг государя.
В следующем кратком разделе говорится о важнейших
добродетелях, которыми держится справедливость царя: великодушии ш
разумности. При этом именно разум, способный различать благое-
и дурное и научающий отвечать добром на зло, рассматривается
319
как главная опора справедливости. После подытоживающей главы
о качествах правителя, где справедливость получает еще одно
определение — не делать другим того, чего не желаешь себе,—
начинается раздел, состоящий из парных глав, посвященных более
частным вопросам: физиогномике, позволяющей верно судить о
людях и не допускать в отношении к ним несправедливости;
справедливому отношению к подданным — мусульманам и
«неверным» и, наконец, щедрости, недосягаемые образцы которой
являл йеменский араб Хатим ат-Таи, и верности слову. Завершает
Бухари свою книгу призывом к государям ежедневно читать
«Корону царей» после утренней молитвы, когда мысли особенно
ясны, и, помня, что она верный друг и советчик, «влагать ее слова,
точно жемчужины, в уши разума и сберегать их значения, точно
алмазы, в перстне души» .[133, с. 226].
Трудно судить, последовали ли государи Аче этому совету
автора «Короны царей», равно как трудно не заметить суховатого
ригоризма и определенной ограниченности суждений, порой
проскальзывающих в его книге. Однако нельзя не оценить
благородство слов Бухари о высоком достоинстве человека, разуме,
справедливости, веротерпимости, призванных смягчить нравы ачехских
правителей, тысячами избивавших «неверных», не гнушавшихся
лично участвовать в пытках и казни женщин и считавших ванну
из крови своих жертв лучшим средством от недугов [396,
с. 174—175].
Нураддин ар-Ранири. Сад царей. Второе
известнейшее малайское зерцало — «Сад царей» — было создано также в
Аче в 1638—1641 гг. по заказу султана Искандара П. Его автор—
шейх Нураддин ар-Ранири (о нем см. Г506; 508; 157; 325; 358; 91,
с. 2—10; 279, с. 12—17]), уроженец портового города Ранир в Гуд-
-Жерате, происходил из смешанной арабо-индийской семьи
религиозных наставников и ученых, поддерживавшей давние связи с
малайским миром. По-видимому, еще на родине овладев
малайским языком, получив основательное образование и став членом
суфийского братства рифаййа, Нураддин в 1637 г. прибыл в Аче,
где вскоре достиг высокого положения верховного кади —
«магометанского епископа», как его называли европейцы. В Аче
Нураддин создал множество сочинений по мусульманскому праву, тео-
.логии и мистицизму и аговел яростную борьбу с местными суфиями
крайнего монистического толка. В начале сороковых годов он
добился массового избиения «еретиков» и сожжения их книг,
которые не вполне понимал или, скорее, стремясь избавиться от
опасных конкурентов, влиятельных как при дворе, так и в
деревнях, не желал понимать [279, с. 14—16; 61, с. 31—65]. Однако в
1644 г. поверженные, казалось, противники взяли верх над
«виночерпием Аллаха», как именовал себя Нураддин {196, с. 172],
Vl вынудили его покинуть Аче [490]. Умер Нураддин в родном Ра-
нире в 1658 г.
Не исключено, что, создавая свое раннее произведение, «Сад
дарей» (его частичные издания см. [160; 91, с. 31—74]), не толь-
320
ко названием, но и тематикой целых разделов и множеством
отдельных новелл напоминающее «Корону царей», ар-Ранири, по
темпераменту страстный полемист, вступал в соперничество с~
предшественником, стремясь умалить авторитет его книги. Если
это так, то нельзя сказать, что его желание вполне осуществилось
[91, с. 4—5]. И все же новому зерцалу, призванному не только
наставить, но и прославить царственного покровителя шейха —
ачехского султана Искандара II, суждено было оказать
значительное влияние на малайскую культуру и литературу. Автор
«Повести о Ханге Туахе», например, описывая никогда не виданный
им сад турецкого султана, слово в слово скопировал рассказ Ну-
раддина о саде государя Аче [97, с. 455—460], один из редакторов
«Малайских родословий», пожелав украсить свою хронику
«парадным» предисловием, целиком заимствовал его из «Сада царей»
.[164, с. 35], а составители антологий адаба неизменно включали
новеллы и притчи шейха в свои сборники.
По содержанию (см. ,[354, с. 174—175; 396, с. 152—153]) «Сад
царей» представляет собой энциклопедическую компиляцию столь
грандиозную, что не сохранилось рукописей, включающих все семь
его разделов. Обычно они переписывались по отдельности или по
два, по три. Первый раздел книги, носящий название «Сотворение
небес и земли», повествует о создании Пророческого Света Мухам-
мада — источника всего сущего, Хранимой Скрижали, на которой
начертаны судьбы каждого из творений Аллаха, Вышнего Пера,
Престола и Трона Божия, ангелов, Хвалимого Знамени, джиннов
и Иблиса, Запредельного Лотосового Древа и семи небесных сфер.
Во втором разделе — «Пророки и цари» — излагаются деяния
пророков, начиная с первого человека — Адама и кончая
«вендом пророчества» — Мухаммадом, а также история государей
древнего Ирана, Византии, Египта (до времени Искандара
Двурогого), домусульманской Аравии и, наконец, самого Мухаммада
в его четырех сподвижников, распространивших ислам и
положивших начало новой исторической эпохе. Описанию этой эпохи
и продвижения ислама на восток посвящены пять следующих глав
раздела: история арабских халифов — Омейядов и Аббасидов,
султанов Дели, правителей Малакки и Паханга и в заключение —
султанов Аче, подлинным героем которой выступает Искандар П.
Еще четыре раздела книги, по характеру весьма напоминающие
«Корону царей», содержат рассказы о благочестивых царях и
мусульманских святых, в частности об Искандаре Двурогом и
Ибрагиме ибн Адхаме (раздел IV), о тиранах и. их лживых и
скудоумных приближенных (раздел V), о героях, прославившихся
милосердием и мужеством, о священной войне и походах пророка
Мухаммада (раздел VI). Наконец, в последнем, седьмом разделе
зерцала возвеличивается разум и излагаются основы различных
наук, в том числе физиогномики, медицины, учения о свойствах
женщин и т. д. Иногда этот раздел выделялся в особую книгу,,
получившую название «Сад постигших» [354, с. 175].
На фоне значительного сходства «Короны царей» и «Сада ца~
21 Зак. 147
321
рей» особенно заметны те черты, которыми различаются оба
произведения. Если компактное зерцало Бухари в целом написана
просто, популярно и эмоционально, то труд Нураддина выдает в
авторе прежде всего высокообразованного мусульманского
ученого, педанта и систематизатора. Однородному прозаическому
стилю Бухари, любящего порой блеснуть саджем, противостоит более
разнообразная и изощренная манера письма гуджератского шейха,
который, хоть и не прибегает к рифмованной прозе, без труда
переходит от напыщенной метафоричности панегирика к более
сухой, точной в деталях и датах хронике [91, с. 52—59 и др.], или
графически четкой новелле.
Вот образец его панегирического стиля:
«В ту пору (в момент восхождения на престол султана Искандара И.—
В. Б.) жители страны были подобны зелени, изнывающей от невыносимого зноя,,
но раскрылся зонт его могущества, и все они нашли укрытие в его сени и обрели
благодать в дождевых струях излившейся на них милости. От радости сердца
людей раскрылись, точно цветы, что, освеженные росой, распускаются поутру и
наполняют всю страну до самых удаленных ее уголков дивным ароматом. Тогда
повеял ветерок его счастья, воссияло солнце его славы, воздвиглось знамя его
могущества и затрепетал стяг его царственности. Весть о справедливости
государя и его бесчисленных совершенствах разнеслась по всему свету, и корабли из
множества стран прибыли в его гавань, так что процветание города Дар ас-Са-
лам преумножилось, яства безмерно подешевели и обитатели города зажили в
мире и благоденствии» [91, с. 44].
А вот пример стиля новеллистического:
«Рассказывал шейх Музни (да смилостивится над ним Аллах!) — ученик
Имама Шафи'и (да будет Аллах им доволен!): „Однажды ночью, когда ярко
светила луна, мы вместе с Имамом Шафи'и отправились прогуляться, вошли в
мечеть и увидели, что там спит несколько человек. Усевшись в уголке, мы предались
беседе, а в ту пору в мечеть вбежал незнакомец и принялся разглядывать лица
спящих. Когда же он вышел, Имам Шафи'и спросил у меня: „О Музни, знаешь
ли ты, кого он тут искал?" Я отвечал: „О Имам, мне это неведомо". Сказал Имам
Шафи'и: „Он искал беглого раба, абиссинца, кривого на левый глаз, который
сейчас заключен в темницу. Позови-ка его и расспроси". Я окликнул незнакомца
и, когда он к нам приблизился, спросил: „Скажи, что привело тебя в эту мечеть?""
Он отвечал: „Я разыскиваю своего беглого раба, абиссинца". „А каковы его
приметы?" — спросил я. „Он крив на левый глаз",— отвечал незнакомец. Тогда я
сказал: „О незнакомец, твой раб в темнице. Ступай к нему". Незнакомец поспешил
в темницу и отыскал там раба.
Вскоре после этого я спросил у Имама Шафи'и: „О Имам, не твоя лл
святость подсказала тебе приметы абиссинца?" Он же отвечал: „О Музни, я
догадался о том, что незнакомец разыскивает беглого раба, по стремительности, с
которой он вбежал в мечеть; о том, что его раб — абиссинец, по тому, как он
вглядывался в лица чернокожих; о том, что он крив на левый глаз, по тому, как
пристально он разглядывал левую сторону их лица, а что брошен в тюрьму, вывел
из такого изречения Пророка (да пребудут с ним благословение Аллаха и мир!):
„Воистину абиссинец, когда голоден, ворует, а когда сыт, развратничает". Я пред-'
положил, что тот раб был голоден, а если так, непременно что-то украл, а если:
украл, без сомнения, схвачен и заключен в темницу"» (355, с. 367—368).
К поэтическим вставкам Ранири равнодушен, но в тех, что все
же изредка появляются, он подражает не столько образцам ара-
бо-персидской лирики, сколько стихам своих идейных
противников — суматранских суфиев [511, с. 278].
322
Более интересны, однако, запечатленные в построении двух
зерцал особенности, отражающие различие задач, которые
ставили перед собой их авторы. «Корона царей» — книга по
преимуществу теолого-этическая, показывающая, как гармонично уст-
рояющий мироздание божественный закон в социальной жизни
воплощается в государстве, основанном на справедливости и разуме.
Даже ее исторические экскурсы, например генеалогия домусуль-
манских правителей Ирана, суть лишь иллюстрации этической
концепции, благодаря восприятию которой малайцы приобщаются
к числу цивилизованных мусульманских народов. «Сад царей»
же — сочинение теолого-историческое. В нем последовательно
разворачивается динамичная картина Творения, его продолжения —
всемирной, а главным образом мусульманской истории, и, как бы
в завершение дела, начатого в первых главах «Малайских
родословий» |[164, с. 43—56], в эту картину включается история
малайских государств. Так самой своей историей, восходящей к
Искандару Двурогому, малайский мир оказывается укорененным в
-системе мусульманской культуры, и лишь затем ему как бы
предлагаются социально-этическое учение, тождественное
изложенному в «Короне царей», и основы исламской образованности.
4. ХРОНИКИ
Кутейские родословия. Наряду с городами Суматры и
Малаккского полуострова древнейшие малайские поселения
существовали на Южном и Юго-Восточном Калимантане (Борнео).
Именно здесь на территории султаната Кутей были открыты
самые ранние в Индонезии эпиграфические памятники (начало
V в.), свидетельствующие о зарождении у малайцев
государственности и восприятии ими индийского культурного влияния.
Надписи на семи жертвенных столпах (юпа) сообщают о трех
поколениях правивших в Кутее государей, из которых первый носил, по-
видимому, местное индонезийское имя. Его сын принял
санскритское имя Ашваварман и 'положил начало династии, внук же
устраивал торжественные индуистские церемонии и щедро
одаривал брахманов, в память о чем и были воздвигнуты столпы /[505;
442, с. 8—12].
Заселенные колонистами с Суматры, калимантанские
государства длительное время сохраняли связь с Шривиджайей, а в
XIV в. стали вассалами Маджапахита. Несмотря на восприятие
в XVI—XVII вв. ислама, довольно изолированное местоположение
и особенности культурных контактов обусловили то, что на
Калимантане многие архаичные элементы малайской традиции
сохранились лучше, чем в других районах [109, с. 7—23; 125, с. VII,
182—196; 314, с. 52—53]. Особенно ярко древние верования
малайцев отразились в историко-мифологическом сочинении
«Кутейские родословия» ([109], записанном, вероятно, в XIX в., но
21*
323
достоверно зафиксировавшем устную версию, сложившуюся до?
середины XVII в. [109, с. 53—54].
Наибольший интерес представляет первая половина
родословий, повествующая о происхождении кутейских правителей {109,
с. 118—193]. Основные мотивы этого повествования широко рас-
лространены в малайской исторической литературе, но лишь в
«Кутейских родословиях» они слагаются в связное целое, где.
каждый мотив занимает свое исконное место и сохраняет
первоначальное значение, иными словами — является частью целостного
малайского мифа о происхождении династии и, шире, народа,
которым эта династия призвана управлять. В других исторических,
памятниках эти мотивы или их отголоски предстают вырванными
из контекста и расположенными хаотично. К тому же они часто>
смешаны с элементами сказаний о Раме, Панджи и Искандаре
Двурогом.
Архаичность начальной части «Кутейских родословий»
проявляется уже в их форме, для которой характерно сочетание прозы
и нерифмованного стиха, издревле принятое в сказительской
практике различных народов малайского мира. Кроме того, в текст
вкраплено множество стихотворных формул-параллелизмов,
обычных в «священном языке» кутейских жрецов и жриц, институт
которых сохранил свое значение и после принятия ислама '[386,
с. 13—22]. Сам миф о рождении предков кутейской династии до
последнего времени инсценировался во время ежегодных
придворных празднеств, где важная роль была отведена султану [386,.
с. 46—47]. Именно сакральный характер начальной части
родословий и их связь с живыми обрядами обеспечили сохранение
малайского мифа о происхождении в его изначальной форме.
Миф начинается с обретения старейшиной одного из четырех,
поселений Кутея, которые до той поры не имели государя,
младенца, снизошедшего с небес (его имя Батара Агунг Дэва Сак-
ти), и еого брака с царевной Путри Карамг Мелену — приемной
дочерью старейшины другого поселения, рожденной из пены
главной местной реки Махакам.
Рассказ о том, как стрейшина и его жена отыскали пенорож-
денную царевну, дает хороший пример сочетания в родословии:
прозы и стиха:
«Потом вся река Махакам оделась пеной, и тогда старейшина Хулу Дусуна
и Бабу Джарума (его жена.— В. Б.) отплыли от берега, и, покуда их челнок
скользил по водам, сильные волны едва не переворачивали его... Спросила Бабу
Джарума: „Откуда это доносится плач младенца?" Ответствовал ей муж:
„Сколько ни вслушиваюсь, не могу взять в толк, кто это плачет — младенец или злой
дух-пунтианак". Молвила жена: „Прислушайся-ка получше". Муж стал
прислушиваться, устремил взор на середину реки, и там в хлопьцх пены, вздымавшейся:
словно гора, разглядел младенца. Гора пены, скрывавшая его,
Была окутана облаком белым,
Туча, как зонт, над нею нависла,
Ее, словно пара нежных супругов,
Двойная радуга обнимала.
Меж тем
324
В небесах заря заалела,
Еле слышно повеял ветер,
Мелкий дождь накрапывать начал,
Все цветы окрест распустились.
Старейшина с женой поспешно выплыли на середину реки, и Бабу Джарума
увидала в пене сияние, переливающееся, точно безоар, и столь яркое, что не было
сил на него смотреть. Приглядевшись, Бабу Джарума разглядела в пене
младенца, возлежавшего на плоском гонге, коий несла на головах пара драконов.
Драконы же покоились на голове быка, а тот бык по прозванию Лембу Суана стоял
на камне и собой был таков:
Как у слона, бивни и хобот,
В пасти клыки, точно у тигра,
Схож с жеребцом челкой и телом,
Под стать гаруде крылья и шпоры,
Хлещет по волнам хвостом драконьим,
Весь чешуею одет, как рыба.
Этот бык, что велик и грозен,
Носит имя Лембу Суана» |[109, с. 125—126].
В родословиях сообщается, что царевич спустился с небес в
сияющем золотом шаре. Другая калимантанская хроника,
«Повесть о Банджаре», -называет его Сурьянатой — Солнечным
Государем и уточняет, что лишь он мог жениться на рожденной из
пены царевне, ибо «солнце и вода образуют пару» if 125, с. 93—
94]. Любопытна отдаленная перекличка этого мифа с надписями
на жертвенных столпах. В них также основателем правящего
рода называется не носитель индонезийского имени (возможно,
племенной вождь), а Ашваварман, «подобно солнцу, взрастивший
преславную династию» Г442, с. 9].
Однако миф не ограничивается описанием брака
государя-солнца и государыни-воды. Сын, рожденный от этого брака, Падука
Нира берет в жены девушку, найденную в стволе бамбука, дочь
земли — Путри Падуку Суру, и их потомки становятся
властителями Кутея. Таким образом, право кутейской династии на
престол обосновывается тем, что ее основатели суть воплощения
космических стихий (солнца, воды и земли), вступающие в
священный брак, который олицетворяет гармоническое единство
мироздания и его земной проекции — человеческого общества.
Точную аналогию малайскому династическому мифу можно
обнаружить в мифологии племени даяков-нгаджу, обитающих на
том же Южном Калимантане. Нгаджу верят, что первоначальная
община, давшая начало человечеству, в доисторические времена
разделилась на две половины в результате конфликта: одна
осталась жить на небесах «за облаками», другая же поселилась на
земле и также разделилась надвое. Союз всех трех
подразделений этой некогда единой общины является условием
благоденствия всех ее членов и ежегодно возобновляется во время
специальных ритуалов ([125, с. 94—95].
История о происхождении кутейской династии сменяется в
«хронике» повествованием об устроении ею государства [109,
с. 194—263]. Потомки сына «царевны из бамбука» вместе с Инд-
рой Мулией, правителем соседней страны Муара Каман, летят по
325
воздуху в Маджапахит, чтобы изучить- там придворный
церемониал и искусство управления. Миновав по пути небесную обитель
богов и семь земных сфер, они достигают Явы, где государь Кутея
обучается у владыки Маджапахита, а его брат и везир — у
прославленного маджапахитского везира Гаджах Мады. Индра Мулия
не удостаивается столь высокой чести, вынужден ни с чем
возвратиться домой и там на свой страх и риск установить законы,
что не сулит Муара Каману ничего доброго. Братья же,
вернувшись на родину, основывают новую столицу и правят на яванский
лад. Интересно, что установления, преподносимые в хронике как
наследие индуистско-буддийского Маджапахита, в значительной
части заимствованы из царского зерцала мусульманского времени
«Корона царей» [386, с. 23]. Еще через три поколения в Кутей
из Макассара приезжает мусульманский миссионер, который,
продемонстрировав государю свое превосходство в «сокровенной
силе», обращает его и его подданных в ислам. Хроника завершается
рассказом о длительной войне Кутея против Муара Камана и
победе кутейцев над противником, до середины XVII в.
остававшимся верным индуистским традициям. В этой победе не без
оснований усматривают торжество разбогатевшего на торговле
прибрежного мусульманского султаната над его расположенным
в^глубинных районах соперником и, возможно, прежним сюзереном [247,
с. 128]—ситуация типичная для малайского мира в XIV—XVI вв.
Повесть о Патан и. Своей достоверностью заметно
отличается от «Кутейских родословий» другой памятник малайской
историографии — «Повесть о Патани», весьма пестрая по
составу хроника султаната Патани, располагавшегося на
северо-востоке Малаккского полуострова, которая была создана на рубеже
XVII—XVIII вв. i[155]. Мифологические эпизоды хроники весьма
кратки. Основное место в ней занимает рассказ об основании
Патани, чудесном обращении его правителя в ислам, отношениях
с соседними государствами Сиамом и Джохором и иных событиях
внутри- и внешнеполитической жизни в период правления местной
и пришлой из пограничного султаната Келантан династий
(середина XVI — конец XVII в.).
Несмотря на то что большинство описываемых событий
вполне реально, «Повесть о Патани» является в равной степени
произведением литературы и памятником историографии. Об этом
свидетельствуют не только прозрачность и гармоничность ее
повествовательного стиля, близкого к стилю «Малайских
родословий», но и сам строй произведения, в особенности его
пространной первой части, посвященной правлению местной династии )\ 155,
с. 68—128]. Из множества событий автор первой части избирает
лишь те, которые, с его точки зрения, типичны для истории
Патани, позволяют в символической форме показать причины
расцвета и упадка государства, порядка и хаоса в управлении им,
прославить могущество султаната и его властителей и тем самым
послужить назиданием для потомков. «Литературный подход»
автора к истории проявляется во всех компонентах его сочинения.
326
Он заметен в перекличке многих эпизодов повести со сценами из
беллетристических произведений (так, «посольские» эпизоды ее
вызывают ассоциации с «Повестью о Ханге Туахе», спор
военачальников, нападающих на Патани,— с перебранкой
предводителей войска раксас в ваянговых повестях и т. д. {155, с. 88—90]),
в искусстве живой психологической характеристики героев —
капризного и по-детски жестокого султана Бахдура или непомерно
честолюбивой певицы Данг Сират, своенравно играющей без
памяти влюбленным в нее джохорским царевичем |[155, с. 95, 116].
Наконец, этот подход проявляется в построении повести из
самостоятельных в смысловом и композиционном отношении
рассказов, внешне бесстрастных и лаконичных, но благодаря точности и
значимости каждой детали удивительно «зримых» и
психологически напряженных.
Литературная манера автора повести нашла наиболее полное
выражение в «тетраптихе» об интригах во дворце Патани' [155,
с. 95—105], по своей теме (коварство придворных, пагубность их
наущений, преданность государю простых горожан) несколько
созвучном «Повести о Бахтиаре» и многим эпизодам зерцал. В свою
очередь, этот «тетраптих» сам как бы образует своеобразное,
лишенное прямой назидательности «зерцало», идеи которого
проиллюстрированы реальными историческими примерами. Поскольку
три из четырех -рассказов «тетраптиха» замкнуты и
/самостоятельны, трудно судить о том, как в действительности были
взаимосвязаны описанные в них события. Не исключено, что придворных,
которые в первых двух рассказах без видимой причины
подстрекали царевичей к мятежу и затем убивали мятежников, чтобы
доказать свою к ним непричастность, каким-то образом направлял
главный везир страны (бендахара), стремившийся к власти.
Он происходил из правящего дома Саи — города-государства,
находившегося в весьма сложных отношениях с Патани, которые,
судя по предыдущим разделам повести, становились
угрожающими в момент смены в Патани правителя )[155, с. 235—237].
Возможно, бендахара, стремившийся захватить власть, их руками
весьма успешно убрал с пути всех претендентов на престол
мужского пола.
Именно рассказ о восстании бендахары против царицы Патани
является вершиной литературного мастерства автора,
проявившегося уже в двух первых строго симметричных рассказах
тетраптиха.
Драматизм этого эпизода подчеркнут резким контрастом
движения многочисленных персонажей и безмолвной неподвижности
его героини. Неумолимо приближается к столице армия
бендахары, ежедневно являются к государыне придворные, чтобы
доложить о ее перемещениях, наконец, все они один за другим
малодушно покидают госпожу. И за все это время царица, как бы
погруженная в оцепенение, не произносит ни слова, не делает ни
единого жеста, но в ее молчании угадываются напряженные
поиски пути к спасению. В последней надежде на подданных она по-
327
сылает за любимцем отца Раджой Келангом, тем, который
несколькими страницами ранее блестяще защитил честь государя,
исполнив труднейшую дипломатическую миссию. Тот под
благовидным предлогом отказывается прийти ей на помощь, и
государыня произносит свою единственную во всем эпизоде фразу,
внешне просто констатирующую это событие, но внутренне полную
отчаяния и горечи: «Не только все везиры и придворные оставили
меня, но даже Келанг, любимец покойного государя, не желает
явиться на мой зов» ,П55, с. 101]. Больше она до конца рассказа
не произнесет ни слова. Государыня поняла, что осталась в
полном одиночестве и отныне может .рассчитывать только на самое
себя.
Тогда-то и разыгрывается полная скрытого символического
смысла решающая сцена эпизода. Бендахара во главе своих
сторонников переходит ведущий ко дворцу мост, на мгновение
останавливается, услыхав разорвавший тишину призыв муэдзина на
молитву, и движется дальше. Этот переход многозначителен сам
по себе. Но еще важнее, что в остановке и продолжении пути, о
которых можно было и не упоминать, угадывается весь характер
героя: его спокойствие и хладнокровие, а не яростный
безоглядный порыв бунтовщика, колебания мусульманина, задумавшегося
о том, что Аллах карает изменников, и одновременно решимость
идти до конца. Царица, окруженная лишь горсткой личных слуг,
выходит навстречу бендахаре и останавливается на верхней
ступеньке дворцовой лестницы. Она облачилась в зеленое баджу и
набросила на плечи желтую шаль. Это единственное в
подчеркнуто «черно-белом» рассказе цветовое пятно приковывает к себе все
внимание читателя. Бендахара подходит к подножию лестницы,
за его спиной армия мятежников. И здесь происходит нечто
необъяснимое: царица — это ее первый и единственный жест —
молча бросает бендахаре шаль, он обматывает шаль вокруг головы,
отбрасывает крис и, воздав государыне почести, уходит.
Военачальники, не понимающие случившегося, но прекрасно знакомые
с нравами малайских султанов, в страхе ожидают расправы, но
бендахара их успокаивает, говоря, что царица просила сохранить
ей жизнь и потому бояться им нечего. Думается, однако, что
бендахара понял больше, чем объяснил. Государыня
действительно стремилась сохранить жизнь и делала это чрезвычайно тонко,
с помощью цветовой символики. В зеленые одежды, согласно
мусульманской традиции, облачаются обитатели рая. Таким
образом, надев зеленое баджу, государыня как бы говорила, что она
готова безропотно принять смерть и покинуть бренный мир.
Бросив же мятежному бендахаре желтую шаль, она давала понять,
что перед смертью столь же безропотно отдает ему то, что для
малайского аристократа ценнее жизни,— власть над собой и
страной, ибо желтый — у малайцев цвет царской власти, под страхом
смерти запретный для простых смертных. Как «слабая женщина»,
преданная защитниками, царица могла позволить себе такой акт
самоуничижения, понимая, что бендахара, пусть символически,
328
но переживший миг наслаждения желанной властью, почтет для
себя бесчестьем ответить на ее смирение жестокостью.
Не менее выразителен в художественном отношении и
последний рассказ «тетраптиха» о безграничной преданности царице
проповедника Абд аль-Джабара, равно как 'и столь же
беспристрастный с виду и столь же глубоко проникающий в психологию героев
эпизод о певице Данг Сират [155, с. 103—105, 115—121].
Повесть о Маронге Махавангсе (Кедахские
анналы). «Повесть о Маронге Махавангсе» — «хроника» южного
соседа Патани, султаната Кедах, одно время привлекала
пристальное внимание ученых, надеявшихся почерпнуть из нее данные о
домусульманской истории этого государства, являвшегося оплотом
Шривиджайи на Малаккском полуострове. Однако, хотя повесть
сохранила воспоминания даже о таком старейшем малайском
государстве, как Лангкасука (возникло в I в. н. э.), содержание
ее не могло не разочаровать исследователей. Произведение
квалифицировалось ими как полное анахронизмов и ошибок «собрание
сказок», предлагавшее читателю вместо достоверной информации
о прошлом набор шаблонных мотивов из волшебно-авантюрных
повестей. Как отмечал Р. О. Уинстедт, она включает «историю о
царе-людоеде... легенду о младенце, найденном внутри бамбука.г.
много малайских народных сказок, мотив похищения птицей рухх,
сражения волшебников, выбор правителя при помощи мудрого
слона — словом, все наиболее ходовые эпизоды малайского
народного романа» if 196, с. 189].
Действительно, как источник по ранней истории Кедаха
«Повесть о Маронге Махавангсе» не представляет ценности, но едва
ли ее автор ставил перед собой задачу создать подобный
источник. Он писал свою повесть в первые десятилетия XIX в.28 —
«смутное время» в истории Кедаха, когда над султанатом после
ряда опустошительных набегов из соседнего Селангора нависла
угроза со стороны его сюзерена — Сиама. Стремясь обезопасить
себя, Кедах искал союза с британской Ост-Индской компанией, но
в результате лишь утратил часть территории и ускорил
вторжение сиамцев, изгнавших в 1821 г. из страны ее правителя —
султана Ахмада Таджаддина (ср. [523, с. 32]). Многие события этого
крайне неспокойного времени отразились в «кедахских анналах»
в форме весьма прозрачных намеков и иносказаний, однако и
создание рассказа о прошлом, в котором без труда угадывалось
бы настоящее, также не было единственной целью автора^
Он стремился к большему — исходя из мусульманской
историософии и привлекая разнородные литературные источники и
фольклорные легенды, так организовать кедахские предания, о
•прошлом, чтобы обнаружить и обличить незримые силы зла,
действующие под «поверхностью» истории, их влиянием объяснить
постигшие страну прежде и ныне бедствия и в возможности
полбеды над ними почерпнуть надежду на будущее.
Довольно неожиданно для малайского исторического сочине-
329
ния повесть начинается сказкой-притчей о мифической птице га-
руде, поспорившей с пророком Сулейманом, что она сумеет
помешать браку между румским царевичем и китайской царевной.
Хотя гаруде и удается потопить флот царевича, плывущего в
Китай, и похитить царевну, жених и невеста все же находят друг
друга на острове Лангкапури, и Сулейман произносит краткую
проповедь о неизбежности того, что предначертано Аллахом \[79,
с. 3—16, 20—35]. С помощью этой сказки — стандартного в
мусульманской историографии и литературе примера всесилия
судьбы '[466, с. 261]29,— весьма близкой к персидскому «Рассказу о
пророке Сулеймане, птице Симург и предопределении» ([33,
с. 289—318] и вместе с тем вобравшей ряд мотивов из «Повести
о Сери Раме»30, выражается первый тезис историософской
концепции автора. Исторические судьбы Кедаха не могли быть
иными, ибо таков промысел Аллаха. Кроме того, мотив морского
путешествия жениха царевны в Китай позволил автору «доставить»
в Кедах основателя местной династии — Маронга Махавангсу,
которому было поручено сопровождать румского царевича.
Далее следует легендарно-исторический раздел, повествующий
об основании Маронгом Махавангсой города Лангкасуки,
предшественника Кедаха, и быстром превращении его в процветающий
и многолюдный торговый порт. Однако основание города в
непосредственной близости от Лангкапури, обиталища раксас (герга-
си), сулит государству не только благоденствие, но и будущие
беды. Дело в том, что Маронг Махавангса, сын небожителей,
вопреки воле отца и матери берет в жены лемопицу-гергаси. Гер-
гаси к тому же являются исконными обитателями Лангкасуки.
Таким образом, Маронг Махавангса создает государство в стране
демонов, и по его вине в жилах кедахских государей смешивается
кровь как небожителей, так и демонических существ. Так покуда
еще не явным образом автор делает следующий шаг в развитии
своей концепции: по неотвратимому предначертанию Аллаха над
Кедахом тяготеет проклятие — незащищенность от злых,
демонических сил. Как бы в предостережение потомкам Маронг
Махавангса, покидая Лангкасуку, переименовывает ее в Кедах
Замин Туран (перс. Туранская Земля Кедах), ибо в иранской
мифологии, отраженной, в частности, в «Шах-наме» Фирдоуси,
Туран — это царство злых сил, неустанную борьбу с которыми
ведет Иран — царство сил добра.
Под властью наследника Маронга Махавангсы страна
продолжает благоденствовать. Его дети уже не только правят в Кедахе,
но и становятся основателями династий соседних Перака, Патани
и Сиама (о вассальных отношениях с Сиамом повествуется в
иносказательном рассказе о золотых цветах, поднесенных по случаю
рождения сына у сиамского правителя ;[79, с. 55—59]). Но уже в
следующем поколении зловещим предвестием будущих невзгод
становится брак царевича Махаиндравангсы, который, подобно
прадеду, берет в жены гергаси. Не в силах удержать сына от
розового шага, государь Кедаха умирает, предсказывая, что его
330
внук не сможет противостоять своим демоническим страстям й
ввергнет страну в смуту. И действительно, сын Махаиндравангсы,
прозванный Раджей Берсиунгом (Клыкастым Раджой), случайно
отведав блюдо, в которое капнула кровь кухарки, становится
людоедом, опустошает страну и вынуждает народ поднять восстание
и свергнуть тирана [79, с. 62—81].
Вполне возможно, что рассказ о царе-людоеде в
гиперболизированной форме отражал реальные воспоминания о каком-то
особенно жестоком правителе, его низложении и последующем
политическом хаосе. Еще вероятнее, что в обрисовке образа
легендарного правителя «прежних времен» отразилось недовольство одним
из реальных султанов «смутного времени» (XVIII — начало
XIX в.), тем более что в описании хаоса и бедствий, постигших
страну после изгнания Раджи Берсиунга, легко угадываются
войны с Селангором и сиамское вмешательство. Однако для
понимания историософии автора повести более важны не подобного
рода догадки, а достаточно очевидные литературные источники
рассказа о царе-людоеде, важнейшим из которых является
персидское предание о жестоком тиране Заххаке, подробно изложенное
в «Шах-наме» великого персидского поэта Фирдоуси |[54, с. 28—
54] и отразившееся в ряде малайских сочинений («Повесть об
Искандаре Двурогом», «Корона царей», «Сад царей»).
В «Шах-наме» повествуется о том, как благодаря своему
кулинарному искусству Иблис соблазнил Заххака, отвратив его от
растительной пищи и приучив к мясной. В награду Заххак
позволил Иблису поцеловать себя в плечи, и тотчас из его плеч
выросли две змеи, жестоко мучившие царя. Чтобы утешить муки,
Заххак ежедневно казнил двух юношей и кормил змей их мозгом.
Не выдержав тирании Заххака, целое тысячелетие опустошавшей
страну, иранцы восстали и свергли его с престола. Не только
общее сходство сюжетов, но и совпадение многих деталей
указывают на то, что автор «Повести о Маронге Махавангсе», описывая
злодеяния Раджи Берсиунга, воспользовался либо самой «Шах-
наме», либо, скорее, сходным по сюжету источником. С особой
очевидностью о персидских истоках предания о царе-людоеде
свидетельствует переименование Кедаха в Туран. Однако, как и в
эпизоде с гарудой, создатель повести, весьма свободно
обращавшийся с персидским источником, сплавил его с близкой по
содержанию «Сутасома-джатакой» |Г523, с. 31]. Джатака позволила ему
обострить конфликт, сделав людоедом самого царя, а не змей, и
в соответствии с авторской концепцией приписать Радже Берсиун-
гу рождение от человека и демоницы (в джатаке людоед Судаса
рождается от союза царя и львицы ,[26, с. 288]).
В рассказе о царе-людоеде концепция Кедаха как «второго
Турана» (вопреки иранской традиции автор повести, очевидно,
считает Заххака туранцем), пребывающего по воле Аллаха во
власти демонических сил, достигает апогея. За изгнанием
правителя следует период смут, которые несколько утихают после тогщ
как мудрый слон возводит на престол найденного в лесу сына
331
Раджи Берсиунга, а сиамцы оказывают ему поддержку. Но силы
зла еще не обузданы. Над страной вновь нависает угроза хаоса,
ибо пагубная страсть внука людоеда к вину заставляет его забыть
о государственных делах {[79, с. 100—110].
В этом месте изложение кедахской «истории» резко
обрывается, сменяясь пространным эпизодом о путешествии с Иблисом
багдадского шейха Абдуллаха Ямани, пожелавшего увидеть, как
дьявол вводит людей в соблазн. Этот эпизод [79, с. 111—141] —
третий кардинальный момент концепции автора, и, так же как
два предыдущих: рассказы о гаруде и царе-людоеде, он восходит
к мусульманскому литературному источнику, напоминая по
структуре кораническое предание о путешествии пророка Мусы с Хиз-
ром ,'[36, с. 235—237] или описанное в персидском
волшебно-авантюрном «романе» о Хатеме Тайском странствие героя со Смертью
/[33, с. 144—148]. Если в предшествующей части «Повести о Ма-
:ронге Махавангсе» активность сил зла в истории была только
«локально» показана, но не исследована во всей полноте, то
путешествие шейха Абдуллаха позволяет автору развернуть
широкую панораму всевозможных пороков — индивидуальных,
социальных, политических.
Перед нами в серии коротких новелл, напоминающих те, что
характерны для обрамленных повестей и литературы зерцал,
проходит вереница всевозможных грешников. Здесь и гневливые
крестьяне, торговцы, обвешивающие покупателей, блудницы,
игроки в кости, любители ваянга и буйволиных боев, и жадные
дервиши, легкомысленные ученики и их жестокий учитель,
сластолюбивый купец* и его развратные жены, и даже не в меру
воинственные правители.
Разумеется, источник всех этих пороков, в соответствии с
мусульманской концепцией повести,— дьявольское прельщение,
однако демонические силы, как показывает автор, не столько
понуждают к злодеяниям, сколько помогают людям
«предрасположенным», внутренне порочным сделать последний шаг к их
осуществлению. При этом злодеяние не приносит никакой выгоды
тому, кто его совершает. Он остается ни с чем или гибнет вместе
со своей жертвой, как, например, неправедный судья в одной из
новелл:
«Потом они (Абдуллах и Иблис.— В. Б.) отправились дальше и пришли в
квартал, где стоял дом неправедного судьи — советника государя этого города.
В то время у него собралось множество просителей, требовавших суда над
обидчиками, беззаконно нарушившими их права. Один просил наказать тех, кто отнял
у него землю и дом, другой жаловался, что у него одолжили лодку и теперь не
желают возвращать, третий же — что некто похитил и взял в жены его рабыню.
Когда повелитель бесов явился к судье, он сел подле него, приник к его уху и
заронил в душу судьи тайную мысль приказать, чтобы собрали все достояние
просителей, отняли у них и снесли в его дом. Тогда дьявол повелел своему
отродью отправиться за имуществом, детьми, женами и рабами просителей и
доставить в квартал судьи. Если же у тех, кто побогаче, припрятано что-либо еще,
отнять и это и тоже снести судье. Нечисть исполнила повеление и в мгновение ока
собрала в доме, возведенном на алчности и жадности до чужого, все добро про*
сителей.
332
Потом повелитель бесов оставил судью и замешался в толпе владельцев
имущества, собравшихся подле дома, и всех, кто пытался рассудить спорящих, на-
стаивая на правоте «истцов или отрицая ее. Что до судьи, то он не. пожелал
выносить никакого приговора и ни с того ни с сего присвоил все достояние
затеявших тяжбу. Когда же те явились к нему, прося возвратить их добро, не
пожевал ни с кем разговаривать, никого не принял и сказал, что уходит обедать. Лишь
только судья нежданно-негаданно скрылся в доме, на ум владельцам имущества
пришла мысль силой вернуть свое. В гневе обнажили они крисы, впали в амок и,
ворвавшись в дом судьи, убили его, так что судье так и не довелось отведать
риса. Тогда дети, внуки и рабы судьи все разом с крисами в руках набросились
на жалобщиков, впавших в амок, и меж ними пошло смертоубийство. Люди, что
тщетно надеялись на помощь и защиту судьи, подожгли его дом и квартал, и
множество впавших в амок и сородичей судьи погибло в огне, дом же и квартал
его сгорели дотла, и ветер развеял их пепел. Вот каков удел алчных и жадных
до чужого добра!» [79, с. 120—121].
Мотивы предрасположенности ко злу и бессмысленности
злодеяний находят яркое выражение в истории царя-людоеда,
которая, таким образом, осознается как одно из звеньев в бесконечной
:цепи дьявольских прельщений. Так получает окончательное
истолкование трагедия кедахской истории. Вместе с тем странствие
шейха Абдуллаха, как и плавание Маронга Махавангсы,
позволяет автору доставить его в Кедах. Шейх обращает государя и его
страну в ислам и тем самым заклинает злых демонов. Они
утрачивают власть над страной, которая вновь начинает процветать.
Автор как бы завершает свою повесть утверждением, что лишь
преданность «истинной вере» способна снять с Кедаха древнее
.проклятие.
Вообще мусульманская тенденция проявляется в «Повести о
_Маронге Махавангсе» с полной определенностью. Она
обнаруживает себя не только в ее идейном содержании и выборе
источников, но и в обессмысливании и вытеснении на периферию повести
мифологических мотивов рождения государя и государыни из
бамбука и пены, а также в нехарактерном для исконно малайской
традиции одобрении восстания против тирана. В целом же
задача «Повести о Маронге Махавангсе» — истолковать сокровенный
смысл истории и послужить своеобразным «историческим адабом»
для наставления государей.
5. ИСКУССТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
Повесть о Ханге Туахе. Впервые европейские читатели
узнали о «Повести о Ханге Туахе» из вышедшей в 1726 г. книги
голландского миссионера Франсуа Валентейна «Старая и Новая
Ост-Индия», в которой автор называл эту повесть «редкостным
алмазом» и «прекраснейшим из малайских сочинений» ,[503, т. V].
Не вполне ясно, в какой степени сам Ф. Валентейн был знаком с
повестью \]$94.9 с. 339—340], однако его высокая оценка ее отнюдь
не лишена оснований.
Содержание этого объемистого сочинения, насчитывающего &
типографском издании около пятисот страниц, вкратце таково.
333
В небесном царстве у государя Санг Перта Дэвы рождается сын Санг Са~
лурба. Он нисходит на гору Букит Сегунтанг неподалеку от Палембанга, женится,
на царевне, рожденной из пены, которую отрыгнул волшебный буйвол — также
воплотившийся небожитель, и от их брака рождается четверо сыновей. Посланцы
с острова Бинтан и из Сингапуры приглашают юношей на царство. Старший и&
них, Санг Маниака, восходит на престол в Бинтане и назначает четырех главных
сановников государства, из которых наиболее влиятелен и мудр бендахара Па-
дука Раджа.
Далее следует рассказ уже о самом Ханге Туахе — сыне собирателя хвороста
с реки Дуюнг. После рождения мальчика, которому предшествуют чудесные
знамения, его отец переселяется на Бинтан и открывает лавку неподалеку от кам-
пунга бендахары. Ханг Туах помогает родителям в их торговых делах и близко,
сходится с четырьмя соседскими мальчиками — Хангом Джебатом, Хангом Кесту-
ри, Хангом Лекиром и Хангом Лекиу. Вместе с ними он еще в десятилетнем
возрасте совершает свой первый подвиг — побеждает в бою шайку пиратов из
двадцати семи человек и помогает старейшине Сингапуры добыть крайне важные
сведения о готовящемся нападении Маджапахита на Палембанг.
благодарный старейшина знакомит отважных подростков с бендахарой Па-
дукой Раджей. После того как они проходят обучение у отшельника, бендахарш
представляет Ханга и Туаха и его друзей государю, который приближает их к
себе. Через некоторое время государь основывает новую столицу — Малакку к
становится ее султаном. На службе у государя Малакки Ханг Туах совершает
множество подвигов. Вместе с султаном он отправляется в Маджапахит, где,.
проявив ум и мужество, помогает ему получить в жены дочь батары (правителя)
Маджапахита — Раден Эмас Айю, удостаивается титула лаксаманы —
флотоводца и добывает в поединке с величайшим из яванских богатырей — Тамингом
Сари — приносящий удачу крис. Затем, оклеветанный завистниками, чтобы
восстановить доброе имя, похищает у бендахары Индрапуры (Паханга) его дочь — Тук
Теджу, которую султан делает второй женой, вновь едет на Яву с трудной
дипломатической миссией — успокоить повелителя Маджапахита, разгневанного
новым браком султана, и отражает нападение на Малакку яванских пиратов.
Несмотря на все это, Ханг Туах вторично впадает в немилость, и султан по навету
приказывает его казнить. Бендахара спасает Ханга Туаха, а меж тем его места
при дворе занимает Ханг Джебат. Султан осыпает его почестями, но Ханг Дже-
бат, упоенный властью и к тому же не желающий простить казни друга,
отказывается повиноваться государю, соблазняет в отместку его наложниц, а самого
вместе с женами изгоняет из дворца. Никто не может одолеть Ханга Джебата^.
и тогда бендахара открывает султану, что Ханг Туах жив. Султан призывает его
и приказывает убить бунтовщика. Происходит знаменитый поединок друзей —
самый трагический эпизод повести, в котором Ханг Джебат гибнет от руки
Ханга Туаха.
Вновь один за другим следуют подвиги Ханга Туаха на дипломатическом и
военном поприщах. Он едет послом в Китай, где ему с помощью хитрости
удается увидеть лицо императора, отправляется за слонами в Сиам, где побеждает
семерых знаменитых японских фехтовальщиков, завоевывает для султана
Малакки княжества Тренгану и Индрапуру. Затем, однако, случается происшествие*
не сулящее ничего доброго: во время увеселительной морской прогулки государь
Малакки роняет в море свою корону, а Ханг Туах, пытаясь достать ее, лишается
криса, дарующего ему непобедимость. С тех пор обоих мучат тяжкие недуги.
Вскоре после этого на Малакку нападают португальцы. Первое их вторжение
удается отразить, но в морском бою Ханг Туах получает тяжелую рану. Он
отправляется в Рум (Турцию) за пушками, по дороге встречает пророка Хидира
(Хизра), который наделяет его волшебным средством, дающим знание
иностранных языков, посещает Египет, совершает хадж в Мекку и Медину и вновь
добивается дипломатического успеха. Тем временем султан Малакки оставляет
царство, предпочтя ему жизнь дервиша. На трон восходит его дочь — царевна Гунунг
Леданг. Ханг Туах и бендахара также становятся дервишами и предаются
подвижничеству в лесах, а в это время португальцы, прибегнув к знаменитому
трюку с изрезанной на ремни шкурой, захватывают Малакку. Позднее по приказу
бинтанского султана Махмуда малаккцы основывают султанат Джохор и вместе
-334
■с голландцами изгоняют португальцев из родного города, но Ханг Туах уже не
участвует в этой битве. По преданию, он обретает бессмертие, становится святым
Аллаха и раджей обитателей джунглей Малаккского полуострова.
Б. Б. Парникель, посвятивший «Повести о Ханге Туахе»
серию интересных статей [237; 238; 239; 241; 246], считал, что
окончательная форма была придана ей в султанате Джохор в
«золотое тридцатилетие» его истории (40—70-е годы XVII в.), с тем
чтобы рассказом о доблести лаксаманы Ханга Туаха прославить
^го отдаленного преемника на этом посту, могущественнейшего из
джохорских царедворцев того времени — лаксаману Абд аль-Джа-
мила [239, с. 148—149]. Он справедливо указал также на
отражение в повести событий, происходивших в XVII в. в Джохоре, и на
проявляющееся в ряде ее эпизодов стремление автора «опрокийуть
настоящее в прошлое» [239, с. 150]. Недавнее исследование
американского малаиста Л. Андайя, посвященное истории Джохора
1277], позволяет уточнить эти выводы, полнее охарактеризовать
конъюнктурные задачи повести и тем самым с большей
надежностью определить время ее создания.
Дело в том, что содержание «Повести о Ханге Туахе»
вызывает явные ассоциации с* событиями джохорской истории конца
50—80-х годов, и прежде всего с относящимся к этому времени
конфликтом между Джохором и южносуматранским княжеством
Джамби. В описании малаккско-маджапахитского противостояния,
проходящем через большую часть повести |[97, с. 1—339], Ма-
..лакка, на наш взгляд, выступает вполне естественным символом
Джохора, а Маджапахит — символом Джамби, правители и
аристократия которого носили яванские имена и титулы31 и который
находился в вассальной зависимости от яванского государства
Матарам [277, с. 86].
История джохорско-джамбийского конфликта развивалась
следующим образом. В 1659 г. наследник джохорского престола
Раджа Муда во главе пышной свиты прибыл в Джамби и сочетался
браком с дочерью местного правителя — Пангерана Рату, что на
лервый взгляд сулило взаимовыгодный союз двух государств
,[277, с. 84].
Этому событию в повести соответствует рассказ о первой
поездке Ханга Туаха и государя Малакки в Маджапахит и о
женитьбе государя на маджапахитской царевне J97, с. 114—167].
Брак Раджи Муды открывал ему путь к власти, что не могло
не встревожить правившего в то время джохорского султана Абд
аль-Джалила и уже известного нам лаксаману Абд аль-Джамила,
активно способствовавшего воцарению последнего. Поэтому они
приложили все усилия к тому, чтобы не допустить переезда
супруги царевича в Джохор и возложить вину за это на Джамби.
В 1660 г. с помощью джохорского флота им удалось вырвать
Раджу Муду из рук правителя Джамби. Царевич возвратился в
Джохор и обещал тестю забрать жену, как только «построит для нее
дом». Вскоре после возвращения Раджи Муды состоялась era
шомолвка с дочерью лаксаманы. Затяжка с переездом царевны и
335
новый брак Раджи Муды вызвали крайнее недовольство Пангерана
Рату и поставили оба государства на грань войны [277, с. 85—
87]. Первое морское столкновение Джохора и Джамби произошло
в 1666 г., когда Раджа Муда во главе флота прибыл на остров
Линга. Джохорская интерпретация причин столкновения
сводилась к тому, что царевич отплыл из Джохора лишь из любви к
тестю и жене и, встретившись у острова Линга с армадой,
возглавляемой самим Пангераном Рату, отправился вместе с ним
в Джамби, чтобы забрать жену. По пути, однако, из-за
провокационных действий джамбийцев Раджа Муда, неизменно
сохранявший твердость духа, был вынужден отказаться от своего
первоначального намерения. Кроме того, султан Джохора стремился
через голландского посредника заверить Пангерана Рату,
обеспокоенного судьбой дочери, что Раджа Муда отправляет за ней
в Джамби лаксаману, сам же ожидает супругу на Линге J277,
с. 87—89].
По-видимому, эти события и джохорская интерпретация
столкновения 1666 г. и отразились в эпизодах «Повести о Ханге Ту axe»,
повествующих о женитьбе государя Малакки на Тун Тедже,
добытой для него лаксаманой Хангом Туахом, гневе в связи с этим
батары Маджапахита, дипломатических усилиях Ханга Туаха
уладить дело миром и чрезвычайно опасном вторичном
посещении Маджапахита государем Малакки и Хангом Туахом [97у
с. 185—208, 234—280], о чем не содержится никаких упоминаний
в «Малайских родословиях» — по-видимому, главном источнике
повести.
Разгоревшиеся после событий 1666 г. военные действия между
Джохором и Джамби носили характер спорадических нападений
флота то одного, то другого государства на вражескую
территорию. В результате одного из таких рейдов в 1673 г. джамбийцы
разграбили и сожгли столицу Джохора, захватили множества
Пленных и все содержимое казны султана (около четырех тонн
золота) i[277, с. 97—99]. В 1679 г., однако, лаксамане Абд аль-
Джамилу удалось взять реванш — он захватил столицу Джамби
и добился от дезертировавшего в самый разгар боя сына
Пангерана Рату — Пангерана Дипати Анома возвращения всего
захваченного в Джохоре золота и выплаты значительной контрибуции.
Наконец, после этой победы Джохор установил настолько тесные
отношения с новым правителем Джамби, что даже заключил с ним
договор о совместных военных действиях против Палем-банга [277,.
с. 120—122, 134].
Вероятно, именно этими историческими фактами обусловлено^
появление в повести рассказа о том, что батара Маджапахита
отнюдь не был успокоен вторым визитом государя Малакки, и
потому его патих Гаджах Мада послал богатыря Марга Пакси с
братьями покорить Малакку. Те, проникнув в город, похитили
достояние всех его богатых купцов и опустошили сокровищницу
малаккского государя, однако Ханг Туах с помощью хитрости
одолел их и возвратил государю и купцам их сокровища |[97, с. 278—
336
279, 280— 285]. Хотя эпизод с грабежами в городе и встречается
в «Малайских родословиях» [164, с. 139—140; 140, с. 188—189],..
однако трактовка и значение его в повести и хронике совершенна
различны. Заканчивается же яванский раздел «Повести о Ханге
Туахе» сообщением о смерти батары Маджапахита и воцарении
на Яве Радена Бахара, установившего с Малаккой дружественные
отношения и признавшего ее правителя своим сюзереном [97,.
с. 375—377].
Естественно, что война с Джамби чрезвычайно укрепила и беа
того прочные позиции в государственной политике лаксаманы Абд
аль-Джамила. По-видимому, около 1680 г. он получил титул Паду-
ка Раджа, до того присваивавшийся лишь бендахарам, назначил
на ключевые административные посты своих сыновей и,
решительно ограничив доступ к султану других сановников, стал, по су-
ществу, единовластным реальным правителем Джохора »[277,
с. 130—131, 140—141, 133—135]. Все это не могло не вызвать
оппозицию к нему со стороны джохорской аристократии, и в
первую очередь бендахары, чей престиж был заметно подорван.
Однако лишь после смерти султана Ибрахима и переселения к бен-
дахаре его малолетнего наследника эта оппозиция смогла
выступить открыто. В результате в 1688 г. бендахаре удалось
вытеснить Абд аль-Джамила из столицы и затем в чрезвычайно
тяжелом морском сражении одержать над ним победу и убить. Вот как.
описывает один из источников гибель Абд аль-Джамила:
«Жестокий бой продолжался с вечера и до следующего утра. Падука Раджа
сражался так яростно и отчаянно, что, если бы не бегство в Паханг его брата
Ахира и двух сыновей — лаксаманы и теменгунга, войско бендахары было бы
разгромлено. Тем не менее он продолжал отбиваться от атакующих и, когда у
него вышли ядра, стал стрелять из пушек испанскими реалами, бывшими у него
на судне. Так ему удалось еще некоторое время сдерживать наступавших,
покуда наконец он не был вынужден высадиться на берег и искать спасения в
джунглях. Лишь через десять дней люди бендахары смогли пленить Падуку
Раджу... Когда Падука Раджа был схвачен, дато бендахара приказал рабу заколоть
его .крисом» [227, с. 155—Ц56].
Тот же раб заколол крисом одного из сыновей Абд
аль-Джамила, другой был казнен, когда корабль, на котором он находился,
проплывал мимо Паханга, и его тело было брошено в море. Двое
других сыновей спаслись бегством в Паханг ,[277, с. 155—156].
В преломленном виде большинство этих фактов встречается:
в рассказе повести об измене Ханга Джебата и битве с ним Ханга
Туаха, следующем, как этого и можно было бы ожидать, за
повествованием о победе над Маргой Пакси ;[97, с. 290—329]. Здесь
и третирование придворных и бендахары Хангом Джебатом,
назначенным на пост лаксаманы, в частности запрещение им
являться к государю; и дарование Хангу Джебату титула Падука
Раджа вопреки предостережениям Ханга Туаха и Тун Теджи; и бегст-,
во государя из дворца в дом бендахары после фактической
узурпации власти Хангом Джебатом; и долгий, яростный бой героев,
в котором Ханг Туах закалывает Ханг Джебата крисом; и даже
22 Зак. 147
337
разрыв в несколько дней между поражением Ханга Джебата и
его смертью. К тому же в повести рассказывается о том, как Ханг
Туах, спасая сына Ханга Джебата, отправляет его в Индрапуру
(т. е. Паханг), ибо государь Малакки приказал бросить младенца
в море. Почти все эти детали отсутствуют в соответствующем
эпизоде из «Малайских родословий» |164, с. 112—114; 140, с. 145—
149].
Проведенное сравнение при всей его ограниченности позволяет
предполагать, что «Повесть о Ханге Туахе» аллегорически, в
форме, аналогичной пасемону, под видом соперничества Малакки с
Маджапахитом отразила конфликт Джохора и Джамби, а также
последовавшую за ним борьбу за власть между джохорскими лак-
саманой и бендахарой. Представляется вероятным, что Ханг Туах,
мнимоумерший после победы над Маргой Пакси,— это символ
Абд аль-Джамила до «узурпации», а Ханг Джебат —
олицетворение его же после «узурпации»32.
Коль скоро это предположение верно, «Повесть о Ханге Туахе»
должна была появиться никак не ранее победы над Джамби в
1679 г. и, скорее всего, после окончательного торжества бендахары
над Абд аль-Джамилом в 1688 г. О последнем свидетельствует
лрисущая всей повести в высшей степени положительная оценка
бендахары. Такая оценка наряду с «'пасемонным» характером
«Повести о Ханге Туахе» и отсутствием у нее различающихся версий
|239, с. 147] говорит скорее о ее единовременном создании, чем о
постепенном сложении. Наконец, упоминание повести в 1726 г.
Ф. Валентейном, вероятно видевшим ее (или слышавшим о ней)
примерно десятилетием раньше {142, с. 50], задает верхнюю
границу ее появления. Таким образом, «Повесть о Ханге Туахе» была
создана в Джохоре, видимо, единовременно между 1688 г. и
десятыми годами XVIII в.
Думается, однако, что не столько решение с помощью искусно-
то пасемона конъюнктурной задачи воздать должное памяти Абд
аль-Джамила, государственного деятеля и победителя Джамби,
осудить е<го же, «изменника» и «узурпатора», и "прославить
государственную мудрость и высокие человеческие достоинства джохо-р-
ского бендахары, вероятно Абд аль-Маджида (ум. в 1697 г. J277,
с. 180]), сколько собственно литературные достоинства и
глубинное этическое содержание обеспечили «Повести о Ханге Туахе»
гее выдающееся место в малайской словесности.
Хотя «Повесть о Ханге Туахе» в целом являет собой глубоко
национальное, письменное, героико-эпическое произведение, точнее
.определить ее жанр весьма непросто. Прежде всего крайне
разнородны и многообразны источники повести, позволяющие считать
ее наряду со многими другими сочинениями классического
периода образцом литературного синтеза.
Основу повести, как уже отмечалось, составляют известные по
«Малайским родословиям», но нередко предстающие в сильно
лреображенном виде рассказы о подвигах самого Ханга Туаха или
деяниях других персонажей малаккской истории, которые в пове-.
338
сти ему приписаны. Таких рассказов, перекликающихся с
эпизодами «Малайских родословий», в повести не менее двадцати, причеш
в ее основной части (от боя Ханга Туаха с человеком, впавшим в
амок, до его посольства в Китай) почти каждая сцена (если
только это не один из бесчисленных поединков или не повтор с
вариацией того, о чем шла речь прежде), обнаруживает параллели
в хронике. Что же касается тех довольно редких в этой части
повести мотивов, которые отсутствуют в «Малайских родословиях»
или подверглись в ней радикальной переработке, то весьма
нелегко определить, восходят ли они к гипотетическому кругу устных
легенд о Ханге Туахе33, заимствованы ли автором дошедшей до
нас версии из сочинений, не имеющих к Хангу Туаху отношения,.
или попросту сочинены им. Пьесы ваянга, повести о Панджи и:
некоторые исторические сочинения (например, «Повесть о Марон-
ге Махавангсе») указывают на значительную свободу местных
литераторов в обращении со своими источниками и важную роль
творческого начала при создании произведений, решающих
злободневные задачи на традиционном материале.
Наряду с «Малайскими родословиями», использованными
автором повести, он обращался также к сказаниям о Панджи (ср..
,[196, с. 84—88]) —скорее всего, к какому-то произведению,
сходному с «Повестью о Чекеле Ваненг Пати». Это, однако, нисколька
не умаляет национальной специфики произведения, ибо
повествовательный стиль и характерные для повестей о Панджи мотивы
издавна стали в малайской традиции стандартным «языком»
рассказов о Яве. Были знакомы автору и такие восходящие в
конечном счете к индийской литературе произведения, как «Повесть о
Сери Раме», «Повесть о победоносных Пандавах», и
одновременно мусульманские малайские сочинения — «Сад царей» Нураддина
ар-Ранири, житийная литература и легенды J239, с. 151—154] 34..
Многообразие повествовательных мотивов, заимствованных из
этих источников, благодаря характерным композиционным
приемам и единству идейного замысла слагается в повести в
достаточно стройное целое.
С внешней стороны «Повесть о Ханге Туахе» явно напоминает
по композиции традиционные исторические сочинения малайцев,,
в частности «Малайские родословия». Как и «Малайские
родословия», она двухчастна и в первой части содержит миф о
происхождении малайского правящего дома — нисхождении на гору Се-
гунтанг, а во второй — повествование о событиях истории (а
точнее, «псевдоистории») Малакки от ее основания до падения,
изобилующее анахронизмами, что также не редкость в малайской
историографии, а в повести к тому же объясняется ее «пасемон-
ным» характером. Для этого повествования, как и для
«Малайских родословий», характерны широта и размах, чуждые
местнической ограниченности некоторых позднейших хроник. Поле
действия повести — это, по существу, весь малайский мир,
осознаваемый как единая «малайская земля» [237], и «дальние» страны:
Маджапахит, Виджаянагар, Китай, Турция, Сиам. Повесть насы-
22*
339
щена деталями, точно отражающими особенности государственного
и социального устройства малайских султанатов, придворного и
городского быта, свадебных обрядов и церемонии возведения на
престол, султанских аудиенций и дипломатических приемов |[246],
всевозможных развлечений наподобие игры в плетеный мяч,
петушиных боев, шахмат и народных верований и суеверий —
словом, всей пестрой, живой и неповторимой картины малайского
средневековья. И это также роднит повесть с «Малайскими
родословиями» и резко отличает характерную для нее атмосферу от
условного и по большей части вненационального фона многих
волшебно-авантюрных повестей или инонационального колорита
местных переработок яванских и персидских произведений.
Однако при всем сходстве «Повести о Ханге Туахе» и
«Малайских родословий» эти произведения существенным образом
различаются. Наиболее важное из различий — отсутствие в повести
обязательного для малайских хроник генеалогического элемента,
тотчас меняющее весь характер повествования. В повести на
протяжении всей истории Малакки действует лишь один государь,
юдин бендахара и один лаксамана. Лишь один враг — яванцы —
•реально угрожает стране при ее основании, один враг —
португальцы — в годы ее «старости». Трудно предположить, чтобы
весьма эрудированный автор повести (или составитель ее
окончательной версии) не знал, что в Малакке правило несколько
султанов, при которых состояло также несколько бандахар и лакса-
ман, а ситуация, которую пришлось разрешать Малакке при ее
возникновении, вовсе не была столь однозначной35. Таким образом,
юбычная для исторических сочинений диахроническая
последовательность государственных деятелей вполне сознательно заменена
:В «Повести о Ханге Туахе» синхронической группировкой
псевдоисторических персонажей-символов. Взятые в своем поверхностном
значении, эти символы призваны образовать пасемон,
рассмотренные в значении глубинном — на основе «сжатия» истории,
проекции отдаленного прошлого на прошлое недавнее раскрыть
единый смысл «двух прошлых», их уроки и опыт.
Подобная задача была отнюдь не редкостью и в малайских
хрониках, однако другого столь последовательного показа
истории как целостной эпически-герошированной биографии в них,
пожалуй, не найти. Быть может, лишь «Повесть об Аче»,
героизированное жизнеописание султана Искандара Младшего,
представляет в этом отношении некоторую аналогию «Повести о Ханге
Туахе».
В чем же видел автор важнейшие уроки «двух прошлых»?
Ответить на этот вопрос помогают предисловия к спискам повести,
одно из которых, весьма примечательное, гласит: «Это „Повесть о
_Ханге Туахе", беспредельно преданном господину и оказавшем
ему множество услуг» ,[97, с. 1]. Итак, перед нами вновь
знакомая по «Повести о раджах Пасея» и «Малайским родословиям»,
.с одной стороны, а также по «Повести об Исме Ятиме» и
«Повести о Бахтиаре» — с другой, проблема отношения государя и его
340
верного вассала: султана Малакки — потомка небожителей и Хан-
га Туаха — сына бедняка с реки Дуюнг, чье имя, означающее
Счастливый, Приносящий Удачу, олицетворяет счастливую судьбу
Малакки >[354, с. 80].
Государь, согласно уже известной нам концепции, в силу
сверхъестественного происхождения и божественного
избранничества воплощает в себе мощную сакральную энергию власти —
даулат, делающую его средоточием и хранителем социального
порядка. Подданные, народ, страна, символом которых выступает
Ханг Туах, связаны с ним своего рода священным браком.
Именно нерасторжимое единство государя, носителя мироустрояюще-
го начала, явленного в справедливости, и верных ему подданных
служит в понимании автора повести залогом процветания и
политических успехов государства до той поры, пока воля Аллаха
не положит конец его существованию.
Если описанная концепция представляет собой идейный центр
повести, от которого устремляются токи почти к каждому из ее
эпизодов (ср. [494, с. 349]), то внутренним композиционным
стержнем произведения являются параллельные жизнеописания
султана и Ханга Туаха, во взаимодействии которых данная
концепция находит свое наиболее полное выражение (ср. [97,
с. XIV—XV]}« В этих жизнеописаниях олицетворены судьбы
Малакки, что весьма характерно для художественной манеры
повести, в которой стихийный реализм сочетается с символическими
элементами. Выше уже упоминалось сверхъестественное рождение
обоих героев. Их юность совпадает с основанием Малакки,
зрелость — с ее расцветом.
В тот злосчастный день, когда государь роняет в море
корону — символ сакральной власти, Ханг Туах лишается криса,
дарующего ему и Малакке удачу и непобедимость. После этого
государь и Ханг Туах заболевают, и неотступно мучающие их о той
поры лихорадка и слабость — это болезни самой Малакки,
прошедшей высшую точку своего величия и обнаруживающей
признаки дряхления. Один из таких признаков — следующее тотчас
.за болезнью героев нападение на страну португальцев, которое
стоит неуязвимому до того Хангу Туаху тяжкой раны, второй —
усиление в повести религиозно-мистических настроений
(по-видимому, для автора это также примета старости героев и страны).
Завершается повесть тем, что султан и Ханг Туах одновременно
покидают Малакку и становятся дервишами. Их изначальная
связь рвется, и на этот раз уже навсегда, а тем временем
достигшую отмеренного судьбой срока Малакку захватывают
португальцы.
Символизм, присущий литературной манере автора повести,
проявляется не только в ее ключевых эпизодах, но и в ряде сцен
более частного характера. Две из них особенно примечательны
(см. \[494, с. 350—351]). В первой отдаленным предвестником
торжества Малакки над Маджапахитом выступает небывалая победа
белого малайского оленька (считалось, что альбиносы обладают
341
огромной магической силой) над могучими охотничьими псами
яванского царевича на том самом месте, где будет основана Ма-
лакка. Во второй — свидетельством неизбежности этого
торжества служит победа Ханга Туаха над величайшим из яванских
богатырей — Тамингом Сари и обретение его криса, дарующего
непобедимость, с которым счастливая судьба Маджапахита переходит
к Малакке. Кстати сказать, в конце повести предвестием падения
Малакки служит похищение этого криса опять-таки
животным-альбиносом — белым крокодилом, а именно крокодил является
извечным врагом оленька в малайском фольклоре и литературной
«Повести о хитроумном оленьке» 1196, с. 31—32; 102, с. -63—67].
Калейдоскопически сменяющие друг друга эпизоды повести
благодаря пронизывающей их единой концепции обнаруживают
сходство с новеллами, иллюстрирующими те или иные положения
зерцал; повесть же в своем глубинном содержании оказывается
своеобразным «зерцалом», в котором наставником выступает
сама история. В отношениях государя и подданных это зерцало
уделяет преимущественное внимание роли подданных и обязанности^
обычно распределенные в дидактических сочинениях между
различными группами придворных, возлагает на одного человека —
Ханга Туаха. Он и величайший из военачальников, и мудрый
советник, и искушенный в дипломатии посланник, способный
отстоять честь своего государя, и мусульманский подвижник,
приносящий государю вести о загробных муках грешников.
Взгляд на «Повесть о Ханге Туахе» как на произведение
учительное, не только увлекающее читателя мастерски описанными
героическими деяниями лаксаманы и его сподвижников, но и
показывающее правильное с традиционной малайской точки зрения,
разрешение всего «веера» ситуаций, в которых проявляется era
центральная идея, помогает глубже понять образы героев
повести. В частности, это относится к пресловутому «сниженному»;,
«отрицательному» изображению в ней султана Малакки36.
Следует сразу же отметить, что в образе султана отсутствуют
такие непременные в малайских сочинениях черты
самодура-притеснителя, как незаконные брачные связи, массовые казни
неповинных людей, присвоение их имущества и т. д. При всех своих,
слабостях, поспешности решений, готовности поверить наветам:
клеветников государь отнюдь не предстает в повести тираном,
образы которых весьма многочисленны в малайской литературе-
(«Повесть о раджах Пасея», «Малайские родословия», «Повесть
о Маронге Махавангсе»). Соответственно его злонравием
невозможно объяснить и падение Малакки, которое в полном согласии
с характерным для повести воплощением судеб страны в судьбах
султана и Ханга Туаха предстает скорее как результат
естественного старения, вызванного завершением ' отмеренного Аллахом
срока. Эта идея, не чуждая яванской историографии [453, с. 176
и ел.], была присуща историческому сознанию позднего ислама,
в котором отчасти под влиянием суфизма сложилось учение о
круговороте фаз развития государства: бурном росте на ранней:
342
'фазе, укреплении и консолидации на средней и дряхлении и
упадке на поздней /[304, с. 47—50]. Ненарушенное единство государя
и подданных и циклический взгляд на историю объясняют и то,
-что на смену павшей Малакке в повести тотчас приходит сильный
Джохор.
Неоднозначность и изменчивость образа государя
обусловлены не столько «реалистичностью» манеры, присущей автору
повести, сколько его дидактическими задачами. Требовать от этого
образа строгого единства и последовательности почти так же
неоправданно, как пытаться вывести непротиворечивый, целостный
образ из рассказов о правителях, содержащихся в зерцалах и
призванных разрешить всякий раз определенную ситуацию,
«разыграть в лицах» те или иные, часто противоположные идеи.
Разумные и оправданные шаги государя в повести не только
характеризуют его величие, но и позволяют Хангу Туаху
непосредственно проявить мужество и искусство государственного деятеля.
Слабости же, капризы, причуды дают возможность
проиллюстрировать такие важнейшие идеи зерцал, как необходимость для
государя прислушиваться к голосу мудрых советников, избегать
скоропалительных действий, презирать клеветников и т. д. Еще
-важнее то, что благодаря этим слабостям проверяется верность
подданного государю. Если бы по воле государя (а нередко и
добровольно) Ханг Туах не брался за любое поручение
повелителя, будь то дело государственной важности или просьба нарвать
плодов с готовой рухнуть пальмы, вытащить коня, свалившегося
в выгребную яму, или доставить вести из загробного мира, он не
смог бы стать живым воплощением этой верности, потому
безоговорочной и абсолютной, что именно от нее, по средневековым
малайским представлениям, зависели покой, упорядоченность и
процветание страны. Последствия же нарушения верности показаны
в повести на примере трагического бунта Ханга Джебата —
названого брата Ханга Туаха, второго после него !малаккского
богатыря.
По существу, тема этого эпизода может быть выражена
словами известнейшего зерцала — «Короны царей» — о том, что волю
даже несправедливого государя следует исполнять не из
преклонения перед ним, но из необходимости избегнуть смуты и мятежа,
которые ввергнут страну в состояние хаоса и унесут жизни
множества подданных, праведных и неверных [133, с. 49, 224]. Это
и происходит в повести, когда государь по навету клеветников
приказывает казнить Ханга Туаха и передает всю полноту его
власти новому фавориту — Хангу Джебату, которому к тому же
вручает знаменитый крис лаксаманы.
Душу Ханга Джебата захлестывает хаос противоречивых
страстей. Первая из них, рождающаяся тотчас после возвышения и
получения криса,— упоение своим величием, всемогуществом и
вседозволенностью, возможными лишь после устранения Ханга
Туаха. Именно это упоение властью провидел лаксамана,
предрекавший Малакке наступление черных дней, и именно оно застав-
343
ляет прежних соратников и друзей Ханга Джебата с отвращением:
отшатнуться от него. Вторая страсть, усиливающаяся по мере
охлаждения первой,— глубокое горе от утраты друга и жажда
мести тем, кто его погубил. Безмерные, как у подлинно эпического
героя i[238, с. 9], и вырвавшиеся из-под контроля разума —
высшей ценности в литературе зерцал ,[133, с. 169—177], воплощенной
в образе Ханга Туаха, эти страсти всецело овладевают Хангом
Джебатом, а раз так, независимо от того, благородны они или
низменны, делают его в глазах автора повести орудием
разрушительных, демонических сил.
От третирования придворных и самовозвеличивания
(важнейшим признаком разума в «Короне царей» выступает смирение,
столь ярко выраженное у Ханга Туаха ,[133, с. 170]) Ханг Дже-
бат переходит к прямому мятежу и узурпации власти. Узурпация
эта, однако, также носит «безумный» и при всей трагичности
фигуры узурпатора несколько комический характер. Ханг Джебат,
изгнавший государя из дворца, облачившийся в царские одежды
и профанировавший регалии султана, становится повелителем не
Малакки, но семи сотен дворцовых женщин (ср. if241, с. 281]),.
властелином своего рода «кромешного», «изнаночного» царства
(см. [226, с. 16—26]), жизнь и смерть обитателей которого
определяются не законом и справедливостью, а абсолютным
произволом. Отношения между «государем» и «подданными» в этом
царстве основаны не на разуме, а на страсти: любовной
одержимости придворных дам и смятении чувств самого мятежника.
«Внутренняя политика» этого царства — непрерывная оргия, «пир
вовремя чумы»; его «внешняя политика» — столь же непрерывная
битва с отрядами, возглавляемыми вчерашними соратниками,
которые посылает против Ханга Джебата султан Малакки. И
разумеется, такое царство хаоса не может не пасть, а безграничный:
произвол его «властителя» — не привести к гибели подданных:
перед сражением с Хангом Туахом, спасенным бендахарой, Ханг
Джебат закалывает всех женщин. Тем самым, несмотря на
благородный порыв отомстить за друга, одержавший верх в душе
Ханга Джебата, поединок героев вырастает до символического
столкновения сил гармонии и хаоса, разума и слепой страсти. Не
случайно Ханг Туах, понимающий мотивы названого брата, не
может не сражаться с ним и говорит о необходимости тщательно
обдумывать каждый поступок, равно как и Ханг Джебат
принимает бой, упорствуя в своем кредо — быть злодеем так до
конца! Не случайно и противопоставление спокойной решимости
Ханга Туаха во время поединка и нервозности Ханга Джебата,
неспособного сдержать ярость. Даже в смертельно раненном Ханге
Джебате продолжают бушевать силы зла, порожденные ничем не-,
сдерживаемой игрой страстей, и он, как бы воплощая идею
зерцал о божьем гневе, обрушивающемся на страну, породившую
мятежника /[133, с. 224; ср. 44, с. 11], впадает в предсмертный амок,
сея в Малакке ужас и смерть, загромождая трупами улицы
города.
344
Однако автор повести не был бы выдающимся писателем, если
бы хоть на миг упустил из поля зрения прежнее высокое
достоинство своего героя, ощутимое в его словах и поступках.
Именно поэтому Ханг Туах, сразивший мятежника, три дня скорбит
и безмолвствует. Именно поэтому Хангу Джебату даруется смерть
на руках у названого брата, а Ханг Кестури, только что
обличавший друга, рыдает над его телом. И именно поэтому эпитафией
павшему звучат слова Ханг Туаха о том, как все непросто в
жизни.
Итак, «Повесть о Ханге Туахе» — это глубоко национальный
образец искусственного историко-героического эпоса, в котором
история, в средневековом малайском понимании этого слова,
разворачиваясь как биография героя, раскрывает свое глубинное
учительное содержание.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В издании Али бин Ахмада [57] имя раджи дано в искаженной форме —
Шахиан; в большинстве списков повести он именуется Шахсианом [411а, с. 134].
2 В издании Али бин Ахмада — Герагас; более правильная на наш взгляд,
форма имени раксасы содержится в списке повести Cod. Or. 1690—Гуркаш [17,
с. 123]. Учитывая, что в старых рукописях «с» часто пишется как «ш», следует,
видимо, читать «Гуркас».
3 Общая конфигурация эпизода такова: отец невесты, не желая выдать дочь
за мнимого простолюдина, по наущению его соперников ставит перед женихами
трудные задачи. Решить их может только герой. Затем, однако, отец невесты
нарушает обещание и выдвигает новое условие. В конце концов он приходит в
конфликт с женихами и вынужден искать спасения у героя, который обращает
противников в бегство с помощью подступивших к стенам города союзников.
К числу совпадающих деталей относятся следующие. В «Повести о Чекел Ваненг
Пати» герой посрамляет рату Менгаду, поймав Чандре Киране золотого оленя,
в «Повести об Индрапутре» — царевичей, изловив любимого попугая царевны [63,
с. 65—67; ср. 43, с. 208] (при этом почти в одинаковых выражениях описаны
ушибы и изодранная одежда незадачливых соперников героя). Далее Чекел
демонстрирует искусство джигитовки с копьем Чандре Киране, а Индрапутра —
радже Шахсиану |[63, с. 87; ср. 57, с. 215—216] и т. д.
4 Помимо перечисленных мотивов, играющих в композиции «Повести об
Индрапутре» ключевую роль, оба произведения сближает и множество мотивов
второстепенных: попытка царевны узнать правду о мнимо «низком» герое,
подпоив его и его слуг |[43, с. 52—53; ср. 528, с. 192]; пиры и веселье на островах по
случаю исполнения обета [43, с. 199—210; ср. 528, с. 200—201]; обход
«подлунного» мира или океана божеством — стражем порядка [43, с. 158; ср. 7, с. 17];
«потешный» бой царевичей, принимающих облик драконов, раксас, чудесных птиц
[43, с. 241—242; ср. 63, с. 200—201} и т.д.
s Сходное описание в персидской классической поэзии см. в [40, с. 417].
6 Так в Cod. Or. 1690 [17; с. 123]; в издании Али бин Ахмада — Бахарум Та-
бик.
7' Издание Али бин Ахмада дает Нехран, однако в «Повести об Исме Яти-
ме», испытавшей влияние «Повести об Индрапутре», царевна именуется Мехран.
Это имя (Мехран — перс. Любящая) вполне соответствует значимой ономастике
«Повести об Индрапутре» и символическому смыслу роли в ней царевны.
8 К числу этих компонентов, представленных как в повести, так и в поэме,
относятся: отправление в мистическое путешествие; прохождение через семь
небесных сфер, соотносимых со степенями суфийского совершенства и
символизированных семью стенами, окружающими город (или дворец); символизация дра-
345
коном опасностей пути, порождаемых страстями нафса; необходимость обучения*
у опытного наставника; символизация прохождения четырех этапов пути
(шариат, тарикат, хакикат, марифат) четырьмя браками героя (в поэме — четырьмя
браками пророка Мухаммада, прототипа Совершенного Человека); аннигиляция
индивидуального «я» познающего (фана) как двухступенный процесс: первая
ступень символизируется в поэме обрезанием, в повести — рассечением героя на
крупные части, вторая — в поэме: истолчением в порошок, в повести:
рассечением на мельчайшие части; мистическое единение суфия с Аллахом —
Абсолютной Любовью, символом которой выступает жемчужина.
9 Имя царевны, означающее Водяная Царевна Драгоценный Безоар, равно
как имена ее отца (Тахир Джохан-шах — араб.-перс. Непорочный Повелитель)
и брата (Набат Рум-шах — Государь Румийское [т. е. Западное] Растение),
.свидетельствует о том, что вступление в эту страну — это достижение душой Ин-
драпутры ступени изначальной потенциальности, соответствующей аспекту
растительной души (кафе ан-набатийа), что и составляет цель этого этапа. Имена
брата и отца царевны говорят сами за себя, вода же — первый элемент имени
самой царевны — есть то, чем «жива растительная душа» [183, с. 17; 36, с. 256].
110 Войдя в ее сад и любуясь его красотами, Индрапутра думает про себя:
«Как же помыслить о Нем (Аллахе.— В. Б.)у если даже его рабы наделены
такими сокровищами».
11 О драгоценных материалах, из которых созданы небеса, сообщается в
малайском сочинении «Сад царей» Нураддина ар-Ранири (1648 г.). В этом
сочинении названы следующие драгоценные металлы и минералы: серебро (первое
небо), золото (второе небо), жемчуг (третье небо), изумруд (четвертое небо), рубин
(пятое небо), гранат (шестое небо), хрусталь (седьмое небо), однако тут же ар-
Ранири замечает, что существует множество различных мнений о «небесных
материалах» [517, т. II, с. 262].
12 Стены беседки сделаны из красного стекла, а крыша — из белого.
Поскольку красный — цвет души {40а, с. 253] или духовного сердца, «отверзаемого»,
когда душа очищена [254, с. 238], а белый — цвет чистоты и соединения ,[24а* с. 238],
то уже в самой конструкции беседки скрыт намек на события, которые в ней
произойдут. В беседке герой видит зеркало из хрусталя — широко
распространенный символ чистой души суфия, а над зеркалом — цветок, от которого беседка
и получила название. Индрапутру встречают две птицы, одна из которых
обрызгивает его водой, благоухающей нардом, после чего очарованный юноша впадает
в забытье. Аромат — это обычный суфийский символ вести, исходящий от
Возлюбленной [179, с. 136]. Сон же Индрапутры символизирует переживаемый им
хал.
10 Cod. Or. 1690—Гурхинс [17, с. 123], Bg 125, Cod. Or. 6089—Гаухархинс
[20, с. 97; 22, с. 8], vdW 168— Гаухарджин [20, с. 99], издание Ахмада бин Али —
Гурджанис, что позволяет реконструировать имя как Гаухарджинс. Имя
государя указывает на уже знакомую нам концепцию, ибо алам мисал в ряду
сотворенных ступеней Бытия параллелен Сущности Мухаммада в ряду ступеней не-
сотворенных [113, с. 126—127]. Тем самым государь алам мисал есть параллель
белой жемчужине и в этом смысле подобен ей.
14 По-видимому, Анта Беранта — Беспредельная Страна [533, с. 46] или
Эмпирей—сфера Престола —Арш [517, т. I, с. 38, 310]; ср. такие определения
следующего из духовных миров — алам джабарут, как «беспредельный»,
«безграничный» {[183, с. 151].
,ш Весь этот эпизод напоминает заключительный раздел аллегории
персидского поэта Санаи (XI—XII вв.) «Странствие рабов к месту возврата» [177а,
с. 412; 179, с. 323], в котором описывается страна ослепительного света, где под
сенью Перворазума располагается обитель суфиев.
16 Замена розы на лотос может объясняться спецификой малайских любовно-
авантюрных повестей, где часто бездетная царица зачинает, съев цветок лотоса,
в образе которого воплотился один из небожителей. В то же время о лотосе из
сада божественной Любви упоминается в аллегорической поэме Джами «Лейли
и Меджнун» [305, т. III, с. 534].
17 Генетически Дэва Лангкурба —это, разумеется, Сакурба,. или Сегерба,—
346
небесная дева, кровь из груди которой исцеляет смертельно больного Радена Ину
в «Повести о Чекеле Ваненг Пати».
18 Очевидную параллель данному эпизоду представляет описанное в
«Религии любви» сожжение Бакавали, «чтобы в ней не осталось человеческого
запаха» [41, с. 95], и в особенности ее частичное окаменение, уничтожение и
возрождение [41, с. 99, 110—111].
1§ Сходный мотив обнаруживается в четверостишии Джами о Неизменных
Сущностях (Идеях) — прототипах всего сущего:
Все идеи — это разноцветные стекла,
На которые упал луч солнца бытия;
Если стекло красное, желтое или синее,
Такого же цвета кажется в нем и солнце [179, с. 464].
20 Это произведение в конечном счете восходит к санскритскому памятнику
«Шукасаптати» («Семьдесят рассказов попугая»), однако в него вошли новеллы
и из других сборников обрамленных повестей — «Панчатантры», «Двадцати пяти
рассказов Веталы» и «Хитопадеши», а также «предания, рожденные в персидско-
таджикской и арабской фольклорной и литературной среде» [184, с. 9—10].
21 Обычно малайская «Повесть о мудром попугае» [167; 80] включает
следующие вставные истории:
1. Рассказ о попугае, у которого выщипала перья жена купца.
2. Рассказ о Тайфе, безмерно любившей государя.
3. Рассказ о жене, отправившей ревнивого мужа по торговым делам.
4. Рассказ о столяре и ювелире.
5. Рассказ о попугае, не слушавшемся родителей.
6. Рассказ о четырех ремесленниках и ожившей статуе.
7. Рассказ о государе Хиндустана, понимавшем язык животных.
8. Рассказ о царевиче, который добыл жену и царство благодаря дружбе
-с неким шейхом, змеей и лягушкой.
9. Рассказ о ваятеле, влюбившемся в наложницу государя (вариант
истории о Фархаде и Ширин).
10. Рассказ о царевне, убившей своих мужей.
11. Рассказ о государе Hyp-шахе, которому приснилось, - что он женился.
12. Рассказ о том, как пророк Сулейман по совету дикобраза не стал пить
живую воду. (Поразительная по своей глубине история, где рассказывается о
том, как Сулейман предпочел смерть бессмертию, сулившему одиночество и
утрату всего, что было ему мило.)
13. Рассказ о Сабуре, избежавшем соблазна.
14. Рассказ о царевиче, ставшем дервишем, и о государе Килан-шахе,
убитом из-за того, что он покусился на жену везира.
15. Рассказ о Харман-шахе, отвергшем любовь супруги своего брата.
16. Рассказ о Биби Сабарие, ставшей матерью царя.
17. Рассказ о государе, чья душа умела переселяться.
18. Рассказ о муже, отдавшем половину жизни своей жене.
19. Рассказ о Ходже Асторе и проказливом эфиопском рабе.
20. Рассказ о Мансур-шахе и его жене, сумевшей покорить сердце супруга.
21. Рассказ о Сити Хасане, сумевшей возвысить своего мужа.
22. Рассказ о человеке, испытавшем верность своих друзей.
23. Рассказ о царевиче более жестоком, чем его тиран-отец Адар-шах.
24. Рассказ о багдадском султане Адаме, отрекшемся от мира, услышав
беседу птиц.
25. Рассказ о царевиче, женившемся на морской царевне.
22 Некоторые списки повести включают в число вставных новелл также и
«Повесть о молодом капитане» и «Повесть о Махарадже Пуспе Вирадже». В свою
очередь, отдельные рассказы повести разошлись по многим малайским
произведениям; в частности, встречаются они в «Повести о Шахе Мардане» [196, с. 141].
23 Таких версий существует по меньшей- мере три: «Книга попугая.
Самоцветы ночных бесед», написанная между 1313 и 1316 гг. неким Имамом ибн Му-
хаммадом ан-На'ири (или ас-Сагари) [173], ее знаменитая переработка,
созданная в 1329 г. Нахшаби [181], и сокращенная и упрощенная переделка текста
347
Нахшаби, принадлежащая перу Абу-ль-Фазла ибн Мубарака (1551—1602) [184].
Ни одно из этих произведений не могло быть прямым источником повести.
Сочинение На'ири содержит сорок девять историй, Нахшаби и Абу-ль-Фазла — по
пятьдесят четыре. Из них лишь двенадцать встречаются в малайской версии.
24 Краткая версия повести содержит четыре или пять вставных новелл:
историю птицелова, подарившего государю диковинную птицу и преследуемого вези-
ром Мухаммадом Джалусом, задающим ему трудные задачи, которого птицелов
одолевает с помощью некоего хитроумного шейха; историю рыбака, получившего
от китайского императора чудесную обезьянку и ставшего царем; историю купца
Хасана, которого стремился погубить коварный везир Абу Фазл, и купеческой
жены Сити Динар, ловко подстроившей казнь везира; историю царя, который,
не желая междоусобицы бежал из дворца, был разлучен с детьми и едва не
казнил их затем по навету, чему, однако, помешали стражи городских ворот;
историю царицы и ее золотой рыбки |[158; 196, с. 150—153]. Персидские же и
арабские варианты «Бахтиар-наме», судя по десяти текстам, различающимся в
основном порядком вставных новелл, содержат следующие сюжеты: неудачливый
купец, нетерпеливый принц, Абу Сабир, Бехкард, Дадбин, царица и ее сын от
первого брака, купец, утопивший сыновей, Абу Таман, царевич в колодце [27„
с. 164—165; ср. 176; 265].
25 Это единственное малайское сочинение, в котором предпринята попытка
имитировать ближневосточные стиховые формы и садж, что могло бы служить
доводом в пользу создания «Короны царей» приезжим бухарцем (малайцы
переводили стихи только прозой!). Однако анализ показывает, что лишь рубай и
маснави, рифмовка которых имеет аналоги в исконной малайской традиции,
соответствуют в «Короне царей» нормам арабо-персидской поэтики. Моноримиче^
ские же стихи (газель, кита) ни разу не воспроизведены точно [187, с. 121—125].-
Это свидетельствует, скорее всего, о плохом понимании переводчиком-малайцем
арабо-персидской теории рифмы и влиянии на него местной традиции, но может
говорить и об отказе по каким-то причинам (недостаточное владение малайским
языком?) составителя-бухарца от точного следования арабо-персидской поэтике.
29 Подобное определение понятий было вообще в большей степени присуще
арабо-мусульманской культуре, чем их логическая дефиниция через род и
видовые различия [268а].
27 В переводе садж отмечен разрядкой.
28 X. Хойкас датирует повесть концом XVIII в. [354, с. 91]. Р. О. Уинсгедт —
концом XVIII или началом XIX в. [523, с. 33]. Однако, учитывая отсутствие ео
рукописей более ранних, чем относящиеся ко второй половине XIX в.,
упоминание в завершающем повесть родословии султана Ахмада Таджаддина (годы
правления 1803—1845), иносказательное изображение определенных исторических
событий и появление легенды о стреле, едва ли возможное до 1818 г. {523, с. 32]г
более вероятной представляется вторая дата, предложенная Р. О. Уинстедтом.
291 Она включается в арабские сочинения о сущности истерической науки
[466, с. 261], но может выступать и как отдельное произведение (см., например,
персидский «Рассказ о пророке Сулеймане, птице Симург и предопределении»
[33, с. 289—318].
31СУ Некоторые малайские даланги до сих пор считают, что резиденция Рава-
ны — Лангкапури — это остров Лангкави, расположенный у побережья Кедаха
[488, с. 258].
31 Такие, как Пангеран Рату, Пангеран Пурба, Пангеран Адипати Аном, Пан-
геран Дипа Негара, Раден Мае Кулуп и др. [277, с. 88, 122 и ел.].
32 Мысль о том, что Ханг Туах и Ханг Джебат представляют собой как бы
«две части одного „я" высказана и Б. Б. Парникелем, который, однако, дает
этому факту иную интерпретацию [241, с. 287].
33 Существование подобных легенд (или даже устного эпоса о Ханге Туахе)
казалось вероятным X. Овербеку [424], Р. О. Уинстедту [196, с. 85, 86, 91] и
Б. Б. Парникелю [238, с. 4—7]. Ср., однако, весьма серьезные сомнения по этому
поводу, высказывавшиеся А. Тэу [492; 494, с. 346—347].
34 Такие мотивы, как отречение государя Малакки от престола и его уход в
отшельники, а также эпизод, в котором он съедает «запретный» огурец, возмож-
348
но, указывают на знакомство автора повести с «Повестью об Ибрахиме ибн Ад-
хаме».
315 Следует, однако, отметить, что малайско-яванский конфликт действительно
сыграл важнейшую роль в основании Малакки. Как уже отмечалось, в конце
XIV в. яванцы разгромили Палембанг и изгнали его правителя Парамешвару —
будущего основателя Малакки. Изгнанника поддержали предводители «морских»
малайцев, составлявших основную военную силу Шривиджайи. Решающее
значение для Парамешвары имела помощь наиболее могущественного из малайских
вождей — правителя острова Бинтан [531, с. 124—127, 138—140]. Через два века
этот остров стал местом пребывания джохорского султана. Возможно, оба эти
момента и позволили автору повести отвести в ней Бинтану столь значительное
место.
36 Объясняя якобы негативную оценку этого образа в повести, Б. Б. Пар-
никель трактует основную ее коллизию как обычное для эпоса
противопоставление богатыря «легкомысленному и жестокому царю» [241, с. 278}.
ГЛАВА VIII
ОСНОВНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
(поэзия)
В то время как малайский фольклор отличается значительным
разнообразием поэтических жанров, пользующихся не только
рифмованным, но и белым стихом (о них см. ,[187]), в письменной
литературе представлены практически лишь две стихотворные
формы. Одна из них — уже упоминавшийся выше шаир,
состоящий из цепочки строф с моноримом (аааа, бббб и т. д.), другая —
пантун — четверостишие с перекрестной рифмовкой, распадающееся
на два двустишия — сампиран и иси, которые обычно не имеют
прямой, логической связи и соединены по принципу звукового
и (или) образно-символического параллелизма. В последнем
случае один из членов параллели {сампиран) содержит намек,
который раскрывается в другом ее члене (иси), например:
На ранней заре душистый жасмин
Я собирала в сосуд золотой;
Вставай поскорее, о господин,—
Солнце сияет над головой [43, с. 5.4].
Наряду с пантунами и шаирами в таких памятниках
малайской словесности, как «Повесть о раджах Пасея» и «Кутейские
родословия», встречаются вкрапления нерифмованного стиха
(бахаса берирама), а в «Повести о Мухаммаде Ханафии»,
«Повести об Амире Хамзе», «Короне царей» и некоторых других
сочинениях, восходящих к персидским источникам,—образцы арабо-
персидских стиховых форм (отдельные бейты касиды, маснави,
рубай, газель, кита).
Однако ни местный белый стих, ни ближневосточные
поэтические формы, по существу, так и не стали достоянием малайской
письменной поэзии. Пожалуй, только два жанра: двустрочный
рифмованный афоризм — гуриндам и близкая к пантуну селока —
четверостишие с моноримом, не обязательно построенное на
параллелизме, сосуществуют в ней с пантунами и шаирами,
значительно уступая им по распространенности.
Наиболее известный сборник гуриндамов был создан в XIX в.
Раджей Али Хаджи, предварившим его предисловием об отличии
гуриндамов от шаиров /[111]. В этом сборнике, носящем название
«Двенадцать |групп] гуриндамов», стихотворные афоризмы объ-
350
единены по тематическому принципу и представляют собой
сентенции примерно такого рода:
Если речи долго ведешь,
Непременно в чем-то солжешь.
Или:
Кто много часов в постели проводит,
Жизнь того напрасно проходит.
Еще раньше, в конце XVII в., гуриндамы в качестве
стихотворных вставок были включены в «Повесть об Исме-сироте»,
например:
Хвала преславному владыке моему,
Узнает он, сколь предан я ему [134, с. 19].
О характере селоки можно судить по такому образцу этого,
жанра:
Подруг водою не разольешь,
На каждой кофта, на каждой брошь.
Спел ананас, и банан хорош —
Чую, собрался мусанг на грабеж.
(Пер. Б. Б. П арнике ля)
Приведенное четверостишие содержит намек на то, что красота
подружек явно привлечет к ним поклонников, ибо мусанг
(виверра) — символ молодого человека, стремящегося соблазнить
приглянувшуюся ему девушку.
а. пантуны
«Повесть о раджах Пасея» и «Малайские родословия»
свидетельствуют о том, что пантуны входят в письменную литературу
еще в конце XIV—XV в. Окончательно утверждаются они в ней
в классический период, став непременным компонентом
волшебно-авантюрных хикаятов и многих шаиров и заместив в качестве
орнаментального средства и формы выражения чувств и мыслей
героев бейты маснави и касид, встречавшиеся в повестях ранне-
мусульманского времени (даже, как это не удивительно, в
«Повести о Сри Раме»).
Этимология слова пантун не вполне ясна. Р. Брандштеттер
возводит его к корню «тун». Семантика производных от этого
корня во многих индонезийских языках претерпевает изменение-
от исходного значения «ряд, линия» до значения «организованные
в поозе или стихах слова» [196, с. 219] 1.
Среди относительно простых форм фольклорной поэзии
обнаруживаются явные «родичи» (а возможно, и прямые «предки»)
пантунов. Это — рифмованные иносказательные выражения,
сходные с загадками или загадками-поговорками, в основе которых:
351
лежит ярко выраженный звуковой и менее очевидный
смысловой параллелизм. Выражения такого рода состоят из двух
стихов: первый из них (произносимый) — собственно «загадка»,
второй (умалчиваемый) — «отгадка». Так, малайский юноша,
разлюбив девушку и желая сообщить ей об этом, скажет: «Дахулу па-
ранг секаранг беси» («Прежде — нож, теперь — железо»),
понимая, что рифмы этого стиха подсказывают «отгадку»: «Дахулу
саянг секаранг бенчи» («Прежде любил, теперь — постыла»).
Девушка на это ответит другим иносказанием: «Пингган так ретак,
наси так дингин» («Тарелка не треснула, рис не остыл»), намекая
на «отгадку», также связанную с «загадкой» рифмами и
ассонансами: «Энгкоу так хендак, ками так ингин» («Ты не хочешь, так
и я не желаю»).
На первый взгляд связь между «загадкой» и «отгадкой» в
обоих выражениях чисто звуковая, однако, думается, в
действительности дело обстоит сложнее. Прежде всего в «загадке»
юноши речь идет о предметах, относящихся к сфере мужской
деятельности (нож, железо), в «загадке» девушки — деятельности
женской (тарелка, вареный рис). Превращение ножа в кусок
железа есть трансформация чего-то нужного, полезного в нечто
никчемное (ср. любил — постыла). То же, что ни с тарелкой, ни
€ рисом ничего не произошло, служит указанием на безразличие
к перемене (ср. ты не хочешь — я не желаю). Таким образом
звуковые ассоциации, связывающие «загадку» и «отгадку»,
подкрепляются ассоциациями смысловыми. Точно так же сочетание
звуковых и смысловых факторов лежит в основе связи сампирана и
иси в пантунах.
Еще более очевидна фонетическая и одновременно
семантическая связь частей в иносказательном выражении, «загадка»
которого— «Пада чемпедак баик нангка» («Плод нангки лучше, чем
плод чемпедака»\ — содержит звуковой намек на «отгадку» — «Па-
да тидак баик ада» («Лучше иметь, чем не иметь»). Поскольку
плоды чемпедака, как и плоды нангки, съедобны, хотя и хуже
последних на вкус, «пословица обогащается дополнительным
оттенком: „Если нет того, что нравится, то нравится то, что есть"»
1145, с. XIX].
«Загадки» подобных иносказаний, будучи записаны вместе с
их «отгадками», чрезвычайно напоминают 'пантуны как по своей
формальной, так и по смысловой структуре:
Пинган так ретак
Наси так дингин,
Энгкоу так хендак
Ками так ингин2.
Классический пантун обладает весьма сложной звуковой
организацией, в которой учитывается не только концевая рифма, но
во многих случаях и фоническое подобие (рифма или ассонанс)
попарно соотносимых слов первой и второй частей — сампиран к
иси, нацример;
352
1
Джика
5
RncaMâap
9
Джика
13
Гемпар
1
Если
5
И] набросятся
9
Если
13
Поднимется
[на меня]
2
далурут
6
атм
10
дитурут
14
алам
2
дернуть,
6
куры
10
последовать
[страсти],
14
[весь] мир
3
печах
7
денган
11
сусах
15
денган
3
оборвутся
7
на
И
беда
15
с
4
башангнья
8
бид,жинья
12
латангнья
16
исинья
4
стебли [риса],
8
зерна
12
придет,
16
его обитателями
В этом четверостишии из «Повести о Корисе Менгиндре»
(XVII в.) все слова попарно связаны в звуковом отношении:
1—9 и !—> 15 — повторами; 2—10, 3—11, 4—12, 5—13, 6—14 —
рифмами; 8—16 — ассонансом, и, таким образом, в нем чрезвычайно
наглядно представлено «проходящее через всю строку созвучие»,
которое Р. Уилкинсон считает основой структуры пантуна |516,
с. 53]. Кроме того, нетрудно заметить аллитерации во второй и
третьей строках (дисамбар — денган; дитурут — датанг) этого
пантуна, а также полный смысловой параллелизм обеих его
частей.
Разумеется, далеко не все пантуны обладают столь виртуозной
звуковой организацией, однако как отчетливая тенденция она
характерна для данного жанра в целом. Статистические
исследования позволяют представить фоническую структуру некоего
среднего пантуна следующим образом:
Симметрия
1
s
5\
13\
2
10
6
14
3\
11\
7
15
Парал
4\
iz\
жльность
б\
1q\
23 Зак. 147
353
Данная схема фиксирует не случайный характер звуковых
отношений во всех «вертикальных» парах слов, и, хотя строго
закономерны они лишь для концевых рифм (4—12, 8—16), пары
2—10 и 6—14 связаны примерно в 3Д пантунов, остальные же —
в меньшем, но также значительном их числе. Кроме того, пан-
туны демонстрируют по горизонтали симметричность, деление на
равные полустишия, границы которых подчеркнуты рифмами или
ассонансами, выполняющими в этом случае ритмическую функцию,,
а по вертикали — параллельность, в рамках которой рифмы и
ассонансы сампирана выполняют функцию семантическую,
предсказывая форму, а тем самым до некоторой степени и значение
слов иси [275, с. 280—281].
Характер связи первого и второго двустиший пантуна на
протяжении последних ста лет оставался основным вопросом,
который стремились разрешить исследователи этого жанра. Одни
из них, например У. Марсден, Я. Пейнаппел [440], X. Овербек
[423], Р. Стиллер |[145], настаивали на семантических
ассоциациях сампирана и иси. Другие — X. ван Опхейзен J422], отчасти
X. Хойкас i[354; 355] — существенно ограничивали роль
семантических связей и полагали, что сампиран пантуна служит главным
образом для того, чтобы задать рифмы для иси. Наконец, третьи,
в частности Р. Уилкинсон .[516], разрабатывали теорию
фонической суггестивности сампирана, проходящих через оба его стиха
звуковых намеков на то, что будет сообщено в иси. К этой
теории близки и взгляды Р. О. Уинстедта [161; 196], который
подчеркивал в то же время значение содержательных связей, часта
весьма специфичных и потому трудных для понимания.
Естественно, что среди множества пантунов находились образцы,
подтверждавшие любую из этих точек зрения.
В принципе во всех перечисленных гипотезах
абсолютизируются различные этапы эволюции параллелистических четверостиший,
выделенные на широком сравнительном материале А. Н. Веселов-
ским в статье о психологическом параллелизме [195, с. 125—
199] 3.
Подобные же этапы, вероятно, прошли в своем развитии и;
пантуны, причем малайская традиция сохранила их образцы,
построенные по принципам, характерным для каждого из этих
этапов. Осознание эстетической ценности фонического подобия
сампирана и иси шло в пантунах рука об руку с усложнением
семантических полей тех слов-мотивов, из которых сампиран и ucic
складывались. Это же осознание послужило «фильтром» при
отборе слов, ассоциативно связанных с тем или иным исходным-
образом. В итоге сложился характерный для хорошо построенных
пантунов «язык», элементарными единицами которого выступали'
взаимно соотнесенные как по звучанию, так и по значению
словесные пары, и, что еще важнее, определились правила их
дальнейшего порождения. Р. Стиллер называет эти элементарные
единицы малайским термином ламбанг («символ») и определяет его*
следующим образом: «Ламбанг — это не просто рифма, кроме
354
созвучия (да и то ее всегда полного либо скрытого в третьем
слове, посредующем в сознании, но непроизносимом) в ламбанге
прослеживаются более важные символические и понятийные
отношения (между словом из сампирана и словом из иси,
входящими в пару.— В. Б.), Поэтому в отличие от рифмы ламбанг
перестает существовать в отрыве от контекста» \ 145, с. XXI].
Если описанные выше принципы ритмико-фонической
организации определяют синтаксис «языка» пантунов, то совокупность
ламбангов — это как бы словарь данного «языка». В этом
«языке» можно выделить несколько лексических уровней.
Первый из них несет обычные общеязыковые значения.
Восприятие текстов, составленных из ламбангов этого уровня, не
представляет особых трудностей и не требует специальных знаний.
Легко, например, понять смысл такого пантуна:
Плывут облака над высокой горой,
Светильник масляный не угас;
В каких ты краях, возлюбленный мой?
Ты в сердце моем, хоть скрылся из глаз.
Параллель между проплывающими в вышине облаками и
далеко уехавшим возлюбленным, между пылающим светильником и
.любовью, не гаснущей в сердце, очевидна. Столь же
общепонятны и ламбанги следующего пантуна:
Ты знаешь, где можно фазана поймать?
В горах скалистых над водопадом.
Ты знаешь, где милый твой хочет спать?
В твоих объятьях, с тобою рядом [233, с. 59].
Здесь параллелизмом связаны образы пойманного фазана и
заключенной в объятия возлюбленной, гор и ложбины, в
которую устремляется водопад, и ее груди, на которую желает
склонить голову влюбленный.
Следующий пример уже, несомненно, требует комментария:
Большие муравьи в стволе бамбука,
Флакончик, наполненный розовой водой.
Когда меня охватывает страсть,
От тебя одной я ожидаю исцеления [196, с. 224].
Чтобы воспринять его смысл, надо знать, что для малайца
упоминание о большом муравье (керенгга) связано с
«представлением о муках любви, которые напоминают ему муравьиные
укусы», а розовая вода, «излечивающая от этих укусов, напротив,
«символизирует любовь того, кто прежде причинил любовные
муки» /Г233, с. 67].
Из приведенного примера видно, что значение ламбангов
второго уровня не является само собой разумеющимся, ибо ламбанги
эти помимо общеязыкового смысла несут семантическую
нагрузку, специфическую для пантунной традиции, и, являясь
повторяющимися, устойчивыми и, что особенно важно, социализированны-
23*
355
ми — общепонятными и общеупотребительными символами,
составляют самое сердцевину «словаря» этой традиции. Для
понимания ламбангов этого уровня необходимо знать, какая именно
сторона явлений выделяется в них традицией, какое переносное
значение придается им, на какое другое слово указывает звучание
данного.
Из ламбангов второго уровня слагаются наиболее утонченные,,
изысканные пантуны, призванные не столько воспроизвести
предмет, сколько намекнуть на его проявления и признаки, соткать из
этих намеков легкую паутину суггестивных отзвуков. В них
лунный свет, желтый от спелости лист бетеля и плод граната
символизируют возлюбленную; серьги в ушах красавицы —
девственность, а прогрызенный кокос — ее утрату; утиные яйца —
одиночество, хрупкость, скитальческий образ жизни. Цветы базилика
(селасих), упомянутые в сампиране,— это намек на слово
«любовь» (касих), которое должно появиться в иси. Ассоциативная
связь этих слов, по мнению Р. О. Уинстедта, обусловлена тем, что
в Индии базилик был «символом счастливого брака, воплощал в
себе Вишну и Лакшми и ежегодно выдавался замуж за Кришну
в каждой индийской семье» 'Г 196, с. 226]. Добавим к этому, что
в малайской классической литературе базилик неизменно
связывается с опьянением. Цветы кембоджи в пантунах ассоциируются
со смертью, а жасмина — со свадьбой и т. д.
Не менее характерны для второго уровня и ламбанги, в
которых на первый план выступают звуковые намеки. Если в сампи-
ране появилось слово худжан — «дождь», значит, в иси речь
пойдет о буджанг — неженатом юноше; упоминание о рама-рама —■
мотыльках, часто летающих парами, подготавливает строку о>
берсама-сама — неразлучности влюбленных:
Мотыльки летят на болото,
Над болотными вьются мхами.
Если хочешь уйти надолго,
Свой платок мне оставь на память [233, с. 83].
Словосочетание «антара Джати дан Бинтан» — «между Джаш
и Бинтаном» содержит намек на вместилище самых сокровенных,
чувств, находящееся «антара хати дан джантунг» — «между
печенью и сердцем», а слово пади — «рис» устойчиво
ассоциируется со словом хати — «сердце», «душа».
Порой два ряда ламбангов — те, в которых сильнее
акцентирована звуковая сторона, и те, что являются по преимуществу
смысловыми символами,— переплетаются, и если в начале строфы
упоминается числительное лима — «пять», то дальше звуковой
намек соединит его со словом делима — «гранат», а смысловой —
даст окончательный ответ: как мы уже знаем, речь в пантуне
пойдет о возлюбленной.
Ко второму уровню относятся также ламбанги, основанные на
географических и исторических намеках. Например, в пантуне:
356
В Телуке я был, по Сиаму скитался,
Но в Мекке пока еще не молился.
Я обнимался, я целовался,
Но до сих пор еще не женился! [233, с. 157]
топонимы Телук, Сиам и Мекка являются не только звуковыми
аллюзиями на слова берпелук — «обниматься», берчиум —
«целоваться», берниках — «жениться». Степень их удаленности от
исполнителя указывает на то, сколь далеко он заходил в любовных
отношениях, а различное «достоинство» названных топонимов в
глазах малайца — на то, как он оценивает серьезность каждого из
этих поступков.
Чтобы понять следующий пантун из «Малайских родословий»:
Утиные яйца пришли из Сенгоры.
Циновка затоптана — вот бесславье!
Алая кровь пролилась в Сингапоре,
Тело положено было в Лангкави [233, с. 164],
надо знать, что речь в нем идет о .некоем Джане Хатибе,
который приехал в Сингапуру и, заметив, что государыня смотрит
на него из окна, бестактно похвастал перед ней магической
силой, расщепив взглядом ствол арековой пальмы. За столь
неосмотрительный поступок Джана Хатиб был казнен и погребен на
острове Лангкави. Комментируя сампиран этого пантуна, Р. Уин-
стедт отметил, что утиные яйца символизируют одиночество и
скитальческий образ жизни героя, а «белые тонкие циновки, на
которые ступать в обуви считалось недопустимым... олицетворяют...
прекрасную женщину, которую должен уважать поклонник» [196,
с. 225]. Таким образом, сампиран указывает на проступок,
совершенный заезжим скитальцем, а весь пантун в целом довольно
полно воспроизводит историю Джаны Хатиба.
В качестве специфических ламбангов могут использоваться
также имена литературных персонажей, заключающие в себе как
бы свернутое в одно слово повествование. Существуют пантуны, в
которых упоминаются Кен Тамбухан, Панджи Семиранг, Хануман,
Лаксамана, Арджуна, Раден Ину Кертапати и т. д. Вот,
например, пантун из «Повести об Индрапутре» [43, с. 219], где
фигурируют Сери Рама и знаменитая дамба через море, по которой
он достиг Лангкапури, чтобы освободить Ситу. Смысл же сампи-
рана этого пантуна в том, что, подобно Раме, Индрапутра
преодолел все трудности и встретился с возлюбленной:
Не страшен Раме морской простор,
По дамбе дошел он до дивного луга;
Любезен сердцу ты с давних пор,
Ныне же мы повстречали друг друга.
Наконец, третий уровень, наименее устойчивый, обеспечивает
относительную открытость и в силу этого жизнеспособность всей
системы «языка» пантунов. К нему принадлежат «мгновенные
ламбанги», рождающиеся в ходе той своеобразной поэтической
357
игры, которую представляет собой пантунная импровизация —
шутливая перебранка или ухаживание юношей и девушек, обмен
насмешливыми иносказаниями, обиняками, созвучиями. Подобные
символы редко бывают действительно содержательными, и
именно они дали основания для теор'ии чисто звуковой связи.
Однако -порой наиболее удачные из них запоминаются,
начинают повторяться и переходят на второй уровень. Именно они,
обусловливая варьирование в рамках канона, не дают пантунно-
му символизму закостенеть, заражают создателей пантунов духом
соперничества с тем, что уже было создано и казалось верхом
изящества.
Как всякая рафинированная миниатюрная поэтическая форма
(рубай, танка и др.), пантун не терпит никаких излишеств. Все,
что может быть опущено, опускается, синтаксис становится
эллиптическим, значение выливается в намек, понимаемый благодаря
культурным ассоциациям, на которые пантун спроецирован,
отраженным светом которых он светит. Переходя в разговорную речь,
становясь частью текста большего, чем он сам, пантун и вовсе
стремится сжаться до строки, едва ли не до слова — аллюзии на
свое содержание, вбирающей это содержание целиком.
Чрезвычайно характерный пример такой компрессии мы
находим в разговоре двух малайских юношей из книги Анри Фоканье
«Душа Малайи» |233, с. 98—991 :
Осман: «Откуда берутся пиявки?»
Мат (задумчиво) : «Шест сломался».
Осман (протестуя): «Зачем было зажигать лампу?».
Мат (с (Ироническим смехом) : «Прежде лимон рос на том берегу».
Что это? Фрагмент из драмы абсурда? Вовсе нет — рядовая
беседа, вполне понятная односельчанам юношей, знающим, что они
обсуждали любовные неурядицы Османа, говоря первыми
строками пантунов:
Осман:
Откуда берутся пиявки?
(На поле присасываются к ногам.
Откуда берется любовь?
Из глаз проникает в сердце4).
Мат (задумчиво) :
Шест сломался на горе.
(Растет ротанг на ласиховом лугу.
Тебе нельзя никого винить.
Разве ты говорил, что любишь?)
Осман (протестуя) :
Зачем зажигать лампу,
(Если нет у нее фитиля?
Зачем играть глазами (кокетничать),
Если чувство не серьезно?)
M а т (с ироническим смехом) :
Прежде лимон рос на том берегу,
(Рос на холме рядом с деревом белимбинг.
Прежде ты был свирепым тигром,
А из-за такой малости превратился в козла.)
358
На «языке» пантунов можно было говорить об очень
многом. Об этом свидетельствует само тематическое разнообразие
произведений пантунного жанра. Влюбленные выражали на нем
радость любви и горечь разлуки, соперники вышучивали друг
друга. По справедливому замечанию Р. Стиллера, «каждый второй
пантун можно переосмыслить как насмешку. Точно так же
можно считать, что в большинстве пантунов, даже если это не
сразу бросается в глаза, скрыто любовное содержание» {145,
с. XXII—XXIII]. Однако любовным содержанием дело не
ограничивалось. С помощью пантунов (пантун даганг) странники
изливали тоску по родным местам и повествовали о тяготах жизни на
чужбине:
Клейкий рис — на соседском поле,
На моем — песок и каменья.
Люди терпят крушение в море,
У меня же — в сердце крушенье.
Или:
Шляпа бамбуковая помялась,
У сломанного забора стою я.
К телу уже болезнь подкралась —
Кому же пожаловаться могу я?
(233, с. 117, 119].
Старики с помощью назидательных пантунов {пантун насихат)
учили молодежь мудрости и столь ценимому умению вести себя
(сопан-сантун, буди-бахаса), наставляли ее в истинах веры:
Малаец свой платок расстилает
И ловит в него гранат кровавый.
Пеструю шкуру тигр оставляет,
А человек — добрую славу.
Кто говорил, что улитки ныряют?
Дорога проходит тихим заливом.
Тот, кто сердцем своим управляет,
Весь свой век проживет счастливым
[233, с. 126, 127].
Нередко в форме пантунов строились заклинания шаманов-
павангов, а также детские и морские песни, астрологические
сочинения и т. д.
Амебейное исполнение пантунов двумя хорами или
поочередно юношей и девушкой привело к 'возникновению такой фор;мы
сцепления четверостиший, как прошитый пантун (пантун беркаит),
в которой вторая и четвертая строки первого пантуна становятся
первой и третьей строками второго и т. д. Например:
О н: Жасмин с чемпакой теперь расцветают
В сосуде, где раньше хранился бетель.
Семь ночей по тебе страдаю,
Жду тебя — а тебя все нету.
О н а: В сосуде, где раньше хранился бетель,
Чернеют зерна душистого перца.
359
Жду тебя, а тебя все нету,
Великая жажда мучит сердце.
О н: Чернеют зерна душистого перца.
Из прочного тика сделана миска.
Великая жажда мучит сердце,
Смерть мне кажется очень близкой.
Она: Из прочного тика сделана миска.
Судно у берега якорь бросает.
Смерть мне кажется очень близкой,
Плача, подушку я обнимаю (233, с. 91].
Порой такого рода цепочки пантунов, весьма любимые
героями хикаятов и шаиров и благодаря усилиям А. фон Шамиссо
ставшие под названием пантум известными европейским поэтам
(В. Гюго, П. Верлен, Ш. Бодлер и др.), принимали чрезвычайно
изощренную форму. Так, автор хроники «Миса Мелаю»
заканчивает рассказ о морской прогулке перакского султана Искандара
«прошитым» пантуном, «в котором первые двустишия описывают
деталь 'за деталью перакский дворец, в то время, как во вторых —
поется хвала его владельцу» «f 196, с. 231], а некий безымянный
поэт с помощью «прошитого» пантуна в десятках четверостиший
описывает нападение бугийского вице-короля Риау — Раджи
Хаджи на Малакку в 1784 г. |[Ю8]. Подобного рода сочинения стоят
уже на грани нарративной поэзии, к исследованию которой мы
теперь и обратимся.
Û. РОМАНИЧЕСКИЕ ШАИРЫ
В гл. VI уже затрагивались проблемы происхождения основной
жанровой формы малайской классической поэзии — шаира,
эволюции, функций, тематических разновидностей и стилистики
нарративных поэм. Там же было отмечено, что жанровая форма шаира
использовалась во всех функциональных сферах малайской
классической литературы. Однако шаиры, относящиеся к сфере
пользы,— стихотворные «близнецы» прозаических зерцал и
обрамленных повестей, самостоятельные шаиры-зерцала — едва ли обладают
достаточной литературной ценностью для того, чтобы стать
предметом специального рассмотрения в главе об основных
памятниках малайской поэзии. К тому же они мало что добавляют к уже
данным на прозаическом материале характеристикам жанров
зерцала и обрамленной повести. Поэтому для анализа отдельных
шаиров были избраны лишь поэмы, принадлежащие к сфере
красоты,— романические и аллегорические (подобно прозаическим
сочинениям, они при суфийской интерпретации могут одновременно
включаться и в сферу духовного совершенства), а также
примыкающие к сфере пользы или входящие в нее исторические шаиры.
Поэтические и прозаические памятники сферы духовного
совершенства будут рассмотрены в следующей главе.
Наиболее многочисленны и разнородны малайские
повествовательные поэмы романического (любовно-авантюрного) содержания.
360
Прежде всего к ним относится значительное число стихотворных
переложений прозаических повестей: «Шаир об Индрапутре»,
«Шаир о Си Мискине (Маракарме)», «Шаир о Шамс аль-Бахрей-
не», «Шаир об Индре Бангсаване», «Шаир о Джаухар Маникам»
и другие стихотворные версии синтетических повестей и хикаятов
на ближневосточные сюжеты, а также переработки яванских по
происхождению или по духу сочинений типа банджармасинского
«Шаира о Ваянге Кинуданге» или «Шаира о Дамаре Вулане» (на
русском языке историю Дамара Вулана см. [231, с. 179—184]).
Исследователи обычно невысоко оценивали подобные шаиры-
переложения. Так, например, X. Овербек, считавший эти поэмы
грубыми версификациями, вообще отказывал им в праве
именоваться поэтическими произведениями. Он полагал, что такие шаи-
ры создавались в мнемонических целях, поскольку поддавались
запоминанию легче, чем проза. В то же время чрезвычайно по
казательна данная им характеристика шаиров-переложений,
свидетельствующая о том, что в них описательные элементы еще силь-,
нее, чем в повестях, преобладали над нарративными:
«При сравнении прозаических текстов с шаирами на тот же сюжет можно
нередко заметить, что версификатор работает весьма небрежно. Он
останавливается на эмоциональных сценах, увлекательных приключениях, описании
поединков и т. д., часто пропуская при этом все, что расположено между ними, т. е.
собственно повествование, или же пересказывает его чрезвычайно фрагментарно,
В результате не всегда понятна связь между эпизодами, что нехарактерно для
прозаических текстов» [428, с. 302].
Думается, что сравнительное изучение шаиров-переложений и
повестей, к которым они восходят, сулит ценный материал для
определения поэтологической специфики малайской
повествовательной поэзии, с одной стороны, и прозы — с другой.
К шаирам-переложениям примыкают и поэмы на сюжеты
сказаний о Панджи, которых известно не менее десятка. Судя по
числу рукописей, наибольшей популярностью среди них пользовались
«Поэма о Панджи Семиранг» и «Поэма о Меса Гумитаре»
(стихотворные аналоги одноименных повестей), а в особенности
«Поэма о Кен Тамбухан», вероятно наиболее привлекательный
как для самих малайцев, так и для европейских малаистов
любовный шаир.
Поэма о Кен Тамбухан. Относящаяся к -кругу
произведений о Панджи «Поэма о Кен Тамбухан» является,
по-видимому, наиболее ранним из шаиров, посвященных «женской
теме»,— своеобразных предтеч целого ряда произведений новой
малайской и индонезийской литератур, в которых эта тема получила
широкое распространение. Созданная, скорее всего, во второй
половине XVII в., поэма дошла до нас в трех версиях: короткой и
явно незавершенной версии де Холландера, оканчивающейся
гибелью героев (ее новое издание см. J129, с. 107—137]),
встречающейся чаще других версии Тэу [154] и длинной версии Клинкерта.
По содержанию, характеристикам главных героев, особенностям
361
поэтики «Поэма о Кен Тамбухан» примерно соответствует
«Повести об Андакене Пенурате», которая, вероятно, послужила
источником версии де Холландера. Лишь в издании Клинкерта она
получает любопытное продолжение.
В этой версии после воскрешения любящих и их брака царевич женится
вторично и «отправляется на поиски волшебного кокоса, который находится на
острове, где живет Кенчана Вати. Эта Кенчана Вати была раньше волшебным
голубым лотосом, и ее охраняет гаруда, бывший в прежнем своем существовании
ее возлюбленным — божественным Дургой Натой. Царевич попадает в плен к га-
руде и находится в заключении до тех пор, пока его сын не вырастает и не
убивает птицу волшебной стрелой, полученной им от бога, которому юноша помог
расстаться с обличьем тигра» (196, с. 212].
Данный выше разбор «Повести об Андакене Пенурате» (см.
гл. IV) делает излишним подробный анализ «Поэмы о Кен
Тамбухан», известной не менее чем в двенадцати списках5. Все же
нельзя не привести хотя бы несколько примеров описаний из
этого шаира, в котором, по словам Р. О. Уинстедта, «классический
стиль достигает своих вершин» |196, с. 211].
Первый из них — отрывок из рассказа об охоте царевича:
Метко стрелу царевич направил,
И сериндит, попугайчик пестрый,
Свалился с чемпаки, обвитой лианой,
В сад, обведенный оградой крепкой.
Плавно упал попугайчик подбитый
На полотно, что ткала Кен Тамбухан.
Почтительно молвила ей служанка:
«О госпожа, поймай сериндита»...
Перепорхнул попугайчик неловко
На самый край полотна царевны.
Тогда с улыбкой служанка сказала:
«Эта птаха любовь дарует» [154, с. 18].
В эюм фрагменте дерево чемпака, обвитое лианой,—
естественный символ влюбленных, а раненный стрелой длиннохвостый
попугайчик — олицетворение самой Кен Тамбухан, гибнущей от
любви. Таким образом, данная сцена в иносказательной форме
предрекает дальнейший ход событий в шаире.
Другой фрагмент, характерный для стиля поэмы,^-это
восходящее к традициям пантунной лирики (ср. [58, с. 25—26])
трогательное описание неразлучности влюбленных, сходное с тем, что
встречается в сцене беседы Сальи и Сетиавати из «Повести о
победоносных Пандавах» [98, с. 150]:
Если захочешь водой обернуться,
Я стану рыбкой на песке прибрежном.
Вовеки слова я не нарушу,
Верный тебе душою и телом.
Если в луну превратиться захочешь,
Я стану совой, что по ней тоскует.
О госпожа, о моя золотая,
Я не в силах с тобой разлучиться.
Ты — цветок, лепестки приоткрывший,
362
Я же — шмель, нектаром влекомый.
В душу мою ты смятенье вселила,
Ужели меня нимало не любишь?
Коль деревом ты обернешься тенистым,
Я стану павлином, что в листве обитает.
Тебя, госпожа, никогда не покину,
С тобою на миг не хочу расстаться [154, с. 30].
Наконец, в третьем отрывке перед нами одна из наиболее
динамичных в малайской поэзии пейзажных зарисовок, в которой
одушевленная природа стремится удержать государя от опасного
путешествия:
С тоскою взирал государь на волны,
Что грозно гремели, набегая на берег,
И назад катились, разбиваясь о скалы,
Запрещая владыке свой путь продолжить.
Не умолкая кричали птицы,
Те крики с ревом валов мешались,
Гром рокотал высоко в поднебесье,
Как будто оплакивал государя.
Сверкали молнии, ослепляя,
И отражались в просторах моря.
Все окрест, печали исполнясь,
Повелевало владыке вернуться [303, с 16—17].
Поэма о Бидасарй. Большая часть романических шаиров,
однако, не имеет прозаических прототипов (возможно, впрочем,
что для некоторых они утрачены), не связана с определенным
сюжетным циклом и обладает рядом
композиционно-изобразительных и тематических особенностей, противопоставляющих эти
произведения волшебно-авантюрным повестям. Наиболее популярным
среди таких «типичных» романических шаиров, несомненно,
является пространная (более 7000 строк) «Поэма о Бидасарй».
Известно свыше десяти списков этого произведения, по сюжету
чрезвычайно напоминающего сказку о спящей царевне. Исследователи
нередко приписывали литературные достоинства поэмы ее
«индуистскому» происхождению и относили это сочинение к малаккским
временам |516; 247; 145] или по крайней мере к начальному
периоду распространения ислама в малайском мире |[86]. Думается,
однако, что специфически индуистские (и даже просто индийские)
черты, которые существенно определяли бы своеобразие поэмы,
немногочисленны. Ряд повествовательных мотивов, индийских лишь
по весьма отдаленному генезису и широко разошедшихся по
произведениям малайской классики, сказочная топонимика и — в
меньшей степени — ономастика, упоминание о садах Брамы и Ин-
дры, об Арджуне и Пандавах, некоторые изобразительные клише,
пропущенные сквозь яванский «фильтр», наконец, описание
церемоний, давно уже ставших «своими» в малайском мире,— вот то,
чем обязана поэма индийской традиции. В то же время
мотивация ключевых моментов сюжета, дидактическая линия, восходящая
к литературе зерцал и особенно напоминающая назидательные
пассажи «Повести об Исме Ятиме», с которое создатель (созда-
363
тели) поэмы, возможно, был знаком, пролизывающее ее
миросозерцание и этический пафос имеют явно мусульманское
происхождение, причем типичное скорее для классического, чем для ранне-
мусульманского, периода истории малайской литературы.
Таким образом, перед нами вновь произведение
синтетического характера, сходное в этом отношении с классическими
волшебно-авантюрными повестями, однако превосходящее большинство
из них прочностью местной основы, собственно малайским (или
малайско-яванским) колоритом. Являясь едва ли не лучшим
образцом малайской повествовательной поэмы, «Шаир о Бидасари»
позволяет составить представление о художественной специфике
всей романической разновидности этого жанра и потому
заслуживает подробного рассмотрения, тем более что имеющийся русский
пересказ поэмы '|216, с. 32—40] местами неточен, неполон и не
отражает ее стилистических особенностей.
Как уже отмечалось, шаир входит в малайскую литературу на
рубеже XVI и XVII вв. При этом особенности метрики и рифми-
ки «Поэмы о Бидасари» свидетельствуют о том, что она не могла
возникнуть ранее второй половины XVII в. |[187, с. 148—174]. В то
же время самая ранняя рукопись поэмы (Raffles Mal.7)
датируются 1814 г. [19, с. 133]. Таким образом, наиболее вероятное
время появления «Поэмы о Бидасари» — конец XVII—XVIII в. (ср.
)[289, с. 312]).
В первой строфе поэмы упоминается некая повесть (хикаят)-,
стихотворной версией которой она якобы является [86, с. 1].
Однако повести такой не сохранилось, и в настоящее время мы
располагаем лишь поэмой, которая в версии В. Р. ван Хевелла
разделяется на пять/повествований, или «песней» (кисса).
Начинается шаир рассказом о могущественном султане,
правящем в Кембаяте (Камбей, крупный порт в Гуджерате). Жена
государя ожидает рождения ребенка. Супруги ведут беззаботную
жизнь, покуда внезапно не приходит беда, превращающая их
радость в горе. На Кембаят нападает гаруда, разрушает город и
рассеивает его обитателей. Государь и государыня бегут из
дворца и, предавшись воле Всевышнего, долго скитаются по
непроходимым джунглям. Тем временем приближается срок разрешения
государыни от бремени, и она рожает девочку дивной красоты.
Описание рождения младенца, относящееся к лучшим строкам
поэмы, дает некоторое представление о ее стиле,
характеризующемся пристрастием к возвышенной «украшающей»
изобразительности и вместе с тем вниманием к психологически выразительным
-человеческим жестам, к «реалистической» бытовой детали s
Государь вместе с государыней отправился дальше,
Ведя жену за руку,
Супруги хотели добраться до берега реки,
1[Но государыня была так слаба], что через каждые
два-три шага они ненадолго останавливались.
Когда государь вышел на берег реки,
Увидел он перед собой палубное судно
С дощатым настилом и навесом на корме
364
И молвил: «Сядь, госпожа, свесь за борт ноги».
В ту пору полная луна
Разливала окрест яркое сияние.
Государыня совсем обессилела от боли,
И султан взирал на нее с состраданием.
Серебрился лик четырнадцатидневной луны,
В третьем часу ночи забрезжил рассвет,
Просветлело и лицо государя,
Преисполненного великой жалости к жене.
Чуть слышно повеял южный ветерок,
Громко запели лесные петухи,
Перекликаясь с павлинами в чаще джунглей
И словно бы приветствуя дитя султана.
Когда же облако скрыло край луны,
Уподобя ее лику девушки,
В смущении следящей за возлюбленным,
Государыня родила дочь.
Дочь родилась у супруги султана,
Красотой подобная Мандудари (мать Сери Рамы.— В. Б.),
Государыня рожала в невыразимых муках,
И султан держал ее голову на коленях [86, с. 3].
Не в силах с младенцем на руках пробираться сквозь лесную
чащу, супруги оставляют девочку на корабле и уходят, излив
свое горе в пространных монологах, один из которых изящно
стилизован в духе колыбельной. Завершается первая «песнь» темой
печали, в которой, однако, угадывается проблеск надежды:
Отправились в путь государь с супругой.
Одни, без спутников и друзей,
Шли они, томимые печалью,
По дороге, озаренной ясной луной.
Лунный свет играл на вершине высокой горы,
Рождая радостные переливы (86, с. 7].
Вторая «песнь» вновь начинается радостной нотой:
Теперь расскажем
О достославном купце,
Обладателе несметного богатства,
Жившем в неизменной радости [86, с. 8].
Купец этот, Лела Джаухара, обитает в стране Индрапура.
Единственное, что омрачает его жизнь,— это отсутствие детей.
Однажды вместе с женой он отправляется к реке, слышит
горестный плач и находит на корабле прелестную девочку, покинутую
царственными родителями. В восторге он приносит ее домой,
удочеряет и дает ей имя Бидасари. Чтобы уберечь названую дочь от
превратностей судьбы, купец извлекает из ее тела жизненный дух,
вселяет его в рыбку из чистого золота, прячет рыбку в ларец, а
ларец опускает в выложенный разноцветным мрамором пруд
посреди прекрасного сада. Бидасари живет в доме купца,
окруженная заботой и любовью, и вырастает красавицей, не знающей себе
равных.
В Индрапуре царствует Джохан Менгиндра. Минуло уже два
года с той поры, как он женился на «прекрасной, добронравной
365
и сладкоречивой» царевне Леласари, а государь по-прежнему без
ума от своей жены, исполняет все ее желания и даже помыслить
не может о другой женщине. Однажды государыня спрашивает
Джохана Менгиндру, готов ли он взять себе вторую жену, если
та окажется равной ей по уму и красоте. Государь долго
уклоняется от ответа, но в конце концов полушутливо признается, что,
если такая красавица сыщется, он, пожалуй, согласится «взять
ее в подруги госпоже». Леласари разгневана, государь пылко ее
утешает, однако страх перед возможной соперницей по-прежнему
терзает Леласари.
Как-то раз государыня посылает служанок к ювелиру и
заказывает ему золотой веер дивной красоты, инкрустированный
лазуритом и усыпанный алмазами. Когда веер готов, Леласари
вручает его служанкам и приказывает им обойти дома всех придворных
и под предлогом продажи веера высмотреть, нет ли в Индрапуре
девушки, превосходящей ее красотой. Служанки отправляются
исполнять 'повеление госпожи, и это позволяет автору
изобразить несколько не лишенных юмора бытовых сценок
разглядывания веера, переполоха на женской половине знатных домов,
насмешливого выспрашивания, не обеднела ли государыня, что
распродает свои драгоценности, и споров о цене со служанками.
Не найдя достойных внимания красавиц в кампунгах
придворных, служанки отправляются в дом купца Лелы Джаухары иу
пораженные прелестью Бидасари, тотчас понимают, что
государыне не сравниться с ней красотой. Веер приходится девушке по
душе, и, хотя жена купца, чуя недоброе, не желает его покупать,
Лела Джаухара, не умеющий ни в чем отказать дочери, уступает
ее слезам. Служанки возвращаются во дворец и рассказывают
государыне о красоте Бидасари:
Она прелестно поглядывает искоса
И улыбается, как подобает, потупя взор,
Ее кожа подобна цветку чемпаки,
И сама она прекрасна, будто только что написанная картина.
Щеки у нее, словно две половинки манго,
Плечи — точно у куклы театра теней,
Мы восхищались, любуясь ее горлом,
Ибо, когда она глотала бетель, красный сок просвечивал
сквозь кожу.
Ее нос подобен бутону жасмина,
Лицо — золотистое, будто яичный желток,
И светлое, словно горный хрусталь,
Его цвет оттеняют пышные волосы, подобные шапке
распустившихся цветов.
Ее губы алы, будто сок свеженадкушенного бетеля,
С красотой ее спорит цветок орхидеи в волосах,
Преумножающий прелесть Бидасари.
Зубы у нее, словно зернышки в надтреснутом плоде граната...
Ее груди, словно яйца золотистой иволги,
В восторге любовались мы ею,
Подобной царевне с горы Леданг6.
Бедра у нее, будто у кузнечика,
Она словно самоцвет в головной повязке...
Ее икры, точно удлиненные рисинки...
366
Пятки подобны куриным яйцам...
Ее пальцы изящны, словно иглы дикобраза,
К ним дивно подходит золотой наноготник на левой руке.
Хотя и много в нашей стране высокородных девиц,
Ни одной не сравниться с бидасари |86, с. 20—22].
Леласари, вне себя от зависти и гнева, приказывает
служанкам никому не рассказывать о красоте купеческой дочери и
отправляет одну из них, Данг Байдури, похитить девушку. Данг
Байдури удается подружиться с Бидасари, но похитить ее она
не может. К тому же служанка проникается к ней симпатией и
убеждает госпожу, что лучше ей попросту пригласить Бидасари во
дворец. Под тем предлогом, что у них с государем нет детей и
она готова удочерить Бидасари, Леласари зовет девушку к себе.
Купец и его жена, которых не оставляют дурные предчувствия,
нехотя отпускают дочь, предварительно (в духе Исмы Ятима)
наставив ее в придворном этикете.
При виде Бидасари государыня убеждается в правдивости
«!лов служанок о ее красоте и решает ее извести. Притворно
утешая оробевшую девушку разговорами о том, что она по первой же
просьбе сможет возвратиться домой, Леласари приводит ее в
темную комнату и там запирает.
Начинаются мучения Бидасари. День и ночь проводит она в
непроглядном мраке, тщетно рыдая, зовя мать и умоляя отпустить
ее. Государыня всячески истязает девушку: бьет ее, морит
голодом, а то, скрутив из своего каина жгут, обвязывает им упавшую
без чувств Бидасари-и волочит по полу, уверяя служанок, что та
покушалась на ее жизнь. Лишь появление на женской половине
Джохана Менгиндры заставляет государыню сохранять
осторожность, но Леласари всякий раз удается обмануть его, сказав, что
плач и стоны, доносящиеся из отдаленных покоев,— это всего лишь
голоса не в меру расшалившихся детей или рыдания
непослушного ребенка, которого ей пришлось наказать.
На мольбы Бидасари, не понимающей, какой же промах она
совершила, Леласари с жестокой откровенностью отвечает, что
ее вина — в ее красоте, которая не может оставить государя
равнодушным. Поэтому-то ей никогда не выбраться из своей
темницы.
Когда страдания Бидасари достигают предела, она, не в силах
более их выносить, обращается с молитвой к Аллаху, прося
лишить ее жизни:
Она промолвила голосом слабым:
«О господь мой Аллах, о Аллах, господь мой,
За какое тяжкое прегрешенье
Ты созданье свое ввергаешь в немилость?
Нет милости мне даже с кончик ногтя,
Призри на рабу твою, что с нею стало,
О Аллах, о Аллах, мой господь м владыка,
Скоро ль ты жизнь у меня отнимешь?
Убей рабу твою без промедленья,
Чтоб той душа сполна насладилась,
367
Кто беспричинно творил жестокость,
Меня унижая, как пожелает.
Пусть мой удел злосчастен и жалок,
Но зла никому я не причинила,
С отцом и матерью меня разлучили,
Нет силы дальше терпеть эти муки» [86, с. 37—38].
Эта молитва Бидасари — всесильная молитва униженного, о
которой писал Бухари аль-Джаухари в «Короне царей»,—
становится поворотным моментом всей поэмы. Тема печали и горя,
начатая рассказом о нападении гаруды на Кембаят, /постепенно
подходит к высшей точке. Кульминацией ее развития может быть
только смерть героини, и Бидасари действительно умирает, но
ее смерть приводит к неожиданным последствиям...
Ища избавления от страданий, девушка рассказывает
государыне о золотой рыбке, объясняя, что она тотчас умрет, если
рыбку вынимать днем из ларца, носить на шее, а ночью класть
обратно в ларец. Государыня завладевает рыбкой, и Бидасари
тотчас падает без чувств. Ее бездыханное тело относят в дом купца*
Лела Джаухара с женой горько оплакивают дочь, «подобную
отражению цветка на воде», но в полночь, когда государыня вновь
кладет рыбку в ларец, чары теряют свою власть над Бидасари и
она оживает. Так по неисповедимой воле Аллаха, услышавшего
молитву девушки, смерть оборачивается ее спасением.
Бидасари рассказывает родителям о своих мучениях во .дворце,.
Слушая ее, Лела Джаухара проливает слезы, которые в ночной
тьме, озаренной пламенем светильников, уподобляются темно-синим
сапфирам, и произносит один из самых резких в малайской
классической поэзии обличительных монологов, в типично
мусульманском духе проклиная свой век, придворных и саму государыню:
Не стремитесь к знатности и родовитости,
Взыскуйте доброго разума и сдержанной души,
Не водите дружбы с придворными дамами^
Ибо они — яд, а не целебное средство.
Нынешний век — это век смуты,
Сколь многих влекут лишь злодеянья!
Придворные дамы — сплошь преступницы,
Недостойные перешагнуть порог дворца.
Они неверны обещанью и слову,
Их привлекает только богатство,
А это, знайте о друзья и братья,—
Знаменья того, что Судный день близок.
Предрек Мухаммад, Печать Пророков:
О том дне возвестит явленье махди.
Придворные дамы по рожденью рабыни,
Что путь наверх торят клеветою...
Из-за своей безмерной злобы
Государыне дела нет до людей,
Всякий шаг ее — одно своеволье,
Ибо кто же может ей запретить.
Она хоть и владычица в короне,
Но притеснительница по нраву,
Ей неведомы справедливость
И страх перед Господом Миров.
368
Неужто в обычаях славных царей
Казнить своих подданных безвинно?
Единый господь ее проклянет,
И погибнет она от того проклятья |[86, с. 48].
Наутро супруга Джохана Менгиндры вновь надевает рыбку, ш
Бидасари, как и накануне, лишается чувств. Так повторяется изо*
дня в день, однако тревога не покидает Лелу Джаухару. Он
страшится гнева государыни и ее рыскающих повсюду служанок.
Поэтому купец строит для дочери дом в лесной чаще, разбивает
вокруг него сад с цветниками и беседками, не уступающий по
красоте небесным садам Индры и Брамы, и поселяет Бидасари во
дворце за семью высокими оградами. Оживши ночью, Бидасари
тоскует в одиночестве, точно сова в лунную ночь. Подобно первой
«песне» поэмы, вторая «песнь», начавшись в радостных тонах,
завершается печальной темой, но, как и прежде, в ее
заключительных строках слышатся нотки будущего преодоления этой печалив
Стало легче на сердце у Бидасари,
Ибо остался с ней попугай,
С которым вела она разговоры,
И вот так день за днем проводила.
Купец же наведывался к ней часто,
Сказавшись, что едет травить оленя [86, с. 53].
Две последние строки, как мы увидим, содержат намек на?
содержание следующей «песни».
Третья «песнь» поэмы вновь начинается темой радости, причем
радости двойной — рассказом о счастливой жизни государя Джо-
хана Менгиндры и его жены Леласари:
Господа, услышьте повествованье,
Рассказывают, что государь Джохан-шах
Был мудрым и могучим владыкой,
Все дни свои проводившим в радости.
Что ж до царицы Леласари,
То она ликовала, веселилась безмерно
С той поры, как жизни Бидасари лишила,
И радость ее что ни день прибывала |[8б, с. 54].
Государю снится, что ему на колени упала луна. Наутро ок
просит везира истолковать сон, и тот отвечает, что он предвещает
скорую женитьбу. Джохан Менгиндра повторяет, что не возьмет
жену, уступающую достоинствами Леласари, а второй такой не
сыскать. Везир, не столь убежденный в последнем, смеясь, просит
государя не спешить — как бы не пришлось потом менять
решения. В итоге вся эта несколько легкомысленная сценка
выливается в маленькое зерцало о свойствах царских невест, четыре и&
которых везир считает важнейшими:
Во-первых, должна быть равна по рожденью,
Во-вторых, богатейшей во всей державе,
В-третьих, прелести неотразимой,
В-четвертых, пусть будет умна и учтива [86, с. 56].
24 Зак. 147
369
Доказательство того, что Бидасари всецело воплощает этот
идеал, во многом определяет дальнейшее развитие действия. Пока
же государь покидает залг для приемов и возвращается к
Леласари. При его появлении та прикидывается огорченной, чем
подвигает Джохана Менгиндру на длинный нежный монолог,
завершающийся цепочкой любовных пантунов. Утешенная клятвами в
верности и обещаниями добыть ей во время завтрашней охоты
живых оленя и лань, Леласари засыпает. Государь же, вспоминая
свой сон, тоскует в одиночестве, глядит на луну, проглянувшую
в разрыве облаков, и до утра не может уснуть, прислушиваясь
ж жалобным крикам совы. Лунная ночь, «сова (малайский символ
влюбленного), с которой в конце второй «песни» автор поэмы
сравнил грустящую Бидасари, исподволь придают рассказу о
бессоннице Джохана Мен-гиндры иносказательный характер, делая
его предвестием встречи героев.
Наутро государь с кавалькадой всадников отправляется на
охоту. В этот день, однако, удача изменяет им. В тщетных поисках
дичи охотники внезапно натыкаются на сад, разбитый посреди
леса Лелой Джаухарой. Спутники уговаривают государя поскорее
покинуть это место, ибо оно, должно быть,— обиталище злых
духов, но любопытство пересиливает страх, и Джохан Менгиндра
один входит во дворец. Пройдя через богато убранные покои и не
найдя в них ни души, государь распахивает дверь опочивальни и
видит спящую на ложе девушку, укутанную в покрывало.
Догадавшись, что перед ним человек, а не дух, Джохан Менгиндра
приподнимает покрывало и едва не лишается чувств,
ослепленный красотой Бидасари. Тотчас влюбившись в нее, он пытается
разбудить красавицу, но все напрасно. Тогда, оставив в знак
любви початый им бетель в сосуде Бидасари, государь уходит, обещая
вернуться на следующий день. Эту ночь Джохан Менгиндра вновь
проводит без сна, а Бидасари, очнувшись, находит в своем сосуде
початый бетель, не на шутку пугается, но, видя, что все
по-прежнему на местах, решает, что это проделки какого-то лесного
бесенка.
На следующий день государь во второй раз приезжает во
дворец Бидасари. Заметив, что ночью здесь кто-то хозяйничал —
купался и лакомился фруктами, он решает остаться и вызнать
тайну спящей красавицы. В полночь Бидасари оживает. При виде
государя она пугается, хочет бежать, но тотчас попадает в его
объятия. Немного успокоив девушку, узнавшую своего повелителя,
Джохан Менгиндра начинает расспрашивать ее о том, как она
очутилась в лесном дворце. Бидасари признается, что она дочь
Лелы Джаухары, но не хочет говорить, почему тот скрывает ее
в лесу. Больше всего Бидасари страшит, что государь, готовый
тотчас просить у купца руки новой возлюбленной, увезет ее в
город, где она опять окажется во власти искушенной в интригах
Леласари. Поэтому Бидасари старается убедить государя, что
второй брак прогневит его супругу, но Джохан Менгиндра уверяет
возлюбленную, что она говорит так лишь по неведению и доста-
370
точно хоть немного пожить подле Леласари, чтобы узнать, как:
та добронравна и как справедлива в своих симпатиях и
антипатиях.
Бидасари оказывается в безвыходном положении, которое
автор поэмы рисует с большой психологической убедительностью.
Джохан Менгиндра уверен в душевном благородстве жены и,,
конечно же, воспримет рассказ о ее кознях как навет. В то же
время он столь настойчив в расспросах, что уклончивые
объяснения, чреватые проговорками («государыня удочерила меня, и тогда
жизнь стала мне не в жизнь»), лишь обостряют его
любопытство. Наконец, после бесчисленных заверений государя в его
любви и готовности поверить каждому ее слову Бидасари
рассказывает Джохану Менгиндре о своих мучениях во дворце и смерти-
после того, как Леласари завладела золотой рыбкой. Государь,,
потрясенный коварством жены, обещает тотчас привезти Бидасари'
рыбку, прощается с девушкой и скачет в столицу.
Возвратившись в Индрапуру, Джохан Менгиндра ничем не
выдает, что ему известно о злодеяниях Леласари. Он говорит, что
задержался потому, что хотел немного рассеяться, на упреки
жены обещает уж завтра-то вернуться не с пустыми руками и
смеется, что, если опять потерпит неудачу, купит дичь на базаре. При
этом реплики его двусмысленны и содержат намеки на встречу с
Бидасари и желание жениться на ней. Шутя с женой, государь
как бы ненароком касается ее груди и нащупывает под одеждой
золотую рыбку, ночью же обнаруживает, что рыбка исчезла, и<
убеждается в правдивости слов Бидасари. Тем временем
государыне снится сон, что какой-то вор сорвал с нее каин, и, опозорив,
скрылся. Значение сна становится ей понятным, когда наутра
Джохан Менгиндра, обнимая жену перед отъездом на охоту,
внезапно срывает у нее с шеи рыбку и, не обращая внимания «а
проклятия и мольбы, уезжает, не сказав ни слова.
К своему изумлению, Бидасари, очнувшись, видит, что на
дворе день. Вскоре она слышит громкие звуки оркестра и в страхе
прячется за ложе. Попугай же принимается распевать пантуны*
предсказывающие ей скорую встречу с государем:
Опущен бетель в хрустальный флакон,
Сеет шафран девица Малини;
Ты томишься, раджа влюблен,
Встреча вас ожидает ныне [86, с. 90}.
Вскоре во дворец является государь, находит возлюбленную и„
нежно ее успокоив, отдает ей рыбку. Вслед за тем он посылает
за купцом и его женой и приказывает слугам созывать всех
подданных.
Придя на зов Джохана Менгиндры, приемные родители
Бидасари видят дочь и государя, сидящих рядом, и поражаются, что
по красоте они подходят друг другу, «точно Индра и небесная
дева». Государь ласково принимает купца, напоминает о прежней
дружбе и, отвергнув его униженные заверения, что довольно с
24*
371
Бидасари и места служанки, подающей еду, просит ее руки.
Затем Джохан Менгиндра приказывает везиру выстроить в лесу
город, и тот прежде всего возводит тройное кольцо стен с
железными, медными и серебряными воротами. Первые из них охраняют
джинны, раксасы и воинственные эфиопы, вторые — отряды духов
и пери, третьи — бесчисленное воинство. За стенами высятся
золотые дворцы и шелестят прекрасные сады, украшенные
беседками, главная из которых с ее девятью расходящимися „от центра
залами подобна распустившемуся цветку. Начинаются
сорокадневные предсвадебные торжества, во время которых все — бедные и
богатые, везиры и военачальники — пируют, веселятся, тешатся
игрой в мяч и представлениями театра масок и теней. По кругу
.ходят усыпанные алмазами чаши, и неослабевающий интерес к
ним гостей позволяет автору поэмы нарисовать забавную
картину всеобщего опьянения:
На пиру даже кравчие напились,
Их глаза запылали красным огнем,
Бахвалились, о приличьях забыв,
Точно тигры, готовые броситься в бой.
Во хмелю качались, как цветы базилика,
А цветы, что за уши они заложили.
Поникли и свесились, уши закрыв,
Отчего все еще пьянее казались [86, с. 95—96].
Бражничество сменяется пением и танцами искусных танцоров,
чьи разноцветные каины распахиваются, точно хвосты у
павлинов, готовых броситься друг на друга. Это приводит прекрасных
зрительниц в такой восторг, что они даже не замечают, как у
них самих распускаются уложенные в пучок волосы. На сороковой
день состоится церемония бракосочетания, после чего молодые
удаляются в опочивальню. Вслед за ними летит любимец
Бидасари — попугай, который, взмахивая крыльями и словно бы танцуя,
распевает пантуны, первые строки которых содержат нескромные
намеки:
Дрожит жеребенок осиротелый,
В приправу горячую воду вливают;
Любимую царь ласкает умело,
До сердца ласки его проникают.
Чей это пруд в берегах золотых?
(Пербатасари7 владельца имя.
(Прежде ночей не бывало таких —
Нынче солнце луну обнимет [86, с. 99].
Бидасари сердится на расшалившуюся птицу и кидает в нее
орехом, государь же только смеется шутке. Вся эта сценка
поразительно напоминает «игры с павлинами» из «Повести об Исме
Ятиме».
Выходкой попугая завершается описание свадебного веселья, и
следующий пассаж о блаженстве влюбленных в брачную ночь
выдержан едва ли не в суфийских тонах:
372
Меж тем настала ночная пора,
Распахнув все врата любовной страсти.
Когда же минул полночный час,
Госпожа в забытьи разметалась на ложе,
Подобная цветку оливы или бесстыдной туберозе,
Чей аромат опьяняет весь мир.
Опочила Бидасари, исполненная грусти,
Ее каин приспустился, обнажив стан,
Изящный, точно побег ангсоки,
И государь целовал его, отдавшись желанью.
Не приходила в себя Бидасари
До той поры, покуда не забрезжил рассвет,
Лицо ее светилось от счастья,
Ибо во сне она видела юных гурий.
Забылась она, взирая на дела Аллаха,
Лишилась сознанья, созерцая атрибуты Аллаха,
Обеспамятела от милостей Аллаха
И словно бы утонула в море Аллаха [86, с. 100].
Бидасари проводит с государем несколько дней в любви и
наслаждениях. Доброта превозмогает в ее душе обиду, и как-то раз
она спрашивает мужа, отчего бы ему не навестить первую жену.
Государь не хочет и слышать об этом, но Бидасари настаивает, и
хт в конце концов отправляется к Леласари. Та, однако,
поворачивается к супругу спиной и говорит, что теперь, став зятем купца
и мужем «лесной обезьяны», он -не :ровня ей, природной царице.
Джохан Менгиндра пытается образумить жену, уверяя ее, что
Бидасари незлобива и что стоит лишь обуздать ревность, как «яд
может стать целебным зельем, а прежний враг оказаться другом».
Его слова, однако, не производят на Леласари никакого
впечатления. Она кричит государю, что он, безмозглый, теперь опозорен
на целый свет и потому может убираться к своей «грубой, как
дерюга», возлюбленной. Джохан Менгиндра в гневе уходит,
бросив напоследок жене, что за любовь его никто не осудит, а вот она
своей жестокостью действительно стяжала дурную славу и
заслуживает сурового наказания. Тем самым в соответствии с полной
переменой в судьбах героинь третья «песнь» получает как бы
двойное окончание: печаль Бидасари сменяется радостью, тогда
как радость Леласари — печалью.
Итак, государь обрел жену, в которой сочетаются три
совершенства идеальной супруги. Недостает ей только родовитости.
Собственно раскрытию царственного происхождения Бидасари и
посвящена четвертая «песнь», начинающаяся печальной темой.
Правитель Кембаята, возвратившийся в свою страну после того,
как гаруда улетела, неизменно тоскует о пропавшей дочери:
С той поры, как государь вернулся на трон,
Все дни свои проводил он в печали,
Утирая на глаза набежавшие слезы
И не зная, где расспросить о дочке (86, с. 104].
У государя рождается сын, которому дают имя Путра Бангса-
ван. Когда мальчик вырастает, он спрашивает родителей о
причине их горя и узнает о сестре, покинутой ими в джунглях. Ца-
373
ревич берется ее разыскать и собирает всех прибывших в Кем-
баят купцов, чтобы расспросить их о Бидасари. В числе прочих
к нему приходит сын одной из нянюшек Бидасари — Сенапати*
Пораженный сходством Путры Бангсавана с воспитанницей
матери, он рассказывает ему о том, что Лела Джаухара удочерил
найденную в лесу девочку, как две капли воды похожую на
царевича. Оба спешат к государю, и после беседы с Сенапати тот
окончательно удостоверяется, что Бидасари и есть его дочь.
Царевич с Сенапати и его друзьями отплывают в Индрапуру. Купец,
переселившийся к тому времени в лесной город, радостно его
принимает и, облачив в роскошные одежды, ведет к Джохану Мен-
гиндре. Обитатели города восторженно перешептываются, что
юношу не отличить от Бидасари и что он прекрасен, словно Ард-
жуна.
У государя Путра Бангсаван пытается выдать себя за
безродного скитальца, разыскивающего сестру, но Джохан Менгинд-
ра по его внешности и манерам догадывается о царственном
происхождении юноши. К тому же и Сенапати раскрывает инкогнита
царевича, рассказывая государю Индрапуры, что Путра
Бангсаван — сын правителя Кембаята, а Бидасари — его сестра и,
стало быть, лишь приемная дочь купца. Государь ведет юношу к
молодой жене, и тот рассказывает изумленной Бидасари, как на
Кембаят напала гаруда и как измученные дальней дорогой
государь и государыня оставили новорожденную дочь в лесу, где ее
и подобрал купец. Все чрезвычайно обрадованы, в особенности
государь, узнавший, что Бидасари, как и он, происходит из
царского рода.
Весть об этом мгновенно разносится по городу и довершает
унижение Леласари, которую уже покинуло большинство
придворных дам. Она сетует на свою судьбу, проклинает неверных
наперсниц, которые бросили ее, едва заслышав о /гневе государя,
раскаивается в содеянном и посылает служанку за мужем.
Однако, несмотря на ее мольбы и заступничество Бидасари,
уговаривающей Джохана Менгиндру отослать придворных дам к
«старшей сестре» и сменить гнев на милость, ибо лишь ревность
двигала Леласари, государь не склонен так быстро прощать обиды.
Он не желает примиряться с женой и, сказав, что лишь в
будущем, возможно, ее навестит, заканчивает свой монолог такими
словами:
Пускай она прежде изведает горе,
Чтобы понять, в чем ее вина.
Если с раскаяньем наедине побудет,
Скорей в прегрешеньях своих разберется [86, с. 128—129].
Завершается четвертая «песнь» темой радости. Путра
Бангсаван, ставший ближайшим другом Джохана Менгиндры,
безмятежно проводит дни с ним и Бидасари. Одно лишь смущает его
покой— родители не могут разделить с ним счастья обретения
сестры и друга. Царевич собирается ехать в Кембаят, чтобы
рассказать им о том, что он отыскал Бидасари.
374
Начало последней, пятой «песни» ознаменовано
кратковременным возвращением темы печали. Она звучит в рассказе Путры
Бангсавана о горе его отца, тоскующего без вестей о дочери, и в
словах Джохана Менгиндры, безмерно огорченного мыслью о
разлуке с другом:
Государь пришел в страшное смятенье,
Его душу переполнила невыразимая печаль [86, с. 1301.
Все, однако, обходится как нельзя лучше. В Кембаят
посылается гонец, и тем самым оба затруднения разом разрешаются.
Правитель Кембаята с войском спешит в Индрапуру и, прибыв
туда, торжественно вступает в столицу:
Несли воины по копью и щиту,
И казалось — то в путь отправилась крепость,
Столь много их было, что померкла луна,
Будто женщина, когда ей взгрустнется.
Сверкали дротики и мечи,
Точно остров посреди океана...
Государь восседал на бешеном слоне,
Бетеленосцы ехали следом,
Зонт царства со звонкими колокольцами
Был раскрыт над головой государя.
Голоса барабанов, труб и горнов
Сливались в оглушительный рев [86, с. 139}.
Происходит трогательная встреча Бидасари с родителями, после
чего окончательно воцаряется общее веселье. Снаряжаются
корабли. Все едут развлечься на острова, где придворные дамы
собирают розовые и белые раковины жемчужниц, а Путра Банг-
саван испрашивает у отца разрешения поохотиться. На охоте с
ним случается эпизод, близко напоминающий основное действие
поэмы и по ассоциации как бы призванный оживить в памяти ее
общее содержание. Преследуя тигра, царевич сбивается с пути
и попадает в зачарованный сад, разбитый посреди леса неким
государем Махараджей Лелой. Повелитель пери, двухголовый Иф-
рит, сразил государя и теперь держит в заточении его
прекрасную дочь. Путра Бангсаван убивает Ифрита, рассеивает чары и,
женившись на царевне, основывает город Индранегара. Поэма
завершается рассказом о благополучном правлении всех трех
государей в своих странах и запоздалом раскаянии Леласари. Тема
радости окончательно торжествует.
Даже в таком обобщенном пересказе «Поэмы о Бидасари»
раскрываются значительность, сложность и многообразие ее
идейного содержания, искусное обращение с традиционными
изобразительными средствами, которым автору (авторам) во многих
случаях удается придать дополнительное изящество, мастерское
владение иносказаниями, символическими намеками,
многозначностью высказываний. Перед нами, таким образом, не одна из
многочисленных сказок о «гонимой героине» (см. ,[230, с. 161—
212]), архетипичеокие черты которых угадываются в сюжете
поэмы, и не «рядовой» любовный «роман» о соединении прекрасных
375
царевича и царевны. Мотивы сказок и «романа», присутствующие
в поэме, органически сочетаются с элементами мусульманской:
дидактики: мы находим здесь «зерцала» для придворных и для
благородных дам, наставления о супружеской добродетели и
многое другое. Примечательно, что элементы эти даны не просто как
некие более или менее уместные вкрапления. Они весьма активны
и, как мы видели, в значительной степени определяют само
построение поэмы.
Еще важнее другое. Пафос поэмы — не столько в
увлекательности и красочности приключений героев как таковых (в этом
отношении «Поэма о Бидасари» значительно уступает многим хи-
каятам и шаирам, например почти столь же популярному «Шаиру
о Мамбанге Джаухари»), сколько в утверждении возвышенного^
этического идеала. В социальном аспекте этот идеал предстает
как справедливость, от века предначертанная непреложным
законом Аллаха. Именно стремление к торжеству справедливости
рождает в поэме характерные для нее нотки религиозно
окрашенного социального критицизма. В аспекте индивидуальном,
характерологическом он же выступает как вера в победу
человеческой доброты, гуманности, умения прощать обиды над
жестокостью и злобной заносчивостью.
Раскрытие этого идеала — не столько непосредственно
дидактическое, сколько косвенное,— осуществляется через показ
взаимоотношений героев и их психологии, пусть и понимаемой скорее
в типизирующем, чем в индивидуализирующем, ключе, через их:
монологи, придающие поэме лиризм и одновременно черты
драматичности, наконец, через ясное, мотивированное и не осложненное
боковыми ответвлениями движение сюжета, и делает «Поэму а
Бидасари» подлинно художественным произведением.
Совершенство же разработки этих трех моментов (психологизм, лиричность,
сюжетность), которые, как уже отмечалось, до определенной
степени отграничивают поэтическую разновидность малайского
романического эпоса от его прозаической разновидности, в сочетании с
тонкой изобразительностью и богатством стиховой инструментовки
позволяют считать поэму образцовым шаиром.
Несмотря на то что основным средством организации
повествования в «Поэме о Бидасари» является сюжет, а не композиция,
степень композиционной упорядоченности поэмы также весьма
велика. В целом пятичастная композиция поэмы по своей
завершенности и уравновешенной симметричности весьма близка той,,
что мы наблюдали в «Повести об Индрапутре». Два ведущих
композиционных принципа «Поэмы о Бидасари» обращают на себя
особое внимание.
Первый из них — доминантная роль центра как в структуре
поэмы в целом, так и в построении ее отдельных «песней»,
которая и придает ей отмеченную симметричность. Как и в «Повести
об Индрапутре», главная «песнь» поэмы — центральная (третья).
Именно в ней, как и в девятой главе повести, мы наблюдаем
полную перемену в судьбе героев, принимающую в поэме форму свое-
376
образного хиазма: горе Бидасари сменяется радостью, тогда как
радость Леласари — горем. Первая (I—II) и вторая (IV—V)
пары «песней», соответственно объединенные темой печали и темой
радости, расположены симметрично по отношению к центральной
третьей «песни». Точно так же важнейшие в смысловом и
сюжетном отношении события каждой из «песней» (рождение Бидасари,
ее молитва, встреча с государем и т. д.) помещаются в их
середине, что придает уравновешенность и отдельным «песням».
Семантическим же и одновременно композиционным центром всей
поэмы оказывается встреча Бидасари с государем.
Второй композиционный принцип «Поэмы о Бидасари»
определяет характер движения двух основных тем, создающих ее
эмоциональную «фактуру». Уже из пересказа поэмы видно, что
эти темы (печаль или радость) непременно «звучат» в начале и
конце каждой из «песней». Расположение их
(радость—печаль/радость—печаль//печаль—радость/печаль—радость) 8 контрастно как
внутри «песней» так и на их «стыках», симметрично относительно
центральной (третьей) «песни» и^ замыкается в кольцо.
Контрастные столкновения тем радости и печали сближают
«Поэму о Бидасари» со многими повестями о Панджи, в
частности с «Повестью о Чекеле Ваненг Пати», однако
мировоззренческие основания у этих столкновений в поэме иные. В повестях о
Панджи в них акцентировалась прихотливая и мотивированная,
как правило, эстетически («чтобы не прервалось представление
даланга») игра безличной судьбы. В поэме, в соответствии с ее
мусульманским пафосом владыкой радости и печали героев
выступает всеблагой и милосердный личный бог. Он, слышащий
даже «воздыхания малейшего муравья», тотчас отвечает на горячую
молитву предавшихся на его волю героев, превращая радость
притеснителя в печаль, а горе униженного — в радость. Таким
образом, в самом композиционном строе «Поэмы о Бидасари»
воплощается главное в ней — ее этическая концепция.
Поэма о Селиндунг Делим е. Поэма о Ятиме
H е с т а п е. По своей тематике, стилю и множеству совпадающих
сюжетных мотивов к «Поэме о Бидасари» примыкают «Шаир о
Селиндунг Делиме» (он же «Шаир о Се-ри Бениан», или «Шаир
об Индре Лаксане») и «Шаир о Ятиме Нестапе» (т. е. «Поэма
о Злосчастном Сироте»). «Шаир о Селиндунг Делиме» ;[20,с.318—
320; 196, с. 212—213], пользовавшийся не меньшей известностью,
чем «Поэма о Бидасари» (сохранилось не менее 12 его списков
;и литографированное издание), вероятно, относится к тому же или
немного более позднему времени, что и последняя. Если «Поэма
о Бидасари» близка по сюжету к сказке о спящей царевне, то
«Поэма о Селиндунг Делиме» несколько напоминает историю
Золушки.
Посетовав на свою неискушенность в литературном деле, из-за чего его
поэма подобна расползающейся по нитке ткани, отвергаемой покупателями [22, с. 62],
автор шаира начинает свой рассказ с описания благословенного царствования
377
государя Дэва Пери (или, в другом варианте, Дэва Шах Пери — Повелитель
Пери) в стране Бандар 'Фирус (Бирюзовый Город). Далее, как и в «Поэме о Би-
дасари», следует повествование о нападении на его царство гаруды. Чудовищная
птица разрушает Бандар Фирус и убивает его властителя. В живых остаются:
лишь сын Дэва Пери —Бангса Кара, ученик суфийского шейха из Танджунгпу-
ры, и дочь государя — Сери Бениан. Им удается спастись, так как при
появлении гаруды Сери Бениан прячется в железный сундук, а Бангса Кара —в
бамбуковую флейту.
Царевич строит лодку, чтобы бежать с сестрой из разрушенной столицы, а
она между тем, страдая от голода, съедает плод граната, в образе которого
воплотился царевич Дэва Лаксана, беременеет от этого и рождает дочь Селиндунг
Делиму. Вскоре Сери Бениан умирает, но перед смертью она кладет
новорожденную в ларец и наказывает брату никогда с этим ларцом не расставаться и ни-
при каких обстоятельствах его не открывать.
После смерти Сери Бениан Бангса Кара отплывает куда глаза глядят и через-
некоторое время достигает некой страны, правитель которой только что
скончался, не оставив наследника. Нового государя по решению придворных должен
отыскать мудрый слон, который останавливает свой выбор на юном пришельце-
Бангса Кара восходит на престол, берет в жены семерых дочерей покойного
государя, а ларец отдает младшей из них — своей любимице. Не в силах превозмочь
любопытства, старшие сестры открывают ларец и находят в нем прелестную
девочку. Селиндунг Делима вырастает редкой красавицей, поразительно похожей
на мать. Злые старшие жены, боясь, что Бангса Кара в нее влюбится, всячески
унижают девушку и под видом ничтожной служанки держат ее при кухне.
Как-то раз, когда Бангса Кара собирается посетить Танджунгпуру, «кухонная-
девушка» просит его разыскать ей на острове Банду (или Бинду) черный камень
и побег ротанга. Государь забывает о ее просьбе, и тогда на корабль
обрушивается буря, которую предсказывала Селиндунг Делима. Бангсе Каре приходится*
повернуть корабль к острову, и, лишь разыскав то, о чем просила «кухонная
девушка», он благополучно возвращается домой. Из ротанга Селиндунг Делима
делает качели и время от времени качается на них, чтобы развеяться и забыть о
своих невзгодах. Жены государя продолжают ее преследовать, но вскоре выясняетсяг
что «кухонная девушка» в действительности племянница Бангсы Кары. В гневе
государь делает всех шестерых служанками Селиндунг Делимы, но та столь
добра, что прощает их.
Затем с помощью камня и побега Селиндунг Делиме удается воскресить мать
и призвать своего отца — Дэву Лаксану. Дэва Лаксана убивает гаруду,
восстанавливает Бандар Фирус и делает Сери Бениан его правительницей. Дочь же-
выдает замуж за царевича Танджунгпуры по имени Раджа Удара.
Если в «Поэме о Селиндунг Делиме» центральная тема
страданий героини несколько приглушена относительно
самостоятельными историями ее матери и дяди, то в «Поэме о Ятиме Нестапе»
все внимание сосредоточено на жизненных перипетиях ее
протагонистов — царевича Асмара Дэвы (Божество Любви — имя,
характерное для повестей о Панджи) и его старшей сестры — Интан
Чахайи (Сияющий Алмаз).
Сюжет шаира развивается по той же «параболической» схеме,,
что и в «Поэме о Бидасари». Нисходящая «ветвь» параболы —
описанное шаг за шагом погружение героев в «пучину страдания».
В стране Индрачита царствует государь Сери Махараджа. У
него четверо жен, которые в поэме именуются просто Старшая,
Средняя (Путри Тенгах), Младшая и Младшенькая (Путри Бунгсу).
Путри Тенгах рождает государю двоих детей: царевича Ахмада
Маулану и царевну Сери ди Аван (Заоблачное Сияние). Путри
Бунгсу — также двоих: Интан Чахайю и Асмару Дэву. Образ это^
378
го непоседливого 'и своенравного мальчика, которому суждено
стать главным героем поэмы, особенно удался ее создателю
(создателям). Вот, например, сценка его встречи с Ахмадом Маула-
ной в тронном зале султана:
Воскликнул тогда Асмара Дэва,
На шею бросившись старшему брату:
«Братец, как без тебя скучал я,
Давненько с тобою мы не видались!
Прошу тебя, братец, поймай мне оленя,
Подари канчиля в бесценной клетке.
Хочу я ими полюбоваться
С приятелем, сыном Дато Сери Вангсы.
Если же их не подаришь мне, братец,
Больше сюда ни за что не приду я,
Ни пить, ни есть никогда не буду,
Умываться — и то навсегда перестану» [149, с. 46].
Более всех других жен Сери Махараджа любит прекрасную
и добрую Путри Бунгсу. Он проводит с ней дни и ночи, окружает
заботой и лаской и ни в чем не может ей отказать. Столь же
счастлива поначалу и жизнь ее детей, и, хотя своим наследником
справедливый государь избирает старшего сына Ахмада Маулану,
он наставляет юношу не делать никаких различий как между
родными и сводными сестрами и братом, так и между «четырьмя
матерями». Путри Тенгах, однако, ревнует мужа к младшей жене
и, жестоко ее ненавидя, ищет способа погубить соперницу.
Как-то раз в ненастный, дождливый день, когда государь и
Путри Бунгсу отдыхали в опочивальне, она прокрадывается на
кухню и уговаривает служанку подсыпать яд в блюдо младшей
жены. Слуга, подававший к столу, случайно ставит это блюдо
перед султаном, и тот умирает в тяжких мучениях. Путри Тенгах
тотчас обвиняет в отравлении мужа Путри Бунгсу, и Ахмад Мау-
лана, всецело доверяющий матери, без дознания бросает ее в
темницу. Путри Тенгах с дочерью учиняют расправу и над детьми
любимицы Сери Махараджи. Сначала их изгоняют из дворца,
затем лишают всего имущества и драгоценностей и, наконец, когда
Ахмад Маулана узнает, что по ночам брат с сестрой тайком
навещают мать, заковывают в цепи, «точно обезьян», заставляют
ходить за курами, а после захода солнца запирают. Саму же Путри
Бунгсу за встречи с детьми заточают в подземелье и, оставив без
воды и пищи, заваливают сверху тяжелой крышкой.
Эффект рассказа о мучениях Асмары Дэвы и Интан Чахайи
многократно усилен искусным контрастом с их прежним
безмятежным бытием в окружении всеобщей любви. Постепенно
отчаяние детей доходит до предела, и по мере его нарастания до своей
низшей точки опускается нисходящая «©етвь» сюжетной параболы.
Когда же жизнь становится для брата и сестры хуже смерти, они,
как и Бидасари, обращаются с молитвой к Творцу, после чего
сюжет устремляется по восходящей «ветви», представляющей собой
последовательный, постепенный и симметричный первому рассказ
об избавлении от мук.
379
Итак, дети горячо молятся Аллаху, а простодушный Асмара:
Дэва, желая хоть как-то «утолить печаль», поет грустную
песенку о своей злосчастной судьбе. Ее слышит одна из дворцовых
служанок. Пожалев брата и сестру, она выпускает детей на волк>
и советует им бежать из Индрачиты. С трудом пробираясь сквозь
джунгли, Инта'Н Чахайя и Асмара Дэва встречают сначала
ласточку, указывающую им дорогу, а затем дракона (нагу), который,
вместо того чтобы пожрать детей, помогает им выбраться из леса и:
дарит волшебный камень, исцеляющий любые болезни. В конце
концов сироты достигают пределов страны Индранегара и
поселяются в доме излюбленного персонажа малайской романической
эпики — старухи-цветочницы Ненек Кебаян.
С помощью волшебного камня Асмара Дэва, принявший имя
Ятим Нестапа (Злосчастный Сирота), исцеляет дочь правителя:
Индранегары — Джохан-шаха, которую ужалила змея, и женится
на ней. Благодарный отец царевны возводит юношу на престол-
своей страны.
При дворе правителя Индранегары воспитываются его племян-
ники — царевичи Белантапуры (Пограничного Города) Дэва Шах-
дан и Дэва Персада, чью страну разорила все та же неутомимая,
гаруда. Асмара Дэва близко сходится с обоими юношами и
выдает сестру замуж за Дэву Персаду, который был страстно в нее-
влюблен и безуспешно стремился добиться свидания с ней через-
своих слуг-панакаванов, переживших, как и подобает истинным
панакаванам, ряд комических приключений. Через некоторое
время все трое нападают на Индрачиту, успевшую в отсутствие
царственных брата и сестры прийти в полный упадок и запустение. Они
наносят поражение Ахмаду Маулане, освобождают из подземелья1
Путри Бунтсу, а вместо нее заключают туда злую Путри Тентах,*
которая вскоре и .умирает. Раскаявшегося же Ахмада Маулану
Асмара Дэва прощает и оставляет правителем Индрачиты. На era
сестре он женит Дэву Шахдана.
Последний подвиг Асмары Дэвы — победа над гарудой и
освобождение Белантапуры, где воцаряется Дэва Персада, в то время
как его брату — Дэве Шахдану даруется страна Каранган Мег&
(Вереница Облаков). Поэма, таким образом, приходит к
благополучному завершению, восходящая «ветвь» сюжетной параболы
достигает начального уровня, и все строго симметричное построение
завершается моральным уроком:
О мои господа и братья,
Стремитесь обдумывать всякий поступок,
Бегите зависти и вероломства,
Не то себя погубите сами.
Вероломства .и зависти избегайте,
О будущем думайте неизменно,
Не то вас всех по воле Аллаха
Без промедленья постигнет возмездье [149, с. 191].
Сходство трех последних шаиров между собой, а также бли*
зость к ним, правда в меньшей степени, «Поэмы о Кен Тамбу-
380
хан», специфика которой обусловлена не столько темой и
этическим пафосом, сколько принадлежностью к кругу сказаний а
Панджи, едва ли может вызвать сомнения. Во всех этих поэмах,
конфликт порожден кознями на женской половине дворца —
гонениями старших жен (или матери) героя на его любимую
младшую жену (или новую возлюбленную). Во всех поэмах героиця
терпит унижения, жестоко страдает или принимает смерть, чтобы,
затем по законам романической эпики восторжествовать над
мучительницей и соединиться с любимым. При этом чрезвычайно*
наглядное, выполненное со знанием дела описание атмосферы
женской половины (пури) заставляет вспомиить слова
'исследователя «Шаира о Кен Тамбухан», связывавшего реалистичность
поэмы с ее возможным зарождением в среде придворных певиц —
бидуан, прекрасно знакомых с жизнью обитательниц дворца |[247,.
с. 125]. К этому вопросу нам еще предстоит вернуться.
Поэма о Хитроумной Царевне. Поэма об Абд
аль-Мулуке. Содержание шаиров, главным действующим
лицом которых является женщина, отнюдь не ограничивается лишь
темой гонимой младшей жены. Среди этих поэм, воздающих
должное женским добродетелям, по крайней мере еще две,
сохранившиеся в нескольких списках, заслуживают упоминания.
Первая из них — «Поэма о Хитроумной Царевне» П41]—по
сюжету несколько напоминает средневековые европейские фаблио
и новеллы раннего Возрождения, а в еще большей степени —
истории о женской хитрости и находчивости, известные
ближневосточным читателям по сочинениям типа «Тысячи и одной ночи»
или «Синдбад-наме», а их малайским собратьям — по «Повести о
мудром попугае» и особенно «Повести о молодом капитане».
В стране Белантадури в высоком тереме на берегу реки обитает дочь
государя этой страны, прозванная Хитроумной Царевной. Весть о ее красоте
достигает Дамаска, и дамасский царевич отплывает в Белантадури, чтобы посвататься^
к своей заочной возлюбленной. Она, однако, отвергает сватовство, и тогда
опечаленный царевич, чтобы рассеяться, устраивает празднество на корабле,
бросившем якорь в устье реки неподалеку от терема. Во время пира он достает из
ларца чудесную золотую куклу, умеющую искусно танцевать, и жалуется ей на-
свою судьбу. Царевна замечает из терема куклу и, желая завладеть
полюбившейся ей игрушкой, говорит отцу, что готова стать женой дамасского царевича.
Государь, считая слова дочери очередной причудой, не желает обращать на них:
внимания. Тогда Хитроумная Царевна посылает на корабль одну из своих
придворных дам по имени Пуспа Чандра (Лунный Цветок), и та, выдав себя за?
свою госпожу, проводит с царевичем две ночи и в награду получает куклу.
Хитроумная Царевна в восторге. Наутро, вооружив всех своих служанок:
кувшинами, она отправляет их к причалу, и девушки принимаются, забавляясь,,
поливать водой матросов царевича. Когда же те в сердцах начинают их бранить,,
служанки со смехом рассказывают, как ловко Хитроумная Царевна провела их
господина.
Посрамленный царевич приходит в ярость, но, желая отомстить, сдерживает-
гнев и вторично просит руки Хитроумной Царевны. Правитель Белантадури,
уставший от капризов дочери, дает согласие на брак, и царевну, предчувствующую*
недоброе, отвозят на корабль, который без промедления отплывает в Дамаск..
В пути царевич дает волю гневу и дарит насмешницу своему слуге, безобразному
Си Ламату. Сам же после возвращения домой женится на дочери бендахары.
381
Все же царевне хитростью удается сохранить целомудрие, заставляя
простоватого супруга всю ночь напролет давить для нее кокосовое масло или
низать бусы. Как-то раз Хитроумная Царевна показывает золотую куклу дочери
<бендахары и соглашается отдать ей игрушку, если та под покровом ночи взойдет"
на ложе Си Ламата, а ее проводит в «расписанную облаками» опочивальню мужа.
Ветреная дочь бендахары так увлечена куклой, что не может отказать царевне,
и с того дня они меняются мужьями. Вскоре обе женщины беременеют и
рожают сыновей, как две капли воды похожих на отцов.
Царевич безмерно удивлен при виде своего плосконосого и пучеглазого чада,
.лишенного каких бы то ни было примет царственного происхождения. Его
недоумение, однако, длится недолго — однажды в «детскую» случайно вбегает
мнимый сын Си (Ламата, и сначала бендахара, а затем и сам царевич признают в нем
наследника дамасского престола. С великим трудом вымолив у Хитроумной
Царевны прощение, царевич женится на ней, сурово карает Си Ламата, а свою
первую жену возвращает в дом родителей.
Второй шаир — «Поэма об Абд аль-Мулуке» [54],—созданный
около 1846 г. риауской аристократкой Салехой, сестрой известного
историографа, законоведа и грамматиста Раджи Али Хаджи,
который, видимо, и осуществил его окончательную редактуру [58,
с. 63], посвящен уже не столько женскому хитроумию, сколько
женской верности. Начинается этот шаир, не уступающий по
объему «Поэме о Бидасари», с рассказа о султане Абд аль-Мулуке,
правившем вместе с супругой Сити Рахмат в стране Барбари.
По прошествии некоторого времени Абд аль-Мулук отправляется
странствовать и посещает некое государство Бан. Прибытие в эту
страну кораблей султана выливается в одну из самых живых
сцен поэмы. При их приближении дочь банского правителя —
Сити Рафия, сетуя, что ей ничего не видно, посылает служанок за
подзорной трубой:
Поспешили служанки приказ исполнить.
Трубу подзорную на треноге
Принесли в покои царевны —
И Рафия в.се корабли осмотрела.
Едва госпожа насладилась их видом,
Служанки все разом к трубе потянулись,
Тогда отняла ее Ратна Джумала
И молвила: «О Аллах высочайший,
Эдак никто ничего не увидит,
Трубу из рук не рвите поспешно!»
Но тотчас Махаббат трубой завладела
И прыснула, рот прикрывая ладонью.
Так развлекались служанки царевны,
Глядели и не могли наглядеться,
Передавали трубу друг дружке,
1 Любуясь флотом юного князя.
Видели витязей многоразличных:
Кто с бородой, кто в усах подвитых,
Тюрбаны иных бахрома украшает,
Тот — грузен, а этот —высок и строен.
Одни — свирепые, точно тигры,
Сжав кулаки по палубе бродят;
Другие — с трубками в частых алмазах
Черный дым изо рта выпускают [103, с. 267—268].
Влюбившись в Сити Рафию, Абд аль-Мулук женится на ней.
Обе супруги государя любят друг друга, как родные сестры, и
382
Барбари процветает, покуда в один прекрасный день не
случается беда.
Султан Хиндустана —Шихабаддин, мстя за то, что прежний
правитель Барбари некогда бросил в темницу его дядю,
пытавшегося продать государю партию гнилой ткани, нападает на Абд
аль-Мулука, разбивает его войско, а самого вместе с Сити Рахмат
берет в плен и увозит в Хиндустан. Там он уговаривает
приглянувшуюся ему пленницу стать его женой, но ни посулы, ни пытки:
не могут заставить ее изменить супружескому долгу.
Подлинным протагонистом второй, наиболее насыщенной
событиями части поэмы выступает уже не ее заглавный герой — Абд
аль-Мулук, а его младшая жена Сити Рафия. Во время
нападения Шихабаддина ей удается бежать в джунгли, где в хижине-
отшельника она рождает сына. Стремясь освободить супруга, она
оставляет ребенка на попечение святого старца и пускается в?
странствия. Переодевшись в мужскую одежду, Сити Рафия
добирается до страны Барбахан, где убивает злокозненного везира и?
помогает воцариться законному наследнику престола — Джама-
ладдину. Затем она достигает пределов Хиндустана, под видом,
купца проникает во дворец и, узнав, что жители этого
государства изнывают под игом несправедливого и деспотического
султана, вместе с вельможами Шихабаддина составляет против него*
заговор. При поддержке благодарных барбаханцев они свергают
хиндустанского правителя и заточают его в темницу, а Абд аль-
Мулука и Сити Рахмат освобождают. Абд аль-Мулук догадывается,,
что его избавитель, облаченный в мужское платье,— не кто инаяг
как Сити Рафия, но не решается поверить своей догадке, и Ситв
Рафие приходится ему открыться. Все трое безмерно счастливы.
Тем временем возмужавший сын Сити Рафии и Абд
аль-Мулука— Абд аль-Гани отправляется на поиски родителей и, миновав
Барбахан, приходит в Хиндустан. Здесь по ложному обвинению
его ведут на суд к государю. Абд аль-Мулук узнает в юноше своего*
сына, щедро вознаграждает воспитавшего его отшельника и
возводит царевича на престол Бана.
Обе описанные поэмы, обладая всеми обязательными
чертами романических шаиров и обнаруживая искусство их
создателей в технике сюжетного повествования и умении метко^
подмечать и «реалистически» фиксировать характерные
черточки в поведении героев и в окружающей их обстановке, в то
же время заметно отличаются от сочинений типа «Шаира о Би-
дасари» или «Шаира о Ятиме Нестапе». Они почти совершенно-
лишены того специфического обаяния, которое придавал
последним синтез индо-яванских и ближневосточных элементов в
системе изобразительных средств и в передаче атмосферы
происходящего. Синтез, по существу, распался, и, кратко характеризуя
эти поэмы, можно вместе с Р. О. Уинстедтом отметить, что перед
нами произведения, имеющие «отчетливую мусульманскую
окраску» [196, с. 214].
Завершая рассмотрение шести описанных выше поэм, следует
383
вернуться к вопросу об их связи с песенной традицией
средневековых малайских певиц — бидуан. Этот вопрос, немаловажный для
изучения возможных устных прототипов шаира |[247, с. 120] и его
эволюции, по-видимому, является частью более общей проблемы
-соотношения прозаической и поэтической форм малайского
романического эпоса и различий в характере их функционирования.
Исследование многих любовных шаиров создает впечатление, что
их творцов сильнее, чем создателей хикаятов, волновали вкусы и
чаяния женской аудитории, женская тематика.
Об этом свидетельствуют уже сами заглавия значительной
части любовных поэм, данные по имени героини, а не героя, что
"чрезвычайно характерно для хикаятов. Даже беглый обзор
шаиров, описанных в пяти основных каталогах малайских рукописей
\[20; 17; 22; 19; 24], подтверждает сделанное наблюдение. Из
тринадцати романических поэм, сохранившихся не менее, чем в трех
списках9, девять названы по имени героини, а в трех из четырех
-оставшихся («Поэма об Абд аль-Мулуке», «Поэма о Ятиме Не«
стапе», «Поэма о Султане Яхье») женские персонажи играют по
:крайней мере столь же важную роль, как и мужские, причем
ка«к «Поэма об Абд аль-Мулуке», так и «Поэма о султане Яхье»
написаны женщинами, последняя — некой Даенг Вух из семьи
правителей Риау (ум. около 1850 г. :[22, с. 65]). Таким образом, в
рамках малайской любовной эпики как целого романический шаир
-оказывается своего рода женским дополнением более
«мужественного» хикаята (речь идет, разумеется, не об абсолютном правиле,
<а о некой тенденции). Не исключено, что именно этим отчасти
и обусловлены отмечавшиеся выше черты, которые
противопоставляют шаир волшебно-романическому хикаяту.
Переходя к вопросу о функционировании романических
шаиров, нельзя не обратить внимание на слова индонезийского
исследователя Зубера Усмана, отмечавшего, что их исполнителями,
как правило, были женщины [536, с. 152]. В XIX в. романические
шаиры, причем в первую очередь упоминавшиеся выше поэмы с
женщиной — главным действующим лицом («Шаир о Кен Тамбу-
хан», «Шаир о Бидасари», «Шаир о Селиндунг Делиме» и др.),
составляли основу репертуара . нескольких видов музыкальной
драмы, разыгрывавшейся смешанной или чисто мужской труппой
,[478, с. 520; 383, с. 303—314]. В то же время имеются основания
полагать, что первоначально состав придворных
музыкально-драматических трупп был скорее женским и что, подобно одной из
форм камбоджийской драмы, он приобрел свой смешанный
характер «после того, как она ([эта разновидность спектакля.— В. Б.]
перестала быть придворным развлечением и стала широко
популярна в провинции» ,[475, с. 133]. По крайней мере «королевская
опера» султана Патани в XVII в. включала лишь певиц,
мужчинам же в ней отводилась роль музыкантов [155, с. 115—116,
257—259]. Сплошь женской по составу была и такая форма
придворного музыкального театра, как майонг, известная в Келанта-
не по крайней мере с XVIII в., а в Патани и того ранее [475,
384
с. 134]. Кстати сказать, ее репертуар включал в себя пьесу о
некоем государе Радже Тангкей Хати, основу которой составлял
уже известный нам конфликт старшей и младшей жен с
непременными мучениями и торжеством последней |[475, с. 139]. Таков
же был состав труппы и келантанского придворного «балета» —
ашик, социальный статус «примы» которого был достаточно
высок, чтобы она могла стать наложницей правителя .[155, с. 258].
Любимой женой султана, едва не восшедшей на престол,
выступает в «Повести о Патани» и главная певица упоминавшейся
«королевской оперы» — Данг Сират. Увлечение ею султана приводит
уже не к романической, а к вполне реальной борьбе между ней
и государыней и стоит Данг Сират жизни -1155, с. 115—121].
Неизвестно, исполнялись ли шаиры певицами придворных
трупп, однако пение их в малайском театре XIX в. делает такое
предположение вполне вероятным. Во всяком случае,
произведения, весьма близкие к шаирам, несомненно, звучали на женской
половине дворца. Об этом свидетельствует, в частности, сцена из
«Повести об Исме Ятиме», в которой описывается ночное
томление придворных дам, наложниц и младших жен государя:
«Тун Джива припомнила ласки государя и, дабы утешиться, запела песню
о юном султане Хайраналлахе. Тун Ратна Вати, думая о своем возлюбленном,
стала напевать песню о статном молодом красавце; Тун Манду Деви, томясь от
страсти к государю, утешилась песней о прекрасном юноше, тосковавшем,
скрывая свою любовь (лагу буджанг самар дендам лела меринду)... Тун Пасир Деви
горевала, вспоминая, как государь, беря ее из дома отца — советника правителя,
обещал: „Я предпочту эту девушку всем моим многочисленным наложницам".
Тун Махадеви Ратна же печалилась о тех временах, когда государь, бывало,
брал ее потешиться с ним в уединенный покой, и старалась рассеять грустные
мысли песней о прелестном духе-крошке» (134, с. 55—56].
Некоторое представление о том, чем могли быть эти песни,
дает другое волшебно-авантюрное произведение — «Повесть о
Корисе Менгиндре». В нем придворные певицы, желая намекнуть
герою на его чрезмерное женолюбие (судя по воспоминаниям Тун
Пасир Деви, то же самое мучит и наложниц в «Повести об Исме
Ятиме»), поют ему нечто в этом же роде — «Песню о юноше, в
мечтах обуянном любовью» (Лагу буджанг муда лендам хайяли).
В этой довольно разработанной в сюжетном отношении и
пространной песне повествуется о молодом царевиче, полюбившем
принцессу Джамджам Кемалу Деви, которая, однако, зная, что у
влюбленного много других жен, отвергает его, бросается в залив
и превращается в золотую рыбку. Все старания царевича, его
обращение к нянюшкам принцессы и к астрологам не помогают ему
соединиться с возлюбленной, и герою остается лишь превратиться
в коршуна и до конца своих дней проливать слезы, сидя на
дереве у берега залива в тщетном ожидании, не появится ли золотая
рыбка [100, с. 112—115].
Эта песня чрезвычайно напоминает малайские аллегорические
лоэмы типа «Шаира о Тамбре (Карпе)» [143, с. 277—288] или
«Шаира о Пунггуке (Сове)» и позволяет предполагать, что и пес-
25 Зак. 147
385
ни из «Повести об Исме Ятиме», если и не представляли собой
шаиры (последнее также не исключено), были в немалой степени!
с ними схожи. В этой же связи любопытно отметить, что один из
аллегорических шаиров — «Поэма о шмеле и цветке жасмина»-
[22, с. 34] названа в рукописи тем самым термином «икат-ика-
тан» («стихотворное произведение»), которым обозначались поэмыг,
исполнявшиеся певицами из Патани [155, с. 115, 258].
Таким образом, несмотря на разнородный и фрагментарный
характер имеющихся в нашем распоряжении данных, они в
совокупности все же позволяют предположить, что4 среда дворцовых:
певиц, придворных дам, наложниц малайских правителей, а
также их младших жен и родственниц и была преимущественной
сферой функционирования значительной части романических
шаиров, в которой или для которой они в первую очередь создавались
и идеалы которой отражади.
Поэма о Силам<бари (Поэма о сеньоре Косте)..
Как мы видели, анализируя «Поэму о Бидасари», купеческая
среда играет весьма важную роль уже в романических шаирах
синтетического типа. Еще более значительной становится она в
таких поздних, отчетливо мусульманских по духу (а то и по
происхождению) образцах данного жанра, как «Поэма об Абд аль-
Мулуке» и «Поэма о султане Яхье» (она же «Поэма о мудром
купце» |[17, с. 25—26]), в которых главная героиня выступает в;
купеческом обличье, или в «Поэме о Тадж аль-Мулуке», где
наряду с подобным же образом переодетым царевичем купец
является одним из основных персонажей, а его рассказ приводит в
действие «пружину» сюжета >[394, с. 313—314].
Существует также и целая группа шаиров, специально
посвященных купеческой теме, что опять-таки до некоторой степени
разграничивает поэтическую и прозаическую разновидности
малайской романической эпики. К этой группе относятся «Поэма об Абд
ас-Самане [20, с. 340], «Поэма о купце» N[22, с. 78—79], «Поэма
о Сити Кубах» |[22, с. 77], «Поэма о глупом купце», созданная
около 1861 г. дочерью Раджи Али Хаджи — Раджей Кульзум i [22,,
с. 72—73], «Поэма о купеческой торговле», написанная неким
господином Сиами в Сингапуре в 1843 г. )[24, с. 57—58], и
некоторые другие. К сожалению, почти все эти поэмы имеются лишь в
рукописях, и о их содержании приходится судить лишь по таким,
например, на редкость лаконичным заметкам: «В нем (,,Шаире о
•глупом купце".— В. Б.) рассказывается, ,как богатый, но
недалекий купец потерпел неудачу в испытании, которому его подвергла:
жена; она же спасла мужа от неприятностей» [196, с. 217]. Или:
«„Шаир о купце" — о любви купца к некой Сити Леле; несет
отпечаток купеческой жизни и обладает разработанным описанием
любовных чувств» [22, с. 78] и т. д. Все же даже такие заметки
в совокупности с наблюдениями над рассмотренными выше
поэмами показывают, что «женская» и «купеческая» темы в
романических шаирах нередко переплетаются, делая этот жанр несколько?
386
более демократическим по содержанию, чем жанр
волшебно-авантюрных повестей.
Такое переплетение тем особенно характерно для, пожалуй,
лучшего и наиболее популярного (известно не менее шести его
списков) из «купеческих» шаиров — «Поэмы о Силамбари» 10,
доступной в нескольких далеко не совершённых сингапурских
изданиях i[137]. Поэма эта, по некоторым данным написанная палем-
бангским султаном Махмудом Бадраддином между 1803—1811 гг.
175, с. 225—226], но в действительности едва ли принадлежащая
ему [196, с. 216; ср. 124], прекрасно воссоздает быт и нравы
малайского «третьего сословия» и к тому же написана
неупотребительным в других шаирах восьмисложником на разговорном
жаргоне, принятом, по-видимому, в торговых городах.
Со страниц ее встает именно такой прибрежный город ранне-
колониальных времен с укрепленной цитаделью правителя и
окружающими ее многонациональными кварталами; с каменными
складами и домами, крытыми черепицей; с ювелирными лавками,
где, не скупясь, проматывают деньги на драгоценности для
возлюбленных, и разнообразными базарами, ;из которых чаще других
упоминается рыбный рынок; с портом, в котором между берегом
и торговыми кораблями без устали снуют многовесельные
шлюпки, «подобные сороконожкам». Перед нами проходит длинная
вереница обитателей этого города: индийцев, азартно сражающихся
в кости, китайцев, чинно прогуливающихся по улицам,
обмахиваясь веерами, или, попивая арак, тешащихся искусством
танцовщиц, умелых вышивалыциц-балиек, несостоятельных должников-
яванцев и т. д. Все они так или иначе связаны с торговлей, и мы
не только знакомимся в поэме со всей купеческой иерархией:
богатыми купцами, факторами, писцами, старейшинами кампунгов,
•фискальными чиновниками, но и узнаем из нее, что даже сводня-
балийка, в которую преобразилась в шаире традиционная Ненек
Кебаян, промышляет продажей расшитых подушек.
Торговая атмосфера накладывает отпечаток даже на образный
строй поэмы. Ее создатель в непременных описаниях одеяний
героев никогда не забывает упомянуть о цене той или иной
принадлежности туалета и, особенно внимательный к мануфактурным
товарам, точно приказчик в лавке, разворачивает перед нами
вороха разноцветного муслина, узорного шелка, дорогих платков
и каинов, затканных цветами, «которые не отличить от
настоящих». Точно так же и любовные иносказания в шаире нередко
строятся на «торговой основе», что заметно, в частности, в
разговорах героев об удачах и неудачах купли и продажи подушек,
которыми зарабатывает на жизнь сводня («две головы на одной
подушке» — стандартный для пантунов, играющих немалую роль
в поэме, символ любовников).
Купеческий быт показан в «Поэме о Силамбари» не только
-косвенно, самим ходом действия, но и непосредственно в целом
ряде сцен. Вот прибывший в город главный герой шаира —
португалец сеньор Коста нанимает кирпичный пакгауз, перевозит с
25*
387
корабля товары и препоручает их косому фактору 1137, с. 2]*
Вот он наведывается в лавку и, напомнив фактору, что скоро
задует муссон, с которым пора возвращаться, спрашивает, как идут
дела. Фактор сетует, что половина товаров еще не распродана,
да к тому же яванцы много набрали в долг, и разгневанный
хозяин приказывает пустить оставшееся по любой цене и посылает
слугу-банданца к должникам [137, с. 20—21]. Вот, наконец, перед
отплытием он грузится, запасает воду и провиант и, позвав
старейшину кампунга, рассчитывается с ним за аренду i[137,
с. 37—38].
Разумеется, однако, автор «Шаира о Силамбари» взялся за
перо не только для того, чтобы изобразить все фазы торговой
деятельности от одной смены муссона до другой. Сюжет поэмы —
любовный, а герои ее, как и подобает обитателям
разноплеменного малайского города,— это португалец Коста, бирманка (или,
скорее, монка) из Пегу — Лела Маянг, ее муж — китайский купец
и старуха-сводня — балийка. Хотя полная «погруженность» поэмы
в реалистически описанный быт позволяет автору весьма ярко-
изобразить каждого из них, особенно колоритна, как это обычно
и бывает, фигура сводни.
Вот, например, как описывается она во время первой встречи
с сеньором Костой:
Всем взяла старуха сводня,
В плутнях опытна, речиста,
К слову — два присловья в рифму,
Кто зайдет — нальет стаканчик [137, с. 9].
А вот сцена их прощания:
Выйдя, вдовушка рукою
Помахала и, прощаясь,
Набок голову склонила,
Как павлин, что чистит перья [137, с. 12].
Итак, сеньор Коста (согласно рукописи Cod. Or. 1895, он — уроженец
Батавии [17, с. 20]) приезжает торговать в некий приморский город и как-то раз,
прогуливаясь по нему, замечает в окне одного из домов хорошенькую жену
китайского купца (согласно Cod. Or. 1895, его зовут Чен Го) — Лелу Маянг. Закрыв
зонтик и сдвинув набекрень шляпу, Коста принимается ее разглядывать и тотчас
страстно влюбляется. Красавица же, отметив про себя, что этот франт в сапогах
с алмазными пряжками получше собой, чем ее грузный супруг, быстро о нем
забывает.
Сеньор Коста отправляется к сводне и просит ее преподнести Леле Маянг
бриллиант в семьсот реалов ценой и условиться о свидании. Однако, хотя
португалец и приглянулся жене купца, она не желает ответить на его чувства,
правда несколько посожалев об этом после ухода старухи. Сеньор Коста, вконец,
истерзанный любовными муками (но при этом довольно быстро возвращающийся'
к жизни после нескольких чаш «огненного арака», поднесенных сводней, и уже
заигрывающий с ее служанкой), вторично отправляет балийку к своей
возлюбленной. На этот раз с помощью букета цветов, опрыснутых приворотным зельем*,
и платка, в соответствии с любовным этикетом, хранящего аромат сеньора (и
немалую дозу того же чудесного снадобья), сводня добивается успеха, дарит
красавице кольцо с еще более ценным камнем и склоняет ее к побегу. Лела Маянг
388
в знак согласия посылает молодому человеку свой собственный, не менее
ароматный платок и заверения, что у нее найдется средство исцелить его любовный
недуг.
Сеньор Коста спешит завершить все дела, готовит корабль к отплытию, что
немало пугает заподозрившую вероломство Лелу Маянг, и на следующий день
вновь едет на берег. Все складывается как нельзя лучше — китаец зовет
португальского купца на вечеринку, и, когда хозяин и гости, напившись до бесчувствия,
засыпают, Коста с Лелой Маянг отплывают на родину, отсалютовав
гостеприимному городу и обманутому мужу пушечным залпом.
Китаец в отчаянии кидается к правителю и предлагает ему любые деньги,
если он снарядит погоню за беглецами. Погоня, однако, не имеет успеха —
решительный португалец одерживает победу в морском бою, и изрядно потрепанные
преследователи возвращаются ни с чем. Китаец не только лишается жены, но —
вновь купеческая черточка — оказывается окончательно разоренным расходами
на неудачную экспедицию, о чем ему бесстрастно сообщает писец. Сводня,
обвиненная купцом в том, что она недурно заработала, как змея «обвив талию
его золотца», уверяет, будто и помыслить о таком не могла, а любовники меж тем
благополучно прибывают в Европу. Финал поэмы, однако, менее беспечен, чем ее
основное содержание,— родители гневаются на сына за похищение чужой жены,
и он сам начинает задумываться над правильностью своего поступка. На этой
несколько неожиданной ноте поэма и обрывается. Не исключено, что она не была
закончена (в версии Cod. Or. 1895 за браком хозяев следует женитьба слуги
Косты, банданца, на служанке Лелы Маянг).
При всей забавности и занимательности сюжета «Поэмы о
Силамбари», насыщенности ее традиционными описаниями
любовных чувств основу выразительности шаира составляют не они, но
та удивительная «кинематографичность», с которой показан
каждый шаг разворачивающейся перед нами интриги. Эта
«кинематографичность» проявляется уже в пристальнейшем внимании к
отдельным жестам героев, тем более выразительным, что руки
каждого из них постоянно движутся, постоянно чем-то заняты.
Так, Лелу Маянг мы застаем за игрой с ручной птицей (этим
скрыто подчеркивается ее затворничество, и дальше автор сравнит
с птицей в клетке саму красавицу в доме купца) или за
расчесыванием волос, которому она предается с таким усердием, что
«даже мушка в них не запутается». Сводню встречаем за
вышиванием перед неизменным зазубренным осколком зеркала.
Самого сеньора КоЬту видим то с зонтиком, то с чашей, то с веером
или следим за тем, как он примеряет красную шляпу, «уподобясь
горящему фитилю».
Подчеркнутая «зримость» описаний свойственна и построению
целых эпизодов поэмы, особенно сцене встречи Лелы Маянг со
сводней, в которой «кадр» за «кадром» изменения в позе и
выражении лица героини выражают гамму обуревающих ее чувств,
В первом «кадре», нюхая подаренный сводней букет, молодая
женщина сидит к старухе спиной, слушает в пол-уха и лишь
изредка искоса поглядывает на рассказчицу. Все же красноречие
сводни (а равно и зелье) делают свое дело. Во втором «кадре»
Лела Маянг, потупившись, жует бетель и чувствует, как в ее душе
разгорается страсть. Замечает это и сводня и продолжает
подливать масла в огонь. В третьем «кадре» супруга китайца, все так
же потупя взор, начинает вздыхать, и от жалости к страдающему
389
влюбленному на глазах у нее наворачиваются слезы. В
четвертом — она впервые улыбается и говорит, что согласна бежать с
Костой, наконец, в пятом — радостно смеется любовным селокам
старухи. На этом сцена обрывается. Сводня, гордая собой,
шествует через рыбный рынок, чтобы рассказать Косте о победе, и
мы на мгновение крупным планом видим пучок ее волос, комично
утыканный цветами, отчего кажется, что голову старухи венчает
корона ||"137, с. 28—34].
Не менее «кинематографичный» (а быть может, точнее — ваян-
говый) характер носит рассказ о празднестве у купца-китайца,
во время которого танцовщица усаживается на колени сеньору
Косте, подпевающему музыкантам, а хитрая сводня тем временем
зажигает светильник за занавеской, и Лела Маянг наблюдает
оттуда за танцем, а более — за возлюбленным, португалец же
через неплотную просвечивающую ткань любуется ее красотой .[137,
с. 46—47].
Чрезвычайно пластично воссоздана и сцена бегства героев,
когда Лела Маянг, выпив для храбрости чашу арака и с головы
до ног закутавшись в синий муслин, становится во главе
процессии. За ней следуют сеньор Коста и его верные телохранители-
банданцы, сгибающиеся под тяжестью сундука с «приданым»,
который, несмотря на опьянение страстью, не забыла захватить с
собой предусмотрительная влюбленная. Поспешно пробираются
они через многолюдный китайский квартал, сторонясь его
обитателей, фланирующих по улочкам, и садятся в лодку не ранее
того, как автор истощает все богатство синонимов, выражающих
понятие «быстро» [137, с. 50—52].
«Аккомпанемент» ведущему зрительному ряду составляют ряд
обонятельный, включающий наряду с запахами благовоний
ароматы цветов, упоминаемых едва ли не на каждой странице, а
также звуковой, дающий знать о себе не только в описании
различных шумов, шорохов, голосовых модуляций, но и в
насыщенной фонической фактуре поэмы. Достаточно указать на такие ее
аллитерационные «перезвоны»:
Милам масук мука, пинту
(Старуха вошла в дверь);
£уанг ламбей самбил лалу
(Помахала |[рукой], проходя);
Милам суланг синьюр сеньюм.
(Старуха протянет [чашу] — сеньор улыбнется) ;
Лалу ката милам балу
(Затем сказала старуха вдовица).
Подобных примеров можно привести великое множество.
Такова эта поэма, благодаря своей реалистичности
являющаяся связующим звеном между романическими и историческими
шаирами, «до сих пор кажущаяся живой, яркой и своеобразной» и
представляющая собой, по мнению Р. О. Уинстедта, «одно из
немногих подлинно малайских по духу произведений» [ 196, с. 215—
216].
390
Поэма о Мамбанге Джаухари. Наряду с шаирами, в
основе которых лежат более или менее специфичные для
стихотворной разновидности малайской романической эпики «женская»
и «купеческая» темы, существует немало поэм, по композиции и
содержанию вполне аналогичных волшебно-авантюрным повестям
(хикаятам). Мы уже упоминали о шаирах, представляющих
собой непосредственные переложения тех или иных хикаятов.
Можно назвать и ряд шаиров того же типа, не имеющих в малайской
литературе прозаических дублетов. Одни из них наглядно
демонстрируют черты арабо-мусульманского влияния, другие — индо-
яванского (например, «Шаир о Сунгинге» |[20, с. 332—333], «Шаир
о радже Дарме Адиле» [20, с. 343], «Шаир о Мам-банге
Джаухари»), наконец, третьи носят синтетический характер («Шаир о
султане Яхье» J20, с. 322—324], «Шаир о страстной любви» ;[73а,
с. 91—133] и др.). Число первых особенно велико, причем
нередко все действие в них происходит на Ближнем Востоке («Шаир
о султане Мансуре» [20, с. 337—338], «Шаир о Кахре Машхуре»
[20, с. 330—331]), а некоторые представляют собой переделки
арабских и персидских сочинений («Шаир о Сиди Ибрахиме,
султане Египта» |[30, с. 329; 103, с. 386—419], «Шаир о Тадж аль-
Мулуке» [394, с. 313—314]).
Наиболее значительный в художественном отношении и в то
же время самый популярный шаир «хикаятного» типа (известно
не менее семи его списков, представляющих различные редакции
памятника)—это «Поэма о Мамбанге Джаухари» {483; 143].
В одной из версий (Cod. Or. 1896) она насчитывает 8200 строк и
потому может считаться одним из самых пространных шаиров в
малайской поэзии.
Заметная примесь яванских слов и некоторые
морфологические особенности языка поэмы выдают ее палембангское
происхождение. И действительно, «Шаир о Мамбанге Джаухари» был
создан в первые десятилетия XIX в. в Палембанге, судя по
данным рукописи Cod. Or. 1896, Пангераном Панембаханом Бупати
(Пангераном Адикесумой) — братом палембангского султана,
сосланного голландцами на остров Тернате [75, с. 226—227]. Перу
Пангерана Панембахана Бупати принадлежали также
аллегорическая «Поэма о Розе» [75, с. 201] и религиозно-дидактический
«Шаир патут делапан» («Восьмеричная поэма»), «более
примечательная по форме, чем по содержанию» |[75, с. 227], и обязанная
своим названием тому, что в ней по шаирной схеме (аааа, вввв
и т. д.) рифмовались не только концы стихов, но и концы
полустиший (образцы см. {20, с. 357; 86, с. XVI]). Не исключено, что
«Поэма о Мамбанге Джаухари», сочиненная, по словам
переписчика, для того, чтобы «утешить смятенное сердце» ее автора,
была написана им еще до 1819 г. По крайней мере в датированном
этим годом анонимном «Шаире о войне с Ментенгом» (т. е.
голландским комиссаром Мунтинге, потерпевшим поражение от па-
лембангцев в 1818 г.) мужественные защитники' города
сравнивались не только с героями ваянга Арджуной, Сальей, Бомой
391
и др., но и с Дэвой Шахпери — одним из главных персонажей
«Поэмы о Мамбанге Джаухари» [75, с. 226].
Содержание «Поэмы о Мамбанге Джаухари» (Cod. Or. 1896
по [483] ) в основных чертах таково. За облаками, в городе За-
миндур Аламе правит государь Лангкара Индра — счастливый
обладатель единственной дочери — Кесумы Индры,
прославившейся своей красотой во всех небесных странах. Когда девочке
исполняется четырнадцать лет, ее отец умирает, оставив дочь на
попечение своему верному везиру. Кесума Индра просватана за
небожителя Дэву Шахпери из Белантапуры, который частенько
наведывается в Заминдур Алам и тешится там в своем дворце
представлениями ваянга.
После смерти государя Дэва Шахпери просит везира
ускорить приготовления к свадьбе, но тот решает отсрочить ее еще
на год и отправляет посланца, чтобы оповестить об этом
подвластных правителей. Между тем по воле царевича для его
невесты строят дворец из драгоценных камней, окруженный садом
с прохладными прудами, благоухающими цветниками и
дорожками, посыпанными мелкими алмазами, которые переливаются,
перекатываясь под ногами гуляющих. Дворец получает название
Асмара Брангта (Любовное Томление), и теперь жених может из
своих покоев любоваться возлюбленной.
Семь месяцев он издали созерцает ее красоту и наконец, не
выдержав столь тяжкого испытания, под покровом ночи едва не
проникает в опочивальню царевны, однако в последний момент
обуздывает свой порыв. Все же не уверенный в том, что он и в
дальнейшем найдет в себе силы противостоять соблазну, Дэва
Шахпери решает на оставшиеся сто дней вернуться домой.
Чтобы не огорчать невесту, приготовления к отъезду ведутся в тайне,
и, попировав в последний день во дворце Асмара Брангта,
царевич наутро садится в летучую повозку и уносится в Белантапуру.
Царевна грустит, но четверо верных подруг — Лела Кенчана
(Бесценное Золото), Ратна Пекача (Алмаз Чистой Воды), Ратна
Менгиндра (Царственный Алмаз) и Лела Чумбуан (Прелестная
Обольстительница) — скрашивают ее одиночество и рассеивают
печаль.
Действие переносится в другую небесную страну — Беланта-
индру, где царствует могущественный государь духов Мамбанг
Джаухари, с которым никто не может сравниться в магических
знаниях и сокровенной силе. Государь холост, ибо не может найти
достойную себя невесту, и, узнав о смерти Лангкары Индры и
временном отъезде Дэвы Шахпери, решает похитить Кесуму Инд-
ру. Он превращается в шмеля, а четверо его доверенных слуг —
Куда Джаухари, Куда Пахлаван, Куда Сентика и Куда Правира
(имена вполне подходящие для повестей о Панджи) — в птиц, и
через семь дней непрерывного полета герои достигают Заминдур
Алама и незамеченные спускаются в сад Асмара Брангта.
В это время Кесума Индра с подругами, облачившись в
лучшие одежды, приходит купаться к пруду и собирать цветы. Осве-
392
жившись, девушки возвращаются во дворец, шутят, плетут
гирлянды, и царевна, разрезвившись, бросает охапку цветов в Лелу
Кенчану. Та от неожиданности вскрикивает: «Ах, мамбангЬ
(мамбанг — не только имя героя, но и название одной из
разновидностей духов; поэтому восклицание придворной дамы
соответствует чему-то вроде: «Ах, черт!») Подруги перетолковывают ее слова
по-своему и приводят Лелу Кенчану в смущение расспросами о
том, что она знает о Мамбанге. Так обиняком подготавливается
появление на сцене главного героя.
Покуда царевна купается, Мамбанг Джаухари (все еще в
обличье шмеля)4 исподволь следит за ней. Красота Кесумы Индры
так ошеломляет его, что он лишается чувств, и верным птичкам
приходится немало потрудиться, брызгая на государя воду
крылышками и лапками, чтобы возвратить его к жизни. Придя в себя,
Мамбанг принимает человеческий облик и прячется за дерево на-
гасари, но здесь его замечает одна из служанок и доносит об этом
царевне. Та посылает четырех подруг разузнать, кто проник в
их сад, и через них Мамбанг обменивается с Кесумой Индрой
изысканными речами. Царевна просит юношу удалиться и
избавить ее от пересудов, он же уверяет, что столь пламенно ее любит,
что не проживет в разлуке и дня. Эти слова производят на Кесуму
Индру впечатление, тем более что подруги наперебой восхищаются
красотой Мамбанга. Все же она решает бежать из дворца в
город.
Узнав о том, что таинственный похититель проник во дворец
царевны, везир Заминдур Алама посылает против него войско,
нападение которого, впрочем, не имеет успеха. Друзья Мамбанга
превращаются в свирепых зверей и, когда нападающие убивают
их, возрождаются в облике еще более ужасающих тварей. Сам же
государь пускает в воздух волшебную стрелу, рассыпающуюся
дождем из раскаленных углей. Ночь прерывает битву. Везир
усиливает охрану царевны и отправляет посланца к Дэве Шахпери.
Тем временем четверо друзей во главе с Мамбангом,
оказавшимся не столь терпеливым, как его предшественник, в обличье
шмелей летят во дворец Кесумы Индры. Однако даже шмель
не может туда проникнуть, и Мамбангу, чтобы достичь цели,
приходится превратиться в москита. Через щелку вползает он в покои
царевны и в сиянии светильников и китайских фонариков видит
сто красавиц, спящих вокруг ложа госпожи. Приняв человеческий
облик, государь садится на край ложа и галантно целует руку
возлюбленной. Та просыпается, и во дворце поднимается
страшный переполох. Мамбанг уверяет подруг Кесумы Индры, что одна
лишь любовь влекла его сюда, и клянется исполнить любое
повеление их госпожи. Царевна очарована юношей, но, желая
сохранить доброе имя, требует, чтобы он выяснил намерения Дэвы
Шахпери и торжественно попросил у везира ее руки. Мамбанг
удаляется, а Кесума Индра проводит остаток ночи в глубоком
беспокойстве, думая о женихе, судьбах своей страны и предчувствуя
-наступление дурных времен. Мамбавг меж тем держит совет с
393
друзьями и решает вызвать в Заминдур Алам свое войско. Он
пишет письмо, с помощью заклинаний поднимает его в воздух и
силой взгляда доставляет на родину, в Белантаиндру.
Узнав от посланца, отправленного везиром, о том, что Мам-
банг Джаухари пробрался в сад Кесумы Индры, Дэва Шахпери
приходит в ярость и без промедления выступает в поход. Его
воины летят на диких птицах, огненных конях, летучих тронах.
Блестят мечи и кошья, грохочет музыка. Армия царевича столь велика,
что, словно туча, скрывает солнце.
В стране Мамбанга длительное отсутствие государя начинает
вызывать беспокойство. Его везир как раз раздумывает над тем,
не выступить ли на поиски повелителя, когда ему на колени
падает чудесным образом доставленное письмо. Везир командует
сбор, и войско духов, обратившихся в птиц с железными клювами,
носорогов и тигров, точно буря, взмывает в поднебесье. Сам везир
в обличье льва возглавляет его. Через семь дней войско достигает
Заминдур Алама и опускается на равнине Сауджана. Везир
вонзает в землю свой метательный диск, и из него возникает
сверкающая медная стена от земли до небес, окружающая военный лагерь
духов. Затем, обернувшись попугаем, он летит в сад Асмара
Брангта и находит там Мамбанга и его спутников.
В это время внезапно все окрест окутывает непроглядная
мгла, и на другом конце равнины на землю опускается армия
Дэвы Шахпери. Воззвав к волшебному кольцу, царевич обводит
стан своих воинов железной стеной и тотчас вступает в сражение
с врагом. Как и в «Повести о победоносных Пандавах», поле
битвы уподобляется морю крови, среди которого вздымаются горы
тел и плавают трупы павших коней. Дэва Шахпери сражается с
военачальниками духов, принявшими облик льва и дракона; он
насылает на них огненный ливень, а затем, превратившись в
чудовищного раксасу, мечет в противников скалы. Наконец в битву
вступает сам Мамбанг. В какое-то мгновение кажется, что он
уже сражен, но в следующий миг государь Белантапуры
приходит в себя, и оба воителя верхом на чудесных птицах — вилмане
ц гаруде11 — сражаются в воздухе: мечут друг в друга скалы,
извергающиеся вулканы и стрелы, превращающиеся в клубки
огненных змей.
Из дворца Кесумы Индры видно сражение, идущее наверху, в
облаках. Она вместе с подругами с волнением следит за боем,
страшась гнева Дэвы Шахпери, если он одержит верх, и надеясь
на победу Мамбанга, ночной визит которого не выходит у нее
из головы. К тому же государь духов умен, хорош собой и
обладает утонченными манерами. Свои чувства девушки изливают в
цепочке «прошитых» пантунов. Битва длится несколько дней.
В конце концов Мамбангу удается сковать всю вражескую армию
цепями, падающими с небес, а царевича пери сразить
метательным диском. Дэва Шахпери исчезает. Мамбанг начинает
снижаться, и это вызывает ураган небывалой силы, который
неведомо куда уносит все побежденное воинство.
394
Везир Замиадур Алама, узнав о поражении Дэвы Шахпери,
решает отдать страну и Кесуму Индру победителю. Начинаются
Приготовления к свадьбе. Везир строит для новобрачных дворец
на вершине горы из драгоценных камней. Подножие ее обвивает
искусно изваянный дракон, из пасти которого струится вода, а
подступы к дворцу охраняют чудесные звери из самоцветов. Затем-
он посылает гонца к правителям подвластных стран, 'и каждый
из них, одев своих людей в платье особого цвета, является с
подношениями для молодых. Мамбанг же отправляет посланцев за
дарами для невесты, после чего во главе длинной процессии
шествует в город. Всю дорогу не стихает веселье: духи перекидываются
огнедышащими горами, устраивают потешные бои и
представления ваянта. У ворот города Мамбанга встречает га-руда и
доставляет его во дворец, где совершается свадебный обряд. Затем
молодые удаляются в опочивальню, а гости остаются пировать и
праздновать.
Наутро супруги отправляются совершить омовение, но прежде
их взвешивают, положив на противоположную чашу весов холм
из драгоценных камней, равный по цене всему государству. Этот
холм, однако, не может уравновесить новобрачных, для чего
приходится положить на весы еще шесть таких же холмов — эпизод,
вызывающий в памяти «Повесть об Искандаре Двурогом» \106,
с. 231], но с менее пессимистическим финалом. Веселье
продолжается. Мамбанг шутит с четырьмя подругами царевны, и они
также не остаются в долгу, спрашивая, всегда ли он так прыток,
что проникает во дворцы законных правителей, пользуясь их
отсутствием.
Далее автор поэмы возвращается к истории Дэвы Шахпери.
Ураган забросил его вместе со всем войском на какую-то гору,
где он и лежит бездыханным. Батара Кала — вершитель судеб из
повестей о Панджи,— найдя царевича в столь плачевном
состоянии, проникается к нему жалостью и возвращает к жизни. Он
объясняет, что волшебная сила Мамбанга столь велика, что о победе
над ним нечего и думать. Можно, однако, отомстить обидчику,
похитив его красавицу сестру — Пуспу Индру, обитающую в стране
Бандар Пермата (Алмазный Город). Следующая затем вторая
часть поэмы совершенно симметрична первой. Обернувшись
жучком, Дэва Шахпери проникает в покои Пуспы Индры и, усевшись
там на затканную золотыми цветами занавеску, хихикает, слушая
рассказ из старинной хроники, которым придворные дамы
услаждают слух царевны. Затем он чарами усыпляет их, превращается
в великана и переносит дворец со всеми его обитателями в свою
страну. Мамбанг с войском выступает на защиту сестры, и
завязывается новая битва, столь же «гомерическая», но уже не столь
успешная для повелителя духов, как предыдущая. На этот раз
Дэва Шахпери заковывает в цепи армию Мамбанга, но его
самого одолеть не может. В конце концов появляется Батара Кала,
уверяет противников, что их бой может длится до Судного дня, и
кладет конец вражде героев.
395
Мать Дэвы Шахпери в изысканных выражениях просит, чтобы
Мамбанг Джаухари отдал свою сестру за ее сына, и получает не
менее изысканно выраженное согласие. Следует свадьба,
описанная едва ли не в тех словах, что и предыдущее бракосочетание,
после чего Мамбанг возвращается к жене и рассказывает ей обо
всем, что произошло за это время. Кесума Индра радуется
примирению обоих государей.
Существует и другая версия поэмы (Cod. Or. 1943; см. i[17,
с. 22]), в которой Дэва Шахпери гибнет во время второй войны.
Исконной, однако, представляется версия, изложенная выше. Обе
версии как будто не вполне закончены, но можно согласиться с
автором наиболее обстоятельного пересказа поэмы голландским
ученым X. Спатом, считающим, что они завершаются
«значительными событиями, которые, действительно, могли бы -быть
концами» [483, с. 334].
X. Спат указывает на родство «Поэмы о Мамбанге Джаухари»
со многими малайскими средневековыми сочинениями. Так, по
его мнению, попытки похитить полюбившуюся царевну и борьба
за нее, а также посредническая роль Батары Калы в разрешении
конфликта роднят поэму со сказаниями о Панджи; битвы, в
которых герои обмениваются волшебными стрелами и превращаются в
животных, вызывают ассоциации с «Повестью о Берме Шахдане»,
а невозможность для протагониста окончательно победить
соперника— с «Повестью о Сери Раме» Г483, с. 334—335]. Однако
нельзя не заметить, что комбинация всех этих мотивов
представлена в «Повести об Индрапутре», главы которой о встрече Индра-
путры с царевной Сери Ратной Гемалой Мехран и его борьбе с
повелителем пери—Дэвой Лелой Менгерной (ср. битвы Мам-
банга Джаухари с Дэвой Шахпери, чье имя означает «Повелитель
пери») наряду с повестями о Панджи, возможно, послужили
источником «Шаира о Мамбанге Джаухари». Даже для таких
частных деталей, как восклицание служанки, по случайности
совпадающее с именем героя, создание из самоцветов зверей;
охраняющих дворец царевны, или превращение предводителей духов в
шмелей и птиц, находятся аналоги в «Повести об Индрапутре»
(см. {43, с. 39, 46—49, 80]).
Сравнение обоих произведений лишний раз подтверждает, что
характерное для шаиров ограничение сюжета лишь одной-двумя
линиями позволяет автору поэмы «хикаятного типа» сосредоточить
все внимание на дескриптивных элементах, превзойдя в этом даже
такой, казалось бы, предельно насыщенный описаниями хикаят,
как «Повесть об Индрапутре». Пангеран Панембахан Бупати, чья
поэма совершенством строго симметричной композиции не
уступает лучшим из шаиров и чей стиль поражает своей
праздничностью, питает особое пристрастие к детально разработанным
батальным сценам, растягивающимся на многие страницы, и к
изображению всяческих сокровищ и драгоценных камней. В
последнем он проявляет себя достойным братом палембангского
султана — «одного из богатейших малайских правителей, чьи сокровищ-
396
ницы, по рассказам, буквально ломились от золотых монет и
слитков» [75, с. 238].
Другой особенностью поэтики «Шаира о Мамбанге Джаухари»
являются характерные для нее регулярные повторы последних
слов одной строфы в начале следующего четверостишия,
например:
Душа моя не объята смятеньем,
Но негоже нам умалять опасность.
Что, если везение нам изменит —
Ведь дольний мир колесу подобен?
Колесу подобен на длинной дороге —
Верх становится низом, а низ — верхом,
Одно мгновенье — и все уж иное,
Но того, что свершил, не должно страшиться.
Того, что свершил, страшиться не должно,
Ведь покуда будущее туманно... и т.д. 1143, с. 309].
Этот прием проводится в поэме (особенно в монологах и
диалогах героев) с последовательностью, не наблюдаемой в других
шаирах. По-видимому, он в стилизованной форме отражает
влияние на поэму малайской песенной лирики (типа «прошитого»
пантуна), образцы которой время от времени обнаруживаются в
ней,Г483, с. 339]. В то же время не исключено, что столь
регулярные повторы призваны усилить магическое воздействие поэмы,
которое приписывала ей малайская традиция. Как отмечает X. Клин-
керт, «некоторые малайцы чрезвычайно высоко оценивают это
произведение, дают читать его только по секрету и неохотно
позволяют снимать с него копии, так как не всякий может им
владеть» [22, с. 68]. Подобная оценка «Поэмы о Мамбанге
Джаухари», вероятно, объясняется тем, что речь в ней идет о
грандиозных и кровопролитных сражениях небожителей, наделенных
беспредельной сокровенной силой (сакти). В таком случае отношение
к поэме оказывается несколько сродни суеверному страху перед
пьесами ваянга на сюжет «Бхаратаюддхи», изображавшими столь
же ужасающие битвы и ставившимися лишь изредка по строго
определенным поводам.
а. ИСТОРИЧЕСКИЕ ШАИРЫ
Исторические шаиры, скорее всего, генетически восходят к
фольклорным хвалебным песням малайцев в честь различных
выдающихся деятелей (главным образом правителей) и их подвигов
(в первую очередь военных). Как и эти хвалебные песни,
известные лишь по косвенным данным i [396, с. 142; 155, с. 115—116]
и,- вероятно, сходные с древнерусскими «славами» или
средневековыми французскими «шансон де жест», исторические шаиры
чаще всего содержат описание войн, которые вели малайские
султаны. Батальные сцены в них обычно перемежаются панегириками
в адрес царственных героев — нередко покровителей того или.
иного поэта.
397
Наиболее ранний образец исторического шаира,
сохранившийся до наших дней,— это датированная XVII в. «Поэма о макас-
сарской войне» i["142]. От XVIII в. до нас дошли «Поэма о войне в
Каливунгу», рассказывающая об антиголландских выступлениях в.
Семаранге, а также написанная неким банджарцем «Поэма о
Хемопе» (т. е. о голландском губернаторе ван Имхоффе) [136;
385], повествующая о восстании батавских китайцев в 1740 г. и
борьбе Ост-Индской компании с мадурским правителем Чакра-
нингратом. Среди прочего этот шаир содержит восторженное
описание старой Джакарты, ее разноязыкого населения и
хозяйственной активности голландцев, «повелевающих водой и ветром» и
заставляющих их «день и ночь вращать пилы» на лесопилке.
Особенно богат шаирами о войнах был XIX в. Еще в начале
его (в 1819 г.) анонимным палембангским автором была создана
«Поэма о Ментенге» [532, с. 189—225], посвященная успешному
сражению местных жителей с голландскими войсками,
"возглавляемыми комиссаром Мунтинге (малайск. Ментенг) и их
малайскими союзниками, которыми командовал Раджа Акил.
Согласно шаиру, начало столкновению положило нападение на
голландского офицера толпы палембангских хаджи, пришедших в исступ-,
ление во время суфийского зикра. Большая часть поэмы
рассказывает о героической обороне укрепленного дворца султана
Махмуда Бадраддина, отстояв который защитники города нанесли
противнику серьезный урон и вынудили его отступить на остров
Банка. Народная память запечатлела эти события в поговорке:
«Хоть запасы иссякли, Палембанг устоял» |[75, с. 201]. Ко второй
половине XIX в. относятся «Поэма о войне в Банджермасине» и
«Поэма о Пангеране Хашиме», повествующие о банджермасинских
баталиях 1862 г., а также «Поэма о сражении в Вангканге» (Юго-
Восточный Калимантан), написанная его очевидцем — неким
Хаджи Сулейманом. Примерно в то же время появились «Поэма об
ачехской войне», «Поэма о джохороких войнах» [394, с. 311],.
«Поэма о войне в Сиаке» и ряд других сочинений того же рода.
Наряду с поэмами о войнах к числу исторических шаиров
относятся стихотворные сочинения, в которых описываются
различные достопримечательные события из жизни коронованных особ.
Сравнительно старый шаир такого рода — это созданная окола
1761 г. Раджей Чуланом поэма о морской прогулке перакского
султана Искандара ',[123, с. 116—184]. В XIX в. получают
распространение шаиры о восхождении правителей на престол
(«Поэма о восшествии», «Поэма о султане Бустами» и др.), об
их бракосочетаниях, роскоши их дворцов, кончинах («Поэма о
султане Махмуде с острова Линга») и т. п.
Порой чести стать героями подобных поэм удостаиваются не
только лица царской крови, но и голландские чиновники,
например палембангский резидент, воспетый в «Поэме о де Брау»,
которая повествует об изгнании им местного везира и попутно
сообщает о празднестве в городе, о его базарах и даже дает
рекомендации, где и что здесь можно купить Г20, с. 347; 394, с. 305].
398
Ж этой же группе примыкают и шаиры о всевозможных
происшествиях, например о сингапурском пожаре или об извержении
вулкана Кракатау. Нередко авторами таких шаиров были
натурализовавшиеся в малайском мире китайцы [196, с. 217].
Наконец -еще одну группу исторических шаиров образуют
поэмы, представляющие собой своего рода хроники. Таковы,
например, «Шаир о раджах Сиака», в котором история этого минангка-
боуского государства доводится до его завоевания голландцами в
1857 г. /[394, с. 310], или «Шаир Моко-Моко»— генеалогия
правителей суматранского княжества Моко-Моко в XIX в. ,[20, с. 82].
Порой подобные хроники весьма причудливы по форме. Например,
другая историческая поэма из Моко-Моко, «Шаир о снах» \Г20,
с, 80], представляет историю двора этого княжества, изображенную
так, как она явилась в сновидениях дочерям его правителя.
Хотя отдельные бытовые сценки в исторических шаирах
бывают воссозданы на редкость жизненно и реалистично, немногие
из них действительно имеют художественное значение. В то же
время эти поэмы представляют несомненный интерес для историка,
так как, посвященные лишь какому-то отдельному событию
(нередко к тому же описанному очевидцем), они в меньшей степени,
чем прозаические хроники, зависят от традиционных
историософских и дидактических концепций.
Поэма о макассарской войне (Поэма о Спеел-
мане). Вероятно, наиболее примечательным в литературном
отношении историческим шаиром является созданная около 1670 г.
и сохранившаяся в трех списках «Поэма о макассарской войне»
[142; 298]. Макассар — государство на Южном Сулавеси,
достигшее в первые десятилетия XVII в. зенита своего могущества,
выступало как едва ли не самый серьезный соперник голландской
Ост-Индской компании в ее борьбе за установление монополии на
торговлю пряностями. Это и привело к длительной и тяжелой
борьбе между обеими политическими силами, закончившейся
полным разгромом Макассар а в июне 1669 г.
В поэме последовательно и обстоятельно рассказывается о подготовке войск
Ост-Индской компании к предстоящей экспедиции и об отплытии голландской
эскадры, возглавляемой адмиралом Корнелисом Спеелманом, в Макассар; о воен-
лом совете макассарцев, на котором их предводители изъявляют свою
преданность султану Хасанаддину и готовность дать врагу достойный отпор; о первом
поражении, которое терпят макассарцы на острове Бутон от голландцев и их со-
юзников-бугийцев под началом Арунга Палакки (Тундеру); об усилении
голландских войск за счет армии правителя Тернате; о восстании подвластных Макассару
бугийцев и его подавлении братом Хасанаддина — султаном Тало; о мощном
артиллерийском обстреле города и упорных боях в области Галесонг и у
укрепленного пункта Бату-Бату, кончающихся подписанием мирного договора в деревне
Бунгайя; о переходе на сторону голландцев части макассарских предводителей
и начале второй военной кампании; о новой серии кровопролитных сражений и,
наконец, о падении Макассара после длительной осады. Завершает поэму
патетический эпилог:
Итак, Макассар повержен врагами
По воле Аллаха — владыки мощи.
Я изнемог, но закончил поэму,
399
Чтоб о том узнали в краях отдаленных...
Пять лет сражались наши герои,
Ни разу им мужество не изменило,
Сердца их переполняла радость,
Когда на недругов шли в атаку.
Ни разу не дрогнули макассарцы,
Сражаясь с полчищами неверных.
Кто знает, чем бы закончилась битва,
Когда бы не голод да не сила голландцев [142, с. 216].
Большая часть событий макассарской войны описана в поэме
вполне достоверно и «поразительно близка той же картине,
которую дают европейские историки» [142, с. 12] на основе
голландских источников — в частности, донесения самого адмирала Спеел-
мана. Перед нами явно сочинение человека, хорошо знакомого с
ходом военных действий, и в тех случаях, когда он сам не был
их очевидцем, спешащего предупредить, что в такое-то время он
находился в отлучке, а такие-то факты передает с чужих слов.
Осведомленность автора «Поэмы о макассарской войне»
неудивительна, если учесть, что, как показало блестящее исследование
шаира, проделанное С. Скиннером, им был секретарь султана Ха-
санаддина — Энче Амин, малаец из Макассара, упоминаемый не
только в «Поэме о макассарской войне», но и в голландских
архивных материалах, ведавший перепиской своего господина и,
скорее всего, составивший проект Бунгайского договора ,[142,.
с. 18—22].
Интересно, что поэма не только подписана именем Энче
Амина — явление само по себе не частое в малайской литературе,—
но и содержит его автопортрет, по-видимому вдохновленный
автобиографическими строфами Хамзы Фансури и несколько
стилизованный в духе изображения героев из повестей о Панджи:
Когда закончился совет военный,
Позвали Амина посланье составить.
Он написал его безупречно —
Кратко, без вычурных оборотов.
Энче Амин искушен в науках,
Не слишком высок, но сложен недурно,
Всегда умащен благовонным маслом,
Оттого аромат его всем приятен.
Энче Амин, уныния чуждый,
В Макассаре родился, но по крови — малаец.
Его движенья изящны, словно
То ветка ангсоки дрожит, поникнув (142, с. 90].
В дальнейшем Энче Амин еще не раз появляется на страницах
поэмы и даже решается порой прервать традиционно безличное
повествование прямым выражением своих эмоций. Так,
возмущенный поведением голландцев во время подписания
Бунгайского договора, он восклицает: «Тотчас все во мне закипело!» |[142,
с. 190], а рассказывая об удачной атаке своих соплеменников-
малайцев, не может сдержать восторженного возгласа: «Ай да
малайцы, смельчаки, ей богу, /Врубаются в строй христиан и бу~
400
тонцев!» [142, с. 168]. Приведенные факты указывают на
определенные изменения в концепции авторства, на усиление
личностного начала, характерное по крайней мере для некоторых
произведений малайской поэзии XVII в.
«Поэма о макассарской войне» позволяет также составить
представление об эрудиции ее создателя, который неоднократна
перефразирует чили почти дословно цитирует стихи ачехских
суфиев — Хамзы Фансури и анонимного автора поэмы «Наука о>
женщинах» i[142, с. 23—24, 257]. Свободное владение суфийской
терминологией позволяет предполагать, что Энче Амин был
членом одного из суфийских братств (кадирийа или халватийа),
популярных в то время в Макассаре. Видное место в суфийской
иерархии занимал, судя по данным поэмы, и его патрон — султан
Хасанаддин. Литературные интересы Энче Амина отнюдь не
ограничивались лишь сочинениями духовными. Как мы увидим, он:
был явно знаком со светской литературой, а также с репертуаром:
ваянга. С. Скиннер даже предполагает, что как малайский
секретарь Хасанаддина Энче Амин должен был определенную часть,
своего времени посвящать чтению, обсуждению, копированию
рукописей, а порой и «лекциям» о наиболее важных произведениях,
малайской словесности J142, с. 27].
Свои немалые литературные познания Энче Амин использовал
для того, чтобы создать поэму, призванную увековечить подвиги
макассарских воинов, восславить мудрость и мужество султана
Хасанаддина (ему посвящена довольно обширная «ода» во
вводной части шаира и два более кратких панегирика — в основной),,
а также указать индонезийским правителям и их подданным на
опасность, исходящую от завоевателей-голландцев.
Поэма, вышедшая из-под пера Энче Амина, чрезвычайно
любопытна в композиционном отношении. Особого внимания
заслуживает ее вступительная часть, слагающаяся из религиозного
введения (строфы 1—12), светского посвящения, содержащего пане-
гирик Хасанаддину (13—24), и стереотипных извинений автора
за свою литературную неискушенность (25—28). Религиозное
введение, в свою очередь, распадается на восхваление Аллаха (1—4),
пророка Мухаммада (5—8) и четырех праведных халифов (9—12).
Таким образом, вся структура вступительной части «поразительно*
симметрична; как это видно, она вращается вокруг числа 4 и
может быть математически выражена следующим образом: (х+х +
+ х)+3х+х = 28, где х = 4» ,[142, с. 41]. С. Скиннер отмечает, что
число 28 — таково количество строф во вводной части —
символизирует лунный цикл и, по-видимому, играет в поэме роль
своеобразного талисмана. Сравнив же вступительную часть поэмы с
предисловиями ко множеству других шаиров и установив его
уникальность, исследователь усматривает в ней проявление
авторской индивидуальности Энче Амина.
Действительно, подобного рода введения нехарактерны для
шаиров, однако, близкую параллель ко вступительной части
«Поэмы о макассарской войне» мы находим в предисловии к «Короне
26 Зак. 147
401
царей» (XVII в.). Оно также состоит из трех частей: относительно
симметричных религиозного (100 строк) и светского (83 строки)
введений и примерно втрое меньшего изложения содержания
книги. Особенно близки религиозные введения обоих сочинений.
В «Короне царей» восхвалению Аллаха посвящено 20 строк
прозы и 5 длинных стихотворных строк с моноримом и внутренней
рифмой, усиливающими торжественность их звучания (см. [187,
с. 124]); восхвалению Мухаммада—10 строк прозы и 5
стихотворных строк, подобных предыдущим, а восхвалению праведных
халифов — по 5 строк прозы и по 10 более коротких строк с
парной рифмой (маснави). Итак, хотя цифры, лежащие в основе
композиции предисловий поэмы и «Короны царей», различны (4 — в
поэме, 5 — в «Короне царей»), в обоих произведениях строго
выдержаны принципы числового соотношения частей и иерархичности
объектов восхваления. Тот же принцип числового соотношения
частей был последовательно проведен в «Книге о движении» Шам-
-садддйна Пасейского и в южносуматранской версии «Шаира о
лодке» (см. гл. IX). Поэтому особенности предисловия к «Поэме
о макассарской войне» объясняются, вероятно, не столько
индивидуальной манерой Энче Амина, сколько его следованием
«литературной моде», введенной в XVII в. в малайскую поэзию су-
матранскими суфиями. Что же касается числа вводных строф в
поэме, то оно имело, скорее всего, мистический смысл. Так, в
схеме творения Ибн аль-Араби 28 именам Аллаха соответствует
28 «домов» луны и 28 букв арабского алфавита, из которых
каждая символизирует определенную манифестацию Единого, а все
они вместе — последовательность этапов творения [284, с. 63].
Значительно менее строгой становится композиция поэмы,
когда ее автор переходит к непосредственному описанию событий.-
Однако и здесь его не покидает верное ощущение пропорций
повествования. Это наглядно видно по тому, в какие именно места
тюэмы помещаются панегирики в честь султана Хасанаддина и
напоминания автора о собственной персоне. Первые, появляясь
при завершении одного эпизода и перед началом другого, играют
роль своего рода «занавеса, опускающегося между актами пьесы»
[142, с. 30]; вторые же, повторяясь примерно через каждые сто
строф поэмы, придают ее композиционному движению
определенную ритмичность. И те и другие «перебои» умело соотнесены с
распределением читательского внимания. Нигде не нарушая
напряженности рассказа о сражениях, они в то же время
поддерживают в сознании читателя память о том, кому поэма посвящена
и кем она создана. Наконец, не только в вводной, но и в
основной части шаира Энче Амин не забывает о принципе иерархичности,
и по тому, например, сколько строф в шаире отведено каждому
из макассарских военачальников, можно почти безошибочно
судить об оценке его поэтом и влиянии при дворе.
Как и создатели большинства произведений малайской
классики, автор «Поэмы о макассарской войне» не дает общей
панорамы описываемых событий. Его шаир складывается из ряда
402
отдельных эпизодов, в центре которых — изображение того илк
иного персонажа, выполненное несколькими характерными
штрихами. В этом отношении манера Энче Амина несколько
напоминает стиль создателя «Малайских родословий», и, хотя по своему
литературному дарованию «певец макассарцев» явно уступает
малаккскому хронисту, ему порой удается живо воссоздать
образы участников войны. Обычно это, однако, не портреты макассар-
ских полководцев, в соответствии с искренним патриотизмом
автора и его статусом придворного выполненные в
идеализированных и стереотипно-героических тонах, а изображения их
противников.
В рассказах о военных действиях, в которых, как это и
подобает, господствуют описательные элементы, Энче Амин умеет
сохранять определенную объективность. Так, без устали понося
голландцев и их союзников, именуя их не иначе, как псами,
дьяволами, лгунами, ворюгами, неверными, проклятыми Аллахом и т. д.>
он вместе с тем замечает смелость адмирала Спеелмана, воинское
искусство капитана Ионкера, хладнокровие капитана Дюпона, под.
огнем макассарцев спокойно наводящего свое орудие с помощью
подзорной трубы. Столь же неустанно восхваляя макассарцев, и
особенно членов малайской общины города, Энче Амин не
считает зазорным упомянуть о несогласованности действий их
предводителей, правдиво рассказать о потерях или о бегстве макассарских
воинов с поля брани. К тому же многим рассказам Энче Амина
присущи иронические интонации, заметные, в частности, в
чрезвычайно типичном для его литературной манеры эпизоде о
злополучном посланнике Спеелмана, осмеянном как чужими, так и.
своими:
Явился гонец, банданец бестыжий,
И речь повел, что ни слово — дерзость,
Но тотчас отправлен был восвояси,
Не получив никакого ответа.
Был он под стать своему адмиралу,
Собой хоть куда, да башка не варит,
Не долго корчил важную птицу,
На голландский корабль убрался поспешно.
Не успел он к Спеелману возвратиться,
Как заныл, к нему простирая руки:
«О мой адмирал, о моя опора,
Меня травили, точно оленя.
Едва получив послание ваше,
Макассарцы от смеха животы надорвали,
Принялись надо мною шутить, издеваться,
Усмехались одни, хохотали другие».
Слушая, как говорит банданец,
Малайскую речь с яванской мешая,
Адмирал так и Прыснул, а после промолвил:
«Над таким балбесом не грех посмеяться».
Капитан Ионкер вспылил не на шутку —
Давно уж он ерзал нетерпеливо:
«Ты хоть и дылда, но трус отменный,
Вон как от страха сердчишко бьется!
Задравши нос, точно клюв свой цапля,
26*
403
И зенки вылупив, будто гонги,
Ты там расселся, скрестивши ноги,
Да что ни скажут утирался в испуге.
Вишь-ты какой господин отыскался!
А говорить путем не умеешь,
Напялил шаль, точно славный рубака,
А отвагой — младенец, не дать ли кашки?»
Чтобы покончить с этой скотиной,
Скажу — бессвязную чушь порол он,
Над ним посмеялись, будто над бабой,
А потом поднесли в утешение чарку [142, с. 134—136].
Вполне понятно, однако, что в центре внимания Энче Амина не
столько подобные «вставные новеллы» (хотя и их в поэме
немало), сколько поданные также в дробной, «пунктирной» манере
батальные сцены, для описания которых растянувшаяся более чем
на три года война предоставляла обильный материал. К числу
наиболее выразительных в художественном отношении сцен
такого рода относится рассказ о сражении, разыгравшемся у ма-
кассарского укрепленного пункта Бату-Бату ^Г142, с. 160—179].
Этот рассказ позволяет составить представление о том, как
историческая реальность претворялась в малайской словесности в
литературный текст и как возникали элементарные
повествовательные блоки, из которых при несколько иной установке авторов
складывались «исторические аллегории» (пасемон).
Канва повествования о битве у Бату-Бату вполне исторична.
В ночь со второго на третье сентября 1667 г. голландские
корабли бросили якорь неподалеку от этого пункта, наутро под
прикрытием артиллерийского огня голландцы и их союзники
укрепились на берегу и начали военные действия, длившиеся с
переменным успехом два месяца и закончившиеся подписанием
мирного договора в деревне Бунгайя. Именно об этом и идет речь
в поэме, и, хотя Энче Амин, по его собственным словам, в
значительной части данного рассказа был вынужден опираться на
сведения из вторых рук, что привело ко многим фактическим
неточностям, в общих чертах события воссозданы верно, а герои
поэта — исторические личности, сражавшиеся и умиравшие под Бату-
Бату.
В то же время описание этих реальных событий во многих
случаях предстает как последовательность лишь слегка
переиначенных «цитат» из определенных литературных произведений. Так,
повествуя о подготовке голландцев к бою, Энче Амин сообщает:
Спеелман сплотил боевые порядки:
«Правое крыло» — свирепые бугийцы,
_ «Голова» построения — амбонцы и молуккцы,
Что стали рядами, кто с копьем, кто с мушкетом.
«Левое крыло» — бутонские ворюги,
А с ними голландцы и отряды бугийцев...
Сам Адмирал стал «телом» строя,
Схожим с крепостью неодолимой...
Один из полков возглавил Ионкер,
Тот полк стал «хвостом» всего построенья,
404
Его стяг полосатый был заткан цветами,
Сержанты с корнетами построили войско i[142, с. 164].
Весь этот эпизод чрезвычайно напоминает рассказ о
построении армии Пандавов из «Повести о победоносных Пандавах».
Подобные описания боевых порядков армий регулярно повторяются
•в этом произведении и, насколько можно судить, нехарактерны
для других хикаятов 12.
Говоря о мужестве макассарских предводителей, Энче Амин
последовательно сравнивает их с героями той же «Повести о
победоносных Пандавах», а также хикаятов о Санг Боме и Сери
Раме:
Караенг Патунга — точь-в-точь Гатоткача —
Держался, как вылитый Джайя Амарта (т. е. Юдистира
или, возможно, Джайядрата [142, с. 277]).
Хоть малым полком командовал витязь,
Врага чуть завидя, он рвался в сраженье...
Обе армии яростно атаковали,
Как в сраженьях, где бился могучий Бома...
Караенг Маму, подобный Санг Самбе,
Вышел на битву в багряных одеждах...
Караенг Бонто, с Арджуной схожий,
Облачился в тот день в кольчугу стальную,
Повергал он врагов, как Равана грозный,
И рассеивал строй презренных молуккцев (142, с. 168].
Описание самого боя поэт насыщает реминисценциями из
«Повести о Мухаммаде Ханафии», на знакомство с которой, возможно,
указывают и столь характерные для его сочинения потоки
инвектив в адрес противника (в «Повести о Мухаммаде Ханафии»
враги рода Али редко появляются на сцене, не получив прежде
бранной клички: притеснитель, пес, негодяй, смутьян, лицемер,
проклятый Аллахом и т. д.) :
Оглушительно кличи гремели над полем:
Разбегаясь, вопили от ужаса трусы,
Смельчаки кричали, бросаясь в атаку,
И вперед пробивались, сражаясь свирепо.
Головы павших казались шарами,
Их срубали герои в стальных кольчугах.
Не счесть тех голов — бутонских, тернатских,
Что катались во множестве по побережью...
Не понять, кто где в той битве великой —
Оглушительный рев... и бойцы смешались [142, с. 172] ш.
Наконец, плачи по павшим в поэме Энче Амина, вероятно,
восходят к «Повести о Санг Боме», которая, по-видимому, контамини-
ровала в его сознании с «Повестью о победоносных Пандавах»,
где подобные плачи, не столь, правда, развернутые, отнюдь не
редкость:
Его рабов объяло смятенье,
Они метались и в грудь себя били,
Распустивши волосы, сбросив тюрбаны,
Рыдали громко, кружась на месте.
405
Приблизился к телу сын шахбандара,
К нему припал, обнимая, целуя,
И молвил: «Отец, твои люди в сборе,
Все только и ждут твоего появленья».
Отец, меня забери с собою —
Нет больше сил тосковать и томиться.
Когда бы мог я поднять оружье,
В бою с неверными смерть нашел бы.
Так говорил он, громко рыдая,
А жена шахбандара без чувств упала...
«Взгляни на мать, о мой сын любимый,
Смятенье — в каждом моем движенье,
Ты был очей моих светоч яркий,
Зачем же ушел ты, меня покинув?
Приветствуй мать хоть единым словом,
Глаза открой хоть на миг недолгий,
Взгляни — вот люди стоят и смотрят
На кровь, что из раны твоей сочится.
О плод души моей, кость от кости,
Я точно безумная стала ныне,
В каких краях тебя отыщу я,
Ужели смогу утешиться в горе? (142, с. 175—179]14v.
Обилие в поэме« цитат» из повестей о грандиозных сражениях,,
по-видимому, объясняется не только обычным следованием
литературной традиции, но и непосредственными панегирическими
задачами Энче Амина. Можно предположить, что «певец макассар-
цев» стремился в косвенной форме выразить мысль о том, что
война против голландцев по размаху не уступала битвам Панда-
вов и Коравов и, подобно сражениям, которые вел Мухаммад Ха-
нафия, носила характер священной брани с неверными. Не
случайно этот эпитет неизменно прилагается к голландцам и их
союзникам (кстати сказать, мусульманам, как и противники Мухам-
мада Ханафии!), а макассарские воители, павшие в бою с
голландцами, столь же неизменно удостаиваются венца мучеников-
шахидов.
В то же время, как нетрудно заметить, достаточно, сохранив
основную канву событий, не просто сравнить участников сражения
с вымышленными литературными персонажами, а заместить их
последними, чтобы весь данный эпизод приобрел характер
подлинного пасемона.
Изучение круга литературных источников поэмы Энче
Амина интересно еще и в другом отношении. Данные, полученные в
результате этого изучения, 'свидетельствуют о том, что
литературный синтез был присущ не только многим романическим шаи-
рам, но и шаирам историческим. В «Поэме о макассарской
войне» сплавлены воедино элементы малайской суфийской поэзии,,
повестей индояванского и ближневосточного происхождения, а
также и синтетических волшебно-авантюрных <и любовных хи-
каятов.
На последнее указывает, в частности, описание флота султана-
Тало, напоминающее аналогичные описания в «Повести об Индра-
путре», весьма популярной за какие-нибудь тридцать лет до
появления поэмы:
406
Барабаны забили, запели трубы,
Множество воинов в путь пустилось.
Витязи шли позади государя,
Что шествовал, точно жених на свадьбу.
Корабль султана резьба украшала —
Череда облаков и лотосов листья.
На дивном цветке восседал владыка
В окруженье советников сладкоречивых.
Плыл государь на прекрасной барке
С узором резным из прямых линий,
Ее покрывали листы золотые,
Сверкавшие ослепительным блеском.
Не описать красоту той барки,
Она как будто с небес спустилась.
Всякий, кто видел ее среди моря,
Думал: «Чудовищный зверь предо мною».
Двести шестьдесят гребцов на барке,
Их весла листом золотым обшиты.
Сияют, как факелы, эти весла,
От шума и криков оглохнуть недолго.
У каждого из раджей по судну,
Вооруженному для сраженья,
Всяк веселится, как пожелает,
И не смолкают громкие крики [142, с. 115—116]15.
Определенность личности Энче Амина и возможность до
некоторой степени воссоздать круг его чтения позволяют яснее
представить себе тип книжников, в среде которых сложился
малайский литературный синтез.
4. АЛЛЕГОРИЧЕСКИЕ ШАИРЫ
Значительное место в малайской классической поэзии
занимают аллегорические шаиры — своеобразный аналог прозаических
притч и рассказов о животных. Судя по данным различных
каталогов рукописей, существует до тридцати подобных поэм, чаще
всего посвященных любовной теме, которая разрабатывается то в
ироническом или пародийном, то в назидательном ключе. В них,
например, повествуется о попугае лори, увидевшем во сне цветок
чемпаки и без памяти влюбившемся в него, о страсти шмеля к
цветку жасмина, о томлении некоего тропического насекомого по
бабочке, морской рыбы — какапа по красотке-карпу, «-видом
подобной сапфиру», или об увлечении комара мухой. По
содержанию аллегорические шаиры перекликаются не только с
романическими, но и с историческими поэмами, поскольку некоторые из
них в иносказательной форме рассказывают о реальных эпизодах
придворной или городской «скандальной хроники» i[196, с. 218].
Другую группу аллегорических шаиров составляют поэмы, в
которых всевозможные птицы, рыбы, цветы и даже овощи и
фрукты предаются глубокомысленным беседам о религиозных,
этнических и философских проблемах. Многие из таких шаиров
представляют собой суфийские аллегории или по меньшей мере
содержат их элементы, и вся эта группа тесно смыкается с собствен-
407
но духовно-дидактической поэзией, в которой иносказательность
сочетается с прямым выражением тех или иных концепций, а
часто и вовсе отсутствует (см. гл. IX). Впрочем, граница между
двумя типами аллегорических шаиров довольно расплывчата, и:
сочинения, относящиеся к первой группе, также нередко имеют
суфийскую окраску. Наконец, несколько шаиров касаются,
условно говоря, «социальных тем». К их числу принадлежат поэма о
злосчастной любви совы к знатной даме-луне или о
взаимоотношениях «простолюдина» — воробья и «аристократа» —
птицы-носорога.
География распространения аллегорических шаиров
чрезвычайно широка. Значительное число их было создано в Палембанге и.
на архипелаге Риау, ^писались они также в Аче и в Барусе, в
Батавии (Джакарте) и на полуострове Малакка, на Восточном
Калимантане и в других районах малайского мира [354, с. 75].
Весьма неоднородным, по-видимому, было и окружение, в
котором рождались и функционировали аллегорические шаиры.
Некоторые из них принадлежали перу различных
высокопоставленных .особ. Так, например, «Поэму о Попугае» написал султан Па-
лембанга — Бадраддин [75, с. 201, 226], «Поэму о Розе», как уже
отмечалось,— его брат — Панембахан Бупати |[75, с. 226—227],,
«Поэму о Царственном Шмеле» — Сафия, дочь Раджи Али Хаджи
i[22, с. 93] и т. д. В то же время X. Хойкас высказывал
предположение о том, что часть аллегорических шаиров была создана в
торговой среде. Их авторами он считал либо купцов, регулярно
посещавших определенные порты и в ожидании попутного
муссона заводивших романы с местными жительницами, либо самих
возлюбленных этих купцов. Не желая называть свои имена, те и
другие предпочитали фигурировать в шаирах под видом цветов,,
насекомых и т. д. ;[354, с. 75—76; 355, с. 76—77]).
Трудно судить, насколько справедливо это предположение.
Возможно, в его пользу свидетельствуют некоторые строки
«Поэмы о Тамбре (Карпе)» [143, с. 277—288], в которых
подчеркивается, что красавица Карп обитает в устье (в устьях рек
располагались малайские порты), а влюбленный в нее Какап — в
открытом море (т. е. он — купец?), и что встретиться с
возлюбленной он может лишь после того, как в горах прошли дожди.
Последнее, быть может, служит намеком на окончание сезона
дождей, после которого торговые корабли начинали прибывать в
малайские порты {393, с. 158]. К сожалению, эти указания все
же крайне неопределенны и могут иметь различные истолковдния.
По-видимому, особой популярностью аллегорические шаиры
пользовались в XIX в., начиная с первых же его десятилетий.
Однако имеются основания предполагать, что сам жанр их
сложился ранее этого времени. Корни его обнаруживаются в малайском
фольклоре — в этиологических мифах, песнях, легендах и сказках
о животных, птицах, растениях, в шаманистских обрядах и
преданиях (см., например, [478, с. 109—316]). Эта фольклорность
<наряду с довольно значительной специфичностью флоры :и фауны
408
в аллегорических шаирах, а также отраженными в них чертами
местного быта и психологического склада позволила некоторым
исследователям рассматривать их как едва ли не наиболее
оригинальную часть малайской классической поэзии ([427; 428, с. 332].
Характерно, что, проникая в фольклорную среду, аллегорические
шаиры легко воспринимались ею и начинали функционировать по
^ее законам. Так, уже в тридцатые годы XX в. голландский
археолог Ф. Шнитгер слышал в Сиаке на Восточной Суматре
знаменитый «Шаир о Пузанке и Окуне», который исполняли во время
магического обряда, призванного привлечь пузанков в рыбацкие
сети/[471, с. 65—70].
Задолго до начала XIX в. образы и ситуации, сходные с
теми, что были характерны для аллегорических поэм, появились и в
литературных произведениях. Р. О. Уинстедт, в частности,
отмечал: «В прозаических романах, например в „Повести о
царственном Корайше", любовными стихами обмениваются рыбы, в
„Повести об Исме-сироте" — павлины. Хотя эти стихи облечены в
форму пантуна, подобные вымышленные ситуации могли привести
к возникновению таких коротких (т. е. аллегорических.— В. Б.)
шаиров» [196, с. 217—218]. Еще более близкую параллель
аллегорическим шаирам демонстрирует уже упоминавшаяся «Песня
о юноше, в мечтах обуянном любовью» из той же «Повести о
царственном Корайше ( = Корисе)», относимой Р. О. Уинстедтом к
XVII в. [196, с. 103—104]. Не исключено, что именно такого рода
песни, обработанные в соответствии с требованиями шаирной
формы и послужили источником любовной разновидности данного
литературного жанра. В становлении же его мистико-дидактиче-
ской разновидности определенную роль, по-видимому, сыграли
поэмы Хамзы Фансури, среди которых мы находим суфийские
аллегории о птице-душе (или Чистой Птице), о единой с
Всевышним рыбе16 и о ките (или мифической слонорыбе), сбившемся с
верного пути постижения Г74, с. 33—39, 57—60; 132, с. 243—
:255]. Вместе с тем явные аналогии обеим разновидностям
аллегорических шаиров обнаруживаются в средневековых литературах
Ближнего Востока, в частности в литературе персидской, что
порой давало основания считать местные черты малайских поэм
чем-то поверхностным и искать их глубинные истоки за пределами
малайского мира {[459]. Нам еще предстоит вернуться к вопросу
об автохтонном или заимствованном характере аллегорических
шаиров, но прежде следует подробнее ознакомиться с их
отдельными образцами.
Поэма о Пузанке и Окуне. Наиболее
распространенным аллегорическим шаиром любовного содержания является
«Поэма о Пузанке и Окуне» («Поэма о том, как Пузанок
влюбился в Окуня»). Считается, что в ней иносказательно и
несколько пародийно воспроизводится вполне реальная история
неудачного сватовства малаккского царевича (его олицетворяет рыба-
пузанок) к царевне Сиака (окунь). Автор поэмы, равно как и
409
время ее создания, неизвестны. Единственный из восьми списков;
поэмы, содержащий дату, был переписан 11 апреля 1876 г.,
однако шаир, скорее всего, возник раньше.
Содержание поэмы |[354, с. 73—75] таково. В малаккских водах неподалеку
от Танджунг Туана обитает юный царевич Пузанок, как-то раз услыхавший о
красоте царевны Окуня, живущей в Танджунг Паданге, и тотчас в нее
влюбившийся. Посетив Танджунг Паданг и удостоверившись в правдивости молвы,
Пузанок собирает своих подданных-рыб и рассказывает им о том, как в нынешнее
полнолуние он любовался Окунем и теперь не может жить без своей
возлюбленной. Он просит у собравшихся совета и помощи, и тогда акулы, дельфины,
скаты, макрель, морской и грязевой угри и другие наперебой изъявляют готовность-
похитить Окуня, похваляясь своей силой и отвагой. Однако рыба Сиакап
предостерегает Пузанка от поспешных действий, напоминая ему знаменитую историю
о гибели меч-рыб, безрассудно напавших некогда на Сингапуру. По его словам;
Окунь уже знает о грозящей ему опасности и готовится достойно ее встретить.
Однако Сиакапу неизвестно, кто именно из подданных Пузанка разгласил эту
тайну.
Меж тем царевна-Окунь беззаботно обитает в своей заводи. К ней
приплывает Грязевой Угорь, изменивший господину, и доносит, что Пузанок собирается
ее похитить и ожидает лишь начала нового полнолуния, чтобы выступить в
поход. Царевна-Окунь в отчаянии думает, что приближается ее смертный час,
разражается слезами и зовет на совет придворных дам и служанок — пресноводных,
рыб. Они сообща обсуждают создавшееся положение. Часть рыб считает, что им,,
женщинам, не под силу сражаться с армией Пузанка, часть же, напротив,
призывает принять бой. Царевна-Окунь говорит, что она была бы вовсе не прочь
стать женой Пузанка, который ей отнюдь не противен, но он — морская рыба,
а она — пресноводная, и поэтому их брак не сулит ничего хорошего. Видя слезы
на глазах госпожи, придворные дамы начинают ее успокаивать. Одни из них
готовы последовать за царевной в плен, чтобы только не разлучаться с ней.
Другие возлагают все надежды на сильные дожди или плавучие сети, которые, быть
может, помешают нападению. Третьи предлагают бежать в лесные болота.
Покуда рыбы решают, как им быть, Угорь исполняет весьма фривольный
танец. Разгневанная этим рыба Секапар, поклонившись госпоже, наносит ему
сильнейший удар, от которого Угорь падает без чувств. Придя в себя, он, однако,
нисколько не раскаивается в неуместном фиглярстве и принимается петь пантуны
о том, сколь страстно Пузанок любит Окуня. Все рыбы осуждают его, но царевна
говорит, что, несмотря на приближение опасности, она не видит причин, почему
бы им немного не развлечься. Увы, мужества ей хватает лишь на эти слова,
после чего царевна вновь ударяется в слезы.
Узнав о горе повелительницы, ее посещают все старые слуги и военачальники.
Они жаждут сразиться за честь Окуня, и каждый называет морскую рыбу, на
бой с которой он готов выйти. Карп уверяет смельчаков, что они не смогут
противостоять армии Пузанка — лишь в искренней молитве Аллаху спасение Окуня.
Царевна затворяется во дворце и всю ночь до рассвета проводит в молитве. Под
утро разражается страшная буря, во время которой с небес спускаются
родители Окуня, несущие дерево дивной красоты, и укореняют его посреди заводи.
Царевна-Окунь тотчас прыгает на это дерево и укрывается в его листве. Сидя там,,
она решает никогда не видеть жениха и размышляет о судьбе рыбы Келаса, по
малайскому преданию ставшей супругой Баклана.
Тем временем Пузанок, дождавшись полнолуния, выступает в поход во
главе отборного воинства. Его армия приближается к противоположному берегу
Малаккского пролива, но внезапно поднявшийся ветер преграждает рыбам путь_
плавучими сетями. Когда же воины Пузанка делают остановку в Букит Бату„
рыбаки безжалостно всех их вылавливают. Лишь Пузанку удается ускользнуть
Поняв, что Аллаху не угоден его брак с Окунем, и узнав, что сама царевна
укрывается от него на дереве, опечаленный влюбленный возвращается домой и
остаток жизни проводит в безутешной тоске о навсегда потерянной для него
невесте.
410
Поэма о Пунггуке (Сове). Другой характерный
образец аллегорического шаира представляет собой «Поэма о
Пунггуке», известная в трех рукописях, неоднократно
литографировавшаяся и издававшаяся исследователями малайской литературы
[116; 124]. Эта поэма, написанная, по-видимому, в середине XIX в.,
по ряду признаков стилистического и содержательного характера
может быть отнесена к «риауской поэтической школе». Автор ее
неизвестен, а некий Ибрахим из Танджунг Пинанга (Риау),
который упоминается в списке шаира, датированном 1865 г., скорее
всего, лишь переписал ее и снабдил послесловием [124, с. 5—9].
История о злополучной любви совы-пунггука к луне широко
бытует в малайском фольклоре. В мифе о происхождении птички-
медоеда она, например, излагается так. Однажды Пунтгук
влюбился в Царевну-Луну и посватался к ней. Луна ответила,
что согласится на брак, если ей прежде позволят спокойно
дожевать щепотку бетеля, но, еще не дожевав ее, бросила, початый
бетель на землю, где он превратился в медоеда. Царевна
попросила Пунггука отыскать ее бетель, но тот, конечно, не смог этого
сделать, и помолвка была расторгнута. Вот почему Пунггук,
говоря словами малайской поговорки, «томится по Луне» и являет
собой пример «печального влюбленного» |[478, с. 122]. В то же
время в малайском фольклоре пунггук — не только символ
верного и несчастного влюбленного, но и воплощение
самонадеянности, чрезмерных притязаний:
Пунггук забыл свое место,
Возомнил, что сможет до луны дотянуться [517, т. II, с. 921].
Хотя в поэме Пунггук выступает в своей ипостаси несчастного
влюбленного, по сюжету данный шаир радикально отличается от
мифа, изложенного выше. Последними отголосками мифологично-
сти, правда весьма олитературенной, в этом сочинении,
написанном по всем правилам малайского любовного канона, являются
этиологическая концовка и как бы нарочитое смешение в образах
его протагонистов черт человека и птицы, человека и небесного
тела. Так, в одних стихах поэмы Пунггук именуется юношей
благородного происхождения, он молитвенно простирает руки,
украшает голову красивой повязкой и т. д. В других же — сидит на
ветке, упершись в нее клювом и взъерошив перья, летает и порой
орямо называется птицей. Точно так же луна сияет на
небосклоне, проплывает по ночному небу и в то же время оказывается
красавицей «нежного роста» с густыми волосами и стройной
шеей.
Обычно «Поэма о Пунггуке» интерпретируется как
аллегорический рассказ (возможно, имеющий некий реальный жизненный
прототип) о любви не слишком родовитого молодого человека к
даме, занимающей гораздо более высокое, чем он, социальное
положение и к тому же просватанной за знатного аристократа, чьим
олицетворением в шаире выступает Гаруда |"355, с. 173; 124, с. 2].
Соответственно планетам и звездам представляются роли служа-
411
нок Луны, Грому, Молнии и Затмению — ее стражей, Облаку —
посредника между влюбленными и т. д.
Вместе с тем «Поэма о Пунггуке» насыщена суфийской (или,
быть может, стилизованной под суфийскую) символикой. Ночная
птица, например, не видящая днем, символизирует познающего*
предпочитающего духовное зрение физическому, а луна —
глубинную сущность человека, отражающую Божественный Лик,
которую этому познающему надлежит выявить в себе. Заслуживают
внимания и такие мотивы поэмы, как небесное происхождение
Пунггука и его постоянная «память о круге (бытия?)»,
внезапность страсти к Луне, немотивированная опасность встречи с
Павлином, которая может помешать движению к цели (павлин
иногда выступает символом сбивающей с пути красоты
феноменального мира), полет к Луне лишь после того, как она сама
зовет птицу, необходимость постоянной молитвы, аскетических
подвигов и обуздания страстей для соединения с Луной и т. д.
Все эти мотивы чрезвычайно характерны для суфийских
аллегорий и позволяют в гипотетической форме усматривать в «Поэме
о Пунггуке» также и мистический аспект.
Наконец, нельзя не отметить, что изящество образов и сюжета
делает «Поэму о Пунггуке» одним из наиболее привлекательных
в художественном отношении аллегорических шаиров.
Начинается поэма, которую ее автор (или переписчик)
называет «небылицей», услышанной им и занесенной на бумагу J124„
с. 76], с рассказа о том, как в душе Пунггука при звуках
отдаленного грома внезапно пробуждается страсть к Луне. Пунггук не
находит себе места, мечется по лесу и своими стенаниями
смущает покой его пернатых обитателей. Наконец, с перьями,
растрепанными порывистым ветром, он опускается на ветку индийской
смоковицы и устремляет на возлюбленную печальный взгляд.
Это позволяет автору прибегнуть к столь любимому малайской
классикой описанию лунной ночи и страдающего под ее сенью
влюбленного. Примечательно описание тем, что оно дается как бы
с точки зрения самого Пунггука, весь кругозор которого
заполняет панорама звездного неба, и к тому же в значительной степени
построено по образцу пантунной лирики: первая пара строк
изображает картину звездного неба, тогда как вторая — повествует
о душевном состоянии Пунггука:
Сиянье Луны окрест разливалось,
Вкруг звезды мерцали ожерельем алмазным.
Пунггук томился от страсти безмерной
К Луне, светившей в краю за морем.
Сверкали Плеяды, чей строй совершенен —
Точно циркулем смерены расстоянья меж ними.
Зажглись светила на небесном своде,
Пунггук тосковал, их созерцая...
В глухую полночь Пунггук встрепенулся
И вновь узрел Плеяд семерицу,
А подле — три звезды Ориона,
Глаза слепивших ярким сияньем...
Пунггук томился невыразимо,
412
На Южный Крест взирал в печали.
Меж тем Луна сияла на тверди,
Но для Пунггука была недоступна...
А на востоке всходили звезды,
Заливая светом просторы моря,
Волненье Пунггука что ни миг прибывало —
«О, если б дождаться вестей от милой!..»
Назавтра снова луна сияла,
Гомон птиц то смолкал, то крепнул,
У горных ручьев кричали павлины,
Строя гнезда, без умолку пели цикады [124, с. 36—38].
Вконец измученный Пунггук лишается чувств и едва не
умирает от любовных мук, но в это время к нему является одна из
звезд созвездия Козерога и приносит подаренный Луной ларец с
целебным снадобьем. Воспрянув духом, Пунггук вместе со своим
братом летит в сад Луны — Банджаран Сари. Восхищенный era
красотой и близостью возлюбленной, он уже готов запеть, но брат
рассудительно его удерживает, говоря, что неумеренное веселье
привлечет внимание стражей Луны — Грома, Молнии, Затмения
и Грозовой Тучи.
Так вводится тема опасности, которая, придавая характерную
окраску любовной теме, составляет -стержень поэмы, придающий
ей целостность и не позволяющий рассеяться B-ниманию
читателя. Тревожная атмосфера еще усилится в рассказе о втором
свидании влюбленных и достигнет кульминации в истории
столкновения Пунггука 'С Га-рудой. Пока же Пунггук предается беседе
с обитателями сада.
Одни из них пытаются удержать его от встречи с Луной, пугая
многочисленными препятствиями и трудностями, другие же,
напротив, стараются ободрить. Лотос объясняет Пунггуку, что он
слишком изнежен, а достижение цели требует больших усилий..
Его поддерживает Орион, говорящий, что, «хотя цветок (т. е.
Луна) готов покорно поникнуть», сорвать его будет все же нелегко..
Плеяды пугают Пунггука гневом государя. Голубь предостерегает
его от излишней торопливости и несдержанности чувств, тогда как
Облако и Дождевая Туча настаивают на том, что, если Пунггук
действительно любит Луну, он должен без промедления лететь в
ее покои.
Сорок дней проводит Пунггук в саду и наконец, побуждаемый'
Райской Птицей (чендравасих) к более активным действиям,
устремляется во дворец. Облака провожают его в олочивальню-
Луны и, скучившись, скрывают от посторонних глаз. Звезды
наперебой восхваляют красоту, чарующий голос и учтивые манеры
влюбленного. Пунггук пытается склонить Луну к ласкам, осыпая
ее многочисленными комплиментами: она и райская дева, и
сладостная утешительница печалей, и раскрывшийся цветок, который
мечтает похитить шмель. Луна слушает, подперев голову рукой,,
испуганно замечает Пунггуку, что тот поет нечто бессвязное,
«словно объевшись одурманивающих грибов», и, несмотря на уко-
ры Меркурия, напоминающего, что она сама искала этой ветре--
413
чи, томится и плачет, не желая ответить на любовные призывы
птицы.
Пунггук улетает и в отчаянии носится над горами, морем и
«жемчужным побережьем». По совету Макрели он предается
подвижничеству на вершине горы и неустанно молит Всевышнего
даровать ему новое свидание с Луной.
Через некоторое время Луна вспоминает о влюбленном и,
охваченная страстью, обещает исполнить все желания Пунггука,
•если тот вновь ее посетит. Облако-Посредник летит за Пунггуком
и провожает его к Луне. Второе свидание, несмотря на
предупреждения звезд о его опасности, оказывается счастливее первого, и
-после новых восторженных славословий влюбленные, скрытые
«облачным пологом», заключают друг друга в объятия. На
прощание Луна дарит Пунггуку каин, изукрашенный «драгоценными
камнями девяти родов», и оба дают клятву не разлучаться ни
в. жизни, ни в смерти.
Пунггук покидает опочивальню Луны, но на обратном пути
сталкивается с ее женихом Гарудой. Тот, узнав каин своей
невесты, собирает птиц и нападает на влюбленного. Пунггук обнажает
меч и, «точно Арджуна», рассеивает полчища врагов, однако
военачальники Гаруды — Сокол и Вирам Гандасул'и (?) ранят его
и топят в море. Пунггук умирает. Его вытаскивают на берег и
бросают там, отказав в погребении.
Луна в горе посылает звезды разузнать, что же произошло, и
-те приносят весть о гибели Пунггука. Красавица, рыдая, думает
о своей клятве умереть вместе с возлюбленным, но
бледно-желтый цветок Гандаеули (малайский символ неверности) убеждает
ее успокоиться, иначе Сокол услышит громкие стенания и,
догадавшись об их причине, лишит ее жизни. Испуганная Луна
.умолкает и не смеет даже оплакать павшего.
Из останков Пунггука вырастает гриб, который затем
превращается в обычного пунггука — сову. С тех пор все его потомки
неизменно тоскуют и поют по ночам печальные песни, а в
полнолуние, как один, вылетают из гнезд и устремляются к сияющему
в поднебесье светилу.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Древнейшими образцами такого рода упорядоченной речи были
распространенные в фольклорной поэзии большинства народов Малайского архипелага
двучленные (иногда трех- или четырехчленные) формулы, стиховая структура
которых основывалась на параллелизме и лексических повторах. Голландский
исследователь Я. Гонда по аналогии с архаичными формами индоевропейской поэзии
назвал подобные формулы латинским термином carmina [341, с. 5]. Различные
сочетания этих элементарных carmina, в которых постепенно роль синтаксического
параллелизма и звуковых повторов возрастала, тогда как роль повторения
целых строк и словосочетаний — уменьшалась (ср. [295, с. 75—86]), породили все
разнообразие поэтических форм малайско-индонезийского фольклора. К одному
из полюсов его тяготели шаманские мифологические «поэмы», заклинания, мо-
литвословия, которые у таких народов Индонезии, как ниасцы, даяки, тораджи,
состояли из серии двучленных carmina, где одна и та же мысль" разными словами
414
выражалась в первом и втором стихах [144; 504; 341, с. 7—8], к другому
полюсу — различные, также обычно двучленные, изречения, пословицы, загадки,
песенные четверостишия (типа тораджских болингони) и т. д. Поэтические формы
обоих типов были широко представлены в малайском фольклоре [478; 117; 78]„
и можно полагать, что именно из их континуума со временем выделились в
самостоятельный жанр пантуны.
2 Трудно судить о том, восходят ли пантуны к подобным загадкам, или же
оба жанра представляют собой две параллельно развившиеся ветви единого
ствола — древнейшей малайской carmina. Вполне очевидно, однако, что исходным
фоном эволюции смысловой и звуковой символики тех и других служили
архаичные представления о магической силе, присущей слову, звуку и произведениям?
словесности [322; 187, с. 77—85]. Эти же представления вызвали к жизни
малайские звуковые табу, тайные профессиональные жаргоны, особые виды звуковой
субституции запретных по той или иной причине слов и т. д. [355, -с. 59—60}.
Столь же неясен и вопрос о внешних влияниях, которые могли сыграть свою
роль на этапе окончательного сложения пантуна. X. Овербек, например, считал,,
что пантун возник из сочетания малайской загадки и санскритской шлоки и
находил пантунообразные шлоки в «Рамаяне» и «Шакунтале» Калидасы [423].
Р. О. Уинстедт, ссылаясь на параллели из «Шицзина», полагал, что «в
формирование пантуна внесли свою лепту китайцы» [196, с. 221]. Все же четверостишия,
аналогичные пантуну, настолько широко распространены в мировой фольклорной
и письменной лирике [195, с. 125—199; 444; 335], что такого рода параллели
малоубедительны, тогда как постоянное движение пантуна из фольклора в
литературу и обратно само по себе хорошо объясняет причины формальной и
содержательной изощренности, которую приобрел этот глубоко национальный жанр
в своих лучших образцах.
3 Возникший, согласно концепции А. Н. Веселовского, в недрах нерасчленен-
ных анимистических представлений о тождестве жизни человека и природы,
психологический параллелизм с появлением поэзии начал выполнять эстетические-
функции. При этом происходило развитие каждого из соотнесенных образов
(параллелей), входящих в изначальные простейшие пары типа «солнце — глаз»,
«дерево хилится — девушка кланяется». В результате такого развития возрастал»
сложность и многообразие семантических полей каждого образа, при этом часто
одна из параллелей опережала в своей эволюции другую, что постепенно вело к
разложению психологического параллелизма и трансформации его в параллелизм
ритмический, звуковой, лишенный смысловых ассоциаций, на которых прежде
зиждилось единство обеих частей.
4 В скобки заключены те строки пантунов, которые были опущены в
разговоре.
5 К тому же хороший разбор «Шаира о Кен Тамбухан» дан в публикации*
А. Тэу {154], а сравнительно недавно на русском языке в книге Б. Б. Парникеля
[247, с. 122—125].
6 Прекрасная фея, наделенная и демоническими чертами, к которой, по
одному преданию, сватался малаккский султан Мансур, по другому — Махмуд.
7 Пербатасари — герой-любовник из повестей о Панджи, брат Чандры Ки-
раны.
8 /—граница «песней»; // — третья «песнь», имеющая двойной финал: горе Би-
дасари сменяется радостью, а радость -Леласари — горем.
9 Это «Поэма о Бидасари» (12 списков), <<Поэма о Селиндунг Делиме» (12),
«Поэма о Кен Тамбухан» (ilO), «Поэма о Мамбанге Джаухари» (7), «Поэма а
Силамбари» (6), «Поэма о Сити Завийе» (5), «Поэма о Сити Зухре» (4),
«Поэма об Абд аль-Мулуке» (4), «Поэма о султане Яхье» (4), «Поэма о Хитроумной
Царевне» (3), «Поэма о Рату Джувите» (3), «Поэма о Панджи Семираиг» (3)^.
«Поэма о Ятиме Нестапе» (3). На долю этих шаиров приходится 76 из 104
списков романических поэм, упоминаемых в названных каталогах.
110 Смысл названия не вполне ясен. «Силамбари» — фонетический вариант
слова саембара, обозначающего «конкурс» женихов, во время которого сама
невеста выбирает себе из них супруга. В некоторых списках имя Силем (Силам) ш
этой поэме носит сводня, тогда, возможно, название должно переводиться как
«Поэма о славной Силем».
415
ш' Эта сцена напоминает бой Крисны, восседающего на гаруде, и Бомы
верхом на вилмане и, возможно, указывает на знакомство автора поэмы с
«Повестью о Санг Боме».
12 Ср., например: «Когда армии стали друг против друга, Бетара Крисна и
.Махараджа Дармавангса построили свое войско в боевой порядок, именуемый
Ветровая Гаруда (?). Санг Арджуна стал „клювом", Махараджа Дерпа—„го-
-ловой" построения, Санг Бима — „левым крылом", Санг Сета Джаман — „правым
крылом", Махараджа Дармавангса и раджи — союзники Пандавов (?) —
„телом", а Санг Сетьяки — „хвостом"» |[98, с. 104].
13 Ср. следующий отрывок из «Повести о Мухаммаде Ханафии»: «Смешались
бойцы обеих армий, так что невозможно было различить, кто где среди смешав-
1шихся, и не было слышно иных звуков, кроме кличей и криков воителей, грома
и грохота палиц и оглушительного рева бойцов, [так что казалось, будто] настал
Судный день. Головы павших катались, точно шары, тела воинов валялись тут и
там» |[6б, с. 208, 218, 255]. Любопытно, что среди полутора десятков описаний
боя, собранных Бракелом [299], лишь в двух (в х<Повести о Мухаммаде Ханафии»
и «Повести о Си Мискине») встречается образ голов, точно шары, катающихся
тю полю, восходящий к персидскому оригиналу истории Мухаммада Ханафии.
14 Ср.: «И как только Джембувати и царевна Тунджунг Сари (мать и жена
Санг Самбы.— В. Б.) услышали эту весть, они спрыгнули на землю и бросились
навстречу колеснице Самбы Правиры... не успев заколоть волосы, так что они
рассыпались у них по плечам до самой земли... И Джембувати... припала к телу
сына, а Тунджунг Сари обняла его, плача навзрыд, потом же упала без
памяти... И Джембувати ударилась в плач, говоря: „О дитя мое, плод моего сердца
и свет моих очей! Почему ты не приветствуешь свою мать, которая вышла
встретить тебя... Если так, то лучше бы и> мне умереть с тобой вместе!" Когда царевна
Тунджунг Сари очнулась и увидела перед собой тело Самбы Правиры, она вновь
зарыдала, восклицая: „Почему ты все молчишь, супруг мой? Отчего не хочешь
приветствовать свою жену, пришедшую встретить тебя? Я не виновата перед
тобой ни в чем — отчего же ты ушел, оставив меня коротать свои дни в тоске?
Лучше я наложу на себя руки, чтобы умереть в одночасье и снова соединиться
с тобой"» ,[47, с. 248—250].
15 В «Повести об Индрапутре» в подобных же выражениях описываются
забавы царевичей на море Бахр аль-ишк: «По морю плавали корабли и барки из
золота, серебра и драгоценного сплава, усыпанные самоцветами. Каждый
корабль и каждую барку украшали цветы, и жемчужные уборы, и резьба, и.узоры
в виде спиралей... Царевичи плавали на тех кораблях и барках взапуски,
сталкивали их, и всякий забавлялся на свой лад. И все царевичи, развлекаясь
посреди моря, небывало громко играли на различных музыкальных инструментах»
[57, с. 103].
Сходен с данным описанием из поэмы и рассказ о морском путешествии Ин-
драпутры с союзниками на родину |[57, с. 323—326]. К тому же в «Повести об
Индрапутре» обнаруживаются с трудом отличимое от этого рассказа описание сва-
.дебной процессии (ср. уподобление султана Тало жениху), впереди которой несут
паланкин в форме зверя, и упоминание о «цветочном троне» новобрачных,
вызывающем ассоциации с возвышением в форме цветка, на котором восседал султан
Тало (ср. [57, с. 221]).
116 Единый — по-малайски тунггал — в арабской графике может быть
прочтено и как тонгкол или тунггул — тунец, в чем проявляется характерное для Хамзы
^пристрастие к игре слов (см. |[300, с. 82—85]).
ГЛАВА IX
МУСУЛЬМАНСКАЯ АГИОГРАФИЯ
И СУФИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Как уже отмечалось, сочинения, относящиеся к третьей сфере
малайской классической литературы — сфере духовного сердца,
чрезвычайно многочисленны, носят, как правило, ученый и
технический характер и по большей части лишены эстетического
компонента. Поэтому они и не были включены в рамки настоящей
работы. Две группы памятников, однако, безусловно обладают
эстетическим компонентом. К ним относятся агиографические
(житийные) сочинения и труды по суфизму, в особенности суфийская
поэзия. К рассмотрению важнейших образцов этих двух категорий
памятников мы теперь и обратимся.
/К АГИОГРАФИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ
Повести о пророке M у.х а мм аде.
«Мы говорим в Коране притчами, но люди упорствуют в неверии и требуют
чудес. Они говорят: „Не поверим тебе, пока ты не изведешь из земли источника,
или будет у тебя сад с виноградом и пальмами, а ты проведешь между ними
каналы, или спустишь на нас небо, как говоришь, кусками, или придешь к нам с
Аллахом и ангелами, или будет у тебя дом из золотых украшений, или ты
поднимешься на небо, но и тогда мы не уверуем в твое восхождение, пока ты не
спустишь нам „Книгу"» [36, с. 227—228].
Итак, исторический Мухаммад никогда не приписывал себе
каких-либо сверхъестественных способностей и единственным
свидетельством своей пророческой миссии считал -божественную
неподражаемость ниспосланного ему Корана. Однако благочестивые
потомки, исходя отчасти из проповеднических целей, отчасти — из
желания выиграть «войну престижей» с другими вероучениями,
приписали ему не только многие из чудес, которых требовали
«упорствующие в неверии люди», но и «большие знамения». При
этом сами мусульманские авторы обосновывали свое право
включать в житие Мухаммада фантастические мотивы, восходящие
к народным легендам и различным апокрифическим источникам,
превратно истолкованным ими изречением Пророка: «Можете
говорить обо мне все похвальное, но не то, что христиане говорят об
Иисусе (т. е. что сам Мухаммад претендует на божественность.—-
Б. £.)» [222, с. 94].
27 Зак. 147
417
Первенствующая роль принадлежала фантастическим житий-
ным повестям о Мухаммаде и в малайской агиографии, которая,,
подобно литературе зерцал, в художественной форме давала
назидательные примеры и образцы для подражания, но уже не в-
мирской деятельности, а в духовной жизни. Возникшие под
влиянием персидской, а точнее — индо-персидской традиции в XVI—
XVII вв. jf 196, с. 124—125] (не исключено, что «Повесть о
кончине Пророка» в какой-то версии была известна еще в малаккские
времена), малайские повести о Мухаммаде не образовывали
целостного свода наподобие современных им арабских сочинений
«Хамис фи ахвал ан-нафс ан-нафис» («Пять отрядов слов о душе
Драгоценного») или «Инсан аль-уйун фи сират аль-амин аль-ма-
мун» («Зеница очей о житии Верного, в которого веруют») (см.
»[222, с. 96—99]). Они представляли собой сравнительно краткие-
самостоятельные произведения, посвященные, как правило,
важнейшим в духовном отношении эпизодам его жизни, и хорошо
соответствовали исконным верованиям и вкусам неофитов
разнообразными рассказами о его сверхъестественном могуществе.
Житие Мухаммада, этапы которого отмечены этими
произведениями, начинается «Повестью о Свете Мухаммада» — истории
его предбытия в виде Света Пророчества, давшего начало
мирозданию и нисходившего затем к каждому из пророков. Далее
следуют исполнявшиеся на ежегодных торжествах «Повесть о
рождении Пророка», «Повесть о мирадже Пророка», в которой
рассказывается о ночном восхождении Мухаммада на седьмое небо,,
когда он был от Творца «на расстоянии двух луков или ближе»,
«Повесть о бритье Пророка», доверенном архангелу Джабраилу,.
после чего голову Мухаммада покрыли сияющим листом
райского дерева, а 126 666 его волосков взяли в качестве амулетов
спустившиеся с небес гурии, и «Повесть о кончине Пророка», перед,
которой Мухаммад во искупление греха позволил некоему Ака-
саху нанести ему удар бичом, и когда тот, духовно
преображенный, отбросил так и не понадобившийся бич, Пророк вместе с*
Джабраилом вошел в отверстые врата рая (подробнее об этих
повестях см. \Г 196, с, 123—128]). Популярнейшим произведением
такого рода является также описывающая одно из самых
небывалых чудес Мухаммада «Повесть о расколовшейся луне» с ее
мощными, исполненными подлинно космического величия образами,
,[110].
В повести рассказывается, как ненавистник Мухаммада Абу Джахил (араб.
Абу Джахл) пожаловался правителю Мекки Джану Малику (в некоторых
вариантах — Хабибу ибн Малику) на то, что Мухаммад, хотя и называет себя
Печатью Пророков и Последним из Пророков, не явил еще в отличие от его
предшественников никаких знамений своей высокой миссии и потому должен быть-
признан самозванцем. По приказу Джану Малика Мухаммад является на
равнину, где собираются все мекканцы, и, чтобы опровергнуть слова Абу Джахила,
совершает величайшее из чудес: «И тогда все, кто был на равнине, устремили
взоры на дорогу, и в тот же миг дневное светило померкло, словно бы сокрытое
тучей ангелов, следовавших за Мухаммадом. А через мгновение -в небесах ярче-
восходящего солнца воссияла полная четырнадцатидневная луна, и толпы узрелк
Посланника Божия, пришедшего на равнину, и весьма подивились его необычай-
418
ному явлению... И Посланник Божий сотворил молитву в два раката с
благословением, а после молвил, обратись к государю: „О Джану Малик и вы, арабы,
взгляните на величие Господа Миров, являющего свою мощь всем своим рабам".
И с теми словами он устремил взор к луне и возгласил: „О луна, во имя
Всемогущего Господа Миров спустись ко мне, и да свершится Воля Его, пребывающая
в Его рабе по дару Его!"
И луна спустилась с небес к Дому Божию и, семижды обойдя вокруг него,
приблизилась к Посланнику. Когда же к нему приблизилась, остановилась и
гласом, подобным раскату грома, исповедала перед ним веру, воскликнув:
„Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и еще свидетельствую, что Мухаммад —
Посланник Божий". И, услыхав то громогласное исповедание луны, все
неверные, не желавшие признать Посланника, содрогнулись от ужаса и пали наземь
без чувств. А луна, возгласив исповедание веры, вошла в правый рукав
Посланника и вышла из его левого рукава, после же раскололась на две половины, из
коих одна устремилась к востоку, а другая — к западу, и, вновь взойдя на
небосвод, те половины воссоединились, так что между ними не осталось и малей-
;шей трещины» 010, с. 25, 27].
После этого правитель и вся мекканская знать принимают ислам, а
Мухаммад совершает второе чудо— он укутывает своим плащом родившуюся безрукой
и безногой дочь Джану Малика, и та мгновенно обретает руки и ноги. Согласно
другой версии, правитель после чуда с луной отнюдь не успокаивается и
приказывает схватить Мухаммада и Абу Бакара (араб. Абу Бакр). Ислам он
принимает лишь после поражения в войне с Пророком [110, с. 36—37].
Другую группу агиографических сочинений о Мухаммаде
составляют повести, призванные не столько вызвать благоговейный
трепет читателя, сколько вразумить его. К их числу относятся
«Повесть о том, как Пророк наставлял свою дочь Фатиму» —
своеобразное зерцало для женщин, излагающее их семейные
обязанности; «Повесть о том, как Пророк обучал Али» — суфийский
трактат об этапах восхождения к Всевышнему; наконец, две
повести, призывающие быть милосердными к беднякам,— «Как
Посланник Божий подал милостыню дервишу» и «Пророк и нищий»
(464, с. 1232].
Чтение повестей о Пророке считалось в высшей степени
благочестивым занятием, сулящем блага в дольнем и горнем мирах.
Одна из них, например, завершается такими словами:
«И Пророк сказал: „Я отрекаюсь от тех, кто предаст забвению эту историю.
.Да минует она рук неверных и еретиков, на тех же, кто лелеет ее в памяти, да
снизойдет милосердие и благословение Аллаха, да не войдет ни один вор в их
.дом, да не возобладает над ним ни один враг"» [196, с. 127}.
В то же время ортодоксальное духовенство третировало их
за слишком явную шиитскую окраску, выражавшуюся, в
частности, в особом возвеличивании Али, заметном и в «Повести о
расколовшейся луне», где лишь он решается вступиться за
Мухаммада и защитить его от нападок Абу Джахила.
Повесть о султане Ибрахиме ибн Адхаме.
Султан Ибрахим ибн Адхам, прославленный владыка Ирака, как-то
раз повелел заново укрепить столицу и, когда новые стены были
воздвигнуты, собрал всех подданных, чтобы те указали в
работе строителей хоть один изъян. Подданные наперебой восхищались
27*
419
совершенством кладки, и лишь старый дервиш заметил, обратись
к государю: «О повелитель, как и все на свете, эти стены не
вечны, лишь горний мир неподвластен тлению». Тогда султан Ибра-
хим ибн Адхам отрекся от престола и решил удалиться от мира„
но придворные последовали за ним и умолили государя
возвратиться. На обратном пути на берегу моря султан увидел слепук>
цаплю. Цапля широко раскрывала клюв, и рыба сама
впрыгивала в него. Пораженный милосердием Аллаха к тем, кто
полагается лишь на Него, Ибрахим ибн Адхам устыдился своего
маловерия и навсегда оставил царство ,|374, с. 13—14].
Так начинается «длинная» версия малайской «Повести о
султане Ибрахиме ибн Адхаме», созданная, возможно, в промежутке
между второй половиной XVII — первой половиной XVIII в.
шейхом Абу Бакаром — выходцем из Хадрамаута, расположенного"
на юге Аравийского полуострова. Краткая версия повести ([126],
анализируемая ниже, не содержит этих эпизодов — Ибрахим
оставляет в ней царство внезапно и бесповоротно1,— однако по-
своему духу, сюжету и 'идеям она мало отличается от «длинной»
версии.
Реальный Ибрахим ибн Адхам отнюдь не был правителем;
Ирака. Он родился, скорее всего, в 730 г. в Балхе (современный
Северный Афганистан), происходил из семьи военных поселенцев-
арабов и большую часть жизни провел в Сирии, предаваясь
аскетическим подвигам. Это не помешало ему принять участие в ряде
арабских походов против Византии, после одного из которых он
в 777 или 778 г. и скончался. Наибольшее впечатление на
последующие поколения суфиев производили рассказы о добрых делах
Ибрахима, его самоотречении, отказе от роскоши, в которой он
провел ранние годы, и житие подвижника вошло во все
суфийские агиографические сборники [375, с. 985—986]. Каноническая-
для этих сборников композиция, в которой краткие, не связанные
друг с другом истории о святом перемежаются его изречениями
(см., например, |Г59]), не привилась в малайской традиции.
Правда, такого рода житие Ибрахима ибн Адхама вошло в «Сад
царей», но не ему, а повести, привычно сюжетной и драматичной,.
была суждена подлинная популярность у малайцев2.
Внешне .«Повесть о султане Ибрахиме ибн Адхаме» весьма:
напоминает традиционное волшебно-авантюрное произведение. Как:
обычно, ее открывает описание могучего царства и его
достославного правителя. Затем в соответствии с законами жанра «на
заре, когда дикие звери еще не вышли на добычу», государь
отправляется в странствие, останавливается отдохнуть под
одиноким деревом и видит плывущий по реке предмет, принадлежащий
уединенно живущей красавице. Ошеломленный, он устремляется-:
на ее поиски, находит девушку (Сити Салеху) в прекрасном саду
с шаблонным прудом, беседками и плодовыми деревьями,
женится на ней, а затем покидает. У красавицы рождается сын — Му-
хаммад Тахир, который жаждет увидеть отца и после долгих
скитаний встречается с ним. Все это совершенно стереотипные
420
мотивы такого рода повестей, слагающиеся в последовательность,
диктуемую их столь же стереотипной, хотя в данном случае и
несколько незавершенной, схемой.
Трудно, однако, найти произведение, более далекое от
волшебно-авантюрных хикаятов по своей тональности, идейному замыслу
и системе ценностей, чем «Повесть о султане Ибрахиме ибн Ад-
хаме». Пафос волшебно-авантюрных повестей — в рождаемой
разумом, гармонизирующим хаос эмоций, способности обрести всю
полноту земных благ и земного величия. Эта способность
проявляется в неустанно подчеркиваемом вежестве героя. Пафос
«Повести о султане Ибрахиме ибн Адхаме» — в рождаемой верой
устремленности к нетленным ценностям горнего мира, которые
обретают лишь те, кто отрекся от индивидуального «я».и всех земных
благ. Эта устремленность реализуется в последовательно
показанном аскетизме Ибрахима ибн Адхама.
Волшебно-авантюрные повести завершаются возведением героя
на царство. «Повесть о султане Ибрахиме ибн Адхаме»
начинается с его отречения от престола и странствия не в поисках
приключений, но к святым местам. Найдя предмет, принадлежащий
красавице — скажем, плывущую по воде прядь ее волос,— герой
волшебно-авантюрных повестей теряет голову от любви и
предвкушения свидания. Ибрахим ибн Адхам, съев половину
проплывавшего по реке граната Сити Салехи, приходит в ужас от
совершенного греха, ибо утолил голод плодом, принадлежащим не ему,
а кому-то другому. Женитьба на недоступной красавице и
обретение сына для героев волшебно-авантюрных повестей важнейшие
этапы на пути к славе. Для Ибрахима ибн Адхама, при всей его
привязанности к Сити Салехе и сыну Тахиру и именно в силу этой
привязанности, оба события — лишь испытания, отвлекающие от
главной и единственной цели жизни. Итак, не о цепи
приобретений: жена-^царство->сын, а о цепи отречений от того, другого,
третьего рассказывает «Повесть о султане Ибрахиме ибн
Адхаме», последовательно изменяя на противоположное значение
каждого из стереотипных эпизодов волшебно-авантюрных повестей и
оказываясь в полном смысле слова своеобразной суфийской
«антиповестью».
Нураддин ар-Ранири среди прочих случаев из жизни
Ибрахима ибн Адхама упоминает о том,, как подвижник во сне увидел
архангела Джабраила с листом бумаги в руках. «Что это?» —
спросил Ибрахим ибн Адхам. «Я записал на этом листке имена
всех возлюбивших Аллаха»,— отвечал Джабраил. «Запиши и мое
имя, хотя бы подо всеми другими»,— попросил Ибрахим ибн
Адхам и тотчас услыхал глас божий: «О Джабраил, поставь
имя*Ибрахима ибн Адхама первым среди имен тех, кто Меня возлюбил!»
[374, с. 11]. Вопреки этому рассказу из двух неразрывно
связанных сил, ведущих суфия к совершенству,— страха божия и
божественной любви — именно первая играет решающую роль в
повести. Вторая из них — сила любви — нашла особенно яркое
воплощение в сочинениях малайского суфия Хамзы Фансури.
421
2. СУФИЙСКАЯ ЛИТЕРАТОРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Творчество Хамзы Фансури. Французский адмирал
Болье, посетивший в 1620 г. Аче, в своих мемуарах описал визит
к султану некоего незнакомца:
«Этот человек, магометанин, именовал себя племянником Иисуса Христа и
большим знатоком закона Мухаммада. Наделенный натурой пророка, он пришел
к государю Аче, но тот был столь мало тронут его вразумлениями, что приказал
ему остаться в дверях и при таких манерах не сметь входить, отчего
прорицатель замолчал, словно внезапно пораженный немотой» [472, т. 2, с. 393—394].
Султаном был известный завоеватель Искандар Младший,
отличавшийся такой маниакальной раздражительностью, что в день
перед полнолунием ни один из придворных не отваживался к
нему приблизиться (Г396, с. 174]. Пророком, раздосадовавшим
султана своей «некуртуазностью»,— по-видимому, Хамза Фансури,
величайший малайский суфий, прозаик и поэт |[297, с. 210].
Вероятно, именно такого рода тщетные увещевания владык
окончательно убедили Хамзу держаться подальше от двора и, памятуя,
что сам пророк Мухаммад «запретил быть рабами
несправедливых» [74, с. 96] удерживать от дружбы с раджами и эмирами
своих последователей:
О вы, что избрали дервишества путь,
С раджой и эмиром не дружите вовек,
Ибо посланный с вестью благой
На великих и малых деленье отверг {74, с. 97].
Хамза Фансури родился во второй половине XVI в. в городе
Барус (Фансур) на западном побережье Суматры. Барус
славился не только как место сбора лучшей в те времена камфоры и
как процветающий порт, привлекавший арабских, персидских,
индийских купцов. Он был также крупным центром теологического
знания: сначала (.с. VIII в.) буддийского, а позже —
мусульманского [300, с. 89—92]. Не исключено, что именно здесь, прежде
чем отправиться в странствия, Хамза Фансури изучил арабский
и -персидский язы-К'И. Затем, стремясь постичь глубины суфизма, он
долго путешествовал — посетил Паханг на Малаккском
полуострове, Бантен и Кудус — на Яве и, наконец, священные города
Мекку и Медину, а возможно, и Багдад — центр суфийского
братства кадирийа, членом которого он стал f61, с. 10—11].
По-видимому, долгожданное единение с Высшей Реальностью Хамза
пережил, возвратившись из Кудуса и обосновавшись в небольшом,
затерянном среди джунглей поселении Шахр-и Ноу (Новый
Город), расположенном примерно в дне пути от столицы Аче. Он
считал, что обрел здесь свое истинное бытие, заново родился и
потому в стихах нередко называл себя «уроженцем двух городов»
Г297, с. 206—209] 3.
Мы уже отмечали, что в Аче при Алааддине Риайат-шахе и
422
Искандаре Младшем, в годы правления которых творил Хамза,
суфизм был крайне моден. На каждом шагу достигший духовного
просветления, прекрасно образованный писатель мог наблюдать
довольно вульгарные проявления этой моды. Султанский тронный
зал носил название Обитель Совершенства, река в султанском
парке — Обитель Духовной Любви, даже флагман султанского
флота именовался не иначе, как Зерцало Чистоты [90, с. 16, 33,
259]. Хамза, учивший о Всевышнем, более близком к любящему,
чем «его (любящего) сонная артерия» в одном из лучших своих
стихотворений с иронией рассказывает об утонченных юношах и
древних старцах, как по команде ставших суфиями и
устремившихся на поиски Творца в лесную глушь:
Уловкам Господа несть числа,
То отцом, то матерью явится Он,
Умеет искусно одежды менять,
Оттого в смятенье Его рабы...
Вот Он надежно завесами скрыт,
Из-за тех завес доносится звук,
Но это снова — только игра,
Ибо завесы — все тот же Он.
Потому-то каждый, кто юн и учтив,
Потому-то каждый, кто стар и сед,
На долгие месяцы затворясь,
Ищет Всевышнего в чаще лесной.
Ведь нынче всякий «суфием» стал,
Нынче всякий «любовью» пьян,
Нынче всякий «духа» стяжал,
Оттого на земле унынье и гнев!..
Нынче всякий скитальцем слывет,
Всякого «древом запретным» зовут,
Всякий богатство свое расточил
И прямо на скалы правит корабль!
Всякий «пылающим факелом» стал,
Всякий «молнией» наречен,
Всякий всякому стал врагом,
С головой погрузившись не в дух, а в плоть.
Всякий в «жертву» себя принес,
Всякий нынче обрел «наготу» 4,
Всякий вам «доводы» приведет —
Наставленье из Мекки, из Корана айат.
Хотя отделен Божественный Свет
От нас, неисчислимых рабов,
Он — и вино, и ковш для вина,
Дитя, Его не ищи вдалеке! [74, с. 60—61].
Однако не только профанация суфизма беспокоила Хамзу. Еще
более резко обрушивался он на тех из малайцев, которые
по-прежнему прибегали к йогической практике постижения божественной
реальности |Г61, с. 18—19; 300, с. 73—77], и одновременно на
влиятельных при дворе ортодоксов, которые, подобно кади Аче,
подозревали в каждом суфии вероотступника l[61, с. 20—23].
Последнее уже после смерти Хамзы привело к казням его учеников и
сожжению его книг.
Стремясь просветить своих «не сведущих в арабском и пер-
423
сидском языках» соотечественников, Хамза Фансури становится
инициатором создания на малайском языке сочинений по суфизму
и вводит в малайскую литературу жанр штаба — ученого
трактата. Первое из этих сочинений, «Шараб аль-ашикин» («Напиток
влюбленных»), представляет собой относительно простое и
краткое систематическое руководство для вступающих на суфийский
путь. Оно состоит из семи глав, в которых описываются этапы
суфийского пути: шариат (закон), тарикат (.путь),, хакикат
(истина) и ма'рифат (постижение), затем — последовательность
манифестаций божественной Сущности и атрибуты Всевышнего, и,
наконец, излагается учение о божественной Любви и благодарности
Творцу.
Второе прозаическое произведение Хамзы, «Асрар аль-арифин»
(«Тайны постигших»), также своего рода компендиум суфизма,
однако рассчитано оно на более подготовленного читателя. Это
сочинение построено как автокомментарий к пятнадцати
четверостишиям, в соответствии с традициями мусульманской педагогики
предназначенными для заучивания наизусть. Некоторое
представление о его содержании и стиле дает комментарий к
заключительному четверостишию, представляющему собой своеобразную
«автобиографию» Хамзы-суфия:
Хотя Хамза величья лишен,
Он сутью к Сущности причащен,
Хоть грубая пена по форме он —
Един с океаном, что утончен...
«Узнай, что под словами: „Хотя Хамза величья лишен" — разумеется
следующее: хотя он и ничтожен, но твердо убежден в том, что говорит, и не суесловит,
хотя немощен в исполнении всякого дела, как-то: подвижничество и поклонение,
затворничество, самоограничение и отвержение мира. А сверх того не искушен
в познании и постижении. Как говорит Всевышний: „Даровано вам знания,
только немного" (Коран 17:85.— В. Б.)... Другое истолкование ничтожества Хамзы
в том, что он лишен самостоятельного бытия. Если же лишен его, то не имеет
также ни атрибутов, ни дел, а это и значит — ничтожен.
Узнай, что под словами: „Он сутью к Сущности причащен" — разумеется
следующее: хотя он и ничтожен, его истинная суть неотделима от Преславной
Сущности, ибо именно Она — Владычица его движения и покоя, благодаря Ей он
сидит и стоит, спит и бодрствует, останавливается и идет... Ибо Хамза подобен
тени. Если бы владыка тени не привел его в движение, как бы мог Хамза
двинуться с места? Другую аналогию представляют шахматные фигуры. Все они
имеют началом древесину единого ствола, из которой затем вырезаются
разнообразные фигуры, получающие название король и ферзь, слон и конь, ладья и
пешка. Так из куска древесины возникает множество фигур. Когда же во время
игры говорят: король, или ферзь, или слон, или конь, или ладья, или пешка, то
это — лишь имена, а не истинная суть фигур. Однако фигуры близки тому, кто
их вырезал и ими играет, ибо его рука постоянно прикасается к ним, и фигуры
движутся лишь благодаря движению руки игрока...
Узнай, что под словами: „Хоть грубая пена по форме он" — разумеется
следующее: пена — это пузырящаяся водяная масса, грубая по форме, однако,
поскольку пена имеет своим началом воду, то по сути она — нечто утонченное...
О пене говорят, что она груба, поскольку форма и имя у нее иные, чем у воды,
однако в своей истинной сущности она не имеет ни формы, ни бытия, и имя ее
также иллюзорно, а не реально, ибо пена постоянно вновь исчезает в воде.
Таким образом, коль скоро Хамза — „пена", то могущество и воля, слух и зрение.
424
разум и постижение, которые мы у него усматриваем, имеют началом не его
самого, но „воду"...
Узнай, что под словами: „Един с океаном, что утончен" — разумеется
следующее: утонченный — значит, тонкий по сути; пена пребывает в постоянном
единении с водой, ибо пена —нечто грубое, а вода — утонченное. Когда пузырьки
пены лопаются, она вновь возвращается в воду. Поэтому и говорят, что пена
едина с водой» Щ61, с. 292—294].
Наконец, третье сочинение Хамзы — это трактат «Мунтахи»
(«Адепт»), посвященный истолкованию знаменитого хадиса «Кто
познал себя, познал Господа своего», который состоит из перечня
мистических символов (дерево, море и т. д.) с минимальным
комментарием и множеством цитат из сочинений суфийских
наставников и поэтов. Эта книга доступна лишь посвященным5.
В трех прозаических сочинениях, следуя классикам суфийской
школы вахдат аль-вуджуд (экзистенциальный монизм) Ибн аль-
Араби и аль-Джили (см. [273; 416]), Хамза Фансури излагает
учение о ни на миг не прекращающемся процессе творения мира,
возникающего как серия сначала духовных, а затем материальных
манифестаций божественной Сущности, в которой, точно дерево
в семени, содержится вся полнота бытия. Безбрежный океан
божественной Сущности не пребывает в манифестациях, подобных
волнам на его поверхности, но в то же время, точно океан от волн,
неотделим от них и потому в некотором смысле присутствует во
всем — даже в нечистотах. Завершается процесс творения
созданием человека, который объединяет в себе все манифестации, как
духовные, так и материальные, и является точной уменьшенной
копией мироздания — микрокосмом. Поэтому для постижения Творца
человеку нет нужды «оглядываться по сторонам», достаточно
обратиться к самопознанию и, пройдя в обратном порядке весь
путь творения, отвергнуть одну за другой завесы манифестаций,
скрывающие его подлинную сущность. Тогда в глубинах духовного
сердца он узрит сияющий лик Господа и еще при жизни
возвратится к Творцу, замкнув 'извечный круг манифестаций: волеа
возвратится в недра океана.
Путь суфийского самопознания бесконечно труден, но
бесконечно легким делает его божественный дар Любви, опьяняющей
влюбленного, лишающей его страха, своекорыстия, наконец,
ощущения своего отдельного, индивидуального «я», превращающей
его в приближенного раба, которому прощаются любые
прегрешения [61, с. 295—296]. Противопоставляя божественную Любовь
мелочной осторожности рассудка (практического разума) с его
страстью к стяжанию, Хамза писал:
«И тогда он (влюбленный.— В. Б.) не страшится тигров, которых страшится
разумный, не страшится ни слонов, ни змей, ни пламени... И влюбленного не
ужасает ад и не влечет к себе рай, ибо он стремится лишь к Господу. Всякий, кто
наделен такими свойствами, без сомнения,— влюбленный, всякий иной — влюблен
в рисовую кашу, но не во Всевышнего» [61, с. 327].
Прозаические сочинения Хамзы Фансури — это не сухие труды
педанта-ученого, обычные в малайской суфийской литературе бо-
425
лее позднего времени, но произведения одаренного литератора,
насыщенные яркими образами, в частности милыми сердцу
малайца образами морской стихии, и демонстрирующие виртуозное
владение словом. Для подтверждения этого достаточно сослаться на
построенное на игре антонимами рассуждение о том, как Аллах
«из имени Милосердный создал непреклонных в вере, а из имени
Неодолимый — одолеваемых неверием» [61, с. 323], или еще
более тонкую аранжировку парных терминов: «отъединенность» —
«уединенность», «отлучение» — «отречение», «отвержение» —
«утверждение» в интерпретации хадиса «Умри до смерти!»:
«Умереть — значит всецело предаться Всевышнему посредством отъеди-
ненности и уединенности, которые суть отречение и отлучение.
Под первым разумеют отречение от дома и богатств, от дружбы с
государями и везирами; под вторым — отлучение себя от общества людей. Итак,
отречение есть отъединенность от своего „я", а отлучение —
уединенность с Господом, или— иначе — они суть отвержение своего „я" и
утверждение Господа... Если человек отъединит свое „я", то
уединится, иными словами, когда отъединит „сотоварища" (т.е. свое „я".— В. />.),
пребудет с Ним в уединении. А добившийся уединения стяжает имя
влюбленного и опьяненного, ибо влюбленный отрекается от своего „я"» 61,
с. 326—327].
Еще ярче, чем в прозе, «тема любви» выражена в люэтических
сочинениях Хамзы Фансури, написанных в жанре шаира, также
введенного им в малайскую литературу:
Любимая из сокровенных равнин
Пребывает незримо в наших домах,
В тайне приходят веленья Ее,
Ее отыскать — взыскующих долг...
Если пожертвовать жизнью готов,
Тогда сумеешь похитить Ее.
Яванских копий ты не страшись —
Не стань посмешищем у людей!
Щит Ахмада повесь на плечо,
Погостить отправляйся в Ее кампунг,
Не мешкая, за ограду входи,
Чтобы Возлюбленную узреть.
Смело отбрось многослойный покров,
На ложе Ее за завесой воссядь,
В одежды Возлюбленной облачись,
Чтоб сладостные забавы вкусить.
На горном пике Любимой дворец,
Недоступные тропы к нему ведут,
Неизменно к Ее милосердью взывай,
Когда врагов Любимой сразишь,
Чтоб все завесы преодолеть.
Пылающим факелом путь озари,
Каждую прихоть Ее исполняй,
Чтоб ваши тела на ложе слились [74, с. 48—49].
Поэтическое наследие Хамзы Фансури довольно значительно.
К нему, бесспорно, принадлежат «Поэма о собрании дервишей»,
«Поэма о Чистой Птице», а также ряд коротких шаиров.
Традиция приписывает поэту или включает в рукописи его сочинений
426
также «Поэму о страннике», «Поэму о лодке», шаир «Наука о
женщинах» и стихотворения, подписанные Хасаном Фансури и
Абд аль-Джамалом. Однако едва ли эти сочинения были созданы
Хамзой. Две первых поэмы, скорее всего, появились лишь в конце
XVIII — начале XIX в., остальные вышли из-под пера поэтов
«круга Хамзы»— его учеников J491, с. 26; 511, с. 278; 187, с. 128—
133; 296, с. 407—408; 300, с. 94].
Наряду с любовной символикой для истолкования доктрины
вахдат аль-вуджуд Хамза широко использует символику лтиц и
рыб (см. «Поэму о Единой [с Аллахом] Рыбе» [247, с. 105—107]),
а также мореплавания и вина. Вот характерный образец
«морского» шаира Хамзы:
Себя познай! О Мастера сын,
Лодку построй, чтоб вернуться назад,
Смотри же, попусту руль не качай,
Тогда отыщешь возврата путь.
На капитанский мостик взойди,
Выбери якорь раз навсегда,
В одежды Закона облечься спеши,
Чтоб с пути не сбилась лодка твоя.
Если ширь морская манит тебя,
О подводных скалах не забывай,
Руль держи, не страшись ничего,
В гавань прямым путем устремись.
Ведом Кормчему6' этот путь,
В животворном море плавает он,
Не обшита досками лодка его,
Оттого сей Кормчий неодолим.
Абу-ль-Касима возьми в пример,
Он стоит, распрямившись, в лодке своей,
Ее строитель и Кормчий ее,
Что в Порт Единения лодку привел (74, с. 43—44].
А вот, пожалуй, наиболее выразительное описание вина
мистического познания, демонстрирующее столь характерную для
поэзии Хамзы игру слов J300, с. 82—85]: имя Мансур (араб.
Победитель) означает в этом фрагменте и знаменитого суфия Мансура
Халладжа, и человека, победившего свое чувственное «я»:
Сладостней нет напитка сего —
Он исцеляет недужную плоть,
Пьющий его, о яствах забыв,
Станет Мансуром, сразившим врагов.
Несхож с мерцаньем, что в прелесть ведет,
К Всевышнему он увлекает нас.
Пьющий его — безмерно богат.
И загробный мир его не страшит.
Не путай с рисовой брагой его,
Опьянение им ни с чем не сравнить,
Тем напитком полнятся чаши рабов,
Не мешкай, выпей чашу до дна.
Отдай свой дом за высоким плетнем
За одну лишь чашу того вина,
С детьми расстанься, оставь жену,
Чтобы в сердце ярче пылала любовь...
427
Прозрачен напиток в прозрачном ковше,
Хоть имени два — но едина суть.
Чтоб эту царскую мудрость постичь,
От всякой мудрости откажись [74, с. 50—51].
Поверхностно истолкованная символическая поэзия Хамзы,
особенно его любовные (в суфийском смысле слова) стихи,
по-видимому, вызывала раздражение во враждебно к нему настроенной
среде ортодоксального духовенства, обвинявшего поэта в
безнравственном сочинении простонародных песенок {пьяни, синдир).
Причиной непонимания в Аче символов, широко распространенных
у персидских и арабских суфиев, была новизна малайской по
языку поэзии Хамзы и ее действительная связь с фольклором — в
меньшей степени с фольклорной образностью, в большей — с
формой народного стиха [187, с. 108—133]. Образы-символы,
казавшиеся бесплотными на чужом языке, будучи переведенными на
родной, обретали плоть и кровь, окутывались привычными
ассоциациями. Это рождало недовольство, но это же обеспечило
поэзии Хамзы ее жизнеспособность.
Проза и поэзия Хамзы Фансури обнаруживают сильное
влияние ближневосточных суфийских авторитетов и классиков
персидской поэзии — Аттара, Руми, Саади, Джами, Ираки7, но в то же
время глубоко национальны. Как справедливо заметил о
«внутреннем пейзаже» его произведений Л. Бракел:
«Он создает в воображении убедительную картину жизни малайского
общества в XVI в., где по ночам люди разгуливают с факелами, облаченные в
саронги и каины из хлопчатой ткани (и добавим: на всякий случай вооруженные
неизменными крисами.— В\ £.), где влюбленные закладывают за ухо цветок, где
бегают, точно олени, плавают, как киты, или продают рисовую водку, где мир
уподобляется игральной кости, где зонт с бахромой служит высшим символом
знатности, где стоят плетеные заборы и юноши наносят ночные визиты в кам-
пунг возлюбленной и где божественное и внешнее бытие в их взаимоотношении
сравниваются с кокосовым орехом и его скорлупой» f300, с. 95].
Чрезвычайно существенно и то, что творчество Хамзы
знаменует определенные сдвиги в анонимной до того малайской
литературе. Его стихи — это первые образцы малайской авторской
поэзии. Они не только несут на себе отпечаток своеобразной
творческой индивидуальности, ,но и обычно завершаются строфой с та-
халлусом — его «поэтическим именем» — Хамза Фансури, Хамза
Шахрнави и т. д. При этом «тахаллусная строфа» обычно
включает в себя символическое описание какого-то этапа его
суфийской «биографии» |Г300, с. 81].
Суфийская проза первой половины XVII —
первой половины XIX в. Если в складе личности Хамзы
Фансури угадывается суфий по преимуществу эмоционального склада,
при в-сей широте эрудиции, опирающийся в первую очередь на
собственный духовный опыт, прекрасно знакомый с теми радостями
и горестями, которые переживает земное человеческое существо
на пути духовных поисков, то его младший современник Шамсад-
дин из Пасея (ум. в 1630 г.)—учитель и приближенный советник
428
султана Искандара Младшего — являет нам иной тип
«взыскующего истины». Это — философ, который, хотя,также не чужд
личного мистического опыта, идет к богопознанию путем
систематических рассуждений, и духовный наставник, в чьей проповеди
преобладают этические мотивы и отвлеченное умозрение. Как
справедливо отмечает X. А. О. Ниувенхёйзе, «в обоих случаях тон один
и тот же, но тембр — различен» [113, с. 31].
Из некогда, по-видимому, значительного творческого наследия
Шамсаддина сохранилось весьма немногое: ортодоксальный
катехизис «Мир'ат аль-муминин» («Зерцало верных»), арабоязычаый
систематический трактат по суфизму «Джаухар аль-хакаик»
(«Суть истин») и ряд фрагментов из малайскоязычных суфийских
сочинений — «Китаб аль-харака» («Книга о движении»), «Hyp
аль-дакаик» («Свет утонченности») и др.8. Кроме того, не так
дав-но был обнаружен его комментарий к поэме Хамзы Фансури
«Шаир о Единой Рыбе» — возможно, фрагмент, приписываемого
Шамсаддину сочинения «Шарх рубай Хамза аль-Фансури»
(«Комментарий на „Рубай" Хамзы Фансури») Г132].
Подобно большинству ранних малайских суфиев, в том числе
и Хамзе Фансури, Шамсаддин более всего занят проблемами
единства Бытия, происхождения множественности из единичности,
Совершенного Человека (инсан аль-камил), а в плане
практическом — учением о зикре, .постоянном произнесении формул шаха-
дата и таухида, ведущем к прямому созерцанию Высшей
Реальности.
Как и у Хамзы, истоки мистической философии Шамсаддина
обнаруживаются в сочинениях Ибн аль-Араби и аль-Джили,
однако в учении о манифестации Абсолюта как раз проявляется
различие в системах обоих суфиев. У Хамзы вслед за пятью
основными манифестациями (степенями определенности, нисходящими
от неопределенной, недоступной для постижения Сущности)
следует неисчислимое множество низших ступеней )[61, с. 316].
У Шамсаддина же, воспринявшего схему нисхождения,
сформулированную в 1590 г. в сочинении индийского суфия Фазлаллаха
аль-Бурханпури «Тухфа аль-мурсала ила рух ан-наби»
(«Драгоценный дар духу Пророка») »[94, с. 127—148], система
манифестаций ограничена семью ступенями: Ахадийа (абсолютное, непрояв-
ленное, непостижимое единство), Вахда (синтетическое единство
лотенций Бытия), Вахидийа (аналитическое единство потенций
Бытия, или единство во множественности), алам аль-apeax (мир
духов [вещей]), алам аль-мисал (мир идей, эйдосов [вещей]),
алам аль-аджсам (мир .[физических] тел), алам аль-инсан (мир
человека, т. е. мир Совершенного Человека). Первые три ступени
не обладают проявленным вовне бытием, вечны и несотворенны.
Это собственно бытие мира в божественном сознании. Три
следующие ступени, параллельные им, обладают проявленным вовне
бытием (в свою очередь, абсолютно единым — мир духов,
синтетически единым — мир идей и аналитически единым — мир тел9),
сотворены и подвержены уничтожению. Это различные уровни уже
429
не потенциального, а актуального бытия мира. Наконец,
последняя ступень — самая низкая и одновременно высшая из
проявленных, ибо содержит в себе все ступени от Вахда до мира тел..
Объединяя в себя все манифестации Абсолюта, Человек
выступает той духовной сущностью, через которую творение
возвращается к Творцу. Проходя эти ступени в обратном порядке (т. е.
актуализируя их скрытую в глубинах внутреннего «я»
потенциальность), суфий, сжегший свое внешнее «я» в пламени
божественной любви, может достичь взыскуемого единения с Всевышним 10.
Именно эта система благодаря своей логической стройности,
последовательности и ясности и послужила основой суфийской
теории и практики малайцев на протяжении последующих полутора;
веков.
В своих сочинениях Шамсаддин неизменно подчеркивал
эзотерический характер раскрываемого им знания, трудность
суфийского пути и невозможность пройти его без руководства со
стороны сведущего и опытного наставника. Однако широкое
распространение^ суфизма в Аче в первой трети XVII в. в атмосфере все
еще сильного влияния древнейших шаманистских представлений иу
а в особенности тантрической йоги, впитавшей элементы местных:
верований {300, с. 73—77], повело к существенному искажении^
систем Хамзы Фансури и Шамсаддина из Пасея их
многочисленными последователями.
В особенности сложной для понимания явилась концепция
отношения Творца и твари, Аллаха и мира, прежде всего тонкое и.
требующее проникновения в терминологические вопросы различие
между внешним, телесным «я» и «я» внутренним — божественным
образом или «частичкой» духа Всевышнего в человеке. В
результате взгляды рядовых членов ачехской вуджудийи (так
именовались здесь сторонники учения вахдат аль-вуджуд) приобрели
довольно грубый пантеистический характер, о чем можно судить
по следующему фрагменту из так называемого «Сборника
анонимных трактатов»:
«Тот, кто уразумел сказанное, несомненно, познает, что он происходит от
Аллаха и к нему возвращается, и он определенно будет знать, что бытие его
внешнего „я" есть не что иное, как Бытие Аллаха... Отсюда внешние атрибуты
человека суть его внутренние атрибуты, его внешние действия суть его
внутренние действия... Таким образом, бытие человека, его атрибуты и его действия,
безусловно, тождественны Бытию Аллаха — преслазен Он и возвышен!» [93', с. 57].
Разумеется, ни Хамза, ни Шамсаддин никогда не учили о том,,
что проявление внутреннего во внешнем свидетельствует об их
полной тождественности |[61, с. 27—28].
Непримиримым противником ачехской вуджудийи выступил гу-
джератский суфий умеренно-ортодоксального толка, знаток фикха
Нураддин ар-Ранири (ум. в 1666 г.), добившийся высокого
положения при дворе преемника Искандара Младшего — Искандара П.
Против вуджудийи были направлены такие его сочинения, как
«Хал аз-зилл» («Свойства тени»), «Шифа аль-кулуб» («Исцеле-
430
:ние сердец») [114], «Тибйан фи ма'рифат аль-адйан»
(«Разъяснение о верованиях»), «Худжджат ас-сиддик ли даф' аз-зиндик»
{«Доказательство праведных в опровержение еретиков» i[157; 279,
^c. 80—142], «Асрар ал-инсан фи ма'рифат ар-pyx ва-р-рахман»
(«Тайны человека в постижении Духа и Милостивого») ..[156] 12.
'Хотя в трудах ар-Ранири как будто не обнаруживается
знакомство с творчеством известного индийского суфия Ахмада Сирхинди
(1564—1624), энергично полемизировавшего со сторонниками
-вахдат аль-вуджуд, в целом его взгляды весьма близки
направлению вахдат аш-шухуд (эмпирический монизм), идеи которого
развивал Сирхинди. Сближает обоих авторов явное предпочтение за-
жона (шариата) экстатическому опыту, резкая грань, проводимая
между Всевышним и миром, суровая критика еретических, и в
частности пантеистических, тенденций в суфизме ||"332, с. 873—883].
Особенно заметно тяготение ар-Ранири к вахдат аш-шухуд в его
трактате о тени, весьма напоминающем некоторые послания
Сирхинди |[476, с. 1571].
В полемических сочинениях Нураддина ар-Ранири Хамза и
Шамсаддин обвинялись в еретическом учении об имманентности
Творца твари, вере в вечность мира, нежелании признать несотво-
ренность Корана и «самообожествлении». По своим взглядам, как
стремился доказать Нураддин, они оказывались одновременно зо-
роастрийцами и христианами, сторонниками Веданты и тибетской
махаяны, кадаритами, мутазилитами и последователями фаласи-
фа — восточных перипатетиков. Изложение концепций Хамзы и
Шамсаддина у ар-Ранири было дано в искаженной, несколько
.карикатурной форме, и, что еще существеннее, он, как и рядовые
члены вуджудийи, далеко не всегда понимал смешанную арабско-
малайскую терминологию своих оппонентов (например, для ар-
Ранири было неясно кардинальное различие малайского термина
ада — внешнее бытие и арабского вуджуд — бытие внутреннее
[61, с. 148—172]). В то же время для своих нападок он избирал
такие сложные сочинения, как, например, «Адепт» Хамзы, в
которых эта терминология не разъясняется, так как предполагается,
что она уже известна читателю [61, с. 29—30].
Хотя на первый взгляд основными идейными противниками ар-
Ранири выступали Хамза и Шамсаддин, по существу, он вел
борьбу не столько против них, сколько против их влиятельных среди
различных слоев населения Аче учеников. При этом ар-Ранири
стремился не только отстоять чистоту ислама; но и занять при
дворе место Шамсаддина. Как это обычно и бывает, не вполне
«чистая» цель вызвала к жизни не вполне «чистые» средства,
что с очевидностью явствует из «Тибйана» гуджератского шейха:
«Когда обнаружила себя эта группа сторонников еретической, безбожной и
сбившейся с пути вуджудийи, состоящая из учеников заблудшего Шамсаддина
-аль-Саматрани (другая нисба Шамсаддина из Пасея.— Б. Б.)... они несколько
дней вели с нами спор в присутствии султана — величайшего из праведников
своего времени... утвердившего религию Аллаха с неколебимостью, достойной
изумления. Они говорили: „Бог —это наше „я" и наше бытие, а мы —Его „Я" и
Его Бытие". В опровержение их ложных высказываний и нелепых суждений мы
431
написали трактат, изъясняющий различия между (такими символами, как] тень
и Обладатель Тени (видимо, „Хал аз-зилл".— В. Б.)... И мы сказали им: „Ваши
претензии на самообожествление подобны притязаниям Фараона, говорившего?
„Я ваш Господь Высочайший" (Коран, 79:24.—В. Б.), так что вы поистине иа
числа неверных..." И тогда омрачились их лица, и они понурили головы, ибо
оказались повинными в ширке 13. И все мусульманские уламы приняли фетву и,
объявив их неверными, приговорили к смерти... И иные из них согласились с фетвой
о неверии, иные покаялись, иные же не пожелали покаяться. И часть тех, что
сначала покаялись, совершила отступничество и вновь возвратилась к прежним
убеждениям... И было истреблено воинство неверных. Хвала Аллаху, Господу
Миров» [157, с. 3—6 арабской пагинации].
Не следует обманываться словами ар-Ранири о воинстве
неверных. Из его другого сочинения «Очевидная победа над
еретиками» нетрудно понять, что речь скорее всего шла о нескольких
членах вуджудийи, убитых при попытке оказать сопротивление
посланцам Искандара II ;[512, с. 372].
Одновременно с расправой над еретиками в конце тридцатых—
начале сороковых годов XVII в. в столице Аче перед мечетью
Байт ар-Рахман торжественно сожгли книги Хамзы и Шамсадди-
на. Лет через тридцать пять после описанных событий молва
превратила это аутодафе в, по-видимому, вымышленную историю о
сожжении самих сторонников вуджудийи, о чем свидетельствует
письмо некоего анонима, отправленное около 1675 г. в Медину
тогдашнему главе суфийского братства шаттарийа Муле Ибрахи^
му аль-Курани. В этом письме содержался вопрос о том,
.насколько совместимы подобные действия с установлениями шариата.
Мула Ибрахим ответил на вопрос отрицательно, указал на то, что
обвинители не пожелали понять значение слов сторонников
вуджудийи и сослался на хадис, согласно которому речи
мусульманина не следует толковать в неблагоприятную сторону, покуда
остается возможность их благоприятного истолкования ,[506,.
с. 366]
Торжество Нураддина, однако, длилось недолго. В 1644 г-
после смерти Искандара II и восшествия на престол его супруги
Тадж аль-Алам (годы правления 1641—1675) полемика вспыхнула
с новой силой. На этот раз верх в ней взял возвратившийся иа
Сурата в Аче член вуджудийи Сайф ар-Риджал (его имя, кстати
сказать, тождественно названию одного из произведений Хамзы),.
минангкабоу по происхождению. Сайф ар-Риджала поддержала
часть придворных, по-видимому недовольных влиятельностью в
столице иностранца. За разрешением спора обратились к самой
Тадж аль-Алам, но та отказалась в него вмешиваться,
сославшись на некомпетентность в вопросах богословия. После полемики,
продолжавшейся около месяца, ар-Ранири пришлось покинуть
Аче столь поспешно, что он не успел завершить последнее
начатое здесь произведение «Джавахир аль-улум фи кашф аль-ма'-
лум» («Сущности наук в раскрытии познаваемого») [490,
с. 489—491].
Несмотря на решительную борьбу с вуджудийей, Нураддин
ар-Ранири в своих полемических сочинениях исходил из той же
432
концепции «семи ступеней Бытия», что и его оппоненты. Эта же
концепция лежала в основе учения чрезвычайно популярного на
Суматре и за ее пределами суфия Абд ар-Рауфа из Сингкеля:
(1615—1693), чье имя было окружено множеством легенд и чья
могила до сих пор остается местом постоянного паломничества.-
Согласно одной из таких легенд, Абд ар-Рауф был первым, кто
обратил Аче в ислам |394, с. 198], согласно другой — он своими
проповедями наставлял на путь истинный обитательниц «веселого*
дома», который якобы открыл в столице Аче Хамза Фансури |[481,.
с. 20]. Обе легенды не имеют ничего общего с исторической
реальностью, но в обеих подчеркивается роль Абд ар-Рауфа —
учителя и проповедника, что вполне соответствует
действительности. Как писал Э. Джонс, «направление его ума было
практическим, и он как религиозный наставник был неизменно заботлив
по отношению к своим ученикам. В своих трудах он всегда
исходит из этой заботы о них: помочь им лучше понять ислам,
предостеречь от опасностей, укрепить их в благочестии, удержать or
ошибок и уберечь от нетерпимости» «[371, с. 47].
Абд ар-Рауф — первый из малайских суфиев, о чьем
образовании и учительской традиции, к которой он принадлежал,
имеются достаточно полные сведения. В заключении к одному из своих:
основных суфийских сочинений—.книге в семи частях,
трактующей о практике зикра, «Умдат аль-мухтаджин» («Опора
нуждающихся»), он сообщает, что обучался в различных городах Йемена
(Забиде, Мохе, Байт аль-Факихе и др.), затем в Дохе на
полуострове Каттар и, наконец, в Мекке и Медине, и перечисляет
несколько десятков учителей, которые преподавали ему «внешние»
(фикх, кораническая декламация, экзегеза и др.) и «внутренние»
(суфизм) дисциплины. В Медине Абд ар-Рауф стал учеником
главы братства шаттарийа Ахмада Кушаши, а затем сменившего era
на этом посту уже упоминавшегося Мулы Ибрахима Курани — в
то время одного из наиболее видных ученых, последователя Ибн;
аль-Араби, автора более чем сотни трудов, нередко писавшихся в
ответ на тот или иной вопрос учеников. Особый интерес
представляет его сочинение «Исаф аз-заки би шарх ат-тухфа аль-мурсала»
(«Опора проницательному посредством истолкования
„Драгоценного дара"»), написанная специально для малайцев, среди котог
рых «Драгоценный дар духу Пророка», как это видно из рассказа
одного из учеников Мулы Ибрахима, использовался в качестве
учебника суфизма и вызывал множество споров |[371, с. 51—52].
Проведя девятнадцать лет на Ближнем Востоке и,
по-видимому, так привыкнув к арабскому языку, что в одном из сочинений
он жалуется на огрехи в своем малайском, Абд ар-Рауф в 1642 г.
получил от Мулы Ибрахима разрешение распространять учение
братства шаттарийа среди своих соотечественников и вернулся з
Аче. Здесь он ревностно принялся за проповедническую
деятельность и даже посетил с этой целью Бантен на Яве. В Аче Абд
ар-Рауф создал и свои сочинения, двенадцать из которых
сохранились до наших дней Г507, с. 108—116; 127]. В числе этих тру-
28 Зак. 147
433
.лов работы по суфизму: «Умдат аль-мухтаджин» il" 127, с. 59—91],
«Дакаик аль-хуруф» («Тонкости букв») [92] — комментарий к
нескольким стихам Ибн аль-Араби о Неизменных Сущностях,
-«Кифайа аль-мухтаджин» («Достаточное для нуждающихся») —
еще одно сочинение о Неизменных Сущностях и возникновении из
них мира тел. Наряду с суфийскими сочинениями Абд ар-Рауфа
следует упомянуть его комментарий к Корану — «Анвар ат-тан-
зил» («Светы нисхождения») и приспособленный к повседневным
нуждам трактат по фикху «Мир'ат ат-туллаб» («Зерцало
взыскующих») .
Уже сам перечень этих ,книг, ряд которых («Мир'ат ат-туллаб»,
«Кифайа аль-мухтаджин») был написан по заказу ачехской
султанши Тадж аль-Алам, покровительницы проповедника, а в еще
большей степени их содержание указывают на то, что по примеру
Мулы Ибрахима Абд ар-Рауф стремился в суфийской теории и
практике придерживаться «срединного пути», не впадая в
крайности как чрезмерного законничества, так и безудержного
мистического экстаза. Характерно, что в своих сочинениях он ни разу
не упоминает ар-Ранири, труды которого, скорее всего, были ему
знакомы, но зато, как бы намекая на известные трагические
события, цитирует хадис: «Пусть ни один мусульманин не называет
другого мусульманина неверным. Ибо, если он так поступит и
его слова окажутся справедливыми, что в этом проку. Если же
обвинение будет ложным, оно обернется против него самого» )Г371,
с. 53—54].
Стремление держаться золотой середины, присущее Абд ар-Рау-
фу, не было, по-видимому, свойственно рядовой массе малайских
суфиев, среди которых до середины XVIII в. (а отчасти,
вероятно, и позже) продолжали сохранять свое влияние идеи вуджу-
дийи в характерной форме учения о «семи ступенях».
По-видимому, это учение вполне соответствовало их эмоциональному
складу — казалось, достаточно знать схему нисхождения и
восхождения божественного Бытия и исполнять зикрическую
практику, чтобы кратчайшим путем в экстатическом порыве достичь
вожделенного единения с Высшей Реальностью.
Заслуживает внимания тот факт, что в малайской суфийской
литературе XVII — первой половине XVIII в. изложение проблем
метафизики и философского мистицизма преобладает над
обсуждением практических вопросов р внутренней подготовке души к
единению, ее долгом поэтапном очищении, в процессе которого
умеренными суфиями типа Газали столь важное место
отводилось исполнению и интериоризации норм шариата. Для
образованных суфийских наставников (недостаток которых — постоянная
тема малайских суфийских трактатов) такого рода интерес был
лишь вопросом акцентировки определенных аспектов в целом
уравновешенной системы. У их паствы, сохранившей многие элементы
магических верований, он порой приводил к серьезным
искажениям системы в целом.
Разумеется, подобное положение дел не могло не вызвать ор-
434
тодоксальной реакции, чему способствовало возрастание роли
шариата в суфизме, вообще свойственное позднему исламу на
Ближнем Востоке и в Индии, а также закрепление системы Газали как
основы обучения в Мекке (см. |[482, с. 160—162])—главном,
центре, где в XVIII—XIX вв. получали образование мусульмане
малайского мира. Ранний этап этой реакции — полемика ар-Рани-
ри, ее более поздний этап — формирование ортодоксальных су-
фийских школ в Палембанге и на островах Риау.
Если корни вуджудийи обнаруживаются в сочинениях Ибв
аль-Араби и аль-Джили, а ее непосредственный источник —
трактат аль-Бурханпури, то корни палембангской школы — в учении
багдадского суфия Джунейда (ум. в 910 г.), а непосредственные
ее источники — «Рисала фи-ль-таухид» («Послание о таухиде»)
дамасского шейха Вали Раслана (ум. в 1369 г.) и комментарии
к нему Закарии аль-Ансари (ум. в 1520 г.) «Фатх ар-Рахман»
(«Победа Милостивого») и Абд аль-Гани ан-Набулуси (ум. в
1731 г.) «Хамрат аль-хан» («Вино с постоялого двора») [75,
с. 2—3]. Существенно повлияли на палембангскую школу также
труды Газали.
Наиболее раннее сочинение, относящееся к этой школе,—
«Рисала» («Послание») Шихабаддина из Палембанга, написанное
около 1750 г. В этом «Послании», представляющем собой краткий
комментарий на мусульманское исповедание веры, Шихабаддик
сурово осуждает малайских суфиев, которые, едва вступив на путь
постижения и не изжив еще внутреннего ширка (упования на что-
либо, кроме Аллаха), осмеливаются интерпретировать формулу
«Нет бога, кроме Аллаха» как «Нет иного бытия, кроме Бытия
Аллаха». Подобная интерпретация позволена лишь адептам
высочайших степеней, а в их устах есть выражение неверия.
Начинающим суфиям, по мнению Шихабаддина, следует запретить
чтение книг о «семи ступенях», а вместо этого рекомендовать им
сочинения ортодоксальных мистиков, которые защитят их от
еретических заблуждений, присущих 72 неправедным сектам.
Основу деятельности суфия на начальном этапе (как, впрочем, и на
этапах среднем и высшем) должен составлять шариат. Далее в
трактате излагается учение о пути, ведущем от умозрительного
знания (илм аль-йакин) к знанию экспериментальному (хакк аль-
йакин) J75, с. 105].
Примерно той же проблематике посвящено «Китаб мухтасар»
(«Краткое изложение») палембангского теолога следующего
поколения — Кемаса Фахраддина, представляющее собой малайский
перевод «Послания о таухиде» Вали Раслана, дополненный
выдержками из комментариев Закарии аль-Ансари и ан-Набулуси.
Кемас Фахраддин, проведший несколько лет в Индии, судя по
трудам, вообще специализировался преимущественно на переводах с
арабского, которые он нередко выполнял по заказу своих
покровителей — султана Палембанга Ахмада Наджмаддина и его
наследника Мухаммада Бахааддина (годы правления 1774—1804)
[75, с. 220—221].
28*
435
Младшим современником Кемаса Фахраддина был плодовитый
суфийский автор Абд ас-Самад из Палембанга, писавший как по
малайски, так и по-арабски. Значительную часть жизни он
провел в Мекке, где обосновался в 60-е годы XVIII в., создал все
свои сочинения и стал ревностным последователем Мухаммада
Саммана— основателя братства суфиев самманийа. Абд ас-
Самад вступил в это братство, активно способствовал его
укреплению в Палембанге и Аче и даже создал специальный
поэтический текст на арабском языке, предназначенный для исполнения
во время самманийских зикров (ратибов) (о них см. Г481,
с. 318—348]). Еще при жизни Абд ас-Самад пользовался таким
влиянием, что его рекомендательного письма было достаточно,
чтобы обеспечить паломникам, возвращавшимся на родину,
благосклонный прием у яванских правителей. Главные труды Абд
ас-Самада — переводы на малайский язык сочинений Газали
«Бидайат аль-хидайат» («Начало водительства») и сокращенной
версии основного сочинения знаменитого богослова — «Лубаб ихйа
улум ад-дин» («Сердцевина „Оживления богословских наук"»).
В .переводе о-ни иосят названия соответственно «Хидайат ас-сали-
К'ин» («Водительство странников») и «Сайр ас-саликин илаибадат
рабб аль-аламин» («Путь странников к локлонению Господу
Миров») [75, с. 222]. Над последним сочинением Абд ас-Самад
работал .с 1779 по 1788 г. Значительный интерес представляет также
его книга «Тухфат ар-рагибин» («Дар жаждущим»), в котором с
привлечением обширных выдержек из «Тибйана» ар-Ранири
разъясняется мусульманская концепция веры и попутно осуждается
все еще широко распространенная анимистическая практика
жертвоприношения местным духам [326].
Наконец, в 80-е годы XVIII в. малайская суфийская
агиография пополняется двумя жизнеописаниями основателя самманийа.
Одно из них — это переведенная с арабского сыном Шихабадди-
на—Мухаммадом Мухиддином «Повесть о Мухаммаде Сам.ма-
не», другое — принадлежащее Кемасу Мухаммаду ибн Ахмаду
сочинение «Нафахат ар-рахман фи манакиб устазина аль-а'зам
ас-Самман» («Дуновения Милостивого на горной тропе нашего
великого учителя ас-Саммана») ,[75, с. 224—225].
По-видимому, близка к палембангской была риауская школа
суфизма, расцветшая во второй половине XVIII—XIX в. в городе
Пеньенгате на одном из островов этого архипелага. Подтверждает
эту близость, в частности, предисловие Раджи Али Хаджи к его
«Саду писцов», в котором главными авторитетами по
богословским проблемам выступают Закарийа аль-Ансари и Газали, а
суфизм подчеркнуто ортодоксального типа рассматривается как
средство этического совершенствования [131, с. 520]. В
Пеньенгате в 1809 г. был создан «Сабил аль-хидайат» («Путь
водительства») — церевод мистического трактата хадрамаутца Ахмада ибн
Хасана из Терлма, а в 1836 г.— «Китаб аль-хикам» («Книга
мудрых мыслей») Таджаддина Абу ль-Фазла ибн Мухаммада (Г 196,
с. 178; 60].
436
Творчество поэтов круга Хамзы Фансури.
Р. О. Уинстедт справедливо отмечал, что «после Хамзы было
написано много стихов на религиозные и нравоучительные темы, но
ни один из позднейших поэтов не обладал его вдохновением и
вкусом» [196, с. 215]. Действительно, большинство суфийских поэм
более позднего времени представляет собой не что иное, как
верифицированное изложение тех или иных мистических концепций.
Однако и среди них обнаруживаются произведения, пред-
ставляюще интерес не только для религиеведа, но и для
историка литературы. К таким произведениям прежде всего относятся
стихи учеников Хамзы и поэтов его круга, написанные в конце
XVI—начале XVII в. К кругу Хамзы, по-видимому,
принадлежали Хасан Фансури, Абд аль-Джамал, аноним-автор «Науки о
женщинах» (или «Моря женщин»). С меньшей уверенностью в
него можно включить также и Шамсаддина из Пасея, чей шаир
о «семи ступенях» из «Китаб аль-харака» («Книга о движении»),
по удачному выражению Б. Б. Парникеля, «то и дело сбивается
с ритма из-за непомерной философской нагрузки» [247, с. 108].
Пожалуй, наибольшую литературную ценность среди этих
поэм имеет «Наука о женщинах», преподнесенная султану Алаад-
дину Риайат-шаху. Она примечательна также тем, что, как и
шаиры Хамзы, содержит множество образов, характерных для
волшебно-авантюрных хикаятов, в частности для «Повести об
Индрапутре» (см. гл. VII), которые получают в поэме
символическую интерпретацию. Особого внимания заслуживают начальные
строфы поэмы:
Море Женщин — воистину счастья предел,
Не исчислить сокровищ в глубинах его,
А вода, что зовется Замзама струей,
Наполняет блаженством сердца и умы.
Волны моря пылают извечным огнем,
Тяжко дыбятся и опадают валы,
Буруны его сотрясают весь мир,
В нем тонет множество кораблей.
Яростью дышат морские валы,
Рифы — острей боевого копья.
Несведущий кормчий, ставши к рулю,
Тотчас о скалы корабль разобьет.
Бездонны глубины моря того,
Теченья стремительны, а напев
Пловцов чарует, будто свирель,
И обольщает, суля покой.
Таится в сердце пучины морской
Ядовитый дракон о семи рогах.
Едва лишь кормчий завидит его —
Падет бездыханным, погубит корабль.
Если Море Женщин тебя влечет,
Тогда покупай покрепче корабль,
Дамасской сталью его обшей,
Чтоб просторы моря мог бороздить.
Моря Женщин извечна суть:
Оно, как сфера, объемлет семь стран,
За семью стенами Всемогущества Град,
437
Наготове оружье на каждой стене.
Семью стенами тот Град окружен.
В стенах четверица преславных ворот,
Пройти их все тебе предстоит,
Здесь мудрые совершают таваф м.
Врата, на которых начертан Мим 15,
Ведомы красноречивым мужам,
Стоянка Маймуны у этих врат,
Пред ними не мешкай, продолжи путь [74, с. 65—66].
В этом фрагменте Море женщин выступает символом
божественного Бытия и божественной Любви, вызывающей к жизни все
мироздание. Дракон—символом опасностей, ожидающих гностика
на пути через семь небесных сфер (соответствующих ступеням
совершенства суфия), олицетворенных в семи кольцах стен,
окружающих град Всемогущества. Сам этот Град символизирует
божественный престол, находящийся над семью небесными сферами,,
который и является конечной точкой духовного восхождения
чистых душ. Четверо ворот (стоянки жен пророка Мухаммада) —
это символы четырех стадий суфийского пути: шариата, тариката,,
хакиката и ма'рифата.
Среди произведений поэтов «круга Хамзы» обращают на себя
внимание заключительные четверостишия поэмы (или одной из
поэм) Абд аль-Джамала. На первый взгляд перед нами
изображение живописной местности, в которой поселился поэт. Однако,,
подобно упоминавшейся «автобиографии Хамзы-мистика», эти
строфы, содержащие тахаллус автора, имеют символическое
значение:
Поселился грешный Абд аль-Джамал
У Залива Слепящего на берегах,
Здесь тигры ему преграждают путь,
Но дарует видения милость Творца.
Дивен Слепящий Залив, а над ним
Гора, что Горой Ущелий зовут,
По склону, сверкая, вьется тропа,
Здесь блуждают многие, сбившись с пути.
Горы Ущелий безмерна высь,
По всем ее склонам сбегают ручьи,
Красота несказанная здешних мест
Рождает смятенье в людских умах.
От себя отрекся Абд аль-Джамал
И, о том не печалясь, живет бобылем
На брегах недоступных Мира Людей,
Где кишат крокодилы, где рифы — как щит.
Обрел пристанище Абд аль-Джамал
У ключа под тенистым древом Путат
И поэму создал о том, что постиг,
Чтобы верный путь указать друзьям [74, с. 85—86].
Как показал малайзийский исследователь Нагиб аль-Аттас, сам
Абд аль-Джамал выступает в этом фрагменте символом суфия,
достигшего ступени Трона {курсы), воссоединившегося ,с Духом
и в форме «умиротворенной души» пребывающего в раю (в
суфийской интерпретации этого слова). Слепящий Залив и Гора
438
Ущелий символизируют Небесные Воды и воздвигнутый над ними
Престол Творца (арш) — сферу действия атрибутов Красоты и
Могущества и вторую в пятичлен-ной системе Хамвы ступень
определенности. Ручьи, сбегающие с горы,— это потоки
Божественной Творческой Энергии (Милости), изливающейся в мир; берег
Мира Людей, где живет Абд аль-Джамал,— граница мира
человечности [пасут) и мира Божественности (лахут), обычно
именуемая «Перемычкой» (барзах); древо Путат и ключ под ним —
райское Лотосовое Древо (сидрат аль-мунтаха) и райский
источник— Кавсар; наконец, тигры, крокодилы, рифы — символы
препятствий на пути единения ,[282, с. 37—49]. Таким образом, вся
описанная картина — это восходящая к Корану (Коран
11:7,20:5,40:7,89:27—30 и ел.) духовная топография «местности», в
которой обитает душа Абд аль-Джамала, достигшая высокой
степени духовного восхождения, но все еще не проникшая за
последнюю завесу, отделяющую ее от Истинного.
Суфийские поэмы о лодке (корабле). Малайский
суфизм и суфийская литература (в отличие от суфизма яванского
с его нередко своеобразной символикой) 16 обычно
рассматриваются как явления весьма сходные с теми, что характерны для
Ближнего Востока. Это в значительной степени справедливо,
однако изучение ряда важнейших мотивов и образов, бывших в
ходу у малайских суфиев XVII—XIX вв., вскрывает характерную
деталь: использование некоторых из них может быть объяснено,
с одной стороны, иностранным (ближневосточным) влиянием, а с
другой — местными традиционными представлениями, в частности
восходящими к шаманистскому комплексу.
Хорошо известно, что суфийская идея духовного пути в
поэтических текстах воплощается в самых разнообразных символах
и образах. Это могут быть образы любви, вина, странствующих
птиц или путешествия по морю в лодке. Первые две группы
символов особенно характерны для ближневосточной поэзии,
прежде всего персидской. «Лодочная» образность (она встречается в
некоторых произведениях Аттара, Сухраварди [296, с. 410], Ша-
бистари Г55, бейты 25—27] и др.) реже используется в ней и,
насколько нам известно, не служит основой специальных
обширных поэм. В малайской же поэзии, напротив, менее
распространены суфийские образы любви и вина, но зато весьма
многочисленны развернутые мистические поэмы о лодке. Данное явление,
по всей видимости, объясняется избирательной способностью
традиции малайцев-мореплавателей, «нащупывающей» в
разнообразном комплексе арабо-персидской суфийской символики то,
что ближе ей самой.
Отыскивая местные корни поэм о лодках, следует учитывать,
что малайцы не только были искусными мореходами, но и,
вероятно, уже в глубокой древности создали сложный символизм
корабля, подобный тому, который сохранился у многих неисламизиро-
ванных народов Малайского архипелага, в частности у даяков и
439
батаков. Как и у последних, в этом символизме, по-видимому,
переплетались представления о посредничестве между чувствен-
ным и сверхчувственными мирами, о жизни, смерти и их
круговороте, где смерть является «одновременно концом одной и
началом другой жизни»; о динамическом единстве космоса и
взаимосвязи всех его частей; о «приобщении человека к космическим
силам, управляющим жизнью» ;[256, с. 170—178]. Сходный круг
идей, разумеется в их мусульманской форме, мы находим и в
суфийских поэмах о лодке, причем в обоих случаях они
выражаются через детально разработаннную символизацию всех ее частей
(ср. [187, с. 94—96]).
Символика мореплавания была характерна уже для поэм
Хамзы Фансури и шаира «Наука о женщинах». В предельно
развитом виде она предстает в двух поэмах о лодке, первая из
которых, по-видимому созданная в Аче в первой половине XVII в.1Г
и перекликающаяся по содержанию и структуре со стихами Шам-
саддина из «Книги о движении», сохранилась лишь на Южной
Суматре в рукописях местным силлабическим шрифтом — ренчон-
гом (India Office, MS.Mal.A 2; MS.SOAS 41394; India Office,.
MS.Eur. С 214). Автор этого сочинения, хорошо знакомый с
концепцией «семи ступеней» и учением о Совершенном Человеке,
обнаруживает свою эрудицию, включив в шаир не менее 29 прямых
и скрытых цитат из поэм Хамзы Фансури, Хасана Фансури, Абд
аль-Джамала и Шамсаддина. Он, однако, был не только
образованным суфием, но и весьма искусным поэтом, который, опираясь
на традиции Хамзы и нигде не выходя за границы описания
лодки (корабля), сумел дать достаточно полное и систематическое
изложение доктрины суматранской вуджудийи. Многочисленные
цитаты, порой делающие поэму весьма похожей на коллаж, отнюдь
не умаляют его дарования и заслуги создателя едва ли не самой
оригинальной суфийской поэмы на малайском языке.
Удивительно изобретательны и «наглядны» его отождествления
частей лодки и суфийских терминов, символами которых эти части
выступают. Исследуя их, мы непосредственно наблюдаем
рождение новой «лодочной» терминологии суфийского пути. Эти
отождествления всегда глубоко содержательны и опираются либо на
прямое иконическое подобие членов сравнения (например,
отождествление подпорок палубы с лигатурой алиф-лам,
соединительных крюков лодки — со звездами, черпаков — с солнцем и луной
и т. д.), либо на подобие действий (например, якорь, погружаясь
в воду, как бы очищается, поэтому якорь лодки именуется «Путь
очищения»; без паруса лодка не может плыть, поэтому ее парус
именуется «Не двинется» — начало широко распространенного у
суфиев хадиса), либо на уподобление через посредство
промежуточной «мифологемы» (например, Святой Дух возникает как
искра, когда ангелы ударяют железной цепью 6 камень, поэтому ему
уподобляется якорная цепь лодки). Новый «лодочный» символизм'
'через соотношение с символизмом старым вбирает в себя всю
полноту семантических связей последнего. Это позволяет развора-
440
чивать концептуальное содержание поэмы через ассоциативные
ряды, восходящие к обоим полюсам отождествления, благодаря чему
и возникает ее необычайно сложная и насыщенная символическая
фактура. Характерный пример такого двухлинейного развития
темы мы встречаем в строфах, связанных с концептом «водоем
Пророка»:
Звезды — имя крепежных крюков,
Этим именем издревле их нарекли 18.
Сей напиток голову кружит, пьянит,
Его милости неисчислимы вовек.
Не простая милость — опьянение то,
Нисхождением Сути оно рождено
И зерцалу подобно, в чьей глубине
Отраженья меняются каждый миг.
Два Светила зовутся ее черпаки,
Почерпнешь — и Владыка тебя опьянит,
Ибо к жизни призвал их Всевышнего глас:
«Я поистине скрытым сокровищем был».
Создал те черпаки Повелитель Миров.
И они, как рабы, покорны ему,
Привлекая к себе человеческий род,
Они средь равнины прельщают его.
Молитва — ее колодец сливной,
Неизменно к кибле он обращен,
Вкруг него собирается община вся.
Возвеличь Аллаха, себя умалив,
Уподобь маслу постиженье свое,
Ветер пену колышет на гребнях волн —
То себя проявляет воля Творца |[14, с. 4—5].
«Водоем Пророка» — это один из важнейших мусульманских
эсхатологических символов, который получает в поэме суфийскую
интерпретацию. Согласно исламской традиции около этого водоема
пророк Мухаммад в Судный день соберет свою общину
правоверных. Сам водоем обычно описывается так: окружающие его
«кувшины многочисленны, словно звезды (ср. крепежные крюки —
гвозди лодки, именуемые звездами.— В. £.)... Он наполняется из рая
по двум желобам — золотому и серебряному (ср. два черпака,
именуемые двумя светилами*, т. е. солнцем и луной, которые
соотносятся с золотом и серебром.— В. Б.)» {337, с, 137].
Параллель к самому водоему — это сливной колодец, вокруг которого
собирается община. Питье из этого водоема символизирует
обретение мистического знания, о котором идет речь в последней
строфе приведенного фрагмента.
Замена желобов черпаками, сравнимыми со светилами,
позволяет ввести внутрь новых «лодочных» символов старые символы
солнца и луны. В традиционном суфийском символизме солнце
олицетворяет вторую ступень нисхождения — Вахда и сущность
Мухаммада, а луна — третью ступень — Вахидийа и сущность
Человека {93, с. 69].
Не меньше искусства проявил автор поэмы и в построении ее
композиции. Поэма состоит из ряда тематических разделов, каж-
441
дый из которых (за исключением вводного и заключительного)
открывается строфой, содержащей отождествление определенной
части лодки (иногда предмета или персонажа, с «ней связанного)
с каким-либо суфийским термином. За строфой такого типа
следует ряд «комментирующих» строф, в которых так или иначе
развивается тема, отправной точкой для которой послужило
данное отождествление.
Если выписать по порядку число строф каждого раздела, то
схематически композиция поэмы может быть представлена
следующим образом:
6 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 6 + 6+[3]19 + 6 + 3 + 3 +
+ 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 6 + 6 = 6 + /6(2)+3(3)+3(4)+6 // 2(6) + [3] +
+ 3(3)+4(3)+6/ + 6.
Полученная композиционная схема интересна в нескольких
отношениях. Если, выделив «рамку» (вводный и заключительный
разделы из шести строф, не содержащих стандартно оформленных
отождествлений) и опустив интерполяцию, разделить поэму на
две части, проведя разграничительную линию (//) после
последнего раздела, посвященного изложению доктрины «семи ступеней»,
то обе половины окажутся симметричными. Обе содержат по
39 строф; в обеих симметрично расположены труппы разделов,
насчитывающих равное число строф: 6(2)+3(3)+3(4) = 12 + 9+12
и 2(6)+3(3)+4(3) = 12 + 9+12; обе симметрично завершаются
разделом из шести строф.
Первая половина поэмы посЬящена преимущественно описанию
«пути нисхождения» (таназзул), вторая — «пути восхождения»
(таракки), во время которого познающий проходит ступени
Бытия в обратном порядке. Видимо, поэтому цифры, обозначающие
число строф в равнострофных разделах, и цифры, обозначающие
число самих равнострофных разделов, в первой и второй
половинах поэмы меняются местами: в разделе о нисхождении
6(2) +3(5) +3(4), в разделе о восхождении 2(6) +5(3) +4(3).
Кроме того, правильное возрастание числа строф в разделах
первой половины поэмы (2—3—4), вероятно, призвано выразить идею
нарастания множественности по мере нисхождения Бытия по
ступеням.
В основе композиции поэмы лежат числа 2, 3, 4, 6 и -в
имплицитной форме — число 7. Числами 2,3,4,7, имеющими
чрезвычайно широкий спектр мистических значений в суфизме,
определяются контуры учения о семи ступенях Бытия, подразделяющихся на
две группы, которые включают соответственно три (непроявлен-
ное Бытие) и четыре (проявленное Бытие) ступени — триаду и
тетраду {ИЗ, с. 126—130]. Не случайно поэтому каждой из
ступеней триады в поэме посвящено по три строфы, а первым трем
ступеням тетрады — по четыре. Число же 6, обычно сочетающееся
с числом 2(6x2=12 — совершенное число у малайских суфиев
[526, с. 75]), символизирует целый комплекс понятий: во-первых,,
собственно движение познающего [284, с. 105], во-вторых,
полноту круга движения, проходящего как фазу «нисхождения», так
442
и фазу «восхождения», в-третьих, достижение шестой от конца
ступени вахда — предела движения для суфия. Такова стройная,
основанная на строгой симметрии и мистическом значении чисел
•композиция ренчонгской «Поэмы о лодке», в которой в общих
чертах закодировано содержание излагаемого учения.
Думается, однако, что не только стремлением к
гармоничности и «прекрасному соотношению частей» или к воплощению в
композиции суфийских концепций поэма обязана своей
архитектоникой. Существовало, по-видимому, еще одно весьма важное
обстоятельство, обусловившее композиционную структуру поэмы,—
особенности традиционного мусульманского образования в
малайском мире. Э. Джонс убедительно показал, что суфийское
обучение у малайцев осуществлялось путем заучивания наизусть
определенных, сравнительно кратких текстов, которые затем
истолковывались и комментировались («...когда ребенок вырастает,
Аллах дарует ему свет для 'полного понимания [текстов], и это
бывает для него (т. е. ребенка.— В. Б.) нетрудно, ибо он уже знаком
с выражениями, в которых тексты изложены, так как прежде
выучил их наизусть» ,Г371, с. 50]). Именно на этот метод
обучения был, вероятно, рассчитан, например, трактат Хамзы Фансури
«Тайны постигших», состоящий из 15 строф и построчного к ним
комментария. Характерно, что эти 15 строф функционировали в
рукописной традиции и без комментария либо с комментариями
различного объема [324а, с. 41].
Можно предполагать, что на такое же усвоение была
рассчитана и ренчонгская «Поэма о лодке». Тогда строгая композиция
поэмы (симметричность ее, частей, посвященных «нисхождению»
я «восхождению», выражение числа ее разделов и строф идущими
в определенной последовательности мистическими числами,
жесткий логический порядок, в котором от носа к корме следуют
части лодки, отождествляемые с суфийскими терминами) служила
важным мнемоническим средством. Не располагая им, было бы
весьма трудно запомнить последовательность строф и их число в
разделах этого бессюжетного произведения.
Хамзе Фансури приписывается другая «Поэма о лодке», едва
ли, однако, принадлежащая ему, отражающая скорее поздний,
«умеренный» этап в малайском суфизме и, вероятнее всего,
созданная в конце XVIII — начале XIX в. В этой поэме центральная
идея — раскрытие тождества познающего, прошедшего путь (в его
прохождении важную роль играет шариат), и Творца,
осуществляемое в состоянии мистического экстаза, гармонично выражена
как в самом тексте, так и в приемах организации его «внешней»
и «внутренней» структуры. Данный шаир радикально отличается
от «ренчонгской» поэмы, и сходство их можно усмотреть лишь
в центральном образе лодки и в нескольких строфах, где части
лодки также олицетворяют определенные суфийские концепты.
Начинается шаир с уподобления человеческого тела лодке,
пересекающей бурное житейское море, направляясь к обетованному
острову— символу Высшей Реальности:
443
О юноша, познавай себя,
Лодке подобно тело твое.
Не долго живешь ты в мире сем,
За гробом вечная жизнь твоя.
О юноша, если познание — цель,
Руль укрепи и компас возьми,
Также и лодку свою оснасти,
Путь совершенства людского таков...
В глубоком устье акулы кишат,
Здесь терпят крушенье, идут ко дну,
Морские рифы, как копья, остры —
И вот уж ты выброшен на песок-
Цейлонского моря не смерить глубин,
Разбиваются в щепки в нем корабли,
Хоть многие здесь ныряли не раз,
Ни один не добыл сапфиров со дна...
Помни об этом ночью и днем,
Все глубже могущественный океан,
Ветер крепчает, волненье сильней,
Помни — лодке нельзя утонуть!
И вот наступил единения день,
Попутный ветер в снастях зашумел,
Команда мудрая в лодке плывет,
К острову мчатся на всех парусах [74, с. 16—17].
На смену первой динамической части поэмы приходит ее
вторая часть — статическая, в которой речь идет уже не о суфийском
пути, а о религиозно-мистическом знании. Соответственно лодка
отождествляется с Бытием Аллаха, ее трюм — с познанием
Аллаха, руль — с верой, якорь — с исповеданием единства
Всевышнего, и т. д. В третьей части, где истолковывается формула тау-
хида— ла илаха илла ллах («нет бога, кроме Аллаха/), перед,
суфием, просветленным постижением, спадают последние завесы,,
и он отождествляется с Аллахом:
Ла илаха иллаллах — это слово — венец,
Сокровенное знанье — един наш Господь,
Отрешись от мирской суеты и познай:
Меж рабом и Аллахом различия нет!
К ла илаха иллаллах свой взор обрати,
Это место, где властвует вечный покой,
Бытие Божества — сколь прекрасно оно!
С ним пребудь в единении ночью и днем.
Ла илаха илла ллах — созерцанья предел,
Бог един — неизменно сие возглашай,
Ибо легок и прост правоверия путь,
Но познанье Аллаха труднее стократ [74, с. 21].
Таким образом, композиция поэмы основана на своего рода-
ступенчатом восхождении, принимающем форму квазисиллогизма:
коль скоро суфий есть лодка, а лодка — Бытие Аллаха, то бытие
суфия и Бытие Аллаха тождественны.
Если внешняя, композиционная структура поэмы определяется
этим силлогизмом, то в качестве поэтологического ядра ее
внутренней структуры выступает чрезвычайно сложная система
повторов: повторы целых строк, слов и словосочетаний, наконец, ело-
444
гов и отдельных фонем, входящих в имя Аллах и формулу таухи-
да и по принципу анаграммы «настраивающих» шаир на
звучание этих ключевых для него слов. Система повторов в «Поэме о
лодке» призвана создать некий внутренний ритм, ритм помимо
обычного стихотворного. Все снова и снова возникая, повторы,
подобно ударам барабана, возбуждают читателя, приводят его на
грань экстатического состояния, достигающего высшей точки в
многократном повторении формулы ла илаха илла ллах, создают
подобие зикра, напряжение которого все возрастает. Именно эта
формула, как уже отмечалось, и составляла основу одной из форм
зикра, сама же лодка в суфийской традиции также выступала
зикрическим символом. Как отмечал С. X. Наср, Сухраварди,
описывая в «Повести о западном узнике» путешествие на корабле,
«указывал на основной технический прием суфизма, состоящий в^
поминании (зикр) одного из имен божьих, которое суфийские
учителя называли священной баркой, перевозящей человека через-
океан духовного пути к берегам духовного мира» {414, с. 381 —
382].
Весьма примечательна также связь поэтики, а отчасти и
глубинной семантики шаира с фольклором. Описание моря, по
которому плывет лодка, весьма напоминает те, что характерны для
малайской заклинательной |478, с. 643] и пантунной [171, с. 88—
90] традиций. К традиции соединения строф в «прошитом» лан-
туне восходят и повторы в поэме целых строк, занимающих
определенное место в строфе20.
Поэмы о птицах. Если в «Поэме о Пунггуке (Сове)»
можно было лишь с большой осторожностью предполагать наличие
суфийских элементов, то уже безусловно суфийский характер
носит в некоторых отношениях близкая к ней (ср. [[124, с. 9])
«Поэма о птицах», по числу списков (девять) превосходящая любой из-
аллегорических шаиров.
По-видимому, в данном случае следует говорить даже не об
одной, а о нескольких одноименных 'поэмах, сходных по содержанию.-
Две из «их пересказал голландский исследователь Ф. ван Рон-
кель [459, с. 12—14].
В первой — Попугай (нури) предлагает собравшимся птицам откровенно
побеседовать. Ястреб жалуется на смятение души, и Попугай советует ему
стремиться к обретению мистического знания (илму). С ним соглашается Сорока, ш>-
Райская Птица, Горлица, Скворец сетуют, что этому препятствует их
необразованность. Дятел, Голуби и Орел побуждают птиц заняться науками. Некая
морская птица также признается в невежестве и выслушивает от Попугая
наставление о том, что ей надлежит отправиться на поиски илму. Лебедь и Дрозд
сожалеют о своей духовной слепоте, Ласточка и Воробей готовы с радостью
посвятить себя приобретению знаний, равно как и Зимородок, который, однако, весьма?
фаталистически смотрит на успех этого предприятия. Наконец, многие птицы,
стремящиеся лишь к мирским благам, принимаются осуждать Попугая, ставящеп>
превыше всего суфийское постижение, что приводит к оживленному диспуту о-
познании Аллаха как основе веры. Попугай просит всех высказаться по главным
религиозным проблемам и, обнаружив некомпетентность собеседников,
произносит длинную проповедь, в которой среди прочего изъясняет вопрос об
«уклонившихся» сектах. Проповедь Попугая удостаивается всеобщих похвал.
445
Более интересна вторая поэма, содержащаяся в рукописях
Cod. Or. 3341 и, возможно, Cod. Or. 3342.
В ней рассказывается о том, как пророк Сулейман, повелитель животных и
джиннов, созывает всех птиц — Казуара, Волнистого Попугайчика, Ястреба,
Дятла, Перепела, Павлина, Ворону и др.— и в их присутствии спрашивает Попугая,
что служит средством продления жизни. Попугай, по-видимому, считающий та-
jœm средством суфийское познание, рассказывает в ответ о своем друге, который
•сетовал на слепоту и глухоту, мешающие ему постичь Всевышнего. Этому другу
он объяснил, что путь постижения тернист и труден и что отыскать ориентиры в
жизненном море — задача отнюдь не простая. Точно так же некую птицу и
Скворца, страшившихся опасностей мистического путешествия, он призвал уповать на
милость Аллаха.
Затем Попугай учит птиц пути спасения, призванного избавить их от
осуждения за гробом, порицает высокомерных, вероотступников и тех, кто всецело
занят лишь мирскими заботами, и подбадривает всех, впавших в отчаяние,
постигнувши суетность земного бытия. В конце концов, предупредив птиц о тяготах,
которые им предстоит испытать, отправившись в Страну Совершенства, Попугай
заканчивает проповедь известным суфийским хадисом: «Тот, кто постиг себя,
постиг и Господа своего». Наряду с Попугаем весьма важную роль в поэме
играет Летучая Мышь, которую одни гонят, а другие защищают и которая,
добавим, еще у Ибн Сины выступала образцом истинного гностика [31, с. 197].
На редкость лаконичные данные каталогов рукописей
позволяют в,се же предположить, что большинство сохранившихся
списков «Поэмы о птицах» содержит несколько вариантов ее первой
версии, порой существенно отличающихся друг от друга (см. J20,
-с. 360]). Один из этих вариантов, судя по замечанию X. Клинкер-
та [22, с. 90], был создан в 1859 г. сыном Раджи Али Хаджи —
Раджей Хасаном из Пеньенгата (Риау). Это вполне вероятно,
учитывая, что в XIX в. «архипелаг Риау был, очевидно, центром
изучения мистики (весьма умеренного толка.— В. Б.)» i[196,
Со 178] и что Раджа Али Хаджи, как, похоже, и автор поэмы,
рассматривал суфизм в качестве преимущественно этического
учения, выявляющего «свойства, достойные порицания» |[131, с. 520].
В Париже, однако, хранится список поэмы 1826 г.,
представляющий собой копию еще более старого оригинала |Г24, с. 67—68], а
в Джакарте — список 1832 г., содержащий, скорее всего, версию 1
(он начинается с призыва к откровенной беседе и упоминает о
нури и райской птице) ,[20, с. 360]. Таким образом, шаир Раджи
Хасана едва ли может претендовать на 'первенство в
разработке данной темы. Что же касается второй версии, то она появилась
на свет не позднее 1841 г. Г17, с. 28—29] и, если дата X. Клинкер-
та верна, также не принадлежит перу Раджи Хасана. Сходство
с «Поэмой о птицах» обнаруживают «Поэма о мудром попугае»
(не смешивать с хикаятом того же названия!) i[20, с. 365] и
-«Поэма о Розе» |[22, с. 92—93]. Все это позволяет утверждать, что
«птичья» символика была весьма популярна в среде малайских
•суфиев.
Стремясь отыскать источник малайских поэм о птицах, Ф. ван
Ронкель отмечает, что, несмотря на некоторые местные черты,
все они в конечном счете представляют собой свободные
вариации на тему знаменитой персидской поэмы «Мантик ат-тайр»
446
(«Беседа птиц») Фаридаддина Аттара, повествующей о странствии:
птиц в поисках Феникса — Симурга (символ Всевышнего) и
содержащей множество бесед с пернатыми странниками их
предводителя—Удода [459, с. 188—192].
Думается, однако, что дело обстоит несколько сложнее.
Действительно, в арабской и персидской традициях существует
немало сочинений, которые посвящены философско-мистическим
собеседованиям птиц, символизирующих человеческие души, и
описывают прохождение ими суфийского пути. К списку этих
прозаических и стихотворных произведений, приводимому Ф. ван Ронке-
лем21, следует добавить «Трактат о птицах» Ибн Сины J31r„
с. 195—207], книгу о странствии птиц Абу Хамида аль-Газали,.
послужившую источником «Мантик ат-тайр» Г278, с. 130], и,
наконец, «Булбуль-наме» («Книга Соловья») того же Аттара.
В «Булбуль-наме» рассказывается о любви Соловья к Розе,
вызывающей раздражение птиц, и о суде над влюбленными пророка
Сулеймана, во время которого Соловей полемизирует с Соколом,.
Павлином, Коршуном и в завершение вступает в суфийский
диспут с Удодом |[179, с. 340—353, 360—361]. Последняя поэма
представляет особый интерес, так как, по-видимому, она наряду с
«Мантик ат-тайр» повлияла на вторую версию «Поэмы о птицах»,,
а также на «Поэму о Розе», кратко охарактеризованную в
лейденском каталоге как «Гпоэма] о любви птицы (?) к розе, {в
которой] речь идет больше о различных птицах, чем о розе» ,[22,
с. 92].
Весьма рано появляется «птичья символика» и в малайской
литературе. Так, в «Поэме о Чистой Птице» Хамзы Фансури
описывается некий аналог Симурга и единение с ним душ суфиев,
взыскующих Высшей Реальности. В отличие от поэмы Аттара
мотива странствий в шаире Хамзы нет, зато присутствует он в
таких, например, сочинениях, как «Повесть о Чистой Птице» или:
южносуматранское «Сказание о Чистой Птице» [355, вклейка
между с. 80—81], а в косвенной форме — и в исследуемой «Поэме о
птицах».
В отношении Хамзы Фансури предположение о знакомстве с
«Мантик ат-тайр» Аттара вполне допустимо (ср. |[74, с. 8—13]).
В трактате Хамзы «Адепт» трижды цитируются стихи этого
великого персидского поэта {61, с. 349, 353]. Однако следует отметить,
что отдаленные «прототипы» основных образов «Поэмы о Чистой
Птице», как и «Поэмы о птицах», могут быть обнаружены также
и в исконно малайской шаманистской традиции. Образ птицы
демиурга встречается в перакской заклинательной книге из
коллекции У. Максуэлла :[525, с. 326] и в серавейском мифологическом
повествовании «Сказание о птице мерака-рака» [350, с. 241]. В
последнем сочинении ощутимо некоторое влияние мусульманской:
космогонии, однако, несмотря на мусульманскую окраску,
сравнение перакского и серавейского текстов с мифами даяков-нгаджу
о «верхнем» небесном боге Махатала, изображаемом в виде
птицы-носорога, дает возможность предположить, что и в малайских:
447
вариантах мы имеем дело с отголосками более древнего
представления о боге-птице. Наконец, мотив поисков птицы,
представленный, например, в «Сказании о Чистой Птице», как уже
отмечал X. Хойкас, весьма напоминает шаманское странствие, во
время которого сам шаман иногда принимал птичий облик. Это
^представление в пережиточной форме сохранилось в традициях
морских даяков и батаков [445, с. 82].
Таким образом, как и поэмы о лодке, малайские сочинения о
птицах являются «фактом с двойственной мотивацией». Это не
только объясняет популярность ««птичьей символики» в малайской
суфийской литературе, но -и указывает «а то, что данные
сочинения являются плодом синтеза местной мифологической
традиции и радикально трансформировавших ее произведений
ближневосточных суфиев.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 В этой версии опущены также наставления по аскетической практике,
которые дает султан Ибрахим стражу сада его жены —шейху Исмаилу, перечень
суфийских добродетелей (терпение, благодарность, предание себя на волю Алла-
зса и удовлетворенность), которые он открывает встреченному бедуину, и
рассуждения сына султана — Мухаммада Тахира об искусстве справедливого
управления страной [374, с. 16—19].
2 Чрезвычайно приукрашенные повести о нем существуют на персидском,
турецком языках, а также на урду и кашмири. В Индонезии «Повесть об Ибрахи-
ме ибн Адхаме была переведена на яванский, сунданский, ачехский и бугийский
языки |[375, с. 986], Е. Э. Бертельс упоминает о трех среднеазиатских версиях,
истории Ибрахима ибн Адхама: поэме бухарского поэта Исмата (ум. в 1426 г.)
«Адхам-наме», поэме таджикского поэта XIX в. Абд аль-Латифа Балхи и
узбекском дастане «Киса-и Ибрахим ибн Адхам» [179, с. 1S4—186]; изобилующий
драматическими деталями сюжет этих произведений далек от сюжета малайских
■версий. В них, однако, имеются мотивы отречения от царства, жены и сына.
3 Ранее считалось, что Хамза родился в Барусе, а затем был перевезен
родителями в столицу Сиама — Аютию, по-персидски называвшуюся Шахр-и Hov
Ц280].
4 Имеется в виду суфийское понятие наготы, т. е. отвержения атрибутов
внешнего, индивидуального «я».
5 В настоящее время вся проза Хамзы переиздана, см. [61].
6 Кормчий и Абу-ль-Касим — здесь имена пророка Мухаммада.
7 Полный список авторов, цитируемых Хамзой, см. ([281, с. 55—56].
8 Полный список трудов Шамсаддина см. [113, с. 25—26].
9 Довольно грубо различие между этими тремя видами бытия может быть
'Объяснено по аналогии с формулой некой стереометрической фигуры, например
жуба — а3, его идеальным чертежом и материальным воплощением в том или ином
объекте, например доме.
10 Подробно об учении Шамсаддина см. (113, с. 78—197].
м Можно отметить некоторые точки соприкосновения между малайской ша-
манистской концепцией жизненной энергии (семангат), концентрирующейся в жи--
вых существах и некоторых предметах, и примитивными вариантами суфийской
идеи божественного всеприсутствия [32|9, с. 58—60]. Не без влияния шаманской
инициации, вероятно, возникла так называемая церемония сулук, огрубленный
вариант суфийского посвящения (ср. [60, с. 100—104; 328, с. 344—345]). Цель
суфийского пути — отделение внешнего «я» и соединения «я» внутреннего с
Творцом— также, видимо, воспринималась сквозь призму шаманского транса (лупа),
когда шаман, впадая в забытье, утрачивал ощущение своего «я» и как бы
отождествлял свою речь с голосом духа, вещавшего его устами. Наконец, именно в
448
шаманских текстах особенно ясна интимная связь шамана с богом (в
мусульманское время — Аллахом), доходящая до самообожествления и, возможно,
коренящаяся в представлениях о боге как первом шамане.
12 Помимо полемических сочинений и «Сада царей» ар-Ранири принадлежит
также обширный трактат по мусульманской эсхатологии «Ахбар аль-ахира фи
ахвал аль-кийама» («Сообщения о загробном мире во время событий Судного
дня») (1642 г.) и популярное произведение по фикху «Сират ал-мустаким»
(«Праведный путь»), законченное в 1644 г. Список трудов ар-Ранири см. [508, с. 153—
158].
13 Ширк — «придание Аллаху сотоварищей», признание божественности кого-
либо или чего-либо, кроме Аллаха, — тягчайший грех для мусульманина.
114 Таваф — ритуальный обход Каабы, здесь — постоянное поклонение.
161 Мим — название буквы «м» в арабском алфавите.
16 Исследователи много писали о специфической местной окраске яванской
суфийской литературы. Отмечалось, в частности, использование в ней
образности, связанной с ваянгом и ролью в нем далаяга-кукловода, с циклом сказаний
о Панджи и символическим противопоставлением Вишну и Кришны как
скрытого и явленного (см., например, [94, с. 16—18]).
17 Датировка гипотетическая. Осторожнее было бы говорить о создании
поэмы между первой половиной XVII и серединой XVIII в. Наиболее ранняя ее
рукопись MS.SOAS 4131914 была приобретена У. Марсденом в 70-е годы XVIII в.
Учитывая, однако, что списку Марсдена должны были предшествовать как
минимум еще две генерации рукописей, поэма едва ли появилась позднее середины
XVIII в. Описание поэмы дается на основе ее реконструкции, предпринятой
автором этих строк.
118 Формула «Этим именем издревле их (его, ее) нарекли» регулярно
используется кем-то из переписчиков для замещения утраченных строк, в данном
случае строки, в которой в первоначальном тексте вводился мотив мистического
опьянения.
19 Раздел в квадратных скобках содержит отождествление с суфийским тер*
мином того же персонажа (лоцман), что и предыдущий. Это единственный
повтор в поэме, явно представляющий собой интерполяцию, и поэтому в дальнейшем
анализе он не учитывался.
20 Подробный анализ этих аспектов «Поэмы о лодке» см. [296, с. 418—423}.
21 Это — .«Мантик ат-тайр» Аттара, сочинение о птицах и цветах ал-Мукадда-
еи, «Пробуждение спящих» Абу-ль-Фараджа аль-Джаузи, «Послания Братьев
Чистоты».
29 За*. 147
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В 1974 г., когда работа над этой книгой еще только
начиналась, известный голландский малаист Р. Рольфинк, называя в
письме автору этих строк трудности, ожидающие его при
создании истории малайской литературы, не без остроумия отметил, что
главная из них состоит в том, что «у малайской литературы
слишком мало истории». Слова Р. Рольфинка во многом
справедливы, и, несомненно, понадобятся усилия не одного поколения
ученых, чтобы процессы исторического развития в малайской
литературе были выявлены с полнотой, хотя бы напоминающей ту,,
что характерна для историй литератур европейских. Вполне
вероятно, что до конца решить эту задачу вообще не удастся. И все
же, если не ограничиваться временными рамками в три, в лучшем.
случае — в четыре века, а ретроспективно окинуть взглядом весь
путь, пройденный традиционной малайской литературой, у нее
окажется не так уж мало истории, предстающей перед нами как.
своеобразная проекция культурно-идеологических, и прежде всего
религиозных, трансформаций, пережитых малайским миром.
Главные вехи этой истории таковы.
В VII—XIII вв. сформировалась «высокая» литература индиа-
низированной элиты, написанная преимущественно на санскрите,
но также и на малайском языке и включавшая как произведения
индийских авторов, ставшие общим достоянием народов
буддийской культуры («Джатакамала», «Буддхачарита», «Лалитависта-
ра» и др.), так и местные сочинения, гимнографические,
исторические, юридические.
В XIII—XIV вв. шедший и прежде, но теперь заметно
усилившийся процесс малаизации индианизированной культуры привел
к включению в литературную систему первых памятников
беллетристических жанров — волшебно-авантюрного и героико-эпиче-
ского, вероятно обязанных своим происхождением субстратной
массовой традиции, в свою очередь уже видоизмененной под
влиянием традиции элитарной. В итоге взаимодействия обеих
традиций начала складываться «сниженная» и смешанная культура^
ориентированная на малайский язык, которая и послужила
основой для возникновения поздейшей малайской литературы, когда
ислам стал распространяться в малайском мире.
В XIV — первой половине XVI в. распространение ислама
«вширь» придало более или менее определенную форму этой за-
450
рождающейся смешанной культуре малайцев и обусловило
постепенную трансформацию литературной системы. В центральной,
наиболее важной в идеологическом отношении сфере ее
продолжал использоваться надэтнический иностранный язык — теперь,
однако, уже не санскрит, а арабский,— в остальных же
(историография, беллетристика) окончательно утвердился малайский язык
и в результате взаимодействия местных и арабо-персидских
элементов возникли жанровая форма повести (хикаят) и жанр
исторической хроники (седжарах).. Состав малайской литературы в
раннемусульманский период был отмечен чертами переходности,
которую можно охарактеризовать как переход-сосуществование.
С одной стороны, малайская литература обогатилась переводами
ряда мусульманских повестей, с другой — в ней продолжали
письменно фиксироваться и создаваться сочинения на мотивы
санскритского эпоса, пуран, повестей о Панджи. Хотя индо-яванскйе
и арабо-персидские элементы еще не смешивались в рамках
беллетристических произведений, в историографии начали
предприниматься первые попытки их синтеза (протосинтез).
Во второй половине XVI — первой половине XVIII в.
распространение ислама «вглубь», послужившее причиной
фундаментальной исламизации малайской словесности, привело к
формированию малайской классической литературы. Важнейшими
чертами ее были: распространение малайского языка на центральную
сферу литературной системы — создание на нем сочинений по
юриспруденции, теологии и особенно по суфизму, оказавшему
влияние едва ли не на всю словесность; появление новых
жанровых форм и жанров, обладавших не только общими для арабо-му-
сульманской культуры признаками, -но и значительной малайской
спецификой (трактат — штаб, зерцало — хидаят, поэма — шаир);
выработка мусульманского литературного самосознания в области
теории и сложение литературного синтеза в области практики (в
беллетристике, прозаической и стихотворной, в историографии).
Наконец, во второй половине XVIII —первой половине XIX в.
в результате дальнейшей исламизации наблюдается постепенный
распад синтеза и все большее приближение малайской литературы
по своему типу и составу памятников к позднесредневековой
арабской литературе.
Разумеется, все названные этапы развития малайской
литературы сопровождались существенными изменениями в ее
содержании — картине мира, принципах отражения действительности,
осмыслении проблемы человека, главного объекта внимания всякой
литературы, и форме — нормах композиции, стиля, наборе
изобразительных средств.
Завершая историю малайской литературы, проследив ее путь
на протяжении двенадцати веков, едва ли можно не задаться
вопросом: в чем же состоит смысл изучения средневековой
словесности малайцев? На него, видимо, можно ответить так: в
постижении жизни, быта, психологического склада, духовных исканий
и обретений одного из народов, обитающих «на лице земли», в
29*
451
приобщении к его идейным и эстетическим достижениям и тем
самым в собственном культурном обогащении. Можно еще
добавить, что на Востоке — и малайский мир здесь не исключение —
традиция и современность переплелись так тесно, что, не зная
первого, невозможно понять глубинный смысл второго — в данном
случае проникнуть в причины многих процессов, происходящих
сегодня в многомиллионной Индонезии, Малайзии и родственных
в культурном отношении странах. Литература же на Востоке, как
ничто другое, сохраняет и раскрывает перед нашими
современниками подлинное значение живых традиций.
Все же и с этим дополнением ответ еще не будет
исчерпывающим, ибо традиционная малайская литература обладает двумя
чрезвычайно важными особенностями. Она, несомненно, богата,
и слова Р. О. Уинстедта о полумиллионе страниц, которые
предстоит перелистать малаисту, знакомящемуся с ней, скорее
преуменьшение, чем преувеличение ее реального объема. Но в то же
время богатство малайской литературы — это не безбрежный
океан литератур китайской, арабской, персидской, оно «обозримо» и
позволяет, хотя и с напряжением, охватить единым взором одну
из развитых средневековых литератур в относительной полноте
всех ее форм и жанров и, таким образом, понять те принципы,
на которых зиждется ее система, те процессы, которые в ней
протекают. В этом огромное типологическое значение малайской
литературы, позволяющей выработать достоверные модели для
осмысления средневековых литератур в целом.
Вместе с тем малайская словесность, впитавшая опыт
словесности Индии, Ирана, арабских стран, а через две последние —
литератур средиземноморского мира, дает ценнейший материал для
изучения литературных взаимосвязей, литературного синтеза,
единства мирового литературного процесса. Когда в средневековой
малайской литературе, создававшейся у самых восточных
пределов культурной ойкумены, мы, пусть в искаженном или
преображенном виде, находим отголоски идей Платона, Аристотеля и ин-
дуистско-буддийских концепций, санскритскую образность и
любовные и винные мотивы великих персидских и арабских поэтов-
суфиев, мы лучше понимаем, сколь единым и «тесным» было
сообщество людей уже в средние века, и серьезнее задумываемся
над тем, сколь единым и «тесным» является оно сегодня.
БИБЛИОГРАФИЯ
1. M а р.к с К. К критике гегелевской философии права.— Т. 1 *.
2. M а р к с К. Письмо Энгелысу от 2 июня 1-856' г.— Т. 28.
3. Маркс К-, Энгельс Ф. Немецкая идеология.— Т. 3.
4. Л е н и н В. И. О статистике.— Т. 30.
источники
а. Рукописи
Ленинград (описания см. [15]).
5. ЛО ИВАН Д 446 (Hikayat Anak Pengajian).
Лейден (описания см. [17; 212]).
6. Cod. Or. 2016 (Hamzah Fansuri).
7. Cod. Or. 2088 (Hikayat Cekel Waneng Pati).
-8. Cod. Or. 1709 (Hikayat Cekel Waneng Pati).
9. Соф Or. 54143 (Nuraddin ar-Raniri. Bustan as-Salatin).
10. Cod. Or. "ШИШ =Ophuijzen 39 (Shaikh Daud. Sya'ir Mekkah dan Medinah).
11. MS. Klinkert № 9 (Hikayat Dewa Indena Mengindera).
12. MS. Klinkert № 28 (Hikayat Syah Mardan).
Лондон (описания см. [l'9i]).
13. MS. Mal. Raffles 2 (Hikayat Pandawa Java).
14. India Office. Eur. С. 2Ц4 (Sya'ii* Perahu. Réncong).
6. Каталоги рукописей
15. Брагинский В. И., Болдырева М. А. Описание малайских рукописей
в собрании Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР.—
МИИ.
Г5а. Friederich R. en Berg L. W. van den. Codicum arabicorum in Biblio-
theca Sos. artium et scientiarum que Bataviae floret asservatorum catalogum.
Bataviae — Hagae Comitis, 1'8I7I3.
il6. Howard J. H. Malay Manuscripts. A Bibliographical Guide. Kuala Lumpur,
1966,.
17. Juynboll H. H. Catalogus van de Maleische en Sundaneesche handschriften
der Leidsche Universiteits-bibliotheek. Leiden, Ш99. -
18. Overbeck H. Malay Manuscripts in Germany.—JMBRAS. 1926, vol. IV.
'Г9. R i с k 1 e f s M. С, Voorhoeve P. Indonesian Manuscripts in Great Britain.
A Catalogue of Manuscripts in Indonesian Languages in Britisn Public
Collections. Ox., 1977.
20. Ronkel Ph. S. van. Catalogus der Maleische handschriften in het Museum
van het Bataaviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Afd. VIII.
Minangkabausche handschriften.— VBG. 1909, deel 57.
* Труды К. Маркса и Ф. Энгельса цитируются по 2-му изданию Сочинений,
работы В. И. Ленина — по Полному собранию сочинений.
453
5Й1. Ronkel Ph. S. van. Supplement to the Catalogue of the Arabic Manuscripts
Preserved in the Museum of the Batavia Society of Arts and Sciences. Batavia,
'1913.
22. Ronkel Ph. S. van. Supplement-Catalogus der Maleische en Minangkabau-
sche handschriften in de Leidsche Universiteits-bibliotheek. Leiden, 1921.
23. T u u к H. N. van der. Short Account of the Malay Manuscripts Belonging to
the Royal Asiatic Society.—JRAS. 18(6(6, vol. II (New Series).
!2'3»a. Voorhoeve P. Handlist of Arabic Manuscripts in the library of the
University of Leiden and other collections in the Netherlands. Leiden, 1957.
24. Voorhoeve P. Les manuscripts Malais de la Bibliothèque Nationale de
Paris.—«Archipel». 1973, № 6.
в. Издания текстов, антологии, переводы
24а. Амир X о с р о в Дехлеви. Восемь райских садов. Пер. А. Ревича. М.,
,1975.
26. АмманМир. Сад я весна. Пер. Г. А. Зографа. М., 19612-.
26. А р ь я Шура. Гирлянда джатак, или Сказания о подвигах бодхясаттвы.
Пер. А. П. Баранникова и О. Ф. Волковой. M., 19612.
27. Д а к а и к и. Услада душ или Бахтияр-наме. Пер., примеч., глоссарий и пос-
лесл. Н. О. Ооманова. М., 1977.
28. Джами Абдуррахман. Трактат о музыке. Пер. А. Н. Болдырева. Таш.,
(I960.
29. Джами Абдурахман. Весенний сад (Бахаристая). Душ., 1964.
30. И б н С я н а. Канон врачебной науки. 'Кн. I—V. Таш., 1964—,'1960.
31. -И б н С и н а (А в я ц е н н а). Избранное. M., 1080.
32. И б н X а з м. Ожерелье голубки. Пер. М. А. Салье. М., 19*5(7.
33. Иранская сказочная энциклопедия. Пер. А. Дуна, Ю. Салимова. М., 1977.
34. Канбу Инаятуллах. Книга о верных и неверных женах. Пер. Н. О. Ос-
манова. М., 1'964.
36. Книга тысячи и одной ночи. Пер. М. А. Салье. Т 1—8. М., 1958ьч1959.
36. Коран. Пер. и коммент. И. Ю. Крачконского. М., 1963.
37. Мачлиси. Сейфальмулкж.— Узбек адабиети. Т. ®. Тошкент, 1959.
38. Музыкальная эстетика стран Востока. М., 1'967.
39. Навои А л яш ер. Семь планет.— Собрание в 10 томах. Т. VI. Таш., 1968.
40. Низами. Пять поэм. М., 1946.
40а. Низами. Семь красавиц. Пер. В. Державина. М., Г959.
41. Нихалчанд Лахор и. Роза Бакаваля. Пер. А. Дехтярь. М., 1975.
42. Плутовка из Багдада. Пер. Ю. Борщевского, Н. Османова, Н. Туманович.
М., 1963.
42а. С а ад и. Гулястан. Критич. текст, пер., предисл. и примеч. Р. М. Алиева.
М., 1959.
43. Сад золотого павлина Старинная малайская проза. Пер. В. И. Брагинского.
iM., 19715.
44. Сиасет-наме. Книга о правлении вазира XI столетия Низам аль-мулька. Пер.
Б. Заходера. М.— Л., 1949.
45. Сказание о Панджи Семяранг. Пер. Л. Колосса. М., 1965.
46. Сказание о Сери Раме. Индонезийская Рамаяна. Пер., предисл. и примеч.
Л. А. Мерварт. М., 196Г.
47. Сказаиие о Сайг Боме. Пер. Л. А. Мерварт, подг. к печ., предисл. и примеч.
Б. Б. Парникеля. М., 1973,
47а. Сказания о доблестных, влюбленных и мудрых. Антология классической
малайской прозы. Пер., сост. и предисл. В. И. Брагинского. M., 19812.
48. С о м а д е в а. Необычайные похождения царевича Нараваханадатты. Пер.
И. Д. Серебрякова. М., 1972.
49. Сорок невольниц. Пер. Н. Османова, Д. Юсупова. М., 1962.
50. Аль Ф а р а б и. Философские трактаты. А.-А., 1972.
,51. А л ь - Ф а р а б и. Социально-этические трактаты. А.-А., 1973.
52. Аль-Фараби. Логические трактаты. А.-А., 1975.
454
53. Филыытинский И. M. Арабский героико-романтичеокий эпос о Сайфе
сыне царя Зу Язана.—Жизнеописание Сайфа сына царя Зу Язана. Пер.
И. М. Филыитинского, Б. Я- Шидфар. М., 1975.
64. Фирдоуси. Шах-наме — Б1ВЛ. Т. 214 М., 1970.
55. Шабистари М. Гулшан-и раз. Бакы, 1'972.
56. A b d а 1 - Q a h i г а 1 - J и г j a n i. Dala'il al-i'jaz. Cairo, [б. г.].
:56a. Abdar-Raziq al-Kashani. Istilahat as-sufiyya. Kahira, 1977.
57. Ahmad A. bin (éd.). Hikayat Inderaputera. Kuala Lumpur, 196®.
518. A1 i s j -a h b a n a S. T. Puisi lama. Tjet. 5. Djakarta, 1961.
59. Arberry A. J. (trans.). Muslim Saints and Mystics. Episodes from the
Tadhkirat al-Auliya' (Memorial of the Saints) by Farid al-Din Attar. Chicago,
1966.
60. Archer Le Roy R. Muhammedan Mysticism in Sumatra.—JMB RAS. 1937,
vol. XV, p. 2.
61. Attas Syed Muhammad N<aguib al. The Mysticism of Hamzah Fan-
suri. Kuala Lumpur, 1970.
■62. Baharuddin bin Zainal (ed.) Hikayat Bakhtiar — Bunga Rampai Sa-
stera Lama III. Kuala Lumpur, 1963.
63. Bahuruddin bin Zainal (ed.). Hikayat Chekel Waneng Pati. Kuala
Lumpur, 1965.
64. Bahwa ini surat hikayat Sultan Abdulmuluk. Batavia, ГЭ47.
65. Вюу le J. A. (trans.). The Ilahi-nama of Attar. Manchester, 1976.
66. В r a k e 1 L. F. (ed.). The Hikayat Muhammad Hanafiyyah A Medieval
Muslim-Malay Romance. The Hague, 1975.
67. Brakel L. F. (trans.). The Story of Muhammad Hanaf iyyah. A Medieval
Muslim Romance. The Hague, 1977.
68. Brandes J. (ed.). Pararaton (Ken Arok) 2-ede druk bewerkt door
N. J. Krom.—VBG. 1020, deel 162.
69. Brown С. С (trans.). Sejarah Melayu or Malay Annals. A translation of
Raffles MS. 18. Kuala Lumpur, Г968-.
70. Ch a vannes E. (trad.). I Tsing, mémoire composée à l'époque de la grand
dynastie T'ang sur les religieux eminents qui allèrent chercher la Loi dans les
pays d'occident. P., 18Ш.
71. Cherita Jenaka. Oleh Raja Haji Yahya. Kuala Lumpur, 1965.
72. С or tes a о A. (éd.). The Suma Oriental of Tome Pires. 2 vol. L., 1944.
73. Dissel J. S. A. (éd.). Hikayat Si Miskin. Leiden, 1897.
73a. Djadjuli (éd.). Transkripsi Sj.aif Tjinta Berahi.— «Bahasa dan Budaya».
'1961, djil. IX.
74. D о о r e n b о s J. De geschriften van Hamzah Pansoeri. Leiden, 19331.
75. D r e w e s G. W. J. Directions" for Travellers on the Mystic Path. The Hague,
11977.
76. Dulaurier E. (ed.). Collection des principales chroniques malayes. T. 1—2.
P., 1849.
77. D u n s e 1 m a n P. D. (éd.). Kana Sera, 's Gravenhage, 1955.
78. Dussek O. T. (ed.) Teka-Teki. P. l—Q. Singapore, 1918.
79. Dzulkif li Mohd. Sa 11 eh (éd.). Hikayat Merong Mahawangsa. Kuala
Lumpur, 1968.
•80. Hikayat Bajan Budiman. Djakarta, 1956.
81. Hikayat Indera Bangsawan. Batavia, 1927.
i82. Hikayat Langlang Boeana. Betavi, 1913'.
~83. Hikayat Shams ul-Bahrain.— JSBRAS. 1888, № 47.
84. Hill A. H. (éd., trans.). Hikayat Raja-Raja Pasai. A Revised Romanized
Version with an English Translation.— JMBRAS. 1960, vol. XXXIII, p. 2.
815. Hirth F., Rockhill W. W. Chau Ju-Kua. His Work on the Chinese and
Arab Trade in the 12th and 10th Centuries. St.-Pbg., 19Ш'.
.86. Hoevell W. R. van (ed.). Sjair Bidasari. Een oorspronkelijk Maleisch Ge-
dicht...—VBG. 1843, deel Ш.
87. Hose G. F. (ed.). Hikayat Saif al-Yezan.— JSBRAS. 1911, vol. LVIII.
<88. I b n К h a 1 d u n. The Muqdaddimah. An Introduction to History. Transi, by
F. Rosentahl. N. Y., Г958.
455
.89. Ibn Rashik. Al-Umda. Vol. 1. Beirut, 197&
90. IskandarT. (éd.). De Hikayat Atjeh. 's-Gravenhage, 1958.
91. I s к and а г T. (éd.). Bustanu's Salatin. Bab II, Fasal 13. Kuala Lumpur,
4966.
92. Johns A. H. (éd.). Daka'ik abHuruf by Abdul Ra'uf of Singkel —JRAS
11955, № l-£, $-4.
93. Johns A. H. (éd.). Malay Sufism as illustrated in Anonymous Collection
of 17-th Century Tracts.—JMBRAS. 1957, vol 30, p. 2.
94. Johns A. H. (ed.). The Gift Adressed to the Spirit of the Prophet. Canberra,
'1965.
95. Kaeh Abdul Rah.a man (éd.). Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma.
Kuala Lumpur, 1976.
96. Kamarulzaman b. A. Hal dm. Hikayat Shah Kobat Lela Indera.— Bunga
Rampai Sastera Lama II. Kuala Lumpur, 1962:.
97. Kassim Ahmad (éd.). Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur, 1968.
98. Khalid Hussain (éd.). Hikayat Pandawa Lima. Kuala Lumpur, 1964.
98a. Khalid Hussain (éd.).Taj as-Salatin. Kuala Lumpur, 1966.
99. Khalid Hussain (éd.). Hikayat Iskandar Zulkarnain. Kuala Lumpur,.
11967.
uOO. Khatib Abd. Hamid. Hikayat Koris Mengindera.— Bunga Rampai Sa-
stera Lama II. Kuala Lumpur, 19(612.
.101. К1 i n к e г t Hr С (éd.). Drie Maleiische Gedichten. Leiden, 18186. ,
102. Klinkert H. C. (éd.). De Pelandoek Djinaka of het guitige dwerghert. Lei-
den, 1Э9.Э.
103. Klinkert H. С Bloemlezing uit de Maleische geschriften. Leiden, 1913.
104. Kr atz E. U. (éd.). Peringatan Sejarah Negeri Johor. Eine Malaiische Quelle
zur Geschiohte Johor im 18 Jahrhundert. Wiesbaden, 1973.
105. Kuliyat Sheikh Fahr al-Din Ibrahim Hamadani Iraqi . Tehran, Ш8 r. x_
(в араб, графике).
106. Leeuwen P. J. van. De Maleische Alexanderroman. Meppel, ill937.
107. Li aw Yock Fang (éd.). Undang-Undang Melaka. 's-Gravenhage, Г976.
108. Maxwell W. E. (éd.). Raja Haji.—JSBRAS. 1890, № 22.
109. Mees С A. (éd.). De Kroniek van Koetai. Samtpoort, 1935.
110. Muljadi Rudjiati S. W. (éd.). Hikayat Bulan Berlah.— Bahasa dan
Kesusasteraan. Seri Khusus, 1968, № 3.
111. Netscher E. (éd Vert). De twaalf spreukgedichten door Rodja AH Hajt
van Riouw. Maleische tekst met vertaling.—TIBG. 185i4, deel. 2.
Ы2. Niemann G. K. Biloemlezing uit Maleische geschriften. Stuk 1—2.
's-Gravenhage, 1906.
113. N i eu wenhui j ze С. A. O. van. Samsu'l Din van Pasai. Bijdrage tot de
kennis der Sumatraansche mystiek. Leiden, 1945.
M4. N i e u w e n h u i j z e C. A. O. van. Nur al-Din al-Raniri als bestrijder der
Wujudiya.— BTLV. 1948, deel CIV.
115. Nizami-i 'Arudi-i-Samarkandi. The Cahar Maqala («Four
Discourses»). Originally edited by M. Qazvini. Revised with notes by Dr. M. Mo'in..
Tehran, 1962.
115a. Overbeck H. (éd.). Hikayat Maharaja Rawana.—JMBRAS. 1933, vol. XI,.
p. 2,
Ш. Overbeck H. (éd.). Syair burung pungguk.—- JSBRAS. 1914, '№ 67.
116a. Olthotf W. L. (vert.). Babad Tanah Djawi. 's-Gravenhage, 1941.
117. Pamuntjak K. S., Iskandar N. S., Madjoindo A. D. (eds.). Perî-
bahasa. Djakarta, 1956.
1'1<8. Pane Sanusi (trans.). Mpu Kanwa. Ardjuna Wiwaha. Djakarta, 1960.
119. P eh in J. bin (éd.). Sha'ir Rakis. Berunai, 1965.
Ш. P i j p e г G. F. Het Boek der Duizend Vragen. Leiden, 19'2i4.
121. Poerbat j ar aka R. M. Ng. (éd., vert.). Arjuna-Wiwaha. Tekst en
vertaling.— BTLV. 1926, deel 56.
122. Poerbat jar aka R. Ng., Hooykaas С (vert.). Bharata—Yuddha.—Djawa.
'Ш4, deel 14.
123. Raja С h u 1 a n. Misa Melayu. Kuala Lumpur, 1968.
456
124. RajaMuhammad Zahid R. I. bin (éd.). Sha'ir Burong Punggok. Kuala
Lumpur, 1966.
125. Ras J. J. (éd.). Hikayat Bandjar. A Study in Malay Historiography. 's-Gra-
venhage, 1968.
126. Regensburg A. (éd.). Hikayat Soeltan Ibrahim ibnoe Adham Walijoe'llah..
■Batawi, 1«M.
V2Q. R i n к e s D. A. Abdoerraoef van Sinkgel. Bijdrage tot de kennis van de mys~
tiek op Java en Sumatra. Friesland, 1909.
128. Rit ter H. (éd.). Asrar al-balagha. The Mysteries of Eloquence of Abdalqa-
hir al-Jurjani. Istanbul, 1994.
129. Rob s on S. O. (éd.). Hikayat Andaken Penurat. The Hague, 1969.
130. Rob s on S. O. (éd.). Wangbang Wideya. The Hague, 197d.
1Ш. Ronkel Ph. S. van. De Maleische schriftleer en spraakkunst getiteld Boe-
stanoe'l-katibina.—TBG. 1901, deel XLIV.
132. R о о 1 v i n к R. Two New «Old» Malay Manuscripts — MIS.
133. Roor da van Eysinga P. P. (éd.). Taj as-Salatin. De Kroon aller Konin-
.gen. Batavia, '1Ш.
134. Roorda van Eysinga P. O. (éd.). Hikayat Isma Yatim. Batavia, 12QT
(h) (араб, графика).
135. Roorda van Eysinga P. P. (éd.). Geschiedenis van Sri Rama.
Amsterdam, 1843.
1'36. Rusconi J. (éd.). Sja'ir Kompeni Welanda berpereng dengan Tjina. Wage-
ningen, 1935.
136a. Shabistari S'ad ud-Din Mahmud. Gulshan-i Raz. The Mystic Rose
Garden. The Persian Text with an English Translation by E. H. Whinfield.
Lahore, 1978 (reprint).
137. Shayer Silam Bari and Shayer Kampong Glam Turbakar and Pantun^
Singapore, Г887.
138. Shellabear W. G. (éd.). Hikayat Seri Rama.—JSBRAS. 1915, № 70—7'L
1*39. ShellaberW. G. (éd.). Sejarah Melayu. Luala Lumpur, 1967.
140. T. D. S i t umo г a n g, A. T e e u w (eds.). Sedjarah Melaju menurut terbitarr
Abdullah. Djakarta, 1968.
14T. Sjair Putri Akal. Djakarta, 1905.
14*2. Skinner С (éd.). Sja'ir Perang Mengkasar (The Rhymed Chronicle of the
Macassar War) by EntjF Amin. 's-Gravenhage, 19G3.
143. SpatC. Bloemlezing uit Maleische gesohriften. Breda, 1903.
144. Steinhart W. L. (éd.). Niassche Texten. Bandoeng, 1937.
145. Stiller R. (publ., tlum.). Antologia literatury Malajskiei. Wroclaw, 197L
146. As-Suyutd. Al-ashbah wa-n-nazair. V. 2. Hayderabad, 1359 (h) (араб,
графика).
147. S w e 11 e n g r e b e 1 K. L. (éd.). Korawaçrama. Een Oud-Javaansch proza-
geschrift. Santpoort, 1936.
148. Sya'ir negeri Lampong. {Б. м.}, [б. г.] (литография, араб, графика).
149. Taib M. H. (éd.). Sha'er Yatim Neatapa. Kuala Lumpur, 1968.
150. Taib Osman M. Abu Hassan Sham. Warisan Prosa Klasik. Kuala?
Lumpur, 119175.
151. Takakusu J. (éd.). I Tsing. A Record of the Buddhist Religion as
Practised in India and the Malay Archipelago. Ox., 1896.
1512. Tan Tjhan Hie (éd.). Sair Ikan. Betavi, li827.
1<53. Teeuw A. (vert.). Het Bhomakawya. Een Oud-Javaans gedicht. Groningen^.
194t6.
154. Teeuw A. (éd.). Shair Ken Tambuhan. Kuala Lumpur, 1966.
455. Teeuw A., Wyatt D. K. (éd., trans.). Hikayat Patani. The Story of PatanL
The Hague, 1970.
156. Tudjimah (éd.). Asrar al-insan fi ma'rifat al-ruh wa'l Rahman. Djakarta,.,
1961.
157. Voorhoeve P. (éd.). Twee Maleise Geschriften van Nuruddin ar-.RanirL
Leiden, 1955.
J58. Wall A. F. von de (éd.). Hikayat Bachtijar. Batavia, Ш80.
457
158a. Werndli G. H. Maleische Spraakkunst, uït de eige Schriftender Maleiers
opgemaakt. Amsterdam, 1*736.
159. Wikens G. (trans.). The Nasirean Ethics by Nasir ad-Din Tusi. L., 1964,
160. Wilkinson R. J. (éd.). Kitab Bustan as-Salatin. P. I—II. Singapore, 189'9^-
11900.
16il. Wilkinson R. J., Winstedt R. O. (eds.). Pantun Melayu. Singapore,
19114.
162. Winstedt R. O. (éd.). A History of Johore.—JMBRAS. 1932, vol. X, p. 1.
163. Winstedt R. O. (éd.). Tuhfat al-Nafis. A History of Riau and Johore.—
JMBRAS. 193-2, vol. X, p. 2.
164. Winstedt R. O. (éd.). The Malay Annals or Sejarah Melayu.—JMBRAS.
1938, vol. XVI, p. 3.
165. Winstedt R. O. (éd.). Cherita Jenaka dan Penglipor Lara. An Anthology
of Mailay Folk and Rhapsodist Tales. L., 1968.
166. Winstedt R. O. (éd.). Kesusasteraan Melayu, rampai-rampai III. Cherita
Hindu dan Jawa. London—iNew-York—Toronto, 1968.
167. Winstedt R. O. (éd.). Hikayat Bayan Budiman. Singapore, 195'8.
168. W i n s t e d t R. O., Blagden С. О. A Malay Reader. Ox., 1917.
J169. Winstedt R. O., Josselin de Jong P. E. de (eds.). The Maritime Laws of
Malacca.—JMBRAS. 19Э6, vol. XXIX, p. Э.
169a. Winstedt R. O., Sturrok A. J. (eds.). Hikayat Malim Deman. Chet. II.
Singapura, 1961.
170. Worsley P. J. (ed.).Babad Buleleng. A Balinese Dynastic Genealogy.
's-Gravenhage, 1972.
171. Z a'b a (éd.). Kalong Bunga. buku I. Kuala Lumpur, 1964.
ИССЛЕДОВАНИЯ
а. На русском языке
il7!2. Ав ер и н цев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
173. Аки м у.ш к и н О. Ф. Тути-наме и предшественник Нахшаби.— «Страны и
народы Востока. Вып. 19. М., 1978.
174. Алиев Г. Ю. Персоязычная литература Индии. М., 1968.
175. Ал-Аттае С. М. Н. Ислам в малайской истории и культуре.— НАА. 1974,
№ 5.
"176. Берте лье Е. Э. Новая версия Бахтиар-наме.— «Известия АН GCCP.
Отделение гуманитарных наук». Г9!2'9, № 4.
177. Б ер те лье Е. Э. Персидская лубочная литература.— Сергею Федоровичу
Ольденбургу. Л., 1934.
"Л 77а. Берт ель с Е. Э. Избранные труды. Т. I. История персидско-таджикской
литературы. М., I960.
178. Б ер те лье Е. Э. Избранные труды. Т. П. Низами и Фузули. М., Т9'62.
179. Б ер тел ье Е. Э. Избранные труды. Т. III. Суфизм и суфийская
литература. М., 1965.
'.180. Берте лье Е. Э. Избранные труды. Т. IV. Навои и Джами. М., 1965.
1'81. Б ер те лье Е. Э. (пер.). Змия ад-Дин Нахшаби. Книга Попугая. М., Ш79.
Д8!2. Берте лье А. Е. (изд.). Вахид Табризи. Джам-и мухтасар. Трактат
о поэтике. М., 1957.
l'8'З. Бертельс А. Е. Пять философских трактатов на тему «Афак ва анфуе».
М., 1970.
184. Бертельс Д. Е. Предисловие.— Зийя ад-Дин Нахшаби. Книга
Попугая. М., 1979.
185. Болдырев А. В. Художественная повествовательная проза I—III вв. н. э.—
История греческой литературы. Т. III. М., 1960.
186. Болдырев А. Н. К вопросу о литературно-критических взглядах Джами
и его современников.—НАА. I960, № 2.
186а. Болдырева М. А. Творчество индонезийских поэтов XX в. Амира Хам-
заха и Хейрила Анвара. М., 1970.
458
Ш7. Брагинский В. И. Эволюция малайского классического стиха
(повествовательные формы фольклорной и письменной поэзии). М., .19(75.
188. Брагинский В. И. «Сказание о Санг Боме». Пер. с малайск. Л. А.'Мер-
варт, подг. к печ., предисл. и примеч. Б. Б. Парнжеля (рец.).— НАА. 1975,
№ 5.
189. Брагинский В. И. Об одном примере малайско-яванских литературных
■связей («Малайские родословия» и яванские «романы» о Панджи)—НАА.
,1-976, № 6.
190. Брагинский В. И. Индонезийская литература после событий 1965 г.—
НАА. 1976, № 1».
191. Брагинский В. И. Шестидесятые годы в малайской поэзии
(литературно-критические заметки). Поэзия «темных».— Идеологическая борьба -и
современные литературы зарубежного Востока. М., 1977.
3.912. Брагинский В. И. Баха Заин. Женщина и тени. Латиф Мохидин.
Ночное странствие (рец.).— «Современная художественная литература за
рубежом. Информационный сборник». 1977, № 1—llfill.
192а. Брагинский В. И. К проблеме типологической реконструкции
средневековых литератур (на примере древнемалайской литературы первых веков
нашей эры —XIV в.).—НАА. 1979, № 4.
193. Брагинский И. С. Из истории таджикской народной поэзии. М., 1956.
194. Брагинский И. С. Об «иранской сказочной энциклопедии».— Иранская
сказочная энциклопедия. Пер. А. Дуна и Ю. Салимова. М., Г977.
195. 'В ее ел о веки й А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940.
196. Винстедт Р. О. Путешествие через полмиллиона страниц. История
малайской классической литературы. Предисл. и примеч. Б. Б. Парникеля. М.,
1966.
197. Волкова О. Ф. Предисловие.— Ар ь я Шура. Гирлянда джатак. М... 1962.
198. Глебов Н. В., С у х о ч е в А. С. Литература урду. М., 1967.
19^. Горяева Л. В. Соотношение устной и письменной традиции в малайской
литературе (жанры «1черита пенглшгур лара» и «хикайат»). М., 1979.
:2О0 Горяева Л. В. Листая пожелтевшие страницы.— ААС. 19791, № 11.
201. Григорян С. iH, С .air >а дев А. В. (сост.). Избранные произведения
мыслителей стран Ближнего и .Среднего Востока. М.., 1961.
1202. Г'ри<нце,р П. А. Древнеиндийская проза (обрамленная повесть). М., 1063.
203. Г'ринцер П. А. Определение поэзии в санскритской поэтике.— Проблемы
теории литературы и эстетики в странах Востока. М.„ 1964.
204. 'Г|р;инцер П. А. Теория эстетического восприятия («paica») в
древнеиндийской поэтике.— 'BiЛ. И966, № 2.
205. 'Г ip и ,н ц е р П. А. «Махабхарата» и «Рам-аяна». М-., 1970.
206. Г'ринцор П. А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М., 1974.
:207. Гринцер П. А. Проблемы семантики художественного текста в
санскритской поэтике.— Ученые записки Тартуского государственного университета.
,Вьш. 4212. Труды по знаковым система. IX. Тарту, 1977.
:207а. Гринцер П. А. Пути распространения древнеиндийского эпоса.— Древняя
Индия. Историко-культурные связи. М., Г9Ф2.
'208. Грюнебаум Г. Э. фон. Основные черты арабо-мусульманской культуры.
Статьи разных лет. М., 1981.
:209. Демьянова И. И. Генезис жанра романа в новой малайской литературе
(1926-119415) .— НАА. 1972, № 3.
210. Д е о п и к Д. В. Регион Юго-|Восточной Азии с древнейших времен до XV в.—
Юго-Восточная Азия в мировой истории. М., 1977.
'211. Д е х т я р ь А. А. Проблемы поэтики дастанов урду. М., 1979.
:211а. Джавелидзе Э. Д. У истоков турецкой литературы. I. Джелаль-ед-дин
Руми. Тб., 1979.
2)li2. Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М., 1954.
'213. Жирмунский В. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923.
12114. Жирмунский В. М. Огузский героический эпос и «|Книга моего деда
Коркута».— /Книга моего деда Коркута. М.— Л., 1962.
2<1'5. Жирмунский В. М., Зарифов X. Т. Узбекский народный героический
эпос. М., 1947.
459
21Ъ. Кал о Г. Бидасари. Индонезийские сказки. Пер. Г. Пермякова. М., 1967.
2,17. Козлова М. Г., Седов Л. А., Тюрин В. А. Типы раннеклассовых
государств в Юго-Восточной Азии.— Проблемы истории докапиталистических
обществ. Кн. I. M, 19i0S.
218. 'Конрад H. И. Проблемы современного сравнительного литературоведения.
О некоторых вопросах истории мировой литературы.—- Запад и Восток. М.,.
11966.
219. |Ко с а м б и Д. Культура и цивилизация Древней Индии. М., 1968'.
220. К о с т ю х и н Е. А. Александр Македонский в литературной и фольклорной
традиции. М., 1972.
221. Крачковский И. Ю. Избранные сочинения. Т. I—VI. М — Л., 1954—
-I960.
222. Крымский А. Источники для истории Мохаммеда и литература о нем.
(М., 1902.
223. Крымский А. Е. История новой арабской литературы. XIX—начало XX в.
M, 197И.
2124. Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XVII веков. Эпохи ж
стили. Л., 1973.
225. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1979.
226. Лихачев Д. С, Панченко А. М. «Смеховой мир»' Древней Руси. Л.„
.19716.
227. Л уния Б. Н. История индийской культуры. М., 1960.
228. Масиньон Л. Методы худО)Жественно>го выражения у мусульманских
народов.— Арабская средневековая культура и литература. М., 1978.
229. Мед в еде в П. Н. Формальный метод в литературоведении. Критическое
введение в социологическую поэтику. Л., 1912Й.
230. Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. М., 1968.
2Ф1. М-е р в а р т Л. А. Малайский театр.— Восточный театр. Под ред. А. М.Мер-
варта. Л., 1929.
232. M и р з о е в А. Из истории литературных связей Мавераннарха и Индии во-
второй половине XVI—начале XVII в.— XXVI Международный конгресс
востоковедов. Доклады делегации СССР. М., 1963.
236. Неверная Г. Голос буйвола. Малайские (индонезийские) народные
песни. М., 196Г.
2Э4. Никулина Л. В. Идеографические таблички кенья и ибанов
Калимантана.— Эпиграфика Восточной и Южной Азии. M., 19i72.
236. Осипов Ю. М. Яванское оказание на литературной почве ЮгочВосточной
Азии.— Фольклор и этнография. Л., 1970.
236. О с м а н о в М. Н. О. Стиль персидско-таджикской поэзии IX—X вв. М., 1974.
2|37. Парникель Б. Б. Малоисследованный памятник малайской литературы
(«Повесть о хавг Туахе»).— «Вестник историй мировой культуры». 1959,.
№ 2.
238. (Парник-ель Б. Б. Опыт трактовки центральных образов малайской
«Повести о ханг Туахе».— XXV Международный конгресс востоковедов.
Доклады делегации СССР. М., I960.
9ftQ Парникель Б. Б. Джохорская редакция «Повести о ханг Туахе».— НАА.
4962, № 1.
9,4Qo Парникель Б. Б. Схемы и стеммы сэра Ричарда Вийстедта.—Р D. В и н-
стедт. Путешествие через полмиллиона страниц. M., 19106.
240. Парникель Б. Б. Трансформация и переосмысление заимствованного
материала (индийские эпические герои в Нусантаре).— Типология и
взаимосвязи литератур Востока и Запада. М., 1974.
241. 1П а рн и ке л ь Б. Б. К вопросу о коллизии в «Повести о Ханг Туахе».—
Историко-филологические исследования. Сб. статей памяти академика?
Н. И. Конрада. М., 1974.
242. Парникель Б. Б. Относительно полисемантичное™ малайскоязычной
«Повести о сант Бюме».— Типологические исследования по фольклору. Сб.
статей памяти В. Я. Проппа (;Ш9'5—11970). М., 19715.
243. Парникель Б. Б. Шахнон Ахмад. Сренгеиге [рец.].— «/Современная худо-
460
жественная литература за рубежом. Информационный сборник». 1975, № 6—
114.
2144. Па р никель Б. Б. P. Zoetmulder, Kalangwan... [рец.].—HAA. 1976,
№ 3.
245. Парникель Б. Б-. К вопросу о функциях письменного малайского языка
и о составе малайской традиционной литературы.— Малайско-индонезийские
исследования. Сб. статей памяти академика А. А. Губера. М., 1977.
2146. Парникель Б. Б. Дипломатический и литературный этикет в малайском
книжном эпо'се.— Памятники книжного эпоса. Стиль и типологические
особенности. М., 1'978.
247. Парникель Б. Б. Введение в литературную историю Нусантары IX—
XIX вв. М., 1980.
248. Пелла Ш. Вариации на тему адаба.— Арабская средневековая культура
и литература. Сборник статей зарубежных ученых. М., 1978.
249. Полякова С. В. Из истории византийского романа. Опыт интерпретации
«Повести об Исмине и Исминии» Евмафия Макремволита. М., 1979.
249а. Пригарина Н. И. «Восемь раев» Амира Хосрова Дехлеви (к вопросу
о композиции поэмы).— Литературы Индии. М., 1'979.
250. Пригарина Н. И. Поэтика творчества Мухаммада Икбала. М., 1978.
2151. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.
252. Пуришев Б. И. Литература ХП—/XiIII вв.—История немецкой
литературы. Т. I. M., 1-9162.
253. Ревуненкова Е. В. Фольклорный компонент в «(Малайской истории»
(Седжарах Мелайю).— Фольклор и этнография. М., 1970.
254. Ревуненкова Е. В. Мифологические источники «Седжарах Мелайю».—
Религия и мифология в странах Восточной и Южной Азии. М., 1970.
255. Ревуненкова Е. В. Историко-географические и этнографические сюжеты
в малайском средневековом произведении «Седжарах Мелайю».— Страны и
народы Вбстока». Выи. XIII. М., 1972.
256. Ревуненкова Е. В. «Корабль мертвых» у батаков Суматры.— МАЭ.
Т. 30. Л., 1974.
267. Ревуненкова Е. В. Народы Малайзии и Западной Индонезии.
Некоторые аспекты духовной культуры. М., 1980.
258. Рипка Я. История персидской и таджикской литературы. М., 1970.
25'9. Р и ф т и н Б. Л. Типология и взаимосвязи средневековых литератур.—
Типология и взаимосвязи средневековых литератур Востока и Запада. М., 1974.
260. Рождественский Ю. В. Теория языка в средние века.— Амиро-
ва Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по
истории лингвистики. М., 1975.
261. Рождественский Ю. В. Введение в общую филологию. M., 19179.
262. С а г а д е е в А. В. Из истории эстетической мысли народов Ближнего и
Среднего Востока (эпоха средневековья). Канд. дис. М., 1964.
266. Серебряков И. Д. Очерки древнеиндийской литературы. М., 1971.
263а. С те б л ев а И. В. Семантика газелей Бабура. М., 19'82.
2164. Тройский И. М. История античной литературы. Л., 19'511.
205. Туманович Н. Неизвестный персидский прозаический вариант «Бахтиар-
наме».— «Палестинский сборник». Вып. 211(814). Л., 1970.
266. Тюрин В. А. История Малайзии. Краткий очерк. М., 1980.
267. Фнльштинский И, М. Типологические особенности арабской
литературы VII—XII вв.— НАА, 1971, № 2.
263. Фролов Д. В. Определения в традиционной арабской грамматике.—
Труды IV конференции семитологов. Тб., 19812.
269. Чалисова Н. Ю. Трактат «Хадаик ас-сихр фи дакаик аш-ши'р» Рашид-
ад-дина Ватвата. Автореф. канд. дис. М., 1'980.
270. Шаматов А. Н. Классический дакхни (Южный хиндустани XVII в.). М.,
1974.
271. Ш ид фар Б. Я. Образная система арабской классической, литературы (VI—
XII вв.). М., 1974.
272. Abu Zayd Hassan. Voyage du marchand arabe Sulayman en Indie et ев.
461
Chine, rédige en 85il, suivi de remarques par Abu Zayd Hassan (vers 9'16)9
trad. par. Gabriel Ferrand. P., 192121.
273. A î i f i A. E. The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul'Arabi. Cambridge,,
(1939.
274. A Hi an T. I. Puisi dalam nisan: pertalian antara Pasai—Melaka—Pahang.—
«Malaysia in History». 1973, vol. 16, № 2.
274a. Almanak Sastra Indonesia. I. Daftar Pustaka.— «Bahasa dan Kesusastera-
an». 19721, № 15.
275. A11 m a n n G. Phonic Structure of Malay Pantun.— Archiv Orientalni. 1963',.
vol. XXXI.
276. A n a n d M. R. The Hindu View of Art. Bombay, 1957.
277. And ay a L. The Kingdom of Johor. 16411—il72i8. Kuala Lumpur, 1978.
278. Arberry A. J. Classical Persian Literature. L., 1958.
279. Attas S. M. N. al-. Raniri and the Wujudiyyah of 17th Century Acheh.
Singapore, 1966.
280. Attas S. M. N. al-. New Light on the Life of Hamzah Fansuri.— JMBRAS-
1967, vol. XL, p. I.
281. Attas S. M. N. al-. The Origin of The Malay Sha'ir. Kuala Lumpur, 1968.
282. Attas S. M. N. al-. Concluding Postscript tomthe Origin of the Malay-
Sha'ir. Kuala Lumpur, 1971.
283. Attas S. M. N. al-. Comments on the Re-Examination of Al-Rariiri's Hujja-
tu'1-Siddiq: A Refutation. Kuala Lumpur, 19175.
284. Bahtiar L. Sufi. Expressions of the Mystic Quest. L., 1976.
2815. Barrett E. С G. "Further Light on Sir Richard Winstedt's Underschribedi
Malay Version of the Ramayana.—BSOAS. 19613', vol. XXVI.
285a. В a st in J. Sir Richard Winstedt and his Writings.—MIS.
286. В a us and A. Note sulla struttura della «hikayat» classica malese — AION..
■1962, vol. XII.
287. В a u s a n i A. Die Perser von den Anfangen bis zur Gegenwart. Urbanbucher
87. Stuttgart, 1965.
288. В a us ami A. Note su una antologia inedita di versi mistici persiani a con
versioni interlineare malese.—AIOiN. 196®, nouva série, XVIII, vol. 28, fasc. 1.
289. В a u s a n i A. Le letterature del Sud-Est Asiatico. Milano, Г970.
290. Berg С. С. De Arjunawiwaha. Er-Langga's levensloop en bruidloftslied?—
BTLV. Ш8, deel 1-9(7, afl. 1.
291. Berg С. C. Javaansche Geschiedschmjving.— F. W. S tap el (éd.). Geschie-
denis van Nederlandsch Indie. Amsterdam, 1938, deel 2.
292. В er g С. С. Bijdragen tot de Kennis der Panjiverhalen.—BTLV. 1954, deel 1,10-
2!93. Bernet Kempers A. J. Ancient Indonesian Art. Cambridge (Massachu-
sets), 1959.
293a. Bingkisan Budi. Bundel opstellen voor. Ph. S. Ronkel. Leiden, 19150.
294. Bosch F. D. K. The Problem of the Hindu Colonization of Indonesia.-^
F. D. K. Bosch Selected studies in Indonesian Archaeology. The Hague, 196L.
295. Bowra С Primitive Song. N. Y., 1962.
296. Braginsky V. J. Some Remarks on the Structure of the «Sya'ir Peranum
by Hamzah Fansuri.—BTLV. 19715, deel ,1311, afl. 4.
296a. Braginsky V. I. The Concept of «the Beautiful» (indah) in Malay
Classical Literature and its Muslim Roots.— Persidangan antarabangsa Melayu..
Kuala Lumpur, 1979.
297. Brakel L. F. The Birth Place of Hamza Pansuri.—JMBRAS. 1964, vol. 42r
p. 2.
298. Brakel L. F. A. Third Manuscript of the Shair Perang Mengkasar.— RIMA.
Ф976, vol. 10, № Г.
298a. Brakel L. F. Dde Volksliteraturen Indonésiens. HO. Abt. Ill, Bd HI,
Absch. I.
299. Brakel L. F. On the Origins of Malay Hikayat.—RIMA. 1979, vol. 13, № 2.
ЗЮ0. Brakel L. F. Hamza Pansuri. Notes on: Yoga Practices, Lahir dan Zahir,
the 'Taxallos', Punning, a Difficult Passage in the Kitab al-Muntahi, Hamza's
likey Place of Brith and Hamza's Imagery.—JMBRAS. 1979, vol. 52, p. L
301. Br.akel L. F. Two Indian Epics in Malay Archipel.—«Archipel». 1980, № 20.
462
302. Brandes J. De inhoud van der groote Hikajat Bakhtijar, volgens een aan~
teekening van Dr. H. N. van der Tuuk.—TBG. 1899, deel XLI, afl. Ill—IV^
303. Brandstetter R. Der Natursinn in der alteren literatuur werken der Ma-
laien.— Malaiio-Polynesische Forchungen T. Luzera, 1«803.
304. Br aune W. Historical Gonciousness in Islam.— G. E. Grunebaum (éd.).
Theology and Loow in Islam. Wiesbaden, l'97îl.
305. Browne E. G. A Literary History of Persia. Vol. I—IV. Cambridge, 1958.
306. В u с h a r i. Preliminary Report on the Discovery of Old-Malay Inscription at:
Sodojomerto.— .«Madjalah ilmu-itmu sastera Indonesia». 1966, djil. Ill, №2!—3.
307. Buchari. Sri Maharaja Mapanji Garasakan.— «Madjalah ilmu-ilmu sastera-
Indonesia». 19618, jil. 4, № 1—2..
308. Cal ver ly E. E. Nafs.— EI. № 49. Leiden—London, 1934.
309,. С a s p a r i s J. G. de. Prasasti Indonesia I. Geschriften uit de Çailendra-tjid..
Bandung, 1950.
310. Caspar is J. G. de. Prasasti Indonesia II. Selected Inscriptions from the-
7th to the 9th Century A. D. Bandung, 1966.
3ll0a. С as par is J. G. de. Indonesian Paleography. Leiden—Kôln, 1'975,
311. Chatterji B. R. History of Indonesia Early and Medieval. Meerut, 1967.
311a. Coed es G. Les inscriptions Malaises de Crivijaya.— BEFEO. 1930', t. 30.
312. G. Сое des. La littérature Cambodgienne.—Sylvain Levi (éd.). Indochine.
T. 1. P., 19311.
313. Сое des G. A. Possible Interpretation of the Inscription at Kedukan Bukit:
(Palembang).—MIS.
314. G. Сое des. The Indianised states of South-East Asia. Honolulu, 1968.
3115. The Cultural Heritage of India. Vol. III. Calcutta, |б. г.] .
311'6. Cowan H. K. J. Het Atjechsh Metrum «iSandja» in Verb and met een Tjamsch;
Gedicht.— BTLV. 193®, deel 90.
317. Cowan H. K. J. La légende de Samudra— «Archipel». 1973', № 5.
317a. iCr a wf ur d J. History of the Indian Archipelago. Vol. I—HI. Edinburgh,.
111800.
318. Damais L.-Ch. Etudes d'Epigraphie Indonésienne: III. Liste des principales
inscriptions datées de l'Indonésie.—BiEFEO. 1962, т. XLVI, Fasc. 1.
319. Damais L.-Ch. Etudes Sumatranaises.— BEFEO. Г9Ш!, L, Fasc. 2.
320. Dar B. A. Mahmud Shabistari, al-Jili and Jami.— HMPh. lSôè.
321. De S. K. Sanscrit Poetics as a Study of Aesthetics. Berkeley—Los Angeles,.
,1963.
322. D j a j a d i n i g r a t H. De magische achtergrond van de maleische pantoen..
Batavia, 1933,
3i2I3. D j a j adinigr at H. Atjehsh-Nederlandsh Woordenboek. Deel Г—2.
Batavia, 1934.
324. D r e w e s G. W. J. De herkomst van het voegwoord bahwasanya. Bjidrage tot
de kennis van het Kjitab-Maleis.— iBingkisan Budi. Bundel opstellen voor Ph. S.
van Ronkel. Leiden, I9601.
324a. Drewes G. W. J. Shamsuddins Onvindbare Sjarh Ruba'i Hamza al-Fansu-
rî.—BITLV. 19611, deel 107, afl. 1.
325. Drewes G. W. J. De Herkomst van Nuruddin ar-Raniri.— BTLV. 1956,.
deel III.
326. Drewes D. W. J. Futher Data Concerning Abd Al-Samad Al-Palimbani.—
BTLV. 19716, deel 102, afl. 2—8.
Я)27. D ur oiselle Ch., Blagden С. О. Epigraphia Birmanica. Vol. 1. P. 2..
Rangoon, 19119—11936.
328. E 1 i a d e M. Shamanism. Archaic Techniques of Ecstasy. L., 1970.
329. E n d i со 11 К. M. An Analysis of Malay Magic. L. 1970.
330. E n s i n к J. Rekhacarmma. On the Indonesian Shadow-Play with special
reference to the Island of Bali.— Dr. V. Raghavan Felicitation Volume. The
Adyar Library bulletin. Vol. ХХХ—ХХХИ. Madras, 1967—il9:6i8.
ЗЗГ. Et he H. Neuperschische Literatur.—Grundriss der Iranischen Philologie.
Bd II. Strassbo.urg, li89l6^U904.
3312. F a r m a n M. Shaikh Ahmad Sirhindi.— HMPh. Vol. II.
333. F a u к о n i e r H. The Soul of Malaya. L., Л948.
463
333a. Ferrand G. Quatre textes epigraphiques Malayo-Sanscrits de Sumatra et
de Banka.— JA. 1932, t. OGXXI.
334. F о x J. J. A Rotinees Dynastie Genealogy: Structure and Event.— В e i d e-
man T. O. (éd.). The Translation of Culture. Essays Presented to
E. E. Evans-^Priitchard. L., 197(1.
335. F r i n g s Th. Die Anfânge der europaischen Liebesdichtung im .111 und 12 Jahr-
hundert. Munchen, ЮбО.
336. Gabrieli F. Adab.—El (New Edition), vol. I. Leiden—London, 1960.
337. Gibb H. A. R., Kr amers J. H. (eds.). Shrorter Encyclopaedia of Islam.
Leiden—London, 1961.
338. Gibb E. J. W. History of Ottoman Poetry. Vol. 1. L., 1900.
339. Gib son-Hi 11 С. A. The Malay Annals: the History Brought from Coa —
JMBRAS. 19(56, vol. XXIX, p. 1.
340. Goldziher I. Adab — EI, vol. I. Leiden—Lomdon, 1913.
341. Gond a J. (éd.). Letterkunde van de Indische Archipel. Amsterdam, 1947.
342. G о n d a J. Sanskrit in Indonesia. Naigpur, 19512.
343. Gond a J. Old Javanese Literature.—HO. Abt. Ill, Bd III, Absch. 1".
344. Groeneveldt W. P. Historical Notes on Indonesia and Malayan Peninsula
from Chinese Sources. Djakarta, Г9160.
345. Grunebaum G. E. von. Kritik und Dichtkunst. Wiesbaden, 1955.
346. Grunebaum G. E. von. Muslim World and Muslim Science .Grunebaum
G. E. Islam. L., 1955.
347. H a an F. De. Uit Oude Notarispapieren I.—TBG. 1900, deel XLII, afl. IV.
348. Hamdan Hassan. Menchari Asas pada Sastera Klasik.— DS. 1*980, jil. 10,
Ы1. 5.
349. Hardjiwirogo. Sedjarah Wajang Purwa. Djakarta, 1965.
350. H e 1 f r i с h О. L. Bi'jdragen tot de Kennis van het Midden Maleisch. Batavia,
H904.
351. Hollander J. de. Handleiding bij de Beoefening der Maleische Taal en
Letterkunde. Brecja, 1<893.
352. H о 11 i d a y R. Les inscriptions mon du Siam.—BEFEO. 1947, т. XXX, № 1—2.
353. Holt С. Art in Indonesia. Continuités and Change. Ihhaca—New York, 1967.
354. H о о у к a a s Ch. Over Maleische literatur. Leiden, 1947.
355. Hooykaas Ch. Perintis Sastra. Tjet. 2. Djakarta—Groningen, 1953.
356. Hooykaas Ch. Four-line yamaka (chime) in the Old-Javanese Ramayana.—
JRAS. 1958, p. Г—21
357. Hooykaas. J. H. Panji's Wedding Dance.—Akten des 24 International
Orientalisten—Kongresses Munchen. Wiesbaden. 1'959.
358. Iskandar T. Nuruddin ar-Raniri. Pengarang Abad ke^-17.—DB. jil. VIll,
bil. 1»0, 1964.
359. Iskandar T. Tun Seri Lanang pengarang Sejarah Melayu.— DB. 1964, jil. 8,
bil. 11.
360. Iskandar T. (éd.). Kamus Dewan. Kuala Lumpur, 1965.
361. Iskandar T. Misa Melayu dan pengarangnya Raja Chuilan.— DB. 1966-,
jil. IX, bil. 6.
362. Iskandar T. Bokhari al-Jauhari dan Tajaus-Salatin.-ЛЖ 1965, jil. IX,
bil. 3.
363. Ismail Ibrahim. Pengaruh Islam dalam Sastra Malayu.—DS. 1976, jil.6,
bil. 9.
364. Ismail Hussein. Hikayat Negeri Johor.—DB. 1963, jil. VII, bil. 8.
365. Ismail Hussein. Ikhtisar Hikayat Negeri Johor.—DB. 1963, jil. VII, bil. 9.
366. Ismail Hussein. The Study of Traditional Malay Literature with a
Selected Bibliography. Kuala Lumpur, 1974.
367. Ismail Hussein. Sastra dan Masyrakat. Kuala Lumpur, 1974.
368. Ismail Hussein, Bibliografi Sastera Melayu Tradisi. Jabatan Pengajian
Melayu. Universiti Malaya. Kertas Data № 18. Kuala Lumpur, 1978.
369. Johns A. H. Sufism, as a Category in Indonesian Literature and History.—
JSEAH. 1961, vol. 2, № 2.
370. Johns A. H. From Buddhism to Islam: An Interpretation of the Javanese Li-
464
terature of the Transition.—«Studies in Comparative History and Culture».
•1964, vol. IX, № 1.
371. Johns A. H. Islam in South-East Asia: Reflections and New Directions.—
•«Indonesia». 1975, № 19.
372. Johns A. H. Islam in Southeast Asia: Problems of Perspective.— С o-
wan C. D., Wo Iters O. W. (eds.). Southeast Asian History and
Historiography. Essays presented to ,D. G. E. Hail. Ithaca—London, 1976.
372a. Johns A. H. The Turning Image: Myth Reality in Malay perceptions of the
Past—^Perceptions of the Past in Asia. 19810.
373. Johns A. H. Islam in the Malay World: Desultory Remarks with some
Reference to Quar'anic Exegesis (рукопись).
374. Jones R. Ibrahim ibn Adham. A Summary of the Malay Legend.— «Studies
in Islam». 1968, January.
375. Jones R. Ibrahim bin Adam.—/EI (new edition).
375a. Jones R. Ten Conversion Myths from Indonesia.—N. Levtzion (ed.)
Conversion to Islam. N.—Y., 1979.
376. Josselin de Jong P. E. de. The Character of the Malay Annals.—MIS.
377. Josselin de Jong P. E. de. The Rise and Decline of a national hero.—
JMBRAS. 1965, vol. 38, p. 2.
378. Josselin de Jong P. E. de. Ruler and Realm: Political Myths in Western
Indonesia.— MKNA. 1980, deel 43, № 1.
379. Kaeh Abdul Rahman. Hikayat Misa Taman Jayeng Kesuma. Sebuah
kajian kritis. Kuala Lumpur, H9f77.
380. Kaeban. Mendut, Pawon, Barabudur. Jogjakarta, 1959.
ЗШ. Kassim Ahmad. Characterization in Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur,
.1964.
3812. Keith A. B. A History of Sanscrit Literature. L., 1928.
38i2a. К e n n e d y J. A History of Malaya. L., 19162'.
38(3. Kerckhoff Ch. E. P. van. Het Maleisch Tooneel ter Westkust van
Sumatra.—TBG. 1Ш6, deel 31.
384. Kern H. Het zogenamde rotsinschrift van «Batu Beragung» in Menangkabau
('1-2169 en 1297 Caka).— H. Kern Verspreide Geschriften. Deel VI. 's-Graven-
hage, 19.17.
385. Kern W. Aantekeningen op de Sa'ir Hemop (Sja'ir Kompeni Welanda ber-
perang dengan Tjina).—TBG. 1946, deel 82, afl. 2.
386. Kern W. Commentaar op de Salasilah van Koetai.—VKL 1956, deel 19.
386a. Kha j a Khan K. S. Studies in Tasawwuf. Lahore, 1973.
387. К h a 1 a f a 11 a h H. Arabic Literature. Theories of Literary Criticism.—
HMPh. Vol. II.
388. Kl inker t H. С Nieuwe Maleisch-nNederlandsch Woordenboek. Leiden, 1947.
389. Kraemer H. Een Javanansche Primbon uit de Zestiende Eeuw. Leiden, 1921.
389a. Kratz E. U. The Malay Studies of Hans Overbeck.—««Indonesia Circle».
il979, № 20.
390. Krom N. De Soematraansche période in de Javaansche geschiedenis. Leiden,
il 919.
391. Kumar Sarkar K. Early Indo-Cambodian Contacts (literary and
linguistic). Santiniketan, 1968.
ЭШ. La ne E. W. Arabie—English Lexicon. L., 18i74.
393. Leur J. С van. Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and
Economic History. The Hague, 1960à.
393a. L e y d e n J. On the languages and literatures of the Indo-Chinese nations.—
«Asiatic Researches». 1Ш8, vol. X.
39i36. Ley den J. Malay Annals: translated from the Malay language... L., 1-821.
394. Li aw Yock Fang. Sedjarah kesusasteraan Melayu Klassik. Singapura,
11975.
395. Lin eh an W. Notes on the Text of Malay Annals.—JMBRAS. 1947, vol. XX.
p. 2.
396. Lombard D. Le sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda. P., ,1967.
P., 1967.
397. Luce G. H. Old Burma-Early Pagan. Vol. 1. N. Y., 1969.
30 Зак. 147
465
398. Majumdar R. C. Ancient Indian Colonies in the Far East. Vol. 1. Champa.
Lahore, il927.
399. Majumdar R. C. Kambuja-desa or an Ancient Hindu Colony in Cambodia.
Madras, 1944.
400. MajumdarR.C. Inscriptions of Kambuja. Calcutta, 1903.
401. Maxwell W. E. An Account of the Malay Chiri. A Sanscrit Formula.—
JRAS. 188)1, vol. XII'I.
401a. Marsden W. Memoirs of a Malayan family written by themselves. L.,.
пезо.
4016. Ma r s d e n W. On the traces of Hindu languages and literature extant among
Malays.— «Miscellaneous Papers relating to Indo-China». 1886, vol. I.
402. Mangkunagoro K. G. P. A. On the Wayang Kulit (Purwa) and its
Symbolic and Mystical Elements. N. Y., 1'9I57.
402a. Marri son G. E. A Malay Poem in Old Sumatran Characters.—JMBRAS.
119151, vol. XXVIII.
403. Ma г ris on G. E. Persian Influence in Malay Life (1«280—1Ш)).— JMB RAS.
(1966, vol. 218, p. 1.
404. Martine F. Note sur l'emprunte du Bouddisme dans la version
cambodgienne du Ramayana.— JA. 4952, t. CCXL.
405. M at he son V. The Tulifat al-Nafis: Structure and Sources.—BTLV. 1971,
deel l'2l7, afl. 3.
406. Mehren A. F. M. Die Rhetorik der Araber. Kopenhagen, 1863.
407. M e i 1 i n к R о e 1 о f s z M. A. P. Asian Trade and European influence in the
Indonesian Archipelago between 1600 and Ш30. The Hague, 1962.
407a. Mir Va Hud din. Love of God. The Sufi Approach. Lahore, 1979.
408. Moentono S. State and Statecraft in Old Java. A Study of the Later Mata-
ram Period, li6th to 19th Century. N. Y., 196в.
409. Mookerji R. Hindu Educational System.— The Cultural Heritage of India.
Vol. III. Calcutta, f6. г J.
410. Moquette J. P. De eerste vorsten van Samoedra-Pasé (Noord Sumatra).—
Rapporten van den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch-Indie, Г913.
4Г1. Mul j a di R u j i a t i S. W. Hikayat Raja Jumjumah.— «Bahasa dan Kesu-
sasteraan». 1969, th. Ы, № 3.
411a. Mulyadi Rujiati S. W. Rona Keislaman dalam Hikayat Indraputra.—
«Archipel». 198Ù, № 20.
412. Mus P. Littérature chame.—Sylvain Levi (éd.). T. 1. Indochine. P., 1934.
413. Narimian G. K. Literary History of Sanscrit Buddhism (from Winternitz,
Sylvain Levi, Huber). Bombay, 19213.
414. N a s r S. H. Shihab al-Din Suhrawardi Maqtul.— HPh, vol. 1.
416. Netscher E. Beschrijving van een Gedeelte der Residentie Riouw.—TBG.
1864, deel 2.
416. N i с h о 1 s о n R. A. Studies in Islamic Mysticism. Cambridge, 1921.
417. Nicholson R. Mystics of Islam. L., 19166.
418. Nil а к ant a Sastri K. A. A Tamil Merchant Guild in Sumatra.—TBG.
1ШЗЙ, deel LXXII.
419. N i 1 а к a n t a S a s,t г i K. A. History of Sri Vijaya. Madras, 1949.
420. Nilakanta Sastri K. A. Takuapa and its Tamil Inscription.—JMB RAS.
11949, vol. ХХИ, p. 1.
421. Noorduyn J. Origins of South Celebes Historical Writing.—Sudjatmoko
(éd.). An Introduction to Indonesian Historiography. Ithaca, 1965.
4;2l2. Op hui sen Ch. A. van, Het Maleische Volksdicht. Rede. Leiden 1904.
423. OverbeckH. The Malay Pantun.— JMBRAS. 1922, vol. 85.
424. Overbeck H. Vorwort.—Overbeck H. (trans.), Hikayat Hang Tuah. Bd 1.
Munchen, 19Я2.
425. Overbeck H. Silsilah Melayu dan Bugis dan sekalian raja-rajanya.—
JMBRAS. 192!6, vol. IV, p. 3.
426. Overbeck H. Java in Maleische Literatuur (Hikayat Galuh digantung).—
«Djawa». 1932, deel 12L
^27. Overbeck H. Malay animal and flower shaers.—JMBRAS. 1934, vol. 12,
p. 2.
466
42i8. Overbeck H. (rev.). Hooykaas С Over Maleische Literatuur.— TBG. 1938,
deel 78, ail. 2.
429. Pan de у К. С Comparative Aesthetics. Vol. 1. Indian Aesthetics. Varanasi,
11959.
430. Paranavitana S. Ceylon and Malaysia. Colombo, 1966.
431. Paranavitana S. Ceylon and Sri Vijaya — Essays offered to G. H .Luce.—
«Artibus Asiae, .b. N. Y., 11966.
432. Paranavitana S. A Chronicle of Suvarnapura (Srivijaya).—
International Conference on Asian History. August 19iG8. Kuala Lumpur, 19Ш.
43i2a. Parnickel B. Nada-nada Melayu dalam irama kesusasteraan Rusia.—
«Archipel». 1978, № 16.
433. Pavo-lini P. E. A Malay parallel to the Culla-Paduma-Jataka — JRAS.,1698.
434. P e 11 i о t P. Le Foe-nan.— BEFEO. ,1903. t. Ill, № 2.
435. P e 11 i о t P. Notes additionnelles sur Tcheng Houo et sur ses voyages.— ТР.
1935, t. XXXI.
436. Pi geaud T. Javaansche Volksvertoningen. Batavia, 193'8.
437. P i g e a u d T. Javaans-Nederlands Handwoordenboek. Groningen-Batavia, 1948.
438. Pi geaud Th. G. Th. Java in the 14th Century. A Study in Cultural History.
Vol. 1—5. The Hague, 1960-41963.
439. P i g e a u d Th. G. Th. Literature of Java. Vol. I. Synopsis of Javanese
Literature. 900—,1900. A. D. The Hague, 1967.
440. P i j n a p p e 1 J. Over de Maleische pantoens.— BTLV, Г88З1.
44(1. Poerbatjaraka R. M. Ng. Historische Gegevens uit de Smaradahana.—
TBG. 1919, deel 58.
44(2. Poerbatjaraka R. M. Ng. Riwajat Indonesia. Djil. 1. Djakarta, 195*2.
443. P 0 er b ait j ar ak a R. M. Ng. Tjeritera Pandji dalam perbandingan.
Djakarta, 1968.
443a. Poerbatjaraka R. M. Ng., Hadidjaja T. Kepustakaan Djawa.
Djakarta, I915I2,.
444. Prampolini G. De Pantoen en de verwante dichtvormen in de volkspoe-
zie.— Indonésie. 1961, № 3.
445. Quartich Wales H. J. Prehistory and Religion in South-East Asia. L.,
'1967.
446. Raffles T. S. Memoir of the life and public services of Sir Thomas Stamford
Raffles... Vol. 1—2. L., 1635.
447. R a f f 1 e s T. S. A History of Java. Vol. 1—0. L., Ш7.
448. Ras J. J. The Panji Romance and W. W. Rassers' Analysis of the Theme.—
BTLV. 1973, deel 109, afl. 4.
449. Ras J. J. The Historical Development of the Javanese Shadow Theatre.—
RIMA. 1976, vol. X, № 2.
450. R a s s e r s W. W. De Pandji-roman. Antwerpen, 1922.
451. Rassers W. W. Panji. The Culture Него. A Structural Study of Religion in
Java. The Hague, 1959.
4512. R e s i n к Th. A. De onverklaarde tempelreliefs op het hoofdgebouw van Tjan-
di Kedaton.— BTLV. 1965, deel 121, afl. 4.
453. Ricklefs M. С Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749—11792. A
History of the Division of Java. L., 1974.
454 Ricklefs M. С Modern Javanese Historical Tradition. A Study of an
Original Kartasuria Chronicle and Related Materials. L., 1978".
456. R о n к e 1 Ph. S. v a n. De Roman van Amir Hamzah. Leiden, '1895.
456. Ronkel Ph. S. van. Over invloed der Arabische syntaxis op de Maleische.—
TBG. Ш99, deel 141.
457. Ronkel Ph. S. van. Kroon der Koningen.—TBG. 1899, deel 41.
458. Ronkel Ph. S. van. Het verfiaal van den held Sama'un en van Maria de Кор-
tische.—TBG. 190U, deal 4Э.
459. Ronkel Ph. S. van. Maleische Literatuur van Verren Oorsprong. Het Ge-
dicht «De Vogels».— MiKAL. Ser. A, 1922.
460. Ronkel Ph. S. van. De Maleische versie van den arabischen populairen
roman van den held Saif Ibn Dzi'l-Jazan.—BTLV. 1942, deel 101.
30*
467
461. Roolvink R. Hikayat Radja-Radja Pasai.—«Bahasa dan Budaja». 1954„
jil. II, bi-1. 3-.
46£. R о о 1 v i n к R. The Answer of Pasai.—JMB,RAS. 1965, vol. 3®, p. 2.
463,. Rooilvink R. The Versions of the Malay Annals.—BTLV. 1967, deel 123„
afl. 3.
464. Roolvink R. Literatures (in «Indonesia»).—EI. (New Edition). Vol. III.
Fasc. 59—60. Leiden, 19711.
465. Roolvink R. Bahasa Jawi. De Taal van Sumatra. Rede. Leiden, 1975. —
466. Rosen.tahl F. A. History of Muslim Historiography. Leiden, 1'9«68'.
467. Siaeed Sheikh. Al-Ghazali. Mysticism —HmPh. Vol. 1.
468. Samad Ahmad A. Sejarah Kesusasteraan Melayu. Jil. I—III. Kuala
Lumpur, 1957—11956.
469. S a г к a r H. B. Corpus of the Inscriptions of Java. Calcutta, 1972'.
469a. Schimme'l A. Mystical Dimensions of Islam. Chapel Hill, 1975.
470. Schnitger F. M. The Archeology of Hindu Sumatra. Leiden, 1937".
471. Schni'tger F. M. Forgotten Kingdoms in Sumatra. Leiden, 1964.
472. Schrieke B. .Indonesian Sociological Studies. Vol. 1—2. The
Hague—Bandung, 1956.
473. Seno-Sastromidjojo A. Renungan tentang pertundjukan wajang ku-
lit. Djakarta, [б. г.].
474. Sheppard M. Burung perarakan di Kelantan.—M«Malaysia dari segi
sejarah». 19i7'l-, № 6.
475. Sheppard M. Mayong, the Malay Dance Drama.— Taib Osman M. (éd.).
Traditional Drama and Music of Southeast Asia. Kuala Lumpur, 1974.
476. S i d d i q i A. H. Renaissance in Indo-Pakistan: Shah Wali Allah Dihlawi.—
HMPh. Vol. II.
477. Simorangkir Simandjuntak. Kesusasteraan Indonesia. Dj. II.
Djakarta, 1967.
478. S ke a t W. W. Malay Magic. Second Impression. N. Y., 1966.
479. S к i n n e r С A Kedah Letter of 18.39.— MIS.
480. Skinner С. Transitional Malay Literature: P. 1. Ahmad Rijaluddin and Mun-
shi Abdullah.—BTLV. 1978, deel 134, afl. 4.
481. SnouckHurgronjeC. The Acheneese. Vol. II. Leiden, 1906.
482. S no иск Hurgronje. Mekke in the Later Part of the 19th Century.
Leiden—London, 19 Л.
483. Spat С Inhoudsopgave van het Maleisch gedicht «Sjair Radja Mambang;
Djoeari».— TBG. 190<2, deel 45.
484. Stein Callenvels P. van. Panji en Semar.— Handelingen van het eer-
ste Congress voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Java. Weltevreden,.
19211.
485. Stutterheim W. F. Rama-Legenden urid Rama-Reliefs in Indosien. Bd I—
II. Munchen, 1925.
486. Stutterheim W. F. A Javanese période in Sumatran History. Surakarta,
11929.
4817. Stutterheim W. F. Beschreven lingga van Krapjak.—TBG. 1934, deel 74.
487a. Stutterheim W. F. A Malay Sha'ir in Old Sumatran Characters of
1Г380 A. D.—АО. 19316, № 14.
488. Sweeney P. L. A. The Ramayana and the Malay Shadow-Play. Kuala
Lumpur, 1972.
489. Taib Osman M. Kesusasteraan Melayu Lama. Kuala Lumpur, 1974.
490. Takeshi 11 o. Why Did Nuruddin ar-Raniri Leave Aceh in 1094 AH.—
BTLV. 1978, deel .134, afl. 4.
491. Teeuw A. Taal en Versbow. Amsterdam, 1952.
491a. Teeuw A. The History of the Malay Language.—BTLV. 1959, deel 1115,.
afl. 2.
492. Teeuw A. Hang Tuah en Hang Djebat. Nationalisme, Idéologie en Litera-
tuurbeschouwing.— «Forum der Letteren». 1961, Februari.
493. Teeuw A. Hikayat Raja-Raja Pasai and Sejarah Melayu.—MIS.
494. Teeuw A. Tentang penghargaan dan pentafsiran Hikayat Hang Tuah.—
DB. 1964, jil. VIII, bil. 8.
468
495. Teeuw A. The Malay Sha'ir. Problems of Origin and Tradition.— BKL 19»66,
deel Ш, afl. 4.
496. Teeuw A. Some Remarks on the Study of So-Called Historical Texts in
Indonesian Languages.— Sartono Kartodirjo. (éd.). Profiles of Malay Culture.
Historiography, Religion and Politics. Jakarta, 19716.
497. Teeuw A. Handbook or Hotchpotch? A New Book on Indonesian and Other
Literatures.— BTLV. 1977, deel 13ft afl. 2—QL
498. Tilakasiri J. The Indian Vidusaka and the Comic Characters of the Asian
Shadow Play.— Taib Osman M. (éd.). Traditional Drama and Music of
Southeast Asia. Kuala Lumpur, 1974.
499. T r a b u 1 s i A. La critique poétique des Arabes jusqu au V siècle de l'Hegire
(XI siècle de J.—C). Damas, 1965.
500. Tuuk H. N. van der. Geschiedenis der Pandawa's naar een Maleisch hand-
schrift van de Royal Asiatic Society.—TBG. 1875, deel XX/I.
501. Tuuk H. N. van der. Eenige Maleische wayang verhalen toegelicht — TBG.
11979, deel XXV.
502. Umar Junus. Perkembangan puisi melayu moden .Kuala Lumpur, 1970.
503. Valentjin F. Oud en Nieuw Oost-Indie... deel I—V. Amsterdam, 1724—
11712161
504. Veen H. van der. The Меток Feast of the Sa'dan Toradja.— VKL 1965, deel
11415.
505. Vogel J. Ph. The Yupa Inscriptions of King Mulavarman from Koetai —
BTLV. 19.18, deel 174.
506. Voorhoeve P. Van en Over Nuruddin ar-Raniri.—BTLV. 1951, deel 107.
507. Voorhoeve P. Bayan Tadjalli.—TBG. .1:952, deel 85, afl. 1.
508. Voorhoeve P. Ljist der Geschriften van Raniri en Apparatus bij de Tekst
van Twee Verhandelingen.—BTLV. 1955, deel III.
509. Voorhoeve P. Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of University
of Leiden and other Collections in the Netherlands. Leiden, 1957.
ЭЮ. Voorhoeve P. Preface to the Arabic Text of the Tuhfa.—Johns A. The
Gift Addressed to the Spirit of the Prophet. Canberra, 1965.
511. Voorhoeve P. The Origin of Malay Sjair.— BTLV. 1968, deel 124, afl. 2.
512. Voorhoeve P. Notes on some Manuscripts in the Library of the Dewan
Bahasa dan Pustaka.— BTLV. 19-60, deel 105, afl. 3.
513. Voorhoeve P. De groote Hikayat Bachtiar.—BTLV. 1969, deel 125, afl. 3.
514. Voorhoeve P. The Author of the Sjair Radin Menteri.—BTLV. li970,
deel Ш6, afl. 2.
515. W ar d er A. K. Indian Kavya Literature. Vol. I. Delhi, 1970.
515a. Wheatley P. The Golden Khersonese. Kuala Lumpur, 1961.
5156. Wheatley P. Desultory Remarks on the Ancient History of the Malay
Peninsula.— MIS.
516. Wilkinson R. J. Papers on Malay Subjects. Malay Literature. P. 1. Kuala
Lumpur, 1907.
517. Wilkinson R. J. A Malay English Dictionary (Romanised). P. I—II.
Tokyo, [б. г.].
5)18. W i n s t ed t R. O. Hikayat Parang Puting.— JSB'RAS. 1-902, № 85.
519. Winstedt R. O. Outline of a Malay History of Riau.—JMBRAS. 1933,
vol. XI, p. 2i.
520. Winstedt R. O. A History of Malaya.—JMB.RAS. 1935, vol. XIII, p. 1.
521. Winstedt R. O. The Chronicle of Pasai — JMBRAS. 1в3'8, vol. 16, p". 2.
522. W i n s te d t R. О. The Date, Authorship, Contents and Some New Manuscripts
of the Malay Romance of Alexander the Great.—JMBRAS. 1908, vol. XVI, p. 2.
523. Winstedt R. O. The Keddah Annals.—JMBRAS. 1938, vol. XVI, p. II.
524. Winstedt R. O. An Undescribed Version of the Ramayana — JRAS. 1944,
p. 1—2.
5125. Winstedt R. E. The Cosmogony of the Malay Magician.— Bingkisan Budi.
Een Bundel Opstellen ,aan Dr. Ph. S. van Ronkel. Leiden, 1950.
526. Winstedt R. O. Malay Magician Being Shaman Saiva and Sufi. L., 1951'.
527. Winstedt. Malay Chronicles from Sumatra and Malaya.—Historians of
South East Asia. L., 19611.
469
628. Wins ted t R. O. History of Classical Malay Literature. Singapore, 1961,
529. W i j к D. G e r t h v a n, De Koranische Verhalen in het Maléisch.— TBG. 1893,
deel XXXV; 1894, deel XXXVI.
53'0. W о 11 e r s О. W. Early Indonesian Commerce. A Study of the Origins of
Sriviijaya. Ithaca, 19617.
63(1. Wolters O. W. The Fall of Srivijaya in Malay History. N. Y., 1970.
5312. Wulders M. O. Het Soeltanat Palembang. ЩШ—< 18215. 's-Gravenhage, 1975.
5<33. Z a i n S. M. Kamus Modern Bahasa Indonesia. ,[Б.м.], [б. г.}.
533a. Zainal Abidin bin Ahmad. Sumbangan Sir Richard Winstedt dalam
penyelidikan pengajian Melayu.— MIS.
534. Zieseniss A. Die Rama-sage bei den Maleien, ihre Herkunft und Gestal-
tung. Hamburg, 1928.
535. Zoetmulder P. Kalangwan. A Survey of Old Javanese Literature. The
Hague, 1974.
536. Zuber Usman. Kesusasteraan Lama Indonesia. Djakarta, I960.
ОПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
AAiC — «Азия и Африка сегодня». (М.).
В Л — «Вопросы литературы» (IM.).
МИИ — Малайско-индонезийские исследования. Сборник статей памяти
академика А. А. Губера. М., 1977.
НАА — «Народы Азии и Африки» (М.).
AION — «Annali dell' Instituito Orientale di Napoli» (Napoli).
АО — «Acta Oiïientalia». (Leiden).
АОг — «Archiv Orientalny» (Praha).
BEFEO — «Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême Orient» (Hanoi, P.).
BSOAS — «'Bulletin of the School of Oriental and African Studies (L.).
BTLV — «Bijdragen tot de Taa-1-, Land- en Volkenkunde» ('s-Gravenhage).
DB — «Dewan Bahasa» (Kuala Lumpur).
DS — «Dewan Sastra» (Kuala Lumpur).
EI — Encyclopaedia of Islam. Leiden—London.
EI(N. E.) — Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden.
HMPh — A History of Muslim Philosophy. Vol. 1—12'. Wiesbaden, 1063.
HO — «Handbuch der Orientalistik» (Leiden—Kôhln).
JA — «Journal asiatique» (P.).
JMBRAS — «Journal of the Malayan (Malaysian) Branch of the Royal Asiatic
Society» (Singapore, Kuala Lumpur).
JRAS — «Journal of the Royal Asiatic Society» (L.).
JSBRAS — «Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society»
(Singapore) .
JSEAH — «Journal of the South East Asian History» (Singapore).
MIS — Malayan and Indonesian Studies. Essays Presented to Sir Richard
Winstedt on his 85th Birthday. Ox., il®64.
MKAL — «Mededeelingen der Koninklijke Akademie. Afd. letterkunde»
(Amsterdam) .
MKNA — «Mededeelingen der Koninklijke Nederlandse akademie van weten-
schappen. Afd. letterkunde. Nieuwe reeks» (Amsterdam).
RIMA — «Review of Indonesian and Malayan Affairs» (Sidney).
TBG — «Tijdschrift voor (Indisohe) Taal-, Land- en Volkenkunde»
(Batavia) .
TP — «Toung Pao» (Leiden).
— «Verhandelingen van Bataviaasch Genootschap van Kunsten en
VBG Wetenschappen» (B-atavia).
— «Verhandeliingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en
VKI Volkenkunde» (s'-Gravenhage),
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абд алъ-Ваххаб из Сиантана 281,
312
Абд аль-Гани 383
Абд аль-Гани ан-Набулуси 435
Абд аль-Джабар 32(9
Абд аль-Джалал 84
Абд аль-Джалил 48, 80, 94, 145
Абд аль-Джалил (султан Джохора)
335
Абд аль-Джамал 173, 107, 229., 243
259. 281, 304, 427, 437—440
Абд аль-Джамил 335—338
Абд аль-Кахир аль-Джурджани 180,
а 89—192, 224—226, 228
Абд аль-Латиф Балхи 448
Абд аль-Маджид 338.
Абд аль-Мулук (султан) 382, 383
Абд ар-Разик Кашани 302
Абд ар-Рауф из Сингкеля 276, 278,
281, 433—434
"Абд ас-Самад из Палембанга 281, 436
Абдаллах Мунши 8, 11, 66, 68, 313
Абдаллах ибн Салам 178
Абдаллах Ямани 332, 333
Абдул Рахман Каех 13, fl'20
Абиманью 108, 1019,, 111, ШЗ
Абу Бакар из Хадрамаута 281, 420
Абу Бакар (герой «Малайских
родословий») 92, 93
Абу Бакар (Абу Бакр, халиф) 419
Абу Джахил (Абу Джахл) 277, 418,
4119
Абу Исхак 93
Абу Исхак Нишапури 277
Абу Зайд 43
Абу-ль-Касим (имя пророка Мухам-
мада) 427, 448
Абу-льнФазл 45, 270
Абу-ль-Фазл ибн Мубарак 348
Абу-ль-Фарадж аль-Джаузи 449
Абу Михнаф 141
Абу Нувас 312
Абу Сабир 348
Абу Сайд (или Шахид) 82, 149
Абу Тамман 348
Абу Фазл 348
Абу Хамид аль-Газали ШЗ, 171, 198,
220, 221, 231, 434—436, 447
Абу Хилал аль-Аскари 227, 231
Абхинавагупта 237
Авалокитешвара 61
Аверинцев С. С. 170
Ави (Деви, Айю) Кесума 104
Агунг Кирана 105
Адам (пророк) 48, 136, 138, 139
А'дар-шах 347
Адираджа Рама Мудалиар 83
Адитьяварман 30, 39, 41, 42, 45, 519,
90
Азадбахт 311
Айяз 314, 319
Акбар 270
Алааддин (султан Джохора) 257
Алааддин Риайат-шах (султан Ма-
лакки) 66, 09, 82, 84, 146, 147, 149,
150, -153, 313, 422, 437
Алааддин Риайат-шах Сайид аль-Му-
каммал (султан Аче) 257, 313, 422,
437
Алааддин-шах см. Алааддин Риайат-
шах
Алааддин-шах ибн Манеур-шах 281
Александр см. Искандар Зу-ль-Кар-
найн
Аллах 48, 136—138, 145, 147, 148, 162,
163-1167, 170, 175, 176, 178, 193—
196, 201, 216—218, 223, 229, 235,266,
269, 275, 289, 290, 299, 301, 303, 308,
310, 316, 321, 328, 330 342, 346, 3167,
368, 373,, 3176, 380, 399, 401, 402, 405,
410, 417, 419—420, 426, 430, 432,
435, 441, 443—446., 448, 449
Али (халиф) 92, 139, 140, 141, 405
Али бин Ахмад 345, 4)19
Альбукерке А. д' 64, 68
Амир Хамза 87, 88, 92, 138—140, 277
292
Амир Хосров (Амир Хосров Дехлеви)
298, 305
Амогхапаша 45
Амр ибн Умайя ад-Дамри см. Умар
Умайя
472
Анггар Маянг 132
Андайя Л. 13, 335
Андакен Пенурат )133, 134, 157
Анкаса Дзва 54
Аннанда-стхавира 44
Анта Кавача 122
Аньякра Буанавати 126'
Арберри А. 159, 206
Арджуна 90, 107, 108, 109, МО, 114,
122, il 32, 140, 251, 288, 357, 363,
374, 391, 405, 414, 416
Арджуна Сасрабаху 109
Аристотель 452
Аристун-шах 83
Арунг Палакка 39i9)
Арус 234
Арья Джайя Вирата 186
Арья Шура 26, 38, 40
Асанга 38
Асмара Дэва см. Ятим Нестапа
Асмаранинграт 104
Астра Джива см. Семар
Атиша 31
Аттар Фаридаддин 313, 428, 439', 447,
449
Ахир 337
Ахмад (имя пророка Мухаммада)
Ахмад (султан Пасея) 78—82, 86, 88,
91, 143—145
Ахмад (сын Мансур-шаха) 84
Ахмад ибн Хасан из Терима 436
Ахмад Кушаши 433
Ахмад Маулана 378, 379, 380
Ахмад Наджмаддин 435
Ахмад Сирхинди 430
Ахмад Таджаддин 329, 348
Ахмед ибн Абдуллах 163
Ашваварман 323, 325
Ашвагхоша 38, 40
Бабу Джарума 324, 325
Бадраддин (султан Палембанга) 281,
408
аль-Байдави 220, 276
Бакавали 347
Бакти 277
Баладева 108, 113
Балапутра 107
Балия Дари 308
Балия Индра 252
Бальмонт К. 14
Бамбанг Сутомо 109
Бангса Кара 378
Банувати 109, 110
Барет 3. |13
Баррош Ж. де 68
Басудева ИЗ
Батара Агунг Дэва Сакти 324
Батара Гуру 114, 122, 134
Батара Кала 97, 121, 122, 125, 126,
134, 157, 395, 396
Батара Найя Кесума 122, 125
Баузани А. 13, 250, 287
Бахдур (султан Патани) -327
Бахман 136
Бахравар-бану 234
Бахрам Гур 234, 298
Бахрам Табут 298, 302
Бахтиар 310—312
Бегаван Биспарупан 48
Берг К. X. 13, 58, 118
Бермараджа 48
Берма Сакти 108, 252, 291, 297, 298,
299, 302, 303, 305
Берма Шахдан 252
Бертельс Е. Э. 159, 243, 448
Бетара Анум см. Чекел Ваненг Пати
Бетара Мерпата 111
Бехкард 348
Бехтек 139
Биби Зайнаб 309
Биби Сабария 347
Бибисанам 48
Бидасари 365—377, 379, 415
Бикрама Буспа см. Махараджа Бик-
рама Буспа
Бима 107—111, 416
Бичитрам-шах 83
Благден С. О. 8
Бодлер Ш. 360
Болье (адмирал) 93, 422
Бома 114—116, 391, 405, 4)16
Босх Ф. Д. К. 58
Бракел Л. 13, 491, 59, '66, 87, 89, 90,
100, 101, 246, 265, 288, 416, 428
Брама см. Брахма
Брандес Я. 8
Брандштеттер Р. 8, 351
Брахма 108, 114, 288, 363, 369
Брахма Нуса 122
Брахма Сакти 122
Броун Э. 159
Брюсов В. Я. 14
Будда 28, 50, 235
Буддхаприя-стхавира> 44
Бузурджмихр 138, 316
Бунин И. 14
Бурандан-шах 252
Бухари см. Бухари аль Джаухари
Бухари а ль-Джаухари 185, 247, 2? J»
313-^-322, 368
Бхагадатта 28
Бхартрихари 38
Бхимасена см-. Бима
Вал А. Ф. фон де 8
Валентейн Ф. 7, 68, 69, 71, 306, 333,
338
Вали Раслан 436
Вальмики 48, 49, 236
Ван Сендари 45, 84
Вананг (Онанг, Унанг) Киу 83
Ваненг Сари 84
Варгадева 108
Варгасинга 108
Ватват Рашид 242
Вахши 138
Верлен П. 360
Верндли Т. X. 7, 312
Веселовский А. Н. 354, 415
Вишванатха 235
Вишну 48—50, 52, 235, 356, 449
Ворхуве П. 13, 240, 241
Выготский Л. С. 157
Гаджах Мада (106, 336
Газали (аль-Газали) см. Абу Хамид
' аль-Газали
Гангга Махасура 48
Гангга Шах Джохан 83
Гатоткача 108, (109, ПО, 405
Гаутама 28
Гаухарджинс 301, 346
Гаюмарт (Каюмарс) 1.36
Гон да Я. 4)14
Горяева Л. В. 15, 55, 253
Гончаров И. С. 8
Гринцер П. А. 59
Грюнебаум Г. фон 197
Губер А. А. 14
Гунунг Леданг (царевна) 334
Гунунг Сари 198, 919, 406, 132, 157
Гуркас 291, 2918, 301, 302, 045
Густехем 1Э9
Густи Джамрил 274, 280
Гюго В. 360
Дадбин 348
Даенг Вух 281, 384
Дамар Вулан 06, (361
Даме Ш. 58, 156
Данг Байдури 367
Данг Сират 327, 329, 385
Дандин 115
Данисвара (махараджа) 114
Дапунта Селендра 130
Дармадева 114
Дармадеви :114
Дасарата Махараджа 48, 236, 269
Дати Куача 48
Дато Сери Вангса 379
Дауд (библ. Давид, пророк) 136
Де С. К. 212
Деви Кесума 97, 106
Деви Нила Кенчана И 25
Деви Рати см. Рати
Деви Рум Дираджа 307, 308
Деви Сакурба 122
Деви Сетиавати 111—113, 062
Деви Утари 108, (109
Деманг Лебар Даун 83
Деманг Мухиддин 281
Дермавангса см. Юдхиштхира
Дерма Ганга 2J91, 298, 302
Джабраил (архангел) 4118, 421
Джайя Амарта 405
Джайядрата 405
Джайякусума 132
Джайянаша 43
Джакнака (царевич Тямпы) 00
Джалаладдин Руми 2017, 428
Джамджам Деви Гемала Ратна 290
Джами 227, 230, 287, 288, 299, 346,
-347, 428
Джамджам Кемала Деви 385
Джана Хатиб 357
Джанака см. Арджуна
Джанувати 114—117,132
Джану Малик (Хабиб ибн Малик)
418, 419
Джаншах 293
Джахандар 234
Джембувати 416
, Джемурас 120, 132
Джеруде 120
Джибсон-Хилл С. А. 67, 74
аль-Джили 221,, 425, 429, 435
Джонс Р. 13, 16, 220
Джонс Э. 13, 271, 282, 283, 310, 433,
443
Джохан-шах 380
Джохан Менгиндра 365—367, 369—
375
Джулус аль-Ашикин 260
Джунейд 435
Дикар Агус 251
Диларам 234
Дозон А. 8
Дооренбос Я. 9
Древес Г. 13
Дрона 137
Друпади 108
Дурга Ната 362
Дурсана 108, 111 ' -
Дурьюдана 108, 109, ПО, 111
Дхармакирти 31
Дхармапала 31
Дэва Индра Камаджайя 1125
Дэва Лангкурба 201, 208, 303, 346
Дэва Лела Менгерна 250, 251, 291,
306
Дэвапаладэва 107
Дэва Пери см. Дэва Шах Пери
Дэва Персада 380
Дэва Шах Пери 378, 301—396
Дэва Шахдан i3i80
Дюлорье Э. 8, 166
Дюнсельман Донатус П. 288
Дюпон (капитан) 403
Жирмунский В. М. 289
Зайн аль-Абидин (султан Пасея) 81
Зайн аль-Абидин (сын мученика
Хусейна) 142
Зайн аль-Абидин (брат малаккского
султана Махмуд-шаха) 151, 154
Зайн (аль-Абидин (султан Аче) 270
Закария аль-Ансари 435, 436
Зарис Гангга 83
Заххак 321
Зубер Усман 384
Зулейха G14
Зутмюльдер П. 58, 112, ИЗ, 156, 161,
212, 213, 235—237
И-цзин 31, 37, 38, 47
Иблис 138, 221, 278, 321, 331, 332
Ибн аль-Араби 163, 269, 402, 425, 429,
433!, 434, 435
Ибн Батута 60, 86
Ибн Раши,к 224, 227
Чбн Сина 16Э, 221, 230—234, 446, 447
Ибн Халдун 175, 178, 191, 202, 203;
222, 226, 228
Ибрахим (библ. Авраам, пророк) 136,
139
Ибрахим ибн Адхам 321, 337, 419—
421, 448
Ибрахим из Танджунг Пинанга 411
Идари Сери Булан '302
Идрис 310
Иисус Христос 277, 417, 422
Имад ибн Мухаммад ан-На'ири 347
Имам Шафи'и 322
Имхофф ван \398
Инаятуллах Канбу 234
Индра 108, 114, 11/32, 363, 3169, 371
Индра Бангса 258
Индра Бумайя 54
Индра Джайя см. Шах Мардан
Индра Джата 48
Индра Деви 2519
Индра Каянган 259
Индра Кесума Деви 252
Индра Мемпелей 307
Индра Менгиндра 259'
Индра Мулия i3»25
Индра Ната 259
Индра Пакса 258
Индра Река 258
Индра Шах 258
Индрапутра 52, S3, 179, 196, 196, 197,
199, 250, 251, 252, 255, 258, 291—
305, 3145, 346, 357, 41|6
Интан Чахайя 378, 379, 380
Ину Кертапата см. Раден Ину Кер-
тапати
Ираки 287, 288, 428
Исак Бераках 1611
Искандар II (султан Аче) 257, 320—
322, 430, 432
Искандар (султан Перака) 271, 272,
360, 398
Искандар Двурогий см. Искандар
Зу-ль-Карнайн
Искандар Зу-ль-Карнайн 10, 43, 83,
88, 99, 102, 104, 136, 137, 147, 148'
2Ш, 277, 321, 323, 324
Искандар Младший 93i, 158, 269, 270,
271, 273, 313, 422, 423', 429, 430
Искандар Т. 13, 270, 271, ЗИ4
Иакандар-шах 61, 82, 84, 148, 349
Исма см. Исма Ятим
Исма Мантри см. Исма Ятим
Исма Ятим 167, 200, 201, 296, 306,
307, 312, 3167
Исмаил (пророк) 85, 139
Исмаил (писатель) 280, 30-6
Исмаил (шейх) 448
Исмаил Хуссейн 13, 276
Исмат 448
Исхак (пророк) 139
Ионкер (капитан) 403
Йосселин де Ионг П. де 13
Кабул Мухаммад 234
Кади Хасан 281
Казвини 180
Кама 111, 235
Камешвара I 118, 156
Караенг Бонто 405
Караенг Маму 405
Караенг Патунга 405
Карна 261, 288
Касим Ахмад 13
Каспарис Я. де 68
Картабуана 106
Кейт А. а 21(1
Кемала Деви Ратна Джамджам 252
Кемала Ратна Деви 259
Кемас Мухаммад ибн Ахмад 281, 436
Кемас Фахраддин 281, 435, 436
Кен Мерталангу (117, 118, 132, ili33
Кен Пенглипур 56
Кен Тамбухан 127, 133—135, 157, 357,
362
Кенчана Вати 362
Керн В, 288
Керн X. 41
Кертала 120
Кесума Индра 392—3196
Килан-шах 347
Кирана Лангу 1918", 919, !105, 106
Киранарату 118
Кисна Дэва 48
Клинкерт X. X. 8, 193, 369, 397, 446
Кобад Шахрияр 138, 139
Конрад Н. И. 18
Корис см. Корис Менгиндра
Корис Менгиндра 253
Коста (сеньор) 387—390
Кратц Э. 13
Кресна (Крисна) см. Кришна
Кришна 108, 109, 110, Ш, 11-3, 114,
115, 366, 416, 449
Кроферд Дж. 7
Крузенштерн И. Ф. 8
Крымский А. Е. 286
Куда Джаухари 392
Куда Пахлаван 302
475
Куда Правира '392
Куда Семиранг Сира Панджи Пандей
Рупа 133
Куда Сентика 392
Кулоттунга 44
Кумарасвам:И А. 236, 237
Кумбакарна 48
Куто Д. де 67
Кшемендра 519
Кьяи Ранга Сетианандита Ахмад 280
Лаксамана 48, 88, 236, 292, 299, 357
Лакшми 356
Лангкара Индра 392
Лахад (раджа) ll(3'9, 140
Левен П. ван 9, 157
Лейден Дж. 7
Лела Джаухара 365, 366, 368, 369—
375
Лела Кенчана 392, 393
Лела Маянг 388—390
Лела Чумбуан 392
Леласари 366, 367, 309»—375, 415
Лендехур 1319
Лер Я. ван 13, 21
Лесми Кирана 105
Лингги-шах 83
Лихачев Д. С. 25
Ломбар Д. 13
Лукман 259
Ляо Ефан 289
4 Ma Хуань 58
Маджлиси 235
Маймуна (жена пророка Мухаммада)
438
'Максуэлл У. 8, 447
Малик аль-Махмуд 85
Малик ат-Тахир 85
Малик Захаб 301
Мамбанг Джаухари 3612—396
Мамдуд 201, 292, 297, 298
Манду Хайрани 252
Мандудари 269, 365
Ману 41
Мансур 281
Мансур-шах (султан Малакки) 67, 82,
. 84, 911, 92, <95, 199, 104, 106, 146', 149
150, 152, 415
Мансур Халладж 427
Маракарма 54, 59
Марван 142
Марга Пакси 336, QI37, 338
Марко Поло 30
Маркс К. 18, 20
Маронг Махавангса 330, 333
Марсден У. 7, 354, 449
Марьям 277
Матангини 41, 45
Матангиниша 41, 45
Маулана Шейх ибн Абу Бакар 257,
280
Махаббат 382
Махабисну см. Вишну
Махадео см. Шива
Махаиндравангса 330, 331
Махараджа Бикрама Буспа 294
Махараджа Вангсапати 108
Махараджа Дерпа 416
Махараджа Джантака 114
Махараджа Лела 375
Махараджа Салья 11/1—113, 362, 391
Махатала 447
Махмуд (султан Джохора) 273, 274
Махмуд (сын тун Наджи) 84
Махмуд см. Махмуд-шах (султан
Малакки)
Махмуд Бадраддин (султан Оалем-
банга) 280, 387, 398
Махмуд Газневид 92, 235, 319
Махмуд-шах (султан Малакки) 67,
6!9i, Та, 82, 84, 92, 1415, 1146, 150,
152—156, 257, 415
Медведев (П. Н. 17
Меес X. 0
Мейлйнк-Рулофсх М. 13
Менгантара 252
Менгиндра Сери Булан 206
Менгиндра Сери Бунга 8031, 304, 305
Мерах Силу 85
Мерварт Л. А. 14
Мехран Л'ангкави 306
Миса Тандраман 106, 125
Михрнигар 139
Мпу Панулух 190, /112
Мпу Седах 90
Муавия (халиф) 138, 141, 142
Музаффар-шах (султан) 82, /148, 153
157
Музни (шейх) 322
аль-Мукаддаси 449
Мула Ибрахим аль-Курани 432—434
Мунтинге 1301, 398
Муса (пророк) 302, 3812
Мухаммад (пророк) 85, 91, 92, 104,
106, 138-1142, 162, 164, 165, 167,
168, 195, 209t 216, 218, 220,, 27|1, 277,
278, 301, 318, 3119, 321, 346, 368,
401, 402, 417—419, 422, 438, 441
Мухаммад (сын Мансур-шаха) 84
Мухаммад Ашик Абд аль-Факр
(шейх) 280
Мухаммад Бахааддин 435
Мухаммад Джалус 348
Мухаммад ибн Фазлаллах из Бурхан-
пура 261, 4291, 485
Мухаммад Мухиддин 281, 436
Мухаммад Самман 281, 436
Мухаммад Тахир 420, 421, 448
Мухаммад Ханафия 91, 92, 140—142,
146, 406, 416
Мухаммад-шах (султан Малакки) 43,
61, 82, 84, 85, 91, 146, 148
Мю П. 36
476
Набат Рум-шах 346
Наванг Лангу 105
Навои 207, 234, 298
Нага Пуспа Пертала Сеганда Дэва
48
Нагиб аль-Аттас С. М. 13, 159, 169,
Ю4, 195, 240, 241, 246, 258, 279, 287,
289, 346
Нарада 108, 109
Нарака см. Бома
Нарси (Турси, Терси) Бердерас 83
Наср С. X. 445
Нахшаби 347, 348
Ненек Кебаян 52, -54, 291, 380, 387
Нетсхер Э. 68, 70, 83
Низам аль-Мулк 3)13
Низами 207, 2918
Низами Арузи Самарканди 206, 231—
233
Нила Манам 83
Нила Утама (герой «Малайских
родословий») см. Санг Нила Утама
Нила Утама (небесная дева) 114
Ниман Г. К. 8
Нини Муни И06
Ниувенхейзе X. А. О. 429
Нихалчанд Лахори 297
Hyp аль-Айн 252
Hyp Камарайн 258
Нураддин ар-Ранири 71—73, 34, 90,
1103, 147, 241, 256, 257, 261, 281, 290,
320—322, 339, 421, 430—432, 434—
436, 448, 449
Нур-шах 347
Нуширван (Ануширван) Адил 43, 139,
310
Нуширван Справедливый см.
Нуширван Адил
Овербек X. 10, 25, il 119, 348, 354, 361,
415
Опхейзен X. А. ван 8, 354
Падука Нира 325
Падука Раджа (бендахара) см. Тун
Сери Лананг
Падука Раджа (лаксамана) см. Абд
аль-Джамил
Падука Раджа (герой «Повести о
ханге Туахе») 334
Падука Султан Менгиндра см. Ин-
драпутра
Палду Тани 83
Пангеран Адикесума см. Пангеран
Панембахан Бупати
Пангеран Адипати см. Чекел Ваненг
Пати
Пангеран Дипати Аном 336, 348
Пангеран Дипанегара 348
Пангеран Мангкунинграт 224
Пангеран Панембахан Бупати 391,
396
Пангеран Пурба 348
Пангеран Рату '336, 336, 348
Пангеран Туменгунг Карта Мангала
281
Панджи (Раден Панджи) 94, 204,
214, 267, 288, 219(2, -324, 339, 361, 381,
395, 396, 415, 449, 451
Панджи Семиранг 357
Панембахан Бупати из Палембанга
281, 408
Панини 38
Панча !Кумара 109
Папаша Кузнечик 265
Папаша Остолоп 265
Папаша Стручок 265
Парамешвара см. Искандар-шах
Паранавитана С. 44
Парашара 107
Парвати 45
Парикасти (Парикшит) 10,9
Парникель Б. Б. НО, 15, 1114, 115, 127,
167, 237, 335, 348, 349, 361, 415, 437
Патала Махарани 48
Патанджали 38
Пауломи 44
Пейнаппел Я. 8, -364
Пейпер Г. Э
Пематакан 92, 03
Перак (бендахара) ,150—154
Пербатасари 372, 416
Пермейсури Индра 253
Пермейсури Иокандар (Сакидар)-шах
83
Персанта 120
Пертиви 114
Пижо Т. 72,(102, 130
Пиреш Т. 68, 90, 96
Платон 452
Плотин 194
Полякова С. В. 296
Пропп В. Я. 53
Псевдо-Каллисфен 136
Пур Хинди 139
Пурбочороко P. M. Н. 9, 86, 118, 214
Пунта 120
Пуспа Индра 395
Пуспа Кирана 105
Пуспа Чандра 381
Путра Бангсаван 373'—375
Путри Бунгсу 378, 3719', 380
Путри Каранг Мелену 324
Путри Падука Сура 325
Путри Семанинграт 1104
Путри Тенгах 378, 379^ 380
Путри Хитам 84
Равана 48—50, 405
Раден Багус 84
Раден Бахар 337
Раден Галух Ави (Наи) Кесума 104
Раден Галух Аджанг 104, 105
Раден Галух Гемеранчанг (94
Раден Галух Чандра Кирана 94—99,
104—106, ,116, 118-41Ô4, 214, 346,
415
Раден Геланг см. Раджа Раден
Раден Ину см. Раден Ину Кертапати
Раден Ину Кертапати 97, 08, 99, 104,
105, ,106, 117, 120—»126, 119—134,
140, 157, 357
Раден Ину Мертавангса 104
Раден Кирана Лангу il04
Раден Мае Кулуп 348
Раден Мае Памари 104
Раден Ментри см. Андакен Пенурат
Раден Панджи см. Ланджи
Раден Перлангу '104
Раден Тенгах см. Мухаммад-шах
Раден Эмас Айю 1334
Раджа Абдаллах с Риау 70
Раджа Акил 398
Раджа Али 70
Раджа Али Хаджи 70, 274, 280, 281,
350, 882, 386, 408, 436, 446
Раджа Аном 84
Раджа Ахмад см. Раджа Бесар Муда
Раджа Берсиунг 331, 332
Раджа (Бесар Муда 69, 83, 84
Раджа Бонгсу (султан Джохора
Абдаллах) 73
Раджа Деви 84
Раджа Джиран 83
Раджа Ину см. Раджа Аном
Раджа Келанг i3i28
Раджа Кечил 272—274, 289
Раджа Кечил Бесар см. Мухаммад-
шах
Раджа Кудар Шах Джохан 83
Раджа Кульзум 386
Раджа Лахад 140
Раджа Муда 335, 336
Раджа Мудалиар 1/5-5, 156
Раджа Пандаян 83
Раджа Пандин 8(3
Раджа Раден 67, 84, 104, 106
Раджа Сулан 83
Раджа Суран 83
Раджа Тангкей Хати 385
Раджа Тенгах 619, 83, 84
Раджа Удара 378
Раджа Хаджи 360
Раджа Хасан 281, 360, 446
Раджа Хиран 83
Раджа Хусейн 84
Раджа Чулан (автор «Миса Мелаю»)
272, 280, 398
Раджа Чулан (правитель Геланггиу)
83
Раджа Чулин 83
Раджа Шулан 83
Раджасанегара см. Хаям Вурук
Раджендра Чола 29
Раджуна Тапа 90, 104
Ракна Вилис 98, il 32
Рама 49, 52, 102, 236, 269, 292, 324,
357, 365
Рас Я. .13', 88, 102, 118, 119, 124, 267,
268
Расдас 312
Рассерс В. 9, 1(18
Рати 111
Ратна Гемала Мехран 258, 298, 299-,
302, 303, 396
Ратна Джумала 382
Ратна Менгиндра 392
Ратна Пекача 392
Ратнавати 157
Рату ди Келанг см. Раджа Раден
Рауфаер 3|14
Ревуненкова Е. М. 15
Рейхарт 312
Ринкес Д. 9
Робсон С. O.I13, 210, 211
Рольфинк Р. 13, 66, -68—75, 85
Ронговарсито 70
Ронкель Ф. С. ван 9, 92, 138, 314,
445, 446, 450
Роорда ван Зйсинга П. 8
Руми см. Джалаладдин Рум«
Рускони Т. 9
Рустам 139
Рэфлс Т. С. 7, 8, 3\13
Саади 300, 428
Сабур 347
Сагадеев А. В. 198
Садева (Сахадева) 109
Сайф ар-Риджал 432
Сайф ибн Зу-ль-Язан 277
ас-Саккаки 180
Сакурба (Сегерба) il 14, 126, 346
Саламаддин 259
Салеха 281, 382
Салья см. Махараджа Салья
Самба см. Самба (Правира Джайя
Самба Правира Джайя 115—116, 132,
405, 416
Санаи 346
Санг Баниака см. Санг Маниаса
Санг Маниака 83, 334
Санг Нила Утама 45, 83, .84
Санг Перта Дэва 334
Санг Сета Джаман 416
Санг Сетьяки 416
Санг Супарба (Санг Сапурба, Санг
Супраба Хинди) 45, 83, 334
Санг Утама см. Санг Нила Утама
Санг Хьянг Тунгал 122
Сангкуни (Шакуни) 109
Сарасвати 235
Сафардан 307
Сафийя 281, 408
Селиндунг Делима 378
Семанинграт 104
Семар 120, 1122, 128, 130, 131, 132
Семаун 277
478
Сенапати 374
Сензе А. 9
Сери Бениан 3>78
Сери Биджа Дираджа 273
Сери ди Аван 378
Сери Искандар-шах см. Искандар-
шах
Сери Махараджа (правитель Синга-
пуры) 82
Сери Махараджа (бендахара) см.
Тун Мутахир 67
Сери Махараджа (герой «Поэмы о
Ятиме Нестапе») 378, 379
Сери Нара Дираджа 84
Сери Пикрама Вира 82, 84
Сери Рама см. Рама
Сери Рама (смотритель слонов) 151
Сери Рана Викарама 82
Сери Ратна Гемала Мехран см. Рат-
на Гемала Мехран
Сери Тери Буана 45, 82, 83, 148, 149,
274
Серива Раджа 151
Си Бутатил 130—132
Си Ламат 382
Си Пахат Путар 87
Сиами ,386
Синдбад-мореход 139
Сиранча.к 48, 4'9l
Сита см. Сита Деви
Сита Деви 48, 49, 236, 357
Сити Деви 259
Сити Динар 348
Сити Зайнаб см. Биби Зайнаб
Сити Лела 386
Сити Рахмат 382, 383
Сити Рафия 382, 383
СитиХалеха 420, 421
Сити Сундари 108
Сити Хасана 347
Скиннер С. 13, 399, 40Л
Снук Хюргронье iX. 224
Спат X. 396
Спеелман К. 399, 400, 403
Сриканди 109
Стейн Калленфельс П. в&н 118
Стиллер Р. 354, 3159
Стюттерхейм В. 9', 59
Субадра (Сумбадра) 108, (132
Судаса 331
Судхана (бодхисаттва) 69
Суини А. 13
ас-Суйути 224
Сукарба см. Сакурба
Сулейман (султан Джохора) 273
Сулейман (библ. Соломон, пророк)
136, 139,, 277, 339, 347, 446
Султан Мегат 69, 82, 84
Сумирада 186
Сура Ландаки 48
Суран 'Падшах см. Раджа Суран 72,
Сурьяната 68, 325
Сухраварди 439, 445
Схрике Б. 13
Сюань-цзан 37
Тадж аль-Алам (правительница Аче)
432, 434
Таджаддин Абу-ль-Фазл ибн Мухам-
мад 436
Таиб Осман М. 13
Тайфа 347
Талела Маду Ратна 179, 30)1
Талела-шах 291, 292, 302
TaiMiHiHr Сари 334, 342
Тамар Буга 291, 300
Танджунг (Тунджунг) Сари 416
Тара 44, 45
Тахир 87, 88
Тахир Джохан-шах 346
Тахк'им 310
Тибус 136
Тройский И. М. 123
Туан Билал Абу 281
Туменгунг Арья Вангса см. Чекел Ва-
ненг Пати
Тун Али 154
Тун Арья 91
Тун Бирах 84
Тун Браим Бапа 47, 48, 78—80, 87,
88, 143—145
Тун Джива 385
Тун Исак Бераках '91, 154
Тун Манду Дари 206
Тун Манду Деви ,3>85
Тун Махадеви Ратна 385
Тун Мутахир (бендахара) 151, (153—
il 56
Тун Мухаммад 91
Тун Наджа 84
Тун Пасир Деви 385
Тун Перпатих Путих 84
Тун Ратна Вати 385
Тун Сендари 205
Тун Сери Лананг 66, 72, 73', 81, 84,
102, 146, 147, 268, 280
Тун Тахир 155
Тун Теджа 334, 336, ,337
Тун Хасан 273
Тун Юса Ратна 206
Тундеру см. Арунг Палакка
Тургенев И. С. 8
Тэу А. 13, 16, 66, 71, 75—79, 85, 93,
1)16', 157, 240—242, 267, 348, 361,
4|15
Тюкж X. Н. ван дер 8, 95, 98, 107, 125
Удаявармагупта 41
Уишкинсон Р. 9, lil5, 161, 193, 208,
315)3), 354
Уинстедт Р. О. 9—16, 25, 65—79, 84,
88, 96, 114, 119, 125, 135, 255, 257,
274, ЗГ2, 314, 329, 348, 354, 356, 383,
390, 409, 415, 437, 452
479
Умар Умайя 88, 138, 139, 142
Уолтере О. У. 13, 71, 135
Уордер А. К. 235, 237
Фавр П. 8
Фазлаллах аль-Бурханпури см. Му-
хаммад ибн Фазлаллах из Бурхан-
пура
аль-Фараби 221, 230—233
Фархад 347
Фатима (дочь пророка Мухаммада)
155
Фатима (дочь Тун Наджи) 84
Фатима (жена султана
Махмуд-шаха) 156
Фахраддин Ахмад ибн Джалаладдин
Махмуд аль-Хасани аль-Бухари 223
Фахраддин ар-Рази '180
Фирдоуси 135, 139\, 330, :3»31
Фирус 308
Фоканье А. 368
Форм 'П. ван дер 68, 70, 71
Фролов Д. В. 224
Фудайл ибн Ийяд 92
Хаджи Сулейман 398
Хайраналлах 385
Халид Хуссейн 157
Хамдан Хасан 6
Хамза (персонаж «Малайских
родословий») 156
Хамза Фансури 194, 166, 169), 170, 173,
,1193, 194, 229, 241—246, 259, 279,
28U '283, 287, 288, 206, 400, 401, 409,
421—433, 437, 439, 440, 443, 447,
448
Ханг Джебат 334, 31317, 338, 343—345,
348
Ханг Кестури -3134, 345
Ханг Лекир 334
Ханг Лекиу 334
Ханг Туах НО, 88, 33(4—345, 348
Хануман 357
Харакани '92
Харитон Афродисийский 123
Харман-шах 347
Харун ар-Рашид '9Й, 312
Хасан (сын халифа Али) 92, 140—142
Хасан (туменгунг) 161, 166
Хасан Фансури 281, 427, 437, 440
Хасанаддин (султан) 281, 399—402
Хатем Тайский см. Хатим ат-Таи
Хатим ат-Таи 320, 332
Хаха (гандхарва) 4/1
Хаям Вурук 50, 81, 118
Хевелл В. Р. ван 364
Хидир (Хизр, пророк) 136, 137, 302,
332
Хилл 3. 75, 76, 79—81, 85
Хираньякашипу 48
Хитроумная Царевна (Путри Акал,
Путри Ханделан) 381, -382
Ходжа Астор 347
Ходжа Маймун 309
Ходжа Мубарак 309
Холландер Я. де 9, 10, 263, 361, 362
Хойкас X. 10, 96, 157, 245 348, 354,
408, 448
Хосров (герой сказания о Хосрове и
Ширин) 314
Худ (пророк) 139
Хумаюн 314
Хусейн (сын халифа Али) 92, 140, 142;
Хусейн Джайядининграт 9
Хусейн Кашифи 313
Хуху (гандхарв) 41
Цизенис А. 9
Чакранинграт 398
Чандра Сари Гемиланг Чахайя 260
Чандра Кирана см. Раден Галух
Чандра Кирана
Чандра Л ела Hyp Л ела 19(9«, 200, 301
Чандрадеви 186
Чаранг Тинанглух 104, 125
Чекел Ваненг Пати 98, 106, 106, 125—
132, 345
Чен Го 388
Чендана Васис 83
Чжан Хэ 58
Читрабаха 48
Шабистари 439
Шакьякирти 31
Шамиссо А. фон 360
Шамсаддин ас-Саматрани см. Шам-
саддин из Пасея
Шамсаддин из Пасея 241, 281, 402„
428—432, 437, 440, 448
Шамс аль-Бахрейн 182
Шамс-и Кайс ар-Рази 234
Шах Мардан 259, 260
Шахсиан 291, 292, 297, 299, 303, 34S
Шейх Дауд 180
Шелабер У. Г. 8, 66
Шива 45, 54, 1,3-2, 235
Ширин 3)14, 347
Шихабаддин 383
Шихабаддин из Палембанга 435
Шнитгер Ф. 409
Шри Махараджа 45
Шри Парамешвара 28
Энче Амин 281, 400—407
Эрланга 118
Юдистира см. Юдхиштхира
Юдхиштхира 1107—109, 405, 416
Юсуф (библ. Иосиф Прекрасный^
пророк) 314
Юсуф (кади) 92, 151, 154, 456
Яджнявати 115
Язид 141, 142
Ятим Нестапа 378, 379, 380
480
УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ *
Адепт см. Мунтахи
Адхам-наме (Книга об Адхаме) 448
Акбар-наме (Книга об Акбаре) 270,
271
Александрия 135
Амарамала (Гирлянда Амары) 39
Анвар ат-танзил (Светы
нисхождения) 276, 434
Ара ахл аль-мадинат аль-фадила
(Трактат о взглядах жителей
добродетельного города) 22)1
Арджунавиваха (Свадьба Арджуны)
37, 90, 122, И24, 21913»
Арджунавиджайя (Триумф
Арджуны) 37
Артхашастра (Наука политики) 2©
Асрар аль-арифин (Тайны постигших)
166, 240, 287, 288, 424, 443
Асрар аль-балага (Тайны
красноречия) 180, 190
Асрар аль-инсан фи ма'рифат ар-рух
ва-р-рахман (Тайны человека в
постижении Духа и Милостивого) 431
Афоризмы государственного деятеля
см. Фусул аль-мадани
Ахбар аль-ахира фи ахвал аль-кийа-
ма (Сообщения о загробном мире
во время событий Судного дня) 449
Ахлак-и Мухсини (Этика Мухсина)
313
Бабад Танах Джави (Хроника
яванской земли) 166, 289
Бахаристан (Весенний сад) 230
Бахр ан-ниса (Море женщин) см.
Илм ан-ниса
Бахтиар-наме (Книга о Бахтиаре)
311, 3512, 348
Бехар-и даниш (Храм познания) 234
Бидайат аль-хидайат (Начало
водительства) 4316
Буджанга Маник 190
Буддхачарита (Жизнь Будды) 38, 57,
450
Бульбуль-наме (Книга Соловья) 447
Бустан аль-арифин (Сад постигших)
321
Бустан аль-катибин (Сад писцов) 43&
Бустан ас-салатин (Сад царей) 71—
74, 103, 147, 257, 264, 2&1> 312г
320—322, ЗЗЬ, 339, 346, 420, 448
Бхагавадгита (Божественная Песнь)
109
Бхагаватапурана (Пурана о Бхагава-
те) 419
Бхаратаюддха (Война Бхаратов) 37».
49, 55, 90, sioa, 110, .113, 124, 2511,
3197
Бхомакавья (Поэма о Бхоме) 156
Бхомантака (Смерть Бхомы) 115—
117,1156
Вайюпурана (Пурана о Вайю) 26
Вангбанг Видейя 89, SB, 210, 212
Васенг Сари 98
Вафат-наме (Книга о кончине /Про-
рока/) 92
Введение в изучение малайского
языка и литературы 0
Введение в литературную историк>
Нусантары 15
Веталапанчавиншатика (Двадцать
пять рассказов Веталы) 347
Восемь раев см. Хашт бихишт
Восьмеричная поэма (Шаир патут де~
лапан) 391
Врата разума для вельмож (Баб аль-
акл кепада сегала оранг бесар-бе-
сар) 264, 265, 281, '308
Гандавьюха (Подробное изложение
вопросов и ответов) 30, 57
Гатоткачасрайя (Помощь Гатоткачи)
108
Гулистан (Розовый сад) 300
Дакаик аль-хуруф (Тонкости букв)
434
Далаил аль-и'джаз (Свидетельства
неподражаемости /Корана/) 180,.
190, 225
Дашаратхаджатака (Джатака о Да-
шаратхе) 50
* Если произведение имеет малайское заглавие, то в Указателе сначала
дается его русский перевод, а затем — само заглавие на языке оригинала. Во всех
остальных случаях оригинальное заглавие предшествует русскому переводу.
Оригинальное заглавие отсутствует в Указателе в тех случаях, когда название-
произведения состоит из жанрового термина «повесть (хикаят)» или «поэма
(шаир)» и имени героя, например, «Повесть об Индрапутре». «Поэма о Мамбанге
Джаухари» и т. д. По стилистическим соображениям названия такого рода
произведений в книге приводятся иногда с малайским, а иногда с русским
жанровым термином. Так, в ней встречается название «Повесть об Индрапутре» и
одновременно — «Хикаят об Индрапутре». В Указателе все упоминания о такого- '
рода произведениях даются на русский жанровый термин: «повесть», «поэма».
31 Зак. 147
481
Двенадцать /групп/ гуриндамов (Гу-
риндам дуабелас) 350
Джавахир аль-улум фи кашф аль-ма'-
лум (Сущности наук в раскрытии
познаваемого) 432
Джата.камала (Гирлянда джатак) 39;
40, 57, 450
Джаухар аль-хакаик (Суть истин)
429
Договор о верности бугийцев и
'малайцев (Атуран сетиа бугис денган
мелайю) 274
Драгоценный дар духу Пророка см.
Тухфа аль-мурсала ила рух ан-на-
би
Дурр Манзум (Нанизанный жемчуг)
192
Душа Малайи 358
Дэва Ручи ПО, 137
Записи об истории государства
Джохор (Перингатан седжарах негри
Джохор) 272—275
Записки о знаменитых монахах,
искавших Закон в западных странах
Э8
Зубдат аль-хакаик (Сливки истин)
221
Илм ан-ниса (Наука о женщинах)
257, 259, 279, 2918, 427, 437, 440
Инсан аль-уйун фи сират аль-амин
аль-мамун (Зеница очей о житии
Верного, в которого веруют) 418
Исаф аз-заки би шарх ат-тухфа аль-
мурсала (Опора проницательному
посредством истолкования
«Драгоценного дара») 433
История лянской династии 40, 58
История малайской классической
литературы 10, 111
История санскритской литературы 211
Ихйа улум ад-дин (Оживление
богословских наук) 198
Иогачарабхумишастра (Учение о
ступенях йогачары) 3!8
Как Посланник Божий подал
милостыню дервишу (Хикаят таткала
Расул Аллах мембри седеках кепа-
да сеоранг дервиш) 419
Каликапурана (Пурана о Калике
/Дурге/) 111 5
Калила и Дамина (Калила дан Да-
мина) 264, 265, 306, 312
Канун фи-т-тибб (Канон врачебной
науки) 2211
Кармавибханга (Подразделения
кармы) 39, 57
Катхасаритсагара (Океан сказаний)
55
Кедахские анналы см. Повесть о Ма-
ронге Махавангсе
Кисса-и Амир Хамза (Повествование
об Амире Хамзе) Il 38
Кисса-и Ибрахим ибн Адхам
(Повествование об Ибрахиме ибн Адхаме)
448
Кисас аль-анбийа (Истории о
пророках) 277
Китаб аль-асрар (Книга тайн) 313
Китаб аль-харака (Книга о
движении) 402, 429, 437, 440
Китаб аль-хикам (Книга мудрых
мыслей) 436
Китаб ас-сына'атайн (Книга о двух
искусствах) 227, 23U
Китаб мухтасар (Краткое изложение)
435
Китаб та'рих (Книга по истории) 314
Кифайа аль-мухтаджин (Достаточное
для нуждающихся) 434
Книга о движении см. Китаб
аль-харака
Книга попугая. Самоцветы ночных
бесед см. Тути-наме. Джавахир аль-
асмар.
Книга тысячи вопросов (Китаб сери-
бу масалах) 278
Коран 23, 63, 189, 198, 202, 209, 220,
225, 227, 276, 277, 43!9
Корона царей см. Тадж ас-салатин
Кунджаракарна 58
Кутейские родословия (Саласилах
раджа-раджа ди негри Кутей) 102,
267, 323, 324, 326, 350
Лаваих (Скрижали) 287
Лалитавистара (Подробное описание
игр /Будды/) 39, 57, 450
Лама'ат (Молнии) 287, 288
Л ей л и и Меджнун 346
Л:у1ба1б ;ихйа улум ад-дин (Сердце-мига
«Оживления богословских наук»)
436
Мазхаб-и иш.к (Религия любви) 297,
303, 347
Мала-Йские родоюловия , (Седжарах
Мелаю) 8, 20, 413^—46, 61-, 05—106,
lia, иве, 140, 143, 145—156, 244,
257, 266, 268, 26,9, 271—275, 280,
284, 289, 321, 323, 326, 337—340,
342, 351, 357, 403
Малайский театр '.16
Малаккский бендахара Падука
Раджа в битве с португальцами (Да-
тук бендахара Падука Раджа Ме-
лака седанг маса пранг денган пе-
рингги) 93
Малаккское уложение (Унданг-унданг
Мелака, Рисалат хукум канун) 91,
157
482
Малат 94, 97, 98, 99, 214
Мантик ат-тайр (Беседа птиц) 446,
447, 449
Манусмрити (Законы Ману) 42, 57
Махабхарата 10, 50, 55, ©9, 88—90,
И07, 109, ПО, 110, 1115, 121, 124
Махаванса (Великая династия) 44
Мир'ат аль-муминин (Зерцало
верных) 429
Мир'ат аль-мухаккикин (Зерцало
взыскующих истины) 221
Мир'ат ат-туллаб (Зерцало
взыскующих) 434
Миса Джава (Яванский буйвол) 272
Миса Мелаю (Малайский буйвол)
271—273, 275, 280, 360
Му'джам (Перечень) 234
Мукаддима (Пролегомена) 178, 191,
202, 228
Мунтахи (Адепт) 288, 425, 447
Нагаракертагама (Страна,
упорядоченная священным учением) 56, 59,
81
Напиток влюбленных см. Шараб аль-
ашикин
Наука о женщинах см. Илм ан-ниса
Нафахат ар-рахман фи манакиб уста-
зина аль-а'зам ас-Самман
(Дуновения Милостивого на горной тропе
нашего великого учителя ас-Сам-
мана) 436
Нечто о яванской словесности 8
Hyp аль-дакаик (Свет утонченности)
429
О душе 221
Оживление богословских наук см.
Ихйа улум ад-дин
Океан сказаний см. Катхасаритсагара
О малайской литературе 10
Опровержение философов см. Taxa-.
фут аль-фаласифа
Очевидная победа над еретиками см.
(Фатх аль-мубин ала аль-мулхидин
Панджи Ангрени 96, 106, Ш
Панчатантра 265, 347
Параратон (Книга царей) 56, 103
Песнь торжествующей любви 8
Повесть из разнообразных цветов
(Хикаят бунга рампей) 264
Повесть о Банджаре 90, 102, -118, 244,
267, 268, 275
Повесть о Бахтиаре 20, 264, 281, 292,
1310—312, 327, 340
Повесть о Берме Шахдане 252, 253,
256, 257, 262, 280, 396
Повесть о Благородном Индре см.
Повесть об Индре Бангсаване
Повесть о бритье Пророка (Хикаят
наби берчукур) 277, 418
Повесть о Голаме 3|12
Повесть о государстве Джохор
(Хикаят негри Джохор) 274
Повесть о Дарме Та'сие 262
Повесть о Дермавангсе 1107
Повесть о Джинатуре Джаенге Кесу-
ме 120
Повесть о Джаухар Маникам 262
Повесть о Дэве Асмаре Джайе 104
Повесть о Заде Бахтине см. Повесть
о Голаме
Повесть о Закарии 277
Повесть о западном узнике 445
Повесть о кончине Пророка (Хикаят
вафат наби) 92, 418
Повесть о Корисе (Корайше) Менгин-
дре 252, 25а, 262, 3)53, 385, 409
Повесть о Лангланге Буане 47, 52—
54, Й6, 57
Повесть о любви Херея и Каллирои
123
Повесть о Малиме Демане 258
Повесть о Маракарме 47, 53—57, 416
Повесть о Маронге Махавангсе 40,
125, 267, 275, 329—333, 309», 342
Повесть о Марталайе 280
Повесть о Махарадже Али 250
Повесть о Махарадже Пуспе Вирад-
жеЗИ, 347
Повесть о Махарадже Раване 49
Повесть о мирадже Пророка (Хикаят
наби мирадж) 418
Повесть о Мисе Прабу Джайе 120
Повесть о Мисе Тамане Джайе Ке-
суме -122
Повесть о молодом капитане (Хикаят
находа муда) 1347, 381
Повесть о мудром попугае (Хикаят
байян будиман) 7, 264, 265, 281,
308, 310—312, .'347, 381
Повесть О' Мухаммаде Саммане 436
Повесть о Мухаммаде Ханафии 66,
81, 87, 91, 92, 101, 135, 140—142,
251, 277, 288, 289, 350, 405, 416
Повесть о Найе Кесуме 94, 95, 97,
(100, 104, 120
Повесть о Панджи Куде Семиранге
120, .132, ЮЗ, 211, 230
Повесть о Панджи Семиранг 105, 120
Повесть о Паранге Путинге 47, 53, 54,
57
Повесть о Патани 93, 244, 268, 326,
385
Повесть о победоносных Пандавах
(Хикаят Пандава джайя) 65, 89, 90,
107, 109, 1(10, 113,'102, (186, 205, 210,
249, 288, 33а '362, 405
Повесть о повешенной царевне
(Хикаят галух дигантунг) 121
Повесть о Путре (или Индре) Джайя
Пати 291
Повесть о пяти Пандавах (Хикаят
31*
483
Пандава лима, Хикаят Пандава
панча келима) 90, '107, 108—110,
251
Повесть о раджах Пасея (Хикаят
раджа-раджа Пасей) 8, 20, 47, 50,
' 56, 61, 65, 66, 75—88, 103, 143—147,
214, 266, 268, 270, 275, 284, 340,
1342, 350, 361
Повесть о Радже Азбахе см. Повесть
о Голаме
Повесть о Радже Муде 58
Повесть о Радже Хайбаре 277
Повесть о Радже Хандаке 277
Повесть о расколовшейся луне
(Хикаят булан бербелах) 277, 418
Повесть о рождении /Пророка/
(Хикаят мулуд) 418, '4119
Повесть о Сайфе Зу-ль-Язане 277
Повесть о Санг ©оме 1113—117, 132,
249, 405, 416
Повесть о Санг Самбе см. Повесть о
Санг Боме
Повесть о Семауне 277
Повесть о Сери (Раме 7, 47—59, 88,
249, 252, 267, 290, 306, 330, 339, 351,
396
Повесть о Свете Мухаммада (Хикаят
нур /Мухаммад/) 277, 418
Повесть о Си Мискине см. Повесть
6 Маракарме
Повесть о сокровенной беседе
пророка Мусы (Хикаят наби Муса му-
наджат) 277
Повесть о султане Ибрахиме ибн Ад-
хаме 279, 281, 349, 419—421
Повесть о Таваддуд 2б>2
Повесть о Тамиме ад-Дари 277
Повесть о том, как купеческий сын
стал раджей (Хикаят анак сауда-
гар джади раджа) 263)
Повесть о том, как Пророк наставлял
свою дочь Фатиму (Хикаят наби
менгаджар анакнья Фатима) 419
Повесть о том, как Пророк обучал
Али (Хикаят наби менгаджар Али)
419
Повесть о хитроумном оленьке
(Хикаят пеландук джинака) 265, 342
Повесть о хитроумном пеландуке см.
Повесть о хитроумном оленьке
Повесть о ходже Маймуне см.
Повесть о мудром попугае
Повесть о ходже Мубараке см.
Повесть о мудром попугае
Повесть о Ханге Ту axe 20, 93, 125,
244, 290, 3-21, 327, 333—046
Повесть о царе-черепе (Хикаят
раджа джумджумах) 277
"Повесть о царственном Корайше см.
повесть о Корисе (Корайше) Мен-
гиндре
Ловееть о Чаранге Месе Гамбире 94
Повесть о Чаране Нулине 120
Повесть о Чекеле Ваненг Пати 94,
196—99, 1(16, 120, 122, 1123, 125—132,
135,, 142, 157,1186, 188, 204, 210, 211,
230, 249, 253, 289, 291, 292, 339, 345,
347, 377
Повесть о Шахе Кобаде [Л'еле Индре]
252, 253, 262, 289
Повесть о Шахе Мардане 209, 252,
253, 259, 260, 280, 347
Повесть о шейхе Абд аль-Кадире
Джилани 279
Повесть о Юсуфе 277
Повесть об Амире Хамзе 81, 87, 91,
135, 138—140, 142, 250, 289, 292,
350
Повесть об Ангкавиджайе 107
Повесть об Андакене Пенурате 104,
1132—135, 157, 2М, 230, 362
Повесть об Асмаре Пати 122
Повесть об Ахмаде и Мухаммаде
(Хикаят Ахмад дан Мухаммад) 252
Повесть об Аче 257, 258, 26,9^-272,
275, 340
Повесть об Ибрахиме ибн Адхаме
см. Повесть о султане Ибрахиме
ибн Адхаме
Повесть об Индрапутре 63, 160, '178,
187,11193, 199, 205, 206, 208, 250, 252,
253, 256, 258, 260, 262, 284, 28'9—
298, 305, 306, 345, 357, 376, -3196, 4116
Повесть об Индре Бангсаване 252,
259, 288
Повесть об Индре Дэве 259
Повесть об Индре Менгиндре 208
Повесть об Искандаре Двурогом
(Хикаят Искандар Зу-ль-Кдрнайн) 90,
1Э5»—1317, 140, 250, 267, 292, 321
Повесть об Исме Ятиме 167, 193, 197,
200, 205, 209, 252, 260, 280, 289,
290, 291, 296, 305—30(9, 340, 345,
35,1, 363, 372, 385, 386, 395, 409
Повесть об Исме-сироте см. Повесть
об Исме Ятиме
Повесть об Опу Даенге Меиамбоне
274
Полировка духа 227
Послания Братьев Чистоты см. Раса-
ил ихван ас-сафа
Поэма заветов (Шаир ракис) '187
Поэма о Бидасари 156, 260, 262, 36:3,
364, 3175—378, 382—384, 1386, 415
Поэма о Ваянге Кинуданге 262, 361
Поэма о войне в Банджермасине
(Шаир пранг Банджермасин) 398
Поэма о войне в Каливунгу (Шаир
пранг Каливунгу) 398
Поэма о войне в Сиаке (Шаир пранг
Сиак) 398
Поэма о войне с Ментенгом (Шаир
пранг Ментенг) 391, ,398
484
"Поэма о восшествии /на престол/
(Шаир табал) 398
Поэма о глупом купце (Шаир сауда-
гар бодох) 386
Поэма о Дамаре Вулане 262, 361
Поэма о двадцати атрибутах (Шаир
си фат дуапулух) 279
Поэма о де Брау 398
Поэма о Джаухар Маникам 361
Поэма о джохорских войнах (Шаир
пранг Джохор) 319'8
Поэма о Единой /с Аллахом/ Рыбе
(Шаир икан тунггул) 429
Поэма о Злосчастном Сироте см.
Поэма о Ятиме Нестапе
Поэма о Кахре Машхуре 391
Лоэма о Кен Тамбухан 8, 56, 120, 127,
260, 262, ОТ, 362, 380—38)1, 3'84,
415
"Лоэма о кончине Пророка (Шаир
наби вафат) 279
"Лоэма о купеческой торговле (Шаир
даганг берджуал бели) 386
Лоэма о купце (Шаир саудагар) 386
Лоэма о лодке (Шаир прау) 402, 427,
443, 445, 449
Лоэма о макассарской войне (Шаир
пранг Менгкасар) 110, 160, 167,205,
281, 398—402, 406
Лоэма о Мамбанге Джаухари 281;
376, 391, 392, 396, 307, 415
Лоэма о Ментенге см. Поэма о войне
с Ментенгом
Поэма о Месе Гумитаре 262, 361
Лоэма о младенце (Шаир
канак-канак) 279
Лоэма о Моко-Моко 3919
Поэма о мудром купце (Шаир
саудагар будиман) см. Поэма о Султане
Яхье
Лоэма о мудром попугае (Шаир баян
будиман) 446
Поэма о мучениях в аду (Шаир
азаб далам нерака) 279
Поэма об основах веры (Шаир кава-
ид аль-ислам) 27l9
Лоэма о Пангеране |Хашиме 3(98
Поэма о Панджи Семиранг 262, 361,
415
Лоэма о познании молитвы (Шаир
ма'рифат ас-салат) 279
Лоэма о поклонении (Шаир ибадат)
279
Поэма о Попугае (Шаир нури) 261,
281, 408
Поэма о Попугае и Чемпаке см.
Поэма о Лопугае
Поэма о постижении (Шаир
ма'рифат) 279
Поэма о птицах (Шаир бурунг) 281,
445—447
Поэма о Пузанке и Окуне (Шаир
икан терубук дан пуйю-пуйю) 124,
2611, 409
Поэма о Пунггуке (Шаир бурунг
пунггук) И65, 167, 205, 210, 240,
260, 261, 385, 411, 412, 445
Поэма о раджах Сиака (Шаир
раджа Сиак) 399
Поэма о Радже Дарме Адиле 391
Поэма о Рату Джувите 415
Поэма о Розе (Шаир кембанг аир
мавар) 281, 391, 408, 446, 447
Поэма о рыбах (Шаир икан) 175
Поэма о Свете Мухаммада (Шаир
нур Мухаммад) 279
Поэма о Селиндунг Делиме 262, 377,
378, !3>84, 415
Поэма о сеньоре Косте см. Поэма о
Силамбари
Поэма о Сери Бениан см. Поэма о
Селиндунг Делиме
Поэма о Си Мискине (Маракарме)
2611, 361
Поэма о Сиди Ибрахиме султане
Египта (Шаир Сиди Ибрахим
султан Миср) 3191
Поэма о Силамбари 386—3819, 415
Поэма о Сити Завийе 262, 281, 415
Поэма о Сити Зухре 415
Поэма о Сити Кубах 386
Поэма о скитальце см. Лоэма о
страннике
Поэма о снах (Шаир мимпи) 3$9
Поэма о собрании дервишей (Шаир
сиданг факир) 426
Поэма о Спеелмане см. Поэма о
макассарской войне
Поэма о сражении в Вангканге
(Шаир пранг Вангканг) 398
Поэма о страннике (Шаир даганг)
205, ЗЮ, 427
Поэма о страстной любви (Шаир чин-
та брахи) 391
Поэма о султане Бустами 398
Поэма о Султане Мансуре 391
Поэма о Султане Махмуде с острова
Линга (Шаир Султан Махмуд ди
Лингга) 398
Поэма о Султане Яхье 165, 262, 281,
384, 386, 391, 415
Поэма о Сунгинге 391
Поэма о Тадж аль-Мулуке 262, 386,
391
Поэма о Тамбре (Шаир икан тамбра)
385, 408
Поэма о Хемопе 398
Поэма о Хитроумной Царевне (Шаир
Путри Акал, Шаир Путри Ханде-
лан) 183, 381, 41\5
Поэма о Царственном Шмеле
(Шаир кумбанг менгиндра) 281, 408
Поэма о Чистой Птице (Шаир
бурунг пингей) 426, 447
485
Поэма о Шамс аль-Бахрейне 361
Поэма о Шмеле и Жасмине (Шаир
кумбанг дан мелати) 205, 261, 386'
Поэма о Юсуфе 27(9'
Поэма о Ятиме Нестапе 262;, 377,
378, 38131, 384, 41'5
Поэма о Яхье см. Поэма о Султане
Яхье
Поэма об Абд-аль-Мулуке 281, 381,
382, 3l84i, 386, 415
Поэма об Абд ас-Самане 386
Поэма об аде (Шаир нерака) 279
Поэма об Айюбе 2719'
Поэма об ачехской войне (Шаир
пранг Ачех) 3918
Поэма об Индрапутре 261, 361
Поэма об Индре Бангсаване 261, 361
Поэма об Индре Лаксане см. Поэма
о Селиндунг Делиме
Праведный путь см. Сират аль-муста-
ким
Пробуждение спящих 449
Пролегомена см. Мукаддима
Пророк и нищий (Хикаят наби дан
оранг мискин) 4d9
Раджа Амбонг 58
Раджа Донан 58
Рамаяна 10, 26, 07, 40, 47, 49—52,
59, 88, 113,il35, 236, 415
Расаил ихван ас-сафа (Послания
Братьев Чистоты) 449
Рассказ о пророке Сулеймаее, птице
Симург и предопределении 330, 348
Религия любви см. Мазхаб-и ишк
Рисала (Послание) 435
Риса л а фи-ль-таухид (Послание о та-
ухи|де) 435
Рисалат ат-тайр (Трактат о птицах)
447
Родословия бугийцев (Силсилах бу-
гис) 274
Родословия малайцев, и бугийцев, и
всех их правителей (Силсилах ме-
лайю дан бугис дан сегала раджа-
раджанья) 274
Саб'а-и сайара (Семь планет) 234
Сабил аль-хидайат (Путь водитель*
ства) 436
Сад писцов см. Бустан аль-катибин
Сад постигших см. Бустан аль-ари-
фин
Сад царей см. Бустан ас-салатин
Сайр ас-саликин ила ибадат рабб
аль-аламин (Путь странников к
поклонению Господу Миров) 4316
Саламан и Абсал 299
Санг Хьянг Камахаяникан 39, 50
Световой айят 221
Свойства разума и разумных 316
Сейфальмулюк 235
Семь планет см. Саб'а-и сайара
Серат Барон Секендер (Книга о
Бароне Секендере) 102
Сери Рама строит дамбу через море,
чтобы добраться до Лангкапури
(Сери Рама менамбак тасик хендак
перги ке Лангкапури) 93
Сиакская хроника 268, 272—274
Сиасет-наме (Книга о правлении) 289
Сийар аль-мулук (Жизнеописание
царей) 313
Синдбад-наме (Книга о Синдбаде)
381
Сират аль-мустаким (Праведный
путь) 256, 290, 291, 4419'
Сказание о Махарадже Ване 49
Сказание о птице мерака-рака (Ан-
дей-андей бурунг мерака-рака) 447
Сказание о Чистой Птице (Андей-ан-
дей си бурунг пингей) 447, 448
Смарадахана" (Сожжение Смары) 118,
156
Старая и Новая Ост-Индия 7, З'ЗЗ
Странствия рабов к месту возврата
346
Суварнапураванса (Династия Сувар-
напуры) (32, 44, 57, 103
Сулалат ас-салатин (Родословия
султанов) см. Седжарах Мелайю
Сутасома 90
Сутасомаджатака (Джатака о Сута-
срме) 40, 331
Тадж ас-салатин (Корона царей) 20,
160, 166, 171, 1180, 182, 183, 209, 224,
230, 242, 243, 256, 257, 264, 269, 281,
289, 306, 3,12—314, 317—32®, 326,
331, 343, 344, 348, 350, 368, 401,
402
Тайны постигших см. Асрар аль-ари-
фин
Тахафут аль-фаласифа
(Опровержение философов) 22)1
Тибйан фи ма'рифат аль-адйан
(Разъяснение о верованиях) 431, 436,
Тора 225
Трактат о взглядах жителей
добродетельного города см. Ара ахл аль-
мадинат аль-фадила
Трактат о птицах см. Рисалат ат-тайр
Трипитака (Три корзины) 3$
Тутшв-наме (Книга попугая) 308
Тути-наме. Джавахир аль-асмар
(Книга попугая. Самоцветы ночных
бесед) 347
Тухфа аль-мурсала ила рух ан-наби
(Драгоценный дар духу Пророка)
(177, 429
Тухфат ан-нафис (Драгоценный дар)
70, 71, 274
Тухфат ар-рагибин (Дар жаждущим)
436
486
Тысяча и одна ночь 207, 286, 293, 312,
381
Умдат аль-мухтаджин (Опора
нуждающихся) 433, 434
•Фатх аль-мубин ала аль-мулхидин
(Очевидная победа над еретиками)
432
Фатх ар-рахман (Победа
Милостивого) 435
Фрегат Паллада 8
Фусул аль-мадани (Афоризмы
государственного деятеля) 233
Хал аз-зилл (Свойства тени) 430
Хамис фи ахвал ан-нафс ан-нафис
(Пять отрядов слов о душе
Драгоценного) 418
Хамрат аль-хан (Вино с постоялого
двора) 435
Хафт кульзум (Семь океанов) 234
Хашт бихишт (Восемь раев) 305
Хидайат ас-саликин (Водительство
странников) 436
Хитопадеша (Благое наставление)
347
аватара 419, 50
агама 237
ада 18,1, 188
адаб 264, 275, 305—307, 309—311,
313, 321, 333.'
аджаиб .196, 197, 210
адилат 317
айан сабита 167, 168
айан хариджи (айан аль-хариджийа)
168, 195
айат 423
акал (акл) 165, 169, 171, 172, 204,
225, 311-6
акал семпурна 171
алам аль-аджсам 429
алам аль-арвах 429
алам аль-инсан 4219
алам джабарут 169, 220, 222, 302, 346
алам малакут 169, 220, 222, 229, 299,
300
алам мисал (алам аль-мисал) 177,
300, 301, 304, 346, 429
алам мулк 169, 220
алам насут 299, 439
алкаб 227
андей-андей 243/
анека багей дженис 197
анека варна 197
анубхава 21il
Худжат ас-сиддик ли даф' аз-зиндик
(Доказательство праведных в
опровержение еретиков) 341
Хуласат аль-инша фи-ль-мурсала
(Сущность искусства сочинения в
переписке) 223
Шаир алиф, ба, та 264
Шаир о Сове см. Поэма о Пунггуке
Шаир Ракис см. Поэма заветов
Шакунтала 416
Шараб аль-ашикин (Напиток
влюбленных) 194, 247, 287, 424
Шарх рубай Хамза алъ-Фансур*1
(Комментарий на «Рубай» Хамзы
Фансури) 241, 429
Шарх-и рубаййат (Комментарий на
рубай) 287, 288
Шах-наме (Книга царей) 136, 139
330, 3311
Шифа аль-кулуб (Исцеление сердец)
430
Шицзин (Книга песен) 416'
Шукасаптати (Семьдесят рассказов
попугая) 265,1347
Энеады Ш
ариф биджаксана 186, 187, 188, 200,
204, 208
арти 181, /182, 188
артха 238
аруд 180, 241, 263
аруз см. аруд
арш (арш Аллах) /1195, 219, 439
асар 1196
асур 2913
асхаб аль-иджаз 227
асхаб аль-итнаб 227
атали 244
атур 184, 188, 224
аф'ал 93
аши,к 385
Ахадийа 259, 429
бабад 72
багэй-багэй (бербагэй-багэй) 196
бади 180
банк 188, 229
байан 227
бака 303, 306
балага (балиг) 227
балей 105, 122
балиан 237
баиьяк рагам 188, 197
барзах 439
басир 237
УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
487
баг 45, 46
батара 95, i99, 105, «334, З'Эб», 337
батин 1619, ,173, 185, 188
бахаса (182
бахаса берирама 350
бейт 241, 244, 263, 351
бендахара 66, 67, 72—74, 78, 84, 146,
148, 150—,156, 273, 274, 327, 328,
13134, 337, 338, 340, 344, 381, 382
беракал см. акал
беркат 165
беркат шафа'а 167
берпатутан см. патут
бидуан 381, 384
бодхисаттва 40
болингони 415
брахи 1198, 199, 202, 205, 210, 215
брахмасвада 235
буат 192
буддараджа 22
буди-бахаса 359
буньи 182, 188, 203
бурук 228
буга 105
бхат 45, 46, 59
ваджах (ваджх) 229
варнг 27
васана 211
Вахда il66, U68, 259, 429, 430, 441, 443
вахдат аль-вуджуд 286, 425, 430, 431
вахдат аш-шухуд 431
Вахидийа 165, 259, 430, 441
вахм 222, 231
ваянг Абд аль-Мулук 267
ваянг антебан 210
ваянг гедог Ш7
ваянг кулит 51, (96
ваянг сиам 49
ваянг пурва 89
ваянг топенг 96, 117
вибхава 211
виду аманчангах 56, 118
видьядхар 41
вилмана 394
вуджудийа 430—432, 434, 435, 440
вье 46
вьябхичарибхава 211
газель 241, 242, 260, 348, 350
гаиб 17(1, 221
гайр муфида 225
галат 183
гана 1194, 262
гандхарв 41
гараба (гариб) 196, 197, 210, 226
тендер 134
гуриндам 350, 351
гуритан (гегуритан) 288
дайтья 41
даланг 5U, 02, &У|, 120, 122, 124, 186,.
204, 2Ц2, 304, 348, 449
дастан 207, 250, 261, 282, 283, 288,
289, 295, 297, 448
дату 237
даулат 341
девадару 41
девараджа 22, 28, 36, 44
дерхака 274
джалал 195
джамал 195, 196, 229, 286, 23»
джанггал 183, 185
джатака (литературное
произведение) 26, 40, 331
джатака (жрец-астролог) 59
джати 27
джаухар фард 220
джусмани 169
дикарангкан см. каранг
диньятаканнья см. ньята
дипатутнья см. патут
дхананда 28
дхвани 211, 213
зат 93, 1194, 229
захид 257
захир 169, 173, 1177, 185, 188
зикр 177, 178, 235, 236, 270, 429, 433,
436,, 445
зишт 306
ибарат 182, 188
ибарат янг ихсан .180
иджмал 195, 223
икат-икатан 93
иктибас 223
илм 169, 264
илм аль-бади' 1Ш, 227
илм аль-байан 190, 11911
илм аль-балага 179, 1(90
илм аль-йакин 300, 435
илму 445
илму маани ('илм аль-ма'ни) 180г
il)90, 191
илму усул 9il
йнбисат 206
ингат 176
индах 187—189, 192—194, 196—200,
202—204, 207, 209—213, 228, 229>
индах-индах см. индах
инкибат 206
инсан аль-камил 429
исбат 178
иси 182, ,188, 350, 352, 354
исти*ара 223, 225
и'тикад 222
иттихаса 237
ихам 206, 2311
ишк 289, 299, 304
иштадевата 235
йога 213, 235, 237, 430
йогин 236
488
жави 44, 46, 58, 59, 8l9t, 237
кавья 35, 37, 38, 40, 213, 237, 263
жади 92, 151, 154, )156, 1308, 320, 423
жадирийа 401
жайн 1111, ,129, 367, 372, 387, 414
кайя 193, Л96
жакавин 40, 51, 58, 59, 89, 90, 109,
111, il 13,115, 116, 122, 124,137, Ш,
1186, Й04-, 207, (2113, 224, 237, 2198
жалангван см. ланго
калангон см. ланго
жалб 471, 220
;калбу 171
калбу санаубари 220
жалбу так перикса 171
жалам 182, 247
калепасан 236
жалима 224
камал .1194, 195
кампунг 255, 366,
каранг 1171, 180, 184, il85, 1187, 188,
'2124
каранган см. каранг
кармина 4Ц6
жасида 241, 242, 263, 3150, 351
жата 181, 182, 185, 1188
кафийа 243
жаястха 46, 59
жеадаан см. ада
жеадааннья см. ада
кебесаран Аллах 1194
жеиндахан см. индах
кекайяан см. кайя
кекайяан Тухан (Аллах) 493, il94
келам 165
кена 183, 185, :187
кеньятааннья см. ньята
киас ибарат 487
жиасан 129
жидунг 111, 112, »122, 186, 204 207
жинайя 223
кит'а 3)115, 348, 350
житаб 141, il80, 182, 219, 246—248,
256, (270, 278—28)1', 283, 286, ЗО'б,
424, 451
киясат-и мунтаджа 206
критабаса 38
кувват аль-мутахайила 231
кувват-и газбани 206
кувват-и шахвани 206
жудра 1165, 194, 1196
кулфа см. такаллуф
кун лунь 3i8
журси 300, 438
лагу 203
лакон 49, 89, 122,1124
лаксамана 78, 84, 151, 156, 33>Ф—338,
1340, 342i, 343
лалей 204
ламбанг 354—357
ланго (ленгенг, ленгленг) 113, 21i2,
2113—215, 236, 237
лафаз (лафз) 182, 183, 188, 189, 190,
191, 203, 224, 225, 230, 231, 238
лахут 439
леньяп 199
лимпах 165
лисан 171, 220
лонтар 32
лупа 199
лупа (шаманский транс) 448
ма'ани (мана) ИТП, 181, 185, 188, 189,
190, 192, 203, 206, 224, 226, 227, 228,
230—232, 238
мават 2216
мадах себаранг 187, il88
мадда 298
маджлис 63
майонг 3'84
мактал Ш, 142
манфа'ат 200, 208, 209
марифат (ма'рифат) 259, 302, 305,
346, 424, 438
марказ аль-даваир 220
мартабат туджух 166
мархьянг 59
масал 225
маснави 261, 263, 2197, 315, 348, 350,
351
масну' 227
матбу' l!92, 227
маулана 93
махабат аль-джамал 215
махди 140
мематут см. патут
менглипур см. пенглипур
меньятакан см. ньята
мерду 197, 203
мерча 199, 200
мизадж 232
мир'ат аль-хакк ва-ль-хакика 219
мокша 235
мукаддимат-и мухама 206
муктади аль-хал 1190
мурабба 242
мусаммат 242, 244
мусаммат-и мурабба' 242
мутабака 190, 227, 238
мутасирфа 221
мухайил 1230, (231
мухтасар 188
нагара 27—29, 59
надир 197
назам -182, 188
найака 28
насихат 246—248
насут см. алам насут
нафи 178
нафс 298—302
нафс аль-акл 220
489
нафс аль-кулл 303
нафс аль-мутма'ина 2*919
нафс аль-хайат 221
нафс ан-набатийа 346
нафс ар-рух 221
нафс натика 220
нафс хайавани 221
нафсу Ili72
неку 206
нисба 314, 431
нискала 236
нур 195
нур кашиф 177
ньява 171, 172
ньяни 244, 428
ньята Г80, 181, 183, 188, 224
паванг 359
панакаван 120, Ш, 13>2, 142, 380
пандита 175
пантун passim
пантун беркаит 360
пантун даганг 359
пантун насихат 359
папан турай 53
пасемон И24, 338, 340, 404, 406
патих il 09, 336
патут 182—188, (202, 224, 238
пеманис 1195
пенглипур ,187, 200, 203' 210, 215
пенглипур лара 52, 207
пенгхибур гаират 187
пенгхибур хати 186, 191, 200, 204, 205,
207, 208, 210, 214, 215
перкатаан см. ката
перчинтаан 165
праматр 235
пранидхана 38
пуджанга 44, 58
пулир .119
пурана 49, 100, 250, 451
пури 381
ракет 56, ©6, 29)2
papa ;кедири 211
раса 128, 211—213', 222, 235, 237
ратиб 436
рахма 165, 166, 1195
Рахман «166, 16i6,1195
Рахим '165, 166,195
ренчонг 440
рннду 202
рифаййа 320
р\ба' 241—243
рубай 241, 242, 287, 288, 315, 348,
350, 358
рух алыкудус 169
рух Аллах 219
рух идафи 219
рух инсан 169, 220
рух хайавани 169
рухани 169
садж (садж') 242, 244, 287, 31ft 322*
348
саджак 17(1., 242
садир 220
садр 171
саембара 105, 416
сакала 236
сакала-нискала 236
саласилах 247, 248
салах 183
самманийа 436
сампиран 350, 352, 364—357
сана 227
сангкала 72
сангха 31, 42
санджа 2)413, 287
сардхакара 28
саттва 235
саут 224
сахитья 238
седжарах 101, 239, 247, 248, 45Ï
селока 350, 351
семангат 448
сидрат аль-мунтаха 439
сингир 288
синдир 428
сира 282, 283
сирр 173, 221, 2591
сифат 93
сихр 229
сопан-сантун 369
суара 182
сулук 448
сурат 1171, 206, 231
сутра 38
стхайибхава 21)1
стхапака 46
та'вил 1225
та' кена см. кена
таби'а 232
таваф 449
таджалли 195
такаллуф 192, 227, 228
такдир 165, 167
тамаша 196
тамсил 190, 1(91, 208, 210, '2)15, 225
тамсил ибарат 187, 188
таназзул 1169, 442
такка 358
таракки 169, 442
тарикат 259, 2919—301, 346, 424, 43'8
тасаввур 235
тасвир 178
таухид 429, 445
тафсил 226
тафсир 226, 276
тахаллус 428, 438
тахсис 195
ташбих 223
490
тембанг мачапат 243
тепекур 176
тиба' 206, 225
тиада дибуат 188, '189
тидак берпатутан см. иатут
то' селам пит 62
туменгунг №53, 337
тхеравада 36
улама 23, 62, 432
упаджати 32, 104
упакальпа 59
фана 303, 304, 346
фасаха (фасих) 227
фахам il 72
фаэдах 200, 208, 209
фетва 432
фпкир (фикр) 176, 222
фикх 63, 91, 247, 430, 433, 434, 449
хабар 103, 104, 2-60
хадис 63, (148, 209, 269, 312, 3»Ш, 425,
426, 432, 434, 446
хайал 222, 2311
хайран 196
хакикат 259, 302, 346, 424, 438
хакк аль-йакин 436
хал 300
халватийа 401
харф 224
хати 171,172, »185
хати нурани ,li65, 1171
хати хайавани 220
хати янг гелорат /172
хати янг келам 171
хати янг сафи !165, 188
хидаят 246—248, 451
хиджра 69
хикаят passim
хикма 1194, 229
хифз 222
хусн 196, 2129
шабда 238
шаир passim
шариат 031, il 41, 221, 259, 2ф, 346,
424, 431, 432, 434, 435, 438, 443
шарх 287
шастра 38, 237
шаттарийа 432, 433
шахада (шахадат) 178, 429
шахбандар 156
шильпашастра 2/7
ши'р 229, 230, 240
ши'р-и мусаджджа' 242, 288
ширк 432, 435, 449
шлока 4115
чаматкара 2112, 213, 2(35, 237
чарун 45
чахайя нурани 165, 177
черита Ц82, /188, 203
черита пенглипур л ар а 54, 58
чипта (чита) 222
элок 196, 228, 229
юпа 323
ямака 40
ям-туан 68
SUMMARY
The history of Medieval Malay literature as a combination of its ethnical and'
interethnical functions is the subject of this work. Being the literature of the Malay
ethnos as well as a mediator in the island world, the Malay literature is an
important part of the entire cultural heritage of the peoples of Malaysia, Indonesia,
Brunei and Singapore.
The author of the work formulates his task as a study of the evolution of the
genric system represented by the monuments integral as to there ideas (contents)
and aesthetics (form) and described (if the necessary facts are available) with the
literary self-consciousness of Malays taken into consideration. This evolution was*
motivated by the factors of development of the Malay society and more directly,
by the ideological factors,— first and foremost by the changes in religion.
The author shows that there are three long periods in the history of Malay-
literature: Old Malay literature of the Hindu — Buddhist time (VII—the first half
of the XIV c), the Early Moslem Malay literature (the second half of the XIV—
the first half of the XVI c.) and Classical Malay literature (the second half of
the XVI— the first half of the XIX c).
The reconstruction of the genric system of the Old Malay literature is made on
the basis of the typology of the medieval literatures and, in particular, of the
typology of the early medieval literatures of the South-East Asia as well as the
synthesis of the facts available to Malayists. The place of the Old Malay literature in
the system of South-East Asian literatures shows that the continental model with)
Sanscrit as a linguistic medium is more acceptable for this reconstruction than the
Old Javanese model, based on the local language. Judging from the epigraphic
data and accounts of Chinese, Arabic, Sri-Lankese authors, the Old Malay
literature included a great number of literary works: the texts of Buddhist Canon,,
the Buddhist treatises and literary monuments of Indian origin («Buddhacarita»,
«Jaaakamala», «Lalitavistara» etc.), hymns to the gods and panegirics to the deified
rulers written by the local authors, as well as chornicles and the juridical works,
in all evidence, in Malay. In the XIII—XIV centuries there appeared heroic epics
and fairy and love romances written in the local language as well. By the end of
the period, the interaction of high indianised culture of the elite and the popular
vernacular culture gave birth to a mixed culture, based on Malay language, thus-
supplying the ground for the rise of the latest Malay literature, when Islam, that
came from India and the Middle East countries in the XIII—XVI centuries, began-
exercise its influence on the whole of the Malay world.
It is possible to show two stages in the assimilation of the new religion by the
Malays. The first stage was the time of a rather superficial assimilation of the
basic tenets of Islam and, predominantly, the Islamic law — syariat. This stage,
corresponded to the Early Moslem period in the history of literature, developed in the
sultanates of Pasai and Malacca. The constituent parts of the body of the
literature of the period was defined on the basis of the oldest Malay chronicles, which
after a special analysis by the author (chapter II) were again given there former
temporal attribution («Hikayat raja-raja Pasai» —the beginning of the XV c; «Seja-
rah Melayu» — the beginning of the XVI c.). At this time Malay literature included
some translations of Moslem romances which coexisted with the works ascending
to the sanscrit epics, puranas and the Panji romances. It was the time when thi-
492
genres of the romances (hikayat) and the historical chronicles (sejarah) appeared.
At the second stage the preaching activity' continued, but the aim of it became
«the conversion not of the body, but of the spirit» — the assimilation of the Moslem
theology and sufism. Correspionding to this stage was the period of Olassioal
Malay literature, which flourished in Aceh, Johor and in other cultural centers of the
Malay world. In the Classical period new genres more characteristically Moslem
were introduced, i.e. the poem (sya'ir), the treatise (kitab), the kings' mirror (hi-
dayat), but the most important was the fact that, though under the influence of
Moslem concepts, the Malays obtained their own literary consciousness.
The reconstruction of the Medieval Malay conception of literary creativity and
of functions of literature make it possible to discern an integral and hierarhical
system in the totality of the classical monuments. The unity of the system was
based on the fact that, in spite of the heterogenity of the constituent elements of
Malay literature, its self-consciousness was Moslem at that period. The Islamic
concept of Muhammad — Logos as the Source of any created entity, who gives
meaningful completeness to the Universe, stipulated the integrity of the literary system.
The hierarchical structure of the literary system was based on the fact that every
group of works corresponded to a definite level in the hierarchy of the Universe-
emanating from this Source, and human psychology as its microcosmic counterpart.
The fairy and love romances and poems, obtaining beauty, were intended to»
harmonize the soul and to call for a courtoise behaviour. The intellect was
strengthened by the «benefits» of the didactic works (mirrors and framed stories) and
chronicles, more historiosophic than historiographie in nature. The «spiritual heart»
was prepared for the lightening by the agiographic works and «the literature of ki~
tabs».
The development of the literary self-consciousness in the theoretical sphere was
coupled with the formation of the literary synthesis in the sphere of the creative-
practice. The basis for this synthesis was prepared in the Early Moslem period, when
certain works were selected and included in the body of the Malay literature. At.
that time the pieces of literature belonging to Indian and Moslem literary circles,
let through «the filter» of the Malay tradition and partly transformed under its
influence, came into mutual contact within the limits of the Malay literature as an
integral whole. In the Classical period the process of synthesis of heterogenous
elements gained intensity alongside with the deepening Islamization of the Malay
literature and the formation of its self-consciousness. At this stage these elements
intermingled within the limits of a new unity, i. e. an individual literary work — a
chronicle, a fairy and love romance or a poem of erotic, historical and allegorical:
content. There existed a great diversity of forms, in which the literary synthesis,
could manifest itself. The most perfect among them originated from «the
typological sensitiveness» of the medieval Malay literature, i. e. from its ability not only
to combine in individual fragments of different traditions, but also to identify them
on the basis of the understanding of their mutual correspondence. In the XVII с
and in the first half of the XVIII с the synthesis in the Malay literature reached
its peak; from the second half of the XVIII с and during the first half of the
XIX с its dissolution took place as a result of further Islamization, and the Malay
literature gradually approximated the model of Late Medieval Arabic literature.
The summarised work comprises a detailed study of the origin and evolution
of all the genres of the Malay literature as well as the analysis of the most
important monuments belonging thereto (with a special reference made to their poetics)
which provides the factual basis for suggested reconstruction of .development of
medieval Malay literature.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 5
ДРЕВНЕМАЛАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 26
Глава I. Система жанров древнемалайской литературы (реконструкция) . 31
1. Типологические основания реконструкции. Выбор модели для
восстановления древнемалай|ской литературы 33
2. Канон, комментарии. Функциональные жанры 37
3. Жанры нефункциональной сферы 47
4. Взаимодействие сфер литературной системы 55
РАННЕМУСУЛЬМАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 60
Глава II. Проблема раннемусульманской малайской литературы ... 65
11. Время создания «(Малайских родословий» 66
2 Время создания «Повести о раджах Пасея» 75
Глава III. Состав раннемусульманской малайской литературы 87
il. Данные хроник о составе малайской литературы конца XIV —
начала XVI в 87
<2. Повести о Панджи в составе малайской литературы конца XIV—
начала XVI в 94
13. Жанры раннемусульманского периода . 100
Глава IV. Основные литературные памятники раннемусулвманского времени 107
1. Повести о героях санскритского эпоса и пуран 107
2. Повести о Панджи 117
3. Повести мусульманского происхождения 135
4. Историческая литература 143
КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 158
Глава V. Самосознание малайской литературы в классический период
(реконструкция) 161
1. Восприятие вдохновения (рецептивная фаза творческого процесса) 164
2. Создание литературного произведения (агентивная фаза
творческого процесса) 179
3. (Концепция прекрасного в малайской классической литературе . . 192
4. Учение о «прекрасном слове» и его функциях 201
6. Элементы индо-мусульманского синтеза в малайском литературном
(самосознании . 201
6. .Итоги. Принципы [систематизации литературных жанров в
классический период 216
Глава VI. Система жанров малайской классической литературы
(характеристика жанров, их генезис и эволюция) 239
(1. Происхождение и эволюция шаира. Его разновидности .... 239
2. Происхождение жанров китаба и зерцала 246
3. (Состав малайской классической литературы. Сфера красоты . . 249
494
4. Сфера пользы 264
5. (Сфера духовного совершенства 275
6. Формирование понятия об авторстве 280
Глава VII. Основные литературные памятники классического периода
(проза) 290
(Г. Волшебно-авантюрные повести 290
2. Обрамленные повести 308
9. Зерцала 313
4. Хроники 323
5. Искусственный историко-героический эпос 333
Глава VIII. Основные литературные памятники классического периода
(поэзия) 350
Ч. Пантуны 351
2. Романические шаиры 360
3. Исторические шаиры 397
4. Аллегорические шаиры 407
Глава IX. Мусульманская агиография и суфийская литература . . . 417
1. Агиографические сочинения 417
2. Суфийская литература второй половины XVI—первой половины
XIX в 422
Вместо заключения 450
Библиография 453
Список сокращений 471
Указатель имен 472
Указатель названий произведений 481
Указатель терминов 487
Summary 492
Владимир Иосифович Брагинский
история
МАЛАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
VII-XIX ВЕКОВ
Утверждено к печати
Институтом востоковедения
Академии наук СССР
Редактор И. С. Смирнов
Младший редактор Г. А. Бурова
Художник В. В. Локшин
Художественный редактор Э. .7. Эрман
Технический редактор 3. С. Теплякова
Корректоры Г. Э. Пабст и Р. Ш. Чемерис
ИБ № 14781
•Сдано в набор 16.02.83. Подписано к печати
06.09.83. А-12439. Формат 60X90'/i6. Бумага
типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать
высокая. Усл. п. л. 31. Усл. кр.-отт. 31. Уч.-изд.
л. 39,65. Тираж 950 экз. Изд. № 5339. Зак. № 147.
Цена 6 р.
Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва К-31, ул. Жданова, 12/1
3-я типография издательства «Наука»
Москва Б-143, Открытое шоссе, 28
ОПЕЧАТКИ
Стр.
91
112
163
208
231
243
250
302
334
426
Строка
15 сн.
10 св.
22 св.
17 сн.
30—31 св.
1 св.
25 св.
8—7 сн.
20 св.
9—8 сн.
Напечатано
Мухаммад-шах
обнаруживают
возникновения
проецирует
воображаемое
соответствующие
но являются
Сери Ратны Гемалы — Мех-
ран |
Ханга и Туаха
Когда врагов Любимой сразишь,
Чтоб все завесы преодолеть
Следует читать
Махмуд-шах
обнаруживает
возникновение
проецируется
воображение
соответствие
не являются
Сери Ратны Гемалы Мех-
ран
Ханга Туаха
Чтоб все завесы преодолеть.
Когда врагов Любимой сразишь,
Зак. 772