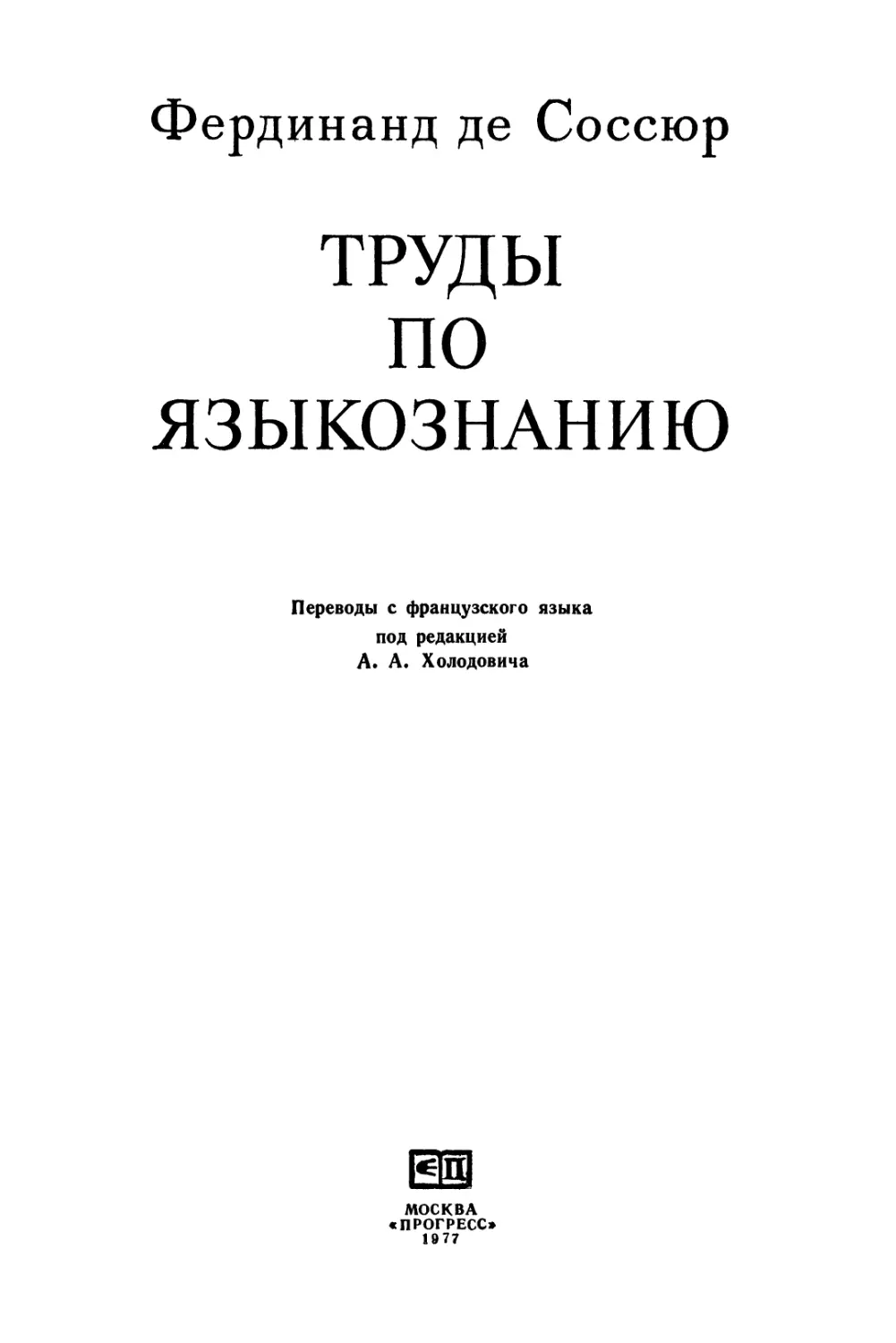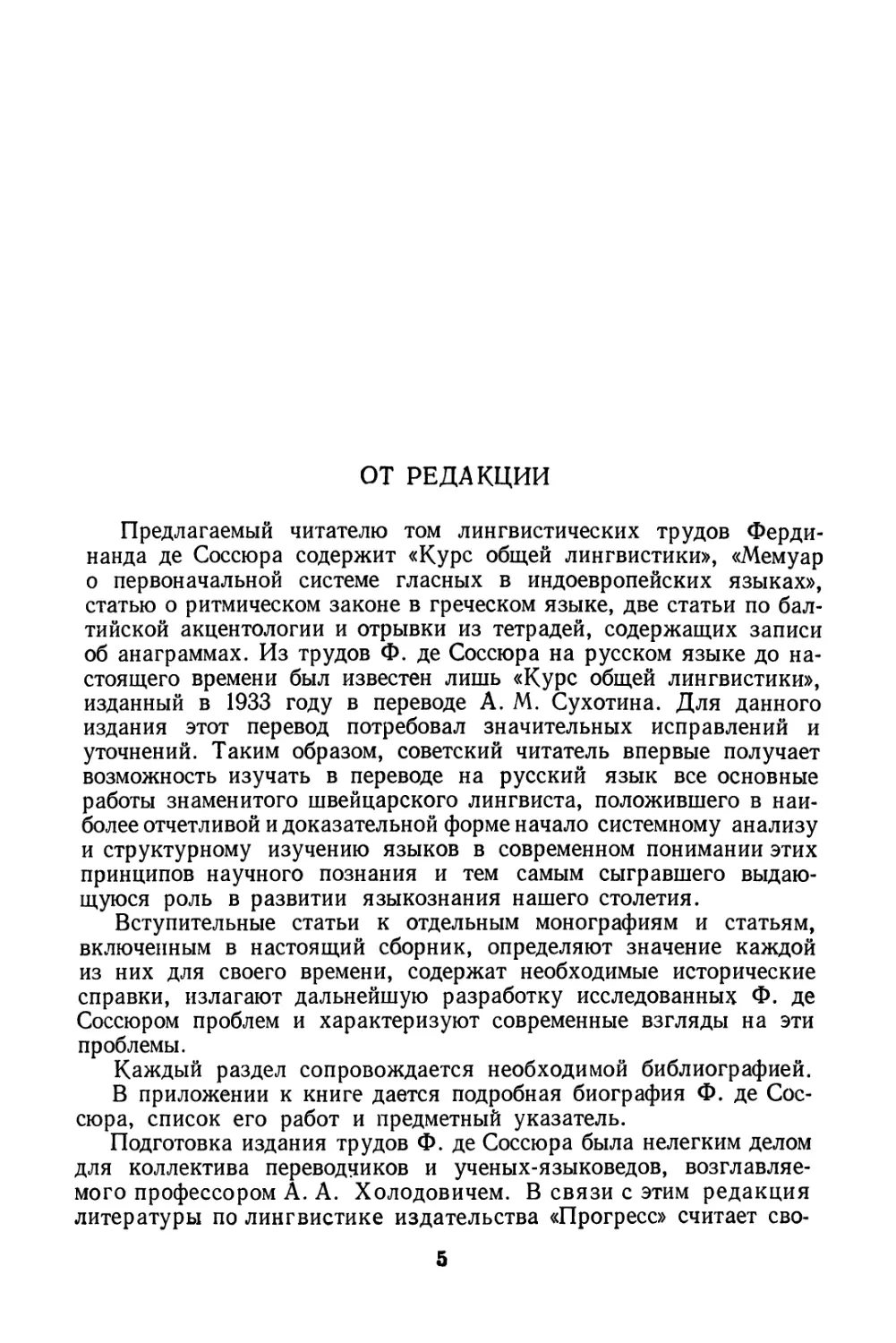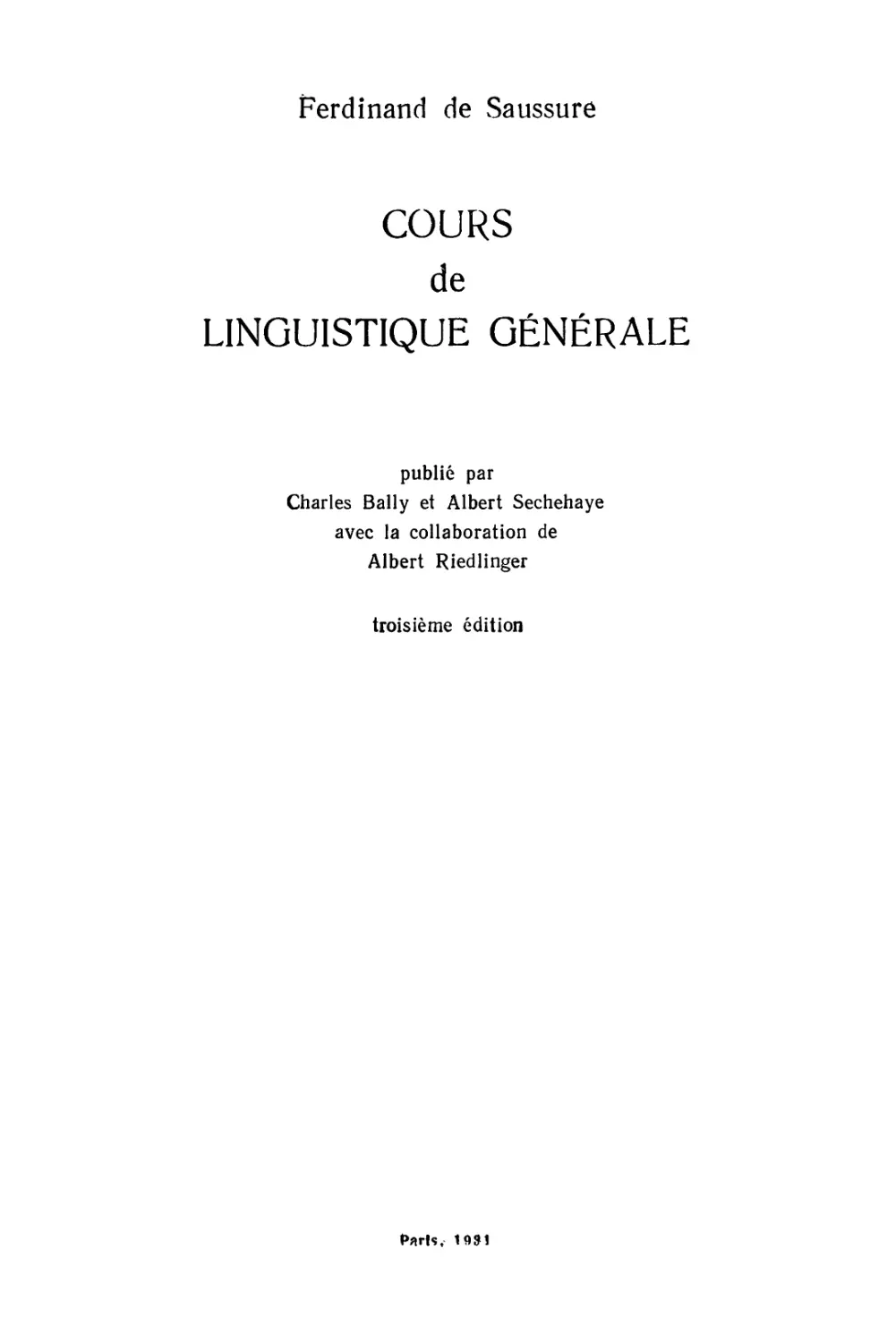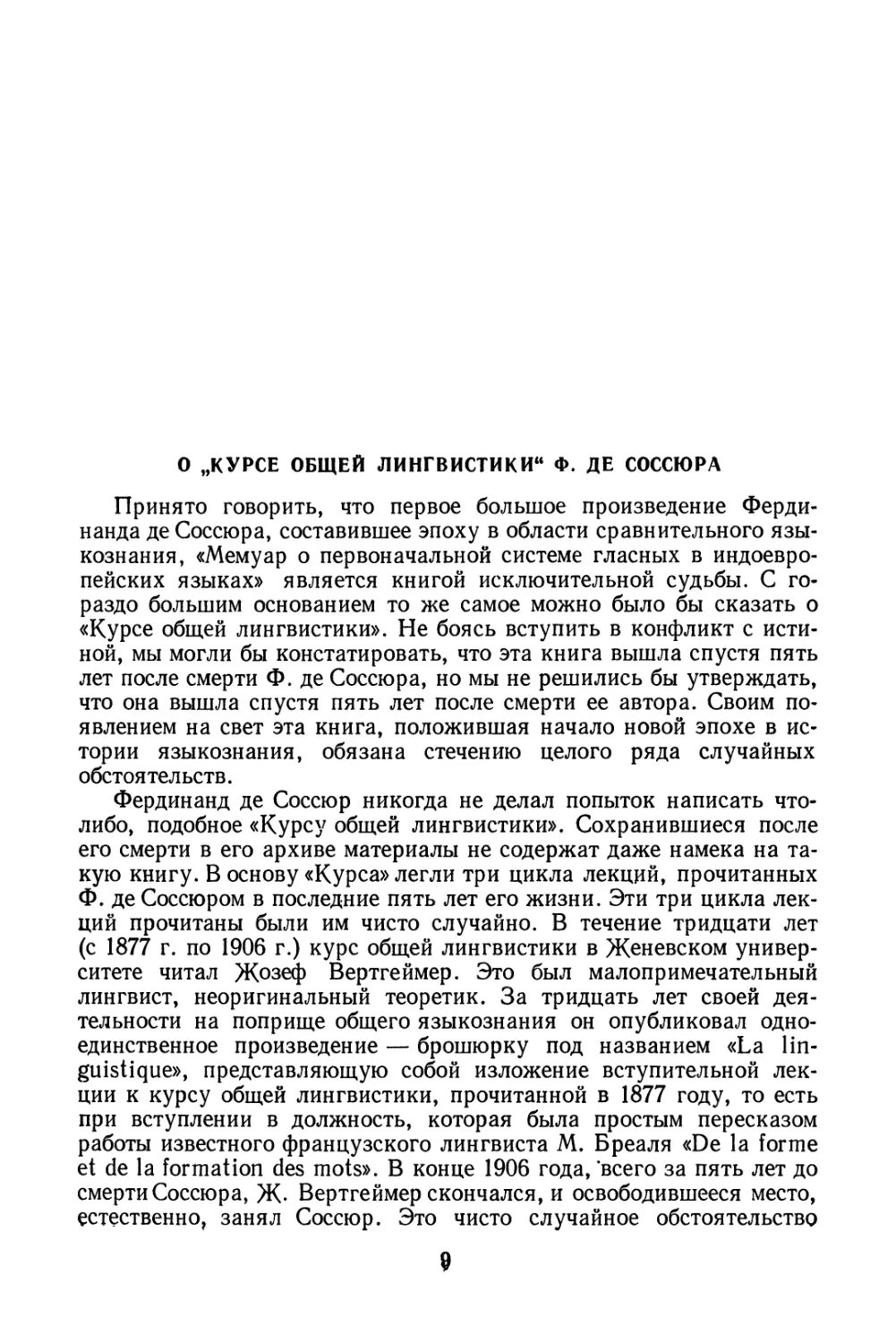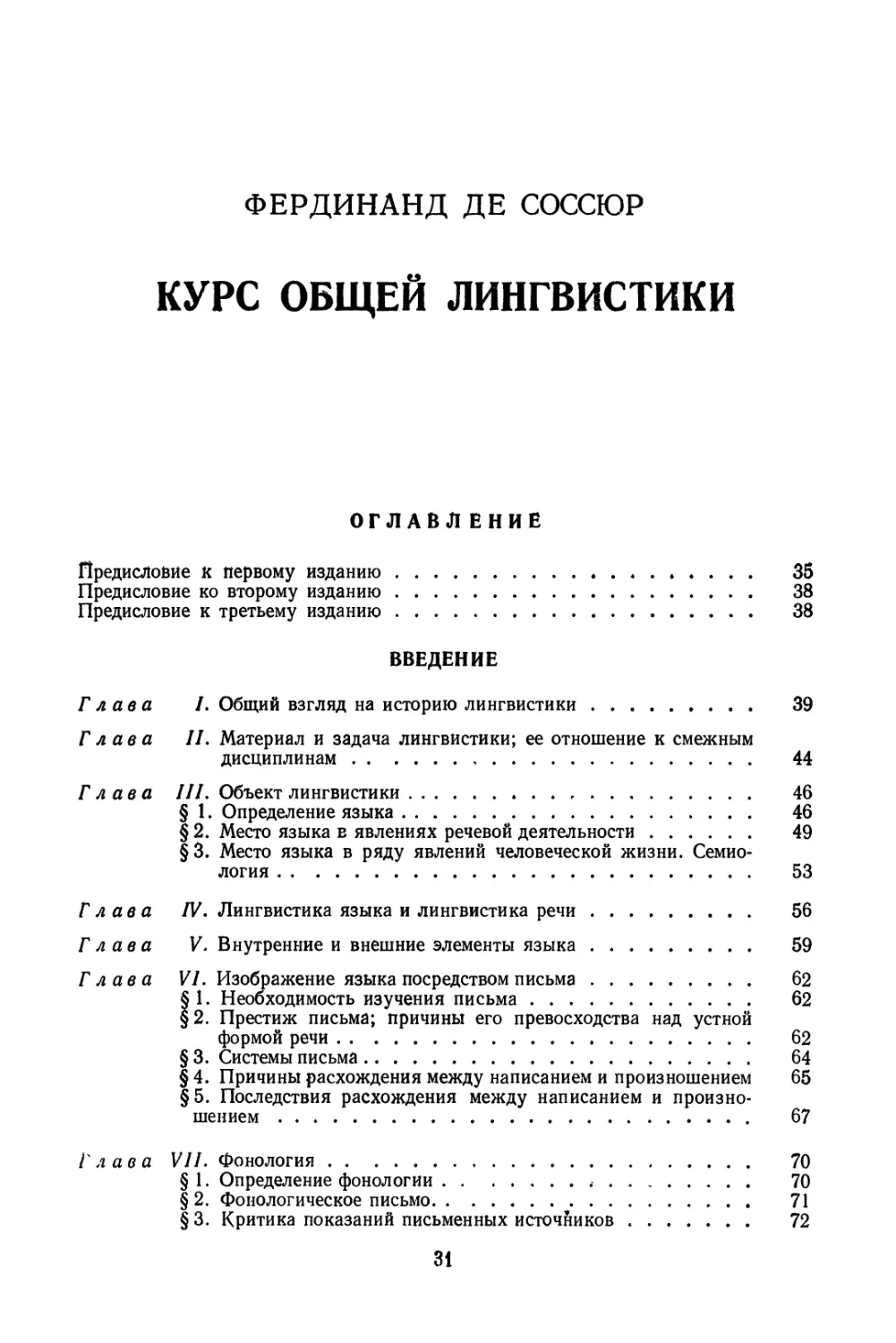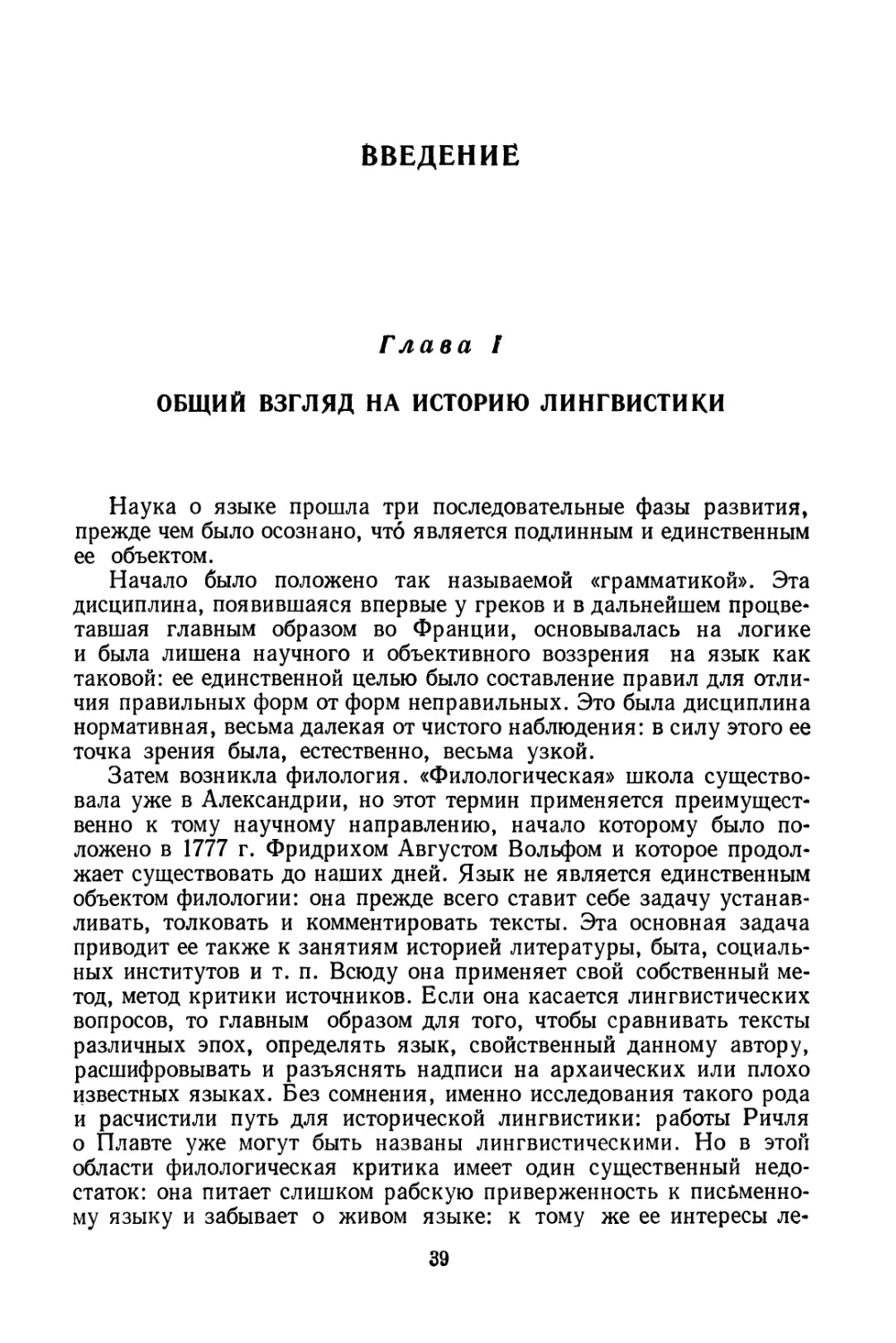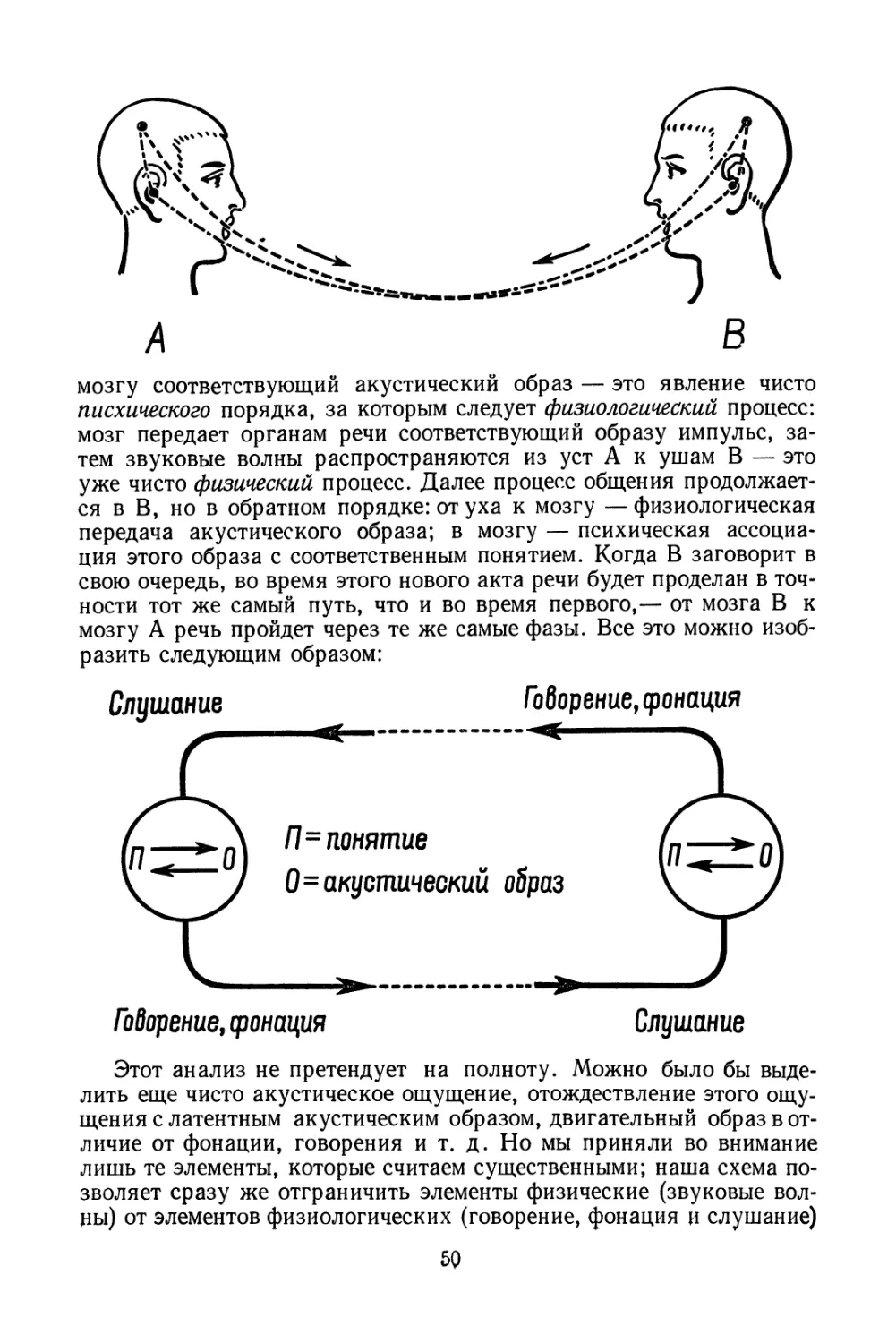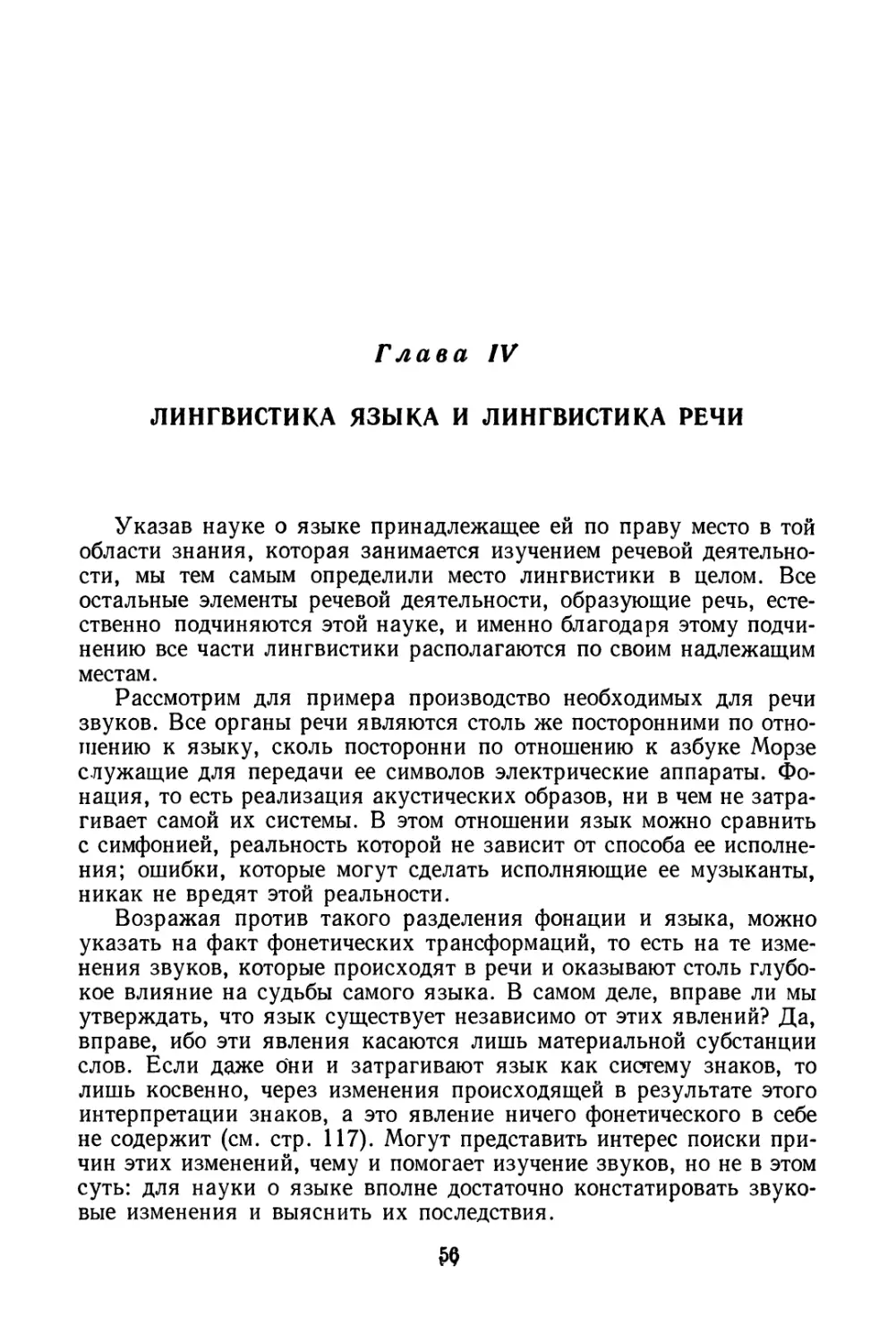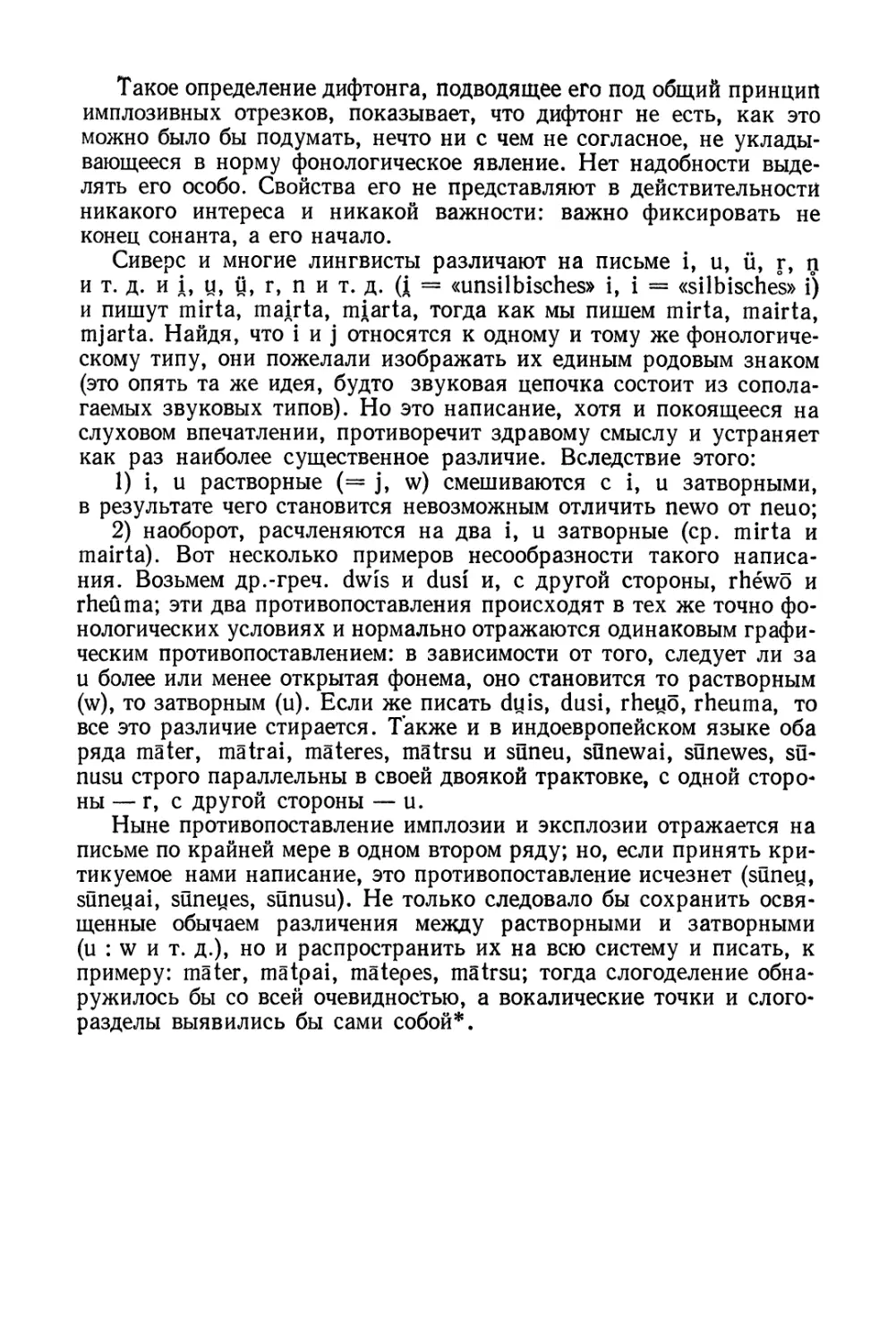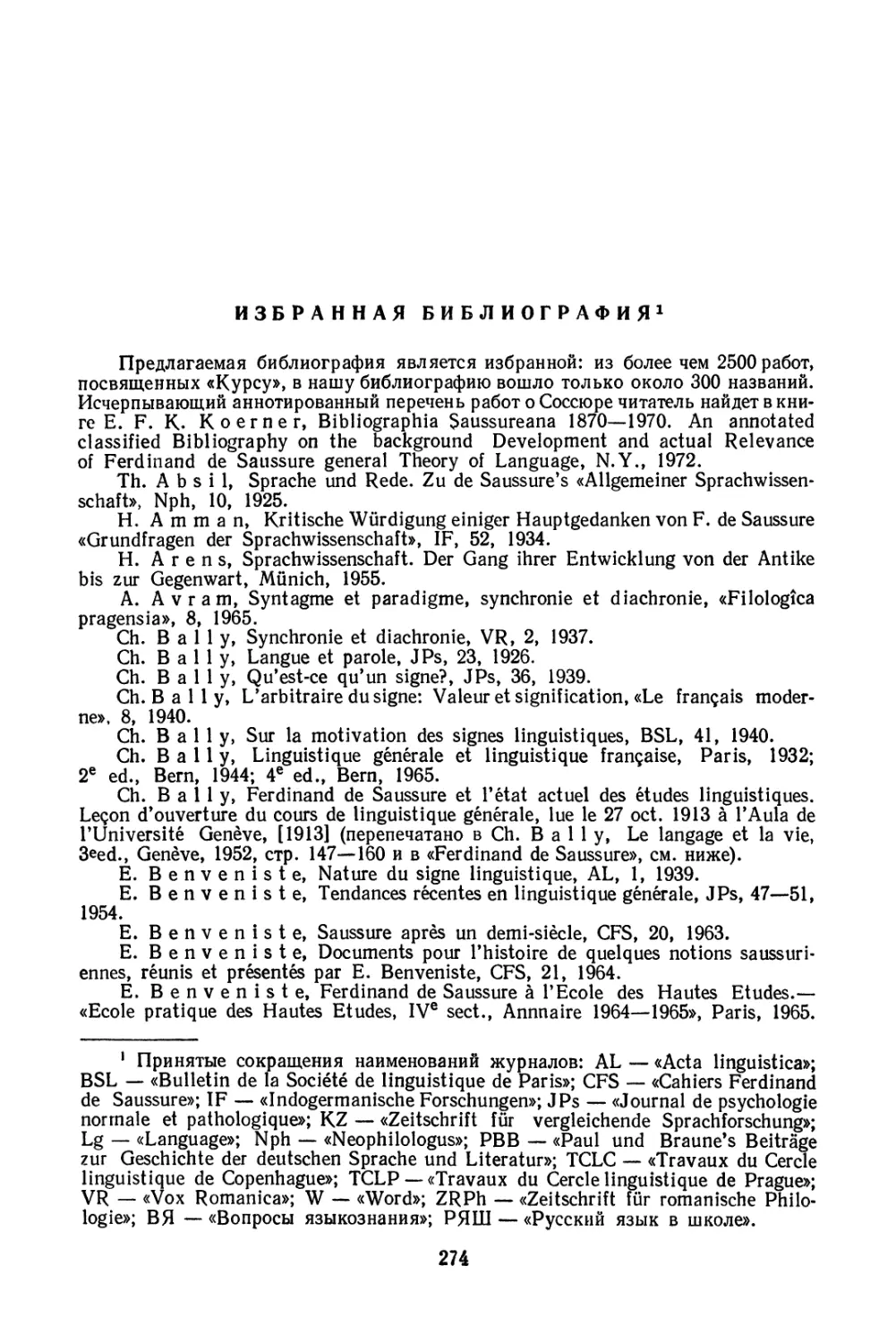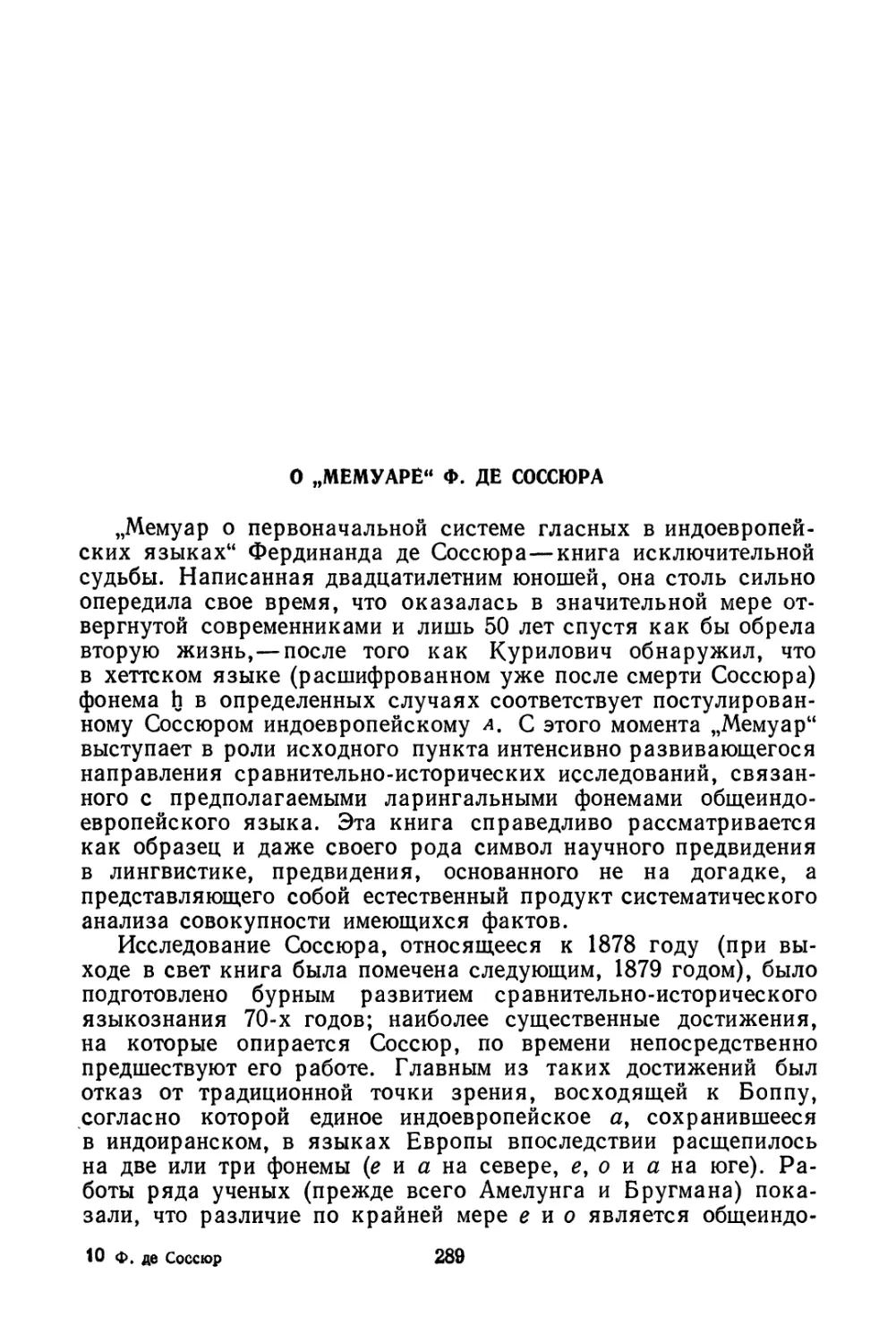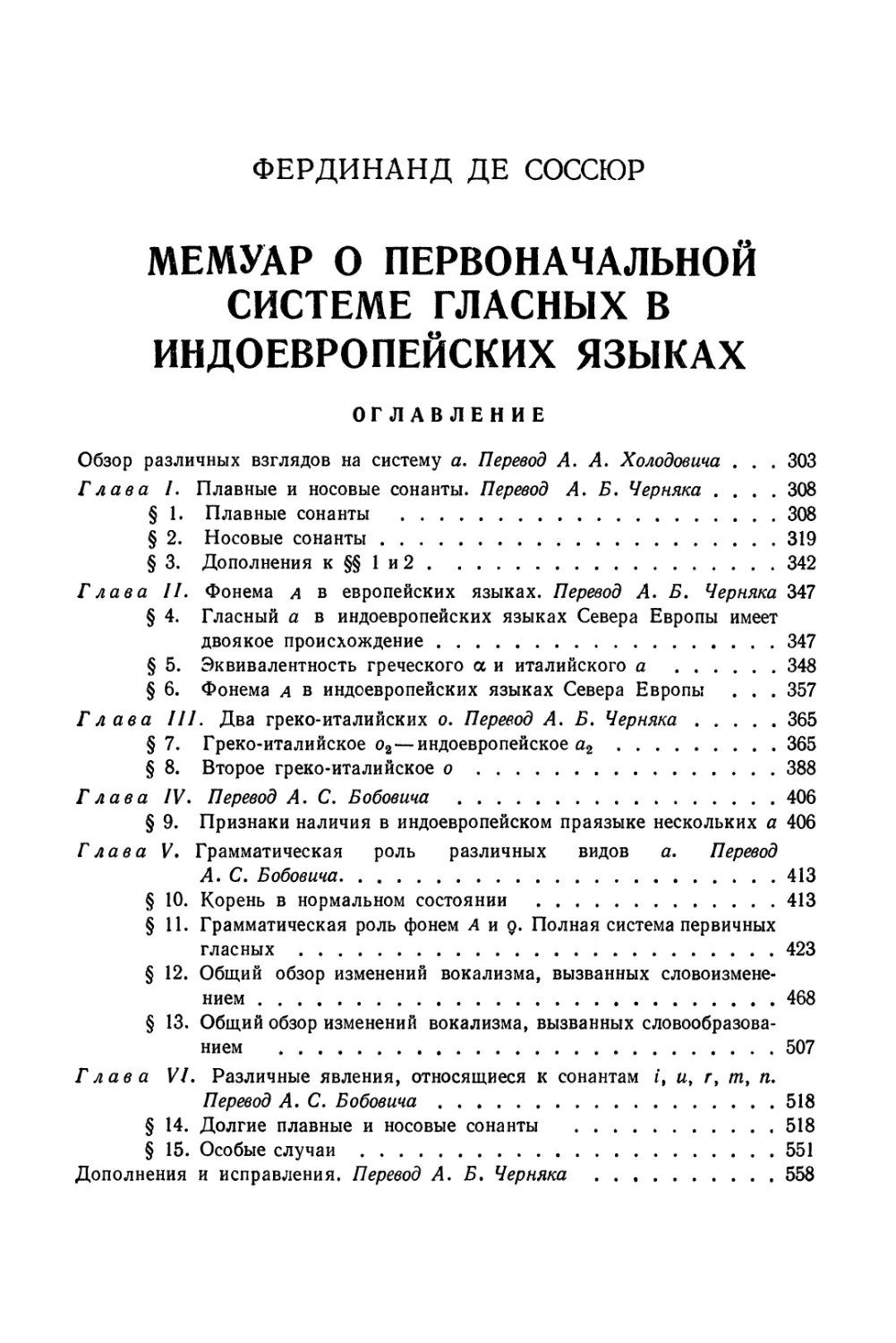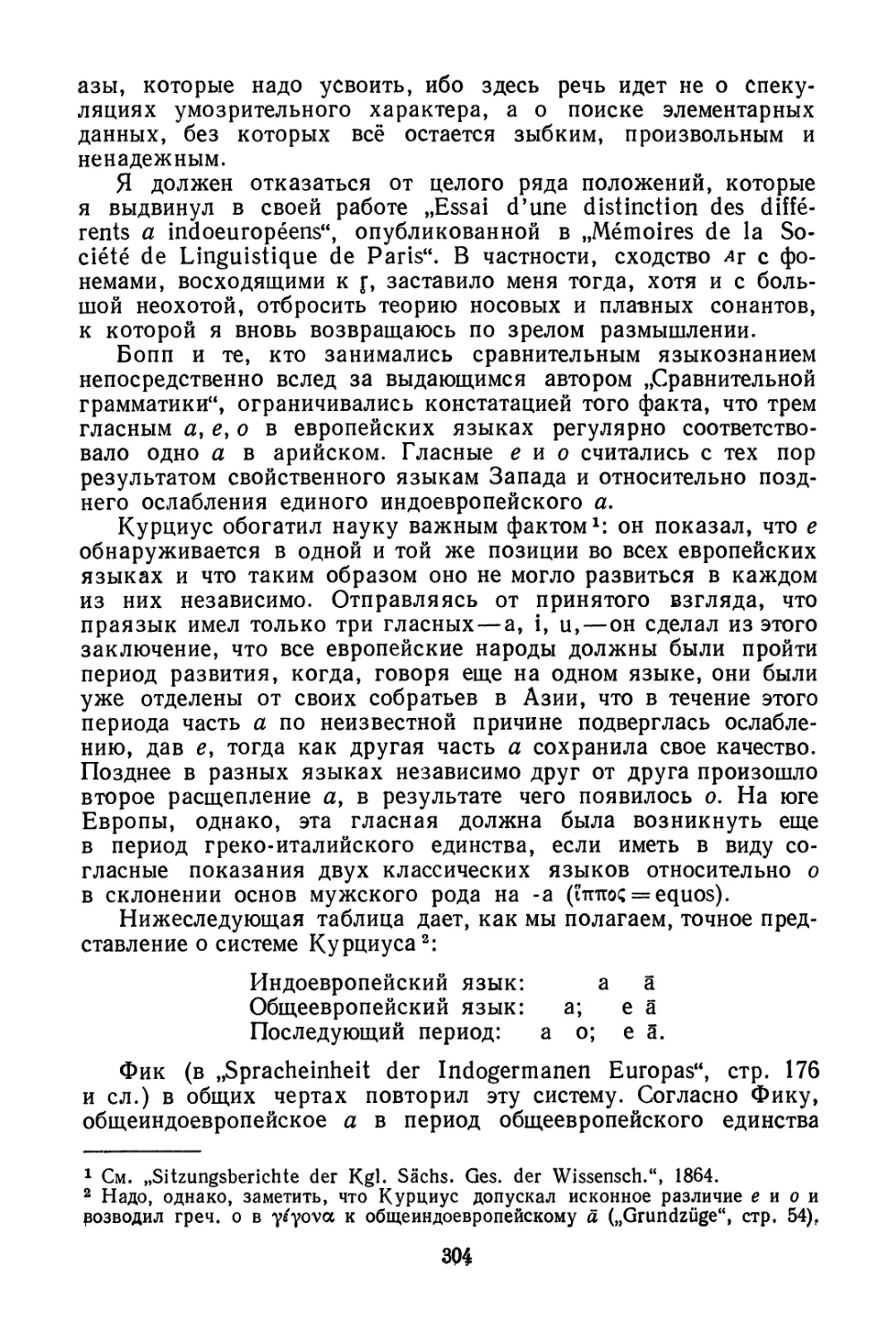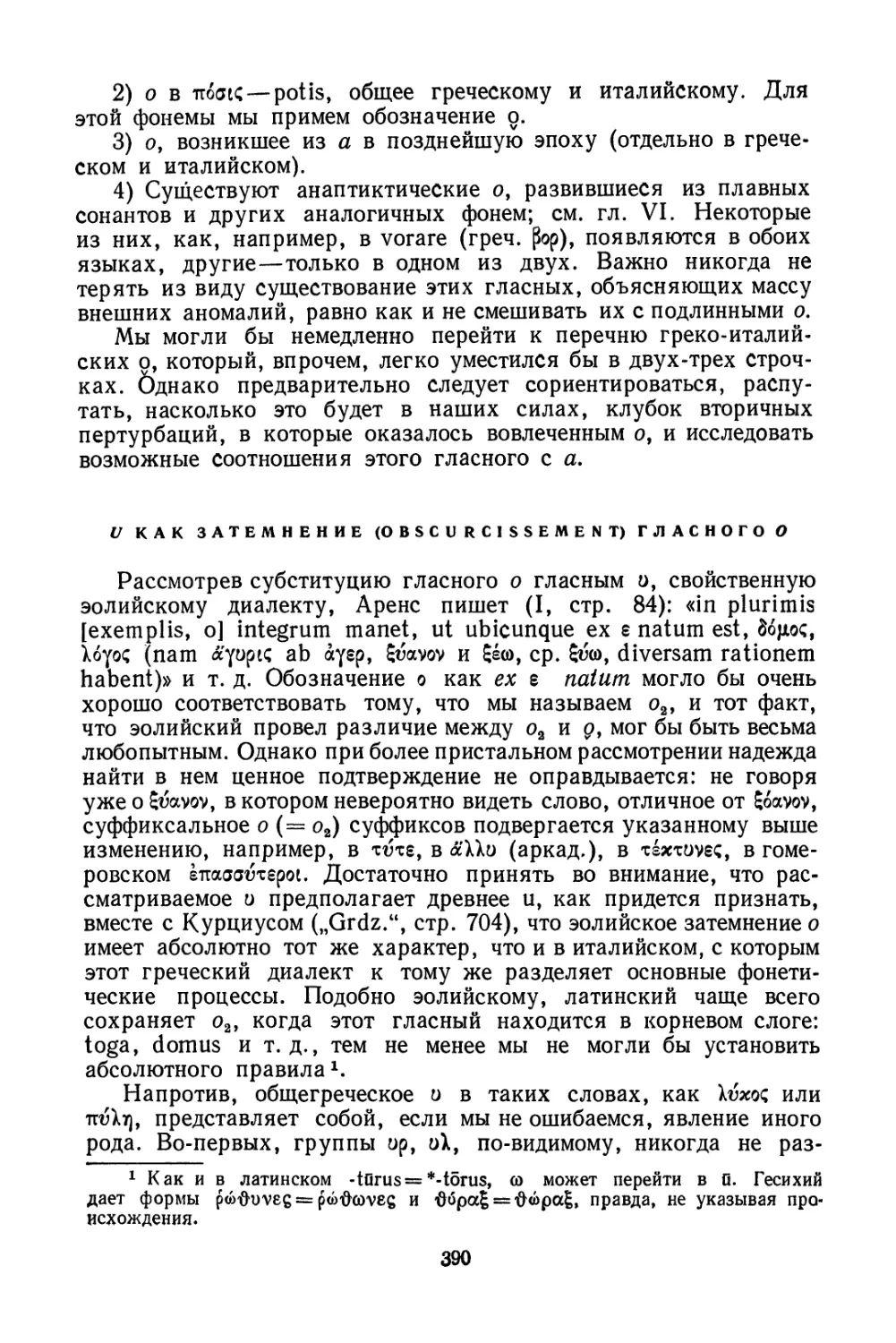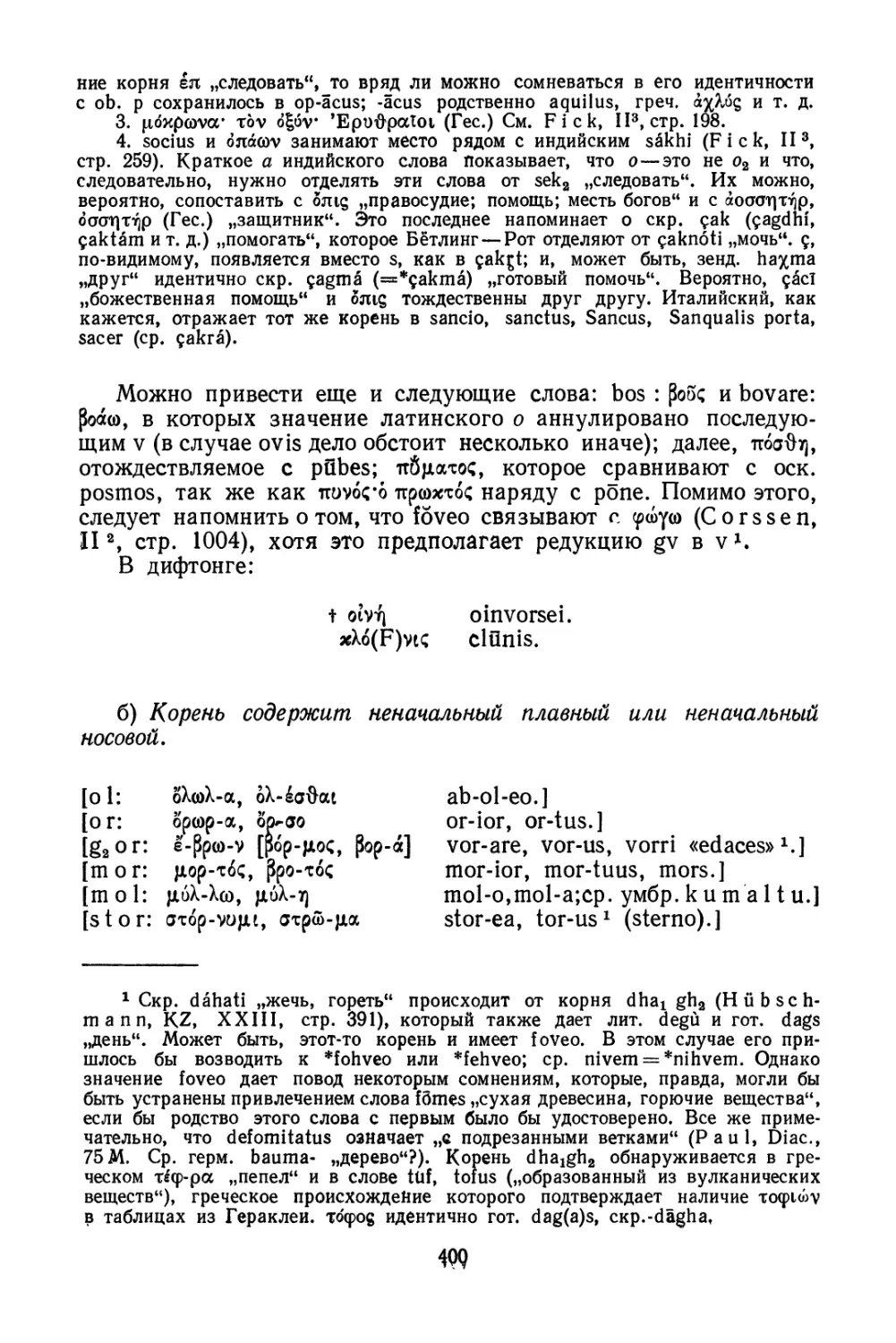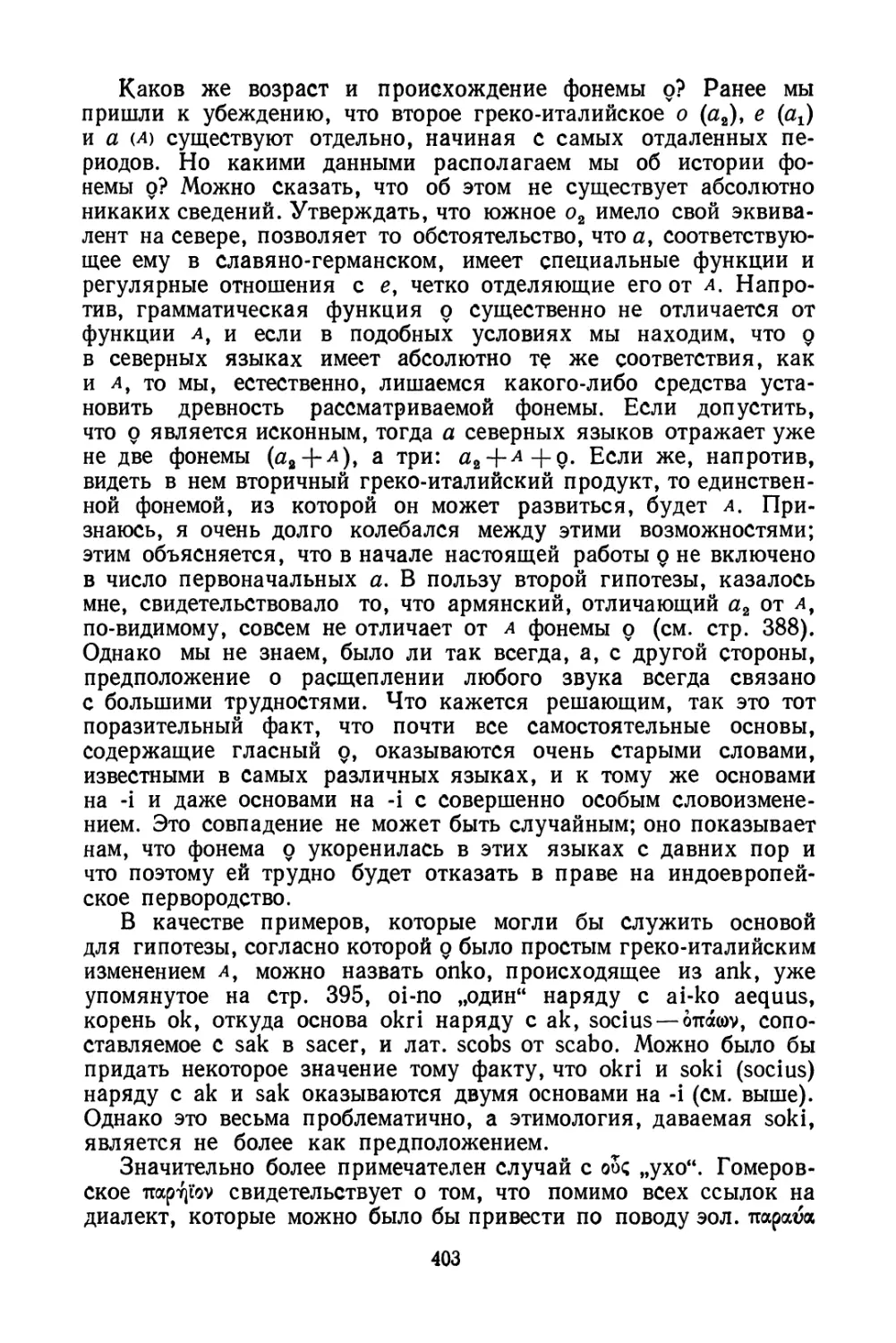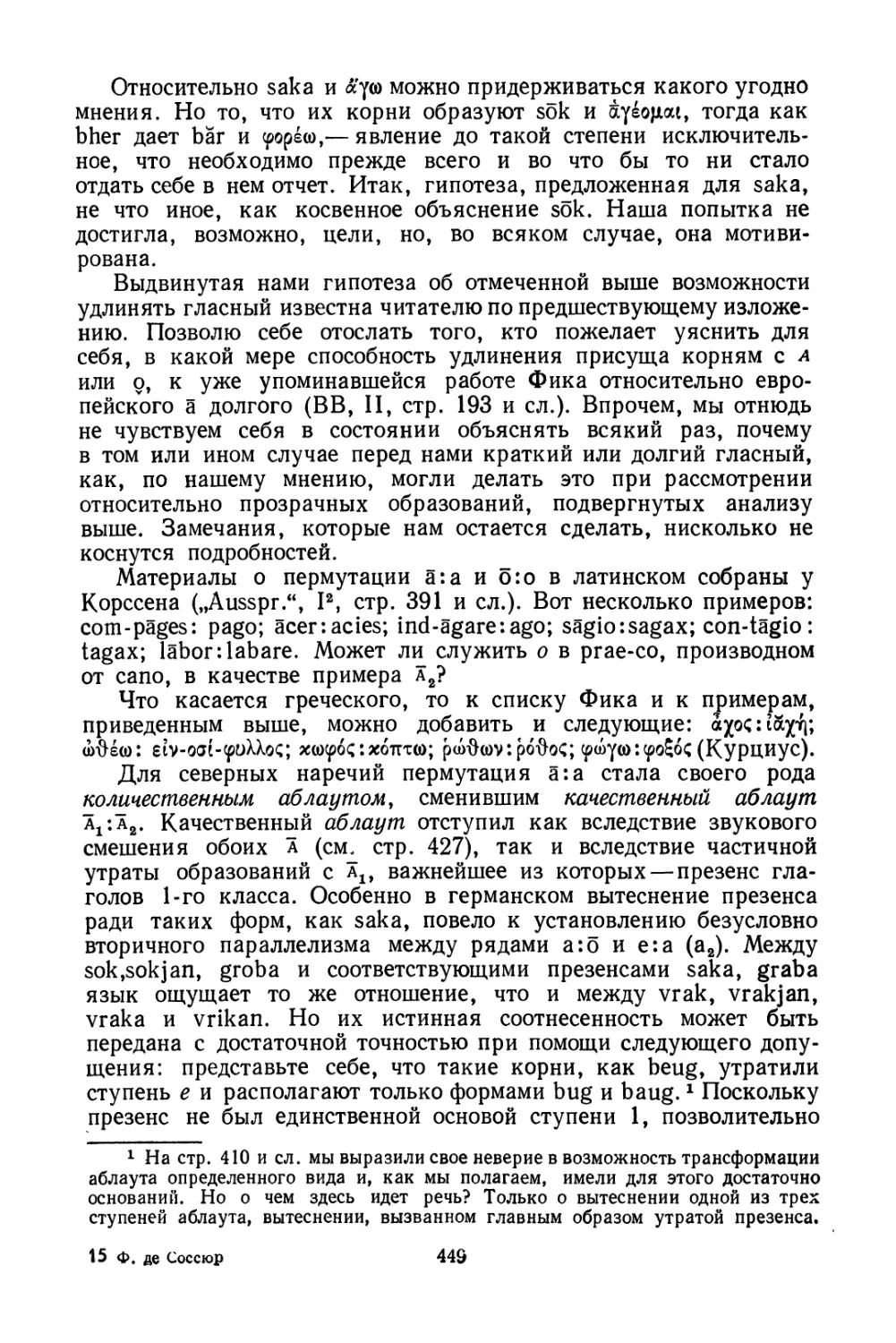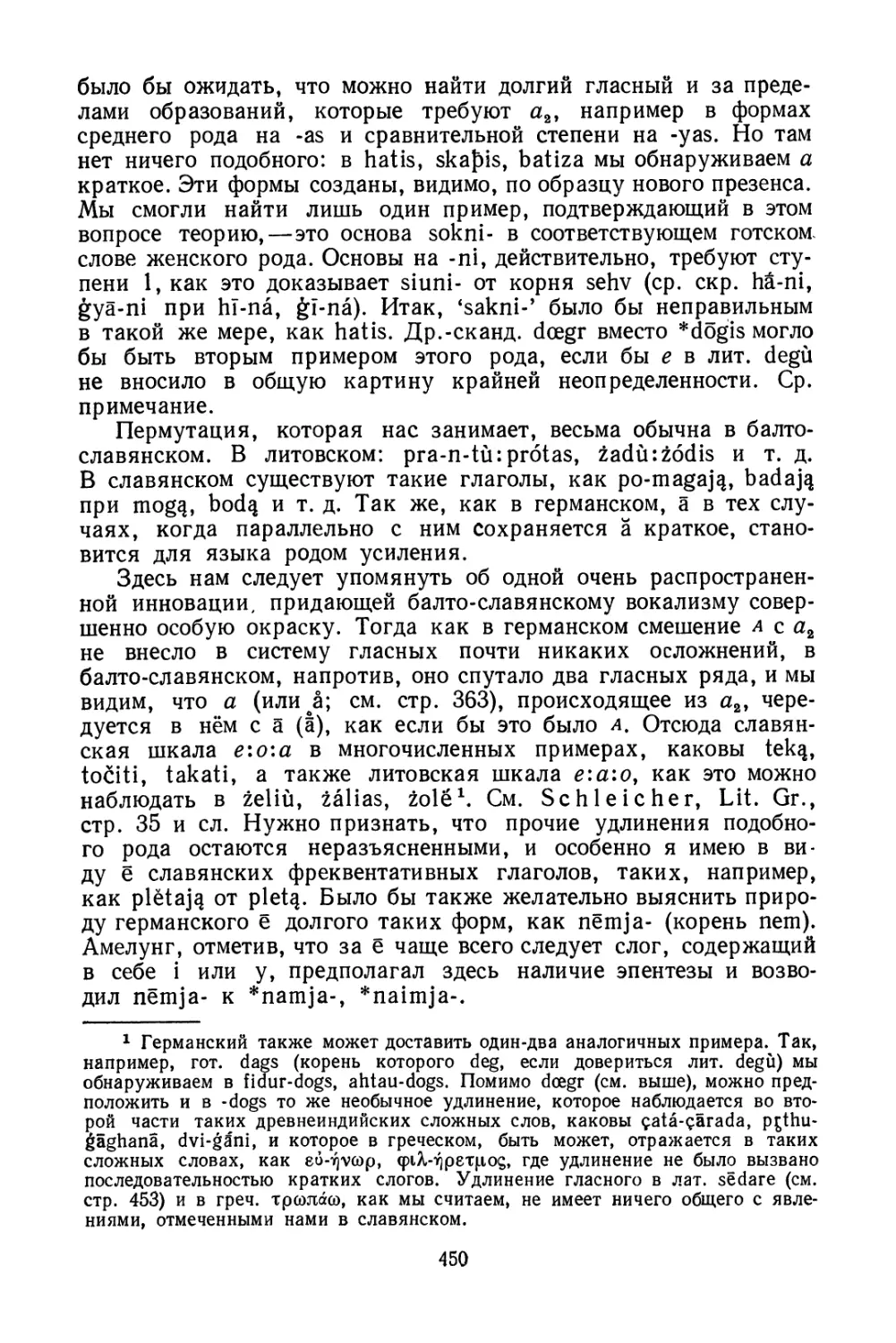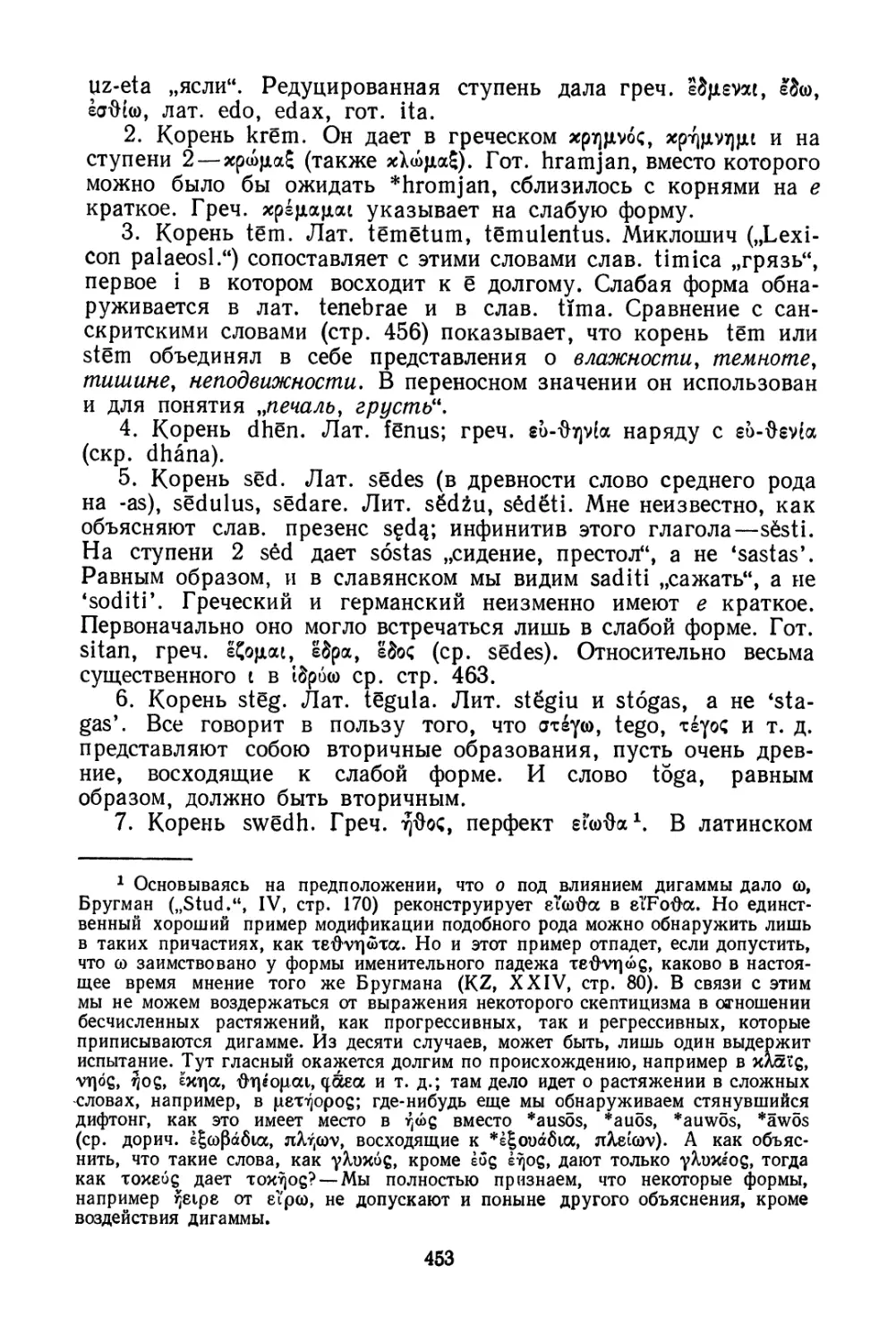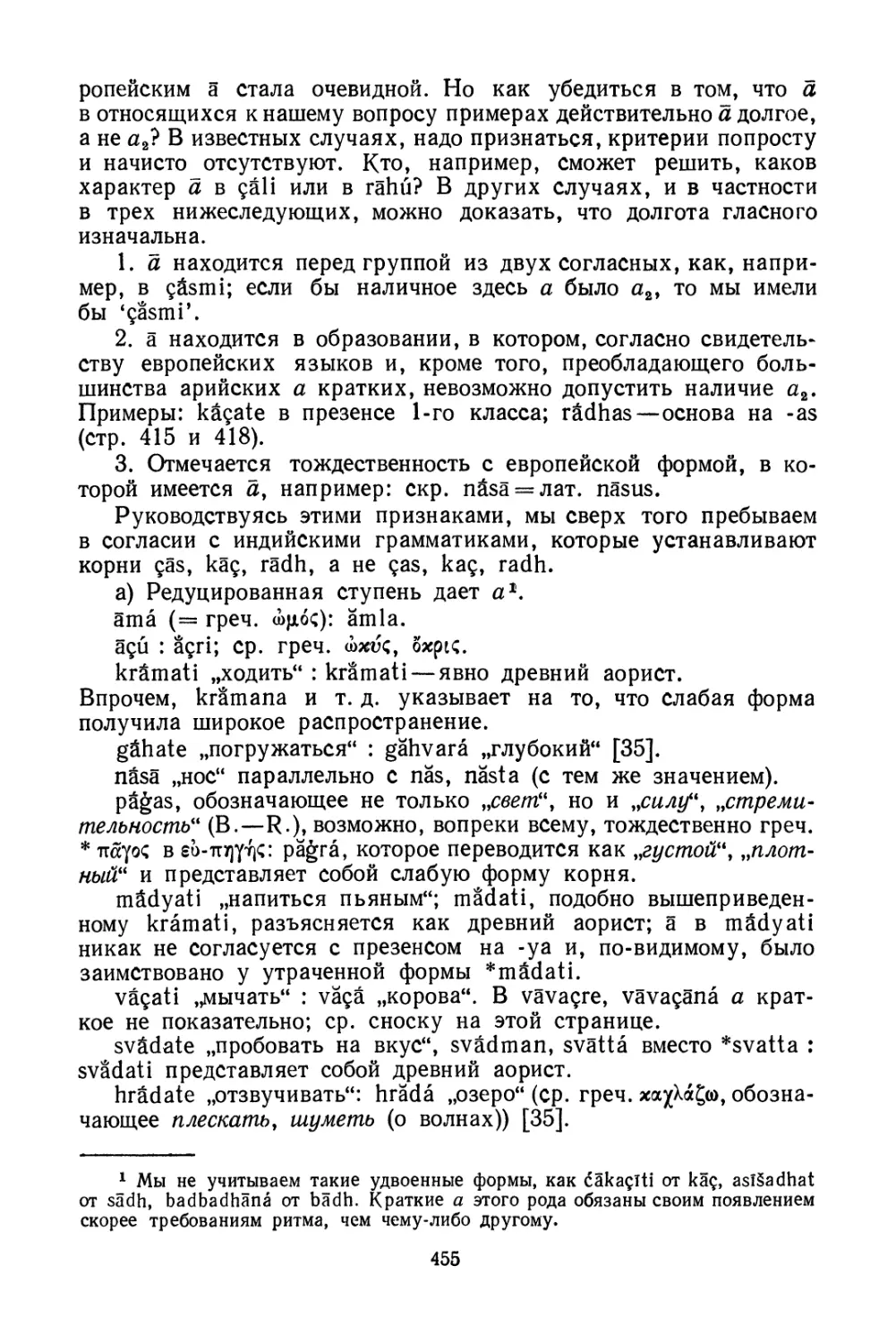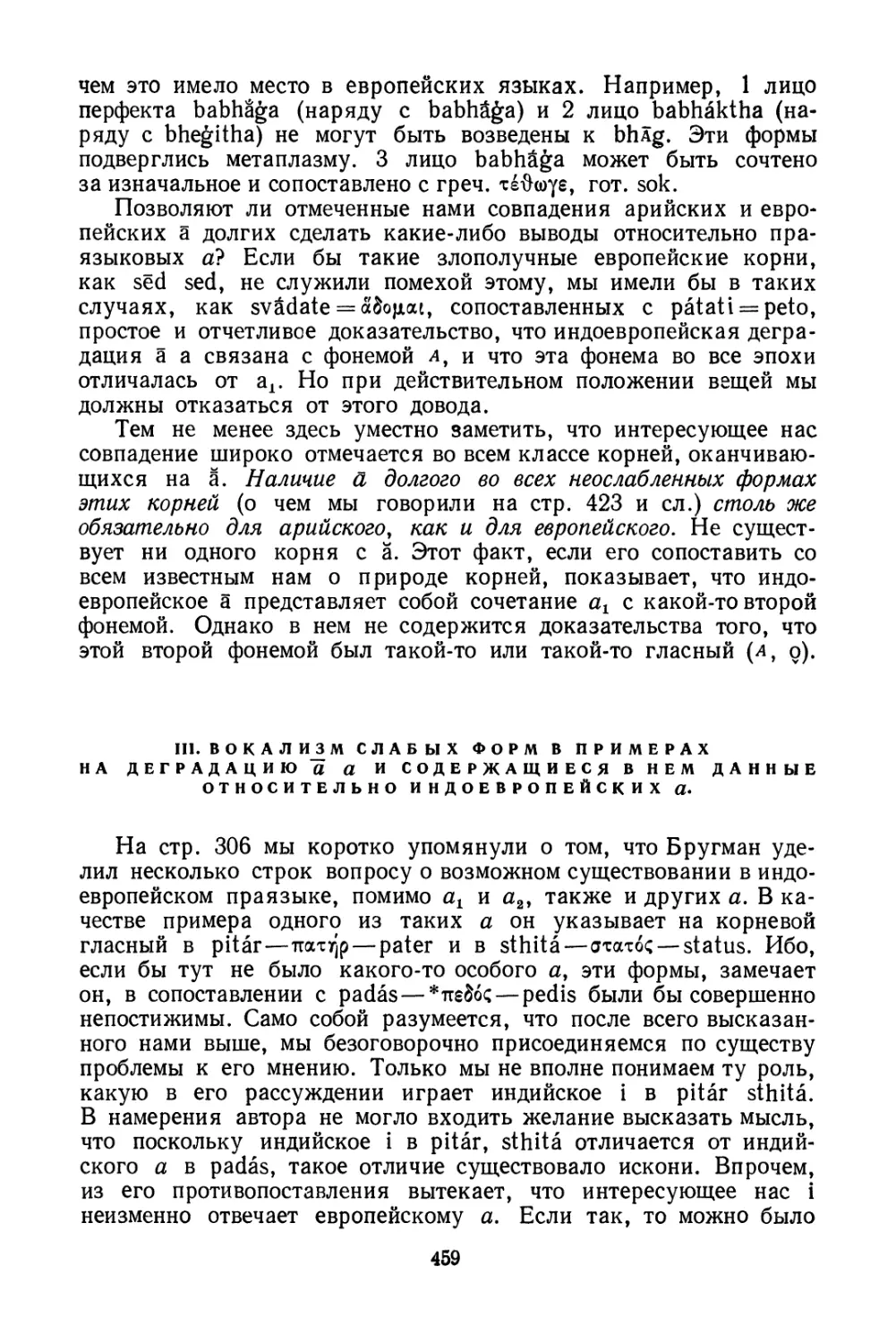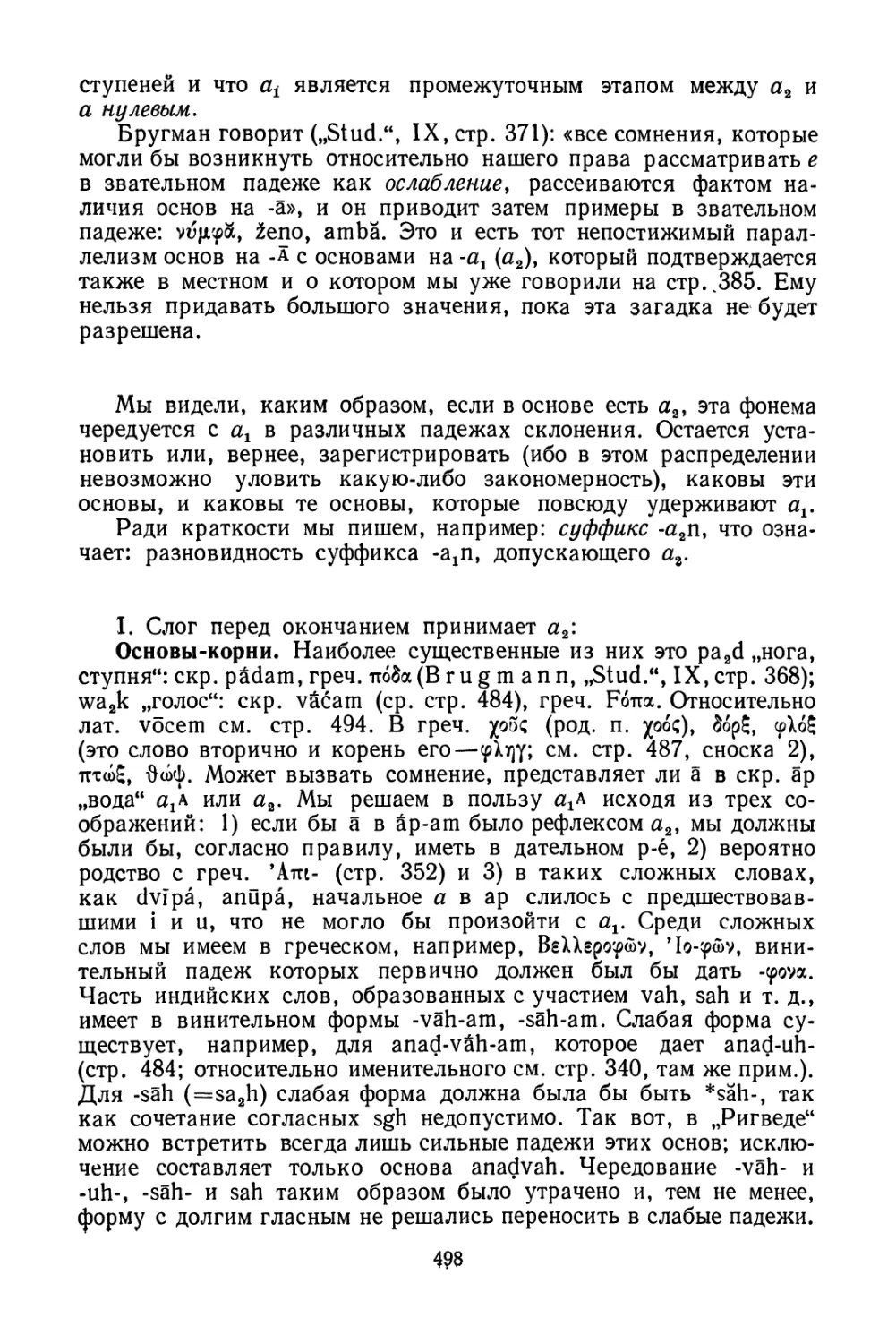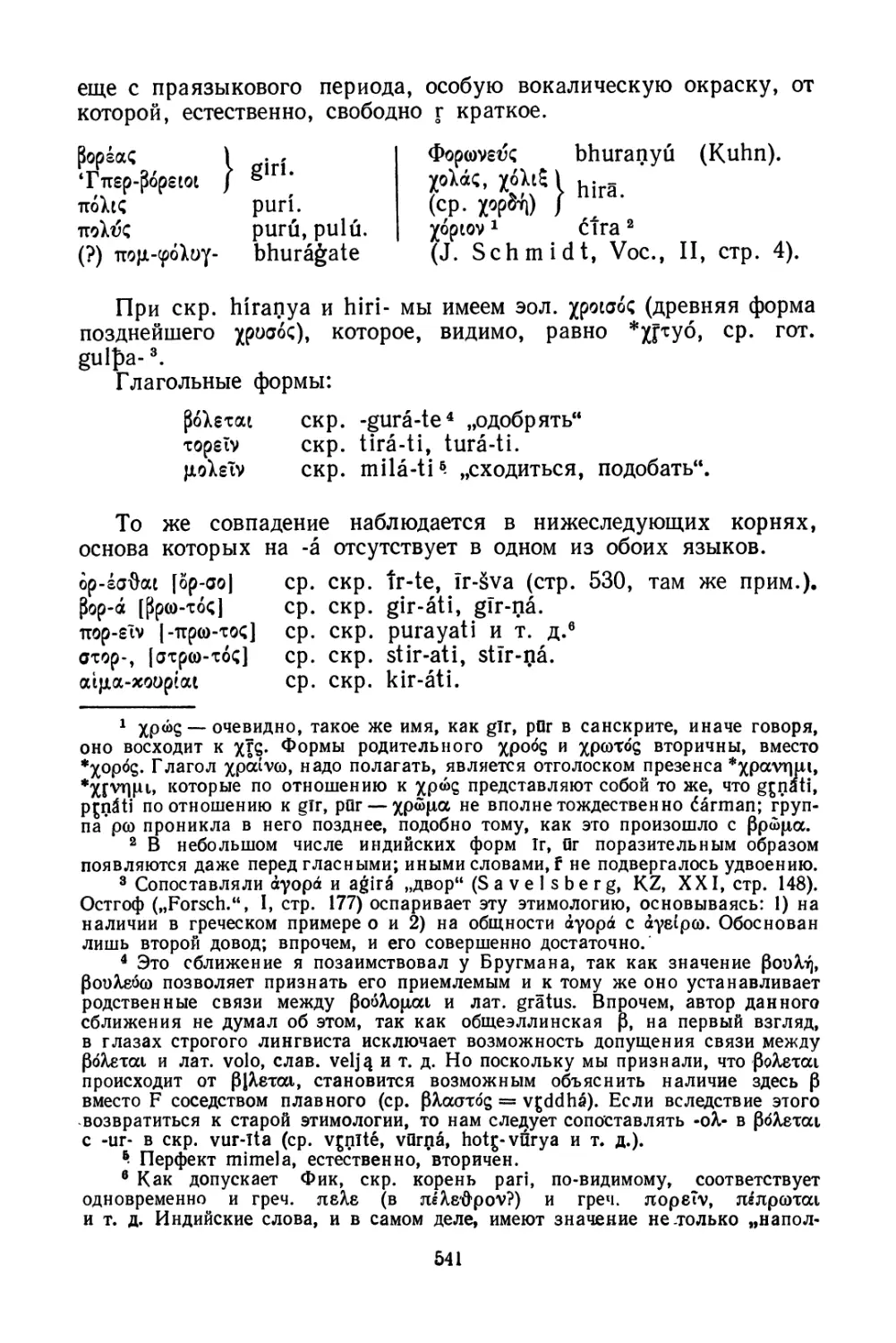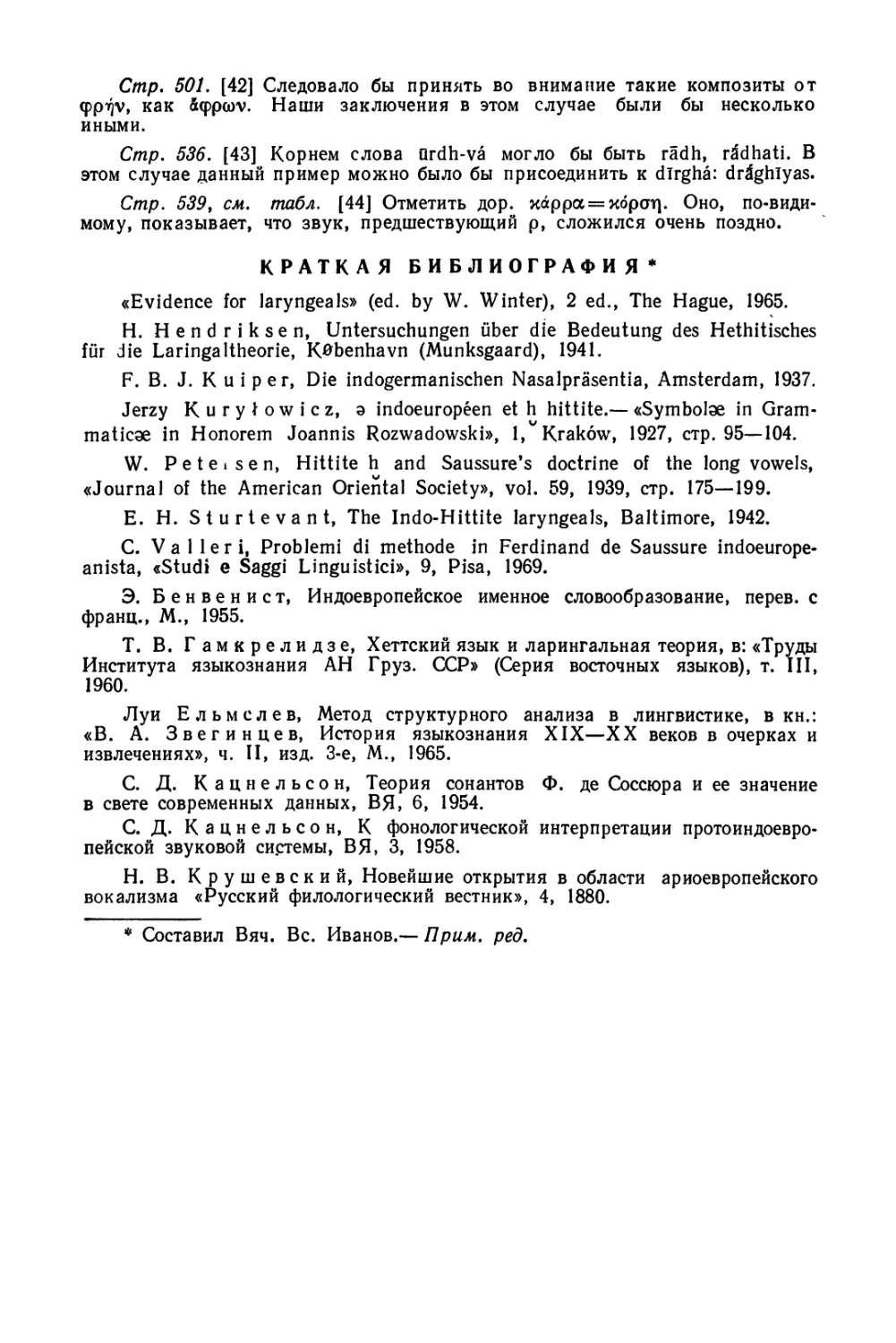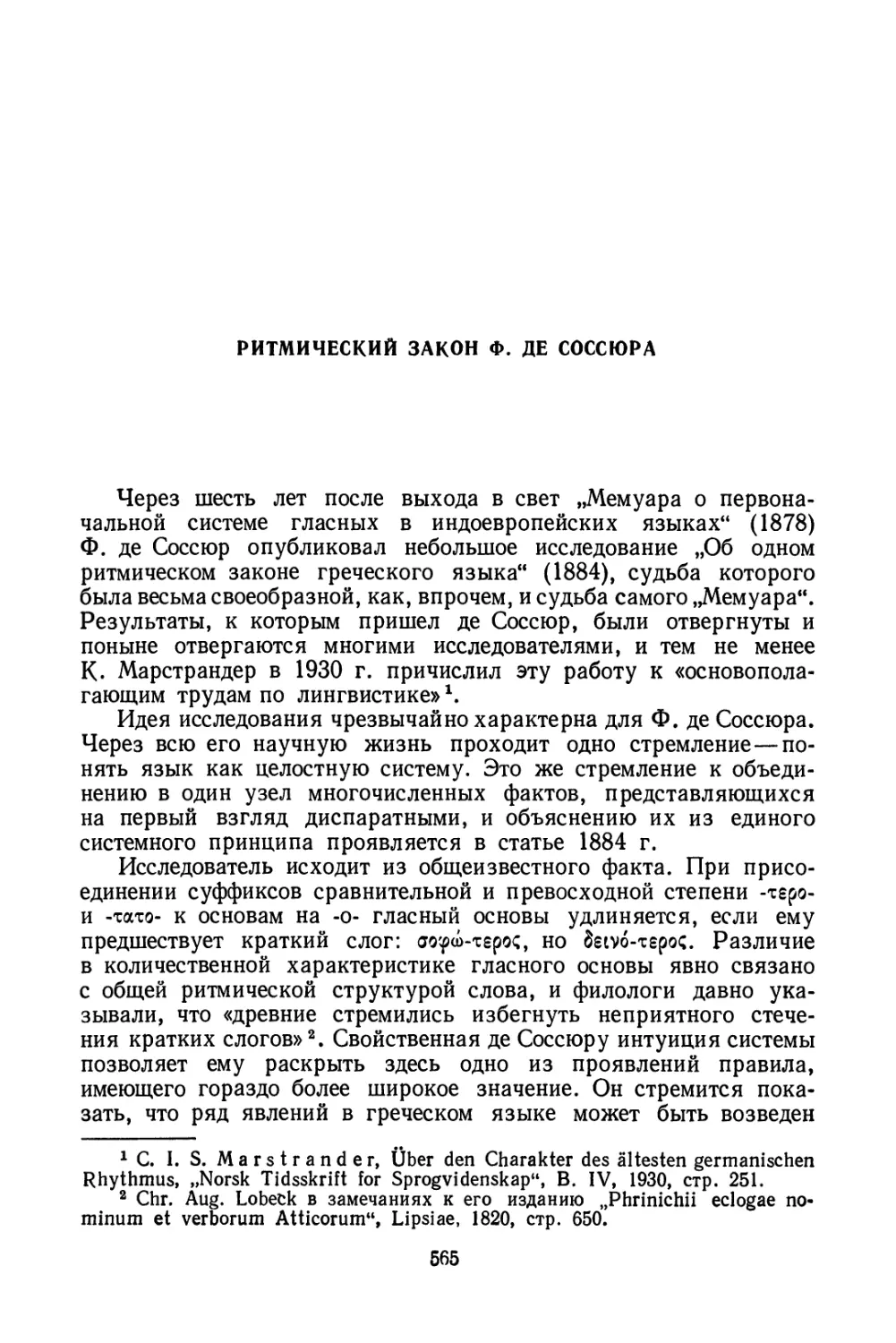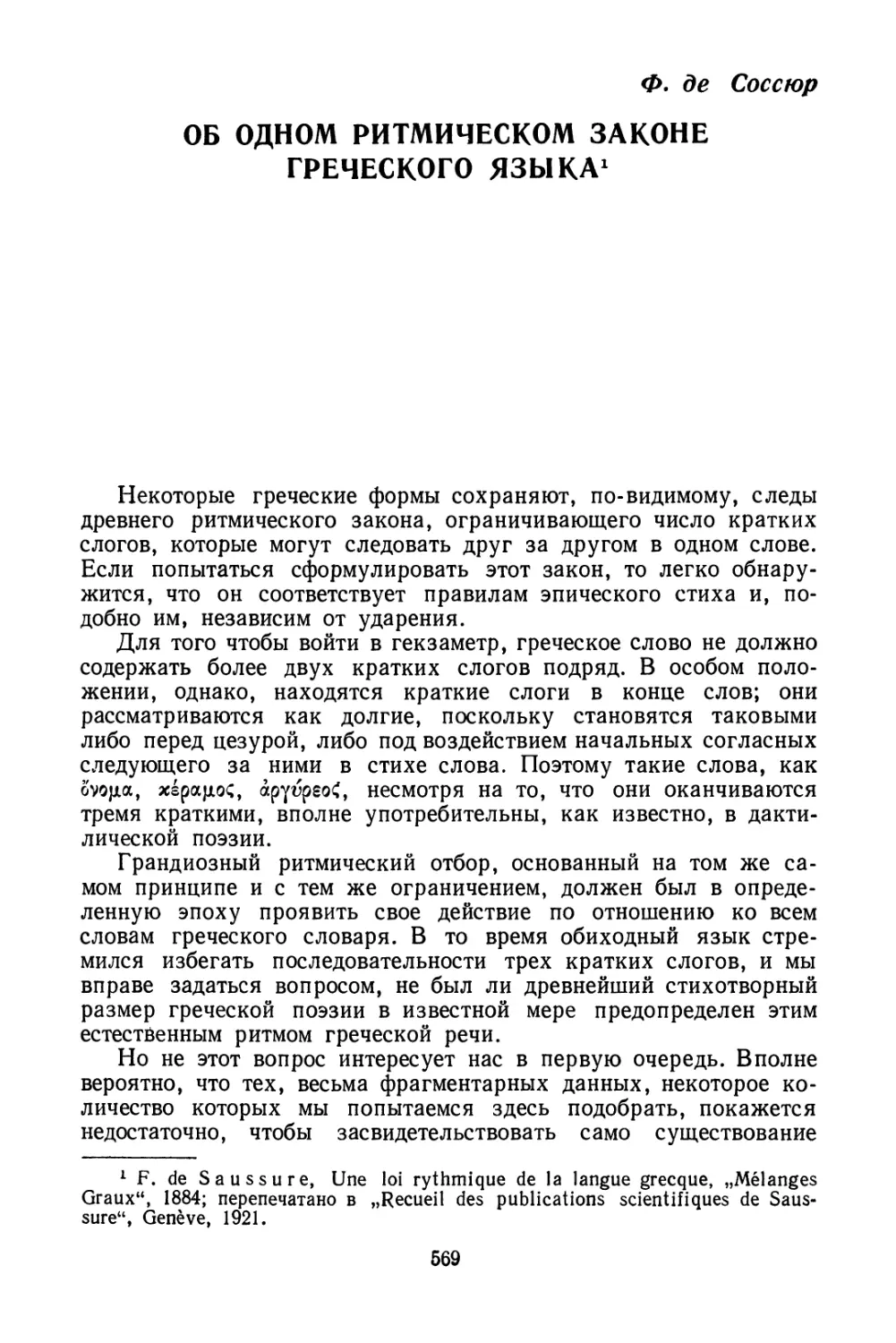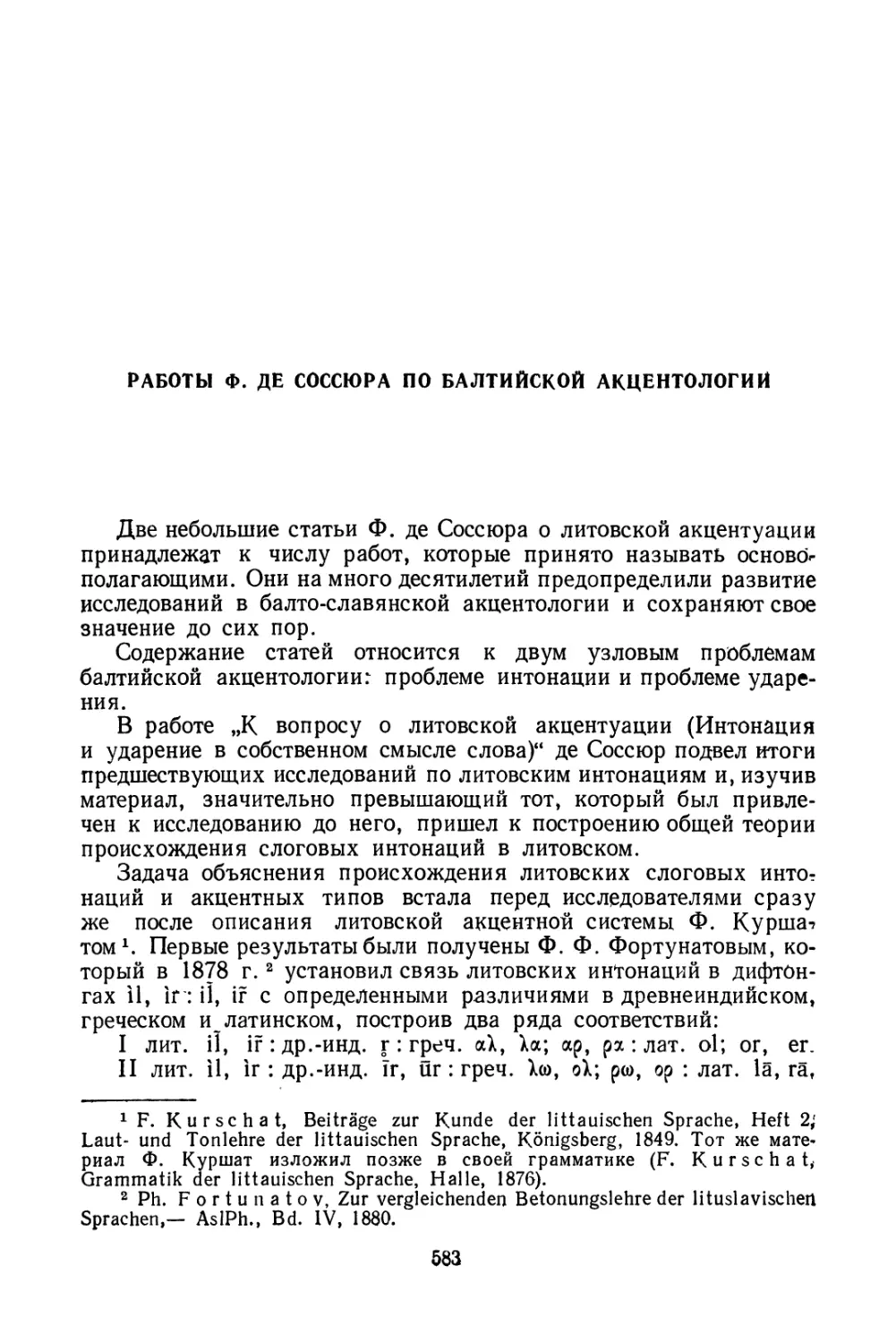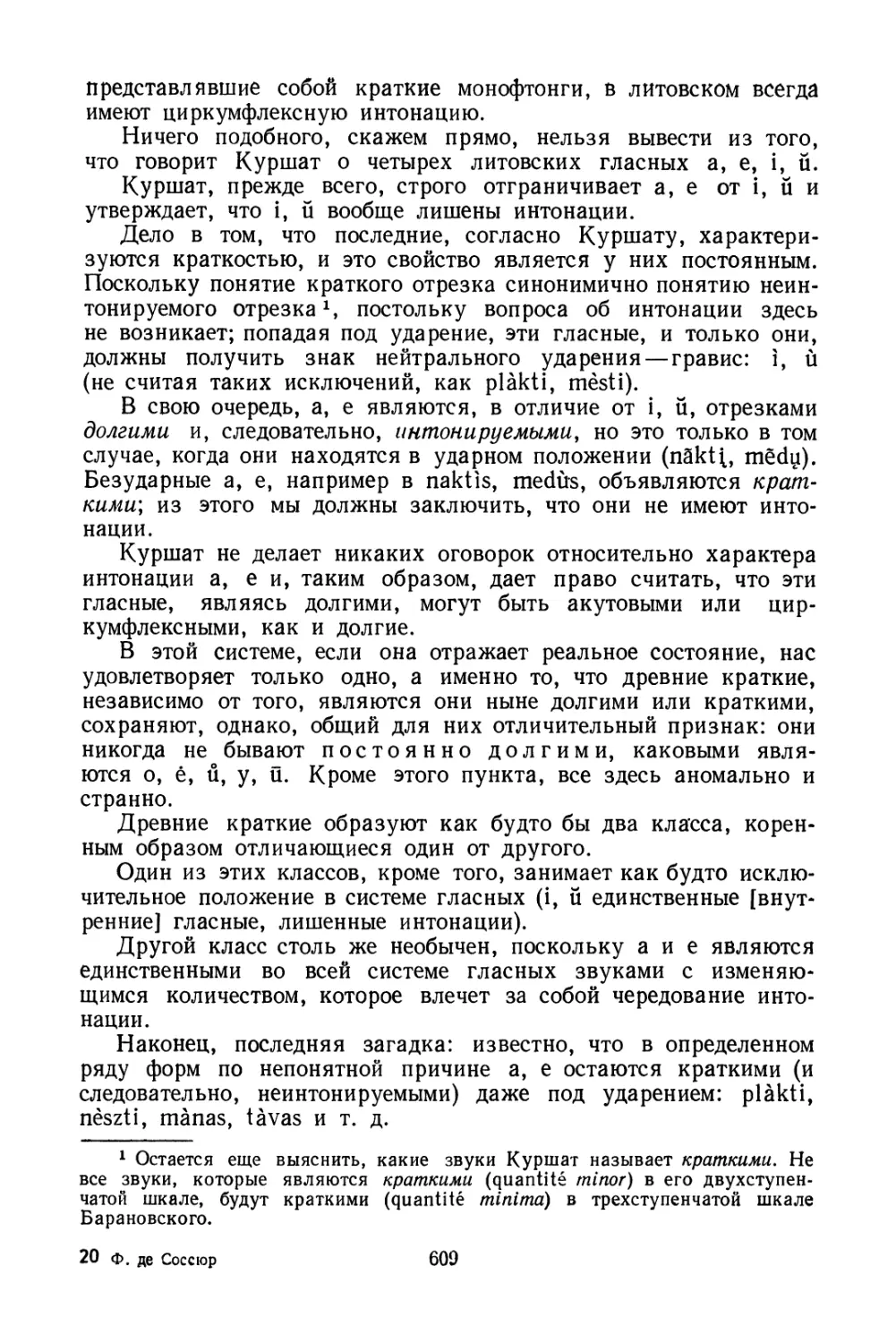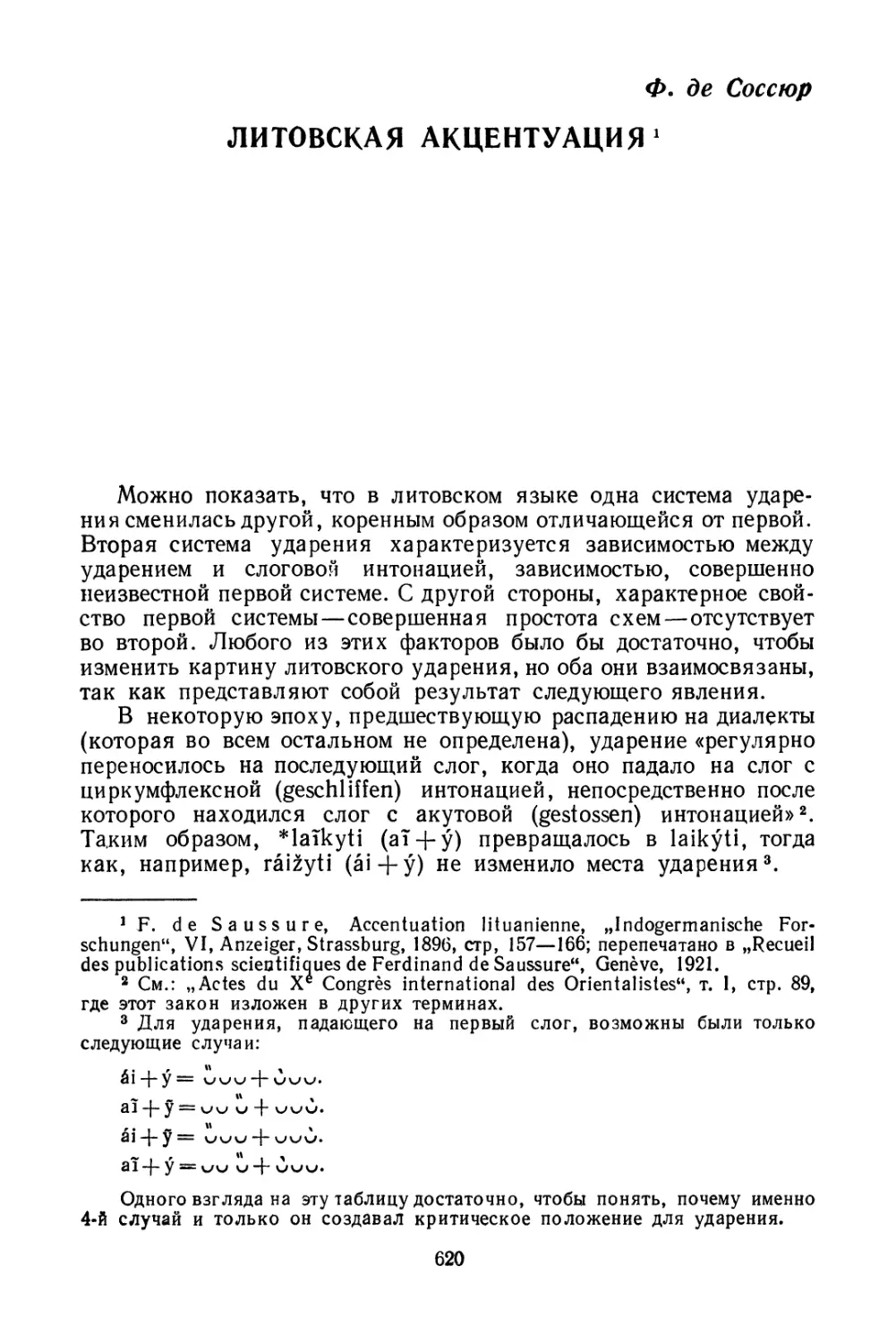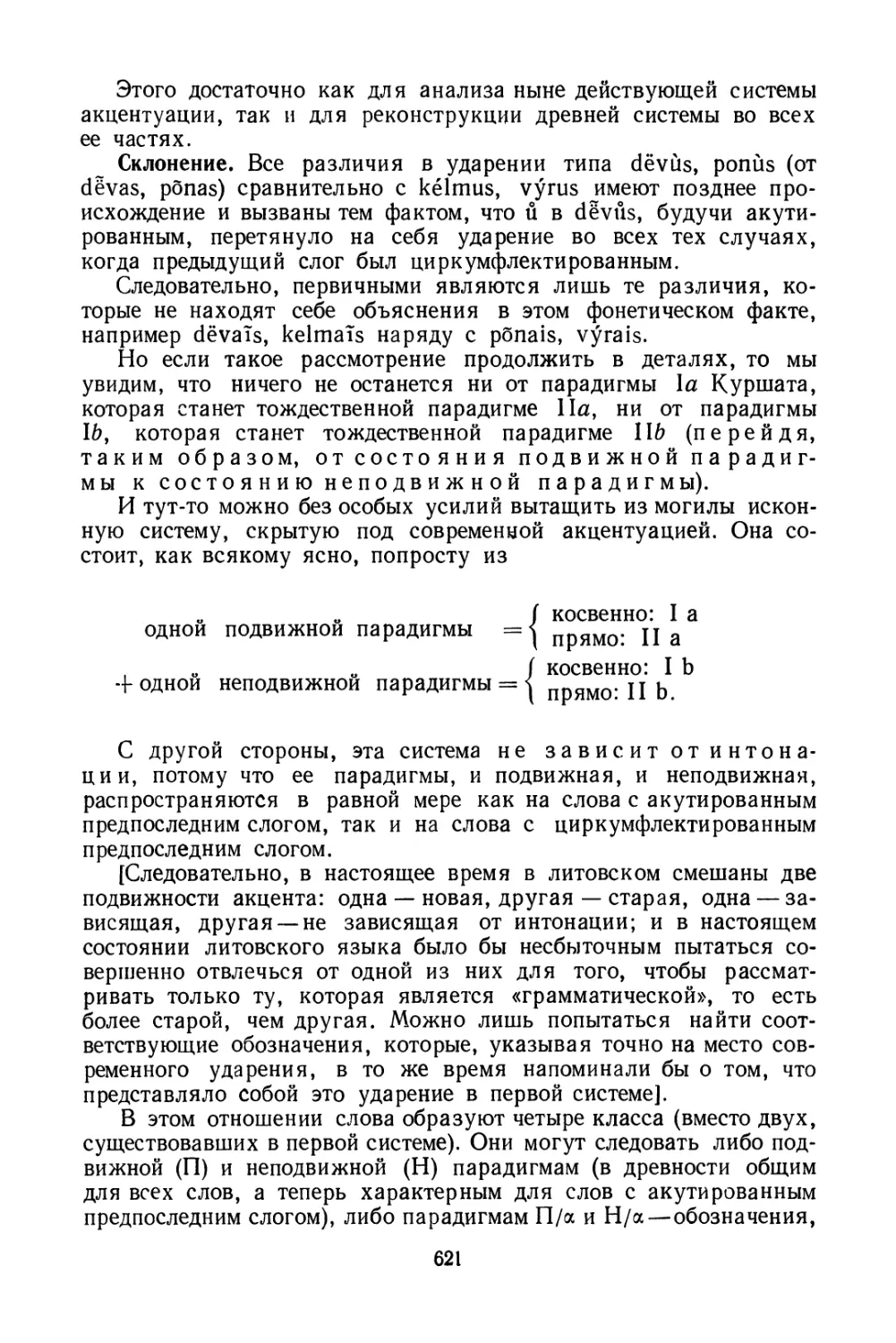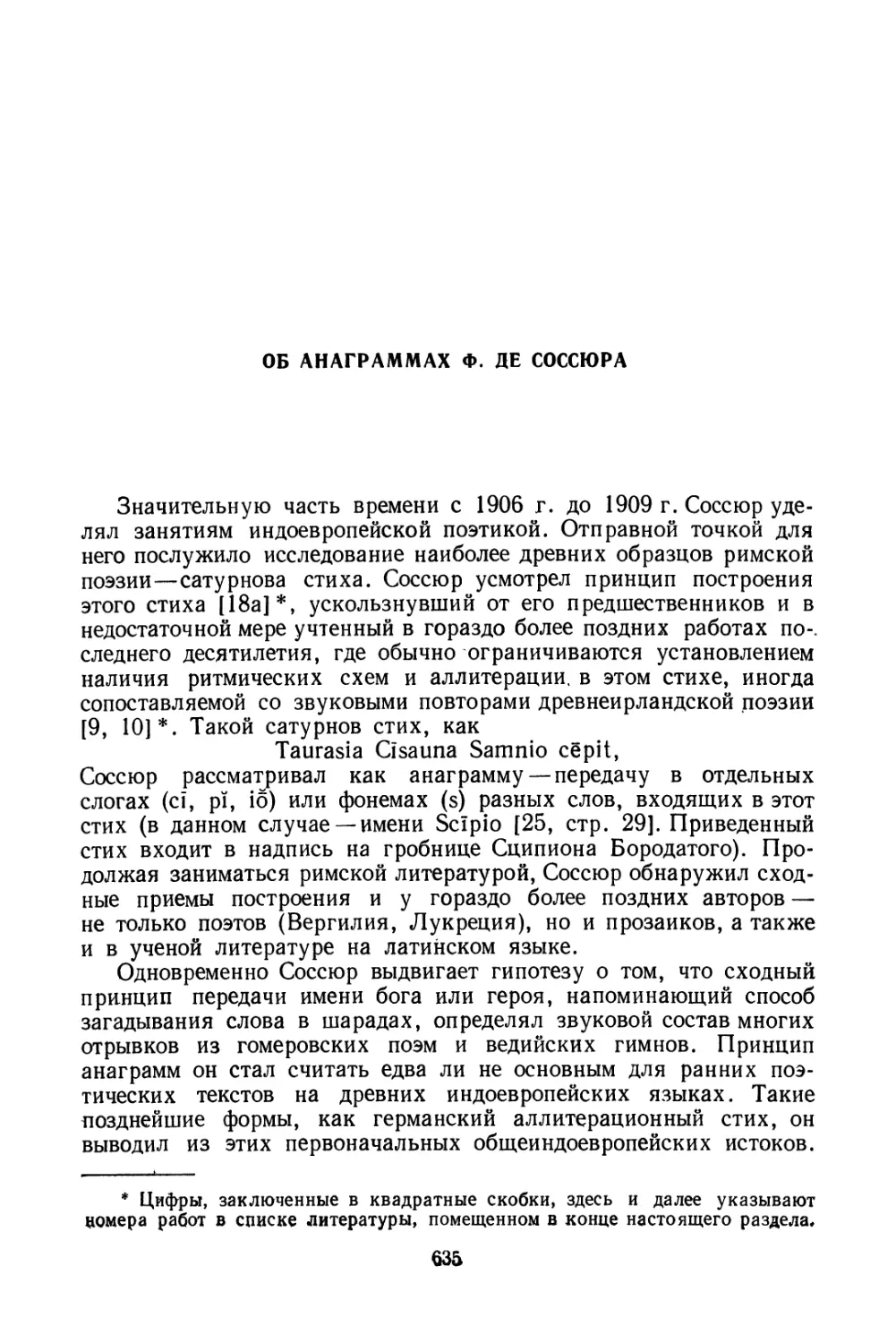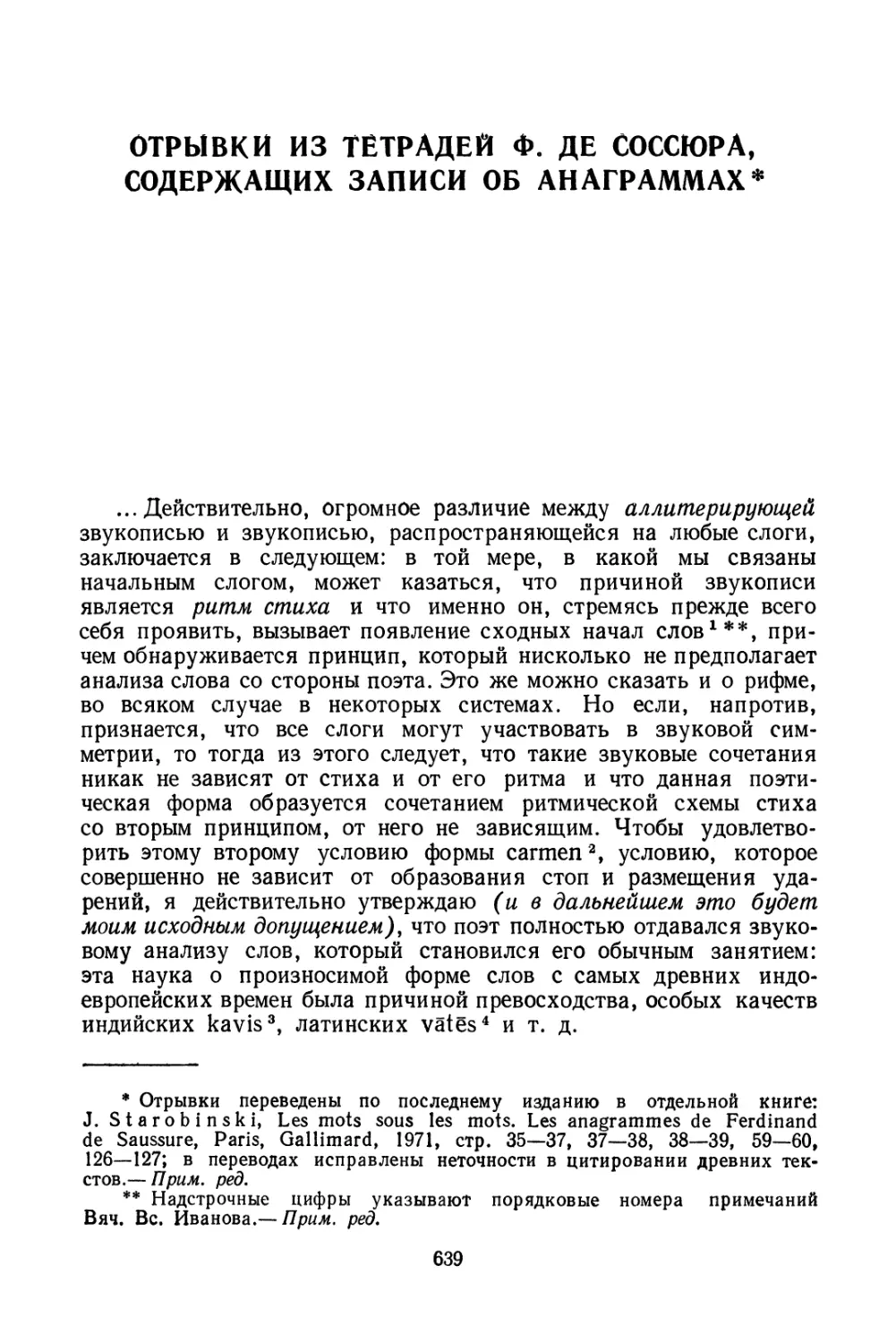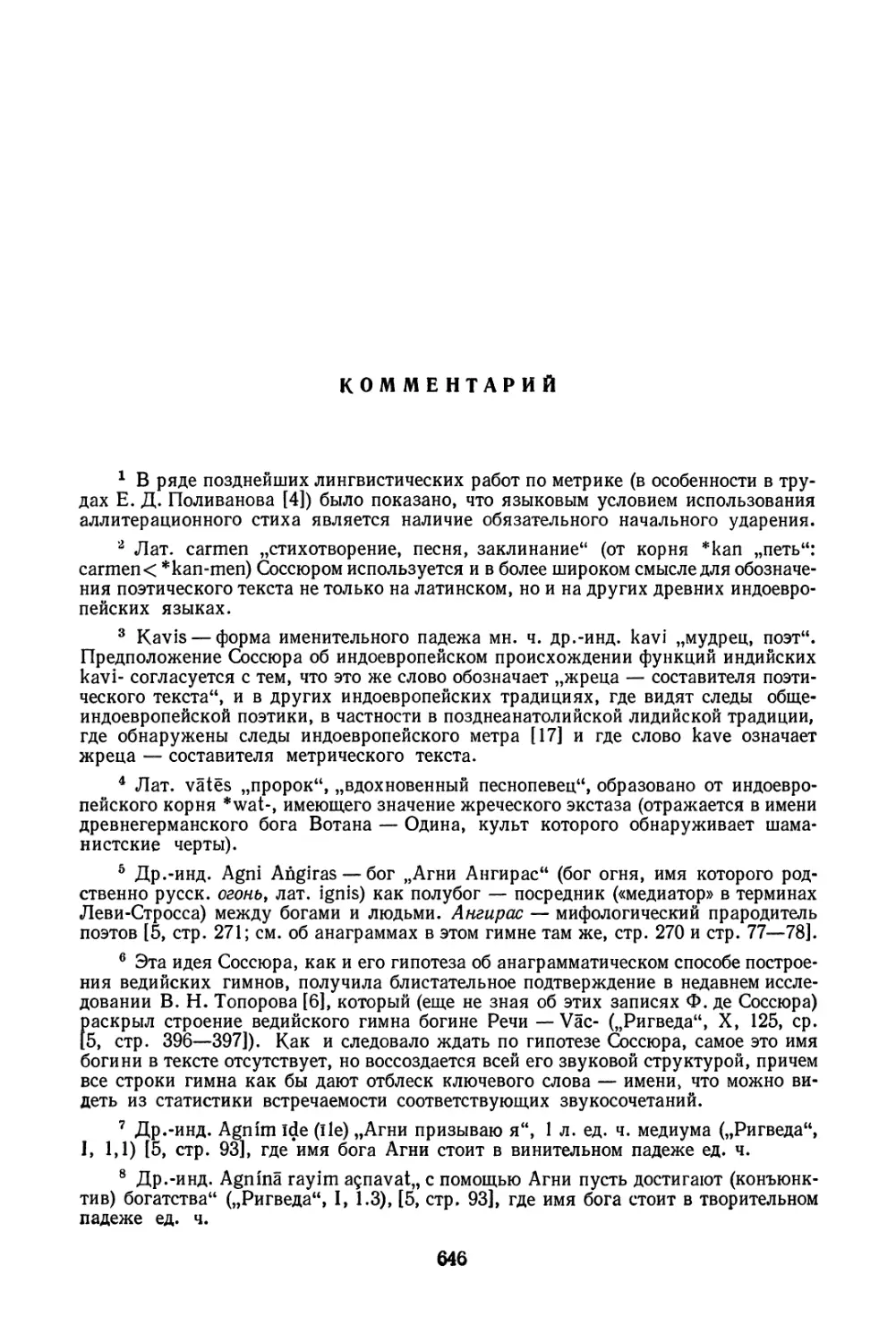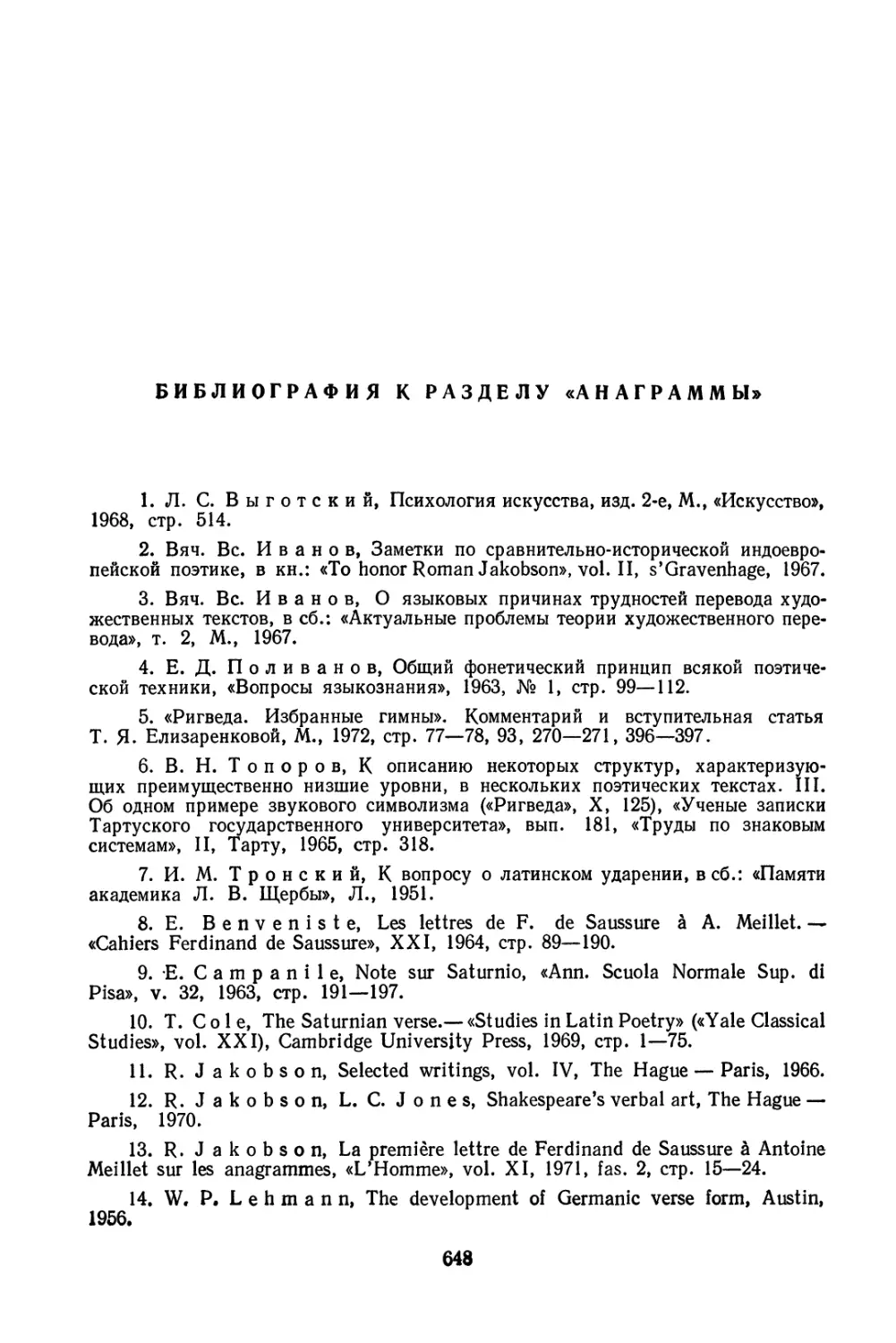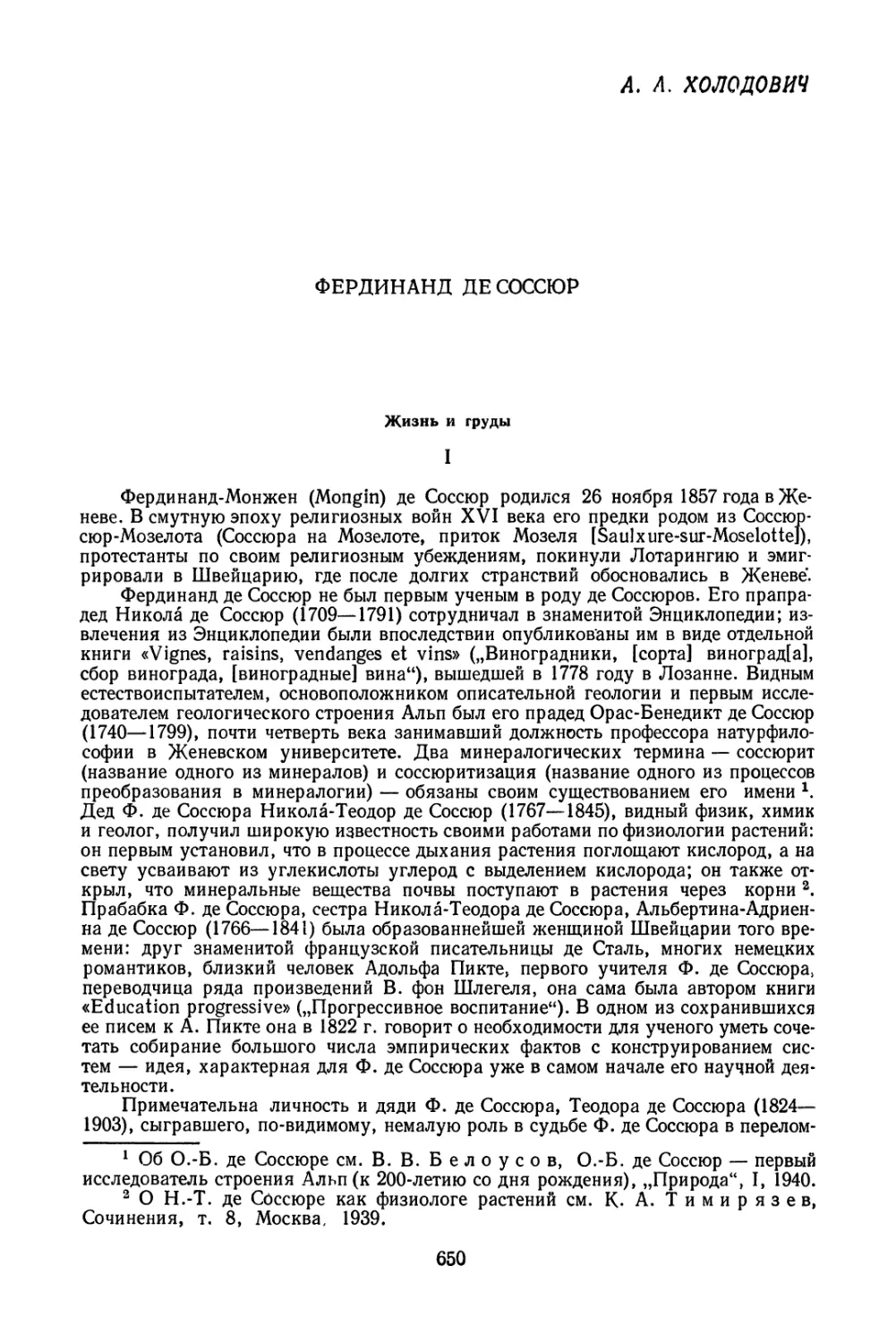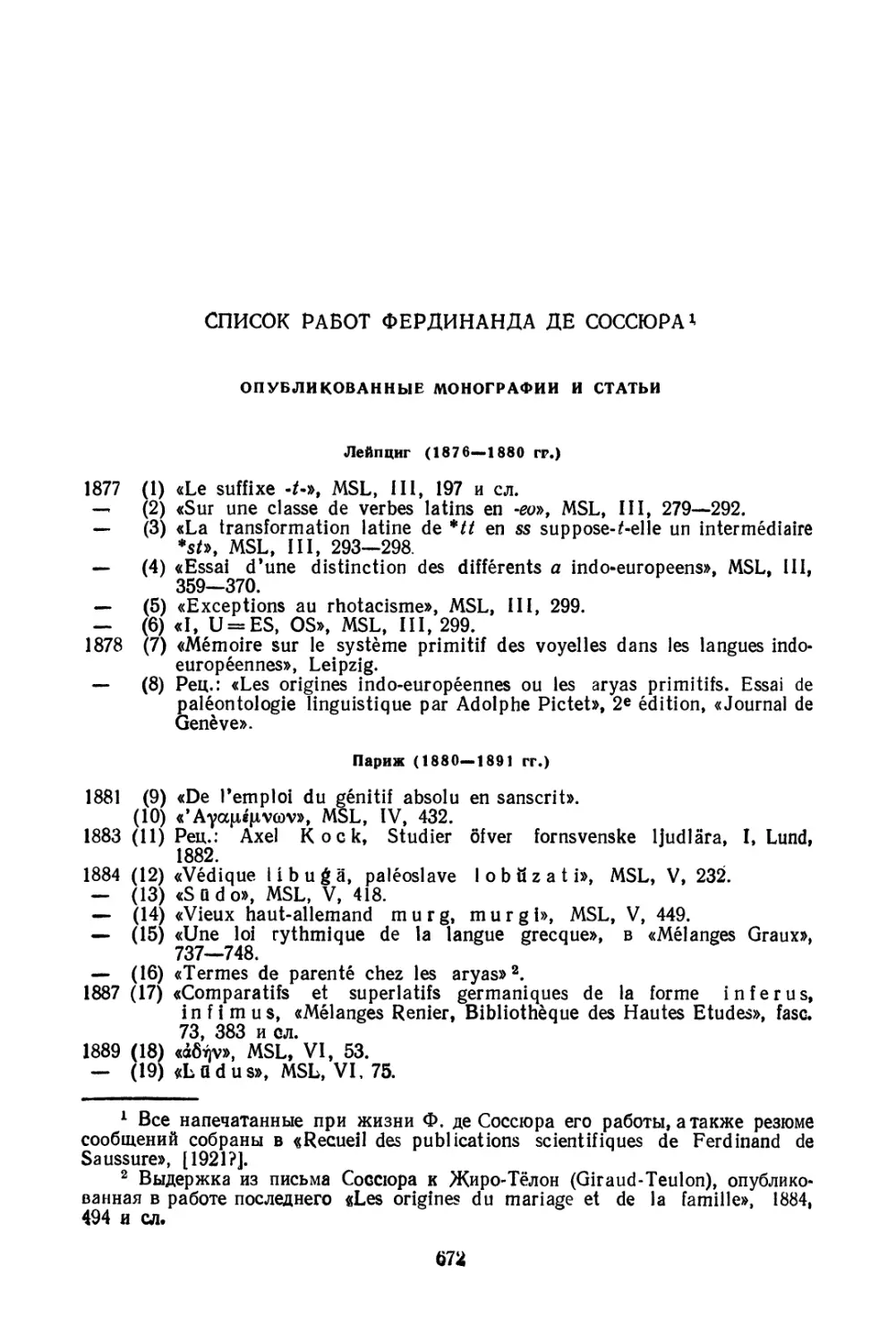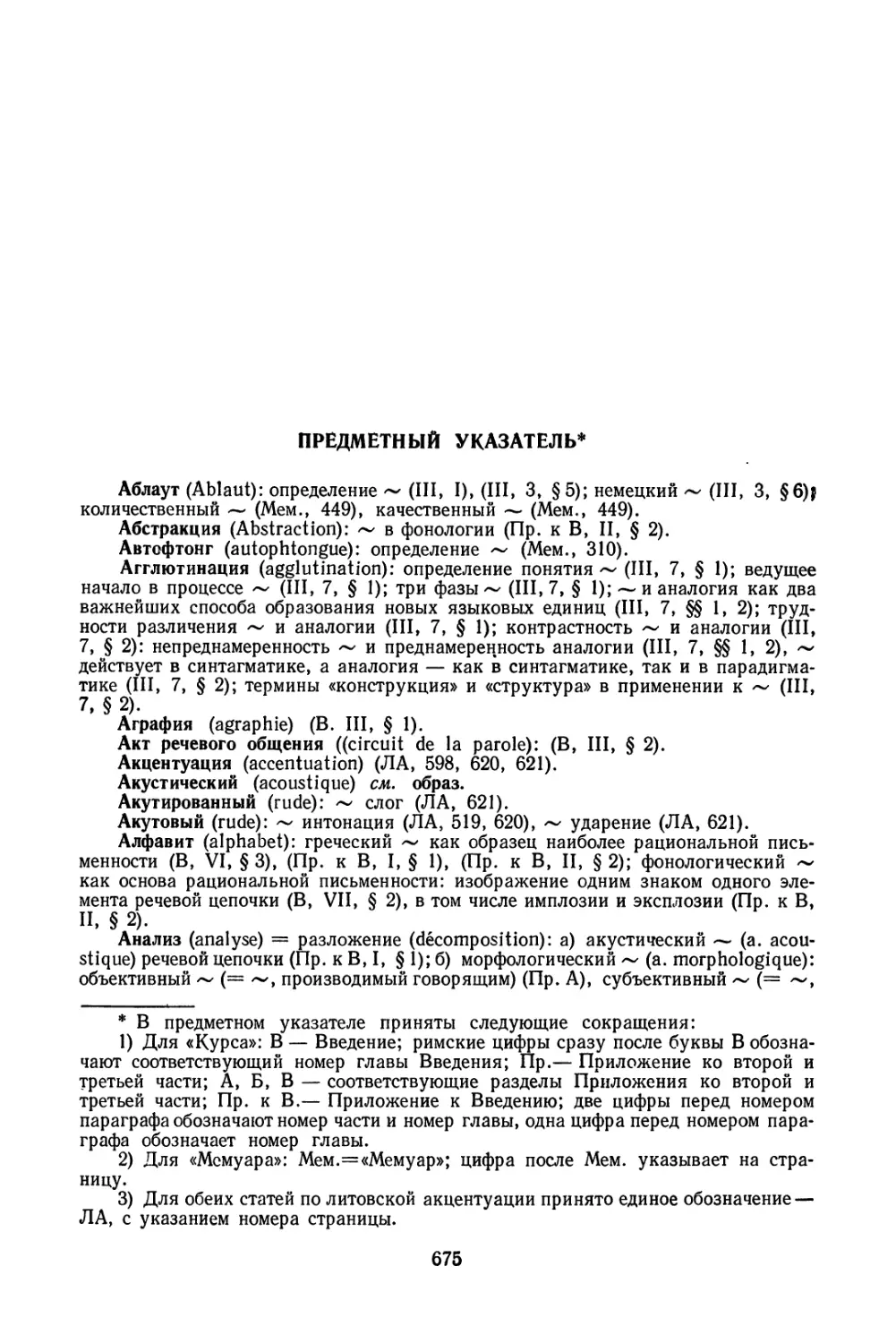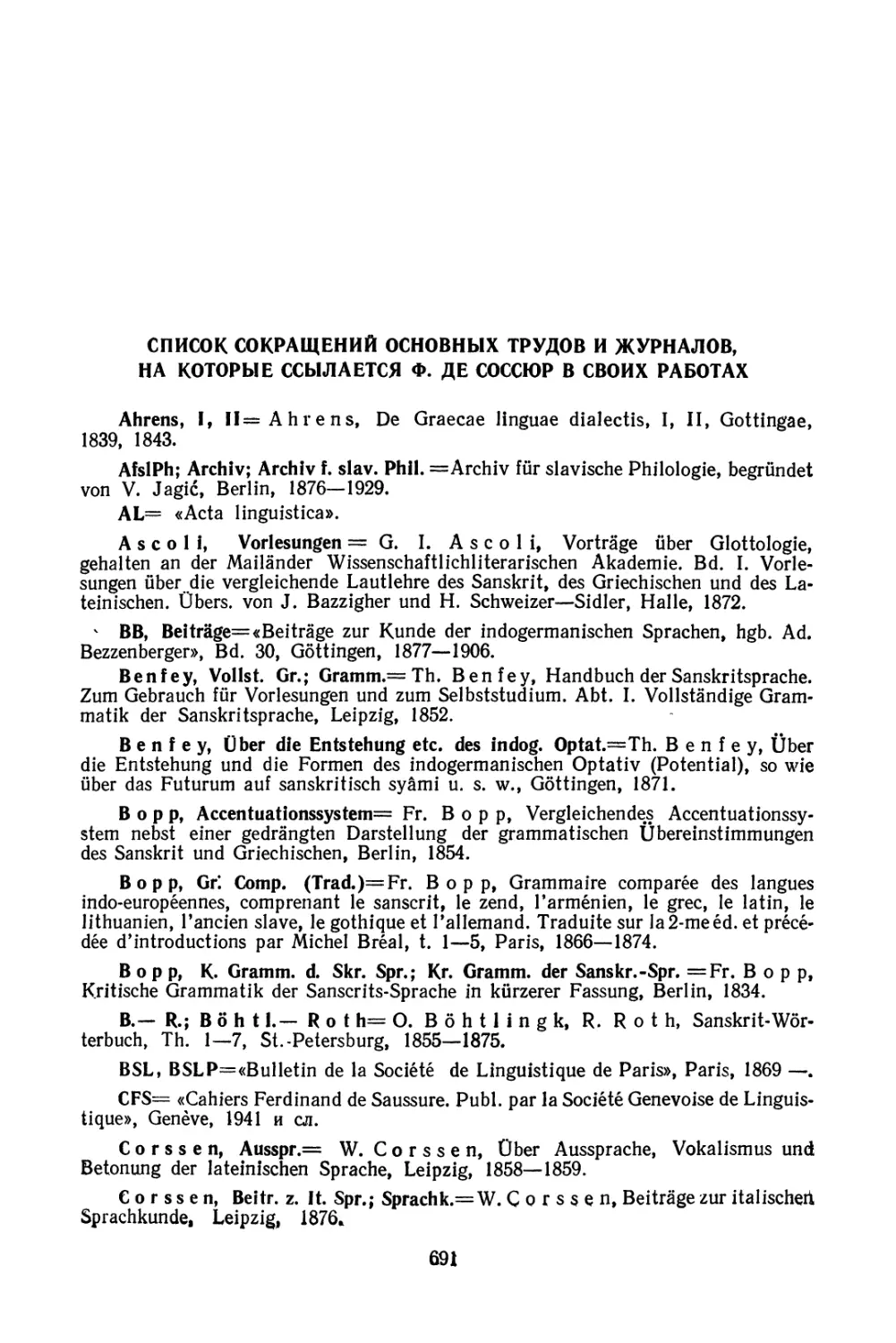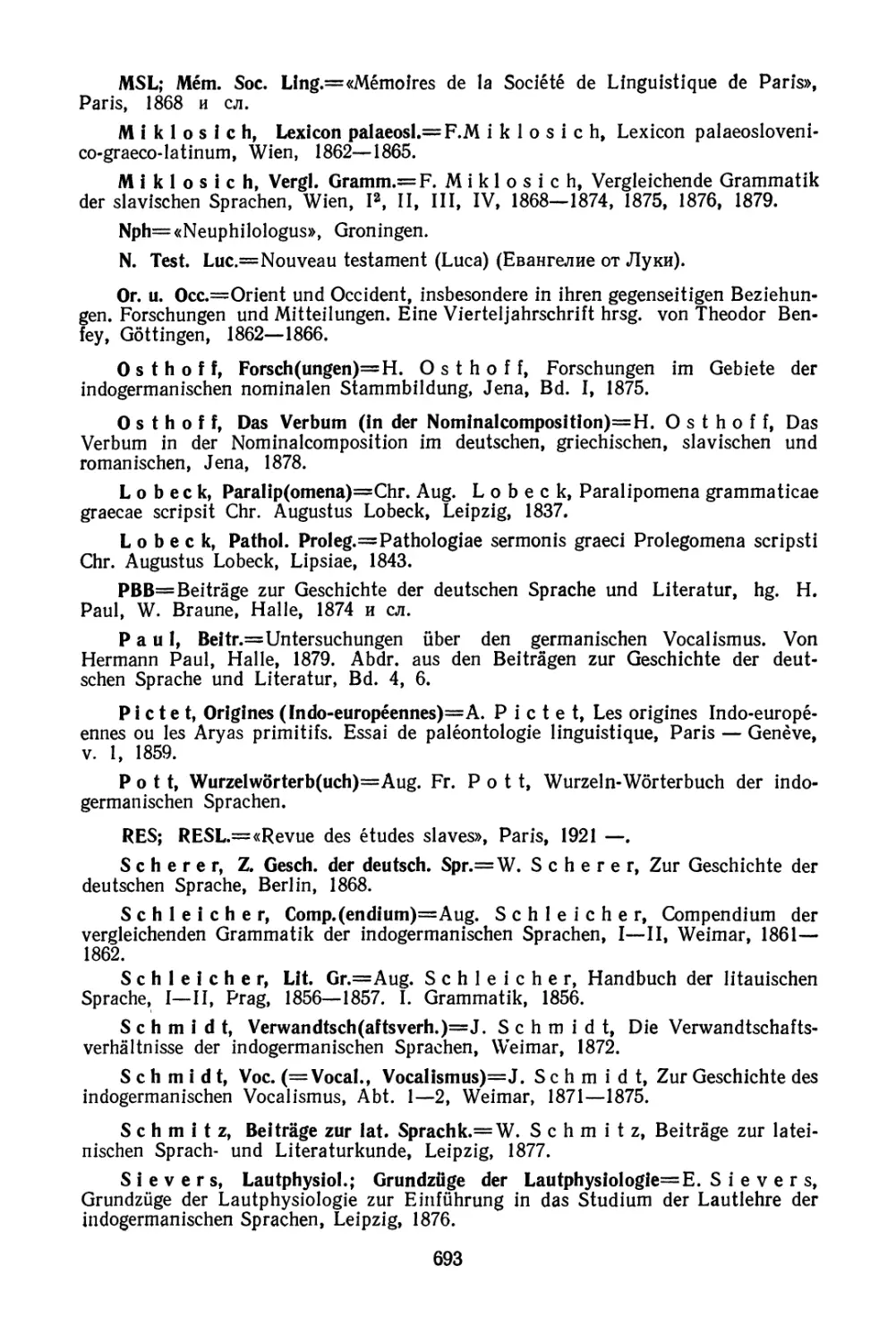Author: Соссюр Ф. де
Tags: лингвистика воспоминания языкознание заметки современная лингвистика соссюр
Year: 1977
Text
Фердинанд де Соссюр
ТРУДЫ
по
ЯЗЫКОЗНАНИЮ
Переводы с французского языка
под редакцией
А. А. Холодовича
МОСКВА
«прогресс»
1977
Редактор M. А. ОБОРИНА
Фердинанд де Соссюр (1857—1913) — выдающийся
швейцарский лингвист, один из основоположников и теоретиков
современного языкознания. На русском языке из его трудов
был издан 40 лет назад лишь «Курс общей лингвистики»,
давно ставший библиографической редкостью. В предлагаемом
читателю томе впервые на русском языке издаются важнейшие
лингвистические работы Ф. де Соссюра, в том числе
знаменитый «Мемуар». Текст перевода «Курса общей лингвистики»,
сделанный в свое время А. М. Сухотиным, полностью
переработан редактором настоящего издания А. А. Холодовичем.
Редакция литературы по лингвистике
© Составление, переводы, вступительные статьи, комментарии.
«Прогресс», 1977
70101-485
С 006(01)-77 139 77
ОТ РЕДАКЦИИ
Предлагаемый читателю том лингвистических трудов
Фердинанда де Соссюра содержит «Курс общей лингвистики», «Мемуар
о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках»,
статью о ритмическом законе в греческом языке, две статьи по
балтийской акцентологии и отрывки из тетрадей, содержащих записи
об анаграммах. Из трудов Ф. де Соссюра на русском языке до
настоящего времени был известен лишь «Курс общей лингвистики»,
изданный в 1933 году в переводе А. М. Сухотина. Для данного
издания этот перевод потребовал значительных исправлений и
уточнений. Таким образом, советский читатель впервые получает
возможность изучать в переводе на русский язык все основные
работы знаменитого швейцарского лингвиста, положившего в
наиболее отчетливой и доказательной форме начало системному анализу
и структурному изучению языков в современном понимании этих
принципов научного познания и тем самым сыгравшего
выдающуюся роль в развитии языкознания нашего столетия.
Вступительные статьи к отдельным монографиям и статьям,
включенным в настоящий сборник, определяют значение каждой
из них для своего времени, содержат необходимые исторические
справки, излагают дальнейшую разработку исследованных Ф. де
Соссюром проблем и характеризуют современные взгляды на эти
проблемы.
Каждый раздел сопровождается необходимой библиографией.
В приложении к книге дается подробная биография Ф. де
Соссюра, список его работ и предметный указатель.
Подготовка издания трудов Ф. де Соссюра была нелегким делом
для коллектива переводчиков и ученых-языковедов,
возглавляемого профессором А. А. Холодовичем. В связи с этим редакция
литературы по лингвистике издательства «Прогресс» считает сво-
5
им долгом выразить глубокую признательность В. А. Дыбо,
А. А. Зализняку и Вяч. Вс. Иванову, принявшим активное
участие в решении ряда вопросов, возникавших в ходе
подготовки книги к изданию.
Книга была уже подписана к печати, когда редакция
получила печальную весть о внезапной кончине проф. Александра
Алексеевича Холодовича. Советское языкознание постигла
тяжелая утрата. Ушел из жизни большой ученый, принадлежавший
к первому поколению советских языковедов. Подготовка
настоящего издания трудов Фердинанда де Соссюра стала
заключительной работой А. А. Холодовича.
проф. Я. С. Чемоданов.
ФЕРДИНАНД
ДЕ СОССЮР
КУРС
ОБЩЕЙ
ЛИНГВИСТИКИ
Перевод с французского
А. М. Сухотина,
переработанный по третьему французскому изданию
А. А. Холодовичем
Вступительная статья А. А. Холодовича
Ferdinand de Saussure
COURS
de
LINGUISTIQUE GÉNÉRALE
publié par
Charles Bally et Albert Sechehaye
avec la collaboration de
Albert Riedlinger
troisième édition
Paris, 1931
О „КУРСЕ ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ" Ф. ДЕ СОССЮРА
Принято говорить, что первое большое произведение
Фердинанда де Соссюра, составившее эпоху в области сравнительного
языкознания, «Мемуар о первоначальной системе гласных в
индоевропейских языках» является книгой исключительной судьбы. С
гораздо большим основанием то же самое можно было бы сказать о
«Курсе общей лингвистики». Не боясь вступить в конфликт с
истиной, мы могли бы констатировать, что эта книга вышла спустя пять
лет после смерти Ф. де Соссюра, но мы не решились бы утверждать,
что она вышла спустя пять лет после смерти ее автора. Своим
появлением на свет эта книга, положившая начало новой эпохе в
истории языкознания, обязана стечению целого ряда случайных
обстоятельств.
Фердинанд де Соссюр никогда не делал попыток написать что-
либо, подобное «Курсу общей лингвистики». Сохранившиеся после
его смерти в его архиве материалы не содержат даже намека на
такую книгу. В основу «Курса» легли три цикла лекций, прочитанных
Ф. де Соссюром в последние пять лет его жизни. Эти три цикла
лекций прочитаны были им чисто случайно. В течение тридцати лет
(с 1877 г. по 1906 г.) курс общей лингвистики в Женевском
университете читал Жозеф Вертгеймер. Это был малопримечательный
лингвист, неоригинальный теоретик. За тридцать лет своей
деятельности на поприще общего языкознания он опубликовал одно-
единственное произведение — брошюрку под названием «La
linguistique», представляющую собой изложение вступительной
лекции к курсу общей лингвистики, прочитанной в 1877 году, то есть
при вступлении в должность, которая была простым пересказом
работы известного французского лингвиста М. Бреаля «De la forme
et de la formation des mots». В конце 1906 года, всего за пять лет до
смерти Соссюра, Ж. Вертгеймер скончался, и освободившееся место,
естественно, занял Соссюр. Это чисто случайное обстоятельство
9
дало возможность Φ. де Соссюру в конце своего жизненного пути
сосредоточить все свое внимание на общих вопросах теории языка,
которой он до этого занимался от случая к случаю, свести свои
взгляды на лингвистику и ее объект в единое органическое целое
и познакомить своих немногочисленных слушателей с этими
взглядами, которые до того времени не нашли выражения ни в одной
из его публикаций и которые не были известны даже в самых общих
чертах ближайшим его ученикам как в парижский, так и в
женевский период его научной деятельности (например, Антуану Мейе
даже в 1913 году).
Излагая свои идеи в течение пяти лет в порученном ему курсе,
Ф. де Соссюр ни разу не сделал сколь-нибудь серьезной попытки
набросать план целостного курса или зафиксировать на бумаге то,
что ему предстояло каждый очередной раз читать слушателям.
Найденные в его письменном столе и хранящиеся ныне в библиотеке
Женевского университета «черновые» записи (130 отдельных
листиков и три далеко не полностью заполненных тетради — «черная»,
«синяя» и «зеленая» — все это, известное ныне как «Заметки по
общей лингвистике») набросаны (а не написаны!) в разное время,
по разным поводам, часто вне всякой связи с читаемыми курсами.
Не всегда законченные, нередко брошенные на полуслове, они ни
в коем случае не могут претендовать даже на то, чтобы называться
хотя бы черновым вариантом какого-либо из трех прочитанных
им циклов лекций. Пытаться на основании этих набросков составить
себе представление о возможном плане и содержании той
незадуманной книги, которая теперь известна нам как «Курс общей
лингвистики», было бы явно безнадежным делом. Эти «Заметки», даже
терминологически, во многом далеки от того, что мы теперь,
зная «Курс общей лингвистики», называем терминологией
Соссюра. Полагать, что Ф. де Соссюр «уничтожал наспех
составленные черновики, как только в них отпадала необходимость»,
как это утверждают Балли и Сеше, было бы по меньшей мере
наивно: бессмысленность такой «деятельности» не подлежит сомнению.
И если тем не менее в 1916 году появился «Курс общей лингвистики»
с указанием, что автором его все же является Ф. де Соссюр, то и
это большое событие в истории языкознания тоже является делом
случая. Как удалось установить в 1949 году Л. Готье, на три курса
лекций, прочитанных де Соссюром в 1907—1911 гг., записалось
около 30 человек (6 — в 1907 г., 11 — в 1908 г. и 12 — в 1910 г.).
Если принять во внимание, что не все записавшиеся посещали лекции
регулярно, что некоторые, записавшись, не посещали их вообще, что
некоторых слушателей привлекал не столько предмет, сколько
личность самого Соссюра и что, наконец, не все они вели
систематические записи прослушанных ими курсов, то надо считать
поразительным то обстоятельство, что одиннадцать из предполагаемых двадцати
девяти слушателей все же вели записи лекций, причем записи первого
и второго цикла, сделанные А. Ридлингером, а также запись третье-
10
го цикла, сделанная Ж. Дегалье, оказались достаточно подробными
и вполне квалифицированными, чтобы послужить основанием для
реконструкции «Курса». Поразительно также и то, что даже
конспекты первого цикла лекций 1907 года сохранились спустя шесть
лет после того, как они были записаны, то есть к тому времени,
когда у Балли и Сеше возникла идея воссоздать по записям то, что,
по их мнению, могло бы составить содержание ненаписанной
автором книги. К сожалению, случаю было угодно сыграть злую
шутку над инициаторами реконструкции «Курса»: собрав девять
конспектов, они по неизвестной причине прекратили поиски
дополнительных материалов, так и не узнав о существовании двух,
быть может, самых обстоятельных конспектов, сделанных Э.
Константеном; один из них, представляющий собой тетрадь в 306
страниц, являлся записью второго цикла лекций; по своей
обстоятельности он не уступал конспекту Ридлингера; второй, представляющий
собой тетрадь в 407 страниц, являлся записью третьего и
самого важного для уяснения идей Соссюра цикла лекций, записью,
которая по тщательности превосходила то, что сделал Ж. Дегалье,
конспект которого послужил основным источником для
реконструкции этого последнего, важнейшего цикла, прочитанного Ф. де
Соссюром всего лишь за год до своей смерти. Оба конспекта были
обнаружены только в конце пятидесятых годов 1.
Наконец, счастливой случайностью, очевидно, надо считать и
то обстоятельство, что уже в 1913 году, то есть через год после
смерти Ф. де Соссюра, двум, еще молодым лингвистам, Ш. Балли
и А. Сеше, пришла в голову смелая мысль на основании чужих
свидетельств попытаться представить себе, какой вид имела бы
книга «Курс общей лингвистики», если бы ее написал сам
Соссюр.
Итак, произведение, на титульном листе которого значится имя
Ф. де Соссюра и которое озаглавлено «Курс общей лингвистики»,
фактически не принадлежит Ф. де Соссюру, не задумывалось им
как книга, чисто случайно было прочитано им в 1907—1911 гг.,
чисто случайно сохранилось в не всегда совершенных записях его
слушателей и было воссоздано или реконструировано лицами,
которые не были непосредственными свидетелями того, как и в
какой форме развивались и излагались идеи, и которые, воссоздавая
ход мыслей Соссюра, по непонятной причине не смогли
воспользоваться лучшими записями лучшего цикла лекций, сделанными
Э. Константеном. Думается, что сказанного достаточно, чтобы
понять, почему «Курс общей лингвистики», действительно, можно
назвать книгой с судьбой и историей не менее исключительной,
нежели судьба и история «Мемуара о первоначальной системе
гласных в индоевропейских языках».
1 См. R. Godel, Nouveaux documents Saussuriens. Les cahiers Ε.
Constantin, CFS, 16, 1959, стр. 23—32.
11
Как мы уже сказали, свой курс Соссюр читал трижды, с
перерывами в один год (в дальнейшем эти три цикла лекций мы будем
именовать соответственно КI, КII и К III); по программе ему было
отведено шесть недельных часов, из коих два часа предназначались
на общую лингвистику, а четыре — на сравнительную грамматику
индоевропейских языков.
Самым кратким был К I. Он продолжался всего один второй
семестр. Первую лекцию Соссюр прочел 16 января 1907 года.
Последняя лекция состоялась 3 июля 1907 года. Это объясняется тем,
что предшественник Соссюра по кафедре общей лингвистики
Вертгеймер скончался только в конце первого семестра 1906—1907
учебного года. На курс Соссюра записалось шесть человек: сколько
слушало в действительности, неизвестно. Курс был записан А.
Ридлингером, оставившим нам очень обстоятельный конспект из трех
тетрадей (100+98+72 стр.), и застенографирован Кайем (Caille);
последний источник, однако, не имеет большого значения, так как
Кай посещал лекции, по-видимому, неаккуратно, о чем
свидетельствуют многочисленные дополнения на полях, представляющие
собой вставки из других конспектов.
К I резко отличается от К II и особенно от К III. В К I
излагается только диахроническая лингвистика. За исключением двух
вводных лекций, в которых говорится о типичных ошибках
лингвистов (смешение языка и письма, квалификация изменений в
языке как искажений и в качестве следствия этого — квалификация
нелитературных, диалектных форм тоже как искажений), а также
нескольких лекций по фонологии, которая определяется как
нелингвистическая дисциплина, все остальное — четыре пятых
курса — посвящено диахронии. Кажется, что здесь Соссюр еще целиком
стоит на той точке зрения, которая зафиксирована в одной из его
записей, датируемой, видимо, еще 1891 годом: «Чем больше изучаешь
язык, тем больше убеждаешься в том, что в языке все — история,
то есть что он является предметом исторического анализа, а не
анализа абстрактного, что он состоит из фактов, событий, а не из
законов, что все, кажущееся в нем органическим, на деле является
несущественным (contingent) и полностью случайным» (Notes
inédites, № 1).
Вот как выглядело бы оглавление к «Курсу общей лингвистики»,
если бы Ф. де Соссюр опубликовал результаты чтения К I:
1) Из истории лингвистических заблуждений.
2) Основы фонологии.
3) Диахроническая лингвистика: а) изменения фонетические,
б) изменения аналогические, в) изменения патологические
(народная этимология).
4) Субъективный и объективный анализ слов в связи с
проблемой изменений и инноваций.
5) Проблемы ретроспективной (и проспективной) лингвистики.
12
Если бы Вертгеймер скончался года на три позже и Соссюр
прочел только один этот цикл лекций, то ни о каком новом этапе
в истории общей лингвистики, связанном с именем Соссюра,
очевидно, нельзя было бы и говорить.
И все же уже в этом небольшом семестровом К I Соссюр
отчетливо представляет себе, что язык обладает знаковой природой и
что существуют две основных дихотомии: дихотомия языка и речи
и дихотомия синхронии и диахронии. Однако обо всем этом
говорится по случайному поводу. Специальных лекций о знаковой
природе языка, о дихотомии не читается. Так, вопрос о языке как
системе знаков поднимается в связи с рассуждением о фонологии
как о вспомогательной для лингвистики дисциплине, стоящей за
пределами лингвистики; рассуждение о нелингвистическом
характере фонологии заставляет Соссюра поставить вопрос о том, что
такое лингвистическое; так, в лекции о фонологии появляется
формулировка: «Язык—это система знаков; язык как таковой
образует отношения, которые наша мысль (l'esprit) устанавливает между
этими знаками. Что же касается материальной стороны этих
знаков, то она сама по себе может рассматриваться как нечто
безразличное для знака. Правда, мы вынуждены использовать для знаков
языка звуковой материал, и только его, но даже в том случае, если
бы звуки изменились, это было бы безразлично для языка,
поскольку отношения остались бы теми же самыми: ср., например,
морские сигналы; ничто не изменится в системе, даже если они
выцветут».
Вопрос о разграничении и противопоставлении внутри речевой
деятельности языка и речи Соссюр ставит в лекции, посвященной
аналогии, когда ему приходится отделять, как он говорит,
аналогические изменения от фонетических изменений. Здесь,
единственный раз во всем курсе, Соссюр утверждает, что рассмотрение
любого факта речевой деятельности заставляет нас отличать речь от
языка и определяет последний как «réservoir des formes pensées
ou connues de la pensée» («вместилище форм, содержащихся в мысли
актуально или потенциально»).
Наконец, дихотомия синхрония versus диахрония упоминается
один раз там, где Соссюр, завершив изложение фонологии,
переходит к диахронической лингвистике. Здесь он сообщает
слушателям, что язык можно было бы рассматривать и со статической точки
зрения, но тут же указывает на большую важность исторической
точки зрения, поскольку говорящему она никогда не дана
непосредственно.
Завершив изложение диахронической лингвистики, Соссюр еще
раз напоминает, что, кроме нее, существует и статическая
лингвистика, то есть «состояния языка, которые содержат все то, что обычно
называют или то, что следовало бы назвать грамматикой», и
указывает на то, что логически следовало бы перейти к рассмотрению
этой статической лингвистики (champ synchronique), и далее пере-
13
ходит, вопреки только что сформулированному положению,
к ретроспективной лингвистике на материале индоевропейских
языков, заканчивая этим курс. Видимо, Соссюр имеет еще
довольно общее представление о сфере синхронии и не может развить
общую идею во всех ее частностях.
К II был прочитан через год, в 1908—1909 учебном году.
Первую лекцию Ф. де Соссюр читал 6 ноября 1908 г. Последняя лекция
состоялась 24 июля 1909 г. Как и в К I, теоретическая часть была
прочитана в сравнительно короткий срок: за каких-нибудь два
с половиной месяца. Уже 21 января Соссюр начинает «Обзор
индоевропейских языков как введение в общую лингвистику».
Конспекты показывают, что запись лекций по общим вопросам теории языка
составляет лишь четвертую часть (119 стр. из 462 стр. в самом
обстоятельном конспекте А. Ридлингера). На Курс II записалось
одиннадцать человек. Курс был законспектирован А. Ридлингером,
Л. Готье, Ф. Бушарди, П. Регаром и Э. Константеном. Самым
обстоятельным оказался конспект А. Ридлингера (462 стр.). Ему не
уступал по точности и обстоятельности конспект Э, Константена
(306 стр.), но он, как мы уже сказали, был обнаружен только в 50-х
гг. нашего столетия и не сыграл никакой роли в деле
реконструкции Курса, предпринятой Сеше и Балли.
Структура и содержание теоретической части К II претерпела
существенные изменения по сравнению со структурой и
содержанием К I. Напомним, что К I был целиком посвящен
диахронической лингвистике. Экскурсы в синхронию были в К I чисто
случайными. К II посвящен целиком синхронии. Это первая попытка
выдвинуть на первый план синхроническую лингвистику, дать
представление слушателю об основных понятиях синхронии.
Теоретический раздел К II распадается на три части. Первая
часть посвящается установлению первой и решающей дихотомии
внутри речевой деятельности — противопоставлению языка и речи
и утверждению, что объектом лингвистики является язык, который
определяется как система знаков. Далее язык как система знаков
рассматривается в двух планах: извне и изнутри. В первом плане
ставится вопрос о месте лингвистики как науки о языке в ряду
других наук. Вводится понятие семиологии как науки о знаковых
системах, подробно рассматривается общественный характер этой
науки, подчеркивается, что семиологические системы складываются
из единиц различного уровня и что подлинная природа этих единиц
состоит в том, что они представляют собой значимости. Язык
определяется как наиболее важная изо всех семиологических систем
знаков.
Естественно, что в связи с этим подробно рассматриваются
свойства знаков любой семиологической системы: произвольность
знака, чисто отрицательный и дифференциальный его характер,
безразличие знака к способу его реализации, ограниченное число
знаков и оппозитивный характер значимостей. В заключении этой
14
части описываются свойства языка, специфические для него, а
именно проблема чисто оппозитивных и негативных единиц в языке
(прежде всего проблема слова), проблема их выделения и проблема
тождества в языке.
Вторая часть К II посвящена выделению двух основных
дихотомий: а) внешней и внутренней стороны, или внешней и
внутренней лингвистики, то есть того, что не затрагивает непосредственно
системы (язык и этнология, история, географическое
распространение языков и дробление их на диалекты и т. д.), и того, что
касается самой системы значимостей; б) противопоставление
синхронического (точнее, идиосинхронического) ряда и ряда
диахронического и таким образом статической лингвистики или
синхронической лингвистики, диахронической или кинематической
(эволютивной) лингвистике. Системность синхронического
противопоставляется несистемности диахронического.
Наконец, Соссюр переходит к дихотомиям в области синхронии,
с одной стороны, и в области диахронии — с другой. В синхронии
устанавливаются отношения ассоциативные и отношения
дискурсивные, то есть отношения в группах единиц в смысле семейств (слов
и т.п.) и отношения в группах единиц в смысле синтагм. Таким
образом, вся синхрония сводится к теории синтагм и теории
ассоциаций, — иначе — к грамматике; историческая грамматика отрицается.
В диахронии устанавливается противопоставление
проспективной диахронической лингвистики ретроспективной диахронической
лингвистике, базирующейся на сравнении.
Вот как выглядело бы оглавление «Курса общей лингвистики»,
если бы Соссюр опубликовал результаты чтения К II 1 :
1. Речевая деятельность как дихотомия языка и речи.
2. Объект лингвистики - язык как система знаков.
3. Лингвистика как часть семиологии — науки о знаковых
системах.
4. Свойства знака в семиологических системах вообще, в языке,
в частности: а) двусторонность знака; б) произвольность знака;
в) отрицательный, чисто оппозитивный характер знака; значимость;
г) безразличие знака к способу его реализации; д) ограниченное
число знаков.
5. Противоположение синхронической лингвистики
лингвистике диахронической: а) проблема единицы в синхронии и диахронии;
б) проблема тождества в синхронии и диахронии; в) проблема
системы в синхронии и диахронии; г) синхроническая лингвистика
как теория групп ассоциаций (семейств слов) и групп синтагм;
объект синхронической лингвистики — - грамматика; д)
диахроническая лингвистика как совокупность проспективного и
ретроспективного методов и как наука об изменении элементов системы; объект
диахронической лингвистики — фонетика.
1 С незначительными перестановками сделанными нами,
15
6. Противопоставление внутренней лингвистики как теории
системы знаков внешней лингвистике: а) внутренняя лингвистика
(см. выше 1—5); б) внешняя лингвистика: язык и этнология, язык
и история; язык и география; диалекты.
Еще через год, в 1910—1911 учебном году, Соссюр прочел К III.
Первая лекция, судя по первой дате в конспекте Ж. Дегалье,
состоялась 28 октября 1910 года; последняя лекция была прочитана
4 июля 1911 года. После этого Соссюр больше не возобновлял цикла
лекций по общей лингвистике: в начале 1912 года он заболел и
вскоре умер. После смерти Ф. де Соссюра курс лекций по общей
лингвистике стал читать Ш. Балли, который, возобновив этот курс,
отдал должное памяти своего учителя вступительной лекцией на
тему «F. de Saussure et l'état actuelle des études linguistiques» («Ф. де
Соссюр и современное состояние языкознания»).
На последний цикл лекций Соссюра записалось 12 человек. До
нас дошло четыре конспекта КIII : Ж. Дегалье (8 тетрадей в 283 стр.),
Ф. Жозефа (конспект с большими пропусками в теоретической
части), А. Сеше (тоже очень неполный конспект на 140 стр.) и Э.
Константена — самый обстоятельный конспект на 407 страницах, о
существовании которого, однако, издатели «Курса» не знали и потому
им пришлось черпать все сведения о К III из записей Ж- Дегалье.
Как и в предыдущие годы, важнейшая, теоретическая, часть
была изложена Соссюром очень быстро: всего за каких-нибудь
четырнадцать лекций (25 и 28 апреля, 2—5—9—12—19 и 30 мая,
6—9—13, 27 и 30 июня и 4 июля).
По замыслу Соссюра курс распадался на три части: I. Общие
сведения о языках; II. Теория языка; III. Теория речи.
Необходимость начинать с общего обзора языков, то есть фактически с того,
что Соссюр называл внешней лингвистикой, оправдывалась тем,
что лишь знание конкретного материала дает возможность лингвисту
перейти от конкретного к общему, от многообразия языков (langues)
к лежащему в основе их общему механизму — языку вообще
(langue).
В этой части рассматривалось географическое многообразие и
распределение языков, членение их на диалекты, сосуществование
на одной территории литературной речи и «естественного» языка
(диалекты, говоры), языка автохтонов и языка завоевателей,
номадов и т. п., объединение языков в семьи, обзор семейств языков,
проблема возможной группировки языков по типам связей языка
с мыслью и т. д.
Затем давались некоторые сведения о второй знаковой
системе — письменности, излагалась фонология, после чего наконец
Соссюр переходил ко второму важнейшему разделу курса —
лингвистике языка. Третью, объявленную им часть Соссюр не прочитал
и на этот раз.
Вот как выглядело бы оглавление «Курса общей лингвистики»,
если бы Соссюр опубликовал К III (ввиду важности этого послед-
16
него курса мы не будем делать в нем, вопреки Годелю, никаких
изменений в порядке следования лекций, которые, естественно,
напрашиваются, потому что Соссюр неоднократно возвращался к
уже прочитанному, приглашая слушателей записать то, что он
уже читал, в новой редакции и в новой терминологии):
I. Внешняя лингвистика 1.
II. Внутренняя лингвистика.
А. Лингвистика языка
1. Речевая деятельность как дихотомия языка и речи; язык как
система знаков, конкретная и гомогенная; речь как манифестация
языка.
2. Лингвистика как важнейшая часть семиотики — науки о
системах знаков,— состоящая из теории языка и теории речи.
3. Свойства языкового знака: его двусторонность, линейность
и произвольность.
4. Конкретные единицы (= сущности) языка; их знаковая
природа (слог не является единицей языка); единицы разных уровней.
5. Проблема тождества в языке.
6. Абстрактные сущности.
7. Абсолютная произвольность одних знаков и относительная
произвольность других.
Г Возвращение к теме «Отношение языка и речи»; внесение
уточнений в этот вопрос;
3' Возвращение к теме «двусторонность языкового знака»:
терминологическое предложение (впервые!) ввести понятия
означаемого и означающего.
8. Знак: его неизменность и изменчивость 2.
9. Статическая (синхроническая) и историческая
(диахроническая) лингвистика; отношение дихотомии «синхрония — диахрония»
к дихотомии «язык — речь»; равноценность обеих лингвистик 3.
10. Статическая лингвистика (= грамматика); единицы
статической лингвистики; два типа отношений: парадигматические и
синтагматические; дихотомия «парадигматика — синтагматика» и
ее отношение к дихотомии «язык — речь».
11. Единица языка, взятая сама по себе и как член отношения
(mot «слово» и terme «член»); связанное с этим различение понятий
«значение», «смысл» (sens) и «значимость» (valeur); слово вне
отношения обладает значением, слово как член отношения обладает
значимостью.
Б. Лингвистика речи 4
Перед издателями «Курса» встала нелегкая задача: им надо
1 После 1 мы пропускаем две лекции о письменности и фонологии, которые
явно нарушают целостность схемы.
2 По Годелю — глава, которую следовало бы перенести выше, после 3.
3 По Годелю — глава, которую следовало бы перенести выше, перед 4.
4 Этот раздел был объявлен в плане К III, но не прочитан Соссюром,
17
было решить, что издавать. Перед ними открывались три
возможности: 1) издать в одной книге все три цикла лекций: К I, К П,
К III, выбрав для каждого цикла наилучший конспект и сопроводив
их воспроизведением некоторых фрагментов из оставшихся после
Соссюра черновиков; 2) издать только то, что можно было
безусловно считать последним «авторским текстом», в котором отражен
наиболее зрелый взгляд Соссюра на язык, на природу языкознания,
то есть К III; 3) свести все три цикла в одно целое, поставив таким
образом знак равенства между Соссюром 1906 г. и Соссюром 1911
г., что было очень спорно и требовало принятия нелегких решений.
Балли и Сеше избрали третий путь. Это породило
многочисленные трудности. Остановимся только на трудностях, наиболее
бросающихся в глаза. Рассмотрим три вопроса, касающиеся
общего плана книги, отдельных утверждений и соссюровской
терминологии.
Из сказанного нами выше ясно, что три цикла лекций по своей
структуре, по общему плану резко отличались друг от друга. Взяв
за основу К III, Балли и Сеше структуру и план этого последнего
цикла, совершенно отчетливо намеченные Соссюром, не сохранили.
Основанием, исходя из которого они отвергли по существу план
Kill, были следующие слова Соссюра: «Надо с самого начала встать
на почву языка и считать его основанием для всех прочих
проявлений речевой деятельности». Эта формулировка взята из К II и в
целом противоречит К III. Отвергнув план К III и подменив его
своим, издатели, естественно, в полном согласии со своей концепцией,
завершили воссозданный ими курс формулировкой, которую
следует оставить всецело на совести издателей, ибо она не
зафиксирована ни в одном конспекте, ни в одном цикле лекций. Это
снискавшее себе печальную известность утверждение о том, что
«единственным и истинным объектом лингвистики является язык,
рассматриваемый в самом себе и для себя».
Издатели не поняли последнего замысла Соссюра и создали не
органически упорядоченное целое в духе К III, а некую
амальгаму из ряда конспектов, отражающих взгляды Соссюра разных
лет.
Во-первых, многие формулировки Соссюра существовали в
нескольких редакциях, и не только потому, что они были
сформулированы Соссюром в разных циклах по-разному, но и потому, что
Соссюр давал несколько редакций одной и той же мысли в одном и
том же цикле лекций. Характерными примерами могут служить
рассуждения Соссюра о взаимоотношении языка и речи, об
отношении значения и значимости. Балли и Сеше либо выбирали одну
из ряда существующих формулировок, никогда не обосновывая
своего выбора, отдавая предпочтение то более позднему, то более
детальному варианту, либо, что чаще, давали собственную редакцию
многократно изложенной Соссюром идеи, соединяя несколько
вариантов в один, источник которого установить не так просто. Надо
18
отметить, что издатели перередактировали и давали в собственном
изложении даже те идеи Соссюра, которые были изложены им всего
один раз, и как законспектированные достаточно точно не
вызывали, казалось бы, особых возражений.
Прав Годель, когда он говорит, что скорее исключением, нежели
правилом, является воспроизведение конспектов. Даже там, где
источник был явно единичен, он все равно подвергался большой
редакции — перестановкам, изъятиям и добавлениям.
Во-вторых, некоторые выводы Соссюра были
сформулированы им самим и, возможно, конспектировавшими его лекции
слушателями недостаточно ясно, однозначно. Естественно,
возникала необходимость приведения неясных формулировок к
ясной недвусмысленной форме. А как известно, любая попытка
сделать неясное, неоднозначное ясным и однозначным всегда
сопряжена хотя бы с минимальной интерпретацией. И все же
приведенный нами выше пример с попыткой интерпретировать идею Соссюра
о предмете общей лингвистики показывает, как далеко могла
уводить от Соссюра любая квалифицированная интерпретация.
В-третьих, некоторые утверждения Соссюра казались издателям
лаконичными, и они давали расширенную редакцию этих
укороченных утверждений, стремясь «прояснить» то, что было сказано кратко
и, как им казалось, поэтому недостаточно понятно.
В-четвертых, они либо заменяли некоторые примеры, которые
казались им неподходящими, либо дополняли их своими.
В-пятых, так как издатели пользовались курсами разных лет,
в которых одна и та же тема излагалась в разной
последовательности, то это вело к перекомпоновке последовательности изложения,
что неизбежно приводило к появлению связочных предложений и
абзацев, без которых перекомпоновка просто не удалась бы.
В-шестых, в «Курс» были введены абзацы, которые имели далеко
не связочный характер, но которые не подтверждались ни одним
источником, ни одним из черновых фрагментов Соссюра. Мы уже
говорили о знаменитой формуле, которой издатели завершили курс:
она не принадлежит Соссюру.
И наконец, несколько слов о терминологии. Терминологию
Соссюр менял не только от курса к курсу, но и на протяжении одного
и того же курса. Классическим примером может служить
терминология, фиксирующая две стороны знака. Долгое время Соссюр
пользовался терминами idée, concept «понятие» для наименования
означаемого и image acoustique для наименования означающего. Даже
в К III, излагая структуру знака, он продолжает пользоваться
этими терминами, и только 19 мая 1911 г., то есть где-то в конце курса,
он специально возвращается к терминологическому вопросу,
связанному с двусторонней природой знака, и просит слушателей
исправить прежние формулировки: image acoustique «акустический
образ» на signifiant «означающее», a concept, idée «понятие» на
signifié «означаемое». Любопытно, что издатели не обратили внимания
19
на это и сохранили весь этот разнобой при сведении всех текстов в
один. Или еще один пример: так как Соссюр считал, что означающее
имеет не материальную, а психическую природу, то он,
утвердившись в этом убеждении, в более поздних лекциях избегал
употреблять при характеристике означающего такие прилагательные, как
phonologique, phonique «звуковой», заменяя их всюду в этом
контексте прилагательным acoustique (отсюда image acoustique).
Издатели провели терминологическую редакцию очень нестрого,
убежденные, по-видимому, в том, что Соссюр не придавал терминологии
большого значения, а это в принципе неверно: термин для Соссюра
был неважен до тех пор, пока не была окончательно прояснена
сущность самого явления: как только явление становилось ясным,
Соссюр требовал для него и ясного термина. Издатели не
унифицировали неточности, непоследовательности и даже случайные оговорки
устного изложения. При внимательном чтении «Курса» это прямо
бросается в глаза. Такой терминологический разнобой направляет
мысль читателя в неверную сторону: за разными терминами он
начинает искать разные объекты, тогда как на деле все сводится к
разным наименованиям одного и того же объекта.
Теперь все эти недостатки воссозданного Балли и Сеше курса
стали еще очевиднее после того, как в 1967—1968 гг. вышло в свет
критическое издание «Курса» 1, где напротив каждого
(пронумерованного) предложения воссозданного Балли и Сеше «Курса»
приведены соответствующие места использованных издателями
конспектов всех трех курсов, соответствующие места неиспользованных
издателями конспектов Э. Константена и отрывки из скудных
черновиков самого Соссюра, имеющие хоть какое-то, пусть самое
отдаленное, отношение к пронумерованному предложению «Курса»2. Это
исключительное по своей ценности издание имеет вид развернутой
страницы с шестью столбцами следующего содержания [см.
стр. 21].
Пронумерованные предложения колонки «1», которым Энглер не
находит соответствий в колонках 2—6 и которые таким образом
являются творчеством авторов реконструкции, ставятся Энглером
в скобки как явно несоссюровские.
Таким путем Энглер наглядно показывает нам ту вивисекцию,
которой подвергался текст конспектов. В обещанном
заключительном четвертом томе Энглер собирается опубликовать каждый
конспект в том естественном порядке, который он имел до вивисекции
его издателями.
1 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Édition critique par
R. Engler, Wiesbaden, fasc. 1, 2, 1967, fasc. 3, 1968.
2 Кроме того, Энглер использовал конспект читанного в 1911—1912 гг. курса
«Греческие и латинские этимологии», сделанный Брютшем, и записанные Ридлин-
гером конспекты курса «Сравнительная грамматика греческого и латинского
языков», читанного в 1909—1910 гг. (в 1-м семестре — фонетика, во 2-м —
морфология).
20
1
Пронумерованное
предложение из
реконструированного
Балли и
Сеше курса
2
ствующее
этому
предложению
место из
KI
3
Соответствующее
этому
предложению место
из К II
4
Соответствующее
этому
предложению место
из К III
5
Соответствующее
этому
предложению место
из позже
найденных
конспектов
Э.
Константе на
6
Соответствующее
этому
предложению место
из
черновиков Соссюра
Даже поверхностное прочтение критического издания Энглера
показывает, что Соссюр в изложении Балли — Сеше и Соссюр
в записи конспектов его слушателей не вполне тождественны. В
каком-то смысле можно было бы даже утверждать, что это не Соссюр,
а несинонимичный парафраз Соссюра. И так обстоит дело не только
с Балли и Сеше. Все последующее языкознание, по крайней мере то,
которое отталкивалось от Соссюра, воспринятого сквозь призму
реконструированного «Курса», представляло собой несинонимичный
парафраз идей Соссюра, непрерывные вариации на разработанные
им темы, на сформулированные им проблемы. Кое-что из этих
«вариаций», парафраз совпадает с пра-Соссюром, многое — нет. Но
самое существенное, самое главное состоит в том, что никто, почти
никто не посмел отменить, упразднить выдвинутых им проблем,
представить их как псевдопроблемы. Многие, очень многие спорят с
Соссюром в изложении Балли — Сеше, полемизируют, быть может, все,
но не извне, а изнутри Соссюра, оставаясь в пределах поставленных
им проблем. А это означает, что понятия, выработанные Соссюром,
независимо от их интерпретации, касаются самих основ языка
и что вопрос сводится не к тому, что таких понятий нет, а к тому,
в каком виде эти понятия существуют. Можно исправлять или
дополнять, но во всех случаях — только Соссюра. Пройти мимо
него — это означало бы пройти мимо самого языкознания. Поэтому
был прав Мальмберг, когда он писал, что «Ни один лингвист,
озабоченный принципами и методами своей науки, не может
больше работать так, как если бы «Курса» не существовало»
(B.Malmberg, Ferdinand de Saussure et la phonétique moderne, CFS, 12,
1954, стр. 9). И поэтому был прав Бенвенист, когда он писал: «В
настоящее время нет ни одного лингвиста, который не был бы чем-
нибудь ему обязанным» и «Нет такой общей теории, которая не
упоминала бы его имени».
Итак, следует просто напомнить читателю те основные понятия,
которые сохранили и не могли не сохранить в реконструируемом
«Курсе» его издатели.
21
При этом надо помнить, что все эти основные понятия
представляются вниманию читателя не для бездумного заучивания, а для
критики. И в этой рекомендации нет ничего оригинального, ибо
Соссюра всегда читали критически. Это, быть может, наиболее
критически читаемый лингвист. Надо только помнить, что критика не
означает аннигиляции основных понятии, ибо они — эти основные
понятия — отражают существенные стороны объекта и с большим
или меньшим успехом были в разное время сформулированы и
американским лингвистом Уитни, и русскими языковедами Бодуэном
де Куртенэ и Крушевским, и немецким лингвистом Марти,
набросавшим программу чистой синхронической лингвистики. Но только
Соссюру удалось представить совокупность этих понятий как
органическое целое. Для Соссюра были важны «фундаментальные
принципы» (Блумфилд), стремление «очертить те универсальные рамки, в
которых каждый частный факт занял бы свое подобающее ему место»
(Годель). Каковы же эти универсальные принципы?
Исходным положением Соссюра является утверждение о
необходимости особой общественной (социальной) науки, которую он
называет семиологией (sémiologie générale) 1 и предметом которой
является общая теория знаковых систем, используемых обществом.
Лингвистика «как наука о знаках особого рода» (sémiologie
linguistique), по Соссюру, является важнейшей ветвью семиологии в
силу того, что языковой знак занимает исключительное место среди
знаковых систем: язык, как пишет Соссюр,— «самая сложная и
самая распространенная семиологическая система».
Язык, как и любая семиологическая система, возникает,
существует, развивается и иногда погибает в определенных условиях, не
может быть оторван от этих условий, с одной стороны, и сам по себе
обладает определенным внутренним строением. Это предопределяет
деление лингвистики на две основных дисциплины — внешнюю
лингвистику, которая рассматривает внешние условия
существования языка, и внутреннюю лингвистику, которая рассматривает
внутреннее строение и свойства своего объекта. Кстати, в таком
порядке Соссюр и читал свой последний курс.
В пределах внутренней лингвистики, предметом которой
является речевая деятельность, Соссюр выделил два основных
понятия, противопоставленных друг другу,— дихотомию языка (langue)
и речи (parole). Так, внутренняя лингвистика, естественно,
распалась на две части: теорию языка и теорию речи. Соссюру удалось
изложить, и при этом дважды, только теорию языка. Теория речи
так никогда и не была прочитана. Нам даже неизвестно, каким
образом Соссюр собирался развивать эту вторую, важнейшую часть
внутренней лингвистики.
До сих пор, несмотря на отважное заявление М. Коэна о том,
1 Синоним «семиотика» восходит к американскому философу Ч. Пирсу
(1839—1914).
22
что дихотомия это «нечто совершенно ненужное языкознанию»
и изобличает лишь «пристрастие Соссюра к дихотомиям», ни один
сколь-нибудь мыслящий лингвист не мог обойтись без этого
вскрытого Соссюром противопоставления. Это не означает, что сама
дихотомия интерпретировалась лингвистами одинаково. Как раз
наоборот, каждый вкладывал в нее угодное ему содержание: язык
противопоставлялся речи то как социальное индивидуальному, то как
виртуальное актуальному, то как абстрактное конкретному, то как
код сообщению, то как парадигматика синтагматике, то как
синхрония диахронии, то как норма стилю, то как система («клетки»)
реализации ее (заполненные и «пустые» клетки), то как порождающее
устройство порождению, то как [врожденная] способность
(competence) использованию ее (performance) в смысле Хомского и т. д.
и т. п. Одни связывали эту дихотомию с дихотомией energeia
ergon Гумбольдта, другие — и неосновательно с дихотомией
Sprache Rede Пауля и Габеленца. Но при любой
интерпретации, за исключением безответственных лингвистов, никто не
отрицал наличия той кардинальной дихотомии, на которую
расщепляется речевая деятельность человеческого общества 1.
Больше того, последующее языкознание с большим успехом
распространило эту дихотомию на звуковую область, противопоставив
фонологию (ср. язык) фонетике (ср. речь). Впрочем, как показал
Уэлз, эта дихотомия была уже в основных чертах известна Соссюру.
Рассматривая в теории языка знак, Соссюр детально исследовал
все свойства знака и показал, что, во-первых, знаки образуют
систему отношений; при этом Соссюр вскрыл двоякий характер этой
системы, обнаружив таким образом новую дихотомию:
«парадигматические отношения - синтагматические отношения»; он показал,
что знак существует только как член отношения и обладает тем
свойством, которым обладают все члены отношения вообще, то есть
значимостью (valeur).
Во-вторых, Соссюр показал, что устройство языка можно
рассматривать как во времени, так и безотносительно к оси времени;
так была сформулирована еще одна дихотомия - «синхроническая
лингвистика, или, по Соссюру, грамматика - диахроническая
лингвистика, или, по Соссюру, фонетика». Деление подобного рода
намечалось и у других лингвистов. Напомним противопоставление
дескриптивной лингвистики генетической у Марта, аналогичное
противопоставлению двух подходов у Бодуэна де Куртенэ. Надо,
1 Кстати, мы сохранили предложенный Сухотиным перевод langage как
«речевая деятельность», хотя и понимаем, насколько плохо этот перевод отражает
существо дела. Мы руководствовались при этом двумя соображениями:
предложенный Сухотиным перевод «речевая деятельность» прочно укоренился в сознании
читателей русского перевода и, по существу, потерял свою внутреннюю форму;
предлагаемый же в качестве конкурента перевод «совокупность языковых
явлений» невероятно громоздок, нетерминологичен и просто плохо вмещается почти
во все 49 контекстов «Курса», где встречается langage.
23
однако, сказать, что Соссюр осознавал наличие этой
дихотомии, подчиняющейся принципу дополнительности, уже в
«Мемуаре».
Почти ни один лингвист не сомневался в реальности этой
дихотомии, хотя и в данном случае каждый интерпретировал ее
по-своему — то как противоположение статики динамике, то как
противопоставление системы бессистемности, организованного в систему
целого — единичному факту, то как противопоставление
грамматики фонетике, то как противопоставление одновременности
последовательности, то как противопоставление, тождественное
противопоставлению языка речи. Сам Соссюр давал повод для различных
интерпретаций этой дихотомии. Однако никто, за единичными
исключениями, не отрицал существенного значения этой дихотомии,
известной, кстати, Бодуэну де Куртенэ и Фортунатову. Печальным
исключением является ближайший ученик Соссюра А. Мейе,
отвергавший этот тип дихотомии начисто: «Есть только одна
грамматика, описательная и историческая одновременно»,—
утверждал он, стоя в этом отношении на позициях младограмматизма
XIX в.
Таковы фундаментальные принципы, выдвинутые Соссюром,
которые издатели «Курса» смогли донести до читателя.
Эти фундаментальные принципы сохраняют свое значение и в
настоящее время, хотя вопрос об истинном содержании их остается
и до сих пор дискуссионным. Исходя из сказанного, нетрудно, как
нам кажется, показать, как нужно было на самом деле
реконструировать «Курс» и какого плана надо было придерживаться. Ниже
мы предлагаем читателю в виде опыта тот порядок, в каком, по
нашему мнению, следовало бы излагать Соссюра. Короче говоря,
мы предлагаем читателю прочесть «Курс» заново, следуя нашему
оглавлению. Но прежде чем сделать это, мы хотим сказать еще
несколько слов о ... шахматах.
Излагая свои основные принципы, Соссюр часто прибегал к
сопоставлению языка в любом его аспекте с шахматами. Особенно он
настаивал на этом сопоставлении, рассматривая дихотомию
«синхрония — диахрония». «Любая данная позиция характеризуется,
между прочим, тем, что она совершенно независима от всего, что
ей предшествовало; совершенно безразлично, каким путем она
сложилась...» Между тем, эта аналогия является явно неполной.
Язык — не шахматы, и шахматы не подтверждают дихотомии
«синхрония — диахрония». Правила шахматной игры содержат явно
диахронические пункты. Напомним некоторые из них:
1) рокировка возможна только в том случае, если король и
соответствующая ладья до этого не сделали ни одного хода; это явно
диахроническое правило, требующее знания предыстории;
2) пешку игрока В, стоящую рядом с пешкой игрока А,
разрешается брать только в том случае, если она только что перед этим
прошла битое пешкой игрока А поле; это тоже явно диахроническое
24
правило, требующее знания предыстории; 3) игрок имеет право
требовать, чтобы судья зафиксировал ничью, если подтверждено
троекратное повторение ходов, и, наконец, 4) если один из противников
установил, что за последние 50 ходов (не менее!) на доске не была
взята ни одна фигура и ни одна пешка не сделала хода, то он имеет
право требовать прекращения партии (см. «Шахматный кодекс
СССР»); это так называемое «Правило 50 ходов», и оно явно
диахронично; здесь применяется так называемый ретроградный анализ
при оценке ситуации.
Таким образом, шахматная позиция — это, действительно,
состояние, но такое состояние, при котором всегда надо знать, что было
до этого.
«Зритель,— утверждает Соссюр,— следивший за всей
партией с самого начала, не имеет ни малейшего преимущества
перед тем, кто пришел взглянуть на положение партии в
критический момент». Но это—ошибка: «зритель» отличается от того,
«кто пришел взглянуть», хотя бы тем, что ему не за чем задавать
вопрос: «Чей ход?». Вновь пришедший же этот вопрос задать
должен. А вопрос этот диахроничен по существу. Из сказанного
ясно, что шахматная позиция диахронична проспективно и
ретроспективно. В языковой синхронии, по Соссюру, это не
обязательно.
Однако вернемся к нашей мысли о структуре «Курса». Вот как
выглядел бы «Курс» в нашей реконструкции:
Введение
1. Критический обзор истории лингвистики [В. I]1
2. Предмет лингвистики: устройство языка resp. речевой
деятельности (внутренняя лингвистика) и условия существования
языка resp. речевой деятельности (внешняя лингвистика) [В. V]
3. Лингвистика и смежные дисциплины [В. II]
I. Внешняя лингвистика
(условия существования языка)
А
1. Многообразие языков [несмотря на общность языкового
механизма — langue] [4, 1]
2. Территориальная дифференциация языков resp. диалектов
2.1 —на непрерывной территории [4, 3, 2]
2.2 — на разобщенных территориях [4, 4, 3]
1 В квадратных скобках первая арабская цифра обозначает номер части,
вторая—номер главы, третья — номер параграфа «Курса», изданного Ш. Балли
и А.Сеше. Римские цифры обозначают номер главы Введения (сокращенно—
В); следующая за римской цифрой — арабская — обозначает номер параграфа
соответствующей главы Введения к «Курсу».
25
2.3. Причины территориальной дифференциации [4, 3, 1]
2.4. Результаты дифференциации:
2.4.1. Языки (и проблема их границ) [4, 3, 3]
2.4.2. Диалекты (и проблема их границ) [4, 3, 4]
3. Территориальное сосуществование языков:
3.1. Языка автохтонов и завоевателей [4, 2, 1]
3.2. Языка литературного и диалекта [4, 2, 2]
4. Унифицирующие и дифференцирующие факторы [4, 4, 1—2]
Б
1. Язык и культура [5, 4, 2]
2. Язык и общество [5, 4, 31
3. Язык и раса [5, 4, 1]
4. Язык и мышление [5, 4, 4]
В
Характер различий языков
1. Абсолютное различие [4, 1]
2. Относительное различие
2.1. Языковая семья [5, 5]
2.2. Языковой тип [5, 5]
II. Внутренняя лингвистика
(устройство, механизм речевой деятельности)
А. Основные положения
а
1. Семиология как наука о знаковых системах вообще [В. III, 3]
2. Внутренняя лингвистика как важнейшая семиологическая
дисциплина о системе знаков, материализованных в звуках [В.
III, 3]
3. Другие системы знаков и, в частности, ближайшая к
звуковому языку система знаков — письменность [В. VI]
б
Свойства языкового знака
1. Его двусторонность: означающее и означаемое [1, 1, 1]
2. Его произвольность: немотивированность связи означаемого
с означающим [I, 1, 2], абсолютная и относительная [II, 6, 3]
26
3. Его изменчивость / неизменчивость [1, 2, 1—2]
4. Чисто дифференциальный, отрицательный характер знака
как члена системы; проблема значения и значимости [II, 4, 1—4]
5. Линейность означающего [1, 1, 3]
в
Дихотомический характер речевой деятельности: язык (langue)
и речь (parole), лингвистика языка и лингвистика речи [В. IV].
Б. Лингвистика языка (langue)
а. Общие положения
1. Определение языка [В. III, 1—2]
2. Язык на оси одновременности и язык на оси
последовательности: синхроническая лингвистика и диахроническая лингвистика
[1, 3, 1-9]
б. Синхроническая лингвистика
(= грамматика)
1. Единицы и сущности в синхронии [II, 2, 1—4; II, 8]
2. Тождества в синхронии [III]
3. Единица, взятая сама по себе (mot), и единица как член
системы (terme) [III]
4. Понятие значения (sense) и значимости (valeur) языковой
единицы [II, 3], [II, 4, 1-4]
5. Два типа отношений в системе: парадигматические и
синтагматические [II, 5, 1—3] [II, 6, 1—2]
6. Грамматика как теория парадигматических и
синтагматических отношений [II, 7, 1—2]
7. Грамматические результаты фонетических изменений:
а) Чередования [III, 3, 4—6]
б) Разрыв грамматических связей [III, 3, 1]
в) Опрощение [III, 3, 2]
8. Аналогия
а) Аналогия вообще как грамматический механизм [III, 4,
1-3]
б) Аналогия и ее отношение к синхронии и диахронии [III,
5, 1-3]
в) Народная этимология ЦП, 6]
27
в. Диахроническая лингвистика
(= фонетика)
1. Общие положения [III, 1]
2. Фонетические изменения [III, 2, 1—5]
3. Понятие единицы в диахронии [III, 8]
4. Понятие тождества в диахронии [III, 8]
5. Две перспективы диахронической лингвистики:
проспективная и ретроспективная [V, 1]
6. Проблема реконструкции [V, 3, 1—2]
7. Проблема праязыка [V, 2]
В. Лингвистика речи (parole)
(не написана Соссюром)
Приложение. 1. Основы фонологии [В. VII]
2. Этимология
Реконструированный Сеше и Балли «Курс» выходит в свет в
1916 году; с незначительными поправками в 1922 году выходит
второе издание; после этого примерно через каждые 10 лет (1931, 1942,
1954, 1962) выходят еще четыре издания: третье, четвертое, пятое
и шестое. Но проходит десятилетие, прежде чем «Курс» начинают
переводить на другие языки.
Первым — в 1928 году — появляется перевод на японский язык,
сделанный известным японским лингвистом Хидэо Кобаяси 1;
перевод этот выдерживает четыре издания; последнее, четвертое, издание
выходит в 1950 году.
В 1931 году Герман Ломмель переводит «Курс» на немецкий
язык 2, снабдив свой перевод кратким предисловием.
В 1933 году появляется русский перевод, сделанный А. М.
Сухотиным 3; он сопровождается вступительной статьей Д. Н.
Введенского и комментариями Р. О. Шор 4.
В 1945 году Амадо Алонзо переводит в Аргентине «Курс» на
испанский язык, снабжая свой перевод вступительной статьей 5.
Только в 1959 году появляется английский перевод, сделанный
1 «Gengogakugenron», Tokyo, 1928; изд. 2-е, 1940; изд. 3-е, 1941; изд. 4-е, 1950.
2 «Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft», Berlin — Leipzig, 1931;
изд. 2-е, с послесловием Петера фон Поленца, 1967.
3 «Курс общей лингвистики». Перевод с 2-го французского издания А. М.
Сухотина под редакцией и с примечаниями Р. О. Шор. Вводная статья Д. Н.
Введенского, Москва, 1933.
4 Идеи «Курса» стали известны в Советском Союзе гораздо раньше, чем
вышел перевод. Московских лингвистов с этими идеями познакомил С. Карцевский
в докладе, прочитанном весной 1918 года в диалектологической комиссии АН;
ленинградских лингвистов с идеями «Курса» познакомил С. И. Бернштейн в
реферате, прочитанном 8 декабря 1923 года на лингвистической секции Института
литератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ).
5, «Curso de lingüistica general», Buenos-Aires, 1945; изд. 2-е, 1955; изд. 3-е,
1959; изд. 4-е, 1961, изд. 5-е, 1967.
28
Вейдом Бескиным в США, с предисловием, принадлежащим ему же 1·
Затем, в 1961 году, «Курс» переводит на польский язык Кристина
Каспшик 2, вступительную статью к этому переводу пишет В.
Дорошевский. Наконец, в 1967 году выходит перевод на итальянский,
сделанный и прокомментированный известным итальянским
лингвистом Туллио де Мауро 3; он же написал введение и обстоятельную
биографию Соссюра.
В том же году выходит перевод на венгерский, сделанный
Э. Лёринци, с предисловием Лайоша Тамаша 4.
В 1969 г. Сретон Марич переводит «Курс» и на
сербскохорватский язык, сопроводив его предисловием5. И наконец, в 1970 г.
в переводе А. Лёфквиста с предисловием Б. Мальмберга «Курс»
появляется на шведском языке6.
Русский перевод, сделанный А. М. Сухотиным, служил русскому
читателю более сорока лет; хотя этот перевод не только содержит
ряд ошибок и неточностей и уже явно устарел, его роль в истории
русской лингвистики столь значительна, что мы сочли необходимым,
кардинально перередактировав его, оставить имя первого
переводчика «Курса» на титульном листе перевода 7.
А. А. Холодович.
1 «Course in general linguistics». Translated from French by Wade Baskin, N.
Y., 1959, изд. 2-е, 1966.
2 «Kurs jezykoznawstwa ogolnego». Tiumaczyia zwyd. II Krystyna Kasprzyk,
Warszawa, 1961.
3 «Corso di linguistica generale». Introduzione, traduzione e commento di
Tullio De Mauro, Bari, 1967; изд. 2-е, 1968; изд. 3-е, 1970.
4 «Revezetés az âltalânos nyelvészetbe», Budapest, 1967.
5 «Општа лингвистика». Београд, 1969.
6 «Kurs i allmän lingvistik», 1970.
7 Хотелось бы сообщить и некоторые сведения из биографии переводчика,
не известные широким кругам читателей, даже лингвистов. Алексей Михайлович
Сухотин был сыном одного из близких знакомых Льва Николаевича Толстого —
Михаила Сергеевича Сухотина, который второй раз был женат на Татьяне
Львовне Толстой, дочери Л. Н. Толстого.
Родился Алексей Михайлович Сухотин 19 апреля 1888 года. По окончании
Училища правоведения в Петербурге с 1914 года находился на дипломатической
работе в Сербии, в 1917 году вернулся в Россию и некоторое время работал в
Народном Комиссариате иностранных дел. Затем поступил в Институт
востоковедения, который и окончил по специальности «индийские языки» (хинди и бенгали).
По окончании института поступил в аспирантуру к выдающемуся советскому
лингвисту и кавказоведу Н. Ф. Яковлеву. С начала 30-х гг. стал работать
научным сотрудником в Научно-исследовательском институте языкознания (НИИЯЗ)
и во Всероссийской центральной комиссии Нового алфавита (ВЦК НА). С
середины 30-х гг. начинает преподавательскую деятельность в Московском
городском педагогическом институте на кафедре, возглавляемой Р. И. Аванесовым.
Читал, среди прочих курсов, также «Введение в языкознание». Вместе с Р. И.
Аванесовым, В. Н. Сидоровым, П. С. Кузнецовым, А. А. Реформатским образовал
«ядро» так называемой Московской фонологической школы. Печатался в
Литературной Энциклопедии, в журналах «Русский язык в школе» и «Культура и
письменность Востока». Его большой заслугой является перевод «Курса общей
лингвистики» Ф. де Соссюра и выдающейся работы американского лингвиста Э.
Сепира «Язык». Скончался А. М. Сухотин 12 февраля 1942 года в г. Ульяновск.
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР
КУРС ОБЩЕЙ ЛИНГВИСТИКИ
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие к первому изданию ..... 35
Предисловие ко второму изданию 38
Предисловие к третьему изданию 38
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. Общий взгляд на историю лингвистики 39
Глава II. Материал и задача лингвистики; ее отношение к смежным
дисциплинам 44
Глава III. Объект лингвистики . 46
§ 1. Определение языка 46
§ 2. Место языка в явлениях речевой деятельности 49
§3. Место языка в ряду явлений человеческой жизни.
Семиология 53
Глава IV. Лингвистика языка и лингвистика речи 56
Глава V. Внутренние и внешние элементы языка 59
Глава VI. Изображение языка посредством письма 62
§1. Необходимость изучения письма 62
§2. Престиж письма; причины его превосходства над устной
формой речи 62
§ 3. Системы письма 64
§ 4. Причины расхождения между написанием и произношением 65
§ 5. Последствия расхождения между написанием и
произношением 67
Глава VII. Фонология 70
§1. Определение фонологии 70
§ 2. Фонологическое письмо 71
§ 3. Критика показаний письменных источников 72
31
ПРИЛОЖЕНИЕ К ВВЕДЕНИЮ
основы фонологии
Глава I. Фонологические типы 75
§ 1. Определение фонемы 75
§ 2. Артикуляторный аппарат и его функционирование .... 77
§ 3. Классификация звуков в соотношении с их ротовой
артикуляцией 80
Глава II. Фонема в речевой цепочке 86
§ 1. Необходимость изучения звуков в речевой цепочке ... 86
§2. Имплозия и эксплозия . . 88
§ 3. Различные комбинации эксплозии и имплозии в речевой
цепочке 90
§4. Слогораздел и вокалическая точка 92
§ 5. Критика теории слогоделения 94
§6. Длительность имплозии и эксплозии 95
§7. Фонемы четвертой степени раствора. Дифтонги и вопросы
их написания 96
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Глава I. Природа языкового знака 98
§1. Знак, означаемое, означающее 98
§2. Первый принцип: произвольность знака 100
§3. Второй принцип: линейный характер означающего ... 103
Глава II. Неизменчивость и изменчивость знака 104
§1. Неизменчивость знака 104
§2. Изменчивость знака 107
Глава III. Статическая лингвистика и эволюционная лингвистика . . 112
§ 1. Внутренняя двойственность всех наук, оперирующих
понятием значимости 112
§2. Внутренняя двойственность и история лингвистики ... 114
§3. Внутренняя двойственность лингвистики, показанная на
примерах 116
§4. Различие синхронии и диахронии, показанное на
сравнениях 120
§5. Противопоставление синхронической и диахронической
лингвистик в отношении их методов и принципов .... 123
§ 6. Синхронический закон и закон диахронический 124
§7. Существует ли панхроническая точка зрения? 127
§8. Последствия смешения синхронии и диахронии 128
§9. Выводы 130
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СИНХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
Глава I. Общие положения . . 133
Глава II. Конкретные языковые сущности 135
§ 1. [Конкретные языковые] сущности и [речевые] единицы.
Определение этих понятий 135
§2. Метод разграничения сущностей и единиц 136
§ 3. Практические трудности разграничения сущностей и
единиц 137
§4. Выводы 139
32
Глава III. Тождества, реальности, значимости 140
Глава IV. Языковая значимость 144
§ 1. Язык как мысль, организованная в звучащей материи . . 144
§ 2. Языковая значимость с концептуальной стороны 146
§ 3. Языковая значимость с материальной стороны 150
§4. Рассмотрение знака в целом 152
Глава V. Синтагматические отношения и ассоциативные отношения 155
§ 1. Определения 155
§2. Синтагматические отношения 156
§3. Ассоциативные отношения 158
Глава VI. Механизм языка 160
§1. Синтагматические единства 160
§ 2. Одновременное действие синтагматических и
ассоциативных групп 161
§3. Произвольность знака, абсолютная и относительная . . . 163
Глава VII. Грамматика и ее разделы 167
§ 1. Определение грамматики; традиционное деление
грамматики 167
§2. Рациональное деление грамматики ... 169
Глава VIII, Роль абстрактных сущностей в грамматике 170
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
Глава I. Общие положения 173
Глава II. Фонетические изменения 176
§ 1. Абсолютная регулярность фонетических изменений . . 176
§2. Условия фонетических изменений 177
§ 3. Вопросы метода 178
§4. Причины фонетических изменений 179
§ 5. Неограниченность действия фонетических изменений . . . 184
Глава III. Грамматические последствия фонетической эволюции . . 186
§ 1. Разрыв грамматической связи 186
§2. Стирание сложного строения слов 187
§3. Фонетических дублетов не бывает 188
§4. Чередование 190
§ 5. Законы чередования 191
§6. Чередование и грамматическая связь 193
Глава IV. Аналогия 195
§ 1. Определение аналогии и примеры 195
§ 2. Явления аналогии не являются изменениями 197
§ 3. Аналогия как принцип новообразований в языке .... 199
Глава V. Аналогия и эволюция 203
§ 1. Каким образом новообразование по аналогии становится
фактом языка? 203
§ 2. Образования по аналогии — симптомы изменений
интерпретации 204
§ 3. Аналогия как обновляющее и одновременно
консервативное начало 206
Глава VI. Народная этимология 209
Глава VII. Агглютинация 212
§ 1. Определение агглютинации 212
§2. Агглютинация и аналогия 213
Глава VIII. Понятия единицы, тождества и реальности в диахронии . . 215
2 ф, де Соссюр 33
ПРИЛОЖЕНИЕ КО ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЧАСТЯМ
A. Анализ субъективный и анализ объективный 218
Б. Субъективный анализ и выделение единиц низшего уровня 220
B. Этимология 224
ЧАСТЬ Ч ЕТВЕРТАЯ
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
Глава I. О различии языков 226
Глава II. Сложности, связанные с географическим разнообразием
языков 229
§ 1. Сосуществование нескольких языков в одном пункте. . . 229
§2. Литературный язык и местное наречие 231
Глава III. Причины географического разнообразия языков .... : 233
§1. Основная причина разнообразия языков—время .... 233
§ 2. Действие времени на язык на непрерывной территории . 235
§ 3. У диалектов нет естественных границ 237
§ 4. У языков нет естественных границ 239
Глава IV. Распространение языковых волн 241
§ 1. Сила общения и «дух родимой колокольни» 241
§ 2. Сведение обеих взаимодействующих сил к одному общему
принципу 243
§3. Языковая дифференциация на разобщенных территориях 244
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ВОПРОСЫ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Глава I. Две перспективы диахронической лингвистики 248
Глава II. Наиболее древний язык и праязык 252
Глава III. Реконструкции 255
§1. Характер реконструкции и ее цели 255
§ 2. Степень достоверности реконструкций 257
Глава IV. Свидетельства языка в антропологии и доистории .... 259
§ 1. Язык и раса 259
§2. Этнизм 260
§ 3. Лингвистическая палеонтология 261
§ 4. Языковой тип и мышление социальной группы 264
Глава V. Языковые семьи и языковые типы 266
Ш. Балли и А. Сеше. Примечания 270
Предисловие к первому изданию
Сколько раз нам приходилось слышать из уст Фердинанда де
Соссюра сетования на недостаточность принципов и методов той
лингвистики, в сфере которой развивалось его дарование. Всю свою
жизнь он упорно искал те руководящие законы, которые могли бы
ориентировать его мысль в этом хаосе. Только в 1906 г., приняв
после Вертгеймера кафедру в Женевском университете, он получил
возможность публично излагать свои идеи, зревшие в нем в течение
многих лет. Де Соссюр читал курс по общей лингвистике три раза:
в 1906—1907, 1908—1909 и 1910—1911 гг.; правда, требования
программы вынуждали его посвящать половину каждого из этих курсов
индоевропейским языкам: описанию их и изложению их истории,
в связи с чем ему приходилось значительно сокращать важнейшие
разделы, составляющие основную тематику читаемых лекций.
Все, кому посчастливилось слушать эти столь богатые идеями
лекции де Соссюра, жалели, что они не были опубликованы
отдельной книгой. После смерти нашего учителя мы надеялись найти в его
рукописях, любезно предоставленных в наше распоряжение г-жой
де Соссюр, полное, или по крайней мере достаточное, отображение
этих гениальных лекций; мы предполагали, что, ограничившись
простой редакционной правкой, можно будет издать личные заметки
де Соссюра с привлечением записей слушателей. К великому нашему
разочарованию, мы не нашли ничего или почти ничего такого, что
соответствовало бы конспектам его учеников; де Соссюр уничтожал,
как только отпадала в том необходимость, наспех составленные
черновики, в которых он фиксировал в общем виде те идеи, какие он
потом излагал в своих чтениях. В его письменном столе мы нашли
лишь довольно старые наброски, конечно, не лишенные ценности,
но не пригодные для самостоятельного использования, а также
для соединения их с записями упомянутых курсов его
слушателями.
2*
35
Это было для нас тем более огорчительно, что профессиональные
обязанности в свое время почти полностью помешали нам
присутствовать лично на этих лекциях, ознаменовавших в деятельности
Фердинанда де Соссюра этап, столь же блистательный, как и тот, ныне
уже далекий, когда появился «Мемуар о первоначальной системе
гласных в индоевропейских языках».
Итак, нам пришлось ограничиться только записями, которые
вели слушатели в течение трех упомянутых лекционных курсов.
Весьма полные конспекты предоставили в наше распоряжение
слушатели двух первых курсов: Луи Кай, Леопольд Готье, Поль Регар
и Альберт Ридлингер, а также слушатели третьего, наиболее важного
курса: г-жаСеше, Жорж Дегалье и Франсис Жозеф. Свои заметки
по одному специальному вопросу предоставил нам Луи Брютш.
Всем перечисленным лицам мы выражаем свою искреннюю
признательность. Мы выражаем также живейшую благодарность
выдающемуся романисту Жюлю Ронжа, который любезно согласился
просмотреть рукопись перед сдачей ее в печать и сообщил нам свои
ценнейшие замечания.
Что же мы стали делать с этим материалом? Прежде всего
потребовался серьезный критический анализ: в отношении каждого курса
вплоть до отдельных деталей надо было путем сопоставления всех
версий добраться до авторской мысли, от которой у нас остались
только отголоски, порой противоречивые. Для первых двух курсов
мы прибегли к сотрудничеству А. Ридлингера, одного из тех
слушателей, кто с наибольшим интересом следил за мыслью учителя;
его работа в этом отношении была нам очень полезна. Для третьего
курса та же кропотливая работа по сличению версий и
редактированию была произведена одним из нас — А. Сеше.
Однако это еще не все. Форма устного изложения, часто
противоречащая нормам книжной речи, создавала для нас величайшие
затруднения. К тому же де Соссюр принадлежал к числу тех людей,
которые никогда не останавливаются на достигнутом: его мысль
свободно развивалась во всех направлениях, не вступая тем не
менее в противоречие с самой собою. Публиковать все в оригинальной
форме устного изложения было невозможно: неизбежные при этом
повторения, шероховатости, меняющиеся формулировки лишили бы
подобное издание цельности. Ограничиться только одним курсом
(спрашивается, каким?) значило бы лишить книгу всех богатств,
в изобилии разбросанных в остальных двух курсах; даже третий
курс, наиболее законченный, не мог бы сам по себе дать полное
представление о теориях и методах де Соссюра.
Нам советовали издать некоторые отрывки, наиболее
оригинальные по своему содержанию, в том виде, в каком они остались после
де Соссюра; идея эта нам сперва понравилась, но вскоре стало ясно,
что осуществление ее исказило бы концепцию нашего учителя,
которая предстала бы в виде обломков постройки, имеющей
подлинную ценность лишь как стройное целое.
36
Поэтому мы остановились на решении более смелом, но вместе
с тем, думается, и более разумном: мы решились на реконструкцию,
на синтез на основе третьего курса, используя при этом все бывшие
в нашем распоряжении материалы, включая личные заметки де
Соссюра. Дело это было исключительно трудным, тем более что речь
шла о воссоздании, которое должно было быть совершенно
объективным: по каждому пункту нужно было, проникнув до самых основ
каждой отдельной мысли и руководствуясь всей системой в целом,
попытаться увидеть эту мысль в ее окончательной форме,
освободить ее от многообразных форм выражения и зыбкости, присущей
устному изложению, затем найти ей надлежащее место и при всем
том представить все составные части ее в последовательности,
соответствующей авторскому намерению даже в тех случаях, где это
намерение надо было не столько обнаружить, сколько угадать.
Из этой работы по объединению отдельных версий и
реконструкции целого и выросла настоящая книга, которую мы ныне не без
робости представляем на суд ученых кругов и всех друзей
лингвистики.
Наша основная идея сводилась к тому, чтобы воссоздать
органическое единство, не пренебрегая ничем, что помогло бы создать
впечатление стройного целого. Но именно как раз за это мы, быть
может, и рискуем подвергнуться критике с двух сторон.
С одной стороны, нам могут сказать, что это «стройное целое»
неполно. Но ведь наш учитель никогда и не претендовал на то,
чтобы охватить все разделы лингвистики и осветить их все равномерно
ярким светом; фактически он этого сделать не мог, да и цель его была
совершенно иная. Руководствуясь несколькими
сформулированными им самим основными принципами, которые мы постоянно
находим в его работе и которые образуют основу ткани, столь же
прочной, сколь и разнообразной, он работал вглубь и
распространялся вширь лишь тогда, когда эти принципы находили
исключительно благоприятные возможности применения, а также когда они
встречали на своем пути теории, которые могли их подорвать.
Этим объясняется тот факт, что некоторые дисциплины, например
семантика, лишь слегка затронуты. Нам кажется, однако, что
эти пробелы не вредят архитектонике целого. Отсутствие
«лингвистики речи» более ощутимо. Обещанный слушателям третьего
курса этот раздел занял бы, без сомнения, почетное место в будущих
курсах; хорошо известно, почему это обещание не было выполнено.
Мы ограничились тем, что собрали и поместили в соответствующем
разделе беглые указания на эту едва намеченную программу;
большего мы сделать не могли.
С другой стороны, нас, быть может, упрекнут за то, что мы
включили в книгу некоторые достаточно известные еще до
Соссюра вещи. Однако невозможно, чтобы при изложении столь широкой
темы все было одинаково новым. И если некоторые уже известные
положения оказываются необходимыми для понимания целого, не-
37
ужели нам поставят в вину то, что мы их приводим? Так, глава о
фонетических изменениях включает сведения, уже высказывавшиеся
ранее другими и только выраженные в более законченной форме;
но, не говоря уже о том, что этот раздел книги содержит много
оригинальных и ценных подробностей, даже поверхностное знакомство
с ним показывает, что исключение его из книги отрицательно
сказалось бы на понимании тех принципов, на которых де Соссюр
строит свою систему статической лингвистики.
Мы полностью осознаем свою ответственность перед лицом
научной критики и перед самим автором, который, возможно, не дал бы
своего согласия на опубликование этих страниц. Эту
ответственность мы принимаем на себя целиком и хотели бы, чтобы она лежала
только на нас. Сумеют ли наши критики провести различие между
учителем и его интерпретаторами? Мы были бы признательны им,
если бы они обрушили свои удары на нас: было бы несправедливо
подвергать этим ударам память дорогого нам человека.
Женева, июль 1915 Ш. Балла, А. Сеше.
Предисловие ко второму изданию
В настоящем, втором, издании не внесено никаких
существенных изменений по сравнению с первым. Издатели ограничились
частичными поправками, цель которых — сделать редакцию
некоторых пунктов более ясной и точной.
Ш. Б., А. С.
Предисловие к третьему изданию
За исключением нескольких незначительных исправлений,
настоящее издание полностью повторяет предыдущее.
Ш. Б., А. С.
ВВЕДЕНИЕ
Глава I
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ЛИНГВИСТИКИ
Наука о языке прошла три последовательные фазы развития,
прежде чем было осознано, что является подлинным и единственным
ее объектом.
Начало было положено так называемой «грамматикой». Эта
дисциплина, появившаяся впервые у греков и в дальнейшем
процветавшая главным образом во Франции, основывалась на логике
и была лишена научного и объективного воззрения на язык как
таковой: ее единственной целью было составление правил для
отличия правильных форм от форм неправильных. Это была дисциплина
нормативная, весьма далекая от чистого наблюдения: в силу этого ее
точка зрения была, естественно, весьма узкой.
Затем возникла филология. «Филологическая» школа
существовала уже в Александрии, но этот термин применяется
преимущественно к тому научному направлению, начало которому было
положено в 1777 г. Фридрихом Августом Вольфом и которое
продолжает существовать до наших дней. Язык не является единственным
объектом филологии: она прежде всего ставит себе задачу
устанавливать, толковать и комментировать тексты. Эта основная задача
приводит ее также к занятиям историей литературы, быта,
социальных институтов и т. п. Всюду она применяет свой собственный
метод, метод критики источников. Если она касается лингвистических
вопросов, то главным образом для того, чтобы сравнивать тексты
различных эпох, определять язык, свойственный данному автору,
расшифровывать и разъяснять надписи на архаических или плохо
известных языках. Без сомнения, именно исследования такого рода
и расчистили путь для исторической лингвистики: работы Ричля
о Плавте уже могут быть названы лингвистическими. Но в этой
области филологическая критика имеет один существенный
недостаток: она питает слишком рабскую приверженность к
письменному языку и забывает о живом языке: к тому же ее интересы ле-
39
жат почти исключительно в области греческих и римских
древностей.
Начало третьего периода связано с открытием возможности
сравнивать языки между собою. Так возникла сравнительная
филология, или, иначе, сравнительная грамматика. В 1816 г. Франц
Бопп в своей работе «О системе спряжения санскритского языка...»
исследует отношения, связывающие санскрит с греческим,
латинским и другими языками. Но Бопп не был первым, кто установил
эти связи и высказал предположение, что все эти языки принадлежат
к одному семейству. Это, в частности, установил и высказал до него
английский востоковед Вильям Джоунз (1746—1794). Однако
отдельных разрозненных высказываний еще недостаточно для
утверждения, будто в 1816 г. значение и важность этого положения уже
были осознаны всеми. Итак, заслуга Боппа заключается не в том,
что он открыл родство санскрита с некоторыми языками Европы
и Азии, а в том, что он понял возможность построения
самостоятельной науки, предметом которой являются отношения
родственных языков между собою. Анализ одного языка на основе другого,
объяснение форм одного языка формами другого — вот что было
нового в работе Боппа.
Бопп вряд ли мог бы создать (да еще в такой короткий срок)
свою науку, если бы предварительно не был открыт санскрит. База
изысканий Боппа расширилась и укрепилась именно благодаря
тому, что наряду с греческим и латинским языками ему был доступен
третий источник информации — санскрит; это преимущество
усугублялось еще тем обстоятельством, что, как оказалось, санскрит
обнаруживал исключительно благоприятные свойства, проливающие
свет на сопоставляемые с ним языки.
Покажем это на одном примере. Если рассматривать парадигмы
склонения латинского genus (genus, generis, génère, genera, generum 1
и т. д.) и греческого génos (génos, géneos, géneï, génea, genéôn и т.д.),
то получаемые ряды не позволяют сделать никаких выводов, будем
ли мы брать эти ряды изолированно или сравнивать их между
собою. Но картина резко изменится, если с ними сопоставить
соответствующую санскритскую парадигму (Janas, janasas, janasi,
janassu, janasäm и т. д.). Достаточно беглого взгляда на эту
парадигму, чтобы установить соотношение, существующее между двумя
другими парадигмами: греческой и латинской. Предположив, что
Janas представляет первоначальное состояние (такое допущение
способствует объяснению), можно заключить, что s исчезало в
греческих формах géne(s)os и т. д. всякий раз, как оказывалось между
двумя гласными. Далее, можно заключить, что при тех же
условиях в латинском языке s переходило в г. Кроме того, с
грамматической точки зрения санскритская парадигма уточняет понятие индо-
1 Здесь и всюду в дальнейшем мы сохраняем транслитерацию греческих
слов в том виде, в каком она дана во французском издании «Курса».—
Прим ред.
40
европейского корня, поскольку этот элемент оказывается здесь
вполне определенной и устойчивой единицей (Janas-). Латинский и
греческий языки лишь на самых своих начальных стадиях знали то
состояние, которое представлено санскритом. Таким образом, в
данном случае санскрит показателен тем, что в нем сохранились все
индоевропейские s. Правда, в других отношениях он хуже
сохранил характерные черты общего прототипа: так, в нем
катастрофически изменился вокализм. Но в общем сохраняемые им
первоначальные элементы прекрасно помогают исследованию, и в огромном
большинстве случаев именно санскрит оказывается в положении
языка, разъясняющего различные явления в других языках.
С самого начала рядом с Боппом выдвигаются другие
выдающиеся лингвисты: Якоб Гримм, основоположник германистики (его
«Грамматика немецкого языка» была опубликована в 1819 1837 гг.);
Август Фридрих Потт, чьи этимологические разыскания снабдили
лингвистов большим материалом; Адальберт Кун, работы которого
касались как сравнительного языкознания, так и сравнительной
мифологии; индологи Теодор Бенфей и Теодор Ауфрехт и др.
Наконец, среди последних представителей этой школы надо
выделить Макса Мюллера, Георга Курциуса и Августа Шлейхера.
Каждый из них сделал немалый вклад в сравнительное
языкознание. Макс Мюллер популяризовал его своими блестящими лекциями
(«Лекции по науке о языке», 1861, на английском языке); впрочем, в
чрезмерной добросовестности его упрекнуть нельзя. Выдающийся
филолог Курциус, известный главным образом своим трудом
«Основы греческой этимологии» (1858 1862, 5-е прижизненное изд.
1879 г.), одним из первых примирил сравнительную грамматику
с классической филологией. Дело в том, что представители
последней с недоверием следили за успехами молодой науки, и это
недоверие становилось взаимным. Наконец, Шлейхер является первым
лингвистом, попытавшимся собрать воедино результаты всех
частных сравнительных исследований. Его «Компендиум по
сравнительной грамматике индогерманских языков» (1861) представляет
собой своего рода систематизацию основанной Боппом науки. Эта
книга, оказывавшая ученым великие услуги в течение многих лет,
лучше всякой другой характеризует облик школы сравнительного
языкознания в первый период развития индоевропеистики.
Но этой школе, неотъемлемая заслуга которой заключается в
том, что она подняла плодородную целину, все же не удалось
создать подлинно научную лингвистику. Она так и не попыталась
выявить природу изучаемого ею предмета. А между тем без такого
предварительного анализа никакая наука не в состоянии выработать
свой метод.
Основной ошибкой сравнительной грамматики - ошибкой,
которая в зародыше содержала в себе все прочие ошибки, было то,
что в своих исследованиях, ограниченных к тому же одними лишь
индоевропейскими языками, представители этого направления ни-
41
когда не задавались вопросом, чему же соответствовали
производимые ими сопоставления, что же означали открываемые ими
отношения. Их наука оставалась исключительно сравнительной,
вместо того чтобы быть исторической. Конечно, сравнение
составляет необходимое условие для всякого воссоздания исторической
действительности. Но одно лишь сравнение не может привести к
правильным выводам. А такие выводы ускользали от
компаративистов еще и потому, что они рассматривали развитие двух языков
совершенно так же, как естествоиспытатель рассматривал бы рост
двух растений. Шлейхер, например, всегда призывающий исходить
из индоевропейского праязыка, следовательно выступающий,
казалось бы, в некотором смысле как подлинный историк, не
колеблясь, утверждает, что в греческом языке е и о суть две «ступени»
(Stufen) одного вокализма. Дело в том, что в санскрите имеется
система чередования гласных, которая может породить
представление об этих ступенях. Предположив, таким образом, что развитие
должно идти по этим ступеням обособленно и параллельно в каждом
языке, подобно тому как растения одного вида проходят
независимо друг от друга одни и те же фазы развития, Шлейхер видит в
греческом о усиленную ступень e, подобно тому как в санскритском а
он видит усиление а. В действительности же все сводится к
индоевропейскому чередованию звуков, которое различным образом
отражается в греческом языке и в санскрите, тогда как вызываемые им
в обоих языках грамматические следствия вовсе не обязательно
тождественны (см. стр. 191 и сл.).
Этот исключительно сравнительный метод влечет за собой целую
систему ошибочных взглядов, которым в действительности ничего
не соответствует и которые противоречат реальным условиям
существования человеческой речи вообще. Язык рассматривался как
особая сфера, как четвертое царство природы; этим обусловлены
были такие способы рассуждения, которые во всякой иной науке
вызвали бы изумление. Нынче нельзя прочесть и десяти строк,
написанных в ту пору, чтобы не поразиться причудам мысли и
терминам, употреблявшимся для оправдания этих причуд.
Но с методологической точки зрения небесполезно
познакомиться с этими ошибками: ошибки молодой науки всегда напоминают в
развернутом виде ошибки тех, кто впервые приступает к научным
изысканиям; на некоторые из этих ошибок нам придется указать в
дальнейшем.
Только в 70-х годах XIX века стали задаваться вопросом,
каковы же условия жизни языков. Было обращено внимание на то,
что объединяющие их соответствия не более чем один из аспектов
того явления, которое мы называем языком, а сравнение не более
чем средство, метод воссоздания фактов.
Лингвистика в точном смысле слова, которая отвела
сравнительному методу его надлежащее место, родилась на почве изучения
романских и германских языков. В частности, именно романистика
43
(основатель которой Фридрих Диц в 1836 1838 гг. выпустил свою
«Грамматику романских языков») очень помогла лингвистике
приблизиться к ее настоящему объекту. Дело в том, что романисты
находились в условиях гораздо более благоприятных, чем
индоевропеисты, поскольку им был известен латинский язык, прототип
романских языков, и поскольку обилие памятников позволяло им
детально прослеживать эволюцию отдельных романских языков. Оба
эти обстоятельства ограничивали область гипотетических
построений и сообщали всем изысканиям романистики в высшей степени
конкретный характер. Германисты находились в аналогичном
положении; правда, прагерманский язык непосредственно неизвестен,
но зато история происходящих от него языков может быть
прослежена на материале многочисленных памятников на протяжении
длинного ряда столетий. Поэтому-то германисты, как более
близкие к реальности, и пришли к взглядам, отличным от взглядов
первых индоевропеистов.
Первый импульс был дан американцем Вильямом Уитни,
автором книги «Жизнь и развитие языка» (1875). Вскоре образовалась
новая школа, школа младограмматиков (Junggrammatiker), во
главе которой стояли немецкие ученые Карл Бругман, Герман Остгоф,
германисты Вильгельм Брауне, Эдуард Сивере, Герман Пауль,
славист Август Лескйн и др. Заслуга их заключалась в том, что
результаты сравнения они включали в историческую перспективу и
тем самым располагали факты в их естественном порядке.
Благодаря им язык стал рассматриваться не как саморазвивающийся
организм, а как продукт коллективного духа языковых групп. Тем
самым была осознана ошибочность и недостаточность идей
сравнительной грамматики и филологии 1. Однако, сколь бы ни были
велики заслуги этой школы, не следует думать, будто она пролила
полный свет на всю проблему в целом: основные вопросы общей
лингвистики и ныне все еще ждут своего разрешения.
1 Новая школа, стремясь более точно отражать действительность, объявила
войну терминологии компаративистов, в частности, ее нелогичным метафорам.
Теперь уже нельзя сказать: «язык делает то-то и то-то» или говорить о «жизни
языка» и т. п., ибо язык не есть некая сущность, имеющая самостоятельное бытие,
он существует лишь в говорящих. Однако в этом отношении не следует заходить
слишком далеко; самое важное состоит в том, чтобы понимать, о чем идет речь.
Есть такие метафоры, избежать которых нельзя. Требование пользоваться лищь
терминами, отвечающими реальным явлениям языка, равносильно претензии,
будто в этих явлениях для нас уже ничего неизвестного нет.А между тем до этого
еще далеко; поэтому мы не будем стесняться иной раз прибегать к таким
выражениям, которые порицались младограмматиками.
Глава II
МАТЕРИАЛ И ЗАДАЧА ЛИНГВИСТИКИ;
ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
Материалом лингвистики являются прежде всего все факты
речевой деятельности человека как у первобытных народов, так и у
культурных наций, как в эпоху расцвета того или другого языка,
так и во времена архаические, а также в период его упадка, с
охватом в каждую эпоху как форм обработанного, или «литературного»,
языка, [так и форм просторечных]1— вообще всех форм
выражения. Это, однако, не все: поскольку речевая деятельность в
большинстве случаев недоступна непосредственному наблюдению,
лингвисту приходится учитывать письменные тексты как
единственный источник сведений о языках далекого прошлого или далеких
стран. В задачу лингвистики входит:
а) описание и историческое обследование всех доступных ей
языков, что ведет к составлению истории всех языковых семейств и по
мере возможности к реконструкции их праязыков;
б) обнаружение факторов, постоянно и универсально
действующих во всех языках, и установление тех общих законов, к которым
можно свести отдельные явления в истории этих языков;
в) определение своих границ и объекта.
Лингвистика весьма тесно связана с рядом других наук,
которые то заимствуют у нее ее данные, то предоставляют ей свои.
Границы, отделяющие ее от этих наук, не всегда выступают вполне
отчетливо. Так, например, лингвистику следует строго
отграничивать от этнографии и от истории древних эпох, где язык
учитывается лишь в качестве документа. Ее необходимо также отличать и от
антропологии, изучающей человека как зоологический вид, тогда
как язык есть факт социальный. Но не следует ли включить ее в
таком случае в социологию? Каковы взаимоотношения лингвисти-
1 В квадратные скобки нами взяты те части «Курса», которые
отсутствуют в редакции Ш. Балли и А. Сеше, но обнаружены нами в конспектах
слушателей «Курса».— Прим. ред.
44
ки и социальной психологии? В сущности, в языке все психично,
включая его и материальные и механические проявления, как,
например, изменения звуков; и, поскольку лингвистика снабжает
социальную психологию столь ценными данными, не составляет ли
она с нею единое целое? Всех этих вопросов мы касаемся здесь лишь
бегло, с тем чтобы вернуться к их рассмотрению в дальнейшем.
Отношение лингвистики к физиологии выясняется с меньшим
трудом:' отношение это является односторонним в том смысле, что
при изучении языков требуются данные по физиологии звуков,
тогда как лингвистика со своей стороны в распоряжение
физиологии подобных данных предоставить не может. Во всяком случае,
смешение этих двух дисциплин недопустимо: сущность языка, как
мы увидим, не связана со звуковым характером языкового знака.
Что же касается филологии, то, как мы уже знаем, она резко
отличается от лингвистики, несмотря на наличие между обеими
науками точек соприкосновения и те взаимные услуги, которые они
друг другу оказывают.
В чем заключается практическое значение лингвистики? Весьма
немногие люди имеют на этот счет ясное представление, и здесь не
место о нем распространяться. Во всяком случае, очевидно, что
лингвистические вопросы интересны для всех тех, кто, как,
например, историки, филологи и др., имеет дело с текстами. Еще
очевидно значение лингвистики для общей культуры: в жизни как
отдельных людей, так и целого общества речевая деятельность
является важнейшим из всех факторов. Поэтому немыслимо, чтобы
ее изучение оставалось в руках немногих специалистов. Впрочем,
в действительности ею в большей или меньшей степени занимаются
все; но этот всеобщий интерес к вопросам речевой деятельности
влечет за собой парадоксальное следствие: нет другой области, где
возникало бы больше нелепых идей, предрассудков, миражей и
фикций. Все эти заблуждения представляют определенный
психологический интерес, и первейшей задачей лингвиста является
выявление и по возможности окончательное их устранение.
Глава III
ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ
§ 1. Определение языка
Что является целостным и конкретным объектом лингвистики?
Вопрос этот исключительно труден, ниже мы увидим, почему.
Ограничимся здесь показом этих трудностей.
Другие науки оперируют заранее данными объектами, которые
можно рассматривать под различными углами зрения; ничего
подобного нет в лингвистике. Некто произнес французское слово nu
«обнаженный»: поверхностному наблюдателю покажется, что это
конкретный лингвистический объект; однако более пристальный
взгляд обнаружит в nu три или четыре совершенно различные
вещи в зависимости от того, как он будет рассматривать это слово:
только как звучание, как выражение определенного понятия, как
соответствие латинскому nudum «нагой» и т. д. В лингвистике
объект вовсе не предопределяет точки зрения; напротив, можно
сказать, что здесь точка зрения создает самый объект; вместе с тем
ничто не говорит нам о том, какой из этих способов рассмотрения
данного факта является первичным или более совершенным по
сравнению с другими.
Кроме того, какой бы способ мы ни приняли для рассмотрения
того или иного явления речевой деятельности, в ней всегда
обнаруживаются две стороны, каждая из которых коррелирует с другой
и значима лишь благодаря ей.
Приведем несколько примеров:
1. Артикулируемые слоги это акустические явления,
воспринимаемые слухом, но сами звуки не существовали бы, если бы не
было органов речи: так, звук η существует лишь в результате
корреляции этих двух сторон: акустической и артикуляционной. Та
ким образом, нельзя ни сводить язык к звучанию, ни отрывать
звучание от артикуляторной работы органов речи; с другой стороны,
нельзя определить движение органов речи, отвлекаясь от
акустического фактора (см. стр. 75 и сл.).
46
2. Но допустим, что звук есть нечто простое: исчерпывается ли
им то, что мы называем речевой деятельностью? Нисколько, ибо он
есть лишь орудие для мысли и самостоятельного существования не
имеет. Таким образом возникает новая, осложняющая всю картину
корреляция: звук, сложное акустико-артикуляционное единство,
образует в свою очередь новое сложное физиолого-мыслительное
единство с понятием. Но и это еще не все.
3. У речевой деятельности есть две стороны: индивидуальная
и социальная, причем одну нельзя понять без другой.
4. В каждый данный момент речевая деятельность предполагает
и установившуюся систему и эволюцию; в любой момент речевая
деятельность есть одновременно и действующее установление
(institution actuelle) и продукт прошлого. На первый взгляд
различение между системой и историей, между тем, что есть, и тем, что было,
представляется весьма простым, но в действительности то и другое
так тесно связано между собой, что разъединить их весьма
затруднительно. Не упрощается ли проблема, если рассматривать
речевую деятельность в самом ее возникновении, если, например,
начать с изучения речевой деятельности ребенка? Нисколько, ибо
величайшим заблуждением является мысль, будто в отношении
речевой деятельности проблема возникновения отлична от проблемы
постоянной обусловленности. Таким образом, мы продолжаем
оставаться в том же порочном кругу.
Итак, с какой бы стороны ни подходить к вопросу, нигде объект
не дан нам во всей целостности; всюду мы натыкаемся на ту же
дилемму: либо мы сосредоточиваемся на одной лишь стороне каждой
проблемы, тем самым рискуя не уловить присущей ей
двусторонности, либо, если мы изучаем явления речевой деятельности
одновременно с нескольких точек зрения, объект лингвистики
выступает перед нами как груда разнородных, ничем между собою не
связанных явлений. Поступая так, мы распахиваем дверь перед целым
рядом наук: психологией, антропологией, нормативной
грамматикой, филологией и т. д., которые мы строго отграничиваем от
лингвистики, но которые в результате методологической ошибки могут
притязать на речевую деятельность как на один из своих объектов.
По нашему мнению, есть только один выход из всех этих
затруднений: надо с самого начала встать на почву языка и считать
его основанием (norme) для всех прочих проявлений речевой
деятельности. Действительно, среди множества двусторонних явлений
только язык, по-видимому, допускает независимое (autonome)
определение и дает надежную опору для мысли.
Но что же такое язык? По нашему мнению, понятие языка не
совпадает с понятием речевой деятельности вообще; язык—только
определенная часть — правда, важнейшая часть — речевой
деятельности. Он является социальным продуктом, совокупностью
необходимых условностей, принятых коллективом, чтобы обеспечить
реализацию, функционирование способности к речевой деятельно-
47
сти, существующей у каждого носителя языка. Взятая в целом,
речевая деятельность многообразна и разнородна; протекая
одновременно в ряде областей, будучи одновременно физической,
физиологической и психической, она, помимо того, относится и к сфере
индивидуального и к сфере социального; ее нельзя отнести
определенно ни к одной категории явлений человеческой жизни, так как
неизвестно, каким образом всему этому можно сообщить единство.
В противоположность этому язык представляет собою
целостность сам по себе, являясь, таким образом, отправным началом
(principe) классификации. Отводя ему первое место среди явлений
речевой деятельности, мы тем самым вносим естественный порядок в
эту совокупность, которая иначе вообще не поддается
классификации.
На это выдвинутое нами положение об отправном начале
классификации, казалось, можно было бы возразить, утверждая, что
осуществление речевой деятельности покоится на способности,
присущей нам от природы, тогда как язык есть нечто усвоенное и
условное, и что, следовательно, язык должен занимать подчиненное
положение по отношению к природному инстинкту, а не стоять над
ним.
Вот что можно ответить на это.
Прежде всего, вовсе не доказано, что речевая деятельность в той
форме, в какой она проявляется, когда мы говорим, есть нечто
вполне естественное, иначе говоря, что наши органы речи
предназначены для говорения точно так же, как наши ноги для ходьбы.
Мнения лингвистов по этому поводу существенно расходятся. Так,
например, Уитни, приравнивающий язык к общественным
установлениям со всеми их особенностями, полагает, что мы используем
органы речи в качестве орудия речи чисто случайно, просто из
соображений удобства; люди, по его мнению, могли бы с тем же успехом
пользоваться жестами, употребляя зрительные образы вместо
слуховых. Несомненно, такой тезис чересчур абсолютен: язык не есть
общественное установление, во всех отношениях подобное прочим
(см. стр. 106, а также 108—109); кроме того, Уитни заходит слишком
далеко, утверждая, будто наш выбор лишь случайно остановился
на органах речи: ведь этот выбор до некоторой степени был нам
навязан природой. Но по основному пункту американский лингвист,
кажется, безусловно прав: язык — условность, а какова природа
условно избранного знака, совершенно безразлично.
Следовательно, вопрос об органах речи — вопрос второстепенный в проблеме
речевой деятельности.
Положение это может быть подкреплено путем определения того,
что разуметь под членораздельной речью (langage articulé). По-латыни
articulus означает «составная часть», «член(ение)»; в отношении
речевой деятельности членораздельность может означать либо членение
звуковой цепочки на слоги, либо членение цепочки значений на
значимые единицы; в этом именно смысле по-немецки и говорят geglieder-
48
te Sprache. Придерживаясь этого второго определения, можно было
бы сказать, что естественной для человека является не речевая
деятельность как говорение (langage parlé), а способность создавать
язык, то есть систему дифференцированных знаков,
соответствующих дифференцированным понятиям.
Брока открыл, что способность говорить локализована в
третьей лобной извилине левого полушария большого мозга; и на это
открытие пытались опереться, чтобы приписать речевой
деятельности естественно-научный характер. Но как известно, эта
локализация была установлена в отношении всего, имеющего отношение к
речевой деятельности, включая письмо; исходя из этого, а также из
наблюдений, сделанных относительно различных видов афазии в
результате повреждения этих центров локализации, можно,
по-видимому, допустить: 1) что различные расстройства устной речи
разнообразными путями неразрывно связаны с расстройствами
письменной речи и 2) что во всех случаях афазии или аграфии
нарушается не столько способность произносить те или иные звуки или
писать те или иные знаки, сколько способность любыми средствами
вызывать в сознании знаки упорядоченной речевой деятельности.
Все это приводит нас к предположению, что над деятельностью
различных органов существует способность более общего порядка,
которая управляет этими знаками и которая и есть языковая
способность по преимуществу. Таким путем мы приходим к тому же
заключению, к какому пришли раньше.
Наконец, в доказательство необходимости начинать изучение
речевой деятельности именно с языка можно привести и тот
аргумент, что способность (безразлично, естественная она или нет)
артикулировать слова осуществляется лишь с помощью орудия,
созданного и предоставляемого коллективом. Поэтому нет ничего
невероятного в утверждении, что единство в речевую деятельность
вносит язык.
§ 2. Место языка в явлениях речевой деятельности
Для того чтобы во всей совокупности явлений речевой
деятельности найти сферу, соответствующую языку, надо рассмотреть
индивидуальный акт речевого общения. Такой акт предполагает по
крайней мере двух лиц — это минимум, необходимый для полноты
ситуации общения. Итак, пусть нам даны два разговаривающих
друг с другом лица: А и В [см. рис. на стр. 50].
Отправная точка акта речевого общения находится в мозгу
одного из разговаривающих, скажем А, где явления сознания,
называемые нами «понятиями», ассоциируются с представлениями
языковых знаков или с акустическими образами, служащими для
выражения понятий. Предположим, что данное понятие вызывает в
49
мозгу соответствующий акустический образ — это явление чисто
писхического порядка, за которым следует физиологический процесс:
мозг передает органам речи соответствующий образу импульс,
затем звуковые волны распространяются из уст А к ушам В — это
уже чисто физический процесс. Далее процесс общения
продолжается в В, но в обратном порядке: от уха к мозгу — физиологическая
передача акустического образа; в мозгу — психическая
ассоциация этого образа с соответственным понятием. Когда В заговорит в
свою очередь, во время этого нового акта речи будет проделан в
точности тот же самый путь, что и во время первого,— от мозга В к
мозгу А речь пройдет через те же самые фазы. Все это можно
изобразить следующим образом:
Слушание
Говорение, фонация
Говорение, фонация
Слушание
Этот анализ не претендует на полноту. Можно было бы
выделить еще чисто акустическое ощущение, отождествление этого
ощущения с латентным акустическим образом, двигательный образ в
отличие от фонации, говорения и т. д. Но мы приняли во внимание
лишь те элементы, которые считаем существенными; наша схема
позволяет сразу же отграничить элементы физические (звуковые
волны) от элементов физиологических (говорение, фонация и слушание)
50
и психических (словесные образы и понятия). При этом в высшей
степени важно отметить, что словесный образ не совпадает с самим
звучанием и что он столь же психичен, как и ассоциируемое с ним
понятие.
Речевой акт, изображенный нами выше, может быть расчленен
на следующие части:
а) внешняя часть (звуковые колебания, идущие из уст к ушам)
и внутренняя часть, включающая все прочее;
б) психическая часть и часть непсихическая, из коих вторая
включает как происходящие в органах речи физиологические
явления, так и физические явления вне человека;
в) активная часть и пассивная часть: активно все то, что идет от
ассоциирующего центра одного из говорящих к ушам другого, а
пассивно все то, что идет от ушей этого последнего к его
ассоциирующему центру.
Наконец, внутри локализуемой в мозгу психической части
можно называть экзекутивным все то, что активно (П —> О), и
рецептивным все то, что пассивно (О—> П).
К этому надо добавить способность к ассоциации и
координации, которая обнаруживается, как только мы переходим к
рассмотрению знаков в условиях взаимосвязи; именно эта способность
играет важнейшую роль в организации языка как системы (см. стр.
155 и сл.).
Но чтобы верно понять эту роль, надо отойти от речевого акта
как явления единичного, которое представляет собою всего лишь
зародыш речевой деятельности, и перейти к языку как к явлению
социальному.
У всех лиц, общающихся вышеуказанным образом с помощью
речевой деятельности, неизбежно происходит известного рода
выравнивание: все они воспроизводят, хотя, конечно, и не вполне
одинаково, примерно одни и те же знаки, связывая их с одними и теми
же понятиями.
Какова причина этой социальной «кристаллизации»? Какая из
частей речевого акта может быть ответственна за это? Ведь весьма
вероятно, что не все они принимают в этом одинаковое участие.
Физическая часть может быть отвергнута сразу. Когда мы
слышим разговор на незнакомом нам языке, мы, правда, слышим
звуки, но вследствие непонимания того, что говорится, сказанное не
составляет для нас социального факта.
Психическая часть речевого акта также мало участвует в
«кристаллизации»; ее экзекутивная сторона остается вообще
непричастной к этому, ибо исполнение никогда не производится коллективом;
оно всегда индивидуально, и здесь всецело распоряжается индивид;
мы будем называть это речью.
Формирование у говорящих примерно одинаковых для всех
психических образов обусловлено функционированием
рецептивной и координативной способностей. Как же надо представлять себе
51
этот социальный продукт, чтобы язык вполне выделился,
обособившись от всего прочего? Если бы мы были в состоянии охватить
сумму всех словесных образов, накопленных у всех индивидов, мы
бы коснулись той социальной связи, которая и образует язык.
Язык — это клад, практикой речи отлагаемый во всех, кто
принадлежит к одному общественному коллективу, это грамматическая
система, виртуально существующая у каждого в мозгу, точнее
сказать, у целой совокупности индивидов, ибо язык не существует
полностью ни в одном из них, он существует в полной мере лишь в
коллективе.
Разделяя язык и речь, мы тем самым отделяем: 1) социальное
от индивидуального; 2) существенное от побочного и более или
менее случайного.
Язык не деятельность (fonction) говорящего. Язык — это
готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда
не предполагает преднамеренности и сознательно в нем проводится
лишь классифицирующая деятельность, о которой речь будет идти
ниже (см. стр. 155 и сл.).
Наоборот, речь есть индивидуальный акт воли и разума; в этом
акте надлежит различать: 1) комбинации, в которых говорящий
использует код (code) языка с целью выражения своей мысли; 2)
психофизический механизм, позволяющий ему объективировать
эти комбинации.
Следует заметить, что мы занимаемся определением предметов,
а не слов; поэтому установленные нами различия ничуть не
страдают от некоторых двусмысленных терминов, не вполне
соответствующих друг другу в различных языках. Так, немецкое Sprache
соответствует французскому langue «язык» и langage «речевая
деятельность»; нем. Rede приблизительно соответствует
французскому parole «речь»; однако в нем. Rede содержится дополнительное
значение: «ораторская речь» (= франц. discours); латинское sermo
означает скорее и langage «речевая деятельность» и parole «речь»,
тогда как lingua означает langue «язык» и т. д. Ни для одного из
определенных выше понятий невозможно указать точно
соответствующее ему слово, поэтому-то определять слова абсолютно
бесполезно; плохо, когда при определении вещей исходят из слов.
Резюмируем теперь основные свойства языка.
1. Язык есть нечто вполне определенное в разнородном
множестве фактов речевой деятельности. Его можно локализовать в
определенном отрезке рассмотренного нами речевого акта, а именно там,
где слуховой образ ассоциируется с понятием. Он представляет
собою социальный аспект речевой деятельности, внешний по
отношению к индивиду, который сам по себе не может ни создавать его, ни
изменять. Язык существует только в силу своего рода договора,
заключенного членами коллектива. Вместе с тем, чтобы знать его
функционирование, индивид должен учиться; ребенок овладевает
им лишь мало-помалу. Язык до такой степени есть нечто вполне осо-
52
бое, что человек, лишившийся дара речи, сохраняет язык,
поскольку он понимает слышимые им языковые знаки.
2. Язык, отличный от речи, составляет предмет, доступный
самостоятельному изучению. Мы не говорим на мертвых языках, но
мы отлично можем овладеть их механизмом. Что же касается
прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке вполне
может обойтись без них; более того, она вообще возможна лишь при
условии, что эти прочие элементы не примешаны к ее объекту.
3. В то время как речевая деятельность в целом имеет характер
разнородный, язык, как он нами определен, есть явление по своей
природе однородное — это система знаков, в которой единственно
существенным является соединение смысла и акустического образа,
причем оба эти компонента знака в равной мере психичны.
4. Язык не в меньшей мере, чем речь, конкретен по своей
природе, и это весьма способствует его исследованию. Языковые знаки
хотя и психичны по своей сущности, но вместе с тем они — не
абстракции; ассоциации, скрепленные коллективным согласием и в
своей совокупности составляющие язык, суть реальности,
локализующиеся в мозгу. Более того, знаки языка, так сказать,
осязаемы: на письме они могут фиксироваться посредством условных
написаний, тогда как представляется невозможным во всех
подробностях фотографировать акты речи; произнесение самого короткого
слова представляет собою бесчисленное множество мускульных
движений, которые чрезвычайно трудно познать и изобразить.
В языке же, напротив, не существует ничего, кроме акустического
образа, который может быть передан посредством определенного
зрительного образа. В самом деле, если отвлечься от множества
отдельных движений, необходимых для реализации акустического
образа в речи, всякий акустический образ оказывается, как мы
далее увидим, лишь суммой ограниченного числа элементов, или
фонем, которые в свою очередь можно изобразить на письме при
помощи соответственного числа знаков. Именно возможность
фиксировать явления языка позволяет сделать словарь и грамматику
верным изображением его: ведь язык —это сокровищница
акустических образов, а письмо обеспечивает им осязаемую форму.
§ 3. Место языка в ряду явлений человеческой жизни.
Семиология
Сформулированная в § 2 характеристика языка ведет нас к
установлению еще более важного положения. Язык, выделенный
таким образом из совокупности явлений речевой деятельности, в
отличие от этой деятельности в целом, занимает особое место среди
проявлений человеческой жизни.
53
Как мы только что видели, язык есть общественное
установление, которое во многом отличается от прочих общественных
установлений: политических, юридических и др. Чтобы понять его
специфическую природу, надо привлечь ряд новых фактов.
Язык есть система знаков, выражающих понятия, а
следовательно, его можно сравнивать с письменностью, с азбукой для
глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, с
военными сигналами и т. д. и т. п. Он только наиважнейшая из этих
систем.
Следовательно, можно представить себе науку, изучающую
жизнь знаков в рамках жизни общества; такая наука явилась бы
частью социальной психологии, а следовательно, и общей
психологии; мы назвали бы ее семиологией (от греч. sëmeîon «знак») 1. Она
должна открыть нам, что такое знаки и какими законами они
управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать,
чем она будет; но она имеет право на существование, а ее место
определено заранее. Лингвистика — только часть этой общей науки:
законы, которые откроет семиология, будут применимы и к
лингвистике, и эта последняя, таким образом, окажется отнесенной к вполне
определенной области в совокупности явлений человеческой жизни.
Точно определить место семиологии — задача психолога 2;
задача лингвиста сводится к выяснению того, что выделяет язык как
особую систему в совокупности семиологических явлений. Вопрос
этот будет рассмотрен нами ниже; пока запомним лишь одно: если
нам впервые удается найти лингвистике место среди наук, то это
только потому, что мы связали ее с семиологией.
Почему же семиология еще не признана самостоятельной
наукой, имеющей, как и всякая другая наука, свой особый объект
изучения? Дело в том, что до сих пор не удается выйти из порочного
круга: с одной стороны, нет ничего более подходящего для
понимания характера семиологических проблем, чем язык, с другой
стороны, для того чтобы как следует поставить эти проблемы, надо
изучать язык как таковой; а между тем доныне язык почти всегда
пытаются изучать в зависимости от чего-то другого, с чуждых ему
точек зрения.
Прежде всего, существует поверхностная точка зрения широкой
публики, усматривающей в языке лишь номенклатуру (см. стр.
98); эта точка зрения уничтожает самое возможность
исследования истинной природы языка.
1 Надо остерегаться смешения семиологии с семантикой *3, изучающей
[изменения] значения.
2 Ср. Adrien Naville, Nouvelle classification des sciences, 2eéd.
entièrement refondue, Alcan Paris, 1901, где эта идея принимается в соображение.
3 Звездочка после соответствующего слова или абзаца отсылает
читателя «Курса» к соответствующему примечанию издателей «Курса» Ш. Балли
и А. Сеше. Эти примечания в нашем издании помещены в конце «Курса».—
Прим. ред.
54
Затем существует точка зрения психологов, изучающих механизм
знака у индивида; этот метод самый легкий, но он не ведет далее
индивидуального акта речи и не затрагивает знака, по природе своей
социального.
Но, даже заметив, что знак надо изучать как общественное
явление, обращают внимание лишь на те черты языка, которые
связывают его с другими общественными установлениями, более или
менее зависящими от нашей воли, и таким образом проходят мимо
цели, пропуская те черты, которые присущи только или
семиологическим системам вообще, или языку в частности. Ибо знак всегда
до некоторой степени ускользает от воли как индивидуальной, так
и социальной, в чем и проявляется его существеннейшая, но на
первый взгляд наименее заметная черта.
Именно в языке эта черта проявляется наиболее отчетливо, но
обнаруживается она в такой области, которая остается наименее
изученной; в результате остается неясной необходимость или
особая полезность семиологии. Для нас же проблемы лингвистики —
это прежде всего проблемы семиологические, и весь ход наших
рассуждений получает свой смысл лишь в свете этого основного
положения. Кто хочет обнаружить истинную природу языка, должен
прежде всего обратить внимание на то, что в нем общего с иными
системами того же порядка; а многие лингвистические факторы,
кажущиеся на первый взгляд весьма существенными (например,
функционирование органов речи), следует рассматривать лишь во
вторую очередь, поскольку они служат только для выделения языка
из совокупности семиологических систем. Благодаря этому не
только прольется свет на проблемы лингвистики, но, как мы полагаем,
при рассмотрении обрядов, обычаев и т. п. как знаков все эти
явления также выступят в новом свете, так что явится потребность
объединить их все в рамках семиологии и разъяснить их законами этой
науки.
Глава IV
ЛИНГВИСТИКА ЯЗЫКА И ЛИНГВИСТИКА РЕЧИ
Указав науке о языке принадлежащее ей по праву место в той
области знания, которая занимается изучением речевой
деятельности, мы тем самым определили место лингвистики в целом. Все
остальные элементы речевой деятельности, образующие речь,
естественно подчиняются этой науке, и именно благодаря этому
подчинению все части лингвистики располагаются по своим надлежащим
местам.
Рассмотрим для примера производство необходимых для речи
звуков. Все органы речи являются столь же посторонними по
отношению к языку, сколь посторонни по отношению к азбуке Морзе
служащие для передачи ее символов электрические аппараты.
Фонация, то есть реализация акустических образов, ни в чем не
затрагивает самой их системы. В этом отношении язык можно сравнить
с симфонией, реальность которой не зависит от способа ее
исполнения; ошибки, которые могут сделать исполняющие ее музыканты,
никак не вредят этой реальности.
Возражая против такого разделения фонации и языка, можно
указать на факт фонетических трансформаций, то есть на те
изменения звуков, которые происходят в речи и оказывают столь
глубокое влияние на судьбы самого языка. В самом деле, вправе ли мы
утверждать, что язык существует независимо от этих явлений? Да,
вправе, ибо эти явления касаются лишь материальной субстанции
слов. Если даже они и затрагивают язык как систему знаков, то
лишь косвенно, через изменения происходящей в результате этого
интерпретации знаков, а это явление ничего фонетического в себе
не содержит (см. стр. 117). Могут представить интерес поиски
причин этих изменений, чему и помогает изучение звуков, но не в этом
суть: для науки о языке вполне достаточно констатировать
звуковые изменения и выяснить их последствия.
56
То, что мы утверждаем относительно фонации, верно и в
отношении всех прочих элементов речи. Деятельность говорящего
должна изучаться целой совокупностью дисциплин, имеющих право
на место в лингвистике лишь постольку, поскольку они связаны с
языком.
Итак, изучение речевой деятельности распадается на две части;
одна из них, основная, имеет своим предметом язык, то есть нечто
социальное по существу и независимое от индивида; это наука чисто
психическая; другая, второстепенная, имеет предметом
индивидуальную сторону речевой деятельности, то есть речь, включая
фонацию; она психофизична.
Несомненно, оба эти предмета тесно связаны между собой и
предполагают друг друга: язык необходим, чтобы речь была понятна
и тем самым была эффективна; речь в свою очередь необходима для
того, чтобы сложился язык; исторически факт речи всегда
предшествует языку. Каким образом была бы возможна ассоциация понятия
со словесным образом, если бы подобная ассоциация
предварительно не имела места в акте речи? С другой стороны, только слушая
других, научаемся мы своему родному языку; лишь в результате
бесчисленных опытов язык отлагается в нашем мозгу. Наконец,
именно явлениями речи обусловлена эволюция языка: наши
языковые навыки изменяются от впечатлений, получаемых при слушании
других. Таким образом, устанавливается взаимозависимость между
языком и речью: язык одновременно и орудие и продукт речи. Но
все это не мешает языку и речи быть двумя совершенно различными
вещами.
Язык существует в коллективе как совокупность отпечатков,
имеющихся у каждого в голове, наподобие словаря, экземпляры
которого, вполне тождественные, находились бы в пользовании
многих лиц (см. стр. 52). Это, таким образом, нечто имеющееся у
каждого, вместе с тем общее всем и находящееся вне воли тех, кто им
обладает. Этот модус существования языка может быть представлен
следующей формулой:
1 + 1 + 1 + 1 ... . = 1 (коллективный образец)
Но каким образом в этом же самом коллективе проявляется
речь? Речь — суг^ма всего того, что говорят люди; она включает:
а) индивидуальные комбинации, зависящие от воли говорящих;
б) акты фонации, равным образом зависящие от воли говорящих и
необходимые для реализации этих комбинаций.
Следовательно, в речи нет ничего коллективного: проявления ее
индивидуальны и мгновенны; здесь нет ничего, кроме суммы
частных случаев по формуле
(1 + 1'+Г+1'"+ . . .)·
Учитывая все эти соображения, было бы нелепо объединять под
одним углом зрения язык и речь. Речевая деятельность, взятая в
57
целом, непознаваема, так как она неоднородна; предлагаемые же
нами различения и иерархия (subordination) разъясняют все.
Такова первая дихотомия, с которой сталкиваешься, как
только приступаешь к построению теории речевой деятельности. Надо
избрать либо один, либо другой из двух путей и следовать по
избранному пути независимо от другого; следовать двумя путями
одновременно нельзя.
Можно в крайнем случае сохранить название лингвистики за
обеими этими дисциплинами и говорить о лингвистике речи. Но ее
нельзя смешивать с лингвистикой в собственном смысле, с той
лингвистикой, единственным объектом которой является язык.
Мы займемся исключительно этой последней, и, хотя по ходу
изложения нам и придется иной раз черпать разъяснения из
области изучения речи, мы всегда будем стараться ни в коем случае не
стирать грань, разделяющую эти две области.
Глава V
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЯЗЫКА
Наше определение языка предполагает устранение из понятия
«язык» всего того, что чуждо его организму, его системе,— одним
словом, всего того, что известно под названием «внешней
лингвистики», хотя эта лингвистика и занимается очень важными
предметами и хотя именно ее главным образом имеют в виду, когда
приступают к изучению речевой деятельности.
Сюда, прежде всего, относится все то, в чем лингвистика
соприкасается с этнологией, все связи, которые могут существовать
между историей языка и историей расы или цивилизации. Обе эти
истории сложно переплетены и взаимосвязаны, это несколько
напоминает те соответствия, которые были констатированы нами внутри
собственно языка (см. стр. 46 и сл.). Обычаи нации отражаются на
ее языке, а с другой стороны, в значительной мере именно язык
формирует нацию.
Далее, следует упомянуть об отношениях, существующих между
языком и политической историей. Великие исторические события—
вроде римских завоеваний — имели неисчислимые последствия для
многих сторон языка. Колонизация, представляющая собой одну
из форм завоевания, переносит язык в иную среду, что влечет за
собой изменения в нем. В подтверждение этого можно было бы
привести множество фактов: так, Норвегия, политически объединившись
с Данией (1380—1814 гг.), приняла датский язык; правда, в
настоящее время норвежцы пытаются освободиться от этого языкового
влияния. Внутренняя политика государства играет не менее
важную роль в жизни языков: некоторые государства, например
Швейцария, допускают сосуществование нескольких языков; другие, как,
например, Франция, стремятся к языковому единству. Высокий
уровень культуры благоприятствует развитию некоторых
специальных языков (юридический язык, научная терминология и т. д.).
59
Это приводит нас к третьему пункту: к отношению между
языком и такими установлениями, как церковь, школа и т. п., которые
в свою очередь тесно связаны с литературным развитием языка,—
явление тем более общее, что оно само неотделимо от политической
истории. Литературный язык во всех направлениях переступает
границы, казалось бы поставленные ему литературой: достаточно
вспомнить о влиянии на язык салонов, двора, академий. С другой
стороны, вполне обычна острая коллизия между литературным
языком и местными диалектами (стр. 231 и сл.). Лингвист должен также
рассматривать взаимоотношение книжного языка и обиходного
языка, ибо развитие всякого литературного языка, продукта культуры,
приводит к размежеванию его сферы со сферой естественной, то есть
со сферой разговорного языка.
Наконец, к внешней лингвистике относится и все то, что имеет
касательство к географическому распространению языков и к их
дроблению на диалекты. Именно в этом пункте особенно
парадоксальным кажется различие между внешней лингвистикой и
лингвистикой внутренней, поскольку географический фактор тесно
связан с существованием языка; и все же в действительности
географический фактор не затрагивает внутреннего организма самого языка.
Нередко утверждается, что нет абсолютно никакой возможности
отделить все эти вопросы от изучения языка в собственном смысле.
Такая точка зрения возобладала в особенности после того, как от
лингвистов с такой настойчивостью стали требовать знания реалий.
В самом деле, разве грамматический «организм» языка не зависит
сплошь и рядом от внешних факторов языкового изменения,
подобно тому, как, например, изменения в организме растения
происходят под воздействием внешних факторов — почвы, климата и т. д.?
Кажется совершенно очевидным, что едва ли возможно разъяснить
технические термины и заимствования, которыми изобилует язык,
не ставя вопроса об их происхождении. Разве можно отличить
естественное, органическое развитие некоторого языка от его
искусственных форм, таких, как литературный язык, то есть форм,
обусловленных факторами внешними и, следовательно,
неорганическими? И разве мы не видим постоянно, как наряду с местными
диалектами развивается койнэ?
Мы считаем весьма плодотворным изучение «внешнелингвисти-
ческих», то есть внеязыковых явлений; однако было бы ошибкой
утверждать, будто без них нельзя познать внутренний организм
языка. Возьмем для примера заимствование иностранных слов.
Прежде всего следует сказать, что оно не является постоянным
элементом в жизни языка. В некоторых изолированных долинах есть
говоры, которые никогда не приняли извне ни одного
искусственного термина. Но разве можно утверждать, что эти говоры находятся
за пределами нормальных условий речевой деятельности, что они
не могут дать никакого представления о ней, что они требуют к себе
«тератологического» подхода как не испытавшие никакого смешения?
60
Главное, однако, здесь состоит в том, что заимствованное слово
уже нельзя рассматривать как таковое, как только оно становится
объектом изучения внутри системы данного языка, где оно
существует лишь в меру своего соотношения и противопоставления с
другими ассоциируемыми с ним словами, подобно всем другим,
исконным словам этого языка. Вообще говоря, нет никакой необходимости
знать условия, в которых развивался тот или иной язык. В
отношении некоторых языков, например языка текстов Авесты или
старославянского, даже неизвестно в точности, какие народы на
них говорили; но незнание этого нисколько не мешает нам изучать
их сами по себе и исследовать их превращения. Во всяком случае,
разделение обеих точек зрения неизбежно, и чем строже оно
соблюдается, тем лучше.
Наилучшее этому доказательство в том, что каждая из них
создает свой особый метод. Внешняя лингвистика может нагромождать
одну подробность на другую, не чувствуя себя стесненной тисками
системы. Например, каждый автор будет группировать по своему
усмотрению факты, относящиеся к распространению языка за
пределами его территории; при выяснении факторов, создавших
наряду с диалектами литературный язык, всегда можно применить
простое перечисление; если же факты располагаются автором в более
или менее систематическом порядке, то делается это
исключительно в интересах изложения.
В отношении внутренней лингвистики дело обстоит совершенно
иначе; здесь исключено всякое произвольное расположение. Язык
есть система, которая подчиняется лишь своему собственному
порядку. Уяснению этого может помочь сравнение с игрой в шахматы,
где довольно легко отличить, что является внешним, а что
внутренним. То, что эта игра пришла в Европу из Персии, есть факт
внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что
касается системы и правил игры. Если я фигуры из дерева заменю
фигурами из слоновой кости, то такая замена будет безразлична для
системы; но, если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая
перемена глубоко затронет «грамматику» игры. Такого рода
различение требует, правда, известной степени внимательности, поэтому
в каждом случае нужно ставить вопрос о природе явления и при
решении его руководствоваться следующим положением: внутренним
является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему,
Глава VI
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ПИСЬМА
§ 1. Необходимость изучения письма
Итак, конкретным предметом нашего изучения является
социальный продукт, который отражен в мозгу каждого, то есть язык.
Но этот продукт у каждой языковой группы свой: конкретно нам
даны разные языки. Лингвист должен знать возможно большее число
языков, чтобы путем наблюдения над ними и сравнения их между
собой извлечь из них то, что в них есть универсального.
Между тем по большей части мы знакомы с языками лишь в
письменной форме. Даже в отношении нашего родного языка сплошь
и рядом в качестве опосредствующего звена выступает письменный
источник. Когда речь идет о языке, пространственно от нас
удаленном, прибегать к письменным свидетельствам приходится в еще
большей степени. В отношении же уже не существующих языков
письменность вообще является единственным источником сведений.
Располагать во всех случаях непосредственными данными можно
было бы лишь при том условии, если бы уже достаточно давно делалось
то, что ныне делается в Вене и Париже,— мы имеем в виду
собирание фонографических образчиков всех языков. И все-таки и в этом
случае пришлось бы прибегать к письму, чтобы сообщать другим
сохраняемые таким образом тексты.
Итак, хотя письменность сама по себе и чужда внутренней
системе языка, все же полностью отвлечься от письменности нельзя:
ведь это та техника, с помощью которой непрестанно фиксируется
язык; исследователю надо знать ее достоинства и недостатки, а
также опасности, которые возникают при обращении к ней.
§ 2. Престиж письма;
причины его превосходства над устной формой речи
Язык и письмо суть две различные системы знаков;
единственный смысл второй из них — служить для изображения первой;
62
предметом лингвистики является не слово звучащее и слово
графическое в их совокупности, а исключительно звучащее слово. Но
графическое слово столь тесно переплетается со словом звучащим,
чьим изображением оно является, что оно в конце концов
присваивает себе главенствующую роль; в результате изображению
звучащего знака приписывается столько же или даже больше значения,
нежели самому этому знаку. Это все равно, как если бы утверждали,
будто для ознакомления с человеком полезнее увидеть его
фотографию, нежели его лицо.
Такое заблуждение существует издавна, и ходячие о языке
мнения этим именно и грешат. Так, обычно полагают, что при
отсутствии письменности язык изменяется быстрее. Нет ничего более
ошибочного! Правда, письмо может при некоторых условиях замедлять
изменения в языке, но, с другой стороны, сохранность языка
ничуть не страдает от отсутствия письменности. Литовский язык
известен по письменным документам лишь с 1540 г., но и в эту позднюю
эпоху он в общем представляет более верное изображение
индоевропейского праязыка, нежели латынь III века до нашей эры. Этого
одного достаточно, чтобы показать, насколько язык не зависит от
письма.
Некоторые очень тонкие языковые факты сохранились без
помощи какого-либо письменного закрепления. В течение всего
периода древневерхненемецкого языка писали töten, fuolen, stôzen,
а с конца XII века появляются написания töten, füelen, тогда как
stôzen сохраняет свой прежний вид. Откуда это различие? Всюду,
где произошло изменение o—>ö, u—>ü, в следующем слоге имелось j;
в прагерманском языке было *dauf>jan, *följan, но *stautan.
На пороге письменного периода, около 800 г., это j ослабло до
такой степени, что не отражалось на письме в течение трех столетий;
между тем оно сохраняло некоторый след в произношении, и вот
около 1180 г., как мы только что видели, оно удивительным
образом проявилось в виде «умлаута». Таким образом, этот оттенок в
произношении был в точности сохранен без помощи какой бы то
ни было фиксации на письме.
Итак, у языка есть устная традиция, независимая от письма и в
не меньшей мере устойчивая; не видеть это мешает престиж
письменной формы. Первые лингвисты споткнулись на этом, как до них
гуманисты эпохи Возрождения. Сам Бопп не делает ясного
различия между буквой и звуком; читая работы Боппа, можно подумать,
что язык неотделим от своего алфавита. Его непосредственные
преемники запутались в этом так же, как и он. Обозначение
фрикативного р через th дало Гримму повод не только считать этот звук
двойным, но и полагать, что он придыхательный смычный; этим
объясняется то место, которое отводится звуку р (=th) в гриммовском
законе передвижения согласных (так называемое Lautverschiebung;
см. стр. 177). Доныне многие образованные люди смешивают язык
с его орфографией; не говорил ли Гастон Дешан о Вертело, что тот
63
«спас французский язык от гибели», выступив против
орфографической реформы.
Чем же объясняется такой престиж письма?
1. Прежде всего, графический образ слов поражает нас как нечто
прочное и неизменное, более пригодное, нежели звук, для
обеспечения единства языка во времени. Пусть эта связь поверхностна и
создает в действительности мнимое единство, все же ее гораздо
легче схватить, чем естественную связь, единственно истинную,— связь
звуковую.
2. У большинства людей зрительные впечатления яснее и
длительнее слуховых, чем и объясняется оказываемое им
предпочтение. Графический образ в конце концов заслоняет собою звук.
3. Литературный язык еще более усиливает незаслуженное
значение письма. Он имеет свои словари и грамматики; по книге и
через книгу обучаются в школе, литературный язык выступает
как некоторая кодифицированная система, а соответствующий
кодекс представляет собою письменный свод правил, подчиненный
строгому узусу: орфографии. Все это придает письму
первостепенную значимость. В конце концов начинают забывать, что говорить
научаются раньше, чем писать, и естественное соотношение
оказывается перевернутым.
4. Наконец, когда налицо расхождение между языком и
орфографией, противоречие между ними едва ли может быть разрешено
кем-либо, кроме лингвиста; но, поскольку лингвисты не
пользуются никаким влиянием в этих делах, почти неизбежно торжествует
письменная форма, потому что основываться на ней гораздо легче;
тем самым письмо присваивает себе первостепенную роль, на
которую не имеет права.
§ 3. Системы письма
Существуют две системы письма:
1. Идеографическое письмо, при котором слово изображается
одним знаком, не зависящим от звуков, входящих в его состав.
Этот знак представляет слово в целом и тем самым
выражаемое этим словом понятие. Классический пример такой системы —
китайская письменность.
2. Система, обычно называемая «фонетической», стремящаяся
воспроизвести звуковую цепочку, представляющую слово.
Фонетические системы письма бывают то слоговыми, то буквенными, то
есть основанными на неразложимых элементах речи.
Впрочем, идеографические системы письма легко переходят в
системы смешанного типа: некоторые идеограммы, утратив свое
первичное значение, превращаются в изображение отдельных звуков.
64
Мы говорили, что написанное слово стремится вытеснить в
нашем сознании произносимое слово; это верно в отношении обеих
систем письма, но эта тенденция сильнее в первой. Для китайца и
идеограмма и произносимое слово в одинаковой мере суть знаки
понятия; для него письмо есть второй язык, и при разговоре, если два
слова произносятся одинаково, ему иной раз приходится для
выражения своей мысли прибегать к написанному слову. Но эта
подстановка благодаря тому, что она может быть абсолютной, не имеет
тех досадных последствий, какие наблюдаются в нашей
письменности; китайские слова различных диалектов, соответствующие
одному и тому же понятию, с одинаковым успехом связываются с
одним и тем же графическим знаком.
Мы ограничимся рассмотрением фонетических систем письма,
и в частности той, которая употребляется доныне и имеет своим
прототипом греческий алфавит.
В момент, когда возникает алфавит такого рода, он достаточно
разумно отражает состояние языка (если только речь не идет об
алфавите заимствованном и уже содержащем непоследовательности).
С логической точки зрения греческий алфавит безупречен, как это
мы увидим ниже (стр. 75—76). Однако согласованность между
написанием и произношением существует недолго. Рассмотрим
причины этого.
§ 4. Причины расхождения
между написанием и произношением
Причин этих много; мы приведем лишь важнейшие.
Прежде всего, язык непрестанно развивается, тогда как письмо
имеет тенденцию к неподвижности. Из этого следует, что написание
в конце концов перестает соответствовать тому, что оно призвано
изображать. Написание, последовательное в данный исторический
момент, столетием позже оказывается нелепым. Вначале
графический знак еще меняют, чтобы согласовать его с изменившимся
произношением, но в дальнейшем от такого приспособления письма к
произношению отказываются. Так, например, обстояло дело во
французском с oi.
в XI в.
в XIII в.
в XIV в.
в XIX в.
Произносили
rei, lei
roi, loi
roè, loè
rwa, lwa
Писали
rei, lei
roi, loi
roi, loi
roi, loi
Как видим, в XI и XIII вв. еще сообразовывались с
происходящими в произношении переменами: каждому этапу в истории языка
3 Ф. де Соссюр
65
соответствует определенный этап в истории орфографии. Но с XIV в.
письмо застряло на мертвой точке, между тем как язык продолжал
развиваться, и с этого момента возникло расхождение, все более
растущее, между произношением и орфографией. В конце концов
это укоренившееся несоответствие отозвалось на самой системе
письма: графический комплекс oi получил значение, не
соответствующее элементам, в него входящим.
Примеры можно было бы умножать до бесконечности. Так,
например, почему пишут как mais и fait то, что произносится mε
и fε? Почему с во французском часто имеет значение s? Потому что
мы сохраняем написания, не имеющие разумного оправдания.
Эта причина действует во все времена; так, например,
французское смягченное 1 перешло в йот: говорят eveje, muje, хотя
продолжают писать éveiller «будить», mouiller «мочить».
Другая причина расхождения между написанием и
произношением заключается в следующем: когда один народ заимствует у
другого его алфавит, часто случается, что средства чужой
графической системы оказываются плохо приспособленными к своей новой
функции и приходится прибегать к уловкам: так, например,
пользуются двумя буквами для изображения одного звука. Так
случилось со звуком р (фрикативный зубной глухой) в германских
языках: за неимением в латинском алфавите соответствующего знака
его стали изображать через th. Меровингский король Хильперик
пытался добавить к латинским буквам особый знак для этого звука,
но ему это не удалось, и обычай освятил употребление th. В
средневековом английском языке были два е: закрытое (например, в sed
«семя») и открытое (например, в led «вести»); за неимением в
алфавите различных знаков для этих двух звуков придумали
написание seed и lead. Во французском для изображения шипящего J*
прибегли к двойному знаку ch и т. д. и т. п.
Есть еще соображения этимологического порядка; в некоторые
эпохи, например в эпоху Возрождения, они играли преобладающую
роль. При этом весьма часто орфография устанавливалась под
давлением ложной этимологии: так, ввели букву d во французское
слово poids «вес», полагая, что оно восходит к латинскому pondus «вес»,
тогда как в действительности оно происходит от латинского pensum
«взвешенное». Но не в том дело, правильно или нет применен
принцип этимологического письма,— ложен самый принцип.
В иных случаях причина отсутствует вовсе: некоторые
причуды орфографии не оправдываются даже этимологически. Почему,
например, по-немецки пишут thun вместо tun «делать»? Утверждают,
будто h изображает придыхательный характер согласного t, но тогда
h следовало бы ввести всюду, где имеется подобное же придыхание,
а между тем во множестве слов оно никогда не писалось (ср. Tugend
«добродетель», Tisch «стол» и др.).
66
§ 5. Последствия расхождения
между написанием и произношением
Было бы слишком утомительно заниматься классификацией
непоследовательностей орфографии. Одна из самых прискорбных
непоследовательностей — это многочисленность знаков для одного
звука. Так, во французском для звука з существуют написания j,
g, ge (joli, geler, geai); для звука z — написания z и s; для звука s —
написания s, с, ç, t (nation), ss (chasser), sc (acquiescer), sç
(acquiesçant), χ (dix); для звука k — написания с, qu, k, ch, ce, cqu
(acquérir). И наоборот, несколько звуковых значений изображаются
одним знаком: так, t представляет как t, так и s; g изображает как
g, так и з и т. д.
Отметим еще так называемые «косвенные написания». Хотя в
немецких словах Zettel «листок», Teller «тарелка» и т. п. и нет
двойных согласных, все же пишут tt, 11 с единственной целью отметить,
что предыдущий гласный является кратким и открытым.
Вследствие подобного же рода заблуждения англичане добавляют в конце
немое е, чтобы отметить удлинение предшествующего гласного:
ср. made (произносится meid) «сделал» и mad (произносится maed)
«сумасшедший». Это е создает для глаза видимость второго слога.
Указанные нерациональные написания еще соответствуют чему-
то в языке, но есть и такие, которые вовсе ничем не оправданы.
В современном французском языке нет двойных согласных, за
исключением старых форм будущего mourrai «умру», courrai
«побегу», и, однако, французская орфография кишит неоправданными
удвоениями вроде bourru «ворчун», sottise «глупость», souffrir
«страдать» и т. п.
Бывает и так, что орфография еще не установилась и в поисках
правила проявляет колебания; получаются те колеблющиеся
написания, которые свидетельствуют о производившихся в разные
эпохи попытках по-разному изображать соответствующие звуки. Так,
в древневерхненемецких словах ertha, erdha, erda или thrï, dhrï,
drï графические знаки th, dh, d, несомненно, изображают один и
тот же звуковой элемент. Но какой именно? На основании письма
выяснить это немыслимо. Отсюда вытекает то затруднение, что при
наличии двух написаний для одной формы не всегда возможно
решить, действительно ли мы имеем дело с двумя разными
произношениями. Письменные памятники двух соседних диалектов одно и
то же слово изображают по-разному: один диалект через asca,
другой — через ascha. Если это одинаковые звуки, то мы имеем дело с
колеблющейся орфографией, в противном случае различие носит
характер фонологический и диалектальный, как в греческих
формах paizô, paizdô, paiddô. Так же обстоит дело с двумя
последовательными эпохами: в английских памятниках сначала встречается
Г
67
hwat, hweel и т. п., а потом what, wheel и т. п. Что это — смена
орфографии или фонетическое изменение?
Из всего сказанного нельзя не сделать того вывода, что письмо
скрывает язык от взоров: оно его не одевает, а рядит. Это хорошо
иллюстрируется орфографией французского слова oiseau «птица»:
ни один из его звуков (wazo) не изображается соответствующим ему
знаком — от реального языкового образа в этом написании не
осталось ничего.
Другой вывод заключается в том, что чем хуже письмо
выполняет свою функцию изображения живой речи, тем сильнее становится
тенденция опираться именно на него; составители грамматик из
кожи лезут вон, чтобы привлечь внимание к письменной форме речи.
Психологически все это легко объяснимо, но тем не менее весьма
прискорбно по своим последствиям. Частое употребление слов
«произносить», «произношение» санкционирует это заблуждение и
переворачивает закономерное и реальное соотношение между письмом
и языком. Когда говорят, что нужно так-то и так-то произносить
данную букву, то зрительное изображение принимают за оригинал.
Для того чтобы oi произносилось wa, необходимо, чтобы oi
существовало само по себе; в действительности же существует само по себе
лишь wa, которое обозначается на письме через oi. Чтобы объяснить
столь странное явление, добавляют, что в данном случае дело идет
об исключении в произношении букв о и i; но такое объяснение тоже
неверно, потому что тем самым признается зависимость языка от
написания. Можно подумать, что при произнесении oi как wa
нарушаются законы письма, как если бы нормой был
графический знак.
Эти фикции обнаруживаются даже в грамматических правилах,
например в правиле об h во французском языке. Имеются
французские слова с начальным гласным без предшествующего h, которые,
однако, пишутся с начальным h в силу воспоминания об их
латинской форме; так, пишут homme (прежде — orne) по связи с
латинским homo «человек». Однако существуют другие слова, германского
происхождения, где h действительно произносилось: hache «топор»,
hareng «селедка», honte «стыд» и др. Пока этот начальный h
сохранялся в произношении, такие слова подчинялись законам
сочетания при начальных согласных: deux в сочетании deux haches
произносили d0; le в сочетании le hareng произносили 1э, тогда как deux
в сочетании deux hommes произносили d0z, a le в сочетании
l'homme произносили 1 и где, таким образом, при наличии начального
гласного во втором слове действовало правило слияния (liaison)
и происходили элизии. В ту пору правило «Перед придыхательным h
слияния и элизии не происходит» имело реальный смысл. Но
теперь эта формула лишена какого бы то ни было смысла, поскольку
придыхательного h в начале слов больше не существует, если
только не называть придыханием то, что не является звуком, но перед
чем тем не менее не происходит ни слияния, ни элизии. Здесь мы
68
имеем, таким образом, порочный круг, a h — лишь фикция,
порожденная письмом.
Произношение слова определяется не его орфографией, а его
историей. В каждый данный момент времени его форма
представляет определенный этап эволюции, следовать которой оно вынуждено
и которая регулируется точными законами. Каждый этап может
быть определен предыдущим. Единственно, что подлежит
рассмотрению, как раз то, о чем чаще всего забывают,—это происхождение
слова^его этимология.
Название города Auch в фонетической транскрипции будет oj*.
Это единственный случай во французской орфографии, где конечное
ch изображает звук J*. Не будет объяснением, если сказать:
конечное ch произносится как J* только в этом слове. По существу,
вопрос заключается лишь в том, каким образом латинское Auscii
могло видоизмениться в о J; орфография тут ни при чем.
Как надо произносить gageure «заклад»: с се или у?
Одни отвечают: gasoe:r, потому что heure «час» произносится
œ:r. Другие возражают: нет, ga3y:r, так как ge равносильно s,
например в geôle «тюрьма». Пустой спор! Вопрос, по сути,
этимологический: gageure образовано от gager «закладывать», как tournure
«оборот» — от tourner «вертеть, оборачивать»: оба они принадлежат
к одному и тому же типу словообразования; следовательно,
правильно только gasy.r; произношение ga5oe:r вызвано лишь
двусмысленностью написания.
Однако тирания буквы заходит еще дальше: подчиняя себе
массу говорящих, она тем самым может влиять на язык и менять его.
Это случается лишь в высокоразвитых, литературно обработанных
языках, где письменные тексты играют значительную роль. В
такой обстановке зрительный образ может создавать ошибочные
произношения. Примеры этого, собственно говоря, патологического
явления часто встречаются во французском языке. Так, фамилия
Lefèvre (от лат. faber «кузнец») писалась двояко: по-народному и
просто Lefèvre, по-ученому и этимологически Lefèbvre. Вследствие
смешения в старинной графике букв ν и u, Lefèbvre стало читаться
Lefèbure, с буквой b, которой никогда не было в этом слове, и с
буквой и, которая появилась в нем по недоразумению. Между тем
теперь эта форма произносится именно так.
Вероятно, такие деформации будут случаться все чаще и чаще,
и все чаще и чаще будут произноситься лишние буквы. В Париже
уже говорят sept femmes, произнося букву t. Дармстетер предвидит
день, когда будут произносить даже обе конечные буквы слова vingt,
что является поистине орфографическим уродством.
Эти звуковые деформации относятся, конечно, к языку, но они
не вытекают из его естественного функционирования; они
вызываются внеязыковым фактором. Лингвистика должна их изучать в
особом разделе — это случаи тератологические.
Глава VII
ФОНОЛОГИЯ
§ 1. Определение фонологии
Пытаясь усилием мысли отрешиться от создаваемого письмом
чувственного образа речи, мы рискуем оказаться перед бесформенной
массой, с которой неизвестно, что делать. На ум приходит ситуация
с человеком, которого учат плавать и у которого только что отняли
его пробковый пояс.
Надо как можно скорее заменить искусственное естественным;
но это невозможно, поскольку звуки языка изучены плохо;
освобожденные от графических изображений звуки представляются нам
чем-то весьма неопределенным; возникает соблазн предпочесть —
пусть обманчивую — опору графики. Именно так первые лингвисты,
ничего не знавшие из физиологии артикулируемых звуков, то и дело
попадали впросак; расстаться с буквой значило для них потерять
почву под ногами; для нас же это первый шаг к научной истине, ибо
необходимую нам опору мы находим в изучении самих звуков.
Лингвисты новейшего времени наконец это поняли; взявшись сами
за изыскания, начатые другими (физиологами, теоретиками пения
и т. д.), они обогатили лингвистику вспомогательной наукой,
освободившей ее от подчинения графическому слову.
Физиология звуков (по-немецки Laut- или Sprachphysiologie)
часто называется фонетикой (по-немецки Phonetik, англ. phonetics).
Этот термин нам кажется неподходящим. Мы заменяем его
термином фонология, ибо фонетика первоначально означала и должна по-
прежнему означать учение об эволюции звуков; недопустимо
смешивать под одним названием две совершенно различные
дисциплины. Фонетика — наука историческая: она анализирует события,
преобразования и движется во времени. Фонология находится вне
времени, так как механизм артикуляции всегда остается
тождественным самому себе.
Но эти две дисциплины не только не совпадают, они даже не
могут противопоставляться. Первая — один из основных разделов
70
науки о языке; фонология же (и мы на этом настаиваем) для науки
о языке—лишь вспомогательная дисциплина и затрагивает только
речь (см. стр. 56). Разумеется, трудно себе представить, для чего
служили бы движения органов речи, если бы не существовало
языка; но не они составляют язык, и, разъясняя все движения органов
речи, необходимые для производства каждого акустического
впечатления, мы тем самым нисколько не освещаем проблемы языка.
Язык есть система, основанная на психическом противопоставлении
акустических впечатлений, подобно тому как художественный
ковер есть произведение искусства, созданное путем зрительного
противопоставления нитей различных цветов; и для анализа такого
художественного произведения имеет значение игра этих
противопоставлений, а не способы получения каждого цвета.
Очерк системы фонологии будет дан нами ниже (см. стр. 75);
здесь же мы только рассмотрим, на какую помощь со стороны этой
науки может рассчитывать лингвистика, чтобы освободиться от
иллюзий, создаваемых письменностью.
§ 2. Фонологическое письмо
Лингвист прежде всего требует, чтобы ему было предоставлено
такое средство изображения артикулируемых звуков, которое
устраняло бы всякую двусмысленность. Для этого уже предлагалось
множество графических систем.
На каких принципах должно основываться подлинно
фонологическое письмо? Оно должно стремиться изображать одним знаком
каждый элемент речевой цепочки. Требование это не всегда
принимается во внимание: так, английские фонологи, которые заботятся
не столько об анализе, сколько о классификации, употребляют для
некоторых звуков знаки из двух и даже трех букв. Кроме того,
следовало бы проводить строгое различие между эксплозивными и
имплозивными звуками (см. стр. 88 и сл.).
Стоит ли заменять фонологическим алфавитом существующую
орфографию? Этот интересный вопрос может быть здесь затронут
лишь вскользь; по нашему мнению, фонологическое письмо должно
обслуживать только одних лингвистов. Прежде всего, едва ли
возможно заставить принять единообразную систему и англичан, и
немцев, и французов и т. д. Кроме того, алфавит, применимый ко всем
языкам, грозил бы быть перегруженным диакритическими
значками; не говоря уже об удручающем виде хотя бы одной страницы
такого текста, совершенно очевидно, что в погоне за точностью такое
письмо не столько способствовало бы чтению, сколько затрудняло
и сбивало бы с толку читателя. Эти неудобства не могли бы быть
возмещены достаточными преимуществами. За пределами науки
фонологическая точность не очень желательна.
71
Коснемся в связи с этим вопроса о способах чтения. Дело в том,
что мы читаем двумя способами: новое или неизвестное слово
прочитывается нами буква за буквой, а слово привычное и знакомое
схватывается глазами сразу, вне зависимости от составляющих его
букв; образ этого слова приобретает для нас идеографическую
значимость. В этом отношении традиционная орфография законно
предъявляет свои права: полезно различать tant «столько» и temps
«время», et «и», est «есть» и ait «имел бы», du (артикль) и dû
«должный», il devait «он был должен» и ils devaient «они были должны»
и т. п. Пожелаем только одного, чтобы общепринятая орфография
освободилась от своих вопиющих нелепостей. Если при
преподавании языков фонологический алфавит может оказывать услуги, это
не значит, что его применение нужно сделать всеобщим.
§ 3. Критика показаний письменных источников
Итак, ошибочно думать, будто, признав обманчивый характер
письма, надо первым делом реформировать орфографию. Подлинная
услуга, оказываемая нам фонологией, заключается в том, что
благодаря ей мы получаем возможность принимать определенные меры
предосторожности в отношении той письменной формы, через
которую мы получаем доступ к языку. Всякие данные, получаемые
посредством письма, ценны лишь при условии его правильного
истолкования. В каждом данном случае надо установить фонологическую
систему изучаемого языка, то есть таблицу используемых им
звуков; в самом деле, каждый язык пользуется лишь ограниченным
количеством четко дифференцированных фонем. Такая система есть
единственная реальность, интересующая лингвиста. Графические
знаки — только ее отображения, точность которых подлежит
выяснению. Трудность такого выяснения различна в зависимости от
языка и обстоятельств.
Когда речь идет о языке, принадлежащем прошлому, мы
вынуждены довольствоваться косвенными данными; какие же средства
применимы в этом случае для установления фонологической
системы?
1. Прежде всего внешние указания, и в первую очередь
свидетельства современников, описывавших звуки и произношение
своего времени. Так, французские грамматисты XVI и XVII вв., в
особенности те из них, которые желали ознакомить иностранцев с
французским произношением, оставили нам много интересных
замечаний. Но этот источник сведений весьма ненадежен, потому что
эти авторы совсем не владели фонологическим методом. Их описания
выполнены в случайных терминах без всякой научной точности. Их
свидетельства в свою очередь требуют истолкования. Даваемые
звукам названия весьма часто порождают сплошное недоумение:
так, греческие грамматики называли звонкие взрывные согласные
72
b, d, g «средними» (mésai), a глухие взрывные ρ, t, к «лысыми»,
«голыми» (psïlai, то есть, переносно, «лишенные густого
придыхания»), что римляне переводили как «тонкие» (tenues).
2. К более надежным результатам можно прийти, комбинируя
данные этого первого типа с внутренними указаниями, которые мы
распределяем по двум рубрикам:
а) Указания, извлекаемые из факта регулярности фонетических
изменений.
Когда речь идет об определении значимости какой-либо буквы,
весьма важно бывает указать, чем был в более раннюю эпоху
изображаемый ею звук. Нынешняя ее значимость получилась в
результате эволюции, позволяющей сразу же отвести некоторые
предположения. Так, мы в точности не знаем значимости санскритского знака,
транскрибируемого нами посредством с, но поскольку
передаваемый им звук восходит к индоевропейскому нёбному к, постольку
количество обоснованных предположений заметно ограничивается.
Если наряду с исходной точкой известна еще параллельная
эволюция аналогичных звуков того же языка в ту же эпоху, то можно
умозаключать по аналогии и вывести соответствующую пропорцию.
[Так, в письме текстов Авесты звукоряд, соответствующий
индоевропейскому tr, обозначался посредством f>r в начале слова и
посредством dr в середине слова; в то же самое время звукоряд,
соответствующий индоевропейскому рг, -всюду изображался единообразно
через fr. Обе эволюции должны были быть параллельными; отсюда
следует, что dr должно было произноситься точно так же, как рг,
поскольку f является фрикативным глухим, а не взрывным звонким].
Проблема, естественно, облегчается, если требуется определить
промежуточное произношение, исходная и конечная точка которого
известны. Французское сочетание au (например, в слове sauter
«прыгать»), несомненно, в средние века было дифтонгом, так как
оно занимает промежуточное положение между более ранним al
и современным французским о; и, если иным путем устанавливается,
что в данный момент еще существовал дифтонг au, не подлежит
сомнению, что он существовал и в предыдущий период. Мы в точности
не знаем, что обозначает z в таком древневерхненемецком слове,
как wazer «вода», но ориентировочными точками являются, с одной
стороны, более древнее water, с другой — современная форма
Wasser. Следовательно, это ζ является звуком, промежуточным между
t и s; мы можем отбросить всякую гипотезу, которая исходит из
близости только с s или только с t; например, неправильно думать,
что эта буква изображала нёбный звук, ибо между двумя зубными
артикуляциями возможно предположить лишь зубную.
б) Косвенные указания, которые могут быть разными по своему
характеру.
Начнем с разнообразия написаний. В определенную эпоху
древневерхненемецкого языка писали wazer «вода», zehan «десять», ezan
«есть», но никогда не писали wacer, cehan и т. д. Если, с другой сторо-
73
ны, встречается и esan и essan, waser и wasser и т. д., то отсюда можно
заключить, что буква ζ звучала очень близко к s, но довольно
отлично от того, что в ту эпоху изображалось через с. Если в дальнейшем
начинают попадаться формы типа wacer и т. д., то это
свидетельствует о том, что названные две фонемы, прежде все же
различавшиеся, в большей или меньшей степени совпали.
Ценным материалом для изучения произношения являются
поэтические тексты; система стихосложения связана с числом слогов,
с их количеством (долгота), с повторением одинаковых звуков
(аллитерация, ассонанс, рифма); поэтические тексты могут содержать
ценные сведения по соответствующим вопросам фонологии. В
греческом языке некоторые долгие различаются графически (например,
о, изображаемое графемой ω), а другие — нет, так что о количестве
a, i или и приходится справляться у поэтов. В старофранцузском
языке рифма позволяет, между прочим, определить, до какой
эпохи конечные согласные в словах gras «жирный» и faz (лат. faciö
«делаю») различались и с какого момента они стали сближаться и
совпадать. Рифма и ассонанс также показывают нам, что в
старофранцузском языке все e, происходящие от лат. а (например, père
«отец» от patrem, tel «таковой» от talem, mer «море» от mare), имели
звук, совершенно отличный от прочих с. Эти слова никогда не
рифмуются и не ассонируют с такими, как elle «она» (от лат. ilia), vert
«зеленый» (от лат. viridem), belle «прекрасная» (от лат. bella) и т. д.
Упомянем в заключение о написании слов, заимствованных из
иностранного языка, об игре слов, о каламбурах и т. п. *.
Все эти источники информации помогают нам до некоторой
степени познать фонологическую систему прошлой эпохи и критически
использовать свидетельства письменных памятников.
Когда дело касается живого языка, единственно рациональным
методом является, во-первых, установление системы звуков, как
она выявляется непосредственным наблюдением; во-вторых,
сопоставление ее с системой знаков, служащих для изображения (хотя
и неточного) звуков. Многие грамматисты придерживаются еще
старого метода, уже подвергнутого нами критике и сводящегося к
указанию того, каким образом в описываемом языке произносится
каждая буква. Но таким путем невозможно получить ясное
представление о фонологической системе данного языка.
И все же несомненно, что в данной области достигнуты уже
немалые успехи и что фонологи во многом способствовали изменению
наших взглядов на вопросы письма и орфографии.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ВВЕДЕНИЮ
ОСНОВЫ ФОНОЛОГИИ
Глава I
ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ
§ 1. Определение фонемы *
Многие фонологи обращают внимание исключительно на акт
фонации, на образование звуков органами речи (гортанью, в полости
рта и т. д.), то есть на физиологическую сторону, и пренебрегают
акустической стороной. Такой подход неправилен: слуховое
впечатление дано нам столь же непосредственно, как и двигательный
образ органов речи; более того, именно слуховое впечатление является
естественной базой для всякой теории.
Акустическая данность воспринимается нами, хотя и
бессознательно, еще до того, как мы приступаем к рассмотрению
фонологических единиц; на слух мы определяем, имеем ли мы дело со звуком
b или со звуком t и т. д. Если бы оказалось возможным при помощи
киносъемки воспроизвести все движения рта или гортани,
порождающие звуковую цепочку, то в этой смене артикуляций нельзя было
бы вскрыть внутренние членения: начало одного звука и конец
другого. Как можно утверждать, не прибегая к акустическому
впечатлению, что, например, в звукосочетании fäl имеется три единицы, а
не две и не четыре? Только в акустической цепочке можно
непосредственно воспринять, остается ли звук тождественным самому себе
с начала до конца или нет; поскольку сохраняется впечатление чего-
то однородного, звук продолжает оставаться самим собой.
Значение имеет вовсе не его длительность в одну восьмую или одну
шестнадцатую такта (ср. fäl и fäl), а качество акустического
впечатления. Акустическая цепочка распадается не на равновеликие, а на
однородные такты, характеризуемые единством акустического
впечатления,— в этом одном и состоит естественная отправная точка
для фонологического исследования.
В этом отношении вызывает удивление первоначальный
греческий алфавит. Каждый простой звук изображается в нем одним
графическим знаком, и, наоборот, каждый знак соответствует одному,
всегда одному и тому же простому звуку. Это гениальное открытие
75
унаследовали от греков римляне. В написаний слова bârbaroâ
«варвар» каждая буква соответствует однородному такту:
I В 1 А | Ρ I В Ι А Ι Ρ Ι О Ι ΣΙ.
На этом чертеже горизонтальная линия изображает звуковую
цепочку, вертикальные черточки — переходы от одного звука к
другому, а промежутки между вертикальными черточками —
однородные такты. В первоначальном греческом алфавите нет места
сложным написаниям типа французского «ch» в значении J, ни
двояким изображениям одного и того же звука типа «с» и «s» для s;
нет также места и простым знакам для изображения двух звуков
типа «х» в значении ks. Принципы, необходимые и достаточные для
хорошего фонологического письма, греки реализовали почти
полностью К
Другие народы не осознали этого принципа; применяемые ими
алфавиты не разлагают речевую цепочку на однородные
акустические отрезки. Например, киприоты остановились на более сложных
единицах типа ра, ti, ko и т. д.; такое письмо называют слоговым,
что не вполне точно, поскольку слог может быть образован и
другими способами, как, например, pak, tra и т. д. Что касается
семитов, то они обозначали лишь согласные; слово bârbaros они
написали бы так: BRBRS.
Разграничение звуков в речевой цепочке может, следовательно,
основываться только на акустическом впечатлении; иначе обстоит
дело с их описанием, которое возможно лишь на базе
артикуляционного акта, ибо цепочка акустических единиц сама по себе
недоступна анализу; приходится прибегать к артикуляционной цепочке.
При этом оказывается, что одному и тому же звуку соответствует
одна и та же артикуляция: b (акустический такт)=b'
(артикуляционный такт). Первичные единицы, получаемые при расчленении
речевой цепочки, состоят из b и b'; их называют фонемами; фонема —
это сумма акустических впечатлений и артикуляционных движений,
совокупность слышимой единицы и произносимой единицы, из коих
одна обусловлена другой; таким образом, это единица сложная,
имеющая опору как в той, так и в другой цепочке.
Элементы, получаемые первоначально при анализе речевой
цепочки, являются как бы звеньями этой цепочки, неразложимыми
1 Правда, они писали Χ, Θ, Φ в значении kh, Jh, ph; ΦΕΡΩ изображает
phéro, но это — позднейшая инновация; в архаических надписях мы встречаем
ΚΗΑΡΙΣ, а не ΧΑΡΙΣ. Те же надписи дают два знака для к, так называемые
«каппа» и«коппа»*; впрочем, коппа впоследствии исчезла. Наконец, более
трудный случай — это частое изображение одной буквой двух согласных в архаических
греческих и латинских надписях, так, латинское fuisse писалось FUISE, а это
является нарушением принципа, поскольку это двойное S длится два такта,
которые, как мы увидим ниже, не однородны и производят различные впечатления;
но такую ошибку можно извинить, поскольку данные два звука, не сливаясь, все
же имеют нечто общее (см. стр. 88 и сл.).
76
моментами, которые нельзя рассматривать вне занимаемого ими
времени. Так, сочетание типа ta всегда будет одним моментом плюс
другой момент, одним отрезком определенной протяженности плюс
другой отрезок. Наоборот, неразложимый отрезок t, взятый
отдельно, может рассматриваться in abstracto, вне времени; Можно
говорить о t вообще как о типе Τ (типы мы будем изображать заглавными
буквами), об i как о типе I, обращая внимание лишь на
отличительные свойства и пренебрегая всем тем, что зависит от
последовательности во времени. Подобным же образом сочетание
музыкальных звуков do, re, mi может трактоваться лишь как конкретная
последовательность во времени, но, если я возьму один из его
неразложимых элементов, я могу рассматривать его in abstracto.
Проанализировав достаточное количество речевых цепочек,
принадлежащих к различным языкам, можно выявить и
упорядочить применяемые в них элементы; при этом оказывается, что если
пренебречь безразличными акустическими оттенками, то число
обнаруживающихся типов не будет бесконечным. Их перечень и
подробное описание можно найти в специальных работах*; мы же
постараемся показать, на какие постоянные и очень простые
принципы опирается всякая подобная классификация.
Однако прежде скажем несколько слов об артикуляторном
аппарате, о возможностях органов речи и о роли этих органов в
качестве производителей звуков.
§ 2. Артикуляторный аппарат и его функционирование*
Для описания артикуляторного аппарата мы ограничимся
схематическим чертежом, где А обозначает полость носа, В—полость
рта, С — гортань с голосовой щелью ε между двумя голосовыми
связками [см. рис. на стр. 78].
Во рту важно различать губы ana, язык β — γ (β обозначает
кончик языка, а γ — само тело языка), верхние зубы d,
[альвеолы г], нёбо, на котором различают переднюю часть f —- h, твердую и
неподвижную, и заднюю часть i, мягкую и подвижную, иначе
называемую нёбной занавеской, и, наконец, язычок δ.
Греческие буквы обозначают органы, активно участвующие в
артикуляции, латинские буквы — пассивные органы.
Голосовая щель ε, образуемая двумя параллельными
мускулами, голосовыми связками, раскрывается при их размыкании и
закрывается при их смыкании. Полное смыкание в счет не идет,
размыкание же бывает то широким, то узким. В первом случае воздух
проходит свободно, и голосовые связки не вибрируют; во втором
случае прохождение воздуха вызывает звучащие вибрации.
Полость носа — орган совершенно неподвижный; доступ в нее
воздуха может быть прегражден поднятием нёбной занавески; это,
таким образом, просто проход — открытый или закрытый.
77
Полость же рта представляет широкий простор для
всевозможных артикуляций: с помощью губ можно увеличить длину канала,
можно надувать или сжимать щеки, суживать или даже закрывать
полость рта разнообразнейшими движениями губ и языка.
Роль всех этих органов в качестве производителей звука прямо
пропорциональна их подвижности: однообразие в функциях гортани
и полости носа, разнообразие в функциях полости рта.
Выдыхаемый из легких воздух сперва проходит через голосовую
щель, где от сближения голосовых связок возможно образование так
называемого голосового тона. Но артикуляция гортани не способна
произвести такие фонологические разновидности, которые позволили
бы различать и классифицировать звуки языка; в этом отношении
голосовой тон однообразен. Будучи воспринят непосредственно при
выходе из голосовой щели, он представился бы нам по своему
качеству приблизительно постоянным.
Полость носа служит исключительно резонатором для
проходящих через него звуковых колебаний; следовательно, она тоже не
играет роли производителя звуков. Напротив, полость рта сочетает
функции генератора ззука и резонатора. Если голосовая щель
широко раскрыта, то голосовые связки не колеблются и
возникающий звук исходит только из полости рта (мы предоставляем
физикам определять, звук это или просто шум). Если же,
наоборот, сближение голосовых связок приводит к их колебанию, рот
выступает главным образом в качестве модификатора голосового тона.
78
Таким образом, факторы, могущие участвовать в производстве
звука, суть: экспирация (выдох), артикуляция в полости рта,
вибрация голосовых связок и носовой резонанс.
Но простого перечисления этих факторов производства звуков
недостаточно для определения дифференциальных элементов фонем.
Для классификации этих последних важно знать не столько то, как
они образуются, сколько то, чем они отличаются одна от другой.
При этом отрицательный фактор может больше значить для
классификации, чем фактор положительный. Например, экспирация —
положительный фактор, но она не имеет различительной
значимости, поскольку она участвует в каждом акте фонации; отсутствие же
носового резонанса — фактор отрицательный, но отсутствие
носового резонанса столь же значимо для характеристики фонем, как и
наличие его. Дело в том, что два из перечисленных выше фактора —
а) экспирация и б) ротовая артикуляция — постоянны, необходимы
и достаточны для производства звуков, тогда как два других
фактора — в) вибрация голосовых связок и г) носовой резонанс — могут
либо отсутствовать, либо добавляться к двум первым.
С другой стороны, мы уже знаем, что экспирация, вибрация
голосовых связок и носовой резонанс, по существу, однообразны,
тогда как ротовая артикуляция включает бесчисленные
разновидности.
Кроме того, нельзя забывать, что для идентификации фонемы
достаточно определить соответствующий акт фонации и что, с
другой стороны, можно определить все типы фонем через
идентификацию всех актов фонации. Между тем эти акты, как явствует из
нашей классификации факторов, участвующих в образовании звука,
различаются лишь с помощью трех последних («б», «в», «г») из
перечисленных факторов. Таким образом, в отношении каждой фонемы
возникает потребность установить: какова ее ротовая артикуляция,
включает ли она голосовой тон (~~) или нет ([ ]), включает ли она
носовой резонанс ( ) или нет ([ ]). Когда один из этих
трех элементов не определен, идентификация звука является
неполной, но, коль скоро все три известны, их различные сочетания
определяют все существенные типы актов фонации.
Получается таким образом нижеследующая схема возможных
разновидностей:
ι I if I m | iv
Экспирация Экспирация
Ротовая артику- Ротовая
артикуляция ляция
[ ] ~
Экспирация
Ротовая
артикуляция
[ ι
ι ι
Экспирация
Ротовая
артикуляция
f ~Ί
79
Столбец I обозначает глухие звуки, столбец II —звонкие звуки,
столбец III—глухие назализованные звуки, столбец IV—звонкие
назализованные звуки.
Но одно неизвестное остается: характер ротовой артикуляции;
следовательно, необходимо определить ее возможные разновидности.
§ 3. Классификация звуков
в соотношении с их ротовой артикуляцией
Обычно звуки классифицируют по месту их образования. Мы
примем иную отправную точку. Где бы артикуляция ни
локализовалась, она всегда представляет собою некоторую степень раствора;
пределами являются полная смычка и максимальное размыкание.
Основываясь на этом признаке и двигаясь от наименьшего раствора
к наибольшему, разобьем все звуки на семь категорий, обозначив
их цифрами 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Внутри каждой из этих категорий мы
будем распределять фонемы по группам в зависимости от места их
образования.
Мы будем придерживаться общепринятой терминологии, хотя во
многих отношениях она и несовершенна и неточна: такие термины,
как заднеязычные, нёбные, зубные, плавные и т. д., все более или
менее нелогичны. Было бы более рационально разделить нёбо на
несколько зон, чтобы, опираясь на артикуляции языка, в каждом
случае всегда можно было указать, против какой из зон приходится
точка наибольшего приближения языка. Исходя из этой мысли и
используя буквы рисунка на стр. 78, мы будем выражать каждую
артикуляцию посредством формулы, где цифра, обозначающая
степень раствора, помещена между обозначающей активный орган
греческой буквой слева и обозначающей пассивный орган латинской
буквой справа. Так, формула ßOe означает, что при степени
раствора, совпадающей с полной смычкой, кончик языка β прикасается
к альвеолам верхних зубов е.
Наконец, внутри каждой артикуляции типы фонем отличаются
друг от друга в зависимости от наличия или отсутствия голосового
тона или носового резонанса, причем как наличие, так и отсутствие
того или другого служит средством дифференциации фонем.
Итак, мы будем классифицировать звуки согласно
вышеизложенным принципам. Так как речь идет только о простой схеме
рациональной классификации, то не следует рассчитывать найти в ней
фонемы сложного или специального характера, каково бы ни было
их практическое значение, как, например, придыхательные (ph,
dh и др.), аффрикаты (tj, dz, pf и др.), палатализованные согласные,
слабые гласные (э или «немое» е и др.), и, с другой стороны, те
простые фонемы, которые лишены практического значения и не
выступают как различаемые звуки.
80
А. Нулевая степень раствора: смычные.
В этот класс входят все фонемы, образуемые полным смыканием,
герметическим, но мгновенным затвором полости рта. Нет смысла
разбирать, производится ли звук в момент смыкания или в момент
размыкания; реально он может производиться обоими этими
способами (см. стр. 88 и сл.).
В зависимости от места артикуляции различаются три главные
группы смычных: губные (р, b, m), зубные (t, d, η), заднеязычные
(k, g, О)·
Первые артикулируются обеими губами; при артикуляции
вторых кончик языка прикасается к передней части нёба; при
артикуляции третьих спинка языка соприкасается с задней частью нёба.
Во многих языках, например в индоевропейском, четко
различались две заднеязычные артикуляции: одна — палатальная — в
точках f — h, другая — велярная — в точке i. Но в других языках,
например во французском, это различие роли не играет, и заднее
к в слове court воспринимается ухом так же, как переднее к в слове
qui.
На нижеследующей таблице приведены формулы всех этих
фонем:
Губные
Ρ
аОа
1 '
11 ι
b
аОа
1 1
(m)
аОа
Зубные
t
ßOe
[ I
[ 1
d
ßOe
I I
(η)
ßOe
Заднеязычные
к
VOh
[ I
[ ]
g
VOh
1 ]
Й)
γΟη
Носовые m, η, g, собственно говоря, являются звонкими
назализованными смычными; когда произносится amba, мягкое нёбо
приподнимается, чтобы закрыть проход в нос в момент перехода от
m к b.
Теоретически в каждой группе имеется еще одна носовая без
вибрации голосовых связок, иначе говоря, глухая фонема; так,
например, в скандинавских языках после глухих появляется m глухое;
примеры подобного рода можно было бы найти и во французском
языке, но говорящие не усматривают в глухости французских
носовых дифференциальный элемент.
В таблице носовые заключены в скобки; дело в том, что, хотя их
артикуляция включает полное смыкание рта, открытый выход в
нос сообщает им более высокую степень раствора (см. класс В),
81
Б. Первая степень раствора:
фрикативные или спиранты. Они характеризуются неполным
смыканием в полости рта, не препятствующим проходу воздуха.
Термин «спиранты» расплывчат; термин «фрикативные», хотя он и
ничего не говорит о степени раствора, напоминает о впечатлении
трения, производимого проходящим воздухом (лат. fricâre «тереть»).
В этом классе нельзя ограничиться тремя группами, как в
первом классе. Собственно губные (соответствующие смычным р, b)
употребляются чрезвычайно редко; мы их в расчет не принимаем;
обычно они заменяются губно-зубными, образованными
сближением нижней губы с верхними зубами (французские f, ν). Зубные
распадаются на несколько разновидностей в зависимости от той формы,
какую принимает при сближении кончик языка; не детализируя их,
мы обозначим через β, β', β" различные положения кончика языка.
В звуках, имеющих отношение к нёбу, ухо в общем различает
более переднюю артикуляцию (нёбные) и более заднюю артикуляцию
(заднеязычные или велярные*).
Губно-
зубные
f
Lid
[ I
[ ]
ν
aid
[ I
Зубные
θ
ßld
I I
[ ]
ô
ßld
[ I
s
ß'ld
[ I
[ ]
ζ
ß'ld
I ]
J
ß"ld
[ 1
[ ]
3
ß"ld
[ ]
Нёбные
ç
γΐί
1 I
j
Vif
[ ]
Заднеязычные
χ
Vli
[ I
[ ]
У
VU
[ 1
6=англ. th в слове thing з=франц. g в слове génie
о=англ. th » then с=нем. ch » ich
8=франц. s » si j=ceB.-HeM. g » liegen
г=франц. s » rose х=нем. ch » Bach
г=франц. ch » chant 7=сев.-нем. g » Tage
Существуют ли фрикативные, соответствующие m, η, g и др.
в ряду смычных, то есть носовое ν, носовое ζ и т. д.? Это вполне
вероятно. Так, носовое ν слышится во французском слове inventer,
но в общем носовые фрикативные не принадлежат к числу
осознаваемых звуков в языке.
В. Вторая степень раствора: носовые
(см. стр. 81).
Г. Третья степень раствора: плавные. К
этому классу относятся артикуляции двух типов.
82
1. Латеральная артикуляция: язык упирается в переднюю часть
нёба, но оставляет проход справа и слева. Положение это в наших
формулах изображается через надстрочное '. По месту
артикуляции различаются 1 зубное, 1' нёбное или «смягченное» и 1 велярное
или «твердое». Почти во всех языках эти фонемы звонкие, подобно
b, ζ и др. Однако возможны и глухие латеральные, как, например,
во французском языке, где 1, следующее за глухой, произносится
без голосового тона (например, в слове pluie в противоположность
1 в слове bleu); однако мы не сознаем этого различия.
Не стоит говорить о носовом 1, весьма редком и неразличаемом,
хотя оно и встречается, в особенности после носового согласного
(например, во французском branlant).
2. Вибрантная артикуляция: язык приближается к нёбу, но в
меньшей степени, чем при 1; при этом он вибрирует, впрочем с
неопределенным числом колебаний (знак надстрочноеv в формулах),
чем достигается степень раствора, примерно такая, как у
латеральных. Эта вибрация может производиться двумя способами:
кончиком языка, который касается альвеол, то есть спереди (так
называемое «раскатистое» г), или задней частью языка, сзади (так
называемое «картавое» г). По поводу глухих и носовых вибрантов можно
повторить сказанное выше о латеральных.
1
ß73e
1 '
г
γ'3ί-η
1 ]
1
VZ3i
[ ]
г
ß°3e
[ I
γ3δ°
ι ]
За третьей степенью раствора мы вступаем уже в иную область:
от согласных мы переходим к гласным. До сих пор мы не
предупреждали о существовании такого различия, и это потому, что как при
тех, так и при других механизм фонации остается одним и тем же.
Формула гласного вполне сравнима с формулой любого звонкого
согласного. С точки зрения ротовой артикуляции между ними
никакого различия нет. Отличается только акустический эффект.
Превысив определенную степень раствора, рот начинает
функционировать главным образом как резонатор. Доминирующим
становится голосовой тон, а шум в полости рта скрадывается. Чем более
закрывается рот, тем слабее становится голосовой тон; чем более
он открывается, тем больше уменьшается шум; вот почему голос
преобладает в гласных чисто автоматически.
83
Д. Четвертая степень раствора: i, u, y. По
сравнению с прочими гласными эти звуки являются в значительной
мере закрытыми, приближаясь в этом отношении к согласным. Из
этого проистекают некоторые последствия, которые будут
выяснены ниже, оправдывая наименование полугласных, обычно даваемое
этим фонемам.
i произносится с вытянутыми губами (знак"*) и передней
артикуляцией, и — с округленными губами (знак0) и задней артикуляцией,
у — с положением губ, как при и, и с артикуляцией, как при i.
i
-γ4ί
1 ]
u
Vi
[ I
У
QY4i
[ ]
Как и у всех вообще гласных, у *', и, y могут быть назализованные
формы; но они редки, и мы можем их не принимать во внимание.
Следует отметить, что звуки, изображаемые во французской
орфографии через in и un, сюда не относятся (см. ниже).
Существует ли глухое i, то есть i, артикулируемое без голосового
тона? Тот же вопрос может быть поставлен и в отношении и и у
и вообще всех гласных. Эти фонемы, как бы соответствующие
глухим согласным, существуют, но их не следует смешивать с
шепотными гласными, которые артикулируются при расслабленной
голосовой щели. Глухие гласные можно уподобить произносимому перед
ними придыханию h: так, в hi сперва слышится i без вибрации
голосовых связок, а затем нормальное i.
Ε. Пятая степень раствора: ε, о, ое, артикуляция
которых соответствует артикуляции i, и, у. Назализованные глас-
ε
-γδί
1 I
0
°γ5ϊ
1 I
œ
°γ5ί
1 1
8
-γδί
0
°γ5ί
œ
°v5f
84
ные встречаются часто (например, δ, 5, се во французских pin, pont,
brun). Глухие формы: h — в he, ho, hœ.
Некоторые языки различают здесь несколько степеней
раствора; так, во французском языке есть по крайней мере два ряда:
так называемый «закрытый» — е, о, 0 (например, в словах dé,
dos, deux) и «открытый» — ε, э, œ (например, в словах mer, mort,
meurt).
Ж. Шестая степень раствора: а —
максимальный раствор; имеет и назализованную форму, правда, с некоторым
сужением—-а (например, во французском слове grand), и глухую
форму — h (в ha).
а
V6h
1 '
â
76h
Глава II
ФОНЕМА В РЕЧЕВОЙ ЦЕПОЧКЕ
§ 1. Необходимость изучения звуков
в речевой цепочке
В специальных работах, особенно в трудах английских
фонетистов, можно найти тщательный анализ звуков языка.
Но достаточно ли этого для того, чтобы фонология отвечала
своему назначению: служить вспомогательной наукой для
лингвистики? Обилие накопленных деталей само по себе ценности не имеет,
ценен только их синтез. Лингвисту нет надобности быть
законченным фонологом, он требует от фонологии только некоторого
количества данных, необходимых при изучении языка.
Метод современной фонологии особенно недостаточен в
следующем отношении: упускается из виду, что в языке имеются не только
звуки, но и поток произносимых звуков; почти все внимание
уделяется только изолированным звукам. Между тем нам первично дан не
отдельный звук; слог дан более непосредственно, чем составляющие
его звуки. Мы видели, что некоторые древние системы письма
отмечали именно слоговые единицы; лишь впоследствии пришли к
буквенной системе письма.
Сверх того, надо сказать, что для лингвистики никогда не
представляла затруднения простая звуковая единица: если, например,
в данном языке в данную эпоху все а перешли в о, то из этого ровно
ничего не следует; можно ограничиться констатацией этого факта,
не стараясь объяснить его фонологически. Ценность науки о
звуках проявляется по-настоящему лишь тогда, когда мы
наталкиваемся на факт внутренней взаимозависимости двух или большего
числа элементов, когда, как оказывается, вариации одного
элемента определяются вариациями другого. Здесь из самого факта
наличия двух элементов уже вытекает определенное отношение и
возможность формулировать правило, что резко отличается от простой
констатации. Следовательно, если в поисках своих основных
принципов фонология выказывает предпочтение изолированным звукам,
то это противоречит здравому смыслу; достаточно ей столкнуться с
86
двухфонемным сочетанием, как она оказывается беспомощной. Так,
в древневерхненемецком языке hagl, balg, wagn, lang, donr, dorn дали
впоследствии hagal, balg, wagan, lang, donnar, dorn; таким образом,
результат оказался неодинаковым в зависимости от характера и
порядка следования звуков внутри звукосочетания: в одном случае
между согласными возникает гласный, в другом случае
звукосочетание сохраняется в прежнем виде. Но как сформулировать закон?
Откуда проистекает различие? Без сомнения, от сочетания
согласных (gl, lg, gn и т. д.), которые есть в этих словах. Бросается в глаза,
что во все эти сочетания входит смычная фонема, причем в одних
случаях ей предшествует, а в других за ней следует плавная или
носовая фонема. Но что же из этого проистекает? Пока мы
рассматриваем g и η как однородные величины, мы не сможем понять,
почему соприкосновение g с n производит иной эффект, чем
соприкосновение η с g.
Итак, наряду с фонологией звуковых типов нужна наука
совершенно иного рода, отправляющаяся от парных сочетаний и
последовательностей фонем во времени. При изучении изолированных
звуков достаточно определить положение органов речи;
акустическое качество фонемы не является проблемой — оно
устанавливается ухом; что же касается артикуляции, то мы можем вполне
свободно производить ее так, как хотим. Но как только речь заходит о
произнесении сочетания двух звуков, вопрос осложняется;
приходится принимать в расчет возможность расхождения между
ожидаемым и полученным результатом; не всегда в нашей власти
произнести то, что мы желаем. Свобода связывать между собою
фонологические типы ограничена возможностью связывать артикуляционные
движения. Чтобы понимать, что происходит внутри
звукосочетаний, надо создать такую фонологию, где эти звукосочетания
рассматривались бы как алгебраические уравнения; парное
звукосочетание включает некоторое количество взаимообусловленных
механических и акустических элементов; когда один варьирует, эта
вариация по необходимости отражается и на других; задача и
заключается в том, чтобы вычислить эти отражения.
Если в явлениях фонации и есть нечто универсальное, стоящее
как бы «над» артикуляционным разнообразием фонем, то это, без
сомнения, именно тот упорядоченный механизм, о котором только
что шла речь. Из этого явствует, какое значение должна иметь для
общей лингвистики фонология звукосочетаний. Тогда как обычно
ограничиваются преподнесением правил об артикуляции всех
звуков, изменчивых и случайных элементов в языках, эта новая
комбинаторная фонология очерчивает возможности и фиксирует
постоянные отношения взаимозависящих фонем. Так, частный случай с
hagl, balg и т. д. (см. выше) поднимает общий, широко
обсуждавшийся вопрос об индоевропейских сонантах. Это как раз та
область, где менее всего можно обойтись без понимаемой в
вышеизложенном смысле фонологии, ибо учение о слогоделении является
87
основой, на которой здесь построено все, с начала и до конца. Это
не единственная проблема, которая может быть разрешена
подобным методом; но, во всяком случае, ясно одно: становится почти что
невозможным обсуждать вопрос о сонантах, не выяснив с
достаточной точностью законы, управляющие сочетаемостью фонем.
§ 2. Имплозия и эксплозия
Мы исходим из следующего основного наблюдения: когда
произносятся звукосочетания типа арра, ощущается различие между
обоими р, из которых первое соответствует смыканию, а второе —
размыканию. Вместе с тем эти два впечатления настолько сходны,
что понятны случаи изображения сочетания рр одним-единственным
символом ρ (стр. 76, сн.). И все же существование различия
позволяет нам отличать особыми значками > и <первое и второе ρ в
арра и тем самым характеризовать их, когда они следуют одно за
другим в речевой цепочке (например, afita, atpa). То же различие
можно наблюдать не только у смычных; рно имеет место у
фрикативных (aïfa), носовых (arftma), плавных (alîa) и вообще у всех фонем,
включая гласные (аооа), кроме a.
Смыкание называют имплозией, а размыкание — эксплозией;
ρ может быть имплозивным ф) или эксплозивным (р). В том же
смысле можно говорить о звуках затворных и звуках растворных.
Без сомнения, в сочетании типа арра, помимо имплозии и
эксплозии, выделяется также момент покоя, в течение которого смычка
может длиться ad libitum; если речь идет о фонеме с более широкой
степенью раствора, например о 1 в сочетании alla, то звук
продолжает произноситься и при неподвижности органов речи. Вообще в
каждой речевой цепочке всегда имеются промежуточные фазы,
которые мы будем называть выдержками или артикуляциями выдержки.
Они могут быть уподоблены имплозивным артикуляциям,
поскольку их эффект аналогичен; поэтому в дальнейшем мы будем
принимать во внимание только имплозии и эксплозии *.
Такое упрощение, недопустимое в специальной работе по
фонологии, оправдано там, где рассматриваются лишь самые основные
особенности явления слогоделения, сводимого к максимально
упрощенной схеме. Мы не претендуем на разрешение всех затруднений,
возникающих в связи с проблемой членения речевой цепочки на
слоги; мы попытаемся только заложить рациональные основы
изучения этой проблемы.
Еще одно замечание. Не надо смешивать имплозивные и
эксплозивные движения, необходимые для производства звука, с
различными степенями его раствора. Любая фонема может быть и
имплозивной и эксплозивной, но, разумеется, степень раствора влияет
на имплозию и эксплозию в том смысле, что различение обоих дви-
88
жений становится тем менее отчетливым, чем больше степень
раствора. Так, в отношении i, u, у разница еще хорошо заметна: в aîia
можно распознать имплозивное и эксплозивное i; равным образом
в aufla, аууа имплозивные u, у отличаются от следующих за ними
эксплозивных й, у до такой степени четко, что письменность в
противоположность своему обыкновению иногда отмечает это
различие: английское w, немецкое j и зачастую французское у (например,
в слове yeux «глаза») изображают растворные звуки (û, ï) в
противоположность uni, употребляемым для обозначения u и Î. Но при
более высокой степени раствора (е и о) теоретически мыслимые
имплозию и эксплозию (ср. aêëa, аооа) весьма затруднительно различать
на практике. Наконец, как уже было отмечено выше, при самой
высшей степени раствора, при степени a, нет места ни для имплозии,
ни для эксплозии, так как открытость этой фонемы стирает всякое
различие такого рода.
Таким образом, надо раздвоить каждую фонему, кроме a, и тогда
таблица неразложимых звуковых единиц предстанет в следующем
виде:
ρ и т. д. î f и т. д.
I и т. д. è ё и т. д.
m m и т.д. а.
î î и т. д.
Освященные традицией графические различения (i — у, υ — w)
мы не только не устраняем, но, напротив, бережно сохраняем;
обоснование этой точки зрения приводится ниже, ь § 7.
Итак, мы впервые покидаем область абстракции; впервые
появляются конкретные, неразложимые элементы, занимающие в
речевой цепочке свое место и определенный отрезок времени. Можно
сказать, что ρ—не что иное, как абстракция, объединяющая общие
признаки fi и р, которые только и существуют в действительности,
совершенно так же, как Р, В, M объединены в более высоком
абстрактном единстве под названием губных. О Ρ можно сказать то, что
говорят о зоологическом виде: существуют конкретные особи
мужского и женского пола данного вида, но самого вида в этом смысле не
существует. До сих пор мы различали и классифицировали
абстракции; ныне возникает необходимость пойти дальше и дойти до
конкретного элемента. Великое заблуждение фонологии состояло
в том, что она рассматривала свои абстракции в качестве
реально существующих единиц, не давая точного определения единицы
как таковой. Греческий алфавит дошел до различения этих
абстрактных элементов, и лежащий в основе его анализ, как мы уже
говорили, замечателен; но все же это был анализ неполный,
остановившийся на определенной черте.
В самом деле, что такое ρ без более точной характеристики?
Если рассматривать его во времени как звено в речевой цепочке,
89
оно не может быть ни р, ни р, ни тем более f>p, поскольку это
звукосочетание явно разложимо; если же брать его вне речевой цепочки
и вне времени, оказывается, что оно не имеет своего существования
и ни к чему не пригодно. Что значит само по себе такое сочетание,
как 1+g? Ведь абстракции, даже если их две, не могут образовать
момента во времени. Другое дело, когда говорят о 16, о Iß, оШ, о 16,
соединяя таким образом подлинные элементы речи. Итак,
достаточно, как мы видим, соединения двух элементов, чтобы поставить
в тупик традиционную фонологию; таким образом, обнаруживается
невозможность оперировать, как это она делает, только
абстрактными фонологическими единицами.
Высказывалась мысль, будто каждая простая фонема,
поскольку она находится в речевой цепочке, например ρ в ра или в ара,
содержит в себе последовательно момент имплозии и момент экспло-
зии (ара). Конечно, всякому размыканию органов речи должно
предшествовать их смыкание; возьмем другой пример: при
произнесении гр я должен, осуществив смыкание г, артикулировать язычком
эксплозивное г в момент сближения губ для произнесения р. Чтобы
ответить на это возражение, достаточно четко изложить нашу точку
зрения. В акте фонации, к анализу которого мы приступаем,
принимаются в расчет лишь дифференциальные элементы,
улавливаемые слухом и могущие служить для разграничения акустических
единиц в речевой цепочке. Только эти акустико-артикуляторные
(acoustico-motrices) единицы и должны приниматься во внимание;
таким образом, артикуляция эксплозивного г, сопровождающая
артикуляцию имплозивного р, для нас реально не существует, так как
она не производит различимого звука и, во всяком случае, в цепочке
фонем в счет не идет. Это весьма существенный пункт, который надо
хорошенько усвоить, чтобы понять дальнейшее.
§ 3. Различные комбинации эксплозии
и имплозии в речевой цепочке
Рассмотрим теперь, что произойдет из сочетания эксплозии
и имплозии в четырех теоретически возможных случаях:
1. <>, 2. > <, 3. < <, 4. > >.
1. Эксплозивно-имплозивная группа (< >). Всегда
возможно, не разрывая речевой цепочки, соединить две фонемы, из
коих первая является эксплозивной, а вторая — имплозивной,
например: ßf, ßi, yifi и т. п. (ср. скр. ßfta-, франц. ßite (пишется
quitter), H.-e.*yrfito и т. п.). Правда, некоторые сочетания, как,
например, ßt и др., не могут практически реализоваться, но все же
верно, что после артикуляции эксплозивного к органы речи
находятся в положении, позволяющем произвести смыкание в любой
90
точке. Эти две фазы фонации могут, не мешая друг другу, следовать
одна за другой.
2. Имплозивно-эксплозивная группа (X). В тех
же условиях и с теми же оговорками имеется полная возможность
соединять две фонемы, из коих первая является имплозивной, а
вторая — эксплозивной: например, im, 4?t и т. п. (ср. греч. haîma,
франц. actif и т. п.).
Разумеется, эти сменяющиеся артикуляционные моменты не
следуют один за другим столь же естественно, как в первом случае.
Между начальной имплозией и начальной эксплозией есть та
разница, что эксплозия, ведущая к нейтральному положению рта, ни
к чему не обязывает органы речи в следующий момент, тогда как
имплозия создает определенное состояние органов речи, которое не
может служить отправной точкой для любой эксплозии. Поэтому
всегда необходимо какое-то приспособительное движение органов
речи, с тем чтобы они приняли положение, необходимое для
артикуляции следующей фонемы: так, произнеся s в сочетании §р, мы
должны затем сомкнуть губы, чтобы подготовить эксплозивное р.
Но опыт показывает, что это приспособительное движение не
производит ничего сколько-нибудь существенного, если не считать
одного из тех беглых звуков, которые не принимаются нами во
внимание и которые никак не мешают течению речи.
3. Эксплозивная группа («). Две эксплозии могут быть
произведены одна за другой; однако если вторая принадлежит
фонеме с меньшей или равной степенью раствора, то не получится
того акустического ощущения единства, которое возникло бы в
противоположном случае и которое наблюдалось в обоих предыдущих
случаях: рК может быть произнесено pita, но эти звуки не образуют
непрерывной цепочки, так как типы Ρ и К имеют одну и ту же
степень раствора. Такое малоестественное произношение получится,
если остановиться после первого а в слове Ja-pKa1. Напротив, р?
создает впечатление непрерывности (ср. франц. prix); не
представляет затруднений и fj (ср. франц. rien). Почему? Потому что к
моменту, когда возникает первая эксплозия, органы речи уже смогли
принять положение, необходимое для выполнения второй
эксплозии, не мешая вместе с тем акустическому эффекту первой:
например, в слове prix органы речи находятся в положении для
произнесения г уже во время произнесения р. Но невозможно произнести
как непрерывный ряд обратное сочетание гр не потому, что органы
речи не могли бы механически принять положение для ρ в момент
артикуляции эксплозивного г, но потому, что артикуляция этого г,
столкнувшись с меньшей степенью раствора р, не могла бы быть вос-
1 Правда, некоторые звукосочетания этого рода являются весьма
обычными в ряде языков (например, начальная группа kt в греческом: ср.
kteinö); однако, легкопроизносимые, они все же не образуют акустического
единства.
91
принята. Итак, если мы желаем произнести fß, надо сделать это
в два приема с разрывом речевой цепочки.
Непрерывная эксплозивная группа может иметь в своем составе
более двух элементов при условии перехода все время от меньшего
раствора к большему (например, ßf^a). Отвлекаясь от некоторых
частных случаев, останавливаться на которых мы не будем*, можно
сказать, что возможное количество эксплозий в отрезке,
естественно, ограничено количеством степеней раствора, доступных
практическому различению.
4. Имплозивная группа (»). Подчиняется обратному
закону. Если первая фонема более открыта, нежели следующая за
ней, возникает впечатление непрерывности, например if, ft; если же
это условие отсутствует, если следующая фонема имеет большую или
ту же степень раствора, как и предыдущая, произнесение возможно,
но впечатление непрерывности исчезает: так, сочетание §f в âlfta
имеет тот же характер, что и сочетание {Йс в Ja-pka (см. стр. 91).
Явление это совершенно параллельно тому, которое мы анализиро;
вали, рассматривая эксплозивную группу: в сочетании ft звук t
вследствие меньшей степени раствора освобождает f от эксплозий;
если взять группу, обе фонемы которой имеют разное место
образования, например frîi, то m не освобождает f от эксплозий, но — что
сводится к тому же — полностью покрывает его эксплозию
посредством своей более закрытой артикуляции. В обратном же случае,
в сочетании rfif, беглая, механически неизбежная эксплозия
разрывает речевую цепочку.
Ясно, что имплозивная группа, подобно эксплозивной, может
иметь в своем составе более двух элементов при условии
последовательного перехода от большего раствора к меньшему (ср. âfst).
Оставляя в стороне разрывы внутри группы, рассмотрим теперь
нормальную непрерывную цепочку звуков, которую можно было бы
назвать «физиологической», как она представляется нам, например,
во французском particulièrement, то есть pâftîK^ÎJêfma.
Она характеризуется сменой градуированных и эксплозивных и
имплозивных отрезков в соответствии со сменой размыканий и
смыканий ротовых органов.
Охарактеризовав таким образом нормальную цепочку, мы
переходим к нижеследующим положениям первостепенной важности.
§ 4. Слогораздел и вокалическая точка
При переходе в звуковой цепочке от имплозии к эксплозий (>|<)
возникает особый эффект, являющийся показателем слогораздела,
например в Ш слова particulièrement. Это регулярное совпадение
определенного механического состояния с определенным
акустическим эффектом сообщает имплозивно-эксплозивной группе особый
92
характер среди явлений фонологического порядка, присущий ей
независимо от составляющих ее элементов; в результате
образуется новое родовое понятие, содержащее столько разновидностей,
сколько существует возможных комбинаций имплозии с эксплозией.
Слогораздел может в некоторых случаях помещаться в двух
различных точках одного и того же ряда фонем — в зависимости от
большей или меньшей быстроты перехода от имплозии к эксплозии.
Так, в сочетании ardra цепочка не разрывается, будем ли мы
делить âf/âfa или агЭ/?а, так как имплозивный отрезок ай столь же
удачно построен в своей постепенности, сколь и эксплозивный
отрезок 9ξ. То же можно сказать и о ylje в слове particulièrement (^ÏJê
или у 1 Je).
Далее мы замечаем, что при переходе от состояния молчания
к первой имплозии (>), например в art слова artiste, или от
эксплозии к имплозии (О), как, например, в part слова particulièrement,
тот звук, на который приходится первая имплозия, отличается от
других окружающих его звуков специфическим эффектом —
вокалическим эффектом. Этот последний совсем не зависит от большей
степени раствора звука a, ибо в сочетании pft звук f производит
тот же вокалический эффект; он присущ первой имплозии как
таковой, какова бы ни была ее фонологическая характеристика, то есть ее
степень раствора; равным образом неважно, следует ли она за
состоянием молчания или за эксплозией. Звук, производящий такое
впечатление своим свойством первого имплозивного, может быть
назван вокалической точкой.
Эту единицу называли также сонантом; под консонантом в этом
случае разумели все предыдущие и последующие звуки того же
слога. Термины «гласный» и «согласный» обозначают, как мы видели
выше (стр. 83), различные типы звуков, тогда как термины «сонант»
и «консонант» служат для обозначения различных функций звука
в слоге. Такая двоякая терминология позволяет избежать
путаницы, господствовавшей в течение долгого времени. Так, например,
I как тип является одним и тем же в словах fidèle и pied — это
гласный; но гласный этот в слове fidèle функционирует как сонант,
а в слове pied — как консонант. Анализ обнаруживает, что сонанты
всегда имплозивны, а консонанты то имплозивны (например, Ï
в англ. boî [пишется boy]), то эксплозивны (например, J во франц.:
pjê [пишется pied]). Это лишь подтверждает различие,
установленное между двоякого рода явлениями. Правда, реально e, о, a
выступают регулярно как сонанты, но это простое совпадение: обладая
большей степенью раствора, чем все прочие звуки, они всегда
находятся в начале имплозивного отрезка. Наоборот, обладающие
минимальной степенью раствора смычные всегда являются
консонантами. На практике только фонемы второй, третьей и четвертой
степеней растворов (носовые, плавные, полугласные) могут
выполнять то одну, то другую функцию в зависимости от их окружения
и характера их артикуляции.
93
§ 5. Критика теории слогоделения
Общеизвестно, что в любой речевой цепочке ухо различает
деление на слоги и в каждом слоге — сонант. Позволительно, однако,
спросить, каково разумное основание этих двух фактов?
Предложено было несколько объяснений.
1. Исходя из факта большей сонорности одних фонем по
сравнению с другими, пытались обосновать слог сонорностью фонем. Но
в таком случае почему же такие сонорные фонемы, как i, и, не
образуют обязательно слог? И затем, до каких пределов
простирается требуемая сонорность, если фрикативные типа s могут
образовывать слог, например в pst? Если дело идет лишь об
относительной сонорности срприкасающихся звуков, то как объяснить такие
сочетания, как \frl (например, и.-е. *wlkos «волк»), где слог
образуется менее сонорным элементом?
2. Сивере первый установил, что звук, включаемый в разряд
гласных, может не производить впечатления гласного (мы уже
видели, что, например, j и w не что иное, как i и и). Когда
спрашиваешь, откуда же возникает эта двоякая функция, или двоякий
акустический эффект (слово «функция» не означает здесь ничего
другого), ответ гласит: тот или иной звук имеет ту или иную
функцию в зависимости от того, получает ли он «слоговое ударение»
или нет.
Но ведь это порочный круг: либо я вправе при всяких
обстоятельствах и по своему усмотрению предполагать наличие слогового
ударения всюду, где имеются сонанты, но в таком случае нет
никакого основания называть его слоговым, а не сонантным, либо если
выражение «слоговое ударение» имеет какой-то смысл, то, очевидно,
лишь тот, что это — ударение, регулируемое законами слога. А
между тем сами законы не формулируют, а это сонантное качество
именуют «слогообразующим» (silbenbildend), как если бы
образование слога зависело от этого ударения.
Мы видим, что наш метод противоположен обоим предыдущим:
анализируя слог, как он дан в речевой цепочке, мы дошли до
неразложимой единицы, до звука растворного и звука затворного;
затем, комбинируя эти единицы, мы смогли определить место
слогораздела и вокалическую точку. Теперь мы уже знаем, в каких
физиологических условиях должны возникать эти акустические эффекты.
Критикуемые нами теории следуют обратному направлению: они
берут изолированные фононологические типы и из них пытаются
вывести и место слогораздела, и местонахождение сонанта. Но если
дана какая-либо цепочка фонем, то ей обычно присущ один способ
артикуляции, который является более естественным и более
удобным, чем все прочие; возможность же выбора между растворными
и затворными артикуляциями в значительной мере сохраняется;
слогоделение же как раз и будет зависеть от этого выбора, а не
непосредственно от фонологических типов,
94
Разумеется, теория эта не исчерпывает и не решает всех
вопросов. Так, зияние, столь часто встречающееся, есть не что иное, как
сознательно или бессознательно разорванный имплозивный отрезок,
например Î — а (в il cria) или а — Î (в ébahi). Оно чаще всего
возникает при фонологических типах с большой степенью раствора.
Встречаются и разорванные эксплозивные отрезки, входящие,
несмотря на то что они не градуированы, в звуковую цепочку на
одинаковом основании с нормальными сочетаниями; мы затронули этот
случай в связи с греч. kteinô (см. стр. 91). Возьмем еще для примера
сочетание pzta, которое нормально может быть произнесено только
как pztä; оно должно, следовательно, заключать два слога, каковые
оно в действительности и имеет, если четко воспроизвести голосовой
тон в ζ; но если ζ оглушается, то поскольку это одна из тех фонем,
которые требуют наименьшего раствора, группа pzta в силу резкой
противоположности ζ и a воспринимается как один слог: слышится
нечто вроде £ztä.
Во всех случаях этого рода воля и намерение говорящего могут
вмешаться и в некоторой мере изменить физиологическую
необходимость; часто случается, что трудно в точности выяснить, какую
роль играет каждый из этих двух факторов. Но как бы то ни было,
фонация всегда предполагает смену имплозии и эксплозий, а в этом
и заключается основное условие слогоделения.
§ 6. Длительность имплозии и эксплозий
Объяснив слог взаимодействием эксплозий и имплозии, мы
приходим к важному наблюдению, обобщающему известный факт
метрики. В греческих и латинских словах различаются двоякого рода
долготы: по природе (mаter) и по положению (factus). Почему fac
считается долгим слогом в fäctus? Отвечают: вследствие наличия
группы et; но если это зависит от сочетания звуков как такового,
то любой слог, начинающийся двумя согласными, должен быть
долгим, между тем это не так (ср. clïens и т. д.).
Истинная причина заключается в том, что эксплозия и имплозия
по самой своей сути различны в отношении длительности.
Эксплозия всегда протекает столь быстро, что для слуха является
иррациональной величиной; по этой же причине она никогда не производит
вокалического впечатления. Только имплозия представляет
ощутимую величину; отсюда впечатление, что гласный, с которого она
начинается, длится дольше.
Известно, с другой стороны, что гласные, находящиеся перед
сочетанием, образованным из смычного или фрикативного плюс
плавный, могут трактоваться двояко: в слове patrem а может быть
долгим или кратким, это объясняется тем же. В самом деле, группу
tr в этом слове можно произнести как tf, так и tr; первый способ
95
артикуляции дает возможность а оставаться кратким; второй
способ создает долгий слог. В таком слове, как fâctus, аналогичная
двоякая трактовка а невозможна, потому что группу et можно
произнести только как 6t, а не St.
§ 7. Фонемы четвертой степени раствора.
Дифтонги и вопросы их написания
Фонемы четвертой степени раствора дают повод к некоторым
замечаниям. Как мы видели (стр. 89), в противоположность всем
прочим звукам обычай санкционировал в отношении звуков
четвертой степени раствора двоякое написание (w = fl, u = u; j = ϊ;
i = ϊ). Дело в том, что в таких сочетаниях, как aija, auwa,
ощущается лучше, чем где-либо, то различие, которое мы обозначаем
диакритическими значками < и >; Î и и определенно производят
впечатление гласных, ϊ и u — впечатление согласных 1. Не претендуя на
объяснение этого факта, отметим, что согласный i никогда не
появляется как затворный. Поэтому нельзя встретить ai, в котором Î
производило бы тот же эффект, что и j в aija (ср. англ. boy и франц.
pied); следовательно, j является согласным, a i — гласным по
положению, раз эти разновидности типа I не могут появляться
одинаково всюду. Эти же замечания применимы и к u, w, а также к у, у.
Это проливает свет на вопрос о дифтонгах. Дифтонг есть частный
случай имплозивного отрезка; сочетания âf ta и Sota абсолютно
параллельны; они отличаются лишь степенью раствора второго
элемента: дифтонг — это такой имплозивный отрезок из двух фонем,
второй элемент которого относительно открыт, что создает особое
акустическое впечатление: сонант как бы длится во втором элементе
группы. Наоборот, сочетание типа tja ничем не отличается от
сочетания типа tra, разве что степенью раствора последнего
эксплозивного члена. Это равносильно утверждению, что сочетания звуков,
именуемые у фонологов восходящими дифтонгами, на самом деле
не дифтонги, а эксплозивно-имплозивные группы, первый элемент
которых относительно открыт, что, однако, не приводит ни к чему
исключительному с акустической точки зрения (tjä). Что касается
сочетаний типа uo, îa с ударением на u и î, которые встречаются в
некоторых немецких диалектах (ср. buob, Hab), то это тоже ложные
дифтонги, не производящие впечатления единства, как ou, ai и т. д.;
нельзя произнести йо как группу из двух имплозивных, не нарушив
непрерывного характера цепочки, если только какой-нибудь
искусственный прием не сообщит этому сочетанию не свойственного ему
от природы единства.
1 Не следует смешивать этот элемент четвертой степени раствора с мягким
нёбным фрикативным (нем. liegen в северном произношении). Этот последний
фонологический тип относится к согласным и обладает всеми их свойствами.
96
Такое определение дифтонга, подводящее его под общий принцип
имплозивных отрезков, показывает, что дифтонг не есть, как это
можно было бы подумать, нечто ни с чем не согласное, не
укладывающееся в норму фонологическое явление. Нет надобности
выделять его особо. Свойства его не представляют в действительности
никакого интереса и никакой важности: важно фиксировать не
конец сонанта, а его начало.
Сиверс и многие лингвисты различают на письме i, и, и, г, rj
и т. д. и i, и, и, г, η и т. д. (i == «unsilbisches» i, i = «silbisches» i)
и пишут mirta, mairta, miarta, тогда как мы пишем mirta, mairta,
mjarta. Найдя, что i и j относятся к одному и тому же
фонологическому типу, они пожелали изображать их единым родовым знаком
(это опять та же идея, будто звуковая цепочка состоит из сопола-
гаемых звуковых типов). Но это написание, хотя и покоящееся на
слуховом впечатлении, противоречит здравому смыслу и устраняет
как раз наиболее существенное различие. Вследствие этого:
1) i, и растворные (= j, w) смешиваются с i, и затворными,
в результате чего становится невозможным отличить newo от neuo;
2) наоборот, расчленяются на два i, и затворные (ср. mirta и
mairta). Вот несколько примеров несообразности такого
написания. Возьмем др.-греч. dwis и dusi и, с другой стороны, rhéwô и
rheûma; эти два противопоставления происходят в тех же точно
фонологических условиях и нормально отражаются одинаковым
графическим противопоставлением: в зависимости от того, следует ли за
и более или менее открытая фонема, оно становится то растворным
(w), то затворным (и). Если же писать du is, dusi, rheyô, rheuma, то
все это различие стирается. Также и в индоевропейском языке оба
ряда mäter, mätrai, mâteres, mâtrsu и süneu, sünewai, sünewes, sü-
nusu строго параллельны в своей двоякой трактовке, с одной
стороны — г, с другой стороны — и.
Ныне противопоставление имплозии и эксплозии отражается на
письме по крайней мере в одном втором ряду; но, если принять
критикуемое нами написание, это противопоставление исчезнет (süneu,
süneuai, süneyes, sünusu). Не только следовало бы сохранить
освященные обычаем различения между растворными и затворными
(и : w и т. д.), но и распространить их на всю систему и писать, к
примеру: mäter, mätpai, mâtepes, mâtrsu; тогда слогоделение
обнаружилось бы со всей очевидностью, а вокалические точки и
слогоразделы выявились бы сами собой*·
Часть первая
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Глава I
ПРИРОДА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА
§ 1. Знак, означаемое, означающее
Многие полагают, что язык есть по существу номенклатура, то
есть перечень названий, соответствующих каждое одной
определенной вещи. Например:
Вещи
Названия
98
Такое представление может быть подвергнуто критике во многих
отношениях. Оно предполагает наличие уже готовых понятий,
предшествующих словам (см. стр. 144 и сл.); оно ничего не говорит о том,
какова природа названия — звуковая или психическая, ибо слово
arbor может рассматриваться и под тем и под другим углом зрения;
наконец, оно позволяет думать, что связь, соединяющая название
с вещью, есть нечто совершенно простое, а это весьма далеко от
истины. Тем не менее такая упрощенная точка зрения может
приблизить нас к истине, ибо она свидетельствует о том, что единица языка
есть нечто двойственное, образованное из соединения двух
компонентов.
Рассматривая акт речи, мы уже выяснили (см. стр. 49 и сл.), что
обе стороны языкового знака психичны и связываются в нашем
мозгу ассоциативной связью. Мы особенно подчеркиваем этот
момент.
Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и
акустический образ *. Этот последний является не материальным
звучанием, вещью чисто физической, а психическим отпечатком
звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших
органов чувств; акустический образ имеет чувственную природу,
и если нам случается называть его «материальным», то только по
этой причине, а также для того, чтобы противопоставить его второму
члену ассоциативной пары — понятию, в общем более абстрактному.
Психический характер наших акустических образов хорошо
обнаруживается при наблюдении над нашей собственной речевой
практикой. Не двигая ни губами, ни языком, мы можем говорить сами
с собой или мысленно повторять стихотворный отрывок. Именно
потому, что слова языка являются для нас акустическими образами,
не следует говорить о «фонемах», их составляющих. Этот термин,
подразумевающий акт фонации, может относиться лишь к
произносимому слову, к реализации внутреннего образа в речи. Говоря о
звуках и слогах, мы избежим этого недоразумения, если только будем
помнить, что дело идет об акустическом образе.
Языковой знак есть, таким образом, двусторонняя психическая
сущность, которую можно изобразить следующим образом:
Оба эти элемента теснейшим образом связаны между собой и
предполагают друг друга. Ищем ли мы смысл латинского arbor
4*
90
или, наоборот, слово, которым римлянин обозначал понятие
«дерево», ясно, что только сопоставления типа
кажутся нам соответствующими действительности, и мы
отбрасываем всякое иное сближение, которое может представиться
воображению.
Это определение ставит важный терминологический вопрос. Мы
называем знаком соединение понятия и акустического образа, но в
общепринятом употреблении этот термин обычно обозначает только
акустический образ, например слово arbor и т. д. Забывают, что если
arbor называется знаком, то лишь постольку, поскольку в него
включено понятие «дерево», так что чувственная сторона знака
предполагает знак как целое.
Двусмысленность исчезнет, если называть все три наличных
понятия именами, предполагающими друг друга, но вместе с тем
взаимно противопоставленными. Мы предлагаем сохранить слово
знак для обозначения целого и заменить термины понятие и
акустический образ соответственно терминами означаемое и
означающее; последние два термина имеют то преимущество, что отмечают
противопоставление, существующее как между ними самими, так
и между целым и частями этого целого. Что же касается термина
«знак», то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как
обиходный язык не предлагает никакого иного подходящего
термина.
Языковой знак, как мы его определили, обладает двумя
свойствами первостепенной важности. Указывая на них, мы тем самым
формулируем основные принципы изучаемой нами области знания.
§ 2. Первый принцип: произвольность знака
Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна;
поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в
результате ассоциации некоторого означающего с некоторым означаемым,
то эту же мысль мы можем выразить проще: языковой знак
произволен.
Так, понятие «сестра» не связано никаким внутренним
отношением с последовательностью звуков s-œ:-r, служащей во французском
100
языке ее означающим; оно могло бы быть выражено любым другим
сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между
языками и самим фактом существования различных языков: означаемое
«бык» выражается означающим b-œ-f (франц. bœuf) по одну сторону
языковой границы и означающим o-k-s (нем. Ochs) по другую
сторону ее.
Принцип произвольности знака никем не оспаривается; но часто
гораздо легче открыть истину, нежели указать подобающее ей
место. Этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка; следствия
из него неисчислимы. Правда, не все они обнаруживаются с первого
же взгляда с одинаковой очевидностью; их можно открыть только
после многих усилий, но именно благодаря открытию этих
последствий выясняется первостепенная важность названного принципа.
Заметим мимоходом: когда семиология сложится как наука,
она должна будет поставить вопрос, относятся ли к ее компетенции
способы выражения, покоящиеся на знаках, в полной мере
«естественных», как, например, пантомима. Но даже если семиология
включит их в число своих объектов, все же главным предметом ее
рассмотрения останется совокупность систем, основанных на
произвольности знака. В самом деле, всякий принятый в данном обществе
способ выражения в основном покоится на коллективной привычке
или, что то же, на соглашении. Знаки учтивости, например, часто
характеризуемые некоторой «естественной» выразительностью
(вспомним о китайцах, приветствовавших своего императора
девятикратным падением ниц), тем не менее фиксируются правилом,
именно это правило, а не внутренняя значимость обязывает нас
применять эти знаки. Следовательно, можно сказать, что знаки, целиком
произвольные, лучше других реализуют идеал семиологического
подхода; вот почему язык — самая сложная и самая распространенная
из систем выражения — является вместе с тем и наиболее
характерной из них; в этом смысле лингвистика может служить моделью
(patron général) для всей семиологии в целом, хотя язык — только
одна из многих семиологических систем.
Для обозначения языкового знака, или, точнее, того, что мы
называем означающим, иногда пользуются словом символ. Но
пользоваться им не вполне удобно именно в силу нашего первого
принципа. Символ характеризуется тем, что он всегда не до конца
произволен; он не вполне пуст, в нем есть рудимент естественной связи
между означающим и означаемым. Символ справедливости, весы,
нельзя заменить чем попало, например колесницей.
Слово произвольный также требует пояснения. Оно не должно
пониматься в том смысле, что означающее может свободно
выбираться говорящим (как мы увидим ниже, человек не властен внести даже
малейшее изменение в знак, уже принятый определенным языковым
коллективом); мы хотим лишь сказать, что означающее
немотивировано, то есть произвольно по отношению к данному означаемому,
с которым у него нет в действительности никакой естественной связи.
101
Отметим в заключение два возражения, которые могут быть
выдвинуты против этого первого принципа.
1. В доказательство того, что выбор означающего не всегда
произволен, можно сослаться на звукоподражания. Но ведь
звукоподражания не являются органическими элементами в системе языка.
Число их к тому же гораздо ограниченней, чем обычно полагают.
Такие французские слова, как fouet «хлыст», glas «колокольный
звон», могут поразить ухо суггестивностью своего звучания, но
достаточно обратиться к их латинским этимонам (fouet от fägus «бук»,
glas от classicum «звук трубы»), чтобы убедиться в том, что они
первоначально не имели такого характера: качество их теперешнего
звучания, или, вернее, приписываемое им теперь качество, есть
случайный результат фонетической эволюции.
Что касается подлинных звукоподражаний типа буль-буль, тик-
так, то они не только малочисленны, но и до некоторой степени
произвольны, поскольку они лишь приблизительные и наполовину
условные имитации определенных звуков (ср. франц. ouaoua, но
нем. wauwau «гав! гав!»). Кроме того, войдя в язык, они в большей
или меньшей степени подпадают под действие фонетической,
морфологической и всякой иной эволюции, которой подвергаются и все
остальные слова (ср. франц. pigeon «голубь», происходящее от на-
роднолатинского pipiô, восходящего в свою очередь к
звукоподражанию),— очевидное доказательство того, что звукоподражания
утратили нечто из своего первоначального характера и приобрели
свойство языкового знака вообще, который, как уже указывалось,
немотивирован.
2. Что касается междометий, весьма близких к
звукоподражаниям, то о них можно сказать то же самое, что говорилось выше
о звукоподражаниях. Они также ничуть не опровергают нашего
тезиса о произвольности языкового знака. Весьма соблазнительно
рассматривать междометия как непосредственное выражение
реальности, так сказать продиктованное самой природой. Однако в
отношении большинства этих слов можно доказать отсутствие
необходимой связи между означаемым и означающим. Достаточно
сравнить соответствующие примеры из разных языков, чтобы
убедиться, насколько в них различны эти выражения (например,
франц. aïe! соответствует нем. au! «ой!»). Известно к тому же,
что многие междометия восходят к знаменательным словам (ср.
франц. diable! «черт возьми!» при diable «черт», mordieu! «черт
возьми!» из mort Dieu букв, «смерть бога» и т. д.).
Итак, и звукоподражания и междометия занимают в языке
второстепенное место, а их символическое происхождение отчасти
спорно.
102
§ 3. Второй принцип: линейный характер означающего
Означающее, являясь по своей природе воспринимаемым на
слух, развертывается только во времени и характеризуется
заимствованными у времени признаками: а) оно обладает протяженностью
и б) эта протяженность имеет одно измерение — это линия.
Об этом совершенно очевидном принципе сплошь и рядом не
упоминают вовсе, по-видимому, именно потому, что считают его
чересчур простым, между тем это весьма существенный принцип и
последствия его неисчислимы. Он столь же важен, как и первый принцип.
От него зависит весь механизм языка (см. стр. 155). В
противоположность означающим, воспринимаемым зрительно (морские
сигналы и т. п.), которые могут комбинироваться одновременно в
нескольких измерениях, означающие, воспринимаемые на слух,
располагают лишь линией времени; их элементы следуют один за
другим, образуя цепь. Это их свойство обнаруживается воочию, как
только мы переходим к изображению их на письме, заменяя
последовательность их во времени пространственным рядом графических
знаков.
В некоторых случаях это не столь очевидно. Если, например,
я делаю ударение на некотором слоге, то может показаться, что я
кумулирую в одной точке различные значимые элементы. Но это
иллюзия; слог и его ударение составляют лишь один акт фонации:
внутри этого акта нет двойственности, но есть только различные
противопоставления его со смежными элементами (см. по этому
поводу стр. 163).
Глава II
НЕИЗМЕНЧИВОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗНАКА
§ 1. Неизменчивость знака
Если по отношению к выражаемому им понятию означающее
представляется свободно выбранным, то, наоборот, по отношению
к языковому коллективу, который им пользуется, оно не свободно,
а навязано. У этого коллектива мнения не спрашивают, и выбранное
языком означающее не может быть заменено другим. Этот факт,
кажущийся противоречивым, можно было бы, грубо говоря, назвать
«вынужденным ходом». Языку как бы говорят: «Выбирай!», но тут
же добавляют: «...вот этот знак, а не другой!». Не только отдельный
человек не мог бы, если бы захотел, ни в чем изменить сделанный
уже языком выбор, но и сам языковой коллектив не имеет власти
ни над одним словом; общество принимает язык таким, какой он есть
(telle qu'elle).
Таким образом, язык не может быть уподоблен просто договору;
именно с этой стороны языковой знак представляет особый интерес
для изучения, ибо если мы хотим показать, что действующий в
коллективе закон есть нечто, чему подчиняются, а не свободно
принимают, то наиболее блестящим подтверждением этому является язык.
Рассмотрим, каким же образом языковой знак не подчиняегся
нашей воле, и укажем затем на вытекающие из этого важные
следствия.
Во всякую эпоху, как бы далеко в прошлое мы ни углублялись,
язык всегда выступает как наследие предшествующей эпохи.
Нетрудно себе представить возможность в прошлом акта, в силу
которого в определенный момент названия были присвоены вещам,
то есть в силу которого было заключено соглашение о распределении
определенных понятий по определенным акустическим образам, хотя
реально такой акт никогда и нигде не был засвидетельствован.
Мысль, что так могло произойти, подсказывается нам лишь нашим
очень острым чувством произвольности знака.
104
Фактически всякое общество знает и всегда знало язык только
как продукт, который унаследован от предшествующих поколений
и который должен быть принят таким, как он есть. Вот почему
вопрос о происхождении языка не так важен, как это обычно думают.
Такой вопрос не к чему даже ставить; единственный реальный объект
лингвистики — это нормальная и регулярная жизнь уже
сложившегося языка. Любое данное состояние языка всегда есть Продукт
исторических факторов, которые и объясняют, почему знак
неизменчив, то есть почему он не поддается никакой произвольной
замене.
Но утверждение, что язык есть наследие прошлого, решительно
ничего не объясняет, если ограничиться только этим. Разве нельзя
изменить в любую минуту существующие законы, унаследованные
от прошлого?
Высказав такое сомнение, мы вынуждены, подчеркнув
социальную природу языка, поставить вопрос так, как если бы мы его
ставили в отношении прочих общественных установлений. Каким
образом передаются эти последние? Таков более общий вопрос,
покрывающий и вопрос о неизменчивости. Прежде всего надо выяснить,
какой степенью свободы пользуются прочие общественные
установления; мы увидим, что в отношении каждого из них баланс между
навязанной обществу традицией и свободной от традиции
деятельностью общества складывается по-разному. Затем надо выяснить,
почему для данного общественного установления факторы первого
рода более или, наоборот, менее действенны, чем факторы второго
рода. И наконец, обратившись вновь к языку, мы должны спросить
себя, почему исторический фактор преемственности господствует
в нем полностью и исключает возможность какого-либо общего и
внезапного изменения.
В ответ на этот вопрос можно было бы выдвинуть множество
аргументов и указать, например, на то, что изменения языка не
связаны со сменой поколений, которые вовсе не накладываются одно
на другое наподобие ящиков комода, но перемешаны между собой
и проникают одно в другое, причем каждое из них включает лиц
различных возрастов. Можно было бы указать и на то, как много
усилий требуется при обучении родному языку, чтобы прийти к
выводу о невозможности общего изменения его. Можно было бы
добавить, что рефлексия не участвует в пользовании тем или другим
языком: сами говорящие в значительной мере не осознают законов
языка, а раз они их не осознают, то каким же образом они могут их
изменить? Допустим, однако, что говорящие относились бы
сознательно к языковым фактам; тогда следовало бы напомнить, что эти
факты не вызывают критики со стороны говорящих в том смысле,
что каждый народ в общем доволен доставшимся ему языком.
Все эти соображения не лишены основания, но суть не в них:
мы предпочитаем нижеследующие, более существенные, более
прямые соображения, от которых зависят все прочие.
105
1. Произвольность знака. Выше мы приняли допущение
о теоретической возможности изменения языка. Углубляясь в
вопрос, мы видим, что в действительности сама произвольность знака
защищает язык от всякой попытки сознательно изменить его.
Говорящие, будь они даже сознательнее, чем есть на самом деле, не могли
бы обсуждать вопросы языка. Ведь для того чтобы подвергать
обсуждению какую-либо вещь, надо, чтобы она отвечала какой-то
разумной норме. Можно, например, спорить, какая форма брака
рациональнее — моногамия или полигамия, и приводить доводы в
пользу той или другой. Можно также обсуждать систему символов,
потому что символ связан с обозначаемой вещью рационально (см.
стр. 101); в отношении же языка, системы произвольных знаков,
не на что опереться. Вот почему исчезает всякая почва для
обсуждения: ведь нет никаких оснований для того, чтобы предпочесть
означающее sœur означающему sister для понятия «сестра» и
означающее Ochs означающему bœuf для понятия «бык».
2. Множественность знаков, необходимых в любом языке.
Значение этого обстоятельства немаловажно. Система письма,
обстоящая из 20—40 букв, может быть, если на то пошло, заменена
другою. То же самое можно было бы сделать и с языком, если бы
число элементов, его составляющих, было ограниченным. Но число
знаков языка бесконечно.
3. Слишком сложный характер системы. Язык
является системой. Хотя, как мы увидим ниже, с этой именно стороны
он не целиком произволен и, таким образом, в нем господствует
относительная разумность, но вместе с тем именно здесь и
обнаруживается неспособность говорящих преобразовать его. Дело в том,
что эта система представляет собой сложный механизм и постичь ее
можно лишь путем специальных размышлений. Даже те, кто изо
дня в день ею пользуются, о самой системе ничего не знают. Можно
было бы представить себе возможность преобразования языка лишь
путем вмешательства специалистов, грамматистов, логиков и т. д.
Но опыт показывает, что до сего времени такого рода попытки
успеха не имели.
4. Сопротивление коллективной косности любым
языковым инновациям. Все вышеуказанные соображения
уступают по своей убедительности следующему: в каждый данный
момент язык есть дело всех и каждого; будучи распространен в
некотором коллективе и служа ему, язык есть нечто такое, чем каждый
человек пользуется ежечасно, ежеминутно. В этом отношении его
никак нельзя сравнивать с другими общественными установлениями.
Предписания закона, обряды религии, морские сигналы и пр.
затрагивают единовременно лишь ограниченное количество лиц и на
ограниченный срок; напротив, языком каждый пользуется
ежеминутно, почему язык и испытывает постоянное влияние всех. Это
фундаментальный фактор, и его одного достаточно, чтобы показать
невозможность революции з языке. Из всех общественных установ-
106
лений язык предоставляет меньше всего возможностей для
проявления инициативы. Он составляет неотъемлемую часть жизни
общества, которое, будучи по природе инертным, выступает прежде
всего как консервативный фактор.
Однако еще недостаточно сказать, что язык есть продукт
социальных сил, чтобы стало очевидно, что он несвободен; помня, что
язык всегда унаследован от предшествующей эпохи, мы должны
добавить, что те социальные силы, продуктом которых он является,
действуют в зависимости от времени. Язык устойчив не только
потому, что он привязан к косной массе коллектива, но и вследствие того,
что он существует во времени. Эти два факта неотделимы. Связь
с прошлым ежеминутно препятствует свободе выбора. Мы говорим
человек и собака, потому что и до нас говорили человек и собака. Это
не препятствует тому, что во всем явлении в целом всегда налицо
связь между двумя противоречивыми факторами — произвольным
соглашением, в силу которого выбор означающего свободен, и
временем, благодаря которому этот выбор оказывается жестко
определенным. Именно потому, что знак произволен, он не знает другого
закона, кроме закона традиции, и, наоборот, он может быть
произвольным только потому, что опирается на традицию.
§ 2. Изменчивость знака
Время, обеспечивающее непрерывность языка, оказывает на него
и другое действие, которое на первый взгляд противоположно
первому, а именно: оно с большей или меньшей быстротой изменяет
языковые знаки, так что в известном смысле можно говорить
одновременно как о неизменчивости языкового знака, так и о
изменчивости его *.
В конце концов, оба эти факта взаимно обусловлены: знак может
изменяться, потому что его существование не прерывается. При
всяком изменении преобладающим моментом является устойчивость
прежнего материала, неверность прошлому лишь относительна. Вот
почему принцип изменения опирается на принцип непрерывности.
Изменение во времени принимает различные формы, каждая
из которых могла бы послужить материалом для большой главы
в теории лингвистики. Не вдаваясь в подробности, необходимо
подчеркнуть следующее.
Прежде всего требуется правильно понимать смысл, который
приписывается здесь слову «изменение». Оно может породить мысль,
что в данном случае речь идет специально о фонетических
изменениях, претерпеваемых означающим, или же специально о смысловых
изменениях, затрагивающих обозначаемое понятие. Такое
понимание изменения было бы недостаточным. Каковы бы ни были факторы
изменения, действуют ли они изолированно или в сочетании друг
107
с другом, они всегда приводят к сдвигу отношения между означаемым
и означающим.
Вот несколько примеров. Лат. necâre, означающее «убивать»,
превратилось во французском в noyer со значением «топить (в воде)».
Изменились и акустический образ и понятие; однако бесполезно
различать обе эти стороны данного факта, достаточно констатировать in
globo, что связь понятия со знаком ослабла и что произошел сдвиг
в отношениях между ними. Несколько иначе обстоит дело, если
сравнивать классически латинское necâre не с французским noyer,
а с народнолатинским necâre IV и V вв., означающим «топить»;
но и здесь, при отсутствии изменения в означающем, имеется сдвиг
в отношении между понятием и знаком.
Старонемецкое dritteil «треть» в современном немецком языке
превратилось в Drittel. В данном случае, хотя понятие осталось тем
же, отношение между ним и означающим изменилось двояким
образом: означающее видоизменилось не только в своем материальном
аспекте, но и в своей грамматической форме; оно более не включает
элемента Teil «часть», оно стало простым словом. Так или иначе,
и здесь имеет место сдвиг в отношении между понятием и
знаком.
В англосаксонском языке дописьменная форма föt «нога»
сохранилась в виде föt (совр. англ. foot), а форма мн. 4.*fôti «ноги»
превратилась в fët (совр. англ. feet). Какие бы изменения здесь ни
подразумевались, ясно одно: произошел сдвиг в отношении,
возникли новые соответствия между звуковым материалом и понятием.
Язык коренным образом не способен сопротивляться факторам,
постоянно меняющим отношения между означаемым и означающим.
Это одно из следствий, вытекающих из принципа произвольности
знака.
Прочие общественные установления — обычаи, законы и т. п.—
основаны, в различной степени, на естественных отношениях вещей;
в них есть необходимое соответствие между использованными
средствами и поставленными целями. Даже мода, определяющая наш
костюм, не вполне произвольна: нельзя отклониться далее
определенной меры от условий, диктуемых свойствами человеческого тела.
Язык же, напротив, ничем не ограничен в выборе своих средств, ибо
нельзя себе представить, что могло бы воспрепятствовать
ассоциации какого угодно понятия с какой угодно последовательностью
звуков.
Желая ясно показать, что язык есть общественное установление
в чистом виде, Уитни справедливо подчеркивал произвольный
характер знаков: тем самым он направил лингвистику по правильному
пути. Однако он не развил до конца это положение и не разглядел,
что своим произвольным характером язык резко отличается от всех
прочих общественных установлений. Это ясно обнаруживается в
том, как он развивается; нет ничего сложнее его развития: так как
язык существует одновременно и в обществе и во времени, то никто
108
ничего не может в нем изменить; между тем произвольность его
знаков теоретически обеспечивает свободу устанавливать любые
отношения между звуковым материалом и понятиями. Из этого следует,
что оба элемента, объединенные в знаке, живут в небывалой степени
обособленно и что язык изменяется, или, вернее, эволюционирует,
под воздействием всех сил, которые могут повлиять либо на звуки,
либо на смысл. Эта эволюция является неизбежной: нет языка,
который был бы от нее свободен. По истечении некоторого промежутка
времени в каждом языке можно всегда констатировать ощутимые
сдвиги.
Это настолько верно, что принцип этот можно проверить и на
материале искусственных языков. Любой искусственный язык, пока
он еще не перешел в общее пользование, является собственностью
автора, но, как только он начинает выполнять свое назначение и
становится общим достоянием, контроль над ним теряется. К числу
языков этого рода принадлежит эсперанто; если он получит
распространение, ускользнет ли он от неизбежного действия закона
эволюции? По истечении первого периода своего существования этот
язык подчинится, по всей вероятности, условиям семиологического
развития: он станет передаваться в силу законов, ничего общего не
имеющих с законами, управляющими тем, что создается
продуманно; возврат к исходному положению будет уже невозможен. Человек,
который пожелал бы создать неизменяющийся язык для будущих
поколений, походил бы на курицу, высидевшую утиное яйцо:
созданный им язык волей-неволей был бы захвачен течением,
увлекающим вообще все языки.
Непрерывность знака во времени, связанная с его изменением во
времени, есть принцип общей семиологии: этому можно было бы
найти подтверждения в системе письма, в языке глухонемых и т. д.
Но на чем же основывается необходимость изменения? Нас могут
упрекнуть в том,что мы разъяснили этот пункт в меньшей степени,
нежели принцип неизменчивости. Это объясняется тем, что мы не
выделили различных факторов изменения; надо было бы
рассмотреть их во всем разнообразии, чтобы установить, в какой степени
они необходимы.
Причины непрерывности a priori доступны наблюдению; иначе
обстоит дело с причинами изменения во времени. Лучше пока
отказаться от их точного выяснения и ограничиться общими
рассуждениями о сдвиге отношений. Время изменяет все, и нет оснований
считать, что язык представляет исключение из этого общего
правила.
Резюмируем этапы нашего рассуждения, увязывая их с
установленными во введении принципами.
1. Избегая бесплодных дефиниций слов, мы прежде всего
выделили внутри общего явления, каким является речевая деятельность,
две ее составляющих (facteur): язык и речь. Язык для нас — это
речевая деятельность минус речь. Он есть совокупность языковых навы-
109
ков, позволяющих отдельному человеку понимать других и быть ими
понятым.
2. Но такое определение все еще оставляет язык вне социальной
реальности, оно представляет его чем-то нереальным, так как
включает лишь один аспект реальности, аспект индивидуальный: чтобы
был язык, нужен говорящий коллектив. Вопреки видимости, язык
никогда не существует вне общества, ибо язык — это семиологиче-
ское явление. Его социальная природа — одно из его внутренних
свойств; полное его определение ставит нас перед лицом двух
неразрывно связанных явлений, как это показано на нижеследующей
схеме:
Но в этих условиях язык только жизнеспособен, но еще не
живет; мы приняли во внимание лишь социальную реальность, но не
исторический факт.
3. Может показаться, что язык в силу произвольности языкового
знака представляет собой свободную систему, организуемую по воле
говорящих, зависящую исключительно от принципа
рациональности. Такой точке зрения, собственно, не противоречит и социальный
характер языка, взятый сам по себе. Конечно, коллективная
психология не оперирует чисто логическим материалом; нелишне
вспомнить и о том, как разум сдает свои позиции в практических
отношениях между людьми. И все же рассматривать язык как
простую условность, доступную изменению по воле
заинтересованных лиц, препятствует нам не это, но действие времени,
сочетающееся с действием социальных сил; вне категории времени языковая
реальность неполна, и никакие заключения относительно нее
невозможны.
Если бы мы взяли язык во времени, но отвлеклись от говорящего
коллектива (представим себе человека, живущего изолированно в
течение многих веков), то мы не обнаружили бы в нем, возможно,
никакого изменения: время было бы не властно над ним. И наоборот,
110
если мы будем рассматривать говорящий коллектив вне времени, то
не увидим действия на язык социальных сил. Чтобы приблизиться
к реальности, нужно, следовательно, добавить к приведенной выше
схеме знак, указывающий на движение времени:
Теперь уже язык теряет свою свободу, так как время позволяет
воздействующим на него социальным силам оказывать свое действие;
мы приходим, таким образом, к принципу непрерывности,
аннулирующей свободу. Однако непрерывность по необходимости
подразумевает изменение, то есть более или менее значительные сдвиги в
отношениях между означаемым и означающим.
Глава III
СТАТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
И ЭВОЛЮЦИОННАЯ ЛИНГВИСТИКА
§ 1. Внутренняя двойственность всех наук,
оперирующих понятием значимости
Едва ли многие лингвисты догадываются, что появление фактора
времени способно создать лингвистике особые затруднения и ставит
ее перед двумя расходящимися в разные стороны путями.
Большинство наук не знает этой коренной двойственности:
фактор времени не сказывается на них сколь-нибудь существенным
образом. Астрономия установила, что небесные светила претерпевают
заметные изменения, но ей не пришлось из-за этого расчлениться на
две дисциплины. Геология почти всегда имеет дело с
последовательными изменениями во времени, но, когда она переходит к уже
сложившимся состояниям земли, эти состояния не рассматриваются
как предмет совсем другой науки. Есть описательная наука о праве,
и есть история права, но никто не противопоставляет их друг другу.
Политическая история государств развертывается целиком во
времени, однако, когда историк рисует картину какой-либо эпохи, у нас
не создается впечатления, что мы выходим за пределы истории. И
наоборот, наука о политических институтах является по существу
своему наукой описательной, но она отлично может, когда
встретится надобность, рассматривать исторические вопросы, не теряя
при этом своего единства.
Наоборот, та двойственность,о которой мы говорим, властно
тяготеет, например, над экономическими науками. В
противоположность указанным выше отраслям знания политическая экономия и
экономическая история составляют две резко разграниченные
дисциплины в недрах одной науки. Это различие двух дисциплин особо
подчеркивается в экономических работах последних лет.
Разграничивая указанные дисциплины, специалисты по политической
экономии подчиняются внутренней необходимости, хотя и не отдают себе
в этом полного отчета. Вполне аналогичная необходимость
заставляет и нас членить лингвистику на две части, каждая из которых
имеет свои собственные основания. Дело в том, что в лингвистике,
112
как и в политической экономии, мы сталкиваемся с понятием
значимости. В политической экономии ее именуют ценностью. В обеих
науках речь идет о системе эквивалентностей между вещами
различной природы: в политической экономии — между трудом и
заработной платой, в лингвистике — между означаемым и означающим.
Совершенно очевидно, что в интересах всех вообще наук
следовало бы более тщательно разграничивать те оси, по которым
располагаются входящие в их компетенцию объекты. Всюду следовало бы
различать, как указано на нижеследующем рисунке: 1) ось
одновременности (AB), касающуюся отношений между сосуществующими
явлениями, где исключено всякое вмешательство времени, и 2) ось
последовательности (CD), на которой никогда нельзя
рассматривать больше одной вещи сразу и по которой располагаются все
явления первой оси со всеми их изменениями.
с
γ
D
Для наук, оперирующих понятием значимости, такое различение
становится практической необходимостью, а в некоторых случаях —
абсолютной необходимостью. Смело можно сказать, что в этих
областях невозможно строго научно организовать исследование, не
принимая в расчет наличия двух осей, не различая системы
значимостей, взятых сами по себе, и этих же значимостей, рассматриваемых
как функция времени.
С наибольшей категоричностью различение это обязательно для
лингвиста, ибо язык есть система чистых значимостей, определяемая
исключительно наличным состоянием входящих в нее элементов.
Поскольку одной из своих сторон значимость связана с реальными
вещами и с их естественными отношениями (как это имеет место
в экономической науке: например, ценность земельного участка
пропорциональна его доходности), постольку можно до некоторой
степени проследить эту значимость во времени, не упуская, однако,
при этом из виду, что в каждый данный момент она зависит от
системы сосуществующих с ней других значимостей. Тем не менее ее связь.
113
с вещами дает ей естественную базу, а потому вытекающие из этого
оценки никогда не являются вполне произвольными, они могут
варьировать, но в ограниченных пределах. Однако, как мы видели,
естественные вещи и их отношения вообще не имеют отношения к
лингвистике [когда дело идет о значимостях].
Следует, далее, заметить, что чем сложней и строже
организована система значимостей, тем необходимее, именно вследствие
сложности этой системы, изучать ее последовательно, по обеим осям.
Никакая система не может сравниться в этом отношении с языком:
нигде мы не имеем в наличии такой точности обращающихся
значимостей, такого большого количества и такого разнообразия
элементов, и притом связанных такими строгими взаимозависимостями.
Множественность знаков, о которой мы уже говорили при
рассмотрении непрерывности языка, полностью препятствует
одновременному изучению отношений знаков во времени и их отношений
в системе.
Вот почему мы различаем две лингвистики. Как их назвать?
Не все предлагаемые термины в полной мере способны обозначить
проводимое нами различение. Термины «история» и «историческая
лингвистика» непригодны, так как они связаны со слишком
расплывчатыми понятиями; поскольку политическая история включает
и описание отдельных эпох и повествование о событиях, постольку
можно было бы вообразить, что, описывая последовательные
состояния языка, мы тем самым изучаем язык, следуя по вертикальной,
временной оси; для этого пришлось бы тогда рассмотреть отдельно
те явления, которые заставляют язык переходить из одного
состояния в другое. Термины эволюция и эволюционная лингвистика более
точны, и мы часто будем ими пользоваться; по контрасту другую
науку можно было бы называть наукой о состояниях языка или
статической лингвистикой.
Однако, чтобы резче оттенить это противопоставление и это
скрещение двоякого рода явлений, относящихся к одному объекту, мы
предпочитаем говорить о синхронической лингвистике и о
диахронической лингвистике. Синхронично все, что относится к статическому
аспекту нашей науки, диахронично все, что касается эволюции.
Существительные же синхрония и диахрония будут соответственно
обозначать состояние языка и фазу эволюции.
§ 2. Внутренняя двойственность
и история лингвистики
Первое, что поражает, когда приступаешь к изучению языка,—
это то, что для говорящего не существует последовательности этих
фактов во времени: ему непосредственно дано только их состояние.
Поэтому и лингвист, желающий понять это состояние, должен
закрыть глаза на то, как оно получилось, и пренебречь диахронией..
114
Только отбросив прошлое, он может проникнуть в сознание
говорящих. Вторжение истории может только сбить его с толку. Было бы
нелепостью, рисуя панораму Альп, фиксировать ее одновременно с
нескольких вершин Юрских гор, панорама должна быть
зафиксирована из одной точки. Так и в отношении языка: нельзя ни
описывать его, ни устанавливать нормы его применения, не отправляясь
от одного определенного его состояния. Следуя за эволюцией языка,
лингвист уподобляется наблюдателю, который передвигается с
одного конца Юрских гор до другого, отмечая при этом изменения
перспективы.
Можно сказать, что современная лингвистика, едва возникнув,
с головой ушла в диахронию. Сравнительная грамматика
индоевропейских языков использует добытые ею данные для
гипотетической реконструкции предшествующего языкового типа; для нее
сравнение не более как средство воссоздания прошлого. Тот же
метод применяется и при изучении языковых подгрупп (романских
языков, германских языков и т. д.), состояния языка привлекаются
лишь отрывочно и весьма несовершенным образом. Таково
направление, начало которому положил Бопп; поэтому его научное
понимание языка неоднородно и шатко.
С другой стороны, как поступали те, кто изучал язык до
возникновения лингвистической науки, то есть «грамматисты»,
вдохновлявшиеся традиционными методами? Любопытно отметить, что их
точка зрения по занимающему нас вопросу абсолютно безупречна.
Их работы ясно показывают нам, что они стремились описывать
состояния; их программа была строго синхронической. Например,
так называемая грамматика Пор-Ройяля пытается описать
состояние французского языка в эпоху Людовика XIV и определить
составляющие его значимости. Для этого у нее не возникает
необходимости обращаться к средневековому французскому языку; она
строго следует горизонтальной оси (см. стр. 113) и никогда от нее не
отклоняется. Такой метод верен; это не значит, впрочем, что он
применялся безукоризненно. Традиционная грамматика игнорирует
целые отделы лингвистики, как, например, отдел о
словообразовании; она нормативна и считает нужным предписывать правила, а
не констатировать факты; она упускает из виду целое; часто она не
умеет даже отличить написанное слово от произносимого и т. п.
Классическую грамматику упрекали в том, что она не научна,
между тем ее научная база менее подвержена критике, а ее предмет
лучше определен, чем у той лингвистики, которую основал Бопп.
Эта последняя, покоясь на неопределенном основании, не знает
даже в точности, к какой цели она стремится. Не умея строго
разграничить наличное состояние и последовательность состояний во
времени, она совмещает два подхода одновременно (elle est à cheval sur
deux domaines).
Лингвистика уделяла слишком большое место истории; теперь
ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной
115
грамматики, но уже понятой в новом духе, обогащенной новыми
приемами и обновленной историческим методом, который, таким
образом, косвенно помогает лучше осознавать состояния языка.
Прежняя грамматика видела лишь синхронический факт;
лингвистика открыла нам новый ряд явлений, но этого недостаточно: надо
почувствовать противоположность обоих подходов, чтобы извлечь
из этого все вытекающие последствия.
§ 3. Внутренняя двойственность лингвистики,
показанная на примерах
Противоположность двух точек зрения — синхронической и
диахронической — совершенно абсолютна и не терпит компромисса.
Приведем несколько фактов, чтобы показать, в чем состоит это
различие и почему оно неустранимо.
Латинское crispus «волнистый, курчавый» оставило в наследство
французскому языку корень crép-, откуда глаголы crépir «покрывать
штукатуркой» и décrépir «отбивать штукатурку». С другой стороны,
в какой-то момент из латинского языка во французский было
заимствовано слово dêcrepitus «дряхлый» с неясной этимологией, и из
него получилось décrépit с тем же значением. Несомненно, в
настоящее время говорящие связывают между собою un mur décrépi
«облупившаяся стена» и un homme décrépit «дряхлый человек»,
хотя исторически эти два слова ничего общего между собой не
имеют; часто говорят façade décrépite d'une maison в смысле
«облупившийся фасад дома». И это есть факт статический, поскольку речь
идет об отношении между двумя сосуществующими в языке
явлениями. Для того чтобы он проявился, оказалось необходимым стечение
целого ряда обстоятельств из области эволюции: потребовалось,
чтобы crisp- стало произноситься crép- и чтобы в некий момент из
латинского было заимствовано новое слово. Вполне очевидно, что
эти диахронические факты не находятся ни в каком отношении
с порожденным ими синхроническим фактом; они — явления иного
порядка.
Вот еще один пример, имеющий общее значение. В
древневерхненемецком языке множественное число от существительного
gast «гость» первоначально имело форму gasti, от существительного
hant «рука» — hanti и т. д. Впоследствии это i вызвало умлаут, то
есть привело к изменению (в предшествующем слоге) a в e: gasti —>
—> gesti, hanti —> henti. Затем это i утратило свой тембр, откуда
gesti —> geste и т. д. В результате ныне мы имеем Gast: Gäste, Hand:
Hände; целый разряд слов обнаруживает то же различие между
единственным и множественным числом. Аналогичное, в общем,
явление произошло и в англосаксонском языке: первоначально было
föt «нога», мн. ч. *föti; töf> «зуб», мн, ч. *tö£>i; gös «гусь», мн. ч. *gösi
116
и т. д.; затем, в результате первого фонетического изменения —
умлаута — *föti превратилось в *fêti, а в результате второго
фонетического изменения — падения конечного i — *fêti дало fêt;
так возникло отношение ед. ч. föt: мн. ч. fêt и аналогично töf> : tëp,
gôs:gës (совр. англ. foot:feet, tooth:teeth, goose:geese).
Первоначально, когда говорили gast: gasti, föt : föti,
множественное число выражалось простым прибавлением i; Gast : Gäste и
föt : fêt выявляют иной механизм для выражения множественного
числа. Этот механизм неодинаков в обоих случаях: в
староанглийском — только противопоставление гласных, в немецком — еще и
наличие или отсутствие конечного -е, но это различие для нас
несущественно.
Отношение между единственным числом и множественным,
образованным от него, каковы бы ни были их формы, для каждое
данного момента может быть выражено на горизонтальной оси, а
именно
• « ►· Эпоха А
• « ►· Эпоха В
Те же факты (каковы бы они ни были), которые вызвали переход
от одной формы к другой, должны, наоборот, быть расположены
на вертикальной оси, так что в результате мы получаем
• « ► · Эпоха А
1 1
• « ► · Эпоха В
Наш типовой пример порождает целый ряд соображений,
непосредственно относящихся к нашей теме:
1. Диахронические факты вовсе не имеют своей целью выразить
другим знаком какую-то определенную значимость в языке: переход
gasti в gesti, geste (Gäste) нисколько не связан с множественным
числом существительных, так как в tragit —> trägt тот же умлаут
связан со спряжением. Таким образом, диахронический факт
является самодовлеющим событием, и те конкретные синхронические
последствия, которые могут из него проистекать, ему совершенно
чужды.
2. Диахронические факты вовсе не стремятся изменить систему.
Здесь отсутствует намерение перейти от одной системы отношений
к другой; перемена касается не упорядоченного целого, а только
отдельных элементов его.
Здесь мы снова встречаемся с уже высказанным нами
принципом: система никогда не изменяется непосредственно, сама по себе
она неизменна, изменению подвержены только отдельные элементы
независимо от связи, которая соединяет их со всей совокупностью.
Это можно сравнить с тем, как если бы одна из планет,
обращающаяся вокруг Солнца, изменилась в размере и массе: этот изолиро-
117
ванный факт повлек бы за собой общие последствия и нарушил бы
равновесие всей солнечной системы в целом. Для выражения
множественного числа необходимо противопоставление двух явлений:
либо föt : *fôti, либо föt : fêt; эти два способа в равной мере
возможны, и говорящие перешли от одного к другому, как бы и не
прикасаясь к ним: не целое было сдвинуто и не одна система
породила другую, но один из элементов первой системы изменился, и
этого оказалось достаточно для того, чтобы произвести новую
систему.
3. Это наблюдение помогает нам понять случайный характер
всякого состояния. В противоположность часто встречающемуся
ошибочному представлению язык не есть механизм, созданный и
приспособленный для выражения понятий. Наоборот, как мы
видели, новое состояние, порожденное изменением каких-либо его
элементов, вовсе не предназначается для выражения значений,
которыми оно оказалось пропитанным. Дано случайное состояние
föt : fêt, и им воспользовались для выражения различия между
единственным и множественным числом. Противопоставление föt : fét
служит этому не лучше, чем föt:*föti. Каждый раз, как возникает
новое состояние, разум одухотворяет уже данную материю и как бы
вдыхает в нее жизнь. Этот взгляд, внушенный нам исторической
лингвистикой, не был известен традиционной грамматике, которая
свойственными ей методами не могла бы никогда прийти к нему.
Равным образом ничего о нем не знает и большинство философов,
между тем нет ничего более важного с философской точки зрения,
чем эта концепция.
4. Имеют ли факты, принадлежащие к диахроническому ряду,
по крайней мере ту же природу, что и факты синхронического ряда?
Нет, не имеют, ибо, как мы уже установили, изменения происходят
без всякого намерения. Синхронический факт, напротив, всегда
облечен значением; он всегда апеллирует к двум одновременно
существующим членам отношения: множественное число выражается
не формой Gäste, а противоположением Gast : Gäste. В
диахроническом плане верно как раз обратное: он затрагивает лишь один член
отношения и для появления новой формы Gäste надо, чтобы старая
форма gasti уступила ей место и исчезла.
Попытка объединить внутри одной дисциплины столь различные
по характеру факты представляется фантастическим предприятием.
В диахронической перспективе мы имеем дело с явлениями,
которые не имеют никакого отношения к системам, хотя и
обусловливают их.
Приведем еще несколько примеров, подтверждающих и
дополняющих выводы, извлеченные из первых.
Во французском языке ударение всегда падает на последний
слог, если только он не содержит в себе немого е (э). Это факт
синхронический: отношение между совокупностью французских слов
и ударением французского слова. Откуда он взялся? Из предшество-
118
вавшего состояния. В латинском языке система ударения была иная
и более сложная: ударение падало на предпоследний слог, если он
был долгим; если же он был кратким, то ударение переносилось на
третий слог от конца (ср. amicus «друг», но anima «душа»). Этот
закон описывает отношения, не имеющие ни малейшей аналогии
с законом французского ударения. Тем не менее это то же самое
ударение — в том смысле, что оно осталось на тех же местах; во
французском слове оно падает всегда на тот слог, который имел его в
латинском языке: amÎcum—> ami, ânimam—> âme. Между тем
формулы ударения во французском и латинском различны, и это потому,
что изменилась форма слов. Как известно, все, что следовало за
ударением, либо исчезло, либо свелось к немому е. Вследствие этого
изменения слова позиция ударения по отношению к целому слову
стала иной; в результате говорящие, сознавая наличие нового
отношения, стали инстинктивно ставить ударение на последнем слоге
даже в заимствованных, унаследованных через письменность словах
(facile, consul, ticket, burgfave и т. п.). Ясно, что у говорящих
не было намерения изменить систему, сознательного стремления
к новой формуле ударения, ибо в словах типа amicum—> ami
ударение осталось на прежнем слоге; однако тут вмешалась
диахрония: место ударения оказалось измененным, хотя к нему никто и не
прикасался. Закон ударения, как и все, относящееся к
лингвистической системе, есть соотношение (disposition) членов системы, то есть
случайный и невольный результат эволюции.
Приведем еще более разительный пример. В старославянском
языке лъто имеет в творительном падеже единственного числа форму
лътомь, в именительном падеже множественного числа—лъта,
в родительном падеже множественного числа—лътъ и т. д.; в этом
склонении у каждого падежа свое окончание. Однако славянские
«слабые» гласные ь и ъ, восходящие к и.-е. ï и и, в конце концов,
исчезли; вследствие этого данное существительное, например в
русском языке, склоняется так: лето, летом, лета, лет. Равным
образом рука склоняется так: вин. п. ед. ч. руку, им. п. мн. ч. руки, род.
п. мн. ч. рук и т. д. Таким образом, здесь в формах лет, рук
показателем родительного падежа множественного числа является нуль.
Итак, оказывается, что материальный знак не является
необходимым для выражения понятия; язык может ограничиться
противопоставлением чего-либо ничему. Так, в приведенном примере мы
узнаем родительный падеж множественного числа рук просто
потому, что это ни рука, ни руку, ни какая-либо из прочих форм. На
первый взгляд кажется странным, что столь специфическое понятие,
как понятие родительного падежа множественного числа, стало
обозначаться нулем, но это как раз доказывает, что все
происходит по чистой случайности. Язык есть механизм, продолжающий
функционировать, несмотря на повреждения, которые ему
наносятся.
119
Все вышеизложенное подтверждает уже сформулированные нами
принципы, которые мы резюмируем здесь следующим образом:
Язык есть система, все части которой могут и должны
рассматриваться в их синхронической взаимообусловленности.
Изменения никогда не происходят во всей системе в целом, а
лишь в том или другом из ее элементов, они могут изучаться только
вне ее. Конечно, всякое изменение сказывается в свою очередь на
системе, но исходный факт затрагивает лишь одну ее точку; он не
находится ни в какой внутренней связи с теми последствиями,
которые могут из него проистечь для целого. Это различие по существу
между сменяющимися элементами и элементами сосуществующими,
между частными фактами и фактами, затрагивающими систему,
препятствует изучению тех и других в рамках одной науки.
§ 4. Различие синхронии и диахронии,
показанное на сравнениях
Чтобы показать одновременно и автономность и зависимость
синхронического ряда от диахронического, первый из них можно
сравнить с проекцией тела на плоскость. В самом деле, всякая
проекция непосредственно зависит от проецируемого тела, и все-таки
она представляет собою нечто особое, отличное от самого тела.
Иначе не было бы специальной науки о проекциях: достаточно было
бы рассматривать сами тела. В лингвистике таково же отношение
между исторической действительностью и данным состоянием
языка, представляющим как бы проекцию этой действительности в тот
или иной момент. Синхронические состояния познаются не путем
изучения тел, то есть диахронических событий, подобно тому как
понятие геометрических проекций не постигается в результате
изучения, хотя бы весьма пристального, различных видов тел.
Возьмем еще одно сравнение, воспользовавшись следующим
рисунком [см. рис. на стр. 121].
Если сделать поперечный срез стебля растения, то на месте среза
мы увидим более или менее сложный рисунок — это не что иное,
как перспектива продольных волокон, которые мы и обнаружим,
если произведем второй срез, перпендикулярный первому. Здесь
опять одна из перспектив зависит от другой: продольный срез
показывает нам самые волокна, образующие растение, а поперечный
срез — их группировку на перпендикулярной им плоскости; но
второй срез отличается от первого, ибо он обнаруживает между
волокнами некоторые отношения, не доступные наблюдению на
продольной плоскости.
Из всех сравнений, которые можно было бы придумать,
наиболее показательным является сравнение, которое можно провести
120
между функционированием языка и игрой в шахматы. И здесь и там
налицо система значимостей и наблюдаемое изменение их. Партия
в шахматы есть как бы искусственная реализация того, что в
естественной форме представлено в языке.
Рассмотрим это сравнение детальнее.
Прежде всего, понятие позиции в шахматной игре во многом
соответствует понятию состояния в языке. Соответствующая
значимость фигур зависит от их положения в каждый данный момент на
доске, подобно тому как в языке значимость каждого элемента
зависит лишь от его противоположения всем прочим элементам.
Далее, система всегда моментальна; она видоизменяется от
позиции к позиции. Правда, значимость фигур зависит также, и даже
главным образом, от неизменного соглашения: от правил игры,
существующих еще до начала партии и сохраняющих свою силу после
каждого хода. Но такие правила, принятые раз навсегда,
существуют и в области языка: это неизменные принципы семиологии.
Наконец, для перехода от одного состояния равновесия к
другому или — согласно принятой нами терминологии — от одной
синхронии к другой достаточно сделать ход одной фигурой; не
требуется передвижки всех фигур сразу. Здесь мы имеем полное
соответствие диахроническому факту со всеми его особенностями. В самом
деле:
а) Каждый шахматный ход приводит в движение только одну
фигуру; так и в языке изменениям подвергаются только отдельные
элементы.
121
б) Несмотря на это, каждый ход сказывается на всей системе;
игрок не может в точности предвидеть последствия каждого хода.
Изменения значимостей всех фигур, которые могут произойти
вследствие данного хода, в зависимости от обстоятельств будут либо
ничтожны, либо весьма значительны, либо, в общем, скромны. Один
ход может коренным образом изменить течение всей партии и
повлечь за собой последствия даже для тех фигур, которые в тот
момент, когда его делали, были им не затронуты. Мы уже видели, что
точно то же верно и в отношении языка.
в) Ход отдельной фигурой есть факт, абсолютно отличный от
предшествовавшего ему и следующего за ним состояния
равновесия. Произведенное изменение не относится ни к одному из этих
двух состояний; для нас же важны одни лишь состояния.
В шахматной партии любая данная позиция характеризуется,
между прочим, тем, что она совершенно независима от всего того,
что ей предшествовало; совершенно безразлично, каким путем она
сложилась; зритель, следивший за всей партией с самого начала,
не имеет ни малейшего преимущества перед тем, кто пришел
взглянуть на положение партии в критический момент; для описания
данной шахматной позиции совершенно незачем вспоминать о том, что
происходило на доске десять секунд тому назад. Все это
рассуждение применимо и к языку и еще раз подчеркивает коренное
различие, проводимое нами между диахронией и синхронией. Речь
функционирует лишь в рамках данного состояния языка, и в ней
нет места изменениям, происходящим между одним состоянием и
другим.
Лишь в одном пункте наше сравнение неудачно: у шахматиста
имеется намерение сделать определенный ход и
воздействовать на систему отношений на доске, язык же ничего не
замышляет — его «фигуры» передвигаются, или, вернее, изменяются,
стихийно и случайно. Умлаут в формах Hände вместо hanti и Gäste
вместо gasti (ср. стр. 116) создал множественное число нового вида,
но он также вызвал к жизни и глагольную форму trägt вместо tragit
и т. д. Чтобы партия в шахматы во всем уподобилась
функционированию языка, необходимо представить себе бессознательно
действующего или ничего не смыслящего игрока. Впрочем, это
единственное отличие делает сравнение еще более поучительным, показывая
абсолютную необходимость различать в лингвистике два ряда
явлений. В самом деле, если диахронические факты несводимы к
обусловленной ими синхронической системе даже тогда, когда
соответствующие изменения подчиняются разумной воле, то тем более есть
основания полагать, что так обстоит дело и тогда, когда эти
диахронические факты проявляют свою слепую силу при столкновении
с организованной системой знаков.
122
§ 5. Противопоставление
синхронической и диахронической лингвистик
в отношении их методов и принципов
Противопоставление между диахроническим и синхроническим
проявляется всюду. Прежде всего (мы начинаем с явления
наиболее очевидного) они неодинаковы по своему значению для языка.
Ясно, что синхронический аспект превалирует над диахроническим,
так как для говорящих только он — подлинная и единственная
реальность (см. стр. 114). Это же верно и для лингвиста: если он
примет диахроническую перспективу, то увидит отнюдь не язык, а
только ряд видоизменяющих его событий. Часто утверждают, что
нет ничего более важного, чем познать генезис данного состояния;
это в некотором смысле верно: условия, создавшие данное
состояние, проясняют нам его истинную природу и оберегают нас от
некоторых иллюзий (см. стр. 117), но этим как раз и доказывается, что
диахрония не является самоцелью. О ней можно сказать то же, что
было как-то сказано о прессе: она открывает дорогу решительно
ко всему,—надо только [вовремя] уйти из нее.
Методы синхронии и диахронии тоже различны, и притом в двух
отношениях:
а) Синхрония знает только одну перспективу, перспективу
говорящих, и весь ее метод сводится к собиранию от них языковых
фактов; чтобы убедиться, в какой мере то или другое языковое
явление реально, необходимо и достаточно выяснить, в какой мере оно
существует в сознании говорящих. Напротив, диахроническая
лингвистика должна различать две перспективы: одну проспективную,
следующую за течением времени, и другую ретроспективную,
направленную вспять; отсюда — раздвоение метода, о чем будет идти
речь в пятой части этой работы.
б) Второе различие вытекает из разницы в объеме той области,
на которую распространяется та и другая дисциплина. Объектом
синхронического изучения является не все совпадающее по времени,
а только совокупность фактов, относящихся к тому или другому
языку; по мере надобности подразделение доходит до диалектов
и поддиалектов. В сущности, термин синхрония не вполне точен:
его следовало бы заменить термином идиосинхрония, хотя он и
несколько длинный. Наоборот, диахроническая лингвистика не только
не требует подобной специализации, но и отвергает ее;
рассматриваемые ею элементы не принадлежат обязательно к одному языку
(ср. и.-е. *esti, треч. ésti, нем. ist, франц.'est). Различие же между
отдельными языками создается последовательным рядом событий,
развертывающихся в языке на временной оси и умножаемых
действием пространственного фактора. Для сопоставления двух форм
достаточно, если между ними есть историческая связь, какой бы
косвенной она ни была.
123
Эти противопоставления не самые яркие и не самые глубокие:
из коренной антиномии между фактом эволюционным и фактом
статическим следует, что решительно все понятия, относящиеся к тому
или другому, в одинаковой мере не сводимы друг к другу. Любое из
этих понятий может служить доказательством этой несводимости.
Таким образом, синхроническое явление не имеет ничего общего с
диахроническим (см. стр. 118): первое есть отношение между
одновременно существующими элементами, второе — замена во времени
одного элемента другим, то есть событие. Мы увидим ниже (стр. 140),
что тождества диахронические и синхронические суть вещи
совершенно различные: исторически французское отрицание pas «не»
тождественно существительному pas «шаг», тогда как в современном
языке это два совершенно разных элемента. Уже этих констатации,
казалось бы, было достаточно для уяснения того, что смешивать
обе точки зрения нельзя; но нигде необходимость такого
разграничения не обнаруживается с такой очевидностью, как в том различии,
к которому мы сейчас переходим.
§ 6. Синхронический закон и закон диахронический
Мы привыкли слышать о законах в лингвистике, но
действительно ли факты языка управляются законами и какого рода могут быть
эти законы? Поскольку язык есть общественное установление,
можно было бы a priori сказать, что он регулируется предписаниями
аналогичными тем, которые управляют жизнью общества. Как
известно, всякий общественный закон обладает двумя основными
признаками: он является императивным и всеобщим. Он обязателен
для всех, и он распространяется на все случаи, разумеется, в
определенных временных и пространственных границах.
Отвечают ли такому определению законы языка? Чтобы
выяснить это, надо прежде всего, в соответствии с только что сказанным,
и здесь еще раз разделить сферы синхронического и
диахронического. Перед нами две разные проблемы, смешивать которые нельзя:
говорить о лингвистическом законе вообще равносильно желанию
схватить призрак.
Вот несколько примеров из области греческого языка, причем
«законы» синхронии и диахронии здесь умышленно смешаны:
1. Индоевропейские звонкие придыхательные превратились в
глухие придыхательные: dhümos—> thümos «жизнь», *bherö—>
phérô «несу» и т. д.
2. Ударение в слове никогда не бывает далее третьего слога от
конца.
3. Все слова оканчиваются на гласный или на s, η, г, но не на
какой-либо иной согласный.
124
4. Начальное s перед гласным превратилось в h (густое
придыхание): *septm (лат. septem) —> hepta «семь».
5. Конечное m изменилось в η: *jugom —> zugon (ср. лат. ju-
gum) «ярмо» *.
6. Конечные смычные отпали: *gunaik —> gunai, зв. п. «(о) жена!»
«(о) женщина!», *epheret —> éphere «он нес», *epheront—> épheron
«они несли».
Первый из этих законов является диахроническим: что было dh,
то стало th и т. д. Второй выражает отношение между словом как
целым и ударением — своего рода «соглашение» между двумя
сосуществующими элементами: это синхронический закон. Таков же и
третий закон, так как он касается слова как целого и его
окончания. Четвертый, пятый и шестой законы являются
диахроническими: что было s, то стало h; конечное m изменилось в п; конечное t, к
и другие смычные исчезли бесследно.
Необходимо, кроме того, заметить, что третий закон есть
результат пятого и шестого: два диахронических факта создали один
синхронический.
Разделив таким образом эти две категории законов, мы
убеждаемся, что второй и третий законы не однородны с первым,
четвертым, пятым и шестым.
Синхронический закон — общий закон, но не императивный;
попросту отображая существующий порядок вещей, он только
констатирует некое состояние; он является законом постольку же,
поскольку законом может быть названо, например, утверждение,
что в данном фруктовом саду деревья посажены косыми рядами.
Отображаемый им порядок вещей непрочен как раз потому, что этот
порядок не императивен. Казалось бы, можно возразить, что в речи
синхронический закон обязателен в том смысле, что он навязан
каждому человеку принуждением коллективного обычая (см. стр. 104),
это верно, но мы ведь понимаем слово «императивный» не в смысле
обязательности по отношению к говорящим — отсутствие
императивности означает, что в языке нет никакой силы, гарантирующей
сохранение регулярности, установившейся в каком-либо пункте.
Так, нет ничего более регулярного, чем синхронический закон,
управляющий латинским ударением (в точности сравнимый с законом
греческого ударения, приведенным выше под рубрикой 2); между
тем эти правила ударения не устояли перед факторами изменения
и уступили место новому закону, действующему во французском
языке (см. стр. 118 и сл.). Таким образом, если и можно говорить о
законе в синхронии, то только в смысле упорядочения, в смысле
принципа регулярности.
Диахрония предполагает, напротив того, динамический фактор,
приводящий к определенному результату, производящий
определенное действие. Но этого императивного характера недостаточно
для применения понятия закона к фактам эволюции языка; о законе
можно говорить лишь тогда, когда целая совокупность явлений под-
125
чиняется единому правилу, а диахронические события всегда в
действительности носят случайный и частный характер, несмотря на
видимые исключения из этого.
В отношении семантических фактов это сразу же бросается в
глаза: если франц. poutre «кобыла» приняло значение «балка», то это
было вызвано частными причинами и не зависело от прочих
изменений, которые могли произойти в языке в тот же период времени; это
было чистой случайностью из числа многих случайностей,
регистрируемых историей языка.
В отношении синтаксических и морфологических изменений
вопрос на первый взгляд не так ясен. В какой-то период все формы
прежнего именительного падежа во французском языке исчезли.
Разве здесь нет совокупности фактов, подчиненных общему закону?
Нет, так как все это является лишь многообразным проявлением
одного и того же отдельного факта. Затронутым преобразованием
оказалось самое понятие именительного падежа, и исчезновение
его, естественно, повлекло за собою исчезновение всей
совокупности его форм. Для всякого, кто видит лишь поверхность языка,
единственный феномен оказывается скрытым за множеством его
проявлений; в действительности же он один, по самой глубинной
своей сути, и составляет историческое событие, столь же отдельное
в своем роде, как и семантическое изменение, происходящее со
словом poutre «кобыла»; он принимает облик «закона» лишь постольку,
поскольку осуществляется в системе; строгая упорядоченность этой
последней и создает иллюзию, будто диахронический факт
подчиняется тем же условиям, что и синхронический.
Так же обстоит дело и в отношении фонетических изменений,
а между тем обычно говорят о фонетических законах. В самом деле,
констатируется, что в данный момент, в данной области все слова,
представляющие одну и ту же звуковую особенность, подвергаются
одному и тому же изменению. Так, рассмотренный выше (стр. 124)
закон 1 (*dhümos—> греч. thümos) затрагивает все греческие слова,
содержавшие звонкий придыхательный согласный; ср. *nebhos—>
néphos «облако», *medhu—> méthu «вино», *anghö—>änkhö «душить»
и т. д. Рассмотренный выше закон 4 (*septm —> heptâ) применим к
*serpô—> hérpô «пресмыкающееся», *süs—>hüs «свинья» и вообще ко
всем словам, начинающимся с s. Эта регулярность, которую иногда
оспаривали, представляется нам весьма прочно установленной;
кажущиеся исключения не устраняют неизбежного характера изменений
этого рода, так как они объясняются либо более частными
фонетическими законами (ср., например, trikhes : thriksi, см. стр. 130), либо
вмешательством фактов иного порядка (например, аналогии и т. п.).
Ничто, казалось бы, лучше не отвечает данному выше определению
понятия «закон». А между тем, сколь бы ни были многочисленны
случаи, на которых подтверждается фонетический закон, все
охватываемые им факты являются всего лишь проявлением одного
частного факта.
126
Суть вопроса заключается в том, что затрагивают фонетические
изменения — слова или только звуки. Ответ не вызывает сомнений:
в néphos, méthu, ankhö и т. д. изменению подвергается
определенная фонема: в одном случае звонкая придыхательная превращается в
глухую придыхательную, в другом—начальное s превращается в h
и т. д., и каждое из этих событий изолировано, независимо от прочих
событий того же порядка, а также независимо от слов, в которых оно
происходит*. Естественно, все эти слова меняются в своем звуковом
составе, но это не должно нас обманывать относительно истинной
природы явления.
В своем утверждении, что сами слова непосредственно не
участвуют в фонетических изменениях, мы опираемся на то простое
наблюдение, что такие изменения происходят фактически независимо
от слов и не могут затронуть их в их сущности. Единство слова
образовано ведь не только совокупностью его фонем, оно держится
не на его материальном качестве, а на иных его свойствах.
Предположим, что в рояле фальшивит одна струна: всякий раз, как,
исполняя мелодию, будут к ней прикасаться, зазвучит фальшивая нота.
Но где именно она зазвучит? В мелодии? Конечно, нет: затронута
не она, поврежден ведь только рояль. Совершенно то же самое
происходит и в фонетике. Система наших фонем представляет собою
инструмент, на котором мы играем, произнося слова языка;
видоизменись один из элементов системы, могут произойти различные
последствия, но сам факт изменения затрагивает совсем не слова,
которые, так сказать, являются лишь мелодиями нашего репертуара.
Итак, диахронические факты носят частный характер; сдвиги
в системе происходят в результате событий, которые не только ей
чужды (см. стр. 117), но сами изолированы и не образуют в своей
совокупности системы.
Резюмируем: синхронические факты, каковы бы они ни были,
обладают определенной регулярностью, но совершенно лишены
какого-либо императивного характера; напротив, диахронические
факты навязаны языку, но не имеют характера общности.
Короче говоря — к чему мы и хотели прийти,— ни
синхронические, ни диахронические факты не управляются законами в
определенном выше смысле. Если тем не менее, невзирая ни на что, угодно
говорить о лингвистических законах, то термин этот должен иметь
совершенно разное значение в зависимости от того, с чем мы его
соотносим: с явлениями синхронического или с явлениями
диахронического порядка.
§ 7. Существует ли панхроническая точка зрения?
До сих пор мы понимали термин «закон» в юридическом смысле.
Но быть может, в языке существуют законы в том смысле, как их
понимают науки физические и естественные, то есть отношения, об-
127
наруживающие свою истинность всюду и всегда? Иначе говоря,
нельзя ли изучать язык с точки зрения панхронической?
Разумеется, можно. Поскольку, например, всегда происходили
и будут происходить фонетические изменения, постольку можно
рассматривать это явление вообще как одно из постоянных свойств
языка—это, таким образом, один из его законов. В лингвистике, как
и в шахматной игре (см. стр. 120 и сл.), есть правила, переживающие
все события. Но это лишь общие принципы, не зависимые от
конкретных фактов; в отношении же частных и осязаемых фактов
никакой панхронической точки зрения быть не может. Так, всякое
фонетическое изменение, каково бы ни было его распространение, всегда
ограничено определенным временем и определенной территорией;
оно отнюдь не простирается на все времена и все местности, оно
существует лишь диахронически. В этом мы и можем найти критерий
для отличения того, что относится к языку, от того, что к нему не
относится. Конкретный факт, допускающий панхроническое
объяснение, не может принадлежать языку. Возьмем французское слово
chose «вещь»; с диахронической точки зрения оно противопоставлено
лат. causa, от которого оно происходит, а с синхронической точки
зрения — всем словам, которые могут быть с ним ассоциированы
в современном французском языке. Одни лишь звуки этого слова,
взятые сами по себе (Jo:z), допускают панхронический подход, но
они не имеют лингвистической значимости; и даже с панхронической
точки зрения J*o:z, взятое в потоке речи, например в составе yn Γο:ζ
admirabb (une chose admirable «восхитительная вещь»), не
является единицей; это бесформенная масса, не ограниченная ничем. В
самом деле, почему именно J*o:z, а не o:za или nJO:? Все это не
обладает значимостью, потому что не имеет смысла. Конкретные факты
языка не могут изучаться с панхронической точки зрения.
§ 8. Последствия смешения синхронии и диахронии
Могут представиться два случая:
а) При поверхностном взгляде может показаться, что
синхроническая истина отрицает истину диахроническую и что между ними
надо выбирать; в действительности этого не требуется: ни одна из
этих истин не исключает другую. Если французское слово dépit
«досада» прежде означало «презрение», это не мешает ему ныне иметь
совершенно иной смысл; этимология и синхроническая значимость —
это две различные вещи. Или еще: традиционная грамматика
современного французского языка учит, что причастие настоящего
времени в одних случаях изменяется и согласуется с существительным как
прилагательное (например, une eau courante «проточная (букв,
«бегущая») вода»), а в других случаях остается неизменяемым
(например, une personne courant dans la rue «человек, бегущий по ули-
123
це»). Однако историческая грамматика нам показывает, что в данном
случае дело идет не об одной форме, а о двух: первая из них
восходит к латинскому причастию currentem, которое изменяется по
родам, а второе происходит от неизменяющегося по родам
творительного падежа герундия currendö *. Противоречит ли синхроническая
истина истине диахронической и нужно ли осудить традиционную
грамматику во имя грамматики исторической? Нет, потому что
поступать так значило бы видеть лишь половину действительности; не
следует думать, что только исторический факт важен и достаточен
для образования языка. Разумеется, причастие courant имеет два
разных источника, но языковое сознание их сближает и сводит к
одному — эта синхроническая истина столь же абсолютна и
непререкаема, как и другая, диахроническая.
б) Синхроническая истина до такой степени согласуется с
истиной диахронической, что их смешивают или считают излишним их
различать. Считают, например, достаточным для объяснения
нынешнего значения франц. père «отец» сказать, что латинское pater имело
то же значение. Другой пример: латинское краткое а в открытом, не
начальном слоге изменилось в i: наряду с faciö «делаю» мы имеем
conficiô «совершаю», наряду с amicus «друг» — inimïcus «недруг»
и т. д. Часто закон формулируется так, что а в слове faciö переход! τ
в i в слове conficiô потому, что оно оказывается уже не в первом
слоге. Это неточно: никогда а в слове faciö не «переходило в» i в
слове conficiô. Для восстановления истины необходимо различать две
эпохи и четыре члена отношения: сперва говорили faciô — confaciô;
затем, после того как confaciô превратилось в conficiô, a faciö
осталось без изменения, стали произносить faciô — conficiô.
Получается таким образом следующее:.
Эпоха A faciö « ► confaciô
Ι ^ i
Эпоха В faciô « ► conficiô
Если говорить об «изменении», то произошло оно между
confaciô и conficiô; правило же, приведенное выше, было столь плохо
сформулировано, что даже не упоминало о первом изменении! Далее,
наряду с этим изменением, которое является, конечно, фактом
диахроническим, существует другой факт, абсолютно отличный от
первого и касающийся чисто синхронического противопоставления
между faciô и conficiô. Обычно говорят, что это не факт, а
результат. Однако это факт определенного порядка, и нужно подчеркнуть,
что такими именно фактами являются все синхронические явления.
Вскрыть истинный вес противопоставления faciô — conficiô мешает
то обстоятельство, что значимость этого противопоставления
невелика. Однако если рассмотреть пары Gast — Gäste, gebe — gibt,
то нетрудно убедиться, что эти противопоставления, хотя они тоже
являются случайным результатом фонетической эволюции, образу-
129
ют в синхроническом срезе существеннейшие грамматические
феномены. Поскольку оба ряда явлений, сверх того, тесно между собою
связаны и взаимообусловлены, возникает мысль, что нечего их и
различать,— и, действительно, лингвистика их смешивала в
течение целых десятилетий, не замечая, что метод ее никуда не годится.
Однако в некоторых случаях эта ошибка явно бросается в глаза.
Так, для объяснения греч. phuktos «избежный», казалось бы,
достаточно сказать: в греческом g и kh изменяются в к перед глухими
согласными, что и обнаруживается в таких синхронических
соответствиях, как phugeîn «бежать»: phuktos «избежный», lékhos «ложе»:
léktron «ложе» (вин. п.) и т. д. Но тут мы наталкиваемся на такие
случаи, как trikhes «волосы» : thriksi «волосам», где налицо
осложнение в виде «перехода» t в th. Формы этого слова могут быть
объяснены лишь исторически, путем использования относительной
хронологизации явлений. Первоначальная основа *thrikh при
наличии окончания -si дала thriksi — явление весьма древнее,
тождественное тому, которое произвело léktron от корня lekh-. Впоследствии
всякий придыхательный, за которым в том же слове следовал другой
придыхательный, перешел в соответствующий глухой, и *thrikhes
превратилось в trikhes; естественно, что thriksi избежало действия
этого закона.
§ 9. Выводы
Так лингвистика подходит ко второй своей дихотомии. Сперва
нам пришлось выбирать между языком и речью (см. стр. 56), теперь
мы находимся у второго перекрестка, откуда ведут два пути: один —
в диахронию, другой — в синхронию.
Используя этот двойной принцип классификации, мы можем
теперь сказать, что все диахроническое в языке является таковым лишь
через речь. Именно в речи источник всех изменений; каждое из них,
прежде чем войти в общее употребление, начинает применяться
некоторым числом говорящих. Теперь по-немецки говорят: ich war «я
был», wir waren «мы были», тогда как в старом немецком языке до
XVI в. спрягали: ich was, wir waren (по-английски до сих пор
говорят: I was, We were). Каким же образом произошла эта перемена:
war вместо was? Отдельные лица под влиянием waren создали по
аналогии war—это был факт речи; такая форма, часто
повторявшаяся, была принята коллективом и стала фактом языка. Но не все
инновации речи увенчиваются таким успехом, и, поскольку они
остаются индивидуальными, нам незачем принимать их во внимание,
так как мы изучаем язык; они попадают в поле нашего зрения лишь
с момента принятия их коллективом.
Факту эволюции всегда предшествует факт или, вернее,
множество сходных фактов в сфере речи: это ничуть не противоречит
установленному выше различию, которое этим только подтверждается,
130
так как в истории любой инновации мы отмечаем всегда два момента:
1) момент появления ее у отдельных лиц и 2) момент превращения
ее в факт языка, когда она, внешне оставаясь той же, принимается
всем языковым коллективом.
Нижеследующая таблица показывает ту рациональную форму,
которую должна принять лингвистическая наука:
ГЯзык I Синхрония
Речевая I ' \ Диахрония
деятельность \речъ
Следует признать, что отвечающая теоретическим потребностям
рациональная форма науки не всегда совпадает с той, которую
навязывают ей требования практики. В лингвистике требования
практики еще повелительней, чем в других науках; они до
некоторой степени оправдывают ту путаницу, которая в настоящее время
царит в лингвистических исследованиях. Даже если бы
устанавливаемые нами различения и были приняты раз и навсегда, нельзя
было бы, быть может, во имя этого идеала связывать научные
изыскания чересчур строгими требованиями.
Так, например, производя синхроническое исследование
старофранцузского языка, лингвист оперирует такими фактами и
принципами, которые не имеют ничего общего с теми, которые ему бы
открыла история этого же языка с XIII до XX в.; зато они сравнимы
с теми фактами и принципами, которые обнаружились бы при
описании одного из нынешних языков банту, греческого (аттического)
языка V в. до нашей эры или, наконец, современного
французского. Дело в том, что все такие описания покоятся на сходных
отношениях; хотя каждый отдельный язык образует замкнутую систему,
все они предполагают наличие некоторых постоянных принципов, на
которые мы неизменно наталкиваемся, переходя от одного языка
к другому, так как всюду продолжаем оставаться в сфере явлений
одного и того же порядка. Совершенно так же обстоит дело и с
историческим исследованием: обозреваем ли мы определенный период в
истории французского языка (например, от XIII до XX в.), или
яванского языка, или любого другого, всюду мы имеем дело со
сходными фактами, которые достаточно сопоставить, чтобы установить
общие истины диахронического порядка. Идеалом было бы, чтобы
каждый ученый посвящал себя либо одному, либо другому аспекту
лингвистических исследований и охватывал возможно большее
количество фактов соответствующего порядка; но представляется
весьма затруднительным научно овладеть столь разнообразными
языками. С другой стороны, каждый язык представляет собой
практически одну единицу изучения, так что силою вещей приходится
рассматривать его попеременно и статически и исторически. Все же
никогда не следует забывать, что чисто теоретически это единство
отдельного языка как объекта изучения есть нечто поверхностное,
тогда как различия языков таят в себе глубокое единство. Пусть при
5*
131
изучении отдельного языка наблюдатель обращается как к
синхронии, так и к диахронии; всегда надо точно знать, к какому из двух
аспектов относится рассматриваемый факт, и никогда не следует
смешивать методы синхронических и диахронических
исследований.
Разграниченные указанным образом части лингвистики будут
в дальнейшем рассмотрены одна за другой.
Синхроническая лингвистика должна заниматься логическими
и психологическими отношениями, связывающими сосуществующие
элементы и образующими систему, изучая их так, как они
воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием.
Диахроническая лингвистика, напротив, должна изучать
отношения, связывающие элементы, следующие друг за другом во
времени и не воспринимаемые одним и тем же коллективным сознанием,
то есть элементы, последовательно сменяющие друг друга и не
образующие в своей совокупности системы.
Часть вторая
СИНХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Задачей общей синхронической лингвистики является
установление принципов, лежащих в основе любой системы, взятой в
данный момент времени, и выявление конститутивных факторов любого
состояния языка. Многое из того, о чем говорилось выше,
относится, по существу, к синхронии. Так, все сказанное об общих свойствах
знака можно рассматривать в качестве одного из разделов
синхронической лингвистики, хотя эти общие свойства знака и были
использованы нами для доказательства необходимости различать обе
лингвистики.
К синхронии относится все, что называют «общей грамматикой»,
ибо те различные отношения, которые входят в компетенцию
грамматики, устанавливаются только в рамках отдельных состояний
языка. В дальнейшем мы ограничимся лишь основными
принципами, без которых не представляется возможным ни приступить
к более специальным проблемам статики, ни объяснить детали
данного состояния языка.
Вообще говоря, статической лингвистикой заниматься гораздо
труднее, чем историей языка. Факты эволюции более конкретны,
они больше говорят воображению; наблюдаемые и без труда
улавливаемые в них отношения завязываются между последовательно
сменяющимися элементами, понять которые легко, а за рядом
преобразований следить иногда даже занятно. Та же лингвистика,
которая оперирует сосуществующими значимостями и отношениями,
представляет для нас более значительные трудности.
Состояние языка не есть математическая точка. Это более или
менее продолжительный промежуток времени, в течение которого
сумма происходящих изменений остается ничтожно малой. Он может
равняться десяти годам, жизни одного поколения, одному столетию
и даже больше. Случается, что в течение сравнительно долгого
промежутка времени язык почти не изменяется, а затем в какие-
133
нибудь несколько лет претерпевает значительные изменения. Из
двух сосуществующих в одном периоде языков один может сильно
эволюционировать, а другой почти вовсе не измениться: во втором
случае изучение будет неизбежно синхроническим, в первом случае
потребуется диахронический подход. Абсолютное состояние
определяется отсутствием изменений, но поскольку язык всегда, хотя бы
и минимально, все же преобразуется, постольку изучать состояние
языка означает практически пренебрегать маловажными
изменениями, подобно тому как математики при некоторых операциях,
например при вычислении логарифмов, пренебрегают бесконечно малыми
величинами.
В политической истории различаются: эпоха — точка во
времени, и период—отрезок, охватывающий некоторый промежуток
времени. Однако историки сплошь и рядом говорят об эпохе Антонинов,
об эпохе крестовых походов, разумея в данном случае совокупность
признаков, сохранявшихся в течение соответствующего времени.
Можно было бы говорить, что и статическая лингвистика
занимается эпохами, но термин «состояние» все же предпочтительней. Начало
и конец любой эпохи обычно отмечаются какими-либо переворотами,
более или менее резкими, направленными к изменению
установившегося порядка вещей. Употребляя термин «состояние», мы тем самым
отводим предположение, будто в языке происходит нечто подобное.
Сверх того, термин «эпоха» именно потому, что он заимствован у
исторической науки, заставляет думать не столько о самом языке,
сколько об окружающих и обусловливающих его обстоятельствах,—
одним словом, он вызывает, скорее всего, представление о том, что
мы назвали выше внешней лингвистикой (см. стр. 59).
Впрочем, разграничение во времени — это не единственное
затруднение, встречаемое нами при определении понятия «состояние
языка»; такой же вопрос встает и относительно разграничения в
пространстве. Короче говоря, понятие «состояние языка» не может не
быть приблизительным. В статической лингвистике, как и в
большинстве наук, никакое доказательное рассуждение невозможно без
условного упрощения исходных данных.
Глава II
КОНКРЕТНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СУЩНОСТИ
§ 1. [Конкретные языковые] сущности и |речевые]
единицы.
Определение этих понятий
Составляющие язык знаки представляют собой не абстракции,
а реальные объекты (см. стр. 53); эти реальные объекты и их
отношения и изучает лингвистика; их можно назвать конкретными
[языковыми] сущностями этой науки.
Напомним прежде всего два основных принципа этой проблемы.
1. [Конкретная] языковая сущность реально возможна лишь
в силу ассоциации означающего с означаемым (см. стр. 99): если
упустить из виду один из этих компонентов сущности, она исчезнет,
и вместо конкретного объекта мы окажемся перед чистой
абстракцией. Ежеминутно мы рискуем овладеть лишь одной стороной
[конкретной языковой] сущности, воображая при этом, что мы
схватываем ее целиком. Это, например, неизбежно случится, если мы
станем делить звуковую цепочку на слоги; у слога есть значимость
лишь в фонологии. Звуковая цепочка только в том случае является
языковым фактом, если она служит опорой понятия; взятая сама
по себе, она представляет собою лишь материал для
физиологического исследования.
То же верно и относительно означаемого, как только мы
изолируем его от означающего. Такие понятия, как «дом», «белый»,
«видеть» и т. д., рассматриваемые сами по себе, относятся к
психологии; они становятся [конкретными] языковыми сущностями лишь
благодаря ассоциации с акустическими образами. В языке понятие
есть свойство звуковой субстанции, так же как определенное
звучание есть свойство понятия.
Эту двустороннюю единицу часто сравнивали с человеческой
личностью как целым, состоящим из тела и души. Сближение
малоудовлетворительное. Правильнее было бы сравнивать ее с
химическим соединением, например с водой, состоящей из водорода и
кислорода; взятый в отдельности каждый из этих элементов не имеет
ни одного из свойств воды.
135
2. [Конкретная] языковая сущность определяется полностью
лишь тогда, когда она отграничена, отделена от всего того,
что ее окружает в речевой цепочке. Именно эти отграниченные
[конкретные языковые] сущности, то есть [речевые] единицы, и
противополагаются друг другу в механизме языка.
На первый взгляд кажется соблазнительным уподобить языковые
знаки зрительным, которые могут сосуществовать в пространстве,
не смешиваясь между собою; при этом создается ложное
представление, будто разделение языковых знаков может производиться
таким же способом, не требуя никаких особых размышлений. Термин
«форма», часто используемый для их обозначения (ср. выражения
«глагольная форма», «именная форма» и т. п.), способствует
сохранению этого заблуждения. Но, как мы знаем, основным свойством
речевой цепочки является ее линейность (см. стр. 103). Поток речи,
взятый сам по себе, есть линия, непрерывная лента, где ухо не
различает никаких ясных и точных делений: чтобы найти эти деления,
надо обратиться к значениям. Когда мы слышим речь на
неизвестном языке, мы не в состоянии сегментировать воспринимаемый поток
звуков. Такая сегментация вообще невозможна, если принимать во
внимание лишь звуковой аспект языкового факта. Лишь тогда, когда
мы знаем, какой смысл и какую функцию нужно приписать каждой
части звуковой цепочки, эти части выделяются нами, и бесформенная
лента разрезается на куски. В этом анализе, по существу, нет
ничего материального.
Итак, язык — это не просто совокупность заранее
разграниченных знаков, значение и способы комбинирования (agencement)
которых только и требовалось бы изучать; в действительности язык
представляет собой расплывчатую массу, в которой только
внимательность и привычка могут помочь нам различить составляющие ее
элементы. [Речевая] единица не обладает никакими специальными
звуковыми особенностями, и ее можно определить только так:
[речевая] единица —- это отрезок звучания, который, будучи взятым
отдельно, то есть безо всего того, что ему предшествует, и всего того,
что за ним следует в потоке речи, является означающим некоторого
понятия.
§ 2. Метод разграничения сущностей и единиц
Всякий владеющий языком разграничивает его единицы весьма
простым способом, по крайней мере в теории. Способ этот состоит
в том, чтобы, взяв в качестве отправного момента речь как
манифестацию (document) языка, изобразить ее в виде двух параллельных
цепочек: цепочки понятий А и цепочки акустических образов В.
Для правильности разграничения требуется, чтобы деления,
установленные в акустической цепочке (α, β, у...), соответствовали
делениям в цепочке понятий (α', β', γ'...):
136
Λ α β γ . . .
Возьмем французское si39laprä; можно ли рассечь эту цепочку
после 1 и выделить sisal как особую единицу? Нет, нельзя:
достаточно обратиться к цепочке понятий, чтобы убедиться в ошибочности
такого деления. Разделение на слоги si33-la-prä также не является
a priori языковым. Единственно возможными делениями
оказываются: si-5a-la-prä (пишется si je la prends) «если я ее возьму» и
si-53-l-aprä (пишется si je l'apprends) «если я это узнаю», так как
они оправдываются тем смыслом, который связывается с этими
отрезками.
Чтобы проверить результат подобной операции и убедиться в
правильности выделения какой-либо единицы, нужно, сравнив
целый ряд предложений, где встречается одна и та же единица,
убедиться в каждом отдельном случае в возможности ее выделения из
контекста и удостовериться, что такое выделение оправдано по
смыслу. Возьмем два отрезка: laforsdyvä (пишется la force du vent) «сила
ветра» и abudafors (пишется à bout de force) «в упадке сил». Как
в том, так и в другом отрезке одно и то же понятие — «сила» —
соотносится с одной и той же звуковой цепочкой fors, из чего мы
заключаем, что это [речевая] единица. Но в предложении ilmaforsaparlç
(пишется il me force à parler) «он принуждает меня говорить» fors
«принуждает» имеет совсем другой смысл, из чего мы заключаем,
что это другая [речевая] единица.
§ 3. Практические трудности разграничения
сущностей и единиц
Легко ли на практике применить этот способ, теоретически столь
простой? Может показаться, будто легко, если исходить при этом
из представления, что подлежащие выделению единицы — это
слова; в самом деле, что такое предложение, как не сочетание слов, и
есть ли что-либо более непосредственно данное, нежели слово?
Так, возвращаясь к прежнему примеру, можно сказать, что
звуковая цепочка sisalaprä распадается на четыре единицы,
разграничиваемые нашим анализом, которые оказываются четырьмя словами:
si-je-l'-apprends. Но вместе с тем у нас тотчас же возникает сомнение,
как только мы вспомним, сколько споров ведется по поводу того,
что такое слово; по зрелом размышлении мы убеждаемся в том, что
137
обычное понимание слова несовместимо с нашим представлением о
конкретной единице.
Чтобы удостовериться в этом, вспомним хотя бы франц. Javal
(пишется cheval) «лошадь» и его множественное число Javo (пишется
chevaux). Обычно говорят, что это две формы одного и того же слова;
однако, взятые в целом, это все же две совсем разные вещи — как
по смыслу, так и по звукам. Во франц. mwa (в le mois de décembre
«месяц декабрь») и mwaz (в un mois après «месяцем позже») мы также
имеем одно и то же слово в двух разновидностях, но и здесь опять-
таки нельзя говорить об одной конкретной единице: смысл,
несомненно, один, но отрезки звучаний разные. Таким образом, если бы
мы пожелали приравнять конкретные единицы словам, то сразу
оказались бы перед дилеммой: либо игнорировать, несмотря на его
очевидность, отношение, объединяющее Javal и Javo, mwa и mwaz
и т. д., и утверждать, что это разные слова, либо довольствоваться
вместо конкретных единиц абстракцией, объединяющей различные
формы одного и того же слова. Итак, конкретную единицу следует
искать не в слове. К тому же многие слова представляют собой
сложные единицы, в которых нетрудно распознать единицы низшего
уровня (суффиксы, префиксы, корни); производные слова, как,
например, désir-eux «жаждущий», malheur-eux «несчастный»,
распадаются на отдельные части, каждая из которых явно наделена
особым смыслом и особой функцией. И наоборот, есть единицы высшего
уровня, большие, чем слово, как, например, композиты (porte-plume
«ручка для пера»), устойчивые сочетания (s'il vous plaît «сделайте
милость!»), аналитические формы спряжения (il a été «он был»)
и т. д. Но при выделении и этих единиц наталкиваешься на такие
же трудности, как и при выделении собственно слов.
Представляется вообще чрезвычайно трудным выяснить функционирование
встречающихся в потоке речи единиц и установить, какими конкретными
элементами оперирует язык.
Говорящие не знают, разумеется, этих затруднений. Все, что в
какой-либо мере является значимым, воспринимается ими как
конкретный элемент, и они безошибочно распознают его в речи. Но одно
дело — интуитивно владеть всеми тонкостями мгновенного
функционирования этих единиц, и совсем другое дело — уметь их
систематически анализировать.
Одна довольно распространенная теория утверждает, будто
единственными конкретными единицами являются предложения:
мы говорим только предложениями и лишь потом извлекаем из них
слова. Но прежде всего, в какой мере предложение относится
к сфере языка (см. стр. 156)? Если оно принадлежит к сфере речи,
то оно не может служить единицей языка. Допустим, однако, что
это затруднение устранено. Если мы представим себе всю
совокупность предложений, которые могут быть сказаны, то их наиболее
характерным свойством окажется их совершенное несходство. На
первый взгляд кажется заманчивым уподобление огромного разнооб-
138
разия предложений не меньшему разнообразию особей,
составляющих какой-либо зоологический вид. Однако это иллюзия: у
животных одного вида общие свойства гораздо существенней, нежели
разъединяющие их различия; в предложениях же преобладает
различие, и если поискать, что же их связывает на фоне всего этого
разнообразия, то невольно опять натолкнешься на слово с его
грамматическими свойствами и снова окажешься перед теми же
трудностями.
§ 4. Выводы
В большинстве областей, являющихся предметом той или иной
науки, вопрос о единицах даже не ставится: они даны
непосредственно. Так, в зоологии мы с самого начала имеем дело с отдельными
животными. Астрономия оперирует единицами, разделенными в
пространстве,— небесными телами. В химии можно изучать природу
и состав двухромовокислого калия, ни минуты не усомнившись в
том, что это некий вполне определенный объект.
Если в какой-либо науке отсутствуют непосредственно
наблюдаемые конкретные единицы, это значит, что в ней они не имеют
существенного значения. В самом деле, что является конкретной
единицей, например, в истории: личность, эпоха, народ?
Неизвестно! Но не все ли равно? Можно заниматься историческими
изысканиями и без выяснения этого вопроса.
Но подобно тому, как шахматная игра целиком и полностью
сводится к комбинации различных фигур на доске, так и язык является
системой, целиком основанной на противопоставлении его
конкретных единиц. Мы не можем отказаться от попытки уяснить себе, что
это такое, точно так же мы не можем и шага ступить, не прибегая
к этим единицам. Вместе с тем их выделение сопряжено с такими
трудностями, что возникает вопрос, существуют ли они реально.
Итак, удивительное и поразительное свойство языка состоит
в том, что мы не видим в нем непосредственно данных и различимых
с самого начала [конкретных] сущностей, между тем как в их
существовании усомниться невозможно, точно так же как нельзя
усомниться и в том, что язык образован их функционированием.
Это и есть, несомненно, та черта, которая отличает язык от всех
прочих семиологических систем.
Глава III
ТОЖДЕСТВА, РЕАЛЬНОСТИ, ЗНАЧИМОСТИ
Высказанные только что соображения приводят нас к проблеме
тем более важной, что в статической лингвистике любое основное
понятие непосредственно зависит от того, как именно мы будем
представлять себе единицу языка. Это мы и постараемся показать в
связи с рассмотрением понятий тождества, реальности и значимости в
синхронии.
А. Что такое синхроническое тождество? Здесь речь идет не о
тождестве, объединяющем французское отрицание pas с латинским
существительным passum «шаг»; такое тождество является
диахроническим, и речь о нем будет ниже (см. стр. 217). Нет, мы имеем в
виду то не менее любопытное тождество, на основании которого
мы утверждаем, что предложения je ne sais pas «я не знаю» и ne
dites pas cela «не говорите этого» содержат один и тот же элемент. Нам
скажут, что это вопрос праздный, что тождество имеется уже
потому, что в обоих предложениях одинаковый отрезок звучания —
pas — наделен одинаковым значением. Но такое объяснение
недостаточно: ведь если соответствие звуковых отрезков и понятий и
доказывает тождество (см. выше пример la force du vent: à bout de
force), то обратное неверно: тождество возможно и без такого
соответствия. Когда мы слышим на публичной лекции неоднократно
повторяемое обращение Messieurs! «господа!», мы ощущаем, что
каждый раз это то же самое выражение. Между тем вариации в
произнесении и интонации его в разных оборотах речи представляют
весьма существенные различия, столь же существенные, как и те,
которые в других случаях служат для различения отдельных слов
(ср. pomme «яблоко» и paume «ладонь», goutte «капля» и je goûte
«пробую», fuir «убежать» и fouir «рыть» и т. д.); кроме того, сознание
тождества сохраняется, несмотря на то что и с семантической точки
зрения нет полного совпадения одного употребления слова Messie-
140
urs с другим. Вспомним, наконец, что слово может обозначать
довольно далекие понятия, а его тождество самому себе тем не менее
не оказывается серьезно нарушенным (ср. adopter une mode
«перенимать моду» и adopter un enfant «усыновлять ребенка», la fleur
du pommier «цвет яблони» и la fleur de la noblesse «цвет
аристократии» и т. д.).
Весь механизм языка зиждется исключительно на тождествах
и различиях, причем эти последние являются лишь оборотной
стороной первых. Поэтому проблема тождеств возникает повсюду; но,
с другой стороны, она частично совпадает с проблемой [конкретных]
сущностей и единиц, являясь усложнением этой последней,
впрочем весьма плодотворным. Это ясно видно при сопоставлении
проблемы языковых тождеств и различий с фактами, лежащими за
пределами языка. Мы говорим, например, о тождестве по поводу двух
скорых поездов «Женева — Париж с отправлением в 8 ч. 45 м.
веч.», отходящих один за другим с интервалом в 24 часа. На наш
взгляд, это тот же самый скорый поезд, а между тем и паровоз,
и вагоны, и поездная бригада — все в них, по-видимому, разное.
Или другой пример: уничтожили улицу, снесли на ней все дома,
а затем застроили ее вновь; мы говорим, что это все та же улица,
хотя материально от старой, быть может, ничего не осталось.
Почему можно перестроить улицу до самого последнего камешка и
все же считать, что она не перестала быть той же самой? Потому
что то, что ее образует, не является чисто материальным: ее
существо определяется некоторыми условиями, которым безразличен
ее случайный материал, например ее положение относительно
других улиц. Равным образом представление об одном и том же
скором поезде складывается под влиянием времени его
отправления, его маршрута и вообще всех тех обстоятельств, которые
отличают его от всех прочих поездов. Всякий раз, как
осуществляются одни и те же условия, получаются одни и те же сущности. И
вместе с тем эти сущности не абстрактны, потому что улицу или
скорый поезд нельзя себе представить вне материальной реализации.
Противопоставим этим двум примерам совсем иной случай, а
именно кражу у меня костюма, который я затем нахожу у торговца
случайными вещами. Здесь дело идет о материальном характере
сущности, заключающейся исключительно в инертной субстанции:
сукне, подкладке, прикладе и т. д. Другой костюм, как бы он ни
был схож с первым, не будет моим. И вот оказывается, что
тождество в языке подобно тождеству скорого поезда и улицы, а не костюма.
Употребляя неоднократно слово Messieurs!, я каждый раз пользуюсь
новым материалом: это новый звуковой акт и новый
психологический акт. Связь между двумя употреблениями одного и того же
слова основана не на материальном тождестве, не на точном подобии
смысла, а на каких-то иных элементах, которые надо найти и
которые помогут нам вплотную подойти к истинной природе языковых
единиц.
141
В. Что такое синхроническая реальность? Какие конкретные или
абстрактные элементы языка можно считать синхроническими
реальностями?
Возьмем для примера различение частей речи: на что опирается
классификация слов на существительные, прилагательные и т. д.?
Производится ли она во имя чисто логического,
внелингвистического принципа, накладываемого извне на грамматику, подобно
тому как сетка меридианов и параллелей наносится на земной шар?
Или же она соответствует чему-то, имеющемуся в системе языка и ею
обусловленному? Одним словом, является ли различение частей
речи синхронической реальностью? Это второе предположение
кажется правдоподобным, но можно было бы защитить и первое. Так,
например, можно ли сказать, что в предложении ces gants sont
bon marché «эти перчатки дешевы» группа слов bon marché «дешевы»
является прилагательным? Логически она имеет смысл
прилагательного, но грамматически это менее очевидно: bon marché не
ведет себя как прилагательное (оно не изменяется, никогда не
ставится перед существительным и т. д.), к тому же bon marché
составлено из двух слов; между тем именно различение частей речи
должно служить для классификации слов языка, а каким же образом
группа слов может быть отнесена к одной из этих «частей»? Но
bon marché нельзя истолковать и иначе, сказав, что bon —
прилагательное, a marché — существительное. Таким образом, здесь
мы имеем дело с неточной и неполной классификацией; деление
слов на существительные, глаголы, прилагательные и т. д. не есть
бесспорная языковая реальность.
Итак, лингвистика непрестанно работает на почве придуманных
грамматистами понятий, о которых мы не знаем, соответствуют ли
они в действительности конститутивным элементам системы языка.
Но как это узнать? И если эти понятия — фикция, то какие же
реальности им противопоставить?
Чтобы избежать заблуждений, надо прежде всего проникнуться
убеждением, что конкретные языковые сущности не даны нам
непосредственно в наблюдении. Надо стараться их уловить, понять и
лишь тогда мы соприкоснемся с реальностью; исходя из нее, можно
будет разработать все классификации, необходимые лингвистике
для приведения в порядок подлежащих ее ведению фактов. С
другой стороны, базироваться при этих классификациях не на
конкретных языковых сущностях, а на чем-либо ином, говорить, например,
что части речи суть элементы языка только в силу того, что они
соответствуют логическим категориям,— значит забывать, что не
бывает языковых фактов вне звукового материала, расчлененного
на значимые элементы.
В. В конце концов, все затронутые в этой главе понятия, по
существу, не отличаются от того, что мы раньше называли
значимостями. Новое сравнение с игрой в шахматы поможет это понять
(см. стр. 120). Возьмем коня: является ли он сам по себе элементом
142
игры? Конечно, нет, потому что в своей чистой материальности вне
занимаемого им поля на доске и прочих условий игры он ничего для
игрока не представляет; он становится реальным и конкретным
элементом в игре лишь постольку, поскольку он наделен
значимостью и с нею неразрывно связан. Предположим, что во время игры
эта фигура сломается или потеряется; можно ли будет заменить ее
другой, равнозначной? Конечно, можно. Не только другая фигура,
изображающая коня, но любой предмет, не имеющий с ним никакого
сходства, может быть отождествлен с конем, если только ему будет
придана та же значимость. Мы видим, таким образом, что в семиоло-
гических системах, как, например, в языке, где все элементы связаны
друг с другом, образуя равновесие согласно определенным правилам,
понятие тождества сливается с понятием значимости и наоборот.
Вот почему понятие значимости в конечном счете покрывает
и понятие единицы, и понятие конкретной языковой сущности, и
понятие языковой реальности. Но если между этими различными
аспектами вообще не существует коренной разницы, то из этого
следует, что проблема может последовательно ставиться в разной
форме. Что бы мы ни хотели определить: единицу, реальность,
конкретную сущность или значимость,— все будет сводиться к
постановке одного и того же центрального вопроса, который
доминирует над всем в статической лингвистике.
С практической точки зрения интересно начать с единиц языка,
определить их и дать их классификацию с учетом всего их
разнообразия. Необходимо выяснить, на чем основывается членение на
слова, так как слово, несмотря на все трудности, связанные с
определением этого понятия, есть единица, неотступно
представляющаяся нашему уму как нечто центральное в механизме языка; одной этой
темы было бы достаточно для целого тома. Далее следовало бы
перейти к классификации единиц низшего уровня, затем более
крупных единиц и т. д. Таким образом, наша наука, определив элементы,
которыми она оперирует, выполнила бы свою задачу целиком, так
как тем самым свела бы все входящие в ее ведение явления к их
основному принципу. Нельзя сказать, что в лингвистике эта
центральная проблема когда-либо уже ставилась и что все ее значение и
трудность ее решения полностью осознаны; до сих пор в области
языка всегда довольствовались операциями над единицами, как
следует не определенными.
Но все же, несмотря на первостепенную важность понятия
единицы, предпочтительнее подойти к проблеме со стороны
понятия значимости, так как, по нашему мнению, в ней выражается
наиболее существенный ее аспект.
Глава IV
ЯЗЫКОВАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
§ 1. Язык как мысль,
организованная в звучащей материи
Для того чтобы убедиться в том, что язык есть не что иное, как
система чистых значимостей, достаточно рассмотреть оба
взаимодействующих в нем элемента: понятия и звуки.
В психологическом отношении наше мышление, если
отвлечься от выражения его словами, представляет собою аморфную, не-
расчлененную массу. Философы и лингвисты всегда сходились в том,
что без помощи знаков мы не могли бы с достаточной ясностью и
постоянством отличать одно понятие от другого. Взятое само по себе
мышление похоже на туманность, где ничто четко не разграничено.
Предустановленных понятий нет, равным образом как нет никаких
различений до появления языка.
Но быть может, в отличие от этой расплывчатой области мысли
расчлененными с самого начала сущностями являются звуки как
таковые? Ничуть не бывало! Звуковая субстанция не является ни
более определенной, ни более устоявшейся, нежели мышление. Это —
не готовая форма, в которую послушно отливается мысль, но
пластичная масса, которая сама делится на отдельные части,
способные служить необходимыми для мысли означающими. Поэтому мы
можем изобразить язык во всей его совокупности в виде ряда
следующих друг за другом сегментаций, произведенных одновременно
как в неопределенном плане смутных понятий (А), так и в столь
же неопределенном плане звучаний (В). Все это можно весьма
приблизительно представить себе в виде схемы [см. рис. на
стр. 145].
Специфическая роль языка в отношении мысли заключается не в
создании материальных звуковых средств для выражения понятий,
а в том, чтобы служить посредствующим звеном между мыслью и
звуком, и притом таким образом, что их объединение неизбежно
приводит к обоюдному разграничению единиц. Мысль, хаотичная
по природе, по необходимости уточняется, расчленяясь на части.
144
Нет, таким образом, ни материализации мыслей, ни
«спиритуализации» звуков, а все сводится к тому в некотором роде таинственному
явлению, что соотношение «мысль — звук» требует определенных
членений и что язык вырабатывает свои единицы, формируясь во
взаимодействии этих двух аморфных масс. Представим себе воздух,
соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного
давления поверхность воды подвергается ряду членений, то есть,
попросту говоря, появляются волны; вот эти-то волны и могут дать
представление о связи или, так сказать, о «спаривании» мысли со
звуковой материей.
Язык можно называть областью членораздельности, понимая
членораздельность так, как она определена выше (см. стр. 48).
Каждый языковый элемент представляет собою articulus —
вычлененный сегмент, в котором понятие закрепляется определенными
звуками, а звуки становятся знаком понятия.
Язык можно также сравнить с листом бумаги. Мысль — его
лицевая сторона, а звук — оборотная; нельзя разрезать лицевую
сторону, не разрезав и оборотную. Так и в языке нельзя отделить
ни мысль от звука, ни звук от мысли; этого можно достигнуть лишь
путем абстракции, что неизбежно приведет либо к чистой
психологии, либо к чистой фонологии.
Лингвист, следовательно, работает в пограничной области, где
сочетаются элементы обоего рода; это сочетание создает форму, а
не субстанцию.
Эти соображения помогут лучше уяснить то, что было сказано
выше (см. стр. 100) о произвольности знака. Не только обе области,
связанные в языковом факте, смутны и аморфны, но и выбор
определенного отрезка звучания для определенного понятия совершенно
произволен. Если бы это было иначе, понятие значимости утратило
бы одну из своих характерных черт, так как в ней появился бы
привнесенный извне элемент. Но в действительности значимости целиком
145
относительны, вследствие чего связь между понятием и звуком
произвольна по самому своему существу.
Произвольность знака в свою очередь позволяет нам лучше
понять, почему языковую систему может создать только социальная
жизнь. Для установления значимостей необходим коллектив;
существование их оправдывает только обычай и общее согласие;
отдельный человек сам по себе не способен создать вообще ни одной
значимости.
Определенное таким образом понятие языковой значимости
показывает нам, кроме того, что взгляд на член языковой системы как
на простое соединение некоего звучания с неким понятием является
серьезным заблуждением. Определять подобным образом член
системы— значит изолировать его от системы, в состав которой он
входит; это ведет к ложной мысли, будто возможно начинать с членов
системы и, складывая их, строить систему, тогда как на самом деле
надо, отправляясь от совокупного целого, путем анализа доходить
до составляющих его элементов.
Для развития этого положения мы последовательно встанем на
точку зрения «означаемого», или понятия (§ 2), «означающего»
(§ 3) и знака в целом (§ 4).
Поскольку непосредственно наблюдать конкретные сущности
или единицы языка невозможно, мы будем оперировать словами.
Хотя слово и не подходит в точности под определение языковой
единицы (см. стр. 137), все-таки оно дает о ней хотя бы
приблизительное понятие, имеющее то преимущество, что оно конкретно. Мы
будем брать слова только как образцы, равнозначные реальным членам
синхронической языковой системы, и принципы, установленные
нами в отношении слов, будут действительны для языковых сущностей
вообще.
§ 2. Языковая значимость с концептуальной стороны
Когда говорят о значимости слова, обыкновенно и прежде всего
думают о его свойстве репрезентировать понятие — это
действительно один из аспектов языковой значимости. Но если это так, то
чем же значимость отличается от того, что мы называем значением?
Являются ли эти два слова синонимами? Мы этого не думаем,
хотя смешать их легко, тем более что этому способствует не столько
сходство терминов, сколько тонкость обозначаемых ими
различий.
Значимость, взятая в своем концептуальном аспекте, есть,
конечно, элемент значения, и весьма трудно выяснить, чем это
последнее отличается от значимости, находясь вместе с тем в зависимости
от нее. Между тем этот вопрос разъяснить необходимо, иначе мы
рискуем низвести язык до уровня простой номенклатуры (см. стр.98),
146
Возьмем прежде всего значение, как его обычно понимают и как
мы его представили выше (см. стр. 99 и сл.)
Как показывают стрелки на схеме, значением является то, что
находится в отношении соответствия (contre-partie) с акустическим
образом. Все происходит между акустическим образом и понятием
в пределах слова, рассматриваемого как нечто самодовлеющее и
замкнутое в себе.
Но вот в чем парадоксальность вопроса: с одной стороны,
понятие представляется нам как то, что находится в отношении
соответствия с акустическим образом внутри знака, а с другой стороны, сам
этот знак, то есть связывающее оба его компонента отношение,
также и в той же степени находится в свою очередь в отношении
соответствия с другими знаками языка.
Раз язык есть система, все элементы которой образуют целое, а
значимость одного элемента проистекает только от одновременного
наличия прочих, согласно нижеследующей схеме, то спрашивается,
как определенная таким образом значимость может быть спутана со
значением, то есть с тем, что находится в соответствии с
акустическим образом?
Представляется невозможным приравнивать отношения,
изображенные здесь горизонтальными стрелками, к тем, которые
выше, на предыдущей схеме, изображены стрелками вертикальными.
Иначе говоря, повторяя сравнение с разрезаемым листом бумаги
(см. стр. 145), мы не видим, почему отношение, устанавливаемое
между отдельными листами А, В, С, D и т. д., не отличается от
отношения, существующего между лицевой и оборотной сторонами
одного и того же листа, а именно А:А', В:В' и т. д.
Для ответа на этот вопрос прежде всего констатируем, что и за
пределами языка всякая значимость [именуемая в этом случае
ценностью] всегда регулируется таким же парадоксальным принципом.
147
В самом деле, для того чтобы было возможно говорить о ценности,
необходимо:
1) наличие какой-либо непохожей вещи, которую можно
обменивать на то, ценность чего подлежит определению;
2) наличие каких-то сходных вещей, которые можно сравнивать
с тем, о ценности чего идет речь.
Оба эти фактора необходимы для существования ценности. Так,
для того чтобы определить, какова ценность монеты в 5 франков,
нужно знать: 1) что ее можно обменять на определенное количество
чего-то другого, например хлеба, и 2) что ее можно сравнить с
подобной ей монетой той же системы, например с монетой в один
франк, или же с монетой другой системы, например с фунтом
стерлингов и т. д. Подобным образом и слову может быть поставлено в
соответствие нечто не похожее на него, например понятие, а с
другой стороны, оно может быть сопоставлено с чем-то ему однородным,
а именно с другими словами. Таким образом, для определения
значимости слова недостаточно констатировать, что оно может быть
сопоставлено с тем или иным понятием, то есть что оно имеет то или
иное значение; его надо, кроме того, сравнить с подобными ему зна-
чимостями, то есть с другими словами, которые можно ему
противопоставить. Его содержание определяется как следует лишь при
поддержке того, что существует вне его. Входя в состав системы, слово
облечено не только значением, но еще главным образом значимостью,
а это нечто совсем другое.
Для подтверждения этого достаточно немногих примеров.
Французское слово mouton «баран», «баранина» может совпадать по
значению с английским словом sheep «баран», не имея с ним одинаковой
значимости, и это по многим основаниям, в частности потому, что
говоря о приготовленном и поданном на стол куске мяса,
англичанин скажет mutton, а не sheep. Различие в значимости между англ.
sheep и франц. mouton связано с тем, что в английском наряду с
sheep есть другое слово, чего нет во французском.
Внутри одного языка слова, выражающие близкие понятия,
ограничивают друг друга: синонимы, например redouter «опасаться»,
craindre «бояться», avoir peur «испытывать страх», обладают
значимостью лишь в меру взаимного противопоставления; если бы не
существовало redouter, то все его содержание перешло бы к его
конкурентам. И наоборот, бывают слова, обогащающиеся от контакта с
другими словами: например, новый элемент, привходящий в
значимость décrépit (un vieillard décrépit «дряхлый старик»; см. стр.
116), появляется в силу наличия рядом с этим словом другого
слова—décrépi (un mur décrépi «облупившаяся стена»). Итак, значимость
любого слова определяется всем тем, что с ним связано; даже у
слова со значением «солнце» вряд ли возможно установить
непосредственно его значимость, если не принять в соображение все то, что
связано с этим словом; есть языки, в которых немыслимо, например,
выражение «сидеть на солнце».
148
Сказанное выше о словах имеет отношение к любым явлениям
языка, например к грамматическим категориям. Так, например,
значимость французского множественного числа не покрывает
значимости множественного числа в санскрите, хотя их значение чаще
всего совпадает: дело в том, что санскрит обладает не двумя, а тремя
числами («мои глаза», «мои уши», «мои руки», «мои ноги» имели бы
в санскрите форму двойственного числа); было бы неточно
приписывать одинаковую значимость множественному числу в
санскритском и французском языках, так как в санскритском языке
множественное число употребляется не во всех тех случаях, где оно
употребляется во французском; следовательно, значимость
множественного числа зависит от того, что находится вне и вокруг него
[в системе].
Если бы слова служили для выражения заранее данных
понятий, то каждое из них находило бы точные смысловые соответствия
в любом языке; но в действительности это не так. По-французеки
говорят louer (une maison) как в смысле «снять (дом)», так и в
смысле «сдать (дом)», тогда как в немецком языке употребляются для
этого два слова—mieten «снять» и vermieten «сдать», — так что точного
соответствия значимостей не получается. Немецкие глаголы
schätzen «ценить» и urteilen «судить» представляют совокупность
значений, соответствующих в общем и целом значениям французских
слов estimer «ценить» и juger «судить»; однако во многих случаях
точность этого соответствия нарушается.
Словоизменение представляет в этом отношении особо
поразительные примеры. Столь привычное нам различение времен чуждо
некоторым языкам: в древнееврейском языке нет даже самого
основного различения прошедшего, настоящего и будущего. В
прагерманском языке не было особой формы для будущего времени;
когда говорят, что в нем будущее передается через настоящее время,
то выражаются неправильно, так как значимость настоящего
времени в прагерманском языке не равна значимости его в тех языках,
где наряду с настоящим временем имеется будущее время.
Славянские языки последовательно различают в глаголе два вида:
совершенный вид представляет действие в его завершенности, как некую
точку, вне всякого становления; несовершенный вид — действие в
процессе совершения и на линии времени. Эти категории
затрудняют француза, потому что в его языке их нет; если бы они были
предустановлены [вне зависимости от языка], таких затруднений
бы не было. Во всех этих случаях мы, следовательно, находим
вместо заранее данных понятий значимости, вытекающие из самой
системы языка. Говоря, что они соответствуют понятиям, следует
подразумевать, что они в этом случае чисто дифференциальны, то
есть определяются не положительно — своим содержанием, но
отрицательно — своими отношениями к прочим членам системы. Их
наиболее точная характеристика сводится к следующему: быть тем,
чем не являются другие.
149
Отсюда становится ясным реальное истолкование схемы знака.
Схема
означает, что понятие «судить» связано с акустическим образом
судить,— одним словом, схема иллюстрирует значение. Само собой
разумеется, что в понятии «судить» нет ничего изначального, что
оно является лишь значимостью, определяемой своими
отношениями ,к другим значимостям того же порядка, и что без них значение не
существовало бы. Когда я ради простоты говорю, что данное слово
что-то означает, когда я исхожу из ассоциации акустического
образа с понятием, то я этим утверждаю то, что может быть верным лишь
до некоторой степени и что может дать лишь частичное
представление о действительности; но я тем самым ни в коем случае не выражаю
языкового факта во всей его сути и во всей его полноте.
§ 3. Языковая значимость с материальной стороны
Подобно концептуальной стороне, и материальная сторона
значимости образуется исключительно из отношений и различий с
прочими элементами языка. В слове важен не звук сам по себе, а те
звуковые различия, которые позволяют отличать это слово от всех
прочих, так как они-то и являются носителем значения.
Подобное утверждение способно породить недоумение, а между
тем иначе в действительности и быть не может. Поскольку нет
звукового образа, отвечающего лучше других тому, что он должен
выразить, постольку очевидно уже a priori, что любой сегмент языка
может в конечном счете основываться лишь на своем несовпадении
со всем остальным. Произвольность и дифференциальность суть
два коррелятивных свойства.
Изменяемость языковых знаков является хорошим
свидетельством этой коррелятивности. Каждый из членов отношения a;b
сохраняет свободу изменяться согласно законам, независимым от
его знаковой функции именно потому, что a и b по самой своей сути
не способны проникнуть как таковые в сферу сознания, которое
всегда замечает лишь различие a:b. Русский родительный падеж
множественного числа рук не отмечен никаким положительным
признаком (см. стр. 119), а между тем пара форм рука : рук
функционирует столь же исправно, как и предшествовавшая ей исторически
150
пара pyкa.·pyкъ, и это потому, что в языке важно лишь отличие
одного знака от другого: форма pyкa имеет значимость только потому,
что она отличается от другой формы.
Другой пример еще лучше показывает, сколь важна
системность в этом функционировании звуковых различий. В греческом
языке éphën — имперфект, а éstên — аорист, хотя обе формы
образованы тождественным образом; объясняется это тем, что первая
из них принадлежит к системе настоящего времени изъявительного
наклонения глагола phëmi «говорю», тогда как настоящего времени
*stëmi не существует; между тем именно отношение phëmi :éphën
и отвечает отношению между настоящим временем и имперфектом
(ср. deiknümi «показываю» : edeiknün «я показывал»). Указанные
знаки функционируют, следовательно, не в силу своей внутренней
значимости, а в силу своего положения относительно других членов
системы.
К тому же звук, элемент материальный, не может сам по себе
принадлежать языку. Для языка он нечто вторичное, лишь
используемый языком материал. Вообще, все условные значимости
характеризуются именно этим свойством не смешиваться с чувственно
воспринимаемым элементом, который служит им лишь опорой. Так,
ценность монеты определяет отнюдь не металл: серебряное экю
номинальной ценой в пять франков содержит в себе серебра лишь на
половину обозначенной суммы; она будет стоить несколько больше
или несколько меньше в зависимости от вычеканенного на ней
изображения, в зависимости от тех политических границ, внутри
которых она имеет хождение. В еще большей степени это можно сказать
об означающем в языке, которое по своей сущности отнюдь не
является чем-то звучащим; означающее в языке бестелесно, и его
создает не материальная субстанция, а исключительно те различия,
которые отграничивают его акустический образ от всех прочих
акустических образов.
Этот принцип имеет столь существенное значение, что он
действует в отношении всех материальных элементов языка, включая
фонемы. Каждый язык образует слова на базе своей системы
звуковых элементов, каждый из которых является четко отграниченной
единицей и число которых точно определено. И каждый из них
характеризуется не свойственным ему положительным качеством, как
можно было бы думать, а исключительно тем, что он не смешивается
с другими. Фонемы — это прежде всего оппозитивные,
относительные и отрицательные сущности.
Доказывается это той свободой, которой пользуется говорящий
при произнесении того или иного звука при условии соблюдения
границ, которыми данный звук отделяется от других. Так, например,
по-французски почти всеобщее обыкновение произносить картавое
г не препятствует отдельным лицам произносить его раскатисто;
язык от этого ничуть не страдает; он требует только различения, а
отнюдь не того, как можно было бы думать, чтобы у каждого звука
151
всегда было неизменное качество. Я даже могу произносить
французское г как немецкое ch в словах Bach, doch и т. п., но по-немецки
я не могу произнести ch вместо г, так как в этом языке имеются оба
элемента, которые и должны различаться. Так и по-русски не
может быть свободы в произношении t наподобие V (смягченного t),
потому что в результате получилось бы смешение двух
различаемых в языке звуков (ср. говорить и говорит), но может быть
допущено отклонение в сторону th (придыхательного t), так как th
отсутствует в системе фонем русского языка.
Поскольку такое же положение вещей наблюдается в иной
системе знаков, каковой является письменность, мы можем привлечь
ее для сравнения в целях лучшего уяснения этой проблемы. В самом
деле:
1) знаки письма произвольны; нет никакой связи между
написанием, например, буквы t и звуком, ею изображаемым;
2) значимость букв чисто отрицательная и дифференциальная:
одно и то же лицо может писать t по-разному, например:
t ^-.-i—
соблюдая единственное условие: написание знака t не должно
смешиваться с написанием 1, d и прочих букв;
3) значимости в письме имеют силу лишь в меру взаимного
противопоставления в рамках определенной системы, состоящей из
ограниченного количества букв. Это свойство, не совпадая с тем,
которое сформулировано в п. 2, тесно с ним связано, так как оба они
зависят от первого. Поскольку графический знак прозволен, его
форма малосущественна или, лучше сказать, существенна лишь в
пределах, обусловленных системой;
4) средство, используемое для написания знака, совершенно
для него безразлично, так как оно не затрагивает системы (это
вытекает уже из первого свойства): я могу писать буквы любыми
чернилами, пером или резцом и т. д.— всё это никак не сказывается
на значении графических знаков.
§ 4. Рассмотрение знака в целом
Все сказанное выше приводит нас к выводу, что в языке нет
ничего, кроме различий. Вообще говоря, различие предполагает наличие
положительных членов отношения, между которыми оно
устанавливается. Однако в языке имеются только различия без
положительных членов системы. Какую бы сторону знака мы ни взяли,
означающее или означаемое, всюду наблюдается одна и та же картина: в
языке нет ни понятий, ни звуков, которые существовали бы независимо
152
от языковой системы, а есть только смысловые различия и звуковые
различия, проистекающие из этой системы. И понятие и звуковой
материал, заключенные в знаке, имеют меньше значения, нежели то,
что есть вокруг него в других знаках. Доказывается это тем, что
значимость члена системы может изменяться без изменения как его
смысла, так и его звуков исключительно вследствие того
обстоятельства, что какой-либо другой, смежный -член системы претерпел
изменение (см. стр. 148).
Однако утверждать, что в языке все отрицательно, верно лишь в
отношении означаемого и означающего, взятых в отдельности; как
только мы начинаем рассматривать знак в целом, мы оказываемся
перед чем-то в своем роде положительным. Языковая система есть
ряд различий в звуках, связанных с рядом различий в понятиях,
но такое сопоставление некоего количества акустических знаков с
равным числом отрезков, выделяемых в массе мыслимого,
порождает систему значимостей; и эта-то система значимостей создает
действительную связь между звуковыми и психическими элементами
внутри каждого знака. Хотя означаемое и означающее, взятые в
отдельности,— величины чисто дифференциальные и отрицательные,
их сочетание есть факт положительный. Это даже единственный вид
фактов, которые имеются в языке, потому что основным свойством
языкового устройства является как раз сохранение параллелизма
между этими двумя рядами различий.
Некоторые диахронические факты весьма характерны в этом
отношении: это все те бесчисленные случаи, когда изменение
означающего приводит к изменению понятия и когда обнаруживается, что
в основном сумма различаемых понятий соответствует сумме
различающих знаков. Когда в результате фонетических изменений два
элемента смешиваются (например, франц. décrépit при лат.
dêcrepitus и франц. décrépi при лат. crispus — см. стр. 116), то и
понятие проявляет тенденцию к смешению, если только этому
благоприятствуют данные. А если слово дифференцируется, как,
например, франц. chaise «стул» и chaire «кафедра»? В таком случае
возникшее различие неминуемо проявляет тенденцию стать значимым,
что, впрочем, удается далеко не всегда и не сразу. И наоборот,
всякое концептуальное различие, усмотренное мыслью, стремится
выразить себя в различных означающих, а два понятия, более нераз-
личаемые в мысли, стремятся слиться в одном означающем.
Если сравнивать между собой знаки, положительные члены
системы, то говорить в данном случае о различии уже больше нельзя.
Это выражение здесь не вполне подходит, так как оно может
применяться лишь в случае сравнения двух акустических образов,
например отец и мать, или сравнения двух понятий, например
понятия «отец» и понятия «мать». Два знака, каждый из которых
содержит в себе означаемое и означающее, не различны (différents), а
лишь различимы (distincts). Между ними есть лишь
противопоставление. Весь механизм языка, о чем речь будет ниже, покоится на
153
такого рода противопоставлениях и на вытекающих из них
звуковых и смысловых различиях.
То, что верно относительно значимости, верно и относительно
единицы (см. стр. 143). Последняя есть сегмент в речевом потоке,
соответствующий определенному понятию, причем как сегмент, так
и понятие по своей природе чисто дифференциальны.
В применении к единице принцип дифференциации может
быть сформулирован так: отличительные свойства единицы
сливаются с самой единицей. В языке, как и во всякой семиологической
системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его
составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же
создает значимость и единицу.
Из того же принципа вытекает еще одно несколько
парадоксальное следствие: то, что обычно называют «грамматическим фактом»,
в конечном счете соответствует определению единицы, так как он
всегда выражает противопоставление членов системы; просто в
данном случае противопоставление оказывается особо значимым.
Возьмем, например, образование множественного числа типа Nacht:
Nächte в немецком языке. Каждый из членов этого грамматического
противопоставления (ед. ч. без умлаута и без конечного e,
противопоставленное мн. ч. с умлаутом и с e) сам образован целым рядом
взаимодействующих противопоставлений внутри системы; взятые в
отдельности, ни Nacht, ни Nächte ничего не значат; следовательно,
все дело в противопоставлении. Иначе говоря, отношение Nacht:
Nächte можно выразить алгебраической формулой a:b, где a и b
являются результатом совокупного ряда отношений, а не простыми
членами данного отношения. Язык — это, так сказать, такая
алгебра, где имеются лишь сложные члены системы. Среди имеющихся в
нем противопоставлений одни более значимы, чем другие; но
«единица» и «грамматический факт»—лишь различные названия для
обозначения разных аспектов одного и того же явления: действия
языковых противопоставлений. Это до такой степени верно, что к
проблеме единицы можно было бы подходить со стороны фактов
грамматики. При этом нужно было бы, установив противопоставление
Nacht:Nächte, спросить себя, какие единицы участвуют в этом
противопоставлении: только ли данные два слова, или же весь ряд
подобных слов, или же a и a, или же все формы обоих чисел и т. д.?
Единица и грамматический факт не покрывали бы друг друга,
если бы языковые знаки состояли из чего-либо другого, кроме
различий. Но поскольку язык именно таков, то с какой бы стороны к
нему ни подходить, в нем не найти ничего простого: всюду и всегда
он предстает перед нами как сложное равновесие
обусловливающих друг друга членов системы. Иначе говоря, язык есть форма, а
не субстанция (см. стр. 145). Необходимо как можно глубже
проникнуться этой истиной, ибо все ошибки терминологии, все наши
неточные характеристики явлений языка коренятся в том
невольном предположении, что в языке есть какая-то субстанциальность.
Глава V
СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
И АССОЦИАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
§ 1. Определения
Итак, в каждом данном состоянии языка все покоится на
отношениях. Что же представляют собою эти отношения?
Отношения и различия между членами языковой системы
развертываются в двух разных сферах, каждая из которых образует
свой ряд значимостей; противопоставление этих двух рядов
позволит лучше уяснить природу каждого из них. Они соответствуют двум
формам нашей умственной деятельности, равно необходимым для
жизни языка.
С одной стороны, слова в речи, соединяясь друг с другом,
вступают между собою в отношения, основанные на линейном характере
языка, который исключает возможность произнесения двух
элементов одновременно (см. стр. 103). Эти элементы выстраиваются один
за другим в потоке речи. Такие сочетания, имеющие протяженность,
можно назвать синтагмами*. Таким образом, синтагма всегда
состоит минимум из двух следующих друг за другом единиц (например,
re-lire «пере-читать», contre tous «против всех», la vie humaine
«человеческая жизнь», s'il fait beau temps, nous sortirons «если будет
хорошая погода, мы пойдем гулять» и т. п.). Член синтагмы получает
значимость лишь в меру своего противопоставления либо тому,
что ему предшествует, либо тому, что за ним следует, или же тому и
другому вместе.
С другой стороны, вне процесса речи слова, имеющие между
собой что-либо общее, ассоциируются в памяти так, что из них
образуются группы, внутри которых обнаруживаются весьма
разнообразные отношения. Так, слово enseignement «обучение» невольно
вызывает в сознании множество других слов (например, enseigner
«обучать», renseigner «снова учить» и др., или armement
«вооружение», changement «перемена» и др., или éducation «образование»,
apprentissage «учение» и др.), которые той или иной чертой сходны
между собою.
155
Нетрудно видеть, что эти отношения имеют совершенно иной
характер, нежели те отношения, о которых только что шла речь. Они
не опираются на протяженность, локализуются в мозгу и
принадлежат тому хранящемуся в памяти у каждого индивида сокровищу,
которое и есть язык. Эти отношения мы будем называть
ассоциативными отношениями.
Синтагматическое отношение всегда in praesentia: оно
основывается на двух или большем числе членов отношения, в равной степени
наличных в актуальной последовательности. Наоборот,
ассоциативное отношение соединяет члены этого отношения в виртуальный,
мнемонический ряд; члены его всегда in absentia.
Языковую единицу, рассмотренную с этих двух точек зрения,
можно сравнить с определенной частью здания, например с
колонной: с одной стороны, колонна находится в определенном
отношении с поддерживаемым ею архитравом — это
взаиморасположение двух единиц, одинаково присутствующих в пространстве,
напоминает синтагматическое отношение; с другой стороны, если эта
колонна дорического ордера, она вызывает в мысли сравнение с
другими ордерами (ионическим, коринфским и т. д.), то есть с
такими элементами, которые не присутствуют в данном пространстве,—
ото ассоциативное отношение.
Каждый из этих рядов отношений требует некоторых
специальных замечаний.
§ 2. Синтагматические отношения
Наши примеры на стр. 155 уже позволяли заключить, что
понятие синтагмы относится не только к словам, но и к сочетаниям
слов, к сложным единицам всякого рода и любой длины (сложные
слова, производные слова, члены предложения, целые
предложения).
Недостаточно рассмотреть отношения, объединяющие
отдельные части синтагмы между собою (например, contre «против» и tous
«всех» в синтагме contre tous «против всех» или contre и maître в
синтагме contremaître «старший рабочий», «мастер»); нужно также
принимать во внимание то отношение, которое связывает целое с его
частями (например, contre tous по отношению к contre, с одной
стороны, и к tous, с другой стороны, или contremaître — по отношению
к contre, с одной стороны, и maître, с другой стороны).
Здесь можно было бы возразить: поскольку типичным
проявлением синтагмы является предложение, а оно принадлежит речи,
а не языку, то не следует ли из этого, что и синтагма относится к
области речи? Мы полагаем, что это не так. Характерным свойством
156
речи является свобода комбинирования элементов; надо,
следовательно, поставить вопрос: все ли синтагмы в одинаковой мере
свободны?
Прежде всего, мы встречаемся с огромным количеством
выражений, относящихся, безусловно, к языку: это те вполне готовые
речения, в которых обычай воспрещает что-либо менять даже в том
случае, если по зрелом размышлении в них можно различить значимые
части, например à quoi bon? «к чему?», allons donc! «да полноте же!»
и т. д. Приблизительно то же, хотя в меньшей степени, относится к
таким выражениям, как prendre la mouche «сердиться по пустякам»,
forcer la main à quelqu'un «принудить к чему-либо», rompre une lance
«ломать копья», avoir mal à (la tête . . .) «чувствовать боль (в
голове и т. д.)», pas n'est besoin de . . . «нет никакой необходимости. . .»,
que vous en semble? «что вы думаете об этом?» Узуальный характер
этих выражений вытекает из особенностей их значения или их
синтаксиса. Такие обороты не могут быть импровизированы; они
передаются сотовыми, по традиции. Можно сослаться еще и на те слова,
которые, будучи вполне доступными анализу, характеризуются тем
не менее какой-либо морфологической аномалией, сохраняемой
лишь в силу обычая (ср. difficulté «трудность» при facilité «легкость»,
mourrai «умру» при dormirai «буду спать»).
Но это не все. К языку, а не к речи надо отнести и все типы
синтагм, которые построены по определенным правилам. В самом деле,
поскольку в языке нет ничего абстрактного, эти типы могут
существовать лишь в том случае, если в языке зарегистрировано
достаточное количество их образцов. Когда в речи возникает такая
импровизация, как indécorable (см. стр. 201), она предполагает
определенный тип, каковой в свою очередь возможен лишь в силу наличия в
памяти достаточного количества подобных слов, принадлежащих
языку (impardonnable «непростительный», intolérable
«нетерпимый», infatigable «неутомимый» и т. д.). Точно то же можно сказать
и о предложениях и словосочетаниях, составленных по
определенному шаблону; такие сочетания, как la terre tourne «земля
вращается», que vous dit-il? «что он вам сказал?», отвечают общим типам,
которые в свою очередь принадлежат языку, сохраняясь в памяти
говорящих.
Но надо признать, что в области синтагм нет резкой границы
между фактом языка, запечатленным коллективным обычаем, и
фактом речи, зависящим от индивидуальной свободы. Во многих
случаях представляется затруднительным отнести туда или сюда
данную комбинацию единиц, потому что в создании ее
участвовали оба фактора, и в таких пропорциях, определить которые
невозможно.
157
§ 3. Ассоциативные отношения
Образуемые в нашем сознании ассоциативные группы не
ограничиваются сближением членов отношения, имеющих нечто общее,—
ум схватывает и характер связывающих их в каждом случае
отношений и тем самым создает столько ассоциативных рядов,
сколько есть различных отношений. Так, в enseignement «обучение»,
enseigner «обучать», enseignons «обучаем» и т. д. есть общий всем
членам отношения элемент — корень; но то же слово enseignement
может попасть и в другой ряд, характеризуемый общностью
другого элемента — суффикса: enseignement «обучение», armement
«вооружение», changement «изменение» и т. д.; ассоциация может
также покоиться единственно на сходстве означаемых (enseignement
«обучение», instruction «инструктирование», apprentissage «учение»,
éducation «образование» и т. д.), или, наоборот, исключительно на
общности акустических образов (например: enseignement «обучение»
и justement «справедливо») *. Налицо, таким образом, либо
общность как по смыслу, так и по форме, либо только по форме, либо
только по смыслу. Любое слово всегда может вызвать в памяти все,
что способно тем или иным способом с ним ассоциироваться.
В то время как синтагма сразу же вызывает представление о
последовательности и определенном числе сменяющих друг друга
элементов, члены, составляющие ассоциативную группу, не даны в
сознании ни в определенном количестве, ни в определенном порядке.
Если начать подбирать ассоциативный ряд к таким словам, как dé-
sir-aux «жаждущий», chaleur-eux «пылкий» и т. д., то нельзя наперед
сказать, каково будет число подсказываемых памятью слов и в
каком порядке они будут возникать. Любой член группы можно
рассматривать как своего рода центр созвездия, как точку, где
сходятся другие, координируемые с ним члены группы, число которых
безгранично.
Впрочем, из этих двух свойств ассоциативного ряда —
неопределенности порядка и безграничности количества — лишь первое
всегда налицо; второе может отсутствовать, как, например, в том
характерном для этого ряда типе, каковым являются парадигмы
словоизменения. В таком ряду, как лат. dominus, dominï, domino
и т. д., мы имеем ассоциативную группу, образованную общим
элементом — именной основой domin-, но ряд этот небезграничен,
наподобие ряда enseignement, changement и т.д.: число падежей
является строго определенным, но порядок их следования не фиксирован
и та или другая группировка их зависит исключительно от
произвола автора грамматики; в сознании говорящих именительный
падеж — вовсе не первый падеж склонения; члены парадигмы могут
возникать в том или ином порядке чисто случайно.
Глава VI
МЕХАНИЗМ ЯЗЫКА
§ 1. Синтагматические единства
Итак, образующая язык совокупность звуковых и смысловых
различий является результатом двоякого рода сближений
—ассоциативных и синтагматических. Как те, так и другие в
значительной мере устанавливаются самим языком; именно эта совокупность
отношений составляет язык и определяет его функционирование.
Первое, что нас поражает в этой организации,— это
синтагматические единства: почти все единицы языка находятся в
зависимости либо от того, что их окружает в потоке речи, либо от тех
частей, из коих они состоят сами.
Словообразование служит этому хорошим примером. Такая
единица, как désireux «жаждущий», распадается на две единицы
низшего порядка (désir-eux), но это не две самостоятельные части,
попросту сложенные одна с другой (désir + eux), а соединение или
произведение двух взаимосвязанных элементов, обладающих
значимостью лишь в меру своего взаимодействия в единице высшего
порядка (désirX eux). Суффикс -eux сам по себе не существует;
свое место в языке он получает благодаря целому ряду таких слов,
как chaleur-eux «пылкий», chanc-eux «удачливый» и т. д. Но и
корень не автономен, он существует лишь в силу своего сочетания
с суффиксом: в слове roul-is «качка» элемент roui- ничего не значит
без следующего за ним суффикса -is. Значимость целого
определяется его частями, значимость частей — их местом в целом; вот
почему синтагматическое отношение части к целому столь же важно,
как и отношение между частями целого (см. стр. 156).
Это и есть общий принцип, обнаруживающийся во всех
перечисленных выше синтагмах (см. стр. 156); всюду мы видим более
крупные единицы, составленные из более мелких, причем и те и другие
находятся в отношении взаимной связи, образующей единство.
В языке, правда, имеются и самостоятельные единицы, не
находящиеся в синтагматической связи ни со своими частями, ни с дру-
160
гими единицами. Хорошими примерами могут служить такие
эквиваленты предложения, как oui «да», non «нет», merci «спасибо»
и т. д. Но этого факта, к тому же исключительного, недостаточно,
чтобы опорочить общий принцип. Как правило, мы говорим не
изолированными знаками, но сочетаниями знаков, организованными
множествами, которые в свою очередь тоже являются знаками. В
языке все сводится к различениям, но в нем все сводится равным
образом и к группировкам. Этот механизм, представляющий собой
ряд следующих друг за другом и выполняющих определенные
функции членов отношения, напоминает работу машины, отдельные части
которой находятся во взаимодействии, с той лишь разницей, что
члены этого механизма расположены в одном измерении.
§ 2. Одновременное действие
синтагматических и ассоциативных групп
Образующиеся таким образом синтагматические группы
связаны взаимозависимостью [с ассоциативными]; они обусловливают
друг друга. В самом деле, координация в пространстве
способствует созданию ассоциативных координации, которые в свою очередь
оказываются необходимыми для выделения составных частей
синтагмы.
Возьмем сложное слово défaire «разрушать», «отделять». Мы
можем его изобразить на горизонтальной оси, соответствующей потоку
речи:
Одновременно с этим, но только по другой оси, в подсознании
хранится один или несколько ассоциативных рядов, содержащих
такие единицы, которые имеют по одному общему элементу с
данной синтагмой, например:
Равным образом и лат. quadruplex «четверной» является
синтагмой лишь потому, что опирается на два ассоциативных ряда (см.
рис.):
Défaire и quadruplex могут быть разложены на единицы низшего
порядка, иначе говоря, являются синтагмами лишь постольку,
поскольку вокруг них оказываются все перечисленные другие формы.
Если бы эти формы, содержащие dé- или faire, исчезли из языка,
défaire перестало бы быть разложимым, оно превратилось бы в
простую единицу и обе его части оказались бы непротивопоставимыми
друг другу.
Так выясняется функционирование этой двоякой системы в речи.
Наша память хранит все более или менее сложные типы синтагм,
какого бы рода и какой бы протяженности они ни были; когда
нужно их использовать, мы прибегаем к ассоциативным группам, чтобы
обеспечить выбор нужного сочетания. Когда кто-либо говорит
marchons! «идем!», он, сам не сознавая того, обращается к
ассоциативным группам, на пересечении которых находится синтагма marchons!
Эта синтагма, с одной стороны, значится в ряду marche! «иди!»,
marchez! «идите!», и выбор определяется противопоставлением
формы marchons! этим формам; с другой стороны, marchons! вызывает
в памяти ряд montons! «взойдем!», mangeons! «съедим!», внутри
которого она выбирается аналогичным образом. Известно, какие
мены надо проделать в каждом ряду, чтобы получить выделение
искомой единицы. Достаточно измениться смыслу, который подлежит
выражению, чтобы для возникновения другой значимости,
например marchez! или montons!, оказались необходимыми другие
противопоставления.
Итак, недостаточно сказать, встав на позитивную точку зрения,
что мы выбираем marchons! потому, что оно означает то, что нам
хочется выразить. В действительности понятие вызывает не форму, а
целую скрытую систему, благодаря чему возникают
противопоставления, необходимые для образования нужного знака. Знак же сам
по себе никакого присущего ему значения не имеет. Если бы
наступил момент, когда рядом с marchons! не оказалось бы ни marche!,
162
ни marchez!, то отпали бы некоторые противопоставления и ipso
facto изменилась бы значимость знака marchons!
Этот принцип применим к синтагмам и предложениям всех
типов, даже наиболее сложным. Произнося que vous dit-il? «что он
вам говорит?», мы меняем один из элементов в латентном
синтагматическом типе, например: que te dit-il? «что он тебе говорит?», que
nous dit-il? «что он нам говорит?» и т. д. И вот таким путем наш
выбор останавливается на местоимении vous «вам». Таким образом,
при этой операции, состоящей в умственном отстранении всего, что
не приводит к желательной дифференциации в желательной точке,
действуют и ассоциативные группы, и синтагматические типы.
С другой стороны, этому приему фиксации и выбора подчиняются
и самые мелкие единицы, вплоть до фонологических элементов,
когда они облечены значимостью. Мы имеем в виду не только такие
случаи, как французское patit (пишется petite) «маленькая» наряду с
pati (пишется petit) «маленький» или латинское dominï «господина»
наряду с domino «господину» и т. п., где в силу случайности
смысловое различие покоится на одной фонеме, но и то более характерное
и сложное явление, когда фонема сама по себе играет известную
роль в системе данного состояния языка. Если, например, в
греческом языке m, ρ, t и др. никогда не могут стоять в конце слова, то
это равносильно тому, что их наличие или отсутствие в том или ином
месте принимается в расчет в структуре слова и в структуре
предложения. Ведь во всех такого рода случаях изолированный звук
выбирается, как и все прочие языковые единицы, в результате
двоякого мысленного противопоставления: так, в воображаемом
сочетании anma звук m находится в синтагматическом
противопоставлении с окружающими его звуками и в ассоциативном
противопоставлении со всеми теми, которые могут возникнуть в сознании,
anma
ν
d
§ 3. Произвольность знака, абсолютная и
относительная
Механизм языка может быть представлен и под другим,
исключительно важным углом зрения.
Основной принцип произвольности знака не препятствует
различать в каждом языке то, что в корне произвольно, то есть немо-
тивировано, от того, что произвольно лишь относительно. Только
часть знаков является абсолютно произвольной; у других же
знаков обнаруживаются признаки, позволяющие отнести их к
произвольным в различной степени: знак может быть относительно
мотивированным.
6*
163
Так, vingt «двадцать» немотивировано; но dix-neuf
«девятнадцать» немотивировано в относительно меньшей степени, потому что
оно вызывает представление о словах, из которых составлено, и о
других, которые с ним ассоциируются, как, например, dix «десять»,
neuf «девять», vingt-neuf «двадцать девять», dix-huit «восемнадцать»
и т. п.; взятые в отдельности dix и neuf столь же произвольны, как
и vingt, но dix-neuf представляет случай относительной
мотивированности. То же можно сказать и о франц. poirier «груша» (дерево),
которое напоминает о простом слове poire «груша» (плод) и чей
суффикс -ier вызывает в памяти pommier «яблоня», cerisier «вишня
(дерево)» и др. Совсем иной случай представляют такие названия
деревьев, как frêne «ясень», chêne «дуб» и т. д. Сравним еще
совершенно немотивированное berger «пастух»' и относительно
мотивированное vacher «пастух», а также такие пары, как geôle «тюрьма» и
cachot «темница» (ср. cacher «прятать»), concierge «консьерж» и
portier «портье» (ср. porte «дверь»), jadis «некогда» и autrefois «прежде»
(ср. autre «Apyrofi»+fois «раз»), couvent «часто» и fréquemment
«нередко» (ср. fréquent «частый»), aveugle «слепой» и boiteux
«хромой» (ср. boiter «хромать»), sourd «глухой» и bossu «горбатый»
(ср. bosse «горб»), нем. Laub и франц. feuillage «листва» (ср. feuille
«лист»), франц. métier и нем. Handwerk «ремесло» (ср. Hand «рука»
+ Werk «работа»). Английское мн. ч. ships «корабли» своей формой
напоминает весь ряд: flags «флаги», birds «птицы», books «книги»
и т. д., a men «люди», sheep «овцы» ничего не напоминает. Греч,
dosö «дам» выражает идею будущего времени знаком, вызывающим
ассоциацию с lOsô «развяжу», stésô «поставлю», tupsö «ударю» и
т. д., a eîmi «пойду» совершенно изолировано.
Здесь не место выяснять факторы, в каждом отдельном случае
обусловливающие мотивацию: она всегда тем полнее, чем легче
синтагматический анализ и очевиднее смысл единиц низшего
уровня. В самом деле, наряду с такими прозрачными формантами, как
-ier в слове poir-ier, сопоставляемом с pomm-ier, ceris-ier и т. д.,
есть другие, чье значение смутно или вовсе ничтожно, например,
какому элементу смысла соответствует суффикс -ot в слове cachot
«темница»? Сопоставляя такие слова, как coutelas «тесак», fatras
«ворох», plâtras «штукатурный мусор», canevas «канва», мы
смутно чувствуем, что -as есть свойственный существительным формант,
но не в состоянии охарактеризовать его более точно. Впрочем, даже
в наиболее благоприятных случаях мотивация никогда не
абсолютна. Не только элементы мотивированного знака сами по себе
произвольны (ср. dix «десять», neuf «девять» в dix-neuf «девятнадцать»),
но и значимость знака в целом никогда не равна сумме значимостей
его частей; poirx ier не равно poir-fier (см. стр. 160).
Что касается самого явления, то объясняется оно на основе
изложенных в предыдущем параграфе принципов: понятие
относительно мотивированного предполагает 1) анализ данного элемента,
следовательно, синтагматическое отношение, 2) притягивание одного
164
или нескольких других элементов, следовательно, ассоциативное
отношение. Это не что иное, как механизм, при помощи которого
данный элемент оказывается пригодным для выражения данного
понятия. До сих пор, рассматривая языковые единицы как
значимости, то есть как элементы системы, мы брали их главным образом в
их противопоставлениях; теперь мы стараемся усматривать
объединяющие их единства: эти единства ассоциативного порядка и
порядка синтагматического, и они-то ограничивают произвольность
знака. Dix-neuf ассоциативно связано с dix-huit, soixante-dix и
т. д., а синтагматически — со своими элементами dix и neuf (см.
стр. 161). Оба эти отношения создают известную часть значимости
целого.
По нашему глубокому убеждению, все, относящееся к языку как
к системе, требует рассмотрения именно с этой точки зрения,
которой почти не интересуются лингвисты,— с точки зрения
ограничения произвольности языкового знака. Это наилучшая основа
исследования. В самом деле, вся система языка покоится на
иррациональном принципе произвольности знака, а этот принцип в случае
его неограниченного применения привел бы к неимоверной
сложности. Однако разуму удается ввести принцип порядка и
регулярности в некоторые участки всей массы знаков, и именно здесь
проявляется роль относительно мотивированного. Если бы механизм языка
был полностью рационален, его можно было бы изучать как вещь в
себе (en lui même), но, поскольку он представляет собой лишь
частичное исправление хаотичной по природе системы, изучение
языка с точки зрения ограничения произвольности знаков
навязывается нам самой его природой.
Не существует языков, где нет ничего мотивированного; но
немыслимо себе представить и такой язык, где мотивировано было бы
все. Между этими двумя крайними точками — наименьшей
организованностью и наименьшей произвольностью — можно найти все
промежуточные случаи. Во всех языках имеются двоякого рода
элементы — целиком произвольные и относительно мотивированные,
— но в весьма разных пропорциях, и эту особенность языков можно
использовать при их классификации.
Чтобы лучше подчеркнуть одну из форм этого
противопоставления, можно было бы в известном смысле, не придавая этому,
впрочем, буквального значения, называть те языки, где
немотивированность достигает своего максимума, лексическими, а те, где она
снижается до минимума,— грамматическими. Это, разумеется, не
означает, что «лексика» и «произвольность», с одной стороны,
«грамматика» и «относительная мотивированность» — с другой,
всегда синонимичны, однако между членами обеих пар имеется
некоторая принципиальная общность. Это как бы два полюса, между
которыми движется вся языковая система, два встречных течения,
по которым направляется движение языка: с одной стороны,
склонность к употреблению лексических средств — немотивирован-
165
ных знаков, с другой стороны — предпочтение, оказываемое
грамматическим средствам, а именно — правилам конструирования.
Можно отметить, например, что в английском языке
значительно больше немотивированного, чем, скажем, в немецком;
примером ультралексического языка является китайский, а
индоевропейский праязык и санскрит — образцы ультраграмматических
языков. Внутри отдельного языка все его эволюционное движение
может выражаться в непрерывном переходе от мотивированного к
произвольному и от произвольного к мотивированному; в
результате этих разнонаправленных течений сплошь и рядом происходит
значительный сдвиг в отношении между этими двумя категориями
знаков. Так, например, французский язык по сравнению с
латинским характеризуется, между прочим, огромным возрастанием
произвольного: лат. inimïcus «враг» распадается на in- (отрицание)
и amicus «друг» и ими мотивируется, а франц. ennemi «враг» не
мотивировано ничем, оно всецело относится к сфере абсолютно
произвольного, к чему, впрочем, в конце концов, сводится всякий
языковой знак. Такой же сдвиг от относительной мотивированности к
полной немотивированности можно наблюдать на сотне других
примеров: ср. лат. constäre (stäre «стоять») : франц. coûter «стоить»,
лат. fabrica (faber «кузнец») : франц. forge «кузница», лат. magister
(magis «больше») : франц. maître «учитель», нар. лат. berbïcârius
(berbïx «овца») : франц. berger «пастух» и т. д. Этот прирост
элементов произвольностей — одна из характернейших черт
французского языка.
Глава VII
ГРАММАТИКА И ЕЕ РАЗДЕЛЫ
§ 1. Определение грамматики;
традиционное деление грамматики
Статическая лингвистика, или, иначе, описание данного
состояния языка, может быть названа грамматикой в том весьма точном
и к тому же привычном смысле этого слова, который встречается в
таких выражениях, как «грамматика шахматной игры», «грамматика
биржи» и т. п., где речь идет о чем-то сложном и системном, о
функционировании сосуществующих значимостей.
Грамматика изучает язык как систему средств выражения;
понятие грамматического покрывается понятиями синхронического
и значимого, а поскольку не может быть системы, охватывающей
одновременно несколько эпох, мы отрицаем возможность
«исторической грамматики»; то, что называется этим именем, в
действительности есть не что иное, как диахроническая лингвистика.
Наше определение не согласуется с тем более узким
определением, которое обычно дается грамматике. В самом деле, под этим
названием принято объединять морфологию и синтаксис, a
лексикология — иначе, наука о словах — из грамматики исключается
вовсе.
Но прежде всего, в какой мере это деление отвечает
действительности? Согласуется ли оно с только что установленными нами
принципами?
Морфология занимается разными категориями слов (глаголы,
имена, прилагательные, местоимения и пр.) и различными формами
словоизменения (спряжение, склонение). Отделяя морфологию от
синтаксиса, ссылаются на то, что объектом этого последнего
являются присущие языковым единицам функции, тогда как
морфология рассматривает только их форму: она ограничивается, например,
утверждением, что родительный падеж от греческого слова phûlax
«сторож» будет phûlakos, а синтаксис сообщает об употреблении
этих двух форм.
167
Но это различение обманчиво: разные формы существительного
phülax объединяются в единую парадигму склонения только
благодаря сравнению функций, свойственных этим формам; с другой
стороны, эти функции входят в морфологию лишь постольку,
поскольку каждой из них соответствует определенный звуковой
показатель (signe). Склонение не есть ни перечень форм, ни ряд
логических абстракций, но соединение того и другого (см. стр. 135):
формы и функции образуют единство и разъединение их
затруднительно, чтобы не сказать — невозможно. С лингвистической, точки
зрения у морфологии нет своего реального и самостоятельного
объекта изучения; она не может составить отличной от синтаксиса
дисциплины.
А с другой стороны, логично ли исключать лексикологию из
грамматики? На первый взгляд может показаться, что слова, как
они даны в словаре, как будто бы не поддаются грамматическому
изучению, объектом которого обычно бывают отношения между
отдельными единицами. Но сразу же мы замечаем, что многие из этих
отношений могут быть выражены с равным успехом как
грамматическими средствами, так и словами. Так, латинские слова fïo
«делаюсь», «становлюсь» и facio «делаю» взаимно противопоставлены,
совершенно так же как dïcor «говорюсь» (= обо мне говорят) и dïcô
«говорю», являющиеся грамматическими формами одного и того же
слова; по-русски различение видов (совершенного и
несовершенного) выражено грамматически в случае спросить: спрашивать
и лексически в случае сказать: говорить. Предлоги обыкновенно
относят к грамматике; однако предложное речение в отношении к
по сути своей лексично, так как слово отношение фигурирует в нем
в своем прямом смысле. Сравнивая греч. peithô «убеждаю»: peit-
homai «слушаюсь», «повинуюсь» с франц. je persuade «убеждаю»:
j'obéis «повинуюсь», мы видим, что одно и то же
противопоставление в одном языке выражено грамматически, в другом —
лексически. Многие отношения, выражаемые в одних языках падежами или
предлогами, в других языках передаются сложными словами,
приближающимися к собственно словам (франц. royaume des cieux
и нем. Himmelreich «царство небесное»), или производными (франц.
moulin à vent и польск. wiatr-ak«ветряная мельница»), или,
наконец, простыми словами (франц. bois de chauffage и русск. дрова,
франц. bois de construction и русск. [строевой] лес). Сплошь и
рядом наблюдается также взаимная замена простых слов и составных
речений внутри одного языка (ср. соображать и принимать в
соображение; наказывать и подвергать наказанию).
Итак, мы видим, что с точки зрения функции лексические
факты могут совпадать с фактами синтаксическими. С другой стороны,
всякое слово, не являющееся простой и неразложимой единицей,
ничем существенным не отличается от члена предложения, то есть
от факта синтаксического: комбинирование (agencement) и порядок
составляющих его единиц низшего уровня подчиняются тем же
163
основным принципам, что и образование словосочетаний из
слов.
Не отрицая того, что традиционное деление грамматики
практически может оказаться полезным, мы тем не менее приходим к
выводу, что оно не соответствует естественным различиям; традиционно
выделяемые разделы грамматики не связаны между собой какими-
либо рациональными связями. Грамматика может и должна
строиться на иных, более основательных принципах.
§ 2. Рациональное деление грамматики
Взаимопроникновение морфологии, синтаксиса и лексикологии
объясняется, по существу, тождественным характером всех
синхронических фактов. Между ними не может быть никаких заранее
начертанных границ. Лишь установленное выше различение
отношений, синтагматических и ассоциативных, представляет основу
для классификации, которую навязывают сами факты и на которой
единственно может строиться грамматическая система.
Все, в чем выражено данное состояние языка, надо уметь свести
к теории синтагм и к теории ассоциаций. Уже сейчас без особого
труда можно было бы наметить распределение по этим двум
разделам некоторых частей традиционной грамматики: словоизменение
является, конечно, типичным примером ассоциации форм в
сознании говорящих; с другой стороны, синтаксис, то есть, согласно
наиболее распространенному определению, теория словосочетаний,
входит в синтагматику, так как словосочетания всегда
предполагают по меньшей мере две распределенные в пространстве единицы.
Не все синтагматические явления попадают в синтаксис, но все
явления синтаксиса относятся к синтагматике.
На любом разделе грамматики можно было бы показать все
преимущества, проистекающие от изучения каждого вопроса под этим
двояким углом зрения. Так, понятие слова ставит две разные
проблемы, рассматриваем ли мы его ассоциативно или
синтагматически; французское прилагательное grand «большой» в синтагме
выступает в двоякой форме (се grä garsS «un grand garçon» и œ grïït
ä:fä «un grand enfant») и ассоциативно — в другой двоякости (м. р.
grä «grand», ж. p. grâd «grande»).
Надо научиться сводить, таким образом, каждое явление к его
ряду, синтагматическому или ассоциативному, и согласовывать все
содержание грамматики с ее двумя естественными осями: только
такое распределение сможет нам показать, что именно следует
изменить в привычных рамках синхронической лингвистики.
Разумеется, мы не берем сейчас на себя этой задачи, а ограничимся
установлением самых общих принципов.
Глава VIII
РОЛЬ АБСТРАКТНЫХ СУЩНОСТЕЙ В ГРАММАТИКЕ
До сих пор мы еще не касались одного важного пункта, в котором
наиболее ярко обнаруживается необходимость изучать каждый
грамматический вопрос с двух выделенных выше точек зрения.
Дело идет об абстрактных сущностях в грамматике. Рассмотрим их
сперва с ассоциативной стороны.
Ассоциирование двух форм — это не только осознание того, что
они имеют нечто общее; это также различение характера отношений,
управляющих данными ассоциациями. Так, говорящие сознают, что
отношение, связывающее enseigner «обучать» и enseignement
«обучение», juger «судить» и jugement «суждение», не тождественно
тому отношению, которое они констатируют между enseignement
«обучение» и jugement «суждение» (см. стр. 158). Вот этой своей
стороной система ассоциаций и связывается с грамматической системой.
Можно сказать, что сумма осознанных и систематических
классификаций, которые производит грамматист, изучающий данное
состояние языка без привлечения истории, должна совпадать с суммой
ассоциаций как осознаваемых, так и неосознаваемых,
реализующихся в речи. При помощи этих ассоциаций и фиксируются в
нашем уме гнезда слов, парадигмы словоизменения, морфологические
элементы: корни, суффиксы, окончания и т. д. (см. стр. 220 и сл.).
Но какие же элементы выделяются путем ассоциации, только
ли материальные? Конечно, нет! Мы уже видели, что ассоциация
может сближать слова, связанные между собою только по смыслу
(ср. enseignement «обучение», apprentissage «учение», éducation
«образование» и т. д.). Так же обстоит дело в грамматике; возьмем
три латинские формы родительного падежа: domin-f «господина»,
rëg-is «царя», ros-ärum «роз»; в звучаниях этих трех окончаний нет
ничего общего, что могло бы породить ассоциацию, а между тем они
вступают между собою в ассоциативную связь вследствие наличия
общей значимости, выражающейся в тождественности их употреб-
170
ления; и этого достаточно для возникновения ассоциации, несмотря
на отсутствие какой-либо материальной опоры. Именно таким
образом и возникает в языке понятие родительного падежа как
такового. Совершенно аналогичным образом окончания -us, -ï, -5 и т. д.
(в dominus, dominï, dominö и т. д.) связываются в сознании и дают
начало таким еще более общим понятиям, как падеж и падежное
окончание. Такого же рода ассоциации, но еще более широкие,
объединяют все существительные, все прилагательные и т. д., приводя
к такому понятию, как часть речи.
Все это существует в языке, но лишь в качестве абстрактных
сущностей; изучать их нелегко, так как нельзя знать в точности,
заходит ли сознание говорящих столь же далеко, как и анализ
грамматистов. Но основное состоит в том, что абстрактные
сущности в конечном счете всегда основываются на конкретных. Никакая
грамматическая абстракция немыслима без целого ряда
материальных элементов, которые служат для нее субстратом и к которым в
конечном счете необходимо всегда возвращаться. Встанем теперь на
синтагматическую точку зрения. Значимость синтагмы часто
связана с порядком ее элементов. Анализируя синтагму, говорящий не
ограничивается выделением ее частей; он устанавливает также
определенный порядок их следования. Смысл таких слов, как франц.
désir-eux «жаждущий», лат. signi-fer «знаменосец», зависит от
положения составляющих их единиц низшего уровня друг
относительно друга: нельзя, например, сказать eux-désir «щий-жажду»,
fer-signum «носец-знаме». Значимости может вообще не
соответствовать какой-либо конкретный элемент, вроде eux или fer, ее
носителем может быть только сам порядок следования членов
синтагмы: так, например, французские словосочетания je dois «я должен»
и dois-je? «должен ли я? » различаются по значению исключительно
в силу различного порядка слов. Один и тот же смысл в одном
языке выражается порой простым порядком слов, тогда как в другом
одним или несколькими словами. В синтагмах типа gooseberry wine
«сидр из крыжовника», gold watch «золотые часы» и т. д. английский
язык выражает одним лишь порядком слов такие отношения,
которые в современном французском языке выражаются предлогами:
vin de groseilles, montre en or. В свою очередь современный
французский язык выражает понятие прямого дополнения исключительно
позицией существительного после переходного глагола (ср. je
cueille une fleur «я срываю цветок»), тогда как латинский и другие
языки выражают то же понятие винительным падежом,
характеризующимся особыми окончаниями, и т. д.
Но если порядок слов несомненно является абстрактной
сущностью, то не в меньшей мере верно и то, что она обязана своим
существованием конкретным единицам, которые ее содержат и которые
располагаются в одном измерении именно в этом порядке. Было бы
заблуждением думать, будто существует бесплотный синтаксис вне
этих расположенных в пространстве материальных единиц. При
171
рассмотрении англ. The man I have seen «Человек, которого я
видел» может показаться, что в данном случае изображается нулем
то, что французский язык передает местоимением que «которого».
Но это представление, будто нечто может быть выражено через
ничто, основывается исключительно на сопоставлении с фактами
французского синтаксиса и является ложным; в действительности же
соответствующая значимость возникает исключительно благодаря
выстроенным в определенном порядке материальным единицам.
Нельзя обсуждать вопросы синтаксиса, не исходя из наличной
совокупности конкретных слов. Впрочем, тот самый факт, что мы
понимаем данное языковое сочетание (например, приведенный выше
ряд английских слов), показывает, что данный ряд слов является
адекватным выражением мысли.
Материальная единица существует лишь в силу наличия у нее
смысла, в силу той функции, которой она облечена; этот принцип
особенно важен для выделения простых единиц, так как может
показаться, будто они существуют только в силу своей
материальности, то есть будто, например, aimer «любить» существует лишь
благодаря составляющим его звукам. И наоборот, как мы только
что видели, смысл, функция существуют лишь благодаря тому, что
они опираются на какую-то материальную форму; если мы
сформулировали этот принцип на примере синтагм или синтаксических
конструкций, то это только потому, что существует тенденция
рассматривать их как нематериальные абстракции, парящие над
элементами предложения. Оба эти принципа, дополняя друг друга,
согласуются с нашими утверждениями о разграничении единиц (см.
стр. 136).
Часть третья
ДИАХРОНИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Диахроническая лингвистика изучает отношения не между
сосуществующими элементами данного состояния языка, а между
последовательными, сменяющими друг друга во времени элементами.
В самом деле, абсолютной неподвижности не существует вообще
(см. стр. 107 и сл.); все стороны языка подвержены изменениям;
каждому периоду соответствует более или менее заметная эволюция.
Она может быть различной в отношении темпа и интенсивности, но
самый принцип от этого не страдает; поток языка течет во времени"
непрерывно, а как он течет, спокойно или стремительно,— это
вопрос второстепенный.
Правда, эта непрерывная эволюция весьма часто скрыта от нас
вследствие того, что внимание наше сосредоточивается на
литературном языке; как увидим ниже (см. стр. 231 и сл.), литературный
язык, подчиняющийся иным условиям существования, нежели
народный язык (то есть язык естественный), наслаивается на этот
последний и заслоняет его от нас. Раз сложившись, литературный
язык в общем проявляет достаточную устойчивость и тенденцию
оставаться тождественным самому себе; его зависимость от письма
обеспечивает ему еще большую устойчивость. Литературный язык,
таким образом, не может служить для нас мерилом того, до какой
степени изменчивы естественные языки, не подчиненные никакой
литературной регламентации.
Объектом диахронической лингвистики является в первую
очередь фонетика, и притом вся фонетика в целом. В самом деле,
эволюция звуков не совместима с понятием «состояния»; сравнение
фонем или сочетаний фонем с тем, чем они были раньше, сводится к
установлению диахронического факта. Предшествовавшая эпоха
может быть в большей или меньшей степени близкой, но если она
сливается со следующей, то фонетическому явлению более нет
места; остается лишь описание звуков данного состояния языка, а
это уже предмет фонологии.
173
Диахронический характер фонетики вполне согласуется с тем
принципом, что ничто фонетическое не является значащим или
грамматическим в широком смысле слова (см. стр. 56). При изучении
истории звуков какого-либо слова можно, игнорируя смысл,
рассматривать лишь его материальную оболочку, членить его на
звуковые отрезки, не задаваясь вопросом, имеют они значение или нет.
Можно, например, пытаться узнать, во что превращается в
аттическом диалекте древнегреческого языка ничего не значащее
сочетание -ewo-. Если бы эволюция языка всецело сводилась к эволюции
звуков, противоположность объектов обоих разделов лингвистики
сразу бы стала явной: ясно было бы видно, что диахроническое
равнозначно неграмматическому, а синхроническое —
грамматическому.
Но разве во времени изменяются одни только звуки? Меняют
свое значение слова; эволюционируют грамматические категории;
некоторые из них исчезают вместе с формами, служившими для их
выражения (например, двойственное число в латинском языке).
А раз у всех фактов ассоциативной и синтагматической синхронии
есть своя история, то как же сохранить абсолютное различение
между диахронией и синхронией? Действительно, сохранение этого
различия становится весьма затруднительным, как только мы
выходим из сферы чистой фонетики.
Заметим, однако, что многие изменения, которые считаются
грамматическими, сводятся к фонетическим. В немецком языке
образование грамматического типа Hand:Hände вместо hant: hanti
(см. стр. 116) всецело объясняется фонетически. Равным образом
фонетический фактор лежит в основе сложных слов типа
Springbrunnen «фонтан», Reitschule «школа верховой езды» и т. д. В
древневерхненемецком языке первый элемент в словах этого рода был не
глагольным, а именным: beta-hüs означало «дом молитвы», но
после того как конечный гласный фонетически отпал (beta- —> bet-
и т. д.), установился семантический контакт с глаголом (beten
«молиться» и т. п.), и Bethaus стало означать «дом, где молятся».
Нечто подобное произошло и в тех сложных словах, которые в
древнегерманском языке образовывались с участием слова lïcji
«внешний вид» (ср. mannolich «имеющий мужской вид», redolïch
«имеющий разумный вид»). Ныне во множестве прилагательных
(ср. verzeihlich «простительный», glaublich «вероятный» и τ . д.)
-lieh превратилось в суффикс, который можно сравнить с
французским суффиксом -able в словах pardonnable «простительный»,
croyable «вероятный» и т. д.; одновременно изменилась
интерпретация первого элемента: в нем теперь усматривается не
существительное, а глагольный корень, это объясняется тем, что в ряде
случаев вследствие падения конечного гласного первого элемента
(например, redo-—>red-) этот последний уподобился глагольному
корню (red- от reden).
Так, glaub- в glaublich скорее сближается с glauben «верить»,
174
чем с Glaube «вера», a sichtlich «видимый» ассоциируется, несмотря
на различие в основе, уже не с Sicht «вид», а с sehen «видеть».
Во всех этих случаях и во многих других, сходных с ними,
различение двух планов остается очевидным; это следует помнить,
чтобы легкомысленно не утверждать, будто мы занимаемся
исторической грамматикой, тогда как в действительности мы сначала
вступаем в область диахронии, когда изучаем фонетические изменения, а
затем — в область синхронии, когда рассматриваем вызванные
этими изменениями следствия.
Но это не устраняет всех затруднений. Эволюция любого
грамматического факта, ассоциативной группы или синтагматического
типа несравнима с эволюцией звука. Она не представляет собой
простого явления, а разлагается на множество частных фактов,
которые только частично относятся к фонетике. В генезисе такого
словосочетания, как французское будущее prendre ai,
превратившееся в одно слово prendrai «возьму», различаются по меньшей мере
два факта: один, психологический, — синтез двух понятийных
элементов, другой, фонетический, зависящий от первого,—
сведение двух словесных ударений к одному (prendre ai—> prendrai).
Спряжение германского сильного глагола (тип современного
немецкого geben «давать»: geben, gab, gegeben и т. п.; ср. греч.
leipô «оставляю»: leipô, élipon, léloipa и т. п.) в значительной мере
основано на аблауте гласных корня. Эти чередования (см. стр. 190
и сл.), система которых вначале была довольно простой,
несомненно, возникли в результате действия чисто фонетического фактора.
Однако, для того чтобы эти противопоставления получили
функциональное значение, потребовалось, чтобы первоначальная система
спряжения упростилась в результате целого ряда всяческих
изменений: исчезновение многочисленных разновидностей форм
настоящего времени и связанных с ними смысловых оттенков,
исчезновение имперфекта, будущего и аориста, исчезновение удвоения в
перфекте и т. д. Все эти изменения, в которых, по существу, нет ничего
фонетического, уменьшили число форм глагольного спряжения, а
чередования основ приобрели первостепенную смысловую
значимость. Можно, например, утверждать, что противопоставление e:a
более значимо в gebemgab, чем противопоставление ею в греч. leipô:
léloipa вследствие отсутствия удвоения в немецком перфекте.
Итак, хотя фонетика так или иначе то и дело вторгается в
эволюцию, она все же не может ее объяснить целиком; по устранении же
фонетического фактора получается остаток, казалось бы
оправдывающий такое понятие, как «история грамматики»; именно здесь и
скрывается настоящая трудность: различение между
диахроническим и синхроническим, сохранить которое необходимо,
потребовало бы сложных объяснений, что выходит за рамки этого курса*.
В дальнейшем мы последовательно рассмотрим фонетические
изменения, чередование и явления аналогии, коснувшись в
заключение вкратце народной этимологии и агглютинации,
Глава II
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
§ 1. Абсолютная регулярность
фонетических изменений
Как мы видели (см. стр. 127), фонетические изменения
затрагивают звуки, а не слова. Претерпевает изменение только фонема —
это обособленное событие, как и все диахронические события;
однако оно имеет своим последствием единообразное видоизменение
всех тех слов, в которых встречается данная фонема; в этом
именно смысле фонетические изменения абсолютно регулярны.
В современном немецком все ï перешли в ei: wïn, trïben,
lïhen, zït—>Wein «вино», treiben «гнать», leihen «одолжить»,
Zeit «время»; всякое й перешло в au: hüs, zun, rüch—>Haus
«дом», Zaun «забор», Rauch «дым»; равным образом все й перешли в
eu: hüsir—>Häuser «дома» и т. д. С другой стороны, дифтонг ie
перешел в ï, которое по-прежнему пишется ie: ср. biegen «гнуть», lieb
«милый», Tier «зверь». Параллельно все ио перешли в ü: muot—>Mut
«мужество» и т. п. Всякое ζ (см. стр. 73) дало s (пишется ss): wa-
zer—>Wasser «вода», fliezen—>fHessen «течь» и т. п. Всякое h
между гласными исчезло: lïhen, sehen—>leien (пишется leihen)
«ссужать», seen (пишется sehen) «видеть». Всякое w превратилось
в губно-зубное ν (пишется w): wazer—>wasr (пишется Wasser)
«вода».
В современном французском всякое смягченное 1 перешло в j
(йот): piller «грабить», bouillir «кипеть» (произносятся pije, bujir
и т. п.).
В латинском языке интервокальное s дало г: * genesis —>
generis, *asëna—> arena и т. д.
Любое фонетическое изменение, если только его рассматривать
в правильном свете, может подтвердить полнейшую регулярность
фонетических преобразований.
176
§ 2. Условия фонетических изменений
Приведенные примеры показывают, что фонетические явления
далеко не всегда бывают абсолютными, чаще всего они
подчиняются определенным условиям — иначе говоря, претерпевает
изменение не фонологический тип, но фонема, какой она является в
определенном окружении, под ударением или при отсутствии его и т. д.
Так, например, s перешло в латинском языке в г лишь между
гласными и в некоторых других позициях; во всех прочих положениях
оно сохраняется (ср. est, senex, equos).
Абсолютные изменения чрезвычайно редки; часто они только
кажутся абсолютными благодаря тому, что их обусловленность либо
весьма неявна, либо имеет слишком общий характер: так, в
немецком ï переходит в ei, ai, но только в слоге под ударением;
индоевропейское Iq в германских языках переходит в h (ср. и.-е.
kiOlsom, лат. collum, нем. Hals «шея»), но это изменение не
происходит после s (ср. греч. skotos «тьма» и гот. skadus «тень»).
Впрочем, разделение фонетических изменений на абсолютные
и относительные покоится на поверхностном взгляде на вещи;
рациональнее говорить, как это ныне становится все более и
более принятым, о фонетических изменениях, спонтанных и
комбинаторных. Фонетические изменения спонтанны, когда они
вызваны внутренней причиной, и комбинаторны, когда они
возникают благодаря наличию одной или нескольких других фонем. Так,
переход и.-е. о в герм, а (ср. гот. skadus «тень», нем. Hals «шея»
и т. п.) есть факт спонтанный. Германские мутации согласных, так
называемые Lautverschiebungen, также могут служить примером
спонтанного изменения; так, и.-е. кх переходит в h в прагерманском
языке (ср. лат. collum «шея» и гот. hals «шея»); прагерм. t,
сохраненное в английском, переходит в ζ (произносится ц) в
верхненемецком языке (ср. гот. taihun, англ. ten, нем. zehn «десять»).
Наоборот, переход лат. et, pt в ит. tt (ср. factum—>fatto «сделанный»,
captïvum—>cattivo «дурной») есть факт комбинаторный, так как
первый элемент уподобляется здесь второму. Немецкий умлаут
также вызван внешней причиной: наличием i в следующем слоге;
gast не изменяется, тогда как gasti дает gesti, Gäste.
Отметим, что как в одном, так й в другом случае результат не
играет никакой роли и не важно, происходит или нет изменение.
Если, например, сравнить гот. fisks «рыба» с лат. piscis «рыба»
и гот. skadus «тень» с греч. skotos «тьма», то обнаружится — в
первом случае — сохранение i, во втором случае — переход о в a;
из этих двух звуков первый — i — остался, каким был, второй—
о—изменился; но существенно, что и то и другое— сохранение и
изменение — происходило само по себе, то есть было спонтанным.
Комбинаторное фонетическое изменение всегда обусловлено,
однако спонтанное не является непременно абсолютным, так как оно
может быть обусловлено отрицательно — отсутствием некоторых
177
факторов, необходимых для изменения. Так, и.-е. к2 в латинском
языке спонтанно превращается в qu (ср. quattuor «четыре», inqui-
lïna «жилища» и т.п.), m при условии, что за ним не следует,
например, β или и (ср. cottïdie «ежедневно», colô «возделываю»,
secundus «следующий» и т. п.). Равным образом сохранение и.-е.
i в гот. fisks и т. п. связано со следующим условием: за ним не
должно следовать г или h, иначе оно переходит в е, изображаемое как ai
ср. wair=лaт. vir «муж» и maihstus—нем. Mist «навоз»).
§ 3. Вопросы метода
При описании фонетических явлений можно прибегать лишь к
таким формулировкам, которые не противоречат указанным выше
различениям; в противном случае мы рискуем представить факты
в ложном свете.
Вот несколько примеров подобных неточностей.
Согласно прежней формулировке закона Вернера, «в германском
языке всякое неначальное f> перешло в а, если за ним следовало
ударение»; ср., с одной стороны, *faf>er—>*fader (нем. Vater «отец»),
*li|)umé—>*lidumé (нем. litten «страдали»), с другой стороны,
*]3rïs (нем. drei «три»), *bröf>er (нем. Bruder «брат»), *1фо (нем.
leide «страдаю»), где |э сохраняется. Такая формулировка
приписывает активную роль ударению и вводит ограничительное
условие относительно начального р. В действительности же дело совсем
не в этом: в германском, как и в латинском языке, ]э проявляло
тенденцию к спонтанному озвончению внутри слова; помешать
этому могло только ударение на предшествующем гласном. Итак, все
оказывается наоборот: изменение является спонтанным, а не
комбинаторным и ударение выступает в качестве препятствующего
фактора, а не порождающей причины. Закон следует формулировать
так: «всякое р внутри слова перешло в et, если только этому не
препятствовало ударение на предыдущем гласном».
Для правильного различения фактов спонтанного и
комбинаторного изменения надо проанализировать фазы преобразования и
не принимать опосредствованного результата за
непосредственный. Так, для объяснения ротацизма (ср. лат. *genesis—>generis)
неточно утверждать, будто s между двумя гласными превратилось
в г, так как глухое s ни в коем случае не может перейти прямо в г.
В действительности было два события: s комбинаторно изменилось
в z, a ζ, не сохранившееся в звуковой системе латинского языка,
было заменено очень близким ему звуком г, и это есть спонтанное
изменение. Выходит, таким образом, что прежде ошибочно
смешивали в одном явлении два различных факта; ошибка состояла в
том, что, с одной стороны, принимали опосредствованный результат
за непосредственный (s—>r вместо z—>r), а, с другой стороны,
178
все явление рассматривали как комбинаторное, тогда как таковым
является только его первая часть. Это равносильно тому, как если
бы кто-либо стал утверждать, что во французском e перешло в а
перед носовым согласным. В действительности сперва произошло
комбинаторное изменение — назализация е перед η (ср. лат.
ventum «ветер» —> франц. vent, лат. fëmina «женщина» —> франц.
feme—> feme), а затем спонтанное изменение ё в ä (ср. vänt, fäma,
теперь — vä, fam (пишется vent, femme)). Напрасно было бы
возражать, утверждая, что это могло произойти лишь перед
носовым согласным: вопрос не в том, почему е назализовалось, но
только в том, спонтанным или комбинаторным является переходе в а.
Грубейшая методологическая ошибка, на которую мы считаем
нужным указать, хотя она и не связана с изложенными выше
принципами, состоит в том, что фонетический закон формулируют в
настоящем времени, как если бы предусматриваемые им факты
существовали раз и навсегда, тогда как в действительности они
возникают и исчезают в определенные отрезки времени. Такая
формулировка приводит к путанице, ибо в результате устраняется всякая
хронологическая последовательность событий. Мы уже обращали
внимание на это (стр. 129 и сл.), когда анализировали цепь явлений,
объясняющих пару trikhes:thriksi. Когда говорят «s в латинском
переходит в г», то этим хотят внушить мысль, будто ротацизм
присущ этому языку по природе, а в результате попадают в тупик перед
такими исключениями, как causa «причина», rïsus«CMex» и др.
Только формула «интервокальное s в определенный период развития
латинского языка переходит в г» позволяет говорить, что в тот момент,
когда s переходило в г, в таких словах, как causa, rïsus и т. п., еще
не было интервокального s, почему они и были защищены от
изменения; и, действительно, тогда еще говорили caussa, rïssus. По той
же причине следует говорить: «в ионическом диалекте
древнегреческого языка [в определенный период его развития] а перешло
в ё (ср. mâtêr—>mëtër «мать»)», ибо в противном случае нельзя
объяснить таких форм, как pâsa «вся», phäsi «они говорят» и т. п.
(которые в эпоху изменения произносились еще как pansa, phänsi
и т. д.).
§ 4. Причины фонетических изменений
Выяснение причин фонетических изменений является одним из
труднейших вопросов лингвистики. Было предложено несколько
объяснений, ни одно из которых не пролило окончательного света
на этот вопрос.
1. Высказывалось мнение, что предрасположения,
предопределяющие направление фонетических изменений, заложены в расовых
особенностях говорящих. Но тут возникает вопрос, относящийся
к компетенции сравнительной антропологии: различен ли речевой
аппарат у разных рас? Едва ли в большей степени, чем у разных лю-
179
дей. Ведь негр, живущий со своего рождения во Франции, столь
же хорошо говорит по-французски, как и местные жители. Кроме
того, когда пользуются такими выражениями, как «органы речи у
итальянцев», «уста германцев не допускают этого», то рискуют
чисто историческому факту придать постоянный характер. Это ошибка,
аналогичная той, какую делают, когда формулируют фонетическое
явление в настоящем времени; утверждать, что органы речи
ионических греков противятся произнесению а и изменяют его в ё, столь
же ошибочно, как говорить, что в ионическом диалекте
древнегреческого языка а «переходит в» ё.
Органы речи ионических греков вовсе не отказывались
произносить а: звук этот в названном диалекте встречается. Дело,
следовательно, не в антропологической неспособности, а в изменении
артикуляционных навыков. Сошлемся также на латинский язык,
в котором не сохранилось первоначального интервокального s
(*genesis—>generis «рода»), которое, однако, вновь появилось
позже (ср. *rïssus—>rïsus «смех»); эти изменения указывают на
отсутствие у римлян постоянной предрасположенности к определенному
артикуляционному навыку.
Конечно, у каждого народа в каждую данную эпоху
обнаруживается определенная направленность фонетических изменений;
в монофтонгизации дифтонгов в новом французском языке
отражается одна и та же общая тенденция. Но ведь и в политической истории
можно найти аналогичные общие течения без того, чтобы ставить
под сомнение их чисто исторический характер, и без того, чтобы
объяснять их непосредственно влиянием расы.
2. Фонетические изменения часто рассматриваются как
результат приспособления к природным и климатическим условиям.
Некоторые северные языки нагромождают согласные, некоторые
южные языки весьма широко пользуются гласными, чем и объясняется
их гармоничность. Разумеется, климат и условия жизни могут
влиять на язык, но при внимательном рассмотрении вся проблема
оказывается более сложной: ведь наряду со скандинавскими
наречиями, столь перегруженными согласными, саамский и финский языки
изобилуют гласными еще в большей степени, чем даже
итальянский язык. Заметим также, что нагромождение согласных в
современном немецком языке во многих случаях оказывается
новейшим явлением, вызванным отпадением послеударных гласных;
далее, некоторые диалекты Юга Франции допускают скопления
согласных более охотно, чем северные французские диалекты; в
сербском языке их столько же, сколько и в русском и т. д.
3. Далее, иногда ссылаются на закон наименьшего усилия,
вследствие которого будто бы две артикуляции заменяются одной,
трудная артикуляция — более легкой. Что бы ни говорили об этой
идее, она все же заслуживает рассмотрения; она до некоторой
степени может разъяснить причину явления или по крайней мере
наметить пути для ее отыскания.
180
Закон наименьшего усилия, по-видимому, объясняет некоторые
случаи, как, например, переход смычного согласного в спирант
(лат. habëre—> франц. avoir «иметь»), отпадение конечных
согласных во многих языках, явления ассимиляции (например, 1у —> 11,
*alyos—>rpeч. alios «другой», tn—>nn, *atnos—>лат. annus
«год»), монофтонгизацию дифтонгов, представляющую собой лишь
частный случай ассимиляции (например, ai—>e, франц. maizön —>
mezô (пишется maison) «дом»)) и т. п.
Но дело в том, что можно указать на такое же количество
случаев, когда происходит как раз обратное. Монофтонгизации можно,
например, противопоставить переход ï, ü, ü в ei, au, eu в немецком.
Если считать, что сокращение â, ё в а, ё, которое наблюдается на
славянской почве, объясняется действием закона наименьшего
усилия, тогда обратное явление, наблюдаемое в немецком языке
(fäter—> Väter «отец», geben —> geben «давать»), придется
объяснять действием закона наибольшего усилия. Если считать, что
звонкие произносить легче, нежели глухие (ср. лат. opera «труды»
—>пров. obra «труд»), тогда для объяснения обратных случаев надо
будет привлечь понятие наибольшего усилия; между тем, такие
обратные случаи наблюдаются и в испанском языке, где 5 перешло в
χ (ср. hiχο (пишется hijo) «сын»), и в германских языках, где b, d, g
перешли в ρ, t, к. Если утрата придыхания (ср. и.-е. *bherô—>repM.
beran «нести») рассматривается как уменьшение усилия, то что
сказать тогда о немецком языке, в котором оно появляется там, где его
раньше не было (Tanne «ель», Pute «индейка», которые произносятся
соответственно Thanne, Phute)?
Наши замечания нисколько не претендуют на то, чтобы
опровергнуть теорию наименьшего усилия. Просто фактически едва ли
возможно определить в отношении каждого языка, что является
более легким для произношения и что более трудным. Совершенно
верно, что сокращение звука соответствует меньшему усилию, в
смысле уменьшения длительности, но ведь верно и то, что
небрежное произношение приводит к удлинению гласных и что краткие
гласные требуют большего внимания при их произношении. Таким
образом, предполагая различные предрасположения, можно два
противоположных факта представить в одинаковом свете.
Возьмем еще случай с к, которое перешло в tj* (ср. лат. cëdere—>mu/i.
cedere «уступать»); если принимать во внимание только крайние
точки этого процесса, то может показаться, что произошло
увеличение усилия; но это впечатление меняется, стоит только восстановить
всю цепь преобразования: к становится нёбным к' вследствие
уподобления последующему гласному; затем к' переходит в kj, но
произношение не становится от этого более трудным, наоборот, оба
включенных в к' элемента в результате перехода оказываются
четко разграниченными, и дальнейший переход от kj к tj, ίχ' и,
наконец, к tj* каждый раз сопровождается уменьшением
усилия.
181
Здесь открывается обширное поле для исследований, которые,
чтобы стать полными, должны принять во внимание и
физиологическую точку зрения (проблема артикуляции), и психологическую
точку зрения (проблема внимания).
4. Согласно распространившемуся за последние годы взгляду,
изменения в произношении приписываются нашему фонетическому
воспитанию в детстве. Только после долгих проб, ошибок и
исправлений ребенок научается произносить то, что он слышит от
окружающих; здесь будто бы таится источник фонетических изменений:
некоторые не исправленные в детстве неточности в
произношении закрепляются у целого ряда лиц и охватывают все
подрастающее поколение. Наши дети часто произносят t вместо к, хотя в
истории наших языков соответствующее фонетическое изменение не
встречается. Иначе обстоит дело с некоторыми другими
отступлениями от нормы; так, в Париже многие дети произносят fl'eur,
bl'anc со смягченным 1; между тем в итальянском вследствие
аналогичного процесса лат. florem перешло в fl'ore, затем в fiore «цветок».
Эти наблюдения заслуживают внимания, но все же не решают
проблемы. В самом деле, нельзя понять, почему данное поколение
удерживает одни из усвоенных в детстве неточностей, а не другие,
в одинаковой мере естественные; действительно, выбор
неправильных произношений представляется чисто произвольным,
рационально не обоснованным. Далее, почему данное явление прокладывает
себе путь именно в данную эпоху, а не в другую?
Впрочем, это замечание относится и ко всем перечисленным выше
факторам, если только допускать эффективность их действия: и
влияние климата, и предрасположение, коренящееся в расовых
особенностях говорящих, и тенденция к наименьшему усилию
существуют постоянно или, во всяком случае, длительно. Почему же
они действуют эпизодически, то в одной точке фонологической
системы, то в другой? У исторического события должна быть
определяющая его причина, а между тем для нас остается неясным, что же
именно в каждом отдельном случае вызывает данное изменение,
причина которого в общем виде существовала уже давно. А ведь в
этом-то и состоит вопрос, требующий разрешения.
5. Иногда стараются найти эти определяющие причины в
общих условиях бытия народа в данный момент. Одни из
переживаемых языками эпох связаны с большими сдвигами, чем другие;
пытаются приурочить такие эпохи к бурным периодам внешней
политической истории, устанавливая таким образом связь между
политической неустойчивостью и неустойчивостью языка; полагают, что,
исходя из этого, к фонетическим изменениям можно применить
выводы, сделанные в отношении языка вообще. Указывают, например,
что наиболее резкие перемены в латинском языке в период
сложения романских языков совпадают с весьма беспокойной эпохой
вражеских нашествий. Чтобы не запутаться в этом вопросе, следует
принимать во внимание следующие два момента:
182
а) Политическая стабильность влияет на развитие языка вовсе
не так, как политическая нестабильность, никакой симметрии здесь
нет. Когда политическое равновесие замедляет эволюцию языка,
речь идет о положительной, хотя и внешней, причине, тогда как
политическая неустойчивость, эффект которой должен быть
обратным, может действовать лишь отрицательно. Неподвижность,
большая или меньшая фиксированность данного конкретного языка
может проистекать из явлений, внешних по отношению к языку
(langue) (влияние двора, школы, академии, письменности и т. п.),
которым в свою очередь благоприятствует установившееся
социальное и политическое равновесие. Наоборот, если какое-либо
внешнее потрясение, происшедшее в истории народа, ускоряет
языковую эволюцию, то это значит только, что язык вновь обрел
состояние свободы и следует своему нормальному течению.
Неподвижность латинского языка в классическую эпоху объясняется
внешними факторами и не может сравниваться с теми изменениями, которые
он испытал впоследствии, ибо эти изменения произошли сами собой
благодаря отсутствию сдерживающих внешних причин.
б) Здесь речь идет лишь о фонетических явлениях, а не о всякого
рода изменениях в языке. Можно еще понять, что грамматические
изменения связаны с вышеуказанными причинами; грамматические
факты какими-то своими сторонами всегда связаны с мышлением и
легче отражают на себе действие внешних потрясений, поскольку
эти последние более непосредственно влияют на человеческий ум.
Но у нас нет никаких данных утверждать, что бурным эпохам в
истории народа соответствуют резкие фонетические изменения в
языке.
Впрочем, нельзя указать ни одной эпохи, даже из числа тех,
когда язык пребывает в состоянии искусственной неподвижности,
в течение которой не произошло бы никакого фонетического
изменения.
6. Высказывалась также гипотеза о «предшествующем языковом
субстрате»: некоторые изменения будто бы обязаны своим
возникновением туземному населению, поглощенному новыми
пришельцами. Так, различие между langue d'oc (говоры Юга Франции) и
langue d'oïl (говоры Севера Франции) будто бы соответствует
различной пропорции коренного кельтского элемента в южной и
северной Галлии; эту теорию применяли также для объяснения
диалектных различий итальянского языка, сводя их в зависимости от
географического положения диалектов к лигурским, этрусским и
другим влияниям. Прежде всего, следует сказать, что эта гипотеза
предполагает наличие ситуации, которая встречается довольно
редко. Кроме того, следует уточнить, что имеют в виду, говоря о
языковом субстрате. Если этим хотят сказать, что, принимая новый
язык, местное население вводит в него нечто от своих
произносительных навыков, то это вполне допустимо и естественно. Но если
при этом опять начинают ссылаться на неуловимые факторы расы
183
и т. п., то мы снова сталкиваемся с теми же затруднениями, о
которых говорилось выше.
7. Наконец, последнее объяснение, совсем не заслуживающее
такого названия, приравнивает фонетические изменения к
изменениям моды. Но причин изменения моды пока никто не вскрыл:
известно только, что они зависят от законов подражания,
интересующих многих психологов. Однако, хотя такое объяснение и не
решает вопроса, оно все же имеет то преимущество, что делает его
частью более широкой проблемы: причина фонетических изменений
оказывается чисто психологической. Тайной остается лишь одно:
где же искать отправную точку для подражания как у изменений
моды, так и у фонетических изменений?
§ 5. Неограниченность действия
фонетических изменений
Если кто-либо пожелает выяснить действие тех или иных
фонетических изменений, тот легко убедится, что они безграничны и
неисчислимы; иначе говоря, невозможно предвидеть, где они
прекратятся. Наивно думать, что слово может видоизменяться лишь до
определенного предела, как будто в нем есть нечто оберегающее его от
дальнейших изменений. Это свойство фонетических изменений
обусловлено произвольностью знака, ничем не связанного со значением.
В каждый данный момент можно констатировать, как и в какой
мере видоизменились звуки какого-либо слова, но нельзя
предвидеть заранее, до какой степени это слово стало или станет
неузнаваемым.
Индоевропейское *aiwom (ср. лат. aevom) «вечность», «век» в
германском языке перешло, как и все слова с подобным окончанием,
B *aiwan, *aiwa, *aiw; в дальнейшем *aiw, как и все слова с этой
группой звуков, превратилось в древненемецком языке в ëw «вечность»,
«время», затем, поскольку всякое конечное w изменилось в о,
получилось ёо; в свою очередь ёо перешло в ео, io в соответствии с
другими, столь же общими законами; в дальнейшем io дало ie, je и,
наконец, в современном немецком языке — je (ср. das schönste, was
ich je gesehen habe «прекраснейшее из того, что я когда-либо видел»).
Если рассматривать только исходный и конечный пункты,
современное слово не содержит ни одного из первоначальных
элементов; тем не менее каждый этап, взятый в отдельности, абсолютно
определен и регулярен; кроме того, каждый из них ограничен в
своем действии, а совокупность их создает впечатление безграничной
суммы модификаций. Аналогичные наблюдения можно сделать
относительно лат. calidum (вин. п. от calidus «теплый»), сравнив его
сперва непосредственно с тем, во что оно превратилось в
современном французском языке (JO, пишется chaud «теплый»), а затем вос-
184
становив все этапы: calidum, calidu, caldu, cald, calt, tjalt, tjaut,
J*aut, Jot, Jo. Ср. также нар.-лат. *waidanju—>g§ (пишется gain)
«выигрыш», minus —>mwë (пишется moins) «меньше», hoc
illï —> wi (пишется oui) «да».
Действие фонетических изменений безгранично и неисчислимо
еще и в том смысле, что оно захватывает любого рода знаки, не
делая различий между прилагательным, существительным и т. д.,
между основой, суффиксом, окончанием и т. д. Так и должно быть,
рассуждая a priori, ибо, если бы сюда вторгалась грамматика,
фонетический факт сливался бы с синхроническим фактом — вещь
совершенно невозможная. В этом-то и состоит «слепой» характер
звуковых изменений.
Так, в греческом s отпало после η не только в *khänses «гуси»,
* menses «месяцы» (откуда chênes, mènes), где у него не было
грамматической значимости, но и в глагольных формах типа *etensa,
*ephansa и т. д. (откуда éteina, éphéna и т. д.), где оно
характеризовало аорист. В средневерхненемецком языке послеударные
гласные Ï, ё, а, δ слились в е (gibil —> Giebel «конек крыши», meis-
tar—>Meister «мастер»), несмотря на то что различиями в качестве
гласного характеризовались многие окончания; вследствие этого,
например, формы винительного падежа ед. ч. boton «вестника»,
«гонца» и родительного — дательного падежа ед. ч. boten
«вестнику», «гонцу» совпали в boten.
Если, таким образом, фонетические явления не встречают
никакого ограничения, они должны вызывать глубочайшие
потрясения в грамматическом организме в целом. К рассмотрению их под
этим углом зрения мы теперь и перейдем.
Глава III
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ
§ 1. Разрыв грамматической связи
Первым последствием фонетического изменения является разрыв
грамматической связи, соединяющей два или несколько слов. В
результате этого получается, что одно слово не воспринимается уже
как произведенное от другого, например:
лат. mansiô «жилище» — *mansiönäticus
франц. maison «дом» || ménage «хозяйство».
Языковое сознание видело прежде в *mansiönäticus слово,
производное от mansiô, потом превратности фонетической судьбы
развели их врозь. Другой пример:
(vervëx — vervêcârius)
нар.-лат. berbïx «баран» — berbicärius «пастух»
франц. brebis «овца» || berger «пастух».
Такой разрыв связи, естественно, отзывается и на значимости:
так, в некоторых французских говорах berger означает ныне
«коровий пастух».
Или еще пример:
лат. Grätiänopolis «Грацианополь» — grätiänopolitänus
«Грацианопольский [округ]» 1
франц. Grenoble «Гренобль» || Grésivaudan «Грезиводан»
лат. decern «десять» — undecim «одиннадцать»
франц. dix «десять» || onze «одиннадцать».
Аналогичный случай представляет собой готск. bïtan «кусать» —
bitum «мы кусали» — bitr «кусающий», «горький»; вследствие пере-
1 Название той части долины р. Ивер, которая примыкает к Греноблю;
франц. Grésivaudan фонетически восходит к Grätiänopolitänus (сокращение от
pägus grätiänopolitänus «Грацианопольский округ»; такое сокращение находит
некоторую аналогию в русских сокращениях типа Московская [вместо
станция Московская]).— Прим, ред.
186
хода t —> ts (ζ), с одной стороны, и сохранения группы согласных tr,
с другой стороны, в западногерманском получилось: bizan, bizum ||
bitr.
Фонетическая эволюция может также разрывать нормальную
связь между двумя формами одного и того же слова. Так, форма име-
нительного падежа лат. comes «спутник» — винительного падежа
comitem «спутника» дает в старофранцузском cuens «граф» (прямой
падеж) || comte «графа» (косвенный падеж); ср. также нар.-лат. barô
«свободнорожденный» — barOnem «свободнорожденного» —> старо-
франц. ber «барон» || baron «барона», лат. presbiter «старейшина»,
«пресвитер» — вин. п. presbiterum «пресвитера»—> старофранц.
prestre «священник» || provoire «священника».
В других случаях надвое расчленяется окончание. В
индоевропейском языке винительный падеж ед. ч. во всех случаях
характеризовался звуком -m*, например: *ek1wom, *owim, *podm, *mäterm
и т.д.
В латинском языке никаких существенных изменений в этом
окончании не произошло; но в греческом языке очень разная
трактовка носового сонанта и носового консонанта привела к двум
различным рядам форм: hippon «коня», o(w)in «овцу»: poda «ногу»,
matera «мать». Нечто вполне аналогичное представляет собой и
форма винительного падежа мн. ч.: ср. hippous «коней», но podas
«ноги».
§ 2. Стирание сложного строения слов
Другое грамматическое следствие фонетического изменения
состоит в том, что отдельные значимые части слова теряют
способность выделяться: слово становится неделимым целым. Примеры:
франц. ennemi «враг» (ср. лат. in-imïcus «недруг»— amicus «друг»),
лат. perdere «губить» (ср. более древнее per-dare — dare «давать»),
amiciO «окутываю» (вместо *ambjaciö — jaciö «бросаю, кладу»),
нем. Drittel «треть» (вместо drit-teil «третья часть» — teil «часть»).
Нетрудно заметить, что подобные случаи сводятся к тем,
которые были рассмотрены в предыдущем параграфе; если, например,
Drittel неразложимо, то это значит, что его более нельзя сближать,
подобно drit-teil, со словом teil. Формула
teil — dritteil
Teil || Drittel
во всем подобна формуле
mansiô — mansiönäticus
maison || ménage.
Ср. еще decern — undecim, но dix || onze.
187
Простые формы классической латыни hune «этот» (форма
винительного падежа от местоимения мужского рода «этот»), hanc «это»
(форма винительного падежа от местоимения среднего рода «это»),
häc «здесь» и т. д., восходящие к засвидетельствованным в
эпиграфических памятниках hon-ce, han-ce, hä-ce, сложились в результате
агглютинации местоимения с частицей -се; прежде hon-ce и др.
можно было сближать с ес-се; но впоследствии после фонетического
отпадения -е это стало невозможно; таким образом, перестали
различаться составные элементы, входящие в hune, hanc, häc
и т. д.
Прежде чем сделать разложение на значимые элементы
совершенно невозможным, фонетическая эволюция начинает с того, что
делает его в большей или меньшей мере затрудненным. Примером
этого является индоевропейское склонение.
В индоевропейском существительное *pods склонялось
следующим образом: им. п. ед. ч. *pod-s, вин. п. ед. ч. *pod-m, дат. и. ед. ч.
*pod-ai, местн. п. ед. ч. *pod-i, им. п. мн. ч. *pod-es, вин. п. мн. ч.
*pod-ns и т. д.; первоначально точно таким же образом склонялось
и *ek1wo-s: им. п. ед. ч. '^e^wo-s, вин. п. ед. ч. *ек^о-т, дат. п. ед. ч.
*ek1wo-ai, местн. п. ед. ч. *ек^о-1, им. п. мн. ч. *ек^о-ез, вин. п.
мн. ч. *ekxwo-ns и т. д. В ту эпоху основа *ekxwo- выделялась столь
же легко, как и *pod-. Но впоследствии стяжения гласных внесли
перемену в это положение, получилось: дат. п. ед. ч. *ekxwöi, местн.
п. ед. ч. *ekxwoi, им. п. мн. ч. *ek1wös. С этого момента основа
*ekxwo- потеряла свою прозрачность и разложение на основу и
флексию стало затрудненным. В еще более позднюю эпоху
дальнейшие изменения, как, например, дифференциация окончаний в
винительном падеже (см. стр. 187), окончательно стерли последние черты
прежнего состояния. Современникам Ксенофонта, вероятно,
казалось, что основой является hipp- и что окончания начинаются на
гласный (hipp-os и т. д.). Таким образом, типы *ekxwo-s и *pod-s
окончательно разошлись. В области словоизменения, как и во всех
прочих, всё, затрудняющее разложение на значимые элементы,
способствует ослаблению грамматической связи.
§ 3. Фонетических дублетов не бывает
В обоих случаях, рассмотренных в § 1 и 2, в результате
эволюции в разные стороны расходятся элементы языка, первоначально
грамматически связанные. Это явление может дать повод к
грубейшей ошибке в интерпретации фактов.
Когда мы констатируем относительную тождественность нар.-
лат. barö «свободнорожденный» : barönem «свободнорожденного»
и несходство старофранц. ber «барон»: baron «барона», то разве это
не наводит нас на мысль, что одна и та же исходная единица bar-
188
развилась в двух расходящихся направлениях и породила две
формы? Между тем это неверно, потому что один элемент не может
одновременно и в одном и том же месте подвергаться двум различным
преобразованиям: это противоречило бы самому определению
фонетического изменения. Эволюция звуков неспособна сама по себе
создать две формы вместо одной.
Против нашего тезиса можно выдвинуть ряд возражений.
Допустим, что они подкреплены следующими примерами: нам могут
сказать, что лат. collocäre «помещать», «класть» дало во
французском coucher «положить» и colloquer «помещать». Но это верно лишь
относительно coucher; colloquer является всего лишь книжным
заимствованием из латинского (ср. франц. rançon «выкуп» и rédemption
«искупление» и т. п.).
Но разве от лат. cathedra «кресло» не произошло два подлинно
французских слова: chaire «кафедра» и chaise «стул»? Нет! В
действительности chaise есть форма диалектная. В парижском говоре
интервокальное г переходило в z; например, говорили pèse, mèse
вместо père «отец», mère «мать»; во французском литературном
сохранились лишь два образца этого местного произношения: chaise
«стул» и besicles «очки» (дублет béricles восходит к béryl «берилл»).
Этот случай можно сравнить со случаем недавнего перехода во
французский литературный язык пикардийского слова rescapé
«спасшийся», «избавившийся», оказавшегося, таким образом,
противопоставленным réchappé. Если у нас есть такие пары слов, как cavalier
«всадник» и chevalier «рыцарь», cavalcade «кавалькада» и chevauchée
«поездка верхом», то это потому, что cavalier и cavalcade
заимствованы из итальянского языка. В сущности, этот случай аналогичен
лат. calidum (вин. п. от calidus «теплый»), которое дало во
французском chaud, а в итальянском caldo. Во всех этих случаях мы имеем
дело с заимствованиями.
Если нам укажут, что латинское местоимение те «меня»
представлено во французском двумя формами — те и moi
(ср. il те voit «он видит меня» и c'est moi qu'il voit «он видит
именно меня»), то мы ответим так: французское те восходит
к безударному лат. те; ударяемое лат. me дало во французском moi;
наличие же или отсутствие ударения зависит не от фонетических
законов, превративших те в те и moi, а от роли этого слова в
предложении; таким образом, два способа существования (dualité) слова
представляют собой явление грамматическое. Так и в немецком
*ur-: под ударением осталось иг-, а в предударной позиции ur-
превратилось в er- (ср. Urlaub «отпуск» и erlauben «позволять»);
но ведь само место ударения связано с типами сочетаний, в которые
входило ur-, а следовательно, с грамматической и тем самым с
синхронической ситуацией. Наконец, возвращаясь к нашему первому
примеру, заметим, что различия в форме и ударении, представляемые
парой bârô : barônem, несомненно, предшествуют фонетическому
изменению.
189
Фактически нигде нельзя найти фонетических дублетов.
Эволюция звуков только подчеркивает уже существовавшие до нее
различия. Всюду, где эти различия не обязаны своим существованием
внешним причинам, как это имеет место в отношении заимствований,
они предполагают наличие грамматических и синхронических
дублетов (dualités), абсолютно несовместимых с фонетическим
изменением, как таковым.
§ 4. Чередование
По-видимому, в таких двух словах, как maison «дом» и ménage
«хозяйство», нет смысла искать, что отличает их друг от друга,
отчасти вследствие того, что различительные элементы (-ezô и -en-)
дают мало материала для сопоставления, отчасти же вследствие
отсутствия других слов с аналогичным противопоставлением. Но часто
случается, что два близких слова различаются лишь одним или
двумя элементами, выделяемыми без труда, и что то же самое различие
регулярно повторяется в целом ряде аналогичных пар; в таком
случае мы имеем дело с наиболее широким и наиболее обычным из тех
грамматических явлений, в которых участвуют фонетические
изменения,— это явление называется чередованием (alternance).
Всякое латинское б в открытом слоге превратилось во
французском в eu под ударением и в ou в предударной позиции; отсюда
такие пары, как pouvons «мы можем»: peuvent «они могут», douloureux
«больной»: douleur «боль», nouveau «новый»: neuf «новый» и т. п.,
в которых можно без труда выделить элемент различия и
регулярного варьирования. В латинском языке в связи с явлением ротацизма
чередуются gerö «ношу»: gestus (причастие от gerö), oneris «бремени»:
onus «бремя», maeror «печаль»: maestus «печальный» и т. д. Ввиду
различной трактовки s в зависимости от места ударения в
германских языках в средневерхненемецком мы имеем ferliesen «терять»:
ferloren (прич. прош. вр. от ferliesen), kiesen «избирать»: gekoren
(прич. прош. вр. от kiesen), friesen «мерзнуть»: gefroren (прич. прош.
вр. от friesen) и т. д. Падение и.-е. е отражается в современном
немецком языке в виде противопоставлений beissen «кусать» : biss
«кусал», leiden «страдать» : litt «страдал», reiten «ехать(верхом)»: ritt
«ехал» и т. д.
Во всех этих случаях чередование затрагивает корневой элемент,
однако само собой разумеется, что аналогичные
противопоставления могут распространяться на все части слова. Нет более обычного
явления, чем, например, изменение формы префикса в зависимости
от свойств начального звука основы (ср. греч. apo-didômi «отдавать»,
«возвращать»: ap-érchomai «уходить», «возвращаться», франц.
inconnu «неизвестный» : inutile «ненужный»). Индоевропейское
чередование е : о, которое должно так или иначе иметь в конечном счете
180
фонетические причины, встречается в большом числе
суффиксальных элементов [греч. hippos «конь» (им. п. ед. ч.) : hippe «конь»
(зват. п. ед. ч.), phér-o-men «несем» : phér-e-te «несете», gén-os
«род»:gén-e-os (вместо *gén-es-os «рода») и т.д.]. В
старофранцузском языке особо трактуется латинское ударяемое а после нёбных;
отсюда чередование e:ie во многих окончаниях (ср. chant-er «петь» :
jug-ier «судить, решать», chant-é «спетый» : jug-ié «присужденный,
решенный», chant-ez «поете»:jug-iez «судите, решаете» и т.д.).
Итак, чередование может быть определено как соответствие меж-
ду двумя определенными звуками или сочетаниями звуков,
подвергающимися регулярной пермутации по двум рядам сосуществующих
форм.
Ясно, что, подобно тому, как фонетическое изменение не объясняет
само по себе дублетов, оно равным образом не является ни
единственной, ни главнейшей причиной чередования. Когда говорят, что
лат. nov- в результате фонетического изменения превратилось в
neuv- и nouv- (neuve «новый» и nouveau «новый», «молодой»), то
создают тем самым вымышленную единицу и пренебрегают наличием
предшествующей синхронической двойственности; позиционное
различие nov- в лат. nov-us «новый» и nov-ellus «новый», «молодой»
предшествует фонетическому изменению и является исключительно
грамматическим фактом (ср. barô:barônem). Такая двойственность
служит как источником любого чередования, так и необходимым для
него условием. Фонетическое изменение не уничтожило прежней
единицы, оно только сделало более наглядным противопоставление
уже сосуществующих элементов, подчеркнув его расхождением
звучания. Многие лингвисты до сих пор делают ошибку, полагая, что
чередование есть явление фонетическое, основываясь на том, что
материалом для него служат звуки, и что в его генезисе участвуют
тоже изменения звуков. В действительности же чередование, как в
его исходной точке, так и в его окончательном виде, всегда
принадлежит только грамматике и синхронии.
§ 5. Законы чередования
Можно ли свести чередования к определенным законам и какого
рода эти законы?
Разберем столь часто встречающееся в современном немецком
языке чередование e:i; при этом возьмем все случаи вперемешку,
не упорядочивая их: geben «давать» : gibt «дает», Feld «поле» : Gefilde
«поле», «нива», Wetter «погода» : wittern «чуять», helfen «помогать» :
Hilfe «помощь», sehen «видеть»:Sicht «вид» и т. д.,— тут мы не
можем сформулировать никакого общего принципа. Но если из этой
массы извлечь пару geben : gibt и сопоставить ее с schelten «бранить» :
schilt «бранит», helfen «помогать» : hilft «помогает», nehmen «брать» :
191
nimmt «берет» и т. д., то окажется, что это чередование совпадает
с различением времени, лица и т.д.; в lang «длинный» : Länge
«длина», stark «сильный» : Stärke «сила», hart «твердый» : Härte
«твёрдость» и т. д. подобное же противопоставление а : е связано
с образованием существительных от прилагательных; в Hand
«рука»: Hände «руки». Gast «гость» : Gäste «гости» и т.д.— с
образованием множественного числа, и так во всех столь
многочисленных случаях, которые объединяются германистами под названием
аблаута (ср. еще finden «находить» : fand «нашел» и finden
«находить» : Fund «находка»; binden «связывать» : band «связал» й binden
«связывать» : Bund «связка»; schiessen «стрелять» : schoss «стрелял» :
Schuss «выстрел»; fliessen «течь»:floss «TëK»:Fluss «поток» и т.д.).
Аблаут—иначе перегласовка гласных корня, совпадающая с
грамматическим противопоставлением,— может служить прекрасным
примером чередования; от явления чередования в целом он не
отличается никакими особыми чертами.
Мы видим, что чередование обычно распределяется (est
distribuée) между несколькими соотнесенными элементами языка
регулярным образом и что оно совпадает с существенными
противопоставлениями по линии функции, категории, детерминации.
Благодаря этому можно говорить о грамматических законах чередования,
но эти законы не более как случайный результат породивших их
фонетических фактов. Эти последние создают регулярное звуковое
противопоставление между двумя рядами противопоставленных по
значимости языковых элементов; сознание ухватывается за это
материальное различие с целью сделать его значимым и связать его с
различением понятий (см. стр. 117 и сл.). Как и все другие
синхронические законы, грамматические законы чередования — это всего
лишь отправные начала соотношений (principes de disposition),
не имеющие обязательной силы. Таким образом,
неправильно говорить, как это часто делают, будто а слова Nacht «ночь»
изменяется в ä во множественном числе — Nächte; в результате этого
создается ложное представление, будто один элемент преобразуется
в другой под давлением какого-то императивного начала. В
действительности же мы имеем дело с простым противопоставлением форм,
возникшим в результате фонетической эволюции. Совершенно
верно, что аналогия, о которой будет сказано ниже, может
способствовать созданию новых пар, представляющих такое же звуковое
различие (ср. Kranz «венок» : Kränze «венки» по образцу Gast «гость»:
Gäste «гости» и т. д.)., Создается впечатление, будто закон
применяется в качестве правила, достаточно императивного, чтобы
изменить установившийся обычай. Но не надо забывать, что в языке все
эти пермутации всегда могут подпасть под аналогические влияния,
действующие в противоположном направлении. Этого достаточно,
чтобы подчеркнуть всю непрочность подобного рода правил, вполне
отвечающих тому определению, которое мы дали синхроническому
закону.
192
Бывают случаи, когда фонетическое условие, вызвавшее
чередование, очевидно. Так, у указанных на стр. 191 π сл. пар в
древневерхненемецком языке была следующая форма: geban «давать» : gibit
«дает», feld «поле» :gafildi «нива» и т. д. В ту эпоху, если за основой
следовало i, она сама выступала с i вместо e, а во всех прочих
случаях — ce. Латинское чередование faciô «делать»:conficiô
«сделать», amicus «друг» : inimîcus «недруг», facilis «легкий» : difficilis
«нелегкий» и т. д. равным образом связано с фонетическим условием,
которое говорящие выразили бы следующим образом: звук а в
словах типа faciô, amicus и т. д. чередуется с i в словах того же гнезда,
где это а оказывается во внутреннем слоге.
Но эти звуковые противопоставления вызывают совершенно те
же замечания, как и все вообще грамматические законы: они
синхроничны; как только это забывают, рискуют впасть в уже
указанную выше (см. стр. 129) ошибку. Перед лицом такой пары, как faciô :
conficiô, надо остерегаться смешения отношений между этими
сосуществующими элементами с тем отношением, которое связывает
последовательные во времени элементы факта диахронического:
confaciô —> conficiô. Если у нас имеется соблазн впасть здесь в
ошибку, то это означает, что причина фонетической дифференциации в
данной паре еще ощутима, однако действие ее принадлежит
прошлому, а для говорящих здесь имеет место только обыкновенное
синхроническое противопоставление.
Все вышесказанное подтверждает выдвинутое нами положение
о строго грамматическом характере чередования. Для его
наименования пользовались термином «пермутация»; термин вполне
точный, но лучше его избегать именно потому, что его часто применяли
к фонетическому изменению, а также потому, что он вызывает
ложное представление о движении там, где есть только состояние.
§ 6. Чередование и грамматическая связь
Как мы уже видели, фонетическая эволюция, изменяя форму
слов, приводит к разрыву соединяющих их грамматических связей.
Но это верно лишь относительно таких изолированных пар, как
maison «дом» : ménage «хозяйство», Teil «часть» : Drittel «треть»
и т. д. С чередованием же дело обстоит совершенно иначе.
Прежде всего, ясно, что всякое хоть сколько-нибудь регулярное
звуковое противопоставление двух элементов содействует
установлению между ними связи. Wetter «погода» инстинктивно сближается
с wittern «чуять», так как чередование е с i является вполне
обычным. Когда же говорящие осознают, что данное звуковое
противопоставление регулируется общим законом, оказывается еще больше
оснований к тому, чтобы это привычное соответствие навязывалось
их вниманию и тем самым способствовало закреплению, а отнюдь не
7 Ф, де Соссюр
193
ослаблению грамматической связи. Вот почему немецкий аблаут (см.
стр. 191 и сл.) только подчеркивает восприятие единства основ через
их варианты с разной огласовкой.
То же относится и к незначащим чередованиям, которые
обусловлены лишь фонетически. Французский префикс re- (reprendre «снова
брать», regagner «снова получать», retoucher «снова трогать» и т. д.)
перед гласным сокращается в г- (rouvrir «снова открывать», racheter
«снова покупать» и т. д.), равным образом префикс in-, вполне
живой, несмотря на свое книжное происхождение, в тех же условиях
появляется в двух различных формах: δ- (в inconnu «неизвестный»,
indigne «недостойный», invertébré «беспозвоночный» и т. д.) и in-
(inavouable «постыдный» = «непризнаваемый», inutile
«бесполезный», inesthétique «неэстетичный» и т. д.). Такие различия
нисколько не разрушают смыслового единства, так как смысл и функция
воспринимаются как тождественные, а случаи употребления той или
другой формы строго фиксированы в языке.
Глава IV
АНАЛОГИЯ
§ 1. Определение аналогии и примеры
Из всего вышесказанного следует, что фонетические изменения
являются деструктивным фактором в жизни языка. Всюду, где они
не создают чередований, они способствуют ослаблению
грамматических связей, объединяющих между собою слова; в результате этого
бесполезно увеличивается количество форм, механизм языка
затемняется и усложняется в такой степени, что порожденные
фонетическим изменением неправильности берут верх над формами, которые
группируются по общим образцам,— иначе говоря, в такой степени,
что абсолютная произвольность оттесняет на задний план
относительную произвольность (см. стр. 165 и сл.).
К счастью, действие этих изменений уравновешивается
действием аналогии. Аналогией объясняются все нормальные модификации
внешнего вида слов, не имеющие фонетического характера.
Аналогия предполагает образец и регулярное подражание ему.
Аналогическая форма — это форма, образованная по образцу одной
или нескольких других форм согласно определенному правилу.
Так, в латинском им. п. honor «честь» есть результат аналогии.
Прежде говорили honös «честь» (им. п.): honösem «честь» (вин. п.),
затем в результате ротацизма s — honôs: honorem. Основа получила,
таким образом, двоякую форму; эта ее двойственность была
устранена появлением новой формы honor, созданной по образцу orator
«оратор»: örätörem «оратора» и т. д. посредством приема, который
мы проанализируем ниже, а сейчас сведем к формуле вычисления
четвертой величины в пропорции
örätörem : orator = honorem : χ
χ = honor
Итак, мы видим, что, уравновешивая действие фонетического
изменения, приводящего к расхождению (honös : honorem), аналогия
снова воссоединила формы и восстановила регулярность (honor
honorem).
7*
195
По-французски долгое время говорили il preuve «он доказывает»,
nous prouvons «мы доказываем», ils preuvent «они доказывают».
Теперь же говорят il prouve, ils prouvent, то есть употребляют
формы, фонетически необъяснимые; il aime «он любит» восходит к лат.
amat, тогда как nous aimons «мы любим» представляет собой
аналогическое образование вместо amons; следовало бы также говорить
amable вместо aimable «любезный». В греческом s исчезло между
двумя гласными: -eso- превратилось в -ео- (ср. géneos «рода» вместо
*genesos). Между тем это интервокальное s встречается в будущем
времени и аористе всех глаголов на гласный: буд. вр. lusô, аор. élûsa
(от Ιύδ «развязывать») и т. д. Аналогия с формами типа буд. вр. tupsô,
аор. étupsa (от tuptö «бить»), где s не выпадало, сохранила s в форме
будущего времени и аористе указанных глаголов. В немецком языке
в таких случаях, как Gast «гость»: Gäste «гости», Balg «шкура»:
Bälge «шкуры» и т. д., мы имеем фонетические явления, тогда как
случаи Kranz «венок» : Kränze «венки» (прежде kränz : kranza), Hals
«шея» : Hälse «шеи» (прежде halsa) и т. д. своим происхождением
обязаны подражанию.
Аналогия действует в направлении большей регулярности и
стремится унифицировать способы словообразования и
словоизменения. Но у нее есть и свои капризы: наряду с Kranz «венок»:
Kränze «венки» и т. д. мы имеем Tag «день » : Tage «дни», Salz «соль»: Salze
«соли» и т. д., по той или иной причине устоявшие против действия
аналогии. Таким образом, нельзя наперед сказать, до какого
предела распространится подражание образцу и каковы те типы, по
которым будут равняться другие. Так, далеко не всегда образцом для
подражания при аналогии служат наиболее многочисленные формы.
В греческом перфекте наряду с действительным залогом pépheuga
«я убежал», pépheugas «ты убежал», pephéugamen «мы убежали»
и т. д. весь средний залог спрягается без а : péphugmai «я убежал»,
pephugmetha «мы убежали» и т. д., и гомеровский язык показывает
нам, что это а первоначально отсутствовало во множественном и
двойственном числах действительного залога: ср. idmen «мы знаем»,
éïkton «мы (двое) похожи» и т. д. Исходной точкой для
распространения аналогии явилась, таким образом, исключительно форма
первого лица единственного числа действительного залога, которая и
подчинила себе почти всю парадигму перфекта изъявительного
наклонения. Этот случай примечателен еще в том отношении, что
здесь в силу аналогии к основе отходит элемент -а-, первоначально
бывший элементом словоизменительным, откуда pepheuga-men; как
мы увидим ниже (стр. 205), обратный случай — отход элемента
основы к суффиксу — встречается гораздо чаще.
Иногда бывает достаточно двух или трех изолированных слов,
чтобы образовать общую форму, например окончание; в
древневерхненемецком языке слабые глаголы типа haben «иметь», lobôn
«хвалить» и т. д. в первом лице единственного числа настоящего
времени имеют -m: habëm, lоbоm. Это -m восходит к нескольким глаго-
196
лам, аналогичным греческим глаголам на -mi: bim «я есмь», stäm
«стою», gern «иду», tuorn «делаю», под влиянием которых это
окончание охватило все слабое спряжение. Заметим, что в данном случае
аналогия не устранила фонетического разнообразия, а просто
обобщила способ образования.
§ 2. Явления аналогии не являются изменениями
Первые лингвисты не поняли природы образования по аналогии
и называли ее «ложной аналогией». Они полагали, что, вводя форму
honor «честь» вместо honôs, латинский язык «ошибся». Всякое
отклонение от данного порядка представлялось им неправильнЪстью,
нарушением некой идеальной формы. Отдавая дань весьма
характерной для их эпохи иллюзии, они рассматривали начальное состояние
языка как нечто высшее и совершенное и даже не задавались
вопросом, не предшествовало ли этому состоянию какое-нибудь более
древнее. С этой точки зрения всякое нарушение прежнего порядка
представлялось аномалией. Истинную роль аналогии впервые
обнаружили младограмматики, которые показали, что она является
наряду с фонетическими изменениями могучим фактором эволюции
языков, переходящих благодаря ей от одного строя (état
d'organisation) к другому.
Но какова же природа аналогии? Является ли она, как это
обычно думают, изменением?
Каждый факт аналогии — это событие, в котором участвуют три
действующих лица: 1) традиционный законный, наследственный тип
(например, honös); 2) конкурент (honor); 3) коллективный персонаж,
образованный теми формами, которые создали этого конкурента
(honorem, örätor, örätörem и т. д.). В этих условиях проявляется
тенденция рассматривать honor как модификацию, как
«метаплазму» honös, из которой оно будто бы извлекло наибольшую часть
своей субстанции. Между тем единственная форма, не участвующая
в производстве honor,— это именно honös!
Все это можно изобразить в виде следующей схемы:
Традиционные формы Новаяформа
hnnrk τ honorem, \
fa счет не идет} örätor' örätörem · · · } -*honor
(в счет не идет) J (прОИЗводя1цая группа) J
Как видим, все сводится к «параплазме», к узаконению
конкурента наряду с традиционной формой — одним словом, к
новообразованию. В то время как фонетическое изменение не вводит ничего
нового, не аннулировав вместе с тем предыдущего состояния (honösem
заменяется формой honorem), образование по аналогии не связано с
обязательным исчезновением прежней, дублируемой формы. Honor
197
и honôs сосуществовали в течение некоторого промежутка времени
и могли заменять одно другое. Но поскольку языку несвойственно
сохранять два означающих для одного понятия, обычно
первоначальная форма, как менее регулярная, сперва начинает
употребляться реже, а затем и вовсе исчезает. Вот этот результат и создает
впечатление преобразования. Едва только возникает образование
по аналогии, как начинает казаться, что прежнее состояние (honôs:
honorem) и новое состояние (honor: honorem) образуют такое
противоположение, какое могло возникнуть вследствие
фонетической эволюции. Между тем в момент возникновения honor ничего
еще не изменилось, так как эта форма ничего не замещает;
исчезновение honôs тоже не есть изменение, поскольку это явление не
зависит от первого. Всюду, где можно проследить ход языковых
событий, мы замечаем, что образование по аналогии и исчезновение
прежней формы суть два независимых явления и что ни о каком
преобразовании здесь нет и речи.
Аналогия, таким образом, вовсе не характеризуется заменой
одной формы другой формой; это находит себе подтверждение,
между прочим, и в том, что сплошь и рядом новая форма вообще ничего
не замещает. В немецком языке от любого существительного с
конкретным значением можно образовать уменьшительное имя на -chen;
если бы в немецком языке появилась форма Elefantchen «слоненок»
(от Elefant «слон»), она не заменила бы ничего существовавшего
раньше. Так и во французском языке по образцу pension «пенсия»:
pensionnaire «пенсионер», réaction «реакция»: réactionnaire
«реакционер» и т. д. можно образовать такие слова, как interventionnaire
«сторонник интервенции», répressionnaire «сторонник репрессий».
Совершенно очевидно, что тут мы имеем процесс, подобный процессу
возникновения honor; оба они сводятся к формуле
réaction : réactionnaire = répression: χ
χ = répressionnaire,
и ни в том ни в другом случае нет ни малейшего повода говорить об
изменении: répressionnaire ничего не замещает. Другой пример:
с одной стороны, встречается аналогическое образование finaux
«конечные» вместо finals, и эта форма считается более правильной;
с другой стороны, может случиться, что кто-нибудь образует от
существительного firmament «небесная твердь» прилагательное
firmamental, а от него —форму множественного числа firmamentaux.
Можем ли мы сказать тогда, что в случае finaux мы имеем дело с
изменением, а в случае firmamentaux — с новообразованием? В
действительности в обоих случаях имеет место новообразование. По
образцу mur «стена»: emmurer «обносить стеной» образовано tour
«окружность»: entourer «обводить», «окружать», jour «ажурная
вышивка»: ajourer «делать ажурным» (ср. un travail ajouré «ажурная
работа»); эти образования, сравнительно недавние, представляются нам
созданными заново. Но если удастся открыть, что в
предшествую198
щую эпоху существовали глаголы en torner и ajorner, образованные
от существительных torn и jorn, то, спрашивается, придется ли нам
изменить мнение и заявить, что entourer и ajourer являются лишь
модификациями этих более старых слов? Итак, представление об
аналогическом «изменении» появляется в результате установления
связи между вытесненным элементом и новым; но это представление
ошибочно, ибо образования, квалифицируемые как изменения (тип
honor), по своей природе одинаковы с теми, которые мы называем
новообразованиями (тип répressionnaire).
§ 3. Аналогия как принцип новообразований в языке
Выяснив, чем не является аналогия, и переходя к изучению ее
с положительной точки зрения, мы сразу же замечаем, что принцип
аналогии попросту совпадает с принципом языковых
новообразований вообще. В чем же он заключается?
Аналогия есть явление психологического характера; но этого
положения еще недостаточно, чтобы отличить ее от фонетических
изменений, так как эти последние также могут рассматриваться как
психологические (см. стр. 184). Надо пойти дальше и сказать, что
аналогия есть явление грамматического порядка: она предполагает
осознание и понимание отношения, связывающего формы между
собой. Если в фонетическом изменении мысль не участвует, то
участие ее в создании чего-либо по аналогии необходимо.
В фонетическом переходе интервокального s в г в латинском
языке (ср. honôsem—> honorem) не принимает участия ни сравнение с
иными формами, ни смысл слов; можно сказать, что в honorem
переходит только труп формы honôsem. Напротив, чтобы объяснить
появление honor наряду с honös, надо обратиться к другим формам,
как это явствует из нижеследующей формулы четвертой величины
в пропорции:
örätörem: orator = honorem:χ
χ = honor
Эта пропорция не была бы возможна, если бы входящие в ее состав
формы не ассоциировались по смыслу.
Итак, в явлении аналогии все грамматично. Однако прибавим
тут же, что новообразование, которое является завершением
аналогии, первоначально принадлежит исключительно сфере речи; оно —
случайное творчество отдельного лица. Именно в этой сфере и вне
языка следует искать зарождение данного явления. Однако при
этом следует различать: 1) понимание отношения, связывающего
между собою производящие формы, 2) подсказываемый сравнением
результат, то есть форму, импровизируемую говорящим для
выражения своей мысли. Только этот результат относится к области
речи.
199
Итак, на примере аналогии мы лишний раз убедились,
насколько необходимо различать язык и речь (см. стр. 56); аналогия
показывает нам зависимость речи от языка и позволяет проникнуть в
самую суть работы языкового механизма, как она нами описана выше
(см. стр. 162). Всякому новообразованию должно предшествовать
бессознательное сравнение данных, хранящихся в сокровищнице
языка, где производящие формы упорядочены согласно своим
синтагматическим и ассоциативным отношениям.
Таким образом, значительная часть процесса образования по
аналогии протекает еще до того, как появляется новая форма.
Непрерывная деятельность языка, заключающаяся в разложении
наличных в нем элементов на единицы, содержит в себе не только все
предпосылки для нормального функционирования речи, но также
и все возможности аналогических образований. Поэтому ошибочно
думать, что процесс словотворчества приурочен точно к моменту
возникновения новообразования; элементы нового слова были даны
уже раньше. Импровизируемое мною слово, например in-décor-able
«такой, которого невозможно украсить», уже существует
потенциально в языке: все его элементы встречаются в таких синтагмах, как
décor-er «украшать», décor-ation «украшение», «декорация»;
pardonnable «простительный», mani-able «такой, с которым удобно
работать», «гибкий»: in-connu «неизвестный», in-sensé «безрассудный»
и т. д., а его реализация в речи есть факт незначительный по
сравнению с самой возможностью его образования.
Резюмируя, мы приходим к выводу, что аналогия сама по себе
есть лишь один из аспектов явления интерпретации, лишь частное
проявление той общей деятельности, содержание которой состоит
в обеспечении различения языковых единиц, Чтобы затем их можно
было использовать в речи. Вот почему мы утверждаем, что
аналогия — явление целиком грамматическое и синхроническое.
Такая характеристика аналогии приводит нас к двум
следующим замечаниям, подкрепляющим, на наш взгляд, произвольность
абсолютную и произвольность относительную (см. стр. 163 и сл.):
1. Все слова можно расклассифицировать в зависимости от их
способности производить новые слова, что связано с их большей или
меньшей разложимостью. Простые слова по основному своему
свойству непродуктивны (ср. magasin «кладовая», arbre «дерево», racine
«корень» и т. д.): magasinier «кладовщик» не произведено от
magasin; оно образовано по образцу prison «тюрьма»: prisonnier
«заключенный (в тюрьму)» и т. д. Точно так же emmagasiner «помещать
на склад» обязано своим существованием аналогии с emmaillotter
«пеленать», encadrer «вставлять в раму», encapuchonner «надевать
капюшон» и т. д., заключающим в себе maillot «пеленка», cadre
«рамка», capuchon «капюшон» и т. д.
Таким образом, в каждом языке есть слова продуктивные и слова
«бесплодные»; пропорция между теми и другими бывает разная. В
общем это сводится к различению, проведенному нами на стр. 165 между
200
языками «лексическими» и «грамматическими». В китайском языке
слова в большинстве случаев неразложимы; наоборот, в
искусственном языке они почти все подвергаются анализу. Любой эсперантист
волен создавать новые слова на основе данного корня.
2. Мы уже указывали (см. стр. 195), что всякое новообразование
по аналогии может быть представлено в виде операции, сходной с
вычислением четвертой величины в пропорции. Весьма часто этой
формулой пользуются для объяснения самого явления аналогии; мы же
старались объяснить аналогию возможностями разложения единиц
на значимые элементы и использования этих имеющихся в языке
готовых элементов.
Обе названные концепции противоречат одна другой. Если
применение формулы пропорции является достаточным объяснением,
к чему тогда гипотеза о разложимости единиц? Чтобы образовать
такое слово, как indécorable, нет никакой необходимости извлекать
соответствующие элементы: in-décor-able; совершенно достаточно
взять его в целом и поместить в уравнение:
pardonner : impardonnable, и т. д. = décorer : χ
χ == indécorable
При таком объяснении у говорящего не предполагается наличия
сложной умственной операции, чересчур напоминающей
сознательный анализ грамматиста. В таком случае, как Kranz «венок»:
Kränze «венки» по образцу Gast «гость»: Gäste «гости», разложение на
элементы как будто менее вероятно, чем решение пропорции, так
как в образце основой является то Gast-, то Gast-, и может
показаться, что звуковое свойство Gäste было просто перенесено на
Kranz.
Какая же из этих теорий соответствует действительности?
Заметим прежде всего, что в случае с Kranz нет необходимости
исключать возможность анализа. Мы ведь констатировали наличие
чередований и в корнях и в префиксах (см. стр. 190 и сл.), а ощущение
чередования может отлично уживаться с разложением на значимые
элементы.
Эти две противоположные концепции отображаются в двух
различных грамматических доктринах. Наши европейские грамматики
оперируют пропорциями; так, они объясняют образование
немецкого прошедшего времени, исходя из целых слов; ученику говорят:
по образцу setzen «поставить»: setzte «поставил» образуй прошедшее
время от lachen «смеяться» и т. д. А вот если бы немецкую
грамматику стал излагать древнеиндийский ученый, он коснулся бы в
одной главе корней (setz-, lach-), в другой — окончаний прошедшего
времени (-te и т. д.), таким образом были бы даны полученные путем
анализа элементы, при помощи которых предстояло бы
синтезировать целые слова. Во всех санскритских словарях глаголы
располагаются в порядке, определяемом их корнями.
201
В зависимости от основных свойств данного языка грамматисты
склоняются либо к одному, либо к другому из этих двух методов.
Древнелатинский язык, по-видимому, благоприятствовал
аналитическому методу. Нижеследующее явление может служить этому
блестящим доказательством. В словах fäctus «искусно
обработанный» и actus «движение» количество первого гласного неодинаково,
хотя и в faciö «делаю» и в ago «двигаю» а является кратким; следует
предположить, что actus восходит к *ägtos, и объяснять удлинение
гласного следующим за ним звонким согласным; эта гипотеза
полностью подтверждается романскими языками; противопоставление
speciö «смотрю»: spëctus (прич. прош. вр. от speciö) наряду с tëgô
«крою»: tëctus «крытый» отражается во французском языке в dépit
«досада» (= despëctus) и toit «кровля» (= tectum); ср. confïciô
«совершаю»: confectus «совершенный» (франц. confit «вареный [в
сахаре]») наряду с rëgô «правлю»: rectus «прямой», «правильный»
(directus «прямой» —> франц. droit «прямой»). Но *agtos, *tegtos, *regtos
не унаследованы латинским языком из индоевропейского, в
котором, несомненно, было *äktos, *tektosn т. д.,— они появились в
доисторической латыни, несмотря на трудность произносить звонкий
перед глухим. Из этого явствует, что в древнейшей латыни ясно
осознавались коренные единицы ag-, teg-. Следовательно, латинский
язык сильно способствовал осознанию частей слова (основ,
суффиксов и т. д.) и их взаимодействия. В наших современных языках
это чувство развито у говорящих, вероятно, в меньшей степени,
но у немцев оно все же острее, чем у французов (см. стр. 222).
Глава V
АНАЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ
§ 1. Каким образом новообразование
по аналогии становится фактом языка?
Все, что входит в язык, заранее испытывается в речи: это
значит, что все явления эволюции коренятся в сфере деятельности
индивида. Этот принцип, уже высказанный нами выше (см. стр. 130),
особенно применим к новообразованиям по аналогии. Прежде чем
honor стало опасным конкурентом honos, способным вытеснить это
honôs, оно было просто сымпровизировано одним из говорящих,
примеру которого последовали другие, так что в конце концов эта
новая форма сделалась общепринятой.
Отсюда вовсе не вытекает, что такая удача выпадает на долю
всех новообразований по аналогии. На каждом шагу мы
встречаемся с недолговечными новыми комбинациями, которые не
принимаются языком. Ими изобилует детская речь, так как дети еще
недостаточно освоились с обычаем и не порабощены им окончательно:
они говорят viendre вместо venir «приходить», mouru вместо mort
«мертвый», «умерший» и т. д. Но примеры этого рода можно найти и
в языке взрослых. Так, многие вместо trayait (прошедшее
несовершенное от traire «доить») говорят traisait (встречается, между
прочим, у Руссо). Все эти новообразования вполне правильны; они
объясняются совершенно так же, как и те, которые приняты языком;
так, viendre основано на пропорции
éteindrai : éteindre = viendrai : χ
χ = viendre,
a traisait образовано по образцу plaire : plaisait и т. д.
В языке удерживается лишь незначительная часть
новообразований, возникших в речи; но те, какие остаются, все же достаточно
многочисленны, чтобы с течением времени в своей совокупности
придать словарю и грамматике совершенно иной облик.
В предыдущей главе мы ясно показали, что аналогия не может
быть сама по себе фактором эволюции; это нисколько не
противоре203
чит тому, что вызываемая аналогией непрестанная замена одних
форм другими представляет собой одно из наиболее бросающихся
в глаза явлений в переживаемых языками преобразованиях.
Каждый раз, как закрепляется какое-либо новообразование, вытесняя
предшествовавший ему элемент, создается нечто новое, а нечто
старое отбрасывается — вот на этом основании аналогия и занимает
преобладающее положение в теории языковой эволюции.
На этом мы считаем нужным особенно настаивать.
§ 2. Образования по аналогии —
симптомы изменений интерпретации
Язык непрестанно интерпретирует и разлагает на составные
части существующие в нем единицы. Чем же можно объяснить, что
истолкование этих единиц непрерывно меняется от одного
поколения к другому?
Причину этого следует искать в огромном множестве факторов,
непрерывно влияющих на тот способ анализа, который принят при
данном состоянии языка. Напомним некоторые из этих факторов.
Первым и наиболее важным является фонетическое изменение
(см. гл. II). Поскольку благодаря ему некоторые способы анализа
становятся двусмысленными, а другие — невозможными, постольку
изменяются условия разложения на составные части, а вместе с тем
и его результаты; отсюда — перемещение границ внутри отдельных
единиц и видоизменение их характера. Ранее (см. стр. 174) было
сказано об этом по поводу таких сложных слов, как beta-hûs и redo-lîch,
и по поводу индоевропейского склонения (см. стр. 188).
Но не все сводится к фонетическому фактору. Есть еще
агглютинация, о которой речь будет ниже; в результате агглютинации из
сочетания отдельных элементов возникает единое целое. Затем
следует упомянуть о всевозможных обстоятельствах, внешних по
отношению к слову, но способных изменить его анализ. В самом деле,
поскольку разложение на составные части является результатом
целого ряда сопоставлений, постольку совершенно ясно, что в
каждый данный момент оно зависит от ассоциативных связей данного
слова. Так, превосходная степень и.-е. *swäd-is-to-s заключала в
себе два независимых друг от друга суффикса: -is- — показатель идеи
сравнения (ср. лат. mag-is «более») и -to-, обозначавший
определенное местонахождение предмета в ряду других предметов (ср. греч.
tri-to-s «третий»). Эти два суффикса подверглись агглютинации (ср.
греч. hêd-isto-s или, вернее, hêd-ist-os «самый приятный»). Но этой
агглютинации в свою очередь чрезвычайно благоприятствовало
обстоятельство, чуждое самой превосходной степени: формы
сравнительной степени на -is- вышли из употребления, будучи вытеснены
204
образованиями на -jôs-; -is-, переставшее осознаваться
самостоятельным элементом, не стало более выделяться внутри -isto-.
Заметим мимоходом, что обнаруживается общая тенденция
сокращать основу в пользу форманта, в особенности в тех случаях,
когда основа оканчивается на гласный. Так, в латинском суффикс -tät-
(vëri-tât-em «правду» вместо *vêro-itât-em; ср. греч. deino-têt-a
«силу») притянул к себе i основы, так что слово vëri-tât-em стало
анализироваться как vër-itât-em; равным образом Rômâ-nus
«римский», Albä-nus «албанский» (ср. aënus «медный» вместо *aes-no-s)
превратилось в Röm-änus, Alb-änus..
Какова бы ни была причина изменений в интерпретации, эти
изменения всегда обнаруживают себя в появлении аналогических
форм. В самом деле, не только живые единицы, ощущаемые
говорящим в каждый данный момент, могут порождать образования по
аналогии; верно и то, что всякое определенное распределение
единиц допускает возможность расширения их употребления. Аналогия
может, таким образом, служить несомненным доказательством того,
что данный формативный элемент в данный момент существует как
значимая единица. Merïdiônâlis «полуденный» у Лактанция вместо
merïdialis показывает, что в то время римляне делили septentri-
-ônâlis «северный», regi-ônâlis «областной», а для того чтобы
показать, что к суффиксу -tat- отошел элемент i, заимствованный у
основы, достаточно сослаться на celer-itätem «быстроту»; pâg-ânus
«сельский» от päg-us «село» ясно показывает, каким образом римляне
анализировали Rôm-ânus; анализ немецкого redlich «честный» (см.
стр. 174) подтверждается существованием sterblich «смертный»,
образованного от глагольного корня.
Нижеследующий, исключительно любопытный пример
показывает, как с течением времени в аналогические сопоставления
вовлекаются всё новые единицы. В современном французском языке слово
somnolent «сонливый» разлагается на somnol- и -ent, как если бы
это было причастие настоящего времени; доказательством этому
служит наличие глагола somnoler «дремать». Однако в латинском
somnolentus делили на somno- и -lentus по образцу succu-lentus
«сочный» и т. д., а еще раньше — на somn- и -olentus «пахнущий
сном» (от olêre «пахнуть») по образцу vïn-olentus «пахнущий вином».
Таким образом, наиболее ощутимым и наиболее важным
действием аналогии является замена старых форм, нерегулярных и
обветшалых, новыми, более правильными формами, составленными из
живых элементов.
Разумеется, не всегда дело обстоит так просто:
функционирование языка пронизано бесчисленным множеством колебаний,
приблизительных и неполных разложений. Никогда никакой язык не
обладал вполне фиксированной системой единиц. Вспомним, что было
сказано (см. стр. 188) о склонении *ekxwos сравнительно со
склонением *pods. Эти приблизительные (imparfaites) разложения
приводят иногда к нечетким аналогическим образованиям. Индоевропей-
205
ские формы *geus-etai, *gus-tos, *gus-tîs позволяют выделить корень
geus-:gus- «вкушать»; но в греческом интервокальное s исчезает, и
тем самым разложение форм geuomai, geustos осложняется; в
результате возникает колебание: выделяется не то geus-, не то geu-;
в свою очередь и образования по аналогии начинают подпадать под
воздействие этого колебания, и мы видим, как основы на eu-
принимают это конечное s: например, pneu-, pneu ma «дыхание», отглаг.
прилагательное pneus-tos.
Но даже и при этих колебаниях аналогия оказывает свое
влияние на язык. Не являясь сама по себе фактом эволюции, она тем не
менее в каждый момент отражает изменения, происходящие в
системе языка, и закрепляет их новыми комбинациями старых элементов.
Она принимает активное участие в деятельности всех тех сил,
которые беспрерывно видоизменяют внутреннее строение языка. В этом
смысле она может считаться мощным фактором эволюции.
§ 3. Аналогия как обновляющее
и одновременно консервативное начало
Может возникнуть сомнение, действительно ли так велико
значение аналогии, как это, казалось бы, следует из предшествующего
изложения, и действительно ли она охватывает область, столь же
обширную, как и область фонетических изменений. Фактически
история каждого языка обнаруживает бесчисленное множество
громоздящихся друг на друга аналогических фактов, и, взятые в целом,
эти непрекращающиеся перестройки играют в эволюции языка
значительную роль, более значительную, чем изменения звуков.
Но наибольший интерес для лингвиста представляет следующее:
в великом множестве изменений по аналогии, охватывающих целые
столетия развития, почти все старые элементы сохраняются и только
иначе распределяются. Порождаемые аналогией инновации носят
скорее кажущийся, нежели реальный характер. Язык напоминает
одежду, покрытую заплатами, которые сделаны из материала,
отрезанного от этой одежды. Если иметь в виду субстанцию
французской речи, то можно сказать, что французский язык на 4/5 восходит
к индоевропейскому; однако все слова, дошедшие до современного
французского языка из праязыка в чистом виде, без изменений по
аналогии, могут уместиться на одной странице (например, est =
*esti, имена числительные и еще несколько слов, как-то: ours «медведь»,
nez «нос», père «отец», chien «собака» и т. д.). Огромное же
большинство французских слов представляет собой того или другого рода
новые сочетания звуковых элементов, извлеченных из более старых
форм. В этом смысле можно сказать, что аналогия — именно
потому, что она для своих инноваций пользуется исключительно старым
206
материалом,— является определенно консервативным
началом.
И действительно, аналогия во многих случаях работает и как
чисто консервативный фактор; можно сказать, что она действует не
только там, где имеет место распределение существовавшего ранее
материала по новым единицам, но и там, где имеет место сохранение
в неприкосновенности прежних форм. В обоих случаях дело идет
об одинаковом психологическом процессе. Чтобы в этом убедиться,
достаточно вспомнить, что принцип аналогии по существу совпадает
с принципом, лежащим в основе механизма речевой деятельности
(см. стр. 199).
Лат. agunt «двигают» сохранилось почти в полной
неприкосновенности с доисторической эпохи, когда говорили *agonti, до
самой римской эпохи. В течение всего этого долгого периода
сменявшиеся поколения пользовались этим словом, и никакие
конкурирующие формы не смогли его вытеснить. Но разве аналогия ни при чем
в этом сохранении прежнего слова? Своей устойчивостью agunt
обязано действию аналогии не в меньшей степени, чем любая
инновация. Agunt включено в рамки системы; оно связано с такими
формами, как dïcunt «говорят», legunt «читают» и т. д., и с такими, как
agimus «двигаем», agitis «двигаете» и т. д. Не будь этих связей, оно
легко могло бы оказаться вытесненным какой-либо формой,
составленной из новых элементов. Пережило века не agunt, но ag-unt;
форма не изменилась потому, что ag- и -unt находили регулярные
соответствия в других рядах: вот этот сопутствующий ряд
ассоциируемых с agunt форм и сохранил его в неприкосновенности во время
его многовекового пути. Ср. еще sex-tus «шестой», также
опирающееся на компактные ряды: с одной стороны, sex «шесть», sex-äginta
«шестьдесят» и т. д., с другой стороны, quar-tus «четвертый», quin-
-tus «пятый» и т. д.
Таким образом, формы сохраняются потому, что они непрерывно
возобновляются по аналогии; слово одновременно осознается и как
единица, и как синтагма и сохраняется постольку, поскольку
входящие в его состав элементы не изменяются. И наоборот, угроза его
существованию появляется лишь тогда, когда составляющие его
элементы выходят из употребления. Обратим внимание на то, что
происходит с французскими формами dites «говорите» и faites
«делаете», соответствующими непосредственно лат. dic-itis, fac-itis, но
не имеющими больше опоры в современном спряжении; язык
стремится их вытеснить; начинают говорить disez, faisez — по образцу
plaisez «нравитесь», lisez «читаете» и т. д., и эти новые формы уже
стали общеупотребительными в большинстве производных глаголов
(contredisez «противоречите» и т. д.).
Единственные формы, на которые аналогия вовсе не может
распространиться,— это, разумеется, такие изолированные слова, как
собственные имена, в частности географические названия (ср. Paris,
Genève, Agen и др.), которые не допускают никакого осмысленного
207
разложения и, следовательно, никакой интерпретации
составляющих их элементов; конкурирующих новообразований рядом с ними
не возникает.
Таким образом, сохранение данной формы может объясняться
двумя прямо противоположными причинами: полнейшей изоляцией
или же принадлежностью к определенной системе,
неприкосновенной в своих основных частях и постоянно приходящей ей на помощь.
Преобразующее действие аналогии может развиваться наиболее
успешно в той промежуточной области, которая охватывает формы,
не имеющие достаточной опоры в своих ассоциативных связях.
Но идет ли речь о сохранении формы, составленной из
нескольких элементов, или о перераспределении языкового материала по
новым конструкциям, роль аналогии безмерно велика, ее
воздействие сказывается повсюду.
Глава VI
НАРОДНАЯ ЭТИМОЛОГИЯ
Нам иногда случается коверкать слова, форма и смысл которых
нам мало знакомы; бывает, что обычай впоследствии узаконивает
такого рода деформации слов. Так, старофранц. coute-pointe «стеганое
одеяло» (от coûte, вариант couette «покрышка», и pointe —
причастие прош. вр. от poindre «стегать») было изменено в courte-pointe,
как будто это было составное слово из прилагательного court
«короткий» и существительного pointe «кончик». Такие инновации, как
бы они ни были нелепы, не возникают совершенно случайно; в них
обнаруживаются попытки приблизительного объяснения
малопонятного слова путем сопоставления его с чем-либо хорошо знакомым.
Этому явлению дано название народной этимологии. На первый
взгляд оно не очень отличается от явления аналогии. Когда
говорящий по-французски, забывая о существовании слова surdité
«глухота», образует по аналогии sourdité, результат получается тот же,
как если бы он, плохо понимая surdité, деформировал это слово под
впечатлением прилагательного sourd «глухой»; единственное
различие, казалось бы, сводится к тому, что образования по аналогии
рациональны, а народная этимология действует несколько на авось
и приводит к несуразице, к чепухе.
Однако это различие, относящееся лишь к результатам, не
главное. Есть другое, более глубокое различие по существу; чтобы
показать, в чем оно состоит, приведем несколько примеров главнейших
типов народной этимологии.
Разберем случаи, когда слово получает новое истолкование, не
меняя своей внешней формы. Нем. durchbläuen «поколотить»
этимологически восходит к bliuwan «бичевать»; но теперь его связывают с
blau «синий» вследствие синяков, производимых ударами. В
средние века немецкий язык заимствовал из французского слово
aventure «приключение», которое в немецком приняло форму äbentüre,
затем Abenteuer; не деформируя слова, его стали связывать с Abend
209
«вечер» («то, что рассказывают по вечерам»), и вплоть до XVIII в. его
даже писали Abendteuer. От старофранцузского soufraite «лишение»
(лат. suffracta от subfrangere «надламывать») произошло
прилагательное souffreteux «немощный», «хворый»; его теперь связывают
с глаголом souffrir «страдать», с которым у него, однако, нет ничего
общего. Lais «отказ по завещанию» (отглагольное существительное
от laisser «оставлять») ныне рассматривается как производное от
léguer «завещать», и его пишут legs; некоторые даже произносят
leg-s, что может создать впечатление, будто здесь произошло
изменение формы в результате изменения интерпретации; но это
произношение объясняется только влиянием письменной формы, при
помощи которой хотели отметить, не меняя произношения,
происхождение этого слова. Аналогичным образом французское слово
homard «омар», заимствованное из древнескандинавского humarr
(ср. датск. hummer), приняло на конце d по аналогии с
французскими словами на -ard; только в данном случае интерпретационная
ошибка, обнаруживаемая орфографией, касается конца слова,
принятого за хорошо знакомый суффикс (ср. bavard «болтливый» и др.).
Однако в большинстве случаев слово искажают с целью
приспособить его к будто бы заключенным в нем элементам. Так обстоит
дело с франц. choucroute «кислая капуста» (от нем. Sauerkraut);
лат. dromedärius «двугорбый верблюд» превратилось в немецком в
Trampeltier «топчущееся животное»; сложное слово является новым,
но составлено оно из уже существовавших элементов trampeln и
Tier. Древневерхненемецкий язык из лат. margarîta «жемчужина»
сделал mari-greoz «морской камешек» путем комбинации двух уже
существующих слов.
А вот еще один, особо поучительный случай: лат. carbunculus
«уголек» дало в немецком Karfunkel по ассоциации с funkeln
«сверкать», а во французском — escarboucle, связываемое с boucle
«локон». Calfeter, calfetrer «конопатить» превратилось в calfeutrer под
влиянием feutre «войлок». Во всех этих примерах на первый взгляд
более всего поражает то, что каждый из них заключает наряду с
понятным элементом, наличествующим в других словах, другую часть,
ничему старому не соответствующую: Kar-, escar-, cal-. Но было бы
ошибочным думать, что в этих элементах есть нечто, созданное
заново, нечто, возникшее в связи с данным явлением; в
действительности налицо совершенно обратное: это просто-напросто отрезки,
оставшиеся неинтерпретированными, это, если угодно, народные
этимологии, застрявшие на полпути. Karfunkel в этом отношении не
отличается от Abenteuer, если считать, что -teuer — оставшийся без
объяснения остаток; его можно сравнить и с homard, где horn-
ничему не соответствует.
Таким образом, степень искажения не создает каких-либо
существенных различий у слов, исковерканных народной
этимологией; все они, безусловно, являются не более как истолкованиями
непонятых форм посредством форм известных.
210
Итак, теперь ясно, чем народная этимология походит на
аналогию и чем она от нее отличается.
У обоих этих явлений есть только одна общая черта — и в том
и в другом случае используются предоставляемые языком значимые
элементы,— но в остальном они диаметрально противоположны.
Аналогия всегда предполагает забвение прежней формы; в основе
аналогической формы il traisait (см. стр. 203) отсутствует какое бы
то ни было разложение прежней формы il trayait на составные части;
забвение этой формы даже необходимо, чтобы могла возникнуть
конкурирующая с ней форма. Аналогия ничего не извлекает из
субстанции замещаемых ею знаков. Наоборот, народная этимология
сводится к интерпретации прежней формы, воспоминание о которой,
хотя бы и смутное, является исходной точкой для ее искажения.
Таким образом, в основе анализа в одном случае лежит воспоминание,
в другом случае — забвение. Это различие является
фундаментальным.
Народная этимология представляет собой в языке явление
патологическое; она выступает лишь в исключительных случаях и
затрагивает лишь редкие слова, технические термины или заимствования
из других языков, с трудом осваиваемые говорящими. Наоборот,
аналогия есть явление общее, относящееся к нормальному
функционированию языка. Эти два явления, некоторыми своими сторонами
между собою сходные, по существу друг другу противоположны;
их следует строго различать.
Глава VII
АГГЛЮТИНАЦИЯ
§ 1. Определение агглютинации
Наряду с аналогией, важное значение которой мы только что
отметили, в создании новых языковых единиц участвует и другой
фактор: агглютинация.
С этими двумя факторами не может сравниться никакой другой
способ образования слов: звукоподражания (см. стр. 102), новые,
целиком выдуманные отдельными лицами безо всякого участия
аналогии слова (например, газ) и даже явления народной этимологии
имеют в этом отношении лишь весьма маловажное или даже вовсе
ничтожное значение.
Агглютинация состоит в том, что два или несколько слов,
первоначально раздельные, но часто встречающиеся внутри предложения
в одной синтагме, сливаются в полностью или почти полностью
неанализируемую единицу. Таков агглютинационный процесс; мы
говорим процесс, а не прием, так как с этим последним словом
связано представление о волевом акте, о преднамеренности, тогда как
одним из характернейших свойств агглютинации является именно
отсутствие преднамеренности.
Приведем несколько примеров. По-французски прежде говорили
ce ci «это вот» в два слова, а затем стали говорить ceci. Получилось
новое слово, хотя его материал и составные элементы ничуть не
изменились. Таковы еще франц. tous jours —> toujours «всегда», au
jour d'hui —> aujourd'hui «сегодня», dès jà —> déjà «уже», vert jus —>
verjus «кислое вино» и т. п. В результате агглютинации спаиваются
также и единицы низшего уровня внутри слова, как это мы уже
показывали на примере индоевропейской превосходной степени *swäd-
-is-to-s и греческой превосходной степени hêd-isto-s (стр. 204).
Пристальное рассмотрение обнаруживает в этом явлении три
фазы:
1. Сочетание нескольких элементов в одной синтагме.
2. Собственно агглютинация, то есть синтез элементов синтагмы
212
в некую новую единицу. Этот синтез происходит сам собою в силу
механической тенденции: когда составное понятие выражено весьма
привычным рядом значимых единиц, наш ум, выбирая, так сказать,
дорожку напрямик, отказывается от анализа и начинает связывать
понятие в целом со всем сочетанием знаков, которое тем самым
превращается в неразложимую единицу.
3. Все прочие изменения, способствующие еще большему
превращению прежнего сочетания в единое простое слово: сведение
нескольких ударений к одному (vért-jus —> verjus), особые
фонетические изменения и т. д.
Часто высказывалось мнение, будто фонетические и
акцентуационные изменения (3) предшествуют изменениям, происходящим
в области понятий (2), и будто семантический синтез следует
объяснять агглютинацией и синтезом звукового материала. По всей
вероятности, это не так: такие сочетания, как vert jus, tous jours и т. д.,
были обращены в простые слова именно потому, что в этих
сочетаниях стали усматривать единое понятие; было бы заблуждением
менять местами члены этого отношения.
§ 2. Агглютинация и аналогия
Контраст между аналогией и агглютинацией разителен:
1. При агглютинации две или несколько единиц в результате
синтеза сливаются в одну единицу (например, encore «еще» от hanc
höram) или же две единицы низшего уровня превращаются в одну
единицу того же уровня (ср. hêd-isto-s «самый приятный» от *swäd-
ïs-to-s). Наоборот, аналогия исходит из единиц низшего уровня,
превращая их в единицы высшего уровня. Чтобы образовать лат.
päg-änus «деревенский», аналогия соединила основу päg- и суффикс
-anus.
2. Агглютинация действует исключительно в синтагматической
сфере: действие ее распространяется на данное сочетание; все
прочее ее не касается. Аналогия же апеллирует к ассоциативным рядам
в той же мере, как и к синтагмам.
3. В агглютинации вообще нет ничего преднамеренного,
ничего активного; как мы уже говорили, это просто механический
процесс, при котором сложение в одно целое происходит само собою.
Напротив, аналогия есть прием, предполагающий анализ и
соединение (combinaison), умственную деятельность и преднамеренность.
В связи с образованием новых слов очень часто употребляют
термины конструкция и структура; но эти термины имеют различный
смысл в зависимости от того, применяются они к агглютинации или
к аналогии. В первом случае они напоминают о медленном
цементировании элементов, которые от соприкосновения внутри синтагмы
подвергаются синтезу, а синтез может привести к полнейшему ис-
213
чезновению первоначальных единиц. В случае же аналогии термин
«конструкция» означает нечто иное, а именно группировку
(agencement), полученную сразу же в акте речи благодаря соединению
нескольких элементов, заимствованных из разных ассоциативных
рядов.
Мы видим, как важно различать эти два способа образования
слов. Так, в латинском possum «могу» мы имеем не что иное, как
слияние двух слов potis sum «могущий есть»,— это
агглютинированное слово. Наоборот, signifer «знаменосец», agricola «земледелец»
и др.— суть продукты аналогии — конструкции, построенные по
имеющимся в языке образцам. Только к образованиям по аналогии
следует относить термины сложное слово(= композит) и
производное слово (= дериват) *.
Часто бывает трудно решить, является ли данная форма
порождением агглютинации или же она возникла как аналогическое
образование? Лингвисты бесконечно спорили об индоевропейских
формах *es-mi, *es-ti, *ed-mi и т. д. Были ли элементы es-, ed- и т. д.
когда-то, в отдаленном прошлом, подлинными словами, которые
впоследствии агглютинировались с другими словами mi, ti и т. д., или
же *es-mi, *es-ti и т. д. явились в результате соединения с
элементами, извлеченными из иных сложных единиц того же порядка, что
означало бы отнесение агглютинации к эпохе, предшествовавшей
образованию индоевропейских окончаний? При отсутствии
исторической документации вопрос этот, по-видимому, неразрешим.
Только история может ответить на подобные вопросы. Всякий
раз, как она позволяет утверждать, что тот или другой простой
элемент состоял в прошлом из двух или нескольких элементов, мы
вправе говорить об агглютинации: таково лат. hune «это», восходящее к
hom се (се засвидетельствовано эпиграфически). Но если у нас нет
исторической информации, то оказывается чрезвычайно трудным
определить, что является агглютинацией, а что относится к аналогии.
Глава VIII
ПОНЯТИЯ ЕДИНИЦЫ, ТОЖДЕСТВА
И РЕАЛЬНОСТИ В ДИАХРОНИИ
Статическая лингвистика оперирует единицами, существующими
в синхроническом ряду. Все, что сказано нами выше, показывает,
что в диахронической последовательности мы имеем дело не с
элементами, разграниченными раз и навсегда, как это можно было бы
изобразить в виде следующей схемы:
Наоборот, каждый раз эти элементы оказываются иначе
распределенными в результате разыгрывающихся в языке событий, так
что их правильнее было бы изобразить следующим образом:
Эпоха Л
Это вытекает из всего того, что было сказано выше о результатах
действия фонетической эволюции, аналогии, агглютинации и т. д.
Почти все приводившиеся нами примеры относились к
образованию слов; возьмем теперь один пример из области синтаксиса.
В индоевропейском праязыке не было предлогов; выражаемые ими
отношения передавались посредством многочисленных падежей,
облеченных широким кругом значений. Не было также глаголов с
приставками, но вместо этого были частицы, словечки, прибавлявшиеся
215
к предложениям, которые уточняли и оттеняли обозначение
действия, выраженного глаголом. Тогда не было ничего, что
соответствовало бы такому латинскому предложению, как Ire ob mortem «идти
навстречу смерти», или такому предложению, как obîre mortem с тем
же значением; тогда сказали бы ïre mortem ob. Такое положение
вещей мы застаем еще в древнейшем греческом языке: oreos bainô kâta;
oreos bainô само по себе означает «иду с горы», причем родительный
падеж обладает значимостью аблатива; kâta добавляет оттенок
«вниз». Позже появляется katà oreos bainô, где katà играет роль
предлога, а также kata-bainô oreos — в результате
агглютинирования глагола с частицей, ставшей глагольной приставкой.
Здесь перед нами два или три различных явления, которые,
впрочем, все основаны на интерпретации отдельных единиц:
1) Образование нового разряда слов, предлогов, что происходит
просто путем перестановки имеющихся единиц. Особое
расположение слов, первоначально безразличное к чему бы то ни было,
вызванное, быть может, случайной причиной, создало новое
сочетание: kâta, первоначально бывшее самостоятельным, связывается
теперь с существительным oreos, и они вместе присоединяются к
baino в качестве его дополнения.
2) Появление нового глагольного типа katabainô; это
психологически новое сочетание, ему благоприятствует к тому же особое
распределение единиц, и его закрепляет агглютинация.
3) Как естественный вывод из предыдущего — ослабление
значения окончания родительного падежа ore-os; отныне выражение
того понятия, которое прежде передавал один родительный падеж,
принимает на себя, katà; тем самым и в той же мере понижается вес
окончания -os; его исчезновение в будущем уже дано здесь в
зародыше.
Во всех трех случаях речь идет, как мы видим, о
перераспределении уже существующих единиц. Прежняя субстанция получает
новые функции; в самом деле — и это следует особо подчеркнуть,—
для осуществления всех этих сдвигов не потребовалось никаких
фонетических изменений. С другой стороны, хотя звуковой материал
вовсе не изменился, не следует полагать, что все произошло только
в смысловой сфере: не бывает синтаксических явлений вне единства
некой цепи понятий с некой цепью звуковых единиц (см. стр. 172);
именно это отношение в данном случае и оказалось
видоизмененным. Звуки — прежние, а значимые единицы уже не те.
Как мы видели (см. стр. 107), изменчивость знака есть не что
иное, как сдвиг отношения между означающим и означаемым. Это
определение применимо не только к изменяемости входящих в
систему элементов, но и к эволюции самой системы; в этом именно и
заключается диахрония в целом.
Однако одной констатации сдвига синхронических единиц еще
недостаточно для выяснения того, что произошло в языке.
Существует проблема диахронической единицы как таковой: по поводу каж-
216
дого события необходимо выяснить, какой элемент непосредственно
подвергся трансформирующему действию. Мы уже встречались с
проблемой подобного рода в связи с фонетическими изменениями
(см. стр. 127); они касались лишь изолированных фонем, а не слов,
взятых как особые единицы. Поскольку диахронические события по
своему характеру разнообразны, постольку придется разрешать
множество аналогичных проблем, причем ясно, что единицы,
разграниченные в этой области, не будут обязательно соответствовать
единицам синхронического порядка. В согласии с принципом,
установленным нами в первой части этой книги, понятие единицы не
может быть одинаковым в синхронии и диахронии. Во всяком случае,
оно не будет окончательно установлено, пока мы его не изучим в
обоих аспектах, статическом и эволюционном. Только разрешение
проблемы диахронической единицы даст нам возможность
преодолеть внешнюю видимость явления эволюции и добраться до его сути.
Здесь, как и в синхронии, знакомство с единицами необходимо для
отделения воображаемого от реального (см. стр. 142).
Другой вопрос, чрезвычайно сложный,— это вопрос о
диахроническом тождестве. В самом деле, для того чтобы у меня была
возможность сказать, что данная единица сохранилась тождественной
самой себе или же, продолжая быть той же особой единицей, она
вместе с тем изменилась по форме или по смыслу (все эти случаи
возможны), мне необходимо знать, на чем я могу основываться,
утверждая, что извлеченный из какой-либо эпохи элемент, например
франц. chaud «теплый», есть тот же самый, что и взятый из более
ранней эпохи элемент, например лат. calidum (вин. п. от calidus
«теплый»).
На этот вопрос, конечно, ответят, что calidum в силу действия
фонетических законов, естественно, должно было превратиться в
chaud и что, следовательно, chaud = calidum. Вот это и называется
фонетическим тождеством. То же относится и к такому случаю, как
франц. sevrer «отнимать от груди» и лат. sëparâre «отделять»;
наоборот, относительно франц. fleurir «цвести» скажут, что это не то же
самое, что лат. flôrëre, которое должно было бы дать *flouroir.
На первый взгляд кажется, что такое соответствие покрывает
понятие диахронического тождества вообще. Но в действительности
совершенно невозможно, чтобы звук сам по себе свидетельствовал
о тождестве. Мы, разумеется, вправе сказать, что лат. mare «море»
во французском должно иметь форму mer, потому что всякое а в
определенных условиях переходит в г, потому что безударное конечное е
отпадает и т. д.; но утверждать, будто именно эти отношения (a—> e,
е —> нуль) и составляют тождество,—это значит выворачивать все
наизнанку, так как, наоборот, исходя именно из соответствия таге:
тег, я и заключаю, что a перешло в г, что конечное е отпало и т. д.
Если из двух французов, происходящих из различных областей
Франции, один говорит se fâcher «сердиться», а другой — se fôcher,
то разница между их произношением весьма незначительна по срав-
217
нению с грамматическими фактами, позволяющими распознать в
этих двух различных формах одну и ту же языковую единицу.
Диахроническое тождество двух столь различных слов, как calidum и
chaud, попросту означает, что переход от одного к другому
произошел через целый ряд синхронических тождеств в области речи,
причем связь между ними никогда не нарушалась, несмотря на
следующие друг за другом фонетические преобразования. Вот почему на
стр. 140 мы могли утверждать, что столь же интересно установить,
почему повторяемое несколько раз в одной и той же речи слово
Messieurs! «господа!» остается тождественным самому себе, как и
выяснить, почему французское отрицание pas тождественно
существительному pas или, что то же, почему франц. chaud тождественно
лат. calidum. Второй вопрос в действительности является только
продолжением и усложнением первого.
ПРИЛОЖЕНИЕ КО ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ЧАСТЯМ
А. Анализ субъективный и анализ объективный
Анализ языковых единиц, ежеминутно производимый
говорящими, может быть назван субъективным анализом) не следует
смешивать его с объективным анализом, опирающимся на историю языка.
В такой греческой форме, как hippos «конь», грамматика различает
три элемента: корень, суффикс и окончание — hipp-o-s; древний же
грек осознавал в этом слове только два элемента: hipp-os (см. выше,
стр. 188). В лат. amäbäs «ты любил» объективный анализ
обнаруживает четыре единицы низшего уровня: am-3-bâ-s, а римляне делили
это слово на три элемента: amä-bä-s; вероятно даже, что они
рассматривали -bas как словоизменительное целое,
противопоставленное основе. Во французских словах entier «целый» (от лат. in-teger
«нетронутый»), enfant «ребенок» (от лат. in-fans «неговорящий»),
enceinte «беременная» (от лат. in-cincta «неопоясанная») историк
языка выделяет общий префикс en-, тождественный латинскому
отрицательному префиксу in-; субъективный же анализ говорящих
полностью его игнорирует.
Грамматист зачастую склонен находить ошибки в спонтанном
анализе языка; в действительности же субъективный анализ не
более ложен, чем «ложная» аналогия (см. стр. 197). Язык не ошибается;
у него только иная точка зрения. Анализ говорящих и анализ
лингвиста, опирающегося на историю языка, несоизмеримы, несмотря на
то что в обоих случаях используется одинаковый прием:
сопоставление рядов, в которых встречается один и тот же элемент. Оба вида
анализа вполне оправданны, и каждый из них сохраняет свою
ценность, но в конечном счете непререкаемое значение имеет только
анализ говорящих, так как он непосредственно базируется на
фактах языка.
218
Исторический анализ, т. е. анализ, опирающийся на историю
языка,— лишь производная форма этого непосредственного анализа. Он,
в сущности, состоит в проецировании на одну плоскость построений
различных эпох. Как и спонтанный анализ языка, исторический
анализ лингвистов стремится к познанию образующих слово единиц
низшего уровня; разница только в том, что он, стремясь добраться
до древнейшего разложения слова на составные части, синтезирует
все те субъективные разложения, которые производились в течение
веков. Слово напоминает собою дом, внутреннее устройство и
назначение которого много раз менялось. Объективный анализ
подытоживает эти· сменявшиеся во времени переустройства, накладывая их
одно на другое. Но те, кто живет в доме, знают только одно его
устройство. Рассмотренный выше анализ греч. hipp-o-s не ложен,
поскольку состав слова осознавался говорящими именно так; он
только «анахроничен», поскольку он относится не к той эпохе, в которую
мы сталкиваемся с этим словом. Это hipp-o-s не противоречит
греческому классическому hipp-os; к нему только надо подходить с иной
оценкой. Иначе говоря, мы опять возвращаемся к
фундаментальному противопоставлению диахронии и синхронии.
Тем самым мы подходим к разрешению важного
методологического вопроса. Старая школа делила слова на корни, основы,
суффиксы и т. д. и приписывала этим категориям абсолютную
значимость. Читая работы Боппа и его учеников, можно подумать, что
греки с незапамятных времен хранили все тот же запас готовых
корней и суффиксов и что, разговаривая, они занимались массовым
производством своих слов, что, например, patêr «отец» было для
них «корень pa + суффикс ter», a dosö «дам» в их устах
представляло собою сумму dô + so + личное окончание и т. д.
Разумеется, нужно было реагировать на подобного рода
заблуждения, и лозунгом этой реакции, лозунгом совершенно правильным,
сделалось следующее требование: наблюдайте за тем, что происходит
в современных языках, в нашей повседневной речи, и не
приписывайте древним периодам языка никаких процессов, никаких
явлений, которые не были бы засвидетельствованы в живой речи. А
поскольку в живой речи чаще всего нет почвы для такого рода
анализов, какие производил Бопп, младограмматики, твердо держась
своего принципа, стали заявлять, что корни, основы, суффиксы
и т. д.— это чистейшие абстракции нашего ума и что если мы ими
пользуемся, то исключительно только в интересах удобства
изложения. Но если установление этих категорий принципиально не
оправдывается, к чему же их тогда устанавливать? А если их
установили, то на каком основании в таком случае решают, что
разложение hipp-o-s предпочтительнее разложения hipp-os?
Новая школа, признав недостатки прежней доктрины, что
сделать было нетрудно, удовольствовалась отказом от нее в теории, а
на практике осталась во власти того же научного аппарата, без
которого, несмотря ни на что, не могла обойтись. Стоит нам поразмыс-
219
лить над этими «абстракциями», чтобы установить степень их
соответствия реальности; достаточно самого простого корректива, чтобы
правильно и точно осмыслить эти искусственные построения
грамматистов. Это мы и старались сделать в нашем предшествующем
изложении, показав, что объективный анализ, внутренне связанный
с субъективным анализом живого языка, занимает свое законное
и определенное место в лингвистической методологии.
Б. Субъективный анализ
и выделение единиц низшего уровня
Итак, в отношении анализа можно установить метод и
сформулировать определения, лишь исходя из синхронической точки
зрения. Это мы и хотим показать, высказав ряд соображений
относительно частей слова: префиксов, корней, основ, суффиксов,
окончаний*.
Начнем с окончания, то есть со словоизменительной
характеристики, иначе говоря, с того меняющегося элемента на конце слова,
который служит для различения форм именной и глагольной
парадигм. В греческом спряжении zeugnü-mi, zeugnü-s, zeugnü-si, zeug-
nu-men и т. д. «запрягаю, запрягаешь» и т. д. окончания -mi, -si, -s
и т. д. выделяются просто тем, что они противопоставлены друг
другу и предшествующей им части слова (zeugnü-). Как мы уже видели
(см. стр. 119 и 150) на примере русск. рук (форма род. п.),
противопоставленной форме рука (им. п. ед. ч.), отсутствие
окончания может играть такую же роль, как и обычное окончание.
Так, греч. zeugnü! «запрягай!», противопоставленное форме мн. ч.
zeugnu-te «запрягайте!» и т. д., или форма зват. п. rhêtor «оратор!»,
противопоставленная форме rhetor-os и прочим падежам, и франц.
mar J (пишется marche) «иди!», противопоставленное mar Jo (пишется
marchons) «идем!», являются словоизменительными формами с
нулевыми окончаниями.
Откинув окончание, получаем базу словоизменения (thème de
flexion), или основу, которая, вообще говоря, есть тот общий
элемент, выделяемый непосредственно путем сопоставления ряда
родственных слов, изменяемых или нет, с которым связано общее всем
этим словам понятие. Так, в гнезде французских слов roulis «качка
(боковая)», rouleau «каток», «свиток», rouler «катить», «скатывать»,
roulage «укатывание (почвы)», roulement «скатывание» нетрудно
усмотреть основу roui- «кат-». Но анализ, производимый
говорящими, зачастую различает в одном и том же гнезде слов основы
нескольких сортов, или, лучше сказать, нескольких степеней. Элемент
zeugnü-, выделенный нами выше из zeugnü-mi, zeugnü-s и т. д.,
представляет собой основу первой степени, которая не является
неразложимой, так как путем сравнения с другими рядами (zeugnümi
«запрягаю», zeuktos «запряженный», zeûksis «запряжка», zeuktêr
220
«запрягающий», zugon «ярмо» и т. д., с одной стороны, zeugnümi
«запрягаю», deiknümi «показываю», ornümi «поднимаю» и т. д.,
с другой стороны) само собой обнаруживается деление zeug-nu.
Таким образом, zeug- (со своими чередующимися формами zeug-,
zeuk-, zug-) есть основа второй степени, которая является
уже неразложимой, так как сопоставление с родственными
формами не дает возможности разделить ее на более дробные
части.
Этот неразложимый элемент, общий для всех слов, образующих
одну родственную группу, называется корнем. С другой стороны,
поскольку всякое субъективное и синхроническое разложение
может членить звуковые элементы, лишь исходя из той частицы
смысла, которая приходится на долю каждого элемента, постольку
корень является тем элементом, где общий всем родственным словам
смысл достигает наивысшей степени абстракции и обобщения.
Разумеется, эта смысловая неопределенность у каждого корня
различна; она, между прочим, зависит в некоторой мере от степени
разложимости основы: чем больше эта последняя подвергалась
последовательным рассечениям, тем больше шансов у ее смысла сделаться
абстрактным. Так, греческое zeugmâtion означает «упряжка», zeûgma
«упряжь» без более точной спецификации, наконец, zeug- выражает
неопределенное представление о <<(за/со)прягании».
Из этого следует, что корень как таковой не может выступать
в качестве слова и непосредственно принимать окончания. В самом
деле, слово всегда выражает более или менее определенное
представление, по крайней мере с грамматической точки зрения, что не
согласуется со свойственными корню общностью и абстрактностью.
Что же в таком случае нужно думать о тех весьма частых случаях,
когда корень и база словоизменения совпадают, как это мы,
например, видим в греч. phloks «пламя», phlogos «пламени», когда
сравниваем их с корнем phleg- : phlog-, который встречается во всех словах
одного и того же гнезда (ср. phlég-δ «жгу» и т. д.)? Не противоречит
ли это только что установленному нами различию? Нисколько, так
как следует различать phleg- : phlog- в общем смысле и phlog- в
специальном смысле, если только мы не желаем рассматривать
звуковые формы в полном отрыве от смысла. У одного и того же звукового
элемента здесь две различные значимости, так что он составляет
два различных языковых элемента (см. стр. 137). Выше мы
рассматривали zeugnü! «запрягай!» как спрягаемое слово с нулевым
окончанием; подобно этому, мы должны будем сказать, что и в данном
случае phlog- «пламя» является базой с нулевым суффиксом. Никакое
смешение невозможно: основа остается отличимой от корня, даже
если в звуковом отношении она с ним совпадает.
Итак, для сознания говорящих корень представляет собой
реальность. Правда, говорящие не всегда умеют выделять его с
одинаковой точностью; в этом отношении наблюдаются различия как
внутри одного языка, так и между языками.
221
В некоторых языках корень обладает определенными
характерными свойствами, которые привлекают к нему особое внимание
говорящих. Так обстоит дело в немецком языке, где корень отличается
единообразными качествами: он почти всегда односложен (ср. streit-,
bind-, haft- и т. д.), его строение подчиняется определенным
правилам — фонемы не могут располагаться в нем в любом порядке;
некоторые сочетания согласных, как, например, смычный плюс
плавный, в конце корня недопустимы — возможно werk-, a wekr-
невозможно; встречаются helf-, werd-, a hefl-, wedr- не
встречаются.
Напомним, что регулярные чередования, особенно гласных,
скорее усиливают, нежели ослабляют ощущение корня и вообще
единиц низшего уровня; в этом отношении немецкий язык с
разнообразной игрой аблаута (стр. 191 и сл.) глубоко отличен от французского.
В еще большей степени этими свойствами характеризуются
семитические корни. Чередования в них весьма регулярны и выражают
множество сложных противопоставлений (ср. др.-евр. qätal «он
убил», qtaltém «вы (мужчины) убили», qetol «убить», «убей, ты
(мужчина)!», qitelü «вы (мужчины) убейте!» и т. д.— всё это формы одного
и того же глагола со значением «убивать»); кроме того, в них мы
находим нечто напоминающее немецкую односложность, но в еще более
разительном виде: семитические корни имеют всегда три согласных
(см. стр. 268).
В этом отношении совершенно иную картину представляет
французский язык. В нем мало чередований и наряду с односложными
корнями (roui-, march-, mang- и т. д.) много двух- и трехсложных
корней (commenc-, hésit-, épouvant-). Кроме того, формы этих
корней представляют, особенно в своих финалях, слишком
разнообразные сочетания, чтобы их можно было подвести под определенные
правила (ср. tu-er, régn-er, guid-er, grond-er, souffl-er, tard-er,
entrer, hurl-er и т. п.). Поэтому не приходится удивляться, что во
французском языке корень ощущается весьма слабо.
Выделение корня влечет за собой выделение префиксов и
суффиксов. Префикс предшествует той части слова, которая признана
основой, например hupo- в греч. hupo-zeugnümi «впрягаю».
Суффикс — это тот элемент, который прибавляется к корню для
превращения его в основу (например, zeug-mat-) или к основе первой
степени для превращения ее в основу второй степени (например, zeug-
mat-io-). Мы уже видели, что этот элемент, как и окончание, может
выступать в виде нуля. Выделение суффикса является, таким
образом, лишь оборотной стороной анализа основы.
Суффикс то облечен конкретным смыслом, то есть семантической
значимостью, как, например, в zeuk-têr- «запрягающий», где -tër-
обозначает действующее лицо (субъект действия), то наделен чисто
грамматической функцией, как, например, в zeug-nü(-mi) «я
запрягаю», где -пй- выражает идею настоящего времени. Префикс также
222
может играть и ту и другую роль, но в наших языках он редко
обладает грамматической функцией; примеры: ge- в немецком причастии
прошедшего времени (ge-setzt), глагольные префиксы совершенного
вида в славянских языках (русск. на-писать).
Префикс отличается от суффикса еще одним свойством, которое,
хотя и не абсолютно, но весьма распространено: он лучше
отграничен, то есть легче отделяется от слова в целом. Это зависит от самой
природы префикса; в большинстве случаев, откинув префикс, мы
получаем законченное цельное слово (ср. франц. recommencer
«начинать снова»: commencer «начинать», indigne «недостойный»: digne
«достойный», maladroit «неловкий»: adroit «ловкий», contrepoids
«противовес»: poids «вес» и т. д.). Еще более разительно проявляется
это свойство префикса в латинском, греческом и немецком языках.
Заметим еще, что некоторые префиксы могут выступать и как
самостоятельные слова: ср. франц. contre «возле», mal «скверно», avant
«перед», sur «на», нем. unter «под», vor «перед» и т. д., греч. katâ
«с (чего-либо)», pro «перед» и т. д. Совершенно иначе обстоит дело
с суффиксами. Откинув этот элемент, мы получим основу, которая
законченным словом не является: например, франц. organisation
«организация»: organis- «организ-», нем. Trennung «разъединение»:
trenn- «разъединен-», греч. zeûgna «упряжка»: zeug- «упряж-»
и т. д.; с другой стороны, сам суффикс не имеет самостоятельного
существования.
Из всего этого следует, что чаще всего основа в своей начальной
части отграничена заранее: даже не прибегая к сопоставлению с
другими формами, говорящий знает, где находится грань между
префиксом и тем, что за ним следует. Иначе обстоит дело с концом
слова: тут установление границы без сопоставления с формами,
имеющими ту же основу или тот же суффикс, невозможно; в
результате подобных сопоставлений получаются те или другие
разграничения, целиком зависящие от свойств сопоставляемых
элементов.
С точки зрения субъективного анализа суффиксы и основы
обладают значимостью лишь в меру своих синтагматических и
ассоциативных противопоставлений; можно, смотря по обстоятельствам,
найти формативный элемент и основу в двух противопоставленных
частях слова, каковы бы они ни были, лишь бы они давали повод для
противопоставления. Например, в лат. dictatörem «диктатора»
можно выделить основу dictâtôr(-em), если его сопоставлять с consul-em
«консула», ped-em «ногу» и т. д.; основу dictä(-törem), если его
сближать с lic-törem «ликтора», scrip-tôrem «писца» и т. д., наконец,
основу dic(-tâtôrem), если вспомнить о pô-tâtôrem «пьющего», can-tä-
törem «певчего» и т. д. Вообще говоря, при благоприятных
обстоятельствах говорящий имеет основания производить все мыслимые
членения (например, dictât(-ôrem), исходя из am-örem «любовь
(вин. п.)», ard-örem «огонь (вин. п.)» и т.д., dict(-ätörem), исходя из
223
or-âtôrem «оратора», ar-âtorem «пахаря» и î. д.). Как мы уже видели
(см. стр. 204), результаты этого рода спонтанных анализов
обнаруживаются в постоянно возникающих аналогических образованиях
в любую эпоху истории языка; именно на основании их мы получаем
возможность выделять единицы низшего уровня (корни, префиксы,
суффиксы, окончания), осознаваемые в языке, и те значимости,
которые он с ними связывает.
В. Этимология
Этимология не является ни отдельной дисциплиной, ни частью
эволюционной лингвистики; это всего лишь применение принципов,
относящихся к синхроническим и диахроническим фактам.
Этимология проникает в прошлое слов и следует в этом направлении до тех
пор, пока не находит материала для их объяснения.
Когда говорят о происхождении какого-либо слова и
утверждают, что оно «происходит» от другого слова, то под этим можно
разуметь самые разнообразные вещи: так, франц. sel «соль» происходит
от лат. sal в результате простого звукового изменения; франц.
labourer «обрабатывать землю» происходит от старофранц. labourer
«работать вообще» в результате изменения только смысла; couver
«сидеть на яйцах» происходит от лат. cubäre «лежать» в результате
изменения смысла и звучания; наконец, когда говорят, что франц.
pommier «яблоня» происходит от pomme «яблоко», то устанавливают
отношение грамматического словопроизводства. В трех первых
случаях мы оперируем диахроническими тождествами, а четвертый
случай покоится на синхроническом отношении нескольких различных
элементов; все сказанное выше по поводу аналогии показывает, что
она составляет самый важный раздел этимологического
исследования.
Этимологию лат. bonus «добрый» нельзя считать установленной,
если ограничиться утверждением, что оно восходит к *dvenos; но
когда мы устанавливаем, что bis «дважды» восходит к *dvis и что тем
самым устанавливается связь с duo «два», то это можно назвать
операцией этимологического порядка; то же можно сказать и о
сближении франц. oiseau «птица» с лат. avicellus «птица» (<-«птичка»), так
как оно позволяет найти связь между oiseau и avis «птица».
Таким образом, этимология — это в первую очередь объяснение
того или другого слова при помощи установления его отношения к
другим словам. Объяснить — значит свести к элементам уже
известным, а в лингвистике объяснить слово — значит свести его
к другим словам, ибо необходимого отношения между звучанием
и смыслом не существует (принцип произвольности знака; см,
стр. 100).
224
Этимология не довольствуется объяснением отдельных слов; она
занимается и историей родственных групп слов, а также историей
формантов, префиксов, суффиксов и т. д.
Подобно статической и эволюционной лингвистике, этимология
описывает факты, но это описание не является систематическим, ибо
оно не производится в каком-либо определенном направлении. Взяв
в качестве предмета исследования какое-нибудь отдельное слово,
этимология черпает информацию по поводу его из области то
фонетики, то морфологии, то семантики и т. д. Для достижения своей
цели она использует все те средства, которые предоставляет в ее
распоряжение лингвистика, но при этом она не задерживает своего
внимания на выяснении характера тех операций, которые ей
приходится производить.
Часть четвертая
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА
Глава I
О РАЗЛИЧИИ ЯЗЫКОВ
Переходя к вопросу о языке в пространстве, мы покидаем
внутреннюю лингвистику и переходим к лингвистике внешней,
обширность и разнообразие которой уже были нами показаны в пятой
главе введения.
При изучении языков нас прежде всего поражает их
многообразие, те языковые различия, которые обнаруживаются между
разными странами и даже между частями одной страны. Тогда как
оасхождения во времени часто ускользают от наблюдателя,
расхождения в пространстве бросаются в глаза всем и каждому: их
замечают даже дикари при контактах с иноязычными племенами.
Именно вследствие таких сопоставлений народ начинает осознавать свой
собственный язык.
Заметим мимоходом, что осознание языка создает у первобытных
народов представление о том, что язык есть некий навык, некий
обычай, подобный обычаю носить одежду или оружие. Французское
слово idiome в значении «(конкретный) язык» хорошо подчеркивает
характер языка как отражения специфических черт определенного
общественного коллектива (греч. idiöma уже означало «особый
обычай»). В этом заключена верная идея, переходящая, однако, в
заблуждение в том случае, если рассматривать язык как признак уже
не народа, а расы, в том же смысле, как цвет кожи или строение
черепа.
Прибавим еще, что каждый народ уверен в превосходстве своего
языка. Люди, говорящие на других языках, часто рассматриваются
как вообще неспособные к речи; так, греческое слово bârbaros
«варвар, не грек», по-видимому, первоначально означало «заика» и было
родственно латинскому слову balbus с тем же значением; по-русски
представители германского народа называются немцами, то есть
«немыми».
226
Географическое разнообразие языков — вот что констатировала
лингвистика прежде всего; это предопределило первоначальное
направление научных изысканий в области языка уже у греков;
правда, греки обратили внимание только на различия,
существовавшие между различными эллинскими диалектами, но это
объясняется тем, что их интересы вообще не выходили за пределы самой
Греции.
Констатировав, что какие-либо два наречия отличаются друг
от друга, мы уже затем начинаем инстинктивно обнаруживать в них
аналогичные черты. В этом проявляется тенденция, свойственная
всем говорящим. Крестьяне охотно сравнивают свой говор с говором
соседних деревень; те люди, которым приходится говорить на
нескольких языках, замечают между ними черты сходства. И вместе
с тем любопытно отметить, что прошло немало времени, прежде чем
наука использовала наблюдения этого рода: так, греки, усмотревшие
значительное сходство между латинскими греческим словарем, не
сумели сделать из этого никаких лингвистических выводов.
Научное наблюдение этих черт сходства в некоторых случаях
позволяет утверждать, что два или несколько языков связаны между
собой узами родства, то есть что они имеют общее происхождение.
Группа языков, сближаемых таким образом, называется семьей;
современная лингвистика установила одну за другой ряд семей:
индоевропейскую, семитическую, банту и др. Эти семьи могут в
свою очередь сравниваться между собой, в результате чего порой
обнаруживаются еще более широкие и более древние связи.
Делались попытки найти черты сходства между угро-финской и
индоевропейской семьей языков, между индоевропейской и семитической
семьей языков и т. д. Но такого рода сопоставления сразу же
наталкиваются на непреодолимые преграды. Не следует смешивать
правдоподобное с доказуемым. Всеобщее родство всех языков
маловероятно, но, будь даже оно реальным, как это думает итальянский
лингвист Тромбетти *, его нельзя было бы доказать вследствие
великого множества происшедших в языках изменений.
Таким образом, наряду с различием внутри родственных языков
имеется абсолютное различие, где родство нельзя установить или
доказать. Каков же метод лингвистики в том и другом случае?
Начнем со второго, наиболее часто встречающегося случая. Как мы
только что сказали, имеется множество языков и языковых семей,
несводимых друг к другу. Таким является, например, китайский
язык по отношению к языкам индоевропейским. Это вовсе не
значит, что в данном случае от сравнений следует отказаться совсем;
сравнение всегда возможно и полезно; оно может касаться как
грамматической организации и общих типов выражения мысли, так
и системы звуков; равным образом можно сопоставлять факты
диахронического порядка, фонетическую эволюцию двух языков и
т. п. Но возможности в этом отношении, хотя по количеству своему
и неисчислимые, ограничены некоторыми постоянными данными зву-
S*
227
кового и психического характера, определяющими строение
каждого языка, и обратно, как раз обнаружение этих постоянных
данных и является главнейшей целью любого сопоставления
несводимых друг к другу языков.
Что же касается различий другого рода, которые
обнаруживаются внутри отдельной языковой семьи, то они представляют
неограниченные возможности для сравнения. Два языка могут
отличаться друг от друга в самых различных отношениях: они
могут поразительно походить друг на друга, как, например,
авестийский язык и санскрит, или казаться совершенно несходными,
как, например, санскрит и ирландский; возможны всяческие
промежуточные случаи: греческий и латинский ближе друг к другу, чем
каждый из них к санскриту и т.д. Наречия, расходящиеся в весьма
слабой степени, называются диалектами; впрочем, этому термину
не следует придавать чересчур строгий смысл; как мы увидим далее
(стр. 239), между диалектом и языком имеется только
количественное, но не качественное различие.
Глава II
СЛОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМ
РАЗНООБРАЗИЕМ ЯЗЫКОВ
§ 1. Сосуществование нескольких языков
в одном пункте
До сих пор мы рассматривали географическое разнообразие
языков в его идеальном виде: сколько территорий, столько и
различных языков. Мы были вправе так поступать, ибо географическое
разделение является наиболее общим фактором языкового
многообразия. Перейдем теперь к явлениям вторичным, нарушающим
неизменность этого соответствия и приводящим к сосуществованию
нескольких языков на одной территории.
Речь идет не о реальном, органическом смешении, не о
взаимопроникновении двух языков, приводящем к изменению языковой
системы (ср. английский язык после норманского завоевания).
Речь идет и не о нескольких строго разграниченных территориально
языках, заключенных в пределы одного государственного целого,
как это мы видим, например, в Швейцарии. Мы коснемся только
таких явлений, когда два языка живут бок о бок в одной и той же
местности и сосуществуют не смешиваясь. Это встречается весьма
часто, и здесь следует различать два случая.
Прежде всего, может случиться, что язык пришлого населения
накладывается на язык туземного населения. Так, в Южной Африке
наряду с многими туземными языками мы встречаем голландский и
английский языки, появившиеся там в результате двух
последовательных колонизации; таким же порядком в Мексике утвердился
испанский язык. Не надо думать, что подобного рода языковые
вторжения характерны только для нашего времени. Во все времена
наблюдалось явление смешения народов без слияния их языков. Чтобы
убедиться в этом, достаточно бросить взгляд на карту современной
Европы: в Ирландии говорят по-кельтски и по-английски; многие
ирландцы владеют обоими языками. В Бретани распространены
языки бретонский и французский; в области басков пользуются
языками французским или испанским наряду с баскским. В
Финляндии с давних пор сосуществуют языки шведский и финский; в более
229
позднее время к ним присоединился русский язык; в Курляндии и
Лифляндии говорят по-латышски, по-немецки и по-русски, причем
немецкий язык, занесенный сюда в средние века колонистами,
явившимися в этот край в связи с деятельностью Ганзы, распространен
среди определенного класса населения; русский язык появился здесь
впоследствии. В Литве наряду с литовским языком утвердился
польский (следствие прежней унии этой страны с Польшей) и русский
(результат ее присоединения к Российской империи) 1. Вплоть до
XVIII в. во всей восточной части Германии, начиная с Эльбы,
говорили по-славянски и по-немецки. В некоторых странах
смешение языков оказалось еще более значительным: в Македонии
встречаются самые разные языки, по-разному смешанные в зависимости
от местности: турецкий, болгарский, сербский, греческий,
албанский, румынский и др.
Языки смешиваются не всегда в абсолютном смысле; их
сосуществование в какой-либо области не исключает возможности их
относительного территориального размежевания. Случается,
например, что из двух языков один распространен в городах, другой —
в сельских местностях; но такое распределение не всегда вполне
отчетливо.
В древности наблюдалась та же картина. Если бы у нас была под
руками карта Римской империи, мы увидели бы нечто вполне
сходное с явлениями нашей эпохи. Так, в Кампанье к концу Римской
республики говорили на следующих языках: оскском (как это
доказывают помпейские надписи), греческом (на котором говорили
основавшие Неаполь и другие города колонисты), латинском и,
быть может, даже этрусском, господствовавшим в этой области до
появления римлян. В Карфагене пунический (иначе — финикийский)
язык продолжал существовать наряду с латинским (он
засвидетельствован еще в эпоху арабского завоевания), не говоря уже о том, что
на части карфагенской территории, несомненно, говорили
по-нумидийски. Есть даже основания полагать, что в древности в
средиземноморском бассейне одноязычные страны составляли исключение.
В большинстве случаев такое наслаивание языков друг на друга
было вызвано нашествием завоевателей; но встречаются случаи и
мирного проникновения, колонизации, а также случаи миграций
кочевых племен, вместе со своими передвижениями
распространяющих и свое наречие. В качестве примера можно указать на
цыган, осевших главным образом в Венгрии, где они населяют целые
деревни; изучение их языка показало, что в неизвестную эпоху они
должны были прийти из Индии. В Добрудже, в устье Дуная,
попадаются кое-где татарские деревни, отмеченные маленькими
пятнышками на лингвистической карте этой области.
1 Здесь и выше Фердинанд де Соссюр описывает языковую и политическую
ситуации, полностью устаревшие ныне.— Прим. ред.
230
§ 2. Литературный язык и местное наречие
Это еще не все: языковое единство может быть нарушено в
результате влияния, оказанного литературным языком на местное
наречие. Это неукоснительно случается всякий раз, когда народ
достигает определенного уровня в развитии культуры. Под
«литературным языком» мы понимаем не только язык литературы, но,
в более общем смысле, любой обработанный язык, государственный
или нет, обслуживающий весь общественный коллектив в целом.
Будучи предоставлен сам себе, язык пребывает в состоянии
раздробления на диалекты, из коих ни один не вторгается в область
другого; и в таких условиях он обречен на бесконечное дробление.
Но по мере того, как с развитием цивилизации усиливается общение
между людьми, один из существующих диалектов в результате
своего рода молчаливого соглашения начинает выступать в роли
средства передачи всего того, что представляет интерес для народа в
целом. Мотивы выбора именно данного диалекта весьма
разнообразны: в одних случаях предпочтение отдается диалекту наиболее
развитой в культурном отношении области, в других случаях —
диалекту того края, который осуществляет политическую гегемонию и
где пребывает центральная власть; бывают также случаи, когда двор
навязывает народу свой язык. Поднявшись до роли официального
и общего языка, привилегированный диалект редко остается тем
же, каким он был раньше. В него проникают элементы других
областных диалектов; он становится все более и более сложным, не
теряя, однако, полностью своих первоначальных черт; так, во
французском литературном языке легко узнать диалект Иль-де-Франса,
а в общеитальянском языке — тосканский диалект. Как бы то ни
было, литературный язык не торжествует сразу же на всей
территории, так что значительная часть населения оказывается
двуязычной, говоря одновременно и на общем языке, и на местном наречии.
Такая картина до сих пор наблюдается во многих областях Франции,
как, например, в Савойе, где французский язык занесен извне и еще
не вытеснил окончательно местное наречие. Подобное же явление
замечается в Германии и в Италии, где всюду диалекты сохраняются
рядом с официальным языком.
Аналогичные факты наблюдались во все времена у всех народов,
достигших определенного уровня цивилизации. У греков было свое
койне, восходящее к аттическому и ионийскому диалектам, а наряду
с ним продолжали существовать местные диалекты. Даже в древней
Вавилонии, по-видимому, можно установить наличие официального
языка наряду с областными диалектами.
Обязательно ли существование общего языка обусловлено
наличием письменности? Гомеровские поэмы как будто доказывают
противоположное; несмотря на то что они появились в то время,
когда письменность или вовсе, или почти не существовала, их язык
231
носит черты условности и обнаруживает обычные свойства
литературного языка.
Затронутые в этой главе факты имеют столь общее
распространение, что их можно было бы считать нормальным явлением в
истории языка. Однако в нашем изложении мы отвлечемся от всего, что
заслоняет от нас картину естественного географического
разнообразия языков, и сосредоточим все наше внимание на основном
феномене, оставив в стороне факты проникновения чужого языка или
образования литературного языка. Такое схематическое упрощение
как будто противоречит реальности, но естественный факт должен
быть изучен прежде всего в чистом виде.
Исходя из принятого нами принципа, мы будем считать,
например, что лингвистически Брюссель — германский город, так как
он расположен во фламандской части Бельгии; в нем говорят по-
французски, но нас интересует исключительно демаркационная
линия между фламандской и валлонской языковой территорией.
С другой стороны, с той же точки зрения, Льеж — лингвистически
романский город, так как он находится на валлонской территории;
французский язык является в нем иностранным, наложившимся на
родственный ему диалект. Равным образом Брест лингвистически
относится к бретонской территории; французский язык, на котором
там говорят, ничего не имеет общего с туземным наречием Бретани;
Берлин, где слышится только верхненемецкая речь, мы отнесем к
нижненемецкой территории и т. д.
Глава III
ПРИЧИНЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЯЗЫКОВ
§ 1. Основная причина разнообразия языков — время
Абсолютное многообразие языков (см. стр. 227) ставит чисто
умозрительную проблему. Наоборот, многообразие родственных
языков ставит нас на почву конкретного наблюдения; это
многообразие может быть сведено к единству. Так, французский и
провансальский языки восходят к народной латыни,
эволюционировавшей различно на севере и на юге Галлии. Общность их
происхождения подтверждается материально.
Для уяснения того, как на самом деле обстоят дела, представим
себе чисто теоретическую, насколько возможно простую ситуацию,
позволяющую обнаружить основную причину языковой
дифференциации в пространстве, и спросим себя, что должно произойти,
если какой-либо язык, распространенный на замкнутой территории,
например на небольшом острове, окажется перенесенным
колонистами в другой пункт, равным образом замкнутый, например на
другой остров. По истечении некоторого времени мы увидим, что
между языком первого очага F и языком второго очага F'
обнаружатся всяческие различия в отношении словаря, грамматики,
произношения и т. д.
Не следует думать, что изменению может подвергнуться только
наречие колонистов в очаге F', а то же наречие в очаге F не изменится
вовсе; абсолютным образом нельзя утверждать и обратное. Вообще
говоря, инновации могут возникать либо тут, либо там, или даже в
обоих пунктах одновременно. Поскольку любое языковое явление а
может смениться каким-либо другим — b, с, d и т. д., постольку
дифференциация может произойти тремя различными способами:
Случай 1 Случай 2 Случай 3
Очаг F а ► а а ► b а ► b
Очаг F' а ► b а ► а а > с
233
Значит, исследование изменений не должно быть односторонним;
для лингвиста равно важны инновации как в одном, так и в другом
языке.
Что же порождает эту дифференциацию? Ошибочно было бы
думать, что в этом виновно только пространство. Само по себе
пространство не может оказывать никакого влияния на язык. На
следующий день после своего появления в F' отплывшие из F
колонисты говорили точь-в-точь на том же языке, как и накануне.
Обычно мы упускаем из виду фактор времени, так как он менее конкретен,
нежели фактор пространства; но в действительности языковая
дифференциация обусловлена именно временем. Географические
различия должны быть переведены на различия во времени.
Как получились фигурирующие в нашей схеме различные
признаки b и с, если никогда не было ни перехода b—>c, ни перехода c—>
—>b? Чтобы найти путь от единства к различию, следует вернуться к
исходной форме a, замененной b и c; ведь форма a уступила место
последующим формам! Таким образом, схема географической
дифференциации, годная для всех аналогичных случаев, принимает
следующий вид:
F F'
а < ► а
1 I
b с
Географическое разобщение двух наречий является осязаемой
формой их языкового расхождения, но не объясняет его. Без
сомнения, данный язык не оказался бы дифференцированным, не будь
пространственного разобщения, хотя бы и минимального; однако
само по себе разобщение не создает различий. Подобно тому как
нельзя судить об объеме по одной лишь поверхности, а надо привлечь
третью координату — глубину, подобно этому и схема
географической дифференциации становится полной, лишь будучи
проецирована на время.
Можно было бы возразить, что разнообразия среды, климата,
ландшафта, особенности народных обычаев (не совпадающих,
например, у горских племен и у приморского населения) могут
влиять на язык и что в таком случае расхождения, о которых
идет речь, оказываются обусловленными географически. Но эти
влиянии спорны (см. стр. 180); будь они даже доказаны,
необходимо все-таки и в этом случае не забывать следующего
существенного различия. Влиянию среды можно, пожалуй, приписывать
направление движения, которое, вообще говоря, определяется
действующими в каждом отдельном случае, но недоступными
обнаружению и описанию неуловимыми причинами. В определенный момент
в определенной среде звук и превращается в и; но почему он
изменился в этот момент и в этой среде и почему он превратился в ü,
а не в о, например? На этот вопрос ответить нельзя. Но само изме-
234
нение, за вычетом его направления и его специальных проявлений,—
иными словами, неустойчивость языка —определяется только
действием времени. Итак, географическое разнообразие представляет
собой только вторичный аспект общего явления. Единство
родственных языков обнаруживается только во времени. Этим принципом
должен проникнуться компаративист, если он не желает сделаться
жертвой опасных иллюзий.
§ 2· Действие времени на язык
на непрерывной территории
Возьмем теперь одноязычную страну, то есть такую, где всюду
говорят на одном языке и где население оседло, например Галлию
около 450 г. н. э., когда в ней повсюду прочно укоренился
латинский язык. Что должно произойти с языком в этом случае?
1. Поскольку абсолютной неподвижности языка не существует
(см. стр. 108 и сл.), постольку по истечении некоторого времени
рассматриваемый язык уже не будет тождественным самому себе.
2. Эволюция не будет происходить единообразно на всей
территории, она будет варьировать в зависимости от местности; еще
никогда и нигде не было зарегистрировано случая, чтобы язык
изменялся одинаковым образом всюду, где он распространен. Таким
образом, действительности соответствует не левая схема, а правая:
С чего же начинается и как развивается то разнообразие, которое
впоследствии приводит к созданию всевозможных диалектных
форм? Ответ на этот вопрос не так прост, как могло бы казаться с
первого взгляда. Это явление имеет две основные черты:
1. Эволюция осуществляется в виде последовательных и строго
определенных инноваций, слагающихся из отдельных фактов,
которые нетрудно перечислить, описать и классифицировать, исходя из
их природы (факты фонетические, лексические, морфологические,
синтаксические и т. д.).
2. Каждая из этих инноваций возникает в определенном месте,
имеет свою область распространения. Зона, охватываемая
инновацией, либо покрывает всю территорию распространения языка, и в
235
таком случае диалектных различий не возникает (это случай
наиболее редкий), либо, как это обыкновенно случается, охватывает
лишь часть территории распространения языка, и тогда у каждого
диалектного факта оказывается своя особая область. Приводимые
ниже примеры, взятые из истории звуков, действительны не только
в отношении фонетических изменений, но и всяких других. Если,
например, на части территории произошел переход а в e, то может
случиться, что переход s в ζ произойдет на той же территории, но
в иных границах (см. рисунки).
α \ а-**е
Наличием этих особых зон распространения того или другого
явления и объясняется разнообразие говоров на территории
распространения данного языка, предоставленного своему
естественному развитию. Зону распространения того или другого из этих
изменений предвидеть нельзя; ничто не позволяет заранее
определить размеры этих зон; можно только констатировать их наличие.
Накладываясь одна на другую на карте, где их границы
перекрещиваются, они являют чрезвычайно сложные комбинации. Их
очертания порой кажутся весьма причудливыми: так, лат. eng перед а
перешли в tj, аз, затем — в J\ 3 (ср. cantum «пение» (вин. п.) ->
chant «пение», virga «прут, лоза» -► verge «прут, лоза») на всем
севере Франции, кроме Пикардии и части Нормандии, где с, g
сохранились в неприкосновенности (ср. пикард. cat вместо chat «кошка»,
rescapé, недавно вошедшее во французский литературный язык,
вместо réchappé «уцелевший», vergue — от приведенного выше virga
и т. п.).
Что же должно получиться в результате всех этих явлений?
Если в какой-либо определенный момент один и тот же язык
господствует на всей территории А, то по истечении пяти — десяти
столетий жители двух ее крайних пунктов, по всей вероятности, не
будут понимать друг друга; с другой стороны, жители одного из
этих пунктов по-прежнему будут понимать говор смежных с ним
местностей. Путешественник, пересекающий эту страну с одного
конца до другого, заметит, переходя от одной местности к другой,
лишь самые незначительные диалектные различия; но по мере его
продвижения эти различия будут увеличиваться, так что в конце
концов он встретится с языком, непонятным для жителей той
области, из которой он начал свое путешествие. Если же из какого-
либо пункта территории А отправиться по разным направлениям, то
окажется, что на каждом из этих направлений сумма расхождений
будет увеличиваться, хотя и по-разному.
236
Особенности, обнаруженные в говоре какой-либо деревни, могут
повторяться в соседних местностях, но совершенно невозможно
предвидеть, до каких пределов распространяется каждая из них.
Так, например, в Дувене, местечке департамента Верхняя Савойя,
название города Женевы произносится denva; такое произношение
простирается далеко на восток и юг; но на другом берегу Женевского
озера город называют dzenva; между тем речь идет не о двух резко
разграниченных диалектах, поскольку в отношении других явлений
границы оказываются иными; так, в Дувене числительное deux
«два» произносится daue, но у этого произношения гораздо меньшая
площадь распространения, чем у denva; в нескольких километрах
оттуда, у подножия Салева, говорят due.
§ 3. У диалектов нет естественных границ
Обычное представление о диалектах совершенно иное. Их
представляют себе как вполне определенные языковые типы, строго
отделенные друг от друга во всех отношениях и занимающие на карте
вполне раздельные, хотя и смежные территории a, b, с, d и т. д.
В действительности же естественные диалектные изменения
приводят к совершенно иной картине. Как только наука принялась
за изучение каждого языкового явления в отдельности и за
определение области его распространения, оказалось необходимым
заменить старое представление новым, которое сводится к следующему:
существуют только естественные диалектные признаки, но
естественных диалектов нет, или — что то же — диалектов столько же,
сколько местностей.
Итак, представление о естественном диалекте в принципе
несовместимо с представлением о более или менее значительной
области. Одно из двух: либо мы определяем диалект суммой его
отличительных черт, и в таком случае придется ограничиться одним
пунктом на карте и считать диалектом говор ровно одного населенного
пункта, так как стоит от него удалиться, и мы более не найдем той
же самой суммы особенностей; либо мы определяем диалект по
одному какому-нибудь признаку, в таком случае у данного языкового
явления получится, конечно, некая область распространения, но
237
едва ли стоит указывать, что такой прием является чисто
искусственным и что проводимые по такому методу границы не
соответствуют никакой диалектной реальности.
Исследования диалектных особенностей послужили отправной
точкой для работ по лингвистической картографии, образцом
которой может служить «Atlas linguistique de la France» Жильерона;
следует упомянуть также о немецком атласе Венкера. Форма атласа
подходит для этого лучше всего, так как приходится изучать
страну область за областью, а для каждой из них отдельная карта могла
бы охватить лишь небольшое число диалектных признаков; одна и
та же область должна изображаться много раз, чтобы дать
представление о наслоившихся в ней фонетических, лексикологических,
морфологических и прочих особенностях. Подобного рода изыскания
требуют целой организации, систематических обследований
посредством вопросников, содействия корреспондентов на местах и т. п.
В связи с этим надо упомянуть и об обследовании говоров
романской Швейцарии. Одним из преимуществ лингвистических атласов
является то, что они дают материал для диалектологических работ:
многие недавно появившиеся монографии базируются на атласе
Жильерона.
Границы между диалектными признаками называются «линиями
изоглосс» или «изоглоссами». Этот термин создан по образцу слова
«изотерма», но он неясен и неточен, так как означает фактически
«одинаковоязычный». Если принять термин глоссема в значении
«признак, характерный для данного языка или диалекта», то можно
было бы с большим правом говорить об изоглоссематических линиях,
но, поскольку этот термин едва ли приемлем, мы предпочитаем
говорить в дальнейшем о волнах инноваций, используя образ,
пущенный в оборот И. Шмидтом, о чем мы еще будем говорить в
следующей главе.
Когда мы смотрим на лингвистическую карту, мы иногда
замечаем, что две или три из этих волн почти совпадают, а иногда даже
где-то и вообще сливаются (см. рисунок):
Ясно, что в двух точках А и В, разделенных подобного рода
полосой, обнаруживается некоторая сумма различий, так что можно
говорить о двух четко дифференцированных говорах. Может также
случиться, что эти совпадения уже не носят частичного характера, а
происходят по всему периметру двух или нескольких площадей
(см. рис. на стр. 239):
238
Когда таких совпадений оказывается достаточно много, уже
можно говорить о диалекте в первом приближении. Совпадения эти
объясняются социальными, политическими, религиозными и иными
факторами, которые мы сейчас вовсе исключаем из нашего
рассмотрения; они только заслоняют, никогда не устраняя окончательно,
изначальное и естественное явление языковой дифференциации по
самостоятельным областям.
§ 4. У языков нет естественных границ
Трудно определить, в чем состоит разница между языком и
диалектом. Часто диалект называют языком, потому что на нем имеется
своя литература; таковы языки португальский и голландский.
Некоторую роль играет также вопрос взаимопонимания: о лицах,
друг друга не понимающих, естественно говорить, что они
разговаривают на разных языках. Как бы то ни было, те языки, которые
развились на непрерывной территории среди оседлого населения,
обнаруживают те же явления, что и диалекты, только в большем
масштабе; мы встречаем в них такие же волны инноваций, однако
эти волны охватывают территорию, общую для нескольких языков.
В воображаемой идеальной обстановке столь же невозможно
устанавливать границы между родственными языками, как и между
диалектами; большая или меньшая величина территории роли не
играет. Подобно тому как нельзя сказать, где кончается
верхненемецкий диалект и где начинается нижненемецкий, не представляется
возможным провести демаркационную линию между языками
голландским и немецким, между французским и итальянским.
Разумеется, если взять крайние точки, то всегда можно с уверенностью
сказать: вот здесь господствует французский язык, а тут —
итальянский; но, как только мы попадаем в области, промежуточные между
этими крайними точками, различия стираются; не является
реальностью и такая более ограниченная компактная зона, которую
можно было бы вообразить себе в качестве переходной между двумя
языками, как, например, провансальский язык в качестве
переходного между французским и итальянским. И в самом деле, как и в
какой форме можно себе представить точную лингвистическую
границу на территории, которая с одного конца до другого занята
диалектами с незаметными переходами от одного к другому? Границы
между языками, как и между диалектами, тоже тонут в переходных
явлениях. Подобно тому как диалекты представляют собой лишь
339
произвольные подразделения на территории распространения того
или другого языка, так и граница, будто бы разделяющая два языка,
не может не быть условной.
Однако очень часто встречаются и резкие переходы от одного
языка к другому; чем же это объясняется? Тем, что неблагоприятные
обстоятельства воспрепятствовали сохранению незаметных
переходов. Главнейшим фактором здесь являются перемещения народов.
Испокон веков народы то и дело передвигались в разных
направлениях. Наслаиваясь одно на другое в течение столетий, эти
переселения все перепутали и во многих местах не оставили и следов от
переходных явлений от одного языка к другому. Характерным
примером может служить индоевропейская семья языков.
Первоначально эти языки должны были находиться в весьма тесном
общении и образовывать непрерывную цепь языковых областей,
главнейшие из которых в их общих чертах мы даже можем восстановить.
Славянская группа языков по своим признакам пересекается с
иранской и германской, что вполне сообразуется с географическим
распределением соответствующих групп; равным образом германскую
группу можно рассматривать как связующее звено между
славянской и кельтской; последняя в свою очередь тесно связана с
италийской, а италийская занимает промежуточное положение между
кельтской и греческой. Таким образом, даже не зная географического
расположения всех этих языков, лингвист не колеблясь мог бы
установить положение каждого из них по отношению к другим. А между
тем, как только мы начинаем рассматривать границу между двумя
группами языков, например между германскими и славянскими
языками, мы тотчас обнаруживаем резкий скачок без всяких
переходных явлений: два языка сталкиваются, а вовсе не переливаются
один в другой. Объясняется это тем, что промежуточные диалекты
исчезли. Ни славяне, ни германцы не оставались неподвижными;
они переселялись, завоевывали друг у друга территории: славянские
и германские народы, соседствующие ныне, живут уже не на тех
территориях, на которых они жили в прежние времена.
Предположим, что итальянцы из Калабрии переселились бы к границам
Франции: такое передвижение, разумеется, разрушило бы те незаметные
переходы, которые мы отмечаем между языками итальянским и
французским. Развитие индоевропейской семьи характеризуется
множеством аналогичных фактов.
Но есть и другие причины, способствующие стиранию
переходных явлений, например распространение койне за счет народных
говоров (см. стр. 231). В настоящее время французский язык
(прежнее наречие Иль-де-Франса) сталкивается на границе государства с
официальным итальянским языком (представляющим собой
обобщившийся тосканский диалект), и чистой случайностью является то,
что еще и теперь в Западных Альпах можно найти переходные
наречия, тогда как во всех других местах на лингвистических границах
воспоминание о промежуточных говорах полностью стерлось.
240
Глава IV
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ВОЛН
§ 1. Сила общения и «дух родимой колокольни»
Распространение фактов языка подчинено тем же законам, что и
распространение любой привычки, например моды. В любом
человеческом коллективе непрерывно и одновременно действуют в двух
разных направлениях две силы: с одной стороны, дух локальной
ограниченности, так сказать, «дух родимой колокольни», с другой
стороны — сила взаимного общения, создающая связи между
людьми.
«Духом родимой колокольни» объясняется то явление, что
замкнутый языковой коллектив сохраняет верность развившимся внутри
него традициям. Эти традиции усваиваются каждым человеком в
детстве прежде всего; отсюда их сила и устойчивость. Если бы
действовали только они, то это порождало бы в области человеческой
речи особенности, расходящиеся до бесконечности.
Однако действие их уравновешивается противодействием
противоположной силы. Если «дух родимой колокольни» делает людей
домоседами, то сила взаимного общения заставляет их вступать
между собой в различные отношения; взаимообщение приводит в
глухую деревню пришельцев из других местностей, оно же
перебрасывает часть населения из одного места в другое по случаю праздников
или ярмарок и объединяет в рядах армии людей из разных
провинций и т. д. Одним словом, это фактор объединяющий, в
противоположность разобщающему действию «духа родимой колокольни».
На взаимообщении держится распространение языка и его
внутреннее единство. Оно действует двояко: то отрицательно,
предупреждая дробление на диалекты и препятствуя распространению любой
инновации в любом месте и в любой момент ее возникновения; то
положительно, благоприятствуя объединению путем принятия и
распространения инноваций. Вот этот второй вид действия силы
взаимообщеиия и оправдывает термин волна в применении к
географическим пределам диалектных явлений (см. стр. 238); изоглоссе-
241
матическая линия представляет собою как бы крайнюю черту,
которой достигло наводнение, каждую минуту готовое схлынуть.
Иногда мы замечаем с изумлением, что в двух говорах одного и
того же языка, отстоящих друг от друга весьма далеко,
наблюдается общая особенность; объясняется это тем, что изменение,
первоначально возникшее в одном пункте какой-либо территории, не
встретило препятствий для своего распространения и мало-помалу
достигло весьма отдаленной точки. Ничто не может
воспрепятствовать действию взаимообщения в такой языковой среде, где налицо
лишь незаметные постепенные переходы.
Такое распространение отдельного языкового факта, каковы бы
ни были его пределы, требует времени. И продолжительность этого
времени иногда можно измерить. Так, общение распространило
по всей Германии переход звука \> в d, сперва осуществившийся
между 800 и 850 гг. на всем юге, за исключением территории
франкского наречия, где ]э сохранилось в звонкой разновидности et и
уступило место d лишь впоследствии. Изменение t в ts произошло
в более узких пределах и началось в эпоху, предшествующую
первым письменным памятникам; оно, должно быть, возникло в
Альпах около 600 г. и распространилось как на север, так и на юг —
в Ломбардию, t читается еще в Тюрингенской хартии VIII в. В
более близкую нам эпоху германские ï и ü превратились в дифтонги
(ср. mein «мой» вместо mïn, braun «коричневый» вместо brün); этому
явлению, которое возникло в Богемии около 1400 г., понадобилось
300 лет, чтобы достигнуть Рейна и охватить занимаемую им ныне
площадь.
Эти языковые факты распространялись, как бы заражая все
новые области, и весьма возможно, что так обстоит дело со всеми
волнами языковых инноваций: каждая из них зарождается в каком-
либо пункте и оттуда распространяется по радиусам. Это приводит
нас к еще одному важному выводу.
Как мы видели, для объяснения географического разнообразия
достаточно фактора времени. Но этот принцип верен в полной мере
лишь относительно того места, где возникла инновация.
Вернемся к примеру передвижения согласных в немецком языке.
Стоит фонеме t в одном пункте германской территории превратиться
в ts, чтобы новый звук начал как бы излучаться из своей точки
возникновения. И вот посредством такого движения в пространстве
он и вступает в борьбу с прежним t или другими звуками, которые
могли из него возникнуть в других пунктах. В месте своего
возникновения такого рода инновация является фактом чисто
фонетическим, но в дальнейшем она распространяется уже географически,
заражая новые области. Поэтому схема
t
i
ts
242
годится во всей своей простоте лишь для того очага, где инновация
возникла; применяя ее к распространению инновации, мы только
исказили бы картину.
Итак, фонетист должен строго различать очаг инновации, где
фонемы эволюционируют исключительно на временной оси, и ареалы
распространения «инфекции», в которых действует и фактор
времени, и фактор пространства и в отношении которых теория чисто
фонетических факторов недействительна. При замене традиционного
t пришедшим извне ts речь идет не об изменении традиционного
прототипа, но о подражании соседнему говору без какого-либо
отношения к этому прототипу; когда форма herza «сердце», придя с
Альп, заменяет в Тюрингии более древнюю форму herta, следует
говорить не о фонетическом изменении, а о заимствовании фонемы.
§ 2. Сведение обеих взаимодействующих сил
к одному общему принципу
В некоторой точке пространства, то есть на минимальной
площади, которую можно приравнять точке, например в отдельной
деревне, не составляет труда отличить, что обусловлено действием
«духа родимой колокольни», а что — действием силы
взаимообщения; каждый факт может зависеть только от одной из этих сил, но
не от другой; всякое явление, встречающееся и в другом говоре,
объясняется действием фактора взаимообщения; всякое явление,
встречающееся только в говоре данного места, объясняется
действием фактора локальной ограниченности.
Но как только мы переходим от точки к площади, например
от деревни к кантону, возникает известная трудность: оказывается,
что установить, каким из двух факторов следует объяснить то или
другое явление, невозможно; оба они, противоположные друг другу,
тем не менее могут усматриваться в каждой особенности говора.
То, что является отличительным признаком для кантона А, присуще
всем его частям; здесь действует фактор локальной ограниченности,
препятствующий этому кантону подражать в чем-нибудь соседнему
кантону В, и обратно. Но здесь действует и унифицирующий фактор,
то есть сила взаимообщения, обнаруживаемая между различными
частями кантона А (Аь А2, А3 и т. д.). Таким образом, как только
мы переходим от точки к площади, обнаруживается, что оба фактора
действуют одновременно, хотя и в различных пропорциях. Чем
более взаимообщение содействует какой-либо инновации, тем более
расширяется область ее распространения; что же касается «духа
родимой колокольни», то его действие заключается в удержании
языкового факта в завоеванных им границах и в защите его от
внешней конкуренции. Результатов действия каждой из этих двух
сил предвидеть нельзя. Как уже говорили (см. стр. 242), на герман-
243
ской языковой территории, которая простирается от Альп до
Северного моря, переход f в d был общим, а изменение t в ts
затронуло лишь юг; «дух родимой колокольни» создал
противопоставление между севером и югом; однако внутри этих границ
благодаря силе взаимообщения налицо языковое единство. Таким
образом, в принципе нет существенной разницы между этим вторым
явлением и первым. Налицо те же силы, но интенсивность их
действия различна.
Все это сводится к тому, что на практике при изучении языковых
эволюции, охватывающих некоторое пространство, можно
отвлекаться от фактора локальной ограниченности или, что то же,
рассматривать его как отрицательный аспект унифицирующего
фактора. Если этот последний достаточно могуществен, он обеспечит
единство на всей территории; в противном случае явление остановится
на полпути и охватит только часть территории; эта более
ограниченная площадь будет тем не менее единым целым по отношению к своим
частям. Вот почему все может быть сведено к действию одной лишь
унифицирующей силы без какого-либо участия фактора локальной
ограниченности, который представляет собой не что иное, как
свойственную каждой данной области силу взаимообщения.
§ 3. Языковая дифференциация
на разобщенных территориях
Лишь после того, как мы убедились, что в одноязычной массе
сила внутреннего сцепления варьирует от одного языкового явления
к другому, что не все инновации получают общее распространение,
что непрерывность территории не препятствует постоянным
процессам дифференциации,— лишь после всего этого мы можем перейти к
вопросу о языке, параллельно развивающемся на двух
разобщенных территориях.
Подобное явление встречается очень часто; с того момента, когда,
например, германское наречие проникло с материка на Британские
острова, его эволюция пошла в двух разных направлениях: с одной
стороны (на материке) — немецкие диалекты, с другой стороны (на
островах) — англосаксонский язык, от которого произошел
английский. Можно еще указать на французский язык, перенесенный в
Канаду. Разрыв языковых связей возникает не только в результате
колонизации или завоевания, он может произойти и вследствие
изоляции: так, румынский язык утратил контакт с романской средой,
будучи оторван от нее славянским населением. Впрочем, дело не в
причине; вопрос заключается прежде всего в том, чтобы выяснить
функцию изоляции: играет ли она роль в истории языков и если
играет, то порождает ли она последствия, не встречающиеся в
случае непрерывности языковой территории.
244
Чтобы лучше выяснить преобладающее действие фактора
времени, мы представили себе выше (см. стр. 233) такой язык, который
развивается параллельно в двух местах, незначительных по своей
протяженности, например на двух островках,— случай, когда
можно отвлечься от постепенного распространения языка в
пространстве. Но едва мы обращаемся к двум территориям более или
менее значительной протяженности, как вступает в действие этот
последний фактор, а это ведет к появлению диалектных различий;
таким образом, вся проблема вовсе не упрощается от наличия
разобщенных территорий. Не следует приписывать фактору
разобщенности то, что может быть объяснено помимо него.
Подобную ошибку совершали первые индоевропеисты (см.
стр. 40—41). Изучая большую семью значительно разошедшихся друг
с другом языков, они не представляли себе, чтобы эта
дифференциация могла произойти иначе, чем путем географического
дробления. В самом деле, можно легко представить себе различие языков
при раздельности их территорий, а при поверхностном наблюдении
эта раздельность кажется необходимым и достаточным объяснением
самого факта дифференциации. Но это не все: названные ученые
связывали понятие языка с понятием народа и при помощи этого
второго объясняли первое; они представляли себе славян,
германцев, кельтов и т. д. как несколько роев, последовательно
вылетавших из одного улья; эти племена, оторвавшись от своей родной
почвы, будто бы разнесли в своих переселениях общий
индоевропейский язык по различным территориям.
Потребовалось много времени, чтобы обнаружить ошибочность
этого взгляда; только в 1872 г. работа И. Шмидта «Die
Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen» открыла
лингвистам глаза и положила начало теории непрерывности,
получившей название «теории волн» (Wellentheorie). Стало ясно,
что для объяснения соотношений между индоевропейскими языками
совершенно достаточно допущения об их дифференциации на месте
и что для этого нет никакой необходимости предполагать
перемещения народов друг относительно друга в пространстве в
результате миграций.
Диалектные различия могли и должны были развиться в их
среде еще до того, как они расселились по разным местам. Таким
образом, теория волн не только приводит нас к более верному
взгляду на индоевропейскую доисторию, но и вскрывает основные законы
всех явлений языковой дифференциации и условия, определяющие
родство языков.
Однако теория волн, противопоставленная теории миграций,
не исключает ее. История индоевропейских языков являет нам
немало примеров, когда народы в результате переселения
отрывались от своей языковой семьи, и это обстоятельство имело
специфические последствия для их языка; дело лишь в том, что эти
последствия сливаются с последствиями, проистекающими из действия
245
фактора дифференциации языка на непрерывной территории, так
что весьма трудно установить, в чем они заключаются; таким
образом, мы опять возвращаемся к проблеме эволюции одного наречия
на разобщенных территориях.
Возьмем староанглийский язык. В результате миграции он
отделился от общего германского ствола. Возможно, что у него был
бы другой, не нынешний вид, если бы в V в. саксы не покинули
материка. Но в чем же выразились специфические последствия
разобщения? Чтобы ответить на это, надо сначала выяснить, не могло
ли бы то или другое изменение возникнуть и в условиях
географической смежности. Допустим, англы заняли бы Ютландию, а не
Британские острова; можно ли утверждать, что ни один из фактов,
приписываемых фактору абсолютной разобщенности, не имел бы
места в случае, если бы непрерывность территории сохранилась?
Говорить, будто разобщение позволило английскому языку
сохранить древний звук р, перешедший на всем материке в d (ср. англ.
thing и нем. Ding «вещь»), равносильно утверждению, что в
германских языках на материке это явление сделалось общим благодаря
географической непрерывности, тогда как на самом деле
всеобщность этого явления могла бы и не реализоваться, невзирая на
непрерывность территории. Как и всегда, ошибка коренится в
противопоставлении изолированного диалекта диалектам географически
связанным. А между тем ничем фактически не доказано, будто
англы, если бы они утвердились в Ютландии, непременно «заразились»
бы общим примером и стали произносить d. Мы уже видели, что во
французской языковой области к(+а) сохранилось только в
Пикардии и части Нормандии, тогда как на всей прочей территории оно
изменилось в шипящее J. Таким образом, объяснение фактором
изоляции оказывается недостаточным и поверхностным. Ни при каких
обстоятельствах нет необходимости ссылаться на этот фактор для
объяснения факта дифференциации; то, что приписывается действию
изоляции, отлично может осуществиться и в случае географической
смежности; если даже и есть разница между этими двумя рядами
явлений, то установить ее не в наших силах.
Тем не менее, рассматривая два родственных наречия уже не в
отрицательном аспекте их дифференциации, но в положительном
аспекте их единства, мы констатируем, что при изоляции все
возможные взаимоотношения потенциально прерываются с самого
момента разделения этих наречий; напротив, при географической
смежности некоторое единство сохраняется даже между резко
различными наречиями, лишь бы они были связаны промежуточными
диалектами.
Таким образом, для установления степеней родства между
языками следует проводить строгое различие между территориальной
непрерывностью и изоляцией. В этом последнем случае оба языка
сохраняют от своего общего прошлого некоторые черты,
свидетельствующие об их родстве; но, поскольку каждое из них развивается
246
самостоятельно, возникшие в одном из них новые признаки не будут
встречаться в другом (за исключением тех случаев, когда некоторые
возникшие после разделения явления оказываются случайно
тожественными в обоих языках). Во всяком случае, исключается
возможность распространения этих новых признаков путем «инфекции».
Вообще говоря, развивавшийся в географической разобщенности
язык представляет по сравнению с родственными языками
совокупность черт, принадлежащих только ему; когда же этот язык в свою
очередь подвергается дроблению, происшедшие от него отдельные
диалекты свидетельствуют благодаря общности своих черт о более
тесном родстве, связывающем их между собою, но не с диалектами
другой территории. Они действительно образуют особую ветвь,
отделившуюся от общего ствола.
Совершенно иные отношения наблюдаются у языков на
непрерывной территории; наблюдаемые у них общие черты не обязательно
должны быть древнее тех черт, которые их разделяют: в самом
деле, в каждый данный момент какая-либо инновация, возникшая
в каком-нибудь определенном пункте, может получить общее
распространение и даже захватить целиком всю территорию. Кроме
того, поскольку площади инноваций в каждом отдельном случае
различны по своей протяженности, постольку у двух смежных
языков может оказаться общая особенность, хотя они и не образуют
особой группы в общем целом и каждая из них может связываться со
смежными языками другими своими чертами, как это мы видим на
примере индоевропейских языков.
Часть пятая
ВОПРОСЫ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Глава I
ДВЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
В то время как синхроническая лингвистика знает только одну
точку зрения, точку зрения говорящих, а следовательно, один
метод, диахроническая лингвистика предполагает одновременное
наличие двух точек зрения или перспектив: проспективную — взгляд,
направленный по течению времени, и ретроспективную — взгляд,
направленный вспять, против течения времени (см. стр. 123).
Первая перспектива диахронической лингвистики соответствует
действительному ходу событий; этой перспективой по
необходимости пользуются при написании любой главы исторической
лингвистики, при освещении любого момента в истории языка. Метод при
этом сводится исключительно к критике доступных источников.
Но во многих случаях этот метод диахронической лингвистики
оказывается недостаточным или вообще неприменимым.
В самом деле, для того чтобы описать историю языка во всех
подробностях, следуя за течением времени, нужно было бы обладать
бесчисленным множеством фотографий языка, снятых в каждый
момент его существования. Между тем это условие никогда не может
быть выполнено; романисты, например, преимущество которых
состоит в том, что они знакомы с латинским языком, который
является отправным пунктом их исследования, а также в том, что они
обладают внушительным числом документов, относящихся к
длинному ряду веков, ежеминутно убеждаются в огромных пробелах в
их документации. В таких случаях приходится отказываться от
проспективного метода, от непосредственного использования
источников, и следовать в обратном направлении, идя против течения
времени, то есть прибегать к ретроспективному методу. В этом
случае, отправляясь от данной эпохи, выясняют не то, к чему привела
какая-либо из свойственных ей форм, а то, какой была более
древняя форма, которая могла породить данную.
248
В то время как проспективный метод сводится к простому
повествованию и целиком опирается на критику источников,
ретроспективное исследование требует метода реконструкции, который
опирается на сравнение. Нельзя установить первоначальную форму
для одного изолированного знака, тогда как два различных, но
общих по происхождению знака, как, например, лат. pater «отец»,
скр. pi tar- «отец» или основы лат. ger-ô «ношу» и ges-tus (причастие
прошедшего времени от ger-ô), позволяют в результате их сравнения
наметить ту диахроническую единицу, которая связывает их с
неким прототипом, который можно восстановить путем индукции.
Чем многочисленней члены сравнения, тем точнее оказывается эта
индукция, которая — при наличии достаточно обильных данных —
может привести к подлинным реконструкциям.
То же относится и к языку в целом. Из баскского языка самого
по себе ничего нельзя извлечь, так как, будучи изолированным,
он не дает материала для сравнений. Но из пучка родственных
языков, какими являются греческий, латинский, старославянский
и т. д., оказалось возможным путем сравнения выявить
первоначальные общие элементы, в них заключенные, и восстановить общую
физиономию индоевропейского праязыка, как он существовал до
своего раздробления в пространстве. То, что было сделано для всей
языковой семьи в целом, было повторено в более ограниченных
масштабах, но при помощи тех же самых приемов для каждой из ее
частей, всюду, где это оказалось необходимым и возможным. Так,
например, многочисленные германские языки засвидетельствованы
непосредственно, то есть письменными памятниками, а
общегерманский праязык, откуда произошли все эти языки, известен нам
только косвенно — благодаря ретроспективному методу. Теми же
самыми способами лингвисты исследовали с большим или меньшим
успехом первоначальное единство прочих языковых семей (см.
стр. 227).
Итак, ретроспективный метод дает нам возможность проникнуть
в прошлое языка глубже самых древних документов. Так,
проспективная история латинского языка едва начинается в III или IV в.
до н. э., а путем восстановления индоевропейского праязыка
удалось составить себе представление о том, что должно было
происходить в течение периода от первоначального единства до первых
известных нам латинских памятников, и только после этого
оказалось возможным нарисовать проспективную картину развития.
В этом отношении эволюционную лингвистику можно сравнить
с геологией, которая также является исторической наукой; геология
иногда описывает уже сложившиеся состояния (например, нынешнее
состояние бассейна Женевского озера), отвлекаясь от того, что
предшествовало данному состоянию во времени; но главным образом она
занимается событиями, трансформациями, последовательность
которых создает диахронические ряды. В теории, правда, можно мыс-
249
лить проспективную геологию, но фактически чаще всего ее точка
зрения оказывается ретроспективной; перед тем как приступить к
рассказу о происшедшем в той или другой точке земной
поверхности, приходится восстанавливать цепь событий и исследовать, что
именно привело данную часть земного шара к ее нынешнему
состоянию.
Ясно, что методы обеих перспектив расходятся очень резко, и,
более того, с чисто дидактической точки зрения не представляется
целесообразным применять их в одном изложении одновременно.
Так, при изучении фонетических изменений обнаруживаются две
совершенно различные картины в зависимости от использования
того или другого метода. Оперируя проспективным методом, мы
пытаемся, например, узнать, во что превратился во французском
языке звук ё классического латинского языка; оказывается, что
этот единый звук пошел в своей эволюции разными путями и явился
источником нескольких фонем: ср. pëdem «ногу» -+ pje (пишется
pied) «нога», vëntum «ветер» (вин. п.) -> va (пишется vent) «ветер»,
lëctum «ложе» (вин. п.) -* H (пишется lit) «ложе, кровать», nëcâre
«убивать» -► nwaje (пишется noyer) «топить» и т. д.; если же в
ретроспективном разрезе исследовать, что представляет собою в
латинском языке французское открытое ε, то окажется, что этот единый
звук является конечной точкой нескольких первоначально
различных фонем: ср. ter (пишется terre) «земля» «- tërram «землю», νεΓδ
(пишется verge) «прут» «- vïrgam «прут» (вин. п.), fe (пишется fait)
«дело» 4- factum «дело» (вин. п.) и т. д. Эволюция формантов также
могла бы быть представлена этими обоими способами, и
получившиеся две картины оказались бы различными; это a priori уже ясно
из всего того, что мы говорили выше об аналогических образованиях
(см. стр. 204 и сл.). Если, например, мы станем исследовать
ретроспективно происхождение суффикса французского причастия на -é,
то дойдем до латинского -ätum; этот суффикс по своему
происхождению прежде всего связывается с латинскими отыменными
глаголами на -äre, восходящими в свою очередь в большей части к
существительным женского рода на -а (ср. plantare «сажать» (растения):
planta «растение», греч. tïmâô «ценить»: tïmâ «почесть» и т. п.); с
другой стороны, -ätum не существовало бы, если бы индоевропейский
суффикс -to- не был сам по себе живучим и продуктивным (ср. греч.
klu-to-s «знаменитый», лат. in-clu-tu-s «известный», скр. çru-ta-s
«известный» и т. д.); -ätum заключает в себе еще формант
винительного падежа ед. ч. -m (ср. стр. 187). Если же затем, встав на
проспективную точку зрения, спросить себя, в каких французских формах
встречается первоначальный суффикс -to-, то можно указать не
только на различные суффиксы, как продуктивные, так и
непродуктивные, причастия прошедшего времени (франц. aimé <- лат. amä-
tum [вин. п. от amätus «любимый»], франц. fini <- лат. fïnïtum
250
[вин. п. от fïnïtus «оконченный»], франц. clos «- лат. clausum [вин.
п. от clausus «запертый»] вместо *claudtum «запертый»), но и на
многое другое, как-то: франц.-u «■- лат.-ütum (франц. cornu 4- лат.
cornütum [вин. п. от cornütus «рогатый»]), книжный французский
суффикс-tif «- лат. tïvum (франц. fugitif «- лат. fugitïvum [вин. п.
от fugitivüs «беглый»]; тоже вофранц. sensitif «чувственный», négatif
«отрицательный» и т. д.) и на множество ныне не анализируемых
слов, как-то: франц. point «дырка (в ремне и т. п.)» «- лат. punctum
[вин. п. от punctus «проколотый», «продырявленный»], франц. dé
«игральная кость» «- лат. datum [вин. п. от datus «бросаемый»,
«брошенный»], франц. chétif «плохой», «бедный» «- лат. captïvum
[вин. п. от captïvus «пленный»] и т. д.
Глава II
НАИБОЛЕЕ ДРЕВНИЙ ЯЗЫК И ПРАЯЗЫК
Первые индоевропеисты не понимали ни истинного назначения
сравнения, ни важности метода реконструкции (см. стр. 41). Этим
объясняется одно из наиболее поразительных заблуждений:
преувеличенная и почти исключительная роль, которую отводили
санскриту в деле сравнения; поскольку санскрит представляет
собой наиболее древний засвидетельствованный индоевропейский
язык, он был возведен в сан прототипа, то есть праязыка. Но одно
дело — предполагать, что некий индоевропейский праязык породил
языки санскритский, греческий, славянский, кельтский,
италийский, а другое дело — поставить один из этих языков на место
индоевропейского. Это грубое смешение привело к многообразным
и глубоким следствиям. Правда, такая гипотеза никогда не была
сформулирована столь категорически, как мы это только что
сделали, но на практике ее молчаливо допускали. Бопп писал, что он
«не думает, чтобы санскрит был общим источником индоевропейских
языков», допуская тем самым возможность существования, хотя бы
проблематически, подобного предположения.
Это приводит нас к постановке следующего вопроса: что значит,
когда говорят, что один язык более древен или более стар, чем
другой? Теоретически здесь возможны три толкования:
1. Прежде всего, можно думать об абсолютном начале, об
исходной точке какого-либо языка; но достаточно самого простого
рассуждения, чтобы убедиться в том, что нет языка, которому можно
было бы приписать возраст, ибо любой язык в любой момент
является не более как продолжением состояния, существовавшего до
него. В этом отношении развитие языка отличается от развития
человеческого рода: абсолютная непрерывность языкового развития
не позволяет видеть в нем смену поколений, и Гастон Парис
справедливо восставал против концепции «языков-матерей» и «языков-
дочерей», так как такая концепция предполагает прерывистость.
252
Следовательно, не в этом смысле можно говорить о том, что один
язык старше другого.
2. Можно, далее, считать, что одно состояние языка
засвидетельствовано в более древнее время, нежели другое: так, персидский
язык ахеменидских надписей древнее персидского языка Фирдоуси.
Поскольку речь идет, как в этом частном случае, о двух наречиях,
из которых одно в точном смысле происходит от другого и оба
одинаково нам известны, само собою очевидно, что в этих условиях
является древним. Но если оба эти условия не выполнены, то
древность никакого значения не имеет: так, литовский язык,
засвидетельствованный лишь с 1540 г., не менее драгоценен в этом
отношении, чем старославянский, известный с X века, или даже чем
ведийский санскрит.
3. Слово «древний» может, наконец, применяться к более
архаическому состоянию языка, то есть к такому его состоянию, когда
формы в нем ближе к своему начальному образцу, и это независимо
от вопроса о датировке. В этом смысле можно было бы сказать, что
литовский язык XVI века древнее, чем латинский язык III века
до н. э.
Итак, если приписывать санскриту большую древность по
сравнению с прочими языками, то только во втором или третьем смысле,
и на самом деле он древнее других индоевропейских языков и во
втором и в третьем смысле. С одной стороны, считается, что
ведические гимны старше самых древних греческих текстов, с другой
стороны — и это особенно важно,— сумма сохраняемых в нем
архаических черт более значительна по сравнению с прочими
языками (см. стр. 40).
Вследствие довольно смутного представления о древности,
превращавшего санскрит в нечто предшествовавшее всем прочим языкам
индоевропейской семьи, лингвисты, даже освободившись от идеи,
будто он является праязыком, неоднократно в дальнейшем
продолжали придавать чересчур большое значение свидетельству санскрита
как одного из ответвлений индоевропейского праязыка.
В своих «Les origines indo-européennes» (см. стр. 261) А. Пикте,
хотя и признает открыто существование первобытного
индоевропейского народа, говорившего на своем собственном языке, тем не менее
убежден, что прежде всего надо справляться с показаниями
санскрита, которые по своей ценности превосходят показания других
языков той же семьи, вместе взятых. Вот это заблуждение и
затемняло в течение многих лет первостепенные проблемы, как, например,
вопрос о первоначальном вокализме.
Эта ошибка повторялась неоднократно и в других, более частных
случаях. При изучении отдельных ветвей индоевропейской семьи
обнаруживалась тенденция считать древнейший из известных
языков адекватным и достаточным представителем всей группы, причем
не делалось попыток выяснить точнее характер начального
состояния прототипа данной ветви. Так, например, вместо того чтобы го-
253
ворить о прагерманском языке, не стеснялись ссылаться попросту
на готский, так как он на несколько веков старше прочих
германских диалектов; таким образом, он узурпировал положение
прототипа, источника всех остальных германских наречий. В отношении
славянских языков долго базировались исключительно на
церковнославянском (=старославянском), известном с X века, потому что
прочие славянские языки известны с более поздних времен.
Фактически чрезвычайно редко встречается, чтобы две
закрепленные письменностью в разные сроки формы языка представляли в
точности одно и то же наречие в два различных момента его истории.
Чаще всего мы имеем дело с двумя диалектами, которые не являются
в лингвистическом смысле продолжением один другого. Из
исключений, только подтверждающих это правило, наиболее разительным
являются романские языки по отношению к латинскому: восходя
от французского к латинскому, мы все время находимся на
вертикальной прямой; территория, занимаемая этими языками, по
случайности совпадает с той территорией, где говорили на латинском
языке, и каждый из них не что иное, как эволюционировавший
латинский язык. Равным образом, как мы уже видели,
древнеперсидский язык надписей Дария представляет собой тот же язык, что
и средневековый новоперсидский. Но обратное встречается гораздо
чаще: письменные памятники различных эпох принадлежат разным
языкам одной и той же семьи. Так, германская группа языков
последовательно открывается нам в готском языке Ульфилы, не
оставившем продолжения, затем в текстах древневерхненемецкого
языка, еще позже — в памятниках языков англосаксонского,
древнескандинавского и т. д.; и вот ни один из этих языков или групп
языков не является продолжением языка, засвидетельствованного
ранее. Такое положение вещей может быть представлено в виде
нижеследующей схемы, где буквы изображают языки, а строчки —
последовательные эпохи:
Лингвистика может только радоваться такому положению
вещей: если бы дело обстояло иначе, то первый известный нам язык
А уже заключал бы в себе все, что можно извлечь путем анализа из
последующих состояний языка, тогда как, отыскивая точку
схождения всех реально представленных языков А, В, С, D и т. д.,
мы найдем форму более древнюю, чем А, а именно прототип X, и
тогда смешение А и X окажется невозможным.
Глава III
РЕКОНСТРУКЦИИ
§ 1. Характер реконструкции и ее цели
Реконструкция возможна лишь путем сравнения, и в свою
очередь у сравнения нет иной цели, кроме реконструкции. Если мы не
хотим, чтобы установленные нами соответствия между несколькими
формами оказались бесплодными, мы должны поместить их во
временную перспективу и прийти к восстановлению их единой
праформы; на этом пункте мы настаивали уже несколько раз (см. стр. 41
и 234). Так, для объяснения лат. médius «средний» сравнительно с
греч. mésos «средний» оказалось нужным, не восходя к
индоевропейскому состоянию, установить более древнее состояние *methyos,
которое можно считать исторически связанным и с médius и с mésos.
При сравнении не двух слов двух различных языков, но двух форм,
взятых внутри одного языка, обнаруживается то же самое: так, лат.
gerö «ношу» и gestus (прич. прош. вр. от gerö) позволяют установить
основу *ges-, некогда общую для этих обеих форм.
Заметим, что сравнение, которое касается фонетических
изменений, всегда должно учитывать морфологические соображения.
Исследуя лат. patior «терплю» и passus «терпевший», я привлекаю
factus, dictus и др., потому что passus является образованием того
же типа; лишь основываясь на морфологическом соотношении между
faciö «делаю» и factus «сделанный», dïcô «говорю» и dictus
«сказанный» и т. п., я могу установить такое же соотношение в более
раннюю эпоху между patior и * pat-tus. В свою очередь, если сравнение
носит морфологический характер, я должен подкреплять его с
помощью фонетики: лат. meliörem (вин. п. от melior «лучший») можно
сравнить с греч. hëdio (вин. п. от hediön «более приятный»), потому
что фонетически первое восходит к *meliosem, *meliosm, а второе —
к *hädioa, *hädiosa, *hädiosm.
Итак, сравнение в лингвистике не есть механическая операция;
оно требует сопоставления всех тех данных, из которых можно
извлечь материал для объяснения. Но оно всегда должно приводить
255
к некоторой гипотезе, выраженной в определенной формуле и
стремящейся восстановить что-то, существовавшее раньше; сравнение
всегда должно вести к реконструкции форм.
Однако требует ли ретроспективный подход обязательной
реконструкции цельных и конкретных форм более раннего состояния?
Или же, наоборот, мы можем довольствоваться абстрактными
частными утверждениями, которые касаются частей слов, каким,
например, является утверждение, что лат. f в fümus «дым»
соответствует общеиталийскому р или что первым элементом греч. alio
«другое», лат. aliud «другое» уже в индоевропейском было a?
Ретроспективный подход может ограничивать свою задачу изысканиями
второго рода; можно даже утверждать, что у его аналитического метода
нет другой цели, кроме частных констатации. Оказывается, однако,
что из суммы изолированных фактов можно извлекать более общие
выводы: например, ряд фактов, аналогичных только что указанному
относительно лат. fümus, позволяет с уверенностью утверждать, что
f> входило в фонологическую систему общеиталийского языка;
равным образом, если можно утверждать, что з индоевропейском так
называемом местоименном склонении обнаруживается окончание
ед. ч. ср. p.-d, отличное от окончания прилагательных -m с тем же
значением, то это есть общий морфологический факт, выведенный из
совокупности отдельных констатации (ср. лат. istud «это», aliud
«другое» при bonum «хорошее», греч. to (артикль ср. p.) +- *tod,
alio «другое» «- *allod при kalon «прекрасное», англ. that «это»
и т. д.). Можно идти дальше: установив эти отдельные факты, мы
переходим к синтезированию всех тех из них, которые относятся к
какой-нибудь целой форме, с целью реконструировать целые слова
(например, и.-е. *aljod), парадигмы словоизменения и т. п. Для
этого мы соединяем в один пучок ряд совершенно не зависящих друг
от друга утверждений; сравнивая, например, отдельные части такой
восстановленной нами формы, как *aljod, мы замечаем большую
разницу между -d, связанным с грамматической проблемой, и а-,
не имеющим никакого грамматического значения.
Реконструированная форма не есть единое целое: она всегда представляет собой
разложимую сумму фонетических выводов, причем каждый из них
может быть в отдельности аннулирован или пересмотрен. И
действительно, восстановленные формы всегда являлись верным
отражением общих, относящихся к ним выводов. Индоевропейское слово
в значении «конь» последовательно предполагалось в формах *ак-
vas, *akxvas, *ekxVOs, наконец, *ekxWOs, бесспорными остались
только s да число фонем.
Целью реконструкции является, следовательно, не
восстановление цельной формы ради нее самой, что к тому же было бы
довольно смешным, но как бы кристаллизация или конденсирование
целого ряда признаваемых правильными выводов в соответствии с
результатами, установленными в каждом отдельном случае: короче
говоря, цель реконструкции — регистрация успехов нашей науки.
256
Нет надобности оправдывать лингвистов в приписываемом им
нелепом намерении восстановить индоевропейский язык во всей его
полноте, как если бы они желали пользоваться им в повседневной
речи. В действительности у них нет такого намерения даже в тех
случаях, когда они исследуют известные исторические языки
(лингвист изучает латинский язык не для того, чтобы лучше на нем
говорить), тем менее когда они исследуют отдельные слова
доисторических языков.
Если даже реконструкции и остаются подверженными
пересмотру, без них обойтись нельзя, если мы хотим получить представление
об изучаемом языке в целом и о том языковом типе, к которому он
принадлежит. Реконструкция — это необходимый инструмент, с
помощью которого с относительной легкостью устанавливается
множество общих фактов синхронического и диахронического порядка.
Основные особенности индоевропейского языка сразу же получают
надлежащее освещение в результате всей совокупности
реконструкций, например тот факт, что суффиксы были составлены из
определенных элементов (t, s, г и др.) с выключением прочих или что
сложное разнообразие в вокализме немецких глаголов (ср. werden,
wirst, ward, wurde, worden) таит в себе одно и то же
первоначальное чередование: е — о — нуль. Тем самым косвенно весьма
облегчается историческое исследование последующих периодов: без
помощи предварительной реконструкции было бы крайне трудно
объяснить изменения, происшедшие в течение стольких веков,
начиная с доисторического периода.
§ 2. Степень достоверности реконструкций
Одни из восстановленных форм совершенно несомненны, другие
спорны или вообще сомнительны. А между тем, как мы только что
видели, степень достоверности целых форм зависит от той
относительной достоверности, которую можно приписать участвующим в
синтезе этих форм частным реконструкциям. В этом смысле нельзя
найти и двух слов, восстановленных с одинаковой достоверностью;
между столь убедительными индоевропейскими формами, как *esti
«он есть» и *didöti «дает», есть разница, потому что во втором слове
гласная в удвоении [корня] допускает сомнения (ср. скр. dadâti
и греч. didösi).
Существует тенденция считать реконструкции менее надежными,
чем они являются на самом деле. Нижеследующие три
обстоятельства позволяют нам быть в этой области более уверенными.
Первое обстоятельство, основное, уже было указано на стр. 75:
если дано слово, то можно отчетливо различить составляющие его
звуки, их число и их границы; мы уже видели (см. стр. 91), что
именно следует думать о возражениях некоторых лингвистов,
9 Ф. де Соссюр
257
рассматривающих звуки сквозь фонологический микроскоп. В
таком сочетании, как -sn-, конечно, есть звуки беглые или переходные;
однако было бы антилингвистичным принимать их в соображение;
обыкновенное ухо их не различает, а говорящие всегда сходятся во
мнениях относительно числа элементов. Поэтому мы вправе
утверждать, что в индоевропейской форме *ekxwos есть только пять
различимых, дифференциальных элементов, принимавшихся во внимание
говорящими.
Второе обстоятельство касается системы этих фонологических
элементов в каждом языке. Всякий язык оперирует определенной
гаммой фонем, число которых точно ограничено (см. стр. 71). В
индоевропейском праязыке все элементы системы обнаруживаются
по меньшей мере в дюжине форм, установленных путем
реконструкции; число этих реконструкций может достигать нескольких тысяч.
Следовательно, мы можем быть уверены, что знаем все элементы
системы.
Наконец, чтобы познать звуковые единицы языка, нет
необходимости характеризовать их положительные качества, достаточно
рассмотреть их как дифференциальные величины, сущность которых
состоит в том, чтобы не смешиваться друг с другом (см. стр. 151).
Это до такой степени существенно, что звуковые элементы
восстанавливаемого языка можно было бы обозначать при помощи цифр
или каких-либо других условных значков. В *ekiWÖs бесполезно
определять абсолютное качество звука ё и выяснять, был он
открытым или закрытым, более продвинутым вперед или нет и т. п.;
поскольку не установлено наличие нескольких разновидностей ё,
все эти тонкости не имеют значения; важно только одно: не
смешивать этого звука ни с одним из прочих различаемых в этом языке
элементов (а, δ, β и т, д.). Иначе говоря, дело сводится к тому,
чтобы первая фонема слова *ëkxWos не отличалась от второй фонемы в
*mëdhjos, от третьей фонемы в *agë и т. д. и чтобы можно было, не
уточняя ее звуковых свойств, поместить ее под определенным
номером в таблице индоевропейских фонем. Таким образом,
реконструкция *ëk!WOs означает только то, что индоевропейское соответствие
лат. equos, скр. açva-s и т. д. состояло из пяти определенных фонем,
взятых из фонологической гаммы праязыка.
В указанных нами границах реконструкции сохраняют,
следовательно, свою полную силу.
Глава IV
СВИДЕТЕЛЬСТВА ЯЗЫКА
В АНТРОПОЛОГИИ И ДОИСТОРИИ
§ 1. Язык и раса
Благодаря ретроспективному методу лингвист может двигаться
назад — в глубь веков и восстанавливать языки, на которых
говорили народы еще до своего вступления на арену истории. Но не
могли ли бы подобные реконструкции дать нам сведения и о самих
народах, об их расовой принадлежности, происхождении,
общественных отношениях и институтах, нравах и пр.? Одним словом,
может ли язык помочь антропологии, этнографии, доистории?
Обычно на это отвечают утвердительно, но мы полагаем, что в этой
уверенности есть значительная доля иллюзии. Рассмотрим вкратце
некоторые стороны этой проблемы.
Начнем с расы. Ошибочно думать, что от общности языка можно
прийти к заключению о единокровности, что понятие языковой семьи
покрывает понятие антропологического семейства.
Действительность не так проста. Имеется, например, германская раса,
антропологические признаки которой весьма четки: белокурые волосы,
удлиненный череп, высокий рост и т. д.; совершеннее всего
представлена эта раса в скандинавском типе. А между тем говорящие
на германских языках народы далеко не целиком отвечают этим
приметам: так, алеманны, живущие у подножия Альп, своим
антропологическим типом существенно отличаются от скандинавов. Но
нельзя ли по крайней мере предположить, что сам по себе язык
принадлежал первоначально одной расе и если на нем говорят чуждые
этой расе народы, то лишь вследствие того, что данный язык был
навязан этим народам путем завоевания? Конечно, мы часто
встречаемся со случаями добровольного или насильственного принятия
какой-либо нацией языка ее завоевателей: примером могут служить
галлы, покоренные римлянами; но это не объясняет всего; например,
в случае с германцами, даже если допустить, что они подчинили себе
столько разных народов, они все же не могли полностью поглотить
9*
259
их — для этого следовало бы предположить долгое
доисторическое владычество и иные обстоятельства, ничем не
устанавливаемые.
Итак, единокровность и языковая общность не находятся, по-
видимому, в необходимой связи между собой, и поэтому нельзя
умозаключать от одной к другой. Следовательно, в тех многочисленных
случаях, когда показания антропологии и языка не сходятся, нет
необходимости ни противопоставлять их друг другу, ни делать
между ними выбор: каждое сохраняет свою полную значимость в своей
области.
§ 2. Этнизм
О чем же свидетельствуют показания языка? Единство расы само
по себе может быть лишь второстепенным и вовсе не необходимым
фактором языковой близости. Но есть другое единство, бесконечно
более важное, единственно существенное, возникающее на основе
общественных связей,— мы будем называть его этнизмом. Под
этнизмом мы разумеем единство, покоящееся на многообразных
взаимоотношениях в области религии, культуры, совместной
защиты и т. д., устанавливающихся даже между народами различного
расового происхождения и при отсутствии всякой политической
связи.
Именно между этнизмом и языком и устанавливается то
отношение взаимной связи, которое мы уже констатировали выше (см.
стр. 59). Общественные связи имеют тенденцию создавать общность
языка и налагают, быть может, некоторые свои черты на этот общий
язык; и наоборот, общностью языка в некоторой мере и создается
этническое единство. Этого последнего, вообще говоря, совершенно
достаточно для объяснения языковой близости. Например, в начале
средних веков существовал романский этнизм, объединяющий при
отсутствии политической связи народы весьма разнообразного
происхождения. С другой стороны, по вопросу об этническом единстве
надо прежде всего осведомляться у языка, так как его показания
существеннее всех прочих. Вот пример этому: в древней Италии рядом
с латинянами мы встречаем этрусков; разыскивая, что между ними
общего, в надежде найти их общее происхождение, можно
обращаться ко всему тому, что эти народы оставили: к вещественным
памятникам, религиозным обрядам, политическим учреждениям и т. п.;
но таким путем мы никогда не получим той уверенности, которая
появится, как только мы обратимся к языку: четырех строк
этрусского текста достаточно, чтобы убедиться в том, что говоривший на
этом языке народ в корне отличался от той этнической группы,
которая говорила на латинском языке.
260
Итак, в этом отношении и в указанных границах язык может
служить историческим документом: так, например, тот факт, что
индоевропейские языки образуют семью, дает нам основание
умозаключить о некоем первоначальном этнизме, более или менее
прямыми наследниками которого, в результате социальной
преемственности, являются говорящие ныне на этих языках народы.
§ 3. Лингвистическая палеонтология
Если общность языка позволяет говорить о социальной общности,
лежащей в ее основе, то не дает ли язык возможности вскрыть
природу этого общего этнизма?
Долго предполагали, что языки являются неисчерпаемыми
источниками свидетельств о народах, на них говорящих, и о доистории
этих народов. Адольф Пикте, один из пионеров кельтологии,
особенно известен своей книгой «Происхождение индоевропейцев» («Les
origines indo-européennes», 1859—1863). Эта работа послужила
образцом для многих других и до сих пор остается самой
увлекательной из них. Пикте стремится, основываясь на показаниях
индоевропейских языков, вскрыть основные черты цивилизации «ариев»;
он считает возможным установить ее различные аспекты:
материальный быт (орудия, оружие, домашние животные), общественную
жизнь (были ли они кочевниками или земледельцами), тип семьи,
управление; он старается найти колыбель «ариев», которую он
помещает в Бактрии; он изучает флору и фауну населяемой ими страны.
Его работа представляет самый значительный опыт, сделанный в этом
направлении; развившаяся отсюда дисциплина получила название
лингвистической палеонтологии.
С тех пор делались дальнейшие попытки в этом направлении;
одна из последних принадлежит Герману Хирту («Die Indogermanen»,
1905—1907)*. Для определения прародины индоевропейцев он
опирается на теорию И. Шмидта (см. стр. 245); однако он часто
прибегает и к лингвистической палеонтологии: словарные факты
привлекаются им для доказательства того, что индоевропейцы были
земледельцами, и он отказывается считать их родиной южную Россию,
поскольку она более пригодна для кочевого образа жизни;
повторяемость названий деревьев, в особенности некоторых пород (ель,
береза, бук, дуб), наводит его на мысль, что родина их была лесистой и
что находилась она между Гарцем и Вислой, а именно в районе
Бранденбурга и Берлина. Напомним также, что еще до Пикте Адальберт
Кун и другие пользовались лингвистикой для реконструкции
мифологии и религии индоевропейцев.
Однако нам кажется, что нельзя требовать от языка показаний
такого рода; причины, почему он не может их дать, по нашему
мнению, следующие.
261
Прежде всего, недостоверность этимологии: мало-помалу
выяснилось, сколь редки слова, происхождение которых установлено
абсолютно надежно, и в результате лингвистам пришлось стать
более осторожными. Приведем пример, свидетельствующий о
смелости прежних изысканий: сближают лат. servus «раб» и serväre
«сторожить», хотя, быть может, без особых на то оснований; затем
первому из этих слов приписывают значение «сторож» и
умозаключают, что раб первоначально был сторожем дома! А между тем нельзя
даже утверждать, что serväre имело вначале смысл «сторожить».
Но это не все: смысл слов эволюционирует; значение слов часто
меняется одновременно с переменой местопребывания народов.
Предполагалось также, что отсутствие слова служит доказательством
отсутствия в первобытной культуре того, что этим словом
обозначают, но это заблуждение. Так, например, слово со значением
«возделывать землю» отсутствует в индоевропейских языках Азии; но
из этого вовсе не следует, что земледелие было вначале там
неизвестно; оно могло быть оставлено данными народами позже или
осуществляться иными приемами, которые обозначались иными
словами.
Третьим фактором, подрывающим достоверность этимологии,
является возможность заимствований. Вслед за вещью, входящей
в обиход народа, в его язык может проникнуть и слово, служащее
в другом языке для обозначения этой вещи; так, конопля лишь в
весьма позднее время стала известна в средиземноморском бассейне,
еще позже — в северных странах, и каждый раз название конопли
заимствовалось вместе с заимствованием самого растения. Во
многих случаях отсутствие внеязыковых данных не позволяет
установить, объясняется ли наличие в нескольких языках одного и того
же слова результатом заимствования или же оно доказывает
преемственную общность его происхождения.
Это вовсе не значит, что нельзя с уверенностью выделить
некоторые общие черты и даже кое-какие конкретные факты; общие
термины родства, например, встречаются в большом количестве,
сохранив свою отчетливость до нашего времени; благодаря им можно
утверждать, что у индоевропейцев семья была институтом столь же
сложным, сколь и регулярным: в этом отношении их язык
обнаруживает такие оттенки, которые непередаваемы, например,
по-французски. Так, у Гомера einäteres означает «невестки» (жены братьев),
a galoöi «золовки» (сестры мужа); лат. janitrïcës соответствует греч.
einäteres и по форме и по значению. «Зять» (муж сестры) называется
иначе, чем «свояк» (муж сестры жены).Здесь,таким образом,
выявляется тщательная детализация родственных отношений. Но обычно
приходится довольствоваться самой общей информацией. Тоже и в
отношении животных: в наименовании важных пород, как, например,
крупного рогатого скота, мы не только видим совпадение греч.
bous, нем. Kuh, скр. gau-s и т. д. со значением «корова» и можем,
262
таким образом, восстановить индоевропейское *g2ôu-s, но
обнаруживаем, что и склонение соответствующих слов во всех этих
языках характеризуется одинаковыми признаками, что не было бы
возможно, если бы речь шла о позднейшем заимствовании.
Позволим себе остановиться несколько подробней на другом
морфологическом факте, ограниченном определенной зоной
распространения и относящемся к сфере социальной организации.
Несмотря на все то, что было высказано по поводу связи лат.
dominus «хозяин», «господин» с лат. domus «дом», лингвисты не
чувствуют себя вполне удовлетворенными, так как здесь в высшей
степени необычно употребление суффикса -по- для образования
производного имени; в греческом нет таких образований, как *oiko-
-no-s или *oike-no-s от oîkos «дом», в санскрите — таких, как *açva-
-па- от açva- «конь». Но именно эта редкость и сообщает суффиксу
слова dominus всю его значимость и характерность. Несколько
германских слов являются, по нашему мнению, настоящими
откровениями в этом отношении:
1) *f>euâa-na-z «вождь *]эеисК5», то есть «король», гот. piudans,
ст.-сакс. thiodan (*|эеиао=гот. f>iuda=ocK. touto «народ»);
2) *druxti-na-z (частично изменившееся в *druxtï-na-z) «вождь
drux-ti-z» «дружины», откуда христианское обозначение «господа»,
то есть «бога»; ср. др.-сканд. Drottinn, англосакс. Dryhten,
оба с конечным -ïna-z;
3) *kindi-na-z «вождь *kindi-z»(=^aT. gens), т. е. «рода».
Поскольку вождь gens «рода» был по отношению к вождю *f)eudo
«народа» своего рода «вице-королем», германский термин kindins (в других
языках полностью утраченный) был использован Ульфилой для
обозначения римского губернатора провинции, ибо легат императора
был, по германским представлениям, тем же самым, что и вождь клана
по отношению кpiudans «королю». Как бы ни была интересна эта
ассимиляция терминов с исторической точки зрения, едва ли можно
сомневаться, что слово kindins, чуждое римской обстановке,
свидетельствует о подразделении германских племен на kindi-z.
Таким образом, мы видим, что вторичный суффикс -по-
присоединяется к любой германской основе и вносит в нее значение «вождь
той или другой социальной группы». Остается только
констатировать, что в таком случае лат. tribünus буквально означает «вождь
tribus», то есть «трибы», подобно тому как Jjiudans означает «вождь
fuuda», то есть «народа», и, наконец, точно так же domi-nus
означает «вождь domus», где domus — мельчайшее подразделение touta
или piuda—«народа». Dominus с его причудливым суффиксом
представляется нам едва ли опровержимым доказательством не
только языковой общности, но и общности в социальных институтах
между этнизмом италиков и этнизмом германцев.
Однако мы должны еще раз напомнить, что сопоставление
языков редко приводит к столь характерным наблюдениям.
263
§ 4. Языковой тип и мышление социальной группы
Итак, если язык дает сравнительно мало точных и достоверных
сведений о нравах и институтах народа, который пользуется этим
языком, то не может ли он служить хотя бы для характеристики
типа мышления данной социальной группы? Достаточно
распространено мнение, что язык отражает психологический склад народа,
однако против этого взгляда можно выдвинуть весьма существенное
возражение: языковые средства (procédé) не обязательно
определяются психическими причинами.
Семитские языки выражают отношение определяющего
существительного к определяемому существительному типа франц. 1а
parole de Dieu «слово бога» простым соположением обоих слов,
которое сопровождается, правда, особой формой, так называемым
status constructus определяемого имени, помещаемым перед
определяющим именем. Так, в древнееврейском соединение двух слов Öäbär
«слово» и 'elôhïm «бог» давало словосочетание debar 'elôhïm со
значением «слово бога». Станем ли мы утверждать, что эта синтаксическая
конструкция открывает нам какие-либо особенности семитского
мышления? Подобное утверждение было бы слишком смелым, так как
в старофранцузском языке регулярно употреблялась аналогичная
конструкция: ср. le cor Roland «рог Роланда», les quatre fils
Aymon «четыре сына Эймона» и др. A между тем на романской почве
эта конструкция развилась благодаря чистой случайности, столь
же фонетического, сколь и морфологического характера: она была
навязана языку в результате отпадения падежных окончаний.
Почему не допустить, что и в прасемитском языке это
синтаксическое явление было вызвано аналогичной случайностью? Таким
образом, конструкция, которая, как кажется, является одной из
характернейших черт семитских языков, не позволяет делать
каких-либо определенных выводов относительно семитского
мышления.
Другой пример — в индоевропейском праязыке не было
составных слов с первым глагольным элементом. Но такие слова имеются
в немецком языке: ср. Bethaus «дом молитвы», Springbrunnen
«фонтан» и т. п. Но разве это свидетельствует о том, что в определенный
момент своей истории германцы видоизменили один из
унаследованных от предков модусов мышления? Как мы видели, это
новшество обязано своим происхождением случаю не только
материального, но также и отрицательного характера: исчезновению звука
а в betahüs (см. стр. 174). Все произошло независимо от
деятельности сознания в сфере звуковых изменений, насильно толкнувших
мысль на тот единственный путь, который предоставляется ей
материальным состоянием знаков. Целый ряд подобных
наблюдений убеждает нас в этом; психологический характер той или другой
языковой группы мало значит по сравнению с таким фактом, как
264
исчезновение одного гласного или перестановка ударения и
прочими аналогичными явлениями, в каждый данный момент
способными перевернуть взаимоотношения между знаком и понятием в
любой из форм языка.
Не лишены интереса определения грамматического типа языков
(как исторически известных, так и научно реконструированных)
и классификация их в зависимости от приемов, используемых ими
для выражения мысли; но из этих определений и классификаций
нельзя с уверенностью делать каких-либо заключений о том, что
лежит за пределами языка как такового.
Глава V
ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ И ЯЗЫКОВЫЕ ТИПЫ *
Мы только что видели, что язык непосредственно не подвластен
мышлению говорящих. В заключение обратим особое внимание на
одно из следствий из этого принципа: ни одна языковая семья не
принадлежит раз и навсегда к определенному лингвистическому типу.
Спрашивать, к какому типу относится данная группа языков,—
это значит забывать, что языки эволюционируют, полагать, что в
этой эволюции есть какой-то элемент постоянства. Но во имя чего
имеем мы право предполагать границы у этого развития, которое не
знает никаких границ?
Правда, многие, говоря о характерных признаках какой-либо
языковой семьи, думают преимущественно о характере ее праязыка,
и в таком случае проблема представляется вполне разрешимой,
поскольку речь идет об определенном языке и определенной эпохе.
Однако, если кто-нибудь станет предполагать наличие в языке
каких-то постоянных признаков, над которыми не властно ни
пространство, ни время, тот посягнет непосредственно на основные
принципы эволюционной лингвистики. Неизменяющихся признаков,
по существу, не бывает, они могут сохраняться только случайно.
Возьмем для примера индоевропейскую семью. Нам известны
характерные признаки того языка, от которого произошла эта
семья: очень простая система звуков; никаких сложных сочетаний
согласных, никаких удвоенных согласных; бедный вокализм,
характеризующийся, однако, в высшей степени регулярной системой че-
редсваний, глубоко грамматических по своей природе (см. стр. 190
и 257); музыкальное ударение, падающее в принципе на любой слог
слова и потому используемое для подчеркивания грамматических
противопоставлений; количественный ритм, покоящийся
исключительно на противопоставлении долгих и кратких слогов; большой
простор для образования сложных и производных слов;
исключительно богатая именная и глагольная флексия; автономность в пред-
266
ложении отдельного слова, изменяющегося с помощью флексии и
заключающего в самом себе все свои определения, и в результате
этого — большая свобода конструкций при малочисленности
служебных (грамматических) слов с детерминативным или релятивным
значением (глагольные приставки, предлоги и т. д.).
Нетрудно убедиться, что ни один из этих признаков полностью
не сохранился в целостном виде ни в одном из индоевропейских
языков; что некоторые из этих признаков, как, например, роль
количественного ритма и музыкального ударения, вообще не
встречаются ни в одном из этих языков и что такие языки, как английский,
армянский, ирландский и ряд других, до такой степени изменили
свой первоначальный индоевропейский характер, что кажутся
представителями совершенно иного языкового типа.
С несколько большим основанием мы вправе говорить о более
или менее общих трансформационных процессах, свойственных
различным языкам какой-либо семьи. Так, указанное нами выше
постепенное ослабление механизма словоизменения встречается во
всех индоевропейских языках, хотя и в этом отношении они
представляют значительные расхождения: наиболее сохранилось
словоизменение в славянских языках, а в английском языке оно сведено
почти на нет. С этим упрощением флексии следует поставить в связь
другое явление, тоже довольно общего характера, а именно более
или менее постоянный порядок элементов в предложении, а также
вытеснение синтетических приемов выражения смысла приемами
аналитическими: передача падежных значений предлогами (см. стр. 215
и сл.), образование глагольных форм при помощи вспомогательных
глаголов и т. п.
Как мы видели, та или иная черта прототипа может отсутствовать
в том или другом из восходящих к нему языков; но верно и обратное:
нередки случаи, когда общие черты, свойственные всем
представителям семьи, не встречаются в праязыке — примером может
служить гармония гласных, то есть ассимиляция качества всех гласных
в суффиксах последнему гласному корня. Это явление свойственно
обширной урало-алтайской группе языков, на которых говорят в
Европе и Азии, от Финляндии до Маньчжурии; но, по всей
вероятности, это замечательное явление связано с позднейшим
развитием отдельных языков этой группы; таким образом, это черта общая,
но не исконная, а это значит, что в доказательство общности (к
тому же весьма спорной) происхождения данных языков на
гармонию гласных ссылаться нельзя, как нельзя ссылаться и на их
агглютинативный характер. Установлено также, что китайский язык
не всегда был односложным.
При сравнении семитских языков с реконструированным пра-
семитским мы сразу же поражаемся устойчивости некоторых их
черт; более всех прочих семей эта семья языков производит
впечатление единства неизменного, постоянного и присущего всей семье.
Оно проявляется в следующих признаках (некоторые из них
267
резко противоположны характерным чертам индоевропейской семьи):
почти полное отсутствие сложных слов, ограниченная роль
словопроизводства, малоразвитая флексия (впрочем, более развитая в
праязыке, чем в восходящих к нему языках), с чем связано
подчинение порядка слов определенным строгим правилам. Самая
замечательная черта проявляется в устройстве корней (см. стр. 222):
они регулярно состоят из трех согласных (например, q-t-1 «убивать»);
эти корневые согласные сохраняются во всех формах одного слова
внутри данного языка (ср. др.-евр. qätal «он убил», qätelä «она
убила», qetôl «убить», «убей, ты (мужчина)!», qiteli «ты (женщина) убей!»
и т. д.) и даже в разных языках (ср. араб, qatala «он убил», qutila
«он убит» и т. д.),— иначе говоря, согласные выражают «конкретные
значения» слов, их лексическую значимость, тогда как
чередующиеся гласные, правда с помощью некоторых префиксов и суффиксов,
обозначают исключительно грамматические категории: например,
др.-евр. qätal «он убил», qetöl «убить», «убей, ты (мужчина)!», с
суффиксом— qätel-ü«OHH убили», с префиксом—ji-qtol «он убьет», «он
убивает», с тем и другим — ji-qtl-ü «они убьют», «они убивают» и т. д.
Перед лицом этих фактов и вопреки тому, как их иногда
истолковывают, мы настаиваем на провозглашенном нами принципе:
неизменных признаков не бывает; их постоянство есть дело
случая; если какой-нибудь признак в течение долгого времени все же
сохраняется, то он все равно в любой момент может исчезнуть. Что
касается признаков семитских языков, то заметим, что «закон» трех
согласных не так уж характерен для этой семьи, ибо и в других
семьях встречаются совершенно аналогичные явления. Так, и в
индоевропейском языке консонантизм корней подчиняется строгим
правилам: в них, например, никогда не встречается после е
сочетание двух звуков из ряда i, u, r, l, m, n; корень типа *serl здесь
невозможен. То же можно сказать, с еще большим основанием, о
роли гласных в семитских языках: нечто аналогичное, хотя и в
менее развитом виде, встречается ведь и в индоевропейских языках —
такие противопоставления, как древнееврейские däbär «слово»,
debâr-ïm «слова», diberë-kém «ваши слова», напоминают нем. Gast
«гость»: Gäste «гости», fliessen «течь»: floss «тек» и т. п. В обоих
случаях генезис грамматического приема один и тот же. И тут и там
речь идет о чисто фонетических превращениях, вызванных слепой
эволюцией; порожденные этой эволюцией чередования были
удержаны сознанием, связавшим с ними определенные грамматические
значимости и распространившим их применение по аналогии с
образцами, созданными случайным действием фонетического развития.
Что же касается неизменности трехсогласного характера семитского
корня, то она является относительной и ничего абсолютного не
заключает. В этом можно быть уверенным a priori; но это
подтверждается и фактами: так, например, в древнееврейском корень слова
'anâa-ïm «люди» состоит, как и следует ожидать, из трех согласных,
268
но в единственном числе 'î§ «человек» их всего только две, и
получилось это в результате фонетического сокращения более древней
формы, заключавшей в себе три согласных. Впрочем, если даже и
принять эту мнимую неизменность, следует ли видеть в ней нечто
присущее самим корням? Нисколько! Дело просто заключается
в том, что семитские языки меньше многих других подверглись
фонетическим изменениям, вследствие чего в них лучше, чем в
других языках, сохранились согласные. Таким образом, все это
является исключительно результатом эволюции, чисто фонетическим,
а вовсе не грамматическим явлением, неизменным по своему
характеру. Утверждение о неизменности корня равносильно
утверждению, что корни никогда не подвергались фонетическим
изменениям,— ничего иного в этом утверждении не содержится; однако
нельзя поручиться, что изменение никогда не произойдет. Вообще
говоря, все, что создано временем, может быть временем же
переделано или уничтожено.
Давно признано, что Шлейхер насиловал действительность,
рассматривая язык как нечто органическое, в самом себе
заключающее свои законы развития; а между тем продолжают, даже не
подозревая этого, видеть в языке нечто органическое в другом смысле,
полагая, что «гений» расы, или этнической группы непрерывно
направляет язык на какие-то определенные пути.
Из сделанных нами экскурсов в пограничные области нашей
науки вытекает следующий принцип чисто отрицательного
свойства, но тем более интересный, что он совпадает с основной идеей этого
курса: единственным и истинным объектом лингвистики является
язык, рассматриваемый в самом себе и для себя.
ПРИМЕЧАНИЯ1
К стр. 54. Ф. де Соссюр не дал систематического изложения семантики, но
основной ее принцип сформулирован им ниже (часть первая, глава II, § 2).
К стр. 74. Так, гот. kawtsjo позволяет судить о произношении cautio в
народной латыни.
К стр. 74. Произношение rwé слова roi «король» засвидетельствовано для
конца XVIII в. следующим анекдотом, который приводит Нюроп в «Grammaire
historique de la langue française», I, 2, стр. 174: в революционном трибунале
спрашивают женщину, не говорила ли она при свидетелях, что нужен король; она
отвечает, что «говорила не о том rwé (=roi), каким был Капет или кто другой, а
совсем о другом rwé (= rouejt), на котором прядут».
К стр. 75. Для этой части курса мы могли использовать сделанную Балли
стенографическую запись трех лекций по теории слога, прочитанных Ф. де
Соссюром в 1897 г.; в них он касается также общих принципов первой главы. Кроме
того, добрая часть его личных заметок относится к фонологии; по многим пунктам
эти заметки разъясняют и дополняют данные студенческих записей «Курса I»
и «Курса III».
К стр. 76. Это (два знака для к) — явление иного порядка; здесь дело шло об
изображении двух реальных оттенков произношения, поскольку к могло быть то
палатальным, то велярным.
К стр. 77. Ср. S i е ν е г s, Grundzuge der Phonetik, 4. Aufl., Leipzig, 1892;
Jespersen, Fonetik en systematisk fremstilling af laeren om sproglyd, K#pen-
havn, 1897—1899; R о u d e t, Éléments de phonétique générale, Paris, 1910.
К стр. 77. Несколько суммарное изложение Ф. де Соссюра об
артикуляторном аппарате и его функционировании дополнено нами по упомянутой выше
работе Есперсена «Fonetik...», откуда, между прочим, заимствован принцип
составления формул для фонем. Но это касается лишь формы, редакции; мысли
Ф. де Соссюра эти дополнения не искажают ни в чем.
К стр. 82. Следуя своему методу упрощения, Ф. де Соссюр не счел нужным
провести то же различение в отношении класса А, несмотря на существенное
значение двух рядов Κ1 и К2 в индоевропейском. Опущение это совершенно
произвольное.
К стр. 88. Это один из тех пунктов теории, который может вызвать
наибольшие возражения. Чтобы предупредить их, необходимо заметить, что всякая
артикуляция выдержки, например звука f, является равнодействующей двух сил:
1 Настоящие примечания написаны Ш. Балли и А. Сеше — издателями
«Курса».— Прим. ред.
270
1) давления воздуха на противостоящие ему преграды и 2) сопротивления
преград, которые еще крепче смыкаются, с тем чтобы уравновесить это давление.
Выдержка таким образом есть не что иное, как продолженная имплозия. Поэтому,
если за имплозией следует выдержка того же места образования, возникает
непрерывный по своему качеству эффект. Вследствие этого нет ничего нелогичного в том,
что мы объединяем эти два вида артикуляций в механико-акустическое единство.
Эксплозия же противостоит и той и другой артикуляции, взятым в их единстве:
она по самой своей сути является размыканием; см. также § 6 в этой главе.
К стр. 92. Здесь автор, сознательно упрощая реальное положение вещей,
учитывает только степень раствора фонемы, не принимая в соображение ни места,
ни специфического способа ее артикуляции (т. е. является ли она глухой или
звонкой, вибрантом или латеральной и т. д.). Выводы, сделанные из этого
единственного принципа, не могут, однако, прилагаться ко всем реальным случаям без
исключения. Например, в таком сочетании, как trya, первые три элемента трудно
произнести, не разрывая звукоряда: tfyâ (если только у не сольется с F, палатализуя
его); между тем эти три элемента try образуют безукоризненный эксплозивный
звукоряд (ср., впрочем, ниже, прим. к стр. 97, по поводу слова meurtrier и т. д.);
наоборот, группа trwa затруднений не представляет. Укажем еще на такие группы,
как prnla и т. д., где весьма трудно произносить носовой имплозивно (pmïâ). Эти
отклоняющиеся от нормы случаи особенно часты при эксплозии, которая по своей
природе есть акт моментальный, не терпящий промедлений.
К стр. 97. Эти теории бросают свет на некоторые проблемы, лишь частично
затронутые Ф. де Соссюром в его лекциях. Приведем несколько примеров.
1. Сивере приводит beritnnnn (нем. berittenen) в качестве типичного примера
того, что один и тот же звук может функционировать попеременно: дважды как
сонант и дважды как консонант (в действительности η функционирует как консонант
только один раз; таким образом, следовало бы писать beritnnn, впрочем, это не
столь важно). Нет более разительного примера, нежели этот, для иллюстрации
того факта, что «звук» и «тип» — не синонимы. В самом деле, если бы мы ограничились
только одним п, т. е. имплозией и артикуляцией выдержки, то мы получили бы
только один долгий слог. Чтобы породить звукоряд, образованный из следующих
друг за другом попеременно η (сонанта) и η (консонанта), необходимо вслед за
имплозией (первое п) артикулировать эксплозию (второе n), а затем возобновить
имплозивную артикуляцию (третье п). Поскольку каждая из этих двух
имплозии не предваряется никакой другой имплозией, они имеют сонантный характер.
2. В таких французских словах, как meurtrier, ouvrier и т. д., конечные
отрезки их (-trier, -vrier) в прошлом были односложными (независимо, впрочем, от их
произношения; см. прим. к стр. 92). Позднее их стали ^произносить в два слога
(meur-tri-er с зиянием или без него, то есть tfîê или tfîyê). Изменение произошло
не путем постановки «слогового ударения» на i, а путем преобразования его
эксплозивной артикуляции в имплозивную.
Народ говорит ouvérier вместо ouvrier — явление вполне сходное; только
здесь изменил артикуляцию и стал сонантом второй элемент, а не третий: uv?yê->
uvfyê. Ε могло развиться позже, перед сонантом г.
3. Упомянем еще широкоизвестный факт появления протетического гласного
перед «s + согласный» во французском языке: лат. scötum -» iscûtum —► франц.
escu, écu. Сочетание iE, как мы видели (см. выше), представляет собой разорванный
звукоряд; sß является более естественным. Но это имплозивное s должно
образовывать вокалическую точку, когда оно находится в начале предложения или когда
предшествующее слово завершается согласным с малой степенью раствора.
Протетические i, е только подчеркивают это сонантное качество; всякое малозаметное
фонологическое свойство имеет тенденцию возрастать, если только проявляется
стремление его сохранить. То же самое явление воспроизводится и в esclandre,
и в народном произношении esquellette, estatue. Его же мы встречаем в вульгарном
произношении предлога de, передаваемом через ëd: un oeil ed tanche. В результате
синкопы de tanche превратилось в d'tanche; но, чтобы дать себя обнаружить в
этом положении, d должно быть имплозивным — dîanche, и перед ним развивается
гласный, как в случаях, рассмотренных выше.
4. Едва ли следует возвращаться к вопросу об индоевропейских сонантах и за-
271
даваться вопросом, например, о том, почему древневерхненемецкое hagl
превратилось в hagal, тогда как balg осталось нетронутым. В этом последнем слове 1 —
второй элемент имплозивной цепочки (balg) — выполняет функцию консонанта, и
у него не было оснований менять свою функцию. Наоборот, равным образом
имплозивное 1 в hagl образовывало вокалическую точку. Будучи сонантным, оно
могло развить перед собой гласный с большей степенью раствора (а, если верить
свидетельству написания). Впрочем, этот гласный с течением времени
редуцировался, так что ныне Hagel опять произносят как hâ|l. Этим и отличается
произношение этого слова от произношения французского aigle; 1 является в немецком
ендове затворным, а во французском слове растворным, с конечным немым е (е|1э).
К стр. 99. Термин «акустический образ» может показаться чересчур узким,
так как наряду с представлением звуков слова есть еще и представление его
артикуляций, мускульный образ акта фонации. Но для Ф. де Соссюра язык есть прежде
всего клад, существующий в сознании говорящих (dépôt), нечто, полученное извне
(см. стр. 52). Акустический образ является по преимуществу естественной
репрезентацией слова, как факт виртуального языка вне какой-либо реализации его
в речи. Двигательный аспект может, таким образом, лишь подразумеваться или,
во всяком случае, занимать только подчиненное положение по отношению к
акустическому образу.
К стр. 107. Было бы несправедливо упрекать Ф. де Соссюра в нелогичности
или парадоксальности в связи с тем, что он приписывает языку два
противоречивых качества. Противопоставлением двух антонимичных терминов он лишь хотел
резче подчеркнуть ту истину, что язык изменяется, а говорящие на нем изменить
его не могут. Эту же мысль можно было бы выразить иначе: язык неприкосновенен,
(intangible), но не неизменяем (inaltérable).
К стр. 125. Согласно мнению Мейе («Mém. de la Soc. de Ling.», vol. IX, стр. 365
и сл.) и Готьо («La fin de mot en indo-européen», стр. 158 и сл.), индоевропейский
праязык знал лишь конечное -п и исключал конечное -m; если принять эту теорию, то
закон 5 достаточно будет сформулировать следующим образом: индоевропейское
конечное -п сохранилось в греческом языке; убедительность такой формулировки
нисколько не уменьшится сравнительно с той, которую предложил Соссюр,
поскольку фонетическое явление, сводящееся к сохранению старого состояния,
однородно с явлением, выражающимся в изменении.
К стр. 127. Само собой разумеется, что приведенные выше примеры носят
чисто схематический характер. Современная лингвистика прилагает
значительные усилия к тому, чтобы свести возможно более широкие ряды фонетических
изменений к единому начальному принципу. Так, Мейе объясняет все изменения
греческих смычных последовательным ослаблением их артикуляции (см. «Mém. de
la Soc. de Ling.», vol. IX, стр. 163 и сл.). Конечно, к этим общим фактам там, где они
налицо, и относятся в конечном счете заключения де Соссюра о характере
фонетических изменений.
К стр. 129. Эту общепринятую теорию недавно подверг критике Лерх
(см.: Е. L е г с h, Das invariable Partizipium praesentis, Erlangen, 1913), но,
как нам думается, безуспешно. Поэтому нет надобности отбрасывать этот
пример, который при любых обстоятельствах сохраняет свое дидактическое значение.
К стр. 155. Излишне указывать, что учение о синтагмах не совпадает с
синтаксисом у являющимся, как мы увидим ниже, лишь частью его.
К стр. 158. Этот последний случай редок, и его можно считать
ненормальным, потому что наш разум, естественно, устраняет ассоциации, способные
затемнить понимаемость речи; однако существование подобных случаев доказывается
явлениями игры слов, покоящимися на нелепых смешениях, которые могут
произойти от самой простой омонимии типа Les musiciens produisent les sons et les
grainetiers les vendent1. Этот случай следует отличать от тех случаев, когда
ассоциация, хотя и чисто случайная, может опереться на сближение понятий (ср. франц.
1 «Музыканты производят звуки/отруби, а торговцы зерном их продают» —
предложение, возможное во французском языке в силу омонимии sons «звуки» и
sons «отруби». Ср. русск. «Дипломаты пишут ноты, а музыканты исполняют по ним
музыку» — предложение, построенное на омонимии слов ноты,—- Прим. ред.
272
ergot «петушиная шпора»: ergoter «придираться»; нем. blau «синий»: durchbläuen
«поколотить»): здесь дело идет о новом истолковании одного из членов
сопоставляемой пары — это случай народной этимологии (см. стр. 209). Этот факт
интересен для семантической эволюции, но с точки зрения синхронической он просто
входит в упомянутую выше категорию типа enseigner : enseignement.
К стр. 175. К этому дидактическому и чисто внешнему соображению
присоединяется, быть может, и другое: Ф. де Соссюр никогда не касался в своих
лекциях лингвистики речи (см. стр. 56 и сл.). Читатель помнит, что новая норма
всегда начинается с отдельных лиц (см. стр. 130). Можно, по-видимому, признать,
что автор отрицает за индивидуальными фактами свойство быть грамматическими
в том смысле, что изолированный акт по необходимости чужд языку и его системе,
зависящей только от совокупности коллективных навыков. Поскольку факты
относятся к речи, они являются лишь специальными и чисто случайными способами
использования установившейся системы. Лишь тогда, когда какая-либо инновация,
часто повторяясь, запечатлевается в памяти и входит в систему, она приводит к
нарушению установившегося равновесия значимостей и к тому, что язык ipso
facto и спонтанно оказывается претерпевшим изменения.
К грамматической эволюции можно было бы применить то, что было сказано
на стр. 117 о фонетической эволюции: она протекает вне системы, ибо последняя
никогда не наблюдается в развитии; мы лишь от момента к моменту
находим ее другой. Впрочем, эта попытка объяснения представляет с нашей
стороны только предположение.
К стр. 187. Или -п? Ср. прим. к стр. 125.
К стр. 214. Отсюда следует, что оба эти явления комбинированно действуют
в истории языка, но агглютинация всегда предшествует аналогии и создает для
нее образцы. Такой тип сложных слов, как, например, греч. hippo-dromo-s и т. п.,
происходит от частичной агглютинации, имевшей место в такую эпоху
индоевропейского праязыка, когда еще не было окончаний (*ekwo dromo соответствовало
тогда такому английскому словосочетанию, как country house); но только
благодаря аналогии получилось здесь продуктивное образование еще до окончательной
спайки составных элементов. То же можно сказать и о форме будущего времени
во французском языке (je ferai и т. п.), зародившейся в народной латыни от
агглютинации инфинитива с настоящим временем глагола habere (facere habeö «сделать
имею»). Таким образом, лишь благодаря вмешательству аналогии агглютинация
создает синтагматические г типы и обслуживает грамматику; предоставленная же
самой себе, она доводит синтез составных элементов до абсолютного объединения и
образует лишь неразложимые и непродуктивные слова (типа hanc hôram —> encore),
то есть обслуживает лексику.
К стр. 220. Ф. де Соссюр не затронул, по крайней мере с синхронической
точки зрения, вопроса о сложных словах. Эта сторона вопроса должна,
следовательно, быть выделена особо; само собой разумеется, что установленное выше
диахроническое различение между сложными словами и словами агглютинированными не
может быть перенесено без изменения в синхронию, где речь идет об анализе
определенного состояния языка. Едва ли стоит даже отмечать, что эта глава,
касающаяся единиц низшего уровня, не претендует на решение более трудного вопроса,
затронутого на стр. 137 и 140, относительно определения слова как единицы.
К стр. 227. См.: Trombetti, L'unità d'origine del linguaggio, Bologna,
1905.
К стр. 261. Ср. еще: d'Arbois de Jubainville, Les premiers habitants de
l'Europe, 1877; O. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte; О.
Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde (работы, появившиеся
ранее труда Хирта); S. Feist, Europa im Lichte der Vorgeschichte, 1910.
К стр. 266. Эта глава не касается вопросов ретроспективной лингвистики.
Тем не менее мы помещаем ее здесь, так как она может служить заключением для
всей работы в целом.
1 В третьем издании: синтаксические.— Прим. ред.
273
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ1
Предлагаемая библиография является избранной: из более чем 2500 работ,
посвященных «Курсу», в нашу библиографию вошло только около 300 названий.
Исчерпывающий аннотированный перечень работ о Соссюре читатель найдет в
книге Е. F. К. Koerner, Bibliographia $aussureana 1870—1970. An annotated
classified Bibliography on the background Development and actual Relevance
of Ferdinand de Saussure general Theory of Language, N.Y., 1972.
Th. Absil, Sprache und Rede. Zu de Saussure's «Allgemeiner
Sprachwissenschaft», Nph, 10, 1925.
H. Amman, Kritische Würdigung einiger Hauptgedanken von F. de Saussure
«Grundfragen der Sprachwissenschaft», IF, 52, 1934.
H. Arens, Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike
bis zur Gegenwart, Munich, 1955.
A. Avram, Syntagme et paradigme, synchronie et diachronie, «Filologîca
pragensia», 8, 1965.
Ch. Bally, Synchronie et diachronie, VR, 2, 1937.
Ch. Bally, Langue et parole, JPs, 23, 1926.
Ch. Bally, Qu'est-ce qu'un signe?, JPs, 36, 1939.
Ch. Bally, L'arbitraire du signe: Valeur et signification, «Le français
moderne», 8, 1940.
Ch. Bally, Sur la motivation des signes linguistiques, BSL, 41, 1940.
Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française, Paris, 1932;
2e ed., Bern, 1944; 4e ed., Bern, 1965.
Ch. Bally, Ferdinand de Saussure et l'état actuel des études linguistiques.
Leçon d'ouverture du cours de linguistique générale, lue le 27 oct. 1913 à l'Aula de
l'Université Genève, [1913] (перепечатано в Ch. Bally, Le langage et la vie,
3eed., Genève, 1952, стр. 147—160 и в «Ferdinand de Saussure», см. ниже).
É. Benveniste, Nature du signe linguistique, AL, 1, 1939.
Ε. Benveniste, Tendances récentes en linguistique générale, JPs, 47—51,
1954.
E. Benveniste, Saussure après un demi-siècle, CFS, 20, 1963.
E. Benveniste, Documents pour l'histoire de quelques notions saussuri-
ennes, réunis et présentés par E. Benveniste, CFS, 21, 1964.
E. Benveniste, Ferdinand de Saussure à l'École des Hautes Etudes.—
«Ecole pratique des Hautes Etudes, IVe sect., Annuaire 1964—1965», Paris, 1965.
1 Принятые сокращения наименований журналов: AL — «Acta linguistica»;
BSL — «Bulletin de la Société de linguistique de Paris»; CFS — «Cahiers Ferdinand
de Saussure»; IF — «Indogermanische Forschungen»; JPs — «Journal de psychologie
normale et pathologique»; KZ — «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung»;
Lg — «Language»; Nph — «Neophilologus»; PBB — «Paul und Braune's Beiträge
zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur»; TCLC — «Travaux du Cercle
linguistique de Copenhague»; TCLP — «Travaux du Cercle linguistique de Prague»;
VR — «Vox Romanica»; W — «Word»; ZRPh — «Zeitschrift für romanische
Philologie»; ВЯ — «Вопросы языкознания»; РЯШ — «Русский язык в школе».
274
Ë. Benveniste, „Structure" en linguistique.— «Sens et usages du terme
„structure" dans les sciences humaines et sociales», s'Gravenhage, 1962.
E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966. (Русск.
перевод: Э. Бенвенист, Общая лингвистика, М., 1974.)
Н. Birnbaum, F. de Saussure och den moderna sprâkvetenskape. Till
100-ârsjubileet av hans födelse.— «Filol. meddelande f. Ryska inst. v. Stocholms
högskola», 1, 1957.
C. de Boer, «Innovations» en matière d'analyse linguistique, «Mededeelingen
der К. Akad. van Wetenschapen te Amsterdam, Aft. Letterkunde», 79, série A, № 1,
1935.
Т. Bolelli, Tra storia e linguaggio, Arona, 1949.
T. Bolelli, Per una storia délia ricerca linguistica, Testi e note
introdattive, Napoli, 1965.
D. L. Bolinger, The sign is not arbitrary, «Boletin del Instituto Caro y
Cuervo», 5, Bogota, 1949.
W. Borgeaud, W. Bröcker, J. Lohmann, De la nature du signe,
AL, 5, 1945—1949.
F. Bresson, La signification.— «Problèmes de psycholinguistique», Paris,
1963.
W. Brocker, Ober die Prinzipien einer allgemeiner Grammatik, ZRPh, 63,
1943.
W. Bröcker, J. Lohmann, Vom Wesen des sprachlichen Zeichens,
«Lexis», 1, 1948.
V. Bröndal, Linguistique structurale, AL, 1, 1939 (перепечатано в сборнике
статей «V. Bröndal, Essais de linguistique, générale», Copenhague, 1943).
К. Bühler, Die Axiomatik der Sprachwissenschaft, «Kantstudiue», 38,
1933.
К. Bühler, Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache, Jena,
1934.
Α. Burger, Phonématique et diachronie, à propos de la palatalisation des
consonnes romanes, CFS, 13, 1955.
A. Burger, Significations et valeur du suffixe verbal français -e-, CFS, 18,
1961.
A. Burger, Essai d'analyse d'un système de valeurs, CFS, 19, 1962.
E. Buyssens, La nature du signe linguistique, AL, 2, 1941.
E. Buyssens, Les six linguistiques de F. de Saussure, «Revue des langues
vivantes», 1, 2, 1942 (peu. Sechehaye в CFS, 4, 1944).
E. Buyssens, Mise au point de quelques notions fondamentales de la
phonologie, CFS, 8, 1949.
E. Buyssens, Dogme ou libre examen?, CFS, 10, 1952.
E. Buyssens, Le structuralisme et l'arbitraire du signe, «Studii §i cercetari
linguistice», 11, 3, Bucureçti, 1960.
E. Buyssens, Le signe linguistique, «Revue belge de philologie et
d'histoire», 38, 1960.
E. Buyssens, Origine de la linguistique synchronique de Saussure, CFS,
18, 1961.
E. Buyssens, Les langages et le discours. Essai de linguistique
fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie, Bruxelles, 1943 (рец. Sechehaye в CFS,
4, 1944).
E. Buyssens, De l'abstrait et du concret dans les faits linguistiques;
. la parole — le discours — la langue, AL, 3, 1942—1943.
J. Cantineau, Oppositions significatives, CFS, 10, 1952.
E. Cassirer, Structuralism in modern linguistics, W, 1, 1945.
N. Chomsky, Cartesian linguistics. A chapter in the history of rationalistic
thought, New York, 1966.
N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, Cambridge, 1965.
M. Cohen, Pour une sociologie du langage, Paris, 1956.
275
В. Collinder, Les origines du structuralisme.— «Acta societatis
linguisticae Uppsaliensis», 1, 1962.
B. Collinder, Kritische Bemerkungen zum Saussurischen Cours de
linguistique générale.— «Acta societatis linguisticae Uppsaliensis», I, 1968.
E. Coseriu, Sincronia, diacronia e historia. El problema del cambio lingui-
stico, Montevideo, 1958 (рец. Α. Burger в CFS, 17, 1960; русск. перевод Э.
Косериу, Синхрония, диахрония и история.— В: «Новое в лингвистике», III,
Москва, 1963).
Е. Coseriu, Sistema, norma у habla, Montevideo, 1952.
Ε. Coseriu, Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, Montevideo, 1954
(рец. A. Burger в CFS, 17, 1960).
E. Coseriu, Georg von der Gabelentz et la linguistique synchronique,
W., 23, 1967.
E. Coseriu, Teoria del lenguaje y lingüistica general. Cinco estudios,
Madrid, 1962, изд. 2-е, 1967.
Ε. Coseriu, L'arbitraire du signe. Zur Sprachgeschichte eines
Aristotelischen Begriffes, «Archiv für das Studium der neuren Sprachen und Literatur», 204,
1967.
H. Delacroix, Le langage et la pensée, 2eed., Paris, 1930.
G. Derossi, Segno e struttura linguistici nel pensiero di Ferdinand de
Saussure, Trieste, 1965 (рец. R. Engler в CFS, 24, 1965).
G. Devoto, Una scuola di lingüistica generale, «La Cultura», 7, Roma, 1928.
G. Devoto, I fondamenti délia storia lingüistica, Firenze, 1951.
W. Doroszewski, Quelques remarques sur les rapports de la sociologie
et de la linguistique: DurkheimetF. de Saussure.-— «Psychologie du langage», Paris,
1933.
W. Doroszewski, Sociologie et linguistique (DurkheimetF. de Saussure).—
«Actes du 2e Congrès international des linguistes, Genève, 25—29 août 1931», Paris,
1933.
W. Doroszewski, «Langue» et «parole» (Une page de l'histoire des idées
générales en linguistique), «Prace filologiczne», 45, 1930.
W. Doroszewski, Le structuralisme linguistique et les études de
géographie dialectale.— «Proceedings of the 8th international Congress of linguists»,
Oslo, 1958.
W. Doroszewski, Elementy leksykologii i semiotyki, Warszawa, 1970
(русск. перев.: В. Дорошевский, Элементы лексикологии и семиотики,
М., 1973).
H. Duchosal, Les Genevois célèbres. Notes et souvenirs sur un linguiste de
génie: Ferdinand de Saussure.— «Tribune de Genève», 27-XII 1950.
N. Ege, Le signe linguistique est arbitraire, TCLC, 5, 1949.
R. Engler, Théorie et critique d'un principe saussurien: l'arbitraire du
signe, CFS, 19, 1962.
R. Engler, Compléments à l'arbitraire, CFS, 21, 1964.
R. Engler, Remarques sur Saussure, son système et sa terminologie, CFS,
22, 1966.
R. Engler, Lexique de la terminologie saussurienne, Utrecht/Anvers, 1968.
R. Engler, «Cours de linguistique générale» und «Les sources manuscrites du
«Cours de linguistique générale de F. de Saussure»: eine kritische Ausgabe des
«Cours de linguistique générale», «Kratylos», 4, 1959.
R. Engler, Semiologische Lese: Betrachtungen zu Saussure, Salviati und
Chrétien de Troyes.— «Linguistique contemporaine. Hommage à Eric Buyssens»,
Bruxelles, 1970.
«Ferdinand de Saussure (1857—1913)», Genève, 1915, 2e ed., Genève, 1962
(Сборник перепечатанных речей и статей в связи со смертью Ф. де Соссюра: речь Э. Фав-
ра, напечатанная в «Bulletin de la société d'histoireet d'archéologie de Genève», III,
8, 1913; лекция A. Сеше, прочитанная 28 февраля 1913 г. в Женевском
университете; заметка А. Мейе, напечатанная в BSL, XVIII, 61, 1913; заметка Р. Готьо,
напечатанная в «Bulletin de l'Association des Elèves et anciens Elèves de l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, Section des Sciences historiques et philologiques», 1914;
276
статья Ж. Э. Давида, напечатанная в «Gazette de Lausanne» 25 févr. 1913; статья
Э. Мюрэ, напечатанная в «Journal de Genève» 26. févr. 1913, и некролог Ш. Балли,
напечатанный в «La semaine littéraire» 1 mars 1913).
M. Fle ry, Notes et documents sur F. de Saussure (1880—1891).— «Ecole
pratique des Hautes Etudes», IV-e section, Annuaire 1964—1965.
J. Fόnagy, Ober die Eigenart des sprachlichen Zeichens (Bemerkungen zu
einer alten Streitfrage), «Lingua», 6, 1956—1957.
H. Frei, Langue, parole et différenciation, JPs, 45, 1952.
H. Frei, Saussure contre Saussure?, CFS, 9, 1950.
H. Frei, Le signe de Saussure et le signe de Buyssens, «Lingua», 12, 4,
1963.
H. Frei, La linguistique saussurienne à Genève depuis 1939, AL, 5, 1945—
1949.
H. Frei, Ramification des signes dans la mémoire, CFS, 2, 1942.
H. Frei, Note sur l'analyse des syntagmes, W, 4, 1948.
H. Frei, Désaccords, CFS, 18, 1961.
H. Frei, La grammaire des fautes, Paris, 1929.
H. Frei, Qu'est-ce qu'un dictionnaire des phrases?, CFS, 1, 1941.
H. Frei, Zéro, vide et intermittent, «Zeitschrift für Phonetik und allgemeine
Sprachwissenschaft», 4, 1950.
H. Frei, Critères de délimitation, W, 10, 1954.
H. Frei, L'unité linguistique complexe, «Lingua», 11, 1962.
Α. Η. Gardiner, The theory of speech and language, London, 1932, 2 ed.,
Oxford, 1951.
A. H. Gardiner, De Saussure's analysis of the «sign linguistique», AL, 4,
1944.
Α. Η. Gardiner, The distinction of «speech» and «language».— «Atti dei
3 Congresso internazionale dei linguisti», Firenze, 1935 (русск. перев.: А.
Гapдинeр, Различие между „речью" и „языком".—В: В. А. 3вегинцев,
История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях, часть II, М. 1960).
L. Gautier, Souvenirs et témoignages, «Journal de Genève», I—III,
1963.
«A Geneva school reader in linguistics» (ed. by Godel), Bloomington and
London, 1969.
L. Geschiere, Plaidoyer pour la langue, Nph, 45, 1961.
L. Geschiere, La «langue»: condamnation ou sursis?, Nph, 46, 1962.
A. Gill, La distinction entre langue et parole en sémantique historique.—
«Studies in Romance Philology and French Literature presented to John Orr»,
Manchester, 1933.
R. Godel, Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale»
de F. de Saussure, Genève — Paris, 1957 (рец. H. A. Слюсаревой в ВЯ, 2,
1960).
R. Godel, La question des signes zéro, CFS, 11, 1953.
R. Godel, De la théorie du signe aux termes du système, CFS, 22, 1966.
R. Godel, L'école saussurienne de Genève.— «Trends in European and
American Linguistics 1930—1960», I, Utrecht, 1961.
R. Godel, F. de Saussure's theory of language.— «Current trends in
linguistics», vol. 3. «Theoretical foundations», 1966.
R. Godel, Allocution prononcée aux obsèques de Charles Bally, CFS, 6,
1946-1947.
R. Godel, Nouveaux documents saussuriens. Les cahiers E. Constantin,
CFS, 16, 1959.
R. Godel, Inventaire des manuscrits de F. de Saussure remis à la
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, CFS, 17, 1960.
R. Godel, рец. на книгу «S. Ulbmann, Précis de sémantique française»,
CFS, 11, 1953.
R. Godel, F. de Saussure et les débuts de la linguistique moderne,
«Semaine d'études. Genève», 67, 1968.
A. J. Greimas, L'actualité du saussurisme, «Le français moderne», 24, 1956.
277
G. Guillaume, La langue est-elle ou n'est-elle pas un système?.— «Cahier
de linguistique structurale», 1, Québec, 1952.
H. Günter, Grundfragen der Sprachwissenschaft, Leipzig, 1925.
V. Gutu - Romalo, Synchronie et diachronie dans l'étude de la langue.
Résumés des communications.— «Actes du X Congrès international des linguistes»,
Bucarest, 1969.
Sh. Hallori, Saussure's no langue to gengokateisetsu, «Gengo кепку0», 32, .
1957.
L. Havet, рец. на «Mélanges de linguistique offerts à M. F. de Saussure» в
«Journal de Genève», 16—23-XI, 1908.
S. Heinimann, F. de Saussures «Cours de linguistique générale» in neuer
Sicht, ZRPh, 75, 1959.
L. Hjelmslev, Principes de grammaire générale, Copenhagen, 1928.
L. Hjelmslev, Langue et parole, CFS, 2, 1942 (перепечатано в L.
Hjemslev, Essais linguistiques, Copenhagen, 1959 (русск. перев.: Л. Ельмслев,
Язык и речь.— В: В. А. 3вегинцев, История языкознания XIX и XX веков
в очерках и извлечениях, часть II, М., 1960).
R. Jakobson, L'importanza di Kruszewski per lo svilippo della linguistica
generale, «Ricerche slavistiche», 13, 1967.
R. Jakobson, Serge Karcevski, CFS, 14, 1956.
R. Jakobson, La scuola linguistica di Praga, «La cultura», 12, 1933.
R. Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, TCLP, 4, 1931.
R. Jakobson, Saussure's unpublished reflections on phonemes, CFS, 26,
1969.
R. Jakobson, Signe zéro.— «Mélanges de linguistique offerts à Ch. Bally»,
Genève, 1939.
R. Jakobson, La première lettre de Ferdinand de Saussure à Antoine
Meillet publiée et commentée par Roman Jakobson, «L'Homme, Revue française
d'anthropologie», 11, 2, 1971.
R. Jakobson, Selected writings, s'Gravenhage, Ι, 1962; II, 1971.
R. Jakobson, S. Karcevski j, N. S. Trubeckoj, Quelles sont les
méthodes les mieux appropriées à un exposé complet et pratique de la grammaire
d'une langue quelconque?.— «Actes du premier congrès international des linguistes»,
Leiden, [1929].
R.Jakobson. О hlâskoslovném zâkonu a teleologickém hlâskoslovi,
«Casopis pro moderni filologii», 14, 1928.
R. Jakobson, M. Halle, Fundamentals of language, s'Gravenhage, 1956.
E. F. К. Koerner, Contribution au débat post-saussurien sur le signe
linguistique. Introduction générale et bibliographique annotée, The Hague—Paris,
1971.
E. F. К- Koerner, A Note on transformational-generative grammar and the
Saussurean dychotomy of synchrony versus diachrony, «Linguistische Berichte.
Forschung — Information — Diskussion», 13, Braunschweig, 1971.
F. Kolmar-Kulleschitz, Ist das Phonem ein Zeichen?
(Stratifizierung der Bedeutung), «Phonetica», 5, 1960.
F. Kolmar-Kulleschitz, Einige Bemerkungen zum de
Saussureschen Zeichenschema (Stratifitierung der Bedeutung), «Phonetica», 6, 1961.
J. Μ. Kofinek, Einige Betrachtungen über Sprache und Sprechen, TCLP,
6, 1936 (русск. перев.: Й. M. Коржинек, К вопросу о языке и речи.—В:
сб. «Пражский лингвистический кружок», М., 1967).
L. Kukenheim, Esquisse historique de la linguistique française et de ses
rapports avec la linguistique générale, Leiden, 1962.
J. von Laziszius, Die Scheidung langue — parole in der Lautforschung.—
«Proceedings of the 2nd international congress phonetists sciences, 1938», Ghent, 1939.
W. P. Lehmann, Saussure's dichotomy between descriptive and historical
linguistics.—«Directions for historical Linguistics. A Symposium», London,
1968.
G. Lepschy, Sintagmatica e linéarité, «Studi Saggi linguistici», 5 , Pisa,
1965.
278
G. Lepschy, Ancora su «l'arbitraire du signe», «Annali délia Scuola normale
superiore di Pisa», 31, 1962.
G. Lepschy, La linguistica strutturale, Torino, 1966 (франц. перевод:
G. Lepschy, La linguistique structurale, Paris, 1968).
M. Leroy, Les grands courants de la linguistique moderne, Bruxelles, 1963.
(Рец. H. A. Слюсаревой.— В: «Научные доклады высшей школы», серия
«Филологические науки», 2, 1965).
E. Lerch, Vom Wesen des sprachlichen Zeichens. Zeichen oder Symbol?, AL,
1, 1939.
H. H. Lieb, Das Sprachstudium: Entwicklungsabschnitt und System?,
«Lingua», 16, 4, 1966.
M. Lucidi, L'equivoco dei l'arbitraire du signe'. L'iposema, «Cultura
neolatina», 10, 1950.
B. Malmberg, F. de Saussure et la phonétique moderne, CFS, 12, 1954.
B. Malmberg, Les nouvelles tendances de la linguistique, Paris, 1966.
B. Malmberg, Synchronie et diachronie.—«Actes du Xe congrès
international des linguistes», 1, Bucureçti, 1969.
B. Malmberg, Système et méthode. Trois études de linguistique générale.—
«Vetenskaps-societeten i Lund. Ârsbok», Lund, 1945.
B. Malmberg, Till frâgan om sprâkets systemkaraktär.—
«Vetenskapssocieteten i Lund, Ârsbok», Lund, 1947.
V. Martin, Ch. Bally, Albert Sechehaye, CFS, 6, 1947.
A. Martinet, Arbitraire linguistique et double articulation, CFS, 15, 1957.
A. Martinet, La double articulation linguistique, TCLC, 5, 1949.
A. Martinet, Economie des changements phonétiques. Traité de phonologie
diachronique, Bern, 1955. (Рец. R. Godel в CFS, 14, 1956).
A. Martinet, Structural linguistics.—«Anthropology today. An
encyclopedia inventory», Chicago, 1953.
A. Martinet, La phonologie synchronique et diachronique.—«Phonologie
der Gegenwart», Köln, 1967.
V. Mathesius, La place de la linguistique fonctionelle et structurale dans
le développement général des études linguistiques.—-«Actes du 2econgrès international
des linguistes, Genève, 25—29 août 1931», Paris, 1933.
G. F. Meier, Das Zero-Problem in der Linguistik, Berlin, 1961 (рец.
R. Godel в «Kratylos», 8, 1963).
G. Mihäilä, Cu privire la evolujia conceptuli saussurian de «sincronie» §i
«diacronie» în lingvisticä, «Probleme de lingvisticä generalä», vol. 5, Bucuresti, 1967.
F. Mikus, La notion de valeur en linguistique, «Lingua», 3, 1, 1952.
F. Mikus, Principi sintagmatice, Zagreb, 1958.
F. Mikus, Edward Sapir et la syntagmatique, CFS, 11, 1953.
K. Möller, Contribution to the discussion concerning «langue» and «parole»,
TCLC, 5, 1949.
G. Mounin, Ferdinand de Saussure (Saussure ou le structuraliste sans le
savoir), Paris, 1968.
G. Mounin, Histoire de la linguistique des origines au XXe siècle, Paris,
1967.
G. Mounin, La notion de système chez Antoine Meillet, 1966.
P. Naert, Arbitraire et nécessaire en linguistique, «Studia linguistica», 1,
1947.
P. Naert, L'arbitraire du signe, W., 23, 1967.
A. Nehring, The problem of linguistis sign, AL, 6, 1950.
G. Nencioni, Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio, Firenze,
1946 (рец. A. Juvet в CFS, 6, 1946—1947).
C. К. Ogden, LA. Richards, The meaning of meaning. A study of the
influence of language upon thought and of the science of symbolism, London, 1923,
10th ed., 1949.
Ε. Otto, Grundfragen der Linguistik, IF, 52, 1934.
279
A. Pagliaro, Π segno vivente. Saggi sulla lingua e altri simboli, Napolî,
1952.
Α. Penttilä, Einige Bemerkungen über die Unterscheidung von Sprache
und Rede.—«Actes du 4e congrès international des linguistes», Copenhagen,
1938.
Ε. Pichon, Sur le signe linguistique, AL, 2, 1940.
J. L. Pierson, Langue — parole? Signifié — signifiant?, «Studia linguistica»,
17, 1, 1963.
K. Pipping, Om nâgra grundtankar i Ferdinand deSaussures föreläsningar
över allmän sprâkvetenskap, «Vetenskaps-societeten i Lund. Ârsbok», 1946.
G. de Poerck, Quelques réflexions sur les oppositions saussuriennes, CFS,
22, 1966.
«Portraits of linguists», 2, 1966.
«Readings in Linguistics» (Ed. E. P. Hamp, F. W. Housholder and
R. Austerlitz), Chicago and London, I, II, 1957, изд. 2е, 1966.
G. Redard, F. de Saussure pionnier de la linguistique, «Journal de Genève»,
23-24-X1-1957.
K. H. Rensch, Ferdinand de Saussure und Georg von der Gabelenz.
Obereinstimmungen und Gemeinsamkeiten dargestellt an der langue — parole Dichotomie
sowie der diachronischen und synchronischen Sprachbetrachtung, «Phonetica», 15, 1,
1966.
R. H. Robins, Ancient and medieval grammatical theory in Europe, with
particular reference to modern linguistic doctrine, London, 1951.
K. Rogger, Kritischer Versuch über de Saussure's Cours de Linguistique
générale, ZRPh, 61, 1941.
K. Rogger, Langue — parole und die Aktualisierung, ZRPh, 70, 1954.
M. Scheller, «Linguistique synchronique» und «linguistique diachronique».
Zur Geschichte der neueren Sprachwissenschaft, «Zeitschrift für vergleichende
Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», 82, 2, 1968.
A. Sechehaye, L'école genevoise de linguistique générale, IF, 44, 1927.
A. Sechehaye, Les trois linquistiques saussuriennes, VR, 5, 1940. (Рец.
К. Rogger в ZRPh, 62, 1941; аннотация H. Frei в CFS, 1, 1941).
A. Sechehaye, Les mirages linguistiques, JPs, 27, 1930 и CFS, 4, 1944.
A. Sechehaye, La pensée et la langue: ou comment concevoir le rapport
organique de l'individuel et du social dans le langage?, JPs, 30, 1933.
A. Sechehaye, De la définition du phonème à la définition de l'entité de
langue, CFS, 2, 1942.
A. Sechehaye, Ch. Bally, H. Frei, Pour l'arbitraire du signe, AL,
2, 1940—1941.
A. Sechehaye, Évolution organique et évolution congentielle.—«Mélanges
de ling, offerts à Ch. Bally», Genève, 1939.
C. Segre, Nota introduttiva (в итал. переводе: Ch. Bally, Linguistica
generale e linguistica francesce, Milano, 1963).
V. Skalicka, The need for a linguistics of la parole, «Recueil linguistique
de Bratislava», 1, 1948.
N. Sljusareva, Quelques considérations des linguistes soviétiques à propos
des idées de F. de Saussure, CFS, 20, 1963.
N. Sljusareva, Problems of scientific connections and influence (F. de
Saussure and J. Baudouin de Courtenay).—«Proceedings of the Eleventh
International Congress of Linguists», 11, Bologna, 1974.
E. Sollberge r, Note sur l'unité linguistique, CFS, 11, 1953.
A. Sommerfelt, Points de vue diachronique, synchronique et panchroni-
que en linguistique générale, «Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap», 9, 1938.
A. Sommerfelt, Diachronie and synchronie aspects of language. Selected
articles, s'Gravenhage, 1962. (Рец. W. P. Lehmann, в «Romance philology», 21,
1, 1967).
A. Sommerfelt, Tendances actuelles de la linguistique générale,
«Diogène», 1, 1952.
280
H. Spang-Hanssen, Recent theories on the nature of language sign,
TCLC, 9, 1954.
N. C. W. Spence, A hardy perennial: the problem of la langue and la
parole, «Archivum linguisticum», 9, 1957.
N. C. W. Spence, Langue and parole yet again, Nph, 46, 1962.
S. Stelling-Michaud, Notice biographique [Serge Karcevskij], CFS,
14, 1956.
W. Streitberg, Ferdinand de Saussure, «Indogermanisches Jahrbuch», 2,
1914 (1915) (перепечатано в «Portraits of linguists», 2, 1966).
«Thèses. Mélanges linguistiques dédies au premier congrès des philologues
slaves», TCLP, 1, 1929.
«Trends in modem linguistics». Edited in occasion of the Ninth International
Congress of Linguists, by Chr. Mohrmann, F. Norman, A. Sommerfelt, Utrecht, 1963.
J. L. Trim, Historical description and dynamic linguistics, «Language and
speech», 2, 1, 1959.
Β. Trnka, Synchronie a diachronie ν strukturâlnim jazykozpytu, «Casopis
pro moderni filologii», 20, 1934.
N. Valois, F. de Saussure.—«Comptes rendus de l'Académie des
inscriptions», 1913.
E. Vasiliu, «Langue», «parole», stratification, «Revue de linguistique», 5,
1960.
E. Vasiliu, Contribution à la théorie du signe linguistique.—«Cahier de
linguistique théorique et appliquées», 1, Bucarest, 1962.
J. Vendryes, Le caractère social du langage et la doctrine de F. de
Saussure, JPs, 18, 1921.
J. Vendryes, Sur les tâches de la linguistique statique, JPs, 30, 1933
(перепечатано в «Psychologie du langage», Paris, 1933).
J. Vendryes, Choix d'études linguistiques et celtiques, Paris, 1952.
J. V. M. Verhaar, Speech, language and inner form (Some linguistic
remarks on thought).—«Proceedings of the 9th International Congress of Linguistis,
Cambridge, Mass., 1962», s'Gravenhage, 1964.
P. A. Verbürg, Het Schaakspelmodel bij F. de Saussure en bij L.
Wittgenstein.—«Wijsger ig perspectief op maatschappij en wetenschap», 1, Amsterdam, 1961.
P. A. Verbürg, Taal en functionaliteit. Een historisch-critische studie
over de opvattingen aangaande de functies der taal, Wageningen, 1952.
W. von Wartburg, Betrachtungen über das Verhältnis von historischer
und deskriptiver Sprachwissenschaft.—«Mélanges de ling, offerts à Ch. Bally»,Genève,
1939.
W. von Wartburg, Das Ineinandergreifen von deskriptiver und
historischer Sprachwissenschaft.— «Sitzungsberichte der Sächsischen Akademie der
Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse», 83, 1, 1931.
J. T. Waterman, F. de Saussure forerunner of modern structuralism,
«Modern Language Journal», 40, 1956.
J. T. Waterman, Perspectives in linguistics. An account of the
background of modern linguistics, Chicago, 1963.
H. Wein, Sprachphilosophie der Gegenwart. Eine Einführung in die
europäische und amerikanische Sprachphilosophie des 20. Jahrhunderts, s'Gravenhage, 1963.
L. Weisgerber, Das Problem der inneren Sprachform.—«Germ.-Roman.
Monatsschrift», 1926.
R. S. Wells, De Saussure's system of linguistics, W, 3, 1-2, 1947.
N. van Wijk, De Saussure en de phonologische school.—«Album philolog. voor
Th. Pjaader», Amsterdam, 1939.
N. van Wijk, L'étude diachronique des phénomènes phonologiques et extra-
phonologiques, TCLP, 8, 1939.
N. van Wijk, Umfang und Aufgabe der diachronischen
Phonologie.—«Mélanges de linguistique et de philologie offerts à J. van Ginneken», Paris, 1937.
L. Zawadowski, The so-called relative motivation in
language.—«Proceedings of 8th International Congress of Linguistis», Oslo, 1958.
281
«Zeichen und System in der Sprache», Veröffentlichung des 1. Internationalen
Symposium, «Zeichen und System in der Sprache» vom 28.9. bis 2.10. 1959 in Erfurt,
Berlin, I, 1961, 11, 1962, III, 1966.
Л. А. Абрамян, К вопросу о языковом знаке.— В: «Вопросы общего
языкознания», М., 1964.
Е. Г. Аветян, Природа лингвистического знака, Ереван, 1968.
В. Г. Адмони, Проблема „уровней" языка и кризис соссюрианской
лингвистики:— В: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и
их взаимодействие», М., 1969.
Н. Д. Андреев, Л. Р. 3индер, О понятиях речевого акта, речи,
речевой вероятности и языка, ВЯ, 3, 1963.
Ю. Д. Апресян, Идеи и методы современной структурной лингвистики,
М., 1966.
Н. Д. Арутюнова, О простейших значимых единицах языка.— В:
«Проблемы языкознания», М., 1967.
Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, А. А. Уфимцева,
Знаковая природа языка.— В: «Общее языкознание», М., 1970.
Э. Α. Атаян, Проблемы и методы структурального синтаксиса,
Ереван, 1962.
А. А. Белецкий, Знаковая теория языка.— В: «Теоретические
проблемы языкознания», М., 1964.
Р. А. Будагов. Из истории языкознания (Соссюр и соссюрианство), М.,
1954.
Р. А. Будагов, Система языка в связи с разграничением его истории
и современного состояния, ВЯ, 4, 1958.
Р. А. Будагов, Фердинанд де Соссюр и современное языкознание
(К 50-летию «Курса общего языкознания»), РЯШ, 3, 1966.
Р. А. Будагов, Общее языкознание в СССР за 50 лет, «Филологические
науки», 5, 1967.
Г. Винокур, Культура языка, изд. 2-е, М., 1929.
Г. Винокур, О задачах истории языка, «Ученые записки Московского
Педагогического института», 5.1.1941.
А. Г. Волков, О теоретических основаниях дихотомической гипотезы
языка и речи Ф. де Соссюра, «Вестник Московского Университета», серия VII,
«Филология, журналистика», 2, 1964.
A. Г. Волков, Язык как система знаков, М., 1966.
B. Н. Волошинов, Новейшие течения лингвистической мысли на
Западе, «Учёные записки института языка и литературы», 5, М., 1928.
В. Н. Волошинов, Марксизм и философия языка, Ленинград, 1929.
Т. В. Гамкрелидзе, К проблеме „произвольности" языкового
знака, ВЯ, 6, 1972.
Б. В. Головни н, К вопросу о парадигматике и синтагматике на
уровнях морфологии и синтаксиса.— В: «Единицы разных уровней
грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969.
М. М. Гухман, Понятие системы в синхронии и диахронии, ВЯ, 4, 1962.
М. М. Гухман, Исторические и методологические основы
структурализма.—В: «Основные направления структурализма», М., 1964.
В. М. Жирмунский, О синхронии и диахронии в языкознании, ВЯ,
5, 1958.
В. М. Жирмунский, О соотношении синхронного анализа и
исторического изучения языка, М., 1960.
Ю. А. Жлуктенко, Язык и речь, «Научные труды Киевского
инженерно-строительного института, 19. Вопросы теории и методики преподавания
английского и немецкого языка», Киев, 1962.
В. А. 3вегинцев, Проблема знаковости языка, М., 1956.
В. А. Звегинцев, Человек и знак.— В: «То honor Roman
Jakobson», 3, 1967.
282
Л. P. 3индер, Условность и мотивированность языкового знака.— В:
«Фонетика, фонология,· грамматика. К семидесятилетию А. А. Реформатского»,
М., 1971.
Г. А. Климов, Синхрония — диахрония и статика — динамика.— В:
«Проблемы языкознания», М., 1967.
Е. С. Кубрякова, О понятиях синхронии и диахронии, ВЯ, 3, 1968.
А. А. Леонтьев, И. А. Бодуэн де Куртенэ и петербургская школа
русской лингвистики, ВЯ, 4, 1961.
А. А. Леонтьев, Бодуэн и французская лингвистика, «Известия
АН СССР», 25, вып. 4, 1966.
А. А. Леонтьев, Дискуссия о проблеме системности в языке,
«Известия АН СССР», 21, 1962.
Т. П. Ломтев, Язык и речь, «Вестник Московского университета», серия
VII, «Филология, журналистика», 4, 1961.
Материалы к конференции «Язык как знаковая система особого рода», М.,
1967.
Материалы семинара по проблеме мотивированности языкового знака, Л.,
1969.
A. С. Мельничук, Понятия системы и структуры языка в свете
диалектического материализма, ВЯ, I, 1970.
B. Я- Mыркин, Некоторые вопросы понятия речи в корреляции «язык —
речь», ВЯ, I, 1970.
В. Я- Mыркин, К вопросу об объективности существования языка
(Попытка философской интерпретации дихотомии язык — речь), «Филологические
науки», 4, 1971.
«О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков»,
М., 1960.
Р. В. Пазухин, О месте языка в семиологической классификации, ВЯ,
3, 1968.
M. Н. Петерсон, Язык как социальное явление, «Ученые записки
[института языка и литературы]», I, М., 1927.
Н. С. Поспелов, О лингвистическом наследстве С. Карцевского, ВЯ,
4, 1957.
Ю. М. Скребнев, О разграничении и противоположении понятий «язык»
и «речь».— В: «Вопросы общего и германского языкознания», Уфа, 1964.
Н. А. Слюсарева. Главное в лингвистической концепции Ф. де
Соссюра, «Иностранные языки в школе», 4, 1968.
Н. А. Слюсарева, К выходу в свет критического издания «Курса
общей лингвистики» Ф. де Соссюра, «Филологические науки», 4, 1971.
Н. А. Слюсарева, О письмах Ф. де Соссюра к И. А. Бодуэну де
Куртенэ, «Baltistica», 6, 1, 1970.
H. А. Слюсарева, Критический анализ проблем внутренней
лингвистики в концепции Ф. де Соссюра, автореферат докторской диссертации, М.,
1970.
Н. А. Слюсарева, Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. Учебное
пособие по курсу «История языкознания» (ротапринт), М., 1968.
Н. А. Слюсарева, Место Ф. де Соссюра в развитии современной
лингвистики.—«Xme Congrès International des Linguistes. Résumés des communications»,
Bucarest, 1967.
H. A. Слюсарева, Французская школа социологической лингвистики.
Учебное пособие по курсу «История языкознания» (ротапринт), М., 1968.
Н. А. Слюсарева, О знаковой ситуации.— В: «Язык и мышление»,
М., 1967.
Н. А. Слюсарева, Влияние идей казанской школы на становление
теории Ф. де Соссюра о соотношении синхронии и диахронии.— В:
«Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию», I, Самарканд, 1966.
Н. А. Слюсарева, О некоторых проблемах иерархической
организации языка.—В: «Единицы разных уровней грамматического строя», М., 1969.
А. И. Смирницкий, Объективность существования языка, М., 1954.
283
Α. Ε. Супрун, Язык — речь — текст. «[Казахская] республиканская
межвузовская конференция по вопросам методики преподавания и теории
иностранных языков, посвященная 50-летию Советской власти» (тезисы докладов)»,
Алма-Ата, 1966.
Тезисы докладов на межвузовской конференции «Язык и речь», М., 1962.
А. С. Чикобава, Проблема языка как предмета языкознания. На
материале зарубежного языкознания, М., Учпедгиз, 1959.
А. С. Чикобава, К вопросу о путях развития современной лингвистики,
ВЯ, 4, 1966.
Р. О. Шор, Кризис современной лингвистики.— В: «Яфетический сборник»,
5, 1927.
Л. В. Щерба, О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в
языкознании, «Изв. АН СССР. Отделение обществ, наук», №1, М., 1931.
Л. В. Щерба, И. А. Бодуэн де Куртенэ и его значение в науке о
языке.— В: «Избранные работы по русскому языку», М., 1957 (впервые статья
опубликована в РЯШ, 4, 1940).
Л.П. Якубинский, Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики,
«Языковедение и материализм», 2, 1931.
Курс общей лингвистики вызвал в свет большое число рецензий, большей
частью не особенно содержательных и весьма критических. Приводим перечень
этих рецензий на первое, второе и более поздние издания, а также на переводы.
РЕЦЕНЗИИ НА ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ
V. Bogrea в «Dacoromania», 2, 1921—1922.
В. Bourdon в «Revue philosophique», 1, 1917.
L. Gantier в «Gazette de Lausanne», 13.VIII, 1916.
M. Grammon в «Revue des langues romanes», 59, 1917.
K. Jaberg в «Sonntagsblatt des Bundes», 17.XII, 24.XII, 1916 (перепечатано
в К. Jaberg, Sprachwissenschaftliche Forschungen und Erlebnisse, Zürich, 1937,
2e ed.— Zürich, 1965).
O. Jespersen в «Nordisk Tidskrift for Filologi», 6, 1917 (перепечатано в О.
Jespersen, «Linguistica. Selected papers in English, French and German», London,
1933).
H. Lommel в «Göttingen gelehrte Anzeiger», 183, 1921.
Α. Meillet в BSL, 20, 64, 1916 и в «Revue critique de philologie et d'histoire»,
83, 1917.
M. Niedermann в «Neue Zürcher Zeitung», VIII, 1916.
Α. Oltramare в «La semaine littéraire», Genève, 27-V-1916.
J. Ronjat в «Journal de Genève», 26-V1-1916.
H. Schuchardt в «Literaturblatt für germanische und romanische Philologie»,
38, 1917 (перепечатано в Hugo Schuchardt — Brevier, Halle, 1922, 2e ed. 1928)
(русск. перев.: «О книге Φ. де Соссюра „Курс общей лингвистики"».— В:
Г. Шухардт, Избранные статьи по языкознанию, М., 1950).
A. Sechehaye в «Revue philosophique», 84, 1917.
B. A. Terracini в «Bullettino di filologia classica», Torino, 25, 1919.
J. Wackernagel в «Sontagsblatt der Basler Nachrichten», 15 и 21-Х, 1916.
M. H. Петерсон в «Печать и революция», 6, 1923.
РЕЦЕНЗИИ НА ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
E. Abegg в «Wissen und Leben», Zürich, lO-VIII-1923.
L. Bloomfild в «Modern Language Journal», 8, 1924 (перепечатано в CFS, 21,
1964 и в «Bloomfield Anthology», 1970).
Ζ. Gombocz в «Magyar Nyelv», 21, 1925.
284
A. Grégoire в «Revue belge de philologie et d'histoire», 1923.
E. Hermann в «Philologische Wochenschrift», 42, 1922.
H. Lommel в «Deutsche Literaturzeitung», 45, 1924.
J. Marouzeau в «Revue des études latines», 1, 1922.
С. Uhlenbeck в «Museum», VII, 1923.
РЕЦЕНЗИИ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЕ ИЗДАНИЯ
И ПЕРЕВОДЫ
Н. Amman в IF, 52, 1934.
I. M. Arago в CFS, 5, 1945.
I. Baumer в CFS, 24, 1968.
R. Engler в «Kratylos», 12, 1967.
H. Frei в CFS, 17, 1960.
R. Godel в «Journal de Genève», 11, 12-V-1968.
E. Hermann в «Philologische Wochenschrift», 51, 1931.
К. Jimbo в «Gengo Kenkyu», 1, 1939.
Ε. Lörenczy в «Magyar Nyilv», 57, 1966.
G. Panconcelli-Calzia в «Vox», 17, 1931.
L. Prieto в «Word», 14, 1958 и в CFS, 15, 1958.
G. Rohlfs в «Archiv für das Studium der neueren Sprachen und
Literaturen», 160, 1931.
С Segre в «La Fiera littéraria», Milano, 40, 15-X-1967.
L. Soll в IF, 74, 1969.
L. Weisgerber в «Teuthonista», 8, 1932.
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР
МЕМУАР
О ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ГЛАСНЫХ
В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ
ЯЗЫКАХ
Перевод с французского
А. С. Бобовича и А. Б. Черняка
под редакцией А. А. Холодовича
Вступительная статья А. А. Зализняка
MÉMOIRE
SUR LE
SYSTÈME PRIMITIF DE VOYELLES
DANS LES
LANGUES INDO-EUROPÉENNES
PAR
FERDINAND DE SAUSSURE
Leipsick
1879
О „МЕМУАРЕ" Φ. ДЕ СОССЮРА
„Мемуар о первоначальной системе гласных в
индоевропейских языках" Фердинанда де Соссюра—книга исключительной
судьбы. Написанная двадцатилетним юношей, она столь сильно
опередила свое время, что оказалась в значительной мере
отвергнутой современниками и лишь 50 лет спустя как бы обрела
вторую жизнь,—после того как Курилович обнаружил, что
в хеттском языке (расшифрованном уже после смерти Соссюра)
фонема h в определенных случаях соответствует
постулированному Соссюром индоевропейскому а. С этого момента „Мемуар"
выступает в роли исходного пункта интенсивно развивающегося
направления сравнительно-исторических исследований,
связанного с предполагаемыми ларингальными фонемами
общеиндоевропейского языка. Эта книга справедливо рассматривается
как образец и даже своего рода символ научного предвидения
в лингвистике, предвидения, основанного не на догадке, а
представляющего собой естественный продукт систематического
анализа совокупности имеющихся фактов.
Исследование Соссюра, относящееся к 1878 году (при
выходе в свет книга была помечена следующим, 1879 годом), было
подготовлено бурным развитием сравнительно-исторического
языкознания 70-х годов; наиболее существенные достижения,
на которые опирается Соссюр, по времени непосредственно
предшествуют его работе. Главным из таких достижений был
отказ от традиционной точки зрения, восходящей к Боппу,
согласно которой единое индоевропейское a, сохранившееся
в индоиранском, в языках Европы впоследствии расщепилось
на две или три фонемы (е и a на севере, e, о и a на юге).
Работы ряда ученых (прежде всего Амелунга и Бругмана)
показали, что различие по крайней мере e и о является общеиндо-
ю ф. де Соссюр
289
европейским1. Другим важным открытием (связанным с
именами Остгофа и Бругмана) было то, что в общеиндоевропейском
языке фонемы г, 1, m, η, оказываясь в положении между
согласными (или между согласными и границей слова), приобретали
слогообразующий характер, то есть выступали в виде г, 1, гр, г\.
Благодаря этим достижениям взору исследователей в конце
70-х годов XIX века впервые открылся замечательный
параллелизм в структуре индоевропейских чередований (кажущийся
столь очевидным современному читателю), который можно
продемонстрировать, например, следующей табличкой (ряды
чередований с 1 и m для краткости опущены):
е/о/нуль
ei/oi/i
ец/оц/u
er/or/r
en/on/n
πέτ-εσθαι
„лететь"
έ'χ-ειν
„иметь, держать"
(Ч < °ч)
λείπ-ειν
„оставлять"
εΐ-μί
„пойду"
ελεΰ-σ-ομαι
„пойду"
ρεδ-μα
„поток"
δέρ*-εσθαι
„смотреть"
δέρ-ειν
„драть"
πενθ-ος
„скорбь"
τεν-ώ
„натяну"
πε-πότ-ημαι
„полетел"
δχ-ος
„держащий"
(οχ < σοχ)
λέ-λοιπ-α
„оставил"
ειλ-ήλουθ-α
„пошел" (эпич.)
ρό-ος
„течение"
(< sroy-os)
δέ-δορχ-α
„заметил, вижу"
δορ-ά
„содранная кожа
πέ-πονθ-α
„претерпел"
τόν-οζ
„натяжение"
πτ-έσθαι
„полететь"
σχ-είν
„удержать"
λιπ-είν
„оставить"
t-τεον
„должно идти"
έλϋθ-είν
„пойти" (эпич.)
ρυ-τός
„текучий"
δραχ-εΐν
„увидеть" (ра<г)
δρα-τός
" „содранный" (ра< г)
παθ-είν
„претерпеть" (а < п)
τα-τός
„натянутый" (а <п).
Соссюр был первым, кто понял, что из этого параллелизма
вытекают весьма важные выводы относительно всего
фонетического и морфологического строя индоевропейского языка, и он
сформулировал эти выводы с той последовательностью и
смелостью, которая в течение полувека отпугивала лингвистов
последующих поколений.
Основной вывод Соссюра состоял в том, что за видимым
беспорядочным разнообразием индоевропейских корней и их вариан-
1 Бругман обозначил в то время индоевропейские прототипы европейских
е и о соответственно как аг и а2. Эти обозначения применяются (наряду с е и о)
и в „Мемуаре" Соссюра; ниже мы будем, однако, в соответствии с
современной практикой, использовать обозначения е и о.
290
tob скрывается вполне строгая и единообразная структура корня,
а выбор вариантов одного и того же корня подчинен единым,
сравнительно простым правилам. Все чередования
продемонстрированного выше типа Соссюр объяснил действием следующих
общих правил.
Всякий индоевропейский корень содержит гласный e. За
этим е может следовать сонант Ц, ц, г, 1, m, η); такой сонант
Соссюр называет сонантным коэффициентом.
В некоторых, точно не выявленных условиях (единых для
всех корней) е замещается гласным о; в других, лучше
известных условиях е выпадает. Там, где е выпало, корень, не
содержащий сонантного коэффициента, остается без гласного. В
корнях с сонантным коэффициентом этот коэффициент выступает в
качестве гласного (i, и, г, 1, m, g) в тех случаях, когда за ним
следует согласный (безразлично, корневой или суффиксальный;
ср. выше λιπ-είν и ι-τέον, δρακ-εΤν и δρα-τός и т. д.).
Важнейший принципиальный момент этих правил состоит
в том, что при одинаковых морфологических и фонетических
условиях огласовка (e, о или нуль) разных корней должна быть
одинаковой. Например, тематический презенс с ударением на
корне (πέτεσθαι, έ'χειν, λείπει, δέρκεσθαι, δέρειν, лат. lego „собираю",
гот. giba „даю" и т. д.) имеет древнюю огласовку е.
Единственное число активного перфекта (λέλοιπα, ειλήλουθα, δέδορ*α, πέπονθα,
гот. gab „дал" и т. д.) или тематическое отглагольное имя (οχος,
ρόος, τόνος, δορά, лат. toga „тога", русск. воз и т. д.) имеют
огласовку о. Тематический аорист (πτέσθοα, σχέσθαι, λιπεΤν, ελυΦεΤν,
δρακεΤν, скр. âricat „оставил", âdrçat „увидел" и т. д.) или
отглагольное прилагательное (причастие) на -to- (ρυτός, δρατός,
τατός, скр. srutâh „протекший", tatâh „натянутый", itâh
„пройденный", лат. tentus „натянутый" и т. д.) имеют нулевую огласовку.
Таким образом, для каждого индоевропейского
морфологического образования (как в словоизменении, так и в
словообразовании) в принципе можно установить, какой огласовки корня
оно требует. Значительная часть „Мемуара" посвящена
практическому выполнению этой задачи1.
Выявление указанного системного принципа дает Соссюру
несравненно более прочную базу для восстановления
индоевропейских морфологических единиц, чем при непосредственном сравнении
конкретных словоформ разных языков. Например, рассматривая
вопрос о слоговых плавных, Соссюр пишет: «Мы знаем теперь
точно, где следует ожидать появления плавных сонантов,
присутствуя, если можно так выразиться, при самом их
образовании; действительно, само по себе сравнение инд. г с греч. ар
1 Морфологические образования с нулевой огласовкой рассматриваются
в главе I, с огласовкой о—в главе III, с огласовкой е—в § 10 главы V;
кроме того, в §§ 12 и 13 главы V дается общий обзор корневого вокализма
в словоизменении и словообразовании.
10*
291
имеет лишь ничтожное значение, если не видеть, как это ар
возникло, и если существует вероятность того, что это ар
является обычным ar». Но такая вероятность устраняется, если мы
знаем, что рассматриваемое морфологическое образование в
принципе требует нулевой огласовки корня; таким образом, именно
аргументы системного характера обеспечивают в данном случае
надежность реконструкции. Тем самым Соссюр вводит здесь
важнейший методологический принцип, согласно которому
результаты непосредственного сравнения конкретных фактов
разных языков должны контролироваться с точки зрения их
соответствия требованиям реконструируемой системы в целом.
Несоответствие этим требованиям чаще всего означает, что
рассматриваемые конкретные факты представляют собой продукт
каких-то вторичных изменений.
Предложенная Соссюром теория корня означала, в частности,
отказ от традиционного представления о гласных i и и как
элементах первоначального индоевропейского вокализма. В самом
деле, из приведенных правил видно, что i и и были лишь
слогообразующими вариантами сонантов i и у, подобно тому как,
например, г—это слогообразующий вариант г.
Таким образом, состав собственно гласных в
индоевропейском языке оказался ограниченным только гласными,
соответствующими индоиранским а и а. Соссюр стремится установить
число и характер этих индоевропейских гласных. Прежде всего
он рассматривает краткие e, o, а европейских языков. С
помощью тщательного анализа Соссюр устраняет из рассмотрения
те случаи, где краткий гласный возник в связи с
преобразованием слоговых сонантов или в связи с другими поздними
процессами. В результате выявляются следующие соотношения.
Южное (то есть греческое и италийское) е соответствует
северному (то есть германскому, балтийскому и славянскому) е.
Южные o и a соответствуют единому северному1 a (в
славянском—o).
Южные e и o регулярно чередуются друг с другом,
например εχειν—δχος, лат. tegô „покрываю"—toga „тога" (тогда как
южные е и а не чередуются). С другой стороны, южное а может
чередоваться с а, например лат. status „поставленный"—stâre
„стоять" (тогда как для гласных e, о это невозможно).
В этих условиях гипотеза о произвольном расщеплении
первоначально единой фонемы (вполне естественная с точки зрения
представлений предшествующего Соссюру периода) оказывается
невероятной: при этой гипотезе невозможно объяснить, почему
один из продуктов такого расщепления регулярно выступает
1 Соссюр, в соответствии с представлениями того времени, относит к
северным языкам также кельтские, принимая, вслед за Бругманом, что а2( — о)
дает в кельтском а. Позднее было установлено, что регулярный кельтский
рефлекс и.-е. о есть о»
292
в чередовании с e, а другой — в чередовании с а. Отсюда Соссюр
заключает, что северное а (славянское о) восходит к двум
разным источникам: 1) к бругмановскому a2, то есть о (дающему
южное о); 2) к особой фонеме (дающей южное a), которую
Соссюр обозначает как а.
Далее, сопоставляя полученные таким образом данные об
общеевропейском вокализме с данными индоиранских языков,
Соссюр приходит к выводу о том, что фонема л отличалась от
e и о уже в общеиндоевропейском. В санскрите а отражается
двояко: 1) как a, например: âjâmi „гоню", греч. άγω, лат. agö;
bhâjâmi „распределяю", греч. φάγω „ем"; 2) как i (или ï),
например: sthitâh „поставленный", греч. στατός, лат. status; pitâ
„отец", греч. πατήρ, лат. pater. (Возможные причины этого
двоякого отражения а Соссюр рассматривает несколько позже; см.
об этом ниже.)
Читая эту часть работы Соссюра, следует иметь в виду,
однако, что он здесь непосредственно опирается на гипотезу
Бругмана, согласно которой и.-е. а2 ( = о) давало в
индоиранском в закрытом слоге a, но в открытом — а (например,
8е§орха = скр. dadârça, но γέγονα „родил" = скр. jajâna). Позже
эта гипотеза Бругмана большинством исследователей была
отвергнута: а в санкритских словоформах типа jajâna было
признано продуктом морфологического преобразования, а не
чисто фонетического развития и.-е. о. Если снять аргументы,
основанные на гипотезе Бругмана, то тезис Соссюра об
индоевропейском характере а становится менее очевидным, но все
же не отменяется, поскольку сохраняют силу остальные
аргументы Соссюра: во-первых, а может давать в санскрите особый
рефлекс ι, во-вторых, а играет принципиально иную роль в
чередованиях, чем e и о.
Особый раздел „Мемуара" Соссюр посвящает гипотезе о так
называемом втором греко-италийском о (обозначаемом как о).
У небольшого числа слов, имеющих в греческом и латыни
корневое о, отсутствуют родственные слова с огласовкой e,
например: όζω „пахну", лат. odor „запах"; πόσις „господин", лат. potis
„могущий"; лат. пох „ночь", rota „колесо". Во всех остальных
индоевропейских языках это о имеет те же соответствия, что
и л. В частности, в санскрите выступает а или i, например:
nak, näktam или niçâ „ночь", pâtih „господин", râthah
„колесница" (тогда как и.-е. о, во-первых, не дает рефлекса i, во-
вторых, по гипотезе Бругмана должно было дать а в открытом
слоге в таких словах, как pâtih, râthah). Соссюр предположил,
, что корневой гласный таких слов восходит к особой фонеме о,
отличной от и.-е. о. Фонема о могла чередоваться с б, например:
δοτός „данный" — δώρον „дар", лат. dönum „дар"; ποτός „питьевой" —
πέπωκα „выпил", лат. pôtus „выпитый" (ср. аналогичное
чередование а с а). В вопросе о том, сколь древней следует считать
293
фонему ρ, Соссюр колеблется; учитывая одинаковость отражений
ρ и а в большинстве индоевропейских языков, а также случаи
типа лат. scobis „опилки"—scabö „скоблить", он допускает, что
ρ могло быть каким-то историческим ответвлением а 1.
Итак, Соссюр пришел к выводу о существовании в
общеиндоевропейском одной (А) или двух (а и ρ) фонем,
неизвестных его предшественникам. Их точный фонетический характер
оставался не вполне ясным, но Соссюр и не уделял большого
внимания этой стороне вопроса. Он поставил перед собой
другую задачу: определить роль этих фонем в структуре
индоевропейского корня. Для решения этой задачи Соссюр располагал
эффективным орудием в виде изложенной выше теории корня.
Для основных морфологических образований уже было
установлено, какую огласовку корня в них следует ожидать.
Требовалось лишь выяснить, какой вид принимают корни, содержащие
а и ρ, в каждом из этих образований. Обнаружилось, что а
и ρ выступают преимущественно в формах, для которых
характерна нулевая огласовка корня; ср., например, ρυτός „текучий",
δρατός „содранный", скр. itâh „пройденный" и т. п. (с нулевой
огласовкой) и στατός „поставленный", φατός „сказанный", где
выступает а\ ср. также множественное число бессуффиксального
атематического презенса типа ϊ'μεν „пойдем" (скр. imâh), скр.
smah „мы есть", скр. juhumâh „возливаем" и т. п. и φαμέν
„говорим", ϊσταμεν „стоим", скр. jahïmâh „оставляем" (с корневым а).
В то же время в формах, где ожидается полная огласовка, те
же самые корни выступают с долгим гласным; ср., например,
в единственном числе бессуффиксального атематического
презенса такие словоформы, как είμι „пойду" (скр. émi), ст.-слав,
есмь (скр. âsmi), скр. juhomi „возливаю" и т. п. (все с
древней огласовкой e), и такие, как φημί < φδμί „говорю", ί'στημι <
< ϊστάμι „стою", скр. jâhâmi „оставляю". Соссюр предложил
простейшее, почти самоочевидное объяснение этих соотношений:
а в φαμί, ί'στάμι, jähämi и т. п. есть продукт стяжения е + А.
Другие аналогичные факты (см. примеры ниже) показывали,
что, кроме стяжения ел > а, следует предположить также
стяжения: оа > δ, ео > б, ορ>δ.
Тем самым решался вопрос о роли фонем л и ρ в структуре
индоевропейского корня: они оказались сонантными
коэффициентами. В самом деле, к приведенной выше табличке
чередований (в чистом виде и с разными сонантными коэффициентами)
можно добавить теперь следующие ряды:
1 Позднейшие исследования показали, что значительная часть соссюров-
ских о представляет собой обычное и.-е. о. Существенно, однако, что в таких
случаях, как ôotoç, ποτός, которые наиболее важны для дальнейших
построений Соссюра (а также, с несколько иной историей развития, в случаях типа
όζω, odor), корневой гласный и по современным представлениям косвенно
отражает особую индоевропейскую фонему.
294
φη-μ{ < φα
„говорю"
ϊ-στη-μι < i
„стою"
(Я < ел)
δί-δω-μι
„даю"
(о < ео)
-μ!
ϊ-στα·
■μί
φω-νή
„голос"
στώ-μιξ
„балка, стояк"
(δ < од)
δώ-poV
„дар"
(о < оо)
φα-τός
„сказанный"
στα-τός
„поставленный"
(а<л)
δο-τόζ
„данный"
(о<9)
еА/0А/А
eç/OQ/o
Таким образом, корни типа ЬЬел- (нулевая ступень Ы\а-)
„говорить", ste^- (sU-) „стоять", deo- (do-) „давать" оказались
полностью аналогичными корням типа kej- (ki-) „лежать",
sreu- (sru-) „течь", bher- (bhr-) „нести", ten- (tn-) „тянуть" и т. п.
Точно так же, например, корень le^dh- (Udh-) „быть скрытым"
(греч. дорич. λάθω, аорист ελαθον) или ke>is- (k^s-)
„приказывать" (скр. çâsmi, аорист âçiçam) аналогичен корням de£k- (dik-)
„показывать", derk- (drk-) „смотреть", bhendh- (bhçdh-)
„связывать" и т. п.
Корням саиб явно аналогичны также корни с В типа
dhê- „класть". Они характеризуются в греческом чередованием
η/ε, которое во всем параллельно чередованиям α/α и ω/ο; ср.,
например, ί'σταμι „стою" (дорич. форма)—ί'σταμεν „стоим", δίδωμι
„даю"—δίδομεν „даем", τίθημι „кладу" — τίθεμεν „кладем".
Обнаруживается даже весь трехчленный ряд чередования (с древними
ступенями e, о, нуль), аналогичный выписанным выше:
τί-θη-μΐ
„кладу"
θω-μός
„груда"
ϋε-τός
„положенный".
По аналогии с остальными рядами здесь можно
предположить особый сонантный коэффициент х, который дает
следующий эффект: dhe + χ > θη, dho + χ > θω, dh + χ > θε. Указав
такую возможность, Соссюр тем не менее не решается
утверждать, что этот χ был отличен от а и о *. В этом пункте Соссюр
оказался менее решительным, чем большинство его
последователей (которые исходят из того, что в корнях στα-, δω-, θη-
представлено три различных сонантных коэффициента).
Приведенные выше ряды греческих примеров, несмотря на
их внешнюю наглядность, в одном отношении оказываются все
1 В осторожной форме Соссюр высказывает предположение, что этот χ
тождествен л. Соответственно ему приходится допустить, что ел могло давать
как а, так и ё (их распределение надлежит тогда отнести за счет какого-то
неизвестного фактора); относительно ε в θετός см. ниже. От признания
третьего сонантного коэффициента Соссюра, между прочим, удерживало то, что
этот коэффициент казалось естественным приравнять к е, но е, как известно,
играло совсем другую роль в системе (выступая в качестве основной
огласовки всякого корня).
295
Же непоказательными. Дело в том, что в отличие от словоформ
с исконной огласовкой корня e, где открытые Соссюром
сонантные коэффициенты отчетливо различаются между собой (судя
по их влиянию на тембр гласного), в словоформах с нулевой
огласовкой они различаются только в греческом, а в остальных
индоевропейских языках отражаются в виде единого рефлекса
(в частности, а в латыни, i или ï в санскрите). Ср. следующие
соответствия:
Греч. Лат. Скр.
στα-τός sta-tus sthi-tâh
δο-τός da-tus
πο-τός pî-tâh
θε-τός (ср. fa-c-tus „сделанный") hi-täh
Эти примеры показывают, что ситуация в действительности
несколько сложнее, чем в изложенной выше схеме; например,
лат. datus нельзя вывести непосредственно из dotos (поскольку о,
по Соссюру, должно дать лат. о). Для объяснения этих фактов
Соссюр выдвинул следующую гипотезу. Вокалические формы
рассматриваемых сонантных коэффициентов совпали в некоторых
позициях (в частности, на конце корня) в звуке
неопределенного тембра. Соссюр обозначил этот звук как А\ мы будем,
однако, в соответствии с более поздней традицией, обозначать
его как э. Звук 9 дает лат. а, скр. i или ï (строгих правил
распределения нет) и т. д. В греческом он может отражаться
в виде нескольких кратких гласных (чаще всего—а); их
распределение в общем случае неясно, но в корнях типа στά-(στα-),
δω- (δο-), θη- (θε-) оно определяется тембром долгого гласного,
выступающего при полной огласовке1.
Возникновение э Соссюр относил к очень древнему времени —
еще к общеиндоевропейской эпохе. Это древнее расхождение
между и, о и их общей ослабленной формой А ( = э) является,
в частности, источником отмеченного выше двоякого отражения
а в санскрите, где неослабленное а дает ä (âjâmi, bhâjâmi
и т. п.), а э дает ï (sthitâh, pitâ и т. п.)2.
1 Иначе говоря, Соссюр объяснил разницу гласных в στατός, δοτός, θετός
не фонетическими, а морфологическими причинами: между двумя видами
корня здесь устанавливается чисто количественное чередование. Это
объяснение принимается большинством исследователей и в настоящее время.
2 Сравнительная грамматика последующего времени (например, Мейе)
признала здесь две самостоятельные индоевропейские фонемы: а в ag-, bhag-
и т. п. (соссюровское неослабленное а) и э в statos, patér и т. п.
(соссюровское А), Однако более поздние исследования (в частности, Куриловича) вновь
утвердили историческую связь этих единиц: начальное а в корнях типа ag-
было возведено к сочетанию типа э + е; что же касается неначального а в
крайне немногочисленных корнях типа bhag-, то его общеиндоевропейский
характер был поставлен под сомнение.
296
Соссюр обнаружил далее, что звук э оказывал определенное
влияние на предшествующий ему сонант. Ход рассуждений
Соссюра можно проследить на примере его блестящего анализа
санскритских глаголов VII и IX классов. Условимся
употреблять, в соответствии с современной практикой, знак э также
в тех случаях, когда неизвестно или почему-либо безразлично,
какой именно из открытых Соссюром сонантных коэффициентов
представлен в рассматриваемой словоформе1. Это особенно часто
требуется для санскрита, где ê, δ и а совпали в а. Таким
образом, для санскрита верно, что е + з>а.
У глаголов VII класса в единственном числе презенса перед
последней фонемой корня (взятого с нулевой огласовкой)
вставляется инфикс -па- (<и.-е. -ne-):
yu-nâ-j-mi „соединяю" (и.-е. корень ieyg-)
vr-nâ-j-mi „скручиваю" (и.-е. корень yerg-)
bhi-nâ-d-mi „расщепляю" (и.-е. корень bhejd-)
Глаголы IX класса по традиционному описанию принимают
в единственном числе презенса суффикс -nä- (корень имеет
нулевую огласовку):
pu-nâ-mi „очищаю"
gr-nâ-mi „пою" '
gorbh-nâ-mi „хватаю".
Оба класса оказываются, однако, полностью аналогичными,
если предположить, что в IX классе па<пе + э, например
punâmi < pu-né-9-mi, ср. yunâjmi < μι-né-g-mi.
Выдвинутое предположение подтверждается, когда мы
обнаруживаем, что у глаголов IX класса i или ï выступает в конце
корня также в ряде других форм, где носового инфикса уже
нет, тогда как, в частности, у глаголов VII класса это ï
отсутствует. Ср., например, инфинитивы приведенных выше глаголоЕ
(и.-е. огласовка е):
yok-tum (о < ау < eu) pâvi-tum (av < ay < eu)
vârk-tum gâri-tum
bhét-tum (e < ai < ei) grâbhî-tum
Отсюда можно заключить, что ï (из э) в глаголах IX класса,
с исторической точки зрения, принадлежит корню: подобно
тому, как yunâjmi образовано от корня ieyg-, punâmi < pu-
né-9-mi образовано от корня реуэ-.
Деление индоевропейских корней на два класса в
зависимости от того, оканчиваются ли они на э, соответствует известному
из древнеиндийской грамматической традиции делению всех
санскритских корней на типы set (с „соединительным" ï после
Соссюр использует в этом значении символ А либо просто А.
297
корня) и anit (без „соединительного" Ï). Ср., например, в
добавление к уже приведенным следующие инфинитивы:
Корни типа anit Корни типа set
ksép-tum „бросать" rodi-tum „плакать"
çro-tum „слышать" bhâvi-tum „быть, становиться"
bhâr-tum „нести" târi-tum „переходить"
hân-tum „убивать" jâni-tum „рождать"
gân-tum (nt < mt) „идти" bhrâmi-tum „брести".
Приведем теперь для всех этих глаголов форму с нулевой
огласовкой корня — ta- или па-причастие:
Корни типа anit Корни типа set
yuk-tâh pü-tah
vrk-tâh gür-tah
bhin-näh (nn < dn) gfbhï-tâh
ksip-tâh rudi-tâh
çru-tâh bhû-tâh
bhf-tâh tïr-nâh
ha-tâh (ha < ghn) jâ-tkh
ga-tâh (ga < grp) bhrân-tah (nt < mt).
Отсюда уже легко установить, что, например, иэ переходит
в 0; ср. pütah < риэ-tos. Опираясь на этот переход как на
наиболее чистый случай, Соссюр заключил, что аналогичное
правило действовало и для других сонантов, но образовавшиеся
при этом долгие сонанты впоследствии трансформировались
(f>ïr, ur; n>â; φ > âm). В общей форме правило,
установленное Соссюром и принятое всем последующим сравнительным
языкознанием, гласит: группа «сонант +э», находясь в
положении между гласными, утрачивает свое э; во всех прочих
положениях она преобразуется в долгий сонант.
Показав, что долгие сонанты, например i, ü, могут
происходить из сочетаний с э, Соссюр открыл путь к тому, чтобы
вообще исключить долгие сонанты из первоначального списка
индоевропейских фонем. Соссюр изящно показывает на
конкретных примерах, что включение долгих сонантов в
реконструируемую форму корня приводит к противоречию с фактами. Так,
если принять для глагола „очищать" традиционное
представление корня pü- (или даже «модернизированное»—рей-), то
оказывается невозможно вывести из такого корня презенс punâmi.
В самом деле, даже если считать -nä- суффиксом (в
соответствии с традицией), остается необъяснимой краткость и в pu-!
Между тем при соссюровском анализе pu-né-9-mi (от корня
реиэ-) краткость и в pu- столь же закономерна, как долгота
а в -nä-. Другой подобный случай составляют так называемые
корни на сонант-f- а, например jyä- „подавлять", va- „ткать".
От этих корней образуется, с одной стороны, например, буду-
298
щее время jyâ-syâ-ti, vâ-syâ-ti, с другой — причастия jï-tâh, fl-tâh.
Как объяснить здесь долгие сонанты в причастиях? Если
допустить, что они исконны, и представить корни, например, в виде
gïâ-, üä-, то окажется, что в причастиях корневое а полностью
утрачивается; между тем нормальным для санскрита является
(в положении перед согласным) чередование â/ï (типа sthä-sya-ti
„будет стоять"—sthi-tâh), а не а/нуль. Соссюровская
реконструкция этих корней—giea- и цез—снимает все трудности: в
формах с огласовкой е выступает ä из еэ, в формах с нулевой
огласовкой—ï, ü из ia, иэ.
Установив первоначальный состав индоевропейских гласных
и сонантов, Соссюр получает возможность завершить свою
теорию корня, сформулировав следующие единые для всех корней
правила.
1. Всякий индоевропейский корень содержит группу «e
(чередующееся с о и нулем) + Z», где Ζ — некоторая фонема,
отличная от e и о (то есть согласный или сонант, поскольку e и о —
единственные собственно гласные).
2. Если за е следуют два элемента, то (за исключением
некоторых особых случаев) первый из них—сонант, а второй —
согласныйг.
Теория Соссюра показала, в частности, что корни с конечным
долгим гласным (типа stâ-, dô-, dhê-), столь выделяющиеся среди
остальных в древних индоевропейских языках, первоначально
имели совершенно такую же структуру, как все прочие корни.
Замеченный еще до Соссюра, но никем не объясненный факт,
что если индоевропейский корень оканчивается на гласный
(сонанты i, и не в счет), то этот гласный нормально выступает
как долгий, оказался прямым следствием весьма простого
общего правила (первого из приведенных выше).
Мы проследили в общих чертах главную линию содержания
„Мемуара"—установление первоначальной системы
индоевропейских гласных и сонантов в связи с теорией
индоевропейского корня. Ради краткости мы не рассматриваем здесь
дополнительных линий содержания этой работы (важнейшие из них—
теория изменений индоевропейского вокализма при
словоизменении и словообразовании и теория связи вокализма с
ударением).
„Мемуар" Соссюра отличается от предшествующих и
современных ему, а также от многих последующих работ по
сравнительному языкознанию прежде всего убеждением автора
в том, что главной целью сравнительно-исторического
исследования является не просто накопление фактов, относящихся
к праязыку, но восстановление целостных систем (фонетиче-
1 Строение той части корня, которая предшествует е, Соссюр подробно
не рассматривает.
299
ской, морфологической и т. д.). Идея системности языка
объединяет „Мемуар" с последующим научным творчеством Соссюра,
включая знаменитый „Курс общей лингвистики". В самом деле,
в основе „Мемуара" лежит тезис о том, что строение
индоевропейских морфологических единиц не могло быть особым в
каждом отдельном случае (как это представляется на поверхностный
взгляд), но определялось какими-то едиными и простыми
принципами. Такими принципами являлись, с точки зрения Соссюра,
строго регламентированная структура корня и регулярные
чередования корневого гласного. Как мы уже видели выше,
конкретные открытия Соссюра, в частности открытие новых сонантных
коэффициентов, это, в сущности, лишь естественные логические
выводы, сделанные при последовательном распространении
указанных принципов на все реально наблюдаемые типы
корней.
Замечательно то, что во имя требований системы Соссюр не
колеблясь признал фонемы А, о сонантными коэффициентами,
хотя по его собственному замечанию их параллелизм с
другими сонантными коэффициентами «при рассмотрении его с
физиологической точки зрения в достаточной мере загадочен». В
самом деле, все обычные индоевропейские сонанты способны
выступать то в слоговом, то в неслоговом варианте (i i, г—г
и т. д.); между тем наиболее вероятными фонетическими
интерпретациями для а, о, по-видимому, являются какие-то гласные
(типа a, o), для которых трудно представить себе неслоговой
вариант. Фактически Соссюр продемонстрировал здесь
структурный принцип, согласно которому место фонемы в системе
(в частности, способ ее функционирования в составе
морфологических единиц) составляет более существенную ее
характеристику, чем ее вероятный фонетический облик.
Современники Соссюра не смогли оценить истинной
значимости „Мемуара". Даже прямой ученик Соссюра А. Мейе лишь
в крайне осторожной форме использовал его основную
гипотезу о происхождении долгих гласных из сочетаний кратких
гласных с особыми сонантными коэффициентами. Не получила
развития (до 30-х годов XX века) выдвинутая Соссюром теория
структуры индоевропейского корня. Несомненно, что главная
причина недооценки работы Соссюра заключалась в общем духе
сравнительно-исторического языкознания конца XIX -начала
XX веков, направленного на исследование конкретных фактов
без достаточного внимания к целому. В 1935 г. Бенвенист
писал: «Со времени „Мемуара" Ф. Соссюра проблема строения
самих индоевропейских форм находилась почти в полном
пренебрежении. По-видимому, считалось, что можно исследовать
развитие индоевропейского языка, не вникая в его
предысторию, что можно понять результаты, не обращаясь к
первопричинам. И действительно, обычно ни в чем не выходили за
300
пределы констатации фактов. Большой и заслуживавший
уважения труд, затраченный на описание форм, не сопровождался
ни одной серьезной попыткой их истолкования».
Идеи „Мемуара" начали вновь привлекать внимание лишь
с конца 20-х годов нашего века. В 1927 г. Курилович
установил, что хеттское h может соответствовать соссюровскому а,
например хетт. pah§- „защищать" соответствует корню päs-
в päs-tor, пас-mu и т. д. (по Соссюру peАs-). После этого
начинает быстро развиваться, привлекая все большее число
сторонников, так называемая «ларингальная гипотеза», согласно
которой постулированные Соссюром сонантные коэффициенты
представляли собой ларингальные (или сходные с ними) фонемы.
В частности, в работах Куриловича и Бенвениста они имеют
следующие обозначения: э1(е + э1>ё, например dhe^- > *dhê-);
э2 (соссюровское а\ е + э2 > а, например stea2- > stâ-); э3
(соссюровское о; е + э3>о, например dea3 > dö-). Были выдвинуты
также предположения о существовании еще одной (или даже
нескольких) фонем этого типа. На основании хеттских данных
гипотеза Соссюра была дополнена тезисом (который
соответствовал предложенной много ранее гипотезе Мёллера) о том, что
ларингальные фонемы влияли также на тембр последующего е
(не удлиняя его), то есть ъ1 + е>е, 92 + e>a, э3 + г>о; ср.,
например, хетт, hanti „перед" и лат. ante, греч. αντί. Тем самым
появилась возможность представить, например, корень ag-
„гнать" как a2eg-, корень od- „пахнуть"—как 93ed- и т. д.
Указанные соотношения послужили базой для выдвинутых в
середине 30-х гг. Куриловичем и Бенвенистом отчасти сходных
теорий индоевропейского корня, существенно развивающих
теорию корня, построенную Соссюром. Здесь нет необходимости,
однако, подробнее рассматривать дальнейшее развитие учения
об индоевропейских ларингальных. Достаточно сказать, что
основы этого учения стали уже непременной составной частью
индоевропейской сравнительной грамматики, а также
развивающейся отрасли исследований, посвященной внешним
генетическим связям индоевропейских языков.
„Мемуар о первоначальной системе гласных в
индоевропейских языках" Соссюра сохраняет, таким образом, свое значение
исходного пункта важного направления современных
сравнительно-исторических исследований и вместе с тем выдающегося
образца научного мышления вообще.
А. А. Зализняк.
фердинанд де соссюр
МЕМУАР О ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ГЛАСНЫХ В
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
ОГЛАВЛЕНИЕ
Обзор различных взглядов на систему а. Перевод А. А. Холодовича . . . 303
Глава I. Плавные и носовые сонанты. Перевод А. Б. Черняка .... 308
§ 1. Плавные сонанты 308
§ 2. Носовые сонанты 319
§ 3. Дополнения к §§ 1 и 2 342
Глава II. Фонема а в европейских языках. Перевод А. Б. Черняка 347
§ 4. Гласный а в индоевропейских языках Севера Европы имеет
двоякое происхождение 347
§ 5. Эквивалентность греческого α и италийского а 348
§ 6. Фонема А в индоевропейских языках Севера Европы . . . 357
Глава III. Два греко-италийских о. Перевод А. Б. Черняка 365
§ 7. Греко-италийское о2—индоевропейское а2 365
§ 8. Второе греко-италийское о 388
Глава IV. Перевод А. С. Бобовича 406
§ 9. Признаки наличия в индоевропейском праязыке нескольких а 406
Глава V. Грамматическая роль различных видов а. Перевод
А. С. Бобовича 413
§ 10. Корень в нормальном состоянии 413
§11. Грамматическая роль фонем А и о. Полная система первичных
гласных 423
§ 12. Общий обзор изменений вокализма, вызванных
словоизменением 468
§ 13. Общий обзор изменений вокализма, вызванных
словообразованием 507
Глава VI. Различные явления, относящиеся к сонантам i, и, r, m, n.
Перевод Л. С. Бобовича 518
§ 14. Долгие плавные и носовые сонанты 518
§ 15. Особые случаи 551
Дополнения и исправления. Перевод А. Б. Черняка 558
ОБЗОР РАЗЛИЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА СИСТЕМУ а*
Исследование многообразных форм, в которых проявляет
себя то, что называют индоевропейским a,— таков
непосредственный предмет нашего скромного труда. Остальные гласные будут
приняты во внимание лишь постольку, поскольку явления,
имеющие отношение к a, предоставят для этого повод. Но если
по окончании исследования с очерченными таким образом
границами мы обнаружим, что картина индоевропейского вокализма
постепенно изменилась буквально на наших глазах и,
сконцентрировавшись вокруг a, оказалась связана с ним совершенно
иными отношениями, то станет очевидным, что в
действительности в поле нашего зрения оказывается система гласных в
целом и что она-то и должна быть обозначена на заглавной
странице нашего труда.
Ни один вопрос не является более спорным, нежели этот;
мнения дробятся здесь до бесконечности, и редко кто проводит
свои идеи последовательно и до конца. К этому надо добавить
и то, что вопрос об a связан с рядом проблем фонетики и
морфологии, одни из которых всё ещё ждут своего решения,
а другие даже не поставлены. Таким образом, в течение нашего
длительного странствия нам нередко придется пересекать самые
невозделанные области индоевропейского языкознания. Если
тем не менее мы отваживаемся на это, хорошо понимая, что
наша неопытность не раз заведет нас в этом лабиринте в тупик,
то это объясняется тем, что для каждого, кто занимается
изучением этих вопросов, покушение на них не дерзость или
безрассудство, как это часто говорят, а необходимость: ведь это
* При переводе «Мемуара» переводчиками сохранена принятая Соссюром
транслитерация букв деванагари, старославянского и других письменностей.
Кроме того, по техническим причинам греческая «дигамма» передается лат.
F.— Прим. ред.
303
азы, которые надо усвоить, ибо здесь речь идет не о
спекуляциях умозрительного характера, а о поиске элементарных
данных, без которых всё остается зыбким, произвольным и
ненадежным.
Я должен отказаться от целого ряда положений, которые
я выдвинул в своей работе „Essai d'une distinction des
différents a indoeuropéens", опубликованной в „Mémoires de la
Société de Linguistique de Paris". В частности, сходство Ar с
фонемами, восходящими к г, заставило меня тогда, хотя и с
большой неохотой, отбросить теорию носовых и плавных сонантов,
к которой я вновь возвращаюсь по зрелом размышлении.
Бопп и те, кто занимались сравнительным языкознанием
непосредственно вслед за выдающимся автором „Сравнительной
грамматики", ограничивались констатацией того факта, что трем
гласным a, e, о в европейских языках регулярно
соответствовало одно а в арийском. Гласные e и о считались с тех пор
результатом свойственного языкам Запада и относительно
позднего ослабления единого индоевропейского a.
Курциус обогатил науку важным фактом1: он показал, что е
обнаруживается в одной и той же позиции во всех европейских
языках и что таким образом оно не могло развиться в каждом
из них независимо. Отправляясь от принятого взгляда, что
праязык имел только три гласных — а, i, и,—он сделал из этого
заключение, что все европейские народы должны были пройти
период развития, когда, говоря еще на одном языке, они были
уже отделены от своих собратьев в Азии, что в течение этого
периода часть а по неизвестной причине подверглась
ослаблению, дав e, тогда как другая часть a сохранила свое качество.
Позднее в разных языках независимо друг от друга произошло
второе расщепление a, в результате чего появилось о. На юге
Европы, однако, эта гласная должна была возникнуть еще
в период греко-италийского единства, если иметь в виду
согласные показания двух классических языков относительно о
в склонении основ мужского рода на -а (ίππος = equos).
Нижеследующая таблица дает, как мы полагаем, точное
представление о системе Курциуса2:
Индоевропейский язык: а а
Общеевропейский язык: а; е а
Последующий период: а о; ей.
Фик (в „Spracheinheit der Indogermanen Europas", стр. 176
и сл.) в общих чертах повторил эту систему. Согласно Фику,
общеиндоевропейское а в период общеевропейского единства
1 См. „Sitzungsberichte der Kgl. Sachs. Ges. der Wissensch.", 1864.
2 Надо, однако, заметить, что Курциус допускал исконное различие е и о и
возводил греч. о в γ/γονα к общеиндоевропейскому ä („Grundzuge", стр. 54).
304
расщепилось на a и e. Если какое-либо слово во всех
(европейских) языках согласно показывает e, то это, видимо,
означает, что переход a в e произошел в период европейского
языкового единства; если же, наоборот, какое-либо слово
показывает или a или о, пусть даже только в одном-единственном
языке, то следует допустить, что a существовало еще в эпоху
праязыковой общности. Греческий аблаут в δέρνομαι, δέδορκα, и
особенно германский аблаут в ita, at являет собой прекрасный
пример реализации расщепления a.
Иной была система Шлейхера. Принимая в каждом
вокалическом ряде две ступени усиления, производимого
присоединением одного или двух a, он установил для ряда a три
составляющих его члена: a, aa, äa. Он находил эти три ступени
усиления в греческом: a представлено здесь обычно в виде
s (εδω), но также—в виде о (ποδός) и α (άκων); первая ступень
усиления—а + а—представлена здесь в виде о в случае, если
исходным является ε, например γέ-γον-α, праяз. ga-gän-а, скр.
èa-gân-a при έ-γεν-όμην. Эта же ступень усиления выражается
в виде δ, η, когда исходным является a; например: έ'λακον,
λέλάκα. Вторым усилением является ω: έ'ρρωγα. Готский тоже имел
три ступени усиления. В других языках обе ступени усиления
смешались.
Генеалогическое древо языков, как его сконструировал Шлей-
хер, отличалось от того, как его представляли себе
большинство ученых: в нем не было места общеевропейскому периоду
индоевропейских языков; поэтому понятно, что е в языках
Европы не имеет, согласно Шлейхеру, общего происхождения.
В частности, готское i занимает в его „Компендиуме" совсем
другое место по сравнению с греч. ε: это последнее
рассматривается Шлейхером как регулярный рефлекс индоевропейского a,
готское же i—как необычное в этих случаях ослабление.
Оставляя таким образом в стороне вопрос об общем развитии
европейского вокализма в исторический период, мы можем
представить читателю систему Шлейхера в следующем виде:
Индоевропейский праязык: а аа аа
Индоевропейские языки Европы: а е о аоа а
Надо заметить, кроме того, что греч. α и лат. a не
рассматриваются Шлейхером как ступени усиления.
Германист Амелунг, рано окончивший свой жизненный и
научный путь, в своей работе „Die Bildung der Tempusstämme
durch Vocalsteigerung" (Berlin, 1871) попытался внести в систему
Шлейхера большую последовательность, соединив ее с
допущением общеевропейского е. Это е для него является единственным
нормальным рефлексом неусиленного а. Европейское a, под
которым он понимал, как это делал уже Курдиус, также о,
305
восходит к первому усилению, которое он обозначает через а,
а второму усилению (а) соответствует долгое à европейских
языков. Такие презенсы, как гот. fara, греч, ά'γω, όζω, указывают
таким образом на усиленный гласный, и следует допустить, что
они являются деноминативами. Одним словом, дуализм е и а
является изначальным, и отношение, в котором они находятся
между собой, равнозначно отношению простого гласного к
гласному усиленному. Таким образом, мы имеем следующее:
Индоевропейский: а
Арийский: а
Европейский: е
Готский: i
Греческий: ε
а
a â
а
а
α о
а
а
а
5
α ω
Полемика, которую Амелунг вел по этому поводу с Л.
Мейером в „Kuhn's Zeitschrift" (XXI и XXII), не внесла
существенных изменений в его систему, вторично и более подробно
изложенную им в „Zeitschrift für deutsches Altertum", XVIII, стр.
161 и сл.
Бругман („Studien", IX, стр. 367 и сл.; KZ, XXIV, стр. 2)
возводит гласный е как звук, отличный от других звуков, к
праязыковому периоду, не настаивая, однако, на том, что он с самого
начала произносился как е\ прототип этого е он обозначает
символом аг. Наряду с этим гласным Бругман находит в греч.,
слав., лат. о = лит., гот. a = cKp. а (во всяком случае, в
открытых слогах) более сильную фонему, которую он обозначает
через a2 и возникновение которой он объясняет воздействием
ударения.
Исходя из этой теории, можно составить в самом общем виде
следующую таблицу, с которой, несомненно, сам Бругман не
согласился бы, поскольку он косвенно указал (см. „Studien",
IX, стр. 381) на возможность существования большего числа
праязыковых a:
(а)
Индоевропейский: а
»ι а2
Европейский: е а а
В итоге мы видим, что в отношении языков Запада
различные авторы, независимо от развиваемой ими точки зрения,
оперируют тремя величинами: e, a и а европейских языков. Наша
задача будет заключаться в том, чтобы показать, что в
действительности мы имеем дело не с тремя, а с четырьмя
различными величинами, что в языках севера смешались две в корне
различных фонемы, которые продолжают различаться на юге
Европы: a—простой гласный, противопоставленный e, и о—уси-
306
ленный гласный, который в конечном счете является не чем
иным, как е в его наиболее крайнем выражении. Полемика
между сторонниками расщепления (первоначальное a, частично
ослабленное в е) и сторонниками двух первоначальных a (ах и a2,
давших впоследствии е и a), эта полемика, надо сказать,
ведется впустую, потому что под символом a европейских
языков понимают некий агломерат, не имеющий вообще
органического единства.
Эти четыре типа a, которые мы попытаемся проследить на
основе европейского вокализма, обнаружатся в еще более
глубокой древности, и в конечном итоге мы придем к заключению,
что они были уже в праязыке, из которого произошли как
языки Запада, так и языки Востока.
Глава 1
ПЛАВНЫЕ И НОСОВЫЕ СОНАНТЫ
Приступая к исследованию a, необходимо прежде всего
уточнить границы этой проблемы; здесь мы сразу же сталкиваемся
с вопросом о плавных и носовых сонантах, ибо тот, кто
допускает наличие этих фонем в праязыке, должен будет
рассматривать большой ряд гласных в исторические периоды развития
этого языка как поздние образования, не имеющие таким
образом прямого отношения к проблеме a.
Гипотеза о носовых сонантах была предложена и развита
Бругманом (см. „Studien", IX, стр. 287 и сл.). В той же работе
(стр. 325) он затронул попутно и вопрос о плавных сонантах —
понятии, существованием которого мы обязаны, видимо, Остгофу.
§ 1. Плавные сонанты
В индоевропейском праязыке плавный или плавные, если
принять, что их было два, существовали в двух состояниях: не
только как согласные, но и как сонанты. Это значит, что они
могли нести на себе слоговое ударение и были способны
образовывать слог. Как известно, в исторические времена такая
картина наблюдалась в санскрите. Все заставляет думать, что
плавные сонанты возникли лишь в результате ослабления,
благодаря которому a, предшествующее плавному, оказывалось
вытесненным; это не мешает, как мы увидим ниже, трактовать их
точно так же, как i и и.
Прежде всего, несомненно, ч.э древнеиндийскому г1 в зенд-
1 Диакритический знак, принятый нами для обозначения плавных и
носовых сонантов (ζ, g, m), употребляется Сиверсом в другом значении (см.
308
ском соответствует почти регулярно особая фонема, явно очень
близкая гласной г, а именно ёгё; таким образом, в
существовании индоиранского г теперь вряд ли кто усомнится. Правда,
древнеперсидский не представляет нам подобных данных, за
исключением akunavam = CKp. âkrnavam. Наряду с скр. krtâ,
зенд. kërëta он имеет karta, которое никоим образом нельзя
объяснить неточностями письма, ибо греческая транскрипция
дает нам οφ, например в αρξιφος==ΰκρ. ГёФУа, зенд. ërëzifya
„сокол"1. Имена, содержащие Άρτα-, являются менее
доказательными, поскольку зенд. asha само восходит к *arta,
вопреки скр. rtâ.
Учитывая согласие санскрита и зендского, мы вынуждены
сделать вывод, что персидский смешал фонемы разного
происхождения, и в этом мы видим один из наиболее ярких примеров
общей тенденции арийских языков к монотонии в области
вокализма; иранский в этом отношении явно превосходит санскрит,
но в недрах самого иранского древнеперсидский пошел гораздо
дальше зендского [1].
Арийскому г во всех европейских языках соответствует
согласный г (или согласный 1), которому сопутствует отчетливо
артикулируемый гласный. Но характер этого гласного в
некоторых из языков таков, что фонетическую группу с этим гласным
нельзя просто возводить к сочетанию a + r—напротив, все
говорит за то, что он является анаптиктическим звуком,
появившимся позже.
Таким образом, индоевропейскому и арийскому г
соответствует:
в греческом: αρ, αλ; ра, λα
в латинском: or, ul (ol)
в готском: аш*, ul.
Славянский и литовский не сохранили положительных сви-
Sievers, Grundzuge der Lautphysiologie, стр. 89). Поэтому мы стремились
обойтись без него, но безуспешно: мы полагаем, 1) что обычное обозначение г
оказывается невозможным, потому что это вызывало бы смешение носового
сонанта η с носовым церебральным η в санскрите; 2) что, с другой стороны,
обозначение г, предлагаемое Сиверсом и Бругманом, невозможно было
использовать при транскрипции санскритских слов; 3) и что, наконец, следует
признать, что если мы и вводим какое-то новшество, то оно является, насколько
это только возможно, минимальным, поскольку знак ζ уже был однажды
использован Асколи как раз для обозначения гласного г.
1 В персидском это слово должно звучать arzifiya. Между прочим, оно
с учетом регулярной замены соответствующих звуков имеется также в
греческом, например в македонском диалекте: άργίπους (Гее); Фик напрасно искал
другую этимологию этого слова (ΚΖ, XXII, стр. 200). Наряду с άργίπους
Etymol. Mag. сохранил другую форму—αίγίποψ· άετδς ύπο Μακεδόνων;
άργίπους и αιγίποψ— явно разновидности одного и того же слова; это приводит
нас к греч. αιγυπιός. Исчезновение ρ имеет аналогию в двух других словах
с гласным ζ: μαπέειν из μάρπτω и αίγλη =скр. £érâ.
309
детельств о г. Можно только сказать, что литовский часто
заменял его сочетаниями ir, il.
Переходим теперь к перечислению отдельных случаев.
1. КОРНЕВОЙ СЛОГ
Принятый здесь порядок рассмотрения тех случаев, где
появляется г, основывается на новой классификации корней,
которая сможет получить свое обоснование только впоследствии,
однако это ни в коей мере не повлияет на понимание
изложенного.
Мы будем заниматься лишь корнями, содержащими е. Любой
корень, который в европейских языках содержит e, способен
вытеснить это е и принять, таким образом, более слабую форму,
конечно, при условии, что возникающие в результате такого
вытеснения сочетания звуков удобопроизносимы.
К корням, содержащим e, следует отнести также корни с
дифтонгами ei, eu, которые обычно дают в их ослабленной форме,
лишенной е: kei, sreu, deik, bheugh (ki, sru, dik, bhugh).
i и u в этих корнях, так же как плавный и носовой таких
корней, как derk и bhendh, можно назвать сонантными
коэффициентами. Они поддерживают вокализм корня. В
зависимости от того, сохраняется или исчезает e, функция сонантных
коэффициентов меняется: г, 1, m, η из консонантов становятся
сонантами; i и и переходят из симфтонгического состояния
в состояние аутофтонгическое.
A. Корни, завершающиеся сонантным коэффициентом*:
kei (ki), sreu (sru), bher (bhr), men (mn).
B. Корни, содержащие сонантный коэффициент с
последующими согласными:
deik(dik), bheugh(bhugh), derk(drk), bhendh(bhndh).
C. Корни без сонантного коэффициента с конечным
согласным:
pet(pt), sek(sk), sed(zd).
Мы не рассматриваем здесь корни с конечным е, такие, как
греч. θε, ôs, έ.
В слабой форме, в зависимости от того, что находится в
начале присоединяемого суффикса—согласный или гласный,—
корни типа А уподобляются корням типа В или корням типа С.
В самом деле, в типе В, как только исчезает e, сонантный
коэффициент по необходимости принимает функцию гласного,
* В скобках здесь и ниже приведены слабые формы.— Прим. перев.
310
поскольку он оказывается между двумя согласными. Это как
раз то, что происходит с корнями типа А, когда они принимают
суффикс, начинающийся согласным: mn-to.
Но если суффикс начинается гласным, сонантный
коэффициент корней будет иметь качество согласного, и те же самые корни
будут во всех отношениях походить на корни типа С; так,
ε-πλ-ό-μην подобно ε-σχ-ο-ν.
Для той специальной цели, которую мы поставили себе в
данной главе, из всего того, что было сказано выше, мы извлекаем
следующие выгоды: мы знаем теперь, где следует ожидать
появления плавных сонантов, присутствуя, если можно так
выразиться, при самом их образовании; действительно, само по себе
сравнение инд. г с греч. ар имеет лишь малое значение, если
не видеть, как это ар возникло, и если существует вероятность
того, что это ар является обычным ar. Всюду, где е нормально
выпадает, в частности всюду, где появляются i или и аутофтон-
гического характера, должны закономерно существовать или
же существовали плавные сонанты, если определенное
положение согласных [в слове] вынуждало их функционировать в
качестве гласных.
а. глагольные образования
Тематический аорист. Часто говорят, что это время по форме
полностью совпадает с имперфектом шестого глагольного класса
древнеиндийских грамматистов. Остается выяснить, восходит ли
этот шестой класс к индоевропейскому периоду, что бесспорно
в отношении нашего аориста, но отнюдь не столь же достоверно
по отношению к презенсу.
Как бы то ни было, этот аорист требует вытеснения е или а
в арийских языках. Вследствие этого корни типов А и С (см.
выше) дают в греческом вполне регулярно:
πελ: έ-πλ-ό-μην πετ: έ-πτ-ό-μην
(έ)γερ: (ε)γρ-ε-το σεχ: ε-σχ-ο-ν
1. σεπ: ε-σπ-ο-ν
2. σεπ: ένί-σπ-ε1
Императивы σχές и ένίσπες побудили Курциуса принять в этих
двух аористах метатезу в корне2. Остгоф в своей работе „Das
1 Наличие s в трех последних примерах свидетельствует о древности этого
образования. Что касается ένίσπε, то нельзя полностью отвергать мысль, что
здесь мы имеем дело с имперфектом глагола, презенсом которого был бы
*ϊ-σπ-ω. Ср. ι-σχ-ω, πί-πτ-ω и нашу сноску на стр. 312. Таким образом, делить
надо бы так: έν-ί-σπ-ε.
2 В других аористах мы имеем, как полагают, синкопу; см. Curtius,
Verbum, II, стр. 7.
311
Verbum in der Nominalcomposition" (стр. 340) заявил, что он не
может согласиться с этим мнением Курциуса относительно таких
презенсов, как γίγνομαι, μίμνω, исходя из убеждения в том, что
деградация корня в данном случае является абсолютно
нормальной. Как же тогда согласовать метатезу с вокализмом основ σχε,
σχο; σπε, σπο? Эти императивы возникают по аналогии с θές, ες.
Удивительно, что в санскрите этот аорист образуется лишь
от корней типа В: формы типа έ'-πτ-ε-το ему неизвестны;
единственным следом такого аориста в нем, пожалуй, можно считать
3-е л. мн. ч. krânta, которое наряду с âkrata (3-е л. мн. ч.)
является, по-видимому, тематической формой; с этим следовало
бы сравнить в дальнейшем то, что имеет отношение к носовым
в окончаниях [3]г.
Зато примеры с корнями типа В многочисленны: rohatijâru-
hat; vârdhati|âvrdhat и т. д. В греческом φευγ образует Ιφαγον,
στειχ—εστιχον, а также:
δέρχομαι образует ε-δραχ-ο-ν (скр. âdrçam)
πέρθω „ ε-πραθ-ο-ν
πέρδω „ ε-παρδ-ο-ν
τέρπω „ ταρπ-ώ-μεθα
έ'τραπον от τρέπω происходит из έ'τητον, но здесь в сонант
преобразуется плавный, предшествующий е.
Тематический аорист с удвоением. Мы не уверены, что
каузативные аористы санскрита непосредственно сопоставимы с
греческими аористами с удвоением. Но в древнеиндийском есть
другие аористы, менее многочисленные, которые точно совпадают с
греческими формами; здесь а (е) неизменно устраняется.
Корни типов А и С:
скр. sac: â-sa-çc-a-t2 греч. σεπ: έ-σπ-έ-σθαι
pat: â-pa-pt-a-t χεί: έ-χέ-χλ-ε-το
φεν: ε-πε-φν-ο-ν
τεμ: ε-τε-τμ-ο-ν
1 Дельбрюк („Altind. Verb.", стр. 63) утверждает, что sran в avasran
(„Ригведа", IV, 2, 19) содержит тематический гласный. Но положительные
доказательства этого отсутствуют, и Грассман интерпретирует эту форму совершенно
иначе (a-vas-ran). Совершенно другое образование представляет собой â-gama-t,
выступающее в греческом в виде дорийского Ι-πετο-ν и в виде аттического ε -τεμο-ν.
Этот аорист совпадает по форме с имперфектом глаголов первого класса. Это
славянский несигматический аорист nesü.
2 Могут возразить, что âsaçdat—форма имперфекта (презенс sâçcati); это
бесспорно, однако строгой границы между этими двумя временами не
существует. Аористы с удвоением являются имперфектами того глагольного класса,
который санскритская грамматика упустила из виду и в который наряду с
saçéati, видимо, входят скр. sfdati, прич. pibdamâna, греч. πίπτω, γίγνομαι,
μίμνω, μέμβλεται и др. [2].
312
Корни типа В с i или и в качестве сонантного коэффициента:
скр. tve§: â-ti-tviS-a-nta греч. πειθ: πε-πιθ-έ-σθαί
πευθ: πε-πυθ-έ-σθαι
И наконец, корни типа В с плавным в качестве сонантного
коэффициента:
скр. darh: â-da-drh-a-nta греч. τερπ:τε-τάρπ-ε-το
Часть этих санскритских форм Дельбрюк относит к
плюсквамперфекту; но если можно согласиться безусловно с его
подходом к формам без тематического гласного типа agabhartana,
то указанные выше формы мы все же склонны считать аористами.
Перфект. Индоевропейский перфект дает ослабление корня
в формах множественного и двойственного числа актива и во
всех формах медиума. См., в частности, Бругман, „Stud." IX,
стр. 314. Этот способ образования полностью сохранился в
арийских языках.
Корни типа А и С:
скр. sar: sar-sr-us pat: pa-pt-us
Перед суффиксами, начинающимися с согласного, некоторые
корни на г не принимают связующего i, и в этом случае мы
имеем г, например в ca-kr-mâ. То же связующее i у корней
типа С дает такие формы, как pa-pt-imä1.
Переходя к корням типа В, мы можем сразу же сопоставить
с санскритом готский:
bhaugh: скр. bu-bhug-imâ гот. bug-um
и с г:
vart: скр. va-vrt-imâ гот. vaur^-um
Ср. гот. baug=bubhoèa, var'p=vavârta.
В греческом форма единственного числа постепенно
распространилась и на множественное число; в нескольких пережитках
первоначального состояния множественного числа актива (см.
1 Бругман (см. „Studien", IX, стр. 386) сомневается, относить ли такие
формы, как paptima, к древнейшим периодам, и склоняется к мысли, что они
скорее обязаны своим существованием аналогии с éa-kr- и т. п. По существу
же вопрос сводится к другому, а именно к тому, существовал ли связующий
гласный уже в праязыке; в этом случае pat обязательно дал бы во
множественном числе перфекта pa-pt-. Наличие гласного и в германских формах (bun-
dwm, bundwts), пожалуй, свидетельствует в пользу этой гипотезы, а греч. α
в греч. γεγήθαμεν не противоречит ей, хотя более вероятным представляется
ее объяснение контаминацией ед. ч. γέγηφα и 3-го л. мн. ч. γεγήθασι; ср.,
наконец, лат. -imus в tulimus. При решении этого вопроса необходимо
учитывать также такие перфекты, как др.-инд. sedimâ, гот. sëtum и лат. sêdimus,
которые, как считается, содержат удвоенный и лишенный гласного корень. Так,
sedimâ = *sa-zd-imâ. Разумеется, что к каждой из этих форм неприменим один
и тот же фонетический анализ: образование возникло не по принципу аналогии.
313
Curt i us, Verb., II, стр. 169) мы находим еще επέταθμεν при
πέποιθα, Ιϊχτον при έ'οικα; случаю, однако, было угодно, чтобы ни
одного примера с г не сохранилось1. Но медиум все же
сохранился лучше:
Корни типа А:
σπερ: ε-σπαρ-ται περ: πε-παρ-μένος
δερ: δε-δαρ-μένος στελ:ε-σταλ-μαι
φθερ: ε-φθαρ-μαι; ср. ε-φθορ-α
μερ: εί'-μαρ-ται и ε-μβρα-ται (Гее); ср. ε-μμορ-α
Излишне говорить, что έ'-φθαρ-μαι относится к φθερ так же,
как ε-σσυ-μαι — к σευ.
Италийские языки слишком унифицировали глагольную
флексию, чтобы можно было найти в них чередование слабых форм
с сильными. Однако весьма вероятно, что такие дублеты, как
verto — vorto, происходят из этого источника. Не следует
придавать большого значения образованиям типа pepuli от pello,
perculi от percello—здесь вполне может иметь место то же
ослабление гласного корня, что и в detineo, colligo, с той лишь
разницей, что влияние 1 сказалось на тембре: и вместо i.
Умбрский имеет наряду с императивом k u vert и футурум
предварительный vurtus (произносилось, несомненно, как
vertus), образованный из слабой основы перфекта. В памятниках
латинской письменности встречается covertu и covortus. Если
бы мы могли быть уверены в том, что форма covortuso была
перфектом (см. Bréal, Tables Eugubines, стр. 361), ей не было
бы цены. Но не следует упускать из виду, что на италийской
почве vort- представляет как va2rt-, так и vrt-, так что все
эти формы могли иметь в качестве исходной единственное число
перфекта, а не множественное число перфекта; но это не делает
их менее значительными. Другие примеры: persnimu, pepur-
kurent.
Презенс. Во втором и третьем глагольных классах в пре-
зенсе и имперфекте корень сохраняет свой нормальный вид лишь
в трех лицах единственного числа актива; двойственное и
множественное число актива, а также все формы медиума
устраняют а: так, в санскрите (ограничимся лишь корнями типа А)
имеем:
е —i-mâs; kar—kr-thâs (вед.)
ho—èu-hu-mâs par—pi-pr-mâs.
В греческом πίμ-πλα-μεν точно соответствует pi-pr-mâs;
действительно, эта форма не имеет отношения к корню πλά, который
является, по-видимому, метатезой πελ, иначе дорийцы говорили
1 τβ-τλα-μεν восходит к корню τλά, точно так же, как ίσταμεν—к στα;
группа λα не является рефлексом плавного сонанта.
314
бы πίμπλάμι. Общегреческое η указывает, наоборот, на то, что
πίμπλημι —- позднее преобразование *πιμπελμι=^κρ. piparmi1.
Корень φερ принимает форму m-φρα- (в πιφράναι), которая
соответствует скр. bi-bhr- (bibhrmâs). Многочисленные следы ε,
например в φρές (Curtius, „Studien", VIII, стр. 328 и сл.), могут
служить надежным доказательством того, что корнем было φερ,
а не φρα.
В других образованиях презенса языки Европы сохранили
лишь весьма недостоверные следы г и потому не представляют для нас
большого интереса. Упомянем только лат. po(r)sco,
эквивалентное скр. prcchâmi. Если корень здесь prak, то г возникло так
же, как в έ'τραπον из τρέπω. Для сравнения этих двух презенсов
нужно исходить из того, что posco восходит непосредственно к
индоевропейской форме и потому свободно от воздействия со
стороны других глагольных форм; в таком предположении всегда
есть доля риска, так как италийские диалекты имеют
обыкновение выравнивать вокализм корня и распространять одну и ту
же форму на всю парадигму. Но в случае с posco, несомненно,
была обобщена именно форма презенса. С теми же оговорками
можно сближать horreo и torreo (последний глагол только в
непереходном значении) и санскритские презенсы hràyati и träyati2;
эти два корня имеют е в греческих неослабленных формах χέρσος,
τέρσομαι.
Б. ИМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В арийских языках причастие прошедшего времени пассива
на -tä регулярно отбрасывает корневое a, если только это
возможно, то есть если корень принадлежит типу А или В (см.
стр. 310). Так, в санскрите уо дает yu-tâ, в зендском dar дает
dërë-ta и т. д. Последней форме в точности соответствует греч.
δαρ-τό или δρα-τό от δέρω; аналогично σπαρτός от σπερ, «αρτός от
*ερ, (πάμ-)φθαρτος от φΦερ.
В φερτός, α-δερχτος и других сходных прилагательных следует
видеть поздние образования. Ограничимся одним примером из
сотни других: так, наряду с древним πΰσ-τΐ-ς=№ρ. buddhi
появляется πεδσις, образованное по аналогии с πευθομαι.
Корнем σπάρτον „канат" является σπερ, как видно из σπείρα.
В ^λαστός=ΰκρ. vrddhä также вполне закономерно выступает
λα; но так как это причастие утратило свой презенс, то здесь
1 Существуют, правда, такие формы, как πλαθος (см. J. Schmidt,
Vocal., И, стр. 321), но те из них, которые мы находим у аттических трагиков,
Арене считает доризмами дурного пошиба, а те, которые мы находим в
надписях, могли возникнуть, как и хорошо известные элейские формы, в результате
вторичного перехода ä в а. Впрочем, можно даже допустить, что πλά
существовало параллельно с πελ. См. Schrader, „Studien", X, стр. 324.
2 См. „Mémoires de la Soc. de Linguistique", III, стр. 283.
315
мы лишены основного средства проверки, а именно ε в
родственных формах.
Латинский имеет pulsus от pello, vulsus от vello, perculsus
от per-cello, sepultus от sepelio.
Фик отождествляет curtus, которое, видимо, восходит к
*cortus, с греч. καρτός.
Лат. pro-cul живо напоминает др.-инд. vi-pra-krä-ta
„удаленный, отдаленный", pra-krä-ta „длинный, большой (о
расстоянии)"; в этом случае его следовало бы возводить к какому-то
падежу от основы *proculsto-х. При этом recello и procello
близки по значению скр. karS, но поскольку verro приближается
к нему в еще большей степени, то все это вместе оказывается
довольно сомнительным.
Древнее слово forctus уже сравнивали с скр. drdhä от darh
(см. Corssen, Ausspr., I2, стр. 101).
Этимологию porta a portando принять трудно; по-видимому,
porta — причастие от корня per (откуда греч. πείρω, διαμπερές),
эквивалентное греческой форме *παρτή.
Готский имеет причастия £aurft(a)-s, daurst(a)-s, faurht(a)-s,
handu-vaurht(a)-s, skuld(a)-s.
Присоединение суффикса -ti точно так же делает неизбежным
устранение корневого а (е). Приведем только те случаи, где при
этом возникает г:
Особенно много примеров дают индоевропейские языки в
Азии: скр. bhr-ti, зенд. bërë-ti от корня bhar и т. д.
В греческом имеем κάρ-σις от χερ. Гесихий приводит άγαρρίς-
ά'θροισις (ударение, по-видимому, искаженное), которое должно
восходить к *ά'γαρσι-ς — от άγείρω.—στάλ-σκ—от στελ — является
поздним образованием.
Готский образует: от bairan—ga-baurÇ(i)-s, от tairan —ga-
taurf>(i)-s; аналогично образованы £aurft(i)-s, fra-vaurht(i)-s.
Лат. fors (основа for-ti-) от fero совпадает с скр. bhrti; mors
эквивалентно скр. mrti; впрочем, презенс morior и греч. βροχός
показывают, что о проходит через весь корень, так что здесь
нужна известная осторожность.
Слово sors вместо *sorti-s, по-видимому, имеет тот же корень
ser, который дал начало exsero, desero, praesertim 2. Возможно,
первоначально оно было просто синонимом exsertum.
1 Или, может быть, к сравнительной степени среднего рода *proculstis,
*proculsts?
2 Совершенно другой корень в con-sero, as-sero со значением „сцеплять",
„прикреплять". То sero, о котором идет речь, у нас содержится в скр. sârati,
sisarti; с предлогом рга он имеет переходное значение и дает вед. prâ bähavä"
sisarti („Ригведа", II, 38, 2) „он простирает руку"—точное соответствие греч.
χείρας ίάλλειν (= σι-σαλ-#ειν, σι-σλ-yeiv) [4]. Глагол insero может быть образован
от любого из этих двух корней.
316
Если наречия на -tim образуются, как думают, от именных
основ на -ti, то следует привести здесь умбр.
trah-vorfi=transversim; ср. covert и.
Суффикс -ύ по правилу требует ослабления корня. За
пределами арийских языков возникшее таким образом г точно
отражается в готском прилагательном
Çaursus (корень f)ers)=cKp. trau.
В меньшей степени мы настаиваем на греческих
прилагательных
βραδύς =скр. mrdû1
πλατύς = скр. prthu
Литовское platùs заставляет думать, что λα в πλατύς является
исконным, ибо в этом языке в качестве рефлекса г следовало бы
ожидать iL Во всяком случае, было бы неплохо найти формы
с e, параллельные πλατύς, βραδύς 2.
Когда корни типа А и В употребляются без суффикса, как
именные основы, они утрачивают свое a (в языках Европы — е).
В этой форме они часто входят в составные слова:
скр. bhed: pür-bhid darç: sam-dfç.
Таково в греческом наречие οπό-δρα(χ) от δερκ. Ср. как по
форме, так и по функции скр. ä-pfk „mixtim".
Наконец, еще несколько слов различного образования,
содержащих f:
скр. hfd „сердце" = лат. cord-. Греч, καρδία, κραδίη сопоставимо
с др.-инд. формой hrdi. Гот. hairto, греч. χήρ ( = хзро?См.
Curtius, Grdz., стр. 142) представляют неослабленную форму корня;
скр. fkSa „медведь" = греч. άρκτος = лат. ursus (*orcsus);
лат. cornua во множественном числе, возможно, точно
соответствует вед. çrngâ; в этом случае оно должно восходить
к corngua. Если это верно, то форма единственного числа не
может быть первичной. Гот. haurn при том же условии должно
восходить к *haurrig, а склонение выравнивалось по формам
именительного — винительного падежей, где гуттуральный легко
выпадал3.
Сближение греч. τράπελος с скр. tfprâ, trpâla (F i ck, I3, стр. 96)
остается весьма сомнительным.
1 Наряду с βραδύς встречаются формы с 1: άβλαδέως· ήδέως (Гее), что
делает вполне правдоподобной старую этимологию лат. mollis, возводящую его
к *moldvis.
2 Не являются ли случайно πλέφρον и πέλεΦρον теми родственными πλατύς
словами, в которых мы можем найти е?
3 Греческое κεράμβυξ—название жука-дровосека, жесткокрылого насекомого
с длинными усами, быть может, сохранило нам след древней основы *κ(ε)ραμβο- =
çpga [5].
317
Греч, κάρχαρος (ср. κάρχαρος) приводит на память скр. krcchrâ.
Лат. furnus „печь" восходит к fornus = cKp. ghrnâ „жар".
Греч, χελαινός „черный", возводимое к *x(s)Xaavyo-ç, оказывается
в ближайшем родстве с скр. kränä, с тем же значением1.
Греч, λαυκανίη „глотка" из *σλα*Ραν-ίη является
распространением sfkvan, означающей в санскрите „уголок рта"; родственная
основа srâkva имеет, согласно Бётлингу и Роту, общий смысл
„рот; пасть; глотка"2. Эпентеза и в греческом слове имеет свои
аналогии, к которым мы еще вернемся. У послегомеровских
авторов находим также λευχανίη.
Лакон. ε-υλά*α „плуг", α-υλακ-ς „борозда" соответствуют,
согласно этимологии Фика, вед. vfka „плуг".
Лат. morbus, несомненно, родственно скр. mfdh „враг, нечто
враждебное", но различие основ не позволяет утверждать, что or
в латинском слове является рефлексом г.
ταρτημόριοντο τριτημόριον (Гее). Ср. скр. trtîya.
Греч. ттрааоу=лат. porrum также, несомненно, содержит г.
Если отвлечься от таких обычных образований, как
греческие существительные на -σι-ς, куда неизбежно должен был
постепенно проникнуть гласный презенса, то исключения из
сформулированного закона соответствия окажутся весьма
немногочисленными.
Такие случаи, как γέλγις—grngana, merda — mfd или περκνός—
pfçni, не принимаются нами во внимание, поскольку их основы
не тождественны; наряду с περκνός мы находим также πρακνός
(Curt ius, Grdz., стр. 275). δειράς (дор. δηράς) „гребень горы"
сближали с скр. dräad „камень", но ошибочно, ибо δειράς нельзя
отделять от δειρή.
Идентификация Φλέγυς с bhfgu (Кун) весьма заманчива, но
ее нельзя считать абсолютно надежной.
Скр. kfmi, в том, что касается г, почти наверняка и очень
регулярно соответствует гот. vaurms, однако греч. ελμις, лат.
vermis указывают на с. Форма этого слова к тому же отличается
неустойчивостью в отношении консонантизма3, так же как и
1 Наличие α в дор. καλίς и α в лат. cäligo заставляет сомневаться в
родстве κελαινός с κηλίς.
2 Если к тому же сравнить с этим значение слова srakti, то увидим, что
все эти слова содержат идею очертания, контура, извилины угла. Само франц.
anfractuosité „извилина" имеет, по-видимому, отношение к прямой линии, ибо
лат. an-fractus закономерно получается из *am-sractus, так же как *cerefrum,
cerebrum — из ceres-rum. Ср., однако, Zeyss, KZ, XVI, стр. 381, который
делит это слово так: anfr-actus. Греческий добавляет к этой семье слов φακτοί*
φάραγγες, πέτραι, χαράδραι и φάπται* φάραγγες, χαράδραι, γεφυραι (Гее).
3 Замена к звуком ν вместо ожидаемого kv; замена m звуком ν в слав. *
fcrïvï; колебание плавного между 1 и г, и это в самом греческом, как показывает
глосса ρόμος* σκώληξ εν ξύλοις.
* Здесь и далее помете slave или si. оригинала в переводе соответствует
обозначение слав., а помете paléoslave—обозначение ст,-слав.—Прим, ред.
318
в отношений корневого гласного: прочтение krimi очень часто
в санскрите, и такой пример, как λίμινθες· ελμινθες- ΙΙάφιοι (Гес.),
дает нам соответствующую форму греческого.
2. СУФФИКСАЛЬНЫЕ СЛОГИ
Имена родства и имена деятеля на -tar устраняют в слабых
падежах суффиксальное a; суффикс редуцируется в -tr или,
перед окончаниями, начинающимися на согласный,—в -tr. Отсюда:
греч. πα-τρ-ός, лат. ра-tr-is; ср. скр. pi-tr-â
и с г:
греч. πα-τρά-σι =скр. pi-tf-§u
(Ср. Brugmann, Zur Geschichte der stammabstufenden De-
clinationen, „Studien", IX, стр. 363 и сл.). Ср. также μητράσι,
άνδράσι, άστράσι и т. д.
Если слово на -аг является первым членом составного слова,
то следует ожидать слабой формы, как в инд. bhrätr-varga.
Возможно, что в греч. άνδρά-ποδο-ν мы имеем, как это утверждает
Бругман, последний пример образования этого рода.
В именительном—винительном ед. ч. некоторых имен среднего
рода появлялся суффикс -г или -r-t, который дал скр. yakft
=греч. ήπαρ = лат. jeeur (вероятно, вместо *jequor). Однако не
все греческие имена среднего рода на -ар восходят к форме на г:
ουθαρ, например, соответствует вед. udhar и его α совсем не
является анаптиктическим.
§ 2. Носовые сонанты
Тогда как плавный сонант сохранился по крайней мере
в древнеиндийском языке, носовые сонанты как таковые на
индоевропейской почве исчезли совсем1. Больше того, перестав
быть сонантом, плавный вовсе не перестал при этом существовать;
он лишь стал функционировать как согласный. Иной была судьба
носовых как в греческом, так и в арийских языках: дав начало
гласной фонеме, они сами исчезли, а гласная фонема в
довершение всего совпала с a.
Ни в санскрите, ни в зендском нет данных, которые
позволили бы выделить это a непосредственно. К счастью, в греческом
оно опознается гораздо легче, потому что очень· часто
противостоит корневому s (τείνω—τατός).
В родственных языках носовой сохранился; но перед ним
развился гласный, который принял в некоторых из этих языков
1 Естественно, что здесь речь идет не о тех носовых сонантах, которые
развились позже в некоторых древних и новых языках.
319
окраску e; и часто невозможно понять, действительно ли группа
en стоит на месте носового сонанта.
Работа Бругмана, в которой изложена его теория, содержит
большой материал для того, кто пожелал бы заняться этим
вопросом; было бы целесообразно собрать здесь все основные факты,
с которыми она имеет дело, упорядочив их так же, как мы это
делали при рассмотрении явлений, связанных с плавными. Оба
ряда, таким образом, будут дополнять и разъяснять друг
друга.
Вот перечень тех фонем, которые являются рефлексами
носовых сонантов:
(Индоевропейские
арийскийх
греческий
готский
латинский
старославянский
литовский
π И
а
а
un
en
ç
in
Φ)
a
a
um
em
§
im
Носовые сонанты могли образоваться двумя путями:
во-первых, в результате выпадения a, что является правилом для
плавных сонантов; во-вторых, в результате присоединения к
консонантной основе окончания, которое начинается носовым.
Рассмотрим сначала первый случай.
1. КОРНЕВОЙ СЛОГ
А. глагольные образования
Тематический аорист (см. стр. 311). Др.-инд. randh „попасться"
имеет аорист â-radh-a-t, который восходит к *a-njdh-a-t, если
только допустить, что корнем является очевидное randh, а не
radh.
Здесь мы прямо видим, насколько противоположным
оказывается понимание данного факта, в зависимости от того,
признаем мы сонант или нет. До сих пор носовой такого корня, как
randh, рассматривался как неустойчивый элемент, который
отпадает в слабой форме. Согласно новой теории, отпадал вовсе
не носовой, а фонема а в полном согласии со сказанным выше;
то же a, которое имеется в форме âradhat, тождественно носовому,
потому что оно образовано из самой субстанции этого
исчезнувшего носового. Если бы случаю было угодно, чтобы из носового
1 Разумеется, что зендское а, восходящее к носовому сонанту, испытывает
в дальнейшем изменения, вторичные для а, приобретая, например, тембр
(coloration) е.
320
сонанта арийских языков развился не a, но и, то
рассматриваемый нами аорист звучал бы как 'âradhat'*.
Греческий дает этому неопровержимое доказательство, так
как в нем исчезает монотония а и двойственность проявляется
в наличии двух тембров: ε и а: корень πενθ [6] имеет в аористе
παθ: ε-παθ-ο-ν1.
Тематический аорист с удвоением: для этой формы нет ни
одного греческого примера; из санскритского можно привести
вед. ca-krad-a-t, от krand 2.
Аорист с атематической гласной, совпадающий по форме
с имперфектом второго глагольного класса3, не рассматривался
нами в разделе о плавных, потому что в индоевропейских языках
Европы здесь не засвидетельствовано ни одного рефлекса г. Форма
единственного числа актива сохраняет а (е). Остальные формы
актива, так же как весь медиум, его устраняют. Таким образом
в санскрите имеются:
1. Корни типа А (см. стр. 310):
Ед. ч. [актив] Мн. ч., дв. ч. [актив] и медиум
çro:â-çrav-[a]m; â-çro-t çru-tâm
var:â-var(-s) â-vr-ta
и с носовым сонантом в слабой форме:
gam : â-gan(-t) ga-tam
2. Корни типа В4:
Ед. ч. [актив] Мн. ч., дв. ч. [актив] и медиум
doh : â-dhok-(t) â-duh-ran
varg : vârk(-s) â-vrk-ta.
Бругман предлагает очень удачное объяснение таких
греческих аористов, как έ'χευα, έ'σσευα, которые до сих пор не
поддавались никакому анализу [7]. Они представляют собой формы
актива, соответствующие таким аористам медиума, как έχΰμην, έσ-
συμην. Первоначально они спрягались так: έ'χευα (из ·εχευφ), *εχευς>
* Здесь и далее кавычками-лапками (* ') обозначаются фиктивные формы,
к которым, согласно Ф. де Соссюру, можно было бы прийти, приняв
определенную гипотезу. Ни одна из этих форм не совпадает с реальными
языковыми формами. В оригинале эти формы даются автором в обыкновенных
кавычках.—Прим. ред.
1 Дело в том, что в данном случае у нас нет каких-либо сомнений
относительно истинного качества альфы в β παθόν; здесь надо учитывать лат. patior,
к которому мы еще вернемся ниже. Но ίπαθον оказывается единственным
тематическим аористом, в котором можно предполагать рефлекс носового сонанта;
если отвергнуть это, то достаточно будет обратиться к последующим примерам.
2 Предполагая, что носовой является корневым.
3 Совершенно иными являются формы с врддхи, например âçvait, âvâ{.
В них следует, вслед за Уитни, видеть сигматический аорист.
4 На корни этого типа с носовым примеров, по-видимому, нет.
11 Φ де Соссюр
321
•Ιχευ(τ); мй. ч. *εχυμεν и т. д.; медиум έρμην. Как и в перфекте,
α 1-го лица εχευα распространилось на все формы актива, и
древнее множественное число со слабым корневым слогом уступило
формам, созданным по образцу единственного числа (εχευαμεν).
Это *ε-χυ-μεν, более не существующее и относящееся к εχευα так
же, как скр. *â-çru-ma — к â-çrav-am, имеет полный аналог,
с носовым сонантом, в форме ε-κτα-μεν (корень κτεν); впрочем,
в этом последнем аористе подверглось изменению единственное
число под влиянием множественного числа: εκταν, έ'κτα заменили
прежние *έ'-κτεν-α, *Ι-κτεν(-τ). В κτά-μεναι, κτά-σθαι, κτά-μενος,
άπ-έ-κτα-το альфа, по-видимому, является непосредственным
рефлексом сонанта.— Курциус обращает внимание на то, что гипотеза
о корне κτα- неприемлема (см. его „Verb.", I, стр. 192).
Перфект (ср. стр. 313). Корни типа А представляют еще
в греческом остатки первоначального перфекта:
μέ-μα-τον; ср. ед. ч. μέ-μον-α от μεν
γε-γά-την; ср. перф. ед. ч. γέ-γον-α от γεν
и в медиуме:
τέ-τα-ται от τεν πέ-φα-ται от φεν1.
В древнеиндийских формах соединительная гласная позволила
носовому остаться согласным: gâ-gm-imâ, ta-tn-téé. Причастие
sa-sa-vân (от san) указывает на сонант.
Для корней типа В можно привести, вслед за Бругманом,
скр. tastâmbha, 3 л. мн. ч. tastabhus (то есть tastmbhus); сас-
éhânda имеет оптатив cacchadyât. В греческом имеем πεπαθυΐα
при πέπονθα (корень πενθ); кроме того, Бругман, принимая
чтение Аристарха, получает πέπασθε ( = πέ-παθ-τε) вместо πέποσθε
(„Илиада", 3, 99 и сл.). Ср., однако, наше замечание
относительно επαθον в сноске на стр. 321.
Гот. bund-um (корень bend) восходит естественным образом
к bndum; вообще, все готские глаголы этого класса равным
образом свидетельствуют о сонанте во множественном и в
двойственном числе перфекта.
Презенс. Во втором глагольном классе (ср. стр. 314) можно
указать на греч. (Ι)ραμαι, возводимое в недавней статье
Бругмана к ρφ-μαι (см. ΚΖ, XXIII, стр. 587); это греческое слово
имеет тот же корень, что и др.-инд. râmati „нравиться". В
санскрите мы находим, например, hän-ti, 2-е л. мн. ч. ha-thâs,
то есть hn-thâs.
8-й глагольный класс будет темой новой работы Бругмана,
1 3-е л. мн. ч. πέφανται является поздним образованием по аналогии с
корнями на а; регулярной была бы форма πε-φν-αται. Формы γεγάασι, μεμαυΐα и
другие, где суффикс начинается на гласный, могли образоваться только по
аналогии. Примечательно, что сильные формы единственного числа остались
незатронутыми воздействиями этого рода, так как γέγαα, μέμαα, существуют только
в наших словарях, как это показал Курциус (см. „Verb.", И, стр. 169). Таким
образом, древнее спряжение γέγονα, мн. ч. γεγαμεν, еще достаточно прозрачно.
322
в которой он собирается показать, что tanomi, vanomi и др.
восходятк tn-no-mi, νη-ηό-mi. Показательным примером является
также греческая альфа в τά-νυ-ται (корень τεν) и в ά'-νυ-ται
(корень έν)1. И это в порядке вещей, поскольку от корня k2ai
мы имеем ci-nomi, от корня dhars—dhrä-nomi, а не ce-nomi,
dhars-nomi2.
Класс инхоативов присоединяет -ska к корню, лишенному а:
скр. yû-cchati от уо, ucchâti от vas. Из этого следует с
очевидностью, что yâ-cchati—от yam, gâ-cchati—от gam имеют
носовой сонант, и нет оснований считать, что греч. βά-σ*ω
образовалось иначе, хотя оно могло бы восходить к родственному
корню Ρα.
Б. ИМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Суффикс -ТА (ср. стр. 315) дает следующие основы:
От tan (ten): скр. ta-tâ =греч. τα-τός =лат. ten-tus.
От g2am (g2em): скр. ga-tâ =греч. βα-τός3 =лат. ven-tus.
От man (men): скр. ma-ta = rpe4. μα-τός4=^3τ. men-tus4.
От gh2an (gh2en): скр. ha-tâ = греч. φα-τός5.
От ram (rem): скр. ra-tâ =греч. έρα-τός ( = лат. lentus?).
Эти древнеиндийские формы, к которым надо добавить yatâ
от yam, natä от nam, käata от kâan и которые повторяются
также в зендском и древнеперсидском (зенд. gâta „уехавший",
др.-перс, gâta „убитый"), должны бы принадлежать, согласно
Шлейхеру (см. „Beiträge", II, стр. 92 и сл.), к корням на -а,
и автор пользуется ими для доказательства своей уже
известной теории; но как получилось, что именно эти формы
оказались единственными примерами санскритского a, завершающего
корень, и что во всех примерах, где не замешан носовой, мы
находим i или ï в одних и тех же причастиях sthitâ, pïtâ?
Можно сказать, дело обстоит как раз наоборот: это а в самом
деле несет доказательство происхождения из носового.
Основы на -TI (ср. стр. 316) полностью сходны с
предыдущим: скр. tati = rpe4. τάσις, ср. лат. -tentio; käati (от ksan)
1 Курциус показал тождество греч. &νυται (у Гомера находим только
ηνυτο) с скр. sanuté (корень san); свистящий оставил след в Spiritus asper атт.
ά-νύ-ω. Что касается неослабленного корня έν, то он сохраняется в сложном
слове αύφ-έν-της. Ср. F i с k, W., I3, стр. 789.
2 Такие формы, как δείκνυμι, ξεύγνυμι, являются греческими инновациями.
3 Корнем у βατός мог быть также βά, который дал εβην; обе формы
должны были_обязательно смешаться в греческом. Но скр. gatâ не могло
образоваться от gl.
4 Форма, сохранившаяся в слове αυτόματος, в согласии с наиболее
вероятной этимологией; -mentus входит в commentus.
Ç Тождество скр. han и греч. *φεν будет показано ниже.
11*
323
имеет параллель в гомеровском греч. άνίρο-*τασίη (от χτνή. Скр.
gâti, греч. βάσις и гот. (ga-)qum|3(i)s равным образом
объединяются в индоевропейском g2m-ti. Гот. (ga-)rnund(i)s
соответствует вед. mati (класс, скр. mâti), лат. merits1.
Основы на ύ (ср. стр. 317). Тождество др.-инд. bahu и греч.
παχύς (bahulâ = παχυλός) внушает доверие в неменьшей степени,
нежели сближение pinguis с παχύς, которым мы обязаны Кур-
циусу. Мы должны допустить редукцию первого
придыхательного ph в доисторический период, когда в италийском
придыхательные еще не перешли в спиранты, а это, несомненно, не
такой уж уникальный случай, Pinguis вместо *penguis
доказывает, что а в bahu и παχύς является рефлексом носового сонанта.
К тому же скр. суперлатив bâmh-iâtha служит для этого прямым
доказательством.
Скр. raghu, laghu = rpe4. ελαχΰς равным образом содержит
носовой сонант, судя по родственным словам: скр. râmhas и
râmhi. Лат. levis восходит к *lenhuis, *lenuis; различная
трактовка pinguis и levis связана исключительно с различием
гуттуральных (ghi и gh2: ba/ш, raghù). Несоответствие вокализма
в levis при греч. ελαχΰς не должно приниматься в расчет. Лит.
lèngvas, зенд. rengya подтверждают наличие носового. Наконец,
возвращаясь к скр. raghu, надо сказать, что а в этом слове
можно объяснить только как рефлекс носового сонанта, иначе
оно исчезло бы, как в rgu (суперл. râèiâtha) и в других
прилагательных на -ύ.
Лат. densus указывает на то, что δασύς восходит к δρσυς.
Ослабление корневого слога перед суффиксом -и находит
подтверждение также в βαθύ-ς от корня βενθ, полная форма
которого выступает в βένθ-ος. Здесь, однако, как и в случае
с παθειν (см. выше), можно сомневаться в происхождении и,
следовательно, в природе а, ибо наряду с βενθ имеется корень
βαθ без носового. Эти типы дублетов будут рассмотрены нами
в следующей главе.
Основы различного образования:
Скр. а51 = лат. ensis. Скр. vasti и лат. ve(n)sïca.
Гот. ühtvo (то есть *unhtvo) „утро" соответствует, как
известно, вед. aktu „свет", с которым сопоставляли также греч.
άχτίς „луч".
Греч, πάτο-ς „путь" должно восходить к *πητο-ς ввиду
наличия носового в скр. pänthan, род. п. path-âs ( — pcth-as).
Основа ndhara (или, быть может, rpdhara) дает др.-инд. âdhara,
лат. inferus, гот. undaro.
1 Латинские формы не вызывают к себе полного доверия: они могли
с равным успехом образоваться и позже, как греч. δέρξις, θέλξις. Для таких
славянских форм, как -mçtï, эта возможность превращается почти в
уверенность.
324
Шерер („Ζ. Gesch. der deutsch. Spr.", стр. 223 и сл.), говоря
об основах личных местоимений, строит догадки, которые Лескин
(„Declination", стр. 139) охарактеризовал как рискованные, но
в одном пункте Шерер все же оказался прав: тогда, когда он
восстанавливает для местоимения 1-го лица множественного числа
основу, содержащую носовой перед s: amsma, ansma. И не то,
что его теоретические доводы убедительны, а просто германское
uns, unsis невозможно объяснить иначе. Вместо amsma или ansma
должно быть, естественно, rnsna или nsma, откуда с равной
регулярностью вытекает и скр. asmâd и гот. uns и греч. (эол.)
αμμε = *άσμε.
Некоторые случаи особого рода, например количественное
числительное сто, найдут свое место в другой главе1.
2. СУФФИКСАЛЬНЫЕ СЛОГИ
Флексия основ на -an(-en), -man(-men), -van(-ven) требует
подробного рассмотрения, которое будет более уместно в
следующей главе. Здесь же достаточно отметить то, что имеет
отношение к носовому сонанту: в праязыке суффикс утрачивал а в
падежах, называемых слабыми и сверхслабыми. В этих
последних окончание начинается с гласного и носовой оставался
согласным; напротив, в „слабых" падежах носовой должен был
взять на себя функцию гласного, так как окончание начинается
с согласного. В этом и состоит вся разница. В санскрите от
основы ukäan имеем:
род. п. ед. ч. ukän-as твор. п. мн. ч. uk§â-bhis(-uk§n-bhis)
дат. п. ед. ч. uk§n-é местн. п. мн. ч. ukää-su (-uk§n-su).
Греческий имеет в род. п. ед. ч. ποιμένος, в дат. п. мн. ч.
ποιμέσι; оба падежа вторичные. Их праформы должны были бы
звучать: *ποιμν-ός и *ποιμα-σι. Сохранилось несколько пережитков
этого образования: χυ-ν-ός от основы χυ-ον, φρ-α-at (Пиндар) от
основы φρ-εν. См. Brugmann, „Stud.", IX, стр. 376.
1 Возможно, что носовой сонант был представлен в арийском в виде i, и,
в слове со значением „язык": скр.. ^ihvâ и gunO, зенд. hizva, hizu; в древне-
персидском было, согласно реконструкции Опперта, izâva, хотя в наскальной
надписи мы имеем только âva. Так как начальный согласный является
настоящим языковым Протеем (он разный даже в иранском и в санскрите) и так как
в литовском он дал 1, то можно согласиться, что глосса Гесихия λαυχάνη·
γλώσσα находит наиболее удовлетворительное объяснение в сравнении с
вышеприведенными словами: исходной основой была бы, по-видимому, P-çghiû или
?-nghjWä, откуда лат. d-ingua, гот. t-uggon- и греч. *λ-αχΡαν-η, λαυχάνη.
Слав, j-çzy-ku точно так же указывает на сонант. Лишь лит. ё в 1-ëzuv-i-s
расходится с реконструируемой формой. Относительно эпентезы и в греческом
слове см. выше (стр. 318), λαυκανίη.
325
В именительном — винительном ед. ч. имен среднего рода на
-man конечное а в скр. nâma, зенд. наша, греч. όνομα1 восходит,
так же как и ç в слав, imç и en в лат. nömen, к
индоевропейскому носовому сонанту. Морфологически к такому заключению
приводят все аналогичные случаи, в том числе и др.-инд. dätr
в именительном—винительном падеже ср. р.; фонетически это
единственная гипотеза, которая объясняет отсутствие носового
в двух первых из приведенных нами языков.—Здесь мы
впервые встречаемся с носовым сонантом в конце слова и случай
этот, бесспорно, заслуживает специального рассмотрения. Сколь
бы простым он ни казался на первый взгляд, он все же
доставляет некоторые затруднения, как только мы начинаем
рассматривать слово в его естественной функции члена предложения.
Др.-инд. dätr, которое мы только что привели, перед словом,
начинающимся с гласного, например перед api, должно было бы
дать, согласно правилам сандхи, dätrapi. Иными словами,
парадигматическое dätr реально существует лишь в том случае, если
за ним следует согласный или когда оно завершает
предложение; перед гласными же мы имеем только dätr. И все же г (что
означает: г, несущее слоговое ударение) может вполне
сохраниться и перед гласными. Так обстоит, например, дело в
английской фразе the father is, которая произносится обычно с г,
а не с г в слове father2. Также обстоит дело и с η в немецком
siebn-und-zwanzig (sieben-und-zwanzig).
Такое индоевропейское слово, как stämn (им.-вин. п. от stä-
man- = sthäman-3), могло поэтому в положении перед гласным,
например перед api, дать stämn^api или же stämn^api (ср.
предыдущую сноску). Отдать предпочтение первому члену
альтернативы могло бы означать скрытое допущение madhw api,
а не madhu api, то есть отнесение санскритского правила сандхи
относительно i и и перед гласными к эпохе праязыка, по
крайней мере в его основе4; практика Вед абсолютно ничего не
1 Звука τ в косвенных падежах (ονόματος), по-видимому, никогда не было
ни в именительном, ни в винительном. Мы не упоминаем гот. namo, поскольку
оно является новообразованием.
2 Правда, г, η и т. д. в положении перед гласным могут, видимо,
удваиваться: rr, пп и т.°д. См. Sievers, Lautphysiol., стр. 27. Хотя и можно
говорить, что i и и также являются согласными в момент перехода органов речи
к укладу, необходимому для произнесения другого гласного, например, в
группах ia, ua, тем не менее троякое звуковое сочетание 1) ia, 2) ia, то есть iia,
3) iia, проецированное на звукоряд с носовым, несомненно, сведется к 1) па и
2), 3) ппа, а проецированное на ряд с плавным сведется к 1) га и 2), 3) гга;
i обозначает здесь консонантное i.
3 Выбранное выше в качестве примера скр. nâman здесь уже не подошло
бы, так как первоначальная форма его начального слога довольно сомнительна.
4 Но только в его основе, ибо следует, во всяком случае, предполагать,
что индоевропейское i на месте спиранта классического санскрита и ν в том же
языке были бы еще довольно далеки от первоначального согласного
(и).—Прибавим, что в восстановлении индоевропейских форм мы пользуемся знаками w
326
может сказать в пользу этого тезиса. Мы не входим здесь в
обсуждение этого вопроса, потому что мы полагаем, что гипотеза
stâmnwapi является и в самом деле наиболее вероятной; но
желательно, чтобы читатель сравнил далее то, что имеет
отношение к винительному падежу ед. ч. консонантных основ.
Таким образом, в индоевропейском предложении мы имеем:
stämn^tasya и stämn^api.
В эпоху, когда носовой сонант стал неудобным для языка,
в эпоху, когда индийцы и иранцы говорили еще на одном языке,
древнее stämn^tasya по необходимости приняло вид stäma^tasya,
скр. sthäma^tasya. В конце предложения stämn также давало
stâma. Что же касается stämn^api, то его нормальное развитие
в силу удвоения, о котором у нас шла речь выше, должно было
привести к stäma-n-api. Эта последняя форма исчезла:
произошла унификация, что характерно и для целого ряда
аналогичных случаев; в связи с этим достаточно указать на недавние
работы Курциуса („Zu den Auslautsgesetzen des Griechischen", в
„Stud.", X, стр. 203 и сл.) и Сиверса в „Beiträge de Paul et
Braune", V, стр. 102.
В греческом и славянском этот отбор шел примерно так же,
как и в арийских языках.
Флексия имен среднего рода на -man в греческом языке. Греческая
флексия (ονόματος, -μάτι и т. д.) во всех случаях свидетельствует о носовом
сонанте, вследствие возникновения труднообъяснимой основы на τ. Это
склонение следует, конечно, сопоставлять со склонением ήπαρ, ήπατος, ονόματος
соответствует скр. nâmnas, ήπατος—скр. yaknas; что касается этого
последнего класса основ, то мы можем быть уверены, что, каким бы ни было
происхождение греческого τ, индийское склонение yakjt, yaknas, имеющее г только
в именительном—винительном падеже единственного числа, верно отражает
праязыковое состояние г.
Что же касается вопроса о том, что явилось источником вставки τ—основы
на -μα или основы на -ар — или же это τ развилось параллельно в обоих
классах основ, без контаминации их, то этот вопрос может решаться
несколькими способами, хотя ни одно из решений не будет вполне удовлетворительным.
Вот некоторые моменты, которые нужно учесть при рассмотрении
вероятностей:
1) В родственных языках имеется суффикс -mn-ta— расширение суффикса
-man; в латыни, например, этот суффикс дал augmentum, cognomentum.
и у, не пытаясь отличить консонантные и и i (и и 1 Сиверса) от
соответствующих спирантов (w и j Сиверса). В случае madhw api знак w должен
представлять, разумеется, и.
1 Исходить из древнего родительного *ήπαρτος означало бы отвергнуть
свидетельство санскрита и в то же время без всякой пользы допустить в
греческом случай фонетического изменения, примеры которого если и существуют
(см. стр, 309), то являются, во всяком случае, спорадическими. Правда, yakrt
позднее также склонялся целиком, но важно то, что yakan не может иметь
другого именительного, кроме yakft. Лат. jecinoris заменило древнее *jecinis
вследствие тенденции к единообразию, которая распространила or именительного
падежа на все косвенные падежи. Линднер (см его „Altindische Nominalbildung",
стр. 39) также усматривает в ήπατος соответствие скр. yaknâs.
327
В греческом этого суффикса нет.—Суффикс -ri-ta, параллельный греческому
в именах среднего рода на -αρ, -ατός, вероятно, представлен в лат. Oufens
(м. p.), Oufentina: ср. ούθαρ, -ατός. Ведь Ôufens восходит к *Oufento-s.
2) t, появляющееся в именительном — винительном падеже скр. yak£-t, все
же могло, по-видимому, несмотря ни на что, сыграть в данном случае
некоторую роль. Поразительную параллель могло бы представить лат. s-an-gu(-en)
в сравнении с скр. as-j-g, род. п. as-n-âs х; мы тут ясно видим, как согласный
элемент, присоединенный к г в именительном—винительном падеже,
распространяется на основу на -п. С другой стороны, может быть и так, что зубное t
в yakft (yak£d) есть не что иное, как зубной звук, маркирующий средний род
в местоименных основах 2, тогда зто фактически d, и оно не имеет никакого
отношения к вопросу о греческом τ.
3) В том случае, если вставка τ исходила от основ на -ар, примечательно,
что именительный — винительный слов на -μα тоже претерпел метаплазм под
влиянием этих основ, так как формы ή-μαρ, τέκ-μαρ, τέκ-μωρ не имеют
никаких аналогий в родственных языках. Правда, в зависимости от принимаемой
этимологии придется, может быть, эти слова делить так: ημ-αρ, τέ-κμ-αρ, τέ-κμ-ωρ.
4) Основы среднего рода δουρατ, γουνατ, заменяющие δόρυ, γονυ в
большей части флексии, возможно, относятся к скр. dâru-n-(-as), gânu-n(-as), так
же как όνοματ—к скр. nâmn(-as). При этом мы не хотим все же предрешать
заранее морфологическую функцию носового в dàru-n- и особенно не настаиваем
на выборе этих двух основ на и, чья первоначальная флексия возбуждает
массу других вопросов.
5. Даже в санскрите некоторые слабые формы основ, оканчивающихся на
an, присоединяют к себе t; так, например, yuvati( = yuvnti) наряду с yunï,
оба—-производные от yuvan-. В свою очередь др.-инд. yuvati заставляет нас
вспомнить греческое образование *προφρ$ίνα, πρόφρασσα—форма женского
рода от προφρον-. Ср. еще yuvat вместо *yuva в среднем роде—форма,
допускающая также иное объяснение (ср. сноску 2 на этой странице) и varimâta,
rkvatä — ведийские инструментальные падежи от varimân, rkvan.
6) Старославянские слова, такие, как zrëbe,, род. п. zrëbçt-e „жеребенок",
tel ç, telçt-e „теленок" и т. д., имеют суффикс, совпадающий с греческим -ατ
в первоначальной форме -nt. Но эти слова являются уменьшительными
вторичного образования, и в греческом есть, может быть, всего лишь один пример
этого рода — гомеровское προσώπατα, которое, по-видимому, является
производным от πρόσωπο-v. Тем не менее можно предположить, что рассматриваемые
славянские формы есть не что иное как последняя реминисценция основ типа
ήπαρ, -ατός и yak£t, -nâs. В соответствии со сказанным именительный —
винительный на -с может быть только поздним образованием; точно так же мы
находим в латинском именительный — винительный ungu-en, в греческом—δλειφα
наряду с άλειφαρ.
Таковы те несколько примеров сближений, которые приходят на ум при
рассмотрении вопроса о происхождении τ в суффиксах -ατ и -ματ. Мы
воздерживаемся от каких-либо суждений, но никто не усомнится относительно α
в том, что оно восходит к носовому сонанту.
С точки зрения трактовки конечного носового сонанта рядом
с скр. nâma оказываются следующие числительные:
sapta=^aT. Septem, гот. sibun, греч. επτά
nâva == лат. novem, гот. niun, греч. εννέα
dâça — лат. decern, гот. taihun, греч. δέ*α
1 Блестящее сближение Боппа, в пользу которого, к нашему большому
удовольствию, выступил Асколи („Vorlesungen über vgl. Lautlehre", стр. 102).
Падение начального а имеет свои основания.
2 Ср. yuvat (yuvad)-—ведийский средний род от yuvan.
328
В них повод для сравнения дает лишь форма
именительного—винительного падежа. На вопрос: «Каковы основы этих
числительных?» индийская грамматика отвечает: saptan-, navan-,
daçan-, и со своей точки зрения она права, ибо твор. п. мн. ч.
saptabhis ничем не отличается от соответствующей формы nämabhis
от основы näman-. Однако, если обратиться к родственным
языкам, то обнаружится, что два из них имеют губной носовой:
это латинский и литовский (dészimtis1), и эти два языка
являются единственными, которые могли бы внести ясность в
данный вопрос, поскольку готский изменил конечное m в п.
Второе доказательство в пользу губного носового. В санскрите имена
числительные порядковые, от двух до десяти, имеют окончания -tïya, -tha или -ma 2.
Если отвлечься на один момент от порядкового числительного,
соответствующего pânéa, и сгруппировать вместе формы, суффикс которых начинается на
зубной, то мы получим первый ряд, состоящий из:
dvi-ttya, tj-ttya, catur-thâ, §aS-thâ,
и второй ряд, в котором оказываются:
saptamâ, a§|amâ, navamâ, daçamâ.
В европейских языках наиболее распространенным является первое
образование, а в готском оно полностью вытеснило второе. Тем не менее еще можно
различить, что оба ряда в санскрите восходят как таковые, если не считать
фонетических изменений, к индоевропейскому языку. В самом деле, ни один
язык индоевропейской семьи не содержит окончания -та там, где санскрит
имеет -tha или -tïya, тогда как каждой форме нашего второго ряда соответствует,
по крайней мере в одном языке, числительное на -та: мы не приводим
иранский, потому что он не может серьезно повлиять на достоверность
результата как язык, слишком близкий к санскриту.
Наряду с saptamâ: греч. έβδομος, лат. septimus, др.-прусск. septmas,
ст.-слав. sedmö, ирл. sechtmad.
Наряду с aàfamâ: лит. aszmas, ст.-слав. osmu, ирл. ochtmad.
Наряду с navamâ: лат. nonus вместо *nomus из *noumos (см. Curtius,
Grdz., стр. 534).
Наряду с daçamâ: лат. decimus.
Итак, количественные числительные семь, восемь, девять и десять, и только
они одни, образовывали в праязыке порядковые числительные на -та. Но как
раз оказывается, что эти четыре количественных числительных 3, и только они
1 septynî, devyni являются вторичными образованиями; см. Leskien,
Déclin, im Slavisch.-Lit., стр. XXVI.
2 Мы не учитываем prathamâ и turfya как не имеющие отношения к
данному вопросу.
3 Одна из форм количественного числительного восемь действительно
оканчивалась на носовой. Правда, такие греческие сложные слова, как οκτα-κόσιοι,
οκτά-πηχυς, содержат далеко не очевидные следы его и вполне объясняются
аналогией έπτα-, έννεα-, δέκα- (ср. έξα-). Для лат. octingenti такое воздействие
аналогии менее допустимо; с другой стороны, эта форма, по-видимому, не может
заключать в себе дистрибутива octôni, следовательно, можно с некоторым
основанием предположить древнее *octem. Санскрит устраняет все сомнения: его
именительный —винительный а§# необходимо является эквивалентом *octem,
так как никому не придет в голову возводить его к первоначальному akta,
соответствующему фиктивной греческой форме 'όκτε', похожей на πέντε: подоб-
329
одни, оканчиваются на носовой. Стало быть, или здесь редкая игра случая или
же носовой количественных и порядковых числительных в действительности
одно и то же; другими словами, поскольку мы имеем право рассматривать
первые как базы вторых, деривационным суффиксом порядковых числительных
является -а, а не -та х.
Итак, латентным носовым в sapta, идентичным тому, который появляется
в saptamâ, является т. То же самое можно заключить относительно asta,
nava, dâça.
Вернемся теперь к количественному числительному „пять". Бопп („Gr.
Сотр.", II, стр. 225 и сл. французского перевода) отмечает у этого
числительного отсутствие конечного носового в европейских языках 2, а также наличие е
в греческом πέντε в противоположность „альфе" в επτά, έννεα, δέκα,
«сохраненной носовым». «Из всех этих фактов,— говорит он,— напрашивается вывод, что
конечный носовой слова pâncan в санскрите и в зендском есть позднейшее
добавление». Но приписывать его в качестве свойства только арийских языков
было бы натяжкой: в самом деле, род п. скр. pancânâm (зенд. panéanam) был бы
абсолютно неправильным образованием, если бы он был дериватом от основы
на -an; он просто заимствован у основ на -а 3. Такие искусственные сложные
слова, как priyapancänas (В en fey, Vollst. Gr., § 767), не представляют
никакой лингвистической ценности, а формы pancâbhis, -bhyas, -su ничего не
доказывают ни в том, ни в другом смысле4. Таким образом, ничто не побуждает
нас предполагать здесь существование носового.
Порядковыми числительными от этого числительного являются:
греч. πέμπτος, лат. quin(c)tus (гот. fimfta), лит. pènktas,
ст.-слав, pçtîî, зенд. puxôa, скр. вед. pancathä.
Поскольку количественное числительное не имеет конечного носового, эти
образования соответствуют установленному выше правилу. Если наряду с pancatha
санскрит—но один лишь санскрит— имеет уже в Ведах форму pancamâ, то
для объяснения ее мы можем воспользоваться удобной формулой Аве: при на-
ное предположение было бы лишено какого-либо основания. Самое большее,
можно было бы думать о двойственном числе на ä типа deva вместо devä.
И действительно, именно к этому склоняются издатели санкт-петербургского
словаря. Но почему в таком случае эта форма-продолжает существовать в
классическом санскрите? Стало быть, мы имеем полное право принять форму с
носовым, которая, быть может, первоначально имела особую функцию. Что касается
формы aktau, подкрепленной гот. ahtau, то мы только отметим в образовании
ее порядкового числительного (греч. oyôoF-o- или *oyôF-o-, лат. octäv-o) тот
же способ деривации посредством суффикса -а, что и в a§tam-a, saptam-â
и т.д. (см. далее в тексте).
1 Что касается того, можно ли будет обнаружить в конечном счете какое-то
родство между -та суперлатива и -т-а порядковых числительных, например
таким образом, что уже в праязыке окончание -та этих последних могло
производить впечатление суперлатива и распространяться оттуда на другие основы,
чтобы придать им эту функцию, то это вопросы, которые нам нет нужды здесь
рассматривать.
2 Готское fimf дало бы 'firnfun', если бы имело конечный носовой.
3 Исходным пунктом для всех родительных падежей количественных
числительных на -ânâm является, по-видимому, форма trayânâm, образованная от
trayâ-, а не от tri-. Место ударения обусловлено аналогией с другими
числительными. Зендское Orayam, позволяющее предположить *Orayanam (ср.
vehrkam, vehrkanam), свидетельствует о древности этого аномального
родительного падежа.
4 Те же самые формы, свидетельство которых равно нулю в вопросе о том,
был ли в количественном числительном „пять" конечный носовой, разумеется,
весят не больше на чаше весов, когда речь идет о том, какой носовой —
существование которого не подлежит сомнению — был представлен в словах nâva,
daça и т. д.— η или т.
330
личии panda и пары saptâ — saptamâ или же dâça — daçamâ и т. д. носитель
этого языка совершенно естественно вывел четвертый член пропорции: panéama х.
Асколи в своем объяснении греческого суффикса -τατο исходит из
порядковых числительных ένατος и δέκατος. Из нашего тезиса не вытекает, что надо
отказаться от теории Асколи: достаточно добавить одну фазу к описанному им
развитию и сказать, что ένατος, οέχατος сами возникли на греческой почве по
образцу τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος2.
Первоначальная фонетическая значимость окончания -ата санскритских форм
и того, что ему соответствует в других языках, рассматривается нами в
другом месте.
Было бы небесполезно для дальнейшего изложения
подчеркнуть тот факт (впрочем, широкоизвестный), что конечным
носовым количественных числительных является m, а не п.
Морфологическая значимость этого m, однако, неизвестна, и, помещая
его сугубо условно под рубрикой „суффиксальные слоги", мы
никоим образом не хотели решить таким образом этот темный
вопрос.
Помимо флексии в собственном смысле этого слова две
грамматических операции могут вызвать в суффиксах изменения,
которые способны породить носовой (или плавный) сонант:
основосложение и деривация. К ним мы сейчас и переходим3.
С самого начала существовало твердое правило: суффиксы,
где перед определенными окончаниями устранялось a, принимали
эту редуцированную форму и тогда, когда основа, в которую
они входили, становилась первым членом сложного слова (см.
Brugmann, KZ, XXIV, стр. 10. Ср. также выше, стр. 319).
Если второй член сложного слова начинался с согласного,
то в конце первого члена появлялся сонант. Арийские языки
всегда оставались верными этому древнему способу образования:
скр. nâma-dhéya ( = nâmn-dhéya).
Эта форма на -а, которая оправдана только перед
согласными, была затем обобщена так же, как форма
именительного—винительного среднего рода; таким образом появились
скр. nämärika вместо *nämnarika. — açmâsyà от açman „скала"
и asyà „рот" является ведическим примером этого вторичного
образования [9]; только его мы и находим в словаре Ригведы
Грассмана; там же мы находим много сложных слов с первым
элементом vf§an, которые представляют собой пережитки древнего
1 И, обратно, мы находим saptâtha, сенд. haptafta наряду с saptamâ. Перед
лицом почти полного единодушия родственных языков, включая и греческий,
который, однако, оказывает явное предпочтение суффиксу -το, вряд ли кто-
нибудь станет утверждать, что эта форма является древнейшей.
2 К сожалению, нам не удалось получить другую работу Асколи „Di un
gruppo di desinenze Indo-Europee", имеющую более прямое отношение к
количественным числительным [8].
3 Поскольку число плавных сонантов, которые обязаны своему образованию
этой же причине, весьма невелико, мы на стр. 319 затронули этот вопрос лишь
вскользь.
331
способа образования; например, vrâan в сочетании с âçva дает
не vràâçva, a vrSanaçvâ, что следует передавать как vrsn-n-açvà1.
По аналогии с основами на -г (pitrartha из pitar и artha)
следовало бы ожидать *vj§naçvâ; мы снова сталкиваемся с
альтернативой, сформулированной выше на примере stämn^api,
stämn^api. Возможно, что в сложном слове, как и в
словосочетании, следует придерживаться второй части формулы и что
pitrartha уступает в древности vrsanaçva.
В греческих сложных словах, первым членом которых
является форма среднего рода на -μα, например в ονομα-χλϋτός,
можно видеть, вслед за Бругманом („Stud.", IX, стр. 376),
последний остаток древнего образования, место которого во всех
других случаях занял тип άρρεν-ο-γόνος. Ср. на стр. 333 άπαξ
и άπλόος.
Деривация. Само собой разумеется, что здесь, как и во всех
других случаях, сонант представляет лишь частный случай общего
явления ослабления; он появляется лишь там, где образующий
элемент начинается согласным. Рассмотрим сначала несколько
случаев обратного характера, когда вторичный суффикс
начинается гласным. Уже в первом томе „Kuhn's Zeitschrift" Эбель
сопоставил синкопу а слабых падежей скр. râ£an (р0д. п.
râgnas) и формы λίμν-η, ποίμν-η, образованные от λιμήν, ποιμήν.
Бругман („Stud.", IX, стр. 387 и сл.) собрал некоторое
количество примеров этого рода, которые относятся к основам на -аг
и среди которых следует особенно отметить лат. -sobrïnus= *-sosr-
ïnus от soror. (Ср. цит. раб., стр. 256; то, что говорится о δμν-ο-ς,
рассматриваемом как дериват от υμήν.)
Образующий элемент начинается согласным.
Суффикс -man по наращении -ta превращается в -mnta.
Известный пример: скр. çro-mata— др.-в.-нем. hliu-munt. Латинский
показывает регулярно -mento: cognomentum, tegmentum и т.д.
Вторичный суффикс -bha, который присоединяется
преимущественно к основам на -an, служит для образования
некоторых наименований животных. Его функция, по удачному
выражению Курциуса, ограничивается индивидуализацией. Так, основа,
имеющая в зендском вид arshan „самец", появляется в санскрите
лишь в распространенной форме r§a-bhâ „бык" (= rän-bha). Точно
так же: vfSan, vr§a-bhâ. К одной или другой из этих двух основ
относится греч. Είραφ-ιώτης, эол. Έρραφ-εώτης—прозвище Вакха2.
См. Curt i us, Grdz., стр. 344.
1 К этому надо прибавить, однако, сложные слова из количественных
числительных, такие, как saptâçva, dâçâritra. Правда, они стоят несколько
особняком.
2 Начальное ε является, по-видимому, всего лишь эоло-ионийским (ср.
Ιρσην) изменением a. kotodvio следовало бы ожидать, исходя из ζ санскритской
формы)·
332
Греческий, так же, как и санскрит, обладает довольно
большим числом этих основ на -n-bha, среди которых особенно
интересна форма ελ-αφο-ς ; слав, j-elen-ï сохранил нам основу на -en,
от которой он образован. Курциус возводит έλλός „молодой олень"
к *έλ-ν-ό-ς; это было бы другим распространением той же основы
el-en.
Латинские слова columba, palumbes принадлежат,
по-видимому, к тому же типу образования; но следовало бы ожидать
-emba, а не -umba.
Скр. yuvan „молодой, юный", распространенный суффиксом-ça,
дает yuvaçâ. Тому, кто попытался бы сказать, что «носовой
выпал», достаточно будет напомнить о лат. juven-cu-s. Исходной
основой является таким образом yawn-kjâ. Гот. juggs,
по-видимому, восходит к *jivuggs, *jiuggs; ср. niun из *nivun.
Скр. pârvata „гора", по-видимому, является распространением
pârvan. С ним сближают названия страны Παρρασία; см. Vanicek,
Gr.-Lat. Et. W., 523.
Греческая основа εν „один" (более древнее *σεμ-) дает α-παξ
и ά-πλόος, которые восходят к *σφπα£, σιμπλοος. Та же самая
форма sm- обнаруживается в лат. sim-plex = *sem-plex и в
др.-инд. sa-kft.
В Ведах прилагательные на -vant от основ на -an часто
сохраняют конечное η этих основ перед v: omanvant, vfàanvant
и т. д. Это не должно мешать нам распознать в нем носовой
сонант, ибо перед у и w как в греческом, так и в санскрите
регулярным рефлексом его является an, а не a1. Мы уже
констатировали это, говоря об активных причастиях прошедшего
времени на стр. 322, где мы приводили в качестве примера
sasavân. Эта форма является единственной в своем роде; другие
причастия, как, например, gaghanvân, vavanvân, все без
исключения имеют носовой. Само sasavân противоречит во многих
местах размеру. Грассман и Дельбрюк предлагают sasanvân2.
Действительно, в качестве продолжения -nwân следует ожидать
-anvân, и -nwân является единственной формой, которую можно
было бы оправдать морфологически: ср. çuçukvân, cakrvân. Зенд.
gaynvâo тождественно èagh'anvân.
Образования женского рода на -ï составляют особую главу
в деривации. Отметим только те, которые дают основы на -vant,
о которых только что шла речь: nr-vâtî, re-vâtï и т. д. В
греческом этому соответствует -Fsaaa, а не *-Faaaa, как следовало
бы ожидать. Гомер употребляет некоторые прилагательные на
-Fet; в женском роде: ές Πυλον ήμαθόεντα, но из этого вовсе не
1 Эту эволюцию носового сонанта можно ставить в связь с фонемами ïr
и йг, например в titirvân, pûryâte, лишь с большими оговорками, обсуждение
которых завело бы нас далеко в сторону. Существования ζ в cakjvân, gagçvân,
papçvân и т. д. достаточно, чтобы почувствовать диспаратность обоих явлений.
2 Можно было бы также предположить sasavân; ср. säta, säy a te.
333
следует, что -Ρεσσα—целиком поздняя форма: это тем менее
вероятно, что первоначальное -Fsvxya невозможно: оно дало бы
-Fsiaa. Однако отсутствие носового объясняется предполагаемым
*-Faaaa, которое сменило a на ε и которое наряду с этим
осталось, каким было, ограничившись заимствованием вокализма у
мужского рода.
* *
*
Переходим к носовым сонантам в слогах, образующих
окончание, то есть ко второму способу образования этих фонем
(см. стр. 320); в этом случае не предполагается ни
существования a, ни его последующего вытеснения. Теперь нам придется
принимать во внимание такой важный фактор, как ударение,
от которого мы до сих пор предпочитали абстрагироваться,
главным образом потому, что образование носовых (а также плавных)
сонантов по первому способу почти всегда совпадает с
удаленностью (éloignement) от ударного слога, в силу чего вся
последующая история их преобразований оказывается свободной
от влияния ударения.
Напротив, образование носовых сонантов по второму способу
явно полностью независимо от ударения; все же вполне
возможно, что они будут нести ударение, и это может во многих
случаях сказаться на изменениях, которые они претерпят.
Мы будем по возможности кратки, так как мало что можем
прибавить к тому, что уже было сказано Бругманом.
Для арийских языков правилом является то, что носовой
сонант под ударением развивается в ап, а не в a.
Окончание третьего лица мн. ч. -nti. Присоединяясь к
глагольным основам на согласный, это окончание давало место
носовому сонанту. Обычно этот сонант принимает на себя
ударение и тогда развивается в ап:
2-й класс: lih-ânti = lih-nti
7-й класс: yung-ânti = yunè-nti
3-е л. мн. ч. актиза глаголов 3-го класса отличается сдвигом
ударения на редуплицируемый слог; носовой окончания при этом
исчезает: ρί-pr-ati = pi-pr-nti. То же самое происходит у
некоторых глаголов 2-го класса, имеющих ударение по типу глаголов
с удвоением, например ças-ati от cas.
Что касается dâdhati и dädati, то несомненно, что а в корнях
dhä и da выпало перед суффиксом, поскольку в презенсе этих
глаголов а не сохранилось ни перед одним окончанием
множественного или двойственного числа: da-dh-mâs, da-d-mâs и т. д.
Более спорной является, пожалуй, форма 3-го л. мн. ч. gâhati
от такого глагола как hä, 1-е л. мн. ч. которого дает ga-hï-mâs,
где таким образом а сохраняется, по крайней мере перед окон-
334
чаниями с начальным согласным. Тем не менее даже в подобном
случае все существующие аналогии позволяют принять элизию
корневого a; ограничимся здесь лишь третьим лицом мн. ч.
перфекта: ра-p-us от pä, ya-y-us от yä и т. д. Если бы корневое а
удерживалось, оно никогда не было бы носовым сонантом, и η
сохранился бы в 'gâ-ha-nti' так же, как он сохранился в bhâ-
ra-nti. Это подводит нас к соответствующей форме 9-го класса:
punânti. Punânti следует анализировать так: pu-n-ânti = pu-n-nti,
относя а к окончанию, а не к основе; правда, носовой остался
благодаря ударению, совершенно так же, как в lihânti1.
Окончание императива -ntu испытывает те же перипетии, что
и окончание -nti.
Окончание имперфекта -nt после консонантных основ
выступает в форме -an вместо -ant. Под ударением это окончание
является совершенно закономерным (например, vr-ân из var).
Окончание медиума -ntai в санскрите неизменно принимает
вид -ate, если оно присоединяется к консонантной основе. Дело
в том, что первоначально ударение никогда не падало на слог,
образованный носовым: об этом дополнительно свидетельствуют
такие ведийские формы, как rihaté, arigaté. (См. Brugmann,
„Stud.", IX, стр. 294.)
Что касается имперфекта lihäta, то индоевропейское
ударение righntä не может вызывать сомнения, как только мы примем
righntâi (rihaté). Что же касается объяснения древнеиндийской
формы, то здесь возможны две гипотезы: либо ударение
сместилось в относительно позднее время, как например, в презенсе
(вед. rihaté, класс, lihâte), либо это смещение ударения
восходит к более отдаленной эпохе (хотя уже явно арийской), когда
еще существовал носовой сонант: в пользу этого последнего
предположения говорит вед. krânta (Delbrück, A. Verb., 74)
в сравнении с âkrata. Можно было бы сказать, исходя из этих
двух форм, что окончание -ata, в действительности, появляется
лишь в формах, имеющих аугмент2, и что во всех других
формах носовой сонант под ударением должен был дать an; это
объясняет окончание -anta. Позднее его место заняло -ata, и
лишь krânta сохранилось в качестве последнего свидетельства
утраченного дуализма. Это вторая гипотеза была бы излишней,
если бы krânta было аналогическим образованием, в чем почти
нельзя сомневаться в отношении форм, приведенных Боппом
(см. „Kr. Gramm, d. Skr. Spr.", § 279): prâyunganta и т. д. Ср.
выше стр. 312).
1 Все, что можно извлечь из имперфекта apunata, идет только на пользу
нашему анализу.
2 Акцентуация этих форм, несомненно, почти всюду не оказывала влияния
на вокализм, и очевидно, что во всех случаях следует исходить из формы без
аугмента. Впрочем, это не обязательно для периода после распадения
праязыка.
335
Причастие настоящего времени на ~nt. Причастие настоящего
времени от корня типа vaç (2-й класс) дает в именительном
падеже множественного числа uçântas, в родительном падеже
единственного числа uçatâs. В обеих формах имеется носовой
сонант; только этот сонант, в зависимости от ударения,
передается или через an или через a. Наоборот, в такой паре, как
tudântas, tudatâs—от tud (6-й класс), только вторая форма
содержит носовой сонант; вдобавок он возник здесь совсем не
так, как в форме uçatâs: *tudntâs (tudatâs) восходит к основе
tuda2nt, потеряв при этом a, как *tn-tâ (tatâ), образованное οί
tan; форма же *uçntâs (uçatâs) восходит к основе uçnt- и никогда
не теряла а. Некоторые сложные вопросы, касающиеся
различных причастий на -nt, будут рассмотрены в главе VI.
До сих пор существование носового сонанта в глагольных
окончаниях на -nti и т. д. подтверждалось в действительности
лишь отсутствием η в формах медиума и др., например в rihaté.
Языки Европы с их разнообразным вокализмом представляют
более положительные свидетельства.
Славянские глаголы, которые спрягаются без тематического
гласного, имеют в 3-м лице мн. ч. -çtï: jadçtï, vèdçtï, dadçtï;
ср. nes^ï. Точно так же оба аориста на -s давали nëSç, nesoaç,
тогда как аорист на тематический гласный дает nesq.
Греческий имеет после консонантных основ следующие
окончания: в активе: -αντί (-öcat), -axt (-aat); в медиуме: -axât, -ατο1.
Две последние формы не представляют никаких трудностей; все
сводится к тому, чтобы понять, почему актив имеет то -ατι, то
-αντί. Окончание -ατι появляется только в перфекте: έθώκατι,
πεφήνασι, но это же время имеет и -αντί (-âat): γεγράφάσι и т. д.
В презенсе встречается только -αντί. Сохранение п в презенсе
Бругман приписывал влиянию ударения: Iâat=sânti. Что
касается перфекта, то Бругман видит в -ατι правильную форму2:
-αντί проникло сюда по аналогии с презенсом или, что более
вероятно, по аналогии с перфектом корней на а, как, например,
εστα-ντι, τέθνα-ντι. То, что Бругман говорит об ударении,
совершенно не может удовлетворить нас, потому что либо речь идет
об ударении, которое мы находим в греческом, и тогда и βαντι
и εθώκατι —оба оказываются в одинаковых условиях, либо речь
идет об изначальном ударении, для которого нормой служит
санскрит, и здесь снова мы находим полное равенство условий:
sânti, tutudus. Гипотеза о tutudati или tutudati как о более
древней форме tutudus (ср. стр. 320) не имеет под собой прочной
1 У Гесихия встречается, однако, и форма έσσύανται.
2 Здесь надо вспомнить, что автор с полным правом рассматривает
греческий перфект как форму, лишенную тематического гласного; α не принадлежит
основе.
336
основы. Влияние ударения на развитие носового сонанта в
греческом остается, таким образом, под очень большим сомнением1.
В 3-м лице мн. ч. έλυσαν окончанием является -αν; основой —
loa, как это показал Бругман (стр. 311 и сл.). Форма
оптатива λυσειαν неясна. Что касается аркадской формы άποτίνοιαν,
то ничто не мешает видеть в ней рефлекс -nt, а вот простая
форма τίνοιεν, напротив, не находит объяснения. Она может
восходить к оптативу на ιη, как δοίην, 3 л. мн. ч. δοΤεν.
Что касается причастий от аориста на σ, то все они содержат
носовой сонант: λΰσ-αντ. Для презенса следует назвать дор. έ'ασσα
(Ahrens, II, стр. 324) и γεκαθά (έχουσα, Гее), которое М. Шмидт
с полным правом исправляет на γεχασα. Любое замечание по
поводу одной из этих двух форм мгновенно вызвало бы тьму
таких непростых вопросов, что мы предпочитаем лучше их не
касаться.
Окончание -ns в винительном падеже мн. ч. Арийский имеет
после консонантных основ -as, например скр. ap-âs, что было
бы правильной формой, если бы не ударение, падающее на
окончание и заставляющее ожидать *-ân = *ans. Бругман высказал
основательное предположение, что эта форма флексии
подверглась в арийском решающим изменениям (perturbation); что
первоначально винительный падеж множественного числа был
сильным падежом, как это часто наблюдается в зендском и
почти всегда—в европейских языках; и что ударение,
следовательно, падало на основу. Мы можем только присоединиться
к этому мнению. Замене носового сонанта фонемой а
предшествовало кардинальное изменение (bouleversement) с винительным
множественного числа; отсюда отсутствие носового.
Греческий имеет закономерно -ας: πόδ-ας, ср. Ιππους. Такие
критские формы, как φοινίκ-ανς, обязаны своим существованием
лишь аналогии с πρειγευτά-νς и т. д. См. Бругман, цит. раб.,
стр. 299. Лат. -es может восходить прямо к -ns, -ens; умбр,
nerf — *nerns. Винительный падеж готского bro}Druns, вопреки
его кажущейся древности, может быть вторичным образованием
от Ьго[эгит, как именительный broprjus.
1 Проблема является запутанной. Можно ли быть уверенным, что формы
презенса также не испытали на себе действия аналогии? Нет согласия
относительно первоначального окончания 3-го лица мн. ч. перфекта. Далее, следовало
бы внести ясность в вопрос об элизии конечного а корней перед окончаниями
с начальным сонантом: что является более древним—τίΟε-ντι или éâhati =
gahnti? Многое в самом греческом говорит, как кажется, в пользу второго решения
(тогда τι/θέασι, аркад, άπυδόας—остатки *τιθαντι (или τιθατι?) и *άποδας;
краткий в γνοός, fyvov можно было бы объяснить аналогичным образом).
Наконец, поразительные формы 3-го лица множественного числа корня as „быть*
также отнюдь не способствуют прояснению вопроса, и, чтобы покончить с этим,
можно спросить себя, как мы это и сделаем дальше, не была ли форма 3-го лица
мн. ч. в индоевропейском формой с сильным корневым слогом, несущим на себе
ударение.
337
Окончание -m (вин. п. ед. ч. и 1-е лицо ед. ч.). Форма
винительного падежа ед. ч. pâdam и форма 1-го лица имперфекта
âsam (корень as) разлагается на päd-fm, äs+jn.
Чем объяснить, что мы не находим pâda, âsa в противоположность nâma,
daça, о которых речь шла выше? Первое объяснение, к которому прибегают,
состоит неизбежно в следующем: разный результат связан с различием
носовых: pâdam и âsam оканчивались на -m, nâma и dâça — на -п. Именно для
того, чтобы заранее и определенно предупредить этот ошибочный вывод, нам
было важно установить (стр. 328—329), что носовой в daça мог быть только
губным носовым; следовательно, нужно искать другого ответа на этот вопрос.
Вот мнение Бругмана (цит. соч., стр. 470): «Предоставленный самому себе,
язык, по-видимому, был склонен отбрасывать носовой, и в dâça он дал
свободный ход этой склонности, но m в pâdam сохранилось по аналогии с açva-m,
а в âsam — по аналогии с abhara-m». Это означало бы допустить воздействие
аналогии на ход фонетических преобразований, которые обычно рассматривают
как всегда чисто механические; само по себе это положение не содержит
ничего неприемлемого, но оно нуждалось бы в дополнительной проверке. Если
мы обратимся к родственным языкам, то славянский дает нам matere (вин. п.
ед. ч.)1 = скр. mâtâram, но imç=cKp. nâma; в готском есть вин. п. ед. ч.
fadar = cKp. pitâram, но taihun—скр. daça. Это указывает, думается мне, на
изначальное различие. Выше мы допустили, что индоевропейское слово stâmn
(скр. sthâma) всегда было двусложным и что оно не принимало форму stämn 2,
когда за ним следовал гласный. Напротив, можно себе представить, что форма
винительного падежа patarm давала patarm^api, и даже допустить, что patarm
оставалась двусложной перед согласными: patarm^tasya 3. Без сомнения, не
следует устанавливать совершенно жесткого правила; конечный согласный
основы необходимо вызывал изменения; в таких винительных, как bharantm,
двусложное произношение невозможно перед согласными. Но в нашем
распоряжении положительные свидетельства того, что язык энергично
сопротивлялся тенденции m винительного становиться слоговым: это такие формы,
как скр. uSâm, зенд. ushäm = *usasm, pânthâm, зенд. pantäm = *panthanm4,
и целый ряд других, рассмотренных Бругманом в „Studien", стр. 307 и сл.;
KZ, XXIV, стр. 25 и сл. Некоторые случаи, такие, как Zyjv = dyâm, ßo>v = gam,
восходят, по-видимому, к еще более глубокой древности. Точно так же в
глаголе мы имеем 1 л. vam = *varm (Delbrück, A. Verb, стр. 24). Если это
произношение продержалось вплоть до замены носового сонанта гласным а, то
становится понятным, что m в patarm и âsm могло сохраниться и впоследствии
и путем сварабхакти развиться в -am. Гот. fadar вместо *fadarm утратило
1 Шолвин в своей работе „Die Declination in den pannon.-sloven.
Denkmälern des Kirchensl." („Archiv f. Slav. Phil.", II, стр. 523) пишет, что
славянский синтаксис не позволяет с уверенностью сказать, является ли matere
чем-либо другим, помимо родительного падежа, однако допускает, что, по всей
вероятности, эта форма действительно происходит из древнего винительного.
2 Для имен среднего рода на -man, образованных от корня,
оканчивающегося на согласный, это единственно возможное предположение, ввиду того что
носовому η в этом случае предшествовали два согласных (vakmn, sadmn) и,
стало быть, η в этих условиях почти всегда был вынужден образовывать слог
даже перед гласным.— Относительно количественных числительных отметим,
что двусложность saptm доказана соответствием ударения в скр. sapta, греч.
επτά и гот. si bun, которое падало и на носовой.
3 Ср. произношение таких немецких слов, как Harm, Lärm.
4 Эти формы, заметим мимоходом, естественно, важны для более общего
тезиса, согласно которому окончанием винительного падежа согласных основ
является -m, а не -am.
338
конечный согласный, тогда как *tehm развилось в taihun. Что касается
первого лица глагола, то Пауль возводит конъюнктив bairau к *bairaj-u = CKp.
bhârey-[a]m; если это -и совершенно не согласуется с полным исчезновением
окончания в fadar, то по крайней мере оно позволяет сохранить различие
с количественными числительными, имеющими -un. Бругман указывал (стр. 470)
на возможность отнесения винительного tunfni к основе tunf)-; соответствие
с bairau будет в этом случае восстановлено; но почему fadar, а не 'fadaru'?
Следует ли предполагать ассимиляцию винительного именительным? Славянское
*materem, matere, по-видимому, развилось из *materm еще до падения
конечных согласных. Первое лицо нетематических аористов nësu,nesochu больше
не является чистой формой: здесь имела место аналогия тематическому
аористу. С другой стороны, мы находим ime. вместо img. Уже выше нам
следовало бы заметить, что установленное Лескином правило, согласно которому
конечное а. всегда содержит древнее а долгое, не исключает того, что е в тех
же самых условиях могло продолжать носовой сонант: ведь эта последняя
фонема могла иметь совершенно особое действие (ср. гот. taihun и т. д., где
носовой сохранился против общего правила), а ç оказывается на конце слова
только в данном случае [11]. В греческом и латинском оба конечных сонанта
дали одинаковые рефлексы.
Обратим внимание еще на форму 1-го лица перфекта скр.
véd-a, греч. οϊδ-α. Согласно Бругману, первоначальным
окончанием было -т. В этом случае, как говорит Сивере, герм, vait
восходит к форме 3-го лица, ибо нормальным продолжением
vaidm было бы 'vaitun'.
В общем, совокупность фактов, о которых шла речь в этой
главе и открытием которых мы обязаны Бругману и Остгофу 1,
заслуживает всяческого внимания. Эти факты находят свое
объяснение в гипотезе названных ученых о носовых и плавных
сонантах в праязыке, которую мы рассматриваем в дальнейшем
как полностью себя оправдавшую. Приведем в сжатом виде
наиболее важные аргументы, говорящие в ее пользу:
1. Что касается плавных, то всякий, кто не станет отрицать
связь, которую перечисленные факты имеют между собой,
должен будет также признать, что гипотеза о гласном г наиболее
простым образом разъясняет эти факты и представляется
наиболее естественной нашему уму, поскольку эта фонема существует
и мы находим ее на соответствующем месте в одном из языков
индоевропейской семьи, а именно в санскрите. Отсюда большая
вероятность того, что и носовые могли функционировать
подобным же образом.
2. Эта гипотеза объясняет известные изменения вокализма
внутри одного и того же корня, которые происходят согласно
в нескольких языках.
1 Гипотеза о плавных сонантах в индоевропейском была сформулирована
два года назад Остгофом в РВВ, III, стр. 52, 61 [12]. Установленный им более
общий закон соответствия излагается с его согласия в „Mémoires de la Soc.
de Ling.", Ill, стр. 282 и сл. К сожалению, этот ученый нигде не дал полного
изложения своей гипотезы.
339
3. Теоретическое тождество двух видов носовых сонантов —
сонантов, которые образовались в результате выпадения α
(τατός), и сонантов, которых следовало ожидать в результате
присоединения к консонантной основе окончания с начальным
носовым (ήαται) — подтверждается фонетическими фактами.
4. Тем самым названные окончания оказываются сведенными
к единству; отпадает необходимость в допущении дублетов: -anti
и -nti; -ans и -ns и т. д.
5. Мысль о том, что носовые в известных случаях могли
отпасть уже в праязыковой период, при ближайшем
рассмотрении всегда ведет к противоречивым следствиям. Теория носового
сонанта разрешает эти трудности, устанавливая в принципе,
что в праязыке ни один носовой не отпадал.
Можно было бы попытаться атаковать теорию как раз по
этой последней линии, защищая возможность отпадения
носовых и основываясь для этого на санскритском суффиксе -vams,
который дает -uä в самых слабых падежах; греч. -üta=-uäi
свидетельствует о том, что эта последняя форма была уже
в праязыке. Согласно гипотезе носового сонанта, наиболее
слабая форма могла бы дать только -vas = -wns. Но в высшей
степени вероятно, как это показал Бругман (KZ, XXIV, стр. 69
и сл.), что исходная форма суффикса—was, что носовой проник
в него в сильных падежах лишь в индийской ветви и причиной
тому была аналогия1.
И. Шмидт, в целом полностью присоединяясь к теории
Бругмана (см. его рецензию в „Jenaer Literaturz.", 1877, стр. 735),
очевидно, предпочитает заменить носовой сонант носовым с
предшествующим иррациональным гласным: äsantai=^axat. Он
добавляет: «Если хотят, основываясь на ukänas, возводить ukàâbhis
к ukânbhis, то, чтобы быть последовательным, следовало бы также
выводить çvâbhis, pratyâgbhis из *çunbhis, *pratïgbhis». Аргумент
сильный, однако нельзя упускать из виду следующий факт: группы
i-f-n, u + n или i + r, u-f-r могли сочетаться двумя различными
способами, в зависимости от того, на какой элемент этих
сочетаний падало ударение—на первый или второй, что абсолютно
ничего не меняет в их природе. Таким образом, получаем: in
или уп (точнее in), un или wn (un) и т. д. Наблюдение
показывает, что язык избирает первый или второй путь в
зависимости от того, что следует за группой—гласный или согласный:
çu-fn + as дает çunas, а не çwn(n)as; çu + n + bhis дает çwçbhis
1 В пользу этого тезиса, между прочим, говорит anadvah, им. п. anadvân,
происходящее или от корня vah или от корня vadh: ни в том ни в другом
никогда не было ничего известно о носовом. Далее, слово pumân (твор. п.
pumsâ) получает объяснение лишь при условии, если исходить из основы
pumas без носового. Правда, это последнее совершенно бесспорно лишь для
того, кто уже признал существование носового сонанта.
340
(= çvabhis), a не çunbhis. Плавные очень точно подтверждают
это правило: корень war, утратив свое a, превращается в иг
перед суффиксом -и (иги), но в wr—перед суффиксом -ta
(vrta)1.
Можно было бы также возразить, что ukânbhis—бесполезная
реконструкция, потому что в dhanibhis из dhanin, где не может
быть и речи о носовом сонанте, мы замечаем то же отсутствие
носового, что и в ukäabhis. Но основы на -in являются
образованиями неясными, по-видимому, довольно поздними; они могли
легко подпасть под действие аналогии с основами на -an. Можно
привести в связи с этим форму maghctëu от maghâvan,
поддерживаемую метром Ригведы (X, 94, 14) в гимне, просодия которого,
правда, является довольно исключительной. Из таких
сверхслабых падежей, как maghonas, извлекли основу maghon-, от этой
основы получаем maghoSu, как от ukSan—ukäasu.
Хронология носового сонанта довольно ясна в азиатских
ветвях индоевропейских языков, где его уже в индоиранский
период заменил гласный, близкий к a, но где его еще можно
распознать в этом a. Для того случая, где носовой сонант
с последующим полугласным отразился з санскрите в виде ап
(стр. 333), зенд. gaynväo = èaghanvân показывает, что в
арийскую эпоху перед носовым был лишь иррациональный
гласный2.
Показания классических языков, по крайней мере те,
которыми я располагаю, весьма мало доказательны, чтобы стоило
о них говорить. Сивере показал, что в германских языках
появление и перед сонантами г, I, m, nf г) датируется периодом
их единства и не прослеживается после этого (см. РВВ, V,
стр. 119). Таким образом, гот. sitls, то есть sitjs, которое, как
это показал автор, в эпоху германского единства выступало еще
как *setlas, не дало 'situls'.
1 Впрочем, сочетания из двух сонантов порождают массу вопросов,
которые требуют кропотливого исследования и которые нельзя надеяться решить
одним махом. Вот почему выше мы не упомянули такие формы, как éinvânti,
δεικνόασι (ср. δεικνυσι; cinvant, ср. δεικνός). Однако только что
установленное правило, как кажется, находит подтверждение почти всюду в арийском и,
вероятно, также в индоевропейском. Некоторые исключения, такие, как purün
(а не <purvas,) = puru + ns, могли бы быть объяснены специальными
соображениями: ударение в puni падает на конечное и и не переходит на падежные
окончания; род. п. мн. ч. purünäm наряду с purDnâm имеет явно поздние
черты; и следовательно, и вынужденно осталось гласным: поэтому носовой
должен был быть согласным, а форма—иметь вид *puruns. Баритоны на -и
в конце концов последовали этой аналогии.
2 Если бы скр. amâ „дома" можно было сопоставить с зенд. nmâna
„жилище", то мы имели бь^ пример а = о, возникшего в индийский период. Однако
диалект гат имеет demana](S ρ i egel, Gramm, der Ab. Spr., стр. 346),— может
быть, эта форма более древняя (?) [13].
341
§ 3. Дополнения к §§ 1 и 2
От древних носовых и плавных сонантов следует отличать
более поздние явления: различного рода сварабхакти, которые
имеют известное сходство с ними.
Так, в греческом группа «согласный -f носовой -f- у» переходит
в сочетание «согласный -f-avy»1: ττοιμν-|-γω дает *ποιμανγω, ττοιμαίνω;
τι-τν + γω дает *xtTavy(o, τυχαίνω; последний глагол образован так
же, как ϊζω, восходящий к σι-σδ-ya) (см. Ost hoff, Das Verbum...,
стр. 340). Таким же образом объясняются имена женского рода
τέκταινα из *τεκτν-γα, Λάβαινα, ζΰγαινα и т. д.
Плавные менее поддаются такой трактовке; об этом
свидетельствует, например, ψάλτρια при Λάκαινα. Глагол έχθαίρω
образован, возможно, от основы εχθρό, но лексикографы приводят
также имя ср. р. εχθαρ.— Зато эолийский предоставляет в наше
распоряжение: Πέρραμος = Πρίαμος, άλλότερρος = αλλότριος, μέτερρος =
=î μέτριος, κόπερρα = κοπριά (A hrens, Ι, стр. 55); указанные формы
полностью соответствуют духу этого диалекта: они вызваны
переходом i в спирант „йот" (откуда также φθέρρω, κτέννω),
который изменил Πρίαμος в *Πρ]αμος. Вот тогда-то перед плавным
и возник поддерживающий его гласный, которым во всех
других диалектах был, несомненно, а; но эолийский придал ему
тембр ε. В других условиях αμ-öf, согласно объяснению Бруг-
мана, на которое я позволю себе с его разрешения сослаться,
восходит к *σμ-α—твор. п. от είς „один" (основа sam-), тогда как
μία—из *σμ-ία (Curtius, Grdz., стр. 395) обошелся без
поддерживающего гласного [14].
Предлог άνευ можно возвести к *σνευ—видимо, местный падеж
от snu „спина"; в Ведах имеется местный падеж sâno, который
отличается только тем, что он восходит к сильной основе. Для
значения ср. νόσφι (Curtius, Grdz., стр. 320). Впрочем, в
санскрите находим: sanutâr „далеко", sânutya „удаленный",
по-видимому, родственные snu; sanutâr явно восходит к *snutâr; ср.
1 Однако такое αν можно рассматривать и как рефлекс носового сонанта;
носовой сохраняется, например, в скр. gaghanvân = *gaghnwân (стр. 333)
перед полугласным. Таким образом, ποιμαίνω = ποιμηνω. В таком слове, как
*ποιμννον, если оно только существовало, язык разрешил трудность в
обратном направлении, а именно удвоив у в iy: *ποίμνιγον, исторически
засвидетельствованное греч. ποίμνιον1 Ту же альтернативу мы находим в
ведийских наречиях на -uyâ или -viya: *âçwya дает âçuyâ', тогда как *urwyä
становится urviyâ. В этих индийских примерах нельзя усмотреть того, что
предопределяло бы выбор той или другой формы. Наоборот, в греческом
сразу видно, что различие преобразований имеет весьма глубокие причины,
правда, все еще от нас скрытые; в ποίμνιον суффиксом, по-видимому,
является не -уа, a -ia или -iya: между ποιμαίνω и ποίμνιον такая же
дистанция, как между άζομαι и άγιος или между ούσα и ουσία. Закон,
установленный Сиверсом (см. РВВ, V, стр. 129), также не внес еще ясности в этот
вопрос.
342
sanubhis под словом snu у Грассмана. Он приводит также
santur — наречие, близкое sanutâr; в этом случае гот. sundro было
бы его европейским эквивалентом. Ср., наконец, лат. sine.
1 л. мн. ч. έλυσαμεν восходит к *έλΰσμεν. Эта форма вместе
с Ιλυσα, έλυσαν и причастием λΰσας является основанием, на
котором строится весь аорист на -σα.
Аорист Ιχτανον от χτεν принадлежит к тому же образованию,
что и ε-σχ-ον (см. стр. 311). Наличие α в нем обязано скоплению
согласных в *έ-*τν-ον. В εδραμον α имеет то же происхождение,
если только (что сводится к тому же) ρα не представляет собой
рефлекса г и если только Ιδραμον не приравнивать к έ'τραπον. —
σπαρέσΦαι,βαπΗ только оно существует (Curt i us, Verb., II, стр. 19),
восходит, по-видимому, к *σπρέσθαι1.
Германский очень богат явлениями этого рода; это, как и
следовало ожидать, и, занимающий место греч. а. Сивере (цит.
раб., стр. 119) возводит 1-е лицо мн. ч. перфекта bitum и bitrn
к возникшему в результате падения а в *(bi)bitmâ. Ср. выше,
стр. 313. Точно так же Сивере объясняет lauhmuni (см. стр. 150).
Остгоф рассматривает дат. п. мн. ч. broprum (и в этом падеже
явл. общим для всех германских диалектов) как результат развития
broprm, скр. bhrâtrbhyas. Но всегда остается возможность, что
слог um имеет здесь ту же природу, что и в bitum. Иными
словами, слоговое ударение могло падать на носовой так же,
как и на плавный. Ср. готские дательные падежи мн. ч. bajofmm,
menofnim, к которым плавный не имеет никакого отношения.
Что касается пассивных причастий от корней с плавными или
носовыми типа А (см. стр. 310), как, например, baurans при
скр. babhrânâ, то надо полагать, что поддерживающий гласный
пришел сюда из некоторых глаголов, где стечение согласных
развивало его механически, как в numans вместо *nmans, stulans
вместо *stlans. Прибавим сразу же, что такие древнеиндийские
формы, как ça-çram-ânâ ( = ça-çrmm-anâ), представляют то же
самое явление и что в некоторых сочетаниях его следует
датировать эпохой праязыка. Вообще, более поздние вставки, о ко-
1 Аористы пассива на -Φη и на -η любопытны в том отношении, что
корень их принимает редуцированную форму, при этом с такой регулярностью,
которая никак не вяжется с поздней датировкой этих образований. Например:
έτάφην, έτάρφφην; έκλάπην, έδράκην. В эпоху, когда появились эти аористы,
корень δερκ не только утратил способность принимать вид δπκ, но не было
больше вопроса даже о самом существовании корней; их вокализм был,
следовательно, заимствован у других глагольных основ (например, у тематического
аориста в активе, у перфекта в медиуме), свидетельствуя только о том, что
область плавных и носовых сонантов была некогда весьма обширной. Тем не
менее, некоторые формы аориста на -η остаются необъясненными· таковы,
например, έάλην, έδάρην, где за αλ, ар следует гласный. Эти формы, как мы
только что видели, встречаются и правомерны в аористе актива после двойного
согласногОу но не в других условиях: таким образом, έάλην, έδάρην были
образованы вторично по аналогии с έτάρπην, έδράκην и т. д., которые сами
ориентировались на έταρπόμην, ίδρακον и т. д.
343
торых мы говорим, часто смешиваются с некоторыми фонемами,
которые относятся к эпохе праязыка и о которых мы будем
говорить позже; здесь достаточно лишь в качестве примера
привести гот. каигш = греч. βαρΰς, скр. guru.
Всем известно, какое широкое развитие получили в
италийском иррациональные гласные. Группа из этого гласного с
плавным более или менее совпадает с рефлексом древнего плавного
сонанта; но перед m мы находим то е, то u: (e)sm(i) дает sum,
тогда как pedrn дает pedem. Сонант п, по-видимому, отдает
предпочтение е: genu из *gnu, sinus из *snus (скр. snu; см.
Fick, W., I3, стр. 226).
В зендском этого рода явление пронизывает весь язык;
таким образом в нем развивается в основном е. Санскрит
вставляет перед носовым a; мы уже обнаружили несколько таких
случаев; просодия ведических гимнов позволяет, как известно,
восстановить большое число их. Иной раз a даже обозначается
на письме: tatane наряду с tatné, kâamâ наряду с ksmâs.
Ударения в kâamâ было бы достаточно для того, чтобы определить
значимость его a; если бы это a было всегда полным гласным,
оно несло бы ударение: 'käamä'.
* *
*
В заключение главы о плавных и носовых сонантах,
фонемах, которые обязаны своим существованием большей частью
выпадению a, следует остановиться вкратце на том случае,
когда a перестает подчиняться фонетическому закону, требующему
его устранения. Этот случай никогда не встречается у корней
типа А или В (ср. стр. 310), поскольку сонантный коэффициент
в любой момент готов принять на себя функцию корневого
гласного. Наоборот, корни типа С могут расстаться со своим a
только в отдельных, почти исключительных случаях: ведь
устранение a делало бы эти корни непроизносимыми.
Перед суффиксом, который начинается на согласный, эти
корни никогда не устраняют его1. Разве такие инд. формы,
как taptâ, sattâ, taäta, или такие греческие формы, как εκτός,
σχεπτός и т. д., могли бы потерять а или ε? Конечно, нет, и,
следовательно, они никоим образом не ослабляют действенности
закона, требующего устранения а.
Но когда суффикс начинается на гласный и требует при этом
ослабления корня, то такое ослабление может иметь место в
очень большом числе случаев. Выше мы приводили σχ-εΐν, σπ-ειν,
πτ-έσθοα и т. д. от корней σεχ, σεπ, πετ и т. д. В санскрите мы
1 Однако в санскрите имеем gdha, gdhi, sa-gdhi, а в зендском —ha-yôanhu,
происходящие из ghas в результате устранения а и свистящего (как в pumbhis).
344
имеем, например, bâ-ps-ati от bhas, â-ks-an от ghas, который
даст также в силу действия аналогии вторичный корень èa-ka.
Чаще консонантное окружение не позволяет обойтись без а\
возьмем, например, санскритское медиальное причастие
прошедшего времени, теряющее корневое а: корень bhar типа А и
корень vart типа В легко следуют правилу: ba-bhr-ânâ, va-vrt-âna.
Равным образом корень ghas, несмотря на принадлежность к
типу С, дал бы, если бы он имел формы медиума, *ga-ks-ânâ;
но другой корень типа С, например spaç, требовал бы
сохранения a: pa-spaç-ânâ. Этот простой факт разъясняет всю
германскую парадигму: форме babhrânâ отвечает гот. baurans,
форме vavrtânâ — гот. vaurpans; что же касается типа paspaçâna,
то это—gibans. Все глаголы, которые имеют аблаут—giba, gab,
gebun, gibans,—имеют в причастии пассива, так сказать,
незаконное е (i), которое, являясь очень древним, тем не менее
оказывается тут совершенно случайным.
В разных языках существует много случаев подобного рода, но
мы не намерены перечислять их здесь. Очень простое
практическое правило, которое извлекается из них, таково: когда ставишь
вопрос: что происходит обычно с таким-то типом
основ—сохраняет он или отбрасывает корневое a,—то при решении его надо
остерегаться брать в качестве критерия формы, где a (e) не могло
выпадать.
Здесь уместно сказать кратко о том, что происходит в
корнях, примерами которых могут служить as и wak. Строго
говоря, их позволительно связывать с типом С; однако всякому
видно, что сонантная природа начального согласного у wak и
отсутствие его у as создают здесь совершенно специфическую
ситуацию.
У корней типа as, впрочем, немногочисленных, выпадение а
не влечет за собой ни столкновения, ни скопления согласных.
Оно, таким образом, возможно; и действительно, при случае оно
происходит вполне закономерно: отсюда индоевропейская
флексия âs-mi, âs(-s)i, âs-ti; s-mâsi, s-tâ и т. д. Оптатив: s-yâm.
Императив: (?)z-dhi (зенд. zdï)(cM. Osthoff, KZ, XXIII, стр. 579 и сл.).
Ниже мы встретим скр. d-ânt, лат. d-ens—причастие от ad „есть".
Корень wak в санскрите выступает в виде vaç и дает во
множественном числе презенса uç-mâs; равным образом имеем
is-tâ от yaè, ΐέ-ύ от rag и т. д. В чем здесь дело? Безусловно,
в ослаблении корня. Надо только помнить, что слово ослабление
не означает ничего иного, кроме выпадения a. Говорить, вслед
за Бругманом, о „Vocalwegfall unter dem Einfluß der Accentuation"
означало бы предоставить исследователю чрезмерную свободу
действий. Среди других примеров мы находим здесь и.-е. snusâ
„сноха" вместо sunusâ, скр. strt „женщина" вместо *sutn. Даже
если бы в этих словах и выпадало (что бесспорно для вед.
çmasi = uçmâsi), то мы имели бы здесь дело с фактом абсолютно
345
аномальным, которому не имелось бы параллелей и который,
сверх того, противоречил бы закону устранения а: ведь
необходимым следствием этого закона является как раз сохранение
коэффициентов a. Остережемся также употреблять слово
сампрасарана; этот термин, правда, означает просто переход
полугласного в гласный; однако, в действительности, во всех работа*
лингвистов он равнозначен выражению: стяжение слогов уа, wa,
га (ye, we; уо, wo) в i, и, г. В голове тех, кто употребляет
термин сампрасарана, неизбежно присутствует мысль об особом
влиянии у, w, г на следующий за ним гласный и об
абсорбирующей роли, которую, якобы, играют эти фонемы. Если таков
смысл, который придают слову сампрасарана, то надо со всей
решительностью сказать, что праязыковые ослабления ничего
общего с явлением сампрасарана не имеют. Праязыковое
ослабление—это выпадение a, и ничего больше. И то, что ра-pt-tis
происходит от pat, s-mâsi—от as, rih-mâsi—от raigh и uç-mâsi —
от wak, является результатом не ряда различных процессов,
а результатом одного и того же процесса. Впрочем, когда для
более поздних периодов мы, действительно, регистрируем
абсорбцию звука а звуком i или и, то гласный, который получается
при этом, как правило, является долгим.
Выше мы лишь в самых общих чертах затронули вопрос об
этом способе образования плавных сонантов: ср. τρέπω, дающее
έ'τραπον; mrdu, pfthu—от корней mrad и prath. Перечень
примеров можно было бы продолжить. Отметим хотя бы греч. τρεφ,
которое имеет закономерный сонант не только в έ'τραφον и τέθραμμαι,
но и в прилагательном ταρφΰς.
Глава II
ФОНЕМА а В ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ
§ 4. Гласный а в индоевропейских языках Севера
Европы имеет двоякое происхождение
Задача, которую мы поставили в предыдущей главе,
сводилась, собственно говоря, только к расчистке почвы: мы
попытались отделить а древнее и а подлинное—простое или нет, пока
неважно—от всех позднейших наслоений, возникших в силу
различных случайностей. Эта операция была настолько
необходимой, что мы не побоялись надолго задержаться на ней и даже
перейти границы, установленные тесными рамками этой работы.
Сейчас нам представляется возможность очень сжато
изложить те соображения, которые ведут нас к тезису,
сформулированному в заглавии параграфа.
1. Германское и (о) больше не принимается во внимание при
рассмотрении вопроса об а. Во всех тех случаях, когда это не
древнее индоевропейское и, оно всегда восходит к плавному или
носовому сонанту.
2. Теперь в группе северных языков подлежат рассмотрению
только два гласных: е и то, что мы назовем a. Этот последний
гласный появляется в славянском в виде o, но это неважно:
славянское о адекватно а в литовском и германских языках; тембр о
в сущности ничего не меняет.
3. Напротив, в южной группе мы имеем три гласных: e, a, o.
4. Южное e соответствует северному e; южные a и о оба
соответствуют северному a.
5. Мы знаем, что когда греческое α чередуется сев корне,
содержащем плавный или носовой (не начальный), то α является
вторичным и восходит к сонанту.
6. Однако указанные корни оказываются единственными,
в которых встречается чередование α и ε, а это, стало быть,
означает, что греко-латинское a и греко-латинское е никак не
связаны друг с другом.
347
7. Напротив, чередование е и о в греческом, а первоначально
также и в италийском является абсолютно нормальным (ετεχον:
τέτοκα, τόχος; tego:toga).
8. Каким же образом a и о южных языков могли бы все же
произойти из одного и того же первоначального a? Каким чудом
это древнее a могло принять тембр только о, но ни в коем
случае не a, причем всякий раз, когда его сопровождало
e?—Вывод: дуализм а и о классических языков является исконным,
и, стало быть, в северных языках обе фонемы должны были
слиться в одну фонему a.
9. Подтверждение: когда один и тот же корень имеет a в
греческом и в латинском и этот корень встречается в северных
языках, мы немедленно обнаруживаем, что он и там все еще
сохраняет a и, что очень важно, это а не чередуется с e, как
бывает в тех случаях, когда в греческом ему соответствует о.
Так, гот. vagja = rpe4. οχέω, hlaf = rpe4. (xs)xkoya выступают в
сопровождении viga и hlifa. Однако agis(a-) = rpe4. όίχοζ или же
а1а = лат. alo не имеют вообще родственных слов с гласным е.
В свою очередь корни этой последней разновидности обладают
особенностью, не известной корням первой, а
именно—способностью удлинять свое a (agis:ög, ala:öl); об этом мы будем
говорить ниже [15].
Прототип европейского е Бругман обозначил как ах\ а2
у него—это фонема, которую мы до сих пор называли о. Что же
касается третьей фонемы, которая отражается в
греко-италийском а и которой в северных языках соответствует половина
всех наличных в них a, то мы обозначим ее буквой л, с тем
чтобы подчеркнуть, что она не родственна ни e (ax), ни о (a2).
Если не принимать пока во внимание другие возможные
разновидности a, то мы получим следующую таблицу:
Северные языки
Первоначальное состояние
ai
а2
А
Греко-италийский
е
о
а
§ 5. Эквивалентность греческого « и италийского а
В предыдущем параграфе мы говорили о греческом α и об
италийском a, как если бы это был один и тот же звук; и
действительно, общепризнано, что в большинстве случаев они экви-
348
валентны друг другу. Нижеследующий перечень примеров,
составленный с максимально возможной полнотой, является в
основном воспроизведением первого из списков Курциуса
(„Sitzungsberichte...4', стр. 31). Эти материалы необходимо было
предъявить читателю хотя бы для того, чтобы четко обозначить
границы области плавных и носовых сонантов в греческом;
напомним, что альфа отнюдь не всегда является анаптиктическим
гласным вторичного происхождения.
Наряду с этим цитированная работа содержит два списка
примеров, с выводами из которых наша теория, казалось бы,
находится в противоречии. В первом из этих списков приводятся
случаи, когда греческое α противостоит латинскому е; во
втором—слова, в которых, напротив, греческое е соответствует
латинскому a. Разумеется, подобные соответствия (échange) е и a,
более или менее согласующиеся с гипотезой о расщеплении
единственного a, почти несовместимы с гипотезой о двух
различных уже в праязыке фонемах а и ах. Однако для того, кто
принимает теорию носовых сонантов, число случаев первого рода
уже значительно сокращается: он вычеркнет έχατόν—centum,
δασΰς—densus, παχύς—pinguis и т. д. Тщательно взвесив эти
случаи и учтя все уточнения, обоснованные новыми работами,
мы получим совершенно ничтожный остаток; это—исключения,
от которых не свободно почти ни одно правило звукового
соответствия. Мы можем даже обойтись без подробного разбора
материала: достаточно будет двух-трех примеров. Κρέας—саго:
Бреаль показал („Mém. Soc. Ling.", II, стр. 380), что эти два
слова вовсе не родственны. Μέγας—magnus: корень совсем не
один и тот же, как мы это увидим ниже. Κεφαλή—caput:
греческое φ делает это сближение по-прежнему невозможным [16].
Τέσσαρες—quattuor: языки, находящиеся в ближайшем родстве к
латинскому, имеют здесь е: умбр, petur, оск. petora; quattuor,
без сомнения, является изменением *quottuor вместо *quettuor
(ср. colo=*quelo и т. д.). βαστάζω—gesto (Фик): их идентичность
неубедительна, так как следовало бы ожидать по меньшей мере
*(g)vesto; gesto и gero скорее родственны греч. ά-γοστός1 „ладонь",
где o = a2. Что же касается άχήν (ср. αχηνία), которое сближают
с лат. egeo, то, во всяком случае, надо принять во внимание
глоссу άεχήνες· πένητες (Гее).—Самым примечательным примером,
который приводится в подтверждение эквивалентности е и a,
является греч. έλί*η „ива" = лат. salix (др.-в.-нем. salaha); но и
здесь можно возразить, что Шхг\—это аркадское слово, и при-
1 Равное в свою очередь скр. hast а. Зендское zaçta показывает, что
гуттуральный начальный является палатальным, а не велярным. Вот еще один
пример, дополняющий ряд: hânu—γένυς, ahâm — έγώ, manant—μέγας, gha—γε
(hid—καρδία).
349
влечь ζέρεθρον == βάραθρον и другие формы того же диалекта1
(Gelbke, „Studien", II, стр. 33).
В самом греческом языке—мы не касаемся здесь диалектных
различий—ученые часто допускали чередование е и а. Как мы
уже отметили в § 4, это явление ограничено классом корней,
в которых а, будучи поздним рефлексом плавных и носовых
сонантов, на самом деле не является а. Мы не думаем, что это
чередование могло иметь место в каких-нибудь других случаях.
Нам кажется излишним вступать здесь в споры по
этимологическим вопросам: это не представило бы для нас особого
интереса. Уже сам тот факт, что из всех приведенных примеров нет
ни одного, который не вызвал бы споров, достаточен для того,
чтобы возбудить сомнение. Стоит только посмотреть на
глагольную флексию, чтобы констатировать, что там по крайней мере
нет и следа а, заменяющего ε вне корней на плавные и носовые.
Насколько обычна в этих двух последних классах парадигма
τρέπω, έ'τραπον, τέτραμμαι, έτράφθην, настолько она была бы
невероятной во всех других случаях. Один такой пример, правда,
был приведен. Курциус склонен считать правильной данную
Аристархом и Бутманом деривацию гомеровского пассивного
аориста έάφθη (βπι δ'άσπίς έάφθη— „Илиада", XIII, 543; XIV, 419).
Это слово, по-видимому, означает „наваливаться на кого-либо"
или, по мнению других, „оставаться прикрепленным, прилегать".
Исходя из первого значения, Бутман видел в έάφϋη аорист от
έπομαι, отвергая мнение, связывающее его с απτω. Во всяком
случае, вряд ли кто-нибудь захочет утверждать на столь шатком
основании возможность аблаута ε—α в глагольной флексии.
Скорее следовало бы прибегнуть к этимологиям, пусть даже
самым рискованным (ср., например, гот. sigqan „падать" или же
скр. sang „прилегать"; α в этом случае явился бы
представителем носового, сонанта).
Рассмотрим еще три случая из тех, в которых
эквивалентность ε и α резко бросается в глаза: vâ(F)o) „плыть", va(F)(o (эол.
ναυω) „течь"; ср. скр. snauti. Как одна и та же первоначальная
форма могла одновременно дать νέΕω и vaFû>? Это, по-видимому,
трудно себе представить. Эта трудность исчезнет, если, отделив
vaFo) от древнего корня snau, мы сблизим его с snä: vaF
развилось из snä совершенно так же, как cpaF (φαδος)—из bhä, χαΡ
(χαυνος, χάος) — из ghä, σταΡ(σταυρός)— из stä, λαΡ(άπολαΰω)—из lä,
èoF(ôuFavoÎ7j)—из dâ, yvoF(vooç, gnavus) —из gnä. νέ(σ)ομαι
„приходить", ναίω, ε'νασσα, ένάσθην „обитать"; ср. скр. nâsate. Значения
неплохо подходят друг другу, но нет гарантии, что nas будет
подлинным корнем у ναίω; ср. δαίω, έδάσσατο, -δαστος. С другой
стороны, следует учитывать ναδος „храм", которое Курциус,
1 Мы намеренно не приводим ζέλλω, которое на первый взгляд было бы
лучшей параллелью.
350
правда, предлагает возводить к *vaaFo;. Γάστυ „город" имеет
тот же корень, что и гот. visan; этот же корень предполагается
также в греч. εστία и с еще большей вероятностью—в άέσκω,
ά'εσα „ночевать, спать". Faa-τυ относится к άΡέσ-κω точно так же,
как латинская основа vad—к греч. άΈεθ-λον: речь идет здесь
о совершенно особых фонетических явлениях.—Прочие случаи
могут быть исключены подобным же образом. В двух словах —
δεΐπνον = *δατανον и είκλον, варианте αίκλον (см. Baunack,
„Studien", X, стр. 79), α, по-видимому, ассимилировалась
последующему i. Что касается κλείς, γείτων, λεώς, λειτουργός, ρεία и т. д.
наряду с κλάΐς, γα, λαός, ρφίιος и т. д., то нет нужды говорить,
что их ε вместо η оказывается всего лишь ионическим
рефлексом а.
После детальной критики этого пункта, предпринятой Бруг-
маном, никто уже не будет склонен приписывать диалектным
формам φάρω, τράχω, τράφω и т. д., равно как и ΡεσπάρΜς, άνφό-
ταρος, πατάρα, какое-либо значение при рассмотрении вопроса
об a. Аве („Mémoires de 1а Soc. de Linguist.", II, стр. 167 и сл.)
уже давно объяснил α в этих словах влиянием г. Само собой
разумеется, что здесь мы имеем дело не с гласным г,
порождающим а, а с согласным г, изменяющим ε в а. Обратное явление
обнаруживается в некоторых ионических и эолийских формах,
таких, как έ'ρσην, γέργερος, χλιερός.
Как показывает список Корссена (II2, 26), чередование a и e
почти полностью отсутствует также и в латинском, по крайней
мере в той степени, в какой не учитываются некоторые особые
и поздние фонетические изменения. Также совпадает вокализм
в различных италийских диалектах и, стало быть, в этом
отношении их можно рассматривать как одно целое. Самое
значительное расхождение составляет латинское in- (отрицательная
приставка) и inter по отношению к оскскому и умбрскому an,
anter. Это расхождение, мы надеемся, разъяснится позднее.
Нижеследующие примеры разделены на три группы в
зависимости от места а и его окружения в корне.
1. Корневой слог не содержит ни носового, ни плавного, ко-
торый не был бы начальным. В начале списка даны корни, общие
большому числу слов. Буквы С и F отсылают к этимологическим
работам Курциуса и Фика [17].
akt:
ak2:
ag:
ар:
kwap:
dap:
1 так:
2 так2:
ά'κ-ρος, άκαχ-μένος
ακ-αρος, άχ-λυς
ά'γ-ω, άγ-ός
απ-τω
καπ-ш, καπ-νός
δάπ-τω, δαπ-άνη
μάκ-αρ, μακ-ρός
μάχ-ομαί, μάχ-αιρα
ac-ies, ac-us и т. д.
aqu-ilus. (Fick)
ag-o, ac-tio.
ар-tus, ap-ere (?).
vap-or, vappa. (Curtius)
dap-es, dam-num1.
mac-te (macer?).
mac-tare, mac-ellum.
351
mad: μαδ-άω, μαδ-αρός
lak: λάκ-ος, λακ-ερός
lag: λάγ-νος, λαγγ-άζω
lap: λάπ-τω, λαφ-ΰσσω
las: λιλα(σ)-ίομαι, λάσ-
sap: σαπ-ρός, σαφ-ής
ά'βινέλάτην
αγρός
άκχός
αμνός
άξίνη
άξων
Άπι-δανός
από
άττα
άχνη
abies.
ager.
axilla,
agnus3.
ascia.
axis.
amnis4.
ab.
atta.
agna.
âla
τη
mad-eo, mad-idus.
lac-er, lac-erare.
lac-sus, langu-eo. (Curtius)
la-m-b-o, lab-rum.
las-c-ivus.
sap-io, sap-or. (Curtius)
βάκτρον
βασκαίνω
δάκρυ
κάδος
κακκάω
κάπρος
ράξ
ιάπτω
λάχνη
φαφαρός
baculus.
fascinare (?)
dacruma.
cadus.
cacare.
caper.
racemus (?).
jacio (?).
lana.
scabies.
В дифтонге:
ai. αϊθω aestas, aestus.
αιών aevumб.
afoa(ai*-yα) aequus.
(δα(ιΡ)ήρ lêvir.)
λαιός laevus.
σαιοι saevus6 (?).
σκαιός scaevus.
дор. at, оск. svai7.
1. О соотношении damnum и δαπάνη см. Beehstein, „Studien", VIII,
стр. 384 и сл. Автор забывает упомянуть, что даже во времена Светония
(Нерон, гл. 31) damnosus означало „расточительный".
2. Предпочтительнее не включать сюда третий корень так, который
встречается в μάσσω—macero, так как е в слав. mçkna.ti усложняет вопрос.
3. См. Fick, KZ, XX, стр. 175; слав, jagnç с g2 подтверждает
древнюю форму *άβνός, предполагаемую для греческого слова.
4. Курциус интерпретирует название реки Άπιδανός как άπι „вода" + δανό
„дающий"—этимология, которая могла бы найти некоторую опору в 'Ηρι-δανό-ς
(скр. vâri „вода"); к тому же корню он относит Μεσσάπιοι, γη Άπία и т. д.
Вопрос только в том, имеем ли мы дело с ар (откуда amnis) или с ак2 (в aqua);
но и в том и в другом случае латинский дает а.
5. а является долгим: греч. έπηετανός, скр. âyus.
6. См. Savelsberg, KZ, XVI, стр. 61. Чтение σάΐο ι делает
сближение сомнительным.
7. Здесь тоже можно предполагать долгое а; возможно, таким же образом
удастся объяснить ε Σ вместо ηί.
au. au g: αογ-ή, αοχ-σις aug-ere, aug-ustus.
laus: αυως; άέλιος aur-ora; Aus-elius. (Curtius)
2 aus: έξ-αυσ-τήρ h-aur-io, h-aus-tus1?
g au: γαδ-ρος, γη-θέω gau-dere, gav-isus. (Curtius)
kaup: κάπ-ηλος 2
ρ au: παυ-ω
stau: σταυ-ρός
caup-o, сор-a. (Curtius)
pau-cus, pau-per.
in-stau-rare. (Curtius)
352
1. Fick, BB, II, стр. 187.
2. и исчезло в греческом, как в κλονις и других формах; см. О s t h о f f,
„Forschungen", I, стр. 145; Misteli, KZ, XIX, стр. 399.
θραύω fraus.
καυλός caulis.
σαυχμός saucius.
ταύρος taurus.
αύρα
αδτε
ένι-αυτός
θαδνονθη-
ρ(ον (Гее.)
а перед υ
aura (заимствовано?)
autem (?).
autumnus (?).
Faunus (?).
/ άπο-λαυ-ω
1 a(F)-i<o
j πα(Ρ)-ίω
Ι φαδ-ος, <pa(F)swfc
Lav-erna, lav-erniones. (С.)
av-eo, av-idus (?). (С.)
pav-io.
fav-illa. (Curtius).
2. Корень содержит неначальный плавный или неначальный
носовойг. В ряде примеров (мы привели некоторые из них в
скобках) a, несомненно, отражает не что иное, как а: это анапти-
ктическое a, связанное с явлениями, изученными в главе VI [18].
апк:
angh:
а г:
а г:
ark:
arg:
al:
(?) а 1 g:
кап:
[kard:
kal:
[bhark:
[s a г к:
[sa r ρ2:
1 sal:
2 sal:
[skand:
άλλος
[αλκΐ)
άλκυων
άλφός
[άμφί
[αμφω
άν-
άγκ-ώγ, άγκ-ΰλος
άγχ-ω
άραρ-ίσκω, ά'ρ-θρον
άρ-όω
άρκ-έω
άργ-ός [άργ-υρος]
άρπ-άζω, άρπ-αλέος
άν-αλ-τος
άλγ-ος, άλγ-έω
καν-άζω, ήι-καν-ός1
κράδ-η, κραδ-αίνω
καλ-έω
φράσσω, φρακ-τός
ράπ-τω
δρπ-η
αλ-λομαι
σάλ-ος, σαλ-άσσω
κάνδ-αρος
alius.
alces.]
alcedo.
albus.
amb-.]
ambo.]
an.
anc-us. (Curtius).
ang-o, ang-ustus.
ar-tus.
ar-are, ar-vum.
arc-eo, arx.
arg-uo [arg-entum].
rap-io, rap-ax.
al-o, al-umnus. (C.)
alg-eo (?).
can-o, can-orus.
card-o. (C.)]
cal-endae, cal-are.
farc-io, frac-sare.]
sarc-io. (Bugge)]
sarp-o, sarmen.]
sal-io, sal-tus.
sal-um. (C.)
cand-eo,cand-ela. (C.)]
λάξ
κάρταλος
κράμβος
μάλβαξ )
μαλάχη /
μάμμη
дор. νασσα anat-.
calx.
cartilago*
carbo.
malva.
mamma.
1 В этот список не включены пары σφάλλω—fallo и άλφάνω— labor как
спорные.
12 Φ. де Соссюр
353
[αν- (отриц.)
άνεμος
αντί
αράχνη
[αρμός
apOV
[βαρΰς
βλάπτω
βάρβαρος
βάλανος
γάλακτ-
γλαμυρός
γλαφυρός
κάλ^η
κάμαρα.
дор. χαποζ
καρκίνος
оск.-умбр. an-.]
animus.
ante.
arânea.
armus.]
arundo(?)(Fick).
gravis.]
suf-flâmen (?)2.
balbus.
glans.
lact-.
gramia.
glaber (?)
clacendix.
camurus
campus.
cancer.
δί-πλαξ
[παλάμη
πάλη
Αορ.πδνίο
πλάξ
πραπίδες
ραιβός
αλς
ρακτοί
σκάλοψ
σκάνδαλον
[αφλαστον
ήλος ϊ
1 γάλλος /
χάλαζα
Λορ.χάν7
умбр, tu-
plak4
palma.]
palea (Fick).
pannus.
planca.
palpitoê.
valgus (?).
sal.
an-fractuse.
talpa. (C)
scando. (C.)
fastigium.
(Fick).]
vallus. (C.)
grando.
anser.
1. ήικανός· ό άλεκτρυων (Гее.)
2. Fick, ВВ, I, стр. 61.
3. „Studien", V, стр. 184.
4. бв латинском duplex обусловлено законом ослабления, которое
затрагивает вторые члены сложных слов.
5. Мы отделяем таким образом palpito от ραΐρο^ψηλαφάω.
6. См. стр. 318.
7. Ah г ens, II, стр. 144.— antrum и bracchium заимствованы из
греческого.
К вышеприведенной таблице следует добавить пять корней,
которые, по сути дела, вероятно, не содержат носового, хотя и
принимают его во многих языках, несомненно, под влиянием
суффикса. Эти корни находятся к тому же в таком состоянии,
что иной раз может возникнуть сомнение, какой гласный они
содержат: е- или а; исследование тех изменений, которые они
претерпели, едва ли возможно в настоящее время. То же самое
можно сказать и о некоторых только что упомянутых корнях,
которые помещены в скобках.
κλάζω, εκλαγον, κέκλαγγα, clango, clangor,
κεκληγώς, κλαγγή
Ср. др.-сканд. hlakka, гот. hlahjan, hloh, лит. klegù (Fick, I8, стр. 541).
τεταγών tango, tago, tetigi, tactus.
Фик приводит также гот. stiggvan, что плохо согласуется с лат. tago.
Несомненно, не следует думать о гот. tekan; это последнее слово родственно
греч. δάκτυλος (корень dag; ср. digitus).
πήγνυμι, πέγηγα, έπαγη, pango, pago, pepigi,
πηκτός, πάγη pignus, päciscor, pâx.
354
Ср. гот. fâhan, faifâh или же др.-в.-нем. fuogï; скр. pica.
πλήσσω, дор. π·λαγά, βξεπλ&γην; plango, planxi, planctus,
πλδζω, έπλάγχθην pläga (Curt ius,Grdz.,стр. 278.)
*ά*αλον „городская стена" cancelli „решетка, барьер".
Фик, сближающий эти два слова (II3, стр. 48), сравнивает с ними скр.
kâéate и kânéate „привязывать". Но отсюда только шаг до гот. hâhan, haihâh
„вешать". Отождествление этого последнего глагола с скр. çânkate „быть
озабоченным, сомневаться и т. д." (I3, стр. 56) имеет уязвимый пункт в значении
древнеиндийского слова. Ср. Pott, Wurzel Wörterbuch, III, стр. 139.
Приведем, наконец, различные примеры, которые можно
распределить по таблицам 1 и 2, но содержащие долгое ä в одном
из двух языков или даже в обоих. Это долгое а подлежит
регистрации в качестве новой фонемы, а так как она явно
находится в связи с Â, то мы можем теперь же обозначить ее через л,
дав себе слово исследовать ее в дальнейшем более подробно.
дор. уарш
дор. (F)ötyco2
(F)i(F)*jrt
дор. καλίς 2
μάλον
νδδς
дор. παλός 2
πηρός, παδρος
дор. το παρος
πεπαρεΤν
garno \
vâgio.
câligo.
malum.
nävis.
pälüd5.
pärum.
parvus.
ap-päreo6.
ÎftfaUc} radix·
( clävis.
дор. xla(F)i<;2 \ claudo.
дор. κλαρος 2 glärea3.
λάας позднелат. gravarium4 (?).
ράπυς râpa.
σ«ήπων7- scäpus.
ε'υαδε} SUaVls'
(ταώς pavo3.)
χαμός hämus.
ψηλαφάω(η = â?) palpare.
дор. ψαφος säbulum.
Сюда же относится корень слов magnus, major, оск. mahlis
и т. д., который лег в основу греч. μήχος, μηχαρ, дор. μαχανά
(Ahrens, II, стр. 143). См. стр. 359.
1. Корень лат. garrio, действительно, не полностью идентичен корню γαρύω
(ср. лит. garsà).
2. Ahrens, II, стр_. 137 и сл.
3. Возможно, что glarea заимствовано; pâvo заимствовано почти наверняка.
4. Pictet, Origines Indo-européennes, I1, стр. 132.
5. Помимо этого, palus сближают с πλάδος.
6. Curtius, Verbum, II, стр. 29.
7. Дор. σκάπάνιον (Ahrens, II, стр. 144).
3. а стоит на конце корня:
gha1: χα-λά, χα-τέω
χα-τίζω, χα-τίς
pä: πα-τ-έομαι
α-πα-σ-τος. πα-νία
fä-mes, fä-tuus.
fä-t-iscor, fä-t-igo.
pS-nis, pâ-bulum, pa-sco,
pa-s-tor2, pä-vj,
12*
355
bhä: дор. φα-μί, φ$-μα; fä-ri, fä-ma,
φά-τις; 1 л. мн. φα-μέν fâ-bula, fä-t-eor.
(?)lâ3: υλα-ω, υλα-κ-ή lä-trare (lâ-mentum?).
stâ: дор. ι-στα-μι, Ι-στα-ν; Stâ-tor [19], stämen,
στα-τήρ; 1 л. мн. î-στα-μεν stä-tus, stä-bulum.
(s)nä: νά-ρός, να-μα nä-tare, nä-trix,
vet-σος, Νά-ϊάς nâre.
spâ: дор. σπα-ôtov, σπά-ω spä-tium (pa-t-eo?).
pa-nd-o, pa-s-sus.
1. Связь латинских слов с корнем ghä общепризнанна; что касается hisco,
hi are и т. д., то их нельзя вывести непосредственно из gh5; hiare — это лит. zioti
(корень ghyâ), и сходство hisco с χάσκω не должно возобладать над этим
соображением.
2. Schmitz, Beiträge zur lat. Sprachk., стр. 40.
3. Допуская в ύλάω случай протезы, мы восстанавливаем в греческом
корень, который представлен почти во всех родственных языках. Правда, Фик
находит его в ληρος, ληρέω. Гомеровское λάων спорно. άλυκτεΐ·δλακτεΙ. Κρήτες
мало что проясняет.
Вышеприведенные примеры представляют нам немало случаев
расширения корня посредством зубного, расширения, весьма
свойственного корням на ä и реализующегося к тому же несколькими
различными способами. Приведем корень, который появляется
в обоих языках только в расширенной форме (ср. Curtius,
Grdz., стр. 421):
la: дор. λά-θ-ω; è'-λα-θ-ον Ια-t-eo.
Носовой в λανθάνω не дает никаких оснований предполагать
в этом слове корень Ian, который не могло бы подтвердить и скр.
rândhra „пещера" ввиду своей изолированности. Гесихий, правда,
приводит άλανές· αληθές, но другая глосса — άλλανής'ασφαλής.
Λάκωνες не позволяет извлечь из этого какие-либо данные
относительно λανθάνω.
Лат. ma-nd-o „жевать" (ср. pa-nd-o, λα-νθ-άνω), ma-s-ticare,
ma-nsu-cius и т. д. и греч. μα-σάομαι равным образом
основываются на корне та, от которого образовано также гот. mat(i)-s
„обед".
Сюда же относится, наконец, и лат. pa-t-ior, pa-s-sus,
соответствующее πά-σχω, ε-πα-θον; мы уже видели и далее еще увидим,
что почти невозможно решить, является ли α этих греческих слов
древним α или же оно восходит к носовому сонанту.
Остается упомянуть:
дор. μ6τηρ = mater χλόφός =h(i)läris (?).
φρ^τηρ = fräter [дор. τλατός = latus.]
πατήρ = pater πρασιά, ср. prâtum.
Дёдерлейн („Handbuch der Lat. Etym.") сравнивает latex
„ручеек" с λάταξ „шум от падения игральной кости". Рошер показал
356
(„Stud.", IV, стр. 189 и сл.), что многочисленные формы слова
βάτραχος „лягушка" восходят к *βράτραχος, которое он сближает
с лат. blaterare. Нужно было бы привести также и λάτρις,
соответствующее latro, если бы это последнее слово не было
заимствовано из греческого (Curt i us, Grdz., стр. 365).
Суффиксальные слоги содержат л и а в сравнительно
незначительном количестве. Эти фонемы, за немногими исключениями,
мы находим лишь в суффиксе имен женского рода первого
склонения: греч. χώρα, др.-лат. forma. Некоторые падежи этого
склонения имеют также л краткое; см. конец § 7. Краткое а
появляется затем в именительном—винительном мн. ч. имен среднего
рода 2-го склонения, где, вероятно, оно было сначала долгим:
греч. δώρα, лат. dönä (др.-лат. falsa?). См. § 7.
Кроме этого, л является окончанием консонантных основ
среднего рода в именительном—винительном мн. ч. Например, γένε-α,
gener-a. Однако известно, что датировка этого окончания не ясна.
§ 6. Фонема л в индоевропейских языках
Севера Европы
Что нужно, когда идет речь о греко-латинском слове, чтобы
быть уверенным, что это слово содержит л? Нужно только, чтобы
(при условии отсутствия носовых и плавных сонантов) в
греческом и латинском было а. Однако, если слово существует только
в одном из этих двух языков, вообще достаточно, чтобы в этом
языке оно имело а: италийское или греческое неанаптиктическое a,
в какой бы форме оно не находилось, имеет качество а.— В
северных языках эта задача сложнее: каждое a само по себе может
быть а или a2. Прежде чем приписывать ему качество A, нужно
убедиться, что оно не может представлять собой a2. Очень часто
это возможно решить для каждого языка отдельно, даже не
обращаясь к родственным языкам, а именно посредством
морфологических данных, указывающих, в каких формах ах заменено
на a2. Если форма принадлежит к числу тех, которые не
допускают a2, значит можно быть уверенным, что a —это а. Основа
презенса, однако только у первичных глаголов, является
наиболее распространенной из этих форм.
При выборе корней, содержащих а в северных языках, мы
следовали, по мере возможности, этому принципу. Сперва мы
должны, не выходя за пределы этой языковой группы, прийти
к заключению, что корень действительно содержит л; затем мы
производим сравнение с южными языками с тем, чтобы получить
подтверждение в том случае, если последние имеют a в этих
357
корнях. Ср. § 4, 9. Мы не включили такие примеры, как слав.
orja при лат. arare или гот. pahan при лат. tacere: и это не
потому, что есть основания усомниться в том, что их а—это а,
но по той причине, что в силу вторичности этих глаголов нельзя
различить в самом языке, восходит ли их a к a2 или нет;
определить это можно, лишь привлекая a южных языков. Напротив,
данная ниже таблица как раз и предназначена продемонстрировать
идентичность южного а тому из северных a, которое не может
быть a2. Однако для самостоятельных именных основ такой
отбор был невозможен.
Большинство примеров можно почерпнуть в богатых
материалах, собранных Амелунгом; тем не менее мы не можем просто
отослать к ним читателя, так как, согласно своей системе,
допускающей только одну первоначальную фонему как для
северного a, так и для южных a и о, взятых вместе, автор
привлекает, не делая различий, гот. akrs = rpe4. αγρός, гот. hlaf = rpe4.
κέκλοφα. Настоящий список далеко не полон: это, скорее,
материал для иллюстрации.
Alq:
Agi:
Aghl2:
kAp:
twAk3:
dhAbh4:
m Akj:
mAghg!
wAdh:
sk Ap:
skAbhs
ап:
Anghj:
Al:
слав, os-tru; лит. asz-trùs, aszmen-
др.-сканд. ak-a, ôk
гот. ag-is, og (ирл. ag-athar)
гот. haf-jan, hof2
гот. f>vah-an, Jbvoh
: слав, dob-rfi; гот. ga-daban,
гот. ma(h)-ists-
слав, mog-ç; гот. mag-an~
др.-сканд. vad-a, vôd
слав. kop-a^e; лит. kap-oju
гот. skab-an, skof
гот. an-an, on; слав, ç-ch-a
гот. agg-vus; слав, çz-uku; лит
гот. ai-an, ol (ирл. al)
ga-dob
. ànksztas
ac-ies, ά'κ-ρος
ag-o, αγ-ω
ά'χ-ος,άκαχ-ίζω.
cap-io.
τάχ-ω,
έ-τακ-ην.
fäb-er.
μακ-ρός.
mag-nus,
μαχ-ανά.
väd-o, väsi. (F.)
σκάπ-τω,
κάπετος.
scab-o, scäbi.
an-imus,
ά'ν-εμος.
ang-o, ά'γχ-jD
al-ο,ά'ν-αλ-τος.
1. Греч, δχομαι, &χος, ήkαχov, δχθος; гот. ag-is, un-agands, перф.-през.
og и т. д. восходят κ корню agh без носового, который, по-видимому,
отличается от angh. Первый корень дает в санскрите aghâ „злой" (agha-m „зло,
несчастье"), aghalâ (то же), aghâyâti „угрожать"; второй—amhu, âmhas и т. д.
Первый обозначает моральное зло, впрочем, довольно неопределенное, второй
означает „прикреплять, крепить". Конечный гуттуральный ясно показывает,
что здесь уместно делать различие; действительно, зенд. 3zanh, слав. <|zuku
указывают на ghx и, следовательно, воздвигают барьер между скр. amhu и скр.
aghâ.,Только внешне gv в гот. aggvus противоречит славянскому изендскому
ζ: мы думаем, что ν в данном случае пришло из косвенных падежей, где оно
всего лишь является продолжением суффиксального и. Но нужно признать,
что зенд. a^ana „vinculo" ставит эту комбинацию под сомнение.
358
2. haf jan—сильный глагол; иначе, согласно вышесказанному, мы не должны
были бы его приводить.
3. Представляется почти невозможным сближать гот. ]>vahan, ]>voh с греч.
τέγγω (несмотря на &τρεγκτος = &τΡεγκτος). Напротив, греч. τήκω не
представляет никаких формальных трудностей; правда, значения заметно расходятся, но
они могут объединиться в понятии „источать", которое восходит к скр. toçate;
с последним сравнивают Jvahan. Ср., к тому же, разнообразие значений
корней ргаи и snâ.
4. F ick, KZ, XIX, стр. 261.
5. Как показал Асколи (KZ, XVII, стр. 274), гот. maists восходит
к *mahists, что ставит его рядом с μακρός и отделяет от mikils, как этого уже
требовало различение гласных. Асколи одновременно сообщает, что major,
magnus восходят к mah, magh; мы же позволим себе усомниться в том, что это
magh дало скр. mahânt. Не имея возможности долго задерживаться на этом,
мы довольствуемся констатацией, что существует 3 корня: 1) mAk3: зенд.
maçyâo, др.-перс, maftista, гот. ma(h)ists, ma(h)iza, греч. μακρός и также
μάκαρ и лат. macte; 2) mAgh2: скр. maghâ „богатство", гот. magan, лат.
magnus, ma(h)jor, греч. μάχανά, слав, moga/,— но отнюдь не mahânt, ввиду ζ
из зенд. mazäont; 3) m ах gx или m аг g г^: греч. μέγας, гот. mikils, скр.
mahânt; ср. magmân. Что же касается непосредственно готского, то нужно
допустить, что формой перфекта ед. ч. является не mag, a *mog и что эта форма
возникла по аналогии с формой множественного числа magum; точно так же,
только наоборот, forum заменило *farum. См. ниже, гл. V.
6. Вторичные глаголы того класса, к которому принадлежит kopaja, обычно
не меняют корневого е на о(а2); стало быть, его можно привести в этом списке.
гот. a(j)iza- a(j)es
гот. akrs ager, αγρός.
лит.акти (? слав.
кату = *окту,
др.-сканд.Ьатагг) ακμών,
aqua
гот. ahva
лит. âklas
др.-в.-нем. ahsa,
слав, osï,
лит. aszis
гот. af
слав, otïcï,
гот. atta
гот. tagr
слав, bobu, др.-
прусск. babo
гот. gazds1
слав. 1отй
гот. ma(h)il
aquilus,axapo;
axis, ά'ξων.
ab, άπό.
atta, ά'ττα.
lacrima, δάκρυ,
fäba. (Fick).
hasta.
läma
ma)
macula
(*lac-
(Fick).
(Fick).
alius άλλος
ανά
ansa
ante,
άντ[
гот. aljis
гот. ana
лит. qsà
гот. and-
др.-в.-нем. ano,
лит. anyta änus.
гот. arhvazna arcus.
гот. avo avus
слав, brada (*bor-
da), лит. barzdà,
др.-в.-нем. part barba.
гот. bariz-eins
(слав.boru(Fick)) far, род. п
др.-в.-нем. gans,
слав, g^sï,
лит. zqsis
гот. fana,
слав, о-ропа
гот. salt,
слав, soli
farris
anser, χάν.
pannus, πανίον
sal, αλς.
1. Osthoff, KZ, XXIII, стр. 87.
Следующие примеры демонстрируют нам долгое Â северных
языков. Эта фонема, которая в южной группе отличается от
краткого а только количеством, в северных языках различается
359
еще и тембром. В германских языках и литовском—это
долгое о (др.-в.-нем. ио), тогда как славянский, где краткое а
превратилось в о, сообщает долгому Â тембр a. Известно, что
славянское a происходит из краткого гласного только в двух-трех
совершенно исключительных случаях. Формы, помещенные в
скобках, являются нарушением этого закона субституции.
др.-сканд. bögr.
др.-в.-нем. ruoba,
лит. горе [слав,
гёра].
герм, svötja-: др.-
сканд. soetr,
др.-в.-нем. suozi
(Fick, IIP,
стр. 361).
fagus
caligo
μακων
näres,
др.-в.-нем. buo-
cha.
χσΧίς слав. kalu. (Fick).
слав, maku
[др.-в.-нем. ma-
go]
näsus лит. nos is,
англосакс, nôsu (ср.
слав, nosu, др.-
в.-нем. nasa).
παχύς
râpa
suävis, άδΰς
а и а стоят в конце корня:
g h а. χή-μη (χα-λά)
ta:
bhâ:
U:
ta-bes
fä-ri, φα-μί
lä-trare
stä: stä-tus, έ'-στα-ν и т. д.
(s)tä; дор. τά-τάω1
герм, gö-men-, лит. go-murys
„palatum". (Fick)
слав. ta-J3 [англо-сакс. £aven].
слав, ba-j¾.
слав. la-J4, лит. Ιό-ju [но в
готском laia = *lë(j)a].
слав, sta-n^, лит. stoju; гот.
sto-min-sta-da (др.-в.-нем.
stäm, stem).
слав, ta-j$, ta-tï, ta-jïnu.
Корень получает расширение зубным, например, в:
ρ ä -1: πα-τ-έομαι, pa-s-tor
1 ä -1: λά-ω „хотеть"
s а - t3: sa-t-ur, sä-t-is
гот. fo-d-jan2, .слав, pa-s-tyrï.
гот. la-])-on, la-Ça-leiko. (Fick).
гот. sa-d-a, so-]>a, лит. so-t-us
(слав. sytu).
1. Ahrens, II, стр. 144. Слав, tajï „тайком", tajïno „тайный" ср. с
индийской основой täyu „вор", откуда также τηυ-σιος „тщетный,
безрезультатный" (Pott, Wurzelwörterb., Ϊ, стр. 100).
2. fodjan предполагает корень, содержащий л; и именно поэтому мы его
и приводим; действительно, очень возможно, если рассматривать fodjan само
по себе, что о в этом слове соответствует греч. ω, а не ct. Ср. гл. V, § 11.
3. Простой корень встречается в греч. εωμεν —*ήομεν (Curtius, Verb.,
Il, стр. 69).
360
Из более изолированных слов мы приведем только:
(pater, πατήρ гот. fadar; ср. § 11).
mäter, μάτηρ др.-в.-нем. muotar, слав, mati,
лит. motë.
fräter, φράτηρ гот. bro"par, слав, bratru, лит.
broterëlis.
Â, представленный суффиксом имен женского рода, легко
усматривается в тех падежах множественного числа, окончание
которых начинается с согласного: гот. gibo-m, лит. mergo-ms,
слав. 2ena-mu. Оказавшись в конечном слоге, он подвергся, как
известно, различным изменениям. В именительном падеже
единственного числа славянский (йепа) еще сохраняет a, которое
представляет в нем долгое а, между тем как законы,
управляющие звуками германских языков и литовского,
обусловили сокращение конечного гласного: giba, mergà, за исключением
гот. so, греч. à. О форме зват. п. 2епо см. стр. 386.
а в дифтонге дает повод для нескольких особых замечаний.
Некоторые ученые отрицали существование европейского
дифтонга eu; иными словами, придерживаясь точки зрения
первоначального единства a, отрицали расщепление дифтонга au на
eu и au в ту самую эпоху, когда в любой другой позиции а
расщепилось на е : а. Бецценбергер („Die a-Reihe der gotischen
Sprache", стр. 34) утверждает или скорее упоминает (поскольку,
добавляет он, вряд ли необходимо говорить об этом специально),
что в готском презенсе kiusa вместо *keusa = rpe4. узш, е
первого языка не стоит в исторической связи с е второго. Каковы
же основания этого резкого разделения двух форм, соответствие
которых является безукоризненным, насколько только это
возможно? Все дело в том, что балто-славянские языки не имеют
дифтонга eu, и, следовательно, его не могло быть и в
европейский период.
В принципе мы не ставили перед собой никаких задач
относительно европейского e, так как факт его появления в
различных языках признается сторонниками всех систем. Мы
должны, однако, заняться e, поскольку его хотят связать с а и
опровергнуть аргументы, устанавливающие, что в какую-то эпоху e
и а (а) составляли одно целое. Позднее происхождение дифтонга
eu, если бы оно подтвердилось, очевидно, было бы явлением
того же порядка. С другой стороны, мы не собираемся
прослеживать до конца последствия, проистекающие из выдвинутого
Бецценбергером принципа, так как мы не хотели бы подчинить
вопросу о eu вопрос о европейском единстве или вопрос о
расщеплении a. Итак, отметим сначала, что отсутствие eu в
балтославянских языках, на что опирается Бецценбергер, поставлено
под сомнение И. Шмидтом, который указывает на его много-
361
численные следы (KZ, XXIII, стр. 348 и сл.). Шмидт
рассматривает ст.-слав, ju и лит. iau как восходящие в некоторых
случаях к eu (слав. b(l)jiu^ = roT. biuda, греч. πευθομαι, лит.
riâugmi, греч. ερευγω). Правда, позднее Бецценбергер выдвинул
новые доводы в свою защиту. Наша некомпетентность не
позволяет нам сделать окончательное заключение, но вот что по
крайней мере мы считаем нужным сказать:
даже в том случае, если бы предположение Шмидта не
подтвердилось, даже если бы не существовало никаких признаков
дифтонга eu в балто-славянском, из этого все же не следовало
бы, что он никогда не существовал: ведь италийские языки
тоже не имеют eu, и, не будь единственного Leucetio, можно
было бы дойти до утверждения, что в италийском древний
дифтонг au никогда не имел формы eu. Однако никто не сомневается
в том, что douco происходит из *deuco. То же самое,
по-видимому, произошло в балто-славянском, причем не только в
дифтонге, но и, как в латинском, в группе ev. Яснее всего это
видно на примере ст.-слав. clovéku: действительно, лтш. zilweks
показывает, что о не является первичным1, и даже не
углубляясь так далеко, вполне достаточно констатировать начальный
палатальный с, чтобы понять, что древней формой будет *celvëku
(см. по этому поводу J. Schmidt, Voc, II, стр. 38 и сл.).
Откуда же тогда происходит о? Оно может появиться только
из ν, с которым его сблизила метатеза плавного.— Путем
рассуждения иного рода мы убеждаемся, что slovo происходит из
*slevo: действительно, имена среднего рода на -as всегда имели
в корневом слоге аг и никогда—a2: так в арийском, греческом,
латинском, германском. При этом и сам славянский не нарушает
этого правила, как показывает пеЬо = греч. νέφος. Как же теперь
иначе объяснить slovo = χ\ε¥οζ, кроме как влиянием ν на е> То
же самое можно было бы сказать и о презенсе plov3 = rpe4.
πλέΡω, так как πλώω—явно более поздняя форма.— Подобным
,же образом мы находим в слоге, составляющем окончание,
в санскрите—sünävas, в греческом—πήχεες, в готском—sunjus
и только в одном славянском—synove.
Это воздействие ν, продолжавшееся очень долго, как
показывает clovëku, начинает проявляться уже в период
балто-славянского единства. При греческом vsFo-ς в литовском появляется
naujas, так же как в славянском novu.
Несколько слов о литовском a. При наличии полной
эквивалентности этого а и славянского о (оба представляют а и a2)
естественно задать вопрос, какой из этих двух фонем
принадлежит приоритет. Какова балто-славянская форма только что
рассмотренного слова—novos или же па vas? Если обратить вни-
1 е встречается также в гот. fairhvus „мир", которое можно возвести к *hver- ·
hvus, *hvervehvus и сопоставить с clovëku.
362
мание на все колебания между о и а в различных диалектах
Балтики — древнепрусском, литовском, латышском, а также и на
различие тембра между а кратким и а долгим как в литовском,
так и в славянском (лит. а:б; слав, о: а), то невольно
напрашивается третья гипотеза, а именно: nâvâs. В балто-славянский
период, вероятно, произносилось не чистое a, a â краткое и
долгое. Разумеется, не существует вполне позитивного
аргумента в защиту этой гипотезы; как нам представляется, это
еще более справедливо по отношению к тем аргументам,
которые можно было бы выдвинуть против нее. Она поддерживает
те случаи ассимиляции, о которых мы говорили, равно как,
с другой стороны, сама опирается на них. Сравнительный метод
был и всегда будет вынужден прибегать иногда к подобным
взаимным индукциям.
Я приведу еще лит. javai, греч. ζεά (скр. yava), sâvo, греч.
éFoç, а также два слова, где то же самое, по-видимому,
происходит в обратном направлении, как в лат. vomo вместо *vemo.
Это vâkaras = rpe4. έσπερος, слав, veèeru; vasarà = rpe4. lap, лат.
vër. Большая часть этих и предшествующих примеров входит
в список, в котором Шмидт фиксирует предполагаемые случаи
неполного соответствия е в европейских языках: стало быть,
если только все это не иллюзия, этот и так уже сильно
уменьшенный перечень потеряет еще несколько единиц.
Это балто-славянское изменение ev в äv отличается от
аналогичного явления, которое имеет место в италийском, главным
образом тем, что оно происходит не всегда. Разумеется, должна
быть какая-то причина, если devçtï (лит. devyni) не пошло по
пути *slevo, превратившегося в slovo, но эта причина остается
невыясненной. Напротив, в дифтонге ассимиляция е является
правилом, за исключением таких случаев, как bljudg и riâugmi,
которые приводились выше. Доказательство этого двойного
происхождения au (в конечном итоге—тройного, так как сам а (а)
образован из л+а2) можно усмотреть в литовском родительном
sunaûs от основ на -υ в сравнении с формой родительного akës
(а не 'akais') от основ на -i \ Тем не менее мы не настаиваем
на этом утверждении, так как точное соотношение ё и ai пока
еще не известно.
Равным образом и в балто-славянских рефлексах дифтонгов
axi, a2i, Al произошли, как мы только что отметили, весьма
серьезные изменения. Точнъе значение i и è в славянском, ë(ei)
и ai в литовском все еще остается проблемой. По-видимому, ё
последнего, восходящее на первый взгляд к axi, является ничем
иным, как рефлексом ai: например, по сравнению с гот. haims,
др.-прусск. kaima, наконец, лит. kaimynas мы встречаем ё в këmas.
1 au готского sunaus нельзя объяснять подобным образом, как показывает
соответствующая форма основ на -i, также содержащая a: anstais. Вплоть до
настоящего времени эти au и ai так и не получили объяснения.
363
Из изложенного выше следует, что примеры литовского или
славянского а в дифтонге могут иметь как таковые весьма
ограниченное значение и не имеют почти никакого значения, когда
речь идет об ли.
(?) gh^is: haer-eo лит. gaisztù, gaiszti (Fick).
sk^idh: caed-o гот. skaid-an, skaiskaid.
i4ug: aug-eo, αυξις гот. auk-a, aiauk; лит. âug-u
(?) a us: h-aur-io, h-aus-tus др.-сканд. aus-a, jôs (Fick).
aevum,
caecus
δα(ιΡ)ήρ
haedus
αιών
гот. aivs; ср.
стр. 352
гот. haihs.
англо-сакс. täcor;
слав. dèverï,
лит. dëveris.
гот. gaits.
laevus, λαιός слав, lèvïi.
aurora
лит. auszra.
caulis, καυλός лит. kâulas. (С.)
ναδς др.-сканд. nau-st.
pau-cus гот. fav-ai.
σαυσαρός лит. saûsas.
Ά-χα(Ρ)ιοί гот. gavi1.
1. Основой готского слова является gauja- (местность): 'Αχαιοί, вероятно,
означает όμόχωροι. Сюда же относятся, может быть, Δωριέες τρι-χάίκες, если
только видеть в нем сложное слово τρίχα—по типу индийского purudhâ-pra-
tïka—и основа р1Х- = зенд. vïç „клан".
Глава III
ДВА ГРЕКО-ИТАЛИЙСКИХ О
Мы рассматривали до сих пор греко-италийское о как
однородное целое исключительно в практических целях. В
действительности существуют две вполне определенные разновидности
этого гласного, которые мы сейчас последовательно рассмотрим.
§ 7. Греко-италийское о2 — индоевропейское а2
Явления арийских языков слишком тесно связаны здесь с теми
явлениями, которые мы наблюдаем в индоевропейских языках
Европы, чтобы их можно было рассматривать отдельно. Поэтому
в заглавии параграфа рядом с греко-италийским о2 стоит индо-
европейское а2.
Подлинным определением а2 будет, как мне кажется,
следующее: это гласный, который в европейских языках регулярно
чередуется с е внутри одного и того же корневого или
суффиксального слога. Таким образом, чтобы говорить о праязыковом
a2, нужно также и зародыш европейского е обязательно
датировать периодом первоначальной общности. В этом и
заключается гипотеза Бругмана. Этот ученый, следуя концепции,
которую предвидел уже Амелунг (см. стр. 305), отказывается искать
в вокализме, представленном арийским, источник, из которого
следует выводить фонемы индоевропейских языков Европы, и,
наоборот, переносит в праязык источник европейского e и
фонемы, заменяющей иногда это e (a2), оставляя, впрочем, общее
число всех a временно неопределенным.
В дальнейшем мы будем исходить из этой недоказанной
гипотезы о праязыковом происхождении ах = е. Что касается a2, то
мы постараемся доказать эту гипотезу посредством фактов, со-
365
бранных в Настоящем параграфе, которые, впрочем,
общеизвестны. В дальнейшем мы выясним, до какого момента эти
факты, подтверждая a2, могут служить одновременно
подтверждением индоевропейского аг [20].
Бругман очень детально исследовал проблему a2 (см. „Studien",
IX, стр. 367 и сл., 379 и сл.; KZ, XXIV, стр. 2). Эта фонема,
по его словам, в армянском, греческом, италийском и
славянском1 дает о; в кельтском, германском и балтийских языках —
a; в арийском, в любом открытом слоге—а, но, если слог
закрытый 2, то a.
Как мы уже говорили, независимо от того, что является
рефлексом плавных сонантов, существуют греко-италийские о,
восходящие к иной фонеме, чем a2. Мы обозначим как о2
разновидность о, эквивалентную древнему a2: второе о можно
обозначить как о.
Вот образования, в которых a2 (греко-ит. о2) регулярно
заменяет a! (e).
1. КОРНЕВОЙ слог
а. глагольные образования
Перфект. В то время как первоначально медиум, так же
как единственное и двойственное число актива, отбрасывал
корневое ai, в единственном числе актива он заменялся на a23.
Перечисление всех рассматриваемых здесь греческих форм можно
найти у Курциуса („Verb.", II, стр. 185 и сл., 188 и сл.). Вот
несколько примеров, взятых из трех типов корней (см. стр. 310).
γεν: γέγονα δε ρ κ: δέδορκα λ ε γ: εϊλοχα
χ τ ε ν: εκτονα F ε t χ: έ'οικα τ ε χ: τέτοκα
μ ε ρ: εμμορα έλευθ: ειλήλουθα4 χ ε δ: κέχοδα
1 Хотя здесь это вопрос не главный, все же мы предпочли бы не ставить
славянский рядом с южными языками, так как просто невозможно не
настаивать на несоответствии о в славянских и о в классических языках. Первый
просто-напросто эквивалентен литовскому или готскому а. Когда же мы
обнаруживаем, что а2 Дало в греко-италийском о, а не α (антитеза, не
существующая в славянском), то для нас это является важным фактом, который
мы использовали в § 4, 8.
2 Для дифтонга открытым слогом можно назвать такой, в котором второй
элемент дифтонга, находясь перед гласным, переходит в полугласный (éikâya);
закрытый слог — это слог, за которым следует согласный (bibhéda).
3 Мы говорили выше о вторичном распространении этой формы в
греческом (стр. 314 и стр. 322, сноска), οΐδα: Υδμεν и некоторые другие примеры
дают представление о первоначальном состоянии, которое еще сохраняется
в германском и санскрите.
4 Известно, что дифтонг ου является в греческом только кое-где
сохранившимся реликтом; стало быть, такие перфекты, как πέφευγα, τέτευχα, не
должны нас удивлять. Но есть еще и другие перфекты, содержащие ε, такие,
366
В латинских totondi, spopondi, momordi (др.-лат. spepondi,
memordi) мы имеем реликт этого древнего образования. Можно
предположить, что презенс этих глаголов имел первоначально
форму *tendo, *spendo, *merdo. Наряду с этими презенсами
существовали производные tondeo, spondeo, mordeo и в силу
пословицы — с кем поведешься, от того и наберешься — глагол на -ео
начал ассоциироваться с перфектом и, в конце концов, вытеснил
древний презенс.—Ср. стр. 314.
В германских языках единственное число перфекта
сохранилось не менее хорошо, чем множественное или двойственное. Там
повсюду представлена слабая форма без а (стр. 313 и 322), здесь —
повсюду а2 в его германском облике а: gab от giban, bait от
beitan, baug от biugan, barÇ от vairpan, rann от rinnan и т. д.
Очень интересен ирландский перфект, исследованный
Виндишем (KZ, XXIII, стр. 201 и сл.): и здесь e, исчезающее во
множественном числе, в единственном переходит в a (=a2). На
стр. 235 и сл. автор приводит большое число примеров такого a,
так что остается только выбирать. През. condercar „видеть",
перф. ед. ч. ad-chon-darc; през. bligim „доить", перф. ед. ч. do
ommalgg и т. д.
Арийские языки соответственно имеют долгое а в открытом
слоге: скр. èagâma, papâta, cikâya. В закрытом слоге, равно
как и в дифтонге перед согласным, появляется, согласно
правилу, краткое a: dadârça, bibhéda.
Странно, что в ведийском языке первое лицо никогда не
содержит долгого а и даже в классическом санскрите долгий для
этой формы только факультативен. Бругман („Studien", стр. 371)
попытался объяснить этот факт посредством своей гипотезы
относительно окончания -а первого лица, которое, по его мнению,
восходит к древнему -m (см. стр. 338—339): ввиду того, что слог
таким образом оказывается закрытым, краткий а в èagama и т. д.
является совершенно закономерным. Однако 1) можно
усомниться, что это а действительно восходит к носовому; 2) даже
если это допустить, настоящее объяснение заранее предрешает
вопрос о том, какое явление произошло раньше: удлинение а2
или исчезновение носового; 3) в râèân-(a)m, pâd-(a)m и в других
как κεκλεβώς, λέλεγα. В медиуме эти формы многочисленны; встречается даже
дифтонг ει в λέλειπται, πέπεισμαι и т. д. (наряду с закономерными
образованиями £ίκτο, ΐδμαι τέτυγμαι и т. д.). Этот ε частично идет, разумеется, из
презенса, но есть еще один источник—слабые формы перфекта от тех корней
типа С, которые не могли отбросить at — в некоторых из них это могло иметь
место; см. сноску на стр. 312. Таким образом, первоначально τεκ должно
было образовать τέτοκε, мн. ч. *τετεκαμεν или *τετεκμεν, так как 'τετκμεν'
было невозможно. Это объяснение ε подкрепляется тем обстоятельством, что
рассматриваемые формы, по крайней мере те, которые являются формами
актива, представляют собой чаще всего причастия, а причастие перфекта
требует слабого корня. Например: ένήνοχα άν-ηνεχυΐαν, εΐλοχα συνειλεχα>ς
и т.д. (см. Curt i u s, Verb., II, сгр. 190).
367
формах окончание -m не помешало удлинению a2.— Нужно
признать, что присутствие a2 в первом лице не является твердо
установленным: оно засвидетельствовано для третьего лица и,
возможно, для второго (éagantha); вот и все, так как в
греческом и германском первое лицо легко могло позаимствовать а2
у второго или третьего1.
Помимо этой маленькой группы, состоящей из единственного
числа перфекта, мы нигде не встречаем в глагольной флексии a2,
заменяющего корневое аг. Все же три греческих сигматических
аориста 2: δοάσσατο при имперф. δεάμην, -έτοσσε (Пиндар)—от корня
τε«, ζόασον σβέσον (Гее; ср. ζείνυμεν) могут сохранять следы
какого-то другого употребления a2. И как раз оказывается, что
древнеиндийский аорист на -i§am удлиняет корневое a в
открытом слоге, как если бы это a было рефлексом a2: akäniSam,
ävädiSam. Однако в ведийском диалекте это удлинение
нерегулярно: список, приведенный Дельбрюком (в „Altind. Verb.*',
стр. 179 и сл.), свидетельствует о том, что, за несколькими
исключениями, оно имеет место только в том случае, если все
последующие слоги краткие, так как без этого, по-видимому,
нарушилась бы некая каденция слова. Нужно было бы выяснить,
прежде чем заключать о наличии a2, не могли ли причины
такого рода остановить удлинение этой фонемы. Действительно,
мы считаем, что это так: см. стр. 381. Существенным было бы
также точно определить происхождение аориста на -iSam, к чему
мы вернемся к главе VI. Во всяком случае обычный
сигматический аорист, такой, как έδειξα, содержит аи а не a2.
Производные глаголы. Помимо деноминативных глаголов,
получающих корень в том виде, в каком он представлен в
именной основе, существуют производные глаголы, которые нам
хотелось бы назвать девербативами и которые нельзя не выделить,
по меньшей мере временно, в особый класс, как этого требует
древнеиндийская акцентуация. Итак, чтобы не делать из них
приложения к именным основам, мы поместим их здесь. Они
имеют частично каузативное значение. Корневое at переходит
у них в a2.
Гот. dragkjan вместо *dragkijan, ср. drigkan; lagjan, ср. ligan;
kausjan, ср. kiusan.
Греч, οχεω—из Ρεχ; φορέω—из φερ; σχοπέω—из σκεπ. φοβέω —
из φεβ, может быть, каузатив.
В латинском можно отметить moneo—от men; noceo—от пес,
torreo (в каузативном значении)—от ters. Для mordeo, spondeo,
tondeo в родственных языках имеется требуемое корневое е. Мы
1 Странно, что у Гесихия встречается форма 1-го лица λέλεγα, за которой
через несколько строк следует форма 2-го лица λέλογας. Это, несомненно,
чистая случайность.
2 Арене (I, стр. 99) предлагает конъектуру ορράτω-^эолический аорист
от εΐρω „сплетать". Это будет четвертая форма данной разновидности.
368
еще вернемся к tongeo и гот. pagkjan1. Известны два греко-
италийских примера torqueo = τροπέω (корень terk2), sorbeo == ροφέω
(корень serbh). См. Curt i us, Verb., I2, стр. 348.—Латинский
сохраняет о в формах, образованных непосредственно от корня,
которые первоначально должны были иметь другой гласный, как
в sponsus, tonsus. В morsus, tostus можно было бы в крайнем
случае допустить, что or появилось из плавного сонанта.
Все, что дает первое спряжение, относится к деноминативам,
так как родственные языки никогда не имеют А в
деривационном слоге этой разновидности глаголов.
В старославянском: ро-1о2Ш—от leg, topiti—от tep, voziti —
от vez и т. д.
В арийских языках мы находим, как и следовало ожидать,
долгий гласный: скр. pätäyati—от pat, çrâvâyati—от çro. Зенд.
pârayëiti—от par.—Закрытые слоги имеют закономерный
краткий: vartâyati, rocâyati.
Б. ИМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Основы на -та. Греческий содержит довольно большое число
этих основ. Те основы, которые встречаются у Гомера, мы
обозначим Гом.9 взятые у Гесихия—Гее.
et οιμο1 (Гом.) λβχ λόχμη (Гом.)
еря ορ*μο (Гее.) ksp δρμο (Гом.)
FsX δλμο (Гом.) πετ πότμο2 (Гом.)
Fep δρμο (Гом.) τελ τόλμη- (Гом.)
τ ε ρ τόρμο3
ά λ ε t ά>οιμό4 ρεγχ ρογμόβ (?)
βρε χ βρογμό (Гее.) 2ςερ ορμή (Гом.)
δε χ δοχμή ς τελ στολμό
κερ κορμό (Гом.) φ ε ρ φορμό?
ς λ ε t λοιμό6 (Гом.) φλεγ φλογμό
π λ ε« πλοχμό (Гом.) Ρεχ συν-εοχμό (Гом.)
1. Кроме того^-οΥμη.
2. Если было бы доказано, что начальное τ в τετμεΐν происходит из
древнего гуттурального, то πότμος следовало бы отделить от корня πετ.
Соотношение πότμος и τετμεΐν в плане начального согласного будет таким же,
как соотношение ποινή и τεΐσαι.
3. Мы имеем в виду τόρμος в значении τέρμα, а не τόρμος „дыра".
4. άλοιμός „мастика" сохранено в „Etymol. Mag." Оно соотносится не о
αλείφω, а с άλίνειν άλείφειν и с лат. lino (lëvi, lïtus); см. Curtius, Verb., I 2,
стр. 259.
1 В foveo, moveo, voveo, mulgeo, urgeo и других нужно учитывать
возможность влияния соседних фонем.
5. Существует корень sra1i „грешить, быть преступником, гибнуть": он лежит
в основе скр. sre-man в asreman, которое Бётлинг — Рот и Грассман [s.v.sreman]
переводят как fehlerlos, может быть, также srima — название ночных призраков.
В латинском — lê-tum, de-leo (de-levi); в греческом—λοι-μός и λοιτός·λοιμός
(Гее), отвергнутое Шмидтом, хотя и подтверждаемое алфавитным порядком.
Родственный корень можно зафиксировать в скр. srîvyati „потерпеть неудачу",
близком греч. λύμη, λυμαίνομαι. Далее существует корень sraxidh с
расширением: скр. srédhati „etwas falsch machen, fehlgehen" и sridh „der Irrende,
der Verkehrte" (B. — R.); он дает в греческом ηλίθιος, дор. άλίθιος вместо
ά-σλίΟιος (ήλεός—это совсем другое). Ответвление упомянутого корня—sraxi-t
обнаруживается только в индоевропейских языках Европы: гот. slei^s
„вредный", греч. ά-(σ)λιτ-εΐν „грешить", άλοιτός* αμαρτωλός; кроме этого, возможно,
лат. stlit-. Впрочем, можно допустить, что в άλιτεϊν зубной возник только на
греческой почве. Таково мнение Курциуса („Grdz.", стр. 547), и оно имеет
очень солидную базу в виде формы άλεί-της.
6. См. словарь Пассоу s. ν. ρεγμός.
7. Сомнительно, чтобы это слово происходило от φέρω, но ступень φερ
существует во всех падежах в φερνίον, φέρμιον „корзинка".
Глагол χοιμάομαι указывает на древнюю основу *κοιμη или
*χοιμο от корня χει. В πλό*(α)μος от πλε*, οί>λ(α)μός от FsX
наличествует, без сомнения, один и тот же суффикс. — Некоторые
исключения, такие, как τειμή (надп.), δειμός, άγερμός, имеют з в
корне: это новые образования, возникшие по аналогии с именами
среднего рода на -μα. О слове κευθμός можно сказать то же, что
и о слове πέφευγα.
В лат. forma корнем, без сомнения, является fer (древн. dha1r),
с е; о, стало быть, восходит к а2.
В качестве соответствия германским основам flauma- „волна"
(Fi с к, III3, стр. 194), strauma- „река" (Fi с к, стр. 349) в
греческом ожидалось бы 'πΐουμο, ρουμο'. От корня ber происходит
barma- „лоно" (Fi с к, стр. 203), которое в готском перешло в
основы на -L Гот. haims „деревня" относится к основам на -i
только в единственном числе: древнее haima вновь появляется
во множественном числе женского рода в форме haimos; ступень
ах встречается в heiva- „дом".
Герм, haima- соответствует в древнепрусском kaima; ср. лит.
kaimynas и këmas (см. стр. 363). От vez („vehere") литовский
образует va£mà „ремесло возчика" (Schleicher, Lit. gr.,
стр. 129), от lenk „сгибать"—lànksmas „изгиб" со вставкой s.
Ведийские основы на -та собраны в книге Б. Линднера
„Altindische Nominalbildung" (см. стр. 90). Мы рекомендуем
читателю эту замечательную книгу, к которой мы постоянно
обращались по всем вопросам, связанным со словообразованием.
Корневой слог этих древнеиндийских основ никогда не
оказывается в позиции, прямо указывающей на а2, потому что суффикс,
который начинается с согласного, делает этот слог закрытым.
Нельзя доказать наличие а2 в sâr-ma, é-ma и т. д., как, с другой
стороны, нельзя было бы доказать, что их а представляет собой ах.
Стало быть, ряд древнеиндийских основ на -та имеет сильную
форму корня; правда, другой ряд отбрасывает корневое a, но и
370
первый тоже, как мы это увидим, появляется в родственных
языках. Первый класс, интересующий нас здесь, несет ударение,
как в греческом,—то на корне, то на суффиксе. Например:
ho-ma, dhâr-ma и nar-mâ, ghar-mâ.
Это образование давало абстрактные имена мужского рода
(так как имена женского рода, такие, как греч. οϊμη или лат.
forma, чужды санскриту), но, по-видимому, не прилагательные.
Случай лат. formus, греч. θερμός является изолированным, и в
санскрите gharmâ—существительное. Что касается θερμός, то его ε —
позднейшего происхождения, так как, помимо formus, gh в gharmâ
указывает на а2 (см. гл. IV). Правда, это ε должно было
появиться до окончания процесса развития зубных; в противном
случае нельзя было бы объяснить θ.
Основы на -ta. Начнем, как всегда, с греческого:
ε ι οι το ν ε ς νόστο ά F ε ρ αορτή
χ ε t κοίτο1 φ ε ρ φόρτο β ρ s μ βροντή
χ ε ν 2 χόντο χ ε ρ3 χόρτο μ ε ρ μορτή
1. И ж. p.—κοίτη.
2. κεν—это истинная форма корня; отсюда κέν-τωρ, κέν-τρον, κεν-τέω.
Маловероятно сближение с скр. kunta.
3. В εύ-κερ-ής.
Πλοδτος—слишком неясное образование, чтобы фигурировать
в этом списке. Включение εορτή и сицил. μοΐτος также зависит от
той этимологии, которую мы им дадим. Напротив, включение
в список λοιτός будет вполне оправдано1 (см. стр. 370).
В латинском есть hortus = χόρτος. Фик сравнивает Morta (имя
одной из парок) с μορτή „часть", но является ли это имя
латинским? Мы поместили porta среди примеров на плавный сонант (см.
стр. 316).
В готском можно встретить dauf>a- „смерть" от divan (герм,
dauda-; см. Verner, KZ, XXIII, стр. 123). Однако обычно
причастия образуются от основ на -ta с корневым слогом в
слабой ступени, а не от тех основ, в которых корневой слог имеет
ступень а2. Германский корень bren „жечь" дает branla- „пожар"
(Fick, IIP, стр. 205); breu „мешать" дает brauda- ср. р. „хлеб"
(Fick, стр. 218). Что касается гот. gards, то его нужно отделить
от греч. χόρτος; см. J. Schmidt, Voc, II, стр. 128. Поражаете
в словах })Ш]эа- ср. р. „добро" и })iuda ж. р. „народ"; здесь,
разумеется, ничем не может помочь италийское touto, так же как
и лит. tauta (см. стр. 361—362).
1 Неизвестно, куда поместить имена деятелей на -τη-ς, чье родство со
словами на -τηρ (В rug mann, „Stud.", IX, стр. 404) весьма сомнительно ввиду
дорического а. Некоторые из них имеют о: άγυρτής (?), αορτής (но также и
άορτήρ), Άργει-φόντης, ж. р. κυνο-φάντις; Μοοσα, Μόντνα—форма женского
рода от *Μόντης. φροντίς— вторичное образование.
371
Шлейхер приводит некоторое число этих основ на стр. 115
своей литовской грамматики: tvârtas „ограда"—от tverti, restas
„чурбан"—от rent „резать", sp^stai м. р. мн. ч. „ловушка"—от
spend „расставлять ловушки"; nasztà ж. р. „ноша"—от nesz, slaptà
ж. р. „тайна"—от slep „прятать" и т. д.— В старославянском:
vrata ср. р. мн. ч. = *vorta „ворота"; это лит. vàrtai; vérti
содержит e. От реп происходит p^-to „путы".
В санскрите, я думаю, эти основы имели бы придыхательные th;
однако я не нахожу для этого вполне очевидного примера.
Зендский имеет gaëfta ж. р. „мир"—OTgaê (или gi) „жить", dvaë&a
„страх"—от корня, имеющего в греческом форму SFst (Curtius,
„Stud.", VIII, стр. 466). θ эквивалентен древнему th. Некоторые
другие формы зарегистрированы у Юстина (стр. 371).— Имена
среднего рода ftraota и çraota являются, вероятно, эквивалентами
скр. srotas и çrotas, перешедшими в другое склонение1.
основы НА -ΝΑ. έρεφ δρφνη θερ θρόνο * πει ποινή.
1. θρόνος—это метатеза *θόρνος, подтвержденного глоссой Φόρναξ.
ύποπόδιον. Κύπριοι (Гее). О корне θερ см. Curtius, Grdz., стр. 257.
Нельзя выяснить, действительно ли θει с гласной е является
корнем слова θο(νη. Также трудно решить что-нибудь относительно
οίνος, ύπνος и οκνος. τεκνη, έ'εδνον, φερνή (эол. φέρενα) содержат
незакономерное ε. Что касается ε в слове τέχνον, то обратим
внимание на то, что здесь е не могло выпасть,— что не исключено
для φερνή,—и, стало быть, ничто не мешает τεχ представлять ту
ступень корня, на которой он отбрасывает e. Однако существует
второй ряд основ на -па, которые действительно ослабляют корень:
без сомнения, именно к этому классу принадлежит τέχνον и его
германский эквивалент t>egnâ- (окситон; см. Ver пег, цит. раб.,
стр. 98). Сюда же относится πόρνη; его о не является рефлексом a2.
При наличии греч. ώνος, ώνή (скр. vasnâ) е в лат. vënum dare
и слав, veno представляется весьма странным. Нужно сказать,
что этимология этого слова еще совершенно не выяснена, и оно
выглядит совершенно изолированным. Правда, его можно было
бы связать с скр. vâsu.
Германский корень veg дает vagna- „повозка"; ber дает barna-
ср. р. „ребенок" (но в литовском—bernas); от leih(v) происходит
laihna- ср. р. „ссуда" (Fick, III3, стр. 269), от leug—laugna
ж. р. „сокрытие" (Fick, стр. 276). Было бы ошибочно помещать
сюда launa- „плата", так как греч. λαυ доказывает, что его а
является рефлексом а [21].
В литовском я нашел varsnà (ж. р.) στροφή βοών (от vèrsti?)
и kâlnas „гора" от kel. С последним сравнивают лат. collis:
1 Это верно, что çraota совпадает с гот. hliub, но е этой формы наводит
на мысль о том, что она является поздним образованием. Что касается лат.
sriautas, то его можно с тем же успехом отождествить со srotas, как и с flraota.
372
может быть, здесь налицо даже полная идентичность, так как
переход склонения основ на -о типа *colno в склонение на -i —
нередкий случай. В mainas „обмен" = слав, mena (F i с к, II2, стр. 633)
корневой гласный неясен. Слав, strana „область" — вместо *storna-;
céna „цена" идентично греч. ποινή, зенд. kaëna ж. р.; корневое at
очевидно в дор. άποτεισεΤ и в других формах. Менее известен
корень зенд. daëna ж. р. „закон", которое И. Шмидт (Verwandtsch.,
стр. 46) сравнивает с лит. dainà (ср. крит. εν-θινος = έννομος?).
[Основа на -па обнаруживается в] зенд. vaçna „желание".
В санскрите среди окситонов можно отметить praçnâ, (vasnâ),
syonâ прилаг. „мягкий", откуда syonâ-m „ложе" ( = греч. ευνή вместо
*οονή?), среди парокситонов—vârna,svâpna, phéna. Последнему
соответствует лит. pënas, которое, на первый взгляд, свидетельствует
об ах\ однако, как и в këmas, здесь уместно усомниться в ё, тем
более что греч. φοινός „кровавый" (первонач. „пенистый"?) вполне
могло бы служить положительным свидетельством а2.
ГРЕЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НА -ςο (τε κ τόξο1) κερ κορσό2 λεκ λοξό.
1. s принадлежит, может быть, корню, как в случае παλίν-ορσο, οΐψ-ορρο.
2. κορσόν κορμόν (Гее.)—Я ограничиваюсь упоминанием слов νόσος νουσος
и μόρσιμός. Можно было бы добавить δόξα от δεκ, если только его α
идентично α в τόλμα.
Латинский разделяет с греческим основу lokso (luxus) и имеет,
сверх того, поха, ср. песаге.
Греческие основы на -ανο, -ανη. Они собраны у Г. Мейера
(см. „Nasalstämme", стр. 61 и сл.). Если отбросить
прилагательные на -ανο, то остаются главным образом пропарокси-
тонные названия орудий; некоторые из них содержат e, тогда
как большинство из них имеют о2. Так, δρέπανο, στέφανο по
сравнению с ξόανο, όργανο, οχανο, πόπανο, χόανο, χόδανο и т. д. Наряду
с ορ^άνη (Эсхил) можно отметить более позднее έρκάνη. В общем,
правилом, по-видимому, является о. Ср. лит. darg-anà
„дождливая погода"—от derg, râg-ana „колдунья"—от reg „видеть".
Греческое о, на первый взгляд, наилучшим образом
соответствует долгому ä таких древнеиндийских слов, как прилаг. nâçana
„perditor"—от nâçati „perire" или ср. p. vâhana „повозка",
совершенно идентичное δχανον. Однако эти слова находятся в столь
тесной связи с глаголами десятого класса, что трудно не увидеть
в их суффиксе искажения -ауапа1. И тем не менее это
образование существует также и в зендском: därana „покровительство"=
скр. dhärana. Оставим пока этот вопрос нерешенным.
Греческие основы на -ευ. Они постоянно принимают о2, если
в корне имеется с. Таковы: γεν γονεΰ, Ρεχ οχεΰ, νεμ νομεΰ, πεμπ
πομπευ, τ εκ το*ευ, τ ρ εφ τροφεΰ, χευ χοεΰ и сотня других. Но,
1 Это очевидно в astamana и antarana; см. В. — R.
373
возможно, это слова вторичного происхождения (Pott, К2, IX,
стр. 171); их базой могут быть основы, которые приведены ниже.
Основы на -а. Те из них (содержащие a2), которые имеет
греческий язык, можно разделить следующим образом:
Прилагательные (сравнительно немногочисленный класс): δε χ δοχό, τεμ
τομό, ελκ ολκό, ς με ι σμοιό, θ ε υ θοό, λειπ λοιπό и т. д.
Имена деятеля: κλεπ κλοπό, τρεφ τροφό, πεμπ πομπό ά F ε t δ
αοιδό и т. д.
Имена предметов и абстрактные имена: πεκ πόκο, τ εκ τόκο,
ζ ε φ ζόφο, ν ε μ νόμο, π λ ε υ πλόο, ς τ ε t χ ατοϊχο, ε ρ [πεντηκόντ-]ορο
и т. д.
Окситоны: λεπ λοπό, νεμ νομό, λευγ λοιγό и т. д.
Имена женского рода: δ ε χ δοχή, ς τ ε λ στολή, φ ε ρ β φορβή, ς π ε ν δ
σπονδή, λ ε ι β λοιβή, ς π ε υ δ σπουδή и т. д.
В латинском языке, очень скупом на a2, они встречаются
порой там, где совсем не нужны. В этом языке есть имена
среднего рода pondes—от pend и foedes—от feid, тогда как
постоянным правилом основ на -as является сохранение ах в корне1.
Вероятно, эти слова первоначально были именами среднего рода
на -a. Отложительный падеж pondö иначе не объяснить; *foido-
не оставил следов, но ср. p. *feidos сохранился в fidus-ta,
которое, вероятно, является более древним, чем foideratei, последнее
мы находим в постановлении сената о вакханалиях. Мнение
Корссена, который утверждал, что fidusta представляет собой
суперлатив, отвергнуто прочими авторитетами.— Кроме этих двух
восстанавливаемых слов, мы находим еще dolus = δόλος (ступень
del больше нигде не существует), но о этого слова вполне может
быть принято за о2; modus—от med (греч. μέδ-ιμνος, гот. mit-an);
procus—от prec (ср. procax); rogus—от reg (?); др.-лат. tonum—от
(s)ten (Στέν-τωρ и т. д.); ж. p. toga—от teg. Здесь можно
упомянуть еще и pôdex—от pêd = *perd.— Вызывает удивление оск.
feihoss по сравнению с греч. τοίχος.
В готском: saggva- (siggvan), vraka-(vrikan), dragka- ср. p.
(drigkan), laiba ж. p. (-leiban), staiga ж. p. (steigan), hnaiva при-
лаг. (hneivan) и т. д.
В литовском: dagà „время урожая" (гот. daga-)—от deg,^e4b"2;
vâda-s—от ved; tâka-s, слав, toku—от tek; brada ж. p., слав,
brodü—от bred. В славянском plotü—ot plet, Цки—от lçk, trçsu—
от trçs и т. д.
Арийские языки имеют в открытом слоге закономерно долгий
гласный. Имена предметов и абстрактные имена: скр. täna = rpe4.
τόνο-ς, sräva = rpe4. ρόο-ς, pâkâ „стряпня"—от рас; зенд. vâôa
„убийство"—от vad (vadh). Прилагательные, имена деятеля: скр.
täpa „теплый" (также „жара")—от tap, vyâdhâ „охотник"—от vyadh.
1 о в holus (ср. др.-лат. helusa) объясняется соседством 1.
2 Наряду с dagà и dagas встречается новое образование degas „пожар".
374
Очевидно, первоначальный закон состоял в том, что в основе
на -а корневое ах уступало место а2. Все отклонения от этого,
возникшие позже уже на почве отдельных языков, не смогли
затемнить этой характерной черты их общей грамматической
структуры. Именно в арийских языках инновация приняла самые
большие размеры: она охватывает все такие слова, как yäma —
от yam, stäva—от sto и т. д. Аналогическое воздействие корней,
оканчивающихся на два согласных, оказало на это весьма
значительное влияние: с того момента, как звуки аг и а2 слились,
такое слово, как vârdha (первоначально—va2rdha), стало
ассоциироваться в сознании говорящего с презенсом vârdhati
(первоначально—vârdhati), и вполне естественно, что затем по этой
модели были образованы yama от yâmati или häsa от hâsati
наряду с hâsa.— В языках Европы, где различались два a (a,, a2),
мы тем не менее констатируем частое забвение традиции: однако
в греческом еще так мало образований подобного рода, что из
этого можно лишь заключить, что первоначально они почти
полностью отсутствовали. Это имена среднего рода Ιργ-ο1 и τέλσ-ο,
прилагательные πελ-ό, χερα-ο, ρέμβ-ο и πέρκ-ο (обычно περκ-νό), затем
βλεγο и έλεγχο. В случае Ιευχ·ό мы находим дифтонг ου; хг1воЬ-о
демонстрирует свою древнюю форму в ακόλουθο. Наряду с Δελφοί
имеется еще δολφό. Я полагаю, что только что приведенные, а также
следующие дальше слова—это, примерно, все то, чем обладал
греческий язык из образований этого рода 2 [22].
В греческом есть примеры, имеющие аналогии в одном из
родственных языков и заслуживающие всяческого внимания: ζεά
при др.-инд. yäva3; ίμερο вместо ε-σμερο4, сопоставимое с скр.
smära; θεό, совпадающее с гот. diuza- (ср. р)5. Греч, στένιον (также
στήνιον) вместе с скр. stâna позволяет предположительно
реконструировать и.-е. sta^a. См. об этих словах Joh. Schmidt,
Verwandtschaftsverh., стр. 64.
1 Напротив, в армянском закономерно gorts (έργον), с а2.
2 Вот несколько менее важных из них: κέπφο, κελεφό, κέρκο, πέλεΦο, σέρφο;
зват. п. ώ μέλε· Ιλεο туманен. е*ро и γέλο уже и без того необычны, πέδο —
форма вторичного происхождения.— ξένο вместо ζένΈο и все аналогичные
случаи, разумеется, не подлежат рассмотрению, στένο, по-видимому, той же
природы, в силу наличия формы στεΐνο.
3 История этой основы весьма запутана: ζεά есть не что иное, как более
новая форма слова ζειά ( = скр. yâvasa), и, следовательно, ее нельзя
сопоставить непосредственно с yava. Однако это греческое слово все же показывает
нам, что корневое а в уауа восходит к виду ах—а2, а не к Л. С другой
стороны, краткий гласный yava говорит в пользу аъ и изоляция слова достаточно
гарантирует его праязыковое происхождение. Таким образом, мы получаем и.-е.
ya1wa.— Основываясь на этом, мы допустили, что а в лит. javai—это
вторичное изменение е (см. стр. 363).
4 Ср. χίλιοι вместо χεσλιοι, \\ιάτϊον вместо *έσματιον и т. д.— Глосса
ήμερτάν έ^έραστον колеблет обычную этимологию.
6 Первоначальным значением будет anima. Ср. стр. 378. Лит. dvësti и dvâsé
„дух" могли бы также подсказать исходное *ΦΡεσο.
375
В германском приняли е в корень преимущественно
прилагательные (собраны у Ζ i m mer, Nominalsuffixe a und ß, стр. 85—115).
Таковы reuda „красный" наряду с rauda-, gelba- „желтый", hreuba-
„asper", hvîta- или hveita- „белый" (родственное, но не идентичное
скр. çvetâ), leuba „дорогой", J>verha- „поперечный", seuka-
„больной", skelha- „косой" и т. д.
В двух прилагательных, по своим свойствам очень близких
к местоимениям, из которых по меньшей мере одно явно не
произведено от глагольного корня, а1 датируется эпохой праязыка:
naxwa (греч. νέος, гот. niujis, скр. na ν а) —производное от nu (νυ)
и sa^a (греч. ενός, лат. senex, гот. sinista, ирл. sen, лит. sénas,
скр. sâna).
В большинстве европейских языков имена женского рода на
-а стоят на равной ноге с именами мужского или среднего рода
на -а: как и последние, они используются для обычного
словообразования и разнообразят таким образом ресурсы языка. В
санскрите положение дел совершенно иное. Сравнивая списки
Грассмана и Линднера (см. стр. 150), мы находим, что ведийские
имена женского рода на -а составляют по сравнению с именами
мужского рода незначительное меньшинство, что большинство
из них — имена нарицательные, такие, как kâça „хлыст", vaçâ
„корова", и что такие пары, как πλό^ος ττλοχή, столь частые
в Европе, представлены здесь всего лишь несколькими примерами
(таковы rasa rasa, vâr§a (ср. p.) varSâ). Хорошо, если один или
два из этих имен женского рода содержат a2: большее число из
них, такие, как druhâ, vrtâ, принадлежит к классу, лишенному
корневого a, который мы рассмотрим в другом месте. Имея эти
факты, мы не вправе распространять на праязыковые имена
женского рода на -3 все те заключения, к которым мы пришли
для основ на -a, и таким образом оказывается возможным
предположить, что европейские имена женского рода, образованные
с помощью a2, являются вторичной грамматической категорией.
Что касается акцентуации основ на -а, то, согласно всему
предшествующему рассуждению, нужно произвести отбор в
материалах, которые предоставляют Веды. Возможно, правило
Линднера (цит. раб., стр. 29) подтвердится для новых образований,
о которых мы говорили. Но если ограничиться рассмотрением
ведийских основ, удлиняющих корневое a, когда, следовательно,
мы уверены в наличии a2, то их можно будет классифицировать
следующим образом: парокситоны: а) абстрактные имена и т. д.:
(раса, bhâga) vâga, vâra, çâka, èâna ср. p.; б) прилагательные,
имена нарицательные: gara1.— Окситоны: a) (davâ) nâdâ, nâvâ,
1 Такие слова, как bâdha от badh, корень которых уже имеет долгое â
(помимо слов неясного происхождения, таких, как gala „сеть", çipa „сплавной
лес"), не приведены. Слово kâma принадлежит к основам на -та.
376
vâsâ, sâvâ, sâdâ; б) grâbhâ, nâyâ, ghâsâ, tara, vâkâ, vâhâ, çrayâ,
sâhâ, svânâ, hvârâ.— Чтобы быть последовательными, мы
поместили в скобках как не имеющие отношения к нашей теме
слова, корень которых, по свидетельству европейских языков,
содержит лу например: bhâga, греч. φαγ.
Ввиду того что а2 не может быть обнаружено в словах,
происходящих от таких закрытых корней, как manth или veç,
то из этого следует, что отделение новообразований от
образований исконных, единственных, которые нас интересуют, в этих
словах невозможно. Однако родственные языки до некоторой
степени подтверждают древность некоторых из этих слов.
Рассмотрим ударение, которое дает им санскрит. Парокситоны: греч.
δολφός, герм, kalba-, скр. gârbha; греч. λοιγός, скр. roga [греч.
ορός скр. sâra1]; герм, hausa-2 „череп", скр. koäa (Fick); герм,
drauga-, скр. drogha; герм, rauta-, скр. roda (Fick); герм, svaita-,
скр. svéda (Fick). Окситоны: слав, mçtû, скр. manthâ; слав.
mraku = *morku, скр. markâ (В.— R.) [слав, chromü (прилаг.), скр.
sräma3]; греч. olxo, скр. veçâ; греч. κόγχη2, скр. çankhâ; герм.
}>auta-, скр. todâ (Fick); герм, maisa-2, скр. me§â (Bugge); герм,
rauda- (прилаг.), скр. lohâ. Что касается ударения сравниваемых
слов, то видно, что оно не всегда согласуется с ударением
санскрита.
В греческом окситонами являются прилагательные, имена
деятеля, некоторые из абстрактных имен мужского рода,
абстрактные имена женского рода.
В германском, насколько я мог заметить, существительные
мужского и женского рода являются окситонами: гот. snaivs
(νείφει дает е) благодаря утрате g свидетельствует об ударении
snai(g)va-(Sievers). В цитированной статье Вернера приведены
германские основы haugâ- (корень heuh, в гот.— hiuhma), laidä
(ж. р.)—от lei)), saga (ж. р.)—от seh (лат. secare). Два следующих
слова аналогичны, но происходят от корней, имеющих ^:höba
(ж. р.) —от haf, fangä (ж. р.) —от fanh. Вместо этого мы имеем
парокситоны в faiha- (гот. filufaihs), maisa-; ср. выше.—
Прилагательные часто являются парокситонами, например lausa— от
leus4, hauha- „высокий" при наличии hauga- „возвышенность",
1 sâra, кажется, есть не что иное, как вариант сага или çâras. Значения
sâ*ra („крем", „квинтэссенция" и т. д.) и греч. ορός („сыворотка") легко
согласовываются, хотя, на первый взгляд, они кажутся противоположными. Неясно,
той же основой или только родственной является основа лат. serum (см.
Curtius, Grdz., стр. 350).
2 а в hausa- и maisa-, о в κόγχη, может быть, является рефлексом а2, но
этого нельзя сказать с полной уверенностью.
3 Goldschmidt, „Mém. Soc. Ling.", I, стр. 413. Это слово может
фигурировать здесь, только если его корнем является sram. Совсем иное дело,
если допустить, что корнем его является srä.
4 То же ударение —в соответствующем ему греческом слове λουσονκόλουρον,
κολοβον, τεφραυσμένον (родственном άλεόομαι=Γθτ. liusan; ср. άλυσκάζω и у
377
но мы уже видели, что большинство из них имеет в корне e,
благодаря чему им отводится особое место.
В итоге и насколько можно судить по этим весьма неполным
данным, мы приходим к заключению: 1) что большое число основ
на а с а2 в корне имели в праязыке тон на суффиксе; 2) что
нельзя с уверенностью сказать, что некоторые из этих основ,
каким бы ни было при этом их значение, тем не менее имели
тон на корневом слоге.
Наличие а2 также установлено1 в основах на -а, образующих
второй член сложного слова, первым членом которого будет
управляемое существительное (мы говорим только о тех случаях,
когда глагольное действие еще ощущается, а не вообще о тат·
пурушах) или же предлог. Мы можем различать по их значению
четыре типа, представленные следующими примерами: a) pari-
vâdâ „порицание" — от vad, б) ut-tânâ „простирающийся" — от
tan, в) süktä-väka „чтение сукты"—от vac, г) uda-hära „водонос"-—
от har. Зендский показывает такое же удлинение а.
Греческие примеры: а) συλ-λογος и συλ-λογή—от λεγ; б) έξ-ημο-
φός—от άμεφ, πρό-χοος—от χευ; в) —; г) ύ-φορβός—от φερβ,
πυρφόρος—от φερ. Класс в представлен некоторыми именами женского
рода, такими, как μισθο-φορά, но эти слова являются
исключениями.
Литовские примеры: pâ-szaras „пища"—от szer, at-laidà
„милость"—от leid, isz-takas „стекание"—от tek. Старославянский:
vodo-nosu—от nés, s^-logu —от leg (может быть, бахуврихи),
pro-vodu „товарищ"—от ved, po-tokü „река"—от tek, pro-roku
„пророк"—от rek, vodo-toku „канал"—от tek. В dobro-reku
(О st hoff, РВВ, III, стр. 87) проникло е.
В латинском вокализм второго члена сложных слов,
подверженный влияниям различных разрушительных факторов,
совершенно неузнаваем. Оск. loufri-konoss—это бахуврихи.
Первоначально—и в этрм нельзя сомневаться—эти сложные
слова были обычно окситонами. Они являются ими в ведийских
текстах и отчасти в греческом. В классе г греческий перенес
ударение на предпоследний слог только тогда, когда он был
кратким2 (Ворр, Accentuâtionssystem, 280, 128; Schrœder,
KZ, XXIV, стр. 122). См. исключение, которое встречается
Гесихия — λυσκάξει). Что касается обязательного исчезновения греческого ς
между двумя гласными, то категорические утверждения кажутся пока
преждевременными при наличии таких случаев, как σαυσαρός (лит. sausas), έν-θουσι-
ασμός (ср. слав, duchu, du§a). Правило еще нужно найти.— Корень frab (с а)
дает окситонное прилагательное frôdâ-[23].
1 Замечательно, что древнеиндийские сложные слова современного типа, в
которых первый член склоняется (pu§timbhara и т. д.), никогда не
обнаруживают долгого а.
2 Примеры, в которых это правило совершенно не соблюдается
(например, в πτολιπορθος, παλίντονος), имеют обычно ту особенность, что первый
член содержит ι в последнем слоге.
378
иногда в санскрите (см. Гарбе, KZ, XXIII, стр. 481); оно
напоминает различие греческого πατρόχτονο; и πατροκτόνος.
Основы на -L Вот те, которые образует греческий: τρεχ
τρόχι „бег;ун" (Эсхил), ςτρεφ στρόφι „хитрец" (Аристофан), χρεμ
χρόμι—название рыбы; μεμφ μόμψι (ж. p.) = μομφή.
Прилагательные: τ ρ εφ τρόφι (Гомер), δρεπ δρόπις-τρυγητός (Гее). Ср. μολπίς,
φρόνις, φόρμιγξ.
Ср. гот. balgi- „бурдюк"—от belg „надувать"; скр. râçi, ghâsi,
dhra^i, grâhi (см. Lindner, стр. 56).
Основы на -и. Корень гот. hintan „брать" дает handû- (ж. р.)
„рука" (Verner, цит. раб.), а в герм, haidu- =скр. ketu—это,
несомненно, а2 (а не л), потому что с, чередующееся с к (скр.
cétati, родственное этим словам), является признаком аг (гл. IV).
Сравнивая skadu- „тень" с скр. câtati, мы могли бы получить
основу на -и, совершенно похожую на предыдущие, но здесь
мы менее уверены в том, что корневым гласным будет аг. Мы
вернемся к этому сближению в главе IV.
Лит. dangùs „небо" происходит из deng „покрывать". Что
касается многочисленных прилагательных на -u-s, собранных И.
Шмидтом (см. KSB, IV, стр. 257 и сл.), которые регулярно
принимают а2 (например: sargùs—от serg), то, в действительности,
не основе на -и, ограниченной несколькими падежами мужского
рода, а, конечно, основе на -уа, которая появляется во всех
прочих случаях, следует, кажется, отдать предпочтение; правда,
в санскрите есть несколько прилагательных, таких, как däru
(от dar), но преобладающим правилом древних прилагательных
на -и является отбрасывание корневого а.
Основу da2mu мы находим в лат. domus, -üs, идентичном
ст.-слав. domiî1. Это последнее слово, по мнению славистов,
имеет подлинную основу на -и и совсем не проявляет того же
безразличия, как прочие основы, к склонению по образцу vlukü
или synu. Именно к этому же образованию можно отнести греч.
χόρΰυς (ж. р.), если принять сближение Фика с гот. hairda,
которое свидетельствует о корневом е и несуффиксальности θ;
затем—*ροκΰς, -υδος (ж. р.) — от χρεχω „ткать".
Два очень важных парокситона среднего рода: греч. δόρυ,
ирл. daru- („Grdz.", стр. 238), скр. dâru; греч. γόνυ, скр. èânu.
Др.-инд. sânu по аналогии с этим должен содержать a2. φόρβυ·
τά ούλα. Ηλείοι, по-видимому, происходит от φερβ и имеет a2.
1 Инд. damunas „familiaris"—одно из имен Агни, может быть, разлагается
на damu + nas „приходить". Остается объяснить краткий гласный в dämu:
можно было бы сначала подумать о перестановке количества и
реконструировать *dämunas. Однако удлинение i или и перед носовым является столь
обычной вещью, что подобная гипотеза была бы весьма рискованной. Вполне
возможно представить, что как только и удлинилось, предшествующее а2 было
вынуждено тем самым сохранить свою краткость. См. стр. 381. Все же форма
damunas, которая появляется позднее, делает эту комбинацию весьма
проблематичной.
379
Весьма распространена семья основ на -уа. Однако вторичные
образования перемешиваются в ней так тесно со словами,
извлеченными непосредственно из корня, что, из опасения слишком
многочисленных ошибок, мы воздерживаемся подвергать эти основы
тому же рассмотрению, что и предыдущие.
2. СУФФИКСАЛЬНЫЕ СЛОГИ
Европейские языки ясно показывают, что гласный,
добавляемый к корню в глагольных основах на -а, есть аи чередующееся
с a2. Все главные языки этой семьи согласуются относительно
места появления а2 (1 л. всех трех чисел, 3 л. мн. ч.).
Греческий Латинский Готский Старославянский Санскрит
(έχω1
εχομεν
—
έ'χοντι
έχετε
veho
yehimus2
—
vehunt4
vehite
viga
vigam
vigos
vigand
vigi]>
veza
vezomu3
vezovè3
vezqtï
vezete
vahämi)
vahämas
vahävas
vâhanti
vâhatha
1. Корень здесь маловажен.
2. Древнее * venu mus, *vehomus.
3. vezomu и vezovë являются формами аориста (если он существует у этого
глагола); е в форме презенса vezemu, vezevë появилось по аналогии с
другими лицами спряжения.
4. Древнелатинское tremonti.— Зендский согласуется с санскритом.
Литовский имеет формы 1-го лица множественного и двойственного числа sùkame,
sùkava. а в гот. vigats (2-е л. дв. ч.) может только быть заимствовано у форм
vigam, vigand и т. д. Также объясняется др.-в.-нем. wegat по сравнению с
гот. vigif> (2-е л. мн. ч.) и лит. sùkate, sùkata.
Формы медиума воспроизводят ту же схему; среди них
различаем формы 1-го лица в греческом: φέρομαι, εφερόμην, которые,
отступая от древнеиндийских форм, обнаруживают все же,
согласно правилу, о перед μ (см. ниже).
Точная первоначальная форма 1-го лица единственного числа
актива—это загадка, которую мы не пытаемся разрешить. С так
называемым вторичным окончанием она не представляет
трудности: греч. ε-φερον, слав, vezu (закономерное, вместо *vezon),
скр. â-bharam (а краткое ввиду закрытого слога). Впрочем, эта
парадигма повторяется всюду, где встречается спряжение того
типа, который называют тематическим. В этой парадигме
появление a2, очевидно, связано тем или иным образом с природой
последующего согласного. См. V.Paul, Beiträge, IV, стр. 401.
Нельзя, ввиду 3-го лица множественного числа (разве только
если допустить, что окончание этой формы было первоначально
-mti) искать в губном звуке причины этого изменения.
По-видимому, причину изменения нужно приписать сонантам или,
380
может быть, шире—звонким. Это единственный случай, когда
субституция фонемы а2 вместо фонемы ах находит свое
объяснение в механическом воздействии соседних звуков.
В дифтонге оптатива обнаруживается а2: греческий и
германский являются единственными языками, представляющими по
этому вопросу положительные свидетельства, но этих свидетельств
достаточно: греч. έ'χοις, έ'χοι, εχοιμεν и т.д.; гот. vigais, vigai,
vigaima и т.д.
Перед суффиксом причастия на -mana или -та европейские
языки имеют а2: греч. έχό-μενο-ς1, слав, vezo-mu, лит. véza-ma;
лат. vehimini ничего не решает. Исходя из греческого, мы
ожидали бы в санскрите 'vâhamâna': мы находим vâhamâna. Я
пытался в другом месте объяснить эту форму смещением количества
(ср. pavâkâ вместо pâvakâ, çvâpâda вместо çvâpada; см.
Grassmann, s.v.). Однако этой, уже самой по себе малосостоятельной,
гипотезе противоречат такие формы, как sasrrnânâ. Мы ограничимся
следующими замечаниями: 1) Относительно суффикса: он не
идентичен греческому -μενο. По всей вероятности, он восходит к
ma2na и стоит в одном ряду с др.-прусск. poklausïmanas2 (Bopp,
Gram. Comp. Trad., IV, стр. 25); зенд. -mana и греч. -μενο
восходят к -та^а; зенд. -mna дает нам третью, ослабленную форму.
Впрочем, трудно себе представить, как эти три суффикса могли
чередоваться в индоевропейском, и странно, что из двух, столь
близко географически расположенных языков как зендский и
санскрит, первый полностью игнорирует -тагпа, тогда как
другой, наоборот, утратил все следы -ma1na3. 2) Что касается
тематического гласного, то, несмотря на краткость, им мог быть a2,
как этого требуют и последующая фонема и свидетельство
европейских языков. Для этого нужно допустить, что в открытом
слоге, за которым следует долгий слог, в арийских языках al
не удлинилось. Примеры, которые дали бы возможность это
проверить, к сожалению, редки и немного спорны. Таковы зенд.
katära, о котором речь пойдет ниже; далее, damünas (см. стр. 379),
1 Памфилийское βολέμενυς (βουλόμενος) принадлежит диалекту, в котором
πορτί превратилось в περτ-. Именные формы βέλεμνον, τέρεμνον и т. д. могут
объясняться различным образом.
2 Греч, -μονή в χαρμονή и т. д. является всего лишь сравнительно новым
продолжением суффикса -μον, не имеющего отношения к причастиям.
3 Индийские инфинитивы на -mane происходят от основ на -man.
4 Долгий в случае с vâhamâna сам происходит от древнего а2 (vaha2ma2na),
но легко понять, что в столкновении двух я2, каждое из которых имело
тенденцию стать долгим, второе, не встречая сопротивления со стороны следующего
за ним краткого слога, должно было одержать верх.— Этот краткий слог, о
котором мы говорим, заменен в некоторых формах долгим, например, во
множественном числе vâhamânâs; чтобы поддержать эту теорию, на которой,
впрочем, мы особенно и не настаиваем, мы, естественно, вынуждены сказать,
что в vâhamâna, так же как в pâka, vyadhâ, и т. д., удлинению, собственно,
подвергаются только те падежи склонения, в которых окончание является
кратким.
381
наконец, аористы на -i§am (стр. 368). Однако краткий гласный
зендского vazyämana остается непонятным.
Перед суффиксом -nt причастия настоящего времени
действительного залога тематический гласный выступает в виде а2 в тех
случаях, когда он не отбрасывается, что случается в некоторых
падежах флексии. Греч, έχοντ-, гот. vigand-, слав, (vezy), род. п.
vezasta, лит. vezant-. Краткое а скр. vâhant- закономерно, так
как слог является закрытым. Что касается е в лат. vehent-, то
Бругман допускает, что оно пришло из слабых падежей с
носовым сонантом.— Таково же причастие футурума.
Не касаясь глагольного тематического гласного, мы
рассмотрим те случаи, когда а2 появляется в суффиксе именных основ.
Однако мы временно оставим в стороне суффиксы, которые
оканчиваются на согласный.
О суффиксе -maana мы уже говорили; другой суффикс
причастия—а2па: скр. bibhid-ânâ, гот. bit-an(a)-s. — Вторичный
суффикс -tara претерпевает весьма поразительные колебания. Он
принимает в зендском форму -tara в тех случаях, когда
присоединяется к местоимениям: katâra, yatâra, atâra (ср. fratära), тогда
как в санскрите всюду в таких случаях представлено краткое а:
katarâ, yatarâ и т. д. Это то же самое явление, которое
наблюдается и с суффиксом -mana, с той лишь разницей, что а2 здесь
отражено в иранском, а форма, содержащая а1У существует
параллельно с другой. К тому же зендский вовсе не изолирован,
что мы только что видели на примере санскрита: наряду с katâra
имеются такие слова, как ст.-слав, kotoryjï и vu tor й, гот. hva])ara
и апрага1 (зенд. antara). С другой стороны, а в санскрите
подтверждается греч. πότερος, и слав, jeteru. Лат. titer, имеющее
промежуточную форму *utrs, не принимается во внимание. Оск.
pùtùrus-pid (ср. pùterei) претерпело вторичную ассимиляцию.
(См. Curtius, Grdz., стр. 718). Мы не находим другого выхода,
кроме как допустить первоначальный суффикс. Возможно, что
один—ta2ra—соединялся с местоимениями, в то время как
другой был предназначен для предлогов, как это имеет место в
зендском, и что позднее в различных языках такое четкое
разграничение в употреблении этих суффиксов не стало соблюдаться.
Нужно добавить, что в зендском â сокращается в katâra всякий
раз, как вследствие добавления частицы cit слог, следующий за
этим а, становится долгим: katäraccit, katäremcit
(Hübschmann, Casuslehre, стр. 284). Значит ли это, что удлинение
в katâra имеет совсем другую причину, чем присутствие a2? Как
мы только что сказали, это заключение не кажется необходимым.
Суффиксальный гласный основ на -а (собственно основы на
-a, основы на -ta, -na, -ma, -ra и т.д.). Бругман кратко ука-
1 Мне хорошо известно, что это готское а может объясняться иным
образом, если сравнивать fadar =πατέρα и ufar = 6jxsp.
382
зывает, что этот гласный восходит к а2 („Stud.", IX, стр. 371)»
и это мнение было принято всеми, кто вообще принял гипотезу
относительно а2г. Здесь, как и в других случаях, а2 чередуется
с аг. Если взять в качестве примера и.-е. akwa (основа мужского
рода), то при склонении ее можно заметить, что ряд падежей
обнаруживает в европейских языках редкую согласованность,
явно свидетельствующую о наличии a2; таковы: им. п. ед. ч. akwa2-s,
вин. п. ед.ч. akwa2-m2, вин. п. мн. ч. akwa2-ns. То же самое
имеет место и в именительном—винительном среднего рода däna2-m.
Ступень a! засвидетельствована в звательном akwale Все
остальное более или менее окутано мраком. Что следует допустить в
родительном падеже единственного числа—ах или a2? Гот. vulfi-s
говорит в пользу ax3, греч. ϊππο-to—в пользу a2. Обе эти формы
не могут одновременно непосредственно отражать первоначальную
форму. Одна из них обязательно подверглась действию аналогии:
остается только узнать, какая. Форма санскрита по многим
причинам не в состоянии решить этот вопрос. Однако существует
славянская местоименная форма, которая, по-видимому,
свидетельствует в пользу аг: ceso или cïso, род. п. от cï(-to). Лескин
(„DecL", стр. 109) одобряет тех, кто видит здесь форму на -sya,
а почему бы не иметь эту форму также и зендскому cahyä (скр.
käsya—род. п. от основы ка), которое свидетельствует об ах
благодаря своему палатальному? Поскольку к тому же нет
основания считать, что родительный местоимения на -a2 чем-то
отличается от соответствующей формы именных основ на a2, то мы
делаем вывод в пользу и.-е. akwax-sya и считаем о в ί'ππο-to
заимствованным из других падежей.— Форма местного падежа должна
бы иметь a!, akwa^i. Именно на это указывают такие оскские
формы местных падежей, как terei, akenei, и дорические формы
местного падежа, такие, как τουτεΤ, τείδε; ср. πανδημεί, άμαχεί и
т. д., наконец, древнелитовский местный падеж name (Leskien,
цит. раб., стр. 47). Бругман, сторонник гипотезы о
первоначальном akwaxi, обращает наше внимание на то, что греческие
формы местного падежа на -ot(obeot) являются не более как самым
1 В цитированной статье из „Mémoires de la Société de Linguistique" я
полагал, что имею некоторые основания заявить, что о в Γππος, equos
восходит к о (несмотря на форму звательного падежа с е), а не к о2. Позднее я все
чаще и чаще стал приходить к убеждению, что подобное предположение не
выдерживает критики, и я упоминаю здесь о нем только для того, чтобы
избежать упрека в частой перемене мнения. Причем, я должен подчеркнуть,
что статья эта была написана почти год тому назад и в тот момент, когда я
только-только пришел к заключению относительно двоякой природы греко-
италийского о.
2 Краткое а в скр. açvas, âçvam закономерно, так как оно находится в
закрытом слоге.
3 О вторичном а древнесаксонского -as см. L es k i en. Declination, стр. 30.
Др.-прусск. stesse также говорит в пользу аъ хотя нередко балтийское е
внушает довольно мало доверия (например: лит. kvep „испарять", гот. hvap, греч.,
лат. kvap).
383
обычным случаем контаминации, тогда как, исходя из
первоначального akwa2i, нам будет очень трудно объяснить форму на
-st.— Перед теми из окончаний множественного числа, которые
начинаются с bh и s, к основе прибавляется i, но гласным
является a2, как это следует из греч. ί'πποι-σι, оск. zicolois и
герм, pai-m (местоименное склонение). Литовский имеет të-mùs,
однако истинное значение ё неясно.
Когда окончание начинается с гласного, то во всех языках
семьи он оказывается слитым с конечным гласным основы.
Согласно общим принципам сравнительного языкознания, эту
контракцию следует отнести к праязыковому периоду. Однако в
этом явлении есть нечто столь особенное, оно так хорошо может
совмещаться с самыми различными фонетическими тенденциями,
а, с другой стороны, произойти в ограниченный промежуток
времени, что, в конце концов, зияние вполне могло бы
просуществовать до конца праязыкового периода. Это, однако, вовсе
не значит, что оно сохранялось очень долго и даже в
доисторический период различных языков1. Этот вопрос связан с
некоторыми другими вопросами, рассмотренными в § 11.— В
именительном падеже множественного числа (скр. âçvâs, гот. vulfos,
оск. Abe.llanos, умбр, screihtor) гласным окончания 2 является аг.
Стало быть, главным образом для того, чтобы в италийских
формах было о, нужно, чтобы в основе было а2: мы получаем таким
образом akwajs + aiS. Произнесенная с зиянием форма будет
звучать akwa^s (приблизительно: ekwoes); с контракцией—akwâ2s
(ekwôs). Мы регистрируем новую фонему * а2, возникшую здесь
как бы случайно, которая приобретает, однако, в дальнейшем
морфологическую функцию. Какой бы эпохой при этом ни
датировалась контракция, существенно отметить, что о в vulfos (=
долгому â2) по происхождению отличается от о в brojoar (= Â).
В самом деле, на севере Европы долгие соответствия а2 и а
смешались так же, как и сами эти гласные.— Гласный окончания
отложительного падежа единственного числа неизвестен: если
мы присвоим ему качество аи то получится тот же случай, что
и в именительном множественного числа. Балто-славянский
родительный падеж vlüka, vilko восходит к древнему отложительному
падежу (Лескин). Эта форма дает повод к тому же замечанию,
что и vulfos: славянское а (== литовскому о) представляет в ней
а2, а не а, как в mati (лит. motë).— Немногие сведения, кото-
1 Мы не осмеливаемся объяснять зиянием такие (восстановленные)
ведийские формы, как devâas, çâmsaas, devânaam и т. д., и такие формы зендского,
как daêvâat, о значении которых мнения значительно расходятся.
2 Его характер определен греческим и славянским: μητέρ-ες, mater-e.
3 Допуская возможность долгого а2, отличающегося от краткого а2, мы
имплицитно решаем вопрос о том, было ли в праязыке а2 кратким, каким оно
является повсюду в европейских языках. Впрочем, рассматриваемые формы
могли бы, разумеется, быть использованы для доказательства этой краткости.
384
рыми мы располагаем о природе а в окончании дательного падежа
единственного числа, весьма неопределенны: их доставляют нам
греческие инфинитивы на μεν-αι ** скр. man-e1. Если считать
их достоверными, тогда в δ форм ί'ππφ, equô ива скр. âçvâya
присутствуют элементы а2+А. Мы не будем производить весьма
трудного анализа творительного падежа единственного и
множественного числа (скр. âçvais, лит. vilkais), родительного падежа
множественного числа и именительного—винительного
двойственного числа. Именительный—винительный мн. ч. имен среднего
рода уникален: его долгое ä имеет качество Â, как показывает «
греко-италийский2. Если не отождествлять его, как это сделали
некоторые, с именительным падежом единственного числа
женского рода, то следует предположить первоначальную форму
dâna2+Â, или же, если а окончания кратко, то däna1+A; вряд
ли можно принять форму däna2 + i4, потому что в дательном
падеже единственного числа а2+А дало греко-италийское б.
В местоименном склонении мы находим а2 перед d в
именительном— винительном падеже единственного числа среднего рода:
греч. το, лат.-tud; гот. t>ata, слав, to, лит. ta-i (скр. tad).
Далее, им. п. мн. ч.: греч. ш, др.-лат. poploe (первоначально —
местоименное склонение), гот. })ai8 (скр. té).— Разумеется, а2
содержит местоимение sa (им. п. ед. ч.): греч. о, гот. sa.
Соответствующая древнеиндийская форма sa является единственным
достоверным примером, в котором можно видеть, что происходит
в санскрите с этой фонемой, когда она оказывается в конце
слова. Мы констатируем, что она не подвергается удлинению4.
Отметим еще местоимение первого лица: греч. εγώ. лат. ego, слав.
azu5=*azom или *azon (скр. ahâm); долгое δ в εγώ еще не
объяснено, но по своей природе это, несомненно, a2.
Бругман (цит. раб., стр. 371) указал на параллелизм,
который существует между е (ax) в звательном падеже основ на а2
1 Шлейхер сомневается в том, что -μεν-αι могло быть дательным падежом
от согласной основы. См. „Сотр."4, стр. 401.— Частая долгота греческого ι
в дательном падеже у Гомера (Н artel, Нот. Stud., I2, стр. 56) не является
достаточным основанием для того, чтобы считать, что эта форма представляет
собой что-либо иное, нежели древний местный падеж. AiFei- в ΔιΡείθεμις и
т. д., по-видимому, не является дательным падежом. Италийские и литовские
формы сомнительны.
2 И только он один может это показать, так как излишне повторять, что
северные языки смешивают а2 и Â. В славянском, например, а в delà (мн. ч.
ср. р.; ср. лат. döna) не дифференцировано от α в vlüka (род. п. или твор*
п. ед» ч.; ср. лат. equo).
3 Слав, ti тем более удивительно, что мы находим ё в форме местного па*
дежа vlucë, где мы установили дифтонг ^г\. См. выше, стр. 365— 366.
4 В тексте „Ригведы" один раз встречается форма sä на месте sa (I, 145,1).
Также и в зендском есть форма hâ, которую Юсти предлагает исправить на
hâu или hö. Даже если она и будет подтверждена, количество конечного а
в зендском никогда не является надежным показателем.
6 Начальное а этого слова, которому соответствует лит. àsz (а не 'osz'),
совершенно загадочно. Ср. лит. aszva=equa, аре по сравнению с επί.
13 Φ. де Соссюр
385
й кратким а в звательйом падеже имен женского рода на а:
греч. νυμφα, δέσποτα от основ νυμφα-, δέσποτα-; вед. amba—форма
зват. п. от ambä; слав. 2e.no—форма зват. п. от 2епа.
Последняя форма входит в обычную парадигму. Греческий местный
падеж χαμαί от основы *χαμά- = скр. kSmä обнаруживает тот же самый
параллелизм и занимает место рядом с местным падежом имен
мужского рода на -st. Форму местного падежа viai в оскском
следует возводить к via + i, форму местного падежа ienë в
славянском—к 2enä + i. Форма арийских языков должна быть
вторичной. Однако, может быть, форма местного падежа zemë в
зендском содержит древний реликт: естественнее связывать ее с скр.
ksamä (основа женского рода) и с греч. χαμαί, нежели возводить
е к имени мужского рода, которое пришлось бы искать в Италии
(лат. humus).— Мало что можно извлечь из родительного падежа.
Итак, мы приходим к следующему выводу: там, где имена
мужского рода имеют a2, имена женского рода имеют а; там, где они
имеют аи имена женского рода имеют а. Это правило необычно,
так как всюду в других случаях соотношение а:а абсолютно
отличается от соотношения ax:aa.
Являясь первым членом сложного слова, основа имен
мужского рода содержит a2: греч. ίππό-δαμος, гот. goda-kunds, слав,
novo-gradu, лит. kaklâ-ryszis. Со своей стороны, женская основа
обнаруживает долгое X1: скр. senä-pati, зенд. upaçta-bara, греч.
vuôc-φόρος, лит. vasaro-laukis от vasarà (Schleicher, Lit. Gr.,
стр. 135).
Рассматривая производные от основ на а2 в арийских языках,
мы с удивлением замечаем, что этот гласный остается кратким
перед простыми согласными2, например: ghorâtâ от ghorâ.
Следует сказать с самого начала, что во многих случаях а2 и здесь
заменено аг: ghorâtâ, например,— это гот. gaurtya. Ср. др.-лат.
aecetia. Следовательно, краткий оправдан.— Однако этого объяс-
1 Что касается славянского образования vodo-nosü (от voda), то оно
скопировано с мужского рода; в греческом тоже есть тип λογχο-φόρος (от λόγχη).
Взятое изолированно, vodo- могло бы восходить к vadл- в соответствии со
славянским вокализмом; подобная форма была бы очень любопытной, но а
родственных языков мешает такому допущению.— Г. Мейер („Stud.", VI, стр. 388
и сл.) пытается утверждать, что сокращение конечного à является образованием,
свойственным европейским языкам; но для этого ему приходится выводить
λογχο- (в λογχο-φόρο) непосредственно из основы женского рода—допущение,
которое, как я полагаю, никто больше не рискнет принять. Три
древнеиндийских сложных слова, в которых этот ученый обнаруживает свой краткий
гласный— kaça-plaka, tikha-chid, kSa-pâvant,—можно бы в случае необходимости
объяснить аналогией с основами на -а, которая, как мы только что отметили,
присуща языкам Европы, но первое слово, видимо, не имеет ничего общего
с kaçâ; два других образованы от ukha и k§am.
2 Правило об а2 перед долгим слогом могло бы здесь, может быть, найти
иногда свое применение; так, суфф. -vant, будучи долгим, мог парализовать
удлинение предшествующего а2\ в açvâvant и т. д. долгий гласный обусловлен
особым влиянием v.
386
нения, надо сказать, недостаточно для объяснения других форм.
В формах tâ-ti и kâ-ti а2 засвидетельствовано латинскими tot
и quot. Наряду с греч. πότερος, умбр, podruhpei, гот. hvapara-1,
слав, kotoryjï, лит. katràs, в санскрите мы находим ka-tarâ-.
Формы ubhä-ya наряду с гот. bajo£>s и dva-yâ (ср. греч. δοιοί)
представляют меньше трудности, так как можно привлечь лит.
abeji и dveji. Однако бесполезно, я думаю, прибегать к этим
частичным объяснениям: слишком очевидно, что завершающее
основу а не удлинится ни в коем случае. Именно в этом, и этого
нельзя отрицать, и заключается слабая сторона гипотезы об a2:
вероятно, можно сказать, что перед вторичными суффиксами
имеют место порой те же фонетические тенденции, что и в конце
слова; вероятно, ка- в kâ-ti можно сравнить с местоимением sa2,
превратившимся в sa. Все же мы не рискуем, опираясь на эти
несколько примеров, поддерживать во всех его последствиях
положение, которое может завести нас слишком далеко.
Возможно, по тем же самым причинам скр. samâ сохраняет
краткое a, хотя слово это соответствует греч. όμός, гот. sama(n-).
Бенфей действительно усматривает здесь дериват (превосходную
степень) от местоимения sa. Зенд. häma не сможет нам помочь
и вот почему. В этом же языке есть также hama, а, с другой
стороны, в славянском существует форма samu; Фик добавляет
к этому англо-сакс. ge-sôm „Concors"; следовательно, форма häma
поддерживается этими двумя последними словами и ее долгое а
не может быть более рефлексом a2. Если бы о в όμός восходило
к о, трудности были бы устранены, но я не знаю, допустимо ли
это. Ср. simâ, sumât, smât.
До настоящего момента я не рассматривал случай,
представляющий некоторую аналогию с samâ: это слово dama в его
соотношении с греч. δόμος, лат. domo-, ирл. -dam. Однако тут
уже нет ни малейшей возможности анализировать dama как
da-ma. Если учитывать возможное родство samâ с основой sam-
„один" или частицей sam, то можно получить два параллельных
ряда: 1) sam, samâ с нерегулярным кратким, ομός, sämu; 2) dam
(δώ?), dama с нерегулярным кратким, δόμος, δαμος. Мне неизвестно,
объединяются ли оба эти ряда какой-либо внутренней связью2.
Бругман приписывает гласному a2 среднее между долгим и
кратким количество и согласовывает таким образом краткий глас-
1 Формы других германских диалектов восходят, однако, к
первоначальному hvepara, которое представляется нам довольно странным.
2 Бесполезно указывать, что греческий глагол δέμω, который не имеет
соответствия в индоевропейских языках Азии и от которого Бётлинг — Рот
хотят отделить δόμος, в случае, если его нужно будет отождествить с dama,
привносит новые осложнения. Рассматриваемое само по себе dama, ввиду своей
акцентуации, могло бы быть эквивалентом „dma": тогда это была бы иная
основа, чем δόμος, которая могла бы дать в греческом 'δαμος'. Точно так
же, чтобы не заходить дальше, существует второе индийское слово sama со
значением „любой", которое в греческом имеет форму άμός (гот. sums).
13*
387
ный всех индоевропейских языков в Европе с долгим гласным
индоевропейских языков в Азии. Однако ввиду того, что
последние сами по себе имеют краткое а перед группами, состоящими
более чем из одного согласного, то мы можем обойтись без
этого компромисса и допустить, что различие между ах и a2 было
исключительно качественным (ср. стр. 384).
При рассмотрении флексии мы увидим другие и еще более
убедительные примеры индоевропейского aa.
§ 8. Второе греко-италийское о
Вот основания, вынуждающие нас допустить вторую
разновидность греко-италийского о:
1. Имеются о, которым в санскрите соответствуют краткие а
в открытом слоге; так, о в πόσις — potis = CKp. pâti должно быть
отличным от о в оори = скр. dâru.
2. Морфологическое основание: как мы видели в § 7, фонема a2
связана и ограничена некоторыми определенными основами.
Например, никогда ни одна форма презенса первичного, то есть
непроизводного глагола, не содержит о (или в германском —a),
которое можно было бы определить как рефлекс а2 в силу
наличия сосуществующего с ним e. Стало быть, невероятно, чтобы о
такого презенса, как δζω, другими словами, о, которое сохраняется
во всех формах корня, могло быть рефлексом a2.
Здесь имеет некоторое значение вокализм армянского языка.
Статьи Гюбшмана („Ober die Stellung des armenischen im Kreise
der indogerm. Sprachen" и „Armeniaca" в KZ, XXIII, стр. 5
и сл., 400 и сл.) предлагают тщательно отобранный материал,
к сожалению, менее обильный, чем этого хотелось бы, что
обусловлено несовершенством армянской этимологии. Именно из этого
источника мы и заимствуем. Автор показывает, что различие а
и е существует в армянском, так же как и в языках Европы,
и что, следовательно, этот язык вовсе не относится к арийской
группе языков: основываясь, помимо этого, на явлениях,
относящихся к области гуттуральных согласных, он помещает его
между балто-славянскими и иранским. Не желая подвергать
обсуждению этот последний вывод, мы считаем необходимым
подчеркнуть, что вокализм армянского языка позволяет нам не
ограничиваться простым утверждением о связи его с языками
Европы вообще: он позволяет говорить о теснейшей связи этого
языка с вполне определенной частью этой языковой области,
причем не со славяно-германским, как ожидалось бы, а с
греко-италийским. И в самом деле, армянский различает az и л.
388
а дает a: atsem = ά'γω (Η ü b s с h m a η η, стр. 33); ba2 „часть",
baianel „делить", греч. φαγειν (стр. 22); kapel, лат. capio (стр. 19);
hair «отец^; ail ==<χλλος (стр. 33); andzuk „узкий", греч. ά'γχω
(стр. 24). а отражено в mair „мать", ejbair „брат"; bazuk, греч.
παχύς (может быть, заимствовано из иранского, стр. 402).
а2 дает о (об е см. цит. раб., стр. 33 и сл.): с hetkh „след"
(лат. peda), otn„Hora"cp. греч. ποδ- (Brugmann, „Stud.", IX,
стр. 369); gochél „кричать", ср. греч. έπος, δψ (стр. 33); gorts „работа",
ср. греч. εοργα (стр. 32); ozni, греч. έχΤνος (стр. 25) не имеет прямой
аналогии в родственных языках, но так как в них название ежа
содержит с, то о в ozni должно быть рефлексом a2; в
словосложении: lus-a-vor, которое Гюбшман переводит как λευκοφόρος и
которое происходит от berem „несу" (стр. 405); age-vor (стр. 400);
наконец, в суффиксе: mardo- (дат. п. mardoy) = rpe4. βροτό. Йо
где-то—и именно это мы особенно имели в виду—армянский
перестает отражать греко-италийское о и противопоставляет ему а:
akn „глаз", греч. δσσε, лат. oculus (стр. 33); anwan „имя", греч.
δ'νομα, лат. nömen (стр. 10); magil „коготь", греч. δνυξ, лат. unguis
(стр. 35); amp, amb „облако", греч. δμβρος (стр. 19); vard „роза",
греч. Fpoôov, лат. rosa (стр. 35); tal „давать", греко-лат. do (стр. 33).
Самоназванием армян является Hay; Φρ. Мюллер сближает его
с скр. pâti или греко-ит. poti- („Beitr. zur Lautlehre d.arm. Spr."
в „Wiener Sitzungsber.", 1863, стр. 9). Все эти примеры
заставляют подозревать, что греко-италийское о имеет иное качество,
нежели a2, например в только что приведенном poti-, в δσσε,
oculus, чей корень постоянно сохраняет о. Таким образом,
армянский, по-видимому, вполне подтверждает гипотезу о двух о.
Однако следует сказать, что греко-италийское od (δζω)
соответствует, согласно предположению Гюбшмана, арм. hot „запах"
(стр. 405): мы ожидали бы здесь a, как в акп.
После того как мы установили, что существуют
греко-италийские о, иные, чем о2=и.-е. a2, нам остается выяснить,
составляет ли полученный остаток органическое и с самого начала
отличное единство или же он образовался случайно, например,
не могли ли некоторые a измениться в о в сравнительно
недавнее время. Мы приходим к заключению, что обе идеи верны.
Обычно во многих случаях о является всего лишь более новой
фазой a. Но, с другой стороны, согласие греческого и латинского
в таком слове, как πόσις—potis, гарантирует глубокую древность о,
которое оно содержит и которое, как мы только что выяснили,
никак не восходит к a2.
В итоге мы, по-видимому, можем различить четыре
разновидности о, важность и возраст которых неодинаковы.
1) o = a2, общее греческому и италийскому (§ 7),
389
2) о в πόσις — potis, общее греческому и италийскому. Для
этой фонемы мы примем обозначение о.
3) о, возникшее из a в позднейшую эпоху (отдельно в
греческом и италийском).
4) Существуют анаптиктические о, развившиеся из плавных
сонантов и других аналогичных фонем; см. гл. VI. Некоторые
из них, как, например, в vorare (греч. βορ), появляются в обоих
языках, другие—только в одном из двух. Важно никогда не
терять из виду существование этих гласных, объясняющих массу
внешних аномалий, равно как и не смешивать их с подлинными о.
Мы могли бы немедленно перейти к перечню
греко-италийских о, который, впрочем, легко уместился бы в двух-трех
строчках. Однако предварительно следует сориентироваться,
распутать, насколько это будет в наших силах, клубок вторичных
пертурбаций, в которые оказалось вовлеченным о, и исследовать
возможные соотношения этого гласного с a.
U КАК ЗАТЕМНЕНИЕ (OBSCURCISSEMENT) ГЛАСНОГО О
Рассмотрев субституцию гласного о гласным υ, свойственную
эолийскому диалекту, Арене пишет (I, стр. 84): «in plurimis
[exemplis, о] integrum manet, ut ubicunque ex ε natum est, δόμος,
λόγος (nam ά'γυρις ab άγερ, ξυανον и ξέω, ср. £ш, diversam rationem
habent)» и т. д. Обозначение о как ex ε natum могло бы очень
хорошо соответствовать тому, что мы называем о2, и тот факт,
что эолийский провел различие между о2 и о, мог бы быть весьма
любопытным. Однако при более пристальном рассмотрении надежда
найти в нем ценное подтверждение не оправдывается: не говоря
уже о ξΰανον, в котором невероятно видеть слово, отличное от ξόανον,
суффиксальное о (= о2) суффиксов подвергается указанному выше
изменению, например, в τΰτε, в αλλυ (аркад.), в τέ*τυνες, в
гомеровском επασσΰτεροι. Достаточно принять во внимание, что
рассматриваемое и предполагает древнее и, как придется признать,
вместе с Курциусом („Grdz.", стр. 704), что эолийское затемнение о
имеет абсолютно тот же характер, что и в италийском, с которым
этот греческий диалект к тому же разделяет основные
фонетические процессы. Подобно эолийскому, латинский чаще всего
сохраняет о2, когда этот гласный находится в корневом слоге:
toga, domus и т.д., тем не менее мы не могли бы установить
абсолютного правила1.
Напротив, общегреческое о в таких словах, как λΰχος или
ιτυλη, представляет собой, если мы не ошибаемся, явление иного
рода. Во-первых, группы up, υ\, по-видимому, никогда не раз-
1 Как и в латинском -törus =*-törus, ω может перейти в а. Гесихий
дает формы ρώφυνες = ρώθωνες и φυραξ^φώραξ, правда, не указывая
происхождения.
390
вйвались из более древних групп op, ок с гласным в полной
ступени: они во всем сходны с древнеиндийскими ослабленными
ступенями ur, ul; стало быть, нам не нужно их здесь
рассматривать. В других случаях υ (и) происходит из губного
согласного, оказавшего влияние на иррациональный гласный или же
на плавный или носовой сонант. Так, в ανώνυμος не имело места
превращение о слова όνομα в и: это явление восходит к той эпохе,
когда на месте этого о была лишь какая-то неопределенная
фонема. Вот эту-то последнюю фонему соседнее μ и могло окрасить
в и. Точно так же γυνή вместо γρηνή, а не вместо γρανή.
Сравнивая μάσταξ и ματυαι-γνάθοι (ср. μάθυιαι) с гот. munf>a-, лат. men-
turn, мы объясним дор. μΰσταξ древней формой μησταξ.
Посредством своеобразной эпентезы велярные гуттуральные оказывают
иногда воздействие на предшествующий им слог1: отсюда λύκος
вместо *Ρλυκος, *FlxFoç=^cKp. vfka, гот. vulfs. В ον-υ-ξ (лат.
unguis) о равным образом является экскрецией гуттурального.
Следует, однако, признать, что в нескольких случаях
подобному изменению подвергся полный гласный, причем всегда под
влиянием соседних согласных: χύ\ιζ9 лат. calix, скр. kalâça; vtfë,
лат. пох, скр. nâkti; κύκλος, герм, hvehvla-, скр. cakrâ. Этот
последний пример весьма примечателен: германское hvehvla, а
также наличие палатального в санскритском слове позволяет нам
не сомневаться, что греческое о развилось из первоначального ε.
Таким образом, по многим причинам мы не имеем права считать,
что данное греческое υ во всех случаях2 являлось
эквивалентом о. Впрочем, это не имеет больших практических последствий
ввиду того, что νυξ (несомненно, вместо *νό$) является почти
единственным примером, который принимается во внимание в
вопросе о фонеме о.
В латинском гласный, затемнившийся в и, обычно может сойти
за о. Иногда изменение приводило к i, как в cinis = *ovK,
similis = ομαλός; в этом случае нет больше доказательства
существования о, так как i само по себе может представлять также и е.
1 Мы допустили подобную эпентезу в λαυκανίη и в λαυχάνη (стр. 318 и
325), в которых и не было, как здесь, паразитическим звуком. Трудно
противиться мысли, что δάφνη и его фессалийская форма δαυχνα восходят к * δαχρν&
(ср. δαυχμόνεδκαυστον ξύλον δάφνης); аналогичные дублеты мы находим в
ρύγχος и ράμφος, в αύχήν, диал. άμφήν, эол. αυφην („Grdz.", стр. 580). — Ну а
в αόγυπιός, αίγλη, αΐκλον ι обусловлено последующим палатальным
гуттуральным? Я считал такое предположение возможным при составлении примечания
на стр. 309, но теперь я признаю, что оно было неосновательным.
2 Довольно часто встречается, но мало изучено чередование α и υ, как
в.γνάθος : γνυθός, μάχλος : μυκλός („Stud.", Ill, стр. 322); наличие именно
этого факта и вызывает вопрос, действительно ли υ имеет в точности качество
о-микрона. Из числа примеров нужно, без сомнения, исключить βυθός,
которое может претендовать на родство с скр. guhati не менее, чем κεύθω (о
губном перед υ ср. πρέσβυς); βυσσοδομεύω живо напоминает скр. giihya. О ζ зенд-
ского gaoz см. Hübsch mann, KZ, XXIII, стр. 393. κέκευται (Гее.)
говорит о том же.
391
чередование гласных а и О
1. Прежде всего следует исключить чередование а:0, наблю*
даемое, в частности, в греческом, которое является
закономерным явлением аблаута, изученным в главе V: так, βα-τήρ : βω-μός.
2. а перешло в o. Это явление, как известно, часто в
греческих диалектах. Оно имеет место в лесбийском в соседстве
с плавными и носовыми: δνω, δόμορτις, στρότος, θροσέως и т. д.
(Ahrens, I, стр. 76). Дорический содержит среди других слов
γρόφω, κοθαρός (Гераклея), άβλοπές (Крит). Гесихий приводит χόρζα-
καρδία. Πάφιοι, στροπά* αστραπή. ΙΙάφιοι1. В ионийском имеем έωυτόν,
θωδμα вместо θάδμα. Эти диалектные преобразования, которые,
впрочем, часто затрагивают анаптиктические а, интересуют нас
только косвенно, указывая явно на а, которое на греческой почве
переходит во2.
За пределами диалектов колебание между3 α и о
обнаруживается особенно перед υ, F: κλοιός „оковы, ошейник", родственное
x\â(F)iï\ ποδς и πά(Ρ)ΐζ; οδρος и αύρα; ουτάω и γατάλη; a(F)tsx<k и
o(F)t<ov<k (?). Нам трудно поверить в родство οίστρος с αϊθω
(Ascoli, KZ, XII, стр. 435 и сл.).
Часто чередование α и о является только внешним,
например (возьмем лишь случай, где колебания невозможны) в δραμειν :
δρόμος. Корнем, очевидно, является δρεμ: слова, которые могли
содержать его в этой форме, исчезли; δραμείν обязано своим α
плавному сонанту, δρόμος закономерно получило a2, и в
настоящее время кажется, что δρομ чередуется с δραμ. В случае ραπίς :
ρόπαλον глагол (F)psuû> сохранил нам ε. Подобным же образом
объясняется χαμαί : χθων, παρθένος : πτόρθος, σκαληνός : σκόλιος,
корневое е которого появляется в лат. scelus (ср. скр. chala
„обман"), а также, я думаю, γαμφή : γόμφος4.
Чтобы иметь полное представление об отношении Κρόνος к κραίνω,
κρουνός к κράνα, *κράννα, σκοιός, σκότος к σκάνά, πτόα, πτοία к πτά*
(καταπτήτην), нужно лучше знать их образование и этимологию.
Нет больших оснований связывать Νότος, νοτίζω с ναρός, νασος от
snä: скр. nïrâ „вода" позволяет отнести их к другому корню.
Мы видели (стр. 372), что θρόνος вместо *θορνος относится к корню
θερ, а не θρα (θρανος).
1 Кроме этого, στροφαί· άστραπαί; στορπάντήν άστραπήν. ρα в αστραπή,
вероятно, происходит из ç (ср. вед. sçkâ?); не ясно στεροπή.
2 В ряде слов, происхождение которых неизвестно, о равным образом
следует отнести на счет диалекта; так, αποφείν άπατησαι, κρόιιβος·ό καπυρός,
βρόταχος = βάτραχος, πόλυντρα·&λφιτα, κόλυβος = καλοβη, πόροαλις и т. д.
3 Под следующими номерами мы найдем другие примеры этого явления.
4 То же чередование может объясняться различными способами в
следующих случаях: αολλής и FaXiç, κόχλος и κάχληξ, κόναβος и κανάζω, κροτώνη
„нарост на дереве", родственное κάρταλος и лат. cartilago (стр. 55), μόσχος
„молодой побег" и μασχάλη „подмышка, молодой побег", πεπορασμένος· φανερός
(Гее), отнесенное М. Шмидтом, его издателем, к πεπαρεΐν (см. стр. 57),
στρογγυλός и στραγγός.
392
α и о как протетические гласные часто чередуются между
собой, например, в άσταφίς : όσταφίς, άμίξαι : όμιχείν, άδαχέω : όδάξω.
Здесь вовсе не идет речь об изменении α в о: только в первом
случае из начального согласного развился a, a во втором—о.
Более чем вероятно, что а в окончаниях медиума -σαι, -тае,
-νται иов окончаниях -σο, -το, -ντο первоначально были одним
и тем же гласным. Форма -τοι диалекта Тегеи до некоторой
степени может служить подтверждением этого, так как аркадский
диалект, по-видимому, не имел особой склонности к изменению
α в о, если только не считать доказательством этого χατύ вместо
«ατά. В качестве примеров приводят έφϋορκώς, δεχόταν, έκοτόμβοια
(Schrader, „Stud.", X, стр. 275). Шрадер считает, что о в έφθορκώ-
есть не что иное, как гласный перфекта, который сохраняется
иногда в образованиях на -х<х. Что касается появления о в
приведенных количественных числительных, то и этот факт равным
образом может быть независим от местных особенностей: все греки
колеблются здесь между α и о (δέκα, εϊχοσι, εκατόν, διακόσιοι), хотя
содержащиеся в этих формах группы *а, хо все без исключения
восходят к элементу krp.
Ввиду того что переход а : о допустим для конечных слогов,
можно рассматривать лесб. ύπά как древнюю форму слова υπό.
Ср. υπαί.
В латинском имеем roudus (о в дифтонге), другую форму от
raudus, сохраненную у Феста, lucrum—от корня lau, далее focus
наряду с fax и некоторые другие, менее надежные случаи (см.
Corssen, II2, стр. 27). Умбр, hostatu, согласно Бреалю („Mém.
Soc. Ling.", Ill, стр. 272), родственно не hasta, a hostis; только
эта этимология зависит от понимания называемого явления.
В sordes наряду с suâsum (Curt i us, „Stud.", V, стр. 243 и сл.)
о объясняется исчезнувшим v1; adolesco (ср. alo), cohors (ср.
hara), incolumis (ср. calamitas) [24], вероятно, обязаны своим о
закономерной нулевой ступени в словосложении. На конце слова
в именах женского рода на -о вместо -а в оскском представлено
-а—очень ясный пример изменения этого рода.
3. Следующий вопрос во всех отношениях достоин внимания:
воспроизводится ли в сфере а аблаут ах : а2 или е : о
(рассмотренный в § 7)? Следует ли считать, например, что
существование греческого δγμος наряду с άγω обусловлено явлением той же
природы, что и наличие φλογμός наряду с φλέγω?
Ответ на это может дать один лишь греко-италийский. И
действительно, не от северных языков, смешавших а и a2, можно
было бы ожидать сохранения субститута а, о котором мы го-
1 Не очень ясно, какой гласный является первоначальным в случае favosa:
fovea (ср. с греч. χειή, которое само по себе не принадлежит к ясным
образованиям) и vacuus : vocivus. Quattuor и canis (см. стр. 349 и 396) показывают,
что vo(wo) может дать в итоге va.
393
ворим, и не от арийских языков, которые дают нам еще меньше
сведений. Да и в самом греко-италийском скудость данных резко
контрастирует с важностью выводов, которые из них вытекают.
Здесь в первую очередь обнаруживаются перфекты хгхош от καίνω
и λέλογχα от λαγχάνω с существительными *ονή и λόγχη (Гее). —
Эти формы ничего не решают, так как корень содержит носовой.
Это обязывает нас тщательно рассмотреть третий пример: βολή
наряду с βάλλω. Корнем βάλλω является βελ: это подтверждается
формами βέλος, βέλεμνον, βελόνη, βελτός, εκατη-βελετης. Таким
образом, α в βάλλω обязано своим появлением плавному сонанту и
вовсе не имеет качества корневого гласного. Итак, кто скажет,
что корнями форм хгхош, λέλογχα являются не *εν и не λεγχ? Если
бы до нас случайно не дошли две-три формы, сохраняющие корень
βελ, то слово βολή представлялось бы происходящим от корня βαλ,
а мы, между тем, знаем, что это совсем не так1. Это такое же
мнимое чередование, как то, которое мы наблюдали выше, только оно
имитирует аблаут с некоторой долей правдоподобия. Ойо
встречается также в парах σπαργάω : σποργαί (Гее), άσχαλάω : σχολή,
πταφω : πτόρμος и πτόρος (впрочем, это эолийские слова), άρχω:
ορχαμος, ράπτω : ρομφεΰς [25].
Но вот более серьезные случаи, потому что в корне, от
которого их производят, реальное присутствие а не подвергается
сомнению: δγμος „борозда, ряд", которое связывают с ά'γω; κόπρος
„навоз", но также и „грязь", которое, возможно, родственно καπΰω
(„Grdz.", стр. 141); σοφός наряду с σαφής; όζος "Αρηος, ά'οζος,
напоминающие όίζομαι; δλβος, корень άλφ (?); ποθή, πόθος „траур,
сожаление, желание", связанные, может быть, υπαθεΐν (см. стр. 356;
для значения ср. πένθος); νόα-πηγή. Λάκωνες (Гее.) наряду с ναυω;
οχθέω „возмущаться, вспылить", сближаемое иногда с αχθομαι;
ά'ρουρα, если его относить к άρορ-Fa. Далее, лат. doceo,
противопоставляемое δίδαξαι (см. стр. 397) и греко-ит. onkos (δγκος, uncus)
от корня ank (άγκών, ancus).
Таковы вещественные доказательства и, в сущности,
единственные данные, которыми мы располагаем, чтобы выяснить
основной вопрос: существует ли аблаут а, подобный аблауту аг :
a2? Сколь-нибудь пристальный анализ перечисленных случаев
убедит, я полагаю, каждого, что этих элементов недостаточно,
чтобы заставить нас принять такой аблаут, который, вероятно,
плохо будет согласовываться с фактами, изложенными в § И.
Следует обратить внимание главным образом на три момента:
1 πεποσχα из Сиракуз (Curtius, цит. раб.) не является более
убедительным доказательством рассматриваемого аблаута: 1) потому что это образование
вторичное и 2) потому что о может быть всего лишь диалектным вариантом а. —
Презенс καίνω вместо κηνω, происходящего из κβν,—ясная форма; что
касается λαγχάνω, то его первый носовой, в отличие от носового λέλογχα, вовсе
не является носовым корня λεγχ: от λεγχ закономерно образуется *λφχνω,
которое сначала дает * λαχνω, а затем, путем эпентезы, — * λαγχνω, λαγχάνω.
394
1) большинство рассматриваемых этимологии спорны; 2) о может
оказаться всего лишь чисто механическим искажением a; 3) не
исключено и то, что по модели древнего аблаута е : о греческий
позднее допускал порой о даже в тех случаях, когда корневым
гласным был a.
4. о(= о) перешло в а. В греческом это довольно редкое
изменение, даже в диалектах. Известна глосса άμέσω-ώμοπλάται,
странный вариант греко-италийской основы omso-. Относительно παραΰα
наряду с ους см. стр. 403—404. Критяне говорят ά'ναρ вместо οναρ,
Геродот—άρρωδείν вместо όρρωδείν. У Гесихия встречается: αφελμα*
το κάλλυντρον (= δφελμα), *αγ*υλας·*η*Τδας. Αιολείς =χογχυλαι,χη«ΐίες.
Cp. Ahrens, II, стр. 119 и сл.
Значительно более важным примером, поскольку оно
принадлежит всем диалектам, могло бы явиться слово αίπόλος, если
согласиться с Г. Мейером, отождествляющим слог at с основой oFt,
лат. ovi („Stud.", VIII, стр. 120 и сл.1). Эта во многих
отношениях соблазнительная конъектура дает, однако, немало поводов
для сомнения.
То же самое слово ovis встречается в латинском в
сопровождении avilla, сохраненного у Феста. Фрёде считает, что эта форма
связана с agnus, но после работ Асколи редукция gv в ν в
латыни внутри слова вряд ли допустима. К тому же Лёве в
„Prodromus С. Gl. Lat." обнаружил слово aububulcus (ovium pastor) —
или aubulcus, согласно исправлению Беренса („Jen. Literaturz.",
1877, стр. 156), которое определенно подтверждает a. Это совсем
не подкрепляет мнения Г. Мейера относительно αιπόλος, так как
латинское о перед ν имеет ярко выраженную тенденцию перейти в a,
свойственную только этому языку. За пределами группы ov a,
возникшее из о, оказывается в латинском, по-видимому, менее
необычным, чем в греческом, но все же крайне редким. Самым
надежным примером этого является ignärus, närrare (наряду
с nösco, ignôrare, греч. γνω), в котором подвергнувшееся
изменению о представляет собой долгий гласный. Ratumena porta,
согласно Курциусу, родственно rota. Что же касается Cardea,
сближаемого с cor (Curtius, Grdz., стр. 143), то нужно
помнить, что о этого последнего слова анаптиктично. Не очень
отличается от Cardea и умбр, kumaltu (лат. molo). Трудно
определить, является ли a в datus, catus, nates, при наличии dö-
num, cos, νώτον, древним или вторичным, возникшим из о. Однако
этот вопрос более уместно рассмотреть в главе V.
5. Если в греческом нет реальных оснований считать, что
фонема о2 когда-либо перешла в а путем вторичного изменения2,
1 Мейер предлагает сходную этимологию для αέγυπιός (ср. стр. 309). Уже
ранее Пикте объяснил и то и другое слово через avi „баран" („Origines Indo-
européennes", I ', стр. 460 и сл.)
* М. Шмидт подвергает сомнению глоссу Гесихия έασφόρος·εωσφόρος,
которая иначе была бы прекрасным примером.
395
то, наоборот, почти несомненно, что некоторые италийские а
имеют именно это происхождение1. В частности, а в canis может
быть рефлексом только a2; действительно, было бы совершенно
неправдоподобно утверждать, что о в xvm—это о: эта фонема,
по-видимому, неизвестна в суффиксах. Далее, можно привести
оск. tanginom, родственное лат. tongeo. Этому последнему
соответствует в готском слабый глагол fmgkjan. Если бы
одновременно существовал сильный глагол 'pigkan', все сомнения были
бы устранены: а в jbagkjan необходимо отражало бы a2. Таким
образом, о в tongeo тоже отражало бы a2, и было бы доказано,
что а в tanginom происходит из о, восходящего к a2. Глагола
4{>igkan' не существует, но наличие un в родственном глаголе
ßugkjan позволяет утверждать, с большой долей уверенности,
что корнем является teng. Возможно, что а в caveo равным
образом заменяет o = a2; ввиду наличия ε*ομεν вопрос этот трудно
решить. То же явление наблюдается в Рагса, если возводить
это слово к корню plecto и греч. πόρχος „верша". Palleo
сопоставляется с греч. πολιός, а о последнего слова представляет
собой a2 ввиду πελιός. Ср. pullus.—В этих примерах, мы
повторяем, a является не прямым продолжением a2, а вторичным
изменением о.
До сих пор мы рассматривали гласные о и a, чередующиеся
в одном и том же языке. Остается выяснить, как они
соответствуют друг другу, когда мы сравниваем греческий и италийский.
Для этого следует еще более, чем раньше, быть готовым к не
раз уже упомянутым ловушкам, которые расставляют некоторые
факты, связанные с плавными, и, в меньшей мере, с носовыми.
Мы полностью исключили все, что зависит от плавных сонантов,
из § 1, например, такие слова, как καρδία : cor, скр. hfd—; но
есть другой ряд примеров, таких, как ορθός : arduus, скр. urdhvâ
(см. гл. VI), которые мы не осмелились обойти молчанием
и которые мы поместили в скобках. Эти примеры не должны
идти в счет, а то, что остается, столь незначительно, что
несогласованность обоих родственных языков в отношении гласного о,
без сомнения, приобретает необычный характер.—Для
нижеследующих списков примеров наиболее значительный материал
был предоставлен грамматикой Л. Мейера.
6. Сосуществование о и а в одном из этих двух языков или
в обоих языках одновременно. Когда одна из двух форм
оказывается значительно более распространенной, как в случае ovis:
avilla (стр. 395), мы не включаем пример в этот список.
1 Этого следовало ожидать, так как, без сомнения, звучание обоих о очень
давно смешалось.
396
oßptov
κόλ-οφρος
καΰαξ2 Ι
κόβδλος /
σάο;3
σόω, σόο;
[τράπηξ ΐ
[τρόπις /
[φάλκης \
[φολκός /
λογγάζω
λαγγάζω
μονιός \
μάννος /
ομπνη ί
ά'φενος /
ude(F)t;
Tio(F)ioL
χόοι
1. Curtius, „Stud.", I a, стр. 260; „Grdz.", стр. 373.
2. καοαξ-πανοΰργος (Suidas).
3. Корень, по-видимому, sau, хотя беот. Σαυκράτειος ничего не решает.
Латинский дал бы о в sôspes, если бы родство этого слова с нашим корнем
было бы подтверждено более надежным образом, но оно выглядит скорее как
сложное слово, содержащее частицу se-; ср. seispes; по странной случайности
существует ведийское слово viSpitâ „опасность". Об ank- onk и других случаях
см. стр. 403.
7. Греческое а и италийское о.
а. Корень не содержит ни неначального плавного, ни
неначального носового.
(?) δα*, δί-δάσκω, έ-δί-δαχ-σα, δι-δαχ-ή doc, doc-eo, doc-tus*.
λα*, ε-λακ-ον, λάσκω, λέ-λδκ-α loqu, loqu-or, locutus.
(άπαφός (εποψ) upupa 2.) | δαρός dürus9 (?)
1. Возведение διδάσκω, διδάξαι к корню δακ имеет одно-единственное
основание—наличие лат. doceo. Иначе их можно было бы, без малейшего
колебания, отнести к корню, который мы выделяем в δέ-δα(σ)-ε, δα(σ)-ήμων.
Может быть, заметят, что ничто не мешает все же объединить δασ и doc как
имеющие своей основой корень da" „знать". На это следует ответить, что δασ —
это только видимость корня: полной его формой будет δενσ, как показывают
индийское dams и греч. οήνος вместо *δένσος (=скр. damsas). δέδα(σ)ε (аорист),
δεδα(σΡ)ώς, εδά(σ)ην закономерно имеют носовой сонант (см. стр. 321, где
δέδαε было забыто; см. стр. 322 и 342); в διδάσκω, если его связывать с этим
корнем, он не менее закономерен (см. стр. 322). Далее следует сказать, что,
согласно Гюбшману, нет реальных оснований считать, что корень da
действительно существует в зендском. Этот трудный вопрос осложняется
существованием лат. disco, скр. dïk§ и зенд. da/sh.
2. εποψ, вероятно, возникло вследствие народной этимологии: «εποψ
επόπτης τ&ν αύτου κακ£ν»,— говорит Эсхил. Так объясняется его ε. С другой
стороны, Курциус, исходя из основы ерор, объясняет первое о(и) слова upupa
через ассимиляцию. Вот почему этот пример помещен в скобках.
3. δαρός (diuturnus) вместо *ôaFpoç = cKp. dfl-râ „отдаленный". Глосса
δαόνπολυχρόνιον (Гее), весьма вероятно, является сравнительной степенью
среднего рода, происходящей из *ôaFyov, скр. dâvïyas. δήν и δοάν—это
совсем другое. Если dürus идентично греч. οδρός, то оно возникло вместо
*dourus, однако это последнее сближение ненадежно: можно только сказать,
397
aper1 (?)
cavilla.
Ï sänus.
trabs.]
falx. Curtius.]
longus. (Curt us).
monile.
opes (?).
papâver
pômum, pover (надп.)
cous
cavus
что durare (edurare, perdurare) иногда означает „длиться"—ср. δδρος — и что
оно напоминает dura в таких выражениях, как durant colles „тянутся холмы"
(Тацит, Germ. 30).
б. Корень содержит неначальный плавный или неначальный
носовой. Вероятно, ни для одного примера этого рода нельзя
будет, как мне кажется, доказать, что меняющийся гласный (а о)
всегда был полным гласным: напротив, все эти слова,
по-видимому, связаны со специальными явлениями, на которые мы
намекали выше. Это главным образом βάλλω : volare; δάλλω,
δάλέομαι : doleo; δαμάζω : domare; δαρθάνω : dormio; ταλ : tollo; φαρόω:
forare. Далее χάλαμος : culmus; κράνος „кизиль" (также κυρνος)
и cornus; ταρβέω : torvus (?); παρά : рог- (стр. 401). Фик сближает
γΰαλον с vola, πρανής и πρανός (Гее), может быть, отличаются от
лат. prônus; и, при обратном предположении, контракции,
которые могли иметь место, если, например, основа была той же,
что и в скр. pravanâ, вероятно, смешали истинное соотношение
гласных.
в. Фонемы находятся на конце корня. В этой позиции мы не
встречаем латинского о, противопоставленного греческому а.
8. Греческое о и италийское а.
а. Корень не содержит ни неначального плавного, ни
неначального носового.
οβολος
οϊστός
όλοφΰρομαι
οξύς
δνος
agolum. (Fick). (?)
arista. (Fick). (?)
lâmentum x (?).
acci-piter2 (?)
asinus (?)
κόσμος castus (конец §
χύ\ιζ calix.
μοχλός malus.
τόξόν taxus3 (?).
τρώγλη trägula (?) (И.
11).
Шмидт)
1. Çp. стр. 355—356.
2. Если и можно усомниться в идентичности acci- и οξυ-, то было бы еще
более ненадежным сопоставлять его непосредственно с ώκο-, которое уже прочно
связано с öcior. aqui- в aquifolius не слишком далеко отклоняется от οξύς.
3. Пикте сопоставлял оба этих слова вследствие большой
употребительности тиса для изготовления луков („Origines", I \ стр. 229). Однако τόξον
может восходить, и с большей вероятностью, либо к корню τεκ, либо к корню
τεξ; в этом случае его о будет отражать а2.
Перед ν:
*o(F)s<o caveo (Curtius).
x6(F)oi cavus. (С); ср. стр.
λοΰω lavo.
νο(Ρ)ος I navare.
a-yvo(F)ta | gnâvus.
В дифтонге:
οιδμα aemidus.
οιχτρός aeger.
396
όγδοος octävus (?)
πτοέω paveo (?)
χλόη flävus (?)
ψώϊζος paedor H3*pav-ld.(F.)
ουατα
ου, ουδέ
auns.
h-au-d (?).
398
б. Корень содержит неначальный плавный или неначальный
носовой.
κόλλοψ
[χοϊοχάνοζ
χόνις
χροχάΐη
λόγχη
callus.
cracentes.]
canicaeг (?)
calculus.
lancea.
όλοός
[ορθός
[πορεϊν
ρωδιός
[χολάς
φορί
salvus. (Curtius).
arduus.]
parentes.]
ardea.
haru-spex.]
far, род. n
farris (?)
1. Canicae furfures de farre a cibo canum vocatae. (Paul, Ep. 46, M.). Если
это слово родственно κόνις, то оно родственно также и cinis [26].
в) Фонемы находятся на конце корня. Сюда можно было бы
отнести datus, dare (ср. dönum) наряду с греч. δω δο, catus (ср. Cos)
наряду с κώνος, nates наряду с νώτον. Об этих словах см. выше,
стр. 395. Случай strävi, stratus, которому греческий
противопоставляет στρω, относится к классу arduus : ορθός (стр. 396).
Рассмотрим теперь закономерные соответствия, требующие о
в обоих языках. Эта таблица, повторяем, не является
исключительно перечнем греко-италийских о: ее задача главным образом
помочь сориентироваться, приблизительно определить
распространенность в греко-италийском иного о, чем о2; поэтому здесь
еще можно многое отсеять, помимо примеров, отмеченных как
сомнительные. Посредством знака t мы задаем вопрос, не является
ли о гласным о2.
а. Корень не содержит ни неначального плавного, ни
неначального носового.
od:
ok2:
(?) bhodh
ο*ρις
t οχτώ
οξίνα
όζω, οδωδ-α
οπωπ-α, όσσδ
г: βόθ-ρος, βόθ-
ocris, умбр.
octo.
occa.
οστέον os, osseus.
o(F)tç ovis.
OTU(^£V)0b2(?).
t οπός sûcus.
, οχ·τ·
υνος
ok ar
ol-eo, od-or.
■άλλος oc-ulus.
fod-io, fossa.
χόχχυζ coxa.
χόχχυζ cucülus.
χυχεών cocetum.
μόχρων mucro3.
νύξ nox.
™,™> potis, po
ποτνία ^ ' v
προ pro-,
οπάων socius4.
1. Cm. Curtius, Grdz., стр. 467.
2. Что касается значения, то ob хорошо связывается с επί, но как
согласовать их гласные? Если ο'πί—действительно, частица, а не просто ответвле*
399
ние корня επ „следовать", то вряд ли можно сомневаться в его идентичности
с ob. ρ сохранилось в op-âcus; -âcus родственно aquilus, греч. άχλύς и т. д.
3. μόκρωνα* τον όξόν* Έρυθραΐοι (Гее.) См. F i с k, II3, стр. 198.
4. socius и όπάων занимают место рядом с индийским sakhi (F i с к, II 3,
стр. 259). Краткое а индийского слова показывает, что о—это не о2 и что,
следовательно, нужно отделять эти слова от sek2 „следовать". Их можно,
вероятно, сопоставить с δπις „правосудие; помощь; месть богов" и с άοσσητήρ,
όσσητήρ (Гее.) „защитник". Это последнее напоминает о скр. çak (çagdhi,
çaktâm и т. д.) „помогать", которое Бётлинг — Рот отделяют от çaknoti „мочь", с,
по-видимому, появляется вместо s, как в çakçt; и, может быть, зенд. ha%ma
„друг" идентично скр. çagmâ (=*çakmâ) „готовый помочь". Вероятно, çécï
„божественная помощь" и δπις тождественны друг другу. Италийский, как
кажется, отражает тот же корень в sancio, sanctus, Sancus, Sanqualis porta,
sacer (cp. çakrâ).
Можно привести еще и следующие слова: bos : βοδς и bovare:
βοάω, в которых значение латинского о аннулировано
последующим ν (в случае ovis дело обстоит несколько иначе); далее, πόσθη,
отождествляемое с pübes; πδματος, которое сравнивают с оск.
posmos, так же как πυνός'ό πρωκτός наряду с pône. Помимо этого,
следует напомнить о том, что föveo связывают с φώγω (Corssen,
II2, стр. 1004), хотя это предполагает редукцию gv в ν*.
В дифтонге:
t οινή oinvorsei.
хЩР)ж clünis.
б) Корень содержит неначальный плавный или неначальный
носовой.
[ol: δλωλ-α, ολ-έσθαι ab-ol-eo.]
[or: δρωρ-α, оь-σο or-ior, or-tus.]
[g2or: έ'-βρω-ν [ρόρ-μος, βορ-ά] vor-are, vor-us, vorri «edaces»1.]
[mon μορ-τ6ς, βρο-τός mor-ior, mor-tuus, mors.]
[mol: μύλ-λω, μύλ-η mol-o,mol-a;cp. умбр, ku mal t u.]
[stor: στόρ-νυμι, στρώ-μα stor-ea, tor-us1 (sterno).]
1 Скр. dahati „жечь, гореть" происходит от корня dhax gh2
(Hübschmann, KZ, XXIII, стр. 391), который также дает лит. degù и гот. dags
„день". Может быть, этот-то корень и имеет foveo. В этом случае его
пришлось бы возводить к *fohveo или *fehveo; ср. nivem = *nihvem. Однако
значение foveo дает повод некоторым сомнениям, которые, правда, могли бы
быть устранены привлечением слова fömes „сухая древесина, горючие вещества",
если бы родство этого слова с первым было бы удостоверено. Все же
примечательно, что defomitatus означает „с подрезанными ветками" (Paul, Diac,
75 M. Ср. герм, bauma- „дерево"?). Корень dha^ha обнаруживается в
греческом τέφ-ρα „пепел" и в слове tüf, tofus („образованный из вулканических
веществ"), греческое происхождение которого подтверждает наличие τοφιών
в таблицах из Гераклеи. τόφος идентично гот. dag(a)s, скр.-dägha.
409
f όγκάομαι
δγκος „крюк"
ωμο; (*ομσος)
ομφαλός
δνομα
ονοτός
ονυξ
•j* ορφανός
βολβός ^
γρομφάς
δόναξ
(F)po§ov
ΐ *6m
κόμη
χορωνός
uncare (слав, jçnèç).
uncus (см. стр. 394).
umerus.
umbilicus.
nömen.
nota.
unguis.
orbus (арм. orb).
bulbus (заимствовано?).
seröfa.
j uncus.
(v)rosa.
congius.
coma (заимствовано?)
corona.
κόραξ и
κορώνη
μόλις
μόρμος
μορμύρω
μυρμηξ
όλος
πόλτος
ζύν
•j* πόρχος
[πόρσω
σφόγγος
[φύλλον
[χόριον
corvus и
cornix.
imolestus.
\ moles.
form i do.
murmur.
formica.
sol lus.
puls.
com-.
porcus.
porro2.]
fungus.
folium.]
corium.j
1. βορά и βόρμος „овес" (Гее.) мало или вовсе ничего здесь не значат,
так как их основы принадлежат к числу тех, которые требуют о2 (см. стр. 369
и â73). В принципе те же предосторожности следовало бы принять и по
отношению к латинским словам; однако о2 не столь часто встречается в
италийском, чтобы нельзя было рассматривать о в vorare как эквивалент о в βρώναι,
βρώμα (о vorri см. Corssen, Beitr. ζ. It. Spr., стр. 237). То же самое мы
можем заметить и относительно storea, torus наряду с греч. στορ.
2. Фик (И3, стр. 145) помещает porro и πόρσω под первоначальным porsöt
(лучше: porsôd) и отделяет πρόσσω ( = *προτνω) от πόρσω, πόρρω. Хотя
различие, которое хочет установить Пассоу между употреблением этих двух форм,
по-видимому, не подтверждается, в пользу этой комбинации можно сказать:
1) что метатеза πρόσω в πόρσω окажется довольно редкой; 2) что в πόρρω на
месте πόρσω будет иметь место ассимиляция σ, возникшего из ту, что не совсем
в порядке вещей, хотя речь и идет об σ, а не об σσ и хотя даже для
последнего случая можно привести некоторые диалектные формы, такие, как лакон.
κάρρων; 3) что само porsöd очень хорошо объясняется как расширение
санскритского наречия purâs, греч. πάρος. πόρσω (porro) : purâs πάρος = κόρση:
ciras κάρη.
Не были упомянуты: βοΰλομαι—volo, чье родство сомнительно
(см. гл. VI), и προτί, с которым Корссен сопоставляет лат. рог-
в por-rigo, por-tendo и т. д. Позиция плавного делает
сомнительной эту этимологию, несмотря на крлт. πορτί, и ничто не
мешает поместить рог- рядом с гот. faur, греч. παρά.
Слова, относящиеся к таблицам а и б, но содержащие долгое 5:
t<bfc ôcior. j ώζ /crôcio.
* \ crocito.
μώρος mörosus.
μώρον \
|φόν
[ώλενη
[βλωμός
κλώζω
ocior.
ôvum.
ulna.]
glomusl]
glocio.
μορον
ΐνώϊ
morum.
nos.
1. βλωμός· ψωμος (Гее.) Это слово встречается в одном из фрагментов
Каллимаха. glomus in sacris crustulum, cymbi figura, ex oleo coctum appellatur
404
(Paul, Diac, 98. M.) Если учитывать glomeraren globus, то, естественно, можно
будет включить в этот ряд сопоставлений также скр. gulma „роща; отряд
солдат; опухоль". Упомянем также окончание повелительного наклонения: лат.
legi-tö, греч. λεγέ-τω.
в. о стоит в конце корня.
ко: «ώ-νος c6-(t)s, cu-neus (ср. cä-tus).
g η δ: ε-γνω-ν, γι-γνώ-σχω, gnö-sco, gnô-tus, i-gnö-ro
γνώ-ριμος (ср. gnä-rus, närrare).
dö: ε-δω-κα, δώ-ρον, dö-num, dö-(t)s (ср. dä-tus, dä-re).
έ-δό-μην, δο-τόζ
ρ δ: эол. πώ-νω, ά'μ-πω-τις, ρδ-tus, pö-culum, ρδ-sco.
πο-τός, πό-μα
(?)rö: ρώ-ννυμι, ε-ρρω-σα rö-bur.
Ниже мы приводим примеры, в которых с наибольшей
уверенностью можно предположить, что о отражает о:
В греко-италийском: корни cd „olere", ok „быть острым", ok2
„видеть"; dö „давать", ρδ „пить", gnö „знать". В самом деле, в этих
корнях гласный о доминирует во всех формах.—Среди
самостоятельных основ: okri „холм" и ok2i „глаз", принадлежащие к
вышеупомянутым корням, затем owi „баран", в связи с кратким
а—скр. ävi; poti „господин", скр. pâti; moni »драгоценность",
скр. mäni; sok2i „товарищ", скр. sâkhi. По аналогии с ними
следовало бы добавить: osti „os", klouni „clunis" (?), koni „пыль",
nokti „ночь". Более ненадежны omso „плечо", okto—имя
числительное и g2ou „bos".
В латинском—корни слов: fodio, rödo, onus, opus и т. д.;
основы: hosti, rota (скр. rätha).
Среди прочих примеров в пределах греческого, можно
привести корни глаголов οθομαι, όίομαι, χλώθω, φώγω, κόπτω, ώθέω,
ζώννυμι, ομνυμι, ονίνημι. Мы находим о в конце корня в βω
„кормить", φθω „гибнуть" (φθόσις, φθόη). В большом числе случаев
трудно определить, с каким корнем мы имеем дело—с корнем
ли, оканчивающимся на o(F), или с корнем на t(y). Так, έ'χομεν,
xkxoxs, вполне вероятно, имеют в качестве корня xoF1, а не *χω;
σχοιός, сопоставляемое со σχό-το, содержит о и относится к корню
σχω (ср. также стр. 409 и сл.), но, будучи возведенным к σχει
(ср. σχΐρον), оно содержит о2 и может в этом случае
отождествляться с скр. châyâ. Бесполезно умножать эти сомнительные
примеры. Слово xoirfi* ίερεύ; Καβείρων, о χαθαίρων φονέα (οί δε χόης;
cp. xotäxar ίεραται) может сопоставляться с скр. kävi, если только
не принимать его за негреческое. Предлоги: крох(=скр. prâti,
тох[=зенд. päiti.
1 См. Curtius, „Studien", VII, стр. 392 и сл. Все сомнения устраняет
приводимый Геродианом перфект νένοται от νοέω; дигамма в нем
засвидетельствована надписями („Grdz.", стр. 178).
402
Каков же возраст и происхождение фонемы о? Ранее мы
пришли к убеждению, что второе греко-италийское о (a2), е (аг)
и a (A) существуют отдельно, начиная с самых отдаленных
периодов. Но какими данными располагаем мы об истории
фонемы о? Можно сказать, что об этом не существует абсолютно
никаких сведений. Утверждать, что южное о2 имело свой
эквивалент на севере, позволяет то обстоятельство, что a,
соответствующее ему в славяно-германском, имеет специальные функции и
регулярные отношения с e, четко отделяющие его от а.
Напротив, грамматическая функция о существенно не отличается от
функции ау и если в подобных условиях мы находим, что ρ
в северных языках имеет абсолютно тс же соответствия, как
и л, то мы, естественно, лишаемся какого-либо средства
установить древность рассматриваемой фонемы. Если допустить,
что о является исконным, тогда a северных языков отражает уже
не две фонемы (a2 + ^), а три: a2+^+o. Если же, напротив,
видеть в нем вторичный греко-италийский продукт, то
единственной фонемой, из которой он может развиться, будет а.
Признаюсь, я очень долго колебался между этими возможностями;
этим объясняется, что в начале настоящей работы ρ не включено
в число первоначальных a. В пользу второй гипотезы, казалось
мне, свидетельствовало то, что армянский, отличающий a2 от ау
по-видимому, совсем не отличает от а фонемы ρ (см. стр. 388).
Однако мы не знаем, было ли так всегда, а, с другой стороны,
предположение о расщеплении любого звука всегда связано
с большими трудностями. Что кажется решающим, так это тот
поразительный факт, что почти все самостоятельные основы,
содержащие гласный ρ, оказываются очень старыми словами,
известными в самых различных языках, и к тому же основами
на -i и даже основами на -i с совершенно особым
словоизменением. Это совпадение не может быть случайным; оно показывает
нам, что фонема ρ укоренилась в этих языках с давних пор и
что поэтому ей трудно будет отказать в праве на
индоевропейское первородство.
В качестве примеров, которые могли бы служить основой
для гипотезы, согласно которой ρ было простым греко-италийским
изменением л, можно назвать onko, происходящее из апк, уже
упомянутое на стр. 395, oi-no „один" наряду с ai-ko aequus,
корень ok, откуда основа okri наряду с ak, socius — οπάων,
сопоставляемое с sak в sacer, и лат. scobs от scabo. Можно было бы
придать некоторое значение тому факту, что okri и soki (socius)
наряду с ak и sak оказываются двумя основами на -i (см. выше).
Однако это весьма проблематично, а этимология, даваемая soki,
является не более как предположением.
Значительно более примечателен случай с ους „ухо".
Гомеровское παρήϊον свидетельствует о том, что помимо всех ссылок на
диалект, которые можно было бы привести по поводу эол. ποφαΰα
403
или ά'αν&α* είδος ένωτιου, о в οδς имеет эквивалентом в ряде форм α.
Этому факту придает некоторый вес то обстоятельство, что ους
относится к той категории основ особого склонения, которая
является самым обычным местонахождением фонемы оно
которой нам еще придется говорить. Таким образом, мы получим о,
удостоверенное как таковое, рядом с л. К сожалению, лат. auris
вызывает затруднения: его au может в крайнем случае
происходить из ou, но оно могло бы быть также и первоначальным
дифтонгом.
Собранные ниже примеры позволяют с первого взгляда
констатировать, что фонемы, посредством которых северные языки
передают о, являются теми же самыми, что и фонемы,
посредством которых они передают л (см. стр. 358) и а2 (см. стр. 365).
Во всех трех случаях мы находим то, что мы для краткости
обозначили северным а (§ 4).
Латинский
и греческий
oculus.
(?)octo,
ovis
host is,
nox
potis,
—
monile,
rota
δσσε:
οχτώ:
δις:
— :
(vtiÊ):
πόσις:
προτί:
μόννος
— :
Литовский
akis
asztûni
avis
—
naktis
vësz-pati-
—
: —
ratas
Старославянский
oko
osmï
ovica
gostï
noatï
—
proti
Pmonistox
—
Германский
герм, äugen =
*agven-
гот. ahtau
др.-в.-нем. awi
гот. gasti-
гот. naht-
гот. -iadi-
—
герм, manja-
др.-в.-нем. rad
Корни: греч. οχ όπ, лит. (at-)a-n-kù; греч. φωγ, англо-сакс.
bacan, boc; лат. fod, слав, bod^ (в литовском—непонятная
форма bedù).
В следующих словах неясно, чем является
греко-италийское о; восходит оно к о2 или же (в двух-трех случаях) является
анаптиктическим гласным: όζος, гот. asts; δρρος, др.-в.-нем. ars
("Grdz.",CTp. 350); οπός, др.-в.-нем. saf, слав, sokü; όρνις, др.-в.-нем.
ami-, слав, orïlu; греко-ит. orphos, гот. arbi; греко-ит. omsos,
гот. amsa; colluoi, гот. hals; coxa, др.-в.-нем. hahsa; κόραξ, лит.
szârka „сорока" (?); γόμφος, слав, zçbu; греко-ит. porcos, др.-в.-нем.
farah, слав, prasç вместо *porsç, лит. pàrszas; оск. posmos, лат.
post, лит. pâskui; longus, гот. laggs. о в χολή (др.-в.-нем. gallâ)
должно отражать о2 ввиду наличия е в лат. fei. — В дифтонге:
1 Миклошич („Vergl. Gramm.", II, стр. 161) думает, что это слово по
своему происхождению не славянское.
404
греко-ит. oinos, герм, и др.-прусск. aina; греко-ит. klount,
др.-сканд. hlaun (лит. szlaunis).
Выше я говорил, что северные языки, противопоставляя
фонеме о те же самые гласные, что и фонеме л, лишают нас
реального доказательства, что эта последняя фонема является столь
же древней, как и другие разновидности а. Однако существуют
две группы фактов, которые могли бы совершенно изменить наши
знания по этому вопросу, в зависимости от того, будем ли мы
связывать их с появлением ç в греко-италийском или нет.
1. Три из самых важных корней, содержащих ρ в
греческом— όδ или ώδ „olere", ζωσ „опоясывать", δω
„давать"—обнаруживают в литовском гласный û:ûdzù, jüsmi, dumi. К тому же
лат. jocus, о которого могло бы отражать о, появляется в
литовском как jukas; üga соответствует лат. üva, nûgas—nüdus*
(=noguidus?). Греческому jto)F, ßoF, чье о, по нашему мнению,
является отражением о, соответствует латышское güws. Зато
külas, например, выглядит в греческом как xakov „дрова". В
славянском нет ни одного примера соответствия û (jas-, da-= лит.
jus-, dû-); более того, даже древнепрусский совершенно не знает
этого гласного (datwei = düti), а переход б в û остается
изменением, свойственным литовским диалектам. Отсюда следует
заключить, что если фонема ρ действительно скрыта в
литовско-латышском û, то это только по какому-то почти невероятному случаю.
2. О кельтском вокализме я говорил только при случае и
здесь касаюсь его исключительно по необходимости, так как мои
познания в этой области весьма недостаточны. Ирландский
вокализм согласуется со славяно-германским в трактовке а и а2:
обе фонемы слились. Пример с л: ato-m-aig—от корня ag agere;
agathar,cp.a'x£xat; asil, ср. axilla; athir, ср. pater; altram, no-t-ail,
cp. alo; aile, ср. alius. См. Виндиш в „Grundzuge" Курциуса, под
соответствующими номерами. С другой стороны, а2 также дает a.
Мы констатировали это выше в формах перфекта единственного
числа и в слове daur = δόρυ. Кроме этого, как показывает вокализм
корневых слогов, исчезнувший суффиксальный гласный,
соответствовавший греко-италийскому оа, был представлен гласным a. Но вот
в nocht „ночь", roth „колесо", oi2 „баран", ocht „восемь", ore „свинья",
го = греч. πρό и т. д. уже о, а не a соответствует о южных
языков. Именно в этих словах присутствие q либо очевидно, либо
вероятно. Как же получается, что в древнегалльском
суффиксальное a2 выглядит как о: tarvos trigaranos, νεμητον и т. д.?
1 Нужно также учитывать λυμνός· γυμνός (Гее). Эта форма, по-видимому,
произошла из *νυμνός путем диссимиляции. *νυμνός появилось вместо *νυβνός,
*νογΡνός =скр. nagnâ.
2 о удлинено последующим w.
405
Глава IV
§ 9. Признаки наличия в индоевропейском праязыке
нескольких а.
Согласно системе Амелунга, греко-италийское о и
греко-италийское а (наше а) восходят к одному и тому же исходному
гласному; и то и другое представляют собой усиление e. Если
бы было доказано, как это сделано в отношении о, что в
арийских языках гласным, соответствующим греко-италийскому a,
в открытом слоге является а долгое, то это мнение нашло бы
солидную точку опоры. Правда, число примеров, которые могли
бы служить для доказательства этого положения, крайне
незначительно. Среди самостоятельных слов я нахожу только άπό— ab,
скр. ара; άκων1, скр/âçan (в слабых падежах, например в âçnâ,
слог закрытый); αϊξ, скр. agâ; αθήρ, вед. äthari (?). Зато достаточно
убедительны в этом отношении глагольные основы aèa-ti,
европ. ^g; bhaèa-ti, европ. bh^g; mâda-ti, греко-ит. m^d; yäga-ti,
греч. άγ; vâta-ti, европ. w^t (ирл. fâith, лат. vätes). Но если мы,
напротив, попытаемся отыскать возможные случаи арийского а,
соответствующего в открытом слоге греко-италийскому а (л),
то обнаружим лишь один-единственный, правда, весьма
существенный, пример, а именно скр. âgas при греч. ά'γος, которое все
согласно обособляют от άγος, άγιος и т. д.2 Но этот случай
единичен, да и в нашей системе он отнюдь не является
необъяснимым. Использовать же этот единственный случай в качестве
краеугольного камня теории относительно вокализма в целом
1 τ в άκοντ- добавлено позднее: ср. λεον-τ, ж. р. λέαινα.
2 По причинам, изложенным ниже, мы будем вынуждены прийти к
заключению, что если корень содержит в себе л, то презенс нормально показывает а
долгое, и что такие основы, как äga-, bhäg-a и т. д., первоначально могли
принадлежать лишь аористу. Но поскольку вместе с тем именно аорист, по
нашему мнению, допускает появление а в чистом виде, не было бы
непоследовательностью использовать здесь эти основы в качестве довода.
406
было бы равнозначно отказу от следования какому бы то ни
было методу1.
Итак, можно безбоязненно вывести правило, гласящее, что
в тех случаях, когда европейские языки имеют а, в арийском,
как в открытом, так и в закрытом слоге ему соответствует а
краткое. Но это следует понимать только в том смысле, что это
а не есть а долгое; в действительности, однако, бывает, что
в известных позициях, например в конце корней, на месте
фонемы а языков Европы мы находим, по крайней мере в
санскрите, совсем не a, но i или ï. См. ниже.
Как же ведет себя арийский относительно европейского e?
Он противопоставляет ему тоже a краткое. Этот факт настолько
известен, что подтверждать его перечнем примеров излишне.
Единственно, что нужно подчеркнуть, на что сперва указывал
Амелунг и на чем Бругман в значительной мере построил свою
гипотезу относительно a2—это факт негативного характера: в тех
случаях, когда в Европе мы обнаруживаем e, арийский никогда
не дает а долгого.
Если бы теперь перед нами был поставлен такой вопрос:
существует ли в индо-иранском определенное указание на
разновидность a, которое не может быть ни аг ни a2, мы бы ответили:
да, такое указание существует, i или ï вместо а появляется лишь
в совершенно особом разряде санскритских корней и не может
быть равнозначным ни а1У ни a2 (см. конец § 11).
Но если бы, еще больше уточняя вопрос, нас спросили,
существуют ли в арийском бесспорные следы такого дуализма а1:
а, какой существует в Европе, ответ, полагаю, мог бы быть
лишь отрицательным. Роль ï в данной проблеме довольно
сложная, и мы сможем подвергнуть рассмотрению этот вопрос не
раньше, чем в пятой главе.
В связи с этим заслуживают особого рассмотрения два
следующих раздела:
1) Такие а долгие, как 3 в svâdate =греч. αδεται. См.
конец § И.
2) Трактовка в арийских языках k2, g2 и gh2. В своей статье,
опубликованной в MSL, я попытался установить, что
палатализация велярных гуттуральных обусловлена воздействием аи
следующего за гуттуральным. Я сопоставлял индийский ряд
väkä, vâcas, voca-t с греческим рядом γόνο-, γενεσ-, γενέ-(σθαι) и
пришел к выводу, что разнообразие согласных в первом ряду
ближайшим образом соотносится с разнообразием суффиксальных
гласных, наблюдаемым во втором. Я и сейчас полагаю, что это
правильно. Ошибка же моя заключалась в том, о чем я уже
1 Скр. vyäla (также vyâda) „змея", весьма возможно, близкородственно
греч. ύάλη* σκώληξ, но было бы иллюзорным пытаться установить между обоими,
словами полное тождество: ср. εύλή, 1'ουλος.
407
сказал выше (стр. 383, сноска 1), что суффиксальное о в γόνο
я приравнивал к о или а (о рассматривалось мною как
разновидность а)\ но это о, как мы видели, является рекфлексом a2.
Вот значительно измененное истолкование факта. Оно доказывает,
что индо-иранский проводит различие между а1 и a2, но отнюдь
не подтверждает, как я думал ранее, что он проводит различие
между аг и а. Поскольку сформулированный в таком виде тезис
нуждается, как мы себе представляем, в обосновании гораздо
более авторитетным пером, нежели наше, мы его здесь не будем
рассматривать; равным образом, мы оставим в стороне и вопрос
об арийском a2, поскольку его существование, как нам
представляется, в достаточной мере доказано регулярным
протяжением, рассмотренным нами в § 71.
Трактовка велярных гуттуральных в начале слов несет на себе
явные следы пермутации а1:а2 в корневом слоге. Но позволяет
ли она заметить различие между ах и а? Это для нас весьма
существенно. Ответить на это как утвердительно, так и
отрицательно было бы нелегко. Во всяком случае, наблюдаемые
явления не исключают такой возможности и, по-видимому, скорее
говорят в ее пользу. Но здесь нет ничего отчетливого и
несомненного, никакого внушающего доверия вывода, на который
можно было бы окончательно положиться. Мы считаем поэтому
бесполезным вдаваться в подробности и подвергать рассмотрению
обильные материалы этого спора, участники которого чаще всего
ограничиваются приведением примеров второстепенного значения,
и подведем итоги.
Когда европейский имеет k2e, g2e, gh2e, арийский почти
регулярно обнаруживает са, ga, £ha. Примеры: греч. τέσσαρες, скр.
catvâras; лит. gèsti, скр. éâsati; гРеч· θέρος, скр. haras. Это
согласуется со сказанным нами выше. Но правило допускает
исключения: так, kalayati при χέλης, celer (Curtius, Grdz.,
стр. 146), gâmati при гот. qiman2. Европейской группе к2А
1 Дабы уточнить, что именно мы имели в виду на стр. 385, следует сказать
несколько слов относительно зендских форм éahyâ и éahmâi. Жюсти помещает
их под неопределенным местоимением da, тогда как Шпигель связывает cahmäi
непосредственно с ka („Gramm.", стр. 193). В любом случае не подлежит
сомнению, что эти формы так или иначе принадлежат местоимению ka.
Палатальный в родительном падеже находит объяснение в постулированном нами a1.
Что касается формы дательного падежа, то не исключена возможность, что до
нас дошел его греческий аналог. У Гесихия есть глосса τέμμαι* τείνει.
M. Шмидт исправляет τείνει на τίνει. Но что же тогда представляет собой
τεμμαι? Если мы станем читать τίνι, то в τέμμαι мы будем иметь соответствие
cahmai (ср. Крит, τεΐος вместо ποίος). Однако эти две формы не тождественны;
греческая форма происходит от согласной основы kasm- (ср. скр. kasm-in).
причем αι—окончание (см. стр. 385); éahmâi, напротив, происходит от kasma-.
2 Возможно, что g в последнем примере был восстановлен впоследствии
на месте é по образцу таких форм, как éa-gmus, где гуттуральный не
подвергся воздействию. Древнейшее состояние должно было быть таким, каким
его представляет зендский, в котором мы находим éamyât наряду с еа-ута{.
408
арийский, вообще говоря, отвечает группой ка. Впрочем, довольно
часто возникает вопрос, является ли европейское a, следующее
за гуттуральным, подлинным а или же какой-нибудь вторичной
фонемой. Иной раз сближение сомнительно. Примеры: греч. καλός,
скр. kalya; лат. cacumen, скр. kakubh; лат. calix, скр. kalâça;
лат. cadaver, скр. kalevara? (Ворр); греч. жЫаХог κοιλώματα βάθρα,
скр. kandarâ [27]; греч. καμάρα, зенд. kamara; греч. κάμπη, скр. kam-
panâ; греч. καινός, скр. kanyà (Fick); в дифтонге—лат. caesaries,
скр. késara; лат. caelebs, скр. kévala; греч. Καιάδας, καίατα·
ορύγματα, скр. kévata и т. д. *. Для g и gh примеры редки. Мы
находим палатальный в éandrâ, -çéandra (первичная группа sk2)
при лат. candeo. На стр. 379 мы сопоставляли гот. skadus и скр.
éat „прятаться". А вот ирл. scâth доказывает, что корень здесь
skAt, а не sket2, и таким образом мы имеем вполне отчетливый
пример са, соответствующего ка; ясно, что гуттуральный является
составной частью первичной группы sk. Похожий случай, где
речь идет о звонком, это зенд. £ad „требовать, спрашивать", ирл.
gad, греч. βάζω (несмотря на βάζω); в этом случае санскрит имеет g:
gâdati.
Короче говоря, явления этого рода не позволяют прийти к
каким-либо выводам, и нам придется для установления
изначальности дуализма at : л прибегнуть к доказательству a priori,
основанному главным образом на нашем убеждении в
изначальности a2. Подобный род доказательств в лингвистике всегда
наихудший; и тем не менее было бы неправильно исключить его
полностью.
1. Ради упрощения мы оставим в стороне спор о фонеме о;
ее исключительно своеобразный характер, ее роль, весьма
близкая к роли л, ставят ее как бы в нейтральное положение и
позволяют пренебречь ею без опасения впасть в ошибку. Кроме
того, долгое В языков Европы, с которым мы встретимся дальше
и которое, возможно, представляет собой разновидность а, может
быть также оставлено вне рассмотрения. Относительно ё см. § 11.
2. Мы считаем доказанным в предшествующих главах и
в дальнейшем будем из этого исходить, что вокализм a всех
европейских языков и армянского покоится на четырех следую-
1 Примечательно, что классические языки избегают лабиализации
велярного гуттурального в положении перед а, по крайней мере если этот
гуттуральный сильный взрывной. В (с) va рог группа kw первична, как на это
указывает литовский; возможно, что то же самое имеет место и в πας; что
касается πάομαι, то здесь это оспаривается. Сомнительно также, можно ли
отыскать германские h ν в положении перед Л; однако последнее не
обнаруживается с такой достоверностью, чтобы могло быть использовано для показа
изначального различия между А и_аа на севере Европы.
2 Грассман разлагает вед. mâmçcatu на mâs или mäms „луна" и éatu
„побуждающий исчезнуть". Эта последняя форма соответствует гот. skadus.
Если поместить в тот же ряд греч. σκότος, то можно прийти к заключению,
что корнем является skot, а не skAt. Сопоставьте σκοτομήνιος и mâmçcatu·
409
Щйх a: a! или e\ a2 или о; Л или a; Я или a. Кроме того,
установлено, что о регулярно чередуется с e, но никогда — с a и
что, равным образом, а чередуется исключительно с a. Этот
последний пункт мы пока не могли надлежащим образом осветить,
но в главе V он будет подвергнут исчерпывающему рассмотрению.
3. Регулярное появление в определенных условиях арийского a
долгого при европейском о (§ 7) — явление, никогда не имеющее
места в тех случаях, когда в Европе мы находим гласный e или
a, — представляет собой неодолимое препятствие для возведения
к одной и той же фонеме праязыка европейских е (или a) и о.
4. С другой стороны, невозможно возводить европейское о
к той же изначальной фонеме, которая дала a. В самом деле,
арийские языки не сокращают а перед группами из двух
согласных (çâsmi и т. д.). Было бы непостижимо, почему европейское о,
за которым следует два согласных, представлено ' в арийском а
кратким (op^ = sarma, не 'sârma', <plpovTt = bharanti, а не
'bharänti') [28].
5. Все, что мы знаем относительно о и δ, приводит нас к трем
следующим заключениям:
а) Европейское о не могло быть в праязыке той же фонемой,
которая представлена в Европе как e или а (см. выше, пункт 3).
β) Европейское о не могло быть в праязыке той же фонемой,
которая представлена в Европе как а (см. выше, пункт 4).
γ) Считается общепризнанным, что европейское а не могло
быть в праязыке той же фонемой, которая представлена в Европе
как е или a. Из сказанного вытекает, что европейские о и a
отличались в праязыке друг от друга и от всех остальных фонем.
Что нам известно о том, какой именно элемент праязыкового
вокализма соответствует совокупности е + а в языках Запада?
Две вещи: этот элемент вокализма был отличен от о и от a и,
во-вторых, он не содержал в себе долгого гласного. Сведенные
в схему наши данные предстанут перед нами в следующем виде:
Индоевропейский Европейский
о о е
_ x, краткое
Попробуем теперь придать χ значение единственного a. Вот
гипотезы, неизбежно возникающие из этого предположения.
1) Расщепление a на e-a при его проникновении в Европу.
Вопрос о возможности расщеплений подобного рода—особый
вопрос, и если ответить на него отрицательно, то обсуждение
данной гипотезы станет излишним, и мы нисколько против этого
не возражаем.
2) Поразительное распределение богатств гласных,
порожденное расщеплением. Полная упорядоченность, несмотря на появ-
410
ление нескольких a. Обнаруживается, что е всегда сосуществует
вместе сои a—вместе с а. Но представить себе это
решительно невозможно.
3) Три предположенных для праязыка разновидности а (аой)
не были, очевидно, полностью оторваны друг от друга, но
существовавшая между ними связь не могла иметь ничего общего
с той, какая имеет место между ними в Европе, ибо в праязыке
е и a, согласно данной гипотезе, являлись еще одной фонемой.
Таким образом, европейские языки не могли бы
удовольствоваться образованием свойственного им аблаута; им, сверх того,
пришлось бы упразднить более древний. И чтобы образовать
новый аблаут, им потребовалось бы расшатать элементы
предыдущего, нарушить соответствующие функции различных
фонем. Мы считаем, что столь фантастическое построение имеет
ценность только в качестве доказательства от противного.
Обозначенная через χ неизвестная величина не могла быть чем-то
единым и однородным.
Исключив такую возможность, мы располагаем лишь
единственным приемлемым решением данной проблемы:
распространить на праязык полученную для европейского схему, ничего
в ней не меняя, но учитывая, разумеется, то обстоятельство,
что мы не в состоянии точно определить, как должны были
звучать указанные фонемы.
При рассмотрении процесса редукции нескольких
разновидностей а, процесса, происходившего в области распространения
индоевропейского дважды,— в меньшей степени в
кельто-славяногерманских, а затем, в большем масштабе1, в арийских языках,—
и принимая во внимание географическое положение народов,
носителей названных языков, с первого взгляда вполне
естественной представляется мысль о том, что дело идет об одной и той
же мощной волне, прокатившейся с Запада на Восток и
достигшей в восточных языках наивысшей силы. Такое предположение
было бы, однако, ошибочным: оба события, как легко распознать,
исторически не были связаны. Разные а, какие нам предлагает
славяно-германский, никоим образом не могли быть субстратом
арийских явлений. Арийский различает a2 и а и смешивает а
с ai. Северная Европа смешивает a2 с а.
Правда, известен случай смешения арийского a2 с а (и аг);
это имеет место тогда, когда он находится в закрытом слоге. Но
едва ли вызывает сомнение, что в эпоху, когда в прочих
условиях происходило удлинение a2, эта фонема и в положении
перед двумя согласными сохраняла свой индивидуальный харак-
1 В большем масштабе в том смысле, что, помимо смешения аг и л, в
арийских языках а получило позднее окраску аг. См. дальнейшее.
411
тер. Таким образом, можно сказать, что позднейший арийский
смешивает в закрытом слоге а1У а и a2, в то время как наиболее
древний арийский, какой нам только доступен, смешивает аг и л.
Исходя из трактовки трех а кратких, о которых мы только
что говорили, получаем следующую таблицу, воспроизводящую
языковое деление индоевропейской территории. Весьма вероятно,
что различные языки соотнесены здесь совершенно правильно и
их группировка соответствует истинному положению дел, но
сейчас мы не хотим придавать данному распределению какое-
либо иное значение, кроме того, которое оно может иметь в
вопросе об a. Так, например, кельты, принадлежа по трактовке
гласных к северной группе (см. стр. 405), в силу связей иного
рода объединяются со своими южными соседями.
Область, где
А и а2
подверглись
смешению
Глава V
ГРАММАТИЧЕСКАЯ РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ а
§ 10. Корень в нормальном состоянии
Если бы проблематика этого небольшого сочинения могла
быть ограничена темой настоящей главы, его общий план, без
сомнения, немало бы выиграл от этого. Но прежде чем
приступить к определению грамматической роли различных a,
требовалось удостовериться в их действительном существовании, а при
этих условиях было весьма затруднительно не поступиться кое-
чем в рациональном расположении материала. По той же
причине глава о плавных и носовых сонантах должна будет более
или менее заменить собою раздел о редуцированном состоянии
корня, и все, касающееся этого его состояния с присущей ему
заменою аг через a2, отнесено в § 7, на который в случае
необходимости мы и будем ссылаться.
Корни предстают перед нами в двух основных формах:
полной и ослабленной. В свою очередь полная форма возможна
в двух различных состояниях, а именно, когда корневым a
является a2 и когда корневым a является аг. Последнее состояние
корня и будет предметом нашего рассмотрения: оно же, по
причинам, которые будут изложены ниже, может быть названо
нормальным состоянием корня [29].
Это прежде всего и побуждало нас указать в начале данной
работы, что корень, в котором содержится i или и, имеет
полную и неискаженную форму только в том случае, если в нем
обнаруживается дифтонг. Эта мысль высказывалась
неоднократно1. Те, кто ее выражал, как кажется, говорили порой, что
решение вопроса о том, из чего исходить—из сильной формы
1 Не устанавливая непреложного правила, Л. Мейер в своей
„Сравнительной грамматике" (I, стр. 341, 343) тем не менее с полной определенностью
выражает свою точку зрения относительно истинной формы корней,
оканчивающихся на i и и, говоря, что правильнее считать корнем srav, а не sru.
В статье из KZ (XXI, стр. 343) он высказывается в том же смысле. Известно,
что Асколи признавал наличие двух рядов: одного —восходящего (i, ai, u, au)
413
или из слабой,— в конечном счете является чистой условностью.
Полагаю, что, взвесив три следующих факта, нетрудно вскрыть
ошибочность этого мнения.
1. После того как было признано существование в
индоевропейском плавных и носовых сонантов, отмечают и параллелизм
i, и с г, n, т. Но это, скажут мне, ничего не доказывает; ведь
вместе с индийскими грамматистами можно рассматривать аг
в качестве гуны г и, равным образом, an, am в качестве гун η
и ф. Справедливо; но мы опираемся не на отмеченный выше
параллелизм, а на корни с конечным согласным (в
противопоставлении их корням с конечным сонантом). Чтобы иметь
возможность говорить, скажем, о корне bhudh, следует указать,
что существует и корень pt. Ибо, где бы ни появился bhudh,
мы отмечаем также и появление pt, правда, при непременном
условии, чтобы форма оказалась произносимой: bu-budh-us,
pa-pt-us; έ-πυθ-όμην, έ-πτ-όμην. Но как только мы обнаруживаем
bhaudh, тут же обнаруживается и pat: bodhati, πεύθεται; pâtati,
πέτεται. Разве кто-нибудь станет утверждать, что at — гуна t?
2. Если бы образование дифтонга обусловливалось
предварительным усилением, то нам было бы трудно понять, каким
образом a! „гуны*' совершенно так же, как и все другие аи
преобразуются в a2 г. В § 7 мы неизменно исходили из ступени с
дифтонгом и ни разу не испытали, поступая указанным образом,
ни малейшего затруднения.
3. Отсутствие корней на in, un; im, um; ir, ur (последние,
если порой и встречаются, восходят к древнейшим корням на аг,
что легко распознать)—факт до такой степени поразительный,
что еще до ознакомления с носовым сонантом Бругмана мы
ощущали какое-то исключительное, порождаемое названным фактом
сходство между ролью, выполняемой i, и, и той ролью, которую
выполняют n, m, г. И впрямь, этого сходства было бы совершенно
достаточно, чтобы установить, что функция а и функция i или
и совсем разные. Если бы i, и на равных основаниях с a
являлись основными гласными своих корней, было бы непонятно,
почему эти корни никогда не оканчиваются фонемами, которые,
следуя за a, весьма обычны. По нашему мнению, это попросту
объясняется тем, что a терпит после себя только сонантный
коэффициент.
В силу того, что i, и, о чем мы только что говорили, не
являются для своих корней основными гласными, не существует
и другого—-нисходящего (ai, i, au, и); это допущение непосредственно связано
с другими теориями данного автора. Пауль в примечании к своей работе
о гласных флексии („Beitr.", IV, стр. 439) говорит, имея в виду
преимущественно наблюдаемое в санскрите: «когда мы обнаруживаем i, и (у, ν)
параллельно сё, о (ai, ay, ay; au, av, av), то простой гласный часто, а, может
быть, и всегда, допустимо рассматривать как ослабление, поскольку в
дифтонге до сих пор усматривают усиление».
4 Мы отнюдь не хотим этим сказать, что а2 — усиление.
414
йй одного корня, содержащего в себе группу i, ü-f носовой (или
плавный) + согласный. И если указывают, например, на
санскритский корень sine, то это—следствие заблуждения: легко
убедиться, образовав перфект или футурум, что носовой здесь
никоим образом не корневой. Напротив, в bandh носовой
принадлежит корню и именно поэтому удерживается в перфекте.
В замене дифтонга гласным таким образом вовсе не нужно
усматривать, вместе со Шлейхером, динамическое усиление или
вместе с Бенфеем и Грейном усиление механическое; перед нами
не что иное, как ослабление, и это происходит тогда, когда
перестает существовать дифтонг.
Что касается врддхи, между которым и „гуной" после всего
ранее сказанного недопустимо проводить даже отдаленную
параллель, то найти для него удовлетворительное объяснение мы не
смогли. Совершенно очевидно, что существуют два вида врддхи:
то, которое служит для вторичной деривации—врддхи
динамическое или психологическое, если угодно принять для него такое
наименование,— и врддхи, какое мы обнаруживаем в некоторых
первичных формах, каковы, например, yaû-mi, â-èai-âam, где
невозможно предположить какую-либо иную причину его
появления, кроме механической (см. ниже). Врддхи первого вида
наличествует в индо-иранском; кое-какие его сомнительные следы
были отмечены и в индоевропейском. Врддхи второго вида
возникло, по-видимому, позднее.
Повсюду, где налицо пермутация ai, au с i, и, там а в составе
дифтонга отражается в европейских языках в виде е (аг) или
его заместителя о (a2), но никогда не в виде а. В § 11 мы
увидим, что сочетания ^i, ли совершенно иного рода и не могут
утратить свое л. Этот факт должен быть включен в число
доказательств первичности европейского вокализма.
Перейдем теперь к обзору образований, в которых корень
содержит ax независимо от того, является ли эта фонема
составной частью дифтонга или находится в совершенно иной позиции.
Разряд рассматриваемых нами корней охватывает все корни, не
заключающие в себе а или о, за исключением тех, которые
оканчиваются на а1У и некоторых им подобных. Вопрос всегда
ставится только так: с чем мы имеем дело—с a2, отсутствием
а или же появлением ах?
А. ГЛАГОЛЬНЫЕ образования
Тематические презенсы 1-го глагольного класса. Они
неизменно имеют ах\
Греческий: λέγω; τείω, pé(F)a), μένω, φέρω; <3τε(χω, φεύγω, σπένδω,
έρπω и т. д. (см. Curtius, Verb., I2, стр. 210 и сл., 223 и ел).
415
Латинский: lego; tero, tremo; îïdo вместо *ieido1 (düco вместо
*deuco), -fendo, serpo и т. д.
Готский: giba; sniva, nima, baira; steiga, biuda, binda, filha
и т. д.
Старославянский: nesq; 2en$, berq; mçtq, vlèkq вместо *velkq
и т. д. В славянском в силу особых влияний е часто ослаблено
в Ï. Такие формы, как 2ϊν$, являются эквивалентами таких
греческих форм, как psF<o. О дифтонге eu в балто-славянском
см. стр. 362.
Литовский: degù; vejù, genù; lëkù, senkù, kertù и т. д.
Ирландский регулярно показывает e.
Арийские языки. За исключением нескольких особых
случаев, а всегда краткое; следовательно, корневой слог включает
в себя явное а1У но отнюдь не a2. Санскритские: vâhati; èâyati,
srâvati, stânati, bhârati; cétati, rohati, vândate, sârpati и т. д.
Субъюнктив атематического презенса и перфекта. Для
образования субъюнктива в презенсах 2-го и 3-го классов к
неослабленному корню, то есть такому, каким он представлен в
единственном числе актива, добавляется тематическое аг. Если в
глаголе нет удвоения, то в результате создается основа, совершенно
такая же, как в презенсе 1-го класса. В санскрите: häna-t,
äya-t, yuyâva-t от hân-ti, é-ti, yuyo-ti. То же сохранил нам и
греческий: εϊω— субъюнктив от εψι- (Ah г ens, II, стр. 340). Во
множественном числе, несомненно, было *ε?ομεν (ср. гомер. ίομεν)2.
Чрезвычайно любопытно, что перфект, принимающий в
неослабленных формах a2, за исключением, возможно, 1-го лица
(стр. 367), восстанавливает в субъюнктиве аг. Примеры см.
у Дельбрюка („Altind. Verb.", стр. 194): от èabhâr-а—gabhâra-t;
от tatân-a—tatana-t и т. д. В этом случае греческий предлагает
нам великолепную параллель в εΤδομεν εϊδε-τε, обычном у Гомера
субъюнктиве от перфекта ой-α. Другая форма πεποίθομεν
образована по аналогии с индикативом.
Атематические презенсы (2-й и 3-й глагольные классы). Мы
стремимся установить, что именно появляется во всех лицах
единственного числа индикатива (презенса и имперфекта): ах или а2.
В остальных лицах корневое а вытеснено.
Поскольку интересующий нас звук в названных лицах
встречается всегда в закрытом слоге, мы вынуждены обратиться за
разъяснениями к языкам Запада. Наиболее важный пример-—
это axs „быть". В трех интересующих нас лицах все европейские
языки единообразно имеют e. Далее следует корень axi „идти:
греч. εψΛ, лит. eimi. Если στευ — то же, что скр. sto „laudare",
то весьма вероятно, что στεΰται принадлежит ко 2-му классу,
1 mëjo, возможно, вместо *meiho.
2 В формах футурума βείομαι, πίομαι, ίδομαι, κειω и. т. д. хотели
видеть древние субъюнктивы. Две последние формы, принадлежащие глаголам
2-го класса, хорошо поддаются такому истолкованию.
416
подобно stauti (ср. Curtius, Verb., I2, стр. 154). Правильная
форма, разумеется, должна была бы быть *στυτοα, но здесь
дифтонг заимствован из исчезнувшего актива1.
Эти примеры свидетельствуют об а19 и это то а19 которое мы
обнаруживаем в таких аористах, как εχευα, εσσευα, в конечном
итоге представляющих собой не что иное, как имперфекты 2-го
класса. См. выше, стр. 321.
Дифтонг au в скр. stauti, yauti и т. д. совершенно загадочен.
Во всяком случае, ничто не позволяет видеть здесь указание на
наличие в нем a2. Дифтонги с a2, за которыми следует
согласный, ведут себя не иначе, чем дифтонги с а1# Напротив, создается
впечатление, что в санскрите преимущественно axi и ах\х
подвержены преобразованиям подобного рода. Сигматический аорист
может послужить для этого новым примером.
Презенс 3-го класса в еще большей мере не поддается
исследованию. Не без доли вероятности лат. fert отождествляли
с скр. bibhârti. В греческом нет других презенсов с удвоением,
кроме тех, основа которых оканчивается на η или ά.
Несомненно, можно поставить перед собою вопрос, не является ли
πίμπλημι метатезою ταμπελμι (см. стр. 314 и гл. VI). Однако наша
уверенность в том, что имеющийся здесь гласный является
гласным а1У не основывается, к счастью, на этой гипотезе. Даже
если πίμπλημι восходит к корню πλη, это η, как то же η в τίθημι,
ïïjju и т. д., доказывает, что данное образование не включает
в себя a2; в противном случае было бы τίθωμι, ϊωμι. В этом мы
убедимся в § 11.
Атематический сигматический аорист. Тождество греческого
аориста на -σα с атематическим сигматическим аористом в
санскрите и в славянском является фактом, окончательно
установленным Бругманом (см. „Stud.", IX, стр. 313). Корень имеет
ступень a! как в медиуме, так и в активе. Примеры: έστρεψα,
?πεμψα, εδεισα, έπλευσα, ε'τευξα и т. д. Славянский равным
образом дает е: pçchu, nèsu и т. д.2
В санскрите этот аорист удлиняет корневое a в формах актива,
но мы уже видели выше, что явления подобного рода в
закрытом слоге и посейчас не поддаются возведению к какому-либо
древнему источнику и их невозможно поэтому принимать в
расчет. Удлинение исчезает в медиуме. Вокализм этого времени
ставит тем не менее различные проблемы, которых мы коснемся
в § 12. Относительно некоторых следов a2 в аористе см. стр. 368.
Субъюнктив paräa-t, géâa-t и т. д. отражается в греческом
в таких гомеровских формах, как παρα-λέξο-μαι, άμείφε-tat и т. д.
См. Curtius, Verb., II, стр. 259 и сл. Корневым a является аи
как в индикативе.
Очень неясно σουται наряду с σεΰταΐ. См. Curtius, цит. раб.
Совсем иной вокализм в аористе на -sa (â-dikàa-t).
14 Φ. де Соссюр
417
Футурум на -sya. Добавлением -уа, к основе аориста
образуется основа футурума. Вокализм не претерпевает изменения.
Греческие примеры: στρέφω, εϊσομαι, πλευσουμοα, έλεύσομαι. Что здесь
бесспорное e, хорошо видно по форме κλευσόμεθα—футурум от
κλύω, приводимый Гесихием.
Футурум в литовском не противоречит этому правилу.
Футурум в древнеиндийском также имеет полную форму корня:
vakSyâ-ti, gesyâ-ti, bhotsyâ-ti..
Б. ИМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Основы на -as. Греческие образования среднего рода: βέλος,
βένθοςх, βλέπος, βρέφος, γένος, εγχος, ειρος, έλεγχος, έλκος, έλος, έπος,
έρεβος, ερκος> έτος, θέρος, κέρδος, λέχος, μέλος, μένος, μέρος, νέμος,
νέφος, πέκος, πένθος1, πέος, ρέθος, σθένος, σκέλος, στέφος, τέγος, τέκος,
τέλος, φέγγος; δέ(γ)ος, είδος, τείχος; γλεδκος, ερευθος, ζεδγος, κεδθος,
κλέ(Ρ)ος, ρέ(Ε)ος, σκεδος, τεδχος, ψεδδος, и т. д. Другие примеры см.
также у Людвига в „Entstehung der a-DecL", стр. 10.
Часто основа на -εσ сохраняется только в сложном слове:
άμφι-ρρεπής, ср. ροπή; ιο-δνεφής, ср. δνόφο-ς; ά-μερφές·αίσχρόν (Гее),
ср. μορφή. 'AXt-θέρσης2 у Гомера не эолийское: θέρσος, действительно
сохранившееся у эолийцев, является правильной основой на -εσ
от корня θερσ, а ΰάοσος, θράσος—формы последующие,
производные от θρασύς, θαρσυς (в θαρσύνω).
Для прилагательных (окситонов) на -εσ, относительно
древности которых были высказаны самые различные мнения, ψευδής
показывает ту же ступень a1#
о в существительном среднего рода δχος находит свое
объяснение в том, что έχω „veho" оказалось замещенным в греческом
οχέω. Кроме того, у Гесихия встречается εχεσφιν όίρμασιν; σκότ-ος
происходит от корня skot, а не sket. Если Гомер употребил
δυσπονής (в род. п. δυσπονέος), то объясняется это тем, что πόνος
в соответствии с вкладываемым им в это слово значением
восходит к корню πεν.
Латинские примеры: decus, genus, nemus, pectus, scelus, tern-
pus, Venus, vetus(oÄByx последних словах см. Brugmann, KZ,
XXIV, стр. 38, 43). Существительное ср. p. virus (род. п. vïri)
указывает на изначальное waj-is-as. Относительно foedus,
pondus, holus см. стр. 374. В словосложении: de-gener.
Готский дает нам riqiz-a = έρεβος, rimis-a, sigis-a-, peihs-a,
veihs-a- (см. Paul, Beitr., IV, стр. 413 и сл.); ga-digis
нарушает правило. Ст.-слав, nebo, slovo вместо *slevo (см. стр. 362),
1 βάθος и πάφος — формы последующие, производные от βαθύς (стр. 324)
И παθεΐν (стр. 321).
2 Это имя существительное стало склоняться по образцу основ на -а.
418
tçgo „ремень", ср. vus-t^ga; лит. debes-î-s, deges-i-s1; ирл. nem
„небо", tech τέγος; арм. егек έρεβος (KZ, Χ Χ II Ι, стр. 22).
В арийских языках та же картина, что и в языках Европы,
ибо они обнаруживают: 1) полный корень; 2) а краткое в
открытом слоге, то есть аг. Скр. vâcas, râgas, mânas, gray as, çrâvas;
vârcas, tégas, rohas.
Прилагательные ведут себя точно так же: yaçâs, tavâs, to-
çâs2.
Основы на -yas. Благодаря добавлению -yas (в некоторых
случаях -ias) к нормальному корню образуется сравнительная
степень этого корня, функционирующая как прилагательное.
Основа превосходной степени производится от основы
сравнительной степени при помощи суффикса ta, присоединение
которого обусловило ослабление предыдущего суффикса, но отнюдь
не повело к ослаблению корня. Допустимо, таким образом,
объединять оба класса основ.
В санскрите: sâhyas, sahiätha; kaépïyas, kSepistha, ср. käipra;
râgïyas, ra^iättia, ср. rgû. В зендском: darezista, ср. dërëzra.
Случаи сохранения в греческом этого древнего образования,
независимого от прилагательных, представляют огромную
ценность для выяснения качества a. Корень φ ε ρ дает φέριστος, χ ε ρ δ—
κέρδιστος; μι-νύ-ç в качестве сравнительной степени использует
μεί-^)ων, κρατυς ( = **ι·τΰς)—κρείσσων 3. Древней аттической
сравнительной степенью от ολίγος является ολείζων (см. Cauer, „Stud.",
VIII, стр. 254). Таким образом, a здесь бесспорно является
рефлексом ах.
Если принять этимологию Бенфея, то лат. pëjor по
отношению к скр. pïyu является тем же, чем μείων— по отношению
к μηώς. В готском следует отметить е в vairsizâ.
Основы на -man: α) В именах среднего рода.
Греческие примеры: βλέμμα, θρέμμα, πείσμα вместо *πένθμα,
σέλμα, σπέρμα, τέλμα, φθέγμα; δείμα, χει μα; ρεδμα, ζεδγμα. Сопоставьте
следующие два ряда: κέρμα, πλέγμα, τέρμα, φλέγμα, στέλμα (Гее.)
и κορμός, πλοχμός, τόρμος, φλογμός, στολμός (стр. 370), и, кроме того,
έρμα „серьги" и όρμος „ожерелье", έρμα „подпорка для кораблей"
и δρμος „рейд", ερμ' όδυνάων и ορμή; φέρμιον (уменьш. от *φέρμα)
и φορμός, χεδμα и χυμός вместо *χΰμός, *χουμός (ср. ζύμη вместо
*ζουμη, лакон. ζωμός).
Гомеровское οίμα от ει „идти" должно было образоваться по
аналогии с οψος. о в δόγμα, по-видимому, является рефлексом о.
Не совсем ясно δώμα; во всяком случае, ничто не доказывает,
1 Вполне вероятно, что véidas (м. р.) восходит к более древнему слову
ср р. на -es (είδος).
2 В u§âs корень ослаблен, и притом здесь иной суффикс; ûras „грудь" и
çtras „голова" также не допускают прямого сопоставления с такими словами,
как vâcas.
3 Превосходная степень под воздействием κρατύς дала κράτιστος.
14*
419
что изначально было δόμμα; 6'χμα (=εχμα), наличное у Гесихия,
может быть лишь позднейшим.
В латинском: germen, segmen, tegmen, terrnen (Варрон).
u в culmen обязано своим появлением последующему согласному.
Ст.-слав, brëmç „груз, бремя" вместо *bermç, slëmç „culmen
tecti" вместо *selmç, vrèmç „время" вместо *vermç (Miklosich,
Vergl. Gramm., II, стр. 236).
В санскрите: dhârman, vârtman, éman, homan, véçman и т. д.
(Lindner, стр. 91 и сл.). Зендский: zaëman, fraoftman и т. д.,
но, вместе с тем, pishman.
β) В существительных мужского рода и прилагательных.
Греческие: κευθμών-ωνο;, λειμών-ωνος, τελαμών-ώνος,χειμών -ώνος;
πλεύμων-όνος, τέρμων-όνος; прилагательное τεράμων-ονος.
Производные: στελμονίαι, φλεγμονή, βέλεμν-ο-ν. Слова на -μήν: άϋτμήν, λιμήν,
πυθμήν и υμήν1. Последнее слово, согласно недавно
установленной этимологии,— от ее автора ускользнуло, что она была
предложена Поттом в его „Wurzelwörterb.", I, стр. 612,— совпадает
с инд. syuman (ср. р.); в нем, однако, содержится ü долгое, что
побуждает нас воздержаться от окончательного суждения. Но
в άϋτμήν, λΐμήν и πυθμήν ослабление корня очевидно2. В этих трех
словах суффикс исключает a2. Среди имен мужского рода лишь
основы на -та2п обнаруживают корень на ступени 1; ср. § 13.
Инфинитивы на -μεν, -μεναι не дают достаточно четких
показаний относительно вокализма корневого слога.
Латинский дает sermo, termo (Энний), tëmo = *tecmo.
Готский дает hliuma -ins, hiuhma -ins, milhma -ins, skeima
-ins., Англо-сакс. filmen = греч. πέλμα (Fick, III3, стр. 181).
Некоторые литовские слова, несомненно, окажутся древними
именами среднего рода, но это несущественно. Шлейхер приводит
zelmû „зелень", teszmü „сосок", szèrmens (плюралис тантум)
„поминки"—слово того же корня, который наличен в лат. сёпа,
sili-cernium.
В санскрите находим varSmän, hemân; darmân, soman и т. д.3.
1 ποιμήν, которое, как кажется, заключает в себе о, нас здесь не
интересует.
2 Корень άϋτ-μήν представлен в полной форме α(Ρ)ετ-μα. Основываясь
на кельтских формах, Фик устанавливает, что τ в этих словах отнюдь не
суффиксальное (ВВ, I, стр. 66). Нет оснований помещать ύσμΐνη среди основ
на -man. Это слово может восходить к древнему имени женского рода ύσμΐ
примерно так же, как δωτίνη восходит к δώτις.
3 Лишь один ведийский пример нарушает правило—это vidman „умение,
ловкость". Отметим, что греческий, со своей стороны, располагает
прилагательным ιδμων. Это прилагательное до александрийских (эллинистических)
авторов не встречается. Впрочем, оно может быть более древним; во всяком
случае, почему оно не оформилось как 'είδμων'? Это нетрудно понять: дело
в том, что понятие „знание, умение" (ειδώς = ΡεΡιδώς) связывается почти
исключительно с to и οίο и почти никогда—с ειδ. То же объяснение пригодно
и для слева Γστωρ, которое нормально должно было бы дать *ε?στωρ\ Можно
было бы, исходя из этой аналогии, попытаться отыскать в форме vidman дока-
420
См. Lindner, стр. 93. Парокситоны: géman, kloman „правое
легкое" (см. Böhtl. — Roth). Последнее слово представлено
в греческом в виде πλεύμων1. В зендском есть raçman, maëftman,
но также uruftman.
Основы на -tar. Мы подвергнем здесь рассмотрению лишь
имена деятеля.
В греческом: εστωρ, κέντωρ; 'Έκτωρ, Μέντωρ, Νέστωρ, Στέντωρ; —
ρεκτήρ (Гесиод), πειστήρ „канат" (Феокрит) и πειστήρ от πείθω
(Свида), νευτήρ· κολυμβητής (Гесихий), ζευκτήρ, τευκτήρ (там
же). Существуют многочисленные производные, как, например:
άλειπτήριον, -θρεπιήρΜς, πε^τήριος, θερτήρια* εορτή τις. Мы
обнаруживаем в άορτήρ неправомерное о, заимствованное, несомненно, из
αορτή. Ср. стр. 371, сноску 1.
В латинском: emptor, rector, vector, textor и т. д.
В старославянском: bljusteljï, içteljï.
В санскрите: vaktâr, yantâr, éetâr, sotâr, bhettâr, £oâtâr; bhâr-
tar, hétar и т. д. В зендском: èantar, mantar, çraotar и т. д.
Имеется несколько исключений например berëtar рядом с fraba-
retar. Ср. § 13.
Суффикс -tr-a также требует неослабленного корня. Он имеет
обычно а19 как, например, в греч. δέρτρον, κέντρον, φέρτρον, но
наличие a2 можно отметить в ρόπτρον от ρ ε π и др.-сканд. lattra- =
= *lahtra- „ложе", греч. λέκτρον.
Основы на -au. Флексию нижеследующих основ следует
отличать от флексии других основ, оканчивающихся на и.
Большинство из них — имена женского рода. Греч, νέκυς—м. р., зенд.
naçu — ж. р. Греч, γένος, гот. kinnus, скр. hânu—все три слова
ж. р. Гот. hairus—м. р., скр. çârù —ж. р. Скр. dhânu—ж. р.,
греч. *θένυς—м. р. (род. п. θτνός вместо *ftsvFoç; ср. θεινων
αιγιαλών (Гесихий)). Сюда же относятся также скр. pâr^u—ж. р.,
греч. χέλυς (русск. ielvï восходит к *2ïluvï; см. J. Schmidt,
Voc, II, стр. 23), гот. qijnis, герм, lemu- „ветвь" (Fi с к, III3,
стр. 267), лат. penus. Далее—с различным ударением—греч.
δελφύς, скр. рагасй = греч. πέλεκυς.— Ср. § 12.
Имена ср. р.: и.-е. mâidhu и pâ^u.
зательство наличия в ней а2 арийского в закрытом слоге. Арийский,
действительно, должен был бы иметь waxid исключительно в субъюнктиве перфекта.
В „Ригведе" встречается лишь слово avedam, в котором допустимо
предположить наличие ах (ибо védas, по-видимому, во всех случаях восходит к ved
„достигать"); но avedam не обязательно должно быть древним. Можно
предположить, что в эпоху, когда а2 в wa2ida существовало как таковое, wa1idman
могло казаться странным и непригодным для передачи понятия „знание,
умение". Оставался лишь выбор между wa2idman и widman; последнее
возобладало.
1 Под воздействием народной этимологии превратилось в πνεόμων. Лат.
pulmo, заимствованное из греч. πλευρά, соответствует, как представляется,
старосакс. hlior „щека" (первоначально — „сторона, бок"?).
421
Из трех форм, которые может принять любой корень (см.
§ 11), форма, лишенная a, не может притязать, как мы видели,
на первородство. Подобная тяжба возможна лишь между двумя
прочими формами, содержащими варианты a, а именно ах и a2.
Нам представляется, что такая тяжба, безусловно, решается
в пользу а1У и в этом нас убеждает частая повторяемость
данной фонемы, и притом в наиболее важных парадигмах.
Например, во Есем словоизменении глагола a2 появляется только в двух-
трех лицах перфекта. Что дает нам основание полагать, будто
целые пласты аи вскрываемые нами в различных презенсах,
могли возникнуть не иначе как в результате модификации a2?
Напротив, по крайней мере в одном случае, мы обнаруживаем
явное развитие a2; это бывает тогда, когда это a2 восходит к
тематическому a! в положении перед звонкими согласными
глагольных окончаний (стр. 380). Если в других положениях его генезис
все еще скрыт от нашего взора, то здесь по крайней мере
усматривается возможность его разъяснения; эта фонема
обнаруживается лишь в некоторых, строго определенных местах.
Факт, достойный быть отмеченным, который, однако, при
рассмотрении данного вопроса может привести к двум
противоположным толкованиям,—это появление а± при устранении a2 в тех
случаях, когда a подлежит вытеснению, чему все же препятствует
внешняя причина (стр. 344). Таким образом, в тех временах,
где во множественном числе от δέδορκα получилось δεδίχ(α)μεν, во
множеств, числе от τέτοκα, согласно нашему выводу на стр. 366
(сн. 4), получалось τετεκ(α)μεν. Бругман показывает, как основа
pad в вин. п. pa2dm (πόδα) ввиду затруднений, возникающих
при образовании родительного падежа в форме pdâs, выбирает
форму pa2dâs (pedis). Вот что, по-видимому, может служить
доказательством в пользу того, что ах является деградацией a2.
Но кто стал бы исходить из основы ра^, тот тоже получил бы
правдоподобный ответ: pa2d является необычной модификацией,
и нет ни малейших оснований ожидать ее в подверженных
ослаблению формах; если ослабление не состоялось, то неизбежно
появляется чистая основа paxd.
Второй вопрос. Избегая высказываться относительно
первичности той или другой из этих фонем, Бругман считает, что a2
является усилением по отношению к аи тогда как аг по
отношению к a2 представляет собой ослабление („Stud.", стр. 371, 384).
Мы сами на стр. 306 назвали a2 усиленным гласным. Эти
обозначения становятся более определенными, если допустить, что
замена ax на a2 и, наоборот, a2 на аг находится в связи с
перемещением тона; таково мнение Бругмана. Если учесть,— а мы
так и поступаем, — что замена этих обеих фонем друг другом не
зависит от ударения, то лучше вообще воздержаться от
приписывания одной из них старшинства, которое никак и ничем не
подтверждается.
422
Если a2 является механическим преобразованием аг, то это
преобразование завершилось, во всяком случае, в конце
праязыкового периода, так что языки — потомки праязыка — больше не
в состоянии его совершать. Весьма возможно, например, что
πλοχμός был образован от πλέκω не ранее, чем в эпоху, которую
можно назвать новейшей. Но само собой разумеется, что о
в πλοχμός не могло возникнуть из s в πλέκω. Язык, попросту
говоря, отлил эту форму по образцу существительных на -μο-ς,
которыми он располагал ранее.
§11. Грамматическая роль фонем л и о.
Полная система первичных гласных
При рассмотрении таких случаев пермутации а{ a2, как гот.
hlifa hlaf, греч. κλέπτω κέκλοφα, греч. ίππος ίππε, и сопоставлении
их с такими случаями пермутации а Л", как гот. saka — sök, греч.
λάσκω λέλάκα, греч. νύμφά νύμφα, возникает сильное искушение
составить следующую пропорцию: а: А^а2:ах. Но это означало
бы пойти по пути, который заведомо никуда не ведет, и не
распознать истинного характера рассматриваемых явлений. Для
внесения большей ясности мы хотим тут же дать набросок
системы гласных, как мы ее себе представляем. Пока мы
ограничимся исключительно гласными в корневых слогах.
Фонема ах является корневой гласной всех корней. Вокализм
корня может быть представлен ею одною или совместно с
сопровождающим ее сонантом, который мы называем сонантным
коэффициентом (стр. 310).
В определенных, пока не установленных, условиях ах оказалось
замещенным a2; в других, лучше известных, условиях оно
подверглось вытеснению.
Там, где ах вытеснено, корень остается без гласного, если
только не содержит в себе сонантного коэффициента. В случаях,
когда такой коэффициент налицо, он фигурирует в чистом виде,
иначе говоря, как автофтонг (см. стр. 310), и привносит в корень
гласный.
Фонемы а и о являются сонантными коэффициентами. В
чистом виде они могут появиться лишь в редуцированном состоянии
корня. При нормальном состоянии корня им обязательно
предшествует a!, а Â и 9 долгие возникают из сочетаний aL -f-л,
ai + o. Пермутация а1:а2 осуществляется перед а и о так же,
как и во всех прочих положениях.
Подходящие обозначения
для ахА и ajO после их стяжения: Âj и Ci-
для а2А и a2o после их стяжения: Ä2 и ç2.
423
Вокализм корней в индоевропейском
Полный
корень
Редуциро-
1 ванный
корень
а,
а2
аЛ
аг\
— i
ах\х
а2и
— u
ахп
а2п
— Ç
atm
а2т
— Φ
ахх
с2г
-с
ахк
а2А
— А
0ι9
а29
— 9
Теория, схематически выраженная в этой таблице, была
применена выше ко всем видам корней, за исключением содержащих
в себе а и о. Их мы теперь и подвергнем рассмотрению.
Чтобы отличать друг от друга две формы, в которых может
фигурировать полный корень, в зависимости от того, чем является
корневое а—ах или a2,— удобно называть первую форму
ступенью 1 {нормальное состояние корня), а вторую
форму—ступенью 2. Но это никоим образом не означает, что мы считаем
одну из этих форм усилением другой (см. стр. 422).
I. КОРНИ, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ НА а
А. полный корень на ступени 1
В пользу признания I и ç чем-то отличным от простых
гласных убедительно говорит то обстоятельство, что повсюду, где
прочие корни находятся на ступени 1, корни на a имеют
долготу. В самом деле, почему бы не удлиниться a, которое
завершает собою корень? Если же, напротив, а уподобляется
дифтонгу, то греч. στάμων при στατός объясняется совершенно так же,
как древнеиндийское geman (е — а^, стяженному в монофтонг)
при èitâ1. Всякий корень на а тождествен по своему строению
таким корням, как kai, паи 2, а также tan, bhar (тип А, стр. 310).
Нам предстоит рассмотреть главнейшие образования ступени 1,
перечисленные в § 10. Для подтверждения нашей теории необхо-
1 Что касается греческого, то здесь слияние аугмента с начальным а или ρ,
слияние, завершившееся еще в доисторическую эпоху, представляет собой
весьма примечательную параллель к предположенным нами корневым
стяжениям. В άγον, ώφελον а происходит из ^ + Л, а 5—из аг-\-д совершенно так
же, как в στα- и δω-. Известно, что Курциус (Verb., I2, стр. 130 и сл.)
пользуется для объяснения рассматриваемого нами слияния гипотезой об
изначальном единстве а. Таким образом, мы не можем ни принять эту теорию, ни
отвергнуть ее.
2 Для большей ясности, в тех случаях, когда установлено, что корневое η
не является ц общеэллинской, мы будем писать все формы через ά.
424
димо обнаружить в этих образованиях ^ и ^. Число примеров
крайне незначительно, и они доказательны только в том случае,
если между полным и слабым корнем действительно происходит
мена1.
Относительно презенсов 2-го и 3-го класса см. стр. 433. Корень
в полных формах представляет собой ступень 1.
Сигматический аорист (см. стр. 417). Греческий образует
ε-στά-σα, è'-βά-σα, ώνα-σα. Такая форма, как έ'-στα-σα, то есть
e-stea-sa от stea (sta^), является совершенной параллелью к
i-ist-σα. Санскрит дает a-hä-sam, â-dâ-sam; зенд. çtâo-nh-a-t
(субъюнктив).
Футурум (см. стр. 418). В греческом ßöc-σομαι, στα-σω, φοέ-σω,
φθά-σομαι, δώ-σω; ср. πλευ-σουμαι и т. д. В санскрите: dâ-syâti,
gâ-syâti.
Основы ср. р. на -man (см. стр. 419). Ср. Lob ее k, Parali-
pomena, стр. 425 и сл. В греческом: βα-μα, σα-μα, σύ-στα-μα, φα-μα.
Презенсы δράω и πάομαι снижают ценность таких примеров, как
δρα-μα и тга-μα. В πό-μα мы сталкиваемся с возобладанием слабой
формы, но вместе с тем существует и πώ-μα. .
В латинском: grä-men (ср. в.-нем. grüe-jen „virescere"), stâ-men,
ef-fâ-men, lâ-min-a.
В санскрите: dâ-man, sâ-man, sthâ-man.
Основы м. p. на -man (см. стр. 420). Греч.: στδ-μων, [τλά-μων].
Гот.: sto-ma-ins, blo-ma-ins. Скр. dâ-mân.
Основы на -tar (см. стр. 421). Скр. dâ-târ, pâ-tar „тот, кто
пьет", pâ-târ „покровитель", sthâ-tar и т. д. Эллинский язык не
сумел сохранить это образование в чистом виде. Причина
преобразования—глагольные прилагательные на -τό, которые все более
и более сообщают слабую форму именам деятеля. Гомер
употребляет еще параллельно δο-τήρ, δώ-τωρ и δω-τήρ; βο-τήρ, βώ-τωρ и
συ-βώ-της (у Софокла: βω-τήρ). Рядом с βα-τήρ можно привести
έμπυρί-βή-της, так как весьма вероятно, что образования на -τα
1 Эта концепция существенно не отличается от получившей достаточно
широкое распространение после Шлейхера. Но поскольку kai—для нас не
усиление относительно ki, а нормальная форма, мы должны исходить из корня
stâ, а не sta. Помимо этого различия в принципе, в упомянутую концепцию,
внесены следующие модификации: 1) модификация, связанная, с одной стороны,,
с представлением о многообразии а, и, с другой — обосновывающая частную,
гипотезу, которая предполагает, что различные а возможны лишь как второй
член сочетания а-\-а, тогда как первое α всегда является рефлексом αν
2)Модификация, вытекающая из предшествующей и связанная с теорией аа: в лоне:
названного сочетания происходит аблаут (a1:a2), Вследствие того, же
реконструкция а-\-а перестает быть чистой теорией. Различие упомянутого выше
принципа, особенно в сочетании с первой модификацией, отчетливее
всего проявляется в выводе, что и й долгое и ä краткое (если это ä является ах)
равнозначны по положению, и таким образом μήκος = meakos при
сопоставлении с τεκος больше не рассматривается как слово с усиленным корневым,
гласным..
425
созданы по образцу древних основ на -tar. Чтобы объяснить
неясное слово άφήτωρ (Илиада, IX, 404), схолиаст привлекает
πολυ-φή-τωρ . Существует также oya-τωρ, но глагольное
прилагательное имеет форму όνάτός. В στα-τήρ и πο-τήριον закрепилась
слабая форма. У Гесихия встречается μα-τήρ· ερευνητής, ματηρεύειν
μαστεύειν от μαίομαι.
В латинском: mä-ter-ies (ср. скр. ma-trâ) и mä-turus, с
которым сопоставляют слав, ma-toru „senex", pô-tor, pö-culum = скр.
pâ-tram (нужно заметить, что pô- в санскрите вовсе отсутствует).
Нет недостатка и в неправильных образованиях, каковы da-tor,
Stä-tor.
Санскрит, свидетельства которого важнее всего, знает лишь
полную форму; в греческом редуцированные формы наиболее
часты, но встречаются и полные формы; латинский ничего не
решает. Итак, можно смело утверждать, что правильные
образования требуют Ä, ρ долгих, то есть двойного звука аха, ^о, или,
иначе говоря, нормального состояния/ такого, как для всех
корней. Ср., сверх того, § 13.
Б. полный корень на ступени 2
Вот где подтверждается достоверность реконструкции еа как
первичной формы а. В тех образованиях, в которых корневое е
замещено о (a2), греческий допускает появление ω на месте
конечного долгого а1. Сразу же оговоримся: эти случаи
немногочисленны, но они повторяются в тех корнях, где а является
медиальным (Fay: κυματ-ωγή), и мы полагаем, что не проявим
чрезмерной смелости, поставив в прямую связь с ними au таких
санскритских перфектов, как dadhau. Чтобы не отрывать друг
от друга различные формы перфекта, мы представим
доказательства в пользу нашего последнего утверждения ниже, в
разделе „в".
Корень βα: βα-μα, но βω-μός; ср. κέρ-μα, κορ-μός (стр. 369 и 419).
Корень φα (ψάω, φη-ρός): ψω-μός. Глагол ψώω образован
искусственно.
. Слово στώ-μιξ „перекладина, балка" позволяет восстановить
*στω-μο (στα).
Корень φα: футурум φά-σω, но φω-νή2; ср. τεί-σω, ποι-νή
(стр. 418 и 373). Однако все же существует φά-μδ, а не *φω-μδ.
Корень γρα „грызть" дает γρώ-νη „выемка, яма". Еще: σμώ-νη
„опухоль", если это слово происходит от σμάω; ср. σμώδιξ.
Перед суффиксом -га, -χα обычно ставится χω, например
в χώ-ρα. В качестве примера, подтверждающего, что это образо-
1 Ср. дат. п. Γππω = Γππο-αι.
2 Дорийское πολύφανος весьма сомнительно; см. Ahrens, II, стр. 182.
426
ванне принимает a2, я не могу привести другого слова, кроме
σφοδ-ρό-ς при σφεδ-ανός. Точно так же ψάω дает ψώ-ρα1.
Если ά, ω не являются сочетаниями с e, то приведенные
факты представляются нам загадкой. Аблаут, совершающийся
при посредстве о, по существу также связан с наличием e2.
Без ах нет и a2. Откуда а получил бы импульс для чередования
со звуком δ? Мне кажется, что, напротив, все хорошо
разъясняется, если возвести ö к оа и уподобить его oi, подобно тому
как а восходит к еа и сопоставимо с дифтонгом ei.
Необходимо также предположить существование древнего
сочетания о2о; впрочем, оно уже недоступно нашему
наблюдению. Например, если исходить из того, что χώ в χώ-ρα восходит
к χα, то слог dö в δώ-ρον разлагается на do2o, тогда как dô
в δί-δω-μι представляет собой deo. Эти различные сочетания даны
в приведенной выше схеме, см. также стр. 433.
Лишь исключительная случайность позволяет нам еще
улавливать столь многозначительные следы пермутации а:б. Язык
эллинов в этом отношении почти единственный для нас
путеводный луч. Но даже в нем эти драгоценные памятники
принадлежат прошлому. Живой обмен между обеими названными
гласными, несомненно, уже давно прекратился.
Латинский не дает надежного примера аблаута aî:â2. И это
не должно вызывать удивления: вполне правомерно, если этот
язык сохранил лишь кое-какие остатки обширного чередования
ax:a2. Но без опасения впасть в ошибку можно сказать, что
в Италии а2 должно было отличаться от X, так же, как в
Греции.
Напротив, в германских языках различие уже невозможно:
Âlf как мы знаем, становится о; Â2 тоже становится δ.
Англосаксонское grove, перфект greov, если восстановить его более
древнюю форму, предстает перед нами как grö-ja, ge-gro. Из
двух δ в этом глаголе первое соответствует а латинского grämen
(Ai), второе — той же природы, что и ω в βω-μός (Â2). Все, что
справедливо в отношении германского δ, справедливо и по
отношению к славянскому а и литовскому о. Эти фонемы (а их
допустимо объединить под названием северного а — в
противоположность ё того же ареала) еще заключают в себе ох и δ2,
которые, смешавшись даже в греческом, нигде больше не
отличаются одна от другой. Пример: слав. da-j$, da-rü, ср. греч.
δί-δω-μ*, δώ-ρον {ох и о2; см. выше).
1 Вот более спорные случаи. Наряду с σπατίλη и οΕσπάτη: ot-σπωτή.
Гомеровское μεταμώνιος происходит, возможно, от μαίομ-u, но презенс μώται,
сам по себе весьма неясный, снижает значимость ω. ω в ώτειλή и в βωτάξειν
βάλλειν противостоит α в γατάλαι, но ούτάω путает всю картину.
2 О таких случаях, как αγω, ο'γμυς, см. стр. 393.
427
Прежде чем перейти к ослабленной ступени корней на a, мы
сделаем отступление с тем, чтобы безотлагательно рассмотреть
вопрос о корнях, которые в Европе оканчиваются на e. Эти
корни показывают в греческом чередование краткого и долгого
гласного совершенно так же, как в корнях на a и на о (9).
Оставив пока в стороне проблему происхождения и состава ё
долгого, мы приведем несколько примеров из числа образований
на ступени 1: τί-θη-μι, ϊ-η-μι, δί-δη-μι—единственное число пре-
зенса глаголов 3 класса (см. стр. 434). Для единственного числа
аориста действительного залога образование на -*а, каковы βΰηκα,
εηχα, лишает нас примеров; можно привести ε-σβη-ν, если только
корнем является σβη. Аорист на -σα дает следующее: ε-δη-σα,
Ι-νη-σα (?). Футурум: Φή-σω, ή-σω, δή-σω. Слова на -μα: άνά-θη-μα,
ή-μα, διά-δη-μα, νή-μα. σχή-μα (корень σχ-η). Слова на -μων:
{hj-μών, ή-μων. Слова на -τήρ, как мы видели, подверглись
влиянию аналогии со стороны глагольных прилагательных на -те.
В образованиях на ступени 2 фигурирует ω.
Истинный перфект от Ι'ημι—ε-ω-χα; άφ-έωχα приведено Геро-
дианом и другими авторами грамматик. Добавление -κα
происходило без изменения корневого слога (см. стр. 436). В
таблицах из Гераклеи встречается άνέώσθαιг. Глагол πί-πτ-ω образует
свой перфект на основе корня, родственного πτη, строение
которого мы здесь не станем рассматривать; πτη дает правомерно
πέ-πτω-κα2. Причастие πε-πτη-(Ε)ώς не имеет и не должно иметь ω.
Презенс διώκω позволяет с почти полной уверенностью воссоздать
древний перфект *δε-δίω-κα, возникший, естественно, из δ t η
(δίε-μαι) примерно так же, как άνώγω из ά'νωγα. Перфект δεδίωχα
(Curt i us, Verb., II, стр. 191) воссоздан по образцу διώκω.
Корень θη порождает θη-μών, но и θω-μός; ср. τέρμων, τόρμος.
ά'ω-τον происходит, возможно, от ά'η-μι; ср. νόστος от νεσ [30].
Согласные показания европейских языков в отношении 6
долгого—факт общеизвестный3. В германских языках, за
исключением готского, эта фонема принимает форму а, но после Якоби
1 В медиуме ω не изначально. Сперва оно было лишь в единственном
числе актива. Но этим нисколько не снижается ценность данного примера
как формы, в которой засвидетельствовано ω.
2 Из создавшейся таким образом основы πτω образуются неправильные,
с грамматической точки зрения, формы: πτώμα и πτώσις.
3 Пока печатался этот мемуар, Фик опубликовал в ВВ (II, стр. 204 и сл.)
весьма существенные подборки примеров, проливающие свет на европейское ё.
Имеется, однако, один пункт, в котором, без сомнения, лишь немногие
лингвисты обнаружат готовность последовать за автором; речь идет о том, что ё
множественного числа претерита германского gëbum (вместо gegbum) он
рассматривает по отношению к е в том же плане, как о в for по
отношению к а. Первым привлек внимание к европейскому ё долгому, если не
ошибаемся, И. Шмидт („Vocalismus", I, стр. 14).
423
(„Beitr. zur deutschen Gramm.") все больше и больше получает
признание первичность ё. ê в конце корня обнаруживается
главным образом в ghxë „идти", dhë „кормить грудью", пё „шить",
те „измерять", wë άήναι, se „бросать, сеять". Пример.ы
нормальной ступени: греч. *{-χη-μι, др.-в.-нем. gä-m (ср. скр. gihïte,
лат. fîo из *fiho); греч. ή-μα, лат. së-men, др.-в.-нем. sä-mo,
слав, sè-mç, лит. së-men-s.
Греческому аблауту η:ω (ϊημι:εω*α) в точности соответствует
аблаут в северных языках, то есть ë:â (герм., лит. о). Он и
наблюдается в готских претеритах sai-so, vai-vo, lai-lo,
происходящих от корней se, vë, 1ё. Герм, dö-ma-, используемое как
суффикс, ничем не отличается от греч. θω-μό; ё обнаруживается
и в dë-di „действие". В литовском имеется слово pa-do-na-s
„подданный", которое происходит, весьма вероятно, от того же
корня dhë.
Здесь и латинский не остается совершенно немым: от корня
në-dh (νή-θ-ω), распространения пё, он образует nödus.
ё долгое, согласно нашей теории, не должно быть простой
фонемой. Оно должно разлагаться на два элемента. Какие?
Первый не может быть не чем иным, кроме как а1 (е). Второй —
сонантный коэффициент—должен появляться в чистом виде
в редуцированной форме (стр. 423). Редуцированная форма от
■δη—это θε. Следовательно, можно сказать, что ё составлено из
e-fe. В таком случае δ в θωμός восходит к o2+e.
Это сочетание о2е нам известно давно. Его мы находим
в именительном падеже множественного числа гот. vulfos, оск.
Abellanôs, и ему-то мы и присвоили название ä2.
Однако — и теперь мы приступаем, быть может, к самому
трудному и темному разделу нашего изложения,— вглядевшись
пристальнее, нетрудно заметить, что свидетельство греческого
нуждается в подтверждении и что происхождение ё долгого
является исключительно сложной проблемой.
1) Сочетание a^, параллельное сочетаниям ахл, aLi, axn и
т. д., производит впечатление чего-то бессмысленного. Если вполне
объяснимо, что ^ вместе с замещающим его a2 обладает
особыми свойствами, какими не обладает никакой другой сонант,
поскольку все они выступают лишь как сопутствующие этой
фонеме, то можно ли допустить, что то же самое a, может в свою
очередь превращаться в коэффициент?
2) Греческий, по-видимому, является единственным языком,
в котором слабые формы корней на ё дают е. Главнейшие
случаи таковы: θε-τός, τίθε-μεν; έ-τός, ί'ε-μεν; δε-τός; δίε-μαι; μέ-τρον;
έ-ρρέ-θην, ά'-σχε-τος, ά'-πλε-τος. Что можно найти в Италии?
Европейский корень se дает в причастии sä-tus. Рядом с rë-ri мы
обнаруживаем rä-tus, рядом с fë-lix и fë-tus, согласно этимоло-
429
гни Фика,— af-fä-tim. От корня dhê „делать" происходит fa-c-io
(Curtius)1, от корня wë (в vê-lum, e-vë-lare)—va-nnus.
Языки Севера в преобладающем числе случаев отказались
от слабых, форм корней на а и ё. Таким образом, надеяться
с этой стороны на исчерпывающие разъяснения не приходится,
но сохранившееся в названных языках подтверждает
свидетельство латинского. И действительно, Фик сближает с корнем Ыё
„дуть" (англо-сакс. blävan) герм, blä-da- „лист" и с më „metere"
(англо-сакс. mävan) mä-fa- „червь". По мнению некоторых, гот.
gatvo „улица, дорога" происходит от корня gë „идти". В
литовском корень më дает matüti „измерять". Быть может, следовало
бы привести здесь и слав. doj^ = roT. da[dd]ja — от корня dhë
„кормить грудью". Что касается гот. vinds, лат. ventus, то эта
форма может быть истолкована по-разному, и она лишь
позволяет установить, что корень wë на ступени редукции дает we.
Можно привести и из греческого, и притом с соблюдением
безупречной точности, χτάομοα и χράομαι—от корней κτη и χ ρ η
(Ahrens, II, стр. 131), τι-θα-σός от θ η („Grdz.", стр. 253), ματίον,
которое, по-видимому, обозначало „малая мера" (см. Thesaurus
Этьена) и которое в этом случае может быть возведено лишь
к корню më σπα-νκ „измерять" при лат pë-nuria.
Чтобы установить, что слабые формы корней имели
первоначально г, можно было бы сослаться на вторичные корни или
принимаемые за таковые, каков, например, корень med из më.
Но в этом случае пришлось бы для всякого корня приводить
доказательства, что он и в самом деле вторичен. Если
названный выше корень восходит к праязыку, то мы рассматриваем
тип me-d и тип më (= me-fa) как два одинаково древних
ответвления одного и того же *те-. Считается, что германский
корень stel „похищать" восходит к stä (стр. 360). Но этот
последний корень нигде не фигурирует в форме stë. На этом примере
явственно видно, в какой мере можно исходить из этих
вторичных корней для определения вокализма наших корней на ё.
Из предыдущего вытекает, что гласный редуцированных форм
наших корней, во всяком случае, отличается от того, который
именуется европейским е. С другой стороны, мы не желали бы
безоговорочно отождествлять а в satus с фонемой л. Мы
считаем, что такое а является не чем иным, как модификацией а
(см. стр. 462 и сл.).
3) Среди долгих ё и ä в языках Европы наблюдаются
поразительные варианты, неизвестные для соответствующих им
кратких гласных.
а в греческом и германском: ê в латинском и балто-славянском.
1 Con-di-tus от того же корня можно возвести к *con-da-tus.
430
Греч, ε-φθά-ν, φθά-σομαι; др.-в.-нем. spuon : лат. spës, слав.
spè-jq.
а в греко-италийском и в балто-славянском: ё в германском.
Лат. stä-men; греч. ϊ-στα-μι; слав, sta-ti: др.-в.-нем. stë-m,
stä-m (но также sto-ma, -ins в готском).
Лат. tä-b-es; слав, ta-jq: англо-сакс. pâ-van (={>ë-jan).
Внутри слова: греч. μάκων, слав, maku: др.-в.-нем. mâgo.
ё в греческом и балто-славянском: а в германском и т. д.
Греч, τί-θη-μι, слав, dëti: др.-в.-нем. tuo-m (но также tä-t).
Греч, μη-τις: гот. mo-da-.
Лат. сёга; греч. κηρός: лит. koris (F ick, Ρ, стр. 523).
Необходимо упомянуть еще др.-в.-нем. int-chnäan при греко-ит.
gnô и слав, zna- „знать".
При сопоставлении греческого и латинского во многих
случаях наблюдается та же неустойчивость а долгого:
Греч, θρα-νος, лат. frë-tus, frë-num. Греч, βα-μεν, лат. bë-t-ere.
Внутри корня: греч. ήμί, лат. äjo; греч. ήμαι, лат. änus („Grdz.",
стр. 381). Общеэллинскому η числительных πεντήκοντα, έξήχοντα
(Schrader, „Stud.", X, стр. 292) в латинском противопоставлен а;
quinquâginta, sexâginta.
Рассмотренные нами случаи приводят нас к заключению, что
провести точную границу между европейскими а и ё почти
невозможно. Не подлежит сомнению, что в некотором количестве
определенных случаев разграничение этих гласных завершилось
в весьма давние времена, и это те случаи, которые обычно имеют
в виду, когда говорят о европейских ё и а. Но повторяю: ничто
не свидетельствует о коренном и изначальном различии ё и й.
Пусть читатель теперь вспомнит факты, относящиеся к
редуцированной форме корней на ё, пусть вспомнит латинское
причастие sa-tus при корне se и т. д.; пусть внимательно рассмотрит
теоретические соображения, изложенные нами вначале, и он,
возможно, окажется не очень далек от того, чтобы принять
следующее предположение: ё, очевидно, образуют те же
слагаемые, что и йу и их общая формула аг +А.
Мы не в состоянии дать твердые правила, в силу которых
слияние обеих фонем порождало то ё, то а. Мы только хотим
заметить, что эта гипотеза не вступает в противоречие с
фонетическим принципом, согласно которому один и тот же звук,
находясь в одних и тех же условиях, не может в одном и том
же наречии преобразоваться в два разных звука. Здесь же речь
идет о двух последовательных гласных (а1-\-А)9 которые
подверглись стяжению в один звук. Но решится ли кто-нибудь
отрицать, что тут могли иметь место какие-то факторы, о кото-
431
рых мы ничего не знаем, какой-нибудь совсем неприметный
оттенок ударения, способный, тем не менее, видоизменить
развитие1, и что все это обусловило именно такое стяжение?
Из предложенной нами гипотезы вытекает, что ω в βωμός и ω
в θωμός тождественны.
Что касается времени стяжения, то на этом вопросе мы уже
останавливались (см. стр. 384), говоря о форме именительного
падежа мн. ч. vulfos и о других случаях такого же рода.
Всякий раз, когда наблюдается колебание между ё и а, как,
например, в слав, spë- при герм, spô-, мы видим в этом колебании
свидетельство относительно недавнего стяжения 2.
Но история этого преобразования распадается, весьма
вероятно, на ряд последовательных периодов, перспектива которых
от нас ускользает. Впрочем, ничто не препятствует допустить,
например, что в корне wë „дуть" или в слове bhrâter „брат"
стяжение завершилось еще в праязыковую эпоху.
Что касается s в таких греческих формах, как θε-τός, то нам
будет легче составить себе на этот предмет определенное мнение
лишь после того, как мы дойдем до древнеиндийского Ϊ в
качестве заместителя а краткого. Для последующего изложения
достаточно отметить, что это ϊ является гласным, которого в
санскрите следует ожидать во всякой редуцированной форме корней
на а. Приступим теперь к изучению редуцированной ступени,
включив сюда и формы корней на ё3.
1 Согласно описанию Шлейхера, литовские дифтонги ai и au, в
зависимости от того, падает ли ударение на первый или на второй из составляющих
их элементов, произносятся совершенно по-разному. Между тем, ai и ai, au
и au тождественны по составляющим их слагаемым.
2 Довольно частые случаи замены в одном и том же языке ä на ё могут
найти себе объяснение, если допустить, что два несхожих продукта стяжения
еа продолжают жить бок о бок друг с другом. Так, в др.-в.-нем. tä-t наряду
с tuo-m, в греч. κί-χη-μι и κι-χα-νω, πή-μα и лй-Ь (стр. 439), ρή-τωρ и
εί-ρά-να; в лат. më-t-ior и mä-teries. Более неожиданное явление—это
вариантность ё — ä в одних и тех же словах близкородственных диалектов. Само
собой разумеется, что этот факт не может быть поставлен в прямую связь
с существованием исконной группы еа. Так, например, слова ήβα, ήμι-, ήσυχος,
ήμερος обслуживают δ в некоторых эолийских и дорийских диалектах, η —
в других. См. Schrader, „Stud.", X, стр. 313 и сл. Корень ßä дает во
всем диалекте Гераклеи βου-βήτις. В Италии наблюдается необъяснимое
расхождение умбр, оптатива porta-ia с s-ië-m (= греч. ειην). Старославянский
знает г ера при лит. горе, которое согласуется с лат. râpa и т. д. Фик
сравнивает с этим слав, гёка „река", противопоставленное лит. roké „мелкий
дождь" (II3, стр. 640). Здесь гипотеза перегласовки, вызванной
суффиксальным i, содержащемся в лит. é, могла бы иметь известную степень вероятности.
Наконец, третий род явлений — это германская и элейская окраска ё,
преобразующая его в ä и являющаяся как бы отголоском древней группы еа9
поскольку эта окраска свидетельствует о том, что европейское ё было в
действительности сильным а, весьма мало отличавшимся от а. И даже в латинском
ае в таких случаях, как saeclum, Saeturnus (ср. Säturnus), можно видеть
попытку орфографически передать очень открытое ё.
3 Было бы нелишним, быть может, свести в таблицу различные виды а
кратких и а долгих (то есть двойных), с которыми мы познакомились. Вот раз,?
432
в. редуцированное состояние
В двух первых глагольных образованиях, из числа тех,
которые мы будем рассматривать, имеет место чередование
редуцированного и полного корня. Полная форма (она налична только
в единственном числе актива) находится на ступени 1 в презенсе
глаголов 2-го и 3-го класса, на ступени 2 — в перфекте.
Презенс 2-го класса. Сравните
скр. âs-mi ει-μι φά-μί =phea-mi
âs-(s)i εί-ς φά-ς =phea-si
âs-ti εί-σι φά-τί =phea-ti
s-mâs ϊ-μες φα-μές = ρ1ι a- mes
Очевидно, что корень phea или phaxA ведет себя не иначе,
чем корни axi, ats или любой другой. Отложительный глагол
επί-στα-μαί дает закономерно α краткое (Curt i us, Verb., I2,
стр. 148).
Санскрит почти полностью утратил слабую форму (см. ниже).
Для атематического аориста, который является имперфектом
глаголов 2-го класса, И. Шмидт (KZ, XXIII, стр. 282) весьма
убедительно, как нам представляется, доказал следующее: все
греческие формы, не принадлежащие к единственному числу
актива и имеющие долгий гласный, например ε-στά-μεν,
представляют собой вторичные формы, созданные по образцу
единственного числа актива, по крайней мере если дело идет не об особых
корнях, а именно о корнях с метатезой, каков корень πλη.
Краткое а сохранилось среди других в словах βα-την—от I-jJä-v,
личные а греко-италийской и германской групп языков, сопоставленных
сначала только соответственно своим внешним особенностям.
Греко-италийская группа
е
1 ê
а
а
0
Германская группа
е
ё
а
ö
Обозначив отношение различных а между собой, получим:
Изначальное состояние
е
а
еа(А!)
о2 о2а(А2)
0
eo(Ö!)
o2o(ö2)
Ср. таблицу на стр. 424.
Греко-италийская
группа
е
0
а
ё а
0
Ö
^ N.. , -' 1
Ö I
Германская
группа
е
а
а
ё ö
ö
433
φθα-μενος— от έ-φτδ-ν, в έ'-δο-μεν, έ'-θε-μεν, εΐ-μεν1. В то же время
Шмидт устанавливает исключительно важный параллелизм а
долгого в единственном числе с тем „усилением", какое
обнаруживается в ειμί при ίμεν. Даже в аористе мы теперь знгаем
греческие формы в усилении; это формы, открытые Бругманом (см. ВВ,
II, стр. 245 и сл. и выше, стр. 321); так, например, ε-χευ-α при
ε-χυ-το.
Шлейхер в своем Compendium'e признает количественное
многообразие a. Kypunvc, соглашаясь со справедливостью этого
положения для презенса и имперфекта, держится мнения, что
аорист с самого начала знал лишь долгий гласный. Но можем
ли мы подвергнуть сомнению формальное тождество аориста с
имперфектом? Что касается а долгого, устойчивого в арийских
формах, то аорист а-pätäm представляет, понятно, убедительный
довод против изначальности βα-την лишь при условии
рассмотрения также презенса φάμί φαμέν как инновации по сравнению с
pami pâmas. Впрочем, в санскрите сохраняются
немногочисленные остатки слабой формы, правда, только в медиуме: от dhä —
a-dhï-mahi и, быть может, dhï-mahi (см. Delbrück, стр. 30),
от sa (sâ-t, sâ-hi)—sï-mahi, от ma (в презенсе)—mï-mahe (см.
Böhtl. — Roth), а кроме того, формы, включенные в парадигму
аориста на s, каковы, например, âsthita и âdhita, приводимые
Курциусом2.
Презенс глаголов 3-го класса. Флексия греч. ί'-στα-μι, e-σά-μι
(ср. σα-μα), δί-δω-μι, τί-θη-μι, ί'-η-μι совершенно та же, что и
флексия φά-μί. Лат. dä-mus, dä-te и т. д. отражает слабую форму.
Форма второго лица das, по-видимому, подверглась влиянию
1-го спряжения. Эквиваленту δίδως полагалось бы выступать в
форме *dôs.
Здесь древнеиндийская парадигма совершенно не утратила
редуцированных форм: ea-hä-mi, ga-hä-si, ga-hä-ti; мн. ч. ga-hï-mâs
и т. д.; дв. ч. ga-hï-vâs. В медиуме известны (от другого корня
hä „уходить"): èi-hï-§e, έί-hï-te, gi-hï-mahe и т. д. Такое же
многообразие форм может быть отмечено и для корня та
„измерять", а в Ведах—для корней ça „оттачивать", ça „давать", га
(rirïhi) с тем же значением. Корень gä „идти*' повсюду сохраняет
полную форму—единообразие, которое, исходя из того, что нам
удалось наблюдать, должно быть вторичным. Так же, как в
ведийском диалекте, корень hä „покидать" сам по себе утратил
слабую форму. Относительно dadmâs и dadhmas см. стр. 462.
1 Если ίστατο у Гесихия— не испорченное εστατο, то Ιστδν, очевидно,
имел бы в медиуме εσταμην.
2 Чтобы предупредить сомнения, которые могут также возникнуть
относительно распространения сильной формы в том виде, в каком ее здесь
следует предположить для санскрита, необходимо упомянуть о том, что в оптативе
на -yâ множественное и двойственное число актива (dvièyâma, dviâyâva и т.д.)
явно представляют собой позднейшие образования, созданные по образцу
единственного числа; см. § 12.
434
Перфект. Au в скр. dadhaû (3. л. ед. ч.), как мы склонны
считать, предоставляет в наше распоряжение новое
свидетельство первичного многообразия а в арийских языках [31]. Если
сопоставить dadhaû с εω[-χε], âçvau с ϊππω (dvaû с δύω, паи с νώ),
astaû с οκτώ, то нетрудно убедиться в том, что существует такая
разновидность а, которая в санскрите преобразуется в конце слова
в au, и что эта разновидность ä восходит к сочетанию,
содержавшему в себе a2. Такие, написанные с а ведийские формы, как
рарга, âçvâ, отмечают попросту менее четкое произношение того
же au (возможно, как ä°). Повсюду, кроме абсолютного конца
слова, интересующий нас гласный стал a: dvâdaça при dvau,
dadhâtha при dadhaû. В uk§â, hotä, sâkhâ (см. § 12) отсутствие
au может найти свое объяснение 1) в том, что n, г, i оставались,
весьма возможно, устойчивыми в положении после ä вплоть до
относительно недавней эпохи (ведь настаивали даже на том, что
в Ведах обнаруживаются следы η и г) и 2) в том, что ä в этих
формах—не сочетание чего-то с a2, но a2, подвергшееся удлинению.
Для первых лиц субъюнктива, например ау-а (=греч. εΐ-ω; см.
стр. 416), по-видимому, пригодно сказанное выше в пункте 2.
Впрочем, эти формы известны лишь в ограниченном числе
ведийских примеров, и возможно, что их а был той же природы, что
и в рарга, âçvâ.
Но определить изначальные формы—задача нелегкая.
Гипотеза, согласно которой окончанием 1-го лица перфекта в активе
является -m (см. стр. 338, 367), покоится на допущении
невероятного: необходимо признать, как мы видели, что два лица,
отличавшиеся одно от другого своей формой — герм. *vaitun и
vait,— под влиянием аналогии приняли одну и ту же общую
форму. Сколь бы непостижимым это ни было, для объяснения
форм vaivo, saiso, которыми мы занимаемся, нельзя обойтись
без привлечения носового. Без него в готском было бы *vaiva,
*saisa, и действительно, это те формы, которые нужно
восстановить для 3-го лица. Тождество форм 1-го и 3-го лица,
закономерное в остальных претеритах, породило реакцию, которая на
этот раз повела к победе формы 1-го лица. В санскрите,
напротив, *dadhâm отступило перед dadhaû; само dadhaû восходит
к dhadhâ2 А-а^ Греки должны были сначала говорить *εων и *εω.
Мы усматриваем в πεφη * έφάνη (Гесихий) от корня φα, который
представлен в πεφήσεται, άμφαδόν, последние остатки этих
древнейших форм [32] *. Совершенно очевидно, что формы единственного
числа *βέβην (*βέβηθα) *βέβη, *εων (*εωθα) *εω не смогли выжить
по причине чрезмерного сходства их флексии с флексией аористов
и имперфектов, и это обстоятельство также явилось первым им-
1 Примеры перфектов, поясняемых у Гесихия аористами, не редки, как
это показал Курциус (Curtius, „Stud.", IX, стр. 465). Но прежде всего
необходимо принять во внимание, что греческий знает из атематического
аориста с удвоением лишь несколько форм императива (κεκλυτε и т. д.).
435
пульсом к бесчисленным образованиям на -κα. Можно сказать,
что вплоть до времен Гомера (Curtius, Verb., II, стр. 203, 210)
формы на -κα использовались исключительно для того, чтобы
обойтись без флексии *βεβην *βέ^ηθα *βέβη: они появляются лишь
тогда, когда корень оканчивается на гласный, и в финитных
формах глагола почти исключительно в единственном числе.
Медиум никогда их не допускал. В 3-х лицах, например в βέβα-κε,
εω-κε, путем отсечения привеска -κε мы находим чистый тип очень
древнего греческого. Что касается возможных предположений
относительно замещения η и α на ω в τέθηκα, βέβακα, и т. д., то
по этому вопросу мы отсылаем читателя к стр. 440 и сл.
Медиум в греческом, например в ε-στα-ταί, δέ-δο-ται, πέ-πο-τοα
и т. д., сохраняет в чистом виде слабую форму. В активе (во
множественном числе, в двойственном числе, в причастии)
наличествует известное число таких форм, как ε-στα-μεν и т. д., βε-βά-μεν
(инфинитив), τέ-τλα-μεν (Curt i us, Verb., II, стр. 169 и сл.).
Сопоставьте δεί-δ'.-μεν δεί-δοι-κα и ε-στα-μεν ε-στη-κα (вместо
*ε-στω-κα).
В слабых формах санскрита мы обнаруживаем необычное
положение вещей: i, которое предшествует окончаниям и
появляется также перед ν причастного суффикса (tasthimâ, dadhiâé,
yayivân), неизменно представляет собой i краткое. Например,
papimâ, papivân наряду с pï-tâ, pï-ti, pipï-âati1. Является ли
в этом случае i таким же связующим гласным, как в pa-pt-imâ
и т. д., и было ли вытеснено перед ним корневое a? Пока не
удастся установить причину, обусловливающую количество
конечного i наших корней, решить этот вопрос будет трудно.
Презенс на -ska (см. стр. 323). Греч, βό-σκω, φα-σκω.
Именные основы на -ta (ср. стр. 315, 323). Индийские формы
дают i краткое: chi-tâ „расколотый" (также châtâ), di-tâ
„привязанный" от da в daman и т. д., di-tâ „отрезанный" от da dati
(есть также dinâ, data и в словосложении -tta), mi-tâ
„смиренный" от ma mâti, çi-tâ (также çâta) „отточенный" от ça çiçati
(слабая форма: çiçï-), sthi-tâ от sthä „держаться стоймя".
Причастие si-tâ „привязанный" восходит скорее к se (откуда среди
прочего и si§et), чем к sä (в sähi). Формы с долгим i: gï-tâ
„спетый" от gâ gâyati, dhï-tâ от dhâ dhâyati (инфинитив dhâ-tave),
pï-tâ „выпитый" от pâ pâti, sphï-tâ от sphâ sphâyate „расти". Из
образований на -tvâ, параллельных основам на -ta, мы упомянем
hî-tvâ (также hï-tvâ) от hâ gâhâti „покидать", причастием
которого является hï-nâ; ср. gahita и ugghita. В нескольких
случаях мы обнаруживаем а, например в râ-tâ от га rati, несмотря
на rirïhi и другие формы, содержащие в себе i. Случаи типа
dhmäta, träte и т. д. рассматриваются в гл. VI.
1 Существует, правда, ведийский перфект оптатива papïyât, но помимо
того, что эта форма не показательна для флексии индикативной основы, ï мог
тут развиться в результате удлинения под воздействием у. Ср. éakâïyat.
436
Греческие формы: στα-τός, φα-τός, εδ-βο-τος, δο-τός, πο-τός,
σόν-δε-τος, συν-ε-τός, θε-τός; см. J. Schmidt, цит. раб., стр. 280.
Латинские формы: ca-tus = CKp. çitâ, stä-tus, dä-tus, rä-tus,
sä-tus. Cp. fäteor от *fä-to, nätare от *na-to.
В готском: sta-da- „место".
Именные основы на -ti (ср. стр. 316, 323). В санскрите sthi-ti,
pï-ti „питье как процесс", pî-ti „покровительство" в nf-pïti, sphï-ti
рядом с sphä-ti и т. д. В греческом: στα-σις, φα-τις, χα-τις (Гесихий),
откуда χατ(ζω, βό-σκ, δό-σκ, πό-σις, но также δώ-τις (в надписи)
и ά'μ-πω-τις, δέ-σις, ά'φ-εσις, θέ-σις.— В латинском: stä-tio, rä-tio,
af-fä-tim (стр. 429—430).
Именные основы на -га (ср. стр. 443). В санскрите: sthi-râ
(сравните sthéyas) — от sthâ, sphi-râ—от sphâ, nï-râ „вода"
(см. стр. 392).
Таким образом, как можно заметить, т является
единственным древнеиндийским заместителем конечного краткого а корня,
кроме, по-видимому, того случая, когда он предшествует
полугласным у и ν; в этом положении а может устоять, как,
например, в dâyate, сопоставляемом с δαίομαι, или в gâ-v-âm = ßo-F-ων
(см. § 12). Что касается dâdamâna, то наличное здесь а не
является преемником индоевропейского a; оно только
свидетельствует о том, что форма перешла в тематическую флексию.
Относительно a в madhu-pâ-s см. стр. 461.— Зендский настолько
привержен сильным формам корней на ä (примеры: dâ-ta, -çtâiti
при скр. hitâ, sthiti), что ныне едва ли можно называть
индоиранским то i, о котором мы говорим. Впрочем, и в зендском
имеются vï-mita, zaçtô-miti от ma „измерять" и pitar „отец"1.
Есть i и в др.-перс. pitä. Позволительно думать, что такие формы,
как fraorenata и pairibarenamiha, которые Жюсти помещает в 9-й
глагольный класс, являются в действительности тематическими.
Таким образом, их а не соотносимо с скр. ï [33].
п. корни, содержащие срединное а
а и о в положении перед согласным ведут себя не иначе, чем
тогда, когда находятся в конце корня. Соотношение между λαϋ и
στα с этой точки зрения совершенно такое же, как соотношение
между πευθ и πλευ или δε ρ κ и φ ε р.
Таким образом, мы поступали непоследовательно, когда в
главе IV говорили о корнях dhAbh, клр и тут же—о корне stA;
в действительности, настоящими корнями являются dhÄbh, kÄp
1 Patar, как кажется, неправильное чтение. См. Гюбшман в словаре
Фика, II2, 799.
437
(=d/ia^b/i, kaxAp). Но подобное обозначение, пока оно не могло
быть мотивировано, лишь помешало бы ясндсти изложения.
Вокализм корней, содержащих срединное л, полнее всего
сохранился в греческом. Корням, оканчивающимся на сонант,
каковы, например, θάλ, δάυ, не будет уделено внимание в
дальнейшем. О них будет упомянуто в конце параграфа. Но прежде
всего нам нужно определить точную форму подлежащих
рассмотрению важнейших корней. Нередко случается, что
вторичные явления изменяют их облик почти до неузнаваемости.
Мы исходим из того, что в любом презенсе типа μανφάνω у нас есть все
основания считать носовой слог в корне чуждым самому корню и включенным
в него, возможно, в результате эпентезы. И даже в тех случаях, когда это
отнюдь не доказано, полезно заметить, что такие презенсы, как λιμπάνω,
πυνφάνομαι, в которых носовой, в соответствии со сказанным на стр. 414, не
может быть корневым, освобождают от всяких сомнений на этот счет.
I. 1. Корень ς Fa δ. Носовой появляется только в άνδάνω вместо *άδνω.
Таким образом, не может быть и речи о корне aFavô. 2. Корень λα Φ,
презенс λανθάνω. То же замечание (ср. стр. 356 и сл.). 3. Корень λ αφ. Презенс
λαμβάνω восходит к *λαφνω г. Тезис И. Шмидта (Voc, I, стр. 118) гласит: 1)
Носовой в λαμβάνω корневой, 2) λήψομαι, ληπτός возникли из назализованных
форм, которыми располагает ионический диалект, например: λάμψομαι, λαμπτός
и т. д. По второму из названных пунктов правомерно задать вопрос, почему
такое же преобразование не произошло в λάμψω (от λάμπω) или в κάμψω, или
в γναμπτός, κλάγξω, πλαγκτός и т. д. Но это бы означало, пожалуй, решать
на основании частного случая исключительно сложный вопрос. Итак, здесь
нам придется удовольствоваться лишь заявлением, что все формы
разбираемого нами глагола могут восходить к λ αφ, тогда как некоторые не могут
быть выведены из λαμφ. По мнению Курциуса, ионические формы
заимствуют свой носовой путем аналогии из презенса. 4. Корень Φ αφ. Как бы ни
объяснять θάμβος (=*θαφνος?), аорист ίταφον и перфект τέθαπα указывают
на то, что носовой звук не входит в состав корня. Сближение с скр.
сомнительно ввиду наличия аспирации в греческих словах.
II. Корни, которые следует выделить особо. 1. На стр. 394 мы возвели
λαγχάνω к корню λεγχ. Нетрудно объяснить образование εΤληχα наряду
с древним λελογχα параллелизмом λαγχάνω, έ*καχον (= ληχνω, έληχον) с
λαμβάνω, Ιλαβον (= λ^βνω έλΛβον). 2. χανδάνω вместо χαδνω (= χηδνω)
происходит от χ ε ν δ, как это доказывает футурум χείσομαι. Перфект у этого
глагола сохранился не так хорошо, как у λεγχ: он сблизился с презенсом
и предстает в форме κέχανδα вместо *κέχονδα. Греческие формы, связанные
с δάκνω, должны были бы восходить к корню δα κ, но древнеиндийские
формы включают в себя носовой. Итак, мы не можем допустить, что корень
здесь dAnk (см. стр. 465). Таким образом, необходимо предположить, что
корнем является da^k. В этом случае δάκνω, £δακον вместо δήκνω, έδρκον
и все прочие греческие формы, каковы δήξομαι, δήγμα, порождены аналогией.
Но именно поэтому позволительно ими пользоваться, возводя их к
фиктивному корню δ α κ. В др.-в.-нем. zanga а в соответствии с предыдущим
представляет собою не А, но а2.
III. Существуют такие пары корней, один из которых содержит в себе
в качестве сонантного коэффициента п или m, тогда как другой — А,
например: g2a1m и g2aiA „приходить". Нас интересуют здесь только корни типа В
(стр. 310). 1. Греческий располагает одновременно и корнем με ν θ,
подтверждаемым μενθηραι, и корнем μ α θ, подтверждаемым έπι-μαθής. Такие слабые
1 Перед п звукосочетание ph дает f, ν, b; кроме того, ελαβον принимает b
по аналогии. Ср. Φιγγάνω, εΰαγον при τείχος.
438
формы, как μαθεΐν, μανθάνω, *μαθνω, могут, принимая во внимание
греческий вокализм, относиться к обоим корням. 2. β ε ν θ(βενθος) и β α θ(βήσσα);
βαθύς может принадлежать так же к βενθ, как и к βάό (см. стр. 324).
3. πενθ и π α θ (ср. стр. 356). Хотя формы πήσομαι = πείσομαι и πήσας =
= παθών объясняются просто-напросто ошибочным чтением, возможность
существования παθ поддерживается двумя доводами: 1) πεν-θ, по весьма
обоснованному мнению Курциуса, представляет собой расширение π ε v. Таким
образом, бок о бок с π ε ν мы имеем π η или πα в πή-μα х; 2) Если α в πάσχω,
παθεΐν и т. д. может быть объяснено из корня πεν-θ, то α в лат. pa-t-ior
может восходить лишь к базе ра и никоим образом не к реп 2.
IV. Среди корней, которые не поддаются точному определению и о которых
мы говорили на стр. 354, выделение корня в πήγνυμι, быть может, не так
уже безнадежно. Нам представляется, что мы вправе решиться на отсечение
носового в гот. перфекте *fefanh (faifäh) и отнести его, как в лат. panxi (ср. pepigi),
к образованию презенса, которое наличествует в греч. πήγνυμι. Таким образом,
мы определяем корень как pXg (или рХк). Что же касается греческого, то мы
утверждаем, что в нем не имело места проникновение суффиксального носового
и что πηξαι, например, не представляет собою формы, возникшей вместо
„παγξαι". Это побуждает нас оспаривать, что πήγνυμι—форма, возникшая
вместо закономерной *παγνυμι, *παγγνυμι, как этого хочет И. Шмидт (Voc,
I, стр. 145). Вот заслуживающие внимания доводы: 1) хотя, исходя из
правил, мы и в самом деле должны были бы ожидать *παγνυμι, но такие случаи,
как δείκνυμι, ζεύγνυμι, самым очевидным образом указывают на то, что перед
-νυ налицо вторичное наслоение сильной формы. Правда, Шмидт считает, что
ει, ευ, якобы, появляются вместо ιν, υν, но в этом вопросе большинство
лингвистов никогда с ним не соглашалось. 2) Согласно той же теории, ρήγνυμι
появилось вместо "φαγνυμι (ср. έρράγην). Но тогда дорийцы должны были бы
говорить φάγνυμι, а они говорят в презенсе (Ahren s, II, стр. 132) φήγνυμι.
Это подтверждает, что тут имело место и простое наслоение сильной формы.
Закон, определяющий появление à долгого, подтверждается
не во всех корнях. Некоторые глаголы, каковы, например, θάπτω
или λάπτω, полностью отказались от а долгого. Мы еще вернемся
к этим аномальным случаям (см. стр. 443 и сл.).
Переходим к рассмотрению главнейших глагольных
образований. За исключением незначительных отклонений в перфекте
актива, глагол λαϋω соблюдает парадигму с идеальной
правильностью. Сопоставьте
φεύγω εφυγον πέφευγα πεφυγμένος φεύξομαι φυχτόζ
λάθω3 έ'λαθον λέλάθα λελασμένος λάσομαι -λαστοζ
(leathô elathon leleatha lelasmenos lea(th)somai lastos)
1 Что касается расширения, то ср. μεν-θ и μδ-Ο, происходящие от men
и та (μητις), βενθ и βαθ, происходящие от g2em и g2ä* и т. д (См Curtius,
Grdz., стр. 65 и сл.). В некоторых случаях добавление детерминатива
восходит к праязыку; так, например, βεν-Φ, ßä-ф, βα-φ (βάπτω) имеют соответствия
в скр. gâm-bh, gâ-dh, ga-h. Иногда такое добавление имело место, очевидно,
в очень позднее время, как, например, в греч. δαρ-0 „спать" или в πεν-ΰ·.
Эти последние случаи, рассматриваемые со стороны истории языка, остаются
весьма затруднительными. Совершенно непонятно, откуда могло начаться
добавление нового элемента.
2 Мы придерживаемся прежней этимологии παθεΐν. Во всяком случае,
этимология, предложенная Грассманом и И. Шмидтом, представляется нам
приемлемой лишь при условии отождествления bädh не с πενθ, а с παθ.
3 Корень λδθ восходит к lä (стр. 356), как πλη-θ—к πλη, но
навязанная ему парадигма унаследована от древности. Само собой разумеется, что
439
Презенс 1-го класса (ср. стр. 415). Кроме λάθω, существует
также Μγω, καδω, τακω, αδομαι, далее—σήπω и τμήγω, где η,
принимая во внимание έσάπην и τμάγεν, представляет собою а,
и то же*самое относится, несомненно, и к δήω. С о: κλώθω, τρώγω,
φώγω; кроме того, ρώ(σ)ομαι, χώ(σ)ομαι (стр. 457) (см. Curtius,
Verb., I2, стр. 228 и сл.). Относительно презенса δήκω см. там же..
Тематический аорист (ср. стр. 311, 320). Наряду с презенсами
λάθω, αδομαι, *τμαγω (τμήγω) существуют: ε-λαθο-ν, ε-υαδο-ν, δι-έ-
τμαγο-ν. Мы позволяем себе восстановить для πτακών презенс
*πτακω. Долгий гласный в πτήσσω в принципе несовместим с
образованием на -уо). Недавнее происхождение этого презенса здесь
так же прозрачно, как в φώζω наряду с φώγω. Характерный для
презенсов долгий гласный отсутствует в ε-λδβο-ν, έ'-λακο-ν просто
потому, что эти презенсы отклоняются от парадигмы глаголов
1-го класса; в перфекте у них снова появляется долгое ά. От
ζω ς происходит ζοόσθω вместо ζοσέ-σθω („Grdz.", стр. 611).
Относительно отдельных аористов, таких, как εφαγον, см. стр. 447.
Аорист тематический с удвоением (ср. стр. 312, 321) имеет
такой же корневой вокализм, как и аорист простой: λέ-λαθο-ν,
λε-λαβέ-σθοα, λε-λακο-ντο, πε-παγο-ίην (Curt ius, Verb., II, стр. 29).
Напротив, έ-μέ-μηκο-ν— плюсквамперфект (там же, стр. 23).
То же ослабление в аористе пассива на -η (ср. стр. 44, там
же, прим.): от ααπ — έ-σάπη-ν, от τακ — έ-τακη-ν, от τμάγ —
τμαγε-ν. От Füy Гомер употребляет одновременно и αγη и έ-αγη.
В атематическом аористе (ср. стр. 321, 433) δσ-μενος занимает
по отношению к aFâô такое же место, как χύ-μενος по
отношению к χ ευ.
Перфект. Основным презенсам с долгим гласным,
перечисленным выше, соответствуют перфекты λέ-λαθ-α, κε-κάδ-α, τέ-τακ-α,
ε-αδ-α (связанное по значению с άνδάνω), σέ-σηπ-α или, пожалуй,
*σέ-σάπ-α.—Презенсам различных образований, содержащим
долгий гласный, отвечают: με-μηκ-ώς (μηκάομαι), ε-πτηχ-α (πτήσσω),
ε-άγ-α (αγνυμι), πέ-πηγ-α (πήγνυμι), и т. д. Презенсам различных
образований, содержащим краткий гласный, отвечают: λέ-ληκ-α
(λάσκω), εϊ-ληφ-α (λαμβάνω), κεκηφε Гесихия (καπύω) и другие, как,
например, πέφηνα, принадлежащие к тому разряду корней, от
которых мы на время отвлечемся (см. стр. 438). Перфект τέ-θηπ-α,
собственно говоря, не имеет настоящего презенса.
Будь то в аористе или в других глагольных формах, корни
вышеназванных презенсов содержат в себе иногда краткое а.
В единственном числе перфекта долгий гласный—норма,
поскольку это образование включает в себя полный корень. Но мы
обнаруживаем здесь а1% тогда как по правилу ожидается Х2;
leathö—не более как схематическая транскрипция, предназначенная лишь
для тога, чтобы явственно показать, из чего состоит а долгое; в эпоху, когда
составные элементы этого а еще существовали раздельно, возможно, что
аспиратой здесь былр dh.
440
должно было бы быть 'λέλωθα' и т. д., так же, как для корней,
оканчивающихся на Ä, можно было бы ожидать 'βέβωκα, εστω*α*
и т. д. (стр. 436). Это один из достаточно частых случаев, когда
фонема Â2 отсутствует там, где она ожидалась бы, и когда трудно
дать точный ответ на вопрос, почему она должна была исчезнуть.
Быть может, потому, что перед стяжением ea преобразовалось
в oa? Ведь похожее мы наблюдаем и у дифтонга ου, который,
перед тем как исчезнуть, преобразуется в ευ. Или, напротив,
здесь имеет место воздействие презенса на перфект,
последовавшее за стяжением? Допустимо и третье предположение: поскольку
наличие a2 в первом лице не может быть подтверждено
бесспорными фактами (стр. 367), изначальное словоизменение было,
возможно, таким: 1-е л. λελάϋα, 3-е л. *λέλωθε; позднее а
обобщилось. Как бы то ни было, мы все еще обнаруживаем не
вызывающие сомнений следы перфектного ω; я имею в виду
такие дорические формы, как τεθωγμένοι* μεμεθυσμενο'., τέθω*ται·
τεθύμωται (Гесихий) от Μγω1. Такое же ω проникло и в формы
аориста, каковы ϋώξαι и θωχθείς (Ah г en s, II, стр. 182).
Впрочем, даже в τέθω*ται и τεθωγμένοι оно может быть лишь
заимствованным у единств, числа актива, которое случайно не
сохранилось. Больше того, бок о бок с F ά ν α ξ мы находим в перфекте
ά'νωγα. Эта форма, несомненно, могла бы быть более
убедительной, если бы ее корень был лучше известен.
Во множественном числе, в двойственном числе, в причастии
и во всем медиуме а долгое не может быть древним.
Первоначально спряжение выглядело так: τέθάγα или τέθωγα, τέθωγας,
τέθωγε, *τέθαγμεν, *τεθαγώς; медиум—*τέθαγμαι. Свидетелями
слабой формы являются гомеровские причастия ж. р. λελακυία,
μεμακυΤαι; можно назвать также τεθαλυΐα, σεσαρυΐα и άραρυΐα
(Curt i us, Verb., II, стр. 193). Мужской род всегда имеет η,
быть может, из-за требований стихотворного размера. Во всяком
случае, это различие не исконное.—Рядом с тскхщг существует
χεκαφηώς и медиум от λέληθε у Гомера—λέλασται, причастие λε-
λασμένος.
Сигматический аорист и футурум (ср. стр. 417 и сл.). Формы
правильны: λδσομαι от λάθω; τάζω от τάκω; ήσατο (Гомер) от αδομαι;
παξω, επάξα от πάγνυμι; επτάξα от πτασσω; δάξομαι, έδηζάμην (у
Гиппократа по Фейтчу) от δά*νω; λδψομαι от λαμβάνω.
Среди именных образований мы подвергаем рассмотрению
сначала такие, в которых появляется Х2. Ср. стр. 464 и сл.
Основы на -о и на -η. От Fäy „ломать"—κυματ-ωγή. На худой
конец, можно было бы предположить стяжение *υματο(Ρ)αγή; но
тот же корень дает также ίωγή („Grdz.", стр. 531). Корень,
заключенный в лат. capio, образует *ώπη. Λώβη и наряду с ним —
läbes (эти слова никоим образом не могут быть отождествлены).
* О значении см. Ah г en s, II, стр. 343.
441
От μακ в μακοάω (но не μακκοάω (см. Pauli, KZ, XVIII,
стр. 14, 24)) происходит μώκος; от πτακ— πτωχός. От θαάσσω—
θόωκος. Что касается корневого вокализма, то греч. ωμός является
для лат. ämarus тем же, чем -λοιχός, например, для λιχανός.
К ψήχω принадлежит ψώχος* γή ψαμμώδης; α обнаруживается в
ψακτήρ и т. д. г Если отнести ώκύς к корню ακ, то тут мы имеем
рефлекс Ä2. ω в αγωγός и άκωκή была бы более показательной, не
будь здесь редупликации.
Основы без суффикса. Подобно тому как φλεγ дает φλόξ, так
и ïïxâx дает πτώξ. От θα π или θ αφ „восхищаться" происходит
θωψ „льстец", как это явствует из θήπων έξαπατών, κολακεύων,
θαυμάζων, и, с другой стороны, из следующего определения θώψ:
h μετά θαυμασμοί εγκωμιαστής (Гесихий). Глагол θώπτω может
быть лишь производным от θώψ, подобно тому как πτώσσω
происходит от πτώξ.
Основы различных образований. Наряду с άχλύς имеем ωχρός;
ср. χώρα (стр. 426). Наряду с λάγνος имеем λωγάς* πόρνη; ср. όλκάς,
νομάς, σποράς, τοκάς и т. д. Бугге („Stud.", IV, стр. 337) относит
νώγαλον „лакомство" к глаголу, который должен был
существовать в германском, а именно — *snaka, *snôk. κνώδαλον (и κνώδων)
связывают с κναδάλλεται* κνήθεται; во всяком случае, κνώφ, κνωπεύς
к ним весьма близки, πρωτεύς происходит, возможно, от корня
prÂt, который обнаруживается в гот. fraf)jan.
Нет недостатка в примерах на α вместо ω: θαγ дает θηγός,
θα π—θηπόν θαυμαστόν; τάγ—ταγός (ср. έταγην); Ράγ образует
наряду с κυματ-ωγή и ναυ-αγός и ήγόν κατεαγός.
Равным образом, как φερ дает φορέω, так и λακ должен был
бы дать 'λωκέω'. Реальная форма, однако, (έπι)ληκέω; она
правильна со стороны количества гласного, но неправильна со
стороны его качества. То же замечание относится и к αγέομαι, θαλέω
и т. д.
Образования ступени 1 будут иметь в наших корнях а1#
Основы на -man (ср. стр. 419 и сл.): έπι-λασμων; λήμμα, δήγμα,
πήγμα (Эсхил).
Основы на -as (ср. стр. 418): άδος, κάδος, μακος, ά-λάθής, εί>-
(Ρ)άχής (ср. ιαχή). Следующие, более изолированные основы не
имеют форм, содержащих в себе S краткое: μαχος, άπος (у
Еврипида со значением „усталость"); ά-ζηχής, ά-σκηθής, κήτος, τήθος.
Пример, содержащий в себе о; νωθής при νόθος.
Лучшее доказательство в пользу того, что такие образования,
как θάλος, μάθος (Эсхил), являются хронологически более
поздними—это такие сложные слова, как νεοθηλής, έπίμηθής, в которых
налицо долгий гласный. То же доказывает и гомеровское ευπηγής,
уступившее свое место позднему εύπαγής. Возможно, что краткий
1 Правда, есть также глагол ψωχω, соотношение которого с ψήχω не вполне
ясно.
442
гласный в ауо;=скр. âgas (стр. 406) допускает, несмотря на
изолированность этого слова, аналогичное объяснение.
Основы на -yas (ср. стр. 419). Существует превосходная
степень μακιστος, которая по отношению к μακρός является тем же,
чемскр. ksépistha является по отношению к kàiprâ. Что касается α
долгого, которое обнаруживается благодаря акцентуации таких
форм сравнительной степени ср. р., как μασσον, θάσσον, μάλλον,
то благоразумнее не выносить на этот счет никаких суждений,
тем более, что гомеровский диалект не допускает в эти формы η.
Асколи, согласный в этом с другими авторами, объясняет их тем
же.сторонним влиянием, которое наблюдается в μείζων („Kritische
Studien", стр. 129). Гардер („De alpha vocali apud Horn,
producta", стр. 104) приводит свидетельства в пользу следующей
акцентуации: μάσσον и μάλλον.
Основы, отбрасывающие а1У будут иметь автофтонг а.
Основы на -га. Некоторые среди них, такие, как σφοδρός, ωχρός
(см. стр. 442), принимают а2. Вторая группа ослабляет корень,
например: λιβρός, πικρός, στιφρός от λ ει β, πει κ, στ ει φ; λυγρός,
φυδρός от λευγ, φευ δ; ελαφρός от *λεγχ; скр. kSiprâ, chidrä от
ksep, ched; çukrâ çubhrâ от çoc, çobh; grdhrâ, srprâ от gardh, sarp;
герм, digra- „густой" от deig; и-е. rudhrâ „красный" от raxudh.
Точно также от σα π или saxAp происходит σαπρός; от μα* — μακρός;
λάθ дает λάθρα. Сюда же можно отнести τακερός от τακ и παγερός
от π α γ, если ε здесь анаптиктическое; άκρος от Ьс также
правильно, если не считать акцентуации.
Основы на -и (ср. стр. 317, 324): ταχύς.
Основы на -ta (ср. стр. 315, 323, 436). Слабая форма стала
очень редкой, но ά-λαστος от λα θ и глагол πακτόω наряду с πακ-
τός—ее достоверные свидетели. Такие формы, как τακτός, λάπτός,
πάκτός, должны вызывать не больше удивления, чем такие, как,
например, φευκτός, которые также понемногу вытесняют тип φυκτός.
Возвращаясь к глагольным образованиям, мы займемся
рассмотрением вокализма корней, презенс которых образуется на -уоо
или на -τω.
В санскрите 4-й глагольный класс ослабляет корень. В
греческом такие формы, как νίζω, στίζω, κλύζω, βάλλω от βελ, καίγω
от κεν (стр. 394), и многие другие подтверждают то же правило1.
Следовательно, нет ничего нормальнее, чем α краткое в αζομαι,
βάζω, σάττω, σφάζω, χάζω и т. д. Такие формы, как πτήσσω, φώζώ
(ср. φώγω), столь же не первичны, Κ3κτείρω (см. наст, стр., снос-
1 Естественно, что это образование, получив, как известно, широкое
распространение, не сохранило в полной неприкосновенности своего
изначального вида. Очевидно, большее количество глаголов, ни в чем не изменив своего
вокализма, перешло в 4-й класс. Так, например, τείρω, ср. лат. tero, δείρω
наряду с δερω (некоторые рукописи Аристофана содержат δαίρω, что было бы
правильно), φϋείρω (дорическое φφαίρω) и т. д.
443
ку 1). πήττω, по-видимому, образовалось лишь в историческую
эпоху (Curtius, Verb., I2, стр. 166).
Презенсы на -τω являются аналогическими: απτω, βάπτω,
δάπτω, θάπτω, λάπτω, σκάπτω и т. д. содержат α краткое. Только
σκήπτω нарушает правило, потому что в θώπτω (стр. 442) и σκώπτω
можно, не опасаясь впасть в ошибку, видеть отыменные
образования; ср. παίζω, παίγμα,παίγνιον, происходящие от παίς.
В других временах, кроме презенса, глаголы на -у<о и на -τω
сстаются обычно без усиления (мы принимаем для данного
случая это обозначение полных форм корня). Уле в своей работе
о греческом перфекте („Sprachwissenschaft 1. Abhandlungen,
hervorgegg. aus G. Curtius' Gramm. Ges.", стр. 61 и сл.)
подчеркивает согласие, существующее в этом отношении между
различными формами глагола. Но вместо того чтобы приписывать
определенным корням присущую им способность к усилению,
а другим отказывать в ней, как это делает названный автор,
следует, напротив, сказать, что если усиление отсутствует,
значит оно утрачено. В чем причина его утраты? Если мы не
ошибаемся, только в существовании презенса без усиления, каковы
презенсы на -у(о и на -τω.
Таким образом, аналогическое воздействие таких презенсов,
как σφάζω, βάπτω, θάπτω, λάπτω, σκάπτω и т. д., мало-помалу
заглушило такие сильные формы, как *λάπ или *σκάπ. Перфекты
этих глаголов: λέλαφα, εσκαφα, футурумы: λάψω, σκάψω и т. д. Такие
глаголы, содержащие t и υ, как στίζω, πτίσσω, νίπτω, κΰπτω, τΰπτω,
ведут себя совершенно так же, то есть они никогда и нигде
не допускают дифтонга1.
Эти аномалии, однако, не способны поколебать теорию о
фонеме а. Кроме того, существуют исключения: κάπτω (Гесихий):
κέκηφα; τάσσω (τέταχα): ταγός; απτω: ήπάομαι (Курциус); καχλάζω.:
κέχλάδα.
Презенсы с носовым, каковы λαμβάνω, άνδάνω, δάκνω, не
оказывают такого же разрушительного влияния на вокализм своих
корней. Это объясняется почти постоянным параллелизмом этих
образований с презенсами, в которых налично усиление (λιμπάνω,
λείπω; λανθάνω, λήθω), благодаря чему между обеими формами
устанавливается своего рода равновесие. Равным образом, пре-
зенс λάσκω позволяет сохраниться перфекту λέληκα.
Переходим теперь к изучению важнейших глагольных
образований в других европейских языках, кроме греческого.
1 В перфекте, правда, ι и υ обычно подвергаются удлинению (κέκϋφα),
но это отнюдь не дифтонгизация, и к тому же ä долгое никогда не может быть
сопоставлено ни с чем, кроме дифтонга.
444
Перфект. Германский дает нам δ: гот. sok, hof. δ долгое
должно быть на второй ступени и соответствовать закономерному
ω в τε-3ωγ-, а не вторичному ά в τέ-τα*-ε.
В результате такой же унификации, какую мы наблюдали в
греческом, δ из формы единственного числа распространился на формы
множественного числа и двойственного числа, и таким образом
получились формы sokum, soku вместо *sakum, *saku. И оптативу
полагалось бы иметь форму *sakjau. Пассивное причастие,
вокализм которого в общем совпадает с вокализмом перфекта мн. ч.—
sakans. Строго соблюдается следующая пропорция: sok так же
относится к sakans, как bait — к bitans. Другой остаток слабой
формы — это magum (см. стр. 443).
В латинском есть scâbi, ödi, födi; в ирландском—rogâd
(презенс—guidiu).
Презенс 1-го класса (см. стр. 440). В латинском: labor (ср.
läbare), rädo, vädo (ср. vädum), rôdo.
В готском: biota и hvopa. Здесь δ—это ступень 1. Перфект
hvaihvop (*baiblot не сохранилось) удержал редупликацию, чтобы
сохранить отличие от презенса. Если бы германский все еще
различал Ä, и Älf в этом не было бы нужды.
В старославянском: padç, pasç.— В литовском: moku, szoku,
а также, несомненно, и несколько глаголов, которые в презенсе
последовали за другими образованиями, каковы kosiu „кашлять"
(ср. скр. kâsate), osziù, kosziu, droziu, globiu, vokiu; bostu,
stokstù. (См. Schleicher, Lit. Gr., стр. 235 и сл.)
Презенс на -уа. Гот. fra|)ja, hafja, hlahja, skaf>ja и т. д.; лат.
capio, facio, gradior, jacio, lacio, quatio, patior, rapio, sapio, fodio.
Эти формы правильные (см. стр. 359).
Следует упомянуть лит. vagiù „похищать" и smagiù „метать",
инфинитивами которых являются vogti, smogti.
Презенсы типа άγω. Выше мы намеренно опустили
рассмотрение этой группы греческих презенсов, так как их следует
рассматривать вместе с презенсами таких же глаголов родственных
языков.
В германском это образование совершенно обычно: гот.
draga, Ыа|эа, skaba, ßvaha и т. д. Латинский предпочитает его
презенсам с долгим гласным типа vädo, но употребляет менее охотно,
чем формы на -io. Существуют ago, cado, scabo, loquor;
приведем также примеры, где конечный согласный является сонантом:
alo, сапо; наконец, редкие презенсы, как: tago, pago; οίο, scato
(„Neue Formenl.", II2, стр. 423). Два последних презенса, хотя
они и принадлежат архаическому языку, тем не менее, возможно,
вторичны1. В греческом налицо только άγω, γλάφω, γράφω [34], μάχομαι,
δθομαι и еще очень редкие формы: άχομαι, βλάβομαι2. Среди литов-
Презенс от rabere неизвестен; презенсом от apere было, видимо, apio.
Сомнительно, чтобы γράω и λάω замещали γρασ-ω и λασ-ω.
445
ских глаголов, перечисленных в грамматике Шлейхера, можно
найти: badù, kasù, lakù1, plakù. Наконец, в старославянском,
если не ошибаемся, существуют лишь bodç и mogq.
Мы не колеблемся заявить, что эти презенсы подверглись
ослаблению в корне.
Нет никаких оснований бояться выводов, неизбежно
вытекаюших из предшествующих наблюдений. Не подлежит сомнению,
что x\v<û, λίτομαι и другие греческие презенсы являются слабыми
формами. Кроме того, если отказаться от сопоставления λήθω
с πέτομαί, λείπω, то придется, вместо того чтобы принять наше
утверждение об ослаблении в корне, вопреки всякой вероятности,
признать, что λήθω или μάχομαι представляют собой нгкий особый
случай, остающийся вне любой известной нам категории.
К этому добавляются следующие соображения.
Индоевропейский, очевидно, обладал двумя видами глагольных
основ на -а: первые включали в себя полный корень и были
парокситонами, вторые—редуцированный корень и были
окситонами. Ничто не дает оснований предполагать, будто той же
самой основе могла быть присуща лишь одна из названных черт
при отсутствии другой.
В санскрите и в зендском окситоны праязыка дают аористы
и презенсы (6-й класс). В греческом нет презенсов окситонов,
и основа может быть окситоном лишь при условии, что это —
аорист. Итак, нам следует ожидать, не решая, впрочем, вопроса
о том, первичен ли 6-й класс или нет, что слабые основы даже
тогда, когда они не связаны со второй основой, используемой
как презенс, обнаруживают определенную тенденцию становиться
аористами. И основы типа λιπε-, где мы в состоянии установить
ослабление корня, полностью подтверждают наше ожидание.
Рядом с такими презенсами, как γλυφειν, κλύείν, λίτεσθαι, στίχειν2,
τύχειν (Гесихий), названные основы дают и аористы, как,
например: δι*ε!ν, έλ(υ)-θεΤν, μυκεΤν, στυγείν, βραχειν ( = βΓχειν).
Из предыдущего вытекает, что различные греческие презенсы,
если мы хотим видеть их в правильном освещении, должны быть
рассматриваемы совместно с изолированными аористами в той
же форме корня, если такие аористы существуют.
Для типа μαχε они налицо. Наряду с презенсами ά'γειν, αχε-
σθαΐ, βλάβεσθαι, γλάφειν, γράφειν, μάχεσθαι, οθεσθαι есть и
изолированные аористы—μακεΤν, ταφείν „быть удивленным", φαγειν, φλαδείν
„рваться". И если эта склонность давать аорист у типа λιτέ
1 Шлейхер в своем словаре дает lakiù.
2 Στίχουσι, приводимое Гесихием, восстановлено в тексте Софокла
(„Антигона", стих 1129). Число презенсов этого вида трудно определить, иные из
них очень редки, например λίβει, λίβων вместо λείβει; другие, например γλί-
χομαι, возводимый некоторыми к *γλίσκομαι, не вполне ясен по строению;
иные, каков λύω, должны быть выделены особо из-за наличия α долгого в
санскрите.
446
являлась признаком ослабления корня, то не вправе ли мы
сделать такое же заключение и для типа μαχε? х
Таким образом, все говорит за то, что μάχομαι—презенс,
совершенно такой же, как λίτομαι. С какой поры слабые основы
оказались в презенсе? Говоря коротко, это второстепенный вопрос.
Если допустить существование в праязыке 6-го класса презен-
сов, то λίτομαι и μάχομαι могут быть очень древними и только
утратили свою прежнюю акцентуацию. Однако мы полагаем, как
уже намекали выше, что на первом этапе греческого все древние
окситоны, каково бы ни было изначальное состояние дел, сперва
должны были пройти через аорист и что, следовательно, все пре-
зенсы типа λίτομαι, во всяком случае, вторичного образования.
Наличие таких глаголов, как έλ(υ)θειν, который предпочел остаться
вовсе без презенса, чем менять акцентуацию, говорит в
поддержку такой точки зрения. Но вместе с тем отнюдь не исключено,
что, начиная с эпохи, которая для греческого языка является
доисторической, некоторые основы типа μαχε- (например, age-),
перестав быть окситонами, сливались с такими презенсами, как
bhére-.
Переходим к латинским глаголам. Что касается презенса двух
латинских глаголов, а именно tago и pago, то Курциус
блистательно доказал, что эти формы — не что иное, как древние аористы.
См. в особенности „Stud.", V, стр. 434. Правда, только у этих
глаголов есть второе образование (tango, pango). Но, опираясь
1 Чтобы понять истинную природу факта, использованного здесь только
в качестве довода, необходим несколько более детальный анализ.
Прежде всего нужно, очевидно, проверить, не наблюдается ли в основах
с ε та же картина, что и в основах с а. Такая проверка, однако, невозможна
без тщательного обследования всего относящегося сюда материала, поскольку
основа, содержащая в себе ε, является сильной, а сильный аорист может быть
только вторичным. Правильный аорист корней, содержащих ε, неизменно имеет
форму по образцу πτ-ε.
Вместе с тем подозревать, что такие аористы, как φαγεΐν, недавнего
происхождения, невозможно по причине их сходства с типом λαΦεϊν от λήθω.
Итак, дело сводится к следующему: в те времена, когда аорист был свободен
от примеси сильных форм, когда он был представлен лишь слабыми формами
или формами, о которых ничего неизвестно, различные виды интересующих нас
основ распределялись между аористом и презенсом следующим образом:
Презенс πέτε λίτε μάχε
Аорист — δικέ φαγέ
Основы типа μαχε-, подобно основам типа λιτέ- и в отличие от основ типа
πετε-, могли изменяться как окситоны (допустим, в аористе) только в том
случае, если они были слабыми.
В конце концов, мы не притязаем на большее, чем на временное
предоставление права гражданства изолированным аористам с ε, и еще на то,
чтобы дать здесь подобие упомянутой выше проверки. Можно обнаружить лишь
единственный случай такого аориста έλεΐν (εύρεΐν = Ρευρ-είν), тогда как
презенс, напротив, буквально наводнен этими формами. Но это сопоставление,
при всей своей кажущейся убедительности, с нашей точки зрения, имеет лишь
относительную ценность.
447
на этот прецедент, мы можем с известной уверенностью составить
себе понятие и о cado, scato, cano, loquor; последний глагол
к тому же представлен в греческом формой λακεΐν, а не 'λάκειν'.
Остаются лишь ago, scabo и alo, которые, располагая
соответствиями в родственных языках, видимо, принадлежат презенсу
с более давних пор.
При рассмотрении германского материала вопрос о том, имел
ли индоевропейский презенс 6-го класса, приобретает большую
важность, чем при рассмотрении греческого и латинского. Если
ответить на него утвердительно, то надобность в пространных
рассуждениях отпадает: saka — презенс 6-го класса, и единственное
допущение, которое приходится сделать, состоит в том, что
ударение, уступив аттракции других презенсов, очень рано перешло
на корень (ср. hlâ£>a, skâfa и т. д.). Как бы то ни было,
германский унаследовал от предшествующих периодов несколько
презенсов этого вида, на что указывают гот. skaba=лат. scabo,
гот. graba=rpe4. γράφω, др.-сканд. aka = греко-итал. agö. Ноне
менее вероятно, что большинство презенсов происходит из аориста.
И только такая гипотеза—единственно возможная для объяснения
гот. fvaha, ср. τάκω (стр. 359); др.-сканд. vada, ср. лат. vädo;
англо-сакс. bace, ср. φώγω. Такие формы, как ßvaha, переносят
нас в ту эпоху, когда еще существовал германский аорист,
и нетрудно понять, почему основа beuge- (biuga) продолжала
сохраняться, вытеснив buge-, тогда как с основой fvahe-
произошло обратное. Со времени смешения А7и~,о презенса *fjvöha
(τακω) перестал отличаться от ö перфекта J)vöh (или |)vef>vôh).
Напротив, основа £>vahe- открывала возможность для
превосходного аблаута, который должен был утвердиться тем легче, что
глаголы на -уа, например hafja, hôf, уже представляли собой
готовые образцы.
Не думаю, чтобы балто-славянские формы, к тому же
немногочисленные, могли доставить серьезные затруднения.
Может показаться, что все это внушено стремлением
подкрепить систему. В конце концов, какая необходимость отстаивать
мысль, что saka, αγω должны принадлежать другому образованию,
нежели φέρω ? На существование этой необходимости, и притом, на
наш взгляд, весьма настоятельной, мы и хотим самым
решительным образом указать. Презенс—лишь частный случай. Достаточно
подвергнуть рассмотрению всю совокупность образований, и тогда
вскроется характерная черта корней, содержащих л, черта,
неведомая для обширного класса корней с гласным e, а именно,
способность удлинять гласныйг.
1 Несомненно, существуют также корни с ё долгим, число которых
впрочем, крайне ограничено; однако стремление объединить их с типом bher было
бы неоправданно. Мы говорим об этих корнях на стр. 452 и сл.
448
Относительно saka и ά'γω можно придерживаться какого угодно
мнения. Но то, что их корни образуют sok и αγέομαι, тогда как
bher дает bar и φορέω,— явление до такой степени
исключительное, что необходимо прежде всего и во что бы то ни стало
отдать себе в нем отчет. Итак, гипотеза, предложенная для saka,
не что иное, как косвенное объяснение sôk. Наша попытка не
достигла, возможно, цели, но, во всяком случае, она
мотивирована.
Выдвинутая нами гипотеза об отмеченной выше возможности
удлинять гласный известна читателю по предшествующему
изложению. Позволю себе отослать того, кто пожелает уяснить для
себя, в какой мере способность удлинения присуща корням с а
или о, к уже упоминавшейся работе Фика относительно
европейского а долгого (ВВ, II, стр. 193 и сл.). Впрочем, мы отнюдь
не чувствуем себя в состоянии объяснять всякий раз, почему
в том или ином случае перед нами краткий или долгий гласный,
как, по нашему мнению, могли делать это при рассмотрении
относительно прозрачных образований, подвергнутых анализу
выше. Замечания, которые нам остается сделать, нисколько не
коснутся подробностей.
Материалы о пермутации а:а и о:о в латинском собраны у
Корссена („Ausspr.", I2, стр. 391 и сл.). Вот несколько примеров:
com-päges: pago; äcer:acies; ind-ägare:ago; sâgio:sagax; con-tägio:
tagax; labor :labare. Может ли служить о в ргае-со, производном
от сапо, в качестве примера Х2?
Что касается греческого, то к списку Фика и к примерам,
приведенным выше, можно добавить и следующие: αχός:ιαχή;
ώθέω: ειν-οσί-φυλλος; κωφός:κόπτω; ρώϋων.ρόθος; ^шу(о:<ро&к(Курциус).
Для северных наречий пермутация ä:a стала своего рода
количественным аблаутом, сменившим качественный аблаут
â1:â2# Качественный аблаут отступил как вследствие звукового
смешения обоих Ä (см^ стр. 427), так и вследствие частичной
утраты образований с а1э важнейшее из которых—презенс
глаголов 1-го класса. Особенно в германском вытеснение презенса
ради таких форм, как saka, повело к установлению безусловно
вторичного параллелизма между рядами а:о и е:а (а2). Между
sok,sokjan, groba и соответствующими презенсами saka, graba
язык ощущает то же отношение, что и между vrak, vrakjan,
vraka и vrikan. Но их истинная соотнесенность может быть
передана с достаточной точностью при помощи следующего
допущения: представьте себе, что такие корни, как beug, утратили
ступень е и располагают только формами bug и baug.г Поскольку
презенс не был единственной основой ступени 1, позволительно
1 На стр. 410 и сл. мы выразили свое неверие в возможность трансформации
аблаута определенного вида и, как мы полагаем, имели для этого достаточно
оснований. Но о чем здесь идет речь? Только о вытеснении одной из трех
ступеней аблаута, вытеснении, вызванном главным образом утратой презенса.
15 Ф. де Соссюр
449
было бы ожидать, что можно найти долгий гласный и за
пределами образований, которые требуют a2, например в формах
среднего рода на -as и сравнительной степени на -yas. Но там
нет ничего подобного: в hatis, skajbis, batiza мы обнаруживаем а
краткое. Эти формы созданы, видимо, по образцу нового презенса.
Мы смогли найти лишь один пример, подтверждающий в этом
вопросе теорию,—это основа sokni- в соответствующем готском,
слове женского рода. Основы на -ni, действительно, требуют
ступени 1, как это доказывает siuni- от корня sehv (ср. скр. hâ-ni,
gyä-ni при hï-nâ, èï"nâ)· Итак, 'sakni-' было бы неправильным
в такой же мере, как hatis. Др.-сканд. dœgr вместо *dögis могло
бы быть вторым примером этого рода, если бы е в лит. degù
не вносило в общую картину крайней неопределенности. Ср.
примечание.
Пермутация, которая нас занимает, весьма обычна в балто-
славянском. В литовском: pra-n-tù:protas, zadùizodis и т. д.
В славянском существуют такие глаголы, как po-magaja,, badajç
при rnog3, bod¾ и т. д. Так же, как в германском, ä в тех
случаях, когда параллельно с ним сохраняется а краткое,
становится для языка родом усиления.
Здесь нам следует упомянуть об одной очень
распространенной инновации, придающей балто-славянскому вокализму
совершенно особую окраску. Тогда как в германском смешение а с а2
не внесло в систему гласных почти никаких осложнений, в
балто-славянском, напротив, оно спутало два гласных ряда, и мы
видим, что а (илиоа; см. стр. 363), происходящее из a2,
чередуется в нём с 3 (а), как если бы это было л. Отсюда
славянская шкала с:о:a в многочисленных примерах, каковы tekq,
tociti, takati, а также литовская шкала e:a:o, как это можно
наблюдать в zeliù, zâlias, zolë1. См. Schleicher, Lit. Gr.,
стр. 35 и сл. Нужно признать, что прочие удлинения
подобного рода остаются неразъясненными, и особенно я имею в
виду ё славянских фреквентативных глаголов, таких, например,
как plètajq от pletq. Было бы также желательно выяснить
природу германского ё долгого таких форм, как nëmja- (корень пет).
Амелунг, отметив, что за ё чаще всего следует слог, содержащий
в себе i или у, предполагал здесь наличие эпентезы и
возводил nëmja- к *namja-, *naimja-.
1 Германский также может доставить один-два аналогичных примера. Так,
например, гот. dags (корень которого deg, если довериться лит. degù) мы
обнаруживаем в fidur-dogs, ahtau-dogs. Помимо dœgr (см. выше), можно
предположить и в -dogs то же необычное удлинение, которое наблюдается во
второй части таких древнеиндийских сложных слов, каковы çatâ-çarada, pçthu-
éâghana, dvi-gäni, и которое в греческом, быть может, отражается в таких
сложных словах, как εύ-ήνωρ, φιλ-ήρετμος, где удлинение не было вызвано
последовательностью кратких слогов. Удлинение гласного в лат. sêdare (см.
стр. 453) и в греч. τρωπάω, как мы считаем, не имеет ничего общего с
явлениями, отмеченными нами в славянском.
450
Остается рассмотреть корни со срединным ё—тип, безусловно,
параллельный λ α θ, λ ε t π, δ ε ρ я. Существует следующее
соотношение: F ρ η γ : θ η = λ$θ : στα.
Чтобы не расчленять этой группы корней, мы приведем также
такие примеры, как krêm, где к ё непосредственно примыкает
сонант, хотя это—особый случай, рассматриваемый нами в конце
параграфа.
Ступень 2 предстанет перед нами, естественно, в той же форме,
в какой мы видели корни с конечным ё; в греко-италийском она
будет иметь о1, в северных языках—а (герм., лит. б). См.
стр. 428 и сл.
Будет небезынтересно провести наблюдения над вокализмом
редуцированной ступени, потому что они доставят нам новые
данные по вопросу о составе ё, которое занимало нас выше,
на стр. 428 и сл.
Первый ряд: редуцированная ступень дает a.
1. Корень këd. С лат. cëdo часто сопоставляют и, как нам
представляется, с полным основанием, гомеровские формы *εχαδών,
*ε*αδήσει. Соотношение следующее: χεκαδών: cëdo, как satus:sëmen.
2. Корень rëg „красить44. Греч, ρήγος; четыре его синонима —
ρηγεΰς, ρεγεύς, ρογεύς, ραγεΰς—образованы неправильно: правильной
формой было бы 'ρωγεΰς\ Тем не менее а, имеющееся в ραγεύς,
равно как и в χρυσοραγές (Curtius, Grdz., стр. 185), для нас
весьма знаменательно. В самом деле, здесь рос не может
воспроизводить плавный сонант; поскольку ρ занимает начальное
положение, оно могло бы дать только αρ. Итак, если этот корень
не подвергся аналогическому воздействию со стороны какого-
нибудь другого, то α в ραγ должно быть уподоблено а в satus.
В ρέζω слабая форма имеет, тем не менее, ε.
3. Корень rëm. Греч, έρημος, лит. romùs. Слабые формы:
греч. ήρεμα, лит. rimti, но вместе с тем греч. άραμέν μένειν,
ήσυχάζειν (инфинитив в дорическом диалекте на -εν). Этот корень
не тождествен другому корню rem, к которому восходит έ'ραμαι
(стр. 322).
4. Корень λ η γ, греч. λήγω (η—общеэллинская; см.
Schrader, „Stud.", X, стр. 316). Курциус указывает, что λαγάσσαι
•άφεΐναι могло дать форму с кратким гласным. („Verb.", I2,
стр. 229).
5. Корень lëd. В готском leta, lailot2; сюда же
присоединяют lats и лат. lassus. В литовском этот корень представлен
в léidmi (=*lëdmi).
1 Бругман („Stud.", IX, стр. 386) говорит несколько слов по поводу
ρήγνυμι:ίρρωγα. Он рассматривает ω в ερρωγα как позднее подражание
вокализму κέκλοφα.
2 Мы не склонны принимать теорию, возводящую ё готских глаголов
этого класса к а + носовой, теорию, которую особенно отстаивает И. Шмидт
(„Voc", I, стр. 44 и сл.). И. Шмидт сам соглашается с тем, что для leta и
\5*
451
6. Корень bhrêg. Греч, ρήγνυμι, ρήξω и т. д. Ступень 2: ρωχμός,
άπο-ρρώξ, ερρωγα1. Перфект медиума ερρηγμαι и причастие έρρηγείαζ
в таблицах Гераклеи правомерны в том смысле, что в них нет ω,
но мы скорее ожидали бы -ραγ-, чем -ρηγ-. Такое -ραγ- мы
находим в пассивном аористе ερραγην, где группа ρα воспроизводит
ρ + α, а не г. Ρραγ:Ρρηγ как sä:se. В латинском редуцированная
ступень получила широкое распространение: fractus, frango
вместо *frag-no. Гот. brikan является глаголом обычного вида.
О соотношении между -ru- в brukans и греко-италийским
-гаем, стр. 464. Славянский имеет brëgu „берег".
7. Корень sëk. Ст.-слав. sëkq „рубить, рассекать", лит. sykis
„разом, одним ударом", лат. sïca вместо *sëca. Ступень 2: др.-в.-нем.
suoha „частокол". Редуцированная ступень: лат. saxum=repM.
sahsa- „острие, нож и т.д." (Fick, IIP, стр. 314), но также
secare2.
Второй ряд: редуцированная ступень неизвестна.
1. Греч, άρήγω, άρηγών. Ступень 2: αρωγός, αρωγή.
2. Корень dhrën. Греч, θρήνο-ς, άν-θρήνη ( = *άνθο-θρήνη), τεν-
•θρήνη; Φρώναξ. χηφήν Λάκωνες (что касается образования, то ср.
δρπηζ от ερπ, πέρπαζ от perk2, *ρώμαξ от *ρημ, σχώληξ от σ*αλ,
лат. ргосах от prec, podex от perd).
3. Корень гёр. Лат. repo, лит. rèploti.
Третий ряд: редуцированная ступень дает е.
1. Корень éd. Лит. ëdu, ësti; слав, èmï или jamï = *j-èmï
(Leskien, Handb. d. altb. Spr., § 26); 3 л. èstï или jastï;
medv-ëdï. Лат. êsurio, êsus (?). В греческом долгий гласный
в έδήδοκα, έδηδώς, κάτηδα· καταβεβρωμένα, έδηδών φαγέδαινα не очень
показателен; но долгий гласный в ώμ-ηστής и ά'ν-ηστις, очевидно,
дает основание утверждать, что тут представлена корневая η.
Ступень 2 мы обнаруживаем в εδωδή; к сожалению, эта ω
допускает двоякое толкование так же, как η в έδήδοκα. По-иному
обстоит дело с ω в ώδίς, если, исходя из эолийского έδύνη-οδύνη,
мы захотели бы поставить ее в связь с нашим корнем.
Возможно, не лишено значения и то, что мы обнаруживаем в готском
greta отсутствуют доказательства и что для blesa нет ни малейших оснований
предполагать, будто в нем некогда был носовой. Кроме того, автор исходит
из того, что германское а древнее е. Но если отказаться от взгляда на ё, как
на модификацию а, то сочетание а-\-носовой должно давать не что иное, как а,
что мы и наблюдаем в hâhan. ö в перфекте, если следовать той же гипотезе,
еще менее объяснимо: ср. haihah. Наконец, всякий, кто утверждает, будто
redan восходит к *randan, не должен забывать и того, что тем самым он
берет на себя обязательство полностью одобрить теорию, выводящую
санскритские а долгие из an, поскольку reda соотносимо с râdhati.
1 В ρωγαλέος ω незакономерна, если исходить из таких форм, как λευ-
γαλβος, ειδάλιμος, πευκάλιμος, но у Гесихия есть ύρειγαλέον; см. Curtius,
Grdz., стр. 551.
% На стр. 377 мы поместили герм, saga среди образований, имеющих а2.
Это допустимо, если счесть saga вторичным образованием. Но, возможно, что
а в этом слове соответствует а, представленному в saxum.
452
uz-eta „ясли". Редуцированная ступень дала греч. εδμεναε, Ιδω,
έσθίω, лат. edo, edax, гот. ita.
2. Корень krêm. Он дает в греческом κρημνός, *ρήμνημι и на
ступени 2—*ρώμαξ (также κλώμαξ). Гот. hramjan, вместо которого
можно было бы ожидать *hromjan, сблизилось с корнями на е
краткое. Греч, κρέμαμαι указывает на слабую форму.
3. Корень tëm. Лат. tëmëtum, tëmulentus. Миклошич
(„Lexicon palaeosl.") сопоставляет с этими словами слав, timica „грязь",
первое i в котором восходит к ё долгому. Слабая форма
обнаруживается в лат. tenebrae и в слав. tïma. Сравнение с
санскритскими словами (стр. 456) показывает, что корень tëm или
stem объединял в себе представления о влажности, темноте,
тишине, неподвижности. В переносном значении он использован
и для понятия „печаль, грусть".
4. Корень dhën. Лат. fënus; греч. ευ-θηνία наряду с ευ-θεν(α
(скр. dhâna).
5. Корень sëd. Лат. sëdes (в древности слово среднего рода
на -as), sëdulus, sëdare. Лит. sëdÉu, sêdëti. Мне неизвестно, как
объясняют слав, презенс sçdq; инфинитив этого глагола—sësti.
На ступени 2 séd дает sostas „сидение, престол", а не 'sastas'.
Равным образом, и в славянском мы видим saditi „сажать", а не
'soditi'. Греческий и германский неизменно имеют е краткое.
Первоначально оно могло встречаться лишь в слабой форме. Гот.
sitan, греч. Ιζομαι, έδρα, εδος (ср. sëdes). Относительно весьма
существенного t в ιδρύω ср. стр. 463.
6. Корень stag. Лат. tëgula. Лит. stëgiu и stogas, а не 'sta-
gas'. Все говорит в пользу того, что στέγω, tego, τέγος и т. д.
представляют собою вторичные образования, пусть очень
древние, восходящие к слабой форме. И слово toga, равным
образом, должно быть вторичным.
7. Корень swëdh. Греч, ήθος, перфект εί'ωθα1. В латинском
1 Основываясь на предположении, что о под влиянием дигаммы дало ω,
Бругман („Stud.", IV, стр. 170) реконструирует βιωφα в eïFofla. Но
единственный хороший пример модификации подобного рода можно обнаружить лишь
в таких причастиях, как τεφνηώτα. Но и этот пример отпадет, если допустить,
что ω заимствовано у формы именительного падежа τεΟνηώς, каково в
настоящее время мнение того же Бругмана (ΚΖ, XXIV, стр. 80). В связи с этим
мы не можем воздержаться от выражения некоторого скептицизма в отношении
бесчисленных растяжений, как прогрессивных, так и регрессивных, которые
приписываются дигамме. Из десяти случаев, может быть, лишь один выдержит
испытание. Тут гласный окажется долгим по происхождению, например в κλάϊς,
νηός, ηος, εκηα, φηέομαι, ψαεα и т. д.; там дело идет о растяжении в сложных
словах, например, в μετήορος; где-нибудь еще мы обнаруживаем стянувшийся
дифтонг, как это имеет место в ήώς вместо *ausös, *auös, *auwös, *äwös
(ср. дорич. έξωβάοια, πλήων, восходящие к *έξουάδια, πλείων). А как
объяснить, что такие слова, как γλυκός, кроме έύς έήος, дают только γλυκέος, тогда
как τοκεύς дает τοκήος?—-Мы полностью признаем, что некоторые формы,
например ζειρε от εΐ'ρω, не допускают и поныне другого объяснения, кроме
воздействия дигаммы.
453
возможно suësco и, вероятно, södes (вместо *svêdes), которое
поставили в связь с греч. ήθείος (*ήθεσ-ιο). Слабая форма
обнаруживается в гот. sidus, лат. sodalis (*svedalis), греч. ευέθωχα.
ε-θων, Ιθεται (Гесихий) должны были произойти от аориста, и έ'θος
образовалось по образцу έ'θω.
Греческий перфект μέμηλε указывает на корень mêl, слабая
форма которого дала μέλω и т. д. Если μεμαλότας у Пиндара
достоверно, то α этой формы оказывается в том же ряду, что и
такие случаи, как ήβα, о котором мы говорили на стр. 432,
прим. 2.
Иногда отмечают качественное изменение а, которое
обнаруживается в др.-в.-нем. stem, tuom при греч. ί'στάμι, τίθημι (стр. 431).
Греч, ρώομαι „плясать" сопоставимо с др.-сканд. ras „пляска" и
т. д.; греч. κέχλαδα (и καχλάζω) сопоставимо с готским greta (см.
Fritzsche, Sprachw. Abh., стр. 51). Можно указать и на лат.
röbur, если, принимая предложенное Куном сближение этого слова
с скр. râdhas, сближать также râdhati с гот. reda, rairoj). Тот
же корень дает на ступени 2 слав, radii „забота", на слабой
ступени—греч. έπί-ρροθος. При греко-итал. plag готский имеет fleka.
Тем не менее, Бецценбергер настаивает на том, что презенс fleka
нигде не сохранился и что ничто не препятствует
восстановлению Пока (ряд л, стр. 56, там же прим.).
Третий ряд так же, как и некоторые примеры из первого,
показывает, что в слабой форме е широко распространено не
только в греческом, но и в других языках. Напомним, что оно
никогда не обнаруживается в исходе корней (стр. 430), и что
это обстоятельство, на первый взгляд незначительное, в
действительности вносит некоторые затруднения при восстановлении
вокализма а. Оно побуждает нас сомневаться в однородности
состава различных европейских а и заставляет углубиться
в неведомую область арийских языков без того, чтобы
европейский, из которого мы черпаем наши сведения, полностью
подтверждал ту гипотезу, в которой мы испытываем нужду. Не будь
таких корней, как sêd, sed, всякое санскритское а долгое,
отвечающее европейскому ä долгому, было бы прямым доказательством
фонемы а. К этому вопросу мы еще вернемся на стр. 459.
Арийские языки
I. НАЛИЧИЕ ВНУТРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КОРНЕЙ
той же деградации а а, которая в европейских
ЯЗЫКАХ БЫЛА ОТМЕЧЕНА ВЫШЕ.
В течение долгого времени все или почти все арийские корни,
по-видимому, располагали ступенчатостью а а. Благодаря
работам Бругмана полная несхожесть а в täna (= греч. τόνος) с ев-
454
ропейским а стала очевидной. Но как убедиться в том, что ä
в относящихся к нашему вопросу примерах действительно α долгое,
а не a2? В известных случаях, надо признаться, критерии попросту
и начисто отсутствуют. Кто, например, сможет решить, каков
характер а в çâli или в rähu? В других случаях, и в частности
в трех нижеследующих, можно доказать, что долгота гласного
изначальна.
1. а находится перед группой из двух согласных, как,
например, в çâsmi; если бы наличное здесь а было a2, то мы имели
бы 'çâsmi'.
2. а находится в образовании, в котором, согласно
свидетельству европейских языков и, кроме того, преобладающего
большинства арийских а кратких, невозможно допустить наличие а2.
Примеры: kâçate в презенсе 1-го класса; râdhas—основа на -as
(стр. 415 и 418).
3. Отмечается тождественность с европейской формой, в
которой имеется a, например: скр. паза = лат. nâsus.
Руководствуясь этими признаками, мы сверх того пребываем
в согласии с индийскими грамматиками, которые устанавливают
корни cas, kâç, râdh, а не cas, kaç, radh.
a) Редуцированная ступень дает а1.
äma (= греч. ωμός): ämla.
âçu : açri; ср. греч. ώ*ΰς, δ*ρις.
krâmati „ходить" : krämati — явно древний аорист.
Впрочем, krämana и т. д. указывает на то, что слабая форма
получила широкое распространение.
gâhate „погружаться" : gähvara „глубокий" [35].
nâsâ „нос" параллельно с näs, nästa (с тем же значением).
pâ£as, обозначающее не только „cee/n", но и „силу",
„стремительность" (В.—R.), возможно, вопреки всему, тождественно греч.
* πάγος в ευ-πηγής: pä£ra, которое переводится как „густой",
„плотный" и представляет собой слабую форму корня.
mâdyati „напиться пьяным"; madati, подобно
вышеприведенному krâmati, разъясняется как древний аорист; ä в mâdyati
никак не согласуется с презенсом на -уа и, по-видимому, было
заимствовано у утраченной формы *mâdati.
vâçati „мычать" : vaçâ „корова". В vâvaçre, vâvaçânâ а
краткое не показательно; ср. сноску на этой странице.
svâdate „пробовать на вкус", svâdman, svâttâ вместо *svatta :
svadati представляет собой древний аорист.
hrâdate „отзвучивать": hradâ „озеро" (ср. греч. χαχλάζω,
обозначающее плескать, шуметь (о волнах)) [35].
1 Мы не учитываем такие удвоенные формы, как câkaçïti от kâç, asfëadhat
от sâdh, badbadhânâ от bädh. Краткие а этого рода обязаны своим появлением
скорее требованиям ритма, чем чему-либо другому.
455
β) Редуцированная ступень дает ϊ.
plâ-ç-ί—название одной из внутренностей: plï-h-ân „печень".
О подобном чередовании в исходе корня к и gh ср. так и magh
на стр. 359.
cas „управлять". Вокализм этого корня почти не затронут
поздними изменениями. Мы сопоставим cas с dve§, как
сопоставили выше λάθ с φευγ:
çasti çiâmâs çiâât çaçâsa çiâtâ çâstâr a-çis
dvéSti dvismâs dviââti didvéaa dviâtâ dveStâr pati-dvi§
Впрочем, аналогия уже начала творить свое дело: во
множественном числе перфекта мы находим çaçâsus вместо *çaçtëus
и в пассиве—çâsyâte вместо *çièyâte. Бётлинг—Рот приводят из
эпоса причастие casta, а в „Ригведе" можно обнаружить такие
формы, как caste, çâsmahe.
sâdh „достигать". Формы sidhyati, siddhâ, sidhmâ, sidhrâ, nih-
àidh первоначально должны были быть по отношению к sâdhati,
sâdhiStha и т. д. тем же, чем çià является для cas. По аналогии
возникли sédhati, siSédha, что повело к расхождению между
обеими половинами корня.
у) Редуцированная ступень дает одновременно и а и Ï.
tâmyati „быть огорченным" (ср. mâdyati, стр. 455), tâmrâ
„сумрачного цвета": timirâ „темный", tïmyati „быть влажным,
молчаливым, неподвижным". Форма stimyati заставляет
предположить, что корень, в действительности, здесь stäm. Мы
находим, например, а в tämisrä.
vâsas „одеяние" : vaste „одеваться", но не „uäte", как было
бы, если бы корень был vas; кроме того, также â-vis-t-ita
„одетый, облаченный" („Ригведа", X, 51, 1); veäa и vestayati в
классическом санскрите возникли, видимо, как и sédhati, в
результате воздействия какой-то аналогии.
çâktâ „господин", çâkman „сила" άπαξ είρημένον: вед. çaknoti
„власть", но одновременно и çikvâ, çikvan, çikvas „ловкий" [36].
sâdana—синоним sâdana „жилище"1, sâdâd-yoni (вед.): sîdâti
(также stdati) „садиться" не появилось вместо 'sizdati', как мы
ошибочно заявили на стр. 312 (сноска 2), потому что 1) в этом
случае мы бы имели 'sïdati' и 2) в силу того—и это решающий
довод, — что в зендском мы обнаруживаем hiSaiti, а не 'hïzhdaiti'.
Прочие формы, сильные и слабые, не имеют ни säd, ни sïd, а
только säd.
1 Само собой разумеется, что sâdana в значении „размещение как процесс"
(sâdayati) приводить здесь неуместно.
456
II. одинаково ли в арийских и европейских языках
распределение корней, в которых имеет место
деградация а а?
Поскольку всякое европейское л и о предполагают, в
соответствии с тем, что было сказано выше, долгие л" и о, то для
последующего рассмотрения количественная характеристика этих
звуков несущественна.
Мы полагаем, что среди арийских примеров не следует
опускать такие корни, как ар, которые устранили деградацию, отдав
предпочтение сильной форме.
1. Европейские языки дают а (на редуцированной ступени—a),
скр. ар, äpnoti, äpta; лат. apiscor, aptus.—Скр. ämä наряду
с amla: греч. ωμός, лат. amarus.—Скр. âçu наряду с âçri: греч.
ώκύς, οκρις.—Скр. kâsate „кашлять": лит. kosu, др.-в.-HeM.huosto.—
Скр. gâhate (ср. стр. 455): греч. βήσσα.—Скр. pâgas: греч. ео-
πηγής, стр. 455.—Скр. nâsâ наряду с nâs: лат. näsus, лит. nosis,
слав. nosu.—Скр. mâdyati: лат. madeo, греч. μαδάω.—Зенд. yâçti:
греч. ζως, ζος (стр. 440), слав, jas, лит. jus.—Скр. vâçati: лат.
vacca.—Скр. çâsti: лат. castus, castigare1, Casmenae; греч. κόσμος;
гот. hazjan.—Скр. svâdate: греч. aFaè.—Скр. hasate „биться
копьями на всем скаку" (В.—R.): греч. χώομαι (?)
2. Европейские языки дают ё.
Скр. krâmati: греч. κρ η μ (стр. 453).—Скр. tâmyati, tämrä:
европ. tern (стр. 453).—Скр. dâsati „преследовать": греч. δήω.—
Скр. râdhati „заставить добиться", râdhas „богатство": гот. redan
„размышлять", быть может, также лат. röbur (ср. стр. 454).—Скр.
rag, râgati „блестеть": греч. ρ η γ „окрашивать" (стр.451). — Зенд.
râm в râmôiôwem „вы бы отдохнули": европ. rëm (стр. 451).—
Скр. vâsas (стр. 456): необычное отсутствие ступени Foj в
греческих формах заставляет подозревать, что корнем здесь является
¥ψ.—Скр. sâdana и т. д. (стр. 456): европ. sëd (стр. 453).—Скр.
hrâdate: европ. ghrëd, ghräd (стр. 454).
К этому перечню следует добавить скр. bähu = греч. παχύς,
скр. sâmi=eBpon. sëmi, скр. гае = лат. гёх, гот. reiks, ирл. ri.
Изолированные и лишенные слабых форм, эти слова трудно
классифицировать.
Показательность перечисленных совпадений подкрепляется
тем, что индийская деградация ä а или даже вообще а долгого
никогда не встречается, насколько мы знаем, в тех случаях, когда
в европейских языках налицо такой тип, как pet2.
1 Froh de, KZ, XXIII, стр. 310. Добавим еще pro-ceres вместо *рго-
cases = cKp. pra-çiSas „сословия", так же как на Крите κόσμοι обозначает
„должностные лица".
2 Сближение гот. nif)an с скр. nâthitâ „inops" менее всего может быть
сочтено удовлетворительным. Что касается bhraéati при греч. φλέγω, то лат.
flagrare свидетельствует своим звуком а, что корнем является bhlëg и что
457
Противоположное утверждение, как будет сейчас показано,
было бы менее достоверным. Напомним, что любой европейский
корень, обнаруживающий где-либо а, должен быть рассматриваем
как содержащий в себе деградацию ä а.
ägati — ср. греч. ά'γω, άγέομαι; gadati — ср. греч. βάζω; ирл.
guidiu, ro-gâd; bhägati—ср. греч. φαγεΤν; yagati—ср. греч. αζομαι;
radati—ср. лат. râdo; lâbhati — ср. греч. λαφ λαβείν; vatati—ср.
лат. vätes; sthagati—ср. европ. stëg (стр. 453). Ничто ни в
образовании времен, ни в образовании слов, не обнаруживает
какого-либо различия между этими глаголами и такими примерами,
как patati=^aT. peto.
Этот факт, если и не из числа наиболее благоприятных для
гипотез о фонеме л, все же далек от того, чтобы серьезно
угрожать ей подрывом. Обратимся еще раз к презенсу svâdate,
приведенному выше. Этот презенс параллельно имеет вторую форму
svâdati. Если ее сопоставить с греч. αδομοα, аорист ε-υαδο-ν, то
нельзя не прийти к выводу, что тут девять шансов из десяти
в пользу того, что svâdati представляет собой если не древний
аорист, то, по меньшей мере, изначальный презенс с окситоном
swadâ-ti. Ударение в санскрите перетягивалось на корень
находившимся в его составе а—явление, которое мы еще отметим
не раз. Ни один индийский презенс на а не имеет ударения на
суффиксе, если в составе корня налицо а. См. Delbrück, Altind.
Verb., стр. 138 и 145 и сл. Опереться в этом случае на
ударение означало бы заранее отвергнуть все прочие доводы и
пресечь дальнейшее обсуждение1.
Если мы представим себе, что презенс svâdate вышел из
обихода и сохранился только svâdati, то мысленно создадим
примерно такое же положение вещей, какое ныне обнаруживают
ägati, gadati и т. д. Не устояли бы и такие формы, как svâdman,
которые не преминули бы последовать за презенсом.
Это то самое объяснение, которое мы попытались предложить
(стр. 447 и сл.) для таких презенсов, как гот. saka, греч. μάχομαι.
Впрочем, арийский, в котором отсутствовало такое
регулирующее начало, как различение а и e, уподобил рассматриваемые
нами глаголы глаголам типа paxt в гораздо большей степени,
ε в φλέγω той же природы, что и в εζομαι от корня sêd. Что касается лат.
decus при скр. dâçati, то о в греч. словах δόγμα, δέδοκται (ср. стр. 419)
оказывает нам ту же услугу. Корень здесь deok : δέδοκται по отношению к * dëcus
(превратившемуся в decus) является тем же, чем έπί-ρροθος по
отношению к гот. reda (стр. 454). В „Ригведе" встречается слово bhârman,
образованное от корня, который в Европе представлен как bher. Растяжение было
вызвано следующей за гласным группой согласных, что, по моему мнению,
следует предположить и для hardi „сердце", pâVSni—ср. πτέρνα, mâmsa = roT.
mimza-.
1 Презенсы, для которых мы восстанавливаем л, не единственные, где
ударение должно было претерпеть подобное перемещение: dâçati от корня
damç поневоле замещает собою *daçâti, *dnçâti (ср. δακείν).
458
чем это имело место в европейских языках. Например, 1 лицо
перфекта babhäga (наряду с babbâga) и 2 лицо babhâktha
(наряду с bhegitha) не могут быть возведены к bhÄg. Эти формы
подверглись метаплазму. 3 лицо babhâga может быть сочтено
за изначальное и сопоставлено с греч. τέθωγε, гот. sok.
Позволяют ли отмеченные нами совпадения арийских и
европейских а долгих сделать какие-либо выводы относительно
праязыковых a? Если бы такие злополучные европейские корни,
как sêd sed, не служили помехой этому, мы имели бы в таких
случаях, как svâdate = oiô(^ai, сопоставленных с pâtati = peto,
простое и отчетливое доказательство, что индоевропейская
деградация ä а связана с фонемой л, и что эта фонема во все эпохи
отличалась от ах. Но при действительном положении вещей мы
должны отказаться от этого довода.
Тем не менее здесь уместно заметить, что интересующее нас
совпадение широко отмечается во всем классе корней,
оканчивающихся на а. Наличие à долгого во всех неослабленных формах
этих корней (о чем мы говорили на стр. 423 и сл.) столь же
обязательно для арийского, как и для европейского. Не
существует ни одного корня с а. Этот факт, если его сопоставить со
всем известным нам о природе корней, показывает, что
индоевропейское ä представляет собой сочетание ах с какой-то второй
фонемой. Однако в нем не содержится доказательства того, что
этой второй фонемой был такой-то или такой-то гласный (л, о).
III. ВОКАЛИ3м слабых форм в примерах
на деградацию а а и содержащиеся в нем данные
относительно индоевропейских а.
На стр. 306 мы коротко упомянули о том, что Бругман
уделил несколько строк вопросу о возможном существовании в
индоевропейском праязыке, помимо ах и a2, также и других a. В
качестве примера одного из таких a он указывает на корневой
гласный в pitâr—πατήρ — pater и в sthitâ—στατός — status. Ибо,
если бы тут не было какого-то особого a, эти формы, замечает
он, в сопоставлении с padâs—*πεδός — pedis были бы совершенно
непостижимы. Само собой разумеется, что после всего
высказанного нами выше, мы безоговорочно присоединяемся по существу
проблемы к его мнению. Только мы не вполне понимаем ту роль,
какую в его рассуждении играет индийское i в pitâr sthitâ.
В намерения автора не могло входить желание высказать мысль,
что поскольку индийское i в pitâr, sthitâ отличается от
индийского а в padâs, такое отличие существовало искони. Впрочем,
из его противопоставления вытекает, что интересующее нас i
неизменно отвечает европейскому a. Если так, то можно было
459
ожидать t его стороны объяснения, сколь бы кратким и какого
бы характера оно ни было, относительно таких случаев, как
θετός—hita 1.
Истинная природа арийского ϊ вскрывается, как мы полагаем,
лишь в приведенных выше примерах (см. стр. 455 и сл.), где
такое Τ неизменно находится внутри корня. К указанным нами
примерам можно добавить также çikate „капать", сильная форма
которого налицо в греч. κηκίω, и khidâti „сжимать", khidrâ,
khidvas, которые, как определил Грассман, родственны греч.
καδω. е в khédâ „молот" и в cikhéda отнюдь не исконное,
поскольку одновременно с ним мы находим cakhâda — ведийский
перфект, приводимый Панини.
Общим и характерным для всех этих примеров является то,
что имеющиеся в них Ï соответствуют ä долгому сильных форм.
Такие, не подверженные деградации корни, как tap tapati или
рас, pacati, оказавшись в тех же самых условиях относительно
ударения, никогда не преобразуют своего а в i2. Если они не
могут его устранить, они постоянно сохраняют его неизменным:
taptâ, pakti и т. д.
Если к тому же учесть, что всякое находящееся на конце
корня î предстает перед нами в сильной форме как а, что также
имеет место и вне корня в формах 9-го глагольного класса,
каковы, например, prnïmâs при prnâti, то мы должны будем
признать, что арийское ι на месте а с такой же необходимостью
предполагает в неослабленных формах а долгое, с какой исконное i
предполагает ai, а г предполагает аг.
Следовательно, редукция долгого а (назовем так это явление,
отвлекшись от какой бы то ни было теоретической его
реконструкции)—факт, представляющий собой обязательное условие
для появления также арийского Ï и относящийся к истории
праязыка, а не к истории индо-иранского периода; сопоставлением
с языками Запада это установлено с достаточной достоверностью.
Таким образом, не вызывает сомнений, что зародыш такого ï
восходит к индоевропейскому. Арийский вокализм обнаруживает
качественные различия между праязыковыми a, происходящими от
а—или, no меньшей мере, между некоторыми из них—и
праязыковыми a, не происходящими от й.
Определение a как фонемы, восходящей к долгому а, отлично
согласуется с A и о европейских языков. Но можно ли
безоговорочно утверждать, что арийское ï представляет эти фонемы?
Нисколько. Подобный тезис был бы недоказуем. В большинстве слу-
1 Бругман, возможно, косвенным образом и дает подобное объяснение,
выдвигая предположение, что фонемы аг и а2 никогда не заканчивают корня.
2 Ни такие аористы, как âgigat, ни такие дезидеративы, как pits (от pat),
не могут поколебать это правило, i в аористах совершенно не показательно,
поскольку оно появляется также на месте u (aubéiêat)» а дезидеративы своим i
обязаны, возможно, древнему удвоению.
460
чаев европейские а и о представлены в арийском как a, что мы видели
и в главе IV и только что, когда шла речь о таких формах, как ЬЬа-
èati, râdati и т. д., противостоящих φαγειν, rädo и т. д. Но и среди
тех форм, в которых санскрит сохраняет деградацию, есть, как
мы констатировали, немало таких, когда гласным в слабых
формах является a, например svâdate, svâdati. А это отнюдь не
исключает допущения, что та же фонема, которая под
воздействием определенных факторов преобразуется в Ï, в силу других
влияний может претерпеть иное развитие. Больше того, мы даже
не сомневаемся, что в формах, где эта фонема искони находилась
под ударением, она не могла бы дать а вместо Т. Вот примеры,
которые, на наш взгляд, способны служить доказательством этого.
Наряду с такими косвенными падежами, как niçâs (лат. noctis),
существует ведийская форма nâk( = *nâks, ср. draksyâti от darç
и т. д.), которая, как это отметил Бругман („Stud.", IX, стр. 395),
представляет собою не что иное, как именительный падеж от
niçâs. Фонема, которой в безударном слоге предназначалось
дать i, под ударением дала а1. Все говорит за то, что вторая
часть catâsras тождественна с tisrâs, зенд. tisarö2. Таким образом,
прототип i в tisrâs под ударением принял тембр a. Наконец,
возможно, что a в madhu-pâ (правда, в ведийском более обычен
тип soma-pâ) находит свое объяснение не в воздействии аналогии
тематического склонения и не в том, что это якобы суффикс -а,
а в том, что это просто ударный эквивалент î в pï-tâ. Но ведий*
ское образование £ala-pî (в творительном падеже—gala-py-ä) в
любом случае вторично.
Воздействие ударения, отмеченное в приведенных выше
случаях, не должно, однако, вселять надежду, будто можно решить
проблему, заявив, что корневое а в svâdati обязано своим
существованием той инновации, которую внес тон на корне (стр. 458),
и что в противном случае мы бы имели 'svidâti'3, как имеем
khidâti, çiaât. И в самом деле, подобный перенос ударения может
быть понят только в том случае, если корень уже ранее обладал
хорошо охарактеризованным a. Но если бы мы пожелали при-
1 Бругман приводит nâk, niçâs, чтобы подкрепить свое мнение
относительно склонения £6, pfe и т. д., где, как он полагает, некогда были сильные
формы. Но пока у нас нет прямых указаний на это, мы, напротив, будем
ссылаться на формы именительного падежа £к, р£к и т. д. в подтверждение
того, что пак является слабой формой точно так же, как niç-as.
Неослабленная форма этой основы могла бы быть только nâç-.
2 Древними именительными были *tisâras (зенд. tisaro) и *catâsaras (форма,
которую, по мнению Грассмана, можно восстановить в одном месте „Ригведы"),
но это нисколько не меняет акцентуации. Что касается вопроса о тождестве
окончания в *éatâsaras с окончанием в tisâras, то здесь можно отметить, что
первый элемент в *éatâsaras, в свою очередь, обнаруживается во второй
половине pânéa.
3 Эта форма вдвойне фиктивна, так как звук, давший Г, сливается с
предшествующими сонантами в один долгий гласный (см. гл. VI). Итак, чтобы
быть точными, мы должны были бы написать 'südati'.
461
бегнуть к гипотезе подобного рода, нам нужно было бы
разобраться в бесконечном количестве форм, имеющих ударение на
суффиксе. Разъяснив bhâèati, mâdati, agati, мы пока еще совсем
не разъяснили bhaktâ, madirâ, agâ и другие более
изолированные формы, равным образом дающие а в языках Европы, каковы
pagrâ, bhadrâ (ср. гот. batists, botjan и т. д.), çaphâ (ср. др.-
сканд. hoir), maghâ (см. стр. 359), çâçadmahe = χεχάσμεΰα и т. д.
Итак, мы должны будем прийти к заключению о
существовании различия, если не вполне исконного, то, по крайней мере,
праязыкового, между фонемой а и той, которая дала индо-иранское Ϊ.
Мы полагаем, что этот гласный представлял собой нгкий вид
немого e, возникший из вырождения (altération) фонем а и с.
Такое вырождение, если судить по санскриту (стр. 437), было
общим в конце корня и частичным в корнях с исходом на
согласный. Это могло зависеть от способа членения слогов в
произношении.
Что этот нечетко произносимый гласный появился в
результате вырождения гласных а и о—добавим предположительно:
лишь этих гласных — и никогда не был, как можно было бы
думать, фонемой, искони отличной от всех остальных, вытекает
из нижеследующих соображений.
1) Если существуют кое-какие основания для допущения внутри
корней фонемы а параллельно с i, u, г и т. д., то
предположение, что эта фонема никогда не могла заканчивать собой корень,
было бы невероятным и совершенно произвольным. Но санскрит
показывает, что ослабленный гласный существовал во всех
слабых формах корней на а. Таким образом, становится очевидным,
что в некоторых случаях, если не во всех, этот гласный
представляет собой вторичное преобразование а (или о).
2) Утверждать, что слабый праязыковый гласный, к которому
восходит i в sthitâ, çistâ, не был сперва полноценным гласным,
означало бы отказаться от разъяснения а в sthâman, çâsti, в
которых оно образует вторую часть.
Гласный, о котором идет речь, на наш взгляд, должен был
быть очень слабым. В противном случае было бы трудно понять,
почему в нескольких, и притом различных, языках он поддается
вытеснению. В санскрите мы находим такие формы, как da-d-mâs,
da-dh-mâs, â-tta, vâsu-tti, ava-tta (от корня da „разделять").
Ст.-слав, damü, da-s-te и т. д. разъясняется точно так же (об
удвоении см. § 13, в конце). Множественное число и двойственное
число слабого претерита в гот.-de-d-um и т. д., где корень dhê
подвергся стяжению в имперфекте, как мы полагаем,
свидетельствуют о том же. Лат. pestis, по Корссену, восходит к *per-d-tis.
Напомним также умбр, tecjtu. Все указывает, кроме того, на
то, что i в sthitâ, pitâr тождественно i в duhitar и в других
формах того же рода (ср. гл. VI.) Да и в славянском и в
германском duäti, dauhtar говорит о том, что интересующий нас гласный
462
исчез, совершенно так же, как в da-s-te и в de-d-um. Наконец,
нечеткое произношение этого гласного обнаруживается и в том,
что он поглощается предшествующими ему сонантами. Нам еще
представится случай вернуться к этой его особенности. Причастие
от çrâ, например, дает вместо 'çritâ' (ср. sthitâ oTsthâ)çirtâ = *çftâ.
Такой неопределенный гласный мы будем обозначать как л,
располагая его над строкой.
В Европе этот невыразительный гласный в тех случаях, когда
он не исчезает, чаще всего сливается с фонемами л и о, из
которых он и возник. Многие из наших примеров, а именно те, где
гласный появляется сейчас же за корнем, каково, скажем,
duhitâr, нам придется разъяснять, как в только что упомянутых
случаях. По своей качественно-количественной характеристике
этот гласный ничем не отличается от находящегося в sthitâ.
В латинском, вообще говоря, последовательность такова: а
встречается в первом слоге слов, е или i—во втором. Примеры:
castus (=скр. çistâ), pater, status, satus, catus, datus1; genitor,
genetrix, janitrices, umbilicus [37]. Слово Неп=скр. plîhân
обнаруживает i в 1-м слоге, а слово anät- „утка" имеет а во втором.
В германском в 1-м слоге наблюдается а (иногда и) и
вытеснение гласного во 2-м. Примеры: fadar, dauhtar. Др.-в.- нем. anud
„утка" удерживает гласный во 2-м слоге и придает ему окраску и.
Балто-славянский дает нам е в ст.-слав. slezena = cKp. plïhân
и такой же е обнаруживается в окончании родительного падежа:
matere, греч. μητρός. См. ниже всё, относящееся к pâtyus. Во
втором слоге мы находим вытеснение гласного: слав, duäti, лит, duktë;
слав, ^у, лит. antis, ср. лат. anat-; лит. arklas „плуг"
сравнительно с ά'ροτρον, irklas „весло", ср. скр. aritra.
В греческом такие формы, как έρε-τμόν, *έρα-μος, ά'ρο-τρον,
άρι-θμός, указывают на то, что немой гласный может принимать
четыре различных окраски, причем не видно, что именно
заставляет отдавать предпочтение одной из них более, чем другой.
Таким образом появляется возможность отождествлять ε в έτος
с a в лат. satus. Что касается έτος от ή, δοτός от δω и στατός от σ τ α,
то тут мы готовы допустить, что воспоминание о сильных формах
определило в каждом случае направление, в котором должен был
развиваться неопределенный гласный. Таким образом, α и о в конце
корня не являются, как в других случаях, прямыми
представителями а и о. Они, очевидно, возникли из звука л, праязыкового
ослабления этих фонем. Когда гласный А свободен от каких-либо
влияний, он, по-видимому, близок по звучанию к а. На это
указывают такие слова, как πατήρ, ΰυγάτηρ, ομφαλός = nâbhîlâ,
1 Нам кажется, что после всего сказанного datus, catus при наличии dös,
cos (как и satus при наличии sêmen) следует разъяснять при помощи
неопределенного гласного. Слово nates допускает то же предположение, если
рассматривать о в νόσφι так же, как о в δοτός (см. ниже).
463
σπλάγχν-ο-ν; ср. ρ1ϊ1ιέη,κ[ρναμεν при prnïmâs, затем несколько таких
изолированных форм, как πρόβατον, πρόβασις, βασιλεύς, параллельно
βόσκω, βοτήρ от βω. i обнаруживается в πί-νω, πιπ(-σκω.
Некоторые примеры с таким гласным внутри корня
напоминают дублеты таких слабых древнеиндийских форм, как çik и çak
от çak, viä и vas—от vas. В греческом имеются κάπων и κόπτω
от κωπ (κωφός). Наличное α в κάπων представляет собой, надо
думать, слабый гласный; о в κόπτω является рефлексом о. В
готском от slâk (в перфекте sloh) есть причастие slauhans и презенс
slaha.
В качестве слов, где имеется слабый медиальный гласный,
можно привести также греч. ετραγον от τρωγ, гот. brukans, где
группа ru соответствует группе га в fractus и в ραγήναι (корень
bhrëg). См. стр. 452. i представляет собой тот же гласный в ιδρύω
(ср. скр. sïd), в κΐκυς „сила", сближаемом Фиком с скр. çak, çik.
Только в двух примерах древнеиндийское i передано, как
кажется, непосредственно греческим о: это—δοχμός, соответствующее
èihmâ, и κόσμος при скр. çi§. Допустимо ли сопоставлять kitavâ
„игрок" с κότταβος? Ср. ион. δ'τταβος. Возможно также, что гласный
в νυκτ-, noct- соответствует в точности гласному в niç-.
В нескольких случаях санскрит предлагает нам и на месте i;
таковы, например, gudä „кишка", ср. γόδα· έντερα. Μακεδόνες; udâra
„живот, чрево", ср. δδερος· γαστήρ; su-tuka „быстрый" от tak (ср. ταχύς);
vâru-na, ср. ούρα-νός. Наиболее важный случай—это окончание
родительного падежа. Мы полагаем, что pâtyus тождествен πόσιος;
см. стр. 469.
Прежде чем закончить наше изложение, мы не можем не
упомянуть о различных индоевропейских формах, противоречащих
предложенной нами теории. Возможно, что перед нами плоды
праязыковой аналогии. И.-е. swädu при prthu и т. д. (стр. 323).
И.-е. ästai (скр. äste, греч. ησται) вместо Astai. И.-е. Akxman „скала"
вместо Äkman, и.-е. Ayas „aes", а не Äyas (стр. 323). Очень
своеобразны также скр. sädas = rpe4. εδος от корня säd, скр. tämas=^aT.
*temus в temere от корня tarn, лат. decus = cKp. *dâças в daçasyâti
от корня däkx—образования, которые невозможно рассматривать
как закономерные. А вот, поистине, поразительный случай: при
др.-в.-нем. uoba мы в санскрите обнаруживаем совершенно
закономерное âpas „священнодействие", в зендском—hv-äpanh (Fick,
I3, 16), но в то же время имеются скр. âpas, лат. opus, которые
одинаково необъяснимы.
Для того, чтобы фонема л выполняла свою морфологическую
функцию, совершенно тождественную такой же функции i или и,
надлежало бы, во имя того же принципа, который не допускает
464
корней, оканчивающихся на in, ir и т. д. (стр. 414), чтобы ни
один корень не обнаруживал в себе а с последующим сонантом.
Но на этом, очевидно, кончается параллелизм а с другими со-
нантными коэффициентами, параллелизм, который, сверх того,
при рассмотрении его с физиологической точки зрения, в
достаточной мере загадочен.
Вот некоторые корни, в которых мы должны допустить, хотя
бы на время, наличие группы А + сонант. Корень Ar (или a^r
„пахать", är άραρίσκω, Äl „питать" (гот. а1а ol), ап „дуть" (гот.
апа on), Iâu „добывать" (άπο-λαύω ληίς, слав. lovu). Греческий дает
нам среди других: θ α λ Μλλω, τέθάλα, ϋαλέω; — ξ α ν ξαίνω, επί-£ηνον;—
παρ παδρος, παρος, πηρός и с Ä2: (ταλαί-) πώρος, ср. стр. 355; — σα ρ
σαίρω, σέσαρα, σεσαρυΤα и σωρός;—σκαλ σκαλλω, σκώληξ;—γα υ γα(Ρ)!ω,
γαύρος, γέγη(ιι)θα; -δ α υ δα(Ρ)ίω, δέδη(Ρ)α, δεδαυια (у Нонна, согласно
Фейчу);.—καυ κα(Ρ)ίω,έ'κη(Ρ)α 1#,—κ λα ο κλαις и с â2 κλωβός („Grdz.",
стр. 572);—φαυ (вторичный корень) πιφαύσκω, (pa(F)sa;—χράυ
χραΰω, ζα-χρηής. На стр. 353 нами собрано много греко-италийских
примеров этого рода. Частично эти корни, несомненно, вторичны.
Так, например, μαίνομαι происходит, по всей вероятности, от μεν
совершенно так же, как καίνω от κ εν (стр. 394); позднее α подало
повод к ошибке и были образованы μέμηνα, μήνις, μάντις. о в лат.
doleo равным образом указывает на то, что α в δάλλεε -κακούργε!
никоим образом не изначально (ср. стр. 398) и, тем не менее, мы
имеем δάλέομαι.
К этой семье корней добавляются также такие примеры, как
krSm, mêl (стр. 451 и сл.).
Это прямой вывод теории и вывод, полностью подтвержденный
наблюдением, установившим, что a (а) в дифтонгах Ai и au не
может быть вытеснено. Можно было бы, возражая на это, привести
лат. miser рядом с таегео, но таегео — явно вместо moereo, точно
так же, как paenitet (Corssen, I2, стр. 327) вместо poenitet.
Корни, от которых производят такие формы, как лат. sarpo
или taedet, несовместимы с нашей теорией. Гласным корней было
всегда е и никогда—a, и нужно было бы предположить для этих
корней формы searp teaid или sârp täid. Но в корневых группах
этого вида не находят а долгого.
Однако каковы доказательства древности этих корней? Такие
корни, как derk или weid, чаще всего можно легко проследить
вплоть до индоевропейского периода. Но как только дело доходит
до т^пов sarp и taid, положение резко меняется, и едва удается
отысК&ть одно-два соответствия между греческим и латинским,
Между славянским и германским. Из 22 готских глаголов с аблау-
1 Мы уже имели случай (см. стр. 453) оспаривать, будто η в ίκηα
восходит к дигамме: ï-щР-а по отношению к keau является тем же, чем
ϊσσευ-α—по отношению к seu. Идеальным словоизменением было бы «κηα,
*Ικαυμβν, *£καυτο, ср. £σσευα, *ίσσυμεν, εσσυτο (стр. 321—322, 434).
465
том по образцу fal£a faifal£ или haita haihait, корневая часть
которых оканчивается согласным, только 6 имеют соответствия
в одном из родственных языков, но среди них заИа = лат. sallo
явно вторично; fâha, если его сопоставить с pango, обязано своим
носовым только суффиксу; то же относится и к häha; последний
глагол на стр. 355 был сопоставлен с лат. cancelli и скр. kancate,
но κάκαλον и скр. kâcana „привязь" лишены носовых; наконец,
auka представляет собой особый случай, на котором мы
остановимся ниже. Таким образом, не вызывают сомнений только два
случая, а именно valda = cnaB. vlad$ и skaida=^aT. caedo. К тому
же, как видим, совпадение в этих двух случаях имеет место
только в двух наиболее близких друг другу языках г. Эти мнимые
корни могли образоваться весьма различными путями: 1) в
результате добавления детерминативов к слабой форме корней,
например al и gäu. Таким образом, гот. афа представляет собою
наращенное ala, лат. gaudeo, по общему мнению,—позднейшее
образование от gau; 2) приданием носовой окраски, исходящей
от суффикса презенса; 3) через распространение слабой формы
в корнях, содержащих в себе г, 1, n, т. Именно таково
происхождение греч. θαρς (стр. 418), таково греко-итал. phark (farcio—
φράσσω, ср. fréquens), ибо даже в латинском аг во многих
случаях представляет собой ослабление; см. гл. VI; 4) в результате
сочетания процессов, отмеченных в пунктах 1 и 3, например:
spar-g-o от sper (σπείρω); 5) через распространение форм,
содержащих в себе a2. Например, если правильно, что гот. blanda
сродни blinda „слепой", то необходимо предположить, что еще в ту
эпоху, когда повсюду существовало удвоение, оно дало повод
к смешению перфекта bebland с утраченным презенсом *blinda.
Эта форма, следуя за fefalf и т. д., была способна произвести
blanda.
Все наши предшествующие замечания не применимы к корням
с начальным a, каковы, например, aidh, aug, angh, arg,
древность которых неоспорима. Но это вовсе не означает, что данные
корни в меньшей мере подверглись вторичным видоизменениям.
Как мы пытались установить в главе VI, они возникли из корней,
1 Мы находим лишь три примера, которые могут, строго говоря,
притязать на более почтенный возраст: 1) лат. laedo, ср. скр. srédhati. Поскольку
во всех родственных формах мы неизменно находим е (см. стр. 370), на этом
сближении можно настаивать лишь при условии допущения, что в латинской
форме произошло преобразование вокализма; 2) греч. σαυσαρός; ср. скр.
çuâyati. Мы не оспариваем этой параллели; вместе с тем мы не беремся
также объяснить, откуда в греческом появилось а, но при этом необходимо
обратить внимание и на е в др.-в.-нем. siurra „чесотка"; см. F ick. III3,
стр. 327. Обнаруживаемое нами а в лит. sâusas (ср. стр. 364) может быть
возведено и к е, и к а2 или а\ 3) Лат. candeo, греч. κάνδαρος; ср. скр. candrâ.
В последнем случае сближение несколько рискованнее, чем в двух
предыдущих. Впрочем, группа an могла также и здесь появиться в результате такого
же ослабления, как то, о котором мы будем говорить в главе VI [38].
466
содержащих в себе e. Например, основа aus-os „аврора, утренняя
заря" и весь корень aus восходят к корню wes, angh — к корню
negh и т. д.
Нельзя найти корни, которые оканчивались бы гласным и
вокализм которых состоял бы исключительно из а1У каковыми были
бы stat или рах. Строго говоря, такие санскритские презенсы,
как ti-stha-ti, pi-ba-ti, можно было бы счесть содержащими в себе
подобные корни. Но для этого пришлось бы приписать этим
формам непомерную древность, ибо это означало бы видеть в них
нигде более не обнаруживаемую базу таких корней, как staj-л,
ра^о (греч. στα, πω; скр. sthä-tar, pä-tär). Нам представляется
гораздо более приемлемым попросту предположить, что эти формы
обязаны своим существованием аналогическому воздействию
тематических глаголов и что ι-στδ-τι древнее, чем ti-§tha-ti.
Обозначим через Ζ всякую иную фонему, кроме аг и a2. Можно
сформулировать следующий закон1: всякий корень содержит
в себе группу a, +Z.
Второй закон: если за at следуют еще два элемента, то, за
исключением особых случаев, первый из этих элементов — всегда
сонант, второй — всегда согласный.
Исключение. За сонантами ^ и о может следовать второй
сонант.
Чтобы составить формулы для различных типов корней,
допускаемых двумя приведенными выше законами, обозначим через S
сонанты i, u, n, m, г (1), а, о, а согласные, в отличие от сонантов,—
через С. Поскольку звук, следующий за аг, образует наиболее
существенную часть корня, позволительно пренебречь
сочетаниями, в которых имели бы место фонемы, предшествующие я1#
Таким образом, axi, kaxi, skaxi составят для нас один и тот же
тип, и будет достаточно обозначить через χ Ζ заключенные
в скобки различные элементы, какие только могут оказаться
перед ax. Эти формулы охватывают только первое большое
разветвление корней, но сохраняют свое значение и для второго,
о котором мы будем говорить в § 14.
1-й тип: [xZ+]a1+Z
2-й тип: [xZ+jai+S+C.
Тип, образовавшийся в силу исключения из второго закона:
[xZ + ]ai + A(o)+S.
1 Нужно предупредить читателя, что мы гипотетически восстанавливаем аг
только в некоторых корнях, таких, как ра „гнить", которые мы подробнее
рассматриваем в гл. VI.
467
§ 12. Общий обзор изменений вокализма, вызванных
словоизменением
предварительные замечания
1. Форма суффиксов
Мы займемся рассмотрением только первичных суффиксов.
Основной закон корней состоял в том, что они должны были
включать в себя группу ax+Z. Аналогичный, но более общий
закон управляет слогами суффиксов: всякий суффикс содержит ах.
Исключение. Суффикс -nt (активное причастие в презенсе) не имеет av
Формы, анализ которых не приводит к бесспорным выводам, таят в себе,
может быть, и другие, не поддающиеся учету исключения.
В зависимости от того, следует ли за ах или не следует другая
фонема, суффиксы распределяются по двум обширным классам.
В первом случае их формула совпадает с формулами корневых
слогов. Важнейшими суффиксами этого класса являются -^п,
-тахп, -wa^, -ахт, -ajr, 4ахг, -а^, -уа^, -waxs, -a^-ta^, -na^,
-а^, -tajU, -na^ -ya^ и τ. д. Такие основы, как sa^-ma^ или
ma^-ta^, представляют собой сочетание двух совершенно
подобных друг другу ячеек. И все же параллелизм этих суффиксов
и корней не абсолютен. Он ограничивается законом, почти
полностью исключающим возможность появления в суффиксах
каких-либо иных фонем, кроме t, s и сонантов.
Второй класс суффиксов—это те суффиксы, которые
оканчиваются на аг (чередующееся, как и во всех других случаях, ca2).
Среди прочих сюда относятся суффиксы: -alf -tax, -па^ -та^
-уа1э -walf -га1в
2. Что мы имеем в виду, говоря об изменениях вокализма,
вызванных словоизменением?
Корень может претерпеть изменение лишь двоякого рода: его аг
может быть вытеснено или преобразовано в a2, этим же двум
изменениям подвержены и суффиксы.
Праязыковые изменения вокализма сводятся, таким образом:
1) к случаям вытеснения или преобразования корневого аи 2) к
случаям вытеснения или преобразования суффиксального аг.
Но чтобы постигнуть явления в их внутренней связи, деление
слогов на корневые и суффиксальные мало пригодно. Его следует
заменить делением на слоги или ячейки в положении перед
суффиксом и в положении перед окончанием.
Слоги в положении перед суффиксом—это слоги,
непосредственно предшествующие ему. Само собой разумеется, что в
первичном слоге это могут быть только корни.
468
Слоги в положении перед окончанием это: 1) корни без
суффикса; 2) суффиксы.
Если бы термин слог не был в той или иной степени освящен
обычаем, мы бы охотно предпочли ему термин ячейка (cellule)
или морфологическая единица (unité morphologique), потому что
большое число корней и суффиксов, например statA-, paxrA- (§ 14),
-уахА, а, может быть, и kaxi-, -najii и т. д., двусложны. Итак,
постараемся четко определить, что именно мы понимаем под
словами „слог" или „ячейка"; это—группа фонем в неослабленном
состоянии, естественным центром которой является одно
и то же аг.
Мы предполагаем изучить изменение вокализма в первичном
слове (вытеснения и преобразования a), вызванное
словоизменением. Эта задача, кроме единственного сомнительного исключения
(стр. 501), не распространяется ни на одно изменение, которым
подвержены слоги в положении перед суффиксом, зато она
охватывает почти всю совокупность тех изменений, которые
происходят в слогах в положении перед окончанием.
Мы не говорим всю совокупность, потому что в некоторых
основах-корнях, каковы, например, скр. mfdh или (açva-)yuè,
наблюдается устойчивое ослабление во всех падежах склонения.
Совершенно очевидно, что это ослабление не находится в
зависимости от флексии.
Поскольку о причине изменения аг в a2 в слогах в положении
перед окончанием известно почти столь же мало, сколь и о
причине такого же изменения в прочих слогах, мы не можем
утверждать с такой же уверенностью, как в том случае, когда дело идет
об утрате a, что такое изменение зависит от флексии. Тем не
менее, чередование, которое наблюдается между обоими a и
происходит по образцу чередования в окончаниях, побудило нас
включить появление a2 в положении перед окончанием в группу
явлений, вызываемых словоизменением.
ГЛАГОЛЬНОЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ
1. ВЫТЕСНЕНИЕ а
Строение корней и суффиксов (см. выше) обусловливает как
для имен, так и для глаголов существование двух главнейших
типов основ. Первый тип—это, когда аг заканчивает собой основу,
второй—когда за ах следуют одна или две фонемы.
Глагольные основы первого типа: г à1\ к ах- (λείπε-), rikâ,- (λιπέ-),
raxi ksy aj- (λειψέ-), s рак y a^ (paçya-), grpskaj-ißaa^-).
Глагольные основы второго типа:
а) Простой или удвоенный корень: а t s- (έσ-), а г i- (ει-), b h âjA-
(φα-), râ^gh-(leh-), k âxAs-(çâs-), b h âxbh âxr-(bibhâr-).
469
б) Корень + суффикс. Мы полагаем, что показатели 5-го и 9-го
глагольных классов -naxu и -пахА не в большей мере суффиксы
в подлинном значении этого слова, чем -narg в yunâèmi
(см. гл. VI). Но это безразлично для флексии, и мы вправе
объединить здесь все эти формы: s t г η а х и-г (strno-), ρ г η âx a- (prnâ-),
у и η âx g- (yunag-), r i g h y âx a- (lihyâ-, оптатив).
Вытеснение a в слогах перед окончанием восходит к двум
совершенно различным источникам: качеству начальной фонемы
окончания и ударению. Смотря по тому, какой из этих источников
преобладает, создается два вида флексий, к которым мы позволим
себе применить следующие обозначения: слабая и сильная
индоевропейские флексии. В сильной флексии, единственной, какую
допускает глагол, вытеснение а обусловливается ударением.
Ныне, после блистательного открытия Вернера, считается
общепризнанным, что индийская акцентуация может быть
сочтена—особенно в глагольных формах—почти абсолютно точным
отражением праязыковой акцентуации. Противоречие,
отмечавшееся между греческим глагольным ударением и таким же
ударением в санскрите и германском, находит свое разрешение в
теории Вакернагеля, который в греческом глагольном ударении
видит, как известно, частный случай энклизы. В соответствии с
вытекающими из этой теории выводами греческие инфинитивы и
причастия не подчиняются действию закона, обязательного для
финитных глагольных форм, и их ударение совпадает с
ударением соответствующих форм в санскрите.
О том, что ударение в свою очередь является главнейшим
фактором, воздействующим на деградацию флексии, было сказано
впервые Бенфеем; в последнее время этот вопрос был подробно
освещен в работах Остгофа и Бругмана, и отныне большинство
лингвистов считает этот факт не подлежащим сомнению.
Мы попытаемся свести к возможно более простым основаниям
1) результаты смещения ударения и 2) сами смещения ударения.
Не существует других парокситонных глагольных основ, кроме
таких, как râiikai-2, где ударение, как это явствует из закона I
(см. ниже), не имеет значения. Таким образом, подобными
основами можно пренебречь и вывести правило, условно сочтя все
основы окситонными.
Нижеследующие правила относятся к сильной флексии в целом,
независимо от того, именная она или глагольная.
1 Гораздо более допустимо возвести б в греч. δείκνϋμι к дифтонгу ευ, чем
предположить, что о в скр. strnomi восходит к о. Долгое α иранских форм
не имеет ничего общего с греч. 0; это—удлинение и, существующее в слабых
формах. Быть может, стяжение дифтонга в суффиксе греческого слова было
вызвано позднейшим появлением корневого дифтонга, поскольку такие формы,
как *ζευγνευμι, *οεικνευμι, были трудны для произношения. Если глагол κινέω
рядом с κίνυται восходит к *κινέΡω, то мы имеем в нем рудимент е.
2 Относительно скр. piparti и т. д. см. стр. 473.
470
I. Заканчивающее собой основу и несущее на себе тон à1
никоим образом не может выпасть.
II. Если этому не препятствует закон 1, всякое окончание,
способное принять на себя ударение (то есть образующее слог),
перетягивает на себя тон предшествующей окончанию ячейки.
III. Утратив ударение, аг в предшествующей окончанию
ячейке сразу же выпадает.
Высказанное в законе II подразумевает некую гипотезу, к
которой мы и прибегнем, чтобы объяснить перенос ударения;
дело в том, что окончания, обычно именуемые вторичными,
являются, на наш взгляд, самыми что ни на есть первичными.
Индоевропейская форма этих окончаний все еще не определена с
одинаковой степенью достоверности для всех лиц. Но что касается
окончаний единственного числа актива, то в их отношении не
может возникнуть ни малейших сомнений, и их-то мы, главным
образом, и имели в виду, выдвигая свою гипотезу.
Актив: -m -s -t; -max -tax -nt; -wa -tam -taam
Медиум1: -ша? -sa -tA; -maxdha -dhwax -ntA; -wadha — —
Сочетание этих окончаний с основами râ^k-, prnâjA-, rikâj-
(данных примеров достаточно) даст в соответствии с
вышесказанным следующее:
Актив
râiik-m2
râiik-s
râiik-t
rik-méi
rik-tâi
rik-flt
rik-wa
rik-tam
rik-tâam
Медиум
rik-mÄ
rik-sÂ
rik-tÂ
rik-maxdha3
rik-dhwaj
rik-ntÂ
rik-wadha3
(Актив
рспагА-т
PÇnéiA-s
pçnâxA-t
ρζηΑ-mâi
pçnA-tâj
P£n-$t
pçnA-wa
ρζηΑ-tâm
ρζηΑ-tâam
Медиум
ρζηΑ-mA
ΡζηΑ-sÄ
ΡζηΑ-tÄ
pçnA-mâjdha
ρζηΑ-dhwâj
pçn-ntA
ρζηΑ-wadha
[Актив
rikâi-m
rikâx-s
rikâi-t
rikâi-maj
rikâi-ta!
rikâx-nt
rikéi-wa
rikéj-tam
Irikâx-taam
Медиум
rikéx-mA
rikâi-SA
rikéi-tA
rikâVmaidha
rikâi-dhwa
rikâx-ntA
rikarwadha
В императиве 2-е и 3-е лицо единственного числа медиума
(скр. dvikâvâ, prnîSvâ; dviâtâm, prnïtâm и т.д.) отвечают
правилу. 3-е лицо актива—форма сильная (скр. dvéatu, prnâtu)—
как будто вступает в противоречие с тем, что было сказано
нами относительно „окончаний, образующих слог". Но здесь мы
имеем дело с „первичными" окончаниями.
Большая часть „первичных" форм может развиться из
„вторичных" с помощью элемента i, как предполагает Фр. Мюллер:
1 Относительно греч. -σο, -το и т. д. см. стр. 393 и сл.
2 Как говорилось на стр. 337 и сл., мы предполагаем, что raikm перед
начальным гласным следующего за ним слова во фразе было, очевидно,
односложным; вообще говоря, m 1-го лица создавало слог лишь в случае крайней
необходимости.
3 Или rikmaxdhâ, rikwadha?
4 Вследствие вторичного преобразования -па- дало -пА-; см. стр. 462 и сл.
471
-m-i-mA-i(?), -s-i-sA-i, -t-î-tA-i, -nt-i-ntA-i, -mas-i -madha-i, -was-i
-wadha-i (может быть, s в -mas-i и -was-i восходит к древнему
dh, преобразованному в конце слова в -s и сохранившемуся в
медиуме благодаря последующему a?). Бергень (MSL, III,
стр. 105) обращает наше внимание на то, что обе пары
санскритских окончаний медиума -dhvam -dhve и -ram -re свидетельствуют
в пользу иного, и он предполагает, что носовой в -dhvam и -ram
был добавлен позднее. И поскольку греч. -σθε подтверждает со
своей стороны форму -dhwai, эта гипотеза в высшей степени
правдоподобна. Наш перечень таким образом увеличивается еще
на два случая. Мы не знаем также, не образовалось ли -tu в
dvéStu, pmatu путем добавления -и, подобно тому, как -ti
образовалось в результате добавления -i.
Теперь возникает вопрос, почему при том, что в râikm-i и
формах того же рода были добавлены i и и, ударение все же
не перешло, согласно правилу, на окончание? На это можно
найти два ответа. В эпоху, когда было добавлено i(u), окончание
могло перестать перетягивать на себя ударение. Во-вторых,
весьма существенно отметить и то, что за гласным окончания,
то есть i или и, по крайней мере в четырех рассматриваемых
нами формах (dvéami, dvékai, dvé§ti, dvéStu), не следует никакой
другой фонемы. Некоторые признаки побуждают считать, что i
и и произносились в этих условиях очень ослабленно, и это
делало их неспособными принять на себя ударение1. Это
подтверждается именной флексией для местного падежа, например
1 Если принять это объяснение, гипотеза о первичности окончаний,
именуемых обычно вторичными, совершенно перестает быть необходимой. К тому
же, некоторые факты склоняют нас к мысли, что сонанты i, и, ζ, g,
независимо от того, следовала за ними или не следовала какая-нибудь другая
фонема, были неспособны принять на себя ударение, и что окончание, чтобы
перетянуть на себя тон, непременно должно было содержать в себе а (аъ а2,
а). Речь идет о 3-м лице мн. ч. В санскрите презенс от корня cas, согласно
Панини, дает çâsmi, çâssi, çâsti, çiSvâs, çiâmas, ç & s a t i (cp. maVganti).
Презенсы с удвоением, не показывая, правда, полного корня, избегают, однако,
отмечать ударением -nti и переносят тон на удвоение: piparmi, pipçmas, ρ ί ρ-
r a t i. Наконец, перед окончаниями -us или -ur, хотя и не имеющими ничего
общего с предыдущим (J. Darmestete г, „Mém. Soc. Ling.", III, стр.95
и сл.), мы, действительно, находим корень в полном виде: vivyacus, avivyacus
при viviktâs, viveçus, aguhavus, açiçrayus и т. д. См. Delbrück, Altind.
Verb., стр. 65.
Все это, видимо, свидетельствует об эпохе, когда 3-е лицо мн. ч. в активе
было сильной формой. И все же другие показания противоречат этому. Не
обнаруживаем ли мы в самых различных языках соответствия скр. s-ânti „они
суть", где утрачено корневое а{? Да, но здесь мы сталкиваемся с новыми
трудностями. Ни греч. έντί, ни лат. sunt, ни слав, satt, ни гот. sind не
соответствуют первичному sçti с носовым сонантом, и возникает вопрос, не
зависит ли бесспорное в этой форме ослабление корня исключительно от особой
природы его окончания. Мы не хотим углубляться в эту, весьма сложную
проблему, уже затронутую нами на стр. 337, сн. 1. Нам представляется,
что первая теория, исходящая из вторичных окончаний, более
удовлетворительна, нежели эта.
472
в uksâni, dâtâri и т.д., а, возможно, и для именительного падежа
среднего рода, каков pâçu (род. п. paçvâs); см. стр. 502. Здесь
нам заметят, пожалуй, что другая форма императива, а именно
2-е лицо, например dviddhi, prnïhi и т.д., вступает в
противоречие с гипотезой этого рода. На это прежде всего можно
ответить, что в этих императивах часто обнаруживается сильная
основа. Так, в санскрите находим: çadhi, çaçâdhi, bodhi (от bodh),
èahahi, приводимые Бенфеем („Or. u. Осе", I, стр. 303), grbhnähi,
prïnâhi (Ludwig, „Wiener Sitzungsber.", LV, стр. 149); в
греческом: βήθί, τλήθι, σΰμ-πωθι, δίδωθι, ί'ληθι (Curt i us, Verb., II,
стр. 35). Во-вторых, думая о почти факультативном характере
окончания -dhi, задаешься вопросом, не является ли оно по
своему происхождению свободной частицей, позднее
агглютинировавшей к основе.
Остается рассмотреть различные парадигмы, в которых
выступает действительная или только кажущаяся аномалия.
1. Сильные формы 3-го класса имели в праязыке, как мы
считаем, два ударения: одно, падающее на корень, другое—на
его повтор (см. конец § 13). Перенос ударения в скр. piprmâs
при piparti, таким образом, только кажущийся.
2. Такие сигматические аористы, как âgaisâm, имеют в
достаточной мере нарушенный вокализм. Оканчивающиеся на
согласный корни ослабляются в медиуме1, например: âvikàmahi
при âceâmahi. Это дает нам право предположить, что названное
время первоначально везде и всюду располагало набором
чередующихся сильных и слабых форм, что отнюдь не является
неожиданным, принимая во внимание строение его основы. Формы
множественного и двойственного числа актива так же, как и
медиум, для некоторых корней претерпели, таким образом,
метаплазм. Акцентуация не менее искажена, чем вокализм (Benfey,
Vollst. Gramm., стр. 389). В греческом, как и в санскрите,
возобладали сильные формы (стр. 417).
3. 2-е лицо и 3-е лицо единственного числа перфекта кажутся
плохо согласующимися с нашей теорией, поскольку -ta (скр. -tha)
и -а могли принимать на себя ударение. Но и корневое а—также
не a!, а a2. Это, я полагаю, весьма важное обстоятельство, хотя
определить подлинное его значение и затруднительно. Как
установлено, правила, которые можно вывести для перемещений
ударения и для выпадения a, часто оказываются нарушенными,
когда это a появляется в форме a2. Ср. конец § 13.
4. Оптатив на -уа^. Изменяясь по формам, как prnâjA-, это
глагольное время должно было дать во множественном числе:
(*rikyA-mâ), rikyA-mâ, в медиуме: (*rikyA-tA), rikyMA. Но
группа уА не может существовать. Она изменяется в ï уже
1 Ворр, Кr. Gramm, der Sanskr.-Spr., §349; Delbrück, Altind. Verb.,
стр. 178 и сл.
473
с праязыкового периода, совершенно так же, как гА изменяется
в ï (см. стр. 462 и гл. VI). Все формы, не принадлежащие к
единственному числу актива, имели в праязыке, таким образом,
ï. Для медиума Бенфей установил этот факт в своей работе
„Ueber die Entstehung etc. des indog. Optât."1.
Во множественном и двойственном числе актива то же ï
появляется во всех европейских языках: лат. s-ï-mus (ед. ч. s-ië-m),
греч. ε-ΐ-μεν (ед. ч. ε-ΐη-ν), слав, jad-i-mu (ед. ч. jazdï = *jadjï), гот.
ber-ei-ma (форма единственного числа bereif) образовалась по
образцу множественного числа). Мы отсылаем читателя к уже
цитированной работе Пауля („Beitr.", IV, стр. 381 и сл.), хотя
и не можем присоединиться к концепции этого автора, который
видит в ï «стяжение -уа». В санскрите мы имеем во
множественном и двойственном числе актива lihyâma, lihyâva и т.д. Эти
формы образованы по аналогии с единственным числом. Не
следует упускать из виду: 1) что все языки Европы совпадают в
отношении ï; 2) что общая теория флексии отдает предпочтение ï,
а не уа; 3) что такие случаи, как pâmi pâmas при греч. φάμί
φαμέν, создают прецедент для распространения ä долгого (стр. 435);
4) что в самом санскрите медиум дает нам ï и что всякое
расхождение между медиумом и множественным—двойственным числом
актива является аномалией; 5) наконец, что зендский дает ι в
некоторых активных формах: Жюсти приводит daiôïtem (3 л.
мн.-дв. ч.), затем—çâhït fra-zahït, daidït—формы единственного
числа, получившие î по аналогии2.
Ведийский прекатив (Delbrück, цит. раб., стр. 196) в своей
флексии точно следует за оптативом. Актив bhü-yäs-am, kri-yäs-
ma; медиум: muc-ï§-ta и т. д.
1 Бопп полагает, что акцентуация в ιδοΤτο, διδοΤσθε должна побудить
к допущению, что стяжение произошло в самом греческом. Но кто знает,
существовала ли эта акцентуация где-либо, помимо письма, куда ее не
преминула ввести грамматическая теория. Вот почему τιθεΐσι представляет собой
пропериспомен только из-за неправильных заключений, сделанных на
основании τι/θέασι; см. Brugmann, „Stud.**, IX, стр. 296. Известно, что Бенфей
выдвигает î, а в качестве приметы. Объективные доводы в пользу î долгого
ограничиваются следующим: 1) в „Махабхарате" один раз встречается bhung[ï-
yäm; 2) в „Ригведе" (X, 148, 2) размер, по мнению названного автора,
требует sahïâs (dâsîr viçah suriena sahïas). Было бы забавно, если бы мы взялись
оспаривать Бенфея в области ведийской метрики. Мы только отметим,
выражая свое чисто личное впечатление^ что нас не удовлетворяет такая концовка
стиха, как tri§tubh, и еще менее — sûri]ena sahyas (— w ), даже если бы
пришлось сделать из а в dasïr два слога, потому что по крайней мере 8-й
слог стиха (padа) оказывается, таким образом, в соответствии с обыкновением,
долгим. Что касается duhïyat, то Бенфей видит в нем тематическую форму.
Таким образом, мы вправе предположить здесь слабую основу duhï-. Среди
оптативов, приводимых Дельбрюком (цит. раб., стр. 196), мы находим êakâïyât.
Помимо того, что в тексте эта форма находится совсем рядом с papïyât, ï
может быть объяснен как соединительный гласный, удлинившийся под вли-
янием у.
2 В санскрите оптатив 3-го класса в медиуме имеет ударение на слоге
повтора. Ничто не указывает на то, что эта особенность первична.
474
5. Оптатив тематического спряжения. Приметой, согласно
Бенфею, является -ï долгое1, восходящее, как мы полагаем, к
-yajA примерно так же, как слабые формы, которые только что
были рассмотрены. Но весьма затруднительно объяснить, в силу
чего здесь могла произойти редукция -уа^ в -ï =*уА, если
тональный элемент предшествовал примете. Флексия —
единственная в своем роде. Можно было бы ожидать, что основа скр.
tudé (=*tudâ-ï) даст во множественном числе 'tudïmâ', поскольку
за а следует фонема. Но нужно отметить, что это а является
рефлексом а2 (стр. 380), что, как мы видели, сильно изменяет
положение вещей. Итак, а сохраняется, и это имеет своим
следствием больше нигде не встречающееся явление, а именно флексию
без деградации при основе, которая не оканчивается на ax. По
любопытному, но, несомненно, случайному совпадению,
чередование в императиве древних славянских дифтонгов è и i (nesi,
nesèmu, nesëte, nesëvè, nesëta) как бы отражается в зендском
barôis, barôit, baraëma, baraëtem (медиум: baraêsa, baraëta; во
множественном числе снова появляется öi). Мы тщетно пытались
подыскать объяснение, которое могло бы оправдать первичное
различие между дифтонгом в единственном числе и дифтонгом во
множественном числе или в медиуме2.
Субъюнктив тематических глаголов. Мы не смогли составить
себе окончательное мнение относительно первичной формы такого
субъюнктива, как греч. φέρω, φέρης и т.д. Восходит ли а в лат.
ferät к сочетанию аг + а1у e + e? Не является ли скорее feram,
feres подлинным субъюнктивом? И имеем ли мы право отделять
moneat, audiat от умбрского оптатива portaia?
2. появление фонемы а2
Глагольной флексии известо преобразование at в ай только в
двух случаях:
1) В тематическом спряжении, где это явление может быть,
по-видимому, объяснено природой согласного, следующего за а
(см. стр. 381).
1 Известно, что οι 3-го л. ед. ч. греческого оптатива (παιδεόοι) никогда
не считается кратким, и вследствие этого ударение остается на предпоследнем
слоге. В этом, быть может, как уже предполагалось, содержится указание на
то, что ï здесь долгое.
2 Можно было бы предположить, что первоначально тон переходил на
окончания и что вместе с тем а2 ед, ч. было замещено аг: 3 л. ед. ч. tudâ2it,
мн. ч. tudajîmâ. Это позволило бы установить между nesi и nesëmu такое же
соотношение, как между vluci (λύκοι) и vlucë (*λυκει; см. стр. 384). Но,
помимо того, что öi и аё в зендском, в общем, чередуются, по-видимому, без
определенного правила, остается неясным, в силу какого закона а, вместо того
чтобы выпасть во множественном числе, ограничилось переходом в аг.
475
2) В единственном числе перфекта, где преобразованное а
является корневым a. 1-е лицо, может быть, сохраняло ax. См. стр. 366
и сл.
ИМЕННОЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ
ι. вытеснение а
Л. Вытеснение происходит в силу законов сильной флексии
окситонные основы
Основы, оканчивающиеся на аи ведут себя совершенно так же,
как в глагольной флексии. Ударение никогда не переходит на
окончание, и a вследствие этого сохраняется во всех формах1.
Первое замечание, которое мы должны сделать, относится к
основам, в которых за ах следуют одна или две фонемы, и
заключается в том, что эти фонемы входят в состав сильной флексии
лишь в единственном числе. О множественном числе и
двойственном числе речь пойдет в разделе В.
Известно, что древность санскритской акцентуации
доказывается ее совпадением с акцентуацией греческих односложных
слов.
Слабые падежи, то есть не несущие на себе ударения,
которое падает на окончание, и не имеющие a в предшествующем
окончанию слоге, это творительный, дательный и родительный.
Их окончания: -а, -Ai (стр. 384—385) и -As.
Падежи сильные, или заключающие в себе a,—это
именительный, винительный, местный и звательный. Их окончания: -s, -m,
-i и нуль.
Нетрудно заметить, что изложенный выше принцип находит
свое подтверждение. И если мы сталкиваемся со случаями
сильных падежей, то единственная причина этому—неспособность
некоторых окончаний принять на себя тон2. В звательном, кроме
того, ударение перемещается на начало слова.
Мы только что поместили местный падеж в разряд сильных
падежей. И действительно, как известно, в санскрите в этом
падеже допускается, если только она не является вообще обяза-
1 Акцентуация санскритского местоимения а в таких формах, как asyâ
(наряду с âsya), возникнет позднее, когда почувствуется потребность в
различении известных оттенков (см. словарь Грассмана, колонка 207). Та
акцентуация, которую обнаруживают гот. bize, bizos, видимо, попросту
проклитическая; санскрит дает tâsya, téàlm, tâsyas.
2 Нам приходится ограничиться простым упоминанием о совершенно иной
и весьма разработанной теории, предложенной на этот счет Бергенем в MSL,
II, стр. 371 и сл. Так как эта теория тесно связана с проблемой
происхождения окончаний и вообще флексии, дискуссия, которая была бы необходима,
завела бы нас слишком далеко.
476
тельной, сильная форма, как, например, в pitäri, dätari1. Два
особенно интересных примера — это dyâvi (ср. divé и т.д.) и
käami при творительном kâamâ. О неприемлемости для тона
конечного i см. стр. 472 и сл.
Особые случаи именительного, который порой образуется без s,
не могут быть отделены от вопроса об a2. Нам следует в связи
с этим отослать читателя к стр. 494.
Проверяя на материале только что сформулированную теорию,
мы ограничимся, поскольку он необъятен, лишь рассмотрением
наиболее примечательных фактов в склонении каждого вида основ.
Мы полностью принимаем главнейшие выводы статьи Бругмана
относительно основ с плавным ("Stud.", IX, стр. 363 и сл.). Этой
работе предшествовала теория Остгофа относительно склонения
основ с носовым (РВВ, III, стр. 1 и сл.), которая близка по
основным идеям нашей концепции, но в ней еще отсутствует
представление о полном вытеснении а в слабых падежах и она
не вводит в обиход понятие a2. Остгоф допускал своего рода
иерархию a различной силы. Мы также учтем полезную для нас
статью Бругмана относительно суффиксов -as, -yas, -was (KZ,
XXIV, стр. 1 и сл.). Остатки деградации суффиксов в
балтийско-славянском собраны Лескиным („Archiv für slav. Philol.", Ill,
стр. 108 и сл.).
В качестве типичного образца слабой формы мы изберем
дательный.
Основы на -was. В санскрите ударение в слабых формах
перешло на суффикс: viduäe, èagrbhûâe вместо *vidu§é, *gagrbhuâé.
Праязыковая форма -us- слабых падежей, такая, какой ее
предполагает Бругман (KZ, XXIV, стр. 97), косвенным образом
подтверждается греч. -υια и ιδυΐοι (там же, стр. 81), гот. berusjos
и слав, -us-je-.
Основы с плавным. Праязыковое вытеснение а в слабых
падежах было с полной ясностью установлено Бругманом. Наиболее
примечательный факт—индийский родительный на -иг. Мы
попытаемся объяснить его следующим образом.
Окончание родительного падежа -As, а не -as. Находясь под
ударением, как, например, в padâs, оно должно было развиться
в санскрите в -as (стр. 461). Не под ударением оно, как мы
видим, дало -us в таких случаях, как pâtyus, sâkhyus, £ânyus
1 Основы, не оканчивающиеся сонантом, составляют исключение: местный
падеж в этих случаях примыкает к слабым падежам, например: tudati vidusi
и т. д. Как ни объяснять такие ведийские местные падежи без i, как,
например, mürdhan, они не могут поколебать нашей теории.
477
(здесь, следовательно, выступает -us, а не -иг). В дальнейшем
форме -as удалось понемногу отстранить своего конкурента.
Гипотеза относительно -^s подтверждается: 1) вокализмом
греческого окончания -ος и слав, -е и 2) такими родительными,
как yuktés, mrdos, речь о которых пойдет у нас ниже. Наконец,
она в известной степени проливает свет и на родительный падеж
в скр. mâtûr.
Прототип mâtûr—mâtr-^s. Группа г4 должна дать f, затем —
ür (§ 14). Итак, нами разъяснено качество гласного, но не его
количество. В зендском существуют такие родительные, как nars,
çâçtars, которые восходят к *nfs, *çâçfts, где гласный г развился
в аг перед §, как это имеет место в arshan и в других случаях.
В ukSnâs звук А не слился с предшествующим ему носовым, что
вполне удовлетворительно объясняется, как мы полагаем,
причинами физиологического порядка. К этому вопросу мы еще
вернемся в главе VI.
Обычно стяжение г4 в J происходит еще в праязыке. В
рассматриваемом нами падеже греч. πατρός *, гот. fadrs как будто
указывают на то, что такое стяжение—явление только
индоиранское. Да и прочие условия также достаточно необычны,
поскольку ударение падает на фонему л, что, как правило, не
имеет места.
Индийская парадигма основ на -an исключительно правильна.
Европейские языки сохранили только ее остатки. Мы находим
их в латинском саго* carnis, в греческом xvw *υνός2, так же
как άρνός. Для последнего слова Остгоф (цит. раб., стр. 76 и сл.)
определяет в качестве основы varan- (waran-). Нам представляется,
что скр. urana хорошо согласуется только с wr-ân. Это приводит
к заключению об исключительной древности греческой флексии:
*Ρρ-ήν, род. п. *Fr-v-<te. Именительный сохраняется в πολΰ-ρρην;
родительный правильно преобразовался в *Fapv<fc, άρνός ^.
Арм. gar'n, о котором говорит Остгоф, может быть возведено
к слабой форме wr-n- [39].
Склонение φρήν φρενός, ποιμήν ποιμένος возникло вследствие
обобщения винительного, а также местного падежей, ибо φρένι,
ποιμένι искони были сильными формами.
1 Или, быть может, νόκτωρ появилось вместо *νόκτορς, νυκτός? Ср. ημέρας
τε καΐ νόκτωρ = ημέρας τβ και νυκτός.
2 Ударение в κόων отступило; ср. скр. çvi.
8 Гесихий дает: ράνα* &ρνα. 'Ρωμαίοι àè βάτραχον. Μ. Шмидт пишет ρανα,
что правильно для второй части глоссы, но маловероятно для первой. Можно
было бы ожидать лишь ρήνα. Мы полагаем, что глоссы ράνα и ρανα утратили
свои отличия в результате смешения, и ραν- и &ρν- восходят к Fjv, как ορατός
и όαρτός восходят к δξτός.
478
Объяснение гот. auhsin вытекает из факта, который мы только
что упоминали: auhsin идентично скр. ukäani. В родительном
можно было бы ожидать *auhsns. Представляется очевидным,
что auhsins является подражанием дательному auhsin.
Я уже называл статью Лескина, где он среди прочего указал
и на то, что слав, dîne „diei" восходит к основе diwan- или dian-.
Что касается таких индийских форм, как brahmane, то здесь
нелегко решить, имеем ли мы дело с исконным а, удержавшимся,
чтобы воспрепятствовать скоплению согласных, или же brahmane
восходит к первоначальному *brahmnné. Место ударения говорит,
пожалуй, в пользу первого решения.
Основа на -am(ghi-âm) склоняется как предыдущие. См.
Brugmann, „Stud.", IX, стр. 307 и сл. Зендский имеет в именительном
zy-äo, в родительном zi-m-ö.
Суффикс причастия -nt, сам по себе не имеющий a, может
позаимствовать его из основы, когда она оканчивается на а.
В этом случае все обстоит совершенно так же, как если бы
суффиксом было -ant. Ударение, оставшееся неподвижным, пока
αι (а2)у на которое оно падало, заканчивало собой основу,
переходит на окончания, как только это аг обрастает группой -nt
(законы I и II, стр. 471). Таким образом, в санскрите
словоизменение имеет такой вид: tudân, tudaté ( = tudçté) и т. д.
См. Brugmann, „Stud.", IX, стр. 329 и сл.
Греч, λαβών λαβόντος обобщило сильную форму. В латинском,
напротив, -ent продолжает слабую форму с носовым сонантом,
которую Сивере усмотрел в германском в таких словах, как
hulundi, |3usundi и других причастных формах женского рода.
Лишь незначительное меньшинство основ, оканчивающихся
на i и и, относится к сильному склонению. Наиболее важным
примером является di-âiU-1 „небо".
Им. di-âjU-s ср. (ma-tâjr) (uks-â^)
Зват. di-axu mä-ta^ uks-a^
Вин. di-âiU-m ma-ta^-m uks-âxn-m
Местн. di-âiW-i mâ-tâjr-i uks-âjn-i
Дат. di-w-Ai mâ-tr-Ai uks-n-Ai
Именительный: вместо того, чтобы видеть в скр. dyaus растяжение
именительного, нужно, я думаю, принимая во внимание греч. Ζευς, приравнять
au этой формы к au в yaumi и т. д. (стр. 417). Звательный: греч. Ζεδ.
Винительный: diexum —наиболее древняя форма, но совпадение греч. Ζήν с скр.
1 Л. Аве (MSL, П,стр. 177) доказал, что эта основа происходит от корня
di (dai), а вовсе не от diw (dyau).
479
dyâm позволяет, по-видимому, установить, что с очень давних пор дифтонг
здесь исчез. Ср. стр. 338. В форме Aâv, приводимой одним грамматистом, а,
несомненно, необычно, но эолийско-дорическая форма, как правило, дает η.
См. Schrader, „Stud.", X, стр. 319. Местный п.: вед. dyâvi.
Мы намерены исследовать и некоторые другие слова типа
di-au. Но чтобы не отрывать их друг от друга, перечислим
парокситоны вместе с окситонами; и в сильных формах мы также
будем проводить различие между ах и a2.
Среди основ на -i мы признаем принадлежащими к тому же
склонению, что и di-au, также основу ^и-а^ „птица", которая
в Ведах предстает в именительном падеже в форме vés.
Остальное словоизменение переродилось, и даже в именительном
начинает утверждаться vi-s.
В латинском все еще существовали такие слова, как vatês,
вин. п. vatêm.
Аналогичный образец скрывается и в скр. kavi, ибо в
зендском это слово дает в винительном падеже kavaEm. Впрочем,
в качестве именительного мы находим в зендском форму kava=
*kavä. Если pitâ(r) восходит к pitâr-, то в именительном *kavâ(i),
происходящем из kavai-, нет ничего поразительного. Но нам
следует временно примириться с тем, что мы не знаем, почему
основы на -и никогда не имеют именительного без s и почему
основы на -i имеют двойное образование по типу ves и по типу
*kavä. Ср. стр. 494.
Словоизменение gäu „бык". Какова в точности форма этой основы?
Мы полагаем, что точная ее форма ga-axU, а не gajU, потому что: 1) в случае,
если бы мы признали основой ga^, мы должны были бы иметь в слабых
падежах gu-; 2) др.-в.-нем. chuo указывает на наличие в этой основе а долгого1.
Такие индийские сложные слова, как su-gu, обязаны своей формой лишь
изменению склонения. Язык, отталкиваясь от таких форм, как род. п. sugos
или дат. п. sugâve, и оказавшись на поводу у прилагательных на -ύ (pçthu
и т. д.), должен был бы дать в конечном итоге sugus. Впрочем, ga-axu и
в санскрите и в зендском склоняется правильно. Ср. скр. gaus (ga-aju-s) и
dy-au-s, gâ-v-e и di-v-é. В слабых падежах ударение закреплено на а, которое
наличествует в ga-v. Это а здесь совершенно неправомерно, но в санскрите
всякое корневое а любого происхождения притягивает на себя ударение и
подобное влияние с его стороны, как кажется, почти непреодолимо. Местн. п.
gavi вместо *gävi таков же, как divi наряду с dyavi. Греч. ßo-F-, βου = α{ρ.
ga-v-, go- указывают на то, что корневое а является рефлексом о. Сильная
форма утрачена: βους заменило собой *βω(υ)ς. У Гомера ,еще встречается
вин. п.. ß(5v2 = ap. glm (зенд. gâm), которое мы, не колеблясь, возведем
к go-éiU-m, но и эта форма могла произойти из gaum, подобно тому как Ζην
происходит из dyäum. Латинский не дает нам ничего особенного [40].
1 Можно было бы предположить здесь такое же растяжение в
именительном, какое предполагается для fôt- (стр. 494). Но Ζευς (см. выше)
показывает, что такая основа, как gajU, нисколько не растянула именительного.
На форму chuo мое внимание было обращено Кёгелем, который разъяснял ее,
впрочем, иначе.
2 Дор. βώς, βών — не что иное, как видоизменение βοος, βοον.
480
Основы на и, принимающие a2. В зендском существуют
следующие формы: вин. naçâum „труп" = *naçâvam (им. ми. ч.
naçâvô); вин. përëçâum „сторона, бок", garemäum „жар, зной".
Полное словоизменение представлено др.-перс, dahyäu-s,
винительный которого дает dahyäu-m (им. и вин. мн. ч. dahyäv-a,
род. мн. ч. dahyunäm, местн. dahyusuvä). То же слово в
зендском дает в винительном daiihaom; следовало бы ожидать dari-
häum- (и им. мн. ч. danhävö). Кроме того, налицо также им. ед.
bâzâus „рука от плеча до кисти", ä в котором находит свое
объяснение, как и в перс, dahyäus, во влиянии не дошедшего до нас
винительного * (*bäzäum). Впрочем, среди основ, принимающих
a2, и тех, которые его не принимают, царит, как показывают
dahyäom при dahyävö, некоторое смешение. И действительно,
наряду с *bäzäum Веды предлагают нам bähävä — дв. ч. от той
же основы2. Это склонение тем меньше можно заподозрить в
недавнем происхождении, что оно обнаруживается преимущественно
в пределах небольшой семьи основ на и, с которой мы
познакомились на стр. 421: это существительные женского рода3,
содержащие в корне аг. Возможно, как предположил Г. Мейер
(„Stammbildung", стр. 74), что греческие имена на -eu-ς как-то
соотносятся с этим склонением, но только сближать арийское а
с η в τοκηος, по нашему мнению, недопустимо. Кроме того, не
следует забывать об отсутствии ευ в νέχυς, πήχυς, где мы могли
бы ожидать его с наибольшим основанием. Мейер напоминает
о таких именительных, как гот. sunaus. И действительно, мы
были бы вправе подумать, что здесь перед нами последнее
воспоминание о первоначально двояком словоизменении основ на и.
Основы на i, принимающие a2. Наиболее существенна основа
скр. sâkhe-, вин. sâkhây-am (зенд. hu-shayäim), зват. sâkhe, дат.
sâkhy-e (им. п. мн. ч. sâkhâyas). Долгий а именительного sâkhâ
совершенно другой, чем à ( = a2) в säkhäyam: достаточно
напомнить *kavä при *kavayam (kavaëm). Именно здесь, быть может,
нашел бы место им. п. мн. ч. çtaomâyo (Spiegel, Gramm.,
стр. 133).
После работы Аренса относительно греческих существительных
женского рода на ω (KZ, III, стр. 81 и сл.) не подлежит
сомнению, что основа этих слов оканчивается на t. Мы подозреваем,
что эти слова являются соответствиями типу, представленному
в скр. sâkhe. Если допустимо сопоставлять
data dätäram dâtar dâtrâ
δώτωρ δώτορα δώτορ [δώτορος вместо *δωτροζ],
1 Если только не допустить растяжения именительного, несмотря на
наличие s.
2 Незачем специально создавать слово bähava для объяснения этой формы.
3 Существительному мужского рода përëçâum в санскрите
противопоставлено существительное женского рода pârçu.
16 Φ. де Соссюр
481
ίο правомерно сравнить
sakha sakhayam sakhe sakhyâ
И Λητώ Λητώ (*Λητόα) ΛητοΤ [*Λητόος вместо *Λητΐος].
В винительном мы написали Αητώ; такую акцентуацию
предписывает Дионисий Фракийский (A h г ens, цит. раб., стр. 93).
Впрочем, даже если бы не было никакого свидетельства в пользу
облеченного ударения, то и в этом случае нельзя было бы
исключить названную форму винительного, поскольку известно, что
грамматики иной раз видели в ω стяжение ох * (ср. Brugmann,
„Stud.", IV, стр. 163). Без сомнения, существуют такие
винительные, как ион. Ίουν, и известно мнение Курциуса, который
пришел к выводу, что их основа оканчивалась на -oFi. Но
замечания, которые делает по этому поводу Виндиш („Stud.", II,
стр. 229), в достаточной мере говорят о том, что это объяснение
удовлетворило далеко не всех. Путь от *'loFiv до Ίοον отнюдь
не легок. Во всяком случае, эта форма на -ουν остается
загадочной и производит впечатление заимствованной из других
склонений, возможно, из склонения типа βοδς. Впрочем, гипотеза
относительно основ на -oFt, в том виде, в каком ее принимал
Курциус2, не допускает объяснения ω в им. п. Λητώ.—Вызывает
удивление, что греческие основы на -a2i использованы
исключительно для образования слов женского рода. Впрочем,
сохранились следы и мужского рода в именах собственных, каковы
Πατρώ, Μητρώ, 'Ηρώ (Curtius, Erl., стр. 54).
Возможно, что значительное количество аналогичных слов
останется навсегда от нас скрытым, потому что они приняли
распространенное словоизменение основ, оканчивающихся на i
и и. Наблюдая, например, что в „Ригведе" âvi „баран" имеет
род. п. ävyas и никогда — âves, совершенно так же, как в
греческом родительный всегда звучит только как οίος (вместо *ôFio;),
а не 'όεω;', естественно думать, что первоначально склонение
имело следующий вид: им. п. awaxi-s или awäAi, дат. п. awy-^i,
вин. п. awa^-m и т. д. Возможно, что родительный гот. balgis,
принадлежащего к группе существительных мужского рода на i,
1 Среди многих форм, приводимых А рейсом, нет ни одного винительного
с йотой подписанной или иотой приписанной, и это—доказательство в пользу
того, что ω здесь не первично, как в именительном, и что оно, несомненно,
восходит к -о(у)а. Окончание -оуа в свою очередь не может быть очень
древним. Чистая форма была бы -οιν. И действительно, одно время думали,
что она сохраняется в таких винительных, как Λατοΐν, но Арене показывает,
что они идут от неправильного чтения. Итак, они исчезли еще в
доисторическую эпоху. Более или менее допустимо сопоставлять *Λητονα вместо *Λητοΐν
с ήδεΡα вместо ήδύν.
2 Курциус высказывает только предположение, что такие формы, как
δαίμων, могли в известных пределах воздействовать аналогически на слова
с окончанием на -о>. См. „Erläuterungen"2, стр. 55, прим.
482
вместо того, чтобы быть так же, как дат. balga заимствованным
у основ на -а, являет собой следы словоизменения, о котором
мы ведем речь: в таком случае balgis восходило бы к *balgHs.
Неподвижность ударения в санскритской парадигме apâs apâse,
usas usâse не имеет большого значения. Возможно и даже весьма
вероятно, что первоначально тон претерпевал те же смещения,
что и во всех других случаях. Но примечательно непривычное
упорство суффиксального а. До сих пор предшествующие
окончанию слоги не демонстрировали нам ничего подобного.
Бругман (KZ, XXIV, стр. 14 и сл.) приводит для
объяснения этого весьма убедительные соображения: стремление
избежать слишком большого разнообразия форм в пределах одного
и того же склонения, затем аналогическое влияние слабых
падежей множественного числа, в связи с чем ах не могло выпасть
(таким образом появилось apa^-bhis).
К чему, однако, в конечном счете, сводится класс окситонов
на -as? К названию утренней зари, скр. usas, к др.-инд. bhiy-âs
„страх", ρύ-mas вместо *pumâs (стр. 499), и к таким словам, как
tavâs, yagâs, ψευδής. Но последние, как установил Бругман,
являются не чем иным, как существительными среднего рода,
вклинившимися в мужское склонение. Возможно даже, что в
различных языках, которые ими располагают, они образовались
независимо друг от друга, и их словоизменение выравнялось по
образцу таких сложных слов (парокситонов), как, например,
su-mänas. Полная форма их корневого слога крайне
подозрительна для окситонов. Что касается bhiy-âs и pu-niâs, то они
правильно образуют лишь bhî-â-â (ведийский творительный
падеж), pu-ms-é. Единственный пример, по которому можно было
бы судить о склонении, это и.-е. лша$, и, вполне вероятно, что
такие слабые формы, как ^ssAi, представлялись слишком
невразумительными1. Итак, а удержалось: ли$а5А1, скр. uàâse.
Относительно а1 в uââse при а2 в usâsam см. стр. 496.
Основы-корни, простые или образующие второй элемент
сложных слов, предстают перед нами в двух совершенно различных
формах.
В первой из них корень по неизвестной причине, но явно
не под воздействием флексии, утратил свое аг. Эти основы
оказываются, таким образом, за пределом круга вопросов,
подлежащих рассмотрению в данном параграфе. Утратив свое предшество-
1 Мы находим в „Ригведе" род. п. ед. ч. (и вин. п. мн. ч.) usas. Его
возводят, и, возможно, справедливо, к основе us. Однако предположить в нем
продолжение слабой формы us-s- было бы неправомерно, так как удвоенный s
в этом случае был бы передан через s.
t6*
483
вавшее флексии a, они больше не подвергаются никаким
изменениям1. Если они заканчиваются на i, u, г, n, m, то присоединяют
к себе t, тогда как ί, ü, f, fl, φ долгие (гл. VI) обходятся без
него. Примеры: скр. dvi§, mfdh, niç (стр. 461), acva-yug, mi-t,
hrû-t, su-kf-t, aranyaga-t (==-gm-t); bhi, bhu, gir ( =gf), -gâ ( = g0);
зенд. drue; греч. àlx-ί, "A-(F)tô-, σΰ-ζυγ-, άντ-ηρίδ-, επ-ηλυς, -υδος
(метаплазм вместо -υθος); лат. ju-dic- и т. д.2.
Во второй группе основ-корней ослабление зависит от флексии
и охватывает только слабые падежи. Имена, о которых идет
речь, составляют соответствие глаголам 2-го класса. Все корни
не питают приверженности к этому роду склонения. Из корней,
оканчивающихся на г, с трудом наберется один-два таких
индийских примера, как abhi-Svâr.
Мы не можем подвергнуть здесь рассмотрению различные
сильные формы со стороны их вокализма, поскольку речь идет
лишь о вытеснении a; см. стр. 497 и сл.
Среди санскритских сложных слов можно отметить слова
с элементом han: вин. vrtra-hân-am, дат. vrtra-ghn-é. С элементом
vah образуется anadvâh, вин. anad-vâh-am, дат. anad-uh-e.
Греческое первичное склонение усматриваюг также в Βελλερο-
φών, акцентуация которого неясна: имя ΙΙερσέφχττα, где -φαττα
соответствует скр. -ghnï, указывает на то, что в родительном
должно было бы быть *Βελλερο-φατος (ср. стр. 326 и сл.).
В зендском основа vac „голос" дает в винительном падеже
väcim, väcem ( = греч. Força), в дательном—vacë, в
творительном— ν аса и т. д. Это словоизменение не может быть первичным.
Ни один из известных нам законов не допустил бы в слабых
падежах иную форму, чем *ис- (если только ä в väcem не было
подлинным индоевропейским а долгим, а зто не так). Форма väc-
своим возникновением явно обязана действию аналогии. В
санскрите vâc- охватывало, как известно, все склонение.
Приняв за основу rbhu-käe-, мы возведем форму
именительного падежа скр. rbhu-k§â-s k *rbhu-kââi-s (ср. räs = *räis).
Растяжение а здесь такое же, какое имеет место в dyaûs. Твор. п.
мн. ч. rbhu-kâi-bhis разъясняется сам собою. Что касается вин. п.
rbhu-käan-am (вместо *fbhu-kâây-am), то он обязан своим внешним
видом, вероятно, действию аналогии. Ср. divâ-k§â-s, которое дает
в винительном divâ-ksas-am. В „Ригведе" можно найти, но только
1 Смещения ударения, естественно, остаются такими же, по крайней мере
в простом слове. В сложных словах, где они, как считают, также имеют
место (Benfey, Gramm., стр. 319), практика Вед противоречит правилу.
Тем не менее vi-mçdh-âs („Ригведа", X, 152,2) явно свидетельствует о том, что
правило соответствует истинному положению дел.
2 Поскольку всякое назальное усиление и всякая утрата носового
индоевропейскому языку не свойственны, совершенно очевидно, что склонение скр.
yué, которое в сильных падежах преобразуется в yung, не может быть
древним. К тому же в „Ригведе" форма yung- чрезвычайно редка.
484
во множественном числе, uru-£räy-as, pâri-gray-as от £ге.
Именительный единственного числа должен был бы иметь, как мне
кажется,форму -gras. Приведем еще dhï-gâv-as („Ригведа", IX,86,1).
Когда корень оканчивается на а, το.Α слабых падежей перед
окончанием выпадает: soma-pâ, вин. п. soma-pâ-m (-pâ^-m), дат.
soma-p-é (-рл-е). Здесь то же самое, что в глаголе gâ-h-ati =
*gâ-h-nti, восходящем к galH + éti. См. стр. 335 и § 14.
0 нашем истолковании замены аг и а% в таких словах, как
pad, где выпадение а невозможно, см. стр. 496.
ПАРОКСИТОННЫЕ ОСНОВЫ
Парокситонные основы санскрита сохраняют, как известно,
ударение на корневом слоге во всех падежах х.
Согласны ли мы с Остгофом (цит. раб., стр. 46, там же прим.),
который указывает, что последующие исследования, возможно,
приведут к заключению о полной неизвестности
индоевропейскому языку этого закона индийской акцентуации и что если
взять в качестве примера форму сравнительной степени wâsyas,
то в дательном должно было бы быть wasyasÄi2? Нет, не
согласны; напротив, мы утверждаем, что закон об ударении в
парокситонных основах существовал изначально:
1) из всего предыдущего вытекает, что ударение в «сильных»
падежах не в меньшей мере стремится перейти на окончание,
чем в дательном или в других «слабых» падежах. Таким образом,
что могли бы означать такие смещения ударения, какие имеют
место в wasyäs wasyasÄi?
2) Подобная подвижность ударения мало согласуется с
закрепленностью корневого вокализма, который очень устойчив в
парокситонных основах.
3) Наблюдается поразительный контраст между «слабыми
падежами» окситонных основ на -was и парокситонных на -yas.
При прочих равных условиях в первом случае мы обнаруживаем
vidûâe ( = *vidusé), во втором — vâsyase. Закрепленность ударения
подтверждается также в инфинитивах на -man-e, -μεν-αι с
парокситонными основами.
Итак, у слов с нормальными парокситонными основами ece
падежи оказываются сильными.
Другое дело ^попытаться установить, не проникла ли тем
или иным образом, начиная с праязыковой эпохи, деградация
суффикса в некоторые группы парокситонных основ.
1 Существуют редкие исключения, которые, однако, являются гаковыми
только по видимости Так, например, pumän (дат. pumsé) было сначала
окситонным, как это вытекает из вокализма корня. То же можно сказать и о svàr
(suar), которое дает в ведийском дательный sOré Относительно sânu, род. п.
snos, см. стр. 501 и сл.
2 Таково, по-видимому, мнение Бругмана („Stud.", IX, стр. 383).
485
Предполагать такую возможность прежде всего побуждает то
обстоятельство, что большинство санскритских парадигм не
отмечает в этом отношении различия между окситонными и
парокситонными основами: bhrâtre, râgne, bhârate обнаруживают
такое же ослабление, как mâtré, ukâné, tudaté.
Не следует рассчитывать, что европейские языки доставят
нам данные, которые могли бы разрешить этот вопрос. Впрочем,
вот примечательный случай, способный подкрепить свидетельство
санскрита: t в герм, svester „сестра" могло появиться лишь в
слабой форме svesr-, из которой оно распространилось в
дальнейшем и на сильные формы (см. Brugmann, „Stud.", IX,
стр. 394), а это доказывает, что деградация в этом слове весьма
древняя. Но ведь данная основа парокситонна: скр. sväsar.
С другой стороны, древнеиндийское парокситонное причастие
женского рода в bhârantï (ср. tudati), по-видимому,
положительно указывает на то, что греческое словоизменение φέρων
φέροντος более первично, чем скр. bhâran bhâratas. Такова
точка зрения Бругмана (цит. раб. стр. 329)х.
Впрочем, объем рассмотрения этого вопроса значительно
сужается, если учесть, что во множественном числе и в
двойственном числе, где царит слабая флексия, окситонные и
парокситонные основы подвластны тому же закону.
Б. Вытеснение происходит в силу законов слабой флексии
Пауль посвятил часть своей упомянутой нами работы
изучению первичного склонения основ на i и и, или, точнее,
наиболее распространенному виду этого склонения. Автор показывает,
что деградация суффикса во всех числах зависит от начальной
фонемы окончания: в соответствии с тем, является ли эта
фонема гласным или согласным, суффиксальное а либо появляется
либо исчезает2. В звательном, где окончание нулевое, арийский,
1 Язык Вед, по-видимому, делает некоторое различие между основами на
-man, в зависимости от того, окситонны ли они или парокситонны. Среди
последних имеются, например, gémanâ, bhumanä, bhumanas, yâmanas.
Напротив, premân, prathimân, mahimân дают в творительном падеже prenâ,
prattling, mahinâ [41], где выпадение m свидетельствует о сильном давлении, которое
испытывал суффикс. Но bhumanas, yâmanas, быть может, являются
подражаниями kârmanas, vârtmanas,_ хотя, с другой стороны, парокситонное açman
дает в зендском род. п. ashno (Spiegel, Gramm., стр. 156). Слабые основы
у un- и mahnon- от yuvan и magna van не дают веских доказательств в пользу
деградации парокситонных основ; у нас слишком мало уверенности в
древности их акцентуации. То же замечание справедливо и по отношению к таким
словам, как sâkhai- sâkhi-, Ср. sakhibhyas (Benfey, Vollst. Gramm., стр. 320).
2 Поражает, что в той же работе автор стремится провести параллель
между основами, о которых мы говорим, и основами с плавным и носовым;
ведь даже предложенная им формулировка его закона делает, на наш взгляд,
эту параллель призрачной.
486
балто-славянский, германский и кельтский свидетельствуют
о том, что здесь было a („Beitr.", IV, стр. 436).
Это и есть то самое, что мы выше назвали слабой флексией
(стр. 470). Принцип ее вытеснения определяется следующим
законом: добавление начинающегося согласным окончания влечет
за собой утрату а1У предшествующего этому окончанию.
Основы, оканчивающиеся на i и и
В случаях, когда суффикс имеет свою полную форму, тон в
санскрите и греческом приходится на а. Есть все основания
полагать, что таковой была изначальная акцентуация.
Акцентуация слабых падежей множественного числа будет рассмотрена
ниже, на стр. 490 и сл.
Мы можем тут же сказать о качестве этого a. Основы на i
и и в слабом склонении допускают, по-видимому, лишь аг. В
греческом представлено ε, в санскрите—a краткое, о в слав, synove,
a в лит. sunaus представляют собой вторичные модификации е
(стр. 362). В готском а в anstais, anstai; sunaus, sunau еще не
объяснено; оно, как кажется, не обнаруживается в других
германских наречиях — напротив, древневерхненемецкий имеет еще
suniu—и, кроме того, множественное число sunjus
свидетельствует об е.
Основы у u k t äx i и m г d âxu дадут в соответствии с выше
сформулированным законом1:
Им.
Зват.
Вин.
Дат.
Местн.
Ед. ч.
yukti-s
yakta^
yukti-m
yuktaxy-Ai
yuktâxy-i
Мн. ч.
уЫаа^-а^
yuktajy-a^
yukti-ns
yukti-bhyas
yukti-swa
Ед. ч.
mfdû-s
mrda^
mrdu-m
mrdâiW-Ai
mrdâiW-i
Мн. ч.
mrdâiW-a^
mfda^-a^
mrdû-ns
mrdu-bhyas
mrdu-swa
Различные формы требуют особых замечаний.
1. Родительный ед. ч. Индоевропейская форма выглядела,
надо думать, как yuktâjs, mrdâ^s, принимая во внимание
соответствие слав, kosti, synu скр. yuktés, mrdos (Leskien, DecL,
стр. 27). i и u должны были быть долгими, так как они проис-
1 В статье об усилении гласных („Académie de Vienne", LXVI, стр. 217)
Φρ. Мюллер привлекал внимание к антитезе склонений yukti, mçdu и
консонантных основ. Он обращал внимание на то, что первые из названных основ
ослабляют суффикс как раз в тех формах, которые у основ второго типа
являются сильными. Но, помимо того, что «согласное склонение», как мы
видели, включает также основы на i и и, отмеченная антитеза, так сказать,
случайна; она существует лишь в пределах, ограниченных принципом двух
флексий и природой окончаний. В местном и звательном парадигмы неизменно
совпадают: mfdo, ср. Ζευ, dätar; sûnavi (вед.), ср. dyâvi, dâtâri.
487
ходили из стяжения уА и wA, поскольку окончанием было -As
(стр. 478). Впрочем, это стяжение не вполне регулярно; обычно
оно имеет место, по крайней мере если дело идет об и, только
в том случае, когда полугласному предшествует согласный, как
это наблюдается, например, в dhutâ= *dhwAtâ (§ 14).
2. Такие отложительные в зендском, как garöit, tanaot,
нисколько не колеблют общего правила: они, возможно, недавнего
происхождения (Leskien, Decl., стр. 35 и сл.) и к тому же
они имеют окончание -ad, а не -d. Если бы garoit было древним,
то оно восходило бы к 'garayad'.
3. Творительный падеж ед. ч. и родительный падеж мн. ч.,
к сожалению, с трудом поддаются исследованию из-за того, что
yuktinära, mrdünäm—новообразования. Однако остаются такие
ведийские формы творительного падежа, как pavyâ, urmiâ, а в
зендском такие формы родительного мн. ч., как rauwäm, /raftwäm,
vanhvâm (Spiegel, Gramm., стр. 142). Родственные языки не
обнаруживают в этом отношении между собой согласия.
Типы pavyâ, vanhvâm явно находятся в полном противоречии
со слабой флексией; мы должны принимать их такими, каковы
они есть, как образчик сильного склонения. Эта аномалия
зависит, видимо, от природы их окончаний.
4. Двойственное число. Дательный—отложительный скр.
yuktibhyäm, mrdubhyäm, слав, kostïma, synuma не содержит в
себе ничего необычного. Что касается родительного—местного,
то мы просим обратиться к стр. 490. Форма
именительного—винительного juktt, mrdu, слав, kosti, syny еще недостаточно
освещена, и мы не знаем, как ее следует истолковать.
Основы на i и и в процессе словообразования претерпевают то же самое,
что и при словоизменении. Они удерживают свое а, пока к ним не
присоединяется какой-нибудь добавочный элемент, начинающийся с согласного; у
трактуется при этом в качестве гласного. Вот почему мы имеем в санскрите
västavya от västu х, в греческом αστείος от &στυ х, δέν-δρεον от δρυ, в
готском tri va-, kniva- от *tru, *knu. Мысль о том, что греческие глагольные
прилагательные на -τέο родственны индийским формам на -tavya, в
значительной мере теряет под собой почву в свете замечаний на этот счет Курциуса
(„Verb.", II, стр. 355 и сл.). Что они возникли, подобно индийским
прилагательным, из основ на -tu, это общераспространенное мнение, и его, мы
полагаем, нет оснований оспаривать. Слово έτεός, утраченная дигамма которого
появляется в ΈτεΡάνδρω (кипрская надпись, „Revue archéologique", 1877,
стр. 4), не одиноко; засвидетельствовано также и £τυ-μος. Перед согласными
мы находим i, и: скр. çuéitvâ, bandhutä, греч. ταχυτής и т. д. В женском
роде греч. πλατεία, возможно, более первично, чем скр. pjthvf; ср., однако,
οργυια, "Αρπυια и т. д.
Слабая флексия была употребительна в единственном числе,
видимо, только у основ, оканчивающихся на i и и. И все же ее
наличие можно заподозрить в таких словах, как скр. yantiir, aptur,
1 Нам следовало бы писать vâsto, αστευ и т. д. К несчастью, если бы мы
дали в этой форме основы, то это вызвало бы немало недоразумений.
488
vandhur. Основа с плавным дала бы в именительном yamtf-s, в
дательном yamtâxr-Ai, в винительном yamtf-m. Таким образом,
yamtfs могло, в сущности, дать в санскрите у ant иг и через
расширение—yantûram и т. д. В греческом μάρτυρ могло быть вместо
*μάρτι·ς.
Множественное и двойственное число основ сильного склонения
Винительный множественного числа лучше любой другой
формы показывает, каким образом принцип, управляющий в
единственном числе склонением таких слов, как pitâr, ukäan и
т. д., не подтверждается в других числах.
Место ударения в этих падежах выясняется, как мы видели
(см. стр. 336 и сл.), благодаря арийскому окончанию -as,
восходящему к -ns, которое превратилось бы в -ans, -an, если бы на
него приходилось ударение. Впрочем, первичная акцентуация
сохранилась в греческом (πόδας, ср. ποσσί) и даже в индийском
в основах без деградации, которые в Ведах лишь изредка несут
ударение на окончании -as1.
Установив, что ударение первоначально падало на основу,
Бругман счел себя обязанным пойти дальше и допустить — чисто
умозрительно, потому что свидетельства зендского и европейского
тут совершенно двусмысленны,— что винительный множественного
числа был в древности сильным падежом. Выше мы приняли эту
точку зрения, так как еще не понимали тогда, что суждение о
множественном числе рассматриваемых основ должно быть иным,
чем суждение относительно их единственного числа. А к каким
только несообразностям эта точка зрения не приводит!
Правдоподобно ли, чтобы систематическое ослабление всех санскритских
основ в винительном множественного числа было обязано тако:*
случайности, как их вторичная перестройка? Как, в частности,
объяснить форму основ с плавным, например pitfn? Вся гипотеза
ниспровергается этой формой, которая становится понятной лишь
при возведении ее к индоевропейскому p^f-ns (ср. гот. fadruns).
Если исходить из предположения Бругмана, то в санскрите
можно было бы ожидать только 'pitrâs' (вместо *pitaras, *pi-
târns). Таким образом, между винительным множественного и
единственного числа в этом отношении существовало различие.
Первый слог перед окончанием был ослабленным, несмотря на
ударение. Но это не что иное, как опровержение взгляда, будто
винительный множественного числа обладал сильной флексией.
1 Примеры: i§as, kSapas, giras, tugas, diças, druhas, dviSas, dhiyas, dhu-
ras, puras, prkSas, psuras, bhidas, bhugas, bhuvas, minas, mrdhas, yudhas,
ripas, vipas, viças, v£tas, vriças, çriyas, stubhas, spâças, sp^dhas, srâgas,
sridhas, sruéas, hrutas. См. словарь Грассмана.
489
Зато простое сопоставление *pitf-ns, *sâkhi-ns, *dyu-ns с
mrdu-ns говорит нам о том, что эти формы без малейших
трудностей укладываются в рамки слабого склонения.
Носовой окончания -ns воздействовал как согласный: отсюда
mrdu-ns и p^tf-ns, а не mrdâw-ns и p^är-ns. Вот почему не
следует удивляться, что мы обнаруживаем также bhârnt-ns,
tudnt-ns, widus-ns, ^p-ns (bhâratas, tudatâs, vidu&as, apäs).
Основы с носовым должны были дать uksns или, пожалуй,
uksnnns. Можно было бы, без чрезмерно большой натяжки,
вскрыть эту последнюю форму в вед. ukSânas, vfäanas. Во
всяком случае, ukSnâs—не чистый тип.
В именительном бросается в глаза параллелизм между pitâras,
ukSânas, sâkhâyas, dyâvas и yuktâyas, mrdâvas.
Мы подошли к падежам, окончание которых начинается с bh
и s; таковы, например, следующие формы творительного: p^tr-
bhis, uksn-bhis, saki-bhis, dyu-bhis. Подобно yukti-bhis, mrdu-bhis,
ослабление здесь вызвано начальным согласным окончания, а не
акцентуацией. Рассмотрим все же акцентуацию. Ни в санскрите,
ни в греческом окончание не несет на себе ударения (pitfbhis,
πατράσι и т. д.). Остгоф (РВВ, III, стр. 49) реконструирует
*pitrbhis, *πατρασί. Но если мы признаем здесь слабую флексию,
такое исправление ни к чему1.
Но существуют еще слова-корни. Здесь ударение падает на
окончания -bhis, -bhyas, -swa: греч. ποσσί, скр. adbhis, adbhyäs,
apsu. Следует думать, что это подражание (праязыковое, а не
вторичное) ударению единственного числа. Во всяком случае,
даже если бы это предположение оказалось ошибочным и
интересующие нас окончания повсюду, как полагает Остгоф, несли
на себе ударение, наша уверенность в том, что ослабление
вызывалось исключительно соприкосновением с согласным окончания,
не была бы ни в малой степени поколеблена.
Однако при наличии единообразия места ударения в сильных
формах (mrdave, pitâras) и в таких формах, как pitfbhis, равно
как и в винительном мн. ч. всех основ (см. выше), нам
представляется, что мы вправе считать в качестве одной из
характерных черт слабого словоизменения то, что окончание не
притягивает на себя ударения.
Родительный мн. ч. скр. uk§nâm (гот. auhsne), зенд. bräfträm
(греч. πατρών) и т. д. стоит рядом с yukty-âm, mrdw-âm (зенд.
vafthvâm); см. стр. 488 и сл.
Двойственное число. Именительный—винительный pitârau,
ukSânau, säkhäyau, bähävä образованы согласно правилам сла-
1 В пользу акцентуации pitfbhis можно заметить, что она правомерна
для односложных слов, состоящих из корня -f-суффикс, каковы vi-bhis, dyu-
bhis, snu-bhis, st£-bhis. Если бы -bhis искони неизменно несло на себе
ударение, то, конечно, можно было бы ожидать 'vibhis', 'dyubhis' и т. д.
490
бого склонения; эти падежи отвечают им даже в большей мере,
чем своеобразные формы yuktî и mrdü от основ, столь
приверженных этому виду словоизменения. В родительном—местном
yuktî и mrdu дают в санскрите yuktyos, mrdvos. Должно было бы
быть *yuktâyos, *mrdâvos и, равным образом, pitâros и т. д.
И именно эта последняя форма, согласно наблюдениям Грассмана,
требуется размером в двадцати местах „Ригведы", где текст дает
pitros1; mätaros встречается в трех местах из четырех. Нам
неизвестно, много ли имеется аналогичных примеров. Но и эти
представляются нам весьма показательными. В зендском в
родительном дв. ч. мы находим çpentôxratavâo. В славянском kostiju,
synovu, хотя и не могут служить прочной опорой для нашего
предположения, но вместе с тем и не колеблют его. Такие
формы, как yuktyos, pitros, образованы по аналогии с
родительным множественного числа.
Деградация парокситонных основ во множественном и
двойственном числе (bhârantas, bhâradbhis и т. д., bhâradbhyâm)
должна быть весьма древней, потому что здесь дело уже не в
ударении. Основы на -yas в порядке аномалии сохраняют свое a,
возможно, под влиянием единственного числа, о котором мы
говорили на стр. 484 и сл.
Числительное четыре
Гот. fid vor показывает, что а в скр. catvâras вовсе не
представляет собой a2, но подлинно долгое ä ( = a + a). Санскритское
слово следует членить либо так: k2a1twA-â2r-a1s, либо так:
k^twâ^r-a^. Первая гипотеза более естественна, ибо где же
еще мы найдем основы на -алг? В том и другом случае такие
слабые формы, как формы творительного, должны были дать
*k2axtwAr-, откуда греч. *TsxFôcp-. Слав, cetyr-ije, гот. fidür-dogs
предполагают другую слабую форму—*k2a1twAr-, к2а^иг-,
которая вполне согласуется с готской формой fidvor. В санскрите
можно было бы ожидать *catür-, а не catur-. Тем не менее
примечательно, что винительный дает caturas, а не 'catvyn'.
Именительный—винительный ед. ч. ср. р.
Все основы, оканчивающиеся на ах + сонант в именительном —
винительном ед. ч. ср. р., принимают свою редуцированную
форму, независимо от того, какова их флексия. Об основах с
носовым2 см. стр. 326 и сл. Основы с плавным имеют в санск-
1 Отметим, пожалуй, что твор. ед. ч. pitrâ, дат. pitre не дают повода к
подобным замечаниям. Pitaros, безусловно, имел ударение на втором слоге.
2 Такие греческие формы, как τέρεν, ευδαιμον и т. д., вторичны.
491
рите r: dätf1; ср. греч. νέκταρ (основа *νεκτερ-). Далее имеем
çuci, mrdu и такие основы с сильной флексией, как dyu, su-dyu.
Это явление не может .зависеть от акцентуации: во-первых,
она варьирует и, кроме того, вытеснение а никогда не
вызывается ударением, кроме . того случая, когда оно оказывается
позади понесшего урон слога.
Ослабление, таким образом, зависит от чисто динамической
причины или от воздействия, подобного тому, которое порождает
слабую флексию, а именно столкновение с противоборствующими
фонемами. Мы предпочитаем последнее объяснение.
Голая основа, которая предположительно была первичной
формой именительного—винительного среднего рода,
первоначально смешивалась с звательным м. р. Таким образом, тгаахи
выполняло две функции. Но тогда как звательный в своем
качестве восклицания оказался вне фразы, именительный —
винительный среднего рода стал подвергаться стиранию, следствием
которого явилось окончание, начинающееся с согласного. Он
отбросил свое ах.
Представляется достоверным, что то же преобразование
произошло и с частицей nu, вместо *najU, сохранившейся в nâjW-a
(стр. 376).
Разносклоняемые слова среднего рода, например kard
(стр. 504), и слова среднего рода на -as, -yas, -was (mânas,
vâsyas, ειδός) совершенно не подвергаются этой редукции.
Приведем в качестве исключения, укладывающегося в предыдущее
правило, скр. âyus при греч. oùFoa- (м. р.), которое дало вин.
п. άιώ; кроме того, у05 = дат. jus.
Форма sthâ, вед. ср. р. от sthâ-s, должна быть причислена
К аномалиям.
г. появление фонемы а2
Сначала мы подвергнем рассмотрению распределение ах и а2
в таких суффиксах, как -an, -ar, -tar, was и т. д., которые
способны вытеснять a, как только появляются ослабляющие его
факторы, и которые не содержат в себе никакого иного a, кроме
закономерного для сильных падежей.
Предварительно нужно отметить, что один и тот же суффикс
может принимать или не принимать a2. Суффикс -tar имен
деятелей принимает a2; суффикс -tar имен родства повсюду
сохраняет ау. Здесь нас интересует лишь первый случай; что касается
второго случая, то его рассмотрение полностью относится к главе
о вытеснении a.
1 Существует форма среднего рода sthâtur (противопоставление £agat),
конечный слог которой я не могу себе объяснить.
492
Формы, в которых сразу становится очевидным, что суффикс
принимает а2У—это винительный единственного числа и
именительный множественного и двойственного числа. Когда одна из
названных форм содержит в себе фонему a2, то можно быть
уверенным, что она налицо и в двух остальных г.
Остается выяснить, и это тот вопрос, рассмотрением которого
мы займемся, приводит ли появление a2 в вышеназванных
формах к его наличию в трех других сильных падежах, а именно
в именительном, местном и звательном единственного числа.
1. Именительный. О количестве а см. ниже, стр. 494. Сначала
выясним его качество. Бругман установил, что скр. dätäram
передано в греческом через δώτορα и никоим образом не через
δωτήρα. После этого нет ни малейших оснований считать, что
греческий эквивалент скр. data будет скорее δωτήρ, чем δώτωρ.
Лат. dator, как нам представляется, разом решает вопрос. Хотя
Бругман не говорит по этому поводу ничего определенного и
окончательного, он далек от того, чтобы подвергнуть сомнению
первичность лат. dator, поскольку он использует эту форму для
объяснения долготы в вин. datôrem (первоначально *datÔrem).
А раз так, то флексия δωτήρ является не чем иным, как
разновидностью флексий γαστήρ и πατήρ, разновидностью, вместе с
которой η именительного оказалось перенесенным в некоторые
другие падежи2. Придется допустить класс имен деятеля без a2,
который представлен в санскрите только единственным словом
çâmstar (вин. çâmstaram). В основах с носовым при греч.: χι-ών
имеем лат. hi-em-s. Не является ли это признаком флексии,
которая на почве греческого дала бы в именительном 'χιήν' и в
винительном χιόνα? Это маловероятно. Кто знает, не является ли
е в hiems следствием ассимиляции — наподобие той, которая
наблюдается в bene от bonus? Она могла произойти, например,
в винительном *hiomem, во множественном числе *hiomes. Таково
же, возможно, происхождение е в juvenis, ср. скр. yûvânam.
Flamönium при наличии flamen3 могло бы повести к
заключению, что винительным был *flamönem, *flamonem; впрочем, эта
форма удовлетворительно разъясняется аналогией с matrimonium
и т. д.4. Что касается основ на -was, то Бругман с достаточным
основанием считает, что греч. είδώς (древний вин. *είδόσα) является
прямым продолжением первичной формы.
1 Индийское мн. ч. dyâvas при греч. Ζήν = *Ζευν, безусловно, обязано
своим à долгим соседству с dyaus и dyâm (о которых см. стр. 479) или
аналогии gavas.
2 Древний винительный на -τερα оставил след в словах женского рода на
*τειρα. Последние могли образоваться только по этой модели, ибо тип -τρία
является единственным, отвечающим скр. -trï.
3 Usener, Fleckeisen's Jahrb., 1878, стр. 51.
4 Нет ничего более неопределенного, чем этимологии, возводящие лат.
mulier и греч. υγιής к основам сравнительной степени на -ya2s.
493
Таким образом, нет ни малейших данных в пользу того, что
гласная окраска именительного когда-нибудь отличалась от такой
же окраски винительного.
Что касается количества а в именительном, то ныне
господствует мнение, согласно которому в основах с плавным, носовым
и свистящим оно было долгим уже в праязыке. Система гласных,
таким образом, увеличивается на две фонемы: йх и й2—долгие
фонемы, встречающиеся совершенно спорадически и ограниченно,
насколько можно судить по данной форме флексии, тогда как
прочие ä долгие восходят к сочетанию двух а кратких.
Вопрос о том, появлялся ли s после слога с долгим гласным, был
предметом оживленных дебатов. Первым усомнился в этом Шерер и усмотрел в
удлинении гласного особый способ отмечать именительный. Но и те, кто
допускает появление s и приписывает удлинение гласного механическому
воздействию со стороны свистящего, не пришли к единому мнению
относительно времени, когда этот s должен был исчезнуть.
Что касается этого последнего пункта, то мы позволим себе только
привлечь внимание к параллели между sâkhâ(i) и Λητώ (см. стр. 482), которая,
наряду с другими хорошо известными аргументами, побуждает нас к
допущению, что после an, am, är и ai β последней фазе индоевропейского свистящий
отсутствовал.
Мы присоединяемся к теории, согласно которой удлинение вызывается
какой-то (неизвестной) причиной, но отнюдь не воздействием s, и вместе с
тем не считаем, что оба эти объяснения исключают друг друга. Как можно
было бы понять скр. vés, лат. vates, греч. Ζευς (наряду с зенд. kava, скр.
sâkhâ, ср. стр. 480 и сл.), если удлинение вызывалось бы s? Кроме того,
существуют случаи, когда долгий гласный стоит перед взрывным. Так,
именительный падеж от скр. pa2d „нога" будет иметь форму päd, например в
a-pâd. Если это древняя форма, то наличие в ней â долгого должно
восходить еще к праязыку. Но, без сомнения, можно сослаться на аналогию с
такими формами, как pâdam (=πόδα). Приведем тут же герм, fot-1, <5_кото-
рого, если не допустить в какой-нибудь первичной флексии наличия а
долгого, полностью и совершенно необъяснимо. Но где же мог существовать а,
если не в именительном падеже ед. ч.? Дор. πώς подтверждает сказанное:
-πος в τρίπος и т. д. отражает воздействие косвенных падежей; ср. Πόλυ-βος
из βους. Что касается πους, то это во всех смыслах темная форма, и мы
видим в ней только базу для πώς. Если допустить, что ä в скр. napätam
восходит к а2 (стр. 506), то а в именительном п. параЧ = зенд. napâo (вместо
*napâ[t]s), равно как и о в лат. nepöt-, также доказывает протяжение. То же
можно сказать о лат. vöx (ср. греч. δψ) и vocare, которое представляет
собой явно отыменное образование ст *vöc-. Наконец, все такие слова, как
лат. für, греч. φώρ, κλώψ, ρώψ, σκώψ, παρα-βλώψ, происходя от корня,
содержащего е, могут найти свое объяснение лишь в растяжении именительного.
Позднее долгий гласный проник во все словоизменение, даже в такие
отыменные образования, как fürari, φωράω, κλωπάω, которые породили прочие
новообразования (ср. βρωμάοί, δρωμάω, δωμάω, νωμάω, πωτάομαι, τρωπάω,
τρωχάω, στρωφάω). Рядом с οΙνοψ существует οίνώψ, рядом с εποψ—«πωπα
(Гесихий). Эти вариации количества восходят, видимо, к тому же источнику.
2. Местный. Здесь очевидна пермутация. В санскрите мы
находим dätaram и dätäri, uksânam и ukSSni, kSämi и käamas
1 Др.-сканд. föt—еще согласная основа. Гот. fot и- возникло из fot-, как
tunjm—из tun])-. Язык был введен в заблуждение формами fotum (дат.
мн. ч.) и fotu (вин ед. ч.), которые восходили к согласной основе.
494
( = греч. χθόνες). Такая же замена обнаруживается и в готском
auhsin = ukSäni (стр. 479) при auhsan и auhsans = uksânam, uksâ-
nas. И. Шмидт сопоставил эту германскую парадигму с лат.
homo hominis homonem (архаич. лат.), и эта параллель все более
и более подтверждается в отношении именительного и
винительного. Что касается косвенных падежей, то здесь трудно
допустить, чтобы i ( = е) в homin- соответствовало i ( = е) в auhsin.
Латинский гласный, видимо, скорее всего является чисто
анаптиктическим, и форма hominis происходит от *homnis (ср.
стр. 349 и умбр, nomne и т. д.). Греч. aiFsi скорее может
восходить к основе at'Foa- (вин. п. αίώ), чем к *оаТо = лат. aevum.
3. Звательный. Бругман („Stud.", IX, стр. 370) определяет
dataxr как прототип скр. dâtar. Но эта форма может восходить
также к dâta2r, и, если в греческом им. п. δωτήρ оторван от
δώτορα (стр. 493), то и зват. σώτερ, на котором настаивает
Бругман, не имеет ничего общего со словами на -τωρ; да и сам
Бругман позднее признал (ΚΖ, XXIV, стр. 92), что качество а не
поддается определению (δώτορ со своей стороны мог быть
вторичным по отношению к *δώτερ), и вследствие этого он пишет
применительно к основам на -was: widwa2s или widwa^. Та же
неопределенность существует и в отношении основ с носовым, и
в отношении основ на i и и сильного склонения (sâkhe, ΛητοΤ;
стр. 482). Ниже (стр. 497) мы остановимся на обстоятельствах,
которые говорят в пользу αγ. И все же появление ах в основах,
о которых мы говорим, с достоверностью может быть доказано
в отношении лишь одной формы, а именно формы местного
падежа.
Вот все, относящееся к пермутации а2 : ах в слогах перед
окончанием, сохраняющих а лишь в сильных падежах. Но само
собой понятно, что в тех из этих слогов, в которых выпадение
а невозможно, также имеет место пермутация совершенно иного
характера: пермутация вынужденная (forcée), если позволительно
назвать ее таким образом. Склонение существительного со
значением „утренняя заря" в греческом очень ранней поры должно
было быть (ср. Brugmann, KZ, XXIV, стр. 21 и сл.) таковым:
им. п. *αυσώς (скр. uSâs), вин. п. *αυσόσα (скр. usâsam), зват. п.
*αυσος или *αυσεζ (скр. usas), местн. п. *αυσέσι (скр. uääsi);
род. п. *αυσεσός (скр. usäsas вместо *uäasas); см. стр. 483 и сл.
В этой парадигме появление е в местном и звательном, если
*αυσες—соответствующая истине реконструкция, вызвано
свободной пермутацией, рассмотренной выше. Напротив, е в *αυσεσός=
скр. usäsas возникло исключительно вследствие внешней
причины, помешавшей вытеснению суффиксального a, и мы видели,
что в этом случае неизменно появляется ах (стр. 422).
495
В основах-корнях вынужденная пермутация — явление частое.
Так, аг в лат. pedis, греч. πεδός, скр. pädas при compodem, πόδα,
pâdam (В rug m an η, „Stud.", IX, стр. 369) вполне сопоставимо
с a! в *αυσεσός. Зато местный, бесспорно, давал pâxdi в
результате свободной пермутации.
Рассмотрим теперь пермутацию a2:a! в основах, у которых
ece падежи являются сильными, иначе говоря, в парокситонных
основах (стр. 486). Формы сравнительной степени на -yas,
имеющие а2 в именительном падеже (лат. suavior) и в винительном
(скр. vâsyâmsam, отражающем древнее *vâsyâsam, греч. ήδίω-*ήδιοα),
в косвенных падежах санскрита дают а краткое или, если угодно,
аг: vâsyase, vâsyasas, väsyasä. Совершенно очевидно, что здесь
не может быть и речи о вынужденной пермутации, и таким
образом мы узнаем, что родительный, дательный и творительный
падежи, когда ударение позволяет им быть сильными падежами,
имеют вокализм местного1.
Это помогает понять словоизменение парокситонов ср. р. на
-as, которые имеют а2 в именительном — винительном и ах в
остальных падежах (Brugmann, цит. раб., стр. 16 и сл.). Если
бы слово среднего рода mâna2s, дат. п. mana^Ai мы превратили
в слово мужского рода, то имели бы в именительном mânâ2s,
в винительном mâna2sm, в дательном mâna2sAi, то есть такое же
словоизменение, как у форм сравнительной степени. Дательный
таким образом был бы полностью разъяснен. Наличие a2 в
именительном— винительном получает прямое подтверждение в том,
что формой среднего рода от wasyä2s будет wâsya2s (лат. suavius),
а формой среднего рода от widwâ2s—widwâ2s (греч. είδος). Эти
три типа являются исключением из правила, требующего
вытеснения а в именительном—винительном среднего рода (стр. 492).
Во множественном числе и в двойственном числе (слабое
склонение) основы, окситонные и парокситонные, которые не могут
отбросить а перед начальными согласными окончаний, получали,
в соответствии с правилом, аг\ греч. μένεσ-at, δρεσ-φι
свидетельствуют об этом столь же хорошо, как и индийские винительные
pädas, usäsas (=padns, uäasns); ср. pâdas, uàâsas.
Предвосхищая то, что будет сказано ниже о звательном, итог
предшествующего рассмотрения может быть сформулирован сле-
1 Конъектура Бругмана (цит. раб., стр. 98 и сл.) исходит из того, что
присутствие а в слабых падежах имен на -yas неправомерно, с чем мы не
можем согласиться (стр. 486 и сл.).— Из предшествующего видно, что padâs,
*usasas должны были иметь ait даже если бы пермутация не была для них
вынужденной. И тем не менее мы сочли более правильным передать
существо дела так, как оно только что было изложено,
496
дующим образом: в именном склонении предшествующие
окончанию слоги, в которых за аг следует фонема, допускающая
изменение ах в a2, обнаруживают это изменение 1) в именительном
всех трех чисел, 2) в винительном единственного числа, 3) в
именительном—винительном единственного числа среднего рода,
когда он сохраняет a. Повсюду в других положениях а, если он
не вытеснен, может быть лишь рефлексом аг.
Мена между обоими a в основах, оканчивающихся на а, была
рассмотрена выше, на стр. 382 и сл. В падежах, которые для
таких основ, как uksân, являются сильными, наблюдается
поразительный параллелизм между двумя классами суффиксов:
Ед. ч. им. uks-â2n ср. yuk-tâ2-s
вин. uks-â2n-m yuk-tâ2-m
местн. uks-a^-i yuk-täx-i
Мн. ч. им. uks-a^-a^ yiik-tâ^s.
Остается звательный ед. ч. Мы уже видели, что гласный этого
падежа не поддается прямому определению для таких основ, как
uksan (стр. 495). Однако Бругман на основании зват. yuktar
делает вывод в пользу гипотезы dataxr (äksa^), и мы
присоединяемся к его мнению, однако не столь убежденные его доводами,
о которых мы незамедлительно выскажемся, а единственно
потому, что местный падеж подтверждает симметрию обоих
приведенных выше парадигм.
Бругман убежден, что мена между ах и a2 объясняется
акцентуацией, и в частности, что ax в зват. yukta1, воспринимаемый
им как ослабление, зависит от отступления тона в этом падеже.
Но местный, который не разделяет со звательным этой
особенности ударения, обнаруживает совершенно тождественный
вокализм. Наконец, где доказательство, что акцентуация, которую
мы сейчас имеем в виду, оказывает какое-либо влияние на a2?
Насчитывается столько же a2 после ударения, как и под
ударением, и к тому же оба a находятся сотни раз в одних и тех же
условиях относительно ударения, показывая тем самым, что они,
насколько мы знаем, не зависят от этого фактора. Это
обнаруживается с полной ясностью при просмотре, например,
приводимого ниже перечня суффиксов; ведь один и тот же суффикс при
одном и том же ударении может в известных условиях
принимать а2, а в других—сохранять ах. Итак, как мы отметили на
стр. 421 и сл., мы видим в ax первичный и нисколько не
ослабленный гласный, а Ba2 — модификацию этого гласного. И насколько
бесспорно, что мы обнаруживаем повсюду три разновидности: a2,
a! и a нулевое, настолько же, по нашему мнению, было бы
ошибочным полагать, что они составляют как бы шкалу из трея
497
ступеней и что at является промежуточным этапом между а2 и
а нулевым.
Бругман говорит („Stud.", IX, стр. 371): «все сомнения, которые
могли бы возникнуть относительно нашего права рассматривать е
в звательном падеже как ослабление, рассеиваются фактом
наличия основ на -а», и он приводит затем примеры в звательном
падеже: νύμφα, 2eno, ambä. Это и есть тот непостижимый
параллелизм основ на -а с основами на -ах (a2), который подтверждается
также в местном и о котором мы уже говорили на стр..385. Ему
нельзя придавать большого значения, пока эта загадка не будет
разрешена.
Мы видели, каким образом, если в основе есть a2, эта фонема
чередуется с аг в различных падежах склонения. Остается
установить или, вернее, зарегистрировать (ибо в этом распределении
невозможно уловить какую-либо закономерность), каковы эти
основы, и каковы те основы, которые повсюду удерживают аг.
Ради краткости мы пишем, например: суффикс -a2n, что
означает: разновидность суффикса -ахп, допускающего a3.
1. Слог перед окончанием принимает a2:
Основы-корни. Наиболее существенные из них это pa2d „нога,
ступня": скр. pâdam, греч. πόδα (Bru g mann, „Stud.", IX, стр. 368);
wa2k „голос": скр. vâcam (ср. стр. 484), греч. F<ma. Относительно
лат. vöcem см. стр. 494. В греч. χους (род. п. χοός), δόρξ, φλόξ
(это слово вторично и корень его—φληγ; см. стр. 487, сноска 2),
πτώξ, θώψ. Может вызвать сомнение, представляет ли ä в скр. ар
„вода" axа или a2. Мы решаем в пользу ajA исходя из трех
соображений: 1) если бы а в ар-am было рефлексом a2, мы должны
были бы, согласно правилу, иметь в дательном p-é, 2) вероятно
родство с греч. 'Am- (стр. 352) и 3) в таких сложных словах,
как dvïpâ, anûpâ, начальное a в ар слилось с
предшествовавшими i и и, что не могло бы произойти с av Среди сложных
слов мы имеем в греческом, например, Βελλεροφών, Ίο-φών,
винительный падеж которых первично должен был бы дать -cpova.
Часть индийских слов, образованных с участием vah, sah и т. д.,
имеет в винительном формы -väh-am, -säh-am. Слабая форма
существует, например, для anad-vâh-am, которое дает anad-uh-
(стр. 484; относительно именительного см. стр. 340, там же прим.).
Для -sah (=sa2h) слабая форма должна была бы быть *säh-, так
как сочетание согласных sgh недопустимо. Так вот, в „Ригведе"
можно встретить всегда лишь сильные падежи этих основ;
исключение составляет только основа anadvah. Чередование -väh- и
-uh-, -sâh- и sah таким образом было утрачено и, тем не менее,
форму с долгим гласным не решались переносить в слабые падежи.
498
Существует всего один-два таких примера, как saträ-sah-e. Формы
именительного падежа имеют долгое ä (havya-vät и т. д.). Поскольку
слог тут закрытый, долгий гласный появился или вследствие
аналогического расширения или вследствие растяжения формы
именительного падежа (см. стр. 494).
Суффиксы.
1. -а2п. Этот суффикс часто встречается во всех языках
индоевропейской семьи.
2. -а2т. Суффикс -а2т вскрывается в ghi-âm, греч. χι-ών
(зенд. zyäo, лат. hiems; ср. стр. 479) и в ghs-âm: греч. χθ-ών,
им. п. мн. ч. скр. käam-as. (Brugmann, „Stud.", IX, стр. 308).
3. -а2г. Скр. dv-âr-as1 (им. п. мн. ч.). Сильная форма вновь
возникла в слав, dvoru, лит. dvâras, лат. fores (Brugmann,
цит. раб., стр. 395). Сюда же можно отнести и swasa2r, скр. вин. п.
svâsâram, лат. soror, лит. sesü, ирл. siur (ср. athir), греч. гор-ες2.
4. -ma2n. Этот суффикс известен в греческом, латинском,
германском и арийском. Было бы интересно выяснить, почему в
греческом древний винительный на -μονά и вторичный винительный
на -μώνα в точности распределяются между парокситонными и
окситональными основами.
5. -wa2n. Этот суффикс, частый в санскрите, вскрывается с
большей или меньшей достоверностью в греч. πίων, πέπων, άμφικ-
τίονες и ιθυπτίων, хотя, может быть, и нельзя безоговорочно
идентифицировать -πτιων с скр. patvan, как это делает Фик.
6. -ta2r. Имена деятеля.
7. -a2s. Скр. им. п. мн. ч. uââs-as, зенд. ushäonh-em, греч.
ήώς, лат. aurora; греч. αιδώς. Затем все слова среднего рода на
-as. См. стр. 495 и сл.
8. -ma2s, по-видимому, налицо в инд. pumas, вин. п. pumämsam
вместо *pumâsam. Ср. стр. 340, там же прим., стр. 484, там же
прим., стр. 483).
9. -ya2s—суффикс сравнительной степени (Brugmann, KZ,
XXIV, стр. 54 и сл. и 98).
10. -wa2s—суффикс причастия прошедшего времени.
(Brugmann, цит. раб., стр. 69 и сл.).
1 Придыхательное dh, как мы полагаем, сохранялось в этом слове до
тех пор, пока не образовалась форма dhur „дышло, передок телеги",
происходящая от dhr. В дальнейшем постоянная опасность смешения dhur и
слабых падежей от *dhvar (таких, как dhurâm) привела к дифференциации
этих форм.
2 Л. Мейер усмотрел в оар греческую разновидность swajsar—мнение,
к которому никто не присоединился^ Зато нет ни малейшей фонетической
трудности в идентификации скр. svâsaras εορες* προσήκοντες, συγγενείς; ср.
έ*ορ· θυγάτηρ, ανεψιός (возможно, зват. п.), εύρεσφι* γυναιξίν. Большое число
других близких форм, хотя и довольно разнородных, собрано Аренсом
(„Philologus", XXVII, стр. 264). Отклонение смысла было не большим, чем
для φράτηρ.
499
К этому первому ряду присоединяются, как мы видели,
суффиксы, оканчивающиеся на a (-a, -ta, -ma и т. д.), которые, все
без исключения, получают a2.
II. Слог перед окончанием не терпит a2.
Основы-корни, κτείς κτενός (первоначально родительный должен
был быть *κτηνός, *κτανός), νέκες* νεκροί, κτέρες (там же), лат. nex
и т. д. В сложных словах: скр. vrtra-hän(-am), rtï-ââh(-am) рядом
с rti-äah(-am).
Когда основа-корень не может ни принять a2, ни отбросить a
(например, скр. spaç, spaçam, spaçé, греч. έπί-τεξ), естественно,
нельзя с полной уверенностью ответить на вопрос, не
принадлежит ли она к типу dvis (стр. 484).
Суффиксы.
1. -ахп. Некоторые санскритские основы, такие, как vrSan,
вин. п. vfâanam. В греческом мы находим ά'ρσεν- (возможно,
идентичное vfâan), τέρεν-, αί>χέν-, φρέν-. Иногда эти слова обобщают η
именительного, откуда λειχήν -ήνος, πευθήν -ήνος. Суффикс -axn
без a2 отсутствует в германском.
2. -а^. Скр. n-âr, вин. п. пагат = греч. άνέρα. Ср. сабин, пего.
Кроме того, налицо αιθ-έρ, écF-έρ-, στπνθ-έρ-, λα-πτυ-ήρ- σφοδρώς
πτΰων (Гее).
3. -пицп. Греч, ποιμέν-, πυθμέν-, λιμέν- и т. д.
Балто-славянский (kamen-, akmen-) утратил -ma2n и знает только -тахп. Это
явление, обратное тому, которое имело место как в германском,
так и в санскрите1.
4. -ta^. Имена родства2 и имена деятеля (см. стр. 493 и сл.).
5. wa^. Это суффикс, который следует допустить для devâr,
вин. п. devaram. В действительности, греч. δαέρ- имеет в корне а;
таким образом, этот корень не может выступать в виде dAiw
(см. стр. 465). Об этом слове ср. Brugmann, „Stud/', IX,
стр. 391.
6. -aLs. Мы привели на стр. 483 скр. bhiy-äs(-am). Основы на
-a2s, образуя второй элемент сложного слова, отказываются от a2:
скр. su-manäs-am, греч. ευ-μενής, άν-οαδής, лат. degener. Такие
прилагательные, как греч. ψευδής, скр. tavâs, ведут себя точно
так же.
В санскрите нет ничего равноценного греческому правилу,
требующему, чтобы πάτερ-, άνέρ-, γαστέρ- и т. д. давали в
сложных словах εύ-πάτορ-, άν-ήνορ-, κοιλο-γάστορ-,— явление, противопо-
1 Количество а варьирует в зендском, как и во всех других случаях.
Этому ,не следует придавать большого значения. В санскрите aryamân дает
aryamanam, но это сложное слово при корне man.
2 Относительно аномалии этих имен в готском, где они имеют в суф*
фиксе a (fadar и т. д.), аномалии, неизвестной в других германских
наречиях, см. Paul, „Beitr.", IV, стр. 418 и сл.
500
ложное тому, которое мы только что видели у основ на -as.
Правило слов среднего рода на -μα, аналогичное по видимости
приведенному выше, имеет, возможно, совсем иной характер. К тому
же совершенно очевидно, что πήμα могло дать ά-πημον- лишь в ту
пору, когда в первом слове еще было п, если не в
именительном—винительном, то, по крайней мере, в косвенных падежах1.
Но объединение обеих этих форм могло быть даже первичным.
Если допустить, что интересующие нас слова среднего рода
происходят от основ на -ma2n, а не -тг^ (вопрос, который никак
не может быть решен), то -πημον- является правильной формой
мужского рода к πήμα. Санскрит говорит в пользу этой гипотезы:
dvi-gânmân-am : gânma=a-Trfyjiov-a : πήμα2.
Нет надобности указывать на блестящее подтверждение
теории о фонеме a2, которое смог извлечь из этих различных
суффиксов Бругман. Среди индийских основ на -аг растягивают а:
1) имена деятеля, 2) слова dvâr и svâsar; в греко-италийском
основы на -аг, которые принимают о, суть: 1) имена деятеля,
2) основы, соответствующие dvâr и svasar. Арийский дает нам
uSâsam при sumanäsam; в греко-италийском мы находим ausos-
и ευμενέσ-, degener-.
Мы воздержимся от какой-либо гипотезы относительно слов
женского рода на -а. природы их суффикса и их флексии3.
Чтобы закончить этот обзор, мы рассмотрим еще два вида
склонения, в которых, вопреки обычному правилу,
перекрещиваются явления, связанные как со словоизменением, так и со
словообразованием.
1. Склонение некоторых основ на и
В санскрите gnu (встречающееся лишь в сложных словах) и
слово среднего рода dru явно находятся в таком же отношении
к gânu и dâru, как snu к sânu. В сильных формах â — это a2;
см. стр. 381. Что касается слабых форм, то в греческом мы
находим γνΰξ, πρό-χνυ, ιγνΰς, δρυ-; в готском—knussjan, kn-iv-ar
tr-iv-a.
Правило индийской грамматики относительно snu требует,
чтобы эта форма заменялась формой sânu (которая также может
иметь полное склонение) в косвенных падежах" всех трех чисел
(плюс винительный мн. ч.). См. В en fey, Vollst. Gramm., стр. 315.
1 После того как п исчезло, образовались такие сложные слова, как
δστομος вместо *άστόμων.
2 Отношение κέρας и χρυσό-κερως явно не имеет ничего общего с
отношением πήμα и άπήμων, так как -κερως — это простое сокращение -κεραος.
Напротив, отношение πεΐραρ(-ατος) и ά-πείρων было бы интересно исследовать.
3 Ср. стр. 385, 498.
501
Первичное склонение, в соответствии с этим указанием, могло
быть таким: им.-вин. dâ2r-u, дат. dr-âxw-Ai и т. д. Это не более,
чем возможность; но если предположить, что дело действительно
обстояло так, то мы бы столкнулись в индоевропейском
словоизменении с настолько необычной парадигмой, что вынуждены
были бы подвергнуть ее исследованию и попытаться ее
объяснить.
Представив себе склонение dâ2r-u, dr-âiW-Ai, нельзя, соблюдая
правдоподобие, предположить две основы различного образования;
такая гипотеза, разрешив вопрос наиболее простым образом,
вместе с тем не смогла бы объяснить постоянное чередование
обеих форм.
Задача состоит в том, чтобы найти способ объединить da2ru-
и drajU- в одном первичном типе, не прибегая к помощи других
модификаций, кроме тех, которые вызываются словоизменением.
Исходя из парокситонной основы dâr-ajU, это невозможно;
ударение, падающее на корень, никогда не перемещается на
суффикс (стр. 485). Предположим, в таком случае, в качестве
первичной основы *dar-â1u : dr-ä^-Ai вместо *ааг-а^-А1 (см. стр. 515).
В именительном—винительном dâ2r-u мы видим, что ударение
отступило на корень, где оно поддержало а. Весь вопрос
заключается в том, чтобы выяснить, можно ли объяснить это попятное
движение ударения. Нам кажется, что можно. В силу правила,
которое мы привели на стр. 491, именительный — винительный
слова среднего рода * dar-âu должен дать *dar-u. Hoi ии в
конце слова не принимают на себя ударения (стр. 472 и сл.). Таким
образом, ударение было вынуждено отступить назад, на корневой
слог.
Если признать реальность предположенного нами
индоевропейского склонения dâ2ru drâxwAi и достоверность
предшествующего объяснения dâ2ru, то мы получаем право и на уточнение
первоначальной формы среднего рода от такого прилагательного,
как mrdu-s, которое должно было бы быть mrâdu. Эта форма
была слишком подвержена воздействию аналогии, чтобы
удержаться.
Та же гипотеза позволяет установить для склонения слова
paku (pecus) среднего рода именительный — винительный pâj^-u,
дательный pa^-w-Ai. Мы принимаем pakwAi, а не pakawAi,
потому что существуют признаки в пользу того, что это слово
изменялось по сильному склонению. Рядом с санскритским
прилагательным drâv-ya мы имеем paçv-yà, а вед. род. п. м. р.
paçu-s неизменно имеет форму paçvâs (ср. dros, snos). Впрочем,
сильное склонение ничего не меняет в вопросе об ударении. Вот
доводы, которые могли бы подкрепить допущение такой же
изменчивости ударения, какую мы наблюдали в трех предыдущих
словах среднего рода. Винительный среднего рода скр. paçu
дважды встречается в текстах (см. Böhtl. — Roth); первый раз это
502
парокситон, такой же, как гот. faihu, второй раз—окситон. Далее
следует указать на отмеченный Бругманом („Stud.", IX, стр. 383)
параллелизм окситона мужского рода paçu-s с dru-s, δρο-ς и
формой мужского родазенд. zhnu. Это обстоятельство укрепляет связь
слова среднего рода pâçu с группой таких слов, как dâru, è^nu,
sânu. Им.-вин. pâ^u является парокситоном по той же причине,
что и dâ^u1. В форме дательного paxkwAi и в форме мужского
рода pa^u-s корневое а существует лишь потому, как говорит
Бругман, что pku- было бы непроизносимо (зенд. fshu возникло
в результате вторичных изменений); ср. стр. 344 и сл.
Скр. герундивы gatvâ, çrutvâ при инфинитивах gântum, çrotum
принадлежат, на первый взгляд, к той же категории явлений, которую мы только
что рассмотрели. В действительности, это не так. Объяснение, предложенное
нами для däru и опирающееся на конечное и, неприменимо к gantum. Кроме
того, было бы необходимо, чтобы ведийские инфинитивы на -tave имели
редуцированный корень и ударение на суффиксе, но известно, что в
действительности имеет место обратное (gântave). Приходится ограничиться мнением
Барта (MSL, II, стр. 238), а именно, что герундив на -tvâ не восходит к
основе инфинитива. Но даже если бы удалось найти способ установления связи
между этими двумя формами, осталась бы необходимость объяснить такие
ведийские герундивы, как kjtvf.
2. Разносклоняемые слова
А. слова среднего рода
Уже давно Шерер высказал предположение, что индийская
парадигма таких слов среднего рода, как âksi, в которой
чередуются суффиксы -i и -an, должна непосредственно восходить
к праязыку. И, действительно, в родственных языках эти слова
предстают перед нами то как основы на -i, то как основы на
-an. Остгоф (цит. раб., стр. 7) присоединился к мнению Шерера.
Но слова на -i, -an являются лишь ветвью более обширной
группы слов, тесное единство которой бесспорно.
В склонении этих слов, которые могут быть названы
разносклоняемыми словами среднего рода, используются две различ-
1 Разная окраска а в paxku и da2ru, gâ2nu, sa2nu зависит от неизвестных
нам факторов. Предположение о таком же влиянии сонантов, о каком шла
речь выше на стр. 380, было бы недостаточно обоснованным. Возможно, что
слово мужского рода ра^и и окситонные косвенные падежи, где ах было
вынужденным, повлияли по аналогии на им. п. *pâ2ku. Я не знаю, как следует
объяснить дательный падеж вед. pâçve, если только перед нами не атракция,
вызванная корневым а (стр. 458). Бругман (цит. раб.) показывает, что
существовала форма gaxnu наряду с gnu и ga2nu; также и ирл. deruce „жёлудь"
вместе с лит. dervà (в слав. — drëvo) (J. Schmidt, Voc, II, стр. 75)
восходит к da^u. Во всяком случае, представляется невероятным, чтобы эта
третья форма чередовалась в склонении с двумя первыми. О лат. genu и вед.
sanubhis ср. стр. 343, 344.
503
ные основы1. Первая из них образована с помощью суффикса
-an; она окситонна; корень в ней ослаблен.
Эта первая основа используется при образовании всех тех
падежей, окончание которых начинается с гласного. Эта основа
принимает сильную флексию.
Вторая основа несет ударение на корне, представленном
полной формой. Как правило, эта основа должна быть, видимо,
лишена суффикса. Когда же он в ней налицо, то это или i или,
возможно, какой-нибудь элемент, содержащий г, но никогда не и
и не п. Впрочем, это, возможно, не только суффикс; в нем
допустимо усматривать эвфоническое добавление, возникшее с самого
начала в силу необходимости из-за встречи нескольких согласных
в падежах множественного числа (asth-i-bhis и т. д.).
Эту вторую основу принимают те падежи, окончание которых
начинается с согласного, и кроме того,
именительный—винительный ед. ч., в этом отношении приближающийся к ним (стр. 491).
Иными словами, это—средние падежи санскритской грамматики,
а также слабые падежи слабой флексии.
Рассмотрение разновидностей корневого вокализма, о которых
мы только что говорили, входит в главу о словообразовании,
поскольку они находятся в соответствии с чередованием обоих
суффиксов. Было бы правильнее рассмотреть склонение
разносклоняемых слов в § 13. Но так как чередование суффиксов
в свою очередь связано с чередованием падежей, нам показалось
естественным объединить исследование этого склонения с
исследованием фактов, относящихся к словоизменению.
Почти все разносклоняемые слова среднего рода обозначают
части тела.
1-й ряд: основа именительного—винительного лишена
суффикса.
1. Греч, ους- лат. aus в aus-culto. Основа косвенных падежей οδατ-, то
есть *ούσ-ν-. Она дала гот. auso ausins. Двойная первичная акцентуация
объясняет различающуюся трактовку s в auso и в др.-в.-нем. örä.
Именительный— винительный, видимо, колеблется между двумя образованиями, так
как, наряду с ous, лат. auris, лит. ausis и дв. ч. слав. u§i заставляют
предположить ousi. С другой стороны, слав, ucho должно бы восходить к ousas.
2. Лат. ös=cKp. äs (и âsyà), дат. âs-n-é (первично, возможно, äsne?)
3. Скр. çïr§-n-é восходит к * krAs-n-Âi, которое предполагает в
именительном—винительном kr<3xAs, быть может, сохраненное греческим в κατάκρας и,
несомненно, в κρα(σ)-ατ-(ος); слог κρδσ- заимствован из именительного —
винительного, так как точным соответствием çirS-n-âs могло бы быть лишь
*κορσατος.
4. Слово со значением „сердце" должно было иметь вид ka^d, дат. п.
kçd-n-Ai, что хорошо разъясняет греч. κ?)ρ или, скорее, κήρ (см. Brugmann,
„Stud.", IX, стр. 296), гот. hairto hairtins, лат. cor и т. д. Ср. скр. hfdi и
hirdi.
1 Именительные—винительные дв. и мн. ч. останутся вне нашего
рассмотрения ввиду неясности, которая существует по вопросу об их
первоначальной форме.
504
6. Скр. dos, дат. п. do§-n-é „рука от плеча до кисти".
6. Лат. jOs „сок, навар". Санскрит обнаруживает основу yüs-an,
употребляемую только в косвенных падежах.
7. Скр. vâr „вода" наряду с vâri; основа на -an по-видимому, была
утрачена.
2-й ряд: именительный — винительный образуется с помощью
элемента, содержащего г. Когда г является гласным, он
порождает следующий за ним g2 или, чаще, зубной, по-видимому, t
(ср. стр. 328). Эти добавления, вероятно, те же самые, что и
в -kâi-t, -kr-t (стр. 484) и -dhr-k (в именительном сложных слов
с dhar). Производные asra (санскрит) и udra (индоевропейский)
хорошо показывают, что звук, следующий за г, не существен.
1. Скр. âs-ç-g, дат. п. as-n-é. Греч, еар, εΐαρ („Grdz.", стр. 400). Что
касается а в лат. s-an-gu-i-s, san-ies (ср. стр. 328), то он, по-видимому,
анаптиктический (ср. гл. VI). Мы должны предположить для индоевропейского
им.-вин. п. â^s-ç^, дат. п. s-n-A'i. В санскрите а было восстановлено в
косвенных падежах по аналогии с именительным — винительным. Что касается
латыш, assins, то его а, без сомнения, вторично. В свете всего
предшествующего мы рассматриваем лат. assir, assaratum как чуждые этой группе
слов. Мюллер (ad. Fest. s. v. assaratum) считает их, к тому же, словами
финикийского происхождения.
2. Вед, ап-аг, дат. п. âh-n-e (возможно, вместо * ahné).
3. Вед. Ödh-ar (позднее udhas), дат. п. udh-n-e (первично Udhné?); греч.
ουθ-αρ, ουφ-ατ-ος; лат. üb-er и Oufens; др.-в.-нем. üt-er (ср. р.).
4. Лат. fem-ur fem-in-is. Ваничек в своем греко-латинском
этимологическом словаре цитирует нижеследующий, весьма существенный отрывок из
Присциана (VI, 52): dicitur tarnen et hoc fernen feminis, cujus nominativus
rar о in usu est. Быть может, здесь имеет место общность корня с скр. bhâni-
sas, bhasad.
5. Греч, ήπ-αρ ήπ-ατ-ος; зенд. yäkare (зендско-пехлевийский словарь); скр.
yâk-jj-t yak-n-é; лат. jec-ur jec-in-or-is, jocinoris; лит. jekna. Можно полагать,
что первичными формами были: ya^k-ç-t, дат. п. VAk-n-A'i, что разъясняет
â долгий в зендском и греческом. Однако надо признать, что е в литовском
и латинском говорит не в пользу этого; мы бы ждали в них а.
6. Греч, υο-ωρ ö'0-ατ-ος (Ь); др.-сакс, watar, гот. vato vatins; лат. u-n-da;
лит. va-n-d&', слав, voda; скр. udân, употребляемое только в косвенных
падежах (им.-вин. udaka). Заключение: и.-е. wâ2d-r(-t), дат. п. ud-n-A'i.
Носовой в латинском и литовском явно эпентетический.
7. Греч, σκ-ώρ σκ-ατ-ός; скр. çâk-ç-t çak-n-é (лат. stercus). Эти формы
разъясняются лишь первичным словоизменением: séxk-ç-t, дат. п. sk-n-A'i.
3-й ряд: основа именительного—винительного образуется при
помощи конечного i. — В соответствии с тем, что мы видели выше
(стр. 402, 403, 404), о в словах οσσε, όστέον, ους должен быть
рефлексом о. Что касается деградации корневого вокализма, то
эти примеры не относятся к числу вполне удовлетворительных.
Корень здесь остается неизменным.
1. Скр. âk§-i, дат. п. akS-n-é К Голая основа появляется в an-âk§ „еле-
1 Посредством расширения носовой основы ведийский диалект образует
форму aklébhis. Форма двойственного числа akSibhyäm представляет собой
скорее единственное число.
505
пой", им. п. апак. Форма на -i дает греч. οσσε, лит. akîs и слав, οδί (дв. ч.)1
иначе в гот. augo augins, где еще заметна акцентуация основы на -an.
2. Скр. asth-i, дат. п. asth-n-é1. Греч, δστι-νος, οστ-έ(ν)ο-ν (ср. h^d-aya),
лат. os ossis (в арх. лат.—ossu). Такие формы, как δστρεον „устрица",
заставляют предполагать наряду с конечным г и конечное -i. См. Curtius,
Grdz., стр. 209.
3. Скр. dâdh-i, дат. п. dadh-n-é. Др.-прусск. dadan не имеет здесь
большого значения; это слово среднего рода на -а. (Leskien, Decl., стр. 64).
4. Скр. sâkth-i, Дат. п. sakth-n-é. Гален сообщает слово ικταρ (το τής
γυναικός αιδοΐον), употребленное, как он говорит, Гиппократом, но в
дальнейшем изъятое, по-видимому, вполне обосновано критикой текста («jam diu
evanuit»; см. Lobeck, Paralip., стр. 206). Эта форма, однако, очень хорошо
согласовалась бы с sâkth-i. Следует ли сопоставлять ιξύς, ισχίον, ΐσχι? (Гесихий).
5. Бенфей (скр.-англ. словарь) сопоставляет скр. angi и лат. inguen. Но
лат. слово, не говоря уже о других предложенных разъяснениях (см.
J. Schmidt, Voc, I, стр. 81), сближают также с скр. gaghâna.
б. слова мужского и женского рода
Мы обнаруживаем здесь основу на -an и основу без суффикса.
Эта последняя может принимать конечное i. Только основа на
-an парокситонна и содержит в себе полный корень, тогда как
вторая основа—краткая и ослабленная. Эти две основы
распределяются таким образом, что „сильные" падежи слов мужского
рода соответствуют „очень слабым" падежам (плюс местн. п. ед.
ч.) слов среднего рода и что „средние" и „очень слабые" падежи
слов мужского рода представляют собой подобие „средним"
падежам среднего рода. Склоняясь по нормам среднего рода, рап-
than, pathi должно было бы, несомненно, дать: им. п. pânthi,
дат. п. pathné (твор. п. мн. ч. panthibhis). Больше того,
равнозначные формы path и path+ 1, в противоположность тому, что
имеет место в словах среднего рода, обычно используются в
склонении одного и того же слова, причем первая—перед гласными,
вторая—перед согласными.
Для скр. pânthan существует полная парадигма: pânthân-as,
path-é, path-i-bhis. Форма pathin является фикцией грамматистов2
(см. Böhtl.—Roth); path, pathi вместо pnth, pnthi; ср. стр. 324. Лат.
ponti-, слав. p$tï восстанавливают в форме на i вокализм основы
на -an и указывают нам на то, что корневое а в pânthan
представляет собой a2. Тот же корень дает гот. finfta, fanf>. По
образцу pânthan склоняется также mânthan.
„Очень слабые" падежи скр. puS-ân (здесь основа на -an окси-
тонна) могут быть образованы из основы рШ>. Вопадева допускает
форму püä только для местного падежа ед. ч. (Benfey, Vollst.
Gramm., стр. 316).
1 Консонантный родительный зендской формы açtaçéa мог бы навести
на мысль, что именительный —винительный первоначально имел форму ast
и что asti- было сохранено в падежах мн. ч. Ср. ниже три основы слов
мужского рода.
2 paripanthin содержит в себе вторичный суффикс -in.
506
Другие примеры могут быть лишь предположительными. Среди
них греч. ά'ζ-ων, которое противостоит лат. ax-i-s, слав, osï; скр.
naktân и nâkti (можно было ожидать обратного: *naktan и *nâkti;
ср. лит. naktis) с греч. νυ*τ- и гот. naht-. Троякая форма
обнаруживается также в греч. χερ-, χειρ- (вместо *χερι-) и * χερον
(в δυσχεραίνω от δυσχερών). В зендском xshapan „ночь" дает в им. п.
Xshapa, в вин. п. xshapan-em, но в род. п. xshap-ö (Spiegel,
Gramm., стр. 155); санскрит устранил *kâapan, обобщив käap.
Быть может, pati „господин, учитель" также не чуждо этой
группе слов, и это разъяснило бы patnî, πότνια. Лит. pats
предлагает нам форму без i, ив расхождении, существующем между
ударением скр. pâti и гот. -fadi-, также, видимо, что-то кроется.
Склонение этого слова полно всяческих странностей. В зендском
есть только им. п. paiti. Ср. также Ποσειδάων.
Опираясь лишь на догадку, мы приписываем возникновение
древнеиндийской основы nâptar (которая в „Ригведе" никогда
не появляется в сильных падежах) включению -г-, подобного г
в yâk-r-t и т. д., в слабые падежи мн. ч. näpat *; таким
образом, мы имеем nâp-t-r-bhis вместо naptbhis.
Нужно соблюдать осторожность при рассмотрении этого
широкого скрещивания суффиксов. Мы находимся в излюбленной
сфере той школы, которая усиленно занималась попытками свести
их друг к другу. И все же мы полагаем, что набор приведенных
примеров не оставляет сомнения в том, что смена различных
основ регламентировалась строго закрепленным порядком и с
учетом равноценности некоторых из них, каковы akâ и akä + i, в
противоположность akä + an.
§ 13. Общий обзор изменений вокализма,
вызванных словообразованием
В § 12 мы привели перечень модификаций, которые
наблюдались в словах перед окончанием. Последующее должно было бы
быть естественным дополнением к этому перечню, а именно
историей модификаций, постигающих слоги перед суффиксами.
Но мы вынуждены сказать заранее, что этот обзор по
необходимости будет еще более неполным, чем предыдущий. Ни явле-
1 Слово женского рода napti доказывает, что ä в nâpâtam представляет
собой a2t иначе между ρ и t оно должно было бы сохраниться в виде
какого-либо гласного. Лат. nepötem позаимствовало так же, как datôrem,
свое δ у именительного падежа (см. стр. 494). Ирл. niae, род. п. niath ничего
не говорит нам о количестве а (ср. betnäd = ßtoTiixoc; см. Windisch, PBB,
IV, стр. 218), но ничто не препятствует считать его а2. Ср., наконец, νέποδες(?)
Замещение nâpt-ç-bhis формой 'naptbhis', по-видимому, имеет некоторую
аналогию с особенностью ведийского склонения ksip и kàap: эти слова дают в
творительном падеже мн. ч. k§ip-a-bhis, k§ap-â-bhis.
507
ния вокализма, ни явления акцентуации не были серьезно
изучены применительно к словообразованию. Независимо от этого
досадного обстоятельства, мы, возможно, в этой области никогда
не добьемся столь же определенных результатов, какие
достигнуты в том, что касается словоизменения. Слишком значительны
отклонения от общепризнанных правил.
Мы начнем с очень сжатого обозрения главнейших
образований. Для каждого из названных нами суффиксов мы укажем,
какую акцентуацию и какой корневой вокализм он допускает.
1. ИМЕННЫЕ ОСНОВЫ
Основы, оканчивающиеся на аг—a2.
Основы на -а2—1-й ряд: окситоны (насколько можно об этом
судить, см. стр. 374 и сл.); корень на ступени 2; см. стр. 373
и сл.— 2-й ряд: окситоны; корень слабый1.
Основы на -ta2.— 1-й ряд: парокситоны (?), корень, на
ступени 2; см. стр. 371.— 2-й ряд: окситоны; корень слабый
(причастия); ср. стр. 315, 323, 436 и сл., 443.
Основы на -па2.— 1-й ряд: парокситоны (?); корень на
ступени 2; см. стр. 372 и сл.— 2-ой ряд: окситоны; корень слабый2
(причастия). Кое-какие следы ступени 1; см. стр. 372.
Основы на -tna2.— 1-й ряд: акцентуация не вполне
установлена; корень на ступени 2; см. стр. 369 и сл. с добавлением
βωμός, θωμός, ρωχμός (стр. 426, 428, 452).— 2-й ряд: окситоны;
корень слабый3.
Основы на -га2 — 1-й ряд (немногочисленный); корень на
ступени 2; см. стр. 426, 442.—2-й ряд: окситоны; корень слабый;
см. Lindner, стр. 100 и сл., стр. 157.
Трудно обнаружить правило основ на -уа2 и -wa2. Пример
a^wajj „лошадь" не позволяет сам по себе сказать что-либо иное
сверх того, что основы на wa2 имеют в корне ах\ быть может,
это вторичное образование, каковым, например, является скр.
him-â, греч. -χιμ-ο-ς, о котором можно сказать, что он содержит
в себе суффикс -та, но происходит от основы ghi-am.
1 Вот некоторые примеры: и.-е. yuga; скр. u§â, kjçâ, pica, bhççâ, vçdha,
vra и т. д.; зенд. gëreôa «рычащий» от gared, bërega «желание» от bareg;
греч. άγος, ο'φλοί, οφείλεται, στραβός от στρεφ, ταρσός от τερς и с
перемещением тона: δτλος, στίβος, στίχος, τόκος; герм, tuga- „стрела" (Fick, III3,
стр. 123), fluga- „полет" (F i с k, стр. 195), buda „повеление" (Fick, стр. 214),
гот. drusa „падение", quma „прибытие". Эти основы не редки в сложных
словах: скр. tuvi-gra, a-kra; греч. νεο-γνό-ς, ά-ταρπό-ς, ζα-βρό-ν πολυφάγον, έλα-θρά*
έν έλαίω έφθά, δί-φρο-ς, ίπι-πλα *γνυ-πτό в γνυπτείν (Гесихий); лат. privi-gnu-s,
prö-bru-m (что бы ни говорил Корссен, см. его Sprachk., стр. 145).
2 Гот. fulls = *fulnas, греч. λύχνος, σπαρνός, ταρνόν κολοβόν и все
индийские причастия на -па.
3 Скр. tigmâ, yugma, yudhmâ, rukma, sidhmâ (стр. 455 и сл.) и т. д>;
греч. ακμή, έρυγμός, πυγμή, στιγμή.
508
Представляется, что можно сделать следующее заключение:
различные суффиксы, которые оканчиваются на a2, допускают
в одинаковой мере как редуцированный корень, так и корень
на ступени 2, но совершенно не допускают корня на ступени 1.
Что касается ударения, то оно неизменно падает на суффикс
в тех случаях, когда корень редуцирован. Большая часть ряда,
который находится на ступени 2, была, видимо, также
составлена из окситонных основ, однако это правило не представляется
достаточно четким.
Основы, оканчивающиеся на аг+сонант или s.
1. Суффикс не допускает a2.
Основы на -a2n. Окситоны; корень редуцированный: греч.
φρ-ήν, *Fp-*ijV (стр. 478); скр. uksân (вин. п. ukäänam и ukäanam),
plîhân (европейские языки побуждают предположить, что
суффиксом здесь являегся ахп). Относительно скр. vfsan (вин. п.
vfsanam) и греч. ά'ρσην нужно допустить, что их акцентуация
вторична. Некоторые примеры имеют корень на ступени 1: греч.
τέρην, λειχήν, -ήνος, πευθήν, -ήνος.
Основы на -majn, Окситоны; корень слабый. Греч, άότμήν,
λΐμήν, πυθμήν. См. стр. 420. Если сюда же включить основы слов
среднего рода, оканчивающихся на -man, то мы получим второй
ряд, составленный из парокситонов, у которых корень
представлен ступенью 1. Акцентуация подтверждается единообразием
греческого и санскрита, ступень 1—примерами, собранными на
стр. 418 и сл.; ср. стр. 425 и 442.
Основы на -ахг. Окситоны; корень слабый, скр. n-âr, us-âr.
Основы на -taji*. 1-й ряд: окситоны; корень слабый. Греч.
(ά)στήρ, зенд. c-tär-ö, лат. s-tella (Brugmann, „Stud.", IX, стр. 388
и сл.). Имена родства, такие, как duhitâr, pitâr1, yâtâr (yntâr).—
2-й ряд: парокситоны; корень на ступени 1. Скр. bhrâtar, греч.
φράτηρ; скр. çâmstar. Слово mätar и греческие имена деятеля на
-τήρ поднимают трудный вопрос, который мы исследуем ниже
в связи с суффиксом -ta2r.
Что касается основ на ах1, то весьма существенно знать, было
ли первоначальное словоизменение каждого из предлагаемых
нами примеров сильным или слабым, а мы достаточно часто не
осведомлены об этом. Единственно, что мы можем утверждать
положительно, это, что существуют основы на -а^, которые
принимают в корне a2 (см. стр. 379), тогда как другие, каково и.-е. nsâ^
(стр. 324) и такие ведийские инфинитивы, как drçâye, yudhaye,
ослабляют корень. Во всех языках этот разряд слов сильно
перемешан формами, чуждыми ему по своему происхождению.
Основы на -ta^ (слабое словоизменение). Корень
редуцирован; см. стр. 315, 323, 437; Lindner, стр. 76 и сл.; A melung,
1 Корнем слова pitar может быть агрА или рахА\ в обоих случаях налицо
ослабление.
509
"Ztschr. f. deutsches Altert.", XVIII, стр. 206. Итак, можно
было бы ожидать, что суффикс несет на себе ударение, но факты,
которые подтверждают это, отнюдь не многочисленны. Напротив,
в греческом ударение приходится на корень (πίστις, φύζις и т. д.).
В германском, так же как и в санскрите, окситоны и парокси-
тоны представлены приблизительно поровну. Мы имеем в готском
ga-taurf>i-, ga-kunf>i- и т. д. наряду с ga-mundi-, ga-kundi-, dëdi-
и т. д. Линднер насчитывает 34 ведийских парокситона при 41
окситоне (в словах мужского и женского рода). Вопреки всему,
ударение, надо полагать, падало на суффикс. Мы можем
проследить в историческую эпоху отступление ударения в mati, kîrti
(вед.), которые позднее превратились в mati, kîrti. Больше того,
gâti, yâti, rati от gam, yam, ram и sthiti, diti от sthä, da
первично должны были быть окситонами, иначе носовой сонант
в трех первых дал бы -an1 (стр. 335), и i вторых появилось бы
в виде а (стр. 461). Отметим в санскрите s-ti от as.
Основы на -ajU слабого словоизменения.— 1-й ряд (весьма
многочисленный). Окситоны (Bezzenberger, Beiträge, II,
стр. 123 и сл.)2; корень слабый; см. стр. 315, 323, 443;
Lindner, стр. 61.— 2-й ряд: окситоны; корень на ступени 2,
например скр. çankû, слав. s$ku; см. стр. 379 и сл.
Основы на ахи сильного словоизменения. Окситоны; корень
слабый, например: di-âjU, go-âx-u (стр. 480).
Основы на -taxu.— 1-й ряд: окситоны; корень слабый: скр.
rtu, aktu (= гот. uhtvo, стр. 324); зенд. рёгёШ = лат. portus;
гот. kustus.— 2-й ряд: парокситоны; корень на ступени 2: герм,
daufms (Verner, ΚΖ, XXIII, стр. 123), греч. οί-σύ-α—от
корня waxi (см. Fick, И3, 782), скр. tântu, mântu, sotu и т. д.
Возможно, что к этому образованию относятся, инфинитивы
на -tu-m (ср. стр. 503).
Основы на -axs. Окситоны; корень слабый: скр. bhiy-âs (см.
стр. 500). О таких словах, как ψευδής, см. стр. 483 и сл.
II. Суффикс допускает a2.
Основы на -а2п. Окситоны; корень слабый: скр. çv-ân „собака"
(вин. п. çvânam). Греч, κΰων оттянуло ударение на корень, тогда
как в косвенных падежах все обстоит наоборот: греч. κυνός,
скр. çunas. Общий закон германских основ на -а2п состоит
в ослаблении корня; см. Amelung, цит. раб., стр. 208; об
акцентуации этих основ, которые вначале были исключительно
окситонными, см. Ost h off, РВВ, III, стр. 15. Несколько основ
1 Это препятствует реконструкции первичного парокситона gmti,
который, по-видимому, предполагал Бругман, основываясь на гот. ga-qum|)i,
скр. gâti и греч. βάσις („Stud.", IX, стр. 326). Впрочем, нужно сказать, что
существуют такие индийские формы, как tânti, nanti.
2 Достойно сожаления, что в этой работе не принимается в расчет
корневой вокализм и что весьма различные образования оказываются таким
образом нерасчлененными.
510
на ступени 1: греч. εικών, αηδών, άρηγών; μάκων, σκαπων; скр. snehan
(грамм.), râgan и, кроме того, некоторые слова среднего рода,
например gâmbhan, mamhân.
Основы на -ma2n. Корень всегда на ступени 1 (см. стр. 419,
425, 428, 442). В греческом мы находим такие парокситоны,
как τέρμων; в санскрите их мало; это—géman, bhäsman, kloman.
Гот. hiuhma, milhma показывает ту же акцентуацию. Но два
первых языка имеют, кроме того, окситонные основы на -maan,
где корень нисколько не ослаблен, например χειμών, premân,
varàmân, hemân и т. д.
Основы на -а2т. Окситоны; корень слабый (стр. 499).
Основы на -а2г.— 1-й ряд: окситоны; корень слабый (dhu-âr).—
2-й ряд: парокситоны; корень на ступени 1 (swâ^-ar). См. стр. 499.
Основы на -ta2r. Акцентуация и первичное строение основ на
-tar с трудом поддаются определению. На стр. 493 и сл. мы
пришли к заключению, что греческие имена деятеля на -τήρ и -τωρ
с самого начала распадались на две категории. Словоизменение
первых из них первоначально должно было смешиваться со
словоизменением имен родства. А вот имена деятеля на -τήρ
являются окситонами. В соответствии с этими общими правилами и по
аналогии с именами родства (см. стр. 509), можно было бы
ожидать, что их корневой слог окажется ослабленным. Он и
ослаблен в таких словах, как δοτήρ, στατήρ и т. д. Древность этих форм
представляется очевидной, если сопоставить δοτήρ δώτωρ, βοτήρ,
βώτωρ с πυθμήν πλεΰμων. Но на деле интересующее нас
ослабление не распространяется за пределы корней на -а, потому что
мы имеем πειστήρ, άλειιττήριον и т. д. (стр. 421). Более того,
санскрит не знает ни одного имени деятеля, корень которого
был бы ослаблен. На это можно возразить, указав, что
индийские имена деятеля имеют в качестве суффикса -ta2r, а не Лахх.
Но существует одно имя, принадлежащее к последнему разряду,—
мы имеем в виду çâmstar (вин. п. çâmstaram),— и этот
единственный образец не только не ослабляет корня, но и придает
ему ударение. Впрочем, допуская даже, что оба типа—δοτήρ,
δώτωρ—-представляют нам первоначальное состояние, мы не
поймем, каким образом большое число индийских имен деятеля
имеет ударение на -tär, хотя они содержат только a2 и могут
таким образом соответствовать лишь типу δώτωρ. Два
обстоятельства еще больше усложняют этот вопрос, который мы
категорически отказываемся решить: изменчивость акцентуации
санскритских имен деятеля в связи с их синтаксической функцией
(data maghânam, data maghâni) и старое слово mâtâr „мать",
имеющее сильный корень вопреки ударению. Нужно добавить,
что зендский располагает несколькими именами деятеля с
редуцированным корнем, например: kerëtar, dërëtar, bëretar и т. д.
Основы на -a2s.— 1-й ряд: парокситоны; корень на ступени 1.
Это такие слова среднего рода, как μένος; см. стр. 418.— 2-й ряд:
511
окситоны; корень слабый: скр- u§as. Такие слова, как toças
(дв. ч. toç'âsâ), вероятно, вторичны; ср. стр. 484.
Основы на -ya2s. Парокситоны (Ver η er, KZ, XXIII,
стр. 126 и сл.); корень на ступени 1; см. стр. 419, 442 и сл.
Основы на -wa2s. Окситоны; корень (удвоенный) слабый.
Ср. стр. 335, 366 и сл., 441. Скр. gagrbhvân, греч. ίίυΐα, гот.
berusjos (= be-br-usjos).
Причастия 2-го класса на -rit образуют особую категорию,
принимая во внимание отсутствие в них какого бы то ни было
суффиксального а (стр. 468). У них ударение падает на суффикс
и корень редуцирован. Типичным примером является и.-е. s-nt
от axs (Ost h off, KZ, XXIII, стр. 579 и сл.). В санскрите:
uçânt-,dvi§ânt- и т. д. Ср. стр. 336 и § 15.
Следует назвать еще такие формы, как mfdh и (açva-)yûg,
о которых мы говорили на стр. 484 и в которых ослабление,
хотя оно и происходит в слоге перед окончанием, вызывается
отнюдь не окончаниями. Отметим одно любопытное явление, не
располагая возможностью его разъяснить, касающееся этих основ.
После i, u, г, η, m в них обычно вставляется t. Но корни на а,
неизвестно почему, не знают подобного образования: 'pari-äthi-t'
от sthä невозможно; существует только pari-Sthâ1. Таким
образом, pari-Sthä, принадлежащее к тому же типу, что и vrtra-han,
оказалось включенным по воле языкового обычая в группу форм,
с которыми у него нет ничего общего: pari-âthâ, go-£i-t, su-kf-t
и т. д. находятся в одинаковом положении. Во всем этом нет
ничего особенно поразительного, но каким образом получилось,
что этот искусственный параллелизм проявляется и перед теми
из суффиксов, начинающихся с у и w, которые требуют вставки t?
Рядом с â-gi-t-ya, â-kf-t-ya мы имеем ä-stha-ya; рядом с £i-t-van,
kf-t-van мы обнаруживаем râ-van. Те же образования доставляют
нам еще одну загадку, состоящую в том, что их корень,
несмотря на свою ослабленность, несет на себе ударение.
Основы слов женского рода на а (ср. стр. 376). 1-й ряд:
окситоны; корень слабый: скр. druhâ, mudâ, ruga и т. д.; греч.
βαφή, γραφή, κοπή, ραφή, ταφή, τρυφή, φυγή, όμο-κλή, έτα-βλαί2. 2-й ряд:
парокситоны; корень на ступени 1: гот. gairda, giba, hairda,
др.-в.-нем. speha; греч. εί'λη, εϊρη, ερση, έρείκη, λεύκη, μέθη, πέδη,
πεύκη, σκέπη, στέγη, χλεύη. В санскрите varàâ, индентичное ερση,
отклоняется от нормы по своей акцентуации.
1 Скажем все же, что тип madhu-pa (см. стр. 461), возможно,
соответствует go-gi-t, su-kj-t. Но чему приписать отсутствие t?
2 Ударение переместилось в βλάβη, δίκη, λύπη, μάχη, νάπη, δθη, σάγη, μεσά-
δμη.— В известных случаях вытеснение а столкнулось с препятствиями:
и.-е. saxbhâ вместо sbhâ (скр. sabhâ, гот. sîb|a, греч. έφ-έται).
512
П. ГЛАГОЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Многие основы являются производными от других глагольных основ. Эти
образования не входят в предмет нашего рассмотрения и поэтому их достаточно
будет кратко перечислить: 1) Аорист на -saj (скр. dik-Sâ-t, греч. ίξον),
производный от аориста на -s (da^k-s-). 2) Такие окситонные основы на -а, как
limpâ- muncâ-, kjnta—производные, как это предполагал Бопп, от основ
7-го класса, например tçmha[ti] = tçnah- (в tçnédhi)+â. 3) Футурум на-s-yâ
является, возможно, продолжением аориста на* -s. 4) Субъюнктивы (стр. 416).
Такие оптативы, как syâ- (см. ниже), строго говоря, являются производными,
так же как bharaï- и как только что приведенные формы.
Основы на -а1в— 1-й ряд: парокситоны; корень на ступени 1;
см. стр. 415, 440, 445.— 2-й ряд: окситоны; корень (простой или
удвоенный) слабый; см. стр. 311 и сл., 320, 440 и сл., 446 и сл.
Основы на -уа^ Корень слабый как в санскрите, так и в
родственных языках (стр. 443, 445). Вопреки общераспространенному
мнению, рассматривающему индийскую акцентуацию глаголов 4-го
класса как вторичную, Вернер (цит. раб., стр. 120) основывается
на этой акцентуации, чтобы объяснить воздействие, оказываемое
на спирант в герм, hlahjan и т. д. В этом случае вокализм основ
на -уа может быть понят лишь при условии, что он
позаимствован у отыменных образований: таким образом, yûdh-ya-ti должно
быть, строго говоря, производным от yûdh „сражение", pâç-ya-ti
должно быть возведено к spâç (σκοπός). Язык позднее,
по-видимому, стал образовывать эти презенсы без помощи именных основх.
Основы на -skaj. Окситоны; корень слабый; см. стр. 314, 322,
436. В скр. gâcchati, yâcchati корневое а (выделившееся из гр)
перетянуло на себя ударение (ср. стр. 458).
[Основы на -па,-и и -па^А. Окситоны; корень слабый;
см. стр. 322 и 470].
Основы на -уа^. Окситоны; корень (простой или удвоенный)
слабый: и.-е. s-yâ^-, оптатив от а^. Скр. dvisyâ- от dve§, vavrtyâ-
от vart, cacchadyâ- от chand; гот. berjau (= be-br-jau), bitjau
(= *bibitjau). Это образование вторично (см. выше).
Упомянем еще такую основу сигматического аориста, как
dâ^k-s- (стр. 417, 473), которая не подходит ни под определение
простой корень, ни под определение корень-{-суффикс.
Остановимся вкратце на выводах, которые могут быть сделаны
на основании этого перечня.
4 Вопреки всему, не исключается первичная акцентуация приметы, ибо,
помимо пассива на -уа, существуют такие формы, как d-yâ-ti, s-yâ-ti и т. д.,
которые, по-видимому, идут от ad, as и т. д. Больше того, и sidhyati и
timyati (стр. 455 и сл.) были бы понятны не более, чем sthiti (стр. 509 и сл.),
если бы ударение первоначально не падало на суффикс. Следует добавить,
что даже, приняв гипотезу о том, что yudhyati—отыменное образование, мы
должны были бы ожидать такую акцентуацию: *yudhyâti, ср. devayâti.—*
И действительно, мы обнаруживаем ударение на -уа в вед. ranyati
(Delbrück, стр. 163). Относительно haryant см. Г ρ ас см а н, под словом nary.
17 φ. де Соссюр
513
1. Явления, отмечаемые нами при рассмотрении
словообразования, могут быть поставлены в прямую связь только с
ударением. Но невозможно наблюдать воздействие этого ударения,
воздействие, сопоставимое с тем, которое оно оказывает на
слабые склонения (утрата аг в первом элементе, вызванная
начальным согласным второго).
2. Что же определяет место ударения? Вот вопрос, на который
мы совершенно не в силах ответить. Ударение оказывает
предпочтение то суффиксу, то корню, и мы вынуждены лишь
констатировать для каждого данного образования сделанный
ударением выбор *. Поскольку один и тот же суффикс может принимать
ударение или не принимать его (rikâx-, rä1ika1-), можно
предвидеть, что установить правило будет в высшей степени трудно.
3. Соотношение вокализма и акцентуации.
Если ударение приходится на корневой слог, этот слог
предстает в своей полной форме на ступени 1 или на ступени 2.
Мы постарались выделить исключения, число которых особенно велико
среди глагольных основ на -уа. Ослабление таких слов без суффикса, как
mjdh (см. выше, стр. 512), представляет собой явление совершенно
исключительное: мы даже не знаем, с чем его связывать.
Если ударение приходится на суффикс, корень бывает на
редуцированной ступени или (реже) на ступени 2, но никогда—на
ступени 1.
Главнейшие исключения. Некоторые основы на -man, как χειμών, var§-
mân (см. выше), и, возможно, ряд основ на -tar, затем достаточно
многочисленные изолированные основы. Как мы сказали, такие окситоны на -as, как
φευδής, не составляют формального исключения.
Окситональные корни на ступени 2, которые подходят под
это правило, являются почти исключительно основами,
оканчивающимися на а (см. выше, стр. 508), или основами на и
слабого словоизменения (стр. 510), каковы λοιπός, πλοχμός, ketu.
Любопытно видеть, как два а различно реагируют на ударение.
Это наводит на мысль, что вытеснение гласного происходило
после образования а2. В действительности, когда дело идет о
слогах, предшествующих окончанию, никогда не возникает
необходимости предполагать вытеснение a2 (ударением), так как в
соответствии с тем, что мы видели на стр. 496, слабые падежи
1 Если оставить в стороне эту альтернативу, правило последнего
определяющего Бенфея и Бен лева можно счесть почти общим законом
индоевропейского ударения. Линднер („Nominalbild.", стр. 17 и сл.) для именных
основ санскрита предлагает два следующих закона (второй из которых может
аннулировать действие первого): 1) Ударение падает на корень отвлеченных
имен (Verbalabstractum) и на суффикс у имени деятеля. 2) Акцентуация
имени соответствует акцентуации глагола в презенсе. Возможности
отклонений, предоставляемые этими законами, исключительно широки.
514
окситонных основ имеют в парокситонных основах а19 и парокси-
тонные основы показывают нам положение вещей, каким оно
было до вытеснения гласного.
Если признать, что в парокситонных основах ударение
закреплено на одном месте (стр. 484 и сл.), то явления в области
акцентуации и вытеснения гласного могут, не создавая
практически неудобства, рассматриваться порознь в двух разделах —
разделе словоизменения и в разделе словообразования. Так мы и
поступили.
Но перед нами слова, а не основы. Когда говорят, что
ослабление корня, скажем, в основе uks-ân, вызвано акцентуацией
суффикса, то необходимо еще установить, что в действительности
кроется за этой фразой и в самом ли деле факты этого рода вводят
нас без всяких помех в палеонтологическую эпоху,
предшествовавшую словоизменению, такую, какой ее мысленно
реконструирует Курциус в своей „Хронологии индоевропейских языков". Не
следует ли думать, однако, что все названные выше явления
совершались уже в слове, обросшем флексией1? Этого мы не знаем
и воздержимся от попыток решения данной проблемы. Мы только
хотели бы, сочетая закон о вытеснении гласных,
предшествующих окончанию, с законом о вытеснении гласных,
предшествующих суффиксу, возможно проще представить совокупность
вызываемых ударением ослаблений, и притом такой, какой она
предстает перед нами в окончательном виде: 1) всякое а1У
находящееся в той части слова, которая предшествует ударному
слогу, выпадает, кроме тех случаев, когда это физически
невозможно (стр. 344); 2) всякое иное вытеснение ах обусловливается
не ударением, а другими причинами.
tâj ig +yaxS + Ai дает tâiigia^Ai (скр. tégiyase).
Уа1 ug + t âj i + aiS дает jukta^aiS (скр. yuktâyas).
wax id Jrwaxs + Ai дает widusAi (скр. viduäe).
Остается установить единое правило, которое позволило бы
определить место ударения в любой форме. Когда возникнет
вопрос, падает ли оно на слог, предшествующий окончанию, или на
само окончание, то он решается сам собою, при условии, что
мы знаем, каков вид словоизменения (то есть слабое оно или
сильное). И все же мы видим, что в немалом числе основ,
располагая возможностью определить, предпочло ли ударение
отметить корень или суффикс, мы бессильны предвидеть заранее его
1 Падежи, о которых мы говорили выше и в которых одновременно
усматриваются явления, связанные как со словоизменением, так и со
словообразованием (dar-u, dr-aw-Ai; см. стр. 502 и сл.), могут служить доводом
в поддержку этой второй гипотезы.
17*
515
выбор. Итак, мы удовольствуемся составлением сводной таблицы.
Эта таблица имеет задачей обосновать наличие или отсутствие аг
в любой первичной форме, отвечающей нормальным условиям.
I. Корень-{-суффикс1
1-й случай.
Ударение остается на корне.
Вытеснение гласного
под воздействием
ударения невозможно. Ср.
ниже
2-й случай. Ударение
исчезает в корне.
II. Корень без суффикса.
а) Ударение не
переходит на окончания
(слабое словоизменение).
Вытеснение под
воздействием ударения
затрагивает все аъ как
предшествующие
суффиксу, так и прочие. Ср.
При слабой флексии окончания, начинающиеся
с согласного, вызывают вытеснение аъ
предшествующего окончанию.
б) Ударение
переходит на окончания
(сильное словоизменение) 2.
Произойдет
вытеснение: 1) всякого а1%
предшествующего суффиксу;
2) если аг не
заканчивает собой основы, то
всякого av
предшествующего окончанию и
стоящего перед окончанием,
способным принять на
себя ударение.
До сих пор мы совсем не занимались слогами с удвоением.
Немногое, что нам известно об их первичной форме, делает их
анализ в высшей степени гипотетическим. Прежде всего
следовало бы установить, нужно ли рассматривать их как особый вид
звукоподражания, а если они образуют правильную
морфологическую единицу, то и характер ее, позволяющий в нормальном
состоянии предохранить ах от вытеснения.
Что касается перфекта, то здесь ничто не препятствует
принятию этой последней гипотезы. Поскольку ударение в
единственном числе актива приходится на корень3, а во всех остальных
случаях — на окончания, удвоение неизбежно утрачивает свое ai9
сохраняя его, впрочем, виртуально. Таким образом, мы имеем:
и.-е. uwa2ka, ükma (скр. uvаса, ücima) вместо *waiWâ2ka *wa1-
wajkmâ. В таких формах, как papâta а не могло не остаться.
Если за корневым аг следует гласный, этот гласный, как
установлено, „внедряется" в удвоение: bhibhâ2ida вместо *b h ах i b-
h â2i d а и т. д.4
1 Из-за наличия типа yu-na-g в 7-м классе глаголов подобало бы, строго
говоря, добавить третью графу: корень + инфикс. Но принимая, вопреки
истинному положению дел, -nag за суффикс, мы наблюдаем те же явления, какие
происходят в корне и суффиксе.
2 Мы рассматриваем тематическое словоизменение как особый случай
сильной флексии (стр. 470 и сл.).
3 Гот. saizlep позволяет проверить индийское ударение.
4 Вед. vaväca, бесспорно, новообразование, ибо, если посчитать это слово
исконным, то невозможно будет объяснить uvâca. В греческом δείδοικα и
είοικυίαι, следовательно, вторичны.
516
Что касается аориста на -а, то, чтобы сразу объяснить
корневое ослабление и нормальное состояние удвоения в vocat, нужно
предположить, что первично на это слово падало два ударения
(wâi-uk-âj-t), как это наблюдается в инфинитивах на -tavai и в
других индийских формах (Böhllingk, Akzent im Sanskrit, стр. 3).
Впрочем, он сближает акцентуацию греч. ειπείν и скр. vocat. Такие
аористы в санскрите, как atitviäanta, модифицировали свое
удвоение: должно было бы быть *atetviäanta.
Наибольшая неопределенность отмечается в презенсе. i в ί'στημι
и в piparti задает загадку, которую мы не возьмемся
разгадывать. Все же изменчивость акцентуации в 3-м классе санскритских
глаголов говорит, по-видимому, о двух ударениях в сильных
формах, и это предположение облегчает понимание таких форм,
как nenekti, vevekti, veveäti (которые, правда, могут быть поняты
и как интенсивные), зенд. zaozaomï, daêdôist и греч. δείδω. Во
множественном числе отмечается одно единственное ударение,
которое переходило на окончание, вследствие чего удвоение
утрачивало свое a. Отсюда такие презенсы, как didé§ti. Первичная
флексия должна была быть такой: dédéStb didiçmâs1.
1 Согласно этой гипотезе, удвоение da- в слав, damt, damîi вытекает из
единственного числа, a da- в скр. dâdâmi--H3 множественного числа.
Исходные формы: dâiÇ-dâig-mi, мн. ч. dç-dç-mâs.
Глава VI
РАЗЛИЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К СОНАНТАМ I, U, R, Ν, M
§ 14. Долгие плавные и носовые сонанты
В 21-м томе KZ, быть может, впервые со времени
зарождения сравнительной грамматики, прозвучал авторитетный голос,
отстаивавший первичность санскритских презенсов глаголов
7-го класса. Под влиянием распространенного представления о том,
что индоевропейский язык питает отвращение к инфиксу, было
придумано, как известно, все что угодно, лишь бы объяснить,
каким образом названная группа презенсов выделилась из 5-го и
9-го классов. Виндиш заявляет, что ни одна гипотеза его не
удовлетворяет, и показывает, что ни одна из них не вскрывает
по-настоящему тонкой сущности чередующихся форм yunag-, yung-
и находит, что этим презенсам присущи, напротив, решительно
все черты первичного образования. 9-й класс, праязыковое
происхождение которого не ставится под сомнение, утратили все
европейские языки, кроме греческого. Нужно ли после этого
удивляться, что 7-й класс глаголов, с его необычным и причудливым
словоизменением, сохранился лишь в санскрите и в зендском?
К тому же, если мы признаем вслед за тем же ученым, что
7-й класс является порождением процесса распространения
корней, то избавимся от призрака инфикса; так, например, в yunag-
корнем, при таком взгляде на положение дел, был бы уи (уаи),
a g представлял бы собой всего лишь детерминатив. Но на
случай, если бы эта теория, не располагающая в свое
подтверждение по-настоящему вескими доводами, оказалась отвергнутой, мы
заявляем о своей готовности признать здесь наличие инфикса,
и в особенности из-за того, что Виндиш сопровождает свою
гипотезу выводом, который мы не можем одобрить. Он
усматривает в 7-м классе нечто вроде продолжения 9-го класса и тем
самым побуждает нас видеть в нем частный случай 7-го класса.
Итак, изложим правило, с помощью которого устанавливается
переход от корня, каким он предстает перед нами в основных
временах, к основе глаголов 7-го класса.
518
Корневое аг выпадает, и между двумя последними элементами
редуцированного корня вставляется слог -nà^
bha^d: bhi-nâi-d yaxug: yu-nâ^g waxd: u-nârd
tajrgh: tr-nâi-gh bhaxng: bhn-nârg
Словоизменение определяется, согласно законам, изложенным
на стр. 471. Оно приводит к возникновению слабых форм b h i - η - d,
yu-n-g, tr-n-gh, bhç-n-g1, u-n-d.
Теперь сопоставим с этим образованием презенс 9-го класса,
проанализированный в соответствии с нашей теорией ä долгого:
pu-nâx-A, слабая форма pu-n-A. Обнаруживается родственность,
которую трудно не заметить, и мы составляем формулу:
i=pana1>i:x
= prna>iA · х
= gfbhna1A:x.
Значения х, то есть истинных корней наших презенсов на -па,
очевидно, будут: ра^А, ρ ах г a, ga^bhA (или gra^hA).
Такова непогрешимая точность этого правила, одного из трех,
которые мы постараемся вывести.
За несущественными исключениями, все санскритские корни,
не оканчивающиеся на -ί и принадлежащие к 9-му классу, в
инфинитиве на -tum, в основах на -tavya и на -tar, а также вфуту-
руме на -sya принимают i (долгое или краткое), называемое
соединительным. Сверх того, в сигматическом аористе они
допускают только образование на -i-Sam.
punâti: pavi-tar, pavi-tra 2, pavi-§yâti, â-pâvi-§us.
lunMti: lâvi-tum, lavi-Syâti, â-lâvi-§am.
gjnâti: éari-târ3.
gçnâti: „пожирать" (см. В о h 11,— Roth): gâri-tum, gari-Syâti, a-gäri-§am.
pjnâti: pârï-tum, pârî-§yati (cp. parï-man, pârï-nas).
mjnâti: â-marï-târ. w
ççnati: çârî-tos, çârï-§yâti (cp. çârî-ra, â-çarï-ka).
stçnâti: stârï-tum, stârî-Syati (cp. stârl-man).
греч. δάμνημι: dami-târ.
çamnati 4: çami-târ.
grathnâti: grânthi-tum, granthi-Syâti.
mathnâti: mânthi-tum, mânthi-Syâti.
çrathnâti: é-çjthi-ta §.
mçdnâti: mârdi-tum, mardi-§yâti.
1 Скр. bhanâêmi правильно возникает из bhnnâgmî, но в таких слабых
формах, как bhanêmâs, носовой, по-видимому, восстановлен по аналогии:
bhgng должен был бы дать bhçg, который в санскрите дал бы bhâé-.
2 Ведийский диалект дает также potâr и potra.
3 Такова была изначальная форма; позже образуется футурум garitâ.
4 См. Delbrück, Altind. Verb., стр. 216.
5 См. Грассман. Под этим словом, ζ в этом причастии указывает на то,
что формы с носовым—çranthi-tum, çranthi-Syati — не первичны. Равным
образом презенс должен был бы быть представлен *ççthnâti.
519
gçbhnâti: grâbhî-tar, grabhï-tum, a-grabhï-§ma и т. д.
skabhnâti: skâmbhi-tum, skabhi-tâ.
stabhnâti: stambhi-tum, stabhi-ta, a-stambhi-Sam.
açnâti: pra-açi-târ.
isnâti: é§i-tum, e§i-§yâti.
kuànâti: ko§i-tum, ko§i-§yati.
muSçâti: mo§i-tum, mo§i-§yâti (cp. mu§l-vân).
Исключениями, насколько я мог установить, являются: badh-
nâti, которое дает i лишь в футуруме bandhiSyâti; pusnâti,
которое дает poätum или poâitum, но pusta и никогда — *puàitâ; и,
наконец, kliçnâti, где i повсюду факультативно. Как бы ни
объяснять эти три случая, они мало что значат по сравнению с 21
предшествующим, и вполне правомерно сделать следующий
вывод: если считать, что корнем в pinââti является pes, то корнем
в grbhnâti должен быть только grabhï (или, пожалуй, gra^hA).
ï в grbh-n-ï-mâs так же тесно связано с ï в grâbhï-tar, как §
в pi-m-S-mâs—с δ в péà-tar.
Чтрбы полностью определить роль и значение Ï, о котором мы
говорим, нужно принять во внимание три главнейших момента.
1. Допустив, что между презенсом на -nä и конечным ï
существует какая-то связь, нельзя не признать, что это Т, которое
вовсе не представляет собой лишенной всякого смысла
механической вставки, является составной частью корня1.
2. Что касается природы этого Т, то ничто не препятствует
отождествлять его с ï в sthitâ, pïtâ. Мы признали в этом
последнем продолжение слабого праязыкового гласного, обозначенного
нами как^ (см. стр. 462 и сл.), гласного, представляющего собой
модификацию какого-то вида а или видов a, отличных от ах и a2
(л, о). Выше а" долгое в sthä-, pâ-, половина которого образована
гласным, обнаруживаемым в sthi-, pï-, показало, что этот гласный
в древнейший праязыковый период был полноценным. Здесь а в
punä-, grbhnä- указывает нам на то же самое в отношении ï в
pavi-, grabhï-.
3. С другой стороны, между ï или а в sthitâ, pïtâ и ï илиА
в pavi-, grabhï- существует важное морфологическое различие,
состоящее в том, что первое ï возникает вследствие редукции а
(axA), тогда как второе, по-видимому, существует на положении
автофтонга с момента своего появления. Если оно сочетается с at
в презенсе на -па, то не в меньшей мере оно существовало и до
образования этого презенса.
В итоге мы имеем перед собой в качестве корневых типов:
pajw^, рахгл, graibh^ и т. д. В своей исходной форме, которая
является базой презенса на -па^, эти типы суть paxwA, ра^А,
graibhA.
1 Для определения подлинного значения этой составной части обычное
представление об ί в pavitar и grâbhltar не менее произвольно, чем если бы
мы сочли ничтожными величинами i в sthitâ или I в pïtâ.
520
С одной стороны, как мы только что видели, роль фонемы а
в pav-i punä- совершенно сходна с ролью, выполняемой d или s
в bhe-d- bhinad- и pe-δ- pinaä-. С другой стороны, если обратиться
к корням grabhï, mardi, moäi, становится очевидным, что наша
фонема обладает тем не менее совершенно особыми
морфологическими свойствами: никакой сонант, кроме, может быть, и (см.
стр. 522), и никакой согласный не мог бы находиться в трех
приведенных примерах на месте Ï.
Если неуклонно придерживаться более или менее внешней
классификации, которая была принята нами на стр. 467 и сл.,
придется установить два крупных разряда корней. К первому из
них отойдут различные типы корней, выделенные нами на стр. 519;
ко второму—те же самые типы, к каждому из которых
добавился а. Короче говоря, если исключить все, что касается
концепции Ï, то мы придем к делению, которое установлено древней
индийской грамматикой между корнями ndättä, то есть
требующими соединительного гласного i, и корнями anudâttâ, которые
его лишены*.
Вернемся на короткое время к 9-му классу, чтобы коснуться
вопроса, остававшегося до сих пор нерассмотренным. Презенсам
kSinâti, linâti отвечают инфинитивы kâétum, létum. Можно было
бы ожидать 'kaâyitum, lâyitum' и т. д. Необходимо, таким
образом, предположить, что группа -гуА претерпевает другое
развитие, чем группа -aw4-, -агл- и т. д. Поскольку и.-е. оптатив bha-
raït = *bharay^t (стр. 475) представляет собой параллель к этому
стяжению, есть основание считать его праязыковым г. Что фонема а,
во всяком случае, действительно имеется в приведенных выше
корнях, в этом не оставляет ни капли сомнения долгое ï в
причастиях k§ï-nâ, lï-nâ (см. ниже). Добавим к этим двум примерам
еще rinâti: rï-ti. В формы презенса krînâti, prïnâti, bhrinâti, çrï-
nâti долгое ï проникло, бесспорно, под аналогическим влиянием
таких форм, как krïta, prïta. Именно таким путем вед. minâti
изменилось позднее в mïnâti. Инфинитивы krétum, prétum, çré-
tum подобны во всем kâétum, létum.
* Термины «udâttâ» и «anudâttâ» Ф#де Соссюр употребляет здесь в
значении, не соответствующем индийской лингвистической традиции. Обычное для
этой традиции наименование двух рассматриваемых Соссюром типов корней —
соответственно set и anit. — Прим. ред.
1 Çayitum, çvâyitum оказались бы в таком случае образованиями по
аналогии. Мы не знаем, каким образом можно решить проблему, которую ставят
пред нами такие формы, как lâsyâti от linâti (параллельно с leSyâti), mâsyâti
от minâti и т. д. Курциус (Grdz., стр. 337) видит корень этого последнего
глагола в та. В этом случае i в minâti может быть лишь опорным гласным:
m-i-nâti (вместо mnâti) было бы по отношению к тахА тем же, что unâtti по
Отношению к waxd.
«I
Количественно udättä составляет явно почти половину общего
числа корней. Ниже мы увеличим на несколько примеров список,
начатый на стр. 519 и сл. Но прежде нужно отметить, что теория
9-го класса дает возможность предвидеть, что по крайней мере
значительная группа корней является корнями anudättä. Эта
группа — корни 7-го класса. В противном случае, согласно закону.
(«вставка -па- происходит между двумя последними элементами
корня»), они дали бы, очевидно, презенсы на -па1.
rinakti: réktum, reksyati.
bhanakti: bhânktum, bhanksyati.
bhunâkti: bhoktum, bhokâyati.
yunâkti: yoktum, yoksyati.
vinâcmi: véktum, vek§yati.
chinâtti: chéttum, chetsyâti.
bhinâtti: bhéttum, bhetsyati.
runâddhi: roddhum, rotsyâti,
pinà§îi: pé§tum, pekâyâti.
çinâsti: çéStum, çekSyâti.
зенд. éinaçti: вед. céttar.
Для anâkti, tanâkti и tfnédhi „соединительное" i факультативно. Глаголы
trnâtti и chrnâtti образуют футурум с i или без него, инфинитив с i. Другие
глаголы, содержащие в себе группу аг + согласный (ardh, paré, varg, kart), так
же, как и vinaémi, имеют всегда в указанных формах i2. Во всех этих
примерах соединительный гласный, там, где он появляется, вводится по аналогии.
Большинство времен нуждалось в нем, чтобы избегнуть трудно произносимого
сочетания аг-\-удвоенный согласный (ср. drakàyâti из darç и т. д.).Доказатель-
ством этого позднейшего происхождения i Являются слабые формы на -ta и
на -па: aktâ, takta, trdhâ, trnna, chrnna, rddha, prkta, vrktâ, vigna. Сравните
причастия глаголов 9-го класса açita (açnâti), i§ita (iènâti), kuâita (kuSnâti),
grhïta (grhnâti), muâitâ (muènâti), mrdita (mrdnâti), skâbhitâ (skabhnàti), stab-
hita 3 (stabhnâti). Мы не приводим здесь grathitâ, mathitâ, a-çrthita (от grath-
nâti, mathnâti, çrathnâti); кроме того, быть может, здесь i было необходимо
из-за придыхательного th. В примере kliçita или kli§ta от kliçnâti форма,
содержащая в себе i, обнаруживает тенденцию быть замещенною, но, в конце
концов, она тем не менее существует, а это никогда не наблюдается у корней
7-го класса.
Основное правило образования презенса на -па^ (5-й класс) не следует
отделять от правила образования остальных презенсов с носовым. Формы на
-naru-ti должны были иметь с самого начала корни, оканчивающиеся на и.
В большинстве случаев это предположение подтверждается: vano-ti, sano-ti
(=wç-na1-u-ti, sn-nâru-ti) сопутствуют vanutar, sânutar (-wa^u-tar, sa^u-tar 4);
vrno-ti, помимо varütar, vârOtha, родственны греч. είλο-ω, лат. volv-o, гот.
vaiv-jan; krno-ti восходит к корню karu, откуда karoti ?. Тот же корневой тип
1 Корень vabh, вопреки всем правилам, следует одновременно образцам
7гго и 9-го класса: вед. unap и ubhnâs. Здесь перед нами явление аналогии,
если только наряду с корнем vabh не существовал также корень vabhi.
2 См. В en fey, Vollst. Gramm., § 156.
3 Формы skabdha и stabdha —не ведийские. Поскольку puSnâti и badh-
nâti различаются существенным образом из-за отсутствия i (стр. 520),
причастия pu§tâ, baddhâ не принимаются нами в соображение.
4 Ср. греч. άνύω и Ένυάλιος.
б- Каковы бы ни были трудности, с которыми сталкивается анализ
различных форм этого глагола, наличие корневой группы karu наряду с kar
представляется совершенно бесспорным. Презенс karoti подвергся
значительному преобразованию по аналогии. Такая группа, как каго-, не могла бы
остаться морфологически чистой, потому что, если бы мы пожелали видеть
в ней корень, были бы непонятны два а, а если это основа, которая составилась
523
представлен в taru-te (презенс) taru-târ, taru-tra, târu-sas, taru-§anta; сюда не
входит, впрочем, презенс *trnoti (ср. τρωννύω). Место ах в корне нисколько не
изменяет условий существования нашего презенса: итак, çraxu „слушать"
позволяет образовать çr-nâi-u-ti, çrnotiг.
Но нельзя отрицать, что начиная с праязыкового периода слог -пахи был
использован в качестве простой глагольной приметы. Таким образом, k2i-na1uti
(скр. cinoti, греч. τίνυται), tn-nâjuti (скр. tanoti, греч. τανύω) не могут быть
разъясняемы как органические образования. Весь этот вопрос требует,
впрочем, исключительно тонкого и глубокого исследования; и в самом деле, уместно
спросить себя, является ли и в таких примерах, как tarutar, sanutâr (а
следовательно, и в таких, как sanoti), обычным индоевропейским и. Его стяжение
с г в таких формах, как tûrti и éûrna от carvati (эквивалентах taruti минус
а и éaruna минус а), делает положительный ответ на этот вопрос более чем
сомнительным. Ср также в греческом соотношение между ομό-σσαι и δμνυ-μι.
К перечисленным выше корням udättä добавим несколько
новых примеров, не имеющих презенса 9-го класса. Мы имеем
в виду главным образом случаи, в которых^ предшествует сонант2:
a vi „присутствовать": avi-ta (2 л. мн. ч.), âvi-tave^ avi-târ, âVi-§am.
dhavi „возбуждать": dhavi-tum, dhavi-syâti, â-dhavi-Sam.
sa vi „приводить в движение": savi-târ, savl-man, a-sävi-§am
havj „призывать*^: havï-tave, havï-man (но также hoträ).
к а г ï „лить": karî-tum, â-kâri-sam.
kari „хвалить": â-kâri-§am.
еаг^„идти": éari-turn, еагМгаг a-däri-§am.
έ a rj „стареть": gârî-turn, éarï-^yâti, a-gari-Sam.
tarï „переезжать": târî-tum, tari-tra, pra-tarï-târ, a-târi-§am, tarï-sa.
k h a η i „рыть": khâni-tum, khani-tra, a-khani-sam.
gani „рождать": éâni-§va (императив), gani-tar, éani-târ, éani-tra, éâni-man
(также gânman), gani-tva, éani-§yâte, a-gani-§ta.
vani „любить": vâni-tar, vani-tâ (сильная форма, внесенная аналогией
в основы на -ta), vani-§î§ta. Аорист vâmsat без i разъяснить трудно,
sanj „завоевать": sani-tar, sani-tra, sani-tva, sani-§yati, â-sâni-sam.
a m ï „вредить": amï-si (2 л. ед. ч.), ami-nâ, âmï-vâ (amitra?)
b h r am i „путешествовать": bhrami-tum, bhrami-Syati.
vamï „изрыгать": vami-ti. a-vamï-t (Delbrück, 187).
çamï „давать себе труд": çami-§va, çamï-dhvam (Delbrück, цит. раб.),
çami-târ.
çrami „утомляться": çrâmMum, çrami-Syâti.
Как нетрудно заметить, различные суффиксы, которые
начинаются с t и s, склонны сохранять т. Но не всегда дело обстоит
именно так, если за этой фонемой следует т. Перед суффиксом
та ï никогда не появляется. Среди образований на -man форг ы
из двух ячеек, то первая ячейка должна была бы утратить свое а.
Приходится, таким образом, предположить *karu-mi, *karu-ài и т. д., то есть
презенс 2-го класса, подобный taru-te и rodi-mi. Воздействие krnomi впоследствии
привело к образованию дифтонга и, без сомнения, повлияло также на формы
множественного и двойственного числа, о которых мы позволим себе не
высказывать более определенных суждений.
1 В зендском, где г как бы впитывает в себя последующий и, мы находим
çurunu- вместо *çerënu-.
2 Ряд ведийских форм собрал Дельбрюк в „Altind. Verb.", стр. 186 и сл.
523
èâniman, dârïman, pârïman, sâvîman, stârïman, hâvïman правильны,
но вместе с тем встречаются и такие формы, как gânman, darmân,
homan, и другие такого же родаг. Позволительно предположить,
что m поглощал слабый гласный, как это имело место и при
образовании cinmâs, guhmâs—вместо cinumâs, exhumas.
Другая группа форм, где можно отчетливо проследить
вытеснение Т, это презенсы 2-го и 3-го классов. Некоторые глаголы
полностью сохранили парадигму: корень rodi (rodi-tum, rodN
syâti, rudi-tvâ, â-rodi-§am) еще имеет презенс rodi-ti, мн. ч. rudi-
mas. Известны и другие примеры: âni-ti, âni-la, ani-âyâti, çvâsî-
ti, ср. çvâsi-tum, çvasi-§yâti; vami-ti (Панини), ср. vâmi-tum,
vami-Syâti. Могут ли возникнуть какие-либо сомнения, когда,
с одной стороны, мы находим gani-tar, gâni-trï, g;âni-man, gâni-
tvi, a с другой —императив gâni-Sva и 2-е лицо èa"è^nî-^1
(В о ρ ρ, Kr. Gramm., § 337),— Вестергард добавляет для
ведийского диалекта еще ganidhve, ganidhvam, èanise,— могут ли
возникнуть какие-либо сомнения, что ^a-gam-si, ga-gan-ti вторичны?
Всякий раз, когда в каком-либо остатке презенса, каковы,
например, amï-δΐ, çamï-§va, появляется Ï, можно положительно
утверждать, что корень обнаруживает Ï в инфинитиве и в футуруме2.
Таким образом, мы нисколько не колеблемся заявить, что в piparti
от pan, в cakarti от karï когда-то существовал ï на конце корня
и что его отсутствие вызвано преобразованием, в котором мы
еще не в состоянии разобраться. Возможно, что к этому
изменению повело сходство *piparïti, *cakarïti с интенсивами.
Другое явление, которое ни в малой мере не должно вводить
в заблуждение,— это частое появление ï вне его первоначальных
пределов распространения. Значительное число корней udättä,
а также забвение значения ί полностью разъясняют его
вторичное распространение. К тому же, оно чаще всего происходит в
высшей степени спорадически. Систематического распространения
i в основных образованиях, за исключением футурума на -sya,
закрепившего этот гласный во всех корнях на -ar, а также
в корнях han и gam, не наблюдается. Перед суффиксами -tar,
-tu и -tavya—тремя образованиями, подчиняющимися в этом
отношении тем же правилам (Benfey, Vollst. Gramm., § 917),
-ï, за исключением единичных случаев, в основном первично3.
Аорист на i-§am, несмотря на частичные важные отклонения,
в отношении ï ведет себя в общем так же, как инфинитив на
1 Крайне небольшое число основ на -i-man, напротив, образовано по
аналогии от корней anudâttâ. Таковы в Самхитах dharïman, bharïman, sâ-
rïman.
2 Существует одно исключение, это svâpiti, svâptum.
3 Среди отклоняющихся от нормы случаев отмечаются srâvitave, sravi·
tavai, yâmitavai. Напротив, наряду с вед. tari-tum известно tar-turn, наряду
с pavitâr—potar. Список таких вариантов мог бы быть продолжен до
бесконечности.
524
i-tum (Benfey, § 855 и сл.). Среди ведийских примеров
(Delbrück, стр. 179 и сл.) обнаруживается очень немного таких,
которые не происходили бы от корня на iх.
Лишь особый статистический подсчет, который мы не
чувствуем себя в состоянии предпринять, смог бы дать достоверный
ответ на вопрос, в какой мере оправдывается предложенная нами
теория о распространении, а также исчезновении Ï.
Заслуживает быть отмеченным сохранение i в словах-корнях:
vâni и sâni дают такие сложные слова, как vräti-vani-s, upamäti-
vâni-s, vasu-vâni-s; ürga-sani-s, go-Sâni-s, pitu-sâni-s, vâga-sâni-s,
hrdam-sâni-s. Эти формы—vani- и -sani-,—очевидно, очень
употребительные, не являются подлинными основами на -i: ударение,
корни, к которым они восходят, наконец, явное стремление
носителей языка избегать падежных образований с дифтонгом
(„Ригведа", за исключением ürgasane (зват.), дает лишь
именительный и винительный ед. ч.)—всё побуждает признать в них тип
vrtra-hân. Родительный от -sani первоначально мог иметь вид
только -san-as = -snn-as (ср. ниже).
Что обнаруживается перед суффиксами, которые начинаются
с гласного? Корни mardi, pavi, tari, £ani дают mrd'u, pâv'ate,
târ'ati, gân'as. Это можно было предвидеть: здесь наблюдается
то же самое, что и в 5отар'е = 5отарл-е—-дательный падеж от
soma-pâ (стр. 485), и гласный, выпавший в pâv' а-, не иной, чем
тот, который, как мы видели, должен был иметь такую же судьбу
в формах 3-го лица мн. ч. pun'ate —pun'nté (стр. 335).
Если мы теперь рассмотрим особо группу сонант+ л, то из
всего предыдущего в первую очередь вытекает такое правило:
Группа сонант -\-А, которой предшествует гласный,
отбрасывает А, если за ним следует второй гласный, и остается
такой, какова она перед согласными.
Переходим к изложению дополнительного правила, которое,
строго говоря, и составляет предмет настоящего параграфа.
Группа сонант +А после согласного или в начале слова
преобразуется в долгий сонант, независимо от характера
следующей за нею фонемы.
1 Форма agrabhïSma представляет особенный интерес. В содержащемся
в ней ï долгом, явно таком же, как ï в grâbhï-tar, grbhï-tâ, заключена вся
история так называемого аориста на -ièam. Самостоятельное существование
этого аориста рядом с аористом на -s покоится главным образом на
инновации, которая заставила разойтись две парадигмы, преобразовав 2-е лицо и 3-е
лицо аориста âgais (вед.) г âgaisïs и agaièit. Добавим, что эта инновация,
согласно предположению Бругмана („Stud.", IX, стр. 312), возникала сама собой по
аналогии с аористом на -isam, в котором -ïs и it произошли из -ïs-s и -ïs-t.
525
Здесь более, чем где бы то ни было, нельзя упускать из виду
то положение, которое мы старались осветить в предшествующих
гливах. Исключая некоторые особые случаи, к тому же вызывающие
сомнения, всякое праязыковое ослабление, всякая деградация,
всякое чередование сильных и слабых форм неизменно сводится,
в каком бы виде эти явления не предстали перед нами, к
вытеснению аг. Это и есть то основное положение, которое
заставило нас принять за морфологическую единицу не слог, но
группу звуков или ячейку, находящуюся в зависимости от аг
(стр. 469). Когда имеет место смешение ударения, оно переходит
не с одного слога на другой, но с одной ячейки на другую,
точнее с одного аг на другое. Таким образом, аг—это
репрезентант и вместе с тем регулирующее начало всего окружения,
центром которого оно является. Это окружение:—непременная
арена всех происходящих событий, но сказываются они (ils n'ont
de prise) только на ах.
Согласно данному нами определению, предесинентной
ячейкой в таком слове, как др.-инд. roditi, является rodi; но в
bodhati такой ячейкой оказывается а. Оттого и
множественным числом от rodi-ti является обязательно rudi-mâs, потому
что rodi- подпадает под действие законов II и III (см. стр. 471).
То же самое наблюдается и в словообразовании. Так, например,
grâbhï-tar, skâmbhi-tum, mcrëi-tum—основам с нормальным
корнем—сопутствуют grbhï-tâ, skabhi-tâ ( = *skipbhitâ), mu§i-tâ.
Какой звук был принесен в жертву в редуцированном типе? Быть
может, слабый гласный л, непосредственно предшествовавший
ударному слогу? Ни в коем случае: это неизменно полноценное a,
находящееся за два слога до ударения.
Установив это, мы не сможем, обнаружив pû-tâ рядом с pavi-târ,
давать данному факту два различных объяснения: pu- не будет
ни «стяжением», ни «сгущенной формой» pavi-. Нет: pût а будет
равно pavitâ минус a; ü в составе püta заключает в себе -vi-
из pavi-, ни больше, ни меньше.
Основы на -ta, -ti и т. д.
1. Ряд с u: avi-târ: (indra-üta), й-ti; dhâvi-tum: dhü-ta
dhu-ti; pâvi-tum: pû-tâ; savi-târ: sü-tä; hâvi-tave:
hü-tä, devâ-hu-ti.
Сравните: с y ό-tu m: cyu-tâ, -cyu-ti; ρ 1 ό-tu m: plu-tâ, plu-ti;
çro-tum: çru-tâ, çru-ti; so-tum „давить, теснить": su-tâ, soma-
su-ti; s r ό-tu m: sru-tâ, sru-ti; h ό-tu m: hu-tâ, â-hu-tix.
2. Ряд с r: câri-tum: cïr-tvâ2, cür-ti; gari-târ: gûr-tâ,
1 Корни причастий ruta и stutâ имеют весьма смешанные формы, причем
некоторые из них принимают Ï, вероятно, вследствие аналогического влияния.
О yuta см. ниже.
2 Эта форма, согласно указанию И. Шмидта („Voc", II, стр. 214),
встречается в „Махабхарате" (XIII, 495).
526
gür-ti; t а г î-t u m : tïr-thâ, a-tur-ta, su-prâ-tur-ti; ρ a r ï-t u m:
pûr-ta, pör-ti; çâri-tos: çûr-tâ.
Сравните: dhâr-tum: dhr-tâ, dhf-ti; bhâr-tum: bhr-tâ,
bhr-ti; sâr-tum: sr-tâ, sr-ti; smâr-tum: smr-tâ, smr-ti; hâr-
t u m : hr-tâ и т. д.
3. Ряд en: khani-tum: khâ-tâ, khâ-ti; gani-tum: èâ-tâ,
gâ-ti; vani-tar: vâ-ta; sâni-tum: sâ-tâ, sâ-til.
Сравните: t a n-t u m : ta-tâ; mân-tum: ma-tâ; hân-tum:
hâta, -ha-ti.
4. Ряд с m: dami-târ: dân-tâ; bhrâmi-tum: bhrân-tâ,
bhrân-ti; vâmi-tum: vân-ta; çami-t u m: çân-tâ, çân-ti; çrâ-
m i-t u m : çrân-tâ и т. д.
Сравните: g a n-t um: ga-tâ, gâ-ti; η a n-t um: na-tâ, â-na-ti;
yân-tum: ya-tâ, yâ-ti; r a n-t um: ra-tâ, râ-ti.
Прежде чем перейти к другим образованиям, отметим все то,
что можно почерпнуть из всего сказанного выше.
1. Ряд с и. Вторичные изменения отсутствуют; этот ряд
должен служить как бы отправной точкой и нормой при
исследовании других рядов. Отмечаем все же *pw^ta или *pu^ta,
которое, являясь по отношению к ра^л тем же, чем pluta по
отношению к р1ахи, преобразовалось в püta.
2. Ряде г. Становится очевидным, что ïr и ür представляют собой
не что иное, как древнеиндийский рефлекс древнего гласного г
долгого2. В случае, если он продолжает существовать и ныне,
например, в таких формах, как pitfn и mfdâti взамен *mrzdâti3,
то он образовался очень поздно, в результате процесса,
именуемого заменительным растяжением. Мы тут же добавим, что ïr
и ür никоим образом не являются вторичным растяжением ir
и иг. Повсюду, где было подлинное f (иначе говоря, перед
согласными), мы вполне закономерно обнаруживаем ïr и ür, и только
тогда, когда f в результате разложения дало гг (иначе говоря,
перед гласными), мы отмечаем появление ïr, ur.
ïr, ür: ïr, ur = fl: uv
1 Форма sâniti — явное новообразование, созданное по образцу сильных
форм; san, как представляется, могло бы дать также sati вместо säti; с
другой стороны, указывают на täti от tan (Benfey, Vollst. Gramm., стр. 161 и сл.).
2 Здесь, следовательно, оправдывается формула индийской грамматики,
выведенная на основании глубочайшего заблуждения, которое состоит в том,
что слабые формы корней рассматриваются как их нормальное состояние.
Рассматривать gf- в качестве корня gür-ta было бы столь же правильно и столь
же ошибочно, как утверждать, что pü является корнем püta. Неразрывные узы,
связывающие сильные формы на i с фонемами Q и Гг, fir, отмечены в
следующем правиле: «корни на 0 и на г принимают соединительное i».
3 Бенфей показал, что глагол mrlati в Ведах имеет f долгий, а Гюбшман
объяснил его, сопоставив с зенд. marezhd.
527
Именно этим и объясняется форма женского рода urvî от uru
(корень war) при pürvi = *pfwi от puru 1.
Причина, определяющая всякий раз ту или иную окраску i
или и, чаще всего остается невыясненной. См. по этому поводу
J. Schmidt, Voc, II, стр. 233 и сл.
Иногда группа ür содержит в себе скрытое w, которое
растворилось в и: таково, например, ürnä вместо *würnä=^aB.
vluna. И все же в этом слове без труда обнаруживается наличие
J долгого: ведь г краткое дало бы 'vrnä', или, по меньшей
мере,— 'ürna'. Предстоит исследовать, почему в некоторых случаях,
например в hotr-vurya, ν сохранилось перед ür.
Быть может, группа Ъ\\ согласный иногда бывает
равноценной в своем ряду группам ïr и m-\-согласный; возможно и то,
что ul—модификация 1 краткого, обусловленная, например
в phullâ, долгим согласным, следующим за плавным.
3. Ряды спит. Полный параллелизм а в gâta с ï, ü и ïr=f
говорит с достаточной убедительностью о том, что нельзя, не
впадая в несообразность, приписывать этому â в праязыке
какое-либо иное.значение, кроме значения долгого носового сонанта.
И все же признание здесь перехода пА в η наталкивается,
пожалуй, на известные трудности. Я хорошо понимаю переход тА
в г. Этот переход вызван удлинением г в течение изглашения
(durant rémission du^4. Подобное явление становится
невозможным, когда перед А находится носовой, поскольку затвор
ротовой, а следовательно, и носовой полости неизбежно завершается
в момент появления звукаА. И действительно, мы видели,
наряду с род. п. mätur—*mätr^s, что группа пА сохраняется в ukänas.
Свидетельство родственных языков не имеет решающего значения,
так как гласный, следующий за η в лат. anät-, др.-в.-нем. anud =
скр. âti, так же как и в janitrices, скр. yâtâr (об этих словах
см. ниже), мог выделиться из долгого носового сонанта и не
иметь ничего общего с праязыковым л, которым характеризуется
этот сонант.
Допустимо также—и такое решение вопроса нам представляется
наиболее приемлемым,—что пА не преобразовался в гИ: говоря
точнее, последний—это долгий носовой сонант, за которым
следует весьма слабый гласный.
Мы не предлагаем гипотезы относительно последовательности
явлений, которая привела к преобразованию названной группы
в а долгое. Наиболее естественной представляется мысль, что
переходную ступень образовывал носовой гласный, но я не знаю,
может ли подтвердить такое предположение ряд с m, где am
(dantâ=*dâmtâ) явно образует соответствие (fait pendant) ä.
1 Мы признаем, что в sagürbhis от sagus, âçïr-dâ от âçis долгий гласный
обязан своей долготой аналогии, отправной точкой которой явились формы
именительного ед. ч. sagah, âçïh; ср. pu h, gïh от par, gïr.
528
Замечания относительно некоторых форм 9-го класса
Группа n-f- в рассмотренных случаях дает в санскрите й долгое, что
непосредственно сказывается на словоизменении 9-го класса, в глаголах
которого эта группа чрезвычайно распространена во всех слабых формах.
В punîthâ, prnïtha все совершенно нормально: пА находится в этих
словах, так же как в ganitâr, позади гласного. Напротив, в grbhnïthâ,
muSnïthâ названная группа оказалась в условиях, при которых она обычно
преобразуется в а. И действительно, я уверен, что, если бы не крепкая узда
аналогии, нам пришлось бы спрягать: grbhnâti, *grbhâtha. Не знаю,
позволительно ли сослаться в доказательство этого на зенд. friyanmahi = prïnïmâsi;
впрочем, так или иначе санскрит и сам снабжает нас доводами в пользу
этого предположения. Глагол hrnï-té „iratum esse" располагает производной
основой hrni-yâ- в причастии hfnï-yâ-mâna. Попробуем создать такое же
образование на основе презенса типа grbhnâ-; мы получим, в точном
соответствии с фонетическим законом, grbhä-ya-. Общеизвестно не только то, что
grbhâyâti действительно существует, " но и то, что все глаголы на -ауа,
за исключением отыменных, обнаруживают весьма тесные связи с 9-м
классом 1. Дельбрюк попытался объяснить это родство, предположив такие
первичные формы, как *grbhanya-, но an никогда не изменяется в а, да
и основа в grbhnâti вовсе не grbhan 2.
Как нетрудно предположить после всего сказанного, перед -âyâ- всегда
должен находиться согласный, а не сонант, однако m составляет
исключение, например, в damâyâti. Это, вероятно, зависит от природы группы -mn-,
которая в действительности произносится как -rpmn-. Следовательно, *dm(m)n^-
yâ- дает damâyâ-, а не 'dammya-'.
Основы на -па
Ряде u: dhavi: dhü-nä; lavi: lü-na.
Ряде r: karï: kïr-nâ; gar Τ: gïr-nâ; cari: cïr-nâ; garï:
èïr-nâ; tarï: tîr-nâ; parï: pûr-nâ; marï: mûr-nâ; çarï: çïr-nâ.
Глагольные основы на -ya
Можно объединить 4-й класс и пассив. Эти образования
различаются акцентуацией, но не вокализмом.
Ряды с i и и не предлагают нам ничего интересного, так как
в них отмечается общее этим гласным протяжение перед у. Таким
образом, ge, çro дают èîyâte, çrûyâte вместо *giyâte, *çruyâte.
1 Если признать существование соединительного г/, то такие глаголы,
как hriïî-y-â-te и grbhâ-y-â-ti, могут быть непосредственно сопоставлены
с такими производными 7-го класса, как trmhâ-ti (стр. 513):
•bfOi-y* ïg^rA^mh-â-: Ärh.
2 Кун сопоставил с глаголами на -âyâti презенс stabhOyâti, который,
по-видимому, так же сопутствует stabhnoti, как stabhâyâti сопутствует stabhnâti.
Это замечание, несомненно, заслуживает внимания; однако мы сочли
необходимым пойти дальше, исходя из полной невозможности объяснить stabhâyâ-
при помощи stabhî-J-yâ-.
529
Ряд с г: gari: gîr-yati; к a rî „лить": kîr-yâte; garï „пожирать":
gïr-yâte; part: pur-yate; сап : çir-yâte, и т. д.
Сравните: kar: kr-iyâte; d..ar: dhr-iyâte; bhar: bhr-iyâte;
mar: mr-iyâte1.
Такое же расхождение корней на -ari и на -аг наблюдается
перед -yä в оптативе и прекативе: kir-yât, tîr-yât, pupür-yäs
и т. д. Ср. kr-iyâma, sr-iyät, hr-iyät и т. д.
Ряд с п. Кое-где имеет место недостаточно четкое
разграничение корней на -an и корней на -ani: khani, sani дают khä-
уа1еили khan-yâte, sä-yâteилиsan-yâte; в свою очередь tan
образует tan-yâte и tâ-yâte. Не возникает ни малейших сомнений
насчет того, что именно в каждом случае первично, если мы
учтем, что § a η i неизменно образует gâ-yate и что man, h а η не
допускают ничего иного,кроме mân-yate, han-yâte. Группа an в
hanyâte и т. д. в согласии с правилами закономерно представляет
η перед у (стр. 333—334). В оптативе еап* образует èagâ-yât
или èagan-yât (Benfey,Vollst. Gramm., § 801).
Ряде m: dami: dâm-yati; bhrami: bhrâm-yati; ça mi:
çâmyati; çrami: çrârn-yati и т. д.
Сравните: nam: nam-yâte; ram: ram-yâte.
Слабые формы презенсов 2-го и 3-го классов
Ряд с u: h a ν ί : hü-mahe, èu*hû-masi; b r a ν î : bru-mâs,
bru-té (3 л. ед. ч. актива brâvï-ti).
Ряде г: èari „хвалить": gür-ta (3 л. ед. ч. медиума); part:
pipür-mas, pipür-tha и т. д.; вед. pür-dhi. Ведийская форма pipr-
tâm могла, принимая во внимание греч. ταμπλά-, произойти от
более короткого корня, который одновременно разъяснил бы
сильную основу pipar-2.
1 Вероятно, kriyâte равнозначно kr-yâte: г и i поменялись ролями.
И. Шмидт, рассматривающий эти формы в „Vocal.", II, стр. 244 и сл.,
возводит kriyate к *kiryate (вместо *karyate) и не усматривает глубокого различия
между этим типом и çîryâte. Все, что мы смогли, как мы считаем,
установить выше, препятствует нам разделить это мнение. В приводимых автором
иранских формах kiryëtê и miryeite ( = kriyâte, mriyâte) Гг, видимо, не что
иное, как ёгё ( = f), окрашенное у. В зендском индийской группе ïr обычно
соответствует are. Мы сожалеем, что не в состоянии рассмотреть те из
доводов Шмидта, которые он подкрепляет примерами из народных говоров Индии.
2 Гипотеза Куна, который усматривает в irte медиум от iyarti,
представляется настолько вероятною, что едва решаешься поставить ее под сомнение.
И тем не менее, если сопоставить irmâ „стремительный", irya „яростный"
с греч. όρ-(δρσο : ίΓ§ν3 = κόρση: çïrSa), то этот презенс, по всей видимости,
является для ari тем же, чем является pürdhi для pari. Ударение, очевидно,
отступило,
530
Ряд с η: gani: gagâ-thâ, gagâ-tâs. Ввиду отсутствия веских
примеров трудно сказать, чем становится η в положении перед
w и m: долгим а, как это имеет место перед согласными, или
an, как это имеет место перед гласными. Преобразование,
которому это ç подвергается перед у, говорит, казалось бы, в пользу
первой альтернативы, и в этом случае gaganvâs, gaganmâs нужно
будет счесть метаплазмами.
Мы получили следующую пропорцию:
èaèâ-thâs: èaèâni-ai 1 „<. ,,, ,A. x.
brO-thas : brâvï-δί \ =rud.-thas: rodi-Si.
Слабые формы сигматического аориста
В „Ригведе"мы встречаем аорист медиума a-dhüä-ata (3-е л. мн. ч.)
от корня dhavi. Эта форма считается «аористом на -s-am», тогда
как a-dhâviâ-am относят к «аористам на -iS-am». Мы видели, что
оба эти образования в принципе представляют собою
одно-единственное образование и что вообще видимое отличие
обнаруживается только в конечной фонеме корней (стр. 524 и сл.,
там же прим.). Здесь это отличие вызывается другой причиной:
dhâviâ- и dhüä- образованы от одного корня, только i, наличный
в dhäviä, содержится в dhû§- в латентном состоянии; второе есть
слабая форма первого.
Вот что объясняет правило, которое сформулировано в § 355
санскритской грамматики Боппа: в активе корни на г следуют
образованию на -iä-am; в медиуме они допускают также
образования на -sam и в этом случае преобразуют г в ïr, ûr. Суть
дела прозрачна: сначала спрягали â-stâri§-am, a-stirä-i совершенно
так же, как â-kSaips-am, â-kâips-i (ср. стр. 473); медиум â-starïa-i —
не что иное как аналогическое подражание активу.
Именные основы типа dvi§
Мы здесь рассматриваем только такие формы, окончание
которых начинается с согласного; они приводятся нами в
именительном падеже ед. ч.
Ряде u: pavi: ghrta-pu-s; havï: deva-hu-s.
Ряд с г: gari „хвалить": gir(-s), gari „стареть": amâ-èur(-s);
tari: pra-tûr(-s); part: pur(-s); marî: ä-mur (-s); start·
upa-stîr(-s). В первом элементе сложных слов: pür-bhid и т. д.
Ряд с n: khani: bisa-khâ-s; gani: rte-gâ-s; sani: go-ââ-s.
Ряд с m: ça mi: pra-çân(-s), твор. п. мн. ч. pra-çâm-bhis.
531
Замечания относительно нескольких дезидеративов
Не следует удивляться, если мы обнаруживаем gihïrsati от har, bubhûr-
§ati от bhar и т. д., поскольку известны также gigïâati, çuçrûâati и т. д.
от таких корней anudättä, как ge и сто.
Прежде чем приступить ко второму разделу этой темы,
полезно предостеречь себя от вполне естественной мысли,
представляющейся к тому же более правдоподобной, чем предложенная
выше теория. Эта мысль состоит в следующем: вместо того, чтобы
допускать, что ü, f и т. д. в lüna, *prta и т. д. являются
модификациями и + л, г + л, почему не предположить такие корни, как
laiü, paif? Сильные санскритские формы lavi-, pari- могут быть
отлично возведены к ним, да и объяснение слабых форм
значительно упростится. Этой мысли, однако, мы противопоставим
следующие замечания:
1. Гипотеза, о которой мы только что говорили, неприемлема:
a) Предположим на мгновение, что корнями, от которых
образованы lavitâr, lüna и parîtâr, pürta, и в самом деле
являются lau и par. Что мы можем извлечь из такого
предположения? Ничего, так как, только дойдя до крайних пределов
неправдоподобия, можно утверждать, что Τ в grâbhïtar и moSitum
никогда, даже β ограниченном числе случаев, не следовало после
сонантов, как оно предстает перед нами повсюду. Все корни,
оканчивающиеся на «сонант + Ϊ», дают долгий сонант в слабых
формах. Таким образом, для какого-то числа примеров нам
придется вернуться к тому самому правилу, которое мы хотели
отвергнуть, и вместо того чтобы упростить разъяснение, мы
усложним его еще больше.
b) Исходя из корней lau, paî и т. д., мы будем вынуждены
отказаться от объяснения 9-го класса как частного случая 7-го
класса. Но, следуя по этому пути, мы не поймем ни
предпочтения, отдаваемого корнями «долгому сонанту», ни
нерасположения, оказываемого ими «краткому сонанту» при образовании
презенса на -nä.
c) Мы готовы согласиться, если это необходимо, что не
существует никакой обязательной связи между долгим сонантом
и презенсом на -nä; уподобим слог -nä таким суффиксам, как
-уа или -ska. Но как разъяснить, опираясь на корни lau и paf,
презенсы lunâti и pfnâti? Каким образом, вообще говоря, может
быть понято, что lau способно дать lu, a рас — pf? Этот пункт не
только опровергает гипотезу относительно корней с долгим
сонантом, но является тем самым пунктом, на котором мы можем,
как полагаем, с полной уверенностью обосновать теорию 9-го
класса и, следовательно, теорию таких корней, как lawA, рагд.
Ибо a priori не подлежит сомнению следующее: всякая теория,
основанная на представлении, что -nä является простым
суффиксом, окажется бессильной объяснить характерное и коренное
532
различие вокализма таких образований, как lunâti, prnâti, и
таких, как lûnâ, pûrnâ.
2. Другая гипотеза, весьма далекая от того, чтобы создавать
трудности, возникла в результате наблюдения аналогичных
случаев:
В корнях, в которых мы находим «сонант+ аг +а» у
например в gyä, vä, çra, по нашему глубокому убеждению, а является
составной частью корня. Итак, если наша гипотеза правильна и
если k&î-nâ, lü-na, pür-na и т. д. происходят от корней,
подобных во всем gyaH, где меняется лишь место а1у то оба
корневых типа должны совпадать в тех формах, где выпадает ai.
Так оно и есть на самом деле:
Ряд с i:
еУа (бгУаИ) „стареть": èya-syâti, £ϊ-ηέ.
gyä (giyaH)1 „торжествовать над к.-н.": èyâ-yas, ЕМ^·
pyä „жиреть": pyâ-yati, ρϊ-nä.
çyâ „замораживать": çyâ-yati, çï-nâ и çï-tâ.
Ряд с u дает нам ü-ti „ткань" от vä, väsyati.
Ряд с г:
krä „ранить, убивать" в krâ-tha, откуда kräthayati2;
слабая форма: kîr-nâ.
çra „стряпать, смешивать": презенс çrâ-ti, çrâ-tum, çïr-tâ,
â-çïr3.
Ряд с η дает èânâti от £nä: это—образование, позволяющее
восстановить *gatâ=*zntâ (ср. gâtâvedas?) в качестве утраченного
причастия от £nä. Презенс èânâti не может быть абсолютно
первичным. Органической формой было бы ganâti вместо innâti:
ср. ginâti от gyä. Включение η долгого вторичного
происхождения можно сравнить с таким же включением ϊ долгого в prinâti
(стр. 521).
Таких примеров меньшинство; большинство санскритских корней,
оканчивающихся на -rä, -lä, -nâ, -ma, очевидно,_ не располагает слабыми
формами 4: trâtâ, prânâ, glana, mlatâ, gnâtâ, mnatâ, snatâ, dhmâtâ и т. д.
1 Этот последний корень, как показал Гюбшман, обнаруживается
в зенд. zinât и в др.-перс. adinä (скр. aginät); следовательно, он имеет gt
и не является родственным ни греч. βία, ни скр. gâyati, gigâya.
2 krathana, по-видимому, ученое слово, образованное от своего рода
корня krath.
3 Ср. также pur-va при prâ-târ.
4 И. Шмидт, который своей статьей в К2 привлек внимание к данной
особенности этих корней, дает ей чисто фонетическое объяснение,
основанное, главным образом, на предположении метатезы. Но мы принципиально
не можем входить в обсуждение его остроумной теории, поскольку она, в
конце концов, отвечает на следующий вопрос: почему в санскрите dhmâ ни-
когда не дает *dhmita, в то время как stha дает sthita? Если признать
справедливым то, что, по нашему мнению, нам удалось установить выше, такая
533
Причину_ этого установить нетрудно. Между trâtum и *tïrta, между
gMtum и *éâtâ, dhmâtum и *dhântâ расхождение было настолько большим,
что оказалось неизбежным выравнивание. Не наблюдаем ли мы то же
явление в процессе его становления в корнях на -уа, которые наряду с çïna,
çïta, pïna дают также çyâna, çyâta, pyâna и где *khîta от khyâ уже уступает
место khyâ ta?
К этим примерам, подобранным нами из корневых слогов,
добавляется еще поразительно прозрачное ï в формах оптатива,
образованное равным образом из \ + А (стр. 473 и сл.).
И, наконец, последнее, что свидетельствует о тождественности
способа образования корней, давших pûtâ, pûrnâ и т.д., и
корней таких типов, как gya^, кгахл—это презенсы ginâti, зенд.
zinât от gxyä; èinâti, зенд. ginäiti от g2yä; krnâti от krâ „ранить";
*ganâti (см. выше) от gnâ. Сюда же относятся те презенсы 9-го
класса, которые придают столь исключительные черты нашей
группе корней. Нет необходимости еще раз производить их
расчленение:
Тип А: корень еуах-л: gi-nâ^-ti; *gM-tâ (èï-tâ).
Тип В: корень ра^-л: ри-па^л-ti; *ри-л4а (ρΠ-taV
(Тип А: корень çra^u: cr-nax-u-ti; çr-u-tâ).
(Тип В: корень paxr-k: pr-nâ^k-ti; pr-k-tâ).
Мы ознакомились (стр. 525) с правилом, в силу которого
корень ta^ устраняет конечную фонему в такой основе, как
tar'ati. Но мы сталкиваемся с совершенно иными условиями,
когда дело идет о таких образованиях, каковы образования 6-го
класса: здесь корневое ах выпадает, и сначала получается tr^+ati.
Поддерживаемый согласным г не допускает исчезновения звука А\
в соответствии с правилом он его ассимилирует. В результате
получается tf-ati и, наконец, вследствие удвоения f,—trr-âti. Если
бы корень был просто tar, тот же процесс дал бы tr-âti (ср. греч.
ττλ-έσθαι и т.д., стр. 311).
Этот процесс создает в различных рядах группы -iy-, -uw-,
-rjn-, -ipm-, -it-. Две первые группы санскрит сохраняет
неизменными, а три остальные преобразует в -an-, -am-, -ir-1 (-ш*-).
формулировка вопроса перестает быть правомерной, и вопрос может быть
сформулирован только так: почему dhma не дает dhântâ, в то время как sthâ
дает sthitâ? Кроме того, гипотеза относительно *dhamtâ, *dhamata (как
исходной формы для dhmäta) несовместима с законом о вытеснении
праязыкового а. Метатеза, если она и существует в санскрите, может быть признана
лишь для крайне незначительного числа примеров.
1 Теория И. Шмидта ("Voc", II, стр. 217) стремится представить ir и иг
как модификации аг. Автор говорит, и, бесспорно, с достаточным
основанием, что kirâti не может быть равнозначным kç+ati: будь это так, мы имели
бы 'krati'. Но формула kar+âti, которой ограничивается Шмидт, вступает
в противоречие с принципом вытеснения а, принципом, исключающим
допущение, что индийский когда бы то ни было имел такие презенсы, как *karâti.
534
Глагольные основы на -а
Ряд eu: dhavi: dhuv-âti; sa vi „возбуждать": suv-äti.
Ряде r: karï „лить": kir-âti; garî „пожирать": gir-âti, gil-âti;
êari „одобрять": â-gur-âte; tari: tir-âti, tur-âti; sphari (вед.
аорист spharîs): sphur-âti.
Ряде η: vani: вед. van-éma, van-âti; sani: вед. san-éyam,
san-éma. Место ударения не оставляет и тени сомнения
относительно сущности группы -an, которую мы находим здесь вместо
-пп. Эта акцентуация весьма примечательна, так как вторичные
корневые а обычно торопятся принять на себя ударение и таким
образом уравняться с исконными. И среди приведенных нами
глаголов vânati, sânati принадлежат, возможно, к 1-му классу
только по видимости: это vanâti, sanâti с оттянутым назад ударением.
Ряд с т. Не представляется возможным решить, восходит ли
такой презенс, как bhrâmati, к ^hrâxinati или к *bhrmmâti К
Перфект
Мы находим в соответствии с dudhuvus, dudhuvé от dhavi
такие формы, как taturusas, titirus от tarî, tistire, tistirânâ от
starï (Delbrück, стр. 125), gugurûàas от garî2.
Если не принимать во внимание эти случаи, то можно
утверждать, что корни «на г» в слабых формах перфекта ведут себя
иначе, чем корни «на г». Сохранение а для них, как правило,
факультативно, но для некоторых глаголов обязательно; так, starï
дает tastariva (Be nie у, стр. 375). Причина этой их особенности
от нас ускользает: можно было бы ожидать 'tastïrva'.
Ряд с носовым обнаруживает многочисленные модификации
под действием аналогии. Правильны только такие формы, как
garantis (вед.) вместо *èagnnus от èani, vavamus=*vavmmus от
ν a m i. Наряду с ними известны gagtius, vëmus и т. д.3
Именные основы типа dviâ
Перед окончаниями, которые начинаются с гласного, мы имеем:
от mano-èu: mano-guv-;
от gir-(*gf): gir-(*grr-);
1 Следует думать, что bhrâmati испытал аналогическое воздействие со
стороны bhrlrnyati, ибо непостижимо, каким образом группа -mm- могла бы
дать -am-.
2 Краткий гласный в lugurvân, видимо, обязан своим появлением
воздействию слабой основы *êuéurus-. Должно было бы быть: *éugQrvân. Корень
tarï, помимо titïrvân, дает в оптативе turyä- вместо *türyä: и краткий мог
здесь появиться под влиянием основы медиума turï-.
3 Отметим тем не менее следующее замечание одного грамматика,
приводимое Вестергардом: vemuh, tadbhâSyâdiâu éirantanagranthesu kuträpi na
535
от go-§â (*go-§n-): go-§an-as (*go-§nn-as) („Ригведа", IV, 32, ?2).
Обычно тип go-Sâ поддается аттракции склонения soma-pâ.
В ряду с m pra-çâm, несомненно, вследствие позднейшей
унификации, сохраняет свое ä долгое перед гласными.
Корни на -ахл предлагают нам примечательные примеры:
prä (сравнительная степень prâ-yas, зенд. frä-yanh) дает pur-u,
иначе говоря—*prr-û (ж. р. pürvt или *pr-vi); çrâ дает â-çir-as.
В ряду с носовым mânati и dhâmati весьма возможны и в самом
деле происходят от mnâ и dhmä, как учит индийская
грамматика. Эти формы восходят в таком случае к *mnnâti и *dhrnmäti.
В заключение упомянем два факта, которые мы должны считать
нарушениями исконного правила:
1. Некоторые именные формы со слабым корнем содержат в себе краткий
сонант 1) перед, гласными: tuvi-grâ (наряду cw sam-girâ, в котором все
нормально) от garî; pâpri (рядом с pâpuri) от parï; sâsni, sisnu от sani; 2) перед
согласными: éarkjti от kari „хвалить"; sâtvan, satvana от sani и т. д.
2. Восходящий к долгому носовому сонанту à подает повод к
недоразумениям: так, sa—слабая форма от sani истолковывается как корень_ и от
него образуют, например, çata-séya. С другой стороны, корни anudâttâ han
и man дают нам ghäta и mâtavai. Появление этих форм объяснимо,
по-видимому, лишь при условии признания, что языку присуще некое смутное
представление о закономерности замены -an- на -а—представление, порожденное
существованием таких пар, как sanitum : sâta, и побуждающее порою к такой
замене без достаточных оснований к этому.
Небольшое число примеров обнаруживает ü и Г внутри корня
с конечным согласным. К несчастью, сильная форма сохраняется
весьма редко: так, mürdhan, sphur£ati, kurdati и многие другие
ее не имеют. Мы сочли, что сильная форма от çîraân
обнаруживается в греч. χρασ- (стр. 504). Главнейший пример: dïrgha
„длинный", сопоставленное с drâghïyas, drâghmân, зенд. drâganh [43].
dïrgha (=djghâ, *dri4ghâ): drâghïyas =p£thu: prathïyas
=çïr-tâ: çri-ti
=pur-tâ: parï-târ и т. д.
Некоторые корни являются, видимо, одновременно и udâttâ и
anudâttâ. В ряду с и можно найти бок о бок с причастием yu-ta
такие слова, как yü-ti и yü-tha, в которых ü долгое вполне
согласуется с футурумом yavi-tâ, аористом a-yâvi-Sam и презенсом
yunâti. Можно проследить раздельное существование двух
корней— ν а г и varï,— имеющих одно и то же значение „избирать":
первый корень дает vârati, vavrus, vriyât (прекатив), âvrta, yrtâ;
второй—vfnïté, vavarus, vûryât, vurïta (оптатив), vürna, hotrvurya,
varïtum. Наряду с dari (drnâti, darïtum, dïryâte, dîrnâ, греч.
δέρα-ς) форма dar вскрывается в dfti, зенд. dërëta, греч. δρατός.
Двум формам инфинитива—stârtum и starTtum —соответствуют две
формы причастия—strtâ и stirnâ, и в греческом продолжается тот
536
ü-ti, üvus.
К çu-ra.
hû-tâ и т.д., huv-â-te.
же дуализм в στρατός : στρωτός (=*στρος, *στΓτός). Число
подобных примеров нетрудно умножить.
Вообще говоря, корень udättä может быть всего лишь одним
из распространений корня anudättä.
Рассмотрим, например, все корневые сочетания, которыми
обросли корневые базы -и- „ткать", kj-u- „увеличиваться", ghru-
„называть".
1. -а^. ό-tum, vy-ôman (Грассман); vy-ùta, u-ma.
— â-çv-a-t.
ho-trä, ho-man; â-hv-a-t.
2. ^ψα —
(udättä) çâvï-ra ^
hâvï-tave, hâvï-man;
3. -wajA vâ-tum, va-vau, греч. ή-τριον
çvâ-tra (?)
hvä-tum и т.д., зенд. zbä-tar J
4. -waj vây-ati, uvâya.
çvây-ati, çvâyitum.
hvây-ati.
Корни, обычно приводимые в форме bhO и su „gignere",
обнаруживают две характерные черты: 1) в сильных формах
появляются неправомерные -üv и ü вместо -av'- и -avï-, которые в ряде
случаев, однако, удерживаются; так, первый из упомянутых
корней дает babhuva, bhuvana, abhüt (1 л. мн. ч. abhüvam), bhuman
и в то же время bhâvati, bhavitra, bhavîtva, bhâvïyas1; второй
образует sasuva (вед.), su-Suma и в то же время sâvati. 2)
Некоторые слабые формы имеют и краткое: çam-bhu, mayo-bhû,
äd-bhuta; su-tâ.
Эти аномалии более или менее точно воспроизводятся в
греческих φΰ=Μιϋ и δΰ. Известно, что количество о в этих корнях
варьирует не иначе, чем количество α в ßft или в στΑ, что можно
объяснить тем, что ö долгое появляется здесь вместо дифтонга
ευ. Непонятность древнеиндийских явлений самих по себе лишает
нас данных, которые могли бы прояснить эту особенность. К группе
этих корней следует отнести и корень pü „гнить", который не
имеет a ни в одном языке, но зато дает и краткое в лат. pu-tris.
Было бы недостаточно обоснованным устанавливать, исходя из
таких показаний, ряд ü:u, параллельный, например, ряду aiu:u.
Нельзя упускать из виду a в скр. bhâvati, bhavîtva.
1 bhuyas образовано, возможно, в подражание положительной степени
bhö-ri. Для зенд. baëvare исходной базой, видимо, была сравнительная сте*
пень, которая в санскрите представлена в виде bhâvïyas.
537
В наши намерения не входит проследить в греческом и
других языках Европы весьма обширную и часто исключительно
запутанную историю корней udättä. Мы ставим себе более
ограниченную задачу, а именно постараться, если это возможно,
доказать, что рассмотренные выше на санскритском материале
звуковые явления, имевшие своим следствием возникновение
долгих ϊ, ΰ, г, fi, ф, должны были совершаться уже в
индоевропейский период.
Для ряда с i эта уверенность основывается на
общеевропейском ϊ слабых форм оптатива (стр. 473 и сл.).
В ряду с и можно назвать и.-е. dhü-ma—от корня, который
представлен в санскрите в форме dhavi, слав, ty-ti „жиреть" при
скр. tâvï-ti, tavi-sâ, tuv-ί, tu-ya; лат. pü-rus при pavi-târ, pü-ta.
В греческих глаголах θύω и Ιύω (скр. dhavi dhü, lavi lü1)
следует отметить, быть может, не столько часто встречающееся υ
долгое, сколько отсутствие ступени с дифтонгом. Сопоставим хкго
κλυ=αφ. çro cru, ττλευ тйи=скр. plo plu, ρευ ρυ=скр. sro sru,
χευ χυ=α<ρ. ho hu2. Эта утрата отчетливо указывает на
расхождение, которое существовало между образованиями обоих рядов.
Перейдем к ряду с плавными.
А. Перед согласными
Всякий, кто признает тождество скр. purnâ = *pHnâ, должен
будет тем самым, учитывая положение плавного в лит. pîlnas,
непременно и сразу датировать этот переход праязыковым
периодом. А что касается точного значения результата этого
преобразования, то мы видели, не выходя за пределы санскрита,
что многое побуждает усматривать в нем r-гласный (долгий), но
никоим образом, например, не такую группу, как аг или Аг. Из
европейских языков германский дает веское подтверждение этого
предположения; звук, который появляется в нем перед плавным,—
это обычно звук и, что имеет место и перед r-гласным кратким.
В литовском у передается через ir, il, реже—через аг, al.
girtas „laudatus"=gürta; zirnis, ср. èirnâ; tiltas=tirthâ; ilgas=
dîrghâ (?); pilnas=purnâ; vîlna=urnâ; zarnà „кишка", ср. ниже
греч. χορδή; szaltas=3eHÄ. çareta, которое, безусловно, звучало бы
в санскрите как *çirta, принимая во внимание родственное слово
çiçirâ; spragù=sphurèati.
1 κομβο-λυτης* βαλαντιο-τ ό μ ο ς Гесихия представляет интерес с точки
зрения этимологии λύω.
2 В латинском, где rutus и inclutus являются единственными пассивными
причастиями на -u-to, долгий гласный не имеет большого значения. Он
налицо даже в secûtus и locütus. Примеры, которые, не будь этого
обстоятельства, представляли бы для нас интерес,—это so-lütus и, быть может,
argatus, если только arguo членится на ar+guo=huvâti.
538
Старославянский дает rï, ru, lu.
krunu=kïrnâ „искалеченный"; zrïno=gïrnâ; prïvu = purva;
dlugu=dirghâ; plunü = pürna; vluna=urnâ. Мы находим lo в
$Ыа=лит. szâltas.
Исключение: лит. befzas, слав, bréza „береза"=скр. bhûrga.
Германский колеблется между ur, ul и ar, al. Гот. kaurn=
gïrnâ; fulls=pürna; vulla=urnâ; —arms=îrmâ; (untila-)malsks=:
mûrkhâ; hals=çïfsâ (?), cp. χόρρη* τράχηλος Гесихия; a следует
за плавным в frauja==pûrvyâ.
В греческом те же сочетания звуков весьма регулярно
передаются через ор, ολх или через ρω, λω:
οργή1
ürga.
ορθός2 ürdhvä.
κόρση[44] çïrSâ.
δολ-ι-χός :
πόρτις 4
ούλος 5
dïrghâ.
rjürti.
urnä.
πρώϊος pûrvyâ.
τρώω turvati (?).
βρωτός ср. gïrnâ.
στρωτός ср. stîrnâ.
Вместо ρω в βρότος „свернувшаяся кровь" должно было бы быть
ро, если прав Бугге, сближая с этим словом скр. mûrtâ
„свернувшийся" (KZ, XIX, стр. 446). Ср. άβρομος (Гесихий)=а[5ро^о;.
1. Согласно тому, что сказано на стр. 527,—безразлично, начинается ли
или не начинается корень с w.
2. Предыдущее замечание должно быть отнесено и к ορθός—ürdhvä;
только зенд. ërëôcûa показывает, что корень в ürdhvä не имеет начального
w. Если же, основываясь на βωρθία* όρφία и вопреки мнению Аренса (II,
стр. 48), приписать όρφός дигамму, то отпадает параллель όρφός — ürdhvä.
3. ι в οολιχός не исконно. В эпоху, когда второй ε сильной формы *δέλεχος
(ενδελεχής) был еще неопределенным гласным л, этот гласный мог быть
усвоен по аналогии с формой *οολχός; затем развитие в обеих формах пошло
разным путем.
4. Ср. стр. 541, прим. 6.
5. ούλος „курчавый, волнистый" равно *Ρολνος. Ср. ουλή λευκή· Όρίξ
λευκή.
В латыни ar, al и râ, la равнозначны греческим группам
ор, ολ, ρω, λω.
1 Мы не решаем вопроса о том, не восходят ли в известных случаях ор
и ολ к кратким ζ и 1. Главнейшие примеры, которые необходимо было бы
здесь исследовать, таковы: δρχις, зенд. ërëzi; όρχέομαι, скр. çghâyate; Όρφεύς,
скр. çbhu; όρσο- (в ορσοθύρα, όρσοτριαίνης, όρσιπετής), скр. çsvâ; μορτός,
скр. mjta (ср. все же вед. murïya); χοίρος (ср. χλούνης), скр. ghfSvi; τόργος,
герм, storka- (F i с k, Ι3, 825). О-микрон следует за плавным в τρόνος, скр.
tfna; βλοσυρός, гот. vull>us (Fick); ήμβροτον = ήμαρτον; δλοξ=αυλαξ (стр. 318);
κρόκος (Гесихий), ср. скр. krkavâku, лат. corcus. Для ρω и λω можно было
бы еще привести: γρωθυλος, скр. grhâ (J. Schmidt, Voc, II, стр. 318),
βλωϋρός рядом с βλαστός. Нельзя сопоставлять πρωκτός и prs|hâ ввиду
зенд. parçta. И в латинском г, по-видимому, могло также давать аг и га:
fa(r)stigium, скр. bhr^ti (греч. αφλαστον); classis—это, бесспорно, скр. krSti
(ср. quinque classes с pânéa kr§tâyas?); fastus, как показал Бреаль, заключает
в своем первом слоге эквивалент греч. Φαρσ (стр. 418).
539
arduus ürdhva. I grätus gürta
armus ïrmâ. gränum ^г0^
largus1 dïrghâ. (?) planus pürna2
pars pürti. stratus στρωτός,
cardo ср. kurdati. |
1. Что касается *dargus, то, несмотря на 1 в δόλιχος, мена между J и г
достаточно часта, особенно в корнях, о которых мы говорим1. Можно
исходить и из *daigus и допустить ассимиляцию *lalgus с последующей
диссимиляцией. 2. Ср. complanare lacum „засыпать озеро" у Светония; слово planus
образовано по аналогии от сильной формы. Не будь λάχνη, слово lâna
можно было бы возводить к *vläna=Urnä.
Группе al в санскрите противостоит группа ul (стр. 528) в
таких словах, как calvus=kulva и alvus=ulva, lilba.
Мы находим -га- в слове fraxinus, ср. скр. bhûrèa. С другой
стороны, Буденц, поддержанный И. Шмидтом („Voc", I, стр. 107),
сближает prövincia с скр. purva. Это слово обнаруживается также
в prîvi-gnus, которое восходит к *prôvi-gnus (ср. convîcium)2.
Примеры, обнаруживаемые в различных европейских языках:
Лат. crates, гот. haurdi-.—Лат. ardea, греч. ρωδιός (в результате
протеза—ερωδιός).— Лат. cracentes и gracilis, греч. *ολ-ο-*άνος,
χολ-ε-*άνος, «ολ-ο-σσός.— (?) Лат. radius, греч. όρ-ό-δαμνος. Греч.
χορδή, др.-сканд. garnir, лит. zarnà.
Б. Перед гласными
Переходим к обзору европейских представителей f как
такового. Нам остается рассмотреть его в расчлененной форме, которая
дает группу гг (скр. ir, ur); здесь особенно примечательны
явления, представленные в греческом. Мы бы восприняли как нечто
вполне естественное, если бы этот язык, в котором г и |
преобразуются в ар и αλ, передавал группы гг и 11 через те же ар и αλ.
Наблюдения, однако, показывают, что ор и ολ по меньшей мере
столь же часты и, быть может, даже более обычны, чем ар и αλ,
так что πόλις, например, соответствует скр. puri точно так же,
как χόρση соответствует çîràâ. На основании этого факта можно
прийти к выводу, что фонема л, слившись с плавным, придала ему,
1 Примеры χορδή и χολάς (стр. 541); δερας и dolare; κολοκάνος и
cracentes; χάλαζα и grando; греч. στορ, слав, stelja; греч. χρυσός, гот. gulb (стр.
541); греч. κόρση, гот. hals; лат. marceo, гот. -malsks; лит. girëti, слав,
glagolati и т. д.
2 Нужно ли признать, что лат. ег=| в hernia (ср. haruspex) и в ver-
bum, поскольку первому слову соответствует лит. zarnà, а второму—-гот. vaurd
(лит. vardas)? Следует припомнить, в связи с этим, cerebrum, которому
соответствует в санскрите ciras, termes с вариантом tarmes (корень udâttâ tere),
а также er в terra, равнозначное or в extorris.
540
еще с праязыкового периода, особую вокалическую окраску, от
которой, естественно, свободно г краткое.
βορέας \ . ,
Τπερ-βόρειοι J g
πόλις puri
ποίνς puru, pulu.
Φορωνευς bhuranyû (Kuhn),
χολάς, νόλιΕ» hi
(ср. χορδή) /
χόριον х с ira 2
(?) πομ-φόλυγ- bhurâ'èate (J. Schmidt, Voc, II, стр. 4).
При скр. hiranya и hiri- мы имеем эол. χροισός (древняя форма
позднейшего χρυσός), которое, видимо, равно *χΓτγό, ср. гот.
gulf>a-3.
Глагольные формы:
βόλεται скр. -gurâ-te4 „одобрять"
τορειν скр. tirâ-ti, turâ-ti.
μολείν скр. milâ-Ш „сходиться, подобать".
То же совпадение наблюдается в нижеследующих корнях,
основа которых на -а отсутствует в одном из обоих языков.
όρ-έσθαι [ôp-σο] ср. скр. Îr-te, ïr-âva (стр. 530, там же прим.).
βορ-ά [βρω-τός] ср. скр. gir-âti, gîr-nâ.
πορ-είν |-πρω-τος] ср. скр. purayati и т. д.6
στορ-, [στρω-τός] ср. скр. stir-ati, stïr-riâ.
αιμα-κουρίαι ср. скр. kir-âti.
1 ΧΡώ£ "" очевидно, такое же имя, как gîr, рог в санскрите, иначе говоря,
оно восходит к χϊς. Формы родительного χροός и χρωτός вторичны, вместо
♦χορός. Глагол χραίνω, надо полагать, является отголоском презенса *χρανημι,
*χΓνημι, которые по отношению к χρως представляют собой то же, что gçnati,
pjnâti по отношению к gïr, рог — χρώμα не вполне тождественно багтап;
группа ρω проникла в него позднее, подобно тому, как это произошло с βρώμα.
2 В небольшом числе индийских форм Tr, flr поразительным образом
появляются даже перед гласными; иными словами, f не подвергалось удвоению.
3 Сопоставляли αγορά и agira „двор" (Savelsberg, KZ, XXI, стр. 148).
Остгоф („Forsch.", I, стр. 177) оспаривает эту этимологию, основываясь: 1) на
наличии в греческом примере о и 2) на общности αγορά с άγείρω. Обоснован
лишь второй довод; впрочем, и его совершенно достаточно.
4 Это сближение я позаимствовал у Бругмана, так как значение βουλή,
βουλεόω позволяет признать его приемлемым и к тому же оно устанавливает
родственные связи между βοόλομαι и лат. grâtus. Впрочем, автор данного
сближения не думал об этом, так как общеэллинская β, на первый взгляд,
в глазах строгого лингвиста исключает возможность допущения связи между
βόλεται и лат. volo, слав, velj4 и т. д. Но поскольку мы признали, что βολεται
происходит от βίλεται, становится возможным объяснить наличие здесь β
вместо F соседством плавного (ср. βλαστός = vçddhâ). Если вследствие этого
возвратиться к старой этимологии, то нам следует сопоставлять -ολ- в βόλεται
с -иг- в скр. vur-îta (ср. vjnïté, vurnâ, hotç-vôrya и т. д.).
5 Перфект mimela, естественно, вторичен.
6 Как допускает Фик, скр. корень pari, по-видимому, соответствует
одновременно и греч. πελε (в πέλεφρον?) и греч. πορεΐν, πέπρωται
и т. д. Индийские слова, и в самом деле, имеют значение не .только „напол-
541
Перечисленные только что формы неизменно обнаруживают лишь одну
ступень своего корня, правда, почти всегда наиболее широко
распространенную. Восстановление исконного вокализма в различных формах—задача
общей истории данного класса корней в греческом языке, истории, которой
мы совершенно не занимаемся. Вот очень коротко о различных
преобразованиях корня, который дает στόρνυμι:
1. στερα. 2. στορ, στρω. 3. σταρ-.
1. στερα или στερε. Это—полный и нормальный корень,
соответствующий скр. starï. В одном разряде слов греческий сохранил
лишь форму этой ступени: τέρα-μνον или τέρε-μνον1 вместо *στέρα-μνον
(„Grdz.", стр. 215). Это отпрыск основы на -man, для которой полный корень
является правилом (стр. 419), ср. скр. stârï-man. Другие примеры: περδό-σαι,
περα-σω; — τερά-μων, τέρε-τρον, τέΓε-σσεν (βτρωσεν, Гее.);—τελα-μών, τέλα-σσαι
(Гее). Как показывают уже несколько этих форм, интересующая нас ступень
неизменно включается в те основы, которые требуют неослабленного корня.
2. στορ, στρω — редуцированная ступень, которой мы специально
занимались выше и которая соответствует скр. stir. При τέρα-μνον мы имеем
στρω-τός, при περά-σαι—πόρ-νη, при τερά-μων — τορ-εΓν, τορ-ός, τι-τρώ-σκω,
и т. д.
3. σταρ или στρδό = stj. Эта форма, в основном, налицо только в пре-
зенсе на -νημι и в других образованиях с носовыми, которыми греческий
часто его заменял. Теория этого презенса достаточно полно изложена выше,
на стр. 520. Примеры: μάρναμαι, corcyr. βάρναμαι2 = ΰκρ. mçnâti от корня
mari; τε-τραίνω—от τερα.
Три вышеприведенные формы постоянно смешиваются вследствие
расширения по аналогии. Третья форма по этой причине почти полностью вытеснена.
Примеры: параллельно с μάρναμαι Гесихий приводит μόρναμαι, о которого,
несомненно, позаимствовано из какой-то утраченной формы такого рода, как
Γτορον. Параллельно с πέρνημι, которое должно было бы быть *παρνημι, но
подверглось влиянию со стороны περάσω, тот же лексикограф дает πορνάμεν
(ср. πόρνη). Аорист Γθορον побуждает заподозрить в φόρνυμαι заместителя
презенса на -νημι, -ναμαι; во всяком случае, о в этом презенсе на носовой
вторично и, действительно, Гесихий приводит Οάρνυται и Φαρνεύω (φάρνυται:
!$opov = st£nati: stirâti). О-микрон неправомерен также в ορνυμι, στόρνυμι,
βούλομαι = *βόλνομαι, и т. д. С другой стороны, ступень, содержащая в себе
ор, ρω, берет верх над неослабленной ступенью; отсюда, например, στρωμνή,
βρώμα, Ιβρων3. Зато можно думать, что ίβαλον—от корня βελε — обязан
своим α только презенсу βάλλω = *βαλνω. Правильно было бы *£βολον.
о, выделяющееся из звуковых групп, о которых мы говорим,
обнаруживает известную склонность к преобразованию в υ (ср.
стр. 390). Так, πύλη соответствует -рига в скр. gopura (Бенфей),
μΰλη родственно mürna „раздавленный"4, φυρω и πορφύρω воспроиз-
нять", но и „давать", „разрешать", „осыпать благодеяниями" (ср. Curt i us,
Grdz., стр. 283).
1 Изменчивость гласного, происходящего от Л, весьма показательна.
Существуют и другие сходные примеры, такие, как τέρε-τρον и τερά-μων, τέμε-νος
и τέμα-χος.
2 β этой формы мне представляется прямым доказательством среди многих
других того, что в греческом существовал гласный г.
3 Чистым словоизменением аориста этого вида было бы: Ι-βερα-ν, мн. ч.
£-βρω-μεν.
4 Тот же источник произвел μάρναμαι, которое прямо соответствует mjnâti.
542
водят bhurâti и èarbhurïti1, μύρτος—то же, что инд. mürkha. Было
бы легко умножить число этих примеров, использовав перечень их,
приводимый И. Шмидтом („Voc", II, стр. 333 и сл.). Группа υρ (υλ),
по-видимому, также иногда восходит к г краткому.
Вот немногочисленные примеры развития в греческом α перед
плавным:
βαρύς guru. Ι πάρος purâs.
(?)γαλέη giri «мышь». ψάλυγ-ες sphuliriga.
παρά purâ. I (?) φάρυγξ bhurig (Бугге).
(?) χαλιά kulâya (более вероятно, что это сложное слово,
образованное от kûla).
Добавим: ε-βαλ-ον—от корня βελε (έ*ατη-βελέ-της, βέλε-μνον),
γάρ-ον—от того же родоначальника, что и βορ-ά, φαρ-όω2 (зенд.
barenenti 9-го класса).
По поводу вышеперечисленных случаев следует отметить, что среди других
более или менее достоверных форм, которые принимает в греческом фонема г,
помимо ор, ολ, она, видимо, иногда бывает представлена и как αλα, αρα.
Примеры: тойа-(сильная форма в τελα-); παλάμη—герм, folma, лат. palma
(сильная форма в πελεμιζω?); κάλα-θος, соотносящееся с κλώθω так же, как
dîrghâ—с draghïyas; σφαραγέω=ΰκρ. sphorgâyati; βάραθρον рядом с βορ-, βρω-·
Латинский дает то ar, al, то or, ol:
1) а г, al (га, 1а в тех случаях, когда последующий гласный
сонант преобразовался в согласный).
gravis guru,
haru-spex hirs.
mare mira.
trans tiras3 (?).
parentes греч. uopovt8;(Curtius).
caries гот. hauri.
2) or, ol:
orior греч. èp- (стр. 541).
corium скр. éira.
vorare скр. gir-.
molo, mo1a греч. μύλη (стр. 542),
torus, storea скр. stir- (ср. стр. 400
и 401).
1 Корнем этих санскритских форм, как можно думать, является *bhari
или *bhrâ. Это, видимо, тот же корень, что и заключенный в презенсе bhjoâti
„жарить".
2 Соотношение между ciras и κάρη затемняется конечным η последней
формы.
3 Тождество этих слов сомнительно: trans и tiras можно было бы
возвести к изначальному trrns, если бы санскритское слово не имело ударения
на последнем слоге. Таким образом, -as не может быть простым
воспроизведением -çs. Возможно, что trans—это форма среднего рода
прилагательного, соответствующего греч. τρανής (которое лишь косвенно связано с tiras,
подобно тому как πρανής связано с purâs)»
543
В тех случаях, когда в греческом мы находим α вместо о,
латинский, видимо, избегает групп ar, al и отдает явное
предпочтение or, ol; gravis = βαρΰς составляет исключение. Примеры
перечислены на стр. 398: volare, греч. βαλ-1; tolerare2, греч. ταλ-;
dolere, dolabra, греч. δαλ-; рог-, греч. παρά; forare, греч. φαρόω.
Сомнительно, чтобы латинский мог свести группы гг или 11
к простому г или 1, хотя некоторые примеры создают видимость
подобного преобразования. Таковы, в частности, glos, (g)lac, grando,
prae, если их сопоставить с γαλόως, γάλα, χάλαζα, παραί. Индийские
параллели к этим примерам, к сожалению, отсутствуют. Но что
касается glos, то ст.-слав, zluva поддерживает латинский и
показывает, что α в греч. γαλο'ωζ не очень древнего происхождения;
рядом с γαλακτ- есть и γλακτο-φάγ<Η, γλάγος, и т. д. Что касается
χάλαζα — grando, то это слово, во всяком случае, трудное; -αλα-
в нем в свете скр. hräduni должно, очевидно, рассматриваться как
вполне неделимое3 и адекватное лат. -га-. Сближение ргае и παραί
крайне недостоверно. Остается glans при ст.-слав. 2el$dï и греч.
βάλανος. В литовском мы находим gilë, и Фик сближает его, не без
доли вероятности, с скр. gula „glans penis"4. Но и этот пример
мало что доказывает: начальной группой италийского, славянского
и греческого слова могло быть gj-.
Литовский: glrë „лес", скр. giri; gilë „желудь", скр. gula
(см. выше); puis, скр. puri; skurà, скр. cira; — mares, скр. mira;
таШ = лат. molo (см. выше).
Старославянский: gora, скр. giri (расхождение вокализма
в литовском и славянском, совпадающего с группой ir в
санскрите, является весьма примечательным); skora, скр. éira; morje, скр.
mira.
Готский: kaurs или kaurus, скр. guru; faura, скр. purâ(Kuhn);
герм, gora, скр. hirâ (F ick, IIP, стр. 102); гот. pulan, греч. ταλ-;
др.-в.-нем. рогап, греч. φαρόω; — гот. marei, скр. mira; mala =
лат. molo.
filu=CKp. puru представляет собой одно из самых
поразительных исключений и напоминает др.-сканд. hjassi (=hersan-) при
скр. çïrâân.
Переходим к ряду с носовыми. Он проливает вокруг себя так
мало света, что полнее освещается сказанным о предшествующем
ряде.
1 Надо признать, что α в βαλεΤν представляется скорее заимствованным
из презенса βάλλω; см. выше.
2 Однако звук а представлен в latus.
3 Это -αλα-, быть может, следует возводить к *-λδ- или, если это слабая
форма, связанная с скр. hräd таким же образом, как dïrghS связано с drägh,
то оно может быть выведено из г; см. стр. 543.
4 Если бы не существовало латинской и славянской форм, можно было
бы думать о связи glans с скр. granthi.
544
А. Перед согласными
То, что мы наблюдаем в греческом, представляется связанным
с весьма сложным вопросом о метатезе. Сказанного достаточно,
чтобы понять, на каком зыбком и ненадежном основании нам
предстоит строить наши гипотезы.
Замечания относительно некоторых явлений в греческом, обычно
понимаемых как метатеза.
Мы сразу же исключим из нашего рассмотрения группу ρω (λω), которая
чередуется с ор (ολ): и та и другая — не что иное, как производные f (стр. 539).
I. Преобразование такой группы, как πελ- в πλη-, по общему мнению,
невозможно.
II. Теория, отстаиваемая главным образом И. Шмидтом, предполагает,
что πελ- изменилось в πελε- в результате сварабхакти; из последней формы
и происходит πλη-. Мы возражаем на это, исходя из трех следующих
положений:
1. Соответственно правилу, группа πελε- первична, и никоим образом
нельзя возводить πελε- к πελ-; πελε—корень типа udâttâ.
2. Если πελε- и в самом деле давало иногда πλη-, то это происходило
исключительно редко, и существует, несомненно, много других причин,
которые могли способствовать появлению корневых групп последнего типа.
3. Когда мы допускаем переход πελε- в πλη-, то это явление нужно
относить к той эпохе, когда второе ε (равное А) в πελε резко отличалось от
первого и по сравнению с ним, равным а1ч было намного менее полным.
III. Прежде всего вспомним о том, что каждый корень имеет полную
форму и форму, лишенную ах. Необходимо всякий раз тщательно определить,
с какой из этих обеих форм мы собираемся иметь дело. То обстоятельство,
что, например, в γεν (более точно — γενε) и καμ наличествуют различные
гласные, само по себе не является ни обязательным, ни характерным для
обоих корней. Напротив, это обстоятельство чисто случайное, поскольку
в первом корне возобладали неослабленные формы, тогда как второй их
утратил. Если обе ступени существуют в таких корнях, как ταμεΐν : τέμαχος,
βαλεΤν : βέλος, то и это, по правде говоря, тоже случайность. Итак, при
разъяснении γνη-, κμη-, τμη-, βλη- от нас полностью зависит, исходить ли тут
из γεν, там из καμ, поступая подобным же образом во всех остальных случаях,
смотря по тому, какая из форм является наиболее распространенной.
Больше того, когда мы убедимся в том, что тип с „метатезой" регулярно
имеет в качестве базы одну и ту же корневую форму, допустим, слабую, нам
придется обратиться к положению дел в праязыковый период, где α в таких
формах, как ταμεΓν, еще не было, так что вполне может быть — и это даже
вероятнее, — что τμδτός не восходит ни к ταμτός, ни к τεμτός, ни к τεματός.
IV. Тип, в котором гласный следует за подвижным согласным, вовсе не
обязательно должен происходить от другого типа. Напротив, вполне допустимо,
если мы договоримся, например, что корнем слова θανεΐν( = φηνεΤν) является
Φνδ. В таком случае мы бы имели:
Όαν-εΓν: $vä = cKp. dhâm-ati (*dhmm-âti): dhma
— скр. pur-ύ: prâ-yas °и т. д.
Весьма достоверный пример вне греческого мы находим в лит. zin-aû,
pa-zin-tis, гот. kun-ps (стр. 548 и сл.). Эти отпрыски gna „знать" в качестве
базы имеют слабую форму gç- (перед гласными—gnn), которая заменила gn^-.
В случае, о котором мы говорим, тип φανεΐν— неизбежно слабый, и
гласный в нем всегда анаптиктический.
18 ф. де Соссюр
545
V. Наконец, оба типа могут быть различными по образованию. Нужно
различать два случая.
а) Корень udättä и корень на -а (отличающиеся друг от друга лишь
позицией аг\ ср. стр._537)ч В греческом можно указать, по-видимому, на
τελα (τελαμών) и τλδ (τλάμων), πελε (πέλεθρον) и πλη (πλήρης и т. д.);
ср. скр. parï и prä.
б) Корень anudättä и корень на -а. Второй является (праязыковым)
распространением первого, например: μεν, μ^νος, μέμονα, μέμαμεν и μν-δ,
μνήμη, μιμνήσκω (скр. man и mnâ).
К такой именно схеме и хотел бы свести почти всю совокупность случаев
с „метатезой" К. Бругман в своей недавно опубликованной работе. Он
полагает, что элемент -а присоединялся к наиболее слабой форме (мы сказали
бы—к слабой форме) корней и затем исчезал при любой деградации.
Распространение при помощи -а (-аИ), несомненно, широко известно: мы ставим
его на одну доску с распространением при помощи -axi или -ах\\, что
наблюдается среди других случаев в kjr-aj (скр. çre) „наклонять", ср. к1а1г (скр.
carman); sr-a^ (скр. sro) „лить", ср. sa1r. Но у çre и sro есть свои слабые формы
çri и sru. Таким образом, мы не можем поверить в это необыкновенное
свойство элемента а, который, по словам Бругман а, огражден от
ослабления. Эта смелая гипотеза покоится, если мы не ошибаемся, на нагромождении
ряда случайных фактов, которые, действительно, способны породить
иллюзорные представления, но, при ближайшем рассмотрении, немногого стоят.
Во-первых, некоторые греческие презенсы, каков, например, &ημι, везде
удерживают долгий гласный, что без труда объясняется расширением по
аналогии. В санскрите все презенсы на а 2-го класса дают ту же аномалию
(стр. 433). Из этого ясно, что такие сопоставления, как δημες : vämas, ничего
не доказывают.
Во-вторых, санскритские корни на -râ, -nâ, -та сохраняют а долгое
в основных слабых временах. Таким образом, мы имеем sthitâ, но snâtâ.
Мы уже объяснили, как нам кажется, причину этого явления, которое имеет
относительно недавнее происхождение.
Остаются такие греческие формы, как τρητός, τμητος. Но поскольку
наличие в них элемента -а надо еще доказать, нельзя прийти к каким-либо
заключениям относительно свойства этого -а.
Что же касается собственно греческого, то мы должны выдвинуть
следующие возражения.
1. Эллинские формы должны быть тщательно отделяемы при их анализе
от таких индийских форм, как träte, snäta. Для последних теорию метатезы
можно считать отвергнутой. Их окружает, как правило, целая семья слов,
которые указывают с полной очевидностью на истинную форму их корня;
так, träte присоединяется к trâti, trâyati, trâtâr и т. д. Нигде не
наблюдается tar х. Напротив, в греческом такие группы, как τρη-, τμη-,
неотделимы от групп τερ-, τεμ- (τερε-, τεμα-) и в слабых формах они явно их
замещают.
2. Нельзя считать случайным то обстоятельство, что такие группы, как
τρη-, τμη-, γνη-, когда они не образуют независимых корней типа μνη-,
регулярно восходят к корням, принадлежащим к тому разряду, который
мы называем udättä.
3. Чтобы не останавливаться на этой соотнесенности, я заявляю, что
если перед нами корень udättä, например ga^ и элемент а, то их
совокупность могла бы дать gnn-ä (греч. 'γανη'), но никоим образом не gn-a
(греч. γνη) 2. Здесь нам достаточно отослать читателя к стр. 534 и сл.
Мы признаем в „метатетических" группах три основных черты:
1 Относительно manati и dhamati наряду с mnâ и dhmä см. стр. 535.
2 Грассман допускает ту же ошибку, когда видит в корнях prä и ста
«амплификации pur и çir». В этом случае мы имели бы не prä и çra, a purä, cirä.
546
1) Они оказывают явное предпочтение тем из образований,
для которых нужна слабая форма.
2) Они бывают только в корнях udättä.
3) Окраска их гласного определяется той окраской, которую
избирает для себя конечный А корня udättä:
-γνη-τος : γενε-τήρ κμά-τός : κάμα-τος
-κλη-τος : χαλέ-σω τμά-τός : τέμα-χος
βλη-τός : -βελε-της 1 δμά-τός : δαμά-τωρ
τρη-τός : τέρε-τρον 2 δμά-τός : δέμα-ς
σχλη-ρός : σκελε-τός χρα-τήρ : κέρα-σσαι
πλα-τ(ον : πέλα-σσαι
πρά-τός : πέρα-σσαι.
В ряду с носовым эти три черты поразительным образом
поддаются непосредственному сравнению с такими индийскими
слабыми группами, как gä- от gani, ^ат- от dami. И действительно,
их изначальными формами, согласно тому, что, как нам кажется,
установлено нами выше (стр. 528 и ел,), являются: grr4-, drrr4-.
Если предположить, что звук А в двух ступенях корня претерпел
ту же судьбу, мы получим такой последовательный ряд:
[Сильная форма: *γεν8-τήρ, γενετήρ.]
Слабая форма: *γη8-τός, -γνητός.
[Сильная форма: *τέμα-χος, τέμαχος.]
Слабая форма: *τφα-τός, τματός.
Объяснив подобным образом изменчивость гласного и
подтвердив правило всеобщей равноценности примером
νήσσα (дор. νδσσα) = οκρ. äti1,
мы отождествляем -γνητος, κματός, δμάτός с скр. gâta, çantâ, dänta2.
Все соглашаются с тем, что γνήσιος соответствует скр. gätya.
1 Фик сопоставляет с kânéana κνηκός, которое в этом случае должно
было бы выступать вместо *κμηκός, a κνηκός может восходить лишь к *kä-
сапа'. Это сближение — одно из весьма сомнительных. Можно предположить,
что в слове etv<m)p = yätar (изначальный тип yçiAtar) греч. ε — протетическое и
что у, превратившись впоследствии в i, принудило носовой принять на себя
функцию согласного: *eyçAtér, einAtér, εινάτερ. Поскольку эта гипотеза не
принимает во внимание с, είνατηρ ничего нам не разъясняет.
2 Интересно сопоставить два ряда:
tatâ : τατός; mata : -ματος; hatâ : -φατος; gatâ : βατός;
gâta: γνητός; çantâ : κμητός; dântâ: δμητός.
Такие формы, как γεγάτην, от γενε, являются подражанием формам первого
ряда и представляют интерес как таковые, но они столь же не первичны,
как γί-γν-ομαι или как скр. sa-sn-i (стр. 536); γίννομαι,— бесспорно, модифи·
кадия по аналогии с древним презенсом 3-го класса, который продолжает
жить в скр. éaéânti.
18* 547
Мы, правда, не можем объяснить, что происходит в ряду
с плавным. Здесь всякая первичная слабая форма должна была
иметь f чистое и простое, а вовсе не г4; это \ мы, действительно,
обнаружили в группах ор, ολ и ρω, λω. Куда же теперь отнести
такие формы, как ττρατός, βλητός? Под воздействием чего слабая
ступень, соответствующая πέρα-σαι, дает нам параллельно с
нормальным типом πόρ-νη это необыкновенное образование πρατός?
На этот вопрос мы все еще не находим никакого
удовлетворительного ответа.
Замечания
I. Греческий, если предложенная гипотеза справедлива, неизменно
смешивает нормальную ступень и слабую ступень в корнях на -па и -та.
Возьмем, к примеру, корень γνω „знать"; его редуцированной формой будет
*gn°, которое и дает γνω. Таким образом, вполне возможно, что слог γνω-
в γνώμων и γνώσις в первом случае соответствует др.-в.-нем. chnâ- (скр. gnä-),
во втором—гот. кип- (скр. éâ-)î ср. ниже. Из этого наблюдения вытекает,
что α краткое в τέφναμεν должно быть объяснено аналогией: фонетический
закон не допускает корневых слабых форм на -να (-νε, -νο) или на -μα
(-με, -μο). И. Шмидт, исходя из другой точки зрения, приходит к такому
же заключению.
II. Известен параллелизм групп -ανα- и -νη-, -αμα- и -μη-, например
в αθάνατος : θνητός; —άδάμας : άδμής; —ακάματος : κμητός. Здесь
возможны две гипотезы: или -ανα-, -αμα- представляют собой варианты -νη-, -μη-,
смысл существования которых лежит в каком-нибудь неустановленном
обстоятельстве; или они происходят от сильных форм -ενα-, -εμα- ввиду того
же смешения вокализма, благодаря которому развилось τάλασσαι вместо
τέλασσαι1. Таким образом, παν-δαμά-τωρ должен был бы иметь вид *παν-
δεμά-τωρ и обязан своей α влиянию δάμνημι и ίδαμον.
Латинские примеры таковы:
anta скр. âtâ2. I gnä-tus \ скр. gâ-tâ.
anat- âti. nâtio / gä-ti.
janitrices yâtâr. | cp. geni-tor = gani-tar.
То же мы обнаруживаем в man-sio, которое по отношению
к греч. μενε(μενετός) является тем же, чем gnätus—по отношению
к geni-, и далее, в sta(n)g-num, заключающем в себе
редуцированный корень слова τέναγ-ος. Возможно, что gnä- в gnärus является
слабой формой от gnô-. В этом случае gna- соответствует двум
эллинским γνω-, о которых мы говорили выше. Что касается
co-gnïtus, то рассуждение о нем должно быть таким же, как и
о τέθναμεν.
Таким образом, -an, -ani или -nä—италийские эквиваленты
рассматриваемой нами носовой фонемы. Не следует удивляться,
1 Эта форма есть у Гесихия.
2 См. Ost hoff, KZ, XXIII, стр. 84.
548
находя а в gnätus рядом с η в -γνητος. Напротив, это совершенно
нормально. Мы видели, что греч. ε, восходящий к Â, в латинском
регулярно соответствует a, по меньшей мере в начале слова:
gnatus (*gçatos) : γνητος (*γπετος) = sätus : έτος.
В северных языках мы находим, вообще говоря, те же
рефлексы, что и для краткого носового сонанта. Фонема А, за
которой, по нашему мнению, следовало п, не оставила после себя
следов. Она была подавлена в силу той же причины, что и
в düSti, гот. dauhtar = {toyaxrjp и т. д. (стр. 463 и сл.).
Литовский: gimtis, ср. с скр. gâti; pa-Éin-tis „знание"—от
gnä. Эта последняя форма—одна из наиболее интересных. Она
дает нам слабую ступень gïl·4, которую арийские языки сохранили
лишь в презенсе gä-nätiх и которая по отношению к gnä является
тем же, чем скр. çïr—по отношению к çra; см. стр. 533 и 536.
Скр. äti соответствует ântis.
Старославянский: jçtry, ср. скр. yatâr.
Германский: гот. (qina-) kunda-=cKp. gâta; kunpja2, ср. лит.
-zintis „знание"; англо-сакс. thunor „гром" = скр. tara „звучный,
громкий" (несомненно, от stani или tani „звучать, греметь");
англосакс, sundea „грех", которое Фик сопоставил с скр. säti; др.-в,-нем.
wunskan, ср. скр. väoehati3; др.-в.-нем. anut =скр. äti.
Б. Перед гласными (группы -пп- и -тт~)
Греческий преобразует, как можно было предвидеть, çn и rpm
в αν и αμ.
Аористы εταμον, εδαμον, εδαμον, εθανον в этом отношении сходны
с санскритскими формами vanâti, sanâti вместо *vnnâti, *sçnâti
(стр. 535) и, подобно им, предполагают корни udättä. И
действительно,
наряду с έ'ταμον мы имеем τέμε-νος, τέμα-χος, τμη-τός.
„ εδαμον—скр. dami-târ, παν-δαμά-τωρ, Λαο-δά-μα-ς, δμη-τός.
наряду с εχαμον —скр. çami-târ, κάμα-τος, ά-χάμα-ς, χμη-τός.
εθανον4— θάνα-τοζ, θνη-τός.
1 В зендском существуют весьма любопытные формы: paiti-zanta, â-zaifiti.
Нам представляется невероятным видеть в них органические образования,
так как последними должны были бы быть: *pâiti-zâta и *â-zâiti. Но перед
гласными zan-(=znn-) является, действительно, правильной слабой ступенью
от znä, так что -zanta, -zainti могли быть образованы по аналогии с такими
утраченными словами, в которых было налицо указанное условие.
2 Здесь un другое, чем в kunnum = cKp. éanïmâs, ибо, как мы видели,
эта последняя форма —метаплазм *ganïmas, *gçnïmâs (стр. 533).
3 Корнем может быть только vami; мы его обнаруживаем, по-видимому,
в vâm-a.
4 Корнем, возможно, является не Φενα, но ΰνδ (см. стр. 545). Но для
теории группы -αν- это несущественно.
549
Β εκτανον при *τατός (стр. 343) группа αν оправдана лишь
наличием двойного согласного »τ.
Так как найти образования этого рода в других языках
Запада, кроме греческого, можно было бы только с немалым
трудом, мы ограничимся приведением лишь нескольких
примечательных общеевропейских примеров, морфологический анализ
которых, впрочем, не вполне достоверен. Среди этих примеров
есть даже такой, как tnn-ύ, который, бесспорно, восходит к корню
anudättä (tan). Строго говоря, можно было бы устранить эту
аномалию, расчленив слово следующим образом: tn+nu. Однако
более естественно думать, что суффиксом является -и, что
органическая форма в действительности должна была бы дать tn-u
и что группа -пп- возникла лишь из стремления избежать в
начале слова столь жестко звучащей группы, как tn-.
Скр. tanu, греч. τανο-, лат. tenuis, др.-в.-нем. dunni.
Скр. sama „некто", греч. άμός, гот. suma- (ср. стр. 387 и
прим. 2 там же).
Гот. guma, лат. homo, hemonem (hümanus — загадочно), лит. zmu.
Греч, «άμαρος, др.-сканд. humara- (Fick).
[Возможно, что слав. 2епа = гот. qino содержит в себе другую
основу, чем греч. βανά, γυνή, (стр. 391). Последнее слово,
соответствующее скр. gnâ (а не ganâ), видимо, сменило п на пп лишь
в греческий период. Слово со значением „земля": греч. χαμαί, лат.
humus, слав, zemja, лит. zemë, скр. k§amä, несомненно, имело
в своем составе группу mm, но она стала необходимой из-за
предшествовавшего двойного согласного]. Суффиксальные слоги
дают: скр. -tana (также -tna) = rpe4. -τανο в έπ-ηε-τανό-ς, лат.
-tino; скр. tama = roT. -tuma в aftuma и т. д., лат. -tumo.
На стр. 329 мы говорили о таких порядковых числительных,
как скр. аасата = лат. decumus. В праязыке было, несомненно,
da^mmâ, а не da^amâ. Гот. -шла, акцентуация, самый характер
образования (da^rn + â)—все заставляет предполагать это.
Греческий сохранил единственное числительное из числа тех, о
которых идет речь: 1$άομος. Уже Курциус предположил, чтобы
объяснить ослабление πτ в βδ, что о, которое следует за этой
группой, является анаптиктическим. Несомненно, скорее можно
было бы ожидать 'εβδαμος', но тут та же аномалия, что и в είκοσι,
διακόσιοι и в других числительных (§ 15). В Гераклее мы находим
εβδεμος.
550
§ 15. Особые случаи
I.
Индийская группа га как репрезентант слабой группы, состав
которой, впрочем, с трудом поддается определению.
1. Два обстоятельства заставляют предполагать, что в скр.
ragatâ=^aT. argentum начальная группа была особой природы:
разная в обоих языках позиция плавного и то, что в латинском
гласным является а (ср. largus — dïrghâ и т.д.). Эти наблюдения
подтверждаются зендским, в котором наличествует ërëzata, а не
'razata'.
2. Соотношение ërëzata с ragatâ обнаруживается также в tërë-
çaiti, поддерживаемом др.-перс, tarçatiy, а не 'Oraçatiy' — при
скр. trâsati. Таким образом, можно, несомненно, сказать, что
слог tras- в trasati не представляет собой, вопреки, казалось бы,
очевидности, слабой ступени корня. Было бы естественно видеть
соответствующую сильную ступень того же корня в вед. tarâs-
antî, если бы та же мена га и ara не представала перед нами
в примере 3, где было бы затруднительно истолковать ее таким
образом.
3. Третий пример является менее ясным из-за исключительно
изменчивой формы слова в различных языках. Скр. aratni и ratnï,
зенд. ar-eftnäo (им. п. мн. ч.) (зенд.-перс. словарь) и räuna; греч.
ώλένη, ώλέ-κρανον и όλέ-κράνον, лат. ulna; гот. aleina. Быть может,
лит. alkûnê восходит к *altnê и тождественно скр. ratnï.
Возможно, что начальная группа в родственном образовании та же
самая: греч. αλαξ· πήχυς. Άθαμάνων, лат. lacertus, лит. olektis,
слав, lakutï. (См. Curt i us, Grdz., стр. 377.)
II.
В ряде случаев мы видим, что начинающие собою слово
арийские сонанты i, u, г, n, m передаются в европейском особым и
неожиданным образом: гласный, который, вообще говоря,
представляет собою a, появляется здесь в сочетании с примыкающим
к нему сонантом. Мы помещаем в скобки формы, свидетельство
которых не вполне отчетливо.
Ряд с i:
1. Скр. id-e вместо *i2d-e: гот. aistan (ср. нем. nest=CKp. nïdâ).
2. Скр. inâ „могущественный": греч. αίνος (?).
Ряд си:
3. Скр. и и uta: греч. αδ и αυτέ, гот. au-k.
4. Скр. vi: лат. avis, греч. αίετός.
5. Скр. ukäati: греч. αυξω (тогда как vâksâti—άέξω).
6. Скр. uSâs: лат. aurora, эол. αυως.
7. Скр. usrâ: лит. auszrà.
551
8. Скр. uv-é „называть": греч. αυω1?
Ряд с г:
9. Скр. fça: лат. alces (греч. ά'λκη, др.-в.-нем. elaho).
Ряд с носовыми:
10. Скр. а- (отрицание): оск.-умбр. an- (лат. in-, греч. ά-,
герм. un-).
11. Скр. âgra: лат. angulus, слав. qglu.
12. Скр. âhi, зенд. azhi: лат. anguis, лит. angis, слав. $έϊ,
греч. δφκ2 (др.-в.-нем. une).
13. Скр. âhati (вместо *ahâti): лат. ango, греч. αγχω (слав. v-çzaj.
14. Скр. ahu параллельно amhu в paro'hvï (см. Böhtl.— Rhot):
гот. aggvus, слав, çzuku, ср. греч. εγγύς.
15. Скр. abhi: лат. amb-, греч. άμφί, слав, obü (др.-в.-нем. umbi).
16. Скр. ubhau: лат. ambo, греч. ά'μφω, слав, oba, лит. abù,
гот. bai).
17. Скр. abhrâ: оск. anafriss (лат. imber), греч. δ'μβρος3.
Последний ряд дает большое разнообразие в передаче этого
гласного а с последующим носовым. Среди приведенных
примеров нет, очевидно, ни одного, которому мы были бы вправе
приписать, восстанавливая праязыковую форму, краткий носовой
сонант, или долгий носовой сонант, или полную группу an. Но
это не мешает отдельным языкам сглаживать порою различия
между ними. В германском звук, который мы рассматриваем,
обычно смешивается с носовым сонантом (un); однако в aggvus
представлен an. В балто-славянском мы находим то an, то a, а
в одном случае, в v-çz$,— группу, равнозначную герм. un. В
латинском та же неопределенность: наряду с ап, то есть нормальной
формой, мы встречаем и in, которое обычно воспроизводит п,
и — что особенно любопытно—в двух случаях лат. in
противостоит ап оскского или умбрского4. Греческий почти всегда дает
αν, αμ и только один-единственный раз — α. В δμβρος гласный
принял более темную окраску, наконец όφις изменило от на о,
проведя его через промежуточную ступень долгого носового
гласного о. Гомер, Гиппонакт и Антимах употребляют δφις (ophis)
1 Зияние в άβσας делает это сближение сомнительным. Ср., однако,
aFuTOo (Corp. Inscr., 10) = αύτου.
2 Родство δφις с âhi весьма настойчиво отстаивал Асколи („Vorlesungen",
стр. 158). Вокализм исследуется ниже. Что касается греч. (p = gh2, то νείφει—
совершенно достоверный пример этого; сюда же можно добавить τέφρα
(корень dhaighgî стр. 400, прим.), πεφνεΐν, φατός = скр. hate, τρυφή = скр.
druhâ, возможно, также άλφή (Гесихий) и &λφοι; ср. скр. arghâ, arhati
(Fröhde, ВВ, III, стр. 12). Относительно £χις см. стр. 555, прим. 1.
3 А не следует ли добавить сюда: скр. agni, слав, ognï, лат. i(n)gnis?
4 То же отмечается и в inter, умбр, anter; поразительно также и то, что
в санскрите мы обнаруживаем antâr, а не 'atâr'. Впрочем, нужно отметить,
что прилагательное antara, родство которого с antâr вполне возможно,
передается в славянском через v-utoru. Да и числительное suto покажет нам
ниже, что появление в славянском и в данном случае представляет собою
факт, который стоит отметить.
552
еще как трохей; подробнее см. Roscher, „Stud.", Ib, стр. 124.
Никоим образом не исключается, что вариант ocpt- скрыт в άμφι-
σμαινα иάμφίσθμαινα („Etym. Magn.")—образовании, которое можно
было бы уподобить σκΰδμαινος (Гее), έρίδμαίνω, άλυσθμαίνω. —
άμφίσβαινα (Эсхил) порождено, по-видимому, народной
этимологией.
Ввиду морфологических трудностей, доставляемых типом u§âs—
αυως, abhi—άμφί и т. д. (см. стр. 554 и сл.), почти совершенно
невозможно определить природу звука, который могли иметь
в праязыке начальные фонемы этих форм. Тем не менее,
допустимо отважиться на предположение, что сонанту предшествовал
слабый гласный А (стр. 462 и сл.) и что следует
реконструировать ^usas, ^mbhi и т. д.
Такие формы, как άμφί, ομβρος и όφις, приводят нас к
аналогичным случаям, которые можно наблюдать на некоторых
срединных группах с носовым. Прежде всего: греч. είκοσι и ικάντιν
(Гес.) = скр. vimçâti. Ср. ocpt; и anguis = CKp. âhi. Второй элемент
в είκοσι принимает форму -κον- в τριάκοντα1 (скр. trimçât); ср.
δμβρος: abhrä; в εκατόν он выступает как обычный носовой сонант
и приобретает окраску о в διακόσιοι. Если, с одной стороны,
некоторые диалекты имеют такие формы, как Ρίκατι, то, с другой
стороны, δεχόταν и έκοτόμβοια (стр. 393) увеличивают число
примеров со2. Наконец, славянский совсем не имеет 'sçto' (ср. лит.
szimtas), но suto. Второй, относительно достоверный случай,—
это префикса-, чередующийся с ά-3 (ср. εκατόν:διακόσιοι), Βοπατρος,
δζυξ и т. д. при άδελφειός и т. д. В литовском мы обнаруживаем
s$-, в старославянском—s$- (sqlogü: αλοχος); соотношение здесь,
таким образом, то же, что и в οφίζ-.^ϊ4.
Эти факты по меньшей мере обязывают нас к осторожности
при рассмотрении некоторых причастий, которые, быть может,
с излишней торопливостью были сочтены образованиями по
аналогии, в частности οντ-, ίοντ- и όδοντ-. Своеобразие этих форм
обнаруживается, помимо греческого, и в других языках, как это
видно по др.-в.-нем. zand (параллельно гот. tunfms), по лат.
euntem и sons при -iens и -sens. Эти три примера относятся к
причастиям с согласной основой. Нетрудно прибегнуть для их
объяснения к гипотезе воздействий по аналогии. Но насколько
вероятно такое воздействие для слова со значением „зуб",
аномалия которого обнаруживается в двух различных лингвистических
1 Что касается анализа τριακοστός (trimçattamâ), то мы воздерживаемся
от каких-либо предположений.
2 Ср. стр. 393.
3 Но никоим образом не ά-, которое является слабой формой εν- (стр. 333).
4 Другие возможные примеры о той же природы: βρόχος, ср. гот. vruggo;
στόχος, которое Фик сопоставил с гот. staggan; κοχώνη, ср. скр. gaghâna—от
éamh (откуда éânghâ „gamba"); πόθος при παΦεΐν (ср. стр. 394); αρμόζω от
άρμα и т. д.
553
ареалах? Оно еще менее допустимо для лат. euntem и sons,
при том, что тематические причастия (такие, как ferens) лишены о
(см. стр. 479). Отметим, сверх того, что όσιος, по всей
вероятности, тождественно скр. satyâ (Kern, KZ, VIII, стр. 400).
Греческая группа -εν- в некоторых полностью аналогичных
словах также заслуживает тщательного исследования, например в
έντι, εντασσι, если эти формы восходят к *σ-εντι, *σ-εντασσι. Здесь
эта группа, являясь начальной, может стать особенно важной.
Мы уже упоминали об έγγυς при гот. aggvus1 и при скр. ahu.
Далее нам известно также έ'γχελυς2 =лат. anguilla (лит. ungurys);
наконец, έμπίς, равнозначное лат. apis3, германская форма
которого в виде др.-в.-нем. bîa- живо напоминает αμφω= гот. bai4
(стр. 552).
В ряду форм, перечисленных на стр. 551 и сл.,
отличительной чертой арийских языков является то, что интересующую нас
начальную фонему они передают как сонант обычного рода. Но
еще более странно, что та же семья языков показывает нам ту
же фонему прочно закрепленной в морфологической системе всех
прочих корней и подчиняющейся, по крайней мере по видимости,
обычному механизму.
Первый случай. В сильной форме а предшествует сонанту.
Наряду с ahati (вместо *а1Ш1)=лат. ango существует основа на
as, а именно âmhas, и наряду с abhrâ существует ambhas.
Тождество ukäati и αυξω побуждает предположить, что и в ugra, корень
которого мало чем отличается от корня этих слов, дает au в
языках Европы и что с этим ugrâ нужно сопоставить лат. augeo,
гот. auka; таким образом, этому и сопутствуют сильные формы
oèas, oèïyas. Равным образом и uââs (= αυως) связано с глаголом
olati.
1 Ср. £γχουσα—вариант δγχουσα.
2 Как имеет место мена между ον и о (τριάκοντα:εΐκοσι), так и ε
равнозначно εν в Ιχις при сопоставлении с έγχελυς. Параллелизм последнего
слова с anguilla, по-видимому, делает сомнительным сближение όφις с anguis
и ahi (стр. 552), и действительно, трудно решиться на отъединение £χις от
этих форм. Но, быть может, различие в ударении, предназначенное для
различения значений и позднее утраченное, и является единственной
причиной, приведшей к расхождению Ιχις и δφις; в своей основе они были,
надо полагать, тождественны. Возможно также и то, что следует исходить
из двух прототипов — одного, содержащего gh2 (δφις), и другого с ghx (£χις).
След этого сохранился в армянском (Hübschmann, KZ, XXIII, стр. 36).
Как бы то ни было, принадлежность ε в εχις к разряду интересующих нас
гласных явствует из самого греческого, поскольку носовой налицо в
έγχελυς; ε в έτερος наряду с άτερος (дор.) и θάτερον представляет собой
результат такого же аналогического воздействия, какое имело место в
словах женского рода на -Ρεσσα (стр. 334).
3 Эта форма, вероятно, прошла через промежуточную ступень âpis, что
явилось бы параллелью к преобразованиям, которые в греческом
претерпело δφις.
4 Ср. также сгФа = скр. adha (?).
554
Второй случай. В сильной форме а следует за сонантом.
В презенсе 6-го класса uksâti (= αυξω) соответствует vâkSati 1-го
класса. Скр. ud- (например, в uditâ „сказанное, произнесенное")
соответствует греч. αυδ- в αυδή1; но санскрит имеет, кроме того,
неослабленное образование vädati.
Следует заметить, что трудности возникают при
рассмотрении вопроса о том; как представлены в европейских языках оба
ряда сильных форм.
Вернемся к первому случаю и рассмотрим мену, имеющую
место между us-âs и oS-ati, ug-râ и og-as, abh-râ и âmbh-as, ah-ati
и amh-as.
Трудно допустить, чтобы а сильных форм могло представлять
собой что-либо иное, кроме аг. Но если это действительно
так, мы должны были бы обнаружить в Европе
параллельно с такой, например, слабой формой, как angh, сильную
форму, содержащую е: engh. И действительно, мы имеем в
греческом εοω (лат. uro)==o§ati при αυω „зажигать", αυαλέος, αυστηρός
(слова, где αυ(σ) равнозначно скр. и§, как свидетельствует об
этом αυως—u§âs). С другой стороны, убедительность этого
единичного показания снижается наличием некоторых языковых
фактов, среди которых тождество скр. ândhas с греч. άνθος
кажется нам особенно достойным внимания. Примечательно, что а
этой формы является начальным a, за которым следует сонант,
совершенно так же, как в âmbhas, âmhas. Аналогия
распространяется еще дальше, и здесь нам представляется удобный случай
отметить интересную особенность корневых типов, к которым
восходят такие формы, как ^usas. Им регулярно сопутствуют
корни-братья, в которых место а изменено2, и в этом втором
корне а всегда отчетливо указывает на то, что оно является не
чем иным, как at.
1 αυδή употребляется только применительно к человеческому голосу и
всегда содержит в себе представление о смысле, вложенном в слова. Это
в некоторой мере справедливо и для скр. vad, и подобное совпадение
значений подтверждает справедливость такого сближения. Заметим, что
протетическое а наблюдается далеко не во всех родственных формах. Так,
мы имеем ϋδω параллельно αυδή; υγιής при augeo; ύτθόν (Curtius, „Stud.",
IV, стр. 202) наряду с αύω, αυστηρός. Несомненно, άπο-ύρας и άπ-αυράω
являют пример того же. На стр. 551 мы намеренно пропустили др.-в.-нем. eiscön
при скр. icchâti, так как лит. j-ëskoti обнаруживает протетическое е, а не я.
Если пренебречь этой аномалией, то греч. ι-ότης при сравнении с eiscön
(скр. i§-) воспроизводит соотношение υδω и αυδή (скр. -ud).
2 Мы говорим, само собой разумеется, лишь о примерах, упомянутых
в первом случае. Корневой тип второго случая в точности (по крайней мере
в том, что касается места а) является корневым типом интересующего нас
корня-брата.
555
1-й корень
Слабая форма
uäas—αοως
ugrâ — augeo
ahati — ango
abhrâ—anafriss
скр. a-, оск. an-
(отриц.)
Сильная
форма,
прослеживается
только В
качество
лежит
нию
oâati
ogas
âmhas
âmbhas
—
арийском;
ее а под-
определе-
2-й корень
(Сильная форма)
waxs: скр. väsara, vasanta,
греч. (F)s(a)ap.
waxg: лат. vegeo, зенд.
vazyantг.
najgh: лат. necto, греч.
νέξας* στρώματα,
na^h: скр. nâohas, греч.
νέφος, и т. д.
nat: скр. па, лат. пё.
Вернемся к слову ândhas. Для нас несомненно, что наличным
в нем носовым первоначально мог быть только m, и что это слово
принадлежит к тому же гнезду, что и mâdhu „мед".
Итак, мы записываем:
— | ândhas | maxdh: скр. mâdhu, греч. μέθυ.
Но поскольку ândhas представлено в греческом как άνθος, то
из этого следует, что âmbhas соответствует *αμφος, а не Ίμφος'
и что лат. *angos в angustus должно быть непосредственно
сопоставлено с âmhas. Короче говоря, корневые а второй колонки —-
это не av Этот вывод, который представляется правильным,
ставит нас перед морфологической загадкой, решить которую
в настоящее время, без сомнения, невозможно.
Переходим к рассмотрению второго случая. Здесь западные
языки еще позволяют различать сильную форму. Так, ukaâti
передано в греческом через αυξω, vâkàati—через a(F)l£(o. Другой
аналогичный пример: корень скр. vas „пребывать"
обнаруживается в греч. ä(F)e(a)-aa, ά(Ρ)έσ-(σ)*οντο, слабая форма которого
(в санскрите—и§) появляется в αυλή, ί-αΰω2.
1 Зендский доказывает, что заднеязычным является здесь gf, тогда как
первый корень указывает на g2. Тем не менее, мы полагаем, принимая во
внимание другие аналогичные случаи, что не следует отказываться от
сближения этих корней.
2 Под влиянием и (ср. стр. 393) α этой корневой группы αύσ-
окрашивается вов различных собранных Курциусом формах („Grdz.", стр. 273).
Таким образом, ούαί'φυλαί и ωβά —точный перевод ούή лаконекого диалекта
(стр. 169, там же прим.). Далее, οπερ-ώΐον — образование, вполне
сопоставимое с скр. antar-u§ya „тайник", ω в этом слове—-лишь протяжение о, требуе-
556
На первый взгляд, ключ ко всем наблюдаемым нами
пертурбациям может быть, наконец, найден в природе начального сонанта
(в вышеприведенных случаях—в природе u, w). Остается
предположить более густое (épaisse) произношение названного сонанта,
позднее утраченное в арийском, передаваемое в европейском
протетическим а и распространяющееся в одинаковой мере как
на сильную, так и на слабую форму. Предельно ясную картину
дают нижеследующие равенства:
α-υξ- = uks a-Fe$- = vak§.
Однако надежда на разъяснение рушится перед новой и очень
странной особенностью тех же корневых групп. Действительно,
параллельно с такими типами, как aFeS или aFe;, наблюдается
своеобразный тип, равный Fa£, Fa;. Этот последний позднее
появится в родственных языках или даже в самом греческом.
aFs£-(o: гот. vahs-ja (перфект vohs, быть может, вторичен).
άΡέσ-(σ)κοντο: Faa-τυ.
Вот другие примеры с корнями, которые представлены только
в западных языках:
άΤεθ-λον: лат. vas, vadis; гот. vad-L
Άρεπ-υΤαι1: лат. rap-io.
άλεγ-εινός1 (и άλέγ-ω?): λαγ-εινάδεινά (Гее.)
Эта неустойчивость гласного при других обстоятельствах
говорила бы о наличии фонемы А\ но если эта фонема равнозначна
ε в aFe&ö, то соотношение этой формы с vâksati, ukëâti, αυξω, так
же как и рассмотренная структура сама по себе, становятся для
нас решительно непонятными.
мое законами греческого словосложения. Таким образом, ύπερ-ώϊον восходит
к ύπερ-οΐον (ср. οϊη=κώμη), όπερ-ουϊον, ύπερ-αυ(σ)-ιον. Не является ли
глагол ά(Ρ)είδω по отношению к αύδή тем же, чем à(F)s|co—по отношению к αυξω?
Во всяком случае, дифтонг здесь не поддается объяснению. Ср. αηδών.
Άλέξω относится к râkâati так же, как άΡέξω—к vâk§ati, но обоим языкам
неизвестна редуцированная форма. Правда, эта последняя может заменяться
образованием с сокращенным корнем, который дает ήλ-αλκ-ον и лат. агс-ео.
1 άρπ- относится к άρεπ точно так же, как αύξ относится к άΡεξ. Это
редуцированная форма. Таково же отношение άλγ к άλεγ. Άλεγεινός
доказывает, что сначала говорили *&λεγος; &λγος объясняется влиянием
слабых форм.
ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ
Стр. 309. [I] Наличие гласного г в древнеперсидском можно
обнаружить, как нам кажется, из следующего факта Вед. mârtia соответствует таг-
tiya (или, возможно, просто martya); вед. mçtyu противопоставлено (uvâ-)mar-
shiyu или (uvä-)marshyu. Без сомнения, различие трактовок, которым
подверглось t, зависит от того, что i в martia было гласным, а в mçtyu —
согласным. Но это различие в свою очередь обусловлено одним лишь
количеством корневого слога, а по закону Сиверса нужно, чтобы корневой слог
в -marshyu был кратким, другими словами, чтобы г функционировало как
гласный. Возможно, г еще существовало в эпоху, когда была высечена
надпись, так что следовало бы читать uvämrshyu.
Стр. 312 (сн. 2). [2] Курциус допускает для вышеперечисленных форм
подобное отклонение имперфектов, превращающихся в аористы („Verb.", I2,
стр. 196 и сл.).
Стр. 312. [3]. Можно привести в зендском çé-a-ntu от çaé и в санскрите
r-a-nte, r-a-nta от аг.
Стр. 316. [4] Предложенная (в примечании) для ίάλλω гипотеза
оказывается, как я замечаю, очень старой. См. Aufrecht, KZ, XIV, стр. 273 и,
против его мнения, А. Kuhn, там же, стр. 319.
Стр. 317. [5] Предложенная для гот. haurn этимология несостоятельна.
Достаточно рунической формы horna (вин.), чтобы ее опровергнуть
Стр. 321. [6] К παθεΤν οι πενΟ присоединяются λαχείν от λεγχ, χαδεΤν
от χενδ, δακείν от *δεγκ.— Относительно аориста с удвоением ср. стр. 397,
строку 15-ю снизу.
Стр. 321. [7] Уже после того, как эти строки были напечатаны, Бруг-
ман опубликовал свою теорию в „Beiträge" Бецценбергера (II, стр. 245 и
сл.). Укажем на интересную форму, опущенную в этой работе: άπ-Ιφατο*
άπέΟανεν (Гее.) от φεν. Возражения против реконструкции таких форм, как
£κυμεν от καυ (Brugmann, стр. 253), ср. ранее, стр. 465, сн.
Стр. 331, сноска 2. [8] Знакомство с этой работой, перепечатанной в
настоящее время во втором томе „Studi Critici", избавило бы нас от
необходимости касаться многих вопросов (стр. 329 и сл.), которые Асколи уже
затронул, и притом рукой мастера, в этой работе.
Стр. 331. [9] К açmâsyà нужно добавить композит ukSânna из uk§an
и anna.
558
Стр. 333. [10] Сноска 1-я должна быть изложена так: Медиум punate
(= punçte), где отсутствие суффиксального а очевидно, не позволяет
сомневаться относительно сущности группы an в punânti.
Стр. 339. [11] «с оказывается на конце слова только в данном
случае». Это ошибочно. Мы должны были бы обратить внимание на korç и
на местоимения mç, te., sç—формы, где конечное ç заведомо происходит из
долгого ё +носовой. Тем не менее, высказанное относительно imç мнение
не кажется нам вследствие этого невероятным.
Стр. 339> сноска 1-я. [12] Так как в цитированной работе Остгоф имеет
в виду лишь особый случай гласного г, то будет уместным напомнить, что
существование этой фонемы было подтверждено в общем виде только в статье
Бругмана о носовых сонантах. Исключительно заслугой первого ученого
является установление того факта, что or есть латинский представитель
гласного г. Это последнее правило, знакомству с которым мы обязаны устному
сообщению проф. Остгофа, было с его разрешения опубликовано в „Mémoires
de la Soc. de Linguistique" (III, стр. 282), так что в воспроизведении его
здесь нет никакой нескромности.— Известно, что существование гласного
в праязыке всегда в принципе защищалось как Говлаком, так и Миклоши-
чем, однако эти ученые не указывали, каковы были специальные группы,
соответствовавшие в европейских языках древнеиндийскому г.
Стр. 341 у сноска 2-я. [13] Скр. amâ не может восходить к nmâ', так как
эта форма должна была бы дать 'anmâ'.
Стр. 342. [14] Форма, подобная μ-ία, может быть, скрывается в μ-ώνυξ,
если возводить его к *σμ-ώνυξ. Помимо этого, αόνος вместо *σμ-όνος, без
сомнения, идентичен скр. samâna, эквиваленту ека (вместо sm-äna путем свара-
бхакти). Все же форма μουνος не находит объяснения.
Стр. 348. [15] Когда печатался настоящий мемуар, вышла в свет первая
тетрадь „Morphologische Untersuchungen" Остгофа и Бругмана. В примечании
на стр. 238 (ср. стр. 267) Остгоф, как мы видим, признает существование
гласной, которую мы назвали а и для которой он к тому же принимает
то же обозначение, что и мы. Остгоф представляет себе морфологическую
роль этого гласного, так же как и его соотношение с долгим а, именно
таким образом, против которого мы сочли необходимым предостеречь
читателя в § И. Мы можем только сослаться на § 11, чтобы читатель мог
составить себе представление о тех, на наш взгляд, неопровержимых доводах,
которые говорят против этой точки зрения.
Стр. 349. [16] Предложенная в настоящее время Фиком этимология,
объединяющая κεφαλή с гот. gibla („Beitr. de Bezzenb.", II, стр. 265), будет
способствовать окончательному отделению caput от κεφαλή. О quattuor ср.
L. H a vet, „Mém. Soc. Ling.", Ill, стр. 370.
Стр. 351. [17] К этому списку, вероятно, можно прибавить ptak (ptäk):
греч. πτακεΤν, лат. taceo (ср. гот. Çahan).
Стр. 353. [18] (см. список 2). Слово ρομφεύς „шило" создано, чтобы
внушить сомнения относительно справедливости сближения Бугге. Оно,
по-видимому, показывает, что корнем ράπτω является ρεμφ, а α представляет здесь
носовой сонант.
Стр. 356. [19] Латинское имя Stator помещено среди форм корня stä,
имеющих долгое а. Это ошибка: а здесь краткое.— Можно было бы
упомянуть лат. суффикс -tät = ÄOp. -τ5τ (Ahrens, II, стр. 135).
Стр. 365—366. [20] Ср. стр. 409—410.
Стр. 372. [21] Добавить гот. hlai-na- „холм" от kjlaxi „наклонять"«
Стр. 375. [22] Добавить: λέμφο-ς „сопливый", φειδό-ς „бережливый".
559
Стр. 378, сноска 4. [23] Нам представляется возможным допустить для
отдельных случаев вторую разновидность индоевропейского s с более резким
звучанием, чем обычное s. В самом деле, появление ç в санскрите вместо s
во многих случаях совпадает с исключениями из фонетических законов,
распространяющихся на этот шипящий в греческом, латинском или славянском.
Скр. çuska, çusyati: греч. σαυκός, σαυσαρός. Скр. çevala „липкое вещество":
греч. σίαλον „слюна". Скр. kéçara : лат. caesaries. Старое отождествление Ισος
с скр. viçva, хоть и осужденное Курциусом, кажется нам чрезвычайно
убедительным 1: ведь славянский со своей стороны имеет vïsï (а не νϊδΐ).
Случай с ήμι-συ, как мы сейчас увидим, ни капли не отличается от случая
с ίσος. Асколи признал в -συ формативный элемент зенд. θπ-shva „треть" 2.
Теперь разве не очевидно, что вторая половина wi-s2u (скр. vi§u) и wi-s2wa
(ίσος), являющегося всего лишь его продолжением, содержит тот же самый
слог -s2u в сложении с wi- вместо dwi-3 „два"?—Отметим дельф. ήμισσον=
ήμι-σΡο-ν.
Стр. 393. [24] Добавить frustra, lustrum наряду с fraus, lavare.
То, что сказано об отношении incolumis к calamitas, неверно, так как
в древней латыни было слово columis, синоним incolumis. .
Стр. 394. [25] После внесенной выше поправки к стр. 353 пример
ράπτω—ρομφεός следует изъять.
Стр. 399у список б. [26] Добавить: [δόλιχος — largus], см. стр. 539.
Стр. 409. [27] Форма κάνδαλος есть, разумеется, не более как вариант
σκάνδαλον и совершенно не должна сравниваться с kandarâ.
Стр. 410. [28] Следует отметить, что разграничение аг и а2 проведено
почти повсюду в системе Шлейхера. Его ошибка состояла только в
смешении а2 с а. Трудно представить себе в настоящее время, как такому
крупному лингвисту, как Шлейхер, не бросилось в глаза подобное
заблуждение, имеющее в самом себе нечто шокирующее, потому что оно ведет
к отождествлению греческих о и а. В фактах, способных его раскрыть, не
было, однако, недостатка. Так, Шлейхер очень верно утверждает, в
противоположность мнению других авторитетов, что тематическое а в φερομες —
bhârâmas отличается от тематического гласного в φέρετε — bharätha, но
буквально тут же он смешивает его с долгим гласным в δάμναμι—punâmi. Но
рассмотрим имперфект, дающий закрытый слог. Санскрит сам старается
отметить и подчеркнуть здесь различие, потому что о в £φερον соответствует
а в abharäm, в то время как âpunâm наряду с έδάμνδν сохраняет долготу а.
Стр. 413 и сл. [29] Изложенные нами взгляды на „гуну", по-видимому,
одновременно возникли в уме нескольких лингвистов. Совсем недавно Фик
предложил в „Beiträge" Бецценбергера (IV, стр. 167 и сл.) защищаемую
выше теорию.
Стр. 428. [30] Слово ΰωή „наказание", по-видимому, относится к Οωμάς,
корень θη. Ср. ϋωψ έπι-θήσομεν (Одис. II, 192).
1 Без сомнения, visu, база viçva, не имеет с. Но это вполне объяснимое
колебание.
2 Укажем, однако, на то, что могло бы нарушить этот анализ. Юсти
предлагает видеть в tfxishva, caftrushva, производное от Oris "ter", dadrus
"quater". Это мнение могло бы приобрести известную устойчивость, если бы
к тому же подтвердилось существование элемента -va, употребляемого
подобным образом. Но в санскрите действительно имеется éâtur-va-ya (-уа, как
в dva-yâ, ubhâ-ya). С другой стороны, Асколи упоминает как неотделимые
от Orishva: haptaiihu, ashtanhu, что, по-видимому, меняет дело. См. „Studi
Crit.", II, стр. 412.
3 Известно, что доэтническое падение d засвидетельствовано в
числительном „двадцать".
560
Стр. 435. [31] Бругман дает в публикуемых им вместе с Остгофом
„Morphologische Untersuchungen", первая тетрадь которых появилась, когда
печатался настоящий „Мемуар", другое объяснение au в dadhau, âçvau
и т. д. Он усматривает в нем различительный знак долгих конечных â
санскрита, содержавших в своей второй половине аг (цит. раб., стр. 161).—
На стр. 226 Остгоф присоединяется к этому и предлагает, помимо этого,
относительно типа dadhau, замечания, частично согласующиеся с нашими.
Стр. 435. [32] Мы счастливы, что по поводу πέφη Г. Малов высказал
мнение, совершенно идентичное нашему. См. ΚΖ, XXIV, стр. 295.
Стр. 437. [33] Мы должны были упомянуть, что такие каузативы, как
snäpayati от snä", являются исключением, впрочем, незначительным, ввиду
позднейшего характера этих форм.
Стр. 445. [34] Слово γρομφάς, которое Курциус („Grdz.", стр. 57) не
может решиться отделить от γράφω, могло бы показать, что эта последняя
форма выступает вместо *γριηφώ (кор. γρευ,φ), следовательно, γράφω не имеет
никакого отношения к вопросу о фонеме А и его нельзя отождествлять с гот.
graba.
Стр. 455. [35] К gâhate добавить dur-gäha, а к hrâdate — hlâdate: prahlätti
(В en fey, Vollst. Gramm., стр. 161).
Стр. 456. [36] Добавить çâkvarâ „могущественный".
Стр. 458у 3-й абз. Мы приводим в другом месте (стр. 535) два
наиболее интересных исключения — vanati и sanâti. Слишком изолированные,
чтобы поколебать правило, они приходятся как раз кстати как свидетельство
абсолютно вторичного характера этого правила при том абсолютном
содержании, которое придавали ему впоследствии.
Стр. 463. [37] Добавить: nactus и ratis от корней агпАкх и &χτΑ г.
Согласно законам, изложенным в § 14, фонема А должна была бы дать в этих
ормах долгие сонанты, и мы ожидали бы *anctus или *anactus и *artis.
лишком долго было бы выяснять здесь, почему это явление не имело места.
Упомянем гот. -nauhts, целиком и полностью совпадающее с nactus.
Стр. 466. [38] Добавить в сноску — μάνδρα „стойло" наряду с скр.
mandirâ. Это сближение сомнительно.
Стр. 473 и сл. Когда мы правили гранки этого листа, „Журнал" Куна
(XXI, стр. 295 и сл.) опубликовал диссертацию И. Шмидта об оптативах.
Между теми результатами, к которым он приходит, и нашими имеется
лестное для нас сходство.— Однако тщетно было бы искать в работе видного
лингвиста объяснения того факта, что в слабых формах ia дало ï.
Стр. 478. [39] Гласный г, действительно, превращается в аг в
армянском: artsiv = CKp. rgipyâ; are = скр. ?k§a; gail = CKp. vjka, и т. д.
Стр. 480. [40] Индийское прилагательное gau-ra дает некоторое
подтверждение гипотезы ga-au, так как иначе дифтонг au не имел бы смысла
в этом производном.
Стр. 486. [41] Добавить dânâ от dâmân.
Скр anaç в anaçâmahai, греч. ένεκ (вместо ένεκ, хотя позднее как
раз второе ε будет чередоваться с о2: ένήνοχα);—скр. ari, греч. έρε.
Германские формы nöh и rö претерпели, как и другие корни этого рода (так,
knö = CKp. gani, hro „прославлять" = скр. kari), метатетическое изменение.
561
Стр. 501. [42] Следовало бы принять во внимание такие композиты от
φρήν, как δφρων. Наши заключения в этом случае были бы несколько
иными.
Стр. 536. [43] Корнем слова urdh-vâ могло бы быть râdh, râdhati. В
этом случае данный пример можно было бы присоединить к dïrghâ: drâghïyas.
Стр. 539, см. табл. [44] Отметить дор. κάρρα = κόρση. Оно,
по-видимому, показывает, что звук, предшествующий р, сложился очень поздно.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ*
«Evidence for laryngeals» (ed. by W. Winter), 2 ed., The Hague, 1965.
H. Hendriksen, Untersuchungen über die Bedeutung des Hethitisches
für die Laringaltheorie, K^benhavn (Munksgaard), 1941.
F. B. J. Kuiper, Die indogermanischen Nasalpräsentia, Amsterdam, 1937.
Jerzy Kurylowicz, э indoeuropéen et h hittite.— «Symbolae in Gram-
maticae in Honorem Joannis Rozwadowski», 1, Krakow, 1927, стр. 95—104.
W. Petersen, Hittite h and Saussure's doctrine of the long vowels,
«Journal of the American Oriental Society», vol. 59, 1939, стр. 175—199.
E. H. Sturtevant, The Indo-Hittite laryngeals, Baltimore, 1942.
C. Valleri, Problemi di méthode in Ferdinand de Saussure indoeurope-
anista, «Studî e Saggi Linguistici», 9, Pisa, 1969.
Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, перев. с
франц., М., 1955.
Т. В. Гамкрелидзе, Хеттский язык и ларингальная теория, в: «Труды
Института языкознания АН Груз. ССР» (Серия восточных языков), т. III,
1960.
Луи Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, в кн.:
«В. А. Звегинцев, История языкознания XIX—XX веков в очерках и
извлечениях», ч. И, изд. 3-е, М., 1965.
С. Д. Кацнельсон, Теория сонантов Ф. де Соссюра и ее значение
в свете современных данных, ВЯ, 6, 1954.
С. Д. Кацнельсон, К фонологической интерпретации
протоиндоевропейской звуковой системы, В Я, 3, 1958.
Н. В. Крушевский, Новейшие открытия в области ариоевропейского
вокализма «Русский филологический вестник», 4, 1880.
* Составил Вяч. Вс. Иванов.— Прим. ред.
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР
СТАТЬИ
Переводы с французского
И. А. Перельмутера и Е. Е. Корди
Вступительные статьи
|И. М. Тронского[ и В. А. Дыбо
РИТМИЧЕСКИЙ ЗАКОН Φ. ДЕ СОССЮРА
Через шесть лет после выхода в свет „Мемуара о
первоначальной системе гласных в индоевропейских языках" (1878)
Ф. де Соссюр опубликовал небольшое исследование „Об одном
ритмическом законе греческого языка" (1884), судьба которого
была весьма своеобразной, как, впрочем, и судьба самого „Мемуара".
Результаты, к которым пришел де Соссюр, были отвергнуты и
поныне отвергаются многими исследователями, и тем не менее
К. Марстрандер в 1930 г. причислил эту работу к
«основополагающим трудам по лингвистике»1.
Идея исследования чрезвычайно характерна для Ф. де Соссюра.
Через всю его научную жизнь проходит одно
стремление—понять язык как целостную систему. Это же стремление к
объединению в один узел многочисленных фактов, представляющихся
на первый взгляд диспаратными, и объяснению их из единого
системного принципа проявляется в статье 1884 г.
Исследователь исходит из общеизвестного факта. При
присоединении суффиксов сравнительной и превосходной степени -τερο-
и -τατο- к основам на -о- гласный основы удлиняется, если ему
предшествует краткий слог: σοφώ-τερος, но δεινό-τερος. Различие
в количественной характеристике гласного основы явно связано
с общей ритмической структурой слова, и филологи давно
указывали, что «древние стремились избегнуть неприятного
стечения кратких слогов»2. Свойственная де Соссюру интуиция системы
позволяет ему раскрыть здесь одно из проявлений правила,
имеющего гораздо более широкое значение. Он стремится
показать, что ряд явлений в греческом языке может быть возведен
1 С. I. S. Marstrander, Über den Charakter des ältesten germanischen
Rhythmus, „Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap", B. IV, 1930, стр. 251.
2 Chr. Aug. Lobeck в замечаниях к его изданию „Phrinichii eclogae no-
minum et verborum Atticorum", Lipsiae, 1820, стр. 650.
565
к единому принципу, а именно — к недопущению трех
последовательных кратких слогов. Язык таких серий избегает и
притом разными способами: в одних случаях краткий гласный
удлиняется, в других—выпадает и в результате такой синкопы
образуется долгий слог; иногда происходит удвоение согласного;
наконец, ритмический закон действует при отборе
словообразовательных моделей. Для иллюстрации удлинения гласного Ф. де
Соссюр, кроме уже упомянутых образований степеней сравнения,
перечисляет еще ряд явлений: поведение конечного -о- основы
перед некоторыми другими суффиксами (ίερω-σΰνη, έτέρω-·θί и т. д.),
удлинение краткого гласного в начале второго члена сложного
имени (ποδ-ήνεμος < *ποδ-ανεμος), аттическое удвоение типа έν-ήνοχα
и некоторые отдельные слова; прочие явления — синкопа, удвое-
ниевсогласного—имеют спорадический характер. Автор указывает,
что его изложение основано на немногих фактах и что имеется
ряд примеров, противоречащих устанавливаемому закону.
Исключения эти объясняются аналогическими влияниями и главным
образом тем, что речь идет о древнем законе, в историческое
время уже не действующем. Интересно отметить, что принцип
де Соссюра совершенно отличен от звуковых законов, которые
устанавливались младограмматиками. Он негативный; речь идет
о том, чего язык избегает, сохраняя свободу селекции
приемов, которые при этом будут использованы. Легко
понять, что представители младограмматического направления не
могли принять ритмического закона де Соссюра, по крайней мере
в той форме, какую ему придал сам автор. Так, Бругман3
признал действие «ритмического закона» только в том отношении,
что при наличии морфологических дублетов с разным ритмом
часто отдавалось предпочтение той форме, которая не содержала
нежелательного скопления кратких слогов. С другой стороны,
полемизировавший с младограмматиками Г. Курциус объявил
о своей солидарности с точкой зрения Соссюра4.
Наконец, в основе «ритмического закона» лежит некоторое
положение, не сформулированное исследователем с полной
ясностью: ритм греческого — чисто квантитативный, основанный на
чередовании долгих и кратких слогов, и греческое музыкальное
ударение ритмически иррелевантно. Такой ритм не допускает
скопления кратких — какие-нибудь краткие слоги должны
удлиняться. Это предположение о чисто квантитативном, не
зависящем от ударения ритме греческого языка, характерное для
французской лингвистической школы, тоже не встречало поддержки
у многих лингвистов, особенно немецких.
3 К. Brugmann, Das vv in εννυμι, ζώννυμι, κορέννυμι und ähnlichen
Präsentien, „Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung", B. XXVII, 1885,
стр. 590—591, прим.
4 G. Curtius, Zur Kritik der neuesten Sprachforschung, Leipz., 1885,
стр. 51, прим.
566
Подробную и очень тщательную критику статьи де Соссюра
дал в 1889 г. известный швейцарский эллинист Я.
Вакернагель6. Он показал спорность и даже ошибочность некоторых
толкований де Соссюра; ни одного примера на синкопу, на ге-
минацию согласных критик не признал убедительным. Что
касается удлинения краткого гласного в начале второго члена
сложного имени (тип ποδ-ήνεμος), то Вакернагель обратил внимание на
недостаток теории де Соссюра, не объясняющей, почему
удлинение происходит только при отсутствии согласного начала
краткого слога, и возвел удлинение к слиянию конечного гласного
первого члена с начальным гласным второго члена. Это
толкование осталось общепринятым. Из материала, приведенного
Ф. де Соссюром, после критики Вакернагеля осталось
немного—тип σοφώ-τερος и сходные с ним явления, где удлинение
происходит в конце основы, на морфологической границе. Для
этих случаев Вакернагель признал действие ритмического
закона и обратил внимание на то, что аналогичные явления
имеются в „Ведах". Закон оказался отодвинутым в
индоевропейскую глубину. Во втором издании своего „Grundriss'a" Бругман
признал возможность ритмического удлинения кратких гласных
на морфологической границе перед одиночным согласным при
наличии соседних кратких слогов, особенно если эти краткие
слоги находятся как перед слогом на морфологической границе,
так и после него6. В виде иллюстрации он приводит из
греческого языка σοφώ-τερος, ιερω-σύνη, πρω-πέρυσι — примеры Φ. де Соссюра.
Индоевропейского квантитативного ритма Бругман не
признает. Этот вопрос был поставлен со всей резкостью учеником
де Соссюра А. Мейе7. Согласное свидетельство древнегреческого
и ведийского устанавливает для индоевропейского чисто
квантитативный ритм, в котором ударение не принимает никакого
участия. Ритм этот имел огромное значение, и исследование его роли
было начато в статье де Соссюра. В индоевропейскую эпоху
этот ритм был способен производить фонетическое удлинение
гласного; в более позднее время, в исторических языках, он уже
потерял эту силу создавать новые формы и только
предуказывал— при наличии различных форм в языке—выбор наиболее
удовлетворительной формы с ритмической точки зрения. С Мейе
согласился Марстрандер в уже цитированной нами статье, ко-
5 J. Wackernagel, Das Dehnungsgesetz der griechischen Composita,
Basel, 1889.
6 K. Brugmann, Gründriss der vergleichenden Grammatik, B. I, Strass-
burg, 1897, стр. 496.
7 К вопросу о квантитативном ритме в общеиндоевропейском языке Мейе
возвращался неоднократно. В настоящей связи наиболее интересны его
статьи: „Sur le rythme quantitativ de la langue Védique", „Mém. de la Soc. de
Lingu. de Paris", т. 21, 1919, стр. 193—207; „Théorie du rythme et du ton en
indo-européen", „Bull, de la Soc. de Lingu. de Paris", т. 31, 1931, стр. 1—7.
567
торый пытался объяснить германское чередование ед. ч. dëda,
мн. ч. dëdum в претерите из и.-е. мн. ч. *dâdhimâ, с
ритмическим удлинением первого слога.
„Ритмический закон" Ф. де Соссюра и в настоящее время
продолжает по-разному оцениваться исследователями. В
остающемся наиболее авторитетным компендиуме древнегреческой
грамматики Швицера8 его действие признается непосредственно
очевидным в таких противопоставлениях, как πόθι—έτέρωθι,
ιππότης—θιασώτης, и при выборе словообразовательных моделей.
По отношению к типу σο^ώ-τερος Швицер колеблется, но лучшего
объяснения до сих пор не предложено. Гораздо дальше идет
в смысле признания выводов Ф. де Соссюра автор новейшей
исторической грамматики греческого языка Гейльман9. К
тенденции избегать скопления кратких слогов он возводит и
удлинение типа σοφώ-τερος и (по крайней мере частично) ποδ-ήνεμος,
а также случаи синкопы.
С другой стороны, Е. Курилович отрицает всякую общую
или унаследованную ритмическую тенденцию как в греческих,
так и в древнеиндийских удлинениях10.
Проблема синкопы в греческом языке вновь поставлена в
недавней очень спорной книге Семереньи11. В то время как почти
все исследователи, писавшие после Ф. де Соссюра, отвергали самую
возможность синкопы в условиях греческого музыкального
ударения, Семереньи полагает, что многие примеры Ф. де Соссюра
действительно содержат синкопу, и присоединяет к ним ряд
новых, имеющих, однако, совершенно иную просодическую
структуру. В концепции Семереньи синкопа связана не с наличием
ряда кратких слогов, а с неударностью синкопируемого
краткого гласного в соседстве с двумя одиночными согласными.
Однако при этих условиях синкопа происходит далеко не всегда,
а лишь при «благоприятных» обстоятельствах.
Вопросы, поднятые в статье де Соссюра „Об одном
ритмическом законе греческого языка", не получили общепринятого
решения и продолжают вызывать споры исследователей.
И. М. Тронский
8 Е. Schwyzer, Griechische Grammatik, Bd. I, München, 1938, второе
неизмененное издание 1953, стр. 239, 535.
9 L. Heilmann, Grammatica storica della lingua greca, Torino, 1963.
10 J. Kurylowicz, L'apophonie en indo-européen, Wroclaw, 1956,
стр. 355. Мы не имеем возможности остановиться здесь на вопросе о так
называемом «метрическом удлинении» в сериях кратких слогов у Гомера,
которое, по мнению некоторых исследователей, тоже связано с законом
Ф. де Соссюра.
11 О. Szemerényi, Syncope in Greek and Indo-european and the nature
of Indo-european accent, Napoli, 1964.
Φ. де Соссюр
ОБ ОДНОМ РИТМИЧЕСКОМ ЗАКОНЕ
ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА1
Некоторые греческие формы сохраняют, по-видимому, следы
древнего ритмического закона, ограничивающего число кратких
слогов, которые могут следовать друг за другом в одном слове.
Если попытаться сформулировать этот закон, то легко
обнаружится, что он соответствует правилам эпического стиха и,
подобно им, независим от ударения.
Для того чтобы войти в гекзаметр, греческое слово не должно
содержать более двух кратких слогов подряд. В особом
положении, однако, находятся краткие слоги в конце слов; они
рассматриваются как долгие, поскольку становятся таковыми
либо перед цезурой, либо под воздействием начальных согласных
следующего за ними в стихе слова. Поэтому такие слова, как
όνομα, κέραμος, άργύρεοζ, несмотря на то, что они оканчиваются
тремя краткими, вполне употребительны, как известно, в
дактилической поэзии.
Грандиозный ритмический отбор, основанный на том же
самом принципе и с тем же ограничением, должен был в
определенную эпоху проявить свое действие по отношению ко всем
словам греческого словаря. В то время обиходный язык
стремился избегать последовательности трех кратких слогов, и мы
вправе задаться вопросом, не был ли древнейший стихотворный
размер греческой поэзии в известной мере предопределен этим
естестЕенным ритмом греческой речи.
Но не этот вопрос интересует нас в первую очередь. Вполне
вероятно, что тех, весьма фрагментарных данных, некоторое
количество которых мы попытаемся здесь подобрать, покажется
недостаточно, чтобы засвидетельствовать само существование
1 F. de Saussure, Une loi rythmique de la langue grecque, „Mélanges
Graux", 1884; перепечатано в „Recueil des publications scientifiques de
Saussure", Genève, 1921.
569
закона, о котором идет речь. В самом деле, наблюдаются
многочисленные нарушения закона трибрахия, имеющие более позднее
происхождение, в то же время встречаются древние исключения
из него, сравнительно легко объяснимые. С другой стороны,
формы, носящие явные признаки этого закона, обнаруживающие
стремление языка избежать трибрахий, ставят порой перед нами
трудноразрешимые задачи. Трудности эти тем значительнее, что
одинаковый результат достигается здесь несколькими различными
путями: удлинением гласного, синкопой, удвоением согласных
и т. д. В столь тонком фонетическом организме, каким
является звуковой строй греческого языка, каждый из этих
приемов, в частности синкопа, представляется необычным, почти
грубым и заслуживает внимания уже в силу того, что
встречается крайне редко. Примеры, иллюстрирующие эти различные
изменения, должны быть выбраны, насколько это возможно, из
форм, употребительных в прозе; если бы мы стали искать их
в поэзии, то при всей своей многочисленности они имели бы
мало доказательной силы.
1. УДЛИНЕНИЕ ГЛАСНОГО
а) Суффиксальные гласные.
Удлинение о-микрона в формах сравнительной и
превосходной степени прилагательных, отличающее тип σοφώτερος, σοφώ-
τατος от типа δεινότερος, δεινότατος, иногда ошибочно
истолковывается как явление, представляющее собой по своему
происхождению поэтическую вольность и проникшее в прозу под влиянием
поэзии. Однако закон, соблюдаемый всеми греческими
диалектами с исключительной последовательностью, не мог возникнуть
так поздно и иметь своим единственным источником язык
литературы. Гораздо более вероятно, что поэты лишь использовали
эвфонию, уже ранее в языке - установившуюся и изменившую
звуковой облик слов как бы специально для их целей.
Такое же удлинение возникало, по-видимому, перед суффиксом
σδνη (ср. „Etym. Magn.", стр. 275, 42), хотя в подтверждение
этого правила можно привести только одно слово ιερωσυνη,
противостоящее δουλοσύνη, δικαιοσύνη и другим подобным формам, ни
одна из которых не обнаруживает удлинения 1. Между тем
наличие ω в слове ιερωσυνη дополнительно подтверждается
эпиграфическими материалами (Froehner, Inscr. du Louvre, №40,
I, 12).
1 Сходная с Ιερωσυνη форма τα ήγεμόσυνα, правда, также не
обнаруживает удлинения, но надо принять во внимание, что о здесь не является
тематическим. В тексте Нового завета мы находим άγαθοσύνη, а в еще более
поздних текстах — αγιοσύνη, но некоторые издатели восстанавливают эти слова как
άγαφωσύνη, άγιωσόνη.
570
Суффиксы -ϋι, -·&εν, -σε также могли порождать трибрахий,
хотя и не путем добавления к слову еще одного краткого слога,
как в случаях, о которых говорилось выше, а благодаря тому,
что они передвигали в глубь слова конечный краткий корня.
В подобных случаях мы также наблюдаем удлинение
тематического о: έτέρωθι, έτερωθεν, έτέρωσε, άμφοτέρωθί, άμφοτέρωθεν,
άμφοτέρωσε; ср. άλλαχόθι, άλλαχόθεν, άλλαχόσε.
Точно так же обстоит дело с производными словами,
образованными с помощью суффикса -τη; (ж. р. -τις): θιασώτης,
ιδιώτης, σπαργανιώτης, στρατιώτης, ήλικιώτης, άγγελιώτης; ср. αγρότης,
δημότης, ιππότης, τοξότης.
Окситонные слова, как, например, ζηλωτής, πληρωτής, будучи
образованы от глаголов на -οω, а не от именных форм, вне
всякого сомнения, имеют ω совершенно иного происхождения.
С другой стороны, δεσμώτης, ήπειρώτης, νησιώτης представляют
собой явно неправильные формы.
Ту же тенденцию мы обнаруживаем, наконец, в
распределении двух суффиксов -εδον- и -ηδον-, которые в действительности
составляют один суффикс. Первый из них встречается только
после долгого корневого слога1: τηκ-εδών, σηπ-εδών, άρπ-εδών,
άρπ-εδόν-η. Второй суффикс замещает первый тогда, когда
корневой слог краток. Благодаря этому удается избежать трибрахия,
который в противном случае возникал бы во всех падежных
формах, кроме формы именительного падежа единственного числа:
χλε-ηδών (в результате эпического удлинения: κληηδών), τερ-ηδών,
ά-ηδών2 и вторичное производное κοτυλ-ηδών. Аристофановское
χαιρ-ηδών, противоречащее этому правилу, представляет собой
искусственно сочиненное слово и не обладает лингвистической
ценностью. Кажущееся отклонение от правила в слове άλγηδών
коренится в первоначальной форме этого слова *άλεγ-ηδών (см.
ниже о слове άλγος). Единственным подлинным исключением
является άχθ-ηδών, поскольку λαμπ-ηδών и έρπ-ηδών—слова очень
позднего происхождения3.
б) Корневые гласные.
Здесь мы должны рассмотреть удлинение начальных
гласных α, ε, о в тех случаях, когда слова, начинающиеся этими
гласными, становятся вторыми членами сложного слова. Это
правило, как и предыдущие, служит для того, чтобы предотвратить
1 Форму μελεδών нельзя считать твердо установленной; с другой стороны,
совершенно несомненно, что, если эта форма существовала, родительный падеж
от нее был μελεδώνος. Стало быть, эту форму можно не принимать в расчет.
2 Это слово, которое не может быть производным от άείδω, содержит, по
всей вероятности, интересующий нас суффикс.
3 Мы не рассматриваем здесь таких слов, как πεμφρηδών, τενθρηδών,
άνΦρηδών—названий различных видов ос и пчел, поскольку η в этих словах
относится к корню. Ср. τεν-Φρή-νη, άν-θρή-νη и лаконское θρώ-ναξ.
571
появление групп из трех кратких слогов: ποδ-ήνεμος, υπ-ηρέτης,
υπ-ώροφος вместо *ποδ-ανεμος, *υπ-ερέτης, *οπ-όροφος; όχετ-ηγός вместо
οχετ-αγος. Соблюдается это правило с таким постоянством, притом
в таких несомненно общенародных и обиходных словах, как
имена собственные, что невозможно представить себе, будто оно
было изобретено специально лишь для удобства версификации.
Следует все же отметить, что удлинение распространилось
вторичным путем на множество сложных слов, которые не
содержали трех кратких слогов подряд и которые, следовательно, не
должны были ему подвергнуться. Речь не идет здесь ни о словах
типа μον-ώνυξ, τρι-ήρης (вместо *μον-όνυξ, *τρι-έρης), ни о словах
типа ί)ψ-ηρεφής (вместо οψ-ερεφής), поскольку в форме
родительного падежа у этих слов возникали условия, необходимые для
удлинения1. Вместе с тем удлинение было немотивированным:
1) в ритмическом типе εο-ήνεμος, υψώροφος, а также у
неравносложных слов (γαμψ-ώνυξ), γαμψ-ώνυχος, (έξ-ήρης), έξ-ήρεος; 2) в типе
έπ-ημοιβός; 3) в типе έζ-ημοφός; 4) в типе στρατ-ηγός, и в
особенности В типе φορτ-ηγός.
Подлинную языковую традицию отражают такие формы, как:
1) παυσ-ανεμος, υψ-όροφος, (εοόνυξ), ευόνυχος; 2) έπ-αμοφαδίς; 3) χρϋσ-
αμοφός; 4) έει*όσ-ορος. Такого рода нерегулярное удлинение, при
котором имеется множество исключений, в известной мере, по-
видимому, можно отнести за счет поэтов; но в гораздо большей
степени его распространение было вызвано различными
морфологическими условиями, в детальное рассмотрение которых мы
здесь входить не можем.
В конце первого компонента сложного слова не происходит
фонетического удлинения (см. 4: θανατη-φόρος и т. д.). Тем не
менее мы имеем один пример подобного рода в слове πρω-πέρυσι;
именно эту форму рекомендует Аполлоний Дискол, отвергающий
προ-πέρυσι. Быть может, следует признать правильной старую
этимологию слова διά-κονος, усматривавшую в этом слове
предлог διά (ср. έγ-χονεω).
Даже за пределами словосложения отмеченная нами
тенденция в области словесного ритма была достаточно мощной, чтобы
изменить *οφελέω, *όφέλιμος (из *δφελος) в ώφελέω, ωφέλιμος.—
Отсюда же Ήλΰσιον πεδίον с η, происходящим из корня έλευθ-,
έλυθ-.— Латинское viduus в греческом языке отражено в слове
ήΐθεος=έ-ΡίθεΡος; η здесь представляет собой не что иное, как
ритмическую модификацию протетического ε, поскольку теория,
объясняющая удлинение воздействием дигаммы, не выдерживает
критики.— Слово ήλακάτη „колено тростника" (лишь отсюда
„тростник", а затем „прялка") означает собственно „рука, конечность";
оно близкородственно слову ά'λαξ* πήχυς* Άθαμανες, что в свою
1 Первоначально, по-видимому, склоняли *μονόνυ|, μονώνυχος; *трιερής,
τριήρεος; у Гомера мы еще наблюдаем склонение υψερεφής, ύψηρεφέος.
572
очередь позволяет усмотреть в начальном η этого слова
результат ритмического удлинения. Форма ώνυμα (вместо όνομα),
появление которой могло бы быть оправдано наличием трибрахия в
косвенных падежах (ονΰματος), происходит все же, по-видимому, из
имени собственного Ώνύμαστος, засвидетельствованного одной бео-
тийской надписью.— Поскольку η глагола ήγέομαι в сопоставлении
с α глагола ά'γω не получило еще другого объяснения, а именно
объяснения в плане морфологическом, то и это η можно было
бы с известной долей вероятности присоединить к
предшествующим примерам.
Как в простом, так и в сложном слове, по-видимому, лишь
у начальных гласных могли происходить квантитативные
изменения подобного рода. Во всяком случае, нельзя рассматривать
в той же плоскости изолированные примеры типа μϋδαλέος из
μδδος, хотя долгота гласного заслуживает здесь внимания,
поскольку она засвидетельствована и у трагиков и в эпической
поэзии (ср. Lob eck, Pathol. Proleg., стр. 102).
Так называемое аттическое удвоение сопровождается как
в именах, так и в глаголах удлинением начальных гласных,
вполне сопоставимым, на первый взгляд, с удлинением,
возникающим в сложном слове. Тем не менее, причину этого
удлинения не всегда легко распознать.
Начнем с имен, содержащих удвоение, типа άκ-ω*-ή.
Предположение о ритмической модификации находится здесь в
противоречии с законом, который мы пытаемся установить: удлинение
здесь было ненужным, поскольку число кратких слогов в этом
слове не превышало двух.
Этот отрицательный вывод подкрепляется, кроме того, одним
существенным соображением, которое касается морфологии. Тембр
второго гласного явно свидетельствует против того, что этот
гласный возник в результате удлинения краткого гласного. В самом
деле, корневой тип ах- может выступать в трех видах, хорошо
известных в морфологии: αχ-, ά«-(=ή*-), ώκ-, но не в виде ох-
с о кратким.
К тому же все слова интересующего нас типа принадлежат
к корням, в которых долгое о появляется регулярно. Ряд
звуковых изменений α ά ω: άκ-ωκ-ή, άγ-ωγ-ός. Ряд ε η ω: έδ-ωδ-ή;
следует также отметить άλληλ-οδωδόται* άλληλοβόροι. Ряд ο ω ω: έδ-ωδ-ή,
οπ-ωπ-ή. Имеется одно исключение: οκ-ωχ-ή из έχω (ряд ε о). Однако
в любом случае это слово представляло бы собой аномалию.
Общеизвестно, что έχω утратило начальный согласный (*σέχω или
Fé/o)) и поэтому могло получить аттическое удлинение лишь
вторичным путем, под влиянием аналогии.
Перфекты с аттическим удвоением отличаются от только что
рассмотренных нами форм в первую очередь тем, что содержат
число кратких слогов, достаточное для того, чтобы оправдать
ритмическое удлинение. Это верно, по крайней мере, по отноше-
573
нию ко всем активным формам перфектов от двусложных
корней типа ένήνοχα и по отношению ко всем активным формам (за
исключением форм трех лиц единственного числа) перфектов от
односложных корней типа οπωπα, мн. ч. οπώπαμεν.
Правда, это еще ничего не предрешает; как и в
предшествующих случаях, здесь также возникает вопрос, является ли
удлинение ритмическим или грамматическим. Заметим в скобках, что
так называемое грамматическое удлинение не является,
собственно говоря, удлинением, ввиду того что в области
морфологических изменений долгие гласные первичны по отношению к
гласным кратким. Этот вопрос получает вполне конкретную форму
в следующем частном случае. У Гомера формы άρηρώς, άραρυΐα
чередуются точно так же, как λεληχώς—λελαχυια, τεθηλώς— τεθα-
λϋϊα. В примерах второго типа изменение гласного корня, будучи
более или менее искусственным, в конечном счете восходит к
грамматическому чередованию, поскольку перфект образуется из форм
сильных и форм слабых. Основано ли чередование άρηρώς—άρα-
ρυΐα на том же самом принципе?
Мы попытаемся показать, что чередование в этом последнем
примере имеет совершенно иную природу, что удлинение у
перфектов с аттическим удвоением в отличие от удлинения в именах
с удвоением зависит исключительно от ритма; иными словами,
формы άρηρώς, έ'δηδα, δπωπα, с морфологической точки зрения,
эквивалентны формам *άραρώς, *έ'δεδα, *οποπα.
Для того чтобы доказать это, можно было бы сослаться в
первую очередь на отсутствие корневой огласовки 0, которую
естественно было бы ожидать в формах перфекта. Можно было бы
противопоставить άρηρώς, έ'δηδα формам άχωχή, έδωδή. Но этот
аргумент значительно ослабляется наличием большого числа
перфектов, которые, подобно λέλαθα, χέχηδα, утратили ω. Лишь
некоторые перфекты, например Ιρρωγα, сохранили этот звук.
Решающий довод в пользу ритмического удлинения
доставляют лишь перфекты от двусложных корней типа ένεχ- (έν-ήνοχ-α),
αχού- (άχ-ήκοΡ-α). У двусложных корней, широко представленных
в греческом языке, корневым является, как правило,
внутренний гласный, не подвергающийся удлинению, тогда как
подвергающийся удлинению начальный гласный случаен. Долгота этого
неорганичного гласного не может быть органичной: требования
ритма объясняют ее появление гораздо лучше.
Бопп и Курциус склонялись к тому же решению, хотя они
и не ссылались на какой-либо определенный закон, касающийся
условий, при которых ритм может изменять количество гласного.
Если что и вызывало колебания у этих ученых, то не столько
представление о том, что гласный мог быть долгим по природе,
сколько вопрос о «временном аугменте», или, точнее, об
удвоительном e. Глаголы, обходящиеся без аттического удвоения,
подобно οφλισχάνω, ώφληχα, получают в перфекте долгий гласный,
574
в состав которого входит древнее приставочное e (*έ-οφληχα)—
результат редукции удвоительного слога при отсутствии
начального согласного. Поскольку аттическое удвоение представляет
собой, по-видимому, инновацию, то это наводит на мысль, что до
οπωπα греки произносили *ωπα (=*έ-οπα), ср. ώφληχα. А отсюда
возникает предположение, что ω, входящее в состав аттического
удвоения формы δπωπα, происходит из исчезнувшего
предшественника этой формы *ώπα.
Предположение это слабо обосновано, поскольку в данном
случае удлинение составляло бы столь же неотъемлемую черту
перфекта с аттическим удвоением, сколь неотъемлемым является
оно для образований типа ώφληχα. Тот факт, что в
действительности мы этого не наблюдаем, служит для нас явным
подтверждением ритмического происхождения долгого гласного. Подобно
тому как в аористе и в презенсе аттическое удвоение не влечет
за собой удлинения, поскольку количество кратких слогов
ограничено здесь двумя (άγαγεΐν, άγαγών; άραρίσχω), точно так же и по
тем же причинам удлинение не наблюдается у большого числа
форм перфекта, что особенно характерно для языка поэзии.
В списке Курциуса (Verbum, II, 140) мы находим среди прочих
форм:
άχ-άχημαι, άχ-αχείατο (ср. άχ-ηχεμένη), άχ-αχμένος, άλ-αλημαι,
άλ-αλΰχτημαι, άρ-αρυΐα, έρ-έριπτο; άρ-αιρηχώς у Геродота (ср. обычную
форму ίιρηχώς).
Вывод: долгий гласный перфекта с аттическим удвоением
не связан ни с исконной долготой типа λέλΗχα, ни с
контракционной долготой типа "Ωφληκα, "Ηλλαχα. Он имеет чисто
ритмическое происхождение и, стало быть, в формах, где ритм его не
требует, мог возникнуть только под влиянием аналогии. Гомер
применяет еще первоначальное правило в формах άραρυία : άρη-
ρότης*. В форме именительного падежа ед. ч. άρηρώς проявляет
уже свое действие аналогия.
2. СИНКОПА
а) υ υ и становится—\j.
Первоначальные формы *φιλότερος, *φιλότατος дают φίλτεροζ,
φίλτατοζ.
Формы *έλυθεμεν, *έλύθετε синкопируются в έ'λθεμεν, έλθετε.
Отсюда синкопа распространяется на έλθών, ήλθον,
конкурирующее с ήλυθον. В пользу первичности более длинной формы с
несомненностью свидетельствуют ελεΰσομοα, ειλήλουθα.
Прилагательное ύπτιος происходит, по всей видимости, из
*οπό-τιος.
1 F суффикса -Fox-, создававшее «позицию», исчезло повсюду, по-видимому,
уже в очень отдаленную эпоху.
575
Первоначально слово со значением „боль" должно было звучать
по-гречески как *ά'λεγος (ср. άλέγω). Форма родительного падежа
*άλέγεος, поскольку она содержала три кратких слога подряд,
была изменена в αίγεος; на основе этой новой формы возник
именительный — винительный падеж άλγος. Между тем ε
сохранилось в άλεγεινός, δυσηλεγής, άπηλεγέως, где ничто не могло вызвать
его выпадения. Такова же история слова άνθος; гомеровское άν-
ήνοθ-εν определяет его первоначальную форму как *ά'νεθ-ος (ср.
ά'νηθον?). Наконец, εύρος „ширина", насколько можно об этом
судить на основании материалов родственных языков, восходит
к *ε-Ρερος, род. п. *έ-Ρ(ε)ρεος.
Θεσφατος, несомненно, представляет собой синкопированную
форму первоначального *ϋεσόφατος (Curtius, Grdz.4, стр. 509).
Я. Вакернагель убедительно показал, хотя и без
исчерпывающих объяснений, что порядковое числительное εϊνατος, ένατος
восходит к *lvFaxoç. Эта непонятная форма становится почти
ясной, если попытаться проникнуть далее вглубь, вплоть до
первоначального *έ-νέΡα-τος. Второе ε здесь синкопировалось и
тем самым была устранена последовательность трех кратких.
Следует добавить, что количественное числительное εννέα,
благодаря такой же синкопе, возникло из *έν(ε)νέΡα. Подобное
восстановление покажется, вероятно, странным, но если принять во
внимание, что w в аттическом диалекте может происходить
только из v + v1, то возможности решения проблемы
оказываются чрезвычайно суженными; кроме того, предложенное
решение опирается на форму ένενή-κοντα. В свою очередь, в ένενήκοντα
мы наблюдаем третий случай применения того же принципа: это
слово восходит к *ένεν(ε)Ρή-κοντά, *ένενΡή-κοντα. Таким образом,
для числительного девять должны быть установлены две
основные формы: 1) *ένεΡα-, 2) *ένενεΡα. Конечно, согласовать эти
формы с соответствующими формами родственных языков довольно
трудно, но я не думаю, что эти трудности уменьшатся, если
речь пойдет о формах, принимавшихся до сих пор.
Вопрос о том, в результате какого фонетического процесса
индийское Varuna превратилось в греческое ουρανός, не получил
еще достаточно глубокого освещения. Быть может, следует
предположить, что ουρανός восходит к форме *ό-Ρ(ε)ρανός с трибрахием,
обусловившим синкопу. Подобная гипотеза могла бы согласовать
греч. εινάχερες и лат. janitrices, возводя греческое слово к *à-j(a)-
νατερες.
1 Против этого можно возразить, что εννυμι восходит к *έσ-νυμι, но
аттическая проза знает лишь форму άμφιέννυμι, представляющую собой
аналогическую модификацию первоначального *άμφιείνυμι, возникшую под влиянием
глаголов типа κορέννυμι, о котором речь ниже. Аорист ήμφίεσα может
служить доказательством того, что связь между сложным и простым глаголом
была полностью забыта.
576
В сопоставлении с ά'φενοζ прилагательное άφνείός предполагает
первоначальное *άφενεσώς с последующей синкопой второго
краткого.
Поскольку наличие двух о в όρόγυια этимологически
подтверждается формами όρέγω и πεντ-ώρυγος==πεντ-όργυιος1, следует полагать,
что οργυια восходит к *ορογυια, *ορογυσιέ. С другой стороны, так
как окончание женского рода -ta происходит из -ja с t
неслоговым, вполне естественно, что первоначальная форма от ορόγυια,
*όρόγϋσ]'α (\j kj — \j) сохранилась без синкопы. Форма οργυια
представляет собой результат смешения двух других форм.
б) Kj Kj Kj становится kj —.
Сравнение с санскритом заставляет думать, что
прилагательное ερυθρός происходит из *έρυθερό<; или *έρυθαρός.
Гомеровское ταναΰπους действительно является поэтической
формой, но она имеет столь необычный облик, что трудно
представить себе, чтобы поэт решился ее применить, не опираясь при
этом на народное употребление; эта форма возникла в
результате синкопы омикрона в *ταναΡόπους. έχάτερθεν, восходящее
к *έ*ατεροθεν, встречается в прозе у Аретея.
в) υ υ υ· становится kj w.
δεξιτερός вместо *δεξιοτερός. Это слово принадлежит, правда,
поэтическому языку.
Дублет έθελω, θέλω своим происхождением обязан, по-видимому,
стремлению избежать последовательности трех кратких в формах
множественного числа (έ)θέλομεν. В историческую эпоху обе формы
употребляются без различия.
В форме женского рода λάχεια от ελαχύς („Одиссея" IX, 116;
X, 509) падение начального гласного не может получить
прямого объяснения; но падение гласного могло начаться в формах
косвенных падежей мужского рода, которые содержали три
кратких подряд (έλαχεος и т. д.).
Гомеровское έπηγκενίδε; в конечном счете восходит к *έπ-ενεχ-
ενίδες—от корня ένε*-, представленного в формах ίουρ-ηνεχ-ής,
έν-ήνοχ-α. С помощью нормального удлинения, о котором шла
речь выше, мы получаем *έπ-ηνεχενίς. Этого было достаточно для
именительного падежа единственного числа; но падежные формы,
усложненные наращением, как, например, *έπ-ηνε*ενίδες,
требовали новой перестройки, которая была осуществлена с помощью
синкопы ε. Некоторые исследователи, не желая допустить здесь
синкопу, ссылаются на сокращенную форму корня έγκ-,
наличествующую в 8γ*ος, έν-εγχείν и в перфекте έν-ήν-εγκται аттических
надписей. Но с этим нельзя согласиться, ведь в таком случае η
в επηγκενίς не могло бы получить объяснения. Гласный слога,
1 Это слово, по-видимому, произведено из простого *όρογή, подобно тому
как δυσ-ώνυμος произведено из простого όνομα.
\9 Ф. де Соссюр
577
долгого „по положению", не удлиняется в составе сложного слова 1:
*έπ-εγκενίς никогда не дало бы έπ-ηγκενίς.
Рассмотренный нами пример, в котором два трибрахия должны
были быть последовательно устранены, драгоценен в том
отношении, что он позволяет нам сделать интересный
хронологический вывод. Он показывает, что использование синкопы как
средства устранения трибрахия возникло позднее, чем удлинение
гласного, ибо наличие второго гласного, в засвидетельствованной
форме синкопированного, было. необходимым условием удлинения
первого гласного.
Следует ли связывать с этим общим правилом форму Άσκλη-
πιγένεια, противостоящую форме Άσκλψηόδωρος? При
положительном ответе на этот вопрос образования типа Διονϋσ^κλής, в
которых синкопа представляется произвольной, можно было бы
рассматривать как возникшие по модели Άσκληπιγένεια.
θηρίμαχος, θηρίβορος происходят не от θηρίον, а от основы θηρι-..
Относительно многочисленных форм поэтического языка типа
λη'φότεφα вместо *ληϊο-βάτεφα, κραταιγύαλος вместо *κραταιογύαλος
очень трудно определить, в какой мере выпадение гласного
произошло здесь под действием фонетического закона.
Апокопированная форма, которую получают некоторые
предлоги, обусловлена по преимуществу тем обстоятельством, что этн
проклитические частицы, вступая в тесное соединение со словом,
которым они управляют, часто порождают последовательности
трех или четырех кратких слогов. Таким образом, и здесь речь
идет скорее о синкопе, чем об апокопе. Примеры известны: κατ-
τάδε = κατά τάδε, παρ μέλος == παρά μέλος и т. д. Среди именных
сложных слов часто встречаются формы типа διαμπερές, ανδίχα.
Гораздо реже наблюдается апокопа у предлогов при их
соединении с глаголом, поскольку в этом случае полное слияние
произошло уже относительно поздно в историческую эпоху, то есть
в то время, когда закон трибрахия уже* прекратил свое действие.
По этой же причине такое явление, как удлинение гласного,
встречается только в именных сложных словах: συνήγορος, συνα-
γορεΰω; κατηρεφής, κατερέφω.
Некоторые формы подверглись необычной синкопе, причина
которой остается неясной: 1) ίσται вместо έ'σσεται; 2) τίπτέ вместо
τίποτε; 3) σφι вместо σε-φι (ср. лат. si_-bi); лишь производное
прилагательное σφέτερος можно объяснить как происходящее из *σε-
φέτερος с позднейшим ритмически обусловленным выпадением
гласного.
1 Нарушение этого правила в формах ώμ-ηο~τής, αν-ηστις, δειπν-ηοπός,
οορπ-ηστός от корня έδ-(εδμεναι) является лишь кажущимся. Многочисленные
данные свидетельствуют о том, что подлинная форма этого корня есть Ϋ,ό-.
Отсюда происходит η, сохранившееся в сложных словах.
578
Если говорить об индоевропейской синкопе, породившей πατρ-ός
из πάτερ-, πί-πτ-ω из πετ-, γνυξ из γόνυ и много других форм, то,
вне всякого сомнения, она не имеет ничего общего с предметом
нашего исследования.
& УДВОЕНИЕ СОГЛАСНОГО
По всей вероятности, глаголы на -άννυμ^ -έννυμι первоначально
оканчивались на -άνυμι, -ένυμι. Гипотеза, которая исходит из -ασ-
νομι, -εσνυμι, вступает в противоречие не только с
этимологическими данными, но также и с фонетическими законами, которые
требовали бы в данном случае, для аттического диалекта,
например, -ηνυμι, -εινυμι. Следовательно, σκεδάννυμεν имеет двойное ν
только по той причине, что *σκεδανυμεν содержало в себе
последовательность трех кратких.
Удвоение согласного в слове Πελοπόννησος произошло,
по-видимому, по той же причине; оно, безусловно, является
аномалией в слове Χερρόννησος, варианте слова Χερρόνησος.
Поскольку дигамма представляет собой не что иное, как
согласный и, удвоение этого звука в группах aF, εΡ, oF неизбежно
порождает auF, го¥, ooF. Отсюда следует, что презенс ακούω
сравнительно с перфектом ά*ή*οα = *άκ-ψοΡ<χ представляет собой
геминированную форму, восходящую к *άχούΡω. Удвоение
согласного объясняется ритмическими условиями, которые
наличествовали в формах *άκόΡομεν, *άκόΡετε, *a*oFsra), *άκόΡεμεν, но
которых не было ни в перфекте, ни в ακοή, υπήκοος. По той же
причине возникли ααερΰω, αύίαχος. Трудно, однако, сказать,
существовали ли эти слова в той же форме в народном языке.
Геминированная форма ά*ουη, например, несомненно, обязана
своим происхождением поэтической вольности.
4. ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Сложные слова типа νεα-γενής, Φανατη-φόρος заимствуют ά(η)
у типа δαφνη-φόρος, чтобы избежать последовательности трех
кратких слогов. Образования подобного рода были, по-видимому,
вполне характерны для народного языка: ср. στεφανηφόρος, ελαφη-
βόλια, σταδιαδρόμος (Keil, Inscr. Boeot., стр. 52). Мы можем
сослаться здесь на мнение Лобека: «hanc rationem . . . a natura
ipsa inchoatam esse»1 (Parerg. ad Phr., стр. 650).
В сложных именах, содержащих числительное εκατόν, язык
прибегает к другому способу: вопреки обычным правилам слово-
1 „Этот способ (образования) . . . порожден самой природой".
19* 579
сложения он сохраняет здесь конечный носовой звук: εκατόμβη,
έκατόγχειρ вместо *έκατοβη, *έκατοχειρ.
Можно было бы легко умножить число примеров,
иллюстрирующих аналогичные способы устранения трибрахия: οδοιπόρος
вместо *όδοπόρος, χορ<$ίτυπος вместо *χορότυπος, παραιβάτης вместо
*παραβάτης, μεσαιπόλιος вместо *μεσοπόλιος, δικασπόλος вместо *δικα-
πόλος—все это разнообразные образцы процессов подобного рода.
Относительно таких форм часто возникает подозрение, что они
обязаны своим происхождением искусственному языку поэтов,
но вот, к примеру, имя собственное θεόσδοτος, в котором сигма,
заимствованная из Διόσδοτος, предназначена явно только для того,
чтобы создать долготу. Это имя собственное в данной форме
столь широко распространено и столь общенародно, что оно
могло бы служить образцом диалектальной трактовки группы σδ:
фессалийское θεόρδοτος, танагрское θεοσζοτος, фиванское θιοζότα—
имена собственные, часто встречающиеся в надписях.
Прилагательное ελεεινός вместо *έλεεσ-νος с полной
очевидностью указывает на то, что έλεος, существительное мужского
рода второго склонения, первоначально было существительным
среднего рода третьего склонения1, что подтверждается также
формой νηλ(ε)ής. Вокализм этого слова соответствует вокализму
слов типа γένος. Перемену склонения здесь, по-видимому, вызвал
трибрахий, создававший трудности в формах косвенных падежей
(*ελέεος). Точно так же обстоит дело со словом κέλαδος,
первоначально бывшим, подобно έλεος, существительным среднего рода,
насколько мы можем судить об этом по вокализму этого слова,
а также по производному κελαδεινός.
Интересные наблюдения можно было бы также сделать над,
тем, как рассматриваемый нами ритмический закон способствовал
сохранению большого числа древних форм. Так, позднейшее
добавление о, которое наблюдается в типе φρεν-ο-βλαβής, не
затрагивает основ на σ: σακέσπαλος, έπεσβόλος. Эти формы с их
удивительно архаичным обликом сохранились благодаря тому, что
в большинстве случаев новый способ образования (*σεκεσοπαλος)
порождал бы последовательность трех кратких. Отсюда также
πυρκαϊά, πυρπολέω, πυρφόρος без соединительного омикрона.
Сохранение архаизма несколько иного рода мы наблюдаем в формах
νεοθηλής, έπιμηθής, сопоставляя их с формами θάλος, μάθος,
вытеснившими более древние формы *θήλος, *μήθος.
Нельзя отрицать того, что нередко встречаются формы, в
которых мы наблюдаем явное нарушение закона трибрахия и
возникновение которых тем не менее не всегда можно отнести
к позднему периоду, например такие, как πολέμιος, (πέλαγος)
πελάγεος. Все же наиболее важные из этих исключений объясняются
1 В греческом языке Нового завета £λεος вновь становится
существительным среднего рода третьего склонения.
580
принципом ассоциации форм. По аналогии с μητέρα сохранилась
форма θυγατέρα. В системе глагола λεγόμενος, λεγόμεθα сохранились
благодаря ευχόμενος, ευχόμεθα; с другой стороны, έλέγομεν
сохранилось благодаря λέγομεν1. В тех случаях, когда точное
соблюдение закона приводило к нарушению естественной симметрии
морфологической системы, язык жертвовал гармонией звуков во
имя гармонии форм.
Вполне очевидно, что эта эвфоническая тенденция должна
была проявляться лишь в очень отдаленную эпоху, поскольку
период ее активности уже завершился к тому времени, к
которому относятся древнейшие литературные памятники. Это следует
в первую очередь из природы удлинений, порожденных ритмом:
ε удлиняется в η, о—в ω. Если бы этот процесс продолжался
в различных диалектах, некоторые из них удлинили бы ε в ει
и о в ου.
Во-вторых, нетрудно было бы показать, что греческий язык
исторической эпохи не проявляет более выраженного стремления
избегать последовательностей трех кратких слогов. Не
нагромождая примеры типа μεγαλεπίβολος, приведу здесь для доказательства
лишь две формы сравнительной степени κενότερος, στενότερος, в
которых омикрон восходит еще к тому времени, когда в этих формах
наличествовала дигамма (**ενΡότερος, *στενΡότερος). Если подобные
формы могли сохраниться в качестве живых форм в соседстве
с формами типа σοφώτερος, то из этого следует, что в аттическую
эпоху язык не только не отвергал трибрахия, но, скорее, даже
искал его. Поэтому правило кратких, которое Ф. Бласс2
обнаруживает в речах Демосфена, несмотря на все свое внешнее
сходство с древним ритмическим законом, представляет собой лишь
изолированный факт, связанный с личностью автора, с его
литературными вкусами и намерениями.
Наконец, глубокая древность эвфонических изменений
подтверждается тем, что они уводят нас к чрезвычайно архаичному
общему фонетическому состоянию. В θέσφατος, а также в σφέτερος
они должны были произойти до падения сигмы в начальном
и интервокальном положениях; в εινάτερες—до падения
неслогового i.
Последнее замечание. Вспоминая Аристотеля (πλείστα γαρ
ιαμβεΐα λέγομεν έν τη διαλεχτώ щ προς αλλήλους, έξάμετρα δε ολιγάχις 3
1 Нельзя, впрочем, безусловно утверждать, что стройность системы
глагольного спряжения в отдельных случаях не нарушалась под действием
ритмического закона. Третье лицо единственного числа аориста ίγεντο,
засвидетельствованное у Гесиода, Сапфо, Феогнида и Пиндара,
представляет собой, по-видимому, вполне узаконенную и общенародную
синкопированную форму от έγένετο, хотя обычно ее рассматривают в качестве формы
„атематического" аориста.
2 Die attische Beredsamkeit, III, 1, 100.
3 Беседуя друг с другом, мы большей частью говорим ямбам-и и очень
редко — гекзаметрами.
581
(Poet. 4,19)), мы могли бы задаться вопросом, не следует ли нам
привлечь для объяснения отмеченных фактов не дактилический
размер, а, скорее, размер ямбический. Большинство примеров
вполне допускают двоякую интерпретацию, и мы, безусловно,
могли бы принять второе решение, ничуть не изменяя при этом
существа выдвинутых нами положений. И все же оно
представляется само по себе менее приемлемым. Ямбический размер,
допускающий даже в поэзии разложение долгого слога сильной
части стопы на два кратких, был, по-видимому, слишком гибок
и податлив для того, чтобы обусловить отмеченные нами
значительные отклонения. Мы предпочитаем придерживаться мнения,
что в период от доисторической эпохи до эпохи аттической ритм
греческой фразы постепенно подвергался коренной перестройке.
РАБОТЫ Φ. ДЕ СОССЮРА ПО БАЛТИЙСКОЙ АКЦЕНТОЛОГИИ
Две небольшие статьи Ф. де Соссюра о литовской акцентуации
принадлежат к числу работ, которые принято называть основог
полагающими. Они на много десятилетий предопределили развитие
исследований в балто-славянской акцентологии и сохраняют свое
значение до сих пор.
Содержание статей относится к двум узловым проблемам
балтийской акцентологии: проблеме интонации и проблеме
ударения.
В работе „К вопросу о литовской акцентуации (Интонация
и ударение в собственном смысле слова)" де Соссюр подвел итоги
предшествующих исследований по литовским интонациям и, изучив
материал, значительно превышающий тот, который был
привлечен к исследованию до него, пришел к построению общей теории
происхождения слоговых интонаций в литовском.
Задача объяснения происхождения литовских слоговых инто?
наций и акцентных типов встала перед исследователями сразу
же после описания литовской акцентной системы Ф.
Куршатом1. Первые результаты были получены Φ. Ф. Фортунатовым,
который в 1878 г.2 установил связь литовских интонаций в
дифтонгах il, îr : il, if с определенными различиями в древнеиндийском,
греческом и латинском, построив два ряда соответствий:
I лит. il, 1г:др.-инд. г : греч. αλ, λα; αρ, ρα : лат. ol; or, er.
II лит. il, ir : др.-инд. ïr, ür : греч. λω, ολ; ρω, ορ : лат. la, räf
1 F. Kurschat, Beiträge zur Kunde der Iittauischen Sprache, Heft 2;
Laut- und Tonlehre der Iittauischen Sprache, Königsberg, 1849. Тот же мате*
риал Φ. Куршат изложил позже в своей грамматике (F. Kurschat,
Grammatik der Iittauischen Sprache, Halle, 1876).
2 Ph. Fortunatov, Zur vergleichenden Betonungslehre der litusl avischen
Sprachen,— AslPh., Bd. IV, 1880.
583
Вторым значительным достижением явилась работа А.
Лескина 1, доказавшая факт сокращения акутированных конечных долгот
в литовском. Естественным следствием этого явилось открытие
А. Бецценбергером связи литовских и греческих интонаций конца
слова2. В 1891 г. А. Бецценбергер установил еще одну категорию
корней, дававшую в литовском акутовую интонацию („двусложные
корни" типа CeSa)3. Таким образом определилось направление
поисков, указывающее на индоевропейские истоки литовских
слоговых интонаций.
Перед исследователями было, однако, два препятствия, одно
из которых заключалось в том, что в литовском обнаруживается
множество интонационных инноваций, второе—в том свойстве,
что интонации противопоставлены в современном литовском лишь
в ударных долгих слогах и характеризуют качество ударения.
Если первое препятствие было устранено благодаря жесткой
формулировке задачи («отрезок, существовавший изначально и
представлявший первоначально...»), что позволило отвести все случаи
позднего происхождения и случаи, возраст которых не
установлен (их отклонение от ожидаемой рефлексации де Соссюр
выделил в особую проблему—проблему „метатонии"4), то вторая
трудность разрешалась лишь в результате смелой интерпретации
сравнительно-исторических данных. Исходя из закона Лескина,
действовавшего независимо от наличия ударения на конечном
слоге, и из своего закона передвижения акцента с циркумфлекти-
рованного (и краткостного) гласного на последующий (до этого
безударный) акутированный гласный5, Соссюр приходит к
выводу о первоначальной независимости интонаций от ударения.
1 А. Leskien, Die Quantitätsverhältnisse im Auslaut des Litauischen·—
AslPh, Bd. V, 1881.
2 См. A. Bezzenberger, Grammatische Bemerkungen.— BB, VII, 1883.
3 A. Bezzenberger, Zum baltischen Vocalismus.·—BB, XVII, 1891.
4 Термин был предложен Φ. де Соссюром.
Несмотря на многочисленные попытки, пока не удалось найти
убедительных объяснений для большинства фактов метатонии. Последнюю
попытку см. в работе: Chr. S. S tang, Vergleichende Grammatik der Baltischen
Sprachen, Oslo, 1966, стр. 144—169. Xp. Станг предполагает, что большинство
случаев циркумфлекса вместо ожидаемого акута связано с ретракцией ударения
с конечного слога. Однако соответствие такого ударения конечному
ударению в славянском допускает иное объяснение; ср. В. А. Дыбо,
Акцентология и словообразование в славянском.— „Славянское языкознание,
VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968). Доклады советской
делегации", М., 1968.
5 Негативную формулировку данного закона см. в этой же статье Соссюра
на стр. 618 наст, изд.: «Но из закона, который мы излагаем ниже (см.
Акцентуация), следует, что ударение не могло бы падать на ne-, если бы
следующий слог был акутированным». Тогда же (в 1894 г.) Ф. де Соссюр изложил
свой закон на X конгрессе ориенталистов (см. „Aktes du Х-е Congrès
international des Orientalistes", vol. I, стр. 89). Однако подробное доказательство
его Φ. де Соссюр дал в статье „Литовская акцентуация" (1896, см. настоящее
издание, стр. 620—632). Следует, однако, иметь в виду, что выводы статьи
1894 г. были опубликованы Соссюром уже в 1889 г., и, как он сам отмечает,
584
При оценке этого вывода важно видеть в нем не столько
конкретно фонетическую, сколько специально компаративистскую
сторону, содержащую два этапа генетического отождествления.
По закону Лескина устанавливается, что первоначально долгие
гласные, характеризовавшиеся некоторым просодическим
признаком (x), придававшим ударению нисходящее качество, сокращались
в конечном положении, а первоначально долгие гласные,
характеризовавшиеся другим просодическим признаком (y), придававшим
ударению восходящее качество, сохраняли в конечном
положении долготу. Из того, что этому закону подчинялись как
ударные, так и безударные гласные, вытекает, что просодические
признаки x и y присутствовали не только в ударных, но и в
безударных слогах. Однако закон Лескина позволяет сделать такое
заключение лишь для гласных конца слова (ср. стр. 598—599
наст. изд.). Поэтому необходим второй этап, устанавливающий
различие безударных долгих гласных по просодическим признакам
x и y также в середине слова. Последнее доказывается законом
Соссюра, согласно которому первоначально безударные долгие
гласные с просодическим признаком x (независимо от их положения
в слове) перетягивали на себя предшествующее ударение, если
оно было восходящим, а при долгом гласном с просодическим
признаком y ударение сохранялось на прежнем месте.
Таким образом, вывод де Соссюра не является только
интерпретацией конечного этапа сравнительно-исторического
исследования, а наряду с конкретной фонетической стороной имеет
собственно сравнительно-историческое содержание, равнозначное
операции отождествления дополнительно распределенных элементов.
И если чисто фонетическая сторона интерпретации может быть
пересмотрена в зависимости от общефонетических и
типологических соображений, то собственно сравнительно-историческая
сторона, независимая от экстракомпаративистских данных, совершенно
безупречна и может быть отвергнута лишь в случае отклонения
указанных законов.
Вывод де Соссюра имел и то значение, что давал возможность
изучить индоевропейские истоки слоговых интонаций без
предварительного восстановления индоевропейского места акцента.
(Противоположный путь исследования, по-видимому, не мог привести
к непосредственным результатам, так как собранный тогда литов-
эта статья была почти полностью написана в том же году, что позволяет
думать, что и сам закон был известен Ф. де Соссюру уже в это время. Если
учитывать, что заслуга строгого доказательства этого закона принадлежит
исключительно Соссюру, а различные поправки к нему (отнесение к балто-
славянскому периоду, перенесение его действия на праславянскую почву
и под.) вообще никогда никем не были строго доказаны, то вопрос о
приоритете представляется совершенно беспредметным.
585
ский материал был недостаточен для генетического
отождествления литовских и греко-арийских акцентных типов.)
В итоге были установлены два ряда рефлексации
индоевропейских гласных в литовском.
I. И.-е. ä, ô, ï, ü, ё, г, I, m, п>лит. б, ûo, ΐ, u, ё, ir, il,
îm, în.
II. И.-е. a, q, i, u, e, r, J, m, n, er, el, em, en, or, ol, ora,
on > лит. [ä, ΐ, u, 6], if, il, im, in, er, eï, em, en, af, al, am, an.
В этой схеме необязательным является обращение к системе
А. Барановского и принятие древности удлинения кратких
гласных под ударением (Ф. де Соссюр предполагал, что удлинение
в системе А. Барановского происходит в любом неконечном
слоге1), хотя эта система и позволяла с большей легкостью
объединить ударение краткостных и циркумфлектированных слогов,
4το напрашивалось благодаря идентичному поведению ударения
этих слогов при следовании за ними акутированного слога (то есть
по отношению к закону де Соссюра). Однако последнее (вопреки
де Соссюру) не требовало обязательного признания древней
двуморовости краткостных гласных, так как легко разрешается и при
одноморовых краткостях. Фонологическое и генетическое единство
циркумфлектированных и краткостных отрезков основано на том,
что маркированным членом интонационной системы был акут,
а циркумфлектированные и краткостные отрезки входили в
немаркированный класс просодических единиц, фонетический же
переброс ударения на акутированный слог в обоих случаях можно
объяснить близостью тонических вершин (см. ниже).
Опубликованная через два года после рассмотренной статья
Ф. де Соссюра „Литовская акцентуация", в которой изложено
доказательство закона, носящего его имя, относится к шедеврам
сравнительно-исторической реконструкции.
Несмотря на всеобщее признание, эта работа до самого
последнего времени была не понята в своей основе и не оценена
в той мере, в какой она того заслуживает. Апофеоз закона де
Соссюра и распространение его на праславянский и балто-сла-
вянский сопровождались забвением строгой методологии
исследования, при помощи которой он был доказан. Одновременно был
затушеван целый ряд результатов первостепенного значения,
полученных автором в ходе доказательства этого закона2.
Отправным пунктом работы является довольно прозрачное
отношение в системе литовских акцентйых парадигм, которое
после открытия закона Лескина приводит к почти очевидному
выводу:
1 Это было связано с недостаточно точным обозначением количества в
текстах, опубликованных А. Барановским.
2 По-видимому, лишь этим можно объяснить факт отрицательного
влияния на славянскую акцентологию открытия закона Ф. де Соссюра.
586
I. Современное состояние:
Им.
Род.
Дат.
Вин.
Творит.
Местн.
Н<1)
varna
varnos
vârnai
vârng
vârna
varno je
H/a(2)
rankà
rankos
rafikai
rankt|
rankà
rafikoje
П(3)
gal va
galvös
galvai
gâlva.
gâlva
galvojè
Π/α(4)»
mergà
mergôs
mefgai
merg4
mergà
m ergo je
II. Состояние до действия закона Лескина. Безударные
актированные долготы обозначены знаком л, безударный
циркумфлекс — знаком —:
Им.
Род.
Дат.
Вин.
Творит.
Местн.
н О)
vârnâ
vârnâs
vârnâi
vârn^
vârn|
vârnâjç
н/α (2)
rankâ
rankâs
rafikäi
ranks
гапкз
rankâjç
Π (3)
galvâ
galväs
galvai
gâlvs
gâlv|
galvâjç
Π/α (4)
mergâ
mergäs
mefgâi
mërg3 *
merg4
mergâjé
Уже первая таблица показывает, что типы H (la.п.) и
Π (За.п.) встречаются лишь у основ с акутом корня, тогда как
типы Η/α (2а.п.) и Π/α (4а.п.) характерны для
циркумфлектированных основ, или, как бы мы сказали теперь, типы Π и Π/α,
так же как и типы Η и Η/α, дополнительно распределены.
Акцентное отличие типа Η/α от типа Η в именительном ед. ч,
и творительном ед. ч. и типа Π/α от типа Π в творительном
ед. ч. должно объясняться какими-то особенностями окончаний
этих падежей. Реконструкция состояния до действия закона
Лескина ясно показывает характер данных особенностей: это
старые акутированные окончания. Причем нет форм с
актированным окончанием, непосредственно следующим за корнем, в
которых типы α не отличались бы сдвинутостью ударения с корне-
1 У Ф. де Соссюра приняты следующие обозначения: Mob. (подвижная
парадигма, соответствующая парадигме II а Куршата), Mob/α (подвижная
парадигма, соответствующая парадигме I а Куршата), Im (неподвижная,
парадигма, соответствующая парадигме II b Куршата), Im/a (неподвижная
парадигма с передвижкой ударения по закону де Соссюра, соответствующая
парадигме I b Куршата). Здесь и в переводе эта нотация заменена
соответствующими русскими обозначениями: Π, Π/α, H, H/à.
Сокращение а. п.—- акцентная парадигма. Цифрами 1, 2, 3, 4 дается
современное обозначение литовских акцентных парадигм.
587
вого слога от типов H и Π при накоренном (наосновном)
ударении в последних, так же как нет форм, в которых типы α
имели бы конечное ударение, отличное от ударения
соответствующих типов Η и П, если в период до действия закона
Лескина эти формы имели краткостные или циркумфлектированные
окончания.
Подобная ситуация вскрывается во всей системе именных
акцентных парадигм и приводит к заключению: ударение
регулярно переносилось на следующий слог, когда оно падало
первоначально на слог с циркумфлексовой интонацией (или
краткостный слог1), непосредственно после которого находился слог с
акутовой интонацией.
Но Ф. де Соссюр не считает возможным сделать этот вывод
только на основании описанного распределения. Во-первых,
видимо, потому, что это распределение может говорить лишь об
особенностях акутированных окончаний, то есть может быть
результатом специфического закона конца слова, во-вторых, и это
необходимо подчеркнуть, пафос его работы заключается не в
открытии данного частного закона, на что обращали основное
внимание, а в исследовании соотношения между двумя видами
подвижности акцента (новой, возникшей в результате действия
этого закона, и старой, морфологической подвижности) во всех
сегментах системы литовского языка.
Снятие результатов действия закона Ф. де Соссюра в именных
акцентных парадигмах приводит к установлению двух
акцентных парадигм имени, из которых одна — неподвижная, барито-
нированная, другая—с подвижностью акцента,
характеризующаяся наличием окситонированных (конечноударных) форм.
Бинарность противопоставления и характер акцентных
парадигм дает возможность постулировать их генетическое тождество
с двумя «индоевропейскими» акцентными парадигмами, то есть
отнести их истоки к глубокой древности.
Этот постулат определяет направление поиска, так как
предполагает значимость старой морфологической подвижности
ударения в литовском. В ходе исследования морфологической
подвижности де Соссюр обнаруживает ряд кардинальных явлений
акцентной системы, связанных с этой (старой) подвижностью,
и отделяет их от подвижности, внесенной открытым им законом.
С другой стороны, он устанавливает факт деформации древней
подвижности ударения в результате действия данного закона.
Исследуя многосложные имена, де Соссюр обращает внимание
на отсутствие типов α с начальным ударением основы, в то же
время в типы Η и Π многосложных имен входят имена как с
1 Эту оговорку де Соссюр не делает, так как он, как мы отметили выше,
исходит из диалектной системы А. Барановского, в которой все краткостные
ударные слоги, становясь двуморовыми, получали циркумфлексовую
интонацию.
588
актированным, так и циркумфлектированным начальным
гласным. Иными словами, имена в зависимости от слогового состава,
акцентного типа, места ударения и интонации ударного слога в
основе распределяются следующим образом1:
Наличие
трансформации α 1
Место ударения
на основе и
количество слогов
Η
π
J_
-
2_
«
I
siena
I
galvà
I
WWW
any ta
www
dârgana
ä§ara
uodegà
letenà
α
ι
ww
vietà
algà
1
WWW
lydekà
ι
WWW
Данное распределение показывает, что трансформация α
(результат действия закона де Соссюра) затронула только те основы,
в которых ударение находилось в непосредственной близости к
окончаниям (акутовым). Снятие этой трансформации приводит к
распределению:
Η
π
~п
г
-
WW
sienâ
vietâ
galva
algâ
ι
www
anytâ
lydëkâ
www
dârganâ
aâarâ
uodegâ
letena
1 С некоторыми изменениями нами использована таблица из книги
В. М. Иллич-Свитыча „Именная акцентуация в балтийском и славянском",
М., 1963, стр. 9. В целях упрощения здесь и ниже знаком ^ отмечается как
циркумфлектированный, так и краткостный тип.
589
Здесь вскрывается важная особенность старой подвижности:
отсутствие основ со срединным ударением в типе П. Движение
акцента в нем осуществлялось только между начальными и
конечными слогами.
Из этого распределения есть одно исключение: тип septynius:
septyni, где мена акцента происходит между срединным
акутированным слогом и конечным. Интонационная характеристика его
и определяет еще одну позицию действия закона Ф.де Соссюра:
этот тип может быть объяснен как деформация старой
подвижной парадигмы в результате наложения данного закона, то есть
septynius : septynî < *sëptynius : *septyni.
Формы презенса от бесприставочных глаголов в современном
литовском не обнаруживают следов морфологической подвижности
ударения. Их акцентные различия зависят лишь от интонации
(и количества) корня:
1 л. ед. ч. през. velkù (при 3 л. ед. ч. през. velka), но:
1 л. ед. ч. през. âugu (при 3 л. ед. ч. през. äuga).
Однако включение в исследование приставочных форм
глагола1 и размещение их по типам ударения действительных
презентных причастий (а также по интонации корня) приводит ri
следующей схеме:
Презенс
Причастие
Простые
глаголы
Приставочные глаголы
1 л. ед. ч.
3 л. ед. ч.
1 л. ед. ч.
3 Л. ед. ч.
Им. п. ед. ч. м. р.
Вин. п. ед. ч. м. р.
η
-
âugu
âuga
ne âugu
ne âuga
aug|s
âugant|
α
ne§ù
nësa
ne nesu
ne ne§a
ne§|s
hësantj
1 H
| -
trâukiu
traukia
ne trâukiu
ne traukia
trâuki^s
trâukiant[
! «
saukiù
§aükia
ne saukiù
na èaûkia
Saukiçs
Saukiantl
Установив это распределение, де Соссюр тем самым открыл
первоначальную двухпарадигменность презенса. Отсюда вытекает,
что для доказательства закона де Соссюра в глагольной системе
основное значение имеет трансформация Η/α, а трансформация
Π/α менее значима, так как исходная акцентная кривая
подвижной парадигмы неясна.
Из таблицы видно, что приставочные акутированные глаголы
типа Π в презенсе несут ударение на корне, в отличие от
глаголов типа Π/α с ударением на приставке. Это исключение из
1 В таблице, как и в статье Ф. де Соссюра, представителем
префиксальных форм выступает форма с отрицанием; акцентологическое поведение
последней тождественно поведению форм с приставками.
590
правила представляет собой также позицию действия закона Ф·
де Соссюра, ибо объясняется как деформация старой подвижной
парадигмы в результате его действия:
ne âugu, ne auga < *në âugô, *në âuga.
Рассматривая деривацию, Соссюр находит две группы
суффиксальных образований, сохраняющих парадигматический выбор
акцента 1.
I группа суффиксов требует выбора подвижного ударения при
подвижном ударении производящего и неподвижного ударения
на основе-базе при неподвижном ударении производящего.
II группа требует насуффиксального ударения производного
при подвижном ударении производящего и набазового
ударения при неподвижном ударении производящего. Если
распределить производные по акцентным парадигмам производящих
и указанным группам суффиксов, обнаруживается такая система2
(формы с акцентовкой, возникшей по закону Соссюра,
подчеркнуты):
^
Тип произво*1
Тип %.
суффикса ^\|
СО
Г >»
Си
и
СО
о.
В суфф.
циркумфлекс или
краткость
В суфф. акут
В суфф.
циркумфлекс или
краткость
В суфф. акут
м.
ж.
м.
ж.
м.
ж.
H
Акут
vyriSkas
vyriâka
kflningas
kuninga
burtininkas
krumuotas
krûmuota
Циркумфлекс
или
краткость |
pagônièkas
pagöniSka
parSingas
paràinga
; malCininin-
kas
lapuotas
lapuota
π
Акут
suniàkas
sOniâkà
nâudingas
naudingà
darbinifikas
kalnuotas
kalnuota
Циркумфлекс
или
краткость
diëviskas ι
dieviâkà I
zalingas
zalingà
pininginin-
kas
kampuotas
kampuota
1 Парадигматическим выбором акцента мы называем выбор акцентного
типа производного, зависящий от акцентного типа производящего. Случаи,
в которых выбор акцента не зависит от акцентовки производящего („первая
категория"), Соссюр специально не анализирует как не дающие чего-либо
нового для аргументирования его закона.
2 В данном месте мы вынуждены несколько модернизировать изложение
де Соссюра. Подвижный характер парадигмы у образований Ï группы, по-
видимому, не до конца был ясен де Соссюру. Текст статьи не позволяет это
утверждать решительно, однако материал Куршата не давал возможности
установить наличие подвижности у прилагательных на -iâkas. Ср\, однако:
591
Таблица показывает, что деформация первичных акцентных
типов, в которой можно усмотреть результат действия закона
де Соссюра, наблюдается в трех случаях:
1) 2alingas:2alingà—тождествен разобранному выше типу
septynius:septyni. Он восходит к *2alîngas : *2alingâ. Φ. де
Соссюр в разделе о дериватах специально этого типа не касался,
по-видимому, потому, что он не мог найти соответствующих
примеров в имевшемся тогда литовском материале.
2) parsingas:par§inga—происходит из *parèîngas:*pafaîngâ и
должен быть объяснен, следовательно, также действием закона
Ф. де Соссюра. Соссюр специально указывает на возможность
такого типа, но примера не приводит по тем же причинам, что
и в первом случае. Этот случай по сути тождествен третьему.
3) lapûotastlapûota < *lapôtas:*lapôtâ. Устанавливая эту
позицию действия своего закона, Соссюр специально
подчеркивает, что к ней не могут быть отнесены образования типа kam-
puotas-.kampùota, которые получают насуффиксальное ударение
«вследствие грамматических причин» (стр. 625 наст. изд.).
Таким образом, анализ метода, посредством которого Ф. де
Соссюр выясняет фонетический характер своего закона и
определяет позиции его действия, показывает, что в основе внутренней
реконструкции де Соссюра лежит четкое представление о значении
морфологической подвижности ударения в литовском, о глубоком
проникновении ее в ткань языка. С самого начала 1 исследование
идет путем нахождения границ морфологической подвижности и
отсечения феноменов, которые остаются за пределами явлений,
объясняемых ее закономерностями. И лишь затем, на основании
изучения этих феноменов, выявленных в целом ряде сегментов
языковой системы, Соссюр формулирует фонетический закон.
Парадоксально, что как раз отмеченная методологическая
сторона работы де Соссюра не оказала влияния на исследования,
«Но и их [производных] парадигма, а также изменения интонации
(„метатония"), которые часто в них представлены, видимо, находятся в тесной связи
с акцентным типом производящего слова» (стр. 625 наст. изд.). Ф. де Соссюр
предполагал также возможность существования актированных суффиксов
I группы, но не привел ни одного примера. По тексту статьи ясно, что
суффикс -ing-as он относил к II группе, в соответствии с системой
литовского языка, описанной Ф. Куршатом; однако известный в настоящее время
материал Н. Даукши (XVI в.) и восточно-аукштайтских говоров позволяет
отнести -ing-as к суффиксам группы I. Распределение акцентных типов слов
с этим суффиксом реконструировано, материал, на котором основана эта
реконструкция, см. в работе: В. А. Дыбо, Акцентология и
словообразование в славянском.— „Славянское языкознание. VI Международный съезд
славистов. Доклады советской делегации", М., 1968. В этой же статье см.
анализ других суффиксальных типов I и II групп.
1 То есть уже в анализе акцентных типов именного словоизменения, где
отделение морфологической подвижности (ввиду прозрачности отношений)
происходит почти механически, однако Ф. де Соссюр специально
подчеркивает это (см. стр. 622 наст. изд.).
592
постулирующие этот закон для праславянского. Закон Ф. де
Соссюра с самого начала был воспринят как удобное средство
объяснения разнообразных типов подвижности ударения в
славянских языках, что препятствовало объективному изучению
морфологической подвижности в праславянском. Весьма
характерно для этого подхода высказывание Н. Ван-Вейка: «Ф. де Соссюр
впервые благодаря установлению закона передвижения акцента,
названного его именем, и использованию этого закона при
реконструкции доисторических балтийских парадигм открыл новые
перспективы для исследования ударения...» И затем: «В действии
данного закона как на славянской, так и на балтийской почве
не может быть никакого сомнения. Это вытекает из той
легкости, с которой данный закон позволяет нам разрешать иначе
совершенно темные проблемы"1.
В первом утверждении (что следует из предшествующего
изложения) содержится фактическая ошибка: закон передвижения
акцента не был использован Соссюром для реконструкции
доисторических балтийских парадигм, а, напротив, был выведен
в результате строгого исследования балтийских парадигм
(закономерностей их выбора, распределения их вариантов и т. п.) и
реконструкции их предшествующего состояния. Совершенно
очевидно, что такая реконструкция возможна (и осуществляется
почти механически) без обращения к этому закону, а закон
устанавливается уже как итог анализа отклонений от
реконструируемого состояния (последний этап совсем не обязателен и ничего
не добавляет к самой реконструкции). То, что автор формулирует
его в начале статьи, является моментом формы изложения и не
связано с логикой исследования.
Второе высказывание Н. Ван-Вейка скрывает
методологическую ошибку: из легкости объяснения множества явлений при
помощи какого-либо положения вовсе не следует истинность
этого положения. Именно эта легкость привела к тому, что любой
случай подвижности ударения в славянском стали рассматривать
как результат действия закона де Соссюра. Если А. Мейе еще
учитывал наличие морфологической подвижности в праславянском и
был достаточно осторожен в перечислении случаев, в которых
мог проявиться закон Ф. де Соссюра 2, то позднее сферу действия
этого закона стали расширять почти беспредельно. Под него
подвели чуть ли не все случаи ненакоренного ударения в имени,
было выдвинуто предположение о переносе ударения через слог
(X. Педерсен), о переносе на „акутированные" слоги вторичного
происхождения, под которыми понимались любые ударные некор-
1 N. van Wijk, Die baltischen und slavischen Akzent- und
Intonationssysteme, Gravenhage, 1958, стр. 48. (Перевод и курсив наши. — В. Д.).
2 А. Meillet, Note sur un déplacement d'accent en slave.— MSL, vol. XL
1900, стр. 345—351.
593
невые слоги, следующие за корнем, даже краткостные1. Под
влиянием принятого как аксиома закона результаты
исследования морфологической подвижности ударения неизбежно
деформировались и не получали правильной интерпретации.
Ошибочное решение вопросов подвижности ударения в
славянской акцентологии в свою очередь не могло не отразиться
на исследованиях в области балтийского. Это коснулось прежде
всего предложенной де Соссюром фонетической интерпретации
-его закона, которая была отвергнута ввиду несоответствия
характеру интонаций в балто-славянском 2. С другой стороны,
фактическое исключение морфологической подвижности из
праславянского способствовало возникновению идеи о позднем, чисто
литовском ее происхождении. Аргумент вторичных падежей может
считаться косвенным отражением той же тенденции: этот
аргумент снимается наличием в славянском аналогичного
передвижения ударения на энклитики, но оно оставалось
неисследованным, а факты, отражающие это явление, зачастую объяснялись
тем же законом Ф. де Соссюра3.
Фактически лишь с появлением работы Хр. Станга4 в
славянской акцентологии началось возвращение к методологическим
принципам Ф. де Соссюра. Вслед за Ф. Седлачком Хр. Станг доказал
тождественность акцентных кривых славянской и балтийской
подвижных акцентных парадигм имени и приступил к изучению
морфологической подвижности ударения в других частях
славянской акцентной системы. Решающее значение имело открытие
Хр. Стангом морфологической подвижности ударения в глаголе6,
1 См., в особенности, N. van Wijk, Zum baltischen und slavischen
Akzentverschiebungsgesetz.—- IF, Bd. 40, 1922, стр. 1—39; он же, Die
baltischen und slavischen Akzent-und Intonationssysteme, Gravenhage, 1958(2. Aufl.),
стр. 49—59.
2 Теперь, когда доказано, что закон Ф. де Соссюра в праславянском не
действовал, и это же можно сказать о севернобалтийском (о нем см.
В. М. Иллич-Свитыч, Следы исчезнувших балтийских акцентуационных
систем.—„Кратк. сообщ. Ин-та славяновед. АН СССР", вып. 41, стр. 18—26),
при отсутствии каких-либо рефлексов его в латышском и прусском
(некоторые факты отклонения от ожидаемого состояния в последнем не могут
быть объединены в систему, объясняемую именно этим законом), данный
закон следует считать чисто литовским явлением. А это значит, что мы
можем возвратиться к фонетической интерпретации Ф. де Соссюра как
полностью соответствующей характеру интонаций в литовском.
3 См., например, N. van Wijk, Die baltischen und slavischen Akzent-
und Intonationssysteme, Gravenhage, 1958 (2. Aufl.), стр. 57.
4 Chr. Stang, Slavonic accentuation, Oslo, 1957.
5 Факты, доказывающие наличие морфологической подвижности
ударения в глаголе, были собраны еще Л. Л. Васильевым (см. его работы:
„О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII
веков". Л., 1929, стр. 47—53; „Заметка об акцентовке несклоняемого
причастия на -лъ".— ЖМНП, 1905, август, стр. 464—465), однако подвижность
ударения в презенсе настолько очевидно вступала в противоречие- с зако-
594
которое показало единство общего плана строения акцентной
системы имени и глагола.
Из анализа типов морфологической подвижности и ее
соотношения с другими сегментами акцентной системы последовало
два ближайших вывода:
1. В подвижных акцентных парадигмах праславянского не
встречается деформаций, которые можно было бы объяснить
действием закона де Соссюра.
2. В сегменте акцентной системы, не входящем в подвижную
парадигму, обнаруживаются два класса акцентных типов; один
из этих классов состоял из просодически сходных типов
(актированный класс = акцентная парадигма a, по Стангу), а
другой— из типов, хотя и в большей степени различающихся, но
которые сближались по ряду признаков (окситонированные типы
в имени и „подвижный" (рецессивный) класс в глаголе =
акцентная парадигма b, по Стангу).
Опираясь на ряд древнепрусских основ, которые допустимо
трактовать как окситонированные, Хр. Станг проецировал
различие между а.п. a и а.п. b в балто-славянский и даже
индоевропейский.
Но так как акцентные парадигмы a и b находятся в
отношении дополнительного распределения по первичной
интонационной характеристике корневого слога, а имена а. п. b
соответствуют именам 2 а.п. в литовском н баритонированным именам в
других и.-е. языках, позволительно рассматривать а.п. a и а.п. b как
результат расщепления первоначально единой баритонной
акцентной парадигмы по фонетическому закону, условия
проявления которого, однако, далеко не тождественны условиям
проявления закона Ф. де Соссюра х.
ном Соссюра, что на нее не обратили внимания, отнеся к вторичным,
загадочным явлениям древнерусских памятников (связанным с болгарским
влиянием), а подвижность в именных формах глагола продолжали изучать,
исходя из окситонезы с вторичными оттяжками ударения (например,
Л. А. Булаховский, К. Буга и др.) или из баритонезы с переносами по
закону де Соссюра (например, Н. Ван-Вейк). Попытка Е. Куриловича
установить подвижный тип ударения глагола в славянском, опираясь в
определенной степени на формы с приставочным ударением, хотя в принципе
была правильной, однако ввиду неудачного анализа внутриславянских
отношений оказалась бесплодной. Таким образом, заслуга открытия
глагольной подвижности ударения в славянском принадлежит исключительно
Хр. Стангу. Это открытие явилось в свое время весьма радикальным шагом,
сколь бы очевидным ни казался сейчас его результат.
1 См. В. А. Дыбо, рец. на книгу Chr. S tang, Slavonic accentuation,
Oslo, 1957.— „Структурно-типологические исследования, I", M., 1962; он же,
О реконструкции ударения в праславянском глаголе. — ВСЯ, № 6, М., 1962;
В. М. Иллич-Свитыч, Именная акцентуация в балтийском и славянском,
М., 1963; В. А. Дыбо, В. М. Иллич-Свитыч, К истории славянской
системы акцентуационных парадигм. — В кн.: „Славянское языкознание.
Доклады советской делегации", М., 1963; В. А. Дыбо, Акцентология и
595
Таким образом, возвращение славянской акцентологии к
методологии, примененной Соссюром в его реконструкции балтийской
акцентной системы, привело к отказу от принятия закона Ф. де
Соссюра для праславянского 1.
Следует остановиться на судьбе ряда других идей концепции
Ф. де Соссюра.
Дальнейшие исследования увеличили знания о
морфологической подвижности ударения в балтийском. Изучение Я.
Эндзелином латышских интонаций подтвердило наличие в балтийском
двух акцентных парадигм у глагола, работы К. Буги и Я.
Эндзелина установили также факт отражения этого противопоставления
в системе отглагольного словообразования. Подтвердилось в
основной своей части предположение де Соссюра о связи
латышских интонаций с двумя балтийскими акцентными парадигмами,
с той, однако, поправкой, что балтийские интонации также
отразились в латышской интонационной системе 2. Тезис де
Соссюра о связи двух балтийских парадигм с баритонной и
окситонной акцентными парадигмами индоевропейского был строго
доказан в книге В. М. Иллич-Свитыча „Именная акцентуация
в балтийском и славянском (Судьба акцентуационных парадигм)"
(М., 1963).
В состоянии поиска остается поставленный де Соссюром
вопрос о характере отношения между балто-славянской подвижностью
и греко-арийской окситонезой. Предложенное де Соссюром
объяснение, как отмечал сам автор, наталкивается на ряд
препятствий, мешающих тому, «чтобы превратить его в чисто
фонетический закон», само же установленное де Соссюром соотношение
может быть интерпретировано по-разному. В последнее время
усиливается аргументация в пользу большего развития
подвижности ударения в самом индоевропейском3.
Проблематика разобранных статей де Соссюра тесно связана
со всей историей балто-славянской акцентологии и не может быть
словообразование в славянском. — В кн.: „Славянское языкознание. VI
Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.). Доклады советской
делегации", М., 1968. Сам Хр. Станг не принял этот напрашивающийся из его
работы вывод и продолжает настаивать на исконности различия славянских
типов а и b; см. Chr. Stang, Vergleichende Grammatik der Baltischen
Sprachen, Oslo, 1966, стр. 288—289; дальнейшее развитие этой стороны
концепции Хр. Станга см. в разделе „Die Metatonie" (стр. 144—169); ср.,
однако, иное рассмотрение соотношения балтийских и славянских производных
в работе В. А. Дыбо „Акцентология и словообразование в славянском".
1 Нужно подчеркнуть, что сам Ф. де Соссюр никогда не распространял
действие открытого им закона на' праславянский.
2 J. Endzelin, Über den lettischen Silbenaccent. —BB, Bd. 25, 1899;
J. Endzelin, Des intonations lettones.-—R ESI., vol. 2, 1922; И. Эндзелин,
Заметки к латышской акцентовке.— „Известия II Отд. ИАН", т. VI, кн. 4, 1901,
а также J. Endzelins, LatvieSu valodas gramatika, Rïgâ, 1951, стр. 34—41.
3 Последнюю сводку аргументов см. в работе Хр. Станга „Vergleichende
Grammatik der Baltischen Sprachen", Oslo, 1966, стр. 304—307.
596
исчерпана настоящей статьей, цель которой обратить внимание
на наиболее важные аспекты этих работ и показать их значение
для методологии сравнительно-исторического исследования
балтийских и славянских акцентных систем. Поэтому мы не касались
здесь теорий, противопоставлявшихся в свое время концепции де
Соссюра или строившихся на ней теорий, которые могут считаться
сейчас преодоленными. Из первых (а в определенной степени и
из вторых) наиболее разработана теория Е. Куриловича, с
методологической стороны представляющая попытку перестроить
принципы компаративистских исследований, исходя из
определенных экстракомпаративистских универсалий х.
Подробное обсуждение правомерности такой ревизии увело
бы нас слишком далеко, сама же акцентологическая
реконструкция Куриловичем балтийской и славянской акцентных систем
в основном отклоняется ipso facto2·
В. Л. Дыбо.
1 Итоговое изложение этой концепции см. в сводной работе: J.
Kurylowicz, L'accentuation des langues indo-européennes, 2-е éd., Wroclaw —
Krakow, 1958, стр. 162—356. Теоретическое обоснование метода см. также
в статье: "La nature des procès dits „analogiques"" (J. Kurylowicz,
Esquisses linguistiques, Wroclaw-—Krakow, 1960, стр. 66—86), a также „Do meto-
dyki bad an akcentowych" (там же, стр. 233—239).
2 См. В. M. Иллич-Свитыч, Именная акцентуация в балтийском и
славянском, М., 1963 (на обширном материале отклоняется тезис Куриловича
об отсутствии преемственности между индоевропейским и балтийским
распределением акцентных типов в имени) и Chr. S t a η g, Vergleichende
Grammatik der Baltischen Sprachen, Oslo, 1966 (Изложение и критику концепций
Куриловича см. на стр. 130—144). Факты, противоречащие концепциям
Куриловича, приводятся также в ряде других работ, которые указаны нами
выше.
Φ. de Соссюр
К ВОПРОСУ О ЛИТОВСКОЙ АКЦЕНТУАЦИИ*
(ИНТОНАЦИИ И УДАРЕНИЕ В СОБСТВЕННОМ СМЫСЛЕ
СЛОВА)
Ниже излагается содержание сообщения, сделанного мною
в Парижском лингвистическом обществе четыре года назад1.
Предполагая развить эти соображения в специальной работе,
посвященной литовским интонациям и тоническому ударению,
я не опубликовал свой доклад в „Записках" Общества. Но
небольшая статья Бецценбергера**, появившаяся за это время и
поначалу ускользнувшая от моего внимания, побуждает меня
изложить здесь несколько основных положений своей теории,
не дожидаясь того момента, когда она будет опубликована
полностью.
Прямым следствием или, скорее, предпосылкой закона Лескина
о сокращении гласных в конечных слогах является тот факт,
что восходящая и нисходящая*** интонации присущи (или были
присущи в определенный момент) долгим безударным гласным
в той же мере, как и долгим ударным гласным. Конечные гласные
с нисходящей интонацией сокращаются, а конечные гласные
с восходящей интонацией сохраняют свое количество независимо
от места ударения. Правда, закон Лескина позволяет делать
бесспорные выводы об интонациях безударных гласных только
в пределах конечного слога; и в том, что эти слоги имеют осо-
* F. de Saussure, A propos de l'accentuation lituanienne, „Mémoires
de la Société de linguistique", VIII, 1894, стр. 425—446; перепечатано в
„Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure", Genève,
1921.— Прим. ред.
1 На заседании 8 июня 1889 г.; см. „Bulletin de la Société de linguistique",
t. VII, стр. liij. Вновь написан только раздел о первичных кратких
гласных а, ё, ï, и, так как он был сформулирован несколько позже первого
изложения системы.
** „Zum baltischen Vocalismus".—ВВ, XVII, 1891,стр. 213 и сл.—Прим.
ред.
*** Ф. де Соссюр употребляет здесь немецкие термины „geschliffen" и
„gestossen". — Прим. ред.
598
бый статус, нет ничего невероятного. Однако ряд других фактов
(некоторые из коих приводятся ниже) не позволяет сомневаться
в том, что интонации были характерны для всех видов долгих
гласных —как ударных, так и безударных, как в конечных, так
и в неконечных слогах.
Это четко определяет платформу, на которой строится
изучение интонаций. Интонация понимается отнюдь не как явление,
сопровождающее в литовском языке его тоническое ударение,
а как явление, сопровождающее долготу1. Интонации являются
неотъемлемой частью просодии* литовских слогов и не связаны
необходимым образом с ударением. Возможно, что существует
взаимное влияние (и, как мы увидим ниже, очень большое)
интонации на ударение и ударения на интонацию; ведь равным образом
ударение влияет и на вокализм, но из этого не следует, что
вокализм и ударение связаны между собой естественным образом.
Правда, в безударном слоге интонация остается скрытой для нас;
она становится непосредственно ощутимой лишь благодаря
ударению, которое придает ей интенсивность. Только этим и
объясняется обязательная и постоянная роль ударения как источника
информации в настоящем исследовании.
В дальнейшем мы вместо терминов „восходящая" и
„нисходящая" интонация** будем употреблять термины циркумфлексная и
акутовая интонация. Термины эти выбраны нами вполне
произвольно.
Однородные или разнородные отрезки, имеющие значение при
изучении интонации и ударения, такие, как p-|y|-kst-|an|-cz-|om|-s,
если искать для них употребительное наименование, можно было
бы назвать термином „слог". Но этот термин не имеет отношения
к обозначаемой вещи, за исключением лишь того факта, что по
определенным причинам число отрезков совпадает с числом
слогов. Не отказываясь полностью от принятой терминологии, мы
предлагаем тем не менее для указанных выше единиц употреблять
термин интонируемый отрезок (или вокалический отрезок; эти
понятия совершенно эквивалентны, если дано соответствующее
определение гласного) или просто отрезок—для краткости.
Теория интонаций естественным образом делится на основную
часть, обнимающую все внутренние слоги, и специальную часть,
предметом которой являются конечные слоги, Мы рассматриваем
1 Здесь к долгим относятся также полудолгие.
* Здесь у Соссюра термин „просодия" имеет значение: дополнительные
особенности речи, связанные с метрикой, в частности долгота или
количество. (См. Ж. Мару зо, Словарь лингвистических терминов, М., 1960,
стр. 239).—Прим. перев.
** Здесь Ф. де Соссюр заменяет немецкие термины „geschliffen" и
„gestossen" французскими терминами „intonation douce" и „intonation rude". Мы
заменяем эти термины терминами „циркумфлексная интонация" и „акутовая
интонация", принятыми ныне в акцентологии для соответствующих
понятий.— Прим. перев.
599
в этой работе только внутренние слоги и с этим постоянным
ограничением просим понимать все дальнейшие результаты наших
наблюдений.
I. Отрезок, существовавший изначально и
представлявший первоначально долгий монофтонг (-|ä|-, -|ö|-,
-|ê|-, -|ί|-, -|ΰ|-), в литовском языке определен ipso facto в своей
интонации (так же как он определен, например, в своем
количестве и тембре). Интонация будет всегда акутовой, если только
она не изменилась в силу какого-то особого обстоятельства.
Вот несколько примеров:
(а) скр. mâtâ
скр. bhrätä
скр. näsä
лат. râpa
(ê) скр. väyus
гот. mena
греч^р, -ηρός
скр. päd
(б) скр. dhänäs
греч. οχτώ
Äp.-CKaHÄ.sot
(ϊ) скр. viras
скр. gïvas
скр. rï-tis
(fl)скр. sünus
скр. dhümas
скр. yüsam
др.-нем. dûsunt
лит.
лит.
лит.
лит.
лит.
motê
brolis
nosis
горе
vëjas
menu
2vëri(BHH.n.)
pëd¾ (вин.п.)
duna
asztûnios
sudèai
vyras
gyvas
lyty (вин. п.)
suny (вин. п.)
dumai
juszé
tukstantis
скр.
скр.
скр.
лат.
скр.
скр.
лат.
европ.
скр.
греч.
лат.
sthä-
yä-
kas-
hiä-tus
dhä-
sphä-
së-men
ëd-
dä-
ζωσ-τήρ
pô-tus
лат. lira
лат. vïtis
др.-HeM.gilïh
[скр.
bhü-
pü-
syü-
yüyam
лит.
лит.
лит.
лит
лит.
stoti, stonas
joti, joju
kosèti, kosiu
èioti, iioju
dëti, dëjau
spëti, spëju
sëti, sëmenys
ësti, ëd2os
duti, dovanç
jüsti, jüsta
püta
lysê
vytis
lygti, lygus
buti, busiu
pujti, puliai
siuti, siulas
jusfl
Также в суффиксах: класс barzdotas=^aT. barbätus; класс
artojis, в котором ό восходит, несомненно, тоже к древнему а.
Глаголы на -etί, -oti, -yti, соответствующие слав, -èti, -ati, -iti,
например jëszkoti = iskati, ganyti = goniti и т.д. Интонация δ
в именах женского рода (во внутреннем слоге)—акутовая, как
это можно видеть по форме дат. п. мн. ч. mergoms; впрочем,
вопросы, относящиеся к этой форме, не представляется
возможным решить так просто.
Наша формулировка уже содержит в себе ответ на вопрос,
почему, несмотря на этот закон, не всякое литовское о, û, è, у, ü
рмеет акутовую интонацию.
600
Приведем случай, когда сам гласный более позднего
происхождения:
1. Заимствования из славянских и германских языков внесли
в литовский огромное количество новых о, ê, (и), у, и, в
большинстве случаев имеющих циркумфлексную интонацию и,
естественно, подлежащих исключению из рассмотрения, например: vynas
„вино", iydas „еврей", rubas „одежда", buras „крестьянин", rodas
„обсуждение", blögas „плохой, худой", kolas „кол", czësas „время"
и множество других.
2. Но и помимо заимствований, литовская лексика богата
словами, которые безотносительно к своему происхождению
являются явно не очень древними. Когда о, ê, и, у, ü выступают в
одной из этих основ, не входящих в первичный фонд, мы не
настаиваем на применимости правила. Напротив, нередко (и даже обычно)
мы находим в этих случаях циркумфлекс, что лишь подчеркивает
регулярность акутовой интонации у долгих гласных древнего
происхождения. Так, в глаголах типа czozti „кататься по льду",
kriokti „храпеть, хрипеть, рычать", szniokszti „пыхтеть, тяжело
дышать", которые уже по их виду и по отсутствию соответствий
в родственных языках являются новообразованиями, интонация
корневого гласного может быть любой (в названных словах,
например, czôèti, kriokti, szniokszti).
3. Еще один ряд новых о, ê, и, у, й появился в результате
собственно грамматических инноваций, в ходе создания новых
форм или новых категорий форм у старых корней. Однако
характер происхождения в языке новых о, ê и т. д. безразличен:
достаточно того, что данный гласный появился позже определенного
момента, чтобы закон уже не применялся. И вообще, очевидно,
что, хотя интонация этих новых пластов долгих гласных может
подчиняться каким-то своим внутренним правилам, она должна
интересовать нас здесь лишь с отрицательной стороны, а именно с
точки зрения того, как освободить закон [определяющий интонацию
форм типа] stoti от элементов, не имеющих к нему отношения.
Таких форм, не попадающих под действие закона, очень много,
и мы вынуждены ограничиться одним или двумя случайно
выбранными примерами.
Звуки ü в puti, pusiu „гнить", у в gyti, gysiu „выздоравливать"
являются древними долгими, которые должны попасть под
действие закона и в которых действительно наблюдается ожидаемая
интонация. Но ü, у презенсов pûvù, gyjù, несомненно входящих
в число вторичных форм (так как сам этот тип не существовал
первоначально), не подчиняются, в силу позднего возникновения,
действию закона. Если бы у этих гласных была акутовая
интонация, ее нельзя было бы объяснить действием данного закона;
с другой стороны, циркумфлексная интонация, которая им присуща
(3-е л. презенса puva, gyja) на самом деле, не является
нарушением закона.
601
Еще один пример. Если гласный ë(è) встречается в корнях,
где исходным гласным является ё, то это служит признаком не
очень глубокой древности ê, ибо за исключением двух или трех
особых случаев (удлинение в именительном, удлинение в
сигматическом аористе и т. д.) чередование е—ê не является
индоевропейским1. Следовательно, наличие циркумфлексной интонации
у е в таких словах, как slëpti „прятать, скрывать" (корень slëp-
(slepiù)), lëkti „лететь" (корень lëk- (lekiù)), не должно нас
удивлять и не может поколебать правила. Для сравнения с этим
случаем достаточно взять наугад такой корень, как bég (где ê
не чередуется с ё), чтобы убедиться, что он регулярно имеет
акутовую интонацию, характерную для древних è: bëgti, brëkszti,
drëkti, gëdêti, grëbti, mëgti, plëkti, plëszti, slëgti, vësti, dëti,
sëti, spëti и также ësti, sësti, stëgti2.
Долгий гласный, который мы находим в dukrà, вин. п. dukrq,
при duktë „дочь", в bëbrus (в диалектах — bebrus, vebras, и.-е.
*bhëbhrus) „бобер", в ësame, ës^s (в древности и в диалектах—esame,
es^s), не имеет никакого отношения к правилу, [определяющему
интонацию форм типа] dëti, в силу своего более позднего
происхождения. То же самое имеет место и в целом ряде других случаев,
на наличие которых мы здесь хотим лишь указать.
Случаи, когда сама интонация является
поздней: для различаемых выше трех видов „исключений" общим
является то, что во всех этих случаях мы имеем дело с долгими
гласными, которые являются хронологически более поздними и
которые вследствие этого никогда не подвергались действию
закона, [определяющего интонацию форм типа] stoti. Коренным
образом отличается от них тот случай, когда форма, имевшая
изначально долгий гласный, позже изменила первичную
интонацию этого гласного. Это явление, которое можно назвать
метатонией, играет очень важную роль в теории интонаций и
составляет одну из ее самых обширных и трудных глав.
Необходимо обозначить некоторые границы, которыми, по-видимому,
очерчено явление метатонии.
А. Причины метатонии, по всей вероятности, в разных
случаях различны. Не имея возможности в настоящей работе
останавливаться на этом вопросе специально, мы покажем, что в
некоторых случаях это явление вызвано причиной фонетического
характера. Таким образом, термин „метатония", который
предполагает определенный круг явлений, применен здесь как сугубо
1 По крайней мере такова точка зрения, которой мы постоянно
придерживаемся.
2 Два последние корня (оставляем в стороне ésti, представляющее
другой случай) восходят к sëd-, stëg-, но перешли полностью в тип bég- по
аналогии с последним и даже образовали stogas и sodinti по образцу
boginti. Приняв по неизвестным причинам вокализм типа bég-, они приняли
также интонацию этого типа.
602
предварительный. Мы обозначим здесь этим термином любое
изменение интонации, причины которого нам еще не ясны, а
результат которого фактически предстает в настоящий момент в виде
чередования интонаций (характерного для определенных классов
форм, как и любые чередования); например: vëjas—pavëjuL koja —
pakôjui, saule — pasauliui, kâlnas — pakaîniui.
B. Метатония почти всюду, где она наблюдается, имеет одно
и то же направление для каждого морфологического образования,
а отнюдь не состоит в безразличном переходе от любой
интонации к противоположной. Так, имена действия на стяженные -ia-
требуют циркумфлексной интонации: следовательно, если
первичная интонация — акутовая, то имеет место ее изменение: bëgis
„бег" (ср. bëgti), szôkis „танец" (ср. szokti), lü2is „разлом" (ср,
litéti), dygis „росток" (ср. dygti) и т. д.; напротив, изменения
не произойдет, если первичная интонация — циркумфлексная:
smôgis „удар" (ср. smôgti), и т. д. Метатонические изменения
чаще всего происходят в направлении от акутовой к
циркумфлексной интонации. Метатония в направлении от
циркумфлексной к акутовой интонации — явление более редкое, менее
регулярное в каждом случае и, по-видимому, в принципе вообще менее
древнее, чем метатония в обратном направлении; примерами ее
могут служить некоторые отыменные глаголы на -inti: svéikinti
от sveïkas; gârbinti oTgarbë, вин. п. gafbç; liâupsinti от liaupsë,
вин. п. liaupsç и т. д. (наряду с trumpinti—trumpas и т. д., где
интонация не меняется), или девербальные глаголы на -ioti такие,
как vâlkioti, lândioti, rânkioti при veîka, lenda, renka (3-е лицо
презенса) и т. д.
C. Кроме образований на -ius, таких, как pudèus, kufpius,
3SUCZUS, при püdas, kurpê, qsütas и т. д., нет, по-видимому, ни
одного метатонического ряда, который был бы абсолютно
регулярным.
D. Есть ли такие морфологические образования, относительно
которых a priori можно утверждать, что метатония в них
невозможна?
Учитывая, что причины метатонии разнообразны и неизвестны
и что некоторые, даже самые простые „морфологические
образования" (например, имена женского рода, состоящие из корня + -б-)
содержат элементы и пласты разных эпох, по-видимому,
невозможно ответить на вопрос, поставленный в такой форме.
Мы должны довольствоваться только тем, что можем отметить,
к каким морфологическим образованиям следует относиться с
осторожностью.
В числе таких образований особенно обращают на себя
внимание (среди первичных классов) прилагательные на -us,
в сильнейшей степени подверженные циркумфлексной метатонии.
Например: meilùs, вин. п. meily, наречие meïliai, в
противоположность méilê „любовь", mêlas „любезный, милый". Когда
603
прилагательные на -us, несмотря на это, имеют акутовую
интонацию, как в lygus, sotus, то это—самое надежное из
возможных свидетельств в пользу исконности акута.
Конечно, встречаются определенные типы производных слов,
в которых никогда не наблюдается метатонии, например слова
на -tis, -czo, такие, как pân-tis, -czo, ram-tis, -czo, но они не
образуют лексических рядов, занимающих большое место (в общей
картине).
К счастью, почти все образования от первичных глаголов
в общем избежали метатонических влияний. Лишь в отдельных
частных классах (например, szylù, szllau, szilti; ср. прилаг.
sziîtas) ситуация меняется, и тогда мы снова сталкиваемся с
фактами подобного рода.
Примечание. В общем, действие закона stoti можно
датировать эпохой балто-славянского единства. (Конечно, множество
„балто-славянских" долгих на самом деле могут быть значительно
более древними). Например: obûlas „яблоко", слав, jabluko; moju,
(moti „манить", слав, manqti; местоимения kokio, tokio, jokio
род. п.), слав, kaku, takü, jaku; glostu, glosti „гладить", ср. слав,
gladükü; boba „баба", слав, baba; lova „кровать", слав, lava;
voverë, вин. п. voverç „белка", слав, vëverica; nugas „голый",
слав, nagu; usis „ясень", слав, jasïka; bëgti „бежать", слав, bèg-
n^i; szyvas „серый", слав, sivü; udra „выдра", слав, v-ydra; ukis
„хозяйство", ср. слав, v-yknçti „привыкнуть"1.
Интонация, как нам представляется, дает самый
решительный ответ на часто возникающий вопрос, являются ли pônas
„барин", dyvas „чудо" и ряд других слов заимствованиями из
славянских языков или они унаследованы из
балто-славянского. Если бы было верно последнее, они интонировались бы
иначе: pônas и т. д.
II. Рефлексы f, J, φ, Ç. Если бы этот вопрос случайно не
привлек к себе внимания лингвистов, нам бы менее всего пришло
в голову (из-за некоторых частных трудностей) использовать
именно этот случай для того, чтобы заранее раскрыть наши общие
соображения. Но при нынешнем состоянии дел, после всего того,
что было высказано в связи с этим, наша работа выглядела бы
не имеющей никакой четкой линии, если бы мы ограничились
простым изложением этой проблемы, без всяких комментариев.
В 1878 г. Фортунатов высказал совершенно новую и весьма
неожиданную мысль: он утверждал, что должна существовать
1 Даже без сравнения с родственными языками достаточно рассмотреть
собственно литовские имена, относительно которых можно поручиться за их
древность, чтобы обратить внимание на регулярность акутовой интонации для
долгих гласных: Vokëtis „немец", Prusas „прусс", Perkûnas „Перкунас (бог
грома)", в противоположность всем новообразованиям на r-ünas; а также
бесчисленное количество таких слов, как noras „желание", szQdas „экскременты",
которые, хотя и не имеют соответствий в других языках, могут претендовать
на относительную древность.
604
связь между некоторыми фактами индийского, греческого и
латинского языков, с одной стороны, и литовскими интонациями (или
„противопоставленными акцентами" (accents contraires)—с другой,
и что названные языки, несомненно, сами некогда обладали такими
специфическими интонационными различиями, какие характерны
для балтийского. Доказательством этого служил тот факт, что г в
санскритском регулярно давало ïr, ür в тех случаях, в каких в
литовском языке выступает акутовая интонация, например: pilnas,
скр. purnas „полный", но vilkas, скр. vrkas „волк" и т. д. Равным
образом в греческом мы находим -ρω-, в латинском—га- в
соответствии с тем же интонационным законом (см. „Archiv für slav.
Phil.", IV, стр. 586)i.
В этой гипотезе, которая в такой форме теперь уже никем
не разделяется, обращает на себя внимание одна деталь. Оба
противоположения: ür—г и ir — if (несмотря на то, что одно из
них является вокалическим, а другое—тоническим, одно
принадлежит санскриту, а другое—литовскому)—связываются в равной
степени с проблемой интонации. Из этого следует, что
источником последней необходимо считать индоевропейский
праязык.
Вскоре, однако, привлечение индоевропейского долгого J
принесло иное объяснение первому противоположению ür—Г и вообще
изменило соотношение вещей в очевидном для всех
направлении.
Теперь, как и прежде, бесспорно, остается нерешенной
проблема, связанная одновременно с обоими противоположениями:
скр. ür—гилит. ir—if. Но она сводится теперь целиком к вопросу
о индоевропейском противоположении f—г. По отношению к
последнему, если согласиться с тем, что отныне оно должно явиться
объектом изучения, взаимная значимость противоположений ür—г
и ir—if остается, вне всякого сомнения, в точности той же самой.
Ведь они являются продолжением, каждое в своем языке,
исходного противопоставления j—г и ценнейшим подтверждением его
существования.
И вот оказалось, что этого вполне достаточно... Об
интонациях, их значении, их распространении, их древности вопрос
больше не стоял, по крайней мере в связи с pilnas—viïkas (тогда как
в отношении других случаев были дозволены любые точки зрения,
1 Заслуга Фортунатова состоит также в том, что, ставя вопрос об
интонациях, он попутно открыл наличие соответствия скр. -ïr- греческому -ρω-
и латинскому -га-; существование этого соответствия мы доказывали тогда
же на основании совершенно иного принципа, который к тому же полностью
противостоит его теории. Выдающийся ученый сумел таким образом объединить
с другой точки зрения, нежели мы (ср. „Système des voyelles") [здесь стр.
539—540], звуки, восходящие к первоначальному г. Совпадение результатов
было отмечено им в „Archiv", Х1,стр. 570. Мы, со своей стороны, охотно
признаем независимость результатов, к которым он пришел, тем более, что даже
по времени они несколько предшествуют нашей публикации.
605
даже если они были в полном противоречии с тем, что нам дает
случай pilnas — viîkas). Desinit in piscem... *·. Раньше
существовала проблема и была предложена теория, базирующаяся на
интонациях: теперь достигнут результат в отношении группы ir,
группы, которая обладает в литовском свойством отражать
определенные индоевропейские факты в виде интонационных различий.
Почему же вопрос об интонациях должен перестать
существовать и как он может перестать существовать, после того как
нами были высказаны определенные соображения по поводу
противоположения ir—if?
Действительно, как только мы обращаемся к тому, что с этим
вопросом связано, и устраняем все то, что не имеет к нему
отношения, единственной точкой опоры, имеющей прямое
касательство к проблеме интонаций, оказывается литовское
противоположение ir—if, поскольку санскритское
противоположение ür — г, рассматривавшееся только что само по себе тоже как
факт интонации, больше таковым не является; даже сведенное
к своей индоевропейской форме г—г, оно не может больше
рассматриваться как факт интонации. (Разве что предположить,
что это J—г само порождено интонацией, как др.-инд. ür—г
порождено противоположением Г—г. Однако так никто не думает,
хотя уже давно существует глухая двусмысленность между
простым признанием того, что «существовало г», и формулировкой
определенной точки зрения на то, чем мотивировано это f. Между
тем такой вопрос, как этот, безусловно, необходимо решить,
поскольку лишь после того, как мы формально признаем, что F равно
г + о и что, следовательно, в своей основе отлично от г,
совершенно так же, как ä отличается от а или st—от s,— повторяю,
лишь с этого момента гипотеза интонации может считаться
логически исключенной).
Мы, таким образом, находимся, отвлекаясь от различий
(поскольку в отношении интонации мы не нашли более удачного
сравнения), примерно в положении человека, который, зная
индоевропейское противопоставление ä : а, изучал бы тембр
ионийского η:α с целью выяснить его происхождение. Ему бы не пришло
1 Здесь Соссюр цитирует часть следующего фрагмента из Горация:
«Humano capiti cervicem pictor equinam
Jüngere si velit et varias inducere plumas
Undique collatis membris ut turpiter artum
Desinat in piscem mulier formosa superne».
(A. Horati Flacci, Ars poetica.)
„Если бы женскую голову к шее коня живописец
Вздумал приставить и, разные члены собрав отовсюду,
Перьями их распестрил, чтоб прекрасная женщина сверху
Кончилась снизу уродливой рыбой..."
(Гораций, Наука поэзии.)
606
в голову утверждать на основании того, что это различие идет
от индоевропейского, что и само наличие тембра является фактом
индоевропейским.
Однако все это имеет весьма второстепенное значение.
Главное же заключается в том, что коль скоро интонация отвечает
хотя бы косвенно противоположению f—г, то это означает, что
мы впервые получаем данные о природе интересующего нас
явления. Оно тотчас перестает быть самодовлеющим фактом и
становится результатом. Но тогда вся проблема принимает другой
вид; ее приходится переформулировать в корне, ab ovo, и на
другой основе. Задача теперь заключается не в том, чтобы искать,
где только возможно, какие-либо следы, позволяющие
засвидетельствовать наличие интонации в более или менее отдаленном
прошлом. Задача теперь состоит исключительно в том, чтобы
тщательнейшим образом вскрыть причины этого явления, прежде
чем помышлять о каком бы то ни было его использовании. Таков
принцип, которым мы руководствуемся.
Между прочим, обращает на себя внимание то, что решение
проблемы pilnas—viîkas во всех ее видах определяется тем чисто
случайным обстоятельством, что речь здесь идет о различии в
звуках, которое в литовском языке перестало быть таковым: ir—if
отличаются только тоном, тогда как ό — а, например, различаются
и звуком и тоном. Но мы остановимся еще на этой существенной
причине ошибок, когда перейдем к обобщениям.
Из двух названных выше случаев возьмем только первый —
pilnas. Нас не может не поразить связь этого случая,
реальная или кажущаяся, с первым законом (о долгих
монофтонгических отрезках). Идентификация со случаем stoti
представляется, по меньшей мере, одним из возможных решений для.
ряда pilnas ( = *р-| \ |-nos). Упоминая об этом сейчас по ряду чисто
практических соображений, мы отнюдь не настаиваем на
очевидном характере случая pilnas и просим читателя воздержаться от
суждения по этому поводу до тех пор, пока не будут приведены
более убедительные соображения, после чего станет возможным
плодотворное обсуждение (см. VII). В дополнение к основным
примерам, приведенным Фортунатовым (pilnas, tiltas, ilgas, vilna,
miltai, pirmas, zirnis), отметим еще:
girti, прич. прош. вр. girtas "laudatus" = вед. gürtas, лат. grä-
tus, и.-e. *grtos.
girtas, прилаг. „пьяный" = греч. βρωτός; скр. gîrnas
„сожранный". Сюда относится также gurklys „зоб", вин. п. gùrkli
(„Deutsch-Lit. Wörterbuch", s. ν. „Kropf") и gùrksznis „глоток".
szirszû, szirszlys „шершень", лат. crâbro, первичная группа —
kfs-. Правда, Куршат приводит род. п. szifszlio, но он,
по-видимому, не знает этого слова, так как вин. п. мн. ч. szirszlius
в конце стиха в „Donalitius" (VII, 217), бесспорно, доказывает
акутовую интонацию.
607
spirtî „ударить ногой, пнуть". Скр. sphür- отсутствует лишь
случайно: это должна была бы быть форма „перед согласным",
соответствующая sphurati „он пинает". Вин. п. вед. apa-sphur-am.
(Сильная форма в аористе—spharî-s).
pilkas „серый" предполагает косвенно выводимую форму
*plk2-; скр. paliknï (м. p. palitas) могло иметь в слабой форме
только I долгое.
irklas „весло", irti „грести" предполагает косвенно выводимую
форму *р-, которая является регулярным слабым состоянием
группы, содержащейся в ερέ-της, έρε-τμός, или в скр. ari-tram, или
в герм. *го}эга, röjan.
girna „жернов" содержит группу *g2f-, регулярную слабую
форму от g2rä-, вед. grä-van „жернов для выжимания сомы".
По чистой случайности мы обладаем почти исключительно
примерами, подобными последнему, для доказательства того, что
в литовском языке дело обстоит в отношении первичных rp, О
точно так же, как и в отношении первичных Г, I. Таким образом,
необходимо признать не только сам факт существования этих
звуков, но и определенную теорию их происхождения,
позволяющую предсказывать их наличие по некоторым сильным формам.
pa-2intas „знакомый", pa-2istu = pa-2instu „я знаю (кого-либо)",
представляющие слабую форму и.-е. gxnö- или gxenö-, в обоих
случаях обязательно должны были содержать п долгое, которое
до сих пор было засвидетельствовано только в лат. gnâ-rus и скр.
gä-nämi (форма, возникшая по аналогии с *gätas).
timsras „темно-коричневый" содержит слабую форму *tmsro-
от и.-е. *temösro-, известного как существительное по скр. tami-
srä-, лат. tenebrae, и как прилагательное по др.-в.-нем. fin-
star.
dùmtiг „дуть" находится в таком же отношении к скр. dhmä-,
в каком лит. Sinti—к скр. griä-. Причастие dùmtas = *dhrp-tos,
скр. *dhäntas, замененному затем dhmätas; но слабая форма
встречается в самом санскрите2.
intê „жена брата"—скр. yätä „жена брата". К сожалению^
поскольку Куршат приводит это слово по материалам Ширвида
и Нессельмана, мы не знаем, насколько можно быть уверенным
в интонации, которую он этому слову приписывает.
III. Отрезки, существовавшие изначально3 и первоначально
1 В литовском иногда наблюдаются ur, ul, um, un вместо ir, il, im, in
(см. „Mém. de la Soc. de ling.", VII, стр. 93; Fortunatov, „Archiv", XI,
стр. 570). Появление этого и не связано ни с J J φ ç долгими, ни с г \ m п
краткими. Если допустить, что оно характерно лишь для первых, то°по
сравнению с интонациями этот факт слишком незначителен. Настоящее
замечание касается построений г-на Бецценбергера (см. ниже).
2 Читаем в Märkarnjeya Pur., 39, 11, изд. Banerjea: yathâ parvatadhätünäm
doçâ dahyantidhämyatärn (ср., напр.: Manu, I, 70: dahyantë dhmâyamânânâm
dhätünärh maläh).
3 Настоящее условие, очень важное для других случаев, не обязательно
в применении к этим гласным.
608
представлявшие собой краткие монофтонги, в литовском всегда
имеют циркумфлексную интонацию.
Ничего подобного, скажем прямо, нельзя вывести из того,
что говорит Куршат о четырех литовских гласных а, е, i, ü.
Куршат, прежде всего, строго отграничивает а, е от i, ü и
утверждает, что i, й вообще лишены интонации.
Дело в том, что последние, согласно Куршату,
характеризуются краткостью, и это свойство является у них постоянным.
Поскольку понятие краткого отрезка синонимично понятию неин-
тонируемого отрезка \ постольку вопроса об интонации здесь
не возникает; попадая под ударение, эти гласные, и только они,
должны получить знак нейтрального ударения — гравис: i, ù
(не считая таких исключений, как plàkti, mèsti).
В свою очередь, а, е являются, в отличие от i, й, отрезками
долгими и, следовательно, интонируемыми, но это только в том
случае, когда они находятся в ударном положении (пакЦ, mëdy).
Безударные а, е, например в naktis, medùs, объявляются
краткими; из этого мы должны заключить, что они не имеют
интонации.
Куршат не делает никаких оговорок относительно характера
интонации а, е и, таким образом, дает право считать, что эти
гласные, являясь долгими, могут быть акутовыми или цир-
кумфлексными, как и долгие.
В этой системе, если она отражает реальное состояние, нас
удовлетворяет только одно, а именно то, что древние краткие,
независимо от того, являются они ныне долгими или краткими,
сохраняют, однако, общий для них отличительный признак: они
никогда не бывают постоянно долгими, каковыми
являются о, é, û, у, ü. Кроме этого пункта, все здесь аномально и
странно.
Древние краткие образуют как будто бы два класса,
коренным образом отличающиеся один от другого.
Один из этих классов, кроме того, занимает как будто
исключительное положение в системе гласных (i, и единственные
[внутренние] гласные, лишенные интонации).
Другой класс столь же необычен, поскольку а и е являются
единственными во всей системе гласных звуками с
изменяющимся количеством, которое влечет за собой чередование
интонации.
Наконец, последняя загадка: известно, что в определенном
ряду форм по непонятной причине а, е остаются краткими (и
следовательно, неинтонируемыми) даже под ударением: plàkti,
nèszti, mànas, tàvas и т. д.
1 Остается еще выяснить, какие звуки Куршат называет краткими. Не
все звуки, которые являются краткими (quantité minor) в его
двухступенчатой шкале, будут краткими (quantité minima) в трехступенчатой шкале
Барановского.
20 ф. де Соссюр
609
Все эти трудности исчезают, если считать правильной rioßyiö
систему количества литовских гласных, предложенную
Барановским в том виде, в каком она изложена Гуго Вебером
(„Ostlitauische Texte", I, Weimar, 1882). Поскольку эта система
составлена без всяких предвзятых соображений о
происхождении звуков и основана единственно на опыте и наблюдении над
живым языком, она не вызывает никаких сомнений.
Вместо двух ступеней количества Барановский различает
три: v^ww (долгая), \*j (средняя или полудолгая), ^ (краткая).
Внутри слова могут находиться только долгие
и полу долгие1. Долгими являются, кроме дифтонгов, отрезки
о, ê, и, у, й, то есть древние долгие. Полудолгими являются
отрезки а, е, i, и (ударные и безударные), то есть древние
краткие. Итак, эти последние, перестав быть сравнимыми с древним
долгим, тем самым вновь обретают внутреннюю симметрию.
Прибавим для полноты картины, хотя нас интересуют только
внутренние слоги,
1) что краткий гласный Барановского, являющийся точкой
отсчета, без которой вся шкала повисает в воздухе, может быть
обнаружен, как следует из сказанного выше, лишь в
конечном слоге. Он обнаруживается, например, в формах piktäs,
kupczus, оба отрезка которых, согласно Куршату, имеют
одинаковое количество, а согласно Барановскому, равны w^-f^.
В конечном слоге всякое первичное а ё ï и (и кроме того, а, е, ï, й,
вытекающее из закона Лескина) дает в собственном смысле
слова краткий <->, в отличие от того, что происходит внутри слова.
2) Первичные долгие гласные в конечном слоге (разумеется,
если они не попадают под действие закона Лескина) дают
полудолгие, опять-таки в отличие от того, что имеет место внутри
слова. Например, два о в генитиве oszkôs равны s^w-fw. Таким
образом, древний долгий гласный в конечном слоге и древний
краткий во внутреннем слоге имеют одинаковое количество:
род. п. visztos, vw-f-^^.
Теперь, когда восстановлен количественный параллелизм между
i, и и а, е во внутренних слогах, впервые может ставиться
вопрос о параллелизме этих звуков также с точки зрения инто-
1 Необходимость различать слоги внутренние и конечные (без чего вся
система просто непонятна) не отмечена ни одним словом в изложении
Beбера; она обнаруживается лишь при изучении текста, в котором
Барановский расставил ударение. Поэтому, если некоторые детали, оставшиеся
неосвещенными, изложены здесь, возможно, с излишней строгостью, нас, я
думаю, можно извинить. Так, недомолвки, которые встречаются на
странице XVII, мешают, признаюсь, ясно понять, действительно ли ни один
краткий звук не появляется во внутренних слогах.— Я имею в виду
нормальный литовский, описываемый Барановским; но поскольку мы не нашли
ни одного из этих звуков под ударением (иными словами, i, ù, à, è
встречаются только в конечном положении), понять мысль авторов можно именно
так. Кроме того, даже безударные а, е, i, и во внутренних слогах нигде не
помечены знаком краткости.
610
нации. Такой параллелизм действительно устанавливается,
причем двумя путями:
1) Все четыре гласных теперь интонируемы, поскольку
никогда не бывают краткими.
2) Всем четырем свойственна, согласно Барановскому,
исключительно циркумфлексная интонация: kâras, gyvêna, vëda и т. д.;
точно так же: lîzdas, augîna, dükteri, suka и т. д.
Следовательно, все внутренние ί, и Куршата нужно заменить
на ι, и (равные ^)1. Напротив, в орфографии a, е ничего не
нужно менять, так как они уже у Куршата имеют интонацию
и правильно помечены знаком циркумфлексного
тона. Как эта обособленность a и е ни разу не обратила на себя
внимание человека, открывшего в литовском языке интонации?
Это можно объяснить лишь тем, что у Куршата правило
нарушается исключениями двух видов, которых не знает система
Барановского (в данном пункте обнаруживается характерное
расхождение между этими двумя системами):
1) Исключения, относящиеся к количеству (и тем самым
неизбежно и к интонации): группа plàkti, mèsti. У Барановского:
plâkti, mësti и т. д., не отличающиеся для него от 3-го лица
презенса plâka, meta.
2) Исключения, относящиеся непосредственно к интонации.
Куршат допускает, хотя и редко, акутированные a, e, например
в заимствованном слове paslas „посол", Барановский — ни в одном
из случаев, отсюда pâslas.
Если бы мы ставили здесь своей, целью последовательное
описание [литовских] вокализма и интонации, каждый из этих
пунктов (1 и 2) нужно было бы рассмотреть отдельно. Конечно,
не следует в целом противопоставлять систему Барановского
системе Куршата. К этому надо добавить еще одно соображение,
без учета которого противоречие между двумя грамматистами
может показаться более неразрешимым, чем это есть на самом
деле: один из них основывается на определенном диалекте —
классическом литовском языке Пруссии, другой не скрывает, что
qh рисует картину состояния, приближающегося к идеальной
норме, от которой многие диалекты отклоняются и которой,
можно смело утверждать, ни один из них не отвечает полностью.
Хотелось бы узнать подробнее о том, как было выведено это
среднее междиалектное состояние. Однако в том виде, в каком
она существует, система Барановского проливает столь яркий
свет на литовский вокализм, что уже по одной этой причине
невозможно было бы считать ее неправильной в своей основе;
кроме того, в теории акцентуации есть один точный факт, кото-
1 Можно на практике сохранить орфографию Куршата. Она не
представляет неудобств, если оговорить, что всякое внутреннее i, ù следует читать
Î, й, и имеет, напротив, то преимущество, что делает невозможным смешение
долгого (bödas) и среднего (butas, у Барановского —butas).
20*
611
рый подтверждает эту систему, по крайней мере в своем
основном пункте, который касается значимостей (valeurs),
приписываемых i, и. Мы вернемся к этому в дальнейшем (см.
Акцентуация *).
Благодаря свидетельству Барановского было выяснено очень
важное обстоятельство, которое требовалось установить на
основании фактов: тождество и единообразие интонаций класса а,
ё, ι, и. Мы имеем право в дальнейшем интерпретировать этот
факт по-своему, изолировав его от всего, что его окружает и
меняет его смысл у Барановского — Вебера. Согласно этим
авторам, интонация а, е, i, и обусловлена совершенно особой
причиной; в обзорной главе мы изложим свое мнение по поводу
ценности этой теоретической части их учения.
В заключение отметим, хотя это и представляется очевидным,
что количество v^ у гласных а, е, i, и обязательно должно
относиться к тому же времени, что и сама интонация: никогда
не могло быть интонации, то есть различия между морами (temps)
слога, в слогах, состоящих из одной моры, и, следовательно,
было бы абсурдом датировать интонацию à, ë, ï, и той эпохой,
когда эти гласные были еще краткими. Вывод из этого состоит
не в том, что интонация появилась недавно, а, напротив, в том,
что это количество очень древнее**.
IV. Когда отрезки ir il восходят к г 1, они обнаруживают
циркумфлексную интонацию: miftas, viîkas.
Это — вторая часть наблюдений, сделанных Фортунатовым при
рассмотрении указанных групп (см. выше, стр. 604—605).
Мы, естественно, сближаем ряды долгих ir, il, im, in и ό,
ë, ü, у, u; подобное сближение еще более оправданно, когда мы
обнаруживаем наличие согласованности и у двух рядов кратких:
if, il, im, in — ä, ë, ï, u. Мы, однако, повременим, как это мы
сделали в первом случае, с оценкой значимости данной
корреляции.
К таким примерам Фортунатова, как viîkas = скр. vrkas,
причастия прошедшего времени miftas, vifstas, kifstas ==скр. mrtas,
vrttas, krttas, можно добавить: ketviftas „четвертый", греч. τέταρτος,
kirmélë, вин. п. kifmélç „червь", скр. krmis.
Прилагательное tifsztas „вязкий, густой"= лат. to(r)stus, скр.
trsitas.
* Данная часть, которая не была написана Ф. де Соссюром, должна
была, по-видимому, содержать закон де Соссюра, и настоящая ссылка,
очевидно, указывает на одинаковое поведение краткостного и циркумфлексного
ударений перед актированным слогом.— Прим. ред.
** Все предшествующее рассуждение Ф. де Соссюра основано на
представлении о равноправии интонаций в системе. Соссюр не учитывает того
обстоятельства, что маркированным членом оппозиции циркумфлекс —акут
является акут, а циркумфлекс и краткостное ударение объединяет уже сам
факт их неотмеченности. Однако во времена Ф. де Соссюра эта особенность
в соотношении членов оппозиции не была еще открыта.— Прим. ред.
612
Virszùs, вин. п. vifszy „верх" имело бы соотносительное с ним
скр. vrs-, если бы мы располагали слабой формой от varsman
"вершина", varsisthas "summus" („высочайший, верхний").
vifbas „хворостина, прут", ср. греч. ράβδος.
pifsztas „палец", ср. скр. sprstas „тронутый".
pifsztas (от perszù „свататься, делать предложение") = скр.
prstas "rogatus". Ср. pirszlys, вин. п. pifszlt
mifsztas (uz-mirsztù, uz-mifszti „забыть") = скр. pra-mrstas
„забытый".
difztas (ap-dirsztù, ap-difzti „твердеть") = скр. drdhas
„крепкий, прочный, жесткий".
Прусск. tîrts, вин. п. tîrtian „третий" в литовском выглядело
бы как tirczas=cKp. trtïyas. (Мы считаем несомненным тот факт,
на который указывает Фортунатов, то есть тот факт, что
прусские дифтонги из текста Катехизиса со знаком циркумфлекса на
первом элементе есть не что иное, как дифтонги с циркумфлекс-
ной интонацией).
Примечательное исключение составляет szirdis, вин. п. szirdi,
при скр. hrd-, греч. κραδ-. Но прусское sïran, seyr доказывает,
что это слово имело раньше и чередующуюся форму *szer- = *Yip
(MSL, VII, стр. 79), которая должна была по норме иметь
интонацию szër-. В литовском же ярко выражена тенденция
к унификации различных интонаций у одного корня (см. ниже).
Так, в слове vândû „вода" интонация объясняется лишь
наличием в прошлом конкурирующей формы üd-en- (Odra „выдра").
Носовые не имели тех особенностей, которые привлекли к
г, \ внимание Фортунатова: санскритская оппозиция mrtas —
pürnas с первого взгляда не имела аналогии в ряду matas;
однако n, m ведут себя так же, как краткие плавные:
szimtas „сто", греч. εκατόν и т. д.
septintas, devintas, deszirntas „седьмой, девятый, десятый". Даже
без прямого сравнения с δέκατος, εενατος здесь можно предполагать
только краткий носовой.
tinklas „сеть"—слабая форма, соответствующая скр. tantram
„нить"; ср. ta-tas, τατός.
ginklas „оружие" — слабая форма, также соответствующая
скр. hâtas, греч. -φατος. Сюда же относятся: ginczas „спор" и
[genu, giniau] ginti „гнать" (например, скот).
pa-minklas „памятник", ср. скр. ma-tas, греч. μέματον. Глагол
[àt-menu] at-minti „помнить".
Глагол [imù] imti, соответствующий, по-видимому, скр. yam-,
прич. прош. вр. yatas, и, во всяком случае, лат. emptus, которое,,
противопоставляясь domitus, vomitus, предполагает корень (j)em-
(односложный) и, следовательно, слабую форму (j)m-с m кратким.
Кажущееся исключение, представленное формой rimti (скр.
ram- „остановиться на отдых", прич. прош. вр. ra-tas), могло бы
иметь значение лишь в том случае, если бы формой презенса было
613
'remiT. Это положение станет более ясным, если мы сможем
впоследствии изложить некоторые идеи, относящиеся
одновременно и к интонации и к общей системе литовского
глагола. Отметим только по этому поводу, что презенс mirszta
„он умирает" (несмотря на наличие формы mifti и скр. mrtas)
обязан своей акутовой интонацией тем же обстоятельствам,
благодаря которым мы имеем rimsta (и инф. rimti) вместо rifnsta
(rifnti)1.
V. Если все условия остаются такими же, как и в случае
st-|o|-ti (I), но исходный отрезок — дифтонг, а не монофтонг, то
интонация регулярно является циркумфлексной (от случаев
метатонии мы, как всегда, отвлекаемся). Таким образом, *р-|en|-
ktos „пятый" не может дать в литовском ничего другого, кроме
p-|en|-ktas с указанной интонацией.
Под дифтонгами мы понимаем отрезки с кратким первым
элементом, то есть обычный тип -|er|-, -|ei|-, -]δη|-. Такие, очень
редкие первичные дифтонги, как -|ër[-, -|êi|-, останутся за пределами
нашего исследования.
1. Исходная единица, соответствующая современному
интонационному отрезку, должна быть, как мы видели это в случае
stoti, достаточно древней—индоевропейской или близкой к ней.
Следовательно, дифтонги, представленные в словах, возраст
которых неясен, нами здесь исключаются из рассмотрения, подобно
-|о|-, -|у|- и т. д., которые встречаются в словах такого же типа.
2. Необходимо также, чтобы эта индоевропейская единица
представляла собой не что иное, как единый отрезок и притом
долгий, как в случае stoti.
Из наблюдений над монофтонгами последнее замечание
возникнуть не могло, так как все они имеют одинаковое
происхождение, а именно—восходят к древним монофтонгам (не считая
нескольких случаев стяжения). Напротив, случай, когда дифтонг
соответствует старому дифтонгу, является лишь одним из
многих, которые могут встретиться в этом втором виде отрезков.
Только этот случай мы здесь и рассматриваем. Всякий пример
типа нижеприведенных, будет ли там интонация
циркумфлексной или акутовой, имеет ли он в самом деле отношение к
настоящему закону или нет—в любом случае не имеет отношения
к той формулировке, которую мы ему здесь дали.
m-|al|-dà „молитва", если оно восходит к *m-|a|-dlà (прусск.
mad-dla);
1 К этому ряду нужно еще добавить [gemù] gimti. Причастие girntas
„рожденный"=скр. ga-tas „шедший". На мотивировку здесь этого сближения
потребовалось бы слишком много времени. К двум обстоятельствам,
мешающим сопоставлению балт. gem- и скр. gani- „порождать" (g2 вместо gx и m
вместо п), прибавилось третье — интонация. Но всем этим трем условиям
удовлетворяет сопоставление ς и.-е. *g2mtos „шедший"*
614
d-|er|-và „смолистая древесийа", если оно восходит к *de-ruä;
kr-|aâ|-jas „кровь", если оно восходит к kra-wïos;
g-|èr|-ti „пить", и.-е. *g-erö-ti;
|él|-nis „олень", восходящее к *êle-nis, слав, jelenï;
savv-|âl j-ninkas, восходящее к *savvälininkas, и т. д.
Примеры, соответствующие закону:
И.-е. *ont(e)ros- „другой": лит. antras „второй".
И.-е. *dont „зуб": лит. dantis, вин. п. dantt
Европ. *onk1o-s (δγκος, лат. uncus): лит. v-fszas „дужка (котла)"
(равное v-anszas).
Европ. *ansä (лат. ansa „ручка"): лит. ^sà, вин. п. §sq
(равное ansq).
И.-е. *g1hans- „гусь": лит. ±qsis, вин. п. ï%s\ (равное zansi).
И.-е. *penk2e- „пять": лит. penki, ж. p. penkios. Порядковое
penktas—πέμπτος.
Скр. manthä-s „лопатка для сбивания жидкости": лит. mente,
с тем же значением1.
И.-е. *bhendh- (πενθερός, скр. bandhus и т. д.): лит. bendras
„общий".
И.-е. *leng2h- (вед. ramhas- „скорость"; глагол rartihatë и
другие сильные формы, родственные raghu-s): лит. lengvas „легкий4'.
Скр. parna-m „крыло": лит. spafnas.
Европ. *porkxo-s „свинья": лит. parszas.
Европ. *ghordho-s, *ghordhi-s „ограда, огороженное место"
(гот. gard(i)-s, и т. д.): лит. gardas „загон"; ср. Mardis „огорожа
для жеребят, телят".
Европ. *b(h)ardhä „борода": лит. barzdà, вин. п. bafzdq.
И.-е. *olg2ho-, скр. argha-m „цена": лит. algà, вин. п. aîg4
„жалование". Скр. глагол arhati „заслуживать": лит. eîgti-s
„поступать, вести себя" (—„заслуживать").
Европ. *ous- „ухо": лит. ausis, вин. п. aüst
Скр. cröni-s „clünis", лит. szlaunys (мн. ч.).
И.-е. *louk2o-s(cKp. löka-s, лат. lücus, др.-в.-нем. lôh- „поляна"):
laukas „поле".
Греч, λευκός: лит. laukas „с белым пятном на лбу (о лошади,
быке)".
И.-е. *sousos, *seusos; или *sausos (скр. ços-, греч. αυστηρός,
<χυω, др.-в.-нем. sôr): лит. saSsas-„cyxoft".
И.-е. *bheudh-, *bhoudh- (для значения ср. скр. bödhayati
„делать выговор", др.-в.-нем. gi-biotan „командовать"): лит. bausti,
3-е л. презенса baud2a „наказывать".
И.-е. *poikto-s (ποικίλος, скр. pêças- и т. д.): лит. paîszas
„пятно сажи".
1 é в mente можно считать идентичным â в manthä-s. Поэтому
интонация здесь показательна. Класс на -è стяженное очень подвержен метатонии.
615
H.-eL *woik1o-s и т. д.: лит. vësz-pats, vësz-kelis; 3-е л. пре-
зенса vëszia „пользуется гостеприимством".
И.-е. *deiwos „бог": лит. dëvas; deivë, вин. п. deîvç.
Греч, χειμών, χείμα, скр. hëmanta-s: лит. zëmà, вин. п. 2ёпц.
И.-е. *eisjo „ibo", eiti „it": лит. eîsiu, eîti и т. д. _
И.-е. *leig2h- „лизать" (λείχω, скр. lëhmi): лит. lëiia, lëiti,
фреквентатив laîio.
Родительный^падеж мн. ч. dwoijöm (гот. twaddjê, др.-в.-нем.
zweiio): лит. dvejü1.
Менее ясным может представиться тот случай, когда форма
с дифтонгом чередуется в языке со словами того же гнезда,
которые имеют другой вокализм (и, следовательно, подчиняются
1 Нижеследующие примеры оставляют желать лучшего — либо потому,
что этимология в ряде случаев сомнительна, либо потому, что не всегда
бесспорен первоначальный фонетический состав. Они обладают все же тем
достоинством, что свидетельствует о господстве одной и той же интонации (цир-
кумфлексной) в массе случаев, где вероятен первоначальный дифтонг.
Скр. angäras „уголь": лит. anglis, вин. п. anglj. Европ. angh- (αγχω, лат.
ango): лит. anksztas „узкий".—Лат. angvis : лит. angis, вин. п. angj-. — И.-е.
onk2-î сильная форма может быть восстановлена по вед. aktu-bhis „ночью":
лит. anksti, isz afiksto „заранее". — Греч, γόμφος, скр. gambha-s, др.-в.-нем.
kamb „расческа, гребень (у петуха), конек (крыши)" : лит. zambas „угол,
образованный сторонами балки" (Куршат записывает также zambas). Греч,
κάμπτω : лит. kampas „угол" (?)—Скр. bhanga-s „взлом, разрыв" и „волна":
лит. bangà, вин. п. bafigç „волна" (?) — Вед. ça-çvant- „вечный, регулярно и
неизменно возвращающийся": лит. szventas „святой, священный" (Noreen,
Urgerm. Judlära, стр. 118). — Греч, φέμβομαι „двигаться по кругу": лит.
rengti-s „сгибаться, нагибаться". — Греч, ορχις, εν-ορχος: лит. efzilas
„жеребец".— И.-е. *wers-, ср. лат. verres, сильная форма скр. vr?-an-: лит. vefszis,
-io „теленок" (малодоказательно из-за метатонии, обычной у основ этого
класса). — Герм. *hirdia „пастух": лит. kefdzus (малодоказательное по той
же причине).—Скр. tarp- „насытиться": лит. tafpti „процветать".—Скр.
sparç „трогать": лит. pefszt „dolet, зудеть, саднить". — И.-е. *kor-t —
сильная форма скр. krtvas „раз": лит. kaftas „раз", которое, однако, может
быть связано просто с kertù. — Крит, βριτό-μαρτις „virgo dulcis": лит. martî,
вин. п. mafcz^. — Греч, θέλγω „очаровывать взглядом": лит. zveïgti
„смотреть".—Скр. alpas „маленький, слабый": лит. aîpti „падать в обморок,
лишаться чувств". — Скр. pôta-s „маленький (о животном)": лит. paütas
„яйцо". — Лат. aurora: лит. auszta „светает"; auszrà, вин. п. auszr<| „заря".—
Скр. çodatë „грустить, быть в трауре": лит. szaükti „кричать" (сравнение
было бы более точным, если бы можно было дополнить его готским hiufan
„жаловаться", но f или χ\ν вместо k2 после и представляется недопустимым).—
Европ. *dreugh-, гот. driugan, drugun : лит. draûgas „товарищ". — Европ.
*kouko-, др.-в.-нем. houg „холм": лит. kaukarà, им. п. мн. ч. kaükaros, так
интонированное у Куршата (N. Test, Luc. 3, 5; 23, 30). —И.-е. *koupo-,
*koubo- „куча, горка", зенд. kaofa, англосакс, heap : лит. kaüpas. — Европ.
*dheus- „дышать", гот. dius „животное": лит. daCisos „воздух, атмосфера".—
Европ. *dheubo-, гот. diups „глубокий": лит. daubà, вин. п. daûbéj „овраг"
(того же корня, с отрезком -|um|-, durn-blas „ил"=др.-в.-нем. tumphilo
„углубление, пропасть").—И.-е. '"meikx- „мешать, смешивать", ср. греч. μειξικλεους,
σύμμεικτος : лит. maïsztas „бунт", глагол maïszo. — Европ. *moino- „обмен":
лит. mainas. —Греч, αιχμή: лит. jeszmas „вертел(?)" — Греч, φαιδρός: лит.
gëdrà, вин. п. gedr^ „вёдро" (Fick). — Европ. *koimo-, гот. haims: лит. kemas
„двор; деревня".—И.-е. *poitu-, сильная форма скр. pïtu-s „пища, еда", зенд.
arem-pitu- „полдень": лит. petüs „обед; юг", —И.-е. *(s)k2eit-, *(s)k2oit- „paç-
616
другому правилу, даже если они имеют такую же интонацию,
какую имеет эта форма с дифтонгом); этот случай менее ясен
потому, что здесь могло проявиться аналогическое влияние,
которое, несомненно, нужно и здесь и там учитывать. Но здесь
существенно заметить, что последнее предположение ни в одном
случае не оказывается необходимым.
vert- или vaft- в vefcza, vefsti „переворачивать", фрекв. vafto,
могли, бесспорно, получить свою интонацию от vift- = vrt-,
содержащегося в vifsta, vifsti. Но у нас нет никаких
доказательств, что дело обстоит именно так. Естественное развитие
первичного *wert-, *wort- (скр. vartati) должно было дать именно
vert-, vaft-. Под этим же углом зрения рассматриваются:
keft-a „он рубит", kart-à, вин. п. kaft-q „слой, ряд, пласт",
интонация которых выводится не из kifstas, но (совершенно
независимо от любой формы типа kifstas) из и.-е. *kert-, скр. kart-
ana-m „резка, рубка".
vef2-ia „он сжимает", греч. έργω (независимо от форм,
содержащих viré-).
verb-à, вин. п. vefb-q „ветвь", лат. verbena (нет
необходимости сравнивать с vifbas (см. выше, стр. 612)).
veîk-a „он тащит, волочит", греч. έλκω (без учета интонации
формы vilktas „тот, которого тащат").
lend-a „он лезет", скр. randh-ra-m „дыра, тайник, логовище"
(независимо от прет. Undo, инф. ljsti).
2eng-ia, 2eng-ti „шагать", скр. ganghâ „нога", вед. gambas-
„дорога, путь" (рядом с которыми существуют формы 2ing-, Zingsnis).
tes-ia, tes-ti „тянуть", скр. tarhsati „трясти", ср., кстати, гот.
f>insan „тянуть" (все это независимо от tjs-, содержащегося
в tjsta, tjsti „тянуться, растягиваться").
refn-ti, rem-siu „подпирать", скр. rantum, rarhsyate „отдыхать".
(Здесь формы, содержащие rim-, имеют, впрочем, другую
интонацию: глагол rimstu „успокаиваться"; см. выше, стр. 613—614).
mf-sto, то есть man-sto „он думает, размышляет" (инф. mqstyti);
pa-menklas„памятник"(„Anyksz. Szil.", стр. 139), ср. скр. mantra-s,
греч. Μέντωρ и т. д. (этот случай независим OTminti, paminklas).—
Форма pamenklas могла бы показаться сомнительной, если бы
она была засвидетельствована только Барановским (который из-за
особенностей своего родного диалекта не мог различить paminklas
и pamenklas), но я встречал ее в жемайтских текстах, и,
поскольку существование формы достоверно, нет причин предполагать,
что интонация, которую ей приписывает Барановский, неверна.
познавать", скр. éi-kët-ti „он распознает", cët-as „понимание", kêt-u-s „флаг,
отличите ль ный знак", герм. *haidu- „отличие, ранг, класс, лицо": лит.
skaîto, 3-е л. презенса „читать" и „считать". И.-е. *k2eit-, возможно,
идентичное предыдущему (скр. cit-ra-s „разноцветный, разнообразный"): лит.
keïs-ti „менять" (kitas „другой").-—И.-е. *dei-no-, dï-no- „день": лит. dënà,
вин. п. dëmj.
617
sneg-as „снег", snaïg-ûlê „снежинка", snaîg-o—фреквентативный
глагол. Интонация такая же, как в sninga „идет снег" и как
в snigo, snigti (читать snîge, snïgti). Она объясняется в sninga
тем же законом, что и snëgas (ем. стр. 618), а в snîgo—действием
совсем другого закона (стр. 609—610). Существенно то, что ни
sning-, ни snïg- не объясняют и не подтверждают snëg-. Для
объяснения последнего имеет значение только
одно—первичная форма *snoigh-v.
szvët-, szvës-ti, 3-е л. през. szvëcza „светить", ср. скр. çvët-atë;
нет необходимости опять-таки связывать это с формами szvinta
или szvito (szvîto).
lëk-ti „он остается", laîk-o „он оставляет, держит", laïk-as
„время"; ср. и.-е. *leik2-, *loik2- (λείπω); формы lïko, lîkti (liko,
likti) к этому не причастны.
peïk-ti „порицать, хулить", paîk-as „плохого характера,
тяжелого характера, глупый", ср. и.-е. *peik-, *poik- (сильная форма
от πικρός; др.-в.-нем. fêh „враг"). Для интонации нет
необходимости устанавливать связь с pïktas (piktas) „плохой, злой".
veîk-ti „perficere vel efficere" „работать, добиться результата"
(îveïk-ti очень часто имеет значение „побеждать"), vaîk-as „ребенок",
собственно, „результат", ср. первичное *weik-, *woik- (сильная
форма от лат. per-vïcax, содержащегося в vïcï или в гот. weihan
„сражаться"); это отношение только затемнилось бы привлечением
vïk-, yikrùs „проворный".
szlë-ti, 3-е л. през. szle-ja „наклоняться, быть наклонным",
szlaï-tas „склон", ср. и.-е. *k1lei-, *k1loi- „наклонять"; вне всякого
отношения к szli- в su-szlijçs и т. д.
klaus-o „он слушает", ср. и.-е. k^eus-, скр. çrôs-ate (точно
объясняемое слабой формой çrus-ti-s), причем нет необходимости
привлекать klus- в pa-klusnùs. Интонация формы klâusiu „я
спрашиваю"— это одна из проблем, к решению которой мы не нашли
ключа.
praus-ti „мыть лицо, умываться"; ср. и.-е. *preus—сильная
форма от скр. prusati „кропить, орошать, заливать", не нужно
связывать с prüs- в prusnà „морда коровы" (та часть головы, которая
погружается в воду при питье).
К этим примерам добавляются, в частности:
1)Слог -ant- причастия, имеющий циркумфлексную интонацию.
Убедиться в этом непосредственно нельзя, так как в
именительном (nesz|s, и т. д.) этот слог, являясь конечным, не находится
больше в обычных условиях, а в остальной парадигме он никогда
не встречается под ударением: nëszanti и т. д. Но из закона,
излагаемого ниже (Акцентуация *), следует, что ударение не могло
бы падать на пё-, если бы следующий слог был актированным.
* Эта часть должна была содержать закон Ф. де Соссюра, доказательство
которого дается во второй статье. Ср. сноску 5 на .стр. 584.— Прим. ред,
618
2) Дифтонг в формах презенса, имеющих носовой в инфиксе:
l-|ifn|-pa =скр. limpati; sn-|in|-ga -= лат. ningvit, pa-b-|un|-da, ср.
πυνΟάνομαι. Это дифтонг индоевропейского происхождения1. Его
форма была постоянной независимо от того, в какой глагол он
входил, и в литовском он имеет одинаковую интонацию в составе
любого глагола. Упомянутые формы презенса являют собой один
из примечательных случаев, где, в виде исключения, i + n, u + n,
r + n, находясь в одном слоге, давали в индоевропейском
праязыке in un и т. д. (а не jn, wn и т. д.); благодаря этому факту
мы имеем здесь почти единственную возможность установить, что,
как и следовало ожидать, закон применяется к первичным in,
un так же, как и к on, en и т. д.
Противоречащие случаи. Есть две категории форм,
которые не попадают под действие этого закона:
1. Формы, которые, по всей видимости, всегда содержали только
дифтонг, но древность которых вызывает сомнение (lângas „окно",
vârpa „колос", lëpa „липа" и т. д.).
2. Формы очень древние, но в отношении которых нельзя
доказать, что они всегда содержали дифтонг.
Вопрос же об·исключениях из данного закона в каком бы то
ни было смысле может стоять лишь в отношении тех слов,
которые не входят ни в один из этих двух классов. С учетом этого
мы имеем около 15 случаев, таких, как v-ënas „один" (*oinos);
véidas,véizdmi„видеть"; mêlas, rnéilê„любовь"(ср. μειλίχιος); jëszkau
„ищу" (др.-в.-нем. eiscôn); mëèiu, mëszlas „навоз" (и.-е. *meigh-;
ср. mpa mingit, основанное, как и латинское, на 2-й форме
*mengh- с регулярной интонацией); mâiszas „мешок"—форма,
которую сравнивают с скр. mësa-s „баран", mësï „шкура барана";
taukas „жир" = *teuko-, др.-в.-нем. dioh (наличия прилагательного
taukinas недостаточно, чтобы доказать, что имеет место метатония
у tâuk-); râudmi „я плачу"—CKp.rödimi (интонация плохо
засвидетельствована; она является циркумфлексной в существительном
raudà, вин. п. raudq, что, впрочем, не имеет значения); riâugmi
и râugas „закваска, дрожжи", греч. έρευγ-; plâuti при греч. πλ€ΰσαι
(ср. plaü-k-ti); bernas „парень", восходящее, по-видимому,
к *bher-no-, гот. barn, и некоторое количество других, среди
которых pévdiu при греч. πέρδομαι, скр. pard-. Эти примеры, никак
здесь специально не упорядоченные, встречаются в весьма
различных условиях, анализировать которые в настоящей статье
мы не имеем возможности. Нужно, однако, отметить
любопытную тенденцию глаголов на -mi, -éti и -mi, -oti к акутовой
метатолии.
(Продолжение следует)*
1 Мысль о том, что limpa, bunda восходят к *lipna, *budna и другим
более или менее близким формам, является ошибочной и мешает понять
индоевропейский тип *li-m-pé- =*li-né-p (7-й кл.) + суфф. -е-.
* Продолжения в печати так и не появилось.— Прим. ред.
Φ. de Соссюр
ЛИТОВСКАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ1
Можно показать, что в литовском языке одна система
ударения сменилась другой, коренным образом отличающейся от первой.
Вторая система ударения характеризуется зависимостью между
ударением и слоговой интонацией, зависимостью, совершенно
неизвестной первой системе. С другой стороны, характерное
свойство первой системы—совершенная простота схем—отсутствует
во второй. Любого из этих факторов было бы достаточно, чтобы
изменить картину литовского ударения, но оба они взаимосвязаны,
так как представляют собой результат следующего явления.
В некоторую эпоху, предшествующую распадению на диалекты
(которая во всем остальном не определена), ударение «регулярно
переносилось на последующий слог, когда оно падало на слог с
циркумфлексной (geschliffen) интонацией, непосредственно после
которого находился слог с акутовой (gestossen) интонацией»2.
Таким образом, *laîkyti (aï + y) превращалось в laikyti, тогда
как, например, râtéyti (ai -+-у) не изменило места ударения3.
1 F. de Saussure, Accentuation lituanienne, „Indogermanische
Forschungen", VI, Anzeiger, Strassburg, 1896, стр, 157—166; перепечатано в „Recueil
des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure", Genève, 1921.
2 См.: „Actes du Xe Congrès international des Orientalistes", т. 1, стр. 89,
где этот закон изложен в других терминах.
3 Для ударения, падающего на первый слог, возможны были только
следующие случаи:
ai-)-y= w\j -f- VW*
ai-f-y = ^/v^ ü-t-^üu.
Одного взгляда на эту таблицу достаточно, чтобы понять, почему именно
4-й случай и только он создавал критическое положение для ударения.
620
Этого достаточно как для анализа ныне действующей системы
акцентуации, так и для реконструкции древней системы во всех
ее частях.
Склонение. Все различия в ударении типа dëvùs, ponùs (от
devas, pönas) сравнительно с kélmus, vyrus имеют позднее
происхождение и вызваны тем фактом, что û в devûs, будучи
актированным, перетянуло на себя ударение во всех тех случаях,
когда предыдущий слог был циркумфлектированным.
Следовательно, первичными являются лишь те различия,
которые не находят себе объяснения в этом фонетическом факте,
например devais, kelmaïs наряду с pönais, vyrais.
Но если такое рассмотрение продолжить в деталях, то мы
увидим, что ничего не останется ни от парадигмы la Куршата,
которая станет тождественной парадигме lia, ни от парадигмы
lb, которая станет тождественной парадигме I lb (перейдя,
таким образом, от состояния подвижной
парадигмы к состоянию неподвижной парадигмы).
И тут-то можно без особых усилий вытащить из могилы
исконную систему, скрытую под современной акцентуацией. Она
состоит, как всякому ясно, попросту из
косвенно: I а
прямо: II а
косвенно: I Ь
ττηαιν/ιη· ΪΤ Ь
С другой стороны, эта система не зависит от
интонации, потому что ее парадигмы, и подвижная, и неподвижная,
распространяются в равной мере как на слова с акутированным
предпоследним слогом, так и на слова с циркумфлектированным
предпоследним слогом.
[Следовательно, в настоящее время в литовском смешаны две
подвижности акцента: одна — новая, другая — старая, одна —
зависящая, другая —не зависящая от интонации; и в настоящем
состоянии литовского языка было бы несбыточным пытаться
совершенно отвлечься от одной из них для того, чтобы
рассматривать только ту, которая является «грамматической», то есть
более старой, чем другая. Можно лишь попытаться найти
соответствующие обозначения, которые, указывая точно на место
современного ударения, в то же время напоминали бы о том, что
представляло собой это ударение в первой системе].
В этом отношении слова образуют четыре класса (вместо двух,
существовавших в первой системе). Они могут следовать либо
подвижной (П) и неподвижной (Н) парадигмам (в древности общим
для всех слов, а теперь характерным для слов с акутированным
предпоследним слогом), либо парадигмам Π/α и Η/α—обозначения,
одной подвижной парадигмы
-f одной неподвижной парадигмы
-
621
которые мы принимаем для современных вариантов подвижной
и неподвижной парадигм в словах с циркумфлектированным
предпоследним слогом*.
Для различных форм, входящих в состав парадигм
(например, форм творительного падежа на -и, творительного падежа
на -mi, родительного падежа на -s и т. д.), возможны также
четыре ситуации вместо двух. Для них первоначально
существовали лишь следующие две альтернативы: возможность
окситонезы, которая реализовалась в подвижной парадигме
(обозначим этот случай буквой Ω), и невозможность
окситонезы, или, иначе говоря, баритонеза как в подвижной, так и
в неподвижной парадигмах (обозначим этот случай буквой Z).
Теперь для них существуют следующие четыре альтернативных
возможности:
Ζ = отсутствие окситонезы1 во всех парадигмах
Ζα = наличие окситонезы в Π/α и Η/α
Ω = наличие окситонезы в Π/α и Π
Ωα = наличие окситонезы в Π/α, На и П.
Первые три случая встречаются повсюду, четвертый, менее
частый, должен был обнаруживаться тогда, когда форма,
оканчивающаяся на слог с акутовой интонацией, случайно попадает
в число форм, для которых возможна окситонеза в первой системе.
Так, именительный падеж ед. ч. ж. р. на -а оказывается оксито-
нированным в трех парадигмах, вопреки всем „правилам", потому
что он является одновременно формой Ω (как все nom. sing.) и
формой, оканчивающейся на акутированный слог.
Многосложные слова.— Здесь происходит то, что можно было
предвидеть.
Парокситонированные многосложные основы представляют то
же характерное состояние, что и основы двусложные (у которых
именно потому и развились парадигмы Π/α и Η/α, что они
были парокситонами).
* У Соссюра приняты следующие обозначения: Mob. для П, Im. для Н,
Mob./α для Π/α и Im/α для Η/α. — Прим. перев.
1 Здесь уместно указать на несколько общих принципов: баритонеза
есть нормальное ударение любого литовского слова и любой формы.
Наосновное ударение, представленное в каждом слове, всегда находится левее
последнего слога основы. Вследствие этого наосновное ударение никогда
не может оказаться ни на последнем слоге слова, ни даже на тех слоговых
колонках, где находится конечный слог. Поэтому любая окситонеза является
формально отступлением от принципа наосновного ударения (деталь,
которую игнорируют все, кто пишет о литовском ударении). Кроме того,
поскольку окситонеза есть единственный вид отступления от принципа
наосновного ударения [если отвлечься от дат. п. мн. ч. и дат. п. ед. ч.
прилагательных], то окситонеза или, вернее, сумма окситонез, допускаемых
словом (или формой), даст точное представление об его акцентуации.
622
Основы пропарокситонированные и гипербаритонированные
не обнаруживают никаких следов этого состояния; независимо
от интонации предпоследнего слога и от интонации ударного
слога они могут иметь только две парадигмы—чисто подвижную
(П) и неподвижную (Н). Иначе и быть не может, так как
предпоследний слог, находящийся в контакте с конечным, не имеет
тона, а слог, имеющий тон, не находится в контакте с конечным.
Другой круг идей, который, как кажется, вытекает с большой
долей вероятности из изучения тех же многосложных слов,
состоит в том, что «только слово с наосновным ударением
на первом слоге может иметь подвижную парадигму»
(напоминаем, что у всех двусложных слов ударение падает на
первый слог). Большая часть современных исключений, таких, как
парокситонированное подвижное septyni septynius, объясняется
автоматическим действием того же закона (septynius восходит
к *sêptynius (в связи с [последовательностью] ё + у), что дает
пропарокситонированную подвижную парадигму).
Глагольное спряжение. Глагольное спряжение примечательно
тем, что, в отличие от имени, имеет одну парадигму для всех
глаголов—неподвижную. Дело в том, что различия типа velkfi —
âugu, esmi—sérgmi и здесь вызваны автоматическим действием
того же закона. Учитывая это, мы считаем, что вся проблема
глагольной акцентуации состоит в том, чтобы выяснить, не
существовало ли здесь различия в ударении, связанного с каждым
конкретным глагольным словом или, скорее, с типом (финитного)
глагола (lesformations du verbe [fini]), иначе говоря, не
существовало ли другой «не неподвижной» парадигмы (на реконструкцию
того, каково было в точности движение ударения в ней, мы не
претендуем).
Среди многочисленных признаков, говорящих в пользу этого
предположения, отметим основные:
1. Причастие на -ant-. Это именное образование следует
либо неподвижной, либо подвижной парадигме (потому что, само
собой разумеется, всякое различие типа nesz|s—âugqs
представляет собой различие [акцентуационных] парадигм в чистом
виде (ср. вин. п. nëszanti как âuganti)1. Если верить грамматике
Куршата, правило для причастий следующее: они следуют всегда
неподвижной парадигме, когда корневой слог акутированный, и
частично подвижной, когда корневой слог циркумфлектированный.
Таким образом:
szaüki^s neszfs/âugçs.
Правило не только необъяснимое, но и коренным образом
противоречащее сформулированному выше принципу, гласящему, что
интонация никогда не влияет на выбор парадигмы.
1 Обратное было бы грубым нарушением правил, касающихся оксито-
незы (см. выше).
623
Действительное положение вещей таково, что в грамматике
Куршата главы, посвященные акцентуации причастий и других
отглагольных образований, представляют собой собрание ошибок,
которые опровергаются как материалом „Немецко-литовского
словаря" того же автора, так и его „Новым заветом"1. Из этих
источников можно сделать вывод, что истинная акцентуация такова:
1) sergls neszgs / aug|s,
2) szaüki^s / trâukiqs,
3) klypstqs I trukstqs,
то есть что парадигма причастия: а) не зависит от интонации,
но б) зависит от способа образования глагола: на -б, -jô, -stô
и т. д. Встает вопрос: как объяснить этот факт, если причина
его не была дана прежним различием парадигм в самом
финитном глаголе?2
Аналогичные наблюдения можно сделать относительно
причастия на -ата- и т. д.
2. Акцентуация π ρ ефи ксов. С первого взгляда неясно,
почему в одних презентных формах ударение падает на префикс,
а в других — нет. Например: nè-serga, nè-nesza, но ne-szaukia.
Вскоре, однако, выясняется, что здесь действует та же
закономерность, что и в причастиях. Этим еще не доказывается, что
парадигма была подвижной, но это по крайней мере
свидетельствует о том, что существовало явное различие между serga- и
szaukia-. Совершенно очевидно, что существование формы ne-âuga
(как ne-trâukia) вместо nè-auga объясняется опять-таки
автоматическим действием закона, переместившего ударение с
предшествующего слога3.
Деривация. С точки зрения ударения существуют три
категории (вторичных) суффиксов.
1 Вообще мы можем опираться только на те работы Куршата, которые не
имеют отношения к грамматике. Если бы мы судили на основании
грамматики Куршата, например, об акцентуации существительного, мы бы получили
представление, если не ложное, то по крайней мере совершенно неполное,
как это уже показал Мазинг в своей работе по сербско-хорватской
акцентуации (L. Masing, Die Hauptformen des serbisch-chorwatischen Akzents nebst
einleitenden Bemerkungen zur Akzentlehre insbesondere des Griechischen und
des Sanskrit, „Mémoire de l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Pétersbourg", I, VII sér.,
XXIII, № 5, 1876). Но бесчисленные ошибки Куршата в отношении
существительного вполне поправимы, в то время как распространяемые им
ошибочные взгляды на глагол, и в частности на причастие, носят непоправимый
характер.
2 Необходимо заранее отметить, что если наличие подвижной парадигмы
(у существительного или глагола) имеет то значение, которое мы
приписываем ему ниже (окситонеза основы), то этот вывод не обязателен в такой
форме. Но прежде всего нужно не путать два круга идей и гипотез.
3 Действительно, сочетание ^-j-C/vv^ никогда не трактуется иначе, чем
υυυ -f" υυυ.
624
Одни, представляющие для нас минимальный интерес, обладают
собственным ударением и безразличны к производящему слову,
например -ynas.
Другие не безразличны к производящему слову и требуют,
чтобы производное слово имело тот же тип наосновного
ударения, что и производящее. Таков суффикс -iszkas (pa-
gönas: pagôniszkas и т. д.). Отсюда следует, что, если суффикс
начинается с акутированного слога, он принимает на себя
ударение каждый раз, как только он присоединяется к пароксито-
нам с предпоследним циркумфлектированным слогом.
Наиболее интересны суффиксы третьей категории.
Производные слова с этими суффиксами получают ударение либо на
суффиксе, либо на производящей основе, в
зависимости от того, какова парадигма
производящего слова — подви жна я или неподвижная.
Ср. darbininkas, piningininkas из dârbas (Π), piningas (Π), но
burtininkas, malünininkas из bûrtas (H), malünas (Η/α). И в этом
случае может иметь место упомянутое выше усложнение, если
суффикс начинается с акутированного слога, как -utas, -ingas и
т. д. Имеется в виду следующее: мы получаем производное
krumutas из krumas (Η), kalnütas из kâlnas (Π), производное
kampütas из kafnpas (Π/α) вследствие грамматических причин, но
lapütas из läpas (Η/α) — вследствие причин чисто фонетических
(lapütas = *läputas в силу ä+ίί)1.
Эти замечания относятся только к наосновному ударению
производных слов. Но и их [акцентуационная] парадигма, а также
изменения интонации („метатония"), которые часто в них
представлены, видимо, находятся в тесной связи с акцентным
типом производящего слова.
Следствия, имеющие значение для фонетики. 1. Циркумфлек-
тированный ударный слог перед кратким конечным показывает,
что конечный слог всегда был кратким, например: tävi, mifti,
nësza, tufgus, ësti. (Форма, в которой это происходит, должна
иметь контур ударения (courbe d'accent) только типа Ζ или 2, но
в данном случае знать ее контур не обязательно.)
2. Когда относительно какой-то формы можно утверждать, что
она имеет контур ударения Ζα (а это означает, что она не только
всегда (а не иногда) окситонирована при циркумфлектированном
предпоследнем слоге, но и столь же абсолютно всегда
баритонирована при акутированном предпоследнем слоге), то очевидно, что ее
краткий конечный гласный восходит к древнему долгому2. На-
1 Первая категория суффиксов не имеет аналогии в окончаниях (les fi
nales de flexion), вторая аналогична окончаниям в типах Ζ и Ζα, третья —
окончаниям в типах Ω и Ωα.
2 Необходимо подчеркнуть слова «ее краткий конечные гласный» ввиду
того, что мы не представляем себе формы Ζα, которая не оканчивалась бы
в современном языке на краткий гласный. Единственное исключение (кроме,
625
пример, инфинитив mirtè—äugte не мог иметь исконного
краткого е. (В действительности эта форма оканчивалась на tç, как
это показывают диалекты)*.
Акцентная парадигма имени в литовском языке и
[индоевропейские] окситонированные основы. [Одно дело—установление
относительного положения ударений, то есть того, приходятся
ли они на корневую колонку (colonne radicale)* или на
следующий за ней слог, что и образует [акцентную]
парадигму и представляет собой факт, который всегда можно
установить; другое дело—определение той грамматической
значимости, которую приобретают эти ударения как „наосновные" и
„флективные", что не всегда является очевидным и не соотносится
однозначно с указанным различием; например, в πατρός ударение
находится на корневой колонке, но считается флективным. Поэтому
мы различаем при характеристике парадигм только ударения
колонные и маргинальные.
Есть еще один материальный элемент, помимо деления
ударений на колонные и маргинальные, который может показаться
принадлежащим парадигме, — это расстояние корневой колонки от
конца слова (и тем самым от маргинального ударения). Надо,
однако, остерегаться включать это расстояние в понятие
парадигмы, если мы хотим сохранить возможность классификации
парадигм, когда эти два элемента — расстояние и виды ударений —
войдут в сложные отношения. Таким образом, парадигма в нашем
понимании есть только совокупность колонных и маргинальных
ударений, скорее, даже только содержание корневой
колонки, зная которое, можно сделать вывод и о том, что в ней
не содержится 2.]
1. В литовском существует только одна парадигма **, которая
не имеет, впрочем, иных случаев применения, кроме как при
пермиссива, ударение которого у Куршата неверно) составляют 1-е лицо и
2-е лицо претерита, которые, однако, допускают довольно простое объяснение.
1 Формы Ωα не являются столь же удобным средством, как формы Ζα,
по той случайной причине, что если речь идет о формах, находящихся вне
регулярных парадигм склонения, то невозможно отличить окситонезы Ωα
от окситонез Ω в чистом виде. Если мы отбросим внешнюю точку опоры
в виде род. п. rankos, то у нас не останется никаких средств доказать,
что им. п. mergà, rankà, galvà и vârna представляют Ωα, а не Ω.
* То есть на столбец слогов, относящихся к основе.— Прим. ред.
2 С точки зрения места, которое может занимать колонка корневого
ударения, и с некоторых других точек зрения целесообразно во всех языках
классифицировать слоговые колонки парадигмы (форм) на внешние (Ext.)
(=включающие конечный слог хотя бы в одной форме) и внутренние
(Int.) (= не включающие конечных слогов):
1-Int. 1-Ext. 2-Ext. 2-Int. 1-Int. 1-Ext. 2-Ext. 3-Ext.
so η u s ар lai du
sO η ц ар lai de n\
sO η u mi ap lai de ni mi
** Это понятие по объему соответствует подвижной парадигме.— Прим. ред.
626
баритонированныХ основах. Если чисто гипотетически применить
ее к окситонированным основам, она неизбежно изменилась бы и
дала бы две новых парадигмы. Чтобы убедиться в этом,
достаточно перенести колонку корневого ударения на колонку
1-Ext. (что дает у всех имен окситонированную основу) и
сосчитать, сколько ударений являются теперь колонными и сколько-
маргинальными. Результат ни в коем случае не будет таким же,
как в общей * парадигме: он окажется разным в зависимости от
того, производилась ли операция с вокалической основой
(sûnù- вместо sunu-) или с консонантной (duktèr- вместо dùkter-).
Будем называть общую парадигму парадигмой Q; форму,
которую она должна принять у вокалических окситонов,—
парадигмой g и форму, которую она должна принять у
консонантных окситонов,—парадигмой γ.
2. Можно заметить, что гипотетическая парадигма γ не
отличается сколь-нибудь значительно от парадигмы индоевропейских
консонантных окситонов (по крайней мере, от типа πούς/πο|δός
или γυνή/γυναιΙκός, который, согласно нашему определению
парадигмы, не имеет никакого отношения к типу πατήρ/πατρός/) и что
g, со своей стороны, совпадает в основном со схемой
индоевропейских вокалических окситонов. Чтобы прийти к такому
результату, нам нужна была только общая**
литовская парадигма, которая не совпадает ни с g,
ни с γ. Существенно именно это; далее мы легко обнаружим,
что g и γ существуют в действительности, одна — обязательно —
в основе szùn-, другая — необязательно (librement) — в katrà- и др.
местоименных окситонах—обстоятельство, которое само по себе
не могло бы ничего добавить к нашим знаниям об общей
парадигме.
3. Легкость, с которой G дает индоевропейские парадигмы,
когда мы налагаем ее на предполагаемые
окситонированные основы, наводит на мысль о том, что именно здесь надо
искать ее происхождение. Вопрос об отсутствии окситонированных
основ в языке, сам по себе не связанный с вопросом организации
парадигмы, возникает независимо от нашего желания
одновременно с последним вопросом.
Мы выдвигаем в качестве гипотезы: 1) что только g и γ
существовали первоначально как подвижные парадигмы (так что
только слова, которые имеют сейчас неподвижную парадигму, в
древности были баритонированными); 2) что всякое ударение в
парадигмах g и γ, которое случайно находилось на внутреннем
слоге, переносилось на начальный слог, в то время как всякое
конечное ударение (как колонное, так и маргинальное)
оставалось на своем месте.
* То есть в исходной.— Прим. ред.
** То есть исходная.— Прим. ред.
627
4. Если принять этот принцип 1, то переход консонантных
основ от парадигмы γ к G вытекает из него неукоснительно2.
*duktë
*duktë
*duktë
*dukte
*dukte
rin
rï
rès
rimi
>
>
>
>
>
duk
dùk
dùk
duk
duk
te
ter;
terï
terès
terimi, и
(G)
т. д.
(γ) Им., зв.
Вин.
Дат., Местн.
Род.
Твор.
5. При этом смещении обнаруживаются четыре новых
явления:
a. Основа перестала быть окситонированной.
b. Парадигма изменилась, поскольку содержание корневой
колонки (=парадигмы; см. выше) уменьшилось на два
ударения— в форме именительного падежа ед. ч. и в форме
звательного падежа ед. ч.,— так как ударения в них заняли теперь
маргинальное положение.
c. В языке стали допускаться передвижения ударения на
расстояния, ранее невозможные (начало „скачка ударения" (saut
d'accent), ставшего затем характерной чертой всей системы
литовской акцентуации).
d. Любое ударение на конечном слоге приобрело
единообразно новое значение: оно необходимо противопоставляется
колонному ударению; но к этому нужно добавить следующее:
любое положение ударения в слове настолько отчетливо
соответствует теперь либо колонному, либо маргинальному ударению,
что они с этого момента (в первый раз) оправдывают название:
наосновное и флективное ударения (см. ниже).
Наша точка зрения пока, таким образом, характеризуется
следующим: в том, что составляет ныне маргинальное ударение
консонантной основы, содержится фрагмент корневой
колонки древнего окситона.
6. Можно ли точно так же в вокалических основах вывести
G из g? Ответ может быть только один: нет. И больше того,
непосредственный вывод из принципа, примененного нами к
консонантным основам, заключается в том, что у вокалических
окситонов ни одно ударение не должно было меняться, так как ударные
слоги парадигмы g (как колонные, так и маргинальные) являются
все без исключения конечными, в отличие от ударных слогов
парадигмы γ, и что вследствие этого парадигма g и класс
вокалических окситонов должны были бы сохраниться без изменений
1 К сожалению, трудно определить точно характер этого закона, так
как его переформулировке в чисто фонетический закон препятствует ряд
обстоятельств.
2 Исключением здесь и далее является дат. п. мн. ч. (dukterimus) —
единственное внутреннее маргинальное ударение парадигмы γ или
парадигмы G, которое должно было бы как внутреннее перейти на
начальный слог, подобно внутренним колонным ударениям.
628
до настоящего времени. Таково и есть наше мнение,
подтверждением которому являются все вокалические местоименные
окситоны. В katrà-, anà-, kurià- и (диалектных) kokià-, tokià- сохраняется
неизменным вместе с парадигмой g тип вокалических окситонов.
Проблема состоит не в том, чтобы объяснить возникновение
этих окситонов, которые в настоящее время являются странной
аномалией в системе литовского языка, а в том, чтобы выяснить,
каким образом все остальные вокалические окситоны (имен)
изменили свой вид и отошли от первых; не будь этого
обстоятельства, парадигма G была бы ныне не общей, а, наоборот,
небольшой, имеющей локальный характер * парадигмой (petit paradigme
local), а баритонеза основ не была бы устойчивым законом этого
языка.
Мы допускаем здесь —не как удобное объяснение, а как
предположение, основанное на серьезных аргументах,— что в
окситонированных вокалических именных основах литовского
языка ударение систематически оттягивалось с конечного слога
в тех формах, где за образец могла быть взята парадигма G
(свойственная тогда консонантным основам), например, в
именительном мн. ч. sunüs вместо *sünüs, по образцу dùkteres, которое
само заменило *duktêres и никогда не имело конечного
ударения. (Две тенденции, изложенные выше в пункте d, отчасти
обусловили это изменение; это же явление имеет место и сейчас,
когда в местоименных окситонах kokj или kokiùs заменяется на
kokt, kokius.) Тогда же осуществилась унификация парадигмы
(ранее разделенной на g и γ) в (парадигму] G и произошло
исчезновение класса окситонированных основ.
Примечание. Хотя формы, в которых произошла
оттяжка ударения, стали вследствие этого совершенно
одинаковыми в парадигмах sûnù- и duktèr-, в них содержится
неравное количество маргинальных ударений, представляющих
собою остаток прежней корневой колонки окситони-
рованной основы (в одной —только duktè-—им. и зват. п.;
в другой—sûnùs, sünaü, sünaüs, sünü); это вызвано
первоначальной асимметрией парадигм g и γ, что не мешает, однако,
парадигме G быть ныне везде одинаковой.
7. Необходимо сделать последнее замечание. Рассмотрев все
сказанное выше, возможно, сделают вывод, что существует только
один определенный факт, позволяющий утверждать, что общая
литовская парадигма восходит к частной парадигме
[консонантных основ], и этим фактом является лишь ударение в
именительном ед. ч. и в звательном ед. ч. в общей литовской
парадигме. Несомненно, это так, но это очень веский аргумент, потому
что если общая литовская парадигма является лишь продолжением
общей индоевропейской схемы—точка зрения, дающая опору для
* То есть включающей считанное число основ.— Прим. ред.
629
ряда иного рода утверждений, например для утверждения, что
„скачок ударения" (подвижность ударения в барйтонированных
основах) должен был быть общим индоевропейским явлением,—
тогда спрашивается, почему формы именительного ед. ч. и
звательного ед. ч., то есть именно те формы, которые во есех
индоевропейских парадигмах имеют колонное ударение, стали
в общей литовской парадигме маргинальными?1
И если, напротив, нас спросят, допустив особое
происхождение литовской парадигмы, в чем должно заключаться основное
отличие литовской парадигмы от всех индоевропейских парадигм,
мы сможем сразу и точно ответить, что это отличие состоит в
неизбежном переходе форм именительного падежа ед. ч. и
звательного падежа ед. ч. в формы с маргинальным ударением.
Правда, из этого допущения вытекает, как мы видели, кроме
общего предположения о том, что литовская парадигма восходит
к окситонированным основам, более частное предположение, что
она происходит только от окситонированных консонантных основ.
8. Подобно тому как в наше время основные принципы
литовского ударения (при ближайшем рассмотрении) не нарушаются
нигде, кроме как в окситонированных основах2, мы
видим, что в историческом плане литовское ударение достигло
своего теперешнего строя и реализовало максимальную
упорядоченность, которую не могла превзойти ни одна языковая система,
именно благодаря устранению окситонированных основ.
Особенность этого строя заключается в том, что литовская
парадигма всегда, во всех формах, может быть разрезана на два
сегмента: слева—сегмент наосновных ударений, справа — всех
остальных. Сверх того, один из этих сегментов всегда
соответствует колонкам внутренних слогов, а другой — колонкам внешних
слогов (окситонированные основы заранее исключаются).
Благодаря такой позиции в слове можно сказать заранее, является
ли данное ударение колонным или маргинальным. Но в силу их
взаимного положения колонное и маргинальное ударения
получают одновременно значение наосновного и флективного
ударений — положение, которое в применении к другим языкам
может оспариваться с большим основанием.
1 В случаях, когда хотят исходить из тех редких индоевропейских схем,
которые, подобно литовской, характеризуются „скачком ударения" (скр. рап-
thâs, pathâs, *pathibhis), становится более чем когда-либо непонятным, почему
литовский именительный падеж является маргинальным.— Что касается
звательного падежа, то здесь мы полностью оставляем в стороне эмфатический
звательный (αδελφέ, möteriszk и т. д.).
2 Это значит, что все исключения ограничиваются либо основами, окси-
тонированными по необходимости, то есть односложными, такими, как ta-,
tri-, szùn, либо свободными окситонами типа katrà-, но это, впрочем, не
имеет значения, так как односложность ничего не добавляет к основному
признаку —окситонии.
630
Для того чтобы это различие могло существовать, за колонным
ударением должен следовать, как это имеет место и в литовском,
еще один слог, показывающий виртуальную позицию
противоположного ударения. Так, мы можем говорить, что в слове pânthâs
мы имеем дело с колонным и наосновным ударением; но
относительно ударения в словах pitâ, πους, πατρών, τιμής или τιμή мы
можем сказать только то, что оно—просто колоннсе, а не наоснов-
ное и не флективное.
Для того чтобы система, подобная литовской, не могла
появиться даже в идее, достаточно, чтобы колонное ударение
приходилось более или менее часто на колонку 1-Ext. С другой
стороны, для того чтобы эта система существовала во всей своей
полноте, достаточно, чтобы ударение никогда не падало на
колонку 1-Ext., то есть чтобы исчезли окситонированные основы.
9. Выше мы абстрагировались от склонения существительных
и прилагательных мужского рода на -а, которое имеет ряд
особенностей. Во множественном числе именительный падеж (dëvaï, margi)
остался верен окситонной схеме, ввиду того что формы dùkteres
и даже sunüs столь резко отличались от них своими конечными
слогами, что не могли вызвать сдвиг в ударении. В
единственном, числе, однако, есть несколько отклонений, которые нельзя
объяснить в немногих словах.
Латышские интонации. Представляется возможным
доказать, что интонации латышского языка никак не связаны с
соответствующим явление^ литовского, но имеют отношение к классам
литовского ударения.
Если двусложное имя принадлежит в литовском к парадигме
Π/α или П, то в латышском оно имеет прерывистую (gestossen)
интонацию, например: dîws, dïgs = devas Π/α, dëgas Π; в
противном случае оно имеет в латышском длительную (gedehnt)
интонацию, например: prëds, pêns = predas Η/α, pënas H.
Это, несомненно, объясняется тем, что в типе* H (не решая
вопроса о том, различались ли уже в балтийском (letto-lit.) типы
H и Η/α) начальный слог всегда был ударным, тогда как в типе Π
он мог быть ударным очень редко. Северные литовские диалекты,
которые стремятся, подобно латышскому, оттянуть ударение на
начальный слог, обнаруживают весьма заметные различия в
акцентуации, в зависимости от того, был ли начальный слог ранее
ударным или нет, но независимо от того, был ли он
актированным или циркумфлектированным; в этом же кроется,
по-видимому, единственная причина, которая вызвала в латышском
различие между прерывистой и длительной интонациями, хотя
осторожность подсказывает, что ничего нельзя утверждать категорически,
особенно когда дело касается глагола.
P.S. Когда я писал эти строки, я еще не знал о недавно
вышедшей книге Г. Хирта „Der indogermanische Akzent", которая,
несмотря на серьезные попытки автора внести ясность в пони
631
мание литовского ударения, вызывает у меня многочисленные
возражения.
Хирт не имеет никакого представления об общем смещении
ударения в группе «циркумфлектированный ударный слог +
акутированный слог» — первоисточнике нынешнего состояния
литовского ударения.
Однако, анализируя словоизменение, он все же заметил, что
«акутированные окончания перетянули на себя ударения
циркумфлектированных корней» (стр. 95). Этот факт, даже изложенный
в такой форме, мог бы, не давая подлинного представления о
законе, бросить свет по меньшей мере на все литовское
словоизменение. Но у Хирта этот факт поставлен в один ряд с целой
совокупностью других, недоказуемых законов (стр. 93—95); в
результате он оказался до смешного малозначимым даже в области
словоизменения.
Сказанное имеет целью подчеркнуть различие в точках зрения,
а отнюдь не отстоять приоритет, в чем нет необходимости,
поскольку закон, в том виде, в каком мы его себе представляем,
был изложен нами еще в 1894 г. на конгрессе ориенталистов
в Женеве и его формулировку можно найти в „Бюллетене"
конгресса1. (Я уже указывал на это ранее: MSL, VIII, стр. 445; IF,
IV, стр. 460, прим. 3.)
Теория Хирта при ближайшем рассмотрении оказывается,
несмотря на внешнее сходство с нашей, еще более далекой от
нашей точки зрения, когда речь заходит об окситонах и их
связях с литовской парадигмой.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ*
В. А. Дыбо, В. М. Иллич-Свитыч, К истории славянской системы
акцентуационных парадигм, в кн.: «Славянское языкознание. Доклады
советской делегации», М., 1963.
В. А. Дыбо, Акцентология и словообразование в славянском, в кн.:
«Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов. Доклады
советской делегации», М., 1968.
В. М. Иллич-Свитыч, Именная акцентуация в балтийском и
славянском языках, М., 1963.
Л. В. Матвеева-Исаева, Закон Фортунатова — де Соссюра,
«Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР», 3, 1, 1930.
G. Bonfante, Una nuova formulazione delle legge de F. de Saussure,
«Studi Baltici», 1, 1931.
1 [„Bulletin", № 5; см. также „Actes du Xe Congrès international des
Orientalistes", t. I, стр. 89.]
* Более подробный список работ на эту тему см. в статье В. А. Дыбо
«Работы Ф. де Соссюра по балтийской акцентологии» (наст, сб., стр. 583—
597).—- Прим. ред.
632
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР
АНАГРАММЫ
(ФРАГМЕНТЫ)
Перевод с французского,
вступительная статья и комментарий
Вяч. Вс. Иванова
ОБ АНАГРАММАХ Φ. ДЕ СОССЮРА
Значительную часть времени с 1906 г. до 1909 г. Соссюр
уделял занятиям индоевропейской поэтикой. Отправной точкой для
него послужило исследование наиболее древних образцов римской
поэзии—сатурнова стиха. Соссюр усмотрел принцип построения
этого стиха [18а]*, ускользнувший от его предшественников и в
недостаточной мере учтенный в гораздо более поздних работах по,
следнего десятилетия, где обычно ограничиваются установлением
наличия ритмических схем и аллитерации, в этом стихе, иногда
сопоставляемой со звуковыми повторами древнеирландской поэзии
[9, 10]*. Такой сатурнов стих, как
Taurasia Cïsauna Samnio cêpit,
Соссюр рассматривал как анаграмму —передачу в отдельных
слогах (cï, pï, iô) или фонемах (s) разных слов, входящих в этот
стих (в данном случае —имени Scïpio [25, стр. 29]. Приведенный
стих входит в надпись на гробнице Сципиона Бородатого).
Продолжая заниматься римской литературой, Соссюр обнаружил
сходные приемы построения и у гораздо более поздних авторов —
не только поэтов (Вергилия, Лукреция), но и прозаиков, а также
и в ученой литературе на латинском языке.
Одновременно Соссюр выдвигает гипотезу о том, что сходный
принцип передачи имени бога или героя, напоминающий способ
загадывания слова в шарадах, определял звуковой состав многих
отрывков из гомеровских поэм и ведийских гимнов. Принцип
анаграмм он стал считать едва ли не основным для ранних
поэтических текстов на древних индоевропейских языках. Такие
позднейшие формы, как германский аллитерационный стих, он
выводил из этих первоначальных общеиндоевропейских истоков.
* Цифры, заключенные в квадратные скобки, здесь и далее указывают
номера работ в списке литературы, помещенном в конце настоящего раздела*
635
Хотя многие короткие латинские и древнеиндийские тексты
и сравнительно небольшие отрывки из более пространных
сочинений на латинском и греческом языках удовлетворительно
объяснялись на основе его теории, принятой и его учеником Мейе,
с которым он переписывался по этому поводу, Соссюр оставался
не до конца убежденным в своей правоте. Он сам говорил
о необходимости теоретико-вероятностной проверки его гипотезы
[22, стр. 31]. Более всего его останавливало то, что этот принцип,
который он выявлял в латинских сочинениях на всем протяжении
истории литературы на латыни, никем из латинских авторов не
был сформулирован. Переписка с итальянским поэтом Дж.
Пасколи, которого он считал крупным современным представителем
той же поэтической традиции, не принесла разъяснения этого
парадокса. Вскоре Соссюр оставляет работу над анаграммами.
В отдельных записях этого цикла можно обнаружить перекличку
с одновременно начавшейся работой над курсом лекций по общей
лингвистике, в частности внимание к двусторонней природе знака,
раскрывающейся всего отчетливей в поэтическом тексте (ср.,
например, приводимый ниже отрывок о двух сериях акустических
последовательностей и значащих последовательностей). Но в период
интенсивной работы над курсом Соссюр уже не возвращается
к анаграммам. 99 тетрадей, в которых Соссюр записывал свои
выводы об анаграммах и многочисленные тщательные разборы
конкретных поэтических текстов, оставались неизданными до
1964 г. С этого года до 1971 г. часть записей [20, 21, 22, 23,
24, 25] и писем Соссюра, относящихся к этой работе [8, 13, 18],
была опубликована, но основная масса тетрадей Ф. де Соссюра
еще даже не описана достаточно подробно, хотя она и
составляет главное неизданное наследие Соссюра.
Лишь успехи компаративистики и поэтики, достигнутые в
последние годы, позволяют оценить те плодотворные идеи, которыми
богаты опубликованные части тетрадей Соссюра, намного
опередившего общую и сравнительную поэтику, и вместе с тем дают
возможность разграничить две стороны проблемы, им самим в
достаточной степени не дифференцированные.
Один аспект, где Соссюр, бесспорно, является
предшественником современной индоевропеистики, заключается в воссоздании
некоторых черт древних индоевропейских поэтических текстов.
Теперь уже нельзя сомневаться в существовании
общеиндоевропейской поэтической традиции, связанной с анализом состава
слова и тем самым подготовившей и развитие науки о языке,
в частности, в Индии, о чем Соссюр пишет в приводимых ниже
записях. Следы сходной традиции в последнее время обнаружены
и в ирландских текстах [27], что представляется особенно важным
потому, что существуют и другие черты сходства между
индийским и ирландским, которые удостоверяют древность целого ряда
явлений индоевропейской духовной культуры.
636
Соссюр был не только предшественником многочисленных
работ недавнего времени по индоевропейскому поэтическому
языку [19] и метрике [11, 26]. Его переписка с А. Мейе побудила
последнего продолжить занятия сравнительной поэтикой. Эта
дисциплина развивалась благодаря импульсу, данному Мейе [16],
который уже после смерти своего учителя, но под бесспорным
влиянием его примера обратился к реконструкции
общеиндоевропейских метров, позднее продолженной Якобсоном [11],
Уоткинсом [26] и другими учеными [2, 17].
Вывод о существовании общеиндоевропейских поэтических
текстов весьма важен для определения уровня и характера
культуры носителей древнейших индоевропейских диалектов, а
поэтому представляет интерес не только для лингвистов. Вместе
с тем исследование анаграмматических ограничений может помочь
выявить меру гибкости (синонимии) раннего
общеиндоевропейского языка, необходимую для их осуществления.
Второй аспект проблемы, изучавшейся Соссюром, не имеет
прямого отношения к сравнительно-исторической поэтике и
должен решаться средствами общей поэтики. Одна из сложностей,
мучивших Соссюра и оставшаяся им так и не объясненной,
заключается в неясности того, в какой степени анаграмматические
построения осознаются самим поэтом. Как замечает по этому
поводу в своей последней книге Леви-Стросс, Соссюр не смог
сам преодолеть основной трудности, состоящей в объяснении
того, почему поэты никогда не говорили о сознательном
использовании этого приема. Леви-Стросс видит объяснение этого в том,
что «речь идет о частном приложении закономерности
одновременно и основополагающей, и архаичной», которая могла
продолжаться благодаря бессознательному следованию более древним
поэтическим моделям [15]. Леви-Стросс видит в этой
закономерности принцип, общий для разных знаковых систем. Наличие
явлений, сходных с анаграммами в музыке, отметил еще Мейе
в письме к Соссюру, сославшись на превращение букв фамилии
композитора в музыкальную тему у Баха (как, можно добавить,
и у ряда последующих композиторов, вплоть до чисто
анаграмматического выделения первых букв в латинской передаче
фамилии Шостаковича, превращенных им самим в музыкальную тему).
Как общий принцип поэтического творчества преломление
ключевого слова (в современной поэзии — чаще нарицательного, чем
собственного) в слогах и фонемах окружающих его слов не должно
быть обязательно связано с далекими диахроническими истоками
(хотя наличие классических образцов и может способствовать
оживлению этого принципа, как предположил сам Соссюр в
приводимой ниже записи о Вергилии и Гомере). Едва ли можно,
однако, примеры анаграмм в современной литературе [1,3] и даже
в более ранних литературных образцах [12] объяснять
сравнительно-историческими построениями к которым еще тяготел Соссюр.
637
Но хотя это и не было им до конца осознано и эксплицитно
сформулировано, Соссюр наметил путь к новому пониманию
взаимоотношения звучания и значения в поэтическом тексте.
Звуковые повторы и звукопись оказываются не просто средствами
достижения звуковой симметрии, но прежде всего связываются
со словотемой стихотворения. Поэтому проблема двусторонности
знака, столь глубоко освещенная в „Курсе общей лингвистики",
по-своему предстает и в соссюровских записях об анаграммах,
и в особенности в их многочисленных продолжениях в
литературе по поэтике последних лет.
Вяч. Вс. Иванов
ОТРЫВКИ ИЗ ТЕТРАДЕЙ Ф. ДЕ СОССЮРА,
СОДЕРЖАЩИХ ЗАПИСИ ОБ АНАГРАММАХ*
...Действительно, огромное различие между аллитерирующей
звукописью и звукописью, распространяющейся на любые слоги,
заключается в следующем: в той мере, в какой мы связаны
начальным слогом, может казаться, что причиной звукописи
является ритм стиха и что именно он, стремясь прежде всего
себя проявить, вызывает появление сходных начал слов1**,
причем обнаруживается принцип, который нисколько не предполагает
анализа слова со стороны поэта. Это же можно сказать и о рифме,
во всяком случае в некоторых системах. Но если, напротив,
признается, что все слоги могут участвовать в звуковой
симметрии, то тогда из этого следует, что такие звуковые сочетания
никак не зависят от стиха и от его ритма и что данная
поэтическая форма образуется сочетанием ритмической схемы стиха
со вторым принципом, от него не зависящим. Чтобы
удовлетворить этому второму условию формы carmen2, условию, которое
совершенно не зависит от образования стоп и размещения
ударений, я действительно утверждаю (и в дальнейшем это будет
моим исходным допущением), что поэт полностью отдавался
звуковому анализу слов, который становился его обычным занятием:
эта наука о произносимой форме слов с самых древних
индоевропейских времен была причиной превосходства, особых качеств
индийских kavis3, латинских vâtës4 и т. д.
* Отрывки переведены по последнему изданию в отдельной книге:
J. Starobinski, Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand
de Saussure, Paris, Gallimard, 1971, стр. 35—37, 37—38, 38—39, 59—60,
126—127; в переводах исправлены неточности в цитировании древних
текстов.— Прим. ред.
** Надстрочные цифры указывают порядковые номера примечаний
Вяч. Вс. Иванова,— Прим. ред.
639
ВЕДИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ
Согласно изложенной гипотезе, можно исследовать две
стороны вопроса:
1. Повторение в гимне слогов, принадлежащих тому
священному имени, которому посвящается гимн.
При внимательном рассмотрении можно обнаружить целую
гору данных. Поскольку такой принцип был более чем очевиден
в некоторых гимнах, обращенных к Индре, из этого сделали
вывод, неблагоприятный по отношению к ним, тогда как, согласно
нашей точке зрения, в этом состоит главный принцип
индоевропейской поэзии. Можно взять почти любой гимн наудачу и
убедиться в том, что, например, гимны, посвященные Agni Angiras5,
представляют собой как бы целый ряд каламбурных созвучий,
например таких, как girah (песни), anga (соединение) и т. п.,
что свидетельствует о главной заботе автора — подражать слогам
священного имени.
2. Звуковая гармония, проявляющаяся, в частности, в четном
числе элементов.
... Не будучи в состоянии продвинуться достаточно далеко
в своих ведийских исследованиях, я тем не менее убедился, что
во многих небольших гимнах числа, устанавливаемые для
повторения согласных, совершенно безупречны, каковы бы ни были
законы, управляющие повторением гласных 6.
Я не хотел бы упоминать первого гимна „Ригведы", не
отметив того, что он является свидетельством очень древнего
грамматико-поэтического анализа, вполне естественного в тех текстах,
где производился фонетико-поэтический анализ. Этот гимн
положительным образом склоняет имя Агни; в самом деле, трудно
было бы представить себе, что последовательность стихов, из
которых один начинается Agnim ïde7, другой—Agninä rayim
açnavat8, следующие — Agnâye9, Àgne10 и т. д., ничего не должна
сообщить об этом имени бога и что из-за чистой случайности эти
разные падежные формы имени помещены в начало строк гимна.
Благодаря тому, что поэт стремился, в соответствии с
религиозным или поэтическим законом, подражать звукам имена
после того, как ему пришлось различать слоги этого имени, он,
хотя бы и непроизвольно, был вынужден различать разные его
формы, поскольку звуковой анализ, например, верный для формы
agninä8, не был (со звуковой точки зрения) верен для agnim7-
и т. д. С чисто звуковой точки зрения необходимым оказывалось
внимательное отношение к разным видам имени для того, чтобы
выполнить пожелание бога или исполнить поэтический закон...
Меня не удивило бы, если бы оказалось, что грамматическая
наука Индии в обоих ее основных разделах—звуковом и
морфологическом — являлась продолжением индоевропейских традиций,
касавшихся тех приемов, которым надо было следовать в поэзии
при составлении carmen2 с учетом форм имени бога.
640
ГЕРМАНСКИЙ АЛЛИТЕРАЦИОННЫЙ СТИХ
Тогда как ничто не связывает фактов аллитерации в
латинском сатурновом стихе с ритмом стиха—даже если предположить
состояние латинского языка с начальным ударением11, то,
напротив, несомненно, что аллитерирующие начальные слоги в
германских языках (древнеисландском, древнесаксонском,
древнеанглийском и в одном или двух древневерхненемецких текстах) образуют,
так сказать, одно тело вместе с ритмом стиха, потому что а) стих
является ритмическим и основан на словесном ударении, б)
словесное ударение падает на начало слова и, следовательно, в) когда
начало слова подчеркивается равенством согласных, тем самым
подчеркивается и ритм.
Но с исторической точки зрения можно задаться целью
выяснить, нельзя ли считать германскую аллитерацию не
первоначальным типом—по образцу которого в большей или меньшей
степени судили о латинской аллитерации, латинском ритме и
латинском ударении,— нельзя ли совершить умозаключение в
совершенно обратном смысле, предположив, напротив, что в
германском благодаря тем изменениям, которые в нем известны,
совершился переход к форме, ставшей в нем позднее знаменитой
в качестве общей модели стихосложения...12
Точно так же, исходя из этого допущения о том, что
индоевропейская поэзия анализировала звуковую субстанцию слов
(либо для того, чтобы представить ее в виде акустических
последовательностей, либо для того, чтобы представить ее в виде
значащих последовательностей, когда делается намек на определенное
имя), я, как мне кажется, впервые понял знаменитое германское
stab в его тройственном значении: а) палки, б) аллитерирующей
фонемы в поэзии, в) буквы13...
АНАГРАММА В ГРЕЧЕСКОМ ЭПОСЕ?
Несомненно, что даже в том случае, если бы идея анаграмм
в лирических стихотворениях не вызывала больше возражений,
каждый мог бы колебаться по многим причинам, прежде чем
принять ее и по отношению к эпосу.
Я сам признаю, что если эта гипотеза верна, то она
предполагает происхождение эпоса из лирики.
Но, не пугаясь этой гипотезы, просто изложу факты в
следующем порядке, соответствующем ходу развития.
Вначале были только маленькие сочинения, состоявшие из
4—8 стихов. По своему содержанию это были либо магические
формулы, либо молитвы, либо погребальные стихи, а может
быть, и хоровые, то есть, как будто случайно, их состав
соответствовал тому, что мы в своей классификации называем „лирикой".
Vi21 Φ. де Соссюр
641
Но если после долгого наследования коротких отрывков,
бывших исключительно лирическими, поэзия развилась в сторону
эпического повествования, почему мы должны заранее
предположить, что в этой новой форме она утратила все то, что до тех
пор постоянно считалось установленным поэтическим законом?14
Логически, несомненно, можно найти основание для того,
чтобы изменить поэтическую систему при изменении жанра. Но
обычный исторический опыт показывает, что так не бывает.—
А для того, чтобы наилучшим образом доказать, что ни для
какой эпохи не годится этот логический вывод, позволительно
спросить: что мы знаем о логическом основании, которое бы
объяснило появление анаграмм в маленьких лирических
сочинениях, служащих главным источником для наших исследований?
Основанием для появления анаграмм могло бы быть
религиозное представление, согласно которому обращение к богу, молитва,
гимн не достигают своей цели, если в их текст не включены
слоги имени бога. [И если принять эту гипотезу, то и
погребальный гимн сам по себе, поскольку в нем встречается
анаграмма собственного имени умершего, уже является результатом
расширенного употребления приема, вошедшего в поэзию
благодаря религии.]
Но основание могло бы быть и не религиозным, а чисто
поэтическим: в этом случае оно было того же рода, что и
причины, определяющие появление рифм, ассонансов и т. д.
Подобные рассуждения можно было бы продолжить. Так что
оказалось бы, что стремление для любой эпохи объяснить, почему
данное явление существует, заставляет уклониться от сути вещей;
что же касается эпической поэзии, то такой подход к ней
оправдан не более, чем по отношению к другим видам поэзии, если
мы допускаем непрерывность исторической цепи событий,
притом такой цепи, где относительно первого звена мы
положительно ничего не знаем.
Примечание. Здесь я не могу говорить о лесбической
лирической поэзии, потому что все сохранившиеся ее фрагменты
показывают, что она была в высокой степени звукописующей
(phonique), как и следовало этого ожидать, но, по всей вероятности,
не включала анаграмм, то есть не включала звукописи,
направленной на определенное имя и стремящейся воспроизвести это имя.
Наоборот, гомеровская поэзия является звукописующей
(phonique) в том смысле, как мы понимаем анафоническую (anapho-
nique) и анаграмматическую (anagrammatique) поэзию, то есть
такие поэтические произведения, где предполагается, что в них
от времени до времени должны повторяться слоги
определенного имени.
642
Лишь в некоторых стихотворных формулах гомеровская поэзия
переходит к чистой звукописи, не занимаясь проблемой
повторения слогов одного имени.
...Нет никакой возможности дать окончательный ответ на
вопрос о случайности анаграмм, как это показывает следующее
рассуждение.
Самый серьезный упрек, который можно было бы сделать,
заключался бы в том, что есть вероятность найти в среднем
в трех строках, взятых наугад, слоги, из которых можно сделать
любую анаграмму (подлинную или мнимую).
Напротив, лучшее возражение, которое можно было бы
сделать против этого последнего упрека, заключалось бы в
обнаружении таких многочисленных анаграмм, которые можно
построить только в случае, если берется семь или восемь строк (я имею
в виду семь или восемь строк, которые все участвуют в анаграмме,
а не расстояние в семь или восемь строк от данного имени, что
для нас несущественно).
Тогда, идя по тому самому пути, который выбран для того,
чтобы оспорить теорию, можно было бы опровергнуть допущение,
что на протяжении трех строк можно найти любую анаграмму.
И ipso facto* мы попали бы в еще худшую ловушку, чем
в первом случае: потому что теперь, когда доказано, что нельзя
с легкостью построить анаграмму в пределах трех строк, ничто
не мешает сделать следующее возражение, поскольку для
опровержения первого упрека пришлось бы обратиться к шести или
семи строкам:
«Ясно, что вы будете продолжать до тех пор, пока у вас
окажется подряд такое число слогов, что с неизбежностью
анаграмма возникнет случайным образом».
Возражение, Но случай мог бы привести к анаграмме и в трех
строках.
Ответ. Это не так, а лучшее доказательство состоит в том,
что половина анаграмм, которые, по нашему мнению, подлинны,
часто не могут быть получены, если взять меньше шести строк,
а то и гораздо больше.
Реплика. Но тогда, если вы больше не останавливаетесь в
пределах трех строк, вероятность случайного появления анаграммы
увеличивается в такой мере, что все становится возможным.
...И именно изобилие этих данных—в сущности, ничто, кроме
него,--заставляет на мгновение усомниться до чрезвычайности
в том, как отнестись к их совокупности. Все сочетается воедино,
и неизвестно, где же следует остановиться. Так что, приступая
к критической оценке, можно было бы выбирать между четырьмя
альтернативными гипотезами.
* Тем самым (лат.).
643
Во-первых, эти звуковые совпадения неизбежны, и
исследователь является жертвой иллюзии, происходящей от
ограниченности числа слогов в греческом языке. С этой точки зрения
можно сказать, что за вычетом нескольких исключений в конце
слова допускаются только согласные ρ, ν, ς.
Поэтому число слогов типа ρε, να, σο, at, образуемых на таких
стыках слов, как άνή/ρ, έπ/t, άνδρώ/ν, ά/πό и т. д., где согласный
в конце концов оказывается перед начальным согласным
следующего слова, становится настолько большим, что не следовало бы
говорить вовсе об анаграммах, которые включают слоги,
начинающиеся с ρ, ν, ς.
[На это можно ответить, что факты еще более поразительны
там, где речь идет о λ, κ, β и о других элементах, почти
неизвестных в конце слова.]
Согласно второй гипотезе, для меня ничем не отличающейся
от первой, только сознательная игра поэта, например, когда он
повторяет глагол ροιβδειν после χάρυβδος, вызывает время от
времени желанные ему повторы слогов как поэтический образ или
как живописное звукоизображение.
[На это следует ответить, что забота о повторении звука
обнаруживается в наибольшей степени именно в строчках, которые
меньше всего говорят воображению, как, например, стихотворные
формулы. А такие отрывки, как начало „Илиады", представляют
собой не что иное, как непрерывную последовательность явных
повторений слогов на протяжении 6—8 строк.]
Третья гипотеза: наличие одинаковых созвучий бесспорно,
и оно даже необходимо для построения любых двух строк, но
оно при этом остается свободным. Если известно какое-нибудь
слово—или даже без этого предварительного условия,— поэт
должен был стремиться подбирать на определенном протяжении
текста более или менее похожие друг на друга слоги и фонемы
так, чтобы в данном отрывке возникало впечатление сочетаний ах,
ξ, σπ, ψ, σ<ρ, aft, далее, в другом отрывке—впечатление
простых слогов без грубых групп согласных с исходом на λ,
μ, ν...
Эта гипотеза „опаснее" других в том смысле, что она может
оказаться верной и тогда будет угрожать любой гипотезе с более
сильными требованиями.
[В свою очередь и на нее есть ответ. Соответствия, будь то
в согласных или гласных, которые обнаруживаются в
стихотворных формулах, как будто все единообразно основаны на гораздо
более точном правиле, которое не ограничивается общим
разрешением подражать звукам, а дает представление о звуковом
равновесии, определяемом с помощью числа повторяемых
элементов.]
Четвертая гипотеза. Одинаковые созвучия определяются
числами. „
644
ИЗ ЗАМЕТКИ О НЕСКОЛЬКИХ ГЛАВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ
Я не утверждаю, что Вергилий перенял анаграммы из-за
эстетических преимуществ, которые он в них видел, но я хотел
бы подчеркнуть следующее:
1. Никогда нельзя недооценивать силы традиции такого рода.
Многие французские поэты XIX века не писали бы своих стихов
в форме, предвосхищенной Малербом, если бы они были вольны
это делать. Но, кроме того, если привычка к анаграммам уже
была усвоена, такой поэт, как Вергилий, легко должен был
увидеть, что анаграммы кишат в тексте Гомера; он не мог,
например, сомневаться в том, что в отрывке об Агамемноне
такая строка, как ορσας άργαλέων ανέμων άμέγαρτον άυτμήν15, своим
слоговым составом соотносилась с именем 'Αγαμέμνων. В этом
случае, если уж он был подготовлен к анаграммам национальной
традицией, а к ней еще присоединялся ни с чем не сравнимый
авторитет Гомера, можно понять, насколько Вергилий был
расположен не отступать от этого правила и не оказаться ниже
Гомера в том отношении, которое казалось существенным для
последнего.
КОММЕНТАРИЙ
1 В ряде позднейших лингвистических работ по метрике (в особенности в
трудах Е. Д. Поливанова [4]) было показано, что языковым условием использования
аллитерационного стиха является наличие обязательного начального ударения.
2 Лат. carmen „стихотворение, песня, заклинание" (от корня *kan „петь":
carmen< *kan-men) Соссюром используется и в более широком смысле для
обозначения поэтического текста не только на латинском, но и на других древних
индоевропейских языках.
3 Kavis — форма именительного падежа мн. ч. др.-инд. kavi „мудрец, поэт".
Предположение Соссюра об индоевропейском происхождении функций индийских
kavi- согласуется с тем, что это же слово обозначает „жреца — составителя
поэтического текста", и в других индоевропейских традициях, где видят следы
общеиндоевропейской поэтики, в частности в позднеанатолийской лидийской традиции,
где обнаружены следы индоевропейского метра [17] и где слово kave означает
жреца — составителя метрического текста.
4 Лат. vâtês „пророк", „вдохновенный песнопевец", образовано от
индоевропейского корня *wat-, имеющего значение жреческого экстаза (отражается в имени
древнегерманского бога Вотана — Одина, культ которого обнаруживает шама-
нистские черты).
5 Др.-инд. Agni Angiras— бог „Агни Ангирас" (бог огня, имя которого
родственно русск. огонь, лат. ignis) как полубог — посредник («медиатор» в терминах
Леви-Стросса) между богами и людьми. Ангирас — мифологический прародитель
поэтов [5, стр. 271; см. об анаграммах в этом гимне там же, стр. 270 и стр. 77—78].
6 Эта идея Соссюра, как и его гипотеза об анаграмматическом способе
построения ведийских гимнов, получила блистательное подтверждение в недавнем
исследовании В. Н. Топорова [6], который (еще не зная об этих записях Ф. де Соссюра)
раскрыл строение ведийского гимна богине Речи — Vâc- („Ригведа", X, 125, ср.
[5, стр. 396—397]). Как и следовало ждать по гипотезе Соссюра, самое это имя
богини в тексте отсутствует, но воссоздается всей его звуковой структурой, причем
все строки гимна как бы дают отблеск ключевого слова — имени» что можно
видеть из статистики встречаемости соответствующих звукосочетаний.
7 Др.-инд. Agnim ïde (île) „Агни призываю я", 1 л. ед. ч. медиума („Ригведа",
I, 1,1) [5, стр. 93], где имя бога Агни стоит в винительном падеже ед. ч.
8 Др.-инд. Agninâ rayim açnavat,, с помощью Агни пусть достигают
(конъюнктив) богатства" („Ригведа", I, 1.3), [5, стр. 93], где имя бога стоит в творительном
падеже ед. ч.
646
9 Др.-инд. Agnâye —дат. п. ед. ч. от имени Агни (в первом гимне „Ригведы"
не представлен; здесь Соссюр, очевидно, имеет в виду другие подобные гимны).
10 Др.-инд. Agne „О, Агни" („Ригведа", 1.1.4) — зват. п. ед. ч. от имени Агни.
11 Судя по этой оговорке, Соссюр не разделял предположения о
динамическом характере латинского ударения, принятого в его время многими
лингвистами, но позднее опровергнутого, ср. [7]. Ср. также выше, прим. 1.
12 К предположению о возможности индоевропейских истоков германского
аллитерационного стиха в недавнее время пришел Леман [14].
13 Далее Соссюр излагает свою гипотезу о подсчете фонем в стихе посредством
палок, обозначавшихся термином, из которого произошло рунич. stAba —
„руническая палочка, руна", др.-исл. stafr „палка, посох", гот. stafs „буква", др.-англ.
stœf „посох, палка, буква", нем. Stab. По словам Соссюра, он рассматривал
значение „stab- = фонема как отражающее период до возникновения письменности"
[25, стр. 40].
14 Предположение о монтировании греческой эпической строки из
первоначальных небольших частей, соответствующих ранним лирическим метрам (в
частности, паронимическому), высказывается в работах по сравнительной метрике [26].
15 400-я строка 11-й главы „Одиссеи" (во французском издании заметок
Соссюра воспроизведена неточно) в вольном переводе Жуковского: «Бурные волны
воздвигшим на бездне морской». Анаграмматические построения в
древнегреческой поэзии независимо от Соссюра были установлены в исследованиях
30-х гг. нашего века, выполненных проф. О. М. Фрейденберг.
БИБЛИОГРАФИЯ К РАЗДЕЛУ «АНАГРАММЫ»
1. Л. С. Выготский, Психология искусства, изд. 2-е, М., «Искусство»,
1968, стр. 514.
2. Вяч. Вс. Иванов, Заметки по сравнительно-исторической
индоевропейской поэтике, в кн.: «То honor Roman Jakobson», vol. II, s'Gravenhage, 1967.
3. Вяч. Be. Иванов, О языковых причинах трудностей перевода
художественных текстов, в сб.: «Актуальные проблемы теории художественного
перевода», т. 2, М., 1967.
4. Е. Д. Поливанов, Общий фонетический принцип всякой
поэтической техники, «Вопросы языкознания», 1963, № 1, стр. 99—112.
5. «Ригведа. Избранные гимны». Комментарий и вступительная статья
Т. Я. Елизаренковой, М., 1972, стр. 77—78, 93, 270—271, 396—397.
6. В. Н. Топоров, К описанию некоторых структур,
характеризующих преимущественно низшие уровни, в нескольких поэтических текстах. III.
Об одном примере звукового символизма («Ригведа», X, 125), «Ученые записки
Тартуского государственного университета», вып. 181, «Труды по знаковым
системам», II, Тарту, 1965, стр. 318.
7. И. М. Тройский, К вопросу о латинском ударении, в сб.: «Памяти
академика Л. В. Щербы», Л., 1951.
8. Е. Benveniste, Les lettres de F. de Saussure à A. Meillet. —
«Cahiers Ferdinand de Saussure», XXI, 1964, стр. 89—190.
9. Ε. Campanile, Note sur Saturnio, «Ann. Scuola Normale Sup. di
Pisa», ν. 32, 1963, стр. 191—197.
10. T. Cole, The Saturnian verse.— «Studies in Latin Poetry» («Yale Classical
Studies», vol. XXI), Cambridge University Press, 1969, стр. 1—75.
11. R. Jakobson, Selected writings, vol. IV, The Hague — Paris, 1966.
12. R. Jakobson, L. С Jones, Shakespeare's verbal art, The Hague —
Paris, 1970.
13. R. Jakobson, La première lettre de Ferdinand de Saussure à Antoine
Meillet sur les anagrammes, «L'Homme», vol. XI, 1971, fas. 2, стр. 15—24.
14. W. P. Lehmann, The development of Germanie verse form, Austin,
1956.
648
15. С. Lévi-Strauss, Mythologiques, [τ.] IV, L'homme nu, Paris, 1971,
стр. 581—582.
16. A. Meillet, Origines indo-européennes des metres grecques, Paris, 1923.
17. G. Miller. Traces of Indo-European metre in Lydian.— «Studies
presented to Professor Roman Jakobson by his students», Cambridge (Mass.), 1968, стр.
207—2221.
18. G. Nava. Les lettres de F. de Saussure à G. Pascoli.—«Cahiers Ferdinand
de Saussure», XXIV, 1968.
18a. F. Rastier, A propos du Saturnien, «Latomus. Revue d'études latines»,
vol. 29, № 1, 1970, стр. 3—24.
19. R. Schmitt, Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit,
Wiesbaden, 1967.
20. J. Starobinski, Les anagrammes de Ferdinand de Saussure.— «Mercure
de France», février, 1964, стр. 243—262.
21. J. Starobinski, Les mots sous les mots: textes inédits des cahiers
d'anagrammes de F. de Saussure.— «To honor Roman Jakobson», The Hague —
Paris, 1967, стр. 35—37, 37—38, 38—39, 59—60, 126—127.
22. J. Starobinski, Le texte dans le texte. Extraits inédits des cahiers
d'anagrammes de Ferdinand de Saussure, «Tel Quel», № 37, 1969.
23. J. Starobinski, Le nom caché.— «L'analyse du language
théologique. Le nom de Dieu», Paris, 196Э.
24. J. Starobinski, La puissance d'Aphrodite et le mensonge des
coulisses. Ferdinand de Saussure lecteur de Lucrèce, «Change», 6, Paris, 1970.
25. J. Starobinski, Les mots sous les mots. Les anagrammes de
Ferdinand de Saussure, Paris, 1971.
26. С Watkins, Indo-European metrics and archaic Irish verse, «Celtica»,
vol. VI, 1962.
27. C. Watkins, Language of gods and language of men: remarks on some
Indo-European metalinguistic traditions.—«Myth and Law among the
Indo-Europeans. Studies in Indo-European comparative mythology», ed. by J. Puhvel,
Berkeley — Los Angeles — London, 1970.
28. M. L. West, Indo-European metre, «Glotta», 51, № 3—4, 1973.
29. P. Wunderli, F. de Saussure: 1-er cahier a lire préliminairement,
«Zeitschrift für französische Sprache und Literatur», 82, 1972, № 3.
30. P. Wunderli, Ferdinand de Saussure und Anagramme, Tübingen,
1972.
31. Вяч. Be. Иванов, Очерки по истории семиотики в СССР, М., 1976,
стр. 251—267.
32. В. С. Баевский, Фоника стихотворного перевода: анаграммы,
в кн.: «Проблемы стилистики и перевода», Смоленск, 1976, стр. 41—50.
л. л. холодович
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР
Жизнь и труды
I
Фердинанд-Монжен (Mongin) де Соссюр родился 26 ноября 1857 года в
Женеве. В смутную эпоху религиозных войн XVI века его предки родом из Соссюр-
сюр-Мозелота (Соссюра на Мозелоте, приток Мозеля [Saulxure-sur-Moselotte]),
протестанты по своим религиозным убеждениям, покинули Лотарингию и
эмигрировали в Швейцарию, где после долгих странствий обосновались в Женеве.
Фердинанд де Соссюр не был первым ученым в роду де Соссюров. Его
прапрадед Никола де Соссюр (1709—1791) сотрудничал в знаменитой Энциклопедии;
извлечения из Энциклопедии были впоследствии опубликованы им в виде отдельной
книги «Vignes, raisins, vendanges et vins» („Виноградники, [сорта] виноград[а],
сбор винограда, [виноградные] вина"), вышедшей в 1778 году в Лозанне. Видным
естествоиспытателем, основоположником описательной геологии и первым
исследователем геологического строения Альп был его прадед Орас-Бенедикт де Соссюр
(1740—1799), почти четверть века занимавший должность профессора
натурфилософии в Женевском университете. Два минералогических термина — соссюрит
(название одного из минералов) и соссюритизация (название одного из процессов
преобразования в минералогии) — обязаны своим существованием его имени 1.
Дед Ф. де Соссюра Никола-Теодор де Соссюр (1767—1845), видный физик, химик
и геолог, получил широкую известность своими работами по физиологии растений:
он первым установил, что в процессе дыхания растения поглощают кислород, а на
свету усваивают из углекислоты углерод с выделением кислорода; он также
открыл, что минеральные вещества почвы поступают в растения через корни 2.
Прабабка Ф. де Соссюра, сестра Никол а-Теодор а де Соссюра,
Альбертина-Адриенна де Соссюр (1766—1841) была образованнейшей женщиной Швейцарии того
времени: друг знаменитой французской писательницы де Сталь, многих немецких
романтиков, близкий человек Адольфа Пикте, первого учителя Ф. де Соссюра,
переводчица ряда произведений В. фон Шлегеля, она сама была автором книги
«Education progressive» („Прогрессивное воспитание"). В одном из сохранившихся
ее писем к А. Пикте она в 1822 г. говорит о необходимости для ученого уметь
сочетать собирание большого числа эмпирических фактов с конструированием
систем — идея, характерная для Ф. де Соссюра уже в самом начале его научной
деятельности.
Примечательна личность и дяди Ф. де Соссюра, Теодора де Соссюра (1824—
1903), сыгравшего, по-видимому, немалую роль в судьбе Ф. де Соссюра в перелом-
1 Об О.-Б. де Соссюре см. В. В. Белоусов, О.-Б. де Соссюр — первый
исследователь строения Альп (к 200-летию со дня рождения), „Природа", I, 1940.
2 О Н.-Т. де Соссюре как физиологе растений см. К. А. Тимирязев,
Сочинения, т. 8, Москва, 1939.
650
йый период его жизни (1890—1891 гг.). Артиллерийский полковник, на
протяжении полувека мэр Жанту (Genthod), летней резиденции Соссюров с 1723 года,
дважды депутат Генерального совета, Теодор де Соссюр умело сочетал общественную
деятельность с разносторонними научными интересами. Он был президентом
швейцарского общества· искусств, основателем и президентом швейцарского общества
исторических памятников, автором двух работ о французском языке и об
орфографии собственных имен. Его младший брат Анри де Соссюр (1829—1905), отец Ф. де
Соссюра, в молодости совершил длительное путешествие с научными целями на
Антильские острова, в Мексику и Соединенные Штаты Америки; из этой поездки
он вернулся с богатейшими энтомологической и минералогической коллекциями.
В дальнейшем он посвятил всю свою жизнь геологии. Явным отзвуком далеко не
гуманитарных интересов, господствовавших в роду Соссюров, в частности
интересов его отца, являются неоднократные ссылки Ф. де Соссюра в его „Курсе общей
лингвистики" на геологию (см. часть первая, глава III, §§ 1 и 2: упоминание
геологии и астрономии при противопоставлении наук, оперирующих понятием
значимости, наукам, в основе которых отсутствует это понятие; см. также часть пятая,
глава I: сопоставление ретроспективного метода эволюционной лингвистики с
ретроспективной геологией). Как увидим ниже, с теми же устойчивыми интересами,
господствовавшими в семье Соссюров, был связан и выбор им специальности при
поступлении в Женевский университет.
Учеными были и братья Фердинанда де Соссюра — Леопольд де Соссюр
(1866—1925), специалист по вьетнамскому и китайскому языкам, а также по
древнекитайской астрономии 3, и Рене де Соссюр (1868—193?), математик, а также
автор ряда работ по проблеме естественных и искусственных языков. Кажется,
только одному из братьев были чужды научные интересы — Орасу де Соссюру
(1859—1926), художнику — портретисту и пейзажисту. Его кисти принадлежит
портрет (масло) его старшего брата Фердинанда де Соссюра. Этот портрет,
запечатлевший Ф. де Соссюра в Парижский период его жизни, хранится ныне в замке
Вюффлан (Vufflens), где провел свои последние дни великий лингвист; он является
собственностью Жака де Соссюра.
II
Несмотря на господствующие в роду Соссюров естественно-научные интересы,
самого Ф. де Соссюра уже в раннем детстве влекло не естествознание, а наука о
языке. Этот интерес поддерживался рядом благоприятных обстоятельств: к
услугам юного де Соссюра было богатое собрание книг в библиотеке его деда с
материнской стороны Александра-Жозефа Пуртале. Общение с ним на почве
этнологических и этимологических интересов, правда довольно поверхностных («Он был
полон идей при полном отсутствии какого-бы то ни было метода»,— пишет о нем де
Соссюр), укрепляло рано возникший у Ф. де Соссюра интерес к языкознанию:
«Меня всегда влекла к себе лингвистика» и «пищу моим вкусам я находил в
библиотеке моего деда со стороны матери ..., а также в беседах с ним»,— писал
в 1903 году в своих воспоминаниях Ф. де Соссюр.
Недалеко от Соссюров, на загородной вилле в Маланьи (Malagny), вблизи
Женевы, жил престарелый Адольф Пикте (1799—1875). Исключительно
разносторонний ученый — математик, лингвист и философ,— большой знаток искусств и
литературы, «ученый и в то же самое время поэт» (Ф. де Соссюр), он был
основоположником лингвистической палеонтологии на базе индоевропейских языков 4.
Лингвистические интересы Пикте сблизили с ним молодого Соссюра.
«Когда мне было не то 12, не то 13 лет [то есть в 1869 или 1870 г.— А. X.],
3 «Китайская литература по астрономии, как и по медицине, делится на
туземную и европейскую (на китайском языке) и заключает в себе все данные для
вклада в мировую науку, что и обследовано с некоторой полнотой европейцами
(Соссюр, Л.)» ([Академик] В. М. Алексеев, Китайская литература, „Китай",
1940, стр. 292).
4 См. его фундаментальную двухтомную работу „Les origines
indo-européennes on les Aryas primitifs. Essai de paléonthologie linguistique", 1859, 1863.
651
я часто встречался с Пикте,— вспоминает об этом времени Соссюр,— ... не
осмеливаясь надоедать старику вопросами, я тем не менее питал безотчетное
восхищение, столь же глубокое, сколь и наивно-детское, к его книге [по
лингвистической палеонтологии.— A, X.]t из которой я серьезно проштудировал несколько
глав». Позже, в 1878 году, Соссюр публикует в трех номерах „Journal de Genève"
(от 17, 19 и 25 апреля) пространную рецензию на только что вышедшее второе
издание лингвопалеонтологической работы Пикте, которая выливается в обширный
и исчерпывающий обзор всей многогранной деятельности этого ученого и в
восторженную характеристику его личности. И в своем „Курсе общей лингвистики"
де Соссюр посвящает Пикте несколько благожелательных строк: «Его работа
„Происхождение индоевропейцев",— пишет Ф. де Соссюр,— послужила образцом
для многих других, и она до сих пор остается самой увлекательной из них».
Адольф Пикте был первым собеседником юного Соссюра не только по
вопросам лингвистики. Трудно предполагать, чтобы Пикте, ученик и друг Гегеля и
Шеллинга, приятель В. фон Шлегеля, близкий друг и сотрудник Кузена, человек
чрезвычайно разносторонних интересов, не повлиял бы на Соссюра и этими, не
узколингвистическими сторонами своей личности. Не лишено основания
предположение, что формулировка знаменитых дихотомий, по существу антиномий,
противоречий языковой деятельности (язык — речь, синхрония — диахрония и т. д.),
осуществленная Соссюром на склоне его жизни, не обошлась без воздействия
Гегеля. И промежуточным звеном между Гегелем и де Соссюром был, несомненно,
Пикте.
А. Пикте был не только первым собеседником, но и первым читателем Соссюра.
Не то в 1872, не то в 1874 году (Соссюр называет первую дату, Балли — вторую,
но более достоверной является, видимо, все же дата Соссюра: в 1874 году, как об
этом свидетельствует открытие носового сонанта (см. ниже), Ф. де Соссюр был
более зрелым теоретически) Соссюр «почувствовал себя готовым к тому, чтобы
набросать „общую систему языка"». Она не дошла до нас, но воспоминания де Соссюра
сохранили нам ее название: в одном месте он называет ее „Опыт о языках" („Essai
sur les langues"), в другом—„Общая система языка" („Systeme général du langage").
Ее держал в руках Балли и даже процитировал из нее фрагменты, сперва в
некрологе (вернее, во вступительной лекции, посвященной памяти Ф. де Соссюра и
прочитанной при вступлении на должность, оставшуюся вакантной после смерти
своего учителя) 5, а позже в третьем издании своей книги „Язык и жизнь" 6.
Идея работы («этого ребячества», согласно оценке самого Соссюра) —
типичной для XVIII века конструкции — состояла в том, чтобы свести все многообразие
лексического состава всех языков к ограниченному корнеслову с трех-, а
первоначально и с двухсогласной структурой и, видимо, с мотивированным отношением
к означаемому: например, группа корней типа R — К должна была, согласно
этой идее, быть «универсальным знаком самовластия (prépotence)», группа корней
типа Ρ — N — К — «универсальным знаком удушья, дыма» и т. п.
Адольф Пикте отнесся к первой пробе пера гимназиста иронически, но вместе
с тем доброжелательно: «Мой юный друг,— якобы сказал он Соссюру,— вы, я
вижу, взяли быка прямо за рога». В общем же, как признался потом Соссюр,
«нескольких добрых слов оказалось вполне достаточно, чтобы решительно отбить
у меня всякую охоту ко всякой универсальной теории языка». Знаменательные
слова, изобличающие определенную черту склада характера Соссюра, который
будет вести себя в дальнейшем в аналогичных условиях аналогичным образом.
«Я,— заключает он,— забыл о языкознании на два года, сытый по горло
неудачным опытом». Позже такие интервалы «забвения» будут становиться все более
длительными.
Когда Ф. де Соссюр писал свою первую работу, он был еще гимназистом: в
Женевскую гимназию он поступил в 1873 году, потеряв до этого год в колледже, так
как ему еще не исполнилось необходимых для поступления в гимназию полных
пятнадцати лет (перед поступлением в колледж Ф. де Соссюр учился в течение года
5 Ch. Bally, Ferdinand de Saussure et l'état actuel des études
linguistiques, Genève, s. d. [1913].
6 Ch. Bally, Le langage et la vie, 3e éd., Genève, 1952.
652
[в 1870—1871 г.] в частном пансионе Мартэна, где он получил первоначальные
знания по греческому языку — по грамматике Гааза).
Уже в школьные годы Ф. де Соссюр самостоятельно изучает санскритский
язык — по грамматике Боппа — в дополнение к тем двум классическим языкам —
латинскому и греческому,— которые изучались в гимназии и знания по которым
он углублял, штудируя самостоятельно Курциуса. Возможно, что в эти же годы
он устанавливает первые контакты с Полем Ольтрамаром (Oltramare),
профессором Женевского университета, латинистом и индологом. И все же знания
Фердинанда де Соссюра остаются пока однобокими: он не имеет никакого представления
о германских языках, даже о готском; по его собственному признанию, о
индоевропейском языке он имеет самое смутное представление. И тем не менее
результатом его размышлений над санскритом и классическими языками была гипотеза
о носовом сонанте в индоевропейском языке. Позже он рассказал, каким образом
возникла эта гипотеза. Во время чтения на уроке в колледже Геродота, вспоминал
Ф. де Соссюр, он наткнулся на абсолютно новую форму 3-го лица множественного
числа τετάχαται, не предусмотренную школьной грамматикой, которая опиралась
на аттические формы. Составив пропорцию λεγόμεθα: λέγονται = τετάχμεΦα: х
и определив из нее, что х = τεταχΝταΐ, он, исходя из того, что в геродотовском
тексте х = τετάχαται, легко установил тождество τεταχΝταΐ = τετάχαται, а
следовательно, и равенство N = а, то есть сонантный характер носового. И это
сделано было Соссюром тогда, когда ему было всего 16 лет, за три года до
аналогичного открытия, сделанного Бругманом. В своих воспоминаниях де Соссюр
рассказал и о том, как позже, уже в гимназии, его внимание привлекла
контроверза Курциус — Бопп: первый большое число случаев типа τατός относил
к корням на η (!). Это обстоятельство довольно просто увязывалось с результатом
решения приведенной выше пропорции, составленной еще в колледже, и гипотеза
принимала очертания теории носового сонанта, чему способствовало обнаружение
у Боппа того факта, что в санскрите был плавный сонант г, и таким образом,
естественно, получалась новая пропорция bhar: bhçtas = tatos : *tgtas.
Рассказывая о геродотовском τετάχαται, Соссюр поведал нам, так сказать,
о «нижней границе» своего открытия. Рассказывая в своих «воспоминаниях» о
своих беседах с учеником Курциуса, приват-доцентом Женевского университета
Л. Морелем, на тему о том, что мог говорить Курциус («поскольку Вы его
слушали»), относивший случаи типа μεμαως к корням с п, об α в τετάχαται, τατός,7
Соссюр давал нам сведения как бы о «верхней границе» даты открытия им носового
сонанта. Однако в одной из первых его работ— „Essai d'une distinction des
différents a indoeuropéens" („О различных a в индоевропейском (пра)языке"),—
опубликованной в MSL в 1877 г., когда Ф. де Соссюр уже был в Лейпциге, о носовом
сонанте не говорится ни слова. Ф. де Соссюр явно отказывается от этой идеи,
никогда и нигде им не «застолбленной». О том, что этот отказ имел место, Ф. де
Соссюр рассказал с явным сожалением о случившемся буквально по свежим следам
на первых же страницах своего „Мемуара": «Я должен отказаться от целого ряда
положений, которые я выдвинул в своей работе „Essai d'une distinction des
différents a indoeuropéens", опубликованной в MSL. В частности, сходство Ar с
фонемами, восходящими к с, заставило меня тогда, хотя и с большой неохотой, отбросить
теорию носовых и плавных сонантов, к которой я вновь возвращаюсь по зрелом
размышлении». Но о том, почему же Ф. де Соссюр отказался «тогда», мы узнали
только после его смерти, когда прочли его неопубликованные „Воспоминания".
7 „Воспоминания" (1903 г.) не были предназначены для печати, сохранились
лишь в черновом виде, а фраза, в которой говорится о беседе с Морелем, не
закончена, и таким образом в части, касающейся Курциуса, не дописана, но ее легко
можно реконструировать из окружающего контекста. Кроме того, эти
„Воспоминания" не следует путать с «Соображениями» об основных идеях „Мемуара",
написанными Соссюром в том же, 1903 году по просьбе Штрайтберга, который
воспроизвел их в своих «Notices». Не дошедшие до нас «Соображения» — это
анализ „Мемуара". Черновик „Воспоминаний" — это фрагмент автобиографии,
где большое внимание уделяется Лейпцигскому периоду и взаимоотношениям
Соссюра с немецкими учеными.
653
оказывается, прочитав в 1876 году в санскритской грамматике Sonna, что не
следует обращать внимания на скр. ζ и что греч. φερτός, несомненно,
свидетельствует против bhçtas, Φ. де Соссюр тут же отказывается от гипотезы о носовом
сонанте η и от дальнейших поисков ее подтверждения. Он признается, что
суждение Боппа «произвело непредвиденно колоссальное действие на мое боязливое
воображение, робкое с тех пор, как я осознал благодаря своему злосчастному
„Опыту о языках", что необходимо следовать авторитетам и не соваться со своими
собственными теориями». Как тут не вспомнить о зрелом Соссюре, о Ф. де
Соссюре — «авторе» „Курса"! Поразительна аналогия психологического состояния!
Поразительна аналогия результатов. Тут — отречение от написанного. Там —
отречение от сколько-нибудь серьезной попытки оставить что-либо написанное.
Достаточно для этого вспомнить состояние архива Соссюра: 99 тетрадей об
анаграммах и три жалких тетрадки — «зеленая», «синяя», «черная», едва начатые —
о материях „Курса"!
В 1875 г., окончив гимназию, Ф. де Соссюр поступает в Женевский
университет. Уступая желанию родных, он явно против своей воли начинает
специализироваться по естественным наукам, слушает физику, химию. На занятия по
предметам гуманитарного характера остается совсем мало времени. Правда, он
посещает лекции по философии, по истории искусства. Сложнее обстоит дело с
предметами его непосредственных интересов — языкознанием и конкретными
индоевропейскими языками. Женевский университет того времени мало что мог
предложить для устранения тех серьезных пробелов, которые имелись в его образовании,
не носившем систематического характера. Кафедру лингвистики и филологии
занимал уже два года главный раввин Женевы Ж· Вертгеймер, сменивший за два
года до поступления Ф. де Соссюра в университет Краусса, который ту же материю
преподносил своим слушателям сперва под именем «филологии», а затем под именем
«сравнительного языкознания». Вертгеймер, автор одной-единственной брошюрки,
которая целиком воспроизводила лекцию, прочитанную при вступлении на
должность 30.X. 1877 г. и представляющую собой беззастенчивый пересказ одной из
работ Мишеля Бреаля, остался в памяти потомков не делами своей жизни, а
датой своей кончины, обессмертившей имя Ф. де Соссюра (именно тогда Фердинанд де
Соссюр начал чтение своего бессмертного „Курса"). В этом же, 1877 году молодой
Соссюр слушал лекции приват-доцента Луи Мореля. Луи Морель не был
оригинальным ученым; читая студентам курс грамматики греческого и латинского
языков, он дословно повторял аналогичный курс, который читал в Лейпциге Георг
Курциус и который за год до этого он сам прослушал у него. Этот год для Соссюра
был потерян. Оставаться в Женеве больше не имело смысла.
За несколько месяцев до того, как покинуть родину, восемнадцатилетний
Соссюр пишет Бергеню (Bergaigne), секретарю основанного в 1865 году
Парижского лингвистического общества, письмо, в котором сообщает о своем желании
вступить в члены этого общества. 13 мая 1876 года его прошение удовлетворяется.
По-видимому, в это же время он направляет в „Записки" этого общества (MSL)
свои первые четыре из шести статей и заметок, которые и появляются (вместе с
двумя, написанными позже) на страницах „Записок" летом 1877 г., когда Ф. де Соссюр
был уже в Лейпциге. В числе заметок оказывается, как пишет в своих
воспоминаниях Ф. де Соссюр, и одна, «глупая, о суффиксе -t-»; в ней, признается Ф. де
Соссюр, «я в каждой строчке боялся сказать что-либо такое, что не было бы
согласно с Боппом, который был тогда моим единственным учителем». Признание очень
характерное: Соссюр еще стоит на старых позициях. Лучшая из этих шести статей
и заметок — уже упомянутый «Опыт о различных а в индоевропейском
(пра)языке»,— написанная, по-видимому, в конце 1876 г. и доложенная 21 июля 1877 г. на
заседании общества, а затем опубликованная в „Записках", хотя и имеет
непосредственное отцошение к его гениальному „Мемуару" и, по утверждению А. Мейе,
уже содержит, «важнейшие новые идеи», все же не позволяет еще догадываться
о той молниеносной эволюции,· которую вот-вот проделает Фердинанд де Соссюр
за какие-нибудь полтора — два года. Как говорит Штрайтберг, в этой, как и в
других пяти статьях, «еще не видно когтей льва»...
654
III
«Barbarus hic ego sum, quia noil
intelligor illis». (Ovidius)8
ß октябре 1876 г. Фердинанд де Соссюр на целых пятнадцать лет покидает
родной город, свое отечество. Он окончательно отказывается от мысли быть
естествоиспытателем, и родные не мешают ему в его выборе. Соссюр едет в Германию,
в Лейпциг. Начинается лейпцигский период его жизни (осень 1876 — середина
1880 г.). Выбор Лейпцига был случаен. Штрайтберг, основываясь на том варианте
«Воспоминаний» Соссюра, который он получил от него в 1903 г., объясняет этот
выбор тем, что там, в Лейпциге, учились и туда звали его друзья. Однако из
имеющихся в нашем распоряжении черновых набросков воспоминаний видно, что
выбор Лейпцига и Лейпцигского университета был сделан родителями Ф. де
Соссюра, которые предпочли, чтобы их сын не оказался предоставленным самому себе
в чужом городе, и назвали Лейпциг только потому, что там продолжали свое
образование многие женевские друзья Соссюра (Л. Готье, Р. Готье, Э. Готье, Э. Фавр).
Так или иначе, но чистая случайность привела Ф. де Соссюра в эпицентр бурного
движения в лингвистике, возникшего буквально на глазах Ф. де Соссюра и
получившего, с легкой руки Царнке, шуточное название младограмматического,—
название, которое с тех пор так и осталось за ним всерьез. «Результатом его (этого
движения.— А. X.) было почти полное изменение лица сравнительной грамматики
индоевропейских языков не только в отношении методов, но еще более
непосредственным образом — в утверждении ряда фактов, которые эта дисциплина не видела,
создав себе ложное представление о фонетическом состоянии языка, который
лежит в основе ее исследований» (Ф. де С о с с ю р, Воспоминания).
В Лейпцигском университете в это время сконцентрировались наиболее
выдающиеся лингвисты как домладограмматического, так и младограмматического
направлений. Здесь завершал свою деятельность Георг Курциус — один из
последних представителей бопповского языкознания. Здесь с 1870 г. занимал первую
в Германии кафедру славянской филологии Август Лескйн (1840—1916), первым
сформулировавший некоторые основные принципы нового направления. Здесь
преподавали его ученики — Георг Остгоф (1847—1909?) и Карл Бругман (1849—·
1919), выступившие со своего рода манифестом младограмматиков в 1878 г., в том
самом году, когда Соссюр опубликовал самое выдающееся свое произведение —
„Мемуар" (не считая „Курса", который, как известно, был составлен Балли и Се-
ше по конспектам слушателей Соссюра).
В Лейпцигском университете Соссюр числился студентом с октября 1876 г.
по июль 1878 г. Что же делал в университете приехавший учиться в Лейпциг Ф. де
Соссюр? Поразительно, но университетские лекции, за исключением курса
Курциуса, который он посещал регулярно и даже сделал на одном из семинаров
Курциуса, не будучи его участником, два доклада (об одном из этих докладов нам придется
говорить ниже), он, по его собственному признанию, посещал редко, «и даже очень
редко», подчеркивает Ф. де Соссюр в своих воспоминаниях. Нам известно, что
время от времени он посещал курс литовского и старославянского языка у
Лескина, кстати, опубликовавшего как раз в 1876 г. немецкий перевод книги
американского лингвиста Уитни "Life and growth of language" (London, 1875). Нам
известно, что он занимается древнеирландским у Виндиша (1844—1918), посещает
privatissimum по древнеперсидскому у Гюбшмана, довольно аккуратно ходит на
занятия по истории немецкого к Брауне. Известно, что он совершенно не слушает
санскрит, почти совсем не посещает занятия по германским языкам, в том числе и
по готскому, то есть по языкам той семьи языков, которой он совершенно не
занимался в Женеве и которая позже — в Парижский и последний, Женевский,
периоды его жизни — будет занимать одно из центральных мест в его педагогической
деятельности.
8 «Я здесь чужеземец, ибо никто меня не понимает» (Овидий, Тристии, V.
Элегия X, стих 37).
655
Особый интерес, естественно, вызывает отношение Ф. де Соссюра к курсам
сравнительной грамматики индоевропейских языков, к занятиям, которые вели
Остгоф и Бругман. В своих воспоминаниях Ф. де Соссюр явно нарочито
подчеркивает, что у Остгофа-де он был только на первых занятиях, когда именно это было,
он точно припомнить не может, о чем тот читал, и вовсе не помнит, да к тому же
и сам Остгоф, мол, вскоре отбыл из Лейпцига, так что с него, с де Соссюра, и
взятки гладки. Точно так же явно нарочито Ф. де Соссюр заявляет, что у Бругмана
он слушал только одну лекцию, да и то лишь на втором году обучения, а
посещения его лекций были прерваны по причинам, о которых Соссюр обещает
рассказать нам позже (но так и не рассказывает): в черновом наброске воспоминаний
никаких следов этого нет. Чувствуется, что к Остгофу и Бругману у Ф. де Соссюра
отношение особое, его можно определить как отношение противоборства; при этом
специально подчеркивается полное безразличие к тому, что они говорили или
читали. В этом наброске подробно и с очевидным удовольствием описывается один
из эпизодов, рисующих Бругмана с невыгодной стороны: «Когда в 1877 г.,— пишет
Соссюр,— я сделал на семинаре Курциуса ... сообщение о том, что а обычно
чередуется с а, Бругман не присутствовал на нем, но на следующий день, встретив
меня на втором университетском дворе, он подошел ко мне и спросил у меня
дружески, как о вещи, которая его заинтересовала (привожу буквально то, что
сказал Бругман): ob noch weitere Beispiele als stator : status, mater : päter wirklich
für diesen Ablaut vorliegen (существуют ли реально для этого аблаута другие
примеры помимо status : stator, päter : mäter). Когда сегодня рассказываешь о
том, как Бругман спросил, есть ли для аблаута а : ä еще другие примеры, помимо
трех, то на тебя смотрят как на сочинителя нелепейшей басни... Итак, повторяю,
характерно, что в 1877 году сам Бругман не знал хорошо, много ли примеров
имеется для одного фрагмента аблаута, каковым является а : а, который показался
ему даже в принципе новым (все, что касается 5, явно взято из моего Мемуара)».
Отношение к Остгофу и Бругману чувствуется ужена страницах „Мемуара",
особенно в добавлениях и исправлениях, приложенных к „Мемуару". Достаточно
привести в качестве примера хотя бы такой пассаж, показывающий, как взаимное
недоброжелательство рождалось буквально в процессе издания „Мемуара":
«Когда эта работа печаталась,— пишет де Соссюр,— вышел в свет первый том
„Морфологических разысканий" („Morphologische Untersuchungen") Остгофа и
Бругмана. В ссылке на стр. 238 Остгоф, как видно, признает существование гласного,
который мы обозначаем как а и который он даже обозначает точно так же, как
мы. Идея, которую Остгоф развивает относительно морфологической роли этого
гласного, а также по поводу его отношения к долгому а, является той самой
идеей, против которой мы сочли нужным предостеречь читателя § 11 нашей
работы. Мы можем только отослать его к § И, чтобы дать возможность самому
оценить те доводы, на наш взгляд решающие* которые говорят против такого
способа рассмотрения предмета».
Любопытно, что о мотивах, побудивших его манкировать лекциями Бругмана
и Остгофа, Соссюр рассказывал еще задолго до того, как в 1903 г. набрасывал
черновик своих „Воспоминаний". О них, этих мотивах, он, по-видимому, говорил и
Бодуэну де Куртенэ во время своих парижских встреч и бесед с ним. Иначе были бы
непонятны источники следующего места из работы Бодуэна де Куртенэ „Николай
Крушевский, его жизнь и научные труды" (1888), где Бодуэн де Куртенэ,
выговаривая Крушевскому за его неосновательное знание литературы предмета,
противопоставлял ему Соссюра Лейпцигского периода: «Так же (то есть подобно
Крушевскому.— А. X.) и Соссюр, увидев, что его мысли работают в том же направлении,
какое он заметил на лекциях Бругмана, перестал слушать эти лекции, чтобы быть
в своих .исследованиях совсем самостоятельным и независимым. Это правда, но
Ф. де Соссюр, перестав слушать лекции, прочел, однако, все труды и работы,
относящиеся к его теме».
Итак, ясно, что Ф. де Соссюр не установил ни деловых, ни личных контактов
с основными представителями младограмматического направления. Не установил
он с ними контактов и на знаменитых немецких студенческих
буршеншафтахкнайписантах и на кнайписантах, на которые обычно приглашалась
преподавательская «курия» и где завязывались за кружкой пива непринужденные беседы
656
как на серьезные, так и на далеко не серьезные темы. Соссюр чувствует себя в этой
компании чужим, да и к Соссюру относятся, как к чужому. Самыми близкими для
него оказываются те несколько иностранцев, которые находились в это время
в Лейпциге.
За всей сложностью этих отношений не следует забывать и того
немаловажного, но обычно упускаемого всеми исследователями факта, что Ф. де Соссюр был,
хотя и швейцарцем, но все же французом, а ведь еще совсем недавно отгремели
громы франко-прусской войны 1870—1871 гг. за Эльзас — Лотарингию, где
когда-то в Соссюре на Мозелоте проживали его предки и которая теперь отошла
к Германии. Словом, Ф. де Соссюр пришелся не ко двору в Германии. И повинны
здесь, вопреки сложившемуся мнению, были, по-видимому, обе стороны.
Сразу же по прибытии в Лейпциг Ф. де Соссюр начинает осуществлять свой
грандиозный замысел: набрасывать теорию индоевропейского корня и
реконструировать систему гласных индоевропейского языка. Результатом этой работы был
„Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках",
вышедший в декабре 1878 г. в Лейпциге (на титульном листе указан 1879 г.)
Вскоре последовало несколько благожелательных отзывов на него. Но
прозвучали они если не на задворках, то уж никак не в центре, а скорее на периферии
лингвистических владений. Один голос в похвалу Соссюру раздался из Казани,
и принадлежал он поляку, волею судеб заброшенному на окраину царской
России и ставшему русским ученым,— Николаю Крушевскому. В 1880 г.
благожелательный отзыв на „Мемуар" был опубликован, а точнее, «запрятан в
малораспространенном русском журнале» (Бодуэн де Куртенэ) — „Русском Филологическом
Вестнике" (РФВ). Но кому был доступен этот журнал?! И что представлял собой
«какой-то» Н. Крушевский, автор всего четырех работ, половина из которых к тому
же была напечатана в никогда не читаемых „Ученых записках" провинциального
университета? И кому бы пришло в голову читать лингвистическую работу по-
русски, когда международным языком уважающих себя лингвистов в то время
был немецкий? Мы абсолютно уверены, что Соссюр ничего не знал тогда об этом
отзыве и вообще, наверное, так никогда и не узнал о его существовании. Кроме
того, „Новейшие открытия в области ариоевропейского вокализма" (первая из
трех главок, объединенных общим названием „Лингвистические заметки")
представляла собой не столько рецензию, сколько «ловкое и удачное» (Бодуэн де
Куртенэ) изложение на тринадцати страничках сразу двух работ —- „Мемуара" Ф. де
Соссюра и „Носовых сонантов" Бругмана. Вряд ли Соссюру пришлось бы по душе
такое соседство с именем Бругмана, да еще в связи с болезненным для него
вопросом о носовых сонантах (см. об этом ниже), даже если Н. Крушевский и «сумел
извлечь из этих работ их существенную, самую важную сторону, их правильное
содержание и представить его сжато, в нескольких словах» (Бодуэн де
Куртенэ, Николай Крушевский. Его жизнь и научные труды)9.
Был еще один голос «за», но прозвучал он на страницах органа, не имеющего
никакого отношения к лингвистике («Journal de Genève», 25.11.1879 г.), и
принадлежал он Луи Аве — профессору Коллеж де Франс. А Франция того времени
считалась дремучей лингвистической провинцией, застрявшей на бопповском этапе
в языкознании.
Правда, Ф. де Соссюра поддержал датчанин Мёллер, принявший гипотезу
Соссюра о сонантном коэффициенте. Мёллер был ближе к Германии, и это ему
даром не прошло.
Наконец, ради курьеза следует упомянуть о том, что вскоре после выхода
„Мемуара" Ф. де Соссюр был впервые представлен маститому германисту Царнке,
9 Заметим, кстати, что годом позже Н. Крушевский публикует кандидатскую
диссертацию „К вопросу о гуне. Исследование старославянского вокализма" (РФВ,
Варшава, 1881), среднюю часть которой он посвящает «применению блестящей
гипотезы де Соссюра о первоначальном арийском вокализме к данным так
называемого старославянского языка. При этом Крушевский не дает ничего существенно
нового, рабски придерживаясь де Соссюра и подгоняя данные старославянского
языка под категории, принятые этим исследователем» (Бодуэн де Куртенэ,
Николай Крушевский. Его жизнь и научные труды).
657
и тот якобы благосклонно спросил юношу, не является ли он случайно
родственником швейцарского лингвиста Фердинанда де Соссюра, автора известного
«Мемуара». Если угодно, этот забавный случай можно тоже считать рецензией «за».
Но не эта периферия определила на полвека отношение к „Мемуару". Его
определил Остгоф и его близкие, составлявшие тогда штаб лингвистической науки.
Остгоф сыграл роковую роль в определении стратегии по отношению к „Мемуару".
В 1879 и 1881 гг. он в издававшихся им совместно с Бругманом „Morphologische
Untersuchungen" (Vol. II, 1879; Vol. IV, 1881) нанес один за другим два удара по
„Мемуару", а заодно и по его автору.
Все, что было признано «судьями» неприемлемым, то было объявлено
«незрелым», «недоношенным», «в корне ошибочным», сконструированным в угоду
системе,— понятию, чуждому младограмматическому языкознанию.
Все, что было признано «судьями» приемлемым, важным, интересным, то
было объявлено заимствованием, плагиатом.
Что же было квалифицировано как неприемлемое? Ответить на этот вопрос —
это значит сформулировать фундаментальную идею, лежащую в основе „Мемуара".
Штрайтберг определяет эту основную идею так: в центре „Мемуара" лежит
определение роли а; все остальное в „Мемуаре" является только средством для
достижения этой цели. С мнением Штрайтберга нельзя не считаться: ведь он опирался
на анализ основных идей „Мемуара", сделанный Ф. де Соссюром по просьбе
Штрайтберга в 1903 г. (Штрайтберг не только основывается на Соссюре, но прямо
излагает его; к сожалению, ответ Соссюра Штрайтбергу, насколько нам известно,
не сохранился). И все же мы считаем, что фундаментальная идея должна быть
сформулирована иначе, даже если все в „Мемуаре" вращается вокруг А- Сонантный
коэффициент а — это частное, хотя и исключительно важное открытие. Отсылая
читателя к обстоятельной вводной статье — к „Мемуару" А. А. Зализняка, где
читатель найдет исчерпывающий ответ на поставленный нами вопрос, ограничимся
краткими соображениями касательно этой идеи:
1) Соссюр в своей работе выдвигает фундаментальное и для его времени
новое положение: индоевропейский .корень должен обладать строго определенной
структурой (кстати, сам Соссюр называет эту мысль новой); впоследствии
языкознание сформулировало эту идею в общем виде: корень любого языка, а стало быть,
любого праязыка обладает строго определенной структурой. Правда, реально
Соссюр исследовал в „Мемуаре" не структуру корня в целом, а структуру его финали;
инициаль корня не рассматривалась им вообще.
2) Максимально корневая финаль имеет три позиции: позицию гласного (V),
позицию сонанта (S) и позицию консонанта (С). Если заняты все три позиции,
финаль имеет вид VSC (но не VCS, не CVS и т. д.— позиции финали упорядочены!).
Либо вторая, либо третья позиция могут быть не заняты; в этом случае финаль
имеет вид: VC либо VS. Наконец, не заняты могут быть одновременно обе — вторая
и третья — позиции; финаль в этом случае имеет вид V.
3) Первый элемент финали (а тем самым и вся финаль) имеет строго
определенные состояния; таких состояний три; они характеризуются изменением тембра;
состояние е, состояние о, состояние нуль.
4) Определенное состояние финали есть функция морфологического и/или
фонетического типа словоформы, в которую она входит; таким образом, зная
морфологический (например, аорист, перфект и т. п.) и фонетический
(наличие/отсутствие ударения и т. п.) тип, можно предсказать состояние гласной финали.
5) Квалификация поствокалической позиции определяется третьим
состоянием первой позиции; если при V=0 следующий элемент (в положении перед
согласным) принимает функцию гласного, то это — сонант (или сонантный
коэффициент, как назвал его Соссюр); в противном случае это согласный; при V Φ 0 сонант
функционирует как консонант, то есть функционально тождествен согласному;
сонант, таким образом,— это специфический элемент системы, совмещающий в себе
свойства гласного и согласного (как известно, позже были открыты глайды —
элементы фонетической системы, которые не имеют свойств ни гласного, ни
согласного).
6) Значимость любого вновь открытого элемента в составе корневой финали
определяется его функцией, местом, занимаемым в структуре, а не его материаль-
658
ной природой, акустическими или артикуляторными параметрами. Это положение
Соссюр и проверяет и демонстрирует на вновь открытом элементе а, который он
по всем перечисленным выше признакам определяет как сонантный коэффициент.
Следует сказать, что в системе Соссюра было дано все для постулирования
еще двух сонантных коэффициентов, которые вместе с а совпадали с носовыми,
плавными и i, u-сонантными коэффициентами по их функционированию при
третьем состоянии гласного финали и образовывали особую группу,
противопоставляемую перечисленным выше сонантным коэффициентам при первом и втором
состоянии гласного финали: группа V + S давала в этом случае долгие гласные а, ё, о.
Весь этот системный характер теории, а отсюда и открытие новых сонантных
коэффициентов, прежде всего а, были начисто отвергнуты Остгофом и его
единомышленниками — типичными представителями атомистического мировоззрения.
Остгоф писал:
«Отдавая должное большому остроумию, проявленному Соссюром при
формулировке основного положения и при приложении его к материалу, я вынужден
тем не менее признать по существу несостоятельным и внушенным стремлением
быть последовательным во что бы то ни стало (ein wenig zu sehr von der starren
Consequenzmacherei eingegeben) сам принцип приписывания (hineinzubringen)
звука e (α) всем без исключения корням» (Н. Osthoff und К. Brugmann,
Morphologische Untersuchungen. Zweiter Teil, Leipzig, 1879, стр. 126). Разумеется,
им была не понята и дифференциальная, фонологическая природа вновь открытых
коэффициентов. Правда, надо сказать, что этого не понял в 1903 году даже
искренний почитатель „Мемуара" А. Мейе.
Впервые „Мемуар" был учтен только в 1900 году Хиртом в его книге „Ablaut",
затем открытия Ф. де Соссюра были блестяще подтверждены на фонетическом
уровне в 1927 году Е. Куриловичем; однако „Мемуар" оставался уникальным явлением
до появления работ Бенвениста о структуре индоевропейского корня.
„Мемуар" сразу же поставил Соссюра в число классиков языкознания. Он
возвестил начало новой эпохи на 50 лет раньше, чем эта эпоха действительно
наступила. Разумеется, такую ситуацию нельзя назвать иначе как драматической.
И драматизм этот с годами усугублялся частными, второстепенными
обстоятельствами, которым Соссюр придал первостепенное значение и о которых не забывал
всю жизнь. Здесь мы должны перейти ко второму пункту, сформулированному
нами на стр. 658,— к вопросу о заимствовании, или попросту о плагиате.
Речь шла о том, кто первым обнаружил сонантную функцию носовых n и m.
С сожалением приходится констатировать, что Соссюр придал этому вопросу
непомерно и незаслуженно большое значение, столь большое, что за спором о
приоритете, а затем и о плагиате вопрос об истинном значении „Мемуара" отодвинулся
для него на второй план и даже вообще перестал существовать.
Как мы уже говорили, еще в гимназическую пору, в 1873 году, Соссюр
обнаружил, что в индоевропейском носовой η мог функционировать как гласный.
Даже по «Воспоминаниям» Соссюра не видно, что ему тогда были ясны условия
такого функционирования. Открытие Соссюра осталось известным ему одному:
гласности он ему не придал.
В 1876 году Соссюр приезжает в Лейпциг и там узнает, что вслед за Остгофом,
открывшим в индоевропейском плавный сонант r, Бругман обнаруживает носовые
сонанты η и m, в каком-то смысле повторяя таким образом открытие Соссюра.
В отличие от Соссюра Бругман тотчас «застолбил» свое открытие, опубликовав
статью „Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache". Казалось бы, все
ясно: факт биографии не есть еще факт науки, если этот факт не стал достоянием
всех. Но любопытно читать, как реагирует Соссюр, узнав об открытии Бругмана.
Вот как он рассказывал об этом сам почти 30 лет спустя. «Просматривая
университетскую программу, я между прочим обратил внимание на то, что Гюбшман
должен вести privatissimum по древнеперсидскому языку. Я отправился к нему
на дом, чтобы представиться ему. Это был первый немецкий профессор, с которым
я познакомился (по прибытии в Лейпциг). Я был очень обрадован той теплотой
(humeur jovial), с которой он меня принял. Он тотчас же завязал со мной беседу
об индоевропейском языкознании и спросил меня, читал ли я статью Бругмана
о носовых сонантах, вышедшую в свет во время каникул. Я даже не знал, кто та-
659
кой (!) Бругман, что было простительно в ту пору, особенно для меня. Тогда
Гюбшман рассказал мне о сильнейшем возбуждении, царящем вот уже несколько недель
по поводу того, восходят ли некоторые греч. α к η или, иначе, не отражаются ли
некоторые η в виде а. Я не поверил своим ушам: первая встреча с немецким
ученым, и мне сообщают как о научном открытии то, что я вот уже три с половиной
года рассматриваю как своего рода элементарную истину и о чем я не посмел бы
говорить как о явно тривиальной вещи. Поэтому я робко возразил Гюбшману,
сказав, что все это «открытие» не кажется мне ни выдающимся, ни новым. Гюбшман
продолжал настаивать на том, что германисты придают этому открытию большое
значение, и сказал мне, что германский, о котором я не имею никакого понятия,
имел группу un, соответствующую греческой альфе». Дальше Соссюр
рассказывает, как, вернувшись от Гюбшмана, он отыскал статью Бругмана, но «вопреки
ожиданию, ничего интересного в этой «новой вещи» я не нашел». Что именно так
обстояло дело, подтверждает и Л. Готье, поведавший Балли о своем разговоре на
эту тему с Соссюром.
Но вот что странно: после этой беседы с Гюбшманом в MSL появляются
первые пять статей Ф. де Соссюра; некоторые из них написаны уже в Лейпциге (это
известно точно), и среди них одна — „Essai..." — имеет непосредственное
отношение к системе гласных в индоевропейском. Но напрасно стали бы мы искать
в них указаний на носовые сонанты. О них ни звука. Ни малейших указаний на
свою причастность к этому открытию. Это поставит впоследствии перед
Соссюром непреодолимые препятствия в борьбе за приоритет: всякие упоминания о
«незастолбленной» идее, естественно, будут восприниматься как плагиат.
Наконец, появляется „Мемуар", и в нем Соссюр делает два весьма
противоречивых заявления. В одном он пытается «зарегистрировать», правда в своеобразной
форме и задним числом, свое открытие. Так, в вводной части „Мемуара"
появляются знаменательные строки, в которых выражается досада по поводу
«отступничества» от своей идеи о носовых и плавных, но об Остгофе и Бругмане не говорится
ни слова, словно их и не бывало: «...сходство Ar с фонемами, восходящими к ζ,
заставило нас тогда (во время написания „Essai...", то есть в конце 1878 г.—Л. X.),
хотя и с большой неохотой, отбросить теорию (чью? — хронологически очевидно,
что не Бругмана, а свою, но как это сказано! — А. X.) носовых и плавных
сонантов, к которым я вновь возвращаюсь (почему?—А, X.) по зрелому размышлению»
(какому?—Л. X.). Странное заявление! Ведь спустя четверть века в своих
„Воспоминаниях" Соссюр прямо напишет, что, «опоздав(!) в 1876 году заявить о своем
[женевском] открытии, в 1878 году уже было не время отстаивать свой приоритет,
не заявленный в первый момент». Спрашивается, зачем же тогда было писать в
„Мемуаре" то, что мы только что процитировали?
«Застолбив» таким странным образом задним числом свою идею, Соссюр,
видимо, чувствует моральную несостоятельность этого приема (кому известно, что в
„Essai..." соображения о носовых и плавных были изъяты, а не отсутствовали
вообще? Кто поверит, что автор возвращается к своей идее, а не вводит в
изложение заимствованную тут же, в Лейпциге, идею Бругмана и Остгофа?!)
Так, в «Мемуаре» появляются следующие строки: «Гипотеза о носовых
сонантах была предложена и развита Бругманом» („Studien", IX, стр. 287). В той же
работе он затронул попутно и вопрос о плавных сонантах — «понятие,
-существованием которого мы обязаны, видимо, Остгофу».
Казалось бы, все ясно. Но, во-первых, это заявление явно противоречит
первому, которое мы цитировали выше. А во-вторых, как выяснилось спустя четверть
века, оно было неискренним: «Кроме того, я писал в „Мемуаре" о гласных, и я
вспоминаю, что я писал это с какой-то щемящей тоской... Я говорил: благодаря
работам гг. Бругмана и Остгофа мы узнали о η и с, зная очень хорошо, что я лично
не нуждаюсь ни в Бругмане, ни в Остгофе». Недаром в 1910 г. Соссюр
признавался Л. Готье, что всю его работу над „Мемуаром" сопровождало чувство досады
и сожаления, и т. п.
Для всех, кроме Соссюра, ситуация была предельно ясна. В конце концов,
простое умозаключение было очевидным и для Ф. де Соссюра: «...книга была
напечатана в Лейпциге; с другой стороны, автор ее учился в Лейпцигском
университете, поэтому все, кто выносил суждения об этой книге, вполне законно и вполне
660
естественно должны были предполагать, что она является плодом,— хорошим или
плохим, это другое дело, — непосредственно выросшим на лейпцигской почве...
Другая возможность как-то (!) не приходила в голову... обстоятельства были
таковы, что такое заключение было естественным».
Здесь разумно не первое предложение. Вызывает удивление вся вторая фраза.
И уж совсем странным звучит утверждение: «На какую же клевету (déchirement)
надо было решиться, чтобы приписать это открытие Остгофу и Бругману!» И это
пишет Соссюр на склоне лет об открытии, которое в глазах научного мира было
связано и не могло быть не связано с именами Бругмана и Остгофа!
И вот вопрос о приоритете перерос в вопрос о заимствовании, о плагиате,
о краже. «Я никогда ничего не крал (volé) у Бругмана,— парирует удар своих
противников Соссюр,— у меня не найти никаких следов моего знакомства с
Бругманом по поводу носового в функции гласного», добавляя тут же: «за исключением
одного замечания», и это к счастью,— добавим мы,— иначе факт плагиата de
jure ничем бы не опровергнуть.
Выступления Остгофа и общая атмосфера, возникшая в связи с этим вокруг
Ф. де Соссюра, подействовали удручающе на него и его единомышленника Г.
Мёллера. Кюни впоследствии писал, что оппозиция Соссюру была столь сильной, что
тот вместе с Г. Мёллером готов был отойти от языкознания и заняться германским
эпосом (А. Cuny, Chamito-semitique et indoeuropéenne, „Melange Ginneken", 1937).
Трудно сказать, насколько это преувеличено. Скорее всего, Кюни преувеличивал
и драматизм ситуации. Г. Мёллер от языкознания не отказался; правда, он
занялся сопоставительной грамматикой индоевропейских и семитических языков, но
«переключение» это состоялось гораздо позже. Не ушел из языкознания и Соссюр.
Правда, он все же занялся изучением Нибелунгов, но это произошло тоже
довольно поздно — уже в Женеве. В своих же „Воспоминаниях" Соссюр ни слова не
говорит о своем намерении «бежать» из языкознания.
В 1878 году Соссюр кончает университет и в июле уезжает в Берлин, где
живет почти полтора года. В Берлине он слушает лекции по санскриту у Германа
Ольденберга и кельтолога и индолога Германа Циммера. Весьма вероятно, что
именно здесь Соссюр и познакомился с общелингвистическими идеями Уитни.
Вильям-Дуайт Уитни (1827—1894), как и Ольденберг и Циммер, был
санскритологом, и его прекрасно знали в Германии: в 1850 г. он совершенствовал свои
знания у Боппа в Лейпциге, у Рота в Берлине; позже издал вместе с Ротом
«Atharva-Samhita» и указатель к этому памятнику. В 1870 г. Берлинской
Академией ему была присуждена Бопповская премия. В 1879 г. появился в свет второй
том его грамматики санскритского языка, вышедший одновременно и в немецком
переводе Германа Циммера как раз тогда, когда Соссюр был в Берлине.
Без сомнения, уже тогда Соссюр знал Уитни как санскритолога (быть может,
еще в доберлинский период); об этом свидетельствует тот факт, что он цитирует его
в своей диссертации (см. ниже). Несомненно, ему было известно и то, как
относятся к Уитни-санскритологу немецкие лингвисты, и вполне вероятно, что он читал
весьма похвальный отзыв А. Гиллебрандта (в ВВ, 5, 1880) на санскритскую
грамматику Уитни, назвавшего ее «вехой в истории древнеиндийской грамматики»,
«исследованием языкового состояния», что не было присуще младограмматическим
работам.
Никаких надежных свидетельств о том, что Соссюр знал Уитни как теоретика,
у нас нет. Мы можем судить об этом лишь по косвенным данным. Уитни был
автором трех общетеоретических работ: 1) „Language and the study of language. Twelve
ectures on the principles of linguistic science by W. D. Whitney", London, 1867,
представляющей собой перепечатку цикла лекций, читанных в 1863 г.; 2) „Life and
growth of language", London, 1875; 3) „Language and its study with special reference
to the indoeuropean family of languages". Seven lectures by W. D. Whitney, London,
1876, изд. 2-е, 1880, представляющей собой сокращенный вариант первой книги.
Первая книга была подробно прорецензирована Клемом в KZ (18, 1869).
Вторая была переведена на французский язык в 1875 г., на итальянский в
1876 г. и на немецкий А. Лескиным в 1876 г. („Leben und Wachstum der
Sprache")· Двумя годами раньше, в 1874 г., Julius Jolly выпустил обработанное
издание первой книги Уитни, назвав эту обработку „Die Sprachwissenschaft:
661
W. D. Whitney's Vorlesungen über die Prinzipien der vergleichenden
Sprachforscfiung für das deutsche Publikum bearbeitet und erweitert von J. Jolly", Munich,
1874. Книге было предпослано введение о Уитни и его теории.
В конце 1879 г. Соссюр возвращается в Лейпциг и в феврале 1880 г. блестяще
защищает докторскую диссертацию «De l'emploi du génitif absolu en sanskrit»
(работа была опубликована в Женеве в 1881 г.).
Друг Соссюра Фавр, присутствовавший на защите, писал: «Если бы он не был
так скромен, роли могли бы перемениться: экзаменуемый юноша мог бы свободно
поменяться местами (mettre sur la sellette) со своими учеными экзаменаторами».
Сочинение это не идет ни в какое сравнение с „Мемуаром". И все же даже эта
заурядная работа, как показывают Годель и де Мауро, во многом является
диссидентской, еретической, с общепринятой тогда точки зрения.
Во-первых, выбирается и рассматривается синтаксический объект — тема,
чуждая как домладограмматическому, бопповскому, так и младограмматическому
направлениям в языкознании.
Во-вторых, выбранный объект рассматривается нетрадиционно, не в
компаративистском плане, не диахронически, а в рамках данного состояния языка.
В-третьих, выбранный объект трактуется как значимость: родительный
абсолютный рассматривается Соссюром не изолированно, а в соотношении с
локативным (местным) абсолютным, то есть как единица реляционная и оппозитивная.
Почти очевидно, что Соссюр учитывает здесь идеи Уитни, которого он, кстати,
цитирует в диссертации, правда не как автора работ по общей теории
языкознания, а как санскритолога.
Так заканчивается четырехлетний, немецкий, период странствий Соссюра,
самый блестящий и, быть может, самый горестный период в его жизни: блестящий
потому, что он ознаменовался выходом „Мемуара", работы, которую он потом
так и не превзошел, горестный по тем трагическим переживаниям, которые потом
преследовали Соссюра всю жизнь и источником которых оказался все тот же
«Мемуар».
IV
Решение уехать из Германии было вызвано явно ненормальными
отношениями, которые сложились у Соссюра с немецкими младограмматиками. Соссюр
выбирает Париж и в декабре 1880 г. переезжает туда после поездки в литовские
земли, где (точно где, неизвестно) он занимался литовским языком (по-видимому,
в марте — сентябре 1880 г., после февральской защиты диссертации)10.
Франция тех времен была, так сказать, лингвистической провинцией. Туда,
как кажется, не долетал даже отзвук лингвистических младограмматических
бурь, бушевавших в Германии. Как это ни невероятно, но до 50-х годов вся
лингвистическая Франция еще жила в XVIII веке и, казалось, не хотела знать ничего
даже о компаративизме бопповского толка, хотя первые немецкие компаративисты
получили импульс для своих исследований как раз в Париже, изучая здесь
санскрит. Справедливо было замечено, что традиции философской грамматики, в
частности Кондильяка, преградили Боппу — точнее, его идеям — путь в Париж.
Лишь позже Мишель Бреаль своим переводом Боппа на французский язык
пробил наконец брешь во французской науке. Он же, первый, стал вести курс
сравнительной грамматики индоевропейских языков, но в домладограмматической
традиции, по Боппу и Потту, Курциусу и Шлейхеру. Однако Бреаль был
компаративистом специфически французского толка: он продолжал чисто французские
традиции общей, или философской, грамматики (он был воспитан на Кондильяке и
неоднократно в своих лекциях ссылался на него), сочетая их с эмпирическим
языкознанием немецкого типа (мы имеем в виду Боппа).
Приехав осенью в Париж, Соссюр первый год (конец 1881) своего пребывания
в столице Франции слушал чтения М. Бреаля в ЕРНЕ11, а с февраля 1881 начал
10 «Неясное место в его биографии» (Бенвенист); по другим данным он уехал
в Литву прямо из Берлина в 1879 г. (см. CFS, 21).
11 ЕРНЕ = Школа высшего образования.
662
посещать лекции по иранским языкам, которые читал Дармстетер, по санскриту,
которые читал Берген (Bergaigne), и по латинской филологии, которые читал
Луи Аве (L. Havet); Аве уже хорошо знал Соссюра как автора „Мемуара",
восхищался им, рецензировал его работы и на одном из занятий, по свидетельству
Эдуарда Фавра, касаясь вопроса, разработанного Соссюром (очевидно, вопроса
о носовых сонантах), пригласил его на кафедру прочесть вместо себя эту
лекцию.
Слушая И. Бреаля, Соссюр знакомился с идеями философской грамматики,
в частности с теорией произвольности знака, развиваемой Кондильяком в его
„Опыте о происхождении человеческих знаний" («Мы сами выбрали знаки языка,
и они произвольны по отношению к понятиям (avec nos idées)», «язык — наиболее
яркий пример связей, которые мы формируем сознательно»). Маловероятно, чтобы
эти идеи не повлияли на Соссюра и чтобы они как-то не сказались позже, спустя
30 лет, на формировании его „Курса". Бреаль, пусть косвенно, подготовил
возврат на новой основе к общей грамматике в XX веке.
Слушая Бреаля, Соссюр не мог не познакомиться и с его книгой „Les idées
latentes du langage" (1868), a прочитав ее, он не мог не заметить следующих
знаменательных строк: «Есть другого рода знания, которые отличают обычно от
сравнительной грамматики и которые иной раз даже противопоставляют ей. Это та
совокупность принципов и наблюдений, образцом для которой послужил Пор-Ройяль
и которые известны под названием общей или философской грамматики. Но
поскольку общая грамматика стремится показать отношения, существующие между
операциями нашего ума и формами языка, то каким образом она может оказаться
во враждебных отношениях с наукой, предметом которой является анализ этих
форм? Правильнее было бы сказать, что она могла бы найти в наблюдениях
лингвистики прибавку основательности. Действительно, либо теории общей
грамматики найдут подтверждение в научном исследовании различных разговорных
языков, и тогда работа филологов будет оправданием и проверкой этой философии
языка, либо в некоторых моментах обнаружится расхождение, несогласие между
операциями нашего ума, такими, какими их описывает логика и психология, и
приемами, средствами языка, зафиксированными филологическим анализом, и это
будет для нас поводом для того, чтобы добраться до истоков этого расхождения
и найти их основание. Такое разыскание не может не быть плодотворным, и всякое
расхождение между грамматикой философской и грамматикой экспериментальной
должно повести к рождению новых идей о природе языка и о развитии
человеческого мышления».
Уже осенью следующего года М. Бреаль передает Соссюру свой курс в ЕРНЕ:
30 октября 1881 г. двадцатичетырехлетний Соссюр единодушно утверждается
maître de conférences de gothique et de vieux-haut allemand с жалованием в 20000
франков и с 5 ноября начинает занятия со студентами. Он читает длительное
время (1881—1887) курсы по готскому и древневерхненемецкому, позже (1887—
1888), уже в качестве maître de conférences (без уточнения!), он берет на себя чтение
сравнительной грамматики греческого и латинского языков, затем, годом позже
(1888—-1889), к этому добавляется курс по литовскому языку.
Помимо знакомства с Бреалем, у Соссюра в Париже, спустя год после приезда
туда, произошла знаменательная встреча. 19 ноября 1881 г. на заседании
Парижского лингвистического общества по рекомендации А. Ходзко (Chodzko) и А. Гедо
(Gaidoz) был представлен к избранию в качестве assistant étranger этого общества
Бодуэн де Куртенэ. Для этого он специально приехал в Париж. Соссюр был членом
этого общества уже с 1876 г.; по переезде в Париж он тотчас же с головой окунулся
в его деятельность, принимая участие в заседаниях общества с конца 1880 г. 16
декабря 1882 г. он был избран заместителем секретаря, заменив на этом посту
ушедшего в отставку Аве; фактически он стал и редактором „Записок лингвистического
общества" („Mémoires de la société linguistique de Paris"= MSL). Протоколы
заседаний общества составлялись также Соссюром. На собрании, где рассматривались
рекомендации Ходзко и Гедо о приеме Бодуэна де Куртенэ, Соссюра не было, но на
следующем заседании, состоявшемся 3 декабря 1881 г., где происходило избрание
Бодуэна де Куртенэ, Ф. де Соссюр уже присутствовал. Здесь-то и состоялось
знакомство этих двух выдающихся лингвистов, открывших новую эру в истории язы-
663
кознания. Они встречаются и на двух следующих заседаниях, состоявшихся
17 декабря 1881 г. и 7 января 1882 г. 3 декабря 1881 г. Бодуэн слушал доклад
Соссюра о фрибургских говорах (patois fribourgeois), а 7 января 1882 г. Соссюр
присутствовал на докладе Бодуэна „О различных моментах в славянской фонетике".
Из протоколов общества известно, что Бодуэн был также на мартовском (4 марта)
и ноябрьском (4 ноября) заседаниях общества.
Об основательности этого знакомства свидетельствует ряд высказываний
Бодуэна. Так, из работы Бодуэна о Николае Крушевском мы узнаем, как высоко
ценил Бодуэн «Мемуар» Соссюра: мы уже цитировали соответствующие места из
этой работы Бодуэна де Куртенэ.
В 1894—1895 гг. в другой своей работе — „Опыт теории фонетических
альтернаций"— Бодуэн де Куртенэ снова дает высокую оценку выдающемуся
произведению Соссюра: «В новейших историко-фонетических открытиях в области
ариоевропейских языков, открытиях, столь счастливо сделанных Бругманом и
Соссюром, сопоставление морфем с точки зрения их морфологического, или
формального, родства, а следовательно, установление альтернации фонем именно такого
рода, как е//о в piek-.., -bior-..., оказалось в высшей степени плодотворным».
С другой стороны, известна высокая оценка, которую высказал Соссюр в
адрес Бодуэна де Куртенэ и Крушевского. О них он упоминает уже в 1891 г. в
наброске к трем вступительным лекциям в Женевском университете (см. „Notes
inédites de F. de Saussure", № 17 в CFS, 12, 1954): «...лингвисты типа Фридриха
Мюллера из Венского университета, которые привлекали к своей работе
(embrassent) почти все языки мира, но которые не удосужились сделать и одного шага
к познанию языка; кого следовало бы упомянуть в этом отношении, так это прежде
всего таких романистов, как Гастон Парис, Поль Мейер и Шухардт, таких
германистов, как Герман Пауль, или таких русских ученых, как слависты и русисты
Бодуэн де Куртенэ и Крушевский».
О них он пишет также в наброске рецензии на работу Сеше „Programme et
méthodes de la linguistique théorique. Psychologie du langage" (1908): «Бодуэн де
Куртенэ и Крушевский были гораздо ближе, чем кто-либо другой, к
теоретическому пониманию (vue) языка, оставаясь при этом на чисто лингвистических
позициях; впрочем, они остаются неизвестными большинству западноевропейских
ученых».
Все это свидетельствует о несомненном знакомстве Соссюра с идеями
Казанской школы. Самое существенное состоит в том, что Соссюр понял, что Казанская
школа русской лингвистики также рассматривает язык в теоретическом плане.
В 1889 г. Соссюр и Бодуэн де Куртенэ обмениваются письмами: Соссюр пишет
Бодуэну из Женевы 16/Х письмо, Бодуэн отвечает на него двумя письмами — от
4/XI и 24/XI; Соссюр запаздывает с ответом в связи с хлопотами по переезду
в Швейцарию и отвечает только 9/ХП. В этом письме он ставит дополнительные
вопросы Бодуэну, но неизвестно, отвечает ли на них Бодуэн. На этом переписка
двух ученых прекращается. Переписка эта не представляет большого интереса.
В ней еще раз подтверждается факт их встречи в Париже, причем Соссюр в своих
письмах неверно называет дату их встречи, ошибаясь на год.
В 1889—1890 гг. Соссюр берет годичный отпуск по болезни и уезжает в
Женеву, оставив заместителем своего ученика А. Мейе (поступившего в ЕРНЕ в 1885 г.
и посещавшего лекции Соссюра с 1887 г.). Вернувшись из Женевы, он ведет
занятия еще один учебный год, а затем в 1891 г. навсегда покидает Париж и Францию,
рекомендовав в качестве своего преемника Л. Дюво.
Одной из причин, побудившей Соссюра уехать на год в Швейцарию, а затем
и навсегда покинуть Париж, было, очевидно, предложение администрации
принять французское подданство, когда перед Соссюром открылась возможность
получить место ординарного профессора (chaire de titulaire). Соссюр отказался, а это,
естественно, привело к уходу.
За девять лет пребывания Соссюра во Франции его лекции посетило свыше ста
человек, среди них — сорок иностранцев, из которых двое из России — Ф. Браун
и И. Гольдштейн.
664
Если принять во внимание, что историческое и сравнительное Языкознание
читалось во французских учебных заведениях впервые, то указанная цифра
является довольно высокой. Из французов его в разное время слушали признанные
специалисты по классической филологии, кельтологии, индологии, славистике:
С. А. Дармстетер, Э. Эрно, Л. Леже, Перно и др. Его учениками были известный
впоследствии Морис Граммон, который слушал курс Соссюра в 1890—1892 гг.,
Поль Пасси, который слушал курс, читаемый Соссюром в 1885—1887 гг., и,
наконец, Антуан Мейе, посещавший лекции Соссюра с 1887 г. С последним у Соссюра
сохранились близкие отношения и впоследствии. С ним Соссюр поддерживал
длительную переписку (сохранились письма с 1894 по 1911 гг.). Когда Мейе
написал свою сравнительную грамматику индоевропейских языков, он попросил
Соссюра разрешения посвятить эту грамматику ему в связи с 25-летием выхода
в свет знаменитого „Мемуара". Согласившись на это, Соссюр в письме от 28/Х—
1902 г. убедительно просит не употреблять слова anniversaire «годовщина»,
которое, как он выражается, звучит очень громко «даже для работы с менее скромными
претензиями, нежели мой „Мемуар"». Любопытно, что тут же прорывается старая
неприязнь к Бругману: Соссюр добавляет, что „Введения" Мейе с нетерпением
ждут «я и несчастные студенты, которые лишь с трудом разбираются в Бругмане
и Анри».
V
В 1891 г. начинается последний. Женевский, период жизни Соссюра. Он
в расцвете сил. Ему всего 34 года. Но сколь сложен, странен и драматичен в
творческом и личном отношениях этот период почти в четверть века...
Остановимся сначала на чисто внешних, формальных, служебных сторонах
его жизни. В Женеве Соссюр получает должность экстраординарного профессора
на созданной специально для него кафедре истории и сравнительной грамматики
индоевропейских языков и санскрита. До нас дошли три первые лекции,
прочитанные им при вступлении в должность. Сохранились и воспоминания Сеше,
посещавшего как раз в эти первые годы лекции Соссюра (1891—1893). «Терпеливо, шаг
за шагом, мы знакомились,— вспоминает Сеше,— с основными фактами
сравнительной фонетики классических языков, оправленных в индоевропейскую рамку».
В 1896 г. Соссюр становится ординарным профессором.
Мы знаем, какие курсы ведет Соссюр последнюю четверть века своей жизни.
На первом месте стоят классические и германские языки. В течение почти
двадцати лет, до 1903 года, он объявлял сперва ежегодно, а затем спорадически курсы по
самым разным разделам классических языков: фонетике греческого и латинского
языков, сравнительной грамматике греческого и латинского языков, исторической
грамматике греческого и латинского языков, греческому склонению, греческому
глаголу, греческой и латинской этимологии, греческим и латинским гнездам слов
и типам деривации, греческой диалектологии, гомеровскому диалекту,
древнегреческой эпиграфике (и греческим диалектам), глоссам Гесихия.
Германские языки он начал читать еще в Париже. Но, переехав в Женеву, он
возобновил курсы по этим языкам лишь через десять лет. С 1896 г. до конца жизни
Соссюр почти ежегодно (за исключением 1901—1902 гг.) объявляет один-два курса
по тем или иным разделам германского языкознания: он читает готский,
древневерхненемецкий, средневерхненемецкий, древнесаксонский, англосаксонский,
древненорвежский, сравнительную грамматику германских языков,
историческую грамматику немецкого (и английского) языков. Наконец, он ежегодно читает
санскрит.
Остальные курсы он читает от случая к случаю, по одному разу: в 1892—1893
он ведет историю индоевропейского глагола, в 1895—1896 он объявляет занятия
по ахеменидским надписям, в 1897 г, на каникулярных курсах („Cours de
vacances") при университете читает три лекции по теории слога (они впоследствии по
воле Сеше и Балли попали в „Курс"), в 1901—1902 гг., единственный раз, он читает
курс литовского языка и, наконец, в 1902—1903 гг.— курс лингвистической
географии древней и современной Европы с введением о предмете лингвистической
географии.
22 ф. де Соссюр
665
Но все, что мы сказали выше,— это лишь внешние вехи на жизненном пути
Соссюра, ничего не говорящие о внутренней стороне его жизни, особенностях
его личности. А здесь с Соссюром происходят странные вещи. Он все больше и
больше замыкается в себе, все больше и больше удаляется от друзей. Связи его с
лицами, близкими ему в Парижский период его жизни, становятся все менее
регулярными. Он часто ссылается на свою эпистолофобию. Но это не совсем так:
письма время от времени все же пишутся, хотя и остаются лежать
неотправленными в ящиках письменного стола. Особенно характерен в этом отношении эпизод
с Уитни, на котором мы остановимся ниже.
Женевский период необычен и в творческом отношении. Во-первых, Соссюр
все меньше и меньше пишет, все реже и реже печатается. За 25 лет он публикует
28 работ. Подавляющее большинство из них, напечатанное в MSL, как показывает
приложенный ниже список работ, представляет собой небольшие заметки
размером менее странички каждая. Исключение составляют несколько рецензий, одна
из коих уж совсем уводит нас в сторону от языкознания, в область теософии (см.
№ 54 в списке работ Соссюра). Во-вторых, самые важные из своих работ Соссюр
не заканчивает. Вот два важнейших примера. Во-первых, «дело Уитни». Известно,
как высоко ценил Соссюр этого выдающегося санскритолога и лингвиста. Он
неоднократно ссылался на него во всех трех циклах своего „Курса", цитировал его как
санскритолога в своей докторской диссертации о родительном абсолютном в
санскрите и почти наверняка знал его как автора работ по общему языкознанию, либо
переведенных на немецкий, либо пересказанных по-немецки «fur das deutsche
Publikum», тогда, когда был еще в Германии и учился в Берлине у Ольденберга
и Циммера, весьма ценивших Уитни.
Уитни скончался 7 июня 1894 г. 10 ноября того же года Соссюр получает от
Американского филологического общества приглашение принять участие в
специальном заседании 1-го конгресса американских лингвистов, посвященном памяти
Уитни. Тотчас же он садится писать ответное письмо с согласием выступить на
конгрессе и..., не дописав его, оставляет не отправленным в письменном столе.
Тут же, ничего не сообщив о своем согласии секретарю общества, он тем не менее
садится писать доклад, набрасывает обстоятельный план сообщения (1.
Сравнительная грамматика, 2. Сравнительная грамматика и языкознание, 3. Язык —
человеческое установление, 4. Две стороны языкознания как науки, 5. Уитни и
младограмматики, 6. Уитни как фонолог), пишет, реализуя этот план, 70 страниц
заметок... и вдруг,не дописав, останавливается на полпути и больше не возвращается
к этому сюжету.
Остается еще одна возможность: отправить послание в адрес конгресса с
выражением своего отношения к Уитни. Таков был обычай и так делали многие. Но,
перечитывая приложение к протоколу заседания от 28.XII. 1894 г., где были
перечислены имена всех иностранных ученых, приславших такие письма, мы среди
них не находим имени Соссюра.
Возьмем теперь второй пример — статьи по литовской акцентуации: 1) „К
вопросу о литовской акцентуации" (1894) и 2) „Литовская акцентуация" (1896). Обе
эти работы являются действительно основополагающими, посвященными
центральному вопросу балтийской акцентологии: проблеме интонации и проблеме
ударения. В первой из них Соссюр пытается построить общую теорию происхождения
слоговых интонаций в литовском. В результате Соссюр приходит к выводу о
первоначальной независимости интонаций от ударения. Вторая — содержит
формулировку закона, носящего теперь его имя,— относительно передвижения акцента
с циркумфлектированного гласного на последующий (до этого безударный)
актированный гласный. Но можно ли относить эти работы к Женевскому периоду
жизни Соссюра? Нам кажется, что нет. „Литовская акцентуация" была опубликована
в 1896 г. Но содержащаяся в этой статье формулировка закона Соссюра была
изложена им еще в 1894 г. на X конгрессе ориенталистов; на 1896 год приходится
только развернутое доказательство этого закона. Далее, известно, что к
литовскому языку Соссюр вернулся в Женеве лишь один раз — в 1901—1902 гг. И, наконец,
хорошо известно, что основные курсы по литовскому языку он прочел как раз в
Париже в 1888—1891 гг. и что, находясь в Париже, в 1889 г. он вступил в
переписку с Бодуэном де Куртенэ как раз по вопросу о литовском языке. Все говорит
666
о том, что основные идеи созрели у Соссюра и были сформулированы им уже в
Париже. Характерно, что одну из упомянутых статей Соссюр, пообещав продолжить,
так и не окончил.
Наконец, в-третьих, Соссюр все чаще и чаще явно уклоняется в сторону от
основной линии своих интересов. Укажем только на часть его замыслов, далеких
от лингвистики.
1) В 1899—1909 гг. (за исключением 1900—1901 гг.) он ведет семинар по
современному французскому языку, основное внимание уделяя французскому
стихосложению. Как и следовало ожидать, результаты работы остаются в черновиках.
2) С 1903 г. он начинает усиленно заниматься германскими легендами в их
соотношении с греческими мифами, выделяет в них небольшое но объему исконно
германское ядро, противопоставляя ему большую часть, связанную с мифами о
Тезее и Орионе. Результаты этой работы также остаются неопубликованными.
3) В 1904 г. он усиленно занимается германским эпосом о Нибелунгах и даже
ведет по Нибелунгам курс на кафедре немецкого языка и литературы, замещая
в течение года проф. Э. Редарда. Единственный результат и этой работы —
черновики.
4) В его бумагах мы находим недатированные черновики «Ведийской метрики».
5) И наконец, анаграммы. Три года — с 1906 по 1909 — он усиленно
занимается анаграммами (и это в тот период, когда он ведет 1-й и 2-й циклы своего
„Курса"), перерывает для этого огромную массу греческих и латинских текстов,
пытаясь найти в римской, ведийской, греческой поэзии и шире — литературе
одну, по его мнению, существенную особенность древних индоевропейских
поэтических текстов: намеренное (voulues) использование в стихотворном произведении
неоднократно повторяющегося (retones) слова-темы, ключевого слова (mot-clé),
записанного не прямым, но определенным, расчлененным образом и
представляющего собою наименование имени бога или героя (что-то вроде записи имени
Кутузова в строчке: «Забил снаряд я в пушку туго»). Этот нелегкий труд он фиксирует
в 99 тетрадях и в массе сводных таблиц, образующих главное (!!!) неизданное его
наследие. Что касается „Курса", то здесь Соссюр был, видимо, вполне
удовлетворен всего тремя неполными тетрадями. Ни одной строчки он, разумеется, не
издает, охваченный сомнениями в истинности самого принципа и удивленный тем,
что прием этот не осознавался самими поэтами и о нем ничего не говорилось в
соответствующих поэтиках соответствующих народов.
Лишь неожиданный случай предоставил Соссюру возможность вырваться из
рутины читаемых им курсов, видимо, ничем не примечательных и поэтому-то не
оставивших после себя никаких следов, а также перестать метаться от одного
недостойного для него занятия (вроде размножения для студентов составленных
им упражнений по санскриту) к другому. В 1906 г. умер Вертгеймер, который,
исполняя обязанности главного раввина города Женевы, одновременно обучал в
университете желающих женевцев основам науки о языке. Фортуна улыбнулась
Соссюру. И он, заняв в феврале 1907 г. место Вертгеймера, еще успел до конца
жизни трижды прочесть курс науки о языке. Но покинул он этот мир — мы
почти не преувеличиваем,— не оставив ни одного наброска, достойного
называться «Курсом общей лингвистики». И вот это-то несуществующее произведение,
плохо ли, хорошо ли воссозданное Балли и Сеше, возвестило, что в науке о
языке наступил XX век 1.
Так как чтение „Курса" было случайным эпизодом в жизни Соссюра,
естественно, возникли два вопроса: вопрос о том, занимался ли Соссюр до этого общими
вопросами языкознания, и вопрос об источнике его идей, нашедших воплощение
в «Курсе».
Одним из важнейших свидетельств ранних интересов Соссюра к
общетеоретическим вопросам является письмо Соссюра к Мейе от 4 января 1894 г. В этом
письме Соссюр пишет: «Абсолютная нелепость принятой терминологии, необходимость
ее пересмотра, а также необходимость показать для .этого, какого рода объектом
является язык вообще, непрестанно вредит моим практическим интересам, хотя
1 Все, связанное с текстологией „Курса", освещено нами подробно в вводной
статье к нему, к которой мы и отсылаем читателя.
22*
667
для меня не было бы большего желания, нежели заняться вплотную языком
вообще.
Это кончится — против моей воли — книгой, в которой я без энтузиазма и
бесстрастно изложу, почему нет ни одного термина, употребляемого в лингвистике,
которому я придаю какой-либо смысл».
Жалуясь в этом же письме на усталость от работы над литовской
акцентуацией, Соссюр указывает на «трудности, которые возникают вообще при написании
всего лишь десятка строк самого общего характера относительно фактов языка.
Уже давно всецело поглощенный логической классификацией этих фактов,
классификацией с тех точек зрения, с каких мы их рассматриваем, я все более и более
убеждаюсь в необъятности той работы, которую необходимо проделать, чтобы
показать лингвисту, что он делает».
Из процитированных мест письма очевидно, что Соссюр 1) видит
необходимость в теоретическом обосновании основных понятий науки о языке; 2) выражает
стремление заняться этими вопросами вплотную, указывает на то, что такая работа
может завершиться, вопреки его желанию, книгой, и 3) наконец, признает
необъятность и фактически невыполнимость такой работы.
Этот же взгляд Соссюра на состояние науки о языке подтверждает, в
частности, то небольшое число неоконченных заметок (Notes inédites), которые
датируются примерно теми же, девяностыми годами. В этом отношении очень характерна
заметка о Шлейхере, написанная, видимо, в связи с подготовкой Соссюром доклада
об Уитни, которая представляет собой осуждение всего немецкого эмпирического,
атомарного языкознания.
«По-видимому, темой для философских размышлений всегда будет тот факт,
что наука о языке, возникшая в Германии, развивавшаяся в Германии,
взлелеянная и лелеемая в Германии несчетным числом людей в течение полувека, ни разу
не сделала даже слабой попытки подняться до той ступени абстракции, которая
необходима, чтобы возвыситься над тем, что делают (ce qu'on fait), и показать,
почему то, что делается, имеет законное право на существование и свое место
среди других наук. Не менее удивителен и следующий факт: когда, казалось бы, эта
наука преодолела состояние оцепенения (sa torpeur), она выдает смехотворный
«опыт» Шлейхера, который рушится под тяжестью собственных нелепостей. Всего
лишь потому, что он попытался высказать нечто общее о языке, его престиж был
столь высок, что и до сих пор эта фигура не имеет себе равных в истории
лингвистики. Любопытно видеть, как лингвисты принимают комически важный вид, когда
речь заходит об этой великой личности... Из всего того, что мы смогли проверить,
ясно, что это была полнейшая посредственность, что, впрочем, не исключает
претензий. В этом отношении особенно характерна его трактовка литовского
ударения, поскольку Шлейхер пожелал взяться даже за литовское ударение...»
Все это Соссюр подтверждает и в своем разговоре с Ридлингером 19 января
1909 г. по поводу синхронической лингвистики, замечая, что он уже 15 лет
занимается этой проблемой; «в статической лингвистике все необходимое вытекает одно
из другого», «язык есть строгая система, и теория его должна быть столь же
строгой, как и сам язык». Но и в этом позднем свидетельстве о давних интересах
Соссюра к общетеоретическим вопросам повторяется старая мысль, развитая в
письме к Мейе, о непосильности для него этой задачи: «Создавать статическую
лингвистику — не мой удел». «На мои возражения,— пишет Ридлингер,— Соссюр
беспрестанно ссылался на трудности этого предприятия», подчеркивая, что все
читаемое им — «не то», что «курс должен был бы быть на деле иным». Особенно
резко возражает он против оформления своих идей в виде книги: «Что же касается
книги на эту тему, то об этом,— говорил мне Соссюр,— нельзя и помышлять.
Здесь необходимо, чтобы мысль автора приняла завершенные формы». О том же
он говорил и Л. Готье 6 мая 1911 г.: «Я намекнул Соссюру,— пишет Л. Готье,—
что ему следовало бы опубликовать что-либо по этому поводу, на что он возразил:
„Было бы нелепо возобновлять долголетние изыскания ради только публикации,
когда у меня тут (и он сделал жест) столько неопубликованных рукописей"». Тогда
же Соссюр развивает мысль, что «в данный момент общая лингвистика
представляется мне в виде системы, напоминающей геометрию. Все сводится к теоремам,
которые надо доказать».
668
Почти любое утверждение, сформулированное Соссюром, нетрудно свести
к идее, высказанной кем-либо из его предшественников или кем-либо из его
современников. Очень многие лингвисты с изрядным рвением занимались этим
малоплодотворным делом. При этом одни стремились превратить весь „Курс" в парафраз
сочинений одного-единственного лингвиста, другие пытались, демонтировав
Соссюра на части, показать, что каждая из демонтированных частей имеет своего
духовного отца в лице того или другого лингвиста, социолога, философа и т. п.
Почти в явной форме первая мысль о парафразе была высказана С. И.
Бернштейном в его докладе-рецензии на „Курс", прочитанном в декабре 1923 г. в
Институте литератур и языков Запада и Востока им. Веселовского (ИЛЯЗВ). Прозрачно
намекая слушателям, что он не склонен списывать разительные совпадения идей
Соссюра и Бодуэна де Куртенэ за счет параллельного развития, Бернштейн явно
склонялся к выводу о влиянии одного ученого на другого, не оставляя никаких
сомнений у слушателей в том, что влияние могло быть только однонаправленным:
от Бодуэна к Соссюру, а не наоборот. Не менее откровенно мысль о
неоригинальности Соссюра высказал Е. Поливанов в сборнике «За марксистское языкознание»:
«Посмертная книга F. de Saussure'a, которая многими была воспринята как некое
откровение, не содержит в себе буквально ничего нового в постановке и
разрешении общелингвистических проблем по сравнению с тем, что давным-давно уже
было добыто у нас Бодуэном и бодуэновской школой». Позже все это в еще более
резкой форме повторил Роман Якобсон в своей статье о „Казанской школе
польской лингвистики" (см. библиографию)1.
Следует полностью согласиться со Слюсаревой в том, что, несмотря на
огромное сходство идей Соссюра и Бодуэна, архитектоника их произведений совершенно
различна, столь различна, сколь различны истоки, питавшие их: Пор-Ройяль,
Уитни, Дюркгейм, Тард и др.— у Соссюра; Гумбольдт, Штейнталь, Сеченов —
у Бодуэна. Не только превратности истории, но и сама структура двух сходных
концепций были таковы, что теперь все знают, чем было для судеб науки о языке
«соссюрианство» и «бодуэнианство».
Идея об общественной природе языка обычно сводилась (Дорошевский) к
аналогичной идее, высказанной современником Соссюра Дюркгеймом (1858—1917).
Поскольку непосредственное влияние на Соссюра работ Дюркгейма „Les régies de la
méthode sociologique" (1895), где имеются высказывания о языке как
общественном явлении, и „Sociologie et scienses sociales", где об общественной природе языка
говорится более определенно, не было достаточно очевидным 2, то в качестве
посредника привлекли А. Мейе, явно воспринявшего дюркгеймовское понимание
языка как общественного установления, который даже печатался в
дюркгеймовском органе „Année sociologique". А отношения между Соссюром и Мейе были
хорошо известны. «Язык,— писал в 1908 г. Мейе,— точно подходит под определение,
данное ему Дюркгеймом. Язык существует независимо от говорящих на нем
индивидов, и хотя он не имеет реального бытия вне совокупности этих индивидов, он
внеположен им благодаря своему общему характеру (généralité). Свидетельством
этого является то, что никто из говорящих не властен изменить язык... Признаки
внеположности индивиду и принудительного характера, которыми Дюркгейм
определяет социальное явление, обнаруживаются в языке с полной очевидностью».
1 До сих пор остается необъяснимым тот факт, что сам Бодуэн де Куртенэ
ни разу не упоминает о „Курсе" Соссюра, так, словно его и не существовало.
Бодуэн умер в конце 1929 г. До этого он в 1922—1923 гг. совершил поездку по
странам Европы, где уже хорошо знали о существовании „Курса", был в Праге, где
действовал Пражский лингвистический кружок, организационно оформившийся
в 1926 году и отталкивающийся от идей Соссюра. В 1928 году проходил первый
международный конгресс лингвистов, где имена Соссюра и Бодуэна склонялись
на все лады. „Курс" был известен уже в 1923 году даже в только что вырвавшейся
из тисков блокады России. Спрашивается, читал ли Бодуэн столь родственного
ему Соссюра? И если читал, то почему ни словом не обмолвился об этом?
2 Когда Соссюр был в Париже, Дюркгейм работал в Бордо. Когда в 1902 г.
Дюркгейм переехал в Париж, Соссюр был уже в Женеве.
669
Читатель без труда найдет в „Курсе" аналогичные мотивы. При этом, однако, как-
то не обращали внимания на то, что идею о языке как общественном установлении
можно было свободно списать за счет американца Уитни, который гораздо раньше
Дюркгейма развивал ту же идею и с работами которого, как мы уже говорили,
Соссюр был, по-видимому, знаком еще в Лейпциге. Утверждение об условном
характере языка возводили к Уитни; об этом свидетельствуют черновики Соссюра.
«Некоторые (лингвисты) говорили: «Язык коренится в человеке (est une chose
humaine), в том смысле, что он является естественной функцией его». Уитни
сказал: «Язык — это человеческое установление (institution)». И это изменило
коренным образом направление лингвистики (Гaxe de la linguistique). ...Язык и
письменность не зиждятся на естественном отношении вещей. Нет никакой
(естественной) связи ни на одно мгновение между свистящим звуком и формой буквы s,
равным образом слово cow для обозначения коровы является не более легким,
нежели слово vacca. Уитни никогда не забывал повторять, чтобы дать лучше
почувствовать, что язык является всего лишь установлением...» („Notes inédites F. de
Saussure", №11, CFS, 12, 1953). К Уитни же сводят соссюровское понимание
языка как знака и отличие языка от других средств общения.
Годель показал, что понятие значимости, которой такое большое значение
в языкознании придавал Соссюр, а также сопоставление языка и политэкономии
(значимость в языке, ценность в политэкономии) следует возводить к Тарду, к его
„Psychologie économique" (1902).
Пристрастие Соссюра к дихотомиям связывали (Алонзо, Якобсон) с влиянием,
которое оказал на него Гегель — через посредство Адольфа Пикте или через
посредство В. Анри (Henry).
Утверждение о дихотомии язык — речь возводили к Тарду (1843—1904),
к его „Les lois de l'imitation" (1895). В 1957 г. Дорошевский на VIII конгрессе
лингвистов сообщил, ссылаясь на слушателя Соссюра Л. Кайя, что Соссюр с
интересом следил за полемикой Тард — Дюркгейм, в которой Тард подчеркивал
роль индивида в социальной психологии. Некоторые возводили эту дихотомию
к гумбольдтовскому противопоставлению внутренняя форма — язык.
Дихотомию синхрония — диахрония возводили к Я. Гримму (напр., Арндт),
В. фон. Гумбольдту (напр., Косериу, Вартбург), Г. фон Габеленцу (напр.,
Ренш, Косериу), Г. Паулю (напр., Телегди) и, наконец, к Бодуэну де Куртенэ,
указывая на поразительное совпадение соссюровской терминологии с физикалистикой
бодуэновской в ранних редакциях „Курса" (статика — динамика), в черновых
набросках к «Курсу» (состояние — движение у Бодуэна и их латинские эквиваленты
status — motus в черновиках Соссюра). Некоторые возводили это же
соссюровское противопоставление к шлейхеровскому противоположению описательной
лингвистики лингвистике исторической, шухардтовскому противопоставлению
изучения языка по вертикали и горизонтали (программная статья, открывающая
третий том „Romania", 1874). Кстати, влияние «традиционной грамматики»
ПорРойяля усматривали не в понятии универсальности, пронизывающем ее, а в
понятии синхронии, характерной для нее.
Сам Соссюр никогда не указывает источников своих идей: у него не найти
ссылок ни на Дюркгейма, ни на Тарда, ни на Бодуэна де Куртенэ, ни на Габеленца
и т. д. Единственным исключением являются скупые ссылки на Уитни.
Нельзя отрицать, что все эти связи идей существуют реально, что иногда они
прослеживаются до совпадений в терминологии. И тем не менее мы не сторонники
того, чтобы считать задачу понимания Соссюра решенной, растащив его идеи по
частям. Растащить его по частям, разумеется, можно, но из полученных кусков
Соссюра не сшить. Все, кто совершают расчленение Соссюра, как правило,
забывают о целостности его лингвистического мышления, предполагая, что в науке
можно лоступать и действовать по способу гоголевский Агафьи Тихоновны: «Если
бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять
сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй,
прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича», то вот тогда-то и получится
угодный Соссюр. Соссюр — не сложение идей, а система идей. А в этом случае
проблема источника каждой идеи приобретает второстепенное значение.
670
При этом упускают из виду, что сведение Соссюра к другим авторам не дает
нам понимания, почему он оказался властителем умов лингвистов XX века и
остался им даже тогда, когда его система взглядов стала историей, тогда как все, кто
питал его идеями, и даже наиболее близкий ему Бодуэн де Куртенэ, не произвели
такого потрясения умов.
В начале 1912 года Соссюр заболевает и прекращает занятия еще до конца
учебного года. В новом учебном году он занятий не возобновляет. Л. Готье
вспоминает, что в это время он пробует заниматься китайским языком. Однако никаких
следов этих занятий в архиве Соссюра не остается.
22 февраля 1913 г. Соссюр умирает в родовом поместье Вюффлан, известный
лишь близким ученикам, но почти совершенно забытый современниками.
Его кафедру последовательно занимают Ш. Балли (1865—1947) и А. Сеше
(1870—1946). Они же в 1916 г. выпускают воссозданный ими „Курс общей
лингвистики", принесший всемирную славу человеку, который, мечтая написать эту
книгу, считал выполнение этой задачи непосильным для себя делом.
СПИСОК РАБОТ ФЕРДИНАНДА ДЕ СОССЮРА *
опубликованные монографии и статьи
Лейпциг (1876—1880 гг.)
1877 (1) «Le suffixe -t-», MSL, Hi, 197 и сл.
— (2) «Sur une classe de verbes latins en -eo», MSL, III, 279—292.
— (3) «La transformation latine de *tt en ss su ρ ρ ose- ^-el le un intermédiaire
•s*», MSL, III, 293—298.
— (4) «Essai d'une distinction des différents a indo-européens», MSL, III,
359—370.
— (5) «Exceptions au rhotacisme», MSL, III, 299.
— (6) «I, U = ES, OS», MSL, III, 299.
1878 (7) «Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues
indoeuropéennes», Leipzig.
— (8) Ред.: «Les origines indo-européennes ou les aryas primitifs. Essai de
paléontologie linguistique par Adolphe Pictet», 2e édition, «Journal de
Genève».
Париж (1880—1891 гг.)
1881 (9) «De l'emploi du génitif absolu en sanscrit».
(10) «Αγαμέμνων», MSL, IV, 432.
1883 (И) Ред.: Axel Kock, Studier öfver fornsvenske ljudlära, I, Lund,
1882.
1884 (12) «Védique Ι ί b u έ ä, paléoslave lobözati», MSL, V, 232.
— (13) «SQ do», MSL, V, 418.
— (14) «Vieux haut-allemand mur g, mu г gl», MSL, V, 449.
— (15) «Une loi rythmique de la langue grecque», в «Mélanges Graux»,
737—748.
— (16) «Termes de parenté chez les aryas»2.
1887 (17) «Comparatifs et superlatifs germaniques de la forme infer us,
in fi mus, «Mélanges Renier, Bibliothèque des Hautes Etudes», fasc.
73, 383 и сл.
1889 (18) «άδήν», MSL, VI, 53.
— (19) «bodus», MSL, VI, 75.
1 Все напечатанные при жизни Φ. де Соссюра его работы, а также резюме
сообщений собраны в «Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de
Saussure», [1921?].
2 Выдержка из письма Соссюра к Жиро-Тёлон (Giraud-Teulon),
опубликованная в работе последнего «Les origines du mariage et de la famille», 1884,
494 и сл.
672
— (20) «Grec άλκυών—-allemand Schwalbe», MSL, VI 75.
— (21) «νυστάζω», MSL, VI, 76.
— (22) «λόθρον», MSL, VI, 77.
— (23) «ΐμβηρισ», MSL, VI, 78.
— (24) «κρήνη», MSL, VI, 119.
— (25) «βουκόλος», MSL, VI, 161.
— (26) «Sanscrit stöka-s», MSL, VI, 162.
— (27) «Sur un point de la phonétique des consonnes en indo-européen»,
MSL, VI, 246—257.
— (28) «Un ancien comparatif de σώφρων», MSL, VI, 323.
— (29) «Gotique w i 1 w a n», MSL, VI, 358.
Женева (1891 — 1912 гг.)
1892 (30) «Les formes du nom de nombre "six" en indo-européen», MSL, VII,
7Q go
— (31) «φρυκτός», MSL, VII, 77.
— (32) «λιγός», MSL, VII, 77.
— (33) «Vieux prussien si ran, "le cœur"», MSL, VII, 79.
— (34) «Traitement de Γα en vieux prussien», MSL, VII, 80.
— (35) «Les féminins en -fl du vieux prussien», MSL, VII, 82.
— (36) «Gotique fcarf, Jaurban "avoir besoin"», MSL, VII, 83 и сл.
— (37) «άκέων», MSL, VII, 86.
— (38) «τετίημαι», MSL, VII, 86.
— (39) «έπιτηδέσ», MSL, VII, 87.
— (40) «περί < *ύπερι», MSL, VII, 87
— (41) «ηνία», MSL, VII, 88.
— (42) «οκρυόεις», MSL, VII, 88.
— (43) «υγιής», MSL, VII, 89.
— (44) «χ, φ pour ks> ps»} MSL, VII, 90.
— (45) «Attique -ρη- pour pâ», MSL, VII, 91.
— (46) «-ύμνο- pour -ομνο-?», MSL, VII, 92.
— (47) «Lituanien kùmstë "le poing"», MSL, VII, 93.
1894 (48) «A propos de l'accentuation lituanienne (Intonation et accent
proprement dit)», I, MSL, VIII, 425 и сл.
— (49) «Sur le nominatif pluriel et le génitif singulier de la déclinaison con-
sonantique en lituanien», IF, IV, 456 и сл.
1896 (50) «Accentuation lituanienne», IF, VI, Anzeiger, 157 и сл.
1897 (51) Ред.: Schmidt J., Kritik der Sonantentheorie, IF, VII,
Anzeiger. 216 и сл.
1898 (52) «Inscriptions phrygiennes», в: «Recherches archéologiques dans l'Asie
Occidentale. Mission en Cappadoc, 1893—1894, par E. Chantre»,
Paris^ 1898, 165 и сл.
1905 (53) «D' ώμήλυσις à Τριπτόλεμος. Remarques étimologiques», в:
«Mélanges Nicole», Genève, 1905, 503 и сл.
1907 (54) Ред.: Paul Oltramare, Histoire des idées théosophique dans
l'Inde, «Journal de Genève», 29.VII. 1907.
(55) Le nom du Jura x.
1909 (56) «Sur les composés latins du type a g ri со la», в: «Mélanges Havet»,
Paris, 1909, 459 и сл.
1911 (57) Ред.: A 1 a m a n s, Dictionnaire historique, géographique et
statistique du Canton de Vand, publié par Mottar, I, 1911.
J912 (58) «Adjectifs indo-européens du type caecus "aveugle"», в: «Festschrift
für Wilhelm Thomsen», Leipzig, 1912, 202 и сл.
1 Отрывок из письма Соссюра Лоту, опубликованный Соссюром в « Revue
celtique», XXVIII.
673
сообщения и доклады, опубликованные в виде резюме
1881 (59
— (во;
1882 (6Г
1887 (62;
1888 (63
1889 (64
— (65;
— (66;
1891 (67
— (ба
— (69;
1897 (70,
1903 (71
1904 (72;
« Racines en е i и а », BSL.
« Sur la phonétique du patois fribourgeois », BSL.
« Sur le patois fribourgeois », BSL.
« Un rapprochement entre le vieil all. holz « forêt » et с a 11 i s (pour
*caldis)», BSL.
« Sur le gérondif latin», BSL.
« Sur certains détails de la versification homérique», BSL.
« Sur le grec πολλός», BSL.
« Sur l'accent lituanien », BSL.
« Sur le nom allemand de la Vistule, Weichsel », BSL.
« Une conjecture sur l'allemand Hexe « sorcière »», BSL.
«Contribution à l'histoire des aspirées sourdes [du sanscrit] », BSL.
« Sur l'accentuation de la langue lituanienne », «Actes du Xe Congrès
international des Orientalistes », I, 89.
« Origine de quelques noms de lieux de la région genevoise», «Bulletin
de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève », II, 342.
« Les Burgondes et la langue burgonde en pays roman», «Bulletin de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève», III, 9.
посмертные публикации
1915 (73) Pau 1-Е. Martin, La destruction d'Avenches dans les sagas Scandinaves
d'après des traductions et des notes de F. de Saussure, «Indicateur
d'histoire suisse», 1.
1916 (74) «Le cours de linguistique générale», publié par Ch. Bally et A. Se-
cheliaye avec la collaboration d'Albert Riedlinger, Lausanne et Paris.
1920 (75) «Le nom de la ville d'Oron .à l'époque romaine», «Indicateur
d'histoire suisse»1, 286 и сл.
1954 (76) «Notes inédites de F. de Saussure», CFS, 12, с 49 и сл.
1960 (77) «Souvenirs de F. de Saussure concernant sa jeunesse et ses études»,
CFS, 17, с 12 и сл.
1964 (78) Les lettres de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet, publiées par
E. Benveniste, CFS, 21, 1964.
— (79) J. Starobinski, Les anagrammes de Ferdinand de Saussure,
«Mercure de France», février, 1964, 243 и сл.
1967 (80) J. Starobinski, Les mots sous les mots: textes inédits des
cahiers d'anagrammes de F. de Saussure, в кн.: «To Honor Roman
Jakobson», The Hague—Paris, 35 и сл.
1968 (81) G. Navo, Les lettres de F. de Saussure à G. Pascoli, CFS, 24.
— (82) J. Starobinski, Le texte dans le texte. Extraits inédits des cahiers
d'anagrammes de F. de Saussure, «Tel quel», XXXVII, 31.
— (83) J. Starobinski, Le nom caché, в «L'analyse du language
théologique. Le nom de Dieux», Paris.
1970 (84) J. Starobinski, La puissance d'Aphrodite et le mensonge des
coulisses. Ferdinand de Saussure lecteur de Lucrèce, «Change», 6,
Paris.
1971 (85)J. Starobinski, Les mots sous les mots. Les anagrammes de
Ferdinand de Saussure, Paris, 40.
— (86) «La première lettre de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet sur
les anagrammes publiée et commentée par Roman Jakobson», в:
«L'Homme, Revue française d'anthropologie», vol. XI, fas. 2, с. 15 и сл.
1 Резюме доклада, прочитанного Соссюром в Женевском обществе истории и
археологии в 1901 г.; опубликовано с примечаниями Л. Гоша,
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Аблаут (Ablaut): определение ~ (III, I), (III, 3, §5); немецкий ~ (III, 3, §6)р
количественный ~ (Мем., 449), качественный ~~ (Мем., 449).
Абстракция (Abstraction): ~ в фонологии (Пр. к В, II, § 2).
Автофтонг (autophtongue): определение ~ (Мем., 310).
Агглютинация (agglutination): определение понятия ~ (III, 7, § 1); ведущее
начало в процессе ~ (III, 7, § I); три фазы ~ (111,7, § 1); — и аналогия как два
важнейших способа образования новых языковых единиц (III, 7, §§ 1, 2);
трудности различения ~ и аналогии (III, 7, § 1); контрастность ~ и аналогии (III,
7, § 2): непреднамеренность ~ и преднамеренность аналогии (III, 7, §§ 1, 2), —
действует в синтагматике, а аналогия — как в синтагматике, так и в
парадигматике (III, 7, § 2); термины «конструкция» и «структура» в применении к ~ (III,
7, § 2).
Аграфия (agraphie) (В. III, § 1).
Акт речевого общения ((circuit de la parole): (В, III, § 2).
Акцентуация (accentuation) (ЛА, 598, 620, 621).
Акустический (acoustique) см. образ.
Актированный (rude): ~ слог (ЛА, 621).
Акутовый (rude): ~ интонация (ЛА, 519, 620), ~ ударение (ЛА, 621).
Алфавит (alphabet): греческий ~ как образец наиболее рациональной
письменности (В, VI, §3), (Пр. к В, I, § 1), (Пр. к В, II, §2); фонологический ~
как основа рациональной письменности: изображение одним знаком одного
элемента речевой цепочки (В, VII, § 2), в том числе имплозии и эксплозии (Пр. к В,
II, § 2).
Анализ (analyse) = разложение (décomposition): а) акустический ~- (a.
acoustique) речевой цепочки (Пр. к В, I, § 1); б) морфологический ~ (a. morphologique):
объективный ~ (= ~, производимый говорящим) (Пр. А), субъективный ~ (= ~,
* В предметном указателе приняты следующие сокращения:
1) Для «Курса»: В — Введение; римские цифры сразу после буквы В
обозначают соответствующий номер главы Введения; Пр.— Приложение ко второй и
третьей части; А, Б, В — соответствующие разделы Приложения ко второй и
третьей части; Пр. к В.— Приложение к Введению; две цифры перед номером
параграфа обозначают номер части и номер главы, одна цифра перед номером
параграфа обозначает номер главы.
2) Для «Мсмуара»: Мем.=«Мемуар»; цифра после Мем. указывает на
страницу.
3) Для обеих статей по литовской акцентуации принято единое обозначение —
ЛА, с указанием номера страницы.
675
производимый лингвистом) (Пр. А); отношение субъективного и объективного ~
к синхронии и диахронии (Пр. А); цель объективного и субъективного ~ (Пр. А).
Аналогия (analogie): определение понятия ~ (III, 4, § 1); ~ — не изменение и
отличается от фонетических изменений (III, 4, § 2); ~ уравновешивает действие
фонетических изменений (III, 4, § 1); ~ и ее отношение к дихотомии речь —
язык (III, 4, § 3); ~ и ее отношение к дихотомии синхрония —диахрония (III,
4, § 3); ~ и эволюция (III, 5); ~ как обновляющее, так и консервативное начало
(III, 5, § 3); ~ и агглютинация как два основных средства образования новых
языковых единиц (III, 7, §§ 1, 2); ~ и народная этимология (III, 6); ~ и
собственные имена (III, 5, § 3); капризы ~ (III, 4, § 1); роль ~ в детской речи (III,
5, § 1); унифицирующий характер ~ (III, 4, § 1); две теории ~ (III, 4, § 3);
исходная форма для ~ — не обязательно распространенная форма (III, 4, § 1);
термин «изменение по ~» (changement analogique) противоречив и неверен (III,
5, § 2).
Артикуляция (articulation): а) ~ — выдержки (a. sistante) (Пр. к В, II, §2); ~
размыкания (a. ouvrante) = эксплозивная ~; ~ смыкания (a. fermante) =
имплозивная ~; имплозивная ~ (Пр. к В, II, § 2); ротовая ~ (a. buccale) (Пр. к В,
I, § 2) и классификация звуков (Пр. к В, I, § 3); эксплозивная ~ (Пр. к В, II,
§ 2); б) см. членораздельность, членораздельная речь.
Ассоциативный ряд (série associative): свойства ~ (обязательное:)
неопределенность порядка и (факультативное:) безграничность количества (II, 5, § 3).
Ассоциация (association): теория ~ и теория синтагм как основа синхронии
(И, 7, § 2).
Атлас лингвистический (atlas linguistique) (IV, 3, § 3).
Афазия (aphasie) (В, III, § 1).
База словоизменения (thème de flexion) = основа: определение ~ как единицы
низшего уровня (корень+суффикс или нулевой суффикс) (Пр. Б).
Баритонеза (barytonaison) (ЛА, 622).
Вид (aspect): ~ и его лексическое выражение (II, 7, § 1); — в славянских
языках в связи с понятием значимости (II, 4, § 2).
Вокалическая точка (point vocalique) (Пр. к В, II, § 4).
Вокалический эффект (effet vocalique) (Пр. к В, II, § 4).
Волны новшеств (ondes [linguistiques] d'innovation) = изоглоссы;
распространение ~ (IV, 4, § 1).
Времена (temps): ~ и значимость (И, 4, § 2).
Время (temps): фактор ~ в лингвистике (I, 3, § 1), ~ в языке (I, 2, § 2).
Выдержка (plosion, tenue) см. артикуляция.
Вытеснение (explosion) (Мем., 423, 469 и сл.)
География лингвистическая (géographie linguistique) (IV).
Гласные (voyelles): ~ и согласные (Пр. к В, I, § 3); ~ и сонанты (Пр. к В,
II, § 4); гармония ~ (V, 5).
Глоссема (glossème) см. изоглосса.
Говорение см. фонация.
Грамматика (grammaire): предмет (объект) ~ — отношение между единицами;
описание данного состояния языка (II, 7, § 1)= синхроническая (статическая)
лингвистика; ~, помимо морфологии и синтаксиса, включает и лексикологию, (II,
7, § 1); членение ~ традиционное, не соответствующее естественным отношениям в
языке (II, 7, § 1), и естественное, базирующееся на синтагматических и
ассоциативных отношениях, как теория синтагм и ассоциативных групп (II, 7, § 2), (И,
8): историческая ~ (g. historique) — бессмыслица, на деле — это диахроническая
лингвистика (II, 7, § 1); нормативная ~ (g. normative) (В, I); общая ~ (g.
générale) -- область синхронии (II, I); сравнительная ~ (g. comparée) (В, I) и история
развития языка (В, I); сравнительная ~ и филология (В, I); сравнительная ~
и роль санскрита для ее становления (В, I); критика сравнительной ~ (В, I); ~
и проблема (относительной) мотивированности знака (II, 6, § 3).
Границы (frontières): ~ единиц языка (II, 2, §§ 1—4); ~ слога (Пр. к В,
И» § 4); ~ фонемы (Пр. к В, I, § 1); ~ языков и диалектов (IV, 3, §§ 3—4).
676
Группа (звуков) (groupe [de sons]) = отрезок (chaînon):
имплозивно-эксплозивная ~ (g. implosivo-explosif) (Пр. к В, II, § 3): имплозивно-эксплозивная ~
(g. explosivo-implosif) (Пр. к В, II, § 3).
Группировки (groupement): ~ единиц языка (II, 6, § 1).
Деградация (degradation) (Мем., 457).
Дериват (derive) (III, 7, § 2).
Детская речь см. речь.
Диалект (dialecte): определение ~ (IV, I); изучение ~ —предмет внешней
лингвистики (В, V); границы ~ (IV, 3, § 3), устанавливаемые по одному
признаку, не соответствуют реальности (IV, 3, § 3); ~ в смысле наличия совокупности
диалектных признаков не существует (IV, 3, § 3); представление о ~ несовместимо
с более или менее значительной географической областью (IV, 3, § 3); ~ и
литературный язык (IV, 2, § 2); ~ и язык (IV, 3, § 4); количественное различие
между ~ и языком (IV, I).
Диалектальный признак (caractère dialectale) (IV, 3, § 3).
Диахронический (diachronique): ~ реальность (III, 8).
Диахрония (diachronie) (I, 3, § 1): сущность^—в сдвиге отношения между
означающим и означаемым (III, 8); ~ безразлична к грамматике (III, 2, § 5);
~ затрагивает элементы системы, а не систему в целом (I, 3, § 3), но сказывается
на всей системе (I, 3, § 4).
Дифтонг (diphtongue) :~ — частный случай имплозивного отрезка (Пр. к В, II,
§ 7), восходящий ~ (d. ascendant) — не дифтонг (Пр. к В, II, § 7); ложный ~
(d. fausses) (Пр. к В, II, § 7).
Дифференциация (differentiation): языковая ~ см. язык2.
Дихотомия (dualité) (В, III, § 1): ~ язык — речь (В, IV).
Единица (unité): а) определение ~ как означающего понятия; как
отграниченной в речевой цепочке конкретной (языковой) сущности (II, 2, § 1), (II 4,
§4); метод выделения (речевой) ~ (II, 2, § 2); сложности, возникающие при
выделении ~ (II, 2, §§ 3—4); конкретная ~ (II, 2, § 3) = речевая ~ = конкретная
сущность в речи (II, 2, § 4) не является словом (II, 2, § 3); ~ языка
вырабатывается во взаимодействии двух аморфных масс: мысли и звуковой субстанции (II,
4, § 1); ~ создается различием (IV, 4, § 4); значимость как существенный аспект
~ (II, 3); ~ и грамматический факт (IV, 4, § 4); ~ и слово (II, 2, § 3); ~ высшего
уровня, большая, чем слово (композит, устойчивое сочетание, аналитическая
форма) (II, 2, § 3), большая, чем часть слова = слово (II, 6, § 1); — низшего
уровня (sous-unité), меньшая, чем слово= составная часть слова (суффикс, префикс,
основа, корень) (II, 2, § 3), (II, 6, § 1), (Пр. Б) и отношение к ней Боппа и его
последователей (Пр. А), а также младограмматиков (Пр. А); диахроническая ~
(III, 8); ~ в диахронии и синхронии не тождественны (III, 8); б) звуковая ~
(u. phonique): (V, 3, § 2); фонологическая ~ (u. phonologique) (Пр. к В, I, § 1);
абстрактная фонологическая ~ (u. phonologique abstraite) (Пр. к В, II, § 2).
Заимствование (emprunte) (В, V), (V, 4, § 3); ~ алфавита (В, VI, § 4).
Закон(ы) (loi[s]): грамматический ~ синхроничен и не императивен (I, 3, § 6),
(III, 3, § 5); диахронический ~ императивен, но не имеет характера общности (I,
3, § 6); морфологический ~ (I, 3, § 6); семантический ~ (I, 3, § 6);
синтаксический ~ (I, 3, § 6); синхронический ~ не императивен, но регулярен (I, 3,
§ 6)(111,, 3, § 5); фонетический ~ (1. phonétique) (I, 3, § 6); неточная
формулировка фонетического ~ (III, 2, § 3); ~ Вернера (III, 2, § 3); ~ чередования (1.
d'alternance): (III, 3, § 5); ~ языка; их характер (I, 3, § 6), их отношение к законам
в юридическом смысле и в смысле естественных, физических наук (I, 3, § 7); ~
языка либо синхроничны либо диахроничны, а не ~ языка вообще (I, 3, § 6);
— языка не осознаются говорящими (I, 2, § 2).
Звук(и) (son[s]): ~ — не принадлежащий языку, но используемый им материал
(II, 4, § 3); ~ без означающего, без знака — аморфная масса (И, 4, § 1); ~
сложны по своему характеру (В, III, § 1); абстрактный ~ = тип (Пр. к В, II, § 2);
затворная форма ~ см. имплозия; затворный ~ (s. fermant) = имплозивный ~
(Пр. к В, II, § 2); изолированный ~ и комбинация их (Пр. к В, II, § 1); конкрет-
677
ный ^ = имплозивный или эксплозивный ~ (Пр. к В, It, § 2); растворная форма ~
см. эксплозия; растворный ~ (s ouvrant) == эксплозивный ~ (Пр. к В, II, § 2).
Звуковой язык см язык.
Звукообразование см. фонация.
Звукоподражание (onomatopée): ~ — неорганический элемент языка (I, 1, §2);
известная произвольность ~ (I, 1, § 2); спорность символического
происхождения ~ (I, 1, § 2).
Знак (signe)i: ~ — реальный объект, конкретная языковая сущность (III,
2, § 1), — — общественное явление (В, III, "§"3); ~ — предмет семиологии (В,
III, § 3); ~ — не просто акустический образ, то есть означающее, согласно
принятому пониманию (I, 1, § 1), а целое, обладающее структурой (I, 1, § 1), состоящей
из означающего и означаемого (I, 1, §§ 1—2), то есть двусторонняя сущность,
психичная в обеих своих составляющих (I, 1, § 1), так что материальная сторона
не обязательна для выражения означаемого (I, 3, § 3); ^ связывает не вещь и имя
(это не языковая проблема), а понятие и акустический образ (I, 1, § 1); связь
двух сторон ^ не носит рационального характера (I, 2, § 1), иррациональна (II,
6, § 3), произвольна (I, 1, § 2) — не в смысле свободы выбора означающего, а
прежде всего в смысле немотивированности выбора означающего, то есть
отсутствия естественной связи означающего с означаемым (I, 1, § 2);
немотивированность ^ является следствием относительности значимости (II, 4, § 1); абсолютная
произвольность ^ охватывает лишь часть их, другая часть ~ мотивирована
относительно и таким образом относительно произвольна, причем в разной степени
(II, 6, § 3); произвольность ~ ограничивает система (I, 2, § 1), ассоциативные и
синтагматические связи (II, 6, § 3); в силу произвольности ~ неограниченно
изменяем (III, 2, § 5), что сводится к сдвигу отношений между означающим и
означаемым (I, 2, § 2), (III, 8); в силу же произвольности ~ защищен от изменений
(I, 1, § 2), чему способствует также множественность знаков, сложный характер
системы и косность говорящей массы (I, 2, § 1); ~ — средство расчленения
мысли на понятия, а звуковой субстанции — на звуки (II, 4, § 1); ~ сам по себе
никакого присущего ему значения не имеет, а приобретает его в системе (II, 6,
§ 2), обладая таким образом дифференциальным характером, то есть
характеризуясь своим положением относительно других членов системы (II, 4, § 3), являясь
таким образом лишь членом противопоставления (II, 4, § 4) и обладая в силу этого
значимостью (см.), которая не равна сумме значимостей его частей (II, б, § 3);
как целое ^ есть нечто положительное, а не отрицательное; ^ является
положительным членом системы (II, 4, § 4): сочетания знаков — тоже знак (II, 6, § 1).
Знаки (signes)2: ^ письменности вторичны по отношению к знакам языка и
неизмеримо более просты (I, 2, § 1); ^ учтивости (I, 2, § 1); "*> языковые в
сравнении с неязыковыми по признаку линейности (I, I, § 3); различные типы знаков
в зависимости от степени произвольности: в полной мере естественные (I, 1, § 2),
в некоторой степени естественные (I, 1, § 2), целиком произвольные (I, 1, § 2).
Значение (signification, sens) (ср. понятие [concept, idée]): ~ — то, что
находится в соответствии с акустическим образом в знаке (II, 4, § 2); <-^ — то, что
находится в зависимости от значимости и определяется ею (И, 4, § 2); ^ слов и его
изменяемость (V, 4, § 3).
Значимость (valeur) (II, 3), (I, 3, § 1)=дифференциальность (II, 4, § 3); ~
знака является следствием того, что знак находится в соответствии (=
противопоставлен) с другими знаками (I, 3, § 4), (И, 4, § 2) и таким образом чисто
дифференциальна, то есть определяется не положительным своим содержанием, а
отрицательно: отношением к другим членам системы, то есть тем, что окружает
знак в системе (II, 4, § 2); ~ может изменяться только в силу изменения другого
знака (II, 4, § 4); система ^ наиболее сложно организована в языке (I, 3, § 1);
~ и значение — не синонимы (II, 4, § 2); ~ — элемент значения (II, 4, § 2); ^
и произвольность (II, 4, § 3); ^ и тождество знаков (И, 4, § 4); ^ в области
означающего (II, 4, § 3); ^ в области означаемого (II, 4, § 2); ^ грамматических
категорий на примерах числа, времени, вида (И, 4, § 2); ^ в письменности (II,
4, § 3); ^ в политэкономии, называемая также «ценностью» (II, 4, § 2).
Идиосинхрония (idiosynchronie), идиосинхронический (idiosynchronique):
(I, 3, § 5), (II, 1) см. синхрония, синхронический*
678
Изменения (changements): изменения имеют источник в речи (I, 3, § 9); <^>
спонтанны, стихийны (I, 3, § 4); ~ происходят в членах системы, но сказываются
на системе (I, 3, §§ 3—4); изменения морфологические (см. I, 3, § 6);
семантические ^ (I, 3, § 6); синтаксические ^ (I, 3, § 6); фонетические ^ (eh.
phonétiques): (III, 2, §§ 1—5), спонтанные и комбинаторные, абсолютные и
относительные (III, 2, §§ 2—3); их причины (III, 2, § 4); их беспредельность и
распространяемость на знак любого рода, обусловленная произвольностью знака
(III, 2, § 5); фонетические ~ затрагивают звуки, а не слова (I, 3, § 6), (III, 2, § 1),
материальную субстанцию, то есть речь, а язык как систему лишь косвенно (В,
IV), представляют собою деструктивный фактор в языке (III, 4, § 1), регулярны
(III, 2, § 1), влияют на грамматику (III, 2, § 5), (III, 3, §§ 1—6), разрывают
грамматические связи (II, 3, §§ 1—2), стирают сложное строение слова (III, 3, § 2);
фонетические ^ и фонетический закон (I, 3, § 6); фонетические ~ и чередования
(III, 3, §§ 4—6), фонетические ^ и заимствования (IV, 4, § 1).
Изменения (evolution) языка: ~ на непрерывной территории (IV, 3, § 2);
^> затрагивают множество сторон и каждое имеет свою область распространения,
независимую от остальных (IV, 3, § 2).
Изменчивость (mutabilité) знака см. знак.
Изоглосса (isoglosse): (IV, 3, § 3); линия ~ (IV, 3, § 3).
Имплозия (implosion) = затворная форма звука (forme fermante): (Пр. к В,
II, §§ 2—7): ~ и степень раствора (Пр. к В, II, § 2); ^ и ее длительность (Пр. к
В, II, § б); комбинации ~ и эксплозии в речевой цепочке (Пр. к В, II, § 3).
Имплозивный (implosive): <-> движение (mouvement fermant) (Пр. к В, II,
§2).
Инновация (innovation): ^ и коллектив (I, 2, § 1); индивидуальные ~, не
принятые коллективом (I, 3, § 9).
Интонация (intonation): слоговая ^ (ЛА, 599); длительная ~ (ЛА, 631);
прерывистая ^ (ЛА, 631).
Картография лингвистическая (cartographie linguistique) (IV, 3, § 3).
Китайский язык см. язык2.
Классификация (classification): <-^ звуков (Пр. к В, I, § 3); <^ языков по
градуальному признаку — степени мотивированности знаков (наименьшая
организованность/наибольшая произвольность . . . наибольшая
организованность/наименьшая произвольность) (II, 6, § 3); см. язык2.
Код (code): 1)=язык! (В, III, § 2); 2) =грамматика и орфография,
регулирующие литературный язык (В, VI, § 2).
Койне (koinè): (В, V), (IV, 2, § 2).
Композит (composé): (III, 7. § 2).
Консонант (consonant): <^> и согласные (Пр. к В, II, § 4).
Конструкция (construction): ^ в применении к агглютинации (III, 7, § 2);
~ в применении к аналогии (III, 7, § 2).
Корень (racine): ~ — единица низшего уровня (Пр. Б); определение ^
(Пр. Б); ~ существует лишь в силу своего сочетания с суффиксом (II, 6, § 1);^
и его структура в индоевропейских языках (V, 5), в немецком языке (Пр. Б), во
французском языке (Пр. Б), в семитических языках (Пр. Б^, (V, 5);~ и слово
(Пр. Б); ^ и смысл (Пр. Б); ^ udättä: (Мем., 521); ~~ anudättä (Мем., 521).
Коэффициент сонантный (coefficient sonantique): (Мем., 310).
Лексика (lexicologie): ^ и грамматика — два полюса языковой системы:
стремление к немотивированности и склонность к правилам конструирования
(И, 6, § 3).
Лексикология (lexicologie): <*^ —предмет грамматики (II, 7, § 1); факт ^
может совпадать с фактом синтаксиса (II, 7, § 1).
Лексический (lexicologique) см. язык2.
Лингвистика (linguistique): <^ — общественная наука, часть семиологии (В,
III, § 3); задачи ^ (В, II); история ~ (В, I); материал ^ (В, II); объект ^
создается точкой зрения (В, III); единственным объектом <^ является язык в самом
себе и для себя (V, 5), конкретные языковые сущности (II, 2, § 1), система экви-
валентностей между означающим и означаемым (I, 3, § 1); практическое значение
679
/^ (В, И); рациональное деление ^ (I, 3, § 9); отношение ^ к другим наукам:
антропологии, доистории, психологии, социальной психологии, социологии,
физиологии, этнографии (В, И); внешняя ^ (1. externe) (В, V); внутренняя ^ (1.
interne) (В, V); диахроническая ^ (1. diachronique) (II, 3, § 1): определение
(III, 1), ее предмет — фонетика (I, 3, § 9); необходимость наряду с
синхронической ^, диахронической ~ (I, 3, § 1); диахроническая проспективная ^ (1.
prospective) (I, 3, § 5), (V, 1); диахроническая ретроспективная ^ (1. rétrospective):
(I, 3, § 9), (V, I): ее метод — сравнение в рамках одного языка материала разных
языков (V, 1), ее цель — реконструкция прототипа (V, 1); историческая ~ (1.
historique) и традиционная ^ (I, 3, § 3); синхроническая ~ (1. synchronique): (I,
3, § 1): ее предмет — состояние языка и конститутивные факторы его (I, 3, § 9),
(И, 1); необходимость ее наряду с диахронической ^ (I, 3, § 1); статическая ^
(1. statique) = синхроническая ^ (II, 1), недостаточная точность этого термина
(I, 3, § 1); современная ~ в собственном смысле (=младограмматики) (В, 1) с
головой ушла в диахронию (I, 3, § 2), хотя пытается работать в обеих областях
(I, 3, § 2); традиционная или классическая ^ = лингвистика до Боппа,
например ^ Пор-Ройяля, строго синхронна (I, 3, § 2), ее недостатки (I, 3, § 2);
эволюционная ^ (1. елю1и^е)=диахроническая — (I, 3, § 1), недостаточность этого
термина (I, 3, § 1); ^ речи (1. de la parole): (В, IV); ^ языка (1. de la langue):
(В, IV), (I, 1, § 2).
Линейность (linéarité, linéaire caractère): ^ означающего (I, 1, § 3); ^ и
кажущаяся кумуляция в одной точке разных значащих элементов (I, 1, § 3).
Литературный язык (langue littéraire): ~ и диалекты (В, V), (IV, 2, § 2); ^
и народный (естественный) язык (В, V); ^ и письменность (IV, 2, § 2);
устойчивость ~ (III, 1) (III, 2, § 4).
Междометие (interjection): ^ и произвольный языковой знак (I, 1, § 2).
Метаплазм (métaplasme): (III, 4, § 3).
Метатония (métatonie): (ЛА, 602).
Метод (méthode): <^ внешней лингвистики (В, V); <·^ внутренней лингвистики
(В, V); ~ диахронической лингвистики (I, 3, § 5); ^ проспективной
диахронической лингвистики (V, I) и его недостаточность (V, I); — ретроспективной
диахронической лингвистики (V, I), его цель (V, I) и преимущества перед
проспективным методом (V, I); ^ синхронической лингвистики (I, 3, § 5); сравнительный ^
у ранних индоевропеистов и критика его (В, I); сравнительный ~ и
младограмматики (В, I).
Механизм (mécanisme) 1 см. система.
Младограмматики: условия появления ^ (В, I); заслуги ^: включение
сравнения в историческую перспективу (В, I); понимание языка как продукта
коллективного духа (В, I); недостатки теории ^ (В, I).
Морфология (morphologie): традиционное противопоставление ~ синтаксису
как учения о формах учению о функциях несостоятельно: у ^ нет
самостоятельного объекта, она не образует отличной от синтаксиса дисциплины (II, 7, § 1).
Мотивация (motivation) см. знак v
Мутация (mutation) = фонетическое изменение = передвижение согласных
(В, VI, § 2; III, 2, § 2; IV, 4, § 1), ср. пермутация.
Мысль (pensée): ^ не отделима от звука (И, 4, § 1); ^ без знака — аморфная,
нерасчлененная на понятия масса (II, 4, § 1); см. означаемое.
Мышление (mentalité): ~ и языковой тип: заключение от языкового типа к
типу мышления невозможно (V, 4, § 4).
Название (nom): (I, 1, § 1).
Науки, оперирующие понятием значимости (I, 3, § 1).
Неизменчивость (immutabilité) знака см. знак г.
Немецкий язык см. язык 2.
Новообразование (innovation): две концепции ^ и их связь с типом языка (III,
4, § 3); ^ по аналогии как операция вычисления четвертой величины в пропорции
1 Этот термин употреблен в «Курсе» 13 раз; ср. синоним: система.
680
(Ill, 4, § 3); отношение ^ к противоположению язык — речь (III, 5, § I); процесс
вхождения ^ в язык (III, 5, § 1).
Номенклатура (nomenclature): <** — совокупность наименований, данных
вещам (В, III, § 3) (I, 1, § 1).
Нуль (zéro):~ — окончание (Пр. Б); ^ — суффикс (Пр. Б); см. чередование.
Образ (image): ^ — не материальный звук, а его психологический отпечаток
и поэтому не состоит из фонем (I, 1, § 1); акустический ~ (i.
acoustique)=обознaчающее, иногда=знак (В, III, § 2); психичен по своей природе (В, III, § 2)
(I, 1, § 1), является суммой ограниченного числа фонем (В, III, § 2), а язык —
сокровищницей этих образов (В, III, § 2); акустический ~ и фонация (В, IV);
двигательный ~ (i. motrice) (В, I, § 1—2); звуковой ~ (i. vocale) —
наименование означающего (1, 1, § 1); психический ^ (i. psychique) звука (В, III, § 2);
словесный /^ (i. verbale) = акустический ~ (В, III, § 2) психичен (В, III, § 2) и
противопоставляется озвученному понятию (concept verbale); слуховой ~(i.
auditive) (В, III, § 2).
Общественное явление (fait social): язык — ^ особого рода в силу его
массовости (I, 2, § 1); другие ~ кроме языка (I, 2, § 1).
Означаемое (signifié, signe):^ — термин, лучший, чем термин понятие
(concept, idée) (I, 1, §§ 1—2), (II, 2, § 1); ^ —величина чисто дифференциальная
и отрицательная (II, 4, § 4); ^ вместе с означающим образует двустороннюю
единицу (I, 1, § 1) и без означающего является предметом психологии (I, 1,
§ 1); различение ~ стремится обнаружить себя в различении означающих, и,
наоборот, слияние ^ ведет к слиянию означающих (II, 4, § 3); сумма ~
соответствует сумме означающих (II, 4, § 4).
Означающее (signifiant)=акустический образ (II, 2, § 1) =звуковая
субстанция (II, 2, § 1)= последовательность звуков (I, 1, § 2); ~ — величина чисто
дифференциальная и отрицательная (II, 4, § 3), (II, 4, § 4), психическая,
бестелесная, а не материальная (I, 1, § 1); ~ (II, 4, §3) — навязанное коллективу и не
заменимое другим (I, 2, § 1); ~ вместе с означаемым образует двустороннюю
единицу (I, 1, § 1), связь между сторонами которой произвольна, немотивирована
(I, 1, § 2); по отношению к понятию ^ произвольно (I, 1, § 2), свободно выбрано
(I, 2, § 1); ~ без означаемого является предметом физиологии (III, 2, § 1); ^
воспринимаемо на слух (I, 1, § 3), линейно, в противоположность многомерности
зрительных означающих, например морских сигналов (I, 1, § 3); совпадение ^
ведет сплошь и рядом к слиянию означаемых и, наоборот, дифференция ^ ведет
к дифференциации понятий, то есть дифференциация стремится быть значимой
(П, 4, § 4).
Окончание (désinence): (Пр. Б); нулевое <^ (d. zéro): (Пр. Б).
Окситонеза (oxytonaison): (ЛА, 622).
Океитоны (oxytons): (Мем., 446).·
Организм (organisme) * = система.
Органы речи (appareil vocale): (Пр. к В, I, § 2).
Орфография (orthographie) (В, VI, § 2).
Ослабление (affaiblissement) (Мем., 345, 422).
Основа (radicale, thème): определение ~ (Пр. Б)=единице низшего уровня
(Пр. Б); отличается от корня, если даже материально совпадает с ним (Пр. Б); ~
первой и второй степени; гипербаритонированная ~ (ЛА, 623); окситонированная
~ (ЛА, 626); парокситонированная ~ (ЛА, 622); пропарокситонированная ~ (ЛА,
623).
Ось (axe): ~ одновременности (a. des simultanéités)=горизонтальная,
синхроническая (I, 3, § 1); ~ последовательности (a. des successivites)=временная,
вертикальная, диахроническая (I, 3, § 1).
Отношения (rapports): в языке все покоится на ~ (II, 5, § 1); ~ в слове и в
предложении принципиально не отличаются друг от друга (II, 7, § 1); два типа
отношений: ассоциативные и синтагматические (II, 5, §§ 1—3), их
взаимозависимость (II, 6, § 2) и их значение для рационального деления грамматики (II, 7,
* Этот термин употреблен Соссюром вместо термина система 11 раз.
681
§ 2); ассоциативные ~ (г. associatives) (II, 5, § 3) многообразны (II, 5, § 3),
возникают вне процесса речи, не опираются на протяженность (II, 5, § 1), хранятся
в памяти и образуют язык (Ц, 5, § 1), их члены не упорядочены, не определяемы
количественно (II, 5, § 3) и образуют виртуальный ряд (II, 5, § 1);
синтагматические ~ (г. syntagmatiques) (И, 5, § 1), возникают в речи, опираясь на
протяженность (II, 5, § 1), их члены образуют реальный ряд, даны актуально (II, 5,
§ 1); два вида синтагматических ~ в синтагме: ~ частей к целому и ~ частей
между собой (II, 5, § 2), (II, 5, § 1); синтагматические ~ наряду с ассоциативными
служат основанием для членения слова на единицы низшего уровня (Пр. Б);
лексическое выражение ~ на примерах вида, залога, падежей, предлогов и
«составных речений» типа «подвергать наказанию» (11,7, § 1); значение
ассоциативных и синтагматических ~ для выделения фонем (II, 6, § 3).
Отрезок (chaînon) (groupe des sons): имплозивный ~ (Пр. к В, II, § 3);
эксплозивный ~ (Пр. к В, II, § 3); имплозивно-эксплозивный ~ (Пр. к В, II, § 3);
эксплозивно-имплозивный ~ (Пр. к В, II, § 2); разорванный эксплозивный (или
имплозивный) ~ (Пр. к В, II, § 5); неразложимый ~ (ch. irréductible) =фонема,
фонологическая единица (Пр. к В, I, § 1).
Палеонтология лингвистическая (paléontologie linguistique): ~ — средство
реконструкции этноса (религии, культуры и т. д.) и ненадежность этого средства
(V, 4, § 3).
Панхрония (panchronie) (I, 3, § 7).
Парадигма (paradigme: акцентная ~ (ЛА, 626); подвижная ~ (ЛА, 621);
неподвижная ~ (ЛА, 621, 623).
Параплазм (paraplasme) (III, 4, § 3).
Парокситоны (paroxytons) (ЛА, 622), (Мем., 446).
Пермутация (permutation)=чередование (обычный для Мем., но не
рекомендуемый в «Курсе» термин, ибо его иногда употребляют как синоним фонетического
изменения) (III, 3, § 4) [если permutation=чередование, то ти1аШп=фонетиче-
ское изменение; если permutation =фонетическое изменение, то alternance=
чередование] .
Письменность (écriture) (В, VI, §§ 1—5): ~ — особая вторичная система
знаков (знак знака) (И, 4, § 3) с отрицательной дифференциальной значимостью
их (И, 4, § 3), служащая для передачи первичной системы знаков (В, VI, § 2),
неизмеримо более простая, нежели первичная система (I, 2, § 1), но
непоследовательная (В, VI, § 5), с ограниченным числом знаков (II, 4, § 3), изменяющаяся
гораздо медленнее, нежели первичная, и имеющая тенденцию к неподвижности
(В, VI, § 4); доминирует в сознании людей, в том числе многих лингвистов
прошлого, над первичной (В, VI, § 2); причины этой доминации (В, VI, § 2), (В, 7,
§ 1) и последствия (В, IV, § 5).
~ и произношение (В, VI, § 4); ~ и литературный язык (IV, 2, § 2); ~ и язык
(langue) (В, III, § 2), (В, VI, § 1);
системы ~ (В, VI, § 3): буквенная с. ~ (s. alphabétique): (В, VI, § 3), в
частности, консонантная с.~ (Пр. к В, I, § 1); идеографическая с. ~ (s.
idéographique) (В, VI, § 3), обозначает слово и лишь косвенно понятие, ее большая
независимость по отношению к первичной системе знаков языка, нежели к
звуковой (В, VI, § 3); слоговая с. ~ (s. syllabique) (В, VI, § 3), (Пр. к В, 1, § 1),
смешанная с.~ (s. mixte) с идеограммами в фонетической функции (В., VI, § 3);
фонетическая с. ~ (s. phonétique) (В, VI, § 3); расхождение между начертанием
и произношением, причины его (В, VI, § 4) и последствия его (В, VI, § 5);
фонологическая с. ~ (s. phonologique) (В. VII, § 2), ее специфическая функция и
узкая область обслуживания, практическое неудобство ее (В, VII, § 2), находит
почти идеальное воплощение в греческой письменности (Пр. к В, I, § 1, § 2);
этимологическая с. ~ (s. étymologique) (В, VI, § 4).
Плозия (plosion) см, выдержка.
Понятие (concept, idée)=3Ha4eHHe=означаемое (I, 1, § 1) — свойство звуковой
субстанции (II, 2, § 1), само по себе есть предмет психологии (II, 2, § 1).
Праязык (langue mère): принципиальная ошибочность отождествления
древнейших хронологических языков одной и той же семьи с праязыком (напр., сан-
682
скрита); редкие исключения из этого (напр., латинский); языки одной семьи
не являются продолжением друг друга, а материалом для извлечения праязыка
(V, 2); индоевропейский ~, его характеристика, ответвления (= конкретные
языки), типологическое соотношение между ними (V, 5).
Предложение (phrase): ^ — синтагма (II, 5, § 2); ~ и слово (II, 2, § 3), ~
и конкретная единица языка (II, 2, § 3), ~ и его отношение к языку и речи (II,
2, § 3); ~ принадлежит речи в силу свободы комбинирования элементов (II, 5,
§ 2), но шаблоны ~ принадлежат языку (II, 5, § 2); эквиваленты ~ (II, 6, § 1).
Префикс (préfixe): (Пр. Б): единица низшего уровня сравнительно со словами;
качественное отличие ~ от суффикса (Пр. Б).
Прилагательное (adjectif): — и группы слов типа bon marché (II, 3).
Произвольность, произвольный (arbitraire) см. знак.
Произнесение (phonation) см. фонация.
Происхождение языка (origine du langage): (I, 2, § 1).
Пропарокситоны (proparoxytons): (ЛА 623).
Противоположения (dualités) (paires de choses) (B, III, § 1).
Противопоставление (distinct): ~ и различие — не одно и то же: знаки
противопоставлены (distincts), означающее и означаемое различны (différents) (II,
4, § 4).
Протяжение (allongement) (Мем., 408); заместительное ~ (a. compensatoire)
(Мем., 408).
Психология (psychologie): ^ и лингвистика (В III, § 3).
Развитие языка (évolution de la langue) см. язык 2.
Различие (différence) создает значимость единицы в языке (II, 4, § 4), ср.
прот ивопоставлен ие.
Разложение (décomposition) (analyse) см. анализ.
Размыкание (ouverture) (Пр. к В, I, § 3).
Разновидности фонетические (variétés phonologiques) (Пр. к В, I, § 2).
Раса (race) — факт антропологический (V, 4, § 1): ~ и язык не связаны
однозначно (V, 4, § 1), язык не есть атрибут ~ (V, 4, § 1); свойства ~ не есть
причина фонетических изменений (III, 2, § 4).
Раствор (aperture): степень ~ (degré d'aperture= degré d'ou ver ture— degré
de fermeture) (Пр. κ Β, I, §3); нельзя смешивать ~ и эксплозию (Пр. к В, II,
§ 2), но степень ~ влияет на отчетливость различения имплозии и эксплозии (Пр. к
В, II, § 2).
Растяжение (allongement) см. протяжение.
Реконструкция (reconstruction): ~ — цель ретроспективной диахронической
лингвистики (V, 1); средство ~ — сравнение (V, 3); частная ~ и результат ее — ~
форм (V, 3, § 1); надежность ~ форм объясняется надежностью частных ~, то
есть ~ фонем (V, 3, § 2); причина надежности ~ — свойства фонологической
системы (V, 3, § 2); ~ как способ регистрации успехов сравнительного
языкознания (V, 3, § 1).
Речевая деятельность (langage) *; способность к речевой деятельности (faculté
du langage) недоступна непосредственному наблюдению; ее дихотомичность и
гетерогенность: действующее установление и продукт прошлого, социальна и
индивидуальна, система и история (эволюция), материальна и идеальна (В, 3, § 1);
спорность вопроса о естественности формы проявления ~ (В, III, § 1).
Речь (parole) (I, 2, § 2): — и язык (В, III, § 2; В, IV); ~ — реализация,
а не установление (В, III, §2), индивидуальна, а не социальна (В, III, § 2; В, IV),
психофизична (В IV),- свободна, а не фиксирована, то есть обладает способностью к
свободе комбинирования элементов (И, 5, § 2); ~ — источник изменений (I, 3,
§ 9); детская - (III, 5, § I).
Речь членораздельная (langage articulé) (В, III, § 1).
Родство языков (parenté des langues): всеобщее ~ и его малая вероятность
(IV, I); ~ и вопрос о непрерывной и прерывной территории (IV, 4, § 3).
1 Термин встречается в «Курсе» 49 раз.
683
Сампрасарана (Мем., 346).
Санскрит: его открытие и его значение для и.-е. лингвистики (В. Î), для
формирования сравнительной грамматики (V, 5); его архаичность и вытекающее из
этого ошибочное отождествление его с праязыком (V, 2); см. язык 2.
Семиология (sémiologie) — наука о знаках (теория знака) вообще (В, III,
§ 3), преимущественно произвольных (I, 1, § 2), часть (социальной) психологии
(В, III, §3); объекты ~ — семиологические системы знаков (В, III, § 3);
отношение к ~ знаков вполне произвольных и знаков естественных (I, 1, § 2); общий
принцип ~ — непрерывность знака во времени, связанная с его изменяемостью во
времени (I, 2, § 2); прототип, модель ~ —лингвистика (В, III, § 3) — «самая
сложная и самая распространенная семиологическая система» (В, III, § 3), (I, 1,
§ 2); общие принципы ~ и язык (I, 3, § 4).
Семиологическая система (système sémiologique) см. система.
Семья языков (famille de langues): определение ~ (IV, 1); общие черты в
родственных языках могут быть результатом позднейшего развития (V, 5); — не имеет
постоянных признаков (V, 1); индоевропейская ~ (V, 5), (В, 1), (IV, 3, § 4),
семитская ~ (V, 5), урало-алтайская ~ (V, 5); угрофинская (IV, 1).
Символ (symbole) (I, 1, § 2): ~ имеет рациональную связь с означаемой
вещью (I, 2, § 1); языковой знак — не ~ (I, 1, § 2), ибо знак произволен, а ~ не до
конца произволен (I, 1, § 2), поэтому термин ~ неудобен для обозначения
языкового знака (I, I, § 2).
Симфтонг (symphtongue) см. коэффициент сонантный.
Синтагма (syntagme) — сочетание минимум двух последовательных единиц
(II, 5, § 1) любого уровня (II, 5, § 2); является таковой лишь в силу наличия
минимум двух ассоциативных рядов (И, 6, § 2), причем изменения в
ассоциативных связях ведут к изменению значимости ~ (II; 6, § 2); два вида отношений в ~:
между частями ее и между частями и целым (II, 5, § 2); ~ и оппозиция язык —
речь; в области ~ нет четкой границы между фактами языка и фактами речи
(И, 5, § 2); узуальные ~, построенные по шаблонам, относятся к языку (II, 5,
§ 2), например сложные слова; в языке есть единицы, не образующие синтагм ни
со своими частями, ни с другими единицами (II, 6, § 1); ~ и ассоциация как базис
синхронии (II, 7, § 2).
Синтагматика (syntagmatique): ~ не совпадает с синтаксисом (II, 7, § 2).
Синтагматический (syntagmatique): ~ группа (II, 6, § 2) связана
взаимозависимостью с ассоциативной — (II, 6, § 2); — единство (2, 6, § 1)=синтагма;
~ отношение см. отношение; ~ ряд (II, 5, § 3), его свойства: определенность
порядка и ограниченность количества (II, 5, §3); ~ связь с другими единицами вне
синтагмы, частей синтагмы между собой и с целым (II, 6, § 1).
Синтаксис (syntaxe) (II, 7, § 1): ~ — область, где нет резкой границы
между языком и речью (II, 5, § 2); ~ как теория словосочетания входит в
синтагматику (II, 7, § 2); ~ слова как отношения между единицами низшего уровня не
отличается в принципе от синтаксиса словосочетания (II, 7, § 1); — и лексикология
(И, 7, § 1); ~ и морфология (II, 7, § 1).
Синхрония (synchronie) (I, 3, § 1): область ~ — общая грамматика (II, 1);
~ — единственная подлинная реальность для говорящего (I, 3, § 5); ~ и
диахрония (I, 3, § 3, § 4); ~ столь же правомерна, как и диахрония, и наоборот (I, 3,
§ 8); ~ для лингвиста важнее, чем диахрония (I, 3, § 5); различие методов ~
и диахронии (I, 3, § 5); недопустимость смешения ~ с диахронией и последствия
этого смешения (I, 3, § 8); идиосинхроничность (область только одного языка,
одного диалекта, одного поддиалекта) ~ в противоположность диахронии,
выходящей за пределы отдельного языка (I, 3, § 5); иллюстрации противоположения ~
и диахронии (I, 3, § 3).
Синхроническая реальность (réalité synchronique) (И, 3).
Система (système) *: семиологические ~ [знаков]; взаимосвязь в них понятий
тождества и понятий значимости (II, 3); отличие языка от них в отсутствии не-
1 Термин, употребляемый в «Курсе» 138 раз. Ср. синонимы: механизм,
организм, (иногда) структура.
684
посредственной данности конкретных единиц и сущностей (II, 2, § 4);
фонологическая ~ (s. phonologique): (В, VII, § 3); ограниченность фонем и их оппозитив-
ность как свойство фонологической ~ (V, 3, § 2); ~ письменности см.
письменность; ~ языка (s. de la langue) — сложная система (I, 2, § 1), а не сумма
составляющих ее членов (II, 4, § 2), созданная обществом (II, 4, § 1), свидетельством
чего является произвольность знаков (II, 4, § 2), покоится на иррациональном
принципе произвольности знака (I, 2, § 1), который уравновешивается
рациональным принципом порядка и регулярности, относительной организованности —
мотивированности (II, 6, § 3); ~ языка неизменчива, изменяются только
элементы ее (I, 3, § 3), причем изменение заключается в сдвиге отношения между
означаемым и означающим (III, 8), результатом чего является рождение новой
системы (I, 3, § 3); таким образом, сдвиг в ~ языка зависит от событий, чуждых
самой системе (I, 3, § 6); ~ языка и история (В, III, § 1); ~ языка и шахматная
игра (В, V), (I, 3, § 4), (II, 3), (II, 2, § 4).
Слово (mot): ~ занимает центральное место в механизме языка (II, 3); обычное
понимание — (II, 2, § 2); в обычном понимании ~ не совпадает с понятием
конкретной языковой единицы (II, 2, § 2), не подходит в точности под определение
языковой единицы (II, 4, § 1); акустический образ как сущность,
противопоставленная понятию в единстве знака (И, 4, § 2); ~ и его единство (I, 3, § 6); ~
с ассоциативной и синтагматической точки зрения (II, 7, § 2); внутренние
отношения в слове существенно не отличаются от отношений в предложении (II, 7,
§ 1); продуктивное и не продуктивное ~ (III, 4, § 3), сложное (m. composé) и
производное ~ (т. dérivé) (III, 7, § 2) — продукт аналогии (III, 7, § 2).
Словоизменение (flexion): ~ является предметом парадигматики и теории
ассоциаций (II, 7, § 2); ~ внутренне неоднократно перестраивается в течение
истории (Пр. А).
Слог (syllabe): ~ — первичная данность по сравнению со звуком (Пр. к В,
И, § 1).
Слогоделение (syllabation): теории ~ и их критика (Пр. к В, II, § 5).
Слогораздел (frontière de syllabe) (Пр. к В, II, § 4).
Смещение (déplacement) [ударения] (Мем., 335 и сл.)
Смыкание (fermeture): (Пр. к В, I, § 3).
Согласные и консонанты (consonnes et consonantes): (Пр. к В, И, § 4).
Соглашение (convention): (I, 1, § 2).
Сонанты (sonantes): ~ и консонанты и их отношение к гласным и согласным
(Пр. к В, 2, §4);~в и.-е. языке и теория слога, resp. комбинаторная фонология
(Пр. к В, II, § 1).
Состояние [языка] (état [de langue]): ~ — не математическая точка, а более
или менее длительный промежуток времени (II, 1); ~ — абстракция, отвлечение
от маловажных изменений (II, 1); трудности выделения ~ во времени (II, 1);
новое ~ имеет случайный характер (I, 3, § 3).
Сравнение (comparaison): значение ~ для истории языка и его ограниченность
(В, И); ~ ведет к реконструкции форм (V, 3, § 1) родственных языков (IV, 1),
неродственных языков (IV, 1).
Структура (construction) г: ~ в приложении к агглютинации и аналогии (III,
7, § 2).
Стяжение (contraction): (Мем., 441).
Субстрат (substrat): (III, 2, § 4).
Суффикс (suffixe): ~ — единица низшего уровня по отношению к слову (II, 6,
§ 1), (Пр. Б), выделяется лишь в силу наличия парадигматического ряда, в который
он входит (II, 6, § 1), и качественно отличается от префикса характером границы
с корнем (Пр. Б); ^ с семантической значимостью (Пр. Б); ~ с грамматической
функцией (Пр. Б); нулевой ~ (Пр. Б).
Сущность (entité): абстрактная ~ [в языке] (II, 8), имеет нематериальный
характер (II, 8), основана на конкретных ~ (II, 8), выделяется ассоциативно
(конкретный падеж -» падеж вообще -*· существительное) (II, 8), синтагматически
В трех случаях употребляется в «Курсе» как синоним термина система.
685
(порядок слов) (II, 8); грамматическая ~ (II, 4, § 2); конкретная [языковая] ~
(=знак) является объектом лингвистики (II, 2, § 1), представляет собою
двустороннюю единицу= ассоциацию означаемого и означающего (II, 2, § 1), понятия и
акустического образа (II, 2, § 1) и не дана наблюдению непосредственно (II, 3).
Такт (temps): акустический ~ (t. acoustique) (Пр. к В, I, § 1); артикулятор-
ный ~ (t. articulatoire): (Пр. к В, I, § 1).
Тема (thème): (Пр. Б).
Теория (théorie): ~ волн (IV, 4, § 3); ~ волн и теория переселения и их
объяснительная сила в отношении языковой дифференциации (IV, 4, § 3); ~
миграций (IV, 4, § 3), (IV, 3, § 4).
Тип (type): фонологический ~ еж. фонологический; языковой ~ (t. Unguis-
tique)= ~ языка и мышления (V, 4, § 4); ~ и языковая семья (V, 5); отсутствие
однозначной связи между языковой семьей и языковым ~ в силу эволюции, не
имеющей границ (V, 5).
Тождество (identité): диахроническое ~ (II, 3), (III, 8), не совпадает с
синхроническим (I, 3, § 5); материальное ~ (II, 3); синхроническое ~ (II, 3) основано
на материальном тождестве, а не на тождестве смыслов (II, 3); синхроническое
~ и конкретные языковые сущности и единицы (II, 3).
Традиция (loi de la tradition): ~ и произвольность, неизменчивость [знака]
(I, 2, § 1).
Ударение (accent, ton): колонное~ (a. columnal) (ЛА, 626); маргинальное ~
(a. marginal): (ЛА, 626, 628); наосновное ~ (a. radical) (ЛА, 623, 628, 630);
слоговое ~ (a. syllabique) (Пр. к В, II, § 3); флективное (a. flexionnel) (ЛА, 628,
630); ~ во французском и латинском (I, 3, § 3); ~ в греческом (I, 3, § 6).
Универсальные факторы (les forces universelles) в языках (V, 5).
Усиление (gradation): (Мем., 422).
Установление (institution): язык — это ~ (В, III, § 1, §3).
Физиология речи (physiologie des sons, Sprachphysiologie) (В, IV), (В,
VII, § 1).
Филология (philologie): объект и метод ~ (В, I); ~ и лингвистика (В, I), (В,
II); ~ и живой язык (В, I); недостатки ~ (В, I).
Флексия (flexion): ~ сильная (Мем., 470); ~ слабая (Мем., 470).
Фонация (phonation): ~~ — физическая часть акта речевого общения (В, III,
§ 2) = реализация акустического образа органами речи (В, IV), (Пр. к В, I, § 1);
акт ~ (acte рпопакнге)=образование звуков органами речи (Пр. к В, I, § 1, § 2),
(I, 1, § 3); фаза ~ (phase phonatoire) (Пр. к В, II, § 3).
Фонема (phonème) [термин Dufriche-Desgenettes, 1873]: определение ~ (Пр.
к В, I, § 1); ~ — оппозитивная, относительная и отрицательная данность (II,
4, § 3); дифференциальная величина, характеризуется отрицательно, а не
положительно (т. е. абсолютным звуковым свойством) (V, 3, § 2); вытекающая отсюда
идея изображать ~ местом, занимаемым в системе, цифрами (V, 3, § 2);
выделение ~ на пересечении ассоциативного и синтагматического рядов (II, 6, § 2);
дифференциальные элементы ~ (Пр. к В, I, § 2); акустическая и артикуляторная
сторона ~ и естественность первой в качестве отправной точки для ~ (Пр. к В,
I» § 1, § 3); ограниченность числа ~ в каждом языке (В, III, § 2), (В, VII, § 3),
(Пр. к В, I § 1), (II, 4, § 3), (V, 3, § 2); акустический образ не состоит из ~
(I, 1, § 1).
Фонетика (phonétique): ~ — учение об эволюции звуков в истории языка
(В, VII, § 1) историческая наука, объект диахронической лингвистики (III, 1),
не сигнификативна и не грамматична (В, IV), (III, 1, § 5); ~ и фонология (III;-"
1); ~ и язык (В, IV).
Фонетический (phonétique): ~ дублет (т. е. несколько результатов
одновременного изменения на одной территории) — это фикция (III, 3, § 3, § 4); —
изменение (changement phonétique): (HI, 2, §§ 1—5).
Фонологический (phonologiques): ~ виды (espèces de phonème): (Пр. к В, 1,
§2, §3); ~ единицы (unités phonologiques) (Пр. к В, 1, § 1); ~ тип (espèce
phonologique) — фонема — неразложимый отрезок речевой цепочки, взятый отдельно,
вне времени, in abstracto (Пр. к В, 1, § 1); абстрактный характер ~ типа (·—фоно-
686
логическая единица в отвлечении от эксплозии и имплозии) (Пр. к В, И, § 1,
§ 2, § 5); ограниченность ~ типов (Пр. к В, 1, § I).
Фонология (phonologie): 1)—- — физиология артикулируемых звуков,
изучающая механизм артикуляции, фонацию (В, VII, § 1), вспомогательная наука, а не
часть лингвистики (Пр. к В, II, § 1), наука неисторическая, вне времени (В, VII, § 1),
лежащая в области речи, а не языка (В, VII, § 1), ошибочно называемая
фонетикой (В, VII, § 1), (III, 1); 2) описание звуков в данном состоянии языка; ~
звуковых типов (ph. des espèces): (Пр. к В, II, § I); ~ звукосочетаний (ph. des groupes):
(Пр. kB, Π, § I, § 2), комбинаторная ~ (ph. combinatoire): (Пр. к В, II, § 1);
недостаток современной ~ — отсутствие комбинаторики (Пр. к В, II, § 1),
пренебрежение конкретностями — имплозией и эксплозией, акцент на абстрактные
типы (Пр. к В, II, § 2).
Форма (forme): ~ — традиционный термин для означающего (II, 2, § 1); ~
(а не субстанция) — это сочетание мысли и звука (II, 4, § 2).
Функция (fonction): ~ существует лишь благодаря опоре на материальную
форму и наоборот (И, 8).
Цепочка (chaîne) (В, III, § 1), (Пр. к В, I, §1); акустическая ~ (ch.
acoustique), (ch. de la parole entendu): (Пр. к В, 1, § 1); артикуляционная ~ (ch.
articulable), (ch, de mouvements de phonation): (Пр. к В, I, § 1); звуковая ~ (ch.
phonique, ch. de sons): (Пр. к В, 1, § 1), (II, 1) — факт языка лишь постольку,
поскольку она является опорой понятия (II, 2, § 1); речевая ~ (ch. parlée): (I,
2, § 1); ~ фонем (ch; des phonèmes): (Пр. к В, II, §§ 1—7), всегда двусторонняя
(II, 2, § 1), членима на фонемы (Пр. к В, 1, § 1), но не сама по себе, а лишь при
обращении к означаемому (II, 2, § 1).
Циркумфлексыый (doux): ~ ударение (ЛА, 621), ~ интонация (ЛА, 614, 620);
~ тон (ЛА, 611).
Части речи (parties du discours): деление слов на ~ не есть бесспорная
языковая синхроническая реальность (II, 3); отношение к ~ слов и групп слов (II, 3);
логическая и лингвистическая (грамматическая) сторона проблемы ~ (И, 3); ~
и абстрактные сущности в грамматике (II, 8).
Чередование (alternance, échange): (III, 3, §§ 4—6): определение ~ (HI, 3,
§ 4) ', законы ~ — факт синхронии, а не диахронии и имеют грамматический, а
не фонетический характер (III, 3, § 4, § 5); ~ укрепляет грамматические связи
слов (III, 3, § 6); аблаут как пример ~ (III, 3, § 5, § 6); незначащие ~ (III,
3, § 6); ~ и фонетические изменения (III, 3, § 5).
Число (nombre): ~ и значимость; несовпадение мн. ч. по значимости во
французском и санскрите (II, 4, § 2).
Член системы (terme): ~ определяется системой (II, 4, § 1), может менять
значимость, не меняя смысла и звуков в силу изменения других членов системы (II,
4, § 4).
Членораздельная речь (langage articulé): (В, III, § 1), (H, 4, § 1).
Членораздельность (articulation)=членение цепочки звуков на слоги и
цепочки значений на смыслы (В, III, § 1); язык — область ~ (И, 4, § 1).
Шахматная игра как «модель» языка: правила ~ и правила лингвистики (I,
3, § 7); ~ и противоположение внешней/внутренней лингвистики (В, V); ~ и
проблемы значимости и тождества в языке (II, 3); ~ и механизм языка (I, 3, § 4);
~ и система языка (II, 2, § 4).
Эволюция ^оМюп)=диахрония (I, 3, § 1); ~ может выражаться в
непрерывном переходе от мотивированного к немотивированному и наоборот (II, 6,
§ 3); фонетическая ~ (é. phonétique): (III 3); ~ и аналогия (III, 5).
1 В конспектах «Курса» мы находим явно противоречивые определения
чередования; с одной стороны, это звуковые различия, обретающие языковую
значимость; с другой стороны, это фонетическое изменение, подкрепляющее уже
наличную языковую значимость.
687
Эксплозивное движение (mouvement ouvrant) (Пр. к В, II, § 2).
Эксплозия (explosion), (forme ouvrant)=растворная форма звука (Пр. к В II,
§§ 2—7); ~ и степень раствора (Пр. к В II, § 3); ~ и ее длительность (Пр. к В,
II, § 6); комбинации имплозии и ~ в речевой цепочке (Пр. к В, II, § 3).
Элемент (élément): дифференциальный ~ (é. différentiel)=3ByKH,
принимаемые во внимание говорящим (=фонемы в современном смысле.— А. X.) (V, 3,
§ 2), противостоят беглым или переходным звукам (Пр. к В, II, § 2); формальный
~ (е. ЬгтаШ)=элемент слова, противопоставленный основе (Пр. Б).
Эпоха (époque) — менее удачный термин, нежели состояние (II, 1).
Этимология (étimologie) (Пр. В): непрочность ~ (V, 4, § 1); народная ~
(é. populaire) (III, 6) и область распространения ее, кардинальное отличие ее от
аналогии (III, 6); ~ и орфография (В, VI, §§ 4, 5).
Этнизм (éthnisme)== социальное единство; ~ и язык (В, V), (V, 4, § 2);
ненадежность показаний языка для суждений о ~ (V, 4, § 3).
Языкх (langue): ~ —условность (В, III, § 1); ~ — часть семиологии (I, 2,
§ 2), самая сложная и самая распространенная семиологическая система,
виртуально существующая у каждого человека в мозгу (В, 3, § 3), (I, 1, § 2); ~ —
продукт общества (В, III, § 1); ~ — социальное, общественное явление (В, III,
§ 1), (I, 2, § 2) особого рода в силу господства преемственности (I, 2, § 1) и
максимального отсутствия инициативы (I, 2, § 1) в чистом виде [предельная
произвольность (I, 1, §2), запечатленная коллективным обычаем (II, 5, §2)], насквозь
психичен (В, II); место ~ в ряду явлений человеческой жизни (В, III, § 3);
определение ~ и две возможности понимания — теоретическая и интуитивная (И, 2,
§ 3): а) ~ — очень сложная система знаков (В, III, § 3), (В, V), (I, 2, § 1) с
бесконечным числом их (I, 2, § 1), все элементы которой образуют
(взаимосвязанное) целое (II, 4, § 2), основанное на противопоставлении его конкретных
единиц (II, 2, § 4), на психическом противопоставлении акустических впечатлений
(В, VII, § 1), где нет ничего, кроме различий, то есть система без положительных
членов (II, 4, § 4); как система ~ не целиком произволен (I, 2, § 1); ~ — система
чистых значимостей (I, 3, § 1), (II, 4, § 1); б) ~ — речевая деятельность минус
речь (I, 2, § 2); отношение ~ к речи (В, III, § 2), (III, 5, § 1), в частности, на
примере аналогии (III, 4, § 3); ~ — основание, норма всех прочих проявлений
человеческой деятельности (В, III, § 1), (В, III, § 3); в) ~ — область
членораздельности (II, 4, § 1), средство расчленения аморфной массы на понятия и
звуковой субстанции на слова (II, 4, § 1); г) ~—форма, а не субстанция
(II, 4, § 4), (поэтому) не связан со звуковым характером знака (В, II), хотя
звуковой характер ~ навязан нам природой, а не случаем (В, III, § 1); д) ~ не
создан для выражения понятий (I, 3, § 3) и изменения в ~ не предназначены для
выражения значений (I, 3, § 3); е) верное изображение ~ — это словарь и
грамматика (В, III, § 2), совокупность синтаксических и ассоциативных отношений
(II, б, § 1); ж) ~ устойчив и изменчив (I, 2, § 1), попытки изменить его обречены
на неуспех (I, 2, § 1), так как он унаследован от предыдущих поколений (I, 2,
§ 1) и ему подчиняются в смысле несвободы.
Язык 2 (langue)=идиом: любой ~ есть язык 1э то есть любой ~ образует
систему; английский ~ меньше мотивирован, нежели немецкий (И, 6, § 3);
грамматический (= минимально немотивированный) ~ (1. grammaticale): (II, 6, § 3);
древний ~ и три интерпретации этого понятия: наиболее близкий к изначальной
модели, исчезнувший или известный в наиболее древнее время (с такого-то года,
века), более ранний по происхождению (= появился раньше других) (V, 2);
естественный ~ = народный ~ (III, 1); искусственный ~ подчиняется тем же законам,
что и естественный (I, 2, § 2); китайский ~ как ультралексический (II, 6, § 3);
латинский см. французский; лексический (1. lexicologique) (=максимально
немотивированный) ~ (II, 6, § 3); литературный ~ (В, V); тенденция его к
устойчивости скрывает эволюцию (III, 1); его отношение к народному ~ (III, 1);
литературный— и орфография (В, VI, § 1); немецкий ~ менее немотивирован, нежели
английский (II, 6, § 3); разговорный ~ (В, V); санскрит — ультраграмматический
язык (II, 6, § 3); семитические ~ (V, 4, § 4), (V, 5); французский ~ по сравнению
ç латинским характеризуется огромным возрастанием произвольности (II, 6,
688
§ 3); ~ и диалект (IV, 2, § 2), (В, V); ~ и нация как предмет внешней
лингвистики (В, 5); ~ и этнология как предмет внешней лингвистики (В, V);
географическое распространение ~ (В, V); границы между ~, их условность (IV, 3, § 4);
случаи резких переходов между ~ и причины этого (IV, 3, § 4); дифференциация ~
и теория волн (IV, 4, § 3); многообразие ~; неродственные ~ и абсолютное
различие между ними (IV, 1); родственные ~, различие (дифференциация) между ними
(IV, 1); предпосылки этого различия — пространство, причина различия — время
(IV, 3, §§ 1—2); различия ~ на смежной территории (IV, 3, § 2), (IV, 4, § 3) и
на изолированных, разобщенных территориях (IV, 4, § 3); сосуществование ~
на одной территории и причины этого (IV, 2, § 1); развитие ~: органическое
(внутренние факторы) (В, V) и неорганическое (внешние факторы) (В, V); ~
у Шлейхера (В, I).
Ячейка (cellule) (Мем., 469).
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ ОСНОВНЫХ ТРУДОВ и журналов,
НА КОТОРЫЕ ССЫЛАЕТСЯ Ф. ДЕ СОССЮР В СВОИХ РАБОТАХ
Ahrens, I, 11= Ahre η s, De Graecae linguae dialectis, I, II, Gottingae,
1839, 1843.
AfslPh; Archiv; Archiv f. slav. Phil. =Archiv für slavische Philologie, begründet
von V. Jagic, Berlin, 1876—1929.
AL= «Acta linguistica».
Ascoli, Vorlesungen = G. I. Ascoli, Vorträge über Glottologie,
gehalten an der Mailänder Wissenschaftlichliterarischen Akademie. Bd. I.
Vorlesungen über die vergleichende Lautlehre des Sanskrit, des Griechischen und des
Lateinischen. Obers, von J. Bazzigher und H. Schweizer—Sidler, Halle, 1872.
* BB, Beiträge= «Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, hgb. Ad.
Bezzenberger», Bd. 30, Göttingen, 1877—1906.
Benfey, Vollst. Gr.; Gramm.= Th. Benfey, Handbuch der Sanskritsprache.
Zum Gebrauch für Vorlesungen und zum Selbststudium. Abt. I. Vollständige
Grammatik der Sanskritsprache, Leipzig, 1852.
Benfey, Über die Entstehung etc. des in dog. Optat.=Th. Benfey, Über
die Entstehung und die Formen des indogermanischen Optativ (Potential), so wie
über das Futurum auf sanskritisch syâmi u. s. w., Göttingen, 1871.
Bopp, Accentuationssystem= Fr. Вор ρ, Vergleichendes Accentuationssy-
stem nebst einer gedrängten Darstellung der grammatischen Übereinstimmungen
des Sanskrit und Griechischen, Berlin, 1854.
Bopp, Gr*. Comp. (Trad.)=Fr. Bopp, Grammaire comparée des langues
indo-européennes, comprenant le sanscrit, le zend, l'arménien, le grec, le latin, le
lithuanien, l'ancien slave, le gothique et l'allemand. Traduite sur la2-meéd. et
précédée d'introductions par Michel Bréal, t. 1—5, Paris, 1866—1874.
Bopp, K. Gramm, d. Skr. Spr.; Kr. Gramm, der Sanskr.-Spr. = Fr. Β ο ρ ρ,
Kritische Grammatik der Sanscrits-Sprache in kürzerer Fassung, Berlin, 1834.
В.— R.; Böhll,— Roth= О. Böhllingk, R. Roth,
Sanskrit-Wörterbuch, Th. 1—7, St.-Petersburg, 1855—1875.
BSL, BSLP= «Bulletin de la Société de Linguistique de Paris», Paris, 1869 —.
CFS— «Cahiers Ferdinand de Saussure. Publ. par la Société Genevoise de
Linguistique», Genève, 1941 и сл.
Corssen, Ausspr.= W. Corssen, Über Aussprache, Vokalismus und
Betonung der lateinischen Sprache, Leipzig, 1858—1859.
Corssen, Beitr. ζ. It. Spr.; Sprachk.= W. Corssen, Beiträge zur italischer!
Sprachkunde, Leipzig, 1876*
691
Curtius, Erl.= G. Curtius, Erläuterungen zu meiner griechischen
Schulgrammatik, Prag, 1863.
G; Curtius; Curtius, Grdz.; Grundzüge= G. Curtius, Grundzuge der
griechischen Etymologie, Leipzig, 1873.
Curtius, Verb(um)= G. Curtius, Das Verbum der griechischen Sprache
seinem Baue nach dargestellt von G. Curtius, Bd. 1—2, Leipzig, 1873—1876.
Delbrück, A(ltind.) Verb.= B. Delbrück, Das Altindische Verbum.
Aus dem Hymnen des Rigveda. Seinem Baue nach dargestellt von B. Delbrück, Halle,
1874.
Doederlein, Handbuch der lat. Etym.=L. Doederlein,
Handbuch der lateinischen Etymologie, Leipzig, 1841.
Etym(ol). Mag.= Etymologicum magnum graecum. Etymologicum magnum,
seu magnum grammatical penu... Superiorum ed. variorumque auctorum collatione
a multis ac foedis mendis repurgatum... notis illustratim... Opera Friderici Sylburgi,
Heidelberg, 1594.
F., Fick; Fick, W.=Aug. Fick, Vergleichendes Wörterbuch der
indogermanischen Sprachen, Göttingen, 1. Aufl.— 1861, 2. Aufl.— 1868, 3. Aufl.— 1874,
4. Aufl.— 1890 и сл.
Fick, Spracheinheit der Indogermanen Europas= A. Fick, Die ehemalige
Spracheinheit der Indogermanen Europas, Göttingen, 1873.
Fleckeisen's Jahrb.= Jahrbücher für klassische Philologie, hrsg. von Alfred
Fleckeisen..., Leipzig, 1855—1897.
Hirt, Der indogermanische Akzent= H.Hirt, Indogermanische Grammatik.
Von Hermann Hirt, Bd. 1—7, Heidelberg, 1921—1937, Bd. 5 — Der Akzent, 1929.
Horat., Ars. poet.= Horatius Flaccus, Quintus, Ars poetica.
IF= «Indogermanische Forschungen», Straßburg, 1892 и сл.
Jacobi, Beitr. zur deutschen Gramm,—Th. Jacobi, Beiträge zur deutschen
Grammatik, Berlin, 1843.
Jenaer Li teraturz.=«Jenaer Literaturzeitung, im Auftrag der Universität Jena»,
Jena, Leipzig, 1874—1879.
JPs= «Journal de psychologie normale et pathologique», Paris, 1904 —.
KSB; Beiträge—«Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiete
der arischen, keltischen und slavischen Sprachen», hg. von A. Kuhn und A. Schleicher,
Berlin, 1858—1874.
KZ=«Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der
indogermanischen Sprachen», begründet von A. Kuhn, Berlin, Göttingen, 1852 и сл.
Leskien, Decl.; Declination; Déclin, im Slawisch-Lit.=A. Leskien,
Die Declination im Slawisch-Litauischen und Germanischen, 1876.
Leskien, Handb. d. altb. Spr.=A. Leskien, Handbuch der
altbulgarischen Sprache. Grammatik. Texte. Glossar, Weimar, 1871.
LG= «Language».
Lindner; Lindner, Nominabild.= B. Lindner, Altindische
Nominabildung, Jena, 1878.
Mémoires de l'Acad. Imp. des Sc. de St.-Pétersbourg, sér. VII.= «Mémoires de
l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg», VII série, t. 1—42, СПб,
1859—1897.
692
MSL; Mém. Soc. Lîng.=«Mémoires de la Société de Linguistique de Paris»,
Paris, 1868 и сл.
Miklosich, Lexicon palaeosl.= F.Miklosich, Lexicon palaeosloveni-
co-graeco-latinum, Wien, 1862—1865.
Miklosich, Vergl. Gramm.= F. Miklosich, Vergleichende Grammatik
der slavischen Sprachen, Wien, I», II, III, IV, 1868—1874, 1875, 1876, 1879.
Nph= «Neuphilologus», Groningen.
N. Test. Luc.=Nouveau testament (Luca) (Евангелие от Луки).
Or. u. Occ.=Orient und Occident, insbesondere in ihren gegenseitigen
Beziehungen. Forschungen und Mitteilungen. Eine Vierteljahrschrift hrsg. von Theodor Ben-
fey, Göttingen, 1862—1866.
Osthoff, Forsch(ungen)=H. Osthoff, Forschungen im Gebiete der
indogermanischen nominalen Stammbildung, Jena, Bd. I, 1875.
Osthoff, Das Verbum (in der Nominalcomposition)—H. Osthoff, Das
Verbum in der Nominalcomposition im deutschen, griechischen, slavischen und
romanischen, Jena, 1878.
Lobeck, Paralip(omena)=Chr. Aug. Lobeck, Paralipomena grammaticae
graecae scripsit Chr. Augustus Lobeck, Leipzig, 1837.
Lobeck, Pathol. ProIeg.=Pathologiae sermonis graeci Prolegomena scripsti
Chr. Augustus Lobeck, Lipsiae, 1843.
PBB= Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, hg. H.
Paul, W. Braune, Halle, 1874 и сл.
Paul, Beitr.=Untersuchungen über den germanischen Vocalismus. Von
Hermann Paul, Halle, 1879. Abdr. aus den Beiträgen zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur, Bd. 4, 6.
Pictet, Origines (Indo-européennes)=A. Pictet, Les origines
Indo-européennes ou les Aryas primitifs. Essai de paléontologie linguistique, Paris — Genève,
v. 1, 1859.
Ρ о 11, Wurzelwörterb(uch)=Aug. Fr. Pot t, Wurzeln-Wörter buch der
indogermanischen Sprachen.
RES; RESL.=«Revue des études slaves», Paris, 1921 —.
Scherer, Z. Gesch. der deutsch. Spr.= W. Scherer, Zur Geschichte der
deutschen Sprache, Berlin, 1868.
Schleicher, Comp.(endium)=Aug. Schleicher, Compendium der
vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen, I—II, Weimar, 1861—
1862.
Schleicher, Lit. Gr.=Aug. Schleicher, Handbuch der litauischen
Sprache, I—II, Prag, 1856—1857. I. Grammatik, 1856.
Schmidt, Verwandtsch(aftsverh.)=J. Schmidt, Die
Verwandtschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen, Weimar, 1872.
Schmidt, Voc. (= Vocal., Vocal ism us)=J. Schmidt, Zur Geschichte des
indogermanischen Vocalismus, Abt. 1—2, Weimar, 1871—1875.
Schmitz, Beiträge zur lat. Sprachk.= W. Schmitz, Beiträge zur
lateinischen Sprach- und Literaturkunde, Leipzig, 1877.
Sievers, Lautphysiol.; Grundzuge der Lautphysiologie=E. Sievers,
Grundzuge der Lautphysiologie zur Einführung in das Studium der Lautlehre der
indogermanischen Sprachen, Leipzig, 1876.
693
Spiegel, Gramm, (der Ab. Spr.)=Fr. Spiegel, Grammatik der altbakt-
rischen Sprache nebst einem Anhange über den Gathadialekt, Leipzig, 1867.
Sprachw. Abh.=«Sprachwissenschaftliche Abhandlungen», Budapest, 1897—
1902
Stud(ien)=«Studien zur Griechischen und Lateinischen Grammatik». Hrsg.
von Curtius, Bd. 1—10. Leipzig, 1868—1878.
Studi Crit.=«Studi critici di filologia e glottologia», Naples, 1911 и сл.
TCLC= «Travaux du Cercle linguistique de Copenhague».
TCLP= «Travaux du Cercle linguistique de Prague».
Vanicek, Gr.-Lat. Et. W.=A. Vanicek, Griechisch-lateinisches
etymologisches Wörterbuch, Leipzig, 1877.
VR= Vox Romanica. Annales Helvetia'..., Bern.
W=«Word» (Journal of the Linguistic cercle of New York), 1945—.
Wiener Sitzungsber.=Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften im
Wien, Wien, 1851—1910.
Ztschr. f. deutsches AIterth.=«Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche
Literatur», Leipzig — Berlin, 1841 и сл.
Zimmer, Nominalsuffixe=H. Zimmer, Die Nominalsuffixe a und ä in den
germanischen Sprachen, Strassburg, London, 1876.
Ζ RPh—«Zeitschrift für romanische Philologie», Tübingen.
ВСЯ=«Вопросы славянского языкознания», M., 1954—.
ВЯ=«Вопросы языкознания», M., 1929—.
ЖΜΗΠ=«Журнал Министерства Народного Просвещения», СПб., 1867—
19F
РФВ=«Русский Филологический Вестник», основ. В. Колосов, тт. 1—78,
Варшава, 1879—1918.
РЯШ=«Русский язык в школе», M., 1929—.
СОДЕРЖАНИЕ
От редакции 6
I
А. А. Холодович, О „Курсе общей лингвистики" Фердинанда де Соссюра . . 9
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР, Курс общей лингвистики Перевод с
французского А. М. Сухотина, переработанный А. А. Холодозичем ... 31
Избранная библиография. Составил А. А, Холодович 274
II
A. А. Зализняк, О „Мемуаре" Ф. де Соссюра 289
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР, Мемуар о первоначальной системе гласных
в индоевропейских языках. Перевод с французского А. С. Бобовича
и А. Б. Черняка 302
Краткая библиография. Составил Вяч. Вс. Иванов 562
III
И. М. Тройский, Ритмический закон Ф. де Соссюра 565
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР, Об одном ритмическом законе греческого
языка. Перевод с французского И, А. Перельмутера 569
B. А. Дыбо, Работы Ф. де Соссюра по балтийской акцентологии .... 583
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР, К вопросу о литовской акцентуации
(Интонации и ударение в собственном смысле слова). Перевод с
французского Е. Е. Корди 598
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР, Литовская акцентуация. Перевод с
французского Е. Е. Корди 620
IV
Вяч. Вс. Иванов, Об анаграммах Ф. де Соссюра 635
ФЕРДИНАНД ДЕ СОССЮР, Отрывки из тетрадей Ф. де Соссюра,
содержащих записи об анаграммах. Перевод с французского Вяч. Вс.
Иванова 639
Вяч. Вс. Иванову Комментарий 646
Библиография к разделу «Анаграммы». Составил Вяч. Вс. Иванов . . . . 648
V
А. А. ХолодовиЧ, Ф. де Соссюр. Жизнь и труды 650
Список работ Фердинанда де Соссюра. Составил А. А. Холодович . . . 672
Предметный указатель. Составил А. А. Холодович 675
Список сокращений 691
695
ЙБ N 2210
Фердинанд de Соссюр
ТРУДЫ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ
Редактор М. А. Оборина
Художник И, С. Клейнард
Художественный редактор В, А, Пузанков
Технический редактор Г. Б. Кочеткова
Корректор В. Ф. Пестова
Сдано в набор 31.03.75. Подписано в печать 31.01.77. Формат 60X93Vie. Бумага
типографская № 1. Условн. печ. л. 43,5+0,125 печ. л. вклеек* Уч.-изд. л. 42,29. Тираж 15 000 экз
Заказ № 603. Цена 3 р. 03 к. Изд. № 9201.
Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, 119Э21, Зубовский бульвар, 21
Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской
типографии № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
1980Б2. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29 с матриц
ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового
Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28