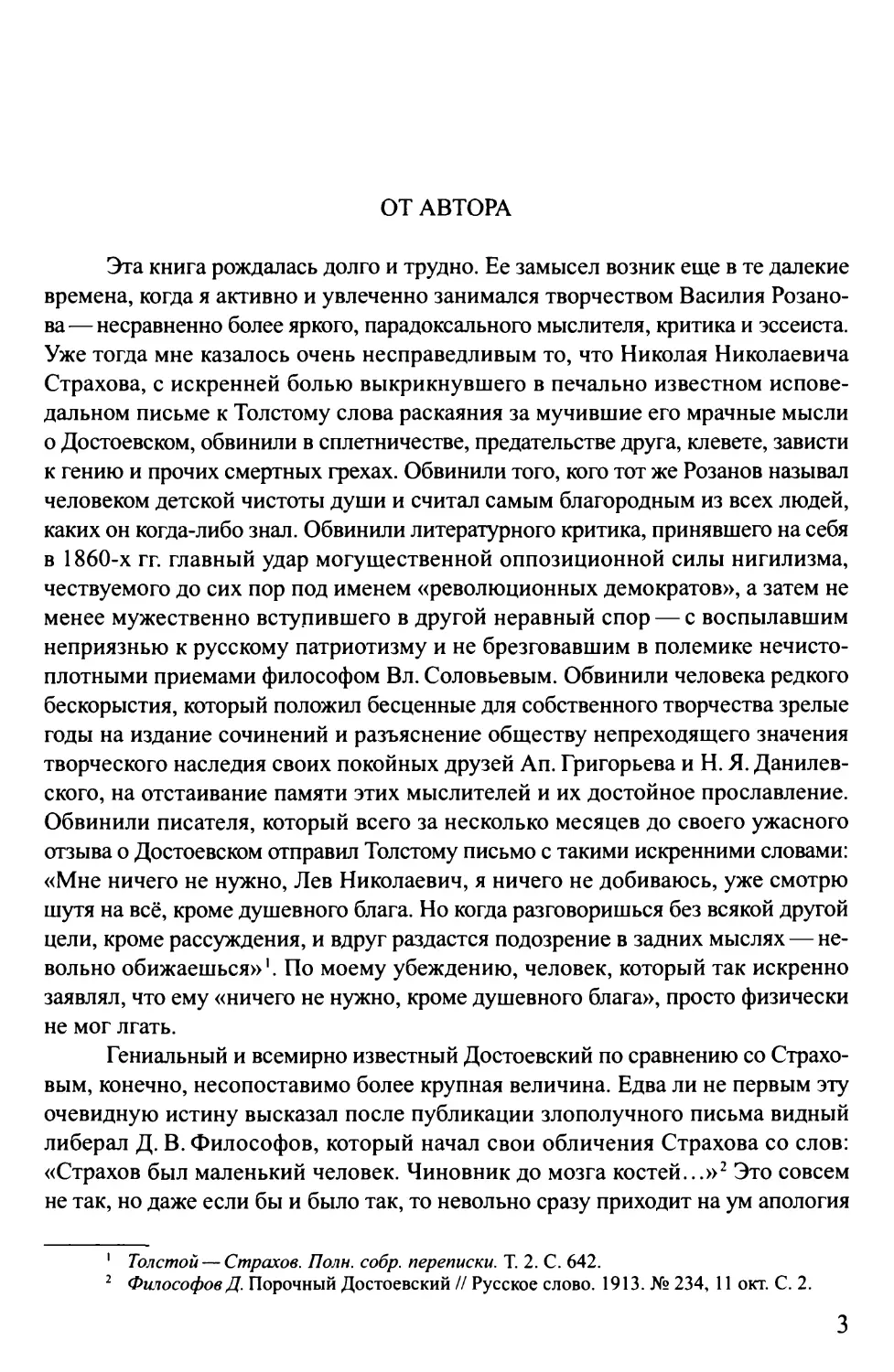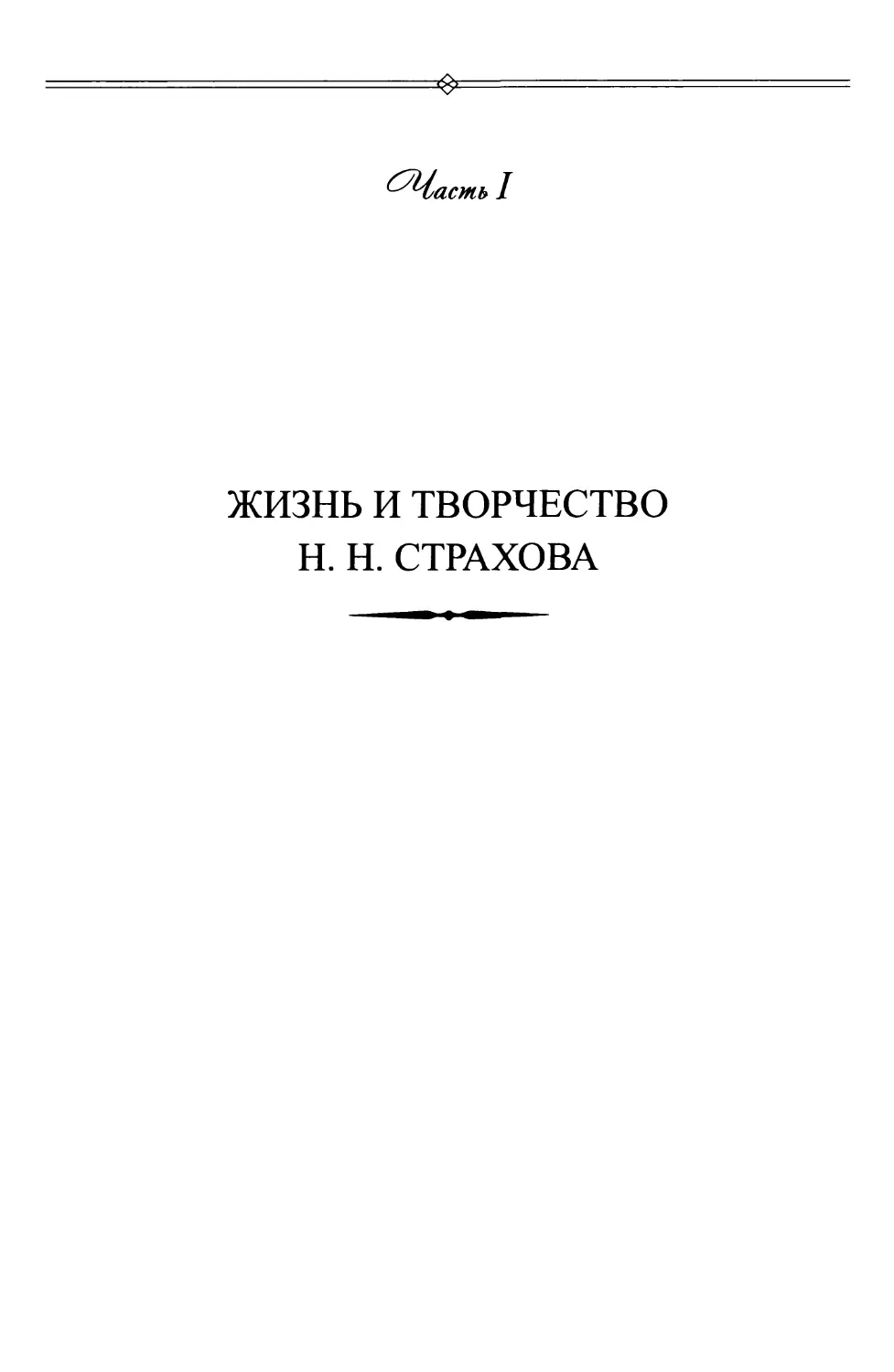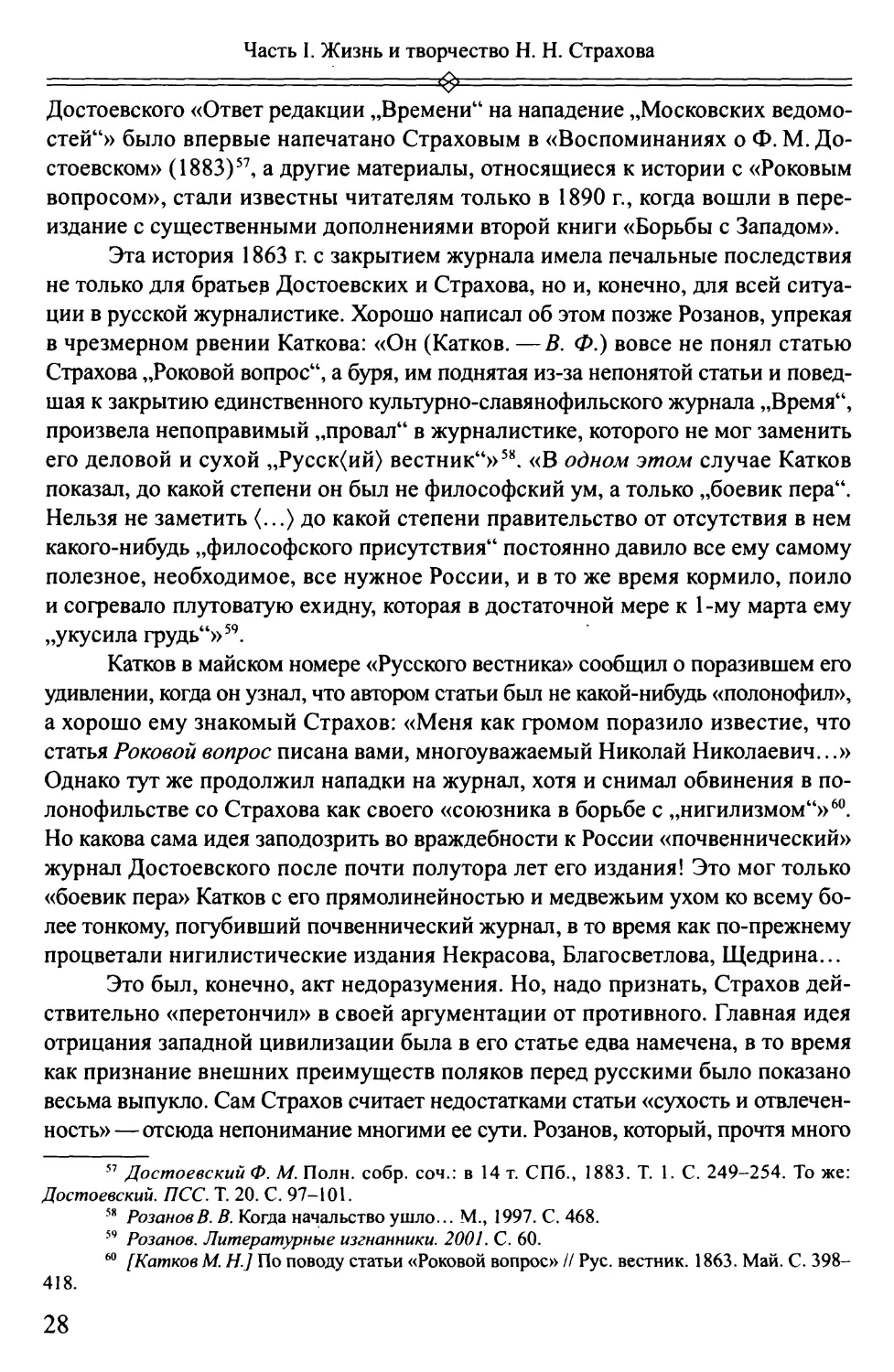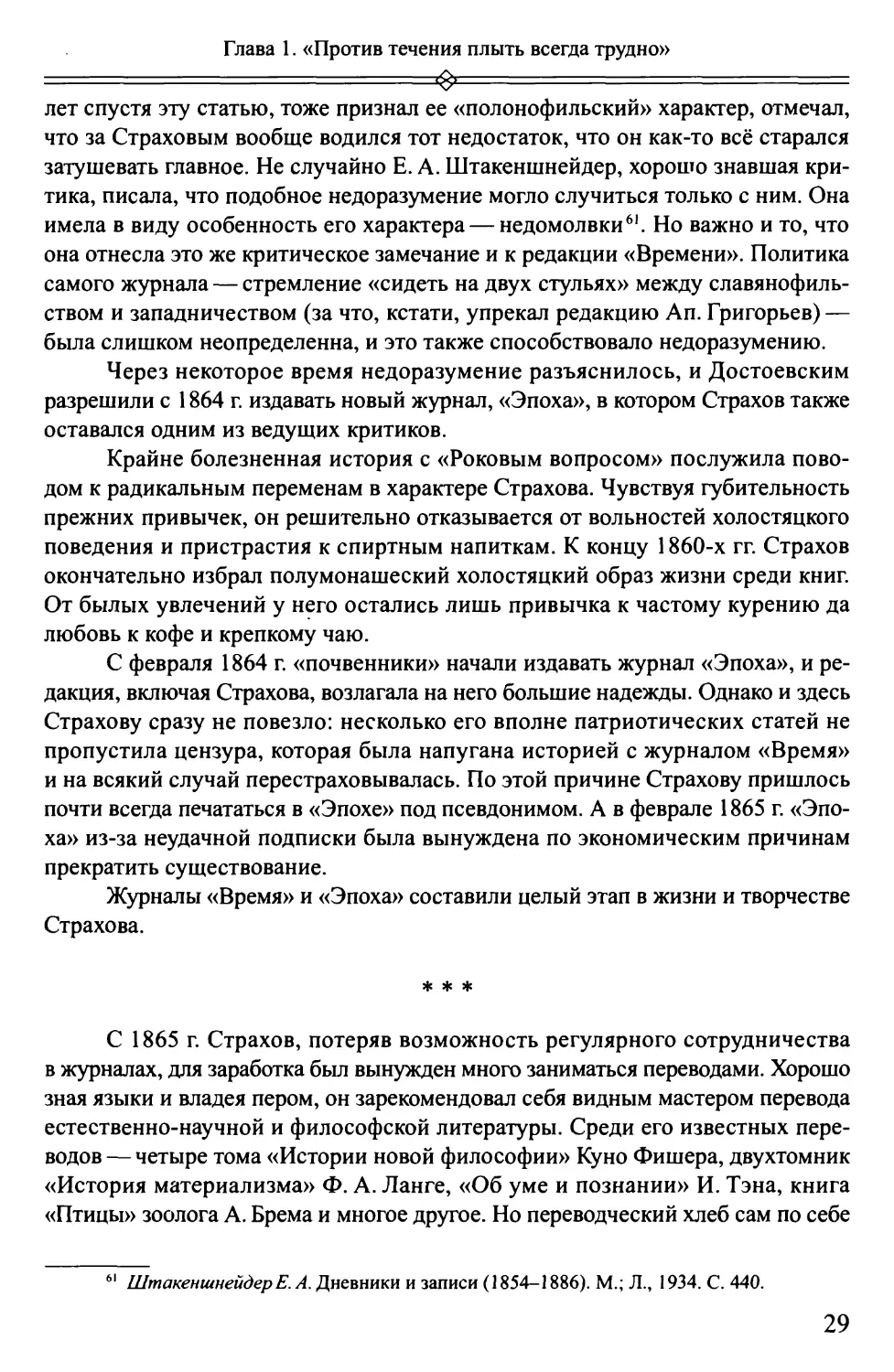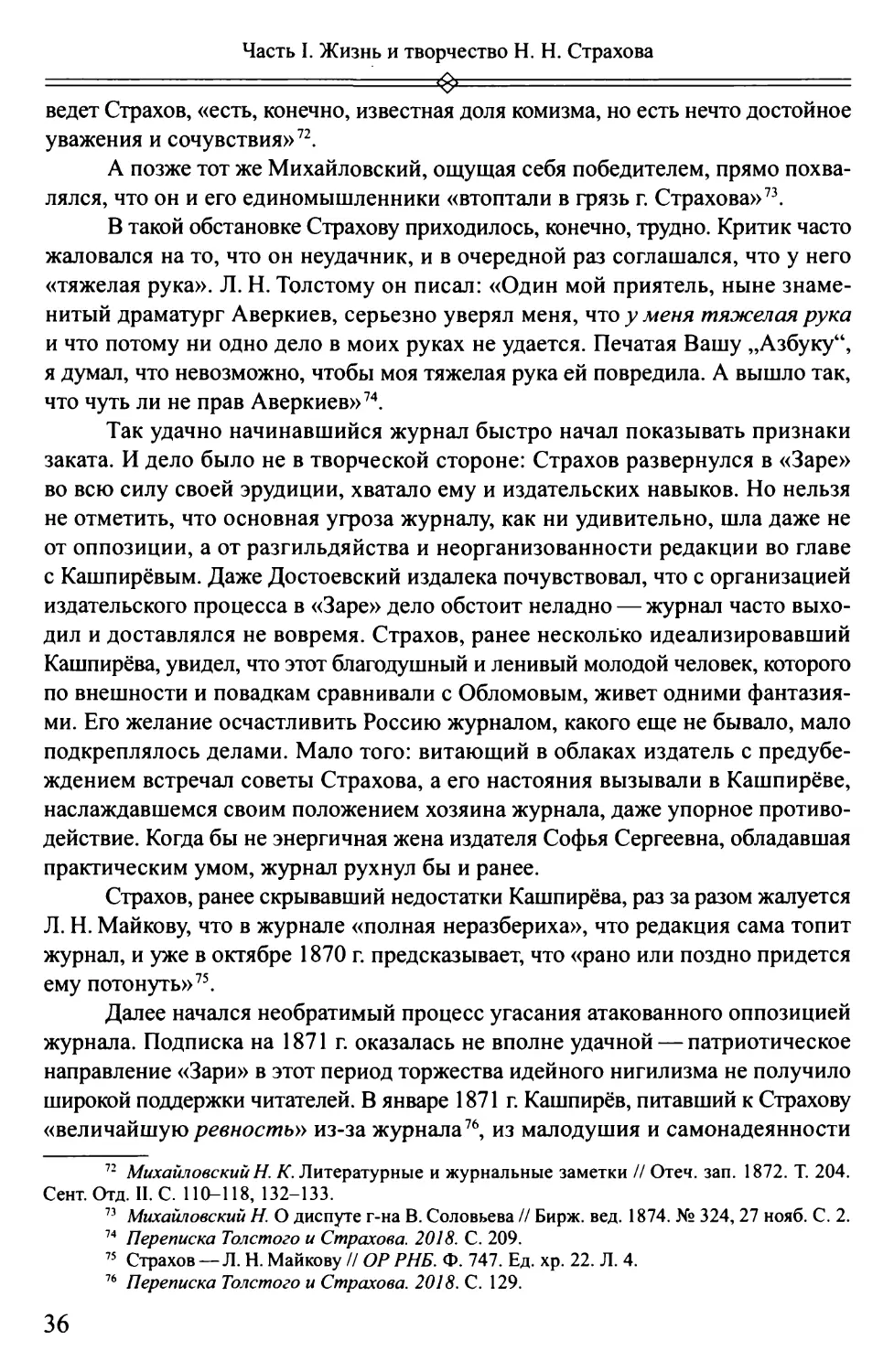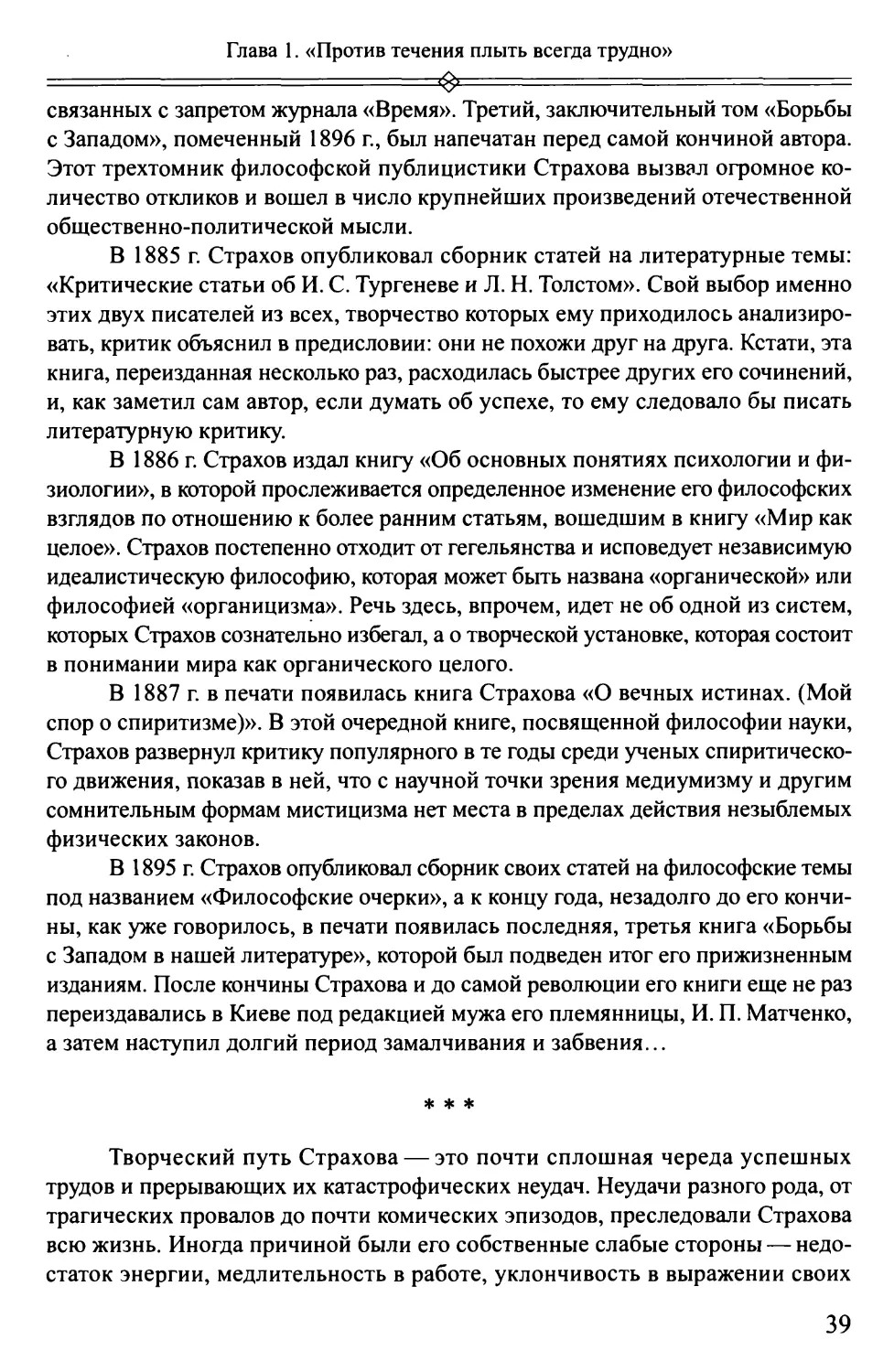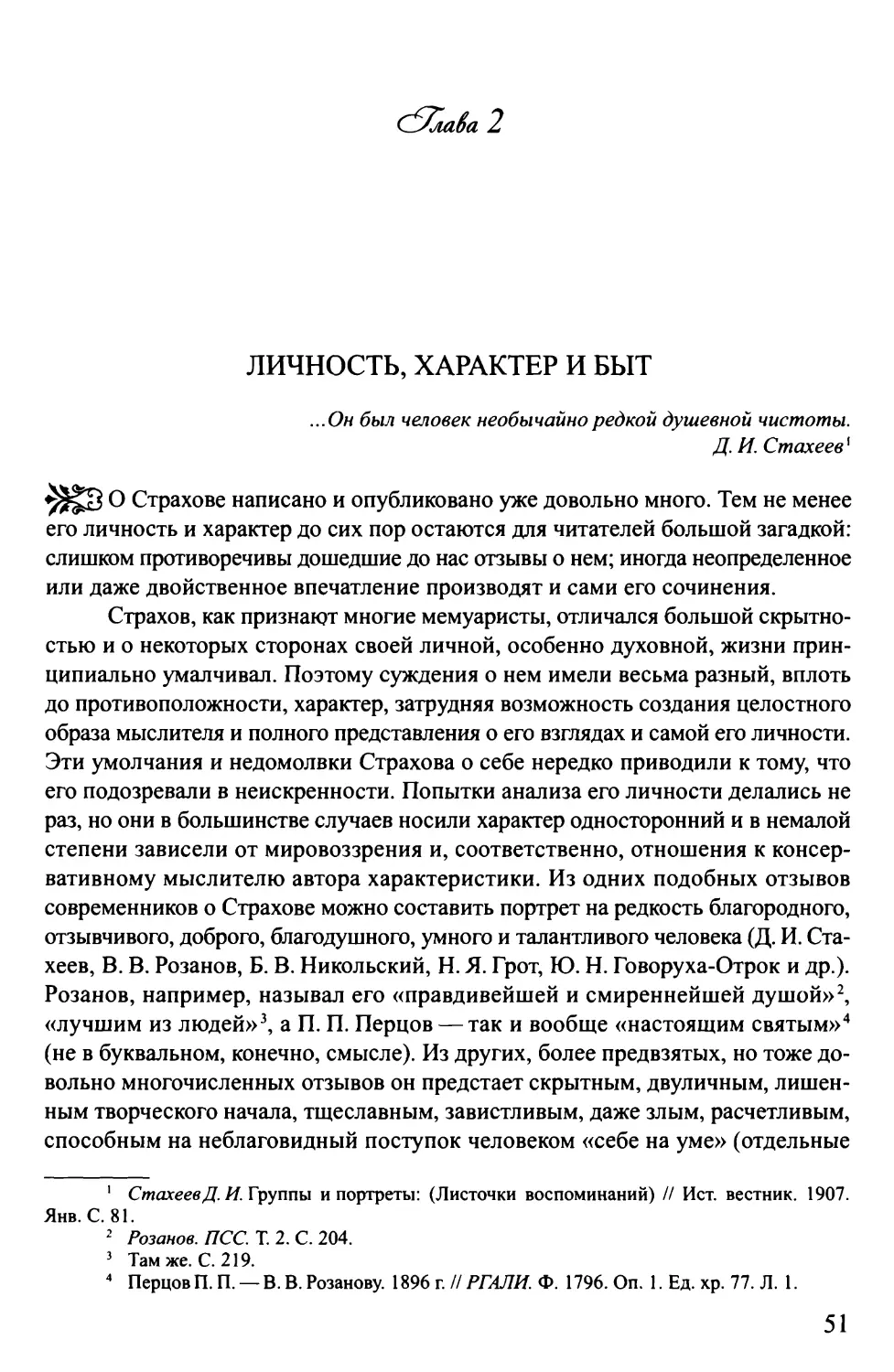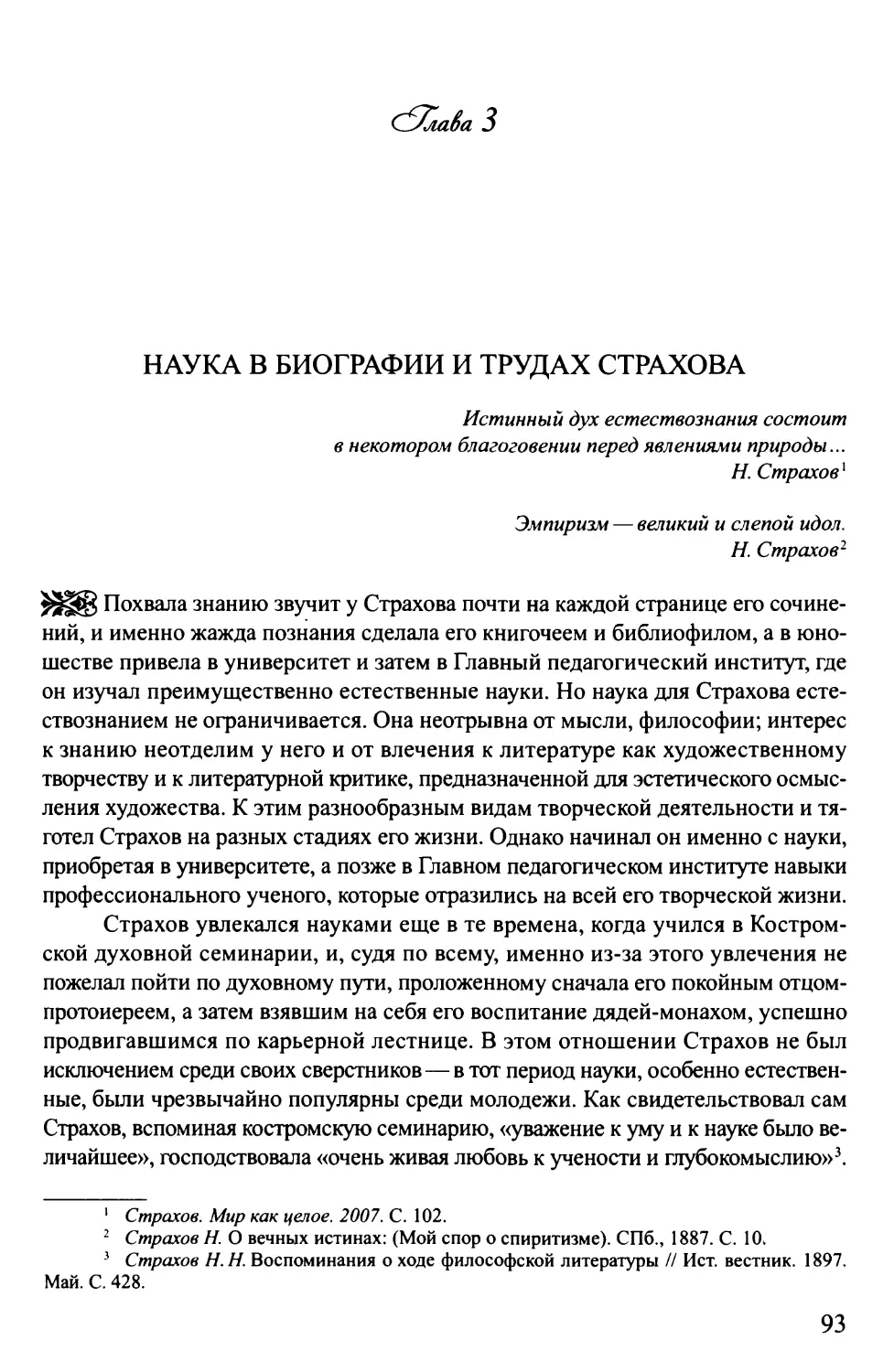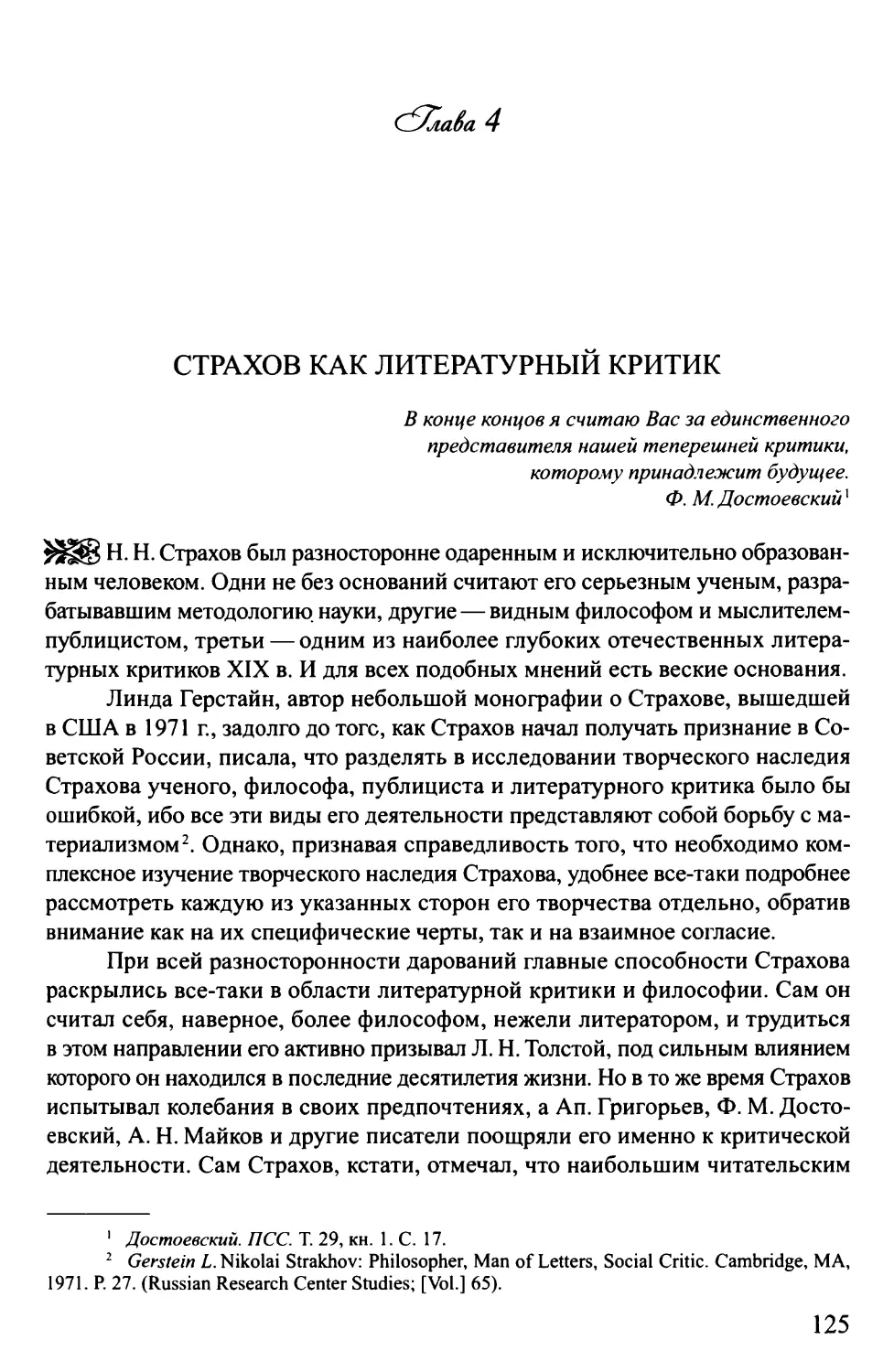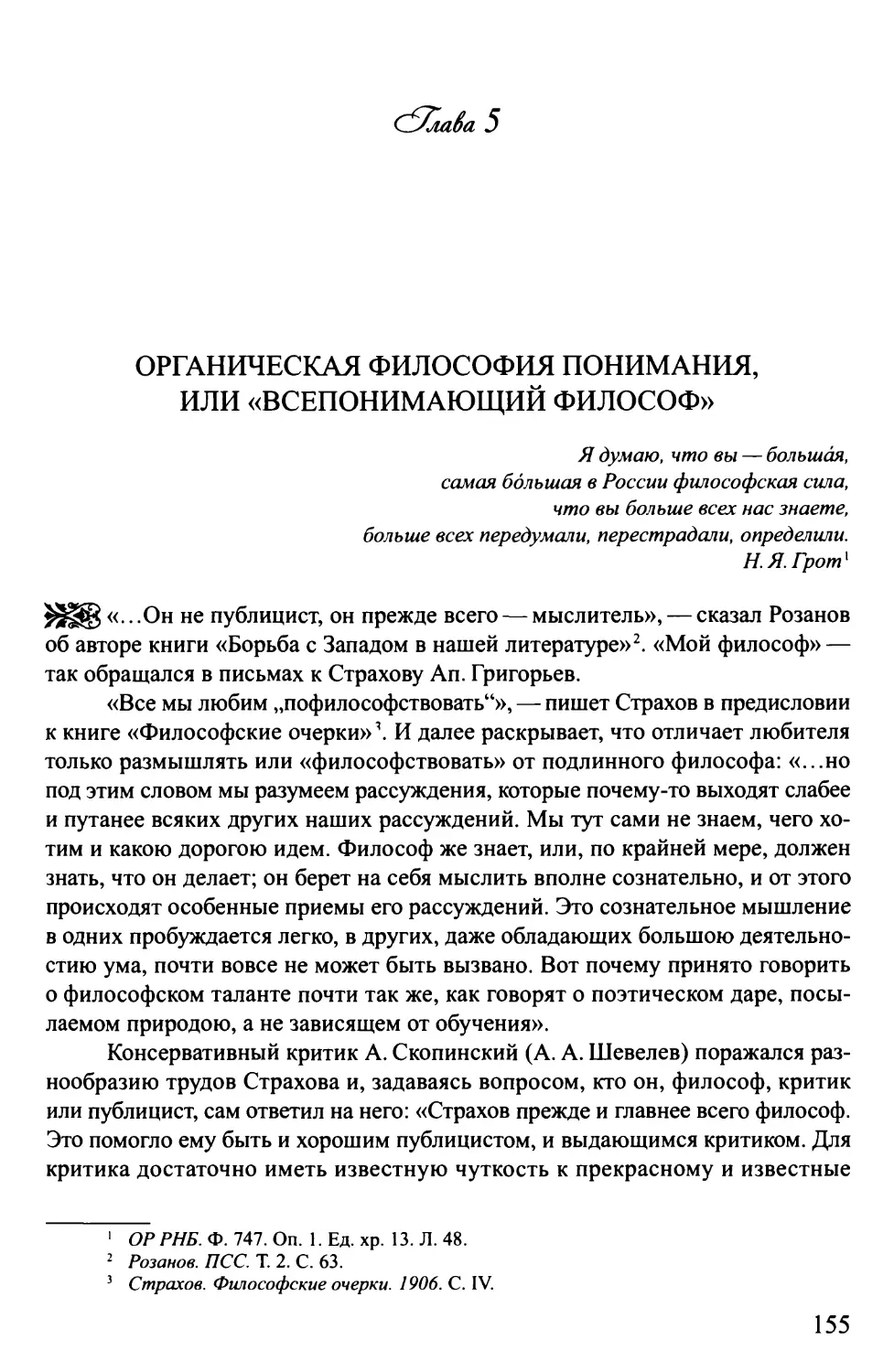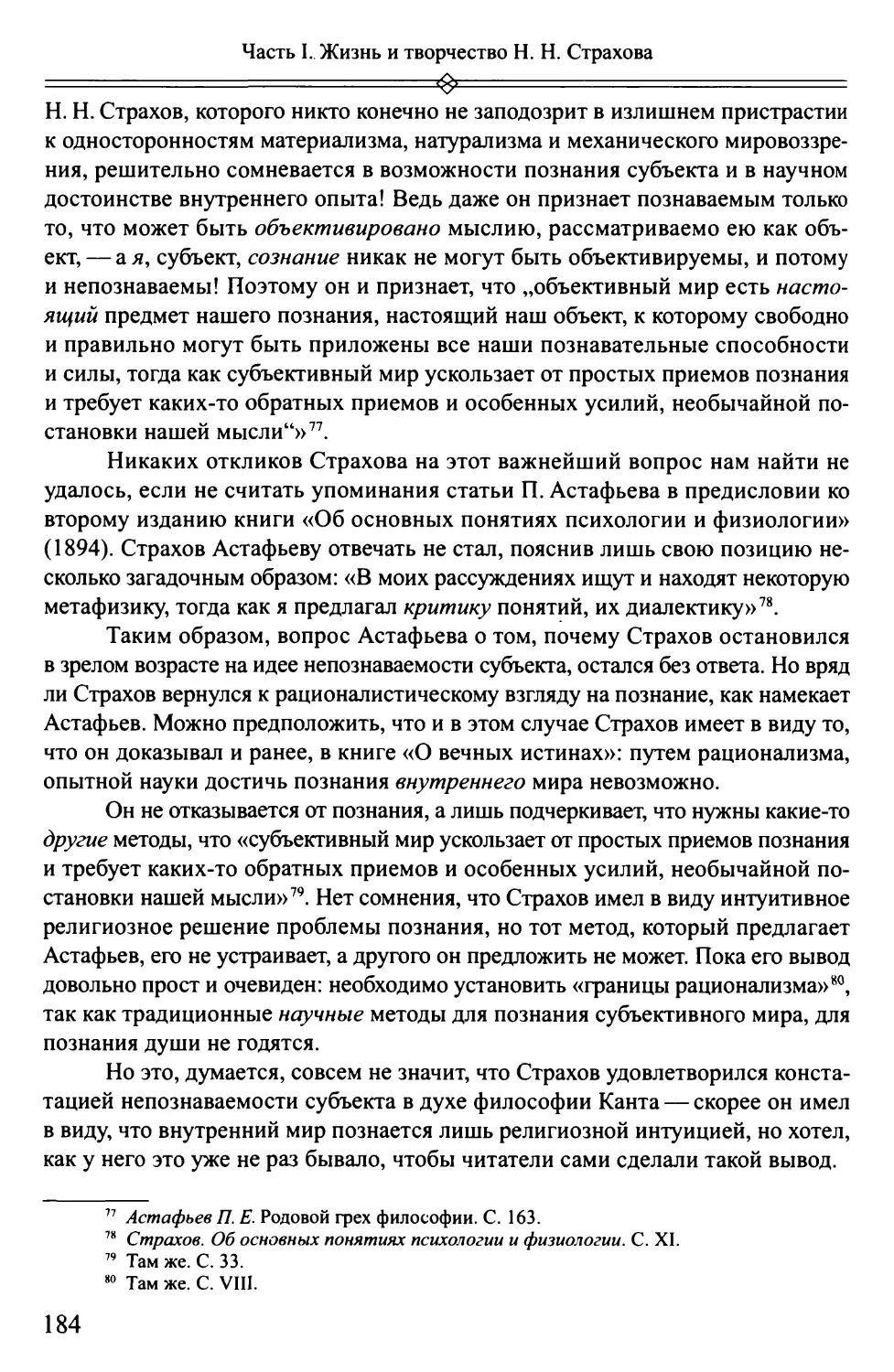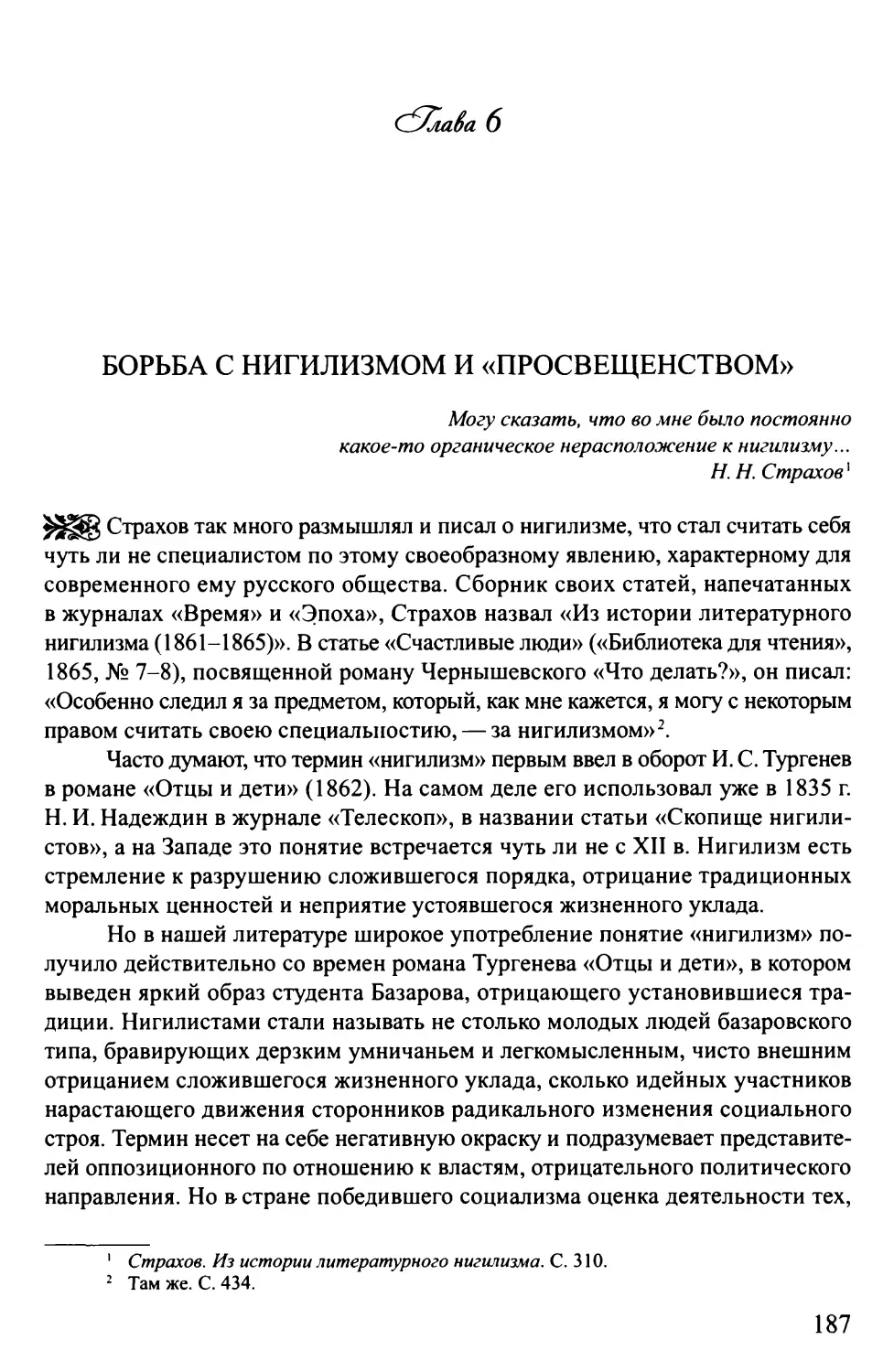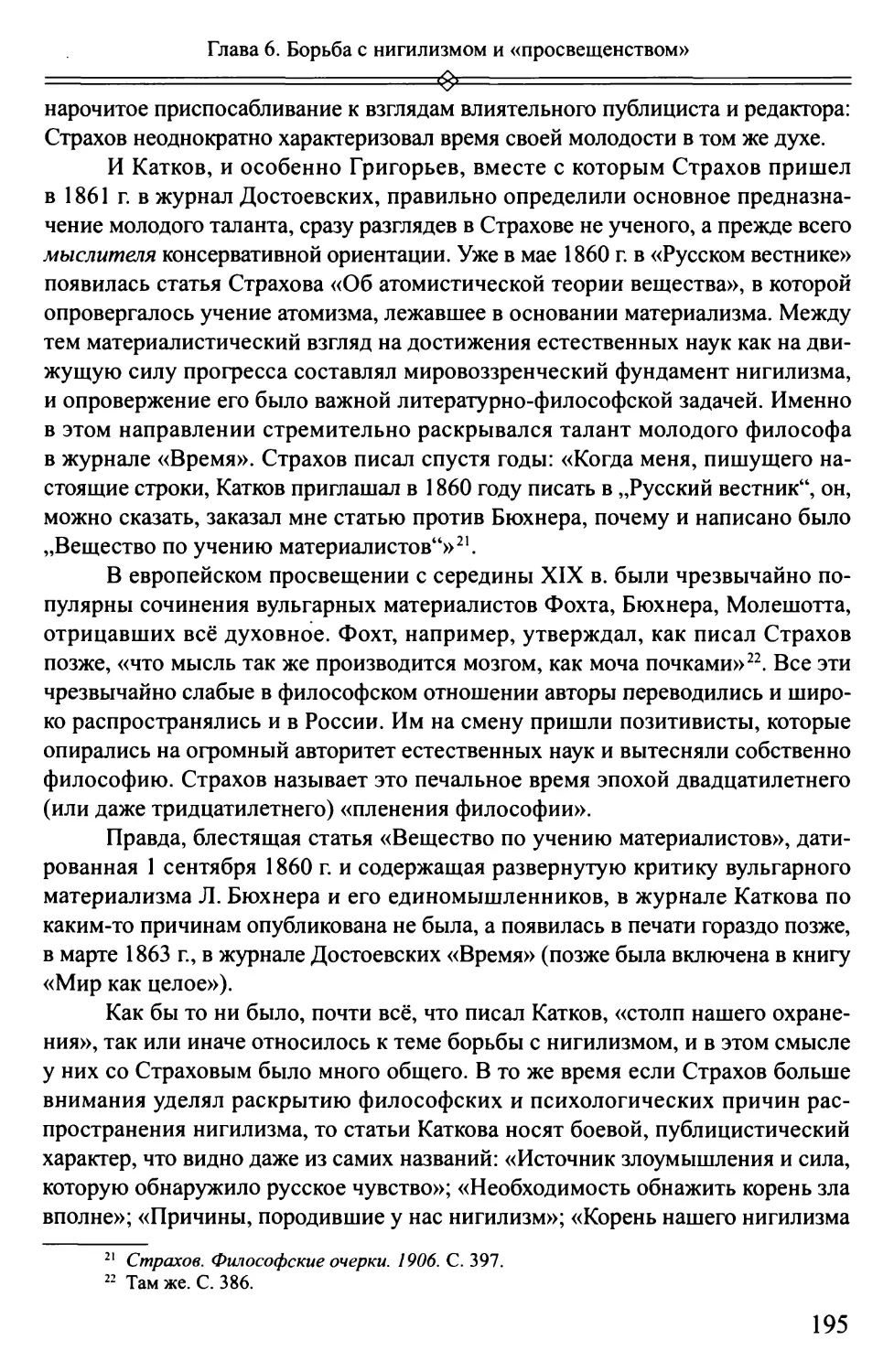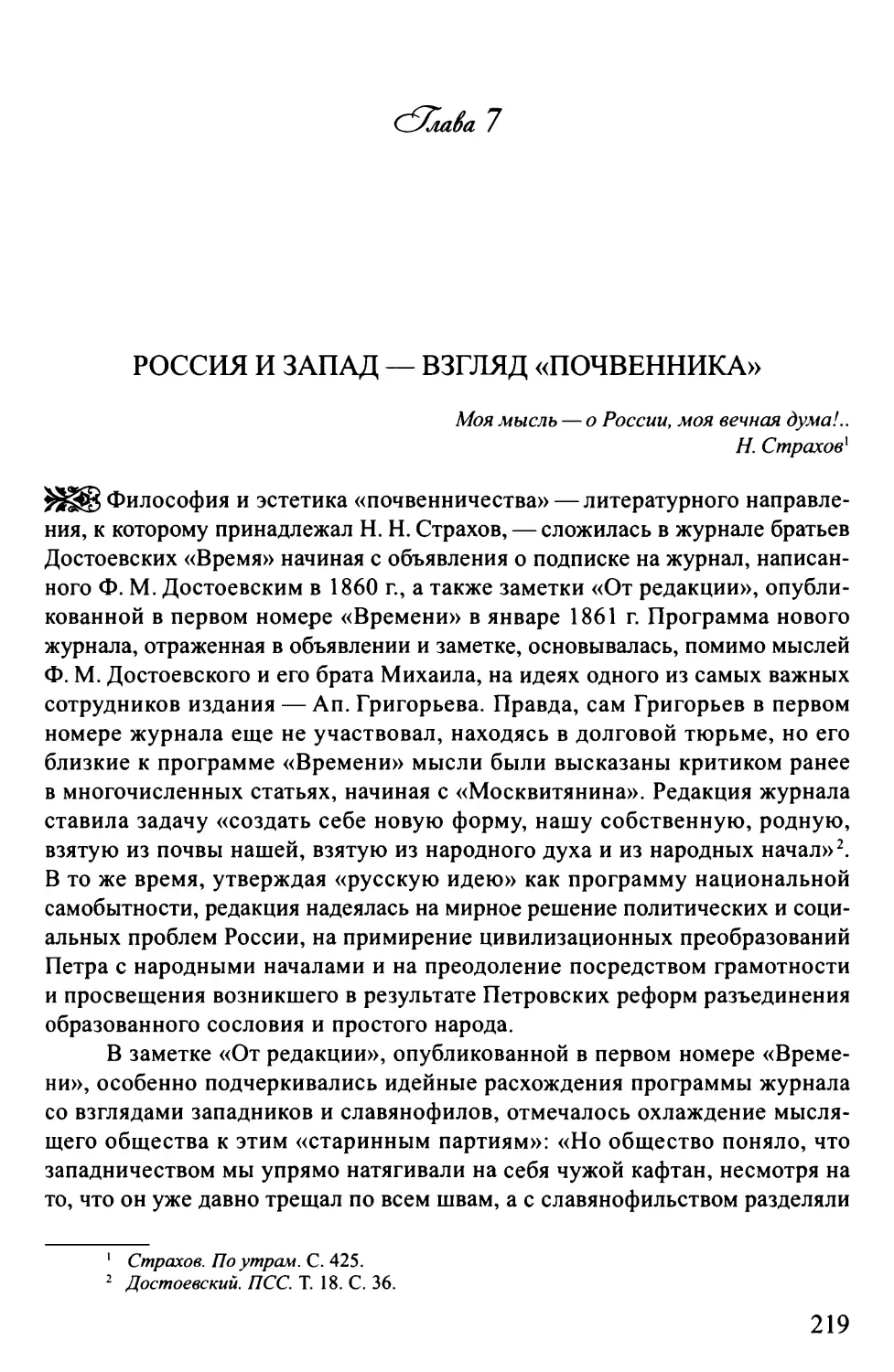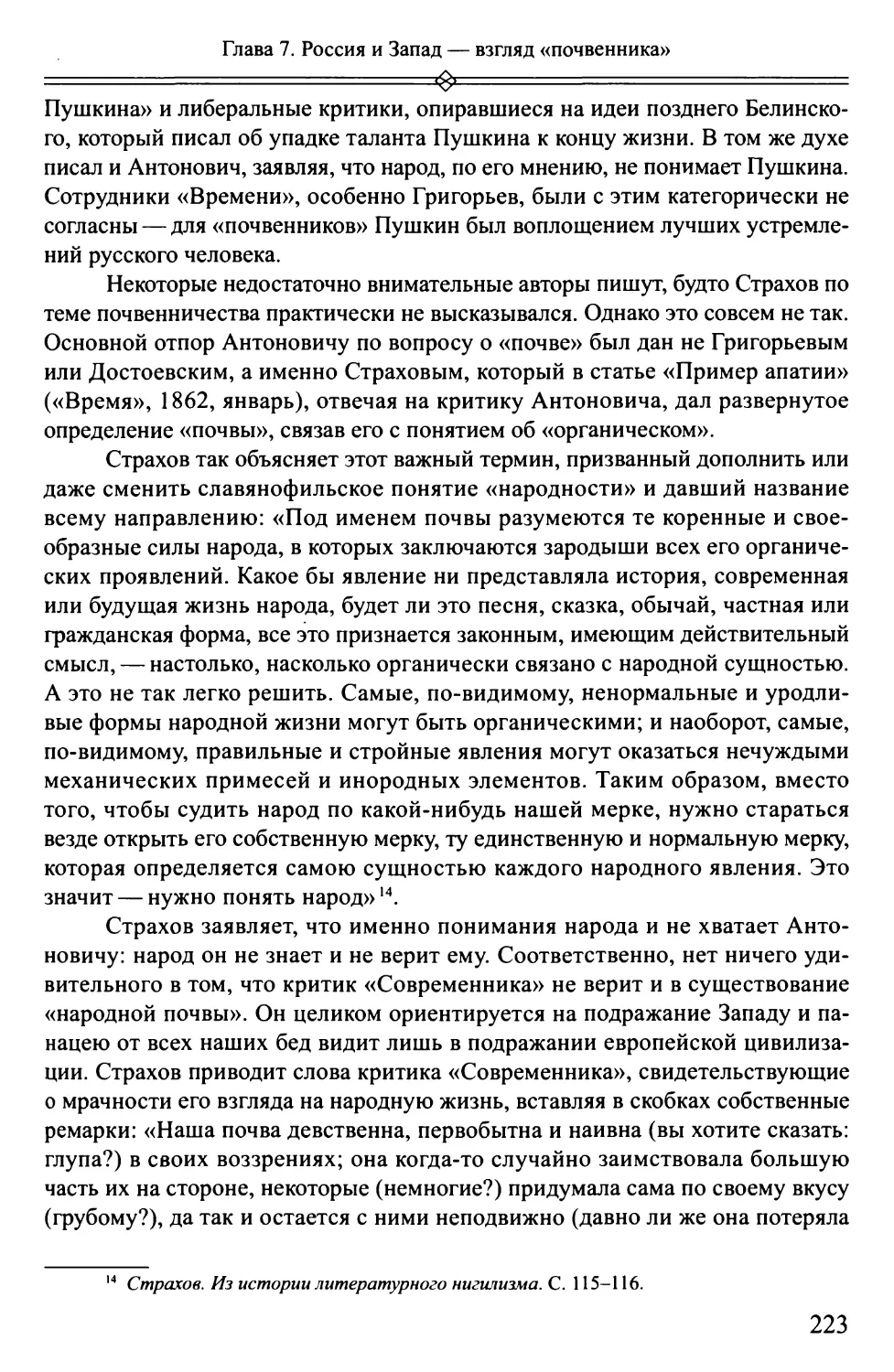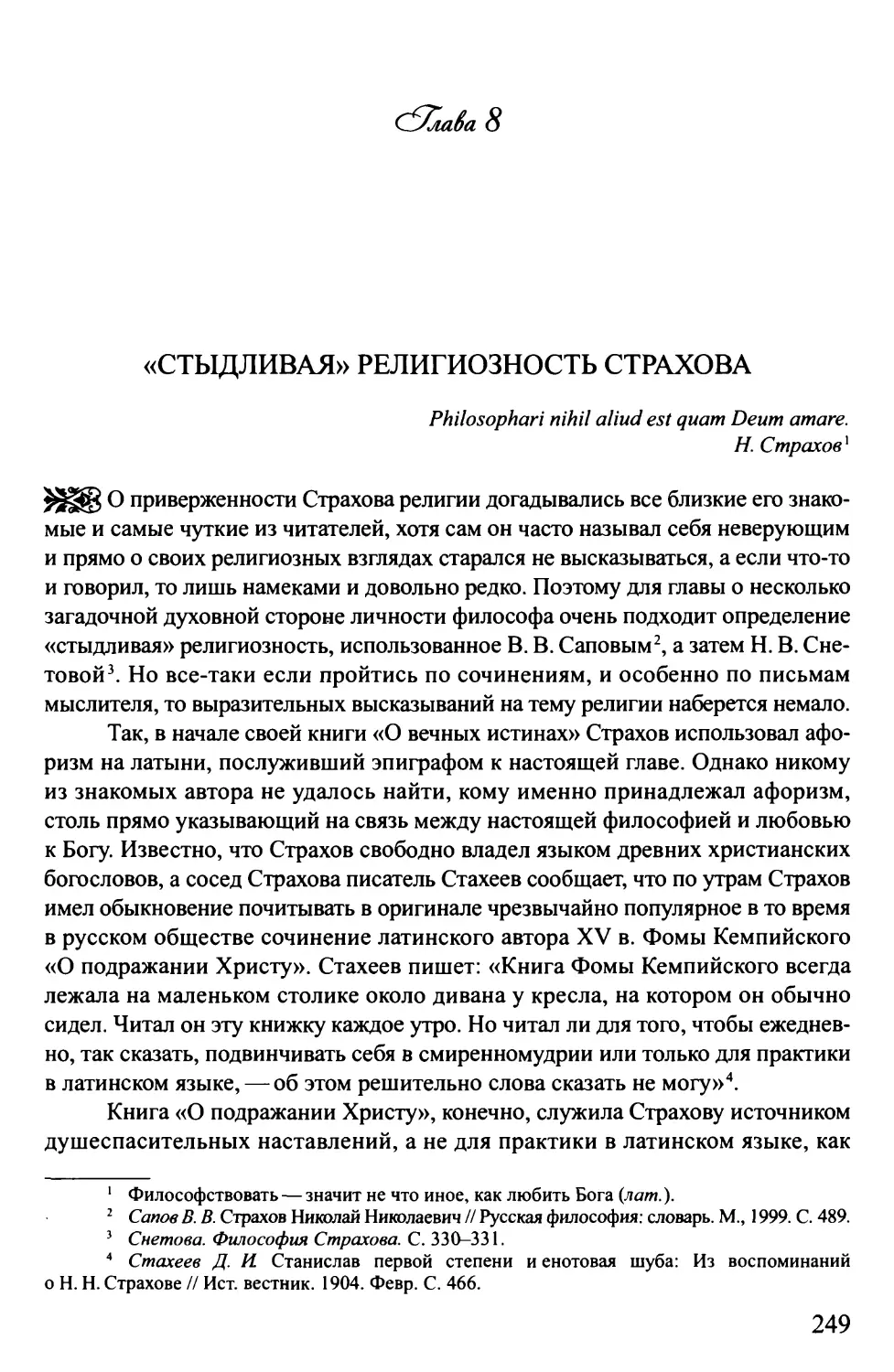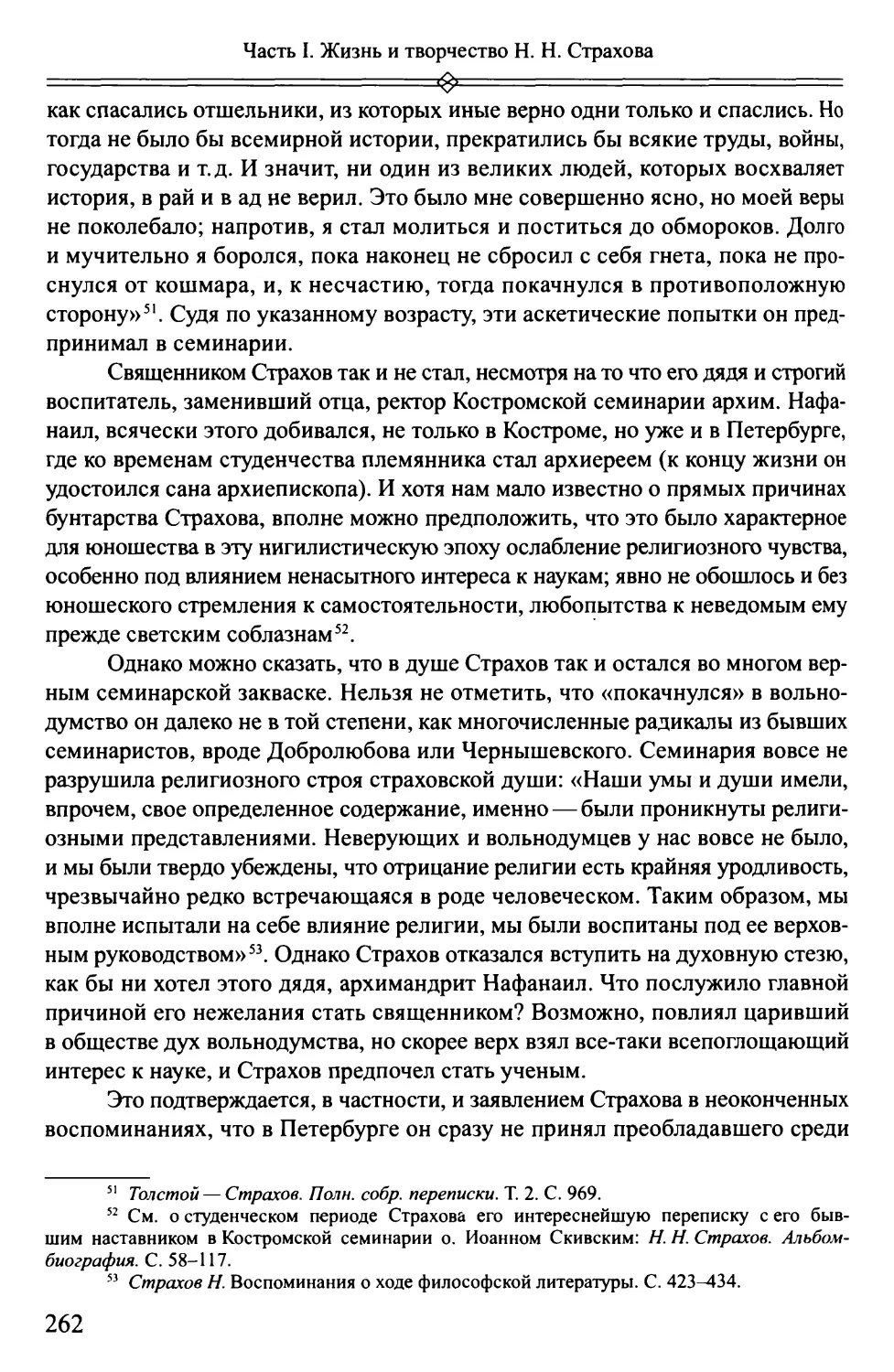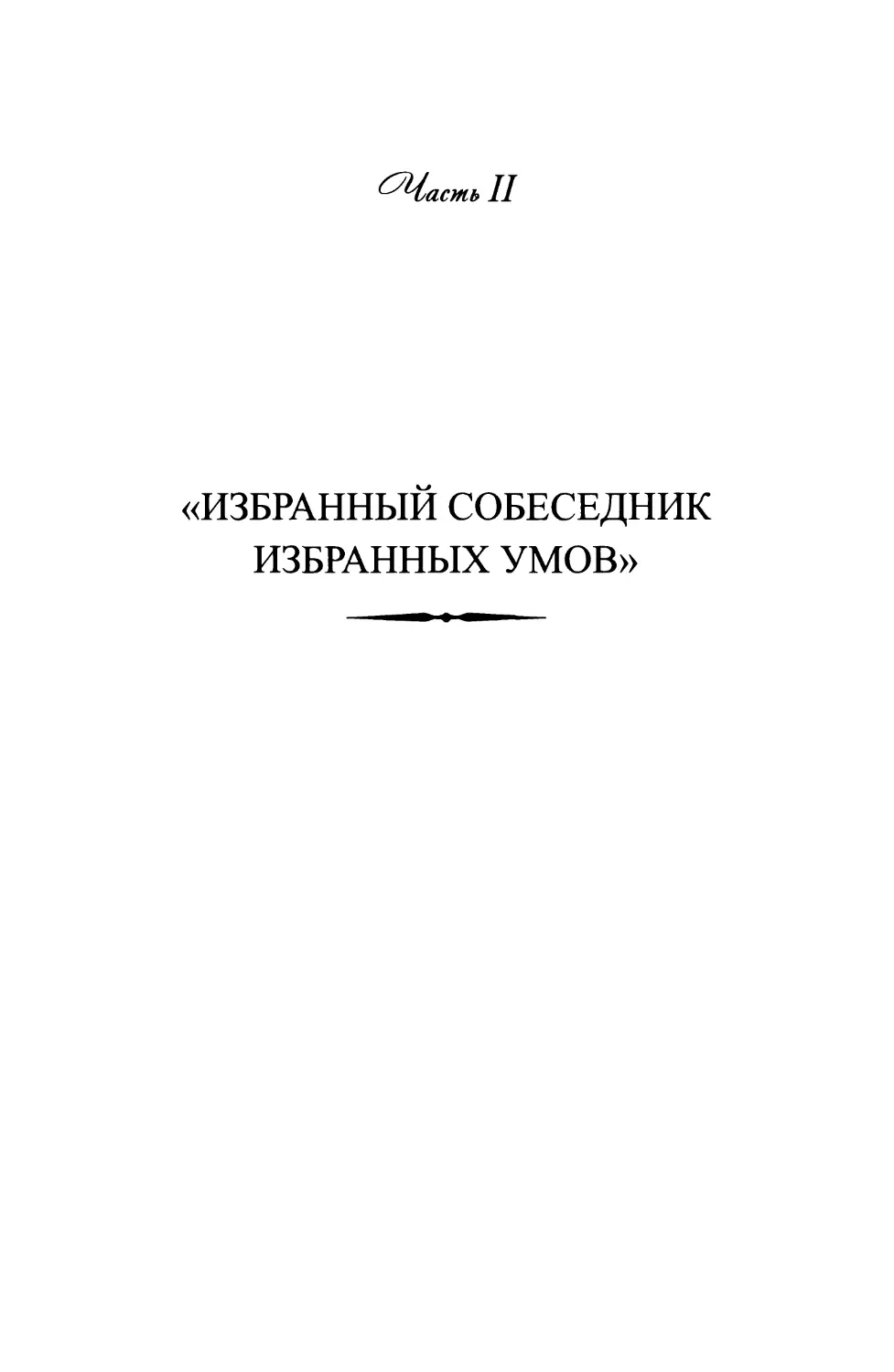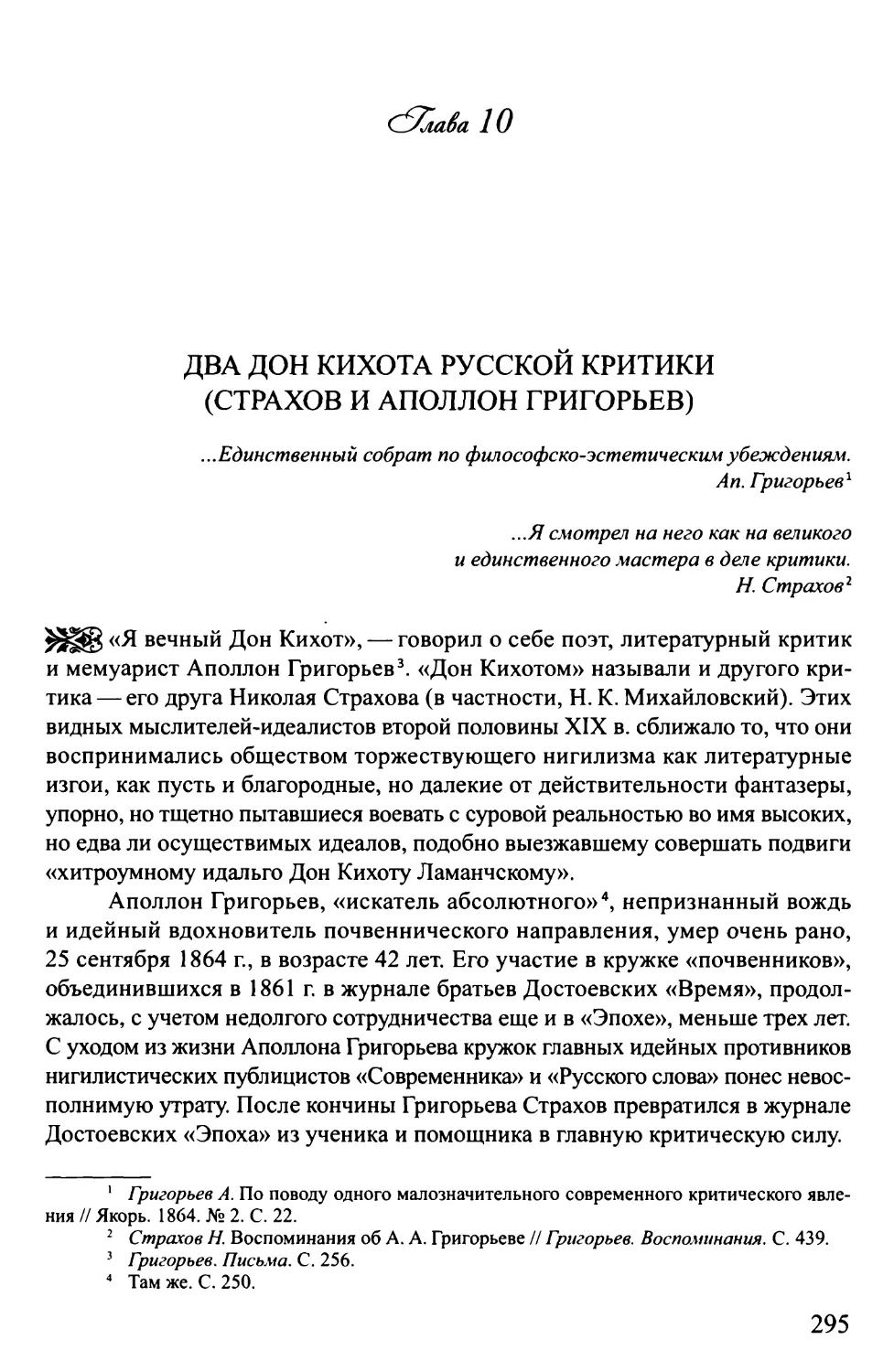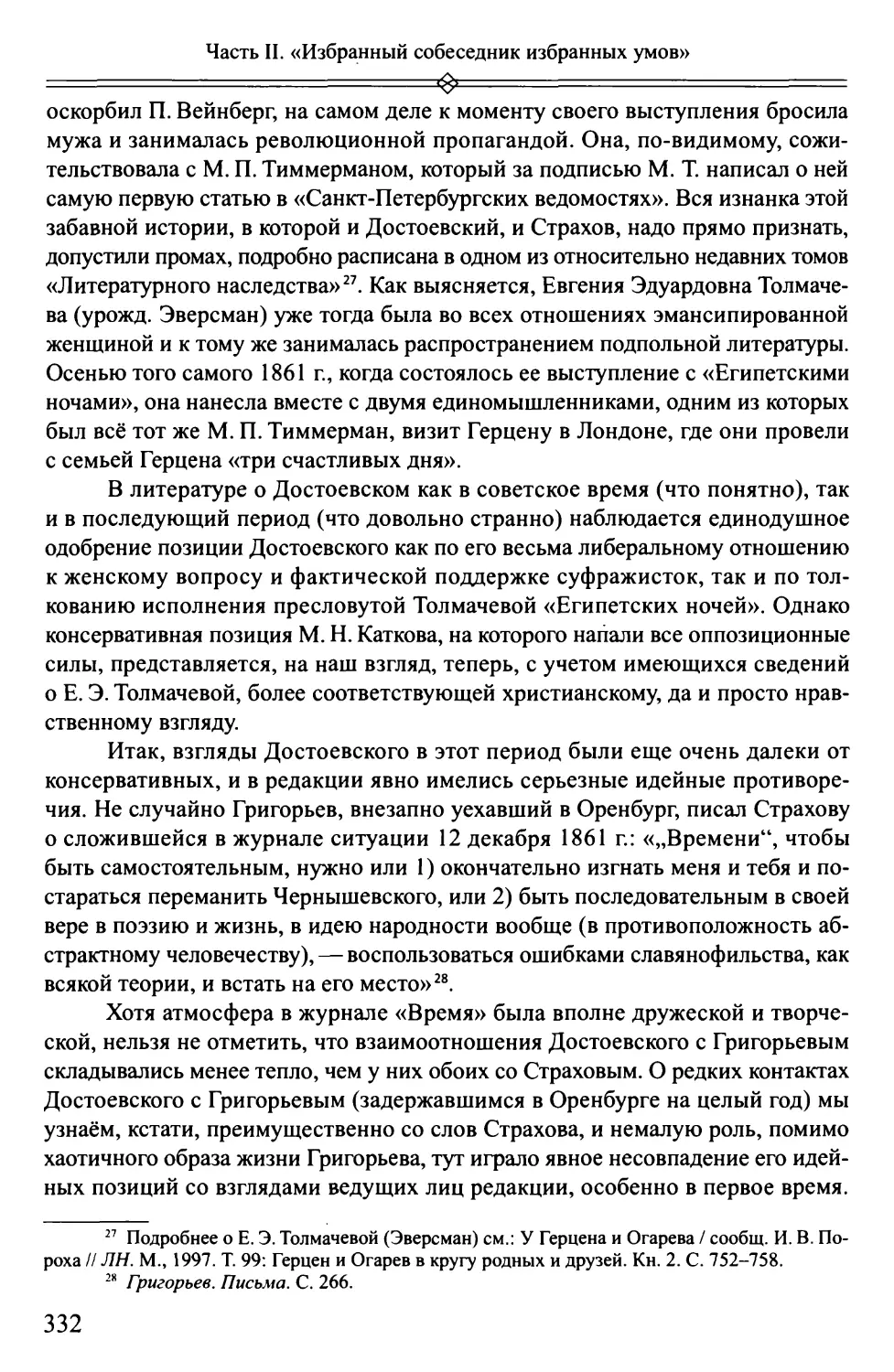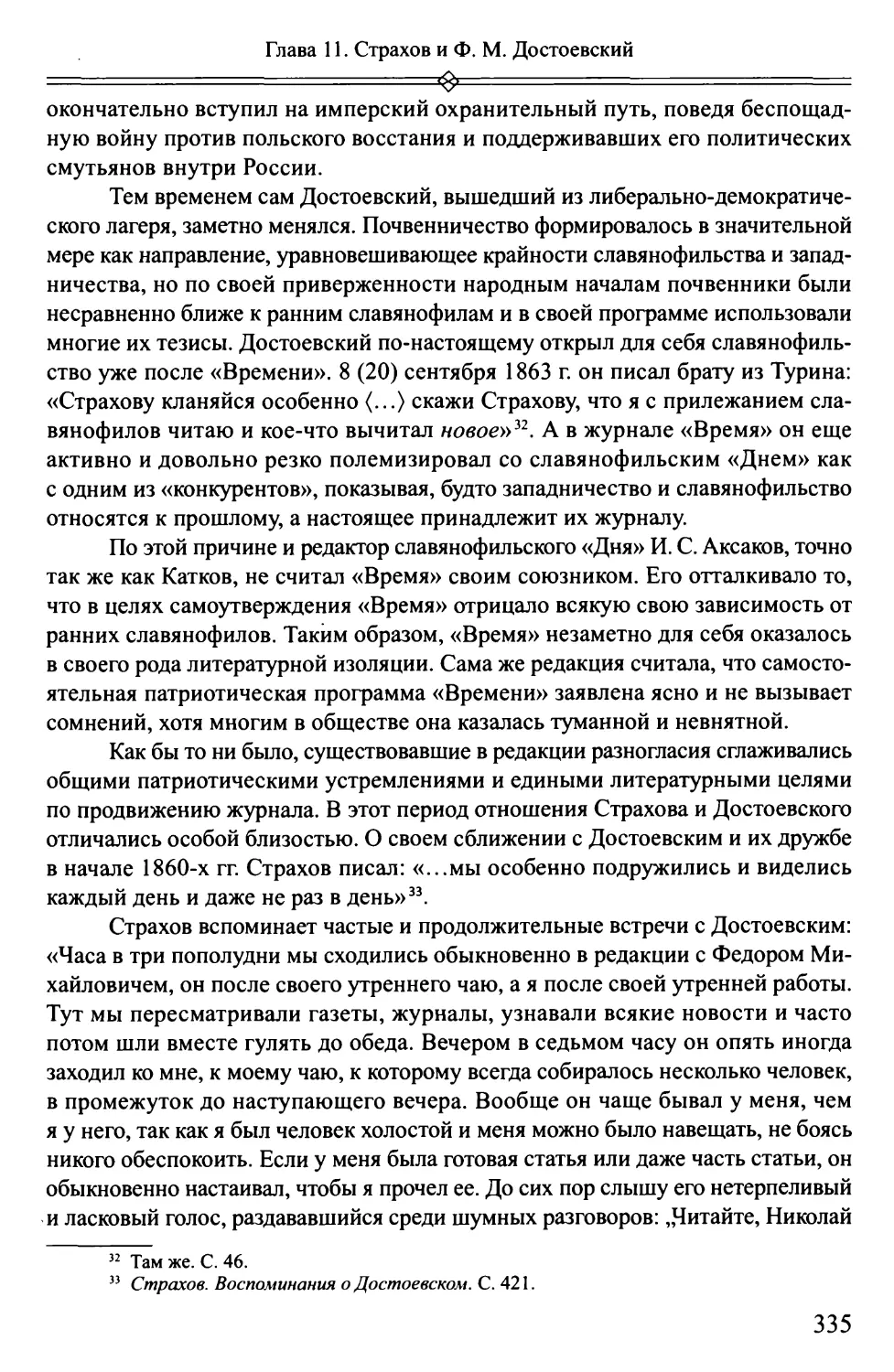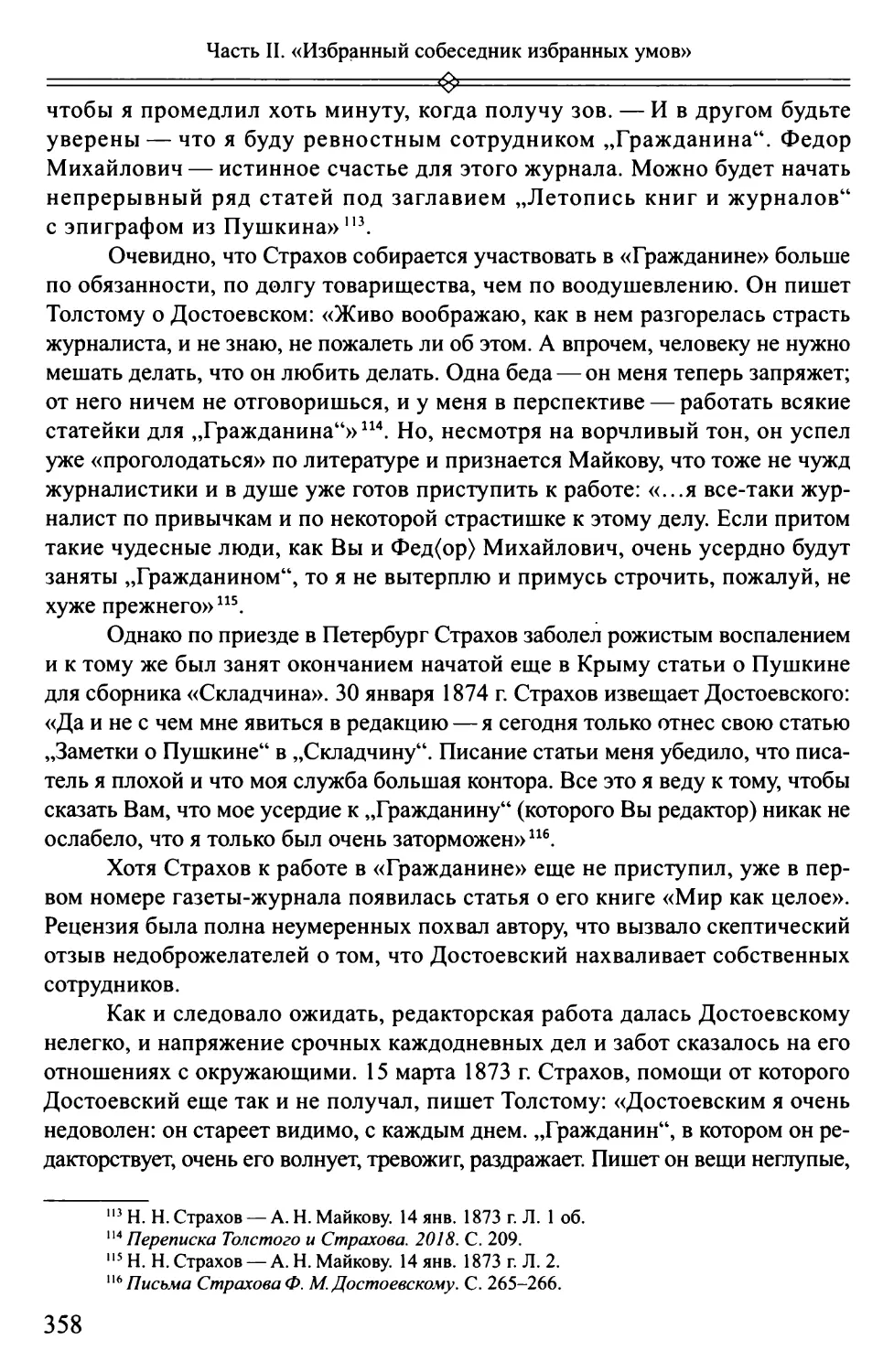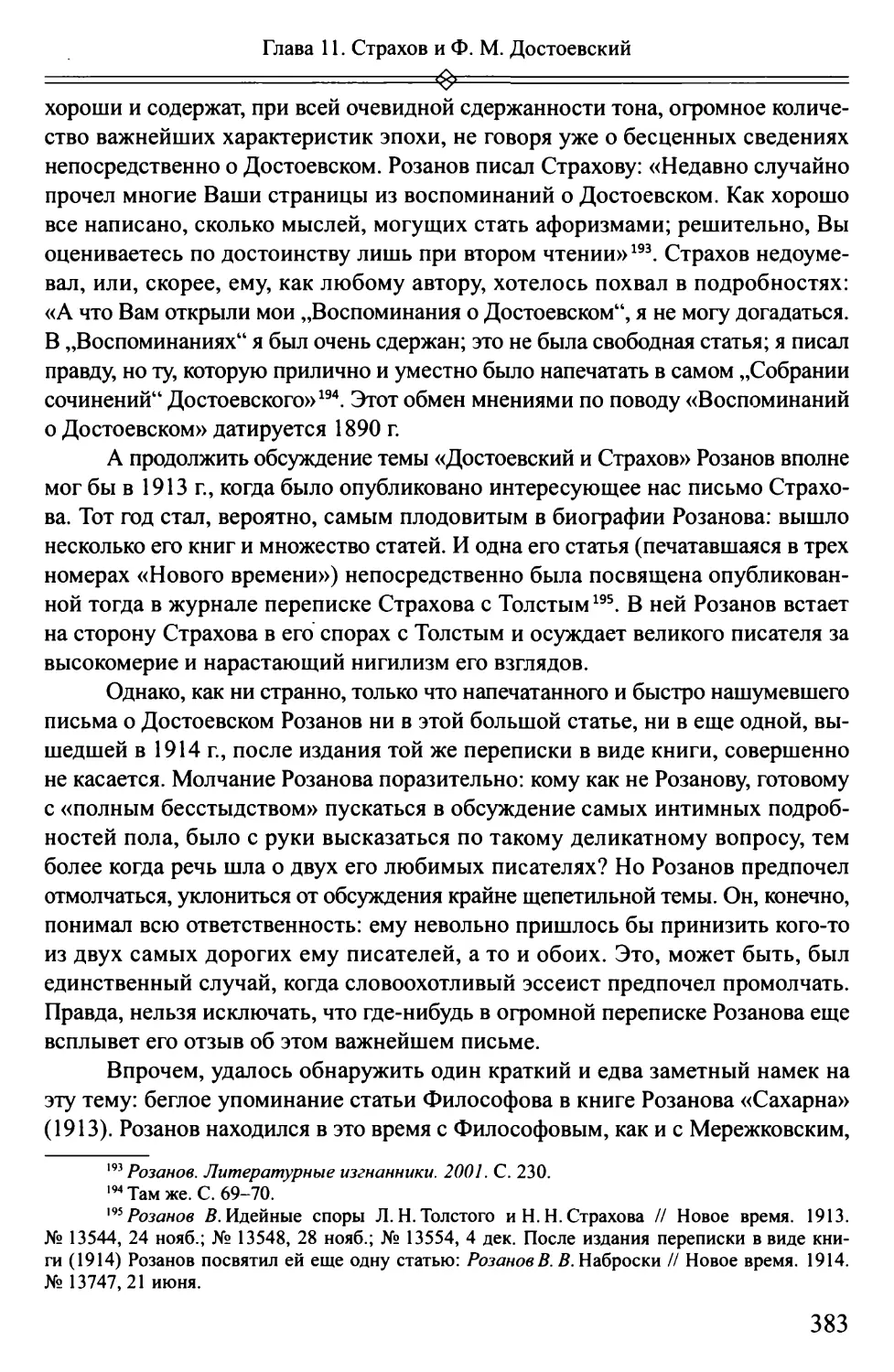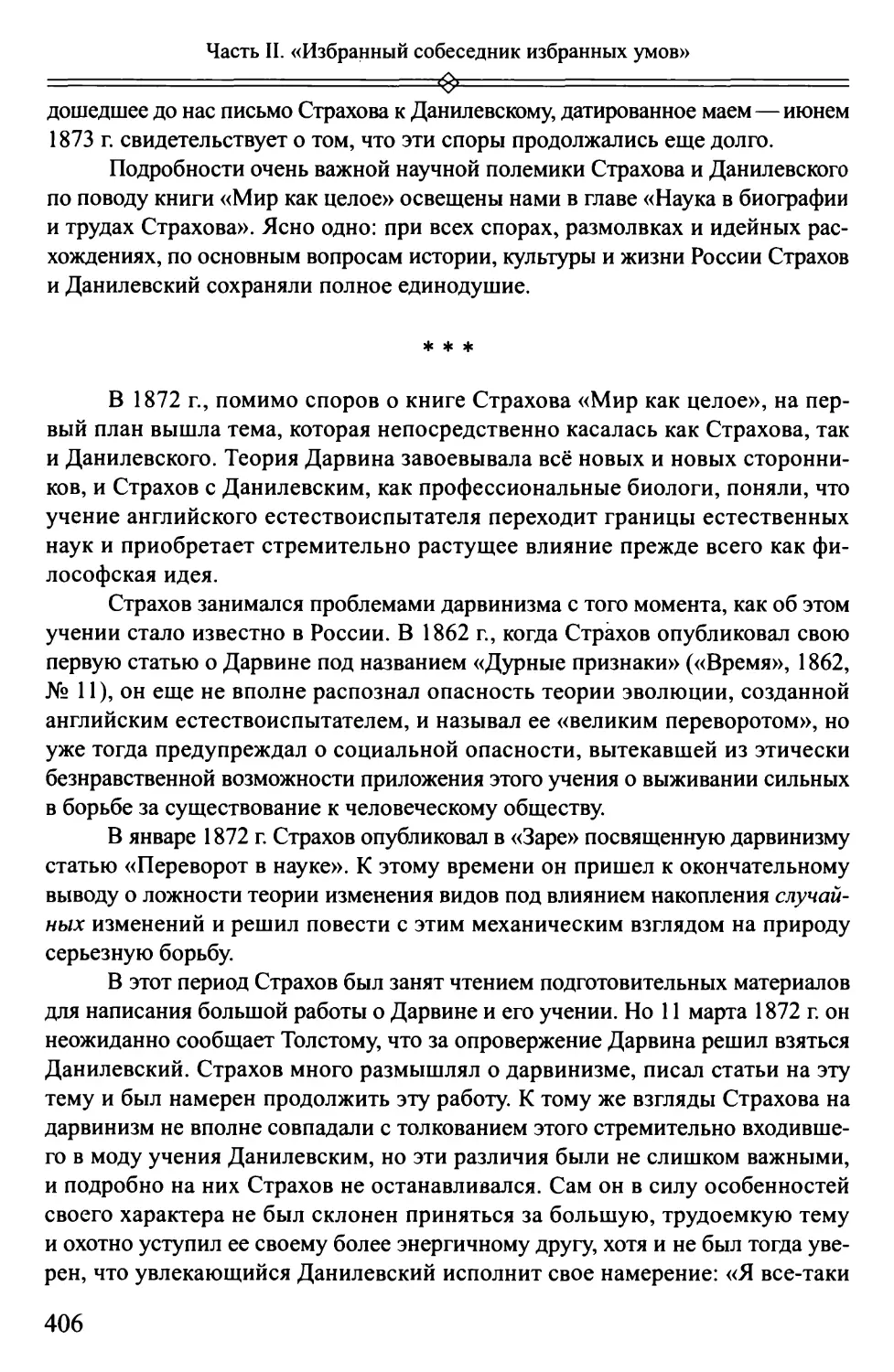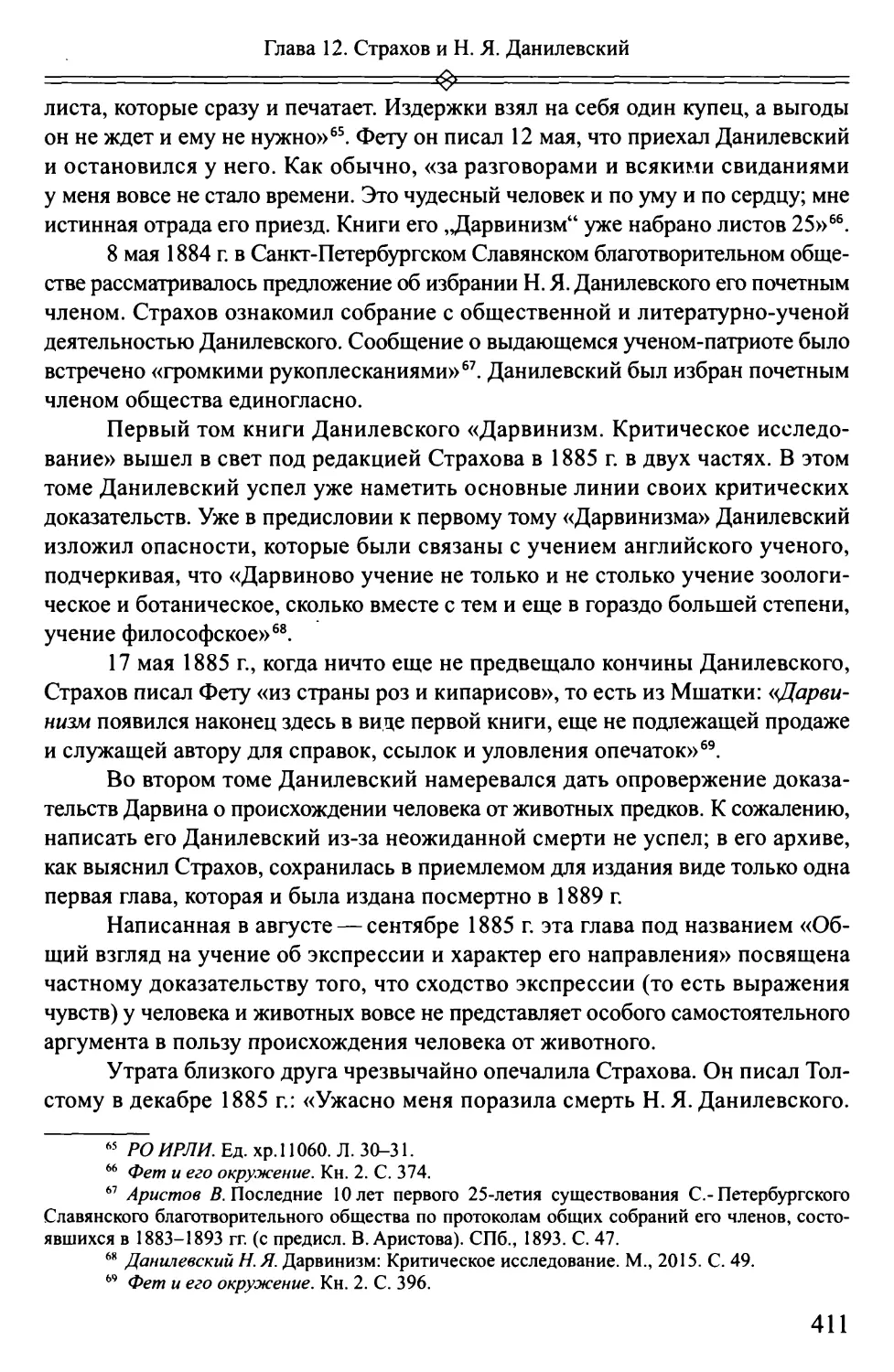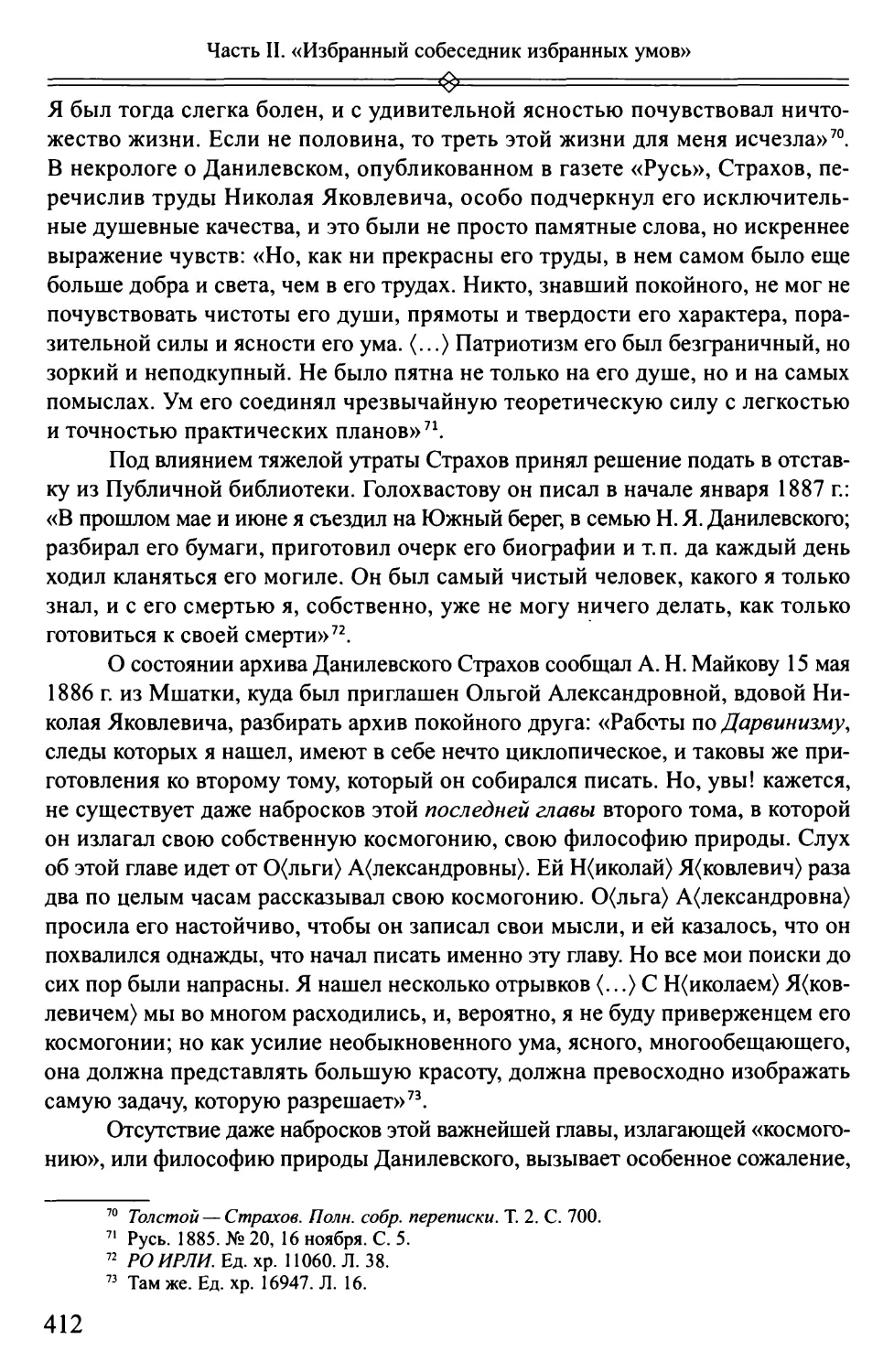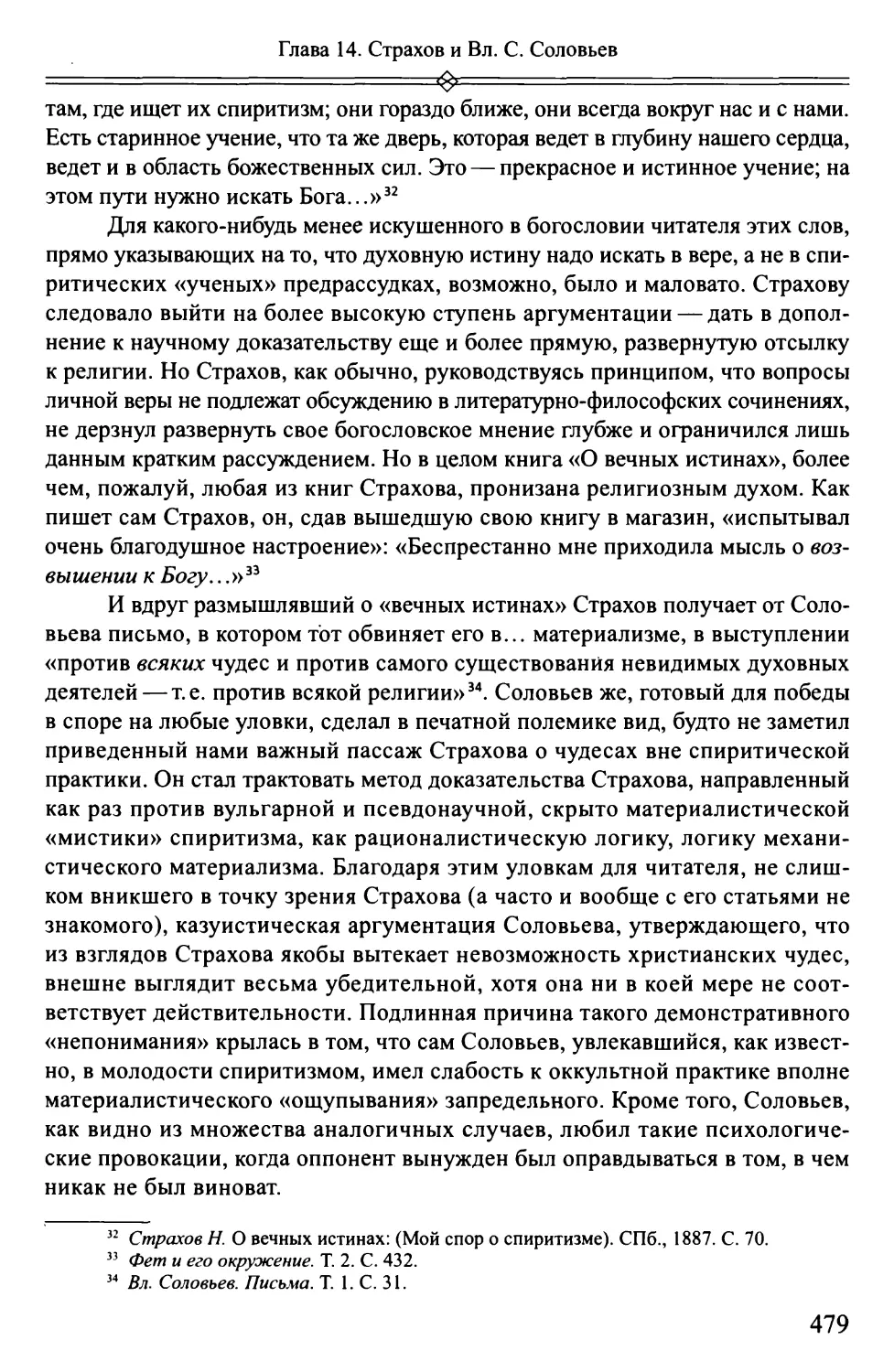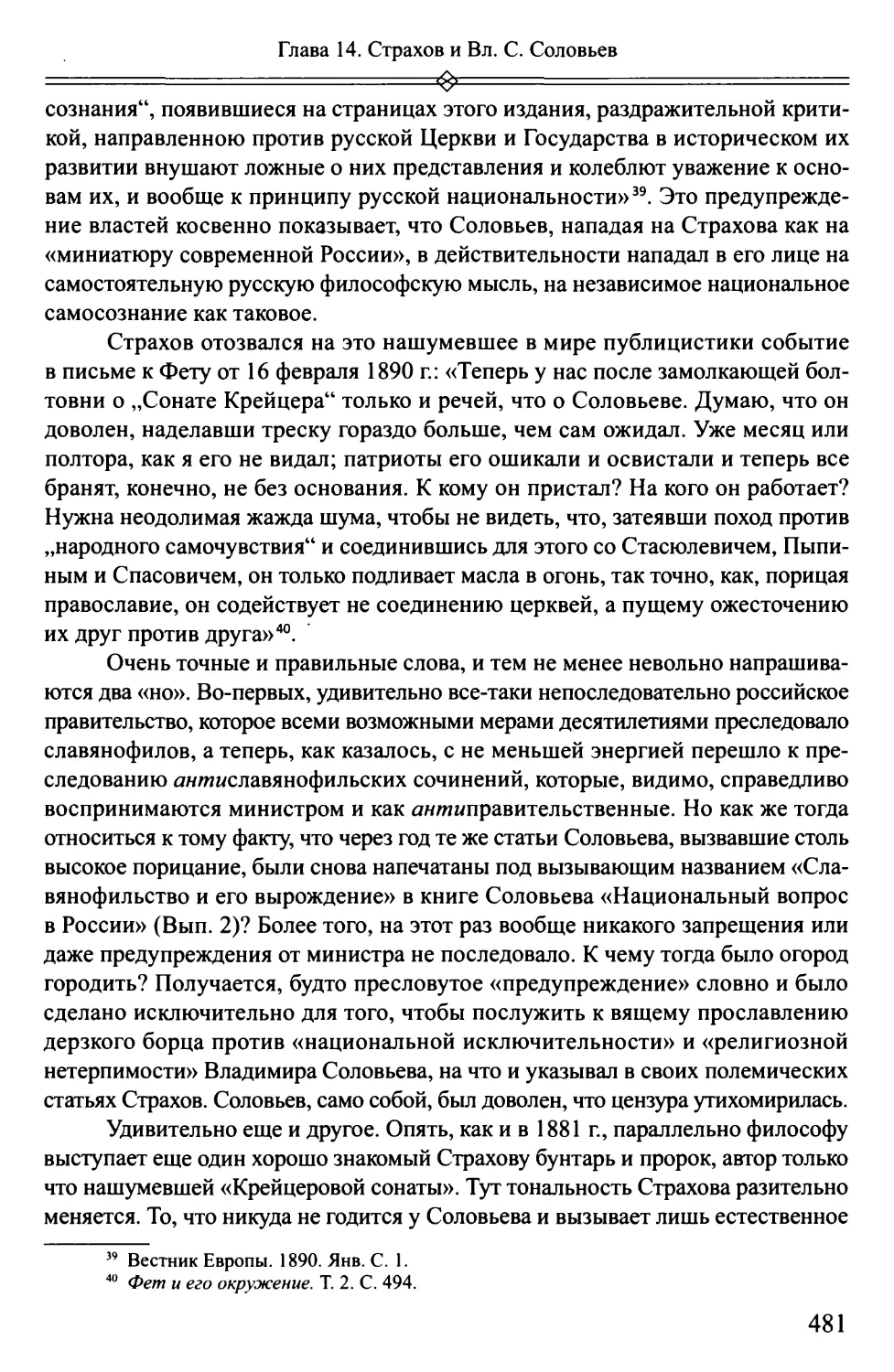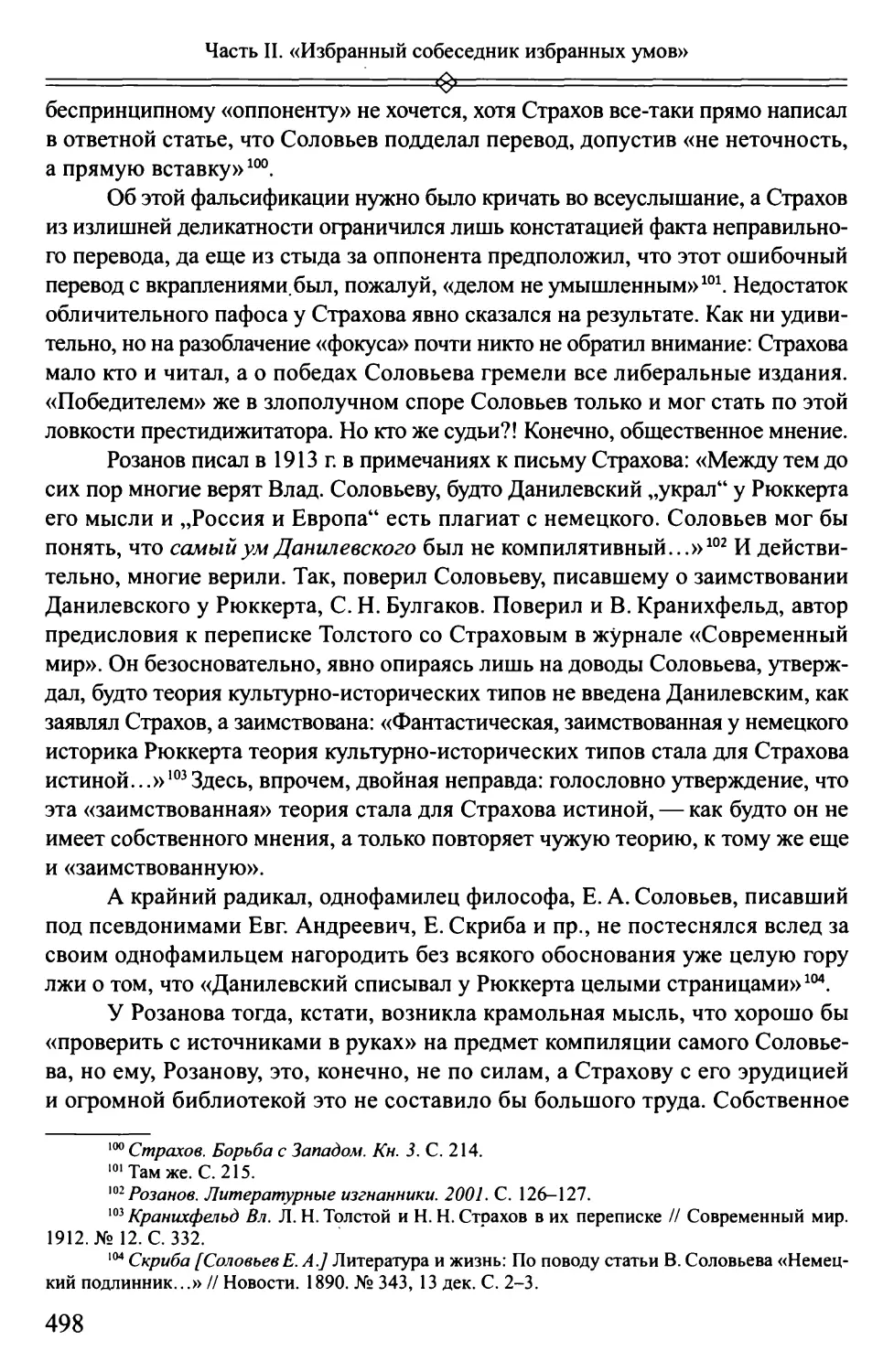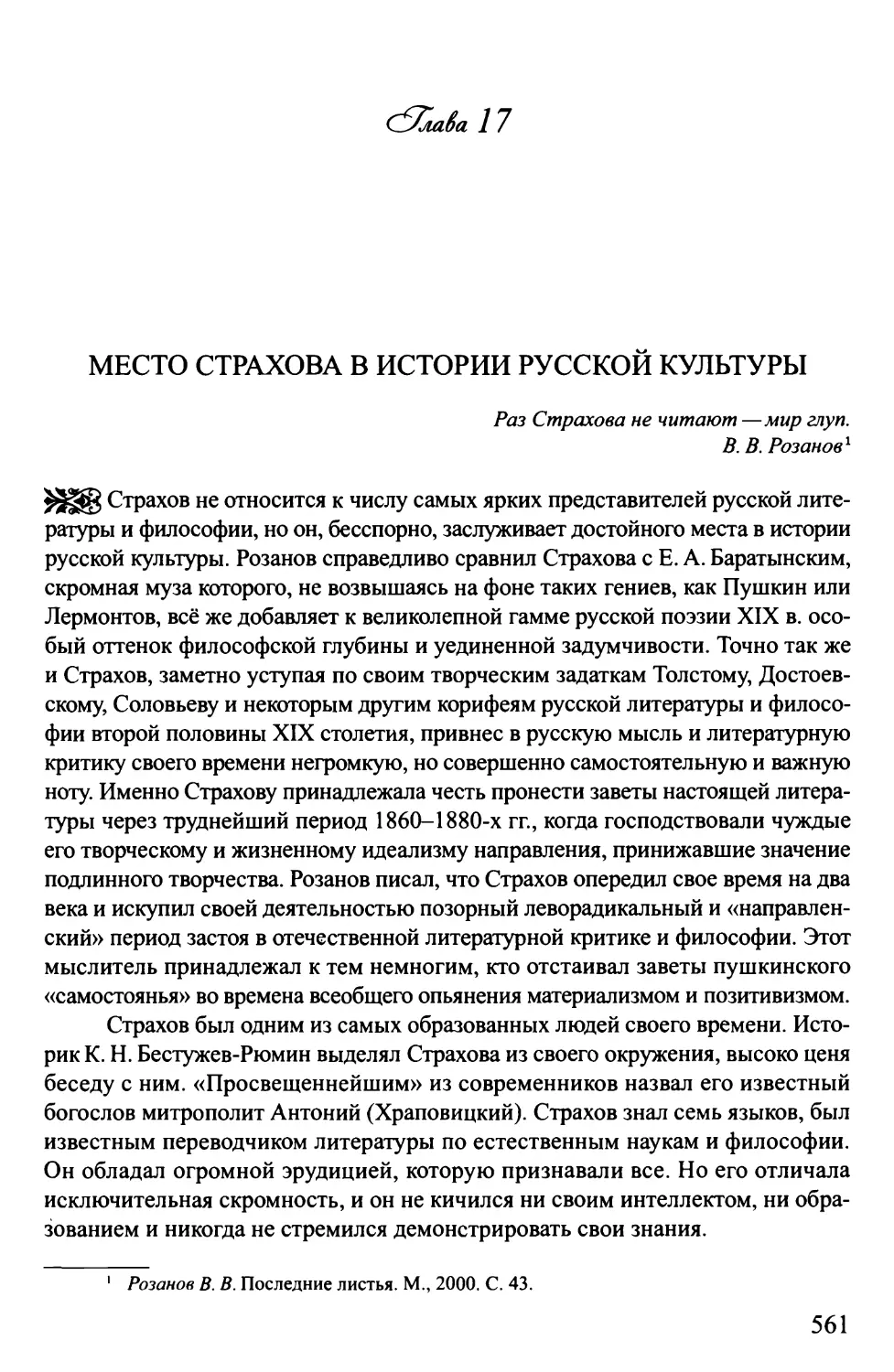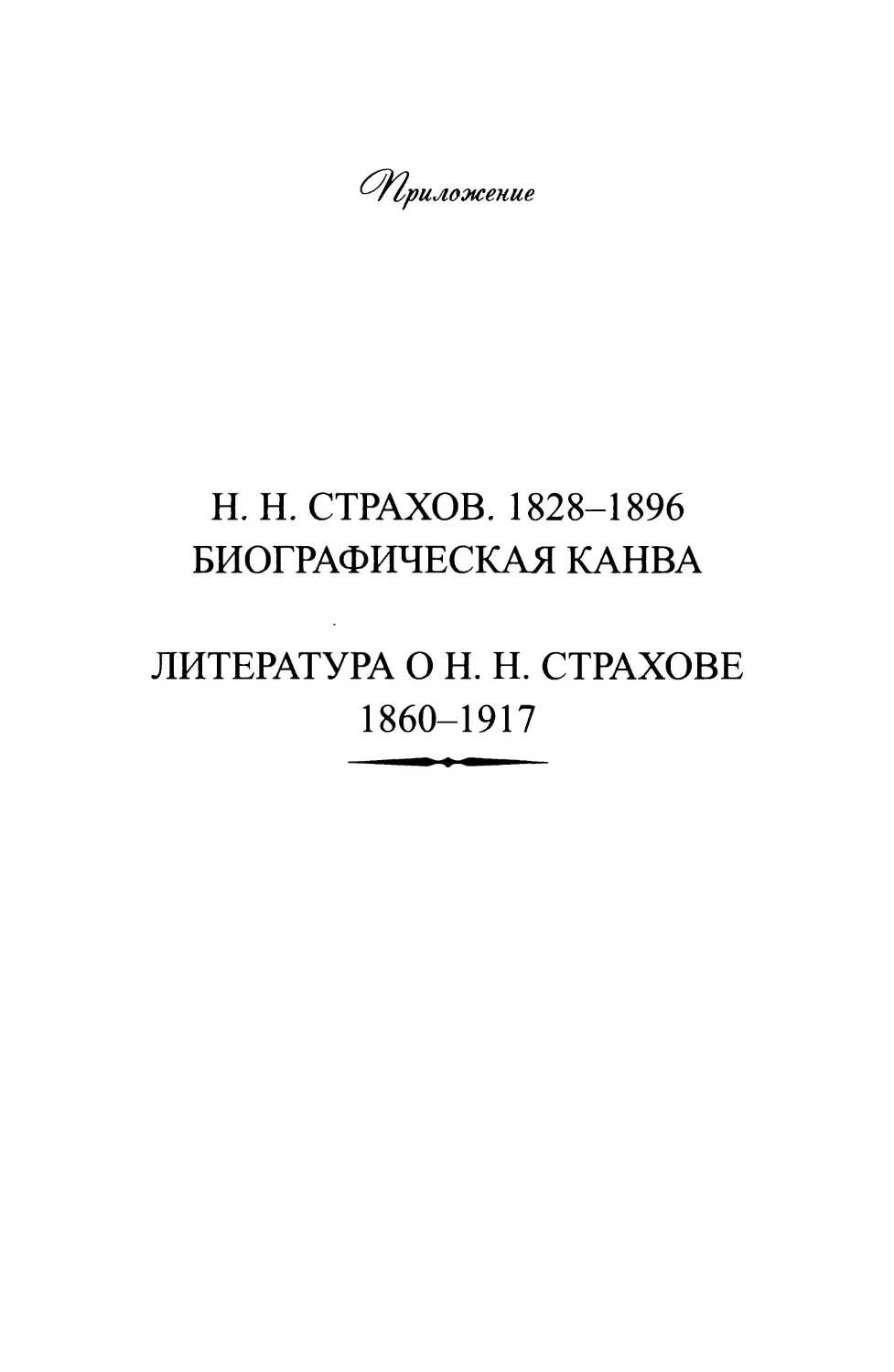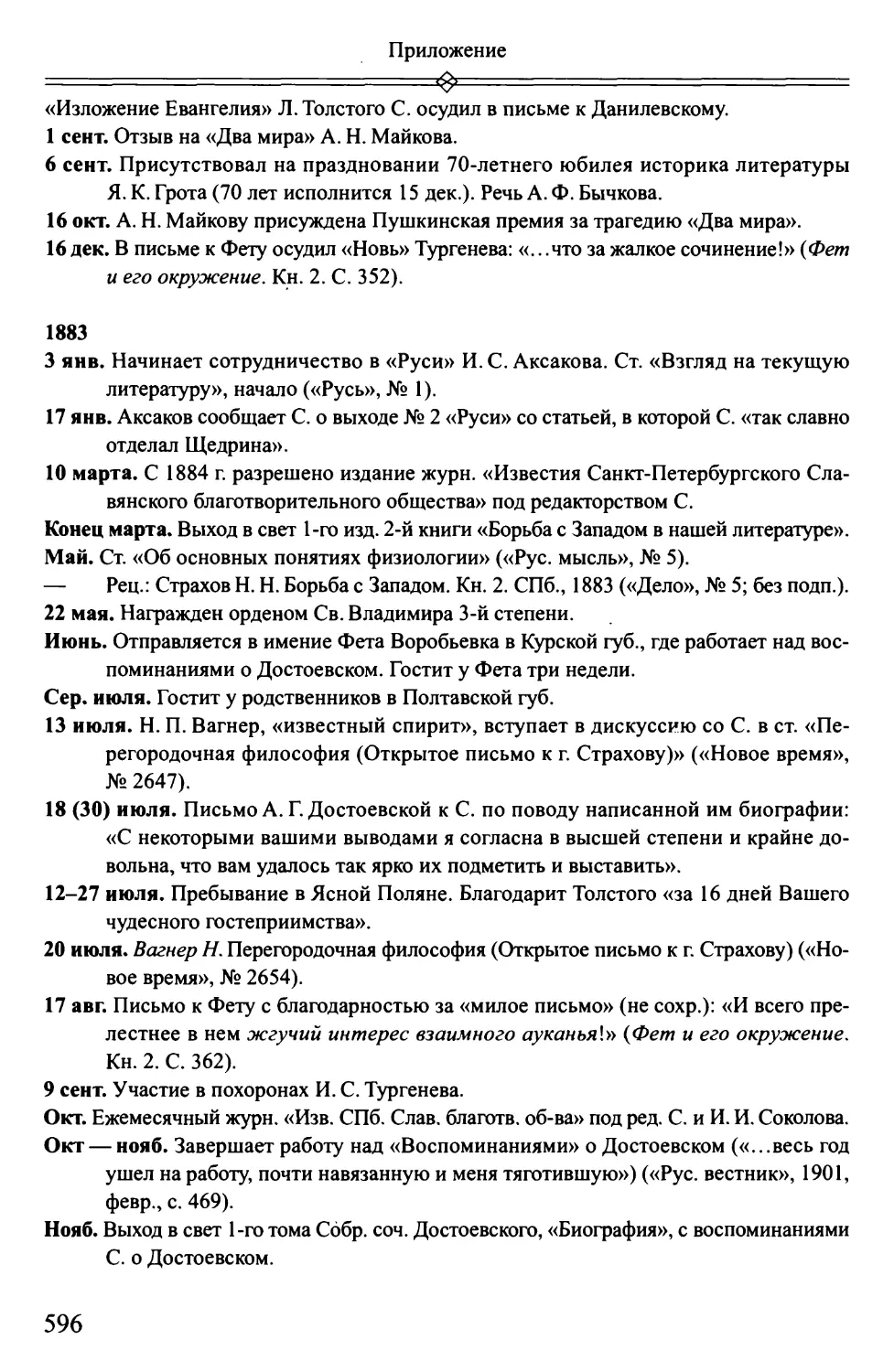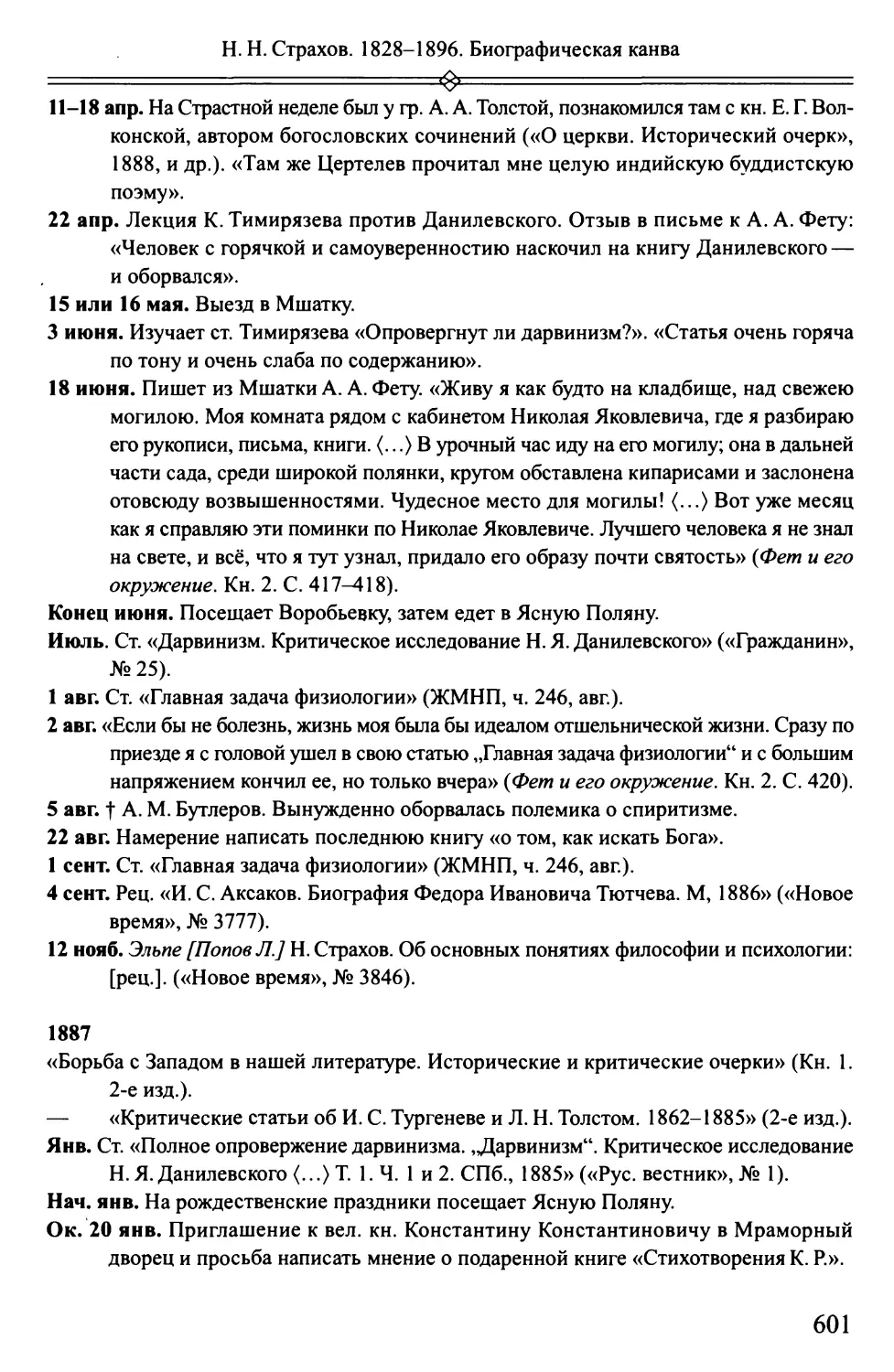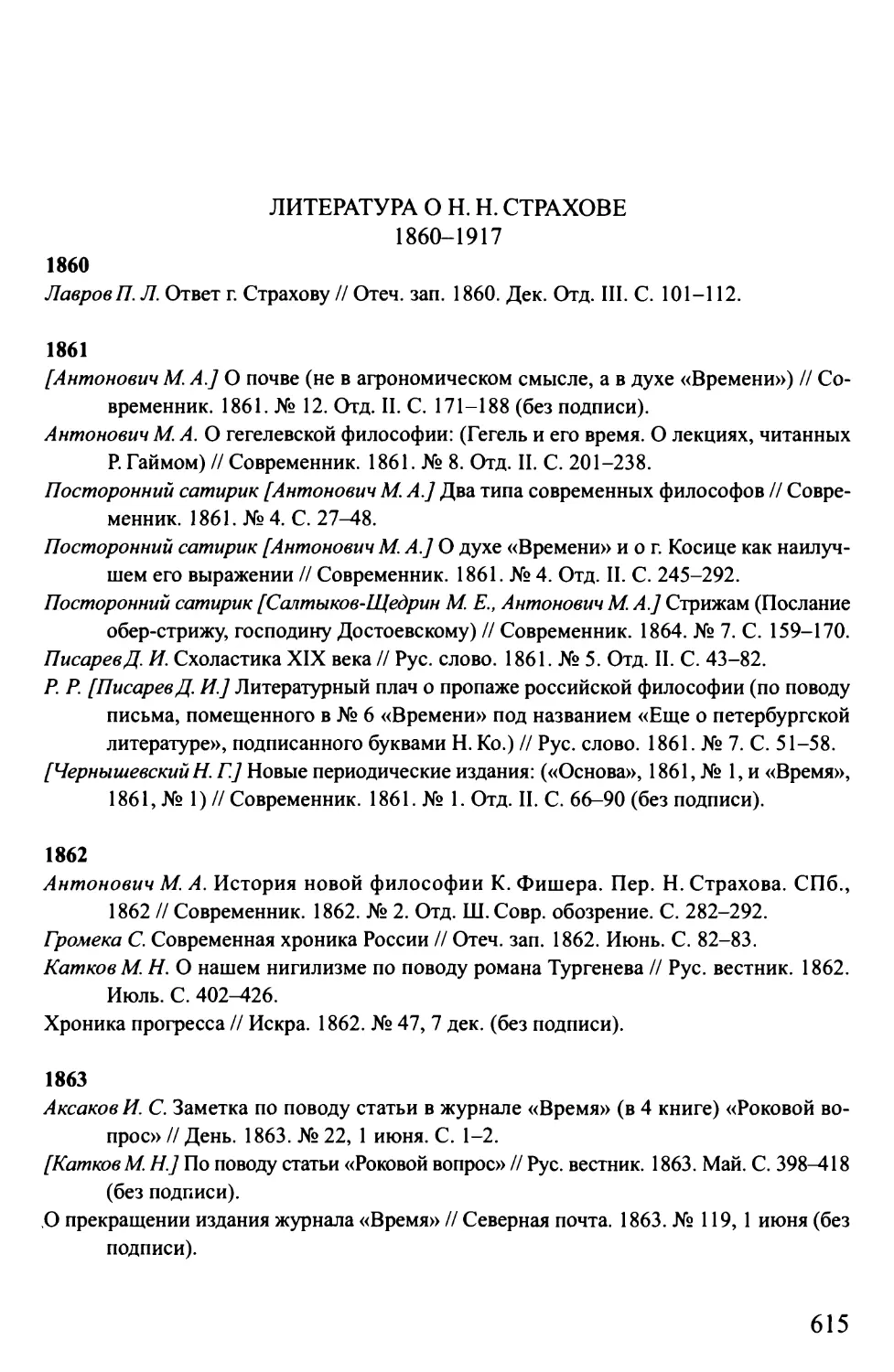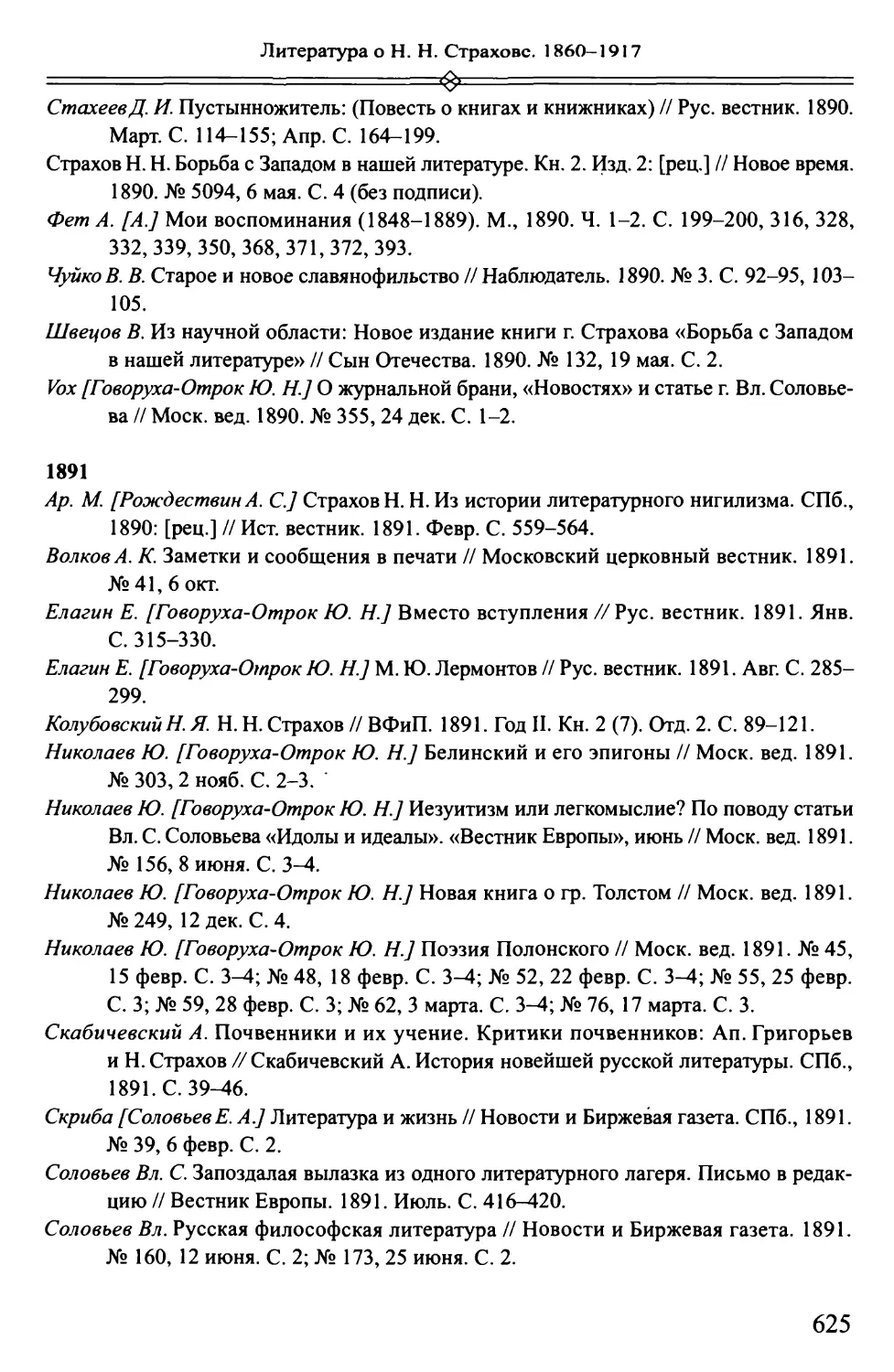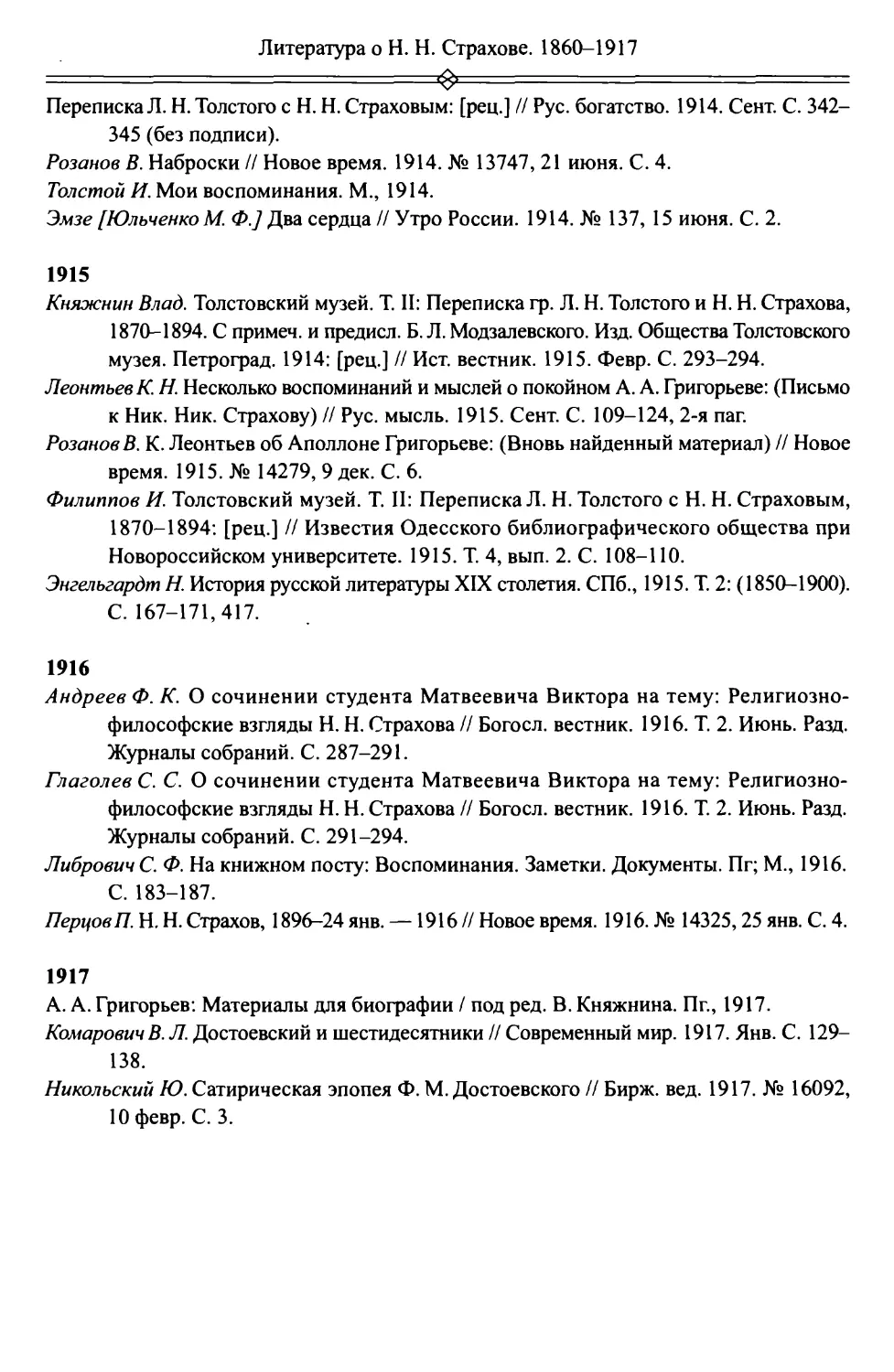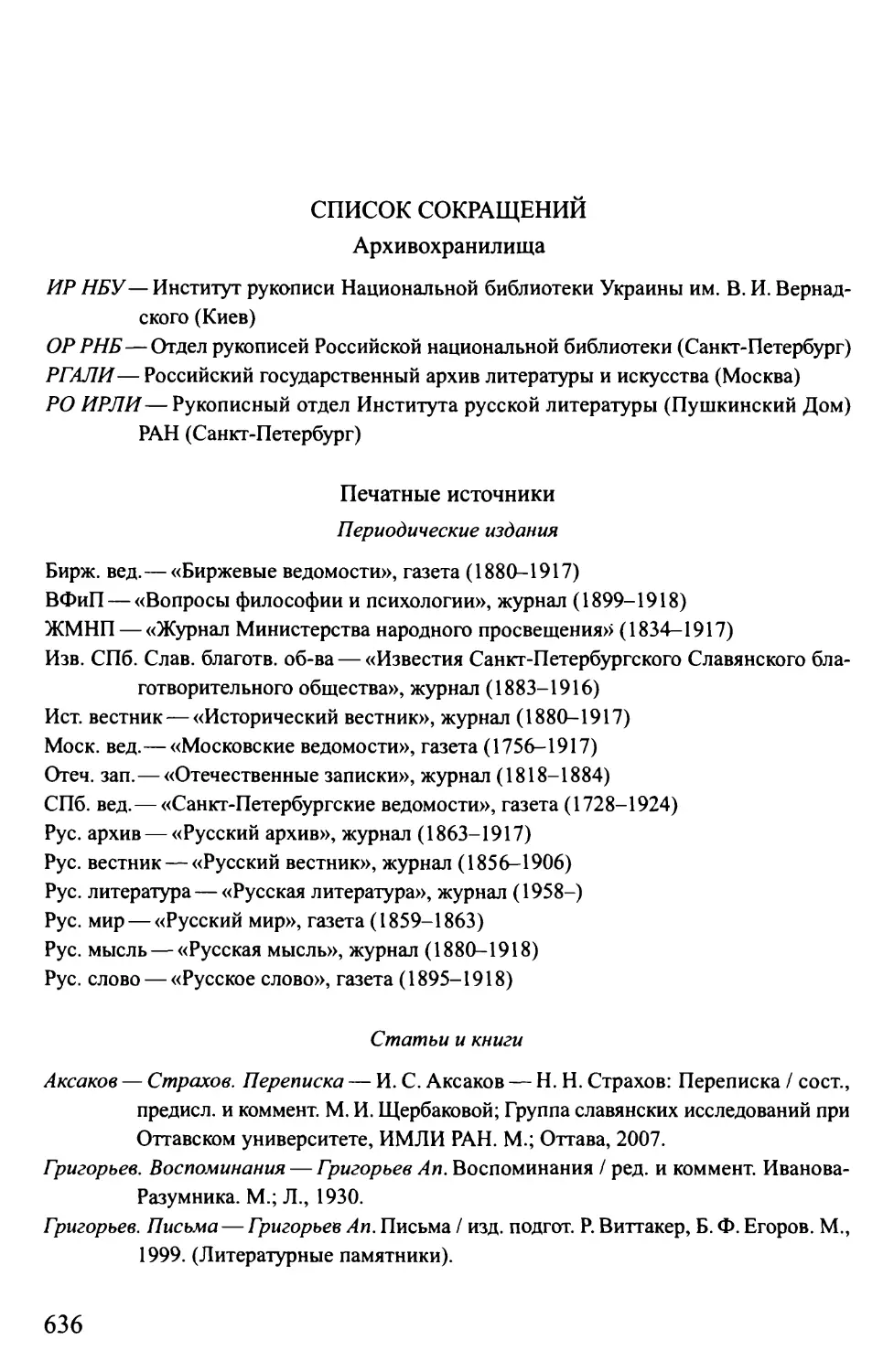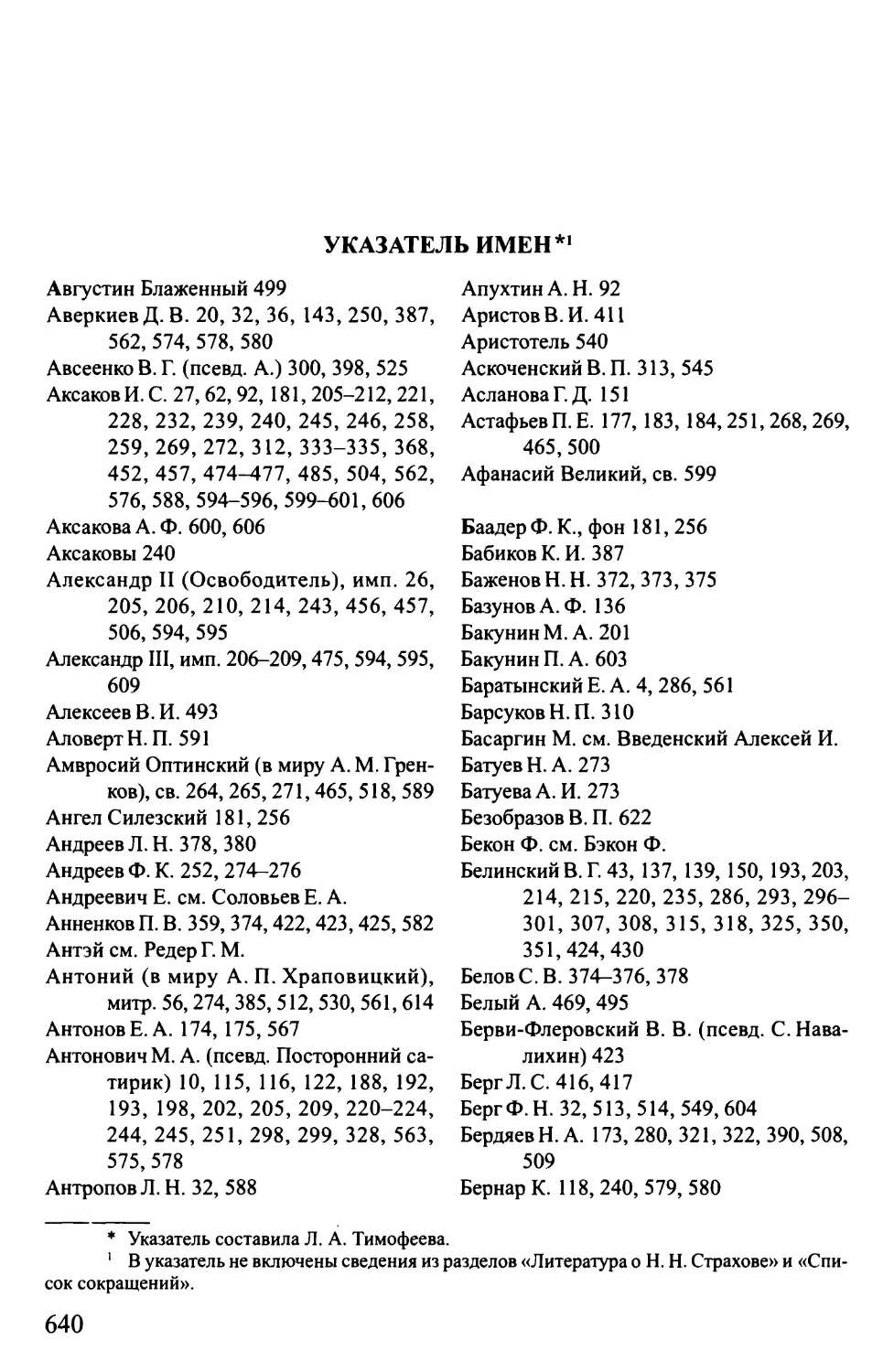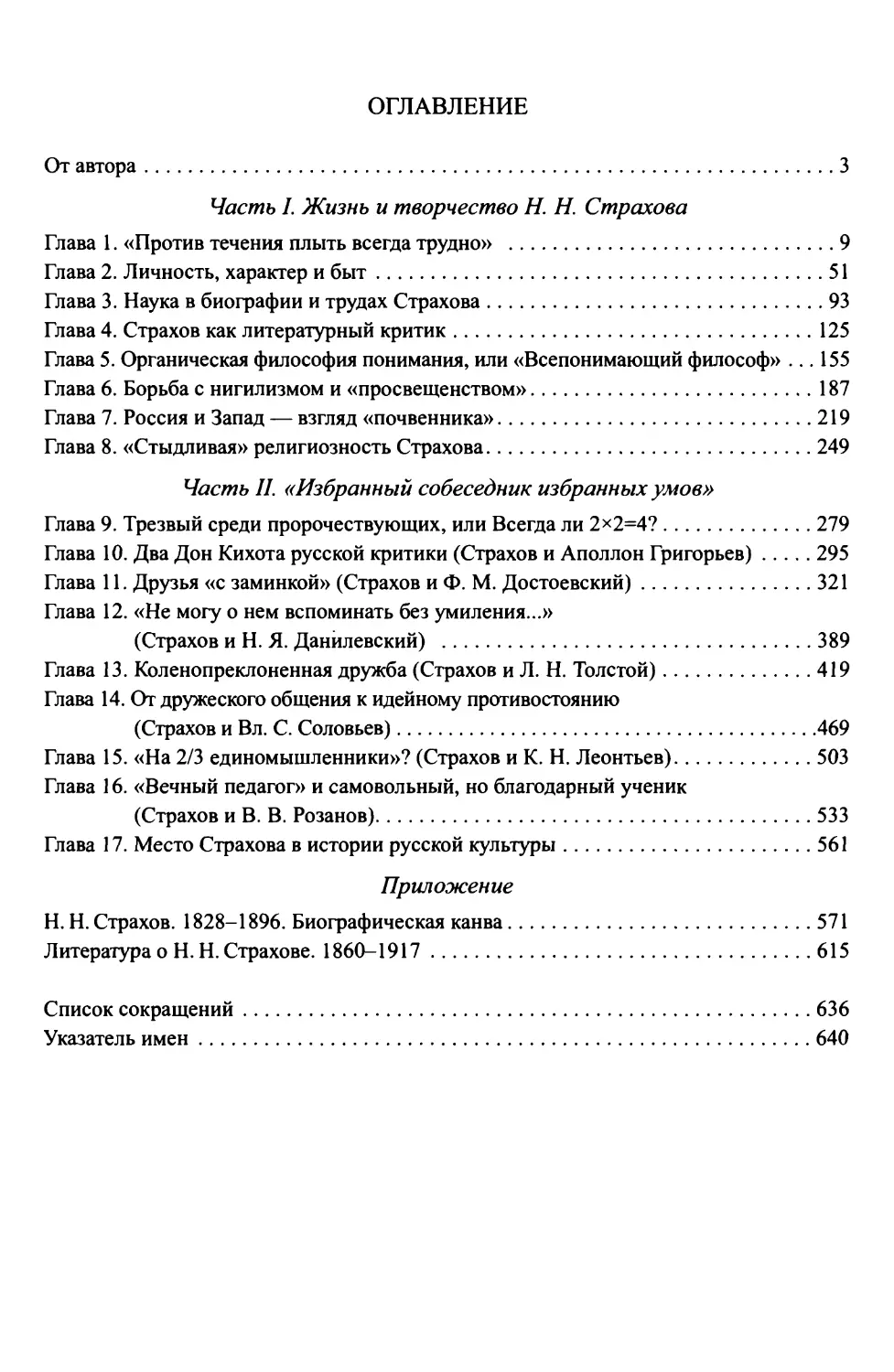Author: Фатеев В.А.
Tags: биографические и подобные исследования литературная критика и литературоведение история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран биографии
ISBN: 978-5-91476-119-3
Year: 2021
Text
В. А. Фатеев
Н.Н. СТРАХОВ:
ЛИЧНОСТЬ.
ТВОРЧЕСТВО. ЭПОХА
Монография
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПУШКИНСКИЙ ДОМ»
Санкт-Петербург
2021
Фатеев В. А. Н. Н. Страхов: Личность. Творчество. Эпоха: монография. — СПб.:
Издательство «Пушкинский Дом», 2021. —652 с.
ISBN 978-5-91476-119-3
В книге впервые всесторонне рассматриваются жизнь, творчество и окружение
видного литературного критика, философа, ученого-естественника и публициста
Николая Николаевича Страхова (1828-1896). Подробно освещены тесные и в то же время
сложные взаимосвязи Страхова с такими выдающимися писателями и философами, как
Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, Ап. А. Григорьев и Н. Я. Данилевский, К. Н. Леонтьев
и Вл. С. Соловьев, В. В. Розанов. Тщательно анализируются идейные споры Страхова
с Вл. Соловьевым, со сторонниками спиритизма и дарвинизма, многолетняя полемика
с «шестидесятниками», исследуются обстоятельства появления печально известного
письма с характеристикой Достоевского. Анализ опирается на внимательное
рассмотрение литературно-философских источников, многочисленных архивных эпистолярных
материалов и малоизученной прежде дореволюционной периодики. К книге
прилагаются впервые собранная библиография посвященных Страхову работ за 1860-1917 гг.,
а также его биографическая канва.
Книга рассчитана как на специалистов в области литературоведения,
философии и науки, так и на образованных читателей, интересующихся проблемами русской
культуры.
На переплете: И. Е. Репин. Портрет Н. Н. Страхова. Конец 1880-х гг.
ISBN 978-5-91476-119-3
©В.А.Фатеев, 2021
© Издательство «Пушкинский Дом», 2021
ОТ АВТОРА
Эта книга рождалась долго и трудно. Ее замысел возник еще в те далекие
времена, когда я активно и увлеченно занимался творчеством Василия
Розанова— несравненно более яркого, парадоксального мыслителя, критика и эссеиста.
Уже тогда мне казалось очень несправедливым то, что Николая Николаевича
Страхова, с искренней болью выкрикнувшего в печально известном
исповедальном письме к Толстому слова раскаяния за мучившие его мрачные мысли
о Достоевском, обвинили в сплетничестве, предательстве друга, клевете, зависти
к гению и прочих смертных грехах. Обвинили того, кого тот же Розанов называл
человеком детской чистоты души и считал самым благородным из всех людей,
каких он когда-либо знал. Обвинили литературного критика, принявшего на себя
в 1860-х гг. главный удар могущественной оппозиционной силы нигилизма,
чествуемого до сих пор под именем «революционных демократов», а затем не
менее мужественно вступившего в другой неравный спор — с воспылавшим
неприязнью к русскому патриотизму и не брезговавшим в полемике
нечистоплотными приемами философом Вл. Соловьевым. Обвинили человека редкого
бескорыстия, который положил бесценные для собственного творчества зрелые
годы на издание сочинений и разъяснение обществу непреходящего значения
творческого наследия своих покойных друзей Ап. Григорьева и Н. Я.
Данилевского, на отстаивание памяти этих мыслителей и их достойное прославление.
Обвинили писателя, который всего за несколько месяцев до своего ужасного
отзыва о Достоевском отправил Толстому письмо с такими искренними словами:
«Мне ничего не нужно, Лев Николаевич, я ничего не добиваюсь, уже смотрю
шутя на всё, кроме душевного блага. Но когда разговоришься без всякой другой
цели, кроме рассуждения, и вдруг раздастся подозрение в задних мыслях —
невольно обижаешься»1. По моему убеждению, человек, который так искренно
заявлял, что ему «ничего не нужно, кроме душевного блага», просто физически
не мог лгать.
Гениальный и всемирно известный Достоевский по сравнению со
Страховым, конечно, несопоставимо более крупная величина. Едва ли не первым эту
очевидную истину высказал после публикации злополучного письма видный
либерал Д. В. Философов, который начал свои обличения Страхова со слов:
«Страхов был маленький человек. Чиновник до мозга костей...»2 Это совсем
не так, но даже если бы и было так, то невольно сразу приходит на ум апология
1 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 642.
2 Философов Д. Порочный Достоевский // Русское слово. 1913. № 234, 11 окт. С. 2.
з
От автора
«маленького человека» у Гоголя и самого Достоевского. Славы Достоевского
как великого писателя-пророка, несмотря на все «наветы», не убудет, но из
философии гуманизма, им исповедуемой, следует, что и «маленького человека»
обижать грешно.
И, глядя на развернутую против Страхова шумную обличительную
кампанию, я посчитал своим долгом во что бы то ни стало вступиться за тихого,
но серьезного и мужественного мыслителя. Со временем я взялся за изучение
творческого наследия этого «Баратынского нашей философии», намереваясь
написать обстоятельную статью в его оправдание. Однако вскоре я понял, что
Страхов представляет собой очень значительное явление в истории
отечественной мысли, а исследование его внешне неброских, но очень глубоких трудов
в области науки, философии, литературной критики и публицистики требует
гораздо более сосредоточенных и продолжительных усилий, чем я рассчитывал.
Много времени потребовало изучение обширной и очень важной переписки
Н. Н. Страхова с крупнейшими деятелями отечественной литературы и
философии. На освоение творческого наследия Страхова у меня ушли годы. Да
и сейчас, когда мне удалось изучить труды мыслителя, относящиеся к самым
разным областям знаний, я не уверен, что мне по силам осмыслить и осветить
в подробностях ряд поднятых им очень специальных тем на стыке биологии
и философии.
Но моей главной задачей было дать в этой книге комплексную оценку
идеям Страхова, показать его общий вклад в литературно-философское движение
второй половины XIX в., оценить всю новизну его сочинений по философии
науки, подчеркнуть его огромную роль в отстаивании истины в период
господства позитивизма и левого радикализма в русской мысли.
Сейчас мне совершенно ясно, что Страхов находился «в круге
первом» отечественной мысли и без учета его многочисленных литературно-
философских контактов, научных трудов и эпистолярного наследия история
русской общественно-политической жизни была бы неполной. После долгого
периода замалчивания и порицания консервативного критика и философа-
идеалиста в советские годы отечественное научное и культурное сообщество
постепенно приходит к пониманию значения его творчества. Несмотря ни на
что, публикуются труды мыслителя, о нем пишутся книги, защищаются
диссертации, зреют замыслы собрания его сочинений.
Нет никакого сомнения, что письмо Страхова о Достоевском — это, увы,
печальная, даже драматическая страница в истории нашей литературы. Я давно
пришел к выводу, что для всех было бы лучше, если бы это не
предназначенное для печати письмо вообще не было опубликовано, так как оно неизбежно
бросает тень на одного, а то и на обоих наших крупных писателей почвенно-
патриотического направления, идейно близких друг другу, несмотря на все
расхождения. Приняв во внимание его частный характер, следует признать: оно
4
От автора
i&»
мало что меняет в нашем восприятии литературного гения Достоевского и его
отношений со Страховым, да и писалось совсем не для того, чтобы очернить
писателя. Тем более что Достоевский уравновесил ситуацию, согрешив явно
несправедливой характеристикой Страхова в своей записной тетради, которая
также была опубликована спустя десятилетия. Мрачная до болезненности
исповедь Страхова была криком, болью души, а не клеветой из зависти. Этот
ужасный и не вполне ясный эпизод в истории нашей литературы нужно просто
осмыслить, пережить и отставить в сторону как всплеск очень личных, темных
и смутных переживаний.
Мне «дорога истина», как и Софье Андреевне Толстой, с похожими
словами отдавшей письмо Страхова в печать и сделавшей это намеренно, хотя и без
должного размышления о последствиях. Но дороже посмертного выявления
правого и виноватого в этом конкретном споре для меня общая репутация обоих
участников конфликта, больших русских писателей. В этой сшибке характеров,
по моему убеждению, не было и не будет победителя, а есть только проигравшие.
Уже тщательно изучив документы, я подумывал даже о том, чтобы вообще
не касаться этой полной соблазнов темы в своей книге ради сведения к
минимуму нехороших последствий вовлечения в нее читателей. Однако кампания
против Страхова ведется с такой агрессией, известные и новые документы
истолковываются с такой вопиющей тенденциозностью, что отказаться от
беспристрастного, нелицеприятного анализа этого вопроса никак нельзя. До
сих пор регулярно появляются новые и новые разоблачительные статьи о будто
бы «диффамации» Страховым великого писателя, со схожей прямолинейной
настойчивостью обвиняющие автора исповедального письма в корысти, зависти,
дальнем расчете и даже в готовности родину предать. Поэтому у автора данной
монографии, претендующей на комплексное исследование жизни и творчества
Страхова, нет никакого права уклониться от обсуждения этой сложной темы;
к тому же ее детальное и предельно объективное исследование — настоятельная
потребность нашего времени. По этой причине письмо Страхова к Толстому
составляет смысловой центр не только главы о Достоевском, но и всей данной
монографии — отношение к нему вольно или невольно отражается на трактовке
всех основных тем этого исследования.
Изучение вопросов, связанных с письмом о Достоевском, отняло много
дополнительного времени, но могу сказать, что я исследовал эту тему с
максимально возможной тщательностью и искренним сокрушением сердца. Однако
в ходе своей работы я столкнулся с еще одним неожиданным, почти
непреодолимым обстоятельством: появилась третья сила, враждебная самому направлению
обеих сторон спора и падкая лишь до «жареных» фактов. Неизбежно
поднимаемая в подобном исследовании житейская муть может быть использована
этими одиозными хулителями «русской идеи» и православия для своих черных
целей. Моя задача как исследователя становится заведомо бесперспективной:
5
От автора
мало того что сама по себе защита Страхова от необъективных оценок вызовет
ожесточенные возражения, но еще и, помимо чувства моральной ущербности
от погружения в темную бездну аргументов, я теперь лишаюсь возможности
говорить свободно и по чисто практическим соображениям. Поэтому приходится
вести полемику с предельной степенью осмотрительности. Вполне осознаю,
что обращение к теме письма в любом случае сулит неизбежный ущерб для
авторской репутации, но отступать мне некуда. Хотелось бы только заверить
читателя, что у автора этих строк нет ни склонности к идеализации своего героя,
ни какой-либо предвзятости в отстаивании собственной точки зрения, но есть
огромное чувство раскаяния, что литературные амбиции ввергли меня в это не
слишком смиренное «расследование».
Благодарю Елену Николаевну Мотовникову за внесение в текст рукописи
ряда ценных поправок.
Петербург, 2020 г.
Часть I
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
Н. Н. СТРАХОВА
CiaSa 1
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ ПЛЫТЬ ВСЕГДА ТРУДНО»1
На моей могиле можно будет, конечно, написать:
один из трезвых между угорелыми...
Н. И. Страхов2
£5S8 На первый взгляд кажется, что жизнь и творчество высокообразованного,
тонкого литературного критика и вдумчивого философа Н. Н. Страхова
отличаются идейной цельностью, ясностью и последовательностью. Такой вывод
напрашивается, если исходить из того, что Н. Н. Страхов был по своему
характеру трезвым, спокойным и рассудительным мыслителем, тихим созерцателем-
идеалистом. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что его
воззрения чрезвычайно сложны, нередко противоречивы, а иногда даже
таинственны. Да и вся творческая жизнь этого, казалось бы, не слишком стойкого
духом и подверженного влияниям, отстраненного от жизни и погруженного
в философское созерцание мыслителя складывалась так, что ему приходилось
постоянно «плыть против течения» — вести неустанную борьбу против тех
течений мысли, которые были в его время на пике популярности в обществе.
Эта важная особенность Страхова была не раз отмечена современниками. Так,
философ Александр И. Введенский писал об этом как о существенной черте
творчества философа и критика: «Ник(олай) Ник(олаевич) никогда не колебался
идти против господствующих, хотя и крайне сильных, течений.. .»3 Это качество
подчеркивалось и в характеристике Страхова при его приеме в Московское
психологическое общество: «Он никогда не боялся идти против господствующих
в науке и литературе течений, восставал против увлечений минуты и выступал
на защиту тех крупных философских и литературных явлений, которые в данную
минуту подвергались гонению и осмеянию»4.
1 Страхов Н. Василий Владимирович Кашпирёв // Гражданин. 1875. № 50, 14 дек. С. 1210.
2 Письма Страхова Н. Я. Гроту. С. 256.
3 Введенский Александр. Значение философской деятельности Н. Н. Страхова //
Образование. 1896. Март. Отд. 2. С. 5.
4 ВФиП. 1894. Кн. 23 (3). С. 457.
9
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Начиная с 1860-х гг. Страхов повел решительную борьбу с
утилитаристскими, материалистическими и нигилистическими направлениями русской
общественной мысли, радикальными теориями Герцена и Чернышевского,
Добролюбова и Писарева, Антоновича и Лаврова, Зайцева и Ткачева, которые
обрели тогда широкую поддержку в общественном мнении. На рубеже 1860-х
и 1870-х гг. ему пришлось пропагандировать не пользовавшиеся
популярностью почвеннические идеалы и «органическую критику» Ап. Григорьева и
отстаивать значение недооцененного поначалу романа «Война и мир» Толстого,
в 1870-х гг. — спорить со сторонниками спиритизма, а в 1880-х — защищать
историософские взгляды Н. Я. Данилевского, выраженные в книге «Россия и
Европа», от нападок Вл. С. Соловьева и полемизировать с К. А. Тимирязевым и
другими поборниками теории эволюции из-за книги Данилевского «Дарвинизм».
За глубокие и отмеченные тонким юмором и основательной
аргументацией, взывавшие к здравому смыслу выступления Страхова против оппозиционных
течений в эпоху массового увлечения политическим и научным радикализмом
под знаменем «прогресса» идейные оппоненты создали ему репутацию
консерватора и чуть ли не «обскуранта». Однако тот же Страхов в 1891 г. не побоялся
выступить в защиту Л. Н. Толстого, бунтарские религиозно-публицистические
идеи которого вызывали естественное недовольство церковных и политических
властей. На протяжении всей своей творческой биографии «тихий и
уклончивый» Страхов смело отстаивал в литературной критике независимые идеи
«почвенничества» и «славянофильства», обосновывал необходимость опоры
на философский идеализм и традиционные народные начала.
Этим его постоянным состоянием борьбы, противодействием
превосходящим силам прежде всего и вызвано, конечно, возникавшее у многих ощущение,
что личность, образованность и ум Страхова были гораздо крупнее и глубже,
чем то наследие, которое ему удалось после себя оставить. Например, профессор
МДА Алексей И. Введенский метко назвал философию Страхова
«недосказанной»5. Ту же мысль хорошо выразил о. Павел Флоренский в письме к Розанову
в 1913 г.: «Относительно Страхова у меня всегда остается впечатление, что
это — человек невысказавшийся. М(ожет) б(ыть), это произошло от забитости
обществом»6.
Линда Герстайн, автор первой монографии о Страхове, появившейся
в США в 1971 г., когда этого мыслителя в советских изданиях было принято
только ругать как «реакционера», прямо начинает свою книгу с объяснения,
почему у Страхова сложилась такая незавидная литературная судьба: «Николай
Николаевич Страхов был консерватор. Важно сделать такое категоричное
утверждение в начале исследования, так как оно объясняет многие историографические
5 Введенский Алексей, проф. Общий смысл философии Н. Н. Страхова. М., 1897. С. 19.
6 Розанов. Литературные изгнанники. Кн. 2. 2010. С. 121.
ю
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
—■$>
проблемы. Мы так мало знаем о нем и так редко историки пытались понять его
творчество именно потому, что Страхов был отнесен к консерваторам»7.
В этом утверждении есть большая доля истины, особенно если иметь
в виду время, когда писалась книга американской исследовательницы. В
Советской России, когда творческое наследие так называемых революционных
демократов было вознесено до уровня государственной идеологии, имя их главного
идейного оппонента Страхова считалось одиозным. Оно упоминалось лишь
тогда, когда его нельзя было совсем обойти, как в случае Ф. М. Достоевского
и Л. Н. Толстого, с которыми критик состоял в близких творческих отношениях.
При этом упоминание Страхова почти всегда сопровождалось ярлыком
«ретрограда», а его произведения находились фактически под запретом. Незыблемый
литературный авторитет Толстого и Достоевского вынуждал советских критиков
изображать этих классиков отечественной словесности более либеральными, чем
они были на самом деле, а Страхов представал из исследований и комментариев
своего рода «мальчиком для битья», на влияние которого валили
«идеологические грехи» великих мастеров литературы. Например, крупный представитель
советского идеологического официоза и маститый литературовед В. Я. Кирпотин
утверждал в книге «Ф. М. Достоевский и шестидесятые годы», что и Страхов,
и персонаж романа «Идиот» Евгений Павлович Радомский, в котором критик
узнавал его черты, были «обыкновеннейшие консерваторы, пошлейшие враги
утопий, враги социализма, враги гармонии, „рая на земле"»8. И далее критик
не пожалел черной краски для карикатурного портрета идейного противника.
Впрочем, в те годы Страхова клеймили именем реакционера не только
пропагандисты или конъюнктурщики типа Кирпотина, но и серьезные ученые.
Например, В. С. Нечаева, автор основательных научных исследований о журналах
Достоевского «Время» и «Эпоха», среди вполне научных рассуждений
мимоходом, как само собой разумеющееся, называет вдруг Страхова времен написания
воспоминаний о Достоевском «убежденным монархистом и реакционером»9,
что в советские времена означало клеймо: persona non grata.
Однако подлинная драма обреченного на положение изгоя Страхова
состояла в том, что ни «реакционером», ни «ретроградом» по своим взглядам он
вовсе не был. А консерватизм его носил весьма умеренный, «трезвый»
характер, отражая скорее позицию здравого смысла в эпоху всеобщего опьянения
разрушительными идеями во имя социального прогресса и светлого будущего.
Биография Страхова убедительно показывает, что главной причиной
того впечатления творческой недоговоренности, которое оставляют сочинения
Страхова, действительно являются не столько качества его личности, сколько
7 Gerstein L. Nikolai Strakhov: Philosopher, Man of Letters, Social Critic. Cambridge, MA,
1971. P. IX. (Russian Research Center Studies; [Vol.] 65).
8 Кирпотин В. Мир Достоевского: Статьи, исследования. 2-е изд., доп. М., 1983. С. 148.
9 Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», 1861-1863. М., 1972. С. 7.
11
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
=8'
огромное давление времени, которое он испытывал. Страхову всю жизнь
приходилось писать на элементарные темы без особой надежды на правильное
понимание и даже прочтение, оспаривая примитивные, явно ошибочные мнения
многочисленных оппонентов, так как в обществе господствовали совсем иные
идеи. Можно было бы рассуждать о сдержанности и скрытности Страхова,
о недостатке у него энергии и смелости, если бы не постоянные идейные
баталии, в которых ему приходилось участвовать. Заведомо не имея надежды на
немедленный успех, Страхов мужественно вставал на защиту памяти близких
ему по духу мыслителей, отстаивал «вечные истины», подвергавшиеся
осмеянию сторонниками идеи прогресса и глашатаями нигилистической оппозиции.
* * *
Философ, литературный критик и публицист Николай Николаевич Страхов
родился 16 октября 1828 г. в Белгороде — тогда небольшом уездном городке
Курской губернии. Он происходил из среды духовенства. Его отец, протоиерей
Николай Петрович Страхов, преподавал богословие и словесность в
расположенной в Белгороде Курской духовной семинарии и служил в Смоленском
соборе Белгорода. Отец научил Николая читать и писать, прививал интерес
к литературе. Мать, Мария Ивановна Страхова (урожд. Савченко),
происходила из малороссийского дворянского рода, из священнической семьи — ее отец
был ректором семинарии и настоятелем собора. У Марии Ивановны был брат,
тоже Николай, и ему было суждено сыграть важную роль в судьбе Страхова до
его выхода на самостоятельный жизненный путь. В 1831 г. Н. И. Савченко, уже
будучи священником, овдовел и, приняв монашество с именем Нафанаил, стал
быстро расти по службе.
Отец будущего критика и философа умер от туберкулеза 30 сентября
1834 г.10 Но в минуту раздражения дядя почему-то упрекал племянника, что
и отец его «умер от гордости»11. Вскоре после кончины кормильца—отца
семейства мать перевезла четырех детей (трех сыновей и дочь) в Каменец-Подольский
(ныне Хмельницкая область, Украина) к своему брату, монашествующему
священнику Нафанаилу (Савченко), который, таким образом, заменил племянникам
отца. Он был в это время ректором местной духовной семинарии, а затем, после
возведения в сан архимандрита, стал настоятелем Каменец-Подольского
Троицкого монастыря. В 1839 г., когда Н. Н. Страхов учился в духовном училище,
дядя был переведен на должность ректора в Костромскую семинарию.
В 1841 г., в возрасте 12 лет, после окончания духовного училища
Страхов был отдан в Костромскую духовную семинарию, возглавляемую дядей.
Первоначально Николай учился на отделении риторики, а затем философии.
10 Крупенков А. Страховы из Белгорода // Белгородские известия. 2005. 10 сент. С. 4.
11 Н.Н. Страхов. Альбом-биография. С. 111.
12
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
Семинария стала важным этапом его творческой биографии. Она наложила
заметный отпечаток на весь склад личности Страхова, как и на многих
других известных литераторов, прошедших семинарский курс. У нас недостает
сведений, чтобы определенно сказать, почему Страхов не стал священником.
Он покинул семинарию и вообще духовную стезю после четвертого курса, как
и его брат Петр, «по болезненному состоянию»12. Однако можно предположить,
что в его случае верх взяла тяга к учености. Письма Страхова из Петербурга
к бывшему преподавателю Костромской семинарии о. Иоанну Скивскому
наглядно показывают, что он больше увлекался мирскими науками, чем
богословием, но при этом весьма тяготился и недостатком вольности, который
хлебнувшие семинарской дисциплины юноши обычно старались наверстать
как можно быстрее.
Любопытно, что именно в литературной критике середины XIX в. бывшие
семинаристы занимали видное, если не сказать ведущее, положение. В
отечественной культуре сложился определенный образ литератора из семинаристов
как поднаторевшего в риторике спорщика и отъявленного нигилиста.
Семинарское воспитание и в дальнейшем выделяло воспитанников духовных школ
среди остальных людей. Достоевский, будучи недовольным за что-то
Страховым, однажды обозвал его «скверным семинаристом»13, имея в виду какие-то
определенные групповые или даже сословные недостатки. Леонтьев в
присутствии писателя Стахеева заявлял Страхову с апломбом, что ему не дано понять
некоторых дворянских привычек, потому что он не аристократ, а семинарист14.
Однако семинаристы бывали разные. Если целая группа известных выпускников
семинарий (Чернышевский, Добролюбов, Зайцев, Благосветлов и иже с ними),
разочаровавшись в религии, проповедовала атеизм, материализм и даже
новомодные, откровенно крамольные социалистические идеи, то Страхов выступил
как раз самым непримиримым оппонентом этих идеологов революционного
нигилизма. Розанов полагает, что «фундамент» Страхова составило как раз его
духовное образование и что «те „первые уроки в семинарии", бедненькие и
слабенькие (...) — серьезнее, солиднее, возвышеннее, благороднее, чем шумящий
„в веке сем" Дарвин и Спенсер, да и его любимый Гегель. Здесь и лежит грань
мудрости, отделяющая его от „свинопасов" „Современника", тоже вышедших
из семинарии, но которые неблагоразумно сейчас же побежали за Поль-де-
Коком и Спенсером, как воистину „блудные сыны" Отчего Дома...»15. Не став
священником, Страхов, однако, никогда не оказывался на стороне противников
христианства и Церкви.
12 РезепинП. П. Некто Страхов // Энтелехия (Кострома). 2003. № 7. С. 122.
13 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 2. С. 16-17.
14 См.: СтахеевД. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний) // Ист. вестник. 1907.
Янв. С. 92.
15 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 118.
13
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Костромская духовная семинария размещалась в Богоявленском монастыре
в центре города. Высокая, стройная четырехъярусная колокольня Богоявленского
собора была украшением города (соборный ансамбль был взорван в 1934 г.).
Спустя тридцать лет после поступления в семинарию в прекрасной статье
«Вздох на гробе Карамзина» (1870) Страхов вспоминал о годах учебы в
поэтических выражениях: «О моя семинария! Когда-нибудь я напишу о тебе „особую
поэму", разумеется, в прозе, но — никогда я не помяну тебя лихом. Ты
запечатлелась в моем воображении картиною светлою, идиллическою. Простите (...)
если я невольно отдаюсь этим сладким воспоминаниям. Семинария наша
помещалась в огромном, но заглохшем и обвалившемся монастыре, в котором не
насчитывалось уже и десятка монахов. Монастырь был старинный, XV века;
в защиту от татар и других диких племен он окружен был крепостною стеною, на
которую можно было всходить; в верхней части ее были амбразуры, для пушек
и пищалей, по углам башни, под башнями подземные ходы... Мы жили, так
сказать, постоянно и со всех сторон окруженные историею. В эту обширную
и пустынную развалину каждое утро сходилось множество мальчиков и
юношей (...) живо помню вас, мои бедные товарищи»16.
Страхов вырос в семинарии патриотом России. Кострома, не забывающая
о легендарном Сусанине и своей роли в восстановлении русской монархии,
способствовала развитию патриотических чувств: «В нашем глухом монастыре
мы росли, можно сказать, как дети России. Не было сомнения, не было самой
возможности сомнения в том, что она нас породила и питает, что мы
готовимся ей служить и должны оказывать ей повиновение, и всякий страх, и всякую
любовь (...). Настоящий, глубокий источник патриотизма есть преданность,
уважение, любовь — нормальные чувства человека, растущего в естественном
единении со своим народом. Хорошо или дурно, много или мало, но именно
эти чувства воспитывала в нас наша бедная семинария»17. Очевидно, что
оппозиционные настроения не были так распространены в Костромской духовной
семинарии, как, например, в Саратовской, где почти в те же годы учился один
из будущих предводителей нигилистического движения — тоже сын
протоиерея Н. Г. Чернышевский. Чернышевский, кстати, поступил в 1845 г. в тот же
университет, в котором начинал и Страхов, а Н. А. Добролюбов с 1853 г.
учился в Главном педагогическом институте, но Чернышевский с Добролюбовым
проповедовали совсем иные взгляды.
В «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» Страхов снова возвращается
к патриотической атмосфере, в которой он вырос: «С детства я был воспитан
в чувствах безграничного патриотизма; я рос вдали от столиц, и Россия всегда
являлась мне страною, исполненною великих сил, окруженною несравненною
^^^Заря. 1870. Кн. 10. Отд. 11. С. 208-209.
17 Страхов Н. Н. Воспоминания о ходе философской литературы // Ист. вестник. 1897.
Май. С. 430.
14
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
славою, первою страною в мире, так что я в точном смысле слова благодарил
Бога за то, что родился русским. Поэтому я долго потом не мог даже вполне
понимать явлений и мыслей, противоречащих этим чувствам; когда же я наконец
стал убеждаться в презрении к нам Европы, в том, что она видит в нас народ
полуварварский и что нам не только трудно, а просто невозможно заставить ее
думать иначе, то это открытие было мне невыразимо больно, и боль эта
отзывается до сегодня...»18 Нет сомнения, что именно в семинарии были заложены
основы миросозерцания Страхова, которые легли в основание его будущего
«почвенничества».
Интерес к книгам и науке, отличавший Страхова, также был воспитан
в Страхове с семинарии: «Мне странно вспоминать однако, что несмотря на
наше бездействие, несмотря на повальную лень, которой предавались и
ученики и учащие, какой-то живой умственный дух не покидал нашей семинарии
и сообщился мне. Уважение к уму и науке было величайшее; самолюбия на этом
поприще разгорались и соперничали беспрестанно; мы принимались умствовать
и спорить при всяком удобном поводе; писались иногда стихи, рассуждения,
передавались рассказы об удивительных подвигах ума, совершавшихся
архиереями, в академиях и т.д. Словом, у нас господствовала очень живая любовь
к учености и глубокомыслие, но, увы, любовь почти совершенно платоническая,
только издали восхищающаяся своим предметом»19.
В 1842 г. архимандрит Нафанаил был переведен в Петербург, а летом
1844 г., после окончания Н. Н. Страховым философского отделения Костромской
духовной семинарии, дядя вызвал двух племянников, не пожелавших
продолжить обучение на завершающем, богословском отделении семинарии, в столицу.
Первый год университета Николай Страхов, как он писал позже Л. Н. Толстому,
«жил в среде духовных и монахов»20. Он поселился у дяди в Александро-Невской
лавре и собрался поступать в университет. То, что Страхов отказался продолжить
духовную карьеру и пойти по стопам своего отца, дяде, который в 1845 г. был
хиротонисан во епископа, очень не нравилось. Денег непослушному и
вольнолюбивому племяннику он не давал и держал его в строгости, но всё же позволил
Страхову поступить вольнослушателем в университет, на факультет камеральных
(юридических) наук. Правда, неблизкий путь от Александро-Невской лавры
до университета и обратно тому каждый день приходилось проделывать
пешком. Университетские занятия очень увлекали юного студента, мечтавшего об
изучении самых разных наук. В 1845 г. Николай поступил на математический
факультет университета, где большое внимание уделялось естественным
наукам. Хотя он и увидел всю пугающую необозримость науки, но с юношеским
18 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 447-448.
19 Страхов Н. Н. Воспоминания о ходе философской литературы // Ист. вестник. 1897.
Май. С. 428.
20 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 351.
15
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
пылом заявлял: «А я хочу все знать»21. Однако сразу же начали сказываться
и городские соблазны: опьяненный столичной жизнью юноша вел себя слишком
вольно. Отношения с «первым благодетелем», дядей-архиереем (возведенным
позже, в 1874 г., в сан архиепископа)22, не сложились, и дядя перестал
оказывать племяннику финансовую помощь. Вынужденный зарабатывать на жизнь,
Страхов забросил учебу, и из университета ему пришлось уйти. В январе 1848 г.
он перевелся на физико-математическое отделение в Главный педагогический
институт, который был расположен в том же здании, что и университет. Многие
университетские преподаватели работали и в Главном педагогическом
институте. Но существенное отличие было в казенном обеспечении, предоставляемом
в институте. Поступив «на казну», Страхов обрекал себя по окончании учебы
на восьмилетнюю «элементарно-педагогическую службу», хотя явно был
предрасположен к занятиям науками и литературой.
Кроме приведенных выше заметок, о юности Страхова долгое время было
известно не слишком много. Завеса таинственности над метаморфозами
ранней молодости будущего мыслителя приоткрылась благодаря опубликованной
в 2004 г. переписке юного студента из Петербурга с о. Иоанном Скивским —
ссыльным униатским священником, преподававшим в Костромской духовной
семинарии французский язык, а позже, видимо, готовившим к экзаменам
отдельных студентов23. Отец Иоанн, который занимался с Николаем, помимо
французского, латынью и математикой, играл важную роль и в его нравственном
воспитании. Живая и яркая переписка наставника и бывшего ученика
является своеобразной эпистолярной хроникой, близкой к литературному жанру
Lehrjahre, — описанию духовного становления юноши в студенческие годы. Из
этих прекрасных писем возникает запоминающийся образ молодого человека,
полного жажды знаний, творческих сил и энергии, страстно желающего свободы
поведения и успеха в жизни. Однако этот образ как-то не очень вяжется с тем
образом типичного холостяка, «равнодушного к утехам жизни», сдержанного,
уединенного мыслителя, книжного затворника, почти «светского монаха», каким
предстает перед нами Страхов в зрелые годы, — каким он выведен, например,
его соседом по квартире писателем Д. И. Стахеевым в повести с характерным
названием «Пустынножитель».
Нет сомнения, что Страхов пережил в молодости период соблазнов
и легкомысленных увлечений. Такой вывод можно сделать как из его
переписки с о. Иоанном Скивским, продолжавшейся с 1844 по 1849 г. и фрагментов
21 Н.Н. Страхов. Альбом-биография. С. 39.
22 См.: Страдомский Андрей, прот. Высокопреосвященный Нафанаил, архиепископ
Черниговский и Нежинский: (Некролог) // Черниговские епархиальные ведомости. 1875. № 7.
[Отд. отт.].
23 «Вместо дневника — письма к вам»: (Из переписки Н. Н. Страхова с о. Иоанном
Скивским) / публ. М. И. Щербаковой // Москва. 2004. № 10. С. 186-206. Полный текст переписки
см. в изд.: Н. Н. Страхов. Альбом-биография. С. 58-117.
16
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
юношеского «Дневника»24, так и из автобиографической повести «По утрам»,
написанной в 1850 г. Эта повесть Страхова может даже шокировать читателя,
представлявшего его себе сухим педантом с замашками кабинетного затворника-
книгочея. Перед нами откровенный рассказ о любовных похождениях юного
героя и его особенном увлечении наряду с книгами и сочинением стихов
такими чувственными удовольствиями, как вино, кофе и сигары25. Чтение книг
гедонистически настроенный юноша также относит к приятным способам
времяпрепровождения. Будущий холостяк-«пустынножитель» был в те годы,
как и автобиографический герой повести «По утрам», весел, беззаботен и
жаждал новых и новых впечатлений. Опека тяготила студента, и бунт против
нее, а также его вольное поведение и непослушание привели к осложнениям
в отношениях с дядей-архиереем.
В повести «Пустынножитель», в основу которой легли эпизоды жизни
и черты характера позднего Страхова, Д. И. Стахеев воспроизводит среди прочего
рассказ-воспоминание своего героя о романе при окончании университетского
курса. Герой повести состоял в близких отношениях с имевшей на него виды
«черноокой девой», от которой он спасся, переехав после романтической ночи
к приятелю...
Друг Страхова по Главному педагогическому институту И. А. Вышне-
градский, впоследствии ставший министром финансов, в первом же из писем
студенческой поры, расспрашивая Страхова о том, как идут его дела, среди
прочего интересуется его успехами у какой-то дамы, бывшей предметом их
общего увлечения, причем при расспросах о «cette demoiselle» переходит на
французский язык26.
Косвенное подтверждение тому, что некоторое время в молодые годы
Страхов на самом деле позволял себе разного рода вольности, находим,
например, в «Дневнике» В. Ф. Лазурского, воспитателя детей Л. Н. Толстого, который
записал любопытное признание писателя в домашнем разговоре о Страхове
после его кончины: «Страхов сознался недавно Льву Николаевичу, что в
молодости злоупотреблял спиртными напитками»27.
На основании сочинений зрелого Страхова и особенно его переписки
с Толстым, где он предается временами самоуничижительным откровениям
и жалуется на приступы тоски и раскаяния, очень трудно представить себе
того веселого, легкомысленного и даже «беспутного» молодого человека,
каким он был в университетские годы и на протяжении последующего
десятилетия.
24 Щербакова М. И. Страницы юношеского дневника Н. Н. Страхова // Страницы истории
русской литературы: К семидесятилетию профессора В. И. Коровина. М., 2002. С. 299-307.
25 Страхов. По утрам. С. 359-430.
26 ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 22. Л. 1.
27 ЛазурскийВ. Ф. Дневник // ЛИ. М., 1940. Кн. 37-38: Л. Н. Толстой. С. 489.
17
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Как бы то ни было, несомненно, что склонность к наукам, интерес к
знанию, к миру идей были преобладающими чертами Страхова с юных лет до
самого конца жизни. Страхов в университете познакомился с
материалистическим направлением мысли и понял, что именно оно является самым злым
врагом традиционного уклада жизни. Как он утверждал позже, одним из
факторов, предопределивших выбор им для специализации естественных наук,
было желание изучить естественно-научные основания нигилизма, охватившего
в то время студентов, чтобы успешнее с ним бороться: «В знаменитом
университетском коридоре мне доводилось слышать то рассуждение о том, что вера
в Бога есть непростительная умственная слабость, то похвалы системе Фурье
и уверения в ее непременном осуществлении. А мелкая критика религиозных
понятий и существующего порядка были ежедневным явлением.
Профессора редко позволяли себе вольнодумные намеки и делали их чрезвычайно
сдержанно, но товарищи тотчас же объясняли мне смысл намеков. Один из
университетских моих приятелей был очень хорошим моим руководителем
в этой области. Он объяснял мне направления журналов, растолковывал,
какой смысл придается стихотворению „Вперед, без страха и сомненья",
рассказывал суждения и речи более зрелых людей, от которых сам научился
этому вольнодумству»28.
Страхов так обосновывал свою позицию: «Отрицание и сомнение, в
сферу которых я попал, сами по себе не могли иметь большой силы. Но я тотчас
увидел, что за ними стоит положительный и очень твердый авторитет, на
который они опираются, именно — авторитет естественных наук. Ссылки на
эти науки делались беспрерывно; материализм и всяческий нигилизм
выдавались за прямые выводы естествознания, и вообще твердо исповедовалось
убеждение, что только натуралисты находятся на верном пути познания и
могут правильно судить о самых важных вопросах. Итак, если я хотел „стать
с веком наравне" и иметь самостоятельное суждение в разногласиях, которые
меня занимали, мне нужно было познакомиться с естественными науками.
Так я и решил сделать, ни за что не отступал от своего решения и
понемногу привел его в исполнение, хотя математический факультет — ближайший
к естественному, мне очень жаль было такого отклонения от прямой линии.
Но дело потом поправилось»29.
Следует заметить также, что даже ранние письма Страхова к о. Иоанну
Скивскому, педагогу из Костромской семинарии, свидетельствуют о
литературном таланте юноши. Уже в студенческие годы он пописывал стихи, а в 1850 г.
отправил в «Современник» свою автобиографическую повесть «По утрам»,
которая, однако, была редактором Н. А. Некрасовым отвергнута, хотя он и
признал ее художественные достоинства.
28 Цит. по: Никольский Б. В. Страхов. СП.
29 Там же. С. 234.
18
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
В 1851 г. Страхов окончил Главный педагогический институт. Он был
награжден, как и его друг Вышнеградский, серебряной медалью. После
окончания института Страхов был обязан отработать восемь лет учителем «по
распределению» — чтобы рассчитаться за обучение. Молодой человек не слишком
по этому поводу переживал: «Я назначен в Одессу (...) Климат отличнейший.
Море Черное. Итальянская опера круглый год. Вообще я рад чрезвычайно (...)
Остаться в Петербурге нельзя было, да я и не хотел»30. Однако через несколько
месяцев преподавания в Одесской гимназии, в 1852 г., Страхов заскучал и стал
проситься в Петербург, чтобы иметь больше возможностей заниматься наукой.
Сохранились черновики этих его прошений: «Посвятив себя
преимущественному занятию естественными науками и крайне нуждаясь в Одессе в ученых
средствах и пособиях не только для получения степени магистра по одной из
этих наук, но и вообще для занятий ими, опасаясь также за свои силы, коим не
благоприятствует здесь, я осмеливаюсь всепокорнейше просить о переводе меня
на одно из мест по естественной истории в Петербурге. Осмеливаюсь утруждать
единственно ободренный моими бывшими наставниками, академиком Брандтом,
профессором Шиховским, Куторгою и Воскресенским; их снисходительные
отзывы, в особенности академика Брандта, об моих успехах (...) могут, хотя
отчасти, оправдать мое желание»31.
Перевестись в Петербург ему удалось довольно быстро — через год, так
как в том же 1852 г. было принято решение расширить в гимназиях
преподавание естественных наук, и специализировавшийся в зоологии выпускник
Главного педагогического университета пришелся в столице как нельзя более
кстати. До лета 1861 г. Страхов преподавал естественные науки во 2-й Санкт-
Петербургской гимназии, хотя, став учителем, очень скоро понял, что это не его
призвание: ему трудно было поддерживать дисциплину среди подростков на
уроках. Отчаявшись, он уже через полгода жаловался в Министерство народного
просвещения: «Вы поставили меня учителем второй гимназии. С дерзостью
отчаяния я хочу сказать Вам, что я совершенно не годен для этого места, как
и для всякого учительского, и что теперь все мои желания — перестать быть
учителем, на каких бы то ни было условиях. (...) у меня нет недостатка ни
в познаниях, ни в усердии. На служение престолу и отечеству никакие труды
мне не кажутся тяжкими, никакие жертвы великими. Но горький опыт убедил
меня, что для принесения и ничтожной пользы одного усердия мало. Я вижу,
что я порчу моих учеников; из почтительных, благовоспитанных мальчиков
(каковы они действительно!) они становятся в моем присутствии
непослушными, дерзкими. Мои упреки и наказания только разрушают их. Целые уроки
30 Щербакова М. И. Повесть Н. Н. Страхова «По утрам» // Страхов. По утрам. С. 361.
31 ИРНБУ. Ф. III. Ед. хр. 19195. Цит. по: Сорокина Д. Д. Творческое наследие Н. Н. Страхова
1840-1850-х гг.: формирование литературного критика и философа: дис. ... канд. филол. наук:
10.01.00. М., 2017. С. 143.
19
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
»
проходят в тяжкой для меня, неприличной для них борьбе учителя с учениками.
Уже полгода как это продолжается каждый день. Сколько усилий я делал над
собой, сколько безотрадных размышлений, терзающих упреков я перенес, думая
помочь делу! Все было совершенно напрасно. Мои мучения, возобновленные
каждый день, были велики и невыносимы до отчаянья»32.
Тем не менее Страхов отработал в гимназии полный срок, а утешался все
эти годы прежде всего тем, что и во время преподавания в гимназии не
оставлял свои научные и литературно-философские интересы. К концу 1850-х гг. он
сочетал работу в гимназии с регулярными обзорами новинок по естественным
наукам в «Журнале Министерства народного просвещения». Тогда же он
посещал и литературный кружок, членов которого объединяло уважение к науке,
философии и эстетике, в частности к творчеству Пушкина.
* * *
Литературный дебют Страхова состоялся в 1854 г., когда в журнале
«Современник» была опубликована его пародия на стихотворение А. Н. Майкова33.
Через год в газете «Северная пчела» появилась рецензия Страхова на учебник
коллеги по естественной истории34. Однако затем, вплоть до 1859 г., Страхов
печатался исключительно в «Журнале Министерства народного просвещения»,
регулярно помещая подборки информационных заметок в разделе «Новости
естественных наук». Если не считать магистерской диссертации Страхова, тоже
на очень специальную научную тему, опубликованной в том же журнале35, все
написанные им в этот период статьи носили обзорный, научно-популярный
характер. Исключение представляет, пожалуй, лишь большая теоретическая
статья «О методе наук наблюдательных» (ЖМНП, 1858, т. 97, № 1), написанная
в ответ на возражения профессора Л. С. Ценковского, сделанные при защите
диссертации. После появления статьи диссертанта оппонент признал, что был
неправ. Драматург Д. В. Аверкиев, окончивший физико-математический
факультет Санкт-Петербургского университета, описал в журнале «Эпоха» (не называя
имен Страхова и профессора) эту не слишком удачную по вине придирчивого
профессора защиту36.
32 ИР НБУ. Ф. III. Ед. хр. 19192. Цит. по: Сорокина Д. Д. Творческое наследие
Н.Н.Страхова... С. 139.
33 Страхов И. Юмористическое стихотворение «Ночная заметка», пародия на пьесу
А. Н. Майкова «Весенний бред» // Современник. 1854. Т. 45, № 6. Отд. «Литературный ералаш.
IV». С. 60-62.
34 Н. С. [Страхов Н. //.]. Введение к изучению естественной истории. Сост. старший
учитель Ларинской гимназии, магистр ботаники Д. Михайлов. СПб., 1855: [рец.]. // Северная
пчела. 1855. № 175, 12 авг. С. 1.
35 Страхов Н. О костях запястья млекопитающих: Рассуждение, написанное для получения
степени магистра зоологии // ЖМНП. 1857. Ч. 95, Сент. Отд. II. С. 274-332.
36 Аверкиев Дм. Университетские отцы и дети // Эпоха. 1864. № 1/2. С. 325-349.
20
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
В 1858 г. Страхов принимал участие в конкурсе на кафедру зоологии
Московского университета, однако потерпел неудачу. Именно этой неудаче
на ученом поприще мы косвенно обязаны появлением литературного критика
и философа Страхова. Правда, Л. Ф. Пантелеев, который встречал Николая
Николаевича на вечерах у издателя Н. Л. Тиблена (Страхов переводил для Тиб-
лена историю философии Куно Фишера), сообщал, что в ученом мире тогда
сожалели, что зоолог покинул свою основную профессию: «Когда я впервые
стал встречать Н. Н., то многие с сожалением говорили, что он совсем
напрасно забросил свою настоящую дорогу — естественные науки (...) так как его
диссертация „О костях запястья" давала основание надеяться, что из него мог
выработаться незаурядный ученый»37. Если достоинства его изобилующей
специальной терминологией и сжато написанной диссертации могли оценить
только специалисты, то упомянутая статья «О методе наук наблюдательных»
наглядно показывает нам, почему коллеги Страхова сожалели о потере ученого.
Он предстает в этой статье вполне зрелым исследователем, владеющим
богатым арсеналом знаний, понятий и методических приемов, необходимых для
успешной работы в области зоологии.
Однако надо отметить, что покинул Страхов естественно-научную стезю
не совсем по собственной воле. В конкурсе на кафедру зоологии Московского
университета после смерти профессора К. Ф. Рулье его обошел более ловкий
соперник, только недавно ставший кандидатом зоологии. Стахеев живо описал
эту ситуацию в своей повести «Пустынножитель», в основу которой легли
события жизни Страхова: «Кончил он университетский курс, сдал диссертацию
на магистра и думал, что пойдет по дороге жизни, как паровоз по рельсам.
Оказалось, что владеть пятью иностранными языками и быть магистром
философии (так у Стахеева. — В. Ф.) еще недостаточно для того, чтобы открыть
себе путь к кафедре. Тут двери открываются иногда совсем не тем ключом,
которым он владел. Некий „тетушкин племянник", вытянутый к получению
ученой степени за уши сильными руками, прежде его добрался до кафедры.
У него ключ оказался надежнее. Он во все канцелярии имел дорогу, со всеми
нужными людьми был в близких отношениях...»38 Впоследствии этот молодой
профессор проявил себя видным апологетом дарвинизма, и сходство его
материалистических взглядов с воззрениями проводивших конкурс ученых могло
быть еще одной причиной, по которой этого кандидата предпочли тяготевшему
к философскому идеализму Страхову.
А Страхов, давно увлекавшийся литературой и философией, решил,
помимо преподавания в гимназии, попробовать свои силы в самостоятельной
журналистике. Свою дебютную, по сути дела, статью, которая в той же мере
относилась к науке, как и к философии, Страхов опубликовал под названием
37 Пантелеев Л. Ф. Воспоминания. М, 1958. С. 255.
38 Стахеев Д. И. Пустынножитель // Рус. вестник. 1890. Март. С. 123-124.
21
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
«Физиологические письма» в 1859 г. в газете «Русский мир»39. В статье настолько
проявились его широкая эрудиция и самостоятельные взгляды консервативно-
идеалистической направленности, что она привлекла внимание литературного
критика Аполлона Григорьева. В 1860 г. Страхов опубликовал несколько
философских статей в журнале «Светоч», и на него обратил благосклонное внимание
еще один известный в литературном мире человек — консервативный публицист
и редактор журнала «Русский вестник» М. Н. Катков.
Катков попросил Страхова написать для его журнала статью против
материализма, и в мае 1860 г. в «Русском вестнике» появилась яркая работа
32-летнего автора «Об атомистической теории вещества», в которой Страхов
доказывал научную несостоятельность материалистической теории атомизма.
В кружке редактора журнала «Светоч» А. П. Милюкова, которого он знал
по 2-й гимназии, Страхов знакомится с братьями Достоевскими и другими
литераторами. Присоединился к этому кружку и Ап. Григорьев. Обладая
отменным чутьем и к тому же зная толк в философии, Григорьев сразу поверил
в пригодность молодого естественника с задатками мыслителя для борьбы
против засилья философского материализма.
Страхов писал о своих взглядах в тот период, когда началось его
знакомство с Достоевским: «В то время я занимался зоологиею и философиею
и потому, разумеется, прилежно сидел за немцами и в них видел вождей
просвещения»40. Для членов литературного кружка, к которому принадлежал Страхов
тогда, «верхом образования было понимать Гегеля и знать Гете наизусть»^.
Достоевский же, как отмечает Страхов, воспитывался под влиянием прежде
всего французской литературы.
В 1860 г. Достоевские приняли решение издавать собственный журнал
под названием «Время». Григорьев уже тогда видел в Страхове идейно
близкого ему человека и продвигал молодого критика-мыслителя. Правда, в журнал
Достоевских первым был принят Страхов, а Григорьев попал туда чуть позже,
как ни удивительно, не без содействия своего молодого друга42. Страхов быстро
превратился в одного из основных сотрудников журнала, начавшего выходить
в 1861 г. Писал он не столько статьи на научные и философские темы, сколько
литературно-публицистические очерки, играя наряду с Ф. М. Достоевским
и Ап. А. Григорьевым особенно важную роль в полемике, которую вел журнал.
На первый взгляд кажется удивительным то, что недавний ученый-
естественник включился в журнальную деятельность так, словно был давним
участником литературного процесса. Страхов вступил на творческий путь
19 Страхов Н. Физиологические письма // Рус. мир. 1859. № 2, 9 янв.; № 22, 5 июня;
№ 59, 24 окт.
40 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 378.
41 Там же. С. 379.
42 См.: Там же. С. 399.
22
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
—ф
довольно поздно, в тридцатилетнем возрасте, будучи уже сложившимся
человеком. Но литературой и философией он увлекался с юных лет, уделяя серьезному
чтению и осмыслению прочитанного не меньше времени, чем естественным
наукам. Благодаря своим разнообразным увлечениям и интенсивным занятиям
он к тридцати годам уже обладал широкими и универсальными знаниями.
В начальный период журнала «Время» братья Достоевские пытались еще
занять умеренную, даже компромиссную позицию между славянофильством
и западничеством, взяв лучшее у тех и других, и создать собственное
направление, получившее название «почвенничество». Страхов же был в тот период
гораздо ближе к Григорьеву, который тоже стоял за создание независимого
направления, в котором были бы устранены недостатки славянофильства и
западничества, однако склонности к компромиссам с «Современником» и другими
оппозиционными журналами не проявлял. Правда, работа в журнале сближала
сотрудников, и в тесном и взаимно полезном общении Страхова с Достоевским
происходило интенсивное формирование единой позиции.
Нет сомнения, что Григорьев и Страхов в этот период сильно повлияли
на Ф. М. Достоевского. Но Григорьев по разным причинам в журнале часто
отсутствовал, и основное влияние на писателя, в то время еще не окончательно
изжившего либерализм молодости и мало знавшего славянофильство,
оказывал Страхов, уже тогда обладавший основательной философской подготовкой.
Страхов тепло вспоминал об их общении с Достоевским в эти годы, увлекавшем
обоих: «Наша тогдашняя дружба хоть имела преимущественно умственный
характер, но была очень тесна. (...) Разговоры наши были бесконечны, и это
были лучшие разговоры, какие мне достались в жизни»43.
Достоевский, как и Григорьев, поддерживал первые пробы пера Страхова
в журнале. Хотя Страхов до недавнего времени занимался преимущественно
естественными науками, в журнале «Время» от него вскоре стали требовать
критических фельетонов, особенно когда исчезал Григорьев. И, как оказалось,
они у него получались живыми, остроумными и привлекали внимание читателей.
Страхов печатал во «Времени» самые острые статьи против материализма,
против нигилистического отрицания философии и литературы, против крайнего
утилитаризма в науке, отстаивая здравый смысл и идеализм «вечных истин».
С самых первых критических выступлений Страхова во «Времени»
(преимущественно под псевдонимом Косица, восходящим к пушкинскому псевдониму
Феофилакт Косичкин), которые были направлены против «Современника»,
«Русского слова» и других оппозиционных изданий, он в спокойной и
полушутливой манере показывал очевидные недостатки выступлений в печати идейных
противников «Времени». Этими смелыми выступлениями он вызвал на себя
целый шквал критики в оппозиционной печати, стремившейся, в соответствии
43 Там же. С. 423.
23
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—ф
с литературными нравами того времени, подавить всякое «консервативное»
инакомыслие. Страхов отчасти по молодости, отчасти из литературного задора
принял на себя главный удар радикальных сил. С ним, не особенно церемонясь
в выражениях, спорили маститые критики «Современника», задорные «новые
люди» «Русского слова», революционные нигилисты «Дела». Произведения
Косицы-Страхова подвергались беспощадному осмеянию в сатирических
радикальных журналах «Искра» и «Свисток».
Теперь, в ретроспективе, можно сделать вывод, что Страхов проявил
очевидную неосмотрительность, открыто выступив против столь явно
превосходящих сил противника, чем обрек себя на незавидную судьбу литературного
изгоя, но поступиться своими убеждениями и плыть по течению он не пожелал.
Страхов упорно отстаивал право на само существование настоящей, серьезной
русской литературы, философии и публицистики и за это получил пожизненное
клеймо охранителя и ретрограда, вовсе не соответствовавшее действительности.
Критик Ю. Н. Говоруха-Отрок, цитируя Страхова, писал, что потоку
умственной жизни современности не поддаются только большие, самостоятельные
таланты, твердо идущие своей дорогой44. И к таким достойным уважения
независимым писателям, оставшимся, несмотря на сильнейшее давление времени,
самими собой, смело можно отнести и разнообразна одаренного Н. Н. Страхова.
Высмеивание Страхова началось уже с первого его сочинения,
опубликованного в журнале «Время», — большой статьи «Жители планет» (1861),
в которой Страхов высказал смелую гипотезу об отсутствии жизни на других
планетах и о том, что предполагаемые инопланетяне не могут превосходить
человека по своему уровню развития. При этом обличители Страхова,
выступавшие против него с язвительными или насмешливыми статьями, даже не
ставили своей целью вникнуть в содержание оригинальной статьи и раскрыть
его читателям. Более того, оппозиционные журналисты, забыв о былых
традициях благородной критики сороковых годов, не брезговали никакими приемами
в борьбе с идейными противниками. Задача их статей и фельетонов состояла
прежде всего в вышучивании. Насмешки перерастали в глумление, и
поскольку тяготеющие к оппозиции критики имели важнейшее преимущество в виде
сочувствия большинства читающей публики, то участь вступивших с ними
в полемику писателей была незавидной.
Направление, к которому принадлежал Страхов, не имело в то время
надежд на успех в общественном мнении. Идейный вдохновитель
«почвенничества» и близкий Страхову по духу Аполлон Григорьев предавался печали, что
их идеи не пользовались поддержкой в обществе, и называл себя «ненужным
человеком».
44 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. //.]. Поэзия Полонского // Моск. вед. 1896. № 52,
22 февр. С. 3^.
24
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
—■$■
Как бы то ни было, даже в этой неблагоприятной обстановке Достоевские
всё же сумели вести журнал достаточно уверенно, обеспечивая весьма
высокий уровень подписки. Сам Достоевский в то время еще придерживался более
умеренных позиций. Он выступал преимущественно с критикой «Русского
вестника» Каткова и славянофильского «Дня», избегая прямых столкновений
с «Современником». Что же касается Страхова, то борьба с нигилистическим
направлением в журналистике стала его главной деятельностью в журнале
«Время». Он заявлял потом, что неприязнь к нигилизму с юных лет носила у него
какой-то органический характер. Именно статьи Страхова привели к вражде
со «Временем» сначала «Современника», а потом и почти всей петербургской
журналистики.
Тем не менее дела у «Времени» шли хорошо, и полемика, в которой
участвовали Достоевский и Страхов, привлекала внимание читателей. Подписка
на 1863 г. была достаточно успешной. Однако беда пришла с неожиданной
стороны. В мае 1863 г. журнал, который вовсе не отличался оппозиционными
настроениями, был вдруг закрыт правительством за посвященную польским
делам статью Страхова «Роковой вопрос» (вышедшую за подписью «Русский»).
По недоразумению статья вызвала нелепые подозрения, будто ее анонимный
автор сочувствует полякам. Причем удар по журналу был нанесен в
консервативной газете «Московские ведомости», издаваемой М. Н. Катковым, который еще
недавно благоволил к Страхову и охотно предоставлял для его статей страницы
своего журнала «Русский вестник».
* * *
Остановимся подробнее на этом эпизоде из биографии Страхова, который
сыграл весьма печальную роль в его литературной судьбе, тем более что вся
эта история получила непосредственное отражение на страницах второй книги
«Борьбы с Западом» Страхова (1890).
Польское восстание вызвало в России всплеск патриотических чувств,
и газета Каткова «Московские ведомости» возглавила кампанию по борьбе
с мятежным духом поляков и разоблачению сочувствующих им отечественных
нигилистических органов печати. Журнал «Время» решил также принять
участие в обсуждении польской темы. Статья «Роковой вопрос» появилась
в апрельском номере журнала, вышедшем в свет в мае 1863 г.45 Это была
только первая статья «Времени» по польскому вопросу, за которой должно
было последовать продолжение, и позиция редакции не была в ней еще
отчетливо высказана. Правда, статья нравилась не только самому автору, но
и Достоевскому. Страхов захотел, не останавливаясь на одних политических
45 Время. 1863. №4. Отд. II. С. 152-163.
25
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
причинах польского кризиса, придать ему более объективное и глубокое
культурно-философское обоснование, попытавшись встать на точку зрения
поляков и указав при этом на способствовавшие отчуждению собственные
недостатки русских. Тем самым он стремился еще больше оттенить глубинные
противоречия польской цивилизации. Мысль Страхова шла даже дальше
обычного казенного патриотизма: он подвергал сомнению сами основы западной
цивилизации, на которых зиждилась польская католическая культура, хотя
здраво настаивал при этом, что наше преимущество перед Западом обещает
раскрыться лишь в будущем, при большем развитии подлинно самобытных
русских начал. Однако позиция Страхова, выраженная лишь намеками не
в последнюю очередь из-за опасения цензурных стеснений, была превратно
понята многими читателями. К тому же анонимная подпись «Русский» под
статьей, которую нашли недостаточно патриотичной, показалась многим
вызывающей. Статья «Роковой вопрос» вызвала широкое недовольство в
патриотических кругах.
22 мая против «антипатриотической» статьи Страхова с
обличительной заметкой в катковской газете «Московские ведомости»46 выступил некий
К. Петерсон, но инициатива обвинения журнала в пособничестве польским
бунтарям исходила, естественно, от издателя газеты Каткова. Запрет журнала
«Время» последовал уже через четыре дня, 24 мая, по докладу царю министра
внутренних дел П. А. Валуева. Журнал был закрыт «за помещение статьи, под
названием „Роковой вопрос", в высшей степени неприличного и даже
возмутительного содержания по предмету польских дел, идущей прямо наперекор
всем действиям правительства и всем патриотическим чувствам и заявлениям,
вызванным нынешними обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство,
а также за вредное направление этого журнала»47.
Катков в ближайшем номере также принадлежащего ему «Русского
вестника» и сам разделил возмущение Петерсона (майский номер журнала
вышел с запозданием, к концу июня). Как писал чуть позже в «Русской беседе»
Ю. Ф. Самарин, статья «возбудила в нашей публике негодование, доселе
небывалое, и „Русский вестник" поспешил принять это новое заявление отечественного
мнения под свое покровительство»48.
Следует отметить, что страховское название «Роковой вопрос»
«полемически переосмысляет формулу Каткова»49, незадолго до этого писавшего
о русско-польских отношениях: «Между этими двумя соплеменными
народностями история издавна поставила роковой вопрос о жизни и смерти»50.
46 Петерсон К. По поводу статьи: «Роковой вопрос» в журнале «Время» // Моск. вед. 1863.
№Ю9, 22 мая. С. 3.
47 Цит. по: Достоевский. ПСС. Т. 18. С. 211-212.
48 Самарин Ю. Ф. Сочинения. М., 1900. Т. 1. С. 261.
49 Достоевский. ПСС. Т. 20, кн. 2. С. 317.
50 Рус. вестник. 1863. Янв. С. 476-477.
26
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
Осмелившийся стать в этих непростых условиях на защиту Страхова
Самарин, не упоминая по цензурным причинам о польской теме, отметил, говоря
о статье Каткова, что ее автору не нравилось и гегельянство, и славянофильство
Страхова: «Досталось Страхову за Гегеля, но за ним открылся и другой, не
менее тяжелый грех. Оказалось, что он еще вдобавок и славянофил. Послушайте:
„С гегелевской философией у г. Страхова соединяется еще какое-то особого
рода славянофильство"»51.
Внимания исследователей не привлек тот факт, что Страхову удалось-таки
и самому под псевдонимом напечатать в том же году статью, в которой он
с близких к Самарину позиций критиковал уверенного в себе,
приземленного государственника-охранителя Каткова за выступления «против праздных
отвлеченностей и трансцендентальных напряженностей»52. Относительно
недоразумения с «Роковым вопросом» Страхов, естественно, возможности
высказаться тогда не имел. В то же время косвенными намеками он указал
на основную причину этой скандальной истории — крайнюю нетерпимость
и «резкий догматический тон» катковского журнала (имея в виду, конечно, не
только «Русский вестник», но и задействованную в конфликте газету Каткова
«Московские ведомости»): «Никогда „Русский Вестник" не становится и даже
не умеет стать на точку зрения своего противника, и потому в нем никогда не
бывает уважения к тому, с чем он не согласен»53.
На самом деле странно, что Катков и даже И. С. Аксаков не заметили
патриотической направленности «почвенного» «Времени», да и не поняли смысл
самой статьи. Страхов, говоря о периоде своего сотрудничества во «Времени»,
писал в воспоминаниях: «Мы были горячие патриоты и русофилы»54. Наверное,
не лишены оснований и мнения тех историков литературы, которые
усматривают среди причин резких критических нападок Каткова и Аксакова на «Время»
элементы борьбы со своими литературными соперниками и конкурентами.
В какой-то степени Страхова утешало то, что в «Revue des Deux Mondes»
появилась статья с точным переводом его «Рокового вопроса»55. Приезжие из-за
границы говорили Страхову о том, что тамошние русские патриоты указывали
на его статью увлекавшимся польским делом как на «истинно патриотический
взгляд»56.
Все попытки Достоевского и самого Страхова объяснить недоразумение
успеха не имели — цензура ничего не пропускала в печать. Письмо-объяснение
51 Самарин Ю. Ф. Сочинения. Т. 1. С. 268.
52 Нелишко Н. [Страхов Н. H.J Нечто о «Русском вестнике» // Библиотека для чтения.
1863. № 7. С. 96-109. То же: Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 237-257.
53 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 256.
54 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 433.
55 Mazade Charles de. Le systeme russe a propos d'une ecrit sur la Pologne // Revue des Deux
Mondes. 1863. № 46, seconde periode, 1 aout. P. 756-762.
56 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 458.
27
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$>
Достоевского «Ответ редакции „Времени" на нападение „Московских
ведомостей"» было впервые напечатано Страховым в «Воспоминаниях о Ф. М.
Достоевском» (1883)57, а другие материалы, относящиеся к истории с «Роковым
вопросом», стали известны читателям только в 1890 г., когда вошли в
переиздание с существенными дополнениями второй книги «Борьбы с Западом».
Эта история 1863 г. с закрытием журнала имела печальные последствия
не только для братьев Достоевских и Страхова, но и, конечно, для всей
ситуации в русской журналистике. Хорошо написал об этом позже Розанов, упрекая
в чрезмерном рвении Каткова: «Он (Катков. —В. Ф.) вовсе не понял статью
Страхова „Роковой вопрос", а буря, им поднятая из-за непонятой статьи и
поведшая к закрытию единственного культурно-славянофильского журнала „Время",
произвела непоправимый „провал" в журналистике, которого не мог заменить
его деловой и сухой „Русск(ий) вестник"»58. «В одном этом случае Катков
показал, до какой степени он был не философский ум, а только „боевик пера".
Нельзя не заметить (...) до какой степени правительство от отсутствия в нем
какого-нибудь „философского присутствия" постоянно давило все ему самому
полезное, необходимое, все нужное России, и в то же время кормило, поило
и согревало плутоватую ехидну, которая в достаточной мере к 1 -му марта ему
„укусила грудь"»59.
Катков в майском номере «Русского вестника» сообщил о поразившем его
удивлении, когда он узнал, что автором статьи был не какой-нибудь «полонофил»,
а хорошо ему знакомый Страхов: «Меня как громом поразило известие, что
статья Роковой вопрос писана вами, многоуважаемый Николай Николаевич...»
Однако тут же продолжил нападки на журнал, хотя и снимал обвинения в по-
лонофильстве со Страхова как своего «союзника в борьбе с „нигилизмом"»60.
Но какова сама идея заподозрить во враждебности к России «почвеннический»
журнал Достоевского после почти полутора лет его издания! Это мог только
«боевик пера» Катков с его прямолинейностью и медвежьим ухом ко всему
более тонкому, погубивший почвеннический журнал, в то время как по-прежнему
процветали нигилистические издания Некрасова, Благосветлова, Щедрина...
Это был, конечно, акт недоразумения. Но, надо признать, Страхов
действительно «перетончил» в своей аргументации от противного. Главная идея
отрицания западной цивилизации была в его статье едва намечена, в то время
как признание внешних преимуществ поляков перед русскими было показано
весьма выпукло. Сам Страхов считает недостатками статьи «сухость и
отвлеченность»— отсюда непонимание многими ее сути. Розанов, который, прочтя много
57 Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч.: в 14 т. СПб., 1883. Т. 1. С. 249-254. То же:
Достоевский. ПСС. Т. 20. С. 97-101.
58 РозановВ. В. Когда начальство ушло... М, 1997. С. 468.
59 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 60.
60 [Катков М. H.J По поводу статьи «Роковой вопрос» // Рус. вестник. 1863. Май. С. 398-
418.
28
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
лет спустя эту статью, тоже признал ее «полонофильский» характер, отмечал,
что за Страховым вообще водился тот недостаток, что он как-то всё старался
затушевать главное. Не случайно Е. А. Штакеншнейдер, хорошо знавшая
критика, писала, что подобное недоразумение могло случиться только с ним. Она
имела в виду особенность его характера — недомолвки6'. Но важно и то, что
она отнесла это же критическое замечание и к редакции «Времени». Политика
самого журнала — стремление «сидеть на двух стульях» между
славянофильством и западничеством (за что, кстати, упрекал редакцию Ап. Григорьев) —
была слишком неопределенна, и это также способствовало недоразумению.
Через некоторое время недоразумение разъяснилось, и Достоевским
разрешили с 1864 г. издавать новый журнал, «Эпоха», в котором Страхов также
оставался одним из ведущих критиков.
Крайне болезненная история с «Роковым вопросом» послужила
поводом к радикальным переменам в характере Страхова. Чувствуя губительность
прежних привычек, он решительно отказывается от вольностей холостяцкого
поведения и пристрастия к спиртным напиткам. К концу 1860-х гг. Страхов
окончательно избрал полумонашеский холостяцкий образ жизни среди книг.
От былых увлечений у него остались лишь привычка к частому курению да
любовь к кофе и крепкому чаю.
С февраля 1864 г. «почвенники» начали издавать журнал «Эпоха», и
редакция, включая Страхова, возлагала на него большие надежды. Однако и здесь
Страхову сразу не повезло: несколько его вполне патриотических статей не
пропустила цензура, которая была напугана историей с журналом «Время»
и на всякий случай перестраховывалась. По этой причине Страхову пришлось
почти всегда печататься в «Эпохе» под псевдонимом. А в феврале 1865 г.
«Эпоха» из-за неудачной подписки была вынуждена по экономическим причинам
прекратить существование.
Журналы «Время» и «Эпоха» составили целый этап в жизни и творчестве
Страхова.
* * *
С 1865 г. Страхов, потеряв возможность регулярного сотрудничества
в журналах, для заработка был вынужден много заниматься переводами. Хорошо
зная языки и владея пером, он зарекомендовал себя видным мастером перевода
естественно-научной и философской литературы. Среди его известных
переводов — четыре тома «Истории новой философии» Куно Фишера, двухтомник
«История материализма» Ф. А. Ланге, «Об уме и познании» И. Тэна, книга
«Птицы» зоолога А. Брема и многое другое. Но переводческий хлеб сам по себе
61 ШтакеншнейдерЕ. А. Дневники и записи (1854-1886). М.; Л., 1934. С. 440.
29
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ф =
труден и изнурителен, не говоря уже о том, что Страхов чувствовал в себе силы
для более творческой, самостоятельной литературной работы.
Поэтому он и после краха «Эпохи» не прекратил заниматься
журналистикой, по возможности помещая свои статьи в чуждых радикализма
журналах «Библиотека для чтения» и «Отечественные записки». В «Библиотеке для
чтения», владельцем которой был молодой тогда беллетрист П. Д. Боборыкин,
Страхов довольно успешно сотрудничал в 1864-1865 гг. Журнал
придерживался умеренных позиций, установившихся еще при предыдущем редакторе,
и это вполне устраивало Страхова. Статьи Страхова печатались в «Библиотеке
для чтения» и до Боборыкина — он поместил там ряд заметок после закрытия
«Времени» под новым псевдонимом Н. Нелишко, в том числе и с критикой
узурпаторских замашек Каткова, из-за которого закрыли «Время». 2 декабря
1863 г., после закрытия «Времени», Страхов писал брату Петру: «Меня тянут
в „Библиотеку", предлагая сверх платы за статьи ежемесячное жалованье. Но
едва ли это состоится»62. После разорения «Эпохи» в феврале 1865 г. Страхов
нашел в «Библиотеке для чтения» новое прибежище. Имевший знания, вкус
и навыки журнальной работы Страхов оказывал при Боборыкине ощутимое
влияние на издательскую политику «Библиотеки для чтения». Правда,
впоследствии Боборыкин написал в воспоминаниях, что славянофильские тенденции,
которые ощущались во взглядах Страхова, были ему чужды, и он вряд ли отдал
бы журнал в редакторство Страхову. Однако до этого вероятного расхождения
дело не дошло: в 1865 г. неопытный издатель Боборыкин, потерявший за два
года на журнале 50 тысяч рублей, окончательно прогорел, и «Библиотека для
чтения» закрылась. Последний номер вышел в августе 1865 г. Помимо
неопытности издателя, журнал прекратил существование потому, что ему было трудно
конкурировать с набравшими силу оппозиционными журналами «Современник»
и «Русское слово».
Надо отдать должное Страхову за то, что он принадлежал к числу тех
немногих мужественных литераторов, кто продолжал, несмотря ни на что,
сражаться с заведомо превосходящим противником из оппозиционного лагеря.
Страхов перенес свои основные творческие усилия в «Отечественные
записки» А. А. Краевского, где активно сотрудничал в 1866 и 1867 гг. После смерти
(в сентябре 1866 г.) редактора журнала С. С. Дудышкина, литературного критика
умеренного направления, Краевский практически (хотя и не официально)
сделал Страхова редактором «Отечественных записок». Критику удалось собрать
в журнале команду единомышленников почвеннического направления. Однако
в новом, 1868 г., когда всё обещало относительный успех, Краевский нанес
редакции под руководством Страхова смертельный удар: владелец журнала
сдал «Отечественные записки» в аренду его идейным противникам во главе
62 Достоевский в неизданной переписке современников (1837-1881) IIЛН. М., 1973. Т. 86:
Ф. М. Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 392.
30
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
с Некрасовым, которые тогда нуждались в своем печатном органе из-за закрытия
цензурой «Современника» и «Русского слова».
Один из столпов либеральной критики Н. К. Михайловский писал: «Тогда
в литературных кружках много говорили, между прочим, и о
противоестественности союза Некрасова с Краевским, который тянул в старых
„Отечественных записках" совсем неподходящую ноту. Но это меня не смущало. Я знал от
Н. С. Курочкина, что никакого союза тут нет, а есть простая денежная сделка,
в силу которой Краевский отдавал на известный срок и за известную ежегодную
плату свой журнал Некрасову, обязуясь не вмешиваться в литературную сторону
дела. Дела „Отечественных записок" при Краевском шли все хуже и хуже. Ни
борьба г. Страхова с „Западом" и с „нигилистами", ни другие перлы не спасали
журнал от очевидного падения. (...) Прекращение „Современника" и „Русского
слова", благодаря которому сильно очистилось поле конкуренции, не улучшило
дел „Отечественных записок". Пришел Некрасов и предложил Краевскому
выгодные условия. Краевский, человек, собственно говоря, совершенно чуждый
литературе, хотя и наживший на ней каменные палаты, согласился отдать свой
журнал представителям враждебного ему направления (если позволительно
говорить о направлении Краевского)»63.
Новая редакция журнала быстро набрала ход при участии М. Е. Салтыкова-
Щедрина, Н. К. Михайловского и прочих либеральных и радикальных писателей
и критиков. За этим решением Краевского, сломавшим планы кружка во главе
со Страховым, не стояло никакой политики или идеи. Отдавая журнал в аренду
«нигилистам», Краевский руководствовался исключительно соображениями
личной выгоды: оппозиционно-демократические идеи имели большую
популярность в обществе, чем умеренно консервативные и эстетические идеи со
славянофильским оттенком, которые предполагали нести своим читателям
Страхов со товарищи.
Оставшийся без места Страхов пошел на унижение: он обратился с
просительным письмом к когда-то привечавшему его Каткову. Это прошение
о помощи нам известно благодаря тому, что Страхов «от слова до слова»
воспроизвел его в письме к Достоевскому в марте 1868 г.: «Пишу к Вам, вы-
сокопочитаемый Михаил Никифорович, с тем чтобы просить места в Вашем
журнале для своей статьи. Краевский выдернул из-под моих рук
„Отечественные) записки" в то самое время, когда я только что расписался и у меня
образовались большие планы относительно литературной критики и статей
философского содержания. (...) Как бы то ни было, журнал с 4-мя или 5-ю
тысячами подписчиков, могший иметь доброе направление, обратился в
кафедру свистунов и нигилистов...»64
63 Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900.
Т. 1.С.48.
64 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 257.
31
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
=«■
Ответа Каткова Страхов не удостоился. Это письмо в очередной раз
показывает, насколько трудна и незавидна судьба литературного критика, который
пытается идти собственным, независимым путем. Помимо неудачи собственных
планов, удручало Страхова и то, что журнал с большим количеством читателей
попал в руки оппозиции.
Таким образом, Страхов, находившийся в расцвете творческих сил, снова
оказался не у дел: «Что касается до меня, то я остался на мели со своими
планами, с некоторыми сотрудниками и даже с готовыми их статьями»65. Тут Страхову
невольно вспомнилось высказывание его приятеля, драматурга Д. Аверкиева,
что у него «тяжелая рука».
* * *
Хотя письмо к Каткову, как следует из дальнейшей переписки Страхова
с Достоевским, осталось без ответа, Страхов не успел сильно расстроиться,
так как вскоре вновь был призван к литературной деятельности. В июне 1868 г.
к Страхову пришел готовый издавать свой журнал молодой энтузиаст помещик
В. В. Кашпирёв с писателем Н. С. Лесковым. Они предложили критику стать
редактором создаваемого журнала «Заря» близкого ему направления. Кашпирёв
оценил обстановку после «измены» Краевского как благоприятную для издания
нового журнала в духе «Времени» и «Эпохи».
Страхов в очередной раз загорается энтузиазмом, приглашает людей,
взяв за основу тех писателей, которых он собирал прежде для сотрудничества
в «Отечественных записках». Из поэтов — А. Н. Майков, Я. П. Полонский, из
беллетристов — А. Ф. Писемский, Н. С. Лесков, В. П. Клюшников, Ф. Н. Берг,
Л. Н. Толстой, П. Д. Боборыкин, из обозревателей и критиков — П. К. Щебаль-
ский, Л. Н. Антропов, Н. Н. Воскобойников, А. Д. Градовский и другие. Правда,
Лесков (писавший под псевдонимом М. Стебницкий), тоже претендовавший
на редакторство журнала (еще одним соредактором был В. П. Клюшников),
уже на стадии подготовки, в начале января, из «команды» выпадает из-за
загадочных прегрешений, видимо связанных главным образом с
публикацией его собственных сочинений и их оплатой. Так, привлекая к участию
историка и слависта В. И. Ламанского, Страхов пишет ему уже 2 января,
что «Стебницкий, наделавший невероятнейших глупостей и мошенничеств,
притом в изумительном количестве, должен был выйти, и духу его не будет
в журнале»66.
Первый номер «Зари» вышел в январе 1869 г. Основу его составляло
начало капитального труда Н. Я. Данилевского под интригующим названием «Россия
и Европа», который предполагалось печатать с продолжением как «статью».
65 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 257-258.
66 РО ИРЛИ. Ед. хр. 2382. Л. 7.
32
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
'$>
Страхов опубликовал в этом же номере свою первую статью о романе «Война
и мир», к тому времени еще не получившем должной высокой оценки. Страхов
оценивал роман Толстого как выдающееся произведение не только русской, но
и мировой литературы, ставя его на вершину пророчески указанной Ап.
Григорьевым главной линии русской литературы, восходящей к «Капитанской дочке»
и «Повестям Белкина» Пушкина. Судя по этим основополагающим статьям, да
и по другим материалам, славянофильско-почвенническое направление
журнала было заявлено открыто. Приглашая историка и слависта В. И. Ламанского,
Страхов сообщал ему, что направление журнала — «светское
славянофильство»67, подразумевая под этим направлением нечто менее ригористическое,
без «исключительности и крайности» «чистого славянофильства» ранних его
представителей.
А в одном из последующих номеров журнала Страхов прямо заявлял:
«Идея, которой служит „Заря" и которой она просвещает широкую будущность,
есть идея славянофильская»6*. Таким образом, в отличие от журналов
Достоевских, «Заря» даже внешне не противопоставляла себя изданиям славянофилов,
хотя по направлению оно было именно «почвенническим».
Оппозиционная печать атаковала новый журнал с первых номеров.
Критики нападали на труд Данилевского, находя его слишком наукообразным и не
подходящим по размерам для журнала, а также иронизируя на все лады над
известным славянофильским тезисом о «гниении Запада»; упрекали
Страхова за чрезмерное превозношение романа Толстого и за славянофильскую его
интерпретацию. Страхов обижался, что даже его хороший знакомый, бывший
редактор журнала «Светоч» А. П. Милюков регулярно давал о журнале «Заря»
неблагоприятные отзывы в газете «Сын Отечества».
Но сам Страхов был журналом единомышленников доволен — в письме
к тому же Ламанскому он сообщал, что в редакции всё идет отлично. К тому же
у Страхова был прекрасный советчик со стороны: журнал горячо поддерживал
из-за границы Ф. М. Достоевский, который из Флоренции радостно поздравил
с выходом первого номера. Можно с уверенностью сказать, что сотрудничество
в «Заре» — наиболее успешный в творческом отношении период биографии
Страхова. Большое количество самых ярких и содержательных его сочинений,
в том числе и вошедших в книги «Борьбы с Западом», было опубликовано
именно в этом журнале, продержавшемся более трех лет.
Единственное, что огорчало Страхова, — это на редкость плохая
организация деятельности журнала и полная непрактичность издателя. К этим
недостаткам можно, наверное, было бы добавить и медлительность самого
Страхова. Но всё же первый номер журнала позволил успешно начать подписку
и четко обозначить лицо издания.
67 Там же. Л. 10.
68 Страхов Н. Взгляд на нынешнюю литературу // Заря. 1871. Кн. 11. С. 181.
33
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Однако уже в феврале журнал постиг первый крупный казус: в нем было
напечатано стихотворение за подписью «А. Фет», которое оказалось одной из
пародий на стихи поэта, к тому же акростихом: первые буквы анонимного
сочинения «псевдо-Фета» читались как «Зоря Кашпирева умирает».
Надо сказать, что даже плохо относившийся к «Заре» А. П. Милюков
строго осудил эту злую шутку как дурной поступок, намекая на возможную
причастность к этой выходке «С- Петербургских ведомостей»: «Можно даже
прямо сказать, что если бы не „СПб. Ведомости", то эта шутка могла бы пройти
и совершенно не замеченной и не раскрытой — до того она неуловима, а если
„СПб. Вед(омости)" сумели так скоро ее заметить, то это говорит лишь за их
особенную, удивительную проницательность, с чем их и можно поздравить.
Таким образом смеяться тут над редакцией „Зари" может разве только глупый
человек (...) Система оскорбления через письма, система анонимных писем
или с фальшивыми подписями, на наш взгляд, — то же, что дать из-за угла
оплеуху, и, положим, самая удобная для того, чтобы подшутить над ближним,
но в наше время и с самой дурной стороны рекомендующая тех, кто прибегает
к ней. Только негодяи ходят такими путями. И потому если бы каким-нибудь
образом стало известно имя того, кто учинил глупую шутку над „Зарей", оно
должно быть покрыто общим презрением»69. Никто так и не осмелился открыто
признаться в дурном поступке70.
В дальнейшем журнал выходил без подобных неприятных
происшествий, но свое место в литературном мире «Заре» приходилось завоевывать
в острой борьбе. Оппозиционная печать, почувствовав появление нового
достойного соперника, беспрерывно нападала на «Зарю». Не затрагивая
содержание журнала по существу, критика обрушивала на его участников
град насмешек. Высмеивание было излюбленным приемом критиков в этот
период.
Среди оппозиционных критиков особенно выделялся своими ядовитыми
выступлениями против «Зари» некий Z. в «Санкт-Петербургских ведомостях».
Это был будущий знаменитый нововременский «зоил» Виктор Буренин, в то
время типичный «нигилист», только вырабатывавший тогда принципы
пресловутого «цинического реализма». Он, кстати, напечатал в газете ехидный фельетон
вскоре после появления в «Заре» акростиха «псевдо-Фета», вышучивая в нем
редакцию журнала. Раз за разом Буренин публиковал в либеральной газете
Корша глумливые рецензии на произведения, помещенные в «Заре». Он часто
пользовался одним и тем же приемом: критик делал вид, будто автор «Зари»
69 А. X. [Милюков А. П.] Что нового в журналах? // Сын Отечества. 1869. № 50. 28 февр.
С. 2-3.
70 См.: Ипатова С. А. Кто же был автором акростиха «Дикарка», подписанного «А. Фет»?
(Мистификация как пародия) // Жанры в историко-литературном процессе: сб. науч. статей. СПб.,
2015. Вып. 6. С. 26-30.
34
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
■$»
написал пародию, а не серьезный разбор. Чаще всего от него доставалось
именно Страхову. Не отставали и другие оппозиционные критики, в частности
новые сотрудники полевевших «Отечественных записок», которые быстро
набрали силу.
В апреле 1870 г. Н. К. Михайловский упоминает Страхова как
единственного в своем роде защитника практически несуществующей философии
идеализма, который делает попытки «примирения идеалистической философии
с данными современной науки»71. Это казалось критику, как и его читателям,
делом заведомо глупым и достойным осмеяния. Журнал «Отечественные
записки» искусно формировал у своей обширной и чуткой на либеральные намеки
аудитории мнения о консервативных оппонентах типа Страхова как о нелепых
и даже комичных персонажах.
Так, тот же Михайловский в 1872 г. с деланой уверенностью заявлял,
что «огромное большинство все-таки привыкло смотреть на г. Страхова только
как на смешного писателя». И чтобы придать видимость достоверности своей
абсурдной оценке, он сравнивал критика с благородным Дон Кихотом, образ
которого не только смешон, но и трагичен: «Пусть Страхов смешон, как Дон
Кихот, но он и мужествен, как Дон Кихот, и задает себе удивительные
подвиги (...) Хотя действительно в г. Страхове как писателе есть нечто доблестное,
степенное, словом, нечто рыцарское».
Нападая на пользующегося широким признанием Милля, Страхов
называет его глупцом, но, как отмечает Михайловский, критик и не думает ругаться,
а доказывает это степенно и мужественно — «рыцари не бранятся».
Михайловский, при всей его едкой иронии, справедливо замечает, что
безрассудное поведение Страхова требовало большого мужества: «Не на одного Милля
„Мальбруг в поход поехал", а на всю современную науку и философию, поехал
с поднятым забралом, смело и бесхитростно». Для придания своим
обличениям большего впечатления объективности Михайловский даже признает за
Страховым определенные достоинства: «Он знает, что шляпой нельзя заткнуть
пушечное жерло. И тем не менее затыкает. Пусть это смешно, безумно, но
нельзя не отдать должного смелости и самоотвержению г. Страхова». Ирония
и сатира смешаны в характеристиках Михайловского с правдой: «...г. Страхов
человек разносторонне философски образованный; он довольно тонкий
диалектик; он действительно если не смелый мыслитель, то смелый писатель. Когда
современную науку и философию называет глупостью круглый невежда, то
тут не будет ничего достойного внимания, не будет даже смелости. Но Страхов
„вкусил европейской науки в такой мере, как, может быть, мало из наших
писателей"». Михайловский признает, что в бесперспективной борьбе, которую
71 Михайловский Н. К. Суздальцы и суздальская критика // Отеч. зап. 1870. Т. 189. Апр.
Отд. II. С. 145-205.
35
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ведет Страхов, «есть, конечно, известная доля комизма, но есть нечто достойное
уважения и сочувствия»72.
А позже тот же Михайловский, ощущая себя победителем, прямо
похвалялся, что он и его единомышленники «втоптали в грязь г. Страхова»73.
В такой обстановке Страхову приходилось, конечно, трудно. Критик часто
жаловался на то, что он неудачник, и в очередной раз соглашался, что у него
«тяжелая рука». Л. Н. Толстому он писал: «Один мой приятель, ныне
знаменитый драматург Аверкиев, серьезно уверял меня, что у меня тяжелая рука
и что потому ни одно дело в моих руках не удается. Печатая Вашу „Азбуку",
я думал, что невозможно, чтобы моя тяжелая рука ей повредила. А вышло так,
что чуть ли не прав Аверкиев»74.
Так удачно начинавшийся журнал быстро начал показывать признаки
заката. И дело было не в творческой стороне: Страхов развернулся в «Заре»
во всю силу своей эрудиции, хватало ему и издательских навыков. Но нельзя
не отметить, что основная угроза журналу, как ни удивительно, шла даже не
от оппозиции, а от разгильдяйства и неорганизованности редакции во главе
с Кашпирёвым. Даже Достоевский издалека почувствовал, что с организацией
издательского процесса в «Заре» дело обстоит неладно — журнал часто
выходил и доставлялся не вовремя. Страхов, ранее несколько идеализировавший
Кашпирёва, увидел, что этот благодушный и ленивый молодой человек, которого
по внешности и повадкам сравнивали с Обломовым, живет одними
фантазиями. Его желание осчастливить Россию журналом, какого еще не бывало, мало
подкреплялось делами. Мало того: витающий в облаках издатель с
предубеждением встречал советы Страхова, а его настояния вызывали в Кашпирёве,
наслаждавшемся своим положением хозяина журнала, даже упорное
противодействие. Когда бы не энергичная жена издателя Софья Сергеевна, обладавшая
практическим умом, журнал рухнул бы и ранее.
Страхов, ранее скрывавший недостатки Кашпирёва, раз за разом жалуется
Л. Н. Майкову, что в журнале «полная неразбериха», что редакция сама топит
журнал, и уже в октябре 1870 г. предсказывает, что «рано или поздно придется
ему потонуть»75.
Далее начался необратимый процесс угасания атакованного оппозицией
журнала. Подписка на 1871 г. оказалась не вполне удачной — патриотическое
направление «Зари» в этот период торжества идейного нигилизма не получило
широкой поддержки читателей. В январе 1871 г. Кашпирёв, питавший к Страхову
«величайшуюревность» из-за журнала76, из малодушия и самонадеянности
72 Михайловский Н. К. Литературные и журнальные заметки // Отеч. зап. 1872. Т. 204.
Сент. Отд. II. С. 110-118, 132-133.
73 Михайловский Н. О диспуте г-на В. Соловьева // Бирж. вед. 1874. № 324, 27 нояб. С. 2.
74 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 209.
75 Страхов — Л. Н. Майкову // ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 22. Л. 4.
76 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 129.
36
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
—■$■
обвинил в неудачах «Зари» Страхова, сняв его с должности редактора и решив
издавать журнал сам.
Правда, «Заря» продержалась еще чуть больше года. Но это уже не было
духовное детище Страхова, хотя он продолжал печататься в журнале. У
Страхова опустились руки, и он в отчаянии хотел было в феврале начать писать
воспоминания о таких отринутых обществом писателях, как Ап. Григорьев,
Е. Эдельсон и Достоевский, чтобы спасти их честь: «Люди благороднейшие,
рыцарски-честные иногда подвергаются в нашей поганой литературе упрекам
в каком-то искании выгод, в неискренности, в подлости. Составились
предрассудки, укоренилась ложь, а мы бессильны и ничего не делаем»77. Но Достоевский
отсоветовал, сославшись на то, что еще рано и не будут читать, и рекомендовал
Страхову, несмотря ни на что, продолжать писать критику для «Зари». Однако
когда окончательно выяснился провал с подпиской на 1872 г., после вышедшего
с большим запозданием второго номера журнал прекратил существование.
Страхов же как раз в это время сумел заполучить у Л. Н. Толстого для
«Зари» завоевавший впоследствии заслуженную славу рассказ «Кавказский
пленник». По иронии судьбы рассказу Толстого суждено было украсить собой
последний, февральский номер «Зари». Так бесславно завершился едва ли не
самый успешный в отношении литературной критики период в творческой
биографии Страхова. Вместе с этим журналом закончился и очень важный этап
дружеского единомыслия Страхова с Ф. М. Достоевским.
Надо отметить, что когда в 1875 г. Кашпирёв умер, так и не оправившись
после перелома ноги, Страхов написал о нем сочувственный некролог, ни
единым словом не упомянув о недостатках издателя «Зари», помимо редакторской
непрактичности.
После краха «Зари» Страхову ничего не оставалось, как принять
поступившее ему предложение должности в государственном учреждении. Он писал
в «автобиографических сведениях», переданных писавшему его биографию
Б. В. Никольскому, о том, почему ему пришлось прекратить деятельность
вольного литературного критика: «Я увидел, что работать мне негде. „Русский вестник"
был единственным местом, но деспотический произвол Каткова был для меня
невыносим. Я решился поступить на службу и с августа 1873 года принял место
библиотекаря Публичной библиотеки по юридическому отделению»78. Через
полгода к одной солидной должности без стараний самого Страхова добавилась
и другая: его пригласили стать еще и членом Ученого комитета Министерства
народного просвещения. В дальнейшем до конца жизни свои сочинения Страхов
77 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 270.
78 Цит. по: Никольский Б. В. Страхов. С. 40.
37
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
писал, оставаясь на государственной службе. Он был теперь менее зависим от
издательств и журнальной периодики, но и не имел столько свободного времени
для творчества, как раньше. К тому же все его книги и статьи, в которых он
высказывал мысли, не совпадающие с доминирующими взглядами того времени,
по-прежнему подвергались травле со стороны идейных оппонентов.
Начиная с 1870-х гг. важнейшая роль в творческой биографии Страхова
принадлежит уже не Достоевскому, а другому гению русской литературы—Льву
Николаевичу Толстому, дружеские отношения с которым завязались у критика
после его цикла статей о романе «Война и мир». В 1871 г. Страхов впервые
побывал в Ясной Поляне, и с тех пор практически каждое лето устремлялся
в свою литературную Мекку, где наслаждался общением с великим писателем.
В этот период заметно изменился и характер сочинений Страхова. От
публицистической и литературно-критической деятельности, на которой он
был сосредоточен в период своего редакторства и тесного сотрудничества
в «толстых» журналах, он по настоятельному совету Толстого постепенно
переходит к работе преимущественно над статьями философского
содержания, из которых составляет тематические сборники. Книги статей Страхова
более четко очертили его творческую личность и способствовали некоторому
росту его известности.
Если не принимать во внимание небольшую и малоизвестную книжечку
«О методе естественных наук», выпущенную Страховым в 1865 г., и брошюру
«Бедность нашей литературы» (1868), то первым его отдельным изданием стал
сборник статей по философии науки «Мир как целое. Черты из науки о природе»
(1872). Эта книга, составленная из разрозненных статей, написанных
преимущественно в 1860-х гг., отличается тем не менее поразительной цельностью,
и многие, в том числе и сам Страхов, считали и считают «Мир как целое» его
лучшим сочинением. Автор рассматривал свою книгу как нечто противостоящее
довлеющим в обществе эмпиризму, атомизму и вообще материалистическому
воззрению, которое Страхов дерзко называл «фантастическим», заявляя, что
книгу «Мир как целое» «можно считать кощунством против того
фантастического мира, которому многие, сами того не зная, поклоняются»79.
Однако в творческом наследии Страхова у этой натурфилософской
книги есть и достойные соперники. В 1882 г. вышел в свет первый сборник
философско-публицистических статей Страхова под названием «Борьба с
Западом в нашей литературе». Он положил начало серии из трех книг,
посвященных важнейшей теме взаимоотношений России и Европы и преодолению
нашей умственной зависимости от Запада. Второй том «Борьбы с Западом»
был издан через год, в 1883 г., а в 1890 г. вышло новое его издание, в которое
автор включил большое количество не публиковавшихся прежде материалов,
79 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 70.
38
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
Ф
связанных с запретом журнала «Время». Третий, заключительный том «Борьбы
с Западом», помеченный 1896 г., был напечатан перед самой кончиной автора.
Этот трехтомник философской публицистики Страхова вызвал огромное
количество откликов и вошел в число крупнейших произведений отечественной
общественно-политической мысли.
В 1885 г. Страхов опубликовал сборник статей на литературные темы:
«Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом». Свой выбор именно
этих двух писателей из всех, творчество которых ему приходилось
анализировать, критик объяснил в предисловии: они не похожи друг на друга. Кстати, эта
книга, переизданная несколько раз, расходилась быстрее других его сочинений,
и, как заметил сам автор, если думать об успехе, то ему следовало бы писать
литературную критику.
В 1886 г. Страхов издал книгу «Об основных понятиях психологии и
физиологии», в которой прослеживается определенное изменение его философских
взглядов по отношению к более ранним статьям, вошедшим в книгу «Мир как
целое». Страхов постепенно отходит от гегельянства и исповедует независимую
идеалистическую философию, которая может быть названа «органической» или
философией «органицизма». Речь здесь, впрочем, идет не об одной из систем,
которых Страхов сознательно избегал, а о творческой установке, которая состоит
в понимании мира как органического целого.
В 1887 г. в печати появилась книга Страхова «О вечных истинах. (Мой
спор о спиритизме)». В этой очередной книге, посвященной философии науки,
Страхов развернул критику популярного в те годы среди ученых
спиритического движения, показав в ней, что с научной точки зрения медиумизму и другим
сомнительным формам мистицизма нет места в пределах действия незыблемых
физических законов.
В 1895 г. Страхов опубликовал сборник своих статей на философские темы
под названием «Философские очерки», а к концу года, незадолго до его
кончины, как уже говорилось, в печати появилась последняя, третья книга «Борьбы
с Западом в нашей литературе», которой был подведен итог его прижизненным
изданиям. После кончины Страхова и до самой революции его книги еще не раз
переиздавались в Киеве под редакцией мужа его племянницы, И. П. Матченко,
а затем наступил долгий период замалчивания и забвения...
* * *
Творческий путь Страхова — это почти сплошная череда успешных
трудов и прерывающих их катастрофических неудач. Неудачи разного рода, от
трагических провалов до почти комических эпизодов, преследовали Страхова
всю жизнь. Иногда причиной были его собственные слабые стороны —
недостаток энергии, медлительность в работе, уклончивость в выражении своих
39
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$■
личных взглядов, недоговоренность его статей. Но всё же несравненно более
важной причиной обычно было то, что он не боялся идти против
господствующих течений.
А репутация у Страхова была незавидной, и он это хорошо понимал.
Показательная история произошла в 1879 г., когда у Страхова появилась
возможность проявить себя в качестве лектора: его друг, историк К. Н. Бестужев-
Рюмин, предлагал ему место профессора психологии на Высших женских курсах.
Однако Страхов, идеально подходивший, по мнению Бестужева-Рюмина, для
преподавания на курсах, от этого предложения отказался. И не в последнюю
очередь из-за того, что у него «сквернейшая» репутация: «Да не упрекнут ли
и Вас, что взяли такого ретрограда?»80
Страхову просто фатально не везло с оценкой его сочинений. То его
травили нигилисты, сделав из него какого-то изувера и обскуранта, высмеивая за
нетривиальные гипотезы о «жителях планет», идущие вразрез с
господствующим мнением; то за «Роковой вопрос» он по недоразумению и чрезмерному
рвению Каткова попал в немилость к властям как полонофил; то Михайловский
выставил его Дон Кихотом за безнадежную защиту им идеализма, то Соловьев
определил его научно-философские доказательства в борьбе со спиритизмом
как проповедь «чистейшего материализма»81.
В 1882 г., когда Страхов собрал первый свой сборник философско-
публицистических статей под названием «Борьба с Западом в нашей литературе»,
против автора, имевшего репутацию консерватора, неожиданно выступил сам
начальник управления по делам печати кн. П. П. Вяземский. Будучи большим
оригиналом, сын известного поэта неожиданно запретил издание этой более
чем благонамеренной книги по абсурдным причинам: ему не понравилось,
что Страхов позволяет себе выдвигать свои «дурацкие» опровержения против
знаменитых западноевропейских писателей. Правда, надо сказать, что в этом
случае явное недоразумение не только быстро разрешилось (не без
вмешательства К. П. Победоносцева), но и пошло изданию на пользу: этот том «Борьбы
с Западом» стал первой хорошо продававшейся книгой Страхова.
Страхова часто критиковали за то, что у него нет четко выраженной
философской системы, как нет и больших концептуальных сочинений. И действительно,
все книги Страхова — это все-таки сборники статей. Не является исключением
и трехтомная «Борьба с Западом в нашей литературе». Начало этому главному
философско-публицистическому труду Страхова было положено самым
естественным образом: в 1882 г. ему пришла в голову мысль составить сборник
своих статей, посвященных критике западных идейных течений. Пронизывающая
большинство статей Страхова идея кризиса западной мысли была для него очень
органична, она отражала суть его воззрений и в то же время затрагивала вопросы,
80 ОР РНБ. Ед. хр. 25059. Л. 2 об.
к' Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 733.
40
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
живо интересовавшие современников. В книгу вошли внешне очень разнородные
статьи — о Герцене, Милле, Парижской коммуне и Ренане, связь между которыми
не была очевидной. Но, помимо говорящего за себя названия, Страхов снабдил
книгу предисловием, в котором удачно подчеркнул присущую всем включенным
материалам общую тенденцию, порой скрытую от читателя. Объединяющая
их цель — показать, что западное общество переживает духовный кризис, что
наше вечное «рабство перед Западом» ведет к отрыву от национальной почвы
и порождает несбыточную мечтательность в наших размышлениях о будущем.
Главным в «Борьбе с Западом» был призыв к необходимости обретения духовной
самостоятельности, сохранения национальной самобытности.
Идеи Страхова, считавшиеся консервативными, никогда не были особенно
популярны. Но в 1880-х гг. в обществе уже наметилось некоторое
разочарование в нигилистическом и позитивистском направлениях мысли, и выход книги
Страхова с броским названием, совпавший с возвращением многих думающих
читателей к «корням», привлек к себе внимание.
Свидетельством этого процесса стало хотя бы то, что за это время
радикально изменились взгляды В. П. Буренина. Вот что писал этот бывший
оппозиционный гонитель Страхова позже, в 1890 г., о сборнике его статей
«Из истории литературного нигилизма»: «Статьи эти — говорю смело и
откровенно — безо всякого сомнения должны быть отнесены к наиболее
серьезным критическим и полемическим писаниям шестидесятых годов. В то же
самое время эти статьи должны быть причислены к наиболее добросовестным
и „честным" журнальным статьям: в них господствует глубокая любовь и
правда, искреннее стремление к правильной и логичной постановке обсуждаемых
вопросов и правильному и беспристрастному анализу мнений, оспариваемых
или защищаемых автором»82.
Страхов почувствовал это изменение в отношении русского общества к
литературному консерватизму еще и по тому, как быстро разошлось подготовленное
им в 1888 г. третье издание книги Данилевского «Россия и Европа», — в
следующем году пришлось готовить новое. Проснулся интерес читателей и к книгам
самого Страхова. Вышедшая в 1882 г. первая книга «Борьбы с Западом в нашей
литературе» также была быстро раскуплена. У Страхова появился целый ряд
молодых последователей и поклонников. Среди них следует назвать прежде всего
В. В. Розанова, журналиста «Московских ведомостей» Ю. Н. Говоруху-Отрока
и литературного критика Б. В. Никольского. Среди московских философов ему
симпатизировал Н. Я. Грот, охотно помещавший статьи Страхова в журнале
«Вопросы философии и психологии». Статья Розанова «О борьбе с Западом,
в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (1890) стала
первым значительным сочинением, посвященным творческому пути Страхова.
Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1890. № 5294, 23 нояб. С. 2.
41
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Книга Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», содержавшая
обстоятельную «критику начал, господствующих в европейской жизни»83,
призыв к изменению характера нашего просвещения и большей
самостоятельности суждений, пришлась как нельзя более ко времени. Страхов с удивлением
и удовлетворением писал Толстому, что «Борьба с Западом» хорошо
расходится. Не последнюю роль в популяризации этой книги сыграло само ее громко
прозвучавшее «славянофильское» название. Многие считали, что «зазывное»
название книги не вполне соответствует ее содержанию: слишком мало места
уделено в ней отечественным мыслителям. Сам Страхов так объяснял свой
выбор: «Слова Борьба с Западом взяты мною из статьи об Герцене (...) Так как
я рассматривал Герцена как литератора, так как переворот, в нем совершившийся,
есть некоторое общее явление, совершался у наших писателей прежде,
совершается теперь и будет совершаться вперед, то я и поставил в общем заглавии:
Борьба с Западом в нашей литературе. В самом деле, я везде указывал на черты
борьбы и в прошлой, и в современной нашей литературе, и разумел борьбу
в широком смысле слова, как ряд колеблющихся усилий, и напора, и отпора»84.
Но, несмотря на некоторый успех, творчество Страхова не совпадало с
основным руслом развития отечественной общественно-политической мысли. Как
отмечал впоследствии Розанов, вступивший с консервативным мыслителем в
переписку в 1888 г., на всех его сочинениях лежал отпечаток грусти и одиночества.
Объяснить это Розанову было очень легко: «Вы просто не вовремя родились».
Он утешал своего старшего единомышленника: «Ваша жатва придет; но, быть
может, это и хорошо, и необходимо было в историческом развитии, чтобы Вы
не нашли сочувствия у окружающих: имей Вы успех, и общество, народ наш,
будущие поколения не имели бы лучших страниц Ваших сочинений»85.
У нас все еще преобладает совершенно превратное представление об
идейной обстановке второй половины XIX в. Созданное «прогрессистами»
в дореволюционный период, оно было доведено до абсурда в советское время.
Так называемые революционные демократы до сих пор предстают перед нами
благородными и гонимыми страдальцами, носителями передовых идеалов,
воплощением лучших традиций отечественной культуры и общественной мысли.
Личные жертвенность и трагические судьбы многих из представителей
оппозиционного «шестидесятничества» действительно вызывают уважение. Однако
беспристрастное изучение обстановки того времени говорит, что именно эти
«гонимые» мыслители пользовались в то время огромной и вдохновляющей
идейной поддержкой общества и создавали нетерпимую атмосферу для своих
оппонентов. Они оказывали доминирующее влияние на русскую
общественную жизнь, подвергая сокрушительной критике всех, кто выступал против
83 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. Кн. 1. С. V.
84 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 3. С. III.
85 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 145.
42
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
них. Разрушительные антигосударственные и антикультурные тенденции этого
революционного движения, вождей которого оппозиционная печать увенчала
ореолом мученичества, убедительно отражены в сочинениях их литературных
противников. Однако консервативные идеи не только не пользовались
общественной поддержкой, но и их носители находились по отношению к торжествующей
радикальной оппозиции в незавидном положении отвергнутого общественным
мнением, оболганного и преданного забвению направления.
Одним из тех, кто правдиво и выразительно писал об этой
безжалостной литературной травле, организованной оппозиционными органами печати,
был именно Страхов. В своих воспоминаниях о Достоевском он без прикрас
изобразил ту картину преследования инакомыслия, которая создалась в
отечественной публицистике в 1860-х гг. В революционной риторике революционеры
и сторонники социального прогресса становились жертвами жесточайших
политических гонений. На самом деле в общественном мнении «гонители»
и «жертвы» поменялись местами: симпатии к социалистической идеологии
с ее классовой нетерпимостью привели к подавлению ею своих
консервативных идейных противников любыми средствами. Это нетерпимое отношение
к оппонентам в оппозиционной среде получило название «либерального
террора». Страхов назвал эту своеобразную примету эпохи торжества нигилизма
«литературными казнями»: «Понемногу начались действия, которые, кажется,
всего лучше назвать литературными казнями. Эти казни сначала были редки
и совершались сперва с тем единодушием, которое тогда было свойственно
литературе. Если какой-нибудь писатель оказывался виновным, то, бывало, вся
литература набрасывалась на эту жертву.. .»86
Много писал на тему «либерального террора» Достоевский, выступивший
с развенчанием Белинского и его радикальных последователей. Творческое
наследие автора «Братьев Карамазовых», «Бесов» и «Дневника писателя»
служит важнейшим фактором в борьбе с искаженным освещением идейной
ситуации второй половины XIX в. Однако, пожалуй, только В. В. Розанову в книге
«Литературные изгнанники» (1913), посвященной главным образом памяти
Н. Н. Страхова, удалось впервые переломить это неверное представление о
соотношении общественных сил и положении «гонимых гонителей» в русской
идейной борьбе второй половины XIX в.
В наши дни обстановка несколько изменилась, и пребывавшие долгое
время в забвении «литературные изгнанники» снова находят путь к читателям.
Тем не менее сохранившиеся многочисленные памятники Чернышевскому,
Добролюбову и прочим «шестидесятникам», названные в их честь улицы,
станции метро и библиотеки показывают, что эти нигилистически настроенные
публицисты, сыгравшие важную роль в разрушении традиционной России, все
Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 394.
43
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$■
еще воспринимаются как невинные жертвы царизма, благородные властители
дум и борцы за социальную справедливость.
Хорошим примером такого «перевернутого» представления о раскладе
литературных сил является типичная статья Д. И. Писарева «Прогулка по садам
российской словесности». Она написана в 1865 г., в период расцвета и
наивысшего торжества направления, которое в советское время было принято
называть революционно-демократическим, но которое более заслуживает названия
«нигилистического», то есть разрушительного. Характерен самодовольный
тон победителя, которым Писарев отзывался о статье Страхова, отстаивавшей
высочайшую оценку творчества почившего Аполлона Григорьева: «Чем выше
вы поднимете личность Григорьева, тем глубже и безвозвратнее вы зароете
в могилу все ваше литературное направление. — Статья г. Страхова есть
некоторым образом литературное самоубийство»87. Писарев мог себе позволить
глумление над благородным критиком, принадлежавшим к «отсталому»
направлению почвенников-идеалистов, зная, что общественное мнение на стороне его
оппозиционной группировки «новых людей». Высмеивание и замалчивание
были двумя противоположными тактическими приемами идейной борьбы,
выработанными радикальной оппозицией. Сохранить твердость духа и верность
избранной позиции в таких условиях было чрезвычайно трудно.
Поборник тех же радикальных идей Н. К. Михайловский в связи с
диспутом Соловьева также без стеснения, открыто признавался в глумлении
нигилистической группировки над серьезными мыслителями: «О чем шумите
вы, „народные витии"? Что возмутило вас? Вас возмущает, что мы осмеяли
вашего московского философа Юркевича; что мы втоптали в грязь г. Страхова,
человека многосторонне образованного (...) что мы до обморока зачитывались
Бюхнером и Молешоттом»88.
Сохранить твердость характера в этой обстановке травли и замалчивания
было крайне сложно.
Розанов нашел у Михайловского, в его «литературных расправах», в том
числе и над Страховым, в их спорах «адвокатский дух» и нечистоплотные
приемы — черты, сближавшие его с полемическими манерами Вл. Соловьева,
который умудрился назвать Страхова апологетом и даже столпом
«зоологического национализма».
Но всех превзошел в искажении истины и фельетонном глумлении над
Страховым, пожалуй, Салтыков-Щедрин в «Истории одного города» (1869-1870),
выставив чтение критических статей Страхова одним из развлечений бомонда
города Глупова. У такого рода «остроумия» с политическими намеками было
немало поклонников, хотя под видом глуповских обитателей Салтыков-Щедрин
87 Писарев Д. И. Прогулка по садам российской словесности // Рус. слово. 1865. № 3.
Отд. II. С. 134.
88 Михайловский Н. К. О диспуте г. В. Соловьева // Бирж. вед. 1874. № 324, 27 нояб. С. 2.
44
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
»
сатирически изобразил современную ему Россию, поглумившись в этой мрачной
сатире и над русской историей, и над некоторыми чертами русского народа.
Конечно, критических статей Страхова в провинции тогда никто не читал, но
Щедрину захотелось посмеяться и над своим литературным противником.
Подобных глумливых статей и фельетонов во всевозможных «искрах»,
«свистках», да и во всей оппозиционной периодической печати было превеликое
множество. А либеральный критик Гамма (Г. К. Градовский) не постеснялся
написать в том же духе даже некролог Страхова, развенчивая как «зло» его
выдающийся труд «Борьба с Западом в нашей литературе» и «умственные связи
Страхова с „почвенничеством"»89.
* * *
Наиболее живое, емкое представление как об атмосфере литературного
«террора» и «литературных изгнанниках» консервативного направления, так
и о личности и творчестве Страхова современный читатель может получить
из сочинений популярного ныне В. В. Розанова, который потратил очень
много усилий на то, чтобы достойно увековечить память своего «крестного отца
(в литературе)»90. Издав в 1913 г. письма Страхова со своими комментариями,
Розанов оставил особого рода памятник своему литературному учителю, а
современное переиздание этой книги с включением в нее писем самого Розанова
к Страхову91 позволяет непредубежденному и внимательному читателю
самостоятельно воссоздать образ недооцененного мыслителя и критика.
Хочется еще раз подчеркнуть, что Страхову никогда не был присущ
твердый консерватизм в политическом смысле, какой был свойственен Каткову
или, например, Леонтьеву. Несмотря на то что Страхов с самого начала и на
протяжении всей жизни неустанно вел борьбу против материализма,
нигилистического отрицания философии и литературы, отстаивая идеализм «вечных
истин», он, подобно ранним славянофилам, вовсе не был радикалом охрани-
тельства в своих взглядах. Он просто неизменно и мужественно отстаивал
здравый смысл и философский идеализм в ту поистине «фантастическую»
эпоху, когда всякие возвышенные идеи были непопулярны. Страхов долгое
время был искусственно изъят из литературно-философского процесса как
одиозно-консервативная фигура. Но теперь, когда у значительной части
общества популярны «правые» идеи, вдруг оказывается, что Страхов слишком...
либерален, заведомо проигрывая таким правым радикалам, как К. Н. Леонтьев,
М. Н. Катков или даже друг Страхова Н. Я. Данилевский. Страхов с его более
мягкой, внешне как бы «размытой» мировоззренческой и религиозной позицией
89 Гамма [Градовский Г. К.]. Дневник: t Н. Н. Страхов // Бирж. вед. 1896. № 26,26 янв. С. 1.
90 Розанов. Литературные изгнанники. 1913. С. IX.
91 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 144-316.
45
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
не вписывается ни в ортодоксально-церковные, ни в близкие к национализму
радикально-патриотические рамки. В этом еще одна причина недостаточного
спроса на его сочинения.
Идеи Страхова умеренно консервативны, и этот его просвещенный
консерватизм трудно использовать в целях партийной пропаганды. Пафос мыслителя
носит более универсальный характер — он направлен прежде всего на
поддержание традиционных, «вечных» нравственных и эстетических ценностей в век
торжества материализма и атеизма. Так, например, в статье «Движение
литературы в прошлое царствование» Страхов подвергает критике пришедшую с Запада
и торжествующую идею материального благосостояния, которая вытесняет всякие
стремления, имеющие нравственный, духовный характер, а затем и идею
гражданской поэзии, ведущую «к отрицанию истинного достоинства искусства»92.
Попытки отнести Страхова к идейным реакционерам так же лишены
объективности, как и абсурдные обвинения его утилитаристами-«шестидесятника-
ми» в эстетизме. «Консерватизм» Страхова в литературе выражался, в частности,
в том, что он, как сторонник пушкинского отношения к литературе, признавал
важнейшее значение эстетических принципов, хотя, конечно, было бы нелепо
утверждать, что он игнорировал идейную сторону творчества. Сталкиваясь
с критикой своего «эстетизма» сторонниками «полезного искусства», Страхов
недоуменно писал: «В том же самом смысле меня бранят эстетиком, то есть
(на их языке) человеком, который вообразил, что художественные красоты могут
существовать отдельно от внутреннего живого, серьезного смысла, и который
гоняется за такими красотами и наслаждается ими. Вот какую непомерную
глупость мне приписывают!»93
Скромное положение Страхова как своего рода «идейного Дон Кихота»
объясняется во многом и засильем в нашей литературе крайних, радикальных
точек зрения, как справа, так и слева. Подобные умеренно-консервативные,
подлинно свободные мыслители, пытавшиеся занять самостоятельное положение
между официальным консерватизмом, поощряемым властями, и нигилизмом,
отрицанием традиционных устоев, которое проповедовали пользовавшиеся
поддержкой общественного мнения «шестидесятники», имели мало шансов
серьезно влиять на общество. Страхов сетовал в 1890 г.: «Когда я говорю
против Дарвина, то думают, что я стою за катехизис; когда против нигилизма, то
считают меня защитником государства и существующего в нем порядка; если
говорю против вредного влияния Европы, то думают, что я сторонник цензуры
и всякого обскурантизма и т.д. О, Боже мой, как это тяжело! А что же делать?
Иногда приходит на мысль, что лучше бы молчать, — и не раз я молчал, чтобы
не прибавлять силу тому, чему не следует. Я изворачиваюсь и изгибаюсь сколько
могу. Вы видели, с каким жаром я схватился за спиритизм; я очень горжусь тем,
92 Страхов Борьба с Западом. Кн. 2. С. 53.
93 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 391.
46
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
что написал книгу против чудес, и в сущности не очень сердился, когда Соловьев
провозгласил меня за это материалистом. Как быть, как писать, когда кругом
непобедимый фанатизм и когда всякое доброе начало отразилось в людских
понятиях в дикой и односторонней форме? И разве я один в таком положении?
Все серьезные люди терпят ту же беду и часто принуждены молчать»94.
Именно эта недостаточная приверженность Страхова позиции
определенной «партии», слишком завуалированная манера изложения им своей позиции
по польскому вопросу, которую приняли за антирусскую и полонофильскую,
вызвала закрытие журнала Достоевских «Время».
Совершенно неправомерно было бы относить Страхова к «реакционерам-
националистам», как это практиковалось в советское время. Скорее он поражает
теперь некоторыми своими либеральными заявлениями, противоречащими
традиционно отводимой ему в отечественной мысли консервативной нише. Так,
13 марта 1894 г., после прочтения написанной Н. Я. Гротом статьи-представления
для избрания Страхова в почетные члены Психологического общества, он писал
ее автору: «Одной только черты, к сожалению, Вы не помянули в мою защиту,
и я решаюсь сам ее заявить — на всякий случай. Всякого славянофила
подозревают в том, что он сочувствует деспотизму и питает ненависть к иноземцам.
И вот я хочу сказать, что я, как бы ни был грешен в других отношениях, от этих
грехов свободен. У меня нет ни одной страницы антилиберальной, ни одного
слова ненависти к евреям, католикам и т. п. Не отличился я горячею проповедью
любви и терпимости, но сам уберегся от всякого их нарушения»95.
Нельзя не отметить здесь, что взгляды Страхова претерпевали изменения.
Так, в период «Времени» он был явно консервативнее Достоевского и отчасти
разделял недовольство Григорьева слишком мягкой по отношению к радикалам
политикой журнала. Однако уже в период издания «Эпохи», и особенно во
время редакторства Страхова в «Заре», их взгляды с Достоевским стали уже
весьма близки. А к концу жизни Достоевский был уже явно более радикален
в своем консерватизме, нежели Страхов, который невольно поддался влиянию
либеральных настроений впавшего в религиозное «еретичество» своего
друга Толстого, хотя их позиции также далеко не совпадали. Перед самой своей
кончиной, 25 декабря 1895 г., Страхов, например, написал Толстому: «Недавно
Буренин написал, что Флексер, как жид, не имеет права и способностей судить
о русской литературе. Вот уж куда пошло! А в прошлом мне особенно грустно
и поучительно вспоминать о последнем фазисе Достоевского. Его патриотизм
и церковный фанатизм доходили до болезненной щекотливости»96.
Не случайно умеренная, часто весьма неопределенная в идейном
отношении позиция «здравого смысла», которую занимал Страхов, иногда вызывала
94 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 819.
95 Письма СтраховаН. Я. Гроту. С. 257.
96 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. 1.2. С. 1026.
47
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф =
неприятие и даже раздражение не только среди радикалов, но и в
консервативном лагере.
Литературная судьба Страхова складывалась не слишком удачно. Но он
сознательно встал на этот благородный путь нравственного служения и
оставался верен высоким идеалам всю свою трудную жизнь. И к нему самому вполне
могут быть отнесены прекрасные его слова, сказанные в статье «Несколько
слов памяти Фета» (1892): «Лучше плакать о несбывшемся блаженстве, чем
отказаться от высокого стремления души.. .»97 С. А. Толстая написала Страхову
в 1892 г. в ответ на его скромное замечание, что в его слабой душе «хорошо
разве только чувство идеала»: «Вы мне намекнули, что в душе вашей, будто
бы слабой, а по-моему, очень сильной, дорого чувство идеала. Неужели Вы
думаете, что это не видно и не известно даже мне? Ведь это-то и есть самое
дорогое и самое красивое в душе человека. С этим чувством — идеалом
непременно придешь в конце концов туда, куда надо, и где, наверное, хорошо. И вы
давно уже пришли»98.
В. В. Розанов не сомневался, что творческое наследие Страхова со
временем будет выведено из забвения: «В конце XX века для него найдется свой
Эрн, как он нашелся для Сковороды»99. И верится, что именно в наше время
сбудутся надежды Розанова, выраженные в обращенных к Страхову словах
утешения: «...когда все перегорит и все уляжется — подымется в нашем
обществе и литературе это Ваше настроение — всегда спокойное и чистое, полное
любознательности и религиозности, уважения к человеку, серьезное и доброе»100.
* * *
Несмотря на то что жизненный путь философа, литературного критика
и ученого складывался очень трудно, его серьезное и глубокое творчество не
могло не привлечь к себе внимание. К середине 1890-х гг. Страхов —
признанная авторитетная фигура русской философии, журналистики и литературной
критики.
Своеобразным признанием относительной популярности Страхова стал
очередной казус, случившийся с ним незадолго до кончины. Этот любопытный
эпизод, характеризующий окололитературные нравы того времени, показывает,
что его книги, особенно «Борьба с Западом», имели некоторый успех в обществе.
Некий переводчик и коллекционер автографов Ф. Фидлер, человек авантюрного
склада, узнав, что Страхов неизлечимо болен, забеспокоился. Огорчил
собирателя, однако, не сам факт болезни писателя, а то, что в его богатой коллекции
Страхов. Литературная критика. С. 431.
Л. Н. Толстой и С. А. Толстая: Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава; М, 2000. С. 255.
Розанов В. В. Когда начальство ушло... М, 1995. С. 252.
Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 186.
48
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно»
отсутствовал автограф этого достаточно известного критика и философа. И Фид-
лер обратился к Страхову с письмом от имени вымышленного переводчика из
Германии, в котором предлагал ему... издать перевод «Борьбы с Западом» на
немецкий язык. Страхов, естественно, с радостью откликнулся, и авантюрист
заполучил-таки желанный автограф. История этого обмана вполне заурядна, но
важна одна ее деталь: Страхов высказал в письме к Фидлеру важное пожелание:
чтобы статьи, входящие в трехтомник, были бы в переводе переставлены и
сгруппированы по темам101. Немецкого издания «Борьбы с Западом», естественно, не
последовало, но волю автора издателям надо бы принять во внимание.
Страхов скончался 24 января 1896 г. в возрасте 67 лет. Несмотря на
многолетнюю историю критики и замалчивания, почтить память ушедшего из
жизни мыслителя посчитали долгом не только уважавшие его ученые и
писатели, но и практически все серьезные периодические издания России. Именно
в этот период появились наиболее основательные сочинения, посвященные
жизни и творчеству Страхова. Помимо многочисленных небольших
некрологов в газетах и журналах, был опубликован целый ряд посмертных очерков
друзей и учеников Страхова — Розанова, Никольского и Говорухи-Отрока,
а также развернутые статьи хорошо знавших покойного философов Алексея
И. Введенского, Александра И. Введенского, Н. Я. Грота, Э. Л. Радлова. Можно
сказать, что именно в этот период творческое наследие Страхова впервые было
оценено по достоинству. Однако, как это бывает, после памятных выступлений
в литературе о Страхове наступил большой перерыв.
О факте поразительного забвения Страхова свидетельствует статья
журналиста «Русского вестника» Скифа (Н. М. Соколова). Он писал спустя шесть лет,
что после смерти Страхова появились «некрологи, статьи и заметки, в которых
авторы не жалели ярких красок и забывали чувство меры, чтобы поставить
личность покойного на недосягаемую высоту. (...) Прошло с полгода, и — как
ножом отрезало. Ни строчки, ни слова о покойном, точно весь его труд камнем
в воду канул»102.
Спустя годы только Розанов неустанно продолжал снова и снова
напоминать о своем литературном учителе, сетуя, что если Страхова не читают—значит,
мир глуп. Издав в 1913 г. книгу «Литературные изгнанники» с письмами к нему
Страхова, Розанов вновь всколыхнул волну интереса к публицисту. Можно
без преувеличения сказать, что Розанов обессмертил своего учителя своими
поистине гениальными комментариями к содержательным, но сдержанным по
тону письмам Страхова.
В том же году в журнале «Современный мир» была опубликована
переписка Страхова с Л. Н. Толстым, напечатанная через год отдельной книгой.
101 Фидлер Ф. Ф. Из мира литераторов: Характеры и суждения. М, 2008. С. 174.
102 Скиф Н. [СоколовН. MJ Литературное обозрение // Рус. вестник. 1902. Сент. С. 676-696
(рец. на кн.: СтраховН. Н. Критические статьи. Киев, 1902. Т. 2).
49
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Это было очень значительное литературное событие, так как после публикации
этого выдающегося эпистолярного памятника массовый читатель мог впервые
убедиться, насколько близкими были отношения Страхова с Толстым и какую
важную роль он играл в интеллектуальной жизни великого писателя. С этих
пор имя Страхова уже не могло быть предано забвению.
Однако нельзя не отметить, что включенное С. А. Толстой в собрание
переписки злополучное «исповедальное» письмо Страхова о Достоевском
произвело шокирующее впечатление на современников и еще больше — на
последующие поколения. Либеральный критик «Речи» Д. В. Философов разразился
в 1914 г. статьей «Порочный Достоевский», положив начало то иссякающему,
то снова набирающему силу потоку литературы, низводящей Страхова до
уровня клеветника и завистника. Показательно, что Розанов, откликнувшийся на
издание переписки Страхова с Толстым двумя статьями, не проронил ни слова
об этом роковом письме. Мы подробно рассмотрим эту ситуацию, несмотря на
частный характер письма, в главе, посвященной Достоевскому, учитывая, что
его общественный резонанс и влияние на современное восприятие Страхова
в литературно-философской среде были и остаются огромными. Один
эмигрантский автор даже назвал это письмо «бомбой замедленного действия»103. Страхов
в очередной раз пошел в этом случае поперек общественному мнению, хотя он
вряд ли думал, что письмо будет напечатано. В той или иной степени влияние
этого письма окрашивает большинство последующих работ, посвященных
Страхову. Впрочем, после революции имя консервативного критика и философа-
идеалиста и без того было надолго предано забвению. В советское время, когда
огромными тиражами выпускались сочинения идейных противников Страхова,
«революционных демократов», его сочинения как одиозного представителя
«ретроградного консерватизма» не издавались, и лишь неизбежное упоминание
в связи с Толстым и Достоевским спасало его имя от полного забвения.
И только теперь приходит время издания собрания сочинений Страхова,
вместе с которым должно прийти и широкое признание его очевидных заслуг
в самых разных областях отечественной культуры.
103 Первушин Н.В.Н.Н. Страхов — жертва «достоевщины»? // Новый журнал. 1970. Кн. 99.
С. 133.
QaSa 2
ЛИЧНОСТЬ, ХАРАКТЕР И БЫТ
...Он был человек необычайно редкой душевной чистоты.
Д. И. Стахеев'
0 Страхове написано и опубликовано уже довольно много. Тем не менее
его личность и характер до сих пор остаются для читателей большой загадкой:
слишком противоречивы дошедшие до нас отзывы о нем; иногда неопределенное
или даже двойственное впечатление производят и сами его сочинения.
Страхов, как признают многие мемуаристы, отличался большой
скрытностью и о некоторых сторонах своей личной, особенно духовной, жизни
принципиально умалчивал. Поэтому суждения о нем имели весьма разный, вплоть
до противоположности, характер, затрудняя возможность создания целостного
образа мыслителя и полного представления о его взглядах и самой его личности.
Эти умолчания и недомолвки Страхова о себе нередко приводили к тому, что
его подозревали в неискренности. Попытки анализа его личности делались не
раз, но они в большинстве случаев носили характер односторонний и в немалой
степени зависели от мировоззрения и, соответственно, отношения к
консервативному мыслителю автора характеристики. Из одних подобных отзывов
современников о Страхове можно составить портрет на редкость благородного,
отзывчивого, доброго, благодушного, умного и талантливого человека (Д. И.
Стахеев, В. В. Розанов, Б. В. Никольский, Н. Я. Грот, Ю. Н. Говоруха-Отрок и др.).
Розанов, например, называл его «правдивейшей и смиреннейшей душой»2,
«лучшим из людей»3, а П. П. Перцов — так и вообще «настоящим святым»4
(не в буквальном, конечно, смысле). Из других, более предвзятых, но тоже
довольно многочисленных отзывов он предстает скрытным, двуличным,
лишенным творческого начала, тщеславным, завистливым, даже злым, расчетливым,
способным на неблаговидный поступок человеком «себе на уме» (отдельные
1 Стахеев Д. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний) // Ист. вестник. 1907.
Янв. С. 81.
2 Розанов. ПСС. Т. 2. С. 204.
3 Там же. С. 219.
4 Перцов П. П. — В. В. Розанову. 1896 г. // РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 1.
да
51
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
суждения Ф. М. Достоевского, К. Н. Леонтьева, И. Ф. Романова-Рцы, отзывы
СИ. Уманца, В. И. Модестова, В л. С. Соловьева, целого ряда советских авторов,
начиная с А. С. Долинина до сонма современных достоевсковедов).
Целесообразно, наверное, будет составить такой портрет, принимая во
внимание все эти противоречивые отзывы, но прежде всего опираясь все-таки
на собственные суждения Страхова. Как это ни трудно, надо попытаться свести
эти разрозненные впечатления из самых разных и во многом противоположных
по своим оценкам источников в какую-то максимально объективную и по
возможности целостную картину, что, по существу, никогда толком не делалось
ввиду необычайной трудности задачи.
Как известно, характер человека во многом формируется в детском
возрасте. О раннем детстве философа, критика и публициста Николая Николаевича
Страхова нам известно довольно мало, но определяющим началом развития его
личности было, конечно, то, что он родился в семье священника и вырос в среде
провинциального духовенства. Обращает на себя внимание, что отец нашего
героя, протоиерей Николай Петрович Страхов, был не только настоятелем
храма, но и преподавателем в духовной семинарии, в том числе словесности. От
отца, видимо, Николай Страхов унаследовал способности к литературе, прежде
всего навык к чтению.
Оставшись в шесть лет без отца, Николай рос под опекой
монашествующего дяди, о. Нафанаила. В воспитании Николая, насколько известно, принимал
также участие и брат бабушки по матери, протоиерей Иоаким Илларионович
Липенский, его восприемник. Отсутствие родного отца и воспитание духовных
лиц, конечно, сказались на характере мальчика.
Оказавшись в 1839 г. в Костроме, куда ректором местной семинарии
был переведен опекун семьи о. Нафанаил, Николай вместе с братом Петром
в 1841-1844 гг. учился в семинарии. Об этом, отроческом периоде жизни
Николая Страхова известно уже побольше, чем о детстве, так как до нас дошли
краткие воспоминания, охватывающие период его семинарской юности.
Правда, Страхов в этих воспоминаниях рассказывает больше об общей обстановке
в семинарии, чем о своем внутреннем развитии. Описывая свою юность, он
подчеркивает царившую в семинарии атмосферу патриотизма. Бесспорно,
именно эта патриотическая атмосфера сыграла важную роль в формировании
характера юного Страхова и сказалась в предпочтении им почвеннических или
славянофильских, но никак не западнических настроений.
При этом юношеский патриотизм Страхова сродни пушкинскому — он
носит светлый характер и свободен от слепого пристрастия: «По сущности
же, может ли что быть естественнее и правильнее, чем любовь к тому, что нас
52
Глава 2. Личность, характер и быт
■8»
окружает, и желание охранить то, что мы любим? (...) Сердце чуткое, ум чуткий
постепенно открывает и усвояет положительную сторону окружающей жизни,
то добро, тот свет ума, ту красоту, которые составляют главный нерв всего
человеческого существования, без которых это существование невозможно»5.
Как бы ни были патриотически настроены воспитанники Костромской
семинарии, пойти по духовному пути, к огорчению переведенного в 1843 г. в
Петербург по службе дяди, ни Николай, ни его брат Петр не пожелали, сославшись
после четырех лет обучения в семинарии на состояние здоровья. У Николая
тут, помимо очевидного влияния нарастающих атеистических тенденций того
времени, важное значение имел огромный интерес к науке, который, вероятно,
в первую очередь и отвел его как от духовного пути, так и от нигилистического
соблазна.
Осенью 1844 г. Страхов по вызову дяди отправился из Костромы в
Петербург. К счастью для исследователей, до нас дошла прекрасная переписка юноши
из Петербурга с семинарским преподавателем французского языка униатским
священником о. Иоанном Скивским6. Из этой чрезвычайно живой переписки
можно составить полное представление о характере юного Страхова. Эти яркие,
непосредственные письма представляют для нас ценнейший источник, так как
будущий ученый и писатель, убежденный холостяк предстает в них совсем иным
человеком, нежели в более «степенном» возрасте — после тридцати, когда он
сменил ученое поприще на литературное.
Проекция характера юного Страхова, как он раскрывается в письмах
к о. Иоанну, на зрелую пору позволяет нам сделать уже более смелые выводы
о неясных или спорных чертах его личности, хотя, надо признать, многое в его
характере изменилось с тех пор почти до неузнаваемости. Первое, что поражает
в письмах студенческих лет по сравнению хотя бы с более поздними
«Воспоминаниями о ходе философской литературы» или перепиской с Толстым, — это то,
что Страхов предстает веселым молодым человеком, не лишенным юношеского
легкомыслия и интереса к радостям жизни. Чего стоят хотя бы его забавные
мечты пожить в роскошном Вавилоне или отправиться погулять с тросточкой
по Парижу и Лондону! И при всей беззаботности и вольностях какое редкостное
рвение к наукам, какая жажда познания, какая любовь к чтению!
Вспоминается возражение Страхова Розанову, написавшему в письме
к Страхову в 1890 г. отзыв о статье «Роковой вопрос» (1863) после ее прочтения
в обновленном издании второго тома «Борьбы с Западом». Розанов отметил,
что такого резкого и насмешливого тона «нельзя было ожидать от „задумчивого
молодого человека"»7. Страхов ответил: «А откуда Вы взяли, что я когда-нибудь
был „задумчивым молодым человеком"? Едва ли так; большею частью я был
5 Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. 122-123.
6 См. примеч. 23 к главе 1.
7 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 237.
53
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
тогда непомерно жив и весел. Но как раз около времени „Рокового вопроса"
меня придавило мое беспутство, и я замолчал»8.
В жизни Страхова тогда произошел очень важный духовный перелом,
о котором он чуть более подробно поведал в одном из исповедальных писем
к Толстому:
«С 1868 года я не знаю женщин и перестал пьянствовать, следовательно,
началась для меня не жизнь, а житие, как выражался Писемский. Я пришел тогда
в страшное состояние, боялся сойти с ума, и потому бросил все свое распутство
и решил оттерпеться, чтобы спасти свой ум. Было трудно, но я уперся и после
многих лет почувствовал, что оправляюсь. Эта история моего самосохранения,
пожалуй, поучительна»9.
По всей видимости, это был не только внешне заметный выбор
холостяцкого образа жизни, но и скрытый поворот к религиозности, только не
церковной, а личной, сугубо внутренней, с мистико-этическим стержнем. Об этой
религиозности Страхов предпочитал умалчивать в своих сочинениях, но резкий
поворот к духовной, нравственной жизни сказывался, конечно, на тональности
его сочинений и особенно писем, да и, само собой, на поведении в обществе.
Итак, Страхов остепенился, перестал пить и развратничать, но семьей не
обзавелся и на всю жизнь так и остался холостяком. В одном из писем к
Толстому Страхов так объясняет, почему не решился жениться: «Я не женился и не
собирался жениться только потому, что дело мне казалось сложным, трудным,
ответственным. Я всегда очень боялся вмешательства в чужую жизнь со своей
стороны и старался не брать на себя никаких обязательств, пугаясь того, что
не могу выполнить их как следует»,0.
Именно с этих пор, то есть с конца 1860-х гг., Страхов становится
сторонником аскетического быта и строгой нравственности, каким он предстает
перед нами в большинстве своих сочинений и писем. У него вырабатывается
своеобразная психология холостяка, в которой явно ощущаются элементы
монашеского уклада жизни.
* * *
Страхов целиком посвящает себя литературе и ведет уединенный,
скромный и тихий образ жизни среди своей растущей библиотеки. С этих пор Страхов
представляет собой тип «ученого мужа», литератора-книжника, посвятившего
свой досуг чтению книг, размышлению, написанию статей о литературных
вопросах и философскому созерцанию. Прожив всю жизнь холостяком, Страхов
с 1875 г. на протяжении 16 лет делил общую квартиру с семьей беллетриста
8 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 60.
9 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 910.
10 Там же. С. 994.
54
Глава 2. Личность, характер и быт
Д. И. Стахеева. И вряд ли кто лучше автора многочисленных романов, повестей
и рассказов, жившего по соседству, знал бытовой уклад этого скромного,
одинокого и тихого человека. Стахеев запечатлел необычного сосеца по жилищу,
который вел почти монашеский образ жизни, пусть и несколько поверхностно,
но ярко в целом ряде своих литературных произведений. Черты и привычки
философа, литературного критика и публициста Страхова легко узнаются в
образе уединенного мыслителя и книжника, живо очерченном писателем-соседом
в его повести «Пустынножитель»11.
Как известно, Страхов собрал огромную библиотеку, которая после его
кончины по завещанию владельца досталась Санкт-Петербургскому
университету. Книги заполонили почти всё пространство его жилища, состоявшего из
двух комнат, и вышли даже в переднюю. Стахеев писал в другом, тоже весьма
занятном рассказе-воспоминании, уже прямо посвященном Страхову: «Всю
жизнь свою со дня молодости до последнего, можно сказать, дня своего
земного существования он был занят книгами, разыскивал их по ларям букинистов,
расставлял по полкам своей квартиры и с утра до вечера был погружен в их
чтение»12. Сосед философа шутил, что тот живет в огромном книжном шкафу.
И почти всё свое свободное от службы время в ненастном Петербурге
мыслитель проводил в своеобразном затворничестве, наедине со своими думами
и рукописями, среди любимых книг. Он был в этом подобен какому-нибудь
«ученому мниху» былых времен, как писал Б. В. Никольский, считавший себя
учеником Страхова и написавший о нем биографический очерк по материалам,
предоставленным самим философом13.
Стахеев, используя свои наблюдения за повседневной жизнью соседа,
делает в повести «Пустынножитель» основной акцент на странствиях своего
героя, увлеченного собиранием книжных раритетов, по многочисленным
петербургским букинистам. Тем временем собранные в квартире азартного книжника
тома с разной судьбой ведут в этой занимательной повести разговоры между
собой о превратностях своих перемещений: «Сколько рассказов можно было
бы услышать от них о том, где, когда и чему они были свидетелями, как
встречались после многолетней разлуки со старыми товарищами по шкафам. Иные,
искалеченные, истрепанные житейскими невзгодами, вероятно, жаловались бы
на свою горькую судьбу, оплакивая вырванные и Бог весть где скитающиеся
свои страницы. Иные счастливцы надменно кичились бы переплетами и блеском
золота на их корешках. Какой-нибудь веселый французский томик с
чрезвычайно живым и развязным текстом, чистенький и непомятый, в ярком переплете,
11 Стахеев Д. И. Пустынножитель: Повесть о книгах и книжниках // Рус. вестник. 1890.
Март. С. 114-155; Апр. С. 164-199.
12 Стахеев Д. И. Станислав первой степени и енотовая шуба (из воспоминаний
о Н. Н. Страхове) // Ист. вестник. 1904. Февр. С. 442-443.
13 Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов: Критико-биографический очерк // Ист.
вестник. 1896. Апр. С. 215-268 (отд. изд.: СПб., 1896).
55
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
«$>
не утратившем свежести даже чрез полстолетия своего скитания по книжным
шкафам, мог сказать, хотя бы, например, тому Лютера, неуклюже
переплетенному лет двести тому назад в грубый кусок кожи, что „я, мол, cher ami, на жизнь
смотрю легко, ничем не огорчаюсь и ни в каком обществе не стесняюсь"...»14
О поразительном богатстве и утонченном подборе книжной коллекции
Страхова писали практически все, кто у него бывал, от странствующего
философа Владимира Соловьева до художника И. Е. Репина, написавшего в 1888 г.
его портрет (ныне находится в Русском музее). Соловьев в пору их сближения
со Страховым даже останавливался в холостяцкой квартире отсутствующего
хозяина, находя, впрочем, главным недостатком его жилища обилие влекущих
к себе ценных книг.
Но, к чести Страхова как мыслителя и критика, надо сразу заметить, что
он был не столько коллекционером, сколько именно прилежным читателем
книг. И отнюдь не в книжном собрании состояло главное его достоинство — этот
«пустынножитель» был, по отзыву видного архиерея и богослова,
«просвещеннейшим человеком в России»15. Страхов, действительно обладавший на редкость
разносторонними знаниями, являлся математиком и зоологом по образованию,
философом и литературным критиком по дарованию. Никольский пишет:
«Приобретение книг было единственным „светским удовольствием", спортом, охотой
этого мирского монаха»16. Гораздо важнее другое: живя большую часть года
почти отшельником, Страхов, при своем «тихом и безмолвном житии», был
близко знаком, тесно сотрудничал и состоял в переписке с Ап. А. Григорьевым,
Н. Я. Данилевским, Ф. М. Достоевским, Вл. С. Соловьевым, К. Н. Леонтьевым,
Л. Н. Толстым, А. А. Фетом, В. В. Розановым и еще многими лучшими умами
и талантами второй половины XIX в. Розанов по праву назвал его однажды
«избранным собеседником избранных умов»17.
Монашеские черты в облике и манере поведения Страхова невольно
бросались в глаза и подмечались почти всеми, кто близко его знал. И это не
удивительно, так как происходил он из «поповичей». Нам легко представить
себе Страхова уже степенным и осторожным старцем-книжником, умудренным
многочтением и сосредоточенным размышлением. И совсем мало знаем мы
о духовных метаниях его юности. Да и трудно представить его рационально
сдержанную, аскетическую натуру в рядах безрассудных искателей светских
удовольствий, тем более что на описаниях Страховым Костромской семинарии
лежит еще налет благостности и нравственного здоровья.
14 СтахеевД. И. Пустынножитель: Повесть о книгах и книжниках // Рус. вестник. 1890.
Март. С. 114.
15 Мнение ректора Казанской духовной академии, архим. Антония (Храповицкого),
высказанное в частном письме к Н. Н. Страхову в 1895 г.
16 Никольский Б. В. Страхов. С. 7.
17 РозановВ. В. Религия и культура. М.; СПб., 2008. С. 411.
56
Глава 2. Личность, характер и быт
—■$>
* * *
Одна из главных черт Страхова, которую отмечают писавшие о нем
современники и о которой много рассуждают, — это его недомолвки. Страхов
из-за присущей ему скрытности, уклончивости, подчеркнутой обходительности
и нежелания много говорить о себе нередко производил на окружающих не
слишком выигрышное впечатление. Недоброжелатели порой подозревали его
в задних мыслях, желании угодить и нашим и вашим. А наличие у него
высокопоставленных знакомых позволяло делать выводы об угодливости к сильным
мира сего в карьерных целях, совсем уж нелепые из-за свойственной Страхову
щепетильности и деликатности в отношениях18.
Отметим сразу, что при всей симпатии к этому видному деятелю
отечественной духовной культуры, представителю почвеннического движения нами
движет желание быть объективными и стремление быть ближе к истине. И нет
намерения непременно составить «улучшенный» портрет Страхова, обелять
и ретушировать его. В подтверждение такого подхода остановимся сразу на
одном из наиболее отрицательных отзывов о Страхове — довольно подробных
воспоминаниях малоизвестного журналиста, чиновника и цензора С. И. Уманца,
который воспитывался, кстати, в семье почтенного философа Н. П. Гилярова-
Платонова. Уманец явно страдает вопиющим отсутствием объективности, но на
этот мемуарный источник следует все же обратить внимание, хотя бы потому,
что «Мозаика» Уманца представляет собой квинтэссенцию отрицательных
отзывов о Страхове. Всё равно до этих воспоминаний рано или поздно
доберутся пишущие о нем. Уманец, не скрывающий своей неприязни к Страхову
и духовно чуждый ему публицист, не раз бывал у него дома — словно лишь
для того, чтобы набрать материал для своей компрометирующей почтенного
литератора мемуарной «Мозаики».
Циничный мемуарист обращает внимание в холостяцкой квартире только
на недостатки. Описание внешнего вида кабинета-спальни Уманец начинает
с закоптелого потолка и пыли на вещах и книгах в кабинете Страхова и
ограничивается почему-то лишь этими второстепенными деталями: «Комнаты были
заполнены книгами. Книжные шкапы и полки загораживали все стены и углы.
Одна из комнат была приемной, а другая кабинетом и спальной. Потолок висел
над самой головой, как в мансарде, поражал своей чернотой, годами
накопившейся от непрерывной табачной копоти лампы и пыли, но Страхов ни за что
не позволял производить у себя ремонта и белить потолка и очень сердился,
когда кто-нибудь обращал его внимание на пресловутый черный потолок его
жилища и вообще на невероятную повсюду пыль, лежавшую на всех предметах
его помещения. Визитные карточки, например, на большом майоликовом блюде
18 С. У [Уманец С. И.] Мозаика: (Из старых записных книжек) // Ист. вестник. 1912.
Дек. С. 1042-1047.
57
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
у него на столе были всегда покрыты таким слоем пыли, что, дотронувшись до
них, чувствовалась потребность сполоснуть руки» 19.Чтобы читатель не
слишком доверял этому мемуаристу, перебьем описание Уманца хотя бы суждением
Б. В. Никольского, который часто бывал у Страхова: «Комфорт, удовольствия
и удобства жизни для него, можно сказать, не существовали; он заменял их
только редкой чистотой, аккуратностью и порядком»™ (курсив мой. — В. Ф.).
От брезгливой критики бытовой неряшливости книжника-холостяка,
которой другие посетители квартиры Страхова не отмечали, Уманец переходит
к личности самого хозяина, которую он по неизвестной причине изображает
тоже исключительно черной краской. Больше всего его, как и еще некоторых
мемуаристов, волнует скрытность Страхова: «Страхов был сухой, скучный,
„размеренный" человек, никого в жизни не согревший и сам, конечно, никем
не согретый. Это происходило от необычайной фальшивости этого ученого
натуралиста, который почему-то считал необходимым упорно скрывать свои
мысли и чувства и никогда никому и нигде не высказывать того, что он думает
о данном событии, лице, обстоятельстве, книге и т.п. Все его писания были
таковы, что могли быть свободно поняты и толкуемы на разные лады, по вкусу
каждого, и вообще критические и полемические статьи Страхова никогда не
выражали определенно, ясно и точно выводов самого автора. Я, не стесняясь,
звал Страхова в глаза и при всех последователем „римских авгуров", которые
говорили исключительно двусмысленные речи, чтобы всегда иметь возможность
сказать именно то, что в данное время было потребно, и ловко отказаться от
нежелательного смысла слов»21.
Уманец во всех действиях Страхова видит корысть и расчет.
Особенно много насмешек посетителя вызывает доходящая до преклонения любовь
Страхова к Толстому: «Из Льва Толстого Страхов сделал себе особый культ
и очень ловко грелся и блестел сам в лучах славы своего знаменитого „друга".
Портреты Льва Толстого — в крестьянской рубахе, босяком {так!) и за плугом —
красовались, конечно, на первом месте. С величайшим восхищением передавал
Страхов своим гостям о своих поездках в Ясную Поляну, куда он ежегодно
благоговейно паломничал и где его Л. Н. Толстой охотно принимал, пользуясь
его знаниями при составлении своих статей». Уманец и здесь подозревает
Страхова в своекорыстии: «.. .чувствовалось, что вечные разговоры о Толстом
и специальный „культ" Толстого придуман Страховым для самовосхваления
и самопрославления»22.
На самом деле Толстого и Страхова связывала настоящая дружба,
как уже давно подтверждено их перепиской. Что же касается практицизма
19 С. У [Уманец С. И.] Мозаика. С. 1043.
20 Никольский Б. В. Страхов. С. 6.
21 С. У [Уманец С. И.] Мозаика. С. 1043.
22 Там же. С. 1046.
58
Глава 2. Личность, характер и быт
и расчетливости, то в действительности всё было ровно наоборот: на податливого
и вежливого, не обремененного семейными узами Страхова взваливали свои
заботы буквально все. Не был исключением и его друг Толстой, которому он
был готов, восхищаясь его гениальностью, всячески помогать, служа и
справочной книгой, и помощником в хлопотах по издательским делам, и корректором.
Толстой раз за разом просит Страхова оказать помощь — то учителю,
уволенному из гимназии за неподобающие взгляды, то какой-то заезжей иностранке,
то сектанту...
Страхов умел быть полезным и смиренно выполнял эти свои послушания.
Лучше всего говорит о его благородстве то, что он неутомимо и бескорыстно
трудился над изданием и популяризацией сочинений близких ему писателей
Ап. А. Григорьева и Н. Я. Данилевского после их ухода из жизни.
Христианская заповедь заботы о ближнем — не пустая декларация для
Страхова. Например, Стахеев в повести «Пустынножитель» приводит
многочисленные неизвестные нам из других источников примеры помощи его соседом
по квартире самым разным просителям — от безвестных нищих интеллигентов,
которым он помогает переводами, до спившегося брата, который приходит к нему
требовать денег и еще попрекает его за недостаточную помощь. Ходатайства
о помощи нуждающимся нередки и в письмах — например, В. И. Ламанского
он просит походатайствовать у его брата, человека с положением, о помощи
с работой какому-то безвестному человеку; аналогичная просьба о другом
нуждающемся содержится в письме к историку К. Н. Бестужеву-Рюмину.
Характерна даже такая незначительная, но выразительная деталь: за
две недели до своей кончины Страхов ходатайствует в письме к издательнице
«Северного вестника» Л. Я. Гуревич о присылке редактируемого ею журнала
историку К. Н. Бестужеву-Рюмину: «А я получаю и очень смущаюсь тем, что
стою этого меньше Бестужева»23.
Стахеев в 1904 г. опубликовал полный юмора рассказ о том, как Страхов
расстроился в связи с награждением его орденом Св. Станислава первой
степени и о мытарствах из-за отсутствия у него денег, чтобы выкупить этот орден24.
Так и не решившись по скромности просить о помощи высокопоставленных
знакомых, включая своего друга-однокурсника, министра финансов И. А. Вышне-
градского, Страхов смиренно продал свою добротную шубу и сделал вывод,
что следует обходиться собственными средствами. Позаимствовав, видимо,
в рассказе Стахеева эту прекрасно характеризующую Страхова историю с
комическим оттенком, Уманец опять-таки трактует ее в невыгодном для Страхова
свете, налегая на «прирожденное чувство низкопоклонства» и робость.
Само собой, тенденциозно показаны Уманцем и отношения Страхова
с Победоносцевым и прочими влиятельными людьми: автор изображает Страхова
23 РО ИРЛИ. Ед. хр. 2382. Л. 7.
24 Стахеев Д. И. Станислав первой степени и енотовая шуба... С. 441^447.
59
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
как «всю свою долгую жизнь подделывавшегося к сильным мира», чего не
было и в помине.
Совсем иной дух веет от воспоминаний о Страхове гораздо ближе и
дольше его знавшего Стахеева: «Живя в столице чуть ли не полвека, он вел такой
образ жизни, как будто жил на другой планете, на которой нет ни злобных, ни
завистливых людей, ни чинов, ни орденов. (...) Он думал, что мир устроен
прекрасно, и всё в нем, по библейскому выражению, „добро зело". И в частных
беседах, и в литературных своих работах он не раз высказывал такое мнение,
что в людях вообще больше хорошего, нежели дурного»25. Типично и суждение
педагога Н. Ф. Бунакова, немного сотрудничавшего во «Времени», который,
узнав о закрытии журнала из-за «Рокового вопроса», удивлялся, что это
произошло по вине «благодушнейшего, благонамереннейшего и скромнейшего
Н.Н.Страхова»26.
Более глубокое, чем Уманец, понимание личности Страхова показал,
например, и известный публицист М. О. Меньшиков. Он лишен предвзятости,
и у него совсем другое мнение и об отношениях Страхова с влиятельными
лицами, и о его погруженности в мир книг: «Страхов всю жизнь прожил в сфере
самых высших откровений современного и прошлого человечества. Он мог
бы сделать блестящую карьеру (в числе близких друзей его были Вышнеград-
ский, Победоносцев и др.), но он был далек от этого: 23 года тому назад он
сделался библиотекарем Публичной библиотеки и дальше не пошел. Да и куда
ему было идти с Олимпа, где он чувствовал себя среди богов! (...) Страхова
упрекали, что он льнул к сильным мира, к знаменитостям, старым и молодым.
Действительно, среди „сильных мира" у него было много друзей, но он был
совершенно независим от них и не извлек никакой корысти из этой дружбы.
Не со всеми, а только с избранными по уму и дарованию водился он, причем
имел бесстрашие любить, кого хотел»27.
Уманец, надо сказать, оказался не одинок в своем желании получить от
Страхова прямое признание, что лично он думает по тем или иным вопросам.
У Страхова был еще один знакомый, профессор древней истории В. И. Модестов,
который также налегал на то, что ему никак не удавалось добиться от
мыслителя полной откровенности по мировоззренческим вопросам. Но Модестов брал
вопрос гораздо шире: «Прежде всего, нелегко выяснить себе миросозерцание
г. Страхова (...), хотя он многократно высказывался о всех этих материях. (...)
Читайте и перечитывайте его сочинения, беседуйте по целым часам с ним
лично — вы все-таки останетесь в большом недоумении насчет образа мыслей
г. Страхова. Даже в определенных практических вопросах общественной жизни,
25 СтахеевД. И. Станислав первой степени и енотовая шуба... С. 442.
26 БунаковН. Ф. Записки: Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно
провинциальною, 1837-1905. СПб., 1909. С. 67.
27 М. [Меньшиков М. О.] Памяти Н. Н. Страхова // Книжки «Недели». 1896. № 3. С. 253-257.
60
Глава 2. Личность, характер и быт
—ф
интересующих в известное время всех и каждого, г. Страхов никогда не
высказывается ясно. (...) Может, это и есть настоящая мудрость в наше время — писать
и говорить так, чтобы читающий всегда оставался в некотором недоумении
насчет истинного образа мыслей человека; но в таком случае это — мудрость
очень тонкая и даже перетонченная»28.
Некоторая скрытность, неопределенность позиции действительно
ощущалась в произведениях Страхова, если даже Розанов в своей рецензии на
второе издание книги «Мир как целое» (1892) упрекал автора в недоверии своим
читателям, в том, что он не говорит самого интересного о себе, а следовало бы
отбросить разделяющую завесу, снять «пленку благоразумия»29.
Страхов был этим отзывом, как и вообще претензиями по поводу его
скрытности, удивлен. Он отреагировал в письме Толстому таким длинным
и очень искренним объяснением этой своей особенности:
«Как странно! Они хотят, чтобы я перестал быть самим собою! Ведь моя
объективность и есть выражение моего ума, моей натуры. Я не могу говорить
о своих личных делах и вкусах; мне это стыдно, стыдно заниматься собою
и занимать других своею личностью. Мне кажется всегда, что это не может
быть для других занимательно, и потому я берусь за их дела, за их интересы,
или рассуждаю об общих, объективных вопросах. Или еще иначе: у меня есть
действительное расположение к скромности; (...) я слишком мало влюблен
в себя и вижу хотя отчасти свои недостатки.
Теперь возьмите все это вместе; мою стыдливость, деликатность,
скромность — ведь это моя душа, положительная сторона моего существа, которую
я сам ценю и всячески стараюсь поддерживать. Если она выразилась в моих
писаниях, то тем лучше — у меня, значит, есть настоящее своеобразие,
определенная физиономия и я готов радоваться упрекам Розанова»30.
Страхов готов согласиться с выдвигаемыми упреками, но дает иное, более
глубокое объяснение своим недостаткам: «Но возьмем дело с другой стороны.
С этими качествами связана скрытность, гордость, сухость, недоверие,
отсутствие живых отношений к людям. Это оборотная сторона моей души, и Вы
знаете, как она связывается с лицевою стороною. Что же мне делать? Я
подавляю эти недостатки сколько могу, стараюсь дать им наилучший смысл, обратить
в соответствующие им достоинства. Кроме того, всегда я жажду любви, доверия,
нежности, но мое самолюбие и гордость меня коробят и отталкивают.
Но зачем же и для кого я стану рассказывать эти обыкновеннейшие
истории? Я очень ясно отличаю мое личное, случайное, от того, что имеет общий
интерес; когда пишу, то стараюсь возводить свои мысли до общеинтересного,
для всех законного и убедительного: тогда я уверен, что меня не обманывает
28 Модестов В. Борьба с Западом // Новости и Биржевая газета. 1887. № 288,20 окт. С. 2.
29 РозановВ. В. Эстетическое понимание истории. М.; СПб., 2009. С. 132.
30 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 909-910.
61
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
свойство моей души и случай моей жизни»3'. Страхов был убежден, что «частная
жизнь должна быть неприкосновенна для печати»32.
Таким образом, причины, по которым Страхов отказывался высказываться
о себе и своих мнениях, — нравственного порядка: ему были в высокой степени
присущи чувства стыдливости и деликатности. В этом стремлении Страхова
избегать внимания к своей личности, как и в его постоянном желании предельно
ограничить свои жизненные запросы, определенно присутствовали аскетические
религиозные черты. Если Розанов писал о «грусти, (...) чудной праведности
и чистоте чувства»33 произведений Страхова, то многим эти особенности
мыслителя представлялись нарочитыми, а его неприхотливость, кроткое приятие
жизненных обстоятельств они принимали за показное «смиренничанье».
В этой связи дорогого стоит признание такого нравственного авторитета,
как славянофил И. С. Аксаков, с которым у Страхова установились теплые,
доверительные отношения. Аксаков был уверен, что в подчеркнутой вежливости
и сдержанности Страхова нет показного «смиренничанья»: «Если бы я не верил
в искренность Вашего смирения, глубокоуважаемый Николай Николаевич,
я бы назвал его смиренничаньем и не на шутку б рассердился на Вас за Ваши
извинения...»34
Впрочем, человеку пишущему такое объяснение своего странного для
писателя нежелания говорить с читателями о самом важном будет скорее
вменено в вину, нежели поставлено в достоинство. Но совсем с иными мерками
подошел к личности Страхова Б. В. Никольский, молодой в то время поэт, критик
и ученый-юрист, который последнее время перед кончиной Страхова часто
виделся и беседовал с ним. Он работал в это время над очерком жизни и творчества
писателя и получил от него ряд бесценных, неизвестных из других источников
биографических материалов. Этот критико-биографический очерк вышел в свет
сразу после смерти Страхова и стал своего рода развернутым некрологом
философа и критика, на который ориентировались позже писавшие о мыслителе.
Молодой биограф не останавливается на фиксации лишь внешних
признаков аскетических черт в облике и образе жизни Страхова. Он набрасывает
целую схему воззрений и привычек «мирского монаха» Страхова, возводя их
исключительно к церковно-монашеским влияниям. В этом тщательно
выстроенном портрете есть очень точные попадания в цель, но имеются, надо признать,
и очевидные преувеличения и натяжки.
31 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. С. 910.
32 Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. 2-е изд. Киев, 1897. С. 148.
33 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 160.
34 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 141.
62
Глава 2. Личность, характер и быт
Ф
Никольский возводит особенности необычного поведения Страхова к
монастырскому влиянию на писателя, выросшего в священнической и монашеской
среде: «Прежде всего монастырская жизнь и семинарское развитие выработали
в Страхове его личный характер или то, что обычно называют характером:
приемы обращения с людьми и предметами, отношения к мнениям и системам,
к искусству и науке. И в личном обхождении покойного, и в строе его жизни,
и во всей его биографии было много аскетического, много знакомого каждому,
кто хоть поверхностно наблюдал характер и особенности православного
монашества»35.
Никольский так описывает бытовое поведение Страхова в свете
монашеских традиций: «Всегда неизменно деликатный и благодушный, мягкий
и вежливый, но уклончивый, так же скупой на выражение своих симпатий, как
и антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой
или смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим
вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль,
никогда не направляющий разговора на ту или другую сторону, но всегда идущий
за своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий
себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым словом —
таким вспоминают его с невольной улыбкой все, кто лично знал Страхова. Он
обо всем решительно беседовал таким тоном, как монах говорит с мирянином
о светских делах и вопросах, тщательно избегая даже малейшим намеком
обнаружить хоть что-нибудь из внутреннего быта и обихода своего монастыря.
О себе Страхов почти никогда не говорил, даже местоимение я проскальзывало
у него в разговоре, как и в сочинениях, только в виде исключения»36.
Страхов активно участвовал в литературной жизни Петербурга: посещал
всевозможные мероприятия, принимал дома гостей по средам и сам ходил по
определенным дням, как было тогда принято, на обеды. Слыл завсегдатаем
оперы. Но нередко это участие в светской жизни и особенно вынужденные
встречи тяготили его. Он предпочитал уединенные занятия в домашней тишине:
«Сижу больше дома, но меня тащат, и, как ни упираюсь, приходится многое
видеть и слышать. Прихожу домой и чуть не упрекаю себя за измену
одиночеству и молчанию»37.
Никольский, подобно другим современникам, доносит до нас необычную
обстановку квартиры Страхова, естественно находя в ней сходство с кельей
монаха: «В его дом вы входили, как в келию какого-нибудь монастырского
библиотекаря: портреты хозяина, подаренные ему на память художниками,
портреты и бюсты двух, трех писателей, две-три картинки, дорогие как
воспоминания детства, и полки с книгами: вот вся его обстановка. Несколько стульев
35 Никольский Б. В. Страхов. С. 6.
36 Там же.
37 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 549.
63
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ф -
предназначалось для гостей; остальная мебель допускалась лишь как прибор
для помещения книг»38. Из-за бытовой аскетичности сравнение скромной
квартиры с кельей, видимо, напрашивалось само собой: с монашеским жилищем
сравнивали его квартиру и другие современники. Например, тот же С. И. Уманец
писал об основной, заставленной книгами комнате Страхова как о «кабинете,
напоминающем келью Фауста, которого, по внешности, отчасти олицетворял
собою наш маститый, седобородый философ»39. Конечно, образ Страхова с его
ученостью, отрешенностью от быта и огромной библиотекой обнаруживал
некоторое сходство с Фаустом. Так, с Фаустом сравнил Страхова Розанов в
неоконченном некрологе — он рисует там «образ восточного Фауста, выросшего
на светлой почве православия»40. Но трудный путь неустанного искания истины
не привел Страхова к утрате стремления к добру.
Книги значили очень много в жизни Страхова с детства, и, может быть,
именно склонность его натуры к познанию, к чтению и увела его от соблазнов
мирской жизни. Он писал в своих воспоминаниях: «С самого детства у меня
была любовь к книгам, и знаменитые имена писателей, ученых и философов
возбуждали во мне благоговение и желание познакомиться с их
произведениями. Тут было что-то невольное, как бы прирожденное, мне и тогда, и потом,
почти не случалось встречать людей, у которых эти чувства господствовали
бы в такой мере, как у меня. Царство ума, новые и древние создания мысли
и творчества являлись мне с детства как далекое небо, обступившее меня со
всех сторон и усеянное прекрасными светилами»41. О начатом в Костромской
духовной семинарии «плавании по морю книг» Страхов рассказывает в своих,
к сожалению, кратких, лишь начатых воспоминаниях. Он ставит себе
интересную цель: уловить через свои меняющиеся умственные интересы ход движения
различных явлений философского характера в русской литературе.
Отличительной чертой Никольский называет «монашескую»
сосредоточенность Страхова на теме беседы или размышления: «В мышлении, разговорах,
в своих произведениях он опять-таки отличался той чисто монашеской, почти
наивной серьезностью, с которой взвешивал каждую высказанную ему мысль,
каждое прочитанное им мнение, тем глубоким и непосредственным восторгом,
тем простодушным и искренним любопытством, с которым готов был
восхищаться каждым оригинальным взглядом или суждением, каждым мало-мальски
даровитым произведением науки или искусства, наконец, каждым проблеском
таланта вообще, в чем бы тот ни проявлялся. Даже манеры, обороты речи, самая
наружность его напоминали типичного великорусского монаха»42.
38 Никольский Б. В. Страхов. С. 6-7.
39 Уманец С. И. Из воспоминаний об А. Н. Майкове // Ист. вестник. 1897. Май. С. 462.
40 Розанов. ПСС. Т. 1.С.456.
41 Страхов Я. Воспоминания о ходе философской литературы // Ист. вестник. 1897.
Май. С. 423.
42 Никольский Б. В. Страхов. С. 7.
64
Глава 2. Личность, характер и быт
Та же мысль о монашеских чертах Страхова звучит и в воспоминаниях
о Достоевском писательницы Веры Микулич: «Холостяк Страхов по образу
жизни был монашеского склада. Достоевский недаром восхищался исполнением
им роли монаха в „Каменном госте" (...)...когда неожиданно для него на сцене
появился Н. Н. Страхов в костюме монаха, с четками и капюшоном, который как
нельзя лучше шел к его наружности, походке и голосу, Достоевский пришел
в положительное восхищение и всё повторял:
— Как он хорош! Браво, Страхов! вызвать Страхова!»43
Даже западник П. Д. Боборыкин, у которого в «Библиотеке для чтения»
в 1860-х гг. сотрудничал Страхов, отмечал то же самое: «По внешности он сразу
выдавал свое духовное происхождение: благообразный и всегда благодушно
улыбающийся „батюшка", а впоследствии „владыка"»44.
Страхову присущи вежливость и деликатность в бытовом общении, а
также умение сохранять спокойствие, достоинство и объективность даже в
литературной полемике, где «мудрые, яко змий» противники, наподобие «враго-друга»
Владимира Соловьева, вовлекали его в ожесточенную полемику, вечно стремясь
уколоть побольнее. Страхов же в полемике старался, как он отмечал, «выбирать
не самые больные места противников, а самые существенные стороны дела»45.
Влияние монашеской традиции и вообще церковных писателей
отразилось, по мнению Никольского, и непосредственно на стиле Страхова, простом
и ясном и в то же время как бы уклончивом:
«В равной мере с личным характером отразились воспитание и
образование Страхова в том, что в писателе соответствует характеру в человеке, а именно
в его стиле. Неопределенно-уклончивая мягкость этого стиля при совершенной
точности, ясности и чистоте языка сообщает произведениям Страхова
удивительную внешнюю оригинальность. Полная простота и общедоступность
изложения неотъемлемо свойственны этим самым простым книгам о самых
мудреных и темных вопросах. Он вежлив и деликатен с мыслями и
мнениями, как с людьми, не обнаруживая притом ни тоном, ни отношением к ним
своего согласия или несогласия. Насмешки, желчи в них нет и помина, хотя
читатель очень часто встречается с тонкой, осторожной, но тем более меткой
и едкой иронией. (...) В своеобразной рассудительности его шуток особенно
ярко проявляется основная манера Страхова: он всегда писал простодушно,
хотя рассуждал хитроумно»46.
В то же время Никольский оригинально дополняет свой несколько
нарочито подчеркнутый «монашеский образ» в портрете Страхова еще одним
«измерением»: он считает важнейшей чертой духовной личности Страхова его
43 Микулич В. Встречи со знаменитостью. М., 1903. С. 13-14.
44 Боборыкин П. Д. За полвека: (Мои воспоминания): в 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 396.
45 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. XI.
46 Никольский Б. В. Страхов. С. 7.
65
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
эстетический подход к явлениям жизни и культуры, который органично сплавлен
с его философским уединением, скрытой религиозностью и созерцательностью:
«...как эстетик, он не столько участник, сколько зритель бытия. Среди других
мыслителей он является каким-то аскетом, отшельником, который свои слова
не вставит в шумный поток мирских речей и суждений, но все выслушает,
все запомнит и все переживет потом в тиши своего уединения. Этим
созерцательным духом умозрения объясняется одна из характернейших особенностей
Страхова — его объективизм, его крайняя нелюбовь к общим взглядам, широким
обобщениям, классификациям и окончательным выводам...»47 Что касается
созерцательности, то в автобиографической повести «Последний из
идеалистов» Страхов описывает, как уже в детстве почувствовал, что он «чужой для
жизни», и на долгое время остался «с вытаращенными глазами», отстраненным
от загадочной жизни: «Я же только смотрел и думал свою изумленную думу»48.
Страхова, как уже отмечалось, из-за его осторожной манеры ведения
беседы часто упрекали в уклончивости и неискренности, но Никольский
опровергает такое мнение, объясняя эту черту по-другому: «Он писал как будто не
теми словами, какими думал. Осторожность и отвлеченность, прозрачность
выражений, слишком художественные, чтобы напоминать мертвенный
канцелярский стиль, и то же время слишком светские, чтобы вполне приближаться
к манере письма современных церковных писателей, так изысканны и в то же
время просты у Страхова, до такой степени предоставляют читателя мыслям
автора, ничего ему не подсказывая слогом, что многие склонны смешивать их
с неискренностью»49.
Даже стилистическое своеобразие сочинений Страхова Никольский
возводит к церковной литературе, удостаивая его необычного для светского писателя
титула «аскета стилистики»: «.. .церковная стилистика дала русской литературе
в лице Страхова одного из самых замечательных наших прозаиков. То, в чем
иные склонны видеть хитрость или лукавство, было в сущности величайшей
добросовестностью, учтивостью мысли этого аскета стилистики»50.
* * *
Об условиях и характере повседневной жизни Страхова, весьма скромных
и однообразных, не пришлось бы говорить так много, когда бы не упреки ему
в известной заметке в записной тетради Достоевского, опубликованной лишь
в 1971 г.51 Эта заметка получила широкую известность после того, как было
47 Никольский Б. В. Страхов. С. 17.
48 Страхов Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 264.
49 Никольский Б. В. Страхов. С. 7-8.
50 Там же.
51 Достоевский Ф. М. Записная тетрадь: (1876-1877) / подгот. текстов Л. М. Розенблюм;
коммент. И. 3. Сермана // Неизданный Достоевский: Записные книжки и тетради. М, 1971. С. 619-620.
66
Глава 2. Личность, характер и быт
Ф
высказано мнение, что именно она могла послужить толчком для написания
шокировавшего всех письма Страхова о великом писателе.
Достоевский в этой явно недоброжелательной заметке в «Записной
тетради 1876-1877 гг.» заявляет, что Страхов любил «пироги жизни», и вспоминает
броскую фразу из баллады Пушкина «Жених»: «Она сидит за пирогом и речь
ведет обиняком». Далее следует прямое обвинение Страхова в приживальчестве:
«Он сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом».
Это обвинение, конечно, несправедливо.
Да, Страхов, как холостяк, чаще бывал в гостях, чем принимал дома.
Но тогда так было принято: личное, неофициальное общение занятых людей
происходило, как правило, еженедельно на званых обедах, по определенным
дням. Каждый из литераторов, вплоть до самых почтенных, имел лишь один
приемный день, а в остальные дни недели они хаживали друг к другу на обед
в гости. И переписка Страхова пестрит такого рода приглашениями или,
наоборот, извинениями, что он по каким-то причинам прийти не может. Но
никому из знакомых Страхова не могло прийти в голову попрекать его тем, что он
«кушать любит индеек», преимущественно чужих. Наоборот, гостеприимные
хозяева, чаще всего хозяйки, были рады потчевать визитера как можно обильнее
и обижались, если гостю приходилось отказываться.
Страхов ходил в гости, помимо чисто деловых визитов, главным образом
к друзьям из мира литературы и философии, и они почитали за честь принять
его в своем доме. Точно так же посещали многие из них и его холостяцкий дом.
У Страхова, как и у всех, был свой приемный день — среда, и Розанов отмечает,
что Николай Николаевич очень не любил, чтобы к нему приходили в другие
дни, отвлекая от работы. Значит, Страхов все-таки больше работал, чем ходил
по гостям кушать индеек.
В доме у Страхова бывали самые разные люди. Занимавший с
семьей половину той же квартиры беллетрист Д. И. Стахеев в воспоминаниях
упоминает, что посещали Николая Николаевича и писатели, в частности
Достоевский, Леонтьев, Соловьев, Майков. Что касается Достоевского, то
он, как отмечает Стахеев, бывал в их со Страховым совместной квартире,
в которой они поселились в 1875 г., редко. Правда, ранее, во времена их
совместной работы в журналах «Время» и «Эпоха», когда их отношения были
очень близкими, они, судя по воспоминаниям самого Страхова, встречались
по нескольку раз в день. После прогулки «вечером к седьмому часу он опять
иногда заходил ко мне, к моему чаю, к которому всегда собиралось несколько
человек»52. Достоевский, как объясняет Страхов, в то время чаще бывал в его
холостяцкой квартире, так как его «можно было навещать, не боясь никого
обеспокоить».
Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 422.
67
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Конечно, в доме Страхова индеек не подавали, хотя кухарка у него была,
как следует из повести «Пустынножитель», в которой сосед по квартире,
писатель Стахеев, живописно описывает его холостяцкий бытовой уклад.
Но когда собираются люди интеллектуальных и творческих интересов,
то беседа, конечно, становится никак не менее важной частью встречи, чем то,
что подается к столу. Разносолов, судя по всему, у Страхова действительно не
бывало. Зато он любил и умел, как свидетельствуют современники, заваривать
чай и кофе. Об обстановке во время чаепития у Страхова сохранилось яркое
воспоминание художника И. Е. Репина, который познакомился с философом
и критиком в Ясной Поляне. Репин посещал квартиру Страхова на пятом этаже
в Петербурге в тот период, когда писал его портрет: «Красиво был обставлен
книгами в изящных переплетах кабинет Николая Николаевича. В нем же пили
чай. Хозяин относился с большим вниманием к чаю: он имел дивный сорт чая
и так любовно-умело его заваривал и наливал крепкий, густой, ароматный
напиток; чай этот знали его друзья, и даже боявшиеся крепкого чая (столько
таких!) не могли оторваться от высокого стакана в серебряной подставке
и выпивали весь до дна, помешивая ложечкой. Всё тут было в меру и имело
прелесть ангельской чистоты олимпийского нектара. Николай Николаевич
счастливо сиял добрыми большими глазами и был бесконечно доволен и
гостями и собою. Все так детски причмокивали. А другой стакан пили только
большие храбрецы, не боящиеся бессонницы. Прошу прощения за это
слишком распространенное описание чаепития; наши интеллигенты относятся
совершенно индифферентно, даже с презрением, к еде, питью; заваривать чай
для них обуза, которую всякий готов свалить на самую безвкусную прислугу.
Н. Н. Страхов в этом составляет исключение. Я смело могу утверждать, что
этот чай развязывал языки»53.
А вот как описывает страховские «среды» Стахеев: «По средам собирались
у него обычно гости, давнишние приятели, преимущественно старички. Книги
на диване сдвигались насколько возможно в одну сторону, чтобы дать место
гостям, что, впрочем, при непомерной длине дивана не представляло
трудности. (...) Вокруг дивана стояли кресла ветхозаветной работы, тоже с жесткими
деревянными спинками, как и диван, тоже из красного дерева.
На чайном столе, т.е. говоря точнее, не на чайном, а тоже заваленном
книгами столе, довольно длинном, вроде как бы письменного, стоявшем в широком
простенке между окном и балконом, появлялась чистая скатерть с подносом,
самоваром и чайным прибором. Иногда бывали на ней расставлены и сухари,
и сливки, но — не всегда. (...) Сливки, лимон и сухари составляли всю роскошь
его угощения.. .»54
53 Репин И. Е. Случайные впечатления от Владимира Сергеевича Соловьева // Записки
отдела рукописей РГБ. М., 2004. Вып. 52. С. 161.
54 Стахеев Д. И. Станислав первой степени и енотовая шуба... С. 471-472.
68
Глава 2. Личность, характер и быт
—»
Об атмосфере на этих «средах» Стахеев писал в другом месте: «На
вечерних собраниях по средам у Николая Николаевича никто ни за кем не ухаживал,
никто никому не льстил, не было ни у кого ни важности, ни высокомерия. Все
были равны, и все говорили одинаково спокойно, не раздражаясь, не волнуясь,
не возвышая голоса и не перебивая один другого. Такой всегда мирный
характер беседы обуславливался годами собеседников, их житейской мудростью,
умением выслушать возражения, умением отвечать на них, не рисуясь своим
красноречием, как рисуются им адвокаты, а кратко и вразумительно: „в
малых словах много разум замыкающе". Такому характеру бесед способствовал
и сам Николай Николаевич, отличавшийся необыкновенною кротостию нрава
и спокойствием речи. Угощал он гостей своим чаем, который всегда сам с
чрезвычайною тщательностию заваривал и сам подавал гостям стаканы, каждому
отдельно и непременно с радушною улыбкой»55.
Таким образом, гости Страхова очень неплохо проводили время за хорошо
приготовленным чаем, не особенно нуждаясь в каких-либо деликатесах.
* * *
Еще один совершенно не заслуженный упрек Страхову, сделанный
Достоевским, — за его две «видные» должности. И сотрудником Императорской
Публичной библиотеки, а вскоре, словно в придачу, и членом Ученого комитета
Страхов стал не в результате собственного искательства выгодных должностей.
Он был приглашен ради его исключительных знаний и, видимо, не в последнюю
очередь — покладистого, добродушного характера. Должности, особенно
библиотечная, были, конечно, на обывательский взгляд действительно «видные»
и даже завидные. Жалованье полагалось вполне достойное, и Страхов сообщал
вскоре после устройства, что стал отдавать накопившиеся долги. Более того,
он и сам признавал, что ни на должности заведующего Юридическим отделом
библиотеки, ни в роли члена Ученого комитета Министерства народного
просвещения он не слишком перетрудился, хотя от творческой работы служебная
деятельность его, само собой, сильно отвлекала. Но все-таки главной причиной,
по которой Страхов более десяти лет провел на государственной службе, был, по
всей видимости, спокойный, неторопливый, подходящий ему по характеру и при
этом весьма вольный режим работы. В Императорской Публичной библиотеке
у него летом «каникулы» были настолько большими и растяжимыми, что он мог
позволить себе дальние путешествия в имения Толстого, Фета, Голохвастова или
Данилевского, а потом еще и в Полтаву или Киев, к родственникам. Бывало, он
отправлялся в этот длительный отпуск и за границу, на лечение, совмещаемое
со слушанием опер любимого Вагнера. Этим его возможностям можно было,
Там же. С. 476.
69
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
»
конечно, позавидовать, но зависть, как известно, не самое благородное чувство.
Каждый стремится заполучить такую работу, которая бы его максимально
устраивала. Думается, Страхов заслужил приглашения на занимаемые им места.
Надо сказать, что ежегодные выезды Страхова из Петербурга радовали
его не только тем, что он проводил летнее время с замечательными людьми
в интересных беседах, но еще и возможностью выбраться из Северной столицы,
климатом которой он очень тяготился.
Страхов почти всю жизнь прожил в Петербурге, но столицу так и не
полюбил. Одной из постоянных тем его жалоб были сырая или дождливая
петербургская погода и нехватка солнца. Мучился он не только из-за климата;
не нравились ему и люди, населявшие чиновничий столичный город.
«Богопротивный» Петербург — чужой для Страхова. Он чувствует себя лучше
в Ясной Поляне, Воробьевке и, конечно, в крымской Мшатке у Данилевского.
«В Воробьевке и в Ясной Поляне я отвожу душу и чувствую себя больше дома,
чем в Петербурге»56, — пишет Страхов Толстому из имения Фета в 1879 г. В
августе 1886 г. он жалуется в письме Фету: «Никогда я не помирюсь с тем, что
судьба привела меня жить в Петербурге»57. В 1891 г. —те же жалобные нотки:
«Петербург меня давит своею отвратительною погодою. Уже наступает мрак...
и тоскую по другим небесам»58.
В Петербурге Страхов за две свои «выгодные» должности, позволившие
ему раздать накопившиеся долги, обрести добротное постоянное жилище рядом
с Мариинским театром и свободно разъезжать по друзьям, а то и за границу,
впрочем, не очень держался. И с более доходной из них, в Императорской
Публичной библиотеке, он уволился сам в 1885 г., после поразившей его кончины
близкого друга, Н. Я. Данилевского. Хотя Страхов выслужил себе очень высокий
чин действительного статского советника, равный в Табели о рангах
генеральскому званию, и удостоился за службу нескольких орденов, он к карьерной
стороне жизни был совершенно равнодушен.
Богат Страхов тоже, конечно, никогда не был. Он писал Розанову
в 1892 г.: «Вообще же я всю жизнь прожил на очень малые деньги»59.
Пенсия Страхова, как отмечалось в воспоминаниях, была чрезвычайно мала, как
и его оклад в Ученом комитете Министерства народного просвещения. Жил
он очень скромно и на бытовые нужды тратился мало. Стахеев вспоминал:
«К чести его нужно сказать, что он, будучи товарищем покойного министра
финансов, И. А. Вышнеградского, никогда, однако же, не заикнулся о том, что
вот, мол, какая у меня крохотная пенсия. А мог бы и, конечно, получил бы...»60
Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 527.
Фет и его окружение. Кн. 2. С. 421.
Там же. С. 525.
Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 113.
Стахеев Д. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний). С. 82.
70
Глава 2. Личность, характер и быт
Хлопотал вместе с Бестужевым-Рюминым о пенсии для вдовы Леонтьева, не
раз ходатайствовал за других, а о себе не просил. Стахеев в своем рассказе
упоминает такую деталь: одежда, которую носил Страхов, была довольно
ветхой, хотя чистой и аккуратной. О бедности Страхова много писал Розанов,
как и о том, что работа на дому по проверке предлагаемых в министерство
учебников, которую он выполнял в последние годы, была недостойна его
квалификации и к тому же довольно изнурительна, при очень скромном
жалованье. Особенно поразила Розанова история, рассказанная ему Стахеевым.
Однажды к Страхову пришел гость, и он зашел к соседу, Стахееву, попросить
рубль, чтобы послать в магазин за чаем. При этом Страхов нашел возможным
выделить из своих скромных средств Розанову деньги на издание его первой
книги, которые тот ему до конца так и не вернул.
Страхов был настолько же деликатен в обращении, насколько и щепетилен,
опасаясь кого-то обременить или стать кому-то обузой. Поэтому предъявлять
ему упреки в «приживальчестве» могли разве что люди не совсем сведущие
либо необъективные, по каким-то другим причинам. Имеется великое
множество свидетельств того, как радостно принимали Страхова везде, где он бывал.
Можно вспомнить, например, как зазывали Страхова в Ясную Поляну Толстые
и как Фет ревностно оспаривал у Толстого право на гощение гостя в
Воробьевке лишний денек-другой. Страхов с его добродушным характером и вечной
улыбкой на лице, а главное, с теми умными, задушевными беседами, которые
зарождались около него, был желанным гостем у своих друзей и знакомых.
* * *
У Страхова есть любопытная статья «Пример апатии», опубликованная
в журнале Достоевских «Время» в 1862 г. Она важна для понимания сущности
характера мыслителя. В ней он изложил свое кредо не только философского,
но и, так сказать, бытового идеализма. Страхов искренне верил, что жизнью
общества руководят не утилитарные соображения, не практические интересы,
а идеи. С детской непосредственностью, как-то естественно сочетающейся
у него с рассудительностью ученого, созерцательностью философа и
христианским подходом к жизни, Страхов утверждает: «Люди всегда были, есть и будут
идеалистами»61. Он утверждает это, несмотря на знание, что материальные
интересы, согласно преобладающим утилитарным учениям и постоянно
наблюдаемым в повседневной жизни проявлениям человеческой алчности, казалось
бы, довлеют над жизнью человека. Это не проповедь христианской добродетели
или просто беззаботности, но констатация веры в несокрушимое и
необъяснимое рационально тяготение человека к идеализму. Страхов допускает, что есть
61 Страхов Н. Из истории литературного нигилизма (1861-1865). СПб., 1890. С. 126.
71
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
немало людей, которые считают идеализм корнем всех человеческих бедствий.
Но, по его мнению, это заблуждение: если болит рука, это не значит, что ее надо
отрубить. Он считает, что идеализм должен быть осмыслен и оздоровлен. «Мир
управляется идеализмом» — еще раз категорично заявляет Страхов. «.. .Идеализм
есть самая крепкая из сил человеческой жизни». Он предупреждает «анти-иде-
алистов», что бороться с идеализмом — значит вредить человеческой природе.
И самое главное: это дело противоестественное, так как противники идеализма
в своей сущности такие же идеалисты, только наоборот: их идеи носят сугубо
практический характер.
Так что идеализм — не просто мировоззрение Страхова, но и коренное
свойство его личности. Недаром неоконченную автобиографическую повесть,
в которой раскрываются некоторые важные, потаенные черты его характера,
он назвал «Из записок последнего идеалиста». В этом он, конечно, сильно
перекликается с «последним романтиком» Ап. Григорьевым, который являл
собой, несомненно, еще один яркий пример неистребимого идеализма, только
более хаотического склада.
Идеализм был присущ Страхову и как бытовая, повседневная
поведенческая черта, очень характерная для значительной части русского народа, ибо
она восходит, конечно, к христианству. Страхов интуитивно чувствовал ее
одухотворяющее влияние на жизнь и старался воплотить в собственном
поведении. А когда встретил в романе Толстого «Война и мир» рельефно
прописанные образы, гениально воплощающие это замечательное качество русских
людей, он легко сумел, опираясь на собственный внутренний опыт, вычленить
эти народные типы из множества действующих лиц романа и подчеркнуть их
значение в духовной жизни нашего народа.
Но это качество имеет и негативную сторону: Страхова как идеалиста по
жизни отличает пассивность, созерцательность натуры. Он сторонится
общественной активности, не стремится к карьере, не имеет четкой политической
программы, не формулирует собственной философской системы. «Никогда не
чувствовал я в себе ни охоты, ни способности выступать предводителем, поучать,
направлять умы; поэтому я стоял в стороне и только наблюдал, только судил,
как это делают другие»62. Он, по его словам, всегда предпочитал не деятельное,
а «наблюдательное настроение ума»63. П. П. Перцов отмечает трудную судьбу
Страхова — «мудрого старика», вынесшего «всю тяжесть созерцательного
призвания», и противопоставляет «тихое» творчество «консерваторов» шумной
литературе деятельного «левого лагеря»64.
62 СтраховН. Н. Критические статьи об И.С.Тургеневе и Л. Н.Толстом: (1862-1885).
3-е изд. СПб., 1895. С. V.
63 СтраховН. И. Наблюдения: Посвящается Ф. М. Д(остоевско)му IIЛН. М., 1973. Т. 86:
Ф. М.Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 563.
64 Перцов П. Н. Н.Страхов. 1896-24 января—1916 // Нов. время. 1916. № 14325,25 янв. С. 4.
72
Глава 2. Личность, характер и быт
Наше утилитарное время отмечено еще большим снижением уважения
к уму созерцательному, философскому. В то же время художественным словом
мы по-прежнему несравненно более увлекаемся, нежели критическим или
философским суждением. Отсюда несопоставимость авторитета Достоевского или
Толстого, обладавших исключительными литературными талантами, со
Страховым, отличавшимся всего лишь исключительными критическими
способностями незаурядного ума. Мысль, выраженная в образах, и проще, доступнее для
восприятия, и богаче оттенками мысли как таковой, о чем убедительно писали
Ап. Григорьев и сам Страхов, но это не умаляет, впрочем, интеллектуального
богатства личности. В былые времена умные, понимающие люди ценились
высоко, никак не ниже художников слова, и Страхов, безусловно, был одним
из таких вдумчивых людей.
В отстаивании Страховым достоинств созерцательных натур, в
отрицании чрезмерно практичного активизма — истоки его явных симпатий
к смирному типу русского народа. Он заявлял, что вообще лучшие русские
люди — смирные, даже пассивные. Он писал Толстому: «По-моему, русский
народ резко разделяется на два класса, людей пассивных и деятельных. В
пассивных, которых большинство, хранятся наши лучшие качества, простота,
правда, всякая душевная красота. Деятельные — почти без исключения дурны;
это или бестолковые молодые люди, как нигилисты, или люди без стыда без
совести, жестокие, своенравные, сильные, но отталкивающие. Эти деятельные
все у нас делают, мы и вся пассивная масса только переносим и отрицаем их
глупости»65. Утверждение, конечно, спорное, но характерное для Страхова,
нашедшего подтверждение своим мыслям в романе Толстого. Любопытно, что
сам создатель этих образов Толстой, принадлежавший, конечно, к
деятельному типу, не был со Страховым согласен. Выразил писатель свое несогласие
и с подтолкнувшей Страхова к этому глубокому обобщению известной мыслью
Ап. Григорьева о смирном и хищном типах. Правда, созданные художественной
интуицией Толстого герои в «Войне и мире», как наглядно показал Страхов,
служат прекрасной иллюстрацией григорьевского тезиса о двух главных
человеческих типах.
* * *
Когда люди, мало знакомые с творческим наследием и личностью
Страхова, задаются вопросом, что более всего выделяет этого писателя среди
современников, то им можно, пожалуй, ответить: его исключительно глубокий ум.
Он этим даром никогда не кичился, и потому, может быть, об этом не так много
писали, да многие, вероятно, этого и не замечали. Человека по-настоящему
65 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 393.
73
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
умного обычно отличает скромность, и непритязательному Страхову было
самоумаления не занимать.
Под умом неискушенные люди часто подразумевают большой запас знаний.
Поэтому, говоря о Страхове как умном человеке, обычно с почтением упоминали
то, что он был профессионально образован и в естественных науках, и в
литературе, и в философии. Страхов был, конечно, большим эрудитом, и его способность
со знанием дела ответить почти на любой вопрос отмечалась его друзьями и
приятелями. Злые языки вслед за наивными людьми называли Страхова «справочной
книжкой» Льва Толстого. Но Толстой, как и другие близкие Страхову люди, ценил
его прежде всего за тот высокий интеллектуальный, творческий и нравственный
дух, который он привносил в беседу. Леонтьев, который со Страховым больше
спорил, чем соглашался, даже в своих упреках апеллирует к его исключительным
умственным способностям: «Я слишком высокого мнения о Вашем уме, чтобы
бояться такого резкого выражения — Вы его поймете»66; «...я уверен, что при
Вашей всесторонней честности и при Вашем глубоком уме, Вы не можете не
сознавать, как вы были не правы противу меня.. .»67
Еще под умом часто понимают способность четко, ясно и логично
выстраивать свои суждения. Такой способностью рационалистического мышления
Страхов, бесспорно, обладал и на необходимости такого «трезвого» способа
рассуждения настаивал.
Более чем кто-либо из русских философов Страхов постоянно поражает
нас умелым использованием ума буквально как какого-то орудия научного
метода, как интеллектуального инструмента — внешне это воспринимается,
будто действует эрудиция, знание основополагающих идей философов,
прежде всего таких как Гегель, Фихте, Шеллинг, Кант, Декарт или Шопенгауэр.
Но на самом деле такое впечатление обманчиво — за эрудицию сам Страхов
прячется больше из скромности и стыдливости. Обширные и разнообразные
знания действительно позволяют ему свободно сопрягать идеи из разных наук,
но они служат только вспомогательным средством: он тщательно продумал
собственным умом все важнейшие проблемы мировой философии и по всем
актуальным вопросам имеет собственное независимое мнение.
Независимость суждений — главная характеристика Страхова как
мыслителя. На всем, что пишет Страхов, лежит отпечаток глубокой личной
продуманности, но ему удобнее было проводить свои идеи через чужие мнения,
либо оспаривая их, либо подчеркивая в них что-то новое и значительное. Это
позволяет ему держаться общей, объективной мерки чувств и мыслей,
опираться же на свои субъективные суждения, говорить о личных делах и вкусах ему
мешают такие черты собственной личности, как «стыдливость, деликатность,
66 Леонтьев. ПСС. Т. 11. С. 271.
67 Там же. С. 410.
74
Глава 2. Личность, характер и быт
скромность»68. Но это тяготение к объективированию самого себя ни в коей мере
не убавляет достоинств выдающегося ума. Только эти достоинства не очень
видны из-за индивидуального расположения к скромности и трезвости мышления,
которые так отличают Страхова от его знаменитых современников, слывущих
первыми умами века главным образом за свою щедрость на пророчества.
Умеющий создать броский образ Розанов в своих гениальных комментариях
к письмам Страхова воспроизвел в книге «Литературные изгнанники»
поразившие его слова из беседы с одним «молчаливым и вдумчивым» ученым, другом
Соловьева, не называя его имени (почти сразу становится понятно, что это был
Э. Л. Радлов): «Какое же может быть сомнение, — Страхов, конечно, гораздо
умнее Соловьева»69. Читатели этой книги Розанова, с которой часто и начинается
знакомство с фигурой Страхова, не могут не поразиться столь высокой
оценкой практически безвестного мыслителя. Особенно впечатляет сопоставление
с Вл. Соловьевым, слава которого еще при жизни гремела в интеллектуальных
кругах России и уже выплескивалась за ее пределы. Пусть Розанов (то есть Радлов
в разговоре с ним) добавил потом, что «у Страхова, конечно, нет и малой доли
того великолепного творчества, какое есть у Соловьева», но эта высокая оценка
личности скромного писателя и ученого навсегда западает в память.
В другой раз Розанов отмечает особое свойство ума Страхова:
«Чрезвычайная вдумчивость составляет, кажется, главную серьезность в умственных
дарованиях г. Страхова, и она же сообщает главную прелесть его сочинениям»70.
Утонченность ума Страхова, конечно, была неотделима от его нравственных
качеств, от воспитанности его сердца: «...умственное изящество было только
последствием нравственного...»71
Тут не случайно упомянуто и слово «серьезность» — исключительная
сосредоточенность ума Страхова на тех вопросах, которые его занимали, и
позволяла ему достигать впечатляющих результатов. Чуткий Розанов отмечает
такую важную, вполне христианскую по своей сути особенность ума Страхова,
как всецелое внимание к теме своего размышления, вплоть до забвения всего
личного: «Не раз, вчитываясь в многочисленные труды разобранного нами
писателя, мы старались дать себе отчет, почему именно он так не похож на всех
других, что сообщает ему такое своеобразие? Цельного мировоззрения он не
дает, никакой яркой идеи не высказал и не утвердил, даже ни на один вопрос
не ответил ясно и отчетливо, окончательно. Но со всем этим странным образом
соединяется и чувство какой-то совершенной удовлетворенности. Стараясь дать
себе отчет о нем, невольно останавливаешься на отношении автора к предметам
своего размышления и к своему читателю».
68 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 910.
69 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 13.
70 Розанов. ПСС Т. 2. С. 56.
71 Там же. Т. 1.С.459.
75
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
■$>
Ответ таков: «Заинтересованность первыми — до забвения личного
в себе и, в силу этого, забвения личного и в читателе — есть постоянная и
отличительная его черта. Это и порождает в размышляющем читателе чувство
совершенного удовлетворения (...) Мысли, в действительности усваиваемые
им извне, как будто вырастают в его собственной душе и развиваются в ней.
Это и составляет притягательную силу разбираемого автора. Он не столько
разрешает наши вопросы, сколько научает нас серьезно искать их разрешения;
не так наполняет ум, как приготовляет его к принятию истинно достойного
содержания»72. Из сосредоточенности на теме своего размышления, своего
рода «родственного внимания», вытекает такое важнейшее качество характера
Страхова, как способность понимания.
Ум Страхова проявляется еще и в том, что он обладает редкой
способностью слушать собеседника. Именно умеющему воспринимать сказанное
«другим» и дается обычно особый дар понимания. О своем умении слушать
и понимать Страхов писал Толстому: «Не имея почти вовсе творчества, я имею
очень большую способность понимания. Этою способностью очень
восхищается Данилевский, человек, с которым мы расходимся во множестве вещей.. .»73
Способность понимания вытекала у Страхова не только из редкого умения
выстраивать цепочки логичных последовательных суждений, но и из способности
глубоко проникать в творческую мысль другого, будь то философ, ученый или
художник слова.
Друг Розанова Ф. Э. Шперк высказал мысль, что характерным свойством
умственного склада Страхова является его «периферийное мышление», «такой
ум, который тяготеет не к средоточию, а к периферии созерцаемых явлений»74.
Суждение довольно спорное, тем более что Шперк объясняет этим некоторую
неполноту или недосказанность статей Страхова, недостаток в них
«центральных идей». Однако из этой же особенности Шперк выводит и крупное
достоинство — обстоятельность, детальность мысли философа.
Больше всех общался со Страховым и размышлял на тему отличительных
свойств его незаурядного ума Розанов, чьи наблюдения о своеобразии мышления
философа особенно глубоки: «Его занимает слишком много мыслей, чтобы мы
могли выделить которые-нибудь из них и, забыв остальное, сохранить только
их. И, что в особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайною
сложностью и тонкостью, они трудно усвоимы — и это несмотря на совершенную
прозрачность языка. Они трудны не потому, что трудно выражены, но — сами
по себе, именно как мысли. Все слишком ясное и простое, все умственно грубое
не особенно занимает его.. .»75
72 Розанов. ПСС Т. 2. С. 79.
73 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 259-260.
74 ШперкФ. Э. Статьи, очерки, письма. СПб., 2010. С. 124.
75 Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 210.
76
Глава 2. Личность, характер и быт
Розанов с большей точностью и глубиной выражает то, что пытался сказать
о Страхове Шперк: «С неудержимою силою его мысль влечется к темным и
неясным сторонам в жизни природы, во всемирной истории и в вопросах
общественных; он ходит около этих областей, тщательно взвешивает все, что о них думали
выдающиеся умы разных времен и народов; и вывести из этой темной глубины
хоть что-нибудь к свету ясного сознания — вот что составляет его постоянную
и тревожную заботу. Отсюда вытекает необыкновенная оригинальность его мысли:
вы никогда не увидите у него повторений того, что уже известно вам из других
книг; отсюда же — отрывочность этих мыслей, их редкая законченность и
вместе — обилие их. Первое происходит оттого, что он никогда не хочет говорить
более, нежели сколько знает; второе — оттого, что, чем труднее занимающий его
вопрос, тем менее он в силах оставить его и все с новых и новых сторон пытается
его разрешить. Вот почему он не создал ни одного большого систематического
труда: „заметка", „очерк" или, как дважды озаглавливает он свои статьи, „попытка
правильной постановки вопроса" — вот самая обыкновенная и действительно
самая удобная форма для выражения его мыслей»76.
К концу жизни всё чаще Страхов представляется более молодым знакомым
и редким почитателям чуть ли не мудрецом, живущим среди своих книжных
сокровищ и знающим нечто такое, чего не знают простые смертные.
* * *
Еще в молодые годы, во времена горячих бесед с Достоевским, Страхов
признал, что относится к типу людей, которых отличает «некоторая холодность,
привычка к строгой и правильной мысли, отсутствие большого жара
проповедовать, но, вместе с тем, часто отсутствие и всякого таланта, молчание самых
живых струй»77. В книге «О вечных истинах» Страхов назвал себя «величайшим
охотником до логичности, определенности и ясности»78.
Нередко под умом понимают способность четко, ясно и логично
выстраивать свои суждения, и такой способностью Страхов, бесспорно, обладал. Но
он предпринимает интеллектуальные усилия главным образом для создания
методики познания. Важнейшим вопросом познания он считает уяснение
терминологии, понятий и критериев. В науке Страхов прежде всего методолог
и в этом смысле глубокий рационалист. Однако, признавая абсолютную ценность
рационализма для естественных наук, он видит пределы научного познания
и в философии влечется к иррациональным сторонам умственной деятельности.
Как настоящий ученый-рационалист по складу личности и по воспитанию,
Страхов чрезвычайно методичен. Едва достигнув тридцати лет, он сочиняет
76 Там же. С. 76-77.
77 Там же. С. 241.
78 Страхов Н. О вечных истинах: (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. 61.
77
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
статью о методе естественных наук79. Однако и оставив естественно-научную
деятельность, он продолжает уделять внимание науке о методе. Причина этого
в том, что он прирожденный педагог и вечный учитель. Он знает, «как надо»,
но люди, словно маленькие шаловливые и безалаберные дети, никогда не
слушают долго серьезных наставников и делают всё по-своему. Страхов об этом
очень печалится, и на его лице вечно царит выражение грусти, характерное для
всякого умудренного жизнью человека, познавшего, что «во многой мудрости
много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».
Важнейшую оценку не только для характеристики индивидуальных
особенностей Страхова, но и для понимания хода спора Страхова с Соловьевым, дал
прямо и в то же время образно выражающийся А. А. Фет: «Из всех приятелей,
с которыми доводилось мне спорить, спор со Страховым для меня самый
приятный. Ход мыслей у него чрезвычайно последователен, и потому его возможно
по временам больно укусить, тогда как с Соловьевым, а тем более с Толстым
этого сделать нельзя. Вы только что собирались укусить его за ногу, а он, как
ни в чем ни бывало, вместо живой правой подставляет левую деревянную»80.
Фет видит в Страхове воплощение рассудительности, упорядоченности
и здравого смысла и просит писать ему письма: «Хоть здравым смыслом от
них повеет. А то послушаешь, что деется, или прочтешь газеты с выдуманной
чумой (...) сам делаешься хуже чумного»81. Оправдываясь в переписке перед
возмущенным Радловым за бесцеремонное тиражирование в печати его
мимолетного высказывания о том, что Страхов умнее Соловьева, Розанов мимоходом
дает такую афористичную характеристику личности Страхова: «Стр(ахов) —
рассудительность, точность и наукообразие...»82
Внешне Страхов — неустанный проповедник всяческого трезвения, того,
что законы науки незыблемы и «дважды два всегда четыре», как он
настаивал еще в раннем споре с Достоевским во Флоренции. Однако восприятие
Страхова как рационалиста не вполне соответствует истинному положению
дел. В своем творчестве, особенно во второй его половине, Страхов всё более
влечется к познанию темных, неразгаданных вещей, и в сочетании с научной
основательностью и объективностью его подхода к познанию это обещает
большие перспективы. Но, к сожалению, ему так и не хватило смелости перейти
последний рубеж рационализма.
Интересно, что прозревший к 80-м гг. критик В. П. Буренин,
вспоминая о временах засилья нигилизма, к которому он сам был причастен,
указывает на необычный недостаток, по его мнению, писательской манеры
79 Страхов Н. Новости естественных наук // ЖМНП. 1858. Ч. 100, Окт. Отд. VII. С. 1-18.
80 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 828.
81 Там же. С. 270.
82 Переписка В. В. Розанова и Э. Л. Радлова / публ. Т. Н. Резвых // Ежегодник Рукописного
отдела Пушкинского Дома на 2015 год. СПб., 2018. С. 536.
78
Глава 2. Личность, характер и быт
—»
Страхова — излишнюю трезвость тона, не совпадающую с тогдашним
возбужденным состоянием общества, «опьяненного» радикальными идеями.
Иногда призывающий к трезвости Страхов действительно кажется холодным,
отстраненным от жизни писателем. Но он, при всей своей повышенной
интеллектуальности, «фаустовской» отягощенности знаниями и рационализме ученого
с его приверженностью незыблемым законам природы и истинам типа «2x2=4», не
был лишен теплых, сердечных чувств. Причина его сознательной эмоциональной
отстраненности скорее в другом: одним из существенных недостатков личности
Страхова, который и он сам не раз в себе признавал, был недостаток энергии,
душевная слабость. Он не находил в себе достаточно сил, чтобы дать своим лучшим
чувствам и мыслям жар души. Отсюда некоторое впечатление холодности в его
сочинениях, но оно обманчиво: при внимательном чтении неизменно ощущается
интенсивность мысли Страхова, его горячее устремление к истине.
Из-за слабости, недостатка энергии Страхова отличает тяготение к
сильным личностям — таким как Достоевский и Григорьев, потом Данилевский
и, наконец, Толстой; он, по собственному признанию, постоянно ищет, чему бы
подчиниться и к кому бы прилепиться. И еще одна особенность Страхова: как
слабого человека, его вечно тянет к сетованию на свои недостатки и принижение
своих достоинств. Так, он жаловался в письме к Л. Н. Толстому 16 ноября 1875 г.:
«Во мне самом так мало деятельного начала.. .»83 И в другой раз: «Любить
людей— Боже мой, как это сладко! И в слабой степени я испытываю это чувство,
я знаю его по опыту; но нет у меня силы и в этом, как и во всем другом. И все
лучшие чувства, какие я нахожу в себе, я все их берегу, воспитываю в себе,
держусь за них; но не в моей власти дать им порыв и огонь. Такова моя натура
и такова моя судьба; жизнь сложилась сообразно с этими свойствами»84.
Обычно Страхов — воплощение скромности. Однако иногда, как это
бывает у внутренне колеблющихся, нетвердых людей, наружу у Страхова
невольно прорываются противоположные настроения. Большой популярности он
никогда не имел, хотя, как человек с исключительным аналитическим умом, он
свои реальные силы вполне сознавал. А из-за недооценки сделанного им
авторитетными умами ему хотелось самому дать реальную оценку своим трудам,
и это звучало как неумеренные похвалы себе.
Так, после выхода брошюры «Об основных понятиях психологии» он,
довольный ею, пишет П. Д. Голохвастову: «Посылаю Вам свою книгу: Об основных
понятиях. Сам я считаю, что меня за нее следовало бы сделать доктором
философии и членом Академии наук. Есть такие, которые думают, что и этого мало»85.
Как и у любого пишущего человека, у Страхова были свои амбиции.
Страхов жадно собирает положительные отзывы на свои сочинения, которые
83 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 377.
84 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 624.
85 РО ИРЛИ. Ед. хр. 11060. Л. 38 об.
79
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
сам он ставит, конечно, очень высоко. Среди тех, чьи отзывы он особенно
ценит, — разные люди, от Н. Я. Данилевского, который «был в восторге» от его
разбора Милля и, наоборот, очень критиковал его основную книгу, «Мир как
целое», как и важнейшую статью «Об основных понятиях психологии», до
профессора философии Московского университета М. М. Троицкого, на книгу
которого Страхов откликнулся основательной рецензией.
Он пишет Толстому о своем даре понимания, которым не переставал
восхищаться Данилевский, несмотря на их постоянные споры: «Когда я написал
маленькую статью о „России и Европе", он был ужасно изумлен
необыкновенною точностью, с которою я понял его мысль, оценил все ее особенности. Точно
так он был в восторге от моего разбора Милля, о подчинении женщин, книжки,
которую мы вместе с ним читали, плывя по Днепру по дороге в Крым.
Троицкий, философ, сказал мне лично, что только от меня он и мог ожидать такого
верного разбора его книги „Немецкая психология ". Статьи о Герцене удивляли
своею верностью понимания тех, кто лично знал Герцена и любил его.
Михайловский в „Отеч(ественных) зап(исках)" заявил, что ни в одной литературе он
не встречал такой верной оценки Ренана, какую сделал я. Кроме того, я писал
о Дарвине (еще не напечатано) и уверен, что один понимаю его, как следует;
я писал о польском вопросе—статья подняла ужасный гвалт; я писал о коммуне,
и наши политики — Градовский, Данилевский, Григорьев — не знали, куда меня
посадить и какими словами похвалить. Не смейтесь, пожалуйста, над моею
похвальбою; в ней есть и некоторая горечь. Конечно, по моему мнению, всякий
беспристрастный человек должен сказать: в нашей литературе о Данилевском,
Троицком, об Милле, Ренане, Дарвине, Герцене, об Коммуне — писал один
Страхов; всё, что писали другие, не имеет никакой цены и не заслуживает внимания;
но всё писанное Страховым прошло бесследно, так как это была только критика,
только анализ, а положительного тут ничего не было, не было — проповеди.
Как бы то ни было, Вы видите, что хотя я Вас ставлю выше всех и никого
так не хвалил, как Вас, но моей критике я подвергал и многих других, и
подвергал с тем же успехом, как и Вас, достигал очень точного понимания»86.
Такое самовосхваление с писателями случается. Будем к этим слабостям
снисходительны, особенно когда писатель не получает от современников
должной оценки, как это было со Страховым.
* * *
Страхов не отличался ни крепким здоровьем, ни молодецкой удалью.
Кабинетная работа и многочасовое сидение за письменным столом сделали
свое дело. Его письма с годами всё чаще пестрят сообщениями о «катаррах»,
86 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 260.
80
Глава 2. Личность, характер и быт
расстройствах желудка и прочих напастях, которые мешают ему выйти из дома.
Со временем появились и жалобы на чрезмерную полноту. В связи с этим
вспоминается пренебрежительно-язвительное соотнесение Константином
Леонтьевым, который был известным мастером резких и метких в своей прямоте
определений, трудноуловимой, «расплывчатой» душевной личности Страхова
с бесформенностью его физического облика: «Бессильный союзник, умный,
но бездушный. Он ведь и с виду какая-то лепешка широкая, „экстензивная, без
интензивности"»87.
В феврале 1869 г., в пору их еще тесного дружеского общения,
Достоевский выразил беспокойство (вероятно, на основании их совместного
журналистского опыта), что Страхов не сможет выдержать долго изнурительного,
ненормированного редакторского труда: «Боюсь еще за непривычку вашу к
срочной работе и упорной работе»88. В марте он повторил ту же мысль в письме
к родственнице С. А. Ивановой: «...вообще журнал имеет будущность, если
только они как-нибудь уживутся вместе, тем более что Страхов, который, в
сущности настоящий редактор, по моему мнению, мало способен к непрерывной,
периодической работе»89.
Эта недостаточная выносливость Страхова наряду с крайней
медлительностью и неизменным стремлением к предельно тщательной отделке сочинений
является одной из главных причин того, что хотя он работал очень усердно, не
отвлекаясь, как другие, на посторонние житейские дела, но оставил в итоге после
себя не так уж много произведений, и среди них наберется немало начатых, но
не имеющих окончания.
Этой же непривычкой к длительному и напряженному труду
определяется, по-видимому, в какой-то мере и тот факт, что в наследии Страхова нет
собственно целостных «книг», больших, фундаментальных трудов,
написанных по единому плану больших произведений. Все его книги, в том числе
три тома «Борьбы с Западом» и объемистый «Мир как целое», представляют
собой сборники статей и очерков, нередко написанных по случаю, для разных
изданий и с большим временным интервалом. Правда, эти отдельные «главы»
его сочинений настолько продуманы, тщательно выполнены и едины по
миросозерцанию и стилистике, что кажутся плодом единого продолжительного
творческого усилия. Достоевский посмеивался, что Страхов так старательно
отделывает свои статьи «для «Полного собрания сочинений»90.
В произведениях Страхова много цитат, и на первый взгляд кажется, что
они представляют собой литературные компиляции. Но все эти цитаты тщательно
подобраны, чтобы оттенить его собственные суждения, а обращение к другим
Леонтьев. Избранные письма. С. 378.
Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 17.
Там же. С. 25.
Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 418.
81
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$»
авторам вызвано его стремлением к точности и определенности выражения. Он
объяснял это так: «Когда-то меня мучило легкое движение мыслей, и я
отделался от него тем, что стал искать опор в известных и неизвестных писателях.
Мысль знаменитого философа или та, которая уже напечатана где-нибудь в
газете, составляет уже факт, не может уже подвергнуться умолчанию,
уничтожению, а подлежит обсуждению. Вот почему я так люблю ссылаться на всякие
книги и говорить не от себя, а чужими словами, сопоставляя и толкуя места
какого-нибудь автора. Тогда я чувствую себя на твердой почве»91.
Это его признание многое объясняет в его методе опоры на фактический
материал. Однако этот его будто бы спасительный метод, при всей его точности
и подкрепленности цитатами — метод скорее научного анализа (сказывается
естественно-научное образование), нежели художественного исследования.
Надо заметить, правда, что очень часто цитаты, приводимые Страховым, не
существовали в то время на русском языке, и он приводил их по подлиннику,
переводя с листа. По сути дела, он деликатно вводил русского читателя в мир
европейской мысли. Однако обильное цитирование не слишком привлекательно
для читателя, принимающего такого автора за компилятора. Страхов, как верно
отмечал Розанов, никогда компилятором не был и с помощью цитат всегда
подводил читателя к собственным выводам, да и сам был богат идеями. Однако,
возможно, прежде всего из-за этого непонятного в литераторе аскетического
подавления в себе творческой жилки, из-за почти полного отсутствия фантазии,
раскованности, полета в его сочинениях автор «Борьбы с Западом» не снискал
большой популярности. К тому же Страхов прежде всего серьезный, трудный для
понимания мыслитель, несмотря на обманчивую простоту его писаний. А много
ли у нас читателей интеллектуально глубоких сочинений, требующих
сосредоточенности, вдумчивости, не говоря уже об особых философских знаниях, да
еще в сочетании со сложнейшими в интеллектуальном отношении научными
проблемами? Обычный читатель предпочтет, конечно, менее серьезные
произведения, украшенные игрой мысли, фейерверком метафор и ярких эпитетов.
Одной из двойственных черт характера Страхова является необычное
сочетание большой мягкости и добродушия с доходящей до пуризма строгостью
нравственных оценок. Говоруха-Отрок вспоминает: «Как человек Николай
Николаевич был чрезвычайно симпатичен: мягкий, в высшей степени деликатный,
готовый на всякую услугу, готовый помочь всякому и советом и делом. Но его
мягкость и деликатность не мешали ему быть и в высшей степени правдивым»92.
91 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 12.
92 Говоруха-Отрок Ю. Н. Н. Страхов // Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские
писатели. СПб., 2012. Т. 2. С. 151.
82
Глава 2. Личность, характер и быт
В повседневной жизни, впрочем, Страхова отличает уступчивость, терпимость,
способность и готовность выслушать собеседника. «Из всех людей, каких я видел
в жизни, я считаю себя самым терпимым; у меня меньше всего охоты
поправлять и не допускать чужой своеобразности... Разумеется, я могу ошибиться,
но расположения своевольничать у меня нет ни малейшего... не думайте, что
я делаю не подумавши, легкомысленно, высокоумничаю, пренебрегаю Вами
и т.д. Напротив, я тяжел на подъем, я думаю больше, чем нужно, я смиренно
признаю ваше мастерство в языке и желаю одного — сделать вам приятное»93.
Страхов как человек по-настоящему добр, мягок и покладист. Его
характерная черта — добродушие. В этом, по крайней мере, был убежден Д. И. Ста-
хеев, с которым он жил по соседству столько лет. Он пишет в воспоминаниях:
«Страхова, кстати сказать, иначе нельзя себе и представить, как с улыбкой, и не
только в то время, когда он хлороформированный лежал под ножом оператора
в Николаевском сухопутном госпитале (ему отрезали часть языка,
пораженного болезнью рака), на лице его оставалось обычное добродушное выражение
улыбки, но даже и тогда, когда он был разлучен с своими книгами и уложен
в гроб, — на лице его сохранилась улыбка»94.
Страхов был очень снисходителен к людям и часто шел им на уступки,
особенно в бытовых вопросах. Но в другие моменты, прежде всего касавшиеся
творчества, отношения к истине или нравственной норме, терпимость сочеталась
у него с необычайной серьезностью, а нередко и со строгостью или даже
суровостью принципиального наставника. Тут сказывалась, вероятно, методичность его
характера, педантизм, выработанный многолетней подготовкой ученого, которые
обязывали его быть строже с отступлениями от заведенного порядка. К этому же
ригоризму приучили его и долгие годы скрытого от посторонних глаз духовного
самовоспитания. Это приводит Страхова к крайней строгости суждений, которую
отмечают многие. Страхов — «ненавистник нелепостей»95, он любит
упорядоченность, а всякий хаос для него «несносен»96. Борясь с нелепостями всех видов,
коих у нас немало, Страхов нередко бывал и излишне серьезен, и требователен
до ригористичности. Ригоризм его с годами увеличивался и от нарастающего
стремления воплощать в собственную жизнь христианские истины.
В то же время Страхов постоянно сетует на отсутствие у него целостного
взгляда, направляющей идеи. Он уверяет, что ему некуда вести читателей.
Леонтьев в статье «Добрые вести», в целом характеризуя «Борьбу с Западом» как
«замечательный труд», отмечает, что в сочинениях Страхова нет «ясных „выходов
в жизнь"; нет никакого положительного, осязательного, так сказать, идеала»97.
93 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 310.
94 СтахеевД. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний). С. 92.
95 СтраховН. Н. Наблюдения: (Посв(ящается) Ф. М. Д(остоевско)му) IIЛН. Т. 86: Ф. М.
Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 561.
96 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 522.
97 Леонтьев. ПСС. Т. 8, кн. 1. С. 443.
83
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$'
У Страхова как будто нет определенных воззрений, он всё время колеблется.
О его идейной «расшатанности» не раз писал Розанов. На внутреннюю
противоречивость Страхова настойчиво, хотя и не вполне точно, указывал, например,
в силу своей предвзятости «соловьевец» Радлов, говоря о несовместимости
некоторых сторон его мировоззрения: «Три главные противоречия обращают
на себя наше внимание: славянофильство Н. Н. Страхова и поклонение его
перед наукой, философией, вообще просвещением Запада; его религиозность,
по-видимому, вполне догматическая, православная98, и поклонение перед
деятельностью Л. Н. Толстого, наконец, мистическое настроение Н. Н. Страхова,
влекшее за собой любовь к пантеистической и идеалистической немецкой
философии, и симпатии к естествознанию»99. Да не о том ли, казалось бы, говорят
и свидетельства Модестова, Уманца и других современников — о непонятном
им стремлении Страхова уклониться от прямого высказывания своих взглядов?
В. Н. Захаров считает, что переменчивость Страхова объясняется тем, будто
он охотно поддается доминирующему влиянию: «Когда Страхов был в орбите
Достоевского, он становился почвенником, с А. Григорьевым — славянофилом,
в орбите Л. Толстого — рационалистическим критиком церкви и ее учения»100.
Допустим, что в этом наблюдении, при всем его недоброжелательстве,
категоричности и фактической неточности, есть своя доля правоты.
Но вот что странно. Этот самый Страхов, по внешнему впечатлению
робкий, уклончивый, «страшно расшатанный», «без идеала» и с
очевидными противоречиями во взглядах, не только сам постоянно в своих сочинениях
и письмах признает, что «взгляды», убеждения у него есть, но и, более того,
своей деятельностью он наглядно доказывает, что собственными убеждениями
никак не готов поступаться. Не случайно, конечно, Страхов почти постоянно
находится в состоянии полемики. Он признавался дружески настроенному к нему
К. Н. Бестужеву-Рюмину: «Я благодушен и терпим почти только в теории; и мне
пришлось бы постоянно бороться со своим раздражением и воздерживаться от
резких суждений»101. Страхов известен своим на редкость уравновешенным
характером, сдержанностью тона, спокойными оценками, но, судя по обилию
споров, в которых он участвовал, в его манере вести полемику сказывается не
только натура, но и культурная и духовная работа: уравновешенное состояние
ему дается большим нравственным усилием, а возможно, и молитвенным трудом.
Существовала и другая, не менее существенная причина своеобразия
его поведения: слабость его характера, нехватка душевных сил. И сам Страхов
98 Примеч. Э. Л. Радлова: «Так как Страхов принимает программу славянофилов
целиком, то вполне естественно говорить о его догматической религиозности».
99 Радлов Э. Несколько замечаний о философии Н. Н. Страхова // ЖМНП. 1896. Ч. 305,
Июно. С. 345.
100 Захаров В. И. Почвенничество в русской литературе: метафора как идеологема //
Проблемы исторической поэтики. 2012. Вып. 10. С. 19.
101 РО ИРЛИ. Ед. хр. 25059. Л. 3.
84
Глава 2. Личность, характер и быт
в том же письме называет ее: «Всё бы это, наконец, ничего, если бы я
чувствовал в себе силы исполнить как следует предназначенное мне дело. Между тем
я так боюсь всё испортить, что это удваивает мою слабость»102. Достоевскому
Страхов жаловался в 1871 г., когда Кашпирёв отстранил его от редакторства:
«Плохой я практический деятель, плохой журналист—я слишком неповоротлив
и задним умом крепок»103.
Очень часто среди недостатков Страхова называют его сухость. Однако
если принять образ Страхова как упертого рационалиста и сухого моралиста,
каким его часто рисуют, то труднообъяснима его дружба с Ап. Григорьевым.
А ведь Аполлон Григорьев выбрал именно его из многочисленного окружения.
Вполне возможно, что их дружба не в последнюю очередь была связана еще
и с тем, что Страхов умел слушать, да и вообще был прилежным, внимающим
учеником. Что же касается чрезмерных возлияний, которыми грешил
«учитель», то Страхов во времена дружеского общения с Григорьевым, судя по
некоторым его кратким репликам, тоже отдал дань этой слабости. Конечно, он
вряд ли мог дружить с Григорьевым и не пить, но все-таки нашел в себе силы
остановиться, не перейдя критический рубеж. Боборыкин, в журнале которого
Страхов сотрудничал в эти годы, отмечал: «С Григорьевым трудно было водить
закадычную дружбу, если не делать возлияний Бахусу, но Страхов совсем не
отличался большой слабостью к крепким напиткам»104.
Хотя Страхов, видимо, не страдал запоями, подобно Григорьеву, в
дружеских возлияниях своего наставника принимать участие ему наверняка
приходилось, да и вообще «вакхические восторги»,05 в молодые годы были ему не
чужды. Обращает на себя внимание тот факт, что Страхову были свойственны
пристрастия к крепкому чаю и кофе. В повести «По утрам» Страхов с такой
осязательностью передает смакование чашечки крепкого кофе и дымящегося чая
с сигарой в губах, так описывает чувственные удовольствия, что невольно
вспоминаются резкие слова из явно несправедливой в целом обличительной
характеристики Достоевского о том, что он «втайне сладострастен и за какую-нибудь
жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё»,06.
Надо признать, что в целом ряде воспоминаний о Страхове
вырисовывается не слишком симпатичная персона. Впечатления от его личности удивительным
образом разнятся, делясь на две трудно совместимые, почти противоположные
половины. Василий Розанов, этот известный двуликий Янус русской
литературы, умудрился наглядно показать это на собственном примере. Щедро расточая
Страхову похвалы, он тем не менее несколько раз высказался о нем в духе его
102 Там же.
103 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 279.
104 Боборыкин П. За полвека: Воспоминания. М., 2003. С. 359.
105 Страхов. По утрам. С. 406.
106 Достоевский. ПСС. Т. 24. С. 240.
85
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
недоброжелателей. Так, познакомившись заочно с Леонтьевым, восхитившим
его своей художественной смелостью, Розанов раскрыл «темную», по его
мнению, сторону характера Страхова. Его покровитель, оказывается, и холоден,
и эгоистичен, и завистлив, и «сколачивает себе славу»107. Даже Леонтьев, при
его почти патологической жажде известности, не согласился с Розановым.
Уже в следующем письме Розанов словно спохватывается и говорит
о Страхове только хорошее: «После Вас на первое место по языку я ставлю
Страхова: в его задумчивости, в его мужестве (о Н. Я. Данилевском, о Ап.
Григорьеве), его не увлекаемости ходячим много прелести; как писатель — он один
из самых любимых мною, — он совершенно никогда не утомляет. Его читаешь
и перечитываешь, он воспитывает своим строгим и тонким отношением ко
всякому вопросу»108. Но чувствуется, что Розанов явно тяготился эмоциональной
сдержанностью и назидательностью Страхова, граничащей с пуризмом.
Так, отсыпав Страхову изрядную гору разнообразных похвал в книге
«Литературные изгнанники», Розанов там же, в примечаниях к нескольким
письмам Говорух и-Отрока, вспоминает вдруг о Страхове совсем иначе. Он
пишет о нем как о скучноватом ученом не без «доли сухости, отчужденности»:
«Страхов был чист особенною институтскою чистотою (женские институты):
но нельзя скрыть, что иногда хочется из их тихих девичьих коридоров и
дортуаров спуститься в подвальный этаж, в кухню, и там покопаться около
кушаний, сковородок, пирогов и проч. и что иногда в „прислуге на кухне" найдешь
и услышишь тон речи более народный и более созвучный сердцу, чем у классных
наставниц, учителей и у директрисы. Так и Говоруха: с ним легче, естественнее
льется речь, он больше „наш", чем великолепный и ученый Страхов, хотя и не
так солиден и надежен»109.
Розанов то писал, что у Страхова замечательно оригинальный, пушкинской
ясности стиль, то уверял, что у него совсем нет стиля по; то очень убедительно
доказывал, что Страхов далек от компиляции, то соглашался с
недоброжелателями Страхова, называя его компилятором, пусть и в «великом и прекрасном
смысле»111. Тем самым Розанов несколько обесценивал свои задушевные, а порой
чуть ли не патетические положительные отзывы о Страхове.
В защиту Страхова, впрочем, можно припомнить, например, эпизод, как
тот же Розанов, по собственному признанию, «трепетал» от стыда, стараясь
отдать Страхову перед кончиной хотя бы часть своего долга за изданную на
его деньги книгу «Легенда о Великом инквизиторе»: «...должен я Страхову
за издание „Легенды" 247 руб., из них уплатил кусочками 7+15+40 рублей,
107 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 398.
108 Там же. С. 402.
109 Розанов. Литературные изгнанники. 1913. С. 443.
1.0 Розанов. ПСС. Т. 3. С. 114.
1.1 Там же. Т. 1.С. 663.
86
Глава 2. Личность, характер и быт
и с женой в воскресенье привез 30 (...) Отдав же 30 р. в воскресенье, я все
время трепетал, как Иуда, — главное 30 — „30 серебреников"; человек умирает,
а я „реабилитирую честь", всовывая ему деньги»112.
Тут в равной мере проявились как переменчивость настроений
чувствительного Розанова, так и присутствовавшая в характере самого Страхова некая
двойственность его черт, из-за которой на разных людей он производил
непохожие до противоположности впечатления.
Например, И. Ф. Романов-Рцы в письме к Розанову в 1892 г. составил
прямо-таки «обвинительный акт» против русских консерваторов и не забыл
среди них и про Страхова. Он повторил, должно быть, распространенное в
Петербурге мнение: «Праведник Страхов, говорят, весьма охотно учинит мелкую
бабью, так сказать, гадость по адресу своего приятеля»113. Попадание, как
говорится, в самую точку, если вспомнить злой отзыв Страхова о Достоевском.
Высказывание Рцы про двойственность Страхова после его публикации показалось
крайне важным по той простой причине, что Рцы представлял «благородного»
Страхова именно таким, каким его увидели почитатели Достоевского после
прочтения ужасного письма к Толстому.
Однако в оправдание Страхову отметим и другое. Теперь, когда
опубликована переписка Романова-Рцы в двухтомном собрании его сочинений, из
другого письма видно, что Рцы к Страхову по непонятной причине относится
почти враждебно и потому явно несправедлив. Эта необъективность сквозит уже
из его неприязненного отзыва о глубокой и смелой книге Страхова «О вечных
истинах. (Мой спор о спиритизме)»: «Статьи о спиритизме суть старческая,
надоедливая жвачка, в которой и сам Страхов отчетливо разберет только одну
идею, что человек, брошенный с 4-го этажа, несмотря на всю свою психику,
будет лететь на мостовую, точь-в-точь как и бездушный, не сиживавший за
семинарскими партами камень...»114
А поверхностно-пренебрежительный отзыв о замечательной,
получившей всеобщее признание книге «Борьба с Западом» показывает, что крайне
пристрастное мнение Романова-Рцы вряд ли следует принимать во внимание,
подобно мемуарам пресловутого Уманца. Похвалив идеи, высказанные
Розановым в его статье «О борьбе с Западом, в связи с деятельностью одного из
славянофилов», Рцы, однако, заявил, что Страхов недостоин того, чтобы ему
посвящались такие статьи: «Удивительно красиво и глубоко и во многом верно
и даже очень верно, но ради Аполлона и всех семи или девяти муз! Не грешно
ли расточать такую прелесть по адресу какого-нибудь Страхова, который в
сущности не дает ни одной идеи, тогда как истинно великие покойники ждут не
дождутся, чтоб о них хоть слово кто замолвил? Не значит ли это раскланяться
112 Розанов. Литературные изгнанники. Кн. 2. 2010. С. 534.
113 Рцы [РомановИ. Ф.] Собр. соч.: в 2 т. СПб., 2016. Т. 2: Плюсы жизни. С. 418.
114 Там же. С. 436.
87
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
с кучером и забыть снять цилиндр пред дамами, сидящими в коляске?»115 Это
сопоставление серьезного мыслителя с «кучером» весьма определенным
образом характеризует автора, которого Василий Васильевич из экстравагантности
посчитал умнее и талантливее себя.
Конечно, внешнее впечатление от слабого духом, а временами и жалкого
в своем самоуничижении Страхова не такое блистательное, как от упивающегося
своей гениальностью Соловьева или носившегося со своими пророчествами
и аристократизмом Леонтьева, которые, наверное, годились бы Романову на
роль «дам, сидящих в коляске». Героического в облике и поведении Страхова,
надо признать, действительно маловато. Любопытен несколько ироничный
отзыв о Страхове племянника Ф. М. Достоевского, студента А. А. Иванова,
встретившего критика в 1872 г. на именинах у дяди: «Страхов — среднего роста,
довольно полный, розовый, волосы с проседью. Голос тоненький и очень гибкий.
Держит себя необыкновенно деликатно, так что напоминает собою чичиковское
„Вы изволили пойти с валета, я имею честь покрыть вашу двойку"» М6.
Но все-таки при оценке личности деятелей философии и литературы мы
опираемся не только на внешние впечатления. В целом можно сказать, что из
множества суждений, высказанных о личности Страхова, за некоторыми
исключениями, можно выделить две категории. В одном ряде отзывов, превосходящем
по количеству, он выступает умным, талантливым и очень благородным
человеком. Но можно подобрать и другой ряд впечатлений от его личности, в котором
рельефно выписаны его существенные недостатки. Словом, Страхов — вполне
подходящий кандидат для тома отзывов под рубрикой «Рго et contra». Говоря
преимущественно о первой категории отзывов, не считаем возможным опустить
и отзывы второго ряда, тем более что большинство из них связано с темами,
которые обсуждаются в этой книге.
Н. К. Кашина, рассматривая письма писателей как особый
литературный жанр, на примере переписки Страхова с Фетом и Розановым отмечает
«удивительную притягательность Н. Страхова», который, «прожив всю жизнь
в одиночестве, не обзаведясь семьей (...) обладал удивительной способностью
сближаться с людьми, участвовать в их судьбах»117. Замечание, вполне верное
по существу, не очень точно выражено по форме. Можно даже подумать, что
Страхов изыскивал способы заводить важные знакомства и владел какими-то
особыми приемами сближения с «нужными» людьми.
Между тем он действительно привлекал к себе людей, но самым
простым и общедоступным способом: своей простотой, добродушием,
1,5 Рцы [РомановИ. Ф.]. Собр. соч.: в 2 т. Т. 2. С. 436.
116 Достоевский в неизданной переписке современников IIЛИ. Т. 86: Ф. М.Достоевский:
Новые материалы и исследования. С. 418.
"7 Кашина Н. К. Переписка писателей как прообраз филологического романа (по письмам
В. Розанова) // Энтелехия. 2011. № 23. С. 40.
88
Глава 2. Личность, характер и быт
—■$■
благородством и готовностью помочь. Он располагал к себе не только своим
поведением, но и образом мысли, в котором так явно преобладало
бескорыстное стремление к истине. Не кто-нибудь, а Афанасий Фет, желая
познакомиться со Страховым, писал ему: «Не буду говорить, до какой степени,
после мимолетной встречи в Питере, меня тянуло сблизиться с вами как
с мыслителем». Объясняя в том же письме свою расположенность после
знакомства к дружбе со Страховым, он подчеркивает чистоту и задушевность
критика, сравнивая его... с куском «круглого, душистого мыла», которое
«своим мягким прикосновением только способствует растворению внешней
грязи, нисколько не принимая ее в себя»118.
Для понимания личности Страхова важна его «исповедь» в письме к
Толстому в 1879 г., в которой он откровенно говорит о присущих ему перепадах
настроений, о мнительности, о приступах гадких чувств, отсутствии цельности
и простоты:
«Я ничего не чувствую просто и прямо, а все у меня двоится. В моей
голове идет постоянно игра мыслей, действующая на меня часто сильнее
действительности. От этого я конфузлив и часто не могу совладать с собою.
Например), когда говорят о воровстве, мне кажется, что я сам украл, когда говорят
об оскорблении, мне представляется, что я сам оскорблен, и т. д. В сущности
я не боязлив, не суеверен, не мнителен; но представление боязни, суеверия,
мнительности может так во мне разыграться, то если я сам себя воображу
таким боязливым, суеверным и мнительным, что замучу себя этим воображением
больше, чем если бы действительно имел эти недостатки.
Всё это я приписываю тому, что настоящая душевная жизнь во мне очень
слаба, а жизнь представлений чересчур сильна и подвижна. Во множестве
случаев я робок и неуклюж потому, что не уверен в себе, то есть не знаю, не
потеряю ли я власти над собою — не в силу желаний и чувств, а по силе тех
представлений, которые во мне разыграются. (...) Если бы я стал жаловаться на
судьбу, то, кажется, всего больше жаловался бы не на действительные страдания,
а на это множество гадких чувств, так долго меня мучивших, находивших на
меня против моей воли и противных мне в высшей степени»119.
Неприятно, конечно, читать чужую исповедь душевной слабости, но это
одновременно и акт раскаяния человека, копнувшего в глубине своей души,
и потому не в меньшей степени — показатель мужества. И надо отметить, что
Страхов, проявлявший иногда осторожность или даже опасливость в раскрытии
своего мировоззрения, обнажает в интимных письмах свои недостатки с редкой
откровенностью. Да и в своих литературных делах он проявляет настоящее
бесстрашие в обличении могущественных идейных противников.
118 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 244.
119 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 541-542.
89
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
* * *
Не раз отмечалось, что при несомненных умственных способностях
Страхову явно недостает творческого таланта, энергии и смелости — в сочинениях,
как и в быту, он прячет свою личность. Читателю, конечно, всегда хочется знать,
какой этот писатель на самом деле. Страхов же утаивает какие-либо интимные
сведения о своей личности. Происходит это сознательно или нет? Кажется,
он уклончив скорее бессознательно, инстинктивно, но в таком его поведении
столько же целомудрия и скромности, сколько и опасливости, иногда даже
духовной трусости.
Впрочем, в письмах можно найти немало подобных признаний, но и в этом
случае читатель рискует придать самоосуждению из скромности слишком много
значения. В письме к Фету в 1878 г. Страхов сделал очень важное признание
о причинах своей кажущейся скрытности, уклончивом характере и
медлительности: «Во мне есть косность, замедляющая все мои мысли и действия, и от
этого часто выходит, что я поступаю несогласно с самыми искренними моими
чувствами»,20. От этой «мешкотности», как он выразился в другой раз,
получается впечатление неискренности и скрытности. Создается впечатление, будто
Страхов думает одно, а говорит другое, хотя на самом деле он просто
медлителен, робок и стыдлив. Он сам признает свое замедляющее работу тяготение
к дотошности: «...и при этом ужасное расположение копаться, при котором
одно слово может отнять полчаса»121.
О медлительности Страхова Стахеев пишет обстоятельно и со знанием
дела: «Страхов был человек неторопливый и поднимался по лестнице не только
медленно, но даже, можно сказать, с необычайной медлительностью...»122
Многочисленные недомолвки и умолчания Страхова, которые раздражали
столь многих, на самом деле происходили оттого, что он был весьма
стеснительным человеком. В ноябре 1877 г. он среди прочего в письме к Фету обронил
ценное признание: «.. .благодарен за повторное приглашение, так как я
немножко робок»123. Это признание заставляет думать, что характер Страхова плохо
понимали или сознательно искажали те, у кого хватало недоброжелательства
писать о его тяготении к приживальческому образу жизни.
Страхов был на редкость скромен и застенчив. Собираясь в первый раз
посетить летом 1878 г. Воробьевку — имение А. А. Фета, с которым они после
мимолетной встречи в Петербурге и нескольких писем друг другу очень
понравились, Страхов предупреждает поэта: «Только не ждите, прошу вас, многого от
моих разговоров. Я в печати гораздо лучше, чем в натуре. (...) Человек, сидящий
120 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 251.
121 Там же. С. 308.
122 Стахеев Д. И. Станислав первой степени и енотовая шуба... С. 470.
123 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 246.
90
Глава 2. Личность, характер и быт
над бумагой с пером в руках и обращающийся мыслью ко всем грамотным,
настоящим и будущим, — находится в таких условиях силы и свободы, с которыми
не может сравниться никакое другое положение. Но я жажду говорить с вами,
потому что, с другой стороны, живого человека ничто заменить не может»124.
Любопытную мысль высказал позже Никольский в «Дневнике»,
опубликованном лишь в 2015 г. Он отнес Страхова к особой группе «немых»,
«загнанных внутрь умов», в которую включил также Н. П. Гилярова-Платонова и даже
К. Н. Победоносцева: «Их вся душа живет невыразимым. Немые умы — афазия
умов. Истина вливается в их душу — и они тревожны, но не высказывают того,
что вливается: они говорят о другом. И лишь мимоходом, между прочим,
случайно высказывают свою самую сущность. Это типично для людей из духовного
звания. Таков был и Страхов. Таков во многом и Победоносцев»125.
* * *
Нельзя не отметить еще одну поразительную черту Страхова: редкое
сочетание в его характере необычных качеств. Добродушие и мягкость, даже
податливость характера противоречиво сочетаются у этого мыслителя с
упорством в отстаивании своей точки зрения и строгостью нравственных и
интеллектуальных оценок.
Взыскательность оценочных суждений Страхова, человека с
несомненным эстетическим вкусом, распространялась на всех, кроме Толстого. Страхов
был строг и крайне скуп на похвалы, если автор их не заслуживал. Поэтому
так радовались писатели и поэты высоким оценкам требовательного критика.
П. П. Перцов в своих воспоминаниях, говоря о высокой оценке своего
предисловия к составленному им сборнику «Молодая поэзия», написанного «насколько
возможно сжатым слогом», не без удовольствия вспоминал, что «слог этот
похвалил такой ригорист, как Страхов»126.
Поэту К. Р. (великому князю Константину Константиновичу), захотевшему,
по примеру Фета, представить сборник своих ранних стихов на нелицеприятный
критический суд «нашего лучшего литературного критика»127, при первой
встрече в 1887 г. Страхов показался сухим и даже злым, с «маленькими недобрыми
глазами»: «Вообще Страхов произвел на меня впечатление человека очень
почтенного, но не симпатичного, с весьма твердыми мнениями и очень
строгими суждениями»128. Тем ценнее стал для К. Р. положительный отзыв
беспристрастного критика на его стихи, после получения которого поэт императорских
124 Там же. С. 252.
125НикольскийБ.В. Дневник, 1896-1918: в 2 т./РНБ. СПб., 2015. Т. 1.С.396.
126 Перцов. Литературные воспоминания. С. 132.
127 Цит. по: Фет и его окружение. Кн. 2. С. 608.
128 Там же.
91
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ф
кровей был счастлив как ребенок. Написав поэму «Севастиян-Мученик», К. Р.,
по его словам, «трепетно ждал отзыва самого строгого из всех знакомых мне
критиков»129. Великий князь очень ценил отзывы Страхова, которые были не
обычными пустыми похвалами, но осмысленными суждениями. Его
высочество был рад и высокой оценке его сонета к юбилею Фета в 1889 г.: «Я пришел
в восторг и умиление, крестился и ликовал! Недаром я Богу молился, чтобы
стихи удались...»13° В дальнейшем их связывали теплые дружеские отношения,
отразившиеся в переписке и совместной работе над изданием поэзии Фета. Ни
о какой «злости» сурового критика уже речи, разумеется, идти не могло.
Фет, который сам не раз попадал под дружескую, но тяжелую
критическую руку Страхова, с удовлетворением пишет, что суд Страхова «беспощадно
строг», но справедлив. Он с удовольствием опирался на нелицеприятные
оценки Страховым поэтов типа Надсона, Апухтина или даже Некрасова: «Никто
лучше Страхова не способен раскрыть всей беспомощной наготы всех этих
псевдо-поэтов»131.
В статье «Новый вздох о Карамзине» Страхов признавался: «Не цели
меня занимают, а мысли, чувства и слова, то есть то, что не имеет никакой
реальности, никакой существенности. Я люблю, милостивый государь,
преимущественно хороший слог, логику и добродетель, и притом люблю их ради
их самих, без всяких расчетов, без всяких дальнейших соображений»,32. Ясный
стиль и логика рассуждений опять поставлены здесь рядом с добродетелью, как
и указанное Фетом отсутствие изворотливости ума, и это не случайно. Ясность
мысли, присущая Страхову и культивируемая им, при внешней мягкости его
характера, особенно остро оттеняет еще и присущее ему «чувство нравственной
чистоплотности»133, которое ему чрезвычайно важно. Весь этот своеобразный
комплекс рационалистических и одновременно нравственных черт придает
его стилистике непередаваемое обаяние, и хотя иногда кажется, что за этой
прозрачностью изложения ничего не стоит, это впечатление обманчиво.
Нравственный характер благородной сдержанности рассуждений Страхова привлекает
читателя. Б. В. Никольский назвал Страхова «аскетом стилистики», и за этим
его выразительным определением кроется не только точная характеристика,
но и высокая похвала.
129 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 744.
130 Там же.
131 Там же. С. 635.
132 Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902. С. 235.
133 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 128.
GaSa 3
НАУКА В БИОГРАФИИ И ТРУДАХ СТРАХОВА
Истинный дух естествознания состоит
в некотором благоговении перед явлениями природы...
Н. Страхов1
Эмпиризм — великий и слепой идол.
И. Страхов1
£§§§ Похвала знанию звучит у Страхова почти на каждой странице его
сочинений, и именно жажда познания сделала его книгочеем и библиофилом, а в
юношестве привела в университет и затем в Главный педагогический институт, где
он изучал преимущественно естественные науки. Но наука для Страхова
естествознанием не ограничивается. Она неотрывна от мысли, философии; интерес
к знанию неотделим у него и от влечения к литературе как художественному
творчеству и к литературной критике, предназначенной для эстетического
осмысления художества. К этим разнообразным видам творческой деятельности и
тяготел Страхов на разных стадиях его жизни. Однако начинал он именно с науки,
приобретая в университете, а позже в Главном педагогическом институте навыки
профессионального ученого, которые отразились на всей его творческой жизни.
Страхов увлекался науками еще в те времена, когда учился в
Костромской духовной семинарии, и, судя по всему, именно из-за этого увлечения не
пожелал пойти по духовному пути, проложенному сначала его покойным отцом-
протоиереем, а затем взявшим на себя его воспитание дядей-монахом, успешно
продвигавшимся по карьерной лестнице. В этом отношении Страхов не был
исключением среди своих сверстников — в тот период науки, особенно
естественные, были чрезвычайно популярны среди молодежи. Как свидетельствовал сам
Страхов, вспоминая костромскую семинарию, «уважение к уму и к науке было
величайшее», господствовала «очень живая любовь к учености и глубокомыслию»3.
1 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 102.
2 Страхов Н. О вечных истинах: (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. 10ь
3 Страхов Н.Н. Воспоминания о ходе философской литературы // Ист. вестник. 1897.
Май. С. 428.
93
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—ф
В 1844 г. Страхов вслед за дядей, который получил повышение по службе,
переехал из Костромы в Петербург, где стал вольнослушателем, а потом и
студентом университета. В своей ранней автобиографической повести «По утрам»,
написанной в это время, юный Страхов слагает настоящий гимн науке и
искусству: «Да, науки и художества — высокое и сладкое, чисто человеческое занятие.
Кто хоть однажды отведал струй этого необъятного потока заключений и образов,
тот уже не оторвет от них жадных губ, тот наслаждение наукой, поклонение
науке поставит целью и занятием целой жизни. Кто поступает иначе, тот не
выбился еще из тины жизни, тот и не знает и не гадает о том, что такое наука.
Наука — это мир со всем разнообразием и великолепием, наука — это душа
человека со всеми его тайнами и загадками, наука — это душа мира, жизнь его, та
мысль, что движет и волнует человечество; наука — крайний, последний предел
высоты человеческого духа»4. Неудивительно, что юный мыслитель поставит,
как говорится в его повести, «поклонение науке» во главу угла. Страхов писал
о своей юности: «Преобладающий авторитет естественных наук уже в 1845 году
стоял твердо и потом возрастал с каждым годом»5.
Однако вместо храма бескорыстного служения науке в Петербурге юный
студент неожиданно для себя попал в атмосферу политического вольнодумства
и религиозного нигилизма. Молодые отрицатели использовали науку, особенно
естествознание, для подтверждения своих материалистических выводов.
«Символ веры» отрицателей, как пишет Страхов, был прост: «Бога нет, а царя не
надо»6. Сам Страхов отрицательным настроениям молодежи если и поддался,
то лишь в незначительной степени. Тем не менее он связывает с этим идейным
радикализмом причины своего профессионального выбора именно естественных
наук: «Отрицание и сомнение, в атмосферу которых я попал, сами по себе не
могли иметь большой силы. Но я тотчас увидел, что за ними стоит
положительный и очень твердый авторитет, на который они опираются, именно, авторитет
естественных наук. Ссылки на эти науки делались беспрерывно; материализм
и всяческий нигилизм выдавались за прямые выводы естествознания. И вообще
твердо исповедовалось убеждение, что только натуралисты находятся на верном
пути познания и могут правильно судить о самых важных вопросах. Итак, если
я хотел „стать с веком наравне44 и иметь самостоятельное суждение в
разногласиях, которые меня занимали, мне нужно было познакомиться с естественными
науками. Так я и решил сделать и, несмотря на некоторые препятствия, никак
не отступал от этого решения и понемногу привел его в исполнение»7.
Б. В. Никольский, автор большого критико-биографического очерка о
Страхове, тоже объясняет тот факт, что сначала Страхов выбрал в университете
4 Страхов. По утрам. С. 400-401.
5 Страхов Н. Н. Воспоминания о ходе философской литературы. С. 428.
6 Там же.
7 Там же. С. 432.
94
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
»
«камеральный», то есть юридический факультет, его жаждой знания, а кроме
того, еще и интересом к политике: «Выйти из семинарии и поступить в
университет его побуждает не разлад с окружающим миром, не недовольство средою,
но чистая жажда знания, притом жажда знания совершенно определенная: он
не сразу находит свои научные интересы, колеблется в выборе факультета. Тот
естественный патриотизм, которым он был проникнут с детства, внушает ему
вначале намерение изучать политические науки, и он поступает на камеральный
(юридический) факультет; но вскоре уязвленное религиозное чувство влечет
его в стан враждебных авторитетов, и не как обезоруженного пленника, но
как пытливого и беспристрастного разведчика. Таким образом, наука является
не основным элементом его миросозерцания, а только школой и поприщем
умозрения; наука — мастерская, но не храм его духа»8.
Вынужденный из-за отсутствия средств после ссоры с дядей перейти
в Главный педагогический институт на казенное обеспечение, Страхов избрал
физико-математическое отделение, где прослушал и полный курс
естественных наук. По окончании курса его основной специальностью стала зоология.
И снова Страхов объясняет выбор научной специализации авторитетностью
этой науки: «Зоологию я выбрал потому, что она всего ближе к самому узлу
вопросов; уже вступая в студенты, я знал, что именно зоологи считают своим
делом решать вопрос о природе человека, о его месте в ряду других существ,
и что, далее, физиологи приписывают себе верховный авторитет во всех
областях психологии»9. В дальнейшем престиж естественных наук в обществе
только продолжал расти, и Страхов с его специальной подготовкой оказался
на переднем крае науки и мировоззренческих споров.
С 1851 г. Страхов, получив распределение в Одесскую гимназию,
отрабатывал обучение на «казенный кошт» в институте. Однако уже через год
ему удалось перевестись в Петербург, так как в гимназиях был введен курс
естественной истории и требовались подготовленные преподаватели.
Возвращение в Петербург позволило Страхову в свободное от работы учителем
время продолжить научные занятия зоологией под руководством опытных
профессоров.
В 1857 г. Страхов защитил магистерскую диссертацию по теме «О костях
запястья млекопитающих». Собственно зоологией, однако, ему заниматься не
пришлось — его научная карьера, несмотря на обширные знания, не задалась.
В Петербурге места ученого ему не нашлось из-за не слишком яркой защиты
диссертации. В 1858 г. после кончины профессора К. Ф. Рулье он участвовал
в конкурсе на кафедру зоологии Московского университета, однако его обошел
еще более молодой, но прыткий конкурент А. П. Богданов из будущих
эволюционистов. Страхову предлагали профессорское место в Казанском университете,
8 Никольский Б. В. Страхов. С. 12.
9 Страхов Н. Н. Воспоминания о ходе философской литературы. С. 432.
95
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—«>
но он уезжать из Петербурга не пожелал. Можно предположить, что он уже
тогда задумывался о переходе к литературной деятельности.
С наукой Страхова, учителя естественной истории, физики и математики
в гимназии № 2 Петербурга, связывало теперь только одно: с 1857 г. он
регулярно печатался в «Журнале Министерства народного просвещения», где вел
раздел «Новости естественных наук». Кстати, судя по его письму к брату от
30 апреля 1854 г., упоминаемому М. Г. Зельдовичем10, он начал сотрудничество
в этом почтенном научном журнале еще на три года раньше.
В своей диссертации Страхов стремился показать необходимость
применения обобщающих методов классификации к опытным исследованиям.
Он писал в книге «О методе естественных наук» (1865) о важности
классификации при гомологических исследованиях: «В рассуждении о костях
запястья я старался обратить внимание на важность сравнения форм при
гомологических определениях и приложил этот прием к обработанному
мною предмету. Меня невольно привела к этой мысли сама изменчивая
форма тех костей, которые я рассматривал; в других костях еще можно схватить
некоторое сходство формы, даже у животных далеких по системе, тогда как
здесь это сходство очень быстро исчезает. Но именно сравнением форм,
мне кажется, я достиг наибольшей возможной строгости в определении
гомологии»11. Гомологические научные исследования помогли Страхову
в дальнейшем выработать независимую собственную позицию в вопросе об
эволюционном учении.
Страхов, можно сказать, был в эти годы типичным представителем
«передовой» науки, занимаясь изучением и популяризацией новейших
открытий в области естественных наук. Так, например, советские эволюционисты
отмечали, между прочим, что об учении Дарвина в России первым сообщил
Н. Н. Страхов — в январском номере «Журнала Министерства народного
просвещения» за 1860 г.12
Автор посвященной Страхову монографии Н. В. Снетова обращает
внимание на то, что философ-ученый, беспокоясь о распространении нигилизма
среди молодежи посредством популяризации выводов естественно-научных
исследований, «последних слов науки», сам тем не менее «несколько лет вел
в Журнале Министерства народного просвещения как раз раздел „новости
естественных наук", занимаясь пропагандой научных достижений среди
молодежи»13. По мнению исследователя, это обстоятельство свидетельствует
об эволюции взглядов Страхова. Да, Страхов явно прошел через увлечение
10 Зельдович М. Неизвестный отклик на статью Чернышевского «Об искренности
в критике» // Чернышевский: Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1971. Вып. 6. С. 226.
11 Страхов. О методе естественных наук. С. 14.
12 Райков Б. Е. Русские эволюционисты до Дарвина. М., 1959. Т. 4. С. 55.
13 Снетова. Философия Страхова. С. 258.
96
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
естественными науками. Однако этот биографический факт, конечно, никак
не следует вменять ему в вину. Все-таки само по себе ознакомление
читателей с новейшими достижениями науки вряд ли может быть признано чем-то
предосудительным. А весь дальнейший творческий путь Страхова показывает,
что, отдавая должное естественным наукам, он занимался не столько
популяризацией всё новых и новых открытий, сколько философским осмыслением
возможностей познания и пределов эмпирической науки, а также борьбой
против позитивистской подмены философии сциентизмом.
Наука никогда не была для Страхова отделена от философии. Главный
вклад Страхова в науку — не узкоспециальные опытные исследования, а
обобщающие работы на стыке естественных и гуманитарных наук. Большое
количество сочинений Страхова было посвящено методологии и философии науки.
Первая такая статья, «О методе наук наблюдательных», была им опубликована
уже в 1858 г. Основные статьи Страхова по методологии научных исследований
вошли в его раннюю книгу «О методе естественных наук и значении их в общем
образовании» (1865).
Страхов придавал методу исследований особое значение, так как, по его
твердому убеждению, метод ни в коем случае не заимствуется из опыта, «а всегда
только прилагается к опыту, всегда руководит в исследовании фактов»14. Таким
образом, уже на ранней стадии Страхов пришел к выводу о необходимости
связи частных наук с самой общей и априористической из них —
философией. Изучение природы, по Страхову, не есть только механическое собирание
фактов и их классификация, но собирание этих сведений в единую систему.
Исследования натуралистов должны руководствоваться некой общей идеей,
направленной к средоточию развития — понятию человека, откуда органическая
природа получает свое объяснение. Уже в 1865 г. Страхов делает важнейший
методологический вывод: «Объяснить человека — значит объяснить высшее
явление природы; следовательно, в нем узел загадки. Низшее и может и должно
быть объяснено высшим, а никак не наоборот»|5.
В книге «Мир как целое» (1872), в которой Страхов собрал свои статьи
на естественно-научные темы, он писал о назначении научной деятельности:
«Наука имеет постоянно одно и то же содержание, одну и ту же неизменную
цель — истину. Наука не может существовать ни одного дня без уверенности,
что она может достигать истины, что она даже заключает ее в себе в
некоторой степени. История науки, следовательно, имеет только один смысл: она
представляет стремление к большему и большему раскрытию истины, а не ряд
бесконечных, быстрых или медленных переворотов»16.
м Страхов. О методе естественных наук. С. VIII.
15 Там же. С. XI.
16 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 315.
97
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
* * *
После публикации Страховым цикла натурфилософских статей
«Физиологические письма» в газете «Русский мир» (1859), а также статьи «Значение
гегелевской философии в настоящее время» и «Письма о жизни» в журнале
«Светоч» (1860) на молодого ученого-естественника с философскими задатками
обратил внимание не только критик и поэт Аполлон Григорьев, сразу
распознавший в молодом таланте родственную душу мыслителя-идеалиста. Тогда
же Страховым заинтересовался и известный московский публицист и издатель
Михаил Никифорович Катков, завершавший как раз в этот период поворот от
умеренного западничества к ультраконсервативным имперским взглядам.
В черновом варианте ответного письма к Каткову (первое письмо самого
редактора «Русского вестника» к Страхову нам неизвестно) молодой ученый
с философским уклоном сообщает: «Письмо от Вас очень обрадовало меня
и оживило. (...) Вы считаете меня мыслителем»*1. В то же время Страхов
подчеркивает, что и в своих философских сочинениях он опирается на
основательную естественно-научную подготовку: «В какой бы малой степени ни обладал
я этим свойством, у меня есть драгоценное пособие, которое спасет это свойство
от незаконных, по крайней мере, слишком больших уклонений в той сфере,
которою я занимаюсь, то есть в философии природы. Это пособие в том, что
я — натуралист. В моих статьях нет ошибок против естествознания, ошибок,
которые так портят иногда прекрасные философские исследования»18.
Тем не менее здесь важно отметить, что, будучи естественником по
образованию, Страхов проявил редкую самостоятельность мышления, не примкнув
к преобладавшему тогда среди студенческой молодежи материалистическому
поветрию. И именно идеализм в сочетании с неприятием политического
радикализма, по всей видимости, в первую очередь привлекли к нему редактора
«Русского вестника».
В «Русском вестнике» в мае 1860 г. была напечатана статья Страхова
«Об атомистической теории вещества», направленная против
материалистического учения о строении тел из неделимых атомов19. Это большое и
самостоятельное исследование, подвергающее критике грубый эмпиризм в науке,
позже вошло в книгу «Мир как целое». Статья, опубликованная 32-летним
Страховым в журнале Каткова, отличается блестящим и в то же время
увлекательным погружением в историю науки и критикой ее постепенно растущего
уклона к материализму, то есть сведению духовных явлений к вещественным.
Виртуозное решение Страховым сложной естественно-научной и одновременно
17 РО ИРЛИ. Ф. 287. Ед. хр. 49. Л. 3.
18 Там же.
19 Страхов Я. Об атомистической теории вещества // Рус. вестник. 1860. Май, кн. 2.
С. 143-194.
98
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
Ф
философской проблемы убедительно свидетельствует о том, что он мог стать
и прекрасным ученым-натуралистом. В то же время статья демонстрирует
и незаурядные аналитические способности автора, который доказывает
чисто философским путем научную несостоятельность преобладавшего среди
ученых материалистического взгляда, согласно которому природа состояла
из материальных неделимых атомов. Таким образом, Страхов предвосхищает
появившуюся позже теорию электронов.
Страхов заявляет, что атомистическая теория, которая утверждает, будто
вещество есть совокупность атомов, несмотря на внешнее господство в умах
людей, представляет собой чистую видимость. Эта теория опирается на
философский материализм. Однако хотя эмпиризм господствует в науке, химия
и физика, как утверждает Страхов, ничего не знают о веществе. По его мнению,
практические натуралисты не могут решать вопросы о сущности явлений, и для
этого требуется прибегнуть к методам философского исследования.
Страхов подвергает исследованию мысль атомистов о неопределенной
делимости вещества. Атомисты полагают, что деление — чистая видимость,
атомы извечно имеют одну форму. Вещества в сущности нет, изменяются
только пространственные отношения атомов. Они должны считать атомы
бесконечно малыми20. Смысл атомистической теории сводится к механическому
устройству мира. Страхов показывает, что атомная теория — совокупность
множества гипотез, менее вероятная, чем каждая из них в отдельности. Мы
видим, говорит он, что атомы суть создания нашего воображения. Совершенное
опровержение атомистики возможно, утверждает, следуя за Гегелем, Страхов,
если уничтожить бездну расстояния между веществом и духом и снова слить
мир в единое целое.
В философии, по мнению Страхова, механистический взгляд «ведет к
материализму— убийству духа и к фатализму — убийству жизни»21. Но почему
же атомистическая теория получила такое распространение? Страхов дает
такое объяснение: для опытных наук, занятых веществом, опора на атом удобна
и полезна, так как атомы легче подвергаются математическому вычислению.
Поэтому и держится атомистическая система.
Однако Страхов категорически отрицает атомизм: «.. .мы вполне, со
всевозможною ясностию, убеждены, что атомы не существуют»21. «Останется
вещество не атомистическое, не твердое, неизменное и мертвое, но вещество
гибкое, изменчивое, живое, то вещество, которое действительно существует.
20 Любопытно, что теории «малых атомов» придерживался даже такой ученый, как
Н. Я. Данилевский, судя по фразе в письме к нему Страхова об их споре: «О ваших маленьких
атомах я не буду говорить; мудрено вам будет присудить меня к сожжению на костре за их
отрицание» (Рус. вестник. 1901. Янв. С. 128).
21 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 358.
22 Там же. С. 356.
99
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Заметьте, — отвергая атомы, мы многое выиграем (...) Из мертвых атомов
ничего нельзя объяснить»23.
Известный петербургский философ Александр И. Введенский в своем
исследовании «К вопросу о строении материи» (1888) писал об этой статье
Страхова и о его книге «Мир как целое»: «Мало где можно встретить столь
глубокий и в то же время увлекательный по своей ясности и изяществу изложения
анализ атомизма (наряду с многими другими философскими вопросами — об
организме, жизни и т.д.), как в этой книге: она для своего чтения не требует даже
напряжения внимания, а только желания и времени прочесть легко понятную
философскую книгу; внимание возбуждается само собой»24.
К статье «Об атомистической теории вещества» примыкает еще одна
на ту же тему, «Вещество по учению материалистов» («Время», 1863, март),
которая также вошла в книгу «Мир как целое». В ней Страхов развивает свое
опровержение атомистической теории, рассматривая эту популярную теорию
как последовательный материализм.
Точка зрения Страхова имела уже немало сторонников. Так, 15 апреля
1873 г. он сообщает Толстому, что, к его радости, подобный взгляд на атомизм
разделял такой авторитет, как Менделеев (в книге «Основы химии»), хотя по
некоторым вопросам они «спаривали до ссор»: он «в принципе отрицает атомы
и простые тела; это очень мне польстило»25. Существует предположение, что
идея атомизма натолкнула Менделеева на создание периодической системы
элементов. Страхов сообщает в одном из писем, что его приятель-химик был
в восторге от его теории отрицания атомов и воскликнул, что теперь всё понятно;
этот «приятель», вероятно, именно Менделеев. Кстати, Менделеев, размышляя
о прениях Страхова со спиритами в связи с его книгой «О вечных истинах. (Мой
спор о спиритизме)», называл философа «покойный мой друг»26.
Любопытно, что статью Страхова об атомах, как и трактат философа
Ульрици на ту же тему, «Бог и природа», тщетно пыталась прочитать героиня
романа Леонтьева «Две избранницы» (ранее роман назывался «Генерал
Матвеев») по совету главного героя, Матвеева, правда, мало что там поняла. Однако
интересен вывод, который она сделала на основании прочитанного: «Главное
дело в том, значит, что и перед наукой благоговеть не надо, — и ее основания
темные...»27 Возможно, так «понимал» статью Страхова и сам Леонтьев.
На рубеже XIX и XX вв. этой статьей Страхова восхищался Розанов,
рассматривая ее как философское предчувствие теории электронов. Розанов,
кстати, вообще видел в трудах Страхова воплощение духа подлинной науки. Он
23 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 363.
24 Введенский А. И. К вопросу о строении материи // ЖМНП. 1890. Ч. 270, Июль. С. 62.
25 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 229.
26 Менделеев Д. И. Избранные труды. М., 2010. С. 267.
27 Леонтьев. ПСС. Т. 5. С. 155.
100
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
—ф
писал ему в 1888 г.: «Кроме того интимного, что сказывается в Ваших
сочинениях между строк, меня всегда привлекало Ваше отношение к текущей науке,
глубокое сознание ее падения, несмотря на внешние успехи, Ваши замечания
об отсутствии твердости и отчетливости в понятиях современных ученых о том,
что такое наука, каковы истинные ее задачи, что значит действительно
объяснить то или иное явление или факт. Когда я читал „Дарвинизм" Данилевского
и Ваше „Об основных понятиях физиологии" (также об эмбриологии, и „Мир
как целое"), я все думал: „Ну да, вот это и есть наука..."»28.
* * *
Вдохновленный одобрительным отзывом Каткова на первую статью,
Страхов изложил в очередном письме к московскому издателю целую программу
сочинений по философии природы, надеясь реализовать ее в «Русском вестнике».
Но этим планам не суждено было сбыться. Во-первых, с 1861 г. Страхов
увлеченно сотрудничал в новом журнале братьев Достоевских «Время». А во-вторых,
темы задуманных Страховым натурфилософских статей — о «механике
животных», «теории внешних чувств» и «теории нервной системы», — как следует
из его плана, всё еще относились в большей степени к естественным наукам,
нежели к философии или культуре. По своей отвлеченности и очень
специальному характеру они не вполне подходили для литературно-публицистического
«Русского вестника».
В 1860-1861 гг. научные статьи Страхова появлялись в самых разных
журналах: в «Светоче» А. П. Милюкова («Письма о жизни»), в «Журнале
Министерства народного просвещения» («Органические категории. По поводу статьи
г. Эдельсона „Идея организма"») и «Отечественных записках» («Естественные
науки как предмет общего образования»).
В литературно-публицистическом журнале «Время» сугубо научных работ
Страхов практически не печатал. Однако его участие в этом журнале началось
с довольно необычной публикации — большой статьи «Жители планет». По
форме эта статья, в которой фигурировали имена П.-С. Лапласа («Изложение
системы мира»), Б. Фонтенеля («Разговоры о множестве миров»), X. Гюйгенса
(«Книга мирозрения») и Вольтера (сказка «Микромегас»), производила
впечатление научно-популярного очерка на астрономическую или даже
фантастическую тему о бесконечности мироздания и об инопланетных мирах. Обманчивое
впечатление несерьезности усиливалось еще и от иронии, с которой автор
рассматривал тему, занимавшую чаще писателей-фантастов, чем ученых.
Размышления, которым предавался Страхов, проявляя великолепную
эрудицию и тонкое понимание различий между мертвой и органической природой,
28 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 148.
101
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$'
животным и человеком, попутно охватывают и критику механического учения
атомистов о веществе, и ироническое рассуждение о том, может ли на земле
появиться человек с крыльями, и многое другое. Все эти обильно сдобренные
юмором размышления подводят к смелому по своему исключительному
консерватизму выводу: «Мыслить создание природы, которое было бы выше
человека, невозможно. Следовательно, невозможно предполагать, чтобы на других
планетах жизнь проявилась совершеннее или даже иначе, чем на планете, где
высшее существо есть человек»29.
Б. В. Никольский так описывает содержание первой части книги «Мир
как целое», в которой тема статьи «Жители планет» обрела свое место в общей
антропоцентрической гипотезе Страхова: «Первая часть „Мира как целого"
посвящена началам учения о человеке, т.е. выяснению самого понятия жизни
в ее противоположности формальному бытию и понятию разумного существа,
т.е. человека как центра мира, как совершенного проявления жизни. Первый
вопрос Страхов рассматривает в связи с положением „человек есть животное",
второй же — в связи с предположением о существовании жителей планет как
разумных организмов, существенно отличных от человека и притом более
совершенных. Блистательным разбором этих положений Страхов выясняет,
что жизнь есть совершенствование, в чем, между прочим, находит и разгадку
смерти, которая не дает организму как высшему проявлению жизни пережить
достигнутого им совершенства, и что разум как высшее проявление жизни не
может иметь степеней, а следовательно, разумные существа возможны только
подобными человеку»30.
Эти суждения, внешне имеющие вид не слишком убедительной
фантазии, на самом деле представляют собой необычайно глубокую, тщательно
продуманную идею, смелость которой Страхов маскирует шутливым тоном.
В более поздние времена, когда стала расцветать философия космизма, о
забытых идеях Страхова, трактовавших космос совершенно в ином, далеком от
сциентизма духе, никто и не вспоминал. Пафос научного освоения пространств,
сулящих захватывающие дух перспективы развития цивилизации, вступал
в непримиримое противоречие со скептической теорией «трезвого» философа.
За полемические статьи с критикой «передовых идей» Михайловский назвал
Страхова, осмелившегося выступить против мощного отряда оппозиционной
журналистики, Дон Кихотом. Здесь, в случае с инопланетными цивилизациями,
Страхов в очередной раз предстал в роли Дон Кихота, тщетно стремившегося
придать поступательному ходу человеческого прогресса более осмысленный
характер, избавив его хотя бы от некоторых опасных с экологической точки
зрения иллюзий.
Страхов. Мир как целое. 2007. С. 260.
Никольский Б. В. Страхов. С. 33.
102
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
Можно сказать, что эта чрезвычайно дерзкая, крайне консервативная,
если не сказать «реакционная», по своей антипрогрессистской сути статья
не была понята современниками, которые лишь легкомысленно
высмеивали ее как пустую фантазию. Например, публицист оппозиционного журнала
«Дело» Н. Шелгунов, демонстрируя чисто утилитарное отношение к природе,
мимоходом отзывается о «хитро измышленной» статье Страхова «О жителях
планет»: «Описание природы имеет смысл настолько, насколько рисует ум
или глупость коллективной жизни человека, силу и власть человека над этой
природой. Почему весьма хитро измышленная статья г. Страхова „О жителях
луны" осталась незамеченной, несмотря на всю ловкость ее логического
построения? А только потому, что вам нет никакого дела до жителей луны, пока
к ним не будет проведена железная дорога. Описание природы вам важно лишь
в прогрессивно-историческом смысле, то есть насколько человек в борьбе с
природой торжествует или падает в бессилии. Природа важна для нас настолько,
насколько человек зависит от нее. Безотносительной природы нет, и, как бы
ни были велики ураганы у жителей луны г. Страхова, вам нет до них никакого
дела, пока лунный ураган не заденет вас, пока он не заставит вас справиться
о целости крыши вашего дома или не заставит вас подумать о более теплом
одеяле»31. При подобном узкоутилитарном подходе понять всю важность
гипотезы Страхова было, конечно, невозможно.
Мимо статьи Страхова прошли и позже, когда в трудах Циолковского,
Н. Ф. Федорова, В. Н. Муравьева и других ученых, «пророков космократии»32,
забрезжила идея освоения космоса, перейдя из разряда фантазий в зачатки
философии космизма. Только во второй половине XX в., когда началось
активное освоение космоса и философия русского космизма воспринималась чуть
ли не как советская государственная идея, на «предвосхищающую критику»
космизма в статье Страхова «Жители планет» обратили серьезное внимание
некоторые исследователи, прежде всего философ и историк науки Н. К. Гав-
рюшин (1946-2019)33. Гаврюшин очень высоко ставил книгу Страхова «Мир
как целое», в которую вошла эта статья, рассматривавшая вопрос о жителях
планет в комплексе с учением об атомизме, для опровержения атеистического
мировоззрения с точки зрения христианского антропоцентризма.
Гаврюшин также практически заново открыл имя историка науки Т. И. Рай-
нова (1888-1958), который считал книгу «Мир как целое» лучшей русской книгой
по философии науки. Но сам Райнов, чье творчество пришлось на советское
время, известен еще меньше Страхова. Этот незаурядный ученый, по существу,
31 ШелгуновН. Талантливая бесталанность («Обрыв». Роман И. А. Гончарова. 1869 г.) //Дело.
1869. №8. Отд. II. С. 8.
32 Гаврюшин Н. К. Прозрения и иллюзии русского космизма // Философия русского
космизма. М., 1996. С. 101.
33 Гаврюшин Н. К. Критика космизма Н. Н. Страховым // Из истории авиации
и космонавтики. М., 1976. Вып. 30. С. 46-54.
103
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
подвел итоги «космической философии», сосредоточившись не столько на ее
достоинствах, сколько на опасных иллюзиях технократического отношения
к природе, и прежде всего на экологических последствиях сциентизма. В «ноо-
сферном человечестве» будущего, которое, возможно, «перешагнет границы
Земли и Солнечной системы и расставит свои сети над мириадами миров»,
господствуя над миром живых и неживых существ, Райнов увидел воплощение
«космизированного Великого инквизитора»34, противостоящего евангельской
правде и любви. До конца осознать идеи этого ученого-мыслителя нам, видимо,
еще предстоит.
Подобно тому как Страхов разоблачал псевдорелигиозность спиритизма,
в котором смешивалось духовное и физическое, а научные доводы
использовались для подтверждения вульгарной мистики, его сомнения в возможности
существования высокоразвитых инопланетных цивилизаций служат
предостережением от чрезмерного увлечения широко распространившимися идеями
всемогущества таинственных жителей других планет. Точно так же как
позитивизм обожествляет науку, философия космизма приводит к безоглядному
поклонению технократической цивилизации, устремленной в обожествляемый
космос. Гаврюшин отмечает в сциентистской философии космизма
Циолковского, прославляющей близкие к религиозным упованиям иллюзорные надежды
на спасительное значение для человечества освоения космоса, присутствие
элементов гностицизма и оккультного мистицизма. Нет сомнения, что развитие
космонавтики действительно мощно стимулировало технический прогресс, но
сегодня уже очевидно, что космические достижения имеют большее отношение
к опасному для человечества военному соперничеству с целью доминирования,
чем к познанию миров иных.
Современный православный журналист Михаил Сизов (газета «Вера»),
давно занимающийся проблемами взаимосвязи науки и христианства, отмечает
важную для нас связь между верой в существование инопланетян и... безбожным
дарвинизмом: «Дарвиновская теория самозарождения жизни предполагает, что
жителей во вселенной должно быть бесконечно много — и в этом ее оптимизм.
А если мы одни, то тогда — одиночество и депрессия. Дарвинизм отрицает
Бога, ангелов, загробный мир, поэтому тут все всерьез — одиночество
получается абсолютное, сводящее с ума. Вот и придумывают инопланетян: пусть они
страшненькие, с щупальцами или рогами, лишь бы что-то живое»35. М. Сизов
упоминает известных ученых, пришедших сугубо материалистическим,
опытным путем к отрицанию, подобно Страхову, инопланетных цивилизаций, —
нобелевского лауреата Энрико Ферми и крупного астронома И. С. Шкловского.
Напомним, что Шкловский написал в 1976 г., после долгих лет практического
34 Гаврюшин Н. К. Прозрения и иллюзии русского космизма. С. 105.
35 Сизов М. Языком Фомы // Вера: Христианская православная газета Севера России.
2020. Вып. 11 (№ 853). С. 16-19.
104
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
участия в астрофизических поисках внеземных контактов, статью «О возможной
уникальности разумной жизни во Вселенной», в которой сделал вывод о
«нашем одиночестве во Вселенной»36 и необходимости диалектического возврата
к антропоцентрической концепции. Нам же остается лишь поразиться в связи
с этими сведениями тому, что взгляды Страхова, выраженные в статье «Жители
планет», обретают актуальность спустя столетие. Надо отметить при этом, что
если естествоиспытатели опирались на сугубо эмпирические исследования,
то антропоцентрическая гипотеза Страхова — результат исключительно
философских размышлений.
В наше время, когда ажиотаж энтузиастов «космических чудес» вокруг
радужных перспектив, связанных с космонавтикой, и бесконечных фантазий
на тему НЛО несколько поубавился, а сциентистский с оккультным оттенком
характер философии космизма становится очевиден, скептическая научно-
философская концепция Страхова относительно малой вероятности
существования высокоразвитых инопланетных цивилизаций и их обитателей-«сверх-
человеков» не может не привлечь к себе внимание как интересная научная
гипотеза. Как и в других случаях противостояния религиозным фантазиям
пророчествующих философов, Страхов с его скептицизмом в отношении миров
иных противостоит прошедшей, по всей видимости, пик своей популярности
философии космического сциентизма с его опасными в экологическом
отношении идеями безудержной эксплуатации природы.
Однако нельзя сказать, что идея Страхова привлекла к себе большое
внимание. Даже современные исследователи нередко находят умозаключения
Страхова о невозможности обитания на других планетах каких-то существ,
наделенных сверхъестественными способностями, недостаточно
доказательными или даже ложными. В подобных выводах есть нечто от позитивистского
неприятия «метафизики». С помощью подобных дедуктивных приемов
научного познания, а точнее, приложения к науке методов философского
анализа Страхов доказывал недостоверность атомистической теории, на которой
строилась материалистическая теория вещества. Как известно, созданная
позже теория электронов подтвердила эту блестящую гипотезу Страхова.
Применение методов философии в науке является существенным вкладом
Страхова в русскую мысль.
* * *
Весьма объемистое и, надо признать, довольно странное сочинение
Страхова «Жители планет» открывало журнал братьев Достоевских «Время» в 1861 г.
Не очень понятно, что именно побудило Страхова придать своей первой статье
36 Шкловский И. С. О возможной уникальности разумной жизни во Вселенной // Вопросы
философии. 1976. № 9. С. 80-93.
105
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
в новом журнале, в которой выдвигалась очень смелая в научном отношении
гипотеза, шутливый характер. Возможно, это произошло от присущей ему
скромности и желания затушевать грандиозное значение тех опережающих
современную ему науку идей, которые выдвигались в его статье. Неизвестно
также и то, по какой причине издатели журнала «Время» братья Достоевские
решили открыть именно этой своеобразной и довольно пространной статьей
свой литературный, а не научный журнал. Однако использование в дальнейшем
Достоевским философских мотивов из этой статьи в романе «Братья
Карамазовы» показывает, что редакция по достоинству оценила это важное произведение
Страхова.
Редакция также вряд ли предвидела, что эта статья совершенно не будет
понята читателями и станет лишь поводом для литературных потех. Статья
«Жители планет» действительно подверглась ехиднейшим, долго не умолкавшим
насмешкам идейных противников. Сатирический «Свисток», прилагавшийся
к «Современнику», из номера в номер помещал то пародии, то фельетоны на
эту тему. Даже сам Некрасов, как отметил в свое время П. М. Ковалевский,
«поместил в „Свистке" несколько смешных куплетов насчет „сухих туманов"
и „жителей луны", по целым месяцам населявших книжки журнала.
Когда же о сухих туманах
Статейку тиснешь невзначай,
Внезапно засвистит в карманах,
Тогда ложись и умирай, —
повествовал „Свисток".
Над жителями луны издевались еще больше, даже не прочитавши статей;
а они затем именно и писались, чтобы доказать, что на луне никаких жителей
нет. Бедный Достоевский от всего этого страдал глубоко»37. Видно, что автор
воспоминаний знает о самой статье Страхова только по журнальным
фельетонам и пародиям.
Можно предположить, что эта статья написана автором если не со
смущением, то с иронией как бы в свое оправдание за весьма необычную, смелую
гипотезу. Надо отметить, что именно иронический тон статьи не пришелся по
вкусу дружественно настроенному к Страхову Толстому, когда он прочел ее
в книге «Мир как целое» в 1872 г. Что уж говорить о Толстом, если даже
философ Данилевский (судя по сохранившимся ответам Страхова) совершенно
не понял статью и обрушился на своего друга как на «человекопоклонника», то
есть восприняв его идеи как своего рода аналог «антропологическому
принципу» материалиста Чернышевского. Письма Данилевского до нас не дошли, но
по ответам Страхова вполне можно восстановить смысл негативной реакции
37 Ковалевский П. М. Встречи на жизненном пути // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях
современников. М, 1964. Т. 1. С. 324.
106
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
Николая Яковлевича. В первом же письме 1873 г. Страхов разъясняет глубину
и продуманность своей концепции, в основу которой положен религиозный
взгляд на мир: «Вы веруете в жителей планет, уверяю вас, что это чистое
идолопоклонство. Нужно верить в Бога и его ангелов, пред которыми дрянь все
планетные жители, так что и думать о них не стоит. Но все нынче стали кос-
молатры (вот вам за антрополатрию), поклоняются воображаемым существам,
забывая об истинных чистых духах. Своим рассуждением я только это и хотел
сказать, что мы напрасно тешим свое воображение, что следует восхищаться
не миром, а искать чего-нибудь выше»38. Религиозное истолкование здесь
Страховым своей гипотезы не вызывает сомнений.
Тем не менее похожее на сложившееся у Данилевского мнение о книге
Страхова высказал и ультраконсервативный ученик К. Н. Леонтьева И. Кристи:
«Что касается книги „Мир как целое", то, несмотря на весь ее интерес, в ней,
если я понимаю, нечто худшее: это уже не личное самодовольство, а
самодовольство человеком, какой-то гегелиянский оптимизм, вот что мне не симпатично.
Страховский человек не представляет из себя вовсе объекта для Божественного
откровения и Искупления. Я, кажется, предпочел бы дарвиновскую обезьяну,
если бы это не противоречило ветхозаветному откровению»39. Кристи также
ошибочно видит в утверждении Страхова о центральном месте человека во
Вселенной «самодовольство». По всей видимости, книга Страхова, опирающаяся на
учение Гегеля, дает некоторое основание для критической оценки проводимого
в ней антропоцентрического органицизма, но внимательному и непредвзятому
читателю к такому выводу прийти трудно.
История восприятия читателями этого сочинения типична для
Страхова. Характерен в этом смысле критический и даже пренебрежительный отзыв
об этой статье автора монографии о Страхове Н. В. Снетовой. Она считает,
что Страхов прибегает в своем доказательстве к «софизмам»: «В осмыслении
сложных вопросов о единстве мира, месте Земли и человека в мире у Страхова
можно заметить два софизма. Первый софизм состоит в подмене идеи Земли
как отражения „величия" и сущности мира утверждением, что по Земле можно
познавать мир. Второй софизм — подмена единства мира его единообразием.
Приводя естественно-научные аргументы в пользу единства мира, философ
незаметно единство подменяет единообразием, прямо употребляя данный
термин. В статье „Жители планет" (...) он утверждает, что если на какой-нибудь
планете есть жизнь, люди, то они могут существовать только точно в таких же
формах, как на Земле. При этом ученый опирается на данные наук, действия
законов природы, совершенно не обращаясь к религиозным представлениям
или религиозной терминологии. Страхов преувеличивает сходство Земли со
38 Рус. вестник. 1901. Июнь. С. 128.
39 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 2: Иван Кристи. Письма к К. Н.Леонтьеву. Статьи.
С. 80-81.
107
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
всеми планетами Вселенной, понимает единство мира слишком прямолинейно,
упрощенно. Однако в его оправдание следует отметить, что данный подход
и подмена были в философии того времени типичными»40.
Если уж Вл. Соловьеву после чтения наполненной религиозным
вдохновением книги «О вечных истинах» пришла в голову мысль утверждать, что
Страхов — проповедник «механистического материализма», то почему после
более чем векового «прогресса в науках» ему должны уступать современные
философы? И действительно: почему это Страхов, утверждающий, что мир есть
единое целое, убежден в том, что «по Земле можно познавать мир»? Здесь, по
мнению Н. В. Снетовой, содержится явный «софизм». Для нее это важнейшее
умозаключение серьезного мыслителя-методолога, воспринимающего «мир как
целое», содержит, бесспорно, элементарную логическую ошибку. Несколько
наивно подозревать Страхова, просвещеннейшего и умнейшего ученого, в
незнании элементарных законов логики, которую, кстати, он штудировал, судя по
его воспоминаниям, еще в духовной семинарии (к тому же он прямо ссылается
на гегелевскую логику в своих доказательствах).
Здесь мы в очередной раз имеем дело с чрезвычайно смелым и поистине
новаторским методологическим подходом Страхова: он отказывается от
общепринятого в позитивистской науке познания окружающего мира лишь
эмпирическим путем. Представляя мир как единое органическое целое и опираясь на
глубокую интуицию о человеке как венце развития, Страхов выдвигает смелую
гипотезу, что биологически более совершенного существа, чем человек, не может
быть и среди «жителей планет». А завершает ее еще более смелым выводом
о том, что инопланетян, по-видимому, вовсе не существует. И необычный ход
его мысли, кажущейся кому-то «софизмом», представляет собой
методологически исключительно важный, оригинальный даже для нашего времени подход
к познанию. Если допустить, что гипотеза Страхова может в конце концов быть
опровергнута, то и в этом случае она настолько важна, что науке не следует
пренебрегать ее изучением на тот случай, если она все-таки подтвердится.
Среди редких работ, положительно оценивающих эту статью Страхова,
следует отметить докторскую диссертацию Е. Н. Мотовниковой. В этом исследовании
также отмечается, что в качестве авторитетного сторонника Н. Н. Страхова выступил
выдающийся астрофизик И. С. Шкловский, который, как и философ, пришел в
конце концов к пессимистическому взгляду на проблему внеземных цивилизаций41.
Рассуждение Страхова о «жителях планет» неотрывно связано с его органической
философией и концепцией человека и его центрального места в мире.
Страхов использует для своих доказательств принцип всеобщей
связи, и такой метод, утверждающий единство мира и человека, предполагает
40 Снетпова. Философия Страхова. С. 209-210.
41 Мотовникова Е. Н. Герменевтические стратегии в философской публицистике
Н. Н. Страхова (историко-философский анализ): дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03. М., 2016.
108
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
религиозное его истолкование. Хотя Страхов в научных доказательствах к
религиозным понятиям не прибегает, но представление о мире, которое он
высказывает, все-таки имеет отчетливо религиозный характер. Это он сам ясно
показывает в письме к Данилевскому. Н. К. Гаврюшин, покойный профессор
Московской духовной академии, прямо заявлял о христианском характере
«антропоцентризма» Страхова.
Интересный аспект целостного мировоззрения Страхова—то, что он
рассматривает вопросы об инопланетных цивилизациях и дарвинизме неотрывно
от экологических вопросов. Гаврюшин подчеркивает, что философия космизма
является воплощением сциентистского, технократического мировосприятия.
Страхов хорошо осознавал, что сциентизм, придание науке доминирующей роли,
на которую претендует, в частности, философия позитивизма, представляет
опасность для природы. Страхов писал Толстому о попытках человека подчинить
природу: «Настроение современных людей имеет что-то прометеевское. Они
хотят распоряжаться природою, они мечтают, как алхимики, продлить жизнь,
переделать по-своему животных и растения (...) овладеть болезнями и т.п.»42.
Однако их «мечты человеколюбия, обновления, благополучия не имеют
правильного источника, правильной цели и потому приведут к убийству, хаосу
и страданию»43.
* * *
Новаторский характер трактовки Страховым космической темы явно не
был принят всерьез его современниками. А впоследствии, когда начался бурный
рост интереса к научно-футурологическим мечтаниям, приведшим к
возникновению философии космизма, точка зрения Страхова, шедшая вразрез с идеями
основоположника космизма Циолковского и взрывом оптимизма из-за успехов
в освоении космоса, была предана забвению как скептическая фантазия.
Гаврюшин в 1996 г., рассказав о сциентистских утопиях Циолковского,
снова обращает внимание на критику потенциальных оснований
технократического космизма в книге «Мир как целое» Страхова и указывает на небольшой
ряд единомысленных с ним трудов: «Эта книга — несправедливо забытая —
отнюдь не одиночное явление на русском философском горизонте. Вместе
с древнерусскими „Шестодневами", „Письмами о природе и человеке" князя
Антиоха Кантемира (1742), трудами Н. О. Лосского, Т. И. Райнова она как бы
определяет другой лик русского космизма, в котором выразились идеи цело-
купной гармонии мира как творения Божия, его эстетического совершенства
и рациональной неисчерпаемости, всепроникающей одушевленности»44.
42 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 664.
43 Там же. С. 636.
44 Гаврюшин Н. К. Прозрения и иллюзии русского космизма. С. 107.
109
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$>
В этой статье Гаврюшин развивал идеи двух противостоящих традиций
развития философии космизма: «Подобно тому как технократический и сциен-
тистски ориентированный космизм Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского, отчасти
и В. И. Вернадского находится в прямом родстве с утопическим социализмом
Шарля Фурье (и через этого общего предка—с марксизмом), так и
противостоящая ему традиция в истории русской мысли имеет общие позиции с западной
философией, например, с натурфилософией Шеллинга, „этикой благоговения
перед жизнью" Альберта Швейцера и т.д.»45. Таким образом, Страхов занимает
совершенно особое место в истории важнейших научных идей.
Но заслуживает особого внимания то, как Страхов аргументирует слабую
вероятность того, что другие планеты могут быть населены, и особенно то,
что они вряд ли могут превосходить «землян» по своему облику, интеллекту
и технологической оснащенности.
Интересный аспект темы человека и космоса в творчестве Страхова
затронул русский эмигрант философ-славист Д. И. Чижевский (1894-1977),
посвятивший Страхову, помимо большой главы в своей основной книге «Гегель
в России» (1934 — на немецком языке, русский перевод — 2007), еще целый
ряд статей. Чижевский обратил внимание на то, что, помимо статьи «Жители
планет», Страхов почти не развивал тему обитаемого космоса, но в статье
о Фейербахе критически писал о теории «высшего человека» как воплощении
предпросветительского атеистического мировоззрения. Из западных теорий
«отрицания человека» логически вытекает гипотеза о «новом создании»46,
которое будет высшим существом по сравнению с человеком, и в этой гипотезе
в изложении Страхова Чижевский увидел перекличку с идеями Ницше о вечном
повторении (возвращении) и «сверхчеловеке». По мнению Чижевского,
Страхов считал, что для просветительского мировоззрения представление о таком
«высшем» существе совершенно естественно.
Чижевский рассмотрел также использование в творчестве Достоевского
таких мотивов, взятых из статьи Страхова «Жители планет», как «геологический
переворот», «вечное повторение» и «высшее существо» или «человекобог».
Достоевский придал биологической гипотезе Страхова глубокий этический
смысл, более близкий к использованию идеи «сверхчеловека» Ницше.
Интересный анализ влияния идей Страхова на сочинения Достоевского, в частности на
образ Ивана Карамазова, проведен А. В. Тоичкиной в статье «Заметки Д. И.
Чижевского о Достоевском и Н. Н. Страхове»47. Выделив из круга работ
Чижевского касающиеся Страхова заметки: «Черт Ивана Карамазова и Н. Н.
Страхов», «Философия Ивана Карамазова и проблема бессмертия у Достоевского
45 Гаврюшин И. К. Прозрения и иллюзии русского космизма. С. 107.
46 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 74.
47 Тоичкина А. В. Заметки Д. И. Чижевского о Достоевском и Н. Н. Страхове // Вопросы
философии. 2014. № 5. С. 104-109.
ПО
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
(не в агрономическом смысле, а в духе „Времени")» в декабрьском номере
«Современника»7. Автор возвел происхождение понятия «почва» к «реакционному»
журналу «Маяк» и высмеял его как «аллегорическое название», как нечто
туманное, неясное и представляющее собой пустую фразу. По ходу дела Антонович
прошелся и по такому понятию, как «народность», не находя существенных
различий между этими двумя не вполне ясными терминами: «...понятие,
соединяемое с словом „почва", остается столь же смутным и неопределенным, как
и то, которое прежде выражали словом „народность". Посмотрите на журналы,
толкующие о почве почти на каждой странице, славящиеся своею почвенностью
и укоряющие всех за оторванность от почвы, — чем они отличаются от прочих
журналов? Решительно ничем...» Антонович, конечно, имеет здесь в виду
славянофильские издания, прежде всего газету И. С. Аксакова «День», где опора
на «народность» была одной из программных идей.
Григорьев еще со времен «Москвитянина» симпатизировал
славянофильству, но его симпатии были неотделимы от критического отношения к
некоторым его сторонам: «Я глубоко сочувствую славянофильству в его любви к быту
народа и к высшему благу народа — религии, но и глубоко же ненавижу это
старо-боярское направление, за его гордость»8. По мнению критика, прежнее,
раннее славянофильство уже кончилось как «не народное, а старо-боярское
направление»9, и «Времени» было суждено прийти ему на смену. В письме
к Страхову из Оренбурга Григорьев предложил такой положительный план
действий редакции «Времени»: «...быть последовательным в своей вере в
поэзию и жизнь, в идею народности вообще (в противоположность
абстрактному человечеству), — воспользоваться ошибками славянофильства как всякой
теории и встать на его место»10. Неприемлемыми пунктами славянофильской
программы для Григорьева были прежде всего ориентация на старорусский быт
допетровских времен, категорическое неприятие Петровских реформ и
чрезмерная приверженность доктринерским теориям. Сотрудник «Современника»
Антонович скептически отнесся к претензии «Времени» занять место
западничества и славянофильства, устранив их недостатки, как это заявлял Григорьев
в письмах к Страхову.
Ф. М. Достоевский, в тот период еще не изживший в себе остатки
западнического либерализма, больше склонялся к идее компромисса, примирения
славянофилов и западников, которую также декларировал журнал «Время».
Григорьеву и Страхову были явно ближе идеи славянофильства с
внесенными ими изменениями. В то же время Григорьев заявлял, что если внести
7 [Антонович М. А.] О почве (не в агрономическом смысле, а в духе
«Времени») // Современник. 1861. Дек. С. 171-188 (без подписи).
8 Григорьев. Воспоминания. С. 355.
9 Там же.
10 Там же. С. 477.
221
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
обойтись. Мыслитель указал направление, в котором надо двигаться за пределы
рационализма, но сам остановился у точки, в которой начиналось неизведанное,
и от этого его философия производит впечатление явной недоговоренности,
неокончательности. Очевидно, что Страхов уже вышел за пределы не только
опытной науки, но и рационализма, однако далее, в сферу интуитивных догадок
и выводов, он пойти так и не решился. Поэтому его «научные» по внешнему
виду вторжения в духовную сферу — такие как попытки разоблачения
ложности спиритизма — при умолчании, за редкими исключениями, о религиозной
стороне вопроса выглядят не вполне убедительно и дают даже повод его не
совсем корректным оппонентам подозревать мыслителя в приверженности
механистическому материализму. Тем не менее Страхов в своих разработках
философии науки настолько обошел своих современников, что его идеи
являются перспективными и для современных мыслителей.
Страхов постоянно испытывал неудовлетворенность состоянием
современной ему науки, в которой преобладал механистический взгляд на материю.
Одна из главных целей Страхова как философа — указать опытной науке ее
пределы. В 1870-х гг. широкое распространение неожиданно получил
спиритизм, в котором грубо смешивались рациональное и мистическое, духовное
и физическое. Узнав о приверженности этому вульгарному занятию серьезных
ученых, Страхов неожиданно задался целью опровергнуть спиритизм с помощью
сугубо научного метода, то есть «от противного», хотя обычно он занимался
доказательством как раз обратного: отрицанием механистического подхода
к органическим явлениям жизни. Страхов, видимо, по-прежнему считал, что
доказательства в сфере религии и веры не могут иметь научного характера, и
поставил себе более скромную задачу: лишить спиритизм ореола опоры на науку.
Страхов критикует попытку «обнять наукой не только вещественную
жизнь природы, но и жизнь органическую, жизнь животную и даже
человеческую. (...) по учению механики человек — не более как машина51. Критика
эмпирического взгляда—одна из основных вопросов натурфилософии Страхова.
Однако в книге «О вечных истинах» Страхов все-таки уходит от
сознательного ограничения себя рационалистическими пределами науки и указывает
путь, по которому должны идти дальнейшие исследования жизненных
процессов. Вводимое им понятие «жизнь», имеющее прямое отношение к
философии органицизма, позволяет конкретнее определить ту область, которая не
охватывается наукой: «Наука не объемлет того, что для нас всего важнее, всего
существеннее, — не объемлет эюизни. Вне науки находится главная сторона
нашего бытия — то, что составляет нашу судьбу, то, что мы называем Богом,
совестью, нашим счастием и достоинством»52.
1 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 374.
2 Страхов Н. О вечных истинах: (Мой спор о спиритизме). С. 54.
112
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
В статьях, где он непосредственно рассматривает спиритизм и
оспаривает учение его сторонников, Страхов выступает против идеала сциентизма
и подмены философии науки «научной философией», то есть позитивизмом.
Страхов утверждал: «Наука есть дело великое, хотя и не наилучшее и не
наивысшее из человеческих дел. Но та наука вообще, на которую так любят
ссылаться, есть истинный идол, фантастическое понятие ученых. Каждый
специалист, математик, физик, физиолог, думает, что имеет право говорить во
имя науки, тогда как наукою вообще могла и, может быть, стремилась и
стремится стать только философия, о которой такие специалисты обыкновенно
и слышать не хотят. Философия решает вопросы о границах и свойствах
познания, она старается указать точную меру его авторитета, тогда как специалист,
поклоняющийся своему кумиру, обыкновенно приписывает ему беспредельное
могущество»53.
Прочтя книгу «О вечных истинах», Л. Н. Толстой писал Страхову в марте
1887 г.: «Прекрасно и ново, и поучительно для меня значение, к(оторое) вы
придаете науке»54. Тот же Толстой оценил, что Страхов внес самый значительный
вклад в науку в «области определения предметов и пределов наук»55.
Творческое наследие Страхова располагается на стыке науки и философии,
точнее, он является одним из основателей философии науки как особой формы
исследования, раскрывающей взаимодействие естественно-научных приемов
и философского анализа, границы и способы научного познания. Как
естественник по образованию, Страхов внимательно рассматривает материальный мир,
но это ни в коем случае не мешает ему неизменно трактовать природу и
человека идеалистически. Страхова увлекало неясное, не до конца определенное,
находящееся на грани физического и идеального мира исследование сложных
вопросов бытия без материалистической вульгаризации. Такой подход, как он
верил, открывает новые горизонты. Страхов — настоящий ученый, владеющий
всей методологией и практикой научного исследования как рационалист. Но он
видит пределы научного знания и осторожно намечает пути выхода из
ограниченности рационалистической науки с помощью интуиции к теме религиозного
мировосприятия, к теме Бога. В этом заключается его новаторский подход
к науке, неотделимый от философского познания.
Научной темой, которой Страхову пришлось уделить немало времени
в те годы, когда он уже отошел от науки и считал себя более философом, чем
ученым, стал дарвинизм. Это сугубо биологическое учение распространилось
53 Там же. С. 9.
54 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 732.
55 Там же. С. 914.
113
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—»
очень быстро и широко. Дарвинизм, по мнению Страхова, «разросся до
чудовищности, до непоколебимого суеверия»56 прежде всего потому, что он объясняет
явления материалистически.
Страхов обратил внимание на новое учение рано. Даже советские ученые
отмечали, что первым о теории Дарвина в России сообщил именно Н. Н. Страхов
(возможно, имеется в виду его сообщение в одном из обзоров «Новости
естественных наук», печатавшихся в «Журнале Министерства народного
просвещения»57, о том, что вопрос о происхождении видов обсуждается в ожидаемом
сочинении Дарвина).
Интересно, что в своей первой посвященной учению Дарвина статье
«Дурные признаки», которая появилась в журнале «Время» в ноябре 1862 г.,
Страхов от души приветствовал новую теорию, называя ее «великим
переворотом». Исследователь сразу понял огромную важность дарвинизма, мгновенно
увлекшего множество умов, но еще не вполне распознал его псевдонаучный
характер и ожидал от нового учения важнейших научных открытий.
Страхов писал в этой статье об учении Дарвина как о важнейшем
событии в мире естественных наук: «В последние годы в учении об организмах, то
есть о животных и растениях, совершился великий переворот. Этот переворот
произвела книга Дарвина о происхождении видов (...) Она коренным образом
изменила самые главные, самые существенные понятия, которых до сих пор
держались относительно организмов». С этой быстро захватывающей умы
книгой Страхов связывает огромные научные надежды: «.. .книга Дарвина
представляет великий прогресс, огромный шаг в движении естественных наук»58.
Статью «Дурные признаки» Страхов впоследствии ни разу не включал при
жизни в свои издания, что свидетельствует об изменении его взглядов и,
соответственно, отношения к этой ранней работе.
Страхов вскоре отвергнет учение Дарвина, разобравшись в нем, и тем
не менее даже в этой его первой статье содержится очень ценный материал
о новой теории. Еще не распознав полностью опасной сути учения
Дарвина, Страхов во второй части исследования неожиданно резко изменил свой
тон. Он ополчился на французскую переводчицу книги английского ученого
«Происхождение видов» г-жу К. А. Ройе (Royer) и ее толкование Дарвина.
Мадам Ройе сопроводила свой перевод статьей и комментариями, в которых
принялась легкомысленно прославлять со ссылкой на закон Мальтуса
человеконенавистнические выводы, возникающие при приложении теории Дарвина
к человеческому обществу. Новое учение в такой интерпретации, получившее
позже название «социал-дарвинизм», имело довольно зловещий характер.
Страхов в резкой форме отчитал «девицу», выразившую намерение писать
56 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. XII.
57 ЖМНП. 1860. Ч. 105, Янв. Отд. VIII. С. 6-8.
58 Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902. С. 378-397.
114
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
Ф
работу о «нравственных последствиях теории Дарвина», так как г-жа Ройе
с восторгом излагала теорию прогресса — улучшения племени за счет того,
что «слабые погибнут и выиграют борьбу только сильные». К. А. Ройе смело
отвергала религиозную мораль и радовалась, что прогресс усовершенствования
человеческой природы значительно ускорится. Шокированный выводами г-жи
Ройе Страхов заявил, что такая статья характеризует Европу как «дряхлеющую
цивилизацию», и написал в заключение, что подобные выводы «совершенно
приличны эпохе падения».
Страхов увидел, к чему на деле ведет «вера в прогресс», о которой он
писал в первой части своей статьи. Вероятно, этот опыт существенно подвиг
его к пониманию того, какую опасность представляет теория Дарвина.
Интересно, что на эту статью Страхова, опубликованную в 1862 г.,
спустя годы с яростью накинулся Н. К. Михайловский. В отзыве публициста
содержались такие либеральные ярлыки и оскорбления, как «очевидное
ничтожество», «донос», «инсинуатор»59 и т.п. Михайловского, видимо, не
столько волновала честь г-жи Ройе или ее защитника, радикала П. А.
Бибикова, выступившего с критикой Страхова за статью «Дурные признаки»,
сколько возможность напасть непосредственно на давнего идейного
врага «г-на Косицу» и защитить учение Дарвина. К 1869 г., когда появилась
статья Михайловского, Страхов уже окончательно разобрался в сущности
«эпохального переворота» Дарвина, не без отрезвляющего воздействия
почитательницы социал-дарвинизма г-жи Ройе и ее защитника нигилиста
П.А.Бибикова60.
В 1863 г. М. А. Антонович в «Современнике», начавшем выходить чуть
позже из-за цензурного запрета, тоже поругал Страхова за «девицу Ройе», но
не стал утруждать себя углублением в суть вопроса, сведя его опять к шутке
двухлетней давности по поводу «жителей планет» и псевдонима Страхова:
«Благородный друг наш г. Косица, в отсутствие „Современника", сильно
затруднялся приискиваньем сюжетцев для своих статеек и не ознаменовал себя
в это время ничем особенным (...) Друг г. Косицы г. Страхов не открыл в
поднебесной никакой новой планеты с жителями, зато открыл „дурной признак"
в том, что девица Ройе не только перевела книгу Дарвина о происхождении
органических видов, но еще осмелилась снабдить свой перевод длинным
предисловием и примечаниями и высказать в них несколько своих взглядов. Да, это
дурной признак; ну что если русские девицы начнут рассуждать о тех материях,
которыми занимается г. Страхов, если они вздумают рассуждать о планетах,
59 Михайловский Ник. Аналогический метод в общественной науке // Отеч. зап. 1869.
[Т. 185]. Июль. Отд. II. С. 45-53.
60 Бибиков П. Л. Сантиментальная философия: По поводу чтений Г-жи Ройе о теории
Дарвина и тревог, возбужденных ими // Бибиков П. А. Критические этюды, 1859-1865. СПб.,
1865. С. 101-137.
115
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
»
о Гегеле, переводить Куно-Фишера, Тэна и т.д.; что же будут делать тогда не
девицы, т.е. наши два благородных друга?»61
По существу о содержании статьи Страхова в фельетонном «обзоре»
ничего не сказано. Зато М. А. Антонович случайно, но не без внутренней связи
этих явлений перекидывает мостик от высмеиваемой им темы «жителей планет»
к дарвинизму и невольно привлекает внимание к важному вопросу, затронутому
в статье Страхова «Дурные признаки».
Таким образом, Страхов уже на самой ранней стадии освоения учения
Дарвина предупреждает об опасности социал-дарвинизма — перенесения этого
учения о борьбе за существование из биологии в социальную жизнь. Но полное
развенчание быстро захватившего мир эволюционного учения им пока
откладывается. Н. В. Снетова отмечает, что в 1864 г. Страхов в статье «„Марево" и
естественные науки» призвал более осторожно относиться к критике дарвинизма
(в антинигилистическом романе Б. Маркевича «Марево» теория Дарвина была
представлена как гипотеза, растлевающе действующая на умы подрастающего
поколения). Снетова заявляет, будто бы «учению Дарвина дается необычайно
высокая оценка», хотя на самом деле Страхов пишет лишь, что над такими
теориями, как «теория постепенного осложнения организмов» (имя Дарвина
даже не упоминается), нельзя глумиться и что «теория постепенного развития,
конечно, не менее важна, чем учение Коперника»62. Всё же можно согласиться,
что в первые годы Страхов относился к теории Дарвина как к очень важному
естественно-научному открытию, пока не понял, что успех этого учения связан
не столько с его научной стороной, сколько с возможностью его использовать
для обоснования мира без Бога, что отвечало взглядам выросшей атеистической
части общества.
В своей следующей статье о дарвинизме, вышедшей в 1872 г., Страхов
для названия тоже использует выражение «Переворот в науке», как и в более
ранней статье, но теперь этот переворот воспринимается им уже как научная
трагедия, как мировоззренческая катастрофа мирового масштаба. На этот раз
дарвинизм подвергся сокрушительной критике Страхова. «Переворот» этот, как
он отмечает, произошел стремительно, причем просто путем «общего мнения
натуралистов»63, а не посредством научных исследований и доказательств.
«Ученый ареопаг очень быстро изменил свое мнение, хотя научные факты за
это время не изменились». Страхов отметил, ссылаясь на труд Данилевского,
что теория Дарвина носит на себе печать нравственного склада англичан.
Мыслитель подчеркнул в статье «Переворот в науке», что эволюционные учения
подобного рода существовали давно, но их сразу отвергали, опираясь на доводы
61 [Антонович М. А.] Краткий обзор журналов за истекшие восемь месяцев //
Современник. 1863. Т. 94, № 1-2. Отд. II. С. 255-256 (без подписи).
62 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 347.
63 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 308.
пб
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
авторитетных ученых, таких как Кювье. Новых научных аргументов в пользу
такого рода учений не появилось, и за Дарвина просто ухватились сторонники
определенных взглядов — эта теория позволяла исключить участие высших
сил в эволюции живой природы.
Итак, на ранней стадии Страхов не сразу вполне понял смысл и
перспективы нового учения и оценил его просто как очень важное научное открытие.
Однако вскоре он пришел к выводу, что учение Дарвина представляет собой
подлинный переворот в научной сфере и большую угрозу настоящей науке.
С тех пор изучение дарвинизма и борьба с ним составляют одну из главных
сторон творческой деятельности Страхова.
В 1873 г. Страхов написал еще одну статью против дарвинизма —
«Последователи и противники». В этот раз его выпады против нового учения
становятся еще более резкими и научно обоснованными. Он так характеризует
главные произведения Дарвина: «Два его сочинения: О происхождении видов
и О происхождении человека имеют совершенно неправильное заглавие; они
никакого происхождения не объясняют; первое приличнее было бы назвать
трактатом о вымирании видов, а второе о чертах сходства, существующего между
человеком и животными»64. Как отмечает Страхов, никаких новых аргументов
в пользу учения о естественном отборе, известного давно, но ранее категорично
отвергаемого учеными, не появилось. Тем не менее это учение в
интерпретации Дарвина стало быстро распространяться среди ученых. Страхов написал,
что путаница, возбужденная в умах читателей Дарвином, есть «один из самых
жалких примеров уродливостей, порождаемых наукою, когда она перестает
быть делом строгого исследования»65.
В 1874 г. Страхов опубликовал в естественно-историческом сборнике
«Природа» еще одну важную, сугубо научную статью — «О развитии
организмов», в которой он, помимо исследования специальной биологической
темы, снова критически рассматривает учение Дарвина. Страхов показывает
в этой статье, что естественным наукам свойственно ошибочное мнение,
будто сами эти науки являются источником тех идей, которые в них
проповедуются. Исследователь утверждает, что на самом деле на научную
деятельность накладывают серьезный отпечаток те идеи, которые исповедует
ученый. Страхов показывает, как эти идеи воздействуют на человека: «Идея
обыкновенно принимается по некоторому бессознательному сочувствию, по
сродству с поползновениями и неясными стремлениями внутреннего мира
человека; а когда идея принята, она, как мы всегда говорим, овладевает
человеком, то есть разрастается в нем, как семя, попавшее на пригодную
почву. Человек начинает на все смотреть с своей точки зрения и всюду видит
64 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 330-331.
65 Там же. С. 331.
117
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ф
подтверждения своей идеи»66. Страхов утверждает, что на популярность
учения Дарвина о происхождении видов оказала большое влияние
склонность ученых следовать за новейшими и наиболее популярными учениями,
хвататься за «последнее слово науки». В то же время идея «перерождения
видов» совсем не нова — она возникала и в прежние времена, но подавлялась
более влиятельными учениями. Опираясь на данные эмбриологии, Страхов
доказывает, что гипотеза пангенезиса, выдвинутая Дарвином, дает лишь
мнимое объяснение таинственных явлений органической жизни, и находит
в ней сходство с атомистической теорией. Страхов включил статью «О
происхождении организмов» во второе издание книги «Об основных понятиях
психологии и физиологии», в которой его критическое отношение к
эволюционному учению получило наиболее глубокое научное обоснование.
В статье «Об основных понятиях физиологии» (1883), вошедшей
позже в ту же книгу, Страхов, опираясь на формулу Клода Бернара, что «жизнь
есть творение», то есть что в организме всегда присутствует идея, которая его
«творит», избирает «морфологический» принцип объяснения начал жизни. Из
цепочки телеологических суждений следует вывод, что «всё происходит от
Бога и по его воле совершается», который дополняется важным уточнением
об «отчетливой иерархии явлений»67.
Профессор МДА Алексей И. Введенский, охарактеризовав
вышеприведенные взгляды Страхова, выраженные в книге «Об основных понятиях психологии
и физиологии», делает такой вывод: «Само собою понятно, что с точки зрения
характеризованных нами начал своей философии живой природы Н. Н. Страхов
мог относиться к дарвинизму только отрицательно»68.
Из сказанного выше следует, что Страхов хорошо знал посвященную
дарвинизму литературу, много размышлял над этой темой и намеревался сам
писать обобщающую работу против Дарвина. Однако когда друг и
единомышленник Страхова в этом вопросе Н. Я. Данилевский решил взяться за
опровержение новомодного учения, которое позволяло представить мир без Творца, он
уступил своему вполне осведомленному и более энергичному другу все свои
материалы и оказывал ему всяческую поддержку. Тем не менее нет никаких
оснований считать, что в вопросе дарвинизма Страхов находился под
влиянием Данилевского и тем более что он был его учеником, как ошибочно пишут
некоторые исследователи. Книги и статьи Страхова существенно дополняют
взгляды, высказанные Данилевским в его книге «Дарвинизм». Исследование
важной темы сходства и различия антидарвинистских воззрений Данилевского
и Страхова специалистами-биологами еще впереди.
66 Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. 249.
67 Там же. С. 174.
68 Введенский А. Общий смысл философии Н. Н. Страхова. М., 1897. С. 14.
118
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
Страхов принял деятельное участие в спорах относительно научных
достоинств книги Данилевского и учения Дарвина, развернувшихся в
периодической печати. Свои публицистические сочинения, в которых высказаны
критические взгляды на учение Чарлза Дарвина и свои полемические
сочинения, посвященные спорам со сторонниками эволюционизма, Страхов собрал
в 1890 г. во второй книге «Борьбы с Западом в нашей литературе».
В краткой, обобщенной форме он выразил также свое мнение о причинах
распространения эволюционного учения в предисловии ко второму изданию
книги «Мир как целое» (1892). По его мнению, дарвинист вместо проявлений
зиждительного начала в процессах изменений видит лишь «беспорядочную
игру случайностей». Страхов писал: «Вообразим себе какой-нибудь ряд форм,
последовательно идущий в известном направлении. Дарвинист совершенно
довольствуется тем, что убедился в связи первой из этих форм с последней,
да притом довольствуется самым общим и поверхностным понятием об этой
связи. Точное определение переходов и ступеней его мало занимает, потому
что он предполагает здесь одну беспорядочную игру случайностей. Между
тем для правильно смотрящего на дело каждая ступень здесь есть проявление
зиждительного начала, строящего органические формы; следовательно, всякий
такой ряд форм полон глубочайшей поучительности во всех своих частностях.
Точно так же положим, что мы нашли употребление какого-нибудь органа,
значение известной части для известного целого. Для дарвиниста это — случайная
целесообразность, не имеющая отношения к внутреннему развитию организма;
истинный же телеолог видит здесь то, как организм стремится осуществить свою
общую цель, видит ответ самостроящегося существа на внешние возбуждения
и обстоятельства»69.
Страхов приходит к очень важному выводу, связывающему дарвинизм
со спиритизмом и прочими «открытиями» современной науки, которые он
считает заблуждениями эмпирического подхода к знанию: «Дарвинизм, по
моему убеждению, есть заблуждение, которое можно поставить в один ряд со
спиритизмом, бывшим в таком ходу у натуралистов, и с учением о кривизне
пространства и о возможности в нем четвертого измерения — этим
пышнейшим цветком современного эмпиризма. Кто принимает все это за новые шаги
в нашем познании природы, тот имеет право думать, что наш век совершил
удивительнейшие умственные подвиги, не только не ниже, а, пожалуй, выше
открытий Коперника, Ньютона и подобных. Но для меня это были лишь
огромные научные уродливости, а не успехи знания. Они все имеют, кажется, очень
ясный общий характер, именно представляют порывание в сторону от большой
дороги, и разрослись оттого, что произошла остановка движения по
прямому научному пути, как будто этот путь был чем-то загорожен. Остановилось
Страхов. Мир как целое. 2007. С. 75.
119
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
развитие научных начал, научных методов, — вот истинный источник этих
заблуждений нашего времени»70.
Страхов находит причину распространения этих теорий в
позитивистском отношении к науке: «Эмпиризм, отрицание умозрения — вот разгадка
всяких остановок и ненормальных развитии. Наш век хочет познавать, но
упорно отказывается мыслить, как будто боясь, что мышление разрушит
начала, на которых он строит свою жизнь, и возложит на него слишком
трудные задачи и обязанности. Все значение моей книги состоит в том, что
она идет против эмпиризма, пытается вносить мышление в приемы изучения
природы»71.
На формирование взглядов Страхова, отвергающих «случайное»
происхождение живых организмов, воздействовали не только чисто научные доводы,
но и наглядное созерцание чудесных творений природного мира. Так, впервые
увидев в 1881 г. в Берлинском зоопарке необычных птиц, носорога и бегемота,
зоолог получает сильнейшее впечатление, наталкивающее его на естественный
вывод о Творце: «Нужно видеть живыми этих фантастических птиц и этих
невыразимых чудовищ, чтобы почувствовать, как могуча и прихотлива
пластическая сила, создающая формы организмов, и навсегда отказаться от мысли
о случайности в этом деле»72.
Уступив Н. Я. Данилевскому замысел подробного критического анализа
эволюционного учения, Страхов, однако, принял самое активное участие в
дальнейшей судьбе книги «Дарвинизм» (между собой они с Данилевским называли
ее «Анти-Дарвин»). На долю Страхова выпали две труднейшие задачи: он не
только руководил изданием первого тома огромного труда «Дарвинизм» при
жизни ее автора, но и после кончины Н. Я. Данилевского взвалил на себя
бремя отстаивания достоинств этого сочинения перед заметно превосходящими
силами сторонников эволюционного учения.
Учение Дарвина пользовалось быстро растущим успехом в подогретом
нигилистическими настроениями обществе как революционная, подлинно
научная теория, хотя на самом деле она имела значение прежде всего как
идеологическое явление, доказывающее возможность обоснования мира без
Творца. Ее «прогрессивное» значение всячески подчеркивалось
оппозиционными публицистами того времени. Даже литературный критик Д. И. Писарев
не прошел мимо теории Дарвина, посвятив ей большую статью под
многообещающим названием «Прогресс в мире животных и растений» («Русское
70 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 75.
71 Там же. С. 76.
72 ОР РНБ. Ф. 120. Ед. хр. 1292. Л. 6 об.
120
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
—ф
слово», 1864, № 4-7), опираясь на сочинения небезызвестного вульгарного
материалиста Карла Фохта.
Что же касается труда Н. Я. Данилевского, глубоко и подробно
раскрывающего ложную суть учения Дарвина, то после выхода книги в свет
рецензий на нее почти не появилось, и возникла опасность того, что
огромный ценнейший труд пройдет для читателей незамеченным. По этой
причине Страхов напечатал в «Русском вестнике» (январь 1887 г.) большую
статью под нарочито дерзким, привлекающим внимание названием «Полное
опровержение дарвинизма». Страхов написал ее потому, что важнейшая по
своему значению книга Н. Я. Данилевского не привлекла должного
внимания, а личность ее автора по-прежнему оставалась малоизвестной. Рассказав
в начале статьи о Данилевском и главных событиях его творческой жизни,
Страхов перешел к анализу самой книги «Дарвинизм». Отметив стройность
ее плана, Страхов пункт за пунктом разбирал опровержение теории
Дарвина Данилевским и убедительно показал его научную основательность
и неопровержимость доказательств. Данилевский не испытывает
сомнений в своих выводах: он называет теорию Дарвина «псевдоэволюцией»
и «псевдотелеологией» и видит в ней «упадок научного духа и эстетического
понимания». Учение это не столько зоологическое и ботаническое, сколько
философское: это «купол на здании механического материализма» — научное
обоснование материализма, при котором верховному разуму не остается
места. «Никакая форма грубейшего материализма не опускалась до такого
низменного миросозерцания»73 — таков безжалостный общий приговор
Данилевского теории Дарвина.
Страхов, обсуждая книгу Данилевского, показывает, что теория Дарвина не
опирается на понятие развития и в основе ее не лежит никакого принципа, а «вся
сила и сущность теории Дарвина заключается в отрицании всякой надобности
такого принципа и в доказательстве, что изменения организмов совершаются
без всякой нормы (случайно)»74.
Страхов также убежден, что книга Данилевского предоставляет
убедительные доказательства ложности псевдотелеологического учения: «Скажем
одно: для внимательного читателя этой книги станет совершенно несомненно,
что от Дарвиновой теории нужно отказаться без всякого остатка...»75 Успех
дарвинизма Страхов называет «миражом и обманом» и задается естественным
вопросом: как это могло случиться? Разгадку этой странной ситуации Страхов
находил во влиянии духа времени: «Мы верим всему, чему нам хочется верить»76.
Виноват не сам Дарвин — он искренен в своих заблуждениях. Наука и прежде
73 Там же. С. 908.
74 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 364.
75 Там же. С. 412.
76 Там же. С. 415.
121
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—ф
замечала ошибки Дарвина. Данилевский в книге приводит длинный список
ученых, «замечательных умов», указавших на ошибки Дарвина. Тем не менее
благодаря изобретению Гутенберга «не истина восторжествовала, а разлилось
повсюду несомненное заблуждение»77.
Развернувшийся в периодической печати спор Страхова с ревностными
сторонниками гипотезы Дарвина во главе с профессором Тимирязевым
(подробнее о нем можно почитать в главе 12, посвященной Н.Я.Данилевскому),
не убедил ни одну из сторон — каждая осталась при своих убеждениях.
Уже в январе 1890 г., когда готовилось издание книги Страхова, он
сделал существенное дополнение в свой спор с Тимирязевым. Он отметил, что
дарвинист незаметно изменил свою позицию. По мнению Страхова,
Тимирязев в своем выступлении «Факторы органической эволюции» на VIII Съезде
русских естествоиспытателей и врачей 8 января 1890 г. сделал важные
уступки своим оппонентам, хотя сам он думает, что только дополняет Дарвина.
Этим указанием Страхов показал, что учение самого Дарвина и дарвинизм
в интерпретации его апологетов могут существенно отличаться, и это надо
постоянно иметь в виду.
Страхов писал: «Уступка, которую мы находим в этом взгляде, состоит
в том, что среда и наследственность здесь признаются самостоятельными
факторами, т. е. такими, которые независимо и существенно действуют в
определении органических форм. Дарвин этого не признавал; он отрицал и значение
внешних влияний, и какую-нибудь закономерность в наследственности, и в этом
отрицании и состоит самая сущность его теории. Ибо он не хотел признавать
никакого правильного и постоянного процесса в развитии организмов,
который пришлось бы ведь признать вместе и источником их целесообразности,
а желал свести всю эту целесообразность на естественный подбор, зависящий
от случайных соответствий между изменением организма и окружающими его
обстоятельствами»78.
В 1894 г. Тимирязев издал книжку «Чарлз Дарвин и его учение», к которой
сделал приложение «Наши антидарвинисты», включив него две свои старые
полемические статьи: «Опровергнут ли дарвинизм» и «Бессильная злоба
антидарвиниста». Никаких пояснений или комментариев к заявлению Страхова
по поводу уступок Тимирязева противникам дарвинизма в предисловии книге
«Борьба с Западом в нашей литературе» (1890), насколько нам известно, не
последовало.
М. А. Антонович в книге «Чарльз Дарвин и его теория» (СПб., 1896),
раскрывая важность дарвинизма для материалистического объяснения мира,
подчеркивал его связь с марксизмом, который он рассматривал как приложение
77 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 364.
7* Там же. С. XIV-XV.
122
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова
Ф
теории Дарвина к общественной жизни. Этот вывод в значительной мере
объясняет торжество идей дарвинизма в эпоху марксизма.
Дарвинизм до сих пор продолжает править умами многих ученых, хотя
у него имеется немало противников, ибо убедительная аргументация о
несостоятельности этого влиятельного учения давно разработана серьезными учеными
и мыслителями, в том числе Н. Я. Данилевским и Н. Н. Страховым. Но когда
естественно-научные рассуждения подменяются «единым мнением»
сообщества ученых-натуралистов, то вместо настоящих открытий в науке начинают
царить заблуждения.
В предисловии к переизданию книги «Мир как целое» в 1892 г. Страхов
наметил ориентиры для науки с целью исправления той ошибки, в которую
надолго впало ученое сообщество: «Учение Дарвина не есть успех в науке об
организмах, а уклонение от прямого пути, и, сколько бы любопытных частностей
ни собрали натуралисты на этой отводящей в сторону дороге, рано или поздно
им придется вернуться к правильным путям исследования и приняться снова
за великий труд, которого они думали избежать. Они должны будут продолжать
морфологическое исследование организмов, то есть приводить к большому
и большему совершенству естественную систему животных и растений, а
также разработать гомологии всех их органов и, наконец, сравнительную историю
развития и целых организмов, и каждого их органа. В настоящее время, при
господстве дарвинизма, натуралисты не видят верховного значения этих
исследований и пренебрегают ими»79.
Данилевскому, как пишет Страхов в статье «Полное опровержение
дарвинизма», принадлежит заслуга подробного научного исследования и
обобщения всех главных аргументов, опровергающих новомодное учение. Пункт за
пунктом разбирая четко выстроенные положения книги Данилевского, Страхов
показывает несостоятельность дарвинизма. Как только борьба за существование
кончается, все накопленные изменения расплываются, исчезают в
неизменившейся массе. К опровержению теории Дарвина, отмечает Страхов, ведет самый
факт наследственности: «...индивидуальные изменения никогда не могли бы
вытеснить коренной типической формы в борьбе за существование»80. По
мнению Страхова, вывод о «внутренней несостоятельности теории» дарвинизма
на основе разъяснений Данилевского должен сделать каждый беспристрастный
читатель.
Как и в полемике с Соловьевым, сила и убедительность аргументов были
на стороне Данилевского и Страхова, но популярность теории Дарвина
позволяла ее сторонникам вести спор с позиции силы, не слишком заботясь о научных
доказательствах.
Страхов. Мир как целое. 2007. С. 74.
Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 374.
123
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ф
Журналист М. Сизов, исследовавший вопрос о современном отношении
ученых к дарвинизму81, поражается, насколько крепкими остаются позиции
сторонников учения об «эволюционном отборе», несмотря на убедительное
опровержение генетиками теории перехода одного вида животных в другой.
А по телевидению на некоторых каналах до сих пор чуть ли не каждый день
всё еще можно увидеть псевдонаучные передачи о том, как какие-нибудь
«далекие предки человека» эволюционировали, приспособившись к климатическим
и прочим радикальным изменениям...
Дарвинизм, несмотря на всю убедительность его опровержений, до сих
пор продолжает свое победоносное шествие по умам человечества, хотя не
уменьшается и количество его противников. Спор далеко не окончен, и книга
Данилевского «Дарвинизм», как и разъяснение ее в статьях Страхова, еще
сыграют, вне всякого сомнения, свою роль в этом отложенном или затянувшемся
споре.
81 Сизов М. Закон сохранения вида // Сизов М. Наука против религии: Великое
недоразумение XX века. СПб.: Амфора, 2015. С. 309-314.
СТРАХОВ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК
В конце концов я считаю Вас за единственного
представителя нашей теперешней критики,
которому принадлежит будущее.
Ф. М. Достоевский'
Н. Н. Страхов был разносторонне одаренным и исключительно
образованным человеком. Одни не без оснований считают его серьезным ученым,
разрабатывавшим методологию науки, другие — видным философом и мыслителем-
публицистом, третьи — одним из наиболее глубоких отечественных
литературных критиков XIX в. И для всех подобных мнений есть веские основания.
Линда Герстайн, автор небольшой монографии о Страхове, вышедшей
в США в 1971 г., задолго до тоге, как Страхов начал получать признание в
Советской России, писала, что разделять в исследовании творческого наследия
Страхова ученого, философа, публициста и литературного критика было бы
ошибкой, ибо все эти виды его деятельности представляют собой борьбу с
материализмом2. Однако, признавая справедливость того, что необходимо
комплексное изучение творческого наследия Страхова, удобнее все-таки подробнее
рассмотреть каждую из указанных сторон его творчества отдельно, обратив
внимание как на их специфические черты, так и на взаимное согласие.
При всей разносторонности дарований главные способности Страхова
раскрылись все-таки в области литературной критики и философии. Сам он
считал себя, наверное, более философом, нежели литератором, и трудиться
в этом направлении его активно призывал Л. Н. Толстой, под сильным влиянием
которого он находился в последние десятилетия жизни. Но в то же время Страхов
испытывал колебания в своих предпочтениях, а Ап. Григорьев, Ф. М.
Достоевский, А. Н. Майков и другие писатели поощряли его именно к критической
деятельности. Сам Страхов, кстати, отмечал, что наибольшим читательским
1 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 17.
2 Gerstein L. Nikolai Strakhov: Philosopher, Man of Letters, Social Critic. Cambridge, MA,
1971. P. 27. (Russian Research Center Studies; [Vol.] 65).
125
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
спросом пользуются его литературно-критические работы о Тургеневе и Толстом,
переизданные несколько раз, и если бы он считал главным критерием раскупа-
емость книг, то ему следовало бы заниматься именно литературной критикой.
Он писал Толстому в 1888 г.: «Книги мои идут не шибко, но идут-таки; всего
лучше идут Критические статьи, так что, если бы наживать деньги, то нужно
бы мне писать о литературе»3.
Человеку, знакомому с биографией Страхова лишь поверхностно, может
показаться, что его приход в литературную критику после многих лет занятий
естественно-научной деятельностью был вызван неудачно сложившейся
карьерой в зоологии. Часто ошибочно думают, что с юных лет Страхов увлекался
исключительно естественными науками, которым в обществе отдавалось в то
время предпочтение, а интерес к гуманитарным областям возник у него в 1860 г.
чуть ли не случайно, когда он оказался в литературном кружке, который
возглавляли братья Достоевские. Страхов действительно окончил естественный
факультет и с 1852 г. преподавал в гимназии естественную историю, а также
физику и математику, да и сама тема его магистерской диссертации, «О костях
запястья млекопитающих» (1857), над очень узкой специализацией которой
иронизировал Ап. Григорьев, требовала глубоких и очень конкретных знаний
по зоологии и осведомленности о наиболее актуальных тенденциях развития
науки. А начиная с 1857 г. в сугубо научном «Журнале Министерства народного
просвещения» регулярно появлялись составленные Страховым обзоры
новостей естественных наук со статьями на разнообразные и в то же время сугубо
специальные темы типа «Новый род червей», «Значение гликогена в
развитии зародыша» или «Мнимые органы слуха у насекомых». В 1858 г. Страхов
участвовал в ученом конкурсе, претендуя на кафедру зоологии Московского
университета после кончины хорошо ему знакомого профессора К. Ф. Рулье,
который, по утверждению последователей, открыл теорию эволюции на
несколько лет ранее Дарвина. Если бы Страхова не обошел более прыткий соперник,
заручившийся поддержкой нужных людей, по уровню своих научных знаний
и разносторонним способностям он вполне был способен добиться успехов
в естественных науках и выступать на ученом поприще.
И что еще характерно: если говорить о гуманитарных науках, то и тут
более естественным для Страхова в начале творческого пути казалось занятие
философией. Предрасположенность молодого ученого к философскому
мышлению была подмечена Ап. Григорьевым и М. Н. Катковым уже после его первой
самостоятельной работы, «Физиологические письма», напечатанной в 1859 г.
Да и темы статей, которые Страхов публиковал в 1860 г. в журналах «Светоч»
и «Русский вестник» («Значение гегелевской философии в настоящее время»,
«Письма о жизни», «Об атомистической теории вещества» и пр.), были ближе
3 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 769.
126
Глава 4. Страхов как литературный критик
к философии и науке, не имея ничего общего с осмыслением сферы
художественного творчества.
Более того, и впоследствии, даже уже начав во «Времени» заниматься
литературной критикой и публицистикой, Страхов еще во многом не отделял
себя от науки, определяя основную тему своих занятий как «философию
природы». Книга «Мир как целое» (1872), которая подвела итог определенному
этапу в биографии Страхова, почти целиком посвящена натурфилософскому
осмыслению природных явлений.
Но те, кто считает молодого Страхова прежде всего
ученым-естественником в соответствии с полученным им высшим образованием, не учитывают
того, что уже в юные годы, активно занимаясь зоологией и математикой в
университете и Главном педагогическом институте, он не менее энергично пробует
свои силы и в литературе. Страхов увлеченно пишет стихи и прозу, а в 1850 г.
повесть «По утрам», созданную им на основе дневников, 22-летний студент-
естественник посылает в «Современник» Н. А. Некрасову. Хотя повесть была
отвергнута редактором, Некрасов признал за автором талант, а за его
сочинением— достоинства слога и оригинальность манеры4.
Теперь, когда это сочинение опубликовано, можно с уверенностью сказать:
это совсем не ученическая, а добротная, хорошо выписанная романтическая
проза в стиле 1840-х гг., причем обильные философские и литературно-критические
пассажи в ней свидетельствуют о широкой начитанности и нетривиальности
мышления автора, как и его автобиографического героя-интеллектуала. Своей
поразительно разносторонней образованностью Страхов напоминает
универсально просвещенных людей предшествующего поколения «любомудров»,
Д. В. Веневитинова и кн. В. Ф. Одоевского, заявлявших о неразрывности науки,
философии и искусства.
Нельзя не обратить внимание также на то, что главный герой этой
автобиографической повести Страхова был, как он сам отмечает, с детства «жадным до
чтения»5. А из содержания повести видно, что ее молодой герой живо
интересуется литературой и обладает явными критическими способностями, а также,
что важно, художественным вкусом. Так, уже в этом возрасте историю русской
литературы Страхов воспринимает как процесс преодоления подражательства
западным писателям и уменьшения чуждых влияний. А в качестве образца для
обретения самостоятельности выдвигает Пушкина, «единого великого из наших
писателей»6. Повесть изобилует весьма вольными сценами любви, что весьма
неожиданно, если учесть аскетический образ жизни Страхова в зрелые годы.
Хотя повесть начинающего автора и не была принята, можно предположить,
4 Назаревский А. А. Пометы Некрасова на рукописи Н.Н.Страхова // ЛН. М., 1949.
Т. 53/54: Н. А. Некрасов. [Кн.] 3. С. 85-87.
5 Страхов. По утрам. С. 390.
6 Там же. С. 425-426.
127
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
что Некрасов отказал скорее не только из-за присутствующих в повести
эротических сцен или ее структурного несовершенства, но и, возможно, увидев в ней
зачатки чуждых ему славянофильско-почвеннических воззрений.
Помимо повести «По утрам», опубликованной лишь в 2010 г., Страхов
написал в молодые годы еще целый ряд произведений. Ранние художественные
сочинения Страхова так и остались при его жизни не изданными, хотя они при
всех композиционных недостатках и чрезмерной зависимости от дневниковых
записей отличаются живостью изложения и глубиной мысли. Эти сочинения
представляют не только биографический интерес и вполне могли бы быть
опубликованы. Но даже при том, что этого не произошло, ранний
художественный опыт, несомненно, послужил Страхову хорошей школой для дальнейшей
литературно-критической деятельности.
Что касается юношеских проб пера Страхова, то они только
подтверждают мнение историка философии Э. Л. Радлова, который отмечал, что «большие
природные дарования его успели вполне развиться прежде, чем он вступил на
литературное поприще»7. Страхов профессионально занялся литературой
относительно поздно — около тридцати лет, когда главные черты его миросозерцания
уже сложились. Таким образом, получив в 1860 г. приглашение в задуманный
Достоевскими журнал «Время», он уже не был новичком в литературе.
Бытует мнение, что критик есть неудавшийся писатель, и это вполне
справедливое в большинстве случаев суждение вполне применимо и к Страхову.
Его повесть «По утрам» может служить ярким тому свидетельством. В этом
художественном произведении, помимо любовных приключений, можно найти
детальные описания впечатлений от чтения, которым увлекается юный автор,
и попытки записи им своих характерных для юношества «беспокойных»
раздумий о смысле жизни. Отчетливо проявляются литературные интересы и вкусы
молодого человека. Например, он предается подробным рассуждениям о том,
что такое «толстый» литературный журнал. Обращает на себя внимание
характерное признание, указывающее на будущее призвание Страхова: «Когда мне
попадается журнал, я прежде всего читаю критику и отзывы о книгах и других
журналах — единственную существенную часть журнала»8.
Уже в самой этой повести присутствуют развернутые на несколько
страниц критические суждения о «холодном», подверженном байронизму
Лермонтове и «теплоте» стихов Пушкина, подкрепленные... собственными
стихами в духе Лермонтова. Пробивается в повести и «вечная дума» о России
будущего «почвенника», для которого неприемлема подражательность нашей
новой литературы. Он противопоставляет ей восхищающую его простоту,
безыскусственность Пушкина. Завершается «повесть» вполне как критическое
7 Радлов Э. Несколько замечаний о философии Н. Н. Страхова // ЖМНП. 1896. Ч. 305,
Июнь. С. 340.
8 Страхов. По утрам. С. 399.
128
Глава 4. Страхов как литературный критик
эссе — размышлениями о противоречивом творчестве Гоголя. Это, конечно, не
столько сюжетная «повесть», сколько художественные заметки начитанного,
оригинально мыслящего молодого человека, увлеченного литературой и
проявляющего несомненные задатки критика. Задатки эти очень значительны,
если мы учтем, что автору наполненной «умными мыслями» повести в момент
написания было 22 года.
Большое количество произведений, написанных в юношеские годы,
показывает, что Страхов, профессионально изучая зоологию, одновременно хотел
стать и литератором. Об этом говорят и сохранившиеся следы его попыток
сотрудничать с «толстыми» журналами, прежде всего с «Современником», куда
он посылал письма со своими сочинениями в самых разных жанрах.
Первое изданное произведение Страхова — литературная пародия с
критическим разбором стихотворения А. Н. Майкова, напечатанного в апрельском
номере «Современника» за 1854 г.9 Через год Страхов опубликовал по просьбе
коллеги подписанную лишь инициалами рецензию на учебник по естественной
истории, показав незаурядное умение писать научные рецензии10. Следует
упомянуть здесь также и опубликованный исследователем литературы М. Г.
Зельдовичем автограф найденного в архиве черновика письма Страхова в «Современник»
с отзывом на статью Н. Г. Чернышевского «Об истинности в критике»,
написанным, по-видимому, в 1857 г.11 Таким образом, навыки литературно-критической
работы Страхов приобрел еще в 1850-х гг., тогда же он заочно познакомился
и со своими будущими литературными оппонентами из радикального лагеря.
И неудивительно, что когда Страхов, едва покинув научную стезю,
вступил на литературное поприще, он показал такую зрелость и самостоятельность
мысли, что на него тотчас обратил внимание не кто иной, как самый
оригинальный и яркий критик того времени Аполлон Григорьев. Правда, статьи, которые
Страхов публиковал в 1859 и 1860 гг., еще имели большее отношение к науке
и философии, нежели к литературе.
Первые настоящие литературно-критические опыты Страхова связаны
с журналом братьев Достоевских «Время», начавшем выходить в 1861 г.
Страхов в «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» сообщает: «От меня непременно
желали статей по литературной критике; я отказывался и стал настойчиво
указывать на Ап. Григорьева»|2. Очень важно здесь отметить, что Григорьева,
которого Страхов позже называл основателем русской национальной критической
9 И. С. [Страхов Н. H.J Ночная заметка // Современник. 1854. Т. 45. Июнь. Литературный
ералаш. IV. С. 59-62.
10 Я. С [Страхов Н.Н.] Введение к изучению Естественной истории. Составил
Д. Михайлов. СПб. 1855. 106 стр.: [ред.]. // Северная пчела. 1855. № 175, 12 авг. С. 1.
11 Зельдович М. Г. Неизвестный отклик на статью Чернышевского «Об искренности
в критике»: («Письмо действительного читателя в редакцию „Современника"») //
Н.Г.Чернышевский: Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1971. [Вып.] 6. С. 223-231.
12 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 399.
129
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ф
школы, пригласили в журнал «Время» именно по рекомендации его молодого
почитателя. Остается неясным, правда, считала ли редакция до приглашения
Григорьева, что Страхов способен заниматься литературной критикой.
Страхов стал писать на литературно-критические и публицистические
темы по просьбе редакции, особенно когда Ап. Григорьев внезапно покинул ее
состав среди лета. Страхов сам отмечает, что поначалу под влиянием своей
многолетней серьезной научной подготовки он смотрел на журналистику, в которой
литературная критика неотделима от публицистики, несколько высокомерно
и потому легкомысленно. Однако постепенно втянулся в критическую
деятельность, тем более что основным ее направлением стала борьба с нигилизмом,
к которому он с молодости испытывал «органическое нерасположение». Первые
пробы Страхова в журналистике, напечатанные в журнале «Время»,
представляли собой не литературно-критические статьи в чистом виде, а полемические
фельетоны или заметки. Их главной целью была тонкая, ироническая критика
вульгарно-материалистических и утилитаристских тенденций в статьях идейных
противников. Литературной критикой в период «Времени» и «Эпохи» Страхов
занимался не так много, хотя его разбор романа «Отцы и дети» («Время», 1862,
№ 4) является сочинением уже вполне зрелого критика. Эта статья привлекает
к себе внимание прежде всего подчеркнутым интересом к художественной
стороне сочинения и стремлением вникнуть в замысел самого автора, не
приписывая ему посторонних мыслей. Страхов успешно выполняет поставленную
полемическую задачу, опровергая тенденциозные мнения критиков
«Современника» и «Русского слова», причем делает это с присущей ему тонкостью
и логической убедительностью.
Большинство публикаций Страхова в этот период носили полемический,
хотя и не грубый характер. Страхов тонко высмеивал в них литературных
оппонентов «Времени», выступая «под забралом» — псевдоним Косица был им
взят в подражание пушкинскому Косичкину. Основными оппонентами Страхова
стали оппозиционные журналы «Современник» и «Русское слово».
Следует отметить, что роль литературной критики в 1850-х гг. несколько
изменилась из-за строгих цензурных условий того времени. Когда преподавание
философии как вредной науки, способствующей росту свободомыслия, в
университетах светскими преподавателями было запрещено, то борьба различных
философских и политических течений сама собой перешла в «толстые»
литературные журналы. Радикальные политические группировки рассматривали
литературную критику как единственную возможность проводить в печать свои
«левые» взгляды и в скрытой форме вести идейную борьбу с представителями
консерватизма. Эта полемическая атмосфера, с одной стороны, способствовала
повышению интереса читателей к журналистике, но с другой — привела к
доминированию в литературной критике не отвечающих ее основному
предназначению качеств — чрезмерной политизированности «направленской» критики,
130
Глава 4. Страхов как литературный критик
Ф
идейной нетерпимости и усилению влияния на либерально настроенное
общество материалистических и позитивистских идей.
В этой всё более ожесточенной идейной борьбе, сосредоточенной
преимущественно в «толстых» журналах, к моменту, когда в них стал участвовать
Страхов, сложились основные литературно-философские течения, и прежде
всего славянофильство и западничество, а также почвенничество, либерализм
и левый радикализм.
Сам Страхов считал, что его литературным крещением в качестве критика
стала обзорная статья «Нечто о петербургской литературе», опубликованная
в апрельском номере «Времени» за 1861 г. и содержавшая резкую критику
нигилистических тенденций столичной журналистики.
Литературно-критические статьи периода «Времени» и «Эпохи» Страхов
издал в виде книги «Из истории литературного нигилизма (1861-1865)» в 1890 г.
Сейчас нередко можно встретить мнение, будто эти небольшие литературно-
критические и публицистические работы Страхова на темы дня безнадежно
устарели, утратили свою актуальность. Однако с этим выводом можно
согласиться лишь отчасти. Ведь «антинигилистические» выступления критика во
«Времени» и «Эпохе» были направлены как раз против тех идейных
вдохновителей революционной идеологии, от Герцена и Чернышевского до Добролюбова
и Писарева, чьи социалистические идеи имеют множество сторонников до сих
пор. Для истории русской литературы и общественной мысли эти конкретные
свидетельства критических баталий сохраняют свою ценность.
* * *
Аполлон Григорьев, самый близкий к Страхову в литературном мире
человек, скончался в сентябре 1864 г. в 42-летнем возрасте. Однако он уже успел
сделать так много, что Страхов считал его основоположником настоящей русской
критики. Опубликованные Страховым в журнале «Эпоха» «Воспоминания об
А. А. Григорьеве» с включением писем покойного показывают, насколько эти
два критика были духовно близки, несмотря на всю непохожесть их характеров.
Григорьев морально поддерживал Страхова в трудную минуту, когда еще не
слишком опытный критик испытывал сомнения в своих литературных
способностях. Так, в сентябре 1861 г. Ап. Григорьев убеждал молодого коллегу: «Что
за дикое, ложное смирение заставляет тебя с каким-то странным недоверием
относиться к своей собственной критической деятельности? А я так тебе говорю,
положа руку на сердце: кому ж писать теперь, как не тебе?»13 Высокие похвалы
подобного рода вызывали позже, когда письма Григорьева были опубликованы,
ехидные реплики идейных противников.
13 Григорьев. Воспоминания. С. 467.
131
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Нет никакого сомнения в том, что взгляды Страхова на литературную
критику вырабатывались под непосредственным влиянием Ап. Григорьева,
которого он открыто признавал своим учителем. «Органическая критика»
Григорьева стала своего рода незыблемым основанием, на котором Страхов строил
здание своих литературно-критических идей.
Под «органическим взглядом», принципы которого, как указывает Страхов,
были изложены Григорьевым в статье «Критический взгляд на основы, значение
и принципы современной критики искусства» («Библиотека для чтения», 1858,
№ 1), Григорьев понимал опору на чувство родственной связи между различными
явлениями жизни, веру в то, что жизнь есть органическое единство. Григорьев
так определял отношение критики к произведению искусства: «Между
искусством и критикою есть органическое родство в сознании идеального, и критика
поэтому не может и не должна быть слепо историческою, а должна быть или,
по крайней мере, стремиться быть столь же органическою, как само искусство,
осмысливая анализом те же органические начала жизни, которым синтетически
сообщает плоть и кровь искусство»14. Формула литературной критики,
предложенная Григорьевым, такова: «Что художество в отношении к жизни, то критика
в отношении к художеству: разъяснение и толкование мысли, распространение
света и тепла, таящихся в прекрасном создании»15.
Органические принципы, которые исповедовал Ап. Григорьев, были
изначально близки Страхову как естественнику, занимавшемуся изучением
органической природы и размышлявшему о ее единстве (книга «Мир как целое»). Страхов
усвоил эстетические взгляды Григорьева как свои собственные, а после ухода
критика из жизни сумел развить их дальше, очень удачно применив идеи органической
критики к последующим литературным явлениям. Можно смело утверждать, что
Страхов был не только учеником, но и последователем эстетических принципов
своего учителя, продолжателем его дела в отечественной литературной критике.
Страхов объяснял введение Григорьевым терминологии из мира
естественных наук его стремлением «дать приемам критики жизненную подвижность»,
связать ее с пониманием произведения литературы как живого органического
целого. В статье «Органические категории» (1861) Страхов, вдохновляясь
учением Ап. Григорьева, писал о живой связи литературы и жизни, подчеркивая
огромную силу и самостоятельность художественного осмысления
действительности: «Г. Григорьев смотрит на литературу как на живую силу, которою
управлять никому не дано, которую нельзя подводить под готовые понятия, но
нужно понимать и истолковывать из нее самой»16.
14 Григорьев Ап. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 47.
15 Там же. С. 21.
16 Страхов Н. Органические категории (По поводу статьи г. Эдельсона «Идея
организма». — Библиотека для чтения. 1860 г. № 3) // ЖМНП. 1861. Ч. 109, Март. Отд. II. С. 49.
(То же: Страхов. О методе естественных наук. С. 57.)
132
Глава 4. Страхов как литературный критик
—ф
Развивая идеи, высказанные Григорьевым, Страхов утверждал, что
главным предметом литературного обозрения должна быть художественная
словесность: «Художество представляет возможность такого полного и широкого
выражения идей, какого не способны дать никакие другие приемы изложения.
Русский характер, достоинства и недостатки русского ума и сердца и смысл
движений нашей жизни — яснее выражаются в произведениях Пушкина,
Гоголя, Л. Н. Толстого, чем во всех рассуждениях наших историков и публицистов.
Художество создает живые лица, воплощает явления жизни со всем их
содержанием, с корнями и задатками»17.
Апологеты утилитарной или «направленской» критики, привыкшие
мерить значение искусства его пользой и участием в социальной жизни, иногда
совершенно несправедливо обвиняли Страхова даже в том, что он является
сторонником искусства для искусства. Но Страхов, следуя за Григорьевым,
противополагал органическую критику и «эстетической», как совершенно
отвлеченной, и «исторической», для которой искусство есть результат жизни.
В отличие от этих направлений, он видел в органической критике «выражение
того стремления к идеалу, которым управляется сама жизнь»18.
* * *
После прекращения «Эпохи» в 1865 г. Страхову долго не удавалось найти
близкий по духу журнал, а поступавшие предложения самому стать
редактором срывались из-за отказов цензуры. Поэтому какое-то время у него не было
возможности свободно выражать свои идеи. Для заработка он много тогда
занимался переводами. Но все-таки и в эти годы он напечатал целый ряд
своих статей, особенно в журналах умеренного направления — «Библиотека для
чтения», а затем «Отечественные записки».
Журнал «Библиотека для чтения» в 1863 г. возглавил молодой писатель
П. Д. Боборыкин, неопытный в ведении издательских и финансовых дел. Среди
приглашенных им в журнал были близкие Страхову Е. Н. Эдельсон и Н. Н. Воско-
бойников, и когда журнал Достоевских «Эпоха» вынужденно закрылся, Страхов
опубликовал ряд своих сочинений у Боборыкина в «Библиотеке для чтения» —
журнале, который, по крайней мере, не впадал в нигилистические крайности.
Среди этих работ были и литературно-критические статьи. Одна из них —
«Счастливые люди» — посвящена роману Чернышевского «Что делать?».
Достоевский эту статью напечатать в «Эпохе» «не решился», как пишут исследователи,
и она появилась в «Библиотеке для чтения». Страхов идей этого известного
романа, конечно, не разделяет и тонко иронизирует над несбыточными мечтами
17 Страхов Н. Взгляд на текущую литературу // Страхов. Критические статьи
о Тургеневе и Толстом. С. 434-^435.
18 Страхов Н. Предисловие II Григорьев. Сочинения. Т. 1. С. IV.
133
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$>
автора, но в то же время относится к роману вполне серьезно как к
произведению, рассматривающему совершенно новое общественное явление.
Постепенно влияние Страхова, имевшего уже солидный опыт работы
журналиста, в «Библиотеке для чтения» увеличилось. Однако постоянным
сотрудником журнала Страхов не стал. Прежде всего, он не во всем устраивал
самого Боборыкина как издателя, который признался в воспоминаниях, что
когда роль Страхова в журнале стала возрастать, он начал тяготиться его
славянофильскими взглядами: «Мне нравился его ум, тонкость вкуса, его язык и
манера; но славянофильский налет его идей лишал его полной свободы в оценках
и выводах. Продолжай „Библиотека" существовать и сделайся он у нас главным
сотрудником, он стал бы придавать журналу мало желательный оттенок, или
мы должны были бы с ним разойтись, что весьма вероятно, потому что если
некоторые мои сотрудники „правели", то я, напротив, все „левел"»19.
Однако до их идейных расхождений дело дойти не успело — еще более
важной оказалась другая причина их расставания: Боборыкин, не имевший
необходимой для издательской деятельности хватки и более занятый
собственным автобиографическим романом «В путь-дорогу», чем журналом, прогорел,
и в апреле 1865 г. «Библиотека для чтения» закрылась. Страхов в очередной раз
оказался без своего печатного органа.
Тогда Страхов перенес центр своих литературных усилий в
«Отечественные записки» А. А. Краевского, где в 1865-1867 гг. была опубликована основная
часть написанных им в этот период работ. Страхов начал печататься в
«Отечественных записках» еще в 1861 г., при редакторстве С. С. Дудышкина, а с октября
1866 г., после кончины последнего, был приглашен Краевским на должность
редактора «Отечественных записок». Страхов печатался в этот период почти
в каждом номере выходящего два раза в месяц журнала. Среди его публикаций
этого времени целая серия интересных статей, посвященных произведениям
Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого и других известных писателей. Он
имел в «Отечественных записках» собственную рубрику (сначала под названием
«Наша изящная словесность», а потом — «Критические заметки»), в которой
опубликовал немало литературных обзоров. Часть из них вошла в изданный
в 1868 г. отдельной книжечкой сборник «Бедность нашей литературы».
Смелостью литературных оценок этой книги восхищался Ф. М. Достоевский. Среди
наиболее значительных публикаций в «Отечественных записках»
автобиографическая повесть Страхова «Последний из идеалистов».
В малоизвестной статье, опубликованной в январском номере журнала
«Отечественные записки» за 1867 г. и посвященной недавно вышедшему
собранию сочинений Достоевского в двух томах, Страхов писал о своем понимании
роли художественной литературы в жизни: «Искусство лгать не может. Если
19 Боборыкин П. Д. За полвека: (Мои воспоминания): в 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 396.
134
Глава 4. Страхов как литературный критик
Ф
художник, по недостатку умственного развития или по неполной силе таланта,
задастся предвзятыми взглядами на вещи, то искусство выдаст его и на самом
произведении обличит неправильность его замыслов»20. Здесь опять
очевидна перекличка с идеями Ап. А. Григорьева, оказавшего огромное влияние на
формирование Страхова как критика. Григорьев был убежден, что искусство
и жизнь неразрывно связаны между собой и художественное произведение
является своего рода продолжением жизни.
Отсюда следует вывод Страхова о главной обязанности критика, в котором
также чувствуется влияние Григорьева: «Критик не есть учитель писателей,
который дает им правила, как писать, и обличает всякое уклонение от этих
правил. Критик должен быть толкователем художников, должен в отвлеченной
форме указывать другим то, что художники выражают в картинах и образах;
он должен ловить и выяснять те живые черты, которые только художник, при
своем более непосредственном, более тесном общении с жизнью, может из нее
вынести. Идя таким путем, критик в свою очередь открывает то, чего не понял
и что извратил художник»21.
Надо отметить, что Достоевский, согласно воспоминаниям Страхова,
прочтя статью о «Преступлении и наказании» в «Отечественных записках», дал
очень высокую оценку его разбору романа: «Вы один меня поняли»22.
Энергично начал разворачиваться Страхов в «Отечественных записках»
и как редактор: он стал подбирать близких по духу сотрудников и приступил
к формированию собственной программы журнала.
Однако в конце 1867 г. Краевский неожиданно решил сдать журнал в
аренду, притом не Страхову или кому-нибудь из литераторов умеренного
направления, а представителям оппозиционного кружка Н. А. Некрасова. В то время
оппозиция лишилась журналов «Русское слово» и «Современник», закрытых
за антиправительственные выступления, и Краевский, которого интересовала
лишь прибыль, рассчитал, что переход журнала к популярному в обществе
радикально-демократическому направлению даст несравненно большие
тиражи и, соответственно, доходы, чем умеренные почвеннические идеи Страхова
и его единомышленников.
Страхов жаловался Каткову и Достоевскому на неблаговидный поступок
Краевского, передавшего свой журнал, в котором Страхов был у него основным
сотрудником в 1865-1867 гг., в аренду его идейным оппонентам во главе с
Некрасовым: «Краевский выдернул из-под моих рук „Отеч(ественные) записки"
в то самое время, когда я только что расписался и у меня образовались большие
20 Страхов Н. Наша изящная словесность: Статья третья: Полное собрание сочинений
Ф.М.Достоевского. Изд. Стелловского. Том I. 1865. СПб. Том II. 1866. СПб. Преступление
и наказание. «Рус(ский) Вестник». 1866 г. // Отеч. зап. 1867. Т. 170. Февр., кн. 1. Отд. II. С. 546.
21 Там же. С. 547-548.
22 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 491.
135
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—ф
планы относительно литературной критики и статей философского
содержания»23. Страхов упрекал также Краевского за «его полное равнодушие к делу,
вследствие этого скаредное и неумелое ведение дела, и в то же время упорное
нежелание отдать журнал вполне в мои руки»24.
Страхов с уже набранной командой литераторов и готовых сочинений
в очередной раз остался не у дел. В морально подавленном состоянии он
обратился с просьбой о Помощи к издателю «Русского вестника» и «Московских
ведомостей» М. Н. Каткову, с которым когда-то у него намечалось регулярное
сотрудничество. Но Катков даже не снизошел до ответа, как он делал всегда,
по свидетельствам современников, если взгляды автора разнились хотя бы
наполовину от его воззрений.
Однако очень скоро, в июне, открылась новая возможность, гораздо
более привлекательная, чем сотрудничество у «гениального московского
самодура» (К. Н. Леонтьев)25 Каткова. В июне к Страхову пришли молодой
издатель В. В. Кашпирёв с писателем Н. С. Лесковым с предложением
участвовать в подготовке нового журнала. Этот близкий Страхову по своему
направлению журнал, получивший название «Заря», начал выходить в 1869 г.
Сотрудничество в нем продолжалось чуть более трех лет, и это были три года
вдохновенной творческой работы. В этом журнале тоже были свои сложности
и неудачи, но именно в «Заре» Страхов как литературный критик раскрылся
с максимальной полнотой.
Поначалу настроение Страхова, несмотря на занятость в редакции,
расположившейся в Саперном переулке, было прекрасным. 2 января 1869 г. он
пишет сотрудничающему с журналом историку-слависту В. И. Ламанскому: «.. .в
Саперном переулке дела идут отлично. Чем больше узнаю, тем больше люблю
нашего редактора. (...) Такой дружественной, благодушной, преданной своему
делу и совершенно чистой от посторонних стремлений редакции еще и не
бывало. Кашпирёв с 14 лет страстно предан литературе, всё читал и всё понимает.
Что лучше? Нет, это — большое счастье, которого я никак не ожидал. Подписка
идет отлично. Базунов ручается за 2ХА тысячи, а я готов ручаться за З»26.
Первый номер Страхов открыл своей большой статьей о недавно
вышедшем романе «Война и мир», мнение о котором в обществе еще не устоялось.
Этот свой масштабный замысел критик описывал ранее в письме к Каткову,
но у редактора «Русского вестника» были несколько иные взгляды на русскую
23 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 257.
24 Там же.
25 Леонтьев К. Н. Записки отшельника //Леонтьев. ПСС. Т. 8, кн. 1. С. 235.
26 РОИРЛИ. Ед. хр. 2382. Л. 10.
136
Глава 4. Страхов как литературный критик
—ф
литературу и историю. Другим «ударным» сочинением журнала стало начало
большого труда Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».
Статья Страхова, в которой он смело и доказательно утверждал, что роман
Л. Н. Толстого — выдающееся произведение художественной литературы,
произвела на общество сильное впечатление. До этого в высказываниях о романе
преобладали гораздо более сдержанные оценки.
Как ни поразительно, но роман «Война и мир» первоначально не был
понят современниками. По мнению Страхова, причина недооценки достоинств
этого великого романа была аналогична непониманию «Капитанской дочки»
и «Повестей Белкина» современниками Пушкина. То общее, что сближает эти
произведения, — простые народные типы, реалистическое описание
повседневной русской жизни. Указывая на близость реализма Толстого творческим
принципам прозы позднего Пушкина, Страхов не только убедительно раскрыл
значение Толстого как великого русского писателя, но и прочертил до великого
романа своего современника ту основную линию развития русской литературы,
которую с гениальной чуткостью наметил Ап. Григорьев.
Страхов, который ранее бывал чрезмерно сдержан в выражении
собственных чувств, в статьях о «Войне и мире» дал волю вдохновению и в этом следовал
за своим литературным учителем. Но то, что у Ап. Григорьева выглядело как
яркая поэтическая гипотеза, одна из многих блестящих мыслей, у его ученика
и продолжателя вызрело до основополагающей идеи, обросло основательной
научной аргументацией и вескими доводами. Страхов настолько убедителен
в интерпретации романа согласно намеченной Григорьевым еще до его
создания канве развития русской литературы, что возникает впечатление, будто сам
Толстой при создании «Войны и мира» был осведомлен об этой концепции
Григорьева и прямо-таки следовал установленным им творческим принципам. На
самом деле этого, конечно, не было, но Страхов чутко уловил художественные
прозрения Толстого, и в этом раскрылось глубокое понимание им сущности
литературных явлений.
За первой статьей Страхова о романе последовала вторая, в которой
Страхов обратился от романа Толстого к истории русской литературы. Ход
отечественной словесности от Пушкина к современности был не только
очерчен до романа Толстого, но и намечен в целом как главная линия всего
литературного развития. В этом великая заслуга Страхова-критика, глубоко
освоившего и развившего идеи своего учителя. Самому Григорьеву Страхов
уделил во второй статье немало места, прямо назвав его родоначальником
современной русской литературной критики. Как писал он позже
Достоевскому, это дерзкое заявление можно было сделать только в «Заре» — в
либеральной журналистике был незыблем авторитет В. Г. Белинского, особенно
того позднего периода, которым он положил начало «обличительному»
направлению в критике.
137
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
■3>
Страхов очень удачно применил к роману свои идеи относительно
реализма в литературе. Подспорьем тут для него, как обычно, был Григорьев, который
утверждал, что «русский художественный реализм начался с Пушкина»27.
Страхов особенно подробно рассмотрел вопрос о реалистическом методе Толстого, на
примере которого он блестяще показал свое понимание реализма в литературе,
протянув нить, намеченную Григорьевым, от Пушкина до «Войны и мира».
Свое толкование «реализма» Страхов дал в первой статье о «Войне
и мире», обращая особое внимание на то, как уравновешены в романе светлые
и темные стороны жизни: «Чувствуешь, что автор не хотел преувеличить ни
темных ни светлых сторон предметов, не хотел набрасывать на них никакого
особенного колорита или эффектного освещения (...) он всею душою стремился
передать дело в его настоящем, действительном виде и свете...»28
Со Страховым, впрочем, в этом вопросе довольно неожиданно не
согласился Н. С. Лесков, воспринимая, видимо, термин «реализм» как натурализм.
Упрекнув «философствующего рецензента» (явно имеется в виду Страхов)
в отсутствии «столь необходимой для критического писателя чуткости»29,
сам Лесков не нашел ничего лучшего, как отнести Толстого к категории...
«спиритуалистов». Но Страхов, называя Толстого «реалистом», подчеркивает
отличие творческого метода Толстого от «натуральной школы»: «Гр. Л. Н.
Толстой не реалист-обличитель, но и не реалист-фотограф». Критик называет его
«реалистом-психологом», тонко и верно, с безупречной правдивостью
изображающим движения души: «Душа человеческая изображается в „Войне и мире"
с реальностью, еще небывалою в нашей литературе»30. Страхов дал в статьях
о «Войне и мире» выдающийся образец реалистического подхода к
интерпретации художественного произведения и тем самым закрепил за собой одно из
первых мест в русской литературной критике.
Страхов подчеркнул устремление Толстого в романе к «простому и
доброму», представляющему «чистую нравственную красоту». Критик заявил
и убедительно показал, что Толстой воплотил лучшие черты русской литературы.
К числу наиболее удачных мыслей, раскрытых в статьях Страхова о
«Войне и мире», относится идея сопоставления хищных и смирных типов, которая
также восходит к наследию Ап. Григорьева. Подобные типы часто встречаются
в реальной жизни, и они были чутко уловлены художественным гением Толстого.
А Страхов блестяще высветил этих персонажей среди множества действующих
лиц романа.
Не менее талантливо было выделение в качестве квинтэссенции всего
огромного романа идеала «простоты, добра и правды». Тут уже Григорьев был
27 Григорьев. Сочинения. Т. У. С. 311.
28 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 243.
29 ЛесковН. С. Собр. соч.: в П т. М, 1958. Т. 10. С. 143-144.
30 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 258.
138
Глава 4. Страхов как литературный критик
«»
ни при чем — это важное открытие нравственного стержня романа являлось
заслугой самого Страхова. Философ Александр Введенский отметил позже, что
Страхов потому был так убедителен в обнаружении этого лейтмотива романа
Толстого, что сам ориентировался на тот же идеал в собственной жизни: «Этим-
то идеалом и был проникнут сам покойный. Оттого-то, вероятно, он и оценил
так скоро и верно „Войну и мир"»31.
Таким образом, Страхов как критик полностью реализовался в серии
статей о Толстом, опубликованных им в журнале «Заря». Он сам признавал эти
работы своим лучшим творением в критике и назвал впоследствии цикл отзывов
о романе «Война и мир» «критической поэмой о четырех песнях».
Не меньшей похвалы удостоился критик и от Ф. М. Достоевского. Никто
так пристально и заинтересованно не следил за литературно-критической
работой Страхова во время его сотрудничества в «Заре», как его бывший коллега
по журналам «Время» и «Эпоха». Находясь за границей, Ф. М. Достоевский
с нетерпением ожидал каждого номера «Зари» и прежде всего, как он сообщал
Страхову, прочитывал там литературную критику. Достоевский очень высоко
оценивал статьи о Толстом и отметил, что, по его мнению, первая половина
статьи о Толстом в «Заре» — «это идеал критической постановки»32.
Достоевский в письме от 26 февраля 1869 г. проницательно подметил тот
факт, что критик обычно получает признание вместе с писателем, которому он
посвятил свои главные статьи: «Кстати, заметили Вы один факт в нашей русской
критике? Каждый замечательный критик наш (Белинский, Григорьев) выходил
на поприще, непременно как бы опираясь на передового писателя, то есть как
бы посвящал всю свою карьеру разъяснению этого писателя и в продолжение
жизни успевал высказать все свои мысли не иначе, как в форме растолкования
этого писателя. Делалось же это наивно и как бы необходимо. Я хочу сказать,
что у нас критик не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку с
писателем, приводящим его в восторг. Белинский заявил себя ведь не пересмотром
литературы и имен, даже не статьею о Пушкине, а именно опираясь на Гоголя,
которому он поклонился еще в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя
Островского и сражаясь за него. У Вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву
Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю. Правда, прочтя статью Вашу в „Заре",
я первым впечатлением моим ощутил, что она необходима и что Вам, чтоб по
возможности высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва Толстого, то
есть с его последнего сочинения»33. Сделать такое обобщение было очень мудро
и благородно со стороны великого писателя — тем более что в глубине души
31 Введенский Александр. Значение философской деятельности Н. Н. Страхова //
Образование. 1896. №3. Отд. II. С. 3.
32 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 36.
33 Там же. С. 16.
139
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Достоевский, конечно, сожалел, что о его произведениях Страхов отзывался
не с такой симпатией.
Достоевский понял основную критическую идею статьи Страхова о
«Войне и мире» как заявление русской национальной мысли: «Именно то, что Вы
говорите, в том месте, где говорите о Бородинской битве, и выражает всю
сущность мысли и Толстого и Вашу о Толстом. Яснее бы невозможно, кажется,
выразиться. Национальная, русская мысль заявлена почти обнаженно. И вот
этого-то и не поняли и перетолковали в фатализм! Что касается до остальных
подробностей о статье, то жду продолжения (которое до сих пор еще не дошло
до меня). Ясно, логично, твердо-сознанная мысль, написанная изящно до
последней степени»34.
Достоевский в этот период не оставлял без внимания почти ни одно
сочинение Страхова. Это был уже не тот Достоевский периода «Времени», который
вставлял смягчающие эпитеты в его отзывы о сочинениях авторов
«Современника». Став к тому времени на Западе «совершенным монархистом»35 по
убеждениям, Достоевский не только подбадривал теперь Страхова в его деятельности,
но и находил у него недостаток смелости, «самоуверенности» в критической
полемике с либеральными западниками и радикальной оппозицией, справедливо
убеждая критика, что надо быть более смелым и даже дерзким: «.. .Вы слишком,
слишком мягки. Для них надо писать с плетью в руке. Во многих случаях Вы для
них слишком умны. Если б Вы на них поазартнее и погрубее нападали — было
бы лучше. Нигилисты и западники требуют окончательной плети. В статьях
о Толстом Вы как бы умоляете их согласиться с Вами, а в последних статьях
о Толстом (так. —В. Ф.) Вы впадаете в какое-то уныние и разочарование, тогда
как, по-моему, тон должен быть торжественный и радостный до дерзости; ну
что Вы думаете — понимают они в самом деле тонкий блестящий юмор Ваш
в письмах Косицы? (...) Одним словом: Вам подобным тоном не писать —
невозможно; ибо это серьезность, любовь и почтительность к делу; есть теперь
тон журнала, и этот тон высок, что и прекрасно и составляет сущность „Зари";
но иногда, по-моему, надо понижать тон, брать плеть в руки и не защищаться,
а самим нападать, гораздо погрубее. Вот что я разумел под самоуверенностью.
Впрочем, может быть, я сужу ошибочно — из азарта»36.
Особенно хвалил Достоевский Страхова за смелость, проявленную им
в статье «Вздох на гробе Карамзина», в которой Страхов выступил с
критикой взглядов либерального профессора А. Н. Пыпина, осудившего Карамзина,
а затем практически и всю великую русскую литературу за приверженность
славянофильским настроениям. «Вздох», как и не появившееся тогда в печати
из-за закрытия «Зари» продолжение («Новый вздох на гробе Карамзина»), — не
34 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 16.
35 Там же. Т. 28, кн. 2. С. 280.
36 Там же. Т. 29, кн. 2. С. 113-114.
140
Глава 4. Страхов как литературный критик
вполне статьи в обычном понимании этого слова: это скорее критические этюды,
эссе. «Вздох на гробе Карамзина» — подлинный шедевр критики по
неподражаемому поэтическому тону, по живости изложения, по искусной стилизации
приемов сентиментализма, по смелости обличительных аргументов37. Если
бы Страхов писал такую боевую критику регулярно, он мог бы соперничать за
первенство с самим Григорьевым.
Достоевский статьей «Вздох на могиле Карамзина» был очень доволен:
«К статье о Карамзине (Вашей) я пристрастен (...) Я ее с чувством читал. Но
мне понравился и тон. Мне кажется, Вы в первый раз так резко высказываете
то, о чем все молчали. Резкость-то мне и нравится. Именно смелости, именно
усиленного самоуважения надо больше. Нисколько не удивляюсь, что эта статья
Вам доставила даже врагов»38. Идейных противников Страхов действительно
нажил тогда себе немало, но это был шаг в верном направлении.
В «Заре» Страхов напечатал еще одну замечательную по своей смелости
оценок критическую статью или рецензию, посвященную сравнению поэзии
и эстетических взглядов Я. П. Полонского и Н. А. Некрасова («Заря», 1870,
сент.), получившую позже название «Некрасов и Полонский». К сожалению,
ее заключительная часть, которую Страхов предполагал ради объективности
посвятить положительной стороне поэзии Некрасова, написана не была, но
и в том виде, в каком эта вполне «боевая» и довольно обширная статья
существует, она заслуживает самого пристального внимания наших современников.
В ней консервативные эстетические взгляды Страхова выражены почти с
наибольшей силой. Статья содержит и немало ценных обобщений, касающихся
литературной критики.
Страхов выделяет в этой статье два вида критики: «направленскую»
и «объективную»: «Критика направленская, в сущности, — весьма жестокая
критика; ее правило такое: следует порицать писателя за каждое, за самое
малейшее отступление от наших мнений. Мы только из вежливости и ради
плавности речи назвали ее критикой: в сущности, это полемика^ то есть беспощадное
обличение всего того, что мы находим в писателе вредным, нелепым, смешным
с нашей точки зрения. Это строгий суд, который не допускает никаких
смягчающих вину обстоятельств и перед которым самые простые и невинные люди
неожиданно оказываются развратителями нравов и гасителями просвещения»39.
Страхов, разумеется, отдает предпочтение «объективной» критике:
«По-видимому, мы будем ближе к цели, если прибегнем к объективной критике, то есть
к такой, которая судит о произведениях писателя по отношению к его личности,
37 См. об этом сочинении статью: ОльховП. А. Здравый смысл и история (заметки к
полемической эпитафии Н.Н.Страхова «Вздох на гробе Карамзина)» // Вопросы философии.
2009. №5. С. 125-132.
38 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 2. С. 153.
39 Страхов Н. Некрасов и Полонский // Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах.
СПб., 1888. С. 143.
141
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
измеряет их не посторонними мерками, а их происхождением из обстоятельств
жизни, из эпохи и развития писателя»40.
Страхов высказал много нелестных, но точных слов о Некрасове как
«направленском» поэте, неискреннем и лукавом. Для него Некрасов прежде
всего поэт петербургский, и его успех Страхов связывает с
непритязательными вкусами петербургской публики, главным образом мелкого чиновничества
и либеральной интеллигенции: «Г. Некрасов есть поэт чисто петербургский; он
носит на себе все характерные черты нашей Северной Пальмиры, он ее духовное
детище. Это поэт Александрийского театра, Невского проспекта, петербургских
чиновников и петербургских журналистов. Стихи его по тону и манере очень
часто сбиваются на водевильные куплеты того особого рода, который некогда
процветал в нашей „Александринке". Петербургская погода, картины и сцены
петербургских улиц отразились в стихах г. Некрасова как предметы сильно
и постоянно волновавшие его музу»41.
Некрасов широко известен прежде всего как поэт, болеющий за народ
и правдиво описывающий его страдания. Однако Страхов подвергает критике
и «народничество» Некрасова, в котором он видит типичного представителя
интеллигентского «просвещенства»: «Что касается до народа, то поэт, конечно,
глубоко сожалеет о нем, но сожалеет именно так, как это свойственно
петербургским просвещенным чиновникам и либеральным писателям. Народ для
него — страждущая масса, которую не только следует облегчить от несомых ею
тягостей, но еще более следует просветить, освободить от ее диких понятий,
облагородить, отчистить, преобразовать. Г. Некрасов никогда не может
воздержаться от этой роли просвещенного, тонко развитого петербургского чиновника
и журналиста, и так или иначе, но всегда выкажет свое превосходство над
темным людом, которому сочувствует. Целый ряд стихотворений этого поэта
посвящен изображению грубости и дикости русского народа»42.
Как ни странно, но Достоевскому даже подобной строгости показалось
мало, и он снова стал увещевать критика: «Ах, Николай Николаевич — Будьте
позлее! Много этим пользы принесете и другим и себе»43.
На протяжении трех лет, пока существовал журнал «Заря», Страхов
напечатал в нем целый ряд своих лучших критических статей. Энергично одобрял
его деятельность как автора и редактора Достоевский; Толстой обратил на
Страхова пристальное внимание и после их личного знакомства обещал
прислать в «Зарю» свое произведение. Омрачали жизнь критика лишь не слишком
большие успехи с подпиской на 1871 г. из-за непопулярности отстаиваемых
40 Страхов Н. Некрасов и Полонский. С. 142.
41 Там же. С. 135.
42 Там же. С. 135-136.
43 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 2. С. 149.
142
Глава 4. Страхов как литературный критик
«3»
журналом славянофильски-почвеннических идей и непрактичности редакции,
в первую очередь самого издателя журнала.
В начале 1871 г. из-за явной неудачи с подпиской и, возможно, каких-то
просчетов в редакторской работе издатель и номинальный редактор «Зари»
Кашпирёв отстраняет Страхова от редакторства и самонадеянно берется вести
журнал сам. Не забыта и принципиальная позиция Страхова при суде Кашпирёва
с Лесковым. С тех пор статьи бывшего редактора принимаются в «Зарю»,
которую можно назвать его детищем, менее охотно. Журнал, лицо которого определял
Страхов как редактор и литературный критик, разваливался на глазах.
После этой, уже очередной, неудачи, притом с единомысленной «Зарей»,
в которой всё так хорошо начиналось, у Страхова опустились руки. Он сетовал
в письмах этого времени, что, кажется, у него действительно «тяжелая рука»,
как это отметил в свое время драматург Д. Аверкиев. Но Достоевский,
сохранявший веру в его талант критика и в их общее направление, в апреле 1871 г.
горячо убеждал Страхова не бросать критику и, подобно покойному Григорьеву,
высоко оценивал его критические труды: «У нас нет критика ни одного. Вы
были, буквально, единственный. Я два года радовался, что есть журнал, главная
специальность которого, сравнительно со всеми журналами, — критика. И что
же они сами уничтожили то, что у них было самостоятельного, оригинального,
своего. Я упивался Вашими статьями, я Ваш страстный поклонник и твердо
уверен, что у Вас есть и кроме меня достаточно поклонников и что во всяком
случае надо продолжать. Оставлять — малодушие»44.
В «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском» Страхов прекрасно воссоздал
общую атмосферу литературно-критической борьбы 60-х гг. XIX в., хотя, может
быть, не вполне передал все сложности личных взаимоотношений. Некоторые
рецензенты отмечали сдержанность, даже суховатость мемуаров Страхова, но,
кстати, именно в отзыве на эти воспоминания Владимир Соловьев назвал его
«первейшим литературным критиком»45.
Индивидуальные особенности подхода Страхова к литературной критике
выявляются по-разному. Свои суждения о литературе Страхов формулирует
как от себя, выступая с критикой других авторов, так и описывая воззрения
Ап. А. Григорьева. Излагая взгляды своего учителя, Страхов обобщает от себя:
«Искусство не есть простое изображение жизни; оно есть непременно и суд над
нею, суд во имя самых высших начал, только не существующих в отвлечении,
а тех, которые живут и стремятся воплотиться в изображаемой жизни»46. Нам
44 Там же. Кн. 1.С. 207.
45 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 21.
46 Страхов Н. Предисловие II Григорьев. Сочинения. Т. 1.С. III.
143
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
=$>
доступна, как выражается Григорьев, только «цветная истина», воплощением
которой является художество. Искусству, художественному видению
Григорьев придавал важнейшее значение в достижении истины. Критику, которая
рассматривает искусство в тесной связи с жизнью, и рассматривает ее не как
отражение жизни, а как высшее выражение того стремления к идеалу, которым
управляется сама жизнь, Григорьев называл органической критикой.
При этом очень важной является опора на чувство и созерцание, так как
«отвлеченная, головная мысль всегда понимает и судит жизнь уже,
одностороннее»47. Идеал души человеческой, по мнению Григорьева, в чистом виде
не может ни воплотиться, ни быть познаваем, а проявление идеала у разных
народов и в разные эпохи может быть верно изображено только художеством.
В своем определении, что такое настоящая критика, Страхов исходит
из тех же качеств, которыми должен обладать и художник: «Хорошая критика
требует не только горячей любви к художественным произведениям, но и
особенно чуткости к форме художества, так чтобы общее впечатление и крупные
черты произведения не заслоняли в глазах критика частностей и второстепенных
развитии идей. Кроме того, критик должен обладать глубоким и
многосторонним чутьем жизни, то есть всякого рода сердечных движений, различных
типов душевного склада людей, различных видов красоты и безобразия, силы
и слабости в человеческом действии»48.
Типическое, по Григорьеву, означает не общее, отвлеченное,
одностороннее, а, напротив, частное, конкретное, многосложное, как явления
действительной жизни. Григорьев считал, что искусство должно стремиться к
«типовому», воплощающему конкретные черты определенного типа. «Наше типовое
народное», отмечает Страхов, пробудилось в Пушкине. «Объяснение значения
Пушкина есть та центральная точка, с которой Ап. Григорьев смотрит на
развитие нашей литературы»49. Пушкин стал творцом русской поэзии и литературы,
потому что в нем «наше типовое не только сказалось, но и выразилось, то есть
облеклось в высочайшую поэзию»50.
Нередко Страхов приводит основные положения своих критических
принципов в статьях о конкретных литературных явлениях. Так, он излагает свое
кредо литературного критика в разборе поэтической драмы Аполлона Майкова
«Два мира», представленном в Академию наук при соискании Пушкинской
премии 1882 г. Он говорит, что было бы легко пуститься в изложение
собственных взглядов на переворот от язычества к христианству, описываемый в поэме
Майкова, а потом уже «прикинуть эти взгляды к произведению поэта»51. Однако
47 Страхов Н. Предисловие // Григорьев. Сочинения. Т. 1. С. III.
48 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. I.
49 Страхов Н. Предисловие // Григорьев. Сочинения. Т. 1.С. IV.
50 Там же. С. V.
51 Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902. С. 198.
144
Глава 4. Страхов как литературный критик
Ф
такая критика, которую Страхов считает нетрудной, представляет опасности
субъективизма: «Тут мы сами выбираем и устанавливаем точки зрения,
следовательно, можем впасть в произвольность, а главное, тут мы можем упустить
из виду точки зрения самого автора, можем не видеть того, что он нам
показывает,—т.е. впасть в грех для критики непростительный»52. Страхов предлагает
критику «прежде всего брать что ему дают, т. е. входить в произведение автора
и рассматривать его создания, следуя свету, который он на них бросает, и лишь
потом ценить их с общей точки зрения»53.
Успех Страхова как критика складывался из таких его качеств, как
способность понимания, исключительная начитанность, обширные философские и
естественно-научные знания, чуткость к художественной стороне произведений.
Еще одно немаловажное достоинство литературно-критических
сочинений Страхова — тщательность их стилистической отделки. Достоевский, по
воспоминаниям Страхова, посмеивался над тем, как скрупулезно он работал
над своими статьями: «Мне пришлось поздно вступить в литературу, и сперва
я готовился к ученому поприщу. Поэтому и я смотрел на журналистику со
стороны и принес в нее некоторое высокомерие. Всячески старался я избежать
многописания и заботился о полной отделке своих статей. Эти заботы
обыкновенно возбуждали насмешки Федора Михайловича. „Вы все стараетесь для
'Полного собрания' своих сочинений!" — говорил он»54. Так оно и было: почти
все книги Страхова составлены из его опубликованных статей, включенных
почти без всяких изменений по отношению к первым публикациям. Правда, до
какого-либо собрания сочинений Страхова, не говоря уже о полном, мы пока
не доросли.
Очень важная особенность Страхова как критика — проницательность,
умение постигать сущность явлений, способность понимания. Он даже сам
отмечал это свое индивидуальное качество: «...есть у меня для известных
случаев способность полного понимания, способность видеть известные
мысли насквозь, до самого дна. Отнюдь не думаю я гордиться этою несчастною
проницательностью... Я говорю несчастною, ибо она разрушает весь обман,
весь видимый блеск некоторых явлений и обнаруживает их действительную
сущность, сухую и безжизненную, как скелет. Но я заявляю об этой
проницательности потому, что она есть факт, она — моя судьба, которую я неизбежно
должен перенести на себе.. .»55
Характерная особенность критических статей Страхова состоит в том, что
он не навязывает своего мнения читателю, но создает такое положение, чтобы
читатель собственным умом доходил до тех выводов, которые подразумевает
52 Там же.
53 Там же. С. 198-199.
54 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 418.
55 Страхов Н. Н. Из истории литературного нигилизма. СПб., 1890. С. 314.
145
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
автор. Его сочинения возбуждают мысль читателя, и поэтому, как сказал
Александр И. Введенский, «еще долго по его книгам будут начинать мыслить»56.
Интересное наблюдение о стилистической манере Страхова сделал
литературовед М. Г. Зельдович: «...полемический стиль Страхова, в свое время
справедливо названный С. А. Венгеровым „уклончивым", очень прихотлив
и своенравен, и позиция критика выясняется не просто в отдельных звеньях
рассуждений или в простой их совокупности, а лишь в конечном счете и в
результате сложного взаимодействия всех компонентов его статьи»57. Зельдович
отмечает также и парадоксальность критической манеры Страхова, ссылаясь на
его собственные слова. Это, возможно, одна из причин, почему была превратно
понята статья «Роковой вопрос».
Свой оригинальный отпечаток на формирование Страхова как
литературного критика наложила его огромная научная подготовка. «Прозрачность языка
и ясность изложения», которые отмечает у Страхова, например, А. С. Долинин,
во многом восходят к его первоначальным занятиям наукой. Долинин так
характеризует влияние на индивидуальную литературную манеру критика былых
занятий естественными науками: «Тон осторожного исследователя, наукообразной
убедительности стремился он соблюдать в своих оценках и приговорах. И это
давалось ему тем легче, что навыки, им приобретенные в занятиях
естественными науками, вполне соответствовали его крайне уравновешенному характеру,
вследствие которого он никогда не играл роли застрельщика»58.
Занятия наукой сказались не только на содержании статей Страхова, но
и на стилистике его произведений. Любопытный пример влияния
естественно-научной подготовки Страхова на стиль его критических сочинений представляет
собой статья «Микроскопические наблюдения» (1862), которая начинается
так: «Только тот, кто очень любит тонкости, кто пристрастился к дробнейшему
анализу, только такой человек может находить интерес в нашей современной
журналистике. Без микроскопа, увеличивающего в тысячу раз, в ней часто
ничего не увидишь, ничего не разберешь; всё сливается в однообразную плоскость
с оттенками разных цветов. Но тот, кто любит микроскопические наблюдения,
может найти много интересного. Он с удовольствием может наблюдать, что
проявления жизни продолжают совершаться; под микроскопом он видит
странные формы очевидных живых существ, замечает, как они вступают в борьбу
и стремятся даже поглотить друг друга»59. Такая неожиданная аналогия из
сферы зоологии позволяет автору ярче оттенить падение литературных нравов
56 Введенский Александр. Значение философской деятельности Н. Н. Страхова. С. 8.
57 Зельдович М. Г. Неизвестный отклик на статью Чернышевского «Об искренности
критика». С. 226-227.
58 Долинин А. С. Достоевский и другие: Статьи и исследования по русской литературе.
Л., 1989. С. 235.
59 К. Н. [Страхов Н. H.J Микроскопические наблюдения // Время. 1862. Февр. Отд.
II. С. 134.
146
Глава 4. Страхов как литературный критик
—■$>
в ожесточенной борьбе направлений, напоминающей в иронической форме
о теории «естественного отбора» и конфронтации конкурирующих видов за
выживание по Дарвину. Подобного рода аналогии из мира наук и природы,
восходящие к научно-исследовательскому прошлому критика, придают
своеобразие критической манере Страхова.
На эту индивидуальную особенность статей Страхова обратил внимание
нововременский критик и историк литературы Н. Энгельгардт, несколько
скептически относившийся к его творчеству: «Страхов — человек с изысканным,
но бледноватым литературным талантом, с превосходным европейским
образованием и эстетическим вкусом, но как-то вечно с поджатой губой, выступил
с щепетильными статейками о микроскопических явлениях текущей литературы,
которых он, натуралист по образованию, анализировал, как энтомолог козявку:
„Нечто о петербургской литературе", „Еще о петербургской литературе", „Нечто
о полемике"»60.
Но при такой своеобразной, пусть и невысокой, оценке Энгельгардт всё
же видел в Страхове прежде всего литературного критика: «Человек с
громадными естественно-научными и философскими знаниями, Страхов тем
не менее, как и Михайловский, прежде всего был человеком партии; так же
лишенный темперамента писатель, он ценен только в своих немногих, чисто
эстетических работах, как представитель художественной критики и тонкий
знаток словесных красот поэзии. Влияние его на общество было совершенно
ничтожно»61.
* * *
Если говорить о книгах литературной критики, изданных Страховым,
то первая из них, вышедшая в 1885 г., была посвящена Толстому и Тургеневу.
Как объяснял сам Страхов в предисловии к сборнику, он ограничился статьями
об этих видных писателях не только потому, что больше всего писал именно
о них. Другая немаловажная причина — эти выдающиеся прозаики во
многих отношениях были противоположны друг другу: «Одного можно назвать
западником, а другого — славянофилом, хотя в строгом смысле эти названия
к ним неприложимы: художество по самой своей природе слишком свободно,
чтобы вполне подходить под определения наших партий. (...) Далее — один
подражатель и идет по течению, другой чрезвычайно самобытен и независим
от всяких течений...»62 Как мы видим, отношение Страхова к
произведениям Тургенева резко изменилось со времен романа «Отцы и дети» в худшую
60 Энгельгардт Я. История русской литературы XIX столетия. СПб., 1915. Т. 2: 1850-
1900: (Критика, роман, поэзия и драма). С. 168.
61 Там же. С. 417.
62 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. III.
147
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
сторону. По мнению Страхова, оторвавшись от Родины и глядя на русскую
жизнь со стороны, Тургенев судит о ней очень поверхностно. Впрочем, и в
сочинениях Толстого, написанных после идейного переворота 1880 г., трудно
найти какие-либо признаки приверженности славянофильству, которые Страхов
обнаруживал в «Войне и мире».
Тем не менее суждения Страхова о Толстом, наоборот, неизменно
положительны. Страхов справедливо гордился тем, что он первым «печатно
провозгласил Толстого гениальным и причислил его к великим русским писателям»63.
Он так определил главный критерий при оценке «Войны и мира»: «Главное
всегда — в понимании духа писателя, в том внутреннем сочувствии, которое
открывает нам самую глубину его произведений»64. Страхов прав: он заслужил
похвалу за то, что почувствовал великое значение этого художника слова.
Слава Толстого после романа «Война и мир», величие которого было
впервые убедительно разъяснено читателям Страховым, поднялась на небывалую
высоту. А после романа «Анна Каренина», рождавшегося трудно и с перерывами,
он вознесся так высоко, что пребывал там чуть ли не в гордом одиночестве,
и только Достоевский мог соперничать с ним если не по мастерству воссоздания
жизни, то по силе художественного психологизма образов.
Казалось, ничто не может поколебать Толстого на его пьедестале. Однако
случилось невероятное: к огромному разочарованию бесчисленных почитателей
его литературного таланта, он практически отошел от художественного
творчества и занялся проповеднической деятельностью. Среди тех, кто сохранил
верность Толстому, был и его друг Страхов. Он не поддерживал писателя в его
пренебрежительном отношении к художеству, но с пониманием отнесся к
религиозным исканиям друга и по-прежнему считал его величайшим писателем.
Однако утверждение Страхова в предисловии к тому 1885 г., что «ни на каком
писателе не лежит так ясно печать русского духа, как на Толстом»65,
труднооспоримое для того времени, когда создавались гениальные романы, в период
выхода сборника литературно-критических статей уже разделяли далеко не
все читатели.
Под обаянием могучей творческой личности Толстого Страхов находился
до конца своих дней. И здесь будет уместно, видимо, заметить, что Толстой
с самого начала настойчиво вмешивался в творческую деятельность Страхова,
настоятельно побуждая того заниматься именно философией, а не
литературной критикой, к которой, называя ее журналистикой, сам относился крайне
пренебрежительно: «Я уверен, что вы предназначены к чисто философской
деятельности...»66
63 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. IV.
64 Там же.
65 Там же. С. VIII.
66 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 122.
148
Глава 4. Страхов как литературный критик
ф
Толстой словно и не замечал, что философская подоплека всегда
присутствует в литературной критике Страхова, в то время как его чисто философские
сочинения отличаются большей отвлеченностью, даже сухостью, чем
сочинения, посвященные художественной прозе и тем более поэзии. Достоевский,
который был более чуток в отношении критики, не раз замечал Страхову, что
его сочинениям недостает энергии, чувства, даже злости.
В то же время сам Толстой уже в начале их знакомства проницательно
выделил одну особенность литературного таланта Страхова, лежащую в основе
именно его выдающихся критических способностей: «У вас есть одно качество,
которого я не встречал ни у кого из русских: это — при ясности и краткости
изложения, мягкость, соединенная с силой: вы не зубами рвете, а мягкими
сильными лапами»67.
Теперь, на расстоянии, видится, что большого противоречия между
философскими и литературно-критическими работами Страхова нет: критика, как
учил еще Ап. Григорьев, должна быть философской.
* * *
Страхову, обладавшему тонким поэтическим вкусом, не была чужда
и поэзия. Он сам писал стихи, хотя и не снискавшие признания, но эти
занятия поэзией дали ему возможность прийти к глубокому и тонкому пониманию
поэтического творчества и достичь больших успехов в толковании поэзии. Все
самые глубокие поэты того времени — Аполлон Майков, Афанасий Фет, Яков
Полонский, Арсений Голенищев-Кутузов — признавали критический талант
Страхова и находились с ним в дружеских отношениях. Даже В. П. Буренин
упоминал Страхова в своей поэме «Иван Оверни»: «Меня прочтет... / И Майков
Аполлон, и Нежный Фет, / И Страхов, наш эстетик незабвенный».
«Эстетиком» называл Страхова и Писарев, противопоставляя критике
эстетической, к которой относил, конечно, и Ап. Григорьева, критику
«реальную», создателем которой называл Добролюбова. Как теперь ни поразительно,
но примитивные, хотя и бойкие сочинения Писарева были гораздо популярнее
критических статей и книг Страхова.
После кончины Страхова консервативный критик А. А. Шевелев,
писавший под псевдонимом А. Скопинский, сокрушался: «.. .нельзя было не ощущать
горького стыда, что в то время, как сочинения Страхова едва-едва расходятся
в тысячу-другую экземпляров — шесть томов собрания сочинений Д. И.
Писарева, чье невежество граничит только с его самомнением, расхватывается
в десятках тысяч экземпляров. Неужели уж такой зарок положен на Россию, что
в ней громкою известностью могут пользоваться только те писатели, которые
67 Толстой И. Л. Мои воспоминания. М., 1969. С. 143-144.
149
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$>
или льстят толпе, или ошеломляют ее своею наглостью, своим бесцеремонным
лганьем?»68
Можно сказать, что оселком, на котором проверялась критическая
чуткость, было творчество Пушкина. К эстетикам, как ни удивительно относил
Писарев и Белинского, хотя как раз недооценка Белинским позднего Пушкина
делает его промежуточной фигурой: если его раннее творчество бесспорно
принадлежит к эстетической критике, то в последний период он, как подчеркивал
Григорьев, перешел на позиции критики, которую называли «реальной», став
фактически ее родоначальником. В этот период Белинский утратил понимание
пушкинского гения. Страхов сумел так хорошо понять и оценить идеи Григорьева
относительно роли Пушкина в нашей литературе потому, что Пушкин с юных
лет был его литературным идеалом.
Статьи о поэзии были собраны Страховым в книге «Заметки о Пушкине
и других поэтах» (1888). Нередко пишут, будто Страхов написал о Пушкине
мало и написанное им не слишком оригинально. Однако с этим выводом трудно
согласиться. Во-первых, глубина неброских мыслей Страхова о Пушкине
познается не сразу, а после неоднократного вдумчивого чтения. Во-вторых, дело
еще и в том, что прекрасные и очень глубокие суждения Страхова о творчестве
Пушкина содержатся не только в этой книге, но и рассыпаны по многим другим
его сочинениям. К числу характерных примеров можно отнести, например,
страницы цикла статей о «Войне и мире», где Страхов прочертил генеральную
линию развития русской литературы от «Капитанской дочки» Пушкина до
«Войны и мира» Толстого.
Страхов был замечательным критиком поэтических произведений. Поэзию
он любил, тонко чувствовал и прекрасно знал. Ориентируясь в своем понимании
настоящей критики прежде всего на Григорьева, он писал: «Без сомнения,
каждый литературный критик должен быть в то же время и сам поэт; это, кажется,
одно из необходимейших условий настоящего критика»69.
Страхов, как уже отмечалось, и сам с юношеских лет писал стихи, хотя
без особого успеха, однако здесь он имеет в виду еще и другое: критик должен
ощущать себя поэтом в душе, что было, несомненно, присуще Аполлону
Григорьеву. О Страхове как глубоком ценителе настоящей поэзии не раз высоко
отзывался Афанасий Фет, считавший его «тончайшим критиком»70. Фет
признавал тонкий поэтический вкус Страхова и доверял ему даже самостоятельно
редактировать свои стихи перед сдачей их в печать. При этом, как показывает
Фет в письме к великому князю Константину Константиновичу (поэту К. Р.), он
считался и со строгим отрицательным мнением Страхова о вполне известных
68 Скопинский А. [Шевелев А. А.] О Н. Н. Страхове // Рус. слово. 1896. № 33, 3 февр. С. 1.
69 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 409.
70 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 635.
150
Глава 4. Страхов как литературный критик
—■$■
поэтах: «Никто лучше Страхова не способен раскрыть всей беспомощной
наготы этих псевдо-поэтов»71.
К мнению Страхова о том или ином поэтическом сочинении
прислушивались все. Даже Владимир Соловьев, несмотря на ожесточенную идейную
полемику со Страховым, признавал близость их эстетических вкусов.
Однажды он попросил прислать ему книгу Страхова «Заметки о Пушкине и других
поэтах», мотивируя это так: «Хотя у нас со Страховым совершенно различный
образ мыслей, но именно по части поэзии есть общие вкусы, а потому может
произойти совпадение и в суждениях, чего я желал бы избежать»72.
Нельзя не отметить, что Страхова как критика отличала необычайная
строгость и принципиальность суждений. Несмотря на свою внешнюю
мягкость и благодушный тон, Страхов был непреклонен в осуждении
произведений, которые представлялись ему литературно слабыми. Его тонкие
язвительные наблюдения над литературной манерой пользующегося до сих
пор большим авторитетом Салтыкова-Щедрина, которому Страхов
отказывает, собственно, в принадлежности к большой литературе, поражают
своей меткостью и глубиной. Критическую оценку романа Чернышевского
Достоевский не решился печатать, хотя в рецензии Страхова не
содержалось никаких грубых выпадов. Великий князь Константин описывает,
как он трепетал, отправляя свои стихи на суд Страхова, который по
первому впечатлению показался ему даже злым. Но вскоре поэт изменил это
мнение и охотно прислушивался к мнениям принципиального критика,
которого очень уважал. О строгости критических оценок Страхова ходили
эпиграммы.
И эти мнения о строгости, даже порой чрезмерной, были
небезосновательны. Фет, доверявший Страхову править свои сочинения перед отправкой
их в редакции и бравировавший тем, что без одобрения петербургского друга
ничего не печатал, стал наиболее характерной жертвой критического
ригоризма Страхова. Его вполне содержательная статья, получившая позже название
«Наша интеллигенция», осела в архиве после «дружеской», но безжалостной
критики Страховым ее недостатков (впервые опубликована в 2000 г.)73.
Страхов категорически отказывался печатать некоторые статьи К. Н. Леонтьева, не
отвечавшие его понятиям о нравственности.
Страхов подвергал строгой критике даже произведения Достоевского,
несмотря на то что они состояли с писателем в дружеских отношениях и были
почти полными единомышленниками. Очевидно, что эта принципиальность
Страхова при оценке не слишком родственных ему по художественной манере
71 Там же.
72 Вл. Соловьев. Письма. Т. 3. С. 128.
73 Фет А. А. Наша интеллигенция / предисл. и публ. Г. Д. Аслановой и Н. Н. Трубниковой //
Вопросы философии. 2000. № И. С. 129-174.
151
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
«8»
произведений Достоевского сыграла не последнюю роль в охлаждении к нему
великого писателя.
Критическая деятельность Страхова пришлась на очень трудное время,
когда в литературе господствовал нигилистический, утилитарный подход. Страхов
так характеризовал это время: «Тогда в литературе получило силу и с каждым
годом разрасталось гражданское направление, то есть стремление возбудить
общественную деятельность в России. Внутренняя политика поставлена была
главною задачею литературы, и перед этою задачею должны были отступить на
задний план все другие интересы. Явилась обличительная литература, и вообще
проповедовалась теория, что всякое искусство и писательство, всякая наука
и умственная деятельность должны иметь в виду прямую пользу для общества,
а не отвлеченный интерес самого искусства и науки. В силу этого все тогдашние
светила литературы стали подвергаться нападениям; журналистика старалась
уронить их авторитет в глазах публики и показать ей, что есть заслуги гораздо
важнее, чем писание художественных произведений, и что чтение таких
произведений есть только пустая забава. Стихотворная поэзия была в особенном
загоне. Стихов печаталось много, но это были или какие-нибудь обличения
и воззвания, так называемые гражданские мотивы, или же шутки, пародии,
сатирические песенки, которые появились в огромном количестве. Настоящая
поэзия, можно сказать, едва влачила свое существование»74.
Творческая деятельность Страхова в основном была посвящена
опровержению взглядов оппозиционных критиков «обличительного» направления,
делавших упор на социальный или даже классовый подход к исследованию
литературных явлений. Вполне естественно, что его попытки вернуть
литературную критику к рассмотрению прежде всего чисто художественных достоинств
и недостатков произведений вызывали несправедливые обвинения в том, будто
он является «эстетиком» (или даже «эстетом») в критике.
Страхова называли то сторонником «чистого искусства», то, наоборот,
реакционером, но он, конечно, не был ни тем ни другим. Органическая критика,
как ее трактовали Ап. Григорьев и Страхов, позволяла уравновесить все аспекты
при оценке художественного произведения.
Страхов писал: «...меня бранят эстетиком, то есть (на их языке)
человеком, который вообразил, что художественные красоты могут существовать
отдельно от внутреннего, живого, серьезного смысла, и который гоняется за
такими красотами и наслаждается ими. Вот какую непомерную глупость мне
приписывают!»75
74 Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. С. X.
75 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 391.
152
Глава 4. Страхов как литературный критик
—■$>
В другом месте, прямо касаясь вопроса об «искусстве для искусства», он
восклицает: «Свобода искусства, чистое искусство, искусство для искусства—
все это слова широкие, так что могут иметь или очень глупое значение, или же
очень живой, очень глубокий смысл. Сохрани нас Боже от той чисто немецкой
теории, по которой человек может разбиваться на части и в нем спокойно должны
уживаться всякие противоречия, по которой религия сама по себе, государство
само по себе, поэзия сама по себе, а жизнь сама по себе. Ничего не может быть
противнее этого русскому духу.
Но вера в искусство ни к чему подобному и не ведет. Эта вера значит:
искусство связано естественно, по самой своей сущности, со всеми высшими
интересами человеческой души, и потому должно быть свободно, не должно
быть искусственно подчиняемо этим интересам. Отрицание всего делгного,
фальшивого, напускного, неискреннего, сочиненного, всякого подслуживания
и прилаживания — вот что следует из веры в искусство. Правда — вот высший
закон, и мы знаем, что для праведников не нужны правила и предписания»76.
Страхов был одним из немногих критиков, который органично сочетал
философский подход с эстетическим анализом, никогда не забывая о верности
принципу добра и истины. И именно в этом содержится главная причина того,
что его критические очерки и сегодня сохраняют свою ценность.
К концу жизни литературно-критические идеи Страхова получили
некоторое признание, и у него появились даже свои почитатели и ученики.
Ю. Н. Говоруха-Отрок, критик «Московских ведомостей», очень часто ссылался
в своих статьях на Страхова как на высший авторитет в сфере настоящей,
объективной критики. В. В. Розанов, которому Страхов помог обрести уверенность
в творчестве, предпринял огромные усилия, чтобы увековечить память о своем
учителе в литературе. Ему принадлежит большое количество статей, в которых
он характеризует Страхова как проницательного и беспристрастного критика.
Весьма оригинальное толкование личности и творчества Страхова оставил
Б. В. Никольский, много общавшийся с критиком в последние годы его жизни.
Наконец, можно упомянуть здесь и сотрудника «Нового времени» В. П.
Буренина, который к концу жизни написал о Страхове как литературном критике
целый ряд положительных ярких статей, хотя в молодости, будучи типичным
нигилистом, напечатал никак не меньше язвительных отзывов о его сочинениях.
Мнения оппозиционной критики о Страхове не отличались ни глубиной,
ни объективностью и грешили стремлением из партийных пристрастий
любыми средствами принизить значение его сочинений. Так, Михайловский писал,
будто Страхов лишен критического чутья. А Салтыков-Щедрин не придумал
ничего остроумнее, как заставить жителей города Глупова читать на своих
посиделках критические статьи Страхова. Но сам почему-то очень обижался,
Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. С. 175-176.
153
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
когда Страхов безжалостно высмеивал его язвительную прозу. 4 мая 1883 г.
Салтыков-Щедрин жаловался в письме на грядущую критику «охранителя»:
«И сколько ругательств на меня из охранительного лагеря сыпется! Страхов,
у которого в голове, кроме урины, ничего не осталось, всю ее готовится вылить
на меня»77. Преуспевающего писателя-фельетониста не могло не задеть то, что
критик в своем обзоре, рассматривая вопрос о роли смеха, иронии и сатиры
в художественной литературе, убедительно показывал, что переходящие всякую
меру карикатуры Щедрина находятся вне пределов настоящей литературы,
демонстрируя лишь «несомненный талант нахальства и глумления»78.
В советское время, когда образцом литературной критики стали
произведения так называемых революционных демократов, борьбе с которыми посвятил
свою творческую деятельность Страхов, об объективной оценке литературно-
критических его работ не могло быть и речи.
В наши дни, после долгих лет забвения, творческое наследие Страхова
снова обретает свое заслуженно высокое место в русской литературной
критике рядом с критическими сочинениями Ап. Григорьева, Говорухи-Отрока
и Розанова.
77 Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: в 20 т. М, 1972. Т. 19, кн. 2. С. 198.
78 Страхов Н. Взгляд на текущую литературу // Русь. 1883. № 2, 17 янв. С. 34.
Ciafia 5
ОРГАНИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ПОНИМАНИЯ,
ИЛИ «ВСЕПОНИМАЮЩИЙ ФИЛОСОФ»
Я думаю, что вы — большая,
самая большая в России философская сила,
что вы больше всех нас знаете,
больше всех передумали, перестрадали, определили.
Н. Я. Грот'
£§ИВ «.. .Он не публицист, он прежде всего — мыслитель», — сказал Розанов
об авторе книги «Борьба с Западом в нашей литературе»2. «Мой философ» —
так обращался в письмах к Страхову Ап. Григорьев.
«Все мы любим „пофилософствовать"», — пишет Страхов в предисловии
к книге «Философские очерки»1. И далее раскрывает, что отличает любителя
только размышлять или «философствовать» от подлинного философа: «...но
под этим словом мы разумеем рассуждения, которые почему-то выходят слабее
и путанее всяких других наших рассуждений. Мы тут сами не знаем, чего
хотим и какою дорогою идем. Философ же знает, или, по крайней мере, должен
знать, что он делает; он берет на себя мыслить вполне сознательно, и от этого
происходят особенные приемы его рассуждений. Это сознательное мышление
в одних пробуждается легко, в других, даже обладающих большою деятельно-
стию ума, почти вовсе не может быть вызвано. Вот почему принято говорить
о философском таланте почти так же, как говорят о поэтическом даре,
посылаемом природою, а не зависящем от обучения».
Консервативный критик А. Скопинский (А. А. Шевелев) поражался
разнообразию трудов Страхова и, задаваясь вопросом, кто он, философ, критик
или публицист, сам ответил на него: «Страхов прежде и главнее всего философ.
Это помогло ему быть и хорошим публицистом, и выдающимся критиком. Для
критика достаточно иметь известную чуткость к прекрасному и известные
1 ОРРНБ.Ф. 747. Оп. 1.Ед. хр. 13. Л. 48.
2 Розанов. ПСС 1.2. С. 63.
3 Страхов. Философские очерки. 1906. С. IV.
155
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
познания в области истории искусства. Для публициста надо иметь любовь
к своему отечеству и знать, а главное, понимать его историю. Философом надо
родиться»4.
Страхов делил всех рассуждающих людей на тех, кто имеет
способности к философскому мышлению, и тех, кто таковых не имеет. К последним он
относил, например, М. Н. Каткова и К. Д. Кавелина.
Сам Страхов был, конечно, настоящим философом. Розанов писал в
рецензии на его «Философские очерки»: «Читатель чувствует, что это — слова не
занимающегося философией, но философа»5. На упреки, что у него отсутствует
целостная система мысли и его статьи представляют собой нечто
фрагментарное, отрывочное, Страхов ответил в предисловии к первому изданию книги
«Философские очерки»: «Сочинения полные и систематические очень редко
бывают органическими произведениями ума. Полнота их достигается всего
чаще механическим подбором частей, а не живой связью между ними (...) Жизнь
книги состоит в мысли, которая в ней движется (...) Итак, отрывочная статья
своей цельностью и последовательностью может избежать упреков, которые мы
делаем полным и систематическим книгам»6. Сборники сочинений Страхова,
составленные внешне из отдельных частей, рассчитаны на творческую работу
самого читателя, который, размышляя над текстом, самостоятельно, умственным
усилием соединяет «швы» будто бы разрозненных статей.
Страхова упрекали в том, что при отсутствии собственной системы
его философия меняется в зависимости от того, под влиянием какой сильной
личности он находится в данный период. Некоторые философы видят в этом
его качестве не эклектизм, а черты герменевтического мышления. Страхов на
самом деле ничего не абсолютизировал и умел использовать в своем искании
«вечных истин» ценные элементы, найденные у других философов. Когда Грот,
например, нашел во взглядах Страхова нечто общее с философией Декарта,
Страхов ответил ему очень важным обобщением: «Вы, например, объявили
меня картезианцем. Почему же? Ведь я исповедую, что всякая философия
есть степень или момент в той, которой я держусь. Декарт больше кого бы то
ни было подходит под это понятие; только для того и стоит его изучать!..»7
Историкам философии следует обратить внимание на беглое упоминание
Страховым в том же письме двух трудов, в которых можно найти элементы
его «философствования», — «Логика и метафизика, или учение о науке»
К. Фишера и «Историческое развитие спекулятивной философии от Канта
до Гегеля» Г. М. Халибеуса.
4 Скопинский А. [Шевелев А. А.] О Н. Н. Страхове // Рус. слово. 1896. № 33. С. 1.
5 Розанов В. В. Смена мировоззрений: Н. Страхов. Философские очерки. С- Петербург.
1895 г.: [рец.] //Розанов В. В. Природа и история. М, 2003. С. 149.
6 Страхов. Философские очерки. 1906. С. III-IV.
7 Письма СтраховаН. Я. Гроту. С. 254.
156
Глава 5. Органическая философия понимания
Николай Николаевич Страхов с ранней юности увлеченно занимался
естественными науками, сочинял художественные произведения, писал
публицистические и литературно-критические статьи, но, по мнению большинства
исследователей, был прежде всего философом, мыслителем. Страхов предавался
наслаждению мыслью с юных лет. Он писал в своей ранней повести «По утрам»
(1846), что мысль — отрада жизни и что мысль и жизнь неразделимы.
Декартовское «cogito ergo sum» — «мыслю — следовательно, существую» — словно
сказано про юного Страхова. Он испытывал радость от того, что в голове у него
постоянно толпились дерзкие мысли: «Рад, потому что мысль — великое благо,
дающее счастье и среди страданий; рад, потому что не может человек не
радоваться своей мысли, своей жизни»8.
Уже в 1859 г., когда Страхов после неудачной попытки занять кафедру
зоологии в Московском университете опубликовал в газете «Русский мир»
статью «Физиологические письма», еще тесно связанную с естественными
науками, стали ясны философская направленность его дарования и консервативно-
идеалистический характер мировоззрения. Эти качества сразу привлекли к нему
внимание критика с философским уклоном Аполлона Григорьева и
повернувшего в сторону консерватизма публициста и философа М. Н. Каткова, редактора
журнала «Русский вестник». Катков сразу же заказал Страхову статью против
материализма в естествознании.
Значительная часть трудов Страхова, особенно в ранний период, еще не
порывала связи с естественными науками, которые он хорошо знал. Философия
науки — одна из главных тем Страхова как мыслителя. Историк философии
Э. Л. Радлов утверждал даже, что философия носит у Страхова прикладной
характер и используется им главным образом для объяснения
общетеоретических проблем науки. Хотя Радлов и хорошо знал Страхова, с его мнением
о вторичности философских работ Страхова по отношению к естественным
наукам, однако, вряд ли можно согласиться.
Мнение Радлова опровергается уже первой крупной статьей Страхова
1860 г. — «Значение гегелевской философии в настоящее время», напечатанной
им в журнале «Светоч». Статья была посвящена исключительно актуальным
философским вопросам и к естественным наукам никакого отношения не имела.
Опубликованная Страховым в 32 года, эта ранняя статья вполне свидетельствует
о философском складе его ума, обширных знаниях в области истории философии
и о незаурядности его философского таланта.
Как ни удивительно, Страхов пришел в философию сразу готовым
специалистом, с основательными знаниями и, что самое важное, самостоятельными
суждениями, по многим позициям идущими вразрез с преобладающими
тенденциями современной ему мысли. Если многие европейские философы середины
8 Страхов. По утрам. С. 424.
157
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
XIX в. отошли от гегелевской философии как устаревшей, сдвинувшись в
сторону более «современных» систем, тяготевших к материализму и позитивизму,
то Страхов, выученик классической немецкой философии, усвоил лучшие черты
философии идеализма, а также гегелевский диалектический метод.
Статья «Значение гегелевской философии в настоящее время» полна
оптимизма молодого философа идеалистического склада, счастливого
открывшейся ему способностью к умозрению и быстро «оперившегося» под крылом
всемогущей философской системы Гегеля. На первых порах Страхов буквально
упивается своей верой в универсальную, прямо-таки чудодейственную силу
познания, обретенную им в философии великого немца. Вырваться из
волшебного круга гегелевской логики, как он не без наивности утверждал, не дано
никому и ничему: всякое жизненное явление и всякая философия оказываются
охваченными философской системой Гегеля.
Складывается впечатление, что для молодого мыслителя философия и
гегельянство— одно и то же: «Вообще, в пользу философии Гегеля можно привести
одно важное доказательство. Она такова—какова должна быть философия. На
самом деле, как ни темны обыкновенные представления о философии, можно,
даже опираясь только на них, показать, что философия Гегеля удовлетворяет
всем их требованиям»9.
Хотя Страхову создали репутацию робкого, нерешительного человека и он
сам не раз это подтверждал в отношении повседневной жизни, в философии,
как, впрочем, и в литературной критике и в публицистике, он с молодым
задором сразу бесстрашно обозначил свою независимую позицию. Начиная с этой,
первой своей чисто философской статьи Страхов смело показывает, что готов
выступить против самых модных современных направлений мысли.
Статья посвящена, собственно, защите гегельянства, которое большинство
направлений того времени уже посчитало «устаревшим», ориентируясь на
довлеющую над Западом идею прогресса, вынесшую на поверхность позитивистские
и даже вульгарно-материалистические направления. Страхов смело ополчается
на современное состояние всей философии, называя его «ничтожным».
Философская «борьба с Западом» выразилась у Страхова в этот период, собственно,
в том, что вместо новомодных позитивистских и материалистических
западных течений он отстаивал гегелевский идеализм, отвергнутый европейской
философией как отживший. Страхов писал об упадке европейской социальной
философии, одержимой идеей непрерывного прогресса, овладевшей умами,
кстати, не без участия Гегеля: «Охотники до новизны, люди, воображающие,
что писанное десять лет назад уже никогда не годится в сравнении с мудростью
нынешних книг, те говорят очень просто, что система Гегеля пала и что явились
потом многие другие системы, из которых они принадлежат к такой-то...»10
9 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 8.
10 Там же. С. 4.
158
Глава 5. Органическая философия понимания
»
Страхову спорить о «новых» философских системах было просто, так как
в моду после «падения» Гегеля под видом «новых» учений вошел материализм,
старый как мир. Это определило основную направленность философских
сочинений Страхова и в значительной степени вынудило его вращаться в узком
круге довольно элементарных тем. На долю Страхова как философа достался
целый ряд остро стоящих, но не слишком глубоких проблем, и он вынужден
был заниматься ими всю жизнь, так как в таком плачевном умственном
состоянии находилось общество. Первая из этих проблем — преобладание в умах
философии материализма, с которой Страхов, начиная с этой статьи о Гегеле
и его противниках, неустанно боролся.
В целом Страхов дал в своих философских сочинениях сокрушительную
критику материализма. Эта критика могла бы оказаться полезной в нашей стране
с многолетним материалистическим доминированием, имей культурное
общество привычку прислушиваться к своим философам. Однако неустанно воюя
с материализмом, Страхов понимал: «Материализм есть учение неистребимое,
которое всегда, во всякую эпоху человечества имело и будет иметь
представителей; но в глазах философов он постоянно имел очень малую, может быть,
даже слишком малую важность, чтобы обращать на него серьезное внимание»11.
В предисловии к своей книге «Философские очерки» Страхов, раскрыв
причину неослабевающей популярности материалистических учений и
чисто опытного знания, дал методологические рекомендации по борьбе с ними:
«Материализм есть самая легкая метафизика, а эмпиризм самая легкая теория
познания: вот в чем сила этих течений»12. Материализм, считает Страхов, удобен
в применении к жизни, он дает человеку свободу действия: «Ради этой свободы
люди готовы приравнять себя к обезьянам и даже к муравьям и пчелам, лишь бы
избежать обязательств, которые налагает на человека его истинная природа»13.
Страхов предлагает такую методику по преодолению философского
материализма и вообще опоры мысли исключительно на опытное познание: «Задача
философии относительно эмпиризма и материализма заключается не в том,
чтобы опровергать их, как будто они сплошь состоят из одних заблуждений,
а в том, чтобы указать надлежащее их место в системе понятий и точно
определить их границы. Когда нам говорят: „истинно сущее есть материя и только
материя", или: „истинное познание есть опыт и только опыт", то нам не следует
увлекаться ходом этих речей и отвечать на них какими-нибудь доказательствами,
что материя и опыт недостаточны для понимания природы и нашего познания.
Если утверждение совершенно нелепо, то и отрицание его не имеет никакой
цены, потому что совершенно бесплодно. Гораздо лучше будет, если мы
материалистам и эмпирикам сможем дать такой ответ: мы знаем настоящее место
11 Там же.
12 Там же. С. V.
13 Там же. С. VI.
159
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$>
и значение вещества в природе и опыта в нашем познании; мы ограничиваем
их надлежащею мерою, почему и отвергаем все, переходящее эту меру»14.
Страхов дает ироничную и потому сокрушительную критику
знаменитого триумвирата вульгарных материалистов — Карла Фогта, Якова Молешотта
и Бюхнера, которые получили в то время широкое распространение в России.
Страхов считает Фогта и Молешотта хорошими физиологами, но то, что
публика принимает физиологию за философию, — не их вина. С уверенностью
знатока естественных наук он лишает вульгарных материалистов,
опирающихся на опытное знание, права именоваться философами, называя их самыми
обыкновенными «натуралистами»15. Особенно язвительно отзывается Страхов
о Бюхнере, который ничем не заслужил себе известности в науках. Свою борьбу
с материализмом Страхов продолжил в статьях, вошедших позже в книгу «Мир
как целое» (1872).
В первой же своей философской статье Страхов упоминает
«блистательного» Куно Фишера, немецкого историка и популяризатора философии, в трудах
которого он видит задатки возобновления настоящей философии на основе
возврата к универсальной системе гегелевского идеализма. Недаром
впоследствии Страхов посвятил много усилий переводу серии трудов Куно Фишера
на русский язык, считая сочинения этого последователя Гегеля, написанные,
однако, более доступным языком, лучшим введением в историю философии.
Знание универсальной гегелевской системы помогает молодому
мыслителю блестяще разобраться и в таких неожиданных порождениях «левого»
гегельянства, как философская «поэзия» чувства вовсе не материалиста
Фейербаха, декларирующего отрицание всякой философии. Надо сказать, в юные
годы либеральных соблазнов после духовной семинарии Страхов, видимо,
прошел через искус философии Фейербаха. Об этом он бегло свидетельствует
в своей биографической записке, но в статье о Гегеле он энергично доказывает,
что Фейербах — поэт, а не философ, и когда он говорит о материи, он имеет
в виду чувство. В отдельной статье, посвященной Фейербаху (1864), Страхов
стремится доказать, что его философия «свирепой имманентности» более тесно
связана с религией, чем с грубым материализмом, как утверждает Хомяков.
В статье о Гегеле Страхов сочувственно приводит мнение отечественных
противников материализма философов-идеалистов А. С. Хомякова и В. Н.
Карпова, не согласных с гегельянством, и категорично утверждает, что «никоим
образом от гегелевской системы невозможно последовательно перейти в
материализм» 16.
Есть мнения, однако, что даже и в свой ранний период, когда Страхов еще
декларировал свою полную приверженность системе Гегеля, он не был вполне
14 Страхов. Философские очерки. 1906. С. VI—VII.
15 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 64.
16 Там же. С. 20.
160
Глава 5. Органическая философия понимания
—■$»
гегельянцем-рационалистом. Об этом свидетельствует, например, в споре с ним
тяготеющий к позитивизму философ-эклектик и революционер П. Л. Лавров.
Он усомнился в гегельянстве Страхова, так как тот хвалит далеких от Гегеля
мыслителей — славянофила-антирационалиста А. С. Хомякова и профессора
Духовной академии В. Н. Карпова: «Но гегельянец ли г. Страхов? Неужели во имя
гегелизма он признал статью г. Хомякова прекрасной, а „Логику" г. Карпова
истинной философской книгой, которая должна совершить у нас переворот? (...)
Я сильно сомневаюсь в чистоте гегелизма г. Страхова»17.
Но всё же в целом эта ранняя статья Страхова — подлинный апофеоз
философской системы Гегеля. В том, что на раннем этапе своего творческого пути
Страхов был убежденным гегельянцем, пусть и с оговорками, почти ни у кого,
кажется, нет сомнений. Об этом свидетельствует, например, Д. И. Чижевский,
уделивший Страхову видное место в своей монографии «Гегель в России»18.
Под знаком гегелевской философии выполнены и статьи, вошедшие в
книгу «Мир как целое», изданную в 1872 г. Однако после этой книги
взаимоотношения Страхова с Гегелем становятся более сложными. Приходит время, когда
Страхов открыто отмежевывается от универсальной гегелевской философской
системы, заявляя о своей неизменной приверженности лишь гегелевскому
диалектическому методу, который его вполне устраивает. Гегелевская «метода»
дает философскую опору, как он считает, по многим, если не по всем, вопросам.
Тема влияния на Страхова философии Гегеля рассматривается в
большинстве посвященных ему философских работ, однако степень его верности
философской системе Гегеля оценивается по-разному. Например, Э. Л. Радлов
считает его приверженцем не столько философии Гегеля, сколько всей
классической немецкой идеалистической философии: «...связь между мышлением
Н. Н. Страхова и гегелевской философией многообразная, но не слишком тесная.
Н. Н. Страхов видел в Гегеле завершение, объединение всего философского
движения, в диалектическом методе он видел попытку систематизации
априорных элементов мышления, наконец, по основному настроению, по стремлению
сочетать религиозный мистический элемент со строгой теорией, с разумом
у Страхова было много общего с Гегелем, вот почему он мог себя называть
гегелианцем, нам же следует считать его приверженцем немецкой
идеалистической философии вообще, а не гегелианцем в специальности»19.
Алексей И. Введенский также полагал, что Страхов находился, «может
быть, не столько под влиянием Гегеля, как это принято думать и говорить,
сколько под влиянием Фихте и Канта с его учением о „ноуменах"»20.
17 Лавров П. Ответ г. Страхову // Отеч. зап. 1860. [Т. 133]. Дек. Отд. II. С. 101-112. То же:
Лавров П. Л. Философия и социология: избранные произведения: в 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 493-507.
18 Чижевский Д. И. Гегель в России. Париж, 1949. С. 266-283 (то же: СПб., 2007. С. 301-321).
19 Радлов Э. Несколько замечаний о философии Н. Н. Страхова // ЖМНП. 1896. Ч. 305,
№ 6. С. 354.
20 Введенский Алексей, проф. Общий смысл философии Н. Н. Страхова. М., 1897. С. 25.
161
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$>
Автор нескольких важных работ о Страхове Б. В. Никольский в одной из
своих статей-некрологов 1896 г. также возражал относительно приверженности
Страхова философии Гегеля: «Весьма распространено у нас в обществе мнение
о том, что Страхов был гегельянцем; надо заметить, что сам он дал в некоторых
местах своих сочинений косвенный повод к подобным утверждениям. Тем не
менее, бесспорно, это положение ошибочно. Диалектический метод не
составляет специального изобретения или создания Гегеля, который лишь выяснил
и установил основные его особенности. Принимая метод за признак гегельянства,
пришлось бы провозгласить гегельянцами почти всех мыслителей, живших
и до и после Гегеля. Равным образом и тот пантеизм, который усматривали во
многих положениях Страхова (...) отнюдь не может считаться достаточным
основанием для причисления Страхова к школе великого диалектика. Наконец,
самая сверх-рационалистичность мировоззрения Страхова коренным образом
обособляет его от Гегеля с учениками»21.
Судя по интереснейшим письмам Страхова к Данилевскому (ответные
письма, увы, не сохранились), философия Гегеля в книге «Мир как целое»
была одной из тем острых споров автора книги с другом. Этот спор включал
широкий круг философских вопросов, в том числе и разногласия по темам
центрального положения человека во вселенной и атомистическую теорию
строения вещества. К сожалению, мы, вероятно, никогда не узнаем в деталях
содержание этой важнейшей для истории философии полемики из-за
невозможности составить полное представление о взглядах Данилевского, которого
сам Страхов считал преимущественно натуралистом, не преуспевшим, к его
сожалению, в вопросах философии.
Страхов заявлял в предисловии к книге: «Человек — вот величайшая
загадка, узел мироздания»22. Однако он отмечал при этом, что центральное
положение человека оспаривают натуралисты, придерживающиеся
материалистических или позитивистских взглядов. Он объясняет их вражду против
главенства человека в мире тем, что они полагают центр в другом месте.
Судя по ответу Страхова на неизвестное письмо Данилевского, автор
«России и Европы» критически отозвался о гегельянской концепции книги
«Мир как целое». Защищаясь от упреков Данилевского, Страхов писал ему
в ответ: «Вы неправильно обвиняете меня, что я человекопоклонник, признаю
das Werden [бытие], den Geist [дух], диалектический процесс и проч. и проч.
Ни о чем подобном в книге нет ни одного слова. В том-то и штука, что учение
Гегеля, над которым вы так ругаетесь, и метода Гегеля — две вещи различные,
и что если возможно отделиться от учения, то от методы невозможно.
Что-нибудь из двух: или эта метода, или голый эмпиризм; всё среднее есть незаконная
помесь, уродство, недомыслие. Логические приемы Гегеля проникли повсюду, во
21 Никольский Б. Памяти Н. Н. Страхова // Рус. вестник. 1896. Март. С. 241-242.
22 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 70.
162
Глава 5. Органическая философия понимания
все науки, во все литературы, в газеты и в детские книжки, они есть и в вашей
„России и Европе", они тот воздух, которым мы дышим. Хорошо ли ругаться
над ними, употребляя их на каждой странице? Учение Гегеля — другое дело.
Вы знаете, что оно имеет тысячу видов, что оно служит опорою самым
противоположным взглядам. Эта неопределенность погубила его. (...) я вовсе не
обоготворяю человека, а говорю только, что он хотя и жалкая вещь, но самое
сложное и центральное явление. (...) Гегель обоготворил человека; я вовсе его
не обоготворяю и только показываю, в чем вся штука: в невозможности умом
перескочить эту границу»23.
Видно, что несогласие Данилевского с книгой Страхова простирается
и на другие его концептуальные установки: тему центрального положения
человека в мире (за нее Данилевский в шутку называет философию
Страхова «антрополатрией», или человекопоклонством), а также тему «жителей
планет», в существовании которых Данилевский, судя по реакции Страхова,
не сомневался — за что и получил от оппонента, тоже в шутку, прозвище
«космолатра».
Страхов, решительно не соглашаясь с упреком, переходит в контратаку:
«Вы веруете в жителей планет, уверяю вас, что это чистое идолопоклонство.
Нужно верить в Бога и его ангелов, пред которыми дрянь все планетные
жители, так что и думать о них не стоит. Но все нынче стали космолатры (вот
вам за антрополатрию), поклоняются воображаемым существам, забывая об
истинных чистых духах. Своим рассуждением я только это и хотел сказать,
что мы напрасно тешим свое воображение, что следует восхищаться не миром,
а искать чего-нибудь выше. В мире нет ничего чудеснее того, что мы знаем,
и человек не ниже никакого мирского существа, а так как человек дрянь,
а мир хорош лишь настолько, насколько обладает криптомериями и
акациями, чудеснее в нем ничего нет, то и не следует предаваться мечтам в этом
направлении»24.
Тут совершенно очевидно, что Страхов противопоставляет поиску
научных или инопланетных «чудес» веру в Бога, а человек для него «чудо» именно
потому, что он сотворен по образу и подобию Божию. Страхов, по обыкновению,
просто не раскрывает до конца свои религиозные взгляды, и читатель должен
это домысливать сам — именно в этом, возможно, и состоит авторский замысел
Страхова.
В этот период, после книги «Мир как целое», Страхов прямо отрекается
от былого предмета своего поклонения: «Уже давно, бесценный Николай
Яковлевич, я не поклонник Гегеля, но, ей-Богу, прогресс человечества будет очень
плох, если подобные умы будут презираться и забываться». Более того,
освобождается Страхов и от пантеистического влияния гегельянства: «В заключение
23 Рус. вестник. 1901. Янв. С. 127-128.
24 Там же. С. 128.
163
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
скажу, что вполне оправдаться мне трудно; в книге действительно есть следы
пантеизма»25.
* * *
Итак, вопрос с Гегелем более или менее прояснен. Теперь нам пора
перейти к другой важнейшей и пока недостаточно усвоенной философской теме
книги «Мир как целое» — метафизике человека как центра вселенной, увязанной
Страховым в письме к Данилевскому с вопросом о «жителях планет»
(научный аспект проблемы подробнее рассмотрен нами в главе «Наука в биографии
и трудах Страхова»).
Страхов воспринимал мир как органическое единство, все части
которого находятся во взаимной зависимости, а в центре располагается человек.
В предисловии к книге «Мир как целое» Страхов дал сжатую формулу
своего понимания мироустройства: «Мир есть стройное целое, или, как говорят,
гармоническое, органическое целое. То есть части и явления мира не просто
связаны, а соподчинены, представляют правильную лестницу, пирамиду, всего
лучше сказать, — иерархию существ и явлений. Мир, как организм, имеет
части менее важные и более важные, высшие и низшие (...) Мир есть целое,
имеющее центр, именно, он есть сфера, средоточие которого составляет
человек. Человек есть вершина бытия, узел бытия. В нем заключается величайшая
загадка и величайшее чудо мироздания. Он занимает центральное место по
всем направлениям связей, соединяющих мир в одно целое; он есть главная
сущность, и главное явление, и главный орган мира»26.
Страхов снова и снова подчеркивает, что главное в его книге — не картина
мира, а анализ явлений природы и учений естественных наук, показывающий
правильность идеи, что мир есть целое. Но целостное восприятие мира, как
правило, предполагает религиозное восприятие действительности.
Первое «Письмо об органической жизни» — одно из тех сочинений
Страхова, которые печатались частично под совсем не философским названием
«Физиологические письма» в еженедельнике «Русский мир» и привлекли внимание
Григорьева и, вероятно, Каткова, имеет заглавие «Человек есть животное». Ставя
так вопрос, Страхов сразу задает острый интерес к теме: он осознает, что такое
материалистическое и вполне научное мнение естествоиспытателей
противостоит мнению обычных людей. Это утверждение естественных наук, отмечает
Страхов, привычно для натуралистов, которые «совершенно хладнокровно
в своих списках ставят человека рядом с животными, возле орангутанга» (тут
явный намек на дарвинизм и «происхождение видов»). Однако оно почему-то
неприятно для «непосвященных». Для простых обывателей в животности человека
25 Рус. вестник. 1901. Янв. С. 108.
26 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 67.
164
Глава 5. Органическая философия понимания
»
есть что-то удивительное, какая-то загадка, тайна природы. Если для ученых
человек есть первое между животными, то остальные, не специалисты,
привыкли думать, что человек — вовсе не животное. Сравнив с этой точки зрения
анатомию человека и лошади, Страхов обнаруживает между ними большое
сходство и делает вывод, что «в вещественном отношении человек есть вполне
животное». Более того, даже в душевных проявлениях животные, оказывается,
сродни человеку, подтверждая тем самым, что человек относится к животному
царству. Хотя, как отмечает Страхов, и мозг человека больше, чем у других
животных, и есть много других признаков, по которым человек превосходит
других животных, но «и первое животное есть всё же животное»27.
Свою оригинальную концепцию человека Страхов разворачивает
постепенно. Он не переходит сразу к главному отличию человека от животного, но
сначала подчеркивает органическую природу животного и показывает отличия
органического и неорганического мира. Из круговорота органических свойств
рождения, размножения, старения и смерти Страхов выводит важнейшее для
его органической философии понятие «жизнь». Но тело человека, «царя
природы», отмечает Страхов, так же состоит из вещества, как и все тела природы.
И вот, казалось бы, приходит время главного тезиса: «Человек
отличается от животных своей духовной природой...»28 Но далее, на протяжении
нескольких глав, Страхов делает большое отступление, посвященное критике
механистического мировоззрения материализма и раскрытию понятия
мировоззрения органического. Только в 9-й главе Страхов возвращается к теме
человека, задаваясь вечными философскими вопросами: «что он — добр или
зол, глуп или умен, ничтожен или велик, тело или дух? Каковы нравы и обычаи
у этого животного?». И делает вывод, что человек есть самое неопределенное
из всех существ и именно это составляет его главную особенность. «Человек
весь в возможности»29, потому что «человек есть существо наиболее зависимое
и наиболее самостоятельное в целом мире»30. Анализ Страхова своеобразен
тем, что он опирается на глубокое естественно-научное знание конкретного
животного и физического мира, но в своих общих выводах исходит из
философских понятий идеализма.
Страхов находит отличие человека от животного в том, что человек ко
всему проявляет интерес. Например, животному нет дела до звезд, а
человек мысленно следит за движением звезд. Волнует его и то, что находится за
видимыми нам звездами и есть ли счет звездам, и, наконец, есть ли границы
у мироздания. Всё имеет на человека влияние, всё его занимает и тревожит. Он
изучает историю, находит в земле следы прошлой жизни и интересуется, где
27 Там же. С. 86.
28 Там же. С. 115.
29 Там же. С. 195.
30 Там же. С. 197.
165
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
начало мира. «Итак, всё, и настоящее, и прошедшее, и даже будущее,
неодолимо увлекает человека (...) Он представляет собою какой-то центр, к которому
сходятся все лучи мироздания, все влияния, какие только есть в мире»31.
Страхов искусно вводит читателя в интереснейший мир, с которым тот,
казалось бы, близко знаком, но этот мир живой и неживой природы предстает
перед ним в таком необычном виде, что ему открывается тайна органической
взаимосвязи всех жизненных явлений и особое место в ней человека,
наделенного сознанием. Страхов делает такой вывод об особенной сущности человека:
«Итак, если человек есть центр всех влияний, то только потому, что он сам,
самостоятельно, самобытно стремится стать в центр мира; если человек всё
переносит, то только потому, что может всё обнять, стать выше всего, что думает
покорить его»32. «Мир для человека есть та сфера, которая озарена светом его
сознания»33.
Последнее, 9-е письмо, в котором Страхов решил сопроводить человека по
жизни от детства до зрелости, может не вполне удовлетворить читателя,
оставляя впечатление некоторой произвольности выбора жизненных вех человека.
Но два последующих раздела книги — «Жители планет» и «Об
атомистической теории вещества» — снова придают ей глубоко философский характер.
Эти темы, очень интересные не только в естественно-научном, но и в
философском отношении, подробно рассматриваются в главе «Наука в биографии и
трудах Страхова». Обратим здесь наше внимание лишь на философскую сторону
вопросов, связанных с темой человека и в какой-то степени продолжающих
размышления «Писем о жизни».
Показателен сам весьма неординарный способ мышления Страхова. Он
нередко использует довольно необычные способы доказательств философских
проблем, в данном случае — теорию предела, возможно взятую им из биологии
или даже из математики, которую он также глубоко изучал. Страхов предлагает
рассматривать человека как предел, к которому стремится органическая природа
вообще или животная в частности. Некоторые черты достижения предела можно
заметить в строении человеческого тела: человек в механическом отношении
достигает телом известной предельной формы. Например, он ходит на двух
ногах, что представляет собой самый совершенный род его движения. Подобные
же наблюдения Страхов делает над позвоночным столбом человека, его лицом,
находящимся на одной линии с черепом и мозгом, и задается вопросом: не
представляет ли человек собой самое совершенное механическое устройство,
какое только возможно для животного на земле?
Весьма неожиданно, наряду с философскими и биологическими
аргументами, Страхов прибегает и к эстетическому критерию: «...несравненная
31 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 199.
32 Там же. С. 200.
33 Там же. С. 201.
166
Глава 5. Органическая философия понимания
—■$>
красота человеческого тела составляет признак, бесконечно отдаляющий
человека от самой близкой к нему обезьяны. Если в одном лишь человеке могла
проявиться эта божественная красота, то он уже этим стоит выше всякого
животного царства»34.
Что касается органического мира, то можно представить, рассуждает
Страхов, что человек в отношении к другим организмам составляет то же,
что нервная система в отношении к другим системам нашего тела. Или же мы
можем представить себе, что человек в отношении к животному царству
представляет то же самое, что голова в отношении к остальному телу. В таком случае
человек точно так же будет пределом организмов, но только не механическим,
а органическим пределом.
Наконец, Страхов снова доходит до мыслящего человека: «Человек —
мыслит, таково старинное мнение об этом ответвлении, свойственном одному
человеку в целой природе»35. Но на этом, к сожалению, автор снова
останавливается и не идет дальше...
***
Итак, в книге «Мир как целое» человек — центр и вершина природного
мира, узел мироздания и в то же время его величайшая загадка. Но Страхов,
по обыкновению, не договаривает своей концепции до окончательного вывода
и скромно рассматривает свою задачу лишь как «точную постановку вопроса».
Из-за этой недосказанности Страхова его антропоцентризм может быть
в какой-то степени интерпретирован в духе ренессансного гуманизма и даже
сопоставлен с «антропологическим принципом» Чернышевского (об этом
сугубо материалистическом учении см., например, статью П. Лаврова
«Антропологическое учение Чернышевского»). Однако если «антропологический
принцип» Чернышевского представлял собой расширительное
материалистическое толкование понятия «антропология», при котором духовная
сторона человека подавалась как единое целое с данными естественных наук
о человеческом организме, то Страхов, который уделял особое внимание
разграничению понятий и терминов наук, был противником такого смешения
духовной и физической сфер.
На самом деле установка Страхова была противоположна
материалистической: он хотел показать отличие человека мыслящего, имеющего сознание, от
всей остальной природы, при том что он имеет такую же животную природу,
как и все организмы. Человек является неотъемлемой частью природы и в то
же время ее высшим явлением как творение «по образу и подобию Божию».
Именно этих или подобных слов вы не найдете в книге «Мир как целое», хотя
34 Там же. С. 308.
35 Там же. С. 309.
167
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
этот смысл явно подразумевается Страховым. Подтверждения такого
религиозного подтекста можно найти во многих других сочинениях философа.
Однако ввиду того что Страхов не говорит прямо о религиозной стороне
своих воззрений на человека, возникает естественное сомнение в существенном
отличии его концепции от взглядов Чернышевского и других материалистов.
Данилевский, судя по ответному письму Страхова, по этой причине даже осудил
точку зрения друга, сказав, что его книга «хуже нигилистов».
Пытаясь оправдаться перед Данилевским, Страхов всё же признал, что
в этой книге он еще находился под влиянием философии Гегеля и его
пантеизма. Однако важнее то, что его взгляды, как заявлено им в письме, написанном
в 1873 г., со времен написания составивших книгу статей значительно
изменились и он перестал всецело исповедовать Гегеля.
* * *
Под сенью гегелевской философской системы Страхов пребывал довольно
долго, пока под влиянием критики самых разных мыслителей (от М. Н. Каткова
до Н. Я. Данилевского) не отошел от нее, оставшись верным лишь
гегелевскому диалектическому методу да идеализму, характерному, впрочем, для всей
немецкой классической философии.
По мнению Э. Л. Радлова, который всех философов делит на «философов-
критиков, аналитиков» и «философов-строителей или синтетиков»36, Страхова
следует отнести к первой группе, так как в его натуре «анализ значительно
преобладал над творчеством»37. Примером первой группы мыслителей, по
Радлову, являются скептики, второй — мистики. Страхова на самом деле трудно
отнести к «строителям», но он не был и чистым скептиком, сочетая в себе оба
эти элемента. С мнением Радлова, что философия служила Страхову
методологическим приемом для приобретения естественно-научных знаний, отчасти
можно согласиться, тем более что нечто подобное признавал и сам Страхов,
утверждая, что «метода науки есть философский взгляд, т.е. взгляд, известным
образом определенный и установленный философиею»38.
Однако вряд ли справедливо, особенно для позднего периода, утверждение
Радлова о предпочтении Страховым рационального знания естественных наук
метафизическому философскому познанию. Радлов писал: «Он начал с
естествознания и от него перешел к философии, причем идеалом знания для него
все-таки оставалось естествознание. Он дорожил более всего всесторонним
оправданием некоторых простейших законов физики, в истинности которых он
не сомневался, понимая их чисто рационалистически. Философия ему служила
36 Радлов Э. Несколько замечаний о философии Страхова. С. 343.
37 Там же. С. 341.
38 Страхов. О методе естественных наук. С. IX.
168
Глава 5. Органическая философия понимания
—■$>
скорее методологическим приемом, как орудие оправдания
естественно-научных истин»39. Это утверждение хочется оспорить. Хотя Страхов и продолжал
опираться на естественные науки в своих сочинениях, в зрелый период он
неоднократно писал, что рациональное знание, которое дают естественные науки,
ограничено в своих возможностях и имеет четкие пределы.
В попытке Радлова свести философию Страхова к утилитарному
рационализму науки прослеживается определенная перекличка с критическими
оценками Вл. Соловьева, друга Радлова. Соловьев заявил о «механистическом
рационализме» Страхова в период, когда тот только и делал, что боролся с
механистическим мировосприятием позитивизма, распространенным в том числе
и среди ученых. Страхов недвусмысленно писал Розанову в 1890 г. о своем
«внутреннем выходе из рационализма»40. Тем не менее современный автор, едва
ли не лучший знаток и толкователь философских идей Страхова, Н. П. Ильин
категорично заявляет, вполне в духе Радлова: «Подчеркну: что бы ни писали
о Страхове те или иные исследователи, он остался рационалистом — в простом
и основном смысле этого слова—до конца жизни»41.
В период выхода в свет первого издания книги «Мир как целое» (1872)
Страхов еще действительно целиком находится под обаянием гегелевского
универсализма. Однако позже он отстраняется от пантеистической философии
Гегеля, о чем сам неоднократно заявляет. Эти изменения в мировоззрении
Страхова наиболее существенно отразились в его книгах «Об основных понятиях
психологии и физиологии» (1886) и «О вечных истинах» (1887).
Радлов, как и многие другие исследователи, подчеркивает отсутствие во
взглядах Страхова определенной системы. Он считает, что цельное
миросозерцание из трудов Страхова вывести трудно. Хотя Радлов находит у философа
некоторые предпосылки системы «с оттенком идеалистического пантеизма»42,
но признает, что из трудов Страхова нельзя извлечь достаточное количество
данных для того, чтобы воспроизвести его подлинное мировоззрение.
Критики отмечали, что Страхов сочетал в своих воззрениях различные
и труднопримиримые «симпатии»: славянофильство — и явный интерес к
западной мысли, любовь к естественным наукам — и религиозно-мистические
интересы, а также безмерное уважение одновременно к консервативной философии
Н.Я.Данилевского — и к оппозиционной к Церкви религиозной публицистике
Толстого. Это позволяло некоторым критикам называть его эклектиком.
Алексей И. Введенский, профессор Московской духовной академии и
популярный журналист (под псевдонимом М. Басаргин), так выразил основное
противоречие философских воззрений Страхова: «На вопрос: к какой школе
39 Радлов Э. Несколько замечаний о философии Страхова. С. 343-344.
40 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 70.
41 Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М., 2008. С. 440.
42 Радлов Э. Несколько замечаний о философии Страхова. С. 344.
169
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
принадлежал Н. Н. Страхов? — каждый знакомый с его сочинениями без
затруднения ответит: он был последователем Гегеля, то есть рационалистом.
На другой вопрос: против чего собственно ратовал Н. Н. Страхов, на что были
особенно направлены его нападки? всякий, и опять-таки без затруднения,
ответит: на рационализм, с которым действительно Н. Н. Страхов, так сказать,
вел постоянные счеты, — особенно в последние годы»43.
Вся последующая работа мысли Страхова, как указывает Алексей И.
Введенский, «есть стремление найти именно этот выход за пределы мертвящего
рационализма, в область живой и высшей действительности»44.
* * *
Главным в философии, судя по письму к Толстому, Страхов считал метод:
«Посылаю Вам свои „Философские очерки". Дело в них идет не о деле, а все
больше о методе, как и подобает философской книге»45.
Методологии посвящена одна из наиболее необычных статей в посланной
Толстому книге — «О задачах истории философии». Страхов излагает в ней
свои мысли о том, как следует писать книги по истории философии.
Вопреки установившемуся мнению, написание учебников по истории философии
Страхов считает одной из труднейших задач. Для этого необходимо не только
хорошее знание предмета, но и мастерство изложения, выполнение требований
полноты и в то же время краткости и точности. Учебники и учебные пособия,
считает Страхов, должны писать самые опытные специалисты, однако их
чаще пишут неопытные преподаватели, считая этот вид философской работы
самым легким.
Всесторонне рассмотрев вопрос о том, какие сложности могут встретиться
при написании учебных книг, Страхов переходит к критике недостатков двух
книг некоего Н. Страхова. И тут читатель догадывается, что у автора рецензии,
кроме методической, имелась еще одна побочная цель: показать своим
читателям, что существует еще один Н. Н. Страхов (1852-1928), гораздо более молодой
историк философии Харьковской семинарии, полный тезка петербургского
философа. Хитроумный прием Страхова-старшего позволил предостеречь
историков философии от опасности приписать работы одного автора другому.
Но даже эта мера предосторожности не всегда помогает: уже в наши дни
авторы в некоторых работах, посвященных «старшему» Н. Н. Страхову, приводили
ошибочные ссылки на богословские труды его младшего харьковского коллеги
с выводами, искажающими общую картину воззрений и творческого наследия
философа.
43 Введенский Алексей, проф. Общий смысл философии Н. Н. Страхова. С. 2.
44 Там же. С. 3.
45 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 977.
170
Глава 5. Органическая философия понимания
* * *
Основные вопросы, поднимаемые и раскрываемые Страховым,
определил Б. В. Никольский в его некрологе. Он называет такие темы: сущность
мира и человека в мире, возможность и задачи самобытного русского
просвещения в его отношении к западноевропейской культуре, основные проблемы
русской художественной литературы, значение философии в просвещении
и выработке правильных научных методов, вопросы естествознания с точки
зрения философии.
Многие сочинения Страхова находятся на стыке науки и философии («Мир
как целое», «Об основных понятиях психологии и физиологии», «О вечных
истинах» и др.). Его можно было бы назвать философом науки. Он строит свои
доказательства подобно ученому, ищущему научную истину. Как естественник
по образованию, он рассматривает материальный мир, но, что важно, трактует
его идеалистически. В этом его существенное отличие от обычной утилитарной
науки. Его увлекало неясное, не до конца определенное, например темные
места в психологии, науке, которая рассматривает явления на стыке физического
и идеального мира.
Страхов осознает ограниченность позитивной науки и вместо
эмпирического метода предлагает философское осмысление научных проблем. По
мнению Страхова, философские положения, лежащие в основании научного
исследования, зачастую определяют характер выводов, которые делает ученый.
Страхов был убежден, что науки движутся и развиваются под влиянием идей,
хотя большинство ученых, расположенных поддерживать авторитет своей
науки, склонно полагать, наоборот, что «науки суть источник тех идей, которые
в них проповедуются»46.
Одна из страховских тем, относящихся как к философии, так и к
науке, — тема атомистического строения вещества. Страхов блестяще изложил
философские обоснования ложности атомизма в период, когда теория атомного
строения вещества доминировала в умах его ученых современников. Для него
это был такой оселок, на котором он проявлял философский характер ума своих
собеседников.
Огромное значение имела борьба Страхова против дарвинизма. Осознав,
что учение Дарвина не ограничивается пределами естественных наук, а
представляет собой атеистическую философскую теорию, объясняющую мир без
Бога, он отдал много сил не только ее опровержению, но и распространению
книги «Дарвинизм» своего друга Н. Я. Данилевского, опровергающей это
ложное учение.
46 Страхов Н. О развитии организмов // Природа: Популярный естественно-научный
сборник. 1874. Кн. 1.С. 3.
171
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
Чрезвычайно важна и актуальна трактовка Страховым темы обитаемого
космоса, которая в настоящее время еще больше будоражит умы, так как не
только возникла технократическая, с элементами оккультного мистицизма
«философия космизма», но и началось практическое освоение космического
пространства. Эта тема едва ли не впервые была критически поднята в России
еще в ранней статье Страхова «Жители планет».
Конечно, теория Страхова разрушает вековечную мечту человека о
заселенном неведомыми существами космосе, воплощенную в грандиозном
духовно-материалистическом мечтательном «проекте» Николая Федорова.
С середины XX в. человечество тратит на освоение космоса огромные деньги,
и если впоследствии окажется, что идеалистическая основа этого вполне
прагматического проекта окажется ложной, то человечество постигнет огромное
разочарование и новый всплеск духовного нигилизма.
Во всяком случае, «осторожный» Страхов своим научным скептицизмом
приоткрыл завесу над одной из главных тайн вселенной, и эта его философская
гипотеза несколько ослабляет упор на ожидание сказочных результатов от
реализации давней мечты человечества. Вместо придуманных чудес он призывает
человечество довольствоваться таким чудом, как сам человек и его внутренний
мир, не мечтать о переселении на другие планеты, а бережно относиться к своей
собственной. В этом «экологическом» предупреждении, по всей видимости, —
предназначение статьи: она может быть по-своему полезна, чтобы несколько
охладить пыл энтузиастов одного из главных направлений технократического
«прогрессизма», ведущего современное человечество к неведомой и, возможно,
ошибочной, тупиковой цели. Чрезвычайно смелая в научном отношении
гипотеза Страхова скорее способствует повороту человеческой мысли к исканию во
вселенной не инопланетян, а ее подлинного создателя, Бога. Эта скептическая
гипотеза о том, что огромные усилия, потраченные человечеством на освоение
космоса в поисках иных цивилизаций, могут оказаться в духовном смысле
бесполезными, сопоставима по своему ультраконсервативному, антипрогрессист-
скому духу с известным рассуждением архиепископа Никанора (Бровковича)
и философа К. Н. Леонтьева о вреде железных дорог.
Страхов опирается в своем доказательстве на весьма смелые, причем
скорее именно философские, чем научные, основания. Он применяет здесь
тот же метод выхода за грань научного доказательства к философскому
обобщению, по существу близкий системе аргументов, использованных им при
доказательстве ложности атомизма, дарвинизма и спиритизма. Он исходит из
данных науки, соединенных с идеалистическими философскими суждениями.
Согласно антропоцентрической теории Страхова, человек как существо
мыслящее является вершиной творения. И следовательно, по его мнению, не может
172
Глава 5. Органическая философия понимания
быть «инопланетян» как представителей более развитых, более совершенных
цивилизаций, привнесших нам, согласно известным учениям, достижения
науки и техники, которые не могли возникнуть сами по себе в земной жизни,
особенно на ранней стадии цивилизации. Эти существа издавна
присутствуют в фантазиях человечества, и ряд их описан самим Страховым в его статье
«О жителях планет».
В конце концов, если даже и существуют инопланетяне, для нас более
важным является вопрос о первопричине бытия, о Боге: ведь и инопланетян,
если они существуют, сотворил не кто иной, как Создатель. И нет никаких
причин считать, что на них не распространяются те физические законы, которые
установлены для Вселенной свыше.
Во всяком случае, Страхов имеет смелость опровергать еще одну гипотезу,
позволившую тем серьезным ученым, которые не могли признать убедительной
материалистическую теорию «случайного» самозарождения Вселенной, найти
очередное, пусть и весьма шаткое, но вполне «научное», то есть
материалистическое, обоснование устройства мира без Бога.
У Страхова человек — центр и вершина природного мира. Страхов, по
обыкновению, не договаривает своей целостной системы, и антропологизм
Страхова может быть в какой-то степени интерпретирован как антропоцентризм
в духе ренессансного гуманизма и даже антропоцентризма Чернышевского. На
самом деле несомненно, что Страхов хотел показать отличие человека
мыслящего, имеющего сознание, от всей остальной природы.
Интересные размышления о природе антропоцентризма можно найти
в книге Н. А. Бердяева «Смысл творчества» (глава 2. Человек. Микрокосм и
макрокосм). Он пишет: «Само сознание человека как центра мира, в себе таящего
разгадку мира и возвышающегося над всеми вещами мира, есть предпосылка
всякой философии, без которой нельзя дерзать философствовать. (...)
Познание человека покоится на предположении, что человек — космичен по своей
природе, что он — центр бытия»47.
Однако Бердяев предупреждает и об опасности такого
антропоцентрического подхода. Он считал, что неразработанность темы ценности человека
в христианстве приводит к атеистическому, гуманистическому
антропоцентризму. Попытка гуманизма поставить человека на место Бога есть философское
воплощение позитивизма.
Именно из-за обычного стремления Страхова держаться в пределах лишь
науки, без прямых религиозных выводов, книга «Мир как целое» и вызвала
резкое неприятие друга Страхова Н. Я. Данилевского. Однако совершенно очевидно,
что сам Страхов склонялся к религиозной идее человека как образа Божия.
Это убедительно подтверждает в своих исследованиях историк философии
47 Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 1916. С. 52.
173
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
и богослов Н. К. Гаврюшин в работах, собранных в книге «У колыбели смыслов.
Статьи разных лет» (М., 2019), и других трудах.
В истории русской философии было немало споров о том, как же можно
все-таки определить философское миросозерцание Страхова. В связи с тем
что определенной философской системы Страхов не создал, и сделал это
сознательно, дабы не связывать формально между собой отдельные части своих
воззрений, его философию называли по-разному. На первом этапе его взгляды,
несомненно, примыкали к гегельянству, и он открыто выражал свою
приверженность гегелевской философии. Но ввиду того что во второй половине своего
творческого пути Страхов неоднократно категорически отрекался от
гегельянства как философской системы, то ограничивать определение его философии
рамками гегельянства было бы неточно и несправедливо. Страхов все-таки
эпигоном гегельянства не был, несмотря на то что до конца дней признавал
свою верность диалектическому методу, разработанному Гегелем.
Философию Страхова часто связывают с направлением «философской
антропологии», и, казалось бы, для этого есть определённые основания, так как
Страхов ставит человека в центр мира. Но тема о человеке характерна вообще
для русской философии. В. В. Зеньковский, например, делает такое обобщение:
«Если уж нужно давать какие-либо общие характеристики русской философии
(...) то я бы на первый план выдвинул антропоцентризм русских философских
исканий. (...) Она больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях,
о смысле и целях истории»48. Тут соприкасаются разные до противоположности
философские учения — от материалистического антропологизма Чернышевского
до идеалистического антропоцентризма Страхова.
Е. А. Антонов, автор одной из первых современных книг, посвященных
философии Страхова, дает ей название «Антропоцентрическая философия
Н. Н. Страхова как мыслителя переходной эпохи». Философия Страхова
действительно антропоцентрична, однако антропоцентризм, как мы уже отметили,
бывает двух очень отличающихся друг от друга видов. Поэтому такое
определение не вполне отделяет мировоззрение философа-идеалиста Страхова от
материалистической философии Н. Г. Чернышевского и других мыслителей
гуманистического направления. Впрочем, при чтении книги Антонова
создается впечатление, что эта обманчивая близость двух борющихся между собой
направлений не смущает историка философии, и, более того, он вообще готов
отнести Страхова к последователям ренессансного гуманизма. Исследователь
пишет: «Философия Страхова, подобно ренессансной философии, является
4К Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Т. 1, ч. 1. С. 16.
174
Глава 5. Органическая философия понимания
—■$>
антропоцентрической. В ней можно выделить антропоцентрическую
космологию, гносеологию, философскую антропологию и философию истории»49.
Антропоцентризм Страхова, считает Антонов, «базируется на высших
гуманистических его спектрах, в центре которого находилась идея достоинства
человека»50. Антонов противопоставляет гуманистический пафос философии
Возрождения «просвещенству», однако, как это хорошо показано А. Ф.
Лосевым в книге «Эстетика Возрождения», принципы, характерные для философии
европейского Просвещения, восходят к идеям Ренессанса. В то же время
Антонов признает и то, что отнесение философии Страхова к этому
гуманистическому направлению слишком сближает его с идейно чуждыми философскими
системами. Он вносит такую поправку в собственное определение: «В ней
подвергались критической рефлексии утилитарные стороны философского
антропологизма, проявившиеся как в Западной Европе, так и в России. Этим
отличается философия Страхова от эгоизма, преобладания рассудка и здравого
смысла, характерных для философов французского Просвещения и российского
„просвещенства"»51. Под «просвещенством» Антонов, несомненно, имеет в виду
философию так называемого революционно-демократического направления,
представители которого были основными идейными противниками Страхова.
Материалистические взгляды Чернышевского, Добролюбова, Писарева и других
мыслителей этого направления, которых Страхов неизменно называл
«нигилистами», в советское время противопоставлялись «реакционным» воззрениям
Страхова, что служило обоснованием для вытеснения его творчества из
философского наследия. Поэтому определение «антропоцентризм», правомочное по
отношению к Страхову в фактическом отношении, вряд ли может без уточнения
(такого как, например, «религиозный антропоцентризм») использоваться в
качестве определения его миросозерцания.
Другим популярным определением философских взглядов Страхова
в последние годы стала «философская антропология». Это пришедшее с Запада
название целой научной области, означающее «науку о человеке», ничего, по
сути дела, не определяет и не уточняет, по той простой причине, что изучением
человека в той или иной степени занимается вся философия. Н. П. Ильин в
своем очень содержательном и глубоком предисловии к изданию книги «Мир как
целое» (2007) рассматривает Страхова как одного из «подлинных
основоположников философской антропологии»52. Прекрасно, что автор полузабытого
учеными и философами труда получает заслуженное, хотя и запоздалое, признание,
становясь одним из первых в европейской мысли «духовных антропологов».
49 Антонов Е. А. Антропоцентрическая философия Н. Н. Страхова как мыслителя
переходной эпохи. Белгород, 2007. С. 157.
50 Там же.
51 Там же.
52 Ильин Н. П. Последняя тайна природы: О книге «Мир как целое» и ее авторе //
Страхов. Мир как целое. 2007. С. 33-34.
175
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Однако, на наш взгляд, то, что Страхов в книге «Мир как целое» поставил
человека в центр вселенной и утверждал его высшее место в земной
цивилизации, вряд ли следует определять названием «философская антропология»,
так как духовная и физическая сферы в этом понятии соединены. Между тем
сам Страхов, как апологет «перегородочной философии» (по ироническому
определению ученого и сторонника спиритизма Н. Вагнера), возражал именно
против употребления термина «антропология» в философском смысле.
Страхов вообще очень щепетильно и внимательно относился к
употреблению терминологии и считал, что полемисты, прежде чем начать спор, должны
договориться об используемых в полемике понятиях. Одним из таких спорных
терминов является для него «антропология». Страхов был убежден, что
определения типа «духовная антропология», в которых сочетаются физические
и духовные элементы, не имеют права на существование.
Главный аргумент Страхова против апологетов спиритизма состоял именно
в том, что они смешивали духовное и физическое начала, опытное и априорное
знание. Страхов требовал от спиритов четкого разделения: если спиритические
явления относятся к естественным явлениям, то их и надо исследовать опытным
научным путем. «Но если спиритизм есть чудо, обнаружение
сверхъестественных сил, — то дело другое. (...) Мы все воспитаны в той мысли, что есть мир,
состоящий {так!) выше природы. Мы с детства не верили, и большею частию
не верим до сих пор, чтобы земная жизнь содержала весь смысл нашего
существования и чтобы всё бытие было так скудно и глухо, как то, что называется
вещественною природою. Итак, если спириты могут приподнять нам завесу,
закрывающую этот, высший мир, то они укрепят те верования»53. Из этого
пассажа со всей очевидностью вытекает, что Страхов отнюдь не отрицал чудеса,
как беззастенчиво утверждал Соловьев, а требовал лишь определиться, к какой
сфере принадлежат «факты», на которые ссылаются апологеты столоверчения.
Однако спириты, как убедительно показал Страхов, всячески избегают
разделения сфер эмпирических и сверхъестественных явлений. Такое же смешение
духовного и физического мира находит Страхов и в других областях знания.
По мнению Страхова, психология, наука о душе, не часть другой науки,
а наука самостоятельная. Точно так же и философия не смыкается с
антропологией в прежнем, классическом ее понимании. Антропология, по Страхову, — это
описательная прикладная наука о человеке типа анатомии или систематической
зоологии. А у нас теперь существует множество видов «антропологии» —
философская, духовная, культурная и какая угодно еще. Страхов действительно
отстаивал философский подход к проблеме человека с учетом достижений
естествознания, однако он был убежденным противником подобного смешения
физического и духовного начал. Толстой, например, в одном из яснополянских
53 Страхов Н. О вечных истинах: (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. 20.
176
Глава 5. Органическая философия понимания
разговоров отрекомендовал Страхова «как специалиста, умеющего показывать
черту между духовным и материальным»54.
Рассуждая об учебнике по психологии и логике И. Г. Дресслера, Страхов
дает образчик подлинно глубокого осмысления философских понятий и,
соответственно, терминологии, каковой в его внешне скучноватых сочинениях
великое множество.
Страхов пишет: «„Антропология, — говорит он (Дресслер. — В. Ф.), —
есть учение о человеке4'. Перевод с греческого верный, но беда в том, что такой
науки вовсе не существует на свете. Автор ее выдумал и свою выдумку внес
в учебник в соблазн мальчиков, которые получат таким образом ложные понятия
о деле. Есть наука, называемая антропологиею, но она нисколько не походит на
ту, которую выдумал г. Дресслер».
Таким образом, даже во времена Страхова на Западе уже практиковали
«философскую антропологию» в указанном значении, но нам важно
подчеркнуть, что Страхов эту терминологию не приемлет. Он поясняет причину:
«Настоящая, действительная антропология имеет предметом изучение всех
разностей, представляемых человеком на земном шаре, человеческих рас, племен,
народов и проч. Это наука, подобная систематической зоологии или ботанике
и употребляющая те же приемы (...) Наш же автор мечтает о науке, которой
возможности не предвидится: его антропология должна рассматривать человека
как целое, не разделяя души от тела, рассматривая их с общих точек зрения,
подводя под одинаковые понятия. Такой науки у нас нет и следов. Между тем
он смело пишет о ней как о чем-то действительно существующем»55.
Это методологически выверенное рассуждение одновременно философа
и естественника, думаю, будет небесполезно и для многочисленных «духовных
антропологов» нашего времени. Как бы ни были широко распространены сегодня
подобные термины, применение словосочетания «духовная антропология» по
отношению к философии Страхова вряд ли будет корректным.
* * *
Несомненно, ближе к выражению сути учения Страхова определение
«философия понимания». Это определение, которое вошло в название
коллективной монографии 2010 г.56 и может быть раскрыто как «постижение сущности
вещей»57, отвечает основным смысловым требованиям, однако не является
54 Лазурский В. Яснополянские посетители 1894 г. // Голос минувшего. 1914. № 3. С. 123;
Астафьев П. Е. Родовой грех философии // Русское обозрение. 1892. Т. 6, Ноябрь. С. 134-164.
55 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 254-263.
56 Н. Н. Страхов в диалогах с современниками: Философия как культура понимания.
СПб., 2010.
57 Страхов Н. О развитии организмов. С. 7.
177
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$»
достаточно конкретизирующим, о чем говорит хотя бы другой, несколько
искусственный вариант этого названия — «понимающая философия».
Страхов связывал культуру понимания с правильными приемами ведения
полемики. В статье «Нечто о полемике» («Время», 1861, авг.) он подчеркивал,
что настоящая полемика — борьба идей, взглядов, в то время как в обществе
торжествуют грубые полемические приемы для достижения победы в споре
кружков или партий. Наша полемика состоит обычно, отмечает Страхов, не
в понимании мыслей других, но в их искажении. Полемика идей гораздо
труднее и предполагает, по Страхову, два важных условия: «нужно понимать мысль
своего противника», более того — «нужно понять мысль противника лучше, чем
понимает ее сам противник; потому что нужно отвечать на эту мысль, судить
ее»58. Понимание, считает Страхов, «вообще есть дело страшно трудное». Люди
не только не понимают чужих мыслей, но не понимают и себя. «...Излишняя
самоуверенность в себе есть именно признак непонимания других»59.
К этому «принципу понимания» близок другой получивший широкое
распространение в постмодернистские времена западноевропейский термин —
«герменевтика», который активно применяется рядом философов к учению
Страхова (этот термин, обозначавший ранее искусство истолкования древних
текстов, в его философском значении можно перевести как «наука о понимании»).
Однако практическое приложение герменевтических принципов к истолкованию
миросозерцания Страхова обычно сводится к формальному изысканию случаев,
где к философии Страхова можно применить этот термин. Можно согласиться
с Н. П. Ильиным, отвергающим герменевтику как философскую традицию,
основанную на принципах позитивистской феноменологии, и потому
отдающим предпочтение понятию «философия понимания». Впрочем, предложенное
Е. Н. Мотовниковой понятие «герменевтические круги» для объяснения
«бессистемной» философии Страхова, свободно заимствовавшего нужные ему для
исследования в данный момент системы и методы, без абсолютизации значения
какой-либо из них, представляется перспективным для исследования методов
искания истины «всепонимающим философом».
Философию Страхова иногда называют также органической,
подразумевая под этим определением прежде всего ее тяготение к целостности. Отсюда
возник термин «органическая философия», или «органицизм», который, на наш
взгляд, больше всего подходит для определения философии Страхова. Термин
«органицизм» широко используется, например, Н. В. Снеговой в ее монографии
о Страхове. На наш взгляд, вполне допустим, кстати, и термин «философия
органического понимания», соединяющий сразу две важные особенности
философии Страхова.
58 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 42.
59 Там же. С. 43.
178
Глава 5. Органическая философия понимания
В том, что философия Страхова базируется на органических началах,
нет сомнений. Эти начала у Страхова восходят в той же мере к Ап. Григорьеву
с его «органической критикой», в какой и к Гегелю. Точнее будет сказать, что
их воззрения восходят к единому источнику — немецкому идеализму, хотя сам
Григорьев, конечно, в большей степени испытал влияние Шеллинга.
Страхов подробно излагает свои органические взгляды в статье
«Органические категории», впервые опубликованной в «Журнале Министерства
народного просвещения» в 1861 г. Органические начала пронизывают книгу
«Мир как целое» и характерны для философии Страхова в целом.
Надо отметить, что известный философ XX в. Н. О. Лосский, автор книги
«Мир как органическое целое» (1917), использовал почти то же название, что
и Страхов, лишь слегка изменив его и при этом, надо признать, улучшив. Однако
он не пожелал признать свою явную зависимость от более раннего органициста.
Впрочем, несмотря на то что Лосский отрицал какое-либо влияние Страхова
и даже какую-либо связь с его идеями, исповедуемый Лосским интуитивизм,
или «мистический эмпиризм», который «особенно подчеркивает органическое,
живое единство мира»60, явно близок к «органицизму» воззрений Н. Н. Страхова,
особенно позднего периода его жизни.
Следует обратить внимание также на мнение о. Павла Флоренского,
который в письме к Розанову дал свою интересную интерпретацию органической
философии Страхова, связав с нею философские взгляды Розанова. Он писал
Розанову: «Кажется, и сами Вы не подозреваете, до какой степени „не даром"
Вы со Страховым сдружились. (...) Общее Ваше — это общий угол зрения, под
которым Вы мыслите все существующее, общая категория мысли. Категория
эта — жизнь (fiioc). „ Организм " — вот что сплотило Розанова и Страхова, „
целесообразность " — вот что их устремило к одной мете. Это — положительная
основа. А отрицательная — полное непостижение духовной жизни (Zcor|),
дальтонизм к Вечности...»61 Важно, что Флоренский считает философию Страхова
органической и потому не признает ее рационалистической: «...разговоры
о рационализме Страхова, формально справедливые, мне представляются по
существу ложными, ибо „рационализм" Страхова в еще большей степени сказался
у Розанова в „О понимании", но как первая, периферическая попытка вскрытия
идеи целесообразности. Непременно, думается мне, если бы Н. Н. Страхов смог
развернуть ее, он перешел бы к иной, более глубокой целесообразности. Уже в
гегельянстве намечается выход из рационализма. А Страхов взял из гегельянства
именно эту, пограничную идею об органической связности»62. Выход «к более
глубокой целесообразности», то есть к христианской телеологии, у Страхова
уже намечался, хотя так и не обрел зримых очертаний.
60 Лосский Н. О. Избранное. М, 1991. С. 334.
61 Розанов. Литературные изгнанники. Кн. 2. 2010. С. 121-122.
62 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 58.
179
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$'
Остается рассмотреть кратко еще два связанных между собой по смыслу
варианта определения философии Страхова: «сверхрациональная философия» —
его применяет Б. В. Никольский — и философия «рационального мистицизма»,
о которой говорит Н. Я. Грот в своей статье «Памяти Н. Н. Страхова. К
характеристике его философского миросозерцания» (1896). Оба эти названия пытаются
дать определение тому новому направлению, которое вызревало в
мировоззрении Страхова в последние годы. Однако такая философия существует у него,
собственно, только в зародыше, хотя потенциально она особенно интересна как
направление, в котором могла бы развиваться мысль философа.
Уже в книге «Мир как целое» Страхов говорит о человеке как о
величайшей загадке. При этом люди упорно на протяжении всей истории человечества
не оставляют попыток отыскать в мире тайные силы, иррациональные явления.
Страхов писал, что источник недовольства людей науки рациональным
пониманием вещей кроется не в уме, а в каких-то других запросах души
человеческой. Он отмечает: «Человек почему-то враждует против рационализма, и эта
вражда упорно ведется всеми, спиритуалистами и материалистами, верующими
и скептиками, философами и натуралистами». Отдать себе отчет в этой вражде
есть величайшая задача мысли»63.
Нет ничего удивительного, что в скором времени сам Страхов решил
заняться этой трудной задачей. В 1876 г. Страхов пишет Льву Толстому: «Я
начал поиски за иррациональным, и давно уже моя мысль обращается всё в эту
сторону. Но я чувствую свою большую слабость и почти покорился мысли, что
не найду того, чего ищу»64.
Изучение попыток Страхова проникнуть в эту неизведанную область
пока остаются делом будущего, но совершенно очевидно, что эти его усилия
были связаны с необходимостью отказа от его прежнего принципа оставаться
в пределах науки и рационализма, воздерживаясь от суждений на религиозные
темы. Страхов был на пути к этому новому подходу, но сделать решающий шаг
не успел или, скорее, не посмел.
Грот писал о дуализме Страхова, попытавшегося соединить
рационализм со своеобразной формой мистики, диалектический подход к
реальности с религиозностью: «Н. Н. Страхов имел вполне законное право пытаться
совместить свойственный его уму светлый рационализм с естественною для
каждого не только серьезно мыслящего, но и глубоко чувствующего человека
верою в непостижимость коренной основы жизни — философскую трезвость
мысли и диалектический метод мышления с искреннею, но своеобразною
63 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 68.
64 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 412.
180
Глава 5. Органическая философия понимания
религиозностью»65. Дуализм Страхова, по мнению Грота, был только особым
проявлением неустранимого дуализма человеческой природы и мысли. Грот
также отметил, что анализ отношения духа и вещества, души и тела в
книге Страхова «О вечных истинах», посвященной спорам со спиритами, носит
совершенно оригинальный характер: «Он не отрицает реальности вещества
и даже объективности пространства и времени, как форму его существования
(...) но вместе с тем он признает высшую реальность за идеальным духовным
началом»66. Страхов, отмечает Грот, неоднократно говорит о границах
«рационализма», о пределах самой науки и «не только вполне верует в высшее начало,
в Бога, но даже остается христианином, сочувствующим православию»67.
* * *
В философских взглядах позднего Страхова действительно присутствовало
внешне противоречивое сочетание рационализма и мистики, которое отметили
Грот, Радлов и другие историки философии. В его сочинениях и письмах
появляются имена Баадера, Мейстера Экхарта, Ангела Силезского и других
религиозных мистиков, чьи произведения он покупает в заграничных путешествиях.
Это упоминание «мистики» немаловажно для Страхова. Его обычно называли
рационалистом, и он сам признавал, что в ранний период был пантеистом-
гегельянцем. Страхову на протяжении всей жизни был присущ строгий методизм
мышления, и поэтому многие считают его неискоренимым рационалистом.
Однако в более поздние годы он постоянно заявлял о своем отходе от
рассудочного восприятия действительности. Интерес к мистике причудливо сочетается
у Страхова с рационалистическим, последовательным, как в науке,
использованием «инструментов» познания. Даже самого Гегеля он теперь рассматривает
не только как философа религиозного, но и как «чистейшего мистика»68.
Однако интерес к мистической философии не мешал Страхову толковать
о науке с вполне рационалистических позиций: «...в физике я самый упорный
рационалист. Если бы для мистицизма нужно было приходить в неистовство или
добиваться непременно случая подержать черта за рога — я никогда бы к нему
не обратился. (...) Человек я слабый и грешный, но мне думается, нет — не
думается, а я уверен, что знаю, в чем сила и что такое святость»69. В области
рационального знания важнейшим для Страхова является установление границ
наук, и в этих пределах он придерживается рационалистических методов
познания. Однако наука имеет для него только второстепенное, подсобное значение
65 Грот Н. Памяти Н. Н. Страхова: К характеристике его философского миросозерцания.
М, 1896. С. 38.
66 Там же. С. 29-30.
67 Там же. С. 30.
68 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 756.
69 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 119.
181
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
для приведения к высшим духовным истинам — за ее вещественными образами
Страхов прозревал формы духа и восходил к ним.
С самого начала занятий философией Страхова больше всего
интересовали проблемы познания. В 1873 г., сообщая Толстому о своем отречении от
Гегеля в статьях о Дарвине и Парижской коммуне, он пишет: «Мне хотелось
бы, однако же, спуститься до корня и взяться за теорию познания, в которой,
мне кажется, уже заключена вся сущность дела»70. Но ему приходилось в тот
период сочинять для «Гражданина» Достоевского статьи на темы, далекие от
философского теоретизирования. Однако в последние десятилетия своей
жизни Страхов снова и снова возвращался к теме познания. Так, в 1884 г. Страхов
писал Толстому: «.. .я всё раскачиваюсь, чтобы приняться за свою книгу
—Деятельность познания, или же Познание как деятельность, — что-нибудь в этом
роде»71. Вопросы времени и пространства, соотношения души и тела, науки
и мистики неизменно привлекали внимание философа. В 1895 г. Страхов был
еще полон творческих замыслов и намерений работать, но силы его уже таяли.
Последняя его работа, которую он обещал представить в журнал Грота, носила
название «О естественной системе с логической стороны» и была посвящена
философии природы. Страхов трудился над ней почти до конца своих дней, но
из-за «какой-то тяжести головы и пера»72 так и не закончил.
* * *
Вопрос о познании стоит в центре самой значительной философской
работы позднего Страхова — большой статье «Об основных понятиях
психологии» (1878). До сих пор данное сочинение, как и вся книга «Об основных
понятиях психологии и физиологии» (1886), в которую вошла эта важная статья,
не привлекает к себе столько внимания философов, как «Мир как целое» (1872).
Между тем, как здесь уже не раз отмечалось, философские взгляды Страхова
к 1880-м гг. заметно изменились, и он сам называл «Об основных понятиях...»
«главной своей книгой»73. Кажется, из его современников только Толстой
оценил эту работу по достоинству. Например, в письме к Фету 11 июня 1878 г.
Толстой писал об отдельном оттиске статьи Страхова: «Небольшая книга его
очень велика по содержанию»74.
Вторая часть книги «Об основных понятиях психологии и физиологии»
посвящена преимущественно применению телеологического принципа к
изучению органической жизни и обоснованию телеологии живой природы, а также
70 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 208.
71 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 665.
72 Письма СтраховаН. Я. Гроту. С. 259.
73 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 772.
74 Толстой. ПСС. Т. 62. С. 431.
182
Глава 5. Органическая философия понимания
рассмотрению псевдотелеологии учения Дарвина. Книга не привлекла к себе
большого внимания (хотя она выдержала целых три издания), может быть, из-за
своего узкоспециального названия, а также потому, что Страхов с присущей ему
скромностью уже в предисловии заявляет о постановке в книге внешне очень
узкой и скучной для рядового читателя задачи: «точно установить некоторые
основные понятия известных наук»75.
Однако эти заявления скромного философа не должны обманывать
современных исследователей. Сам Страхов в письме к Толстому отмечал, что читатели,
в том числе известный историк К. Н. Бестужев-Рюмин, который носился с этой
его работой, не понял всей смелости автора.
И действительно, первая часть книги «Об основных понятиях психологии
и физиологии» представляет собой глубоко философское сочинение, в котором
на основе принципа Декарта «cogito ergo sum» Страхов разворачивает тонкие
рассуждения о духе и границах рационализма, об отношениях души и тела,
о сознании и многих других вопросах. Эта важнейшая книга зрелого Страхова
о проблемах познания «темного и таинственного» мира души по сравнению со
светлым миром вещественной природы еще ждет внимания опытных
специалистов.
Уже в предисловии к своей книге Страхов изрекает прекрасный афоризм:
«...нельзя думать, что истина достигается простым накоплением познаний»76.
В центре внимания философа стоит важнейший вопрос об отношении
физического — внешнего и духовного — внутреннего мира. Страхов, по обыкновению,
занимается лишь постановкой задач и не выходит за те пределы исследования,
в которых он уверен. Из его рассуждений о внешнем и внутреннем мире можно
сделать вывод, что мир души несводим к ощущениям, не подлежит
объективации и непознаваем методами эмпирической психологии. На этом Страхов
останавливается, но его позицию можно понять как утверждение
непознаваемости душевных явлений.
Именно с такой критикой гносеологии Страхова, высказанной им в книге
«Об основных понятиях психологии и физиологии», выступил консервативный
философ П. Е. Астафьев. Его не устроила высказанная Страховым в книге точка
зрения о непознаваемости субъекта. Философ критикует Страхова за то, что он
ограничивает сферу познания лишь материальным миром, объектами, данными
в опыте. Он упрекает автора в «недоверии к внутреннем опыту как орудию
точного знания» примерно в том же духе, как Соловьев писал о «механическом
материализме» Страхова.
Астафьев понимает, что Страхов не относится к числу убежденных
материалистов или позитивистов, и упоминает его отдельно, так как ему непонятна
точка зрения этого признанного идеалиста: «Ведь даже такой мыслитель, как
75 Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. I.
76 Там же. С. II.
183
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Н. Н. Страхов, которого никто конечно не заподозрит в излишнем пристрастии
к односторонностям материализма, натурализма и механического
мировоззрения, решительно сомневается в возможности познания субъекта и в научном
достоинстве внутреннего опыта! Ведь даже он признает познаваемым только
то, что может быть объективировано мыслию, рассматриваемо ею как
объект, — ал, субъект, сознание никак не могут быть объективируемы, и потому
и непознаваемы! Поэтому он и признает, что „объективный мир есть
настоящий предмет нашего познания, настоящий наш объект, к которому свободно
и правильно могут быть приложены все наши познавательные способности
и силы, тогда как субъективный мир ускользает от простых приемов познания
и требует каких-то обратных приемов и особенных усилий, необычайной
постановки нашей мысли"»77.
Никаких откликов Страхова на этот важнейший вопрос нам найти не
удалось, если не считать упоминания статьи П. Астафьева в предисловии ко
второму изданию книги «Об основных понятиях психологии и физиологии»
(1894). Страхов Астафьеву отвечать не стал, пояснив лишь свою позицию
несколько загадочным образом: «В моих рассуждениях ищут и находят некоторую
метафизику, тогда как я предлагал критику понятий, их диалектику»78.
Таким образом, вопрос Астафьева о том, почему Страхов остановился
в зрелом возрасте на идее непознаваемости субъекта, остался без ответа. Но вряд
ли Страхов вернулся к рационалистическому взгляду на познание, как намекает
Астафьев. Можно предположить, что и в этом случае Страхов имеет в виду то,
что он доказывал и ранее, в книге «О вечных истинах»: путем рационализма,
опытной науки достичь познания внутреннего мира невозможно.
Он не отказывается от познания, а лишь подчеркивает, что нужны какие-то
другие методы, что «субъективный мир ускользает от простых приемов познания
и требует каких-то обратных приемов и особенных усилий, необычайной
постановки нашей мысли»79. Нет сомнения, что Страхов имел в виду интуитивное
религиозное решение проблемы познания, но тот метод, который предлагает
Астафьев, его не устраивает, а другого он предложить не может. Пока его вывод
довольно прост и очевиден: необходимо установить «границы рационализма»80,
так как традиционные научные методы для познания субъективного мира, для
познания души не годятся.
Но это, думается, совсем не значит, что Страхов удовлетворился
констатацией непознаваемости субъекта в духе философии Канта — скорее он имел
в виду, что внутренний мир познается лишь религиозной интуицией, но хотел,
как у него это уже не раз бывало, чтобы читатели сами сделали такой вывод.
77 Астафьев П. Е. Родовой грех философии. С. 163.
78 Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии. С. XI.
79 Там же. С. 33.
80 Там же. С. VIII.
184
Глава 5. Органическая философия понимания
'$>
Вот что, например, он писал в 1888 г. из Лейпцига А. Н. Майкову об
ограниченности познания и жизни в Боге: «Что касается до устройства мира, то
я полагаю, что он насквозь проникнут божественными силами, но эти силы
доступны только нашему чувству, а не познанию. Познание мертвит в наших
глазах мир; таково существенное свойство познавательной деятельности; она
не может захватить ничего живого и берет только то, что не содержит в себе
никакой жизни. Для познания мир всегда был и будет мертвою машиною, но если
мы имеем другой орган постижения и будем твердо помнить пределы познания,
то мы можем спокойно вести рядом оба отношения к миру, — познавательное
и эстетическое»8'.
В статье «Главная черта мышления» Страхов предлагает удивительный
по своей оригинальности аспект уже изложенной им ранее концепции человека
как центра целостного мира: «Человек есть зритель мира. Самая
удивительная загадка заключается не в том, что мир существует, а в том, что у него есть
зритель»82.
Органическая целостность в видении действительности предполагает
возникновение религиозного чувства. Страхов пишет в этой статье о том, что
человек не мог сам сотворить этот мир и тем более мир не мог создать человека:
«Если мы скажем, что человек сам породил этот мир, что его мысль создала эту
видимость, внесла в нее свет, красоту, порядок, то это может показаться
странным; но не будет ли казаться еще более странным, если мы скажем, что мир
породил человека, что мысль человеческая есть произведение природы и что,
следовательно, слепая картина породила из себя зрителя, для того чтобы он ее
видел и ею любовался»83. Что это как не признание, что мир создан Богом, не
философское обращение к религии и отрицание материалистической теории
происхождения мира и человека?
Определение философии Страхова как «рационалистической» неизбежно
сталкивается с рядом противоречий. Поэтому и назвал философию Страхова
«сверхрациональной» консервативный литератор и публицист Б. В. Никольский,
хорошо знавший мыслителя и написавший о нем интересный философско-
биографический очерк, в котором миросозерцание Страхова очерчено весьма
выпукло и оригинально. Но Э. Л. Радлов и Александр И. Введенский признают
его философию эклектической. Суждения эти имеют под собой некоторые
основания, прежде всего потому, что Страхову не хватало смелости выговорить
до конца свои самые заветные мысли и объяснить скрытые в его философских
взглядах внутренние противоречия. Хотя Страхов объяснил исповедуемый им
диалектический метод в письме Гроту (см. с. 156 наст, изд.), кто только не писал
о том, что Страхову не удалось создать собственную философскую систему. Но
81 Письмо Н. Н. Страхова А. Н. Майкову. 1887 г. // РО ИРЛИ. Ед. хр. 16947. Л. 44-44 об.
82 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 93.
83 Там же.
185
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
»
Страхов ясно сказал, что и не стремился к созданию целостного учения.
Диалектический метод, воспринятый Страховым от Гегеля, не предполагал таких
застывших форм. Но при всей своей скромности и сдержанности суждений
Страхов неизменно твердо отстаивал собственную точку зрения, которая никогда
не была банальностью, повторением чьих-либо «задов».
Роль Страхова в истории русской философии во многом обусловлена тем,
что в мрачный для Метафизики период засилья материализма и позитивизма
он твердо стоял на страже идеализма, отстаивал непопулярные тогда вечные
истины, искал ответы на труднейшие вопросы в сфере познания.
Изучение трудов Страхова показывает со всей очевидностью, что Страхов
двигался в том направлении мысли, которое до сих пор еще никем не освоено
достаточно глубоко. Страхов — философ рационалистического склада, но он
рационалист особого рода. С помощью методов философского анализа он
постепенно пришел к выводу, что путь эмпиризма ошибочен и потому
бесперспективен за пределами естественных наук. Идеалистический характер мировоззрения
Страхова, прошедшего выучку гегелевской школы, не вызывает сомнений. Но,
начав как ученый-эмпирик, он увидел ограниченность рационализма и искал
выхода из него. Да, Страхов, этот скептик и рационалист, по мнению целого ряда
исследователей, путем рационального логического мышления пришел к ясному
осознанию, что научный рационализм ограничен в своих возможностях, что он
имеет свои пределы и необходимо искать выход из этого тупикового положения.
Страхов ясно ощущал религиозные основания бытия, но он еще опасался
открыто выступить в век материализма и позитивизма с дерзкими обобщениями
тех вещей, которые открылись ему в уединенных размышлениях. У него было
недостаточно духовных сил, чтобы делать смелые окончательные выводы. Но
при всей кажущейся робости в философских вопросах он показал путь, которым
надо идти. Страхов вступил на terra incognita философии, которая исследована
слишком слабо до сих пор.
GaSa О
БОРЬБА С НИГИЛИЗМОМ И «ПРОСВЕЩЕНСТВОМ»
Могу сказать, что во мне было постоянно
какое-то органическое нерасположение к нигилизму...
И. Н. Страхов'
£$§§ Страхов так много размышлял и писал о нигилизме, что стал считать себя
чуть ли не специалистом по этому своеобразному явлению, характерному для
современного ему русского общества. Сборник своих статей, напечатанных
в журналах «Время» и «Эпоха», Страхов назвал «Из истории литературного
нигилизма (1861-1865)». В статье «Счастливые люди» («Библиотека для чтения»,
1865, № 7-8), посвященной роману Чернышевского «Что делать?», он писал:
«Особенно следил я за предметом, который, как мне кажется, я могу с некоторым
правом считать своею специалыюстию, — за нигилизмом»2.
Часто думают, что термин «нигилизм» первым ввел в оборот И. С. Тургенев
в романе «Отцы и дети» (1862). На самом деле его использовал уже в 1835 г.
Н. И. Надеждин в журнале «Телескоп», в названии статьи «Скопище
нигилистов», а на Западе это понятие встречается чуть ли не с XII в. Нигилизм есть
стремление к разрушению сложившегося порядка, отрицание традиционных
моральных ценностей и неприятие устоявшегося жизненного уклада.
Но в нашей литературе широкое употребление понятие «нигилизм»
получило действительно со времен романа Тургенева «Отцы и дети», в котором
выведен яркий образ студента Базарова, отрицающего установившиеся
традиции. Нигилистами стали называть не столько молодых людей базаровского
типа, бравирующих дерзким умничаньем и легкомысленным, чисто внешним
отрицанием сложившегося жизненного уклада, сколько идейных участников
нарастающего движения сторонников радикального изменения социального
строя. Термин несет на себе негативную окраску и подразумевает
представителей оппозиционного по отношению к властям, отрицательного политического
направления. Но в стране победившего социализма оценка деятельности тех,
1 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 310.
2 Там же. С. 434.
187
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—ф
кого ранее называли «нигилистами», изменилась на противоположную: Н. Г.
Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева и других выразителей этих
радикальных идей, ставших государственной политикой, почтительно называли
революционными демократами. Если сами проповедуемые ими методы
идеологической борьбы и их главные идеи давно оценены критически, то ведущим
«шестидесятникам», типичным представителям радикально-разрушительного
направления, по-прежнему — то ли по инерции, то ли по недоразумению —
отводится весьма почетное место в пантеоне отечественной культуры. Термин
«нигилизм» в настоящее время употребляется почти исключительно в
историческом контексте, в частности в связи с романом Тургенева «Отцы и дети»,
в котором писатель воссоздал в художественных образах одно из набиравших
силу в годы написания романа общественных движений.
Страхов, опубликовавший в журнале «Время» в апреле 1862 г. вполне
объективную, взвешенную рецензию на роман «Отцы и дети», опровергал
мнение таких поклонников «базаровского» образа мысли, как М. Антонович из
«Современника» и Д. Писарев из «Русского слова». Эти критики-«нигилисты»
не хотели узнавать себе подобных в романе и заявляли, будто Тургенев оболгал
молодое поколение. Беспристрастная статья Страхова, в которой
«превозносился Тургенев, как чисто объективный художник»3, показывает, что
отрицание искусства, которым бравирует Базаров, характерно и для Чернышевского
с Писаревым. Чистый эмпиризм Базарова, как убедительно доказывал Страхов,
был присущ не только Базарову, но и критику М. Антоновичу, обиженному на
образ мыслей тургеневского героя. Базаровское отрицание всякой умственной
отвлеченности и стремление к конкретности в области знания, как утверждал
Страхов, перекликаются с отрицанием науки в ее чистейшем виде — в форме
философии — модным среди апологетов нигилизма Л. Фейербахом. Этот
немецкий левогегельянец, на которого ориентировались Чернышевский и его
последователи, отвергал всякую религию и философию: «Никакой религии! — это
моя религия; никакой философии! — моя философия»4. В ненавязчивой манере,
подтверждая свою мысль фактами, Страхов показывал, что для современного
общества было характерно отрицание отвлеченной мысли и преувеличение
значения естественных наук. Критик делает вывод, что Тургенев написал
роман не с прогрессивным и не с ретроградным направлением, а «имел гордую
цель во временном указать на вечное»5. Отметив, что Тургенев стоит за вечные
начала человеческой жизни, критик прославляет «истинно поэтическое дело»,
художественность Тургенева, благодаря которой он сумел «подняться на более
высокую и светлую точку зрения»6. По мысли Страхова, именно по той причине,
3 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 435.
4 Фейербах Л. Сочинения: в 2 т. М., 1995. Т. 1. С. 168-169.
5 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 41.
6 Там же. С. 48.
188
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
»
что в романе «на первый план победоносно выступает чистая поэзия»7, он
оказался неприемлем для «Современника» с его критикой «отрицательного»
направления.
Тургеневу статья Страхова очень понравилась, и по приезде из Парижа
в Петербург он пригласил М. М. и Ф. М. Достоевских вместе со Страховым на
дружеский обед в гостиницу. Но взгляды «почвенника» Страхова и убежденного
западника Тургенева слишком отличались, и между ними было мало общего.
Позже, когда в произведениях Тургенева отрыв от русской действительности
и западничество писателя стали проявляться всё отчетливее, а отзывы
Страхова о них становились, соответственно, всё более отрицательными, отношение
Тургенева, сначала благоволившего к критику «Времени», заметно изменилось
в худшую сторону.
Страхов стал одним из главных выразителей как литературно-критических,
так и публицистических позиций журнала Достоевских уже с середины 1861 г.
Начиная со статей «Нечто о петербургской литературе» и «Еще о петербургской
литературе» осуждение нигилизма становится одной из главных тем
творчества Страхова в журнале «Время». В статье «Еще о петербургской
литературе» («Время», 1861, № 6) Страхов вышучивает нигилистические тенденции
оппозиционных журналов: он критикует Н. Г. Чернышевского и журнал
«Современник» за отрицание истории, а Д. И. Писарева — за отрицание
философии. Именно в полемических статьях на злобу дня этого молодого сотрудника,
смело вступившего в споры с главными «акулами» господствовавшей в печати
радикальной оппозиции, с особой яркостью раскрылась антинигилистическая
направленность «Времени» и «Эпохи». Не случайно свой сборник статей,
опубликованных в журналах Достоевских, Страхов назвал «Из истории
литературного нигилизма» (1890). Критик не уставал бороться с нигилизмом, этим
«злокачественным брожением»8 русской жизни, на протяжении всей своей
творческой деятельности.
Термин «нигилизм», который в наши дни употребляется довольно
редко, широко применялся во времена Страхова для обозначения скептического
отрицания каких-либо ценностей, а в более узком историческом смысле —
оппозиционных социально-политических настроений студенческой молодежи.
Страхов отмечал такую особенность «направленской» критики идейных вождей
нигилизма, как сочетание социального обличительства и сочувствия угнетенному
народу с презрительным взглядом на народ и стремлением к его просвещению,
которое выражалось в «просвещенном сожалении о диких и грубых людях»9.
Страхов верно подметил главную черту этих «просветителей», предвосхитивших
7 Там же.
8 Страхов Н. Поминки по Аполлоне Григорьеве // Страхов Н. Воспоминания и
отрывки. СПб., 1892. С. 249.
9 Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. 2-е изд. Киев, 1897. С. 137.
189
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—ф
нарождающееся народничество: «Все эти обличители суть вместе и
просветители; они не хотят учиться у народа, а сами хотят его учить»10.
Не случайно в XX в. получил распространение термин «просвещенство»,
во многом совпадающий по своему значению с понятием «нигилизм», но
окрашенный уже идеями участников сборника «Вехи», критиковавших
леворадикальные и либеральные западнические идеи русской народнической интеллигенции.
Философ С. А. Левицкий утверждал, будто этот термин впервые использовал
Страхов. Однако хотя Страхов часто с иронией отзывался о «просвещенческих»
устремлениях вождей нигилизма, у него само существительное
«просвещенство» обнаружить не удалось. Наиболее широко понятием «просвещенство»
пользовался Д. И. Чижевский, который, вероятно, и ввел его в широкий оборот".
Примыкает к этим двум понятиям, «нигилизм» и «просвещенство»,
термин «образованщина», которым пользовался А. И. Солженицын в период заката
советской эпохи. Как и понятие «просвещенство», термин «образованщина»
также восходит к критике ложного просвещения западнически
ориентированной интеллигенции в «Вехах». Солженицын употреблял этот термин прежде
всего по отношению к современной ему диссидентской космополитической
либеральной интеллигенции.
Оба эти более поздние термины с акцентом на ложном образовании по
своему содержанию, конечно, близки к понятию «нигилизм». Но они были
созданы для характеристик более поздних общественных явлений и не вполне
покрывают то значение исторического термина «нигилизм», которое широко
использовалось в эпоху Страхова.
* * *
Страхов был свидетелем зарождения нигилистического движения во
времена его студенчества в Петербурге еще на рубеже 1850-х гг. Он наблюдал
стремительный рост радикальных настроений среди столичной молодежи
к шестидесятым годам, внимательно следил за характером и развитием этого
движения, получившего впоследствии название «шестидесятничества», знал
его, но сам нигилистический дух был ему чужд. В кратких и, к сожалению,
неоконченных «Воспоминаниях о ходе философской литературы», переданных
Страховым в 1895 г. Б. В. Никольскому для написания его биографии, он
рассказал о своем личном знакомстве с нигилистическими настроениями студентов
в университетские годы: «Таким образом, уже тогда я вполне познакомился
с этою сокровенною мудростью, и когда, спустя десять или более лет, она стала
все яснее и громче высказываться в литературе, она уже ничуть не была для
10 Страхов Н. Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. 2-е изд. Киев, 1897. С. 137.
11 См. об этом в статье: ТоичкинаА. В. Достоевский, Страхов и Ницше в «Истории духа»
Д. И. Чижевского // Вестник РХГА. 2012. Т. 13, вып. 2. С. 147.
190
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
меня новостию. Говорю, конечно, о самом принципе этого направления, о
немногосложной формуле отрицания; символ веры отрицателей, как известно,
очень прост и иногда состоит лишь из двух кратких членов: Бога нет, а царя
не надо»12.
Конечно, Страхов и сам не мог не поддаться влиянию этих
отрицательных настроений в студенческие годы, однако это воздействие оказалось лишь
поверхностным и не затронуло самих основ его уже достаточно
самостоятельной личности. Тем не менее свой выбор профессии он связывал с пониманием
важнейшей роли естественных наук в формировании доминирующей
идеологии тех лет: «Читатель легко представит, что все это вольнодумство сильно
поразило меня. Не стану рассказывать здесь борьбы, которая во мне поднялась,
и разных периодов, через который она проходила. Мне хочется указать только
то, что характеризует тогдашнее общее настроение. Отрицание и сомнение,
в атмосферу которых я попал, сами по себе не могли иметь большой силы. Но
я тотчас увидел, что за ними стоит положительный и очень твердый авторитет,
на который они опираются, именно, авторитет естественных наук. Ссылки на эти
науки делались беспрерывно; материализм и всяческий нигилизм выдавались за
прямые выводы естествознания. И вообще твердо исповедывалось убеждение,
что только натуралисты находятся на верном пути познания и могут правильно
судить о самых важных вопросах»13.
Таким образом, именно стремление соответствовать духу времени вызвало
желание Страхова разобраться в истинном предназначении естественных наук:
«Итак, если я хотел „стать с веком наравне" и иметь самостоятельное
суждение в разногласиях, которые меня занимали, мне нужно было познакомиться
с естественными науками. Так я и решил сделать и, несмотря на некоторые
препятствия, никак не отступал от этого решения и понемногу привел его в
исполнение. (...) Зоологию я выбрал потому, что она всего ближе к самому узлу
вопросов; уже вступая в студенты, я знал, что именно зоологи считают своим
делом решать вопрос о природе человека, о его месте в ряду других существ,
и что, далее, физиологи приписывают себе верховный авторитет во всех
областях психологии»,4. Однако, занимаясь естественными науками, наиболее
влиятельные представители которых своими материалистическими
выводами заметно умножили ряды отрицателей официальной идеологии и религии,
Страхов преодолел все соблазны модного направления философской мысли
и пошел по противоположному пути. Можно предположить, что его спасло
от нигилизма увлечение немецкой идеалистической философией, в частности
Гегелем, а также опора при выработке им своего миросозерцания на высшие
12 Страхов Н. Н. Воспоминания о ходе философской литературы // Ист. вестник. 1897.
Апр.С.431.
13 Там же. С. 431^32.
14 Там же. С. 432.
191
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—ф
достижения художественной литературы, прежде всего на творческое наследие
особенно любимого им Пушкина.
Итак, к концу 1850-х гг., когда от незадавшейся научной деятельности
Страхов перешел на литературно-философскую стезю, его вполне сложившееся
мировоззрение носило явственно идеалистические и консервативные черты, в то
время как среди его сверстников преобладали утилитарные, позитивистские
и материалистические тенденции.
При этом важно подчеркнуть, что Страхов, будучи ученым-мыслителем
и писателем консервативной направленности, не принадлежал ни к крайне
правому, ультраконсервативному направлению, ни, тем более, к набиравшему
силу нигилистическому отрицательному движению. Он искал точку опоры не
в поддерживаемых властями движениях и не в преобладавших в общественном
мнении оппозиционных партиях, а в вечных истинах идеализма, нравственного
благородства и эстетического совершенства. На эти высокие истины
ориентировались во все времена наиболее независимые и благородные творческие
личности, и во многом по этой причине его жизненный путь был чрезвычайно
тернист и сложен.
В предисловии к книге «Из истории литературного нигилизма» Страхов
писал: «Господствующую силу у нас имеют только два крайних направления —
фанатический радикализм и фанатическое староверство; оба они ревностно
исповедуют правило: „кто не с нами, тот против нас". (...) писатель у нас связан по
рукам и ногам, что бы он ни сказал, его тянут или в одну, или в другую сторону
и не дают ему остаться самим собою»15. Вовсе не будучи крайним консерватором
по своим взглядам, Страхов самим своим твердым стоянием в истине бросил
вызов набиравшему силу отрицательному направлению «тенденциозников»16.
Вся «вина» его была в том, что он, отстаивая идеализм в философии и
традиционные народные начала, встал поперек господствовавшего в общественном
мнении идейного течения и за это получил репутацию реакционера и обскуранта.
Когда спрашивают, в чем же был главный вклад Страхова в историю
русской литературы и мысли, то с уверенностью можно сказать, что его главной
публицистической темой была борьба с нигилизмом.
В наши дни нередко можно услышать, будто полемика Страхова с
литературными нигилистами, от М. А. Антоновича до Н. К. Михайловского, несколько
устарела. Но разве так уж ничтожно влияние на умы наших современников
радикально-нигилистических и западнических идей таких писателей и критиков,
как Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Салтыков-Щедрин, чьи сочинения
еще недавно издавались миллионными тиражами?
15 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. XII.
16 Так назвал апологетов нигилизма в письме к Страхову консервативно настроенный
А. А. Фет. См.: Фет и его окружение. Кн. 2. С. 269.
192
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
Чуткий Розанов отметил при начале переписки со Страховым, что от
его последних сочинений веет «невыразимою грустью, безнадежностью».
«Вы просто не вовремя родились, вы по рождению человек 60-х годов, а по
духу 80-90-100-х. Ваша жатва придет...» — утешал он семидесятилетнего
мыслителя17. Чтобы понять, почему литературная судьба Страхова была так
неудачна, надо представить, в какое время выпало ему заниматься творчеством.
Литературная деятельность Страхова пришлась на тот печальный период,
когда начиная с середины XIX в. стало набирать силу малозаметное поначалу, но
всё более неуклонное и безумное нисхождение русского общества к отрицанию
государственной власти, Церкви, а в самых радикальных проявлениях — даже
к отрицанию эстетики и науки, к культу материального благополучия, проповеди
социального равенства и ненависти к «эксплуататорским классам».
Основоположниками этого набиравшего силу нигилистического
движения были «западники» Белинский и Герцен с их религиозным скептицизмом
и политическим бунтарством. Их идеи развивали в сторону дальнейшего
упрощения и радикализма Чернышевский, Добролюбов, Писарев; рядом с ними
набирали силу уже полные нигилисты Елисеев, Зайцев, Антонович... Россия
словно начала проваливаться тогда в интеллектуальную дыру. Нарастающее
господство в обществе позитивистских идей, повальное увлечение молодежи
идеями прогресса, материализма и атеизма неизбежно влекли за собой заметное
оскудение умственной жизни.
Лишь небольшая горстка энтузиастов сопротивлялась этому всеобщему
увлечению разрушительными для государства и общества началами; неутомимо
отстаивала непреходящие духовные ценности и настойчиво обращала внимание
читателей на их воплощение в лучших произведениях литературы и философии.
Однако Страхов и его единомышленники-идеалисты не были услышаны ни
современниками, ни ближайшими потомками. Нигилистическое движение с неумолимой
логикой вело к разрушительной революции и попытке построения нового
общества на атеистических началах. Неудивительно, что эта «изнурительная мечта»
о безбожном земном рае, едва начав воплощаться, уже в наше время с треском
провалилась. Теперь, когда растерянное, разделенное на группы общество
пытается снова обрести свою утраченную национальную идентичность, нравственные
жизненные опоры, взошедшими на волне перемен идеологами опять усиленно
навязываются гедонистические либеральные постулаты западного общества
потребления. По сути дела, предпринимаются попытки вновь лишить нас духовной
самостоятельности, закрепить в обществе ориентацию на нигилизм в его новом
обличье. Это делает творческое наследие Страхова с его критическим
отношением к духовному влиянию Запада и побуждением к обретению нами духовной
самостоятельности особенно актуальным именно в наше время.
17 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 145.
193
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Неприятие нигилистических настроений, взявших верх в общественном
мнении, после первых же тематических статей Страхова рубежа 1850-х и 1860-х гг.
сблизило его с Аполлоном Григорьевым, оказавшим огромное влияние на его
литературно-эстетические взгляды. Обратил на него внимание и редактор журнала
«Русский вестник» М. Н. Катков, как раз в этот период делавший последние шаги
от умеренного западничества к консервативным имперским взглядам.
М. Н. Катков был одним из тех, кто остро осознавал особую опасность
нигилистических настроений молодежи. Уже на рубеже 1860-х гг. он играл важную
роль в организации борьбы против вульгарно-материалистических тенденций
в русской философии. Так, в 1859 г. «великолепную», по отзыву Страхова, статью
против антропологического материализма Чернышевского написал профессор
Киевской духовной академии П. Д. Юркевич, и, как отметил Страхов, «по
стараниям Каткова профессор был приглашен в Московский университет»18.
Неудивительно, что когда в 1859 г. в печати появились «Физиологические
письма» Н. Н. Страхова — практически первое натурфилософское произведение
молодого автора, философа-идеалиста, прежде занимавшегося преимущественно
зоологией, — именно Катков был наряду с Аполлоном Григорьевым одним из
первых, кто обратил на него внимание.
В 1860 г. Катков пригласил молодого ученого-естественника с
философскими задатками, которого не коснулось материалистическое поветрие,
участвовать в журнале «Русский вестник». Письмо Каткова с приглашением до нас
не дошло, но зато известен черновик ответного письма Страхова, из которого
ясны антинигилистические консервативные взгляды молодого мыслителя. Не
случайно Страхов с первого письма стал жаловаться Каткову на радикальные
настроения, господствовавшие в петербургском культурном обществе, и на свое
идейное одиночество: «Мне здесь не с кем спокойно поговорить о безобразии
петербургского прогресса, которое, наконец, становится невыносимо. Мне
кажется, с этим безобразием вы еще не вполне знакомы; вы не знаете, какие
глубокие корни оно пустило и на каких основаниях оно держится. Предполагаете
ли вы, например, что здесь творятся иногда такие речи: „Русский вестник" —
вредный журнал! Он проповедует уважение к личности!»19
Страхов с осуждением писал о массовом увлечении петербургской
молодежи революционными теориями, и эти его жалобы на радикальные настроения
сверстников, вне сомнения, были рассчитаны на сочувственное восприятие
Каткова: «Исповедание терроризма здесь приведено в правило, принимается вполне
сознательно и столь же сознательно приводится в исполнение»20. Но это не было
18 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 387.
19 РО ИРЛИ. Ф. 287. Ед. хр. 49. Л. 1.
20 Там же.
194
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
=»
нарочитое приспосабливание к взглядам влиятельного публициста и редактора:
Страхов неоднократно характеризовал время своей молодости в том же духе.
И Катков, и особенно Григорьев, вместе с которым Страхов пришел
в 1861 г. в журнал Достоевских, правильно определили основное
предназначение молодого таланта, сразу разглядев в Страхове не ученого, а прежде всего
мыслителя консервативной ориентации. Уже в мае 1860 г. в «Русском вестнике»
появилась статья Страхова «Об атомистической теории вещества», в которой
опровергалось учение атомизма, лежавшее в основании материализма. Между
тем материалистический взгляд на достижения естественных наук как на
движущую силу прогресса составлял мировоззренческий фундамент нигилизма,
и опровержение его было важной литературно-философской задачей. Именно
в этом направлении стремительно раскрывался талант молодого философа
в журнале «Время». Страхов писал спустя годы: «Когда меня, пишущего
настоящие строки, Катков приглашал в 1860 году писать в „Русский вестник", он,
можно сказать, заказал мне статью против Бюхнера, почему и написано было
„Вещество по учению материалистов"»21.
В европейском просвещении с середины XIX в. были чрезвычайно
популярны сочинения вульгарных материалистов Фохта, Бюхнера, Молешотта,
отрицавших всё духовное. Фохт, например, утверждал, как писал Страхов
позже, «что мысль так же производится мозгом, как моча почками»22. Все эти
чрезвычайно слабые в философском отношении авторы переводились и
широко распространялись и в России. Им на смену пришли позитивисты, которые
опирались на огромный авторитет естественных наук и вытесняли собственно
философию. Страхов называет это печальное время эпохой двадцатилетнего
(или даже тридцатилетнего) «пленения философии».
Правда, блестящая статья «Вещество по учению материалистов»,
датированная 1 сентября 1860 г. и содержащая развернутую критику вульгарного
материализма Л. Бюхнера и его единомышленников, в журнале Каткова по
каким-то причинам опубликована не была, а появилась в печати гораздо позже,
в марте 1863 г., в журнале Достоевских «Время» (позже была включена в книгу
«Мир как целое»).
Как бы то ни было, почти всё, что писал Катков, «столп нашего
охранения», так или иначе относилось к теме борьбы с нигилизмом, и в этом смысле
у них со Страховым было много общего. В то же время если Страхов больше
внимания уделял раскрытию философских и психологических причин
распространения нигилизма, то статьи Каткова носят боевой, публицистический
характер, что видно даже из самих названий: «Источник злоумышления и сила,
которую обнаружило русское чувство»; «Необходимость обнажить корень зла
вполне»; «Причины, породившие у нас нигилизм»; «Корень нашего нигилизма
21 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 397.
22 Там же. С. 386.
195
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
=»
есть государственная измена»; «Сущность революционной пропаганды,
работающей среди учащейся молодежи»; «О мерах к пресечению крамолы» и т. п.
Борьбе с нигилизмом и терроризмом посвящен целый том сочинений Каткова
в тысячу страниц.
Страхов, мыслитель-«почвенник», видящий опору в философии
самобытности, верности народным традициям, в том числе и православию, искал избавления
от нигилизма несколько иными путями, чем Катков — убежденный, энергичный
монархист-государственник, стремящийся всеми силами укреплять и
поддерживать стабильность государственных институтов. Они нередко спорили между
собой — Катков не признавал ни славянофильства, ни почвенничества, считая
это направление пустым мечтательством, скептически относился к философии
Гегеля, которая оказала столь существенное влияние на Страхова, и в результате
их позиции в целом сильно расходились. Катков предпочитал не углубляться в
отвлеченные и таинственные философские вопросы, а воспитывать общественное
мнение, споспешествуя развитию государства. Одним словом, государственник
Катков был политик и публицист, а Страхов — свободный мыслитель-идеалист
и апологет органической литературной критики. Но цели у обоих мыслителей
были благородны и потому все-таки довольно близки, так что следует отдать
должное общим сторонам их творческой деятельности, направленной на развитие
русских духовных сил, на созидание и укрепление нашего Отечества.
Несмотря на то что Страхов с самого начала и на протяжении всей
жизни неустанно вел борьбу против материализма, нигилистического отрицания
философии и литературы, отстаивая идеализм «вечных истин», он, подобно
славянофилам, вовсе не был радикалом-охранителем в своих взглядах — он
просто неизменно и мужественно защищал коренные народные начала, здравый
смысл и философский идеализм в ту поистине «фантастическую» эпоху, когда
всякие возвышенные и традиционные идеи были непопулярны.
Попытки отнести Страхова к идейным реакционерам так же лишены
объективности, как и абсурдные обвинения его утилитаристами-«шестидесятника-
ми» в эстетизме. «Консерватизм» Страхова в литературе выражался, в частности,
в том, что он, как сторонник пушкинского отношения к литературе, признавал
важнейшее значение эстетических принципов, хотя, конечно, было бы нелепо
утверждать, будто он игнорировал идейную сторону творчества. Сталкиваясь
с критикой своего «эстетизма» сторонниками «полезного искусства», Страхов
писал о том, что «форма неразрывна с содержанием»: «...философия, поэзия,
художество — не развлечение или прихоть, — они в конце концов требуют для
себя самого высокого и строгого суда, и этому суду не должно мешать никакое
пристрастие. Воплощенные мысли должны быть судимы по высшему мерилу
красоты — по глубине своей правды и чистоте своего чувства»23.
23 Страхов Н. И. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. V.
196
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
Скромное положение Страхова как своего рода «идейного Дон Кихота»
объясняется во многом и засильем в нашей литературе крайних, радикальных
точек зрения как справа, так и слева. Подобные умеренно-консервативные
мыслители, пытавшиеся занять самостоятельное положение между официальным
консерватизмом, поощряемым властями, и нигилизмом, отрицанием
традиционных устоев, которое проповедовали пользовавшиеся поддержкой общественного
мнения «революционные демократы», имели мало шансов серьезно влиять на
общество. Страхов в 1890 г. сетовал на крайности нашей печати, на нетерпимость
в общественном мнении: «Таково положение России, что между революционер-
ством и ретроградством нет прохода; эти два течения всё душат»24.
Писатели и мыслители часто бывают заложниками своего времени. Одним
из них был и Страхов. Нам сейчас очень трудно представить себе, насколько
мрачной была картина духовной жизни в ту эпоху. Мы всё еще в немалой
степени находимся под влиянием штампов советской идеологии, когда разрушители
традиционного уклада жизни рассматривались как страдальцы за «светлое
будущее». Нигилистическая атмосфера всеобщего опьянения
разрушительными идеями «революционных демократов» была совершенно непригодна для
подлинного творчества, серьезной науки, философии.
Чернышевский, с успехом проповедовавший
утилитарно-материалистические «антропологические принципы», торжествовал победу в споре с
идеалистом Юркевичем; Писарев витийствовал вообще против философии как
бесполезного занятия; Некрасов, насмехаясь над «искусством ради искусства»,
налегал на гражданственные мотивы, призывая молодежь «в стан погибающих
за великое дело любви».
Даже либерал К. Д. Кавелин, весьма далекий по взглядам от Страхова,
сетовал в 1872 г. на упадок философии из-за господства утилитарных тенденций
и понижения нравственного начала: «Что же мы видим в наше время?
Философия в полном упадке. Ею пренебрегают, над ней глумятся. Она решительно
никому не нужна. Некоторые утешают себя тем, что это направление пройдет,
что философия снова войдет в честь, когда положительные науки вполне
выработаются. Трудно предсказывать будущее, но, судя по признакам, мало на это
надежды. Всего хуже то, что мы теперь видим не борьбу против той или другой
философской доктрины, а совершенное равнодушие к самой философии. (...)
Философия до сих пор не опровергнута в своих началах, а просто отброшена,
как ненужная вещь»25.
Страхов, мужественно отстаивавший традиционные духовные ценности,
был одним из тех благородных мыслителей, кто помог обществу сохранить
уважение к вечным истинам и серьезной науке и в конце концов преодолеть этот
период всеобщего отрицания. Но далось ему это огромным трудом, и прежде
24 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 819.
25 Кавелин К. Д. Собр. соч.: в 4 т. СПб., [1900]. Т. 3. С. 380.
197
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
всего ценой собственной репутации. Уже сотрудничая в журнале
Достоевских «Время», Страхов быстро получил клеймо крайнего реакционера за свои
выступления против идейных основ нигилизма. Достоевский поддерживал
Страхова, но сам был тогда еще несколько сдержаннее — его активная борьба
против нигилизма развернулась чуть позже.
Молодой В. П. Буренин, который тогда еще вполне примыкал к
радикальному лагерю, но уже выработал приемы своего метода «цинического реализма»,
находил критическую деятельность Страхова, осмелившегося выступать против
общепризнанных демократических кумиров, смешной. Глумясь над своими
идейными противниками, Буренин делал вид, будто их произведения носят
шутливый, несерьезный характер. Так, прекрасное сочинение Страхова «Вздох на
гробе Карамзина», защищавшее историка и писателя от упреков либерального
публициста А. Н. Пыпина в консерватизме, он объявил пародией. Более того, даже
ставшие позже классическими статьи Страхова о «Войне и мире», где впервые
утверждалось величие романа, он назвал «драгоценным перлом юмора»26.
Позже, правда, сотрудничая в «Новом времени», Буренин печатно
признал ошибочность своей позиции в годы всеобщего опьянения молодежи
нигилизмом. Он вспоминал: «Мне, как и многим другим юношам того времени,
казался забавным этот курьезный мыслитель, носивший курьезное имя Косицы
(таков был псевдоним г. Страхова) и пытавшийся полемизировать против героев
времени, какими представлялись нам не только Чернышевский, Добролюбов,
Щедрин, но даже и (...) гг. Елисеев, Антонович. (...) Поклонники любимых
корифеев ликовали, кричали ура. И вдруг выступает г. Страхов под смешным
псевдонимом Косицы и начинает доказывать, что пресловутые статьи не
радостное впечатление должны производить, а напротив, очень прискорбное.. .»27
Отношение Буренина к творчеству Страхова решительно изменилось
за это время, и он нахваливал его статьи в «Новом времени» с той же
решительностью, с какой раньше высмеивал и осуждал. Не последнюю роль в этом
поразительном идейном повороте Буренина сыграли изменения в царивших
в обществе настроениях.
В 1860-х и 1870-х гг. отрыв от реальности в обществе, опьяненном духом
оппозиции, был так силен, а торжество революционно-нигилистических идей
было настолько сокрушительным, что Страхов называл эти годы (в статье «Вздох
на гробе Карамзина») временем «воздушной революции».
Один из типичных либеральных критиков тех лет М. Протопопов дал своей
рецензии на «Борьбу с Западом» название «Кладбищенская философия». За то,
что «веру в прогресс» Страхов признал суррогатом веры «религиозной», и за
утверждение, что нигилисты «свою веру в небесный рай переменили на веру
в рай земной», Протопопов припечатывает своему идейному противнику всё
26 Z. [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед.. 1871. № 314, 14 нояб. С. 1-2.
27 Буренин В. Критические заметки // Новое время. 1890. № 5294, 24 нояб. С. 2.
198
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
=8»
тот же уничтожающий ярлык: «Г. Страхов — реакционер и обскурант в полном
смысле этих слов.. .»28
В либеральном лагере было модно смеяться над Страховым. В полемике
с представителями «реакции» все средства хороши. Никто не упускал случая
уколоть Страхова, высмеять его, заявить о его литературной несостоятельности, хотя
сами его статьи вряд ли кто из нигилистических «свистунов» и читал. Велеречивый
либеральный критик-позитивист Н. К. Михайловский, с насмешкой процитировав
из письма Ап. А. Григорьева фразу поддержки: «.. .кроме тебя теперь и писать
некому», заявляет: «Но огромное большинство все-таки привыкло смотреть на
г. Страхова только как на смешного писателя и сравнивает его с Дон Кихотом»29.
Используя тот же прием огульного высмеивания, что и Буренин, Михайловский
самодовольно и совершенно безосновательно заявлял, что в борьбе Страхова
с Дарвином «есть, конечно, известная доля комизма». Оправдание этого далекого
от литературных задач глумления, получившего название «либерального террора»,
Михайловский находит в устроенной Страховым, по его мнению, «безобразной
травле на „нигилистов"». Получается, будто это Страхов занимался травлей, хотя
он только тщетно призывал оппозиционных авторов к трезвому взгляду на вещи.
Но либеральное давление путем полемики было тогда настолько мощным, что
его воздействие на умы смешно было сравнивать с деятельностью небольшого
количества публицистов, писателей, критиков, осмелившихся выступать против
господствовавшего в обществе безумного отрицания традиционных ценностей.
Эти борцы с нигилизмом заведомо обрекали себя на положение литературных
изгоев, на высмеивание радикальной и либеральной толпой.
В полемическом задоре, если не сказать — в остроумии издевки, всех
превзошел Салтыков-Щедрин, который не нашел ничего более оригинального, как
выставить в «Истории одного города» (1869-1870) образованнейшего и, по
признанию многих, не обделенного умом мыслителя Страхова воплощением глупости.
В журнальном варианте и ранних публикациях этого произведения статьи Страхова
были только «скучны», а с 1883 г. они стали «глупы». По всей видимости, это была
реакция Щедрина на безжалостную, но справедливую критику нигилистической
сути творчества Салтыкова-Щедрина, высказанную Страховым в статье «Взгляд
на текущую литературу», опубликованной в «Руси» в начале 1883 г. Страхов
писал: «Нынешний смех, которого представителем нужно считать г. Щедрина,
есть совершенно особенная потеха, очень характерная для нашего времени. Все
называют г. Щедрина сатириком, то есть относят его к межеумочному роду,
не принадлежащему к настоящему художеству, и даже ярые его приверженцы
самым естественным образом пропускают его имя, когда вздумают говорить
28 Протопопов М. Кладбищенская философия //Дело. 1882. Июнь. Отд. II. С. 4, 13.
29 Михайловский Н. К. Литературные и журнальные заметки: Г. Страхов. — Русская
печать о последней книге Ренана. Субъективно-объективная оценка фактов... // Отеч. зап. 1872.
[Т. 204], Сент. Отд. X. С. 110-118, 132-133.
199
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
■3'
о наших художественных писателях. Но и понятие сатиры есть нечто слишком
точное и определенное в сравнении с тем, что пишет г. Щедрин. Это не сатира,
а переходящая всякую меру карикатура, не ирония, а нахальная издевка, неистовое
глумление, не насмешка, а надругательство над всяким предметом, за который
берется этот сатирик. Все это совершается с несомненным талантом, скажем
более, несомненный талант нахальства и глумления один только и руководит автора
в его долгой деятельности; он давно уже забыл требования мысли и художества,
давно уже обдумывает не лица, а только прозвища, не действия, а только сальные
выражения и язвительные обороты речи. Но художество не дает попирать себя
безнаказанно; та правда, которой мы в нем ищем и в которой состоит его
сущность, не открывается писателю, который не служит искусству добросовестно.
Вот почему этот фельетонист, конечно не стоящий имени сатирика, так успешно
потешает свою публику, но невообразимо скучен, почти невозможен для чтения,
для людей сколько-нибудь сериозных»30.
Статьи, напечатанные в журналах «Время» и «Эпоха» и отразившие этот
период острой идейной борьбы, были собраны Страховым в книге «Из истории
литературного нигилизма (1861-1865)». Не отошла тема нигилизма на задний
план и в последующие годы. Так, нигилизму Страхов посвятил одну из глав
своих «Критических заметок», опубликованных в журнале «Отечественные
записки» (ноябрь 1867 г.), а затем вошедшую в книгу «Бедность нашей
литературы» (1868) под названием «Нигилизм. Причины его происхождения и силы».
Страхов высказал в этой главе ряд важных тезисов о нигилизме, которые он
развивал в своем дальнейшем творчестве. Первая из них — что «нигилизм есть
некоторое западничество», хотя некоторые критики, как отмечает Страхов,
считают, что «он есть наше доморощенное, туземное сумасбродство», а на
Западе всё идет «чинно, стройно и благородно»31. При этом Страхов показывает,
что нигилизм, какого бы оттенка он ни был, всегда характеризуется великим
уважением к европейской цивилизации с ее философией прогресса.
Развивая свою мысль, Страхов замечает, что «нигилизм есть не что иное,
как крайнее западничество, — западничество, последовательно развившееся
и дошедшее до конца»32. В самой Европе, пишет Страхов, получила развитие
критика всех сторон тамошней жизни. Что касается нашего общества, то нам
такой отрицающий взгляд на человеческие отношения пришелся больше по
вкусу, чем старые начала, которыми еще жила Европа, но даже и он не вполне
удовлетворил наши требования. Поэтому нигилизм как радикальное отрицание
всех сложившихся форм жизни не простое отражение у нас Запада, а «чисто
русское явление, возникшее только под влиянием западных идей»33.
30 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 439.
31 Страхов Н. Н. Бедность литературы // Страхов. Литературная критика. С. 75.
32 Там же. С. 76.
33 Там же. С. 78.
200
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
Страхов воспринимает нигилизм как крайнее проявление нашего
западничества: «.. .нигилизм есть крайнее, самое последовательное выражение современной
европейской образованности, а эта образованность поражена внутренним
противоречием, вносящим ложь во все ее явления»34. Страхов видит среди нигилистов
две категории западников, не вполне понимающих друг друга, — «умеренных»
западников-либералов 1840-х гг. и их «нечистых» последователей, радикалов
1860-х гг., которые довели европейские идеи до крайности35. Страхов находит
в русской натуре «задаток глубокого цинизма, составляющий как бы противовес
чистому и высокому энтузиазму, тоже несомненно таящемуся в русских душах»36.
Страхов писал в 1883 г. о том, что нигилизм, возникший в России под
влиянием Запада, вернулся в Европу в новом, более радикальном обличье: «Нигилизм
есть очень характерное порождение нашей земли, в котором сказались и западное
влияние, и наш русский ум с его быстротою и отчаянностию. Это самая
последовательная, самая определенная и потому наиболее оригинальная и поучительная из
наших партий. Теперь, когда Бакунины и Крапоткины (так!) стали словом и делом
работать в самой Европе, мы могли бы злобно посмеяться и сказать, что платим
Западу долг, что уже вносим свою долю участия в его политическое развитие»37.
И всё же Страхов видел в нигилизме не только отрицательное явление, но и
своеобразное выражение русского идеализма. «Здоровую сторону нигилизма» Страхов
видел в его способности отвергать те безобразия, которыми полна русская жизнь; не
отрицал он и своеобразный идеализм самопожертвования лучших среди радикалов.
Н. К. Михайловский иронизировал по поводу такого вывода Страхова:
«...г. Страхов одно время очень старался доказать, что нигилизм есть одно из
самых ярких выражений начал русского народного духа...»38
По мнению Страхова, суть нигилизма не материальные интересы, но
попытка заглушить «пустоту души», «душевный разлад»39. Он находит у нигилистов
черты религиозного поклонения, «суррогат религии». Одну из причин популярности
нигилизма в обществе Страхов видел в том, что проникшие в массовое сознание
молодежи идеи их учителей не возвышают личность, а, наоборот, принижают ее:
«Сила же нынешнего направления в том и состоит, что оно понижает умственные
требования, ограничивает кругозор, узаконивает низменные понятия»40.
Страхов выступил одним из главных идейных противников
«нигилистов», как своего рода противовес критическим выступлениям Чернышевского,
34 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 110.
35 Страхов Я. Нечто о характере нашего времени // Гражданин. 1873. №36, 3 сент.
С. 979-981.
36 Страхов. Литературная критика. С. 79.
37 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 429.
38 Михайловский Н. К. Записки профана: Десница и шуйца Льва Толстого // Отеч. зап.
1875. Июнь; то же: Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 86.
39 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 95, 99.
40 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 3. С. 109.
201
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$>
Добролюбова и всей компании «революционных демократов», которых он
неизменно называл «нигилистами». Этими выступлениями он обрек свою
литературную судьбу на заведомую неудачу, но именно в мужественном
самопожертвовании великая заслуга Страхова, способствовавшего наряду с Достоевским
и другими самостоятельно мыслящими писателями постепенному завершению
губительной для страны эпохи радикального нигилизма.
Почти все, кто писал на тему нигилизма, отмечали, что огромную роль
в развитии этой злокачественной болезни нашей жизни, как выразился
однажды Страхов41, играли бывшие семинаристы. Николай Добролюбов, Николай
Чернышевский, Максим Антонович, Иринарх Введенский, Григорий Благо-
светлов — всё это выходцы из духовных семинарий.
Почему же семинаристы оказались в первых рядах идейной оппозиции
правительству? Семинарии были чуть ли не единственным местом, где дети
духовенства могли получить образование, но далеко не все из них собирались
стать священниками. Семинарии были закрытыми учебными заведениями, со
своей особой духовной атмосферой, зависевшей от преобладавших
настроений. Воспитанники семинарий получали хорошее образование, аскетическое
воспитание, у них вырабатывалась целеустремленность. Однако под влиянием
растущих в обществе оппозиционных настроений вера среди семинаристов часто
шла на убыль. Формирование нигилистического духа в семинариях усиливалось
от преобладания механистических форм обучения, рационализма в преподавании
богословских предметов, принудительного «благочестия». В обучении искусству
проповеди, гомилетике, часто использовались так называемые хрии —
механические приемы риторики, введенная иезуитами практика попеременного, чисто
логического доказательства разных точек зрения. Схоластика в преподавании
разрушала веру, рационализм у некоторых учеников переходил в безбожие,
неверие. Жажда веры, свободы и справедливости завершалась подменой Царствия
Небесного верой в построение земного рая; аскетические навыки получали
искаженное псевдорелигиозное применение в идеологии самопожертвования
ради светлых революционных целей.
Многие из хорошо учившихся, но скептически настроенных семинаристов
поступали в университеты и пополняли ряды скрытой политической
оппозиции. Нигилистическая обстановка царила не только во многих семинариях, но
и в обществе, в том числе в литературе. В 1840-1850-х гг., во время правления
Николая I, произошло отчуждение интеллигенции от власти и
распространение антиправительственных настроений. Отказ от высокой религиозной идеи
приводил многих из бывших семинаристов, ставших студентами, к замещению
религии исканием земных идеалов, мечтами о строительстве царства
справедливости и достижении счастья на земле. Надо отметить, что в 1850 г. политическая
41 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 86.
202
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
философия в целях искоренения вольнодумства в университетах была
практически запрещена, и именно литературная критика стала поприщем, на котором
можно было, несмотря на строгую цензуру, в слегка закамуфлированном виде
выразить радикальные политические взгляды. Философия действительно была
тогда на грани исчезновения, но не из-за официальных запретов, а из-за
популярности в обществе опирающегося на авторитет естественных наук материализма
и растущего влияния радикальных нигилистических идей, которые получили
в советское время наименование революционно-демократических.
По мнению Ап. Григорьева, Достоевского, Страхова и других
самостоятельных мыслителей, не примкнувших к «обличительному» направлению,
родоначальником русского нигилизма стал известный критик Виссарион
Белинский, когда-то автор прекрасных «Литературных мечтаний». Но к середине
1840-х гг. Белинский встал на позиции неприятия политического строя и
открытого неверия. Его расходившееся нелегально письмо к Гоголю сыграло важную
роль в формировании атеистических и революционных настроений в обществе.
Важнейшую роль в пропаганде крамольных взглядов продолжателей
Белинского играли также распространявшие радикальные идеи огромными тиражами
«толстые» литературные журналы «Современник», «Отечественные записки»,
«Русское слово», «Дело», которые имели гораздо больший успех у читателей
в обществе, чем издания консервативные...
Страхов хорошо знал идейные основания оппозиционного движения,
так как сам, подобно большинству лидеров нигилистического движения, был
семинаристом. Сын белгородского протоиерея, воспитывавшийся под опекой
монаха, впоследствии архиерея, он в 1841-1844 гг. учился в Костромской
семинарии. Однако хотя Страхов и не пошел по духовному пути, он все-таки не
примкнул к нигилистам. Что же удержало его?
Думается, от оппозиционных увлечений спасли его прежде всего привитые
в семинарии чувства патриотизма и любви к русским традициям. Как Страхов
отмечал в воспоминаниях, в Костромской семинарии царили религиозные
представления и патриотические настроения, а вольнодумцев совсем не было. Кроме
того, с юных лет он увлекался чтением художественной литературы, проявлял
интерес к наукам и философии. Именно любовь к знаниям в первую очередь отвела
Страхова от увлечения политическим радикализмом. Надо отметить, что для
многих нигилистов наука, наоборот, служила как раз основанием для их утопических
мечтаний о всеобщем благоденствии. Страхов же с молодых лет был настроен
против нигилизма, и занятия наукой даже помогли ему в этом противостоянии.
* * *
В 1869 г. Страхов начал исполнять обязанности редактора в журнале «Заря»,
где поместил большое количество своих наиболее значительных статей. Так,
203
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—ф
в «Заре» появились статьи о «Войне и мире» Толстого, о Герцене, маленький шедевр
«Вздох на фобе Карамзина», в котором автор защищал выдающегося историка от
нападок либерального публициста А. Н. Пыпина, известного своим откровенно
нигилистическим отношением к патриотически настроенным писателям. Опровергая
негативную оценку труда Н. Я. Данилевского идейными противниками, Страхов
верно указывал как на западнические истоки критики, отрицающей значение этого
важнейшего историософского обоснования русской цивилизации, так и на
нигилистические приемы этой критики. Почти все многочисленные статьи Страхова,
напечатанные в «Заре», содержали размышления о необходимости умственной
самостоятельности и критические высказывания против нигилизма.
В воспоминаниях о Достоевском, рассказывая о событиях времен
журналов «Время» и «Эпоха», Страхов называет нигилизм «главной нашей
внутренней болезнью»42. «Неизбежной частью этой задачи была полемика, так как всё
огромное большинство литературы было западническое, а самое решительное
влияние принадлежало журналам, прямо расположенным к нигилизму. Поэтому
нигилизм сделался некоторого рода специальностью „Времени"; оно постоянно
следило за ним и анализировало его с различных сторон»43.
Страхов открыто писал там же о литературном терроре, устроенном
представителями оппозиции: «Партия „Современника", имевшая сильный вес в
публике, загорелась особенным усердием; она стала действовать как некоторого
рода комитет общественного спасения, и этот комитет, отличавшийся великою
и возрастающею жестокостию, долго сохранял, однако же, полнейший
авторитет. Литературные имена одно за другим были уничтожаемы; каждая книжка
журнала совершала несколько казней и угрожала тем, кто еще не подвергся
гибели. Память об этих временах литературного террора теперь почти вовсе
изгладилась; но тогда шум стоял большой и дело нимало не казалось смешным»44.
Сотрудник «Исторического вестника» Б. Б. Глинский в статье о В. П.
Буренине, принадлежавшем в молодые годы к рьяным сторонникам нигилизма, пишет
об обстановке нетерпимости времен господства оппозиционных настроений
в общественном мнении: «Ведь было же время, когда такие колоссы литературы,
как Тургенев и граф Толстой, были заподозрены крикливыми представителями
буйной толпы в их авторитетности; что же говорить про писателей, каковыми
были К. Леонтьев, Аполлон Григорьев, Н. Страхов — их совсем замалчивали,
сводили на нет и подозрительно третировали»45.
«Современник», как писал Страхов, «тогда был в самом воинственном духе
и с начала года принялся за казни; в первой книжке совершена была казнь над
42 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 381.
43 Там же. С. 433.
44 Там же. С. 437.
45 Глинский Б. Б. Виктор Петрович Буренин: (Критико-биографический очерк) // Ист.
вестник. 1912. Янв. С. 26; то же: Глинский Б. Б. Среди литераторов и ученых. СПб., 1914. С. 58.
204
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
ф -
московским профессором философии Юркевичем, во второй—над славянофилами,
в третьей — над Тургеневым, в четвертой—над ,3ременем", то есть именно надо
мною»46. В апреле 1862 г. «Современник» разразился большой критической статьей
«О духе „Времени" йог. Косице как наилучшем его выражении», направленной
исключительно против Косицы (Страхова). М. А. Антонович, автор этой
неподписанной статьи, подверг идейного оппонента нигилистов Косицу беспощадной
критике и за почвенничество, и за гегельянство. Страхов позже писал: «Таким
образом, мне досталось весьма почетное место в числе главных врагов, или, пожалуй,
главных жертв „Современника". Эта честь заслужена мною именно тем анализом
нигилистического направления, которым я с таким усердием занимался»47. Именно
с этих пор у Страхова сложилась репутация неисправимого ретрограда и мракобеса.
* * *
31 марта 1878 г. судом присяжных была оправдана стрелявшая в обер-по-
лицеймейстера Трепова Вера Засулич. Страхов присутствовал на этом суде:
«Я веду себя дурно, таскаюсь по знакомым, по театрам, даже просидел целое
утро на суде, когда судили Засулич. Эта комедия человеческого правосудия
очень взволновала меня. (...) ...всё дело вели к ее оправданию и оправдали
с восторгом невообразимым. Все это мне показалось кощунством над
самыми святыми вещами»48. Если Страхов был поражен неожиданным событием,
и особенно всеобщей радостью о таком исходе, то Толстого это наводит на
мрачное пророчество: «Засуличевское дело не шутка. Это бессмыслица, дурь,
нашедшая на людей недаром. Это первые члены из ряда, еще нам непонятного;
но это дело важное. Славянская дурь была предвестница войны, это похоже на
предвозв(естие) революции»49.
1 марта 1881 г. произошло злодейское убийство террористами Царя-
Освободителя Александра II, которое произвело на Страхова гнетущее
впечатление. Сам Страхов переживал это страшное событие как национальную трагедию,
как печальное следствие нарастающего распространения идейного нигилизма.
2 марта он делится своими грустными мыслями с Иваном Аксаковым:
«Как мне больно, и грустно, и стыдно, как мне всё еще кажется, что земля
колеблется под ногами! Так вот чем закончилось это двадцатилетие! Вот наш
прогресс, единственные вполне спелые его ягодки...(...) Сегодня я давал присягу
в церкви Министерства народного просвещения. Молились на коленях и пели
Тебе Бога хвалим; сзади меня недурно подпевал кн. В. П. Мещерский. Потом
были на улице. Город имел праздничный вид. Сегодня прекрасный светлый
46 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 437.
47 Там же.
48 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 621.
49 Там же. С. 626.
205
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—»$■
день, и множество народа бродило по улицам. Всё тихо. Эта смерть, от
которой содрогнулся мир, не нарушила ни на йоту заведенного порядка. (...) И всё
пойдет по-старому. И мы, вероятно, ничему не научимся (...) А рядом будут
вырастать и зреть какие-нибудь ядовитые ягодки, самоубийства, политические
преступления, что-нибудь чудовищное, неслыханное, так что немцы и французы
будут с изумлением таращить глаза на своих учеников. О, русская натура! Много
в тебе сил, но ничего из тебя не выйдет. (...) Нигилизм есть одно из прямых
твоих выражений, и тянет к нему всех, не одних недоучившихся гимназистов.. .»50
В том же духе 6 марта Страхов пишет Толстому: «Какой удар, бесценный
Лев Николаевич! Я до сих пор не нахожу себе места и не знаю, что с собою
делать. Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим
и благодетельнейшим царем в мире. Теоретическое убийство, не по злобе, не по
реальной надобности, а потому что в идее это хорошо»51. Однако Толстого не
очень печалит трагическая гибель царя. Им овладевает идея, что надо убедить
молодого императора, сына убитого террористами царя, отказаться от наказания
убийц, ибо это, по его мнению, соответствует христианской морали.
Страхов под влиянием поразившего его своей жестокостью
«теоретического» (то есть умышленного, опирающегося на теорию) убийства Царя-
Освободителя начинает писать «Письма о нигилизме» (19 марта он закончил
первое письмо).
А тем временем близкий друг Страхова Лев Толстой, так же как и приятель
критика Владимир Соловьев, переживают это событие совершенно иначе. Их
беспокоит не разгул терроризма, не убиение Государя, а беспокойство за жизнь
тех, кто осуществил жестокое покушение. Между Толстым и Соловьевым не
было, видимо, никакой договоренности (хотя Соловьев в марте приезжал к
Толстому). Но оба они обратились к преемнику покойного императора, призывая
Александра III подойти к первомартовскому событию с позиций христианского
милосердия и отказаться от возмездия, дабы прервать цепную реакцию насилия.
Толстой, как сторонник непротивления злу насилием, вроде бы внешне
и не выступал в этом случае сторонником террористов, хотя и вступился за
них. Однако переписка писателя со Страховым, да и дальнейшая эволюция его
взглядов показали, что за первомартовцев он заступался не случайно.
17 марта, когда Страхов уже завершал вдохновенную работу над первым
письмом о нигилизме, Толстой просит Страхова помочь переправить свое письмо
новому императору с прошением о помиловании участников покушения. Ход
мыслей и переживаний Страхова в это время имеет противоположное направление:
его ум и душа заняты негодующей статьей против безнравственности нигилизма.
Посылая 20 марта Аксакову в «Русь» свое первое письмо о нигилизме,
Страхов сообщает: «Я так расписался, как и не помню; ни в какое свое писанье
50 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 47.
51 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 594.
206
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
я не вкладывал столько души, и если бы удалось, то можно бы на этом кончить
всякое писание. Тема—характеристика нравственного и умственного состояния
нашего времени. Точка зрения — самая простая, именно, — самые
элементарные требования нравственности (...) Темы следующих писем будут: история,
прогресс, просвещение и т.п. Надеюсь, что мне удастся излить всё негодование,
которое во мне накопилось...»52 Переживания Страхова созвучны настроению
Аксакова, и редактор «Руси» решает тотчас печатать его письмо: «Оно прекрасно
и совпадает вполне с написанной уже мной передовою...»53
Если Страхов пытается излить в «Письмах о нигилизме» естественное,
казалось бы, негодование в связи с бесчеловечным убийством, то у Л. Н. Толстого
совсем иные «муки совести» — он переживает за тех, кто готовится взять на себя
грех убийства революционеров, и видит выход из ситуации в христианском
прощении террористов. Страхов получает письмо Толстого с просьбой, которая явно
противоречит его собственным представлениям и для него наверняка нравственно
обременительна, но он готов выполнить любое поручение дорогого друга.
«Дорогой Николай Николаевич.
Заказное письмо, которое вы получите, это письмо от меня к Государю.
Хорошо ли, дурно, но меня так неотвязно мучила мысль, что я обязан перед своей
совестью написать Государю то, что думаю, что я мучался неделю—писал,
переделывал и вот посылаю письмо. Мой план такой: письмо к Государю и письмо,
которое при этом приложено, вы — если вы здоровы и можете, и хотите это сделать,
вы передадите, или лично, или хоть перешлете к Победоносцеву»54. К главному
письму, обращенному к вступившему на престол Александру III, было приложено
письмо к Победоносцеву с просьбой передать послание молодому царю.
Страхов постарался добросовестно исполнить поручение и вручил письмо
Победоносцеву. Но Победоносцев, как известно, отказался передавать письмо
Государю по идейным соображениям, и Страхов сумел найти другой путь: он
договорился о передаче письма ко двору с проф. К. Н. Бестужевым-Рюминым,
с которым его связывали дружеские отношения, а тот передал его по назначению
через великого князя Сергея Александровича. По другой версии, письмо было
опущено в ящик при дворе.
Победоносцев же чуть позже так объяснил свой отказ Толстому: «..
.прочитав письмо ваше, я увидел, что ваша вера одна, а моя и церковная вера другая,
и что наш Христос — не ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины,
исцеляющим расслабленных, а в вашем показались мне черты расслабленного,
который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог исполнить
ваше поручение»55.
52 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 49.
53 Там же. С. 51.
54 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 596.
55 Цит. по: Толстой. ПСС. Т. 63. С. 58.
207
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
Что касается демарша Владимира Соловьева, то он в своей публичной
лекции в зале Кредитного общества в присутствии тысячной аудитории 28 марта,
в день, когда ожидалось вынесение приговора первомартовцам, заявил, согласно
современным источникам: «Для нового представителя царской власти наступает
время на деле оправдать свои притязания на верховное водительство русского
народа. Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены на смерть цареубийцы, но
царь может простить и должен простить их, если он действительно вождь народа
русского, если он, как народ, не признает двух правд, если он признает за правду
только правду Божию, которая говорит: „Не убий"»56. Разделявшая
антиправительственные настроения молодежь вынесла смелого оратора из зала на руках...
Иван Аксаков спрашивал в письме от 2 апреля у Страхова, который
присутствовал на этой лекции Соловьева: «Правда ли, что Соловьев держал речь о том, что
Государь не должен казнить преступников и что если казнит, то мы не пойдем за
ним в этом направлении, и что при этом будто бы сослался на меня (...) Я знаю, что
гр. Л. Н. Толстой писал об этом письмо, но ведь Толстой, говорят, встречая солдат,
внушает им, что они не должны стрелять в неприятеля. Это кривомудрие. Я всегда
был против смертной казни в принципе и держусь этого мнения. Но если она
существует, если казнены Лизогуб [террорист, казненный в 1879 г. в Одессе] и Ко., то
не казнить Рысакова было бы исключением, извращающим смысл правосудия»57.
Соловьев действительно сослался в лекции на «красноречивое изложение идеи царя
по народному воззрению» в предыдущее воскресенье, имея в виду И. С. Аксакова,
и заявил, что он взял на себя смелость досказать высказанную там мысль.
Лекцию Соловьева Страхов описал Аксакову так: «Я был на лекции
Соловьева, но не возьмусь Вам дать отчет о ней. Это была какая-то нескладная
путаница мыслей, высказанная с необыкновенным азартом (...) Переход к
казни был неожидан; против казни было сказано только то, что есть заповедь: не
убий; дважды было с напором повторено, что Царь должен исполнить это как
требование христианского учения, и затем прибавлено, что если не исполнить,
то „мы не выйдем из этого кровавого круга преступлении и возмездии » .
Любопытно, что Страхов совершенно по-разному отнесся к внешне схожим
поступкам Толстого и Соловьева. Он нашел письмо писателя сердечным и горячим,
а выступление Соловьева—холодным, головным: «Ваше же письмо, бесценный
Лев Николаевич, содержит столько чувства и горячего желания добра, что не могло
произвести дурного впечатления. Другое дело речь Соловьева; вот уже было не
по-христиански сказано на христианскую тему. Соловьев вообще говорит как не
живой, как будто у него одна голова, а сердца нет, еще не выросло»59.
56 Лекция Вл. Соловьева, прочитанная им 28 марта 1881 года // Соловьевские
исследования. 2013. Вып. 1 (37). С. 81-82. .
57 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 51.
58 Там же. С. 53.
59 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 599-600.
208
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
=»
Царь не послушал именитых заступников, «проповедников
терпимости и гуманности», несмотря на их апелляции к христианскому милосердию,
и 3 апреля 1881 г. преступники были казнены.
Чуть позже, 18 апреля, в газете «Русь» Ивана Аксакова появилось первое
«Письмо о нигилизме» Страхова, через неделю — 25 апреля — второе (еще два
письма были напечатаны в мае).
На просьбу Страхова от 4 мая читать его «Письма о нигилизме» Толстой
ограничился кратким ответом (5 мая), что ни первое, ни второе письмо ему не
понравилось.
Страхов же, вечно уклонявшийся от прямой ссоры со своим великим
другом, которого боготворил за литературный талант, все-таки выразил свое
осуждение нигилизма в замечательном письме к Толстому от 25 мая 1881 г.
В нем Страхов, в частности, писал о нигилистах: «Этот мир я знаю давно,
с 1845 года, когда стал ходить в Университет. Петербургский люд с его складом
ума и сердца и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского,
Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. — главных проповедников
нигилизма, — всё это я близко знаю, видел их развитие, следил за
литературным движением, сам пускался на эту арену и пр. Тридцать шесть лет я ищу
в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы, — ищу
настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, и мое
отвращение всё усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти
тридцать шесть лет только это растет, только это действует, только это может
надеяться на будущность, а всё другое глохнет и чахнет»60.
Третье письмо Страхова, посвященное нигилизму, было напечатано
в «Руси» 2 мая, а четвертое— 16 мая. Несмотря на глубину и обширность
размышлений Страхова о нигилизме, его письма оставляют впечатление
незаконченности по причине необъятности темы. Он и сам писал, что не выразил
и сотой доли того, что хотел. Страховым, кстати, было написано и еще одно,
пятое письмо, опубликованное после его смерти61, но он, видимо, был им
недоволен и решил не печатать. Позже он сетовал, что не сумел полностью выразить
тему, но писать завершение писем не стал.
Что касается Толстого, то 28 мая 1881 г. он отвечал Страхову по поводу
его размышлений о нигилизме уже подробнее, отметив, что третье и четвертое
письма, в отличие от первых двух, «обличительных», ему понравились, так
как Страхов попытался в них объяснить причины, побуждающие недовольных
к действию. Он призывал Страхова встать на будто бы «беспристрастную» точку
зрения, хотя в его совете, как и в прошении к царю о помиловании убийц, явно
прослеживались симпатии к революционерам:
60 Там же. С. 606.
61 Страхов Н. Н. Пятое письмо о нигилизме // Рус. вестник. 1898. № 1. С. 143-154.
209
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
'3>
«Вчера только получил и прочел ваши 3-ю и 4-ю статьи. Эти две мне очень
понравились; но, простите меня, именно тем, что они отрицают первые. В первой
статье вы поставили вопрос так: среди благоустроенного, хорошего общества
явились какие-то злодеи, 20 лет гонялись за добрым Царем и убили его. Что это
за злодеи? И вы выставляете все недостатки этих злодеев во 2-й статье. — Но,
по мне, вопрос поставлен неправильно. Нет злодеев, а была и есть борьба двух
начал, и, разбирая борьбу с нравственной точки зрения, можно только обсуживать,
какая из двух сторон более отклонялась от добра и истины (...) Вы же выставляете
основой „народ".—Должен сказать, что в последнее время слово это стало мне
так же отвратительно, как слова: церковь, культура, прогресс и т.п.»62. Народные
идеалы требуют, заявляет Толстой, «высказать действительно нравственные
идеалы, а не блины на масленице или православие, и не мурмолку или
самодержавие»63. Нигилистическая подоплека толстовской позиции очевидна. Страхов,
между прочим, отметил в своем очередном ответе, что И. С. Аксакову, в отличие
от Толстого, понравились как раз первое и второе письма о нигилизме.
Новое (неотправленное) письмо Толстого, написанное в начале июня
1881 г., наполнено нескрываемым раздражением и констатацией явного различия
взглядов: «Мне всегда делается ужасно грустно, когда я вдруг с человеком, как
вы, с которым мы всегда понимаем друг друга, вдруг упираюсь в тупик. И так
мне сделалось грустно от вашего письма. Я сказал вам, что письма ваши мне
не понравились, потому что точка зрения ваша неправильна; что вы, не видя
того, что последнее, поразившее вас зло, произошло от борьбы, обсуживаете
это зло. (...) Вас особенно сильно поразило убийство царя, вам особенно
противны те, которых вы называете нигилистами. — И то, и другое чувства очень
естественные, но для того, чтобы обсуживать предмет, надо стать выше этих
чувств; а вы этого не сделали»64.
Толстой не принимает самого определения «нигилисты», так как он, по
существу, склоняется к оправданию революционной деятельности:
«Нигилисты — это название каких-то ужасных существ, имеющих только подобие
человеческое. И вы делаете исследование над этими существами. И по вашим
исследованиям оказывается, что даже когда они жертвуют своею жизнью для
духовной цели, они делают не добро, но действуют по каким-то
психологическим законам бессознательно и дурно»65.
Между позициями Страхова и Толстого — целая пропасть. Толстой
оправдывает терроризм социальными причинами: «Я не могу разделять этого взгляда
и считаю его дурным. Человек всегда хорош, и если он делает дурно, то надо
искать источник зла в соблазнах, вовлекавших его в зло, а не в дурных свойствах
62 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 609.
63 Там же. С. 610.
64 Там же. С. 611.
65 Там же.
210
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
гордости, невежества. И для того, чтобы указать соблазны, вовлекшие
революционеров в убийство, нечего далеко ходить. Переполненная Сибирь, тюрьмы,
войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей — не
отговорки, а настоящий источник соблазна»66. При таком расхождении взглядов
трудно говорить о каком-либо единомыслии.
Однако это написанное «сгоряча» письмо, которое почти неминуемо вело
к ссоре, Толстой Страхову не послал. Но и Страхов, очень дороживший дружбой
с великим писателем, как-то стушевался и явно пошел на попятную. 13 июня
Страхов написал: «Относительно моего нигилизма вы правы: всё мое писанье
имеет односторонний вид и может быть принято за брань на нигилистов»67.
Оба корреспондента постарались «замять» явные расхождения во взглядах, но
трещина в их отношениях осталась.
* * *
Тем временем «Письма о нигилизме», проникнутые трагическим
мироощущением, произвели большое впечатление на общество. Они печатались в газете
«Русь» в рамках обсуждения трагической темы цареубийства. Свои размышления
о нигилизме поместили в «Руси», помимо Страхова, Н. П. Гиляров-Платонов,
Н. Я. Данилевский, сам редактор «Руси» Аксаков. Но, по мнению Ю. Н. Говорухи-
Отрока, лучшие статьи на тему нигилизма принадлежали перу Страхова68.
Именно в «Письмах о нигилизме» 1881 г., вошедших позже во вторую
книгу трехтомного сборника Страхова «Борьба с Западом в нашей
литературе»69, наиболее полно и глубоко выразились мысли Страхова, посвященные
радикальному направлению русского общественного движения.
Страхов не только излил в этих письмах свое потрясение «ужасом, скорбию,
стыдом от совершившегося цареубийства», но и напряг все силы ума для того,
чтобы попытаться рассмотреть корни нигилизма, «уразуметь, откуда зло», найти
«источник злодейства». Страхов убежден, что безумие — не случайность, в нем
отразился «весь дух нашего времени»: «Корень зла—нигилизм, а не политическая
или национальная вражда»70; «Нигилизм есть движение, которое, в сущности, ничем
не удовлетворяется, кроме полного разрушения»71; «Коренная черта нигилизма есть
гордость своим умом и просвещением...»; «Семена революции не принимались
на русской почве»72, и самые ожесточенные нигилисты встали на путь злодейства.
66 Там же. С. 611-612.
67 Там же. С. 613.
68 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Грустные воспоминания: Софья
Ковалевская (...) Северный вестник. Декабрь // Моск. вед. 1892. № 349, 17 дек.
69 Страхов Н. Письма о нигилизме // Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 61-110.
70 Там же. С. 69.
71 Там же. С. 74.
72 Там же. С. 83.
211
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Страхов отмечает, что революционеры отказались от религии, преследуя ее
проявления и исповедуя «новое божество» — прогресс, но свою религиозность
они откинуть не могли. Страхов видит в нравственном разрыве революционеров
с обществом, их отречении от благ и самопожертвовании подмену отринутой
веры, «суррогат религии»73. Страхов придавал нигилизму значение не просто
нравственного, но религиозного падения, «трансцендентального греха»:
«Нигилизм это — грех трансцендентальный, это — грех нечеловеческой гордости,
обуявшей в наши дни умы людей, это — чудовищное извращение души, при
котором злодеяние объявляется добродетелью, кровопролитие — благодеянием,
разрушение — лучшим залогом жизни»74.
Но человек, поставивший себе целью не спасение души, не чистоту души,
а достижение определенного внешнего результата, рано или поздно приходит
к мысли, что ради успеха дела нужно жертвовать даже совестью и все средства
позволительны. Страхов пишет: «Как видно, легче человеку поклониться злу,
чем остаться вовсе без предмета поклонения»75. Истинное просвещение, по
мысли Страхова, — не утилитарный прогресс, который лежит в основании
современных европейских начал и «есть большею частию предрассудок»76.
В области просвещения, считает Страхов, необходимо «всеми силами держаться
пути добра и истины, не принимая нисколько в расчет прогресса»77.
Окончательный вывод Страхова, перекликающийся с его прежними
суждениями о происхождении нигилистических настроений и органично
вписывающийся в общую концепцию «Борьбы с Западом», таков: «Нигилизм есть
крайнее, самое последовательное выражение современной европейской
образованности»78.
Тема нигилизма неразрывно связана у Страхова с темой нашей постоянной
духовной зависимости от Запада, с противостоянием в отечественной мысли
славянофильства и западничества. Это соперничество в борьбе за национальную
самобытность продолжается до сих пор. Страхов по своим идеям очень близок
к славянофилам — не случайно он открыто это декларировал, как не случаен
его многолетний творческий союз с И. С. Аксаковым.
Но Страхов сам был не только европейски образован, но и во многом
опирался в своих трудах на немецкую философию, на гегелевскую диалектику,
блестяще знал западноевропейских, особенно немецких, поэтов. М. О.
Меньшиков писал о нем в некрологе: «Ведя в течение ряда лет „борьбу с Западом",
Страхов, по крайней мере, знал, против чего воюет. Он знал европейскую науку,
философию, литературу. Он был математик и натуралист не по популярным
73 Страхов Н. Письма о нигилизме. С. 98.
74 Там же. С. 75.
75 Там же.
76 Там же. С. 100.
77 Там же. С. 101.
78 Там же. С. ПО.
212
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
Ф
книжкам, а по высшей школе и, в сущности, всю жизнь не выходил из школы,
учась до самой смерти всему, что есть важного в мире. Зная европейские языки,
Страхов всю жизнь прожил в сфере самых высших откровений современного
и прошлого человечества»79.
Не будет парадоксом сказать, что Страхов был одним из настоящих
европейцев в России — не тех, кто слепо заимствует с Запада тамошние новомодные
идеи, а тех, кто использует богатство европейской культуры для обретения
собственной духовной независимости. О том, что в таком утверждении нет
противоречия, говорит личность еще одного русского «европейца» — Ф. И. Тютчева.
Прожив почти всю жизнь на Западе, Тютчев тем не менее сохранил русскую
душу и выступил в своей публицистике с критикой европейской цивилизации,
перекликаясь во многом с мыслями, высказанными Страховым в «Борьбе с
Западом». Можно охарактеризовать эту парадоксальную ситуацию так: Страхов,
как и Тютчев, потому и выступил с критикой духовных основ европейской
цивилизации, что познал суть западного мира.
Едва ли не центральным звеном всей «Борьбы с Западом» является цикл
статей, посвященный Герцену, — многие критики считают именно герценов-
скую тему наибольшей творческой удачей Страхова. Трактовка Страховым
крайне противоречивой личности типичного западника, разочаровавшегося
во время жизни в Европе в ее идеалах, показала его выдающуюся способность
проникновения в психологию личности, незаурядное мастерство в создании
философского портрета. Итог драматической эволюции Герцена, тщательно
прослеженной Страховым на безупречно документированном материале,
таков: «Отчаявшийся западник превратился в нигилистического славянофила»80.
Конечно, далеко не все принимали страховскую трактовку личности Герцена,
но все признавали аналитический талант автора. Интересно, что, продолжая
тему своего очерка о Герцене, Страхов как редактор опубликовал в журнале
«Заря» очень интересный материал о переписке М. П. Погодина с
находившимся в эмиграции Герценом и об их встречах. Герцен и Погодин были идейными
противниками, и известны очень язвительные сочинения Герцена, посвященные
консервативному историку. Но Герцен и Погодин интересовались друг другом
и обменивались яркими письмами, которые воспроизведены в «Заре».
Страхов снова и снова возвращался в своей публицистике к теме
нигилизма, считая это «злокачественное» явление определяющей бедой своего времени.
Так, в статье, посвященной 25-летию со дня кончины Ап. А. Григорьева («Новое
время», 1889, 25 сент.), отмечая поразительное отсутствие развития в нашем
обществе, он находит такую причину: «Разгадка этой остановки, кажется, одна:
мы перенесли в это время тяжкую и страшную болезнь — нигилизм; в
„интеллигенции" возникло злокачественное брожение, которое принимало различные
79 Меньшиков М. О. Критические очерки. СПб., 1902. С. 499-500.
80 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 1. С. 131.
213
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
формы, обострялось и притихло, и разразилось, наконец, безумным злодейством
1 -го марта. Мы жили среди колебания умов и душ, постоянно отвлекавшего
внимание, не дававшего зреть никаким зачаткам»81.
Взгляды Страхова на перспективы преодоления нигилизма менялись.
Так, издавая в 1882 г., через год после убийства Александра II, первый
сборник статей, направленных против подражательства Западу, Страхов был далек
от надежды, что Россия сама сможет избавиться от нигилизма. В этом он уже
перекликается с пессимистическими пророчествами К. Н. Леонтьева: «Может
быть, нам суждено представить свету самые яркие примеры безумия, до
которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения...»82
Однако в 1895 г. Страхов, сохраняя общий антинигилистический настрой,
становится более оптимистичным вследствие спада радикальных настроений
в обществе. В письме к Гроту он выражает надежду на то, что молодежь
образумится: «Но я не разделяю вполне Ваших опасений касательно студентов. Не
такое время — кажется, консерватизм делает все большие и большие успехи.
Судя по всему, кучка смутьянов остается все та же и в мыслях и в действиях;
но сочувствие ей пропало или пропадает все больше и больше, и главная
масса не дает себя взволновать и твердо держится одного — надо добывать себе
звание и место»83.
Однако более верный, лишенный иллюзий взгляд на нигилизм с
исторической точки зрения он высказал чуть ранее, в 1892 г., когда выразил несогласие
со статьей Розанова «О трех фазисах в развитии русской критики» («Русское
обозрение», 1892, № 8). Пафос этой статьи, в духе присущей автору
переменчивости мнений, лежал в намерении найти нечто положительное в наследии
Добролюбова — Розанов отмечал его стремление «придать литературе более
жизненное значение», «слить ее с душой исторически развивающегося
общества»84. Страхов решительно отверг аргументы Розанова, с необычной для него
резкостью выразив свое отношение к Добролюбову и его единомышленникам:
«Добролюбов действительно звал к общественной деятельности, но именно —
к революции, к разрушению, к осуществлению социализма85, к тому же, к чему
звали полоумный Чернышевский и совершенно зеленый Писарев. Все они
исповедовали нигилизм, и начало этой проповеди непременно нужно указать
в Белинском, в последнем его периоде. Это было общее движение, поток
отрицания, захвативший почти всю литературу. Конечно, в основе лежат
нравственные требования, стремление к общему благу, и в этом смысле можно сказать,
81 Страхов Н. Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 249.
82 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882. Кн. 1. С. VI.
83 Письма СтраховаН. Я. Гроту. С. 258.
84 Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М.Достоевского. М., 1996. С. 236.
85 К этому месту письма Розанов сделал в 1913 г. длинное примечание, которое
начинается со слов: «Наступил этот рак русской истории, который именуется „социализмом"»
{Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 64).
214
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
что нигилисты дали литературе серьезное настроение, подняли все вопросы.
Но сделать они ничего не сделали, и напр(имер), деятельность Л. Н. Толстого
составляет их отрицание, отвергает их начала, — в чем и значение ее в текущей
нашей литературе (не sub specie aeternitatis (с точки зрения вечности. —лат.)).
Не могу согласиться, чтобы Добролюбов к чему-нибудь приготовил своих
читателей, и, во всяком случае, нигилизм есть центральное явление и следствие,
перед которым другие семена и побеги отступают на задний план»86.
Нигилистическому движению, основоположником которого стал
поздний Белинский, Страхов противопоставил направление критики, созданное
Аполлоном Григорьевым: «Григорьев уже писал лет 10 или 15, когда выступил
Добролюбов. Он есть фазис прямо развившийся (по контрасту) из Белинского»87.
Осуждение нигилизма неразрывно связано у Страхова с критикой
западничества. В цитированном выше письме к Розанову Страхов высказал очень
важные слова о сути нигилизма как плоде западничества: «И нигилизма Вы не
знаете, потому не видите, что западничество принимается худшими сторонами
русской души, что нигилизм его логический плод»88.
Критика нигилизма намечена в этом письме Страхова очень четкими
штрихами. Но удивляет, однако, как слеп был столь проницательный обычно Страхов
в отношении своего друга Толстого, в 1890 г. уже явно вступившего, несмотря
на религиозную оболочку его исканий, на путь отрицания армии, государства,
церкви, художественного творчества, — путь сближения с нигилистическим
движением. Если в отношении своих идейных противников Страхов в этом
письме к Розанову, как всегда, прав, хотя и непривычно категоричен (в духе
Достоевского), то, противопоставляя нигилистам деятельность Толстого, он,
увы, только выдает желаемое за действительное.
Художественная деятельность Толстого как автора гениальных
романов «Война мир» и «Анна Каренина» действительно составляла «отрицание»
нигилизма, однако его проповедничество при всей внешней религиозности
к 1890-м гг. уже обрело отчетливо нигилистические очертания. И странно,
что Страхов, противопоставляя Толстого нигилистам, будто запамятовал, как
вел себя Л. Н. Толстой в связи с событиями 1 марта 1881 г. и что писал ему по
поводу статей о нигилизме.
Розанов в статье «Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова» (1913),
написанной под свежим впечатлением от чтения только что опубликованной
в журнале «Современный мир» переписки этих писателей, ярко и
убедительно раскрыл нигилистическую сущность нападок Толстого на Страхова из-за
его взглядов и подчеркнул ложность бытующих мнений о единомыслии
друзей: «...теперь, когда много времени прошло, видишь, оглядываясь назад, что
86 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 63-67.
87 Там же. С. 67.
88 Там же. С. 68.
215
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
<$>
„новаторство" Толстого было по существу продолжением того „нигилизма",
против которого всю жизнь боролся Страхов; а Страхов был несколько
обманут той религиозною оболочкою, в которую был завернут нигилизм Толстого.
Страхов с величайшим энтузиазмом приветствовал поворот Толстого к религии
и религиозности, — уверенный, что это подействует на наш „старый нигилизм",
свернет его с путей голого отрицания. Но время прошло, и в действительности-то
оказалось, что „старый нигилизм" был крепче и выжил, а Толстой в сущности
покорился ему в самой религиозности своей...»89
Дальнейшая эволюция взглядов Толстого, печально завершившаяся его
отлучением от Церкви уже после кончины Страхова, свидетельствует, что в оценке
позднего Толстого-проповедника, к сожалению, скорее прав был не благодушный
Николай Николаевич Страхов, а тот ярый нигилист, который написал статью
про «зеркало русской революции».
Хотя история, как известно, не терпит сослагательного наклонения,
занимающиеся творческим наследием Страхова время от времени невольно
задаются вопросом: как он повел бы себя, если бы дожил до момента отлучения
Толстого, когда антицерковная, антигосударственная направленность проповеди
его друга стала очевидной для всех? Думается, на этот вопрос нет однозначного
ответа... Но после некоторых колебаний верх берет такая мысль: Страхов своих
близких друзей никогда не оставлял, тем более в трудную минуту, и, скорее
всего, он поддержал бы Толстого, несмотря на внутреннее несогласие с его
антицерковными протестами.
В письме к Толстому от 21 июня 1889 г. Страхов дает высокую оценку
Ясной Поляне как важному центру духовной деятельности и заявляет о своей
поддержке толстовского направления. Он верит, что его проповедничество —
отрадное явление, которое поможет преодолеть нигилизм и анархизм: «И вся
эта борьба, всё мучительное брожение умов разрешилось и завершается Вашею
проповедью, призывом к духовному и телесному исправлению...»90
Даже Ю. Н. Говоруха-Отрок не соглашался со Страховым, когда уважаемый
им философ и критик преувеличивал роль Толстого в формировании
положительного направления современной мысли, ставя писателя в этом отношении рядом
с Пушкиным. Говоруха прямо заявлял об ошибке увлеченного Толстым Страхова:
«.. .Конечно, Пушкин „шел своею дорогой", и он оказался „прямее, новее и шире"
всех современных ему направлений: он и в своем миросозерцании и в своей
поэзии опередил далеко свое время. Нельзя того же сказать о Л. Толстом — здесь
Н. Н. Страхов ошибается. Эта ошибка понятна в статье, написанной еще в тысяча
восемьсот семидесятом году—но теперь даже слишком выяснилось, чтобы впасть
в ту же ошибку. Именно в Л. Толстом мы видим яркий пример той раздвоенности
89 Розанов В. В. Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова // Розанов В. В. На
фундаменте прошлого. СПб., 2007. С. 163-172.
90 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 792.
216
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством»
между миросозерцанием и поэзией, о которой говорит Н. Н. Страхов. Покойный
Фет в своих „Воспоминаниях" очень удачно назвал Толстого „западником на
подкладке из русской овчины" — и со своим своеобразным юмором прибавил, что
по нашему климату иначе и нельзя. И Толстой как в своей поэзии, так и в своей
раздвоенности представляет одно из оригинальнейших явлений русской жизни.
Начавши с вражды ко всему искусственному, приподнятому во имя простоты
и искренности чувства и мысли, — он пришел на наших глазах к своеобразному
нигилизму, в котором, как в фокусе, отразилось всё отрицательное брожение
русской мысли нашего, уже оканчивающегося, столетия»91.
Толстой, в глубине души сочувствовавший нигилистам, спорил не только
со Страховым, но и с еще одним из ближайших друзей — А. А. Фетом. К
сожалению, после поворота Толстого к религии и его отказа от творчества они
с Фетом поссорились и прекратили общение и переписку. Уже в 1879 г., до их
ссоры, Толстой высказывался в защиту нигилистов. Так, Фет писал Страхову
с иронией 3 марта 1879 г.: «Лев Николаевич всё говорит, что у нас на Руси
завелся один нигилист и, мелькая то там, то сям по жел(езной) дороге, кажется
множеством». И, осознавая серьезность разрушительного движения, выражает
несогласие с писателем, что проблема радикализма не стоит выеденного яйца:
«Теперь, кажется, этот один хочет нас всех окружить»92.
Фет очень ценил, что в эпоху господства в общественном мнении
либеральной тенденциозности всё настоящее в русской литературе тянулось
к объединению, сохраняя при этом свою индивидуальность. Фет постоянно
сетует на непонимание светским обществом своих лучших писателей. «Что
же значит для целого сословия один Тютчев и один Толстой, которых, чтобы
даже понять, нужно бежать и слушать, что в совершенно другом кругу говорит
Страхов»93. Он называет такие духовные центры, к которым относит и Ясную
Поляну, и свое имение Воробьевку, «светлячками мысли».
Фет осознанно выступает против нигилизма. Основную угрозу он видит
в блужданиях современной интеллигенции. Свои антинигилистические
настроения он выразил в статьях «Наши корни» («Рус. вестник», 1882, № 2) и «Наша
интеллигенция», опубликованной уже в наши дни («Вопросы философии»,
2000, № 12). В этих его статьях многое созвучно тому, что говорил о
нигилизме Страхов, хотя отрицательных суждений о Толстом от критика было ждать
невозможно. Страхов пытался играть роль примиряющего звена в отношениях
Толстого с Фетом, но она ему не особенно удавалась, так как конфликт был
слишком глубок. Фет продолжал полемику с «новым» Толстым и в своих письмах
к Страхову. Для него отказ Толстого от художественного творчества был личной
91 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Поэзия Полонского. Гл. 6 // Моск. вед. 1895.
№ 52, 22 февр. С. 3.
92 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 270.
93 Там же. С. 158.
217
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$'
трагедией. Он считал, что учение толстовства — «нигилистическая
подкладка» к этой трагедии: «Зачем зарезал свой талант? Он исключительно теперь
зарезал — с этой нигилистической подкладкой возможны лишь мистические
галлюцинации, но не серьезные уравновешенные труды божески спокойного
гения эпоса»94. Религиозный поворот Толстого Фет воспринимает как уступку
нигилизму, «дьявольское наваждение», своего рода сектантство.
Фет отрицательно относился к нигилистам и в письме к Страхову от
23 марта 1879 г. предрекает фиаско Тургенева и всех «тенденциозников»95.
Он не считает тенденциозных поэтов радикального направления, Курочкина
и Минаева, «неумытых», как он выразился, своими коллегами по поэтическому
цеху и возмущается, что Страхов назвал их его «собратами»96.
Общение и переписка Страхова с такими «светляками» отечественной
культуры, как Толстой, Достоевский, Фет, а также с другими крупными
современными писателями и философами показывают, что Страхов — одна из главных
связующих фигур всей серьезной, глубокой литературы и философии периода
господства нигилизма и позитивизма. Страхов был важным объединяющим
звеном всего настоящего в русской литературе и мысли, противостоящего мощному
напору отрицательного направления. Григорьев, Достоевский, Толстой, Тютчев,
Полонский, Майков, Фет — все подлинное стихийно группировалось в борьбе
с литературно-философским нигилизмом. Страхов как никто поспособствовал
преодолению этой болезни русской общественной мысли.
Именно Страхов является одним из тех главных деятелей отечественной
литературы, кто готовил наступивший к 1890-м гг. возврат к философскому
идеализму, возрождению интереса к поэзии и прозе Пушкина, к творческому
наследию славянофилов. За мужественное сохранение верности главному
направлению отечественной литературы и философии вопреки всем
доминировавшим позитивистским и нигилистическим тенденциям Страхову не могли не
выразить благодарность потомки. Розанов писал: ««В конце XX века во всяком
случае будет видно, что он на два поколения опередил свое время, что над ним
не имели никакой власти господствующие идеи своего века.. .»97. Страхов своим
благородством и отстаиванием истины искупил грехи целого тридцатилетия
господства нигилизма в общественном сознании.
94 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 303.
95 Там же. С. 271.
96 Там же. С. 269.
97 Розанов В. В. Когда начальство ушло... СПб., 1997. С. 253.
GaSa 7
РОССИЯ И ЗАПАД — ВЗГЛЯД «ПОЧВЕННИКА»
Моя мысль — о России, моя вечная дума!..
Н. Страхов^
£§§© Философия и эстетика «почвенничества» — литературного
направления, к которому принадлежал Н. Н. Страхов, — сложилась в журнале братьев
Достоевских «Время» начиная с объявления о подписке на журнал,
написанного Ф. М. Достоевским в 1860 г., а также заметки «От редакции»,
опубликованной в первом номере «Времени» в январе 1861 г. Программа нового
журнала, отраженная в объявлении и заметке, основывалась, помимо мыслей
Ф. М. Достоевского и его брата Михаила, на идеях одного из самых важных
сотрудников издания — Ап. Григорьева. Правда, сам Григорьев в первом
номере журнала еще не участвовал, находясь в долговой тюрьме, но его
близкие к программе «Времени» мысли были высказаны критиком ранее
в многочисленных статьях, начиная с «Москвитянина». Редакция журнала
ставила задачу «создать себе новую форму, нашу собственную, родную,
взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал»2.
В то же время, утверждая «русскую идею» как программу национальной
самобытности, редакция надеялась на мирное решение политических и
социальных проблем России, на примирение цивилизационных преобразований
Петра с народными началами и на преодоление посредством грамотности
и просвещения возникшего в результате Петровских реформ разъединения
образованного сословия и простого народа.
В заметке «От редакции», опубликованной в первом номере
«Времени», особенно подчеркивались идейные расхождения программы журнала
со взглядами западников и славянофилов, отмечалось охлаждение
мыслящего общества к этим «старинным партиям»: «Но общество поняло, что
западничеством мы упрямо натягивали на себя чужой кафтан, несмотря на
то, что он уже давно трещал по всем швам, а с славянофильством разделяли
1 Страхов. По утрам. С. 425.
2 Достоевский. ПСС. Т. 18. С. 36.
219
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
'$' —
поэтическую грезу воссоздать Россию по идеальному взгляду на древний
быт...»3 При этом редакция журнала делала акцент на отличии программы
журнала «Время» от взглядов идейно близких, но страдавших, по ее
мнению, отвлеченностью славянофилов: «И хотя в славянофилах было много
любви к родине, но чутье русского духа они потеряли». Претендуя занять
место этих противоположных направлений, редакция «Времени» заявляла
о намерении преодолеть разделение общества и быть ближе к реальной
жизни, «жить и действовать, а не фантазировать»4.
Слово «почва» в метафорическом смысле, которое упоминается в
объявлении о подписке на журнал, появилось там не случайно. Но в то же время
почвеннические мотивы входили в число определяющих идей журнала «Время»
постепенно. Идея национальной «почвы» стала своего рода девизом журнала
братьев Достоевских, и со временем, спустя годы, это привело к появлению
терминов «почвенники», «почвенничество», обозначавших целое направление
русской литературы, сформировавшееся в журналах «Время» и «Эпоха».
Мысль о необходимости возвращения к «народной почве» усиленно
пропагандировалась Достоевским, Ап. Григорьевым и Страховым.
Свидетельством утверждения понятия «почвы» в планах редакции является,
например, появившееся во «Времени» в сентябре 1861 г. очередное объявление
о подписке на журнал, вероятно также написанное Ф. М. Достоевским (или
при его участии). Здесь «почвенническая» идеология высказывалась еще
более открыто: «Но, отказавшись от того, что было бесплодно и губительно
в явлениях нашей прежней жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть
ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не
будет. А для всякого плода нужна своя почва, свой климат, свое воспитание.
Без крепкой почвы под ногами и движение вперед невозможно: еще пожалуй
поедешь назад или свалишься с облаков»5. Редакция, сетуя об утрате новыми
поколениями старых форм жизни и чувства родной земли под влиянием
европейской идеи непрерывного прогресса, связывала понятие почвенничества
с утверждением русской национальной идеи: «Мы даже дошли до того, что
многие из мыслителей наших откровенно спрашивают: «„Какая же это
русская мысль? Что это за слово такое: народная почва?"»6. Символом отрыва
от почвы в объявлении становится образ «воздушного шара», восходящий
к идеям Чернышевского.
Идеи почвенничества, всё сильнее звучавшие на страницах
«Времени», вызвали полемику со стороны оппозиционных изданий. М. А.
Антонович откликнулся на «Объявление» пространной и ядовитой статьей «О почве
3 Достоевский. ПСС. Т. 18. С. 115.
4 Там же.
5 Там же. С. 147-148.
6 Там же. С. 148.
220
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
(не в агрономическом смысле, а в духе „Времени")» в декабрьском номере
«Современника»7. Автор возвел происхождение понятия «почва» к «реакционному»
журналу «Маяк» и высмеял его как «аллегорическое название», как нечто
туманное, неясное и представляющее собой пустую фразу. По ходу дела Антонович
прошелся и по такому понятию, как «народность», не находя существенных
различий между этими двумя не вполне ясными терминами: «...понятие,
соединяемое с словом „почва", остается столь же смутным и неопределенным, как
и то, которое прежде выражали словом „народность". Посмотрите на журналы,
толкующие о почве почти на каждой странице, славящиеся своею почвенностью
и укоряющие всех за оторванность от почвы, — чем они отличаются от прочих
журналов? Решительно ничем...» Антонович, конечно, имеет здесь в виду
славянофильские издания, прежде всего газету И. С. Аксакова «День», где опора
на «народность» была одной из программных идей.
Григорьев еще со времен «Москвитянина» симпатизировал
славянофильству, но его симпатии были неотделимы от критического отношения к
некоторым его сторонам: «Я глубоко сочувствую славянофильству в его любви к быту
народа и к высшему благу народа — религии, но и глубоко же ненавижу это
старо-боярское направление, за его гордость»8. По мнению критика, прежнее,
раннее славянофильство уже кончилось как «не народное, а старо-боярское
направление»9, и «Времени» было суждено прийти ему на смену. В письме
к Страхову из Оренбурга Григорьев предложил такой положительный план
действий редакции «Времени»: «...быть последовательным в своей вере в
поэзию и жизнь, в идею народности вообще (в противоположность
абстрактному человечеству), — воспользоваться ошибками славянофильства как всякой
теории и встать на его место»10. Неприемлемыми пунктами славянофильской
программы для Григорьева были прежде всего ориентация на старорусский быт
допетровских времен, категорическое неприятие Петровских реформ и
чрезмерная приверженность доктринерским теориям. Сотрудник «Современника»
Антонович скептически отнесся к претензии «Времени» занять место
западничества и славянофильства, устранив их недостатки, как это заявлял Григорьев
в письмах к Страхову.
Ф. М. Достоевский, в тот период еще не изживший в себе остатки
западнического либерализма, больше склонялся к идее компромисса, примирения
славянофилов и западников, которую также декларировал журнал «Время».
Григорьеву и Страхову были явно ближе идеи славянофильства с
внесенными ими изменениями. В то же время Григорьев заявлял, что если внести
7 [Антонович М. А.] О почве (не в агрономическом смысле, а в духе
«Времени») // Современник. 1861. Дек. С. 171-188 (без подписи).
8 Григорьев. Воспоминания. С. 355.
9 Там же.
10 Там же. С. 477.
221
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
в славянофильство их поправки, то оно перестает существовать, становится
явлением прошлого: «Как же скоро мы отбросим от себя „гнилую часть", —
славянофильства нет более. Оно — прошедшее...» п
Уже в своей первой публикации во «Времени» («Народность и
литература», 1861, февраль) Григорьев декларировал, что прежние направления —
славянофильство и западничество — устарели, открыв дорогу для нового течения,
под которым он понимал, конечно, почвенничество: «К числу несомненных,
купленных опытом фактов нашего времени принадлежит тот факт, что в
сущности нет уже более теперь у нас двух направлений, — лет за десять тому назад
резко-враждебно стоявших одно против другого, — западного и восточного.
Факт этот пора засвидетельствовать для общего сознания; ибо для сознания
отдельных лиц, для сознания каждого из нас, пишущих и мыслящих людей, он
уже засвидетельствован давно»12.
Григорьев явно стоит на стороне славянофильства, хотя и в нем находит
множество недостатков: «В двадцать лет много воды утекло. Славянофильство
хотя и пало, но пало со славою. Западничество же дожило до грустной
необходимости сказать свое последнее слово, и слово это — единодушно, единогласно,
так сказать всею землею, было отвергнуто с негодованием»13.
В своей полемической статье «О почве (не в агрономическом смысле...)»
Антонович писал, намекая на «Время»: «В последнее время разнесся слух, будто
бы у нас уже нет славянофилов; этот слух особенно усердно распространял
г. А. Григорьев и некоторые журналы, поставившие для себя задачей
примирить славянофилов с западниками и соединить их воззрения в общей идее.
Естественно, все подумали, что эта задача уже исполнена, и решили поэтому,
что нет более славянофилов».
Антонович не согласен с исчезновением славянофилов и, наоборот,
находит для «почвенников» свое определение, указывающее на сходство этих двух
направлений: он называет сторонников журнала «Время» «новыми
славянофилами». Подвергает он сомнению и вероятность реализации почвеннической
идеи примирения западников и славянофилов, образованных сословий и
народа. Сомневается сотрудник «Современника» и в возможности поступиться
западноевропейской образованностью, скептически высказывается он и об идее
сближения с простым народом посредством внедрения грамотности.
Одним из пунктов подчеркнутого Григорьевым расхождения «Времени»
как со славянофилами, так и с оппозиционным «Современником» было
отношение к Пушкину. По мнению Григорьева, славянофилы были к Пушкину
равнодушны, недооценивая его как народного поэта и выдвигая на ведущее
место в русской литературе Гоголя. Скептически высказывались о «народности
11 Григорьев. Воспоминания. С. 358.
12 Григорьев Ап. Народность и литература // Григорьев. Сочинения. Т. 1. С. 482.
13 Там же. С. 483.
222
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
Пушкина» и либеральные критики, опиравшиеся на идеи позднего
Белинского, который писал об упадке таланта Пушкина к концу жизни. В том же духе
писал и Антонович, заявляя, что народ, по его мнению, не понимает Пушкина.
Сотрудники «Времени», особенно Григорьев, были с этим категорически не
согласны — для «почвенников» Пушкин был воплощением лучших
устремлений русского человека.
Некоторые недостаточно внимательные авторы пишут, будто Страхов по
теме почвенничества практически не высказывался. Однако это совсем не так.
Основной отпор Антоновичу по вопросу о «почве» был дан не Григорьевым
или Достоевским, а именно Страховым, который в статье «Пример апатии»
(«Время», 1862, январь), отвечая на критику Антоновича, дал развернутое
определение «почвы», связав его с понятием об «органическом».
Страхов так объясняет этот важный термин, призванный дополнить или
даже сменить славянофильское понятие «народности» и давший название
всему направлению: «Под именем почвы разумеются те коренные и
своеобразные силы народа, в которых заключаются зародыши всех его
органических проявлений. Какое бы явление ни представляла история, современная
или будущая жизнь народа, будет ли это песня, сказка, обычай, частная или
гражданская форма, все это признается законным, имеющим действительный
смысл, — настолько, насколько органически связано с народной сущностью.
А это не так легко решить. Самые, по-видимому, ненормальные и
уродливые формы народной жизни могут быть органическими; и наоборот, самые,
по-видимому, правильные и стройные явления могут оказаться нечуждыми
механических примесей и инородных элементов. Таким образом, вместо
того, чтобы судить народ по какой-нибудь нашей мерке, нужно стараться
везде открыть его собственную мерку, ту единственную и нормальную мерку,
которая определяется самою сущностью каждого народного явления. Это
значит — нужно понять народ»14.
Страхов заявляет, что именно понимания народа и не хватает
Антоновичу: народ он не знает и не верит ему. Соответственно, нет ничего
удивительного в том, что критик «Современника» не верит и в существование
«народной почвы». Он целиком ориентируется на подражание Западу и
панацею от всех наших бед видит лишь в подражании европейской
цивилизации. Страхов приводит слова критика «Современника», свидетельствующие
о мрачности его взгляда на народную жизнь, вставляя в скобках собственные
ремарки: «Наша почва девственна, первобытна и наивна (вы хотите сказать:
глупа?) в своих воззрениях; она когда-то случайно заимствовала большую
часть их на стороне, некоторые (немногие?) придумала сама по своему вкусу
(грубому?), да так и остается с ними неподвижно (давно ли же она потеряла
14 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 115-116.
223
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ф
производительность?), потому что никогда не имела случая (ну как не быть
случаям!) сознательно испытать и разобрать их. Народ не задумывался над
своими убеждениями (вероятно, по тупости), ничто их не колебало, сомнение
собственное или возбужденное со стороны никогда не закрадывалось в его
голову (а раскол?). На нашей почве не было и нет тех колебаний и движений,
которые пережили европейские народы. Незначительное большинство
образованных людей успело усвоить себе результаты, добытые Европою. Наша же
почва находится в совершенном неведении этих результатов (следовательно,
что же в ней есть?)»,5.
Вскрыв равнодушие своего оппонента к нашей почве, грамотности,
образованности, литературе и прочим «идеалистическим» понятиям, Страхов
обнаруживает его «явное доброжелательство к материальному благосостоянию
народа». Соглашаясь с Антоновичем в необходимости заботиться о
материальном положении людей, Страхов парирует доводы либерального оппонента
неожиданным заявлением, что «мир управляется идеализмом», а не заботами
о материальном положении. Он переводит разговор в совершенно иную,
духовную плоскость, чуждую материалистически мыслящему оппоненту: «Уже
из того, что идеализм есть самая крепкая из сил человеческой жизни, друзья
человечества, люди, сострадающие его бедствиям, должны бы были убедиться,
что в этой силе заключается самое могущественное и единственное средство
исцеления и возрождения. Как прежде, так и ныне исцелить и спасти мир нельзя
ни хлебом, ни порохом, и ничем другим, кроме благой вести»16.
* * *
Что же касается темы взаимоотношений России и Запада, также
затронутой в этом споре с оппозиционными изданиями, то она отнюдь не выпала из
обсуждения. Страхов посвятил ей множество статей как в журналах «Время»
и «Эпоха», так и позже, в «Отечественных записках», «Заре» и других
периодических изданиях.
Страхов в «Заре» и позднее в «Гражданине» под редакцией
Достоевского проводил почвеннические взгляды как идеи славянофильские п, хотя
и подчеркивал отличие этих идей от славянофильства исторического, то есть,
в современной терминологии, от «раннего славянофильства». Таким образом,
направление этих журналов вполне можно назвать почвенническим.
Так, в статье «Взгляд на нынешнюю литературу» Страхов пишет о
необходимости развития славянофильской идеи, «духа» славянофильства. Но он
понимает славянофильство в широком смысле и предполагает существенные
15 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 116-117.
16 Там же. С. 125.
17 Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902. С. 167.
224
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
Ф
отличия почвеннического характера от строгого комплекса идей ранних
славянофилов: «Идея, которой служит „Заря" и которой мы предвещаем широкую
будущность, есть идея славянофильская. Так следует ее назвать по
терминологии, давно установившейся в нашей литературе. Но, говоря о будущности этой
идеи, мы должны ставить строгое и ясное различие между славянофильством
как историческим явлением и между самою идеею, которою порождено это
явление. Идея шире, богаче, плодотворнее своего проявления. Не в том наше
дело, чтобы твердить и распространять уже высказанные мнения прежних
писателей, преимущественно перед другими называемых славянофилами, а в том,
чтобы воодушевиться тою же мыслью, какая их воодушевляла, и развивать эту
мысль сколь возможно шире, дальше, полнее. Пусть наши взгляды приходят
даже в прямое противоречие с заведомо славянофильскими мнениями: это
значит, может быть, что наши взгляды вернее, что они ближе к истинному духу
славянофильства»18.
Это «поправленное» славянофильство, собственно, и есть
почвенничество. Одной из главных идей почвенничества, помимо идеи народности, была
мысль о необходимости духовной самостоятельности России и пагубности
безотчетного пересаживания на отечественную почву новомодных умственных
течений Запада.
Наиболее полно свое отношение к европейской культуре и западной
общественной мысли Страхов выразил в трех книгах под общим названием «Борьба
с Западом в нашей литературе». Выходившие по нескольку раз начиная с 1882 г.
эти сборники статей составляют главное публицистическое произведение
философа и критика Николая Николаевича Страхова. Этот итоговый трехтомный
философско-публицистический труд его жизни стоит в одном ряду с такими
основополагающими для понимания русского консерватизма книгами второй
половины XIX в., как «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского и «Византия,
Восток, славянство» К. Н.Леонтьева.
Статьи и очерки, составившие «Борьбу с Западом», носят самый
разнородный характер, но они удивительным образом представляют собой такое же
смысловое единство, как статьи Страхова по философии природы, вошедшие
ранее в отмеченный целостностью сборник Страхова «Мир как целое», впервые
вышедший в 1872 г. Сквозная идея, пронизывающая внешне мало связанные
между собой статьи «Борьбы с Западом в нашей литературе», — это вопрос
о нашей умственной самостоятельности и о необходимости преодоления
болезни подражательности.
Страхов, который всегда особенно блестящ, глубок и точен в своих
предисловиях, предварил первый сборник «Борьбы с Западом в нашей литературе»
таким обобщением: «Книга эта касается самого главного, самого существенного
18 Там же.
225
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
из наших вопросов, вопроса о нашей духовной самобытности. Без сомнения,
коренное наше зло состоит в том, что мы не умеем жить своим умом, что вся
духовная работа, какая у нас совершается, лишена главного качества: прямой
связи с нашей жизнью, с нашими собственными духовными инстинктами.
Наша мысль витает в призрачном мире; она не есть настоящая живая мысль,
а только подобие мысли. Мы — подражатели, то есть думаем и делаем не то,
что нам хочется, а то, что думают и делают другие. Влияние Европы постоянно
отрывает нас от нашей почвы»19. В этих словах о нашей умственной борьбе
с Западом — квинтэссенция той огромной мыслительной работы, которая стоит
за сочинениями Страхова.
* * *
Наиболее успешным не только в первой книге, но и вообще во всем
трехтомнике, по мнению критиков, был очерк из трех глав о литературной
деятельности и взглядах А. И. Герцена, написанный на рубеже 1860-1870-х гг.
и опубликованный впервые в журнале «Заря» в 1870 г. Деятельность этого
типичного «западника»-эмигранта, посвятившего себя социалистической
и антиправительственной пропаганде, долгие годы была в России под
запретом и в умах русских людей ассоциировалась исключительно с
«революционным перцем» его подрывной политической деятельности, прежде
всего крамольного журнала «Колокол», проникавшего в Россию нелегально.
Одни этой деятельности тайно сочувствовали, жадно читая тайком издания,
доставляемые из-за границы, другие возмущались исключительно
разрушительным направлением его идей. Само имя Герцена долгое время было
в русской печати под запретом.
Страхов едва ли не первый посмотрел на Герцена с совершенно иной
стороны, так как не сомневался, что Герцен «был рожден более всего
мыслителем», а не агитатором. Нарисовать психологический портрет западника-
радикала, разочаровавшегося в столь любимой им Европе, — вот какую далеко
не тривиальную задачу поставил перед собой Страхов. И, судя по
многочисленным отзывам, он с этой задачей великолепно справился. Творческая манера
Страхова предполагает обильные и длинные выписки из источников, но его
очерк — ни в коем случае не компиляция: искусно опираясь на биографические
факты, цитаты и собственные рассуждения, критик неуклонно ведет читателя
к собственным, далеко не банальным выводам. Заимствованные элементы
становятся строительным материалом прочной и проработанной до мельчайших
деталей конструкции, в которой всё взаимосвязано, пригнано и прочно. Мысль
за мыслью, шаг за шагом прослеживая развитие взглядов писателя-бунтаря,
19 Страхов. Борьба с Западом. Кн. I. С. III.
226
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
—■$■
Страхов показывает нарастающее недовольство Герцена, одаренного тонким
эстетическим чутьем и пессимиста по своему душевному строю, мещанским
укладом европейской жизни. Очерк Страхова носит интеллектуальный
характер, и его великолепное знание движущих идейных сил эпохи позволяет ему
создать убедительную картину жизненной драмы Герцена.
Убежденный западник Герцен, согласно Страхову, живя в эмиграции
в Европе и наблюдая за проходящими там процессами воочию, со временем
потерял веру в Запад. Постепенно меняются и его философские воззрения. От
Гегеля Герцен переходит к философскому учению Фейербаха, но «фейерба-
хизм, принятый серьезно, не дает ни покоя, ни радости»20. Совершенно другое
впечатление производит на Герцена учение о прогрессе, созданное Гегелем, —
«что человечество идет непрерывно вперед, но так, что все им достигнутые
результаты могут оказаться требующими совершенной замены другим». Страхов
дает тонко ироничное описание исторических процессов «по Гегелю»: «Знания
правил нравственности, понятия о счастии могут оказаться низшею ступенью,
несовершенною формою, на место которой должна стать новая цельная форма.
Поэтому могут происходить перевороты, переломы, переломные превращения,
в которых поглощается всё старое». Страхов, сам прошедший через
гегельянство, знает, что именно это увлекает Герцена: «Таким образом, история
получает более остроумное и глубокое истолкование»21. Итак, Герцен становится
поклонником прогресса, тонким его ценителем, и Страхов восклицает:
«Бедный Герцен! И вообще бедные люди — все эти поклонники безостановочного
прогресса!»22 Именно теория прогресса, считает Страхов, увлекла Герцена на
стезю радикализма.
Страхов тонко прослеживает духовный путь Герцена от радостных учений
до пессимизма, к которому его привело учение об имманентности, о полной
независимости человека от всяких внешних для него авторитетов. Герцен
постепенно приходит к заключению, что человек есть игралище случая, и
фаталистические настроения усиливают пессимизм его социальных наблюдений. Страхов
делает важный вывод: «Он дошел до полной безнадежности еще раньше, чем
совершилась революция 1848 года»23. Герцен приходит к убеждению, что
социализм бессилен и держится лишь неприятием настоящего. В социалистах он
увидел не спасителей от бед, как считал ранее, а признаки разложения Европы.
Закоренелый западник стал вдруг заявлять, что Европа одряхлела. Подобного
рода неожиданные мрачные мысли он начал высказывать в книге «С того
берега» — лучшем, по мнению Страхова, из всего, что было написано русским
эмигрантом-бунтарем. Герцен писал: «Мы живем в мире, выжившем из ума,
20 Там же. С. 68.
21 Там же. С. 69.
22 Там же. С. 70.
23 Там же. С. 77.
227
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
ф
дряхлом, истощенном, у которого явным образом недостает сил и поведения,
чтобы подняться на высоту собственной мысли»24. Революция мало что
изменила в его пессимистических настроениях.
Страхов делает вывод: «Итак, Герцен пришел к полному отчаянию. Это
первый наш западник, отчаявшийся в Западе...»25 В третьей, заключительной
части очерка о Герцене Страхов показывает, как философ, пройдя обычный
путь русского мыслящего человека к общечеловеческому европейскому
просвещению, после внутреннего переворота приходит к разочарованию в Европе
и возвращается к вере в Россию. Завершая этот мучительный процесс, Герцен
свидетельствует: «Вера в Россию — спасла меня на краю нравственной гибели»26.
Другой представитель почвенничества, Достоевский, в романе
«Подросток» (1875) изобразил в образе Версилова разочарованного западника, в котором
узнаются многие черты Герцена. По мнению исследователей, этот образ создан
Достоевским под несомненным влиянием концепции Страхова. Так, советский
критик А. С. Долинин не без сожаления говорит о романе «Подросток»: «По
лукавой книге (...) Страхова „Борьба с Западом" интерпретируется весь Герцен»27.
Важное место в первом томе «Борьбы с Западом в нашей литературе»
Страхов уделяет статьям, посвященным авторитетным западным мыслителям
Джону Миллю, Эрнесту Ренану и Ипполиту Тэну, а также материалисту Давиду
Штраусу, воспринимающему мир как игру слепых механических сил. Одни из
них, как Ренан, в своих сочинениях раскрывают болезненное состояние Запада,
другие, подобно Штраусу, являют собой «одно из характернейших и одно из
печальнейших явлений современной литературы»28, на собственном примере
показывая критическое состояние западного общества.
Включение в первую книгу «Борьбы с Западом» очерка, посвященного
славянофилу И. С. Аксакову, представляется довольно случайным, хотя
публицистическая деятельность покойного издателя «Руси» вполне соответствовала
названию книги Страхова. Впрочем, содержание двух следующих сборников
Страхова еще в большей степени связывает наше восприятие Европы с идейной
борьбой западников и славянофилов в русской литературе и философии.
Надо отметить, что в первую книгу «Борьбы с Западом»,
опубликованную в 1882 г., попали далеко не все статьи Страхова на тему наших отношений
с Европой, написанные им к тому времени. Одна из них — большая, яркая
24 Страхов. Борьба с Западом. Кн. У. С. 79.
25 Там же. С. 91.
26 Там же.
27 Долинин А. С. В творческой лаборатории Достоевского: (История создания романа
«Подросток»). [Л.], 1947. С. 70.
28 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 1. С. 373.
228
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
■8»
и содержательная статья Страхова под невыразительным названием «Заметки
о текущей литературе» («Гражданин», 1873, № 16-18, 20-22) — имела
программное значение для журнала «Гражданин» в 1873 г. В этот период
редактором «Гражданина» стал Достоевский, и консервативное издание Мещерского
на время приобрело отчетливые «почвеннические» черты. В статье Страхова
в очередной раз ставится вопрос о наших взаимоотношениях с Европой и о
присущей нам болезни подражательности. Страхов доказывал в этой статье свою
любимую мысль, что «не так легко заимствовать просвещение Европы, что,
сколько бы мы ни преклонялись перед нею, мы все-таки останемся невеждами,
если не станем работать собственным умом»29. Страхов, казалось бы,
повторяется, но ему приходится говорить об этой главной нашей проблеме потому, что
в сознании своих соотечественников он не видит положительных изменений.
Подобно другим русским мыслителям, Страхов размышляет об исторических
причинах этой идейной зависимости от Запада.
Говоря о реформаторской деятельности Петра I, Страхов подчеркивает,
что дело не в материальных заимствованиях, а в духовной подражательности:
«Можно видеть из этого, почему реформа Петра так слабо удалась, почему
ей и невозможно было удаться лучше. Легко было завести армию, построить
корабли, основать фабрики и академию наук; но перенести к нам ум и дух
Европы, возбудить у нас развитие, подобное европейскому, было невозможно.
Это вещи самобытные, которые не заимствуются, не делаются по приказу и не
зависят от воли самого неограниченного властителя. И вот мы вышли только
подражателями, мы схватываем всё только внешним образом, забывая, что
единая искра самостоятельной мысли сделала бы нас более подобными
Европе, чем всевозможные заимствования чужих мод, чужих идей, телеграфов,
железных дорог и т.д.»30.
Страхов на разные лады варьирует свою любимую, глубоко обдуманную
мысль о том, что политика заимствований без проявления самостоятельности
никак не может позволить нам встать наравне с Западом: «Обыкновенно думают,
что это постоянное влияние Европы должно, однако, возбуждать и оплодотворять
наши силы, и что со временем, как любили когда-то повторять, мы „догоним"
Европу. Но это было бы возможно разве только тогда, если бы Европа стояла
на одном месте, если бы она была законченным миром. Тогда, перерабатывая
в себе влияние этого мира, мы могли бы со временем отвечать на него своим
развитием, отвечать на столько, на сколько способна наша натура. Но Европа
сама движется. Не успеют у нас взойти и укорениться одни семена ее идей
и нравов, как являются новые и заглушают прежние. Мы не только не успеваем
сделать что-нибудь самостоятельное, — мы не успеваем перенимать. Мы
вечно впопыхах, вечно в жалкой роли подражателей; мы подавлены громадным
29 Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902. С. 83.
30 Там же.
229
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
авторитетом, мы все больше и больше привыкаем к тому, чтобы кое-как, пополам
с грехом, брать все у других, а от себя ничего не ждать. При таких условиях,
как же и когда же мы можем догнать Европу?»31
Страхов разъясняет, в чем порочность слепого поклонения авторитету
Европы: «Очевидно, авторитет Европы нельзя принимать за авторитет каких-нибудь
общих начал, отвлеченных принципов; нет, это авторитет воплощенный,
олицетворенный, живой. Европа действует на нас не истинами, которые она открывает
и исследует, не стремлениями, лежащими в основе ее деятельности, а всею своею
жизнью, своим языком, привычками, прихотями, пороками, заблуждениями.
Мы не в силах отделять в ней случайное и индивидуальное от существенного
и главного; мы равно подчиняемся тому и другому. Мы заражаемся ее
страстями, ее временными, личными увлечениями, и не имеем досуга одуматься
и взглянуть на нее со стороны, потому что она всегда перед нашими глазами
и непрерывно ослепляет и увлекает нас своею жизнью»32. Идеи Страхова о
необходимости преодоления нашей духовной зависимости от Запада ни в коей
мере не устарели до сих пор.
* * *
Вторая книга «Борьбы с Западом в нашей литературе», вышедшая в 1883 г.
и переизданная с большими дополнениями в 1890-м, построена совсем иначе,
чем первая. Здесь почти нет «борьбы» с европейскими началами в том смысле,
в каком она преобладает в очерках первой книги: книга почти целиком посвящена
нашим внутренним, по преимуществу научным и философским, проблемам.
Но главный нерв русской жизни со времен Петра I в той или иной степени всё
время бьется вокруг европейского влияния, подражательности и попыток
культурной самобытности. В предисловии к изданию 1883 г. Страхов отмечает те
важнейшие изменения, которые происходят в Европе в последнее время: «Запад
живет нынче без философии, то есть без всякого высшего научного взгляда,
который бы ставил и решал коренные вопросы знания и бытия»33. По мнению
Страхова, место настоящей философии заняли такие учения, которые можно
назвать «европейским нигилизмом». Именно этот дух сомнения и отрицания,
ныне господствующий в Европе и по привычке заимствованный нами,
породил и наш нигилизм. Постоянный и главнейший источник нашего нигилизма,
утверждает Страхов, —«европейское просвещение»34.
В большом очерке, посвященном «ходу» нашей литературы, Страхов
снова проводит идею обретения духовной самобытности как основополагающую
31 Страхов. Критические статьи. Кн. 2. С. 83-84.
32 Там же. С. 84.
33 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. XXIV.
34 Там же. С. XXVI.
230
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
—■$'
мысль отечественной словесности: «Историю русской литературы можно
рассматривать как историю постепенного освобождения русского ума и чувства от
западных влияний, постепенного развития нашей самобытности в словесном
художестве»35.
И хотя в той части, которая посвящена учению Дарвина, в центре внимания
автора споры не столько с самим английским зоологом, сколько с
отечественными апологетами дарвинизма как философского учения, объясняющего мир без
Бога, речь идет о явлении, пришедшем к нам из Европы и быстро покорившем
умы отечественных естествоиспытателей. Разъясняя читателям критический
взгляд на модное европейское учение, Страхов отстаивал научную самобытность
автора книги «Дарвинизм» Н. Я. Данилевского перед представителями ученого
сообщества, иронизировавшими по поводу существования небывалого доселе
«типа науки, существенно отличавшегося от европейского»36.
Здесь же цитируются слова нашего философа Вл. С. Соловьева, с
«непостижимой развязностью», по выражению Страхова, навязывавшего
Данилевскому свое мнение о невозможности «самобытной славянской науки».
Спор Страхова с Соловьевым по национальному вопросу, который начался
с дискуссии о книге Данилевского «Россия и Европа», занимает во второй
книге «Борьбы с Западом» центральное место и переходит далее в третью
книгу. Этот спор носит далеко не частный, а принципиальный характер, так
как в нем сталкиваются две противоположные точки зрения на пути развития
русской цивилизации.
Основная статья этого знаменитого спора по вопросу национального
своеобразия культуры — «Наша культура и всемирное единство» — наиболее
полно, пожалуй, выражает взгляды Страхова на проблемы народности, научной
и культурной самобытности. На странный упрек Соловьева, что его оппонент
«в сущности не говорит ничего такого, чего бы не мог сказать любой толковый
европеец», Страхов ответил: «Мне и это годится. Мне именно хотелось, чтобы
русские люди были хоть столько же самостоятельны в своих суждениях, как
„любые толковые европейцы", а еще лучше, если бы они поравнялись даже с
самыми толковыми европейцами, если бы они судили о разных явлениях Запада
с полною свободою ума, без того постыдного подобострастия и преклонения
перед Европою...»37 И далее так разъясняет смысл своих творческих усилий,
свое трудовое кредо: «Очень громки эти слова: борьба с Западом, но смысл их,
как знают читатели, очень скромный. Они выражают желание труда, твердой
умственной работы, при которой одной невозможно рабство перед авторитетом.
Проповедуется не отрицание авторитетов, а их точная и правильная критика,
требующая самостоятельной работы мысли».
35 Там же. С. И.
36 Там же. С. 272.
37 Там же. С. 281.
231
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Одна из важнейших тем «Борьбы с Западом» — осмысление болезни
1860-х гг., получившей название нигилизма. Этой теме Страхов уделял большое
внимание на всех этапах своей творческой биографии. Тот факт, что ориентация
на новомодные западные интеллектуальные течения, которые становятся всё
более атеистическими и радикальными, оказывает отрицательное воздействие
на нашу умственную жизнь, раскрыт Страховым с достаточной
убедительностью и полнотой.
* * *
В третьей, заключительной книге «Борьбы с Западом», прямо
примыкающей, по словам Страхова, к предыдущей, он объясняет еще раз, в ответ на
высказанные в печати недоумения, почему он дал такое название серии этих
сборников: «Слова Борьба с Западом взяты мною из статьи об Герцене, которою
начинается первая книжка. Третья, последняя глава этой статьи озаглавлена
так: „Борьба с идеями Запада. Вера в Россию". (...) Тут подробно излагается
переворот, который совершился в мыслях и чувствах Герцена, его разочарование
в Европе, пробуждение в нем веры в Россию. Наконец, стремление к борьбе
с европейскими понятиями (...) в которой я видел даже „главную задачу и
заслугу Герцена"»38. Третьей книгой «Борьбы с Западом в нашей литературе»,
вышедшей перед самой кончиной Страхова, он подвел итоги своей философской
публицистики.
В рецензиях на «Борьбу с Западом», особенно на первую и вторую книги,
часто звучали упреки, что в них маловато статей собственно об
отечественных мыслителях, критикующих западную цивилизацию. В целом Страхов
несколько поправил это положение, но всё же Леонтьев имел некоторое
право высказать мнение, что этому труду больше подошло бы другое название:
«Жаль только, что заглавие этой книги крайне неудачно и не соответствует
содержанию. Ее нужно бы назвать не — Борьба с Западом, а —
Самоосуждение Запада. Только один Герцен еще у места при таком заглавии. Если
бы вслед за Герценом являлись бы не Ренан, Фейербах и т.д., а Киреевский,
Хомяков, Аксаков, Данилевский, Катков {последнего периода) и др(угие)
русские, боровшиеся в литературе, политике против западных идеалов, то
тогда название книги было бы правильно; а теперь оно ошибочно. Но эта
беда, конечно, небольшая, и если бы от меня зависело, то я бы молодых людей
прежде всего ее бы заставлял читать!»39 Если подходить к вопросу о названии
формально, то Леонтьев, конечно, прав. Но по существу дела это все-таки
труд, посвященный не столько «самоосуждению Запада», то есть критике
устоев западной цивилизации европейскими авторами, сколько борьбе русских
38 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 3. С. III.
39 Леонтьев. ПСС. Т. 8, кн. 1. С. 444.
232
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
мыслителей, включая самого Страхова, за нашу духовную самостоятельность,
независимость от Запада. Если же учесть, что сам Страхов, хотя и выражает
свое мнение, преимущественно опираясь на высказывания разбираемого
мыслителя, нередко европейского, — в большинстве случаев не просто дает ему
характеристику, а искусно обнажает его недостатки и противоречия, подводя
читателя к собственному независимому выводу.
Третья книга «Борьбы с Западом» начинается с двух больших
очерков о французском публицисте и мыслителе Ренане, который был одним
из литераторов, интересовавших Страхова более всего. Эрнест Ренан стал
в трехтомнике Страхова едва ли не главным выразителем скептического
отношения к тенденциям современной европейской жизни. Автор уделил
этому типично европейскому писателю — утонченному аристократу мысли
и слова, несколько поверхностному в своих суждениях и не слишком
верующему, но знавшему религию и умевшему писать о духовном, — много
(даже, пожалуй, несоразмерно много) места в двух из трех книг «Борьбы
с Западом». Видно, что у Страхова была какая-то личная симпатия к этой
яркой, одаренной острым умом и критическим чутьем личности, чьи мысли
и переживания он хорошо понимал и чувствовал. Даже чуждые Страхову по
духу журналисты считали его статьи о Ренане содержательными и глубокими.
Высказывались даже и мнения, что в их психологических типах было что-то
общее. А Н. К. Михайловский не без иронии назвал как-то Страхова «Русским
Ренаном», а Ренана — «французским славянофилом»40. Интерес Страхова
к скептику Ренану разделяли далеко не все его друзья и знакомые. Многие,
включая Л. Толстого, даже недоумевали по этому поводу. Сам Страхов
позволял себе часто высказываться о Ренане довольно резко, обличая в нем
типичные недостатки европейского интеллектуала. Но при этом он и ценил
Ренана, нередко очень критически высказывавшегося о западноевропейской
духовной жизни. Хотя Страхов далек от идеализации своего французского
коллеги и не стесняется иногда подвергать его взгляды беспощадной
критике, он ценит Ренана как писателя. Говоруха-Отрок однажды даже назвал
Ренана «любимым писателем Страхова»41. А Д. Левин увидел в Страхове
«человека ренановской складки»42.
Важно понять, почему Страхов избрал именно Ренана одним из главных
проводников своих мыслей о Западе, посвятив ему несколько очерков, которые
составляют единое смысловое целое. Страхов постепенно подводит читателя
к кульминации, которая содержится во мнении Ренана о России. Сначала Страхов
40 Михайловский И. Литературные и журнальные заметки: Г. Страхов. // Отеч. зап. 1872.
[Т. 204]. Сент. Отд. X. С. 115.
41 Говоруха-Отрок Ю. Н. Несколько слов о Н. Н. Страхове // Моск. вед. 1896. № 167,
20 июня. С. 3^.
42 Левин Д. Владимир Соловьев и Н. Страхов // Речь. 1908. № 268, 5 нояб. С. 2.
233
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
искусно показывает на длинных цитатах из Ренана, насколько убога
современная демократия и как она уступает традиционной монархии, как вредна для
Франции и для всей Европы уравнительная революция, уничтожающая остатки
аристократизма. Тут Ренан вполне перекликается с такими консервативными
мыслителями, как наш Константин Леонтьев. Ренан убедительно свидетельствует
о разлагающем влиянии на Европу Французской революции 1789 г. Поражение
в войне с Германией Ренан объясняет прежде всего ослаблением единства нации
вследствие революции.
Страхов убедительно демонстрирует эклектизм Ренана, который
одновременно и сочувствует религии, и отрицает ее. Религиозный скептицизм Ренана
служит Страхову еще одним подтверждением понижения духовного «тонуса»
Европы. Ренан весь соткан из противоречий: он недоволен ходом истории
и одновременно типично по-европейски тяготеет к идеям прогресса. В итоге
в очерке развенчивается не только один из признанных европейских умов, но
и сама современная Европа. Однако Страхов не останавливается и на этом.
На примере Ренана он показывает, насколько Европа нетерпима по
отношению к России и чужда ей. Утонченный европеец Ренан считает «варварскую»
Россию главной опасностью для Запада и надеется, что только приобщением ее
к европейской цивилизации можно устранить исходящую от нее угрозу. Этот
вывод выглядит особенно шокирующим по контрасту с предыдущими главами,
в которых сам же Ренан показал, что идейные основы западной цивилизации
уже безнадежно подорваны.
Блестящая страховская характеристика отношения Ренана, этого типичного
образованного европейца, к «варварской» России является своего рода наглядной
иллюстрацией к тезисам Данилевского о взаимоотношениях России и Европы.
Антиреволюционным пафосом проникнута статья Страхова,
посвященная Парижской коммуне. Раскрывая психологию восставших в консервативном
духе, Страхов показывает, как «жажда мщения и наслаждение разрушения»
овладевают в революцию рабочими, которые завидуют имущим классам и
ненавидят их. Разделявший мнение Страхова критик Ю. Н. Говоруха-Отрок писал
об этой статье: «Не бедность, не нищета, не плохие материальные условия
существования вызвали в Европе социальное движение, а развитие дурных
чувств ненависти и злобы, ничем уже не обузданных, ничем не подавляемых.
Об этом превосходно говорит Н. Н. Страхов в своей статье, озаглавленной
„Парижская коммуна"»43.
Помимо Ренана, еще одним французским современником, не раз
привлекавшим внимание Страхова, был Ипполит Тэн. О Тэне, как и о Ренане,
Страхов уже писал в первой книге «Борьбы с Западом», но позже снова
вернулся к этим видным французским писателям. Страхов считает, что Тэн
43 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Христианство и социализм: По поводу
современных европейских настроений // Моск. вед. 1892. № 94, 4 апр. С. 3.
234
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
заметно уступает Ренану и по обилию мыслей, и по важности обсуждаемых
предметов, а также по тому месту, которое они занимают во французской
литературе. Ренан и Тэн интересны Страхову прежде всего тем, что они
являются «знамением времени» и отражают состояние европейского
просвещения. Так, в «Заметках об Тэне» (1893) Страхов предается размышлениям
на темы позитивизма, или положительной философии, — модного
направления европейской мысли, к которому принадлежал Тэн. Завершая «Заметки
о Тэне», Страхов замечает, что во французском умственном мире высшими
авторитетами являются немецкие философы-идеалисты, и особенно Кант.
Это позволяет Страхову и здесь сделать назидательный для русского
читателя вывод о необходимости обращения к первоисточникам мысли: «Зачем
же нам, русским, „жить только тенью", как выразился однажды Ренан, быть
отражением этого отражения? Нам следует обратиться прямо к источнику
этой мудрости...»44
* * *
Особый интерес в третьей книге «Борьбы с Западом» представляют
«Заметки о Белинском» (1869), в которых Страхов анализирует отношения
критика В. Г. Белинского и западнического кружка в связи с «Воспоминаниями»
И. С. Тургенева, в которых писатель попытался объяснить причины успеха
Белинского. Эта тема позволяет Страхову критически высказаться по поводу
кружка западников, который, исповедуя веру в прогресс, «оторвался от своего
внутреннего ядра, от родной почвы»45. Страхов нашел, что Тургенев, осуждая
Белинского за невежество, повел себя несколько высокомерно. Он не преминул
в очередной раз сослаться на труды Ап. Григорьева, у которого, по его мнению,
можно найти очную оценку Белинского. Страхов цитирует мнение Григорьева
о важности периодизации творчества Белинского и цитирует положительные
отзывы Григорьева о раннем периоде работы критика, до того момента, когда
Белинский начал подчинять искусство «требованиям минуты», став жертвой
гегельянской веры в прогресс. Сам Тургенев, как пишет Страхов, тоже
«принадлежит к числу самых ревностных поклонников прогресса». Страхов
бросает всегда остающийся актуальным клич: «Будем прогрессивны не в смысле
новости, а в смысле большей глубины и зрелости»46.
Как и «Заметки о Белинском», три статьи, посвященные полемике
Страхова с Вл. С. Соловьевым, имеют прямое отношение к теме «Россия и Запад».
Личности и взглядам Вл. Соловьева посвящена отдельная глава нашей книги,
но следует обратить здесь внимание на то, что в большой статье «Исторические
44 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 3. С. 154.
45 Там же. С. 364.
46 Там же. С. 383-384.
235
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского» Страхову пришлось отбиваться
от заявлений Соловьева, будто Данилевский заимствовал свою концепцию
культурно-исторических типов у немецкого философа Г. Рюккерта. Соловьев
так искусно строит свои доказательства, что Страхову пришлось защищать
одного из самых независимых и самобытных отечественных философов от
обвинений в поступке, которого он не совершал. Нелепые обвинения Соловьева
были сразу подхвачены главным образом из-за нашего обычного преклонения
перед западными ценностями и авторитетами. В центре спора — опять
национальный вопрос, в котором Соловьев снова занимает всё более неприглядную
позицию, обвиняя в «брюшном патриотизме» не только Данилевского, но на
этот раз и самого Страхова.
Две большие темы — полемика Страхова с Владимиром Соловьевым и его
спор с дарвинистами — стоят в книге «Борьба с Западом» несколько особняком.
Объединяет их то, что спор ведется вокруг двух книг Н. Я. Данилевского —
«Россия и Европа» и «Дарвинизм». Страхов начал выступать в защиту идей
Данилевского, еще работая редактором в «Заре», где он напечатал
журнальный вариант книги «Россия и Европа». Отношения Страхова и Данилевского
были вполне дружескими, хотя они и не сходились по многим теоретическим,
прежде всего философским, вопросам. Но в главном Страхов разделял идеи,
выраженные в трудах Данилевского.
И когда в феврале 1888 г. в либеральном «Вестнике Европы» появилась
статья Соловьева «Россия и Европа» с резкими нападками на одноименную книгу
Данилевского, Страхов был вынужден вступиться за честь своего покойного
друга. Большинство знакомых Страхова, в частности Толстой, не одобряли
участия Страхова в этой полемике, считая ее бесплодной. Хотя полемика приобрела
очень резкий характер, но всё же в ней были затронуты многие волнующие
вопросы русской жизни, связанные с проблемой национального самосознания,
противостояния славянофильства и западничества, католичества и
православия, России и Запада. Спор в печати то затихал, то разгорался с новой силой.
Его можно было бы считать вполне плодотворным, если бы не сомнительная
манера Соловьева вести полемику, рассчитывая не столько на аргументацию,
сколько на внешний эффект. Соловьев был в этой полемике блестящ, и
многие считали, что он одержал в споре со скромным, сдержанным Страховым
безусловную победу. Однако те, кто мог разобраться в сути спора, находили,
что аргументация Страхова выглядит ничуть не менее убедительно, чем у его
оппонента. Многих при этом шокировала готовность Соловьева использовать
ради успеха любые средства.
Доходил Соловьев и до личных выпадов — например, намекал на
преклонение ратовавшего за умственную независимость от Европы
«почвенника» Страхова перед немцами, «у которых он и его учитель (то есть
Данилевский. —В. Ф.) заимствовали все „свои" мысли, лишь отчасти их
236
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
исказивши»47. Отметим еще раз, что уже само ехидное называние
Данилевского «учителем» Страхова было утонченным уколом — Страхов ни
в малейшей степени не был учеником своего друга. С развитием полемики
Соловьев перешел от критики книги Данилевского к сочинениям самого
Страхова. Используя обычный аргумент западников-либералов, он отрицал
наличие в «Борьбе с Западом» собственно отрицания Запада, так как находил
у Страхова борьбу «западным оружием» и «под европейскими знаменами»:
«...но все-таки борьбы с Западом мы здесь не видим, но бороться надо было
не западным оружием, не под европейским знаменем. Если бы, например,
кто-нибудь стал возражать против философских идей Гегеля на основании
философских идей Шопенгауэра — можно ли было бы это назвать борьбою
против немецкой философии? Сказанное автором в предисловии
заставляет предполагать, что у него есть особо-русское, или восточное, знамя, но
он его не развертывает до конца борьбы, и что на этом знамени написано,
так и остается неизвестным. (...) не говорит ничего такого, чего не мог бы
сказать любой толковый европеец из противного Миллю политического
и научного лагеря»48.
Соловьев считал также, что заглавие «Борьба с Западом» не соответствует
содержанию книги. Более того, приписав Страхову «механическое
мировоззрение» на основании анализа его книги «О вечных истинах», Соловьев развлекал
читателей парадоксальным заявлением, будто его оппонент, как сторонник
«одного из самых характерных явлений западного умственного движения», сам
был западником, «но еще западником крайним и односторонним»49. Со
временем, в августе 1890 г., Соловьев перешел уже от критики идей Данилевского
и к прямой «осаде» самого Страхова, посвятив критике его взглядов целую
статью под названием «Мнимая борьба с Западом».
Во имя достижения победы в споре Соловьев прибегал к разнообразным
уловкам, делал упор на незначительных частных ошибках Данилевского, не
имеющих никакого значения для оценки его теории в целом. Особенно напирал
он на доказательство заимствования Данилевским его теории у Г. Рюккерта, хотя
нет никаких доказательств даже, что автор «России и Европы» с его книгой был
вообще знаком. Страхов обнаружил, что Соловьев допустил подлог —
вставил в цитату из Рюккерта слова о культурно-исторических типах, которых не
было в тексте немецкого философа. Однако читатели были склонны поверить
Соловьеву, настаивавшему на заимствованиях Данилевского у именитого
европейского автора.
Спор Страхова с Соловьевым продолжался с перерывом несколько лет,
с 1898 по 1894 г. Все шесть статей об этой полемике, помещенные во второй
47 Рус. вестник. 1901. Янв. С. 127.
48 Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. ТА. С. 389-390.
49 Там же. С. 392.
237
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
и третьей книгах «Борьбы с Западом», имеют самое непосредственное
отношение к теме «Россия и Запад».
На рубеже 1890-х гг. Страхов вел идейную «войну» на два фронта.
Помимо полемики с Соловьевым, ему приходилось отстаивать вторую книгу
Н. Я. Данилевского — «Дарвинизм» — в спорах со сторонниками эволюционного
учения английского натуралиста во главе с Тимирязевым. И хотя эти ученые
представляли отечественную науку, этот спор также непосредственно касался
темы нашей умственной зависимости от Запада. Ученые-биологи, а также
либеральные публицисты типа Н. К. Михайловского дружно ополчились на
Данилевского, который осмелился напасть на Дарвина, представлявшего
«последнее слово европейской науки».
Немало досталось и Страхову, который взял на себя трудную и
неблагодарную миссию по донесению антидарвинистских идей своего друга до
широкого читателя. Страхов взялся за работу по раскрытию ложности
дарвинизма еще и потому, что он видел, как под знаменами эволюционного учения,
объясняющего создание мира без участия Бога, происходило сплочение всех
атеистических сил. И хотя Страхов не слишком преуспел в доказательстве
читательской публике основательности критических идей Данилевского по
вопросу о дарвинизме, эта полемика во имя истины в очередной раз показала
благородство его творческой натуры.
* * *
Нередко сочинения Страхова отличались скромными, не
выделяющимися из общего ряда и не запоминающимися названиями («Нечто о...», «Еще
о...», «Заметки о...», «Заметки по поводу...» и т.п.). Тем заметнее на этом
безличном фоне броское, целенаправленно «ударное» название, которое он
дал трем томам «Борьбы с Западом в нашей литературе». Хотя это название
во все времена очень не нравилось либералам западнического толка, его не
следует воспринимать как нечто демонстративно публицистическое или, тем
более, экстремистское. Страхов, будучи глубоко образованным мыслителем,
написал серьезное исследование в славянофильско-почвенническом духе,
показывающее интеллектуальную и духовную деградацию современной ему
западной цивилизации.
Ученый, историк античности и либеральный публицист В. И. Модестов
в статье «Борьба с Западом» так иронизировал в 1887 г., успокаивая читателей
по поводу названия книги Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе»:
«Пусть читатель не пугается заглавия статьи (...) Борьба с Западом пока
существует только в книге Н. Н. Страхова, носящей такое заглавие, да и то лишь на
обложке этой книги, так как в самой книге никакой борьбы с Западом нет, если
не считать борьбою несколько фраз автора о вымирании Европы, об оскудении
238
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
ф
в ней идеалов, об умственной анархии на Западе. (...) Но на самом деле ни
о какой борьбе с Западом в нашей литературе тут не говорится, а
предлагаются лишь рассуждения о Герцене, Милле, Парижской коммуне, Ренане, Тэне,
Штраусе, и все это заканчивается „поминками" по И. С. Аксакове. Я не знаю
книги, которая бы менее отвечала своему заглавию»50.
О трех книгах с общим названием «Борьба с Западом в нашей литературе»
написано очень много. Хотя среди отзывов, пожалуй, преобладают критические
оценки, об этом серьезном и основательном труде Н. Н. Страхова было сказано
и немало положительного.
Достоинства, как и недостатки этого произведения Страхова хорошо
показал, например, К. Н. Леонтьев: «Когда речь идет о безвыходности западной
мысли во второй половине XIX века, то необходимо прежде всего указать на
книгу г. Страхова — „Борьба с Западом". Я убежден, что тот, кто не прочел
внимательно оба тома этого замечательного труда, не может понять, в чем же
именно состоит эта безвыходность, с тою ясностью, с которой он поймет это
после прочтения. Положим, что и в этой книге, как и вообще в сочинениях
г. Страхова, тоже нет ясных „выходов в жизнь"; нет никакого положительного,
осязательного, так сказать, идеала; но зачем требовать от писателя
непременно того, чего он дать не может; гораздо лучше извлечь себе пользу из того,
в чем он силен. Страхов — прежде всего критик. И „Борьба с Западом" есть
только критика почти всех европейских воззрений, систем, идеалов и надежд
за последние полвека. Но критика эта превосходна и верна до
неотразимости! Перед читателем проходят друг за другом: Фейербах, Дарвин, Ренан,
Дж.-Ст. Милль, Штраус, Герцен (как разочарованный в Западе — западник),
коммунары и т.д. И всюду вывод отрицательный по отношению к тем
идеалам, которым Европа так пламенно начала служить с половины прошлого
столетия и по роковой инерции продолжает на практике жизни служить до
сих пор, уже чуя их несостоятельность. Другого труда в этом роде и близкого
по достоинству у нас нет»51.
Размышляя в 1915 г. о значении «Борьбы с Западом» в русской
культуре, Розанов писал, что это сочинение Страхова сохраняет свою актуальность:
«Кстати, современно теперь указать, что столь осмеянная в нашей печати
страховская „Борьба с Западом" оказалась очень удачным предсказанием за
30 лет теперешней громоносной войны, где мы боремся не только физически
с Германиею и Австриею, но и духовно, нравственно „боремся" вообще с
западным духовным обнищанием, с западною лютостью и бездушием, атеизмом
и механизмом, на которые Страхов указывал только вслед и только согласно
50 Модестов В.[И.] Борьба с Западом // Новости и Биржевая газета. 1887. №288,
20 окт. С. 2.
51 Леонтьев. ПСС. Т. 8, кн. 1. С. 443-444.
239
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
с первыми славянофилами, братьями Киреевскими, братьями Аксаковыми,
Хомяковым и Тютчевым»52.
Розанов недоумевает по поводу отношения Страхова к Европе и так
объясняет его критику Запада: «Главный и, может быть, лучший сборник своих
статей г. Страхов озаглавил: „Борьба с Западом", и это невольно должно удивлять
каждого, кто хорошо освоился с его умственным миром. Автор, так
озаглавливающий свои статьи, не впал ли в недоумение относительно самого себя? Так
точно разграничивая все области знания и не терпя смешения их с другими,
верно ли определил он свое собственное положение между двумя великими
духовными областями — ветхой и мудрой, которую он нашел на Западе, и юной
еще, неразвитой и часто нелепой, которую он находит вокруг себя и которую
иногда так страстно ненавидит? Правда, к России и к ее будущему обращены
все его надежды и желания, но он не публицист, он прежде всего мыслитель,
и какими же мыслями живет он?»
Розанов выплескивает целый ряд напрашивающихся вопросов о том,
как уживаются в уме и душе Страхова призывы к самостоятельности с
явными симпатиями к европейской культуре: «Разве не ясно для всякого, что
духовный мир Европы, глубокие идеи ее философии, чудные и сложные
здания ее наук — это то самое, во что врос он своею душою, что живет
в нем такою могущественною и яркою жизнью, как, быть может, в немногих
и европейцах. Встречая в различных местах его книг слова, в которых он
отделяется от западников и становится на сторону славянофилов,
недоумевающему читателю невольно хочется спросить его: „Разве в Вас есть это
соединение простоты и ясности созерцания, которое присуще нашему
народу и отразилось в простоте и ясности его великих поэтов, каковы Пушкин
и автор 'Семейной хроники'? Разве с жизнью нашего народа связаны Ваши
самые глубокие интересы? Знаток и любитель поэзии, зачитывались ли Вы
когда-нибудь нашими былинами, заслушивались ли народною песнею, следили
ли с интересом за прихотливым вымыслом народной сказки? Разве Вы знаете
хорошо русскую историю? Ценитель поэзии, 'преданий русского семейства'
в 'Капитанской дочке' и в 'Войне и мире', разве Вы искали ее когда-нибудь
в русских мемуарах? И, напротив, разве Вы с большим интересом говорите
даже о Пушкине, чем о Ренане и Штраусе? Разве Вы писали о всех переменах
прошлого царствования столько, сколько о дарвинизме? Разве самая идея
культурно-исторических типов занимала Вас сильнее, нежели идеи Клода
Бернара об общей физиологии? Если когда-нибудь появлялся писатель столь
мало местный и так слабо связанный с текущею действительностью, то это
именно Вы. Вековые вопросы всего человечества, искание 'вечных истин', как
озаглавили Вы один сборник своих статей, — вот Ваша постоянная тревога,
52 Розанов В. В. К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве // Розанов В. В. Легенда о Великом
инквизиторе Ф. М.Достоевского. М., 1996. С. 608.
240
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
—»
главный смысл Вашей жизни, и неужели, столько поняв, Вы не поняли смысла
всей Вашей деятельности?"
Повторяем, сомнение это невольно, и может пройти много лет прежде,
чем для читателя прольется на него хоть какой-нибудь объясняющий свет.
Повсюду, полемизируя с западниками, он поправляет их понимание главнейших
идей, которыми живет Европа, и нередко поправляет в знании ее литературы
и философии. Однажды, делая подобную поправку, он замечает: „Для того
чтобы хорошо понимать Европу, конечно, менее всего нужно быть
западником". В словах этих как будто слышится признание, что именно глубокое
вникание в духовную жизнь Европы, долгое и постоянное вращение в сфере
ее идей и интересов произвело в конце концов и его собственное отчуждение
от нее»53. «...Чем глубже входим мы в духовный мир Европы и чем теснее
сливаемся с ним, тем теснее поднимается в нас чувство странной
неудовлетворенности...»54
В том, что Страхова иногда обвиняют в скрытом западничестве, нет ничего
удивительного. Страхов — действительно европеец по своей исключительной
образованности, и он хорошо знает западную культуру, в изучение которой
постоянно погружен. Его собственные сочинения — культурная европейская
работа. Но именно из-за глубокого знания западной культуры он и выступает
с острой критикой ее современного состояния. В этом он особенно сильно
перекликается с Тютчевым. Да и славянофилы, как не раз указывалось, по истокам
своих идей были тесно связаны с европейской культурой. Розанов отмечает,
что методизм поведения, характерный для Страхова, свидетельствует о его
желании «победить родовые национальные недостатки»55. И в этом смысле
он,конечно, «европеец».
Главный недостаток, с которым Страхов борется на протяжении всей
жизни, — это подражательность русских. Находясь в 1875 г. в Италии, Страхов
размышляет о европейской цивилизации и о нашем к ней отношении. Будучи
человеком трезвым и объективным, Страхов признает за Западом
определенные преимущества в развитии и, подобно Хомякову, видит в ней «страну
святых чудес»: «Сравнительно, хоть бы с нашим пышным Петербургом, всё
здесь жалко и мизерно. Но от подобных сопоставлений меня избавляет то
чувство благоговения к Западу, которое иногда шевелится во мне с
необыкновенною силою. Я только второй раз за границей, и на короткий срок, как
и в первый. И теперь, как и тогда, каждый раз, когда вступаю на священную
почву какой-нибудь из великих стран, в Эйдкунене, в Марселе, в Венеции,
я чувствовал себя варваром, пришедшим поклониться святыням, которые
с детства обожал. Это иногда — досадное чувство, говорю прямо; невольно
53 Розанов. ПСС. Т. 2. С. 64.
54 Там же. С. 66.
55 Розанов. ПСС. Т. 1.С.469.
241
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
чувствуешь не одну радость, но и страх, чувствуешь тот подавляющий
авторитет этих стран, в силу которых они господствуют над нами, держа нас
в умственном плену»56.
Путешественник задается естественным вопросом: «Неужели нам,
русским, нельзя смотреть на эти чудеса совершенно спокойно, отдавая им от чистого
сердца всю честь, которой они заслуживают, любуясь и восторгаясь ими без
всякой посторонней мысли, с чувством одного благоговения пред всем великим?
Зависть есть черта малодушия, и кажется, можно так верить в Россию, чтобы ни
пред чем не малодушествовать. То нетерпение, то недовольство и раздражение,
которое так часто у нас господствует, есть явление поверхностное, не имеющее
глубокого смысла»57.
Впечатления Страхова о европейской цивилизации так разнообразны
по настроению, что, не зная его, не поймешь, печалится ли он о нашем
отставании от Европы и духовной зависимости от нее или, наоборот, считает
необходимым заимствовать не только ее формы, но и ее «дух»: «Когда здесь,
в Риме, вспомнишь о России, кажется, как будто она вовсе не имеет истории;
всё ее прошедшее представляется однообразною полосою простого роста.
Великие бедствия, которые она вынесла, создание крепкого государства, всё
это не история, всё это только явления самосохранения; а истории как будто
еще не было. Но что же тут печального? Вот передо мною римляне, у
которых была не одна, а даже три истории; кто же из нас пожелал бы с ними
поменяться? Иные горько жалуются, что цивилизация у нас не принимается.
В самом деле, вот скоро два столетия, как она привита к нам, а до сих пор ее
дело идет плохо, и недавно сделана новая решительная попытка поправить
это дело — заведены классические гимназии. Эти неудачи имеют, по-моему,
смысл нисколько не печальный. Мы усвояем из цивилизации всё внешнее,
всё, что не касается самого духа, самой глубины развития, а только дает ему
простор или охраняет. Говорят, наша артиллерия очень не дурна; железные
дороги тоже порядочные, и их уже много; юридические формы нашего быта
в настоящую минуту довольно широки и свободны, несмотря на некоторую
путаницу; Петербург и Москва у нас и красивее, и во многом щеголеватее,
барственнее Берлина и Вены. Но дух, — да, мы не усвоили духа»58. Да,
отношение автора к Западу здесь довольно терпимое, и можно подумать даже,
что он сторонник европейского развития России.
Но на самом деле, как мы знаем из других его произведений,
Страхов считает, что главная наша цель — преодоление нашим обществом застоя
и бездействия без попадания в интеллектуальную и духовную зависимость
56 Страхов Я. Письма из Рима // Страхов Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892.
С. 99-100.
57 Там же. С. 100.
58 Там же. С. 100-101.
242
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
от европейского влияния. Особенно это стало актуальным в середине XIX в.,
когда западная цивилизация в погоне за прогрессом породила такие уродливые
умственные явления, как утилитаризм, позитивизм и спиритизм. Он неустанно
боролся с этими течениями в России, а его одновременно упрекали в том, что
он скорее западник по духу.
Виной ли тому броское название этого трехтомного труда, посвященного
преимущественно критике нашей интеллектуальной зависимости от
Европы, или общее поправение общества после убийства Александра II, только
именно с издания первого тома «Борьбы с Западом» (1882) читатели, прежде
внимавшие его идейным противникам, начали активно интересоваться
творчеством Страхова. Он писал Толстому 31 марта 1882 г.: «Книжка моя быстро
расходится. Это первая моя книга, имеющая успех...»59 Надо отметить при
этом, что популярности книги, помимо названия, способствовал нелепый
временный запрет на ее распространение главного цензора кн. П. П.
Вяземского, который упрекал автора в том, что он осмеливается опровергать идеи
«умных» европейских писателей.
Эта анекдотическая история стоит того, чтобы воспроизвести ее в том
виде, как ее пересказывает бойкий журналист Е. Н. Опочинин, который работал
когда-то под началом чудаковатого князя:
«Вспоминается мне, между прочим, один любопытный эпизод из
деятельности князя по управлению печатью. Придя как-то к нему вечером, я увидал
в кабинете на оттоманке книгу под заглавием „Борьба с Западом" Н. Н. Страхова.
Книга меня заинтересовала и своим заглавием, и именем автора, и я начал ее
просматривать, а Вяземский хитро смотрел на меня и улыбался.
— Знаете, — сказал он мне, — книга эта запрещена.
— Почему? — вырвалось у меня. — Ведь Николай Николаевич...
— .. .дурак! — не дал мне договорить князь.
— Как можно, князь! Николай Николаевич Страхов — один из умнейших
и образованнейших людей нашего времени.
— Может быть, — отрезал Вяземский. — Но все-таки дурак! Посмотрите,
за что он берется? Опровергать теории самых больших ученых Запада? И он
приводит их. И подробно. Тут же старается и опровергнуть их. Но доводы его
ничтожны и глупы... Что же оказывается? Приводятся подробно умные теории,
а рядом дурацкие их опровержения. Конечно, от этого первые только выиграют.
Между тем теории эти вредны. Поэтому книгу надо запретить — она вредна.
Ведь дурак в споре с умным человеком всегда, и для всякого ясно, делает еще
более заметным его ум»60.
Пришлось книгу защищать не только здравому министру внутренних дел
Игнатьеву, который, конечно, ее разрешил, но и самому К. П. Победоносцеву,
59 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 632.
60 Опочинин Е. Н. Среди великих: Литературные встречи. М., 2001. С. 265-266.
243
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
который дал странному главноуправляющему Комитета по делам печати
гарантию благонадежности Страхова, написав кн. П. П. Вяземскому, что идеи этого
философа известны и их «нечего страшиться, ибо направление его известно»61.
Эта нелепая история показывает, что сочинения Страхова встречали
препятствия не только со стороны оппозиции, но и представителей правящей
бюрократии они тоже тревожили.
Однако главной причиной роста популярности его книг было, конечно,
изменение настроений в обществе: не менее активно начал расходиться не
только вышедший в 1883 г. второй сборник «Борьбы с Западом», но и книга
Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», изданием и распространением
которой занимался Н. Н. Страхов. Выпущенное в 1888 г. третье издание быстро
разошлось, и пришлось срочно готовить новое, четвертое, поступившее
в продажу в 1889 г.
«Борьба с Западом» Страхова вызывала возмущение либералов во все
времена. Даже в некрологе мыслителя в 1896 г. известный либерал Гамма
(Г. К. Градовский) позволил себе отрицательный отзыв о почтенном писателе,
поставив ему в вину именно его почвенничество и особенно труд «Борьба с
Западом», уверяя читателей, что само это «неправильное» название есть уже зло:
«„Борьбы с Западом" в философском смысле не могло и не может быть. Это
выражение и неточное и двусмысленное, как неправильно было бы озаглавить
книгу „Борьба с цивилизацией", или „Борьба с человечеством", или „Борьба
с светом и добром". Слово „борьба" уместно там, где дело идет о победе над
злом, неправдой, невежеством. Общение с Западом, сближение с
общечеловеческой цивилизацией, с наукой, вызывало обычное противодействие невежества,
узкого национализма, китайской замкнутости, трусливой боязни затеряться
и обезличиться в том общении, которое обыкновенно обогащает,
оплодотворяет и развертывает во всю ширь и глубину истинные способности таланта,
достоинство, самостоятельность и независимость как отдельных людей, так
и целых народов. Но в „Борьбе с Западом" эти-то противления и заблуждения
и возводятся на высоту борьбы со злом, причем сами „борцы" не
обнаруживают даже сомнения, в какой мере общению с Западом они обязаны самою
возможностью проводить и отстаивать свои мнения и доводы. Вот эта-то книга
(„Борьба с Западом") и умственные связи Страхова с „почвенниками", статьи
и журналы которых никогда не имели успеха, не дозволяли многим стать в ряд
безусловных почитателей скончавшегося»62.
Другой либерал, М. Антонович, в полемической статье,
направленной против почвеннического журнала «Эпоха», писал: «К какой литературе
принадлежат стрижи, к петербургской или московской?» — имея в виду, что
61 Цит. по: Котов А. Э. Русская консервативная журналистика 1870-1890-х годов. СПб.,
2010. С. 75.
62 Гамма [Градовский Г К.] Дневник // Бирж. вед. 1896. № 26, 26 янв. С. 1.
244
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
«почвенники», духовно более связанные со славянофильством, чем с
петербургской западнической литературой, заявили о перемещении центра
литературы в Москву: «Я отвечаю на этот вопрос прямо и решительно: стрижи,
несмотря на свое пребывание в Петербурге, по духу принадлежат к
московской литературе. И вот доказательства моей мысли. Г. Катков, представитель
московской литературы, сам засвидетельствовал, что стрижи не принадлежат
к петербургской литературе, одобрил стрижей и тем дал понять, что они могут
быть приняты в почтенный сонм московской литературы. Никто не станет
сомневаться в том, что г. Страхов есть один из главных, если не самый
главный представитель стрижей; и потому все, что говорится о г. Страхове и его
деятельности, вполне может быть приложено ко всем стрижам. О г. Страхове
же г. Катков говорил, что он „явственно отделился от петербургской
журналистики". (...) Второе доказательство принадлежности стрижей к московской
литературе есть их собственное свидетельство. (...) Посмотрите, сколько
едкости в одном слове „петербургский"; в устах стрижей оно есть хулительное,
бранное и презренное слово; употреблением этого слова стрижи дают понять,
что все нелепое возможно только в петербургской литературе, именно потому,
что она петербургская»63.
И это действительно было так: в Петербурге образовался кружок
писателей, близкий к славянофилам по направлению, но имевший все-таки ряд важных
особенностей, которые позволили им выделиться в отдельное направление
под названием «почвенничество». Так, Страхов писал в статье «Славянофилы
победили» в 1865 г.: «Петербургская литература очевидно сконфузилась самым
жестоким образом. Эта литература общих мест и общих взглядов, литература
всевозможных отвлеченностей и общечеловечностей, литература беспочвенная,
фантастическая, напряженная и нездоровая, была поставлена в тупик живым
явлением, для которого нужно было не отвлеченное, а живое понимание (...)
Наконец, бессилие петербургской литературы обнаружилось уже прямо тем, что
она стала повторять слова московской или усиленно старалась подражать ей (...)
Центр тяжести литературы переместился и, вместо Петербурга, где был прежде,
очутился в Москве. В прошлом году Россия читала „Московские ведомости"
и „День"; только эти издания пользовались вниманием и сочувствием (чьим?),
только их голос и был слышен. И нельзя не отдать им справедливости — они
говорили громко и внятно»64.
В письме к Аксакову после закрытия журнала «Время» Страхов
признал, что «День» победил: «...теперь Ваш журнал — самый любимый, самый
симпатический для русских людей». Он так определил положение журнала
63 Посторонний сатирик [АнтоновичМ. А.] К какой литературе принадлежат стрижи,
к петербургской или московской? // Современник. 1864. Сент. С. 77-78.
64 Летописец [Страхов H.J Славянофилы победили // Эпоха. 1864. Июнь. С. 235-243; то
же: Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 441-451.
245
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
«'
«Время» по отношению к славянофилам: «„Время" было, если хотите, просто
попыткою популяризировать славянофильские идеи на петербургской почве.
Пусть оно было не оригинально, пусть ради успеха оно прикидывалось, что
оно совсем не славянофильский орган, а что-то новое, небывалое,
чудесное, — все-таки в сущности дело остается то же. В отношении к
славянофилам журнал был как бы светским религиозным журналом в отношении
к духовным писателям»65.
В дальнейшем Страхов уже неоднократно открыто признавал себя
славянофилом. В частности, сотрудничая в журнале «Заря», он открыто заявлял,
что программа «Зари» — славянофильство. В своих воспоминаниях о
Достоевском он так сформулировал свою позицию: «...скоро, может быть, по своему
нерасположению к неопределенности, я порешил, что нужно прямо признавать
себя славянофилом, когда признаешь существенные начала этого учения»66.
В последние десятилетия Страхов обычно использует для обозначения
своего направления не узкое понятие «почвенничества», а название
«славянофильство», в соответствии с традицией второй половины XIX в.
(почвенничество было, по существу, консервативным ответвлением славянофильства).
Он имеет в виду под этим названием не узкий кружок ранних славянофилов,
а широкое литературно-философское и общественно-политическое движение,
главными общими чертами которого были русские народные начала и опора
на самобытность.
С влиянием европейской цивилизации связывает Страхов зарождение
у нас нигилизма: «Умственный мир наш растет, но не зреет, как выражался
Чаадаев. Даже наоборот, можно думать, что нынче западная идея получила
некоторый перевес. Влияние ее отчасти обострилось и породило то в высшей
степени злокачественное явление, которое называется нигилизмом».
В статье о Фейербахе Страхов показывает, что европейское отрицание
дошло до таких крайних степеней, что «остается только отрицать человека».
«Пусть цивилизация гибнет, пусть не спасает нас политическая экономия, пусть
нужно отвергнуть и философию, и религию; можно все-таки думать, что после
всей этой гибели останется человечество, которое пойдет к новым идеалам,
к новым формам жизни и мысли. Отрицать это — вот конец отрицания. И до
него дошел Запад в силу неизбежной логики. Не раз было сказано, что человек
есть неудавшееся создание, попытка природы, вроде тех странных ископаемых
творений, которые были переходными ступенями к формам нынешних земных
тварей. Если так, то нужно ждать нового геологического переворота, в котором
погибнет человечество. Тогда новое создание, которое займет место человека,
может быть, представит ту красоту и то постоянство жизни, которое для нас,
Аксаков — Страхов. Переписка. С. 26.
Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 402.
246
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника»
—«■
людей, невозможно»67. Так на разрушающем основы цивилизации
всесокрушающем пессимизме начинает маячить тень сверхчеловека Ницше (см. подробнее
в главе 3 «Наука в биографии и трудах Страхова»).
* * *
О славянофилах часто говорили, что при всей своей критике Запада они
очень многое там заимствовали и, по существу, любят Европу. Известное
выражение Хомякова о «стране святых чудес» можно распространить и на Страхова.
Своим интеллектуальным развитием он во многом обязан достижениям западной
науки и культуры. Он знает европейскую литературу и философию, как может
ее знать только человек, соединившийся с нею в самых основаниях. Страхов
критикует не Запад как таковой, а недостатки европейской цивилизации, которые
приобрели там необратимый характер и неминуемо грозят прийти к нам, так
как наше просвещение недостаточно самостоятельно и целиком ориентировано
на западные ценности.
Розанов пишет о Страхове: «...нисколько он не борется с Западом,
а любит этот „Запад" бесконечно...»68 Однако Розанов тут не совсем прав:
Страхов Запад, конечно, любит, но при этом с ним активно борется, блестяще
вскрывая его многочисленные язвы, которые представляют для нас угрозу.
Однако его неизменный пафос не в преклонении перед Западом, не в зависти
к его достижениям и даже не в отрицании западных начал. Его сочинения
побуждают русских людей к самобытности, к поиску самостоятельного пути,
во избежание всех тех недостатков, которые мы слепо заимствуем у Запада,
не понимая, какой опасности тем самым подвергаем традиционные основы
нашей жизни.
В критическом очерке о книге либерала А. Н. Пыпина «Обзор истории
славянских литератур» (1865) Страхов отметил, что среди отрицательных
черт главных русских писателей, начиная с Фонвизина и Карамзина, особенно
часто повторяется упрек «в некотором славянофильстве». После них в том же
«грехе» оказывается повинен и сам Пушкин, а затем славянофильство
«отзывается» и у Лермонтова с Грибоедовым, и у многих других. Использовав
эту отрицательную, по мнению Пыпина, характеристику нашей словесности,
Страхов делает важный вывод: «Таким образом, славянофильство составляет,
может быть, общий характер нашей литературы — вывод необыкновенно
важный, если бы он подтвердился основательными исследованиями. Если наша
бедная литература имеет какое-нибудь значение, то славянофилы, конечно,
были бы вправе гордиться подобным открытием: для них было бы лестно
67 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 74.
68 Розанов В. В. К литературной деятельности Н. Н. Страхова // Розанов. ПСС. Т. 3.
С. 114.
247
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
убедиться, что каждый замечательный русский писатель был более или менее
славянофилом, что если иные из них в начале шли по другому направлению,
то под конец все-таки приходили к тому же славянофильству»69. Достоевский
относил книжечку Страхова «Бедность нашей литературы», куда вошел этот
очерк, к числу лучших его сочинений и советовал ему в том же духе писать
для журнала «Заря».
В поисках самостоятельности в отношении к европейской цивилизации
мы можем многому научиться из книг и статей Н. Н. Страхова, среди которых
особое место занимают три тома «Борьбы с Западом в нашей литературе».
69 Страхов Н. Н. Бедность нашей литературы: Критические и исторические очерки.
СПб., 1868. Цит. по: Страхов. Литературная критика. С. 94.
CtaSa о
«СТЬЩЛИВАЯ» РЕЛИГИОЗНОСТЬ СТРАХОВА
Philosophari nihil aliud est quam Deum amare.
H. Страхов1
£§§§ О приверженности Страхова религии догадывались все близкие его
знакомые и самые чуткие из читателей, хотя сам он часто называл себя неверующим
и прямо о своих религиозных взглядах старался не высказываться, а если что-то
и говорил, то лишь намеками и довольно редко. Поэтому для главы о несколько
загадочной духовной стороне личности философа очень подходит определение
«стыдливая» религиозность, использованное В. В. Саповым2, а затем Н. В. Сне-
товой3. Но все-таки если пройтись по сочинениям, и особенно по письмам
мыслителя, то выразительных высказываний на тему религии наберется немало.
Так, в начале своей книги «О вечных истинах» Страхов использовал
афоризм на латыни, послуживший эпиграфом к настоящей главе. Однако никому
из знакомых автора не удалось найти, кому именно принадлежал афоризм,
столь прямо указывающий на связь между настоящей философией и любовью
к Богу. Известно, что Страхов свободно владел языком древних христианских
богословов, а сосед Страхова писатель Стахеев сообщает, что по утрам Страхов
имел обыкновение почитывать в оригинале чрезвычайно популярное в то время
в русском обществе сочинение латинского автора XV в. Фомы Кемпийского
«О подражании Христу». Стахеев пишет: «Книга Фомы Кемпийского всегда
лежала на маленьком столике около дивана у кресла, на котором он обычно
сидел. Читал он эту книжку каждое утро. Но читал ли для того, чтобы
ежедневно, так сказать, подвинчивать себя в смиренномудрии или только для практики
в латинском языке, — об этом решительно слова сказать не могу»4.
Книга «О подражании Христу», конечно, служила Страхову источником
душеспасительных наставлений, а не для практики в латинском языке, как
1 Философствовать — значит не что иное, как любить Бога (лат.).
2 Сапов В. В. Страхов Николай Николаевич // Русская философия: словарь. М., 1999. С. 489.
3 Снетова. Философия Страхова. С. 330-331.
4 Стахеев Д. К Станислав первой степени и енотовая шуба: Из воспоминаний
о Н. Н. Страхове // Ист. вестник. 1904. Февр. С. 466.
249
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$»
несколько шутливо предположил Стахеев. В книге «О подражании Христу»
даются советы избегать соблазнов мира сего и сосредоточиться на
внутренней жизни, отвергать суетные попечения, отдавать предпочтение уединению
и молчанию, пренебрегать комфортом и смиренно нести свой крест. Все эти
наставления прямо перекликаются с тем образом жизни, какой вел книжный
затворник Страхов. Известно, что в духовно-наставительном сочинении автора
XV в. ничего предосудительного с православной точки зрения не находили, да
и перевел это сочинение на русский язык не кто иной, как «сам» К. П.
Победоносцев. Однако наиболее строгие церковные авторитеты, в частности святитель
Игнатий (Брянчанинов), к этому труду почтенного католического духовного
писателя относились без одобрения.
Как бы то ни было, но и в этом сочинении римского богослова указанная
выше цитата о связи философии и религии обнаружена не была. В бойких
воспоминаниях посетителя страховских сред Сергея Уманца содержится забавный
эпизод о том, как гости Страхова, люди вполне эрудированные, изнемогая от
любопытства, кто же автор этого афоризма, не выдержали и прямо задали этот
вопрос хозяину квартиры, сплошь заставленной книгами:
«„А откуда вы взяли этот эпиграф?" — спросил бывший при этом
драматург Д. В. Аверкиев. „Уж, право, не знаю, не помню..." — „Уж не сами ли вы
его и сочинили? Признавайтесь, Николай Николаевич", — и Аверкиев звонко
засмеялся своим искренним, добродушным смехом. Страхов молчал,
продолжая только улыбаться и поглаживать свою длинную седую бороду, наполовину
закрывавшую его красноватое широкое лицо»5.
Вопрос о происхождении эпиграфа так и остался загадкой, как,
собственно, и о религиозных взглядах самого Страхова, хотя если и не авторство, то даже
использование такого высказывания, бесспорно, свидетельствует об очевидном
его внимании к духовной стороне жизни. Примерно ту же мысль высказал
Страхов, например, в письме к Гроту: «Истину нашел уже Платон; она состоит
в том, что есть Бог и что высшее действие нашей мысли — подниматься к Богу»6.
Таким образом, сомневаться в религиозности Страхова, казалось бы, нет
особых причин. Но если говорить о религии с точки зрения церковной веры,
то и тут мнения о Страхове сильно расходятся. Да и вообще большинство
писавших о философе на основании его кратких и мимолетных высказываний
в разных ситуациях отмечают противоречивость суждений Страхова по
религиозным вопросам. В отзывах о духовных взглядах Страхова наблюдается
большой разброс мнений.
Одни называют его скептиком, не имевшим твердых религиозных
убеждений, гегельянцем-рационалистом и даже почти атеистом, другие — толстовцем,
5 С. У. [УманецС.И.] Мозаика: (Из старых записных книжек) // Ист. вестник. 1912.
Дек. С. 1013-1066.
6 Письма СтраховаН. Я. Гроту. С. 254.
250
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
—■$■
третьи — чуть ли не консервативным «церковником» и т.д. В советское время
был даже случай, когда Страхова зачислили в позитивисты, хотя это было скорее
свидетельство полного незнания его сочинений.
Публицисты радикального лагеря, от Чернышевского и Салтыкова-Щедрина
до Антоновича и Шелгунова, считали его политическим «реакционером» и «об-
скурантом»-церковником, хотя их идейные противники типа П. Астафьева или
К. Леонтьева не менее категорично упрекали его в либерализме и неверии.
А Вл. Соловьев умудрился даже назвать Страхова за критику спиритизма...
сторонником механистического материализма, в чем он был уж никак не виновен.
Известный деятель русской культуры кн. Э. Э. Ухтомский, издатель
«Санкт-Петербургских ведомостей», не раз бывавший у Страхова, находил его
не только религиозным скептиком, но даже «вольтерьянцем»: «„За религию"
князь Э. Э. Ухтомский не слышал от Н. Н. Страхова ни слова. Н. Н. Страхов
казался скорее „вольтерьянцем", мыслителем XVIII века»7. Видно, что личность
гостеприимного Страхова оставалась неразгаданной и для посетителей его
сред — скрытный, уклончивый Страхов не любил распространяться о своих
религиозных взглядах. Более того, он охотно из скромности и, кажется, не без
кокетства поддерживал мнение, будто не может верить. Так, когда в печати
появился его очерк «Воспоминание о поездке на Афон» (1889), то многих
поразил очевидный религиозный пафос автора, а идейно близкий ему историк
Бестужев-Рюмин, далеко не либерал, отмечал, что Страхов «чересчур раскрасил
монашество, скрыв его дурные стороны»8. Тем не менее сам Страхов упорно
продолжал утверждать, что автор очерка, то есть он, — человек неверующий.
Розанов, написав в 1890 г. большую статью о Страхове, признавался, что
это было невероятно трудно, так как Страхов чрезвычайно сдержан в
высказывании собственных взглядов, тем более что такие высказывания о себе
слишком разбросаны и тонут в море цитат из других авторов. Но все-таки Розанов
с уверенностью заявил о герое своего очерка, что «религиозное составляет ни
разу не названный центр постоянного тяготения его мысли»9, и сам Страхов
с ним в этом согласился.
Представление о личности философа и критика, о системе его воззрений
приходится составлять на основании довольно редких, весьма кратких и
обрывочных высказываний, причем в разном контексте. Зыбкость, расплывчатость
взглядов Страхова в этих его высказываниях, закрытость, неуловимость его
личности действительно поразительны. Случай в истории мысли редкий, если
не уникальный. Исследователю хочется в этом вопросе какой-то ясности, но
7 Лукьянов С. М. Запись бесед с Э.Э.Ухтомским // Российский архив. М., 1992. Вып.
2-3. С. 398.
8 Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича
Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1890. С. 285.
9 Розанов. ПСС. Т. 2. С. 61.
251
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
все усилия почти наверняка обречены на провал или субъективные догадки
и домыслы.
Тем не менее преподаватель философии Московской духовной академии
Ф. К. Андреев, друг о. Павла Флоренского, в рецензии на студенческую работу
в Московской духовной академии высказал справедливое мнение, что
исследователь религиозных взглядов Страхова неизбежно должен проявить большую
смелость, нежели сам философ, который опасался говорить о своих взглядах,
боясь ошибиться,0. Страхов действительно был чрезвычайно осторожен и
почти боязлив в обращении с «высокими» предметами: «Легко это сказать, легко
произнести это слово — религия; но вовсе не легко воссоздать в своем уме тот
смысл, который действительно соответствует этому слову»11.
Подобная творческая реконструкция — возможный и едва ли не
единственный путь, однако и она не гарантирует полной точности суждений и в целом
остается лишь гипотезой, так как страховские высказывания и особенно отзывы
о его религиозных взглядах весьма отрывочны и часто противоречивы.
Недоумение всех желающих пристроить мыслителя на какую-нибудь
идеологическую «полочку» едва ли не лучше всех выразил проф. В. И.
Модестов: «Пантеист ли он, деист ли, исповедует ли он положительную религию,
материалист ли он, идеалист ли он, либерал ли он, консерватор ли он, одним
словом, кто г. Страхов в области философии и политики, для меня оставалось
и до сих пор остается непонятным»12.
Своеобразное объяснение этого необычного явления попытался дать
Ю. Н. Говоруха-Отрок, считавший себя учеником Страхова13. Он заявляет, что
Страхов по натуре критик, а критика, мол, не предполагает религиозного
обоснования, так как религия не анализ, а сплошное творчество. Однако здесь не
обошлось без упрощения: критика все-таки также является творческим делом
и предполагает наличие определенной позиции, тем более что Страхов не
отделял критику от философии, а философию, как свидетельствует отмеченный
нами эпиграф, — от религии. Впрочем, тот же Говоруха-Отрок не раз отзывался
о Страхове именно как о религиозном мыслителе.
Скрытность Страхова относительно его взглядов откровенно раздражала
некоторых его современников, а Константина Леонтьева буквально выводила из
себя. В 1875 г. он прямо задал Страхову вопрос о его отношении к вере: «Долго
10 Андреев Ф. К. О сочинении студента Матвеевича Виктора на тему: Религиозно-
философские взгляды Н.Н.Страхова // Богосл. вестник. 1916. Июнь. Разд. «Журналы
собраний». С. 288-289.
11 Страхов Я. Воспоминания о ходе философской литературы // Ист. вестник. 1897.
Май. С. 428^29.
12 Модестов В. Борьба с Западом: [рец.] // Новости и Биржевая газета. 1887. № 288, 20 окт.
С. 2.
13 Говоруха-Отрок Ю.Н. Несколько слов о Н.Н.Страхове: Никольский Б. В. Николай
Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. СПб., 1896: [рец.] // Моск. вед. 1896.
№ 167, 20 июня. С. 3.
252
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
без церкви и монахов—я быть не могу, и на меня слишком часто в м1рской
обстановке находит нестерпимый ужас смерти и тоска. — (Дорого бы я дал — чтобы
наверное узнать, — что Вы в самом деле думаете об этих вещах... Неужели Вы
остановились на Православии в культурном смысле для других и на интимном
Пантеизме для себя! — В сущности, я не (имею) никакого права предлагать
Вам подобные вопросы... Я их предлагаю и не Вам, а себе; Вам же я признаюсь
только, что ужасно желал бы забраться на минуту в серое вещество Вашего
обширного, судя по форме головы, мозга или даже еще дальше, в какой-нибудь
Ваш Вартоллиев мост!..)»14
Некоторые современные исследователи, в частности Н. Н. Скатов, нашли,
однако, возможным утверждать «непоколебимость» Страхова в вере и мысль,
что он «навсегда остался человеком, преданным религиозным догматам»15. Но
столь категоричные суждения, скорее всего, печальный результат ошибочного
приписывания философу трудов его полного тезки — преподавателя
Харьковской духовной семинарии Н. Н. Страхова-младшего. Это обстоятельство
роковым образом сказалось на оценке мировоззрения Страхова целым рядом
современных исследователей, и его надо непременно учитывать при оценке
творческого наследия философа и критика16.
* * *
Хотя об отношении Страхова к религии высказывались самые разные
мнения, наиболее глубокие и чуткие исследователи творчества Страхова,
знавшие его лично, — Ю. Н. Говоруха-Отрок, В. В. Розанов и Б. В. Никольский — не
сомневались в том, что, несмотря на нечастое упоминание, религия занимает
важнейшее место в воззрениях Страхова, и утверждали, что само его
мировоззрение имеет характер религиозный. Не забывали они и того, что славянофильские
убеждения, склонность к которым открыто высказывал Страхов, подразумевают
и приверженность к вере русского народа — православию.
Ю. Н. Говоруха-Отрок, говоря о сочинениях Б. В. Никольского,
посвященных Страхову, писал: «Мне несколько раз приходилось высказывать, что
мировоззрение Страхова имеет характер религиозный, в широком смысле этого
слова, хотя Страхов почти никогда не касался вопросов религиозных.
Исключение составляет его предисловие к переводу сочинения Шопенгауэра „Мир
как воля и представление", сделанному Фетом. В этом предисловии Страхов
касается вопросов религии, доказывая, что глубокая философия Шопенгауэра
для человека мыслящего может служить как бы приготовлением к восприятию
14 Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1. С. 447.
15 Скатов Н. Н. Литературная критика. СПб., 2000. С. 8.
16 См. об этом подробнее: Лыкова В. С. Философские воззрения Н. Н. Страхова: автореф.
дис. ... канд. филос. наук: 09.00.03. М., 2001.
253
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
религиозного воззрения, и именно христианского»17. Эта необычная точка
зрения на взгляды философа мировой скорби вызвала, впрочем, иронический
комментарий безвестного рецензента в «Отечественных записках»: «Г. Страхов
ведет эту речь известно к чему — к прославлению „Восточной мудрости", коей
сосредоточие, кажется, в Москве находится»18.
Профессор МДА Алексей И. Введенский писал в некрологе о Страхове:
«Как на глубочайшую основу и источник всех признанных особенностей,
характеризующих научно-литературную деятельность Н. Н. Страхова, следует
указать на его религиозную настроенность»19.
В 1890 г., написав и отправив в редакцию журнала большую статью
о Страхове, Розанов спрашивал его в письме: «Верно ли я определил в своей
статье, что скрытый центр Ваших размышлений, научных и литературных
исканий есть религиозное?»20 Страхов отвечал еще до прочтения статьи: «Не знаю,
как Вы напишете о религиозном у меня, но, конечно, Вы правы, ибо все серьезное
в конце концов сводится к религиозному»21.
В наше время, особенно после издания огромной переписки Страхова
с Л. Н. Толстым, можно найти немало и других высказываний самого философа-
критика о том, что религия является важнейшим, хотя почти не раскрываемым
элементом его мировоззрения.
Так, в 1886 г. Страхов писал Толстому: «Наша душевная жизнь очевидно
вполне сливается с органическою. (...) Я готов сказать, что всякая жизнь
непосредственно происходит из Бога, что Бог одинаково растит и мелкую травку
и душу величайшего человека. (...) Конец же и цель всякого развития есть Бог,
то самое, что есть и его источник. (...) Все из Бога исходит, и все к Богу ведет
и в Боге завершается. Мы в Нем живем, и движемся, и существуем»22. В
статье о Данилевском Страхов утверждал: «Бог и его святая церковь — вот что
выше всего для человека, твердо держащегося православия. (...) религиозная
и нравственная область стоит для всякого человека выше истории, культуры
и всякой политики. История есть дело земное, временное; а мы всегда носим
в себе позывы к небесному, вечному»23.
Но едва ли не наиболее яркие и откровенные высказывания содержат его
краткие и, увы, незавершенные «Воспоминания»: «Религиозные представления
ставят нас в такие отношения ко всему остальному бытию, перед которыми
17 Говоруха-Отрок Ю. Н. Несколько слов о Н. Н. Страхове. С. 3.
18 Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Перевод А.Фета. СПб. 1881:
[рец.] // Отеч. зап. 1881. [Т. 254], Янв. С. 175 (без подписи).
19 Введенский А. И. Памяти Николая Николаевича Страхова (f24 янв. 1896 г.) // Богосл.
вестник. 1896. Март. Отд. 3. С. 486.
20 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 240.
21 Там же. С. 60.
22 Толстой — Страхов: Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 724—725.
23 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 3. С. 235-236.
254
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
мелки и ничтожны всякие другие отношения. (...) Поистине, религия, если взять
ее со стороны чувства и понятия, составляет действительное доказательство
благородства души человеческой, и, если бы мы вообразили себе человечество
без религии, то нам пришлось бы понизить его почти до степени животных.
(...) Вот почему всякий, кто раз в жизни действительно воспринял влияние
религии, уже навсегда сохранит к ней великое уважение, и если потеряет веру,
то не может, однако (по крайней мере, не должен), забыть вершин, на которые
восходила его душа»24.
Свои «задушевнейшие мысли»25 о религии Страхов изложил и в статье
по поводу критики Толстого Мельхиором де Вогюэ: «Наши понятия о
христианстве так сузились, что мы не опознаем его, когда оно является нам не вполне
в привычных формах, что мы не умеем представить себе, как оно может
превышать всякий буддийский и обще-арийский дух, не потому что отрицает их
безусловно, а потому что объемлет их собою и доводит до настоящей полноты
и определенности»26.
Страхов не согласен с утверждением: «.. .мы ищем Бога и не находим Его;
Бог от нас скрылся, и мы в тоске ждем, когда Он вновь откроется нам»27. Он
утверждает бытие Божие: «Не Бог скрылся от нас, а мы упорно отворачиваемся
от Бога. Если бы не это упорство, то мы легко бы нашли Его, потому что Он везде
и всегда. И если бы мы сколько-нибудь знали путь к Богу, то для нас открылась
бы великая поучительность во всех религиозных формах, в которые
человечество облекало и облекает свое вековечное стремление. Тогда и мистицизм,
лучший цвет этого стремления, не пугал бы нас, и может быть мы согласились
бы с давнишним положением, что всякий истинный христианин есть мистик
(иногда бессознательный), хотя бы мы при этом и отвергали обратное положение,
по которому и всякий мистик (сознательный) есть истинный христианин»2*.
Это упоминание «мистики» немаловажно для позднего Страхова. Его
обычно называли рационалистом, и он сам признавал, что в ранний период был
пантеистом-гегельянцем. Однако позже он постоянно заявлял о своем
отталкивании от рассудочного восприятия действительности. Во время пребывания
в Германии, например, он с упоением прослушал целый цикл опер Вагнера,
а это увлечение вряд ли характеризует его как рационалиста. Страхову
действительно был присущ строгий методизм мышления, и поэтому многие считают
его неискоренимым рассудочным мыслителем-гегельянцем. Но Страхов зрелого
периода взял от Гегеля лишь диалектический метод. Кстати, и самого Гегеля он
рассматривал не только как философа религиозного, но и как мистика прежде
24 Страхов Н. Воспоминания о ходе философской литературы. С. 423-434.
25 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 757.
26 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 477.
27 Там же. С. 480.
28 Там же. С. 481.
255
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
всего: «.. .его вообще рассматривают как пантеиста чуть не в материалистическом
духе, тогда как он есть чистейший мистик и совпадает с Баадером, Мейстером
Экгардом, Ангелом Силезским и т.п.»29.
Склонность к мистицизму является одной из своеобразнейших черт
воззрений Страхова, указывающей на не раскрытый пока в подробностях
интуитивизм его взглядов. Не случайно в 1884 г., вернувшись из поездки в
Германию, он сообщает Фету: «За границей я и читал мистиков, и покупал все их
книги»30. Связь мистики с религией для Страхова несомненна: «Мистика есть
не что иное, как чистая религия...»31 Страхов трактовал мистику как общий
религиозный дух, характерный для всех религий. Это явный отход от
рационализма, но не столько в сторону православной мистики церковного онтологизма,
сколько к пантеистическому мистицизму универсальной религии. Во взглядах
Страхова, который, будучи не удовлетворен рационализмом науки, «начал
поиски иррационального»32, явно шла борьба между традиционным
христианским миросозерцанием, усвоенным им с детства, и возросшим тяготением
под влиянием Шопенгауэра к восточным религиозным культам и европейским
мистикам. Не прекращает он читать и Отцов Церкви, чему есть его собственные
свидетельства. Но после 1880 г. под влиянием Толстого он начинает незаметно
для себя всё больше сдвигаться в сторону восточной мистики, сочетающейся,
как ни странно, с растущим либеральным скептицизмом протестантского типа.
Тем не менее внутренняя борьба, отразившаяся в противоречивости взглядов
мыслителя, продолжалась до конца жизни Страхова.
Эту оригинальную сторону воззрений Страхова чутко уловил Н. Я. Грот.
Для Грота Страхов, признающий и законы эмпирической реальности, и
идеальное духовное начало, является «почти скептиком». Однако Грот подчеркивает
индивидуальное своеобразие взглядов философа, находя в них, при явной
склонности к рационализму, и тяготение к своего рода мистицизму. Он
считает Страхова «мыслителем, наклонным к некоторому особому, если так можно
выразиться, рациональному мистицизму — к признанию, что в этой высшей
области знания мы стоим перед некоторою тайною, непостижимым»33.
Мистицизм Страхова имеет оттенок универсальной религии, веры в Бога
вообще, без привязки к конкретной конфессии, и не случайно в своих суждениях
о религии он отводит видное место Шопенгауэру. Конечно, в эпоху торжества
материализма Шопенгауэр с его иррационализмом мог служить связующим
звеном на пути к религии, как это указывает сам Страхов, уловивший в
Шопенгауэре «скрытое веяние христианского духа»34. Страхов считает достоинством
29 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 756.
30 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 382.
31 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 756.
32 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 257.
33 Грот Н. Я. Памяти Н. Н. Страхова: К характеристике его миросозерцания. М, 1896. С. 30.
34 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 140.
256
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
—■$>
Шопенгауэра то, что его идеал святости мирится со всяким вероучением. По
мнению Страхова, «книга Шопенгауэра может служить прекрасным введением
к пониманию религиозной стороны человеческой жизни... она закрывает все
выходы к оптимизму и наводит нас на другой путь, на путь истинный вне всякого
сомнения»35. Он считает пессимизм Шопенгауэра, вызванный постижением
коренящегося в основании самой жизни мирового зла, характерным для всех
религиозных учений, а аскетизм, отрешение от земных желаний и житейских
благ, составляет глубочайший смысл христианской веры. Однако Соловьев
и другие мыслители справедливо указывали, что учение Шопенгауэра скорее
сродни буддийскому учению о нирване, нежели христианскому аскетизму.
Религиозный пафос постоянно присутствует или, по крайней мере,
ощущается в сочинениях Страхова. Он, безусловно, идеалист, и уже названия ряда
его статей говорят о том, что религия ему не безразлична: «Справедливость,
милосердие и святость»; «О вечных истинах»; «Последний из идеалистов»...
Но он лишь философ-созерцатель, опасающийся не только категорических
выводов, но и прямых, развернутых суждений по вопросам веры. От такого
зыбкого, всеприемлющего «философского» отношения к вере — и «статуэтка
противного Будды» в его квартире, которая так возмутила Розанова36, и интерес
Страхова к Шопенгауэру, и его гегельянство. А. Волынский в статье 1893 г.,
посвященной Страхову37, проводит (впрочем, чересчур категорично) прямую
связь между буддизмом и взглядами Страхова.
Итак, практически не может быть сомнений в положительном отношении
Страхова к религии, в его постоянном интересе к христианской вере. Однако
остается другой, более тонкий и интимный вопрос: был ли сам Страхов
человеком верующим, или, если сказать прямо, «по-леонтьевски», человеком
церковным, или же его религиозные воззрения носят расплывчатый характер
религиозного универсализма? Казалось бы, он явно отдает предпочтение
религиозной мистике, «чистой религии».
И не случайно в его мировоззрении почти постоянно ощущается
присутствие какой-то печали, которая восходит скорее к вселенскому пессимизму
Шопенгауэра, нежели к христианскому отрицанию злого и суетного мира. Да
и тот нередко одолевающий его упадок духа, на который жалуется в письмах
Страхов, вряд ли характеризует его как твердого верующего христианина,
который должен прежде всего «бежать греха уныния». Впадая временами в
уныние, Страхов писал очень сомнительные вещи и о религии38. Сюда же можно
отнести как его неоднократные критические высказывания в адрес церковных
35 Страхов Н. Предисловие // Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / пер.
А.А.Фета. СПб., 1881. С. V-VIII.
36 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 117.
37 Волынский А. Литературные заметки // Сев. вестник. 1893. Февр. С. 116-123, 145-146.
38 См., например: Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 637-639.
257
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
—■$■
деятелей, так и поддержку им сомнительных с точки зрения Церкви толстовских
религиозно-нравственных исканий. Однако и здесь не все так просто, и следует
быть осторожным в выводах. Страхов постоянно высказывается о себе в
самоуничижительном духе — о своем неверии, о всяческих своих недостатках;
во многих случаях это явное проявление христианского смирения, и он вовсе
не так плох и не «худший из грешников», как выходит из его многочисленных
самообличений.
Как, например, трактовать высказывание Толстого о том, что Страхов
увлекался мистиками типа Ефрема Сирина? Работавший в Ясной Поляне
учителем детей Толстого В. Лазурский записывает в «Дневнике» в 1897 г., когда он
собирался писать о покойном Н. Н. Страхове: «Лев Николаевич посоветовал мне
обратить внимание на одну черту у Страхова (он об этом говорил и Гроту): его
мистицизм в духе Ефрема Сирина и других восточных учителей церкви»39. Это
говорит о том, что Страхов интересовался не только западными мистиками, но
хорошо знал и православное святоотеческое учение.
Определенный свет в этом отношении проливает переписка Страхова
с И. С. Аксаковым, с которым они в 1880-х гг. настолько идейно сблизились,
что Аксаков даже подумывал о приглашении Страхова в соредакторы «Руси».
Особенно интересно обсуждение темы мистики, вызвавшее предельно
откровенное изложение Страхова своих религиозно-философских взглядов.
После напечатанной в «Руси» статьи Страхова об отзыве Вогюэ о
Толстом, в которой Страхов сделал спорное утверждение, что «всякий мистик есть
истинный христианин», между ними развернулась полемика. Аксаков,
согласившись с тезисом, что всякий христианин есть мистик, выразил сомнение,
однако, в обратном утверждении Страхова: «Положение, что „всякий мистик
сознательный есть истинный христианин", представляется мне несколько
смелым. (...) Все шведенборгисты, все те, которых специально зовут мистиками,
признают право на название „истинного христианина"»40.
В ответ Страхов написал Аксакову ценное для понимания его взглядов
«исповедальное» письмо: «Вы угадали, я еретик с известной точки зрения;
я считаю неверным то, что говорит Пастырское послание, что „никакая
добродетель, никакой подвиг" не может спасти человека, сделать его святым вне
Церкви. Это жесткие слова, которых послание ничем и не объясняет. Я думаю,
Бог милостив и его отношение к людям проще, понятнее, общее, теснее и глубже.
Сознаюсь, я мистик, и даже спешу Вам в этом признаться — так мало случаев
сообщить свои мысли кому-нибудь разумеющему!»41 Из этого письма можно
сделать вывод, что Страхов не так уж и таил свои мысли — в эпоху торжества
нигилизма ему просто некому было их изложить.
39 Лазурский В. Ф. Дневник IIЛН. М., 1939. Т. 37-38: Л. Н. Толстой. С. 491.
40 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 115.
41 Там же. С. 119.
258
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
Свое отношение к мистике Страхов разъясняет, попутно затрагивая взгляды
Вл. Соловьева, с которым его, как и Аксакова, тогда связывали еще почти дружеские,
хотя и сложные отношения: «Соловьев мне очень дорог, потому что разъяснил мне
понятие Церкви. Он один настоящий церковник, т.е. не только утверждает, что вне
Церкви нельзя спастись, но и ясно понимает, почему это так. Его мнений я не
разделяю, не могу разделять, и он мне только уясняет и закрепляет то противоречие,
которое лежит между моими мыслями и общепринятыми верованиями. Соловьев
иногда называет себя мистиком, но он не мистик, а теософ. Он предается всяким
построениям божественного мира и судеб человечества. По-моему, это радость
обманчивая, хотя и очень увлекательная. Все это образы, которые ниже своего
предмета. Их не нужно: нужно стремиться без них стать Богом. Вы примете это
за богохульство, а это есть даже в одной русской книге—в беседах Симеона
Нового Богослова, и это значит только—устранить все, разделяющее нас от Бога. Что
тогда бывает с душою, нельзя иначе и выразить. В Нем (не о Нем, как переводят!)
мы живем, и движемся, и существуем — вот вкратце вся мистика»42.
Конечно, усвоить понятие Церкви от Соловьева — не самый подходящий
путь к духовной истине, и это не раз подчеркивали критики Страхова. Но в те
годы Соловьев еще не перешел на позиции западнического либерализма, и в его
ранних религиозных сочинениях православный человек может найти немало
для себя полезного.
Страхов выражает здесь не какое-то исключительное мнение, а
традиционный взгляд отцов православной Церкви на обожение — близкие высказывания
можно найти, в частности, у преп. Максима Исповедника и св. Василия
Великого. После ознакомления с этой перепиской Аксакова и Страхова становится
более понятной и убедительной неожиданная, на первый взгляд, фраза Толстого
о своем будто бы почти единомышленнике, что Страхов является мистиком
в духе Отцов Церкви.
Что касается доходящей до поклонения любви Страхова к Толстому, то
это был один из немногих пунктов, по которому они существенно расходились
с Аксаковым, как, впрочем, и с другими близкими мыслителями типа Говорухи-
Отрока или Розанова. По ходу рассуждений о мистике Аксаков позволил себе
укол в адрес бесконечно уважаемого им великого писателя, впавшего в
религиозный морализм: «...Толстой, увлекаемый к мистицизму, именно против
мистицизма и борется»43.
Это противоречие между рационализмом и мистикой, хотя и в ином
соотношении, присутствовало и во взглядах Страхова. Он отмечал, что его
интерес к мистике не мешает ему толковать о науке с вполне рационалистических
позиций. Но для приведения к высшим метафизическим и духовным истинам
наука имеет для него только второстепенное, подсобное значение.
42 Там же. С. 120.
43 Там же. С. 116.
259
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Ф
Таким образом, Страхов был глубоко религиозным человеком, и вся его
творческая деятельность вращается вокруг «вечных истин», хотя его
отношения с Церковью складывались сложно. На протяжении всего жизненного пути
философ не забывал о Боге. Он жил внутренней, глубоко духовной жизнью,
и скрытая от посторонних глаз работа над своей душой не прекращалась в нем
до последних дней. И в самом смиренном, уединенном его существовании
вдали от мира, среди книг, и в посвящении всего себя высоким идеалам и
благородному умственному труду явно присутствуют черты, имеющие некоторое
сходство с монашеским подвижничеством.
* * *
Б. В. Никольский построил целую концепцию, истолковывая
аскетический образ жизни Страхова, полностью посвятившего себя исканию истины
и лишенного эгоистического самоутверждения, как своего рода монашество
в миру. По его мнению, подозрения в неискренности или скрытности Страхова
должны быть отвергнуты: «Нам просто непривычен монашеский тон Страхова
в применении к светским вопросам и предметам.. .»** Его полную неспособность
найти общий язык со своим временем Никольский объясняет так: «...Страхов
не был современником своего века. В его лице как будто ожил для нашего
легковесного, поверхностного и утонченного столетия какой-нибудь ученый мних
XIV-XV века, простодушный, положительный и серьезный»45.
Никольский предлагает весьма заманчивый ключ к объяснению
необычной закрытости внутреннего мира Страхова: он утверждает, будто Страхов обо
всем на свете говорил таким тоном, каким монашествующий разговаривает
с мирянами о светских делах. По мнению Никольского, какие-либо подозрения
о неискренности или скрытности Страхова должны быть отвергнуты, так как
нам просто непривычен монашеский тон Страхова в применении к светским
вопросам и предметам.
Никольский, примеряя монашескую рясу к образу философа-отшельника,
не был в этом одинок. Это сопоставление напрашивалось само собой, и
Никольский только провел его с несколько чрезмерной последовательностью.
Однако бросающиеся в глаза сходные с монашескими черты жизненного уклада
Страхова педалирует в портрете соседа по квартире и Д. И. Стахеев в своих
мемуарах и автобиографических повестях, одна из которых носит
красноречивое название «Пустынножитель». Да и сам Страхов, кстати, в одном из писем
к Фету называет свое жилище на 5-м этаже «пустынножительным чердаком»46.
44 Никольский Б. В. Страхов. С. 7.
45 Там же. С. 9.
46 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 412.
260
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
Ф
Учитель детей Толстого В. Лазурский приводит мнение писателя о том,
что внешний вид Страхова вызывал ассоциации с монашеством: «Как-то Лев
Николаевич сказал о Страхове: „Как посмотрю я на Николая Николаевича,
быть бы ему архиереем; хороший бы архиерей вышел". Действительно,
Страхов — с открытым лицом, длинной седой бородой, благообразный, спокойный
и мягкий — по наружности был бы хорошим архиереем. Славянофильская
окраска его мнений также не противоречила бы этому званию. Вышедший
из духовного звания, всегда живший уединенной жизнью ученого холостяка,
Страхов, вероятно, с достоинством вынес бы монашеский подвиг, если бы это
от него потребовалось»47.
Есть, наконец, прямые свидетельства того, что монашество, церковный
аскетизм действительно очень интересовали Страхова. Так, в 1875 г. Страхов
пишет Толстому из Рима: «Современная жизнь и современные люди нисколько
не интересны. Настоящая жизнь человека — религия, искусство, какая-нибудь
идея. (...) И вот мне хотелось повидать монахов, увидеть живущую в людях
религию. (Я непременно посещу Оптину пустынь и какие-нибудь русские
монастыри.) Что аскетизм есть последовательное выражение религии — для меня
несомненно; я до семнадцати лет (даже первый год университета) жил в среде
духовных и монахов и знаю, в чем дело»48.
* * *
«Пострижение в философские монахи», выражаясь языком Герцена49,
состоялось у Страхова еще в молодые годы, и он был подведен к нему всей
своей предшествующей жизнью.
Выходец из семьи православного священника, Страхов в раннем детстве
был глубоко верующим человеком. Он вспоминал: «Мне помнятся мои детские,
и юношеские, и зрелые чувства с такою живостию (...) Я помню и то
благоговение, с которым стоял в церкви, когда был мальчишкой»50.
Очень важные сведения о том, что в своей духовной эволюции Страхов
проходил через серьезный аскетический опыт, он сообщает в одном из писем
к Толстому: «Помню, когда мне было 13 или 14 лет и я стал уже думать о том,
чего от нас требует религия, я пришел к мысли, что, должно быть, в нее
никто не верил вполне, не верил от Христа и до наших дней. Это меня ужасало
и удивляло. Если нам предстоит с одной стороны рай, а с другой ад, то не ясно
ли, что только об этом нужно и думать, что нужно всё бросить и спасаться,
47 Лазурский В. Ф. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: (Из личных воспоминаний) // Русская
быль. Сер. III. I. Л. Н. Толстой: Биография, характеристики, воспоминания: (Жизнь. Личность.
Творчество): сб. ст. М., 1910. С. 154.
48 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 350-351.
49 Герцен А. И. Былое и думы // Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 18.
50 Толстой — Страхов. Полы. собр. переписки. Т. 2. С. 820.
261
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
как спасались отшельники, из которых иные верно одни только и спаслись. Но
тогда не было бы всемирной истории, прекратились бы всякие труды, войны,
государства и т.д. И значит, ни один из великих людей, которых восхваляет
история, в рай и в ад не верил. Это было мне совершенно ясно, но моей веры
не поколебало; напротив, я стал молиться и поститься до обмороков. Долго
и мучительно я боролся, пока наконец не сбросил с себя гнета, пока не
проснулся от кошмара, и, к несчастию, тогда покачнулся в противоположную
сторону»51. Судя по указанному возрасту, эти аскетические попытки он
предпринимал в семинарии.
Священником Страхов так и не стал, несмотря на то что его дядя и строгий
воспитатель, заменивший отца, ректор Костромской семинарии архим. Нафа-
наил, всячески этого добивался, не только в Костроме, но уже и в Петербурге,
где ко временам студенчества племянника стал архиереем (к концу жизни он
удостоился сана архиепископа). И хотя нам мало известно о прямых причинах
бунтарства Страхова, вполне можно предположить, что это было характерное
для юношества в эту нигилистическую эпоху ослабление религиозного чувства,
особенно под влиянием ненасытного интереса к наукам; явно не обошлось и без
юношеского стремления к самостоятельности, любопытства к неведомым ему
прежде светским соблазнам52.
Однако можно сказать, что в душе Страхов так и остался во многом
верным семинарской закваске. Нельзя не отметить, что «покачнулся» в
вольнодумство он далеко не в той степени, как многочисленные радикалы из бывших
семинаристов, вроде Добролюбова или Чернышевского. Семинария вовсе не
разрушила религиозного строя страховской души: «Наши умы и души имели,
впрочем, свое определенное содержание, именно — были проникнуты
религиозными представлениями. Неверующих и вольнодумцев у нас вовсе не было,
и мы были твердо убеждены, что отрицание религии есть крайняя уродливость,
чрезвычайно редко встречающаяся в роде человеческом. Таким образом, мы
вполне испытали на себе влияние религии, мы были воспитаны под ее
верховным руководством»53. Однако Страхов отказался вступить на духовную стезю,
как бы ни хотел этого дядя, архимандрит Нафанаил. Что послужило главной
причиной его нежелания стать священником? Возможно, повлиял царивший
в обществе дух вольнодумства, но скорее верх взял все-таки всепоглощающий
интерес к науке, и Страхов предпочел стать ученым.
Это подтверждается, в частности, и заявлением Страхова в неоконченных
воспоминаниях, что в Петербурге он сразу не принял преобладавшего среди
51 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 969.
52 См. о студенческом периоде Страхова его интереснейшую переписку с его
бывшим наставником в Костромской семинарии о. Иоанном Скивским: Н. Н. Страхов. Альбом-
биография. С. 58-117.
53 Страхов Н. Воспоминания о ходе философской литературы. С. 423-434.
262
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
—■$>
студентов-радикалов вольнодумства, опиравшегося на веру в естественные
науки и вытекавшее из нее отрицание Бога и религии. И как это ни странно, свою
профессию ученого-естественника он избрал, по его собственному признанию,
для того, чтобы быть более подготовленным к борьбе с этой враждебной ему
безбожной идеологией. Возможно, здесь есть некоторая доля более позднего
переосмысления своего жизненного опыта, но вся творческая деятельность
Страхова действительно была направлена против идейного нигилизма и
философского материализма.
При этом Страхов никогда не был охранителем-реакционером по
убеждениям, как это пыталась представить радикальная печать, но, будучи весьма
либеральным в вопросах политики и религии, он неизменно отстаивал вечные
истины идеализма, решительно выступал против нигилизма и дарвинизма.
Страхов справедливо полагал, что нигилисты, при всем их отрицании религии,
действуют под неосознанным влиянием своей извращенной веры, исповедуя
«суррогат религии»54 — веру в научный прогресс. И неустанную борьбу с
дарвинистами он поведет прежде всего потому, что на это учение как попытку
построить мир на рационалистических началах, без участия Творца, опираются
все философские системы безбожия. Религиозное начало подспудно
присутствует во всей деятельности Страхова.
Таким образом, даже в молодости, когда Страхов, по собственному
признанию, отдал дань светским удовольствиям, он не стал на путь религиозного
нигилизма, хотя его не миновало характерное для юношества опьянение
свободой. Не привели его к этому и научные занятия, так как, по мнению Страхова,
настоящая наука ведет к Богу.
Представление о Страхове как религиозном скептике было в какой-то
степени нарушено поездкой в Оптину пустынь, совершенной им совместно
с Толстым в 1877 г. Об этой поездке нам известно главным образом из статьи
сотрудника консервативных изданий П. А. Матвеева55, который часто бывал
в Оптиной, был знаком со старцами и посетил монастырь вскоре после Толстого
и Страхова. Матвеев писал, что инициатором «паломничества» выступил именно
Страхов. И действительно, в письме от 4 ноября 1876 г. к Толстому он «советует
побывать» в Оптиной. При этом оказывается, что самого Страхова косвенно
побудил к поездке именно Матвеев: «Один знакомый, Павел Александрович
Матвеев, молодой юрист, очень милый, всё разговаривает со мной о вере — он
сам верующий, к великому изумлению всех окружающих. Он бывал в Оптиной
пустыни, мне советует побывать, но уверяет, что это трудно, именно, что мне
непременно встретятся всякого рода препятствия и задержки, что это
испытали на себе многие лица — какая-то сила мешает. Попробуем же в следующее
54 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 98.
55 Матвеев П. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пустыни // Ист. вестник. 1907.
Апр. С. 151-157.
263
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
лето — я очень желаю, и не имею других планов»56. Летом следующего года
Страхов с Толстым и побывали в Оптиной.
После поездки Страхов писал Толстому: «Сегодня был у меня Павел
Александрович Матвеев; он навещал Оптину пустынь после нас и привез мне
целую кучу разговоров об Вас и даже обо мне. Отцы хвалят Вас необыкновенно,
находя в Вас прекрасную душу. Они приравнивают Вас к Гоголю и вспоминают,
что тот был ужасно гбрд своим умом, а у Вас вовсе нет этой гордости. Боятся,
как бы литература не набросилась на Вас за 8-ю часть („Анны Карениной") и не
причинила Вам горестей. Меня о. Амвросий назвал молчуном и вообще считает,
что я закоснел в неверии, а Вы гораздо ближе меня к вере. И о. Пимен хвалит
нас (он-то говорил о Вашей прекрасной душе) — очень было и мне приятно
услышать это. Отцы ждут от Вас и от меня обещанных книг и надеются, что
мы еще приедем»57.
Из изложения рассказов Страхова о поездке в Оптину пустынь
недостаточно образованным и не слишком проницательным соседом Страхова по
совместной квартире писателем Д. И. Стахеевым в его воспоминаниях58 выходило,
что Страхов вообще непонятно зачем поехал в Оптину пустынь. П. А. Матвеев
разделял это мнение, заявляя в своей статье, что «Страхов умел обходить (...)
разговоры о религии» и даже что «он был равнодушен к вопросам религии»59.
Матвеев подробно передает свой разговор со старцами о Толстом и Страхове.
Он высказал мнение, что Страхов, который «всегда говорил о религии с
уважением», мог бы иметь на Толстого «доброе влияние». «„Ну нет, — живо возразил
о. Амвросий, — Страхов человек закоснелый, неверие его глубже и крепче"».
По мнению старца, Страхов влияния на Толстого не имеет, «скорее наоборот,
это его справочная книга». Другой старец, о. Климент, сообщил Матвееву, что
о. Амвросий «Страхова считает человеком отпетым, для которого вера—только
поэзия»60. Матвеев в весьма грубой форме оспорил многие суждения Стахеева
относительно поездки, апеллируя к своим личным контактам с оптинскими
старцами. Складывается впечатление, что поездка оказалась для Страхова не
слишком удачной. Хотя встречи со старцами состоялись, духовные
собеседования не принесли удовлетворения. Беседы вел, собственно, Толстой, а Страхов
только смиренно внимал им. О. Амвросий принялся отчитывать Страхова как
отпетого материалиста-безбожника, чем Страхов не был грешен, а тот в силу
своего кроткого «монашеского» характера терпеливо выслушивал критику.
Несогласие с утверждением Матвеева, чья статья отличается каким-то явно
недружественным по отношению к Страхову тоном, о равнодушии Страхова
56 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 448.
57 Там же. С. 534-535.
58 Стахеев Д. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний) // Ист. вестник. 1907.
Янв.С. 81-94.
59 Матвеев П. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пустыни. С. 156.
60 Там же. С. 154-155.
264
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
к религии выразил в краткой заметке публицист Павел Россиев, который писал:
«Книги „Мир как целое" и „О вечной истине" — обнаруживают мало того что
христианство автора их, но даже сочувствие Н. Н. Страхова православию. В чем
же заключается „беда"? П. А. Матвеев, очевидно, не мирится с философским
христианством Страхова, действительно не бывшего „церковником-ритуалистом",
на что указал еще тот же Грот61, но такое христианство равнозначно ли с
неверием? Мне думается, что совсем не равнозначно»62.
Возмущенный тональностью статьи Матвеева, Стахеев писал 16 апреля
1907 г. С. Н. Шубинскому, редактору «Исторического вестника»: «На днях
получил апрельскую книжку „Ист(орического) Вестн(ика)" и изумился статьей
Матвеева о Страхове. Видимо, ему, как ослу, хотелось лягнуть покойника, да
с ним вместе — и меня. Лягнуть-то легко, но какая от этого и кому честь?»63
Стахеев отметил в письме, что Матвеев имеет сомнительную репутацию,
и даже кроткий Страхов, вынужденно принимая его, считал его человеком
навязчивым.
Любопытная запись о поездке в Оптину пустынь содержится в одном
из писем М. В. Нестерова. В 1907 г., работая над портретом Л. Н. Толстого,
Нестеров записал со слов самого писателя: «Далее Л. Н. рассказал мне, как он
был вместе с покойным Страховым в Оптиной пустыни у знаменит(ого)
старца Амвросия и как Амвросий, приняв славянофила, верующего церковника
(?! —В. Ф.) Страхова за закоренелого атеиста, добрый час наставлял его в вере
православной и как сконфуженный Страхов терпеливо, без возражений
выслушивал учительного старца, который при всей прозорливости перемешал своих
посетителей»64. Самое важное здесь для нас, конечно, то, что при этом Толстой
называет своего друга, которого знал как никто, «верующим церковником».
Если поездка в Оптину пустынь не слишком многое добавила к
репутации Страхова как христианина, то его поездка на Афон, совершенная в 1881 г.,
и особенно опубликованный восемь лет спустя очерк о ней произвели большое
впечатление.
Заметки Страхова по достоинству оценил даже строгий его критик К. Н.
Леонтьев, который провел на Афоне гораздо больше времени. Розанов отмечал,
что поездка на Афон разрушает представление о Страхове как о религиозном
скептике, а его заметки об Афоне вовсе не вольные зарисовки путешествующего
литератора или эстета, равнодушного к религии. Его наблюдение о постоянно
61 Грот писал: «...Страхов не только вполне верует в высшее начало, в Бога, но даже
остается христианином, сочувствующим православию, не в узком значении „церковника-
ритуалиста", а в самом широком философском смысле...» (ГротН. Я. Памяти Н.Н.Страхова:
К характеристике его миросозерцания. С. 30).
62 Россиев Я.Был ли Н.Н.Страхов «неверующим человеком»? // Ист. вестник. 1907.
Июнь. С. 152.
63 Д. И. Стахеев — С. Н. Шубинскому. 16 апр. 1907 г. // ОР РНБ. Ф. 874. Ед. хр. 111. Л. 80.
64 Нестеров М. В. Письма. Л., 1988. С. 226.
265
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
улыбающихся лицах строгих афонских монахов-аскетов запомнилось многим,
в том числе и жившему долгое время в Оптиной К. Н. Леонтьеву.
Об улыбающихся монахах Страхов писал Толстому 19 октября 1881 г.: «...на
Афоне мне особенно понравились веселые монахи, ласковые, смеющиеся,—я
думаю, что они ближе других к святости, да так о них говорили и другие»65. Особое,
незабываемое впечатление на паломника произвел игумен монастыря старец
Макарий (Сушкин)—тот самый духовник, которому исповедовался в греховной
жизни во время пребывания на Афоне Константин Леонтьев. Страхов благоговейно
вспоминал об упокоившемся старце: «К числу светлых монахов принадлежал
и игумен, отец Макарий. (...) Его вид, и речи, и движения пленили меня с первого
взгляда, так пленили, что я не пропускал ни одного его слова, что старался быть во
время службы в церквах, где он служил, и с глубокой отрадою вслушивался в его
возгласы. А видеть его вне церкви мне удалось все-таки только три или четыре
раза. Но он поразил меня и красотою своего лица и голоса, и вместе простотою,
живостью и безмятежною добротою во всяком своем движении. Он был
небольшого роста, но очень правильные черты его лица были крупны; лицо было бледно
и чисто, как будто точеное из слоновой кости; прекрасные большие серые глаза
были очевидно близоруки (он иногда прищуривался) и были прозрачно-чисты,
как бывают только у истинных девственников и постников. Он не улыбался, но на
лице была, так сказать, постоянная готовность к улыбке. (...) Монахи благоговели
перед тем высоким примером, который он подавал им собою»66.
Страхов опубликовал «Воспоминание о поездке на Афон» уже после
смерти описанного в них старца, почти через десять лет, осенью 1889 г.67
Историк К. Н. Бестужев-Рюмин находил в статье Страхова и достоинства, и недостатки.
Он писал 16 октября 1889 г.: «Прочел я статью Страхова об Афоне. Хорошо там для
души утомленной. Правда, говорят, что он чересчур раскрасил монашество, скрыв
его дурные стороны, о которых Достоевский вспомнил. Правда, но хорошие
стороны существуют, и их он изобразил»68. Глубоко верующая графиня А. А. Толстая,
жившая в Петербурге и обычно нападавшая в разговорах со Страховым на своего
яснополянского родственника, сказала об «Афоне»: «Ну, я прочла и вижу, что вы
верующий...» Страхов, однако, стал отрекаться:«.. .мне было очень совестно, когда
Александра Андреевна (Толстая) и разные другие благочестивые люди
причисляли меня к своим»69. О том, что Страхов побывал на Афоне не простым туристом,
говорят такие его слова в письме к Фету: «.. .не забудьте только моего душевного
расположения и смирения, которому я еще больше научился на Афоне»70.
65 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 617.
66 Страхов Н. Воспоминания и отрывки. СПб., 1892. С. 34-35.
67 Рус. вестник. 1889. Окт. С. 120-144.
68 Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича
Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1890. С. 285.
69 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 820.
70 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 339.
266
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
Хорошо сказал о религиозности Страхова П. П. Перцов в 1896 г.: «В его
удивительных воспоминаниях об Афоне, мне кажется, едва ли не лучше, чем
где бы то ни было, выразилась глубокая религиозность его духовной природы,
то скрытое ее стремление к „неведомому Богу", которое таилось, как ядро, за
внешней оболочкой этого критического и философского ума. Страхов не
остановился, по Вашим словам, ни на какой религиозной системе (да его критицизм
и не мог позволить ему этого), но в нем была сердцевина всех религиозных
построений — не имея религии, он имел веру. Во всем — в личном общении,
так же как в книгах, чувствовалось, что этот человек жил как бы в ожидании
Бога. И если Он открылся ему только за гробом — тем достойнее его бдение
здесь. В этом именно и была тайна обаяния Страхова — именно потому так ясно
раскрывалась около него религиозная сущность жизни и так властно было
исходившее от него (и им самим, без сомнения, не подозреваемое) наставление»71.
Пусть в заметках Страхова о посещении Афона и чувствуется, что они
написаны не вполне верующим человеком, но в них столько тепла и духовного
света, что «Воспоминание о поездке на Афон» до сих пор пользуется интересом
у читателей и является одним из лучших его сочинений.
Очень показательно, что Л. Н. Толстой, отзываясь на воспоминания
Страхова о поездке на Афон, в духе протестантского нигилизма резко осудил
известную монашескую практику духовного делания — многократное повторение
Иисусовой молитвы: «„Поездка" мне скорее не нравится — именно тем, чем она
нравится гр. Алекс(андре) Андреене (не Алексеевне) Т(олстой). И утверждение
о том, что повторение десятки раз сряду одних и тех же слов может быть не
отвратительно по своему безумно и кощунственно механическому отношению
к Богу, мне очень противно. Противно, п(отому) ч(то) вредно»72.
И это пишет Страхову человек, которого многие считают его
единомышленником и даже чуть ли не духовным учителем! Конечно, «толстовцем»
Страхов никогда не был, хотя напористый, не знающий сомнений, авторитетный
Толстой, естественно, очень тянул его в свою сторону. Но при всей слабости
воли и преклонении перед обаянием целостной личности творца гениальных
романов Страхов сохранил собственный, несомненно более близкий к
православию взгляд на духовные проблемы.
* * *
Страхова, конечно, часто принимают за единомышленника Толстого,
во многом потому, что их связывала многолетняя взаимная дружба, и не в
последнюю очередь потому, что Страхов написал в 1891 г. известную
апологетическую статью «Толки о Толстом». Защищая Толстого, Страхов смело вступил
71 П. П. Перцов — В. В. Розанову // РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77.
72 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 816.
267
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
<$■
в спор с представителем церковной иерархии еп. Никанором. По словам
Розанова, «утонченная, осторожная и всесторонняя апология последнего фазиса
деятельности Толстого»73, т.е. его религиозно-философских идей, была очень
мужественным поступком Страхова — против взглядов Толстого выступали не
только богословы, на него ополчился и весь консервативный лагерь, включая
Говоруху-Отрока, Леонтьева, философов Астафьева и Козлова. Не сочувствовал
идеям Толстого и Розанов.
После этой мужественной защиты опального писателя-проповедника
сам Толстой признал Страхова, своего верного друга, настоящим
единомышленником. Статья страдает очевидными натяжками и умолчаниями, однако при
внимательном ее чтении можно заметить, что, по существу, собственно учение
Толстого Страхов совсем не защищает, обходит стороной. Он апеллирует только
к положительной христианской направленности сочинений Толстого,
нравственной пользе от его деятельности и выступает лишь против запрета печатать
его искренние, пусть и сомнительные с церковной точки зрения, сочинения:
«Между тем, если взять дело серьезно, то обращению Толстого к Евангелию
следовало бы очень обрадоваться и видеть в нем самое здоровое душевное
явление. Если бы он впал даже в ересь, то это было бы всё же в тысячу раз
лучше, чем то мертвенное равнодушие и отчуждение, с каким мы относимся
к религии. Каким образом будут у нас раскрываться истины религии и
развиваться богословские занятия, если все общество отшатнется от них навсегда?
Если бы писания Толстого имели смысл только одного возбуждения и толчка
к деятельности в этой области, то и тогда следовало б только им радоваться»74.
В консервативных и богословских кругах статья Страхова вызвала,
конечно, отрицательное отношение. Один из публицистов писал о статье «Толки о
Толстом»: «Автор ее — известный писатель Н. Страхов, тот Страхов, который писал
когда-то против Ренана и Штрауса, восторгался учением христианской религии,
приходил в умиление от православного богослужения. Теперь этот писатель, на
которого русское общество привыкло смотреть как на ревностного защитника
православной религии и русской народности, очутился нежданно-негаданно
в числе поклонников графа Льва Толстого, как религиозного учителя»75.
Философ П. Е. Астафьев резко упрекал Страхова за ту же статью «в
очевидных натяжках, софизмах его апологии графа Толстого»76. Астафьев справедливо
сопоставлял учение Толстого с распространявшимся в те годы протестантски-
рационалистическим, сектантским учением, обнаруживающим тенденцию
«разрешить всю религиозную идею в систему законов нравственной жизни,
73 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 274.
74 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 483-484.
75 А. Р. [РождествинА.С] «Христианство» графа Л.Н.Толстого: По поводу статьи
Н. Страхова «Толки об Л. Н. Толстом» (Вопросы философии и психологии. 1891. Кн. XI) //
Чтения в Об-ве любителей духовного просвещения. 1892. Кн. 2. Отд. II. С. 87.
76 Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. С. 364-365.
268
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
в устроение Царствия Божия здесь, в земных условиях, без всякого отношения
к миру трансцендентному»77, за утверждение, будто Толстой «впервые открыл
нам настоящий дух Христова вероучения». Только в явном философском
ослеплении из-за дружбы с великим писателем Страхов, считает Астафьев,
не обращает внимания на то, что практически-нравственное учение Толстого
«глубоко враждебно всякому религиозно-догматическому учению вообще».
Но В. Лазурский, учитель детей Толстого в Ясной Поляне, куда почти
ежегодно наезжал Страхов, справедливо подчеркивал, что философ хотя и
«приветствовал от всей души» духовный поворот Толстого, «толстовцем» не был:
«Я думаю даже, что в религиозном отношении он стоял ближе к православию»78.
Страхов, по его мнению, «верно указывал, что первым полезным последствием
религиозно-богословских рассуждений Толстого будет обращение светских
русских читателей к вопросам, которые одни из них привыкли считать делом
устарелым, недостойным их просвещенного внимания, другие же равнодушно
предоставляли это специалистам, готовые равнодушно присоединиться к
официальному богословию»79.
Страхов искренне считал, что гениальный писатель может своим
исключительным влиянием свести на нет нигилистические настроения в обществе.
Это была, конечно, прежде всего тактическая статья — Страхов вынужденно
сузил ее тему, обойдя вниманием собственно взгляды Толстого, чтобы можно
было провести ее в печать.
Что касается отношения самого Страхова к религиозным сочинениям
Толстого, особенно к «Краткому изложению Евангелия», то оно было вполне
критическим, и это хорошо видно из его писем к Аксакову от 17 и 25 мая 1885 г.:
«На досуге здесь в Мшатке перечел с полным вниманием всё это изложение
и, признаюсь, несмотря на свою привычку к Л. Н. Толстому, был изумлен
крайним безобразием этого писания (...) Оказывается, что в „Изложении" он без
всякой меры отступает от текста, что это не перевод, а такой же перефраз, как
и те содержания, которыми начинается каждая глава. Сделано всё, что может
дать делу вид и подлога (...) Затем в догматическом отношении он, конечно,
большой еретик; он квакер в практическом учении и унитарий в
метафизическом»80. Но и признав Толстого «большим еретиком», Страхов пускается
защищать своего друга: «Почему же, терпя и даже уважая квакеров и унитариев, мы
будем толковать Толстого только с нетерпимостью и презрением?» В ответном
письме к П. Д. Голохвастову на критику сочинения «В чем моя вера» — снова
признание существенных недостатков толстовского сочинения сочетается с не
слишком убедительной апологетикой: «...я соглашусь, что Толстой грешит
77 Там же. С. 363.
78 Лазурский В. Ф. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов (Из личных воспоминаний). С. 155.
79 Там же. С. 155-156.
80 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 134-137.
269
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
«8»
бессознательно и самолюбием, и славолюбием. Но в корне у него искреннее,
живое чувство»81.
Страхов до конца верил в благородное, нравственное значение религиозно-
моралистических сочинений Толстого, по крайней мере, в искренность его
религиозных исканий. Ошибка Страхова была в том, что он, приписывая исканиям
Толстого положительное влияние на общество, не хотел видеть, что Толстой,
став воинствующим антицерковным проповедником-сектантом, оказывал,
вследствие своего огромного писательского авторитета, мощное воздействие
на поворот общественных настроений в сторону революционного радикализма.
Позиция Толстого, утвердившегося в нигилистическом отрицании Церкви,
государства, искусства, раскрылась со всей очевидностью уже после смерти
Страхова. Трудно даже представить, какое мучительное раздвоение пришлось
бы испытать Страхову при осознании очевидного радикализма, философской
несостоятельности и кощунственности толстовских идей. Можно только гадать,
смог ли бы мудрейший Страхов отказаться от главной душевной
привязанности всей своей жизни или с присущей ему верностью дружбе продолжал бы
благородно, хотя и обреченно, стоять на стороне впавшего в ересь и
отлученного от Церкви друга-гения. И можно только порадоваться за Страхова, что
из-за своевременной в этом смысле кончины ему не довелось пережить этого
безвыходного страдания.
Конечно, нельзя отрицать, что во взглядах Толстого и Страхова было
немало общего. Страхов ценил в Толстом «заявление самобытной религиозной
мысли»82, так как сам был крайне недоволен застойностью и формализмом
в богословской науке. Он был убежденным противником религиозной
нетерпимости, отрицательно относился к церковному фанатизму и фарисейству,
искренне жаждал религиозной свободы. Он мог позволить себе высказаться
против «церковного фанатизма», когда его проповедником становился такой
известный «христианин», как кн. Мещерский: «Нет, — церковный фанатизм
есть проказа, искажающая все в душе человека!»83 При этом он не был ни
либералом, ни консерватором, а искал какой-то свой особый, «царский» путь, ставя
идеалом святость, вечные истины и благородство души и поступков, и, будучи
вне партий и группировок, обрек себя на страшное духовное одиночество.
16 октября 1879 г. Страхов сочувственно писал Толстому по поводу
встречи с архиереями, которые не смогли помочь писателю в его духовных
исканиях. Взгляд Страхова на состояние богословия чрезвычайно мрачен:
«Архиереи не помогли — вот Вы увидели это жалкое умственное состояние.
Они люди верующие, но эта вера подавляет их ум и обращает их рассуждение
81 Мотовникова Е. И., ОльховП. А. Кредо Н. Н. Страхова (опыт самопонимания в
переписке с П. Д. Голохвастовым) // Вопросы философии. 2015. № 9. С. 119.
82 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 819.
83 Там же. С. 759.
270
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
в презреннейшую софистику и риторику. Они не признают за собою права
решать вопросы, а умеют только все путать, все сглаживать, ничему не давать
ясной и отчетливой формы, много говорить и ничего определенного не сказать.
Я ненавижу все эти приемы, хотя знаю, что при них может существовать дух
действительного смирения и действительной любви. История нашей церкви
в этом отношении очень жалка. Великих богословов, великих учителей — нет,
нет никакой истории, их борьбы, ни развития, ни расцвета, ни падения. Я
думаю, только в Индии можно найти что-нибудь подобное этой неподвижности
мысли. Макарий много говорит проповедей, и я внимательно читал все
последние, думая, что на месте митрополита он особенно покажет себя. Все так сухо
и холодно, что тоска берет»84.
В письме к П. Д. Голохвастову он поясняет, почему поддерживает
религиозные искания Толстого: «Мне душно среди этого мертвого молчания, которое
царит в нашей Церкви (...) Церковь мертвеет (...) Именно: Церковь совершенно
отделилась от жизни. У нее свой язык, свой смысл для обыкновенных слов, свои
приемы, свои понятия и цели. (...) Между тем когда-то дело было не так. (...)
Ну, словом, христианство состояло в святости, и эту святость люди и выражали
простыми словами, и исполняли в своих действиях. Толстой и вздумал снять
с Евангелия церковный покров, церковный тон и приблизить его к живому
языку. Исполнил он это дурно, неряшливо и капризно, но, в сущности, сделал
очень много для этой цели»85.
Стремление «подправить» церковные тексты, прояснить их смысл, сделать
богословие более понятным характерно и для самого Страхова, хотя и в
несравненно меньшей степени, чем для Толстого. Так, читая сочинения Исаака Сирина,
подаренные ему в Оптиной старцем Амвросием, Страхов отвергает книгу, «так
как не мог добраться до смысла». Он берет другой перевод и обрушивается на
него за ложный тон изложения: «.. .переводчик не понимал половины того, что
переводил, а очень старался о пышности выражений. Досада меня берет ужасная.
Всё ведь это сделки; — для верующих всякая бессмыслица хороша, лишь бы
пахло благочестием»86. Такое мог сказать, конечно, только религиозный
скептик — упрек в поклонении «бессмыслице» выдает в Страхове явные пережитки
рационализма, хотя он и пытается преодолеть рассудочное отношение к жизни,
понимая всю его ограниченность. Мучительное раздвоение души и рассудка
Страхова, мешавшее ему окончательно прийти к вере, имело те же корни, что
и религиозная драма Толстого.
В Толстом Страхов, признавая явные недостатки его «богословия» с
догматической стороны, ценил превыше всего нравственную чуткость. То простое
84 Там же. С. 535.
85 Мотовникова Е. К, ОльховП. А.КредоН. Н.Страхова (опыт самопонимания в
переписке с П. Д. Голохвастовым). С. 119.
86 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 587.
271
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
и доброе, что он увидел прежде всего в «Войне и мире», смирение как высшее
начало (образ Платона Каратаева) — чистая нравственная красота — влекли
его к Толстому. Страхов, однако, не заметил, как Толстой постепенно перешел
от идеала смирения к вульгарному, агрессивному морализму, от пафоса любви
к Отечеству к отрицанию понятия Родины, русской православной веры. Но,
несмотря на разуверения всех друзей, он по-прежнему верил, что Толстой
искренен в своих исканиях и что его проповедь несет высокий нравственный идеал.
И происходило это прежде всего потому, что нравственный пафос,
который он отстаивал у Толстого, был в полной мере свойственен ему самому.
И именно этот этический идеал в большей степени, нежели любые рассуждения
на богословские темы, характеризует Страхова как христианина. О себе он
писал: «Что же я делал, собственно, и тогда и потом, и что делаю теперь? (...)
Я берегся, я старался ничего не искать, а только избежать тех зол, которые со
всех сторон окружают человека. И особенно я берегся нравственно — совесть
у меня слабая, беспокойная; сделать подлость или несправедливость для меня
несносно»87. Страхову также присущ нравственно-практический подход к вере,
но совершенно чужд горделивый морально-дидактический тон, характерный для
Толстого. Смиренное отношение к себе как к великому грешнику, как к духовно
слабому существу пронизывает все высказывания Страхова о себе, и в этом
самоуничижении, как подчеркивает Аксаков, не было «смиренничанья»88.
Страхов был убежден, что настоящей веры можно достичь только духовной
работой над собой, праведными поступками в жизни, служением ближнему:
«Религии нельзя научиться, ее можно только выжить, приобрести жизнью»89.
Розанов указал на очень важную особенность Страхова: «Страхов знал тайну
маленькой любви к близко стоящему»90. Отличительной чертой его была доброта.
«Любить людей — Боже мой, как это сладко!» — писал он Толстому91. Служение
ближнему, готовность постоянно оказывать помощь людям — эти качества
очевидны у Страхова. Он постоянно занят выполнением чьих-то поручений, а все
его друзья и знакомые, от Толстого и Достоевского до Вл. Соловьева и Розанова,
не стеснялись просить его о своих делах, отрывая от творческой работы, так
как считали, что для него как одинокого холостяка эти «послушания» не будут
слишком уж обременительны.
В отличие от Толстого, не признававшего чудес и откровения,
Страхов, как это подчеркивает много беседовавший с ним на самые разные
темы Розанов, поразил его тем, что отрицал «аллегоризм» принятия Тела
и Крови Христовых в Евхаристии, признавал «чудо»: «Как вы говорите
87 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 638.
88 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 141.
89 Толстой — Страхов. Полы. собр. переписки. Т. 2. С. 757.
90 Розанов. ПСС Т. 3. С. 160.
91 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. 1.2. С. 624.
272
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
„аллегорически , — воскликнул он, — нет: это — есть, это в самом деле...»4Z
Несмотря на то что Страхов был, как это отмечает Никольский, «эстетиком»
в восприятии явлений культуры и жизни, он беспокоился, спрашивая у Розанова
об известном своей религиозностью сельском учителе-подвижнике С. А. Рачин-
ском, — не «книжное» ли, не эстетическое ли у того отношение к вере.
Розанов свидетельствует в том же некрологе о Страхове: «Помню, раньше
напечатания статьи своей „По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого" я излагал
ему доказательства бессмертия души, там развитые. Он слушал меня
нетерпеливо, и когда я кончил, сказал: „Душа бессмертна не от того, как вы говорите,
что она есть один из принципов бытия и что принципы неразрушаемы, но
потому, что это твердо обещано нам Св. Писанием". Я был изумлен (потому что
подозревал в нем скептика) и сказал — что, уже не помню.,Да, да, — обещано
и Ветхим Заветом, и Евангелием, — он привел 1-2 текста на память, — и
этого совершено достаточно"»93. Как правильно отмечает Розанов, философски
Страхов в отношении веры всё знал и всё понимал, однако во всем сомневался.
* * *
Представление о Страхове как религиозном скептике, казалось бы,
подтверждалось известными сведениями о его кончине. Розанов рассказывает
в книге «Литературные изгнанники», как он понуждал Страхова
«всенепременно причаститься» и совершить соборование во время болезни. Из весьма
тенденциозных воспоминаний П. Матвеева вообще следует, что он
категорически отказался принять Причастие. Однако Стахеев в письме к Шубинскому
опровергает это утверждение Матвеева как ложное: «И врет он, что Страхов
не пожелал перед смертью исповедоваться. Мне ближе знать, что он говорил
в последние минуты, а говорил он (слабым голосом), что „желает
исповедоваться"94. Эти слова может подтвердить и мой племянник, бывший при нем
в предсмертные его минуты. Племянник мой — теперь — профессор в Одессе
по анатомии95; в случае — можно его спросить и он подтвердит мои слова. За
священником тогда послали, но он уже не застал Страхова в земной оболочке,
а с духом его, освободившимся от тесной темницы, он, конечно, вести беседу
не мог — и ушел ни с чем»96. Таким образом, хотя Страхов и не причастился
перед кончиной, желание причаститься, вопреки распространенному мнению,
им было высказано.
92 Розанов В. В. Н. Н. Страхов (f 24 января 1896 г.) // Розанов. ПСС. Т. 2. С. 200.
93 Там же. С. 199-200.
94 Таковое желание было выражено в ответ на предложение пригласить священника
с Св. Дарами (примеч. Д. Стахеева).
95 Н. А. Батуев (1855-1920), сын сестры Д. И. Стахеева Анны Ивановны.
96 Д. И. Стахеев —С. Н. Шубинскому. 16 апр. 1907 г. // ОР РНБ. Ф. 874. Ед. хр. 111.
Л. 80-80 об.
273
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Итак, религиозные взгляды Страхова были сложны, неустойчивы и
противоречивы. Сам Страхов был все время на грани церковной веры — только
о вере постоянно и думал, к ней стремился, но ввиду слабости воли и
рефлексивности натуры сам себя останавливал сомнениями, боязливо таил свои
религиозные переживания от других и оговаривал себя, называя неверующим.
Религиозное горение составляет скрытый пафос почти всех его сочинений, но
при несомненной общей христианской устремленности у него не было твердой
церковной веры, хотя он бесспорно тяготел к православию.
Говоруха-Отрок писал в статье-некрологе о Страхове: «В „Новом времени"
приводятся слова об Н. Н. Страхове одного духовного лица, „наиболее
выдающегося дарованиями и знаниями среди нашей высшей духовной иерархии".
Это духовное лицо, поздравляя покойного с сорокалетием его литературной
деятельности, выразилось в своем письме, что в лице Н. Н. Страхова „приветствует
просвещеннейшего в России человека4'»97. А сам Страхов сообщает в письме
к Толстому, что этим духовным лицом был не кто иной, как епископ Антоний
(Храповицкий), и раскрывает важные подробности письма: «...называет меня
„христианином и старцем", но больше ничего не говорит о вере—должно быть,
понимает»98. Таким образом, ни близость Страхова с «еретиком» Толстым,
ни очевидные его колебания в вере не помешали виднейшему представителю
духовенства выразить почтительное к нему отношение.
Ф. К. Андреев, известный исповедник православия 1920-х гг., в
период преподавания в Московской духовной академии высказал, может быть,
наиболее адекватную оценку взглядов Страхова, по его словам, «мыслителя
тонкого, вдумчивого, но в высшей степени осторожного в раскрытии своих
глубочайших убеждений»99. Один из студентов академии написал курсовую
работу о религиозных воззрениях Страхова, сделав категорический вывод о его
православности. Ф. К. Андреев в разборе этого сочинения более тонко и
взвешенно оценивает воззрения Страхова, не сомневаясь в наличии у него вполне
определенных религиозно-философских взглядов: «Непрерывно чувствуется,
что у Страхова есть и религия, и философия, но он боится за их формальные
определения (...) Отношение Страхова к религиозной и философской истине
оказывается тем самым, которое считается характерным для русской души:
истинатрансцендентна для рассудочного сознания. (...) Отсюда и его
определение Церкви как высшего авторитета в вопросах религиозных, отсюда его вера
в бытие невидимого, но реально существующего (души, ангелы), в реальное же
пресуществление вина и хлеба в таинстве Евхаристии. Толстой сильно склонял
97 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Н.Н.Страхов: некролог // Моск. вед. 1896.
№ 27, 27 янв. С. 2.
98 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 1026.
99 Андреев Ф. К. О сочинении студента Матвеевича Виктора на тему: Религиозно-
философские взгляды Н. Н. Страхова. С. 289.
274
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова
его к чистой нравственности, но благоговевший перед его художественным
гением Страхов отвернулся от его рассудочного доктринерства. Страхов мог
стать католиком, но протестантизму он враждебен органически. Остался ли
он, однако, православным? Автор настоящего исследования утверждает это
категорически, но такое суждение слишком уж сильно. Страхов безусловно
всю жизнь тянулся к православию, во многом его достигал, но утверждать
„полное признание Страховым православной догматики" его писания не
уполномочивают» ,0°.
Однако в отношении протестантизма вывод Ф. К. Андреева оказался
неточным: по сообщению С. Н. Дурылина, В. Д. Розанова после переживаний при
кончине Василия Васильевича заявила, что в последнее время перед смертью
Страхов ходил в лютеранскую церковь.
У Дурылина, правда, написано еще, будто Варвара Дмитриевна при
кончине В. В. Розанова вспомнила о мучительной смерти Страхова: «Мучился долго.
Я много смертей видела. Никто так не умирал»101. Однако соответствие этих ее
слов действительности вызывает сомнения. Есть, например, свидетельства, что
еще за неделю до смерти Страхов посетил оперу и его навещали люди. Даже
сам Розанов в некрологе о Страхове писал: «Прекрасна вполне была кончина
Страхова — прекрасна по обилию в нем терпения и светлого духа»102. Из этой
статьи-некролога следует также, что Василий Васильевич непосредственно при
кончине Николая Николаевича ночью не присутствовал (как, по всей
видимости, и Варвара Дмитриевна), а пришел в его квартиру только утром, когда тело
покойного было уже перенесено в другую комнату.
Кончина Страхова была, вероятно, всё же не столь мучительной, да и его
предсмертные страдания продолжались не очень долго. Менее чем за месяц до
смерти Страхов был еще в рабочем состоянии. 16 января 1896 г. В. Г. Чертков, не
зная о рецидиве болезни Страхова, задумал зайти к нему по делам Л. Н. Толстого.
На следующий день, за неделю до кончины философа, он сообщал Толстому
о том, что Страхов снова болен, но стойко переносит болезненное состояние:
«Последнюю неделю он страдал от новой болезни — сердцебиения с удушием,
которые мешали ему спать по ночам и очень мучительны. Кроме того, у него
новая опухоль на нижней челюсти, которую доктора собираются вырезать. Но
сам Николай Николаевич не придает этому большого значения. Может быть,
подумал я, доктора не всё ему говорят. Несмотря на всё это, он имеет бодрый
и живой вид»103.
Более того, даже за два дня до кончины, когда Страхов действительно
находился уже в крайне тяжелом состоянии, он все-таки еще был способен думать
Там же. С. 287-291.
Дурылин С. Н. Троицкие записки // Наше наследие. 2016. № 117. С. 95.
Розанов В. В. Н. Н. Страхов (f 24 января 1896 г.) //Розанов. ПСС. Т. 2. С. 199-223.
Толстой. ПСС. Т. 87. С. 347.
275
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
■S'
о делах ближних: Николай Николаевич обеспокоился из-за того, что крайне
нуждавшийся в рабочем месте молодой философ и друг Розанова Ф. Э. Шперк
из стеснительности не пошел своевременно по его рекомендации к директору
Императорской Публичной библиотеки А. Ф. Бычкову.
Отмечается, что скончался Н. Н. Страхов без агонии, и последние
засвидетельствованные его слова были вовсе не о мучениях, а о намеченных трудах:
«Ну, я отдохнул, теперь поработаю»104.
В посвященных Страхову воспоминаниях Д. И. Стахеева даже и сама
смерть философа обрисована совершенно иначе, чем о ней говорила В. Д.
Розанова: «Страхова, кстати сказать, иначе нельзя себе и представить, как с
улыбкой, и не только в то время, когда он, хлороформированный, лежал под ножом
оператора в Николаевском сухопутном госпитале (ему обрезали часть языка,
пораженного болезнью рака), на лице его оставалось обычное добродушное
выражение улыбки, но даже и тогда, когда он был разлучен со своими книгами
и уложен в гроб, — на лице его сохранилась улыбка»105.
Сетуя, что Страхов как философ так и не создал своей целостной,
законченной системы, предшественник Ф. К. Андреева по кафедре МДА проф.
Алексей И. Введенский отмечает, что, имея исключительные способности к анализу
явлений, Страхов не обладал даром синтеза. Но при этом он определяет, что его
метод исследования имеет в себе нечто сократовское: «Опровергая ложные
мнения, отклоняя мысль с ложных путей, он указывает тем самым путь истинный,
так сказать, подводит к истине, ставит в надлежащую перспективу, а сам
отходит в сторону и как бы говорит: „Смотри, рассуждение кончилось, и началось
ощущение, видение, — мы вступили в царство живых и конкретных идеалов
красоты, блага и святости"» Ш6. В богословии такой сократовский прием, как
известно, называется «апофатическим», и именно так можно было бы, пожалуй,
определить страховский метод бережного, осторожного касания Божественных
тайн, превосходящих любое человеческое понимание и всяческие системы.
Лазурский В. Ф. Дневник. С. 489.
СтахеевД. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний). С. 92.
Введенский А. Общий смысл философии Страхова. СПб., 1897. С. 22-23.
Частъ II
«ИЗБРАННЫЙ СОБЕСЕДНИК
ИЗБРАННЫХ УМОВ»
САлаёа У
ТРЕЗВЫЙ СРЕДИ ПРОРОЧЕСТВУЮЩИХ,
ИЛИ ВСЕГДА ЛИ 2x2=4?
...Скромность вышла из моды, и чем больше кто
выступает пророком, тот считается лучше.
Н. Н. Страхов'
£§§!§ Высказывание Розанова2, использованное нами в качестве названия
второй части книги, подчеркивает тот поразительный факт, что Страхов,
несмотря на уединенный образ жизни, находился в интенсивном общении
с самыми яркими умами России своего времени. Вдумчивый читатель обратит
внимание на то, что основными собеседниками апологета духовного трезвения
и нравственной скромности Страхова, выбранными для сопоставления с ним
в этой книге, были выдающиеся русские мыслители, которые или сами
претендовали на пророческую миссию, или их сравнивали с пророками
почитатели.
Тема пророков и пророчеств сопровождает человечество с древних времен
и связана с религиозной мистикой. Пророк — это прорицатель, контактирующий
со сверхъестественными или Божественными силами и служащий посредником
между ними и человечеством; провозвестник и истолкователь
сверхъестественной воли, предсказатель будущего. Мы знаем о множестве языческих
прорицателей разных эпох. В языческом мире существовали прорицатели всякого
рода — маги, сивиллы и пифии в Древней Греции, жрецы в Древнем Египте.
Языческие прорицатели, волхвы, как известно, предсказали даже место, где
явится Сын Божий, Иисус Христос. На формирование современных понятий
о пророчествах важнейшее влияние оказала деятельность древних библейских
пророков — провозвестников воли Бога.
Судьба настоящих пророков обычно незавидна: нет пророка в своем
отечестве. Их вечный удел на земле — непризнанность и гонения, а награда — на
небесах.
1 Фет и его окружение. Т. 2. С. 541.
2 Розанов В. В. Религия и культура. М.; СПб., 2009. С. 411.
279
Часть П. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$>
Пророческая тема из религии постепенно проникла в другие сферы жизни,
в частности, перешла в литературу. Ценность русской литературы в немалой
степени состоит в том, что почти вся она имеет пророческий характер, так как
в ее основе лежит религиозное, мистическое начало, ощущение таинственной
связи с мирами иными. Тема пророков и пророчествующих всегда была
актуальна для России. Василий Розанов писал: «Вообще, по количеству пророков
Россия, конечно, есть самая пророчественная страна...»3 Много о профети-
ческой сути русской философии и литературы писал в книге «Русская идея»
Николай Бердяев.
Особенно часто пророческие мотивы звучат в поэзии, ибо поэтическое
вдохновение с древних времен рассматривается как таинственный дар Божий,
как озарение свыше. У большинства крупных русских поэтов, включая
Державина, Пушкина, Лермонтова, Хомякова, Тютчева, есть стихотворения под
названием «Пророк» или на тему пророчеств. Можно вспомнить, например,
что и учитель Страхова в литературной критике известный поэт Аполлон
Григорьев писал в стихотворении «Всеведенье поэта» (1846): «Поэт—пророк, ему
дано / Провидеть в будущем чужом. / Со всем, что для других темно, / Судьбы
избранник, он знаком...»4
Вообще складывается впечатление, что ригористического сторонника
духовной трезвости Страхова со всех сторон окружают вдохновенные
пророки и гении. Это, собственно, близкие понятия, так как художественная
гениальность — это дар небес, и редкий из выдающихся русских писателей
XIX в. не проявил претензии на роль пророка и дар предвидения духовных
судеб человечества. А начиная с Гоголя, который, ощутив себя пророком
и осознав свою религиозную миссию, сжег второй том романа «Мертвые
души», сформировалась тенденция к отказу увенчанных лаврами
читательского поклонения кумиров словесности от традиционного литературного
творчества во имя задач религиозного служения и пророческой роли.
Признаки такого иррационального устремления, несомненно, присутствуют
у Григорьева и Достоевского, Соловьева и Леонтьева, а Толстой, проникшись
подобными настроениями, радикально изменил свои воззрения на жизнь
и творчество.
Конечно, не случайно и то, что всех тех мыслителей и писателей,
которым в этой части книги отведено по целой главе, очень часто в посвященной
им обширной литературе называют пророками.
Так, пророческий дар ощущал в себе «последний романтик» Аполлон
Григорьев, и сам Страхов, как считают некоторые современные исследователи,
воспринимал его как «непризнанного пророка». Даже современный Страхову
3 Розанов В. В. Когда начальство ушло... М., 1997. С. 404.
4 Григорьев Ап. Стихотворения. Поэмы. Драмы. СПб., 2001. С. 86. (Новая библиотека
поэзии).
280
Глава 9. Трезвый среди пророчествующих
»
критик-радикал Н. В. Шелгунов назвал посвященную Григорьеву статью
«Пророк славянофильского идеализма» (1876).
Пророческое начало постоянно ощущал в себе Достоевский, и именно
православным пророком чаще всего воспринимают его современные
почитатели. Не случайно, конечно, его любимое чтение — стихотворение Пушкина
«Пророк», которое он, по воспоминаниям Страхова, блестяще исполнял со
сцены. Чуть ли не всё зрелое творчество Достоевского может
восприниматься как своего рода пророчества. Наиболее значимые из них сосредоточены
в романах «Бесы» и «Братья Карамазовы», а также в «Дневнике писателя».
Некоторые предвидения Достоевского, например касающиеся нигилизма
и материалистического социализма, вполне сбылись. Другие, такие как
стремление «раскрыть миру сущность русского призвания», мессианская идея
спасти всё человечество проповедью «русского Христа», выглядят ныне
как противоречивые фантазии и подвергаются критике за хилиастические
и гностические оттенки.
С Достоевским Страхов очень долго находил общий язык, и между ними
не было существенных расхождений, если не придавать особого значения их
полемике во Флоренции о том, может ли быть «дважды два—не четыре», то есть
принципиальному спору рационалистического и интуитивистско-пророческого
подходов к жизни и творчеству.
История этой мимолетной полемики, свидетельствующей о
непримиримости двух типов мышления — рационализма и парадоксальности, —
в интересной статье В. Н. Захарова «Сколько будет дважды два, или
Неочевидность очевидного в поэтике Достоевского» возведена в
принципиальное расхождение характеров критика и писателя: опору «ненавистника
нелепостей» Страхова на логику — и алогизм парадоксалиста
Достоевского. Проводя связь между ранним спором Достоевского со Страховым во
Флоренции и рассуждениями Страхова о спиритизме в книге «О вечных
истинах» (1887), Захаров пишет: «Достоевский отрицал традиционную
поэтику, которая основана на непреложности закона „дважды два четыре".
Дважды два пять — один из тех принципов его поэтики, который позволял
ему выражать и доводить до читателя заветные идеи, в том числе
возглашать осанну в горниле сомнений, утверждать вековечный идеал вопреки
„математическим" опровержениям свободы, Бога, Христа»5. В этом
сопоставлении двух типов мышления есть здравое зерно, однако последняя фраза
сказана Захаровым больше для красного словца, так как Страхов, апеллируя
к «математическим», то есть рационалистическим, методам, не опровергал
ни свободы, ни Христа. Дело в том, что исследователем здесь совершена
подмена значений, смешаны две разные области: если в случае Достоевского
5 Захаров В. Н. Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в поэтике
Достоевского // Вопросы философии. 2011. № 4. С. 113.
281
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
»
речь идет о поэтике, художественном методе, то Страхов в книге «О вечных
истинах» доказывал лишь спиритам, апеллировавшим к «науке», к
опытным «фактам», что математические законы незыблемы в пределах научного
знания. О религии и даже философии Страхов в этом споре речи не ведет.
В органической философии Страхова есть место и для свободы, и для Бога.
Он действительно защищает принцип «дважды два — четыре», но в
пределах методики мышления, используемой в естественных, опытных науках:
«Все предметы, о которых говорит математика, подчинены ей безусловно,
а о предметах, которые ей не подчинены, она и не говорит, и говорить не
может»6. Да и растущий с годами интерес Страхова к иррационализму
и мистике говорит о том, что категорически называть его рационалистом
было бы неточностью. Художественный метод Достоевского ярче всего
воплотился в образе парадоксалиста в «Записках из подполья», который,
казалось бы, опровергает исповедуемый именно Страховым принцип, что
«дважды два равно четырем». Но адресат критики Достоевского совсем
иной — это нигилизм «просвещенства» и его безбожные утопические идеалы
социальной гармонии. Страхов, между прочим, также отверг в своей статье
«Счастливые люди» утопию «разумного» мироустройства «новых людей»,
предложенную Чернышевским в романе «Что делать?».
Достоевского, как известно, еще при жизни резко критиковал К. Н.
Леонтьев. Он написал о нем и о Толстом резкую брошюру, в которой опровергал
их взгляды на христианство. Леонтьев придирчиво утверждал, что образ
православного монастыря, созданный Достоевским, не похож на
настоящее монашеское православие, с которым он сроднился за время пребывания
в Оптиной пустыни. Отвергал Леонтьев за туманно-гуманитарные мотивы
«вселенской любви» даже и знаменитую Пушкинскую речь писателя, которую
Страхов, например, считал воплощением почвеннической позиции. После
того как появилась не одна восторженная статья, прославляющая автора
нашумевшей речи в лике пророков, Леонтьеву хотелось даже прямо назвать
Достоевского «лжепророком». Пусть он удержался от этой крайности по
разумному совету Т. И. Филиппова, но его мнение страдает категоричностью.
В результате как ни велики «прегрешения» Достоевского и особенно Толстого
против христианства, но все-таки знаменательно, что, по Леонтьеву, самыми
опасными для подлинного православия оказываются не кто-нибудь, а два
великих русских писателя.
Сам Леонтьев, конечно, тоже ощущал себя пророком. Он был прежде
всего «пророком византизма» (не случайно соответствующее название
получила книга его переписки с Т. И. Филипповым)7. Леонтьев верил в спасительное
для России приложение ко всей ее жизни византийского духовного наследия,
6 Страхов Н. О вечных истинах: (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. 25.
7 Пророки византизма.
282
Глава 9. Трезвый среди пророчествующих
—■$'
то есть, по сути дела, признавал отлитую министром просвещения Уваровым
троичную формулу «Православие, Самодержавие, Народность», но с умалением
роли последнего элемента, который Леонтьеву был не очень угоден, хотя он не
раз заявлял о своей близости к славянофилам.
Пророческие заявления Леонтьева, которые он щедро рассыпал по своим
сочинениям и письмам, в первую очередь и снискали ему в наши дни
большую популярность, так как многие, прежде всего самые пессимистические
из них, сбылись и продолжают сбываться. Например, прорицания Леонтьева
о «среднем европейце» и «соединенных штатах Европы» подтверждают его
поразительный дар предвидения. Не менее поражают и такие несбывшиеся
его предсказания, как пророчество о социалистическом феодализме будущего,
весьма напоминающие почти совсем не осуществленные и даже не
сформулированные замыслы Сталина. Немало у Леонтьева, правда, и несбыточных
псевдопророчеств.
Суровый византизм Леонтьева казался Страхову, как и всем,
тяготевшим к славянофильству, слишком радикальным, тем более что критик видел
во взглядах Леонтьева очевидную непоследовательность: сочетание строгого
упора на страх Божий и верность монашескому православию с сомнительным
с христианской и просто моральной точки зрения эстетизмом.
Данилевского, которого Леонтьев считал своим если не учителем, то
единомышленником, тоже называли пророком, звавшим к всеславянскому
объединению со столицей в Константинополе, а идейные противники укоряли
его как пророка борьбы России со всей европейской цивилизацией и даже со
всем образованным миром. В 1990-1993 гг. вышла книга о Данилевском как
пророчествующем мыслителе-историософе под характерным названием
«Славянский Нострадамус»8...
Что касается Льва Толстого, о котором написано очень много, то после
духовного поворота 1880 г. он тоже почувствовал себя пророком, учителем
нравственной жизни. Толстой не удовлетворился ролью гениального писателя,
которая с легкой руки Страхова была признана за ним по всему миру (это едва
ли не единственное пророчество Страхова, которое сбылось). В любой другой
стране писатель, признанный величайшим мастером художественной
литературы, удовлетворился бы этой ролью. Но Толстой родился русским, а в России
почти каждый большой писатель, обретя ощущение своей писательской
одаренности, воспарял к пророческим высотам. Так и Толстому писательского
гения показалось мало. Он захотел, чтобы люди внимали не только его
художественному слову, но и религиозным проповедям. Святотатственно перекроив
Святое Евангелие и убрав оттуда всю мистику, всё священное и чудесное, он
стал, как новоявленный пророк, проповедовать «евангелие» собственного
8 Михеев В. М. Славянский Нострадамус: в 2 ч. Брест, 1990. Ч. 1; 1993. Ч. 2.
283
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
изготовления. Большому писателю захотелось, чтобы его считали пророком,
и уже вскоре началось поклонение ему как новому Будде, Конфуцию или
Махатме, и сам он уверился в своем избранничестве. Страхов видел недостатки
свода из четырех Евангелий, составленного Толстым, но ошибочно считал,
что это мелочи по сравнению с той огромной нравственной задачей, которую
выполняет пропагандистская работа Толстого среди нигилистически
настроенной молодежи. Страхов справедливо считал Толстого высоконравственной
личностью, но из любви к другу и великому писателю ему не суждено было
видеть, что за религиозными исканиями писателя таился один из главных
человеческих пороков — гордыня, который постепенно привел его к
политическому нигилизму.
Есть все основания считать позднего Толстого за его моралистические
псевдорелигиозные сочинения «лжепророком», как это уже давно сделал
К. Н. Леонтьев. Но серьезные опровержения взглядов Толстого оказались
не слишком действенными, так как его авторитет поддерживала всемирная
слава творца гениальных романов. Более действенное оружие для
низвержения Толстого с пророческого трона открыл Розанов. Он остроумно высмеял
Толстого в своей книге «Опавшие листья» за тайно движущее им неуемное
тщеславие: «Когда наша простая Русь полюбила его простою и светлою
любовью за „Войну и мир", — он сказал: „Мало, хочу быть Буддой и
Шопенгауэром"...»9 Как ни грустно читать эти шокирующие своей дерзостью
язвительные слова в адрес «писателя земли Русской», в них кроется
несомненная доля правды.
Но и сам Розанов не избежал искушения предстать перед потомками одним
из пророков. Он откровенно писал о себе: «Собственно, я родился странником,
странником-проповедником. Так и в Иудее, бывало, „целая улица
пророчествует". Вот я один из таких, т.е. людей улицы (средних) и „во пророках" (...)
Пророчество не есть у меня для русских, т.е. факт истории нашего народа, а мое
домашнее обстоятельство, и относится только до меня (без значения и влияния);
есть частность моей биографии»10.
Главные пророчества Розанова относятся к теме таинственной
взаимосвязи пола и религии. Пророком пола и рождения назвала Розанова Зинаида
Гиппиус. А в конце жизни, повернув вспять от христианства, писатель заявил,
что ощущает себя последним ветхозаветным пророком.
Вдохновлявшийся еретическими творениями Розанова протоиерей
Александр Устьинский, лично очень симпатичный батюшка, но убежденный
апологет модернистского обновления христианства, прямо провозглашал Розанова
современным пророком: «Вы открыли новую Америку (...) к плеяде пророков
9 Розанов. Листва. С. 110.
10 Там же.
284
Глава 9. Трезвый среди пророчествующих
принадлежите вы. Да, ныне век пророков. (...) стал Господь Бог выдвигать
пророков»11.
Страхов, как мы уже писали, не дожил до сексуальных теорий Розанова,
но нет никакого сомнения, что он большей части этих «откровений» не принял
бы из-за их очевидной антихристианской и даже демонической
направленности. В классификации Страхова Розанов неизбежно был бы зачислен в разряд
«угорелых».
Но при жизни Страхова едва ли не самым ярким воплощением «уго-
релости» стал в его глазах знаменитый ныне философ Владимир Соловьев.
Сама фигура Соловьева имела в себе нечто пророчественное, и об этом
восхищенными почитателями написаны целые книги. Пророческие нотки звучат
и во многих его сочинениях, особенно в стихах. О философе-пророке не писал
только ленивый.
В 1874 г. Страхов имел несчастье увидеть в этом молодом таланте
надежду отечественной философской мысли, а затем познакомиться и даже
почти подружиться с ним. Вся умственная жизнь талантливого философа
проходит перед взором критика. Однако с годами Страхова всё больше
постигает разочарование. В 1880-х гг., после перехода Соловьева в либеральный
«Вестник Европы», они идейно разошлись, а затем вступили даже в
полемику по поводу книги Данилевского. В 1889 г., когда Соловьев выступил
с циклом антиславянофильских статей и начался их спор, Страхов заявил:
«Я уже давно не в состоянии выносить его угорелости, и теперь дивлюсь,
что будучи, казалось бы, довольно трезвым человеком, так долго ее не
замечал. Она всегда у него была, только разыгралась теперь до самого края»12.
И даже еще более решительно: «Нет, он слепой человек, угорелый почти до
помешательства»13.
Вторя Страхову и развивая его мысль, Розанов пишет, что Соловьев уже
не пророк для него после измены прежним взглядам, а просто литератор: «.. .он
переменился, скверно, позорно переменился, снизошел до плоской журнальной
статейки, а выступал как проповедник, как пророк...»14 Что-то пророческое
в личности Соловьева действительно присутствовало, и не видели это только
те, кто начисто был лишен духовного зрения. Тем более что Соловьеву явно
нравилось производить такое впечатление на людей, и он несомненно
культивировал этот образ.
В 1913 г. в комментариях к письму Страхова Розанов разразился
длинным монологом, в котором с присущей ему мистической одаренностью дал
безжалостную характеристику темному, эгоистичному, лжепророческому
11 Розанов В. В. Когда начальство ушло... С. 309.
12 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 187.
13 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 836.
14 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 168.
285
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
«8»
началу личности Соловьева: «Тихого и милого добра, нашего русского
добра,— добра наших домов и семей (...) не было у Соловьева. (...) Может
быть, в нем было „божественное" (как он претендовал) или — по моему
определению — глубоко демоническое, именно преисподнее: но ничего или
очень мало в нем было человеческого. (...) В нем глубочайше
отсутствовало чувство уравнения себя с другими (...) натура пошатнула его в сторону
„самосознания в себе пророка" (...) В нем (Соловьеве) был именно ложный
пророк...»15
Со временем в русском обществе пророчески зазвучали и социальные
мотивы — свои пророки объявились и у радикальной партии. Пророчествовал
еще первый революционер и предтеча декабристов Александр Радищев. После
декабристов нередко использовал пророческие мотивы и А. И. Герцен, цитируя
Священное Писание, в которое он при этом не слишком верил. Даже Герцен
в своей революционной пропаганде прибегает к религиозной терминологии,
говоря о «скорбном уделе», который будто бы уготован в России
осмелившемуся проявить себя поэту, гражданину, мыслителю: «„Горе народам, которые
побивают камнями своих пророков!" — говорит Писание. Но русскому народу
нечего бояться, ибо ничем уже не ухудшить несчастной его судьбы»16.
«Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять
свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт,
гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок. История
нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги. Погибают даже
те, которых пощадило правительство, — едва успев расцвести, они спешат
расстаться с жизнью»17. В «мартирологе» Герцена — Рылеев, Пушкин, Грибоедов,
Лермонтов, Веневитинов, Кольцов, Белинский, Полежаев, Баратынский,
Бестужев. Однако почти никто из перечисленных писателей революционером
не был, и потому слова Герцена—сплошная риторика. С Герцена широко пошли
по Руси «пророчества» с социальным уклоном.
Н. А. Некрасов посвятил свое стихотворение «Пророк» (1874) сосланному
в Сибирь за революционные прокламации Н. Г. Чернышевскому. О вере того
и другого говорить, разумеется, тоже не приходится, но евангельская символика
придавала революционной борьбе характер религиозной жертвенности, а этот
оттенок усиливал звучание стихотворения.
Страхов был одним из тех немногих, кто на дух не переносил
мистическую «угорелость» писателей и мыслителей, и тем более чужды ему были
псевдопророческие мотивы литературной оппозиции.
15 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 20-21.
16 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч.:
в 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 208.
17 Там же. С. 55.
286
Глава 9. Трезвый среди пророчествующих
Можно смело сказать, что Страхов был весьма необычный человек и что
он заметно выделялся среди пишущей братии. По свидетельству Розанова,
Страхов имел перед современниками «громадное преимущество серьезности»18,
умственной и нравственной вдумчивости. Удел этого серьезнейшего человека,
наделенного исключительным даром критического понимания и невольно
взявшего на себя роль педанта от педагогики среди своих легкомысленных, но
талантливых друзей, шаловливых и непослушных воспитанников, играющих
идеями и образами современников, — указывать им на постоянную неточность
мысли, безрассудность поведения, ворчать по поводу недостаточной ясности
изложения или небрежности отделки. Ворчливые назидания Страхова были
глубоки, справедливы и весьма полезны для тех, кто умеет слышать. Но
трагическая сторона такого положения хмурящегося от нерадивости учеников
«вечного педагога» состояла в том, что его нравоучительным речам почти никто
не внимал.
Чтобы лучше понять положение Страхова как «учителя», надо
познакомиться, например, с его статьей, посвященной замечательной по-своему книге
историка М. П. Погодина «Простая речь о мудреных вещах», неряшливую
манеру изложения которого критиковал еще Гоголь. В своей статье о
Погодине Страхов раскрыл причины, почему он уделял столько внимания внешней
отделке сочинений и философских мыслей. Из нее же становится ясно, почему
наш методолог имел мало шансов преуспеть в этом педагогическом занятии,
как, кстати, в свое время и в попытках поддерживать дисциплину на уроках
в гимназии. Казалось бы, Страхов должен бы найти в книге близкого по духу
консервативного историка и литератора много занимательных идей, которые он
мог бы с присущей ему серьезностью прокомментировать, но, видимо, проблема
отделки так «зацепила» его, что ни достоинства книги, ни сами метафизически
«мудреные вещи», в ней изложенные, его не заинтересовали. Невольно
напрашивается вывод, что эта статья не относится к числу самых удачных у
Страхова. Но ведь были у него и блестящие сочинения, в которых его потрясающая
эрудиция, интеллектуальная глубина и благородные воспитательные мотивы
сочетались с искрящимися вдохновением мягким юмором и оригинальными
образами. К таковым нужно отнести, помимо цикла из четырех статей,
посвященных разбору романа «Война и мир», прежде всего статью «Плач на гробе
Карамзина», а также статью «Счастливые люди», очерк «Воспоминание о
поездке на Афон» и целый ряд других.
Однако нередко, тоже в целом ряде статей, Страхов тянет свою
извечную «учительскую» канитель: «В числе наших способных людей
встречаются такие, которые обильны идеями, и иногда даже идеями оригинальными
18 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 118.
287
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
и плодотворными; но обыкновенно эти идеи остаются у них только в зачатках,
никогда не бывают развиты, разработаны. (...) Эта странная зыбкость русских
умов, их нерасположение к серьезной и долгой остановке на одной мысли,
на одной работе, есть очень печальное явление нашей умственной жизни.
Наши труженики бездарны, наши умники ленивы — таково общее правило»19.
И Страхов делает такой вывод для себя: «Поэтому, нам кажется, у нас следует
всячески проповедывать строгий труд, систематичность в мыслях, отчетливость
в форме изложения». И он «проповедывал» эти принципы строгого и
систематического труда на протяжении всей жизни, заведомо не имея особого шанса
на успех. Ни Погодин с его хаотичным «мотком мыслей» и обилием при этом
подлинно глубоких идей, ни ближайший ученик Страхова Розанов с его тягой
к уловлению пролетающих мгновений и полным отсутствием способностей
к языкам не переняли от Страхова его «немецких» методов систематической
и культурной работы.
В стране пророков и юродивых, Левши и Емели-дурачка европейские
рациональные принципы работы не прививались и упорно не прививаются
до сих пор. У России испокон веков свои доморощенные методы и приемы,
и потому жизненная философия Страхова, при всех ее достоинствах, нашла
себе слишком мало поклонников. Ирония судьбы была в том, что Страхов при
всем своем европейском образовании и внешнем рационализме натуры был
«почвенником», истинно русским человеком. Отсюда шла его раздвоенность,
которая, может быть, и не позволила ему применить свои таланты сполна.
Он был все-таки ближе к тяжеловесным, назидательным славянофилам, чем
к «легкому» таланту игравшего с «глуповатостью» Пушкина, хотя испытывал
чрезвычайное благоговение перед пушкинским гением.
Незадолго до своей кончины, 5 февраля 1894 г., Страхов заявил в письме
к философу Н. Я. Гроту: «На моей могиле можно будет, конечно, написать:
один из трезвых между угорелыми, но дальнейшие похвалы подлежат еще
большому вопросу»20. В другом варианте эпитафии он писал: «Один из
трезвых между пьяными». В этом определении он не столько делал акцент на
«угорелости» или «нетрезвости» своих современников, сколько показывал,
что со своим здравомыслием явно ощущал себя отличным по темпераменту
от большинства людей, склонных предаваться различным фантазиям,
иллюзиям и стихийным порывам, беспечно, по-детски увлекаться сомнительными
политическими теориями и новомодными философскими системами. Почти
все люди были в глазах Страхова, утонченного критика и скептика по натуре
(желчные стороны его личности подметил даже Розанов)21, в той или иной
степени «угорелыми», или «пьяными». А «угорелеишими» считал он прежде
19 Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902. С. 314.
20 Письма СтраховаН. Я. Гроту. С. 256.
21 См.: Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 188.
288
Глава 9. Трезвый среди пророчествующих
—■$'
всего нигилистов, против которых немало выступал в печати с яркими
разоблачительными статьями. Такого же определения удостаивались от Страхова и
самые рьяные из заблудших мыслителей вроде Владимира Соловьева, которого
с годами потянуло вдруг в филокатоличество и русофобию. Но «угорелыми»
или «пьяными» были для Страхова и все те, кто не проявлял разумной
трезвости в поступках и писаниях, кто переходил черту трезвомыслия и отдавался
во власть стихий и инстинктов.
Однако ошибочным было бы думать, что Страхов — всего лишь
ограниченный педант и ригорист, пытающийся учить рациональным
методическим приемам правильной организации труда, насаждать в России какие-то
западные идеи и вековые наработки. Страхов был умнейший человек, и
потому глубина его сочинений еще не только не освоена, но даже не осознана.
По-ломоносовски одаренный исключительным интеллектуальным
любопытством и способностями к разным наукам и искусствам, а также редким даром
понимания, через книги, через самообразование он познал и понял Запад
словно изнутри, хотя в Европе, в отличие от Ломоносова, в молодости
практически не был. Европейскими знаниями и умениями мы по своей ужасной
привычке к подражанию всегда невольно восхищались и слепо перенимали то,
что нам нравилось. Но это внешнее, пассивное, подражательное образование
Страхова совершенно не устраивало, и он на нем не остановился. Такого рода
европейской образованности, наверное, хотел для России Катков, который
при всем своем имперском патриотизме был бы, подобно Петру, в восторге,
если бы ему удалось насадить на Руси всякие лучшие достижения
европейского просвещения вроде классических гимназий с древними языками. Или
во избежание революций навести по всей России такие же порядки, какие
сложились на балтийских землях за несколько веков правления там
послушных нашим императорам остзейских немцев. Страхов был настолько же умен
и по-европейски образован, насколько оставался русским по духу человеком,
почвенником по убеждениям.
Он представлял собой довольно редкий, к сожалению, в России
последнего столетия тип личности, в котором таинственным образом соединялись
глубокая европейская ученость с коренным русским осознанным
патриотизмом и умением по достоинству оценить русские народные начала. «Борьба
с Западом в нашей литературе» — вот неожиданный плод настоящего
европейского образования, совсем не похожий на выводы со времен Петра I
о необходимости переделки «некультурной» России, чем усиленно и занялись
после обучения в Европе наши «просвещенцы», «птенцы гнезда Петрова»,
из которых создалась русская интеллигенция. Борьба с «просвещенцами» —
одна из важнейших тем у Страхова, и потому его труды не устарели до сих
пор и вряд ли когда устареют на Руси.
289
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$>
Ближе к Страхову совсем другой тип образованного русского
человека. Тут скорее вспоминается очень похожее развитие личности другого
нашего умнейшего «европейца» — Федора Тютчева, создавшего в годы
дипломатической службы ряд очень толковых статей по геополитике да томик
прекрасных стихов, главная мысль которых вылилась в гениальную формулу
«Умом Россию не понять». Еще один «европеец» из этой компании русских
мудрецов, конечно, несравненный Александр Сергеевич, в Европе ни разу
так и не побывавший.
Страхов был очень не похож на большинство окружающих его людей тем,
что требовал от всех соответствия главному мерилу человеческой личности —
быть самим собой. Подражательность была таким же жупелом для Страхова,
как фантазерство, а здравый смысл был его главным орудием в борьбе за истину,
которой он служил по-рыцарски самоотверженно и верно, неутомимо воюя
против разных форм преобладавшей в обществе «угорелости».
Если к кому и приложимы сентенции о «горе от ума», то это к Страхову.
Не случайно, конечно, Розанов написал в 1896 г. статью на эту тему,
посвященную в значительной степени именно Страхову и другим литературным
изгнанникам: «„Лежит" всё умное и благородное на Руси, и шумно „идет
вперед" всё бесстыдное и тупое»22. Страхов был уверен, что его взгляд на жизнь
является наиболее здравым, но, как он воочию убеждался каждый раз, мало кто
вокруг следует принципам здравого смысла. Для него мир сошел с ума. Можно
представить, насколько тяжело было жить на свете этому человеку, который
видел, что всё вокруг делается не так. Окружающим Страхов представлялся
Дон Кихотом, который сражался с ветряными мельницами. У него был друг,
учитель и предшественник Аполлон Григорьев — такой же неприкаянный
идеалист, который также ощущал себя изгнанником, Дон Кихотом, Гамлетом
или «последним романтиком».
А «угорелость», которую Страхов неустанно обличал, распространялась
по миру с огромной скоростью и набирала силу. «Угорелых» было полно среди
посвятивших себя революции левых радикалов. Верящий в материализм, как
в Бога, горячий идеалист наоборот, пророчествующий о грядущем
социалистическом рае всеобщего счастья и готовый ради этого принести любые жертвы,
в том числе положить за «идею» и собственную жизнь, — едва ли не главный
тип революционера в те дни.
Страхов описал таких «новых людей» в статье «Счастливые люди» (1865),
посвященной роману Чернышевского «Что делать?». Этот набирающий силу вид
«угорелости» Страхов оценил по достоинству, проявив, в дополнение к другим
свои литературным способностям, дар сатирика. Роман, описывающий новую
породу людей, представляет собой, конечно, некоторого рода пророчество,
22 Розанов В. Кому «горе от ума» в действительной жизни? // Рус. слово. 1896. №48,
19февр. С. 1.
290
Глава 9. Трезвый среди пророчествующих
фантазию о счастливом обществе будущего. «Новые люди» из романа, похожие
друг на друга, как отмечает критик, олицетворяют собой прообраз
грядущего социального рая и приглашают людей следовать за ними в обретении
счастья: «Но вот являются новые люди и говорят нам: а вот мы не страдаем; ваши
страдания просто не нужны, и мы умеем избежать их. Мы не колеблемся, не
ошибаемся; путь жизни нам легок: мы заранее знаем, как нужно действовать
и какие книжки читать. Хотите ли быть счастливыми? Попробуйте развиться
и походить на нас»23.
Эти призывы вызывают переживания, которые напоминают протест
парадоксалиста из «Записок из подполья» Достоевского — антипода «новых людей».
И тут в перекличке голосов непонятно, кто на кого больше повлиял. Страхов
пишет о сочинении Чернышевского: «Не могу выразить, каким холодом оно
повеяло на меня в первый раз, когда я прочел его! Мне показалось, что от него
должен напасть ужас на каждого живого человека, что всякий живой человек,
ни минуты не колеблясь, отвечал бы: не нужно мне вашего счастья!»24
Известный журналист «Нового времени» Виктор Буренин, который в
молодые годы принадлежал к радикальной молодежи и разделял все ее понятия,
со временем образумился и писал о той эпохе как о времени всеобщего
опьянения радикализмом. Перейдя в 1890-х гг. почти целиком на сторону Страхова,
Буренин сочувственно, но не без упрека, пояснял, почему не пользовались
спросом сочинения умного критика-мыслителя: они были слишком
«трезвыми», а в период всеобщего опьянения, чтобы увлечь за собой «нетрезвых»
читателей, автор должен сам прийти в подобное им пьяное состояние. Умело
играя на прямом и метафорическом значении присущей Страхову «трезвости»,
Буренин дал яркую характеристику настроений общества 1860-х гг. и
диссонировавших с ними сочинений консервативного мыслителя: «Трезвость тона,
которую умел сохранить уважаемый публицист и философ в то горячее время,
может даже быть поставлена ему в упрек: благодаря этой трезвости, его
писания своевременно не имели того успеха, какой они должны бы были иметь
по своей правдивости. Точно так же, только наоборот, тон пьяного оживления
поборников мнимо-радикального прогресса своевременно был некоторым
великим достоинством: он содействовал яркости и действительности впечатления
их писаний. Ведь нужно помнить, что тогда значительное большинство нашего
так называемого образованного общества находилось — если такое выражение
покажется дозволенным — в легком, а иногда и в порядочном идейном
подпитии. Стало быть, для воздействия на это большинство следовало говорить с ним
именно в пьяном, а не трезвом тоне. Попробуйте в пьяной компании говорить
здраво и трезво: вас не поймут, ваша речь покажется смешной, даже нелепой.
23 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 339.
24 Там же. С. 348.
291
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Но болтать с пьяными пьяным языком: все останутся довольными и поползут
к вам даже целоваться»25.
Такого рода «пьяная эстетика» была Страхову как философу и
литературному критику не то что недоступна, но абсолютно не по душе.
Тем временем даже среди ученых, которым по роду занятий
естественными науками надлежит быть практичными и прозаичными рационалистами,
тоже появились зараженные «угорелостью». В научных кругах постепенно
получила распространение пришедшая с Запада новая зараза: увлечение
столоверчением с целью вызова духов умерших. Увлекательное занятие, которое
практиковалось во многих домах и дарило ни к чему не обязывающие
«духовные» сенсации, было известно также под названиями спиритизма и
медиумизма. Этой забаве наряду с обывателями увлеченно предавались известные
ученые — зоолог Н. П. Вагнер и химик А. М. Бутлеров. И ничто так не печалило
Страхова, как то, что сомнительным со всех точек зрения делом увлеклись не
только мистагоги от философии Вл. Соловьев и Д. Цертелев, но и почтенные
деятели науки, которым на роду написано бороться с предрассудками
общества с точки зрения разума. О злоключениях «вечного педагога», который
с помощью незыблемых физических законов пытался доказать «нетрезвым»
ученым, что спиритизм — дело несерьезное и невозможное, можно
почитать в книге Страхова «О вечных истинах. (Мой спор о спиритизме)». Слово
в защиту столоверчения взял уже заматеревший к тому времени философ
Вл. Соловьев, которого Страхов наградил титулом «угорелейшего», и взялся
обвинять идеалиста, борца с механистическим взглядом на мир в...
материализме, механицизме и даже в западничестве.
* * *
Среди писателей и философов «угорелых», естественно, наблюдалось
несравненно больше, нежели «трезвых», ибо без мечты, фантазии, дерзновения
не бывает настоящей философии и тем более литературы. Получилось так,
что окружали Страхова в его представлении почти одни «угорелые», а также
пророчествующие мечтатели и фантазеры. Хотя Страхов употребляет это
выражение чаще в отрицательном смысле, оно вовсе не предполагает обязательно
негативной характеристики — это скорее тип личности, и данное определение
никак не меньше характеризует и самого Страхова.
Позабывших о скромности претендентов на признание себя пророками,
а таких среди писателей и философов в России всегда было немало, Страхов
особенно охотно заносит в разряд «угорелых». «Угорелость» для Страхова—своего
рода опьянение чем-либо, одержимость, легкое умственное помешательство.
25 Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1890. № 5294, 23 ноября. С. 2.
292
Глава 9. Трезвый среди пророчествующих
Страхов неизменно отзывается о себе как об аккуратном, «правильном» человеке,
за редкими исключениями, когда он сам, неожиданно для себя, вдруг перестает
соответствовать этому определению: «Хорош аккуратный человек, считающий
почти всех других людей угорелыми»26.
«Люди, как угорелые...» — одно из частых сетований удрученного
состоянием русского общества Страхова. Он имеет преимущественно дело с людьми
литературы и философии, и его критика окружающих касается главным образом
сферы мысли и художественных образов. В той или иной степени
пророчествующими, или, по скептической классификации Страхова, «угорелыми»,
смело могут быть названы чуть ли не все писатели и философы из числа тех
великих современников, с кем у него были тесные отношения, — Григорьев
и Данилевский, Достоевский и Толстой, Леонтьев и Розанов, не говоря уже
о Вл. Соловьеве.
«Угорелость» и пророчество у Страхова идут рядом. Любой высоко
взлетевший в своих гордых фантазиях, но сбившийся с пути «пророк»
незамедлительно и беспощадно подвергается им критике за свою «угорелость».
Страхов нередко употребляет слово «пророк» и в ироническом смысле. Так,
он с негодованием отзывается о «велеречии московских пророков»27 —
либеральных московских философов, друзей Соловьева, стремящихся «уронить»
авторитет славянофилов и Данилевского через критику сочинений Константина
Леонтьева.
«О, мы какие-то сумасшедшие, угорелые! Мы делаем сами не знаем что,
сами не знаем зачем»28, — жалуется Страхов Толстому на русский народ в 1876 г.
Страхов ощущал себя одним из немногих трезвых в опьяненном
различными фантазиями мире. Потому он в своей апелляции к здравому смыслу
и призывами к добросовестности и благородству в отношениях казался
дерзким бунтарем и почти безумцем, выступавшим против представлявшихся
священными новых идеалов общества. Этими преобладавшими в обществе
идеалами к тому времени стали не официальные установки правительства,
не религиозная вера, а пришедшие с Запада идеи революционного прогресса,
которые с легкой руки Белинского и трудами его старательных и энергичных
учеников из разночинной интеллигенции овладели к 1860-м гг. общественным
мнением.
Обобщая сказанное выше, можно отметить, что в мире русской философии
и литературы «золотого» XIX в., как это выяснится позже, философская
критика Страхова представляет собой важную поправку трезвения к пророческому
опьянению многих выдающихся деятелей русской культуры.
26 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 437.
27 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 110.
28 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 406.
293
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Д. И. Чижевский высказал очень ценную мысль о жизненной позиции
Страхова или о его миросозерцании, что применительно к нему будет точнее:
«Он выступает как „трезвый между пьяными" не из равнодушия, но из какого-то
внутреннего сознания, чувства близости к Вечному. Он как будто стоит на
страже у вечных ценностей и не хочет, да просто органически не может, оскорбить
спокойствие „святого святых" шумом, неистовством, бранью и дикостью»29.
Страхов в лучших своих проявлениях — не столько рационалист в своем
отношении к философской и литературно-критической мысли, сколько
сторонник ее онтологичности, укорененности в жизни. Относительно здравого
смысла у него был прекрасный творческий и жизненный ориентир: Александр
Сергеевич Пушкин, который являл собой идеал ясности и трезвости мысли
при ее огромной скрытой глубине и восхитительной и труднодостижимой
уравновешенности.
29 Чижевский Д. Страхов // Чижевский Д. Гегель в России. СПб., 2007. С. 303.
Ct/ллёа 10
ДВА ДОН КИХОТА РУССКОЙ КРИТИКИ
(СТРАХОВ И АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ)
...Единственный собрат по философско-эстетическимубеждениям.
Ап. Григорьев1
...Я смотрел на него как на великого
и единственного мастера в деле критики.
Н. Страхов2
£§Ц§ «Я вечный Дон Кихот», — говорил о себе поэт, литературный критик
и мемуарист Аполлон Григорьев3. «Дон Кихотом» называли и другого
критика— его друга Николая Страхова (в частности, Н. К. Михайловский). Этих
видных мыслителей-идеалистов второй половины XIX в. сближало то, что они
воспринимались обществом торжествующего нигилизма как литературные
изгои, как пусть и благородные, но далекие от действительности фантазеры,
упорно, но тщетно пытавшиеся воевать с суровой реальностью во имя высоких,
но едва ли осуществимых идеалов, подобно выезжавшему совершать подвиги
«хитроумному идальго Дон Кихоту Ламанчскому».
Аполлон Григорьев, «искатель абсолютного»4, непризнанный вождь
и идейный вдохновитель почвеннического направления, умер очень рано,
25 сентября 1864 г., в возрасте 42 лет. Его участие в кружке «почвенников»,
объединившихся в 1861 г. в журнале братьев Достоевских «Время»,
продолжалось, с учетом недолгого сотрудничества еще и в «Эпохе», меньше трех лет.
С уходом из жизни Аполлона Григорьева кружок главных идейных противников
нигилистических публицистов «Современника» и «Русского слова» понес
невосполнимую утрату. После кончины Григорьева Страхов превратился в журнале
Достоевских «Эпоха» из ученика и помощника в главную критическую силу.
1 Григорьев А. По поводу одного малозначительного современного критического
явления // Якорь. 1864. № 2. С. 22.
2 Страхов Н. Воспоминания об А. А. Григорьеве // Григорьев. Воспоминания. С. 439.
3 Григорьев. Письма. С. 256.
4 Там же. С. 250.
295
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
Кружком леворадикальных последователей позднего Белинского и
Добролюбова это печальное событие воспринималось как очередная победа в
непримиримой борьбе партий прогресса и реакции. Для пущего эффекта своей
нигилистической победной реляции 1865 г. под красивым названием «Прогулка
по садам российской словесности»5 разрушитель эстетики Д. Писарев
нарочито возвеличил Григорьева, назвав покойного критика «последним крупным
представителем российского идеализма». При этом, дабы подчеркнуть всю
бесперспективность того направления, которого придерживаются «гг.
почвенники, идеалисты и эстетики», Писарев представил его как «человека, смело
идущего в самый последний обскурантизм». Для Писарева «почвенник,
идеалист и эстетик» Григорьев — «единственный человек, способный выдвинуть
какое-нибудь миросозерцание» против их теорий «добролюбовской школы».
Всё это было сказано о покойном, конечно, больше для красного словца, для
того, чтобы принизить значение его единомышленников и последователей.
Писарев в духе «прогрессизма» хвастливо заявляет, что времена их
литературных оппонентов, поклонников «эстетики и мистицизма», прошли, а их
идеи безнадежно устарели: теперь, по его словам, «музыканят новые люди,
так называемые теоретики». Словечко «теоретик», как известно, было из
критического лексикона покойного обличителя сторонников рассудочных
и предвзятых умственных построений, под коими подразумевались именно
Писарев «со товарищи», но теперь, в целях глумления, можно было в шутку
использовать его как свой боевой клич.
Однако Страхова, против которого прежде всего был направлен пафос
статьи Писарева, не смутили ни этот, ни другие подобные отклики на смерть
Григорьева. Он уже привык к подобным издевкам нигилистов за годы
сотрудничества во «Времени» и «Эпохе». Молодой критик-философ стал достойным
продолжателем дела Аполлона Григорьева, предпринимавшим всевозможные
усилия для увековечения памяти ушедшего друга и наставника.
Уже вскоре после кончины Григорьева Страхов опубликовал в журнале
«Эпоха» свои воспоминания о покойном друге6, самую ценную часть которых
составляли письма к нему безвременно ушедшего из жизни критика и поэта.
Эти мемуары стали важнейшим источником сведений об Аполлоне Григорьеве,
вокруг которого постепенно накапливались материалы, посвященные его жизни
и творчеству. Надо признать, что авторитет Григорьева после его сумбурной
жизни и бесславной кончины в литературном мире был не слишком высок, но
Страхов сделал всё от него зависящее, чтобы показать исключительную
одаренность покойного и показать огромное значение для русской литературы того,
что он успел сделать. Воспоминания Страхова с включенными в них письмами
5 Писарев Д. Прогулка по садам российской словесности // Рус. слово. 1865. Март; то
же: Писарев Д. И. Поли. собр. соч.: в 12 т. М., 2003. Т. 7. С. 134-135.
6 Страхов Н. Новые письма Аполлона Григорьева // Эпоха. 1865. Февр. С. 152-182.
296
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
—ф
Григорьева, опубликованные в «Эпохе» в 1865 г., раскрыли мятущуюся и в то
же время яркую личность выдающегося критика и незаурядного мыслителя.
Несмотря на общеизвестные приступы разгульного поведения, Ап. Григорьев
представал из воспоминаний благородным, изумительно талантливым
человеком, всецело преданным искусству. Хотя письма Григорьева в этой публикации
пестрели многочисленными отточиями на месте пропущенных Страховым
нецензурных слов, из них перед читателем вставала живая, мятежная и алчущая
истины душа.
В ноябре 1865 г. Страхов опубликовал в «Эпохе» еще ряд ценных писем
Ап. Григорьева, на этот раз обращенных к жене композитора А. П. Бородина,
который тоже был Григорьеву духовно близким человеком. В этих письмах
Григорьев еще больше приоткрывал завесу над некоторыми важнейшими
сторонами своего миросозерцания. В качестве заключения к этой переписке
Страхов приложил заметку об отзывах на письма Григорьева, опубликованные им
в сентябре предыдущего года7. Страхов печалился, что в этих отзывах люди
выражали «свое неверие в глубокую оригинальность Григорьева и в его
необыкновенное богатство понимания»8. Ученик и продолжатель дела Аполлона
Григорьева задался благородной целью изменить мнение людей о покойном
писателе, показать, несмотря на очевидные недостатки, его величие и
значительность. Он выразил надежду, что дело будет порешено должным образом
«беспристрастным потомством».
Леворадикальный библиографический журнал «Книжный вестник» (ред.
Н. С. Курочкин) откликнулся на воспоминания Страхова заметкой критика
с псевдонимом Н. Алп. (А. П. Пятковского)9, который вступил с автором
воспоминаний в полемику. В одном из писем Григорьев отстаивал свое право
с уважением упоминать в статьях даже и неугодных либералам писателей, хотя
бы и таких, как М. П. Погодин, С. П. Шевырев и о. Феодор (Бухарев). Критик
«Книжного вестника» не постеснялся в целях либеральной пропаганды исказить
мысль автора, написав, что «Григорьев выше всех ценил труды и направление
М. П. Погодина, Шевырева и о. Феодора». Такому же искажению подверглась
и мысль Григорьева о том, что в оценке художественных произведений следует
остановиться на учении Белинского до 1844 г. (то есть до перехода его к
социально ориентированной критике), потому что оно «единственно правильное».
Среди этих статей было несколько весьма консервативных — таких, которые,
как иронизирует Страхов, «по самому избитому ходячему мнению некоторых
7 Страхов Я. По поводу писем Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову // Эпоха. 1865. №2.
С. 152-182; то же: Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902. С. 341-344. Далее цитируется
по этому изданию.
8 Там же. С. 341.
9 Алп. Н. [ПятковскийА.П.] А.А.Григорьев в своих письмах // Книжный вестник.
1865.№1,15янв.С. 10-11.
297
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
из наших прогрессивных людей, подлежат строгому осуждению»10. Рецензент
же утверждал, будто Григорьев и ценил Белинского только за эти статьи.
Критик библиографического журнала продолжил полемику со Страховым, резко
возражая на его аргументы. В грубой форме он заявил, что «толковать о
самостоятельности мнений — г. Страхову совсем не к лицу, ибо все философские
мнения его давно предвосхищены Сведенборгом, Корейшею и др. подобными
мыслителями»11. Судя по этому заявлению, в глазах критика-материалиста
Страхов с Григорьевым были неисправимыми мистиками-идеалистами.
Не отставал в попытках принизить значение публикаций Страхова и
маститый «Современник»12 — боевой орган нигилистов во главе с Н. А.
Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Щедриным. Журнал упрекнул Страхова, будто
он, публикуя письма, «злоумышленно» скрыл фамилии одних лиц, чтобы не
обидеть их отзывами Григорьева, и нарочно оставил полными буквами
другие имена, которые не хотел щадить. Страхов ответил, что руководствовался
не пристрастием, а совершенно другим принципом, которого
придерживался всегда: он напечатал «всё, что имело характер чисто-литературный, а не
частный»13.
Упоминая о «хитростном» предложении Достоевского напечатать
несколько статей критика без подписи, с которым Григорьев не согласился, Страхов, как
утверждал критик «Современника» М. А. Антонович, явно сглаживал
противоречия внутри редакции «Времени» и «Эпохи», не желая выносить их на суд
публики. Страхов попытался войти в положение редактора, однажды действительно
предлагавшего Григорьеву напечатать его статью без подписи, дабы получить
на нее положительный отзыв читателей, предвзято относившихся к критику.
Рецензент «Современника» обвинил даже Страхова в «недоброжелательстве»
к Григорьеву, как бы становясь на его защиту: «Все подобные соображения
невольно возбуждают сомнение, что, может быть, хитростное предложение
Григорьеву было вовсе не так просто, как его объясняет г. Страхов. Григорьева
нет в живых, и ему можно навязать что угодно, но как знать, если бы он был
жив, может, он и доказал бы г. Страхову, что он напрасно обвиняет его в
„подозрительности" и „нескладном толковании44, что „хитрость г. Ф. Достоевского
была на самом деле подозрительна и нескладна44»14. Страхов, разумеется, такое
предвзятое, порочащее память Григорьева толкование его идей и положения
в редакции решительно отверг.
10 Страхов Н. По поводу писем Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову. С. 343.
11 Новости, заметки и проч. // Книжный вестник. 1865. № 7, 15 апр. С. 137 (без подписи).
12 [Антонович М. А.] Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве. Н.
Страхова. (С примечанием Ф.Достоевского). «Эпоха». 1864. Сентябрь: [ред.]. //Современник. 1864.
Т. 104. Нояб. —Дек. Новые книги. С. 101-114.
13 Страхов Н. По поводу писем Ап. Григорьева к Н. Н. Страхову. С. 344.
14 [Антонович М. А.] Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве. Н.
Страхова. С. 110.
298
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
Следует отметить также любопытное мнение об общем направлении
журнала «Время», выраженное автором рецензии «Современника». Он утверждал,
что направление «Времени» было дано именно Григорьевым, который внушал
братьям Достоевским, «чтобы они взялись за народность и соединялись со
славянством»15. Братья, писал Антонович, так и сделали, хотя и не вполне
уяснили, что такое это славянство. Направление это было, несмотря на слова
самого критика, именно «славянофильским», в то время как М. Достоевский,
по утверждению Антоновича, «не имел особенно лестных понятий о
славянофильстве. Григорьев настоял на своем, и ему была дана в журнале полная
воля, но М. Достоевскому не понравилось славянофильствование и
прославление Григорьевым славянофильских имен, вследствие чего Григорьев журнал
оставил»16. Как бы ни были развязны заметки этого рецензента, пытавшегося
раздуть едва намечавшийся конфликт в редакции «Времени», но даже в них, как
и в статье Писарева, отразилось высокое мнение автора о личности Григорьева
и его влиянии на политику журналов Достоевских.
После сотрудничества в «Библиотеке для чтения» и целого года мытарств
Страхов стал в 1869 г. редактором журнала «Заря», который снова, к его
радости, опирался на традиции «почвенничества». Только там можно было
поставить Григорьева на первое место в русской критике, выше кумира оппозиции
Белинского, и Страхов, поддержанный в этом смелом шаге Достоевским из-за
границы, сделал это в одной из своих статей, несмотря на возмущение идейных
противников журнала. Страхов убедительно свидетельствовал, что Григорьев
гениально предсказал основную линию развития русской литературы от
поздней «семейной» прозы Пушкина к тогда еще не написанному великому роману
Толстого «Война и мир».
В 1876 г. Страхов издал на собственные и заемные средства
подготовленный им первый том собрания сочинений Аполлона Григорьева. Это было первое
издание, в котором перед читателем предстал в относительной полноте большой
критик, чьи статьи ранее были разбросаны по периодическим изданиям. Сам
Страхов, сопроводивший издание вступительной статьей, в которой
осмыслялось критическое наследие Григорьева, высоко ценил этот свой кропотливый
и глубоко продуманный труд. Этот первый сборник литературно-критических
статей Ап. Григорьева стал ориентиром и образцом для последующих
поколений издателей. Страхов потратил много сил на книгу и впоследствии в письме
к Данилевскому без ложной скромности выражал уверенность, что он «издал
лучшую книгу по критике, какая у нас есть»17.
Издание не пользовалось читательским спросом, и за неимением средств
на последующие тома ценное начинание Страхова продолжения не получило.
15 Там же. С. 105.
16 Там же.
17 Рус. вестник. 1901. Февр. С. 461.
299
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
»
Равнодушие читательской публики, не способной оценить всей глубины идей
Аполлона Григорьева, чрезвычайно огорчало Страхова.
Свое предисловие к изданию Страхов начал со слов: «Имя Аполлона
Григорьева очень известно; но значение его—для многих, даже для огромного
большинства, совершенно темно»18. К этому вполне нейтральному
заявлению составителя тома, проделавшего огромную работу по выявлению и сбору
в журналах сочинений критика, придрался довольно известный
консервативный писатель и критик В. Г. Авсеенко, который нередко выступал с колкими
замечаниями в адрес Страхова и других почвенников. С пафосом, достойным
лучшего применения, этот катковский критик, когда-то сотрудничавший в одних
изданиях со Страховым, стал доказывать в журнальной рецензии, помещенной
им в «Русском вестнике»19, что никакой известности у Аполлона Григорьева
нет. Авсеенко не только оспаривал в статье утверждение Страхова о
выдающемся значении Григорьева как критика, но и упрекал почвенничество за
тенденциозное восхваление простого народа, считая подлинными носителями
культурных ценностей «тонко развитых и тонко чувствующих»20 представителей
образованного общества.
Страхова эта статья привела в негодование: «Очень возмутила меня
статья Авсеенко об Аполлоне Григорьеве. Просто изумляешься и теряешь всякую
охоту писать. Для кого? Кому нужно и кто поймет — не говорю, какие-нибудь
высокие мысли, которых, может быть, у меня и нет, а просто предмет, о котором
я заговорил, вопрос, который рассматриваю?»21
По отношению к Григорьеву существует целая традиция отрицателей,
не признающих за ним серьезных достижений и считающих его лишь
талантливым пьяницей-неудачником. Это только показывает, насколько важны были
настойчивые усилия Страхова по раскрытию подлинного значения творческого
наследия Григорьева. Вслед за Страховым на защиту Аполлона Григорьева
встал и Ю. Н. Говоруха-Отрок, который прямо заявил со страниц «Московских
ведомостей»: «Истинный начинатель нашей самостоятельной критики есть
А. Григорьев»22. Страхова Говоруха-Отрок назвал «прямым продолжателем»23
Григорьева в области литературной критики, а о Белинском сказал, что его
надо считать не основателем нашей литературной критики, а «начинателем
того эфемерного, миражного явления, которое принято называть литературным
нигилизмом»24.
18 Страхов Н. Предисловие // Григорьев. Сочинения. Т. 1. С. I.
19 А. [Авсеенко В. Г] Блуждания русской мысли // Рус. вестник. 1876. Окт. С. 871-894.
20 Там же. С. 885.
21 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 450—451.
22 Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели?: в 2 т. СПб., 2012. Т. 2. С. 147.
23 Там же. С. 148.
24 Там же. С. 146.
300
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
Достойный отпор хулителям Ап. Григорьева дал в свое время, много лет
спустя, и А. А. Блок в прекрасной статье «Судьба Аполлона Григорьева», смело
встав на его сторону против довлеющего авторитета морали оппозиционной
интеллигенции: «Судьба Григорьева сложна и потому соблазнительна. В
интеллигентский лубок он никогда не попадет: слишком своеобычен, в жизни
его трудно выискать черты интеллигентских „житий": „пострадал" он, но не
от „правительства" (невзирая на всё свое свободолюбие), а от себя самого (...)
терпел холод и лишения, но не „за идеи" (...) и решительно никогда не
склонялся к тому, что „сапоги выше Шекспира", как это принято делать (прямо или
косвенно) в русской критике от Белинского и Чернышевского до Михайловского
и... Мережковского»25.
Неудивительно, что в советское время консервативные критики, подобные
«реакционным демократам»-почвенникам26 Григорьеву или Страхову,
«тянущимся к почве, к национальности, к национализму», подвергались всяческому
осуждению. Они воспринимались исключительно как политические ретрограды,
непримиримые идейные противники Чернышевского, Добролюбова и других
«революционных демократов».
Сергей Дурылин, тоскуя в 1931 г. в ссылке о непризнанности Аполлона
Григорьева как одного из тех, кто явился в литературу «с большой мыслью»,
писал: «Из него одного можно было бы выкроить троих Белинских, десяток
Добролюбовых, дюжину Писаревых, — да еще осталось бы на поэта меры
Полонского, хватило бы на прозаика, художника той же меры, на хорошего
актера, на отличного музыканта»27.
Как ни странно, перепевы былых негативных отзывов о Григорьеве
нередки и в наши дни. Так, некий П. Л. Котов в автореферате диссертации на
звание кандидата исторических наук28 заявляет по поводу воспоминаний
Страхова о Григорьеве: «Страхов дает много материала о последних годах жизни
Григорьева, с которым он вместе сотрудничал в журналах „Время" и „Эпоха".
Но его воспоминания, как и комментарии к ним Достоевского, тенденциозны
и предвзяты: первый воспринимал Григорьева как непонятого пророка, второй
был раздражен безалаберностью своего сотрудника»29.
Котов, подвергая критике «апологетическую традицию, заложенную
Страховым», утверждает, будто «выступления сторонников Аполлона
Григорьева часто выглядят не только необъективными, но и просто нелепыми». Он
с нигилистической иронией типичного либерала цитирует слова Страхова, что
25 БлокА. А. Собр. соч.: в 8 т. М.; Л. 1962. Т. 5. С. 489-490.
26 Лейкина В. Реакционная демократия 60-х годов: Почвенники // Звезда. 1928. №6.
С. 168-181.
27 Дурылин С. В своем углу. М., 2006. С. 822.
28 Котов П. Л. Становление общественно-философских взглядов Аполлона Григорьева:
автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02. М, 2003.
29 Там же.
301
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
сочинения критика «представляют целые громады мыслей» и что они дают
«неистощимую пищу». Такая тенденция к принижению роли Григорьева в истории
отечественной критики всегда была связана с либерально-западническим и
вообще «прогрессистским» направлением мысли. Но даже вульгарно-простоватый
Писарев отзывался о Григорьеве с большим уважением, чем современный
историк-нигилист.
Григорьев постоянно подчеркивал, что почвенничество — выражение
русского духа, народных начал, и его литературная критика открыла ясные
перспективы развития отечественной литературно-критической деятельности.
В основе взглядов Григорьева, по его собственным словам, «лежала вера
в искусство как высшее из земных откровений бесконечного». Он заявлял: «Этою
верою мое воззрение (...) отделялось и отделяется как от воззрения поклонников
чистого искусства, искусства для искусства, так и от воззрения теоретиков, для
которых искусство дорого только как слепое отражение последних, крайних
и, стало быть, по вере в прогресс, — единственно истинных результатов
жизни»30. Под теоретиками он подразумевал здесь, само собой, нигилистов.
Именно Григорьев является создателем так называемой органической
критики, которую он понимает как выявление искусства, непосредственно
связанного с жизнью. По его мнению, искусство, вытекающее из жизни, является
высшим проявлением творчества и имеет важнейшее значение: «Искусство
как органически сознательный отзыв органической жизни, как творческая сила
и как деятельность творческой силы — ничему условному, в том числе и
нравственности, не подчиняется, подчиняться не может...»31 Григорьев отрицает
прописную мораль, условную нравственность, искажающую «вещее, чуткое,
провидящее искусство»32, но утверждает нравственные начала, «органически
присущие жизни народа и общества»33.
Более свободное, чем у славянофилов и Страхова, отношение Григорьева
к нравственному началу привлекло интерес к нему со стороны Константина
Леонтьева. Юрий Иваск в книге о Леонтьеве писал: «Педантичный Н. Н.
Страхов не без успеха популяризировал почвенничество своего беспутного друга,
но очень уж тщательно очищал его учение и от плевел, и от полевых цветов...
Писатели понимали его лучше»34. В образах Шатова и Дмитрия Карамазова
у Достоевского, в героях Лескова Иваск видит натуры, близкие стихийной
натуре Григорьева с его «цветными истинами», как и в цыганщине,
отраженной в яркой статье Блока. Сюда же Иваск, конечно, относит и Леонтьева с его
культом красоты.
30 Григорьев А. А. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 247-248.
31 Там же. С. 248.
32 Там же. С. 250.
33 Там же. С. 253.
34 Иваск Ю. П. Константин Леонтьев (1831 -1891) //Леонтьев. Pro et contra. Кн. 2. С. 309.
302
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
Ф
Однако аморализм Григорьева выражался прежде всего в бытовых грехах,
а не в их эстетическом обосновании, и не носил столь демонстративного
характера, как у воинствующего эстета Леонтьева, нередко выступавшего апологетом
аморализма (по крайней мере, в ранние годы). И сам Иваск соглашается с тем,
что у невинного кутилы Григорьева больше отличий от ставящего красоту выше
добра Леонтьева, чем сходства с ним.
Страхов же на самом деле и не старался охватить фигуру Григорьева
как единое целое, хотя и не игнорировал стихийное, интуитивное начало его
личности. Но ему, по свежим следам только что угасшего светила, хотелось
показать прежде всего достоинства Григорьева как выдающегося
литературного критика и мыслителя-идеалиста. Он старался привлечь внимание к
лучшим чертам личности и творчества старшего друга и учителя, высвечивая
то, за что мы должны его ценить, и очищая его благородный в целом образ
от «плевел». Но это совсем не значит, что, не делая акцента на «плевелах»
в биографии Григорьева, Страхов очищал его взгляды, как утверждает Иваск,
от «полевых цветов».
* * *
Григорьев, как и Страхов, — прирожденный критик. Он любит
литературу, но он все-таки не совсем художник. Трагическую сущность своей личности
как «лишнего» или «ненужного человека» сам Григорьев раскрыл в небольшом
исповедальном очерке «Безвыходное положение (Из записок ненужного
человека)», написанном не где-нибудь, а... в Долговом отделении. Понятно, почему эти
записки, опубликованные в журнале «Якорь» в 1863 г., подписаны частым
григорьевским псевдонимом Ненужный человек. Подобных исповедальных записок
у Григорьева немало, и они, как правило, носят не вымышленно-литературный,
а автобиографический характер. Эти записки своим тоном отчаяния и в какой-то
степени исповедальным «жанром» перекликаются с письмами к Страхову из
Оренбурга. По своему обыкновению, Ненужный человек как бы ведет
беседу с каким-то неведомым собеседником, вроде Косицы-Страхова, но степень
исповедальности записок, раскрывающих саму личность, саму душу автора,
здесь небывало высокая.
Ненужный человек безжалостно исповедуется перед читателем:
«Художником я решительно быть не способен, хотя во мне, как все мои знакомые
говорили и как сам я, говоря без ложной скромности, очень хорошо знаю, —
много художественного понимания и что, может быть, еще лучше —
художественного чутья: „нос у тебя есть", — говаривал мне не раз один даровитый
поэт. А все-таки мне-то от этого не легче...»35
Григорьев. Воспоминания. С. 321.
303
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
<$>
Никого это признание, читатель, не напоминает? Конечно, эта исповедь
перекликается с заявлением Страхова о себе, что он имеет особый дар
понимания вещей, «способность видеть сущность явлений»36, понимания сути
художественных произведений и жизненных ситуаций. Эстетическим чутьем
Страхов тоже не обижен. Пробовал он себя и в поэзии, и в прозе, но заметного
признания не получил. Словом, этих двух похожих признаний достаточно,
чтобы согласиться: они оба с Григорьевым созданы для художественной критики.
Но Григорьев еще и философ, он прошел школу Шеллинга и вообще
«хлебнул» трансцендентализма. Душа, познавшая трансцендентное, беспокойна
и не может творить, производить. В этом философском понимании сути вещей
он видит основную причину того, что он не творец, не художник:
«Ведь, изволите видеть, — будь я художником, я уже не был бы ненужным
человеком. В том-то и беда великая, в том-то и „горе-злосчастье" всей моей
жизни, что я всё, совершенно всё понимаю, — и ничего, совершенно ничего,
не произвожу»37.
Страхов тоже по призванию не только критик, но и философ. Однако
здесь уже наличествует и существенное отличие от Страхова, труженика по
натуре, который вполне удовлетворяется кропотливой и интенсивной, пусть
и недолгой, работой.
Самоанализ приводит Григорьева к раскрытию мотивов его склонности
к срывам в прожигание жизни: «Для того чтобы быть художником, нужна
сосредоточенность, нужно спокойствие, нужна способность переживать жизнь только
внутри себя, а я всегда ненасытно-жадно стремился пережить ее, жизнь-то, — как
можно более в действительности. Не то чтобы сильна или широка очень была
моя натура, а так уж больно падка до жизни!»38 Тут, конечно, гораздо больше
сходства с «эстетикой жизни» Леонтьева, чем со страховским аскетизмом и
отстраненностью от соблазнов жизни.
Вот где корень жизненной драмы Григорьева: его романтическая натура
ненасытна и направлена не только на художественное творчество или науку, —
сама его душа патологически томится по стихии, именуемой им «жизнью»,
стремится насытиться ею.
Будучи мыслителем-идеалистом по глубине понимания вещей, Григорьев,
однако, не считает себя и настоящим философом в традиционном смысле: он
не способен создавать законченные теории и учения — и тем более верить
в созданные. Здесь корни того пренебрежительного отношения к отвлеченному,
рассудочному знанию, которое вылилось у Григорьева в характерную для него
презрительную кличку «теоретики», которой он награждает как прямолинейных
«прогрессистов», так и тяжеловесных славянофилов: «А с другой стороны, я не
36 Страхов. Из истории литературного нигилизма. С. 314.
37 Григорьев. Воспоминания. С. 321.
38 Там же. С. 321-322.
304
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
Ф -
мыслитель в строгом смысле этого слова. Мышление мое — какое-то
калейдоскопическое, право так! Я никогда не могу видеть предмет с какой-нибудь одной
его стороны и не могу поэтому состроить о нем какой-нибудь односторонней
теории. Что за причина такая? Другим, посмотришь, — так легко даются
теории — и главное дело, как легко верится в теории, — а мне вот нет как нет!
А ведь мысль, не прикованная к теории, такой свободой своей ужасно много
теряет в своей силе, хоть, может быть, и много выигрывает в своей правде.
Чтобы пробить стену, нужно бить постоянно в одно место. Теория так и
делает — бьет что есть мочи в одну точку, потому что, кроме этой точки, ничего
другого не видит»39.
Человек, не могущий отдать предпочтение одной из теорий, заявляет
«ненужный человек», не может быть и ученым, хотя мысль его более свободна.
Григорьев, как и Страхов, не может окончательно остановиться на определенной
системе, выбросить «знамя». Подобно Страхову, Григорьев обладает обширной
эрудицией, но сам, больше из скромности, признается, что знания его
поверхностны и лишены основательности:
«Я, наконец, не мог быть никогда и ученым, а остался целую жизнь
человеком, который всё понимает, потому что всего нанюхался и ничего не знает
основательного „durch und durch", как говорят немцы. И вот поверхностный,
хоть и довольно широкий, но все-таки поверхностный энциклопедизм, — в ту
минуту нашего века, которая требует дела и знания какого-нибудь дела,
неминуемо, рано или поздно, должен был поставить меня в крайне конфузное, тяжелое
и безвыходное положение»40.
Безжалостный аналитик выворачивает наизнанку свою душу, делая
естественный вывод о своей ненужности. В письмах к Страхову Григорьев тоже
пишет о своей ненужности в современном обществе, опираясь на более
приземленные, но не менее мрачные впечатления о жестоком мире, где всё, чем он
жил,—религия, искусство, литература, философия — подвергается притеснению
и, по его ощущению, близко к гибели.
Если рассмотреть неоконченную повесть Страхова «Последний из
идеалистов», написанную в 1866 г., через два года после смерти Григорьева, то там
тоже можно обнаружить немало сходных элементов того гамлетизма, которым
страдали оба.
Свое неверие в теории, неприязнь к ним Григорьев развил, сделав
«теоретиков», приступающих к жизни с готовыми мерками, основным объектом
своей литературной критики. Григорьев видел три группы отрицателей, или
теоретиков, против которых направлена его философия, положенная в
основание идеологии почвенничества: западничество, славянофильство с опорой на
допетровскую Русь и апологетика «чистого искусства».
39 Там же. С. 322.
40 Там же.
305
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
«Почвенничество» как новое литературное направление возникло
прежде всего благодаря усилиям Ф. М. Достоевского, но оно во многом опиралось
на критические разработки Аполлона Григорьева, восходившие ко временам
«новой редакции» почти славянофильского «Москвитянина».
Григорьев и сам поддерживал идею создания нового направления,
независимого от западничества и славянофильства. Конечно, славянофильство было ему
несравненно ближе западничества, но о слабых сторонах этого «старо-боярского»
направления с его московской гордостью, ограниченным пониманием народа
и, соответственно, отрицанием народности Пушкина, пренебрежительным
отношением к художеству и теоретизмом мышления он временами высказывался
довольно резко.
Григорьев настолько хотел отмежеваться от славянофильства, с которым
у него много общего, что однажды неожиданно предложил поставить вместо
неопределенной славянофильской идеи «народности» во главу угла «идею
национализма». «Идея национализма остается, стало быть, единственною,
в которую можно безопасно верить в настоящую минуту»41. Он имел в виду,
конечно, это понятие не в отрицательном смысле национального
превозношения, но как опору на современные национальные начала. Григорьеву явно
хотелось показать непригодность терминологии «устаревшего» направления
славянофильства, которое подразумевает под «народностью» то архаическую
допетровскую Русь, то «простонародность».
Не будет преувеличением сказать, что почвенничество как новое
направление, возникшее в союзе Достоевского, Григорьева и Страхова, в
значительной мере получило обоснование в трактовке Григорьевым роли Пушкина
в русской литературе. Григорьев писал: «Пушкин не западник и не славянофил,
Пушкин русский человек, каким сделало русского человека соприкосновение
со сферами европейского развития»42. «Пушкин — был единственный
полный человек, единственный всесторонний представитель нашей народной
физиономии»43.
О Григорьеве, не сумевшем устроить семейную жизнь и не
поддерживавшем традиционного уклада своего быта, нередко пишут, что он не был
почвенным человеком, и он признал в разговоре с Леонтьевым, что не имеет
настоящей семьи. Надо сказать, что и сам Леонтьев в этом недалеко ушел от
«вечного странника» Григорьева. Нельзя не отметить, что и Н. Н. Страхова
с его холостяцким бытом недоброжелатели не раз называли «почвенником без
41 Григорьев Ап. Стихотворения Н. Некрасова // Григорьев Ап. Сочинения: в 2 т. Т. 2.
С. 306.
42 Григорьев. Сочинения. Т. 1. С. 514-515.
" Там же. С. 512.
306
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
»
почвы»44, и лишь семьянин Достоевский вполне достоин понятия «почвенник»
в бытовом отношении.
Однако надо отметить, что понимание укорененности в почве как
идеологии кровной семейной общности, основанной на нравственных началах, как
краеугольного камня общинного или соборного мировосприятия свойственно
скорее раннему славянофильству. В почвенничестве же упор делается
больше как на идею народности в смысле органического единства, то есть живых
народных традиций и собственно национальности, так и на отказ от жестких
теоретических установок в пользу следования органическим формам развития
народной жизни. А прот. В. Зеньковский даже трактует культ почвы, созданный
в кружке Достоевского, как культ «непосредственности»45 и органической
целостности с элементами религиозного натурализма, объясняя его именно как
отказ от теоретизма отвлеченных умственных построений.
Ап. Григорьев убедительно писал об упадке вкуса у «пламенного
поборника и тончайшего ценителя художественной красоты»46 Белинского, который
вполне отдался в поздний период односторонне-историческим теориям
«голого ума» и стал тем самым учителем целого нигилистического поколения.
Григорьев решительно утверждал, что кумир либеральной интеллигенции не
понял Пушкина времен «Повестей Белкина» и «Капитанской дочки» и даже
прямо говорил об упадке таланта его позднейших произведений. В то время
как Григорьев выводил из поздней прозы Пушкина главное направление всей
последующей русской литературы, Белинский писал о «Повестях Белкина»:
«...эти повести не были достойны ни таланта, ни имени Пушкина. (...) повести
Белкина были ниже своего времени»47. Белинский прямо заявлял, что поэзия
Пушкина устарела, не соответствует требованиям прогресса: «Дух анализа,
неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды к любви
мышление сделалось теперь жизнию всякой истинной поэзии. Вот в чем время
опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того
животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный
ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего»48.
Григорьев выступает против отвлеченной идеи человечества и считает
эту идею позднего Белинского исходным пунктом того теоретизма,
который породил отрицательное направление отечественной мысли 1860-х гг.
Он не признает ни «всеединство», как Соловьев, ни «всечеловечество», как
Данилевский. Григорьев, предвосхищая Данилевского, считает носителями
44 Катков М. И. Собр. соч.: в 6 т. СПб., 2011. Т. 3. С. 108; РозенблюмЛ. М. Творческие
дневники Достоевского II ЛИ. М., 1971. Т. 83: Ф. М.Достоевский: Новые материалы и
исследования. С. 19.
45 Зеньковский Василий, прот. История русской философии. М., 2001. С. 388.
46 Григорьев. Сочинения. Т. 1. С. 621.
47 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: в 11 т. М., 1955. Т. 7. С. 577.
48 Там же. С. 344.
307
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
■з>
органического начала отдельные народы: «Вот оно, главное слово разгадки,
человечество! Это — абстрактное человечество худо понятого гегелизма,
человечество, которого в сущности нет, ибо есть организмы растущие, стареющи-
еся, перерождающиеся, но вечные: народы. Для того, чтобы оно было, — это
абстрактное человечество, нужно непременно признать какой-либо условный
идеал его. Этому идеалу жертвуется всем народным, местным, органическим.
В конце концов, в результатах этого идеала стоит, конечно, то, о чем Гегелю
и не снилось»49.
В связи с пушкинскими праздниками и речью Достоевского Страхов
справедливо заявлял, что «никто лучше Аполлона Григорьева не писал о Пушкине,
и никакие другие кружки не были больше преданы литературе»50. Подобные
заявления делались не раз, но оригинально здесь то, что Страхов называет
литературный кружок, к которому примыкали Достоевский и Григорьев, то есть
«почвенничество», партией «поклонения Пушкину». А речь Достоевского,
вызвавшую всеобщий восторг на Пушкинском празднике, Страхов
рассматривает как победу «почвеннического» направления, исповедавшего поклонение
Пушкину и преданность литературе. Далеко не все принимали это суждение
Страхова, видя в нем стремление «примазаться» к славе Достоевского. Но
в подчеркивании им фундаментальной связи философии почвенничества, как
она выразилась в Пушкинской речи Достоевского, и григорьевского толкования
образа Пушкина, бесспорно, есть здравая мысль.
Дружба писателей — нечто особенное, неизменно привлекающее
внимание читателей, но не всегда легко объяснимое. Если исходить из внешнего
впечатления, то среди друживших литераторов мало найдется столь контрастных
по темпераменту натур, как Аполлон Александрович Григорьев и Николай
Николаевич Страхов. Их дружбе действительно нельзя не подивиться. Ап.
Григорьев, который был на шесть лет старше, — бесшабашный, пылкий, стихийный,
увлекающийся, нарушающий порой внешние нормы морали. Он почти такой
же «последний романтик» и в творчестве — вдохновенный, дерзкий и
хаотичный. Более того, этот большой поэт и великий критик — запойный пьяница,
докатившийся к концу жизни и до долговой тюрьмы.
Николай Страхов производит впечатление полной противоположности:
это человек тихий, осторожный, уклончивый и довольно рассудочный.
Типичный книжник, ведущий уединенный образ жизни, почти аскет по привычкам.
Сходен его образ и в литературной деятельности: строгий критик, более всего
49 Григорьев Ап. Белинский и отрицательный взгляд в литературе // Григорьев.
Сочинения. Т. 1. С. 564-565.
50 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 515.
308
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
«3»
учитель-методолог, радеющий о трезвости и ясности суждений, с упором на
нравственность и здравый смысл.
Григорьев весь состоит из порывов, «веяний» и неоконченных начал. Он
обрушивает на читателя россыпь ярких характеристик, гипотез и прозрений,
смело выдвигая новые таланты. Среди его глубоко прочувствованных,
оригинальных мыслей немало новаторских, даже пророческих, но не приведенных
в систему и не слишком подкрепленных доказательствами. Пророческое
начало углядел в Григорьеве даже Н. В. Шелгунов, редактор
ультрарадикального журнала «Дело», определив его — правда, не без издевки — как «пророка
славянофильского идеализма». А Страхов, кажется, только и делал в критике,
что боролся с ложными пророками и беспочвенными фантазерами, обличал
сумятицу идей и неясность изложения. Более всего он ценил, как следует из
его письма к Н. Я. Данилевскому, «точность, ясность, законченность»51.
Но все-таки было что-то общее у пылкого, темпераментного,
фонтанирующего идеями Григорьева и методичного, медлительного Страхова, вечно
пекущегося о ясности и упорядоченности мысли и почти лишенного творческого
начала при несомненном большом критическом и философском таланте. Ибо
именно со Страховым, несмотря на все различия природного темперамента,
более всех сошелся Аполлон Григорьев. Страхову адресованы самые
значительные из его писем. Страхова, бывало, называли учеником Данилевского, что
совершенно не соответствовало действительности. Утверждалось это чаще по
неразумию, а иногда, как, например, в случае Вл. Соловьева, для того, чтобы
посильнее уязвить оппонента в споре. Иногда безосновательно говорят также
об идейном влиянии Достоевского или Толстого на критика.
На самом деле Страхов был верным учеником и последователем
Григорьева, и только (если не считать, конечно, их общего учителя Пушкина).
Вчитываясь в письма Григорьева к Страхову, можно понять, что сближение
их не было случайным, и Страхов заслужил его не единственно тем, что
уважительно внимал глубоким и смелым суждениям своего старшего друга.
Сблизил их прежде всего интерес к философии классического идеализма
и к традиционным ценностям русской культуры, желание
противодействовать нигилистическим тенденциям в литературе и общественной жизни.
«Органическая критика» Григорьева пришлась по всем статьям как нельзя
кстати естественнику по образованию и философу по призванию, к тому же
давнему поклоннику пушкинской эстетики. Григорьев не случайно заприметил
Страхова в 1859 г., обратив внимание на едва ли не первую из его
натурфилософских статей. А 10 марта 1860 г. в письме к М. П. Погодину Григорьев уже
упоминал Страхова в качестве одного из представителей имеющихся сил «для
борьбы против философского материализма во имя идеализма и Православия
51 Рус. вестник. 1901. Февр. С. 463.
309
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
как идеи»52. Чуть позже в письме к А. Н. Майкову, затевая новый журнал, он
уже назвал Страхова одним из «немногих совсем честных и одномыслящих
людей»53, которых он готов призвать к сотрудничеству. А направление так
и не реализованного журнального замысла Григорьева было несравненно
более консервативным, чем у «Времени» Достоевских. «Ясно, что это, с
самого же начала, будет самая дерзкая борьба за поэзию, народность, идеализм
против всякого социалистического и материалистического безобразия (...)
„Антихрист народился" в виде материального прогресса, религии плоти
и практичности...»54 И только когда журнал Григорьеву разрешен не был,
он прибился ко «Времени». Страхов, как мы видим, был одним из наиболее
близких ему по взглядам людей. Мысли, щедро набросанные Григорьевым
в его статьях, нашли во вдумчивом Страхове благодатную почву и обросли
плотью взвешенных и аргументированных критических суждений в пору
их совместного сотрудничества в журналах Достоевских и еще больше
развились позже. Страхов в той же степени ученик Ап. Григорьева, сколько
и продолжатель его дела.
Что же касается бросающегося в глаза несходства темпераментов с
Григорьевым, при более внимательном изучении поры молодости Страхова оно
оказывается не столь уж разительным. Страхов обычно воспринимается как
прирожденный холостяк, черствый моралист и строгий педант, ведущий
уединенный и даже аскетический образ жизни среди книг. Но на самом деле этот
образ, сложившийся в зрелый период его жизни и к тому же несколько
утрированный, рушится при изучении ранней биографии критика. Из юношеской
автобиографической повести Страхова «По утрам» мы видим, что он,
увлеченно занимаясь литературой, в молодые годы не прочь был и приударить за
женщинами, не воздерживался и от дружеских попоек. Как ни удивительно, но
в этом юношеском сочинении будущего приверженца пуризма присутствуют
даже эротические мотивы. О том, что после строгого семинарского воспитания
Страхов отдал дань и светским соблазнам, ярко свидетельствуют и юношеские
письма из Петербурга, обращенные к его бывшему преподавателю из
Костромской семинарии о. Иоанну Скивскому.
Судя по письму к Розанову от 6 июня 1890 г.55, Страхов остепенился
после неприятной истории со статьей «Роковой вопрос» (1863). Напомним, что
эту статью, из-за которой был закрыт журнал Достоевских «Время», Страхов
написал как раз в разгар дружбы с Ап. Григорьевым. Страхов, между прочим,
был подвержен в молодости и той же типичной русской слабости, какой страдал
52 Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. М., 1904. Т. 18. С. 429; Григорьев.
Письма. С. 229.
53 Григорьев. Письма. С. 237.
54 Там же. С. 237-238.
55 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 60. См. наст, изд., с. 53-54.
310
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
—■$>
Григорьев. Правда, писатель П. Д. Боборыкин, хорошо знавший Страхова в этот
период, отрицал то, что Страхов сильно пил: «С Григорьевым трудно было
водить закадычную дружбу, если не делать возлияний Бахусу, но Страхов совсем
не отличался большой слабостью к крепким напиткам»56.
Один из братьев Страхова, кстати, спился, повторив судьбу Ап.
Григорьева. Так что вполне возможно, что Страхов предавался загулам вместе с
Григорьевым или, по крайней мере, поддерживал время от времени его компанию.
Хотя сближали их, разумеется, не столько дружеские попойки, сколько высокие
литературно-философские устремления.
* * *
И Григорьев, и Страхов — прежде всего критики-мыслители. Их обоих
выделяет среди современников существенное привнесение в литературную
критику серьезных философских идей. Но ни философский идеализм, к которому
оба они были склонны, ни их опора на эстетические принципы пушкинского
наследия не пользовались в обществе, вставшем в этот период на путь
радикализма, какой-либо поддержкой. Страхов, вовлеченный редакцией «Времени»
в литературную критику и невольно втянувшийся (особенно когда не стало
Григорьева) в острую полемику с «нигилистами», был окружен в этой идейной
борьбе, как и Григорьев, горячим презрением. В оппозиционном лагере было
модно смеяться над ними обоими как над отпетыми ретроградами.
Но особенность той эпохи идейной нетерпимости заключалась в том,
что ни Григорьев, ни Страхов, подвергавшиеся за свои взгляды жесточайшему
высмеиванию и даже глумлению, «упертыми» консерваторами и тем более
«реакционерами» не были. Их сближало как раз то, что оба они интуитивно
искали особый, «царский путь», стремясь избегать идейных крайностей.
Такая умеренная позиция не находила широкой поддержки, и Страхов сетовал
об этом позже в письме к Л. Н. Толстому: «Как быть, как писать, когда кругом
непобедимый фанатизм, и когда всякое доброе начало отразилось в людских
понятиях в дикой и односторонней форме?»57 Григорьев, не принимавший ни
оголтелого радикализма «тушинских воров», ни официозного «деспотизма»
властей, занимал близкую по своей умеренности позицию.
В письмах Ап. Григорьева к Страхову встречаются выражения дружеской
симпатии и признание взаимопонимания: «.. .со времен юности ни к кому в мире
я не писал так много и так часто, как к тебе, мой всепонимающий философ.. .»58
Находит Григорьев и слова поддержки для молодого друга, испытывавшего
естественные сомнения под мощным давлением общественного неприятия: «Что
56 Боборыкин П. Д. За полвека: (Мои воспоминания): в 2 т. М, 1965. Т. 1. С. 395-396.
57 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 819.
58 Григорьев. Письма. С. 261.
311
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
за дикое, ложное смирение заставляет тебя с каким-то странным недоверием
относиться к своей собственной критической деятельности? А я так тебе
говорю, положа руку на сердце: кому ж писать теперь, как не тебе?»59 Но еще чаще
Григорьев и сам плачется о собственной судьбе «ненужного человека», и это
чувство своей ненужности, отверженности, конечно, тоже очень сближало их.
До нас дошли не только письма Григорьева к Страхову, но и два черновых
фрагмента писем Страхова к Григорьеву. Они были впервые опубликованы
Б. Ф. Егоровым60, который продолжил уже в трудное советское время благородное
дело Страхова по увековечиванию памяти выдающегося отечественного поэта,
критика и мемуариста. Занятно, что во втором из этих писем «всепонимающий
философ» не только переходит с учителем на «ты», внимая его советам, но и сам
дружески наставляет Григорьева. Он упрекает старшего друга в том, что в его
статьях содержится «бездна зародышей и ничего целого» — «зародыши многих
мыслей и зародыши многих чувств, но — только зародыши»61.
Григорьев предается в одном из писем к Страхову горестным
размышлениям о том, что он действует «без всякого знамени», и даже с близкими по духу
славянофилами у него имеются существенные расхождения. Славянофилы, по
мнению Григорьева, были склонны к «теоретическому пуританизму», умаляли
личность перед общиной, а под народом подразумевали лишь крестьянство. Для
него же главное — не приверженность какой-либо теории, а верность жизни,
служение настоящему искусству и искание истины.
Страхова тоже не раз упрекали в неясности позиции, и он сам признавался
в неумении и нежелании «выбрасывать знамена». Но к славянофилам он был,
пожалуй, ближе Григорьева, а в период редакторства в «Заре» (1869-1872) —
вероятно, наиболее успешный в его творческой биографии — он и прямо
декларировал свою связь со славянофильством. Не случайно, и то что в 1880-х гг.
Страхов стал регулярно сотрудничать в «Руси» И. С. Аксакова.
Константин Леонтьев, который без особого успеха настойчиво
пытался печататься в «Заре», редактируемой Страховым, так как идейно более
близкого ему органа не находилось, даже прямо упрекал Страхова за то, что
он уклонился в это время от единомыслия с Григорьевым в сторону
славянофильства: «Хорошо ли Вы сделали, что сбились с пути Ап. Григорьева на
простое московское славянофильство?»62 Но всё же настоящим славянофилом
Страхова считать трудно, да и не без причины, конечно, в литературоведении
принято относить его вместе с Григорьевым и Достоевским к так называемому
почвенничеству.
59 Григорьев. Письма. С. 262.
60 Переписка Ап. Григорьева с Н. Н. Страховым / вступ. ст., публ. и примеч. Б. Ф.
Егорова // Труды по русской и славянской филологии. VIII: Литературоведение. Тарту, 1965. С. 163-
173. (Учен. зап. Тартуского ун-та; Вып. 167).
61 Там же. С. 171.
62 Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1. С. 279-280.
312
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
Ф
Страхов с Григорьевым не примыкали целиком ни к одному лагерю и везде
становились лишними людьми. В биографии «последнего романтика»
Григорьева прослеживается много общих черт с жизнью Страхова, неоконченная
автобиографическая повесть которого носит поразительно сходное название
«Последний из идеалистов». В ней, между прочим, звучат те же слова о «чувстве
ненужности», которые не раз в отчаянии бросает и Ап. Григорьев.
Б. Ф. Егоров, автор биографии Аполлона Григорьева в серии «ЖЗЛ»,
описывая очередные злоключения «последнего романтика», мимоходом роняет
емкую фразу о том, что «Григорьев, как всегда, плыл против течения»63. То же
самое смело можно сказать и о Страхове. Недаром он объяснял главную
причину неуспеха журнала «Заря», в который он вложил свою душу, почти теми
же словами, что против течения плыть всегда трудно.
Хотя Страхова с Григорьевым относят вместе с Достоевским к одному
литературному течению, которое принято называть «почвенничеством»,
известно, что с Достоевскими Григорьев особенно близок не был и жаловался,
в частности, Страхову на некоторые идейные стеснения в редакции «Времени»
и «Эпохи». Григорьев и здесь, в дружественных журналах, как всегда, бунтует,
выбивается из общего ряда. Он отстаивает свое право хвалить в конкретном
случае всякого — от благороднейших мыслителей типа И. Киреевского или
о. Феодора (Бухарева) до «охранителей» Погодина с Шевыревым и даже вплоть
до «завзятого мраколюбца» В. П. Аскоченского, — если он того заслуживает.
Как известно, в «Кратком послужном списке» недовольный Григорьев писал
даже, что собирается с «Эпохой» расстаться. Страхов, который по взглядам был
среди сотрудников редакции наиболее близок к Григорьеву, в воспоминаниях
о Достоевском явно смягчает это недовольство Григорьева компромиссной
журнальной политикой редакторов «Времени» и «Эпохи». Он отмечает, что при
всех разногласиях Григорьеву единодушно отводилась роль ведущего критика
журналов и что в силу своего характера он не смог бы ужиться ни в одной
редакции.
Однако американский литературовед Р. Виттакер в своей книге о
Григорьеве64 выражает мнение, что эти идейные расхождения имели более глубокий
характер. Представляется, что американский исследователь даже несколько
преувеличивает разногласия между «почвенниками». Но заслуживает внимания
то поразительное наблюдение, которое Виттакер приводит в подтверждение
своей точки зрения: он подмечает, что мы, собственно, не имеем вообще никаких
свидетельств дружеских встреч и даже просто контактов Аполлона Григорьева
с Достоевскими.
63 Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев. М., 2000. С. 188. (ЖЗЛ).
64 Виттакер Р. Последний русский романтик: Аполлон Григорьев (1822-1864). СПб.,
2000.
313
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
* * *
Воспоминания Страхова о Григорьеве, опубликованные вскоре после его
кончины в журнале «Эпоха», за исключением григорьевских писем, не
отличаются особой яркостью. Поэтому не слишком удивляет пренебрежительно-
эмоциональный отклик на них драматурга А. Н. Островского, который был весьма
близок с Григорьевым в годы «ранней редакции» «Москвитянина». Во время
их шумных застолий Островский высказывал, по словам Григорьева, поистине
пророческие мысли, и он мог бы, конечно, написать о своем друге много
интересного. Прочитав скромные воспоминания Страхова, Островский отозвался
о них так: «Что у нас путного сказано об Аполлоне Григорьеве? А этот человек
был весьма замечательный. Если кто знал его превосходно и мог бы о нем
сказать вполне верное слово, то это именно я. Прочтите, например, Страхова. Ну
что он написал об Аполлоне Григорьеве? Ни малейшего понимания чутья этого
человека»65. Б. Ф. Егоров, приводя эти слова, бросает Островскому справедливый
упрек: «Если именно ты хранишь „верное слово", так почему же не закрепишь
это на бумаге?! Увы!»66 Страхов, как отмечает Егоров, оказался несравненно
более близким другом, чем бывшие товарищи по «молодой редакции».
Воспоминания Страхова, действительно, в силу его характера довольно
сдержанны, но их ценность состояла прежде всего в том, что они появились
вскоре после кончины Григорьева, и главное — в них были включены его
важнейшие письма. Страхов вообще сделал для увековечивания памяти своего друга
больше, чем кто-либо другой. Внимание к ближнему было его отличительной
чертой, и недаром именно к Страхову обращены едва ли не самые
содержательные письма Григорьева.
Страхов продолжал служить памяти своего друга на протяжении всей
жизни. Егоров справедливо встает на его защиту: «Пусть Страхов знал Григорьева
не так глубоко, как Островский, но он, хвала ему, все-таки публиковал письма
друга, оставил воспоминания, а главное, — приступил к изданию 4-томного
собрания сочинений»67.
После публикации в журнале «Эпоха» воспоминаний о Григорьеве с
включением его писем Страхов вновь обратился к творческому наследию критика
во времена своего активного сотрудничества в журнале «Заря» (1869-1872).
Время редакторства Страхова в «Заре» — период его интенсивной
переписки с Ф. М. Достоевским, который восторженно отзывался о журнале и хвалил
65 Цит. по: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев. С. 212.
66 Там же. С. 191.
67 Там же. С. 212. См. об этом издании выше, с. 299-300.
314
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
—■$>
статьи Страхова. В одном из писем Страхов сообщал Достоевскому по поводу
своей статьи, что он поставил Григорьева выше Белинского и что это можно
было сделать только в «Заре». Правда, кончились эти антинигилистические
«дерзания» так же плачевно, как и большинство подобных начинаний
Григорьева прежде: в 1871 г. издатель отстранил Страхова от редакторства, а вскоре
и сам журнал бесславно прекратил существование, не набрав нужного числа
подписчиков.
К характеристике отношений Страхова с Ап. Григорьевым имеет прямое
отношение и его письмо к А. А. Фету по поводу мемуарных заметок поэта.
Прочитав их в корректуре, Страхов пишет 22 декабря 1889 г.:
«Перемену хочу предложить Вам только одну — выпустить несколько
строк на 35-й гранке (...) Ведь вы нигде не говорите о безобразиях и
распутстве, которого немало, конечно, попадалось Вам на жизненном пути; между
тем у Григорьева живы два сына, один в Москве, другой в Петербурге. Зачем
их огорчать? Дружинин, В. П. Боткин, И. Н. Толстой умерли, как я слышал,
от жестоких излишеств, которым предавались; но всё это шито и крыто,
а Ап. Григорьев со свойственною ему прямотою не скрывал своих
безобразий. За что карать его преждевременно? Если писать об этих безобразиях,
то нужно уж взять полную картину и его умственных блужданий и порывов,
и тогда выйдет картина не с одними тенями, а и с светлыми пятнами и яркими
проблесками»68.
В следующем письме, уже через два дня, получив ответ Фета, до нас,
к сожалению, не дошедший, он продолжает ту же тему. Признав склонность
Григорьева к «актерству» и его «щегольство цинизмом», Страхов всё же
выступает на защиту друга: «Одного только я не замечал у него—мелочности
и злобности, и, должно быть, поэтому, несмотря на все его безобразия, я ни на
минуту не чувствовал его противным. Есть ведь люди, которые в точном смысле
для себя хотят лишь воли, но никому об этом не говорят, хотя руководятся этим
правилом всю жизнь. В нем было совершенно другое».
Особенно поразительно, как Страхов реагирует на эпизод с пропитой
отцовской шубой, описанный Фетом и прежде Полонским: «Насчет отцовской
шубы, которую он пропил, я уже слышал рассказ от Я. П. Полонского; к этому
я мог бы прибавить, что он у меня пропил несколько книг. Но разве же этим
определяется человек? Мне очень досадно, что ни Я. П. Полонский, ни Вы
ничего не хотите сказать об его душе, об его энтузиазме, об его уме, а вспоминаете
о пропитой им шубе. Никогда я не встречал человека, который до такой степени
увлекался искусством, как Григорьев. Молодые люди, которых всегда было
много вокруг него, ужасно его любили: он их согревал своею восторженностию,
он был неистощим в мыслях и речах и подымался до всяких высот и круч»69.
68 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 491.
69 Там же. С. 492.
315
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Какой поразительный контраст с тональностью злополучного письма
Страхова к Л. Н. Толстому о Достоевском, написанного полтора года спустя!
Совершенно очевидно, что Григорьева, как и Данилевского и (особенно) Льва
Толстого, Страхов искренне любил. И печально, что подобной любви по
отношению к Достоевскому ему не хватило, чтобы простить ему реальные или тем
более гипотетические недостатки, как прощал он их неприкаянному Аполлону
Григорьеву
Григорьев был, конечно, грешный человек, но Страхов видел, что в душе
его все-таки всегда жил Бог. Диапазон поступков Григорьева — от порывов
крайнего аскетизма до безудержного пьянства и разврата. И если к кому из
известных людей и применимо прежде всего известное выражение о
чрезмерной широте русского человека, о том, что его надо бы «сузить», то именно
к Аполлону Григорьеву. Однако следует помнить, что великий грешник заявлял
о себе: «Я человек по натуре и по развитию — религиозный»70. Григорьев был
не чужд духовной литературы, и одним из произведений, которые он ввел в круг
чтения русских людей, была удивительная книга «Странствия инока Парфения»,
рассказывающая о странствиях русского писателя-монаха по разным странам
и по святым местам.
Когда один господин выразил опасение, как бы после чтения таких книг,
как «Странствия инока Парфения», все не ударились в пустынножительство,
Григорьев написал такие замечательные слова в пользу аскетизма: «Не
бойтесь за человечество, что оно всё уйдет в пустыни и дебри, но бойтесь за
него, когда будут пусты пустыни и дебри, когда оборвется эта струна в его
организме, заглохнет эта ненасытная жажда идеала, высшего, Бога, влекущая
подчас в пустыни и в дебри.. .»71 В этом видят сходство с программой позднего
Достоевского.
Именно из-за бережного отношения к памяти Аполлона Григорьева
во многом разошелся Страхов с Константином Леонтьевым. Расхождение
касалось, собственно, не литературных или философских дел, а различного
отношения к нравственности. Страхов отказался печатать в «Заре»
воспоминания Леонтьева о Григорьеве, так и не объяснив автору причину отказа.
Этот скрытый «по умолчанию» конфликт послужил причиной нарастания
взаимной неприязни двух консервативных мыслителей, возросшей в
последующие годы до полного разрыва отношений, хотя по взглядам они были
«на У2 единомышленники».
Григорьев. Воспоминания. С. 345.
Григорьев. Сочинения. Т. 1. С. 631.
316
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
—■$'
Воспоминания Леонтьева о Григорьеве были обнаружены в архиве и
опубликованы только в 1915 г.72 Розанов в статье, посвященной этой публикации,
подробно и убедительно разъяснил суть и причину расхождения Страхова и
Леонтьева73 как столкновение «славянофила с добродетелью» и «славянофила без
добродетели». Эстетический аморализм, который исповедовал Леонтьев в те
ранние годы, до его духовного кризиса и «религиозного поворота» 1871 г., для
Страхова был решительно неприемлем. В духе собственных воззрений того
периода Леонтьев противопоставлял в воспоминаниях «разгульную жизнь»
и «чувственность» Григорьева строгой нравственности славянофилов, утверждая
при этом, будто «поэзия разгула и женолюбия» более характерна для русских
народных начал, чем семейный идеал славянофильства. Леонтьев писал даже
о Григорьеве: «Иные в его статьях находили нечто тайно-растленное; они были
не совсем неправы». И развивал тему в направлении любимых собственных
идей: «Не порок в наше время страшен; страшна пошлость, безличность!»
Придя в восторг от единомыслия с вновь открытым гениальным
философом, Розанов позволил себе в письме к Леонтьеву нехороший отзыв о столько
сделавшем для него Страхове, которого он сам позже назовет своей
«литературной нянькой». Розанов предположил, что Страхов потому о нем, Леонтьеве,
ничего не пишет, что ему завидует: «...он завистлив ко всякому дарованию
и почти ненавидит его, когда оно имеет успех.. .»74
Надо отдать здесь должное разумности Леонтьева, который отверг низкое
предположение о завистливости Страхова. Леонтьев ответил так: «Я думаю,
наоборот, он себя считает гораздо выше: иначе он писал бы обо мне давно.
У него есть три кумира: Аполл(он) Григорьев, Данилевский и Лев Толстой. Об
них он писал давно, много и настойчиво, о двух первых даже он один, и писал
постоянно и весьма мужественно. И даже нельзя сказать, что он критиковал
их: он только излагал и прославлял их. Их он считает выше себя и честно
исполняет против них свой литературный долг. И в этом он даже может служить
примером другим»75.
На самом деле ни Григорьев, ни Данилевский «кумирами» Страхова,
конечно, не были. Он дружески спорил с ними и свободно указывал на их
недостатки. Кумир у него был лишь один — «бесценный Лев Николаевич», и он
служил ему верно и самозабвенно, не замечая его слабостей и недостатков ни
в жизни, ни в литературе, и доходил в своем преклонении до исповедания своих
грехов Толстому вместо священника.
72 См.: Леонтьев К. Н. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном Ап. Григорьеве:
(Письмо к Н. Н. Страхову) II Леонтьев. ПСС. Т. 6, кн. 1. С. 7-26.
73 Розанов В. В. К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве: (Вновь найденный
материал)// Новое время. 1915. №14279, 9 декабря; то же: Розанов В. В. Легенда о Великом
инквизиторе Ф. М.Достоевского. М, 1996. С. 608-615.
74 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 398.
75 Там же. С. 343.
317
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
* * *
В том, что Страхов считал первым критиком России Григорьева, а никак
не шумного Белинского и уж тем более не его последователей-нигилистов типа
Чернышевского с Добролюбовым, нет никакого сомнения. Именно Григорьев
своей органической критикой дал Страхову литературные ориентиры, которые
позволили ему написать самое выдающееся его литературно-критическое
творение — серию статей о романе «Война и мир», которой он сам дал название
«критической поэмы в четырех песнях»76. Пафос этих статей лежит на
фундаменте григорьевского наследия, которое вдохновило Страхова на написание его
лучших произведений. Это статьи очень «славянофильские», точнее,
«почвеннические» по духу, и одухотворяют их именно идеи «органической критики»
Аполлона Григорьева. Размышления о преемственности Толстого по отношению
к намеченной Григорьевым пушкинской линии отечественной литературы
замечательно разъясняли внутренний смысл романа Толстого и вылились в образец
подлинно органической критики.
Страхов не только сам вдохновлялся идеями Григорьева о народности
прозы позднего Пушкина, но и отвел критику значительную часть второй
статьи, посвященной Толстому. Розанов верно заметил, что, изложив в ряде своих
статей о «Войне и мире» точку зрения Ап. Григорьева, Страхов «тем гораздо
более, нежели изданием его сочинений, способствовал ознакомлению с нею
широких слоев читающего общества»77.
В ряде своих статей Григорьев делил героев произведений Пушкина на
«ложные и хищные» и «простые и смирные» типы. При этом «ложные и
хищные» герои были порождением чуждых начал, а «простые и смирные» —
порождением родной, русской почвы. Воплощением второго типа стал в
истолковании Григорьева созданный Пушкиным образ Белкина, от имени которого
ведется повествование в поздних повестях Пушкина. Белкин есть «голос за
простое и доброе, поднявшийся в душах наших против ложного и хищного».
Это направление развития таланта Пушкина в последний период, не понятое
современниками, было гениально разъяснено Ап. Григорьевым как искание
пути к нашей литературной самостоятельности. Страхов оценил по достоинству
это фундаментальное открытие Григорьевым «нашего типового» и блестяще
разработал теорию развития на этой основе нашей литературной и духовной
самобытности в своих статьях о романе Толстого «Война и мир». Образы Платона
Каратаева и Пьера Безухова идеально легли в ту концепцию, основы которой
были заложены чуткой мыслью Григорьева. То, что у Григорьева было сказано
тезисно и несколько отвлеченно, Страхов развернул по отношению к
образам романа Толстого. Кроме того, он развил григорьевскую идею о смирном
76 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 261.
77 Розанов. ПСС. Т. 2. С. 76.
318
Глава 10. Страхов и Аполлон Григорьев
и хищном типах, сделав обобщающий вывод о том, что смирный тип составляет
совокупность наиболее характерных черт русского человека.
Надо отметить, что сам Толстой с этой восходящей к Григорьеву
классификацией не соглашался: «...я совсем не согласен с вами о делении людей на
деятельных и пассивных и о том значении, к(оторое) вы придаете тем и другим.
Виноват, но я слышу тут отголосок неудавшейся мысли Григорьева о хищных
и смирных типах, к(оторой) я никогда не понимал. Самое деление не правильно.
Противуположное смирному есть бунтующий или горящий, но не хищный.
Главное же, самая мысль неверна. Тут вы платите дань, несмотря на ваш огромный
независимый ум, дань Петербургу и литературе. Вы говорите: лучшие силы
недеятельны, а те деятельны. Да ведь это только в литературе. Т. е. одни знают,
что сами ничего не знают, и учатся, а другие, невежды и тупицы, ничего не зная,
учат и не учатся. Но это только в литературе. А в (маленькой штучке) в жизни?
Кто пашет, сеет, нанимает, торгует, распределяет деньги, ездит, набирает
солдат, командует, главное, рожает и воспитывает себе подобных и лучших? Всё
недеятельные, пассивные люди. Это совсем, совсем неверно»78. Словом, идеи
Григорьева не вызвали в душе Толстого родственного отклика.
Что же касается отрицания Толстым «смирного» и «хищного» типов, тут,
возможно, повлиял уже и постепенный отход писателя от «почвенных» идей,
которыми пропитан его гениальный роман. Во всяком случае, это показывает,
что создатель романа дошел до тех глубоких и тонких отражений реальной
жизни, которые придают его образам правдоподобный характер, не
столько умом, сколько интуицией, чувством. Страхов же чутко уловил и высветил
соответствие героев произведений Толстого типам русской народной жизни,
указанным Григорьевым, прежде всего потому, что сам придерживался
подобных мыслей. Не раз позже он высказывался о своем предпочтении «смирного»
или «доброго» типа «хищному». А в 1895 г., после онкологической операции,
он в письме к В. Микулич сказал похвальное слово в адрес «добрых» русских
людей, наличие которых составляло неотъемлемую часть его веры в будущее
русского народа: «Очень отчетливо я различаю вполне добрых людей от типа
деятельного, эгоистичного, который везде играет главную роль. Вполне
добрые— истинно русский тип, воплощение наших нравственных понятий. (...) О,
мы не пропадем, мы свое дело сделаем в мире!»79 Этот итоговый, собственно,
вывод мыслителя еще раз подтверждает верность первоначальной идеи о
типах Григорьева, а также опровергает ранние пессимистические слова самого
Страхова о неверии в человека.
Вторая статья Страхова о романе «Война и мир» стала апофеозом
прославления Страховым не только Пушкина, но и Аполлона Григорьева как
78 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 397.
79 Н. Н. Страхов — В. Микулич. 14 июня 1895 г. // РО ИРЛИ. Ед. хр. 22. Альбом Л. И. Ве-
селитской. Л. 11 об.
319
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
выдающегося русского критика. Рассуждение о смирных и хищных типах,
возведенное в статье Страхова до широкого обобщения, прекрасно объясняло
важнейшие характеры романа — Платона Каратаева, Пьера Безухова и даже
М. И. Кутузова. Надо отметить, что эти патриотические, «славянофильски»
окрашенные образы «Войны и мира» сложились в художественно чуткой к
народной жизни душе Толстого интуитивно, но тем поразительнее верность
отражения художественным гением русских народных типов. И потому приложение
к толкованию романа идей Григорьева было не произвольным и механическим,
а великим критическим прозрением Страхова.
В советское время, когда идеи «революционных демократов» считались
чуть ли не государственной политикой, литературное наследие Григорьева
подавалось читателям в урезанном виде. Но время все-таки расставляет всё на
свои места. Сегодня идеи Григорьева становятся общедоступными и
востребованными, а на ведущих позициях в русской критике находятся не Добролюбов,
Чернышевский, Писарев... и даже не «неистовый Виссарион», а Аполлон
Григорьев, Страхов, Говоруха-Отрок, Розанов.
(лаёа 11
ДРУЗЬЯ «С ЗАМИНКОЙ»
(СТРАХОВ И Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ)
Вы один из людей, наисильнейше
отразившихся в моей жизни...
Ф. М. Достоевский'
...Страхов был почему-то очень со мной со складкой.
Ф. М.Достоевский2
£§§§$ Самое, может быть, интересное в жизни и творчестве Страхова было то,
что он близко сотрудничал с создателем непревзойденных психологических
романов Федором Достоевским, величайшим мистиком и пророком в
отечественной словесности, и в то же время дружил с гениальным творцом
исполненных гармонии эпических художественных полотен Львом Толстым. Благодаря
этому тесному общению с двумя крупнейшими писателями эпохи, негласно
соперничавшими друг с другом, Страхов оказался в самом центре всей русской
литературы XIX в., средоточии ее чаяний, проблем и споров. Вряд ли можно
найти еще более наглядный пример, дабы показать, что вся русская
читательская аудитория, да и не только русская, но и мировая, вольно или невольно,
в силу личных предпочтений, делилась и делится на поклонников Достоевского
и Толстого. И вероятно, трудно выбрать более подходящее объяснение сложных
отношений Страхова с Достоевским, чем то, что Страхов, как писал Б. И. Бурсов,
«изменил Достоевскому с Толстым»3.
Кто только не сравнивал и не противопоставлял Достоевского и Толстого!
Одно из наиболее характерных и в то же время банальных сопоставлений можно
найти у Н. А. Бердяева, который заявлял: «Поразительна противоположность
Достоевского и Л. Н. Толстого. Достоевский был глашатаем совершающейся
1 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 216.
2 Там же. Т. 29, кн. 2. С. 16.
3 Бурсов Б. И. У свежей могилы Достоевского: (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н.
Страховым) // Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1969. Т. 320: Проблемы жанра в истории русской
литературы. С. 254-270.
321
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
революции духа, он весь в огненной динамике духа, весь обращен к грядущему.
И вместе с тем он утверждал себя почвенником, он дорожил связью с
историческими традициями, охранял исторические святыни, признавал историческую
церковь и историческое государство. Толстой никогда не был революционером
духа, он — художник статический — устоявшегося быта, обращенный к
прошлому, а не будущему, в нем нет ничего пророческого. И вместе с тем он бунтует
против всех исторических традиций и исторических святынь, с небывалым
радикализмом отрицает историческую церковь и историческое государство,
не хочет никакой преемственности культуры. Достоевский изобличает
внутреннюю природу русского нигилизма. Толстой сам оказывается нигилистом,
истребителем святынь и ценностей»4.
Но при внешней правоте частностей безапелляционные, как всегда,
утверждения Бердяева сомнительны в главном: он берет Толстого как
«статического художника» в единстве его художественного творчества и мировоззрения
после духовного поворота 1880 г. Между тем поздний «бунтарь» и «радикал»,
псевдорелигиозный проповедник и политический анархист — это уже явно
«другой» Толстой, а не тот великий художник-созидатель, чьи произведения
имеют непреходящую ценность. В поздний период «яснополянский юрод»,
как гневно-пренебрежительно и не без оснований называл Толстого в эти годы
Константин Леонтьев, отказался от подлинного искусства ради
моралистической пропаганды. Однако в годы полнокровного художественного творчества
в мировоззрении Толстого также явно присутствовали элементы
почвенничества, что наглядно показал Страхов в статьях о «Войне и мире». Сам Бердяев
откровенно берет сторону Достоевского, и в его противопоставлении «пророка
духа» и «провидца плоти» вариация всё той же схемы, которую развернул
Мережковский в своей основательно, но несколько догматически выстроенной
книге «Лев Толстой и Достоевский».
Бердяев, возможно, прав, когда утверждает, что почвенность
Достоевского имеет онтологический характер и что она глубже бытовой почвенности
славянофилов: «Достоевский видит русскую почву в самых глубоких пластах
земли, какие обнаруживаются и после землетрясений и провалов. Это — не
бытовая почвенность. Это — онтологическая почвенность, узнание народного
духа в самой глубине бытия»5. Однако поклонник художественного творчества
Толстого точно так же мог бы сказать, что почвенность романов Толстого с их
восходящей к Пушкину и укорененной в русской жизни гармонией «простоты,
добра и правды», которая так восхищала и привлекала Страхова, имеет не только
народный характер, но и онтологическую глубину.
Многие крупные писатели и мыслители брали сторону Достоевского.
Но немало было и других, выражавших противоположное мнение, причем
4 Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. С. 18-19.
5 Там же. С. 178.
322
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
в отношении не только идей, но и художественной прозы Достоевского.
Например, неприязнь И. А. Бунина к антиэстетичной «достоевщине» или резко
отрицательные высказывания К. Н. Леонтьева о художественном творчестве
Достоевского: «...я его „уродливых" романов терпеть не могу; хотя и понимаю
их достоинства»6.
Как бы то ни было, трещина между Достоевским и Страховым прошла,
бесспорно, именно по тому различию человеческих типов и читательских
вкусов, вследствие которого одни люди как читатели предпочитают Достоевского,
а другие — Толстого.
С Достоевским Страхов познакомился и сблизился лет на десять ранее,
чем с Толстым. Их отношения складывались гораздо более сложно, чем с
последним, хотя и там имелись свои подводные камни, прежде всего из-за того,
что по своим почвенническим взглядам Страхов был все-таки, как это кому-то
ни покажется парадоксальным, ближе к Достоевскому, чем к Толстому.
Эпиграфы этой главы свидетельствуют о том, что Достоевский очень
по-разному высказывался о Страхове в разные годы, хотя внешне они слыли если
не друзьями, то близкими приятелями, и в идеях этих двух «почвенников»
действительно было много общего. Однако как минимум единожды каждый из них
так крепко отозвался о другом (в опубликованных позже дневниковых записях
и письмах), что просто дружбой их отношения назвать язык не поворачивается.
В XIX в. для характеристики людей использовались выражения «человек
с заминкой» или «со складкой», что означало наличие недомолвок,
неискренности и лукавства в отношениях, — словом, человек «себе на уме». Например,
Достоевский в 1875 г. сердито писал о своих ближайших друзьях, А. Н. Майкове
и Н. Н. Страхове, что «они оба со складкой»7, когда они не одобрили его
договоренности с их давним идейным противником Н. А. Некрасовым об издании
романа «Подросток» в журнале «Отечественные записки». Так что тесное
сотрудничество Достоевского и Страхова с внешними признаками приятельских
отношений сподручнее назвать дружбой «с заминкой» или «со складкой».
Следует также заметить, что Толстой, получив от Страхова его печально известное
письмо, написал в ответ, что для него Достоевский — «с заминкой»8.
* * *
Если идти по внешней канве событий, то отношения Страхова с
Достоевским до самой кончины великого писателя казались если не дружески-
безмятежными и близкими, то, по крайней мере, тесными. Однако
публикация в 1913 г. злополучного письма Страхова к Толстому о многолетнем друге,
6 Цит. по: Пророки византизма. С. 47, примеч.
7 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 2. С. 16.
8 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Кн. 2. С. 655.
323
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
буквально взорвавшая общественное мнение, заставила более пристально
всмотреться в те «шероховатости» и «заминки» во взаимоотношениях, которые
неизбежно сопровождают каждого человека, особенно если в них вглядываться
через увеличительное стекло. Именно так в последние десятилетия чаще
исследуют творческие связи Страхова и Достоевского, в одностороннем порядке
выискивая в поступках и словах Страхова недоброжелательность и идейные
расхождения, а проявления им дружеских чувств к писателю расценивая как
неискренность. Однако сам Страхов признавался, что такого, чего в жизни не
было, он в своих воспоминаниях о Достоевском не писал. Да и если применить
тот же «придирчивый» метод по отношению к Достоевскому, то будет ясно, что
оба участника этого конфликта — «с заминкой», оба страдают «достоевщиной»
или «двойничеством», как осмелился было предположить в свое время
профессор Б. И. Бурсов9.
Рассмотрев все эти размолвки в подробностях, невольно приходишь
к выводу, что тут нет правых и виноватых — это печальная, даже трагическая
страница в истории русской литературы, и лучше было бы просто не
вспоминать о ней, так как, по сути дела, она, раскрывая противоречивую позицию
Страхова, не добавляет величия и литературному гению Достоевского. Такой
акцент на темных сторонах отношений не позволяет объективно оценить
положительные и ценные с творческой точки зрения стороны многолетнего
общения писателя и критика.
Нередко при оценке письма Страхова главным аргументом выставляют
то, что Достоевский и Страхов — фигуры несоотносимого уровня. «Букашка
рядом со слоном»10, как выразился известный «декадент» и либеральный
публицист Д. Философов. Пусть Философов, как и его последователи в обличении
Страхова, немножко погреется возле славы гения литературы, но как бы ни был
весом его аргумент в пользу одного из столпов мировой литературы, это не
отменяет необходимости объективного, беспристрастного исследования истины,
независимо от авторитетности участников.
Признаться, хотелось бы обойтись без подробного погружения в тему
«темных пятен» во взаимоотношениях двух писателей. Однако до сих пор
появляются новые и новые разоблачительные статьи о «навете» Страхова на
великого писателя. Нам остается с максимальной объективностью и
деликатностью изложить канву отношений Достоевского и Страхова, не утаивая
ни темных сторон, ни тем более проявлений дружеских отношений, чтобы
показать затем, что письмо Страхова не поступок злодея, а лишь
печальный эпизод в истории нашей литературы. Страхов не сказал в этом
частном письме ничего такого, о чем до него не говорили и не писали другие,
9 Бурсов Б. И. Личность Достоевского: Роман-исследование // Звезда. 1969. №12.
С. 85-172; 1970. № 12. С. 85-175.
10 Философов Д. Порочный Достоевский // Рус. слово. 1913. № 234, 11 окт. С. 2.
324
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
»
и почти ничего такого, о чем не писал ранее он сам в своих письмах. Но без
предварительного изложения истории взаимоотношений причины и логика
написания письма, называемого «клеветническим», останутся непонятными.
И, увы, приходится подчеркнуть еще раз, что в этой грустной истории не
может быть победителя.
* * *
Страхов познакомился с Ф. М. Достоевским в конце 1859 г. у А. П.
Милюкова, редактировавшего литературно-философский журнал «Светоч»11.
Страхов знал Милюкова по 2-й гимназии, где тот преподавал литературу «по
Белинскому», и редактор «Светоча» пригласил молодого коллегу-естественника
с задатками мыслителя в свой журнал и литературный кружок. Как отмечал
сам Страхов, почти весь 1860 год они виделись с Достоевским на «вторниках»
у Милюкова, и хотя сам Страхов там больше помалкивал, с уважением
прислушиваясь к разговорам более опытных литераторов, Достоевский обратил на
него внимание из-за его натурфилософских статей, печатавшихся в «Светоче».
Братья Достоевские уже готовились к открытию с нового, 1861 г. литературного
журнала «Время» и заранее пригласили Страхова участвовать в нем.
Страхов писал брату Петру 9 октября 1860 г.: «Знакомства мои всё
больше и больше расширяются, меня очень хвалят и наперерыв просят писать.
Г(оспо)да литераторы народ прекрасный и отличаются поразительной добротою.
Полонский, Майков, Достоевский, Милюков, Григорьев и пр. — все это такие
чистые души, каких я почти не встречал до сих пор (...) Затеваются еще новые
журналы — „Время"...»12
Хотя на Страхова в это время уже обратили внимание Ап. Григорьев
и М. Н. Катков13, сам он отмечал в воспоминаниях, что именно Достоевский
«постоянно ободрял и поддерживал»14 его и усерднее, чем кто-либо, отстаивал
достоинства его писаний.
Страхов предлагал собственную периодизацию творчества Достоевского:
по его мнению, творческая деятельность писателя распадается на два больших
периода. Первый из них, от «Бедных людей» до «Преступления и наказания»,
носит на себе сильное влияние Гоголя. А второй, более самостоятельный
период — от «Преступления и наказания» до конца жизни — был, как считал
Страхов, посвящен нарождающимся общественным явлениям, и прежде всего
11 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 376-377.
12 ИР НБУ III, 19142. Цит. по: Летопись жизни и творчества Ф. М.Достоевского: в 3 т.
СПб., 1993. Т. 1: 1821-1864. С. 296-297.
13 О взаимоотношениях Страхова и Каткова см. статью: Фатеев В. А. М.Н.Катков
и Н. Н. Страхов: История отношений двух непохожих мыслителей // Русско-Византийский
вестник. 2019. №1 (2). С. 177-203.
14 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 383.
325
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
«главной нашей внутренней болезни, нигилизму»15. Этим определением Страхов
подчеркивает то общее во взглядах, что особенно сближало его с Достоевским.
Полемику с нигилизмом Страхов связывает с зарождением нового
литературного направления — так называемого почвенничества, инициатива создания
которого исходила от Ф. М. Достоевского. Помимо Достоевского и Страхова,
близкие им идеи выражал, несомненно, и Ап. Григорьев, который оказался
в журнале Достоевских «Время» по рекомендации Страхова, когда речь зашла
о критике для журнала. У Григорьева, собственно, Достоевский позаимствовал
и ряд идей, легших в основание философии почвенничества16.
Страхов так характеризует родоначальников этого литературного
направления: «Мы не примыкали ни к какой партии, имеющей практическое
дело, практические интересы; мы ясно видели, что нам нужно оставаться
в сфере общих отвлеченных вопросов, и так как мы были горячие патриоты
и русофилы, то перед нами было множество дела и в литературной критике,
и в понимании русской истории и русского быта, и во всевозможных
суждениях о Западе и его умственных и политических явлениях, имеющих у нас
такое могущественное влияние»17.
Кружок литераторов, к которому ранее принадлежал Страхов,
отличался по преобладающим настроениям от кружка, собиравшегося у Милюкова.
В нем господствовало поклонение науке, поэзии, музыке, Пушкину, Глинке.
Сам Страхов, профессионально занимаясь в это время зоологией и увлекаясь
философией, больше интересовался немецкой культурой и в немцах видел
вождей просвещения, в то время как в кружке Милюкова преобладало влияние
французской литературы, увлечение идеями Жорж Санд, и Достоевский не был
здесь исключением. В дискуссиях политические и социальные вопросы
превалировали над увлечениями литературой и философией. Достоевский разделял
общественно-политические увлечения кружка и, как отмечал Страхов, был
проникнут этим публицистическим настроем до конца своих дней.
В этом кружке бросалась в глаза также большая свобода нравов, иногда
доходившая до разврата, и Страхов не мог не отметить это в своих
воспоминаниях. Вполне вероятно, что, заявляя в печально знаменитом письме о разврате
Достоевского, Страхов опирался на впечатления от этого раннего периода их
общения.
В 1861 г. братья Достоевские начали выпускать журнал «Время». Его
«почвенническое» направление было подчеркнуто уже в составленном Ф. М.
Достоевским объявлении о подписке на готовящийся к изданию новый журнал.
Главные ориентиры — национальные начала, умственная независимость от
15 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 381.
16 Ряд ценных суждений о почвенничестве высказан в кн.: Лазари А. де. В кругу Федора
Достоевского: Почвенничество. М., 2004.
17 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 433.
326
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
Европы, необходимость соединения с родной почвой: «Мы убедились наконец,
что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что
наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую
из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал»18. Элементы
почвенничества доминируют в этом объявлении, хотя оно явно перекликается
с суждениями ранних славянофилов. Однако редакция для утверждения своей
независимой позиции стремилась противопоставить себя славянофильству, как
и другим течениям.
Страхов считал, что объявление об издании нового журнала заслуживает
«величайшего внимания», потому что оно позволяет проследить как развитие
мировоззрения Достоевского в этот период, так и историю возникновения
почвенничества как направления.
Что касается взглядов Ф. М. Достоевского, который определял
редакционную политику «Времени», то на ранней стадии, при создании «Времени»,
он еще был настроен гораздо более либерально, чем Григорьев или Страхов.
П. Д. Боборыкин, издававший в начале 1860-х гг. журнал «Библиотека для
чтения», передает преобладавшее в обществе впечатление от пострадавшего за
свои убеждения писателя: «...тогдашний Достоевский еще считался чуть не
революционером»19.
Выходец из демократических кругов, недавно вернувшийся из ссылки
Достоевский тогда еще не был вполне знаком со славянофильством, хотя
патриотические настроения сближали всех членов редакции. «.. .Да! я всегда был
истинно русский — говорю вам откровенно...» — писал Достоевский поэту
Майкову еще в 1856 г., после каторги, из Семипалатинска20. Коллеги Достоевского
по «почвенническому» направлению разделяли многие идеи славянофилов, хотя
и не принимали их теоретического догматизма, аристократизма и несколько
пренебрежительного отношения к эстетике. Редакция «Времени» прежде всего
была озабочена продвижением собственной издательской позиции и стремилась
противопоставить себя всем соперничающим литературным направлениям —
от радикальных «Дела» и «Русского слова» до либерального «Современника»
и от славянофильского «Дня» до консервативного «Русского вестника». При
этом братья Достоевские, в отличие от Григорьева и Страхова, были в то
время настроены скорее на компромисс с влиятельными западническими
оппозиционными изданиями типа «Современника». В высказываниях Страхова
и особенно Григорьева звучало глухое недовольство компромиссной политикой
Достоевских, которые стремились прежде всего к обретению журналом
заметного места в литературном процессе и поначалу старались не ссориться
с влиятельными леворадикальными изданиями. Но компромиссный характер
18 Достоевский. ПСС. Т. 18. С. 36.
19 Боборыкин П. Д. За полвека: (Мои воспоминания): в 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 281.
20 Достоевский. ПСС. Т. 28, кн. 1. С. 208.
327
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
политики приводил к двойственности, а для успеха необходимо было ее
преодолеть — в ту или иную сторону.
По мнению Страхова, обличение нигилизма стало некоторого рода
специальностью «Времени». Он утверждает, что Достоевский начал борьбу
с нигилизмом уже в февральском номере своего журнала в статье «—бов
и вопрос об искусстве» («Время», 1861, № 2), но сам же свидетельствует, что
первое время братья Достоевские воздерживались от прямой критики
оппозиционного журнала «Современник». При этом Страхов с благодарностью
отмечает, что если редакторы других изданий ранее из боязни отказывались
печатать его статьи, содержавшие критику нелепостей набиравшего силу
оппозиционного направления, то Достоевский поддержал его. Сначала он
поместил в апрельском номере «Времени» смелую статью Страхова
«Нечто о петербургской литературе», в которой осуждался коммерческий дух
петербургской журналистики со скептицизмом «брамбеусовщины» и
зубоскальством «Свистка» и других ему подобных изданий. Пошлости столичных
изданий противопоставлялся созидательный настрой московских журналов,
прежде всего «Русского вестника» и «Русской беседы». А затем, в июне,
Достоевский опубликовал другую, даже более резкую статью Страхова, «Еще
о петербургской литературе». В ней Страхов осмелился выступить против
нигилистических тенденций в выступлениях двух корифеев оппозиции —
отрицания литературы в статьях Писарева и отрицания истории в сочинениях
Чернышевского. С тех пор Страхов нашел свой жанр и начал часто писать
«в том же роде» «под забралом» (то есть под псевдонимами, главный из
которых — Косица). После второй статьи разрыв «Времени» с радикальным
«Современником» стал неизбежным, как и вражда против почвеннического
журнала почти всей петербургской журналистики.
Одной из первых заметных работ Страхова как критика была его статья
о романе «Отцы и дети», вызвавшем оживленные споры в обществе и среди
литераторов. Разошлись во мнениях даже оппозиционные критики. Если Д. И.
Писарев увидел в Базарове апофеоз нового поколения «передовых людей», то
М. А. Антонович осудил Тургенева за этот образ «нигилиста», посчитав его
«жалкой карикатурой» на «новых людей». Страхов же вполне разумно
«развел» позиции самого автора и взгляды его героя-нигилиста. Эта умеренная
по тональности и эстетически тонкая статья Страхова настолько понравилась
Тургеневу, что по приезде писателя в Петербург ее автор вместе с братьями
Достоевскими удостоился приглашения к Тургеневу на обед в гостиницу Клея
(ныне «Европейская»). Правда, нельзя не отметить, что позиция Страхова
подверглась критике прежде симпатизировавшего ему М. Н. Каткова, который,
разделавшись с «протестующим критиком», то есть Антоновичем, утверждал
в статье «Роман Тургенева и его критики», что в «хорошо написанной» статье
журнала «Время» (статья была напечатана без подписи) присутствует некоторая
328
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
—■$>
неопределенность в оценке того «духа реализма» и «умственного аскетизма»21,
который он находит в образе Базарова.
* * *
На ранней стадии журнал «Время» еще занимал позицию, довольно
близкую к «демократическим» изданиям, и этот период в его деятельности ярко
иллюстрирует история, которая произошла в литературном мире Петербурга
в 1861 г.
В марте «Время» приняло участие в широко развернувшейся
полемике, связанной с еженедельником «Век». 22 февраля поэт, переводчик и
публицист П. Вейнберг опубликовал в еженедельнике «Век» под псевдонимом
Камень-Виногоров фельетон «Русские диковинки» о чтении на музыкально-
литературном вечере 27 ноября 1860 г. в далекой Перми со сцены повести
Пушкина «Египетские ночи» некой госпожой Е. Э. Толмачевой. На язвительный
фельетон Вейнберга вдохновил анонимный пермский корреспондент М. Т.
(М. П. Тиммерман), в красках живописавший 14 февраля в № 36
«Санкт-Петербургских ведомостей» выступление Толмачевой. В фельетоне Камня-Виногорова
Толмачева высмеивалась как современная Клеопатра, жрица сладострастия,
потешающаяся над своими поклонниками, и доказывалась безнравственность
публичного чтения «Египетских ночей». Сразу же после выхода еженедельника
с фельетоном «Век» буквально засыпали негодующими протестами, начиная
с опубликованного в «Санкт-Петербургских ведомостях» письма известного,
печатавшегося в «Современнике» поэта-демократа М. Л. Михайлова, за
которым последовало еще несколько гневных и издевательских писем. Завязалась
дискуссия по поводу женской эмансипации.
В полемике о праве женщин на свободу, как ни удивительно, принял
активное участие и журнал «Время», поместив в мартовском номере сразу три
анонимных статьи на эту тему. Автором одной из них был Страхов («Один
поступок и несколько мнений Камня-Виногорова в № 8 газеты „Век"»), а две
принадлежали перу Достоевского («Образцы чистосердечия», «„Свисток"
и „Русский вестник"»). Возможно, такая активность преимущественно
литературного журнала была вызвана тем, что в полемике затрагивалось имя Пушкина.
Страхов отверг выдвинутые Виногоровым обвинения и указал на ложность его
нравственной позиции. Достоевский не удовлетворился тем извинением, которое
принес «Век» г-же Толмачевой и в более резкой форме осудил еженедельник
за ответ г-ну Михайлову. Достоевский заявлял: «Читать такое художественное
произведение, как „Египетские ночи" Пушкина, вслух, в обществе, разумеется,
нисколько не стыдно (...) я стою за права женщины всей душой моей»22.
21 [Катков М. Н.] Роман Тургенева и его критики // Рус. вестник. 1862. Май. С. 416-417.
22 Достоевский. ПСС. Т. 19. С. 102.
329
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$>
Третья не подписанная большая статья в том же мартовском номере
«Времени» на близкую тему — «„Свисток" и „Русский вестник"» — была написана
Достоевским, видимо, в последний момент, после получения свежего номера
«Русского вестника» со статьей редактора, в которой обсуждалась та же тема
«Египетских ночей» и резко осуждалось сатирическое приложение к
«Современнику» под названием «Свисток». Полемика о женском вопросе приобретала
здесь более серьезное, звучание и превращалась в спор с влиятельным
консервативным органом не только о женском вопросе, но и о творчестве Пушкина.
Упрекнув «Русский вестник» в излишней раздражительности за резкую критику
демократического «Свистка», Достоевский переходит к обсуждению темы
Пушкина, задаваясь риторическим вопросом: «Неужели же „Русский вестник"
не видит в таланте Пушкина могущественного олицетворения русского духа
и русского смысла?» Далее следует блестящая и развернутая импровизация на
тему значения Пушкина для русской национальной поэзии. Мотивы, звучащие
в этой статье, будут окончательно развиты Достоевским в его знаменитой речи
на открытии памятника Пушкину в 1881 г. Правда, здесь Достоевский сочетает
мысли о Пушкине с защитой... оппозиционного «Свистка».
В пятом номере намечалось поместить вторую статью Страхова
«Безобразный поступок „Века"», а также его реплику по поводу извинений редакции
«Века», которая заканчивалась миролюбиво. Однако обе эти заметки в журнал
не попали—Достоевский в последний момент заменил их своей статьей «Ответ
„Русскому вестнику"», так как центр спора уже сместился к более
содержательной полемике с Катковым, который опубликовал в мартовском номере своего
журнала статью «Наш язык и что такое свистуны». Катков выступил с самых
консервативных позиций в поддержку «Века», против «эманципаторов» —
защитников Толмачевой, против «Свистка» и вообще всей журнальной оппозиции,
поддерживающей борьбу за права женщин. Показательно, что в поддержку
статьи Достоевского, помещенной в майском номере «Времени», косвенно
высказался даже Н. Г. Чернышевский, который в статье «Полемические красоты»
так опровергал точку зрения Каткова: «Стремление женщины к эмансипации он
смешивает с желанием развратничать. Это нехорошо. Это — обскурантизм»23.
Полемика с «Веком» показывает, что в тот период Достоевский считал,
что «женщина может и имеет право требовать к себе уважения и некоторого, по
крайней мере нравственного, равенства с мужчинами»24, а также был не
против мирно сосуществовать с оппозиционными журналами, но притом активно
полемизировать с консервативным «Русским вестником».
Однако этот спор интересен еще и тем, что Катков вызвал Достоевского
на новый виток рассуждений о «Египетских ночах», назвав это произведение
«фрагментом», притом недостаточно целомудренным — в отличие от Венеры
23 Чернышевский Н. Г. Поли. собр. соч.: в 15 т. М., 1950. Т. 7. С. 721.
24 Достоевский. ПСС. Т. 19. С. 127.
330
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
и других античных образов, не доходивших «до последних выражений
страстности». Достоевский, отрицая фрагментарность повести, доказывает, что
действительность преобразилась, «пройдя через огонь чистого, целомудренного
вдохновения». Отрицая «маркиз-десадовское и клубничное» восприятие
гениального произведения, писатель дает свое развернутое толкование пушкинской
импровизации. Неожиданно у него вырывается целый пассаж очень смелых
высказываний о страсти и сладострастии Клеопатры:
«Разврат ожесточает душу (...) Царице захотелось удивить всех этих
гостей своим вызовом; ей хотелось насладиться своим презрением к ним,
когда она бросит им этот вызов в глаза и увидит их трепет и почувствует
в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела
и ее душою вполне. Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее нервам.
О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов! Сколько
неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! сколько
демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать
рабой этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами лобзаний, неги,
бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва,
этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую
дерзость своего мгновенного господства над нею. Гиена уже лизнула крови;
ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте
наслаждения. Бешеная жестокость уже давно исказила эту божественную душу
и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного;
в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада:
это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей
с ним сходки. Всё это похоже на отвратительный сон. Но все это упоительно,
безмерно развратно и... страшно!.. И вот демонский восторг наполняет душу
царицы, и она гордо бросает свой вызов...»25
Так посреди ранней полемической литературной статьи Достоевского
неожиданно появляется «знойное» описание, при чтении которого у
осведомленных читателей вполне могут возникнуть ассоциации, связанные со
злополучным страховским письмом.
Данная полемика интересна не только эротической фантазией
Достоевского, но и закулисной стороной жизни персонажей, связанных с пропагандой
женской эмансипации. Почему-то пишущие об этой полемике забывают
упомянуть вопиющие факты, связанные с личностью г-жи Толмачевой.
Комментаторы Полного собрания сочинений Достоевского выяснили, что Толмачеву
зовут Евгения Эдуардовна и что она была женой председателя Казенной палаты
в Перми, «статской советницей»26. Они только не узнали или, скорее,
постеснялись написать, что госпожа «статская советница», «женскую честь» которой
25 Там же. С. 136.
26 Там же. С. 292.
331
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
оскорбил П. Вейнберг, на самом деле к моменту своего выступления бросила
мужа и занималась революционной пропагандой. Она, по-видимому,
сожительствовала с М. П. Тиммерманом, который за подписью М. Т. написал о ней
самую первую статью в «Санкт-Петербургских ведомостях». Вся изнанка этой
забавной истории, в которой и Достоевский, и Страхов, надо прямо признать,
допустили промах, подробно расписана в одном из относительно недавних томов
«Литературного наследства»27. Как выясняется, Евгения Эдуардовна
Толмачева (урожд. Эверсман) уже тогда была во всех отношениях эмансипированной
женщиной и к тому же занималась распространением подпольной литературы.
Осенью того самого 1861 г., когда состоялось ее выступление с «Египетскими
ночами», она нанесла вместе с двумя единомышленниками, одним из которых
был всё тот же М. П. Тиммерман, визит Герцену в Лондоне, где они провели
с семьей Герцена «три счастливых дня».
В литературе о Достоевском как в советское время (что понятно), так
и в последующий период (что довольно странно) наблюдается единодушное
одобрение позиции Достоевского как по его весьма либеральному отношению
к женскому вопросу и фактической поддержке суфражисток, так и по
толкованию исполнения пресловутой Толмачевой «Египетских ночей». Однако
консервативная позиция М. Н. Каткова, на которого напали все оппозиционные
силы, представляется, на наш взгляд, теперь, с учетом имеющихся сведений
о Е. Э. Толмачевой, более соответствующей христианскому, да и просто
нравственному взгляду.
Итак, взгляды Достоевского в этот период были еще очень далеки от
консервативных, и в редакции явно имелись серьезные идейные
противоречия. Не случайно Григорьев, внезапно уехавший в Оренбург, писал Страхову
о сложившейся в журнале ситуации 12 декабря 1861 г.: «„Времени", чтобы
быть самостоятельным, нужно или 1) окончательно изгнать меня и тебя и
постараться переманить Чернышевского, или 2) быть последовательным в своей
вере в поэзию и жизнь, в идею народности вообще (в противоположность
абстрактному человечеству), — воспользоваться ошибками славянофильства, как
всякой теории, и встать на его место»28.
Хотя атмосфера в журнале «Время» была вполне дружеской и
творческой, нельзя не отметить, что взаимоотношения Достоевского с Григорьевым
складывались менее тепло, чем у них обоих со Страховым. О редких контактах
Достоевского с Григорьевым (задержавшимся в Оренбурге на целый год) мы
узнаём, кстати, преимущественно со слов Страхова, и немалую роль, помимо
хаотичного образа жизни Григорьева, тут играло явное несовпадение его
идейных позиций со взглядами ведущих лиц редакции, особенно в первое время.
27 Подробнее о Е. Э. Толмачевой (Эверсман) см.: У Герцена и Огарева / сообщ. И. В.
Пороха // ЯН. М., 1997. Т. 99: Герцен и Огарев в кругу родных и друзей. Кн. 2. С. 752-758.
28 Григорьев. Письма. С. 266.
332
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
—»
В своих воспоминаниях о Достоевском и о Григорьеве Страхов в свойственной
ему манере несколько смягчил разногласия, существовавшие во «Времени».
И тем не менее критик не обошел их стороной, так как недовольство
«заигрыванием» редакции с либералами открыто звучало в письмах к нему Григорьева.
Стремясь к компромиссу с западниками, Достоевский одновременно начал
полемику с Катковым. Катков, которому не хотелось ссориться со «Временем»,
был вынужден принять участие в литературных спорах.
* * *
Не менее резко, чем «Русский вестник» Каткова, критиковал Достоевский
и славянофильский «День». При этом разногласия «Времени» с «Днем» И. С.
Аксакова и «Русским вестником» Каткова не носили глубокого характера. Взгляды
Достоевского, который раньше не знал славянофильства, под воздействием
Григорьева и Страхова быстро менялись. А через несколько лет Достоевский
был уже гораздо более консервативен, чем Страхов, сам подвергался
ожесточенным нападкам оппозиционных изданий и даже начал печататься у Каткова
в «Русском вестнике».
Страхов отмечал в своих воспоминаниях о Достоевском, что они пришли
в журнал «Время» с совершенно разной подготовкой, и это сказывалось на
политике издания. Но по мере выработки общей почвеннической платформы
укреплялось и внутреннее единство его главных сотрудников, сплочению
которых способствовала сама неприязненная по отношению к ним атмосфера
петербургской периодической печати.
Нельзя забывать, что «Время» выходило в Петербурге, где в
журналистике царил особый, западнический дух, а «Русский вестник», при всех остатках
западничества во взглядах Каткова, выходил в Москве. Страхов заклеймил
пошлую столичную духовную атмосферу в статьях «Нечто о петербургской
литературе» и «Еще о петербургской литературе». Критик отмечал позже, что
и Достоевские, и Григорьев были москвичами по рождению, а сам он приехал
в Петербург в 16 лет, и дух петербургской литературы, отдававшей нигилизмом
и вульгарностью «брамбеусовщины», был им совершенно чужд. В то же время,
живя и работая в Петербурге, они невольно привносили некоторые местные
черты в свои литературные традиции.
Тем не менее с первых номеров «Времени» Достоевский обострил
отношения журнала с «Русским вестником», вступив с ним в открытую полемику (статьи
«„Свисток" и „Русский вестник"», «Ответ „Русскому вестнику"», «Литературная
истерика» и др.). А Страхов полагал, что нужно сосредоточиться на полемике
с радикальной оппозицией, — недаром он сообщал Каткову в дошедшем до нас
черновике письма, относящегося к 1861 г., что не поддерживал противостояния
с его журналом: «Считаю нужным объясниться с вами по поводу „Времени".
333
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Я всегда ратовал против полемических выходок против вас. Но — не было
никакой возможности что-нибудь сделать»29.
Два года спустя в письме к И. С. Аксакову, упрекавшему «Время» в
чрезмерной критике славянофильства, Страхов писал даже в свое оправдание, что
не был в журнале распорядителем и «составлял некоторую оппозицию главной
редакции»30.
В воспоминаниях о Достоевском Страхов упоминает о тех компромиссных
редакционных поправках, которые Достоевский вносил, смягчая критику, в его
острые полемические статьи.
Это показывает, что при всей дружеской атмосфере, царившей во
«Времени», Страхов был в то время настроен более консервативно, чем Достоевский,
пусть и стремительно расстававшийся с остатками либеральных настроений. Так
что Страхов мог бы вполне продолжить сотрудничество с «Русским вестником»
Каткова, если бы наладились отношения с его своевластным редактором.
Недаром летом 1862 г. Достоевский писал из Парижа Страхову, который отправился
в Москву: «Вы пишете, дорогой Николай Николаевич, что хотите съездить
предварительно в Москву. Чтоб не опутали Вас там сенаторы журналистики! Чего
доброго, Катков соблазнит Вас какой-нибудь разлинованной по безбрежному
отвлеченному полю доктриной.. .»31 Достоевский придал своим словам
шутливую форму, но опасения потерять ценного сотрудника, видимо, у него имелись.
Надо отметить, что Григорьев был настроен примерно так же, как
Страхов, если не более антилиберально. Он не одобрял попыток Достоевских занять
компромиссную позицию по отношению к «Современнику» и в то же время
вступать в полемику с Катковым и критиковать славянофильские издания (имея
в виду статьи «Последние литературные явления. Газета „День"» и «Два лагеря
теоретиков»). Позиция Григорьева, в частности его не подкрепленные
аргументами неумеренные похвалы славянофилам, как отмечает Страхов, доставляли
издателям журнала определенное неудобство.
Достоевский действительно обострил отношения с Катковым своей
полемикой. Но надо признать, что существенную часть этой полемики
составляла критика Достоевским англофильства Каткова и его журнала. К тому же
либерально-западнические увлечения редактора «Русского вестника» в этот
период заметно шли на убыль, и для Каткова, все более придерживавшегося
государственнической монархической позиции, умеренно-консервативный
журнал «Время» был, естественно, более близким, чем оппозиционные
издания. Однако полемика с «Русским вестником», к которой тогда был
расположен Достоевский, вынужденно настраивала и Каткова на полемический
лад. К тому же, став в 1863 г. и издателем «Московских ведомостей», Катков
29 РО ИРЛИ. Ф. 287. Ед. хр. 49. Л. 3.
30 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 20.
31 Достоевский. ПСС. Т. 28, кн. 2. С. 26.
334
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
окончательно вступил на имперский охранительный путь, поведя
беспощадную войну против польского восстания и поддерживавших его политических
смутьянов внутри России.
Тем временем сам Достоевский, вышедший из
либерально-демократического лагеря, заметно менялся. Почвенничество формировалось в значительной
мере как направление, уравновешивающее крайности славянофильства и
западничества, но по своей приверженности народным началам почвенники были
несравненно ближе к ранним славянофилам и в своей программе использовали
многие их тезисы. Достоевский по-настоящему открыл для себя
славянофильство уже после «Времени». 8 (20) сентября 1863 г. он писал брату из Турина:
«Страхову кланяйся особенно (...) скажи Страхову, что я с прилежанием
славянофилов читаю и кое-что вычитал новое»32. А в журнале «Время» он еще
активно и довольно резко полемизировал со славянофильским «Днем» как
с одним из «конкурентов», показывая, будто западничество и славянофильство
относятся к прошлому, а настоящее принадлежит их журналу.
По этой причине и редактор славянофильского «Дня» И. С. Аксаков, точно
так же как Катков, не считал «Время» своим союзником. Его отталкивало то,
что в целях самоутверждения «Время» отрицало всякую свою зависимость от
ранних славянофилов. Таким образом, «Время» незаметно для себя оказалось
в своего рода литературной изоляции. Сама же редакция считала, что
самостоятельная патриотическая программа «Времени» заявлена ясно и не вызывает
сомнений, хотя многим в обществе она казалась туманной и невнятной.
Как бы то ни было, существовавшие в редакции разногласия сглаживались
общими патриотическими устремлениями и едиными литературными целями
по продвижению журнала. В этот период отношения Страхова и Достоевского
отличались особой близостью. О своем сближении с Достоевским и их дружбе
в начале 1860-х гг. Страхов писал: «...мы особенно подружились и виделись
каждый день и даже не раз в день»33.
Страхов вспоминает частые и продолжительные встречи с Достоевским:
«Часа в три пополудни мы сходились обыкновенно в редакции с Федором
Михайловичем, он после своего утреннего чаю, а я после своей утренней работы.
Тут мы пересматривали газеты, журналы, узнавали всякие новости и часто
потом шли вместе гулять до обеда. Вечером в седьмом часу он опять иногда
заходил ко мне, к моему чаю, к которому всегда собиралось несколько человек,
в промежуток до наступающего вечера. Вообще он чаще бывал у меня, чем
я у него, так как я был человек холостой и меня можно было навещать, не боясь
никого обеспокоить. Если у меня была готовая статья или даже часть статьи, он
обыкновенно настаивал, чтобы я прочел ее. До сих пор слышу его нетерпеливый
и ласковый голос, раздававшийся среди шумных разговоров: ,Нитайте, Николай
32 Там же. С. 46.
33 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 421.
335
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
Николаевич, читайте!" Тогда я, впрочем, не вполне понимал, как много лестного
было для меня в этом нетерпении. Он никогда мне не противоречил; я помню
всего только один спор, который возник из-за моей статьи. Но он и никогда не
хвалил меня, никогда не выражал особенного одобрения»34.
Страхов отмечает, что, хотя их беседы носили скорее умственный
характер, отношения были вполне дружескими. Правда, тут же Страхов делает
многозначительную оговорку о наличии предела в их сближении: «Близость между
людьми вообще зависит от их натуры и при самых благоприятных условиях не
переходит известной меры. Каждый из нас как будто проводит вокруг себя черту,
за которую никого не допускает, или—лучше — не может никого допустить»35.
В посмертной речи о Достоевском Страхов также вспоминал об этих
драгоценных беседах начала 1860-х: «В начале этих годов, когда мы жили
в нескольких шагах друг от друга и занимались исключительно журнальною
работой, мы видались каждый день и даже не раз в день; мы разговаривали без
конца и так сговорились, что и до последнего времени ни с кем другим я не
мог вести таких живых и разнообразных разговоров, какие у нас неудержимо
начинались при каждой встрече»36.
Большинство современных историков литературы под воздействием
огромного литературного авторитета Достоевского впадают в одну из крайностей:
либо говорят о его безоговорочном влиянии на Страхова, либо подчеркивают
коренное различие их взглядов. При этом многие тенденциозно показывают
писателя чуть ли не сторонником «революционных демократов», то есть
леворадикальной литературно-политической группировки. Страхова же с советских
времен принято представлять отпетым «реакционером», чуждым по взглядам
Достоевскому, хотя прямое влияние упомянутых разговоров с философски более
образованным собеседником на писателя было несомненным. Различие в
оттенках их взглядов действительно существовало, но оно быстро преодолевалось как
раз в тех «русских разговорах», которым Достоевский со Страховым увлеченно
предавались в первую пору их знакомства и сотрудничества. Несмотря на то
что Достоевский был на семь лет старше Страхова и вместе с братом определял
издательскую политику журнала, их разговоры шли на равных. Страхов еще
не имел большого опыта литературной работы, однако он был несравненно
более образованным и начитанным, особенно в сфере естественных наук и
философии. НоФ. М.Достоевский стремительно преодолевал недостатки своего
образования, и взгляды его в этот период существенно менялись.
Не будет большим преувеличением сказать, что и Григорьев, и Страхов
оказывали тогда сильное влияние на писателя. Аполлон Григорьев был,
конечно, и опытнее, и авторитетнее Страхова, который признает позже себя его
34 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 422-423.
35 Там же. С. 423.
36 Там же С. 15.
336
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
учеником, но отношения Григорьева с Достоевским не были столь близкими,
да и к тому же уже в июле 1861 г. главный критик «Времени» неожиданно для
редакции надолго покинул Петербург. Влияние Ап. Григорьева на
Достоевского было неоспоримым, но оно шло прежде всего через его сочинения, а также
через Страхова, который впитал многие идеи критика. Страхов упоминает, что
знакомил с письмами Григорьева к себе братьев Достоевских.
Гроссман отмечает, что Аполлон Григорьев, скончавшийся в 1864 г., был
относительно недолго связан с Достоевским. Несравненно длительнее и прочнее,
по его мнению, были отношения редактора «Эпохи» с ее главным сотрудником
Страховым: «.. .в деле окончательной формации своих философских воззрений
Достоевский многим обязан Страхову. Это был один из главных путеводителей
романиста по лабиринту современных эстетических проблем; он несомненно
сообщил Достоевскому основные формулы для его философии творчества.
Достоевский — критик и теоретик искусства в последнее двадцатилетие
своей жизни, является безусловным учеником Аполлона Григорьева и Страхова.
Зреющее в нем эстетическое миросозерцание осознается до окончательной
формулировки, благодаря воздействию этих философских умов. После
сближения с ними теоретическая мысль Достоевского выступает как вполне зрелая,
убежденная и воинствующая сила. До этого момента—в 40-е и 50-е годы — она
еще вся в исканиях, нащупываниях и колебаниях»37.
Близкого мнения о существенном влиянии на Достоевского Григорьева
и Страхова придерживался и другой видный историк литературы А. С. Долинин,
который в статье, сопровождавшей публикацию писем Страхова к Достоевскому
в 1940 г., писал о влиянии на Достоевского: «.. .в первую очередь должен быть
поставлен вопрос о Страхове, хотя бы потому, что в самом начале шестидесятых
годов, когда „процесс перерождения убеждений" Достоевского только что стал
намечаться, около него, как мы знаем, находился только Страхов»38. О том же,
собственно, говорит и знаменитая фраза Достоевского, дошедшая до нас со
слов самого Страхова: «Да мои взгляды на 50 процентов — ваши взгляды»39.
Некоторые скептики не склонны доверять Страхову, но исходя из того, что
известно о его нравственной щепетильности, солгать, да еще в вопросе о похвале
себе, он просто не мог.
Летом 1862 г. Страхов и Достоевский встретились в Европе. Скучавший
в одиночестве на Западе Достоевский искал этой встречи не менее Страхова,
37 Гроссман Л. Путь Достоевского. Л., 1924. С. 183.
38 Долинин А. С. Достоевский и другие: Статьи и исследования о русской классической
литературе. Л., 1989. С. 270.
39 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 437.
337
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
который шутливо «угрожал» писателю: «...буду гоняться за вами, а догнавши
уж не отстану, не отделаетесь»40. И даже М. М. Достоевский надеялся на эту
встречу («Как бы я желал, чтобы вы встретились с братом!»)41, рассчитывая,
по-видимому, что Страхов окажет на Федора Михайловича благотворное влияние.
Время, проведенное в Италии Достоевским и Страховым вместе,
запомнилось им обоим. Самые отрадные впечатления о совместном пребывании во
Флоренции остались у Достоевского, который через год вспоминал их,
остановившись в том же отеле.
Страхов также сохранил очень теплые воспоминания о встрече с
писателем во Флоренции и особенно о тех самых разговорах, которые они там вели.
Он писал в воспоминаниях об этих беседах: «Но всего приятнее были вечерние
разговоры на сон грядущий за стаканом красного местного вина»42. Вспоминал
он эти дружеские беседы и в письме к Достоевскому: «Когда увидимся, Федор
Михайлович, может быть, воротятся хоть в малой доле те бесконечные
разговоры, которые когда-то мы водили с Вами»43.
У Достоевского эти беседы также остались в памяти, и даже в 1868 г.,
снова оказавшись во Флоренции, он мысленно возвращался к былым встречам:
«А помните, как мы с Вами сиживали по вечерам, за бутылками, во Флоренции
(причем Вы были каждый раз запасливее меня: Вы приготовляли себе 2 бутылки
на вечер, а я только одну, и, выпив свою, добирался до вашей, чем, конечно, не
хвалюсь)? Но все-таки те 5 дней во Флоренции мы провели недурно»44.
Вот здесь, думается, будет как раз к месту вспомнить о мировоззренчески
важном споре Достоевского со Страховым в 1862 г. во Флоренции о том, «сколько
будет дважды два», в котором и выявилось существенное до противоположности
расхождение в мыслях рационалистичного «ненавистника нелепостей» Страхова
и горячей, увлекающейся натуры иррационалиста Достоевского.
Уже в советское время в киевском архиве Н. Н. Страхова были
обнаружены его неоконченные рукописные заметки под названием «Наблюдения»,
обращенные к Ф. М. Достоевскому и содержащие размышления критика об
этом своем споре с писателем во Флоренции45.
Эта черновая записка-размышление лишь выявляет коренное различие
натур, характеров двух спорщиков, но не более того. Это был все-таки дружеский,
пусть и горячий, обмен мнениями, захвативший обоих спорщиков касанием,
40 Достоевский в неизданной переписке современников: (1837-1881) II ЛН. М., 1973.
Т. 86: Ф. М.Достоевский: Новые материалы и исследования. С. 384.
41 Там же.
42 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 444.
43 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 273.
44 Достоевский. ПСС Т. 28, кн. 2. С. 333.
45 Достоевский в неизданной переписке современников. С. 560-563 (Страхов Н.Н.
Наблюдения: (Посв(ящается) Ф. М. Д(остоевско)му)); Захаров В. Н. Сколько будет дважды два, или
Неочевидность очевидного в поэтике Достоевского // Вопросы философии. 2011. № 4. С. 109—
114.
338
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
—■$■
по всей видимости, глубин и первооснов бытия. Не следует придавать этому
черновому документу определяющего значения как своего рода обоснования
их последующего расхождения. И если темпераментный Достоевский
высказывается столь резко против рационализма Страхова («.. .вы объявили мне с
величайшим жаром, что есть в направлении моих мыслей недостаток, который
вы ненавидите, презираете и будете преследовать всю свою жизнь»)™, то это
говорит о горячности и категоричности Достоевского в споре, но ни в коей
мере не о взаимной враждебности. Не следует забывать, что в своих
воспоминаниях Страхов пишет об их отношениях в этот ранний период совсем другое:
«...в первые годы это было чувство, переходящее в нежность»47.
Этому документу из киевского архива Страхова в 1971 г. впервые
уделила пристальное внимание исследователь из Института мировой литературы
Л. М. Розенблюм в своей обширной статье «Творческие дневники
Достоевского»48, посвященной записным тетрадям писателя и в немалой степени «дружбе-
вражде» Достоевского с его соратником по журнальной деятельности и
будущим биографом Н. Н. Страховым. Она выделила (отмеченный выше курсивом)
отрывок из этого документа и категорично заявила: «Подчеркнутые нами слова
перекликаются с тою характеристикой Страхова, которую даст Достоевский
в записной тетради почти через полтора десятилетия»49.
Нельзя не обратить внимание здесь на то, что, как и во втором случае,
о котором речь пойдет ниже, Достоевский, по сути дела, эмоционально
нападает на Страхова без всякого основания, только за то, что тот воспринимает
вещи иначе. И миролюбиво настроенного Страхова, судя по черновому
эпистолярному документу, это очень обижает. Он готов признать критикуемый
Достоевским педантизм и чрезмерное уважение к логике недостатками своего
характера, но миролюбиво предлагает не расходиться в жизни. По его
справедливому замечанию, дружба может иметь место и между людьми с разными
характерами.
Л. М. Розенблюм придает выраженному Страховым в конце документа
пессимистическому взгляду на человека такое же важное значение, как и
предыдущему отрывку. Это свидетельство пессимизма Страхова дает ей повод
для обоснования резкой критики Достоевским неверия собеседника, которому,
естественно, противопоставляется высокая вера Достоевского в человека.
Но этот фрагмент, вырванный из контекста, отражал лишь сиюминутную
атмосферу конкретного спора. Если вчитаться в него внимательно, то Страхов
выражает лишь неверие в прогресс и порицает гуманистическое самодовольство,
46 Достоевский в неизданной переписке современников. С. 560. См. также:
Розенблюм Л. И. Творческие дневники Достоевского IIЛН. М., 1971. Т. 83: Неизданный Достоевский:
Записные книжки и тетради 1860-1881 гг. С. 17.
47 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 423.
48 Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. С. 9-92.
49 Там же. С. 19.
339
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
отмечая «гнусность» именно современного человечества, но признавая при этом,
что «идеал прекрасного человека, указанный христианством, не умер и не может
умереть в нашей душе»50. Опровергает категоричность одностороннего вывода
о презрении Страхова к человеку, например, его взгляд, выраженный в книге
«Мир как целое», статьи которой написаны примерно в то же время. Мыслитель
поставил человека в центр мира: «Человек есть вершина природы, величайшая
загадка и величайшее чудо бытия»; «человек есть свет, который озаряет собой
мир...»51. Пессимизм Страхова относительный — он подразумевает лишь
несовершенство греховной человеческой натуры и необходимость преодоления
оптимистического самообольщения человека достижениями цивилизации путем
духовной работы над собой. Да и гуманистический оптимизм Достоевского
постепенно всё более сменялся христианским трагизмом, который был не чужд
и Страхову. Критик впоследствии не раз подчеркивал как положительную черту
писателя то, что он возвышает человека в своих сочинениях, стараясь вникнуть
в его положение и найти выход из создавшейся ситуации.
Этому черновому эпистолярному документу (неизвестно, был ли писатель
ознакомлен с ним), при всей его важности для характеристики личностей
Достоевского и Страхова, вряд ли придавалось бы столько значения, когда бы не
скандал, разразившийся после публикации печально известного теперь письма
Страхова к Толстому от 28 ноября 1883 г.
Но Л. М. Розенблюм утверждает, что «спор во Флоренции затронул один
из главнейших вопросов мировоззрения Достоевского и его творчества». Далее
исследователь доходит до абсурдного обобщения, которое можно объяснить
только стесненными идеологическими обстоятельствами советского времени:
«Страхов, спокойно прокламирующий презрение к человеку, был идейным
антагонистом Достоевского в гораздо большей мере, чем революционные
демократы, хотя и выступал в качестве его союзника»52.
Привлекает внимание исследователя и фраза из письма Страхова брату от
25 июня 1864 г.: «С Достоевскими я чем дальше, тем больше расхожусь. Федор
ужасно самолюбив и себялюбив, хотя не замечает этого»53. Л. М. Розенблюм
опять делает далеко идущий вывод: «Это высказывание — не след минутного
раздражения: тонкая, но прочная нить ведет от него к проникнутой ненавистью
характеристике Достоевского, которую Страхов изверг через двадцать лет
в письме к Л. Н. Толстому». Мысль о том, что этот отзыв может быть просто
констатацией раздражительности Достоевского, свидетельств которой имеется
слишком много, исследователю почему-то не приходит в голову.
50 Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. С. 19.
51 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 70, 201. Ср.: «...человек есть отборнейшее
существо природы...» (Там же. С. 309).
52 Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. С. 19.
53 Там же. С. 20.
340
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
Впрочем, отношения Достоевского со Страховым в этот период
действительно стали ухудшаться, а после прекращения «Эпохи» они и вообще на
некоторое время, судя по имеющимся сведениям, прервались. В этом свете
интерес представляет загадочная фраза из письма Достоевского к жене 12 февраля
1875 г., когда он был Страховым очень недоволен из-за его позиции по поводу
сотрудничества с Некрасовым. Достоевский писал: «Нет, Аня, это скверный
семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с
падением „Эпохи", и прибежал только после успеха „Преступления и наказания"»54.
Роман «Преступление и наказание» был напечатан в «Русском вестнике»
в 1866 г. и имел большой успех у читателей. В том же году вышло двухтомное
собрание сочинений Достоевского. Страхов действительно опубликовал в начале
1867 г. в журнале «Отечественные записки» две большие статьи,
посвященные творчеству Достоевского. Во второй из них, помещенной в двух номерах
журнала, был дан подробный и очень положительный отзыв о «Преступлении
и наказании». До этого Страхов, будучи ближайшим сотрудником Достоевского,
о произведениях писателя в печати не высказывался, и это были первые его
отзывы. О творчестве Достоевского Страхов как критик писал не так много, как
можно было ожидать от единомышленника и близкого соработника. Но всё же
из его статей, воспоминаний и писем можно извлечь достаточно высказываний,
чтобы составить представление о восприятии им художественного и
публицистического наследия великого писателя.
Однако остается загадкой, почему Достоевский, после вполне дружеского
общения со Страховым во времена «Зари» и «Гражданина», в обиженном тоне
вспоминает, что «скверный семинарист» «оставлял» его после «Эпохи», а потом
«прибежал» из-за успеха романа «Преступление и наказание». Страхов пишет об
этом периоде между «Эпохой» и публикацией романа так: «В продолжение всего
этого периода времени мы с ним не видались. У нас вышла первая размолвка,
о которой не стану рассказывать»55. Уточнять суть этой временной «размолвки»
Страхов не захотел, но из его намеков о «чертах эгоизма» и «невольном
раздражении», а также пояснения, что «дела не имели при нашей размолвке никакого
существенного значения», можно сделать определенные выводы.
В первой из упомянутых статей, которая ни разу не перепечатывалась,
Страхов осветил творческий путь писателя по случаю издания двухтомного
собрания его сочинений. Начав свой обзор с повести «Бедные люди», Страхов
подчеркнул как главную отличительную черту писателя «способность к очень
широкой симпатии, умение симпатизировать жизни в очень низменных ее
54 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 18-19.
55 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 485.
341
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
проявлениях, проницательность, способную открывать истинно-человеческие
движения в душах искаженных и подавленных, по-видимому, до конца»56.
Критик отметил также, что герой произведения приходит в восторг от
«Станционного смотрителя». Он утверждает: «Этим заявляется, что Пушкин более
правильно относился к русской действительности, чем Гоголь...» Далее
следует еще одно важное обобщение о творчестве Достоевского: «Борьба между
тою искрою Божиею, которая может гореть в каждом человеке, и всякого рода
внутренними недугами, одолевающими людей, — вот постоянная тема его
произведения».
Главное достоинство «Записок из Мертвого дома», как считает Страхов,
при всей чрезвычайной мрачности картин, «заключается в необыкновенно
правильном, необыкновенно чутком отношении к простому народу»57. Страхов
отмечает: «Художник относится к своим лицам совершенно просто, напрягая всю
свою чуткость для прямого, неискаженного понимания их жизни; он успевает
стать с ними наравне, на одну доску, и понять и изобразить их радость и горе
совершенно так, как они их чувствуют. Оттого-то от этих лиц, изображенных со
всею их грубостью, со всеми их пороками, со всеми язвами, их покрывающими,
веет впечатлением силы, огромной духовной мощи, тем впечатлением силы,
которое так неотразимо внушает нам, например, один из героев „Капитанской
дочки" Пушкина»58.
Страхов не умалчивает и о недостатках писателя. «Известно далее, что
и талантливые его произведения страдают иногда большими недостатками:
многословием, частыми повторениями, однообразием языка действующих лиц, даже
отсутствием правды, то есть лицами сочиненными, не имеющими в себе ничего
действительного». По мнению критика, «роман „Униженные и оскорбленные"
есть самое спешное и потому из больших романов самое неудачное
произведение г. Ф. Достоевского». Помимо поспешности, критик считает слабостью
писателя «фантастически-преувеличенное и искаженное изображение жизни»,
а его наибольшую силу видит «в удивительно верном и глубоком изображении
страданий, происходящих от внутреннего разлада человека с самим собою»59.
Героя «Записок из подполья» Страхов определяет как «образчик
нравственного растления». Он пишет: «Автор, успевший заглянуть в душу
подпольного героя, с такою же проницательностью умеет изображать и всевозможные
вариации этих нравственных шатаний, все виды страданий, порождаемых
нравственной неустойчивостью»60.
56 [Страхов Н. H.J Наша изящная словесность: Статья третья: Полное собрание
сочинений Ф. М.Достоевского. Изд. Стелловского. Том I. СПб. 1865. Том II. СПб. 1866. Преступление
и наказание. «Рус. Вестник». 1866 г. // Отеч. зап. 1867. Янв., кн. 2. С. 544-556 (без подписи).
57 Там же. С. 552.
58 Там же. С. 553.
59 Там же. С. 554.
60 Там же. С. 556.
342
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
Ф
«Шаткость нравственного строя» Страхов считает темой романа
«Преступление и наказание» — произведения, в котором, по его мнению,
писательский талант «обнаружился с большею силою, чем обнаруживался когда-нибудь
прежде».
Подробному анализу романа «Преступление и наказание» Страхов
посвятил отдельную статью. Этот обширный разбор, опубликованный в двух
номерах журнала «Отечественные записки» (1867, март, кн. 2; апрель, кн. 1),
перепечатан в современном издании61, и читатель имеет возможность
ознакомиться с ним в подробностях.
Страхов писал в «Воспоминаниях о Ф. М.Достоевском»: «В начале
1867 года я поместил в „Отечественных записках" разбор „Преступления и
наказания", разбор, писанный очень сдержанным и сухим тоном. Эта статья
памятна мне в двух отношениях. Федор Михайлович, прочитавши ее, сказал мне
очень лестное слово: „Вы одни меня поняли". Но редакция была недовольна
и прямо меня упрекнула, что я расхвалил роман по-приятельски. Я же, напротив,
был виноват именно в том, что холодно и вяло говорил о таком поразительном
литературном явлении»62.
Что же «понял» Страхов о замысле Достоевского, чтобы удостоиться
лестной похвалы писателя? Страхов четко формулирует этот замысел в своей
статье и убедительно доказывает: «Вот самая суть преступления. Это убийство
принципа. Не три тысячи рублей тянули Раскольникова (...) Его тянуло убить
принцип, дозволить себе то, что наиболее запрещено. Теоретик не знал, что,
убивая принцип, он вместе с тем покушается на самую жизнь своей души; но,
убивши, он по страшным мукам своим понял, какое преступление он совершил
(...) Глубочайшее извращение нравственного понимания и затем возвращение
души к истинным чувствам и понятиям — вот общая тема, на которую написан
роман Ф. М. Достоевского»63.
В брошюре «Бедность нашей литературы» (1868), составленной из статей,
опубликованных в 1866-1867 гг. в «Отечественных записках», Страхов снова
подчеркивал сострадание, «симпатию к слабым натурам»64 как одну из
главных отличительных черт творчества Достоевского, объясняющих его огромное
примиряющее воздействие на читателей.
Ту же мысль о зовущем к примирению характере творчества писателя,
о его сострадании к падшим и нравственно больным, к «униженным и
оскорбленным» критик развивает в статье «Взгляд на текущую литературу», написанной
уже после кончины Достоевского («Русь», 1883, № 1-2). В этой обзорной статье
Страхов много внимания уделяет анализу публицистики писателя, характеризуя
61 Страхов. Литературная критика. С. 96-123.
62 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 491.
63 Страхов. Литературная критика. С. ПО.
64 Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868. С. 20.
343
Часть П. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$>
его как главного деятеля «петербургского славянофильства», под которым критик
явно подразумевает почвенничество:
«Если мы вспомним прежнюю журнальную деятельность Достоевского,
начинающуюся с 1861 г., с начала „Времени", то можно вообще сказать, что он
был главным деятелем и представителем некоторого петербургского
славянофильства, составившего совершенно особую струю в потоке петербургской
журналистики, струю, расширявшуюся с каждым годом. Его „Дневник", его
речь на Пушкинском празднике, его публичные чтения были рядом истинных
побед над публикою; когда он умер, уважение и любовь к нему вспыхнули ярким
пламенем, которого не забудет никто из видевших»65.
В рецензии на книгу В. В. Розанова «Легенда о Великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского» Страхов рассматривал Достоевского как виднейшего
представителя славянофильства (в широком значении этого понятия), творчество
которого привлекает к себе молодежь: «.. .нет у нас другого писателя, который
бы так всем был доступен, так всеми читался. Между тем, что такое
Достоевский? В той или другой степени, в том или другом виде, это — славянофил, это
очень горячий сторонник славянофильства»66. В подтверждение этих слов можно
вспомнить афористическое высказывание Достоевского в записной тетради за
1875-1876 гг.: «ПУШКИН — этот главный славянофил России»67. Наиболее
полно славянофильские или, точнее, русофильские настроения Достоевского
раскрылись в его «Дневнике писателя».
Страхов придавал «Дневнику писателя» особое значение в
публицистике Достоевского. Успех публицистических выступлений писателя Страхов
связывает с одной особенностью его воззрений, которая помогала ему влиять
даже на мнения нигилистически настроенной молодежи: «Эта черта —
отсутствие злобы в постановке нашей великой распри между западной и русской
идеею. Эта черта поразила всех в Пушкинской речи Достоевского, но она
же характеризует собою и его „Дневник", и его романы. При всей резкости,
с какою он писал, при всей вспыльчивости его слога и мыслей, нельзя было не
чувствовать, что он стремится найти выход и примирение для самых крайних
заблуждений, против которых ратует. „Смирись, гордый человек, потрудись,
праздный человек!"»68
В то же время, как отмечал Страхов в статье «Взгляд на текущую
литературу» (1883), Достоевский «по счастливой непоследовательности» соединял
отражение современных публицистических явлений, дающее значительную
долю успеха, со стремлением «к глубочайшим и вековечным задачам»69.
65 Страхов. Литературная критика. С. 399.
66 Страхов. Борьба с Западом. Кн. З.С. 293.
67 Достоевский. ПСС Т. 24. С. 276.
68 Страхов. Литературная критика. С. 400.
69 Там же. С. 406.
344
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
—■$■
По мнению Страхова, своими художественными произведениями
Достоевский оказывал еще большее воздействие на общество, чем публицистикой:
«Достоевский, однако, не был ни мыслителем, ни публицистом в настоящем
смысле слова; больше всего он был художником, и своим художническим чутьем
он различал правду и заблуждение, добро и зло. Он проповедовал не столько
логически, сколько психологически, и в своих романах он всего полнее
выразил свои стремления и свои взгляды на состояние русских умов и душ. Никто
с такою верностью и глубиною не изображал всякого рода нигилистов, и при
этом он обнаруживал в отношении к одним презрение и негодование, но в
отношении к другим — участие и сострадание. Он понимал то, что совершается
в людях, сбившихся с прямого пути. Главною темою его был —раскаявшийся
нигилист; таковы: Раскольников, Шатов, Карамазов и пр.»70. Тема нигилизма
особенно сближала Достоевского со Страховым, посвятившим осмыслению
отрицательного направления в общественной жизни и борьбе с ним
значительную часть своих статей.
Страхов подчеркивал и то, что Достоевский был горячим приверженцем
и проповедником христианства. В своей поминальной речи в Славянском
благотворительном обществе Страхов говорил о Достоевском-христианине: «Идеал
христианина — вот та господствующая мысль, которую он так смело и горячо
проповедовал в своем „Дневнике", которую прямо выразил в своем последнем
романе и которая особенно ясно установилась в его душе, кажется, во время
его трехлетнего житья за границей (1868-1871 г(оды)). В 1869 году он мне
писал из Флоренции: „Сущность русского призвания состоит в разоблачении
пред миром Русского Христа, миру неведомого и которого начало заключается
в нашем родном православии"»71.
* * *
В пространных воспоминаниях Страхова о Достоевском, написанных для
первого тома собрания сочинений писателя, также содержатся характеристики
многих его произведений. Страхов отметил, что творческой деятельности
Достоевского не свойственна стабильность развития, она «растет и расширяется
какими-то порывами»: «После ровного ее течения, и даже как будто ослабления,
он вдруг обнаруживал новые силы, показывался с новой стороны. Таких
подъемов можно насчитать четыре: первый — „Бедные люди", второй — „Мертвый
дом", третий — „Преступление и наказание", четвертый — „Дневник
писателя". Конечно, всюду это тот же Достоевский, но никак нельзя сказать, что он
70 Там же. С. 400.
71 Страхов Я. Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском (Читано в Петербурге в
торжественном заседании Славянского благотворительного общества 14 февраля (1881 г.» //
Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902. С. 367. Впервые: Русь. 1881. № 16, 28 февр.
345
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
вполне высказался; смерть помешала ему сделать новые подъемы и не дала нам
увидеть, может быть, гораздо более гармонических и ясных произведений»72.
Первую повесть Достоевского, «Бедные люди», принесшую ему огромный
успех, Страхов в своей поминальной речи о писателе рассматривал как
важную «поправку» к Гоголю и начатый Достоевским поворот от обличительной
литературы к новому направлению «сентиментального натурализма». Страхов
придавал важное значение тому факту, что герой повести отдает явное
предпочтение жизнеутверждающему гению Пушкина, выразившемуся в «Станционном
смотрителе», перед сатирическим талантом автора «Шинели». Критик
рассматривает Достоевского как родоначальника послегоголевского «пушкинского»
направления нашей словесности: «Это была смелая и решительная поправка
Гоголя, существенный, глубокий поворот в нашей литературе»73.
Роман «Униженные и оскорбленные», публиковавшийся в журнале
«Время» с самого первого номера в 1861 г., уже в своем названии отражает тему
сострадания, которая роднит его с первой книгой Достоевского «Бедные люди».
По мнению Страхова, роман был отмечен некоторыми недостатками,
связанными с поспешностью, которая была вызвана тем, что Достоевскому хотелось
приурочить публикацию к открытию нового журнала.
Аполлон Григорьев в одном из писем к Страхову, опубликованных в
«Эпохе» в 1864 г., отмечал, явно имея в виду роман «Униженные и оскорбленные»,
что редакция загоняла, «как почтовую лошадь, высокое дарование Ф. М.
Достоевского»74, но сам Достоевский в примечаниях к этой публикации писем
Григорьева снял вину с редакции и перевел упреки на себя.
Как бы то ни было, Страхов снова назвал роман «Униженные и
оскорбленные» самым неудачным произведением Достоевского. Достоевский нередко был
вынужден торопиться, печатая полуобработанные, как считал Страхов, вещи,
в которых были видны недостатки, вызванные поспешностью. Для Достоевского
было важнее «подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести
впечатление в известную сторону»75. В этой торопливости Достоевский, по
мнению Страхова, проявлял себя более как «журналист и отступник теории чистого
искусства»76. Для иллюстрации этой вынужденной торопливости «журнальной
манеры» Достоевского Страхов прибегает даже к длинной цитате из статьи их
идейного противника Добролюбова о романе «Униженные и оскорбленные».
Книга Достоевского «Записки из Мертвого дома» печаталась в журнале
«Время» начиная с апреля 1861 г. и сильно способствовала привлечению
внимания читателей к журналу. А первая часть книги высылалась подписчикам
72 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 382.
73 Страхов Н. Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском. С. 363.
74 Григорьев. Письма. С. 250.
75 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 414.
76 Там же. С. 415.
346
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
ф
в начале 1862 г. в качестве приложения к «Времени». Это произведение имело
большой успех в обществе не только из-за сочувствия претерпевшему от властей
писателю-каторжнику, давшему уникальное по тем временем свидетельство
о русской каторге, но и из-за высокого художественного мастерства
Достоевского. Страхов также очень высоко оценивал эту книгу. Впоследствии, после
кончины Достоевского, он выступил в Славянском благотворительном обществе
с докладом, посвященным похвалам Толстого «Запискам из Мертвого дома»
в письме к себе.
В воспоминаниях о Достоевском Страхов отметил даже своеобразную
«пользу» от закрытия «Эпохи»: это прекращение редакторской работы, по его
мнению, помогло Достоевскому сосредоточиться на создании великих
романов. Критик писал: «Когда мы видим, что в 1866 году является „Преступление
и наказание", в 1868 „Идиот", в 1870 „Бесы", то невольно приходит на мысль,
что падение „Эпохи" было счастливым событием для литературы, что Федор
Михайлович, поставленный в необходимость писать как можно больше и как
можно лучше, достиг в этих произведениях наибольшего напряжения своих
сил. Если бы „Эпоха" существовала, эти силы пошли бы на нее»77.
В марте 1868 г. Страхов похвалил начало романа «Идиот»: «Теперь скажу
Вам, Федор Михайлович, то, что Вы может быть и без меня знаете, именно, что
Вы — молодец. Так работать, как Вы работаете, победить все обстоятельства
и завоевать публику, — ведь это просто богатырские дела. Ваш „Идиот"
интересует меня лично чуть ли не больше всего, что Вы писали. Какая прекрасная
мысль! Мудрость, открытая младенческой душе и недоступная для мудрых
и разумных, — так я понял Вашу задачу. Напрасно вы боитесь вялости; мне
кажется с „Преступления и наказания" Ваша манера окончательно установилась
и в этом отношении я не нашел в первой части „Идиота" никакого недостатка»78.
Автору, не избалованному похвалами Страхова, эти слова были, конечно,
как бальзам на душу. В марте 1868 г. Страхов мимоходом упомянул
неоконченный роман: «Вашего „Идиота" до сих пор жду конца»79. А 29 января 1869 г.
Страхов упоминает в письме к Достоевскому не только свою недавно вышедшую
книгу «Бедность нашей литературы» и январский номер журнала «Заря», но
и очередную часть романа «Идиот», напечатанную у Каткова: «Напишите о них
все, что думаете. А я обещаюсь Вам написать об „Идиоте", которого читаю
с жадностью и величайшим вниманием»80.
Достоевский, польщенный вниманием Страхова и приглашением
участвовать в журнале, в ответном письме развил идею о фантастичности
обычной реальности, которую он переносит в свои романы. Писатель упоминает
77 Там же. С. 485.
78 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 258-259.
79 Там же. С. 263.
80 Там же. С. 262.
347
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
и о припадках эпилепсии, которые мешают ему работать: «Благодарю Вас очень,
добрейший и многоуважаемый Николай Николаевич, что мною
интересуетесь. Я здоров по-прежнему, то есть припадки даже слабее, чем в Петербурге.
В последнее время, 1ХА месяца назад, был сильно занят окончанием „Идиота".
Напишите мне, как Вы обещали, о нем Ваше мнение; с жадностию ожидаю
его. У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что
большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня
иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений
и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив...»
Чуть ниже он продолжал: «Неужели фантастичный мой „Идиот" не есть
действительность, да еще самая обыденная! Да именно теперь-то и должны быть
такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества, — слоях, которые
в действительности становятся фантастичными»81.
Достоевский был рад приглашению Страхова участвовать в «Заре». Он
даже припас уже для журнала единомышленников новый сюжет «большого
романа», тем более что он рассчитывал с его помощью превзойти тот
недостаточный эффект, который произвел на читателей «Идиот». Однако отсутствие
у непрактичного Кашпирёва запрошенных Достоевским денег и долговая кабала
писателя у Каткова не позволили ему осуществить этот замысел.
6(18) апреля 1869 г. Достоевский осведомился у Страхова, явно в
ожидании рецензии, дошел ли до него окончательный вариант романа «Идиот»:
«Окончание моего „Идиота" я сам получил только что на днях, особой брошюркой
(которая рассылается из редакции прежним подписчикам). Не знаю, получили
ли Вы?»82 Нет сомнения, что Достоевский очень рассчитывал, что Страхов
напишет рецензию на «Идиота» для журнала «Заря». Но Страхов обманул его
ожидания. Между тем Достоевский с самого зарождения «Зари» очень
интересовался журналом и горячо одобрял взятое им направление. Особенно хвалил
он труд Данилевского «Россия и Европа» («Да ведь это — будущая настольная
книга всех русских надолго»)83 и критические статьи Страхова. С нетерпением
ждал он и появления в близком ему по духу журнале разбора своего романа,
обещанного самим редактором «Зари». 8 марта 1869 г., сообщая своей
родственнице сведения о том, как идет роман, Достоевский добавляет: «Страхов хочет
мне прислать свой разбор „Идиота", а он не принадлежит к моим хвалителям»84.
Однако Страхов статьи о романе так и не написал — судя по всему, к тому
времени он изменил мнение о произведении. Подтверждение этому можно
увидеть в том, что через год, в очередном письме к Достоевскому в связи с романом
«Бесы», Страхов упоминал и о романе «Идиот» как о чрезмерно перегруженном
81 Письма Страхова Ф.. М Достоевскому\ С. 262.
82 Там же.
83 Там же. С. 30.
84 Там же. С. 24.
348
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
—■$'
деталями и событиями произведении. Молчаливым отказом выполнить свое
обещание о рецензии, надо полагать, он очень обидел писателя, к тому же
испытывавшего «минуты подозрительности».
Эту «подозрительность» писателя возвел в принцип В. Я. Кирпотин,
который, увлекшись обличениями своего идейного врага Страхова, пустился
в доказательства того, что критик не написал этот отзыв неспроста. По мнению
Кирпотина, причиной того, что критик, похвалив первые главы романа
«Идиот», «вычеркнул» роман из списка достижений Достоевского и не стал писать
обещанной рецензии, так как «узнал себя в Евгении Павловиче»85 (Радомском).
Кирпотин и сам признает, что при всем своем консерватизме Радомский на
Страхова вовсе не похож. Однако ради своей эффектной, хотя и очень сомнительной,
гипотезы утверждает, будто Достоевский придал персонажу отличные от
Страхова черты «во избежание прямой сатиры»86. Но где тут логика? Получается,
что Достоевский одновременно с волнением ждет от Страхова положительный
отзыв на роман и при этом изображает его там в карикатурном виде. Кирпотин
добавил к своей гипотезе совсем уже нелепую догадку: он предполагает, что
фамилия Радомский является аллюзией на «Роковой вопрос» Страхова, так как
Радом — город в Польше. Выдаваемые за критику идейные инсинуации
Кирпотина являются наиболее характерным образчиком советских идеологически
ориентированных исследований о Страхове.
Историки литературы и специалисты по Достоевскому вообще очень
любят выискивать прототипы героев, черты которых заимствованы у Страхова,
и не всегда удачно. Например, Т. Масарик (однажды посетивший Страхова и по
его рекомендации бывавший у Толстого) увидел его черты в почти карикатурном
образе либерала Степана Трофимовича Верховенского: «Не могу ничего с
собой поделать, но вижу в фигуре Степана Трофимовича — Страхова»87. Между
тем известно, что Достоевский пользовался при создании этого образа статьей
Страхова из «Зари» с характеристикой Т. Н. Грановского («Заря», 1869, № 7),
а затем попросил у него еще и брошюру А. Станкевича «Тимофей Николаевич
Грановский. (Биографический очерк)» (СПб., 1869).
Более того, Страхов писал Достоевскому в феврале 1871 г. о первой части
романа «Бесы», похвалив именно образ Степана Трофимовича: «Роман Ваш
читается с жадностию; успех уже есть, хотя не из самых больших. Следующие
части, вероятно, подымут и до самого большого. Степан Трофимыч — прелесть.
Я нахожу, что тон рассказа не везде выдерживается; но первые страницы, где
взят этот тон, — очарование»88.
85 Кирпотин В. Мир Достоевского. М, 1983. С. 153.
86 Там же.
87 Масарик Т. Г. Россия и Европа: Эссе о духовных течениях в России: в 3 кн. СПб.,
2003. Кн. 3. С. 170-171.
88 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 270-271.
349
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Еще одно «открытие» сделал недавно С. А. Кибальник89, который
доказывает, что образ Ракитина в романе «Братья Карамазовы» есть не что иное,
как «криптографический памфлет на Страхова», и ставит «клевету» Страхова
в письме в прямую зависимость от этого отрицательного образа. Но
общеизвестно, что в этом образе Достоевский использовал черты прошедших через
семинарию нигилистов Благосветлова и Елисеева.
В январском номере «Зари» за 1870 г. была опубликована повесть
Достоевского «Вечный муж» — первая и единственная публикация Достоевского
в «Заре». Страхов был ею очень доволен. Он писал Достоевскому 14 февраля
1870 г.: «Ваша повесть производит весьма живое впечатление и будет иметь
несомненный успех. По-моему, это одна из самых обработанных Ваших
вещей, — а по теме — одна из интереснейших и глубочайших, какие только Вы
писали, я говорю о характере Трусоцкого; большинство едва ли поймет, но
читают и будут читать с жадностью»90. В этой повести Достоевский также
использует идеи Ап. Григорьева и Страхова относительно отражения «хищного»
и «смирного» типов в русской литературе, отчасти полемизируя с ними.
Достоевский не скрывал своей радости, соединяя собственный успех
с успехом журнала: «С жадностию прочел тоже Ваши несколько строк
одобрения о моем рассказе. Это мне и лестно и приятно; читателям, как Вы, я бы
и всегда желал угодить, или лучше—только им-то и желаю угодить. Кашпирёв
тоже доволен — в двух письмах упомянул. Очень рад всему этому и особенно
рад тому, что Вы пишете о „Заре": если она стала твердо, то и славно. По
направлению я совершенно ей принадлежу, а стало быть, ее успех все равно что
свой успех. Мне она отчего-то „Время" напоминает — время „нашей юности",
Николай Николаевич!»91 С Достоевским трудно не согласиться: несмотря на то
что Страхов был слишком строг к Достоевскому, период его работы в «Заре»
стал временем наибольшего сближения с писателем после журнала «Время».
В 1870 г. Достоевский издал роман «Бесы», вызвавший против него
волну негодования в либеральном и особенно в радикальном лагере. Страхов же
вполне разделял общественно-политические и творческие идеи Достоевского,
выраженные в романе.
Непревзойденный в своих обличениях «мракобесия» Страхова Кирпотин
замечает: «Наибольшей степени похвальные выражения Достоевского в адрес
Страхова достигают в период писания „Бесов", когда перед ним, как больная
совесть, мучительно вставал образ Белинского, от которого он пытался
освободиться пароксическими усилиями»92. В этот период роста консервативных
89 Кибальник С. А. К разгадке одной писательской диффамации: Почему Н. Н. Страхов
оклеветал Ф.М.Достоевского? // Вестник Томского гос. ун-та. Филология. 2018. №55. С. 191-
211.
90 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 365.
91 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 108.
92 Кирпотин В. Мир Достоевского. С. 154-155.
350
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
—■$■
настроений Достоевский был настроен особенно резко против Белинского
и выразил это в своих письмах к Страхову. А советский критик почему-то винит
в этих консервативных настроениях корреспондента писателя.
Следует отметить, однако, что сам Достоевский в письмах раз за разом
советует и Страхову быть строже и тверже со своими идейными противниками.
Надо признать, что Страхов этим советам не слишком следовал в силу своего
мягкого и уклончивого характера, но такие его яркие статьи, как «Вздох на
гробе Карамзина» с резкими выпадами против видного либерального
публициста и историка литературы А. Н. Пыпина, показывают, что советы эти шли
на пользу. Переписка Достоевского и Страхова в эти годы очень содержательна
и отражает вполне теплые отношения. Для Страхова, получившего дружескую
поддержку, переписка, вероятно, была важнее — таких авторитетных советов,
которые давал ему в период «Зари» Достоевский, ждать критику было больше
не от кого.
Правда, нельзя не признать, что сам-то Страхов был довольно скуп на
похвалы Достоевскому, а его литературные советы не отличались
разнообразием. Раз за разом он рекомендует писателю быть проще, яснее, уменьшить
количество сюжетных линий и героев.
12 апреля 1871 г. Страхов сообщает Достоевскому свое мнение о второй
части «Бесов», опубликованной в «Русском вестнике». Этот отзыв является
одним из самых длинных и характерных для Страхова: «Поджидал я,
многоуважаемый Федор Михайлович, третьей части „Бесов", чтобы написать Вам о них:
и очень огорчен, что не дождался. Во второй части чудесные вещи, стоящие
наряду с лучшим, что Вы писали. Нигилист Кириллов — удивительно глубок
и ярок. Рассказ сумасшедшей, сцена в церкви и даже маленькая сценка с
Кармазиновым — все это самые верхи художества. Но впечатление в публике до
сих пор очень смутное; она не видит цели рассказа и теряется во множестве
лиц и эпизодов, которых связь ей не ясна. Простите, что пишу Вам эти
неблагоприятные суждения. Мне даже приходило в голову предложить Вам советы,
и я не могу воздержаться от этой глупости, которую прошу Вас принять как
выражение величайшего моего интереса к Вашей деятельности.
Очевидно — по содержанию, по обилию и разнообразию идей Вы у нас
первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен. Этому не
противоречит то, что на всем Вашем лежит особенный и резкий колорит».
Столь приятные для писателя похвалы предваряют обычные назидания
сурового критика: «Но очевидно же: Вы пишете большею частью для избранной
публики, и Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете.
Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее.
Например, „Игрок", „Вечный муж" произвели самое ясное впечатление, а все,
что Вы вложили в „Идиота", пропало даром». Вот, собственно, и объяснение,
почему Страхов не написал рецензию на роман «Идиот».
351
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$'
Страхов продолжает свои умные, но вряд ли полезные сложившемуся
писателю советы, искусно сочетая в них похвалы с критикой: «Этот
недостаток, разумеется, находится в связи с Вашими достоинствами. Ловкий француз
или немец, имей он десятую долю Вашего содержания, прославился бы на оба
полушария и вошел бы первостепенным светилом в историю всемирной
литературы. И весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество,
понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться
на одном образе и десятке сцен. Простите, Федор Михайлович, но мне все
кажется, что Вы до сих пор не управляете Вашим талантом, не приспособляете
его к наибольшему действию на публику»93.
Страхов и сам сознает, что его ригористические советы бесполезны для
Достоевского, как бы правильны по своей сути они ни были: «Чувствую, что
касаюсь великой тайны, что предлагаю Вам нелепейший совет — перестать
быть самим собою, перестать быть Достоевским. Но я думаю, что в этой
форме Вы все-таки поймете мою мысль»94. Со Страховым можно частично
согласиться, но все-таки он слишком строг по отношению к гениальному
писателю, который так нуждался в дружеских похвалах. Однако такова
натура нашего героя: Страхов неизменно строг и принципиален в своих оценках
художественного творчества (если это не Лев Толстой) и упрямо
отказывается идти на компромисс. В этой принципиальности — одна из причин его
недостаточной популярности, но в ней же и залог его высокого авторитета
в истории русской литературной критики.
Правда, в январе 1873 г., прочитав последнюю часть «Бесов» в Мшатке
у Данилевского, Страхов в письме к А. Н. Майкову отзывается о романе совсем
уж положительно: «Но я уж рад и тому, что мог дочитать „Бесов". Смерть
Кирилова {так!) — поразительна, и то место, которое мне читал в
Петербурге Фед(ор) Михайлович, не потеряло своей страшной силы и при чтении.
Как хороша смерть Лизы! Степан Трофимыч с книгоношею — и весь его
конец — очарование. Я удивляюсь теперь цельности этого романа. Николай
Ставрогин — очевидно, вставное лицо, как Свидригайлов в „Преступл(ении)
и нак(азании)", но не лишнее, а как будто из другой картины, писанной в том
же тоне; но еще страшнее и печальнее. С нетерпением буду ждать отдельного
и полного издания»95.
Подобные хвалебные отзывы без «но» были у Страхова редки. А с его
строгой критикой Достоевскому приходилось соглашаться. Он вполне
признавал недостаток своей творческой манеры, указанный критиком, однако
перемениться действительно не мог: «Но вот что скажу о Вашем последнем
суждении о моем романе: во-1-х, Вы слишком высоко меня поставили за
93 Письма СтраховаФ. М.Достоевскому. С. 270-271.
94 Там же. С. 271.
95 Страхов —А.Н.Майкову. 14янв. 1873 г. //РОИРЛИ. Ед. хр. 16947. Л. 1 об.
352
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
»
то, что нашли хорошим в романе, и 2) Вы ужасно метко указали главный
недостаток. Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих
пор (не научился), совладать с моими средствами. Множество отдельных
романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни
гармонии. Всё это изумительно верно сказано Вами, и как я страдал от этого
сам уже многие годы, ибо сам сознал это. Но есть и того хуже: я, не спросясь
со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить
художественную идею не по силам. (...) И тем я гублю себя. Прибавлю, что
переезд и множество хлопот этим летом страшно повредят роману. Но
благодарю Вас за сочувствие»96.
Но Страхов в силу особенностей своей педантичной натуры слишком
увлекался внешней целостностью и упорядоченностью художественного
произведения и не вполне оценивал те качества, которые составляли главное
индивидуальное достоинство Достоевского как художника слова. По мнению
Страхова, «Достоевский — субъективнейший из романистов, почти всегда
создававший лица по образу и подобию своему»97. И хотя Достоевский не раз
заявлял Страхову, что считает себя «совершенным реалистом», критик был
убежден, что, пускаясь рисовать мрачные картины, «полной объективности»
писатель достигал редко. Правда, Страхов не мог не видеть, что на
читателей изображения Достоевского «действовали поразительно, как совершенно
объективные образы»98. Несмотря на те очевидные недостатки структуры
и стиля его произведений, которые подмечал Страхов, а может быть, частично
и благодаря им, проза Достоевского обладала исключительной
оригинальностью и поистине магической силой влияния на читателей. Только это станет
всем понятно не сразу после создания произведений, а гораздо позже, когда
психологические романы Достоевского завладеют читательской аудиторией
всего мира.
Впрочем, и сам Страхов, как настоящий критик, даже не считая
Достоевского художником-реалистом и подчеркивая субъективизм его видения мира,
всё же признавал, что этот очевидный недостаток его творческой манеры
таинственным образом превращался Достоевским, благодаря умению придавать
своим созданиям впечатление реальности и объективности, в высокое
художественное достоинство: «Достоевский потому так смело выводил на сцену
жалкие и страшные фигуры, всякого рода душевные язвы, что умел или признавал
за собою уменье произносить над ними высший суд. Он видел Божию искру
в самом падшем и извращенном человеке; он следил за малейшею вспышкою
этой искры и прозревал черты душевной красоты в тех явлениях, к которым мы
привыкли относиться с презрением, насмешкою или отвращением. За проблески
96 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 208.
97 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 424.
98 Там же.
353
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
этой красоты, открываемые им под безобразною и отвратительною
внешностью, он прощал людей и любил их. Эта нежная и высокая гуманность может
быть названа его музою, и она-то давала ему мерило добра и зла, с которым
он спускался в самые страшные душевные бездны. Он крепко верил в себя
и в человека, и вот почему был так искренен, так легко принимал даже свою
субъективность за вполне объективный реализм»99.
Достоевский в письме к Страхову по поводу романа «Идиот» настаивал
на том, что его подход к искусству, который критиками считается субъективным,
есть пусть и непохожий на других и особенный, но — настоящий реализм:
«У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что
большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня
иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений
и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив»100.
Умом Страхов понимал достоинства художественного метода
Достоевского, но душа его к «сумеречному», как он считал, творчеству писателя не лежала.
Несмотря на понимание критиком величия таланта Достоевского, очевидно, что
этот дисгармоничный, «болезненный», пусть и гениальный, художник слова —
не его писатель. С момента выхода в свет романа «Война и мир» и личного
знакомства с создателем этого великого произведения сердце так ценимого
Достоевским критика безоговорочно принадлежало другому великому
творцу — Льву Толстому, художественные достоинства сочинений которого более
соответствовали его вкусам. Здесь истоки разногласий с Достоевским, которые
со временем вышли на поверхность в столь неприятной форме исповедального
письма к кумиру Страхова.
Художественное творчество Достоевского при всех его несомненных
достоинствах казалось Страхову мрачным, нравственно колеблющимся и
болезненным, а он любил в литературе красоту, душевное здоровье и нравственную
чистоту. Эти положительные качества ассоциировались у него с сочинениями
и личностью Толстого, а из истории литературы — с Пушкиным. А творчество
Достоевского представлялось Страхову не только погруженным в мрачную
атмосферу, но и далеким от подлинного реализма, образец которого он видел
в «Войне и мире».
По мнению Страхова, перед внутренним взором которого стояли светлые
образы «Войны и мира» его любимого писателя как воплощение самых
прекрасных сторон русской национальной жизни, Достоевский создавал искаженные,
болезненные картины и характеры, которые страдали субъективностью, так как
он изображал не реальных людей, а списывал героев с себя: «Достоевский,
создавая свои лица по своему образу и подобию, написал множество полупомешанных
и больных людей и был твердо уверен, что списывает с действительности и что
99 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 425.
100 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 19.
354
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
»
такова именно душа человеческая»101. Этим и объяснялась, по собственному
признанию критика, не самая высокая оценка им произведений Достоевского.
«Для меня, близко его знавшего, субъективность его изображений была очень
ясна, — признавался Страхов в воспоминаниях, — и потому всегда наполовину
исчезало впечатление от произведений, которые на других читателей
действовали поразительно, как совершенно объективные образы»102.
Страхов был убежден, что Достоевский черпал материал для своих
мрачных коллизий и болезненных характеров из темных глубин собственной души.
Эту же мысль Страхов выразил и в своем известном письме к Толстому.
Философ С. Н. Булгаков позже упрекал Страхова за то, что он приравнивает писателя
к его вымышленным героям. Но неужели философ думал, что такой тонкий
критик, каким был Страхов, этого не знает и впадает здесь в элементарную
ошибку? Из данного вывода вовсе не следует, что Страхов вообще
ассоциировал образы, созданные любым писателем, с чертами личности автора. Нет,
критик утверждал это именно в отношении сочинений Достоевского, и только.
Это было, конечно, обдуманное, выношенное суждение Страхова, которое он
повторял не раз.
Страхов даже опасался за душевное здоровье писателя, склонного к
описанию болезненных состояний. Но что характерно: Толстой, сочинения которого
были для Страхова идеалом художественного творчества, с его интерпретацией
творческого метода Достоевского не согласился. Толстой не стал опровергать
мнение Страхова об отсутствии объективности в произведениях Достоевского,
их «фантастичности» и создании героев по собственному образу и подобию.
Такой необычный подход Достоевского к творчеству не показался
Толстому ни странным, ни неправильным. Более того, отвечая Страхову, гениальный
писатель, по существу, дал критику понять, что только так и создаются великие
произведения. И этот ответ, поистине достойный гения литературы, очень важен
для понимания глубинной, скрытой природы любого художественного
творчества: «Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая,
что все люди такие. И что ж! результат тот, что даже в этих исключительных
лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою
душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее»103. Художник
слова оказался здесь мудрее «всепонимающего» критика.
* * *
В обширной и важной переписке с Розановым, где Страхов не так
сдержан и осмотрителен в высказываниях, как в критических статьях, он
101 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 910.
102 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 424.
103 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 913.
355
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
настойчиво подчеркивает, что Достоевский — болезненный писатель, а его
реализм обманчив: «Меня одно очень порадовало: Вы начали чувствовать
болезненность Достоевского; по-моему, он очень вреден для многих, я думаю,
и для Вас — теперь можно сказать — был вреден. Он бередил в других всякие
раны, которыми сам очень страдал, и все доказывал, что это и есть
настоящая жизнь, настоящие люди. Разумеется, в каждом вопросе он колебался, но
думал, что так и нужно»104.
Это как раз тот случай, когда читатель, то есть Страхов, отдает
предпочтение Толстому, а не Достоевскому, и с этим ничего не поделаешь. В вечном
соперничестве двух великих наших писателей Страхов, конечно, безоговорочно
встает на сторону Толстого.
Помогая Розанову напечатать большое исследование о духовно близком
ему Достоевском, Страхов в то же время высказывает ему свое мнение: «Если
Вы Достоевского ставите выше Толстого, то это большая ошибка»105.
И как же прозорливо и в то же время не без затаенной внутренней обиды
Достоевский признает после блестящих статей Страхова в «Заре» о
«Войне и мире», что каждый замечательный критик при вступлении на поприще
раскрывается наилучшим образом на сочинениях родственного ему по духу
писателя. Страхову, по проницательному мнению Достоевского, и следовало
использовать свой незаурядный критический талант в начале пути именно для
растолкования прежде всего гениального романа Толстого.
Можно предположить, что именно ревнивое отношение одного
выдающегося мастера литературы к другому лежит в основании того внутреннего
конфликта, который изначально стоит за неприязнью Достоевского к Страхову,
проявившейся в его известной записи 1875 г. Для собственного творчества
критика такого уровня, как Страхов, Достоевскому, к сожалению, обрести не удалось.
Страхов писал о Достоевском не так много, но он всегда внимательно
следил за его творчеством и размышлял о нем. В воспоминаниях о Достоевском
Страхов отметил, что в его таланте присутствовала сильная публицистическая
жилка и потому идея издавать «Дневник писателя» стала его «счастливой
мыслью»106. Страхов верно заключил, что такого рода публицистическое издание из
ряда фельетонов на всевозможные темы, посвященных актуальным общественно-
политическим вопросам и литературе, отмеченных «живым горячим тоном»
и «полной твердостью убеждений»107, как нельзя лучше соответствовало
творческой личности писателя. «Нигде, мне кажется, душевная бодрость и энергия
Достоевского не выражается так ясно, как в „Дневнике"»108, — писал Страхов.
Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 23.
Там же. С. 61.
Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 501.
Там же.
Там же. С. 504.
356
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
Этими качествами Достоевского он объяснял то, что «Дневник писателя» имел
«величайший успех»1иа у читателей.
* * *
В 1873 г. Достоевский, к вящей радости издателя газеты-журнала
«Гражданин» В. П. Мещерского, решил взять на себя редакторство этого консервативного
периодического издания.
Страхов, находившийся в это время на отдыхе в Крыму у Данилевского,
узнал об этом событии из объявления в газетах. Он сразу понял, что это
объявление его непосредственно касается. Ему придется снова браться за статьи,
хотя, ожидая обещанного места в библиотеке, он решил на время отказаться
от срочной журнальной работы и заняться серьезными философскими темами
(явно по совету Толстого), а пока насладиться свободой и отдыхом в имении
Данилевского в дружеской обстановке, среди пальм и магнолий. Но не тут-то
было: из состояния покоя его окончательно вывело письмо А. Н. Майкова,
который призывал его «под знамена» нового издания Достоевского. Майков прямо
писал Страхову, что Достоевский, на которого «залаяла вся свора прогресса»110,
возмущенная «реакционным» романом «Бесы», поджидает его и рассчитывает
на него как на основную критическую силу, собираясь поручить ему раздел
библиографии.
Страхов изредка и прежде печатался в газете-журнале «Гражданин»
князя Мещерского, и в 1870 г., опубликовав там статью, охарактеризовал это
консервативное издание в письме к Толстому как «прескверный журнал (...)
где скоро платят»111. Страхов был не слишком доволен тем, что Достоевский
снова включался в литературно-политическую борьбу, и не торопился принять
в ней участие: «Так и быть — опять придется окунуться в эту грязь — и охота
была Федору Михайловичу добровольно связываться со стаею нашего
прогресса! Скажите ему, что он все еще слишком много важности придает этой
стае»112. Достоевского можно было понять: в «Гражданине» он обрел орган,
где мог печатать свой «Дневник писателя», да и бойцовский темперамент
тянул его к публицистике, конечно, гораздо сильнее, чем уравновешенный
характер Страхова.
Но все-таки Страхов посчитал свое участие в издании
Достоевского «требованием долга» и выразил намерение активно
включиться в работу. У него зреет уже план: «Во всяком случае — не думайте,
109 Там же.
110А. Н.Майков —Н.Н.Страхову. 20янв. 1873 г. IIЛН. Т. 86: Ф.М.Достоевский: Новые
материалы и исследования. С. 428.
111 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 131.
112 Н. Н.Страхов — А.Н.Майкову. 14янв. 1873 г. // РО ИРЛИ. Ед. хр. 16947.Л. 1.
357
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$■
чтобы я промедлил хоть минуту, когда получу зов. — Ив другом будьте
уверены — что я буду ревностным сотрудником „Гражданина". Федор
Михайлович — истинное счастье для этого журнала. Можно будет начать
непрерывный ряд статей под заглавием „Летопись книг и журналов"
с эпиграфом из Пушкина»113.
Очевидно, что Страхов собирается участвовать в «Гражданине» больше
по обязанности, по долгу товарищества, чем по воодушевлению. Он пишет
Толстому о Достоевском: «Живо воображаю, как в нем разгорелась страсть
журналиста, и не знаю, не пожалеть ли об этом. А впрочем, человеку не нужно
мешать делать, что он любить делать. Одна беда — он меня теперь запряжет;
от него ничем не отговоришься, и у меня в перспективе — работать всякие
статейки для „Гражданина"»114. Но, несмотря на ворчливый тон, он успел
уже «проголодаться» по литературе и признается Майкову, что тоже не чужд
журналистики и в душе уже готов приступить к работе: «...я все-таки
журналист по привычкам и по некоторой страстишке к этому делу. Если притом
такие чудесные люди, как Вы и Фед(ор) Михайлович, очень усердно будут
заняты „Гражданином", то я не вытерплю и примусь строчить, пожалуй, не
хуже прежнего»115.
Однако по приезде в Петербург Страхов заболел рожистым воспалением
и к тому же был занят окончанием начатой еще в Крыму статьи о Пушкине
для сборника «Складчина». 30 января 1874 г. Страхов извещает Достоевского:
«Да и не с чем мне явиться в редакцию — я сегодня только отнес свою статью
„Заметки о Пушкине" в „Складчину". Писание статьи меня убедило, что
писатель я плохой и что моя служба большая контора. Все это я веду к тому, чтобы
сказать Вам, что мое усердие к „Гражданину" (которого Вы редактор) никак не
ослабело, что я только был очень заторможен»116.
Хотя Страхов к работе в «Гражданине» еще не приступил, уже в
первом номере газеты-журнала появилась статья о его книге «Мир как целое».
Рецензия была полна неумеренных похвал автору, что вызвало скептический
отзыв недоброжелателей о том, что Достоевский нахваливает собственных
сотрудников.
Как и следовало ожидать, редакторская работа далась Достоевскому
нелегко, и напряжение срочных каждодневных дел и забот сказалось на его
отношениях с окружающими. 15 марта 1873 г. Страхов, помощи от которого
Достоевский еще так и не получал, пишет Толстому: «Достоевским я очень
недоволен: он стареет видимо, с каждым днем. „Гражданин", в котором он
редакторствует, очень его волнует, тревожит, раздражает. Пишет он вещи неглупые,
113 Н. Н. Страхов —А. Н. Майкову. 14 янв. 1873 г. Л. 1 об.
114 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 209.
1,5 Н. Н.Страхов —А. Н. Майкову. 14 янв. 1873 г. Л. 2.
116 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 265-266.
358
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
—■$»
но странные, недоконченные, неясные; сам это чувствует и не может вырваться
из положения, в которое себя поставил»117.
Страхов смог приступить к работе гораздо позднее намеченного срока.
Ему был поручен отдел критики и библиографии, и основная его обязанность
состояла в написании рецензий на самые разные книги и журналы. Кроме того,
по договоренности с Достоевским предполагалось, что Страхов будет писать
для «Гражданина» литературные обзоры.
Такие обзоры давались Страхову трудно. В 1874 г. Страхов напечатал
в «Гражданине» рецензию на оперу Мусоргского «Борис Годунов» с
подзаголовком «Письмо к редактору Ф. М. Достоевскому». Страхов начал эту статью-
письмо с сетований на трудность писания больших литературных обзоров:
«Вы несколько раз выражали желание, чтобы я писал о современных явлениях
нашей литературы, о ее последних, текущих новостях. Я отклонял от себя это
занятие, потому что находил его необыкновенно трудным. (...) Как писать
ясно и доказательно о таких расплывающихся, туманных, спутанных, не
сложившихся, не достигших никакого смысла и значения явлениях? Я чувствую
себя в величайшем смущении среди этих полумыслей, полуобразов, каких-то
попыток и потуг сказать неизвестно что. Да и какая нужда подвергать всё это
строгому анализу?»118
За свою жизнь Страхов написал немало таких обзоров. Теперь, на
расстоянии, важным недостатком этих литературных обозрений Страхова видится то,
что он давал им очень похожие, стандартные названия и каждый раз пытался
снова охватить всю панораму современной словесности. Это неизбежно
приводило к повторам, и из-за безликости названий читатели путали его литературные
обзоры разных лет.
В апреле 1873 г. Страхов сообщал Толстому, что написал для
«Гражданина» статью «Заметки о текущей литературе» и рецензию на книгу П. Анненкова
«Александр Сергеевич Пушкин». Первая статья представляла собой большой
обзор современной русской литературы, написанный в соответствии с замыслом
Ф. М. Достоевского регулярно помещать в «Гражданине» литературные
обозрения Страхова. «Заметки о текущей литературе» печатались в «Гражданине»
с середины апреля до конца мая 1873 г.
Пожалуй, эта обширная статья — самое важное из того, что напечатал
Страхов в «Гражданине» под редакцией Достоевского и едва ли не высшее
выражение им консервативных идей почвенничества. Главный недостаток
этой статьи — ее слишком общее, не запоминающееся название. Самые
интересные главы из этого литературного обзора, 5-я и 6-я, перешли потом
117 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 217.
118 Страхов И. Письма к редактору о нашем современном искусстве. Письмо I (По
поводу новой оперы «Борис Годунов») // Гражданин. 1874. № 8. С. 240; то же: Страхов И. Заметки
о Пушкине и других поэтах. 2-е изд. Киев, 1897. С. 79.
359
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
во 2-ю книгу «Борьбы с Западом» под названием «Ход нашей литературы,
начиная от Ломоносова». В этих главах говорилось о поисках
самобытности в нашей литературе, о Пушкине, Гоголе, Карамзине, а также вредном
влиянии Запада на ход просвещения в России. Все большие русские
писатели, от Ломоносова до Льва Толстого, отмечал Страхов, «проникнуты
верою в Россию»119.
А в № 36 «Гражданина» появилась еще одна обзорная статья Страхова,
и тоже с весьма безликим названием «Нечто о характере нашего времени».
В ней Страхов возвращался к излюбленной теме нигилизма. К «проходным»
относится его обозрение «Текущая минута», в котором он писал: «Время теперь
тихое, порывы прогресса приостановились, волнение идей улеглось»120. Яркими
публикациями не отметился Страхов и в отделе библиографии.
Как бы то ни было, имевшее не слишком солидную репутацию издание
Мещерского на некоторое время превратилось во вполне достойный
периодический орган почвенничества. Тем более что Достоевский, помимо исполнения
редакторских обязанностей, печатал в «Гражданине» свой «Дневник писателя».
Эти его периодические заметки на злобу дня составляли, конечно, самое
привлекательное в «Гражданине».
В то же время по письмам Страхова видно, что он не был очень уж
воодушевлен этим хлопотным и приземленным видом работы. Толстому о своем
сотрудничестве в «Гражданине» Достоевского Страхов писал: «Достоевский
видит во мне старого уже товарища по литературе, очень любит мои статьи
и считал бы просто изменою, если бы я не участвовал в журнале, на который
он кладет всю душу — совершенно понапрасну. Я и лавирую — от времени
до времени пишу и стараюсь сделать что можно, — подыскиваю сотрудников,
смотрю рукописи и пр.»121. Страхов надеется, что в следующем, 1874 г. ему
удастся «раскланяться» с журналом из-за плохой подписки или из-за отказа
Достоевского от редакторства по состоянию здоровья.
Данилевскому Страхов жаловался в январе 1874 г.: «Литература моя
идет плохо. Постоянно пишу в Гражданине, но никто меня не хвалит и не
поощряет. Никто из приятелей не читает Гражданина. Наконец, Василий
Васильевич (Григорьев) и Александр Дмитриевич (Градовский) просили
принести им мои статьи. Прочитали, не понравилось; Александр Дмитриевич
сказал даже, что у меня пропал талант и что для поправления дела мне нужно
бросить Гражданин. Да вообще Гражданин не читается ни университетом,
ни литераторами, ни тою компаниею, которая собирается по субботам у Ивана
Петровича Корнилова. Между тем подписка хороша: 21Л тысячи наверно будет.
Но нечастный Достоевский совсем измучился. Я его очень ценю и многое ему
119 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 31.
120 Страхов Н. Текущая минута // Гражданин. 1874. № 1. С. 206.
121 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 246.
360
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
прощаю, но при его теперешней раздражительности просто избегаю с ним
видеться»122.
Раздражительность Достоевского объяснялась, конечно, теми
трудностями, с которыми он столкнулся как редактор журнала. Страхов считал, что от
редакторства Достоевского выиграл только князь Мещерский: «Достоевский
один заправляет делом и, кажется, много ему выпадет на долю
неприятностей. Охота была соваться в такое дело! Судя по рассказам, он принял на
себя редакторство впопыхах, не подумавши, а мысль об этом подал Майков.
Ну, счастье Мещерскому! Понять невозможно, чем он мог заслужить такое
большое усердие»123.
Из этого письма ясно, что Страхов не случайно мимоходом обронил в
воспоминаниях об этом периоде такие слова: «.. .когда наша дружба была холоднее,
во времена редактирования им „Гражданина"»124. Отношения Страхова с
Достоевским стали не такими теплыми, как в ранний период или в годы «Зари»,
а участие в «Гражданине» было далеко не самым ярким периодом в творческой
биографии критика.
* * *
Избавившись весной 1874 г. от отнимавшей силы редактуры,
Достоевский возобновляет творческую работу. У него зреет замысел романа. В апреле
к нему приезжает Н. А. Некрасов и просит напечатать будущий роман в
«Отечественных записках», предлагая оплату за лист на 100 рублей больше, чем
платил Катков в «Русском вестнике». Достоевский, находящийся, как всегда,
в условиях крайней нужды, соглашается.
Летом 1874 г., во время работы над новым романом — будущим
«Подростком», Достоевский опять вспоминает о критических замечаниях Страхова:
«Обилие плана — вот мой главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то
вижу, что в нем соединилось 4 романа. Страхов всегда видел в этом мой главный
недостаток. Но еще время есть. Авось управлюсь. Главное план, а работа будет
легче»125. Решая вести рассказ от первого лица, Достоевский показывает, что
всегда держит в уме критические замечания Страхова: «Если от Я, то будет,
несомненно, больше единства и менее того, в чем упрекает меня Страхов, т.е.
во множестве лиц и сюжетов».
Первая часть «Подростка» была напечатана в «Отечественных записках»
в январе 1875 г. Единомышленники Достоевского Страхов и А. Н. Майков не
одобряли сотрудничества писателя с их идейными противниками, главным оплотом
122 Рус. вестник. 1901. Янв. С. 131-132.
123 Там же. С. 129.
124 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 437.
125 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 338.
361
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
которых был этот журнал, хотя прямо не выражали этого. Они молча осуждали
такой шаг как измену консервативному направлению «почвеннической»
группировки, и, почувствовав это, Достоевский, которому позарез были нужны деньги,
заподозрил Майкова и Страхова — ни много ни мало — в предательстве. Следы
этих несоразмерных обид отразились в переписке Достоевского с женой.
При встрече у А. Н. Майкова 5 февраля 1875 г. обидчивый Достоевский
почувствовал в поведении хозяина «много нерасположения» и решил, что
Майков (его близкий друг еще со времен кружка Петрашевского), как он выразился,
«сильно со складкой»126. Еще писателя задело то, что о его романе Майков
со Страховым ничего не сказали, а о новом романе Толстого «выговорили до
смешного восторженно»127. И Достоевский дал волю своей подозрительности
и ревности, тем более что затронут был болезненный вопрос о его главном
литературном сопернике, которому в «Русском вестнике», как стало известно,
за новый роман «Анна Каренина» Катков заплатил по 500 рублей за лист, в два
раза больше, чем получал у него Достоевский. Кроме того, Достоевского
обижало то, что Страхов с Майковым и не подумали осудить Толстого, который
недавно опубликовал в тех же «Отечественных записках» свою статью. Побывав
10 февраля у Страхова, Достоевский делится с женой своим выводом: «Было
очень дружелюбно, но не нравятся они мне оба, а пуще не нравится мне и сам
Страхов; они оба со складкой»128. Анна Григорьевна, также настроенная против
друзей мужа, подливала масла в огонь. Она писала мужу 10 февраля: «Я очень
рада, что ты дружески встретился с Некрасовым и что ему роман понравился;
а каков прием Майкова и Страхова! Каковы люди!!! Мы с тобой и прежде это
угадали!»129
Тем временем роман частями печатался в «Отечественных записках».
Мнение Страхова о первой части «Подростка» нам известно из письма
Достоевского к жене от 8 февраля 1875 г.: «...в 9 часов пришел Страхов. Он мне
искренно и положительно говорил, что Майков ни в каких слухах обо мне не
участвовал, да и есть ли слухи, он хорошо не знает. „Подросток" ему не совсем
нравится. Он хвалит реализм, но находит несимпатичным, а потому скучноватым.
И вообще он мне сказал чрезвычайно много очень дельного и искреннего, что
меня впрочем не смущает, потому что я надеюсь в следующих частях доказать
им, что они слишком ошибаются»130.
21 марта 1875 г., когда имя Страхова уже перестало появляться в
письмах Достоевского, Страхов сообщил автору «Подростка» свое положительное
мнение о второй части романа: «Ваша вторая часть имела большой успех,
126Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 2. С. 9.
127 Там же.
128 Там же. С. 15-16.
129 Достоевский Ф. М, Достоевская А. Г. Переписка. Л., 1976. С. 151. (Литературные
памятники).
130Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 2. С. 12.
362
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
ф
читалась как нельзя усерднее. Эпизод повесившейся девушки удивительно
хорош и вызвал всеобщие похвалы. Конец этой части наконец открывает
взаимное положение лиц, обрисовывает и Версилова и Подростка. Это разъяснение
действует на читателя очень приятно и сильно заинтересовывает. Смешение
в Подростке добра и зла и даже доброты и злобы — очень живая черта и
глубокий предмет. Разговор с сестрою — тепло и молодо. Подросток теперь мне
ясен, но о Версилове сказать того же не могу. Если позволите еще замечание,
которое, может быть, происходит от моего тугого понимания, — предыдущие
сцены, то есть первая часть и начало второй недостаточно догадочны, то есть
читатель никак не может сам догадаться об отношениях лиц; Подросток там
дает полную волю своим злобным чувствам, и читатель не догадывается
о подкладке. Может быть, говорю я, виновато в этом мое тугое понимание. Но
тема у Вас взята великолепная, и все ждут чудес от ее развития, по крайней
мере я жду, публика же несомненно покорена, то есть будет уже следить за
Вами с жадностью!»131
Отзыв вполне доброжелательный, и ничто, кажется, не предвещает
продолжения того недовольства, которое одолевает в это время, с начала февраля,
судя по взаимным письмам, Федора Михайловича и Анну Григорьевну. О
романе в целом критик не отозвался, так как ко времени завершения публикации
отношения Достоевского с Майковым и Страховым, его самыми близкими
и почти единственными друзьями в литературном мире, были испорчены, и, как
выяснилось позже, — навсегда.
Любопытно, что в конце 1875 г., когда Достоевский уже договорился
о печатании романа «Подросток» в «Отечественных записках», деловитый
Некрасов обращался и к Страхову, предлагая ему уговорить Толстого отдать
свой новый роман ему. Страхов сообщал Толстому о нежелании содействовать
оппозиционному направлению: «...уговаривать вас в его пользу — не хочу.
Никак не могу желать усиливать то направление, которому он служит отчасти
по личному настроению, но большею частью по лукавству и невежеству»132.
Таким образом, Страхов вполне последователен в своей позиции, и имевшая
место конфликтная ситуация вокруг «Подростка» возникла лишь по причине
подозрительности Достоевского.
После печатания «Подростка» у Некрасова Достоевский, давно ставший
к тому времени «совершенным монархистом»133 и пылким сторонником
православия, из консервативного лагеря, конечно, не выпал, и свои следующие, лучшие
и вполне традиционные произведения он печатал снова у Каткова в «Русском
вестнике». В июне 1875 г., постоянно нуждаясь, он уже получил от редактора
«Русского вестника» аванс в счет будущего романа «Идиот», вышедшего в 1878 г.
131 Письма СтраховаФ. М.Достоевскому. С. 274.
132 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 323.
133 Достоевский. ПСС Т. 28, кн. 2. С. 280.
363
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
За романы «Идиот» (1878) и «Бесы» (1879) Катков положил по 150 рублей за
лист, а за «Братьев Карамазовых» (1880) заплатил даже больше, чем Некрасов
в «Отечественных записках», — по 300 рублей. Казалось бы, спор с друзьями
не стоил и выеденного яйца, но история с «Подростком» по каким-то
невыясненным причинам навсегда развела Достоевского со Страховым.
В 1876 г. в записной тетради Достоевского появилась запись с крайне
язвительной и недружелюбной характеристикой Страхова, в которой содержится
очень много мелочных и в основном несправедливых обид и упреков. Для не
слишком осведомленных читателей приводим эту важнейшую для понимания
сути конфликта дневниковую заметку целиком:
«Н. Н. С(трахов). Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе
„Жених", об которой говорится:
Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.
Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных
в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил обиняком, по
поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала
ему 4-х читателей, я думаю, не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком,
кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув
двух мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать
о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми и взыскательными.
Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются
совсем в дураков — и так на всю жизнь. Главное в этом славолюбии играют
роль не столько литератора, сочинителя трех-четырех скучненьких брошюрок
и целого ряда обиняковых критик по поводу, напечатанных где-то и когда-то,
но и два казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта.
Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга,
никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает
гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен
и за какую-нибудь жирную, грубо-сладострастную пакость готов продать всех
и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все
равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал,
а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще
больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать
и обнаруживать неустанно»134.
Эта частная запись Достоевского была впервые опубликована в томе
«Литературного наследства» в 1971 г., и ее содержание было рассмотрено
сотрудницей ИМЛИ Лией Михайловной Розенблюм в том же томе. «Отзыв
желчный, презрительный, уничтожающий» — так оценивает Л. М. Розенблюм
134 Достоевский. ПСС. Т. 24. С. 239-240.
364
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
—ф
характеристику Страхова Достоевским и признает далее: «Некоторый элемент
заведомого преувеличения в этих словах, конечно, чувствуется»135.
Исследователь мягко называет «преувеличением» совершенно не соответствующую
действительности, злую и оскорбительную характеристику, хотя и она, если
выражаться языком хулителей Страхова, тоже является своего рода «клеветой»
и «наветом». Конечно, ни автор, ни другие, более поздние «общественные
обвинители» Страхова так ее не воспринимают. А сделана была эта запись задолго
до печально известного письма Страхова к Толстому.
Л. М. Розенблюм предположила, что Страхов при подготовке первого тома
сочинений Достоевского, в который среди прочего включались и избранные
записи из записных тетрадей, прочел эту запись и решил отомстить писателю.
По мнению исследователя, письмо Страхова к Толстому написано сознательно:
он, дескать, знал, что переписка Толстого будет со временем издана.
Вероятность того, что Страхов мог видеть эту дневниковую запись Достоевского во
время работы над воспоминаниями, действительно велика, а ее тональность
настолько неприязненна, что она на самом деле могла послужить причиной не
менее неприязненного письма Страхова к Толстому. Гипотеза Л. М. Розенблюм
была многими поддержана, хотя это всё же лишь удобная, но недоказуемая
версия. А видеть в поступке Страхова сознательное стремление «подгадить»
Достоевскому и тем более оклеветать его — решительно противоречит
многочисленным отзывам о благородстве Страхова и скорее характеризует самих
современных его обличителей. С тех пор анализирующие пресловутое письмо
Страхова исследователи удовлетворились той точкой зрения, что «диффамация»
критиком Достоевского объясняется его обидой на характеристику в записной
тетради, датируемую июлем 1876 г.
Однако нельзя не отметить, что, низвергая громы на Страхова за его
шокирующее письмо о Достоевском, почти ни один исследователь, начиная
с Л. М. Розенблюм, не нашел нужным высказаться о неприглядной этической
стороне этой позорной характеристики. Заметим, что эта получившая
широкую огласку запись была сделана за семь лет до вызвавшего почти всеобщее
негодование письма Страхова. Неутомимые обличители Страхова не
унимаются до сих пор: в 2017 г. старательный исследователь скорректировал по
архивному оригиналу прочтение рукописи Л. М. Розенблюм, вычитав там,
что, оказывается, Достоевский предъявил Страхову даже более серьезное
обвинение: он обвинил автора «Борьбы с Западом» ни много ни мало в...
готовности «родину предать»136. Это исправление еще в большей степени
показывает, насколько нелепа и несправедлива злая характеристика, не
делающая чести раздраженному писателю, как, впрочем, и обличительное
135 Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. С. 21-22.
136 Захаров В. Н. Полемические заметки Ф. М. Достоевского о Н. Н. Страхове // Рус.
литература. 2017. № 4. С. 63.
365
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
письмо — его критику. А в воспоминаниях Страхова можно обнаружить словно
прямой ответ на это злое обвинение: «Но я никогда и не думал отказываться
от своего патриотизма и предпочесть родной земле и ее духу — дух какой бы
то ни было страны»|37.
Исследователи соглашаются в том, что именно тогда, в период написания
этой недоброжелательной характеристики, между Достоевским и Страховым
произошла какая-то серьезная размолвка, которая наложила мрачный отпечаток
на все их последующие отношения. А. С. Долинин отмечал, что «после
„Подростка" в письмах Достоевского Страхов не упоминается ни разу. Очевидно,
в последние пять лет жизни Достоевского они не встречались (исключая,
конечно, случайные и официальные встречи)»138. Страхов, бывший свидетелем
триумфа Достоевского при открытии памятника Пушкину в Москве в 1880 г.,
дал в «Воспоминаниях» очень интересный и вполне доброжелательный отзыв
о знаменитой речи Достоевского. Но его имя не упоминается среди
многочисленных гостей, посетивших гостиницу «Лоскутная» для приветствия Достоевскому
после небывалого успеха его Пушкинской речи.
Нет сомнения, что инициатором этого окончательного охлаждения
отношений был не Страхов. Долинин писал: «Достоевский, в воспаленном гневе,
нередко позволял себе унижаться даже до грубой брани по адресу своих живых
и мертвых противников.. .»139 По всей видимости, та впечатлительность, которая
давала Достоевскому силы для создания великих произведений, в повседневном
общении имела оборотной стороной приступы вспыльчивости и мнительности,
к тому же усиленные его болезнью. Справедливо мнение В. А. Туниманова по
поводу резкой и необъективной характеристики Страхова в записной тетради
Достоевского за 1876 г.: «Это памфлетный портрет, начертанный в резкой
обличительной манере раздраженной рукой»140. В воспоминаниях Страхова, явно
сдерживавшего себя, прорывается обида на подозрительность Достоевского:
«Непобедимая мнительность иногда заставляла его смотреть и на меня как на
человека, имеющего к нему что-то враждебное, недостаточно к нему
расположенного, и это очень огорчало меня»141.
Заслуживает внимания мнение Н. В. Снеговой, которое сильно отличается
от преобладающих суждений о «клеветническом» письме Страхова к Толстому:
«Это письмо многие сочли доносом, что расценивается как безнравственный
поступок. Некоторые посчитали Страхова человеком „способным на все". Его
обвиняли в лицемерии. Но и Достоевскому можно бросить этот упрек. Он
не говорил Страхову, с которым в то время тесно общался, тех слов, которые
137 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 447-448.
138 Долинин А. С. Достоевский и Страхов // Долинин А. С. Достоевский и другие. С. 237.
139 Там же. С. 260.
140 Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений) // Рус.
литература. 2006. № 3. С. 58.
141 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 520.
366
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
написал в записной тетрадке, а говорил совсем другое. Тем не менее Страхова
хором клеймят позором, а о записи Достоевского умалчивают. Налицо
необъективность подхода.
Конечно, Страхов знал, что его письмо к Л. Толстому будет опубликовано.
Думается, во-первых, что страховская исповедь Л. Толстому отчасти вызвана
той оценкой себя, которую он прочел в бумагах писателя. Во-вторых, почему не
предположить, что Страховым двигала совесть биографа, который должен дать
объективную характеристику личности выдающегося писателя, имя которого
войдет в историю духовной культуры. (...) Облик великого человека мы
стараемся сделать благолепным, сакрализуем, монументализируем его. В-третьих,
думается, несправедливы обвинения Страхова в безнравственности, доносе,
лицемерии и т.д. Нет, конечно, людей безгрешных. Но Страхов был, безусловно,
нравственным, добрым, совестливым человеком»142.
Что же касается политических взглядов окончательно разошедшихся
писателей, то по сравнению с началом 1860-х гг. Достоевский со Страховым
словно поменялись местами. Достоевский в эти годы круто повернул вправо,
дойдя до национализма, в то время как Страхов, наоборот, заметно подался
в сторону либерального гуманизма, находясь под мощным давлением
псевдорелигиозной публицистики сильно полевевшего Толстого. Хотя Страхов и
старался сохранять умеренную здравую позицию, влияние могучей личности всё
более поддававшегося оппозиционным настроениям Толстого не могло на нем
не сказаться. Так, в 1895 г., незадолго до кончины, Страхов писал, вспоминая
о «последнем фазисе» Достоевского: «Его патриотизм и церковный фанатизм
доходили до болезненной щекотливости»143.
* * *
Последнее известное нам письмо Достоевского к Страхову датируется
9 февраля 1874 г. В феврале 1875 г. идет бурный обмен письмами Федора
Михайловича с женой, возмущенных реакцией Страхова и Майкова на печатание
романа «Подросток» у Некрасова. Страхов писал Достоевскому последний раз
21 марта 1875 г., уже после этих событий. В письме ничто не говорит о том,
что между ними произошла серьезная размолвка. Более того, Страхов дает
вполне положительную оценку второй части романа. Тон письма самый
благожелательный, и Страхов даже делает явный дружеский жест: он посылает
Анне Григорьевне оригинал письма Н. Я. Данилевского в ее эпистолярную
коллекцию. Складывается впечатление, что Страхов дает понять: он готов
забыть о конфликте. Но никаких следов дальнейших отношений между ними до
кончины Достоевского нам неизвестно.
142 Снетова. Философия Страхова. С. 124.
143 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 1026.
367
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
»
Достоевский умер 28 января 1881 г. Как бы ни складывались их
отношения в последнее время, Страхов, подобно всем, близко знавшим великого
писателя, воспринял его смерть как большую утрату и присутствовал у гроба
на похоронах Федора Михайловича. В письме к Толстому Страхов пишет
о Достоевском: «Чувство ужасной пустоты (...) не оставляет меня с той
минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось
полПетербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили все последнее
время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось
перед ним быть и умным и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы
друг к другу чувствовали, несмотря на глупые размолвки, было для меня,
как я вижу, бесконечно дорого. Ах, как грустно! Не хочется ничего делать,
и могила, в которую придется лечь, кажется, вдруг близко подступила и ждет.
Все суета, все суета!»144
Страхов добавляет важное свидетельство не без критической нотки по
поводу жажды писателем успеха: «В одно из последних свиданий я высказал
ему, что очень удивляюсь и радуюсь его деятельности. В самом деле, он один
равнялся (по влиянию на читателей) нескольким журналам. Он стоял особняком,
среди литературы почти сплошь враждебной, и смело говорил о том, что давно
было признано за соблазн и безумие. Зрелище было такое, что я изумлялся,
несмотря на все свое охлаждение к литературе. Но, кажется, именно эта
деятельность сгубила его. Ему показался очень сладок восторг, который раздавался
при каждом его появлении, и в последнее время не проходило недели, чтобы он
не являлся перед публикою. Он затмил Тургенева и наконец сам затмился. Но
ему нужен был успех, потому что он был проповедник, публицист еще больше,
чем художник»145.
14 февраля 1881 г. Страхов выступил на вечере памяти Достоевского
в Санкт-Петербургском Славянском благотворительном обществе. Свое
выступление он построил на цитировании очень теплого отзыва Л. Н. Толстого о книге
Достоевского «Записки из Мертвого дома» и подчеркивании христианского
идеала покойного писателя.
«Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Страхова (1883), изданные в
первом томе собрания сочинений писателя, — самый полный и детальный свод
биографических сведений о нем за период их литературного сотрудничества.
Хотя большинство специалистов по Достоевскому не слишком лестно
отзываются о самом Страхове, фактический материал о творчестве писателя,
и особенно о журналах «Время» и «Эпоха», они черпают в основном из этого
источника.
Наибольшее внимание художественному творчеству Достоевского
Страхов уделил в своей статье, опубликованной в газете «Русь» И. С. Аксакова
144 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 591.
145 Там же.
368
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
Ф
в январе 1883 г. В ней Страхов среди прочего рассмотрел три романа —
наиболее значительные произведения эпохи: «Новь» Тургенева (1877), «Анну
Каренину» Толстого (1877) и «Братьев Карамазовых». Раскрыв содержание
романа Достоевского, Страхов сообщает далее о предполагаемом
содержании других частей романа-эпопеи, замыслом которых Достоевский делился
с ним, но так и не успел написать, а в заключение отмечает, что романы «Анна
Каренина» и «Братья Карамазовы» «указывают на религию как на выход из
хаоса и отчаяния».
После завершения работы над воспоминаниями о Достоевском, которая
далась ему очень трудно, Страхов написал свое злополучное письмо к
Толстому, в котором обвинял Достоевского, что «он был зол, завистлив, развратен»,
что «его тянуло к пакостям и он хвалился ими»146, и воспроизвел расхожую
сплетню об ужасном преступлении, поведанную ему историком литературы
П. Висковатовым.
* * *
Высказывались разные соображения, почему Страхов мог написать
это ужасное письмо. Версия о клевете из обиды на характеристику в
записной тетради получила наибольшее распространение. Но почему бы не
предположить, исходя из тональности письма, да и из характера Страхова,
принявшего странную манеру исповедоваться перед Толстым, что это
письмо стало исповедальным криком души человека, униженного тем, что он не
имел возможности в биографии, предназначенной для собрания сочинений,
полностью и открыто выразить свое мнение? Страхов был, бесспорно, неправ,
когда под нажимом согласился писать биографию Достоевского для первого
тома собрания сочинений, в которой в силу самого жанра он не имел
возможности объективно изложить то, что думал. Очень печально, конечно, что его
мнение о ближайшем сподвижнике многих лет оказалось столь
неблагоприятным. В какой-то степени на этой характеристике сказались специфические
качества личности самого автора письма, а также вытекающая из них узость
восприятия Страховым личности Достоевского, связанная с недооценкой
творчества писателя.
Одной из отличительных черт характера застарелого холостяка Страхова,
о которой следует упомянуть, была строгость его нравственных суждений,
доходящая до пуританства. Очень интересный свет на мнение Страхова о
Достоевском, как и на личность самого критика в целом, проливает письмо Полонского
к А. А. Фету от 3 февраля 1891 г. по поводу «развратных», по оценке Страхова,
стихов поэта. Полонский писал:
Там же. С. 652.
369
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
«На прошлой неделе был у меня и Страхов — и ему я читал стихи
твои. — Стихи твои и ему понравились, только вдруг он покраснел как
красная девушка и сказал посмеиваясь: „А все-таки, коли вникнуть в
содержание этих стихотворений, — окажутся одни только чувственные половые
влечения! — Понимаю я, какие это стремления в вешний день — и от чего
эта усталостъ\\ Понимаю, отчего рассуждать стыдноИ Ох, этот Фет!!!
Ха-ха-ха!" Сплетничаю, потому что в этом пуризме почтенного Николая
Николаевича не вижу ничего для тебя обидного, и потому, что это отчасти
рисует и самого Страхова, очищенного учениями Графа Толстого от всякой
плотской или греховной нечисти»147.
Это очень характерное замечание Полонского, отметившего и влияние
на Страхова морализма автора «Крейцеровой сонаты», раскрывает, на наш
взгляд, важную особенность характера Страхова и заслуживает гораздо
большего внимания, чем пошлые обвинения его в зависти или, тем более, в
желании отомстить. Страхов строго, до педантизма придерживался принципов
христианской морали, отстаивал позицию неприемлемости апологии греха
и не раз без ханжества заявлял, что больше всего в своей жизни «берегся
нравственно»148.
Нельзя не отметить, что в последние годы Страхов с его нарастающим
христианским морализмом стал заметно расходиться и с Фетом, несмотря на
дружеское расположение к нему, из-за превозношения поэтом чувственной
любви в духе античного язычества. Критик осуждал любовные стихотворения
Фета и сопровождавшие их «бесстыдные письма», в которых проявлялись
«богомерзкие»149 воззрения поэта, которого он критиковал за «ярость
вольнодумства и нигилизма»150, за «уродливость его умственного настроения»151.
Характерно, что Фет называл такой строгий христианский морализм Страхова
«порицающим скептицизмом»152.
Такой «порицающий скептицизм» или моралистический ригоризм
проявлялся у Страхова по отношению к нравственной шаткости современников
и ранее. Леонтьева, например, Страхов решительно осуждал за то, что у него
«самые высокие предметы вдруг подчиняются самым низменным стремлениям,
развратной жажде наслаждения и услаждения себя»153.
Страхов был человеком принципиальным в неуклонном следовании
истине, строгим в вопросах морали, и при его тенденции к упорядоченности он
исповедовал такой не вполне русского обличия ригоризм, в большей степени
147 Фет и его окружение. Кн. 1. С. 886.
148 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 638.
149 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 859, 827.
150 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 504.
151 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 823-824.
152 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 521.
153 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 107.
370
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
Ф
протестантского, чем православного извода. Такого рода нравственная строгость
может не нравиться, но таков уж был характер нашего героя. И даже осуждая
Страхова за его письмо, следует объяснять его поступки логично, исходя из
присущих ему черт характера, а не приписывать мыслителю непорядочности
в выборе средств, для него совершенно не характерной. Именно в ригоризме
Страхова, в его «порицающем скептицизме», а не в каких-либо личных обидах
или, тем более, интригах кроется, на наш взгляд, одна из важнейших причин
осуждения им по этическим критериям своих современников, в том числе
и Достоевского.
* * *
А. Г. Достоевская, с запозданием на год узнав о письме Страхова, была
крайне возмущена, но свой протест завещала опубликовать после ее кончины.
Она писала в воспоминаниях: «Какая неслыханная клевета! И от кого же она
исходит? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего посетителя,
свидетеля на нашей свадьбе — от Николая Николаевича Страхова, который просил
меня после смерти Федора Михайловича поручить ему написать биографию
Достоевского в посмертном издании его сочинений»154. Гнев вдовы писателя
очень понятен, однако относительно того, что Страхов сам напросился писать
воспоминания о Достоевском, Анна Григорьевна слукавила или ошиблась.
Это надуманное обвинение легко опровергается документами. Например,
письмом вдовы издателя «Зари» С. С. Кашпирёвой, дружившей с семьей
Достоевских. Энергичная дама буквально негодовала на Страхова за нежелание
написать даже короткий некролог для ее журнала. Страхов, по всей видимости,
уклонялся от написания некролога о Достоевском, но С. С. Кашпирёва
настаивала в довольно резкой форме: «Не в правде ли я была, сказав, что некролог
Достоевского не будет вами написан для „Семейных вечеров". Не только ко
вторнику, но и к четвергу, и к пятнице его тоже не будет (...) Только зачем это
вы, Николай Николаевич, хитрите и виляете перед порядочными людьми?
Право, нехорошо! Не лучше ли прямо сказать: не решаюсь, не дерзаю...
Положим, это выйдет не совсем респектабельно, даже несколько комично, если
хотите, все же несравненно чистосердечнее и честнее...»155 Что же касается
основных воспоминаний, то Анна Григорьевна в своей недатированной
записке 1881 г. буквально умоляла Страхова не отказываться писать биографию
Федора Михайловича156.
154 Достоевская А. Г. Воспоминания / под ред. Л. П. Гроссмана. М., 1925. С. 15.
155 С. С. Кашпирёва — Н. Н. Страхову // ЛИ. Т. 86: Ф. М. Достоевский: Новые материалы
и исследования. С. 552.
156 См.: Достоевский в неизданной переписке современников. С. 559.
371
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
Конечно, Страхов все-таки виноват в том, что он, пусть и в частном
письме, в таком недружественном, даже, по мнению Б. И. Бурсова, злом тоне выложил
обвинения, которые доказать или опровергнуть невозможно. Но почему-то почти
все исследователи неприятного эпизода с письмом Страхова и даже сама Анна
Григорьевна, называя это письмо «клеветническим», утверждают еще, что это
была «неслыханная клевета», словно Страхов первым заговорил об этих слухах
или стал тем, кто сильнее других опорочил писателя.
Однако слухи об этом муссировались в обществе очень давно. Так, еще
при жизни Страхова, в 1888 г., писатель Иринарх Ясинский опубликовал в
газете «Новое время» рассказ о художнике, который, соблазнив девочку, сообщил
о своем преступлении некоему композитору, своему злейшему врагу, «чтобы
испортить ему настроение»157. Прямой связи с «клеветой» о Достоевском,
разумеется, не было, но уже и в то время в обществе распространялись
восходящие к Тургеневу слухи о том, что петербургский писатель сам рассказывал
ему и другим людям о совершении подобного греха.
2 июня 1908 г. в столичных газетах широко освещалась история суда
над «педагогом» Дю-Лу, обвиненном в растлении детей. Это громкое дело
послужило поводом для статьи в «Петербургской газете» Ф. В. Трозинера,
подписавшегося псевдонимом Омега158. 5 июня появилась статья, в которой
приводился рассказ известного психиатра проф. Н. Н. Баженова, который,
ссылаясь лишь на устное свидетельство Тургенева, прямо заявлял, будто
бы Достоевский совершил подобное преступление. Надо сказать, что проф.
Баженов еще в 1903 г. выпустил книгу, в которой одна из глав была
посвящена психиатрической характеристике Достоевского. Профессор утверждал,
что эпилепсия меняет всю психологию человека. Баженов упоминал в книге
рассуждение Н. К. Михайловского о «жестоком таланте» Достоевского и
рассуждал о близости, которая существует между страданием и наслаждением,
искони свойственной человеческой душе159. Но о педофилии в книге речь не
шла. А вот газетная заметка с изложением мнения ученого вызвала целый ряд
откликов, порой довольно неожиданных.
6 июня в «Петербургской газете» была опубликована статья под
псевдонимом Старый, в названии которой фамилия писателя опять
соседствовала с фамилией преступника160. Однако в тот же день в московской газете
«Русское слово» появилась статья, где категоричность тона профессора
в репортаже «Петербургской газеты» опровергалась им самим: «В своих
157 Ясинский И. Исповедь: Рассказ // Новое время. 1888. № 4415, 18 июня. С. 2.
158 Омега. Избиение младенцев // Петербургская газета. 1908. № 150, 2 июня. С. 1.
159 Баженов Н. Н. Психиатрические беседы на литературные и общественные темы. М.,
1903. С. 28.
160 Старый. Достоевский и Дю-Лу // Петербургская газета. 1908. № 153, 6 июня. С. 2.
372
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
объяснениях перед судом Н. Н. Баженов ни слова о Достоевском не говорил.
Только в перерыве, беседуя с прокурором, сообщил, как о слухе,
передававшемся в старое время в литературных кругах, о покаянном визите
Достоевского к Тургеневу. Все прочее — собственность репортера, очевидно, плохо
подслушавшего»161.
7 июня 1908 г. в газете «Вечер» выступил под псевдонимом Антэй
некий сотрудник этой газеты Г. М. Редер, который изложил услышанную им от
писателя Г-а (Д. Григоровича) историю о том, как Достоевский пришел к
Тургеневу и оговорил себя, заявив, будто это он совершил грех, о котором только
что рассказал162.
Практически каждый из авторов, высказывавшихся по теме, отрицал
совершение писателем греха, но с каждой новой статьей становилось яснее,
что Достоевский действительно сам себя оговорил, притом не только перед
Тургеневым.
9 июня в «Петербургской газете» с обширной статьей выступил
публицист А. И. Фаресов163. В этой статье, со ссылкой на «Петербургскую газету»,
Фаресов прямо писал, что популярный московский психиатр Н. Н. Баженов
«вспомнил о мало кому известном эпизоде из жизни величайшего писателя-
психолога Достоевского. Н. Н. Баженов поведал миру, что Ф. М. Достоевский
и сам был повинен в изнасиловании малолетней, о чем он и покаялся „своему
заклятому другу" Тургеневу». Сам Фаресов не верил в то, что Достоевский мог
совершить приписываемый слухами грех, но подробно осветил всю ситуацию,
добавив целый ряд неизвестных прежде слухов.
Так, он сообщил, что ему лично о подобном признании ей
Достоевского рассказывала писательница К. В. Назарьева. Упоминается в статье
А. Фаресова и о том, что разговоры о развратном поведении Достоевского
вел писатель А. К. Шеллер-Михайлов: «Неоднократно А. К. Шеллер
упражнялся в том же направлении у себя на журфиксах по адресу Достоевского
в Дрездене, где будто полиция едва не составила протокол об его
безнравственном поведении».
10 июня в «Петербургской газете» была напечатана статья писателя
И. Ясинского «по поводу Достоевского в роли Дю-Лю, приписываемой
профессором Баженовым великому писателю». Ясинский отверг ссылки Фаресова
на свой рассказ, напечатанный в «Новом времени» много лет назад, и заявил,
что «в рассказе этом действует совсем не Достоевский, а некий
вымышленный им композитор и под другою фамилией, рассказывающий о себе ужасные
гадости с целью почтить своего соперника и отравить этим художественную
161 К делу Дюлу // Рус. слово. 1908. № 130, 6 июня. С. 4.
162 Антэй [Редер Г. M.J День // Вечер. 1908. № 5, 7 июня. С. 3.
163 Фаресов А. [И.] Достоевский перед судом проф. Баженова // Петербургская газета.
1908. №156, 9 июня. С. 1.
373
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$'
ясность его души»164. Это, бесспорно, важное опровержение слухов, неясно
только, зачем тот же Ясинский позже в своем романе «История моей жизни»
живописал похожую историю с участием Достоевского, наговаривающего на
себя перед Тургеневым165.
11 июня в газете «Русь» с опровержением слухов о неблаговидном
поступке писателя выступил публицист В. Ф. Боцяновский, который сообщил, что
эту историю о признании Достоевского в грехе Тургеневу он слышал лично от
друга детства, писателя Д. В. Григоровича (таким образом, Боцяновский
раскрыл фамилию одного из распространителей слуха). Как и другие, Боцяновский
отвергал фактическую достоверность истории, но не рассказа Достоевским
Тургеневу и другим. Важно следующее его заявление об источнике сведений:
«Мне его рассказал несколько лет назад, со слов самого Федора Михайловича
(курсив мой. — В. Ф.), личный друг последнего, впервые узнавший от
Достоевского то, что произошло в действительности»166.
Относительно недавно опубликованы воспоминания поэта Н. М.
Минского о встрече с Тургеневым, во время которой писатель также рассказывал
о признании ему Достоевского. Издатель этих воспоминаний С. Сапожков, как
и публикаторы и исследователи некоторых других версий, склоняется к тому,
что эта история прихода Достоевского с покаянием не имеет под собой
реальной почвы, а сочинена самим Тургеневым как «литературная легенда»167. При
этом публикатор как-то не обращает внимания на такие «мелочи», как рассказ
Тургенева о разврате Достоевского: «Тургенев еще долго говорил о
Достоевском в весьма недружелюбном тоне, рассказывал, что Достоевский
развратничал по ночам, а утром бегал в Новодевичий монастырь и часами клал земные
поклоны. Рассказывал он еще другие анекдотические подробности о разврате
Достоевского, но о них лучше промолчать»168. Как анекдоты воспринимает
Сапожков, видимо, и письма Тургенева к Анненкову и Салтыкову-Щедрину,
в которых Тургенев называл Достоевского «нашим де Садом»169. Почему-то
далеко не невинные и неоднократно повторенные «литературные анекдоты» от
парижского отшельника достоевсковедами воспринимаются до сих пор почти
164 Ясинский И. О Достоевском // Петербургская газета. 1908. № 157, 10 июня. С. 1-2.
165Ясинский И. И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. М; Л., 1926. С. 167-169; то
же см.: Белов С. В. Ф. М.Достоевский и его современники: энциклопедический словарь. СПб.,
2001. Т. 2. С. 468-469. Помещая в своем словаре «смачную» историю Ясинского, Белов тут же
предваряет ее словами, будто Ясинский рассказывает о факте, который получил клеветническое
отражение в письме Страхова.
^Боцяновский Вл. Сплетня о Достоевском // Русь. 1908. № 159, 11 июня.
167 Минский Н. Встреча с Тургеневым: (Страница воспоминаний) // Новое литературное
обозрение. 2005. № 72 (2). С. 19-30; Сапожков С. Штрихи к портрету странного Тургенева:
неопубликованный мемуарный очерк Н. М. Минского // Там же. С. 7-19.
168 Минский Н. Встреча с Тургеневым... С. 22.
169 Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: в 28 т. М.; Л., 1968. Письма. Т. 13, кн. 2. С. 49,51.
374
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
как невинные шалости, фантазии, в то время как Страхова за честное покаянное
письмо не бранит только ленивый?
Между тем Страхов в этом письме говорит лишь, причем со слов Виско-
ватова, о том, что Достоевский сам «хвалился»170.
Страхов, в отличие от психиатра Н. Н. Баженова, историка литературы
П. А. Висковатова и других, не приписывал Достоевскому в письме никакого
преступления. Он упрекает его лишь за манеру хвастаться «пакостями»,
сославшись на свидетельство проф. Висковатова, который заявлял ему, что сам
слышал это признание от Достоевского.
Впрочем, тут же встает вопрос, как отнестись к упоминаемому Страховым
свидетельству профессора Висковатова. А ведь это свидетельство никем не
опровергается: оно подтверждается записью в его альбоме, которая доступна
не только в архиве171, но даже цитируется и в посвященном Достоевскому
энциклопедическом словаре172, где одновременно по непонятной причине Страхов
признается чуть ли не главным виновником клеветнических слухов.
Висковатов, кстати, рассматривает личность Достоевского в своем альбоме
рядом с характеристиками Л. Толстого и Вл. Соловьева, утверждая, что никто из
этих великих людей не заслуживает звания пророка, на которое они претендуют:
«Лев Толстой, Влад(имир) Соловьев, Достоевский — это не пророки, а герои
своего времени, у них мы должны не учиться, как у пророка, а изучать
стремления и движения нашего сложного временного процесса. — В них страшный
разлад и дисгармония, а гармоничность и стройность сознания — это настоящая
мудрость и характер пророка. Искренность у этих людей разве только в
искании» 173. О Достоевском Висковатов выражается в альбоме гораздо резче, чем
Страхов: «Достоевский вечно колебался между чудными порывами и грязным
развратом (растление девочки при участии гувернантки в бане), и при этом
страшное раскаяние и готовность на высокий подвиг мученичества, высокий
альтруизм и мелкая зависть (к Тургеневу в Москве, где я жил с Достоевским
в одном номере). Недаром он говорил: „Во мне сидят все три Карамазова"»174.
Противоречивая личность самого Висковатова не вполне изучена. Загадкой
альбома является то, что на его страницах можно обнаружить не только
порочащие писателя строки, но и черновик стихотворения, в котором... чествуется
Достоевский.
П. А. Висковатов после Петербургского университета жил и учился в
Германии, был знаком с Достоевским и встречался с ним. Висковатов знал не
только Достоевского, но и Суслову — в переписке Достоевского с Сусловой
170 Белов С. В. Ф. М. Достоевский и его современники. Т. 2. С. 468-469.
тОРРНБ.Ф. 148 (П. А. Висковатов). Оп. ГЕд.хр. 1.Л. 149-151.
172 Белов С. В. Ф. М. Достоевский и его современники. Т. 2. С. 149.
тОРРНБ. Ф. 148 (П. А. Висковатов). Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 149.
174 Там же. Л. 149-150.
375
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
упоминаются «Висковатовы» — П. А. Висковатов и его жена. Это упоминание
далеко не случайно: историк литературы, автор известной книги о М. Ю.
Лермонтове П. А. Висковатов был женат на приятельнице Аполлинарии
Сусловой Е. И. Корсини. Висковатова-Корсини относилась к числу эмансипированных
девушек, примыкала к кружку нигилистов-революционеров, вслед за старшей
сестрой посещала лекции в Санкт-Петербургском университете, состояла с
Достоевским в «дружеских отношениях»175 и переписке (сохранилось два письма).
Висковатов мог, конечно, знать от своей жены об отношениях Достоевского
и Сусловой гораздо больше, чем писалось в официальных источниках.
* * *
Итак, информации для более объективной обрисовки ситуации и для
достижения поставленной цели — защитить Страхова от самых нелепых обвинений,
думается, достаточно. Распространенность слухов о Достоевском до публикации
письма Страхова очевидна, и называть его инициатором «клеветы» и даже важным
распространителем ложных слухов нет оснований. Дальше пусть разбираются по
собственному разумению сами читатели. Соггутствующую библиографию можно
было бы, конечно, значительно увеличить. Но нет необходимости ссылаться,
например, на такие весьма специфические источники, как исследование В. Чижа
«Достоевский как психопатолог» (1885) и фрейдистская книга А. Кашиной-
Евреиновой «Подполье гения (сексуальные источники творчества Достоевского)»
(1923) или на содержательные, но чрезмерно категоричные, словно ставящие своей
целью «разоблачение» Достоевского, статьи В. Свинцова. Тем более не подходят
нам аргументы антипода Достоевского Владимира Набокова и его последователей
с выходом на темы вроде «нимфолепсии» и «нимфофилии». Наша задача лишь
одна — показать, что кажущиеся на первый взгляд возмутительными упреки
Страхова в адрес Достоевского возникли не на пустом месте и не являются ни
«клеветой», ни тем более выражением «зависти».
Грустно, что исследователи не услышали искренности слов раскаяния
Страхова, которую нельзя подделать: «Как мне тяжело, что я не могу отделаться
от этих мыслей, что не умею найти точки примирения! Разве я злюсь? Завидую?
Желаю ему зла? Нисколько; я только готов плакать, что это воспоминание,
которое могло бы быть светлым, — только давит меня!»
Как можно не поверить этим словам?! И как можно не обратить
внимания на трагические слова Страхова в самом конце письма, что он только слегка
приоткрыл завесу: «Вот маленький комментарий к моей Биографии; я мог бы
записать и рассказать и эту сторону в Д(остоевском); много случаев рисуются
мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо
175Белов С. В. Ф.М.Достоевский него современники: энциклопедический словарь.
СПб., 2001. Т. 1.С. 149.
376
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою
стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!»176
У несведущего читателя при чтении полных презрения работ
современных обличителей «клеветника» Страхова может сложиться впечатление, будто
только Страхов первый и чуть ли не единственный писал о Достоевском в таком
духе и совершил по отношению к нему предательство.
На самом деле существует целая литература о сложном, даже болезненном
характере Достоевского и темных сторонах его биографии, а письмо Страхова
получило наибольший резонанс лишь по той причине, что его автором стал
человек, знавший писателя как никто другой из современников. При чуть более
тщательном исследовании оказывается, что набирается немало писателей —
современников Страхова, которые в той или иной степени разделяли его точку
зрения на Достоевского, но не решались открыто высказать свое мнение.
Например, В. Микулич сообщает в своей книге «Встречи с писателями»
о разговоре с писателем Всеволодом Гаршиным: «О Достоевском он отзывался
в тоне „Отечественных записок" и статьи Михайловского „Жестокий талант". Он
прибавил, что Достоевский был безнравственный человек. Мы с Загуляевым, как
горячие поклонники Достоевского, поспешили заступиться за него. Я сказала:
— А кто из нас нравственный человек? Кто имеет право поднять руку,
чтобы бросить камень?
— Я не бросил камень, — мягко сказал Гаршин, — но слышал о таких
делах его жизни...»177 И далее вместо рассказа следует многозначительное
отточие.
Но подобные красноречивые умолчания, может быть, лучше
подтверждают отсутствие у Страхова задней мысли в отношении Достоевского, чем
высказанные мнения.
Одним из хорошо знавших Достоевского и относившихся к писателю
с огромным уважением был брат Владимира Соловьева, романист Всеволод
Сергеевич Соловьев. Вс. С. Соловьев в разговоре с журналистом А. А.
Измайловым за год до смерти свои устные воспоминания о Достоевском закончил почти
в тональности страховского письма: «Не те времена, не те люди. Мы
благоговели перед стариками, и старики любили нас. Я уж не говорю о великанах. Мне
выпало счастье близости к Достоевскому. Храню его письма. Вот книга с его
автографом. (Он взял, кажется, „Преступление и наказание", врученное автором
„дорогому Всеволоду Сергеевичу".) Многого я не мог внести в свои печатные
воспоминания об этом человеке великого духовного порыва и вместе великого
греха»178. Эта последняя фраза в свете письма Страхова очень характерна.
176 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 653.
177 Микулич В. Встречи с писателями. СПб., 1914. С. 220-221.
178Измайлов А. Л. Литературный Олимп: (...) Характеристики, встречи, портреты,
автографы. М., 1911. С. 465.
377
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
О широком хождении «сплетни» свидетельствует, например, запись за
1905 г. в дневнике публициста Б. А. Лазаревского. Он записал свою беседу
с А. П. Чеховым, в которой писатель вспомнил о той самой «легенде»,
по-видимому веря в нее:
«— Однажды Достоевский сделал очень гадкий поступок, почти
преступление, потом пошел к Тургеневу и сказал: „Вы знаете, что я вас
ненавижу?" — „Знаю". —„Ну, так слушайте". И Достоевский подробно рассказал
о той своей гадости, которую сделал.
— Ну, к чему такие выходки, — сказал А. П.»179
Та же тема звучит в беседе Л. Гроссмана с писателем Л. Андреевым:
«Я этому не могу поверить, — воскликнул Андреев. — Объясняю себе эту
историю иначе. Да, мог сам себя оклеветать, мог возвести на себя отвратительный
и ужасный поклеп, чтобы унизить презираемого собеседника, мог, наконец,
в галлюцинации представить себе никогда не происходившую
возмутительную сцену, и поверить себе, и мучиться угрызениями... Но совершить такую
низость он не мог»180.
Собственно, и Страхов испытывал те же смешанные чувства
восхищения перед гением и бремя тяготившего его знания, только он не выдержал
и, на свою беду, приоткрыл в частном письме свои переживания вследствие
унизительного сдерживания себя во время очень тяжело давшейся ему работы
над биографией.
Толстой сразу после прочтения письма Страхова сказал очень глубокие
слова, которые не мешает вспомнить и всем нам: «Мне кажется, вы были
жертвой ложного, фальшивого отношения к Достоевск(ому) — не вами, но всеми
преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка,
святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы
добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение
потомству нельзя человека, который весь борьба»181.
Современные достоевсковеды, не желая смотреть правде в глаза,
взяли курс на упрощение проблемы, на полное оправдание писателя как гения
и христианина, на обвинение Страхова и прочих критиков в клевете, зависти
и стремлении опорочить гениального писателя (В. Н. Захаров, И. Л. Волгин,
СВ. Белов и пошедшие по их стопам многие другие).
Но куда деть очевидные самопризнания Достоевского — о которых
Ясинский говорит, что сам писатель был «причиною того, что до сих пор
пишут целые книги об его „сластобесии"»?182 Куда деть его многочисленных
179 Записи о Чехове в дневниках Б. А. Лазаревского / предисл. и публ. Н. И. Гитович IIЛН.
М., 1977. Т. 87: Из истории русской литературы и общественной мысли: 1860-1890-е гг. С. 335.
180 Гроссман Л. Беседы с Леонидом Андреевым // Россия. 1925. № 4(13). С. 245.
181 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 655.
182 Ясинский И. И. Роман моей жизни: Книга воспоминаний. С. 168.
378
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
Ф
персонажей — мрачных, психически неуравновешенных или одержимых,
мучителей, злодеев и сладострастников? Как объяснить странный до
патологии рассказ «Бобок»183, в котором описывается «разврат дряблых и гниющих
трупов» с перекличкой замогильных голосов покойников с призывами
«обнажиться и ничего не стыдиться»; идущая в данном случае в строку мысль
о том, что «не согрешишь — не покаешься, да и согрешить-то надо
по-настоящему, глубоко, делом, а не мыслью», записанная А. Опочининым184, не
менее странный рассказ о чиновнике-некрофиле Дмитрии Ивановиче (со слов
автора его записал тот же Опочинин)185; описание сладострастия Клеопатры
с подробностями...
Нет, проблема эта, очевидно, сложнее, и далеко не один Страхов виноват
в упорном и непрекращающемся распространении слухов. Не лучше ли вместо
идеализации и пропаганды рассмотреть сложнейшую проблему без упрощений,
во всей ее трагической правде, не ища правых и виноватых?
Защитники Достоевского имеют, конечно, все основания сердиться на
Страхова, так как он позволил себе категоричное высказывание, достоверность
которого подтвердить или опровергнуть окончательно невозможно, и тем самым
возвел хулу на человека, который считался его другом. В то же время, изучив
характер Страхова в деталях, приходишь к выводу, что солгать он никак не
мог. Точно так же как нелегко поверить в поступок Достоевского, так же
трудно представить, что такой человек, как Страхов, мог его оболгать, написать
неправду. Как отмечал Фет (в письме к Полонскому от 1 января 1888 г. — по
другому поводу): «Страхов, пожалуй, смолчит кстати, но лгать не станет»186.
Нет, не тот Страхов человек, чтобы лгать, да и многочисленные
отрицательные отзывы о Достоевском в других его письмах говорят о цельности
и неизменности его позиции. Высказаться в письме Страхова толкнуло именно
то, что он посчитал унизительным скрывать правду, о которой был
вынужден промолчать в воспоминаниях о Достоевском, написанных для собрания
сочинений покойного писателя. По всему видно, что у Страхова не было
прямого намерения обнародовать печатно те сведения, которые он сообщал
в частном письме.
Но нельзя не признать малодушием то, что Страхов не отказался писать
воспоминания, когда в его душе накопилось столько отрицательных эмоций.
Страхов, впрочем, очень старательно отказывался, но Анна Григорьевна была
настойчива, и он уступил.
183 Достоевский. ПСС. Т. 21. С. 41-54.
184 Федорова Е. А. Е. Н. Опочинин и его дневниковые записи о Ф. М. Достоевском //
Неизвестный Достоевский. 2013. № 3. С. 75.
185 Опочинин Е. Беседы с Достоевским: Записи и припоминания / предисл. и примеч.
Ю. Верховского // Звенья. М, 1936. Вып. 6. С. 465.
186 Фет и его окружение. Кн. 1. С. 620.
379
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
Можно принять как рабочую версию Л. М. Розенблюм, что последним
толчком к письму стало ознакомление Страхова с записной тетрадью
Достоевского, хотя это дает лишь гипотетическую мотивировку, но не разрешает
суть конфликта. В таком деликатном вопросе не может быть окончательной
уверенности, и прав был Леонид Андреев, который в конце беседы с
Гроссманом сделал серьезный упрек в адрес Страхова: «Как бы ни был сложен вопрос
о „греховности" Достоевского, Страхов в своем письме проявил изумительное
легкомыслие. Нельзя чернить и позорить на вечные времена великого писателя
на основе каких-то сомнительных и темных слухов...»187
История эта действительно крайне сложна, туманна и противоречива.
Подтверждением этого может служить хотя бы тот факт, что в Пушкинском
Доме хранится экземпляр книги Страхова «Воспоминания и отрывки» с
такой дарственной надписью: «Анне Григорьевне Достоевской в знак давней
приязни и душевного уважения от Н. Страхова. 9 дек. 1892 г. СПб.». Из этого
следует, что Страхов, видимо, все-таки рассматривал свое письмо к
Толстому исключительно как частное и никак не рассчитывал на то, что оно будет
опубликовано.
* * *
У Софьи Андреевны Толстой была возможность избавить нас от этого
неприятного разбирательства: именно она занималась в 1900-х гг. подготовкой
к изданию эпистолярного наследия Толстого, хранившегося в Историческом
музее. Как свидетельствует Д. П. Маковицкий, толстовец Ф. А. Страхов
советовал жене писателя 31 августа 1907 г. не печатать это ужасное письмо своего
однофамильца. Однако настойчивая Софья Андреевна решила иначе, сказав,
что «истина ей дорога»188. Трудно усомниться, что жена Толстого отдала это
недоброжелательное письмо издателям из благих побуждений: ее переписка со
Страховым свидетельствует, что она очень тепло относилась к близкому другу
мужа, была единомысленна с ним по многим вопросам и считала критика
человеком высокой нравственности. Значит, она по каким-то причинам полагала,
что это письмо послужит истине.
Сам Толстой, которому было адресовано злополучное письмо, тогда,
в 1907 г., видимо, страдал уже провалами в памяти и не только не помешал жене
опубликовать его, но даже не вспомнил, что обсуждаемое в домашней беседе
письмо было адресовано ему. Он изрек лишь, словно впервые услышав о нем:
«Нехорошо было со стороны Страхова»189.
187 Гроссман Л. Беседы с Леонидом Андреевым. С. 147.
ШЛН. М., 1979. Т. 90: У Толстого: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого: в 4 кн.
Кн. 2: 1906-1907 гг. С. 495.
189 Там же. Кн. 3: 1908-1909 (янв. —июнь). С. 133,473 (примеч.).
380
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
В упоминавшейся выше статье Д. В. Философова заслуживает внимания
еще одна важная фраза о скандальном письме Страхова: «Письмо это для печати,
конечно, не предназначалось. В этом оправдание Страхова. Но теперь его
напечатали». Да, это было частное письмо, и печатать его, как давно стало очевидно,
не следовало. Этот всплеск отрицательных эмоций ничего не доказывает и мало
что добавляет к имевшимся сведениям об отношениях Достоевского и Страхова.
Если внимательно изучить сочинения и переписку Страхова, то он и до
этого письма, в том числе и в воспоминаниях о Достоевском, не идеализировал
скончавшегося писателя, как показано в первой части настоящей главы. И потому
не следует считать злополучное письмо «предательством», как полагает часть
современных историков литературы. Это всего лишь еще один драматический
эпизод в истории русской литературы. На Страхова обрушилось осуждение за то,
что он посмел нарушить общественное табу на допустимую в жизнеописаниях
выдающихся лиц и ненужную обычным читателям степень их «приземления».
Едва ли не единственным, кто не осудил Страхова, а решился
восхититься его смелостью, был философ с репутацией «декадента» Лев Шестов.
Он выступил апологетом покаянного письма Страхова в опубликованной им
в 1920 г. статье «Откровение смерти (Последние произведения Л. Н.
Толстого)» 190. В отличие от многих современников, Шестов ни в малейшей степени не
сомневается в искренности написавшего это письмо. Он подчеркивает особую
ценность подобного рода документов, так как в литературе существует прочно
установившийся обычай: показывать читателям только лицевую сторону жизни
великих людей. Изложив суть письма, Шестов продолжает: «Не знаю, много ли
найдется в литературе документов, по своей ценности равных приведенному
письму. Не уверен даже, понимал ли Страхов смысл и значение того, в чем он
признавался Толстому. В новое время многие утверждали, что ложь ценнее
истины. (...) А Страхов просто и искренне кается, и это придает его словам
особую силу и значительность»191. Признав важность письма Страхова, философ
делает в статье целый ряд сомнительных заявлений о творчестве Толстого, но
важно то, что он считает письмо не обличительным или лживым, а искренним
и покаянным.
Реальный образ Достоевского, бесспорно, сложнее того, каким он
предстает из работ современных исследователей. Интересно, что Д. С. Мережковский
в исследовании «Л. Толстой и Достоевский» (1900), написанном задолго до
публикации злополучного страховского письма к Толстому, то есть опираясь
лишь на «Воспоминания о Ф. М. Достоевском», где Страхов воссоздал
преимущественно положительные черты писателя, воздержавшись от
отрицательных характеристик, с поразительной проницательностью упрекал Страхова за
190 Шестов Л. [ШварцманЛ. И.] Откровения смерти: (Последние произведения
Л. Н. Толстого): (Окончание) // Современные записки. 1920. Кн. 1. С. 86-88.
191 Там же. С. 87-88.
381
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
упрощение личности автора «Бесов» и «Записок из подполья». Ему в
опубликованных воспоминаниях Страхова словно не хватает тех «бездн» в характере
Достоевского, на которых Страхов бегло остановился в «том самом» письме
к Толстому.
Мережковский даже прямо укоряет биографа-мемуариста за
недостаточную откровенность, будто ему известно содержание не опубликованного
в то время письма Страхова, что очень маловероятно: «Даже такой тонкий
и проницательный ум, как Страхов, не то что облагораживает, а чрезмерно
упрощает личность Достоевского, смягчает, притупляет, сглаживает ее, приводит
к общему, среднему уровню. Во всяком случае, рассматривая личность
Достоевского, должно принять в расчет неодолимую потребность его как художника
исследовать самые опасные и преступные бездны человеческого сердца,
преимущественно бездны сладострастия во всех его проявлениях (...) Существует
в рукописи ненапечатанная глава из „Бесов", где между прочим он рассказывает
о растлении девочки. Это одно из могущественнейших созданий Достоевского,
в котором слышится звук такой ужасающей искренности, что понимаешь тех,
кто не решается напечатать этого даже после смерти Достоевского: тут что-то,
действительно, есть, что переступает „за черту" искусства, это слишком живо
(...) Во всех этих изображениях у Достоевского такая сила и смелость, такая
новизна открытий и откровений, что иногда является смущающий вопрос: мог
ли он все узнать только по внешнему опыту, только из наблюдений над другими
людьми?»192
Мережковский чутко заметил, что в воспоминаниях Страхова образ
Достоевского излишне сглажен, упрощен, в соответствии с семейной установкой
на литературную «канонизацию», хотя он, как и всякий внимательный
исследователь, не мог пройти мимо повышенного интереса писателя к «безднам
сладострастия». Такая проницательность Мережковского была, конечно, тесно
связана с его декадентской трактовкой взаимосвязи добра и зла в духе
гностицизма и восприятием Достоевского как предтечи модернизма.
На некоторую приглаженность воспоминаний Страхова обратил
внимание и Владимир Соловьев, хотя он, в отличие от Мережковского, и не ожидал
большего, учитывая деликатное положение автора воспоминаний, написанных
по просьбе А. Г. Достоевской.
Интересно, конечно, отношение к малоприятной лично для него теме
печально известного страховского письма В. В. Розанова, который был
одновременно великим поклонником Достоевского и близким другом Страхова. Прочтя
«Воспоминания о Ф. М. Достоевском», он этой очевидной стесненности Страхова
при создании портрета Достоевского не узрел и высказался о воспоминаниях
в письме к Страхову с похвалой. Воспоминания на самом деле очень все-таки
192 Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский. М., 2000. С. 81-82.
382
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
хороши и содержат, при всей очевидной сдержанности тона, огромное
количество важнейших характеристик эпохи, не говоря уже о бесценных сведениях
непосредственно о Достоевском. Розанов писал Страхову: «Недавно случайно
прочел многие Ваши страницы из воспоминаний о Достоевском. Как хорошо
все написано, сколько мыслей, могущих стать афоризмами; решительно, Вы
оцениваетесь по достоинству лишь при втором чтении»193. Страхов
недоумевал, или, скорее, ему, как любому автору, хотелось похвал в подробностях:
«А что Вам открыли мои „Воспоминания о Достоевском", я не могу догадаться.
В „Воспоминаниях" я был очень сдержан; это не была свободная статья; я писал
правду, но ту, которую прилично и уместно было напечатать в самом „Собрании
сочинений" Достоевского»194. Этот обмен мнениями по поводу «Воспоминаний
о Достоевском» датируется 1890 г.
А продолжить обсуждение темы «Достоевский и Страхов» Розанов вполне
мог бы в 1913 г., когда было опубликовано интересующее нас письмо
Страхова. Тот год стал, вероятно, самым плодовитым в биографии Розанова: вышло
несколько его книг и множество статей. И одна его статья (печатавшаяся в трех
номерах «Нового времени») непосредственно была посвящена
опубликованной тогда в журнале переписке Страхова с Толстым195. В ней Розанов встает
на сторону Страхова в его спорах с Толстым и осуждает великого писателя за
высокомерие и нарастающий нигилизм его взглядов.
Однако, как ни странно, только что напечатанного и быстро нашумевшего
письма о Достоевском Розанов ни в этой большой статье, ни в еще одной,
вышедшей в 1914 г., после издания той же переписки в виде книги, совершенно
не касается. Молчание Розанова поразительно: кому как не Розанову, готовому
с «полным бесстыдством» пускаться в обсуждение самых интимных
подробностей пола, было с руки высказаться по такому деликатному вопросу, тем
более когда речь шла о двух его любимых писателях? Но Розанов предпочел
отмолчаться, уклониться от обсуждения крайне щепетильной темы. Он, конечно,
понимал всю ответственность: ему невольно пришлось бы принизить кого-то
из двух самых дорогих ему писателей, а то и обоих. Это, может быть, был
единственный случай, когда словоохотливый эссеист предпочел промолчать.
Правда, нельзя исключать, что где-нибудь в огромной переписке Розанова еще
всплывет его отзыв об этом важнейшем письме.
Впрочем, удалось обнаружить один краткий и едва заметный намек на
эту тему: беглое упоминание статьи Философова в книге Розанова «Сахарна»
(1913). Розанов находился в это время с Философовым, как и с Мережковским,
193 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 230.
194 Там же. С. 69-70.
195Розанов В.Идейные споры Л.Н.Толстого и Н.Н.Страхова // Новое время. 1913.
№ 13544, 24 нояб.; № 13548, 28 нояб.; № 13554, 4 дек. После издания переписки в виде
книги (1914) Розанов посвятил ей еще одну статью: Розанов В. В. Наброски // Новое время. 1914.
№13747,21 июня.
383
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
»
в состоянии жесткой идейной борьбы. Несмотря на это, он позволил себе
мимолетную одобрительную реплику об упомянутой выше статье Философова,
напечатанной в «Речи» за несколько дней до сделанной Розановым записи.
Правда, Розанов не коснулся в своей краткой заметке ни сути резко осуждающей
Страхова статьи, ни самого письма, и потому эта реплика прошла незамеченной.
А Розанов писал: «Прекрасная статья Фил(ософо)ва о Достоевском (письмо
о нем Страхова). Философова порицают... Но, во-первых, Филос(офов) умен,
и это уже кое-что в нашей неумной литературе»196. Речь явно идет об этой самой
статье — и Розанов неожиданно поддерживает газетное выступление одного
из главных своих идейных противников в этот период. Запись дает основания
считать, что Розанов всё же, видимо, воспринял письмо Страхова скорее
отрицательно, но даже ему, не знавшему запретных тем, подробнее обсуждать этот
вопрос не захотелось.
Между тем публикация письма Страхова вызвала огромную реакцию,
преимущественно, конечно, негативную, и еще долго не утихали возмущенные
отзывы об этом ужасном письме. Не прекратились они, собственно, и до сих пор.
Один из наиболее типичных отзывов о письме Страхова
принадлежит С. Н. Булгакову в докладе о Достоевском, сделанном им в московском
Религиозно-философском обществе («Русская мысль», 1914, кн. 4, с. 1-26).
Булгаков назвал доклад «Русская трагедия», и такое название вполне подходит
для исследования, посвященного этому драматическому конфликту.
Любопытно, что С. Н. Булгаков упрекал Страхова за его «музыкально
детонирующую»197 характеристику Достоевского — прежде всего за то, что
критик приравнивает гениального писателя к его образам, придавая
Достоевскому черты действующих лиц его героев. Булгаков писал: «Конечно, носитель
гения может иметь и пороки, и страсти, вообще гениальность не предполагает
необходимо личной святости, но поскольку он творит гениально, он поднимается
над личной своей ограниченностью, и поэтому приравнивание Достоевского
как гения одному из его созданий есть просто суждение дурного вкуса»198.
Но неужто Булгаков наивно думал, что наделенный отменным
критическим чутьем Страхов, писавший тончайшие аналитические статьи о
литературных героях Толстого, Тургенева и того же Достоевского, не знал такой азбучной
истины, как различие между автором и его персонажами? Признавая Страхова
человеком «правдивым», Булгаков находит в письме признаки «неоспоримой
ограниченности и близорукости», а самого Страхова считает «несложным
и рациональным»199. Если не принимать во внимание степень пренебрежения
196 Розанов В. В. Сахарна. М., 1998. С. 191.
199 Булгаков С. Я. Русская трагедия // Воспоминания и исследования о творчестве
Ф. М.Достоевского. М., 2015. С. 136.
198 Там же. С. 135.
199 Там же. С. 136.
384
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
Булгакова к Страхову, отдающую упрощением, то в остальном с ним вполне
можно согласиться: «.. .несложному и рациональному Страхову была слишком
чужда и несимпатична вся противоречивая сложность личности Достоевского
с ее провалами, подпольем, эпилепсией не только в нервах, айв моральном
характере, но и с ее солнечными озарениями и пророческими прозрениями»200.
Булгаков проводит размежевание между рассказом Страхова по личным
впечатлениям и его рассудочным внутренним видением личности
Достоевского, указывая на его неспособность связать воедино бездны «подполья» и дух
пророчества: «Плохо ощущая последнее, Страхов отталкивался от первого,
оттого изображение Достоевского (...) и носит столь неприятный привкус»201.
Можно согласиться, что к духу пророчества Страхов относится с изрядной долей
скептицизма, и эта его особенность, возможно, усиливала неприятие «темных
пятен» Достоевского.
Булгаков также прав, когда пишет, что «если приравнивать Достоевского
его героям, то отчего же не сказать, что в нем есть не только Федор Карамазов,
или Свидригайлов, но и идиот, и Хромоножка, и Алеша, и Зосима, а главное,
Тот, кому зажигал лампаду Кириллов и Кого заточил в темницу Великий
инквизитор»202. Тут Страхову действительно не хватило любви к духовно сложной
личности своего соратника для объективной оценки положительных качеств
Достоевского, его устремления к светлому идеалу. Верх взял «порицательный
скептицизм» — неприязнь к «подполью» писателя, резко усиленная каким-то
неизвестным нам конфликтом между ними.
Вполне правдоподобным, однако, считает Булгаков слух о том, что
писатель сам оговаривал себя: «Рассказ Достоевского Висковатому (представляющий
аналогию с рассказом Тургеневу) о растлении девочки (...) мог быть
„надрывом" самоуничижения, — при болезненной сложности характера Достоевского
возможна и прямая клевета на себя»203. Мнение о том, что Достоевский именно
мог оговорить себя, выражал также и митрополит Антоний (Храповицкий).
Таким образом, у подавляющего большинства исследователей нет
сомнений, что имел место самооговор, и почти все они склоняются к мнению,
что самого греха не было. Насколько прояснило бы ситуацию свидетельство,
что это суждение разделял и Страхов! К сожалению, опубликованный не так
давно рассказ Е. Н. Опочинина о странной реакции Страхова при разговоре
о Достоевском в кружке А. Милюкова204 дает некоторые основания думать, что,
200 Там же.
201 Там же.
202 Там же. С. 137.
203 Там же. С. 136. То же: Булгаков С. Н. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 2: Избранные
статьи. С. 525.
204 Опочинин Е. Н. Александр Петрович Милюков и его вторники // Литература и жизнь.
URL: http://dugward.ru/library/zolot/opochinin_milukov.html. Дата обращения: 21.11.2019.
385
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
вероятно, Страхов в вопросе о ставрогинском грехе все-таки придерживался
иной точки зрения.
Помимо непосредственного обвинения в грехе, которое в письме
Страхова, собственно, отсутствует, особое возмущение читавших письмо вызывает
его утверждение о писателе, что «он был зол, завистлив, развратен». Анна
Григорьевна пустилась во все тяжкие, чтобы опровергнуть заявление «друга
семьи» и доказать, что Достоевский был отличный семьянин. И действительно,
заявление «друга семьи» Страхова выглядит крайне кощунственным. Однако
ясно, что Страхов имел в виду прежде всего ранние холостяцкие годы писателя,
годы их совместной работы в журналах «Время» и «Эпоха».
В «Воспоминаниях» Страхова есть такое примечательное место, на
которое обратили внимание некоторые исследователи. О кружке, к которому
примыкал Достоевский в начале 1860-х гг., Страхов пишет загадочные вещи,
в весьма деликатной форме намекая на разврат и пьянство: «Поэтому
литературный кружок, в который я вступил, был для меня во многих отношениях
школою гуманности. Но другая черта, поразившая меня здесь, представляла
гораздо большую неправильность. С удивлением замечал я, что тут не
придавалось никакой важности всякого рода физическим излишествам и
отступлениям от нормального порядка. Люди, чрезвычайно чуткие в нравственном
отношении, питавшие самый возвышенный образ мыслей и даже большею
частию сами чуждые какой-нибудь физической распущенности, смотрели,
однако, совершенно спокойно на все беспорядки этого рода, говорили об
них как о забавных пустяках, которым предаваться вполне позволительно
в свободную минуту. Безобразие духовное судилось тонко и строго;
безобразие плотское не ставилось ни во что. Эта странная эманципация плоти
действовала соблазнительно и в некоторых случаях повела к последствиям,
о которых больно и страшно вспомнить»205.
Об этих пороках, распространенных в кружке, писали Л. Гроссман
и А. С.Долинин. Этим «физическим излишествам» посвятила свою статью
и Т. И. Орнатская. Согласно ее исследованию, больше всего свидетельств об
этой отрицательной стороне быта членов литературного кружка Достоевских
содержится в неизданной переписке Страхова с его братом Павлом, бывавшем
в кружке. Орнатская пишет о Всеволоде Крестовском, собиравшем материал для
романа «Петербургские трущобы»: «Непросто сложились отношения и кружка,
и самого Достоевского с В. В. Крестовским. (...) Как известно, с ноября 1860 г.
последний начал свое исследование петербургских трущоб: он посещал притоны
и злачные места города (...) Но кроме положительных сторон, внесенных
Крестовским в кружок, он, по складу своего характера в молодые годы, во многом
способствовал укоренению среди его членов того, что Н. Н. Страхов называл
205 Страхов. Воспоминания о Достоевском. С. 380.
386
Глава 11. Страхов и Ф. М. Достоевский
„всякого рода физическими излишествами и отступлениями от нормального
порядка" и „эмансипацией плоти" и что пагубно отразилось на общем состоянии
кружка. Ведь именно Крестовский привил Ч. Валиханову пристрастие к богеме,
и тот стал постоянным спутником поэта в странствиях по трущобам и
притонам разного рода. Предавались злому пороку кроме А. Григорьева и Аверкиев,
и Мей, и Долгомостьев, и К. И. Бабиков»206. О Достоевском, правда, в
рассказах об «эмансипации плоти» речь не идет, но Страхов, вероятно, имел в виду
какие-то подобного рода эпизоды.
Как бы мы ни относились к этому злополучному письму Страхова,
нельзя не признать, что наиболее важные сведения о Достоевском исследователи
черпают все-таки из «Воспоминаний» Страхова. Их вполне устраивают те
сведения, какие им «официально» дал Страхов. Но, отвергая печально известное
письмо Страхова как исторический источник, они пренебрегают истиной. Ибо
кто лучше Страхова знал, каким был Достоевский на самом деле? Да и зачем,
спрашивается, было Страхову писать это письмо, после которого его
проклинают все, кто восхищается Достоевским? Разве Страхов был недостаточно умен,
чтобы предвидеть это? Однако критики, видящие в его письме заднюю мысль —
стремление погубить славу Достоевского, — находят простенький мотив для
письма: зависть. Бог им судья. На наш взгляд, никакого умысла у Страхова,
конечно, не было, а просто он излил свою душу, настрадавшись при писании
воспоминаний. Письмо производит, конечно, шокирующее впечатление на
общество, но по существу дела ничего не меняет. Даже если какая-то небольшая
часть читателей, задумавшихся об этой темной загадке, признает, что Страхов,
может быть, и прав, на величие Достоевского как гения литературы это письмо,
собственно, повлиять никак не может.
Нет никакого сомнения, что письмо Страхова о Достоевском — это, увы,
печальная, даже драматическая страница в истории нашей литературы.
Признаться, очень жаль, что это злополучное письмо вообще было опубликовано, так
как оно неизбежно бросает тень на двух наших крупных писателей, патриотов
России, идейно близких, несмотря на все расхождения, друг другу. И, приняв во
внимание его частный характер, следует признать: оно писалось совсем не для
того, чтобы очернить Достоевского. Эта мрачная до болезненности исповедь
была криком души, а не клеветой из зависти.
В 1839 г. юный Достоевский писал брату: «Человек есть тайна. Ее надо
разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что
потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»207. А Страхов
206 Орнатская Т. И. Редакционный литературный кружок Ф. М. и М. М. Достоевских:
(1860-1865 гг.)// Ф. М.Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1988. Т. 8. С. 258-260. См.
также: ЯдринцевН. М Чокан Чингисович Валиханов: [некролог] // Валиханов Ч. Ч. Собр. соч.:
в 5 т. 2-е изд. Алма-Ата, 1985. Т. 5. С. 278.
207Достоевский. ПСС. Т. 28, кн. 1. С. 67.
387
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
в предисловии к книге «Мир как целое» (1872) сказал: «Человек — вот
величайшая загадка, узел мироздания»208. Специалист по Достоевскому Б. Н.
Тихомиров в одной из своих книг обращает внимание на перекличку между этим
высказыванием Достоевского, выбранным им в качестве заглавия для сборника
своих работ, и словами Н. Н. Страхова.
Исследователь развернул эту замечательную мысль как воплощение
смысла жизни и творчества Достоевского: «Разгадать тайну человека, созданного по
образу и подобию Божию, значило для него раскрыть смысл и конечную цель
Божественного творения. (...) В постижении и закреплении в слове смысла
и цели мироздания видел писатель главное предназначение человека на земле»209.
Эти замечательные слова, вполне раскрывающие смысл жизни и творчества
Страхова, подчеркивают то общее, что связывало его с Достоевским. Будем
же больше ценить то положительное, что сближает писателя и критика, а не
сосредоточивать внимание исключительно на том, что их разъединяет.
208 Страхов. Мир как целое. 2007. С. 131.
209 Тихомиров Б. «Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»: Статьи и эссе
о Достоевском. СПб., 2012. С. 3.
CGaSa 12
«НЕ МОГУ О НЕМ ВСПОМИНАТЬ БЕЗ УМИЛЕНИЯ...»
(СТРАХОВ И Н. Я. ДАНИЛЕВСКИЙ)
Есть огромное множество людей, которые искренне
недоумевают, зачем существует Россия, и ждут не дождутся,
что она как-нибудь перестанет быть Россиею.
Для них книга Н. Я. Данилевского — нестерпимая помеха.
Н. Н. Страхов1
Данилевский был для меня, как и для всех его знавших,
звездою первой величины.
Н. Н. Страхов2
£§§|§ Дружеские отношения с естествоиспытателем, мыслителем и
публицистом Николаем Яковлевичем Данилевским (1822-1885) отличаются от
других творческих и житейских связей Страхова прежде всего тем, что мы знаем
о них явно недостаточно, хотя Страхов считал Данилевского наряду с Львом
Толстым самым близким себе по духу современником. Он не скрывал своего
восхищения личностью этого яркого и энергичного человека, талантливого
ученого и мыслителя, гордился своей дружбой с ним, а после кончины
Данилевского предпринял немало усилий для публикации его сочинений,
ознакомления с ними общества и защиты его репутации от несправедливой критики.
Однако, в отличие от его дружбы с Толстым, носившей «коленопреклоненный»
характер, отношения Страхова с Данилевским были бурными, их встречи всегда
проходили в оживленных беседах, и они постоянно спорили. Более того, все те,
кто хорошо знал Страхова, искренне недоумевали, как могли уживаться в его
мировоззрении симпатии к двум столь разным в идейном отношении людям,
как Данилевский и Лев Толстой.
К сожалению, письма Данилевского к Страхову, как и вообще почти вся
переписка Николая Яковлевича, до нас не дошли. Однако из ответных писем
1 Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе: рукопись книги. Кн. 3 // РО
ИРЛИ. Ф. 287. Ед. хр. 1в. Л. 178.
2 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 512.
389
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
Страхова к Данилевскому, опубликованных в 1901 г. в «Русском вестнике»,
видно, что, хотя два этих крупнейших русских антидарвиниста XIX в. считаются
(и во многом действительно являлись) единомышленниками, мировоззренческие
расхождения между ними носили весьма существенный характер, а их споры
действительно были частыми и эмоциональными.
Н. Бердяев пишет в книге о Леонтьеве, что его оригинальная
органическая теория развития была создана «не без влияния гораздо менее
даровитого Данилевского»3. Сказано по-бердяевски безапелляционно, но не точно.
Во-первых, органическая теория Леонтьева была не вполне оригинальной,
о чем убедительно писал Страхов, возводивший ее истоки не только к
Данилевскому, но и глубже, к столпам классической немецкой философии —
Шеллингу и Гегелю. Во-вторых, Данилевский был, конечно, очень одарен, другое
дело, что мощный созидательный талант его имел совсем иной характер,
чем прихотливый литературный и пророческий дар Леонтьева или, скажем,
исключительная способность Страхова улавливать и разъяснять суть вещей.
Да и вообще ценны не столько сопоставления талантливых людей по степени
их даровитости, сколько весомые аргументы в пользу того или иного таланта.
Думается, выявлять индивидуальные достоинства и недостатки каждого из
выдающихся мыслителей более продуктивно, чем возносить одного за счет
другого. Как бы то ни было, творческая мощь и смелость мысли Данилевского
не вызывают сомнений.
Точно так же, как может быть оспорено превосходство Леонтьева над
Данилевским, у которого «пророк византизма», вероятно, просто заимствовал
идею приложения биологических принципов к истории человеческого
общества, малопродуктивно сопоставление Страхова и Данилевского, в котором
предпочтение обычно безоговорочно отдается Данилевскому. Так,
Михайловский заявлял о будто бы полной творческой зависимости Страхова от
Данилевского, а Вл. Соловьев как бы мимоходом специально называл Страхова
учеником Данилевского, чтобы его уязвить. Но два эти мыслителя-антидарвиниста
совсем не похожи друг на друга, и внешнее впечатление интеллектуального
превосходства Данилевского складывается просто потому, что скромный
Страхов не ставил амбициозной задачи дать всестороннее обсуждение книги
Данилевского с собственной точки зрения, а ограничивался только защитой
ее от нападок. Он осознавал, что такая односторонность «может внушить
недоверие, если не к искренности, то к твердости (...) суждений и к их
самостоятельности»4. Так и получилось: многие из читавших его полемику
с противниками книги Данилевского были ошибочно убеждены, что
Страхов как в геополитике, так и в биологии только комментатор Данилевского.
3 Бердяев Н. К. Леонтьев — философ реакционной романтики // Леонтьев. Pro et contra.
Кн. 1.С. 216.
4 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. XIX.
390
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
Впрочем, тот же Соловьев в письме к Страхову еще до полемики заявлял
иное: «Разумеется, Вы по тонкости и широте ума неизмеримо выше своего
покойного друга...»5
Страхов старался умерить собственные амбиции, но он был, конечно,
вполне самостоятельным мыслителем и признавался, что у них с Данилевским
имелись существенные разногласия: «В частности, относительно воззрений на
организмы и вообще на природу, я не могу сказать, что во всем был согласен
с Н. Я. Данилевским; между нами происходили долгие и горячие споры, которые
иногда приводили меня даже в огорчение. Только в последние годы стали мы
приходить к значительному согласию»6.
Наличие существенных расхождений во взглядах между Данилевским
и Страховым подтверждают письма. Да и по своим творческим приемам эти
мыслители не слишком похожи. Розанов не раз отмечал, что многое в
монументальных постройках Данилевского выполнено просто и грубо, в то время
как труды Страхова отличаются чрезвычайной сложностью и тонкостью.
По наблюдению Розанова, например, Страхов развил некоторые совсем не
главные замечания Данилевского в книге «Дарвинизм» «в великолепные
теории несокрушимого значения, в некоторую логику антидарвинизма,
имеющую значение совершенно независимое от воззрений
Данилевского» 7. В своем предпочтении творческой манеры Страхова Розанов не был
одинок. Например, на замечание, что ему книги Страхова нравятся больше,
чем труды Данилевского, такой глубокий и независимый мыслитель, как
С. А. Рачинский, ответил Розанову: «Он гораздо его (Данилевского) сложнее
и тоньше»*. Ясно, что Данилевский и Страхов стоят друг друга, и то, что их
связывали дружеские отношения, побуждает нас не устраивать между ними
соревнование, а выявлять путем исследования их взаимосвязей творческие
особенности и заслуги каждого.
* * *
Ученый и мыслитель Н. Я. Данилевский явился в Петербург из Крыма
в январе 1868 г. и привез с собой рукопись капитального труда с интригующим
названием «Россия и Европа». Вскоре происходит его знакомство со
Страховым. Данилевский собирался печатать свое сочинение объемом порядка 40
авторских листов (в те времена это фундаментальное исследование называли
просто «статьей») в правительственном «Журнале Министерства народного
просвещения», редактором которого тогда был Л. Н. Майков, младший брат
5 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 42.
6 Там же.
7 Розанов. ПСС Т. 1. С. 459.
8 Розанов. Литературные изгнанники. Кн. 2. 2010. С. 414.
391
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
поэта. Предполагалось, что объемистый труд Данилевского будет печататься
в сокращенном виде.
Но к концу года, когда назревает издание нового «толстого» литературного
журнала «почвеннического направления», ситуация меняется. Данилевский
получает предложение напечатать свой труд в журнале «Заря», редактором
которого приглашен Страхов. Когда открылась возможность опубликовать
«Россию и Европу» не в сухом, официальном издании, которое читали только
специалисты, а в литературном журнале, Данилевский обрадовался. Он
получил возможность напечатать свой труд без сокращений, как предполагалось
в «Журнале Министерства народного просвещения», а полностью; к тому же
этот журнал обещал стать близким ему по направлению.
24 ноября 1868 г., при начале работы над журналом «Заря» в качестве
фактического (но не номинального) редактора, Страхов сообщал Достоевскому:
«Самое капитальное произведение, намеченное для журнала, — это ряд статей
Ник(олая) Яковл(евича) Данилевского, которого Вы, вероятно, помните по
истории (18)47-( 18)48 годов и по ссылке в Вятку. Он теперь действ(ительный)
с(татский) советник и в первый раз выступает на поприще литературы с рядом
статей „Россия и Европа". Это — целое учение, славянофильство в более
определенных и ясных чертах. Всего листов 40 печатных»9.
Узнав об участии в «Заре» Н. Я. Данилевского, Достоевский отвечал
Страхову, что был известием о новом сочинении и особенно его авторе чрезвычайно
заинтригован: «То, что Вы мне пишете про Данилевского, меня очень интересует.
Ведь он непременно должен быть тот отчаянный фурьерист (и натуралист),
кажется, Данилевский, которого я тогда знал. Исполать ему — коли в силах был
из фурьериста стать русским, да еще передовым, как Вы рекомендуете. Жду его
статьи как голодный хлеба»10. А их общему со Страховым другу А. Н. Майкову
Достоевский писал еще более красочно: «Признаюсь Вам, что о Данилевском
я с самого 49-го года ничего не слыхал, но иногда думал о нем. Я припоминал,
какой это был отчаянный фурьерист. И вот из фурьериста обратиться к России,
стать опять русским и возлюбить свою почву и сущность! Вот по чему узнается
широкий человек! Тургенев сделался немцем из русского писателя, — вот по
чему узнается дрянной человек»11.
Данилевский после Александровского лицея в Царском Селе поступил
в Петербурге в университет, на естественный факультет, где действительно
увлекся учением Фурье. Как и Достоевский, Данилевский был арестован в 1847 г.
по делу Петрашевского и некоторое время сидел в Петропавловской крепости.
Однако он перестал посещать собрания «петрашевцев» еще за год до ареста,
и ему удалось убедить следствие в своей невиновности. Он был лишь выслан
9 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 260.
10 Достоевский. ПСС. Т. 28, кн. 2. С. 335.
11 Там же. С. 328.
392
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
из Петербурга. В дальнейшем Данилевский занимался биологическими
исследованиями, главным образом изучением рыболовства, много ездил по России,
пока в 1865 г. не поселился в Крыму, в Мисхоре.
Любопытно, что Страхов впервые увидел Данилевского еще в
студенческие годы, когда тот, вольнослушатель естественного факультета Петербургского
университета, еще был увлеченным фурьеристом, одним из идейных вожаков
радикального студенчества. Страхов обратил внимание на колоритную фигуру
в знаменитом университетском коридоре: «Между студентами вдруг пронесся
говор: „Данилевский, Данилевский!" — и я увидел, как около высокого
молодого человека, одетого не в студенческую форму, образовалась и стала расти
большая толпа. Все жадно слушали, что он говорит; ближайшие к нему
задавали вопросы, а он отвечал и давал объяснения. Дело шло о бытии Божием
и о системе Фурье»12.
К лету 1868 г., когда Данилевский и Страхов познакомились поближе,
у них нашлось множество точек соприкосновения. Как раз в это время
появились планы издания журнала «Заря» близкого им обоим славянофильско-
почвеннического направления.
Страхов сразу же предложил издать в журнале труд Данилевского «Россия
и Европа», хотя по своим размерам это была, конечно, не «статья», как ее
неизменно вплоть до завершения публикации называли в редакции «Зари», и даже
не «ряд статей», как назвал сочинение Данилевского в письме Достоевский,
а целая книга, причем весьма обширная.
Из письма Страхова от 21 августа 1868 г. к ученому, исследователю
истории славянства В. И. Ламанскому следует, что Данилевский
принадлежал к кружку В. В. Григорьева, ориенталиста по профессии, но человека
консервативно-славянофильских взглядов. Видными представителями этого
кружка были братья Семеновы — старший, известный географ, Петр Петрович
и младший, юрист и государственный деятель, Николай Петрович. С младшим
из братьев, Николаем, Данилевский до университета учился в
Александровском лицее, и они были близкими друзьями. В. В. Григорьев, автор
нашумевшей в свое время критической статьи о западнике Грановском, входил
в круг знакомых Страхова, и будущего редактора «Зари» обрадовало, что
сам Григорьев и члены его кружка выразили готовность поддержать журнал.
Страхов, приглашая в «Зарю» В. И. Ламанского, писал ему: «Всего дороже
то, что журнал встретил сочувствие в том кружке, центр которого составляет
Василий Васильевич Григорьев, и Вы сами. Василий Васильевич принял очень
живое участие, и мы совещались с ним несколько раз. Данилевский отдает
12 Страхов Н. Н. Жизнь и труды Данилевского // Данилевский Н. Я. Россия и Европа:
Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому.
3-е изд. СПб., 1888. С. XXII.
393
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
свою Европу и Россию {так!) и очень доволен, что может поместить ее без
урезков и не в официальном журнале»13.
Для редакции «Зари» смелое историософское сочинение Данилевского
было находкой: во-первых, оно позволяло журналу сразу и недвусмысленно
заявить о своей идейной позиции, а во-вторых, своими размерами надолго решало
вопрос о заполнении журнального пространства. Впрочем, обычно журналы
подобного рода старались заполучить в редакционный портфель более легкие
для чтения художественные сочинения, охотясь главным образом за романами
ведущих писателей. Разумеется, и в «Заре» был полагающийся по традиции
роман, который шел в печать «прямо с колес» в течение девяти месяцев. Это
был роман А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов», в котором известный
писатель продолжал спор с «шестидесятниками», начатый им в
антинигилистическом романе «Взбаламученное море».
Об основополагающей роли фундаментальной публикации Данилевского
в «Заре» косвенно свидетельствует хотя бы такой забавный факт. А. Ф.
Писемский, роман которого печатался в «Заре» одновременно с книгой
Данилевского, в феврале 1869 г., после появления в печати первых двух частей «России
и Европы», обратился к Страхову с наивной просьбой сообщить ему
содержание дальнейших глав этого труда, дабы он мог в своем романе, публикуемом
параллельно, подстроиться и отразить эти идеи. Писатель просил намекнуть
ему «о тех идеалах, которые, он полагает, живут в русском народе, и о тех
нравственных силах, которые по преимуществу хранятся в русском народе, чтобы
нам поспеться на этот предмет и дружнее ударить для выражения направления
нашего журнала»14. Герой романа Писемского Павел Вихров высказывает
взгляды, в которых узнаются некоторые идеи Данилевского и других мыслителей
близкого к славянофильству направления.
Но всё же «Заря» пошла по нетрадиционному пути: «лицо» журнала
определял не роман Писемского, а печатавшаяся из номера в номер «Россия
и Европа» Данилевского и критические статьи самого Страхова. Из-за этого
преобладания серьезных и даже «скучных», по мнению либеральных критиков,
материалов в адрес журнала в скором времени прозвучало немало нареканий.
Основная идея историософского труда Данилевского была очень дерзкой
и отражала взгляды мыслителей близкого к славянофильству направления. Она
была недвусмысленно выражена в названии второй главы: «Почему Европа
враждебна России?» Это был, конечно, неприкрытый вызов всем нашим
западникам и либералам. Н. К. Михайловский, например, выражал возмущение
13 РО ИРЛИ. Ед. хр. 2382. Л. 7 об.
14 Писемский А. Ф. Собр. соч.: в 5 т. М., 1959. Т. 4. С. 303-304.
394
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
этим тезисом. Страхов же, наоборот, поддержал автора, написав, что для такого
заявления нужна была смелость.
Данилевский последовательно и на огромном количестве
исторических примеров показывал, что Европа питает неприязненные чувства
к России, считает Россию и славянство чуждыми и враждебными себе. Не
менее важный вопрос, который вызывает споры до сих пор, был поставлен
в названии третьей главы книги: «Европа ли Россия?» Казалось бы, сам этот
вопрос неправомерен с географической точки зрения. Однако в культурно-
историческом смысле Европа, как указывает Данилевский, «есть поприще
германо-романской цивилизации», а Россия, к счастью или несчастью, не
была связана ни с одним из корней Древнего мира, от которых питалась
Европа. Казалось бы, России уготована Европой роль распространителя
европейской цивилизации на Востоке, но на самом деле Россия
воспринимается Западом как труднопреодолимое препятствие к развитию и
распространению настоящей «общечеловеческой», то есть европейской, или
германо-романской, цивилизации. Данилевский отказался признать наличие
единой общечеловеческой цивилизации и ввел новое важнейшее понятие
культурно-исторических типов, развитие которых составляет содержание
всемирной истории. Зарождение, развитие и угасание культурно-исторических
типов Данилевский строил по аналогии с хорошо ему знакомой по основной
профессии биологической наукой.
Очень важный вопрос был поставлен Данилевским в шестой главе — об
отношении народного к общечеловеческому. Вслед за Ап. Григорьевым
Данилевский утверждал, что не существует и не может существовать общечеловеческой
цивилизации как единого организма, хотя и допустил существование
«всечеловеческой» цивилизации как некоего недостижимого идеала, осуществляемого
последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических
типов. Славянство, по Данилевскому, составляет один из культурно-исторических
типов, наряду с эллинизмом, латинством, европеизмом и пр.
В седьмой главе Данилевский задается вопросом: «Гниет ли Запад?» Этот
вопрос давно стал своего рода общим опознавательным знаком для всего
славянофильского направления. Хотя учение Данилевского совсем не ограничивалось
узкой задачей развенчания цивилизационного величия Европы, критики его
труда начали сводить отзывы о содержании богатого и оригинального учения
к высмеиванию превращенного в шаблон тезиса о «гниении Запада». В печати
появились голословные утверждения, будто Данилевский не говорит ничего
нового по сравнению со славянофилами. Страхов в статьях, которые печатались
в «Заре» параллельно трактату Данилевского, возмущался таким примитивным
подходом и подчеркивал новизну и важность теории Данилевского.
Особую главу Данилевский отвел теме нашей подражательности,
рассматривая ее как одну из главных болезней своего времени. Эта глава
395
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
под афористичным названием «Европейничанье — болезнь русской
жизни», в которой автор ратовал за обретение русским народом умственной
самостоятельности, особенно сильно перекликалась с призывами к
духовной независимости от Европы публиковавшихся в «Заре» статей Страхова.
Направленные, как и «Россия и Европа» Данилевского, «против нашего
умственного лакейства перед Европою»15, эти статьи из «Зари» составили
впоследствии основу первой из трех его книг под общим названием «Борьба
с Западом в нашей литературе».
Одним из тех, кто с самого начала проявил огромный интерес к
сочинению Данилевского, стал Ф. М. Достоевский. Он и сам выражал готовность
участвовать в «Заре», программа которой ему была очень близка. Однако его
связывали финансовые обязательства перед Катковым и «Русским вестником»,
и, работая над очередным романом за границей, он мог лишь поддерживать
журнал своими письмами.
Достоевский к тому времени «за границей окончательно стал для
России— совершенным монархистом»16. «Россия и Европа» с первого номера
журнала восхитила писателя смелой постановкой важнейших вопросов философско-
публицистической мысли. По прочтении первых частей «статьи» Данилевского
в журнальной публикации Достоевский признал ее очень близкой себе по духу
и возложил на этот труд ученого-мыслителя огромные надежды.
В марте 1869 г. он так выразил свой восторг от прочитанного в письме
к Страхову: «Статья же Данилевского, в моих глазах, становится всё более
и более важною и капитальною. Да ведь это — будущая настольная книга всех
русских надолго; и как много способствует тому язык и ясность его,
популярность его, несмотря на строго научный прием. (...) Она до того совпала
с моими собственными выводами и убеждениями, что я даже изумляюсь, на
иных страницах, сходству выводов; многие из моих мыслей я давно давно, уже
два года, записываю, именно готовя тоже статью, и чуть не под тем же самым
заглавием, с точно такою мыслию и выводами. Каково же радостное изумление
мое, когда встречаю теперь почти то же самое, что я жаждал осуществить в
будущем, — уже осуществленным — стройно, гармонически, с необыкновенной
силой логики и с тою степенью научного приема, которую я, конечно, несмотря
на все усилия мои, не мог бы осуществить никогда»17.
Если либеральные критики нарочито налегали на тему скуки, которая
их одолевает от бесконечно тянувшегося трактата, то Достоевский с
огромным нетерпением ждал выхода в свет новых и новых глав: «Я до того жажду
продолжения этой статьи, что каждый день бегаю на почту и высчитываю все
вероятности скорейшего получения „Зари" (и хоть бы по три-то главы печатала
15 Толстой — Страхов. Волн. собр. переписки. Т. 2. С. 784.
16 Достоевский. ПСС. Т. 28, кн. 2. С. 280.
17 Там же. Т. 29, кн. 1.С. 30.
396
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
—■$»
редакция вместо двух! Прочтешь две главы и думаешь: целый месяц еще, а
пожалуй и 40 дней! —так как „Заря" все-таки не отличается же аккуратностию
выхода, не правда ли?)»18.
Достоевский надеялся даже на полное воплощение Данилевским его
собственных чаяний о раскрытии призвания русского народа в православии,
хотя по мере печатания «России и Европы» всё больше опасался, что
Данилевский этого дать не сможет: «Потому еще жажду читать эту статью, что
сомневаюсь несколько, и со страхом, об окончательном выводе; я все еще
не уверен, что Данилевский укажет в полной силе окончательную сущность
русского призвания, которая состоит в разоблачении перед миром русского
Христа, миру неведомого и которого начало заключается в нашем родном
православии»19. Страхов по ходу публикации «России и Европы» обещает
Достоевскому: «Православие у Данилевского будет, хотя, я подозреваю, у Вас
оно должно представляться в ином виде, как у художника. Данилевский не
касается прямо содержания, а только указывает историческое значение
нашего исповедания»20. Надежды Достоевского Данилевский действительно
оправдал не вполне — тема русского православия лишь намечена в книге
«Россия и Европа» в самых общих чертах, хотя он был, как утверждал Страхов,
«истинный христианин»21. Критик выделяет, например, такое место в книге
«Россия и Европа»: «...после Бога и Его святой Церкви, — идея славянства
должны быть высшею идеей...»22 Страхов подчеркивает мысль
Данилевского: «Бог и его святая церковь — вот что выше всего для человека, твердо
держащегося православия»23. Однако подробнее Данилевский религиозную
тему не развивает. Историософский поход Данилевского имел свои огромные
достоинства: тот системный взгляд на русский народ и его место в истории,
который он впервые развернул в своем труде, был Достоевскому чрезвычайно
интересен и вдохновлял его на работу собственной духовной мысли. Но тот
факт, что православие выражено в книге «Россия и Европа» недостаточно,
позволил либеральным критикам «России и Европы», вроде Вл. Соловьева,
упрекать Данилевского в национализме и в том, что он решительно отрекся
«от высших требований христианской религии»24.
Страхов вполне разделял те консервативные идеи, которые выражал
Данилевский в своем фундаментальном историософском труде, и даже связывал
с ним целый этап своей творческой биографии. В первом же своем письме,
отправленном Толстому 16 ноября 1870 г., уже после успеха своих статей о «Войне
18 Там же.
19 Там же.
20 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 260.
21 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 224.
22 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб., 1995. С. 107.
23 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 3. С. 235.
24 Соловьев. Сочинения. 1989. ТА. С. 359.
397
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
и мире» и завершения публикации в журнале труда Данилевского «Россия
и Европа», приглашая писателя к участию в «Заре», он ставит Данилевского
и Толстого рядом как в наибольшей степени повлиявших на него писателей: «Вам
и автору „России и Европы" я обязан тем, что после десятилетней работы для
меня воочию настала новая эпоха в литературе со всею радостью и бодростью
каждой новой эпохи, с блестящими надеждами впереди»25.
Надо сказать, что «Россия и Европа», помимо своего содержания,
вызвала к «Заре» множество нареканий по поводу того, что этот труд ни по
научному характеру исследования, ни тем более по размерам не подходил для
литературного журнала. Достоевский, будучи опытным редактором, с
самого начала предупреждал Страхова, что печатание в «Заре» такого длинного
и серьезного сочинения в течение долгого времени маленькими частями
неизбежно утомит читателя. Признавая неоспоримые достоинства труда
Данилевского, он беспокоился о перспективах журнала: «Статья
Данилевского, из капитальных по разъяснению мысли журнала, печатается скупо,
то есть слишком помаленьку; дурной эффект обнаружится впоследствии.
Если в ней 20 глав, то, по моему мнению, надо бы напечатать всю статью
в 4-х, много, в 5-ти книгах; нужды нет, что выйдет помногу; журнал
заявляет, стало быть, что это его статья капитальная»26. Но его совет не был учтен
издателем журнала «Заря» Кашпирёвым: «Россия и Европа» печаталась
с самого начала (с перерывом в июле) на протяжении десяти месяцев 1869 г.
В 1871 г. Страхов подготовил отдельное издание книги Данилевского, и с тех
пор началась собственная сложная судьба этого выдающегося произведения
русской историософской литературы.
Что же касается журнала, то искушенный в издательском деле
Достоевский был прав. О наскучившей «бесконечности» и неоригинальности идущих
из номера в номер материалов, в том числе и труда Данилевского, раз за разом
писали в своих ежемесячных обзорах журналов А. П. Милюков в «Сыне
Отечества», В. П. Буренин в «Санкт-Петербургских ведомостях», П. К. Щебальский
в «Русском вестнике». Впоследствии писатель и критик В. Г. Авсеенко,
сотрудничавший в «Заре» в первый год ее существования, в своих воспоминаниях
отметил: «Книга Данилевского засушила первый год „Зари"»27.
Но подлинной причиной критических оценок «России и Европы», как
и в целом «Зари», были не размеры сочинения Данилевского, а его
консервативное содержание. Страхов обиженно писал Достоевскому, что даже их
общий знакомый А. П. Милюков печатает о «Заре» одни гадости. Из месяца
в месяц Милюков, сотрудничая в газете «Сын Отечества», в обзоре «Что нового
25 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 110.
26 Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 14.
27 Авсеенко В. Г. Кружок: (Рассказ по личным впечатлениям) // Ист. вестник. 1909. Май.
С. 442.
398
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
в журналах?» отрицательно отзывался о труде Данилевского. Так, в апреле
1869 г. Милюков не без иронии писал о мартовском номере «Зари»: «...г.
Данилевский дошел до гниения Запада. Последняя мысль могла бы, положим,
быть весьма интересной, если бы только она, во-первых, была посвежее, а не
была бы повторением того, на что упирали еще Хомяков и И. Киреевский,
а во-вторых, если бы каждый из нас не видел, что этот гнилой Запад на самом
деле нет-нет да и выкинет такую штучку или пустит в ход такую вещичку, что
поневоле еще веришь в силу его»28. В июле у него звучат те же критические
мотивы: «...статья г. Данилевского „Европа и Россия" (так!) заставляет только
жалеть, что потратил столько времени и труда на бесплодное повторение давно
всем известного»29. Пренебрежительная интонация господствует и в ноябрьском
литературном обзоре «Сына Отечества»: «...статья г. Данилевского „Россия
и Европа" представляет только ряд гадательных толков и пророчеств о судьбе
славянства, далеко не подкрепленных фактами»30.
Конечно, размеры сочинения Данилевского быстро стали поводом
для критики со стороны противников его идей. Так, В. П. Буренин в «Санкт-
Петербургских ведомостях» высмеивал тянувшееся из номера в номер «Зари»
сочинение Данилевского и, отрицая какую-либо оригинальность «России и
Европы», утверждал, что читать всё новые и новые главы было невозможно из-за
нестерпимой скуки.
Однако при всем несоответствии массивного историософского труда
формату и задачам литературного журнала произведение Данилевского с самого
начала недвусмысленно обозначило направление «Зари» и вместе со статьями
Страхова, посвященными роману Толстого «Война и мир», стало своего рода
«витриной» серьезного издания почвеннического направления.
Хотя труд Данилевского вызвал немало нареканий идейных противников
при его публикации в «Заре», да и сам Достоевский не вполне был им
удовлетворен, Федор Михайлович с самого начала не менее Страхова верил, что
«России и Европе» суждено великое будущее: «Про статью Данилевского думаю,
что она должна иметь колоссальную будущность, хотя бы и не имела теперь.
Возможности нет предположить, чтоб такие сочинения могли заглохнуть и не
произвести всего впечатления»31.
Предположения Достоевского вполне оправдались, но только несколько
позже, к концу 1870-х гг., когда волна оппозиционного нигилизма
несколько спала. А поначалу «Россия и Европа», изданная Страховым в виде книги
в 1871 г., долго не расходилась. Историк К. Н. Бестужев-Рюмин, давший об
этом выдающемся труде положительный отзыв в 1888 г., уже после кончины
А. X. [Милюков А. П.] Что нового в журналах? // Сын Отечества. 1869. № 114,25 апр. С. 3.
А. X [МилюковА. П.] Что нового в журналах? // Сын Отечества. 1869. № 163,18 июля. С. 1.
А. X. [МилюковА. П.] Что нового в журналах? // Сын Отечества. 1869. № 266,21 нояб. С. 2.
Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 36.
399
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$■
автора, отметил, что сочинение Данилевского, которого в Австрии зовут
«апостолом славянства»32, едва известно в России. Однако именно в это время уже
начался рост интереса к этому замечательному труду, прежде всего благодаря
неустанным усилиям по его популяризации, предпринимаемым Страховым,
который в это время был вынужден защищать книгу и память покойного друга
от нападок Вл. Соловьева. А в 1888 и 1889 гг. Страхову пришлось потрудиться
над выпуском одного за другим двух переизданий книги из-за резко возросшего
спроса. Страхов писал, например, Толстому 13 апреля 1889 г.: «Новое издание
России и Европы идет удивительно; в первые сорок дней было продано 500
экземпляров»33.
Радость Страхова от того, что книга Данилевского наконец-то стала
получать признание у читателей, омрачалась тем, что он не на один год оказался
поневоле вовлеченным в полемику с Вл. Соловьевым по поводу «России и
Европы». Страхов писал Толстому 6 апреля 1888 г.: «Статьи (об России и Европе) так
пусты и жидки и писаны с такими скверными замашками, что я останавливаюсь
на мысли — отвечать ему самым решительным и уничтожающим образом»34.
Отказаться от ответов на нападки Соловьева Страхов не мог, так как полемика
по поводу смысла и значения книги Данилевского развернулась в
принципиальный спор о путях развития России между сторонниками патриотического,
славянофильско-почвенного направления отечественной мысли и апологетами
космополитического, западнического подхода к русской истории и философии.
Эти статьи в защиту «России и Европы» и ее автора, вошедшие во вторую и
третью книги труда Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе», составили
основательный сочувственный комментарий к труду Данилевского, который
Страхов назвал «катехизисом или кодексом славянофильства»35.
В предисловии к третьему изданию «России и Европы» (1888) Страхов
писал о полной новизне идей и приемов книги Данилевского: «В книге
Данилевского все новое, от начала до конца; она не есть свод и повторение чужих
мнений, она содержит только одни собственные мнения автора, мысли, никем
и никогда еще не сказанные, почему он и почел за нужное их высказать.
„Россия и Европа" есть книга совершенно самобытная, отнюдь не порожденная
славянофильством в тесном, литературно-историческом смысле этого слова,
не составляющая дальнейшего развития уже высказанных начал, а, напротив,
полагающая новые начала, употребляющая новые приемы и достигающая новых,
более общих результатов, в которых славянофильские положения содержатся
как частный случай»36.
32 Бестужев-Рюмин К. Н. Я. Данилевский. Россия и Европа. Изд. 3-е. СПб., 1888:
[рец.] // Рус. вестник. 1888. Май. С. 210.
33 Толстой — Страхов. Полы. собр. переписки. 1.2. С. 784.
34 Там же. С. 772.
35 Страхов Н. Н. Жизнь и труды Н. Я. Данилевского. С. XXVI.
36 Там же. С. XXVIII.
400
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
Ф
По мнению Страхова, значение этой книги не сводится даже к
обозначенной в названии огромной теме, так как положенный в ее основу метод является
основополагающим для всей исторической науки: «Эта книга названа слишком
скромно. Она вовсе не ограничивается Россией и Европой или даже более
широкими предметами — миром славянским и миром германо-романским. Она
содержит в себе новый взгляд на всю историю человечества, новую теорию
всеобщей истории. Это не публицистическое сочинение, которого вся
занимательность заимствуется от известных практических интересов; это сочинение
строго научное, имеющее целью добыть истину относительно основных начал,
на которых должны строиться науки истории»37.
Ход истории вполне подтвердил правоту оценок Страхова, казавшихся
смелыми для того времени. Книга Данилевского «Россия и Европа» вместе
с такими выдающимися произведениями его современников, как «Дневник
писателя» Достоевского, «Борьба с Западом в нашей литературе» Страхова
и «Восток, Россия и славянство» Леонтьева, вошла в золотой фонд русской
патриотической литературы.
* * *
Книга Данилевского по своему содержанию органично вписалась в
программу журнала «Заря». Что касается самого автора, то он вполне поддерживал
почвенническо-славянофильское направление «Зари» и был восхищен серией
статей Страхова, посвященных «Войне и миру». Страхов писал Достоевскому
о первой из них: «.. .Данилевский в таком восторге, что я и не ожидал.. .»38
Данилевский, будучи строгим и прямым в своих оценках, вообще
восхищался исключительной «способностью понимания», которую за Страховым
признавали все, кроме его оппонентов. В области общественно-политической
мысли по многим вопросам у них наблюдалось родство взглядов. Однако
что касалось философии, то тут царило совершенное разногласие. Поэтому
при встрече они проводили время в оживленных спорах, либо «с восторгом»
соглашаясь друг с другом, либо не менее горячо отстаивая противоположные
мнения. Страхов писал Толстому в 1873 г.: «...мы расходимся во множестве
вещей и недавно чуть было не побранились в письмах из-за моей книги»39.
Речь идет, конечно, о книге «Мир как целое», вышедшей годом раньше.
Страхов сообщает далее Толстому: «Он написал мне, что она хуже, чем нигилизм
и материализм».
Зато Данилевский очень хвалил небольшую статью Страхова о книге
«Россия и Европа»: «Когда я написал маленькую статью об России и Европе,
зТ1ъм же. С. XXIX.
38 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 263.
39 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 260.
401
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
он был ужасно изумлен необыкновенною точностью, с которою я понял его
мысль, оценил все ее особенности»40. Сошлись их мнения и о разборе
Страховым сочинения модного тогда в России Дж. С. Милля. Нечего и говорить,
что одна из самых консервативных статей Страхова — «Парижская коммуна»,
в которой Страхов доказывал, что революция дает выход самым низменным
чувствам ненависти, зависти к богатству, жажды мщения и наслаждения
разрушением, — пришлась по вкусу Данилевскому.
Как раз в 1868 г., когда произошло знакомство и сближение со
Страховым, Данилевский принял решение переселиться с семьей из Петербурга
в Крым, где он в 1865 или 1866 г. приобрел запущенное имение Кушелева-
Безбородко Мшатка близ Фороса. Окончательное переселение в Мшатку
произошло в сентябре 1869 г., и с тех пор Данилевский бывал в Петербурге
лишь наездами. А в 1869 г. Страхов отправился в Мшатку вместе с
Данилевским «дней на шесть», как он писал Достоевскому 1 сентября, но прогостил
в крымском имении почти до конца октября. Они с Данилевским предприняли
путешествие по Днепру на пароходе и вели бесконечные разговоры. Нечего
говорить, что такие путешествия очень располагают к задушевным беседам
и способствуют духовному сближению.
По дороге, помимо бесед, они читали книгу Дж. С. Милля «О
подчинении женщин». Их взгляды на либеральные идеи Милля вполне совпадали.
В феврале 1870 г. Страхов опубликовал в «Заре» свою рецензию на эту книгу,
проповедовавшую в эгалитарном духе необходимость женской эмансипации
и уравнивания представительниц слабого пола в правах с мужчинами. Страхов
оспаривал идеал свободной женщины, предлагаемый Миллем, который видел
решение женского вопроса в установлении чисто юридического равенства между
полами и предоставлении женщинам свободной конкуренции с мужчинами.
Данилевский «был в восторге» от этой статьи, в которой Страхов смело
выступил против гендерного, как теперь бы сказали, подхода к женскому вопросу
одного из «передовых европейских людей», поборников прогресса, шокировав
западническую публику заявлением, что в современной европейской науке
«наибольший ход имеют самые низменные взгляды, самые общедоступные
и грубые глупости»41.
В имении Данилевского в Крыму Страхов провел месяц, а 21 октября
покинул столь полюбившийся ему край и отправился в Петербург. Свои впечатления
о пребывании в Крыму Страхов отразил в прекрасном очерке в форме письма,
который уже в январе 1870 г. появился в иллюстрированном еженедельном
журнале «Нива»42. Это живописное описание Крыма, одно из наиболее
художественных у Страхова, показывает, как хорошо ему было в Мшатке. Впоследствии
40 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 260.
41 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 1. С. 142.
42 Страхов Н. Крымские впечатления // Нива. 1870. № 2. С. 23-25.
402
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
Страхов охотно откликался на приглашения Данилевских посетить их усадьбу
и не раз бывал у них.
Страхов начал свое описание с конца, со своего возвращения в столицу.
Он противопоставляет слишком рано наступившую темноту октябрьского
Петербурга, который он недолюбливал, яркому, солнечному Крыму. В Петербурге
Страхову не нравятся, впрочем, не только темные вечера. Он описывает
впечатления о Невском проспекте, которые напоминают сатирические страницы
Гоголя: «Иду на Невский. Какие воротники, бакенбарды! Нагло и самодовольно
блистают глаза; с великой гордостию несут на себе гуляющие свои
безукоризненные шляпы и щегольские пальто. Посмотрите на катающихся:
экипажи блестят, как будто выехали на Невский прямо из сарая каретного мастера;
развалившиеся дамы и кавалеры разодеты так, как будто с них тотчас станут
снимать модные картинки...»
Далее следует уже мотив, напоминающий Достоевского: «Петербург
вообще есть город субъективный, фантастический, где настоящая жизнь,
настоящая природа не имеет никакого значения, — где люди все создают из
себя, живут своими внутренними ощущениями и мыслями и не хотят знать
действительности».
А Южный берег Крыма явно пришелся Страхову по сердцу. Его описания
красот Мшатки в письмах исполнены поэзии: «И вот я прожил месяц в этой
чудесной стороне, где каждый взгляд обнимает далекие предметы, где стоят
горы, где движется море, где днем все залито ярким солнцем, а ночью по небу
ходит золотая луна и золотые звезды, где все так чисто, так ясно и отчетливо
рисуется в глазах, где видеть и дышать — наслаждение». За годы общения
Страхов настолько сблизился с Данилевским и его семьей, а климат Крыма
так компенсировал недостаток тепла и света в нелюбимом Петербурге, что он
писал Фету в мае 1885 г.: «Нет, не нужно мне делать этих поездок! Чувствую
заранее тоску при мысли о возвращении в Петербург и почел бы величайшим
счастием, если бы год или два мог прожить в таком глухом месте, как эта
Мшатка...»43 Страхов еще не подозревал, что совсем скор.о этим поездкам
придет конец.
* * *
Школа почвенничества, начало которой положили журналы Достоевских
«Время» и «Эпоха», переросла в «Заре» в целое направление, которое можно
назвать «органическим». Данилевский был, бесспорно, одним из ярких
представителей этой группы консервативных мыслителей, хотя его воззрения заметно
отличались от взглядов почвенников. Тем не менее Данилевский, построивший
43 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 396.
403
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—ф
свою теорию культурно-исторических типов на органических началах единства
природы и общества, примыкал к группе талантливых петербургских
писателей, к которой относились прежде всего Достоевский, Страхов и покойный
Ап. Григорьев. Идеи органицизма, которые проповедовали почвенники, были
Данилевскому, конечно, близки. По мнению современного специалиста44,
теория культурно-исторических типов была создана Данилевским не без влияния
почвенничества.
Помимо основных участников почвеннического движения, ощущал свою
близость к этому направлению и консервативный мыслитель К. Н. Леонтьев.
Публикация труда Данилевского более всего утвердила его в мысли, что
взгляды, выражаемые журналом и особенно Данилевским в «России и Европе», ему
близки. 26 октября 1869 г. К. Н. Леонтьев писал Страхову: «Статья Данилевского
убедила меня, что я ничуть не отличаюсь от направления Зари. — Столкнуться
мне с ним не в чем»45.
12 марта 1870 г. Леонтьев снова хвалит «статью» Данилевского и
указывает на сходство выраженных в них идей со своими: «Статья Данилевского
превосходна; я ее прочел раза три и еще буду читать (...) Один человек, очень
близкий ко мне, читал в Петербурге статью Данилевского, несколько раз
бросал ее в досаде, что находил в ней множество моих мыслей; — дружба ко мне
заставляла этого человека негодовать, зачем другому выпала доля прежде меня
систематически высказать в печати многое из того, что я старался проповеды-
вать в разговорах»46.
Несмотря на поразительное сходство их идей, прежде всего метода
перенесения натуралистического взгляда на историю общества, можно лишь
говорить о важнейшем значении идей Данилевского для Леонтьева и предполагать
влияние «России и Европы» на автора статей, составивших сборник «Восток,
Россия и Славянство», но не о взаимном влиянии.
Органическая концепция Данилевского развернута широко и всесторонне,
в то время как в теоретических построениях Леонтьева, прежде всего художника
по натуре, ощущается, как указывал Страхов, просто дилетантское желание
придать научное обоснование своим «крылатым» идеям. Во всяком случае,
мысли Леонтьева более интересны своим парадоксальным правым радикализмом,
нежели системностью мировосприятия. Правда, сам Леонтьев уверял в письме
к Фуделю, что серьезного влияния Данилевский на него не оказал: «Книгу
Данилевского (в 69 году, когда мне было уже 38 лет) я приветствовал только,
как хорошее оправдание моих собственных (не выраженных еще в печати)
44 Богданов А.В.Политическая теория почвенников: А.А.Григорьев,
Ф.М.Достоевский, Н. Н.Страхов: дис. ... канд. полит, наук: 23.00.01. М., 2002.
45 Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1. С. 275.
46 Там же. С. 284.
404
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
—»
мыслей»47. Леонтьев заявил себя вполне правдивым мыслителем, и ему, видимо,
в этом можно поверить. Однако явно завышенной представляется его самооценка
по отношению к автору «России и Европы»: «И Данилевского я скоро (в 70-х
годах) по-своему перерос...»48 Оказывается, «перерос», как следует далее из
письма, Леонтьев Данилевского... в понимании, что христианин не имеет права
противиться предложенному Вл. Соловьевым соединению Церквей! Как бы то
ни было, Леонтьев очень ценил труд Данилевского и отзывался о книге «Россия
и Европа» чрезвычайно высоко: «Я боготворю его и зову Евангелие, а другие
говорят „скука"»49.
Что касается Страхова, то в вопросах геополитики существенных
разногласий с Данилевским у него не было, хотя эта область была ему менее
интересна, чем вопросы философии и литературы. В 1871 г. Страхов поделился
с Достоевским своими пессимистическими мыслями: «Конечно, очень грустно
то уродливое развитие, которое мы переживаем. Едва ли не прав Данилевский,
что поправить нас может только борьба с Европою, море крови, всяческие битвы
и потрясения. Мне иногда кажется, что самые светлые умы подверглись заразе.
Обожание прогресса, чрезмерное уважение к уму, к знанию, весь склад, все
привычки мысли — как Вы все это вырвете и очистите? Чувствуя, что Запад
падает, мы, однако же, едва ли понимаем, где корень этого падения. Римляне
когда-то жаловались, что вся беда от греков. Но наше положение хуже, потому
что до сих пор нельзя даже утвердительно сказать, что Россия не есть „Больной
расслабленный колосс"»50. Эти злободневные вопросы, конечно, они постоянно
обсуждали и с Данилевским.
С ноября 1872 г. до середины февраля 1873-го Страхов снова
находился в Мшатке. Разговоры на этот раз были особенно горячими. Эти беседы не
поссорили друзей и единомышленников по многим вопросам, но обозначили
существенное различие в их взглядах. К сожалению, мы знаем об этих спорах,
которые были далеки от политики, лишь по отдельным фразам из писем.
Страхов покинул крымскую землю не из-за споров, но и не совсем по собственной
воле — ему пришлось уехать из-за необходимости помогать Достоевскому,
взвалившему на себя обязанности редактора журнала-газеты «Гражданин».
4 декабря 1872 г. Страхов описывает в письме к Толстому быт семьи
Данилевского в Мшатке и упоминает свои вечерние споры с ним: «Иногда
подымается бесконечный спор — об атомах, о жителях планет, о началах
нравственности»51. Судя по всему, «бесконечные» споры вызваны прежде всего
обсуждением книги Страхова «Мир как целое», вышедшей в 1872 г. А первое
47 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1: «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и
Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания. С. 81.
48 Там же.
49 Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1. С. 291.
50 Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 272.
51 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 194-195.
405
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
■3'
дошедшее до нас письмо Страхова к Данилевскому, датированное маем — июнем
1873 г. свидетельствует о том, что эти споры продолжались еще долго.
Подробности очень важной научной полемики Страхова и Данилевского
по поводу книги «Мир как целое» освещены нами в главе «Наука в биографии
и трудах Страхова». Ясно одно: при всех спорах, размолвках и идейных
расхождениях, по основным вопросам истории, культуры и жизни России Страхов
и Данилевский сохраняли полное единодушие.
В 1872 г., помимо споров о книге Страхова «Мир как целое», на
первый план вышла тема, которая непосредственно касалась как Страхова, так
и Данилевского. Теория Дарвина завоевывала всё новых и новых
сторонников, и Страхов с Данилевским, как профессиональные биологи, поняли, что
учение английского естествоиспытателя переходит границы естественных
наук и приобретает стремительно растущее влияние прежде всего как
философская идея.
Страхов занимался проблемами дарвинизма с того момента, как об этом
учении стало известно в России. В 1862 г., когда Страхов опубликовал свою
первую статью о Дарвине под названием «Дурные признаки» («Время», 1862,
№ 11), он еще не вполне распознал опасность теории эволюции, созданной
английским естествоиспытателем, и называл ее «великим переворотом», но
уже тогда предупреждал о социальной опасности, вытекавшей из этически
безнравственной возможности приложения этого учения о выживании сильных
в борьбе за существование к человеческому обществу.
В январе 1872 г. Страхов опубликовал в «Заре» посвященную дарвинизму
статью «Переворот в науке». К этому времени он пришел к окончательному
выводу о ложности теории изменения видов под влиянием накопления
случайных изменений и решил повести с этим механическим взглядом на природу
серьезную борьбу.
В этот период Страхов был занят чтением подготовительных материалов
для написания большой работы о Дарвине и его учении. Но 11 марта 1872 г. он
неожиданно сообщает Толстому, что за опровержение Дарвина решил взяться
Данилевский. Страхов много размышлял о дарвинизме, писал статьи на эту
тему и был намерен продолжить эту работу. К тому же взгляды Страхова на
дарвинизм не вполне совпадали с толкованием этого стремительно
входившего в моду учения Данилевским, но эти различия были не слишком важными,
и подробно на них Страхов не останавливался. Сам он в силу особенностей
своего характера не был склонен приняться за большую, трудоемкую тему
и охотно уступил ее своему более энергичному другу, хотя и не был тогда
уверен, что увлекающийся Данилевский исполнит свое намерение: «Я все-таки
406
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
улучил время и стал читать, прочел Дарвина, Каспара Вольфа, принялся было за
Спенсера и за Бутлерова; да вдруг приехал Н. Я. Данилевский и говорит, что он
будет писать о Дарвине. Я ему и решился было уступить, и книги свои подарил,
да вижу, что он ленивец и что это дело, кажется, все-таки придется взять на
себя»52. Тем не менее Данилевский вдохновился этой гигантской задачей. Как
отмечал Страхов, Данилевский обычно, взявшись за любую работу, трудился
очень энергично и не оставлял ее до тех пор, пока не закончит. За не слишком
большой срок Николай Яковлевич сделал очень много и успешно довел бы свое
фундаментальное опровержение дарвинизма до конца, если бы неожиданная
смерть не помешала ему завершить эту крайне важную работу.
Страхов всё же не сразу прекратил свои исследования дарвинизма. В статье
«Последователи и противники», опубликованной им в 1873 г., он развил свою
критику учения Дарвина. Страхов много размышлял о теории эволюции и
глубоко разобрался в ней. В 1873 г., когда Данилевский еще только взялся писать
работу против дарвинизма, Страхов упоминал среди лучших своих
достижений и статью о Дарвине: «Кроме того, я писал о Дарвине (еще не напечатано)
и уверен, что один понимаю его, как следует...»53
Данилевский не сразу целиком погрузился в тему дарвинизма, хотя
подспудно он постоянно готовился к ней. Время от времени он наезжал в
Петербург, как и Страхов в Крым. Когда Николай Яковлевич появлялся в Северной
столице, обычной размеренной жизни Страхова наступал конец. Жизнь сразу
становилась бурной и хаотичной. 29 января 1877 г. Страхов сообщает Толстому
о своих долгих и эмоциональных беседах с Данилевским и жалуется на
невозможность работать в таких условиях: «Здесь теперь Н. Я. Данилевский, и он
отчасти в этом виноват— он готов по целым дням разговаривать со мною»54.
Нет сомнения, что одну из главных тем разговоров между ними в эти годы
составлял дарвинизм, в критике которого они были единодушны.
Однако частые и длительные беседы Страхова с Данилевским выявили
темы, по которым у них были серьезные расхождения во взглядах.
Данилевский пробыл в Петербурге примерно до середины апреля ц, как мимоходом
отметил Страхов, оставил о себе «очень милое, но и досадное впечатление»55.
Данилевский был прежде всего ученый-практик, и Страхов отмечал явную
недооценку философии погруженным в садоводство естествоиспытателем. Он
писал Толстому в январе 1877 г.: «Он необыкновенно милый и умный человек,
но очень далек от настроения мыслей, в котором я нахожусь. Я с ним натуралист
и математик»56.
52 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 132.
53 Там же. С. 260.
54 Там же. С. 472.
55 Там же. С. 499.
56 Там же. С. 472.
407
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
На недостаток знания Данилевским философии он сетовал и 21 апреля
того же года: «Тут я мог вполне измерить и умственные силы, и степень
серьозности (так!) своего приятеля, и признаюсь, очень разочаровался.
Немало значит, конечно, десять или пятнадцать лет, проведенные в
занятиях одним садоводством. Очевидно, его самолюбие было затронуто тем,
что оказалась область мысли, ему недоступная; но он самым ребяческим
образом упирается и собрался читать философов, чтобы убедиться, что
философия пустяки»57.
Из писем Данилевского дошел разве что небольшой отрывок,
процитированный Страховым в письме к Толстому от 28 сентября 1878 г. и
представляющий собой отзыв на брошюру Страхова «Об основных понятиях
психологии» (1878): «Давно, давно уже пора писать к Вам, бесценный Лев
Николаевич. И опять приходится мне доказывать, какое Вы для меня
спасение и как мало людей, способных к философии. Дней пять назад я получил
письмо от Н. Я. Данилевского. Он очень прилежно изучил мою „Психологию"
и вот что пишет:
„Все ваши доказательства достаточны против материализма, но
достаточны ли они и против скептицизма? То, что Вы говорите о сознании, не
относится ли вполне к ощущению и нельзя ли сознание определить:
постоянное ощущение самого себя? Оно, во всяком случае, есть первоначальный
психический факт, свидетельствующий о чем-то совершенно отличном от
всего объективного, факт первичный и ничем уже не объяснимый. Но я
думаю, что вы это так и понимаете. Я не знаю, зачем понадобилось Миллю для
признания, что мы стоим лицом к лицу с чем-то окончательно неизъяснимым,
допущение невозможного парадокса, что нечто, составляющее по
предположению лишь ряд чувствований, может знать о себе как о ряде. Мне кажется,
что всякое единичное ощущение, хотя бы совершенно отдельное, без
всякого предшествующего и последующего, т.е. без воспоминаний и ожиданий,
уже свидетельствует об этом окончательно-неизъяснимом, окончательно-
выходящем из той области, которую разумным образом мы можем отнести
к миру материальному, или объективному"»58.
Страхов дает высказанным в цитате взглядам, в которых сознание
подменяется ощущением, строгую оценку: «Опускаю другие рассуждения. Но
Вы видите, что понятие сознания для этого умнейшего человека совершенно
недоступно. Это очень странно, и я даже этого не ожидал»59.
Судя по всему, Данилевский непосредственно приступил к работе над
«Дарвинизмом» в 1879 г., когда он сообщил Н. П. Семенову, другу с детства
(вместе учились в лицее), о том, что тема дарвиновского учения захватила
57 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 499.
58 Там же. С. 680-681.
59 Там же. С. 681.
408
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
его. Этот документ — одно из немногих дошедших до нас писем
Данилевского, которое дает представление о его стилистической манере, а также
о том, что окончательно приняться за работу по опровержению Дарвина его
вдохновили переданные ему Страховым книги по дарвинизму, в частности
трехтомное исследование немецкого ботаника Альберта Виганда, и письма
Н. П. Семенова:
«Взбудоражил ты меня совершенно Дарвинизмом. Получив третий том
Виганда, а на днях и применение Дарвинизма к астрономии (от Николая
Николаевича) и прочитав их, зароились у меня в голове мысли антидарвинистские,
к прежним моим возражениям присоединились новые, как мне, по крайней мере,
кажется, совершенно не опровергаемые. Но для меня писать не такая легкая
вещь, как для тебя. Мне нужна абсолютная тишина и спокойствие совершенное,
неразвлечение чем бы то ни было. Процесс писания (то есть сочинения)
представляется чем-то в роде хождения по жердочке или по канату, мысль
беспрестанно оттягивается то в ту то в другую сторону и то и дело грозит ей падение
с каната, на который уже с большим трудом надо ей вновь взбираться и
беспрестанно наблюдать, чтобы идти прямо по жердочке, ибо то, что называется
логическим мышлением, есть именно такое шествие по жердочке чрезвычайно
скользкой и тонкой, а другого пути к истине нет (то же самое говорят и о пути
нравственном в Царствие Небесное), и вот я всегда с большими колебаниями
и неохотно предпринимаю такое путешествие. Надо, чтобы что-нибудь очень
сильно возбуждающее к этому меня побудило, как, например, наши
политические глупости для статей о политике и славянстве. Так же точно возбудили
теперь меня твои письма и прочитанные книги, и вот я и отыскиваю... жердочку
и, кажется, отыскал, надо только идти по ней и не сбиваться. Но для этого ты вот
еще какую мне услугу должен оказать. Прислать мне обратно письмо, которое
я тебе прислал о Дарвинизме, потому что мне кажется, что многое там у меня
правильно и хорошо выражено»60.
* * *
В 1880-х гг. умственные занятия Данилевского были целиком
сосредоточены на книге о дарвинизме, хотя и в эти годы продолжались его командировки,
связанные с исследованием рыболовных промыслов; участвовал он и в
составлении правил по владению водами в Крыму, и в истреблении филлоксеры
(болезни виноградников). Но основные его усилия были направлены на изучение
теории Чарлза Дарвина, стремительно набиравшей в обществе популярность.
Это учение претендовало ни много ни мало на научное объяснение всех
биологических процессов вплоть до происхождения человека.
Н. Я. Данилевский —Н. П. Семенову. 23 мая 1879 г. // ОРРНБ. Ф. 169. Ед. хр. 4. Л. Ф-5.
409
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
В 1882 г., как следует из письма Страхова к П. Д. Голохвастову, посланного
в октябре, после поездки в Крым, значительная часть «Дарвинизма» была уже
написана: «Н. Я. Данилевский, у которого я жил, написал (почти вполне) два
тома о теории Дарвина. Я читал начало и слышал содержание остального: это
чудесно; от Дарвина не остается ни косточки. Дело известно Данилевскому не
по слухам, а и по ежедневному опыту. Он садовод, живет в саду и на живых
организмах изучал эти вопросы. Боюсь, что будет несколько длинно; но
наверное очень хорошо. Кстати, самого Данилевского я нашел в удивительном
положении: он уничтожил филлоксеру в Крыму и потому торжествует как
победитель; но эта победа досталась ему собственным разорением: он должен
был уничтожить свои виноградники и вместо десяти тысяч дохода лет шесть
или восемь не получать ничего»61.
Каждый раз, когда Страхов пишет о Данилевском, он умиляется
замечательным человеческим качествам друга: «Он прекрасный человек; у него
большая и милая семья, и в этом отношении мне было очень хорошо»62.
Взгляды Страхова и Данилевского на Дарвина и дарвинизм были близки.
На важность задачи опровержения дарвинизма они смотрели практически
одинаково. Страхов писал позже в некрологе о Данилевском: «Но, что касается
„Дарвинизма", то не только задача этой книги и непобедимая сила ее точной
и ясной аргументации, но и строгое искание правильных понятий, и
отчетливость сдержанных выводов внушили мне истинное восхищение. Если бы
я вздумал заявлять какое-нибудь несогласие, то оно относилось бы к местам
совершенно второстепенным или к словам, сказанным мимоходом»63. Оба они
считали дарвинизм лжеучением, получившим популярность не из-за своих
научных достоинств, а как материалистическое философское обоснование
развития мира без Бога. В письме к Данилевскому от 25 июня 1883 г. Страхов,
с нетерпением ожидавший завершения его труда, спрашивал: «Как идет ваш
анти-Дарвин?»64
В 1884 г. Страхов сообщал П. Д. Голохвастову об очередном приезде в
Петербург Данилевского и о том, что работа над первым томом книги о дарвинизме
приближается к концу: «С неделю уже, как здесь гостит Н. Я. Данилевский; он
пока поглощает всё мое время. Знаете ли вы о новой его книге Дарвинизм? Это
ниспровержение теории Дарвина. Книга теперь печатается, и выйдет осенью ее
часть, около 70 печатных листов. Сам он бесподобный человек, и я им
наслаждаюсь. И положение его бесподобное. Он живет в Крыму, делает дело — истребляет
филлоксеру, но имеет много свободного времени, так что написал 72 печатных
61 РО ИРЛИ. Ед. хр. 11060. Л. 26 об. —27.
62 Там же. Л. 27.
63 [Страхов H.J Н.Я.Данилевский: [некролог] // Русь. 1885. № 20, 16 ноября. С. 5 (без
подписи).
64 Рус. вестник. 1901. Февр. С. 466.
410
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
листа, которые сразу и печатает. Издержки взял на себя один купец, а выгоды
он не ждет и ему не нужно»65. Фету он писал 12 мая, что приехал Данилевский
и остановился у него. Как обычно, «за разговорами и всякими свиданиями
у меня вовсе не стало времени. Это чудесный человек и по уму и по сердцу; мне
истинная отрада его приезд. Книги его,Дарвинизм" уже набрано листов 25»6б.
8 мая 1884 г. в Санкт-Петербургском Славянском благотворительном
обществе рассматривалось предложение об избрании Н. Я. Данилевского его почетным
членом. Страхов ознакомил собрание с общественной и литературно-ученой
деятельностью Данилевского. Сообщение о выдающемся ученом-патриоте было
встречено «громкими рукоплесканиями»67. Данилевский был избран почетным
членом общества единогласно.
Первый том книги Данилевского «Дарвинизм. Критическое
исследование» вышел в свет под редакцией Страхова в 1885 г. в двух частях. В этом
томе Данилевский успел уже наметить основные линии своих критических
доказательств. Уже в предисловии к первому тому «Дарвинизма» Данилевский
изложил опасности, которые были связаны с учением английского ученого,
подчеркивая, что «Дарвиново учение не только и не столько учение
зоологическое и ботаническое, сколько вместе с тем и еще в гораздо большей степени,
учение философское»68.
17 мая 1885 г., когда ничто еще не предвещало кончины Данилевского,
Страхов писал Фету «из страны роз и кипарисов», то есть из Мшатки:
«Дарвинизм появился наконец здесь в виде первой книги, еще не подлежащей продаже
и служащей автору для справок, ссылок и уловления опечаток»69.
Во втором томе Данилевский намеревался дать опровержение
доказательств Дарвина о происхождении человека от животных предков. К сожалению,
написать его Данилевский из-за неожиданной смерти не успел; в его архиве,
как выяснил Страхов, сохранилась в приемлемом для издания виде только одна
первая глава, которая и была издана посмертно в 1889 г.
Написанная в августе — сентябре 1885 г. эта глава под названием
«Общий взгляд на учение об экспрессии и характер его направления» посвящена
частному доказательству того, что сходство экспрессии (то есть выражения
чувств) у человека и животных вовсе не представляет особого самостоятельного
аргумента в пользу происхождения человека от животного.
Утрата близкого друга чрезвычайно опечалила Страхова. Он писал
Толстому в декабре 1885 г.: «Ужасно меня поразила смерть Н. Я. Данилевского.
65 РО ИРЛИ. Ед. хр. 11060. Л. 30-31.
66 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 374.
67 Аристов В. Последние 10 лет первого 25-летия существования С.-Петербургского
Славянского благотворительного общества по протоколам общих собраний его членов,
состоявшихся в 1883-1893 гг. (с предисл. В. Аристова). СПб., 1893. С. 47.
68 Данилевский Н.Я. Дарвинизм: Критическое исследование. М., 2015. С. 49.
69 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 396.
411
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
Я был тогда слегка болен, и с удивительной ясностью почувствовал
ничтожество жизни. Если не половина, то треть этой жизни для меня исчезла»70.
В некрологе о Данилевском, опубликованном в газете «Русь», Страхов,
перечислив труды Николая Яковлевича, особо подчеркнул его
исключительные душевные качества, и это были не просто памятные слова, но искреннее
выражение чувств: «Но, как ни прекрасны его труды, в нем самом было еще
больше добра и света, чем в его трудах. Никто, знавший покойного, не мог не
почувствовать чистоты его души, прямоты и твердости его характера,
поразительной силы и ясности его ума. (...) Патриотизм его был безграничный, но
зоркий и неподкупный. Не было пятна не только на его душе, но и на самых
помыслах. Ум его соединял чрезвычайную теоретическую силу с легкостью
и точностью практических планов»71.
Под влиянием тяжелой утраты Страхов принял решение подать в
отставку из Публичной библиотеки. Голохвастову он писал в начале января 1887 г.:
«В прошлом мае и июне я съездил на Южный берег, в семью Н. Я. Данилевского;
разбирал его бумаги, приготовил очерк его биографии и т.п. да каждый день
ходил кланяться его могиле. Он был самый чистый человек, какого я только
знал, и с его смертью я, собственно, уже не могу ничего делать, как только
готовиться к своей смерти»72.
О состоянии архива Данилевского Страхов сообщал А. Н. Майкову 15 мая
1886 г. из Мшатки, куда был приглашен Ольгой Александровной, вдовой
Николая Яковлевича, разбирать архив покойного друга: «Работы по Дарвинизму,
следы которых я нашел, имеют в себе нечто циклопическое, и таковы же
приготовления ко второму тому, который он собирался писать. Но, увы! кажется,
не существует даже набросков этой последней главы второго тома, в которой
он излагал свою собственную космогонию, свою философию природы. Слух
об этой главе идет от О(льги) А(лександровны). Ей Н(иколай) Я(ковлевич) раза
два по целым часам рассказывал свою космогонию. О(льга) А(лександровна)
просила его настойчиво, чтобы он записал свои мысли, и ей казалось, что он
похвалился однажды, что начал писать именно эту главу. Но все мои поиски до
сих пор были напрасны. Я нашел несколько отрывков (...) С Н(иколаем)
Яковлевичем) мы во многом расходились, и, вероятно, я не буду приверженцем его
космогонии; но как усилие необыкновенного ума, ясного, многообещающего,
она должна представлять большую красоту, должна превосходно изображать
самую задачу, которую разрешает»73.
Отсутствие даже набросков этой важнейшей главы, излагающей
«космогонию», или философию природы Данилевского, вызывает особенное сожаление,
70 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 700.
71 Русь. 1885. № 20, 16 ноября. С. 5.
72 РО ИРЛИ. Ед. хр. 11060. Л. 38.
73 Там же. Ед. хр. 16947. Л. 16.
412
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
»
так как философские взгляды Николая Яковлевича так и остались не вполне
проясненными.
Издав первый том «Дарвинизма» и подготовив небольшое отдельное
издание сохранившейся главы второго тома (издана в 1889 г.), Страхов этим
не ограничился и в 1890 г. опубликовал «Сборник политических и
экономических статей Н. Я. Данилевского», достойно выполнив свой долг памяти
перед покойным другом. Однако на этом его деятельность, связанная с
трудами Н. Я. Данилевского, не прекратилась. Она вынужденно продолжалась
практически всю его жизнь, и вести борьбу по отстаиванию чести
замечательного мыслителя Страхову пришлось на два фронта. Во-первых, философ
Вл. Соловьев в 1888 г. начал атаку на книгу Данилевского «Россия и Европа»,
обидевшись, скорее всего, на резкую критику Данилевским его
прокатолических симпатий в статье «Владимир Соловьев о Православии и католицизме»,
опубликованной Страховым незадолго до кончины друга. Кроме того,
Страхову пришлось в 1887 г. вступить в борьбу с многочисленными сторонниками
дарвинизма во главе с К. А. Тимирязевым, которые, естественно, восприняли
книгу Данилевского в штыки.
О полемике Страхова с Владимиром Соловьевым, которая велась главным
образом вокруг книги Данилевского «Россия и Европа», достаточно подробно
говорится в главе, посвященной взаимоотношениям двух философов. Статьи
Страхова, возникшие в результате этой полемики, вошли во вторую и третью
книги его сборников «Борьба с Западом в нашей литературе». В эти же тома
включены и статьи, в которых Страхов полемизирует с учеными-дарвинистами,
защищая второй важнейший труд Н.Я.Данилевского — «Дарвинизм.
Критическое исследование».
Полемика Страхова с дарвинистами имела свои многочисленные
нюансы. После выхода книги Данилевского, откорректированной и изданной под
руководством Страхова, он был очень обеспокоен тем, что «Дарвинизм» не
привлекал к себе большого внимания читателей. Равнодушие читательской
публики к книге было просто вопиющим. Страхов печалился, что романист
Григорий Данилевский был гораздо более известен в обществе, чем его
однофамилец, подлинно выдающийся ученый и мыслитель. Несмотря на всю
актуальность и полемическую остроту критического исследования, «Дарвинизм»
совершенно не расходился. Эта причина побудила Страхова опубликовать
в январе 1887 г. большую статью под громким названием «Полное
опровержение дарвинизма» — и это в то самое время, когда ученые-естествоиспытатели
почти единодушно торжествовали победу материалистического
эволюционного учения в науке.
413
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$■
Давая своей статье такое название, Страхов не лукавил: каждому
беспристрастному и понимающему читателю после прочтения становилось ясно, что
дарвинизм—ложное учение, в книге очень убедительно изложены
доказательства того, что учение Дарвина действительно являлось «псевдотелеологией»,
как метко определил его Данилевский74.
С лекцией по поводу книги Данилевского и статьи Страхова выступил
известный ученый-дарвинист К. А. Тимирязев. Он разразился в адрес
Данилевского и Страхова гневной филиппикой, не столько апеллируя к научным
аргументам, сколько высмеивая ретроградов, осмелившихся критиковать столь
успешное и прогрессивное учение. Его лекция была опубликована в виде
статьи под названием «Опровергнут ли дарвинизм?» («Рус. мысль», 1887, № 5, 6).
Страхов ответил статьей «Всегдашняя ошибка дарвинистов» («Рус. вестник»,
1887, № 11, 12), в которой парировал аргументы Тимирязева.
Кроме Страхова в дискуссии принял участие еще один известный ученый-
ботаник— профессор А. С. Фаминцын, который отнесся к Данилевскому чуть
более уважительно, чем Тимирязев. Фаминцын, тоже критикуя труд
Данилевского, всё же беспристрастно признавал книгу «Дарвинизм» «полезной для
зоологов и ботаников» и заявлял, что за собранные в книге возражения Дарвину
«наука останется благодарной Данилевскому»75.
Страхов в статье «Суждение Андр. С. Фаминцына о,Дарвинизме" Н. Я.
Данилевского» («Рус. вестник», 1889, № 4) отметил, что в статье Фаминцына «уже
вполне признается достоинство ученого сочинения»76. Этот ответ Страхова
Фаминцыну и нужен был для того, чтобы заинтересовать учением Данилевского
как можно больше читателей. Страхов был еще более доволен, когда в марте
1889 г. с критикой Фаминцына выступил Тимирязев. Между этими учеными
завязалась полемика, и Страхов посчитал свою задачу по популяризации
незаурядной книги своего друга выполненной.
После этого книга Данилевского «Дарвинизм» была уже на слуху. О ней
знали практически все, кому была интересна сама тема исследования. Но прямых
отзывов о книге было всё же мало. Явно недооценивается этот достойнейший
труд Данилевского и в наши дни.
В этой связи обращает на себя внимание вышедшая 3 февраля 1896 г.
статья консервативного критика А. А. Шевелева, писавшего в газете «Русское
слово» под псевдонимом А. Скопинский. Статья была в основном
посвящена памяти покойного Страхова, но много внимания в ней уделено и
трудам Данилевского. Шевелев, очень высоко оценивая «Россию и Европу»,
74 Данилевский Я. Я Дарвинизм. СПб., 1886. Т. 1, ч. 1. С. 45; то же: Данилевский Н. Я.
Дарвинизм: Критическое исследование. М., 2015. С. 58.
75 Фаминцын А. С. Н.Я.Данилевский и дарвинизм: Опровергнут ли дарвинизм
Данилевским? // Вестник Европы. 1887. № 5. Отд. II. С. 145-180; № 6. Отд. II. С. 1-14. Цит. по:
Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 516.
76 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 516.
414
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
отмечал, что само по себе издание сочинений Данилевского Страховым,
который заставил общество обратить на них внимание, — «уже заслуга,
дающая право на бессмертие в летописях русского просвещения»77.
Шевелев задается вопросом о наследии самого Страхова, которого он оценивает
даже выше Данилевского: «Удастся ли кому-нибудь выполнить ту же задачу
в отношении самого Страхова? Это будет, конечно, в несколько раз труднее,
поскольку произведения Страхова глубже, проникновеннее, хотя бы „России
и Европы" Н.Данилевского, сочинения, пользующегося особым успехом».
Мнение Шевелева, надо признать, идет вразрез с несравненно большей
популярностью «России и Европы», чем сочинений Страхова, как тогда, так
и в наше время. Эта книга Данилевского, переизданная в последние
десятилетия уже несколько раз, давно уже стала классическим произведением
русской общественной мысли.
Но еще более примечательно то, что А. А. Шевелев, признавая важное
значение книги Данилевского «Россия и Европа», отдает предпочтение из двух
его главных творений мало читаемому «Дарвинизму» того же автора: «Нисколько
не умаляя значения первой книги Н. Я. Данилевского, мы все-таки не можем
не дать первенства другому произведению его, а именно его замечательной
критике дарвинизма»78.
Точка зрения Шевелева во многом совпадает с мнением глубокого
христианского мыслителя и педагога, ботаника по профессии С. А. Рачинского. Кстати,
Рачинский считал, что сам Дарвин, который как натуралист воздерживался от
философских соображений, не вполне повинен в крайностях той теории, которая
носит его имя: «Дарвин был совершенно свободен от того суеверия в
непогрешимость своей теории, которая обуяла его последователей. С первого шага он
внес в нее корректив (правильно оцененный одним Данилевским). Это так им
называемые соразмерности или гармонии развития (corrrelations of growth), за
коими кроется понятие о плане — чьем?»79
Немало писал о Дарвине и дарвинизме, не забывая в этих статьях,
конечно, и Страхова, Василий Розанов. Среди его работ — рецензия на второй том
«Дарвинизма» (1889), в которой он раскрыл основные идеи теории эволюции,
главная из которых — устранение принципа целесообразности из объяснения
природы и замена телеологии в развитии органического мира принципом
случайности. Теория, исключающая из объяснения мира Создателя, представляется
Розанову совершенно нелепой. В очерке «Теория Чарлза Дарвина, объясняемая
из личности ее автора» он пишет, что дарвинизм есть «внешнее объяснение
природы», когда «лепится великая органическая поэма через „подбор"
случайных признаков», и что именно простота и краткость новой схемы заразила мир
77 Скопинский А. [ШевелевА. А.] О Н. Н. Страхове // Рус. слово. 1896. № 33,3 февр. С. 1.
78 Там же.
79 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 449.
415
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
и привела к ее торжеству. «Это было впервые в истории, когда метод растлил
ученый мир...»80 — делает вывод Розанов.
В книгах Розанова можно найти много простых и убедительных
высказываний о ложности дарвинизма, в том числе и опровержение взглядов Вл.
Соловьева на красоту, возникших не без влияния теории Дарвина. Естественно,
что Розанов, как и Страхов, целиком поддерживал критическое исследование
Данилевского о дарвинизме.
Розанов считал, что в «Дарвинизме» Данилевского с его ясностью и
отчетливостью мысли проявилась «особенная складочка души»81 —русское
национальное начало в науке, которое он находит и в образе мыслей Страхова. По
его мнению, основным и самым весомым возражением Данилевского против
теории происхождения видов путем естественного отбора Дарвина является
обоснование роли скрещивания в устранении индивидуальных изменений
естественного отбора.
Утверждение Данилевского в книге «Дарвинизм», «что сколь бы
предполагаемые изменения сами по себе полезны ни были, они должны поглотиться
скрещиванием очень скоро после их возникновения (...) и естественный подбор
есть что-то мнимое»82, является важнейшим выводом о несостоятельности
теории Дарвина.
Однако в научном мире теория эволюции, в основу которой было положено
учение Дарвина, по мере приближения к революционной ломке старого мира
имела всё большее преимущество перед ее противниками, поддерживающими
«реакционные» идеи Данилевского и Страхова.
Правда, в 1922 г. известный ученый-биолог Л. С. Берг в своем
исследовании «Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей», изданном
в Петрограде, осмелился заявить новое учение, которое шло вразрез с
дарвинизмом. Показательно было уже то, что в качестве эпиграфов к книге
автор избрал цитаты из Гёте и Страхова. Перед одной из глав Берг
использовал еще один эпиграф из статьи Страхова — с прямым опровержением
сути дарвинизма: «Всякая определенность, всякий закон, всякое правило,
которое мы откроем в изменениях организмов, в ходе наследственности,
в явлениях скрещивания и размножения, — упраздняет теорию Дарвина. Ибо
непременное условие дарвиновского процесса — полная неопределенность
во всех этих областях, полный хаос, из которого потом сам собою родится
порядок под действием единого определенного начала — пользы, то есть
спасения от гибели»83.
80 Розанов В. В. Природа и история. М., 2008. С. 41-^3.
81 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 184.
82 Данилевский Н. Я. Дарвинизм: Критическое исследование. С. 580-581.
83 Страхов Н. Спор из-за книг Данилевского // Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2.
С.202-203.
416
Глава 12. Страхов и Н. Я. Данилевский
Ф
Вспомнил Берг и об исследовании Данилевского, которое к тому времени
приобрело крайне незавидную репутацию. Ученый писал о «Дарвинизме»:
«Книга эта, конечно, всем естествоиспытателям понаслышке известна, но из
людей моего возраста, я думаю, найдется в России едва пять-шесть человек,
которые ее читали бы: за ней имеется слава Герострата. (...) Прочитав ее, я с
радостным удивлением убедился, что наши взгляды во многом одинаковы. Труд
Данилевского, результат обширной эрудиции автора, есть произведение,
заслуживающее полного внимания. В нем заключена масса дельных соображений,
к которым независимо впоследствии пришли на Западе»84.
Берг приводит длинный ряд авторов, высказывающихся в пользу развития
по определенному пути, или ортогенеза (в том числе Данилевского), и в качестве
вывода снова ссылается на работу Страхова: «...если тенденция и вариации
предопределены, если появлением вариаций руководит законность, а не случай,
то роль естественного отбора сводится к нулю, как это великолепно выразил
Страхов еще в 1873 году: „всякий закон, открываемый в законах изменчивости
и наследственности, ведет к опровержению теории Дарвина. Сила этой теории,
вся ее привлекательность для умов заключается именно в предположении
отсутствия законов, в сведении явлений на игру случайностей"»85. Так идеи
Данилевского и Страхова получили неожиданную поддержку в Советской России
(труд Берга был переиздан в 1977 г.).
В научном сообществе, как видно из сменяющихся статей в «Википе-
дии», до сих пор царит всемогущая теория эволюции, хотя она и претерпела
существенные изменения. Сложились две соперничающие точки зрения:
креационизм — учение о творении Божием — и теория эволюции, восходящая
к учению Дарвина.
Прошло почти полтора века со времени появления книги «Дарвинизм»
Данилевского, содержание которой Страхов справедливо оценил как «полное
опровержение дарвинизма», однако приходится признать, что влияние этой
выдающейся книги (переизданной в 2015 г.) на мнение ученых до сих пор не
слишком значительно. Большая часть научного сообщества до сих пор,
несмотря на все очевидные доказательства полной несостоятельности дарвинизма,
приведенные Данилевским, Страховым, Бергом и многочисленными другими
авторами, придерживается несколько обновленной теории эволюции, считая
ее вполне научной. Им противостоят сторонники концепции, согласно которой
мир сотворен Богом. Ученые-креационисты опираются не только на новейшие
научные открытия, но и на идеи, которые содержатся в трудах Н. Н. Страхова
и Н. Я. Данилевского.
84 Берг Л. С. Номогенез, или Эволюция на основе закономерностей. Петербург, 1922.
С. III-IV.
85 Там же. С. 98-99.
417
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
В конце статьи «Всегдашняя ошибка дарвинистов» Страхов дал
замечательную характеристику Николая Яковлевича, которая достойна того, чтобы
завершить эту главу о бескорыстной творческой деятельности,
сотрудничестве и дружбе двух этих выдающихся представителей русской общественно-
политической и философской мысли: «Это был человек в одно время чистой
души и большого ума, мыслитель и деятель, скромный и властительный,
впечатлительный и бесстрашный, застенчивый и энергический, добродушный
и проницательный, простой и высокий, нежный и сильный, дитя и богатырь
в одно и то же время. Мне часто думалось, что в нем гармонически соединились
все лучшие свойства русского характера.. .»86
Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 513.
С-Лшва 13
КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННАЯ ДРУЖБА
(СТРАХОВ И Л. Н. ТОЛСТОЙ)
...Перед Вами я всегда как перед исповедником —
чист в своих намерениях и помыслах.
Н. Н. Страхов'
£$ШВ Наиболее счастливо складывались у Страхова отношения с великим
русским писателем Львом Толстым. Эти отношения, быстро переросшие в
настоящую дружбу, начались с заочного знакомства в 1870 г., после того как Страхов
написал серию замечательных статей о романе «Война и мир». Страхов первым
из всех критиков поставил эпопею на то высокое место в отечественной и
мировой литературе, которое она с тех пор неизменно занимает.
Дружба с Толстым, казалось, была очень прочной и не имела, по крайней
мере внешне, таких трещин или изъянов, какие имелись в его отношениях чуть ли
не с каждым из других его великих современников. Однако в этой дружбе таилась
огромная внутренняя драма, которая, может быть, даже превосходила по своей
непоправимости расхождения Страхова с другими именитыми современниками.
Правда, эта коллизия совершенно иного рода, чем в отношениях с
Достоевским или, например, Вл. Соловьевым, так как источник ее лежал совсем не
в личности Страхова, а в радикальной перемене взглядов и образа жизни самого
«поклоняемого и завидуемого»2 Льва Николаевича. На самом деле было «два
Толстых», воплощение двух очень разных этапов его творческой биографии.
Один — великий художник слова, автор гениальных романов, отразивших самую
суть русской национальной жизни и покоривших весь мир титанической силой
образов. Другой — радикальный публицист, псевдорелигиозный сектант и
политический бунтовщик, претендовавший на роль пророка и революционера духа.
Поэтому и взаимоотношения Страхова с Толстым следует разделить на
две неравные части — дружбу с «великим писателем земли русской» с 1870 по
1880 г. и не менее тесное, но качественно совсем иное общение с изменившим
1 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 792.
2 Там же. С. 421.
419
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$>
художественному творчеству проповедником и учителем «морального
христианства» с 1880 г. до конца жизни Страхова. От Толстого-моралиста, почувствовав
измену художественному гению, отшатнулись многие бывшие друзья писателя
и восторженные поклонники его таланта. Известно, как сокрушался
выдающийся педагог и мыслитель Сергей Александрович Рачинский, большой почитатель
романов Толстого, о том, что писатель изменил своему божественному призванию
и променял его на дешевое проповедничество. В. В. Розанов, Ю. Н. Говоруха-Отрок,
А. А. Киреев, П. Д. Голохвастов и другие писатели и критики славянофильского
направления не скрывали своего разочарования, а в некоторых случаях и возмущения.
Против этого «религиозного» переворота выступил даже близкий друг
Толстого поэт Афанасий Фет. Он был одним из наиболее близких к Страхову
и Толстому людей, без понимания роли которого нельзя понять нюансов их
взаимоотношений. А ведь это Толстой познакомил Страхова с Фетом, и именно
он проронил в 1877 г. замечательные слова в письме к поэту: «С Страховым же
я всегда говорю часто про вас, потому что мы родня все трое по душе»3. Но
тут отпала даже «родня»: Фет не выдержал печального зрелища того, как гений
литературы сектантскими наваждениями «с нигилистической подладкой»4
разрушал, по его мнению, свою личность.
Возле Толстого образовался плотный круг догматических исповедников
созданного им и получившего название толстовства по его имени
моралистического учения, в котором царил сектантский дух, во главе с Чертковым.
Собственно, именно сектанты и бунтари всех мастей, не отличавшиеся ни глубиной
мысли, ни настоящей религиозностью, составили в 1880-х гг., помимо членов
семьи и родственников, среду общения великого писателя, пренебрежительно
третировавшего свое былое художественное творчество как ненужную забаву
и оставившего литературные занятия ради пропаганды евангельского, как ему
казалось, образа жизни.
Из старых друзей лишь немногие, не разделяя новых взглядов Толстого
по существу, поддерживали его в религиозных исканиях. Самым близким из
них к писателю был именно Страхов, которого позже даже называли «пророком
Толстого»—такой прочной казалась со стороны их духовная связь. Страхов стал
своего рода промежуточным звеном между литературным миром и новым кругом
общения Толстого. Нет сомнения, что со временем почвенник и почти
славянофил Страхов тоже, незаметно для себя, несколько подался в сторону взглядов
Толстого, хотя «толстовцем» так и не стал и временами вступал с писателем
в идейные споры, незаметные для посторонних глаз. Но любовь к Толстому
настолько застила Страхову глаза, что критик, обычно проницательный, не увидел
главного: под оболочкой религиозности моралистических сочинений писателя
кроется тот самый нигилизм, борьбе с которым была посвящена немалая часть
3 Толстой. ПСС. Т. 62. С. 302.
4 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 303.
420
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
—ф
его собственных литературно-критических трудов. Страхов до последнего дня
наивно верил и искренне надеялся, что Толстой своим поворотом к религии
сумеет отвлечь молодежь от революционных увлечений.
Хотя отказ Толстого от художественного творчества чрезвычайно
расстраивал Страхова, а моральное учение Толстого и его протестантское толкование
Евангелия содержало множество элементов, которые он считал ошибочными
и даже еретическими, он сохранял верность другу. Страхову не довелось стать
участником трагического финала этой духовной драмы, кульминацией которой
стало отлучение Толстого от Русской православной церкви в 1901 г., только
потому, что он «своевременно» покинул этот мир.
Нам остается только гадать, как повел бы себя Страхов, проживи он лет на
пять дольше, по отношению к открытому бунтарству Толстого против Церкви.
11 июля 1901 г., когда Страхова уже не было на этом свете, критик и издатель
П. П. Перцов писал Розанову по поводу отлучения Толстого от Церкви как
еретика: «С Толстым — кутерьма. Большое это событие и для церкви, и для
литературы. Большое — как зерно. Это прямо расхождение церкви и интеллигенции,
и огромный крах чаянья славянофильства. Что бы сказал Страхов! Как бы он
испугался этого шага. Да и никто его не предвидел. А Толстой очевидно к нему
вел дело, уж за много лет назад решенное. Вообще в старичке много страстей»5.
Действительно ли Страхов испугался бы этого шага Толстого или
поддержал бы его? Сказать это со всей определенностью невозможно. Но все-таки
исследование жизненного пути Страхова показывает, что ради друзей он был
готов на всякое самопожертвование. В неписаном «моральном кодексе»
поведения Страхова имелось правило: он горой стоял за близких друзей и был верен
их памяти до конца своих дней. Так, он чтил память своего учителя в критике
Аполлона Григорьева, неустанно напоминал о нем обществу и посвятил
немало усилий изданию его критического наследия. Отстаивая идеи Данилевского
после его кончины как свои собственные, Страхов из скромности настолько
сливался с автором «России и Европы», а потом и «Дарвинизма», в своих
писаниях в их защиту, что его ошибочно принимали за ученика Данилевского.
Точно так же Страхов неожиданно выступил в 1891 г. со статьей «Толки об
Л. Н. Толстом» в защиту ставшего уже опальным писателя. Однако из других
его высказываний этого периода можно сделать вывод, что он хорошо понимал
и тех, кто возмущался пренебрежительным отношением гениального писателя
к художественному творчеству, и сам был гораздо ближе к Церкви, чем Толстой.
Как бы то ни было, в поисках трудного ответа на гипотетический вопрос
о том, как бы поступил Страхов в 1901 г., когда великий писатель был отлучен
от Церкви, нам следует вернуться к началу отношений Страхова с Толстым
и проследить счастливую пору их дружбы.
5 РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77. Л. 1.
421
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$■
* * *
А начиналось всё прекрасно. В 1869 г. Страхов стал фактическим
редактором почвеннического журнала «Заря». Это была поистине радостная и
плодотворная, пусть и недолгая, пора в его жизни. Едва ли не впервые в жизни
Страхов, пользуясь неограниченным доверием издателя «Зари», молодого помещика
В. В. Кашпирёва, воспитанного на почвеннических журналах «Время» и «Эпоха»,
мог печатать в журнале всё, что душа ни пожелает. С первого номера одним из
таких «ударных» материалов стал знаменитый ныне труд «Россия и Европа»
Н. Я. Данилевского. На видном месте среди других важнейших публикаций,
представлявших лицо «Зари», были статьи самого Страхова о романе «Война
и мир», издание которого завершилось в 1869 г.
Как ни удивительно, великий роман Толстого не встретил с самого начала
того всеобщего одобрения, которого можно было ожидать и какое сопровождает
теперь «Войну и мир» вот уже полтора века. Критики обнаруживали в
художественной эпопее самые разные недостатки.
Литературный критик М. Ф. Де-Пуле зафиксировал в 1869 г. эти
ожесточенные споры вокруг даже еще не оконченного романа в статье с характерным
названием «Война из-за „Войны и мира"»6. Князь П. А. Вяземский, А. С. Норов,
сын московского генерал-губернатора Ф. В. Ростопчина граф А. Ф. Ростопчин,
как ни удивительно теперь, ополчились на Толстого за искаженное, по их
мнению, изображение героических битв Отечественной войны 1812 года7,
«опошление» славной эпохи и даже «протест против 1812 года»8.
Оппозиционные журнальные критики нападали на роман, находя в нем дух
аристократизма, и называли писателя носителем барской идеологии. Варфоломей Зайцев,
например, возмущался в «Русском слове», почему в романе изображены одни
представители аристократии; ему вторил Дмитрий Писарев в «Отечественных
записках»: в статье под названием «Старое барство»9 отмечал, что в романе
показана лишь жизнь высшего общества, далекая от народа.
Маститый критик П. В. Анненков в либеральном «Вестнике Европы»10
дал более объективную оценку «Войны и мира» после выхода трех четвертей
романа. Он тонко разобрал многие сюжетные линии и характеры
произведения, но нашел в романе и ряд крупных недостатков, относя к ним прежде всего
6 Де-Пуле М Война из-за «Войны и мира» // СПб. вед. 1869. № 144, 27 мая. С. 1.
7 Вяземский [П. А.], князь. Воспоминания о 1812 годе // Рус. архив. 1869. № 1.
Стб. 181-216; Норов А. С. «Война и мир» (1805-1812): С исторической точки зрения и по
воспоминаниям современника: По поводу сочинения Толстого «Война и мир». СПб., 1868;
Ростопчин А., граф. Письмо к издателю «Русского архива» // Рус. архив. 1869. № 5. Стб. 935-936.
8 Вяземский [П. А.], князь. Воспоминания о 1812 годе. Стб. 186.
9 [ПисаревД. И.] Старое. барство: («Война и мир», сочинение графа Л. Н. Толстого.
Томы I, II и III. Москва. 1868) // Отеч. зап. 1868. Февр. Отд. II. С. 263-291 (без подписи).
10 Анненков П. Исторические и эстетические вопросы в романе графа Л. Н. Толстого
«Война и мир» // Вестник Европы. 1868. Февр. С. 774-795.
422
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
—■$>
чрезмерное внимание автора к эпической стороне «Войны и мира». По мнению
критика, как ни прекрасно умение автора «изображать живьем общее чувство
громадной массы народа», эти батальные сцены замедлили, а то и приостановили
ход «большого колеса романической машины». Законные обитатели переднего
плана — созданные воображением писателя главные герои произведения —
вытесняются, по мнению Анненкова, с авансцены вторжением в многосложную
«постройку» мощного исторического элемента. Характерно, что Толстой позже
признавался, что статья Анненкова ему даже понравилась — настолько
негативны были остальные отзывы: «Статья эта во многом была неблагоприятна для
меня, и что ж? После всего, что было писано обо мне другими, я с умилением
читал ее тогда»11.
Всех превзошел в особенно резкой и даже нелепой критике
народник В. В. Берви-Флеровский12, от которого досталось не только Толстому, но
и П. В. Анненкову как защитнику «реакционного» произведения.
И вот в этой обстановке недоброжелательства и скептицизма в первом
номере «Зари» появляется обширная статья Страхова, в которой неожиданно
для современников делается смелое заявление о том, что «Война и мир» —
величайшее произведение современного русского художественного реализма.
Беспристрастный и глубокий анализ сочетался с неподдельным восхищением
критика тем, что в романе с непревзойденным мастерством и ясностью
изображена жизнь русского народа в яркую героическую эпоху и живо обрисованы
народные идеалы и характеры.
Большая, основательная рецензия Страхова привлекла еще большее
внимание к произведению, которое и без того читали с интересом, хотя и не придавали
ему столь важного значения. Статья вызвала журнальные и газетные споры,
опровержения, насмешки. Особенно усердствовал в «Санкт-Петербургских
ведомостях» В. П. Буренин, в то время еще принадлежавший к самой
радикальной части петербургской журналистики. С присущим ему умением высмеять
своих идейных противников он придавал словам Страхова о величии романа
Толстого видимость шутки.
Во втором номере «Зари» появилась еще одна статья Страхова о
романе. Теперь это был не только рассказ о действующих лицах произведения,
подтверждающий его величие, но и обоснование центрального положения
«Войны и мира» во всем ходе развития русской литературы, начиная от
«Повестей Белкина» и «Капитанской дочки» Пушкина. Опираясь на идею своего
учителя Ап. Григорьева о том, что русская литература вышла не из «Шинели»
Гоголя, а из поздней прозы Пушкина, Страхов смело довел картину развития
отечественной прозы до современности, завершив величественную постройку
11 Толстовский ежегодник. СПб., 1912. С. 57.
12 Навалихин С. [Берви-Флеровский В. В.] Изящный романист и его изящные
критики//Дело. 1868. Июнь. С. 1-28.
423
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
эпическим романом Толстого. Если Белинский, сказавший столько прекрасных
слов о поэзии Пушкина в своих «Литературных мечтаниях», считал поздние
прозаические произведения закатом таланта великого писателя, то Аполлон
Григорьев, наоборот, рассматривал эти произведения, написанные в народном
духе, как основополагающий ориентир для всей последующей русской
литературы. В духе Ап. Григорьева Страхов показывал на примерах из «Войны
и мира», что принцип «простоты, добра и правды», который Толстой положил
в основание своего романа, является фундаментом всей русской литературы
и восходит к простым и ясным произведениям позднего Пушкина.
Статьи Страхова стали не только обоснованием величия романа-эпопеи
Толстого, но и апофеозом полузабытого Аполлона Григорьева, которого
Страхов смело поставил на первое место в русской критике. Это место до него
незыблемо отводилось Виссариону Белинскому, но выдающийся критик, как это
увидел Григорьев, а за ним и Страхов, под растущим влиянием радикальных
идей в последние годы жизни изменил прежней объективной эстетической
позиции и стал родоначальником нигилистической критики, которая расцвела
пышным цветом в 1860-х гг.
Страхов уделил также немало внимания рассмотрению в романе «хищных»
и «смирных» типов, характерность которых для русской жизни также первым
отметил Ап. Григорьев. Такие ярко выписанные в романе «смирные типы», как
Платон Каратаев и Пьер Безухов, да и сам фельдмаршал Кутузов, позволили
Страхову еще убедительнее совместить художественную ткань произведения
с особенностями русской национальной жизни.
* * *
После такой серии замечательных статей Толстой не мог не обратить
внимание на критика, столь высоко оценившего его роман. Но надо
отметить, что Толстой еще и до знакомства со Страховым проявил интерес к его
статьям. Т. А. Кузминская, сестра С. А. Толстой, впоследствии опубликовала
свою дневниковую запись, согласно которой Лев Николаевич еще в 1867 г.
говорил ей, как она записала, о «великолепной статье какого-то Страхова»13.
Это была рецензия критика на издание «Сочинения гр. Л. Н. Толстого. В двух
частях. СПБ. 1864». Толстой говорил, что уже тогда Страхов всё понимал
правильно: «Это единственный человек, который, никогда не видевши меня,
так точно понял меня. Еще прошлая статья в „Отечественных записках" мне
доказала это»14.
А Страхов не остановился на двух статьях в первых номерах «Зари»
и впоследствии дополнил свои размышления о романе новыми аргументами
13 Кузминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986. С. 353.
14 Там же. С. 355.
424
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
Ф
и похвалами. В марте 1869 г., еще до появления последних частей романа,
Страхов сделал в «Заре» смелый, но безошибочный вывод: «„Война и мир"
есть произведение гениальное, равное всему лучшему и истинно великому, что
произвела русская литература»15.
Этот цикл вдохновенных статей, посвященных роману «Война и мир»,
Страхов считал лучшим своим творением в области литературной критики:
«Лучшим своим делом я считаю все-таки мою критическую поэму в четырех
песнях — Критический разбор „ Войны и мира "»16.
Как отмечал сам Страхов, дело было даже не в том, что он стал первым
критиком, печатно провозгласившим Толстого гениальным писателем. Даже
важнее, пожалуй, было то, что он понял величие его творческого гения как
воплощение могучих духовных сил русского народа: «...ни на каком русском
писателе не лежит так ясно печать русского духа, как на Толстом. Это та самая
форма нравственных понятий, которую внушило нашему народу
христианство. . .»17 Именно благодаря этой народности своего творчества, считал Страхов,
автор «Войны и мира» заслужил место в первых рядах мировой литературы.
В 1871 г. в предисловии к отдельному изданию статей под названием
«Критический разбор „Войны и мира"» (СПб., 1871) Страхов даже не может скрыть
неподдельного восхищения собственной критической работой над романом:
«Не только я награжден тем, что скоро понял безмерно-великую ценность
„Войны и мира", но мне думается, я заслужил и более важную награду: в некоторой
мере я понял душу этого произведения, отразившееся в нем миросозерцание
художника, я нашел те точки зрения, те категории, с которых его следует судить,
и мне открылась связь его с историею и ходом нашей литературы»18.
Следует отметить, что издатель «Зари» В. В. Кашпирёв разделял взгляд
Страхова на произведение Толстого. 21 октября 1869 г. он сообщил письмом
П. В. Анненкову об отказе публиковать в «Заре» статью о романе «Обрыв»
на следующем основании: «Сравнение, из которого выходит то, что роман
г. Гончарова занимает в русской литературе одинаковое место с романом гр.
Толстого, — невозможно печатать в том журнале, который, по своему
крайнему убеждению, совершенно искренно поставил „Войну и мир" как одно
из величайших созданий русского Гения, сравнивать которое можно только
с созданиями Пушкина»19.
Тем не менее точка зрения Страхова утвердилась далеко не сразу, и его
цикл статей о «Войне и мире», как и сам роман, еще долго вызывал
противоречивые суждения.
15 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 22.
16 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 138.
17 Цит. по: Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. VIII.
18 Там же. С. 390-391.
19 Л. Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения: (1828-1948). М., 1948. Кн. 2. С. 98.
425
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
Интересно, что даже сотрудничавший вначале в «Заре» в качестве
редактора и автора Н. С. Лесков негативно отнесся к статьям Страхова о «Войне
и мире», посчитав его разбор слишком растянутым. Лескову больше нравился
опубликованный в «Русском вестнике» разбор романа, написанный П. К. Ще-
бальским20.
Критик и цензор А. В. Никитенко в большой работе «Мысли о реализме
в литературе», вышедшей отдельной брошюрой, нашел в романе «Война и мир»
целый ряд недостатков; он полагал, что «в построении его не видно
органической целостности», а на авторское «философствование нельзя смотреть иначе,
как на прихоть даровитого писателя», у которого «сам Наполеон» оказывается
«каким-то похожим на идиота» и т. д.21
Даже консервативный писатель с утонченным художественным вкусом —
К. Н. Леонтьев, по его собственному признанию, не сразу понял выдающееся
значение произведения. В своем критическом этюде «Анализ, стиль и веяние
(О романах гр. Л. Н. Толстого)» Леонтьев признавал, что сначала был
недоволен «Войной и миром» за осовременивание ушедшей эпохи и, главным
образом, «за излишество психологического анализа». Но его восприятие
романа изменилось под влиянием восторженной оценки «Войны и мира»
Страховым: «Немного погодя я прочел статью Н. Н. Страхова в „Заре",
образумился и благодарил его даже за нее при свидании; благодарил за то, что
он исправил мой односторонний взгляд. (...) С тех пор (со времени доброго
урока Страхова) я перечел „Войну и Мир" несколько раз, и могучий дух
Толстого со всяким разом всё больше и больше подчинял меня; но все-таки его
дух, а не дух эпохи»12.
Немало острых критических стрел пустил в популярный роман при его
выходе в свет либеральный сотрудник «Санкт-Петербургских ведомостей», а
впоследствии влиятельный нововременский критик В. П. Буренин. Он, в частности,
представил статью Страхова как литературную пародию: «В первой книжке
„Зари" за нынешний год помещена критическая статья г. Страхова о последнем
произведении гр. Толстого. Статья эта очевидно принадлежит к категории тех
игривых, юмористических упражнений, которые, как я сейчас заявлял, порою
попадаются в „Заре". Г. Страхов шутит с удивительным наружным
глубокомыслием над „Войною и миром" гр. Толстого, над дарованием этого писателя
и его значением в русской литературе, шутит самым безжалостным образом.
(...) И ловкая критическая пародия будет признана за критику, написанную
серьезным тоном»23. Буренин еще не раз выступит с критикой Страхова, не
20 Щебальский П. «Война и мир», сочинение графа Л. Н. Толстого // Рус. вестник. 1868.
Янв. С. 300-320.
21 Никитенко А. Мысли о реализме в литературе. СПб., 1882. С. 40, 41, 45.
22 Леонтьев. ПСС. Т. 9. С. 301-302.
23 Буренин В. Журналистика // СПб. вед. 1870. №31,31 янв. С. 1-2.
426
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
забывая посмеяться над ним за высокую оценку «Войны и мира» в унисон
с радикальными органами печати.
Но вот что любопытно: спустя двадцать лет, в 1890-х гг., тот же Буренин
писал о Страхове совершенно в ином духе, признавая его, собственно,
единственным «трезвым» критиком времени всеобщего «опьянения» нигилизмом.
В связи с выходом книги статей Страхова о Тургеневе и Толстом он отмечал,
что теперь, когда роман «Война и мир» получил полное признание на
Западе, никто уже и у нас не сомневается в провидческой верности критической
оценки романа, данной Страховым: «В этой книге вы найдете такую глубокую
и верную оценку гения г. Толстого и его „Войны и мира", какой, конечно, не
встретите у „заграничных" критиков, ознакомившихся с Толстым и писавших
о нем гораздо позже. Г. Страхов по всей справедливости может гордиться, что
он первый признал и истолковал „великого писателя земли русской"»24. Это
изменение позиции свидетельствует не только об отходе нововременского
критика от былых либеральных позиций, но и об уже устоявшейся оценке романа
«Война и мир», смело высказанной впервые Страховым.
Либерально-оппозиционная журналистика, впрочем, соглашалась с такой
оценкой неохотно и даже временами пыталась ее оспорить. В 1870-х гг. журнал
«Дело» издевался над Страховым за то, что он назвал гр. Л. Толстого гением.
Случалось это и позже. Либеральные критики всячески стремились оторвать
Толстого от славянофильски окрашенного разбора «Войны и мира» Страхова.
Так, небезызвестный историк литературы и критик С. А. Венгеров в
широко распространенном энциклопедическом словаре Брокгауза — Ефрона в статье
о Страхове решительно отказывает ему в каком-либо открытии Толстого. Он,
в частности, отрицает приоритет Страхова в очень высокой оценке «Войны
и мира», заявляя даже, будто его «статьи о Толстом представляют собой пример
одного из самых выдающихся критических фиаско»25. «Ложное освещение»
деятельности Толстого у Страхова Венгеров пытался доказать на основании
позднейшего перелома в мировоззрении писателя. Он утверждал, что Толстой
впоследствии выступил вопреки славянофильским интерпретациям романа
Страховым.
Формально Венгеров даже прав, но это печальная «правота». Никто,
конечно, не мог тогда, в 1869 г., предположить столь радикальное изменение
взглядов писателя и направления его творческой деятельности.
Интересно, что сам Страхов, внимательно перечитав «Войну и мир»
в 1887 г., нашел в романе элементы того религиозно-нравственного учения,
которое позже сложилось у писателя в целостную систему «толстовства». «.. .Вы
24 Бурении В. Приятельские разговоры: Разговор по поводу «Хозяина и
работника» // Новое время. 1895. № 6842, 17 марта. С. 2.
25 Венгеров С. Страхов (Николай Николаевич) // Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона. СПб., 1901. Т. 31А (62). С. 784-785.
427
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
уже тогда выступили мыслителем и нравоучителем, с полным
мировоззрением, —так точно, как выступаете теперь»26. Показательно, кстати, с каким живым
чувством отзывается о романе много лет спустя тот, кому принадлежала честь
его «первооткрывателя»: «Вы вывели на сцену целую толпу людей религиозных,
вы показали, как растет и живет в душе религия и какую силу она дает людям.
Несравненная книга! До сих пор я не умел ценить ее как следует, да и Вы не
умеете — так мне кажется»27.
Своим же многочисленным оппонентам, настоящим и будущим, Страхов
ответил еще в 1871 г.: «...не „Войну и мир" будут ценить по вашим словам
и мнениям, а вас будут судить по тому, что вы скажете о „Войне и мире"»28.
Достоинства статьи Страхова признали близкие к писателю люди.
С. А. Толстая утверждала: «Лучшая статья о „Войне и мире" была, бесспорно,
Николая Николаевича Страхова.. .»29 Учитель детей Толстого В. Ф. Лазурский
писал: «Я не знаю лучше разбора „Войны и мира", чем тот, который сделан
Страховым»30. Сам Толстой позже подтвердил, что высокая оценка романа
Страховым была обоснованной: «Страхов поставил „Войну и мир" на высоту,
на которой она и удержалась»31.
Позже точка зрения Страхова на роман устоялась, и многие ее положения
вошли даже в канонические оценки романа, принятые в отечественном
литературоведении, хотя в советское время имя критика, выдвинувшего эти тезисы,
разумеется, не упоминалось.
В 1873 г. Страхов еще раз твердо и уверенно высказал Толстому
точку зрения, которая полностью отвечает современному восприятию «Войны
и мира» и даже пророчески спроецирована в будущее: «...если Вы и ничего
не напишете, Вы все-таки останетесь творцом самого оригинального и самого
глубокого произведения русской литературы. Когда русского царства не будет,
новые народы будут по „Войне и миру" изучать, что за народ были русские»32.
Нет сомнений, что сближению Толстого и Страхова в значительной мере
способствовали именно восторженные статьи критика о «Войне и мире»,
привлекшие к себе всеобщее внимание. Но Страхов еще раньше, до цикла статей
26 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 747.
27 Там же.
28 Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом. С. 392.
29 Толстая С А. Моя жизнь: в 2 т. М, 2011. Т. 1. С. 182.
30 Лазурский В. [Ф.] Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: (Из личных воспоминаний) //
Русская быль. Серия III. I. Л.Н.Толстой: Биография, характеристики, воспоминания: (Жизнь.
Личность. Творчество): сб. ст. М., 1910. С. 154.
31 Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: в 4 кн. М; Пг., 1905. Кн. 2, ч. 1.
С. 77.
32 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 217.
428
Глава 13. Страхов иЛ.Н. Толстой
о «Войне и мире» и знакомства с автором романа, посвятил Толстому три
рецензии. Правда, первые две из них — разбор его педагогических воззрений — были
напечатаны в 1862 и 1863 гг. без указания имени автора33, и Толстой еще не мог
выделить критика из числа не знакомых ему сотрудников журнала «Время»,
хотя уже эти рецензии были проникнуты явной симпатией к яснополянскому
писателю и педагогу. Страхов отмечал свободный, неформальный подход
Толстого к проблемам обучения детей.
Первая подписанная статья Страхова о Толстом появилась в декабре 1866 г.
в двух номерах журнала «Отечественные записки»34. Она была посвящена
вышедшему в 1864 г. двухтомному собранию произведений Толстого и привлекла
внимание писателя, как мы знаем из упомянутой выше дневниковой записи
Т. А. Кузминской.
После цикла развернутых статей о «Войне и мире» Страхов, казалось,
имел достаточный повод завязать личное знакомство с писателем, которого он
годом раньше поставил своей восторженной оценкой столь высоко. Но ввиду
чрезвычайной скромности критик не писал по собственному побуждению автору
великих творений, и когда он, почти год спустя, всё же обратится к писателю
с формальной просьбой от редакции дать что-либо для «Зари», то сделает это
по явному настоянию издателя журнала В. В. Кашпирёва.
Впрочем, выступления Страхова в печати попадут в поле зрения Толстого
еще до того, как критик решится написать ему свое первое письмо. Помимо
дневниковой записи Т. А. Кузминской, об этом свидетельствует и черновик
неотправленного обращения писателя к Страхову от 19 марта 1870 г.35 В этом
черновом письме, обнаруженном исследовательницей М. И. Щербаковой в
киевском архиве Страхова, Толстой откликается на статью Страхова об английском
философе Дж. Милле, выражая согласие со многими суждениями критика.
Хотя на первое письмо Страхова с просьбой дать что-либо для «Зари»
Толстой ответил отказом, он пригласил критика посетить Ясную Поляну. Их
встреча летом 1871 г. обнаружила глубокое родство душ, очень быстро
переросшее в прочную дружбу.
Сотрудничество Толстого с «Зарей» сложилось не совсем удачно, хотя
именно там в 1872 г., перед самым закрытием журнала из-за недостаточной
подписки, был впервые помещен ставший классическим рассказ «Кавказский
пленник». Толстой отдал это сочинение в журнал по настоянию Страхова,
руководствуясь прежде всего чувством личного уважения к своему новому
33 [СтраховН.Н.] «Ясная Поляна» — журнал педагогический. Изд. гр. Л.Н.Толстым.
Январь, 1862: [ред.] // Время. 1862. Февр. С. 65-78 (без подписи); [СтраховН. H.J Новая школа.
Статья первая. «Ясная Поляна. Школа», журнал педагогический, изд. гр. Л.Толстым, 1862,
январь— сентябрь. Девять нумеров: [рец.] // Время. 1863. Янв. Отд. II. С. 150-168 (без подписи).
34 Страхов //.Сочинения гр. Л.Н.Толстого. В 2 частях. СПб. 1864: [рец.] // Отеч. зап.
1866. Дек. С. 519-530 (Кн. 1); С. 796-814 (Кн. 2).
35 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 105-107.
429
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
корреспонденту, с которым у него к тому времени завязались теплые дружеские
отношения.
Знаменательная встреча вдумчивого критика-философа и выдающегося
писателя не была, конечно, случайным эпизодом, а логично вытекала из близости
их творческих позиций. Очень тонко подметил это в 1869 г. Ф. М. Достоевский,
который, обращаясь к Страхову, указал, что каждый крупный критик выходил
на литературное поприще, опираясь на какого-то крупного писателя, и
завоевывал признание разъяснением его творчества. В подтверждение своих слов
Достоевский приводил такие примеры: «Белинский заявил себя ведь не
пересмотром литературы и имен, даже не статьею о Пушкине, а именно опираясь на
Гоголя, которому он поклонился еще в юношестве. Григорьев вышел, разъясняя
Островского и сражаясь за него. У Вас бесконечная, непосредственная
симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю. Правда, прочтя статью
Вашу в „Заре", я первым впечатлением моим ощутил, что она необходима и что
Вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва
Толстого, то есть с его последнего сочинения»**.
В 1871 г. Толстой уже воспринимал Страхова близким себе по духу
человеком. Об этом свидетельствует, в частности, его признание в письме Страхову от
13 сентября 1871 г., после беседы со случайно встреченным им в дороге поэтом
Ф. И. Тютчевым: «Это гениальный, величавый и дитя старик. Из живых я не
знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил»37.
Сопоставление Страхова с одним из самых глубоких отечественных
поэтов тоже далеко не случайно: прожив всю жизнь за границей, Тютчев сохранил
сердечную привязанность к России. Во многих своих произведениях он
перекликается со Страховым в критике Запада, который они оба знали одинаково
хорошо, будучи по образованию настоящими русскими «европейцами».
В 1872 г. отношения Толстого и Страхова станут еще более
доверительными, а переписка — интенсивнее и содержательнее. Важнейшим фактором,
способствовавшим сближению, была, конечно, личная симпатия двух
незаурядных, схожих по своему духовному складу людей, общность умственных
запросов и неподдельный взаимный интерес к внутреннему миру собеседника,
скрепленные обнаружившимся со временем душевным притяжением. Немалую
роль в упрочении дружеской связи сыграла и неизменная готовность Страхова
всячески содействовать гениальному художнику в подготовительной и
вспомогательной работе, высвобождая ему время для осуществления творческих
замыслов, а также почти ежегодные посещения писателя в его деревенском
уединении, позволившие установить теплые, доброжелательные отношения
с обитателями Ясной Поляны.
Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 16.
Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 122.
430
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
* * *
Если Л. Н. Толстой стал духовным явлением мирового масштаба, а
изучению его жизни и творчества отведен целый раздел в интеллектуальной истории
человечества, то адресат его писем и желанный собеседник — литературный
критик и философ Николай Николаевич Страхов — личность гораздо менее
известная. Знакомство Страхова с писателем, перед которым он
преклонялся, стало центральным событием всей его жизни. Индивидуальные качества
Страхова — огромные знания, мягкий характер, скромность, отзывчивость
на любую просьбу, неподдельная любовь к гениальному художнику слова —
способствовали возникновению его дружбы с Толстым. Приязнь была вполне
взаимной, что-то притягивало этих людей друг к другу, и начиная со времени
личного знакомства Страхов почти каждый год наезжал в Ясную Поляну, гостил
подолгу, иногда даже дважды в течение года, а Толстой не уставал зазывать
к себе приятеля вновь и вновь.
Страхов всегда был готов откликнуться на приглашение в Ясную Поляну
и собирался всякий раз туда с радостью. Отправляясь в 1883 г. в имение
Толстого, которое друзья Страхова в шутку называют его Меккой, он не скрывает
причин, по которым его так влечет в Ясную: «Поеду к Вам — в Мекку, как
смеются надо мной в Петербурге, — чтобы оживиться, чтобы прикоснуться
к неистощимой духовной жизни. А Вы будьте снисходительны к моей сухости
умственной и сердечной»38. Однако и «сухой» Страхов был, судя по всему, не
менее необходим писателю, обладавшему «неистощимой» жизненной и
духовной энергией. «Редко мне приходится с таким ожиданием только одного самого
лучшего, с такой искренностью и отсутствием оговорок и задних мыслей звать
и ждать кого-нибудь, как я жду и зову вас», — признавался Толстой в одном из
писем к Страхову39. Приезда Страхова писатель ждал как праздника: «Вы не
можете себе представить, дорогой Николай Николаевич, какая мне радость то,
что вы приедете ко мне. Я так и ахнул от восхищения, когда жена, прочевшая
{так!) ваше письмо прежде меня (...) объявила мне, что вы приедете»40.
По тону писем можно понять, что Страхов всегда был у Толстых желанным
гостем: обходительный, добрый, улыбчивый — он нравился всем обитателям
и многочисленным посетителям Ясной Поляны. А дружить с Толстым было
непросто (не сложились у него дружеские отношения, например, с такими
незаурядными людьми, как А. В. Дружинин, Б. Н. Чичерин или И. С. Тургенев).
Увлекавшийся, требовательный, принципиальный, зорко подмечавший
недостатки и промахи, точно схватывавший человеческий масштаб личности и...
быстро остывавший в своей приязни, Толстой был очень «неудобным» другом,
38 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 644.
39 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 364.
40 Там же. С. 433.
431
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
державшим себя и своего приятеля в постоянном нравственном и умственном
напряжении. Но у Страхова дружба со Львом Николаевичем сложилась на
удивление скоро и органично, протекала ровно и длилась добрых четверть
века — случай сам по себе весьма примечательный для отношений людей,
живущих самостоятельной духовной жизнью, и много говорящий об
особенностях характера Страхова, его тонком понимании психики гениального творца
и своеобразного человека. С Софьей Андреевной у Страхова также быстро
устанавливаются отношения дружелюбные и доверительные: в ее переписке
со Страховым не редкость найти тонкие наблюдения, важные для понимания
личности и творчества Толстого. Тем приятнее было для Страхова сознание
того, что в Ясной его приезда с радостью ждет не один лишь писатель.
Привечали Страхова и родственники Софьи Андреевны Кузминские,
часто проводившие лето в Ясной Поляне, а зимой охотно принимавшие Николая
Николаевича у себя в Петербурге. Веселого и покладистого гостя с нетерпением
ждали дети Толстых. Страхов с готовностью участвовал во всех
яснополянских затеях и играх, его неизменная отзывчивость и кроткий нрав располагали
к нему окружающих. Страхов любил прогуливаться по усадебному парку. Даже
в 1910 г., незадолго до кончины, во время одной из бесед Толстой вспомнил
вдруг Страхова, который говаривал тихим голосом: «Как у вас хорошо гулять
по нижней аллее (поперечной липовой)». И добавил: «Когда там хожу, всегда
вспоминаю»41.
Страхову так нравилось бывать в Ясной Поляне, что нередко, по его
собственному признанию, он с неохотой покидал Толстых, когда должен был
возвращаться в Петербург. 21 июня 1889 г., после очередного пребывания у
радушных хозяев, Страхов писал: «Сегодня я совершенно свободен и хочу
благодарить Ясную Поляну за ее гостеприимство. Всегда от Вас я получал освежение,
всегда Ваши речи и все Ваше присутствие подымали меня; много я о Вас думаю
и много люблю Вас и потому видеть и чувствовать Вашу душевную жизнь
лицом к лицу — для меня большая радость, сильно меня трогает и оживляет. На
этот раз, после долгого промежутка, я особенно ясно почувствовал, что Ясная
Поляна есть тоже центр духовной деятельности, но какой удивительный! (...)
В Ясной (...) Поляне сам центр живой, лучистый, — Вы сами со своею неус-
тающей мыслью и сердечною работою. Видеть это — значит видеть зрелище
удивительной красоты и значения. Простите меня, что по своей привычке я Вас
объективирую, стараюсь стать от Вас подальше и посмотреть на Вашу
деятельность со стороны»42.
От Толстого Страхов часто заезжал к А. А. Фету, дружба с которым
завязалась летом 1876 г. в той же «благословенной» Ясной Поляне и который тоже
41 ЯН. Т. 90: У Толстого, 1904-1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого: в 4
кн. М, 1979. Кн. 4: 1909 (июль — декабрь) — 1910. С. 181.
42 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 792.
432
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
—■$'
очень тепло принимал его в своем имении. Миновать Воробьевку Фета при
посещении Ясной Поляны было никак нельзя: хозяева имения были бы
решительно обижены. «Не могу без радостного трепета встречаться с мыслию, что
наша густая зелень примет Вас под свою широкую душистую тень и что мне
предстоят те часы, которые проводила Афинская молодежь в философских
садах», — писал Фет Страхову летом 1878 г. в предвкушении «умственных» бесед.
«Не обижайте же меня, дорогой Николай Николаевич, — умолял Фет Страхова
через год. — Заезжайте хоть на 2 часа. Неужели за целое лето Вы не можете нам
уделить пару дней? Это просто невозможно»43. И, получив обещание, писал
в нетерпеливом ожидании интереснейшего обмена мыслями: «Наговоримся! Да,
есть о чем поговорить». Само собой разумеется, что у Фета горячо обсуждали
последние яснополянские новости, а из Воробьевки Страхов привозил сведения
о новых стихах поэта, его переводах и о гостивших там. Страховым очарованы
все не только в Ясной Поляне, но и у Фета.
Поездки были привлекательны еще и тем, что ни в Ясной Поляне, ни
в Воробьевке не предавались праздности — хозяева и гости жили высокими
интересами, шла интенсивная творческая работа. И переписка Страхова с
Толстым и Фетом живо воссоздает атмосферу упорных занятий и горячих споров.
Эти помещичьи имения действительно были настоящими центрами духовного
общения и неустанной творческой деятельности. У Фета, помимо поэтических
занятий, не прекращалась интенсивная переводческая работа, и Страхов, сам
опытный переводчик, хорошо владевший иностранными языками, помогал
ему в выработке соответствий при передаче на русском языке философской
терминологии Шопенгауэра.
Встречи в Ясной Поляне, конечно, очень сближали Страхова с Толстым.
Будучи не обремененным семейными заботами холостяком, Страхов делил
с великим писателем не только досуг и отдых, но и литературные хлопоты —
издательские заботы, редакторский труд, вычитку корректур, — да и вообще,
жертвуя собственным временем, всегда был готов взять на себя самую черновую
работу. Первой, поистине драгоценной услугой такого рода, оказать которую,
к нескрываемой радости Толстого, согласился Страхов, стало попечение о
созданной писателем «Азбуке». Ее издание Толстой затеял, увлекшись в очередной
раз педагогикой и испытывая неудовлетворенность имевшимися руководствами
по обучению начальной грамоте. В 1872 г. Страхов энергично (хотя и не без
колебаний) включается в заведомо непростое дело по подготовке «Азбуки»
к изданию — разбирает черновые записи Толстого, обрабатывает рукопись,
ведет переговоры с типографией и книгопродавцами, читает корректуры. Без
малого полгода собственного времени и массу напряженного, кропотливого
труда отдает Страхов на то, чтобы довести творческое начинание Толстого до
43 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 279.
433
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
конца, а вместе с тем и до читателя. Толстой считал себя «неоплатно
обязанным»44 Страхову за помощь в работе над «Азбукой».
С этих пор Страхов постоянно находится в курсе художественных
замыслов и общественных дел Толстого, а когда сам непосредственно не занят
в их осуществлении, то оказывает писателю содействие книгами, советами или
сочувствием. В 1874 г. Толстой вступит в ожесточенный спор с
профессиональными педагогами, и Страхов всеми силами поддержит писателя, вторгшегося
со своими необычными методическими приемами в чуждую, неприязненно
его встретившую среду, дорожившую устоявшимися в ней порядками и
авторитетами.
Едва «развязавшись» с уже стоявшей «поперек горла» «Азбукой»45,
Толстой, после короткого летнего отдыха, опять полон сил и творческих планов —
«как запертая мельница, набрал воды»46 и готов к созиданию. Но набирается
много практических дел, и нужен надежный помощник. А к кому же обратиться
за содействием, как не к «доброму и милому» Николаю Николаевичу! Кто, как
не он, способен — не то что безропотно, а с горячей готовностью, из одной
только «приязни» к Толстому — взяться за «труды тяжелые, скучные»! И летят
в письмах к «дорогому» Страхову просьба за просьбой. Страхов не подведет,
на него можно положиться: «...надеюсь на вас, как на каменную гору»47, —
и действительно, он всё выполнит добросовестно и основательно.
А между тем сам Толстой целиком во власти своего нового романа: начал
он его «в самом легком, нестрогом стиле», быстро кончил «начерно», стал
отделывать и... увяз. Вдруг пропал творческий жар, воображение отказывалось
работать. Толстому стало «скучно», роман ему «противен», а мысли,
беспокойные мысли творца и неустанного искателя правды и смысла жизни влекут
его в иные пределы духовного мира, где — он чувствовал — не будет места
«художеству».
Внимательный ко всякому движению внутренней жизни «бесценного Льва
Николаевича» Страхов забеспокоился: нужно было понять источник душевной
тревоги писателя, нужно было узнать, что мешает «обожаемому» автору
«Войны и мира» всецело отдаваться художественному творчеству.
Творческие муки Толстого были связаны с работой над романом «Анна
Каренина», который станет еще одной вершиной его творчества. Но путь на эту
вершину окажется отнюдь не простым и гладким: на одоление уйдет пять лет
напряженного труда, с остановками и перерывами в работе. Толстой не раз бросал
свое «художество», чтобы с головой уйти в педагогику, устройство школ,
«мужицкой семинарии» для подготовки учителей из народа, чтобы в очередной раз
44 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 240.
45 Там же. С. 222.
46 Там же. С. 241.
47 Там же. С. 157.
434
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
—■$■
вернуться к «Азбуке» и исправить ее для нового издания, составить грамматику,
задачник к арифметике... Страхов огорчался, что Толстой так разбрасывается,
столь «нерасчетливо» тратит силы и отвлекается от своего главного
назначения — писать; и однажды отважился даже на горький упрек «несравненному»
Льву Николаевичу: «Вы не можете сомневаться в моем искреннем сочувствии
к Вашей педагогике; но Вы преувеличиваете, ставя ее выше Вашего
художества»48. Толстой отговаривался «слабостью порыва» к продолжению романа:
«Вы будете бранить меня за это; но поверьте, что наш брат не может владеть
собою. (...) я так устроен, что не могу задавать себе работы, а всегда работа,
какая бы то ни было, охватывает меня и влечет куда-то. Иногда, как и теперь,
мне кажется, рассуждая, что совсем не туда, куда надо, меня несет...»49 Но
и Страхов не сдавался, старался всячески подогреть интерес писателя к
литературному труду — едва ли не в каждом письме заводил речь о «заброшенном»
романе. Трудно сказать, что именно подействовало вернее и помогло Толстому
преодолеть себя и продолжить работу, но заслуга Страхова в том, что писатель
снова обрел наконец «крылья», ощутил прилив живительной творческой
энергии, неоспорима и очень велика.
Ликованию Страхова не было границ: Толстой снова взялся за роман. По
мере появления в печати очередных глав «Анны Карениной» восторги и
похвалы критика становятся всё более несдержанными и горячими. Страхов не был
одинок в своем энтузиазме: «.. .другие хвалят Вас не меньше моего»50; «о выходе
каждой части „Карениной" в газетах извещают так же поспешно и толкуют так
же усердно, как о новой битве или новом изречении Бисмарка»51. Толстой, не
любивший лести, сам начинает верить в значимость им создаваемого. Мягкие,
но настойчивые побуждения Страхова продолжать работу («...умоляю Вас
об одном — не делайте остановок...»52, его горячее сочувствие написанному
и в самом деле производили на Толстого ободряющее действие: «.. .ваша
похвала — я знаю, искренняя (...) мне очень, очень дорога», — замечает он в одном
из писем53. «Боюсь и не люблю критик, и еще больше похвал, но не ваших.
Они приводят меня в восторг и поддерживают силы к работе», — признается
он в другом54.
Между тем Страхов, столь искренно и горячо восхищавшийся
художественными достоинствами нового творения Толстого, начинает прозревать, как это
было и с «Войной и миром», что из-под пера писателя на свет появляется нечто
гораздо более важное, чем просто мастерски исполненный любовно-бытовой
48 Там же. С. 301.
49 Там же. С. 319.
50 Там же. С. 509.
51 Там же. С. 506.
52 Там же. С. 337.
53 Там же. С. 425.
54 Там же. С. 503.
435
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
роман: «Только с выхода двух последних частей я начал понимать, что Вы пишете
великое произведение, которое даст Вам новую славу и останется одним из
памятников нашей литературы. Для меня это новый предмет восторга и изучения»55.
Однако Толстой, сдержанно внимая сообщениям Страхова о реакции
публики, сам был уже снова устремлен мыслями к предметам и темам иного рода.
Его творческую энергию художника вновь парализовал всё тот же не дававший
ему покоя философский вопрос: «.. .что такое моя жизнь, что я такое?»; не
ответив на него, нельзя решить и другого: «...что я должен делать?»56. И нужно
ли писать художественные произведения, когда сама жизнь ставит вопросы
важнее творчества?
И вот, едва успев подойти к заключительным главам романа, Толстой
начинает им тяготиться. Страхов «умоляет» писателя «не делать остановок»
в работе, а Толстой признается двоюродной тетке в 1876 г., что «Анна Каренина»
надоела ему «как горькая редька»57. Писать роман ему опять «невыносимо
противно»: «Берусь теперь за скучную, пошлую „А(нну) Карен(ину)" и молю Бога
только о том, чтобы Он мне дал силы спихнуть ее как можно скорее с рук, чтобы
опростать место (...) для других, более забирающих меня занятий»58. Страхов
видит в таком настрое писателя несправедливое отношение к художественному
творчеству, принижающее значение сделанного: «...Вы высокомерно смотрите
на свое произведение.. .»59 Но Толстому уже не до романа — его тянуло заняться
вопросами религиозно-нравственного содержания, перед которыми отступало
на задний план и меркло всякое «художество»: «Боже мой, если бы кто-нибудь
за меня кончил „А. Каренину"»60.
И всё же неотступные в письмах «приставания» Страхова, судя по всему,
возымели свое действие: Толстой собрался с силами и едва ли не в один
«присест» завершил концовку романа: «Для меня такая радость всегда ваши письма,
и особенно теперь, когда я в каждом жду и нахожу суждение, и всегда слишком
пристрастное к моему писанью, которое всё больше и больше занимает меня.
Теперь я могу сказать, что кончил, и надеюсь в апреле напечатать последнее
и очень жду и прошу вашего суда»61. Впрочем, «суд» Страхова давно состоялся,
и вынесенный им «вердикт» подтвердило неподкупное время. «Когда подумаю,
что вышло из ,уАнны Карениной", то не могу надивиться. Да, это великое
произведение...»62 Как знать, кому или чему больше обязана мировая литература
55 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 494.
56 Там же. С. 379.
57 Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка (1857-1903). М., 2011. С. 328 (Литературные
памятники).
58 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 362.
59 Там же. С. 346.
60 Там же. С. 374.
61 Там же. С. 492.
62 Там же. С. 487.
436
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
ф
завершением «Анны Карениной» — связывавшему ли автора обязательству
перед журналом М. Н. Каткова или неусыпному попечению скромного, но
настойчивого Страхова с его деликатными и вместе с тем неотступными уговорами.
Роль Страхова в судьбе романа окажется обрисованной неполно, если
к сказанному не добавить, что участие его в «послерукописном» периоде
существования «Анны Карениной» только возросло: неожиданный конфликт
с редакцией «Русского вестника» (где печатался роман) из-за спорных сюжетов
эпилога заставил автора вновь искать совета и содействия старого друга. После
отказа Каткова печатать эпилог романа из-за неприемлемой для него позиции
автора по миссии русских добровольцев на Балканах, Страхов предложил издать
последнюю часть отдельным изданием Он принял на себя заботы по чтению
и правке корректур этой части произведения и все сношения с типографией,
а затем подал мысль об отдельном издании романа. О проделанной им работе он
позднее расскажет в кратком отчете — «как это случилось»63. Впечатляет даже
сухой перечень выполненного: для начала нужно было заново «просмотреть»
весь текст «Анны Карениной» (объемом на добрые три тома), «исправить
пунктуацию», устранить «явные ошибки», «указывать Льву Николаевичу на места,
которые почему-либо показались мне требующими поправок», «просматривал
его поправки», «поправлял после него», предлагал сам изменения, «касавшиеся
почти только языка». Ну и, конечно, — «мне предстояло держать корректуру».
Работу начали летом 1877 г. в Ясной, последний лист с правкой Страхов отослал
из Петербурга в московскую типографию в конце декабря.
При этом заново пережил всю драму романа, как свою: «...до сих пор
я весь еще переполнен Карениной"', под конец чтение корректур
сопровождалось волнением восторга и чуть не слезами. Я влюбился в Ваш роман
ужасно»64. На Новый год, в награду за понесенный труд получил выговоренные еще
вначале два экземпляра отдельного издания (один для себя, другой — давать
читать). Денег не брал принципиально, считал «за счастье» уже одно то, что
судьба свела его с Толстым и дала возможность споспешествовать созданию
его великих творений. «Вы и Ваши романы — давно уже лучшая доля моей
жизни»65. Так мог написать Толстому только «истинный друг», «благодарный
и преданный» Страхов.
* * *
Толстой как-то написал Страхову, что видит в нем не только
«родственную душу», близкого себе по духу собеседника, но лицо, облеченное высоким
званием просто «доброго человека»; и как он несказанно рад, что этот добрый
63 Там же. С. 634.
64 Там же. С. 577.
65 Там же. С. 494.
437
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
'$>
человек «взялся быть» его «литературным и книгопродавческим опекуном»66.
И писатель, знавший великую меру любви к себе Страхова, не стеснялся
обременять «милого Николая Николаевича» просьбами и поручениями — доверил
ему даже переиздание «Войны и мира», позволив вносить любые изменения,
а затем попросил вести переговоры с издательской фирмой М. М. Стасюлеви-
ча о подготовке к печати тома своих избранных сочинений в серии «Русская
библиотека».
На протяжении многих лет Страхов оказывал Толстому немало важных
услуг. Бытовало даже ошибочное представление, будто Страхов всего лишь
«как секретарь у Льва Николаевича», его «справочная книга», в лучшем
случае — добровольный помощник, из дружеского уважения взваливавший на
себя хлопоты по его делам. Как видим, Страхов действительно не скупился на
помощь; а ведь можно еще припомнить посильное содействие в доставлении
необходимых сведений самого разнообразного характера — от историко-бытовых
материалов до известий о выходивших книжных новинках, преимущественно
иностранных, к которым Страхов имел доступ по своей службе в Публичной
библиотеке. Количество книг, отправленных Толстому, исчислялось сотнями,
обмен же мнениями о прочитанном и обсуждение желаемых приобретений —
постоянные сюжеты в переписке двух пытливых книголюбов.
Однако не только самоотверженная отзывчивость Страхова подпитывала
эту дружбу и неподдельный интерес великого писателя к скромному
петербургскому мыслителю и критику. Для Толстого Страхов был прежде всего
умным собеседником, советчиком в важных делах — их наполненные самыми
неожиданными темами «разговоры» составляли главное в их прямом и заочном
общении. «.. .Приезжайте поскорее, дайте наговориться с вами»67 — неизменный
мотив обращений Толстого едва ли не с самого начала переписки со
Страховым. Приглашая его погостить в Ясную Поляну, писатель готовился открыть
сокровенное, чем делился отнюдь не с каждым: «...не думайте, чтобы из
нашего свиданья ничего не вышло. Для вас, может быть, не выйдет, а для меня
выйдет. Мне столь многое нужно подвергнуть вашей критике. И не пустяки,
а важное»68. Итог таких встреч всегда один — радость от общения с умным,
душевным человеком. И с кем ею поделиться, как не с «родственным по духу»
А. А. Фетом! «У меня с неделю тому назад был Страхов милый, с которым
я нафилософствовался до усталости»; «На днях прогостил у меня Страхов
дней 5 и, несмотря на его неловкость говорить, я наслаждался им
беспрестанно...» — удовлетворенно сообщал Толстой Фету69. Писателю вторил гость:
«Петербургская тоска еще не берет меня, — я всё еще в Ясной Поляне. Если
66 Там же. С. 344.
67 Там же. С. 192.
68 Там же. С. 364.
69 Толстой. ПСС. Т. 62. С. 280, 99.
438
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
Ф
чем надоел или не угодил, — простите; но сам я так отдохнул, так освежился,
так был здоров и оживлен, как и не ожидал от себя, когда собирался к Вам.. .»70
Толстой очень дорожил этим глубоким, содержательным диалогом, в
котором Страхов, вопреки бытующему мнению, далеко не всегда и не во всем
оказывался на стороне писателя. Начатые при личных встречах эти «русские»
разговоры нередко перетекали в письма, одушевляя их воспоминаниями и не
давая прерваться невидимой духовной нити, связывавшей двух собеседников
крепкой нравственной связью.
* * *
Тем не менее в литературе о Толстом Страхову нередко отводилась роль
чуть ли не «фонового» персонажа — вроде человека, волею случая попавшего
в орбиту притяжения великого творца и дорожившего своим «местом при нем»,
а потому вынужденного корректировать в оценках и суждениях силу и тембр
собственного голоса. Кто-то заметит, что мнения Страхова о Толстом и его
творчестве далеки от желаемой объективности, что им недостает «трезвости»,
взгляда «со стороны», что Страхов слишком в плену необоримого обаяния
художественного гения и притягательной личности творца и просто симпатичного
ему человека. Ведь Страхов буквально боготворил Толстого — это видно и из
его писем; достаточно привести очень «страховские» эпитеты из обращений
к писателю, чтобы понять общую тональность и возвышенно-трепетный
характер этого отношения: «бесценный Лев Николаевич», «поклоняемый», «за-
видуемый», «мой несравненный»; а еще «добрый», «милый»... — ниже этих
определений Страхов не позволял себе «опускаться». Или вспомнить слова
прощания в письмах: «преклоняющийся перед Вами», «Ваш неизменный»,
«Ваш навсегда преданный»...
Дальше Страхова в восторженном почитании писателя пошел только
художественный критик В. В. Стасов: тот прямо называл Толстого в
разговорах, а нередко и в письмах, «ЛЕВ ВЕЛИКИЙ». В своем преклонении перед
выдающимся талантом, в этом безусловном «обожании» Толстого Страхов,
по мнению окружающих, явно превосходил меру. Переписка показывает, что
Страхов действительно был куда более эмоционален по отношению к Толстому,
которому порой приходилось сдерживать непрестанные похвалы своего друга,
опасаясь лести: «На выражение же вашего сочувствия отвечу только тем, что
оно мне радостно в высшей степени; потому что ту же радость, к(оторую) вы
испытали, встретив одни и те же взгляды на жизнь во мне, я испытал, встретив
вас. В одном только мы не равны: я не могу отделаться от мысли, что я
подкуплен вашими похвалами»71.
70 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 461.
71 Там же. С. 121.
439
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
И всё же было бы неправильно упрощать их отношения и представлять их
как неравные и «односторонние». Страхов прекрасно сознавал дистанцию,
отделявшую его, скромного труженика науки, «философствующего библиотекаря»,
от уникального явления с именем «Лев Толстой», так много уже говорившим
миру («Вы раскинулись умом и сердцем во всю ширину земной жизни»)72. Но
в беспокойных поисках «правды», в горячей жизни духа, в неутолимой
жажде познания, в принципиальности критических суждений и идейных оценок
Страхов не хотел и не уступал Толстому — тут мягкий, деликатный, «елейный»
(по выражению Фета) Страхов превращался в неуступчивого искателя истины.
На исключительную дружбу великого писателя Страхов не рассчитывал.
Если в чем и готов был признать за собой исключительное право, так только
в одном — в беспредельной любви к Толстому: «.. .скоро ли и где Вы найдете
человека, который бы так любил и понимал Вас, как я? А для меня это великое
счастие, как Вы, конечно, понимаете и уверены»73.
Сам писатель ценил их дружеские отношения нисколько не меньше.
Двоюродной тетке А. А. Толстой он так доверительно представил своего
корреспондента: «У меня есть приятель, ученый Страхов, и один из лучших людей,
которых я знаю»74. А еще у сдержанного на откровения Толстого можно найти
такое характерное признание: «Нет человека, которого [бы] я больше уважал,
чем вас, и которому бы желал быть более приятным.. .»75
Искренняя симпатия, с которой Толстой относился к другу, не
укрылась от глаз наблюдательных современников. Учитель детей в семье Толстых
В. Лазурский, имевший возможность близко видеть Страхова и собиравшийся
даже составить его биографию, записал в 1893 г.: «Уехал Страхов, и Лев
Николаевич нет-нет, да и скажет: „Нет Николая Николаевича". Очень он его любит.
Их связывают единство и обширность интересов. Николай Николаевич, как
специалист по разным научным областям, много помогает Льву Николаевичу
разъяснением разных частностей; интересен для него, как человек, следящий
за своими областями и рассказывающий новости. Он — естественник и близок
к так называемой положительной науке и в то же время живо интересуется
и хорошо ценит художественную литературу, много читает по вопросам этики,
философии, религии»76.
Залогом искреннего участия и неподдельного интереса к личности
собеседника звучали для Страхова слова Толстого: «я ужасно высоко ценю вашу
дружбу и боюсь потерять хоть частицу ее», «когда проснусь, то первое, что
72 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 577.
73 Там же. С. 235.
74 Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка (1857-1903). С. 343.
75 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 634.
76 Дневник В. Ф. Лазурского / предисл. и примеч. К. Шохор-Троцкого II ЛН. М, 1939.
Кн. 37/38: Л. Н. Толстой. II. С. 478^79.
440
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
представляется, это мое желание общения с вами»77. Что касается вывода о том,
кто кого больше «любил» в этой дружбе, пусть читатель сделает его сам.
Что бы ни говорили недоброжелатели, оба корреспондента были искренни
в выражении своих симпатий. В их посланиях столько взаимных эмоциональных
признаний в любви, что после выхода в свет переписки Толстого и Страхова
в либеральной газете «Утро России» появился даже любопытный очерк «Два
сердца» некой Эмзе78, в котором этот обмен письмами назван «необыкновенным
и чудесным романом». Оперируя убедительными примерами из конкретных
писем, автор очерка оригинально трактует переписку как взаимное объяснение
двух влюбленных сердец.
Стремление Толстого подвергать всё сомнению и дойти до истины своим
умом хорошо известно. Однако не менее острым критическим даром был наделен
и Страхов, неутомимо вскрывавший не только изъяны творений современников,
но и их ошибочные, по его мнению, взгляды и деяния. Едва ли не для каждого
из близко знакомых ему творцов находились у него проницательно-строгие,
порой до ригористичности, слова критики. Достаточно вспомнить, например,
его неодобрительные высказывания о философских воззрениях и фактах
общественного поведения некогда симпатичного ему Вл. Соловьева в тех же
письмах к Толстому. Или его не менее строгие суждения о неприемлемых для
него языческих взглядах дружески расположенного к нему Фета. О
Достоевском он написал столь резко, что высказанное им было принято за клевету на
гения, а самого Страхова недоброжелатели даже стали сравнивать с Сальери.
И только в образе почитаемого им Толстого строгий критик буквально не
находил теней, не то что пятен. Казалось, что такие незыблемые в остальном
жизненные принципы Страхова, как трезвость суждений и здравый смысл,
отступали здесь на задний план, а то и вовсе предавались забвению. Временами
восхваления достоинств художественных произведений и самой личности
великого писателя производили на современников впечатление полного ослепления.
Чтобы понять глубинные причины столь благоговейного отношения,
следует принять во внимание особенности психологического склада личности
критика. В восприятии Страхова Толстой являлся не просто гениальным
художником слова, но и самим воплощением нравственной чистоты — человеком,
способным оказывать масштабом своей личности мощное воздействие на
внутренний мир людей. Розанов вспоминает слова Страхова о Толстом: «...какое
бы сочинение у него ни взяли, чистое и нечистое никогда не смешивается в его
глазах.. .»79 Страхова неизменно поражала в Толстом громадность совершаемой
умственной работы и неустанность духовного поиска, неослабное стремление
к самосовершенствованию. Именно поэтому он стал одним из тех немногих
77 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 707.
78 Эмзе [Юлъченко М. Ф.] Два сердца // Утро России. 1914. № 127, 15 июня. С. 2.
79 Розанов. ПСС. Т. 2. С. 204.
441
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—»
в писательском окружении Толстого, кто поддержал его радикальный поворот
в сторону религиозного проповедничества. Не будет преувеличением сказать,
что в лице Толстого и сам Страхов обретал столь необходимую ему жизненную
опору, недостаток которой он порой ощущал весьма остро.
Характерно в этой связи, что в переписке раскрывается еще одна
необычная черта взаимоотношений Страхова и Толстого: Страхов считал
необходимым исповедоваться перед своим нравственно чистым другом. Он стремился
использовать дружеское общение с Толстым для собственного нравственного
самосовершенствования. 29 ноября 1881 г. Страхов пишет Толстому: «...все
лучшие чувства, какие я нахожу в себе, я все их берегу, воспитываю в себе,
держусь за них; но не в моей власти дать им порыв и огонь. Такова моя натура
и такова моя судьба (...) я Вам обязан, вероятно, лучшими минутами своей
жизни; смотрите не на то одно, что во мне дурное, а и на то, что можно найти
хорошего. А впрочем — наставьте меня; я Вас охотно слушаюсь.. .»80
Страхов действительно считал себя обязанным во всем слушаться
Толстого. В этом проявлялась присущая ему, выросшему среди духовенства, тяга
к послушанию и смирению. Страхов не был вполне церковным человеком, и он
избрал другой путь смирения — исповедничества перед другом. Он настолько
критично относится к самому себе, что некоторые его интимные излияния
о приступах тоски, хандры и скуки, раскаяние в грехах производят тяжелое
впечатление. Толстой, побуждавший Страхова к написанию воспоминаний, сам
вызвал его на самоанализ, на исповедь внутренней жизни, но был настолько
поражен мрачным состоянием раскрывшейся перед ним души, что составлять
воспоминания Страхову отсоветовал. Но не ошибся ли Толстой, приняв
искреннее исповедание за душевный мрак? На эти бесстрашно-исповедальные
самообнажения можно посмотреть и с другой стороны: в них проявляется предельная
требовательность к себе, искреннее желание стать лучше, нравственнее,
готовность к самоограничению. Хорошо знавшие Страхова Стахеев и П. А. Кусков
говорили, что в жизни Страхов был на редкость светлым человеком.
По собственному признанию критика, его главным недостатком была
слабость воли — он всю жизнь искал, «к кому бы прислониться». И
неудивительно, что, как слабый человек, он чувствовал себя нравственно «окрепшим»,
а то и поистине счастливым возле могучей фигуры Толстого. Если Страхов
и старался иногда ослабить свои, отличные от Толстого мнения, несколько
сгладить противоречия, то делал это не из стремления «подделаться» под тон
собеседника, а из желания сохранить в их отношениях главное — столь
драгоценную для него дружескую духовную связь.
Безоглядное «увлечение» Страхова Толстым мало кто разделял: даже
друзья в лучшем случае снисходительно относились к его «слабости».
80 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 624.
442
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
»
Историк К. Н. Бестужев-Рюмин, очень высоко ставивший Страхова как
критика (да и Страхов выделял его среди окружающих, считая самым
образованным из современников), любил споры с достойным собеседником, однако
тему о Толстом предпочитал не затрагивать, дабы не нанести другу писателя
душевную травму невольным критическим суждением. Биограф историка
Е. Ф. Шмурло заметил: «Поспорить — но тонко, умно, изящно — он позволял
себе с немногими, например, с покойным Н. Н. Страховым; в нем он чувствовал
равного соперника, и оба знали друг про друга, что ни один не обидится, и оба
одинаково заботились не столько о торжестве своего убеждения, сколько об
уразумении истины. Но и здесь К. Н. всегда остерегался сказать что-нибудь
резкое о гр. Л. Н. Толстом, потому что последнего Страхов очень любил и
потому мог огорчиться»81.
Правда, были и такие, кто усмотрел в восторженном отношении Страхова
к своему знаменитому другу некоего рода «интерес» и неискренность —
стремление придать таким образом значимость собственной фигуре. Другие видели
в этом преклонении слабость характера. Историк гегельянства Д. И. Чижевский
считал, например, что Страхов для самостоятельного мыслителя был слишком
открыт влиянию Толстого: «В нем была какая-то мягкость, уступчивость и
податливость — правда, не по отношению к мыслям и настроениям, диаметрально
противоположным его религиозному и философскому мировоззрению, но во
всяком случае по отношению к самым различным духовным устремлениям,
родственным его собственным. Такая податливость вела его к некоторой
духовной изменчивости, неустойчивости, делала его философскую позицию неясной
и расплывчатой. Наиболее характерна в этом смысле хорошо нам известная из
писем история отношений Страхова к Толстому, которому Страхов, вероятно
увлеченный грандиозностью духовного облика Толстого, „сдал без боя" многие
позиции»82.
Над «сердечной привязанностью» Страхова нередко подшучивали,
а кое-кто позволял себе отпускать по этой части и язвительные насмешки.
Н. К. Михайловский, например, писал не без иронии, что Страхова «трудно
представить рядом с гр. Толстым иначе, как в коленопреклоненной позе»83.
Вл. Соловьев 21 августа 1888 г. спрашивал у А. А. Фета, подразумевая Толстого:
«А что поделывает его (Страхова. — В. Ф.) идол?»84 Известна шутка
начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова: «Если бы граф
Л. Толстой написал, что следует людям ходить вверх ногами, то и тогда Страхов
пришел бы в восторг от такого учения»85.
81 Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича
Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1890. С. 318.
82 Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб., 2007. С. 304.
83 Михайловский Н. К. Литературно-критические статьи. М., 1957. С. 61.
84 Вл. Соловьев. Письма. Т. 3. С. 118.
85 Фет и его окружение. Кн. 1. С. 630.
443
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
'$>
Многие исследователи представляют Страхова фигурой совершенно
второстепенной и личностью абсолютно зависимой. Например, критик Вл. Краних-
фельд, предваривший своей статьей публикацию переписки в журнале
«Современный мир» в 1913 г., видит Страхова исключительно «спутником» Толстого,
который, подобно небесным телам, движется по заданной орбите вокруг полной
величия планеты гения. При таком «астрономическом» восприятии одного из
корреспондентов эта переписка воспринимается не как общение живых людей,
а как лишь один из контактов инопланетянина-небожителя со смертными
«землянами». Страхов, впрочем, в какие-то исключительные способности «жителей
планет», как известно, не особенно верил, хотя действительно создавал своим
поклонением гению Л. Н. Толстого предпосылки для такого восприятия. Тем
не менее даже он иногда позволял себе с Львом Николаевичем не согласиться.
Страхов искренне огорчался, что его восторга по отношению к Толстому-
проповеднику не разделяли умнейшие люди из его окружения, и не раз
высказывался с печалью по этому поводу. Ведь на самом деле это впечатление
умственной и эмоциональной «податливости» чисто внешнее. Да и знакомство
с публикуемой перепиской показывает, что ее высокий интеллектуальный накал
в немалой степени исходил именно от Страхова; им же в основном привносилось
и разнообразие тем для обсуждения. Тонкий психолог, Страхов одновременно
и деликатно просвещает своего друга, и — в своей безграничной любви к нему—
как бы позволяет ему чувствовать себя хозяином положения... По справедливому
замечанию того же автора критического отклика на переписку в газете «Утро»,
Страхов отнюдь не утрачивает в диалоге с Толстым собственного лица (да и
зачем бы нужен был Толстому такой «безликий» собеседник?): он высказывается
если и мягко, но вполне определенно, не боясь противоречий, — и пусть сердце
свое Страхов отдал Толстому безраздельно, однако при этом он и «совершил
подвиг спасения своей мысли», находя в себе достаточно твердости не
соглашаться с любимым писателем и отстаивать самостоятельность своих мнений.
А об уважительном отношении Толстого к этим суждениям красноречиво говорят
слова, сказанные им о Страхове в письме к Н. Я. Гроту в марте 1887 г.: «С ним
человеку серьезному нельзя расходиться»86.
* * *
Нами уже отмечалось, что Страхов вошел в историю русской
общественной мысли прежде всего как литературный критик и журналист, автор
произведений философской публицистики. Но диапазон и глубина его
аналитического проникновения в существо явлений и проблем были значительно
86 Л. Н. Толстой — Н. Я. Гроту. Март 1887 г. // Николай Яковлевич Грот в очерках,
воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, друзей и почитателей: Очерки и воспоминания.
Письма. СПб., 1911. С. 211.
444
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
ф
шире и значимее, чем у обычного представителя журнально-газетного мира.
Его стремление осмыслить то или иное событие духовной жизни неизменно
опиралось на солидную философскую подкладку выработанного
старательными и долгими систематическими трудами научного мировоззрения. В этом
отношении, да еще по широте эрудиции, мало кто из русских публицистов
даже первого ряда может выдержать с ним сравнение. Но... «великим»
критиком Страхову стать было не суждено; для этого ему недоставало
главного — мощного общественного темперамента и положительной программы,
способных увлечь растревоженное сознание современников. Страхов и сам
понимал свой недостаток, на первые роли в литературной критике не
претендовал, в духовные учителя не стремился, на важные журнальные
посты не набивался. Но потребность высказываться, разъяснять, опровергать
и спорить жила в нем всегда и неодолимо требовала выхода — как, впрочем,
и склонность к уединенному сосредоточению и углубленному философскому
размышлению.
Толстой, кажется, быстро разглядел эту раздвоенную предрасположенность
Страхова и в силу собственных представлений о «самом важном» и выбранной
им своеобразной общественной позиции настойчиво подвигал своего друга к
занятиям более «содержательным», чем растрачивание сил на «развратную
журнальную деятельность». «Я уверен, что вы предназначены к чисто философской
деятельности. Я говорю чисто в смысле отрешенности от современности...»87
Призывы прекратить повседневную работу для газет и журналов и заняться
серьезной философией то и дело звучат в его письмах: «Жалко, ужасно жалко,
что вы опять пишете в газеты»88; «.. .всякий раз мне досадно было думать, что
вы журналист»89. Впрочем, следует уточнить, что под философией великий
писатель разумел не отвлеченно-теоретические трактаты в духе немецких
классиков, и без того хорошо знакомые Страхову, а глубинное осмысление жизни,
поиск ответов на коренные вопросы бытия.
Казалось, Страхов охотно откликался на эти увещания, он и сам чаще
склонен был думать, что область чистой мысли есть настоящее его призвание;
к философским занятиям, как он признавался, располагал и созерцательный
склад его характера. Действительно, Страхову удавались и отвлеченные
философские рассуждения, и сложный анализ понятий и категорий, он легко
выстраивал доходчивые и четкие логические формулировки, проявляя себя
недюжинным методологом. Правда, манера его письма обычно отличалась
некоторой сухостью, но этот недостаток в известной степени искупался
способностью к оригинальному и смелому суждению, к новаторским выводам. Однако,
несмотря на все очевидные достоинства его философских статей, широкого
87 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 122.
88 Там же. С. 241.
89 Там же. С. 242.
445
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
читательского круга в пору торжества философского идейного нигилизма они
себе не снискали.
Зато оценить значимость Страхова как мыслителя сумел его яснополянский
друг, несомненно сам обладавший ярким даром философского проникновения
в действительность и как писатель явно тяготевший к историко-философским
обобщениям. Толстой был одним из тех немногих, кто очень высоко ставил,
в частности, наиболее зрелую исследовательскую работу Страхова — «Об
основных понятиях психологии» (1878), отметив в ней мысли глубокие, тщательно
продуманные и оригинальные. Отдавая должное интеллектуальному потенциалу
Страхова, он настойчиво убеждал его не оставлять занятия философией.
Примечательно, что в письмах Толстой заинтересованно и подробно расспрашивает
именно о «серьезных» философских трудах и замыслах друга и лишь мимоходом,
большей частью сокрушаясь, осведомляется о его литературной работе. Если
для Страхова драгоценна всякая строка, выходившая из-под пера его великого
современника, будь то художественное произведение, педагогическая статья или
религиозно-философский трактат, то умственные интересы Толстого, весьма
индивидуальные и избирательные, властно обозначали пределы его научной
любознательности и должны были соответствовать очередному извиву его
духовных запросов. Показателен в этом отношении эпизод с подготовленным
Страховым сборником литературно-критических работ почитаемого им
поэта Ап. Григорьева. Статьи Григорьева были им с любовью собраны и изданы
(в 1876 г.) на заемные средства. Сам Страхов считал составленный том лучшей
книгой русской критики и доставил его в Ясную Поляну. Но Толстой прочел
лишь предисловие. А в ответном письме дал едва ли не уничижительный
отзыв, сводившийся к тому, что для него критика «скучнее всего, что только есть
скучного на свете»90.
Как это ни покажется странным, Страхов, уже составивший себе имя
своеобразного философа и опытного критика, считал за должное прислушиваться
к рекомендациям Толстого, давать отчет об «исправлении» и даже сконфуженно
виниться в своей непоследовательности: «Вы видите, что я Вас слушаюсь —
занимаюсь философиею; Вы как раз угадали меня. Хотя меня в литературе зовут
обыкновенно философом, но такие приятели, как Достоевский, Майков, — все
тянули меня на критику. Лучшую критику я написал об Вас, а Вы все-таки
не пожелали, чтобы я упражнялся в этом роде писаний. Теперь я так хорошо
понимаю, что Вы правы, что Вы угадали мою лучшую способность, то, что
с детства составляло главный интерес моего ума»91.
И всё же в глубине души он с категоричностью требований Толстого был
не согласен и даже пытался робко спорить со своим великим другом:
«Кстати о критике. Что же мне делать, Лев Николаевич, когда меня к ней тянет?
90 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 415.
91 Там же. С. 196.
446
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
А я понимаю, что успех может иметь только положительное, только
проповедь или искусство. Но до проповеди, может быть, я никогда не дойду, хотя
буду стараться»92. Впрочем, стремясь не огорчать строгого судию и сгладить
впечатление, производимое собственной «неверностью», Страхов не раз будет
прибегать к извинительной ссылке на обстоятельства и друзей, по очередному
поводу искушавших его критический пыл: «...открою Вам самое позорное из
своих занятий, я читал современные романы (...) Я это делал по настояниям
Достоевского, убеждавшего меня писать критику...»93 И тут же берет на себя
новый «зарок»: «Когда Достоевский откажется от „Гражданина" (...) перестану
вовсе писать в журналы»94.
Но, защищаясь в другой раз от упреков в нарушении обещания не
участвовать в литературно-философских спорах и вообще отойти от журнально-газетной
работы, пытался внушить непреклонному оппоненту, что он, Страхов, не творец-
созидатель, как великий писатель Толстой, но именно критик и аналитик — по
внутреннему влечению: «Это звание критика, Вами очень пренебрегаемое,
навязано было мне отчасти против моей воли, но, как я теперь вижу, не без
причины, и я его признаю за собою, и ценю больше, чем Вы. Между прочим,
ему я обязан большим благополучием — знакомством с Вами»95.
Спорить по вопросам искусства Страхову было непросто, особенно с
таким олицетворением художества, как Толстой, ответившим раз на все доводы
защищавшего критику собеседника обезоруживающим афоризмом: «В умной
критике искусства всё правда, но не вся правда, а искусство потому только
искусство, что оно всё»96. К тому же Толстой относился к литературной критике
весьма пренебрежительно, журнальными спорами, в которых прежде всего
выказывается талант полемиста, не слишком интересовался, рецензии на свои
сочинения обычно не читал (Страхову однажды очень понравилось, что писатель
сжег не читая привезенную ему подборку журнальных и газетных статей о его
произведениях), какого-либо стремления расширить в этом отношении свой
кругозор не обнаруживал. А Страхов слишком хорошо помнил слова, сказанные
ему при начале работы в «Заре» другим большим художником, Достоевским,
угадавшим в нем критика по призванию, чтобы безоглядно подчиниться
жесткому требованию друга и предать забвению свой несомненный талант тонкого
литературного аналитика.
Именно Ф. М. Достоевский, твердо веривший в отточенное критическое
чутье Страхова и неизменно дававший высокую оценку его художественным
разборам, поддержал критика, засомневавшегося было в нужности для общества
92 Там же. С. 278.
93 Там же. С. 277.
94 Там же. С. 278.
95 Там же. С. 585.
96 Там же. С. 415.
447
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
своих статей на литературные темы: «Мнение Ваше о критической Вашей
деятельности считаю и неполным и неправильным. Во-1-х, я так думаю: не будь
теперь Ваших критик, и ведь у нас совсем уж не останется никого, в целой
литературе, кто бы смотрел на критику как на дело серьезное и строго
необходимое. Не останется даже никого из пишущих критиков, кто бы сколько-нибудь
ценил потребность (и уважение к нему) правильного философского осмысления
текущих и минувших вещей, а стало быть, ценил и критику, то есть собственное
дело свое. Итак, за Вами, прежде всего, этот строгий и философский взгляд на
критику, чего у других нет.. .»97
Впрочем, Страхов, как человек определенных убеждений, чувствовал
и внутреннюю потребность, если не моральную обязанность, отвечать идейным
оппонентам (таким, например, как Вл. Соловьев или К. А. Тимирязев), тем
более в столь принципиальных случаях, когда речь заходила о фундаментальных
идейных разногласиях или затрагивалась ученая честь единомышленника. Не
менее строгим и непримиримым критиком оказывался он и в литературной
полемике; философский склад его ума придавал изложению интеллектуальную
глубину и насыщенность, а конкретный жизненный материал исследуемых
художественных явлений сообщал его аналитическим статьям
дополнительную живость. В таких обстоятельствах было уже трудно Толстому переломить
«мягкий» характер Страхова и бессильными оказывались даже самые горячие
его увещевания отказаться от журнальной борьбы в пользу отстраненных от
«злобы дня» философских созерцаний о смысле жизни и «вечных истинах».
Примечательно и другое: писатель хотя и отговаривал от занятий критикой, тем
не менее бесспорный дар анализа и оценки художественных произведений
признавал за умным и эрудированным другом всегда. Уже вскоре после знакомства
проницательный Толстой сделал очень меткое наблюдение над критической
манерой Страхова, отметив его редкое качество: присущее хищным животным
семейства кошачьих соединение мягкости и силы.
Действительно, казалось бы, недюжинный талант литературного
полемиста, проявившийся уже с первых статей в журнале «Время», неизменная
преданность истине и тонкость эстетического вкуса гарантировали Страхову
успех, по крайней мере, у серьезных читателей. Но судьба решила иначе,
уготовив ему печальное поприще «литературного изгнанника» в обществе, в котором
всё заметнее стали меняться эстетические критерии восприятия «искусства»
и «действительности», резче обнаруживался в умах современников крен к
позитивизму, а порой и к нигилизму, отрицанию философской метафизики, к
упрощенной трактовке исторических событий, — когда появились первые признаки
снижения интеллектуального уровня общества. Думается, мы не ошибемся,
если скажем, что в этих условиях неуспех сочинений Страхова был в гораздо
Достоевский. ПСС. Т. 29, кн. 1. С. 124.
448
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
большей степени обусловлен его консервативной идейной, мировоззренческой
позицией, чем изъяном художественного вкуса или недостатком литературно-
критического дарования.
Как бы то ни было, это видимо стеснявшее (если не мучившее) Страхова
разделение или даже противопоставление двух сфер творческой
деятельности представляется теперь вполне искусственным. В сущности, Страхов был
прирожденным, органичным критиком-мыслителем, как в литературных, так
и в философских сочинениях. Он и сам признавал за собой это особое
врожденное качество ума — способность понимания. Если он при этом предпочитал
не столько выдвигать собственные идеи, сколько опираться на чужие тексты,
подвергая их строгому, беспристрастно-основательному, но в то же время
уважительному разбору, то вряд ли такой отрицательный метод изложения может
быть истолкован как слабость. И дело вовсе не в том, следовало ли ему целиком
посвятить себя только литературной критике или философии: призвание его
было, как теперь очевидно, в сочетании того и другого. Ведь и сам Страхов
в статье об Ап. Григорьеве, критике-мыслителе, вполне основательно замечал,
что критика, по существу дела, есть некоторое философское рассуждение. Куда
важнее тот факт, что, не навязывая собственных теорий, уже одним своим
отрицательным разбором ложных, по его убеждению, мнений он помогал другим
уяснить ошибочность многих квазинаучных утверждений. В этой — в прямом
смысле слова — очистительной работе в наибольшей мере раскрылся талант
Страхова-просветителя, опиравшегося в достижении поставленных целей на
свой глубокий ум, основательную эрудицию и умение просто и ясно говорить
о самых сложных вещах.
* * *
Между тем общественные события в последней четверти XIX в. стали
принимать в России всё более тревожный характер — исподволь нарастал гул
социального недовольства, набирало обороты противостояние оппозиционной
интеллигенции и власти, обострилась идейная борьба. Отыскать
удовлетворявший ответ было непросто, тем более что не всякий знал, где именно его
следовало искать. Толстой, живший в яснополянском уединении и скептически
относившийся к современной ему действительности, избрал путь
критического пересмотра традиционных ценностей. Стремление найти в жизни некую
внутреннюю опору заставило его перебрать всё то, что прежде составляло
смысл или хоть какое-то содержание его бытия: гедонизм, семейная жизнь,
общественное служение, художественное творчество, обрядовая религия —
ничто не выдерживало проверки на прочность. Толстому нужно было большее,
ему хотелось «душевной высоты» и «спокойствия», которых не было у него,
мятущегося одиночки, и которыми, казалось, в избытке был наделен простой
449
Часть П. «Избранный собеседник избранных умов»
■$■
деревенский мужик, и только потому, что он — верил. А где взять ему, Толстому,
хоть частичку такой веры, он не знал. Мог ли ему помочь в этих поисках
умный Страхов? Увы, он был, скорее, товарищем «по несчастью», чем водителем
в запутанном лабиринте духовных истин. Да писатель и сам хорошо понимал
бессилие друга влить в него веру. Он писал графине А. А. Толстой в феврале
1877 г.: «Мы с ним очень похожи друг на друга нашими религиозными
взглядами; мы оба убеждены, что философия ничего не дает, что без религии жить
нельзя, а верить не можем»98.
Толстой самостоятельно и смело вступил на трудный путь поиска,
собственного прочтения Евангелия и истолкования христианской веры, приведения
своей жизни под эти по-своему понимаемые им нормы христианской этики.
Как известно, к своему пониманию христианской веры Толстой шел
мучительно и долго. Самый религиозный поворот пришелся на конец 1870-х гг.;
движение его возбужденной поиском «веры» и «правды» мысли происходило
одновременно в двух направлениях — критическая перепроверка наследия
традиционного христианства, «очищение» его от всего, что казалось ему лишним,
фальшивым, и выработка такого понимания религии, которое соответствовало
бы его представлениям о правильной нравственной жизни человека. Непросто
давалась ему и выработка собственного учения.
Сам Страхов воспринял религиозный поворот в сознании друга с
необыкновенным энтузиазмом. В марте 1876 г. критик так определяет направление
поиска писателя: «.. .Вы видите в мире Бога живого и чувствуете его любовь.
Теперь мне ясна Ваша мысль, и, сказать Вам прямо, я чувствую, что ее можно
развить логически в такие же строгие формы, какие имеют другие философские
системы. Это будет пантеизм, основным понятием которого будет любовь, как
у Шопенгауэра воля, как у Гегеля мышление»99. Страхов же оказался и
одним из немногих прежних друзей писателя, кто выразил полную поддержку
его нравственным исканиям. В письме к Фету от 30 января 1880 г. он заявил:
«Я вполне разделяю религиозное настроение Льва Николаевича и убежден,
что его направление верно (...) я уверен без всяких сомнений, что он нашел
истинный смысл христианского учения, и мне было это очень отрадно, так как
в сущности все мы выкормлены этим молоком» 10°.
Что же так привлекло Страхова в новом «фазисе» идейно-нравственного
превращения друга? В духовном перевороте Толстого критик рассмотрел
перспективы религиозного преобразования общества и преодоления столь пагубных
для него нигилистических настроений. Он писал Н. Я. Данилевскому 5 августа
1880 г.: «В Ясной Поляне, как всегда, идет сильнейшая умственная работа. Мы
с вами, вероятно, не сойдемся в оценке этой работы; но я удивляюсь и покоряюсь
98 Л. Н. Толстой и А. А. Толстая. Переписка (1857-1903). С. 343.
99 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 420.
100 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 300.
450
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
ей так, что мне даже тяжело. Толстой, идя своим неизменным путем, пришел
к религиозному настроению; оно отчасти выразилось в конце „Анны
Карениной". Идеал христианина понят им удивительно, и странно, как мы проходим
мимо Евангелия, не видя самого прямого его смысла. Он углубился в изучение
евангельского текста, немногое объяснил в нем с поразительною простотой
и тонкостию. Очень боюсь, что по непривычке излагать отвлеченные мысли
и вообще писать прозу он не успеет изложить своих рассуждений кратко и ясно,
но содержание книги, которую он составит, истинно великолепно»101.
Из писем этого периода также с очевидностью следует, что Страхов и для
себя ждал от Толстого на пути высших религиозно-философских созерцаний
новых откровений — и столь же значимых, какие он прежде находил в его
художественных произведениях. Толстой для Страхова — «правдивый, чистый
и глубоко вдохновенный писатель»,02, и он горячо поддерживал своего друга
прежде всего как высоконравственную личность, не закрывая, впрочем, глаза
на видевшиеся ему недостатки религиозной проповеди Толстого, его излишнее
увлечение рассудочным теоретизированием, которое считал отнюдь не сильной
стороной творческого дарования писателя.
Страхов оказывал погрузившемуся в поиски веры Толстому всяческую
поддержку, как моральную, так и практическую, в том числе присылкой
многочисленных книг по запросам писателя. (Кстати, по названиям книг, упомянутых
в переписке, можно судить о направлении исканий Толстого: из запрашиваемых
им трудов по религии — христианской литературы, изданий по восточным
верованиям, исследований о «новой религии» — Толстой, кажется, желал вычитать
ответ на едва ли не главный занимавший его тогда вопрос: «.. .какая есть форма
самого очищенного христианства?»103 — чтобы возводить собственное здание
от первооснов вероучения.) Страхов готов был до бесконечности обсуждать
с другом самые сложные вопросы религиозного сознания, но большего — самой
веры — дать, увы, не мог.
Страхов был человеком глубоко религиозным, хотя и не вполне
церковным. Однажды он написал В. В. Розанову: «Благодарю Вас за то, что Вы так
проницательно угадали мою грусть. Признаюсь, она не ослабевает, несмотря
на видимый успех моих писаний в последние годы. Есть для грусти другие
причины, которые отчасти Вы знаете. Но главное, Вы знаете, что у меня грусть
светла, что над нею — мысль о Боге»104. Здесь будет уместно заметить, что
Страхов отнюдь не был тем полным религиозным скептиком, каким
тенденциозно представил его П. А. Матвеев в очерке, посвященном паломничеству
Толстого и Страхова в Оптину пустынь. Достаточно вспомнить его высокий,
Рус. вестник. 1901. Февр. С. 142.
Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 412.
Там же. С. 567.
Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 7.
451
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$>
хотя и оставшийся неосуществленным замысел, о котором Страхов поведал
Толстому в 1886 г.: «Я был бы совершенно доволен, если бы удалось мне
написать еще книгу, последнюю, о том, как искать Бога, как все делать во славу
Божию и всякое познание направлять к познанию Бога»,05.
Мощная личность Толстого, бесспорно, оказывала на Страхова сильное
влияние, однако полными единомышленниками в вопросах религии они не
стали. Страхов, кажется, постепенно, незаметно для себя, поддавался влиянию
Толстого, но в толстовца не превратился. Если он и не был вполне церковным
человеком, то есть немало свидетельств его близости к православию — например,
учителя детей Толстого В. Ф. Лазурского. Близко знавший критика В. В. Розанов
также свидетельствует, что Страхов, хотя и находился под обаянием личности
и таланта Толстого, учеником и последователем его не был: «...в Толстом он
видел „страшно ценное для (позитивной дотоле) жизни России явление", а не то
чтобы сам как слушающий и ученик примыкал к Толстому. Последнего не было.
Раз, поведя рукой, он сказал безнадежно: „Все последователи Л. Н-ча почему-то
тупые люди". В другой раз он остановил меня: „Вы так резко (устно) нападаете
на Толстого, — и это мне печально. Поверьте, я сам вижу темные в нем стороны,
но..." и т.д.»106. Рассудочная доктрина «толстовства» с его ригористическими
формулами проповедничества не была близка Страхову. О неприемлемости
некоторых взглядов Толстого и недостатках его «Краткого изложения
Евангелия» он подробно писал И. С. Аксакову в 1885 г. О различии в их отношении
к вере свидетельствует и резкая реакция Толстого на написанную Страховым
в православном духе статью (1889) о его поездке на Афон с рассказом о том,
как афонские монахи непрестанно творят Иисусову молитву.
Если Страхов до конца дней пребывал в состоянии религиозной
раздвоенности, то Толстой в своих нравственных запросах и исканиях уходил
всё дальше и дальше от учения и установлений «исторической», «обрядовой»
Церкви. За ходом постепенного изменения духовного строя писателя Страхов
имел возможность наблюдать, ежегодно наезжая в Ясную Поляну. С тревогой
писал он П. Д. Голохвастову 8 февраля 1880 г. о явственно обозначившемся
тяжелом моральном кризисе Толстого: «Он в сильном религиозном
настроении и, кажется, в очень подавленном состоянии духа. Слишком горячи его
душевные движения, и мне всегда страшно за него. Но, видно, только этою
ценою достигаются те чудеса, которые он делает в литературных трудах. А его
духовное настроение тоже имеет высоту и силу удивительную. К сожалению,
он почему-то очень страдает»107.
Ближайшим следствием этого религиозно-нравственного
переворота стали серьезные изменения в отношении Толстого к искусству и отказ от
105 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 712.
106 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 128.
107 РО ИРЛИ. Ед. хр. 11060. Л. 23.
452
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
—■$>
художественного творчества. Многие из друзей и знакомых писателя были от
такой радикальной перемены взглядов буквально в ужасе. Один из самых
близких к нему — поэт Афанасий Фет, для которого художественная проза Толстого
была воплощением величия русской литературы, — с присущей ему прямотой
и эмоциональностью выражал свое беспокойство в письмах к Страхову:
«Толстого мне сердечно жаль и как добрейшего и благороднейшего человека, и как
таланта первой руки. Этим сектаторским клином он окончательно расколет
пень своего „я", как ни страшно крепок он от природы»108; «Зачем зарезал свой
талант? Он исключительно теперь зарезал — с этой нигилистической подкладкой
возможны лишь мистические галлюцинации, но не серьезные уравновешенные
труды божески спокойного гения эпоса»109 и т.п. Попытки обратиться с
увещеваниями к самому Толстому привели лишь к разрыву личных отношений.
С тревогой встретил новость о религиозном перерождении почитаемого
писателя и критик В. В. Стасов — человек, по характеристике Страхова, «очень
добрый и деликатный», хотя и «прогрессист, не знающий пределов»110. Но еще
больше огорчило его, всегда безмерно радовавшегося художественным
достижениям Толстого, известие об изменении отношения писателя к творчеству.
В 1880 г. Страхов сообщал Толстому: «Здесь все толкуют о Вашем обращении
и толкуют в Стасовском духе. Стасов недавно приходил и наговорил мне
много глупостей, напр(имер) что он ценит Вас только как художника (...) что Вы
теперь уже не можете писать романы, и потому потеряли для него всякое
значение»111. Но Стасов, будучи откровенным атеистом, благоговейного отношения
к Толстому-художнику все-таки не изменил, так как скоро увидел, что поворот
Толстого к религии не привел его к консерватизму, а, наоборот, резко обострил
оппозиционные политические настроения.
Религиозный поворот привел к радикальному изменению отношений
Толстого даже с одним из его ближайших друзей — А. А. Фетом. Фет, крайне
остро переживавший отход Толстого от художественного творчества, с
присущей ему эмоциональностью и прямотой заявил своему другу об ошибочности
отказа от призвания художника слова.
Страхов, который с уважением отнесся к мировоззренческому сдвигу
Толстого и в то же время очень дорожил устоявшимися отношениями с Фетом,
глубоко переживал по поводу этого драматичного расхождения и предпринимал
немало усилий к устранению размолвки, в надежде, что ему удастся сгладить
противоречия, вновь свести вместе разошедшихся друзей, восстановить между
ними былое взаимопонимание. Будучи у поэта в имении летом 1880 г., он
постарался разъяснить ему происходившее с Толстым и затем поспешил сообщить
108 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 294.
109 Там же. С. 303.
110 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 428.
111 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 559.
453
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
=$>
в Ясную Поляну о первых результатах своих миротворческих действий: «Самым
важным предметом разговоров, конечно, были Вы, и я успел многое сказать ему
в эти десять дней. Примирительные речи были вполне удачны, и скоро в них не
оказалось никакой надобности (...) я сделал многое, и сделал бы больше, если
бы сумел всё сказать и сумел говорить без боязни его обидеть»112.
Правда, Фет оставался совершенно глух к попыткам объяснить ему суть
нового учения их яснополянского друга, и Страхов вынужден виновато признать,
что именно «учение передавалось очень плохо» — нетерпимый Фет «с первых же
слов закусывал удила и обнаруживал не любопытство, а ярое желание говорить
самому»113. Протягивал бывшему товарищу дружески руку и проникшийся
душевным смирением Толстой: «Страхов мне пишет, что он хотел исполнить мою
просьбу — уничтожить в вас всякое, какое могло быть, недоброжелательство ко
мне или недовольство мною, — но что это оказалось совершенно излишне. Он
ничего не мог мне написать приятнее»114. Фет отвечал пространными письмами
(хотя и не столь частыми, как прежде), но стоял на своем: нового вероучения
Толстого он ни понять, ни принять не мог и весь его нравственный переворот
относил к проявлению скорее «больного» духа, чем здравого смысла. Легко
себе представить нравственное состояние деликатного Страхова, попавшего
вдруг между двух огней и продолжавшего поддерживать общение и с поэтом,
и с «яснополянским пророком».
Отход Толстого от художественного творчества стал едва ли не
драмой личного характера для педагога-подвижника и незаурядного мыслителя
С. А. Рачинского, прежде с восторгом отзывавшегося о великих романах
писателя. И. С. Тургенев, тяжело больной, за два месяца до кончины обращается
к Толстому с письмом, в котором взывает к осознанию ответственности перед
высшими силами (если земные авторитеты для него ничто) за свой талант:
«Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я рад был быть Вашим
современником, и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу.
Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда
же, откуда всё другое. (...) Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите
моей просьбе!»115
Страхов с болью и искренним недоумением воспринимал сыпавшиеся
на Толстого упреки в «измене» своему истинному предназначению. В ответ на
критическое замечание о Толстом его доброго знакомого, писателя и
фольклориста П. Д. Голохвастова, он писал: «Вы спрашиваете, не задели ли меня Ваши
слова о нем. О, нет, возможно ли требовать непременного согласия в чувствах
и мыслях? Люблю я его по-прежнему; очень горюю, что все взапуски дурно
112 Толстой — Страхов. Цолн. собр. переписки. Т. 2. С. 574.
113 Там же.
114 Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями: в 2 т. 2-е изд. М., 1978. Т. 2. С. 95.
115 Тургенев. ПСС. Письма. Т. 13, ч. 2. С. 180.
454
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
о нем говорят; заступаюсь за него, но знаю, что тут не приходится сердиться»116.
Страхов не мог понять, отчего близкие ему по своей славянофильской
ориентации люди (Розанов, Ю. Н. Говоруха-Отрок, Голохвастов и другие), с великим
почтением относившиеся к Толстому как художнику слова, не столь уважительно
воспринимают Толстого как проповедника: «Не раз я удивлялся тому, что и Вы,
и Говоруха-Отрок, и другие пишущие не питаете того удивления и
расположения к Л. Н. Толстому, как чувствую я. Что за причина? Казалось бы, явление до
того блистательное и глубокое, что люди умные и чуткие должны очень
заинтересоваться»117. Розанов, к которому обращены эти слова Страхова, объяснял
разительное расхождение между критиком и идейно близкими ему литераторами
в вопросе о религиозном повороте Толстого сильным нравственным влиянием
на него писателя, его устойчивым человеческим обаянием и прочной личной
связью Страхова с Толстым: «Тут очень важно личное впечатление, которое
могло быть чарующе и которого нам всем недоставало, тогда как Страхов
ежегодно летом гащивал у Толстого. Однако история нас оправдала и не оправдала
Страхова»118.
Это не значит, что сам Страхов безоговорочно принял решение Толстого
и не пытался хотя бы осторожно убедить писателя не бросать художественное
творчество. Еще в апреле 1876 г., рассуждая в письме об ограниченных
возможностях теоретизирования и анализа в области веры, о непродуктивности
стремления превратить религиозные интуиции в «обыкновенные формулы
знания», Страхов прямо заявил Толстому: «Я заранее уверен, что результаты,
которые вы получите, будут в сто раз беднее содержания Ваших поэтических
созерцаний»119.
Многим казалось, что страстные религиозные искания Толстого начнут со
временем ослабевать, а то и вовсе успокоятся после того, как он завершит свои
«Соединение и перевод 4 евангелий», и писатель вернется к художественному
творчеству. Толстой работал с огромным напряжением сил. Софья Андреевна
тоже надеялась, что религиозное увлечение пройдет как временный недуг:
«.. .Левочка (...) пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до
головных болей, и все это, чтобы показать, как церковь несообразна с учением
Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут
интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил,
и чтобы прошло это, как болезнь»120. Страхов же видел в религиозных исканиях
Толстого прежде всего искреннее и неустанное стремление к чистоте веры,
первоосновам религии, подлинному христианству, очищенному от замутнивших его
ибРОИРЛИ.Ед.\р. 11060. Л. 33.
117 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 79.
118 Там же.
119 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 413.
120 С. А.Толстая — Т. А. Кузминской, ноябрь 1879. Цит. по: Бирюков П. И. Биография
Льва Николаевича Толстого. Кн. 2, ч. 2. С. 158.
455
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
позднейших привнесений, и именно эта острая жажда живого нравственного
начала, обоюдное тяготение к обретению идеала особенно сближали их. Как-то
в ответ на скромное замечание Страхова, что в его слабой душе «хорошо разве
только чувство идеала», С. А. Толстая нашла очень точные слова, в деликатной
форме признававшие, что в Ясной Поляне сквозь внешнюю сдержанность и
почтенную ученость гостя рассмотрели не только его светлую душу, но и глубину
осенявшего ее религиозного чувства: «Вы мне намекнули, что в душе вашей,
будто бы слабой, а по-моему, очень сильной, дорого чувство идеала. Неужели
Вы думаете, что это не видно и не известно даже мне? Ведь это-то и есть
самое дорогое и самое красивое в душе человека. С этим чувством — идеалом
непременно придешь в конце концов туда, куда надо, и где, наверное, хорошо.
И вы давно уже пришли»121.
А жизнь не стояла на месте и подбрасывала новые непростые для
морального выбора сюжеты, словно испытывая на прочность нравственную связь двух
искателей истины. 1 марта 1881 г. Россию потрясла громовая весть: террористы
убили Царя-Освободителя. Казалось бы, у двух не принимавших насилия
гуманистов не могло быть противоположных точек зрения на совершенное. И тем
не менее, как выяснилось, Толстой и Страхов оценивали деяние заговорщиков
по-разному.
Характерно, что грозные предчувствия грядущих революционных
событий занимали внимание корреспондентов уже после нашумевшего дела
террористки Веры Засулич, стрелявшей в 1878 г. в петербургского
градоначальника и освобожденной из-под стражи прямо во время суда по решению
присяжных заседателей. Но проявились они у Толстого и Страхова не
одинаково. Страхов, присутствовавший вместе с Достоевским в зале суда, был
чрезвычайно взволнован этой «комедией человеческого правосудия» и под
свежим впечатлением от увиденного и услышанного возмущенно писал
Толстому: «Всё это мне показалось кощунством над самыми святыми вещами»122.
Позиция Страхова «проста» и бескомпромиссна: нельзя строить новое на
крови — добра от этого не будет. Близка к мрачному пророчеству и оценка
Толстого: «Засуличевское дело не шутка. Это бессмыслица, дурь, нашедшая
на людей недаром. Это первые члены из ряда, еще нам непонятного; но это
дело важное. (...) это похоже на предвозв(естие) революции»123. Но Толстой,
которому еще кажется, что он «стоит вне борьбы», уклоняется от осуждения
терроризма и пророчествует лишь об обострении этой борьбы. Исторический
121 Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава; М., 2000. С. 255.
122 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 621.
123 Там же. С. 626.
456
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
прогноз Толстого неутешителен и реалистичен: «Всё это, мне кажется,
предвещает много несчастий и много греха»124.
И вот новый акт организованного террора — убийство царя. Увы, мысли
и чувства друзей опять разительно не совпадают. Еще сильнее, чем прежде,
бросается в глаза, что отношение Толстого к террористам явно не столь
возмущенное, как у Страхова, — он более озабочен судьбой цареубийц, чем
ростом террористического движения, и пишет свое известное обращение
к сыну убиенного — наследнику престола, призывая его держаться
принципов высокой морали и по-христиански простить виновных. Страхов, со своей
стороны, добросовестно сделал всё возможное, чтобы письмо друга дошло по
назначению, но взгляды на произошедшее у него были совсем иные. Убийство
царя вызвало в нем горячий прилив гражданских чувств, и свое негодование
по поводу случившегося он выразил в «Письмах о нигилизме», проникнутых
поистине трагическим мироощущением. Эти горькие послания-размышления
печатались в газете И. С. Аксакова «Русь» и раскрывали сущность, а также
причины явления, ставшего едва ли не характерным для русской жизни. И хотя
о нигилизме в издании писали многие, по мнению известного публициста
Ю. Н. Говорухи-Отрока, лучшие статьи на эту злободневную тему
принадлежали перу именно Страхова.
Примечательно, что Толстой долго воздерживался от оценки этой работы
друга, едва ли не выражая своим красноречивым молчанием неодобрение и
несогласие со статьями Страхова. А когда наконец написал, то стало очевидно,
насколько они, в сущности, расходятся во взглядах. Взяв фактически под свою
авторитетную защиту жаждавших немедленного изменения уклада общества
радикалов, Толстой оправдывал нигилистов тем, что они всё же «делают жизнь»,
освобождаясь от «безобразия государственности, войн, судов,
собственности»125,— показав тем самым лишь свою приверженность идеологическим
иллюзиям и тем же нигилистическим искушениям.
Уклоняясь от разноречия и ссоры со своим великим другом, Страхов тем
не менее сумел вполне ясно высказать свое отрицательное отношение к
разрушительному радикализму в выразительном письме к Толстому от 25 мая 1881 г.
и выразил свою скорбь по поводу того, что с каждым годом это отрицательное
направление набирает силу.
Толстой возражал против обличения Страховым нигилистов, встав как бы
на «беспристрастную» нравственную точку зрения и рассуждая о борьбе двух
начал, по сути дела, оправдывал революционеров, так как они «жертвуют своею
жизнью для духовной цели»126. Но затем он прямо возразил Страхову, заявив,
что в последнее время ему отвратительны такие слова, как «народ», «церковь»,
124 Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. С. 364.
125 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 634.
126Тамже.С.6П.
457
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
«культура», «самодержавие». Толстой с особым ожесточением ополчается на
утверждение, что статьи Страхова написаны с точки зрения народного идеала. Он
решительно отвергает «самодержавие и православие, с прибавлением
народности»127, да и само понятие «нигилисты» как название каких-то злодеев, «каких-то
ужасных существ, имеющих только подобие человеческое»128. Страхов не мог
не почувствовать в этой обескураживающей отповеди раздраженного друга
совершенно чуждые ему, если не сказать больше, идейные мотивы. А Толстой
в следующем письме, опираясь на «смысл жизни, открытый нам Христом»,
уже прямо отрицает «безобразие государственности, войн, судов,
собственности»129. Это уже не что иное, как скрываемая поддержка в анархической форме
революционного отрицания.
Таким образом, «Письма о нигилизме» обнаружили существенные
расхождения во взглядах Страхова и Толстого на острейший вопрос современности.
Толстой даже обронил в сердцах: «Каким образом я оказался с вами вместе, не
могу понять»130.
Впрочем, и на сей раз до разрыва дело не дошло: опасаясь потерять
«бесценного» друга, Страхов, по обыкновению, пошел на попятную. Он умерил
свой пыл, стал больше соглашаться с Толстым, и их общение как будто вошло
в прежнюю приятельскую колею. Но трещина после размолвки осталась.
Отношение Страхова к нигилизму не изменилось и в дальнейшем, однако в переписке
с Толстым острые политические проблемы он старался более не затрагивать.
Оставался, правда, другой, не менее важный повод для разногласий:
изменившееся после религиозного поворота восприятие писателем искусства,
литературы, науки. Пренебрежительное, нигилистическое отношение Толстого
к художественному творчеству продолжало нарастать: «Фауст» Гёте становится
для него «дребеденью из дребеденей»ш, напрочь отвергается Шекспир,
отрицаются и собственные шедевры — даже «Война и мир» объявляется
«многословной дребеденью»...132
* * *
Если, как мы отметили, Страхов обогащал их переписку с Толстым
известным тематическим разнообразием и привносил в нее отклик живой жизни, то тон
в ней явно задавал Толстой. Великий писатель очень избирательно откликался
на предлагавшиеся корреспондентом сюжеты и часто оставлял без внимания
интересовавшие Страхова проблемы и явления литературно-общественной жизни,
127 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 609.
128 Там же. С. 611.
129 Там же. С. 634.
130 Там же.
131 Там же. С. 589.
132 Толстой. ПСС Т. 61. С. 247.
458
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
ф
считая их несущественными мелочами. Так, он продемонстрировал
поразительное равнодушие к полемике Страхова с Владимиром Соловьевым, за которой,
сочувствуя одному или другому участнику спора, следила вся образованная
Россия. Учитель детей Толстых В. Лазурский, который вел в Ясной Поляне
дневник, так описывает отношение писателя к этому идейному столкновению:
«В промежутках рассказывал мне о Н. Н. Страхове. Он впутался в несчастную
полемику с Вл. Соловьевым по поводу книги Н. Данилевского, которую издает
вторым изданием. Полемика давно уже перешла на мелочи и малоинтересные
частности. „Он мне как расскажет, я и помню; а потом сейчас же все забудешь.
Пишут, пишут, а зачем? Потому, что обеспечены и времени девать некуда.
Занимались бы лучше насущными вопросами. А то отсюда и ученые, никому не
нужные споры, и стихи Фета"»133.
Между тем в той острейшей полемике двух крупных отечественных умов
обсуждался ни много ни мало такой жгучий и до сих пор актуальный вопрос,
как национальный. Изящная поэзия Фета, тончайшим ценителем которой был
именно Страхов, разумеется, тоже «никому не нужна» — ведь и от нее нет
видимой пользы. Еще более категоричен отзыв Толстого о лекции Соловьева,
на которую в один из нечастых приездов писателя в Петербург его пригласил
Страхов. Не свидетельствуют ли такие негативные суждения о том, что Толстой,
при всей своей погруженности в выработку положительного религиозного
сознания, сам подпал в последний период жизни под определяющее влияние
господствовавших в обществе нигилистических настроений и всё больше
проникался своеобразным духовным отрицанием?..
А Страхов, для которого борьба с идейным нигилизмом составляла,
можно сказать, одну из главных задач публицистической деятельности, весьма
рассчитывал на действенную поддержку обратившегося к вере автора
«Войны и мира» и «Анны Карениной» в его усилиях способствовать преодолению
укреплявшегося в общественном сознании тотального отрицания «устоев».
И это в то время, когда в мировоззрении самого Толстого преобладающее
развитие получали совершенно иные тенденции. Поражает, как мог Страхов, опыт
духовного общения которого с Толстым составлял в 1890 г. уже добрых два
десятилетия, устроив разнос В. В. Розанову, не в меру восторженно
отозвавшемуся о деятельности и статьях Н. А. Добролюбова, назвать в качестве фигуры,
идейно противостоящей критику оппозиционного направления, — Толстого,
чья деятельность якобы представляет собой «отрицание» нигилизма, «отвергает
их начала»134. Страхов словно уже запамятовал негативную реакцию друга на
свои антинигилистические статьи 1881 г.
Нелишним будет заметить, что восприятие Толстого как
принципиального борца с «отрицателями» носило, видимо, у Страхова довольно устойчивый
133 Дневник В. Ф. Лазурского. С. 449.
134 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 66.
459
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
характер. По крайней мере, в одной из статей он в очередной раз проводил
похожую мысль: Толстой (вместе с Пушкиным) противостоит своим творчеством
нигилизму. Он, вероятно, действительно был уверен, что Толстой с его
«непротивлением злу насилием» шел той же особой дорогой «вне направлений», что
и Пушкин. Но то, что вполне можно было сказать по поводу «Войны и мира»,
увы, не соответствовало взглядам «нового» Толстого. Впрочем, с этим мнением
Страхова позволил себе не согласиться даже искренне симпатизировавший ему
критик Ю. Н. Говоруха-Отрок. Он так охарактеризовал духовный путь Толстого:
«Начавши с вражды ко всему искусственному, приподнятому во имя простоты
и искренности чувства и мысли — он пришел на наших глазах к своеобразному
нигилизму, в котором, как в фокусе, отразилось все отрицательное брожение
русской мысли нашего, уже оканчивающегося, столетия»135.
Показательно, что с этой оценкой совпадает и мнение Фета,
приводившего (в письме к К. Р. 10 января 1892 г.) имя великого писателя в качестве
примера вредного, по его мнению, идейного влияния бунтарского пафоса на
молодежь: «Что голос заблуждающегося Толстого не пропадает в пустыне,
мне пришлось убедиться из беседы с весьма приличными и даже именитыми
юношами, проповедовавшими отмену не только денег, но и всякой личной
собственности»136.
Мнение о Толстом как человеке парадоксального образа мысли и действия
не ново, и Страхов не раз имел возможность отметить для себя и указать
собеседнику на противоречивость его суждений и рекомендаций. Разве не Толстой
некогда горячо и настойчиво призывал своего корреспондента отказаться от
иссушающей мысль и развращающей душу газетно-журнальной работы? И что
же? Не минуло с той поры и десятка лет, как сам великий писатель,
отказавшись от художественного творчества, встал на путь религиозно-нравственного
проповедничества и очень быстро ощутил живую потребность в... трибуне.
Правда, во времена переписки со Страховым этот поворот Толстого к
публицистике только начинался, и большинство его статей на злободневные темы
появятся в печати несколько позже. Но важен сам факт обращения протестанта
и обличителя к столь презиравшейся им некогда журналистике. Такой, казалось
бы, неожиданный переход вскоре станет столь очевидным, что даст основание
нововременскому критику М. О. Меньшикову посвятить этой теме один из
своих острых фельетонов (по поводу выступления Толстого «Не могу молчать»)
с весьма характерным названием — «Толстой как журналист». Высказывания
«яснополянского мудреца» в повременной печати явно раздражали несогласных
и нередко получали уничижительную оценку критиков. Тот же Меньшиков
едва ли не выразил мнение многих современников, без обиняков заявив в своей
135 Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Поэзия Полонского. VI // Моск. вед. 1895.
№ 52, 22 февр. С. 3.
136 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 941.
460
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
ф
статье, что «самый плохой сорт писаний великого беллетриста — его газетная
публицистика»137.
Что касается Страхова, то он и публицистическую деятельность Толстого
отстаивал до конца своих дней, слыша в ней новое религиозное слово, которое,
полагал он, окажет благотворное действие на больной разлагающим неверием
организм русского общества. Наивным упованиям Страхова не суждено было
осуществиться: дальнейшая публицистическая деятельность великого писателя
привела его на пути не только религиозного сектантства, но и откровенного
политического радикализма. Может быть, самым ярким подтверждением роли
Толстого в распространении революционных настроений является восторженное
обращение к нему в 1905 г. как к «пророку революции» его давнего обожателя
и почти радикала по взглядам В. В. Стасова: «.. .приходило или нет вам в
голову, что всё нынешнее торжественное освобождение России от самодержавия,
деспотизма вековечного и безобразия постыдного происходит — по завету
никакому иному, как ВАШЕМУ? Приходило вам это в голову или нет? А между
тем — это именно так, и история однажды запишет это на своих скрижалях
какими-то бриллиантовыми буквами. Не вы ли всегда учили, не вы ли всегда
указывали на единственную возможность освободиться от всех человеческих
бедствий, безумий и несправедливостей, насилий и варварств (военной
службы, налогов, тюрем, палачей, каторг, судов и т.д. и т.п. — вся процессия
человеческих мерзостей) — остановкой своей деятельности, своим неучастием
во всем подобном, своим отказом! Новая Россия нынче освобождается этим
способом, которому никто не хотел было верить, все думали до сих пор, что
это только фантазия, мечты, бред воображения, идеальности. Но вышло, что
вы — ПРОРОК И ПРОВИДЕЦ: наше „освобождение" именно по вашему слову
и указанию совершается...»138
Любопытно следить по переписке, как постепенно изменяется характер
просьб Толстого к Страхову: всё чаще такие обращения связаны с
устройством дел всякого рода протестантов, оппозиционеров и даже преследуемых
властями бунтарей. Так, по рекомендации Толстого Страхов знакомится
с сектантом Маликовым, общается с толстовцем Чертковым, пытается
помочь с трудоустройством уволенному за оппозиционные настроения
гимназическому учителю...
Правда, поддерживая в целом нравственную позицию «нового»
Толстого после религиозного поворота, Страхов во многом с ним и не соглашается.
В письме от 18 августа 1894 г. он вроде бы удовлетворенно признает, что в Ясной
Поляне совершается большая работа духа, но не без тревоги и горечи замечает,
что «отречение от мира непременно переходит в отрицание мира», — а «в Ясной
Поляне часто говорилось против государства, патриотизма, промышленности,
137 Меньшиков М. Толстой как журналист // Новое время. 1908. № 11614, 11 июля.
138 Толстой Л. Н., Стасов В. В. Переписка 1878-1906 гг. М, 1929. С. 382-383.
461
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
наук, музыки, поэзии, философии и т.д.»139. Да, о политике Страхов больше не
спорит. Однако в «сродной» ему области искусств и высокой мысли ни
Толстому, ни другим оппонентам уступать он не желает: «Вы, Лев Николаевич,
по натуре больше новатор, а я по натуре больше консерватор. Буду защищать
искусство и науку изо всех сил против Вас, Соловьева и Николая Федоровича
(Федорова). Это область мне сродная, область мысли, а не дела; никто из вас,
стремящихся к деятельности, не может понять, какое различие между деятель-
ностию и совершенным отсутствием позыва к ней, чистым созерцанием. Тут
у меня весь центр тяжести»,40.
* * *
Казалось бы, идейные расхождения Толстого и Страхова с 1880-х гг.
только углубляются и даже приобретают необратимый характер. Но в 1891 г.,
в период, когда нападки на публицистические и особенно религиозные
сочинения Толстого становятся всё активнее, Страхов неожиданно выступает в печати
со статьей «Толки об Л. Н. Толстом» — в защиту писателя. Эта публикация
в журнале «Вопросы философии и психологии», появление которой удивило
многих, снова крепко сблизила их. «Психологический этюд» Страхова имел
подчеркнуто апологетический характер, что дало основание для
утверждений, будто Страхов полностью разделяет воззрения писателя и чуть ли не стал
«толстовцем». Это, конечно, явное преувеличение. Несмотря на всю
привязанность к «бесценному» Льву Николаевичу, Страхов сохранял самостоятельность
мысли, а с кружком его догматических последователей (вроде Черткова) едва
соприкасался. Возможно, Страхова нередко принимают за сторонника Толстого
потому, что их связывала многолетняя тесная дружба. Как бы то ни было, толки
о «толстовстве» Страхова после выхода в свет его статьи особенно усилились.
Действительно, ее публикация требовала от автора определенного мужества:
ведь уже тогда над писателем-проповедником начали сгущаться грозовые тучи,
а в статье давалась положительная оценка творческой деятельности Толстого
периода после религиозного переворота. Работа Страхова попала в печать не
сразу. Цензура не дозволила ее публикацию в журнале «Русское обозрение».
Но статья Страхова была написана столь искусно и искренно, что даже глубоко
верующая родственница великого писателя, графиня Александра Андреевна
Толстая, настроенная церковно-консервативно, поверила убедительным
аргументам критика. Придворная дама изыскала возможность передать рукопись
царю и призналась, что, прочитав этюд Страхова, прекрасно разъясняющий
деятельность Толстого, сама стала относиться к писателю «гораздо терпимее».
После этой встречи рукопись была принята и напечатана в сентябрьском номере
139 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 958.
140 Там же. С. 627.
462
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
журнала «Вопросы философии и психологии» — цензурное разрешение, как
можно догадываться, было получено не без «Высочайшей воли».
Из откликов на публикацию Страхов выделил развернутый отзыв В. В.
Розанова; 24 сентября 1891 г. он сообщал Н.Я. Гроту: «...получил я и длинное
письмо от Розанова, в котором он разбирает мою статью со своей удивительной
проницательностью»141. Розанов привел в письме немало аргументов в пользу
основных положений статьи: «Многие определения так хороши у Вас (и
относительно Толстого, и относительно общества, и относительно полемистов против
него), что хочется обратить их в формулы (...) Не знаю почему, но о Толстом
писалось столько нелепого, как-то неумного и бесчисленно обильного, что
Ваше слово должно тотчас выделиться как первое компетентное слово. И
толстовцы, литературою „униженные и оскорбленные", — должны ухватиться за
Вашу статью, как израненные, поражаемые ухватились бы за щит, который им
подали. Это раз. Во-вторых, статья Ваша должна быть поразительно неприятна
всем нелепо ломавшим против Толстого перья: ведь Вы же старик, Вы борец
против дарвинизма, против писаний Соловьева и убежденный, влиятельный
славянофил. И вот в то время как все влиятельное гонит толстовцев — Вы
против него оборачиваетесь и протягиваете над ними щит. (...) Полемика против
Толстого потому вредна и дурна была, что толстовство она свела к какому-то
мальчишеству; и вот Ваше вступление в спор изменяет весь характер дела»142.
Литературно статья действительно удалась. Она даже получила
определенный успех у читателей и вызвала заинтересованное обсуждение. Что двигало
Страховым при написании статьи? Конечно, не убежденность в правоте идей
Толстого, а горячая поддержка мотивов действий и писаний, которые у такого
благородного человека не могут быть нечистыми. Выступление Страхова
имело, конечно, во многом и тактический смысл — это прежде всего защита друга
и великого писателя и лишь в малой степени — идейного единомышленника.
Страхов намеренно не вдается в подробности собственно учения Толстого —
такой путь был бы заведомо обречен на неудачу, так как со всей очевидностью
выявились бы существенные недостатки Толстого как проповедника. К тому же
материал откровенно апологетического свойства никогда не прошел бы цензуру.
Поэтому Страхов останавливается в своей статье лишь на высоком нравственном
характере личности Толстого, его искренности и отстаивает право такой яркой
личности на духовные искания, даже если они ведут к заблуждениям. Страхов,
собственно говоря, разумно и тактично перевел разговор об идейных исканиях
Толстого в иную плоскость, подчеркнув необходимость уважительного отношения
критиков к доводам противоположной стороны. Методологически построение
этого этюда напоминает в какой-то степени его давнюю статью с печальной
судьбой — «Роковой вопрос». Он не столько защищает взгляды Толстого (как не
141 Письма СтраховаН. Я. Гроту. С. 248.
142 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 274-275.
463
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
оправдывал, надо сказать, в 1863 г. и поляков!), сколько пытается придать
обсуждению темы более взвешенный, объективный характер, призывает оппонентов
Толстого к всестороннему рассмотрению вопроса, настаивает на непредвзятости
суждений. То есть стремится вывести разговор на тот уровень спокойного, без
заведомых предубеждений, рассмотрения, которого постоянно желал
придерживаться сам как полемист. В сущности, Страхов своим трезвым аналитическим
подходом поднимал интеллектуальную и этическую планку дискуссии и задавал
мыслящему русскому обществу ту высоту духовного диалога, которая единственно
и была бы достойна как его великого друга, так и самих участников полемики.
Толстой по достоинству оценил мужественный поступок критика. 4 апреля
1891 г., получив статью (не пропущенный цензурой оттиск из журнала «Русское
обозрение» за февраль), он сообщал жене, находившейся тогда в Петербурге,
свое впечатление: «Вчера получили статью Страхова. Согласен с тобой, что она
до неприличия преувеличивает мое значение, но, кажется, что, независимо от
того, что она так льстит мне, я не ошибусь, сказав, что она замечательно
хороша, не только хорошо написана и умно, но задушевно, сердечно. Так понимать
сущность христианства может только христианин, или лучше ученик Хр(иста).
Скажи это Н(иколаю) Н(иколаевичу). Я буду писать ему»143. Страхову о статье
Толстой отвечал 7 апреля 1891 г.: «Вы понимаете, что мне неудобно говорить
про нее, и не из ложной скромности говорю, мне неприятно было читать про то
преувеличенное значение, к(отор)ое вы приписываете моей деятельности. (...)
Но, оставив это в стороне, статья ваша поразила меня своей задушевностью,
своей любовью и глубоким пониманием того христианского духа, к(отор)ый
вы мне приписываете. Кроме того, когда примешь во внимание те условия
цензурные, при к(оторых) вы писали, поражаешься мастерством изложения.
Но все-таки, простите меня, я буду рад, если ее запретят. Во всяком случае эта
ваша статья сблизила меня еще больше с вами самыми основами» ш.
Публикация в журнале «Вопросы философии и психологии» вызвала
резкую критику этюда в богословской и консервативной печати. Один из церковных
публицистов писал о статье «Толки об Л. Н. Толстом»: «Автор ее—известный
писатель Н. Страхов, тот Страхов, который писал когда-то против Ренана и Штрауса,
восторгался учением христианской религии, приходил в умиление от церковного
богослужения. Теперь этот писатель, на которого русское общество привыкло
смотреть как на ревностного защитника православной религии и русской
народности, очутился нежданно-негаданно в числе поклонников Льва Толстого, как
религиозного учителя»|45. Волна осуждения захватила даже светскую печать.
143 Толстой. ПСС. Т. 84. С. 73-74.
144 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. 1.2. С. 865.
145А. Р. [РождествинА.С] Христианство графа Л.Н.Толстого: По поводу статьи
Н. Страхова «Толки об Л. Н. Толстом» (...)// Чтения в Обществе любителей духовного
просвещения. 1892. Кн. 2. Отд. 2. С. 87.
464
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
Страхов сам сообщал Толстому, что критик В. П. Буренин хотел было в «Новом
времени» выступить с положительным разбором статьи, но вынужден был
оставить свой замысел из-за нажима на газету извне. Философ правых убеждений
П. Е. Астафьев упрекал Страхова «в очевидных натяжках, софизмах его апологии
графа Толстого»146. А воинствующий консерватор Константин Леонтьев, с которым
у Страхова существовала давняя взаимная антипатия, познакомившись с
содержанием этюда, яростно накинулся на него во вступлении к статье «Оптинский
старец Амвросий». В охранительном задоре он прямо отнес «жалкого защитника
Ясно-Полянского юрода» к числу врагов православного христианства и был бы
отчасти в этом гневе праведен, когда бы не взял себе в идейные союзники
небезызвестного редактора «Гражданина» князя В. П. Мещерского (которому был
предназначен подготовленный Леонтьевым материал),47.
Судя по переписке, статья «Толки об Л. Н. Толстом» действительно сняла
(или помогла заметно сгладить) многие существенные противоречия между
корреспондентами, и остававшиеся до кончины Страхова пять лет прошли
в теплом дружеском общении.
Толстой не проявлял большого интереса к важнейшим спорам, которые вел
Страхов, — будь то спор с учеными апологетами спиритизма, о книге «Россия
и Европа» с Вл. Соловьевым или о дарвинизме с профессором Тимирязевым.
Поэтому обсуждение этих весьма волновавших Страхова тем читатель может
найти в соответствующих других главах.
Идейные споры Страхова с Толстым постепенно угасали, и, надо сказать,
именно в эти годы Страхов постепенно и незаметно всё более подпадал под
идейное влияние Толстого. Вполне символично, что одним из последних, если
не самым последним посетителем квартиры Страхова накануне его кончины
стал alter ego Толстого-моралиста Владимир Чертков. Нельзя даже исключать,
что, поживи Страхов подольше, он мог бы и целиком перейти на сторону
яснополянского бунтаря. Однако история, как известно, не знает сослагательного
наклонения...
* * *
Льва Толстого непосредственно касается еще один непростой сюжет из
области взаимоотношений Страхова с современниками, хотя его роль и не
велика. Он стал адресатом печально известного исповедального письма Страхова
о Достоевском, которое спустя годы после его публикации вызвало огромный
резонанс. Споры на эту тему не утихают до сих пор. Но Толстого они
затрагивают лишь косвенно.
Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 2000. С. 364-365.
Леонтьев. ПСС. Т. 6, кн. I. С. 805.
465
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Писатель, по всей видимости, не принимал активного участия в решении
вопроса о публикации злополучного письма, который обсуждался при его
жизни. Память Льва Николаевича к тому времени уже настолько ослабла, что он не
вспомнил при обсуждении даже того, что письмо Страхова было адресовано ему.
Поэтому мы нашли вполне естественным сосредоточить рассмотрение всей этой
болезненной темы в главе, посвященной отношениям Страхова и Достоевского.
Переписка Толстого и Страхова оборвалась в самом начале 1896 г.: 24
января Страхов скончался... Человек ушел в мир иной, но в исторической памяти
последующих поколений остался его образ — загадочный и противоречивый.
Последняя загадка, которую он нам оставил, — его печально известное
письмо к Толстому, которое «пришло» к нам спустя 17 лет после его кончины.
Как следует из «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого, это произошло
по настоянию Софьи Андреевны Толстой. Это частное письмо очень сильно
изменило ситуацию, но не сделало ее проще. Страхов и при жизни не был
«открытой книгой»: скрытный, избегавший публичности, он мало оставил после
себя надежных письменных свидетельств, помогающих уяснить своеобразие
его характера.
Между тем уже современники безуспешно бились над разгадкой
«тайны» несовместимых личностных и идейных расположений Страхова. Его
знаменитый «друг-враг» Вл. Соловьев пытался написать о нем по свежим
следам для «Вестника Европы» нечто вроде пространного некролога, но
работу не завершил, споткнувшись об очевидную для него трудность: он не
мог объяснить, почему Страхов был известен одновременно «как горячий
приверженец и защитник двух русских писателей неравной величины, но
одинаково определенных и притом противоположных между собой
воззрений, — Н. Я. Данилевского (автора книги „Россия и Европа") и гр. Л. Н.
Толстого» ,48. Вместо некролога получалась очередная полемическая статья
о слабости характера и раздвоенности взглядов Страхова, и Соловьев свой
замысел оставил. Впрочем, отсутствие желаемой цельности натуры он
отнюдь не признавал за двоедушие и объяснял этот нравственный парадокс так:
«...его раздвоенность имела источник чисто психологический, происходя из
особенностей его характера, в котором полная искренность и прямота
чувства или сердечного настроения своеобразно соединялась с робостью мысли
и нерешительностью воли»,49. Применительно к отношениям с Толстым
противоречие, стало быть, объяснялось просто: Страхов боялся потерять
друга, который был ему дороже жизни.
Ту же внутреннюю противоречивость общественной позиции Страхова
отметил в письме к Толстому от 14 апреля 1898 г. поэт Яков Полонский:
148 Из неизданного Владимира Соловьева: Некролог Н. Н. Страхова / предуведомление
и публ. Н. В. Котрелева // Соловьевские исследования. Иваново, 2005. Вып. 11. С. 164.
149 Там же. С. 166.
466
Глава 13. Страхов и Л. Н. Толстой
—■$>
«Очень я любил покойного Николая Николаевича Страхова, я до сих пор
ежедневно молюсь о душе его, но не мог же я при жизни хвалить его за то,
что он в одно и то же время поклонялся Вашей новой религии и афонским
консерваторам» 15°.
Для самого Толстого идейное раздвоение Страхова вряд ли представляло
собой неразрешимую загадку — ведь его корреспондент уже в первом письме
сам раскрыл причину столь странной «непоследовательности», признавшись,
что именно Толстому и Данилевскому, как двум живительным источникам духа,
он обязан укреплением собственных нравственных сил и обретением ясных
перспектив своей творческой деятельности. О Данилевском и Толстом Страхов
писал как о самых благородных и душевно чистых людях, встреченных им
в жизни и ставших для него внутренней опорой. В этом, вероятно, и состояла
отгадка удивлявшей многих «тайны» его горячей привязанности к двум ярким
представителям русской культуры со столь несхожими взглядами, нравственной
связи с которыми Страхов остался верен до конца. Толстой, при всех
обнаруживавшихся время от времени идейных несовпадениях со Страховым, неизменно
считал его одним из наиболее близких себе по духу людей. В своем первом
завещании, записанном в дневнике 27 марта 1895 г.151, он именно Страхова наряду
с женой и Чертковым включил в число доверенных лиц, которым поручалось
после его смерти пересмотреть и разобрать его бумаги. Страхов и Толстой были
ровесниками, они вместе пришли в этот мир, но одному было суждено судьбой
безвременно уйти и оставить по себе глубокую, добрую память, а другому
благодарно хранить ее еще целых 14 лет. Узнав о смерти близкого человека,
писатель отметил в дневнике 26 января 1896 г.: «Я жив, но не живу. Страхов.
Нынче узнал об его смерти»152.
Портрет ушедшего из жизни друга висел (среди немногих других) в
кабинете Льва Николаевича. Воспоминания о нем продолжали жить в душах
яснополянских насельников, его имя упоминалось с неизменной теплотой
и уважением. Добросовестный «хроникер» толстовских высказываний Д. П. Ма-
ковицкий нередко записывает в своих блокнотах слова писателя о его
многолетнем собеседнике. 31 января 1907 г., вспоминая в очередной раз «дорогого
Николая Николаевича», Толстой заметил: «Он был очень серьезный человек,
умный. Он был критик лагеря, не согласного с Михайловским, Добролюбовым.
Человек очень умный, образованный, философской эрудиции. Софья
Андреевна добавила: „Таких теперь нет"»153. Со временем высокое мнение писателя
о покойном друге не менялось: «Он критик был очень тонкий»154; «Он был
150 Толстой Л. Н. Переписка с русскими писателями. М., 1978. Т. 1. С. 323.
151 Толстой. ПСС. Т. 53. С. 14.
152 Там же. С. 77.
153 ЛЯ. Т. 90: У Толстого, 1904-1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого.
Кн. 2. С. 364.
154 Там же. Кн. 4. С. 216.
467
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
необыкновенно скромный и огромной начитанности. Он ценил других и себя
забывал. Был предан литературе»155; «Он был близкий человек»156.
Свою переписку с критиком Толстой относил к наиболее важным
документам, имеющим значение для характеристики его как человека, писателя,
мыслителя. Он писал П. А. Сергеенко 6 февраля 1906 г.: «У меня было два (кроме
А. А. Толстой — это третье) лица, к к(оторым) я много написал писем и, сколько
я вспоминаю, интересных для тех, кому может быть интересна моя личность.
Это Страхов и кн. Серг(ей) Сем(енович) Урусов»157. В яснополянском доме
любили перечитывать письма «незабвенного Николая Николаевича». И десять
лет спустя долгими осенними вечерами Толстой вновь слышал дорогой его
сердцу голос и знакомые интонации отошедшего в вечность друга...
Я
155 ЛН. Т. 90, кн. 4. С. 181.
156 Там же. С. 216.
157 Толстой. ПСС. Т. 76. С. 98.
CAmSa 14
ОТ ДРУЖЕСКОГО ОБЩЕНИЯ К ИДЕЙНОМУ
ПРОТИВОСТОЯНИЮ (СТРАХОВ И ВЛ. С. СОЛОВЬЕВ)
Соловьев вечно пенился, и пена эта подымается высоко,
Страхов — недвижное озеро, но воды его глубоки.
В.В.Розанов'
£§§«§ Долгое время Вл. С. Соловьев и Н. Н. Страхов, два видных
отечественных философа-идеалиста, считались в истории русской философии фигурами
совершенно несоотносимого масштаба. Звезда Владимира Соловьева взошла
в совсем юном возрасте и сияла пророческим блеском на весьма тусклом
(по сравнению, конечно, с европейской философией) небосклоне
доморощенного любомудрия на недосягаемой, как долгое время казалось, высоте. А имя
Н. Н. Страхова, имевшего устоявшуюся репутацию консерватора, и без того
более скромного по творческим задаткам и достижениям, не пользовавшегося
особым признанием даже при жизни, после его кончины, когда слава
Соловьева стала разноситься по градам и весям предшественниками символизма,
было почти напрочь забыто.
В блистательный период рубежа XIX и XX вв., получивший впоследствии
название «религиозного ренессанса», серафическая личность и теургическое
творчество Соловьева были вознесены до небес как поклонявшимся ему кружком
ведущих отечественных философов от братьев Трубецких до С. Н. Булгакова
и о. Павла Флоренского, так и яркими поэтами-символистами Вячеславом
Ивановым, Александром Блоком и Андреем Белым. Авторитет этого даровитого,
хотя и весьма противоречивого мыслителя представлялся в интеллектуальных
кругах почти непререкаемым. Что же касается «трезвого» Страхова, то о нем
в предреволюционные годы, вошедшие в историю под именем Серебряного
века, неустанно напоминал разве что В. В. Розанов, который шокировал
«просвещенное» общество своим «мартирологом» консервативных «литературных
изгнанников», подвергшихся гонениям и замалчиванию в атмосфере засилья
в общественном мнении либерализма и левого радикализма.
1 Розанов. ПСС. Т. 3. С. 116.
469
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
В советский период творческое наследие Соловьева и Страхова, как и всех
идеалистов, было массовому читателю недоступно и их идеи подвергались
суровой критике. Впрочем, несмотря на запреты, энтузиасты любомудрия при
определенных усилиях и везении могли находить у букинистов отдельные
книги или тома из двух собраний сочинений Соловьева, изданных до революции
большими тиражами. Просачивались в Советскую Россию и эмигрантские
издания. Идеи Соловьева были в большой моде среди «ищущей» отечественной
интеллигенции, интересовавшейся религиозной философией. Его положение
«первого русского философа» было подкреплено книгой авторитетнейшего
А. Ф. Лосева. О Страхове в те годы вспоминали разве что в связи с великими
писателями Ф. М. Достоевским и Л. Н. Толстым, с которыми он долгие годы
сотрудничал и переписывался. Правда, в 1974 г. был издан том его литературно-
критических статей, не привлекший к себе большого внимания.
На рубеже XXI в., когда началось массовое возвращение к читателям
незаслуженно изъятых из обращения творческих имен, быстро вновь обрели
популярность всегда бывшие на слуху идеи Владимира Соловьева. Его книги
переиздавались одна за другой. Менее яркое творчество Страхова находилось
еще некоторое время в забвении. Но так как всякая серьезная мысль рано или
поздно пробивает себе дорогу к вдумчивому читателю, со временем стал всё
больше расти интерес и к автору трехтомной «Борьбы с Западом в нашей
литературе», привлекавшей особый интерес своим боевым названием, и глубокой
натурфилософской книги «Мир как целое».
Количество книг и статей, мемуаров и разнообразных исследований,
посвященных Владимиру Соловьеву, давно уже с трудом поддается учету. Но вот
что интересно: новое полное собрание сочинений маститого философа, с помпой
начатое в 2000 г., неожиданно остановилось после четвертого тома, изданного еще
в 2011 г. Не является ли этот казус свидетельством определенного ослабления
интереса к самому знаменитому нашему философу? Тем временем количество
изданий сочинений Страхова и посвященных ему исследовательских работ с
каждым годом увеличивается. Не будет удивительным, если дойдет дело и до собрания
сочинений этого скромного, но серьезного мыслителя и литературного критика,
которого не раз относили в прошлом к второстепенным писателям. Интерес
к творческому наследию Страхова неуклонно рос, так как по мере знакомства с его
идеями постепенно укреплялось мнение о нем как о глубоком, самостоятельном
и честном мыслителе. В то же время в еще более разросшейся литературе о
Соловьеве наряду с панегирическими сочинениями появилось немало объективных
исследований, в которых создатель философии «всеединства», имевший долгие
годы репутацию почти «неприкосновенного», подвергался основательной критике.
Соловьева упрекали за филокатолические, гностические и оккультные тенденции,
эклектизм и недостойное настоящего философа стремление к дешевым эффектам
ради сиюминутного успеха у либерально настроенной публики.
470
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
—■$>
Можно сказать, что в наши дни уже произошла определенная переоценка
ценностей, и в современных исследованиях той идейной полемики, которая
завязалась в конце 1880-х гг. между Страховым и Соловьевым, автор «Борьбы
с Западом» воспринимается уже как вполне достойный оппонент,
представляющий почвенническо-патриотическое направление отечественной общественно-
философской мысли. Сегодня эта полемика, имеющая для всей нашей культуры
принципиальное значение, воспринимается как одно из главных идеологических
столкновений двух основных течений отечественного умозрения.
Несмотря на эту ожесточенную полемику и почти двадцатилетнюю
разницу в возрасте, Страхов и Соловьев были близко знакомы и некоторое время
если не дружили, то состояли в приятельских отношениях. Для понимания
психологического «подтекста» этого важнейшего для русской философии спора
необходимо проследить, хотя бы кратко, личные отношения двух этих
мыслителей, начавшиеся в 1873 г.
В русской философии ярких личностей в годы, когда в моду вошло «база-
ровское» отрицание всякого отвлеченного умозрения, было не слишком много,
и когда появился Соловьев — несомненный молодой талант (при защите
магистерской диссертации философу было всего 20 лет), явный метафизик-идеалист
и критик западного рационализма, — Страхов, которому тогда исполнилось уже
46 лет, сразу выделил его из общей массы, отметив у юноши исключительные
задатки. Да и как было не выделить юного мыслителя, если заявленная им тема
диссертации — «Кризис западной философии. Против позитивистов» — почти
«страховская»: она перекликалась со многими положениями славянофилов
и «почвенников», в том числе и статей самого Страхова, вошедших позже в его
сборники «Борьба с Западом в нашей литературе», «Из истории литературного
нигилизма. 1861-1865» и «Философские очерки».
Неудивительно, что 24 ноября 1874 г. Страхов присутствовал в Санкт-
Петербургском университете на диспуте при защите юным московским
дарованием магистерского звания и даже опубликовал о нем в двух столицах
небольшие статьи — в петербургском «Гражданине» и в «Московских ведомостях»2,
написанные с симпатией к «диспутанту» и, конечно, со знанием дела.
С этих пор Страхов и Соловьев не могли, конечно, не обратить друг на
друга пристального внимания. Страхов очень надеялся тогда, что изрядно
обедневший славянофильско-почвеннический лагерь получит в лице Соловьева
не просто достойное подкрепление, а исключительно яркую философскую
2 Страхов Н. Философский диспут 24 ноября // Гражданин. 1874. № 48, 2 дек. С. 1211-
1212; то же: Страхов. Философские очерки. 1906. С. 346-349; Н. С [СтраховН. H.J Еще о
диспуте Вл. С. Соловьева // Моск. вед. 1874. № 308, 9 дек.
471
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
=8»
индивидуальность. В переписке Страхова с Толстым, отражающей круг
интересов петербургского мыслителя, тут и там мелькают сообщения Страхова
о прочитанных сочинениях Соловьева и его взглядах, о публичных выступлениях
юного дарования, о его характере и болезненной внешности.
На тему книги Соловьева Страхов написал статью «Гартман и
Шопенгауэр» (1875). Он с одобрением воспринял соловьевскую критику
западноевропейского рационализма и отметил в его сочинении наметившийся «высший синтез
философского познания и религиозной веры»3, который молодой философ,
понятно, намеревался осуществить сам.
Страхов пристально и не без менторской строгости следил за развитием
деятельности молодого философа. Почти с самого начала далеко не всё
устраивало его в философских сочинениях Соловьева. Об этом свидетельствуют,
в частности, его замечания о книге Соловьева «Кризис западной философии». От
прошедшего школу Гегеля Страхова не ускользнул тот факт, что в «синтетизме»
Соловьева присутствует скрытое влияние завершителя немецкого классического
идеализма: «.. .хоть он явно и отрицается от Гегеля, но втайне ему следует. Вся
критика Шопенгауэра основана на этом». Страхова это, конечно, не слишком
пугает—он и сам по-прежнему опирается на гегелевский диалектический метод.
Плохо другое — Страхов ощущает сильнейший уклон Соловьева к
мистицизму дурного толка: «Но дело, кажется, еще хуже. Обрадовавшись, что нашел
метафизическую сущность, Соловьев уже готов видеть ее повсюду, лицом
к лицу, и расположен к вере в спиритизм. Притом он так болезнен, так будто
истощен — за него можно очень опасаться, — не добром кончит. А книжка его,
чем больше читаю, тем больше кажется мне талантливою. Какое мастерство
в языке, какая связь и сила! Непременно напишу об ней»4.
5 апреля 1877 г. Страхов пишет Толстому: «Вчера, т.е. 4-го, приходил ко
мне Вл. Соловьев, и, кажется, мы заведем с ним дружбу»5. Публичная
библиотека, где работает в это время Страхов, способствует сближению. Через две недели
он продолжает ту же тему: «С Вл. Соловьевым мы видаемся чуть не каждый
день, в Библиотеке, и я надеюсь, что мы очень сойдемся. Он, действительно,
хороший, как Вы пишете, но я так медленно понимаю людей!»6 А 18 мая он
заключает: «С Вл. Соловьевым я наконец подружился и надеюсь, что прочно.
Он очень мил, и, кажется, я ему понравился»7.
Из писем Соловьева к Страхову (ответные, к сожалению, утрачены) видно,
насколько тесными более десяти лет были их отношения. Соловьев не
стеснялся в эти годы обременять холостяка Страхова (подобно, кстати, Толстому
3 Страхов. Философские очерки. 1906. С. 339.
4 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 330.
5 Там же. С. 494.
6 Там же. С. 500.
7 Там же. С. 509.
472
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
и Достоевскому, да и прочим друзьям и приятелям) самыми разными
поручениями: «получить», «переслать», «взять в Департаменте мое жалованье» и т.п.,
как это принято между друзьями. В первом же письме, относящемся,
видимо, к 1877 г., Соловьев сообщает, что дал адрес Страхова для доставки своих
книг и, извиняясь за «злоупотребление», признается в теплых к нему чувствах:
«Простите, что так вами злоупотребляю, но в Петербурге вы для меня самый
интимный человек, и я на Вас смотрю как на родного дядюшку»8. А в 1883 г.
Соловьев прямо объясняется Страхову в любви: «Я Вас очень люблю, и мне
всегда бывает очень хорошо с вами»9.
Д. И. Стахеев, 16 лет деливший со Страховым квартиру у Театральной
площади, описывает посещения Соловьевым холостяцкого жилища Страхова
«в месяц раз или два», отмечая, что «он иногда, посетив нашу квартиру, вместо
беседы погружался в чтение подвернувшейся под руку книги, и погружался,
бывало, настолько глубоко, что даже не слышал обращенных к нему
вопросов»10. И. Е. Репин вспоминает о том, что видел Соловьева дома у Страхова,
о котором пишет: «Я познакомился с ним через Толстых и потому полюбил
всецело простоту его ясных больших глаз, и доброе, всегда бодрое настроение,
писал с него портрет и удостоился посещать его уютные вечера, на которые
очень большою приманкою был В. С. Соловьев. Он также любил Н. Н.
Страхова и имел к нему сердечное влечение; в беседах о литературе и науке они
тепло сближались, имея много общих вопросов (...) И Владимир Сергеевич
чувствовал себя как дома»11.
В одном из недатированных писем, точнее, записок, Соловьев
благодарит Страхова за квартиру — он останавливался там в отсутствие хозяина,
находившегося за границей. Любопытно, что Соловьев нашел в квартире один
«недостаток»: «...жил в ней прекрасно, только большое искушение от много-
книжия — в нем же нет спасения»12.
Страхов опекает Соловьева по праву опыта и старшинства, оценивает
его сочинения, посещает его лекции. Его беспокоит нарастание
сомнительных мистических тенденций в творчестве Соловьева. 15 марта 1878 г., после
очередной соловьевской лекции, где шла речь о Софии, он отмечает в письме
к Толстому уклон философа в гностицизм и его тяготение к эклектическому
слиянию разнородных духовных элементов: «Учение о Софии по справкам
оказалось гностическим, так же как и о божественном Христе, отличном от
человека Иисуса. Но я слишком мало знаю, чтобы говорить об этом. Да и все
8 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 1.
9 Там же. С. 15.
10 Стахеев Д. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний) // Ист. вестник. 1907.
Янв. С. 88-89.
11 Репин И. Е. Случайные впечатления от Владимира Сергеевича Соловьева // РГБ.
Записки отдела рукописей. М., 2004. Вып. 52. С. 161.
12 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 7.
473
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
лекции Соловьева представляют амальгаму уже существующих учений — вернее,
существовавших. Он а priori выводит то, что узнал а posteriori»13.
Ближе к концу лекций усиливаются негативные впечатления Страхова:
«Соловьева осталось дослушать только две лекции. Мне приходило в голову,
что это об мертвом предмете мертвым языком говорит мертвый человек. Такой
холод! Из немецкого идеализма он взял все приемы и все недостатки — общие
формулы, решение дела нахрапом, отвлеченность. Между тем немецкий
идеализм отжил и вот является в подобных воскрешениях, как Шопенгауэр в виде
Гартмана»14.
9 апреля 1878 г., после последней лекции Соловьева, Страхов делает
окончательный вывод об эклектизме и пантеизме воззрений философа: «Эта
лекция была очень эффектна. С большим жаром он сказал несколько слов
против гнусного догмата о вечных мучениях. Конечно, он готов был проповедовать
многие другие ереси, но, очевидно, не смел и выбрал этот догмат для того,
чтобы вполне ясно высказаться. Соображая теперь все его лекции, я вижу, что
он хотел произвести синтез Востока и Запада, слить в одну систему атомизм,
дарвинизм, пантеизм, христианство и т.д. Дать всему свое место. Задача хоть
куда, но, во-первых, она не исполнена, а во-вторых, не видишь и тени того
оригинального приема, который бы давал надежду, что ее можно исполнить.
(...) Выходит пантеизм, совершенно похожий на гегелевский, только с вторым
пришествием впереди. Каббала, гностицизм и мистицизм — внесли тут свою
долю»15. Таким образом, пантеизм, который к этому времени преодолел, по
собственному признанию, сам Страхов, он обнаруживает в иной форме во
взглядах Соловьева.
Но, несмотря на скептическую оценку теургических фантазий Соловьева,
впечатления критика были отрицательными далеко не всегда. Так, о
выступлении Соловьева в университете в ноябре 1880 г. Страхов пишет: «И вчерашняя
лекция была блистательна»16. Редкая интеллектуальная одаренность молодого
философа и общая идеалистическая направленность его взглядов по-прежнему
привлекают Страхова и делают Соловьева одним из самых интересных для
него современников.
В эти годы многое сближало их. Оба принадлежали к избранному
философскому кругу, которым в 1879 г. было принято решение об образовании
Философского общества. В 1877-1881 гг. Страхов и Соловьев вместе состояли
в Петербурге членами Ученого комитета и встречались на заседаниях. У них
был большой круг общих знакомых, включавший Толстого, Грота, Фета, Кире-
ева, Радлова, И. Аксакова. В 1880 г. они вместе побывали в имении Пустынька
13 Переписка Толстого у Страхова. 2018. С. 612.
14 Там же. С. 620.
15 Там же. С. 628.
16 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 584.
474
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
ф
под Петербургом у вдовы поэта А. К. Толстого Софьи Андреевны. Страхов
с Соловьевым настолько сблизились и так часто встречались у Страхова, что
несколько раз писали Фету совместные письма — Соловьев делал приписки
своим размашистым почерком к аккуратным письмам Страхова.
6 апреля 1880 г. Страхов присутствовал на защите Соловьевым докторской
диссертации «Критика отвлеченных начал»: «Через неделю, вчера, совершилось
наконец великое торжество — был диспут Вл. Соловьева на доктора философии.
Сам он был великолепен; так спокоен, прост, так мастерски говорил. К
несчастью, сильных возражений не было...»17
В начале 1880-х гг. Соловьев и Страхов «встретились» на страницах
сохранявшей славянофильские традиции «Руси» И. С. Аксакова. Это было время
их интенсивного общения. В 1881 г. Соловьев с интересом прочел в «Руси»
страховские письма о нигилизме; в 1883 г., после выхода второй книги «Борьбы
с Западом в нашей литературе», выражает благодарность за «прекрасную
книжку»18; выделив статью о Дарвине, нахваливает статью о Тургеневе и о «Вечерних
огнях» Фета, да и вообще «с большим удовольствием» читает всё, что выходит
из-под пера приятеля. Никакого «брюшного патриотизма» он в сочинениях
Страхова тогда не обнаруживал. В одном из писем он назвал даже Страхова
«первейшим литературным критиком»19.
Но подспудные расхождения становились все более заметными. В 1881 г.,
после убийства царя, Соловьев произнес свою знаменитую речь о смертной
казни, в конце которой убеждал, что царю в силу высшей правды следует простить
убийц. Присутствовавший на лекции Страхов, найдя ее холодной, отозвался
о ней отрицательно. Дело было прежде всего в тональности: одновременно
Страхов обнаружил в письме Толстого к царю на аналогичную тему «столько
чувства и горячего желания добра», что согласился ходатайствовать о передаче
письма императору.
5 ноября 1882 г. Страхов не без сожаления писал Данилевскому о
Соловьеве, отмечая его гегельянское «примирительство» и мистицизм с оттенком
гностической ереси: «Бесподобные силы, хорошая натура; но я всё думаю, что
он идет ложным путем. Он всё примиряет и всё объясняет. Я уже говорил ему,
что это дело старое, что так делал Гегель (...) и что известно, куда это ведет.
В сущности его писания (то есть Соловьева) еретические; для меня это ничего,
но для него очень дурно, потому что он не хочет быть еретиком». Позиция
самого Страхова несомненно ближе к православию, хотя в своих сочинениях он
уклоняется от выражения своих религиозных взглядов. Страхов имеет скромное
мнение о возможностях рационального ума и не стремится к созданию
собственной философской системы, как Соловьев: «Мир Божественный для нас
17 Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава; М., 2000. С. 150.
18 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 15.
19 Там же. С. 21.
475
Часть П. «Избранный собеседник избранных умов»
есть тайна, вот настоящее православное учение. Часть этой тайны нам открыта,
и мы поэтому знаем, что своим умом никогда не могли бы знать. А он всё это
хочет разгадать и привести в систему»20.
В июле 1883 г. он снова сообщает Данилевскому о Соловьеве: «Теперь он
пишет об искусстве, то есть не о простом искусстве, а о теургии, или
достижении человечеством способности истинного творчества, прямого чудотворения.
„Когда напишу, — говорил он мне, — вы, верно, просто махнете на меня
рукою"»21. Но, сообщая это явно не без иронии, Страхов досадует, что Соловьев,
вопреки ожиданиям, так и не появился у Фета в то время, когда сам он гостил
в Воробьевке, — погрязший в теософии мыслитель всё еще ему интересен.
Критиковать тяготение философа к отвлеченным теософским схемам
Страхов продолжал и в письме к И. С. Аксакову в 1884 г.: «Соловьев называет
себя мистиком; но он не мистик, а теософ. Он предается всяким построениям
божественного мира и судеб человечества. По-моему, это радость обманчивая,
хотя и очень увлекательная»22. При этом, однако, Страхов заявляет: «Соловьев
мне очень дорог, потому что разъяснил мне понятие Церкви. Он один
настоящий церковник, т.е. не только утверждает, что вне церкви нельзя спастись, но
и ясно понимает, почему это так». Это высказывание Страхова о «церковности»
Соловьева справедливо подвергалось критике православными исследователями,
но это лишь частное высказывание, говорящее о стремлении Страхова к
объективности и терпимости.
Страхов действительно был весьма либерален как в религиозном, так
и в политическом отношении, подобно, впрочем, большинству примыкавших
к славянофильскому движению. Недаром Страхов вместе с Аксаковым
одобрили статью Соловьева, содержавшую острую критику консервативных идей
М. Н. Каткова с его культом сильной власти, отразившихся в программе
Министерства народного просвещения. По выраженному в статье мнению,
министерская программа есть только «единовластие петербургской бюрократии
под предлогом самодержавия»23. Страхов, как передает Соловьев, будто бы
даже сказал об этой статье, что «она есть вполне точное выражение истинно
православного взгляда и потому не должна иметь личной подписи: „пусть она
выражает нашу общую мысль!44»24 Напечатанная Аксаковым в «Руси» (1885,
№ 11, 14 сент.) статья Соловьева «Государственная философия в программе
Министерства народного просвещения» за двусмысленной подписью П. Б. Д.
вызвала гневный отзыв «Московских ведомостей». Эта статья при всем ее
либерализме действительно была славянофильской по духу, но Соловьев, как
20 Рус. вестник. 1901. Февр. С. 460-461.
21 Там же. С. 467.
22 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 120.
23 Соловьев. Сочинения. 1989. Т. 2. С. 183.
24 Там же. С. 632.
476
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
выяснится очень скоро, шел в своем «свободолюбии» гораздо дальше
разделявших ее пафос Аксакова и Страхова.
Верный дружбе, Страхов долгое время был еще достаточно терпим к
Соловьеву и после ставшего очевидным тяготения его к католицизму. Он продолжал
помещать статьи Соловьева в «Известиях Санкт-Петербургского Славянского
благотворительного общества», где состоял редактором, даже после ссоры
апологета «всеединства» со славянофилами и ухода из аксаковской «Руси».
Впрочем, и сам Аксаков, один из наиболее близких в это время к Страхову
людей, всё еще благоволил к закусившему удила Соловьеву. Аксаков также
был готов публиковать статьи Соловьева, но «только без известной тенденции,
не о Риме, который он почитает быть вечным, не о феократии»25. Но именно
Страхов опубликовал ряд важных полемических статей Соловьева периода
разрыва со славянофильским движением. Со взглядами Соловьева Страхов
согласен не был и поэтому сопровождал его публикации, в которых уже явно
звучали прокатолические симпатии, обширными замечаниями от редакции,
собственными или А. А. Киреева. Страхов объяснял свою редакторскую
позицию тем, что вопрос о католичестве подлежит не замалчиванию, а обсуждению:
«Мы дали место статье г. Соловьева уже и потому, что она, во всяком случае,
принадлежит к числу статей, расширяющих кругозор, приучающих читателей
к важному вопросу, разрывающих заколдованный круг молчания. Католичество
жестоко ославило себя; мы справедливо его чуждаемся. Но неужели до такой
степени, что не можем уж и рассуждать спокойно?»26
Однако чрезмерная широта взглядов, проявленная Страховым, была
воспринята более ортодоксально настроенными членами Совета Славянского
благотворительного общества как редакторский «либерализм» и решительно
пресечена. Соловьев в 1885 г. сообщал брату, что Страхов был вынужден
покинуть место редактора «Известий Славянского благотворительного общества» за
помещение его статьи: «Страхов приехал: его выгнали из редакторов
„Славянских) Извест(ий)" за мой ответ Д(анилевско)му. Ламанский объявил ему: или
вы выходите из редакторов, или мы все выйдем из Совета общества»27. Итак,
Страхов даже пострадал из-за сочувствия Соловьеву (вернее, конечно, из-за
терпимости к иным воззрениям и убеждениям). Подобной широты взглядов
со стороны Соловьева во время их приближающейся «сшибки» мы не увидим.
Нарастающее увлечение Соловьева католичеством пока не
препятствует их дружескому общению, хотя Страхову оно, конечно, очень не нравится.
2 января 1885 г. Страхов сообщает Фету: «Сегодня зашел Соловьев, бодрый,
веселый, так что я порадовался. Впрочем, он сидит рядом со мною каждый день
в Библиотеке — что мне очень приятно. Читает он акты Вселенских соборов,
25 Аксаков — Страхов. Переписка. С. 145.
26 Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва. 1884. Март. С. 27.
27 Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 104.
477
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
к нему часто заходит католик Гезен — и всё это мне представляется чем-то
опасным. — Часто вспоминаем и об Вас и читаем друг другу Ваши письма»28.
О встречах в библиотеке с Соловьевым, увлеченно штудирующим
источники для своего прокатолического бунта, Страхов писал также С. А. Толстой
и Н. Я. Данилевскому.
* * *
Но разногласия во взглядах, существовавшие всегда, доходят наконец
и до открытой полемики. Серьезная размолвка произошла между философами
в начале 1887 г. из-за книги Страхова «О вечных истинах. (Мой спор о
спиритизме)». Страхов доказывал невозможность явлений медиумизма, так как
они противоречат законам механической физики и математики, действующим
в пределах природы. Спиритические духи не могут отменить непреложных
физических истин. Дух ошибочно представляется спиритам от науки «в виде
тонко-материального, но одушевленного существа»29, и сам спиритизм есть
«грубейшее овеществление духовных явлений». Соловьев, однако, посчитал
что рационалистическая аргументация Страхова не выдерживает критики,
так как отвергает возможность религиозного чуда и обвинил его в...
механистическом материализме: «Ваша аргументация имеет силу (если имеет) также
и против всяких чудес (...)—т.е. против религии. Религии без ангелов и чертей
не бывало и не бывает»30. Страхов за это очень обиделся: Соловьев, прекрасно
знавший о его идеалистических взглядах, выставил своего давнего приятеля
адептом вульгарного материализма, нарочито игнорируя суть его философского
обоснования антиспиритизма. Страхов, как и в других своих сочинениях, не
указывает главного: что он ведет исследование в пределах лишь чисто
научного, рационального объяснения явлений спиритизма, отрицая эмпирический
подход его оппонентов из числа спиритов, которые претендовали именно на
научность своих доказательств медиумических фактов. И в своем опровержении
спиритических чудес как ненаучных Страхов был вполне доказателен. Он
доказывал, что «нельзя искать чудес, откровений, иррационального в математике
или в механике»31, то есть в мире опытного знания — и только. Ему следовало
бы, вероятно, более акцентированно указать, что вопрос о чудесах находится за
пределами эмпирической науки и принадлежит к сфере религии. Он же, по
своему обыкновению, не стал распространяться на тему религиозных чудес,
ограничившись лишь намеком, который, впрочем, был вполне прозрачен: «Чудеса,
которым нам нужно дивиться, и силы, перед которыми следует преклоняться, не
28 ОРИРЛИ. П. III. Оп. 1. № 2072. Л. 546.
29 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 290.
30 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 31.
31 Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 393.
478
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
»
там, где ищет их спиритизм; они гораздо ближе, они всегда вокруг нас и с нами.
Есть старинное учение, что та же дверь, которая ведет в глубину нашего сердца,
ведет и в область божественных сил. Это — прекрасное и истинное учение; на
этом пути нужно искать Бога.. .»32
Для какого-нибудь менее искушенного в богословии читателя этих слов,
прямо указывающих на то, что духовную истину надо искать в вере, а не в
спиритических «ученых» предрассудках, возможно, было и маловато. Страхову
следовало выйти на более высокую ступень аргументации — дать в
дополнение к научному доказательству еще и более прямую, развернутую отсылку
к религии. Но Страхов, как обычно, руководствуясь принципом, что вопросы
личной веры не подлежат обсуждению в литературно-философских сочинениях,
не дерзнул развернуть свое богословское мнение глубже и ограничился лишь
данным кратким рассуждением. Но в целом книга «О вечных истинах», более
чем, пожалуй, любая из книг Страхова, пронизана религиозным духом. Как
пишет сам Страхов, он, сдав вышедшую свою книгу в магазин, «испытывал
очень благодушное настроение»: «Беспрестанно мне приходила мысль о
возвышении к Богу.. .»33
И вдруг размышлявший о «вечных истинах» Страхов получает от
Соловьева письмо, в котором тот обвиняет его в... материализме, в выступлении
«против всяких чудес и против самого существования невидимых духовных
деятелей — т.е. против всякой религии»34. Соловьев же, готовый для победы
в споре на любые уловки, сделал в печатной полемике вид, будто не заметил
приведенный нами важный пассаж Страхова о чудесах вне спиритической
практики. Он стал трактовать метод доказательства Страхова, направленный
как раз против вульгарной и псевдонаучной, скрыто материалистической
«мистики» спиритизма, как рационалистическую логику, логику
механистического материализма. Благодаря этим уловкам для читателя, не
слишком вникшего в точку зрения Страхова (а часто и вообще с его статьями не
знакомого), казуистическая аргументация Соловьева, утверждающего, что
из взглядов Страхова якобы вытекает невозможность христианских чудес,
внешне выглядит весьма убедительной, хотя она ни в коей мере не
соответствует действительности. Подлинная причина такого демонстративного
«непонимания» крылась в том, что сам Соловьев, увлекавшийся, как
известно, в молодости спиритизмом, имел слабость к оккультной практике вполне
материалистического «ощупывания» запредельного. Кроме того, Соловьев,
как видно из множества аналогичных случаев, любил такие
психологические провокации, когда оппонент вынужден был оправдываться в том, в чем
никак не был виноват.
32 Страхов Н. О вечных истинах: (Мой спор о спиритизме). СПб., 1887. С. 70.
33 Фет и его окружение. Т. 2. С. 432.
34 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 31.
479
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$>
Неудивительно, что против страховских доказательств ложности
спиритизма выступил с докладом также и друг Соловьева кн. Д. Н. Цертелев, в
молодости активно практиковавший вместе с ним столоверчение. Но поражает то,
что после коллективного обсуждения «Вечных истин» в доме Фета в Москве,
согласно письму поэта, Соловьева будто бы поддержал в критике «лживой,
лукавой книги, проповедывающей чистейший материализм»35 и Грот. А Фет,
выразив в начале письма свои «восторги и восхищения от Вечных истин»,
добавил от себя в конце письма нелепую приписку о книге, которая только усилила
негодование Страхова на друзей, заподозривших его в лицемерии. Фет писал
Страхову: «Если она преднамеренно в этом смысле лукава, то тем сильнее мне
хочется обнять вас как умницу, умеющего защитить свое чадо»36. Возмущению
Страхова не было предела: «Стыдно Соловьеву подумать, что я лгу, да стыдно
и Фету поверить такой мысли. (...) Первое мое желание было — разорвать
всякие отношения с ними...»37 Но Грот, как можно судить по его письму, в то
время книгу еще не читал, а через три недели он сообщал Страхову из Москвы,
что прочел «О вечных истинах» в один присест и «пришел в восторг»38. Нечего
говорить, что значительная часть менее искушенных читателей встала на
сторону авторитетного Соловьева.
* * *
Не имея больше возможности публиковать свои прокатолические статьи
в славянофильских изданиях, Соловьев после некоторых колебаний в 1887 г.
окончательно обосновался в западническом либеральном «Вестнике Европы»
М. М. Стасюлевича. Его идеи при этом очень быстро радикальным образом
переменились: проповедь теократической фантазии о вселенском религиозном
примирении и объединении христианского человечества под властью римского
папы и русского царя сочетается теперь у Соловьева с неприязненным
отношением ко всему, что способствовало росту самостоятельности русской культуры.
В 1890 г. «Вестник Европы» вынужден был начать первый номер с
печатания распоряжения министра внутренних дел о первом предупреждении,
вынесенном журналу 15 декабря 1889 г. А причиной сурового министерского
постановления был не кто иной, как приятель Страхова Вл. С. Соловьев,
вступивший к тому времени в полемику с ним. Предупреждение касалось, собственно,
тех самых радикальных изменений во взглядах Соловьева, которые привели
в дальнейшем к его полному разрыву со Страховым. В правительственном
постановлении отмечалось: «.. .статьи В. Соловьева „Очерки из истории русского
35 А. А. Фет и его окружение. Т. 2. С. 432.
36 Там же. С. 432.
37 Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 733.
38 ОРРНБ. Ф. 747. Ед. хр. 13. Л. 1.
480
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
—■$>
сознания", появившиеся на страницах этого издания, раздражительной
критикой, направленною против русской Церкви и Государства в историческом их
развитии внушают ложные о них представления и колеблют уважение к
основам их, и вообще к принципу русской национальности»39. Это
предупреждение властей косвенно показывает, что Соловьев, нападая на Страхова как на
«миниатюру современной России», в действительности нападал в его лице на
самостоятельную русскую философскую мысль, на независимое национальное
самосознание как таковое.
Страхов отозвался на это нашумевшее в мире публицистики событие
в письме к Фету от 16 февраля 1890 г.: «Теперь у нас после замолкающей
болтовни о „Сонате Крейцера" только и речей, что о Соловьеве. Думаю, что он
доволен, наделавши треску гораздо больше, чем сам ожидал. Уже месяц или
полтора, как я его не видал; патриоты его ошикали и освистали и теперь все
бранят, конечно, не без основания. К кому он пристал? На кого он работает?
Нужна неодолимая жажда шума, чтобы не видеть, что, затеявши поход против
„народного самочувствия" и соединившись для этого со Стасюлевичем, Пыпи-
ным и Спасовичем, он только подливает масла в огонь, так точно, как, порицая
православие, он содействует не соединению церквей, а пущему ожесточению
их друг против друга»40.
Очень точные и правильные слова, и тем не менее невольно
напрашиваются два «но». Во-первых, удивительно все-таки непоследовательно российское
правительство, которое всеми возможными мерами десятилетиями преследовало
славянофилов, а теперь, как казалось, с не меньшей энергией перешло к
преследованию янтмславянофильских сочинений, которые, видимо, справедливо
воспринимаются министром и как антиправительственные. Но как же тогда
относиться к тому факту, что через год те же статьи Соловьева, вызвавшие столь
высокое порицание, были снова напечатаны под вызывающим названием
«Славянофильство и его вырождение» в книге Соловьева «Национальный вопрос
в России» (Вып. 2)? Более того, на этот раз вообще никакого запрещения или
даже предупреждения от министра не последовало. К чему тогда было огород
городить? Получается, будто пресловутое «предупреждение» словно и было
сделано исключительно для того, чтобы послужить к вящему прославлению
дерзкого борца против «национальной исключительности» и «религиозной
нетерпимости» Владимира Соловьева, на что и указывал в своих полемических
статьях Страхов. Соловьев, само собой, был доволен, что цензура утихомирилась.
Удивительно еще и другое. Опять, как ив 1881 г., параллельно философу
выступает еще один хорошо знакомый Страхову бунтарь и пророк, автор только
что нашумевшей «Крейцеровой сонаты». Тут тональность Страхова разительно
меняется. То, что никуда не годится у Соловьева и вызывает лишь естественное
39 Вестник Европы. 1890. Янв. С. 1.
40 Фет и его окружение. Т. 2. С. 494.
481
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
=8'
скептическое осуждение, ибо за версту отдает тщеславием, — в случае Толстого,
наоборот, воспринимается Страховым как достоинство. Даже высказавшаяся
в «Крейцеровой сонате» «субъективность до последней крайности» с какой-то
немыслимой антиномичностью превращается тут же вдруг у Страхова в
«неотразимую объективность» и порождает только восторги. Даже само
пропагандистское влияние цензурных препон на искусственное, эфемерное возвеличивание
писателя, по достоинству оцененное в случае Соловьева, здесь, когда заходит
речь о «славимом и поклоняемом» Толстом, приветствуется поборником
«трезвости» самым решительным образом. «Сегодня я истинно утешился мыслью,
что цензура и разные его противники делают, очевидно, все возможное для того,
чтобы придать особенный вес и занимательность каждому его произведению»41.
Нет, все-таки когда в суждения Николая Николаевича вторгается душевная
привязанность, он начисто теряет свой хваленый «трезвый рассудок»! Насколько
проницательны и «трезвы» суждения Страхова о Соловьеве, настолько же слеп
Николай Николаевич в отношении своего кумира, нарастающей «угорелости»
которого он никак не желает видеть.
* * *
Что же касается Соловьева, то он открыто переходит на позиции борьбы
с патриотическими настроениями. К концу 1887 г. Соловьев начинает против
своего «друга» Страхова идейную «войну». Готовя нападение на Данилевского,
сочинения которого издавал Страхов, он, конечно, понимал, что затевает, но
почему-то надеялся при этом сохранить со Страховым прежние добрые
отношения. Стасюлевичу он пишет: «Приятель мой Страхов готовит 4-е издание
„России и Европы" Данилевского. Мой взгляд на это сочинение диаметрально
противоположен взгляду Страхова, и я готовлю обстоятельный разбор „России
и Европы", с присоединением некоторых замечаний и о „Дарвинизме", того
же автора. Я хотел было назвать свою статью „Философия пустых претензий",
но из уважения к памяти Данилевского, который в других отношениях был
почтенный и разумный человек, переменю заглавие. Когда этот разбор будет
готов, пришлю его Вам.. .»42 Чтобы не портить отношений, Соловьев
намеревается послать Страхову корректуру для устранения самых резких высказываний
и сообщает ему об этом, однако потом по решению Стасюлевича отказывается
от этого намерения.
Статья Соловьева «Россия и Европа» стала его первой значительной
публикацией в либерально-западническом «Вестнике Европы» Стасюлевича в
феврале 1888 г. Эта публикация положила начало многолетнему спору Соловьева
со Страховым. Она представляет собой рецензию на книги Н. Я. Данилевского
41 Фет и его окружение. 1.2. С. 494.
42 Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 32.
482
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
«Россия и Европа» и «Дарвинизм», а также на труд Страхова «Борьба с Западом
в нашей литературе». Соловьев «во имя вселенских идеалов» единого
человечества отрицает «ползучую» теорию культурно-исторических типов, созданную
Данилевским, как теорию национального эгоизма и отвергает утверждение
автора книги, что Россия составляет «особый культурно-исторический тип,
совершенно отличный от Европы»43. Отвергает он и мнение почитателей «России
и Европы», что эта книга есть «катехизис или кодекс славянофильства»44 (это
очередной скрытый укол Страхову — цитируется его статья). Соловьев осуждает
утверждение Данилевского о нашей внеевропейской культурной самобытности
как безнравственное и обвиняет автора «России и Европы» в том, что он «стоит
всецело и окончательно на почве племенного и национального раздора,
осужденного, но еще не уничтоженного евангельской проповедью»45. Отвергнув
и осудив саму концепцию культурно-исторических типов с нравственной
стороны, Соловьев пускается в рассуждения о «странностях и несообразностях»
книги, придирчиво ища в системе автора неточности и недоработки. Этим
изощренный полемист старался доказать несостоятельность труда с научной
точки зрения. Иронически отмечая, что в книге «Россия и Европа» не
обнаруживаются самобытные начала знания, которые будто бы, согласно взглядам
автора, должна явить русская наука, Соловьев объясняет это тем, что автор не
специалист и не вполне владеет материалом.
Перейдя затем ко второй книге Данилевского, «Дарвинизм», также
подготовленной к изданию под наблюдением Страхова, Соловьев начинает вроде
бы с комплимента автору как хорошо знакомому с предметами
рассматриваемой области ученому-естествоиспытателю. Но нужно знать Соловьева: его
похвала предваряет очередной ехидный выпад. Он упрекает Данилевского за
то, что и в этом случае «русский и притом славянофильский» критик не сумел
противопоставить английской теории «решение, ярко запечатленное русской
духовной особенностью»46.
Наряду с самим Данилевским резкой критике подвергается здесь и сборник
статей «Борьба с Западом в нашей литературе» «его восторженного
приверженца», как иронично выражается Соловьев47. Главный аргумент критики
Соловьева заключается в том, что хотя Страхов зорко выявляет и справедливо
критикует негативные явления духовной жизни современной Европы, в этом
нет никакой «борьбы с Западом». Подобные суждения, мол, мог бы высказать
«любой толковый европеец» из идейных противников позитивизма: «Если
наш автор отвергает немецкую и французскую „Жизнь Иисуса" на одинаковых
43 Соловьев. Сочинения. 1989. С. 337.
44 Там же. С. 335.
45 Там же.
46 Там же. С. 387.
47 Там же. С. 338.
483
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
основаниях с западными богословами, то при чем же тут борьба с Западом?
Если же он равно недоволен и отрицателями, и защитниками Евангелия на
Западе, то почему же бы ему не высказать прямо своего положительного взгляда
на христианство, взятого из той духовной области, в которой постоянно жил
и живет русский народ?»48 Соловьев верно нащупал слабое место Страхова: он
гораздо больше погружен в западноевропейскую культуру, чем любой другой
из славянофилов, и в его «Борьбе с Западом в нашей литературе» явно
недостаточно русской темы, «нашей литературы». Этот недостаток книги Страхова
бросался в глаза, и его отмечали многие. К. Н. Леонтьев, например, считал, что
книгу следовало было назвать «Самоосуждение Запада», но это не мешало ему
рекомендовать ее молодежи как очень ценное и самостоятельное произведение.
А вот Соловьев, ставший на путь полного отречения от славянофильства и
вообще отечественной философии, стремился прежде всего доказать, что у русской
национальной мысли не было и нет никакой «самобытности».
Расправившись с «Борьбой с Западом», Соловьев принимается за другую
книгу Страхова, «О вечных истинах», посвященную спорам со спиритами.
Этой теме Соловьев уже посвятил немало строк в своих письмах, и его
аргументация здесь мало изменилась: «Но всего менее соответствует заглавию
„Борьба с Западом" та часть сборника, которой автор придавал, по-видимому,
наибольшее значение, так как он потом распространил его и выделил в особую
книжку „О вечных истинах". Первоначально же это была статья о спиритизме.
Спиритизм, к которому наш автор относится безусловно отрицательно, есть
несомненно явление западное. Но что же такое те вечные истины, которыми
наш автор поражает это западное заблуждение, и откуда он их взял? Спиритизм,
затрагивая науку и философию, весьма близко касается и религии, и тут всего
уместнее было бы обратиться к той „духовной области, в которой русский
народ видит свою истинную родину", т.е., проще говоря, к области религиозных
верований русского народа»49.
В парадоксальной манере приписав автору книги «О вечных истинах»,
известному своей склонностью к органицизму, совершенно противоположное
ему «механическое мировоззрение», Соловьев делает еще более
парадоксальный (если не сказать лживый или даже наглый) вывод: «Итак, почтенный автор
„Борьбы с Западом" (...) является не только западником, но еще западником
крайним и односторонним»™. Вести серьезную полемику с таким беззастенчиво
искажающим мысль оппонентом, конечно, невозможно.
Соловьев выносит такой суровый «приговор притязаниям» Данилевского,
Страхова и всех славянофилов: «Вообще же, если у наших противников Европы
отобрать все, по праву принадлежащее идеям европейского просвещения, то
48 Соловьев. Сочинения. 1989. С. 390.
49 Там же. С. 391.
50 Там же. С. 392.
484
Глава 14. Страхов и В л. С. Соловьев
—■$>
на долю славянской самобытности с ее „лучшими началами" останутся только
хотя и чрезвычайно великие, но совершенно пустые и ничем не оправданные
претензии».
Но цели статьи Соловьева гораздо шире опровержения идей Данилевского
или Страхова: под видом критики их воззрений он стремится разделаться со всем
славянофильским направлением русской мысли, называя его представителей
«крайними выразителями нашего национализма».
Пытаясь развенчать славянофильство, Соловьев не брезгует подбором
цитат из сочинений Данилевского и Страхова о печальной судьбе национально
ориентированной мысли. Он ссылается, например, на пессимистические
сетования Страхова в статье-некрологе об И. С. Аксакове: «Увы! В истории нашего
литературного и умственного движения нет ничего печальнее судьбы
славянофильства, и такой долговременный опыт невольно приводит к заключению, что
и впереди этому учению предстоят одни горькие неудачи»51. Соловьев словно
задался целью подтвердить собственным примером справедливость такого
суждения Страхова. Эта обширная, фундаментальная по своему замыслу статья
Соловьева дает все предпосылки для печального вывода: Соловьев полностью
отрекается от принадлежности к русской культуре и русской философской
мысли и, по существу, примыкает к нигилистической традиции ее отрицания.
Расправившись со славянофильством как мировоззрением русского народа,
Соловьев, возомнив себя Гераклом, берется за ниспровержение всех
отечественных гуманитарных наук. Он отрицает наличие каких бы то ни было достижений
русской науки, философии, литературы и искусства и даже предпосылок для
них: «Итак, мы не находим никаких положительных задатков (...) для великого
будущего в области мысли или знания»52. Даже о философии, науке, которую он
сам представляет, Соловьев делает совершенно уничтожающий скептический
вывод: «...за последние два десятилетия довольно появилось в России более
или менее серьезных и интересных сочинений по разным предметам
философии. Но всё философское в этих трудах вовсе не русское, а всё, что в них
есть русского, ничуть не похоже на философию, а иногда совсем ни на что не
похожее. Никаких действительных задатков самобытной русской философии
мы указать не можем: всё, что выступало в этом качестве, ограничивалось
одною пустой претензией»53. В этой крайне пессимистической, чаадаевской или
даже печеринскои по духу статье со всей силой выразилось демонстративное
отпадение Соловьева от основного направления русской философской мысли.
Надо отметить, что по существу изложенных философом недостатков
развития русского просвещения Страхов был с Соловьевым согласен. Во многих
своих статьях он сетует на слабое развитие отечественной науки, философии,
51 Там же.
52 Там же. С. 349.
53 Там же. С. 345.
485
Часть П. «Избранный собеседник избранных умов»
вообще образования. Даже русской литературе, в которой мы достигли наиболее
заметных успехов, признанных и Европой, он посвятил книгу под названием
«Бедность нашей литературы» (1868). Но критика критике рознь. Если Страхов
болеет душой из-за слабости нашего развития, из-за недостатка
самостоятельности мышления, бездумного преклонения перед всем западным, то Соловьев
сознательно категоричен и демонически жесток: он фактически становится на
сторону идейных врагов русской цивилизации. Во времена Страхова такая
позиция отрицания всего отечественного получила название нигилизма, а в наши
дни подобные взгляды, отвергающие любые проявления национального начала
под жупелом «национализма», справедливо именуют русофобией.
В. В. Розанов также был до глубины души возмущен такой разительной
переменой, произошедшей с Соловьевым, которого он прежде считал наряду
с Достоевским «проповедником и пророком», разделявшим мысли гениального
писателя о высоком, в том числе религиозном, призвании России. Розанов
указывал в письме Страхову на места в сочинениях Соловьева, свидетельствующие
о радикальной перемене его взглядов по сравнению с прежними сочинениями:
«См. его „Три речи о Достоевском", а главное (ради Бога не забудьте), посмотрите
стр. 431 „Критики отвлеченных начал" от слов „третья сила, долженствующая
дать человеческому развитию его безусловное содержание, может быть только
откровением того высшего божественного мира, и те люди, тот народ, через
который эта сила имеет проявиться, должен быть посредником (курсив его) между
человечеством и сверхчеловеческою действительностью... (потом ищет, какой
это народ, и продолжает) а эти свойства, несомненно, принадлежат
племенному характеру славянства, и в особенности национальному характеру русского
народа", и пр. еще более интересное. Ради Бога, не позабудьте это посмотреть
(только 2 стр.). Кому я ни показывал это место, все, прежде спорившие,
говорили, помолчав: „Да, конечно, он теперь совершенно переменил свои мысли".
Для знающего дело, конечно, и без ссылок ясно, что он переменился, скверно,
позорно переменился, снизошел до плоской журнальной статейки...»54
Холодные, расчетливые строки заставляют Розанова написать в сердцах: «Не Чаадаев
он, а Рудин...»55 И даже воскликнуть во всеуслышание: «Смотрите, добрые
люди, он переменил миросозерцание»56.
Итак, Соловьев объявил русской мысли идейную войну Ввиду того что
Данилевский ответить Соловьеву уже не мог, на защиту автора «России и
Европы» встал его друг.
Страхов отвечает Соловьеву в июне 1889 г. большой разгромной статьей
«Наша культура и всемирное единство». Рассматривая статью Соловьева как
борьбу с «национальной исключительностью», Страхов показывает, что Соловьев
54 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 168.
55 Там же. С. 169.
56 Там же. С. 170.
486
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
пытается всеми силами «отнять у книги научное достоинство», но «сам он на
этот раз явился печальным образчиком немощи русского просвещения»57.
Последовательно разбирая все аргументы Соловьева, Страхов не оставляет камня
на камне от его доводов. Отстаивая положительный смысл понятия народности,
которое Соловьев называет «источником раздора», он опровергает тезис, что
человечество есть единый организм, а национальности — лишь его органы.
Особый интерес представляет ответ Страхова по поводу спиритизма,
дающий основание скорее говорить о «тонком материализме» самого
Соловьева: «...истинно печально видеть такое состояние понятий, как у г. Соловьева,
состояние совершенно однородное с тем, какое господствует у спиритов и
которым порожден сам спиритизм. Очевидно, дух представляется просто в виде
тонко-материального, но одушевленного существа, которое сидит в нашем теле,
как в мешке, или гуляет на свободе без этого мешка. Печально здесь то, что
таким образом искажается и теряется истинное понятие о духе (...) Соловьев
называет меня материалистом; между тем всё, что я писал по этому предмету,
было направлено именно к выяснению истинного понятия о духе. (...) я старался
о том, чтобы, установивши точные понятия о веществе, о вещественном мире,
показать полнейшую противоположность вещества духу и очистить само понятие
духа от малейшей примеси материалистических представлений. Вот почему
я и воевал со спиритизмом, который есть не что иное, как грубое овеществление
духовных явлений, почему он и нашел себе поддержку у натуралистов, давно
чуждающихся всякого философского образования»58.
Дальнейший ход полемики Соловьева и Страхова, продолжавшейся по
намеченному руслу еще довольно долго, в общих чертах широко известен —
главным образом, конечно, в трактовке несравненно более популярного создателя
теории «всеединства», чьи полемические статьи, составившие два выпуска книги
«Национальный вопрос в России», в начале «перестройки» были переизданы
огромным тиражом59. Но и страховская позиция отражена вполне адекватно,
в первую очередь — в книге В. В. Розанова «Литературные изгнанники» и
других его сочинениях. Гораздо хуже освещены в современной печати конкретные
детали личных взаимоотношений Соловьева и Страхова. По их ожесточенной
печатной полемике можно подумать, что они всегда находились на непримиримо
враждебных позициях. Однако это совсем не так.
Чтобы разобраться в существе этого далеко не устаревшего спора,
необходимо знать и сопутствовавшие ему обстоятельства. Прежде всего следует
57 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. С. 222.
58 Там же. С. 276-278.
59 Соловьев. Сочинения. 1989.
487
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
отметить, что Страхов апологетом «зоологического патриотизма», радикалом
от охранительства, как может представляться недостаточно осведомленным
читателям, вовсе не был. Он был типичным представителем патриотизма
просвещенного (или, если угодно, по соловьевской терминологии, «патриотизма
примирительного», который Соловьев не без остроумия противопоставлял
«истребительному патриотизму» Каткова и Грингмута)60. Страхов бережно
воспринял возвышенные заветы свободолюбивого славянофильства и
неуклонно отстаивал эту свою позицию. Да хотя бы тот факт, что почтенный критик
и философ ходил в близких друзьях всё более впадавшего тогда в ересь Льва
Толстого (хотя «толстовцем» Страхов, опять же, никогда не был), говорит о том,
что считать его «миниатюрой» консервативной России, как это пытался в
полемических целях представить Соловьев, было большой натяжкой.
Во времена этой полемики Соловьеву было достаточно намекнуть на
«реакционность» взглядов Данилевского и Страхова, чтобы снискать восторженное
понимание либеральной читательской публики. Сейчас времена иные. Наше
интеллектуальное общество разделено и в значительной степени поляризовано.
У части мыслящего общества консерватизм ныне в большой моде, но отнюдь
не в той умеренно-патриотической форме, каким его исповедовал Страхов.
Его чаще порицают теперь за либерализм и преклонение перед Толстым, чем
за «обскурантизм». У Страхова сегодня несравненно меньше сторонников,
нежели, скажем, у сумрачного апологета «византизма» Леонтьева или того же
Данилевского, «акции» которого поднялись настолько, что его иногда считают
теперь чуть ли не учителем Страхова. И едва ли не первым, кто уколол Страхова,
называя Данилевского его учителем61, был Соловьев, а уж он-то как никто знал,
что Страхов, по меньшей мере столь же образованный и глубокий, ни в коем
случае учеником Данилевского не был. Когда Соловьеву надо было показать
отличие Данилевского от славянофилов, он характеризовал его совсем не похожим
на Страхова: «Эмпирик и реалист по складу своего ума, естествоиспытатель
и практический деятель, Н. Я. Данилевский был чужд и поэтического
идеализма, и поэтической фантазии, резко отличаясь этим от главных славянофилов,
большей частью поэтов, воспитанных на гегелевской диалектике»62.
П. П. Перцов, который также ошибочно видел автора «России и Европы»
«духовным вождем» Страхова, был всё же гораздо точнее Соловьева, когда тут
же назвал Данилевского «твердой волевой основой его (Страхова. — В. Ф.)
интуитивной зыбкости»63. Но как раз из-за того, что по натуре сам Страхов был
совсем иной, смелая защита уязвляемого Соловьевым и другими либералами
60 Соловьев. Сочинения. 1989. Т. 1. С. 483.
61 Там же. С. 533, 539.
62 Там же. С. 337.
63 Перцов П. П. Основания космономии. Ч. 1. Отд. 1. Гл. IV. [Первые] восточники
[(«славянофилы»)] / публ. А. И. Резниченко // Энтелехия. 2009. № 19. С. 93.
488
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
Ф
(и действительно, кажется, уязвимого) Данилевского характеризует его прежде
всего как настоящего бойца и верного друга.
* * *
Несмотря на явные идейные разногласия, Соловьев продолжал посещать
Страхова и даже обременять по старой привычке поручениями. Так, в октябре
1888 г. Соловьев посылает ему для раздачи общим знакомым экземпляры своей
совершенно неприемлемой для Страхова по содержанию брошюры «L'Idee
russe» и только потом спохватывается, осознав свою бесцеремонность, и просит
передать брошюру Стасюлевичу.
А вскоре, в ноябре 1888 г., Соловьев из Загреба поясняет Стасюлевичу,
почему он намерен «изобличить восточные грехи» Страхова: «.. .я нашел в
одном журнале известие об ответе Страхова на мою „Россию и Европу". Это меня
очень интересует, а отчасти и Вас касается, ибо за невозможностью писать
прямо о грехах России, я мог бы написать у Вас о грехах Страхова, что в
сущности все равно, так как в Страхове я вижу миниатюру современной России»64.
Аргументация выступления против Страхова та же, что и против Данилевского:
«.. .в последнее время и в известных кругах Страхов стал пользоваться чуть ли
не авторитетом, и изобличить его восточные грехи дело, по-моему, не
бесполезное, хотя и очень скучное»65.
У Соловьева было очень своеобразное представление о дружбе и не менее
странное чувство юмора. 16 декабря 1888 г. он высказывает брату Михаилу
в присущем ему полушутливом тоне странные и самоуверенные
предположения: «Например, Страхов, которого я люблю, но которого всегда считал свиньей
порядочной (?! —В. Ф.), нисколько меня не озадачил своей последней мазуркой,
и хотя я в печати поругал его как последнего мерзавца, но это нисколько не
изменит наших интимно-дружеских и даже нежных отношений»66.
Соловьев намеревался и дальше «дружить» со Страховым. А сам из
Загреба писал брату Михаилу в 1888 г.: «...нашел между прочим 1) известие
о какой-то статье старого кота Страхова против меня»67. Напомню, однако,
что, помимо угасающей дружбы, на продолжение которой рассчитывает
Соловьев, его критический пыл могло бы поумерить хотя бы то обстоятельство,
что «старому коту» было уже 60 лет, а ему в январе 1888 г. исполнилось лишь
тридцать пять, и по возрасту он годился Страхову в сыновья. Розанов, между
прочим, высказывал даже весьма правдоподобное предположение о
психологической первооснове такого поведения Соловьева при разрыве: «Со Страховым
64 Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 39.
65 Там же. С. 39^*0.
66 Там же. С. 118.
67 Там же. С. 117.
489
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—ф
он разошелся жестко, неуклюже: едва ли не от того он и разошелся с ним так
неумело, что ранее состоял в застенчивом положении ученика»68.
Кому-нибудь сами по себе общие положения Соловьева о нравственной
ущербности национального эгоизма могут показаться вполне справедливыми.
Несомненно, что обостренные национальные чувства без смягчающего
влияния христианской морали действительно способны породить опасные явления.
И Соловьев выплеснул всю нехитрую аргументацию, лукаво основанную на
этом тезисе, против книги Данилевского, с пафосом обвиняя ее в национализме,
«варварском макиавеллизме» и т.п. Страхов же утверждал, что «общий смысл
наставлений Данилевского — дружелюбный» и что он показал себя в книге
«истинно христианским писателем»69, хотя, может быть, не слишком
убедительно мотивировал это. Кстати, Страхов справедливо отмечал: Данилевский
доказывает только, «что Европа нам враждебна, но ему и мысль не приходит
сказать (...) что и мы должны быть враждебны Европе»70.
В апелляции ко «вселенской» религии и «единому человечеству»
Соловьев отказывался признать самоценность отдельных национальных культур.
Этот очень сомнительный тезис отвергал еще Аполлон Григорьев, который
писал, что идея человечества как единого организма — полная чепуха. Но
совершенно очевидно, что чем индивидуальнее, разнообразнее эти культуры,
тем богаче мировая культурная «сокровищница», вбирающая эти достижения
не в обезличенном виде, а в их конкретно-исторической, национальной форме.
Сейчас, в эпоху глобализма, когда устрашающими темпами идет нивелирование
национального своеобразия, особенно остро воспринимается сомнительность
соловьевской пропаганды «вселенских», «общечеловеческих» начал в культуре
и религии.
Выступая против национального эгоизма, Соловьев апеллирует к
христианскому нравственному идеалу и противопоставляет национализму понятие
«народности». Однако и исповедовавших «народность» ранних славянофилов,
которых он будто бы противопоставлял представителям «новейшего
зоологического патриотизма»71, Соловьев в конце концов называет «родоначальниками
нашего национализма»72. И создается впечатление, что этот жупел «повального
национализма» выставлен им только в тактических целях, — на самом деле
борьба ведется против национальных начал вообще и против православия, то
есть против «русскости». Показательно, что Соловьев вознамерился бранить
книгу «Россия и Европа» не тогда, когда она вышла в свет, а после
сокрушительной критики Данилевским тяготения философа к католичеству и папизму.
68 Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М, 1996. С. 476.
69 Страхов. Борьба с Западом. Кн. З.С. 189, 191.
70 Там же. С. 192.
71 Соловьев. Сочинения. 1989. Т. 1. С. 445.
72 Там же. С. 469.
490
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
Он не мог простить Данилевскому то, что в статье «Владимир Соловьев о
православии и католицизме» автор «России и Европы» с твердостью, присущей
его творческой манере, показал, что Соловьев принял «явно и открыто сторону
римского католичества»73.
Соловьеву, выступившему в роли пророчествующего обличителя
болезненного духовного состояния России, полемизировать в православной стране
было, конечно, трудно. Не имея возможности открыто критиковать
восточную «схизму», он избрал сомнительный путь перенесения своих обвинений
на конкретное сочинение, которое ныне по заслугам признано выдающимся
произведением русской историософской мысли. Поэтому сама апелляция
Соловьева в критике «России и Европы» к религиозно-нравственным началам
представляется весьма искусственной.
Страхов, выступив в защиту книги Данилевского, в силу созерцательности
своей натуры вовсе не был расположен пускаться в подобные дискуссии, тем
более что они отвлекали от собственных тем. Но вступиться за близкого друга,
создателя теории культурно-исторических типов, было для Страхова просто
делом чести. Страхов заведомо обрекал себя на бесславную роль в споре со
столь блестящим полемистом и чрезвычайно одаренным философом, на стороне
которого к тому же были почти вся печать и общественное мнение. Соловьеву,
самонадеянно присвоившему себе миссию ниспровержения книги, которая, по
его мнению, стала «кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить
Россию и уготовить путь грядущему антихристу»74, была совершенно непонятна,
как он пишет, «слабость» Страхова к этому сочинению. Но Страхов, меньше
всего думавший в данном случае о собственных интересах, вышел из этого
будто бы проигранного спора с ореолом исключительного благородства. Он
отстаивал идеи Данилевского как свои собственные — до оговорок ли о своих
расхождениях с покойным другом было в пылу борьбы скромному кабинетному
затворнику? Мог ли он пускаться в разъяснения о себе, о различиях в воззрениях
с Данилевским, человеком очень близким, но совершенно не признававшим
умозрения, когда пытались осквернить его память, тем более что в
воинствующей антинациональной позиции Соловьева Страхову (и далеко не ему одному)
также виделось, если использовать эсхатологическую терминологию философа-
теурга, веяние «духа Антихриста», угроза «погубить Россию»! Соловьев же от
критики Данилевского и осуждения безнравственной «мании национализма» как
«господствующего заблуждения наших дней»75 постепенно дошел до абсурдных
73 Данилевский Н. Горе победителям. М., 1998. С. 337.
74 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 60.
75 Соловьев В. С. О грехах и болезнях // Соловьев. Сочинения. 1989. Т. 1. С. 516.
491
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
'=»
обвинений самого Страхова в «восточной болезни» с использованием расхожих
жупелов либерализма: «равнодушие к истине и презрение к человеческому
достоинству, к существенным правам человеческой личности»...76
Призывы Соловьева к истине и нравственности примечательны по
своему поразительному несоответствию существу дела. Парадокс ситуации в том,
что Соловьев действительно вел себя в этом споре как публицист, если не
сказать как спортсмен (сам Страхов видит в нем «актера, чем-то
одурманенного»)77,— он не столько доказывал истину, опираясь на научные факты, сколько
стремился фейерверком эффектных для читательской публики ходов, которые
ему счастливо подкидывала щедро одаренная творческая натура, непременно
взять верх, одолеть соперника. Главным оружием у него был уже
отработанный в либерально-нигилистической литературе и безотказно действовавший
прием намеков на ретроградность оппонента, дополнительным — стремление
во что бы то ни стало доказать неоригинальность, заимствованный характер
идей Данилевского.
Поведение Страхова было совершенно иным. Как настоящий мыслитель,
он с присущей ему добросовестной основательностью ученого подбирал факты,
строил логические доказательства, рассчитывая не на сиюминутный успех, а на
доводы разума и торжество истины. Недостатком Страхова было то, что в своих
спорах он слишком часто опирался на цитаты, а это, конечно, утяжеляло его
аргументацию. В научном сообществе такой стиль ведения дискуссии
общепринят, но при «летучей» журнальной полемике, где на кону стоят идейные
интересы, тяжеловесные доказательства существа дела заведомо обречены.
Однако в исторической перспективе подобная реально обоснованная позиция
имеет несравненно более прочный фундамент для успеха.
Поэтому ответ на вопрос о победителе в этом споре далеко не очевиден,
и ход полемики, в которой внешне верх с явным преимуществом взял Соловьев,
нуждается в более тщательном анализе. Соловьев как полемист не слишком
симпатичен именно своим пророчески-инквизиторским тоном, уклонением от
прямого поединка с реальными аргументами. Поведение же более
сдержанного в своих суждениях и, может быть, более скромного в своих дарованиях
Страхова было самоотверженным и мужественным. Хорошо сказал об этой
стороне спора В. В. Розанов: «Страхов не был гений. Но он вот как „комендант
Белогорской крепости" („Капитанская дочка"): тоже стоял верно и честно на
страже той науки, философии, литературы, какую знал и какая была. (...) Что
он был „не гений" — до этого было мало дела Соловьеву, это было „тем
лучше" для него. Но его голубиная чистота в небольшом деле измучила „великого
публициста" и „мирового философа"...»78
76 Соловьев. Сочинения. 1989. ТА. С. 530.
77 Толстой — Страхов. Переписка. Т. 2. С. 773.
78 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 110.
492
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
—■$>
* * *
В конце 1888 г. Соловьев пишет Стасюлевичу из Загреба о замысле статьи,
которая станет известна под названием «Славянофильство и его вырождение»:
«.. .у меня есть в мысли еще другая статья — вполне цензурная: о распадении
славянофильства. На мой взгляд, старое славянофильство было смешеньем
нескольких разнородных элементов, и главным образом трех: византизма,
либерализма и брюшного патриотизма (...) брюшной патриотизм,
освобожденный от всякой идейной примеси, широко разлился по всем нашим низинам,
а из писателей индивидуальных представителем его выступил мой друг
Страхов, который головою всецело принадлежит „гнилому Западу" и лишь живот
свой возлагает на алтарь отечества»79. Таким образом, «приятель» или даже
«друг» Страхов становится постепенно для Соловьева главным и чуть ли не
единственным представителем враждебного ему «брюшного патриотизма».
Для объективного читателя говорить о «брюшном патриотизме» в отношении
добродушного и деликатного Страхова — умеренного консерватора, а порой
и почти либерала — так же смешно, как и утверждать, будто он «готов родину
предать»80 в своем увлечении Европой.
Но сочетать приятельские отношения с обменом словесными
«тумаками» для Соловьева норма. Труднее все-таки понять «всепрощение» Страхова,
который, узнав об очередном неприлично грубом и одновременно лукавом
полемическом выпаде оппонента, еще надеется на сохранение добрых
отношений: «Отвечать едва ли нужно, и думаю, что эта полемика нас не поссорит
навсегда»81. Главная причина этого, думается, в том, что, несмотря на все
расхождения, между Соловьевым и Страховым оставалось много общего.
Слишком мало было в то время людей, с которыми он мог вести разговоры на
такие отвлеченно-философские темы, как, например, о проблемах гносеологии,
о времени и пространстве, о сознании. Любопытно мнение В. И. Алексеева,
человека совсем других, радикальных взглядов, встречавшегося в Ясной Поляне
и с Соловьевым, и со Страховым. Он сравнивал их по уровню образованности:
«По своему образованию он много походил на Н. Н. Страхова, но в нем не было
того добродушия и чистосердечия, чем очень подкупал Страхов»82. В. И.
Алексеев считал Соловьева, симпатии которого были на стороне католического учения,
человеком книжной мудрости, который жил одной головой, вне действительной
жизни. Алексеев приводит слова Страхова о том, что Соловьев, в сущности, не
самостоятельный мыслитель: «Н. Н. Страхов говорил, что В. Соловьев не мыслит
79 Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 40-41.
80 Захаров В.Я. Полемические заметки Ф.М.Достоевского о Н.Н.Страхове // Рус.
литература. 2018 № 4. С. 63.
81 Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. С. 216.
82 Алексеев В. И. Воспоминания // Л. Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения: (1828—
1948). М., 1948. Т. 2. С. 281. (Летописи Гос. лит. музея; Кн. 12).
493
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
и не говорит серьезно, а в сущности, только забавляется мыслями и словами.
Он тогда только хорош, когда развивает чужие данные»83. Очень точно сказано
о человеке, который находит возможным абсолютно беспочвенно обвинять
Данилевского в плагиате.
Соловьев и Страхов во время спора, принимавшего всё более острый
характер, удивляли всех стремлением сохранять дружеские отношения. На
время они даже прекратили свой спор (опубликованная в январе 1889 г. статья
тяготившегося полемикой Страхова имела название «Последний ответ
Соловьеву»). Соловьев, правда, рассматривал прекращение Страховым полемики
как свою победу.
Но когда-то такие странные отношения «дружбы-вражды» должны были
закончиться. В августе 1890 г., когда Страхов возвращался с юга через Москву,
состоялась их вполне дружеская встреча с Соловьевым и Цертелевым, и
добродушный Страхов несколько растаял от теплого общения. В том году Страхов
выпустил переиздание второго тома «Борьбы с Западом», включив в него без
купюр свои первые полемические статьи, и Соловьев, восприняв это как вызов,
написал новую, крайне резкую статью «Мнимая борьба с Западом». Испытав
шок от неожиданного нападения «друга», Страхов, естественно, посчитал
статью коварным и неблаговидным поступком. Оправдательное письмо Соловьева
несколько запоздало: «Я хотел и не успел перед Вашим отъездом сказать Вам
о своей полемической статье, которая на этих днях должна появиться (или уже
появилась) в „Русской мысли", если только не вмешалась цензура. Хотя мне
пришлось многое у вас одобрить, а за кое-что и горячо похвалить, но в общем,
конечно, Вы будете недовольны. Что ж делать?»84 По контрасту со смиренным
началом письма особенно бросаются в глаза наивно-дерзкие строки: «В этом
споре из-за „России и Европы" последнее слово во всяком случае должно
остаться за мной — так написано на звездах».
Далее Соловьев излагает свое полемическое кредо: «Книга Данилевского
всегда была для меня ungeniessbar85, и во всяком случае ее прославление Вами
и Бестужевым кажется мне непомерным и намеренным преувеличением. Но
это, конечно, не причина для меня нападать на нее, и вы, может быть,
помните, что в прежнее время и из дружбы к Вам даже похваливал мимоходом
эту книгу, — разумеется, лишь в общих и неопределенных выражениях. Но
вот эта невинная книга, составлявшая прежде лишь предмет непонятной
слабости Николая Николаевича Страхова, а чрез то бывшая и мне до некоторой
степени любезною (курсив мой. — В. Ф.), — вдруг становится специальным
кораном всех мерзавцев и глупцов, хотящих погубить Россию и уготовить
путь грядущему антихристу. Когда в каком-нибудь лесу засел неприятель, то
83 Алексеев В. И. Воспоминания. Т. 2. С. 281.
84 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 59.
85 Неприемлемой, поганой {нем.).
494
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
вопрос не в том, хорош или дурен этот лес, а в том, как бы его получше
поджечь. (...) Вы смотрите на историю, как китаец-буддист, и для вас не имеет
никакого смысла мой еврейски-христианский вопрос: полезно или вредно
данное умственное явление для богочеловеческого дела на земле в данную
историческую минуту!»** Неудивительно, что после такой велеречивой
декларации возмущенный до глубины души Страхов также не мог не принять на
себя «обязанность» выступить в защиту дорогих ему идей, хотя продолжения
спора ему очень не хотелось.
С. Франк в статье «Письма Вл. Соловьева» восторгается «историческим
чутьем» автора87, приводя эту же выразительную цитату, напоминающую
замысел какой-то полицейской карательной операции, и не замечает очевидной
пошлости этого типичного проявления нетерпимости воинствующего либерализма.
Доводы о «полезности» и тем более о «богочеловеческом деле», приводимые
Соловьевым, не слишком убедительны ни в научном, ни в нравственном
отношении. Вообще-то стремление к «выжиганию леса» из-за несогласия с
«неприятелем» в духовной сфере во все времена считалось занятием антикультурным.
Страхов не случайно писал: «Вопрос, как видите, превосходный; Соловьев, как
пророк, его решил, и, конечно, как инквизитор, сжег бы меня и все экземпляры
России и Европы»88.
К началу века в России в среде символистов сложился своеобразный культ
«теурга» Владимира Соловьева. И молодой тогда Андрей Белый, с
придыханием прослеживая «мистический путь» Соловьева «под знаком ему светивших
зорь», освященный явлением таинственной музы, вторит своему гуру, сохраняя
«танатологическую» окраску его образа в полемике со Страховым: «Этот голос
ему шептал: „Будь в Египте". Но этот же голос шептал ему: „Полемизируй со
Страховым, ибо Страхов — эмблема смерти"»89.
Если вернуться к Страхову, то его возмутил даже не сам псевдо-«бо-
говдохновенный» тон, которым Соловьев объяснял свои антипатриотические
эскапады, а то коварство, с каким был нанесен без предупреждения этот новый
удар. «Хотел и не успел», как писал ему Соловьев, — это, конечно, не
оправдание: при личной встрече, когда за беседой была выпита даже бутылка вина (без
участия Страхова), у Соловьева не нашлось времени (или силы духа) сообщить
Страхову о печатающейся враждебной статье. Это был момент окончательного
разрыва. Примечательно, что даже и тут Страхова, в отличие от оппонента
в споре, особенно беспокоит не собственная победа, а нравственная репутация
оппонента: «Но дурень он, дурень! Что ж он сделает плохими журнальными
86 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 59-60.
87 Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С. 379-380.
88 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 836.
89 Белый Андреи. Владимир Соловьев: Из воспоминаний // Белый Андрей. Арабески. М.,
1911. С. 389-390.
495
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
статейками? Только себя осрамит! А между тем, он уже заранее торжествует
в этом самом письме...»90
Без ответа, конечно, Соловьев не остался. Начался очередной виток
полемики. Статья Страхова «Новая выходка против книги Данилевского» была не
менее резка. В октябре 1890 г. Соловьев просит у Стасюлевича оставить место
для ответа «помешавшемуся со злобы Страхову» и добавляет: «Вы меня очень
обяжете, напечатавши у себя, так как оставить кажущуюся победу за моим
другом-скорпионом было бы мне неудобно»91. Соловьев всегда отличался
экстравагантностью выражений, но «друг-скорпион» — это, пожалуй, слишком.
Ответную статью, которая получила в печати название «Счастливые мысли
Н. Н. Страхова»92, Соловьев назвал в одном из писем в своем привычном стиле
«зуботычиной Страхову»93. В письме от 3 сентября 1890 г. своему хорошему
знакомому Э. Л. Радлову, другу Соловьева, Страхов упоминает «о злодействах
Вашего Вл. С. Соловьева»94. О каких очередных «злодействах» идет речь, не
вполне ясно, но Страхову даже в голову не могло тогда прийти, до чего дойдет
в своей жажде победы знаменитый философ, готовя ему новый сюрприз.
Признанный эрудит Страхов мимоходом упомянул в одной из
полемических статей книгу немецкого историка Генриха Рюккерта «Учебник мировой
истории в органическом изложении» (1857) как пример того, что и европейским
ученым не чужда идея, развернутая Данилевским. Это был, конечно, тактический
промах: в споре с таким «другом-скорпионом» Страхову следовало всё время
быть начеку. Не упомяни он о «зачатках мысли о типах» у Рюккерта — не нажил
бы себе новых проблем. И вот Соловьев в декабре 1890 г. разразился статьей-
открытием, статьей-разоблачением: «Немецкий подлинник и русский список».
Оказывается, Данилевский ничего нового не придумал, а просто переложил на
свой лад заимствованную у немецкого ученого теорию.
Вообще-то в России с обычным для нашей интеллигенции
преклонением перед Западом всегда было наоборот: если уж есть аналог в Европе, то это
свидетельство философии самой высокой пробы. Но не таков наш великий
Соловьев—теперь он обвиняет Данилевского в отсутствии «научной
самобытности» и чуть ли не в плагиате. В споре все средства хороши.
Изворотливый ум Соловьева подсказал ему новый поворот темы,
пополнивший истощившиеся аргументы против книги Данилевского, — он стал
90 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 836.
91 Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 45-46.
92 Вестник Европы. 1890. Нояб. С. 448-454.
93 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 105.
94 РОИРЛИ. Ф. 252 (Э. Л. Радлов). Оп. 2. Ед. хр. 1522. Л. 5.
496
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
—■$'
оспаривать ее оригинальность. Ученые вечно заимствуют что-то друг у друга,
развивая и дополняя, — таков естественный ход науки. Но это не аргумент для
Соловьева: ему же во что бы то ни стало надо победить в споре!
После нелепого обвинения Данилевского в плагиате Страхову,
убежденному, что «эти две книги не имеют ничего общего», писать подробное
доказательство очевидного не хотелось, и он почел бы «великой (...) радостью»,
«если бы кто взял на себя определить отношение книги Рюккерта к книге
Данилевского»95. Единственным человеком, который с сочувствием Страхову
переживал весь ход спора и мог бы написать такое опровержение, был
Розанов, но тот не знал немецкого языка. Так что Страхову пришлось погружаться
в книги и вести нудное доказательство на цитатах, что у Рюккерта были только
намечены самые общие контуры того грандиозного плана истории, который
развернул Данилевский.
Он стал оправдываться, что Данилевский, мол, и не читал вовсе
Рюккерта, да и сочетание слов «культурно-исторический тип» немецкий ученый
не употребляет. Соловьев накинулся коршуном: читал — не читал, кто теперь
разберет?! Взял в библиотеке книгу, о которой прежде, до упоминания о ней
Страхова, явно не ведал, и нашел-таки у Рюккерта не только термин «культурно-
исторический тип», но и «всё существенное содержание „России и Европы"»96.
Соловьев торжествовал: ясное дело — типичный плагиат! В пылу полемики
он мимоходом обвинил даже и самого автора «Борьбы с Западом» в плагиате
у Гегеля и западной науки вообще.
Страхов, удивленный, что просмотрел термин у немецкого философа,
принялся сравнивать тексты и был поражен: «Подчеркнутых слов (...) нет в
тексте Рюккерта; слова эти вставлены переводчиком как будто бы для пояснения
текста, но в сущности для того, чтобы придать ему другой смысл»97.
Возмущению добродушного Страхова не было предела: «.. .взять термин Данилевского
и вставить его в самый текст Рюккерта — это переходит всякие границы»98.
Другу Соловьева Э. Л. Радлову Страхов писал 2 декабря 1890 г. о статье
«Немецкий подлинник и русский список»: «Прочитал статью Соловьева — он
неистовствует непростительно. Так бранчливо он еще не писал, да надеюсь,
и писать не будет больше. Отвечать я не думаю, не хочу. Разумеется, он всё
спутывает и уверяет, что Д(анилевский) заимствовал у Рюккерта даже
учение о том, как общее относится к частному! Действительных совпадений
оказалось очень мало, меньше, чем я думал, а разница существенная, но,
разумеется, Соловьев ее не показывает, а затирает»99. Конечно, отвечать такому
95 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 126.
96 Соловьев. Сочинения. 1989. ТА. С. 588.
97 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 3. С. 212.
98 Там же. С. 213.
99 ОР ИРЛИ. Ф. 252 (Э. Л. Радлов). Оп. 2. № 1522. Л. 9-9 об.
497
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
беспринципному «оппоненту» не хочется, хотя Страхов все-таки прямо написал
в ответной статье, что Соловьев подделал перевод, допустив «не неточность,
а прямую вставку» 10°.
Об этой фальсификации нужно было кричать во всеуслышание, а Страхов
из излишней деликатности ограничился лишь констатацией факта
неправильного перевода, да еще из стыда за оппонента предположил, что этот ошибочный
перевод с вкраплениями, был, пожалуй, «делом не умышленным»101. Недостаток
обличительного пафоса у Страхова явно сказался на результате. Как ни
удивительно, но на разоблачение «фокуса» почти никто не обратил внимание: Страхова
мало кто и читал, а о победах Соловьева гремели все либеральные издания.
«Победителем» же в злополучном споре Соловьев только и мог стать по этой
ловкости престидижитатора. Но кто же судьи?! Конечно, общественное мнение.
Розанов писал в 1913 г. в примечаниях к письму Страхова: «Между тем до
сих пор многие верят Влад. Соловьеву, будто Данилевский „украл" у Рюккерта
его мысли и „Россия и Европа" есть плагиат с немецкого. Соловьев мог бы
понять, что самый ум Данилевского был не компилятивный...»102 И
действительно, многие верили. Так, поверил Соловьеву, писавшему о заимствовании
Данилевского у Рюккерта, С. Н. Булгаков. Поверил и В. Кранихфельд, автор
предисловия к переписке Толстого со Страховым в журнале «Современный
мир». Он безосновательно, явно опираясь лишь на доводы Соловьева,
утверждал, будто теория культурно-исторических типов не введена Данилевским, как
заявлял Страхов, а заимствована: «Фантастическая, заимствованная у немецкого
историка Рюккерта теория культурно-исторических типов стала для Страхова
истиной...»103Здесь, впрочем, двойная неправда: голословно утверждение, что
эта «заимствованная» теория стала для Страхова истиной, — как будто он не
имеет собственного мнения, а только повторяет чужую теорию, к тому же еще
и «заимствованную».
А крайний радикал, однофамилец философа, Е. А. Соловьев, писавший
под псевдонимами Евг. Андреевич, Е. Скриба и пр., не постеснялся вслед за
своим однофамильцем нагородить без всякого обоснования уже целую гору
лжи о том, что «Данилевский списывал у Рюккерта целыми страницами»104.
У Розанова тогда, кстати, возникла крамольная мысль, что хорошо бы
«проверить с источниками в руках» на предмет компиляции самого
Соловьева, но ему, Розанову, это, конечно, не по силам, а Страхову с его эрудицией
и огромной библиотекой это не составило бы большого труда. Собственное
100 Страхов. Борьба с Западом. Кн. 5. С. 214.
101 Там же. С. 215.
102 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 126-127.
103 Кранихфельд Вл. Л. Н. Толстой и Н. Н. Стоахов в их переписке // Современный мир.
1912. №12. С. 332.
104 Скриба [СоловьевЕ. А.] Литература и жизнь: По поводу статьи В. Соловьева
«Немецкий подлинник...» // Новости. 1890. № 343, 13 дек. С. 2-3.
498
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
—■$>
творчество Соловьева соткано из тысячи разных источников, и если бы тот же
Страхов в качестве контрудара захотел уличить склонного к эклектизму
оппонента в заимствованиях, скажем, у Конта или Гегеля, Спинозы или Шеллинга,
он без труда бы сделал это. Но благородному Страхову это даже не пришло
в голову. Например, высказывались предположения, что «Три разговора» могли
быть вдохновлены Блаженным Августином...
В мире все-таки есть справедливость: нашелся исследователь, который
подтвердил мнение Страхова, что, сопоставляя тексты Рюккерта и
Данилевского, философское «наше всё» совершило не совсем нравственный поступок.
Много лет спустя тщательный разбор этой темы был сделан американским
ученым Р. Е. Мак-Мастером, и вывод его категоричен: ни о каком плагиате
речи быть не может. Мак-Мастера, американского автора книги о
Данилевском, конечно, в сочувствии философу, которого он считал «тоталитарным»105,
и тем более русскому «брюшному патриотизму» никак не заподозришь, но
он оказался, не в пример отечественным исследователям, человеком
дотошным. Зная немецкий язык, он сверил перевод цитат из Рюккерта со статьей
Соловьева и обнаружил, что тот «неожиданно повел себя легкомысленно
и для доказательства собственной правоты пошел даже при переводе на
русский язык на некоторое „редактирование" текстов Г. Рюккерта, что сильно
меняло их смысл»106. Таким образом, говоря попросту, Соловьев совершил
подлог ради достижения своих «высоких» целей борьбы с теорией культурно-
исторических типов, а в более широком плане — с русским национальным
самосознанием.
5 июля 1891 г., в разгар спора Соловьева и Страхова, публицист А. А. Ки-
реев, прежде поддерживавший с Соловьевым приятельские отношения, писал
Страхову: «Солов(ьев) — одно из моих величайших разочарований. Он сделался
совсем иезуитом, клевещет и лжет!! Переходит на чисто личную почву, как Вы
совершенно верно замечаете... и странное дело — как такой умный человек
(по крайней мере, способный) может не видеть, что он мелет вздор! наивный
вздор, в котором его может изловить всякий гимназист или кадет»107.
* * *
Полемика Соловьева со Страховым продолжалась еще некоторое время, но
ход ее был уже предопределен. Об ее итогах можно сказать словами Розанова:
«...в споре шум победы был на стороне Соловьева, а истина победы была на
стороне Страхова. Но Страхов писал в „Русском вестнике", которого никто не
105 McMaster R. E. Danilevsky: А Russian Totalitarian Philosopher. Cambridge, Mass., 1967.
106 McMaster R. E. The Question of Heinrich Rtickerfs Influence on Danilevsky // American
Slavic and East European Review. 1955. Feb. P. 59-66.
™ОРРНБ. Ф. 747. Ед. хр. 15. Л. 17.
499
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
■$>
читал, а Соловьев — в „Вестнике Европы", который был у каждого профессора
и у каждого чиновника на столе»108.
Хотелось бы еще обратить внимание на некоторые соловьевские
эпистолярные перлы, относящиеся к Страхову. Так, по поводу кончины консервативного
философа П. Е. Астафьева (7 апреля 1893 г.), при жизни резко критиковавшего
Соловьева (как, впрочем, и Страхова) и находившего в религиозно-мистических
построениях оппонента отчетливое влияние позитивизма, Соловьев написал
Н. Я. Гроту такие кощунственные слова: «Мир праху Астафьева! Теперь
философия этого рода имеет только двух представителей: Страхова и
Розанова— мир и их праху!»109 Не говоря о непочтительно-двусмысленном отзыве
о покойном, это же и недвусмысленное пожелание смерти живым людям\ Эта
«буффонада во вкусе гимназиста даже не старших классов»110, как выразился
Розанов о шуточках Соловьева в его письмах, определенно свидетельствует об
эксцентричности философа, если не сказать более.
Выражения, используемые Соловьевым по поводу его полемики со
Страховым, не выдерживают никакой критики с нравственной точки зрения. Сообщения
о своих «ударах» Страхову, написанные в каком-то шутливо-самодовольном
и одновременно панибратском тоне, Соловьев, не стесняясь, рассылал в самые
разные адреса, в том числе, например, их «общему приятелю» К. Н. Леонтьеву:
«Посылаю Вам, дорогой Константин Николаевич, эти палочные удары по спине
(! —В. Ф.) нашего общего приятеля, дабы Вы видели, что я в либерализме не
педант (...) Брань моя со Страховым, кажется, еще не закончилась, и я решил
оставить последнее слово за собой»111.
И. Кристи, ученик и последователь Леонтьева, справедливо удивлялся, что
после статьи «О грехах и болезнях» («Вестник Европы», 1889, № 1), которую
Соловьев называл «палочным ударом», они со Страховым будто бы помирились:
«Он эту статью называет палочным ударом, и нужно отдать ей справедливость,
что она очень остроумна, но страннее всего — то, что после этой статьи они
помирились со Страховым, так что я считаю, что это их дело...»112 Это
«примирение», удивившее не только Кристи, оказалось, конечно, только временным.
30 июля 1893 г. Соловьев пишет брату об очередной статье против
Страхова: «Завтра или послезавтра пошлю тебе обещанную статью из „Вестника
Европы" (...) Я возобновил дружеские отношения с Кутузовым, которые были
прерваны четыре года тому назад. Примирение же со Страховым я видел только
во сне. Когда увижу наяву, то подумаю, не наступил ли мой смертный час»113.
т Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 14.
тВл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 72.
110 Розанов В. В. Около народной души. М, 2000. С. 388.
111 Вл. Соловьев. Письма. Т..4. С. 265.
112 Цит. по: Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 2: Иван Кристи. Письма к К. Н. Леонтьеву.
Статьи. С. 105, 440 (коммент.).
113 Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 127.
500
Глава 14. Страхов и Вл. С. Соловьев
—■$>
Уже в 1895 г. (если нет ошибки в датировке письма) Соловьев шлет
своему другу Э. Л. Радлову, будущему издателю его переписки, такое «шутливое»
послание: «Пишу некролог (курсив мой.—В. Ф) Н. Н. Страхова—воображаю —
как он теперь удивлен и сконфужен. Вот бранить-то его буду, когда увижу, не
отхихикается»114. Не совсем ясно, о чем речь, но «некролог» здесь скорее образ,
шутка в прежнем роде, хотя такой юмор на большого любителя. Любопытно, что
одна из мемуаристок считает, что некролог писался Соловьевым после кончины
Страхова, и приводит эти слова как проявление веры Соловьева в миры иные115.
Как бы то ни было, некоторое время спустя Соловьев узнал о неизлечимой
болезни Страхова и попросил Розанова устроить встречу с ним для
христианского примирения. Об этой встрече Розанов писал С. А. Рачинскому в начале
1896 г.: «В пятницу на той неделе, т.е. 5-го января, по убедительной просьбе
Соловьева В л., я упросил Страхова помириться с ним: Соловьев приехал прямо
из Царского Села в 10 ч. вечера ко мне, и Страхов тут же приехал. Соловьев
вошел к нему и протянул руку — поцеловал его в голову; 2 часа просидели они,
мирно разговаривая. — Страхов ужасно не уважает Соловьева: „Нет ни
настоящих мыслей у этого человека, ни настоящих чувств", — сказал он; и „только для
вас я это делаю и без всякого ожидания какого-нибудь толка", — сказал он мне,
когда, получив в четверг телеграмму от Соловьева, я пошел приглашать его. Он
убежден, что Соловьев — весь фальшивый.. .»116 Итак, примирение произошло,
как ранее Соловьев и писал Толстому, «во имя евангельской заповеди и личного
чувства без всякой солидарности во взглядах и стремлениях»117.
Что касается некролога, то Соловьев действительно писал его для
мартовского номера «Вестника Европы» в 1896 г., однако так и не закончил118. Из
содержания некролога, который до недавнего времени оставался неизданным119,
видно, почему он так и не появился тогда в печати. Сконцентрировав в нем
внимание на противоречии во взглядах Страхова, отстаивавшего почти
одновременно контрастные до непримиримости идеи Данилевского и Толстого,
Соловьев, по существу, продолжил полемику с уже отошедшим в мир иной
«врагом-другом»120. Для некролога такой подход был, конечно, неприемлем.
Если же упомянутое выше мистическое толкование соловьевского «некролога»
114 Там же. Т. 1.С.255.
115 Ельцова К. М. Сны нездешние // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 139.
116 Розанов. Литературные изгнанники. Кн. 2. 2010. С. 529.
117 Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. Прил. С. 258.
118 В апреле 1896 г. в «Вестнике Европы» вместо некролога появилась краткая заметка,
в которой говорилось, что труды Страхова «дали ему выдающееся место в нашей литературе»,
и заявлялось о намерении «посвятить его памяти и оценке его трудов особый этюд в самом
непродолжительном времени» (Вестник Европы. 1896. Апрель. С. 454). Скорее всего, автором
заметки был Вл. С. Соловьев.
119 Соловьев В. С. Некролог Н.Н.Страхова / публ. Н. В. Котрелева // Соловьевские
исследования: период, сб. науч. тр. Иваново, 2005. Вып. 11. С. 158-167.
120 Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 130.
501
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
действительно относится к данному наброску (в чем есть большие сомнения),
то это не может не вызвать ничего, кроме чувства неловкости за автора, —
ничего такого, что могло бы «сконфузить» покойного и тем более заставить его
«хихикать», в этом некрологе не наблюдается.
Ф. Э. Шперк как-то заявил Розанову: «Соловьев в высшей степени
эстетическая (т.е. в нем все красиво) натура, но совершенно не этическая»121. Хотелось
бы надеяться, что эти заметки убедят кого-нибудь из читателей, что некоторые
основания для такого, казалось бы, резкого вывода у критика были.
Помимо Соловьева, Страхов одновременно вел еще и серьезный спор со
сторонниками дарвинизма, где он также выступал в качестве оппозиционной
стороны. Хотя тему дарвинизма Страхов и Соловьев в своих спорах практически
не затрагивали, Соловьев, как противник Данилевского, вторая книга которого
также подвергалась нападкам, по существу, был, несмотря на весь свой
идеализм, на стороне дарвинистов. Страхов отмечал, что выступавшие против него
дарвинисты ссылались на те аргументы, которые нашли у Соловьева.
Идейная полемика Страхова с Соловьевым относится к
основополагающим, даже архетипическим, спорам отечественной философии. В ней
сконцентрированы все основные вопросы, вставшие в столкновении западнического
и славянофильского направлений русской мысли. Однако современники не
восприняли этот спор как важнейшее философское событие того времени.
Многие из знакомых Страхова, в том числе и Л. Н. Толстой и Н. Я. Грот, были
довольно скептически настроены по отношению к полемике и не раз
уговаривали Страхова прекратить ее. В этом сказалась недостаточная культурность
нашей общественной жизни. Нет сомнения, что статьи Страхова, посвященные
спору с Соловьевым, представляют собой одно из наиболее ценных разделов
его творческого наследия. Хотя многие считали, что Соловьев одержал в споре
явную победу, те веские аргументы, которые выдвигал в этой полемике
Страхов, имеют непреходящее значение и позволяют читателям в наши дни найти
правильный подход к темам, намеченным в этом историческом споре.
Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 20.
СУллёа 15
«НА 2/3 ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ»?
(СТРАХОВ И К. Н. ЛЕОНТЬЕВ)
Кажется бы, во всей России и далее на всем земном шаре
не должно было быть двух людей, более между собою
в главных основаниях согласных, чем мы с Вами.
А на деле выходит что?
Кто этому причиной? Или — что? Не пойму...
КН. Леонтьев1
£§И8 Леонтьев — один из самых загадочных и противоречивых отечественных
мыслителей, интерес к которому не только не ослабевает, но заметно вырос в
последние десятилетия. При этом мнения писавших о нем настолько расходятся,
словно речь идет о совсем разных людях. Либералы и нигилисты всех мастей
обычно ненавидели Леонтьева, создав ему репутацию одиозного мракобеса
и изувера. Н. К. Михайловский, выражая общее мнение радикальной оппозиции,
которая в ужасе отвергала консервативного писателя-церковника, писал, что
только сумасшедшие могут, подобно Леонтьеву, отвергать прогресс и социальное
равенство. Многие видели в Леонтьеве жестокого, деспотичного «церковника»,
сравнивая его иногда даже с Торквемадой и Кальвином. По причине своего
радикального консерватизма Леонтьев при жизни не имел большой популярности. Он,
правда, получил некоторое признание на рубеже XIX и XX вв., в эстетствующий
Серебряный век, которому он, как ни удивительно, изрядно соответствовал по
мировосприятию при всем своем консерватизме. Однако в советское время
Леонтьев со знаменитым своей дерзостью советом «подморозить Россию» считался
едва ли не одной из самых одиозных ретроградных фигур в истории русской
литературы и философской мысли. Зато в наши дни, когда эстетические
критерии снова поднялись очень высоко и в то же время возник небывалый спрос на
консерватизм, особенно церковный и монархический, Леонтьев стал одним из
кумиров довольно обширной интеллектуальной читательской аудитории2.
1 К. Н. Леонтьев — Н. Н. Страхову. 18 сент. 1888 г. // ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 17. Л. 54 об.
2 Возрождение интереса к самому консервативному из отечественных философов
началось с книги А. А. Королькова «Пророчества Константина Леонтьева» (1991), продолжилось
503
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
В то же время всегда существовала консервативно мыслящая часть
общества, которая, признавая Леонтьева как энергичного проповедника монархии
и церковного аскетизма, считала несовместимой с этой проповедью леонтьев-
скую «эстетику жизни». По критическому мнению таких читателей, во взглядах
Леонтьева присутствовало языческое поклонение страстям и демонстративный
аморализм, предвосхищающий философию Ницше. Сам Леонтьев свою
философскую родословную возводил к славянофильству и особенно к почвенничеству,
но славянофилы второй половины XIX в. не считали его своим, а И. С. Аксаков
и Ф. М. Достоевский в свои издания не звали. Леонтьев находил много общего
в своих воззрениях с Н. Я. Данилевским и Ап. Григорьевым, но Н. Н. Страхов,
близкий этим мыслителям по духу и по жизни, не разделял такого мнения, хотя
и поддерживал отношения с ревностным апологетом византизма. А в еще одном
«почвеннике», Ф. М. Достоевском, Леонтьев сам нажил себе идейного врага,
так как увидел в его «Братьях Карамазовых», Пушкинской речи и других
получивших широкое признание сочинениях искаженное понимание христианства.
Леонтьев в резкой форме выразил свое отношение в печати, обличив
Достоевского в проповеди «всечеловеческого братского единения» и «окончательного
слова всеобщей гармонии»3. При этом он объединил Достоевского в своей
обличительной брошюре с другим великим писателем—Львом Толстым, более
заслуживавшим порицания за проповедь сомнительных с церковной точки
зрения идей, как двух представителей «розового», то есть ложного, христианства.
Даже консерваторы иногда неохотно признавали «своею» пессимистическую
философию этого говорящего от имени православного христианства отрицателя
«будущей мировой гармонии» как космополитического эвдемонизма, несмотря
на все его неистовые обличения европейского прогресса, социалистического
муравейника и буржуазного мещанства.
Ближе всего к Леонтьеву с его мрачными выводами о вступлении
европейской цивилизации в последнюю фазу «вторичного упростительного смешения»
был, видимо, как ни удивительно, бунтарь-социалист Герцен, тоже
пессимистический «эстетик», разочаровавшийся в западном утилитарном прогрессе.
Таковым Герцена представил в «Борьбе с Западом» Страхов, и в этой
утонченной и проницательной трактовке он очень нравился Леонтьеву. К тому же
ему импонировало, что Герцен был «московский настоящий барин, изящный
по вкусам»4. И Леонтьев не жалел эпитетов для «разочарованного западника»,
называя его «гениальным человеком»5.
2-томником в серии РХГА «Рго et contra» (1995, сост. А. А. Корольковым и А. П. Козыревым),
и, наконец, получило поистине триумфальное воплощение в издании завершающегося ныне
Полного собрания сочинений К. Н. Леонтьева под редакцией В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко.
3 Леонтьев К. Н. О всемирной любви // Леонтьев. ПСС. Т. 9. С. 203.
4 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1: «Преемство от отцов»: Константин Леонтьев и
Иосиф Фудель: Переписка. Статьи. Воспоминания. С. 83.
5 Там же. С. 82.
504
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
Ф
Гением считал Леонтьев и идейного оппонента Страхова Владимира
Соловьева, которым был также очарован. Ему, правда, пришлось осудить
философа за вопиющую измену славянофильству, от которого они оба, по мнению
Леонтьева, произошли, да еще с переходом на сторону партии «прогресса»,
в либеральный западнический «Вестник Европы» Стасюлевича. Но это не
мешало Леонтьеву щедро одаривать филокатолика с оккультным оттенком
похвалами и за изящную, в высшей степени оригинальную «наружность»,
и как «великого русского мыслителя»б, которого «несут его широкие крылья
гениальности»7. Прорываются у него и похвалы соловьевскому увлечению
католицизмом и даже папизму. В споре Страхова с Соловьевым Леонтьев
занимал колеблющуюся позицию, но в глубине души больше, конечно,
сочувствовал Соловьеву. Он не мог не ощущать неприязненного отношения
Страхова к его эстетизму, и это, само собой, сказывалось на его симпатиях.
Характерно откровенное признание Леонтьева в письме к Розанову: «Впрочем,
я пристрастен: у Соловьева мне и слабости, и пороки нравятся; а у Страхова
я и самое хорошее — признаю... конечно, признаю, но — прости мне
Господи! — скрепя сердце»!»8
Но все-таки в статье «Соловьев против Данилевского», написанной
в 1890 г., Леонтьев признает правоту Страхова: «...здесь я могу (...) сказать
без колебаний, что г. Страхов гораздо правее его в своей оценке замечательных
трудов Данилевского»9.
Леонтьев отмечает, что даже ранние славянофилы неохотно упоминали
о Данилевском, и подчеркивает важнейшую роль Страхова в отстаивании
достоинств «России и Европы»: «Только один серьезный голос Н. Н. Страхова
одиноко и мужественно звучал в его пользу с самого начала появления книги
„Россия и Европа"»10.
Однако эстетическая неприязнь Леонтьева к морализму все же брала верх.
Теократические изыскания Соловьева Леонтьев рассматривал как «прекрасный
противовес морально-протестантским симпатиям славянофилов» п, относя
к моралистам и тяготевшего к славянофилам Страхова. Католические увлечения
Соловьева не слишком смущали Леонтьева, ибо он и сам признавался в письмах,
что еретический с православной точки зрения папизм очень соответствовал его
религиозному эстетизму: «Но я не скрою от вас — моей „немощи44, мне лично
Папская непогрешимость ужасно нравится. „Старец Старцов". — Я, будучи
в Риме, не задумался бы у Льва XIII туфлю поцеловать, не только что руку (...)
Римский Катол(ицизм) нравится и моим искренно-деспотическим вкусам, и моей
6 Там же. С. 87.
7 Там же. С. 90.
8 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 347.
9 Леонтьев. ПСС. Т. 8, кн. 1. С. 322
10 Там же. С. 324.
11 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1. С. 91.
505
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$■
наклонности к духовному послушанию, и по многим ещё другим причинам
привлекает моё сердце и ум...»12
Сходился Леонтьев с Соловьевым и в том, что ставил под сомнение
национальное начало, которое подчеркнуто называл «племенным»13. Любопытно,
что в своей критике «болгаробесия» он, по существу, смыкался с Львом
Толстым, который во время Балканской войны скептически относился к борьбе за
освобождение славян. В споре болгар и греков Леонтьев демонстративно встал
на сторону греков как представителей Константинопольского православного
патриархата, хотя правительство Александра II оказывало поддержку
освободительному движению болгар. Но для Леонтьева важнее освободительной
борьбы было то, чтобы добивавшиеся национального освобождения народы
не подпали под опошляющее влияние европейской цивилизации с ее
либеральным уравнительным процессом. Леонтьеву было присуще эстетическое
восхищение турецким укладом жизни, и он договаривался даже до заявлений,
что турецкое иго с его многоцветной сложностью полезнее для балканских
славян, чем свобода.
Интересно, что Ап. Григорьев, которого Леонтьев пытался представить
как единомышленника в борьбе против однообразия и морализма, порицал
западников именно за разрушение морали: «Правда, мною (да, кажется, и Вами)
сознаваемая и исповедуемая, ненавидит вместе с западниками и сильнее их
деспотизм и формализм государственный и общественный, — но ненавидит
западников за их затаенную мысль узаконить, возвести в идеал распутство,
утонченный разврат, эмансипированный блуд и т.д. Кроме того, она не
помирится в западничестве с отдаленнейшею его мыслию, с мыслию об уничтожении
народностей, цветов и звуков жизни, с мыслию об отвлеченном, однообразном,
форменном, мундирном человечестве»14. Тут, надо признать, при некоторой
перекличке с Леонтьевым по поводу эстетических забот о многоцветной сложности
жизни, видна полная противоположность ему в отношении нравственности,
которую Леонтьев с какой-то поразительной для христианина настойчивостью
всё пытается отвергнуть или принизить, как вообще, так и у русского народа
в частности. И делались им подобные декларации аморализма, надо признать,
не только в ранний период. Выходит, что Леонтьев, отрицающий к тому же
«племенное», то есть национальное, начало, ближе к западникам, а не к Григорьеву.
Ничего удивительного, что Леонтьев обнаруживал по некоторым вопросам
много общего еще и с П. Я. Чаадаевым.
12 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1. С. 268.
13 Кстати, в свете негативного отношения Леонтьева к «племенному началу»
представляется неточным прочтение в одном из писем Леонтьева слова: «единоплеменник»
(вместо «единолши/ленник»). См.: Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1: Письма 1853-1875 гг. СПб., 2018.
С. 275. Ср., например, в письме Леонтьева к Розанову, где он называет Страхова «почти
единомышленником» (Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 345).
14 Григорьев. Письма. С. 128.
506
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
—■$>
Но почти все мыслители консервативного направления, не исключая
Страхова, считали Леонтьева талантливым писателем, незаурядным философом
и острым, ярким публицистом. Всё же он был при жизни мало известен, так как
его творчество, полное шокирующих идей, замалчивалось по соображениям,
далеким от литературных.
Только в последние десятилетия Леонтьев был по достоинству оценен,
прежде всего как проповедник византизма, глубоко понявший православие
и открыто исповедовавший свою веру, как своеобразный пророк,
предвосхитивший ход развития многих исторических событий, а также, не в последнюю
очередь, как очень яркий писатель и оригинальный мыслитель.
* * *
Страхов и Леонтьев мало похожи друг на друга и являются по многим
вопросам антиподами, хотя Леонтьев и называл Страхова «на 2/3
единомышленником» 15. Их имена давно ставят рядом в истории русской мысли, вместе
с Н. Я. Данилевским, как авторов трех самых основательных исследований
второй половины XIX в., развивающих славянофильский тезис о неизбежном
разложении Запада. Одним из тех, кто пришел к этому вполне верному
обобщению, был и Вл. С. Соловьев: «Я разумею Н. Я. Данилевского („Россия и Европа"),
Н. Н. Страхова („Борьба с Западом") и К. Н. Леонтьева („Византизм и
Славянство"). Эти три замечательные и оригинальные писателя более всех других
сделали для теоретического наукообразного обоснования славянофильских
взглядов, хотя этих писателей обыкновенно и не причисляют к
представителям собственно славянофильской школы»16. Однако, заявив об этом негласном
«союзе» в своем сборнике статей «Национальный вопрос в России», Соловьев
затем взялся за неблаговидный труд опровержения рассматриваемой этими
«замечательными и оригинальными писателями» антизападнической идеи
и развенчания самих этих мыслителей.
Страхова трудно причислить к друзьям Леонтьева или даже к почитателям
его творчества, хотя как проницательный критик и редактор консервативных
периодических изданий он не мог пройти мимо столь заметного литературного
таланта. Если об отношениях Страхова с Достоевским можно сказать, что они
были противоречивыми, с очень резкими высказываниями друг о друге, но, по
крайней мере в некоторые периоды, безусловно, дружескими, то о контактах
Страхова с К. Н. Леонтьевым и этого не скажешь, хотя переписка между этими
двумя мыслителями, несмотря на их постоянную взаимную внутреннюю
отчужденность, тянулась долгие годы — с середины 1860-х почти до самой кончины
Константина Леонтьева в ноябре 1891 г.
15 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1. С. 273.
16 Соловьев. Сочинения. 1989. Т. 1. С. 313.
507
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$>
Уже в первом своем письме к Страхову от 20 мая 1863 г., пересылая ему
статьи для помещения в журнале «Время», Леонтьев формулирует такие
дерзкие положения своей эстетики: «... 1) что прекрасное важнее полезного; 2) что
широкое развитие важнее счастья; 3) что только на почве зла вырастает добро
и великие личности; 4) что лучше война, поэтические суеверия и доблестные
предрассудки, чем всеобщая бесцветность. (...) 5) что народности (нам особенно)
нужнее демократической гуманности...»17 Среди обычных для консерватора
тезисов явно выделяются такие характерно леонтьевские (и, можно сказать,
пред-«ницшеанские»), весьма сомнительные с точки зрения морали тезисы,
как смешение добра и зла и предпочтение войны «бесцветности». Вряд ли эти
тезисы пришлись по нраву Страхову и тем более редактору «Времени»
Достоевскому (если Страхов его с ними ознакомил).
Главная причина общения Леонтьева и Страхова на протяжении
десятилетий (преимущественно заочного, а для Страхова во многом и вынужденного)
состояла в том, что Леонтьеву с его ультраконсервативными идеями печататься
было обычно негде. И отверженный «пророк византизма» невольно старался
прилепиться к почвенническим изданиям с их пусть и умеренным, но все же
традиционализмом, так как ему, с репутацией «реакционера» и «церковника»,
дорога в подавляющее большинство других изданий была заказана.
Проза Леонтьева, несмотря на ее некоторые весьма вольные в моральном
отношении сюжетные линии и идеи — например, «Исповедь мужа» («Ай-Бурун»)
или «Хамид и Маноли», — а также сомнительную «ницшеанскую» философию
его автобиографических героев типа Милькеева из романа «В своем краю»,
еще обычно находила себе приют в журналах. Свою ультраконсервативную
философскую публицистику ему пристраивать было гораздо труднее.
Неистощимый на яркие мысли и образы в художестве, одержимый идеей
преодоления натуралистического влияния Гоголя, Леонтьев предлагает свои
эстетические принципы, которые он формулирует так: «Поворот к лиризму,
к высокой несложности изображения, к чертам простым, широким и
свободным, пожалуй даже, я скажу, к благородной бесцветности.. .»18 Воплощением
этой художественной программы становятся для него такие писатели, как Марко
Вовчок и Н. Кохановская.
Леонтьев часто уверял редакторов, что в его взглядах много общего со
славянофилами, да только славянофилы, которых он не уставал упрекать в
чрезмерном морализме и идеализации русского народа, его чурались. Бердяев писал
позже, что Леонтьев «всегда хотел держаться русского направления, и
поэтому его по недоразумению зачислили в славянофильский лагерь»19. Леонтьев
17 Леонтьев. ПСС. Т. И, кн. 1. С. 236.
18 Там же. С. 281.
19 Бердяев Н. Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли //
Леонтьев. Pro et contra. Кн. 2. С. 31.
508
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
Ф
действительно мог и заявить, что «славянофилы — корень всему хорошему»20,
но чаще осуждал «туманно-либеральное славянофильство»21, находя в нем
протестантские тенденции. Далека от славянофильства и его позиция по
национальному вопросу, не говоря уже о его решительном неприятии панславизма
и обличении «болгаробесия». Так что он, конечно, имел со славянофильством
лишь отдаленное родство, а во многом, и даже, может быть, в главном, по
справедливому суждению того же Бердяева, был «антиподом славянофилов»22, хотя
западником его тоже назвать трудно. Бердяев видел в Леонтьеве человека со
взглядами, характерными скорее для эпохи Возрождения: «.. .изумительное
явление Константина Леонтьева, по природе своей человека Возрождения XVI века,
забредшего в Россию XIX века, в столь чуждую и противоположную
Возрождению...»23
Таким образом, Леонтьеву ничего не оставалось, как пытаться устроиться
в умеренноконсервативные почвеннические журналы, в которые он и стремился
попасть, начиная со «Времени» братьев Достоевских. А в них сотрудничал или
выступал в роли редактора Страхов, на помощь которого Леонтьев
рассчитывал: как-никак «на 2/3 единомышленник»24. Леонтьев находил у себя немало
общего во взглядах со Страховым и еще больше — с его другом и наставником,
Ап. Григорьевым. Точки соприкосновения действительно были, однако ни
в «Якоре» Григорьева, ни во «Времени» или «Эпохе» Достоевских Леонтьеву
участвовать не довелось. Зато в статьях Страхова, собранных им впоследствии
в три сборника под общим названием «Борьба с Западом в нашей литературе»,
была явная перекличка с выпадами Леонтьева против «среднего европейца»
как воплощения мещанства и буржуазности, высказанными, в частности, в его
книге «Восток, Россия и славянство».
Когда в 1869 г. началось издание «Зари» под редакцией Страхова,
который с первого же номера начал публикацию труда Н. Я. Данилевского «Россия
и Европа», Леонтьев опять возложил на этот журнал и на его редактора все
свои надежды. И хотя Страхов был весьма критичен в оценке статей Леонтьева
и от печатания некоторых из них явно уклонялся, Леонтьев упорно держался
за журнал и настойчиво уговаривал Страхова их опубликовать, так как деться
ему со своими консервативными статьями было больше некуда. Одну из статей
Страхов напечатал, а воспоминания о Григорьеве, содержавшие сомнительные
в нравственном отношении сентенции, печатать не стал. От прямого отказа
Страхов уклонялся, но и рукопись автору отдавать также не хотел. Из года
в год Леонтьев приставал к Страхову, то взывая к совести и разуму, то прямо
20 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1. С. 93.
21 Там же.
22 Бердяев Н. Константин Леонтьев. С. 31.
23 Бердяев Н. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. С. 26.
24 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1. С. 265, 273.
509
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
требуя от него в длинных, эмоциональных и талантливых письмах напечатать
отвергнутые свои статьи. Уже и Страхова издатель журнала Кашпирёв сместил
с редакторства, а потом и «Заря» закрылась из-за недостатка подписчиков,
а Леонтьев из письма в письмо всё укорял Страхова, упорно доказывая ему
свою былую правоту.
По сути дела, Страхову долгие годы пришлось вести с Леонтьевым
вынужденную переписку. Леонтьев раз за разом обращался к нему за помощью
в своих делах. В основном это были просьбы по устройству своих статей в
журнал или сборник, а также предложение написать что-либо о нем, «почти
единомышленнике».
Леонтьев действительно долгое время рассчитывал на Страхова как
умного критика и своего союзника по консерватизму, а его длинные
эмоциональные письма — иной раз с уговорами опубликовать его статьи, написать о его
взглядах, иной раз вообще без всякого повода — свидетельствуют о том, что он
был бы рад сближению с понимающим собеседником. Хотя Страхов и заявлял
в одном из писем к М. В. Леонтьевой, племяннице писателя, что его интерес
к сочинениям Леонтьева носит «характер какой-то странной привязанности»,
с его стороны особого стремления к более тесному общению с откровенным
апологетом эстетического имморализма и правого радикализма не наблюдалось.
Обращения же Леонтьева к Страхову обычно носят характер просьбы или
даже требования: он просит (а порой и требует) напечатать его статьи или вернуть
их, прислать ту или иную книгу, проявить интерес к его взглядам, выразить
сочувствие к ним в печати и обижается на то, что Страхов о нем не пишет. Страхову же
от Леонтьева ничего не было нужно, хотя нельзя не отметить готовности редактора
«Зари» печатать художественные произведения одаренного прозаика, даже если
они не устраивали его с моральной стороны. Шла речь о публикации в «Заре»
какого-то романа из серии «Река времен», вроде бы уже одобренного к изданию
Страховым, но поскольку после своего религиозного переворота Леонтьев сам
эти романы уничтожил и в «Заре» они так и не появились, то и говорить об их
роли в отношениях двух мыслителей не приходится.
Очевидно другое: весьма вольный в моральном отношении дух леонтьев-
ских статей с самого начала был для ригористичного Страхова неприемлем,
и он лишь по свойствам своего характера уклонялся от прямого отказа. Даже
удивительно, что Леонтьев, обижаясь на Страхова за то, что «почти
единомышленник»25 о нем не пишет и не популяризирует его взгляды, как, впрочем,
и другие критики, тратил столько энергии на уговоры именно Страхова, явно
не желавшего печатать его статьи по идейным соображениям.
Эта поразительная настойчивость Леонтьева свидетельствует прежде всего
о том, в каком трудном положении находились тогда писатели консервативного
25 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 345.
510
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
направления. Как ни странно, серьезным писателям — сторонникам
действующей власти, в отличие от их либеральных и даже радикальных оппонентов,
печататься, кроме двух-трех изданий, было негде. Достаточно вспомнить хотя
бы смиренное обращение к Страхову в 1868 г. талантливейшего Н. С. Лескова,
который подвергся бойкоту либеральных издателей за свои
«антинигилистические» романы: «...не похлопочете ли, ради сохранения меня от глада,
присовокупить мне какую-нибудь работку? (...) Ведь просто приткнуться некуда
тому, кто написал „Некуда"»26. Страхов и сам, несмотря на некоторые удачные
полосы активного журнального сотрудничества, не раз страдал от того, что не
имел в периодике постоянного печатного органа, и в конце концов променял
вольные критические хлеба на стабильный заработок в Императорской
Публичной библиотеке и в Ученом комитете Министерства народного просвещения.
А Леонтьев, покинув дипломатическую службу, пребывал в бедственном
материальном положении значительную часть жизни.
И все-таки теперь, по прошествии многих лет, когда появилась
возможность подробно ознакомиться с обстоятельствами взаимоотношений Леонтьева
со Страховым, напрашивается еще один вывод: о недопонимании Леонтьевым
того, что именно в его взглядах находил Страхов неприемлемым и даже
враждебным. Страхов вообще был строгим критиком по складу своего ума, пуристом
по натуре, а экстравагантные, дерзкие по содержанию и прихотливые по форме
сочинения Леонтьева отпугивали даже менее щепетильных редакторов.
Если бы Леонтьев осознавал, насколько Страхову чужды и неприятны его
весьма вольные рассуждения об эстетике и морали, он бы, вероятно, поубавил
амикошонства в своих обращениях к «единомышленнику» и сократил бы,
к сожалению для своих нынешних читателей, размеры и яркость собственных
писем, в которых панибратское дружелюбие, рассказы о своем тернистом
творческом пути и просьбы парадоксальным образом сочетались с нарастающими
обличениями отвечающего отписками корреспондента.
Но Леонтьев, видимо, даже не вполне понимал, что постоянно переходит
ту нравственную и эстетическую границу, которая являлась незыблемой для
Страхова. Дело в том, что этот апологет эстетического аморализма был, по
выражению Юрия Иваска — эмигрантского исследователя, автора большой книги
о Леонтьеве (1975), —«женственным Нарциссом», «эгоцентриком»27. Иваск,
надо сказать, не очень церемонился со своим героем, не жалея ни хлестких,
полных перца суждений о его недостатках, ни хвалебных слов о его
достоинствах. Следует отметить, что Иваск с его религиозным скептицизмом не очень
различает воззрения Леонтьева до его «духовного переворота» и после. В этом
Иваск отчасти схож со Страховым, который тоже не очень доверял позднему
26 Лесков Н. С. Собр. соч.: в 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 268.
27 Иваск Ю. Константин Леонтьев (1831 -1891) // Леонтьев. Pro et contra. Кн. 2. С. 310,311.
511
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
Леонтьеву как христианину, видя в нем всё того же эстета и имморалиста, каким
он представал в молодости, что было, конечно, не вполне справедливо.
Впрочем, эти размышления о странной «дружбе» Страхова и Леонтьева
относятся преимущественно к раннему периоду, до знаменитого «обращения»
Леонтьева, произошедшего в 1871 г. Однако и позже, когда Леонтьев выступил
активным сторонником православия в его византийском или оптинском
«изводе», их отношения не стали лучше. Правда, в этот период и само общение было
незначительным. Леонтьев в эти годы радикально преобразился и из апологета
эстетического аморализма превратился в столь же настойчивого проповедника
христианской веры среди своих знакомых. Нет сомнений, что Страхов не
слишком поверил радикальному преображению личности Леонтьева и не изменил
своего прежнего отношения к нему как упоенному собой апологету
безнравственности и эстетики жизни. Об этом говорит, например, ссылка Страхова в 1892 г.
в одном из писем к Розанову на нашумевшую статью Антония (Храповицкого),
тогда архимандрита, ректора МДА, с цитатой о «священном волшебстве»28
и намеками на «сладострастную борьбу между грехом и страхом»29.
Православные настроения Леонтьева, пожалуй, только усиливали
неприязнь Страхова, который, предпочитая вообще умалчивать о своем отношении
к религии, был чрезвычайно щепетилен в отношении внешне декларируемой
веры и совершенно не терпел сочетания строгой религиозности и эстетизма.
Присланные ему для публикации воспоминания Леонтьева о Григорьеве Страхов
так и не напечатал, но и не вернул автору (формально он имел на это право, так
как статья Леонтьева была оформлена как письмо к нему). Эти воспоминания,
очень важные для характеристики Леонтьева и его отношений с «почвенниками»,
были обнаружены в архиве Страхова и опубликованы в 1915 г.30 Хорошо суть
скрытого конфликта между Леонтьевым и Страховым на основе этих
воспоминаний о первом «почвеннике» раскрыл тогда же Розанов в чрезвычайно важной
статье «К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве (Вновь найденный материал)»31.
Немаловажно еще добавить, что в тот период, когда православные
взгляды Леонтьева стали выливаться в резкие обличения «розового христианства»
и мечты о достижении Царства Божия на земле, Страхов был уже очень
близок к Л. Н. Толстому, и ему резкие нападки Леонтьева на «яснополянского
28 Архимандрит Антоний. Как относится служение общественному благу к заботе
о спасении своей собственной души? // ВФиП. 1892. Кн. 13, Май. С. 77.
29 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 108.
30 Леонтьев К. Н. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном А. Григорьеве:
(Письмо к Ник. Ник. Страхову) // Рус мысль. 1915. Сент. С. 109-124, 2-я паг. То же: Леонтьев. ПСС.
Т. 6, кн. 1. С. 7-26.
31 Подробнее об этом см. ниже, с. 529-532.
512
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
юрода», его друга, были крайнее неприятны. Страхов воспринимал
религиозное «преображение» Леонтьева с недоверием, а взятую им на себя миссию
христианского учителя и пророка воспринимал, говоря современным языком,
как своего рода церковный фундаментализм. К тому же сам Страхов как раз
в 1880-х гг. испытал на себе растущее влияние псевдорелигиозных взглядов
Толстого, которое уводило его и от славянофильства, и от консерватизма, и от
подлинного православия. По мнению Страхова, Толстой, «великий писатель
земли русской», был чист и благороден в своих духовных исканиях. Страхова
не смущали ошибки и даже ересь в проповеди писателя-проповедника и его
отклонения от церковного учения, несмотря на то что критик их видел и сам
признавал сектантскими заблуждениями. А Леонтьев, наоборот, заявлял в эти
годы в своем аристократически-бранном стиле, что «старому безбожнику»
Льву Толстому, «между прочим, за его искание и „искренность", стоит сотни
две горячих всыпать»32.
От подобной брани Леонтьева, которая дошла и до печати, Страхов еще
больше укрепился в отрицательном отношении к сомнительному в его глазах
в нравственном смысле писателю, который позволял себе при этом грубые
личные нападки на великого Толстого за его учение, пусть в чем-то и ошибочное, но
искреннее и нравственно чистое. Критик до конца своих дней верил, что Толстой
своим авторитетом и проповедью христианства отведет молодежь от нигилизма.
Через несколько лет, после отлучения яснополянского бунтаря от Церкви,
выявится окончательно, что правда была на стороне Леонтьева, а Страхов сильно
заблуждался из-за своей дружеской привязанности к великому писателю. Но ни
того ни другого не было уже на свете. Эту неправду Толстого и заблуждение на
его счет Страхова зафиксировал Розанов в своих статьях 1910-х гг.
* * *
Но корень всех обид Леонтьева на Страхова лежал не в защите
критиком Толстого и не в недостаточной определенности его религиозных взглядов,
а в том, что как редактор журналов он его неохотно печатал и сам как критик
о нем молчал. Одну критическую статью о Леонтьеве Страхов все-таки написал.
Его рецензия на книгу Леонтьева «Византизм и славянство» (1876) появилась
в газете «Русский мир», редактором которой был Ф. Н. Берг. Правда, ее выход
не стал событием — никто ее практически, кроме самого Леонтьева, не заметил.
Отзыв Страхова был в целом весьма положительным, хотя критик не прошел
и мимо недостатков книги. Страхов объяснил, как автор книги понимает
«византизм» и как византийские идеи и чувства, перенятые вместе с монархией
и православием, сплотили в одно тело полудикую Русь, а затем давали силы
Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 362.
513
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
русскому народу в дальнейшей его истории. Страхов раскрыл противоречие
между византийской культурой и племенным чувством, объяснил суть
«болгарской распри», различие между «славянством» и «славизмом». Он отметил, что
враждебные византизму черты, получающие господство в Европе, составляют
черты старости.
В заключение Страхов писал: «Вообще же, повторим, что автором
руководили глубокое религиозное чувство и глубокая любовь к России. Они его
привели к особым воззрениям на исторические явления и дали ему во многих
случаях удивительную проницательность. Как ни небрежно написана эта
небольшая книга, состоящая как будто из длинного ряда афоризмов, она есть
плод очень серьезных мыслей и ей нельзя отказать в уважении»33. Вполне
доброжелательный отзыв.
Однако ревностный к своим сочинениям и упоминаниям их в
периодической печати Леонтьев сделал по поводу этой статьи целый ряд замечаний.
Прежде всего, он был недоволен тем, что Страхов обошел стороной самое
главное в его учении: «.. .он, отзываясь очень лестно о положительной
Православной стороне моего труда — ни слова не сказал о главном — о моей гипотезе
триединого процесса развития и вторичного упростителъного смешения»™.
К тому же статья в «Русском мире» была подписана лишь инициалами,
что наводило Леонтьева на мысль о нежелании Страхова раскрывать свое
авторство. Не прошел мимо внимания Леонтьева и тот факт, что Страхов не включил
статью о нем ни в одно из своих отдельных изданий. Всё это дает основания
согласиться с предположением Леонтьева, что статья была написана
Страховым по настоянию редактора газеты Ф. Н. Берга35, который симпатизировал
консервативному публицисту.
Леонтьев снабдил расклейку этой статьи в своей дошедшей до нас тетради
с отзывами о своих сочинениях следующим комментарием: «Статью эту я ни
в одном отдельном издании Страхова не встретил, несмотря на то что он мне их
постоянно присылал с лестными и дружескими надписями. И ни разу больше
нигде и никогда он не упомянул моего имени. Я же — делал это постоянно.
„Страхов, Страхов (и) т.п."»36.
Леонтьев действительно несколько раз очень уважительно отозвался
о сочинениях Страхова, особенно о его труде «Борьба с Западом в нашей
литературе». Так, в статье «Добрые вести» (1890) он писал: «Когда речь идет
о безвыходности западной мысли во второй половине XIX века, то необходимо
прежде всего указать на книгу г. Страхова — „Борьба с Западом". Я убежден,
33 Н. С. [Страхов Н.Н.] О византизме в славянстве: (Византизм и славянство. Соч.
К. Н.Леонтьева. М., 1876) // Рус. мир. 1876. № 137, 20 мая. С. 1-2.
34 Пророки византизма. С. 501.
35 См.: Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 369.
36 В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев: Материалы неизданной книги «Литературные
изгнанники». СПб., 2014. С. 367.
514
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
что тот, кто не прочел внимательно оба тома этого замечательного труда, не
может понять, в чем же именно состоит эта безвыходность, с тою ясностью,
с которой он поймет это после прочтения».
Далее, правда, Леонтьев указывал на существенный недостаток книги
Страхова: «Положим, что и в этой книге, как и вообще в сочинениях г. Страхова,
тоже нет ясных „выходов в жизнь"; нет никакого положительного,
осязательного, так сказать, идеала; но зачем требовать от писателя непременно того, чего
он дать не может; гораздо лучше извлечь себе пользу из того, в чем он силен.
Г. Страхов — прежде всего критик. И „Борьба с Западом" есть только критика
почти всех европейских воззрений, систем, идеалов и надежд за последние
полвека. Но критика эта превосходна и верна до неотразимости!»37
А тут случилось непредвиденное. Василий Розанов, верный ученик и
единомышленник Страхова, неожиданно влюбился в Леонтьева как писателя,
придя в восторг от его известного ныне критического этюда «Анализ, стиль
и веяние»38, посвященного сопоставлению романов Толстого «Война и мир»
и «Анна Каренина». Потом прозябавший в провинциальной гимназии Розанов
заполучил двухтомник публицистических статей Леонтьева и вступил с
автором в переписку. Восторженный почитатель ощутил настолько близкую себе
натуру, что его стремительно понесло прочь от много сделавшего для него, но
вылепленного совсем из другого теста, рассудительного и методичного
Страхова, «наставника» по складу личности.
Натура же Леонтьева была совсем другая — эмоциональная, яркая,
утонченная и даже пикантная, но в то же время прямая и смелая. Это сочетание
необычайно увлекло стихийного, порывистого Розанова, и он очень скоро «сдал»
своего здравомыслящего наставника. Страхов был, конечно, умен и благороден,
но эти достоинства не вполне компенсировали недостаток темперамента. «А мы
роднимся только на страстях», — написал однажды Розанов, имея в виду свою
дружбу с Леонтьевым; «.. .нас соединила одинаковость темперамента»39.
Притягательность личности Леонтьева и поразительное взаимопонимание довершили
дело духовной измены, позволив Розанову забыть о деликатности при рассказах
новому старшему другу о своем литературном покровителе.
В письме к Леонтьеву Розанов выдал тайну, что Страхов
отрицательно относится к философским гипотезам Леонтьева и не хочет о нем писать.
37 Леонтьев. ПСС. Т. 8, кн. 1. С. 443.
38 См. эссе об этом сочинении Леонтьева: Фатеев В. А. Какой роман Толстого лучше?
(Беглые заметки о критическом этюде К. Н. Леонтьева «Анализ, стиль и веяние») // Научный
результат: Социальные и гуманитарные исследования: интернет-журнал (Белгород). 2019. Т. 5,
вып. 1. С. 23-32. URL: http://rrhumanities.rU/media/humanities/2019/l/l-2019-3_eabvTTm.pdf
39 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 320.
515
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
Причиной нежелания Страхова сообщать читателям о достоинствах
замалчиваемого консервативного мыслителя Розанов счел обычный литературный
грех — зависть. И он прямо сообщил свое мнение Леонтьеву после заочного
знакомства с ним, выставив вторым «завистником» совершенно на Страхова
непохожего Вл. Соловьева: «А Страхову и Соловьеву за молчание, конечно,
стыдно. Верьте: тут много зависти»40. А далее в пылу увлечения Леонтьевым
Розанов развернул перед ним целую панораму недостатков Страхова, и этот
поступок его никак не красит, хотя это мелкое предательство, конечно, не
выглядит таким непоправимым, как посмертный отзыв Страхова о Достоевском.
Розанов написал о Страхове, собственно, то, что обычно говорили его
недоброжелатели. Он не открыл большого секрета, но в устах близкого человека
подобная критика становилась гораздо весомее: «Но, знаете, темную сторону
в складе его характера, его сердца я давно прозреваю: он очень холоден, сух,
эгоистичен; он завистлив ко всякому дарованию и почти ненавидит его, когда
оно имеет успех; он как-то одновременно и верен (наблюдателен), и мелочен
в своих суждениях; как-то дробен весь, хотя всегда привлекателен (в письмах
и сочинениях); он, не надеясь покорить себе читателей, как-то искусственно
сколачивает себе славу: то там, то здесь искусственными мерами силится
возбудить к себе внимание. Так что письмо Ваше вдруг возбудило во мне все эти
дремавшие подозрения. Я его видел в течение 1 Уг недели на Рождестве года 2
назад и ежедневно с ним беседовал: у него характерный, неприятный,
деланный (так!) голос, при величайшем благообразии наружности: не верное ли
отражение его духовной сути?»41
Оставим на совести Розанова, к тому времени уже давно получавшего от
Страхова огромную бескорыстную помощь в литературных делах, обвинения
в эгоизме, да и смешно читать о «сколачивании славы» скромнейшим Николаем
Николаевичем, тем более в письме к прямо-таки изнемогавшему от отсутствия
известности Леонтьеву. Больше все-таки верится в хорошее, и невольно
вспоминается приводимое тем же Розановым в одной из статей мнение какого-то
старика: «Да у Николая Николаевича и органа нет, которым обоняется
бесчестное»42. Однако литераторы, как известно, люди переменчивые...
К чести Леонтьева, он напрочь отверг мысль о наличии зависти к себе не
только у Соловьева, но и у Страхова: «Но и в нем зависти собственно ничуть
не подозреваю. Хотя его-то, с его тягучестью и неясностью идеалов, я уже
никак не намерен считать выше себя (...) ибо доказателен ли я или нет, не знаю,
но знаю, что всякий умный человек поймет, чего я хочу, а из Страхова никто
ничего положитечъного не извлечет, у него все только тонкая и верная критика,
да разные „уклонения", „умалчивания", „нерешительность" и „притворство".
40 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 400.
41 Там же. С. 398-399.
42 Розанов. ПСС. Т. 2. С. 219.
516
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
Но ведь из того, что я считаю его по всем пунктам (за исключением двух:
систематической учености и уменья философски излагать) ниже себя, не следует,
что и он в этом со мной согласен. Я думаю, наоборот, он себя считает гораздо
выше: иначе он писал бы обо мне давно (...) Дурак будет тот, кто в литературе
мне позавидует, а он не дурак»43. Леонтьев здесь проницательнее своего
восторженного молодого поклонника. Но, не желая признать аргумент Розанова,
он недоумевает по поводу явной неприязни к себе Страхова: «В отношении
Страхова ко мне прежде всего есть что-то загадочное, так думает и Владимир
Соловьев. Объяснить очень трудно. Все объяснения не подходят»44.
Сам Розанов, кстати, при всем увлечении Леонтьевым, в комментариях
1913г. отмечает от себя еще одно противоречие мыслителя, связанное с
теорией триединого процесса: «Его понимание истории, его понимание судеб
человеческих — только натуралистическое. Выше мы привели исходный пункт
его размышлений — теорию трех фаз, чрез которые проходит развитие всего
живого и даже мертвого: но какое они имеют отношение к Церкви? Разве и она
им натуралистически подлежит?»45
Как бы то ни было, в своей первой посвященной Леонтьеву статье
«Эстетическое понимание природы» (1892) Розанов подробно изложил его
мировоззрение, и мыслитель, успевший ознакомиться по рукописи с первой частью
статьи, был ею очень доволен. В статье тщательно передана историософская
теория Леонтьева, но те многочисленные читатели, которые ценят Леонтьева,
как, кстати, и самого Розанова, прежде всего за яркий, прихотливый,
парадоксальный стиль, вряд ли увидели в этой обширной статье те большие достоинства,
которые восхитили не избалованного пониманием Леонтьева. Позже Розанов
писал о Леонтьеве несомненно ярче и острее. Страхов же, с интересом
ознакомившись с этим сочинением Розанова, вполне справедливо критиковал его за
то, что в статье лишком мало ярких цитат из богатых афоризмами сочинений
Леонтьева.
Легко предположить, почему сам Страхов в своей статье о книге
Леонтьева умолчал о теории триединого процесса у мыслителя, который, как считал
Розанов, «составляет ключ к разумению всех его писаний»46. Страхов не считал
Леонтьева первооткрывателем этой теории: «.. .его мысль (упрощение и
смешение разнородного есть разложение, а усложнение и выделение особенного есть
развитие) есть не что иное, как приложение органических категорий, которые
сознательно употреблять стал Шеллинг (...) У Гегеля это дело взято всего
глубже»47. В конце того же письма Страхов выносит свой приговор: «Леонтьев
43 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 343.
44 Там же. С. 344.
45 Розанов. ПСС. Т. 2. С. 104.
46 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 352.
47 Там же. С. 90.
517
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
—ф
очень даровит и изящен, но вкус у него несколько развращен, а идей у него,
в строгом смысле слова идея, нет»48. Тем не менее Страхов рад, что Розанов
работает над статьей об увлекшем его Леонтьеве, — никто тоньше не напишет.
Розанов изложил теоретические принципы Леонтьева подробно, хотя и не очень
ярко и даже несколько педантично.
Но еще до выхода этой статьи о книге Леонтьева в одном из очередных
писем недовольный Розановым и придирчивый к точности аналогий Страхов
еще раз выразил мимоходом свое несогласие с теорией Леонтьева, согласно
которой однообразие приводит к смерти как биологических организмов, так
и исторических народов: «.. .аналогия между смертью организма и тем
однообразием, в котором Леонтьев видел смерть народов, решительно не верна. Смерть
организма есть нечто быстрое, трагическое; она бывает очень разнообразна,
никакого упрощения и уравнения при ней не происходит. Иное дело смерть,
иное дело — вымирание, происходящее медленно»49.
Приложение Леонтьевым научных принципов, выработанных
биологами по отношению к организмам, к жизни народов, по мнению Страхова,
выполнено слишком произвольно: «Вообще, когда проводятся слишком далекие
аналогии и слишком высокие обобщения, у меня руки опускаются: ну что и как
тут рассудить? Все и верно, и неверно, и на правду похоже, и противоречит
ясным фактам»50. Примечательно, что биологизм метода в исполнении его
друга Данилевского Страхова не смущал, и он щедро рассыпал ему похвалы.
Что же касается Леонтьева, то наука, как считает Страхов, используется им без
достаточных обоснований, в духе позитивизма, подгоняющего научные выводы
под предшествующие им теории: «...в науке — дилетантизм с подчинением
любимым целям...»51 Розанова же, увлеченного Леонтьевым, Страхов уверял,
что в нем говорит не ненависть, а «скорее простая трезвость взгляда»52.
При внимательном чтении переписки Страхова с Розановым можно
заметить, что на целый год, пока еще был жив Леонтьев, она фактически
прерывалась,— между ними, как выразился Розанов, «пробежала черная кошка»53.
Размолвка была вызвана духовным сближением Розанова с перебравшимся
в Сергиев Посад философом, ставшим тайным пострижеником преп. Амвросия
Оптинского иноком Климентом.
А Страхов в феврале 1892 г., уже после упокоения мятежного философа,
сказал о нем в письме к Розанову слова, очень похожие на те сентенции, какие
получал от него и сам Леонтьев: «Покойный К. Н. Леонтьев не имел успеха —
а почему? Ни одна повесть, ни одна статья не имела стройности и законченности.
48 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 90.
49 Там же. С. 103-104.
50 Там же. С. 104.
51 Там же. С. 108.
52 Там же. С. 109.
53 Там же. С. 289.
518
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
Все у него было то, что называется плетением мыслей. Был и талант, и вкус,
и образованность; недоставало душевной чистоты и добросовестного труда.
Читателей иногда очень трудно обмануть».
Однако Розанов был со Страховым решительно не согласен. Он писал в
комментариях под письмом в 1913г.: «Ну, вот у Страхова все „стройно и закончено",
имеет „ясную тему и определенный конец", — но ничего не вышло, и успех лишь
ему в конце жизни „побрезжился", а на самом деле (resume Радлова) не было
никакого». Еще более разительно различие в восприятии творчества Леонтьева
между порицающим Страховым и любящим Розановым: «Ну, уж... именно не
плетение, а как стальное огниво ударяет кремень и искры сыплются! Да весь
Леонтьев может быть изложен в одной странице и рассказан в один час.. .»54
Розанов писал о Леонтьеве как о человеке большого ума и смело
сопоставлял его с гениями русской литературы: «.. .с Достоевским и Толстым Л(еонтьев)
разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого
ума. Но он именно из их категории»55. Страхов, однако, не признавал в
Леонтьеве ни «чистого сердца», ни «великого ума», особенно за резкие нападки на
его друга Толстого. Он видел в Леонтьеве лишь большой литературный талант,
дар Божий, но писатель, по его мнению, не умел им распорядиться.
И Страхов, и Леонтьев считались умными людьми. Но ум у них был
совершенно разный. Страхова с гораздо большим основанием можно назвать
философом, чем Леонтьева. У Леонтьева ум острый, пытливый, но не
философский. Он мыслит не идеями, не абстрактными категориями, а картинами,
художественными образами, афоризмами. Ему интересна психология творческой
личности, борьба идей, как религиозных, так и политических. Но взаимосвязь
идей у него относительная, не вполне логичная. Леонтьеву плохо даются
отвлеченные философские рассуждения, да он и не особенно утруждает себя их
осмыслением.
Он и сам признавался в письме к Страхову от 22 июля 1888 г. в своем
предпочтении «богословия послушания» отвлеченной философии, или
метафизике мышления: «Богословская метафизика легче — там понял, не понял
что-нибудь — не беда... Надо запомнить и слушаться, а понимание придет
само собою позднее... А не придет, так и то не беда: не мой грех\ — Поэтому,
относясь к богословию аскетически (т.е. покорно и с любовью), к метафизике
я отношусь эпикурейски: дается — приятно, не дается — ну и побоку ее; из-за
чего я буду над ней биться?»56
54 Там же. С. 105.
55 Там же. С. 388.
56 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 463.
519
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
В этом признании есть своя правота, но присутствует и что-то барственное,
женственно-капризное. Леонтьев силен не упорством и системностью своих
научных изысканий, хотя теперь встречаются попытки подвести под его
удивительные пророчества научную базу, а смелостью догадок, гипотез, фантазий...
Конечно, у Леонтьева есть свой метод анализа истории, но он просчитывает
ход событий, опираясь прежде всего на интуитивные догадки, на свое
оригинальное мировоззрение. А в основе его блестящих угадываний хода истории
лежит безжалостно-пессимистический взгляд на мир, который и позволяет ему
предугадывать роковой ход событий мировой истории. Леонтьев охотно
объясняет свои сбывающиеся мрачные предсказания опорой на апокалиптические
пророчества, однако его эсхатологический пессимизм с презрением к человеку
ближе к ницшеанскому, чем к церковному.
Розанову Леонтьев тоже откровенно писал, что философские
сочинения для него тяжелы, и он не утруждает себя их последовательным чтением:
«За большую книгу „О понимании" еще не принимался. Боюсь немножко, ибо
хотя я не лишен вполне способности понимать отвлеченности, но очень скоро
устаю от той насильственной и чужой последовательности и непрерывности,
в которую втягивает меня всякий философ. Большею частию по философским
книгам только „порхаю" с какой-нибудь своей затаенной „тенденцией"; ищу —
и порхаю; не как бабочка, конечно (ибо это для 60-летнего старика было бы
слишком „грациозно"), ну, а как какая-нибудь шершавая пчела (трутень?)»57.
Не напоминает ли это «порхание» по книгам манеру самого Розанова читать
«островками», о которой он признавался Страхову?
При этом Леонтьев заявил Розанову о своем умственном превосходстве над
Страховым, за исключением эрудиции и навыков философского рассуждения.
Страхов же, считая Леонтьева человеком острого ума, относился к его
философским (а возможно, и умственным) способностям весьма скептически.
Процитировав приведенный выше отрывок из письма Леонтьева к нему, он
сказал, что это «плохое благочестие (...) Да и философия не лучше»58.
«Союзник умный, но бездушный», — в очередной раз писал Леонтьев
о Страхове 1 июля 1888 г., на этот раз Губастову59.
Леонтьев вечно упрекал Страхова, но неизменно считал его
интересным собеседником, во многом единомышленником и даже другом, позволяя
себе снова и снова обращаться к нему с просьбами. И даже в 1888 г., почти
рассорившись со Страховым, намеревался послать ему на рецензию пять
своих фельетонов «о науке», то есть частей статьи «Владимир Соловьев против
Данилевского», предназначенных для «Гражданина», — чтобы подтвердить
правильность своих суждений по вопросам биологии, — простодушно объясняя
57 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 347.
58 Фет и его окружение. Кн. 2. С. 463.
59 Леонтьев. Избранные письма. С. 378.
520
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
—ф
это намерение: «Он ведь энциклопедия, особенно по естественным наукам»60.
Страхова он признает эрудитом, иногда даже вполне наивно, с почти
студенческим почтением к «энциклопедии». Однако за этим пиететом к магистру
зоологии, как ни удивительно, ощущается тайное чувство снисхождения
аристократа к приземленному «специалисту». Порой видно, что Леонтьеву даже
хочется придать своим талантливым, но весьма легковесным рассуждениям
более «ученый» вид, и это уважение к «науке» крушителя мещанской морали
производит забавное впечатление.
Не забудем, что Леонтьев получил медицинское образование и сам
в какой-то степени имел отношение к биологической науке. Отсюда и его
опора на органическую теорию «культурно-исторических типов» Данилевского,
и приложение к человеческому обществу вполне биологической «гипотезы
триединого процесса развития», со стадиями «цветущей сложности» и
«вторичного упростительного смешения», отвергнутой Страховым.
Теории, которыми увлекается Леонтьев, как правило, производят
впечатление не серьезной философской разработки, как это бывало у Страхова, а
своеобразной импровизации, какого-то эклектического набора ярких, оригинальных
идей, а то и вообще изобретательной эстетической игры. Леонтьеву же очень
хотелось предстать перед читателем серьезным мыслителем, создателем
основательной философской системы, автором «научного открытия и даже великого»61.
Но не в этом следует искать его главные достоинства. Даже едва намеченное
Леонтьевым здание «семистолпия» (гептастилизм), возводимое им для придания
наукообразной основательности своим прихотливым взглядам, выглядит не более
чем декоративным сооружением и выявлено в самых общих чертах лишь
увлеченным исследователем62. Забавны, конечно, и попытки создания Леонтьевым
под его началом тайного союза молодежи, и особенно его откровенное признание,
что он был бы не прочь придать ему вид иезуитского ордена.
Гипотезы или фантазии Леонтьева носят иногда несколько вольный,
дилетантский характер, и вдумчивый Страхов лучше чем кто-либо видел это.
Не слишком одобрительно относясь к такого рода «угорелым» философам, он
в глубине души, думается, уважал Леонтьева, понимая, что его историософские
пророчества, которые основываются не столько на знании, сколько на
художественной интуиции, ценны именно поразительной способностью предвидеть
мрачный ход исторических событий. Будущее только подтвердит пророческий
дар своеобразного мыслителя-пессимиста.
Страхов понимал, что образное и часто парадоксальное выражение идей
удается Леонтьеву несравненно лучше, чем последовательное их философское
60 Пророки византизма. С. 500.
61 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 357.
62 См. лучшую книгу о Леонтьеве, монографию-диссертацию: Фетисенко. Гептасти-
листы.
521
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
обоснование. Острые, оригинальные и смелые до парадоксальности оценки —
вот конек Леонтьева. Ум Леонтьева горяч, подвижен и проницателен, как огонь,
однако он в то же время почему-то лишен теплоты: он обжигает, но скорее холодом
и дерзостью анализа, смелостью вскрытия всяческой дисгармонии,
парадоксальным опровержением общепринятых истин, чем теплом человеческого единения
и любви к ближнему. Глубокие суждения о свойствах ума Леонтьева принадлежат
С. Н. Булгакову: «Почти суеверное удивление возбуждает сила его ума, недоброго,
едкого, прожигающего каким-то холодным огнем. Кажется, что слишком умен
Леонтьев, что и сам отравляется терпкостью и язвительностью своего ума. Словно
железными зубцами впивается его мысль в предмет, размельчает его и
проглатывает (...) Леонтьев образован был недостаточно и знал мало сравнительно с тем,
что требовала сила его ума. Быть может, причина этого, помимо жизненных
обстоятельств, и в том, что он был слишком горд своим умом, чтобы подвергать
себя научной тренировке, по крайней мере вне наличности к тому религиозных
побуждений. Поэтому Леонтьев остался неотшлифованным самородком. Он
обладал наряду с умом еще каким-то особым внутренним историческим
чувством. Он явственно слышал приближение европейской катастрофы, предвидел
неизбежное самовозгорание мещанской цивилизации.. .»63
Любопытно, что Леонтьеву всё хотелось потягаться со Страховым
умственными способностями и разузнать, каково отношение скрытного и даже
робкого, на первый взгляд, философа к вере. Он видел в Страхове достойного
собеседника и не раз обращался к нему с этим вопросом: «Дорого бы я дал —
чтобы наверное узнать, — что Вы в самом деле думаете об этих вещах...
Неужели Вы остановились на Православии в культурном смысле для других и на
интимном Пантеизме для себя????»64
Собственные же взгляды Леонтьев охотно раскрывал, заявляя, что
«перестал верить вовсе в ум и рассудок наш (не в мой только, а в человеческий)
и убежден теперь вот уже 4-й год, после некоторых событий, что „начало
Премудрости есть страх Божий"... Именно страх и трепет.. .»65
Что касается своих умственных способностей, то Леонтьев и сам
признавал себя прежде всего художником, не имеющим дара к восприятию метафизики.
Он писал о себе в 1888 г.: «Я же по складу ума более живописец, чем диалектик,
более художник, чем философ; я —не доверяющий вообще слишком большой
последовательности мысли (ибо думаю, что последовательность жизни до того
извилиста и сложна, что последовательности ума никогда за ее скрытою нитью
не поспеть)...»66
63 Булгаков С. Н. Победитель-Побежденный: (Судьба К. Н. Леонтьева) (1916) //
Булгаков С. Н. Тихие думы. М., 1996. С. 83.
64 Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1. С. 447.
65 Там же. С. 447^48.
66 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1. С. 91 (письмо К. Н.Леонтьева И. И. Фуделю от
6-23 июля 1888 г.).
522
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
А последовательность мысли и ясность изложения едва ли не главные
принципы работы над текстом для Страхова, и в этом они с Леонтьевым тоже
разительно несхожи.
Страхов же был последовательно назидателен в своей критике:
«...обработка нужна строгая, тщательная. (...) отчего же вы не употребляете всех
средств для успеха, отчего считаете возможным пренебрегать тем или другим?
Пренебрегать ничем не нужно, но в сущности под пренебрежением всегда
скрывается леность, неумение, распущенность работы»67.
Но неизменный менторский тон Страхова в этом случае вряд ли к месту.
Леонтьев был вполне сложившимся писателем и публицистом с собственным
стилем и ни при каких условиях не стал бы его ломать. Если же Страхов не
хотел печатать Леонтьева, то ему следовало об этом заявить прямо, но это было
не в его характере. Конечно, внешне Страхов как редактор вполне прав в своей
назидательности, но своеобразие стиля Леонтьева, при всей его очевидной
«неправильности», вряд ли нуждается в переделке, как, впрочем, и любой другой
яркий индивидуальный стиль. Да и всякий настоящий талант не способен
изменить врожденной собственной манере — как верно признавал сам Страхов,
когда предлагал Достоевскому тоже писать яснее и стройнее. Если бы автор
«Идиота» и «Бесов» последовал его совету и стал писать иначе, он перестал
бы быть Достоевским.
Раскритиковав роман «Подлипки», Страхов ставит в пример Леонтьеву,
как и всем, Толстого с его ясностью. Но сколько раз критики писали о корявости
стиля самого Толстого! Ведь очевидно, что каждый большой писатель
индивидуален и пишет по-своему, а благодаря яркости таланта заставляет читателя
принять его со всеми «неправильностями». Страхов традиционен в своих
требованиях к стилю и строю произведения, но выдающиеся писатели добиваются
права на индивидуальность. Редактор требует от Леонтьева ясности и связности
текста, хотя лучшие стороны его творческой манеры неотделимы как раз от
прихотливости и непоследовательности.
Индивидуальные творческие принципы стали поощряться чуть позже,
на рубеже веков, и Леонтьев с его эстетическим мерилом вполне вписался
в стилистику эпохи декаданса и символизма. Склад личности раннего
Леонтьева — откровенно декадентский, и параллели ему следует искать не столько
среди современников, сколько среди русских символистов рубежа веков, или,
вернее, даже среди представителей западноевропейского символизма и
декаданса, таких как Готье, Бодлер, Ренье и, конечно, раскованный английский эстет
Оскар Уайльд. Розанов проницательно указывал на связь порыва Леонтьева
к «эстетике житейских форм» с начавшимся вскоре после его смерти
эстетическим движением. Тем не менее очевидно, что Леонтьев с его изысканным
Цит. по: Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1. С. 680.
523
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
эстетизмом и зыбкостью морали был предтечей декадентства. Розанов писал:
«Он (Л(еонтье)в) не дожил немногих лет до нового поворота идей, вкусов и
поэзии в нашем обществе, которое охватывается в одну скобку „декадентства"
и, думается, самою неожиданностью своею, своими порывами вдаль, своими
религиозными влечениями и симпатиями к Древнему Востоку, вероятно,
охватило бы его душу как „последняя и смертельная любовь". Не знаю, обманывает
ли меня мой вкус: но чувствуется мне, что он был ,декадентом" раньше, чем
появилось самое это имя...»68 Правда, Розанов считал при этом, что при всей
перекличке идей и стиля Серебряный век недостаточно оценил Леонтьева.
* * *
Страхов в переписке с Леонтьевым нахваливает его романы и повести, но
вряд ли именно эти полуэтнографические по своему характеру произведения
обеспечили Леонтьеву такую популярность. И дело не в том, что эти сочинения
не так построены. Они интересны, занимательны и имеют познавательный
интерес, но просто недостаточно талантливы.
Гораздо привлекательнее Леонтьев своими шокирующими идеями,
которые часто бывают крайне субъективными и нравственно сомнительными, но
обращают на себя внимание. И еще немаловажная черта идей Леонтьева: они
тесно связаны с его пророчествами, многие из которых не были при его жизни
оценены по достоинству, а позже сбылись.
Но что, бесспорно, имеет выдающийся характер у Леонтьева — это как
раз его индивидуальный стиль. Он и сам это хорошо осознает и упорно
отстаивает его перед Страховым: «К тому же я надеюсь, что Майков, который начнет
издавать другой славянофильский журнал с Нового года в Москве, — будет
менее гнаться за тою доказательностью, которою меня преследует Страхов
(хоть Ап. Григорьев был еще недоказательнее и, главное, темнее), но за которою
читатели гонятся гораздо меньше, чем он думает. — Женщинам, я ручаюсь,
например), моя бездоказательность больше нравится, чем слишком пространные
статьи, в которых 1А содержания заключает вещи либо очень сухие, либо очень
известные»69. Леонтьев явно противопоставляет собственный стиль
тяжеловесности славянофилов: «Славянофилам вообще недоставало до сих пор легкости,
жизненности, картинности в статьях»70.
И этот особый стиль наиболее ярко проявляется не в художественных
произведениях или публицистических статьях Леонтьева и даже не в самих его
сбывающихся с поразительной точностью пророчествах, а в письмах,
раскрывающих всю многосложность его личности. Стиль Леонтьева то прихотлив,
68 Розанов. ПСС. Т. 3. С. 454.
69 Леонтьев. ПСС. Т. И, кн. 2. С. 291.
70 Там же.
524
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
то ясен, то замысловат, то предельно откровенен, то эмоционален и капризен.
Он стремится выявить самую суть вещей, и этим радикально отличается от
Страхова, который о главном, как не раз отмечалось, норовит умолчать. Это,
собственно, совершенно разные до противоположности по духу и,
следовательно, по стилю писатели. Конечно, Страхов образованнее, эрудированнее,
даже умнее, но отсутствие внутренней смелости и темперамента лишает его
того обаяния, какое есть в некоторых сочинениях и особенно в капризных
письмах Леонтьева. Но хорошие писатели и мыслители ценны именно тем,
что они все разные. Если бы умного, но педантичного Страхова не было, его
бы надо было придумать, чтобы оттенить все достоинства спонтанного стиля
Леонтьева.
Леонтьев не пишет, например, что плох роман Авсеенко, роман которого
предпочел журнал Страхова, а выражает это короче и выразительнее, вполне
по-модернистски: «Находит же Зоря, чем платить А-в-с-е-е-е-н-ке!!!»71 Это
восклицание, растянувшееся чуть ли не на полстроки, говорит о глубине
возмущения Леонтьева. Это не помешает непоследовательному Леонтьеву спустя
некоторое время разобраться, что Авсеенко по-своему толковый критик, и он
будет его хвалить, тем более что тот такой же консерватор и поклонник
аристократии, как он сам.
Леонтьев более всего гордился своими шокирующе консервативными
историософскими идеями, своими политическими пророчествами. Но для тех,
кто не разделял его идей, главным достоинством была смелость и
оригинальность его писательской манеры.
Одна из причин того, что Розанов так увлекся Леонтьевым, была, конечно,
в его изумительно свободном стиле изложения, а у Розанова эстетический вкус
имелся. Наиболее полным воплощением этого стиля были не столько
художественные сочинения Леонтьева и даже не его критический этюд «Анализ, стиль
и веяние», в котором он развернулся очень вольготно и талантливо, сколько его
переписка. В письмах, которые иногда составляют целые многостраничные
трактаты вдохновенного, прихотливого, перескакивающего с темы на тему
субъективного творчества, Леонтьев поистине неподражаем. По
выразительности и непринужденной легкости эпистолярного мастерства Леонтьева можно
сравнить если не с Пушкиным, то с Василием Розановым. Неудивительно
поэтому, что Розанов мгновенно оценил Леонтьева как чрезвычайно талантливого
писателя. В своих комментариях к их небольшой, к сожалению, переписке, он
так выразил свое восхищение: «Л(еонтье)в писал, как думал, как написаны эти
письма; надеюсь, читатель увидит, что он пишет легко, ярко, выразительно; что
в речи его нет ни непонятностей, ни лишних слов»72. Нет сомнения, что той
изумительной раскованности письма, с обильным использованием кавычек,
71 Там же. С. 297.
72 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 368.
525
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
курсивов, тире и отточий, которую позже многие отмечали у самого Розанова,
он учился, конечно, у Леонтьева.
Между тем Страхов педантично укорял Леонтьева за непоследовательность
изложения, отсутствие логики, бездоказательность, туманности и прочие
недостатки: «Вы обладаете удивительными дарами, глубиною, многосторонностию,
изяществом, тонкостию — что же Вы из всего этого сделали? Вы рассыпались,
разбросались; у Вас нет ни одного строго сосредоточенного произведения, в
котором бы сильно и определенно сказалась какая-нибудь мысль. Нет такого одного
образа, такого одного жизненного явления, на котором Вы бы долго остановились
и к которому приложили бы все силы. Все у вас бессвязно, отрывочно; Вы
бесподобный рассказчик, и некоторые страницы у Вас нужно брать в хрестоматии
как образцы изящного слога, который притом вполне жив, чужд малейшей
искусственности. Но цельного рассказа у Вас ни одного нет. Все рапсодии, все беглые
очерки. Для знатока, для творческого ценителя они превосходны, и он, несмотря
на утомление, читает их и любуется отдельными чертами»73.
Страхов был, конечно, прав с точки зрения методики «правильного
письма», но эта «школьная» правильность не распространяется на индивидуальность
самых талантливых, и тем более на гениев литературы. Внешние недостатки
стиля и составляют неотъемлемые, всеми узнаваемые признаки их творческого
почерка. Конечно, каждому из них, как, например, Достоевскому или Толстому,
приходилось отстаивать право на очевидные любому образованному человеку
«неправильности» своего стиля, но эти стилистические черты нельзя оторвать
от того содержания, которое они выражают. А Леонтьев если не говорил
открыто о своей одаренности, то явно чувствовал себя гением, и, как он говорил,
печалился о своей безвестности не из-за славы, а из-за того, что несчастное
человечество пребывает в неведении относительно его пророческих идей.
А когда эти его идеи завоевали популярность, то и его «неприбранная»
стилистика пришлась к месту.
«Вообще беспорядок изумительный», — написал как-то Страхов о
прочтенных им «Письмах с Афона», и эти слова критика, сказанные, видимо, в упрек
автору, можно отнести, но с похвалой, ко всей крайне выразительной именно
из-за кажущейся небрежности приближенной к разговору стилистической
манеры Леонтьева.
«Великим умом» называл Леонтьева увлеченный им Розанов, ставя
мыслителя, несмотря на все «запутанности» его ума и судьбы (а может, именно за
них), выше Данилевского и Страхова: «.. .сохраняю всю глубокую привязанность
к этому человеку, которого позволяю себе назвать великим умом и великим
темпераментом. В его уме, в его судьбе, в его сердце жили запутанности,
гораздо более занимательные, чем вся ученость Данилевского или Страхова»74.
73 Цит. по: Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1. С. 805.
74 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 321.
526
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
Современники, среди которых был и Страхов, Леонтьева не приняли.
Страхов решительно отвергал Леонтьева с его запутанным мировоззрением,
в котором православная ортодоксальность была крайне противоречиво
перемешана с эстетизмом.
Розанов, который считался учеником Страхова и вошел в литературу с его
помощью, был едва ли не первым из серьезных мыслителей, кто не только с
восхищением отнесся к Леонтьеву, но и сумел донести взгляды этого необычного
писателя до читателей так, что их изложение вполне устроило самого автора.
Из-за своего страстного увлечения открытым им писателем Розанов чуть
не поссорился с не менее близким ему Страховым, не желавшим участвовать
в популяризации взглядов этого радикала от консерватизма, во многом его
антипода. Горячая дружеская переписка Розанова с Леонтьевым продолжалась
почти год, до самой кончины последнего, и выявила много своеобразных черт
личности и учения мыслителя. При жизни Леонтьева при нем сложился кружок
молодых почитателей, которые усвоили его византизм, понимаемый в истинно
консервативном духе как опору на самодержавие и православную Церковь.
Однако Розанов, сделавший очень много для открытия читателям
Леонтьева, на самом деле еще больше осложнил наше восприятие непонятого,
отвергнутого и замолчанного тогда писателя. Страхов, Рачинский и другие
симпатизировавшие христианству мыслители славянофильской направленности
не считали Леонтьева подлинным христианином, а примесь эстетизма в его
взглядах расценивали как неприемлемое с нравственной стороны кощунство.
Розанов, публикуя в начале XX в., когда некому было уже его сдерживать,
свою переписку с Леонтьевым в «Русском вестнике», приложил к ней яркое
предисловие. В этом предисловии при всем восхищении литературным даром
и смелостью «византизма» Леонтьева он трактовал этого мыслителя как своего
рода дерзкого аморалиста, ницшеанца до Ницше и... антихристианина. Леонтьев,
который на протяжении двадцати лет неутомимо проповедовал православные
начала, под пером Розанова превратился во врага Христа и предтечу Ницше:
«...Леонтьев имел неслыханную дерзость, как никто ранее его из христиан,
выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, Христом
принесенного на землю, — против кротости. Леонтьев сознательно, гордо,
дерзко и богохульно сказал, что он не хочет кротости (...) ибо „кротость" эта
(...) ведет к духовному мещанству...»75 Согласно Розанову, Леонтьев лишь
внешне был христианином: «Но невозможно не заметить, что эстетизм был
натурою его, а в христианство он все-таки был только крещен.. .»76
В парадоксальности этого «пристегивания» к ницшеанству с его
антихристианской сущностью Леонтьева, который на протяжении последних двадцати
лет жил под водительством старца, неустанно пробуждая в людях веру в Христа
75 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 327.
76 Там же. С. 375.
527
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Ф
и православную Церковь, а закончил жизнь в тайном постриге, отчетливо сказался
декадентский эстетизм рубежа XIX и XX вв. и собственные антихристианские
увлечения Розанова. Такая розановская трактовка Леонтьева с его апологией
«многоцветной жизни» вполне вписывается в эстетическое разнообразие
противоречивого Серебряного века, но не вполне адекватно передает всю сложность
личности и идей мыслителя. Если бы Розанов отверг так воспринятого Леонтьева
за аморализм, как это сделали Страхов, Рачинский и им подобные, то это было бы,
по крайней мере, логично. Но Розанов не только не разочаровался в созданном
его воображением демоническом образе своего кумира, но и вознес этот
противоречивый образ еще на большую, чем прежде, высоту. Не остановили Розанова
даже слухи о гомосексуальных наклонностях Леонтьева, которые он не только
принял, но и сам усиленно распространял в собственной интерпретации как
неотъемлемый элемент своего толкования образа гениального мыслителя-бунтаря.
Розанов оказал большое и весьма противоречивое влияние на
восприятие творческого наследия Леонтьева последующими поколениями. С одной
стороны, он очень много сделал для популяризации Леонтьева как смелого,
яркого и оригинального мыслителя, как прекрасного писателя, обладавшего
своеобразным стилем. Но, с другой стороны, Розанов, с неподдельным
восхищением много писавший о Леонтьеве, раз за разом внушал читателям, что это
был мыслитель, бесконечно далекий от христианства. Некоторые предпосылки
для такой трактовки, конечно, имелись, и такая точка зрения позволяет понять
глубокое внутреннее противоречие Леонтьева. По образному выражению
Розанова, «на дне его души, на самом ее дне лежали как бы вечно грызшие друг
друга два змия: эстетизм и христианство, „эллин" и житель катакомб»77. Это
мнение разделяли многие. О том, что решающим для Леонтьева всегда был
эстетический «критерий своеобразия и мощи», а его «теория спасения» оставалась
«внешней и неорганической пристройкой к этой не преображенной, языческой
философии», писал, например, священник Георгий Флоровский78.
Однако вывод Розанова о враждебности Леонтьева христианству
чрезмерно категоричен и несет явный отпечаток его собственных религиозных
настроений: «Таким образом, со своим имморализмом (теоретическим) Л(еон-
тье)в встал как бы против Христа, в упор, прямо (...) Это — „бунт" почище
карамазовского, по спокойствию тона, в котором он ведется»79. Такая точка
зрения слишком противостоит всему тому, что Леонтьев говорил и писал на
протяжении последних двадцати лет своей жизни. Розановская теория вступает
в конфликт с реальным поведением Леонтьева, который называл себя верующим
православным человеком, жил при монастыре и неустанно проповедовал среди
современников православие, как он научился его понимать у старцев. Сейчас,
77 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 372.
78 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 307.
79 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 373.
528
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
когда читателям доступно Полное собрание сочинений и писем Леонтьева,
умозрительная конструкция Розанова рассыпается в прах.
Страхов и Рачинский в своем неприятии Леонтьева более
последовательны, чем Розанов. Во вступительной статье к публикации писем Леонтьева
в 1903 г. Розанов напомнил об отношении к Леонтьеву С. А. Рачинского. Розанов
пишет, что Рачинский, этот консерватор и церковный человек, испытывал к
Леонтьеву «непобедимое отвращение»: «Да, Константина Николаевича Леонтьева
я еще по университету помню (...) Но он сразу же меня оттолкнул некоторыми
своими мыслями, приемами, нравственно-смелыми взглядами. Я от него
отскочил, как ужаленный от гадюки»80.
Впоследствии, после обнаружения в архиве Страхова и публикации
в 1915 г. воспоминаний Леонтьева об Аполлоне Григорьеве81, Розанов отлил
свою версию об отвращении Рачинского и Страхова к гомосексуальным
наклонностям Леонтьева в устойчивые формы в очень важной для понимания личности
последнего статье «К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве»82. Ранее намеки на
нетрадиционную ориентацию литературного кумира Розанова имелись только
в книге «Литературные изгнанники» 1913 г. Страхов в ответном письме Розанову
от 22 апреля 1892 г. подтвердил догадки поклонника Леонтьева и тем самым
укрепил его в выводах. Но Страхов все-таки, кроме одного письма Розанову, не
распространялся на эту тему, а осуждал Леонтьева лишь за «развращение мысли,
грех против Духа Святого»83 — разложение славянофильства своим эстетизмом.
О. Л. Фетисенко утверждает в примечаниях к переписке Леонтьева, будто
именно Страхов был источником «версии» о гомосексуализме Леонтьева,
принятой Розановым на веру84. Так объяснить ситуацию, конечно, проще, ибо эта
версия хорошо соотносится с известным мифом о «клеветнике» и «сплетнике»
Страхове, распространяемом наиболее рьяными поклонниками Достоевского
и Леонтьева. Однако эта гипотеза противоречит самой переписке Розанова
и Страхова. Здесь, как ни странно, в качестве доказательства «от противного»,
будет не лишним вспомнить нелепую трактовку этого конфликта,
принадлежащую известному в свое время советскому критику В. Я. Кирпотину, который,
защищая Достоевского, обвинял Страхова ни много ни мало в... попытке скрыть
гомосексуальные наклонности реакционного единомышленника Леонтьева.
Сопоставляя отношение Страхова к Достоевскому и Леонтьеву, Кирпотин
даже упрекнул критика, будто он замалчивал порок Леонтьева как
единомышленника (надо полагать, как «реакционера»), а о Достоевском
(подразумевается, видимо, его «демократизм») «раструбил» (хотя Страхов ни с кем, кроме
80 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 326.
81 См. о них выше, с. 512.
82 Розанов В. К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве: (Вновь найденный материал) //
Новое время. 1915. № 14279, 9 дек.; то же: Розанов. ПСС. Т. 5. С. 370-378.
83 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 109.
84 Леонтьев. ПСС. Т. 11. С. 613.
529
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
«$»
Толстого, своими мрачными мыслями о Достоевском не делился). Вот какая
картина сложилась в болезненном воображении Кирпотина: «Впрочем, в тех
случаях, когда речь шла об угодных ему людях и единомышленниках, Страхов
был готов замалчивать любые пороки. В. В. Розанов написал Страхову о
гомосексуализме Константина Леонтьева. Розанов относился к пороку Леонтьева
снисходительно и с оправданием, Страхов — с отвращением. Однако он ответил:
„Об Леонтьеве я всё хорошо знал, но не хотел говорить Вам; знаете: de mortius
etc." (то есть — о покойниках говорят только хорошее или молчат). И в другом
письме: „Грехи К. Н. Леонтьева его личное дело, и не в них важность. Кто же
свят, кто может бросить камень в других" (...) Реальный грех Леонтьева Страхов
замалчивал; мало того — он принимал меры, чтобы и другие о нем не говорили.
О мнимом же „грехе" Достоевского Страхов трубил во все трубы»85.
Из переписки Розанова со Страховым этот смехотворный вывод Кирпотина,
конечно, никак не следует. Но и противоположное заключение О. Л. Фетисенко
на основании тех же писем Страхова и Розанова сделать невозможно. Уважаемый
редактор и комментатор образцового собрания сочинений Леонтьева не учитывает,
что Розанов сам, первым написал Страхову «о пороке К. Ник.» уже в начале 1892 г.
Лишь потом, после получения письма Розанова, Страхов 22 апреля подтвердил
его вывод, заявив, что об этом «всё хорошо знал, но не хотел говорить»86. А
Розанов в своей «версии», изложенной в комментариях к письму Страхова, прямо
указывает, что сам ранее, до этого письма Страхова, догадался о
«нетрадиционных наклонностях» Леонтьева из намеков в письмах И. Ф. Романова-Рцы и после
разговора с С. А. Рачинским, который говорил ему: «Я отскочил от Леонтьева-
студента с каким-то ужасам и омерзением»87. Другое дело, что мнение Страхова
о неприятии мужеложества было им высказано настолько уверенно и резко, что
оно окончательно утвердило Розанова в его «версии».
Современные апологеты Леонтьева игнорируют версию о гомосексуализме
Леонтьева по той простой причине, что нет никаких ее прямых подтверждений.
Но какие подтверждения тут могут быть? Разве что личные признания, каковых
Леонтьев действительно не делал, хотя и живописал свои многочисленные
романтические увлечения женщинами. Однако Страхова не в меньшей степени
возмущало сочетание языческой эстетизации порока и аморализма с религией,
а это присутствует в сочинениях Леонтьева, притом не только в ранних.
Отрицателей созданной Розановым версии (или «мифа») о содомии
Леонтьева можно понять, как и критиков его греховности Рачинского, Рцы, митрополита
Антония (Храповицкого), Страхова. Ведь это только Розанов да еще С. Н. Ду-
рылин умудрились прямо признать нетрадиционные наклонности Леонтьева
85 Кирпотин В. Я. Достоевский, Страхов — и Евгений Павлович Радомский // Кирпо-
тинВ. Я.Достоевский в шестидесятые годы. М., 1969. С. 117.
86 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 106.
87 Там же.
530
Глава 15. Страхов и К. Н. Леонтьев
—ф
и одновременно восхищаться достоинствами его аскетического «византизма».
Розанов, правда, настоящим христианином Леонтьева и не считает. Но если встать
на точку зрения Страхова, то христианство Леонтьева, конечно, этим очень сильно,
если не абсолютно, обесценивается. Почитателей Леонтьева как выдающегося
деятеля православия такой подход, конечно, не устраивает, ибо не позволяет
держаться исключительно апологетического тона в отношении любимого писателя.
Никому не хочется углубляться в исследование пороков, но какие-то
подтверждения гипотезы все-таки имеются. Это смутные эротические намеки
в ряде произведений Леонтьева, декларации в духе Ницше, неприязнь к строго
моральному миросозерцанию и восхищение эстетическими натурами, которым
«нравится и вредное, и порочное, если оно сильно, изящно, выразительно»88.
Розанов добавляет уже от себя не столько с осуждением, сколько с едва
скрываемым восхищением: «Леонтьев освобождает нас от страха порока. (...) Он
зноен, чарующ и влекущ. Он — весь соблазн, гений, сила»89.
Но нельзя не отметить, что Страхов не столько настаивает на версии
об извращенных наклонностях Леонтьева, сколько не приемлет его эстетизм,
который явно противоречит христианскому вероучению.
Действительно, как выясняется при изучении эпистолярного наследия
Леонтьева, нет причин акцентировать внимание на его гомосексуальных
наклонностях, о которых так громко и довольно бесцеремонно распространялся Розанов.
Подобные слухи, не имеющие прямого подтверждения, могли быть и просто
фантазией ригористов, возникшей на основе нарочитого эстетизма Леонтьева
и демонстративного отрицания им морали. В пользу именно такой версии говорит
хотя бы то, что Леонтьев искренне недоумевал и очень обижался на Страхова, но
всё никак не мог догадаться о подлинной причине того, почему «почти
единомышленник»90 так упорно молчит о нем и даже испытывает к нему неприязнь.
Позиция Страхова и Рачинского, не признававших Леонтьева настоящим
христианином просто как грешника, проще и понятнее, чем соблазнительные
антихристианские построения Розанова, очарованного талантами и дерзостью
любимого писателя и мыслителя. Как ни удивительно, Розанов обрел еще одного
сторонника своей теории в лице благородного человека и интересного
мемуариста С. Н. Дурылина, который разделял не только розановское восхищение
умом и смелостью Леонтьева, но и без всякого порицания рассуждал о его
«алкивиадстве», сыграв существенную роль в дальнейшем распространении
версии Розанова. Равно преклоняясь перед Леонтьевым и перед Розановым,
Дурылин полностью принимает на веру версию последнего о гомосексуализме
Леонтьева. Нельзя не отметить здесь, что сам Дурылин не только обаятельный
и нравственно чистый человек, но еще и священник. Поэтому снисходительное
88 Леонтьев. ПСС. Приложение. Кн. 1. С. 83.
89 Розанов В. В.Леонтьев об Аполлоне Григорьеве // Розанов. ПСС. Т. 5. С. 377.
90 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 345.
531
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$■
его отношение к порокам почитаемого им писателя и мыслителя не может не
вызвать недоумение.
Вот в каком стиле комментирует Дурылин сообщение Розанова о том,
почему Рачинский со Страховым «убоялись» Леонтьева: «Соблазн был для них
тем страшнее, что под золотою мглою леонтьевского афинизма и алкивиадизма
они успели, однако, разглядеть что там не одни нагие отроки и сладкожалящие
пчелы Гиметта, и тот же часослов (...) и даже монашеская куколь, и даже
березовые розги для начальной школы.. .»91 Поражает всеядность С. Н. Дурылина,
не без сентиментального умиления писавшего как о живом православном опыте
«леонтьевской» веры в «личное бессмертие»92, так и об «острых осколках алки-
виадства»93. Это особенно удивительно, ибо Дурылин был не только литератор,
но и иерей, рукоположенный во священники знаменитым старцем Алексием
Мечёвым, прославленным ныне в лике святых. Но у Дурылина была любящая
душа, и можно надеяться, что его горячая любовь к Константину Николаевичу
и Василию Васильевичу перевесит грехи собственных о них писаний.
Розанов утверждает, что Рачинский и Страхов «решительно не выносили
Леонтьева, не любили говорить о нем, не желали никакого распространения его
сочинениям, и в тайне — по мотиву: „как он смел растлить славянофильское
учение, внеся в него яд эстетизма, — в него, которое было так ясно, просто
и благостно"»9*.
Принято противопоставлять раннего Леонтьева, откровенно
исповедовавшего «эстетику жизни» и аморализм, позднему, проповедовавшему строгие
христианские, даже монашеские начала. Но ведь никуда не делись ни
утонченный эстетизм философа, ни его аффектированный аристократизм, ни
сочинение сомнительных в нравственном отношении произведений, ни эстетически
окрашенные симпатии к папизму Соловьева.
Леонтьев представляет собой очень противоречивое сочетание волевого
устремления к православной, соответствующей монашеской трактовке,
христианской вере и непобежденного аморального эстетизма.
Сегодня, когда собственные произведения Леонтьева и его письма
становятся доступными читателям в полном объеме, всё большее внимание
привлекают к себе не декадентские черты Леонтьева, которые оттолкнули от него
Страхова, а его выдающийся писательский талант и, самое главное, востребована
его неустанная и бескомпромиссная проповедь учения Христа и церковных
заветов, прежде всего послушания и страха Божия.
8
91 Дурылин С. В своем углу. М, 2006. С. 815.
92 Там же. С. 358.
93 Там же. С. 812.
94 Розанов В. В. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве. С. 377.
САлава 16
«ВЕЧНЫЙ ПЕДАГОГ» И САМОВОЛЬНЫЙ,
НО БЛАГОДАРНЫЙ УЧЕНИК
(СТРАХОВ И В. В. РОЗАНОВ)
...Он воспитывает своим строгим
и тонким отношением ко всякому вопросу.
В.В.Розанов*
£§§§ Самым близким к Страхову человеком в литературе следующего
поколения был, конечно, Василий Васильевич Розанов. Правда, по-настоящему
Розанов раскрылся как писатель-эссеист, критик и философ только в XX в.,
когда наставника и старшего друга уже не было на свете. Но его литературный
дебют — большая философская книга «О понимании» — состоялся в 1886 г.,
еще даже до знакомства со Страховым.
Розанова и Страхова сблизили консерватизм и непризнанность
«передовым» читательским обществом с его увлеченностью оппозиционными
мечтами о «светлом будущем» и глубокой приверженностью материализму или не
вполне осознаваемому философскому позитивизму. Отверженные мыслители
естественным образом потянулись друг к другу, и их переписка
свидетельствовала о взаимопонимании и теплоте чувств. Однако этой первоначальной
привязанности хватило не слишком надолго — со временем раскрылось, что
Страхов и Розанов были не вполне родственными натурами.
Как писатель и человек Розанов совершенно не походил на Страхова: он
был даже в некотором роде анти-Страховым. «Я антипод Ваш»2, — признавался
Розанов Страхову между делом, по частному случаю. Он имел тогда в виду
буквально то, что, в отличие от своего учителя, не умеет «писать в простоте»3,
то есть излагать свои мысли ясно и последовательно, как этому учил Страхов.
Но данное признание Розанова можно понимать и в самом широком смысле: он
не только неумел писать просто. Самой его натуре претила рассудительность,
1 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 402.
2 Там же. С. 307.
3 Там же.
533
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
присущая Страхову, — его всегда больше влекли темы «из мира неясного и
нерешенного». Ирония судьбы заключалась скорее в том, что эти два совершенно
разных по характеру человека сблизились и подружились.
И не удивительно, что при первой же возможности молодой поклонник
и протеже маститого философа и критика перекинулся душой к более близкому
ему по темпераменту мыслителю, увидев родственную душу в лице загадочного
порождения радикального консерватизма в союзе с «эстетикой жизни» — не то
«турецкого игумена», не то «Алкивиада» и предтечи Ницше, — как сам Розанов
позже определял Константина Леонтьева.
Помимо индивидуальных различий, Страхов и Розанов принадлежали
к разным эпохам. Страхов был одним из представителей завершающего звена
классической русской литературы, проводником в критике идеи ясности,
последовательности и упорядоченности. Воплощением литературного совершенства
был для него, конечно, Лев Толстой, проповедовавший близкий Страхову идеал
«простоты, добра и правды». На личность Страхова, без сомнения, наложило
сильнейший отпечаток то, что он с этим писателем, своим кумиром,
творчество которого стало одной из вершин эпохи реализма в литературе, состоял
в дружеских отношениях и мог постоянно созерцать его творческое величие
и нравственную чистоту.
Страхов был большим любителем оперы, почитателем Рихарда Вагнера.
В остальном вкусы Страхова в искусстве были вполне традиционными для
XIX в.: в живописи, например, он увлекался «реалистами» вроде И. Е. Репина
или Н. Н. Ге, восхищался, как и все, светотеневыми контрастами А. И. Куинджи
и эффектной картиной «Светочи христианства. Факелы Нерона» Г. И. Семи-
радского.
Розанов, если не считать более старших Страхова, Леонтьева и Рачинского,
тогда не обрел еще своих единомышленников ни в литературе, ни в искусстве.
Но едва символисты, или «декаденты», как их тогда чаще уничижительно
называли, проявились по-настоящему в конце 1890-х гг., то есть сразу после ухода
из жизни Страхова, как Розанов тут же потянулся к этим близким ему по духу
писателям и художникам «Мира искусства».
При Страхове Розанов еще только нащупывал собственный путь в
литературе и философии, но уже тогда, вопреки рекомендациям наставника, он упорно
проявлял в своих сочинениях такие черты, как хаотичность, иррационализм и
парадоксальность. У него были уже все задатки писателя грядущей эпохи — периода
декадентства, который получил в наше время пышное название Серебряного
века. Помимо отличия от предшествующей эры, в этом названии подчеркивалось,
впрочем, и уважение к классической поре отечественной словесности, которая
по праву рассматривалась потомками как «Золотой век» русской литературы.
О яркой личности парадоксалиста Розанова теперь написано уже очень
много, гораздо больше, чем о Страхове, которого, при всех его признанных
534
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
»
достоинствах — глубине мысли, редкой эрудиции и ясности стиля — подчас
воспринимают поверхностно и недоверчиво. Однако, несмотря на различия
и размолвки между ними, лучшие и самые задушевные строки из всего
написанного о Страхове принадлежат все-таки талантливому перу того же
Розанова. Тонкость психологических характеристик, которая была обусловлена
повышенной впечатлительностью молодого эссеиста, проявилась, может быть,
с наибольшей силой как раз в его многочисленных набросках к
литературному портрету учителя, послужив благородному делу прославления скромного
и безвестного философствующего критика.
Литературный портрет Страхова, созданный в многочисленных ракурсах
живого и смелого розановского слова, предстает перед читателем как
недосягаемый идеал ума и бескорыстия. Пусть Страхов — человек и писатель совсем иного
склада, чем Розанов, но из этих портретных очерков, написанных талантливо
и неравнодушно, Страхов предстает в таком ореоле, что трудно, невозможно
поверить в то, что пишут об этом философе и критике его отрицатели, как
тогдашние, так и нынешние.
О своей первой статье, посвященной Страхову, — «О борьбе с Западом,
в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (1890) —
Розанов писал: «Мне хотелось объяснить Вашу судьбу и показать Ваше духовное
смирение и нравственную красоту в век не только глупый, но и нахальный»4.
После этого вполне успешного биографического очерка Розановым было
опубликовано немало статей, в которых освещались разные стороны творчества
и личности Страхова.
В 1913 г. Розанов скомпоновал из писем Страхова, собственных
комментариев к ним и нескольких прежних статей посвященную наставнику
отдельную книгу под красивым названием «Литературные изгнанники».
Эта литературная композиция была задумана как первая из серии книг,
возрождающих в памяти потомков целый ряд незаслуженно забытых деятелей
консервативной русской мысли. Без преувеличения можно сказать, что сама
идея книги Розанова «Литературные изгнанники» представляет собой
выдающееся явление в нашей литературе. Издание 1913 г., по существу, подарило
читателям совершенно новый жанр многомерного, динамично развернутого
литературного портрета. Книга представляет собой уникальный сплав
богатого мыслями эпистолярного материала с гениальным по разнообразию
и меткости субъективных оценок и яркости индивидуального стиля авторским
комментарием.
О. Павлу Флоренскому казалось, что оригинальные комментарии Розанова
в книге «Литературные изгнанники» превосходят по своим художественным
достоинствам сами письма Страхова. Кроме того, нельзя не признать, что читателям
4 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 309.
535
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$■
порой представляется даже, что Розанов слишком преувеличил литературные
и философские достоинства Страхова, чрезмерно подчеркнул его благородство
и бескорыстие. Но черты, подмеченные и выделенные Розановым, не были им
придуманы и существовали на самом деле. Просто Страхова отличала особая
сдержанность из скромности, и это замечательное качество было его младшим
другом по достоинству отмечено и вознаграждено: Розанов, находившийся
рядом, отличался особой впечатлительностью и зоркостью и потому увидел то,
для чего другим недоставало внутреннего зрения. Внимательный, вдумчивый
читатель заметит и оттеняющие достоинства главного героя книги контрастные
штрихи, которые отнюдь не являются ложкой дегтя в бочке меда, а придают
книге Розанова еще большее впечатление достоверности.
Розанов как-то бросил между прочим меткое замечание об Аполлоне
Григорьеве, что этот выдающийся критик долго, а то и никогда, не был бы
признан без поощряющих и даже понуждающих читательский интерес объяснений
Страхова «по нашей лени к трудному чтению»5. То же самое и даже в большей
степени Розанов мог бы сказать и о самом Страхове в многочисленных своих
о нем отзывах. Да он, собственно, не раз и говорил об этом: «...Вы
оцениваетесь по достоинству лишь при втором чтении (...) в Вас надо вчитываться»6
и т.п. Страхов в своих критических сочинениях, как и Григорьев, тоже очень
серьезен и глубок, хотя неискушенному читателю он может даже показаться
простоватым из-за ясности и продуманности изложения. От Аполлона
Григорьева через Николая Страхова к Василию Розанову выстраивается основная
линия преемства в отечественной литературной критике, которая до недавнего
времени оставалась в тени тенденциозного, не соответствующего серьезным
эстетическим критериям «направленского» творчества так называемых
революционных демократов.
Розанов много размышляет об особенностях Страхова как критика и о том,
что нового привнес он в осмысление литературного творчества. Эти новые
оттенки Розанов обнаруживает в самых разных его сочинениях. Так, он пишет
по поводу книги «Заметки о Пушкине и других поэтах»: «Лучше всего в
„Предисловии" место, где Вы говорите о 1 -м условии быть критиком — о
способности к восторгу. Его теперь вовсе нет в критиках; они не только слишком
тупы для этого, но и слишком устали. Их почти нельзя осуждать; только зачем
пишут?»7 А Страхов писал в этом предисловии о качествах, которые нужны
критику, берущемуся оценивать вдохновенные шедевры поэзии: «Во-первых,
нужно быть способным к очарованию; непременно нужно испытать на самом
себе обаяние того чародея, о котором хотим рассуждать. Восторг понимается
только восторгом, и кто его никогда не чувствовал в ясной степени, тот пусть
5 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 187.
6 Там же. С. 230.
7 Там же. С. 187.
536
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
=^>
лучше о нем не говорит»8. И это, заметьте, пишет критик, которого упрекали
в сухости и даже холодности!
Об издании и продвижении Страховым сочинений Григорьева и
Данилевского, о неутомимом прославлении им гения Толстого Розанов писал: «...то,
что Вы всегда выдвигаете их вперед себя — есть одна из самых светлых и
благородных черт Вашей деятельности, личности, писаний...»9 Розанов снова
и снова указывает на такую важную положительную черту Страхова, как
«самоумаление»: «Но так, как вы отнеслись к Ап. Григорьеву, Данилевскому,
Толстому, — указать на другого и отойти в сторону (...) никто не мог бы повторить.
Это — черта XVII века, когда себе ничего не искали.. .»10
Тут и самому Розанову было с кого брать пример. Благодаря задуманной
им и частично осуществленной серии книг о «литературных изгнанниках» он
привлек внимание к теме либерального террора в литературе и заставил
вписать в историю отечественной культуры целый пласт незаслуженно преданных
забвению консервативных писателей-мыслителей.
В 2001 г. книга Розанова «Литературные изгнанники» была переиздана
с большими дополнениями, причем, помимо первой части, посвященной
Страхову, в нее вошли и построенные по тому же принципу материалы, имевшие
отношение к другому типичному «изгнаннику» — апологету «византизма»
К. Н. Леонтьеву.
Хотя объединение под одной обложкой наследия не очень ладивших между
собой мыслителей представляло собой странный акт насильственного
посмертного «примирения», но включение в эти части не публиковавшихся прежде
ответных писем обоим адресатам самого Розанова придало этому разросшемуся
тому новое диалектическое единство и, как теперь говорят, новое измерение.
Без современного, расширенного издания книги «Литературные изгнанники»,
несмотря на имеющиеся в нем недостатки композиции, датировок и прочтения
оригиналов писем, представить себе изучение творчества Страхова, Леонтьева,
да и самого Розанова теперь просто невозможно.
Как уже отмечалось, едва ли можно говорить о большом литературном
сходстве и тем более об идейной преемственности Розанова по отношению
к Страхову. Хотя оба они принадлежали к консервативному лагерю, в творческом
отношении эти мыслители не были особенно близки. А оставшись один, без
дружеской опеки, Розанов пошел совершенно другим, оригинальным
собственным путем. Однако Страхов, который, собственно, ввел Розанова в литературу,
8 Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. III.
9 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 187.
10 Там же. С. 309.
537
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
сделал для начинающего литератора так много, что тот оставался благодарным
всю жизнь и никогда не забывал отдать ему должное в своих сочинениях. Никто
не знал Страхова так близко, не проник так глубоко в его творчество и не писал
так много и ярко об этом «литературном изгнаннике», как его благодарный
ученик. Из книг и статей Розанова возникает целостный образ бескорыстного,
благородного, образованнейшего человека, мудрого философа и тонкого
критика. Если бы не Розанов с его чутким и отзывчивым сердцем, наше восприятие
Страхова, пожалуй, не было бы столь положительным — слишком сдержанным,
замкнутым, даже внешне холодным казался на первый взгляд этот скромный
и благородный труженик литературы и философии, который достойно пронес
звание русского мыслителя через тернии своей трудной жизни.
Не будет большим преувеличением сказать, что сам Розанов стал более
успешным писателем и философом, чем Страхов. Но всю свою жизнь Розанов
помнил о том, что для него сделал его старший друг, и в знак благодарности
предпринимал все усилия, чтобы о нем осталась достойная память. И ему это
бесспорно удалось: благодаря талантливым сочинениям Розанова, более чем
каким-либо другим источникам, до современного читателя, после почти столетия
замалчивания, дошел величавый образ неутомимого труженика и подвижника
литературы, поколебать обаяние которого не в силах даже самые
неблагоприятные отзывы других современников о покойном философе, литературном
критике и ученом.
Дружеские отношения Страхова и Розанова начались в феврале 1888 г.
с трогательного исповедального письма 32-летнего учителя елецкой
гимназии, начинающего литератора к довольно известному философу и критику,
перешедшему границу шестидесяти лет, что в те годы считалось возрастом
старческой мудрости и подведения итогов жизни. Это первое, предельно
искреннее письмо Розанова представляет собой очень яркий пример
эпистолярного жанра, который, к сожалению, теперь практически ушел из нашей
«компьютеризированной» жизни.
Розанов вложил в свое многостраничное письмо столько чувства, так
подробно осветил одолевающие его проблемы, что к этому посланию одинокого
мыслящего человека, к зову молодой души, ищущей духовной связи, нельзя
было не проявить внимание. Розанов, конечно, не случайно обратился именно
к Страхову. Несмотря на очевидное различие темпераментов, у них все-таки
было много общего. Прежде всего, их объединяли литературно-философские
интересы консервативно-славянофильской направленности. А это были годы,
когда в общественном мнении торжествовали совсем иные взгляды, и подобные
мыслители были обречены на идейное одиночество и естественно тянулись друг
538
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
—■$>
к другу. Сближали их также неприятие либерализма, философского и
политического нигилизма, патриотический настрой, философский идеализм.
Розанов чутко подметил, что главное настроение, пронизывающее
сочинения Страхова, на которые он обратил внимание еще с университетской поры,
это грусть. Он с пониманием и сочувствием отнесся к трагедии мыслителя,
который родился «не вовремя» и вынужден был тратить свои драгоценные
творческие силы на примитивные споры, защищая элементарные эстетические
и философские истины от торжествующих в общественно-политической жизни
сторонников материализма и позитивизма.
Страхову был очень дорог этот живой голос из провинции, так как он,
подобно любому дерзнувшему заняться писательством, очень нуждался в
читательской поддержке, которая укрепила бы его уверенность в том, что силы,
отданные им литературе и философии, не напрасны. Он не мог не заметить из
письма, что приславший его учитель гимназии увлеченно читал и знал разные
его сочинения, то есть был его постоянным читателем, — явление по тем
временам нечастое.
Следует отметить, что Розанов из скромности не написал в первом письме
о том, что и сам он был уже не новичком в литературе, автором большой и
дерзновенной философской книги «О понимании» (1886), публикация которой, к его
великому разочарованию, прошла практически незамеченной. Но от Страхова,
признанного эрудита, это не укрылось, и в первом же ответном письме он
спрашивает елецкого учителя, не он ли автор этой философская книги.
Розанов подробно рассказал в письме о своей жизни: о мучивших его
бытовых проблемах, о нелюбимой учительской работе в гимназии, но более
всего — об интересующих его философских вопросах. Как и свойственно
молодому одинокому мыслителю, вступившему в общение с опытным философом,
он вывалил на Страхова целый ворох сложнейших метафизических проблем.
Тут были вопросы и о причинности и целесообразности, о наличии темного
в мире — о «скреплении добра со злом»11 — и, конечно, о Боге. В этом сумбурном
нагромождении «вечных» вопросов философского идеализма явно сказалось
не только желание немедленно получить на них ответ мыслителя, которого
пишущий безмерно уважает как мудрого старца, но и желание ознакомить
далекого собеседника с кругом своих тем и привлечь внимание к себе. Розанов
просит Страхова прислать свой портрет и позволить ему приехать как-нибудь
во время каникул в Петербург, чтобы обсудить поставленные им вопросы при
личной встрече.
Ответное письмо из Петербурга, да еще с надписанным портретом,
несказанно порадовало Розанова. То, о чем он страстно мечтал, осуществилось: ему
удалось войти в духовное общение с уважаемым им петербургским мыслителем.
11 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 145.
539
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
На радостях в лихорадочном возбуждении он тут же пишет многостраничный
ответ, гораздо более длинный, чем первое письмо, с еще большим количеством
навернувшихся философских вопросов. Этим напором он даже слегка напугал
Страхова, который сообщает в ответ, что ему придется часто огорчать своего
молодого корреспондента молчанием, если тот будет писать «так много и так
часто»12. Рассматривая полученный портрет Страхова, Розанов подчеркивает
светлое начало личности мыслителя и по контрасту говорит о темных
сторонах своего поколения, имея в виду, конечно, и себя: «...судя по портрету, в Вас
столько цельности, силы, Вы так чужды всего того темного, что потом
превзошло в наше поколенье, так исковеркало и замутило нашу природу»13. Здесь уже
содержится намек на внутреннюю дисгармонию Розанова, на те сумеречные
настроения, которые в дальнейшем приведут его к союзу с декадентами. Розанов
тут же признается еще в одной своей глубокой литературной привязанности,
которая опять не вполне совпадает с симпатиями Страхова: «Я потому так
и люблю Достоевского (...) что он понял не только светлое, но и все темное
в подростках наших, и это темное обвил такою любовью, таким состраданием.
Мир праху его, доброго, милого человека»14.
После этого второго письма Страхов, видя порывистость и
неуравновешенность своего нового друга, начинает воспитывать Розанова. Он рекомендует ему
избегать торопливости, вести регулярный образ жизни и... взяться за «чтение
хорошей немецкой философской книги»15. Отныне переписка обретает
устойчивый характер: тон мудрого, опытного наставника — с одной стороны и
благодарного, хотя и непослушного ученика — с другой. Розанов жадно внимает
рекомендациям Страхова, но далеко не во всем следует советам старшего друга.
Сразу выяснилось, однако, что одному из советов Розанов последовать
не имеет возможности по неспособности к языкам: немецкого он не знает, да
и в изучении латыни с греческим в гимназии не блистал. Из-за незнания
языков он не смог в свое время претендовать на спасительное от гимназии место
в университетской библиотеке. Тем не менее выясняется, что в свободное от
гимназических уроков время этот энтузиаст любомудрия занимается переводом
на русский классического философского труда — «Метафизики» Аристотеля.
С греческим языком при совместном переводе Розанову помогал учитель
гимназии Первов, классик по образованию, а сам Розанов был основным толкователем
терминов и общего философского смысла «Метафизики».
Страхов берет на себя первую обузу, связанную с Розановым, —
пристроить перевод елецких учителей в «Журнал Министерства народного
просвещения», с редакцией которого он хорошо знаком. С этих пор складывается
12 Там же. С. 8.
13 Там же. С. 147.
14 Там же.
15 Там же. С. 8.
540
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
стереотип их взаимоотношений: Страхову раз за разом приходится не только
«проталкивать» в печать новые главы перевода «Метафизики», но и пристраивать
статьи Розанова, нередко подправляя их и даже читая за него корректуры. Дальше
так и повелось: даже когда Розанов уже завоевал себе литературное имя и мог
обращаться в журналы самостоятельно, напрямую, он предпочитал прибегать
к помощи Страхова. На что уж Страхов был далеким от практических интересов
человеком, но он оказался гораздо практичнее Розанова, который постоянно
нуждался «в перилах», то есть в литературной опеке, и, надо сказать, всегда
умел с этим устроиться. Василий Васильевич признавал свою беспомощность,
но если и сокрушался о своих недостатках, то была в этом и доля лукавства —
меняться в сторону деловитости он не собирался, да и не был на это способен.
В 1890-х гг. стал очевиден незаурядный литературный талант Розанова,
но окончательно выявилась и его неспособность самостоятельно вести свои
литературные дела. В письме Страхова от 22 апреля 1892 г. перечислен длинный
ряд литературных неудач Розанова: «Давно уже я все сокрушаюсь об Вас, об
разных Ваших неудачах, о том, что Вам отказали в „Московск(их)
Ведомостях)" и в „Вопросах (философии и психологии)", о том, что бестолково Вас
печатают в „Русск(ом) вестнике", о том, что не имела успеха Ваша статья об
Леонтьеве, что не напечатана особой книжкой статья об „Легенде (о Великом
инквизиторе Ф. М. Достоевского)" и т.д.»16. И Страхов отчитывает его со всей
строгостью разочарованного наставника, делая горький вывод: «К Вам нужно
бы приставить литературную няньку, которая за Вами бы ходила, выправляла
бы Ваши статьи, держала бы корректуру, издавала бы отдельно и вела бы
переговоры с журналами; некоторое время я исполнял должность этой няньки,
но я думал, что воспитание кончено. А вот Вы на своих ногах как нетвердо
ходите!»17 И Страхов терпеливо продолжал опекать своего более молодого
и более успешного друга.
Среди благородных поступков Страхова, помимо его неустанных забот
о памяти Ап. Григорьева и Н. Я. Данилевского, следует помнить и его
непосредственное участие в издании первой, не считая давней работы «О понимании»,
книги Розанова—«Легенды о Великом инквизиторе Ф. М.Достоевского» (1894),
которая ознаменовала, по существу, его настоящее вступление в литературу.
Когда у Розанова появилась мечта о публикации своего сочинения о
Достоевском отдельным изданием, Страхов — человек далеко не богатый — немедленно
предложил ему финансовую помощь. И Розанов очень ценил это, хотя так и не
успел полностью расплатиться со Страховым за изданную на его средства
книгу. В предсмертные дни Страхова, переживая о его здоровье и беспокоясь
о том, чтобы скептически настроенный философ не отказался причаститься по
16 Там же. С. 105.
17 Там же. С. 105-106.
541
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
православному обряду, он страдал также и от мучительных угрызений совести
из-за не полностью возвращенного долга.
Но и у Розанова были в отношении Страхова несомненные заслуги.
В 1890 г. в журнале «Вопросы философии и психологии» вышла первая
большая обзорная статья о творчестве Страхова, доставившая ему большую
радость. Автором этой статьи под длинным и витиеватым названием «О борьбе
с Западом, в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов
(Н. Страхов)» был, конечно, Василий Розанов. Позже эта статья вошла в книгу
Розанова «Литературные очерки» (1899), получив после редакции П. П. Перцова
более скромное название: «Литературная личность Н. Н. Страхова». Страхову
впервые была дана такая высокая оценка в печати. Знакомый Розанова, хорошо
знавший и Страхова, так отозвался на эту статью в письме: «И радостно мне
было читать высокую правду в Вашей статье о достойнейшем и скромнейшем
в наши дни писателе-человеке»18.
Хотя сочинения Розанова всё чаще появлялись в печати и он уже
составил себе некоторое литературное имя, он по-прежнему очень нуждался в опеке
Страхова и даже всё еще просил поправлять его статьи перед сдачей в
редакции. Например, он признавал позже в комментарии к письму Страхова 1890 г.:
«Ужасно я много возни с собою дал Страхову. Сам я никогда и ничего у себя
не умел исправлять; и (должно быть нуждаясь в деньгах) просил Страхова
„выправить" статью, обещавшую рублей семьдесят»19.
Надо сказать, что Розанов позволял себе иногда и покритиковать своего
старшего друга, искренне желая помочь ему преодолеть недостаток
популярности. Он не стеснялся давать Страхову пояснения и советы, размышляя, почему
его старший друг, столь глубокий и благородный мыслитель, не имеет
литературного успеха. В декабре 1890 г., например, Розанов объяснил это прежде всего
отсутствием в сочинениях Страхова эмоционального порыва и наивности —
качеств, которыми сполна обладал сам: «Прочел также Вашу статью „по поводу
книг Данилевского". Читал и все думал о Вас, о Вашей литературной
деятельности и о причинах трудного и медленного распространения Ваших мыслей
в обществе. Сколько людей с неизмеримо меньшим дарованием, не говоря уже
о честности и серьезности Вашего отношения к своей деятельности, — имеют
успех и распространение больше, чем Вы. Не мешает ли этому слишком
большая Ваша осторожность, отсутствие порыва, желания перевернуть все вверх
дном и поставить на своем, что Вы считаете истиною? В Вас слишком много
рефлексии и слаба воля, Вы все думаете, размышляете, но не стремитесь, не
порываетесь (по принципу потенциальности — это, правда, так и должно быть:
разум не развивается из ничего, но в него преобразуются другие душевные силы,
18 Там же. С. 308.
19 Там же. С. 69.
542
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
напр(имер) воля). Другого условия для успеха, кроме страстного порыва, у Вас
тоже нет: я говорю о наивности»20.
Розанов сопоставил положение в литературе Страхова с известностью
симпатичного, деятельного, но не слишком глубокого философа Н. Я. Грота
и напористого естествоиспытателя-дарвиниста К. А. Тимирязева:
«Посмотрите на Грота: ни под одною его строчкою Вы не подпишете своего имени,
и, однако, — какой успех, как известно всем его имя, хотя, правда, никто и не
знает, что собственно стоит за этим именем, чего он хочет, кроме известности,
и за что стоит, кроме того, что сам хорош. Тоже Тимирязев. Но об этом тяжело
говорить»21. Однако оба понимали, что главной причиной недостаточной
популярности сочинений Страхова и других мыслителей близкого ему направления
были консервативные взгляды, не пользовавшиеся популярностью в обществе.
* * *
Одним из самых насыщенных событиями в жизни Розанова был 1891 год.
Продолжалась его интенсивная переписка со Страховым, в которой живо
обсуждались события литературной жизни. Сам Розанов становился в это время
ее полноценным участником, так как произведения молодого писателя всё
чаще, пусть и не без помощи Страхова, стали появляться в столичных журналах
и газетах. Одной из публикаций, о которых он сообщал Розанову, была статья
«Несколько слово о Гоголе», посланная им самостоятельно в «Московские
ведомости». Статья была редактором В. Грингмутом в газету принята. Для
Розанова это было важное событие — газета читалась больше журналов, и его
необычный взгляд на Гоголя как на далекого от реализма писателя, выраженный
в этой статье, вызвал оживленные споры.
Но больше, чем литературные дела, весной 1891 г. Розанова занимали
важные события личной жизни: Василий Васильевич собрался жениться. Однако,
не имея развода от Аполлинарии Сусловой, первой жены, по договоренности
со священником, который согласился тайно обвенчать влюбленных для
церковного, пусть и незаконного, закрепления брака, пара должна была обязательно
покинуть Елец. Связанные с поиском нового места серьезные хлопоты снова
выпали на долю Страхова, к покровительству которого Розанов опять не
преминул обратиться.
В апреле 1891 г. Розанов отправился с молодой женой в свадебное
путешествие в Москву. Пока молодые радовались жизни, Страхов усердно хлопотал
в Петербурге о месте для своего подопечного у влиятельных знакомых, к услугам
которых по собственным нуждам он старался не прибегать. Один такой забавный
случай несостоявшегося обращения скромного литератора с просьбой к своему
20 Там же. С. 229.
21 Там же.
543
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
■8'
высокопоставленному другу живо опишет позже беллетрист Д. И. Стахеев
в рассказе «Станислав первой степени и енотовая шуба» (1904).
Страхов было уже договорился о переводе Розанова инспектором гимназии
в Рязань с попечителем Московского учебного округа графом П. А. Капнистом,
но по небрежности швейцара гостиницы письмо с сообщением о том, что нужно
срочно предпринять, своевременно не попало к гостившему в Москве с женой
Розанову.
Тем временем Розанов, изрядно поиздержавшись в Москве, принялся
вдруг за фельетоны для «Московских ведомостей», и эти спонтанно созданные
полемические произведения, направленные против нигилистических властителей
дум 1860-1870-х гг., стали едва ли не самыми яркими в его раннем творчестве.
Страхов очень одобрительно отозвался об эмоциональных зарисовках
умственной атмосферы этого своеобразного периода. Он писал: «Фельетоны Ваши
читаю с жадностью; какая чудесная тема, какой бесподобный тон. Слышится
человек доброй и честной души. Но Ваша страсть к отвлеченности, по-моему,
много портит»22.
Продолжалась и эпопея с переводом Розанова из Ельца. После
недоразумения с рекомендацией Страхова и тщетных попыток лично договориться
о подходящем месте с начальником канцелярии Московского учебного округа
Н. Г. Высотским летом того же года Розанов вынужденно поменял свое место
учителя елецкой гимназии на маленький захолустный городок Белый, где
директором прогимназии был его брат. Но, как нарочно, брата вскоре перевели
в Вязьму, и оставшийся в одиночестве Розанов воспринимал этот перевод как
месть за его статьи на тему образования. Розанов очень тяготился
преподавательской деятельностью, но ни Страхов, ни зарабатывавший писанием в газете
Ю. Н. Говоруха-Отрок не советовали ему уходить на вольные хлеба журналиста.
* * *
Переживания, связанные с женитьбой, хлопотами по поводу перевода
из Ельца, литературные дела — всё это, конечно, были важнейшие перипетии
в жизни Розанова. Но никак нельзя пройти мимо еще одного знаменательного
события 1891 г. в духовной жизни молодого мыслителя — его близкого, хотя
и заочного, знакомства с писателем Константином Леонтьевым.
В июньском номере «Русского вестника» за 1890 г. был опубликован
критический этюд Леонтьева «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого».
Случайно увидев в городском саду Ельца журнал «Русский вестник», Розанов
обратил внимание на это произведение писателя, про которого он тогда вообще
не слышал. Прочел пару страниц — и был этим автором мгновенно пленен.
22 Там же. С. 97.
544
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
Розанов позже не раз описывал в красках этот важный момент своей
творческой биографии. Вот одно из таких описаний: «Только что, в июне этого
года, бродя в саду „летнего клуба" в Ельце и зайдя в читальню, — я открыл
новую книжку „Русск(ого) Вестн(ика)" и, увидя „Анализ, стиль и веяние. По
поводу романов гр. Л. Н. Толстого", — был поражен (и привлечен) новизною
лица автора, имя коего под этой статьей впервые прозвучало для меня. Но с тех
пор и до настоящего времени, с колебаниями в „да" и в „нет" в смысле
согласия, он стоит для меня как привлекательнейший образец русской литературы.
В те первые минуты смелость и гордость Л(еонтье)ва больше всего меня
поразили. Он имел силу сказать вещи, каких никто в лицо обществу и читателям
не говаривал. Говорили, и пуще, — невежды. В Л(еонтье)ве же чувствовался
аристократизм ума и образования. „Позвольте, не один Аскоченский требует
розги, но и г. Вольтер". Леонтьев вообще действовал, как пощечина. „На это
нельзя не обратить внимания", — произносил всякий читатель, прижимая
ладонь к горящей щеке. Вот впечатление и действие»23.
Потрясенный этой необычной статьей, Розанов обращался к Страхову за
справками о Леонтьеве, но тот отвечал неохотно, отделываясь общими, в чем-то
загадочными фразами: «Это — эстетический славянофил, который
увлекается и религиею, и народностью, и гордостью, и смирением, и всем на свете.
Он очень чуток, и пишет изящно; беда у него одна: много вкуса и мало денег
и здоровья»24. А в конце письма сделал приписку с еще более отрицательной
и загадочной оценкой: «Леонтьева я давно знаю, но не описываю Вам его, чтобы
не согрешить; он очень не дурен был собою и великий волокита; несчастным
он быть не способен; живет в Оптиной пустыне и получает пенсию по месту
цензора»25. Достать Розанову фотографию увлекшего его мыслителя Страхов
решительно отказался. Однако Розанов не успокаивался и продолжил
интересоваться впечатлившим его писателем.
Наконец в середине апреля 1891 г. Розанов получил через Говоруху-Отрока
книги Леонтьева, а затем и коротенькое письмецо самого писателя с
благочестивыми пожеланиями. Восторгу Розанова не было конца, и на следующий день
он с вдохновением принялся за ответ. Это ответное письмо, удивительное по
искренности восхищения, своей проникновенностью напоминало его первое
письмо к Страхову, с которого началось их знакомство. Однако послание к
Леонтьеву было, конечно, совершенно иным по тональности — сам Розанов уже
представлял собой кое-что в литературе.
В конце апреля или, скорее, в начале мая Розанов в том же письме, где
сообщал о намерении жениться, поделился со Страховым радостью о том,
что у него завязалась переписка с Леонтьевым: «Скажу Вам новость: от
23 Там же. С. 62.
24 Там же. С. 75.
25 Там же. С. 76.
545
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
К. Н.Леонтьева, первой умницы нашего века, вдруг получаю письмо (1
страничка), и „Отец Климент Зедергольм44, и „Анализ, стиль и веяние44. Сегодня
я ему написал ответ. Вы знаете, до чего я его люблю, и поймете мою радость»26.
Так что о переписке Розанова с Леонтьевым Страхов был осведомлен с самого
ее начала.
Второе, на этот раз ответное, письмо Леонтьева к Розанову, написанное
8 мая 1891 г., было уже более длинным, по-леонтьевски раскованным и
содержательным. В нем Леонтьев, в частности, сообщал, что Страхов не тот
человек, к которому следовало обращаться с вопросами о нем. Он рассказал
Розанову, что за несколько месяцев до этого послал Страхову открытое письмо
со словами псалма «Уклоняющегося от меня лукавого не познах», намекая
тем самым, что не желает с ним знаться «за 30-летнюю его противу меня
недобросовестность»27. О том, что на следующий день после отправки этой
открытки он получил от Страхова книги, присланные по его просьбе,
поблагодарил пославшего и даже попросил другие, Леонтьев в письме к новому
почитателю, конечно, не упомянул.
В то время как Розанов обсуждал в мае в переписке с Леонтьевым личные
недостатки своего опекуна, сам Страхов по его просьбе продолжал заниматься
хлопотами о переводе его на новое место. Все письма этого времени полны
информации о вариантах и возможностях нового трудоустройства.
Интерес Розанова к бурлящему неожиданными идеями «непризнанному
гению», столь непохожему на всегда уравновешенного Страхова, вспыхнул
таким ярким пламенем, между ним и Леонтьевым, долго и почти болезненно
мечтавшим о подобном взаимопонимании, возникла такая привязанность, что
в отношениях Розанова со Страховым даже наметилась временная, внешне, по
письмам едва различимая трещина.
До середины июля, когда Розанов, отчаявшись, договорился о переводе
в город Белый, письма Страхова носили преимущественно деловой характер:
он всё хлопотал о месте для своего подопечного. Правда, в одном из писем
в мае Страхов не забыл раскритиковать мимоходом теорию «вторичного
упрощения» Леонтьева и добавить разящие слова, что идей в философском смысле
этого слова у него нет. На сообщение о том, что Розанов собрался писать
статью о Леонтьеве, Страхов отвечал коротко и довольно прохладно: «Очень
рад за его память. Никто не способен написать такого тонко сочувственного
отзыва, как Вы»28.
Розанову, переживавшему как раз в это время расцвет своего бурного,
кратковременного литературного «романа» с Леонтьевым, отрезвляющие
критические суждения Страхова понравиться никак не могли. Можно представить
26 Там же. С. 253.
27 Там же. С. 333.
28 Там же. С. 90.
546
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
—»
себе, что они ложились на душу горячему поклоннику Леонтьева, как капли
воды на раскаленный металл. И ведь именно в майские дни 1891 г. Розанов
совершил предательское тайное отречение от своего покровителя в письме
к новому кумиру, выставив Страхова «завистником».
Впрочем, в письме Страхову от 24 мая Розанов пошел на попятную
и признал даже некоторую его правоту, интересно объясняя попутно причины
своего увлечения идеями и личностью Леонтьева: «Относительно Леонтьева
Вы, конечно, правы, говоря о недостатке у него идей; и определение развития
и разложения просто и очевидно; но знаете, как его понимаю; он как будто из
общеизвестных аксиом (органические категории) построил теорему — такую,
которая охватывает и до того объясняет историческую жизнь в особенности
нового времени. Вот почему чтение его книг так убедительно действует, такою
новизною поражает и кажется так необъятно важным. Про себя могу сказать,
что мои антипатии к многому в текущей жизни стали рациональны, научно
обоснованны именно после чтения его книг»29.
Как ни удивительно, но даже крайне резкие слова Страхова о
развращенности вкусов Леонтьева не вызвали открытого протеста Розанова. Он
соглашается — и, словно под воздействием какой-то магии, опять переходит к похвалам:
«Поразительно и замечание Ваше о некоторой развращенности его вкусов: это
я почувствовал и при чтении его „Анализа, стиля и веяния": это развращенность
пресыщенного человека, некоторый цинизм в мысли и в чувстве; но и опять —
это выражено с такою твердостью языка, с такой бесстыдной нескрываемостью,
что поражает и — притягивает. Притягивает мужеством своим, равнодушием
к суду читателя (я таких писателей люблю, они как-то покоряют себе). И все
в целом своем делает его неуловимо прелестным в чтении. Прибавьте, что
он повсюду развивает (скорее, повторяет в применении к различному) только
одну мысль — о падении европейской цивилизации и о необходимости для нас
новой, чтобы понять, как ничем не рассеиваемый читатель все более и более
проникается его воззрениями»30.
После того как Леонтьев в переписке затронул свои отношения со
Страховым, Розанов в очередном письме дал своему литературному опекуну крайне
нелестную характеристику. С этих пор взаимоотношения Страхова, Леонтьева
и Розанова сплелись в единый сложный клубок, и распутать его не просто. Во
всяком случае, Страхов довольно кисло и не без ревности воспринимал
вспыхнувшие симпатии Розанова к Леонтьеву.
Видимо, Розанову стало всё же стыдно за то, что он написал о «зависти»
к Леонтьеву со стороны Страхова и Вл. Соловьева, и он попросил Леонтьева
«вымарать» это позорное слово, «как будто его никогда и не было», хотя тут же
добавил глубокомысленное философское обобщение на тему зависти: «Много
29 Там же. С. 264.
30 Там же.
547
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
фактов заставляло меня так думать, странных, необъяснимых отсюда (из Ельца);
и та темнота и грязь, которая обычно гнездится в том же месте, откуда
вырастают цветы литературы»31. Эта мысль, кстати, вполне приложима к ситуации,
сложившейся вокруг злополучного письма Страхова о Достоевском.
Растущее обаяние личности Леонтьева в глазах Розанова привело к тому,
что Страхову он теперь писал гораздо реже, да и тональность его писем стала
заметно прохладнее. А Страхов долго не мог понять, почему очередное
письмо Розанова «сухо и нелюбезно»32 и в нем не идет речи ни о чем, кроме его
недостатков.
Переписка Леонтьева с Розановым продолжалась совсем недолго, но она
их очень сблизила, обнаружив родственные души. Леонтьев всё уговаривал
своего нового поклонника встретиться, пока он еще жив, однако Розанов из-за
занятости и по беспечности всё откладывал встречу. А потом он неожиданно узнал
из газеты о кончине ставшего ему дорогим писателя. Розанов успел ознакомить
Леонтьева с черновым вариантом первой части статьи о нем, и страдавший от
непризнанности писатель был вполне удовлетворен тем, как Розанов изложил
его учение. Леонтьев умер 15 ноября 1891 г. и упокоился как тайный
постриженик монах Климент на кладбище Черниговского скита Троице-Сергиевой
лавры, где рядом с ним, как известно, спустя много лет обрел последний покой
и сам Розанов.
Полемика вокруг идей Леонтьева продолжилась и после его кончины.
В письме к Розанову, написанном 6 января 1892 г.33, Страхов отрицательно
отозвался и о том самом критическом этюде, с которого началось восхищение
Розанова Леонтьевым. Страхов не согласился с весьма субъективным
утверждением Леонтьева, будто в романе «Анна Каренина» меньше «реалистических
излишеств», чем в «Войне и мире». По мнению Страхова, роман «Война и мир»
ни в чем не уступает «Анне Карениной» и, наоборот, во втором романе, как
он считал, «нет свободного и широкого художественного приема, который
в „Войне и мире" вообще господствует и часто достигает бесподобной
живости»34. В этом же письме Страхов, кстати, сообщает, что читал первую часть
статьи Розанова о Леонтьеве в корректуре. По его словам, он ждал от статьи
большего, «именно больше Леонтьева»35 — у него можно было набрать много
ярких и интересных цитат. Розанову, надо думать, читать подобные письма
было не очень приятно.
А Страхов в письмах между делом снова и снова продолжал критиковать
покойного писателя, память которого Розанову стала так дорога. 20 февраля
3' Там же. С. 401.
32 Там же. С. 111.
33 В изд.: Розанов. Литературные изгнанники. 2001 — фактическая ошибка: письмо
датировано там 1891 г.
34 Там же. С. 101.
35 Там же. С. 100.
548
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
1892 г., например, он писал Розанову, что Леонтьеву недоставало ясности
изложения, душевной чистоты и добросовестного труда.
Прежде Розанов, возможно, пусть и нехотя, согласился бы. Но тут
обидные слова Страхова попали на горячую почву литературной влюбленности —
и Розанов, явно с таким суждением не соглашаясь, от ответа по поводу оценки
Леонтьева уклонился. А спустя годы, в 1913 г., издавая письма Страхова, Розанов
в комментарии парировал этот упрек Леонтьеву эмоциональным опровержением:
«Он поразительный по ясности и целости писатель»36.
Слова с упреком Леонтьеву в недостатке «душевной чистоты» Розанов
прокомментировал так: «Душевной чистоты — если понимать в смысле „VII-й
заповеди" («не прелюбы сотвори».—В. Ф.), — у него не было; но он был именно
душевно-чистый человек и писатель, шедший всегда прямо, никогда не
лукавивший, никого не обманывавший, без хвастовства, без наглости в себе, без
тщеславия и вообще „семи смертных грехов писательства"»37.
Леонтьев успел перед смертью не только порадоваться обретению
наконец достойного толкователя своих идей, но и выразить негодование по поводу
статьи Страхова «Толки об Л. Н. Толстом». Неудивительно, что у Леонтьева
эта весьма лукавая, по его мнению, апология потенциального еретика вызвала
яростное негодование, которое он выразил в своей последней перед кончиной
статье. Розанов же в письме к Страхову оценил эту весьма противоречивую
статью критика как одну «из лучших, если не лучшую за последние годы»
у него. Однако эта «утонченная, осторожная и всесторонняя апология
последнего фазиса деятельности Толстого»38 могла бы вызвать у консервативного
православного мыслителя, каковым Розанов тогда еще считал себя, и более
критическое отношение.
В то время Розанов переживал в отдаленном Белом счастливый
период начала семейной жизни, завершил написание статьи о Леонтьеве и как ни
в чем не бывало попросил покровительства Страхова этой его статье у Ф. Берга
в «Русском вестнике». «Покровительство» выразилось, помимо прочего, в том,
что Страхов читал корректуры обеих частей статьи Розанова «Эстетическое
понимание истории». Саму статью о Леонтьеве Страхов все-таки одобрил,
похвалив Розанова за «верность главной мысли и прелесть (...) изложения»39.
Тем не менее это объемистое сочинение Розанова, перегруженное экскурсами
в историю и отвлеченными рассуждениями, читается трудно и заметно уступает
последующим его ярким статьям, посвященным Леонтьеву.
Довольно сдержанные похвалы Страхова его статье привели Розанова
в восторг: «Ваше письмо с горячим сочувствием к статье моей о Леонтьеве
36 Там же. С. 105.
37 Там же.
38 Там же. С. 274.
39 Там же. С. 101.
549
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
меня бесконечно обрадовало, согрело»40. Розанов, как обычно, видит только
то, что хочет, и самые общие одобрительные слова принимает за дружескую
поддержку.
А охлаждение между ним и Страховым продолжалось. Нельзя не
отметить, что именно в это время — в августе 1892 г. — Розанов напечатал в
«Русском вестнике» статью «Идея рационального естествознания» — рецензию
на второе издание книги Страхова «Мир как целое». В статье содержались
прямые упреки автору книги за манеру «не договаривать своих мыслей до
конца», в нежелании «обнаружить самые заветные, быть может, из своих
убеждений перед толпой», в наличии между ним и читателем «пленки
благоразумия»41. В сентенции Розанова, что «быть непременно только разумным,
быть всегда правильным, размеренно добродетельным — вовсе не есть для
человека наилучшее»42, ощущается спор с ментором, возникший явно не без
влияния сочинений и личности Леонтьева.
В январе 1893 г. Розанов прямо признается Страхову, что между ними
«пробежала черная кошка»: «Таковою была тень памяти покойного К. Н.
Леонтьева; она повлекла за собою и другие тени.. .»43
В ответном письме от 22 января 1893 г. Страхов не без обиды пишет
Розанову об ослаблении связи, о том, что не понимал, «откуда могли
возникнуть неудовольствия», и только теперь уяснил причину, прямо названную
Розановым. Узнав о том, что охлаждение в отношениях и большой перерыв
в письмах с Розановым образовались из-за страстного увлечения Розанова
Леонтьевым, Страхов был явно разочарован: «Но вот Вы пишете, что из-за
К. Н. Леонтьева. Значит, Вы рассердились; потому что я ничуть не изменил
своих чувств и ничего не мог понять в Вашем охлаждении. (...) Вот Вы какой
ненадежный человек»44.
Розанов после несколько затянувшегося молчания пишет Страхову. По
своему обыкновению, он письмо не датирует, но ясно, что оно написано после
23 января 1893 г.: «Радуюсь, дорогой Николай Николаевич, что черная кошка
между нами исчезла; ей, и правда, не след(ует) быть. Удивило меня, что Вы
приписывали наше временное охлаждение моему литературному самолюбию.. .»45
Внешне конфликт был исчерпан, но на самом деле лишь загнан внутрь,
и до кончины Страхова обострения их отношений не произошло. А болезнь
и смерть Страхова вызвали новый прилив дружеских чувств и теплых
воспоминаний.
40 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 283.
41 Розанов В. В. Идея рационального естествознания // Розанов В. В. Эстетическое
понимание истории. М.; СПб., 2009. С. 132.
42 Там же.
43 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 289.
44 Там же. С. 114.
45 Там же. С. 291.
550
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
—■$>
Сама по себе критика Розановым в предназначенной для печати статье
недомолвок и умолчаний Страхова не была страшна, ибо в ней, несомненно,
присутствовала изрядная доля правды. Однако Страхову эта оценка его личных
качеств показалась несправедливой. Он обратился за сочувствием к своему
яснополянскому другу. Но любопытно, что и «сердцевед» Толстой не утешил
его, а, как и Розанов, также предлагал Страхову выйти перед читателем «без
мундира и без орденов»46.
Эти упреки Толстого и Розанова послужили поводом для очень
характерного исповедального письма Страхова о себе и причинах своей сдержанности.
Он писал яснополянскому другу, что ему стыдно заниматься собою и занимать
других своею личностью. Это объяснение позволяет лучше понять мотивировку
многих поступков Страхова. С учетом такого объяснения очень удачным
представляется определение некоторыми современными исследователями духовных
воззрений Страхова, которые так стремился выведать у него Леонтьев, как
«стыдливой» религиозности.
С тех пор у Розанова было уже два авторитетных наставника из мира
«литературных изгнанников». При внимательном изучении его творческого
и эпистолярного наследия напрашивается вывод, что эмоциональный,
стихийный Леонтьев импонировал ему даже больше, чем Страхов. Во всяком случае,
под влиянием Леонтьева, как признавался сам Розанов, его взгляды в эти годы
стали гораздо более консервативными и непримиримыми.
* * *
Характеризуя Леонтьева в статье, опубликованной в «Русском вестнике»
в качестве предисловия к публикации писем в 1903 г., Розанов отмечает, что
их с Леонтьевым соединило сходство темпераментов. А противопоставляет
он Леонтьеву на этот раз не Страхова, а еще одного своего близкого
знакомого, С. А. Рачинского, сельского педагога и церковного публициста-мыслителя.
«Безрассудного-то и не было ничего у Рачинского — безрассудного и страстного.
А мы роднимся только на страстях»47. Леонтьев был, конечно, более страстный,
непредсказуемый и смелый человек, чем Рачинский и похожий на него как раз
эмоциональной и нравственной сдержанностью, «осторожный, размышляющий,
сведущий»48 Страхов.
Бывший профессор ботаники в Московском университете, а в эти годы
скромный сельский учитель, смиренный христианин Сергей Александрович
Рачинский был еще одним человеком кроме Страхова, который очень много
сделал для Розанова. При всей своей внешней беспомощности в делах Розанов
46 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 909.
47 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 320.
48 Там же. С. 309.
551
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
хорошо умел устраивать себе помощь со стороны. Рачинский, конечно, ни
в коей мере не заслужил тех нелестных характеристик, какие Розанов
впоследствии под влиянием идейных расхождений ему давал. «Рачинский всегда был
рассудителен, до конца слов не договаривал, из принципа мыслей своих не
выводил же; у него все были середочки (?!) суждений, благоразумные общие
места, с которыми легко прожить...»49 Подобные несправедливые порицания
христианского подвижника Рачинского представляют собой, конечно, отзвуки
тех споров о христианстве, которые привели к разрыву отношений. Розанов
прав в одном: «безрассудного и страстного» в христианине Рачинском,
посвятившем свою жизнь обучению и воспитанию крестьянских детей в
православном духе, действительно не было, но этой фразой о привлекательности
безрассудства и страстей Розанов наглядно показывает, как он воспринимал
проповедника «византизма» Леонтьева, которого он противопоставляет
учителю из Татева.
Страхов с Рачинским в близком знакомстве не состоял, но Розанов в
переписке с татевским отшельником часто заводил о нем речь, представляя
Страхова как своего старшего друга и наставника. Начитанный Рачинский был,
конечно, знаком с сочинениями Страхова, наверняка слышал о нем и от своего
высокопоставленного друга К. П. Победоносцева, да и с Львом Толстым он
состоял в переписке, прекратив, правда, ее после известного псевдорелигиозного
переворота писателя. Между Рачинским и Страховым (оба они были
холостяками) имелось немало общего. Рачинский, как и Страхов, пытался постоянно
наставлять молодого и талантливого Розанова на путь истинный, но тоже без
особого успеха. Литературный талант молодого консервативного мыслителя
и у Рачинского не вызывал сомнений, однако татевскому педагогу также стало
скоро ясно, что подающий большие надежды Розанов — это стихия, не
подвластная рекомендациям и наставлениям. Тем не менее менторский тон, как
и у Страхова, преобладал почти в каждом письме сельского педагога-мыслителя.
Именно на долю Рачинского выпадет неблагодарная миссия по сдерживанию
стихийных порывов Розанова, ощутившего в продвижении в печать запретной
прежде темы связи пола и религии свою пророческую миссию.
В 1892 г., когда откровения на тему религиозного характера пола еще
не осенили Розанова, его общение с жившим неподалеку Рачинским стало
не менее интенсивным, чем со Страховым. При помощи Рачинского Розанов,
тяготясь должностью учителя гимназии, да еще в смоленской глуши, чуть
было не устроился чиновником особых поручений в ведомство
обер-прокурора Священного синода Победоносцева. Однако перевод так и не
состоялся, хотя Рачинский всё для этого сделал. Тогда Розанову пришлось просить
известного мецената, Т. И. Филиппова, о месте в Государственном контроле,
49 Розанов. Литературные изгнанники. 2001. С. 320.
552
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
—■$>
и с 15 марта 1893 г. он числился чиновником в этом типичном казенном
учреждении в Санкт-Петербурге.
* * *
В отношениях Розанова со Страховым и Рачинским присутствовала еще
одна тема, которая касалась Леонтьева, увлекшего Розанова яркостью и
дерзостью своих писаний. Если бы не привычка Розанова затевать дискуссии в
печати на любые занимающие его темы, то она, возможно, никогда и не стала бы
предметом широкого обсуждения.
В начале 1892 г. Розанов вдруг сообщил Страхову о том, что пришел
к выводу о гомосексуальных наклонностях Леонтьева на основе переписки
с Романовым-Рцы и бесед с Рачинским. При этом, однако, Розанов заявил и о том,
что обрел терпимое отношение к подобным людям после успокоивших его
сердце разъяснительных бесед с каким-то «умным старым доктором». На
отношение Розанова к восхищавшей его литературной деятельности Леонтьева,
судя по всему, это «открытие» ни в коей мере не повлияло.
Реакция Страхова была совершенно иной. 22 апреля 1892 г. он ответил
Розанову, что знал об упомянутом им пороке Леонтьева, и разразился краткой,
но гневной филиппикой против «нравственного уродства» мужеложества.
Видимо, эти резкие слова Страхова больше всего послужили тогда появлению
между ними «черной кошки» и еще больше оттолкнули от него Розанова, так
как для него Леонтьев ни в коей мере не потерял своего обаяния ни как
писатель, ни как личность: «Леонтьев был редко чистосердечный человек, с редкою
отзывчивостью на всякую нужду, с любовью к конкретному, индивидуальному,
с привязанностью к человеку, а не только к мозговым абстракциям. По письмам
ко мне я успел положительно полюбить его. А грехи его—тяжкие, преступные
грехи — да простит ему милосердный Бог наш.. .»50
Страхов в ответном письме написал, что в нем говорит не ненависть,
а «скорее простая трезвость взгляда»: «Грехи К. Н. Леонтьева его личное дело
(...) Но важно развращение мысли, грех против Духа Святого»51. Последние
слова очень важны, и они, вероятно, больно задели Розанова. Тяготение его
к Леонтьеву было настолько неодолимым, что он был готов даже разорвать
отношения со Страховым. На это выразительно намекают перерывы в обмене
письмами, хотя упорное нежелание Розанова ставить даты на своих письмах
и неудобное для сопоставления отдельное размещение комплектов их писем
в структуре издания несколько затрудняют задачу проследить за этим.
В переписке с Рачинским обсуждение щекотливой темы отсутствует. Но не
следует забывать, что Розанов воспроизвел в письме к Страхову содержание их
50 Там же. С. 280.
51 Там же. С. 109.
553
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
разговора с Рачинским во время визита Розанова в Татево об отвращении
будущего ботаника к щеголявшему аморализмом Леонтьеву еще в студенческие годы.
Вопрос о содомии Леонтьева был на долгие годы забыт, хотя Розанов,
увлеченный темой пола и, в частности, своеобразием «людей лунного света»,
конечно, о ней всегда помнил. В его многочисленных статьях о Леонтьеве
присутствуют малозаметные намеки на женственность его почерка,
прихотливость стиля и прочие детали, которые, впрочем, служат ему лишь средством
более яркой и точной характеристики, без какого-либо осуждения. Розанов
пронес свою противоречивую оценку личности Леонтьева через всю жизнь.
И уже перед самой революцией, в 1915 г., тема нетрадиционных
наклонностей Леонтьева и его отношений со Страховым и Рачинским неожиданно
снова всплыла в творчестве Розанова. Но вернемся к этому вопросу позже,
в соответствии с хронологией.
По переезде Розанова в Петербург начинается совершенно новый период
его личного общения со Страховым, который продолжается до кончины критика
и философа в январе 1896 г.
Его творчество в это время становится еще более консервативным, чем
ранее. Розанов писал впоследствии о том, что влияние Леонтьева привело
к вспышке консервативного радикализма в его сочинениях: «Я стал в
значительной степени под влиянием Леонтьева жесток в литературе, в писаниях,
в требованиях, мнениях, жесток, взыскателен и неумолим (...) Успокаиваться
и отходить от Л{еонтье)ва я начал только около 1897-го года, 1898 года,
когда... terribile dictum52 начал отходить (дело прошлое и можно рассказывать)
от христианства, от церкви...»53
Хотя к этому времени Розанов стал уже довольно известным публицистом
и критиком, он так и не научился обходиться без дружеской помощи Страхова,
который по-прежнему помогал ему пристраивать статьи в журналы и всё еще
наставлял на путь истинный. Розанов признавал ценность его советов, но делал
всё по-своему.
Ученик чаще разочаровывал наставника, хотя Страхов никогда не
переставал ценить его литературный талант и сетовал лишь на поразительное
неумение своего подопечного им распорядиться. 28 июня 1895 г., вернувшись
домой после онкологической операции из госпиталя, где его навещал Розанов,
Страхов разочарованно писал Толстому о своем подопечном: «А Розанов —
какое странное и жалкое существо! Он очень даровит — в том смысле, как он
употребляет это слово; но он не может справиться с своим дарованием. Он
пишет вдохновенно, но смутно и часто бестолково. Да и ни с чем он не умеет
справиться; с женою, с дочерью-ребенком, с знакомыми, со службою — везде
он, добрый и умный, находит поводы к тяжелым, мучительным отношениям.
52 Как ни ужасно в этом признаться (лат.).
53 Розанов. Литературные изгнанники. Кн. 2. 2010. С. 8.
554
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
—«>
Я все боюсь за него, как будто он в постоянной опасности. Он далеко не
здоровый человек и сам за собой, кажется, смотреть не может. А я-то когда-то
воображал, что это — крепкий молодец, провинциальный учитель гимназии,
привыкший к своей глухой жизни! Оказался — мухортик, очень милое и очень
слабонервное существо»54. Это было своего рода «завещание», сигнал, по
которому можно было предсказать дальнейший извилистый творческий и
жизненный путь подопечного Страхова.
После того как в конце 1895 г. началось новое обострение болезни
Страхова и стало ясно, что дни его сочтены, Розанов очень обеспокоился тем, чтобы
его наставник перед смертью причастился. Страхов в этот период под влиянием
Толстого сильно проникся скептицизмом и отошел от Церкви, а по
некоторым данным, стал даже бывать в лютеранской кирхе55. Поэтому с исповедью
и причастием он затянул, и в печати появились сообщения, что он от причастия
отказался. Впоследствии писатель Стахеев опроверг это сообщение, заявив, что
перед кончиной Страхов попросил пригласить священника, но когда священник
пришел, он уже умер56.
Розанов написал о смерти Страхова несколько замечательных статей-
некрологов. Но он не был бы Розановым, если бы иногда не противоречил сам
себе. Так, в 1896 г. в двойном некрологе о Страхове и Говорухе-Отроке (в той
ее части, которая относилась к Говорухе-Отроку) Розанов позволил себе прямо
упрекнуть Страхова за назидательность и ригоризм, увидев в его
«правильности» нечто сходное с чистотой «институтки».
Розанов нащупывает тут слабое место Страхова и скорее прав, чем нет,
но всё же обидно, что едва Страхов отправился в мир иной, как его верный
ученик начинает уже стремительно от него отрываться. Можно с уверенностью
сказать, что Розанов был в общении со Страховым не вполне свободен. Он
слишком зависел от старшего друга в практических делах и не позволял себе
до конца откровенно высказывать собственные мнения, во многом не согласные
с творческими установками Страхова.
Но если внимательно читать сочинения и переписку Розанова, то среди
его многочисленных хвалебных прижизненных отзывов о Страхове
прорывались и такие, которые уже указывали на их существенные расхождения во
взглядах. О серьезной размолвке начала 1890-х гг., связанной с увлечением
Розанова Леонтьевым, шла речь выше. Но не менее важным, может быть,
было признание, сделанное Розановым в 1902 г. в рукописном предисловии
к намеченному им в будущем изданию своей переписки с Леонтьевым. В нем
54 Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 1011.
55 См.: ДурылинС.Н.Троицкие записки / публ. и примеч. А.Резниченко и Т.Резвых//
Наше наследие. 2016. № 117. С. 95.
56 См. подробнее о последних днях Страхова и Розанова в статье: Фатеев В. А. Две
кончины // Соловьевские исследования. 2019. Вып. 2 (62). С. 113-127.
555
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
—■$■
Розанов уже прямо признал, что они со Страховым были слишком разными
и при всей дружбе и сходстве дисгармония их отношений неизбежно должна
была привести к разрыву: «Но если были люди не близнецы (несросшиеся,
дисгармоничные), то — этот почивший дед нашего критического,
философского и публицистического сознания и я. Общение со Страховым доставляло
мне величайшее наслаждение. Вот старый седой дуб, корни которого, ноги
которого так хочется омыть; но, омыв, бежать в безвестную даль...»57 В
статье, посвященной переписке с Соловьевым, полевевший Розанов указывает
и более широкую причину отхода от Страхова: он сочувствует «доблестному
выступлению» Соловьева в том, что «с Данилевским и Страховым нужно было
разойтись», так как славянофилы «щитом» своего «кабинетного идеализма»
прикрывали «житейскую нечистоту»58.
* * *
Как хорошо, однако, что этот наметившийся разрыв Розанова с традицией
произошел уже после того, как Страхов скончался. Он не дожил до
окончательного разочарования в Розанове, который пустится с 1897 г. во все тяжкие,
стремительно обратившись от консерватизма и славянофильских настроений
к исследованию неизведанной области взаимосвязи религии и пола в союзе
с новыми единомышленниками из числа декадентов. Всю тяжесть разрыва
Розанова с консервативной религиозной традицией пришлось принять на свои
плечи стойкому христианину С. А. Рачинскому. Нет сомнения, что Страхов,
будь он жив, отверг бы, как и Рачинский, новое увлечение своего подопечного
из-за неприязни к моральной нечистоте, связанной с той областью, в которую
бросился Розанов. Переход к темам, освещающим таинственную связь пола
и религии, от Леонтьева с его эстетическим имморализмом представляется
гораздо более естественным, даже при всех крайностях его политического
и церковного «византизма».
Эти новые темы, приведшие к разрыву Розанова с группой эпигонов
славянофильства, сблизили Розанова с кругом «декадентов», или символистов,
которых он сам еще недавно громил как «сатанистов». Петр Петрович Перцов,
через которого произошло сближение Розанова с литературным кружком
Мережковского и художниками объединения «Мир искусства», вспоминал позже, как
Розанов ссылался на своего наставника, с опаской сближаясь с «декадентами»:
«Разве Страхов пошел к ним больше одного раза?»59
Кстати, Перцов тоже относился к Страхову с почтением и гордился тем,
что стиль предисловия к его первому сборнику «Молодая поэзия» похвалил
57 Розанов В. В. Природа и история. М.; СПб., 2008. С. 7.
58 Розанов. ПСС. Т. 3. С. 462.
59 Перцов. Литературные воспоминания. С. 223.
556
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
—ф
такой «ригорист», как Страхов. Составленный Перцовым сборник
«Философские течения» вышел лишь в марте 1896 г., и составитель искренне сожалел,
что книгу не увидел «единственный человек, от которого можно было ожидать
о ней веского слова, — Н. Н. Страхов»60.
Любопытно, что сближение Розанова с Перцовым произошло именно на
почве уважения к памяти Страхова. В 1896 г., когда вышло несколько
некрологов о Страхове, написанных Розановым, Перцов откликнулся письмом к их
автору, в котором выразил восхищение благородной личностью его покойного
старшего друга: «Я лично видел Страхова мало — всего раза 3-4, незадолго
до смерти, и только в то же время начал знакомиться с его книгами, но этот
человек останется для меня одним из самых дорогих воспоминаний. Что-то
было во всей его личности, во всем его высоком и суровом „служении" (как
прекрасно Вы выразились) влекущее и покоряющее или — лучше сказать снова
Вашими же словами — что-то „просветляющее" — просветляющее не столько
в том, что он извне вносил в тебя новые взгляды и идеи, сколько в том, что он
выяснял тебе твое собственное содержание и твой собственный долг — выяснял
самого тебя...»61
Пока был жив Страхов, Розанов, несмотря на его причуды и
«завихрения», всё еще держался в рамках традиционного консерватизма. Но сразу же
после кончины своего наставника и благодетеля Розанов безрассудно и всецело
увлекся новой темой — темой пола, которая увела его далеко от страховских
и вообще традиционных славянофильских или «почвенных» тем и по-новому
осветила всю его творческую личность. Движение это было бессознательным
и неодолимым, и Розанов чувствовал в себе нечто пророческое. Страхов,
скептически относившийся к таким «угорелым» мыслителям, уже не мог повлиять
на его настроения.
Правда, священник-философ о. Павел Флоренский впоследствии
утверждал, что это новое направление исканий Розанова тоже тесно связано
с органицизмом Страхова и прямо из него вытекает. Этим о. Павел провел
более глубокую связь между Страховым и Розановым. О. Павел Флоренский
заявил даже странную мысль, будто Страхов при дальнейшем естественном
развитии тоже дошел бы до темы пола. Гипотеза, конечно, любопытная, но
она скорее характеризует неуемную фантазию самого Флоренского, чем
Страхова.
Но что интересно: примерно в том же духе мыслил еще раньше П. П.
Перцов, который 8 марта 1900 г. писал Розанову по поводу его статьи «Три кита»:
«Очень хорошо. Совсем хорошо. (...) Главное хорошо, что Вы ставите вопрос на
всё более и более широкую почву. Ведь в сущности страховский „мир как целое"
есть тайно двигающий принцип Вашей мысли. (...) Прежде была опасность,
60 Там же. С. 161.
61 П. П. Перцов — В. В. Розанову. 8 нояб. 1899 г. // РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 77.
557
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
что Вы всё сведете на почву одной семьи и выйдет что-то вроде Зола с его
„Fecondite" — „плодитесь и размножайтесь".. .»62
У каждого из оригинальных русских мыслителей, тяготевших к
пророческому началу, — своя, отличная от других точка упора. Для Розанова таковой
стала тема семьи и брака, к которой он пришел от органической философии,
сближавшей его со Страховым, под влиянием болезненного переживания
проблемы церковного брака и развода из-за собственной семейной ситуации.
Розанов прорывался к собственной теме через ее полемическое
обсуждение с другим своим старшим собеседником — С. А. Рачинским, несколько
напоминавшим Страхова своей аскетической сдержанностью и этическим
ригоризмом. В 1896 г. Розанов, рассказав в письме к Рачинскому о своей
семейной драме, стал с каждым последующим письмом всё откровеннее развивать
увлекшую его тему пола. Аскетически настроенный Рачинский решительно
отверг ранние попытки Розанова живописать свои «брачные арабески»63,
чем невольно подтолкнул его к отходу от консервативно-славянофильского
направления.
Разрыв Розанова с традиционным консервативным мировоззрением
почвеннической окраски впервые был печатно обозначен им в 1897 г. в письме
в редакцию либерального «Северного вестника», в котором он декларировал
свои расхождения с консерваторами и пытался найти точки соприкосновения
с более либеральными литераторами новой волны. Казалось бы, среди причин
этого отхода от консерватизма никак не могло быть пагубного влияния
Леонтьева, который слыл строгим консерватором и верующим христианином. Но на
самом деле тот эстетический имморализм, который составлял неотъемлемую
часть противоречивых воззрений Леонтьева, был так воспринят Розановым, что
парадоксальным образом оказал на его отход от христианства и консерватизма
очень существенное и, может быть, даже решающее влияние.
Перцов в своих воспоминаниях точно подметил этот нарастающий
отход Розанова от традиционных воззрений, связывавших его со Страховым,
в сторону современных веяний в литературе и жизни: «Последний из старых
славянофилов отчасти надеялся на молодого защитника традиций школы,
отчасти опасался его, когда под обликом благонамеренного продолжателя
проглядывал вдруг enfant terrible, чувствовались черты какого-то нового,
необычайного явления...»64 Нет сомнения, что первым громким сигналом
о начале этого отхода от страховского традиционализма стало увлечение
Розанова Леонтьевым в 1890 г.
62 П. П.Перцов — В.В.Розанову. 8 марта 1900 г. // 1900 год в сочинениях Василия
Розанова, Ивана Романова-Рцы и Петра Перцова / изд. подгот. А. Дмитриев и Д. Федоров. СПб.,
2014. С. 41.
63 П. П. Перцов — В. В. Розанову. 21 февр. 1900 г. // Там же. С. 36.
64 Перцов. Литературные воспоминания. С. 260-261.
558
Глава 16. Страхов и В. В. Розанов
* * *
В 1915 г. в архиве Страхова была найдена и опубликована дорогая
Леонтьеву рукопись его воспоминаний об Ап. Григорьеве, которую он на протяжении
многих лет безуспешно призывал Страхова напечатать или вернуть ему. Страхов
молча отказывался рукопись публиковать, но и не возвращал ее автору. Этот
скрытый конфликт и был, по всей видимости, основной причиной осложнения
его отношений с «почти единомышленником» Леонтьевым.
После публикации воспоминаний Леонтьева о Григорьеве стало ясно,
почему Страхов не стал их печатать: Леонтьев подчеркивал такие черты
Григорьева, на которых, по мнению Страхова, не следовало акцентировать
внимание. Интерес к ним Леонтьева в глазах Страхова свидетельствовал о скрытой
порочности самого автора мемуаров. Розанов написал по этому поводу статью,
в которой сложный клубок отношений между Страховым и Леонтьевым с
участием С. А. Рачинского, испытавшего в молодости «нестерпимое отвращение»
к демонстративному отрицанию Леонтьевым нравственности, получил вполне
разумное разъяснение. Розанов объяснил, почему взгляды имморалиста
Леонтьева были неприемлемы для Рачинского и Страхова, которые расценивали
его как «растлителя» славянофильского учения «ядом эстетизма», и сделал
существенное добавление, имея в виду уже, конечно, не Страхова с Рачинским,
а себя: «И, подойдя к этому огню, опаляешься... между прочим, снисхождением
к явным порокам, к явно дурному»65.
С этой точкой зрения иные почитатели Леонтьева, очарованные либо его
жгучим политическим консерватизмом, либо твердыней его «византийского»
православия с опорой на «страх Божий», могут не соглашаться, но причины
нерасположения Страхова и Рачинского к их кумиру Розанов объясняет довольно
убедительно. Подтверждением этого служит хотя бы то, что гипотезу Розанова,
подрывающую мнение о стойком консерваторе и церковнике Леонтьеве,
поддержал уже в советское время в своих воспоминаниях его младший современник,
принявший в 1920 г. священный сан, — Сергей Дурылин. Об этом удивительном
факте подробнее сказано в главе 15, посвященной Леонтьеву.
* * *
Страхов и Розанов были очень разными людьми. Но при всех различиях
их связывала одна общая благородная черта — беспокойство о памяти
несправедливо забытых и непризнанных писателей, первым из которых для Розанова
стал Страхов. Деятельность Розанова по воссозданию исторической памяти
в отношении «литературных изгнанников» достойна всяческой благодарности.
Розанов. ПСС. Т. 5. С. 377.
559
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
«8=
Розанов писал в «Уединенном»: «Всегда передо мною гипсовая маска
покойного нашего философа и критика, Н. Н. Страхова, — снятая с него в гробу.
И когда я взглядываю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какою-то
тенью, а не реальностью, — только от того одного, что он не шумел, не кричал,
не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги, — у меня душа
мутится (...) Да и сколько таких»66. «Что же я всё печалюсь? Отчего у меня
такое горе на душе, с университета. „Раз Страхова не читают — мир глуп".
И я не нахожу себе места»67.
И все-таки Розанов верил, что время, как это обычно бывает, расставит
всё по местам и Страхов обретет то высокое место в нашей культуре, которого
заслуживает своими праведными трудами: «В конце XX века для него найдется
свой Эрн, как он нашелся для Сковороды»68.
Розанов никогда не забывал первого литературного наставника и опекуна.
Даже в революционную пору, когда собственные антихристианские настроения
Розанова достигли пика, он вспомнил вдруг о Страхове как о достойном
всяческого уважения хранителе традиционных заветов: «К ПОРТРЕТУ СТРАХОВА.
...праведный писатель... святой писатель... монастырь-писатель... Как ты
прекрасен в своей старомодности»69.
66 Розанов. Листва. С. 196,
67 Розанов В. В. Последние листья. М., 2000. С. 43.
68 Розанов В. В. Когда начальство ушло... М., 1997. С. 252.
69 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М., 2000. С. 266.
СЛлаба 17
МЕСТО СТРАХОВА В ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Раз Страхова не читают —мир глуп.
В. В. Розанов1
^§§«§ Страхов не относится к числу самых ярких представителей русской
литературы и философии, но он, бесспорно, заслуживает достойного места в истории
русской культуры. Розанов справедливо сравнил Страхова с Е. А. Баратынским,
скромная муза которого, не возвышаясь на фоне таких гениев, как Пушкин или
Лермонтов, всё же добавляет к великолепной гамме русской поэзии XIX в.
особый оттенок философской глубины и уединенной задумчивости. Точно так же
и Страхов, заметно уступая по своим творческим задаткам Толстому,
Достоевскому, Соловьеву и некоторым другим корифеям русской литературы и
философии второй половины XIX столетия, привнес в русскую мысль и литературную
критику своего времени негромкую, но совершенно самостоятельную и важную
ноту. Именно Страхову принадлежала честь пронести заветы настоящей
литературы через труднейший период 1860-1880-х гг., когда господствовали чуждые
его творческому и жизненному идеализму направления, принижавшие значение
подлинного творчества. Розанов писал, что Страхов опередил свое время на два
века и искупил своей деятельностью позорный леворадикальный и «направлен-
ский» период застоя в отечественной литературной критике и философии. Этот
мыслитель принадлежал к тем немногим, кто отстаивал заветы пушкинского
«самостоянья» во времена всеобщего опьянения материализмом и позитивизмом.
Страхов был одним из самых образованных людей своего времени.
Историк К. Н. Бестужев-Рюмин выделял Страхова из своего окружения, высоко ценя
беседу с ним. «Просвещеннейшим» из современников назвал его известный
богослов митрополит Антоний (Храповицкий). Страхов знал семь языков, был
известным переводчиком литературы по естественным наукам и философии.
Он обладал огромной эрудицией, которую признавали все. Но его отличала
исключительная скромность, и он не кичился ни своим интеллектом, ни
образованием и никогда не стремился демонстрировать свои знания.
1 Розанов В. В. Последние листья. М., 2000. С. 43.
561
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Жил Страхов также очень скромно, по-холостяцки, если не сказать
по-монашески, и главным богатством его аскетического жилища были книги.
Библиотека Страхова составляла около 12 тысяч томов, причем она ценна не
только наличием уникальных изданий, но и исключительной тщательностью
и всеохватностью их подбора. При этом, конечно, Страхов не просто собирал
книги, как библиофил, а был их прилежным читателем. По своей начитанности
Страхов представлял собой редкое явление. «Он ведь энциклопедия, особенно
по естественным наукам»2, — писал о нем философ К. Н. Леонтьев. Обширными
знаниями в области естественных наук Страхов заметно выделялся в той
гуманитарной среде, в которой он преимущественно вращался. Но и его познания
в философии и литературе также были уникальными по глубине и обширности.
Разносторонняя образованность Страхова стала одним из факторов, которые
обеспечили ему заметное место в отечественной культуре.
Среди знакомых Страхова были обер-прокурор Синода К. Н. Победоносцев,
главноуправляющий по делам печати Е. А. Феоктистов, министр просвещения
И. Д. Делянов; а министр финансов И. А. Вышнеградский был его товарищем
со времен совместной учебы в Главном педагогическом институте. Среди его
постоянных знакомых были и другие влиятельные лица. Не совсем сведущие
или завистливые люди иногда подозревали его из-за этого в корысти. Но, как
отмечал публицист Михаил Меньшиков, Страхову были не нужны высокие
связи и он, вопреки подозрениям, не искал их, ибо он и в своем кабинетном
затворничестве находился в постоянном и тесном общении с величайшими
умами и литературными гениями человечества.
Страхов не стремился ни к высоким должностям, ни к правительственным
наградам, ни к влиятельным знакомствам. Однако он чрезвычайно ценил
дружеские беседы о литературе и философии, был дружелюбен и внимателен при
общении, и собеседники к нему тянулись. Страхова связывали достаточно тесные
отношения с большинством самых значительных писателей, поэтов, публицистов
и мыслителей того времени: Ап. Григорьевым, Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым,
Н. С. Лесковым, Н. Я. Данилевским, Д. В. Аверкиевым, Д. И. Стахеевым, И. С.
Аксаковым, историком К. Н. Бестужевым-Рюминым, философами Вл. С. Соловьевым,
М. И. Каринским, Н. Я. Гротом, Э. Л. Радловым, В. В. Розановым. Он был знаком
и состоял в переписке с такими известными публицистами, как М. Н. Катков,
А. В. Никитенко, А. А. Киреев, П. Д. Голохвастов. Среди его друзей были
лучшие поэты России того времени — А. А. Фет, А. Н. Майков, Я. П. Полонский,
А. А. Голенищев-Кутузов, великий князь Константин Константинович (К. Р.).
Страхов был знаком и со многими из своих идейных противников — если не
лично, то заочно. Н. А. Некрасову он еще в 1850-х гг. посылал в «Современник»
свою повесть, правда, получил отказ. Издавна был он знаком и с редактором
2 Пророки византизма. С. 500.
562
Глава 17. Место Страхова в истории русской культуры
—ф
«Вестника Европы» М. М. Стасюлевичем — с ним он по поручению Л. Н.
Толстого готовил к изданию том избранных произведений великого писателя. Вся
литературная оппозиция хорошо знала критика как полемиста Косицу еще со
времен почвеннических журналов Достоевского, и многие из ее представителей
ожесточенно спорили со Страховым. Среди его литературных оппонентов
можно назвать, например, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева,
М. Е. Салтыков-Щедрина, Н. К. Михайловского, М. А. Антоновича и многих
других, вплоть до революционера П. Н. Ткачева... Знал он множество издателей от
A. А. Краевского до А. С. Суворина и его главных сотрудников М. О. Меньшикова,
B. П. Буренина и В. В. Розанова. Среди его знакомых были критики А. Л.
Волынский, Ю. Н. Говоруха-Отрок, Б. В. Никольский.
Можно сказать, что практически вся русская словесность знала Страхова,
и он встречался с большинством писателей и мыслителей, которые были ему
интересны.
* * *
С 1861 г., когда Страхов начал сотрудничать в журнале «Время», и до
последних дней своей жизни он находился в самом центре русской журналистики,
активно воздействуя на литературный процесс. Работая в журналах «Время»
и «Эпоха», он оказал большое влияние на формирование взглядов выдающегося
писателя Ф. М. Достоевского. Этот период творческой деятельности Страхова
достаточно известен прежде всего благодаря его подробным воспоминаниям
о Достоевском. Менее изучен период их совместного сотрудничества в газете-
журнале «Гражданин», когда Достоевский был его редактором. Требует более
тщательного изучения и дружеское общение с Достоевским в один из
наиболее плодотворных этапов журналистской деятельности Страхова — в период
его сотрудничества в качестве редактора и автора в журнале «Заря», где была
опубликована значительная часть его философской публицистики, составившей
три сборника «Борьба с Западом в нашей литературе».
В изучении творческого пути Достоевского без воспоминаний Страхова
были бы огромные лакуны. Страхов подробно и четко разъяснил положение
каждого из участников журнала «Время», взаимоотношения журналов с другими
периодическими изданиями, особенно со славянофильским «Днем» и «Русским
вестником» Каткова, показал истоки и процесс формирования почвенничества
как литературного направления. Критик раскрыл ведущую роль Достоевского
на всех направлениях деятельности журналов «Время» и Эпоха», показал
эволюцию взглядов Достоевского, подробно описал все нюансы формирования
почвеннической идеологии редакции.
Как известно, Страхов был магистром зоологии, но научная карьера у него
не задалась, и он не внес большого вклада непосредственно в естественные
563
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
ф
науки. Однако естественно-научные знания играли огромную роль в его
многочисленных трудах по натурфилософии. Книга Страхова «Мир как целое. Черты
из науки о природе» (1872) представляет собой несомненный и оригинальный
вклад в исследование философии природы.
Страхов был известным журналистом и много времени провел в
литературно-философских спорах. Основной темой его журнальной и газетной
полемики была борьба с нигилизмом — главным общественно-политическим
недугом русского образованного общества того времени. Он неустанно боролся
с засильем отрицательного направления в публицистике, философии и
литературной критике. Книга Страхова «Из истории литературного нигилизма.
1861-1865» (1890) является важным свидетельством об этой идейной борьбе
в отечественной культуре.
Страхов отстаивал идеализм в философии в пору всеобщего опьянения
материализмом и теорией прогресса. Книга «Философские очерки», в которой
собраны статьи Страхова по истории философии (СПб., 1895; 2-е изд. Киев,
1906), показывает, что Страхов был вполне самостоятельным и глубоким
мыслителем. Существенным развитием идей Страхова в области познания стала
его книга «Об основных понятиях психологии и физиологии» (1888). Среди
научно-философских сочинений Страхова важное место занимают его статьи
по философии и методологии науки. Он показал ограниченность возможностей
рационалистической науки и необходимость большего использования
философской методологии в разработке научных проблем.
Страхов был прекрасным переводчиком и в вынужденные перерывы в
литературной журнальной работе перевел большое количество книг по философии
и биологии. Среди этих книг—четыре тома «Истории новой философии» Куно
Фишера, книги А. Брема о жизни птиц и животных, «История материализма
и критика его значения в настоящее время» Ф. Ланге в двух томах, «Об уме
и познании» И. Тэна.
Основная заслуга Страхова в области литературной критики
заключалась в том, что он первым раскрыл выдающиеся художественные достоинства
романа Л. Н. Толстого «Война и мир» и заявил о его высоком месте в мировой
литературе.
Исключительное благородство Страхова проявилось в его бескорыстной
деятельности по подготовке и изданию произведений своих покойных друзей
и по сохранению памяти о них у потомков. Страхов собрал разбросанные по
периодическим изданиям главные критические статьи Ап. Григорьева и, издав
их отдельным томом, показал выдающееся место друга и наставника в
отечественной литературной критике. Впервые изданные Страховым письма
Григорьева с его комментариями вызвали оживленные дискуссии и
заложили основы будущего восприятия Григорьева как великого русского критика,
философа и поэта.
564
Глава 17. Место Страхова в истории русской культуры
Ф
Еще больше трудов положил Страхов на издание сочинений
выдающегося естествоиспытателя, публициста и мыслителя Н. Я. Данилевского и защиту
его идей. Он добился того, что единственный в своем роде историософский
труд Данилевского «Россия и Европа» выдержал целых пять изданий и стал
популярен у отечественных читателей, хотя у этой книги, которую называли
«катехизисом славянофильства», было много влиятельных идейных
противников. Полемика Страхова по поводу идей Н. Я. Данилевского с философом
Вл. Соловьевым стала не только заметным явлением в истории русской
общественной мысли, но и сплела Страхову настоящий венок благородства
и принципиальности.
Заслуживает отдельного упоминания и полемика Страхова по поводу
второго обширного труда Данилевского — книги «Дарвинизм. Критическое
исследование». Страхов не только руководил изданием этого фундаментального
исследования, раскрывающего ложность ставшего чрезвычайно популярным
учения об эволюции, но и отстаивал правоту изложенных в этой книге выводов
в спорах с авторитетнейшими сторонниками учения Дарвина.
Страхов завоевал себе высокое место в истории русской общественной
мысли еще и тем, что постоянно внушал идею необходимости культурной
самостоятельности русского народа и призывал к преодолению идейной зависимости
от европейской цивилизации. Три сборника Страхова «Борьба с Западом в
нашей литературе» стали его важнейшим вкладом в сокровищницу национально
ориентированной философской публицистики.
Очерк Страхова, посвященный деятельности и мировоззрению А. И.
Герцена, занял заметное место среди его лучших сочинений. Страхов показал
эволюцию издателя оппозиционного «Колокола», который уехал в Европу
убежденным западником, а там постепенно настолько разочаровался в
мещанстве европейской цивилизации, что превратился почти в славянофила
по взглядам. Большинство писавших о его книге «Борьба с Западом в нашей
литературе» останавливались на этом философско-публицистическом
сочинении как характеризующем Герцена с необычной стороны и в то же время
настолько убедительном, что в дальнейшем без ссылок на Страхова или
даже заимствований его идей не обходилась и не обходится ни одна работа
о Герцене.
В сочинениях и переписке Страхова показана важнейшая роль
православной религии в жизни русского народа. Очерк Страхова о путешествии на
Афон — яркий пример его большого интереса к Церкви и монашеству.
Сразу после кончины Страхова о выдающемся значении его творческого
наследия писали практически все издания, однако затем, как это часто
бывает, его имя упоминалось всё реже и реже. Несколько всколыхнуло внимание
к Страхову издание в 1913 г. его обширной переписки с Л. Н. Толстым, но через
несколько лет грянула революция.
565
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
* * *
Розанов в свое время сетовал, что Страхова забывают и почти никто его
не читает. Но он верил, что время одного из самых умных отечественных
мыслителей еще придет.
Правда, после революции наступили времена, когда Страхова не только
не читали, но и само его имя было в забвении. Он считался одним из самых
больших «реакционеров» в нашей литературной критике, так как постоянно
полемизировал с так называемыми революционными демократами,
признанными в советское время непререкаемыми авторитетами в сфере общественной
мысли. Имя «реакционера» Страхова оставалось всё же на слуху благодаря его
близкому сотрудничеству с Ф. М. Достоевским и дружбе с Л. Н. Толстым. За всё
советское время лишь однажды, в 1974 г., вышел небольшой том избранных
литературно-критических статей Страхова.
Нельзя не отметить, однако, что в 1976 г. имя Н. Н. Страхова через его
книгу «Мир как целое» открывает для себя Н. К. Гаврюшин, впоследствии
профессор Московской духовной академии, который пишет о полузабытом
мыслителе целый ряд статей3, с восхищением открывая в его наследии важные
для современности идеи.
Можно считать, что не сумели оценить Страхова по достоинству и в
эмиграции. Достаточно сказать, что известный историк русской философии Василий
Зеньковский утверждал в книге «Русские мыслители и Европа» (1926), что
Страхов «остался второстепенной фигурой в истории русской мысли»4. Протоиерей
Георгий Флоровский хотя и упоминает Страхова среди «значительных имен»
периода «философского пробуждения»5, не уделяет ему в своей книге «Пути
русского богословия» ни одного абзаца. Исключение составил, пожалуй, лишь
Д. И. Чижевский, который посвятил Страхову большую и содержательную главу
в книге «Гегель в России»6, а также ряд ценных статей и заметок, в которых
прослеживал взаимосвязи мыслителя с идеями Достоевского и Ницше.
Ситуация разительно изменилась в 1990-х гг. О Страхове, который был
связан, как выяснилось, с огромным кругом самых крупных отечественных
писателей и философов, от Аполлона Григорьева до Розанова, стали говорить
и писать всё больше. Интерес быстро вырос, так как пришло понимание, что
собеседник таких глубоких писателей и мыслителей не мог сам по себе не
представлять серьезную величину. В Петербурге появилось Русское
философское общество памяти Н. Н. Страхова, созданное Н. П. Ильиным (писавшим
3 Основные статьи этого автора собраны в кн.: Гаврюшин Н. К. У колыбели смыслов:
Статьи разных лет. М, 2019. (Исследования по истории русской мысли; Т. 22).
4 Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. С. 87.
5 Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 330.
6 Впервые — на нем. яз.: Tschizewskij D. Hegel in Russland. Halle, 1934; на рус. яз.:
Чижевский Д. И. Гегель в России. СПб., 2007.
566
Глава 17. Место Страхова в истории русской культуры
тогда под псевдонимом Мальчевский). Это общество стало выпускать журнал
«Русское самосознание», в котором Страхову отводилась почетная роль
одного из родоначальников подлинной русской философии. В книге Н. П. Ильина
«Трагедия русской философии» (2008) Страхов рассматривается как один из
тех мыслителей, которые внесли решающий вклад в формирование русской
философской культуры. Страхов является, можно сказать, главной фигурой
и недавнего сборника избранных очерков и статей Н. П. Ильина «Моя борьба
за русскую философию» (2020).
В 1990-х гг. началось активное освоение литературно-философского
наследия В. В. Розанова, приведшее к созданию 30-томного собрания сочинений
бывшего литературного ученика Н. Н. Страхова. Вошедшее в это собрание
книга «Литературные изгнанники» (2001), в которую, помимо писем к
Страхову К. Н. Леонтьева и комментариев к ним В. В. Розанова, вошли прежде не
публиковавшиеся письма В. В. Розанова к обоим мыслителям. Эта книга стала
своего рода краеугольным камнем всех исследований, посвященных
творческому пути Страхова.
В 2003 г. вышло еще одно бесценное издание — двухтомник переписки
Страхова с Л. Н. Толстым. Издание, правда, оказалось труднодоступным, так
как вышло в Канаде, но работали над ним отечественные специалисты из
Государственного музея Л. Н. Толстого. В 2018 г. вышел первый том заново
подготовленного отечественного издания переписки7.
В 1990-х гг. начала исследовательскую работу по изучению творческого
наследия Страхова доцент Пермского университета Н. В. Снетова. В списке ее
работ огромное количество статей и две монографии, посвященные Страхову8.
В последние десятилетия издано несколько основных произведений
и сборников сочинений Страхова9. Большое количество трудов Страхова
теперь доступно для читателей в Интернете.
В 2000-х гг. в Белгороде, на родине Страхова, осознав масштаб личности
прежде полузабытого земляка, стали проявлять большее уважение к памяти
философа и критика: в Белгородском государственном университете начали
регулярно проводить не только местные, но и всероссийские конференции,
посвященные преимущественно его философскому наследию. В 2007 г.
профессор кафедры философии Белгородского университета Е. А. Антонов
издал первую монографию о Страхове10. В 2010 г. вышла в свет составленная
7 Переписка Толстого и Страхова. 2018. Второй том готовится к изданию.
8 Снетова. Философия Страхова; Снетова Н. В. Николай Страхов: западная и русская
философская мысль в интерпретации органициста: монография. Пермь, 2013.
9 Страхов Н. Н. Мир как целое: Черты из науки о природе / предисл. и коммент.
Н.П.Ильина. М., 2007; СтраховН.Н. Избранные труды / сост., авт. вступ. ст. и коммент.
Н. И. Цимбаев. М, 2010; Страхов Н. Н. Борьба с Западом. М., 2010.
10 Антонов Е. А. Антропоцентрическая философия Н. Н. Страхова как мыслителя
переходной эпохи: монография. Белгород, 2007.
567
Часть И. «Избранный собеседник избранных умов»
белгородскими учеными коллективная монография специалистов по Страхову
из разных городов11.
В 2010-х гг. в Белгородском государственном университете начался
новый виток интереса к Страхову. Статьи о нем белгородских исследователей
стали всё чаще появляться в центральных журналах12. Сотрудница
Белгородского университета Е. Н. Мотовникова защитила докторскую диссертацию по
философии Страхова13. В университете открылась Научная библиотека им.
Н. Н. Страхова, где не только собирают издания Страхова и всевозможные
материалы, имеющие отношение к земляку белгородцев, — библиотека стала
настоящим научным центром, деятельность которого не ограничивается
изучением литературно-философского наследия Страхова. В библиотеке регулярно
проводятся всероссийские и международные конференции. В 2018 г. к очередной
международной конференции, посвященной Страхову, был выпущен первый
альбом из биографической серии к 190-летию со дня рождения ученого14,
организована постоянная программа научных мероприятий. В частности, в Научной
библиотеке им. Н. Н. Страхова проводятся заседания литературно-философского
клуба «По средам у Страхова». Библиография по изучению творческого наследия
Страхова постоянно увеличивается, что свидетельствует о несомненном росте
интереса к этому прежде полузабытому мыслителю.
Осознание важности роли Страхова в истории русской культуры,
довольно высокая степень изученности его творческого наследия и освоения корпуса
его обширной переписки свидетельствуют о том, что пришло время издания
собрания сочинений Н. Н. Страхова.
11 Н. Н.Страхов в диалогах с современниками: Философия как культура понимания.
СПб., 2010.
12 ОльховП. А. Здравый смысл и история: (заметки к полемической эпитафии Н. Н.
Страхова «Вздох на гробе Карамзина») // Вопросы философии. 2009. № 5. С. 125-132; Он лее.
Свободный консерватор: на подступах к философии истории Н. Н. Страхова // Философия и
культура. 2010. №8. С. 103-109; МотовниковаЕ. Н., ОльховП. А. Кант в философских
исследованиях Н.Н.Страхова: (Опыт эпистемологической ориентации) // Кантовский сборник. 2017.
Вып. 3 (53). С. 22-37.
13 Мотовникова Е. Н. Герменевтические стратегии в философской публицистике
Н.Н.Страхова: (Историко-философский анализ): дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.03. М., 2016.
14 Н.Н. Страхов. Альбом-биография.
m
приложение
Н. Н. СТРАХОВ. 1828-1896
БИОГРАФИЧЕСКАЯ КАНВА
ЛИТЕРАТУРА О Н. Н. СТРАХОВЕ
1860-1917
Н.Н.СТРАХОВ. 1828-1896.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ КАНВА
1828
16 (28) окт. Родился в Белгороде Курской губ. Отец, протоиерей Николай Петрович
Страхов (t 30.09.1834), настоятель Смоленского кафедрального собора,
преподаватель богословия и словесности в Белгородской духовной семинарии.
Мать, Мария Ивановна, урожд. Савченко, из дворянского малороссийского
рода (t после 1851). Ее отец, Иоанн Трофимович Савченко (1760-03.04.1831),
был ректором Белгородской семинарии (1798-1829) и настоятелем собора.
Дед со стороны отца также был священником, протоиереем, ректором Курской
духовной семинарии.
Брат матери, священник Николай Иванович Савченко (в монашестве Нафанаил;
18.02.1802-04.03.1875), который занимался воспитанием С. после смерти его
отца, впоследствии стал архиепископом Черниговским и Нежинским (1874).
Старший брат философа, Павел Николаевич Страхов, доктор медицины (t в декабре
1860 г.). Второй, младший брат, Петр, чиновник (t в августе 1875 г.). Младшую
сестру звали Антонина (| в 1860 г.).
1834
15 июля. Дядя, брат матери, о. Нафанаил, назначен ректором семинарии в г. Каменец-
Подольский (возведен в сан архимандрита 9 сент.).
30 сент. Смерть отца от чахотки в возрасте 37 лет. После смерти мужа мать увозит
детей на Украину, в г. Каменец-Подольский, к своему брату, архим. Нафанаилу,
назначенному ректором Каменец-Подольской семинарии. Николай продолжает
учебу в Каменец-Подольском духовном училище.
1839
5 мая. Дядя, архим. Нафанаил, переведен в Кострому и назначен ректором Костромской
духовной семинарии.
Май. После назначения архим. Нафанаила ректором Костромской семинарии семья
Страховых переезжает в Кострому.
1840
Учеба в духовном училище.
1841
Сент. Поступление в Костромскую духовную семинарию, которая располагалась в
Богоявленском монастыре.
571
Приложение
Ф
1842
Сент. Дядя, архим. Нафанаил, ректор Костромской семинарии, в которой учился С,
вызван «на чреду священнослужения и проповеди слова Божия» в Санкт-Петербург.
Племянники Николай и Петр остались в Костроме.
1844
Весна. По окончании 4-го курса семинарии увольняется из духовного звания «по
состоянию здоровья», как и брат Петр. Мечтает об учебе в Петербурге.
15 сент. Вызван в Петербург живущим там дядей для поступления в Санкт-
Петербургский университет.
6 окт. Приезжает в Петербург. Живет у дяди в Александро-Невской лавре и посещает
занятия в университете вольнослушателем. Готовится к экзаменам.
Переписывается с о. Иоанном Скивским, преподавателем французского языка
Костромской духовной семинарии. Отношения с дядей портятся из-за стремления еп.
Нафанаила ограничить вольное поведение юноши, увлеченного соблазнами
городской жизни.
1845
Авг. Сдав вступительный экзамен, поступает на математический факультет университета.
26 авг. Дядя возведен в сан епископа Ревельского и викария Санкт-Петербургского.
1846
После ссоры с дядей лишился его опеки и приюта в лавре. Летом отправлен дядей
в Белгород, но к осени по настоянию матери и родных решил вернуться в столицу
для продолжения обучения.
В столице поселился у тети, сестры матери, Екатерины Ивановны, испытывал нужду.
Зарабатывая уроками, продолжал учиться в университете еще полтора года, но
из-за материальной нужды запустил занятия.
1848
Янв. Переводится в Главный педагогический институт на физико-математическое
отделение, на казенное обеспечение, взяв тем самым на себя обязательство
по окончании института посвятить восемь лет «элементарно-педагогической
службе».
1850
Пишет автобиографическую повесть «По утрам» в форме дневника. Отправляет ее
в журн. «Современник», но получает отказ за подписью редактора Н. А. Некрасова.
572
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
Ф
1851
Лето. Окончил курс педагогического университета с серебряной медалью, со званием
старшего учителя, кандидата зоологии.
Авг. Определен старшим учителем математики и физики во 2-ю Одесскую гимназию.
Зима. Тяготясь работой в гимназии из-за отсутствия нужных книг и ученой среды для
подготовки магистерской диссертации, ходатайствует о переводе в Петербург.
1852
Нач. авг. По рекомендации профессора ботаники И. О. Шиховского переведен
старшим учителем естественной истории во 2-ю Санкт-Петербургскую
гимназию.
9 дек. Венчание младшей сестры Антонины с учителем гимназии Д. И. Самусем.
1854
30 апр. Сообщает брату Петру, что с 1854 г. начал сотрудничать в ЖМНП.
Июнь. Литературный дебют: юмористическое стихотворение «Ночная заметка», пародия
на пьесу Майкова «Весенний бред» («Современник», № 6).
Июль. Письмо в редакцию журн. «Современник» по поводу ст. Н. Г. Чернышевского
«Об искренности в критике»: «Не согласен почти ни с одним мнением критика»
(цит. по: Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы. Саратов, 1971.
Вып. 6. С. 226).
1855
12 авг. Рецензия на учебник: Введение к изучению естественной истории / сост.
старший учитель Ларинской гимназии магистр ботаники Д. Михайлов. СПб., 1855
(«Северная пчела»).
1856
Не прекращая преподавание в гимназии, готовится к защите магистерской диссертации
по теме, предложенной профессором Ф. Ф. Брандтом.
3 апр. Произведен в титулярные советники.
1857
Весна. Защитил в Санкт-Петербургском университете магистерскую диссертацию
«О костях запястья млекопитающих. Рассуждение, написанное для получения
степени магистра зоологии» (ЖМНП, ч. 95, № 9).
11 ноября. Произведен в коллежские асессоры.
1858
Пишет на возражения проф. Л. С. Ценковского, сделанные при защите диссертации,
теоретическое дополнение «О методе наук наблюдательных» (ЖМНП, ч. 97,
№ 1, отд. И).
573
Приложение
—ф
— После смерти проф. зоологии К. Ф. Рулье участвует в конкурсе на соискание
кафедры в Московском университете, но места не получает.
1859
Янв. Публикация серии ст. «Физиологические письма» («Рус. мир», 1859, № 2, 9 янв.;
№ 22, 5 июня; № 59, 24 окт.), на которую обратили внимание Ап. А. Григорьев
и М. Н. Катков.
10 июня — авг. Путешествие на Кавказ: поездом до Пятигорска. Военно-Грузинская
дорога, Тифлис, Каджора.
Конец года. Знакомство с Ап. А. Григорьевым. Начинает сотрудничество в журн.
«Светоч» (редактор Д. И. Калиновский). А. П. Милюков, фактический руководитель
журн., приглашает С. на свои литературные вторники. С. знакомится здесь с
братьями Ф. М. и М. М. Достоевскими, А. Н. Майковым, В. В. Крестовским и другими
литераторами.
1860
Янв. Ст. «Значение гегелевской философии в настоящее время» («Светоч», кн. 1).
Март. «Письма о жизни». Ч. I и II («Светоч», кн. 3).
Май. М. Н. Катков публикует ст. С. «Об атомистической теории вещества» («Рус.
вестник», май, кн. 2).
«Письма о жизни». Ч. III («Светоч», кн. 5).
Приглашение от братьев Достоевских сотрудничать в журнале «Время».
Июль. Ст. «Очерки вопросов практической философии П. Л. Лаврова» («Светоч», кн. 7).
Осень. Достоевские организуют литературный кружок журн. «Время». Среди
участников: С, Ап. А. Григорьев, Я. П. Полонский, Д. В. Аверкиев.
Авг. Ст. «Значение смерти. Письма о жизни (Письмо IV)» («Светоч», кн. 8).
1861
Янв. Начало издания журн. «Время». Ст. «Жители планет» («Время», № 1).
Ст. «Содержание жизни» («Светоч», кн. 1).
Февр. Ст. «Содержание органической жизни» («Светоч», кн. 2).
Ст. «Естественные науки как предмет общего образования» («Отеч. зап.», № 2).
Март. Ст. «Органические категории. По поводу статьи г. Эдельсона „Идея
организма". — Библиотека для чтения. 1860. № 3» (ЖМНП, ч. 109, март).
Апр. Ст. «Нечто о петербургской литературе» («Время», № 4; подп.: Н. К.).
Июнь. «Еще о петербургской литературе» («Время», № 6; подп.: Н. Ко.).
18 июня. Ап. Григорьев посылает первое из серии писем из Оренбурга.
Лето. Подает в отставку из гимназии. Путешествие за границу. В связи с
сотрудничеством в журн. «Время» переезжает с Васильевского острова на Б. Мещанскую
(ныне Казанскую), «в дом против Столярного переулка» (поселился поблизости
от Достоевских и Ап. А. Григорьева).
574
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
Июль. Ст. «Несколько слов о г. Писемском, по поводу его сочинений» («Время», № 7;
без под п.).
Авг. Ст. «Нечто о полемике (Письмо в редакцию „Времени")» («Время». № 8, без подп.).
Сент. Ст. «Об индюшках и о Гегеле (Письмо в редакцию „Времени")» («Время», № 9;
подп.: Н.Кос).
Нояб. Ст. «Литературные законодатели. Письмо в редакцию „Времени" по поводу
статьи „Литературные рабочие" (Современник, № 10)» («Время», №11; подп.:
Н.Коси...).
Дек. [Антонович M.A.J О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени»)
(«Современник», № 12; без подп.).
1862
Янв. Ст. «Пример апатии» [письмо в редакцию «Времени» по поводу статьи М.
Антоновича «О почве»] («Время», № 1; подп.: Н. Косица).
Март. Ст. «Н. А. Добролюбов. (По поводу I тома его Сочинений)» («Время», № 1; без
подп.).
Апр. Ст. «Отцы и дети Тургенева» («Время», № 4).
27 мая. И. С. Тургенев, остановившись в Петербурге в гостинице Клея (ныне
«Европейская»), приглашает туда Ф. М. и М. М. Достоевских и С. на обед.
Конец мая. [Антонович М. А.] О духе «Времени» йог. Косице как наилучшем его
выражении («Современник», № 4; апрельский номер вышел в мае).
Сер. июля. Поездка за границу. Берлин, Дрезден. Встреча с Достоевским в Женеве,
совместное путешествие по Италии.
Нояб. Ст. «Дурные признаки» («Время», № 11).
1863
Март. Ст. «Вещество по учению материалистов» («Время», № 3).
12 мая. Ст. «Роковой вопрос» («Время», № 4; подп.: Русский).
22 мая. К. Петерсон помещает в газ. «Моск. вед.» (ред. М. Н. Катков) гневную заметку
«По поводу статьи: „Роковой вопрос" в журнале „Время"» («Моск. вед.», № 109).
Ответ С. и «Ответ редакции „Времени" на нападение „Московских ведомостей"»,
написанный Ф. М. Достоевским, не были пропущены цензурой.
24 мая. Решение правительства о запрещении журн. «Время» по докладу министра
внутренних дел П. А. Валуева «за помещение статьи, под названием „Роковой
вопрос", в высшей степени неприличного и даже возмутительного содержания по
предмету польских дел, идущей прямо наперекор всем действиям правительства
и всем патриотическим чувствам и заявлениям, вызванным нынешними
обстоятельствами, и оскорбляющей народное чувство, а также за вредное
направление этого журнала» (Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Л.; М., 1924. Сб.
2. С. 560). Председатель С- Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ за
пропуск статьи уволен от должности.
575
Приложение
Июнь. Самарин Ю. Ф. По поводу мнения «Русского вестника» о занятиях философиею,
о народных началах и об отношении их к цивилизации («Русская беседа», № 5;
майский номер вышел в июне).
Июнь. Объяснительные письма С. к редактору газ. «День» И. С. Аксакову и в редакцию
газ. «Моск. вед.», с расчетом, что письма будут напечатаны. Однако цензура
письма не пропустила.
1 июня. Газ. «Северная почта» поместила в Официальном отделе сообщение «О
прекращении издания журн. „Время"» («Северная почта», № 119).
— [Аксаков И. С]. Заметка по поводу статьи в журн. «Время» (в 4 книге) «Роковой
вопрос» («День», № 22).
18 июня. Ответное письмо М. Н. Каткова, в котором он сообщает, что его «как громом
поразило» известие об авторстве С. Сообщает, что все усилия напечатать его
объяснительное письмо оказались безуспешными {Страхов. Борьба с Западом.
Кн. 2. С. 134-135).
25 июня. Второе письмо к И. С. Аксакову, после которого у них устанавливаются вполне
доверительные отношения.
Июль. В «Revue des deux Mondes» появляется перевод статьи «Роковой вопрос». Статья
истолкована как патриотическая и приписана Ф. М. Достоевскому.
Июль. Ст. «Нечто о „Русском вестнике"» («Библиотека для чтения», № 7; подп.: Н. Не-
лишко).
Нач. июля. [КатковМ. Н.] По поводу статьи «Роковой вопрос» («Рус. вестник», № 5;
без подп.; майский номер вышел в июле).
6 июля. И. С. Аксаков сообщает С, что его статья с объяснением по поводу
«Рокового вопроса» была набрана в № 27 газ. «День» и было даже получено согласие
цензора, но ее печатание остановлено председателем Московского цензурного
комитета М. П. Щербининым.
Ок. 10-20 июля. Письмо И. С. Аксакову: «„Время" было, если хотите, просто попыткою
популяризировать славянофильские идеи на петербургской почве» {Аксаков —
Страхов. Переписка. С. 26).
30 июля. Письмо И. С. Аксакову о статье Каткова («Рус. вестник», № 5): «Ее можно
принять за циническую наглость, а между тем ведь это только простодушие
и наивность» {Аксаков — Страхов. Переписка. С. 30).
Сент. Ст. «Новый поборник нравственности» («Библиотека для чтения», № 9, подп.:
Н. Нелишко).
7 сент. Самарин Ю. Ф. По поводу мнения «Русского вестника» о занятиях философиею,
о народных началах и об отношении их к цивилизации («День», № 36).
29 сент. Письмо к Ф. М. Достоевскому: «,День" меня защищает и ставит в число своих»
{Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 257).
Окт. Ст. «Спор об общем образовании» («Библиотека для чтения», № 10; подп.: Н.
Нелишко).
— Ст. «Литературные благовония: об открытиях, совершаемых российской
словесностью» («Оса», № 23; подп.: Н. Косица).
576
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
—ф
2 дек. Письмо к брату Петру в Киев: «Журнал Достоевских будет называться „Почва".
„Время*' не позволили, хотели было назвать „Правда", но и это оказалось
возмутительным и нетерпимым» (ЛН. М., 1973. Т. 86. С. 392).
14-15 дек. М. М. Достоевский пишет Ф. М. Достоевскому о новом журн. «Эпоха»: «Мне
бы очень хотелось, и Страхов одобряет очень мысль мою, чтоб в первой книге
был „Ряд статей о Русск(ой) литературе". Это напомнило бы наше старое время
(...) Страхов пишет о народности в нашей литературе...» (Ф. М. Достоевский:
Статьи и материалы. Л.; М., 1924. Сб. 2. С. 545-546).
1864
Янв. Ст. «Решение неравенств первой степени (Прибавление к элементарной
алгебре)» (ЖМНП, ч. 121, отд. IV. Науки. С. 1-14). Примеч. на с. 1: «Это небольшое
исследование было мною сделано в 1851 году, при окончании курса в Главном
педагогическом институте. Оно было одобрено покойным Остроградским,
учеником которого я имел счастие быть».
11 янв. М. М.Достоевский вторично обращается в Министерство внутренних дел
с просьбой о разрешении издавать журн. и характеризует направление: «Цель
его будет—уяснять читателям те великие силы, которые таятся в русской жизни,
которые служат задатками нашего будущего развития и блага и к которым так
скептически и отрицательно относятся зачастую наша литература и общество»
(Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Л.; М., 1924. Сб. 2. С. 571).
15 янв. Сообщает в письме к брату, П. Н. Страхову, что название «Почва» не
прошло: «„Почвы" не будет; это название показалось почему-то таинственным,
и потому будет издаваться „Эпоха" или „Летопись"; до сих пор, однако ж, не
разрешили! Впрочем, не завтра, так послезавтра, а конечно разрешат» (ЛН.
М., 1973. Т. 86. С. 393).
27 янв. Разрешение на издание «Эпохи».
1 февр. Объявление в газ. «Голос» о скором выходе двух номеров «Эпохи».
«Письмо в редакцию „Эпохи"» («Эпоха», № 2; подп.: Н. Косица).
22 февр. Письмо к П. Н. Страхову в Киев. Сообщает о разрешении: «Мы производим
Эпоху в литературе. Подписка идет очень хорошо, и дело двигается...» (ЛН. М.,
1973. Т. 86. С. 394).
21 марта. Выходит сдвоенный № 1-2 «Эпохи». С. пишет для первого номера ст.
«Перелом», еще раз объясняющую его позицию по польскому вопросу, но цензура ее
не пропускает. Позже запрещено и другое его сочинение — «Воздушные явления
(Статьи о русской литературе)».
26 апр. Вновь начинаются цензурные осложнения с журн. «Эпоха». Письмо к П. Н.
Страхову: «Мне запрещают вот уже вторую статью (...) Цензора в ужасном страхе,
что я их подведу, и потому просто теряют голову: всякое слово у меня им кажется
опасным» (ЛН. М., 1973. Т. 86. С. 395).
7 мая. На заседании в Совете министров по делам печати А. В. Никитенко читал
записку «по поводу статьи С. о польских делах, которую совсем безвинно
577
Приложение
<С- Петербургский цензурный) комитет запретил. Я полагал дозволить ее. Со
мною согласились Тютчев и Гончаров. Положено, чтобы и другие члены Совета
ее прочитали» (НикитенкоА. В. Дневник. М, 1955. Т. 2. С. 438).
21 мая. Заседание в Совете по делам печати. Никитенко пишет в дневнике: «Мы с
Тютчевым тщетно старались защитить статью С. для „Эпохи", невежество и глупость
большинства одержали верх» (НикитенкоА. В. Дневник. М., 1955. Т. 2. С. 440).
Июнь. Готовит для «Эпохи» ст. «Опыты изучения Фейербаха», в которой выступает
против безбожия и антропологического принципа немецкого философа. Однако
цензурный комитет запрещает статью.
25 июня. Письмо П. Н. Страхову в Киев: «...мне запрещают вот уже сряду третью
большую статью. Первая называлась „Перелом", вторая „Воздушные явления";
и та и другая должны были идти под общим заглавием „Статьи о русской
литературе". Третья статья была „Опыты изучения Фейербаха", чисто философская
(...) Таким образом, кроме „Письма Косицы" и скудных „Заметок летописца"
(...) ничего (..) моего в „Эпохе". (...) С Достоевскими я чем дальше, тем больше
расхожусь; Федор ужасно самолюбив и себялюбив, хотя не замечает этого; а Ми-
хайло — просто кулак, который хорошо понимает, в чем дело, и рад выезжать на
других...» (ЛН М., 1973. Т. 86. С. 396).
10 июля, f М. М. Достоевский, издатель журн. «Время» и «Эпоха», брат Ф. М.
Достоевского.
13 июля. Похороны М. М. Достоевского в Павловске.
16 июля. Письмо брату Петру: «Цензура запретила мне одну за другой четыре статьи»
(ЛН. М., 1973. Т. 86. С. 396).
21 авг. [Антонович М. А.] Стрижам (Послание обер-стрижу, г. Достоевскому) [о журнале
«Эпоха», сатира на «почвенников»] («Современник», № 7; подп.: Посторонний
сатирик; язвительное начало памфлета принадлежало М. Е. Салтыкову-Щедрину;
июльский номер вышел в августе).
26 авг. С. заканчивает ст. «Естественные науки и общее образование» («Эпоха», № 7).
Авг. [Антонович М. А.] Вопрос, обращенный к стрижам [продолжение спора с журналом
«Эпоха»] («Современник», № 8; подп.: Посторонний сатирик).
25 сент. f Ап. А. Григорьев от апоплексического удара.
28 сент. Похороны Ап. А. Григорьева.
29 сент. А. Н. Майков пишет жене: «Был на похоронах Григорьева. На похоронах были
только Достоевские, Страхов, Аверкиев, Долгомостьев, Крестовский,
Владимирова и Васильев; из литературы больше никого. Схоронили около Мея» (ЛН.
Т. 86: Ф. М. Достоевский. С. 397).
Окт. Ст. «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве» («Эпоха», № 9).
Дек. Ст. «Чем отличается человек от животных?» («Натуралист», [без № ], с. 53-57).
7 дек. Н. Лесков в письме к С. из Киева предлагает в журн. очерк «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» («Эпоха», 1865, № 1).
578
Н.Н.Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
1865
Брошюра «О методе естественных наук и значении их в общем образовании» (СПб.,
1865).
Янв. Ст. «Заметки летописца» («Эпоха», № 1; подп.: Летописец).
Февр. Последний номер журн. «Эпоха» (№ 2), со ст. «Новые письма Аполлона
Григорьева» (с. 152-182) и «Заметки летописца» (оконч., с. 1-6). Ввиду неудачной
подписки принимается решение о самоликвидации журн.
Март. Д. И. Писарев в статье «Прогулка по садам российской словесности» пишет
по поводу статьи Страхова о Григорьеве: «Статья г. Страхова есть некоторым
образом литературное самоубийство» («Рус. слово», № 3).
Июнь. Ст. «Счастливые люди. Статья первая. Один из наших типов» («Библиотека для
чтения», № 7-8; подп.: Н. Косица).
В журн. «Библиотека для чтения» появляется объявление «От издателей журн.
„Эпоха"», сообщающее о решении прекратить выпуск журн. ввиду недостаточного
количества подписчиков для его окупаемости («Библиотека для чтения», № 6).
— Размолвка с Достоевским сразу же после прекращения «Эпохи» (см.: Страхов.
Воспоминания о Достоевском. С. 485).
Сер. года. Переезд с Казанской ул. на Васильевский остров (дом Кенига, угол Большого
пр. и 3-й линии, д. 9/6). Для заработка вынужден заниматься переводами (книги
А. Брема, К. Бернара и др.).
Авг. Ст. «О простых телах. Статья первая» («Отеч. зап.», авг., кн. 2).
Сент. Газ. «СПб. ведомости» (№ 226) в ст. «Наши журналы» упоминает перешедших
в «Отеч. зап.» Н. И. Соловьева и С.
Нояб. «Чем отличается человек от животных?» («Натуралист», № 11).
Дек. «О простых телах. Ст. вторая и последняя» («Отеч. зап.», дек., кн. 2).
1866
Печатается в журнале «Отеч. зап.» под ред. С. С. Дудышкина («Бедность нашей
литературы» и др.).
Янв. Ст. «Несколько запоздалых слов о Пушкине» («Отеч. зап.», янв., кн. 1).
Апр. Ст. «Главная черта мышления [«Разум по учению Платона и опыт по учению
Канта». Статья г. Юркевича. «Москов. университ. известия»]» («Отеч. зап.»,
апр., кн. 2).
Май. Доклад А. И. Ходнева о соч. С. «О методе естественных наук и значении их в
общем образовании». Кн. принята как учебное пособие по ведомству Министерства
народного просвещения (ЖМНП, ч. 130, май).
Июнь. Ст. «Птицы. Несколько слов об их теле и душе: по поводу книги А. Брема „Жизнь
птиц". СПб., 1865 г.» («Отеч. зап.», июнь, кн. 2).
Июль. Ст. «Последний из идеалистов: отрывок из ненаписанной повести» («Отеч.
зап.», июль, кн. 1).
Сент. Ст. 1 «Клод Бернар о методе опытов» («Отеч. зап.», сент, кн. 2).
579
Приложение
1867
Поселился в доме Цее, между Кадетской линией, Средним пр. и Загибениным пер.
(совр. адрес: угол Кадетской линии, Среднего пр. и Тучкова пер., д. 25/8, 10/20).
Жил до 1869 г.
Янв. Ст. «Наша изящная словесность. Статья третья. Поли. собр. сочинений Ф. М.
Достоевского. Изд. Стелловского. Том I. СПб. 1865. Том II. СПб. 1866. Преступление
и наказание. „Рус. Вестник". 1866 г.» («Отеч. зап.», янв., кн. 2).
Февр. Ст. «Интересы литературы и науки на Западе. Неудавшаяся реакция». («Отеч.
зап.», № 2); перепеч. под назв. «Кузен. Неудавшаяся реакция. 1867» в кн.:
«Философские очерки»).
— Статьи С. появляются в течение года практически в каждом номере
редактируемого им журн. «Отеч. зап.». Вероятно, есть и не подписанные его статьи. Однако
поднять «тонущий» журнал ему не удается.
15 февр. Выступил (вместе с Д. В. Аверкиевым) свидетелем на свадьбе Ф. М.
Достоевского.
Март. Ст. «Клод Бернар о методе опытов. Статья вторая. Приложение к организмам»
(«Отеч. зап.», март, кн. 1).
29 марта. Ст. «Наша изящная словесность. „Преступление и наказание". Роман в шести
частях с эпилогом, Ф. М. Достоевского. Издание исправленное. Два тома. СПб.
1867» («Отеч. зап.», март, кн. 2).
— Рец. на переводы С. «Франциск Бэкон Веруламский. Реальная философия и ее
век. Соч. Куно Фишера. Пер. Н.Страхова. СПб., 1867. Бекон Веруламский.
Сочинение Куно Фишера, изд. Ф. Терновским. Киев, 1866» («Отеч. зап.», март, кн.
2; без подп.).
Апр. Ст. «„Преступление и наказание". Статья вторая и последняя» («Отеч. зап.», апр.,
кн. 1).
Май. Ст. «Новая повесть г. Тургенева „Дым"... „Рус. вестник". 1867, март» («Отеч.
зап.», май, кн. 1).
— Я. П. Полонский посылает И. С. Тургеневу «Отеч. зап.» (1867, № 5) с отзывами
С. и Тютчева о романе «Дым».
9 мая. Письмо Ф. И. Тютчева (со стихотворением «Дым») («Отеч. зап.», май, кн. 1).
26 мая. А. Н. Майков упоминает об «очень учтивом и хорошем разборе» С. романа
«Дым» (Ф. М.Достоевский: Статьи и материалы. Л.; М., 1924. Сб. 2. С. 338-339).
Май—дек. С. ведет рубрику «Критические заметки» («Отеч. зап.», май, кн. 2; июнь, кн.
2; июль, кн. 2; авг., кн. 1, 2; сент., кн. 1, 2; окт., кн. 1; нояб., кн. 2.; дек., кн. 1, 2).
Июнь. «Критические заметки. Стихи графа А. К. Толстого» («Отеч. зап.», июнь, кн. 1).
580
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
—■$>
Сент. Ст. «Английская психология. Немецкая психология в текущем столетии.
Историческое и критическое исследование, с предварительным очерком успехов
психологии со времен Бэкона и Локка» («Отеч. зап.», сент., кн. 1).
Дек. «Английская психология. Немецкая психология... Ст. вторая и последняя» («Отеч.
зап.», дек., кн. 2).
— Ст. «Главное сокровище нашей литературы» («Отеч. зап.», дек., кн. 2).
— Покидает журнал «Отеч. зап.», переданный по решению его издателя Краевского
в аренду Н. А. Некрасову.
Нач. дек. Из меблированных комнат к С. переселяется «почвенник» И. Г. Долгомостьев,
через несколько дней сходит с ума на его глазах и умирает.
1868
Ненадолго становится помощником редактора в ЖМНП.
Янв. Кн. «Бедность нашей литературы. Критический и исторический очерк» (СПб.,
1868).
8 янв. f E. Н. Эдельсон, член «молодой редакции» «Москвитянина». В письме
Достоевскому: «Зимой 1868 г. умерли — Долгомостьев и Эдельсон, люди, которые
в последние годы с небольшими перерывами заседали у меня сплошь по три
раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам от 6 до 9» (Письма
Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 257).
10 янв. Н. К. Михайловский, торжествуя, писал, после того как Некрасов завладел
«Отечественными записками»: «Старые „Отечественные записки", „Записки"
г. Краевского и Дудышкина, Страхова и Соловьева, Громеки и Стебницкого,
умерли. Мир праху их и большое им спасибо за самоубийство. Лучше этого
они во всю свою жизнь ничего не делали, тем более что новые „Отечественные
записки" обещают быть положительно нашим лучшим журналом» («Неделя»,
№10, с. 475).
13 янв. Обиженный на С. за критику Тургенев писал Я. П. Полонскому из Баден-Бадена:
«...авторитету Страхова я, виноват! не верю, и не потому, что он меня бранит,
а потому, что он славянофил, а эти господа, быть может, в политике орлы, но
в эстетике тупицы» {ТургеневИ. С. Письма. М., 1964. Т. 7. С. 31).
Сер. марта. Письмо к Достоевскому с похвалами роману «Идиот». Кружок
«почвенников» начала 1860-х гг., считает С, определил главную струю в нашей литературе.
Письмо к Каткову с просьбой о сотрудничестве после передачи Краевским журн. «Отеч.
зап.» в руки Некрасова и сообщением о работе над ст. о романе «Война и мир»
(скопировано в письме к Достоевскому).
4 апр. Также оставшийся без журн. Н. Лесков обращается к Страхову с просьбой
«присовокупить ему какую-нибудь работку». «Обращаюсь к Вам так бесправно
и бесцеремонно, потому что знаю, что вы не исключаете уместности пособлять
собрату подобною услугою. Ведь просто приткнуться некуда тому, кто написал
„Некуда"» {ЛесковН. С. Собр. соч. М., 1958. Т. 10. С. 268).
581
Приложение
Ф
17 сент. А. Н. Майков просит Ф. М. Достоевского стать сотрудником нового журн. «Заря»
(изд. В. В. Кашпирёв, ред. Н. Н. Страхов).
31 окт. Объявление об издании с 1 янв. 1869 г. ежемесячного учено-литературного
и политического журн. «Заря» в приложении к газ. «Гражданин». Редакция
провозглашает традиционную направленность журнала: «...мы хотим быть
не новаторами, а продолжателями лучших преданий русской литературы. (...)
нельзя бездеятельно, слепо подчиняться чужим понятиям, требуется претворять
их в свою действительную духовную собственность, а это невозможно без
самобытного развития, без самобытной умственной жизни (...) Вообще во внешних
и внутренних делах мы желали бы быть выражением так называемой русской
партии» («Гражданин», № 301).
1869
Приступил к работе редактором продолжающего традиции почвенничества журн.
«Заря», издаваемого В. В. Кашпирёвым (до 1872 г.).
Янв. В первом номере нового журн. «Заря», изд. В. В. Кашпирёвым под ред. Н. Н.
Страхова, появляется ст. С. о романе «Война и мир», в которой утверждается мировое
значение произведения Л. Н. Толстого.
— Начало публикации в «Заре» труда Н. Я. Данилевского «Россия и Европа»
(продолжение: № 2-10). Положительные отзывы в письмах Достоевского, Леонтьева
и др.
Февр. В журн. «Заря» (№ 2) по недосмотру редакции появляется пародия «Дикарка»
на стихотворение Фета, с подписью: А. Фет. Пародия представляла собою
акростих — ее первые буквы читались так: «„Зоря" Кашпирева умирает».
8 марта. Письмо к Достоевскому о сближении с А. Н. Майковым: «Я очень сблизился
с Майковым и нашел в нем такого прекраснейшего человека, что душевно
полюбил...» (Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 262).
Авг. Еженедельник «Сын Отечества» А. П. Милюкова публикует «гнусные отзывы»
о «Заре».
8 авг. Летом переезд на новую квартиру. «Мой новый адрес: у Круглого Рынка,
д. Тура, кв. № 11» (Письма Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 265); совр. адрес:
Наб. р. Мойки, д. 5.
Нач. сент. Едет из Петербурга с Данилевским «дней на шесть» в Мшатку, но гостит
у Данилевского до 31 окт.
21 окт. Кашпирёв сообщает письмом П. В. Анненкову об отказе публиковать в «Заре»
ст. о романе «Обрыв» на том основании, что «сравнение, из которого выходит
то, что роман г. Гончарова занимает в русской литературе одинаковое место
с романом гр. Толстого, — невозможно печатать в том журнале, который, по
своему крайнему убеждению, совершенно искренно поставил „Войну и мир"
как одно из величайших созданий русского Гения, сравнивать которое можно
только с созданиями Пушкина» (Л. Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения
(1828-1948). М., 1948. Кн. 2. С. 98).
582
Н.Н.Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
26 окт. Письмо К. Н. Леонтьева с сетованиями, что его статьи не печатают в «Заре».
1870
Янв., февр. В журнале «Заря», редактируемом С, печатается повесть Достоевского
«Вечный муж» (1869).
12 марта. Большое письмо от К. Н. Леонтьева. Хвалит «Россию и Европу» Н. Я.
Данилевского. Упрекает С. в славянофильстве: «.. .хорошо ли Вы сделали, что сбились
с пути Ап. Григорьева на простое Московское Славянофильство? Хорошо ли вы
сделали, что связали себе руки англо-немецким фамилизмом и нравственностью?»
{Леонтьев. ПСС. Т. 11, кн. 1. С. 280).
19 марта. Л. Н. Толстой пишет первое письмо С. как автору статьи «Женский вопрос»
(«Заря», № 2), но не отправляет его.
После 4 июня. Первая поездка в Петрозаводск, посещение водопада Кивач.
12 авг. Судебное разбирательство по поводу романа Лескова «Божедомы» (позже
напечатан под названием «Соборяне»). Кашпирёв обратился в С-
Петербургский окружной суд с иском о возвращении Лесковым аванса за хронику
«Божедомы», не напечатанную потому, что ее объем намного превысил
договорный (60 листов вместо 30), и потому, что Лесков в нарушение
обязательства перед «Зарей» напечатал часть произведения в «Русском вестнике».
Лесков предъявил встречный иск. Клюшников утверждал перед судом, что
напечатанный в «Русском вестнике» эпизод романа «составляет
существенную часть „Божедомов"» и на этом основании редакция отказалась печатать
роман. Суд отказал Кашпирёву и Лескову в их исках. Лесков позже писал по
поводу «экспертизы» Клюшникова: «Страхов был несравнимо честнее и
отказался дать такое свидетельство, что и послужило началом к возникшему
потом охлаждению между ним и редакцией...» (ЛесковН. С. Собр. соч. М.,
1958. Т. 10. С. 317).
Сент. Ст. «Некрасов и Полонский» («Заря», № 9).
Окт. Ст. «Вздох на гробе Карамзина» («Заря», № 10).
24 окт. В. П. Буренин нападает на ст. С. «Некрасов и Полонский», опубликованную
в «Заре» («СПб. вед.», № 298; подп.: Z).
Нояб. Рец. на кн.: Песни и поэмы Д. Д. Минаева. СПб., 1870 («Заря», № 10).
14 нояб. В. П. Буренин в критикует «идиотические аргументы» статьи С. «Вздох на
гробе Карамзина» («СПб. вед.», № 314; подп.: Z).
18 нояб. Первое известное письмо С. к Л. Н. Толстому.
25 нояб. Толстой отвечает отказом на просьбу С. прислать что-нибудь для «Зари», но
приглашает его в Ясную Поляну.
19 дек. Буренин снова пишет в издевательском тоне о «Заре», в том числе упоминая
в качестве «особенно дикого» заявление «о мировом значении романов гр. Льва
Толстого» и «мистический бред о нигилистах» («СПб. вед.», № 349).
583
Приложение
1871
Отдельное издание статей о Толстом: Страхов Н. Критический разбор «Войны и мира».
СПб., 1871.
Сер. янв. Кашпирёв объявляет С. об отставке с должности редактора журн. «Заря».
В течение целого года, до октября, в печати не появляется ни одного сочинения С.
12 апр. ПисьмоФ.М.Достоевскому: «Я добыл переводы и буду ими жить. Писать —
отпала охота» (Письма Страхова Ф. М.Достоевскому. С. 271).
Лето. Леонтьев сжигает обещанный «Заре» роман из серии «Река времен» и уезжает
на Афон, а затем в Оптину пустынь.
Июнь. Гостил у родственников в Полтаве.
Сер. авг. На обратном пути «остановился в Туле, переночевал, взял извозчика и поехал
в Ясную Поляну». Знакомство с Л. Н. Толстым.
Авг. — сент. Поиск в Петербурге издателя для романа «Война и мир» по просьбе
Толстого.
Окт. — нояб. Ст. «Парижская коммуна» («Заря», № 10-11).
Зима 1871/72. Обед у Достоевских в честь приезда из Крыма автора книги «Россия
и Европа» Н. Я. Данилевского, знакомого писателю еще по кружку Петрашевского.
Присутствовали также С, А. Н. Майков, В. И. Ламанский.
1872
Кн. «Мир как целое. Черты из науки о природе».
Ст. «Ренан и его последняя книга» (Гражданин: сб. СПб., 1872. Ч. 1. С. 87-138). Ст.
«О чисто эмпирическом методе» в кн.: Тэн И. Об уме и познании. СПб., 1872. Т. 1.
Янв. Ст. «Переворот в науке» [о дарвинизме] («Заря», № 1).
17 янв. Толстой посылает в «Зарю» рассказ «Кавказский пленник» (из уважения к
Страхову).
3 марта. Толстой называет статью о Дарвине «Переворот в науке» «прекрасной».
Март или апр. Выходит в свет (с запозданием) февральский номер «Зари» с рассказом
Толстого «Кавказский пленник», но на этом втором номере журнал прекращает
существование.
19 мая. Толстой предлагает С. заняться подготовкой «Азбуки» к печати.
Июль. С. держал последние корректуры первых книг «Азбуки», которая печаталась
под его наблюдением в Петербурге.
Конец года. Выход в свет «Азбуки» Л. Н. Толстого в 4 кн., напечатанной при
содействии С.
Нояб. 1872 — февр. 1873. Находился в Мшатке, имении Н. Я. Данилевского на Южном
берегу Крыма, близ Фороса.
17 дек. Письмо Толстого с подробным разбором кн. «Мир как целое».
584
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
1873
I янв. В «Гражданине», который начал выходить под редакцией Достоевского,
опубликована хвалебная рецензия о книге «Мир как целое». Сам С. находится в Мшатке
у Данилевского, но обещает сотрудничать в «Гражданине».
14 янв. Письмо к А. Н. Майкову: «...будьте уверены — что я буду ревностным
сотрудником „Гражданина" (...) Если притом такие чудесные люди, как Вы
и Федор Михайлович, очень усердно будут заняты „Гражданином", то я не
вытерплю и примусь строчить, пожалуй, не хуже прежнего» (ЛН. М., 1973.
Т. 86. С. 421).
20 янв. Письмо А. Н. Майкова: «Вас поджидает Фед. Мих. Достоевский, на которого
теперь залаяла вся свора прогресса» (ЛН. М., 1973. Т. 86. С. 428).
6 февр. А. Н. Майкову: «Так и быть — опять придется окунуться в эту грязь — и охота
была Федору Михайловичу добровольно связываться со стаею нашего
прогресса!» (ЛН. М., 1973. Т. 86. С. 421).
Сер. февр. Возвращаясь в Петербург от Данилевских, заехал в Ясную Поляну. Именины
Толстого (18 февр.). Уехал 19 февр.
20 февр. Вернулся в Петербург и сразу заболел — рожистое воспаление.
26 февр. Достоевский — Погодину: «Воротился на этой неделе из Крыма Страхов,
я обрадовался (будет критика), а он вдруг серьезно заболел» (Достоевский. ПСС.
Т. 29, кн. 1.С.262).
Март. Во время продолжительной болезни много читает: «Записки о всемирной
истории» А. С. Хомякова, «Историю немецкой философии» Э. Целлера, «Основы
химии» Д. И. Менделеева.
Апр. — май. Серия ст. «Заметки о текущей литературе» («Гражданин», № 15-22).
— «Я увидел, что работать мне негде. „Рус. вестник" был единственным местом, но
деспотический произвол Каткова был для меня невыносим. Я решился поступить
на службу...» (НикольскийБ. В. Страхов. С. 40).
27 апр. Подает прошение о приеме на службу в Императорскую Публичную библиотеку.
II июня. Письмо Данилевскому в защиту от критики кн. «Мир как целое».
Лето. По просьбе Л. Н. Толстого работает над корректурой романа «Война и мир».
1 авг. Зачислен в штат Императорской Публичной библиотеки библиотекарем,
заведующим Юридическим отделением, с чином надворного советника.
21 авг. Тургенев пишет А. А. Фету из Буживаля: «Ну а вот уж вашего Страхова, несмотря
на Вашу рекомендацию, читать я не стану. С меня довольно, что я прочел из элу-
кубраций (так!) этого смертного. Ко всему славянофильствующему я чувствую
положительно физическое отвращение, как к дурному запаху, дурному вкусу, как
к Брюллову или Г. Доре. Пухло, неопрятно, прело и в рыло лезет. Да и лампадой
церковной отдает. Нет, западник я, и неисправимый...» (ТургеневИ. С. Письма.
М., 1965. Т. И. С. 142-143).
21 окт. Вступление в Санкт-Петербургское Славянское благотворительное общество.
Избран редактором «Славянского сборника».
Зима 1873/74. По воскресеньям обычно обедает у Достоевских.
585
Приложение
Ф
1874
Янв. Назначен, без оставления службы в Императорской Публичной библиотеке, членом
Ученого комитета Министерства народного просвещения. Заметно улучшается
материальное положение, начинает отдавать долги.
6 янв. Письмо к Н. Я. Данилевскому: «Литература моя идет плохо. Постоянно пишу
в „Гражданине", но никто меня не хвалит и не поощряет. Никто из приятелей
не читает „Гражданина" (...) Но несчастный Достоевский совсем измучился...
Кн(язь) Мещерский пожинает лавры. Везет ему удивительно. Мало то, что в него
влюбился Майков, и Достоевский пошел к нему в работники». Сообщает о
предложенном месте в Ученом комитете. «Если бы не долги, не брат, не дороговизна
квартиры, я бы отказался. (...) К концу года, надеюсь, у меня будет своя квартира
и не будет долгов» («Рус. вестник», 1901, янв., с. 131).
14 февр. Читал свое предисловие к «Славянскому сборнику» на торжественном
заседании Славянского комитета.
Июль. В начале июля на несколько дней приехал в Ясную Поляну. Уговаривал
Толстого не бросать начатый роман «Анна Каренина». Был «на кумысе» в имении
Л. Н. Толстого в Самарской губ.
23 июля. Был в Полтаве у Д. И. Самуся, мужа покойной сестры Антонины.
24 нояб. Присутствовал на диспуте Вл. Соловьева на звание магистра философии.
2 дек. Ст. «Философский диспут 24 ноября» («Гражданин», № 48).
9 дек. Ст. «Еще о диспуте» («Моск. вед.», № 308), посвященная защите диссертации
Вл. С. Соловьевым.
Дек. Письмо к Л. Н. Толстому: «Приезжал сюда Павел Дмитриевич Голохвастов и
удивительно мне понравился. Два вечера он просидел у меня, объясняя свою теорию
русского стиха—теорию бесподобную, в которую я крепко уверовал. Какое в нем
чувство языка, стиха! В первый раз я услышал настоящее чтение былин. А его
патриотизм, его дерзкие мысли об Европе (...) Был здесь также Катков, и был
очень ласков со мною, и навещал, и позвал к себе на именины дочери, и
усердно приглашал в „Русский вестник" и в „Московские ведомости"» {Переписка
Толстого и Страхова. 2018. С. 329-330).
1875
Нач. года. Поселился после отделки квартиры на пятом этаже в доме Стерлигова, № 7,
кв. 19, у Торгового моста, деля квартиру с писателем Д. И. Стахеевым; жил там
до конца жизни (совр. адрес: ул. Союза Печатников, д. 2, кв. 19).
6 февр. Письмо Ф. М. Достоевского к жене о начале размолвки с Майковым и С. из-за
его намерения печатать роман «Подросток» у их идейного противника Некрасова,
предложившего выгодную цену.
7 февр. Ответ А. Г. Достоевской мужу о Майкове и С: «Боюсь, дорогой мой Федичка,
что расстроят тебя твои благоприятели; ради Бога, не поддавайся „наветам
коварным"» (Ф. М.Достоевский, А. Г.Достоевская. Переписка. Л., 1976. С. 147).
586
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
■$■
10 февр. А. Г. Достоевская мужу: «Я очень рада, что ты дружески встретился с
Некрасовым и что ему роман понравился; а каков прием Майкова и Страхова! Каковы
люди!!! Мы с тобой и прежде это угадали!» (Ф. М.Достоевский, Л. Г.Достоевская.
Переписка. Л., 1976. С. 151).
12 февр. Письмо Достоевского к жене об ухудшении отношений с друзьями. «..
.Майков, когда стал расспрашивать о Некрасове и когда я рассказал комплименты мне
Некрасова — сделал грустный вид, а Страхов так совсем холодный. Нет, Аня,
это скверный семинарист и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни,
именно с падением Эпохи, и прибежал только после успеха Преступления и
наказания. Майков несравненно лучше, он подосадует, да и опять сблизится, и все
же хороший человек, а не семинарист» (Ф. М.Достоевский, А. Г.Достоевская.
Переписка. Л., 1976. С. 155).
13 марта. Обед профессоров и литераторов в честь Тургенева. Охлаждение между
Достоевским и Майковым со С. стало особенно заметным после ответа
Достоевского на вопрос «кого-то из молодого поколения»: «Зачем только Вы печатаете
в „Русском вестнике"?» — «Потому что там денег больше и вернее и вперед
дают». В этот же день А. Н. Майков написал письмо-протест Достоевскому, где
с горечью спрашивал: «Я ждал, Вы как независимый должны были сказать, по
сочувствию с Катковым и по уважению к нему, даже по единомыслию во многих
из главных пунктов (...) Вы уклонились, не сказали. Как? из-за денег Вы печатаете
у Каткова?» (Ф. М.Достоевский: Статьи и материалы. Л.; М., 1924. Сб. 2. С. 364).
22 марта. Отъезд на два месяца в Италию с семьей Вышнеградского (жена и две
дочери). Посещение Вены (25 марта по ст. ст.), Венеции, Неаполя, Рима (до 4 мая
по ст. ст.), Флоренции.
И и 18 мая. «Два письма из Рима к А. Н. Майкову» («Гражданин», № 19 и 20).
Май — июль. Ст. Н. К. Михайловского «Десница и шуйца Льва Толстого»: «Даже
Страхов, которого трудно представить рядом с гр. Толстым иначе, как в
коленопреклоненной позе, даже и тот...» («Отеч. зап.», июнь, с. 131-137).
Июнь. Ст. «Об иронии в русской литературе» («Рус. вестник», № 6).
25 авг. Толстой в письме к С. соболезнует по случаю смерти брата Петра.
Конец сент. Приезжает в Ясную Поляну. Важные разговоры с Толстым, обсуждение
«религиозного мировоззрения», которое собирается изложить Толстой.
30 сент. Собрание Славянского комитета и комиссии для издания литературного
сборника в пользу герцеговинцев. С. вошел в комиссию, и ему поручили
уговаривать Толстого принять участие. Толстой отказался. С. дал для сборника очерк
«Из поездки в Италию» (Сб. «Братская помочь пострадавшим семействам Боснии
и Герцеговины». СПб., 1876).
После 4 нояб. Начало печатания книги литературно-критических статей Ап. А.
Григорьева, составленной С. как первый том собрания сочинений.
Дек. Начало работы над книгой «О вечных истинах», посвященной критике спиритизма
(письмо Л. Н. Толстому от 25 дек.).
4 дек. t В. В. Кашпирёв.
587
Приложение
ф
14 дек. Ст. «Василий Владимирович Кашпирёв» (некролог) («Гражданин», № 50).
1876
Выход в свет т. 1 сочинений Ап. А. Григорьева (том спроса не имел, и издание
пришлось прекратить). Но С. и тогда, и позже (5 ноября 1882 г.) высоко ее оценивал:
«Я по-прежнему считаю, что издал лучшую книгу по критике, какая у нас есть»
(«Рус. вестник», 1901, февр., с. 461).
Февр. Отправляет Л. Толстому свою ст. «Из поездки в Италию. Очерк» из сборника
«Братская помочь пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины».
8 апр. Л. Н.Толстому: «Я начал поиски за иррациональным...» (Переписка Толстого
и Страхова. 2018. С. 412).
20 мая. Ст. «О византизме в славянстве (Византизм и славянство. Соч. К. Н. Леонтьева.
М., 1876)» («Русский мир», № 137; подп.: Н. С).
Сер. июля. Проводит неделю в Ясной Поляне.
Лето. Навещает родственников в Белой Церкви.
Авг., 2-я пол. Снова приезжает в Ясную Поляну. Знакомство с Фетом.
Нач. сент. На обратном пути задержался в Москве. Сообщает Толстому: «В Москве
я прожил целую неделю; я видел Аксакова, Каткова, Воскобойникова,
Антропова, Боборыкина, Чаева, Писемских, Соловьева Сергея и Соловьева Владимира,
Троицкого (философа) и пр.» (Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 436).
15-29 нояб. Печатает в «Гражданине» «Три письма о спиритизме» (№ 41-44).
23 дек. Выбран в действительные члены Санкт-Петербургского Славянского
благотворительного общества.
1877
Нач. янв. Был в Ясной Поляне на праздниках (10-11 янв.) Толстой писал Фету: «С
Страховым же я всегда говорю часто про вас, потому что мы родня все трое по душе»
(Толстой. ПСС Т. 62. С. 303).
Янв. «Здесь теперь Н. Я. Данилевский (...) он готов по целым дням разговаривать со
мною. Он необыкновенно милый и умный человек, но очень далек от настроения
мыслей, в котором я нахожусь. Я с ним натуралист и математик» (Переписка
Толстого и Страхова. 2018. С. 472).
Март. Кн. «О вечных истинах. (Мой спор о спиритизме)».
— Соловьев становится членом Ученого комитета Министерства народного
просвещения и часто видится со С.
15 марта. Читает «Философские основания цельного знания» Вл. Соловьева—«остался
очень недоволен»; виделся с Вл. Соловьевым — «остался недоволен» (Переписка
Толстого и Страхова. 2018. С. 489).
30 марта. Письмо Н. Я. Грота о книге «О вечных истинах» — «пришел в восторг», но
позже Грот осудил книгу вместе с Соловьевым.
Апр. Важное письмо от Л. Толстого о вере.
588
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
Ф
4 апр. Приходил Соловьев: «.. .кажется, мы заведем с ним дружбу» (Переписка Толстого
и Страхова. 2018. С. 494).
21 апр. «С Вл. Соловьевым мы видаемся чуть не каждый день, в Библиотеке, и я
надеюсь, что мы очень сойдемся» (Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 500).
18 мая. «С Вл. Соловьевым я наконец подружился...» (Переписка Толстого и
Страхова. 2018. С. 509).
10 июня. Отъезд в имение Н. П. Семенова в Рязанской губ. Оттуда — к Толстому в
Ясную Поляну.
Июнь — июль. Гостил у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, вместе готовили поправки
к переизданию «Анны Карениной», работали «каждый день больше месяца».
29-30 июня. С Толстым гостят у Фета в Степановке. Толстой пишет Фету: «Страхов
в восхищении от поездки к вам и от вас» (Толстой. ПСС Т. 62. С. 332).
25-27 июля. Посетили с Л. Н. Толстым Оптинскую Введенскую пустынь в Козельском
уезде Калужской губ., были у старца Амвросия (Гренкова), а также архим. Юве-
налия (Половцева).
6 авг. Визит П. А. Матвеева, который вернулся из Оптиной пустыни и привез много
отзывов.
30 окт. Чтение «Крейцеровой сонаты» в доме Кузминских. Знакомство с гр. А. А.
Толстой, приглашение в гости.
Мезкду 31 окт. и 6 нояб. Визит к гр. А. А. Толстой.
Нояб. Начало переписки с Фетом. Фет приглашает погостить летом будущего года.
30 дек. Присутствует на похоронах Н. А. Некрасова. «Я не пошел к нему, когда он звал
меня обедать, но на похоронах был не из одного любопытства. (...) Меня он
привлекал просто как человек с волею, с страстями (...) мне было бы стыдно, если
бы это были мои похороны. Ни одного человека, сочувствующего искренно...»
(Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 586-587).
1878
Янв. Обсуждение с Н. Я. Данилевским написанного Л. Н. Толстым изложения
евангельского учения.
Представлен к званию коллежского советника.
27 янв. Отсоветовал Фету переводить уже переведенного Канта.
29 янв. Посещает лекцию Вл. Соловьева о религии в С- Петербургском отделе
Общества любителей духовного просвещения. Соловьев прочел в янв. — апр. цикл из
12 лекций о «Богочеловечестве».
3 февр. Вторая лекция Соловьева о религии.
22 февр. Приезжает в Ясную Поляну на Масленицу и именины Толстого.
28 февр. Фет из Будановки просит Толстого отпустить гостя к нему и дать им со С. «хоть
две недели». С. уезжает из Ясной Поляны (ТолстойЛ. Н. Переписка с русскими
писателями: в 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 13).
6-11 марта. Пребывание Толстого в Петербурге по делам, но из-за занятости писателя
виделись мало.
589
Приложение
—■$>
10 марта. Вместе с Л. Н. Толстым, сохранявшим свой приезд в тайне, присутствовал на
лекции Вл. С. Соловьева в Соляном городке, в Обществе любителей духовного
просвещения. На лекции был и Достоевский, но С. их не свел, так как Толстой
велел ни с кем его не знакомить.
Толстой отнесся к лекции Соловьева как к «детскому вздору» и «удрал» до ее окончания.
31 марта. Присутствовал (вместе с Достоевским) на суде над В. И. Засулич, которую
судили за покушение на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, и
возмущался ее оправданием присяжными: «Всё это мне показалось кощунством
над самыми святыми вещами» (Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 621).
4 апр. Посещение лекции кн. Д. Н. Цертелева, друга Вл. Соловьева. «Этот мне показался
просто недоучившимся гимназистом». С. сидел рядом с Соловьевым в заднем
ряду (Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 629).
Май. Ст. «Об основных понятиях психологии» (ЖМНП, ч. 197, май); отдельный оттиск
(55 с.) посылает Толстому.
И июня. Толстой пишет Фету о брошюре С. «Об основных понятиях психологии»:
«Небольшая книга его очень велика по содержанию» (Толстой. ПСС. Т. 62. С. 431).
Июнь. Заехал к Толстому по пути к Фету из Мшатки.
15 июня. Посетил имение А. А. Фета в Воробьевке. Фет писал позже в воспоминаниях:
«В июне, к величайшей нашей радости, к нам приехал погостить Н. Н. Страхов,
захвативший Толстых еще до отъезда их в Самару (...) К величайшей радости
моей, Страхов, которому, вручивши именной экземпляр Шопенгауэра, я стал
читать свой перевод, — остался последним совершенно доволен» (Фет А. Мои
воспоминания, 1848-1889. М, 1890. Ч. 2. С. 350).
18 июня. С. пишет Данилевскому о Толстом: «...я рассказал ему о нашем чтении его
изложения, и что мы его бранили. Он согласился, что приведение стихов из
Евангелия должно вводить в недоумение, и объяснил, что эта работа сделана им
для себя, которую в этом виде не следовало бы публиковать» («Рус. вестник»,
1901,февр.,с. 138).
23 июля. Согласно обещанию приехал от Фета в самарское имение Толстых, где пробыл
до конца июля. Восторженные отзывы в письме к Фету о жизни «в башкирской
кибитке».
Авг. На обратном пути от Толстого заехал в подмосковное имение Голохвастовых, где
пробыл три дня.
11 окт. По просьбе Толстого начинает заниматься подготовкой тома «Л. Н. Толстой»
в серии «Русская библиотека», издаваемой М. М. Стасюлевичем.
28 нояб. С. А. Толстая отправляет С. свой биографический очерк для тома «Л. Н.
Толстой» в серии «Русская библиотека».
Дек. Переплел главы «Анны Карениной», отвергнутые М. Катковым в «Рус. вестнике»,
и отдал в Императорскую Публичную библиотеку (в настоящее время хранится
в Рукописном отделе Гос. музея Л. Н. Толстого в Москве).
21 дек. М. М. Стасюлевич присылает подробный расчет расходов и количества
экземпляров по изданию тома произведений Толстого с объяснениями.
590
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
26 дек. С. приезжает в Ясную Поляну.
31 дек. В письме к А. А. Фету из Ясной Поляны пишет большой отзыв о статье поэта
«Наша интеллигенция», которую называет «чрезвычайно неудачною» (Фет и его
окружение. Кн. 2. С. 260).
1879
М. М. Стасюлевич издает том сочинений Л. Толстого в «Русской библиотеке»,
составленный из его произведений по выбору Н. Н. Страхова, со статьей С. А. Толстой.
3-4 янв. Пребывание в Ясной Поляне.
Февр. Публикует через Майкова в журнале «Огонек» (изд. Н. П. Аловерт) четыре
стихотворения А. А. Фета.
Апр. Участвует в попытке создания философского общества по инициативе Д. И. Цер-
телева после его третьей лекции в Обществе любителей духовного просвещения.
Устав общества так и не был утвержден, хотя идею создания общества
поддерживали Т. И. Филиппов, А. А. Киреев, М. И. Каринский, К. Н. Бестужев-Рюмин
и др. Не получив официального статуса, философское общество прекратило
свою деятельность.
Июнь. Отправился к родственникам на юг, по пути посетив Толстого и Фета.
16-19 июня. Посетил Ясную Поляну.
20-21 июня. Два дня провел в Воробьевке, сверяя выполненный Фетом перевод
Шопенгауэра.
21 июня. К. Н. Бестужев-Рюмин отправил на библиотеку через Л. Н. Майкова письмо
С. «с просьбой принять на себя психологию» на Высших женских курсах, как он
«почти обещал»: «Для женских курсов если бы Н. Н. не существовал, его надо
было бы изобрести» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 22. Л. 3 об. —А).
24 июня. Приехал в Кременчуг к родственникам. На пять дней ездил в Киев.
29 июня. Фет пишет Толстому: «...взяв немецкого Шопенгауэра, он сказал, что будет
строгим судьей. Не без сердечного трепета стал я ему читать свой перевод,
сначала там, где работаю, а затем с самого начала (...) Но в том и другом случае
добродушное лицо Николая Николаевича принимало маслянистое выражение,
и, смеясь до раскрытия остатков своих зубов, он восклицал: „Чудесно, Афанасий
Афанасьевич! будет одной хорошей книгой больше". Признаюсь, это мне крайне
приятно и поддает духу окончить к зиме всю „Welt"» (Фет А. А. Сочинения: в 2 т.
М., 1982. Т. 2: Письма. С. 269-270).
24 июля. Письмо к Бестужеву-Рюмину с отказом от преподавания психологии: «Я не
готов к курсу, у меня нет определенного взгляда на науку, который бы я решил
излагать» (РО ИРЛИ. Ед. хр. 25059С. Л. 2).
28 июля. На обратном пути из Кременчуга побывал у А. А. Фета. Сверяли перевод
Шопенгауэра примерно до 5 августа («Перевод будет очень замечательный»)
(Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 776).
6-26 авг. Пребывание в Ясной Поляне.
591
Приложение
—■$■
Конец авг. По пути в Петербург провел два дня в Москве, был два раза в театре.
Встретил А. Г. Достоевскую с детьми, обедали в саду Эрмитаж и беседовали «часа три
с большим удовольствием».
— Гостил три дня у Голохвастовых в Воскресенске.
Окт. Слушает речь Д. И. Менделеева на встрече педагогов, окончивших курс Главного
педагогического института.
8-22 ноября. Назначен присяжным заседателем. «Очень много отнимает времени, но
любопытно» {Переписка Толстого и Страхова. 2018. С. 798).
17 нояб. Длинное исповедальное письмо к Толстому, после которого 22 нояб. писатель
рекомендует С. отказаться от намерения писать о себе: «И вам писать свою жизнь
нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней» {Переписка Толстого
и Страхова. 2018. С. 800).
Дек. Пишет Н. Я. Данилевскому: «К Новому году меня представляли из Библиотеки
к Анне 2-й степени, но, по счастию для меня, (Д. А.) Толстой отказал. Это всё
затеял Афанасий Федорович (Бычков)» («Рус. вестник», 1901, янв., с. 140).
20-30 дек. Участие (без выступления) в 6-м Съезде естествоиспытателей.
1880
25 дек. — 7 янв. На Святках был в Ясной Поляне.
8 янв. Обсуждает перелом религиозных воззрений Толстого в письме к писателю после
визита и одобряет их.
23 янв. Письмо от Фета, который резко критикует Толстого за его новые взгляды,
называя «сплошным отрицателем жизни» {Фет и его окружение. Кн. 1. С. 298).
Конец марта — нач. апр. Начал посещать четверги С. А. Толстой (вдовы поэта
гр. А. К. Толстого), где встретил Гончарова, Достоевского, Вл. Соловьева,
Полонского и мн. др.
6 апр. Присутствовал на диспуте Вл. Соловьева на степень доктора философии. «Сам
он был великолепен; так спокоен, прост, так мастерски говорил...»(Л. Н. Толстой
и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава; М., 2000. С. 150).
4 мая. Письмо к Данилевскому. Проф. Модестова изгнали из Духовной академии за
утверждение, что русские не способны к филологии.
25 мая. В этот день должны были состояться торжества по случаю открытия памятника
Пушкину. Но из-за смерти императрицы Марии Александровны торжества были
перенесены на 6-8 июня.
6 июня. Присутствует на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в
Москве как депутат от Имп. Публичной библиотеки: «Я не принимал никакого
деятельного участия в этом чествовании памяти Пушкина, был лишь простым
зрителем, но оно глубоко меня интересовало...» {Страхов. Воспоминания о
Достоевском. С. 506).
— Присутствовал на обедне и панихиде в Страстном монастыре (служил митр.
Макарий). Проповедь показалась С. «несколько холодною». На площади
состоялось торжественное открытие памятника с возложением венков. Торжественное
592
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
заседание в университете. Обед, данный Московской городской думой депутатам
в залах Дворянского собрания, с краткими речами.
— Литературное празднество вечером в Благородном собрании, где Достоевский
читал сцену Пимена.
7 июня. Начало публичных заседаний Общества любителей русской словесности (среди
прочих выступление И. С. Тургенева).
8 июня. Впечатление от знаменитой речи Ф. М. Достоевского: «До сих пор слышу,
как над огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный
чувства голос. „Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек".
Восторг, который разразился в зале по окончании речи, был неизобразимый,
непостижимый ни для кого, кто не был его свидетелем». «Действительность
превзошла все ожидания. И спасибо Достоевскому: он спас честь русской
литературы, а то ничего, кроме глупостей, не было говорено» («Рус. вестник»,
1901, янв., с. 141).
9 или 10-19 июня. Пребывание в Ясной Поляне.
20 июня. Прибыл в Воробьевку к А. А. Фету и пробыл 10 дней. Уехал в Глухов к
племяннице «посмотреть на внука».
30 июня. Прибыл в Глухов и гостил в семье Матченко.
1 июля. Письмо к Фету из Глухова. Сообщает, что племянница и ее муж перебираются
в Полтаву, где муж выхлопотал место.
Ок. 3 июля. Прибыл в имение Фета Воробьевку и пробыл десять дней.
Ок. 16 июля. Приезжает в Ясную Поляну.
Ок. 26 июля. Покидает Ясную Поляну и уезжает в Петербург.
5 авг. Одобрительно отмечает рост религиозных настроений Толстого в письме
к Н. Я. Данилевскому. «...В Ясной Поляне, как всегда, идет сильнейшая
умственная работа. Мы с Вами, вероятно, не сойдемся в оценке этой работы, но
я удивляюсь и покоряюсь ей так, что мне тяжело. (...) Идеал христианина понят
им удивительно (...) Он углубился в изучение евангельского текста и многое
объяснил в нем с поразительною простотой и тонкостью» («Рус. вестник», 1901,
янв., с. 138).
15 окт. Присвоен чин статского советника.
20 нояб. Присутствует на лекции Вл. Соловьева «Исторические дела философий»
в С- Петербургском университете. «И вчерашняя лекция была блистательна...»
{Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 584).
21 нояб. Медлит с корректурой перевода Фета, и поэт жалуется Л. Н. Толстому: «.. .уже
тошно, а он все колдует» (Фет А. А. Сочинения: в 2 т. М., 1982. Т. 2. С. 288).
29 нояб. После посещения выставки картины А. Куинджи «Ночь на Днепре» в
Обществе поощрения художеств пишет Толстому: «Картина, цвет нашего реализма».
Посылает в «Русь» небольшое эссе, содержащее размышления об искусстве
(«Русь», № 5).
30 нояб. Письмо П. Д. Голохвастову с похвалами «Руси».
593
Приложение
3 дек. Письмо от И. С. Аксакова. Благодарит за статью о картине Куинджи. Просит
привлечь к участию в «Руси» Н. Я. Данилевского.
13 дек. Ст. «Ночь на Днепре. Картина Куинджи» («Русь», № 5).
2-я пол. дек. Выходит в свет и поступает в продажу книга «Мир как воля и
представление» А. Шопенгауэра в пер. А. А. Фета, с предисловием С.
28 дек. Сообщает Фету, что «у Стасюлевича уже давно продано 25 экз.» Шопенгауэра
(Фет и его окружение. Кн. 2. С. 328).
30 дек. Л. Н. Толстой в письме к С. пренебрежительно отозвался о «Фаусте» Гёте в
переводе Фета: «.. .особенно эта дребедень из дребеденей Фауст Гете» {Толстой —
Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 589).
1881
Янв. Награжден орденом Св. Анны 2-й степени.
28 янв. t Ф- М. Достоевский.
30 янв. Пишет А. А. Фету, что Шопенгауэр идет хорошо. «В Отечественных Записках
меня обругали за предисловие, но прямо напечатали: „перевод очень хорош"»
(см.: «Отеч. зап.», № 1, с. 74-76) (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 329).
31 янв. Присутствует на отпевании Достоевского в церкви Владимирской иконы Божией
Матери и при похоронах в Александро-Невской лавре.
14 февр. На вечере памяти Достоевского в Санкт-Петербургском Славянском
благотворительном обществе среди прочих «Страхов произнес обширную речь, в
которой привел отрывки из письма к нему Л. Н. Толстого с восторженным отзывом
о „Записках из Мертвого дома"» («Новое время», № 1786).
18 февр. Именины Л. Н. Толстого. Приезжал в Ясную Поляну на именины к Толстому
и «гостил у него 4 дня на Масленой» (письмо А. А. Фету, март 1881 г.). На
обратном пути в Москве виделся с И. С. Аксаковым и Голохвастовыми.
28 февр. Помещает ст. о Достоевском в газ. «Русь» («Русь», № 16).
1 марта. Убийство Александра II, которое произвело большое впечатление на С.
Весна или лето. Записка А. Г. Достоевской к С. с просьбой не отказываться писать
биографию Достоевского для Полного собрания сочинений.
17 марта. Получает от С. А. Толстой письмо Л. Н. Толстого для передачи Александру III
через Победоносцева с прошением проявить христианское милосердие и не
казнить революционеров, убивших 1 марта его отца (черновик: Толстой Л. Н.
ПСС. Т. 63. С. 43-52). С. по просьбе Толстого сначала через К. П.
Победоносцева, а после его отказа — через проф. К. Н. Бестужева-Рюмина пытался передать
вступившему на трон Александру III письмо писателя с предложением в свете
христианского непротивления злу насилием простить убийц. С. опустил письмо
в специальный ящик для прошений на Высочайшее имя в Зимнем дворце.
20 марта. Отправляет Аксакову в «Русь» «Первое письмо об нигилизме». «Я так
расписался, как и не помню; ни в какое свое писанье я не вкладывал столько души...»
(Аксаков — Страхов. Переписка. С. 49).
594
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
Ф
28 марта. Присутствует на лекции Вл. Соловьева «Критика современного просвещения
и кризис мирового процесса» в зале Кредитного общества, в которой лектор
обратился к царю с призывом помиловать убийц Александра II: «Пусть царь
и самодержец заявит на деле, что он, прежде всего, христианин. Он не может
не простить их» (Аксаков — Страхов. Переписка. С. 52).
2-3 апр. Л. Н. Толстой одобрил поступок Соловьева: «Молодец Соловьев» (Толстой —
Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 598).
18 апр. Первое «Письмо о нигилизме» в газете «Русь» (№ 23).
Апр. — май. Публикует в «Руси» И. С. Аксакова четыре «Письма о нигилизме» («Русь»,
№ 23-25,27). Первые два Толстой не одобрил, и между ними наметилось глубокое
расхождение во взглядах.
30 июля — 6 авг. Пребывание в Ясной Поляне (Л. Н. Толстого не застал) и в Воробьевке,
имении А. А. Фета.
7 авг. Отъезд в Крым.
16 авг. Поездка в Константинополь и на Афон. Отправляется в Константинополь на
пароходе из Севастополя. Проводит в Пантелеимоновом монастыре ровно две
недели, совершает две поездки в другие монастыри Афона.
Ок. 17 сент. Возвращение на пароходе из Салоник через Константинополь до Одессы,
затем поездом до Москвы.
25 сент. Прибыл в Москву, где виделся с семьей Толстых и прожил неделю.
27 сент. И. С. Аксаков пишет П. Д. Голохвастову, что накануне у него был С. проездом
с Афонской Горы.
Осень. Вышел первый том «Истории материализма» Н. Ланге в переводе С.
1882
16 янв. Сообщает А. А. Фету: «Кончил печатание одной своей книги» [«Борьба с Западом
в нашей литературе», кн. 1] (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 341).
Февр. Разбор трагедии А. Н. Майкова «Два мира», представленной в Академию наук
на соискание Пушкинской премии («Рус. вестник», № 2).
6 февр. Сообщает Л. Н. Толстому, что его напечатанная книга «Борьба с Западом в
нашей литературе» встретила цензурные препятствия со стороны председателя
Главного управления по делам печати кн. П. П. Вяземского. Но позже книга
вышла и «быстро разошлась».
9 февр. Избран членом совета Санкт-Петербургского Славянского благотворительного
общества.
31 марта. Л. Н. Толстому: «Это первая моя книга, имеющая успех...» (Толстой —
Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 632).
Март. Ст. «Новый рассказ гр. Л. Н. Толстого» («Гражданин», № 10-11).
Май. Ст. М. Протопопова «Кладбищенская философия» («Дело», № 5).
15 июня —19 авг. Посещает Ясную Поляну, Воробьевку, Мшатку, Полтаву.
Авг. Н. Я. Данилевскому: «Соловьев пишет о теургии, чудотворении. Для католиков
его идеи „слаще меда"».
595
Приложение
1883
3 янв. Начинает сотрудничество в «Руси» И. С. Аксакова. Ст. «Взгляд на текущую
литературу», начало («Русь», № 1).
17 янв. Аксаков сообщает С. о выходе № 2 «Руси» со статьей, в которой С. «так славно
отделал Щедрина».
10 марта. С 1884 г. разрешено издание журн. «Известия Санкт-Петербургского
Славянского благотворительного общества» под редакторством С.
Конец марта. Выход в свет 1-го изд. 2-й книги «Борьба с Западом в нашей литературе».
Май. Ст. «Об основных понятиях физиологии» («Рус. мысль», № 5).
— Рец.: Страхов Н. Н. Борьба с Западом. Кн. 2. СПб., 1883 («Дело», № 5; без подп.).
22 мая. Награжден орденом Св. Владимира 3-й степени.
Июнь. Отправляется в имение Фета Воробьевка в Курской губ., где работает над
воспоминаниями о Достоевском. Гостит у Фета три недели.
Сер. июля. Гостит у родственников в Полтавской губ.
13 июля. Н. П. Вагнер, «известный спирит», вступает в дискуссию со С. в ст.
«Перегородочная философия (Открытое письмо к г. Страхову)» («Новое время»,
№ 2647).
18 (30) июля. Письмо А. Г.Достоевской к С. по поводу написанной им биографии:
«С некоторыми вашими выводами я согласна в высшей степени и крайне
довольна, что вам удалось так ярко их подметить и выставить».
12-27 июля. Пребывание в Ясной Поляне. Благодарит Толстого «за 16 дней Вашего
чудесного гостеприимства».
20 июля. Вагнер Н. Перегородочная философия (Открытое письмо к г. Страхову)
(«Новое время», № 2654).
17 авг. Письмо к Фету с благодарностью за «милое письмо» (не сохр.): «И всего
прелестнее в нем жгучий интерес взаимного ауканья\» (Фет и его окружение.
Кн. 2. С. 362).
9 сент. Участие в похоронах И. С. Тургенева.
Окт. Ежемесячный журн. «Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва» под ред. С. и И. И. Соколова.
Окт — нояб. Завершает работу над «Воспоминаниями» о Достоевском («...весь год
ушел на работу, почти навязанную и меня тяготившую») («Рус. вестник», 1901,
февр., с. 469).
Нояб. Выход в свет 1-го тома Собр. соч. Достоевского, «Биография», с воспоминаниями
С. о Достоевском.
596
Н.Н.Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
зйг
■v
— Толстой теряет в Москве по пути с Курского вокзала в Хамовники чемодан
с рукописями статьи «В чем моя вера» и с книгами, некоторые из которых
принадлежали С.
— Поэт Я. П. Полонский пишет С. о биографии Достоевского, отмечая противоречие
светлого образа писателя, созданного автором, и выписок из писем Достоевского:
«.. .ваша книга производит какое-то двойное впечатление» (черновик: РО ИРЛИ.
Ед.хр. 11769).
28 нояб. Отправил Л. Н. Толстому печально известное письмо о своих мучительных
переживаниях при писании воспоминаний о Достоевском.
1 дек. Ст. «Поминки по Тургеневе» («Русь», № 23).
15 дек. Ст. «А. А. Фет» [о кн. «Вечерние огни». СПб., 1883] («Русь», № 24).
1884
Янв. Начинает работу редактором журн. «Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва».
6 янв. Письмо А. А. Фету: «Сам я принимаюсь, за что бы вы думали? за спиритизм, не
за чудеса, а за опровержение» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 368).
15 янв. На заседании Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества
А. А. Киреев утвержден библиотекарем общества вместо С, ставшего редактором
журнала общества и членом Совета.
27 янв., 3 февр. Ст. В. Буренина «Биография и письма Достоевского» («Новое время»,
№ 2843 и 2850).
Февр. Помещает в «Известиях» спорную статью Вл. С. Соловьева «О народности
и народных делах в России» со своим ред. примечанием. «Главную мысль этой
статьи следует признать и вполне справедливою, и очень важною, но в развитии
и подробностях она представляет частности, требующие оговорок, которые
читатель и найдет в следующей за нею статье» («Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва»,
№ 2). Комментарий А. А. Киреева «Замечания на предыдущую статью» к статье
Соловьева.
— Рец. на кн.: Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. 8-е изд. СПб., 1884
(ЖМНП, ч. 232, март).
1 февр. Ст. «Еще письмо о спиритизме (В редакцию „Нового времени")» («Новое
время», № 2848). Ответ на открытое письмо сторонника спиритизма Н. П. Вагнера.
7 февр. Ст. А. Бутлерова «Умствование и опыт: (ответ г. Страхову)» («Новое время»,
№ 2854).
Март. Помещает письмо Вл. Соловьева в редакцию «Известий», содержащее возражения
на критический комментарий Киреева к ст. Соловьева «О народности и народных
делах в России» («Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва», № 3).
— Письмо Вл. Соловьева в редакцию журн. «Православное обозрение»
(«Православное обозрение», № 3).
15 марта. Резкая ст. И. С. Аксакова «Против национального самоотречения и
пантеистических тенденций, высказывавшихся в статьях В. С. Соловьева» («Русь»,
№ 6; 2-я ст. — в № 7).
597
Приложение
—■$>
Апр. Ст. А. А. Киреева («Известия СПб. Слав, благотв. общества», № 4), направленная
против Вл. Соловьева.
3 апр. Ст. Н. П. Вагнера «Раздвоенная философия: (ответ на письмо Н. Н. Страхова)»
(«Новое время», № 2909).
Конец апр. Приезд Н.Я.Данилевского: «...за разговорами и всякими свиданиями
у меня вовсе не стало времени. Это чудесный человек и по уму и по сердцу;
мне истинная отрада его приезд. Книги его „Дарвинизм" уже набрано листов
25» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 373).
1 мая. Ст. «Стихотворения графа А. А. Голенищева-Кутузова. СПб. 1884» («Русь», № 9).
8 мая. Предложение об избрании Н. Я. Данилевского почетным членом Санкт-
Петербургского Славянского благотворительного общества. С. ознакомил
собрание с общественной и литературно-ученой деятельностью Данилевского.
Сообщение встречено «громкими рукоплесканиями». Избран единогласно.
22 мая. Письмо А. А. Фету: «Сам я в больших хлопотах. Уже месяц здесь живет Н. Я.
Данилевский, и я испытываю такое впечатление, как будто уехал из Петербурга
и живу на Южном берегу: ничего не делаю, болтаю и слушаю, или в гостях, или
принимаю гостей» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 374).
Июнь (до 20). Ездил с Вл. С. Соловьевым и А. А. Кутузовым в Пустыньку С. П. Хитрово.
«.. .Гуляли, разговаривали, с Соловьевым спорили о пространстве и времени...»
22 июня—сент. Пребывание в Германии: Берлин (три недели), Эмс (недолгое лечение),
Байрейт (оперы Вагнера), Мюнхен.
17 авг. Письмо А. Ф. Бычкову о путешествии в Германию: «Мое глубокое уважение
к Германии только усилилось и определилось. Пруссия поразила меня своей
энергией. Баварию же я так полюбил, что готов был бы остаться в ней навсегда».
17-18 сент. Возвращение в Петербург. В Петербурге регулярно видится в библиотеке
с Вл. Соловьевым, который читает в его кабинете «Акты Вселенских Соборов».
12 окт. Сообщает Фету о присуждении поэту Пушкинской премии и о завершении
продажи им 2-го изд. труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление» в
переводе Фета.
1885
Янв. Вышла кн.: Цертелев Д. Н. 1. Спиритизм с точки зрения философии. Публичная
лекция. 2. Медиумизм и границы возможного [читано было в публичном
заседании Комис. пед. музеума в Соляном городке]. Медиумизм и границы возможного
(ответ Н. Н. Страхову). СПб., 1885. 64 с.
31 янв. «Сегодня зашел Соловьев, бодрый, веселый, так что я порадовался. Впрочем, он
сидит рядом со мною каждый день в библиотеке—что мне очень приятно. Читает
он акты Всел(енских) Соборов, к нему часто заходит католик Гезен — и все это
мне представляется чем-то опасным. (...) Сам я изготовил статью о спиритизме
(пятую по счету), да уже напечатана („Русь", № 2) статья о Л. Н. Толстом» (Фет
и его окружение. Кн. 2. С 390).
26 февр. Ст. «Физическая теория спиритизма» («Новое время», № 3232).
598
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
Ф
Февр. — март. Публикует в «Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва» статью Данилевского
«Г. Вл. Соловьев о православии и католицизме» (№ 2 и 3).
Март. Печатает в «Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва» статью Вл. С. Соловьева «Ответ
Данилевскому» (№ 3), полагая в силу своего редакторского либерализма, что
взгляды Соловьева интересно знать, хотя с ними надо спорить. Это не
понравилось ряду членов общества.
12 марта. Письмо П. Д. Голохвастову с разъяснением учения Толстого.
14 марта. «Соловьев здравствует и благоденствует, читает каждый день за моим столом
в Библиотеке Афанасия Великого, принимает визиты дам, спорит под моим
присмотром со Стасовым (...) Мы даже очень мирно разногласили с ним по высшим
вопросам» {Фет и его окружение. Кн. 2. С. 393).
22 апр. Выезд в Москву, оттуда в Крым.
23 апр. Пишет Фету из его московского дома на Плющихе в Воробьевку.
Ок. 7 мая. Приезжает в Мшатку, имение Н. Я. Данилевского.
17 мая. Фету пишет «из страны роз и кипарисов», т.е. из Мшатки, —«первому».
Тяготится предстоящим возвращением в Петербург. Сообщает о завершении
подготовки кн. «Дарвинизм» Н. Я. Данилевского: «„Дарвинизм" появился, наконец,
здесь в виде первой книги, еще не подлежащей продаже и служащей автору для
справок, ссылок и уловления опечаток» {Фет и его окружение. Кн. 2. С. 396).
— И. С. Аксакову: «.. .вот уже десятый день, как мы говорим и не можем наговориться
с Николаем Яковлевичем». Сообщает, что Данилевский получил письмо Аксакова,
которое содержит «большие (...) упреки (Страхову) за Толстого» («Французская
статья об Л. Н. Толстом», «Русь», № 2) и что «нет причины каяться в печатании
(...) статьи». На досуге перечел «Изложение Евангелия» Толстого и «изумлен
крайним безобразием этого писания» {Аксаков — Страхов. Переписка. С. 134).
11 июня. Выезд в Ясную Поляну и к Фету. Прожил в Ясной Поляне неделю.
26 июля. Приехал Соловьев и вечером сидел у С, который «угостил» его чтением
последнего письма Фета.
29 июля. Письмо Н. Я. Данилевскому. «Приехал сюда Соловьев, и каждый день мы
видимся, он читает в моем отделе Фотия. (...) хочет писать „Обзор полемики
по вопросу о католичестве за последние два года"» («Рус. вестник», 1901, март,
с. 141).
29 авг. Письмо С. А. Толстой. «С Вл. Соловьевым мы видимся каждый день, очень
сблизились, хотя он (сидя со мной рядом в библиотеке) всё сообщает мне аргументы
в пользу папства» (Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым.
Оттава; М., 2000. С. 181).
Окт. За публикацию в 1884-1885 гг. в журнале «Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва»
полемических статей Вл. Соловьева по настоянию В. И. Ламанского переизбран
с должности редактора. Вл. Соловьев писал об этом брату Михаилу: «Страхов
приехал, его выгнали из редакторов „Слав(янских) Извест(ий)" за мой ответ
Д(анилевско)му. Ламанский объявил ему: или вы выходите из редакторов, или
мы все выйдем из Совета общества» {Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 104).
599
Приложение
■9'
Окт. Кн. «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885)». СПб.,
1885.
27 окт. Официально слагает с себя «за истечением трехлетия» обязанности редактора
«Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва».
7 (19) нояб. t H. Я. Данилевский.
9 нояб. Некролог Н.Я.Данилевского, написанный С, в газете «Новое время»; позже
перепечатан в «Руси» (№ 20, 16 нояб.) и ЖМНП (дек.).
11 нояб. Ст. «Закономерность стихий и понятий. Открытое письмо к А. М. Бутлерову»
(«Новое время», № 3487).
17 нояб. В письме к Фету в связи с книгой «Критические статьи...» излагает свои
взгляды на сочетание морали и художества, о добре и зле.
Дек. Уволился из Имп. Публичной библиотеки, получив при увольнении чин
действительного статского советника («с чином превосходительства и пенсией в 377 р.
в год»). Награжден при увольнении орденом Св. Владимира 3-й степени.
— Ст. «Закономерность стихий и понятий. Открытое письмо к А. М. Бутлерову.
Окончание» («Новое время», № 3502).
6 дек. Ст. В. Буренина «Н. Н. Страхов как критик Тургенева и Толстого» («Новое
время», №3512).
13 дек. Письмо А. А. Фету: «Завтра я в последний раз отправляюсь в Публичную
библиотеку, и затем — отставка...» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 407).
25 дек. Письмо А. А. Фету: «.. .смерть Данилевского сделала меня сиротою» (Фет и его
окружение. Кн. 2. С. 408).
1886
Кн. «Об основных понятиях психологии и физиологии». Книга имеет успех.
Сочинение А. Шопенгауэра «О четверном корне закона достаточного основания.
Философское рассуждение Артура Шопенгауэра» (М., 1886) в пер. Фета, с
посвящением Страхову (с. V).
Нач. февр. Поездка в Москву. Останавливался в доме Фета на Плющихе. Встречался
и с Л. Н. Толстым.
4 февр. Письмо П. Д. Голохвастову о Н. Я. Данилевском: «Он был самый чистый
человек, какого я только знал, и с его смертью я, собственно, уже не могу ничего
делать, как только готовиться к своей смерти» (РО ИРЛИ. Ед. хр. 11060. Л. 38).
26 февр. Ст. «Физическая теория спиритизма» («Новое время», № 3232).
7 марта. Ст. «Поминки по И. С. Аксакове» («Новое время», № 3599).
— Написана ст. «О дарвинизме» (для «Гражданина»).
11 марта. С. пишет вдове И. С. Аксакова Анне Федоровне: «Мир рушится вокруг меня,
и со смерти Н. Я. Данилевского и Ивана Сергеевича кончилось то, что я прежде
называл жизнью. На похоронах я не мог быть по болезни; не прислал Вам
телеграммы, не пришел поклониться Вам, когда несколько дней был в Москве. Но
вы видите по „Поминкам", по крайней мере, то, что я не был равнодушен или
забывчив» (ОРРГБ. Ф. 3. Оп. 6. Ед. хр. 97).
600
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
11-18 апр. На Страстной неделе был у гр. А. А. Толстой, познакомился там с кн. Е. Г.
Волконской, автором богословских сочинений («О церкви. Исторический очерк»,
1888, и др.). «Там же Цертелев прочитал мне целую индийскую буддистскую
поэму».
22 апр. Лекция К. Тимирязева против Данилевского. Отзыв в письме к А. А. Фету:
«Человек с горячкой и самоуверенностию наскочил на книгу Данилевского —
и оборвался».
15 или 16 мая. Выезд в Мшатку.
3 июня. Изучает ст. Тимирязева «Опровергнут ли дарвинизм?». «Статья очень горяча
по тону и очень слаба по содержанию».
18 июня. Пишет из Мшатки А. А. Фету. «Живу я как будто на кладбище, над свежею
могилою. Моя комната рядом с кабинетом Николая Яковлевича, где я разбираю
его рукописи, письма, книги. (...) В урочный час иду на его могилу; она в дальней
части сада, среди широкой полянки, кругом обставлена кипарисами и заслонена
отовсюду возвышенностями. Чудесное место для могилы! (...) Вот уже месяц
как я справляю эти поминки по Николае Яковлевиче. Лучшего человека я не знал
на свете, и всё, что я тут узнал, придало его образу почти святость» (Фет и его
окружение. Кн. 2. С. 417^418).
Конец июня. Посещает Воробьевку, затем едет в Ясную Поляну.
Июль. Ст. «Дарвинизм. Критическое исследование Н. Я. Данилевского» («Гражданин»,
№ 25).
1 авг. Ст. «Главная задача физиологии» (ЖМНП, ч. 246, авг).
2 авг. «Если бы не болезнь, жизнь моя была бы идеалом отшельнической жизни. Сразу по
приезде я с головой ушел в свою статью „Главная задача физиологии" и с большим
напряжением кончил ее, но только вчера» {Фет и его окружение. Кн. 2. С. 420).
5 авг. f А. М. Бутлеров. Вынужденно оборвалась полемика о спиритизме.
22 авг. Намерение написать последнюю книгу «о том, как искать Бога».
1 сент. Ст. «Главная задача физиологии» (ЖМНП, ч. 246, авг).
4 сент. Рец. «И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М, 1886» («Новое
время», № 3777).
12 нояб. Эльпе [Попов Л.] Н. Страхов. Об основных понятиях философии и психологии:
[рец.]. («Новое время», № 3846).
1887
«Борьба с Западом в нашей литературе. Исторические и критические очерки» (Кн. 1.
2-е изд.).
— «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. 1862-1885» (2-е изд.).
Янв. Ст. «Полное опровержение дарвинизма. „Дарвинизм". Критическое исследование
Н.Я.Данилевского (...) Т. 1. Ч. 1 и 2. СПб., 1885» («Рус. вестник», № 1).
Нач. янв. На рождественские праздники посещает Ясную Поляну.
Ок. 20 янв. Приглашение к вел. кн. Константину Константиновичу в Мраморный
дворец и просьба написать мнение о подаренной книге «Стихотворения К. Р.».
601
Приложение
Февр. Кн. «О вечных истинах. (Мой спор о спиритизме)». В письме к Л. Н. Толстому:
«Эта книга — уже выход на новую дорогу, на путь мистицизма, как я его
понимаю» (Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 712).
— Начало полемики с Вл. Соловьевым. Ст. Вл. Соловьева «Россия и Европа»
(«Вестник Европы», № 2 и 4).
3 февр. Посылает вел. кн. Константину Константиновичу письмо с положительным
отзывом на первый сборник его стихов, после чего с ним завязывается переписка.
8 февр. Письмо от К. Н. Леонтьева с восторженными похвалами статье «Полное
опровержение дарвинизма», посвященной Данилевскому («Рус. вестник», № 1).
7-8 марта. Получает сообщение от А. А. Фета, что Вл. Соловьев с Н. Я. Гротом
«вскипели негодованием» от книги С. «О вечных истинах» (хотя Грот в письме
к С. ранее хвалил книгу). «Соловьев прямо говорит, что это лживая, лукавая
книга, прикрывающаяся девизом — philosophari — Deum amare — и пропове-
дывающая чистейший материализм». Фет от себя добавляет странное: «Если
она преднамеренно в этом смысле лукава, то тем сильнее мне хочется обнять
вас, как умницу, умеющего защитить свое чадо». Письмо Фета не сохранилось
(отрывок приведен в переписке с Толстым) (Толстой — Страхов. Полн. собр.
переписки. Т. 2. С. 733).
9 марта. Письмо от Вл. Соловьева с объяснением его критического отношения к кн.
«О вечных истинах»: «Не виноват, дорогой Николай Николаевич, в
запоздалости и краткости этого отзыва на Ваш спиритизм. (...) я безусловно согласен
и одобряю главный тезис Вашего выступления, а именно, что путем спиритизма
религиозной истины добыть нельзя (...) Что же касается до полемики с
Бутлеровым, то ваша аргументация против спиритических чудес имеет силу (если
имеет) также и против всяких чудес и против самого существования невидимых
духовных деятелей, т.е. против всякой религии: ибо хотя, говорят, есть религия
без Бога (буддизм), но религии без ангелов и чертей не бывало и быть не может»
(Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 31).
12 марта. Пишет Толстому о сообщении в письме Фета, что Соловьев и Грот возмущены
книгой, «проповедующей чистейший материализм», и намерены возражать ее
автору. «Первое мое желание было — разорвать всякие отношения с ними —
так мне было обидно. (...) Такого огорчения и недоумения я еще не испытывал
в жизни» (Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 733-734).
14 марта. Фет разъясняет С. А. Толстой свое понимание кн. «О вечных истинах»:
«Страхов только утверждает, что при помощи прирожденных законов разума уже
отысканы капитальнейшие законы бытия мира, и куда бы мы ни обратились, мы
всюду встречаемся с их необходимостью, так что рядом с ними беспричинному
чуду нет места. Пусть спиритические или иные чудеса, хоть среди белого дня,
садятся с нами обедать, все-таки они будут дети другого, заоблачного мира, но
никак невозможно разбирать их с точки зрения естественных наук...»(Фет и его
окружение. Кн. 2. С. 134).
602
Н.Н.Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
—■$■
2 апр. Письмо Вл. Соловьева с упреками в отрицании чудес: «Не в обиду Вам будь
сказано, когда во имя физики Вы отрицаете чудеса, напр. безвредное падение
человека с большой высоты, то вы рассуждаете почти так же плохо, как Л. Н.
Толстой» (Вл. Соловьев. Письма. Т. 1. С. 33).
После 2 апр. Соловьев сообщает Д. Н. Цертелеву: «О страховском спиритизме я
безусловно согласен с твоим мнением и высказал свое впечатление своему
Страхову в самых недвусмысленных выражениях, из-за чего у нас с ним произошло
охлаждение, или, лучше сказать, разгорячение с его стороны» (Вл. Соловьев
Письма. Т. 2. С. 252).
9 апр. Письмо Вл. Соловьева против книги «О вечных истинах».
10 апр. Присутствие на праздновании 50-летия литературной деятельности Я. П.
Полонского.
12 апр. Еще одно письмо Вл. Соловьева с критикой кн. «О вечных истинах».
Ок. 15-16 апр. Отправляет Вл. Соловьеву несохранившееся письмо по поводу книги
«О вечных истинах».
— Вл. Соловьев сообщает А. А. Фету: «Получил перед праздниками чрезвычайно
обиженное письмо от Страхова по поводу его спиритизма. Отлагаю
обстоятельный ответ до Воробьевки» (Вл. Соловьев. Письма. Т. 3. С. 115).
22 апр. Лекция К. А. Тимирязева «Опровергнут ли дарвинизм?» (напечатана: «Рус.
мысль», № 5 и 6) против книги Данилевского «Дарвинизм» и статьи С. «Полное
опровержение дарвинизма» («Рус. вестник», № 1 и 2).
— Сообщает о лекции Тимирязева Л. Толстому: «Грот мне пишет, что лекция (...)
была очень язвительна и резка против Н. Я. Данилевского и меня и кончилась
стоном и ревом восторга слушателей» (Толстой — Страхов. Поли. собр.
переписки. Т. 2. С. 737).
Май. Читает книгу П. А. Бакунина «Основы веры и знания» (1886) и приходит от нее
в восторг.
7 мая. Письмо от Грота с рассказом о неприятном впечатлении от лекции К. Тимирязева
из-за ее субъективизма и пристрастности.
21 июня. С. А. Толстая в «Дневнике»: «Я читала Страхова книгу против спиритизма,
тяжело читается и увы! не убедительно — или я плохо понимаю» (в коммент.:
«Толстой книгу одобрил») (Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 120).
26 июня. Приезд в Ясную Поляну.
29 и 30 июня. Пребывание с Л. Н. Толстым в Воробьевке у А. А. Фета.
Июль. Ст. «„Дарвинизм". Критические исследования Н.Я.Данилевского. СПб., 1885»
(«Гражданин», № 25).
2-3 июля. Прибывает на три дня в Воробьевку к А. А. Фету. Просмотрел 45
стихотворений Фета. Беседы с гостящим у поэта Вл. Соловьевым. Находясь затем
в Мшатке, вспоминает об этих разговорах: «С Владимиром Сергеевичем у нас
завелись такие интересные разговоры, что я жажду их продолжения» (Фет и его
окружение. Кн. 2. С. 438).
5 июля. Отъезд из Воробьевки в Мшатку (имение Данилевских).
603
Приложение
20 июля, t M. H. Катков. «Событие самых крупных размеров» (Фет и его окружение.
Кн. 2. С. 438).
28 июля. Сообщает Фету из Мшатки о благополучном прибытии (до 20 июля).
2 авг. Отбыл из Мшатки через Севастополь и Одессу.
3 авг. Прибыл в Киев к родственникам. Общение с А. В. Праховым. «Киев бесподобен...»
(Фет и его окружение. Кн. 2. С. 439).
15 авг. Прибытие в Воробьевку.
20 авг. Гостит в Воробьевке у Фета, сообщает Толстому об отношениях с гостящим там
Соловьевым: «...мы не согласны между собою, но живем мирно» (Толстой —
Страхов. Полн. собр. переписки. Т. 2. С. 750).
25 авг. С. А. Толстая пишет в «Дневнике»: «У нас гостит Степа с женой и милый
Страхов» (Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 123).
28 авг. Празднование дня рождения Толстого в Ясной Поляне «только обедом на
открытом воздухе».
29 авг. Покинул Ясную Поляну. Остановился в Москве в доме Фета на Плющихе.
Намерен встретиться в гостинице «Лоскутной» (на Тверской ул.) с кн. Д. Н. Цер-
телевым, редактировавшим четыре книги «Русского вестника» (1887. № 7-10)
после смерти Каткова.
Сент. Отвечает Вл. Соловьеву на его просьбу свериться у Е. М. Феоктистова, начальника
Главного управления по делам печати, нельзя ли напечатать в России изданную за
границей «Историю теократии». Из-за отсутствия Феоктистова книга Соловьева
была пущена через духовную цензуру. Печатать ее не разрешили.
17 сент. Навещает больного Я. П. Полонского.
— Вл. Соловьев сообщает М. М. Стасюлевичу о намерении написать статью о книге
Данилевского «Россия и Европа»: «Мой взгляд на это сочинение диаметрально
противоположен взгляду Страхова, и я готовлю обстоятельный разбор...» (Вл.
Соловьев. Письма. Т. 4. С. 32).
29 сент. Опубликована лекция О. Миллера «Славянофильство и Катков», за которую
он был уволен из университета («Русский курьер»).
20 окт. Проф. В. Модестов в статье «Борьба с Западом» иронизировал: «Пусть
читатель не пугается заглавия статьи (...) Борьба с Западом пока существует только
в книге Н. Н. Страхова, да и то лишь на обложке этой книги, так как в самой книге
никакой борьбы с Западом нет, если не считать борьбою несколько фраз автора
о вырождении Европы, об оскудении ее идеалов и об умственной анархии на
Западе» («Новости и Биржевая газета», № 288).
Окт. — нояб. Знакомство с И. Е. Репиным. «...Какой симпатичнейший человек!» С.
«дважды был в мастерской Репина», и Репин посещал его среды. (Толстой —
Страхов. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 757-760).
Нояб. Ф. Н. Берг становится редактором «Рус. вестника» и перемещает его в Петербург.
— Ст. «Всегдашняя ошибка дарвинистов» («Рус. вестник», № 11).
Дек. Ст. «Всегдашняя ошибка дарвинистов». Ч. 2 («Рус. вестник», № 12).
604
Н.Н.Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
Ф
1888
Кн. «Заметки о Пушкине и других поэтах».
Репин закончил писать портрет С. маслом, начатый в 1887 г. Портрет был первоначально
задуман как большой рисунок углем, и только по окончании его Репин решил
удачный портрет «раскрасить», чем, по его собственному признанию, испортил.
Янв. Ст. позитивиста В. В. Лесевича «Что такое научная философия» с критикой С.
и утверждением, что «Страхов влюблен в себя» («Рус. мысль», № 1).
22 янв. Письмо от учителя елецкой гимназии В. В. Розанова, после которого между
ними завязывается переписка, перешедшая в дружбу.
28 янв. Юбилей А. А. Фета.
Февр. Ст. Вл. Соловьева «Россия и Европа», в которой автор выступает против книги
Н. Я. Данилевского, задевая попутно и книги «Борьба с Западом в нашей
литературе» и «О вечных истинах» («Вестник Европы», № 2 и 4).
18 марта. Виделся с Вл. Соловьевым, читавшим свою статью для апр. номера «Вестника
Европы». А. А. Фету: «Это уже дело серьезное, не то, что было в февральской.
(...) он и против меня пишет, доходит до того, что называет меня материалистом
и западником» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 454).
28 марта. К. Р. прислал С. свою поэму «Себастиан-Мученик» «как к самому строгому
судье и верному ценителю стихотворных произведений».
Апр. Заключительная часть ст. Вл. Соловьева «Россия и Европа», в которой объектом
критики становится не только книга Данилевского, но и «Борьба с Западом»
(«Вестник Европы», № 4).
11 апр. К. Р. пишет Фету, что опечален статьей Соловьева «Россия и Европа»: «Мне
кажется, так может думать только человек, которому свое русское, родное немило
и недорого. Я слышал, что Н. Н. Страхов очень огорчен этой статьей» (Фет и его
окружение. Кн. 2. С. 681).
14 апр. Выбывает из членов Совета Санкт-Петербургского Славянского
благотворительного общества.
30 апр. Присутствует на торжествах по случаю 50-летнего юбилея творческой
деятельности А. Н. Майкова.
10 мая. Письмо А. А. Фету: «...поглощен статьею против Соловьева, что не мог
оторваться [на письмо]... Наш друг Соловьев будет в моей статье осмеян и растрепан
по заслугам (...) следовало быть гораздо строже» (Фет и его окружение. Кн. 2.
С. 456).
Неожиданно начинает расходиться новое издание книги «Россия и Европа»
Данилевского. «В первый месяц — 400 или больше экземпляров!» Сожалеет, что напечатал
только 1000 экз. (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 457).
Июнь. Ст. «Наша культура и всемирное единство. Замечания на статью г. Влад.
Соловьева „Россия и Европа"» («Рус. вестник», № 6).
4 июня. Письмо А. А. Фету о Вл. С. Соловьеве: «В газетах пишут, что он в Париже и (...)
проповедует соединение церквей. (...) Данилевский все больше и больше растет
в моих глазах» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 458).
605
Приложение
ф -
10 июня. Вел. кн. Константин Константинович выражает в письме благодарность
«за отрадное и утешительное впечатление» после чтения ответа Соловьеву «Наша
культура и всемирное единство» («Рус. литература», 1993, № 2, с. 154-155).
14 июня. Я. П. Полонский пишет А. А. Фету о ст. «Наша культура и всемирное единство»:
«Но что в особенности меня порадовало, это статья Страхова — написанная
в ответ В. Соловьеву. Какой прекрасный язык, какая ясность и какая образцовая
полемика! Быть до такой степени прилично-злым и добродушно-беспощадным
в наше время могут немногие... Где теперь наш почтеннейший Николай
Николаевич? Не ведаю... иначе бы поехал к нему и расцеловал бы его...» (Фет и его
окружение. Кн. 1. С. 650).
22 июня. Фет отвечает Полонскому: «Буквально готов повторить все высказанное тобою
о Н. Н. Страхове. Ты, быть может, не знаешь, что я ни единой строки не печатаю,
не подвергнув ее беспощадной критике Страхова. Спроси его самого, правду
ли я тебе говорю. Статья Страхова бесподобна, изобличая преднамеренное со
стороны Соловьева принижение почтенного труда Данилевского. А между тем
Соловьев в некоторых отношениях инстинктивно прав» (Фет и его окружение.
Кн. 1.С. 653).
23 июня. Фет в письме к вел. кн. Константину Константиновичу относит С. наряду
с адресатом, Вл. Соловьевым и А. А. Голенищевым-Кутузовым к числу людей
«с несомненным эстетическим чувством» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 695).
25 июня. Ст. в журн. «Нива» к шестидесятилетию С, написанная молодым почитателем
Д. Н. Михайловым («Нива», № 26; с гравюрой Ю. К. Шюблера).
26 июня. А. А. Фет — Н. Я. Гроту: «Хотя (я) за Соловьева в известном смысле
против Страхова, но должен сказать, что статья Соловьева написана пристрастно
и с софистическими прорехами, а статья Страхова выдержана с обычным его
мастерством. (...).. .вся теория Дарвина — притянутая за уши чепуха» (цит. по:
Фет и его окружение. Кн. 1. С. 652).
30 июня. К. Н. Леонтьеву: «Досадно мне, что статья моя против Соловьева (о которой
жду Вашего суждения), очевидно, не возбудила никакого внимания и должна
остаться без всякого общего действия. К этому я, впрочем, был готов...» (цит.
по: Леонтьев. ПСС. Т. 9, кн. 2. С. 1031).
Авг. Собирался поехать на юг, но не собрался и всё лето провел в Петербурге.
— Статья В. В. Лесевича против идеалистов, включая С. («Рус. мысль», № 8).
28 авг. Получает от А. Ф. Аксаковой два тома переписки И. С. Аксакова: «Я
сроднилась, так сказать, с молодостью моего мужа... Это всё материал для будущего
историка славянофильского развития и направления его деятелей» (РНБ. Ф. 747.
Ед.хр. 6.Л. 12-13).
24 сент. Благодарит А. Ф. Аксакову: «Теперь я уже прочел почти всё и могу отчасти
судить и о содержании, и об издании. Трудно выразить наслаждение, которое
я испытываю» (Цит. по: Аксаков — Страхов. Переписка. С. 7).
12 (24) нояб. Вл. Соловьев — М. М. Стасюлевичу из Загреба, узнав об ответе С. на его
статью: «.. .за невозможностью прямо писать о грехах России, я мог бы написать
606
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
—ф
у Вас о грехах Страхова, что, в сущности, все равно, так как в Страхове я вижу
миниатюру современной России» (Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 39).
18 (30) нояб. Вл. Соловьев — М. С. Соловьеву (из Загреба): «...известие о какой-то
статье старого кота Страхова против меня. (...) Сейчас достал „Русский
вестник" с статьей Страхова и уже задумал с своей стороны о грехах г. Страхова для
иллюстрации более важных предметов» (Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 117).
7 (19) дек. Вл. Соловьев — М. М. Стасюлевичу: «.. .я знаю, что в последнее время и в
известных кругах Страхов стал пользоваться чуть не авторитетом, и изобличить
его восточные грехи дело, по-моему, не бесполезное, хотя и очень скучное»
(Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 40).
15 дек. — конец дек. Розанов приезжал в Петербург для личного знакомства во время
зимних гимназических каникул 1888/89 гг.
25 дек. (6 янв.). Вл. Соловьев — М. М. Стасюлевичу: «Под прикрытием страховской
полемики я хочу все-таки сказать кое-что (о разложении славянофильства на
три разнородных элемента quasi-славянофильства) (...) наконец, брюшной
патриотизм, освобожденный от всякой идейной примеси, широко разлился
по всем нашим низинам, а из писателей индивидуальных представителем его
выступил мой друг Страхов, который головой всецело принадлежит
„гнилому Западу" и лишь живот свой возлагает на алтарь отечества» (Вл. Соловьев.
Письма. Т. 4. С. 40^ i).
31 дек. Награжден (вероятно, к 60-летию) орденом Св. Станислава 1-й степени.
1889
Янв. Резкая полемическая ст. В. С. Соловьева «О грехах и болезнях» («Вестник
Европы», № 1).
— 1 -я часть повести Д. И. Стахеева «Пустынножитель», в которой прототип главного
героя — С. («Новь», № 1).
14 янв. Ст. «В чем борьба с Западом в книгах Страхова „Борьба с Западом в нашей
литературе"» («Русское дело», № 2; без подп.).
28 янв. Ст. «Юбилей поэзии Фета» («Новое время», № 4640).
28-29 янв. Не поехал на празднование юбилея А. А. Фета, сославшись на нездоровье.
Февр. Ст. «Последний ответ Владимиру Соловьеву» («Рус. вестник», № 2).
— Ст. «По поводу статьи В. С. Соловьева „Россия и Европа"» («Вера и разум», № 4,
февр.; без подп.).
12 февр. Рец. Ю. Н. Говорухи-Отрока на кн. С. «Заметки о Пушкине и других поэтах»
(СПб., 1888) («Южный край», № 2791).
Апр. Ст. «Суждение Андр. С. Фаминцына о „Дарвинизме" Н. Я. Данилевского» («Рус.
вестник», № 4).
Май — июль. Ст. К. А. Тимирязева «Бессильная злоба антидарвиниста. (По поводу
статьи г. Страхова: „Всегдашняя ошибка дарвинистов")» («Рус. мысль», кн. 5-7).
Июнь. Ст. «Наша культура и всемирное единство» («Рус. вестник», № 6).
607
Приложение
ф =
3 июня. Рец. Ю. Н. Говорухи-Отрока на ст. К. А. Тимирязева «Бессильная злоба
антидарвиниста» («Южный край», № 2892. 3 июня; подп.: Г.).
20 июня. Доклад С. в Ученом комитете о книге В. В. Розанова «О понимании».
Сент. Рец. на кн. В. В. Розанова «О понимании» (ЖМНП, ч. 265, сент.).
16 сент. Закончил статью «Воспоминание о поездке на Афон». Чтение корректуры
(Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 805).
25 сент. Ст. «Поминки по А. А. Григорьеве» («Новое время», № 4876).
Окт. Ст. «Воспоминание о поездке на Афон» («Рус. вестник», № 10).
Дек. Ст. «Спор из-за книг Н. Я. Данилевского» («Рус. вестник», № 12).
Повесть Д. И. Стахеева «Пустынножитель». Ч. 2 («Новь», № 12).
29 дек. Избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук по Отделению
словесности.
1890
Издал кн. Н. Я. Данилевского «Сборник политических и экономических статей».
Кн. «Из истории литературного нигилизма (1861-1865)».
6 янв. Ст. Ю. Н. Говорухи-Отрока «Наши дарвинисты и антидарвинисты» («Моск.
вед.», № 6).
Март. Повесть Д. И. Стахеева «Пустынножитель (Повесть о книгах и книжниках)»
(«Рус. вестник», № 3, 4)
— К. Н. Бестужев-Рюмин. О кн. «Россия и Европа» (ЖМНП, ч. 268, март).
14 марта. Рец. на кн. В. Розанова «Место христианства в истории» («Новое время»,
№ 5048).
Апр. Посвященная С. большая ст. В. В. Розанова «О борьбе с Западом, в связи с
литературной деятельностью одного из славянофилов» (ВФиП, кн. 4).
Май. Рец. на кн. Д. Щеглова «История социальных систем от древности до настоящих
дней» (СПб., 1870. Т. 1; 1889. Т. 2) («Рус. вестник», № 5).
Авг. Ст. Вл. Соловьева «Мнимая борьба с Западом» («Рус. мысль», № 8).
1 сент. Ст. «Что значит быть самими собою: По поводу статьи г. Вл. С. Соловьева
„Мнимая борьба с Западом". Ч. 1» («Моск. вед.», № 241).
21 сент. Ст. «Новая выходка против Н. Я. Данилевского. Ч. 1» («Новое время», № 5231).
2 окт. Ст. «Новая выходка против Н. Я. Данилевского. Ч. 2» («Новое время», № 5243).
Нояб. Ст. Вл. Соловьева «Счастливые мысли Н. Страхова» («Вестник Европы», № 11).
С. по совету Толстого воздерживается от ответа.
23 нояб. Рец. В. Буренина на кн. С. «Из истории литературного нигилизма» («Новое
время», № 5294).
Дек. Ст. Вл. Соловьева «Немецкий подлинник и русский список» («Вестник Европы»,
№ 12).
1 дек. Говоруха-Отрок Ю. Н. Великие традиции. Н. Страхов. Из истории литературного
нигилизма. СПб., 1890 («Моск. вед.», № 332).
24 дек. Говоруха-Отрок Ю. Н: О журнальной брани, «Новостях» и статье г. Вл.
Соловьева («Моск. вед.», № 355).
608
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
1891
Февр. Ст. «Введение в философию. Сочинение Генриха Струве. Варшава. 1890» (ЖМНП,
ч. 273, февр.).
Март. Отдает статью «Толки об Л. Н. Толстом», в которой защищает религиозные
искания писателя, кн. Д. Н. Цертелеву в «Русское обозрение».
21 марта. Узнав, что уже набранная статья «Толки об Л. Н. Толстом» печататься не
будет, просит редактора журнала послать корректурный оттиск Л. Н. Толстому.
30 марта. Гр. С. А. Толстая, приехав в Петербург ходатайствовать за не пропущенный
цензурой том сочинений мужа, заходила к С. на квартиру, чтобы обсудить
прошение к государю. С. участвовал в корректировке прошения.
Апр. Ст. Г. Е. Струве «Ответ Н. Н. Страхову» [на рец. «Введение в философию»] (ЖМНП,
ч. 274, апр.).
— Ст. «Заметка о предыдущем „Ответе"» [«Ответ Н. Н. Страхову» Г. Е. Струве]
(ЖМНП, ч. 274, апр.).
— А. А. Киреев читает еще не опубликованную статью «Толки об Л. Н. Толстом»
и, признавая ее достоинства, дает в письме к С. развернутую критику
«проповедничества» Толстого, осуждая С. за апологию его взглядов.
7 апр. Толстой, прочтя еще не опубликованную статью «Толки об Л. Н. Толстом», пишет
С. положительный отзыв.
13 апр. Гр. С. А. Толстая принята Александром III в Аничковом дворце. Разрешение на
издание тома сочинений Толстого было получено.
22 апр. Грот посещает лекцию К. А. Тимирязева.
Июнь. Ст. «О законе сохранения энергии» (ВФиП, кн. 6).
6 июня, f Любовь Константиновна, жена писателя Д. И. Стахеева, и Стахеев, с которым
С. жил рядом с 1875 г., сменил квартиру.
7 июня. А. А. Киреев в большом письме к С. критикует «Крейцерову сонату» Толстого
за отсутствие «целомудрия и страдания», но выражает согласие со С. в критике
Соловьева: «Соловьев, одно из моих величайших разочарований. Он сделался
совсем иезуитом, клевещет и лжет!! Переходит на чисто личную почву, как вы
совершенно верно замечаете» (ОР РНБ. Ф. 747. Ед. хр. 15. Л. 17).
14 июня. Сообщает Толстому, что гр. А. А. Толстая передала статью «Толки об Л. Н.
Толстом» царю. Вероятно, именно это привело к тому, что статью было разрешено
напечатать.
5 июля. Киреев в письме к С. пространно осуждает «Крейцерову сонату» Толстого.
11 июля. Письмо от Н. Я. Грота по поводу неопубликованной статьи «Толки об Л. Н.
Толстом»: «Ваша статья о Толстом, которую мне переслали сюда, привела меня
в восторг» {ОРРНБ. Ф. 747. Ед. хр. 13. Л. 28).
29 июля. С. А. Толстая в «Дневнике»: «Тут Страхов, как всегда, необыкновенно приятен
и умен» {Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 205).
5-21 авг. С. гостил в имении Н. П. Семенова Рязанка (с. Урусово) Ряжского у. Рязанской
губ. Приезжали Н. Я. Грот (его мать — сестра Н. П. Семенова) с Л. М. Лопатиным.
22 авг. Приезд в Ясную Поляну. С. гостил у Толстого в Ясной Поляне неделю, до 29 авг.
609
Приложение
^
29 авг. Отъезд из Ясной Поляны. Остановился в Москве в доме Фета на Плющихе.
Сент. Ст. «Толки об Л. Н. Толстом: (психологический этюд)» (ВФиП, № 9).
16 сент. Письмо Фету о переезде Стахеева с квартиры после смерти жены. «Тишина
у меня водворилась восхитительная...» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 525).
1 окт. Присутствует на похоронах И. А. Гончарова в Александро-Невской лавре.
Конец окт. Возвращаясь из Крыма, провел несколько дней в Москве, где остановился
у Фета на Плющихе.
1892
Янв. Ст. «Итоги современного знания (По поводу книги Ренана ,,L'Avenir de la science")»
(«Рус. вестник», № 1).
— Ст. «Ответ на письмо неизвестного» («ВФиП», кн. 11).
— Кн. «Воспоминания и отрывки».
2 янв. Празднование 50-летнего юбилея творческой деятельности А. Н. Майкова.
11 янв. Ст. Ю. Н. Говорухи-Отрока «Итоги века» по поводу статьи С. «Итоги
современного знания» («Моск. вед.», №11; подп.: Ю. Николаев).
Февр. Ст. «„Повести и рассказы" И. Н. Потапенко. Том второй» («Записки Имп.
Академии наук», кн. 2, прил. 7).
7 февр. Завершил ст. «Ход и характер современного естествознания» («Рус. вестник»,
№ 3).
21 февр. Письмо к Фету с сообщением о знакомстве со студентом Никольским (Б. В.
Никольский расстрелян большевиками в 1919 г.): «...удивляюсь его уму и тонкому
пониманию». Там же — резкая критика отказа Шопенгауэра от Бога: «Его
собственный Бог, воляу — ужасно похож на того черта, которому гностики
приписывали сотворение мира». Там же хвалит 2-ю часть статьи Розанова о Леонтьеве:
«...удивительно хороша» (Фет и его окружение. Кн. 2. С. 534-535).
26 февр. По поручению С. А. Толстой С. обращается в официальный
«Правительственный вестник» к К. К. Случевскому с просьбой напечатать письмо Л. Толстого по
поводу статьи «О голоде». Эта статья была опубликована под названием «Помощь
голодающим» в «Книжках недели», а 14 (26) февр. перепечатана по-английски
в «Daily Telegraph» и вызвала недовольство властей, включая царя. Поэтому С.
получил отказ под предлогом, что полемика в «Правительственном вестнике»
не допускается.
Март. Ст. «Ход и характер современного естествознания» («Рус. вестник», № 3).
14 марта. Ст. Ю. Н. Говорухи-Отрока «Наука и ученые» о ст. С. «Ход и характер
современного естествознания» («Моск. вед.», № 73; подп.: Ю. Николаев).
21 марта. Апология деятельности Толстого в письме к Фету.
5 апр. Ст. «Справедливость, милосердие и святость» («Новое время», № 5784).
Апр. Ст. Вл. Соловьева «Отрицательный идеал нравственности» («Русское обозрение»,
кн. 4).
И аир. Ст. Ю. Н. Говорухи-Отрока «Любовь и страх» о ст. С. «Справедливость,
милосердие и святость» («Моск. вед.», № 99).
610
Н.Н.Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
—■$>
19 июня — 5 июля. Пребывание в Ясной Поляне.
6-9 июля. Пребывание у Фета в Воробьевке.
9 июля. Отъезд из Воробьевки к племяннице в Киев.
10 июля — конец июля. Пребывание в Киеве у родственников.
1-10 авг. Гостит в Ясной Поляне.
Сент. Опубликованы девять стихотворений С. («Рус. обозрение», № 9).
2 (14) окт. Умер Ж. Э. Ренан, о котором много писал С.
26 окт. Слушал доклад Мережковского на тему «О причинах упадка и о главных
течениях современной русской литературы» в Русском литературном обществе.
Нояб. Ст. «Несколько слов о Ренане» («Рус. вестник», № 9).
— Ст. «Ответ на письмо неизвестного» (ВФиП, кн. 11).
12 нояб. Ст. Ю. Н. Говорухи-Отрока «Мнение светского писателя о монашестве (Н.
Страхов. Воспоминания и отрывки)» («Моск. вед.», № 314; подп.: Ю. Николаев).
21 нояб. f А. А. Фет. «...Не перестаю вспоминать покойного, и тоска не убывает, а
растет» (Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава; М.,
2000. С. 244).
Дек. Начинает работу над корректурами собрания сочинений Л. Н. Толстого,
присылаемыми ему С. А. Толстой. Работа продолжится до конца марта 1893 г.
9 дек. Ст.-некролог «Несколько слов памяти Фета» («Новое время», № 6029).
1893
22 янв. Приглашение вел. кн. Константина Константиновича, получившего от вдовы
А. А. Фета предложение подготовить к изданию сборник стихотворений поэта,
участвовать в работе над изданием вместе с ним.
Февр. Ст. А. Волынского, посвященная книге С. «Воспоминания и отрывки», главным
образом ст. «Справедливость, милосердие и святость» («Северный вестник», № 2).
15 марта. Официальный перевод в Петербурге. В. Розанова, зачисленного Т. И.
Филипповым на службу в Государственный контроль.
Апр. Ст. «Заметки об Тэне» («Рус. вестник», № 4).
6 мая. Ст. Ю. Н. Говорухи-Отрока «Ипполит Тэн» («Моск. вед.», № 2893; подп.: Ю.
Николаев).
Июнь. Отъезд в Европу. Лечился в Эмсе (июнь — июль), затем посетил Мюнхен
(август), слушал оперы Р. Вагнера.
29 июня. Сообщает Л. Толстому о знакомстве перед отъездом через Розанова с
«колонией славянофилов» {Толстой — Страхов. Поли. собр. переписки. Т. 2. С. 919).
22 сент. Ст. «Где спасение для избиваемых младенцев? (письмо в редакцию)» («Новое
время», № 6310).
До 24 сент. С. А. Толстая присылает новое собрание сочинений Л. Н. Толстого, изданное
при участии С.
31 окт. Присутствует на чествовании 50-летия литературной деятельности Д.
Григоровича.
611
Приложение
—■$>
Нояб. 1893 — апр. 1894. Корректуры сборника «Лирические стихотворения Фета»
вместе с К. Р.
1894
Ст. «Сочинения графа А. А. Голенищева-Кутузова. Т. 1-2. СПб. 1894» (Из Отчета о
десятом присуждении Пушкинских премий в 1894 г. — А. А. Голенищеву-Кутузову).
— Ст. «О задачах истории философии» (ВФиП, № 1).
— Предисловие к кн.: Фет А. А. Лирические стихотворения: в 2 ч. СПб., 1894.
— Отзыв о стихотворениях гр. А. А. Голенищева-Кутузова («Десятое присуждение
Пушкинских премий. СПб., 1894»).
24 янв. Избран вместе с Л. Н. Толстым почетным членом Московского психологического
общества на годичном собрании.
5 февр. Письмо Н. Я. Гроту. «На моей могиле можно будет, конечно, написать: один из
трезвых между угорелыми, но дальнейшие похвалы подлежат еще большому
вопросу» {Письма Страхова Н. Я. Гроту. С. 256).
Март. Рец. «„Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии",
Константина Ушинского... СПб., 1894» (ЖМНП, ч. 292, март).
20 марта. «Теперь я совершенно погружен в печатание Фета» (Л. Н. Толстой и С. А.
Толстая. Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава; М., 2000. С. 60).
t M. П. Фет-Шеншина. «Смерть Марьи Петровны для меня большое горе. Как будто
умерла близкая и дорогая родная» («Рус. литература», 1993, № 2, с. 177).
2 апр. Ст. М. Южного «Из воспоминаний Ренана» («Гражданин», № 91). О
характеристике Ренана С: «Читая теперь воспоминания Ренана, находим на каждом шагу
самые поразительные, ясные доказательства верности той характеристики его,
которая сделана нашим критиком» («Гражданин», № 91, с. 3).
Нач. мая. Выход в свет кн. «Лирические стихотворения Фета», посмертного собрания
лирических произведений поэта, подготовленного С. при участии вел. кн.
Константина Константиновича, М. П. Фет-Шеншиной, Вл. С. Соловьева и А. В.
Олсуфьева.
2 июня, f H. Н. Ге, друг Толстого.
10 июня. Приезд в Ясную Поляну «поправлять свое нравственное и физическое здоровье
и работать над статьею „О культурных типах"» (Л. Н. Толстой и С. А. Толстая.
Переписка с Н. Н. Страховым. Оттава; М., 2000. С. 63).
9 июля. Ст. М. Южного «Новое издание Фета» («Гражданин», № 186).
4 авг. Отъезд из Ясной Поляны. С. А. Толстая: «Сегодня уехал от нас Страхов»
{Толстая С. А. Дневники. М., 1978. Т. 1. С. 223).
Окт. Ст. «Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н.Я.Данилевского» («Рус. вестник»,
№ 10).
— Ст. «Злодейства особого рода» («Русское обозрение», № 10).
Нояб. Ст. Н. Н. Страхова-младшего «К вопросу о задачах истории философии (По поводу
статьи по этому вопросу Н. Н. Страхова в журн. „Вопросы философии и
психологии", 1894 года, книга 1-я)» («Вера и разум», № И и 13).
612
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва
—ф
3 нояб. Ст. Ю. Н. Говорухи-Отрока «Смысл истории» по поводу ст. С. «Исторические
взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского» («Моск. вед.», № 302).
9-15 нояб. Л. Н. Толстой — В. С. Соловьеву: «Ваше отношение к Страхову я понимаю
и разделяю. Мое почти такое же: я дорожу человеком, но недоумеваю часто перед
его суждениями» (Вл. Соловьев. Письма. Т. 4. С. 260).
Дек. Ст. А. Волынского «Новые деятели в журналистике 60-х годов и полемические
бури» («Северный вестник», № 12).
1895
Кн. «Философские очерки».
— 5-е издание кн. Н. Я. Данилевского «Россия и Европа».
— Ст. «Сочинения графа А. Голенищева-Кутузова. Том 1-2. СПб. 1894».
— Знакомство с молодым критиком Ф. Э. Шперком, написавшим о С. 15 декабря
большую статью в «Новом времени».
17 (29) марта. Похвалы С. в ст. В. П. Буренина «Приятельские разговоры. Разговор
по поводу „Хозяина и работника"»: «...он первый призвал к истолкованию
великого писателя земли русской (...) Можно смело сказать, что подобно тому,
как пророк Магомет был пророком Аллаха, г. Страхов был пророком Толстого,
и в этом смысле ему принадлежит первое место между нашими и иностранными
критиками» («Новое время», № 6842, с. 2).
27 мая. Операция по удалению метастаз в Николаевском военно-медицинском госпитале
известным хирургом П. Я. Мультановским.
1 июня. Рец. Ю. Н. Говорухи-Отрока на кн. С. «Критические статьи об И. С. Тургеневе
и Л. Н. Толстом» (3-е изд. СПб., 1895) («Моск. вед.», № 145; подп.: Ю. Николаев).
18 июня. Пишет С. А. Толстой: «По случаю моей болезни я встретил столько участия...
что готов радоваться своей операции...» (Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. Переписка
с Н. Н. Страховым. Оттава; М., 2000. С. 296).
25 июня. Выходит из больницы после операции и собирается в путешествие.
4 июля — 9 авг. Пребывание в Ясной Поляне.
14 июля. Письмо С. к Л. И. Веселитской-Микулич с благодарностью за ее посещение
после операции: «.. .„испытание философа", как вы выразились, кончилось... Но
всё проходит, один Бог неизменен... Увидел много участия и доброты» (ОР ИРЛИ.
Ф. 44. Ед. хр. 22. Л. 11).
Авг. Гостит у родственников в Белгороде и Киеве, затем в имении Данилевских в Крыму.
22 сент. Отъезд из Мшатки.
25 сент. Ст. Д. Н. Михайлова, посвященная 40-летию творческой деятельности С.
(«Нива», № 42; без подп.).
Нояб. Начинает писать ст. «О естественной системе с логической стороны»,
посвященную философии природы, но из-за упадка сил не закончил ее.
7 дек. «Борьба с Западом в нашей литературе». Кн. 3.
15 дек. Ст. Ф. Э. Шперка «Н. Н. Страхов. Критический этюд» («Новое время», № 7112).
613
Приложение
— Поздравительное письмо ректора Казанской духовной академии еп. Антония
(Храповицкого) к 40-летию творческой деятельности.
1896
5 янв. Примирительная встреча с Вл. С. Соловьевым у Розанова.
Сер. янв. Толстой посылает С. с Б. Г. Русановым письмо, в котором рекомендует ему
двух студентов, желающих с ним познакомиться. Принять их Страхов из-за
болезни не смог, и письмо передано не было.
16 янв. В. Г. Чертков, не зная об обострении болезни С, посещает его по делам Л. Н.
Толстого.
24 янв. (5 февр. по нов. стилю). Н. Н. Страхов скончался в 8 часов утра в своей квартире
в Петербурге. Последние его слова были: «Ну, я отдохнул, теперь поработаю».
Похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.
ЛИТЕРАТУРА О Н. Н. СТРАХОВЕ
1860-1917
1860
Лавров И Л. Ответ г. Страхову // Отеч. зап. 1860. Дек. Отд. III. С. 101-112.
1861
[Антонович М.А.] О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «Времени») //
Современник. 1861. № 12. Отд. II. С. 171-188 (без подписи).
Антонович М. А. О гегелевской философии: (Гегель и его время. О лекциях, читанных
Р. Гаймом) // Современник. 1861. № 8. Отд. И. С. 201-238.
Посторонний сатирик [Антонович М. А.] Два типа современных философов //
Современник. 1861. №4. С. 27-^8.
Посторонний сатирик [Антонович М. А.] О духе «Времени» йог. Косице как
наилучшем его выражении // Современник. 1861. № 4. Отд. И. С. 245-292.
Посторонний сатирик [Салтыков-Щедрин М. Е., Антонович М. А.] Стрижам (Послание
обер-стрижу, господину Достоевскому) // Современник. 1864. № 7. С. 159-170.
Писарев Д. И. Схоластика XIX века // Рус. слово. 1861. № 5. Отд. И. С. 43-82.
Р. Р. [ПисаревД. И.] Литературный плач о пропаже российской философии (по поводу
письма, помещенного в № 6 «Времени» под названием «Еще о петербургской
литературе», подписанного буквами Н. Ко.) // Рус. слово. 1861. № 7. С. 51-58.
[Чернышевский Н. Г.] Новые периодические издания: («Основа», 1861, № 1, и «Время»,
1861, № 1) // Современник. 1861. № 1. Отд. II. С. 66-90 (без подписи).
1862
Антонович М. А. История новой философии К. Фишера. Пер. Н. Страхова. СПб.,
1862 // Современник. 1862. № 2. Отд. Ш. Совр. обозрение. С. 282-292.
Громека С. Современная хроника России // Отеч. зап. 1862. Июнь. С. 82-83.
Катков М. Н. О нашем нигилизме по поводу романа Тургенева // Рус. вестник. 1862.
Июль. С. 402^26.
Хроника прогресса // Искра. 1862. № 47, 7 дек. (без подписи).
1863
Аксаков И. С. Заметка по поводу статьи в журнале «Время» (в 4 книге) «Роковой
вопрос» // День. 1863. № 22, 1 июня. С. 1-2.
[Катков М. H.J По поводу статьи «Роковой вопрос» // Рус. вестник. 1863. Май. С. 398-418
(без подписи).
О прекращении издания журнала «Время» // Северная почта. 1863. № 119, 1 июня (без
подписи).
615
Приложение
»Оч
v
Петерсон К. [А.] По поводу статьи: «Роковой вопрос» в журнале «Время» // Моск.
вед. 1863. №109, 22 мая. С. 3.
Самарин Ю. Ф. По поводу мнения Русского Вестника о занятиях философиею, о
народных началах и об отношении их к цивилизации // День. 1863. № 36,7 сент. С. 4-10.
Mazade Ch. de. La Systeme russe a propos d'un ecrit sur la Pologne // Revue de deux Mondes.
lAoutl863.P. 756-762.
1864
АверкиевД. В. Университетские отцы и дети // Эпоха. 1864. № 1/2. С. 29-31.
В. 3. [Зайцев В. А.] Перлы и адаманты русской журналистики // Рус. слово. 1864. № 6.
Отд. II. С. 43-52.
Зайцев В. Славянофилы победили //Рус. слово. 1864. № 10. Отд. II. С. 59-76.
Посторонний сатирик [Антонович М. А.] Вопрос, обращенный к стрижам //
Современник. 1864. № 8. Отд. II. С. 336-340.
Посторонний сатирик [Антонович М. А.] Воспоминания об Аполлоне Александровиче
Григорьеве. Н. Страхова. С примечанием Ф.Достоевского («Эпоха». 1864. Сент.):
[рец.]//Современник. 1864. № 11/12. С. 101-114.
Посторонний сатирик [Антонович М. А.] Литературные мелочи (Стрижи в западне...
К какой литературе принадлежат стрижи, Увлечения стрижей и пр.) //
Современник. 1864. № 9. Отд. П. С. 77-122.
Посторонний сатирик [Антонович М. А.] Литературные мелочи (Любовное объяснение
с «Эпохой». — Неодобрительные средства «Эпохи». — Сущность и характер
«Эпохи». —Дела в редакции «Эпохи». — Послесловие) // Современник. 1864.
№10. Отд. II. С. 239-287.
Посторонний сатирик [Салтыков-Щедрин М. E.J Литературные мелочи (Г. Краевский,
или Влюбленный в Россию. — Опровержение предыдущей статьи. — Зуб за зуб. —
Литературные двойки. — «Русскому слову» (Предварительные объяснения). —
Еще влюбленный в Россию) // Современник. 1864. № 11/12. Отд. II. С. 115-174.
Посторонний сатирик [Антонович М. А.] О духе «Времени» йог. Косице, как
наилучшем его выражении // Современник. 1864. Апр. Отд. И. С. 247-292.
Посторонний сатирик [Антонович М.А.и Салтыков-Щедрин М. E.J Стрижам
(Послание обер-стрижу, г. Достоевскому) // Современник. 1864. № 7. Отд. И. Совр.
обозрение. С. 154-170.
1865
Алп. Н. [Пятковский А. П.] А. А. Григорьев в своих письмах: [рец.] // Книжный вестник.
1865. № 1, 15янв. С. 10-11.
[Антонович М. А.] Добросовестные мыслители и недобросовестные журналисты //
Современник. 1865. № 2. Отд. II. С 223-252 (без подписи).
Антонович М. Промахи // Современник. 1865. № 2. Отд. II. С. 253-290; № 4. Отд. И.
С.273-322.
616
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
Ф =
Бибиков П. А. Сантиментальная философия: По поводу чтений Г-жи Ройе о теории
Дарвина и тревог, возбужденных ими // Бибиков П. А. Критические этюды, 1859-1865.
СПб., 1865. С. 101-137.
Зайцев В. Критические этюды П. А. Бибикова // Рус. слово. 1865. № 9. Отд. И.
Библиографический листок. С. 79-97.
Новости, заметки и проч. Н. Страхов. О методе естественных наук и значении их в
общем образовании. СПб. 1865: [ред.] // Книжный вестник. 1865. № 8, 30 апр.
С. 154-155 (без подписи).
Ответ Н. Н. Страхову // Книжный вестник. 1865. № 7, 15 апр. С. 137-138 (без подписи).
Писарев Д. Прогулка по садам российской словесности // Рус. слово. 1865. № 3. Отд.
П. С. 1-68.
Тюптетаев X. [Курочкин Н С] Гениальные люди. Размышления по поводу статьи
Косицы: Счастливые люди // Искра. 1865. № 30.
1866
Решение от 4 апреля 1866 г. Доклад А. И. Ходнева о соч. Н. Н. Страхова «О методе
естественных наук и значении их в общем образовании». Может быть принята как
учебное пособие по ведомству МНП // ЖМНП. 1866. Ч. 130, Май. Отд. I. 72-74.
1867
[ТкачевП. Н] Герберт Спенсер. Поли. собр. соч.: [рец.] // Дело. 1867. Май. Новые книги.
С. 64 (без подписи).
1869
А. X. [Милюков А. П.] Что нового в журналах? // Сын Отечества. 1869. № 14, 17 янв. С. 1.
А. X. [МилюковА. П.] Что нового в журналах? //Сын Отечества. 1869. № 50,28 февр. С. 2.
А. X. [МилюковА. П.] Что нового в журналах? //Сын Отечества. 1869. № 72, 28 марта.
С. 3.
Михайловский Ник. Аналогический метод в общественной науке (История и метод,
Сочинение Александра Стронина. СПб., 1869) // Отеч. зап. 1869. Июль. Отд. II.
С. 45-53.
Нил Адмирари [ПанютинЛ. К.] Библиография и журналистика // Голос. 1869. № 50,
19 февр. С. 1-2.
П. Щ. [ЩебальскийИ К.] Заметка //Рус. вестник. 1869. Авг. С. 768-770.
П. Щ. [ЩебальскийП. К.] Литературные заметки. «Россия и Европа», соч. Н.
Данилевского. Заря I-IV//Pyc. вестник. 1869. Май. С. 357-362.
Шелгунов Н. Талантливая бесталанность // Дело. 1869. Авг. Отд. II. С. 1-42.
Щебальский П. К. «Россия и Европа» Н. Я. Данилевского // Новое время. 1869. № 151.
3 июня.
Z. [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 18, 18 янв. С. 1.
Z. [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 56, 25 февр. С. 1-2.
Z. [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 112, 2 мая. С. 1-2.
617
Приложение
Z [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 119, 9 мая. С. 3.
Z [Буренин В. П.] Журналистика //СПб. вед. 1869. № 153, 5 июня. С. 1-2.
Z [Буренин В. П.] Журналистика // СПб вед. 1869. № 196, 19 июля. С. 2.
Z. [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 236, 30 авг. С. 1-2.
Z [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 256, 17 сент. С. 1-2.
Z [Буренин В. П.] Журналистика //СПб. вед. 1869.№281, 12окт.С. 1-2.
Z [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 287, 18 окт. С. 1-2.
Z [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 298. 24 окт. С. 1.
Z [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1869. № 321, 21 нояб. С. 1-2.
1870
А. X. [МилюковА. П.] Что нового в журналах? //Сын Отечества. 1870. № 94,2 мая. С. 1.
А. X. [МилюковА. П.] Что нового в журналах? //Сын Отечества. 1870. № 250, 3 ноября.
С. 1-2.
Н. Ш. [Шелгунов К В.] Суемудрие метафизики //Дело. 1870. Июнь. Отд. II. С. 155-180.
Щедрин Н. [Салтыков-Щедрин М. Е.] История одного города. Поклонение мамоне
и покаяние // Отеч. зап. 1870. Апр. С. 581-582.
Ното Novus [Окрейц С. С] Библиографические заметки // Петербургский листок. 1870.
№ 53, 4 апр. С. 1.
Z. [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1870. № 31, зГянв. С. 1-2.
Z. [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1870. №61,3 марта. С. 1-2.
Z [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1870. № 298, 24 окт. С. 1.
Z [Буренин В. П.] Журналистика // СПб. вед. 1870. № 314, 14 нояб. С. 1-2.
1871
Реальная философия и ее век. Франциск Бекон Веруламский. Соч. Куно-Фишера, пе-
рев. Н. Страхова, изд. второе. СПб. 1870: [рец.:] // Отеч. зап. 1871. № 9. Отд. II.
С. 68-75 (без подписи).
1872
Н. М. [Михайловский Н. К.] Литературные и журнальные заметки. «Заря», № 1 // Отеч.
зап. 1872. Май. Отд. И. С. 65-67.
И. М. [Михайловский Н. К.] Литературные и журнальные заметки. Г. Страхов. —
Русская печать о последней книге Ренана. Субъективно-объективная оценка
фактов... //Отеч. зап. 1872. Сент. Отд. И. С. 110-118, 132-138.
Скабичевский А. Граф Л. Толстой как художник и мыслитель // Отеч. зап. 1872. Сент.
Отд. И. С. 38-^8.
1873
Г. В. [ВейденбаумГ. Г.] Н. Страхов. Мир как целое. СПб., 1872: [рец.] // Знание. 1873.
№1. С. 27-36.
618
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
=$■
«Заметка о текущей литературе», г. Страхова // Голос. 1873. № 122. 4 мая. С. 1-2 (без
подписи).
[КовнерА. Г.] Литературные и общественные курьезы // Голос. 1873. № 18, 18 янв. С. 1
(без подписи).
[КовнерА. Г.] Литературные и общественные курьезы // Голос. 1873. № 185, 18 июня.
С. 1 (без подписи).
Литературное Домино [Минаев Д. Д.] Праздничные подарки «Искры» // Искра. 1873.
№19, 15апр.С.2-3.
«Мир как целое» Н. Н. Страхова: [рец.] // Гражданин. 1873. №1.1 янв. С. 25-27 (без
подписи).
П. Н [Ткачев П. Н] Больные люди // Дело. 1873. Март. С. 152-153.
1874
[ГригорьевА. А.] Из записок ненужного человека // Якорь. 1864. № 3. С. 43 (без подписи).
Григорьев А. По поводу одного мало замечаемого современною критикою явления.
Письмо из Оренбурга к Н. Косице // Якорь. 1864. № 2. С. 21-25.
МихайловскийН. К. О диспуте г-на В. Соловьева // СПб. вед. 1874. № 324,27 нояб. С. 2.
П-в Н. [ПотуловН. M.J Две книги и два образчика неосновательной критики //
Гражданин. 1873. № 1. С. 25-27; то же: ПотуловН. М. Продолжение борьбы с лгущей
ученостью СПб., 1874. С. 394-400.
П-в Н. [Потулов Н. M.J Заметка на статью г. Страхова по поводу последнего
произведения Ренана // Гражданин. 1874; то же: ПотуловН. М. Продолжение борьбы
с лгущей ученостью. СПб., 1874. С. 142-156.
П-в Н. [Потулов Н. M.J Своя своих не познаша // Домашняя беседа. 1874. Вып. 34.
С. 861-864.
Ткачев П. Задачи революционной пропаганды в России. Письмо в редакцию журнала
«Вперед!» [Лондон, 1874. Апр.]. С. 3.
1875
Н М. [Михайловский Н. К.] Записки профана. Десница и шуйца Льва Толстого // Отеч.
зап. 1875. Июнь. Отд. II. С. 131-137.
Никитин П. [ТкачевП. Н.]. Роль мысли в истории. «Опыт истории мысли», вып. 1, изд.
журнала «Знание». Статья первая //Дело. 1875. Сент. Отд. II. С. 79.
1876
А. [Авсеенко В. Г.] Блуждания русской мысли // Рус. вестник. 1876. Окт. С. 871-894.
Вс. С. С—въ [Соловьев Вс. С] Современная литература. Сочинения Аполлона
Григорьева // Рус. мир. 1876. № 133, 16 мая. С. 1-2.
Языков Н. [ШелгуновН. В.] Пророк славянофильского идеализма. Сочинения Аполлона
Григорьева. Том I, СПб., 1876 //Дело. 1876. Сент. Отд. II. С. 1-37.
619
Приложение
«ft
1881
В память Ф. М. Достоевского. Торжественное собрание С- Петербургского Славянского
общества 14 февраля 1881 г. СПб., 1881: [сб.].
Н. М. [Михайловский Н. К.] А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Пер. А. Фета.
СПб., 1881: [рец.] // Отеч. зап. 1881. Янв. Отд. II. С. 74-76.
Сообщение о торжественном собрании С- Петербургского Славянского
благотворительного общества 14 февраля 1881 г. в память Ф. М.Достоевского // Новое
время. № 1786, 16 февр.
1882
Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление. Перевод А. Фета. СПб. 1881:
[рец.] // Отеч. зап. 1881. Янв. С. 174-176
Борьба г. Н. Страхова с Западом, и союз его с Герценом и Ренаном: [рец.] // Вестник
Европы. 1882. Март. С. 872-877 (без подписи).
Г. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Лит. заметки. Как и с кем бороться: (По поводу книги г.
Страхова «Борьба с Западом») // Южный край. 1882. № 521, 3 июля. С. 1-2.
Г. Ю. Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб. 1882: [рец.] // Ист.
вестник. 1882. Май. С. 466-^70.
Градовский А. Д. По поводу одного предисловия. Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей
литературе. СПб. 1882 г. //Вестник Европы. 1882. Март. С. 271-288.
Михайловский И. К. Всё француз гадит // Отеч. зап. 1882. Апр. Отд. И. С. 257, 259-265.
Михайловский Н. Жестокий талант: (Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского.
Том II и III. СПб., 1882) // Отеч. зап. 1882. Окт. Отд. II. С. 251.
Протопопов М. Кладбищенская философия: (Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей
литературе. Исторические и критические очерки. СПб., 1882) // Дело. 1882.
Май. Отд. И. С. 1-20.
620
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
Ф
1883
Аристов В. Первые 15 лет существования С- Петербургского Славянского
благотворительного общества. СПб., 1883. С. 125, 140, 181-183, 260, 653-658, 771, 855.
Вагнер Н. Перегородочная философия: (Открытое письмо к г. Страхову) // Новое время.
1883. № 2647, 13 июля. С. 2; № 2654, 20 июля. С. 2.
К. Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 2. СПб., 1883: [ред.] // Вестник
Европы. 1883. Май. С. 398^103.
По поводу внутренних вопросов // Отеч. зап. 1883. Июнь. С. 224-225, 228-229 (без
подписи).
[Протопопов М.] Новые книги // Дело. 1883. Май. С. 38-43 (без подписи).
Н. Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2. СПб., 1883: [ред.] // Отеч. зап. 1883. Июнь. С. 208-
214 (без подписи).
1884
Арсеньев К. Многострадальный писатель: Биография, письма и заметки из записной
книжки Ф. М.Достоевского. С- Петербург, 1883 // Вестник Европы. 1884. Янв.
С. 322-342.
Буренин В. Биография и письма Достоевского // Новое время. 1884. № 2843, 27 янв.
С. 2-3; № 2850, 3 февр. С. 2; то же: Буренин В. Критические этюды. СПб., 1888.
С.133-168.
Бутлеров Л. М. Умствование и опыт // Новое время. 1884. № 2854, 7 февр. С. 3. Перепеч.
в кн.: Страхов Н. О вечных истинах. СПб., 1887. С. 59-60.
Вагнер Н. И Раздвоенная философия: (Ответное письмо Н. Н. Страхову) // Новое время.
1884.№2909,Запр.С.2-3.
Посторонний [Михайловский Н. К.]. Письмо в редакцию // Отеч. зап. 1884. Янв. Отд.
П. С. 85-108.
1885
Буренин В. Страхов как критик Тургенева и Толстого // Новое время. 1885. № 3512,
6 дек. С. 2.
Бутлеров А. М. Медиумизм и умозрение без опыта (ответ Н. Страхову) // Новое время.
1885. №3411, 27 авг. С. 3.
Цертелев Д. Медиумизм и границы возможного: (Ответ Н. Н. Страхову) // Церте-
лев Д. Спиритизм с точки зрения философии. СПб., 1885. С. 35-64.
1886
Левитский С. Отчаявшийся западник: (Н. Страхов. «Борьба с Западом в нашей
литературе. Герцен») // Православное обозрение. 1886. Т. 1. Апр. С. 679-717.
Радлов Э. Н. Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб.
1886 // ЖМНП. 1886. Ч. 11. С. 226.
Эльпе [ПоповЛ. К.] Н. Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии. СПб.
1886: [рец.] // Новое время. 1886. № . 3846, 12 нояб. С. 2.
621
Приложение
1887
Волженский П. [ДенисовЯ. А., УмановН. А.] Еще русский мыслитель // Рус. дело. 1887.
№20, 12 дек. С. 6.
КалачинскииП. А. Философское пессимистическое миросозерцание Шопенгауэра и его
отношение к христианству: Критическое исследование. Киев, 1887. С. 11—III,
184-188.
Модестов В. [И.] Борьба с Западом: [рец.] // Новости и Биржевая газета. 1887. № 288,
20 окт. С. 2.
Страхов Н. Об основных понятиях психологии и физиологии: [рец.] // Рус. мысль. 1887.
Янв. С. 10-11 (без подписи).
Тимирязев К. А. Опровергнут ли дарвинизм? // Рус. мысль. 1887. Май. Отд. П. С. 145-180;
Июнь. Отд. II. С. 1-14; то же: Т. Из области физиологии растений: Публ. чтения
и речи. М., 1888. С. 143-208; то же: Тимирязев К. А. Собр. соч. СПб., 1901. Т. 6.
С. 424^40.
Чуйко В. История русской критики со времени Белинского // Наблюдатель. 1887. Авг,
Сент., Окт.
Эльпе [ПоповЛ. К.] К. Тимирязев. Опровергнут ли дарвинизм? [рец.] // Новое время.
1887. № 4086, 16 июля. С. 2; № 4100, 30 июля. С. 2.
1888
Безобразов Вл. Вопросы дня: Оживший старый вопрос // Наблюдатель. 1888. № 11.
С. 322-333.
Г. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Книга Н. Н. Страхова о русской поэзии: Н. Страхов
«Заметки о Пушкине и других поэтах». СПб. 1888 г. // Южный край. № 2791,
12 февр. С. 2-3.
Н.Я.Данилевский. Россия и Европа. СПб., 1888: [рец.] // ЖМНП. 1888. Ч. 256, Апр.
Отд. И. С. 532-533 (без подписи).
Ладожский Н. Критические наброски // СПб. вед. 1888. № 242, 2 сент. С. 1-3.
ЛесевичВ. В. Что такое научная философия? // Рус. мысль. 1888. Янв. С. 5-6, 2-я пап
М-oe [МихайловД. Н.] Николай Николаевич Страхов // Нива. 1888. № 26, 25 июня.
С. 641-642.
Модестов В. Борьба с Западом: [рец.] // Новости и Биржевая газета. 1888. 20 окт. С. 2.
Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. 2-е изд. СПб., 1888. С. 113-209.
Соловьев Вл. Россия и Европа // Вестник Европы. 1888. Февр. С. 742-761; Апр.
С. 727-767.
1889
Астафьев П. К вопросу о свободе воли. М., 1889.
[Беляев А.] По поводу статьи Вл. Соловьева «Россия и Европа» // Вера и разум. 1889.
Февр., кн. 2. С. 256-276 (без подписи).
Бутлеров А. М. Медиумизм и умозрение без опыта (ответ Н. Страхову) // Новое время.
1885. № 3411, 27 авг. С. 3; то же: Страхов Н. О вечных истинах. (Мой спор
622
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
—ф
о спиритизме). СПб., 1887. С. 82-93; Бутлеров А. М. Статьи по медиумизму.
СПб., 1889. С. 384-394.
Г [Говоруха-Отрок Ю. H.J Кое-что о полемике // Южный край. 1889. № 2940,22 июля.
С. 2-3.
Г. [Говоруха-Отрок Ю. H.J По поводу юбилея А. А. Фета // Южный край. 1889. № 2778,
29 янв. С. 2; № 2781, 1 февр. С. 2.
Г [Говоруха-Отрок Ю. HJ К. Тимирязев. «Бессильная злоба антидарвиниста». Русская
мысль. Май: [рец.] // Южный край. 1889. № 2892, 3 июня. С. 1-2.
КареевН. И. Теория культурно-исторических типов: (Н. Я. Данилевский. Россия и Европа.
Изд. 4-е. СПб., 1889 г.) // Рус. мысль. 1889. Сент. С. 1-32, 2-я паг.
Левитский С Отчаявшийся западник: (По поводу книжки Н. Н. Страхова «Борьба
с Западом в нашей литературе») // Левитский С. Православие и народность:
Критические очерки по вопросам философско-богословским и нравственно-
педагогическим. М, 1889. С. 155-195.
Леонтьев К. Н Записки отшельника: Владимир Соловьев против Данилевского //
Гражданин. 1888. № 99, 8 апр. С. 3; № 102,10 апр. С. 4; № 105,14 апр. С. 4; № 107,16 апр.
С.З-^;№112,21апр.С.4;№115,24апр.С.4;№120,1 мая. С. 3;№ 128,9 мая. С. 4;
№ 137, 18 мая. С. 4; № 140, 21 мая. С. 4; № 147, 28 мая. С. 4; № 152,2 июня. С. 4.
Никто [Говоруха-Отрок Ю. Н] Газетно-журнальная полемика по поводу открытия
женских курсов // Южный край. 1889. № 2950, 2 авг. С. 1. (Пестрые заметки;
[Вып.] 33).
Ол. П—лъ. В чем борьба с Западом в книге Страхова «Борьба с Западом в нашей
литературе»? // Рус. дело. 1889. № 2, 14 янв. С. 13-14.
Соловьев Вл. С О грехах и болезнях // Вестник Европы. 1889. Янв. С. 356-375.
Соловьев Вл. С Письмо в редакцию // Вестник Европы. 1889. Март. С. 431-432.
Стасов В. В. По случаю г. Буренина // День. 1889. № 449, 6 сент. С. 2.
Тимирязев К. А. Бессильная злоба антидарвиниста: (По поводу статьи г. Страхова
«Всегдашняя ошибка дарвинистов») // Рус. мысль. 1889. Май. С. 17-52, 2-я паг;
Июнь. С. 65-82; Июль. С. 58-78.
Тимирязев К. А. Странный обращик научной критики: (По поводу статьи г. А. Фаминцына
«Опровергнут ли дарвинизм Данилевским?» (Вестник Европы, 1899, февр.) // Рус.
мысль. 1889. Март. С. 90, 91, 102.
Фаминцын А. И. Данилевский и дарвинизм. Опровергнут ли дарвинизм
Данилевским? // Вестник Европы. 1889. Февр. С. 616-643.
Фаминцын А. И. О дарвинизме Н. Я. Данилевского // Рус. вестник. 1889. Апр. С. 225-243.
ФаресовА. Памяти Аполлона Александровича Григорьева // День. 1889. № 466, 24 сент.
С. 2.
W. [Авсеенко В. Г.] Где равнодушие к истине? (По поводу статьи г. Владимира
Соловьева) // Новое время. 1889. № 4650, 7 февр. С. 3.
1890
Астафьев П. Е. К вопросу о свободе воли. М., 1889. С. 90.
623
Приложение
БарсовН. И. Обозрение светских журналов // Церковный вестник. 1890. № 3, 18 янв.
С. 48-50.
Бестужев-Рюмин К. Н. Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 2.
Изд. 2: [рец.] // Рус. вестник. 1890. Июнь. С. 278-281.
Буренин В. Критические заметки // Новое время. 1890. № 5294, 23 нояб. С. 2.
Венгеров С. Страхов Николай Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза —
Ефрона. СПб., 1.890. Т. 62. С. 782-785.
Г. Буренин прежде и теперь: Дневник печати // Моск. вед. 1890. № 326, 25 нояб. С. 5
(без подписи).
Колубовский Н. Я. Философия у русских // Иберверг Ф., Гейнце М. Г. История новой
философии в сжатом очерке. СПб., 1890. С доп. очерком: Колубовский Н. Я.
Философия у русских. С. 542-543.
Леонтьев К. Добрые вести // Гражданин. 1890. № 81, 22 марта. С. 1-2; № 83, 24 марта.
С. 2; № 87, 28 марта. С. 2; № 95, 7 апр. С. 2.
Н. Б. [БарсовН. И.] Обозрение светских журналов // Церковный вестник. 1890. № 3,
18 янв. С. 48-50.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] «Великие традиции» // Моск. вед. 1890. № 332,
1 дек. С. 5-6.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Две «великие партии»: По поводу статьи г. В.
Розанова «О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного
из славянофилов». «Вопросы философии и психологии». Книга IV. Москва,
1890 года // Моск. вед. 1890. № 255, 15 сент. С. 3-А.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Наши дарвинисты и антидарвинисты // Моск.
вед. 1890. № 6, 6 янв. С. 5-6.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. HJ О журнальной брани, «Новостях» и статье
г. Вл. Соловьева // Моск. вед. 1890. № 355, 24 дек. С. 1-2.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Что значит быть самими собою? По поводу статьи
г. Вл. С. Соловьева «Мнимая борьба с Западом». «Русская мысль». Авг. // Моск.
вед. 1890. № 241, 1 сент. С. 5-6.
Радлов Э. Страхов Николай Николаевич // Энциклопедический словарь Брокгауза—
Ефрона. СПб., 1890. Т. 62. С. 785-787.
Розанов В. О борьбе с Западом, в связи с литературной деятельностью одного из
славянофилов (Н. Страхов) // ВФиП. 1890. Кн. 3. № 4. Отд. II. С. 27-64.
Скриба [СоловьевЕ. А.] Литература и жизнь // Новости и Биржевая газета. СПб., 1890.
№343, 13 дек. С. 2-3.
Соловьев Вл. Мнимая борьба с Западом // Рус. мысль. 1890. Авг. Отд. II. С. 1-20.
Соловьев Вл. С Немецкий подлинник и русский список // Вестник Европы. 1890. Дек.
С. 707-736.
Соловьев В. Русская философская литература // Новости и Биржевая газета. 1891. № 160,
12 июня. С. 2; № 173, 25 июня. С. 2.
Соловьев Вл. С. Счастливые мысли Н. Страхова // Вестник Европы. 1890. Нояб.
С. 448-454.
624
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
СтахеевД. И. Пустынножитель: (Повесть о книгах и книжниках) // Рус. вестник. 1890.
Март. С. 114-155; Апр. С. 164-199.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 2. Изд. 2: [рец.] // Новое время.
1890. № 5094, 6 мая. С. 4 (без подписи).
Фет А. [А.] Мои воспоминания (1848-1889). М., 1890. Ч. 1-2. С. 199-200, 316, 328,
332, 339, 350, 368, 371, 372, 393.
ЧуйкоВ. В. Старое и новое славянофильство // Наблюдатель. 1890. № 3. С. 92-95, 103-
105.
Швецов В. Из научной области: Новое издание книги г. Страхова «Борьба с Западом
в нашей литературе» // Сын Отечества. 1890. № 132, 19 мая. С. 2.
Vox [Говоруха-Отрок Ю. Н.] О журнальной брани, «Новостях» и статье г. Вл.
Соловьева // Моск. вед. 1890. № 355, 24 дек. С. 1-2.
1891
Ар. М. [Рождествин А. С] Страхов Н. Н. Из истории литературного нигилизма. СПб.,
1890: [ред.] // Ист. вестник. 1891. Февр. С. 559-564.
Волков А. К. Заметки и сообщения в печати // Московский церковный вестник. 1891.
№41,6 окт.
Елагин Е. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Вместо вступления //Рус. вестник. 1891. Янв.
С. 315-330.
Елагин Е. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] М. Ю. Лермонтов // Рус. вестник. 1891. Авг. С. 285-
299.
КолубовскийН.Я. Н. Н. Страхов // ВФиП. 1891. Год И. Кн. 2 (7). Отд. 2. С. 89-121.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Белинский и его эпигоны // Моск. вед. 1891.
№ 303, 2 нояб. С. 2-3.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Иезуитизм или легкомыслие? По поводу статьи
Вл. С. Соловьева «Идолы и идеалы». «Вестник Европы», июнь // Моск. вед. 1891.
№ 156, 8 июня. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Новая книга о гр. Толстом // Моск. вед. 1891.
№249, 12 дек. С. 4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Поэзия Полонского // Моск. вед. 1891. № 45,
15 февр. С. 3^; № 48, 18 февр. С. 3-4; № 52, 22 февр. С. 3-4; № 55, 25 февр.
С. 3; № 59, 28 февр. С. 3; № 62, 3 марта. С. 3-4; № 76, 17 марта. С. 3.
Скабичевский А. Почвенники и их учение. Критики почвенников: Ап. Григорьев
и Н. Страхов //Скабичевский А. История новейшей русской литературы. СПб.,
1891. С. 39-46.
Скриба [СоловьевЕ. А.] Литература и жизнь // Новости и Биржевая газета. СПб., 1891.
№ 39, 6 февр. С. 2.
Соловьев Вл. С Запоздалая вылазка из одного литературного лагеря. Письмо в
редакцию // Вестник Европы. 1891. Июль. С. 416-420.
Соловьев Вл. Русская философская литература // Новости и Биржевая газета. 1891.
№ 160, 12 июня. С. 2; № 173, 25 июня. С. 2.
625
Приложение
Струве Г Ответ Н. Н. Страхову // ЖМНП. 1891. Ч. 274, Апр. С. 454-460.
1892
А. Р [Рождествин А. С] «Христианство» графа Л. Н. Толстого. По поводу статьи Н.
Страхова «Толки об Л. Н. Толстом» (ВФиП. 1891. № 11)// Чтения в Об-ве любителей
духовного просвещения. 1892. Кн. 2. Отд. 2. С. 81-141.
Астафьев П. Е. Наше знание о себе // Рус. обозрение. 1892. Дек. С. 654-662, 664, 686.
Астафьев П. Е. Родовой грех философии // Рус. обозрение. 1892. Нояб. С. 163-164.
Бестужев-Рюмин К. Н. Н. Н. Страхов. Воспоминания и отрывки. СПб. 1892:
[ред.] // ЖМНП. 1892. Ч. 279, Февр. С. 339-442.
Введенский А. Страхов. Мир как целое. Черты из науки о природе. Изд. II. СПб. 1892:
[ред.] //Образование. 1892. № 11. С. 369-371.
Гусев А. Любовь к людям в учении графа Л. Толстого и его руководителей. Казань,
1892. С. 3^.
Д. Н. Страхов. Воспоминания и отрывки. С- Петербург. 1892: [ред.] // Рус. обозрение.
1892. Дек. С. 937-940.
Дневник печати. Н. Н. Страхов // Моск. вед. 1892. № 155, 6 июня. С. 5 (без подписи).
Кр — в С. Н. Страхов. Мир как целое. 2-е изд.: [ред.] // Моск. вед. 1892. № 317, 15 нояб.
С. 5.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Грустные воспоминания: (Софья Ковалевская
(...) Сев. вестник. Дек.) // Моск. вед. 1892. № 349, 17 дек. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Итоги века: По поводу статьи Н. Н. Страхова
«Итоги современного знания», Рус. вестник, янв. // Моск. вед. 1892. №11,11 янв.
С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Куда поворачиваются флюгера? О вырождении
либерализма // Моск. вед. 1892. № 251, 10 сент. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Любовь и страх: По поводу статьи Н. Н.
Страхова «Справедливость, милосердие и святость». «Новое время». № 5784 // Моск.
вед. 1892. № 99, 11 апр. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Мнение светского писателя о монашестве:
Н. Страхов. «Воспоминания и отрывки». СПб., 1892 // Моск. вед. 1892. № 314,
12 нояб. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Наука и ученые: По поводу статьи Н. Н. Страхова
«Ход и характер современного естествознания». «Рус. вестник». Март // Моск.
вед. 1892. № 73, 14 марта. С. Ъ~4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Пакостные понятия // Моск. вед. 1892. № 120,
2 мая. С. 3^.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Ренан // Моск. вед. 1892. № 265, 24 сент. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Христианство и социализм: По поводу
современных европейских настроений // Моск. вед. 1892. № 94, 4 апр. С. 3-4.
Один из смертных. Письмо в редакцию // ВФиП. 1892. Кн. 11 (1). Отд. 2. С. 84-100.
626
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
ф
Розанов В. Страхов Н. Н. Идея рационального естествознания: [рец.] // Рус. обозрение.
1892. №8. С. 196-221.
Соловьев Вл. Отрицательный идеал нравственности // Вестник Европы. 1892. Апр.
С. 804-811.
Н. Страхов. Мир как целое. Черты из науки о природе: [рец.] // Неделя. 1892. № 19,
9 мая. С. 619-620 (без подписи).
Н. Страхов, Мир как целое, черты из науки о природе: [рец.] // Правительственный
вестник. 1892. № 74, 3 апр. С. 3 (без подписи).
Н Ч. [ЧерняевН. И.] «Мир как целое» г. Страхова // Южный край. 1892. № 3916, 30 мая.
С. 1-2; №3919, 2 июня. С. 2.
Филевский И. И., свящ. По поводу литературных толков о графе Толстом: [рец. на ст.:]
Страхов Н. Н. Ответ на письмо неизвестного. ВФиП. 1892. Кн. 11 // Вера и разум.
1892. №7. С. 425^52.
1893
АверкиевД. В. О драме: критические рассуждения Д. В. Аверкиева: с прил. ст.: Три
письма о Пушкине [Н. Н. Страхову]. 1893. 410 с. 2-е изд. СПб., 1907. 388 с.
Астафьев П. Е. Вера и знание в единстве мировоззрения: (Опыт начал критической
монадологии). М., 1893. 206 с.
Астафьев П. Е. Философия нации и единство мировоззрения. М., 1893. С. 11-13, 22,
134, 138-144, 149.
Волынский А. Литературные заметки // Сев. вестник. 1893. № 2. С. 116-146.
Елагин Е. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Поэзия Фета // Рус. вестник. 1893. Май. С. 306-332.
Меньшиков М. О. Не-делание графа Л. Н. Толстого // Книжки недели. 1893. Март. № 3.
Милюков П. Разложение славянофильства // ВФиП. 1893. Кн. 18 (3). Май. С. 63.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Ипполит Тэн: Н. Н. Страхов. «Заметки о Тэне».
«Рус. вестник», апр. // Моск. вед. 1893. № 123, 6 мая. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Ренан как беллетрист // Рус. обозрение. 1893.
Т. 21. Июнь. С. 844-859.
Чуйко В. Журнальное обозрение // Одесский листок. 1893. № 49. Февр.
1894
Б. В. Н. [Никольский Б. В.] Об основных понятиях психологии и физиологии. 1894.
Философские очерки. 1895. Критические статьи о Тургеневе и Толстом: [рец.] // Ист.
вестник. 1895. Июль. С. 885-887.
Волынский А. Литературные заметки. Новые деятели в журналистике 60-х годов и
полемические бури // Сев. вестник. 1894. № 12. С. 359-409.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Тургенев: Критический этюд. М., 1984. С. 151-153, 155-157,
168,179,239-241.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Нечто о литературе // Моск. вед. 1894. № 82,
24 марта. С. 3-4.
627
Приложение
■3'
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Смысл истории: По поводу статьи Н. Н.
Страхова «Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского, «Рус. вестник»,
окт. // Моск. вед. 1894. № 302, 3 нояб. С. 3.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] И. С. Тургенев: Критический этюд. М., 1894.
С. 151-153, 155-157, 168, 179,239-241.
Розанов В. Рассеянное недоразумение // Новое время. 1894. № 6717, 9 нояб. С. 3.
Страхов Н Н. К вопросу о задачах истории философии: (По поводу статьи по этому
вопросу Н. Н. Страхова в журн. «ВФиП», 1894 года, книга 1-я) // Вера и разум.
1894.№ 11. Отд. философский. С. 505-524;№ 13. Отд. философский. С. 13-36.
Тимирязев К. А. Чарльз Дарвин и его учение (С прилож. «Наши антидарвинисты»). М.,
1894. С. 404.
Южный М. [Зелъманов M.J Значение культуры // Гражданин. 1894. № 301, 1 нояб. С. 4.
Южный М. [Зелъманов M.J Из воспоминаний Ренана // Гражданин. 1894. №91,2 апр.
С.З.
Южный М. [Зелъманов М.] Новое издание Фета // Гражданин. 1894. № 186, 9 июля. С. 4.
Южный М. [Зелъманов М.] Старый вопрос // Гражданин. 1894. № 112, 25 апр. С. 4.
1895
Б. В. Н. [Никольский Б. В.] Н. Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии.
1894. Философские очерки. 1895. Критические статьи о Тургеневе и Толстом:
[ред.] // Ист. вестник. 1895. Июль. С. 885-887.
Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1895. № 7119, 22 дек. С. 2.
Буренин В. Приятельские разговоры: Разговор по поводу «Хозяина и работника» // Новое
время. 1895. № 6842, 17 марта. С. 2.
Волынский А. Литературные заметки. Аполлон Григорьев. Теория и законы органической
критики // Сев. вестник. 1895. № 11. С. 294-338.
Волынский А. Литературные заметки. Д. И. Писарев. Статья II // Сев. вестник. 1895.
№4. С. 310.
Волынский А. Раскол в радикальной журналистике шестидесятых годов. Статья IV // Сев.
вестник. 1895. № 1. С. 297, 354.
[МихайловД. Н.] Н. Н. Страхов // Нива. 1895. № 42, 21 окт. С. 1010-1011 (без подписи).
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Смерть Пушкина // Моск. вед. 1895. № 176,
29 июня. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. H.J Н. Страхов. «Критические статьи». Изд. 3-е.
СПб., 1895: [рец.] // Моск. вед. 1895. № 148, 1 июня. С. 3-4.
Розанов В. Смена мировоззрений // Рус. обозрение. 1895. № 7. С. 193-207.
Скромный летописец [Говоруха-Отрок Ю. H.J Маленькие этюды о больших вопросах.
Источники анархизма // Моск. вед. 1894. № 278, 283, 337; 1895. № 58, 62.
Шперк Ф. Н. Н. Страхов: Критический этюд // Новое время. 1895. № 7112, 15 дек. С. 2.
1896
Антонович М. Чарльз Дарвин и его теория. СПб., 1896. С. 238-241.
628
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
■$■
Афанасьев В. Мысли Н. Н. Страхова о нашем среднем образовании // Рус. школа. 1896.
№5-6. С. 147-156.
Бестужев-Рюмин К. Н. Н. Н. Страхов: [некролог] // ЖМНП. 1896. Ч. 303, Февр. Отд. 4.
С. 114-117.
Введенский Александр. Значение философской деятельности Н. Н. Страхова //
Образование. 1896. № 3. Отд. 2. С. 1-8.
Введенский Алексей И. Памяти Николая Николаевича Страхова (|24 янв. 1896 г.) // Бо-
госл. вестник. 1896. Т. 1. Март. Отд. 3. С. 485^89.
Волынский А. Л. Русские критики. Литературные заметки. СПб. 1896. С. 363, 365, 394,
401^02,404-405,407, 410,412,413, 418,419, 425, 544-545, 604, 639-642, 648,
649, 650, 682.
Гамма [Градовский Г К.] Дневник // Бирж. вед. 1896. № 26, 26 янв. С. 1.
Гольиев В. Страхов как художественный критик // ВФиП. 1896. № 3. С. 431-440.
ГротН. Я. Памяти Н. Н. Страхова: К характеристике его миросозерцания // ВФиП. 1896.
Кн. 32, № 2. С. 299-336; отд. отт.: М., 1896. 40 с.
Д. Я. [ЯзыковД. Д.] Памяти Николая Николаевича Страхова // Моск. вед. 1896. № 27,
27 янв. С. 2.
М. [Меньшиков М. О.] Николай Николаевич Страхов // Книжки «Недели». 1896. Март.
С. 253-257.
Матченко И. Из неизданных стихотворений Н. Н. Страхова Я Ежемес. литерат. прил.
к журн. «Нива». СПб., 1896. № 5-8. С. 279-294.
[Мещерский В. П.] Дневники // Гражданин. 1896. № 8, 28 янв. С. 19-20 (без подписи).
Михайловский Н. К Сочинения: в 6 т. / изд. редакции журн. «Русское богатство». СПб.,
1896-1897.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н.] Н. Н. Страхов // Моск. вед. 1896. № 32, 1 февр.
С. 4-5.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Н. Н. Страхов: некролог // Моск. вед. 1896. № 27,
27 янв. С. 2.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. Н] Несколько слов о Н. Н. Страхове: Б. В.
Никольский. «Николай Николаевич Страхов». Критико-биографический очерк. СПб.,
1896 // Моск. вед. 1896. № 167, 20 июня. С. 3-4.
Николаев Ю. [Говоруха-Отрок Ю. HJ Поэзия Полонского // Моск. вед. 1896. № 38,
8 февр. С. 2-3; № 45, 15 февр. С. 3-4; № 48, 18 февр. С. 3^*; № 52,22 февр. С. 3^;
№ 55,25 февр. С. 3^; № 59, 29 февр. С. 3; № 62, 3 марта. С. 3^4; № 66, 7 марта.
С. 3^1; № 69, 10 марта. С. 3^; № 73, 14 марта. С. 3^; № 76, 17 марта. С. 3.
Никольский Б. Памяти Н. Н. Страхова // Рус. вестник. 1896. Март. С. 231-255.
Никольский Б. Н. Н. Страхов: [некролог] // Новое время. 1896. № 7151, 25 янв. С. 2.
Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов: Критико-биографический очерк // Ист.
вестник. 1896. Апр. С. 215-268. Отд. изд.: СПб., 1896. 56 с.
Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока. М., 1896. С. 14, 32, 37.
Памяти Николая Николаевича Страхова // Ист. вестник. 1896. Март. С. 904-905 (без
подписи).
629
Приложение
Протопопов М. А. Лев Толстой. Критики Толстого // Протопопов М. А. Литературно-
критические характеристики. СПб., 1896. С. 91-97.
Радлов Э. Несколько замечаний о философии Страхова // ЖМНП. 1896. Ч. 305, Июнь.
С. 339-361. Отд. изд.: СПб., 1900. 23 с.
Радлов Э. Л. Н. Н. Страхов // Прил. к журн. «Нива». 1896. № 7. Стб. 559-571.
Розанов В. Вечная память. (24 янв. —27 июля [18]96 г.) // Рус. обозрение. 1896. № 9.
С. 386-395; № 10. С. 629-664.
Розанов В. Кому «горе от ума» в действительной жизни? // Рус. слово. 1896. № 48,
19 февр. С. 1-2.
Скопинский А. [Шевелев А. А.] О Н. Н. Страхове: [некролог] // Рус. слово. 1896. № 33,
3 февр. С. 1.
Николай Николаевич Страхов // Гражданин. 1896. № 34,28 апр. С. 22-23 (без подписи).
Н. Н. Страхов: [некролог] // Бирж. вед. 1896. № 26, 26 янв. С. 3 (без подписи).
Н. Н. Страхов: [некролог] // Рус. слово. 1896. 27 янв, № 27. С. 3 (без подписи).
Н. Н. Страхов: [некролог] // СПб. вед. 1896. № 24, 24 янв.; № 25, 25 янв. (без подписи).
Н. Н. Страхов: [некролог] // Странник. 1896. Т. 1. Февр. С. 350-352 (без подписи).
Н. Н. Страхов: [некролог] // Церковный вестник. 1896. 1 февр. № 5. Стб. 170-171 (без
подписи).
Н. Н. Страхов: [некролог] // Ист. вестник. 1896. Март. С. 1047-1052 (без подписи).
Ф. Ш. [Шперк Ф. Э.] Библиографические новости // Новое время. 1896. № 7289, 14 июня.
С. 8.
1897
Басаргин М. [Введенский Алексей И.] Общий смысл философии Н. Н. Страхова // Моск.
вед. 1897. № 24, 24 янв. С. 2-3; № 46, 15 февр. С. 3-4; № 69, 11 марта. С. 3-4.
Отд. отт.:М., 1897.25 с.
Михайловский Н. К. Сочинения: в 6 т. СПб., 1897. Т. 4-6.
Рождествин А. С. Художественная критика // Филологические записки. Воронеж, 1897.
№5-6. С. 1-19.
[Розанов В. В.] «Завтра, 24 января, исполнится год со дня кончины Ник. Ник.
Страхова. ..» // Свет. 1897. № 23, 24 янв. С. 1 (без подписи).
Розанов В. Письмо в редакцию // Сев. вестник. 1897. № 4. С. 88, 92.
Смирнов В. Д. [Соловьев Е. А.] Жизнь и деятельность А. И. Герцена в России и за
границей. СПб., 1897. С. 31, 59, 151.
Н. Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии: [рец.] // Рус. мысль. 1897.
Янв. С. 10-11 (без подписи).
Уманец С. И. Из воспоминаний об А. Н. Майкове // Ист. вестник. 1897. Май. С. 460-470.
1898
Гневушев М В. [Архим. Макарий] Истинные смысл и значение учения гр. Л. Н.
Толстого// Миссионерское обозрение. 1898. Февр. С. 189-213; Июнь. С. 803-826.
630
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
<$>
Недавнее прошлое: Из семинарских воспоминаний философа Н. Н. Страхова //
Странник. 1898. Т. 1. Янв. С. 189-193 (без подписи).
Шарапов С. Ф. По душе. Письмо В. В. Розанова. Объяснения по поводу Рцы. Письмо Н. С.
о В. В. Розанове. Характеристика, данная покойным Страховым его книге «О
понимании» // Рус. труд. 1898. № 41, 10 окт. С. 15-17.
1899
Гольцев В. Страхов как художественный критик // О художниках и критиках. М., 1899.
С.114-126.
Розанов В. Литературная личность Н. Н. Страхова // Розанов В. В. Литературные очерки:
сб. ст. СПб., 1899. С. 61-91.
1900
Волынский А. Л. Христианство и буддизм // Волынский А. Л. Борьба за идеализм: крит.
ст. СПб., 1900. С. 73-94.
Иванов Ив. История русской критики с XVIII в. СПб., 1900. Ч. 3. С. 698-703, 708.
Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900.
Т. 1.С. 199-200,416.
Никольский Б. Гиляров-Платонов. Сб. соч. Т. I—II. СПб., 1900: [ред.] // Ист. вестник.
1900. Июль. С. 272.
1901
Высокоостровский А. П. Отзыв о сочинении студента СПБ ДА Преферансова
Александра «Борьба с Западом в русской научной и философско-богословской
литературе последнего двадцатипятилетия; философско-богословская оценка трудов
(Страхова, Данилевского и др.)» // Христианское чтение. 1901. Т. 212. Дек. Разд.
журн. засед. С. 345.
ГрадовскийА.Д. Собр. соч.: в 6 т. СПб., 1901. Т. 6. С. 424-440.
Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. СПб., 1901.
Тимирязеве А. Собрание сочинений. СПб., 1901. Т. 6. С. 424-440.
1902
Басаргин А. [Введенский А. И.] Герцен как славянофил // Моск. вед. 1902. № 12. С. 3.
БенуаА. История русской живописи в XIX веке. СПб, 1902. Ч. 29. С. 194.
Булгаков С. Н. Душевная драма Герцена // ВФиП. 1902. Кн. 4 (64). С. 1248-1275; Кн. 5.
С. 1363-1378.
Быков П. В. Дмитрий Иванович Стахеев: Критический этюд // Стахеев Д. И. Собр. соч.:
в 12 т. СПб., 1902. Т. 1. С. XX-XXI.
Меньшиков М. Критические очерки. СПб., 1902. Т. 2: Литературные характеристики.
VIII. Н. Страхов. С. 622-625.
Михайловский Ник. Литература и жизнь: Об истории русской живописи г. Александра Бе-
нуа и о современных настроениях // Рус. богатство. 1902. Дек. Отд. II. С. 147-149.
631
Приложение
Ф
Никольский Б. Биография Д. И. Стахеева // Стахеев Д. И. Собр. соч.: в 12 т. СПб., 1902.
Т. 1. С. VIII, IX, XIII, XIV.
П. Щ. [ЩебалъскийП. К.] Н. Н. Страхов. Критические статьи (1861-1894). Том 2-й.
Изд. И. П. Матченко. Киев, 1902: [ред.] // Ист. вестник. 1902. Нояб. С. 750-751.
Розанов В. Особая группа писателей // Новое время. 1902. № 9451, 28 июня. С. 2-3.
Семенкович В. Н. Памяти А. А. Фета-Шеншина // Ист. вестник. 1902. Нояб. С. 525-535.
Скиф [СоколовН. М.] Литературное обозрение // Рус. вестник. 1902. Сент. С. 676-696.
1903
Микулич В. [ВеселитскаяЛ. И.] Встречи со знаменитостью. М., 1903. С. 13-14.
Розанов В. К литературной деятельности Страхова // Новое время. 1902. № 9506,22 авг.
С. 2-3.
Розанов В. Особая группа писателей: (Из переписки С. А. Рачинского) // Новое время.
1902. №9451, 28 июня. С. 2.
1904
Матвеев П. Тургенев и славянофилы // Рус. старина. 1904. № 4. С. 181-192.
Скиф [СоколовН. M.J Об идеях и идеалах русской интеллигенции. СПб., 1904.
Стахеев Д. И. Станислав первой степени и енотовая шуба (из воспоминаний о Н. Н.
Страхове) // Ист. вестник. 1904. Февр. С. 441-479.
1905
БелозерскийН. А. И. Герцен, славянофилы и западники. СПб., 1905. С. 19, 20.
Овсянико-Куликовский Д. Н. Западничество и славянофильство Герцена // Наша жизнь.
1905. №129. С. 2.
СоловьевЕ. А. Опыт философии русской литературы. СПб., 1905. С. 270-271.
1906
Достоевская А. Г. Библиографический указатель сочинений и произведений искусства,
относящихся к жизни и деятельности Ф. М.Достоевского (1846-1903). СПб., 1906.
1907
Андреевич Е. [СоловьевЕ. А.] Очерки по истории русской литературы XIX века. СПб.,
1907. С. 275-279, 323-326.
Венгеров С. Очерки по истории русской литературы. СПб., 1907. С. 76-77.
Матвеев П. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в Оптиной пустыни // Ист. вестник. 1907.
Апр.С. 151-157.
Россиев П. Был ли Н. Н. Страхов «неверующим человеком»? // Ист. вестник. 1907.
Июнь. С. 1056.
Стахеев Д. И. Группы и портреты: (Листочки воспоминаний) // Ист. вестник. 1907.
Янв.С. 81-94.
632
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
Ф
1908
БоборыкинП.Д. За полвека // Минувшие годы. 1908. № 10. С. 111-149.
ГрадовскийГ.К. Итоги (1862-1907). Киев, 1908. С. 398-399.
Левин Д. Владимир Соловьев и Н. Н. Страхов // Речь. 1908. № 268, 5 нояб. С. 2.
1909
Авсеенко В. Кружок: (Рассказ по личным воспоминаниям) // Ист. вестник. 1909. Май.
С. 438-451.
Аггеев К., свящ. Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни: Опыт
критического изучения и богословская оценка раскрытого К. Н. Леонтьевым
понимания христианства. Киев, 1909. С. 6, 8, 10, 11, 16, 75, 138, 139.
Бунаков Н. Ф. Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно
провинциальною, 1837-1905. СПб., 1909. С. 48, 50, 57, 62.
Скабичевский А. История новейшей русской литературы (1848-1908). 7-е изд., испр.,
доп. СПб., 1909. С. 46-47.
1910
Лазурский В. [Ф.] Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов: (Из личных воспоминаний) // Русская
быль. Серия III. I. Л. Н. Толстой. Биография, характеристики, воспоминания:
(Жизнь. Личность. Творчество): сб. ст. М., 1910. С. 148-156.
1911
Высокоостровский А. П. Отзыв о сочинении студента СПБ ДА Кострова Дмитрия на
тему: «Религиозно-философские воззрения Никол. Никол. Страхова и оценка их
с православно-богословской точки зрения» // Христианское чтение. 1911. Т. 235.
Сент. Разд.: Журналы заседаний. С. 485^491.
Глинский Б. Б. В. П. Буренин // Глинский Б. Б. Среди литераторов и ученых. СПб., 1911.
С. 59-105.
Николай Яковлевич Грот в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников,
друзей и почитателей (...) Письма гр. Л. Н.Толстого, Н. Н. Страхова, А. Ф. Кони
и др. (...) СПб., 1911. С. 236-260.
Коноплянцев А. М. Жизнь К. Н. Леонтьева // Сб. памяти К. Н. Леонтьева. М., 1911.
Лазурский В. Ф. Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов // Воспоминания о Толстом. М., 1911.
С. 83-102.
Миртов Д. П. Отзыв о сочинении студента СПБ ДА Кострова Дмитрия на тему:
«Религиозно-философские воззрения Никол. Никол. Страхова и оценка их
с православно-богословской точки зрения // Христианское чтение. 1911. Т. 235.
Сент. Разд.: Журналы заседаний. С. 491^494.
Михайловский Н. К. Поли. собр. соч. СПб., 1911. Т. 1. С. 706-707, 710.
Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой, 1857-1903 СПб., 1911. С. 279.
(Толстовский музей; Т. 1).
633
Приложение
РудаковВ. Е. Последние дни цензуры в Министерстве народного просвещения
(председатель С- Петербургского цензурного комитета В. А. Цеэ) // Ист. вестник. 1911.
Авг. С. 517-518; Сент. С. 982-987. То же, отд. отт.: СПб., 1911.
Страхов Николай Николаевич // Словарь членов Общества любителей российской
словесности при Московском Императорском университете. М., 1911. С. 276.
1912
Ветринский Ч. [Чешихин Вас. E.J Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников,
письмах и заметках. М., 1912.
Кадмии Н. Очерки по истории русской литературы. М., 1912. С. 248-249.
Кранихфельд Вл. Литературные отклики: Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов в их
переписке // Современный мир. 1912. № 12. С. 327-342.
Розанов В. Е. И. Игнатьев. Наука о небе и земле, общедоступно изложенная. С-
Петербург. Изд. А. С. Суворина. 1912: [рец.] // Новое время. 1912. № 12951, 3 апр.
Соловьев Е. Ф. Достоевский. Его жизнь и литературная деятельность: Биографический
очерк. 3-е изд. СПб., 1912. С. 5,42, 84-85, 174, 195. (ЖЗЛ: Биографическая
библиотека Ф. Павленкова; Вып. 236).
1913
Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство // Леонтьев К. Н. Собр. соч. М., 1913. Т. 7.
МеньшиковМ. О. Стихийное варварство // Новое время. 1913. № 13481, 22 сент. С. 5.
Микулич В. [ВеселитскаяЛ. И.] Тени прошлого // Ист. вестник. 1913. Февр. — Апр.
Модзалевский Б. Предисловие // Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, 1870-1894 //
Современный мир. 1913. № 1. С. 1-8.
Розанов В. Идейные споры Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова // Новое время. 1913. № 13544,
24 нояб.; № 13548, 28 нояб.; № 13554, 4 дек.
Розанов В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. По указателю.
Толстой И. Мои воспоминания. Berlin, [1913].
Философов Д. Порочный Достоевский // Рус. слово. 1913. № 234, 11 окт. С. 2.
1914
Ашевский С. [Столяров М. H.J Аполлон Александрович Григорьев (f 25 сентября 1864 г.) //
Голос минувшего. 1914. № 9. С. 5-38.
Булгаков С. Н. Русская трагедия // Рус. мысль. 1914. Кн. 4. С. 1-26.
Гроссман Л. Основатель новой критики // Рус. мысль. 1914. Кн. 11. Отд. II. С. 1-19.
ЛазурскийВ. Ф. Воспоминания. М., 1914.
Лазурский В. Яснополянские посетители. 1894 г. // Голос минувшего. 1914. № 3. С. 119-
134.
Микулич В. [ВеселитскаяЛ. И.] Тени прошлого. СПб., 1914. С. 27, 102, 105, 135-139.
Модзалевский Б. Предисловие // Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым, 1870-1894.
СПб., 1914. С. 1-8 (Толстовский музей; Т. 2).
634
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917
Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым: [ред.] // Рус. богатство. 1914. Сент. С. 342-
345 (без подписи).
Розанов В. Наброски // Новое время. 1914. № 13747, 21 июня. С. 4.
Толстой И. Мои воспоминания. М., 1914.
Эмзе [Юльченко М. Ф.] Два сердца // Утро России. 1914. № 137, 15 июня. С. 2.
1915
Княжнин Влад. Толстовский музей. Т. II: Переписка гр. Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова,
1870-1894. С примеч. и предисл. Б. Л. Модзалевского. Изд. Общества Толстовского
музея. Петроград. 1914: [рец.] // Ист. вестник. 1915. Февр. С. 293-294.
Леонтьев К. Н. Несколько воспоминаний и мыслей о покойном А. А. Григорьеве: (Письмо
к Ник. Ник. Страхову) // Рус. мысль. 1915. Сент. С. 109-124, 2-я паг.
Розанов В. К. Леонтьев об Аполлоне Григорьеве: (Вновь найденный материал) // Новое
время. 1915. № 14279, 9 дек. С. 6.
Филиппов И. Толстовский музей. Т. II: Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым,
1870-1894: [рец.] // Известия Одесского библиографического общества при
Новороссийском университете. 1915. Т. 4, вып. 2. С. 108-110.
Энгельгардт Н. История русской литературы XIX столетия. СПб., 1915. Т. 2: (1850-1900).
С. 167-171,417.
1916
Андреев Ф. К. О сочинении студента Матвеевича Виктора на тему: Религиозно-
философские взгляды Н. Н. Страхова // Богосл. вестник. 1916. Т. 2. Июнь. Разд.
Журналы собраний. С. 287-291.
Глаголев С. С. О сочинении студента Матвеевича Виктора на тему: Религиозно-
философские взгляды Н. Н. Страхова // Богосл. вестник. 1916. Т. 2. Июнь. Разд.
Журналы собраний. С. 291-294.
Либрович С. Ф. На книжном посту: Воспоминания. Заметки. Документы. Пг; М., 1916.
С. 183-187.
ПерцовП. Н. Н. Страхов, 1896-24 янв. — 1916 // Новое время. 1916. № 14325, 25 янв. С. 4.
1917
А. А. Григорьев: Материалы для биографии / под ред. В. Княжнина. Пг., 1917.
КомаровичВ.Л. Достоевский и шестидесятники //Современный мир. 1917. Янв. С. 129—
138.
Никольский Ю.Сатирическая эпопея Ф.М.Достоевского // Бирж. вед. 1917. № 16092,
10 февр. С. 3.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
Архивохранилища
ИР НБУ— Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И.
Вернадского (Киев)
ОРРНБ—Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
РГАЛИ— Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РО ИРЛИ— Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом)
РАН (Санкт-Петербург)
Печатные источники
Периодические издания
Бирж. вед.— «Биржевые ведомости», газета (1880-1917)
ВФиП — «Вопросы философии и психологии», журнал (1899-1918)
ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения» (1834-1917)
Изв. СПб. Слав, благотв. об-ва — «Известия Санкт-Петербургского Славянского
благотворительного общества», журнал (1883-1916)
Ист. вестник — «Исторический вестник», журнал (1880-1917)
Моск. вед.—«Московские ведомости», газета (1756-1917)
Отеч. зап.— «Отечественные записки», журнал (1818-1884)
СПб. вед.— «Санкт-Петербургские ведомости», газета (1728-1924)
Рус. архив — «Русский архив», журнал (1863-1917)
Рус. вестник — «Русский вестник», журнал (1856-1906)
Рус. литература — «Русская литература», журнал (1958-)
Рус. мир — «Русский мир», газета (1859-1863)
Рус. мысль — «Русская мысль», журнал (1880-1918)
Рус. слово — «Русское слово», газета (1895-1918)
Статьи и книги
Аксаков — Страхов. Переписка — И. С. Аксаков — Н. Н. Страхов: Переписка / сост.,
предисл. и коммент. М. И. Щербаковой; Группа славянских исследований при
Оттавском университете, ИМЛИ РАН. М.; Оттава, 2007.
Григорьев. Воспоминания — Григорьев Ап. Воспоминания / ред. и коммент. Иванова-
Разумника. М.; Л., 1930.
Григорьев. Письма — Григорьев Ап. Письма / изд. подгот. Р. Виттакер, Б. Ф. Егоров. М.,
1999. (Литературные памятники).
636
Список сокращений
«8»
Григорьев. Сочинения. Т. 1—ГригорьевАп.Сочинения/изд. Н.Н.Страхова. СПб., 1876.
Т. 1 / предисл. Н. Н. Страхова.
Достоевский. ПСС—Достоевский Ф. М. Поли. собр. соч. и писем: в 30 т. Л., 1972-1990.
Леонтьев. Избранные письма—Леонтьев К. Избранные письма, 1854—1891 / публ.,
предисл. и коммент. Д. Соловьева. СПб., 1993.
Леонтьев. ПСС—Леонтьев К. Н. Поли. собр. соч. и писем: в 12т./ сост., вступ. ст.,
подгот. текста и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2000-
(изд. продолжается).
Леонтьев. Pro et contra—К. Н. Леонтьев: Рго et contra: Личность и творчество
Константина Леонтьева в оценке русских мыслителей и исследователей: антология /
изд. подгот. А. П. Козырев, А. А. Корольков. СПб., 1995. Кн. 1-2.
ЛН—Литературное наследство / ИМЛИ РАН. М, 1931- (изд. продолжается).
Никольский Б. В. Страхов — Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов: Критико-
биографический очерк. СПб., 1896.
Переписка Толстого и Страхова. 2018— Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова
(1870-1896): в 2 т. / РАН. Институт русской литературы (Пушкинский Дом);
Гос. музей Л. Н. Толстого; изд. подгот. Л. В. Калюжная, Т. Г. Никифорова,
В.А.Фатеев, В.Ю.Шведов. СПб., 2018. Т. 1: 1870-1879. (Русские беседы).
Переписка Толстого с Страховым. 1914 — Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н.
Страховым (1870-1894) / с предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского; изд. Общества
Толстовского музея. СПб., 1914. Т. 2.
Перцов. Литературные воспоминания — Перцов П. П. Литературные воспоминания,
1890-1902 / вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 2002.
Письма Страхова Н. Я. Гроту — Письма Н. Н. Страхова // Николай Яковлевич Грот
в очерках, воспоминаниях и письмах товарищей и учеников, друзей и
почитателей. СПб., 1911. С. 236-260.
Письма Страхова Ф. М. Достоевскому — Письма Н. Н. Страхова Ф. М. Достоевскому /
публ. А. С. Долинина//Шестидесятые годы: Материалы по истории
литературы и общественному движению / под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехно-
вицера. М; Л., 1940. С. 255-281.
Пророки византизма — Пророки византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И.
Филиппова (1875-1891) / вступ. ст. и сост. О. Л. Фетисенко. СПб., 2012. (Русские
беседы).
Розанов. Листва—Розанов В. В. Листва. Уединенное. Опавшие листья: [Короб первый].
Опавшие листья: (Короб второй и последний) / сост. А. Н. Николюкина, подгот.
текста А. Н. Николюкина, В. Г. Сукача, П. П. Апрышко, коммент. А. Н.
Николюкина, В. Г. Сукача. СПб., 2010.
Розанов. Литературные изгнанники. 1913 — Розанов В. В. Литературные изгнанники:
Н. Н. Страхов. СПб., 1913.
Розанов. Литературные изгнанники. 2001 —Розанов В. В. Литературные изгнанники.
М., 2001. [Кн. 1]: Н.Н.Страхов. К.Н.Леонтьев. Переписка В. В. Розанова
637
Список сокращений
с Н. Н. Страховым. Переписка В. В. Розанова с К. Н. Леонтьевым / подгот.
текста А. Н. Николюкина и П. П. Апрышко, коммент. Т. В. Вороновой, указ.
имен В. М. Персонова.
Розанов. Литературные изгнанники. Кн. 2. 2010—Розанов В. В. Литературные
изгнанники. М.; СПб., 2010. Кн. 2: П. А. Флоренский. С. А. Рачинский. Ю. Н. Говоруха-
Отрок. В. А. Мордвинова / сост. А. Н. Николюкина, подгот. текста А. Н.
Николюкина, С. М. Половинкина, В. А. Фатеева, П. П. Апрышко, коммент. А. Н.
Николюкина, С. М. Половинкина, В. А. Фатеева, указ. имен Т. В. Шаговой.
Розанов. ПСС—РозановВ. В. Поли. собр. соч.: в 35 т. СПб., 2014-(изд. продолжается).
Розанов. Рго et contra — В. В. Розанов: Рго et contra: Личность и творчество Василия
Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей: антология. СПб.,
1995. Кн. 1-2.
Снетова. Философия Страхова — Снетова Н. В. Философия Н. Н. Страхова: (Опыт
интеллектуальной биографии): монография. Пермь, 2010.
Вл. Соловьев. Письма — Письма В. С. Соловьева. СПб., 1908-1923. Т. 1-4.
Соловьев. Сочинения. 1989—Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М., 1989. (Прил. к журн.
«Вопросы философии»).
Н. Н. Страхов. Альбом-биография — Николай Николаевич Страхов: Жизненный путь:
начало: Альбом-биография к 190-летию со дня рождения / подгот. О. Н. Полу-
хин, М. И. Щербакова, П. А. Ольхов, Д. Д. Сорокина, А. Г. Мосолов, Е. Н. Мо-
товникова. Белгород, 2018.
Страхов. Борьба с Западом. Кн. 1 — Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе:
Исторические и критические очерки. 3-е изд. Киев, 1897. Кн. 1.
Страхов. Борьба с Западом. Кн. 2 — Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе:
Исторические и критические очерки. 2-е изд. СПб., 1890. Кн. 2.
Страхов. Борьба с Западом. Кн. 3 — Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе.
СПб., 1896. Кн. 3.
Страхов. Воспоминания о Достоевском — Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре
Михайловиче Достоевском // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников:
в 2 т. / вступ. ст., сост. и коммент К. Тюнькина. М., 1990. Т. 1. С. 375-532.
Страхов. Из истории литературного нигилизма — Страхов Н. Из истории
литературного нигилизма: (1861-1865). СПб., 1890.
Страхов. Критические статьи. Кн. 2. 1902 — Страхов Н. Н. Критические статьи / сост.
И. П. Матченко. Киев, 1902. Кн. 2.
Страхов. Критические статьи о Тургеневе и Толстом—Страхов Н. Критические статьи
об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862-1885). СПб., 1885.
Страхов. Литературная критика—Страхов Н. Н. Литературная критика: сб. ст. / вступ.
ст. и сост. Н. Н. Скатова, коммент. В. А. Котельникова. СПб., 2000.
Страхов. Мир как целое. 2007 — Страхов Н. Н. Мир как целое / предисл. и коммент.
Н. П. Ильина (Мальчевского). М., 2007.
638
Список сокращений
Страхов. О методе естественных наук — Страхов Н. Н. О методе естественных наук
и значении их в общем образовании / изд. И. П. Матченко. 2-е изд., доп. Киев,
1900.
Страхов. Об основных понятиях психологии и физиологии — Страхов Н. Об основных
понятиях психологии и физиологии. 2-е изд. СПб., 1894.
Страхов. По утрам — Страхов Н. Н. По утрам / подгот. текста М. И. Щербаковой
и О. Н. Квятковской, вступ. ст. и коммент. М. И. Щербаковой // Толстой и о
Толстом. М, 2010. Вып. 4: Материалы к комментариям. С. 359-430.
Страхов. Философские очерки. 1906— СтраховН. Н. Философские очерки. 2-е изд.,
доп. Киев, 1906.
Толстой. ПСС— Толстой Л. Н. Полное собр. соч. и писем: в 90 т. М., 1928-1956.
Толстой — Страхов. Полн. собр. переписки — Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхов: Полное
собрание переписки: в 2 т. / ред. А. А Донское, сост. Л. Д. Громова, Т. Г.
Никифорова. Оттава; М, 2003. Т. 1: Письма, 1870-1878; Т. 2: Письма, 1879-1896.
Тургенев. ПСС. Письма— Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. Письма: в 18 т.
М, 1978-(изд. продолжается).
Фатеев. Жизнеописание Василия Розанова — Фатеев В. А. Жизнеописание Василия
Розанова. СПб., 2013.
Фет и его окружение—ЛН. Т. 103: А. А. Фет и его литературное окружение. М., 2008.
Кн. 1; 2011. Кн. 2.
Фетисенко. Гептастилисты — Фетисенко О. Л. Гептастилисты: Константин Леонтьев,
его собеседники и ученики: (Идеи русского консерватизма в литературно-
художественных и публицистических практиках второй половины XIX —
первой четверти XX века). СПб., 2012.
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*1
Августин Блаженный 499
АверкиевД.В. 20, 32, 36, 143, 250, 387,
562, 574, 578, 580
Авсеенко В. Г. (псевд. А.) 300, 398, 525
Аксаков И. С. 27, 62,92,181,205-212,221,
228, 232, 239, 240, 245, 246, 258,
259, 269, 272, 312, 333-335, 368,
452, 457, 474-477, 485, 504, 562,
576, 588, 594-596, 599-601, 606
Аксакова А. Ф. 600, 606
Аксаковы 240
Александр II (Освободитель), имп. 26,
205, 206, 210, 214, 243, 456, 457,
506, 594, 595
Александр III, имп. 206-209,475, 594, 595,
609
Алексеев В. И. 493
АловертН.П. 591
Амвросий Оптинский (в миру А. М.
Гренков), св. 264, 265, 271,465, 518, 589
Ангел Силезский 181, 256
Андреев Л. Н. 378, 380
Андреев Ф. К. 252, 274-276
Андреевич Е. см. Соловьев Е. А.
Анненков П. В. 359, 374,422,423,425, 582
Антэй см. Редер Г. М.
Антоний (в миру А. П. Храповицкий),
митр. 56,274, 385, 512, 530, 561, 614
Антонове. А. 174, 175, 567
Антонович М. А. (псевд. Посторонний
сатирик) 10, 115, 116, 122, 188, 192,
193, 198, 202, 205, 209, 220-224,
244, 245, 251, 298, 299, 328, 563,
575,578
Антропов Л. Н. 32, 588
Апухтин А. Н. 92
Аристов В. И. 411
Аристотель 540
Аскоченский В. П. 313, 545
Асланова Г. Д. 151
Астафьев П. Е. 177, 183, 184,251,268,269,
465,500
Афанасий Великий, св. 599
Баадер Ф. К., фон 181, 256
БабиковК.И. 387
БаженовН.Н.372,373,375
БазуновА. Ф. 136
Бакунин М. А. 201
Бакунин П. А. 603
Баратынский Е. А. 4, 286, 561
Барсуков Н. П. 310
Басаргин М. см. Введенский Алексей И.
БатуевН.А. 273
БатуеваА. И. 273
Безобразов В. П. 622
Бекон Ф. см. Бэкон Ф.
Белинский В. Г. 43, 137, 139, 150, 193,203,
214, 215, 220, 235, 286, 293, 296-
301,307,308,315,318,325,350,
351,424,430
Белов С. В. 374-376, 378
Белый А. 469, 495
Берви-Флеровский В. В. (псевд. С. Нава-
лихин)423
БергЛ.С.416,417
БергФ.Н. 32, 513, 514, 549, 604
Бердяев Н. А. 173, 280, 321, 322, 390, 508,
509
БернарК. 118,240,579,580
* Указатель составила Л. А. Тимофеева.
1 В указатель не включены сведения из разделов «Литература о Н. Н. Страхове» и
«Список сокращений».
640
Бестужев А. А. 286
Бестужев-Рюмин К. Н. 40, 59, 71, 84, 183,
207, 251, 266, 399, 400, 443, 494,
561,562,591,594,608
Бибиков П. А. 115
Бирюков П. И. 428,455
Бисмарк О., фон 435
БлагосветловГ. Е. 13, 28, 202, 209, 350
БлокА. А. 301,302,469
БоборыкинП.Д. 30, 32, 65, 85, 133, 134,
311,327,588
Богданов А. В. 404
Богданов А. П. 95
Бодлер Ш. П. 523
Борис Годунов, царь 359
Бородин А. П. 297
Бородина Е. С. 297
Боткин В. П. 315
Боцяновский В. Ф. 374
Брамбеус см. Сенковский О. И.
БрандтФ.Ф. 19,573
БремА.Э.29,564,579
Брокгауз Ф. А. 427
Брюллов К. П. 585
Брянчанинов Д. А. см. Игнатий, еп.
Булгакове. Н. 355, 384, 385,469,498, 522
Бунаков Н. Ф. 60
Бунин И. А. 323
Буренин В. П. (псевд. Z.) 34, 41, 47, 78,
149, 153, 198, 199,204,291,292,
398, 399, 423, 426, 427, 465, 563,
583,597,600,608,613
Бурсов Б. И. 321,324,372
Бутлеров А. М. 292, 407, 597, 600-602
Бухарев А. М. см. Феодор, архим.
Бычков А. Ф. 276, 592, 596, 598
Бэкон (Бекон) Ф., барон Веруламский 580,
581
БюхнерЛ. 44, 160, 195
Вагнер Н. П. 176, 292, 596^598
Вагнер Р. 69, 255, 292, 534, 598, 611
ВалихановЧ.Ч. 387
Валуев П. А. 26, 575
Василий Великий (Кесарийский), св. 259
имен
Васильев П. В. 578
Введенский Александр И. 9, 49, 100, 139,
146, 185
Введенский Алексей И. (псевд. М.
Басаргин) 10, 49, 118, 161, 169, 170, 254,
276
Введенский И. И. 202
ВейнбергП. И. (псевд. Виногоров, Камень-
Виногоров) 329, 332
ВенгеровС. А. 146,427
Веневитинов Д. В. 127,286
Вернадский В. И. ПО
Верховский Ю. Н. 379
Веселитская Л. И. (псевд. В. Микулич) 65,
319,377,613
Виганд А. 409
Виногоров см. Вейнберг П. И.
Висковатов П. А. 369, 375, 376, 385
Висковатова Е. И. (урожд. Корсини) 376
ВиттакерР. 313
Владимирова Е. В. 578
Вовчок Марко (наст, имя и фам. М. А.
Маркович) 508
ВогюэЭ.М.,де255,258
Волгин И. Л. 378
Волконская Е. Г. 601
Волынский А. Л. (наст, имя и фам. X. Л. Флек-
сер) 47, 257, 563, 611, 613
Вольтер 101,251,545
Вольф К. Ф. 407
ВоскобойниковН.Н. 32, 133, 588
Воскресенский А. А. 19
Высотский Н. Г. 544
Вышнеградская В. Ф. 587
Вышнеградские 587
Вышнеградский И. А. 17, 18, 59, 60, 70,
562,587
Вяземский П. А. 422
Вяземский П. П. 40, 243, 244, 595
ГаврюшинН.К. 103,104, 109, 110,174,566
Гамма см. Градовский Г. К.
Гартман Э. 472, 474
Гаршин В. М. 377
ГеН.Н. 534,612
641
Указатель имен
=^Я
Гегель Г. В. Ф. 13, 22, 26, 27, 39, 74, 98,
99, 107, 108, ПО, 116, 126, 156-164,
168-170, 174, 179, 181, 182, 186,
188, 191, 196,205,212,227,235,
237, 250, 255, 257, 294, 308, 390,
443, 450, 472, 474, 475, 488, 497,
499,517,566,574,575
ГезенА.М.478,598
Герострат 417
ГерстайнЛ. 10, 11, 125
Герцен А. И. 10,40,42,80, 131, 193,204,
213, 226-228, 232, 239, 261, 286,
332, 504, 565
Гёте И. В., фон 22, 416, 458, 594
Гиляров-Платонов Н. П. 57, 91, 211
Гиппиус 3. Н. 284
Гитович Н. И. 378
Глинка М. И. 326
Глинский Б. Б. 204
Говоруха-Отрок Ю. Н. (псевд. Г., Ю.
Николаев и др.) 24, 41, 49, 51, 82, 86,
153, 154,211,216,217,233,234,
252-254, 259, 268, 274, 300, 320,
420, 455, 457, 460, 544, 545, 555,
563,607,608,610,611,613
Гоголь Н. В. 4, 129, 133, 139, 203, 222, 264,
280, 286, 325, 342, 346, 360, 403,
423, 430, 508, 543
Голенищев-Кутузов А. А. 149, 500, 562,
598,606,612,613
Голенищев-Кутузов М. И. см. Кутузов М. И.
ГолохвастовП. Д. 69,79,269-271,410,412,
420, 452, 454, 455, 562, 586, 590,
592-595, 599, 600
Голохвастовы 592, 594
Гончаров И. А. 103,425, 578, 582, 592, 610
ГотьеТ.П.Ж. 523
Градовский А. Д. 32, 80, 360
Градовский Г. К. (псевд. Гамма) 45, 244
Грановский Т. Н. 349, 393
Грибоедов А. С. 247, 286
Григорович Д. В. 373, 374, 612
Григорьев А. Ап. 315
Григорьев Ап. А. 3, 10, 22-24, 29, 32, 36,
44, 47, 56, 59, 72, 73, 79, 80, 84-86,
98, 125, 126, 129-133, 135, 137-139,
141, 143, 144, 149, 150, 152, 154,
155, 157, 164, 179, 189, 194, 195,
199, 203, 204, 213, 215, 218-223,
235, 240, 280, 281, 290, 293, 295-
320, 325-327, 332-337, 346, 350,
387, 395, 404, 421, 423, 424, 430,
446, 449, 490, 504, 506, 509, 512,
524, 529, 531, 532, 536, 537, 541,
559, 562, 564, 566, 574, 578, 579,
583,587,588,608,612
Григорьев А. И. 315
Григорьев В. В. 360, 393
Григорьев П. А. 315
ГрингмутВ.А. 488, 543
ГромекаМ.С. 581
Гроссман Л. П. 337, 371, 378, 380, 386
Грот Н. П. 610
ГротН.Я. 9, 41, 47, 49, 51, 155, 156, 180-
182, 185, 214, 250, 256, 258, 265,
288, 444, 463, 474, 480, 500, 502,
543, 562, 588, 602, 603, 606, 609,
610,612
Грот Я. К. 596
Губастов К. А. 520
ГуревичЛ.Я. 59
Гутенберг И. 122
Гюйгенс X. 101
Данилевская О. А. 412
Данилевские 403,405,412, 585, 603, 613
Данилевский Г. П. 413
Данилевский Н. Я. 3, 10, 32, 33, 41, 45, 56,
59,69,70,76,79,80,86,99, 101,
106, 107, 109, 116, 118-124, 137,
162-164, 168, 169, 171, 173,204,
211, 225, 231, 232, 234, 236-238,
244, 254, 283, 285, 293, 299, 307,
309, 316, 317, 348, 352, 357, 360,
367, 389-418, 421, 422, 450, 459,
466, 467, 475-478, 482^86, 488-
492, 494, 496^199, 501, 502, 504,
505, 507, 509, 518, 520, 521, 526,
537, 541, 542, 556, 562, 565, 582-
586, 588-590, 592-596, 598-605,
607,608,612,613
642
Дарвин Ч. Р. 10, 13,21,46,80,96, 101, 104,
107, 109, 113-124, 126, 147, 164,
171, 172, 182, 183, 199,231,236,
238-240, 263, 390, 391, 406-418,
421, 463, 465, 475, 482, 483, 502,
543, 565, 584, 598-604, 606-608
Де-Пуле М. Ф. 422
Декарт Р. 74, 156, 157,183
ДеляновИ.Д. 562
Державин Г. Р. 280
Дмитриев А. П. 558
Добролюбовы. А. 10, 13, 14,43, 131, 149,
175, 188, 192, 193, 198,201,202,
209, 214, 215, 262, 296, 301, 318,
320, 346, 459,467, 563, 575
ДолгомостьевИ. Г. 387, 578, 581
Долинин А. С. 52, 146, 228, 337, 366, 386
Доре Г. 585
Достоевская А. Г. 341, 362, 363, 367, 371,
372, 379, 380, 382, 386, 584-587,
592, 594, 596
Достоевская Л. Ф. 592
Достоевский М. М. 11, 22-24, 28, 29, 33,
47, 71, 101, 105, 106, 126, 129, 133,
189, 195, 198, 219, 220, 295, 299,
310, 313, 325-328, 333, 335, 338,
387, 403, 509, 574, 575, 577, 578
Достоевский Ф. М. 3-5, 11, 13-15,22-
25, 27-33, 36-38, 43, 47, 50, 52,
56, 65-67, 69, 71-73, 76-79, 81,
83-85,87,88, 101, 105, 106, ПО,
111, 125, 126, 128, 129, 133-137,
139-143, 145, 146, 148, 149, 151,
152, 182, 189, 190, 195, 198,202-
205,214, 218-221, 223, 224, 228,
229, 240, 246, 248, 266, 272, 280-
282, 291, 293, 295, 298, 299, 301,
302, 306-310, 312-317, 321-388,
392, 393, 396-399, 401-405, 419,
430, 441, 446-448, 456, 465, 466,
470, 472, 473, 486, 490, 493, 494,
504, 507-509, 516, 519, 523, 526,
529, 530, 540, 541, 548, 561-563,
566,574-587, 590, 592-594, 596,
597
имен
Достоевский Ф. Ф. 592
ДресслерИ. Г. 177
Дружинин А. В. 315, 431
ДудышкинС.С. 30, 134, 579-581
Дурылин С. Н. 275, 301, 530-532, 555, 559
Дю-Лу (Дю Лю, Дюлу) 372, 373
Егоров Б. Ф. 312-314
Елисеев Г. 3. 193, 198, 209, 350
ЕльцоваК.М. 501
Ефрем Сирин, св. 258
Ефрон И. А. 427
Загуляев М. А. 377
Зайцев В. А. 10,13,193,422
Засулич В. И. 205,456, 590
Захаров В. Н. 84, 281, 338, 365, 378, 493
Зедергольм К. К. см. Климент, иером.
Зельдович М. Г. 96, 129, 146
ЗельмановМ. Г. (псевд. М. Южный) 612
Зеньковский В. В. 174, 307, 566
Иванов А. А. 88
Иванов В. И. 469
Иванова С. А. 81
ИваскЮ. П. 302,303,511
Игнатий (в миру Д. А. Брянчанинов), еп.
250
Игнатьев Н. П. 243
Измайлов А. А. 377
Ильин Н. П. (псевд. Н. Мальчевский) 169,
175,178,566,567
Иоанн Скивский, архим. 13,16,18, 53,262,
310,572
ИпатоваС. А. 34
Исаак Сирин (Ниневийский), св. 271
К. Р. см. Константин Константинович, вел.
кн.
Кавелин К. Д. 156, 197
Калиновский Д. И. 574
Кальвин Ж. 503
Камень-Виногоров см. Вейнберг П. И.
Кант И. 74, 156, 161, 184, 235, 579, 589
Кантемир А. Д. 109
643
Капнист П. А. 544
КарамзинН.М. 14,92, 140, 141, 198,204,
247,287,351,360,568,583
КаринскийМ.И. 562, 591
Карпов В. Н. 160, 161
Катков М. Н. 22, 25-28, 30-32, 37, 40, 45,
98, 101, 126, 135, 136, 156, 157, 164,
168, 194-196, 232, 245, 289, 300,
307, 325, 328-330, 332-335, 347,
348, 361-364, 396, 437, 476, 488,
562, 563, 574-576, 581, 585-588,
590,604
Каткова В. М. 586
Кашина-Евреинова А. А. 376
Кашина Н. К. 88
Кашпирёв В. В. 9, 32, 33, 36, 37, 85, 136,
143, 348, 350, 398, 422, 425, 429,
510,582-584,587,588
КашпирёваС.С. 36, 371
КенигЛ.Е. 579
Кибальник С. А. 350
Киреев А. А. 420, 474, 477, 499, 562, 591,
597, 598, 609
Киреевский И. В. 232, 240, 313, 399
Киреевский П. В. 240
Кирпотин В. Я. 11, 349, 350, 529, 530
Клей Г. 328, 575
Клеопатра, царица 331, 379
Климент, монах см. Леонтьев К. Н.
Климент (в миру К. К. Зедергольм), иером.
264,518,546
Клюшников В. П. 32, 583
Ковалевская С. В. 211
Ковалевский П. М. 106
Козлов А. А. 268
Козырев А. П. 504
КокШ.П.,де 13
КольцовА. В. 286
Константин Константинович (псевд. К. Р.),
вел. кн. 91, 92, 150, 151, 460, 562,
601,602,605,606,611,612
Конт О. 499
Конфуций 284
КоперникН. 116, 119
КорейшаИ.Я. 298
имен
Корнилов И. П. 360
Коровин В. И. 17
Корольков А. А. 503, 504
Корсини Е. И. см. Висковатова Е. И.
КорсиниН.И. 376
Косичкин Ф. см. Пушкин А. С.
Котельников В. А. 504
Котов А. Э. 244
Котов П. Л. 301
КотрелевН.В.466, 501
Кохановская Н. см. Соханская Н. С.
Краевский А. А. 30-32, 134-136, 563, 580,
581
Кранихфельд В. П. 444, 498
Крапоткин П. А. см. Кропоткин П. А.
Крейцер Р. 370, 481, 482, 589, 609
Крестовский В. В. 386, 387, 574, 578
Кристи И. И. 107,500
Кропоткин П. А. 201
Крупенков А. Н. 12
Кузен В. 580
Кузминская Т. А. 424, 429, 455
Кузминские 432, 589
Куинджи А. И. 534, 593, 594
КурочкинН.С.31,218,297
Кусков П. А. 442
КуторгаС.С. 19
Кутузов А. А. см. Голенищев-Кутузов А. А.
Кутузов М. И. (наст. фам. Голенищев-
Кутузов) 320, 424
Кушелев-Безбородко Г. А. 402
Кювье Ж. 117
Лавров П. Л. 10, 161, 167,574
Лазаревский Б. А. 378
Лазари А., де 326
Лазурский В. Ф. 17,177,258,261,269,276,
428, 440, 452, 459
Ламанский В. И. 32, 33, 59, 136, 393, 477,
584,599
Ламанский Е. И. 59
ЛангеФ.А.29,564,595
Лаплас П.-С. 101
Лев XIII, папа римский 505
Левин Д. А. 233
644
Левицкий С. А. 190
Лейбниц Г. В. 111
ЛейкинаВ.Р. 301
Леонтьев К. Н. (в монашестве Климент)
13,45,52,56,67,71,74,81,83,86,
88, 100, 107, 136, 151, 172,204,214,
225, 232, 234, 239, 240, 251-253,
257, 265, 266, 268, 280, 282-284,
293, 302-304, 306, 312, 316, 317,
322, 323, 370, 390, 401, 404, 405,
426, 465, 484, 488, 500, 503-532,
534, 537, 541, 544-556, 558, 559,
562, 567, 582-584,588,602,606,610
Леонтьева Е. П. 71
Леонтьева М. В. 510
Лермонтов М. Ю. 128, 247, 280, 286, 561
ЛесевичВ.В. 605, 606
Лесков Н. С. (псевд. М. Стебницкий) 32,
136, 138, 143,302,426,511,562,
578,581,583
ЛизогубД.А. 208
Липенский И. И. 52
ЛоккД. 581
Ломоносов М. В. 289, 360
Лопатин Л. М. 610
Лосев А. Ф. 175,470
ЛосскийН.О. 109, 179
Лукьянов СМ. 251
Лютер М. 56
Лыкова В. С. 253
Майков А. Н. 20, 32, 64, 67, 125, 129, 144,
149, 185, 218, 310, 323, 325, 327,
352, 357, 358, 360-363, 367, 392,
412, 446, 524, 562, 573, 574, 578,
580, 582, 584-587, 591, 595, 596,
605,610
Майков Л. Н. 36,391
Мак-Мастер Р. Е. 499
Макарий (в миру М. П. Булгаков), митр.
271,592
Макарий (в миру М. И. Сушкин), архим.
266
Макиавелли Н. 490
Маковицкий Д. П. 380, 432,466,467
имен
Максим Исповедник, св. 259
Маликов А. К. 461
Мальтус Е. 114
Мальчевский Н. см. Ильин Н. П.
Мария Александровна, имп. 592
МаркевичБ. М. 116
Марко Вовчок см. Вовчок Марко
Маркс К. ПО
Масарик Т. Г. 349
Матвеев П. А. 263-265,273,451, 589
Матвеевич В. 252, 274
Матченко И. П. 39, 593
Матченко О. Д. (урожд. Самусь) 39, 593,
611
Мей Л. А. 387,578
Мейстер Экхарт (Экгард; наст, имя и фам.
И. Экхарт) 181, 256
Менделеев Д. И. 100, 585, 592
Меньшиков М. О. 60, 212, 213, 460, 461,
562, 563
Мережковский Д. С. 301, 322, 381-383,
556,611
МечёвА. А. 531
Мещерский В. П. 205, 229, 270, 357, 360,
361,465,586
Микулич В. см. Веселитская Л. И.
Миллер О. Ф. 604
Милль Дж. С. 35,40, 80,228,237,239,402,
408, 429
МилюковА. П. (псевд. А. X.) 22, 33, 34,
101, 325,326,385, 398, 399, 574, 582
Минаев Д. Д. 218, 583
Минский Н. М. 374
Михайлов Д. Н. 606,613
Михайлов Д. С. 20, 129, 573
Михайлов М. Л. 329
Михайловский Н. К. 30, 31, 34, 35, 40, 44,
80, 102, 115,147,153,192,199,201,
233, 238, 295, 301, 372, 377, 390,
394, 443, 467, 503, 563, 581, 587
Михеев В. М. 283
Модестов В. И. 52,60,61, 84,238,239,252,
592,604
Молешотт Я. 44, 160, 195
МотовниковаЕ.Н.6,108,178,270,271,568
645
Мультановский П. Я. 613
Муравьев В. Н. 103
Мусоргский М. П. 359
Набоков В. В. 376
Навалихин С. см. Берви-Флеровский В. В.
Надеждин Н. И. 187
Надсон С. Я. 92
Назаревский А. А. 127
Назарьева К. В. 373
Наполеон I Бонапарт, имп. 426
Нафанаил (в миру Н. И. Савченко), архиеп.
12,15, 16,52,53,95,262,571,572
Некрасов Н. А. 18,28,30,31,92, 106, 127,
128, 135, 141, 142, 197,286,298,
306, 323, 341, 361-364, 367, 562,
572,581,583,586,587,589
Нерон, имп. 534
Нестеров М. В. 265
Нечаева В. С. 11
Никанор (в миру А. И. Бровкович), архиеп.
172,268
Никитенко А. В. 426, 562, 577, 578
Николаев Ю. см. Говоруха-Отрок Ю. Н.
Николай I, имп. 202
Никольский Б. В. 18,37,41,49,51,55,56,
58, 62-66, 91, 92, 94, 95, 102, 111,
153, 162, 171, 180, 185, 190,252,
253,260,273,563,585,610
НицшеФ. В. ПО, 111, 190,247,504,508,
520,527,531,534,566
Норов А. С. 422
Нострадамус 283
Ньютон И. 119
Огарев Н. П. 332
Одоевский В. Ф. 127
Олсуфьев А. В. 612
ОльховП.А. 141,270,271,568
Омега см. Трозинер Ф. В.
Опочинин Е. Н. 243, 379, 385
ОрнатскаяТ.И. 386, 387
Островский А. Н. 139,314,430
Остроградский М. В. 577
имен
Пантелеев Л. Ф. 21
Парфений (в миру П. Агеев или Андреев),
игумен 316
Первое П. Д. 540
Первушин Н. В. 50
Перцов П. П. 51, 72, 91, 267,421,488, 542,
556-558
Петерсон К. А. 26, 575
Петр I (Великий), имп. 219, 221, 229, 230,
289, 305, 306
Петрашевский М. В. 362, 392, 584
Пимен (в миру П. Я. Пащенко), иеросхим.
264
Писарев Д. И. 10,43,44, 120, 131, 149,
150, 175, 188, 189, 192, 193, 197,
214, 296, 299, 301, 302, 320, 328,
422,563, 579
Писемские 588
Писемский А. Ф. 32, 54, 394, 575, 588
Платон, философ 250, 579
Победоносцев К. П. 40, 59,60, 91,207,243,
250, 552, 562, 594
Погодин М. П. 213,287,288,297, 309,310,
313,585
Полежаев А. И. 286
Полонский Я. П. 24, 32, 141, 149,217,218,
301, 315, 325, 369, 370, 379, 460,
466, 562, 574, 581, 583, 592, 597,
603, 604, 606
Попов Л. К. (псевд. Эльпе) 601
Посторонний сатирик см. Антонович М. А.
Потапенко И. Н. 610
ПраховА.В. 604
Протопопов М. А. 198, 199,595
Пушкин А. С. (псевд. Феофилакт Косич-
кин) 20, 23, 32, 46, 52, 53, 62, 67,
86, 127, 128, 130, 133, 134, 137-139,
141, 144, 150-153, 189, 192, 196,
216, 218, 222, 223, 240, 247, 280-
282, 286, 288, 294, 299, 306-309,
311, 318, 319, 322, 326, 329-331,
342, 344, 346, 354, 358-360, 364,
366, 380, 423-425, 430, 460, 504,
525, 536, 537, 561, 579, 582, 592,
595,596,598,605,607,612
646
ПыпинА.Н. 140, 198,204,247,351,481
Пятковский А. П. (псевд. Н. Алп.) 297
Радищев А. Н. 286
РадловЭ.Л. 49, 75, 78, 84, 128, 157, 161,
168, 169, 181, 185, 474, 496, 497,
501,519,562
Райков Б. Е. 96
РайновТ.И. 103, 104,109
Рачинский С. А. 273, 391, 415, 420, 454,
501, 527-532, 534, 551-554, 556,
558,559
Редер Г. М. (псевд. Антэй) 373
Резвых Т.Н. 78, 555
РезепинП.П. 13
РезниченкоА.И.488, 555
РенанЖ. Э. 40, 80, 199,228,232-235, 239,
240,268,464,584,610-612
РеньеА.Ф.Ж.,де523
Репин И. Е. 56, 68, 473, 534, 604, 605
Рождествин А. С. (псевд. А. Р.) 268, 464
Розанов В. В. 3, 10, 13,28,41-45,48-51,
53, 56, 61, 62, 64, 67, 70, 71, 75-78,
82, 84-88, 100, 101, 153-156, 169,
179, 193, 214-216, 218, 239-241,
247, 251, 253, 254, 257, 259, 265,
267, 268, 272, 273, 275, 279, 280,
284, 285, 287, 288, 290, 293, 310,
317, 318, 320, 344, 355, 256, 370,
382-384, 391, 415, 416, 420, 421,
441, 451, 452, 455, 459, 463, 469,
486, 487, 489, 490, 492, 497-502,
505, 506, 510, 512-521, 524-563,
566, 567, 605, 607, 608, 610, 611, 614
Розанов Н. В. 544
Розанова В. Д. 87, 275, 276, 543, 544
Розенблюм Л. М. 66, 307, 339, 340, 364,
365, 380
РойеК.А. 114,115
Романов И. Ф. (псевд. Рцы) 52, 87, 88, 530,
553,558
Россиев П. А. 265
Ростопчин А. Ф. 422
Ростопчин Ф. В. 422
РульеК.Ф. 21,95, 126,574
имен
Русанов Б. Г. 614
Рцы см. Романов И. Ф.
Рылеев К. Ф. 286
Рысаков Н. И. 208
Рюккерт Г. 236, 237, 496-499, 612, 613
Савченко Е. И. 572
Савченко И. Т. 571
Савченко Н. И. см. Нафанаил, архим.
Сад Д. А. Ф.,де374
Салтыков-Щедрин М. Е. (наст. фам.
Салтыков, псевд. Н. Щедрин) 28, 31,
44, 151, 153, 154, 192, 198-200,251,
298, 374, 563, 578, 596
Сальери А. 441
Самарин Ю. Ф. 26, 27, 576
Самусь А. Н. (урожд. Страхова) 12, 571,
573, 586
Самусь Д. И. 573,586
Санд Ж. 326
Сапов В. В. 249
Сапожков С. В. 374
Сведенборг (Шведенборг) Э. 258, 298
Свинцов В. 376
СеменовН. П. 393, 408,409, 589, 610
Семенов П. П. (наст. фам. Семенов-Тян-
Шанский) 393
Семирадский Г. И. 534
Сенковский О. И. (псевд. Брамбеус) 328,
333
Сергеенко П. А. 468
Сергей Александрович, вел. кн. 207
Серман И. 3. 66
СизовМ.В. 104, 124
Симеон Новый Богослов, св. 259
Скатов Н.Н. 253
Скивский И. см. Иоанн Скивский, архим.
Скиф см. Соколов Н. М.
Сковорода Г. С. 48, 560
Скопинский А. см. Шевелев А. А.
Скриба см. Соловьев Е. А.
Случевский К. К. 610
Смирнов В. Д. см. Соловьев Е. А.
СнетоваН.В. 96, 107, 108, 116, 178, 249,
366, 367, 567
647
Соколов И. И. 596
Соколов Н. М. (псевд. Скиф) 49
Солженицын А. И. 190
Соловьев Вл. С. (псевд. П. Б. Д.) 3, 10, 35,
40, 44, 46, 52, 56, 65, 67, 68, 75, 78,
84, 88, 108, 123, 143, 151, 169, 176,
183,206,208,231,233 235-238,251,
257, 259, 272, 280; 285, 286, 289,
292, 293, 307, 309, 375, 377, 382,
390, 391, 397, 400, 405, 413, 416,
419, 441, 443, 448, 459, 462, 463,
465, 466, 469-502, 505-507, 516,
517, 520, 532, 547, 555, 556, 561,
562, 565, 581, 586, 588-590, 592,
593, 595, 597-599, 602-609, 611-614
Соловьев Вс. С. 377
Соловьев Е. А. (псевд. Евг. Андреевич,
Скриба и др.) 498
Соловьев М. С. 489, 599, 607
Соловьевы.И. 579
Соловьев СМ. 588
Сорокина Д. Д. 19,20
Соханская Н. С. (псевд. Н. Кохановская)
508
СпасовичВ.Д. 481
Спенсер Г. 13,407
Спиноза Б. 499
Сталин И. В. 283
Станкевич А. В. 349
Старый, псевд. 372
Стасов В. В. 439, 453, 461, 599
Стасюлевич М. М. 438,480-482,489,493,
496, 505, 563, 590, 591, 594, 604,
606, 607
СтахеевД.И. 13, 16, 17,21,51,55,56,59,
60, 67-71, 83,90,249,250,260,264,
265, 273, 276, 442, 473, 544, 555,
562,586,607-610
СтахееваЛ.К. 609, 610
Стебницкий М. см. Лесков Н. С.
СтелловскийФ. Д. 135, 342, 580
Стерлигов А. Ф. 586
Страдомский А. И. 16
Страхов Н. Н. (младший) 170, 253, 613
СтраховН.П. 12,15,52,571
имен
Страхов Павел Н. 12, 386, 571
Страхов Петр Н. 12, 13, 15, 30, 52, 53, 96,
325, 340, 571-573, 577, 578, 586, 587
Страхов Ф. А. 380
Страхова А. Н. см. Самусь А. Н.
СтраховаМ.И. (урожд. Савченко) 12, 52,
571,572
Струве Г. Е. 609
Суворин А. С. 563
Сусанин И. 14
Суслова А. П. 375,376,543
Терновский Ф. А. 580
ТибленН.Л. 21
Тимирязев К. А. 10, 122,238,413,414,448,
465,543,601,603,607-609
ТиммерманМ. П. (псевд. М. Т.) 329, 332
Тихомиров Б. Н. 387, 388
Ткачев П. Н. 10,563
ТоичкинаА.В. 110, 111, 190
Толмачев В. А. 331
Толмачева Е. Э. (урожд. Эверсман) 329,
331,332
Толстая А. А. 266, 267, 436, 440, 450, 462,
468,589,601,609
Толстая С. А. (урожд. Бахметева) 475, 592
Толстая С. А. (урожд. Берс) 5, 48, 50, 380,
424, 428, 431, 432, 455-457, 466,
467, 473, 475, 478, 493, 590, 592,
594, 595, 599, 602-604, 609-613
Толстой А. К. 475, 580,592
Толстой Д. А. 592
Толстой И. Н. 315
Толстой Л. Н. 3, 5, 10, 11, 15, 17,32,33,
36-40, 42, 46-50, 53, 54, 56, 58, 59,
61, 69-76, 78-80, 84, 87, 89, 91,
100, 106, 109, 113, 125, 126, 133,
134, 137-140, 142, 144, 147-150,
152, 169, 170, 176, 180-183, 188,
197, 200, 201, 204-211, 215-218,
233, 236, 243, 250, 254-259, 261,
263-275, 280, 282-285, 293, 299,
300, 309, 311, 316-323, 340, 347,
349, 351, 352, 354-360, 362, 363,
365-370, 375, 377, 378, 380-384,
648
389, 396-401, 405^08, 412, 419-
468, 470, 472-475, 478, 480^182,
488, 492, 493, 495, 496, 498, 501,
502,504,506,512,513,515,519,
523, 526, 530, 534, 537, 544, 545,
549, 551, 552, 554, 555, 561-567,
580, 582-604, 608-614
Торквемада Т., де 503
ТреповФ.Ф. 205, 590
Трозинер Ф. В. (псевд. Омега) 372
Троицкий М.М. 80, 588
Трубецкой Е. Н. 469
Трубецкой С. Н. 469
Трубникова Н. Н. 151
Туниманов В. А. 366
Тур, домовладелец 582
Тургенев И. С. 39,46,72, 126,133,134,138,
144, 147, 148, 152, 187-189, 200,
201, 204, 205, 218, 235, 255, 268,
328, 329, 368, 369, 372-375, 378,
384, 385, 392, 425, 427, 428, 431,
454, 475, 575, 580, 581, 585, 587,
593,596,597,600,601,613
Тэн И. 29, 116, 228, 234, 235,239, 564, 584,
611
Тютчев Ф. И. 213, 217, 218, 240, 241, 280,
290,430,578,580,601
Уайльд О. 523
Уваров С. С. 283
УльрициГ. 100
УманецС. И. 52, 57-60, 64, 84, 87, 250
Урусов С. С. 468
Устьинский А. П., протоиерей 284
Ухтомский Э. Э. 251
УшинскийК.Д. 597,612
Фаминцын А. С. 413, 607
ФаресовА. И. 373
Фатеев В. А. 325,515, 555
Федоров Д. А. 558
Федоров Н.Ф. 103, ПО, 172,462
Федорова Е. А. 379
Фейербах Л. ПО, 160, 188, 227, 232, 239,
246, 578
имен
Феодор (в миру А. М. Бухарев), архим.
297,313
Феоктистов Е. М. 443, 562, 604
Ферми Э. 104
Фет А. А. 33, 34, 48, 56, 63, 69-71, 78, 83,
88-92, 149-151, 182, 192,217,218,
253, 254, 256, 257, 260, 266, 279,
285, 293, 315, 369, 370, 379, 403,
411, 420, 432, 433, 438, 440, 441,
443, 450, 453, 454, 459, 460, 474-
477, 479-481, 519, 520, 562, 582,
585,588-607,610-612
Фет-Шеншина М. П. 612
ФетисенкоО. Л. 504, 521, 529, 530
Фидлер Ф. Ф. 48, 49
Филиппов Т. И. 282, 552,591,611
Философов Д. В. 3, 50, 324, 381, 383, 384
Фихте И. Г. 74, 161
Фишер К. 21, 29, 116, 156, 160, 564, 580
Флексер X. Л. см. Волынский А. Л.
Флоренский П. А. 10, 179, 252, 469, 535,
557
ФлоровскийГ. В. 528, 566
Фогт К. 160
Фома Кемпийский 249
Фонвизин Д. И. 247
Фонтенель ле Бовье Б., де 101
Фотий I, св. 599
ФохтК. 121, 195
Франк С. Л. 495,
Фрейд 3. 376
Фудель И. И. 404, 405, 504, 522
Фурье Ф.М.Ш. 18, 110,392,393
ХалибеусГ. М. 156
Хитрово С. П. 598
ХодневА.И. 579
Хомяков А. С. 160, 161,232,240,241,247,
280, 399, 585
Ценковский Л. С. 20, 573
ЦееМ.В. 580
Целлер Э. 585
Цертелев Д. Н. 292, 480, 494, 590, 591, 598,
601,603,604,609
649
ЦеэВ.А. 575
ЦимбаевН.И. 567
Циолковский К. Э. 103, 104, 109, ПО
Чаадаев П. Я. 246,486,506
Чаев Н. А. 588
Чернышевский Н. Г. 10, 13, 14,43,96, 106,
129, 131, 133, 146, 151, 167, 168,
173-175, 187-189, 192-194, 197,
198, 201, 202, 209, 214, 220, 251,
262, 282, 286, 290, 291, 301, 318,
320, 328, 330, 332, 563, 573
Чертков В. Г. 275, 420, 461, 462, 465, 467,
614
Чехов А. П. 378
Чиж В. Ф. 376
Чижевский Д. И. 110, 111, 161, 190,294,
443, 566
Чичерин Б. Н. 431
Шварцман Л. И. см. Шестов Л.
Шведенборг Э. см. Сведенборг Э.
Швейцер А. ПО
Шевелев А. А. (псевд. А. Скопинский) 149,
150, 155,156,414,415
ШевыревС.П.297,313
ШекспирУ 301,458
ШелгуновН.В. 103,251,281,309
Шеллер-Михайлов А. К. (псевд. Михайлов,
наст. фам. Шеллер) 373
ШеллингФ. В. Й. 74, ПО, 179, 304, 390,
499,517
Шеншина М. П. см. Фет-Шеншина М. П.
Шестов Л. (наст, имя и фам. Л. И.
Шварцман) 381
Шиховский И. О. 19,573
Шкловский И. С. 104, 105, 108
ШмурлоЕ.Ф.251,266,443
Шопенгауэр А. 74, 237, 253, 254, 256, 257,
284, 433, 450, 472, 474, 590, 591,
594,598,600,610
Шохор-Троцкий К. С. 440
ШперкФ.Э. 76, 77, 275, 502, 613, 614
Штакеншнейдер Е. А. 28, 29
Штраус Д. Ф. 228, 239, 240, 268, 464
имен
ШубинскийС.Н.265,273
ШюблерЮ.К.606
Щебальский П. К. 32, 398, 426
Щеглов Д. Ф. 608
Щедрин Н. см. Салтыков-Щедрин М. Е.
Щербакова М. И. 16, 17, 19,429
Щербинин М. П. 576
Эверсман Е. Э. см. Толмачева Е. Э.
ЭдельсонЕ.Н. 37, 101, 132, 133,574,581
Экхарт (Экгард) И. см. Мейстер Экхарт
Эльпе см. Попов Л. К.
ЭнгельгардтН. А. 147
Эмзе см. Юльченко М. Ф.
ЭрнВ.Ф.48, 560
Ювеналий (в миру И. А. Половцев), ар-
хим. 589
Южный М. см. Зельманов М. Г.
Юльченко М. Ф. (псевд. Эмзе) 441
ЮркевичП. Д. 44, 194, 197, 205, 579
Ядринцев Н. М. 387
Ясинский И. И.372-374, 378
Danilevsky N. см. Данилевский Н. Я.
Gerstein L. см. Герстайн Л.
Hegel Н. см. Гегель Г. В. Ф.
Mazade Ch., de 27
McMaster R. E. см. Мак-Мастер Р. Е.
Ruckert H. см. Рюккерт Г.
Tschizewskij D. см. Чижевский Д. И.
650
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора 3
Часть I. Жизнь и творчество Н. Н. Страхова
Глава 1. «Против течения плыть всегда трудно» 9
Глава 2. Личность, характер и быт 51
Глава 3. Наука в биографии и трудах Страхова 93
Глава 4. Страхов как литературный критик 125
Глава 5. Органическая философия понимания, или «Всепонимающий философ» ... 155
Глава 6. Борьба с нигилизмом и «просвещенством» 187
Глава 7. Россия и Запад — взгляд «почвенника» 219
Глава 8. «Стыдливая» религиозность Страхова 249
Часть II. «Избранный собеседник избранных умов»
Глава 9. Трезвый среди пророчествующих, или Всегда ли 2x2=4? 279
Глава 10. Два Дон Кихота русской критики (Страхов и Аполлон Григорьев) 295
Глава 11. Друзья «с заминкой» (Страхов и Ф. М. Достоевский) 321
Глава 12. «Не могу о нем вспоминать без умиления...»
(Страхов и Н. Я. Данилевский) 389
Глава 13. Коленопреклоненная дружба (Страхов и Л. Н. Толстой) 419
Глава 14. От дружеского общения к идейному противостоянию
(Страхов и Вл. С. Соловьев) 469
Глава 15. «На 2/3 единомышленники»? (Страхов и К. Н. Леонтьев) 503
Глава 16. «Вечный педагог» и самовольный, но благодарный ученик
(Страхов и В. В. Розанов) 533
Глава 17. Место Страхова в истории русской культуры 561
Приложение
Н. Н. Страхов. 1828-1896. Биографическая канва 571
Литература о Н. Н. Страхове. 1860-1917 615
Список сокращений 636
Указатель имен 640
Научное издание
Валерий Александрович Фатеев
Н. Н. СТРАХОВ:
ЛИЧНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. ЭПОХА
Монография
Директор издательства Е. И. Гончарова
Редактор А. С. Лобанова
Корректор В. М. Гончар
Оригинал-макет И. И. Фокин
Подписано в печать 13.02.2021 г.
Формат 70x100/16
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 403Л
Печать офсетная. Бумага офсетная.
Тираж 300 экз. Заказ № 1051.
iunmim
iiinmiiiiinmni
НЕЗАВИСИМЫЙ
АЛЬЯНС
Издательство «Пушкинский Дом»
199034 Санкт-Петербург,
Средний пр. Васильевского острова, д. 86, литера А
Тел.(901)315 49 11
www.pushkindom.ru
e-mail: pushkindom2008@yandex.ru
Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии
ООО «ИПК „Береста"»
196084 Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28