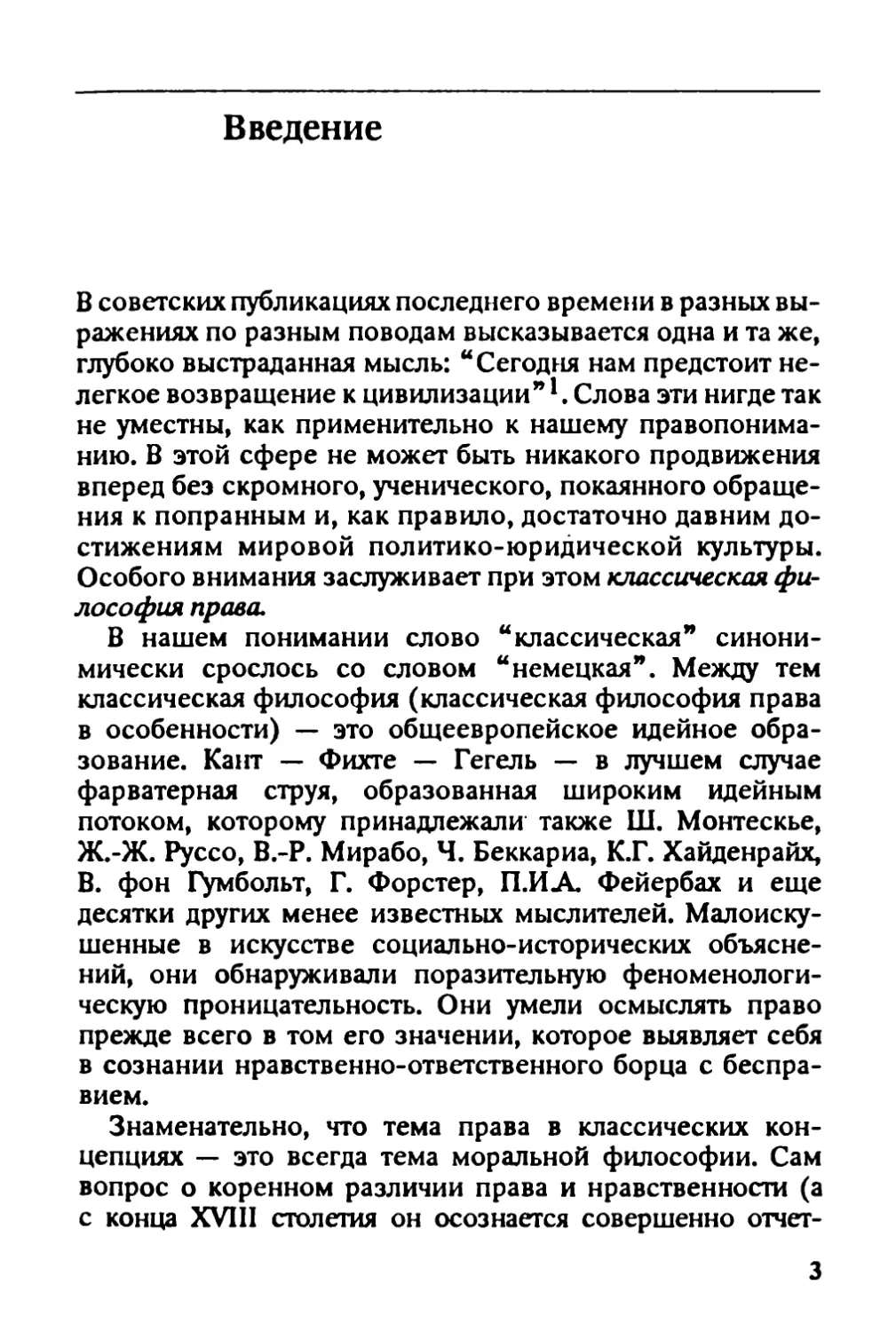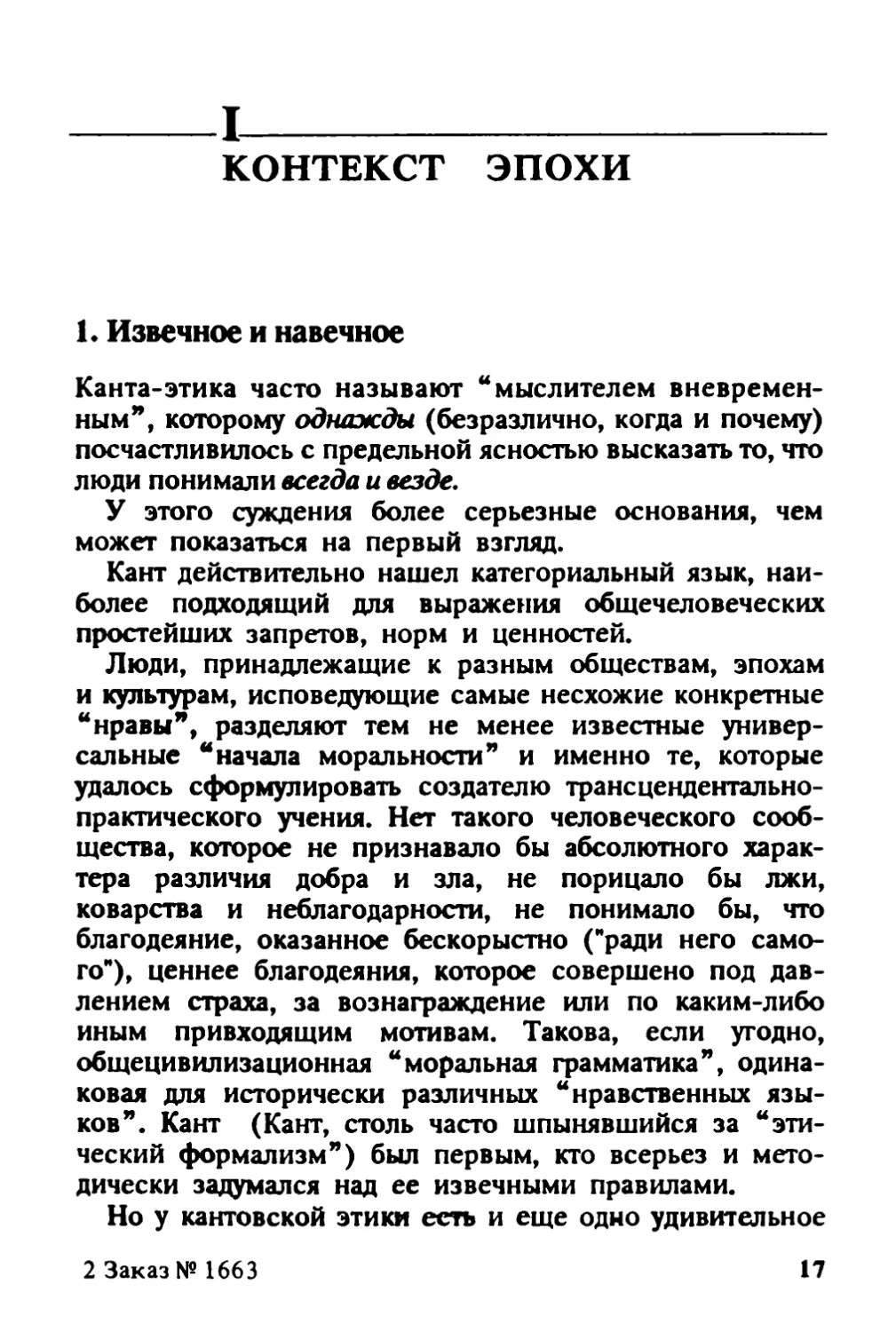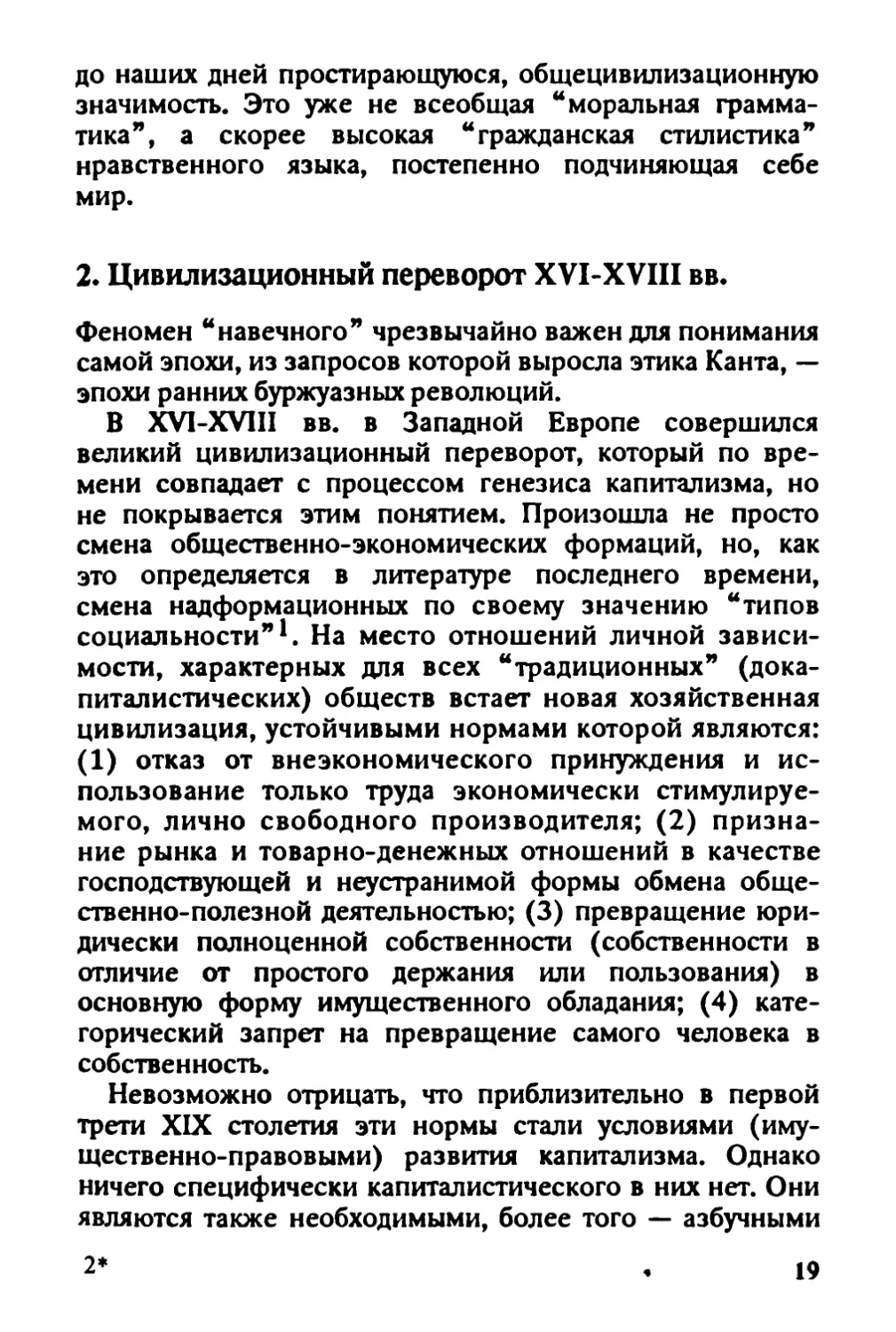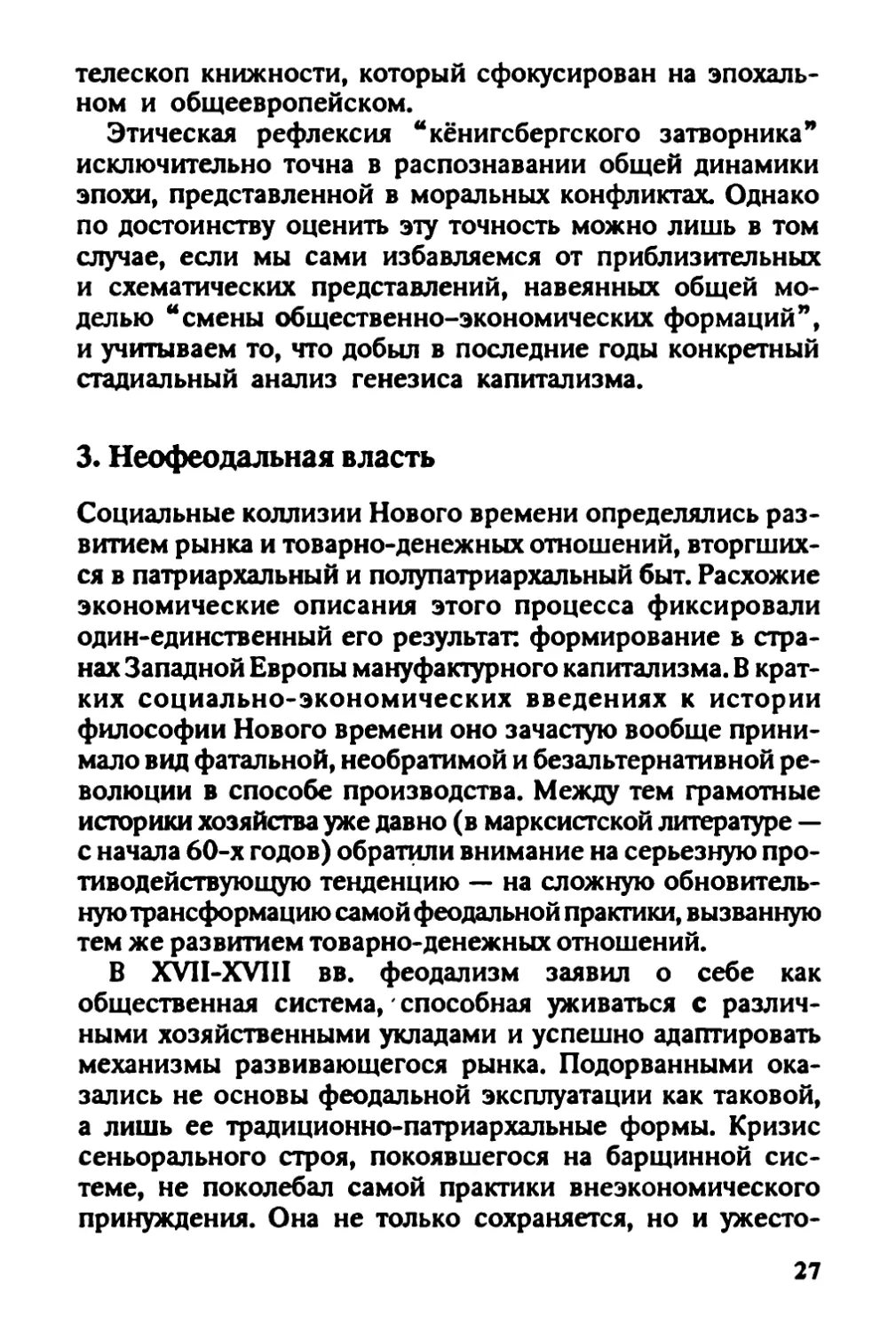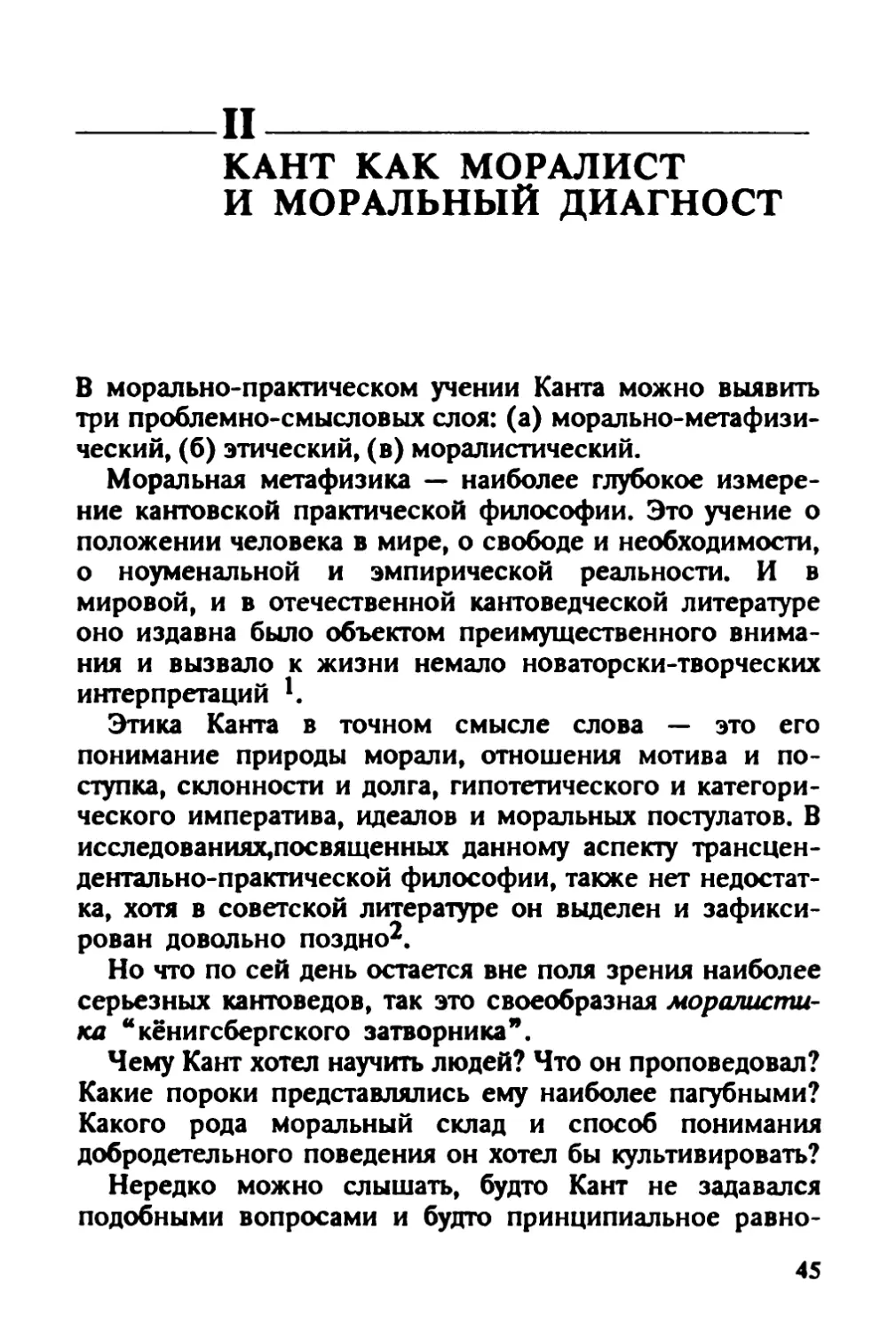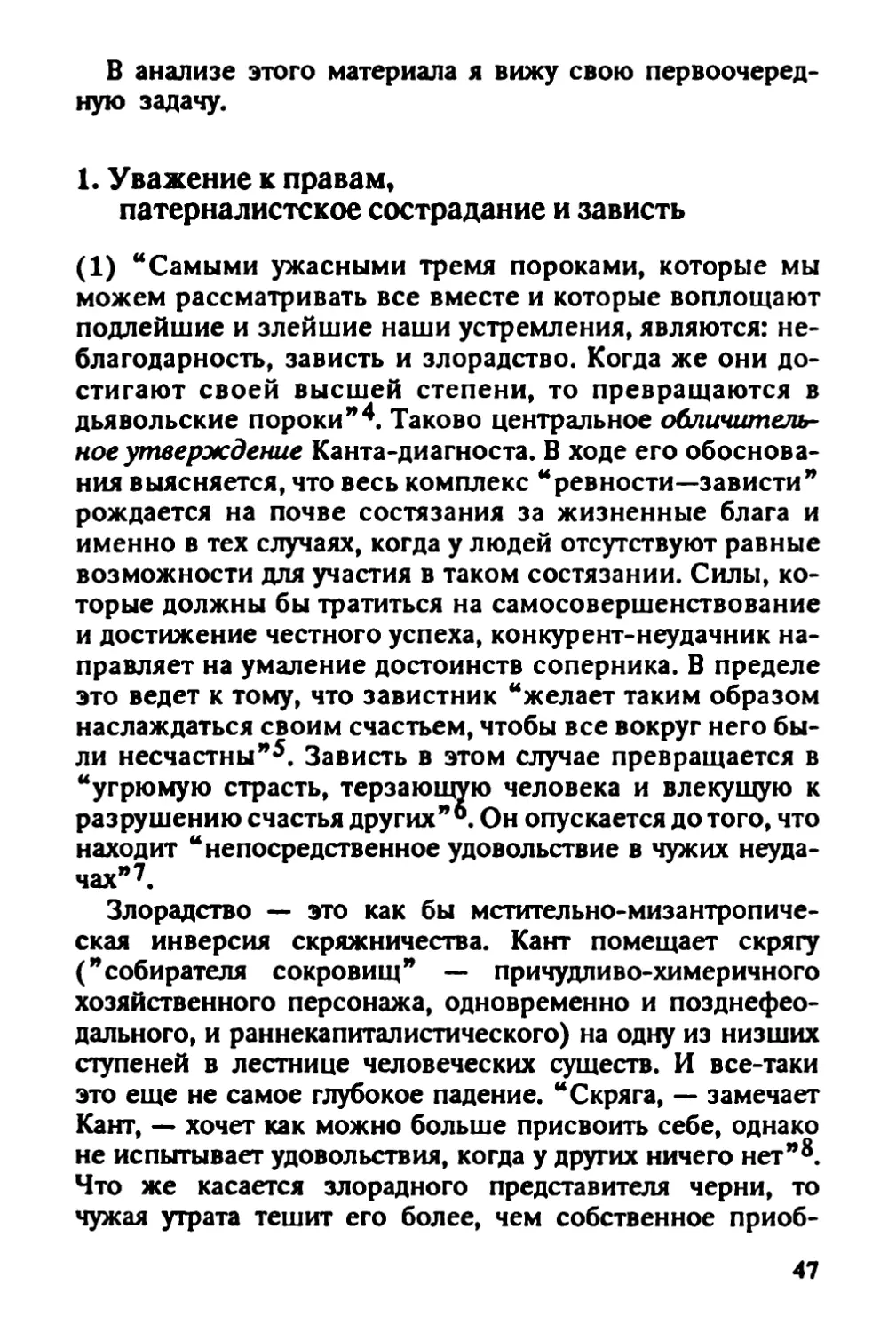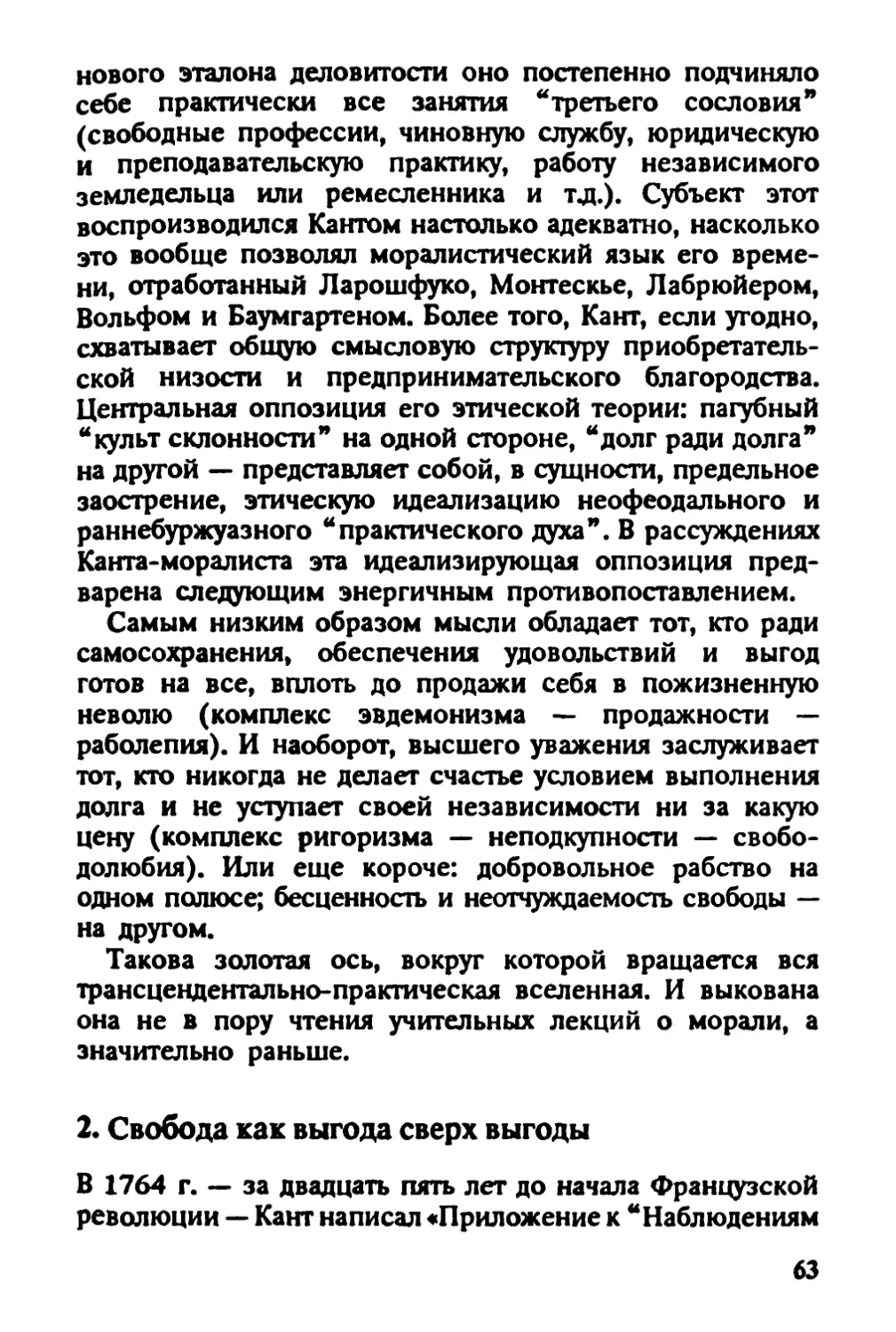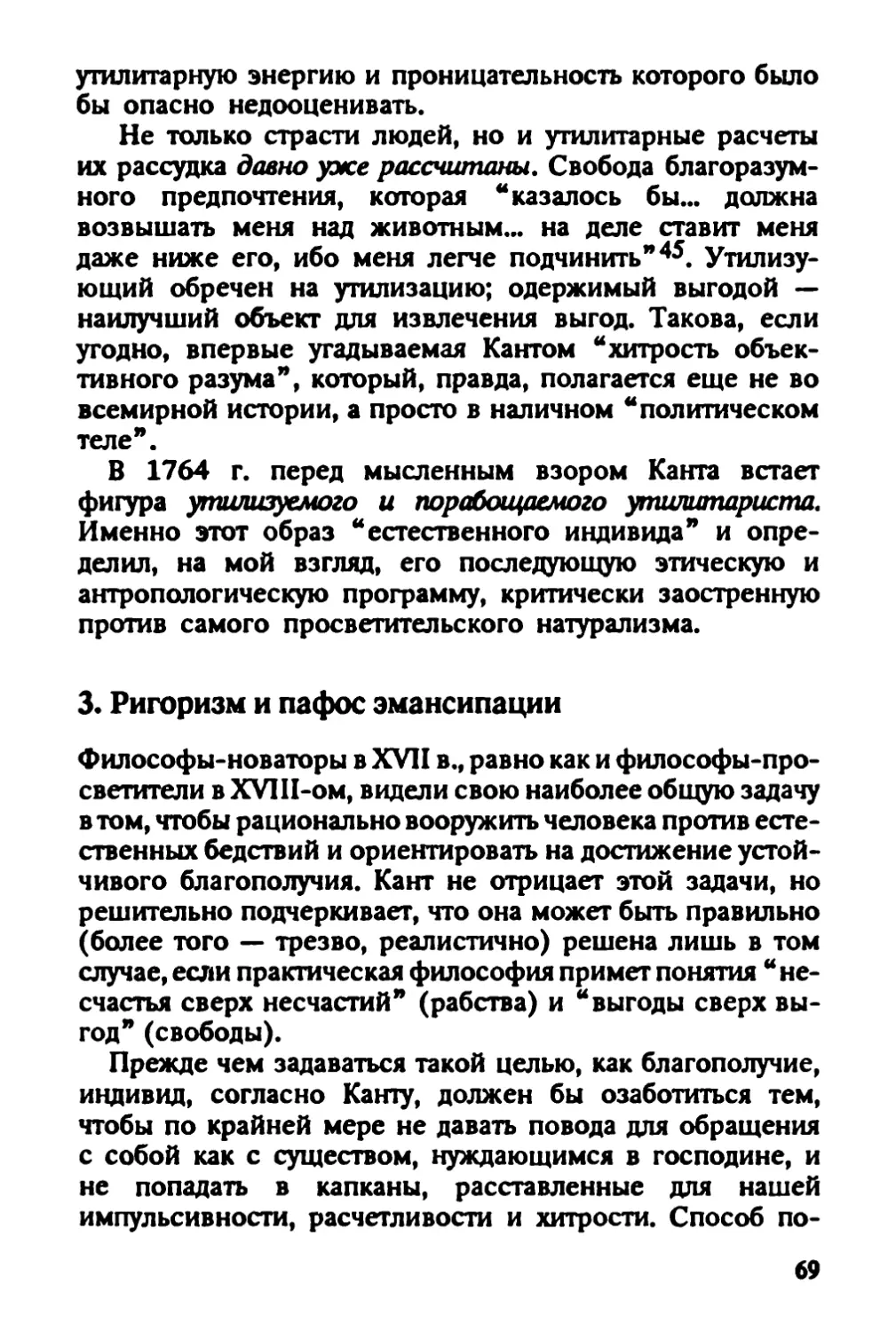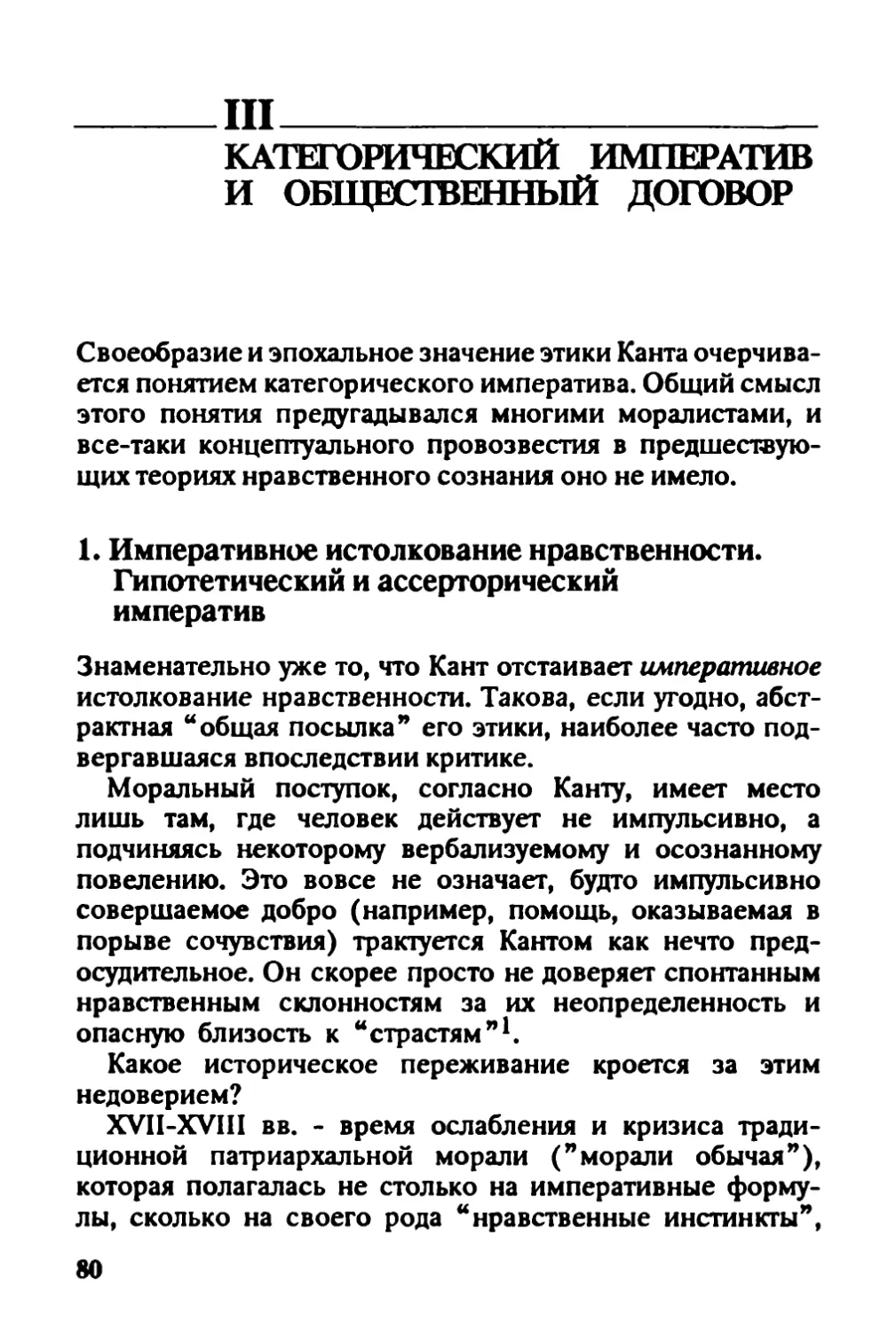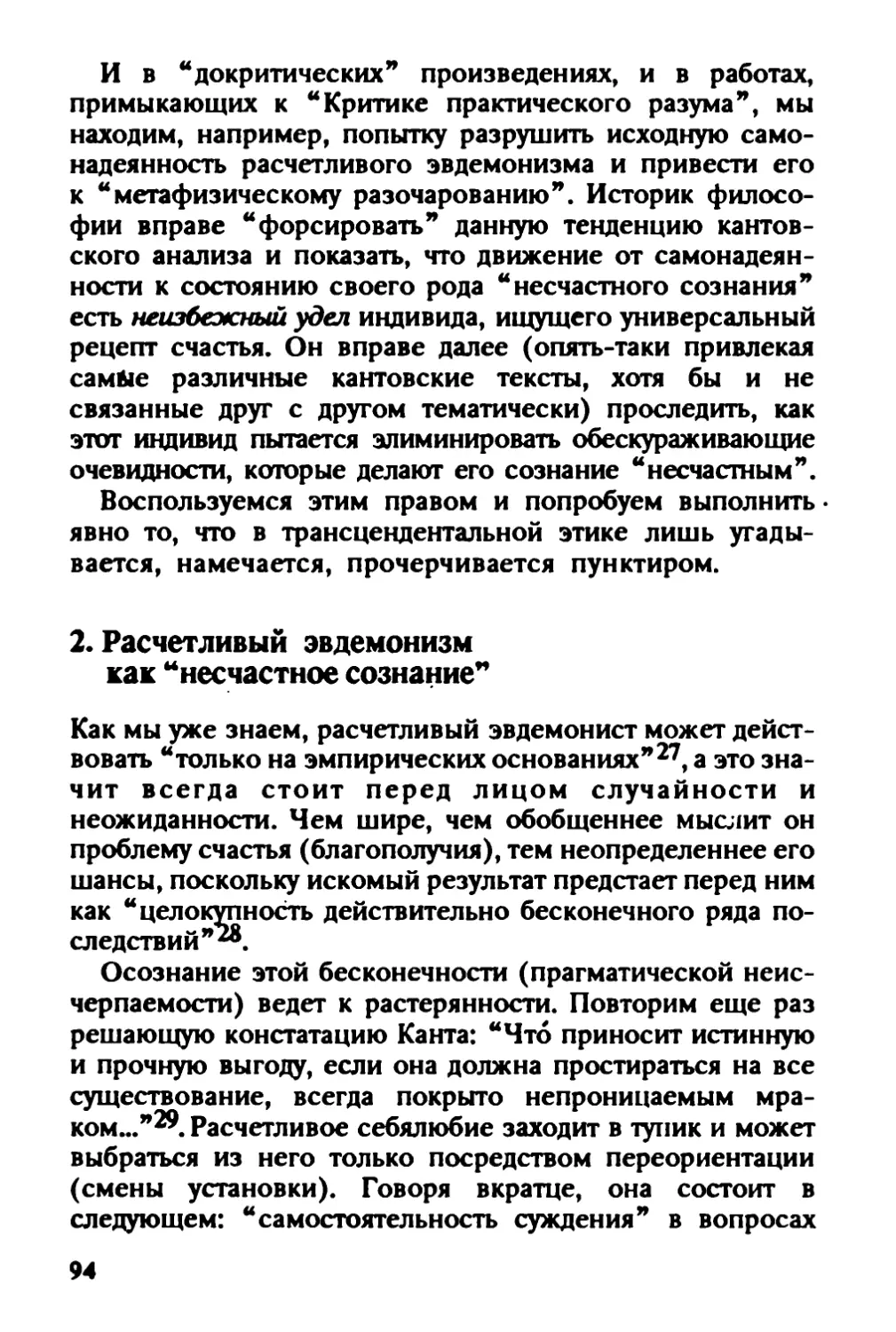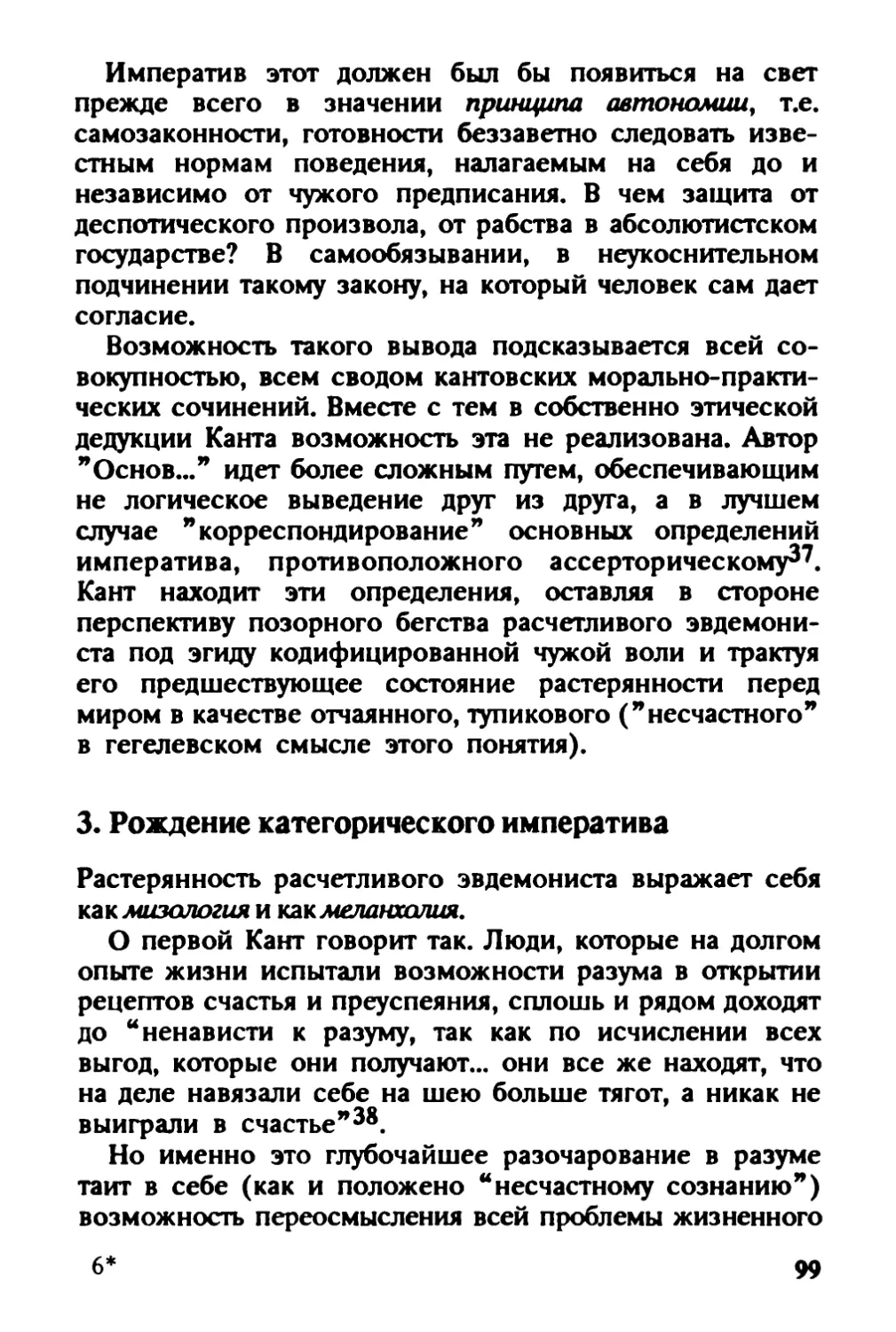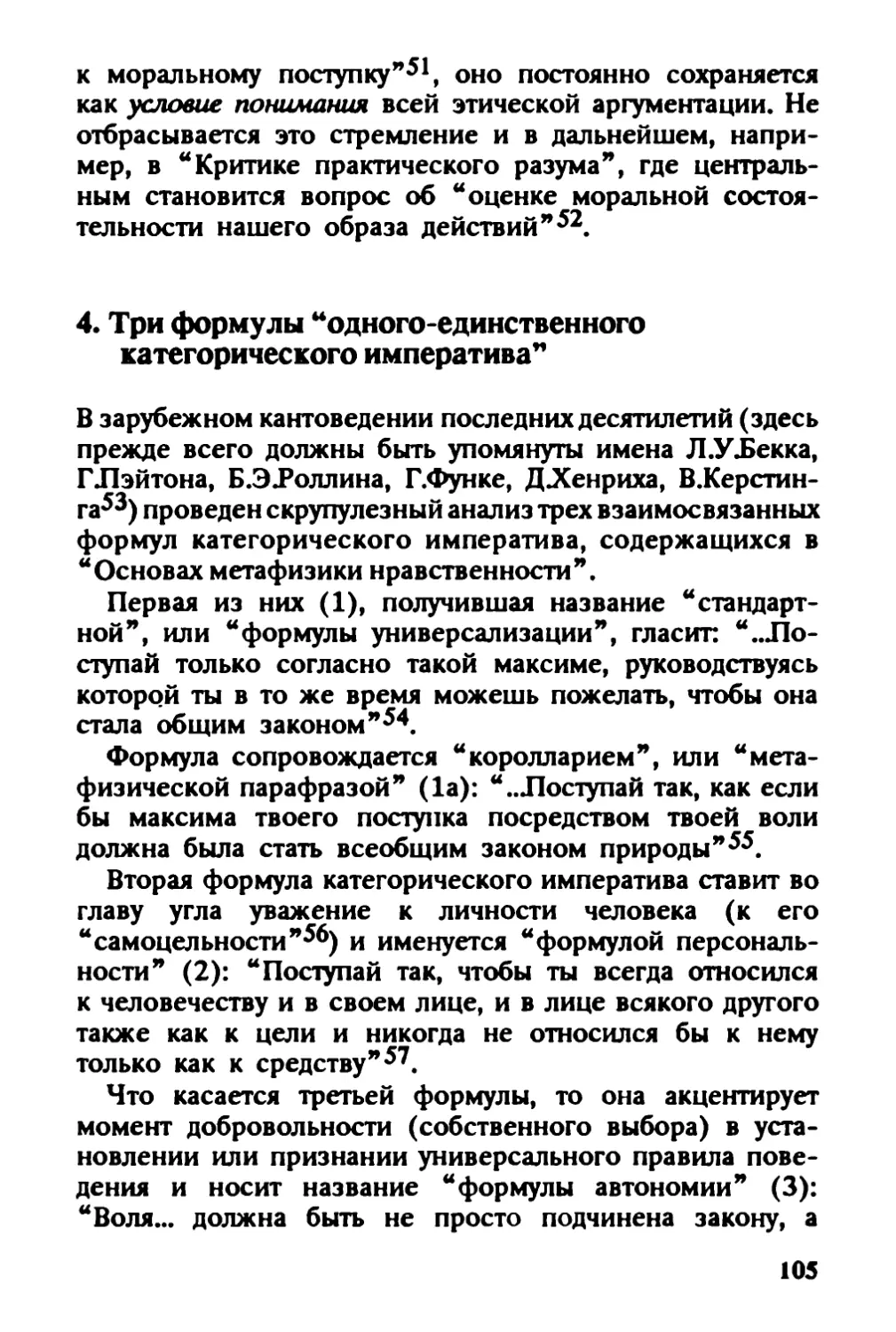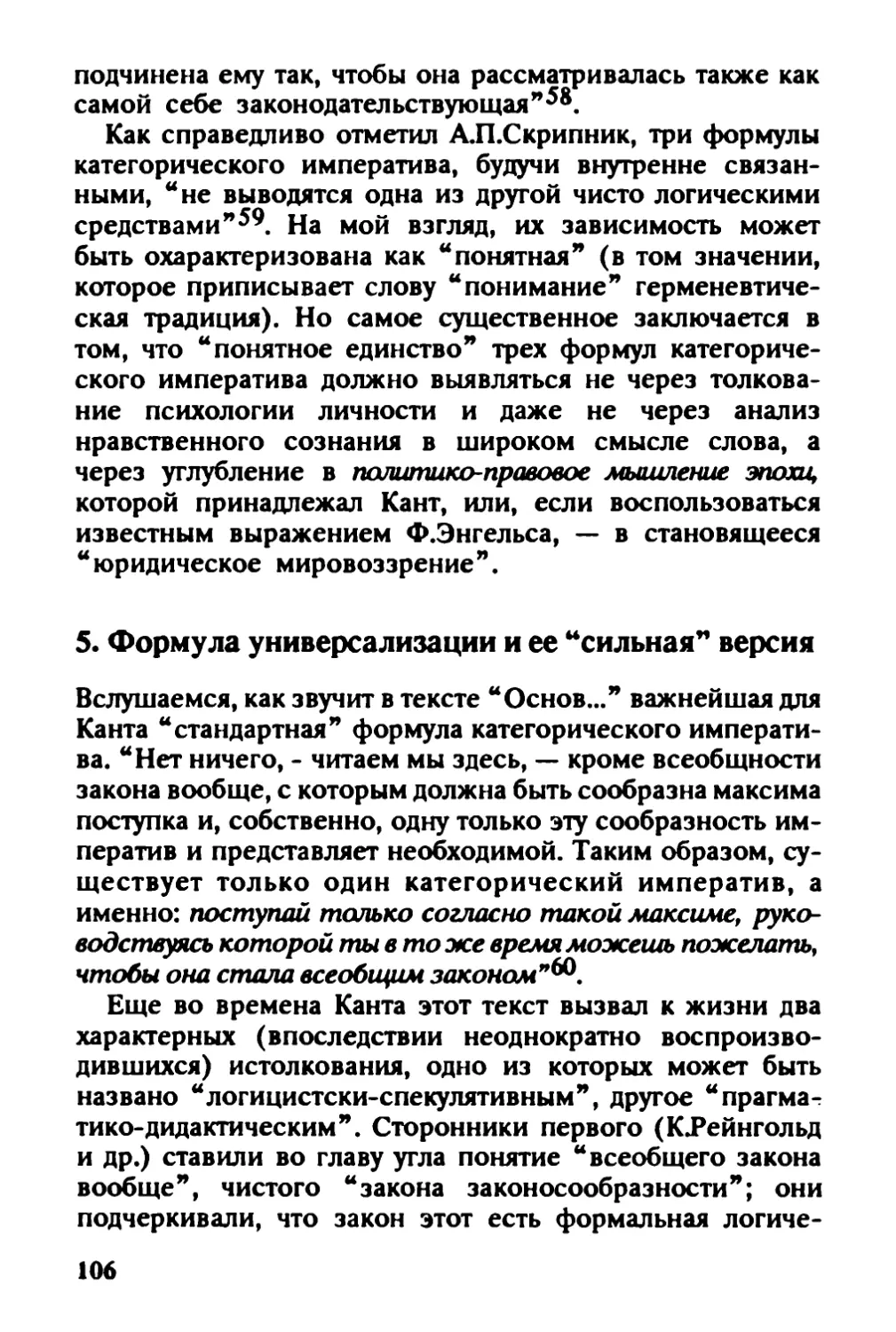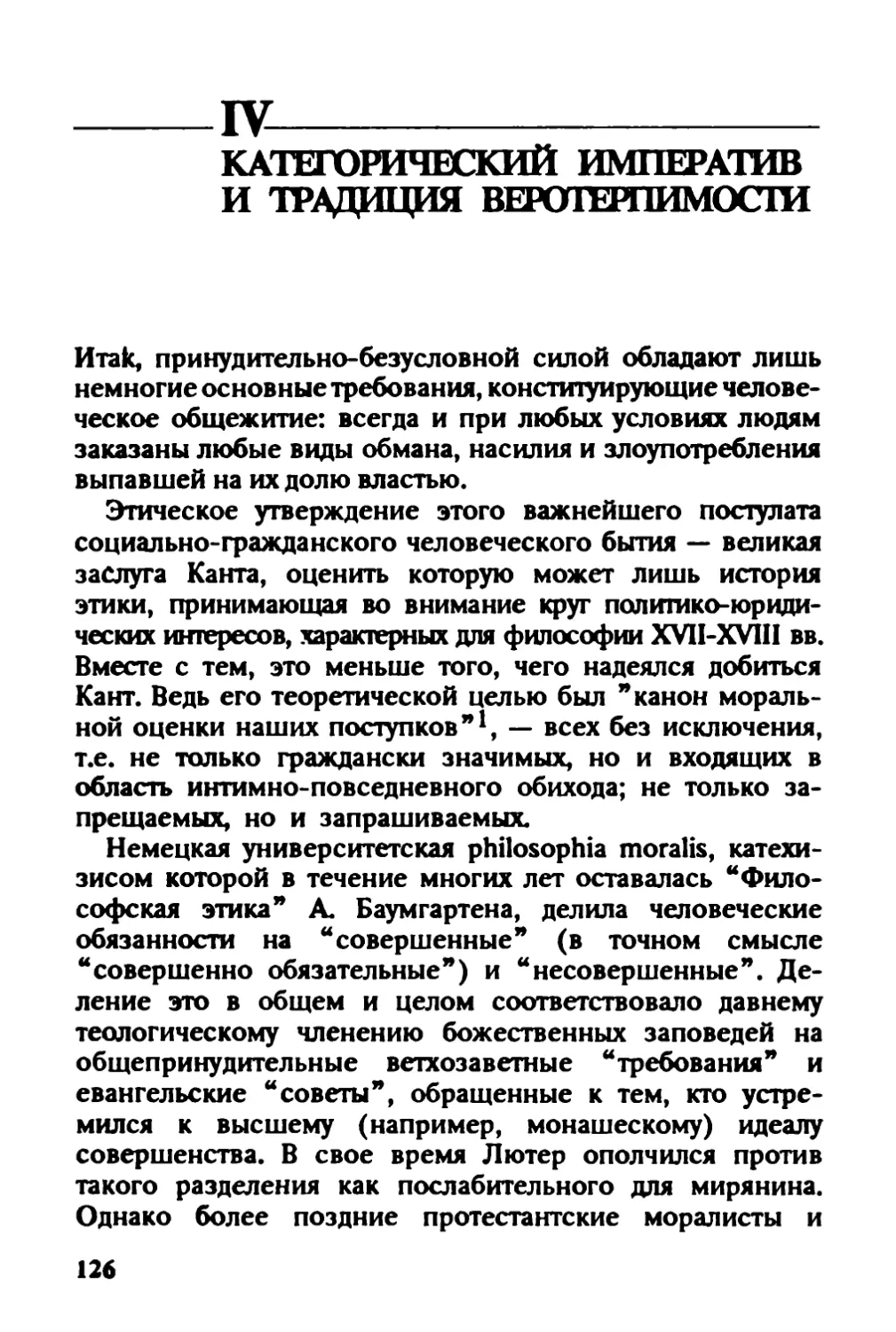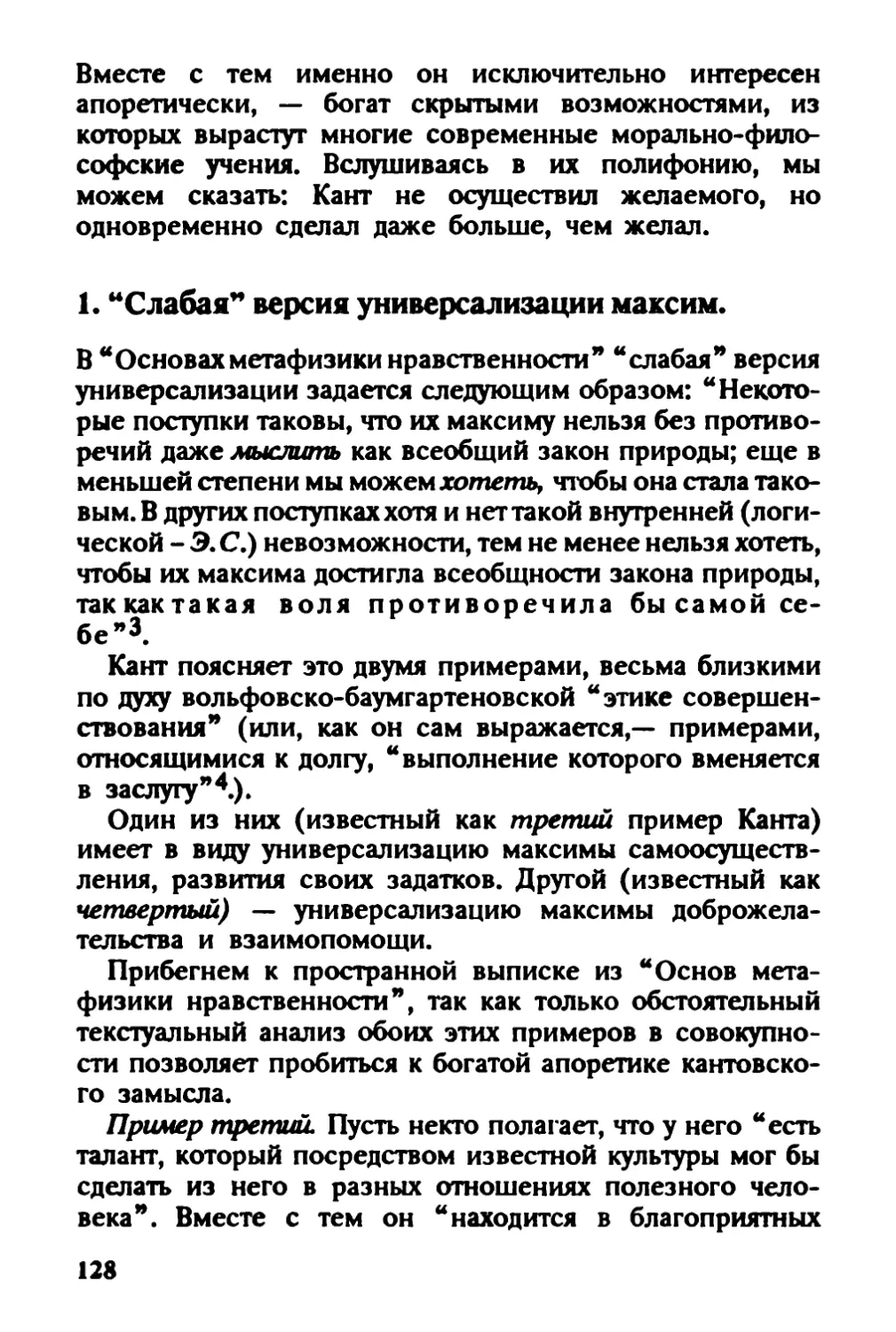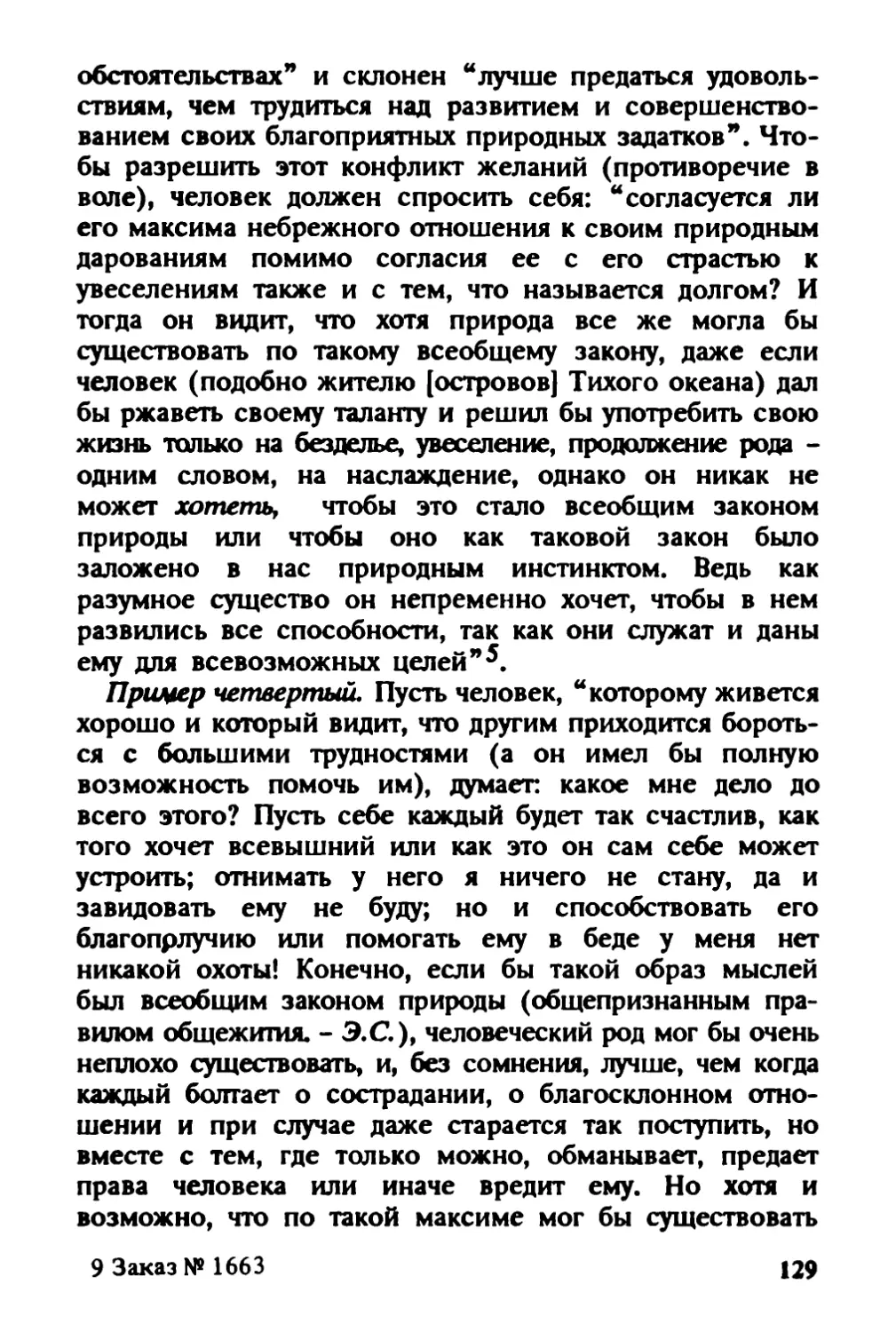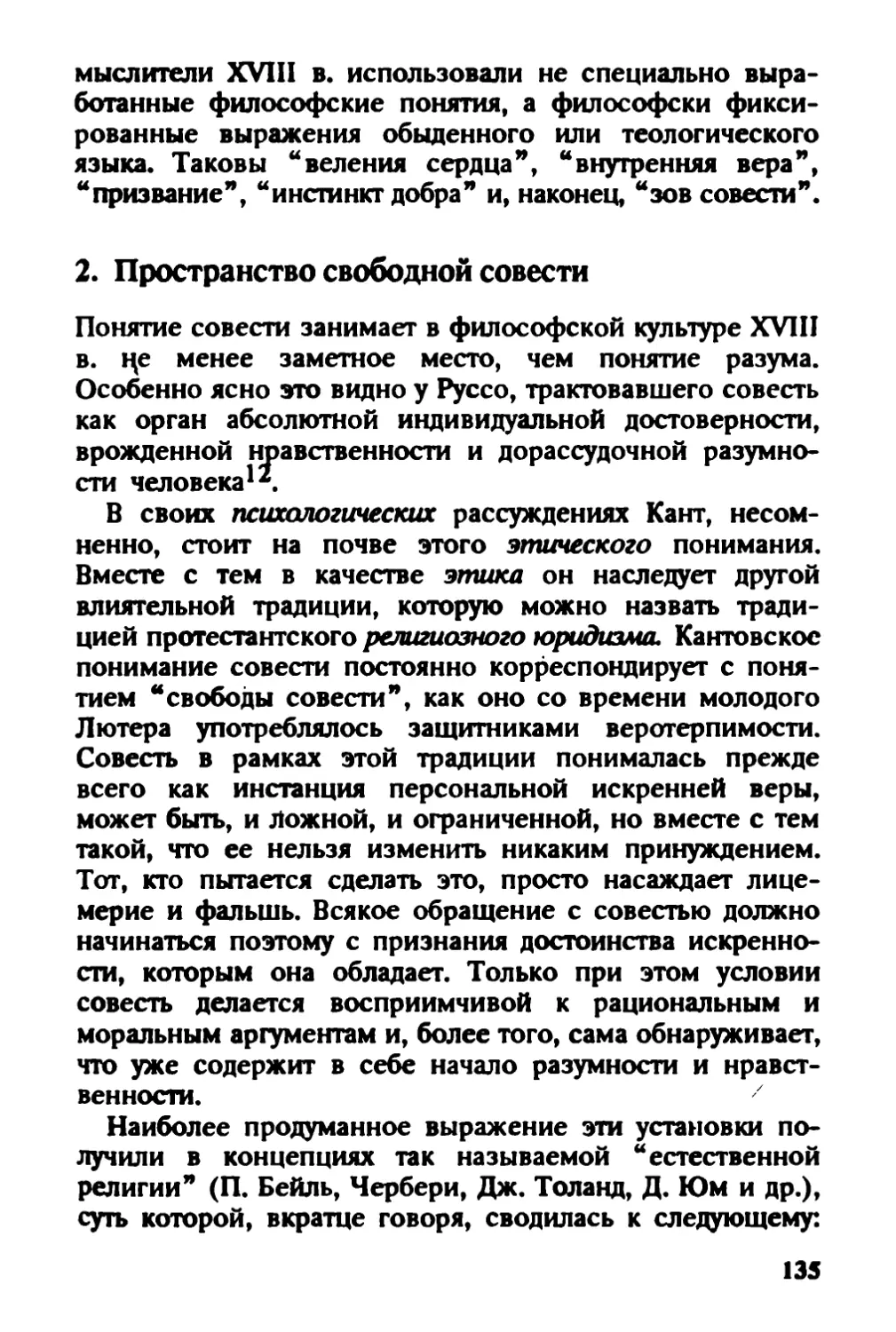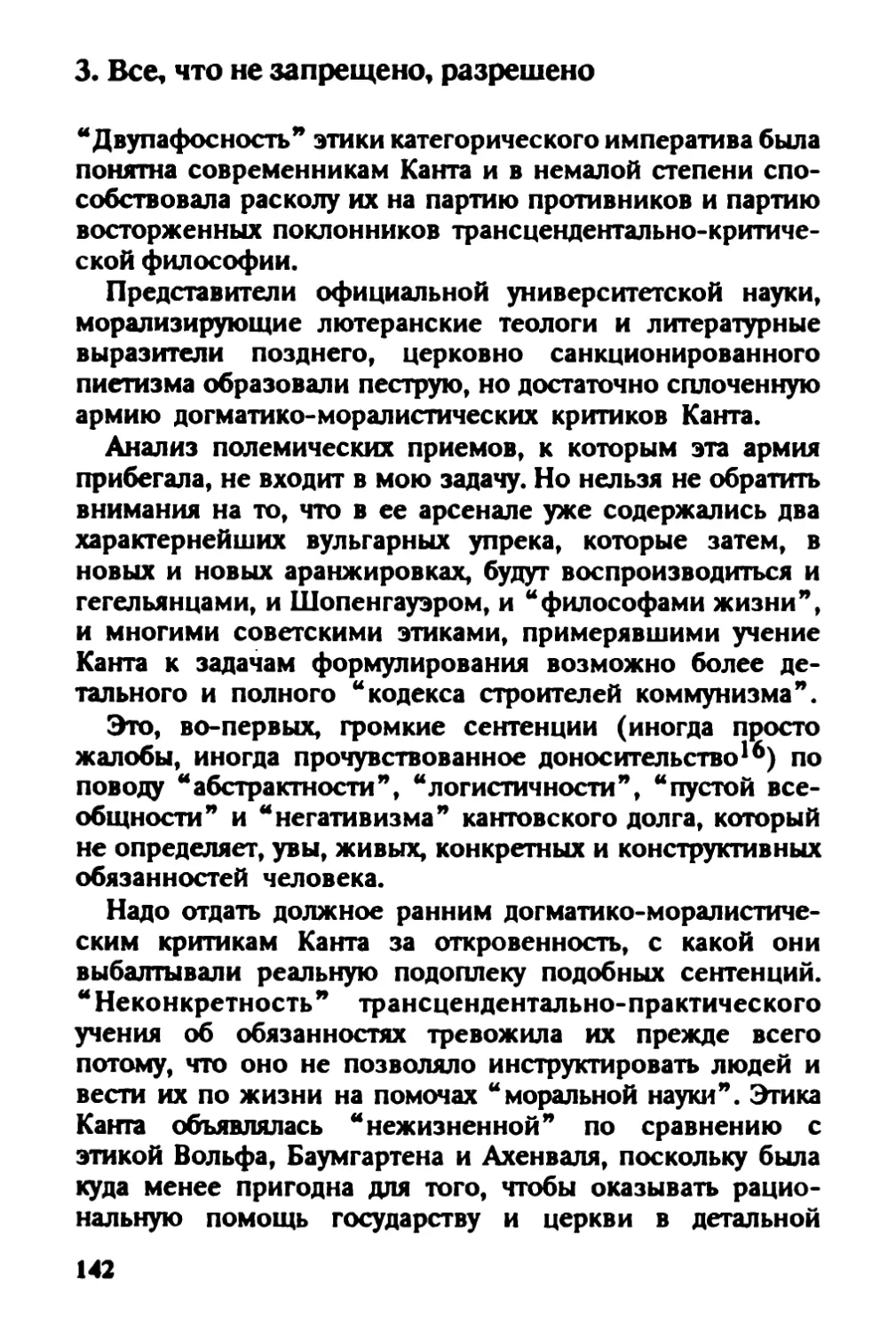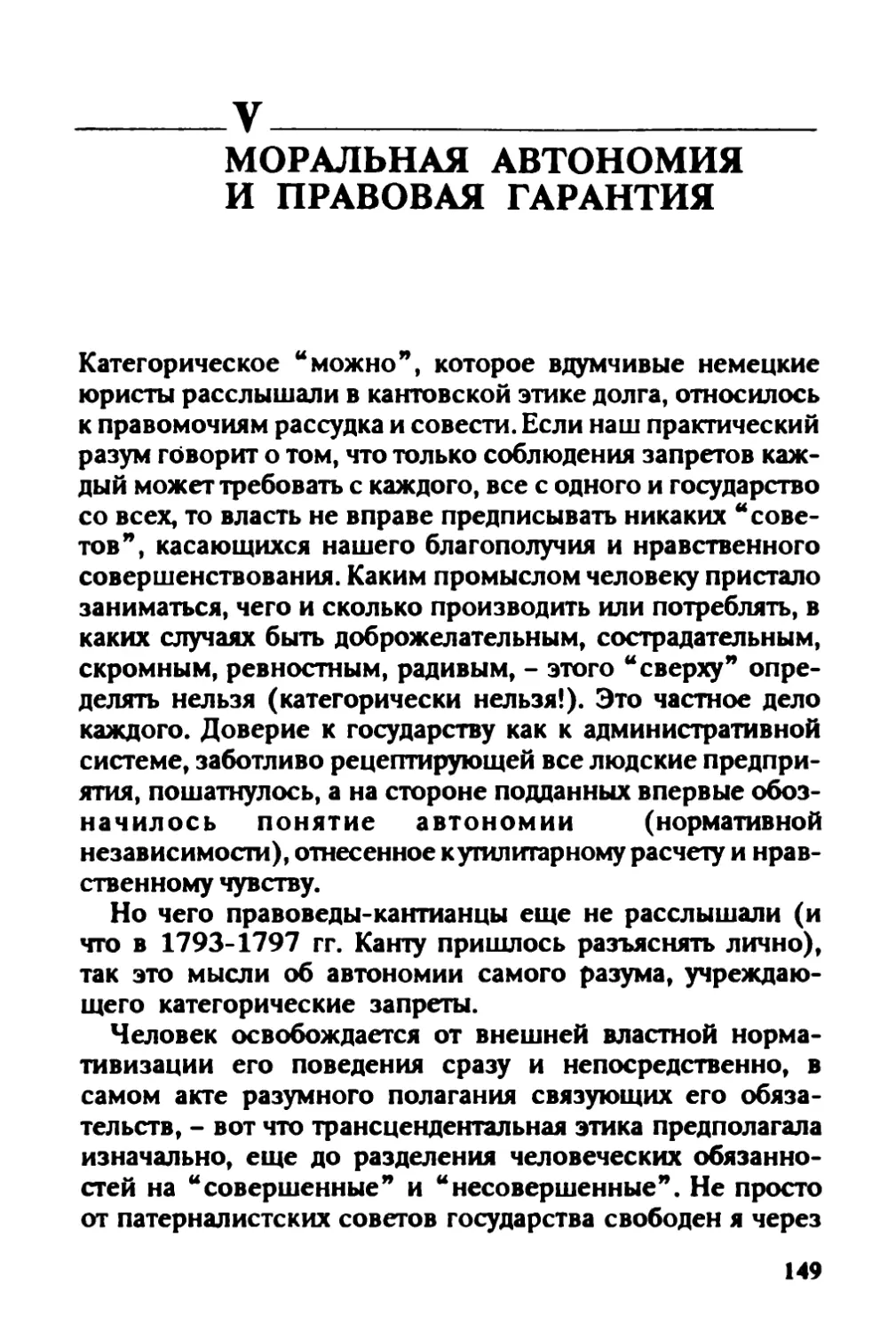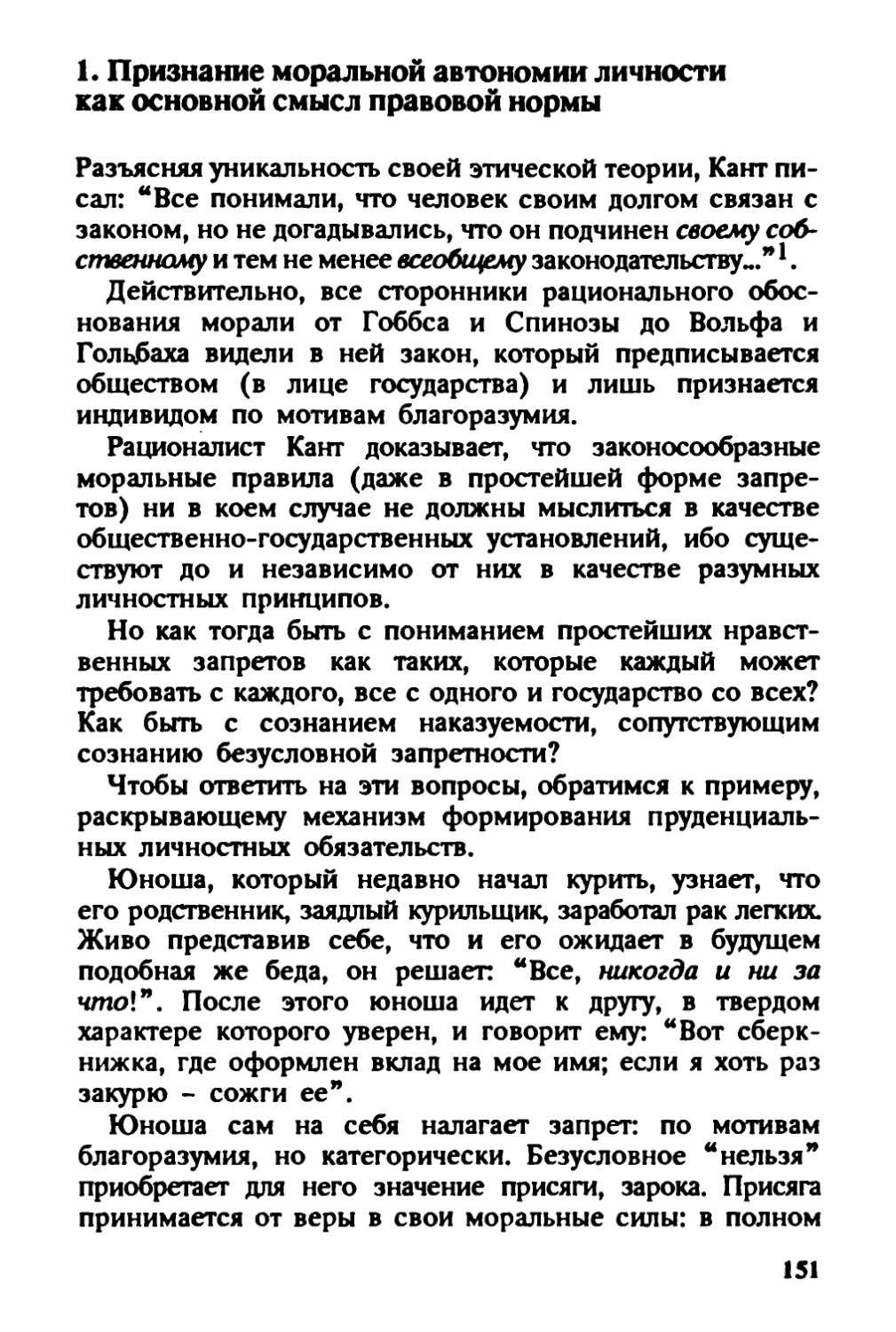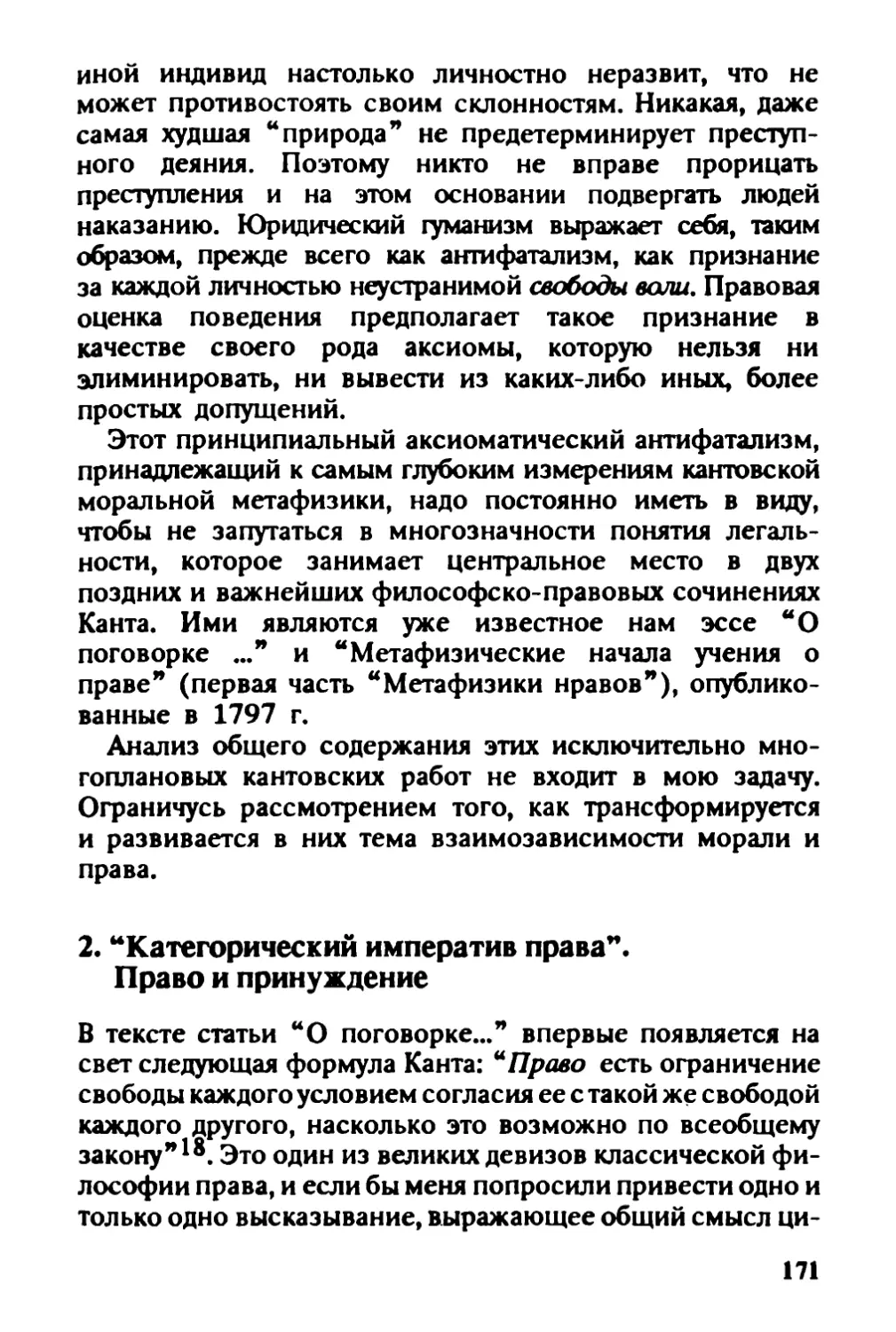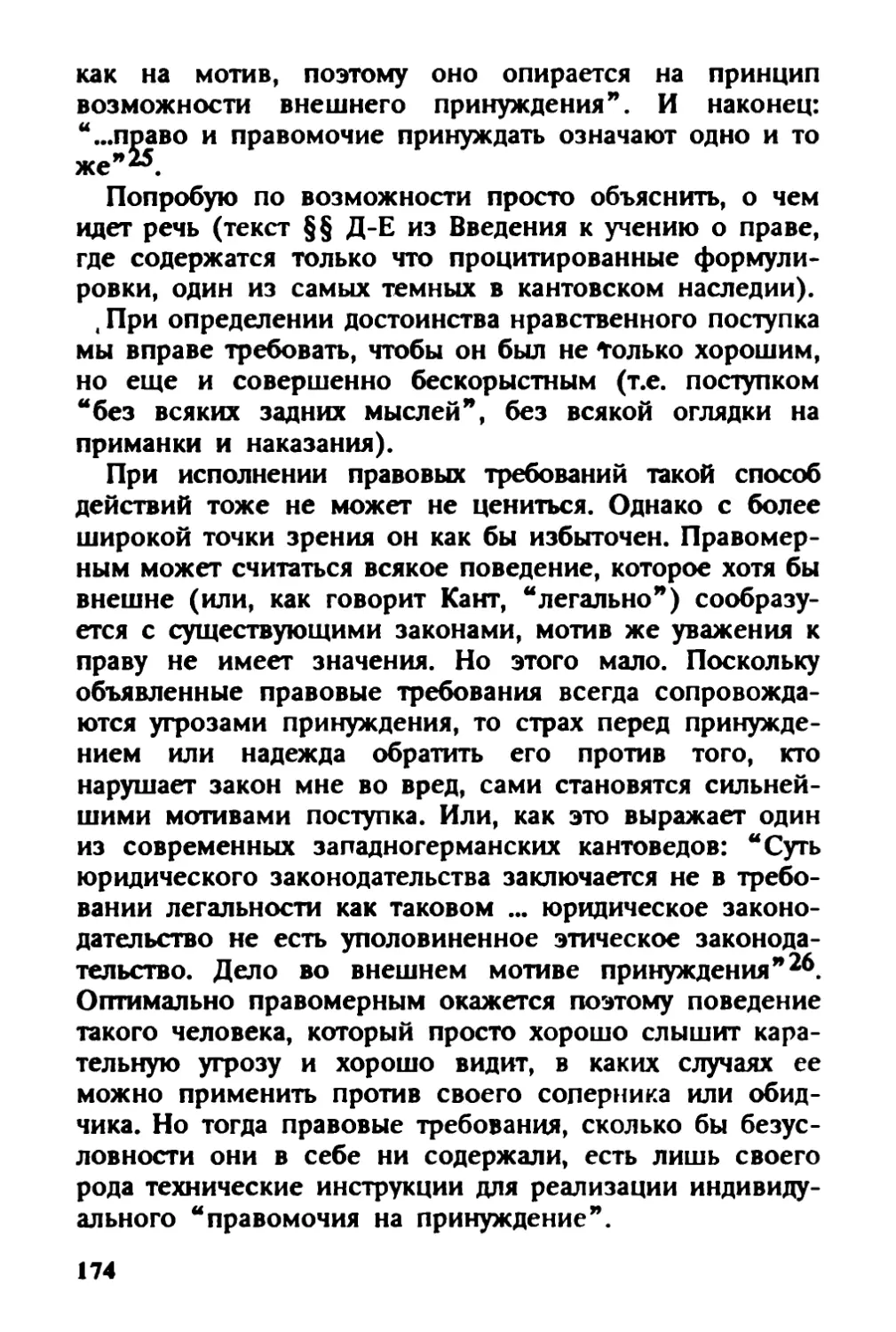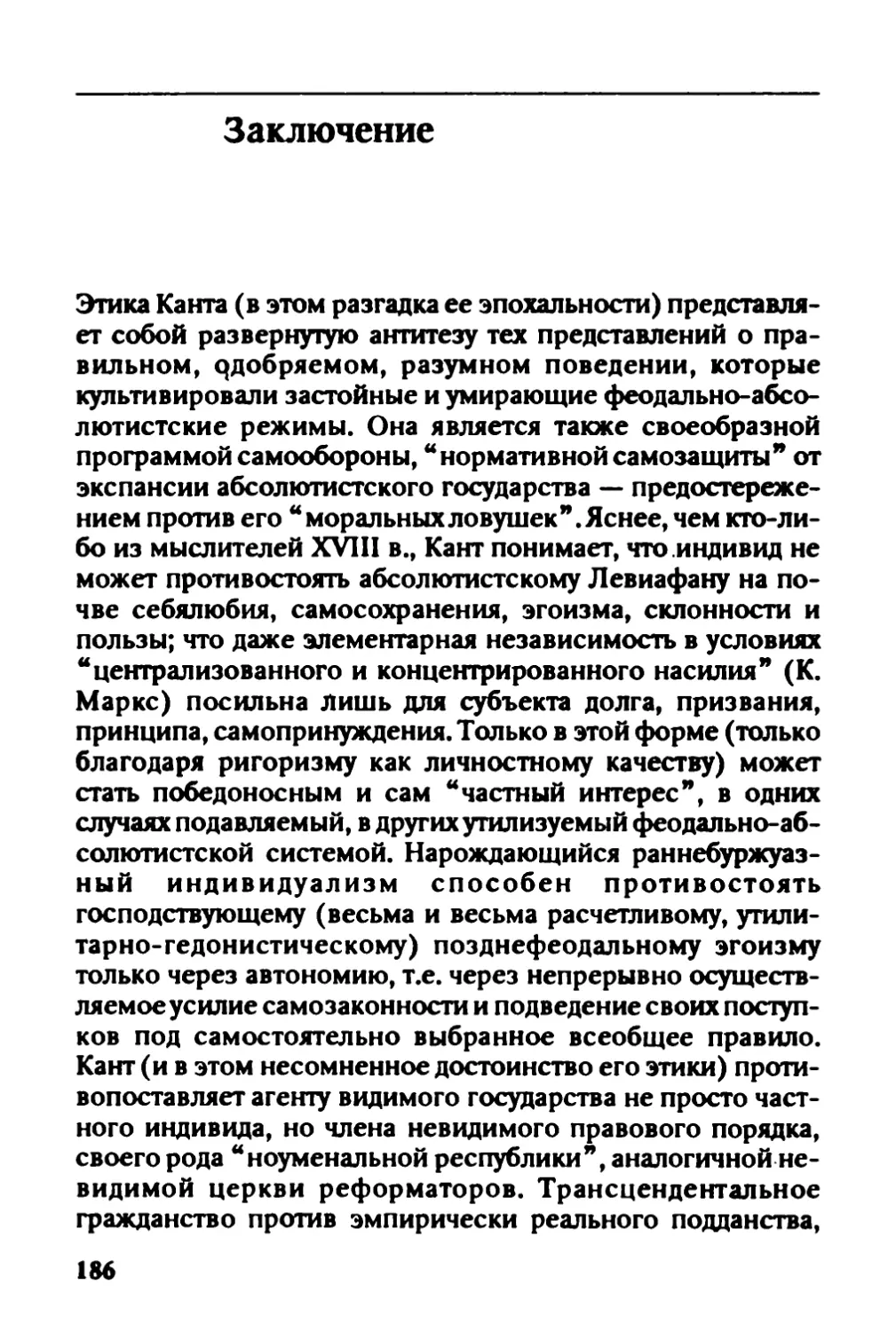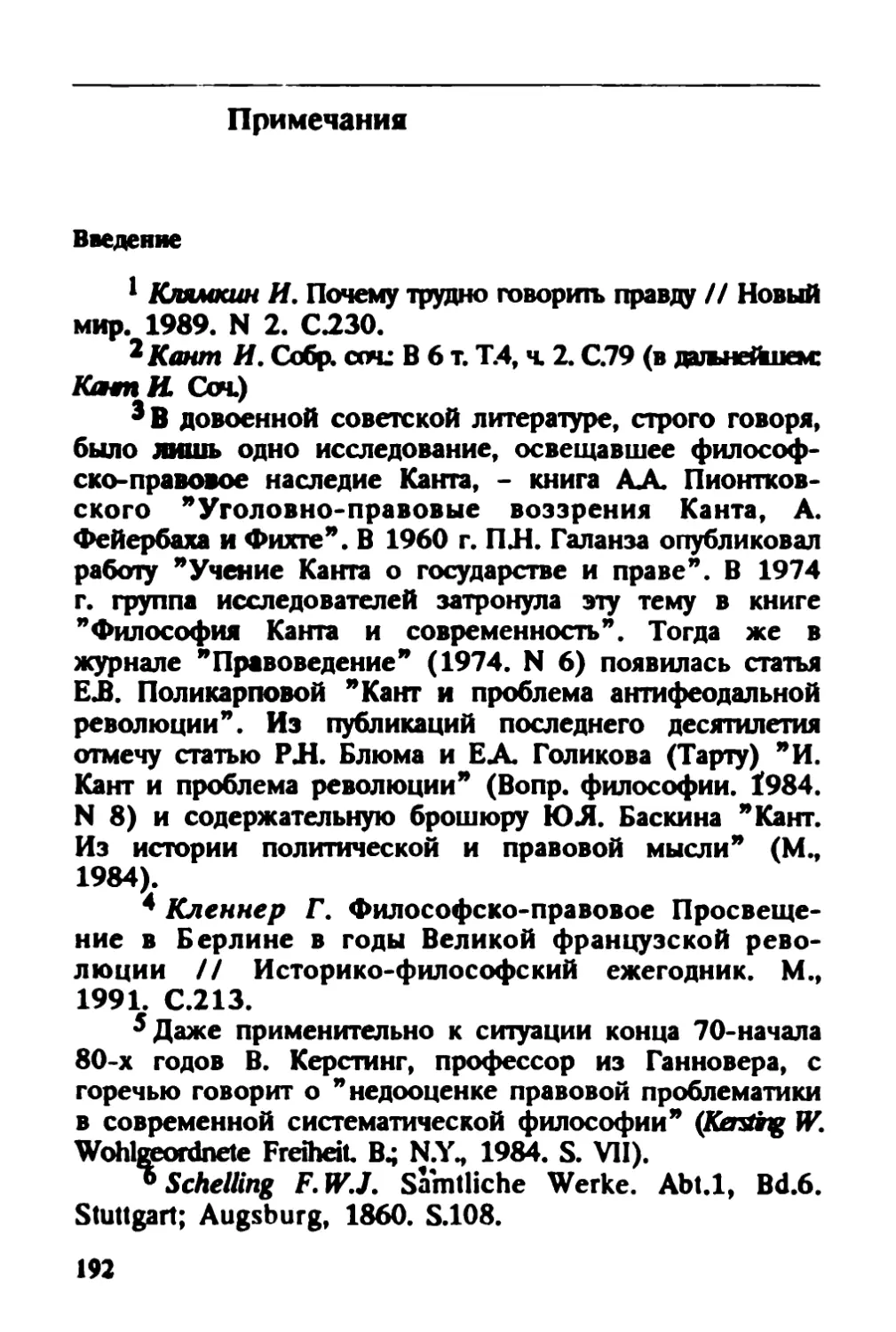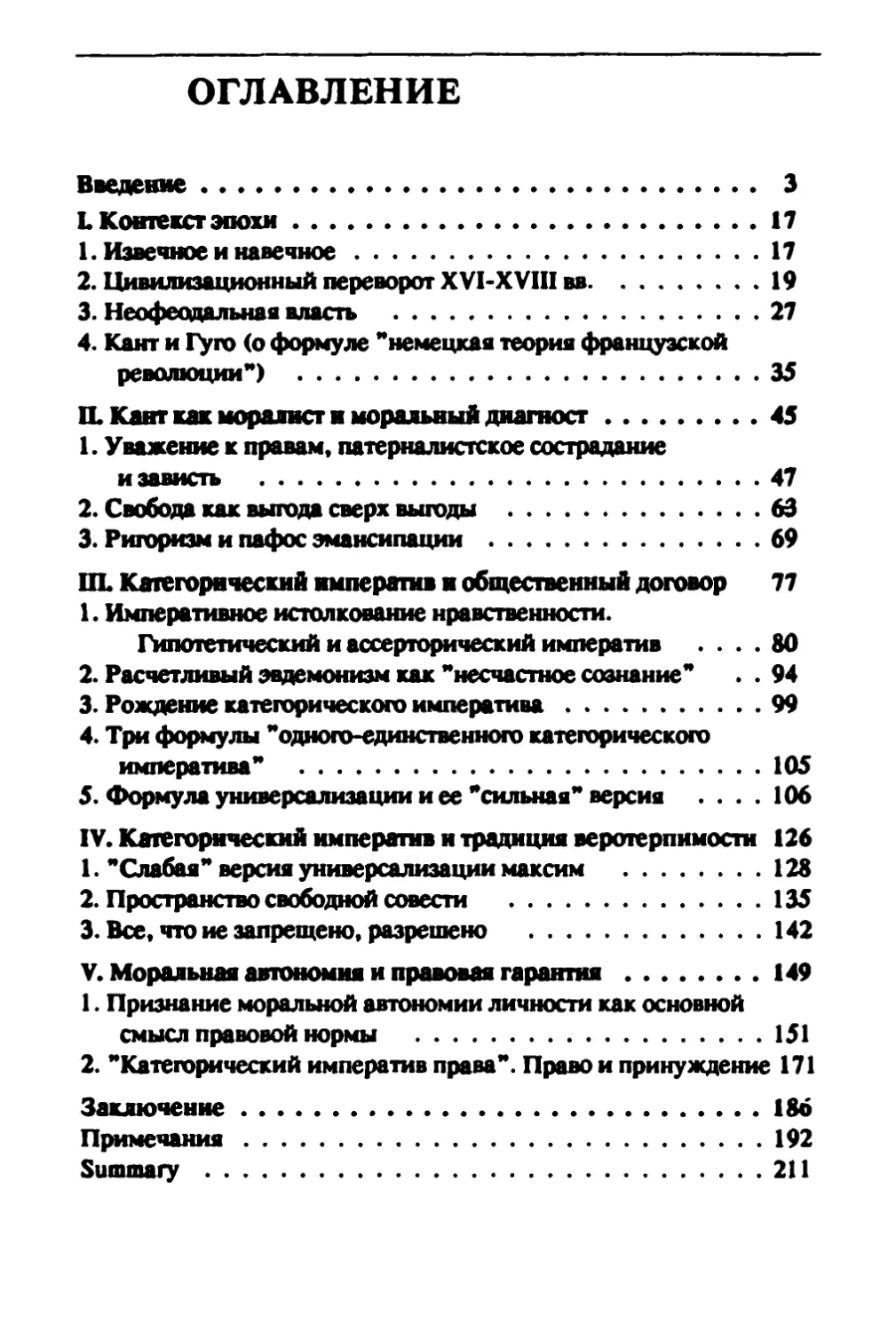Text
Э.Ю.Соловьев
И.КАНТ:
взаимо-
допол н ител ьность
морали
и права
Соловьев Э.Ю.
И. Кант: взаимодополнительность морали и права. — М.:
Наука, 1992. - 216 с. - (Немецкая классическая философия.
Новые исследования).
ISBN 5-02-008048-9
Этика Канта рассматривается как важный фактор в
формировании прогрессивного политико-юридического
мышления в Германии конца XVIII — начала XIX в. и подготовке
теории правового государства. В этическом ригоризме и
формализме, в решительном возвышении справедливости над
любовью и состраданием автор видит общеевропейский
феномен, связанный с нарождением цивилизованного
правосознания.
Для философов, читателей, интересующихся историей
философии.
ISBN 5-02-008048-9 © Издательство "Наука", 1992
Введение
В советских публикациях последнего времени в разных
выражениях по разным поводам высказывается одна и та же,
глубоко выстраданная мысль: "Сегодня нам предстоит
нелегкое возвращение к цивилизации"1. Слова эти нигде так
не уместны, как применительно к нашему правопонима-
нию. В этой сфере не может быть никакого продвижения
вперед без скромного, ученического, покаянного
обращения к попранным и, как правило, достаточно давним
достижениям мировой политико-юридической культуры.
Особого внимания заслуживает при этом классическая
философия права,
В нашем понимании слово "классическая"
синонимически срослось со словом "немецкая". Между тем
классическая философия (классическая философия права
в особенности) — это общеевропейское идейное
образование. Кант — Фихте — Гегель — в лучшем случае
фарватерная струя, образованная широким идейным
потоком, которому принадлежали также Ш. Монтескье,
Ж.-Ж. Руссо, В.-Р. Мирабо, Ч. Беккариа, К.Г. Хайденрайх,
В. фон Гумбольт, Г. Форстер, П.ИА Фейербах и еще
десятки других менее известных мыслителей.
Малоискушенные в искусстве социально-исторических
объяснений, они обнаруживали поразительную
феноменологическую проницательность. Они умели осмыслять право
прежде всего в том его значении, которое выявляет себя
в сознании нравственно-ответственного борца с
бесправием.
Знаменательно, что тема права в классических
концепциях — это всегда тема моральной философии. Сам
вопрос о коренном различии права и нравственности (а
с конца XVIII столетия он осознается совершенно отчет-
3
ливо) решается прежде всего как этическая проблема.
Эта принципиальная моральна-этическая ориентация в
правоведении обеспечивает, во-первых, максимальную
исходную удаленность от юридического позитивизма;
во-вторых, — изначальную и безусловную, как бы
аксиоматическую соотнесенность понятия права с
понятием свободы,
В нашей юриспруденции (по крайней мере, до начала
80-х годов) вопрос о праве всегда ставился и обсуждался
внутри более широкой проблемы принудительных норм,
регулирующих поведение каждого члена общества. Это
методологически предрасполагало к запретительной
трактовке закона и обвинительному пониманию задач
правосудия.
Выдающиеся мыслители конца XVIII — начала XIX в.
спрашивали о праве совершенно иначе. Несколько
огрубляя существо дела, чтобы ярче его обрисовать, я
сказал бы так: право для философов-классиков — это
мораль, регламентирующая действия правителя. Оно
обсуждается как система категорически обязательных норм,
которая позволила бы регулировать самое регулирующую,
распорядительную и запретительную практику общества
и государства. Разумеется, и частный индивид должен
действовать в духе права. Но, строго говоря, такая
внутренняя, этически значимая задача встает перед ним
лишь тогда, когда он оказывается по отношению к другим
в положении человека "сильного", доминирующего,
уполномоченного разрешить известные межличностные
конфликты. Нетрудно убедиться, что понимание права как
нормативной преграды, которая выставляется не на пути
любого и всякого, а на пути распоряжающегося и
властвующего субъекта, во-первых, сразу сообщало
правовому закону эмансипирующий смысл, а, во-вторых,
уже содержало в себе зародыш идеи правового
государства.
Обе эти тенденции с удивительной ясностью и
простотой обозначены в учении Канта, которого по ряду
причин можно назвать иклассическим классиком".
4
Мне думается, чрезвычайно интересно взглянуть на
Канта как на немецкого внутреннего эмигранта,
одушевленного идеей мирового гражданства. Само его
легендарное "философское затворничество" было не чем
иным, как попыткой (и притом успешной) оградить себя
от прусского провинциализма и стать кабинетно
открытым по отношению к имировой эпохе". Именно
это позволило Канту, с одной стороны, сыграть роль
одного из завершителей европейского Просвещения
(роль его критического исповедника, если говорить
точно) и одновременно стать родоначальником новой
национальной философской традиции. Маргинальное
историко-философское положение Канта (завершитель-
родоначальник) приводит к тому, что важнейшие его
идеи имеют парадоксальный статус "итоговых начинаний",
критически выверенных ориентирующих проспектов.
Как философ права, Кант — гениальный мастер
понятийного эскиза. Его наброски по сей день
впечатляют так, как если бы они были законченными
творениями. Мастер сам их портит, когда пытается превратить
в рабочие проекты, пригодные для демонтажа старого
здания "позитивной законности" и для возведения
нового, отвечающего запросам его страны и времени.
Наилучший источник, по которому можно
познакомиться с кантовскими понятийными эскизами, —
знаменитое эссе «О поговорке: "Может быть, это и верно в
теории, но не годится для практики"» (замечу, что
именно эта статья, опубликованная в 1793 г. в
"Берлинском ежемесячнике", послужила своего рода
запальным шнуром для четвертьвековой полемики, приведшей
к оформлению концепции правового государства).
Эссе "О поговорке..." — редкий пример критико-по-
лемического сочинения, вышедшего из-под пера Канта.
Против чего же оно направлено? — Прежде всего против
идеологии политического патернализма, подчинившей
себе юридическую мысль Западной Европы в эпоху
неограниченных монархий, но имеющей весьма давние
общекультурные истоки.
5
Для традиционных обществ — как на Западе, так и на
Востоке — достаточно типично стремление к
ограничению государя нормами обычной нравственности,
объединяемыми вокруг идеала достойного отца. Хорошим
правителем признается тот, который действует в духе
наставнической заботы, добра и сострадания. На этих
условиях ему (как хорошо видно, например, из образов
царей, нарисованных русской народной сказкой)
дозволяются и самодурство, и глупость. Категорически
запрещены лишь злобность, коварство и прагматический
цинизм: государю, обнаруживающему эти качества,
грозят либо неотвратимыми божественными карами,
либо (в тираноборческих учениях) нравственно
оправданным народным мятежом.
Раннебуржуазное просвещение ополчается на это
патриархально-моралистическое понимание "достойной
власти", но — за редкими исключениями (Д. Юм,
А. Смит, Б. Франклин, В. фон Гумбольдт) — не может
его одолеть. Дело заканчивается утилитарными раци-
онализациями патерналистской модели, —
доказательствами того, что правителю выгодно благоволить своим
подданным. Доказательства эти, по строгому счету,
просто портят традиционные нравственные критерии,
примешивая к ним сомнительный мотив расчетливости.
Кант по-новому видит всю проблему. Традиционных
запретов, налагаемых на жестокосердие и цинизм
правителей, он не отрицает. Он, пожалуй, даже
радикализирует их с помощью новых "строго моральных"
формул. Вместе с тем (это главное) Кант решительно
выступает против самого идеала отечески заботливого
правителя.
"Радикальное зло" в области политики — это не
жестокосердие властителя, а сама его неограниченная
авторитарность. Все социальные блага сомнительны, если
они достаются народу в порядке господского осчастлив-
ливания. Не может быть никакого разумного
политического устройства, покуда совершеннолетний член
общества уподоблен недорослю, который сам не ведает, чего
6
он идолжен желать". Но коль скоро это так, действия
правителя (будь то наследственного или избранного,
единоличного или коллегиального) должны
регламентироваться не моралью заботы, сострадания и добра,
а совсем иным этически значимым кодексом, высшим
принципом которого было бы признание
независимости каждого члена общества, или, как выражается Кант,
его "способности быть господином себе самому". Этот
нетрадиционный нормативный кодекс и есть право.
Никакие, даже самые лучшие, законы нельзя признать
юридически надежными, если идея государственной
опеки не отвергнута категорически и навечно.
Можно сказать, что этот чисто этический образ
правового государства витает перед умственным взором
Канта еще до всякого обращения к каким-либо
юридическим понятиям.
Кант ищет, как определить свободу человека перед
лицом государственного попечения и как затем
расчленить неподопечность на ее основные типы. Они-то и
позволят в дальнейшем усмотреть и различить
важнейшие виды правовой гарантии.
Патернализм уподобляет членов общества недоумкам,
которые без содействия власти не могут ни решить, что
для них хорошо: нравственно, ценно, выгодно, — ни
самостоятельно добиваться того, что они признали бы
хорошим.
До крайних пределов патерналистская установка
доводилась в церковном (каноническом) праве
средневековья, прежде всего в тех его разделах, которые
обосновывали деятельность инквизиции. Мы ничего не
поймем в логике действий этого института, если с самого
начала не примем во внимание, что он был учрежден
во имя права (!) каждого христианина быть спасаемым
от себя самого. Инквизиция — институт
репрессивно-терапевтический, изобретение взбесившейся любви и
взбесившегося сострадания, которые подводят каждого
человека под меру опеки, уместную лишь в отношении
душевнобольных.
7
Политический патернализм не заходит так далеко: он
не спасает, а лишь защищает человека от него самого,
а потому останавливается на идее полной гетерономии.
Понятие "гетерономия" предполагает, что человек как
член общества может жить лишь по чужим, извне
заданным ему правилам и инструкциям, подкрепляемым
чувствительными наказаниями или наградами. Мерой
опеки здесь является уже не душевнобольной, а скорее
ребенок или подросток, которых надо постоянно
наставлять и поправлять в видах их же выгоды.
Вот эту-то унизительную для человека меру (не говоря
уже о самой низкой, психотерапевтической) и должно,
согласно Канту, оспорить право. На место гетерономии
следует поставить признанную автономию, т.е.
самозаконность человеческого поведения.
О наличии в обществе права можно говорить лишь
в том случае, если каждый его член признан
государством в качестве разумного существа, способного
самостоятельно решать, что для него хорошо. Нравственные
убеждения, а также идеалы и цели людей не подлежат
властно-законодательному определению.
Переход общества к собственно правовому
регулированию человеческих отношений (а рассуждение Канта
обнажает одно из важнейших смысловых усилий этого
перехода) был крупной вехой в истории гуманизма. На
смену патриархальной сострадательной человечности
пришла человечность исходного доверия. Рушилась
презумпция попечения о распущенном, инертном,
невежественном народе, которая веками использовалась для
оправдания самых циничных форм внеэкономического
принуждения и самых безответственных проявлений
господского волюнтаризма.
Современная Канту морально-политическая
философия (в Германии это была этика Вольфа—Баумгартена,
в своих юридических разделах ориентированная на идеал
"просвещенной монархии") позволяла составить
достаточно ясное представление об основных направлениях
попечительной деятельности государства. К ним причис-
8
лялись: а) "неустанное побуждение подданных к
совершенствованию", б) "увлечение их на путь разумно
понятого личного счастья", в) "милостивое согласие
государя на то, чтобы целиком взять на себя работу над
разумными законами, отвечающими разнообразным
человеческим положениям и интересам**.
Эти формулы, похожие на реплики королей и
придворных в пьесах Е. Шварца, и провоцировали в свое
время кантовское тематическое расчленение понятия
автономии.
а) Идее принудительного совершенствования
противостоит концепт моральной автономии — основной для
всей практической философии Канта. Его юридическое
применение, вкратце говоря, состоит в следующем. В
качестве существа общественного и нравственного
человек всегда уже находится под безусловным законом и
может осознать его значимость и ценность без всякого
государственного воздействия. Нравственный поступок,
совершенный по принуждению, теряет всякое моральное
достоинство. (Много ли стоило бы, например, сыновье
внимание к родителям, если бы оно вынуждалось угрозой
уголовного наказания?) Поэтому издание каких-либо
"законов о нравственностип несовместимо не только с
понятиями права и правового государства, но и с развитым
моральным сознанием.
Поддержание морали — дело институтов гражданского
общества (семьи, школы, религиозных общин,
добровольных организаций и союзов), а не полицейских или
цензорских государственных служб.
б) Идея принудительного осчастливливания подданных
опровергается у Канта совокупностью этических доводов,
которым соответствовало бы понятие утилитарной
автономии. Каждому члену общества должна быть
предоставлена возможность самостоятельно судить о том, что
является для него выгодным или невыгодным.
Государство покушается на личность, когда мешает человеку
действовать на свой страх и риск, в честном
соперничестве с другими. Государству положено заботиться лишь
9
о том, чтобы исходные условия такого соперничества
были равными (мысль, которая прямо вела к выводу о
недопустимости сословных привилегий).
в) Кант, наконец, считает этически неприемлемым такое
положение дел, когда люди не принимают участия в
выработке общих решений, касающихся их же
собственного благосостояния и счастья. Это ущемляет не просто
их интересы (последние могут обеспечиваться даже при
деспотическом правлении), а самое способность суждения,
свобода которой очевидна для каждого. Признание этой
очевидности государством конституирует гражданскую
автономию.
Так в контексте этического рассуждения вызревает
важнейшее для Канта, новаторское по своему характеру
юридическое понятие — "правовой порядок". В тексте
статьи аО поговорке..." оно появляется на свет разом,
как Афина из головы Зевса, — в графическом
совершенстве эскиза:
"Гражданское состояние, рассматриваемое только как
состояние правовое, основано на следующих априорных
принципах:
1) свободе каждого члена общества как человека;
2) равенстве его с каждым другим как подданного;
3) самостоятельности каждого члена общности как
гражданина"*.
Простым расчленением понятия свободы как
признанной автономии Кант достигает единого и связного
представления о трех важнейших типах правовых норм,
по поводу которых шла вся политическая борьба его
эпохи. Это — (1) права человека, (2) законодательные
гарантии сословного равенства, (3) демократические
права, или права активного гражданства.
Обеспечение так понимаемого правового порядка есть
первоочередная задача права как особой нормативной
системы. В этом основная мысль Канта и всей
классической философии. И в этом же основное упущение
(более того — позорный пробел) всех определений права,
10
фигурировавших в советской литературе периода
сталинизма и застоя.
У читателя, знакомого с историей правовых идей,
может, однако, возникнуть следующее серьезное
сомнение. Принципиальная морально-этическая
ориентация в правоведении отличает классическую философию
от долго господствовавшей у нас марксистской версии
юридического позитивизма. Пусть так. Но можно ли
сказать, что эта ориентация отличает ее также и от
философско-правовых учений начала Нового времени,
от подхода к праву, который отстаивали средневековые
мыслители или философы древности? Разве уже у
Платона и Аристотеля учение о праве не было частью
моральной философии? Почему же в таком случае они
не додумались до идеи правопорядка, которую так
блестяще развернул Кант?
Это существенный вопрос, и от него нельзя отделаться
расхожей общесоциологической отговоркой: мол,
общественные отношения были другими, сама объективная
реальность еще не позволяла ставить проблему
правопорядка и т.д. Дело, конечно, не просто в том, что Кант жил
в иное время, чем Платон или Аристотель, Аврелий
Августин или Фома Аквинский, Лютер или Суарес. Дело
еще в том, что ему удалось построить этическое учение
совсем иного типа. Без нового истолкования морали столь
простое и убедительное усмотрение общего смысла
правовых норм никогда бы ему не удалось.
Трансцендентальная этика Канта уже сама по себе
является концепцией антипатерналистской и
антиавторитарной, стянутой к понятию автономии как к своему
смысловому центру. Она как бы изначально
ориентирована на достоверности правосознания, а потому обладает
серьезнейшим теоретико-правовым потенциалом,
который лишь отчасти выявлен самим Кантом в работах,
затрагивающих политико-юридические проблемы.
Данное обстоятельство далеко не всегда понимается,
а если понимается, то скорее декларируется, чем
доказывается на деле.
11
Нет недостатка в исследованиях, посвященных вопросу
о том, как Кант совершил переход от этического к
философско-правовому анализу, насколько логичен был
этот переход и можно ли считать кантовскую трактовку
права в полной мере трансцендентальной. В зарубежном
кантоведении они существовали давно, в советском
появились в последние десятилетия3. И все-таки мне
неизвестно ни одной основательной работы, которая
обсуждала бы "юридическую проспективность" самой
кантовской этики, ставила бы в центр внимания вопрос
о том, а не предполагают ли кантовские представления
о морали (сразу же — в качестве необходимого
дополнения, в качестве коррелята) известный образ
права.
Предлагаемая вашему вниманию книга — об этом,
главным образом об этом. В ней делается попытка
проанализировать этическое учение Канта под углом
зрения его имманентных теоретико-правовых
возможностей.
Почему исследователи кантовской философии
специально не задавались подобной задачей? На этот вопрос
придется дать два ответа: один — применительно к
советским, другой — применительно к зарубежным
кантоведам.
Изучение философского наследия Канта в нашей
стране издавна велось под флагом критики. Слово
" критика" приросло к его имени так же прочно, как
слово "обскурантизм" к понятию "религиозная
философская мысль". С конца 40-х годов, когда Сталин
обронил свое печально известное определение немецкой
классической философии как "аристократической
реакции на Французскую революцию и французский
материализм", рекомендательное выражение "критика
Канта" сделалось предписательным. В ряду немецких
философов-реакционеров ему было отведено место
филистерски-мечтательного агностика, идеолога убогого
и трусливого немецкого бюргерства. Это предписание
нацеливало на поиски "робкого Канта", который чура-
12
ется масштабных проблем своего времени, снижает их
до уровня прусско-германского провинциального мелкотемья
и более всего заботится о моральном обосновании бытия
Бога и бессмертия души. Тема кантовского отношения
к праву (тем паче — тема философии права как
возможного финала всего
трансцендентально-практического учения) при подобных презумпциях была просто
невозможна.
Приблизительно с конца 60-х годов задача "критики
Канта" ("дальнейшей критики") перешла в разряд
желательных и была подчинена стратегии борьбы с новейшей
буржуазной философией. Трансцендентальная этика
стала трактоваться под углом зрения бесчисленных и
влияний и воздействий", которые она оказала на
идеологические течения XX в., начиная с этического социализма
и кончая имморалистским ригоризмом иновых левых".
Эклектизация образа Канта, которая возникла в
результате такого подхода, неплохо описана немецким юристом
Г. Кленнером: «В конце концов сохраняется острое
противоречие в общей оценке Канта как политического
мыслителя: с одной стороны, мы приучены думать, что
его теория государства отражала прусскую
государственную практику, с другой — утверждается, что он был в
высшей мере хитрым буржуазным реформистом. С одной
стороны, мы выдаем ему свидетельство о том, что во
Французской революции он видел осуществление (или
по крайней мере наметку осуществления) своей
собственной теории, с другой — не признаем за ним даже
беззубого либерализма. С одной стороны, полагаем,
что отрицая практику революции (в особенности
якобинский террор), он не считал
скомпрометированными сами революционные принципы, с другой —
утверждаем, что, поскольку Кант рассматривал насилие
как базис права, он не мог не быть сторонником если
не легитимации, то хотя бы самолегитимации
наличного правопорядка. С одной стороны, вместе с
ярлыком "реформизма" на учение Канта навешивается
ярлык "исторической устарелости" (особенно в плане
13
теории демократии), с другой — его концепция
оценивается как созвучная модели
мелкобуржуазно-эгалитарного общества и мелкотоварного производства. В итоге
такого ас одной стороны — с другой стороны" не
остается никакой стороны4."
Впрочем, сама эта эклектика была лишь официальным
фасадом реального процесса, разноассортиментным
оброком, который уплачивался взамен прежней
единообразной барщины.
Истолкование Канта в проблемном горизонте
современной западной философии (хотя бы и освещаемой
критико-полемическим светом) сделало интерес к нему
куда более многосторонним. Мы впервые заметили, что
у Канта есть своя (пусть эскизная) философия истории,
своя антропология, своя онтология человеческой
субъективности и т.д. Середина 70 — начало 80-х годов —
время, когда появился целый комплекс добротных (а
иногда и блестящих) отечественных исследований,
посвященных самым разным аспектам кантовского
творческого наследия. Но вот серьезного интереса к
теоретико-правовым возможностям
трансцендентально-практической философии Запад нам не подсказал, поскольку
правовая проблематика не находилась в центральной
зоне его послевоенных философских споров5. Остро
переживать эту проблематику — наша собственная
сегодняшняя судьба.
Будучи глубоко убежден, что по части правопонимания
нам надо спешно учиться у философской классики, я в.
этой книге с самого начала отказываюсь от
самонадеянной и заносчивой презумпции, именуемой "критика
Канта". Я попытаюсь отнестись к нему так, как лучшие
наши пушкинисты относятся к Пушкину, в каждый новый
период истории ожидая от поэта новой, ранее не
вычитанной мудрости.
Введем свои проблемы и неясности в свет кантовского
текста, и пусть текст толкует их через наше усилие! И
разумеется (такова оборотная сторона медали), свет этот
должен исходить не от буквы, а от духа — от скрытых
14
смыслов кантовского рассуждения, с которым придется
обходиться куда свободнее, чем это положено при
написании критико-исторического сочинения ао Канте".
Когда-то Ф. Шеллинг с шокирующей прямотой заявил:
аЯ не собирался ни переписывать того, что написал
Кант, ни дознаваться, что собственно Кант хотел сказать
своей философией. Я желал выявить, что он, по моему
разумению, должен был хотеть, коль скоро в его
философии есть внутренняя связь"6.
Отважимся, наконец, и мы вступить на путь подобной
же активной интерпретации. Попробуем вглядеться в
скрытую апоретику кантовского рассуждения; попробуем
прибегнуть к приему так называемой адеконструкции*
(термин ЖДеррида), когда понятия как бы сгоняются с
насиженных мест, отведенных им интерпретируемой
философской системой, и соединяются друг с другом по
более слабым (но тем не менее реальным) смысловым
связям. Не будем, наконец, отказываться и от прямой
импровизации на темы, подсказываемые Кантом, но
только постараемся делать это не просто в соответствии
с сегодняшними запросами и условиями, а — помня о
последних, — все-таки так, как это было хотя бы в
принципе возможно для самого кантовского времени.
Вот в связи с темой принципиальных возможностей,
которые предоставляют для наших импровизаторских и
имитаторских попыток прошлые эпохи, я и хотел бы
ответить на второй обозначенный мною вопрос: почему
проблема теоретико-правового потенциала
трансцендентальной этики не была основательно проработана в
современном западном кантоведении.
Как я уже отметил, понятие права (говоря точнее: тема
строгого права и правового государства) в последние
десятилетия не выдвигалась в странах Запада на первый
план крупных и длительных философских дискуссий.
Поэтому историко-философские исследования,
посвященные правовым воззрениям Канта (это особенно
характерно для работ, издававшихся в ФРГ), как правило,
имели академическую и, так сказать, реконструктивно-
15
мемориальную направленность. Это располагало к
тщательному, детальному, но узкоситуационному
изображению социального контекста, в котором формировались
кантовские этические и философско-правовые идеи
(описывался юридический быт Пруссии в последней
трети XVIII в., особенности университетской моральной
философии, работа по подготовке и Всеобщего кодекса
прусских законов" ("Allgemeines Landrecht"), полемика,
разбуженная Французской революцией в среде
берлинских просветителей, и т.д.). Из поля зрения исчезали
отношения и институты, определявшие общую динамику
эпохи (скажем, нарождение свободного
предпринимательства, приспособительная деформация феодального
сословия; религиозные войны и борьба за
веротерпимость; становление, стабилизация и кризис
абсолютизма). Между тем Кант, как я уже подчеркнул в начале
этого Введения, был мыслителем, принадлежавшим не
столько Германии и ситуации, сколько Европе и эпохе.
Если это обстоятельство не учитывается, если не делается
попытка связного изображения эпохального морально-
юридического климата (а не просто немецкой — или
пусть даже французской и немецкой —
социально-политической погоды), то внутренняя теоретико-правовая
ориентация кантовской этики делается для историка
просто невидимой.
Воссоздание эпохальных контекстов философского
мышления — одна из сложнейших исследовательских
задач. Но лишь решая ее, мы получаем доступ к тому,
что великий мыслитель не просто хотел сказать (это как
раз проблема ситуационно-исторических оценок), но
именно мдолжен был хотеть". С другой стороны, лишь
решая ее, мы создаем предпосылки для того, чтобы наша
активная интерпретация все-таки была исторически
корректной, а не превратилась бы в модернизаторство с
первого же шага.
I
1. Извечное и навечное
Канта-этика часто называют и мыслителем
вневременным", которому однажды (безразлично, когда и почему)
посчастливилось с предельной ясностью высказать то, что
люди понимали всегда и везде.
У этого суждения более серьезные основания, чем
может показаться на первый взгляд.
Кант действительно нашел категориальный язык,
наиболее подходящий для выражения общечеловеческих
простейших запретов, норм и ценностей.
Люди, принадлежащие к разным обществам, эпохам
и культурам, исповедующие самые несхожие конкретные
"нравы", разделяют тем не менее известные
универсальные иначала моральности" и именно те, которые
удалось сформулировать создателю трансцендентально-
практического учения. Нет такого человеческого
сообщества, которое не признавало бы абсолютного
характера различия добра и зла, не порицало бы лжи,
коварства и неблагодарности, не понимало бы, что
благодеяние, оказанное бескорыстно ("ради него
самого"), ценнее благодеяния, которое совершено под
давлением страха, за вознаграждение или по каким-либо
иным привходящим мотивам. Такова, если угодно,
общецивилизационная "моральная грамматика",
одинаковая для исторически различных и нравственных
языков". Кант (Кант, столь часто шпынявшийся за
иэтический формализм") был первым, кто всерьез и
методически задумался над ее извечными правилами.
Но у кантовской этики есть и еще одно удивительное
2 Заказ №1663
17
измерение, именно в последние десятилетия
доставившее особенно много хлопот ее интерпретаторам.
Речь идет о таких фундаментальных
трансцендентально-практических декларациях, которые, по
строгому счету, невозможно считать ни преходящими, ни
извечными.
Кант, например, категорически (под формой надвре-
менного и безусловного) отстаивает примат
справедливости над состраданием и примат гражданской
порядочности над семейными, дружескими, конфессиональными
и даже патриотическими добродетелями; в том же
смысле он утверждает, что бестактное и непрошенное
доброхотство неморально, а принудительное осчастлив-
ливание людей сродни преступлению; в том же смысле
говорит, что заслуга (и оплата заслуги) должна
оцениваться сравнительно-состязательно, как бы "на агоне
усердий"; что соблюдение чужого и отстаивание своего
собственного личного права есть непременная этическая
обязанность каждого индивида, и т.д.
Можно ли сказать, что эти декларации значимы для
всех эпох, что с ними согласились бы и житель античного
полиса, и средневековый китайский чиновник, и
европейский горожанин периода крестовых походов, и член
русской деревенской общины? Нет, — скорее, как раз
наоборот: все они согласно отвергли бы только что
приведенные утверждения Канта, — отвергли по причине
их очевидного несоответствия важнейшим установкам
традиционно-патриар- хальной морали.
Но означает ли это, что рассматриваемые кантовские
декларации — просто "идеологические рефлексы"
известного исторического периода и обречены умереть
вместе с породившими их социальными
обстоятельствами? Опять-таки нет, поскольку они жизнеспособнее
наличных обстоятельств: для европейца XIX или XX в.
они достовернее, чем для кантовского современника.
Перед нами феномен не столько извечных, сколько
анавечных" моральных истин, осознаваемых не раньше
XVIII столетия, но обретающих неопределенно долгую,
18
до наших дней простирающуюся, общецивилизационную
значимость. Это уже не всеобщая и моральная
грамматика", а скорее высокая м гражданская стилистикап
нравственного языка, постепенно подчиняющая себе
мир.
2. Цивилизационный переворот XVI-XVIII вв.
Феномен "навечного* чрезвычайно важен для понимания
самой эпохи, из запросов которой выросла этика Канта, —
эпохи ранних буржуазных революций.
В XVI-XVIII вв. в Западной Европе совершился
великий цивилизационный переворот, который по
времени совпадает с процессом генезиса капитализма, но
не покрывается этим понятием. Произошла не просто
смена общественно-экономических формаций, но, как
это определяется в литературе последнего времени,
смена надформационных по своему значению "типов
социальности"1. На место отношений личной
зависимости, характерных для всех "традиционных"
(докапиталистических) обществ встает новая хозяйственная
цивилизация, устойчивыми нормами которой являются:
(1) отказ от внеэкономического принуждения и
использование только труда экономически
стимулируемого, лично свободного производителя; (2)
признание рынка и товарно-денежных отношений в качестве
господствующей и неустранимой формы обмена
общественно-полезной деятельностью; (3) превращение
юридически полноценной собственности (собственности в
отличие от простого держания или пользования) в
основную форму имущественного обладания; (4)
категорический запрет на превращение самого человека в
собственность.
Невозможно отрицать, что приблизительно в первой
трети XIX столетия эти нормы стали условиями
(имущественно-правовыми) развития капитализма. Однако
ничего специфически капиталистического в них нет. Они
являются также необходимыми, более того — азбучными
2*
19
предпосылками социалистической организации
производства, поскольку предполагается, что социализм, как
и капитализм принадлежит ко "второму дыханию"
мировой хозяйственной истории.
Смена "типов социальности", происходившая в эпоху
ранних буржуазных революций, сопровождалась
утверждением новых жизненных установок, постепенно
подчинявших себе самые различные формы человеческой
деятельности. Об этом живо и доходчиво рассказала
НЛШотрошилова в книге "Социально-исторические корни
немецкой классической философии", открывшей серию
" Немецкая классическая философия. Новые
исследования". В разделе, названном "Цивилизационный скачок
нового времени..." (даю слово, мы не сговаривались!),
она выделила три характерные приметы эпохи.
Во-первых, начавшийся с периода Великих географических
открытий прорыв "к глобальности как способу наличного
бытия мировой цивилизации" (в философии этому
соответствуют кантовская "всемирно-гражданская" и
гегелевская "всемирно-историческая" ориентации2).
Во-вторых, — непрерывно упрочивавшееся переживание
"системы всесторонней зависимости"3, т.е. практической
невозможности жить, работать, образовываться и
пользоваться своими правами в изоляции от того, что
происходит с твоими согражданами, а иногда и с
обитателями самых отдаленных регионов. В-третьих, —
осознание социального достоинства "свободного,
рационального и рационализирующегося действия"4.
Последняя констатация представляется мне особенно
важной. Ее справедливость можно было бы подтвердить
фактами из истории науки, искусства, религиозного
реформаторства. Я обращусь к материалу экономической
истории.
Одним из первых актов цивилизационного переворота,
совершившегося в XVI-XVIII вв., было развитие
независимого товарного производства и формирование на
его основе деловой предприимчивости в широком смысле
слова (купеческой, бюргерской, фермерской и т.д.). Везде
20
кроме Англии она вплоть до Французской революции
лишь в редких случаях становилась капиталистической
предприимчивостью. Куда более распространенной была
трудовая прибыльная самоэксплуатащиг', в которую
вовлекалась либо семья (таковы итальянские и
французские ремесленные мастерские, голландские домашние
прядильни, американские земельные фермы), либо
разного типа трудовые товарищества (например, немецкие
горняцкие артели), либо, наконец, мануфактуры,
построенные по принципу сравнительно простой кооперации,
а потому, выражаясь по-русски, также включающие в
себя идобровольное артельное начало".
Многочисленные ячейки и очаги трудовой прибыльной
самоэксплуатации подвергались жестокому ограблению
со стороны купцов-посредников и господствующих
феодальных сословий. Если они тем не менее выживали
и даже множились, то это в немалой степени
объяснялось специфическими личностными качествами агентов
независимого товарного производства.
Свободный предприниматель XM-XVIII вв. (еще раз
подчеркну: совсем не обязательно капиталист или даже
протокапиталист) — удивительный персонаж мировой
экономической истории. Не вглядевшись в него
внимательно, невозможно понять ни ренессансную культуру,
ни немецкую бюргерскую реформацию, ни эволюцию
просвещения; невозможно правильно оценить и общий
моральный климат эпохи ранних буржуазных революций.
Агент трудовой прибыльной самоэксплуатации — это,
несомненно, "рыцарь наживы", и все-таки приписывать
ему позднейшую (собственно капиталистическую) и
самодовлеющую страсть к обогащению" было бы ошибкой.
Как показала М. Оссовская в своем блестящем анализе
учения Б. Франклина, раннее uрыцарство наживы"
определяется просто стремлением к экономической
независимости, в котором нет ничего иррационального
или фанатического6. Доходность предприятия — условие
сохранения хозяйственной свободы: лишь по этой
причине она становится приоритетной жизненно-прак-
21
тической целью, возвышающейся над кругом обычных
благ и полезностей.
В течение тысячелетий трудовая этика была подчинена
натурально-хозяйственным парадигмам. Считалось само
собой разумеющимся, что трудиться надо в меру
наличных потребностей и что богатство (в том числе и
денежное) есть лишь средство для все более полного
их удовлетворения. Труд, не имевший своей целью
известную конечную полезность, удовольствие или
совокупное благополучие индивида ("счастье" в
определении Канта), казался столь же противоестественным, как
и равномерное прямолинейное движение тела, на
которое не действует никакая внешняя сила. Работа "сверх
потребного" — ради производства отчуждаемого избытка —
совершалась лишь в силу господского принуждения.
Никто не готов был интенсифицировать свой труд иначе,
чем из-под палки; никто не рассчитывал, сколько он мог
бы выгадать, повысив интенсивность работы.
Свободный предприниматель XVI-XV1II вв. утверждает
совершенно иную трудовую этику. Работать нужно
столько, сколько необходимо, чтобы не разориться, не
опуститься до подневольного состояния. Доходность и
процветание дела выступает поэтому как категорическая
исверхзадача", подчиняющая себе любые житейские
(потребительские) цели. Трудиться нерентабельно,
бездоходно, ради простого обеспечения наличных нужд —
занятие недостойное человека, получившего от Бога
свободу и призвание, а потому, в конечном счете,
бессмысленное.
Свободный предприниматель демонстрирует
хозяйственное поведение, которое не поддается объяснению в
понятиях эвдемонистически-утилитарной антропологии.
Как и всякий трезвый человек, он, конечно, стремится
к выгоде, однако его выгода принципиально отличается
от привычной ulilitas, т.е. "пользы", "блага", разумно
рецептированного удовольствия, которым уделяли так
много внимания и античные, и средневековые, и ренес-
сансные проповедники практического благоразумия. Вы-
22
года предпринимателя — это прежде всего прибыль, и
притом не единичная, а регулярная. Ради ее обеспечения
он готов работать до изнурения, идти на подвиги
воздержания, рисковать здоровьем и даже жизнью.
Интерес дела противостоит прочим практическим
интересам предпринимателя по типу "долг — склонность"
(такова основная оппозиция кантовского морального
учения), а его восприятие доходности дела как
объективно-самоцельной задачи вполне соответствует
формуле "долг ради долга" (таков признанный пароль
трансцендентальной этики).
Предпринимательское практическое усилие
безостановочно: оно не ведает никакого конечного результата,
предметного завершения, никакой causa finalis. Оно
решительно не укладывается в исходную формулу "Ни-
комаховой этики", которая веками считалась чем-то само
собой разумеющимся, аксиоматически очевидным:
"Всякое искусство и всякое научение, а равным образом
поступок (praxis) и сознательный выбор ... стремятся к
определенному благу"7.
Неприменима к предпринимателю и другая известная
максима Аристотеля: "когда достижение цели
представляется возможным, тогда и берутся за дело"8. "Рыцари
наживы" — люди рисковые: они ввязываются в дело
даже при неверных шансах, а затем пытаются повысить
их своей энергией, упорством и сметливостью. От
персонажей предшествующей хозяйственной истории
свободный предприниматель отличается не столько более
цепким рассудком, как это обычно принято думать,
сколько волей (центральное понятие кантовской
практической философии), выражающей себя в
решительности, стойкости, готовности на ходу перестраивать
поведение и затевать все сначала в случае неудачи.
Словом, перед нами фигура, новаторски необычная не
только в узкоэкономическом, но и в общеповеденческом
и, наконец, в моральном плане. Ее отличает мирской
аскетизм (не монашеский, не послушнический, как в
средние века, а продиктованный запросами земного
23
призвания), постоянный самоконтроль
("самопринуждение", если воспользоваться этическим словарем Канта)
и безусловная добросовестность в исполнении деловых —
да и не только деловых — соглашений и обязательств.
Один из лучших знатоков экономической истории
Нового времени, немецкий социолог М. Вебер так
аттестовал этих первых на нашей планете представителей
хозрасчетного образа мысли: они были "людьми с ярко
выраженными этическими качествами, людьми,
прошедшими суровую жизненную школу, осмотрительными и
решительными одновременно, людьми сдержанными и
смелыми, умеренными и упорными — людьми с
принципами"'.
С историко-этической точки зрения капиталист XIX
столетия, который "разделяет с собирателем сокровищ
самодовлеющую страсть к обогащению"10 и готов
пуститься во все тяжкие ради увеличения своей
денежной власти над обществом11, в сущности говоря,
представляет собой "вырожденный случай" этого
гордого и честного "экономического интендантства".
Конечно, он законный потомок свободного предпринимателя
XVI-XVIII вв.
Но только ли он один? Разве не наследует этому
персонажу любая позднейшая форма рентабельного
хозяйствования, и разве можно сбросить со счетов то
обстоятельство, что в самом процессе генезиса
капитализма сформировался не только механизм эксплуат?ции
наемного труда, персонифицированный в крупном
мануфактуристе или фабриканте, но еще и новый,
неизвестный традиционным обществам массовый тип
работника: волевой, упорный, способный к самодисциплине и
обладающий высокой чувствительностью к
материальному стимулированию? Можно сказать и иначе: в процессе
генезиса капитализма впервые появился на свет
развитый и цивилизованный материальный интерес, без
которого, как мы понимаем сегодня, немыслимо никакое (в
том числе и социалистическое) высокоэффективное
производство.
24
Историческое значение ранних буржуазных революций
(Нидерландской, Английской, Северо-Американской и
Французской) никоим образом не исчерпывается их
прямым социально-классовым результатом —
установлением политического господства буржуазии. В ходе этих
революций формируется еще и то, что Гегель, а вслед
за ним молодой Маркс именовали и гражданским
обществом ". На место прежних "органических" сословий
встают политически организующиеся классы. Возникает
система республиканско-демократических институтов и
разделения властей (политической, судебной и
духовной); появляются конституции, декларирующие основные
права человека и гражданина; социальные отношения
строятся в формах взаимопризнания индивидов как
равноправных и юридических лиц".
Инициативным социальным отрядом в борьбе за
утверждение новой хозяйственной и политической
цивилизации была подымающаяся буржуазия. Ее
представители — это и наиболее энергичные агенты
частнопредпринимательской деятельности, и наиболее упорные
(хотя далеко не всегда самые решительные) защитники
институтов формирующегося гражданского общества.
Раннебуржуазные ожидания, установки и способы
понимания общественной жизни значительно выше, богаче,
гуманнее того, что в первой трети XIX в. войдет в
понятие и буржуазности". И дело тут не только в
революционности, которая позже будет утрачена. Дело
еще в том, что раннебуржуазное сознание — это
первоисток социально-многоплановой, никогда не
прерывавшейся и массово влиятельной на Западе
либерально-демократической традиции, политические
достоинства которой мы только сегодня начинаем понимать.
Выражение "раннебуржуазный" не тождественно, как
это ни парадоксально, выражению
аранекапиталистический". В литературе последних лет (например, в книге
"Философия эпохи ранних буржуазных революций") оно
фиксирует прежде всего отличие подымающейся
буржуазии от буржуазии победившей, тогда как слово "ран-
25
некапиталистический" скорее имеет в виду их
генетическую связь.
Итак, эпоха ранних буржуазных революций порождает
не только капиталистически ограниченные социальные,
политические и культурные образования. Она вызывает
к жизни известные "неотмирающие новшества". И,
может быть, никто из ее мыслителей не предугадал этого
мнеотмирания" так ясно, как Иммануил Кант.
Трансцендентально-практическая философия с самого
начала тяготеет к этизации общецивилизационных ран-
небуржуазных завоеваний. Чем дальше, тем отчетливее
в ней обнаруживается мотив морального обоснования
нового гражданско-республиканского мышления,
правосознания и даже частно-предпринимательского
иригоризма дела".
Сама способность Канта усматривать и формулировать
инвариантные правила "моральной грамматики"
внутренне едина с его проницательностью в отношении
вновь нарождающихся установок и норм. Это единство
особенно ясно выражено в основном понятии
трансцендентальной этики — понятии категорического
императива. Оно содержит в себе и извечную идею
"добродетели, которая сама себе служит наградой", и навеч-
ный, граждански-правовой принцип "закон равен для
всех". О категорическом императиве можно с равным
основанием утверждать, что:
(а) это понятие philosophiae perenis ,
предугадывавшееся великими моралистами прошлого;
(б) это понятие этической науки, полный смысл
которого доступен только человеку и гражданского
общества";
(в) это представление раннебуржуазного сознания; оно
могло появиться лишь в пору борьбы с
феодально-абсолютистской государственностью, более того — лишь в
голове мыслителя, имевшего возможность наблюдать эту
борьбу как бы из отдаленной обсерватории, как бы через
* вечной философии (лат. ) — ред.
26
телескоп книжности, который сфокусирован на
эпохальном и общеевропейском.
Этическая рефлексия "кёнигсбергского затворника"
исключительно точна в распознавании общей динамики
эпохи, представленной в моральных конфликтах. Однако
по достоинству оценить эту точность можно лишь в том
случае, если мы сами избавляемся от приблизительных
и схематических представлений, навеянных общей
моделью "смены общественно-экономических формаций",
и учитываем то, что добыл в последние годы конкретный
стадиальный анализ генезиса капитализма.
3. Неофеодальная власть
Социальные коллизии Нового времени определялись
развитием рынка и товарно-денежных отношений,
вторгшихся в патриархальный и полупатриархальный быт. Расхожие
экономические описания этого процесса фиксировали
один-единственный его результат, формирование ь
странах Западной Европы мануфактурного капитализма. В
кратких социально-экономических введениях к истории
философии Нового времени оно зачастую вообще
принимало вид фатальной, необратимой и безальтернативной
революции в способе производства. Между тем грамотные
историки хозяйства уже давно (в марксистской литературе —
с начала 60-х годов) обратили внимание на серьезную
противодействующую тенденцию — на сложную
обновительную трансформацию самой феодальной практики, вызванную
тем же развитием товарно-денежных отношений.
В XVH-XV1II вв. феодализм заявил о себе как
общественная система, способная уживаться с
различными хозяйственными укладами и успешно адаптировать
механизмы развивающегося рынка. Подорванными
оказались не основы феодальной эксплуатации как таковой,
а лишь ее традиционно-патриархальные формы. Кризис
сеньорального строя, покоявшегося на барщинной
системе, не поколебал самой практики внеэкономического
принуждения. Она не только сохраняется, но и ужесто-
27
чается под эгидой новой абсолютистской
государственности, культивируя самые беззастенчивые, самые
циничные формы использования человека итолько как
средства" (термин Канта).
Если и классическим феодализмом" считать формы
хозяйствования, характерные для европейского
"высокого средневековья", то можно утверждать, что в странах
континентальной Европы утверждается своего рода и
неофеодализм". Он возникает в ответ на начавшееся
развитие буржуазного хозяйственного уклада и во многих
отношениях представляет собой, как выразился МЛБарг,
"феодальную реакцию, поднявшуюся на раннекапитали-
стических дрожжах"12. Он является таким же естествен-
ноисторическим порождением расширяющегося
товарно-денежного обмена, как бюргерское богатство и
раннее мануфактурное производство.
Главная примета европейских а неофеодальных"
порядков - это соединение традиционных методов
эксплуатации с вновь родившимися
утилитарно-прагматическими и торгашески-меркантильными устремлениями. Новая
феодальная знать, для которой деньги "уже сделались
силой всех сил"13, проявляет неведомую "сонному
средневековью" практическую энергию и хитрость. Бок
о бок с ранним буржуазным предпринимательством
развивается оголтелое позднефеодальное
приобретательство, которое захватывает все модифицирующиеся
традиционные сословия (рыцарей, ландскнехтов,
священников, чиновников, юристов и т.д.).
Приобретателю еще чужда ориентация на деньги как
капитал, на "неустанное движение прибыли", которое
не замыкается больше ни на какую потребительную
стоимость14. Деньги влекут его к себе как универсальное
средство платежа. Чаще всего они накапливаются для
отсроченной социально-эффективной затраты (покупки
земельной собственности, званий, должностей и
протекций). Тем не менее мирское всевластие денег
приобретатель уже вполне сознает и не уступает протокапита-
листу ни в алчности, ни в прагматизме. Более того,
28
соединяясь с феодальным правом на насилие, с
вотчинным произволом и властолюбием, алчность
приобретателя становится до конца авантюристичной и
хищнической. Феодальное накопление денежных богатств
совершается за счет особо безжалостного расточения труда,
истощения почв, разбазаривания национальных
природных ресурсов.
К.Маркс неоднократно разъяснял, что первоначальное
накопление капитала, по строгому счету, относится к
предыстории последнего. Капитализирующиеся
независимые производители в городе и деревне накапливают
лишь незначительную его часть; львиная доля денежных
богатств сосредоточивается в руках меркантилизирую-
щихся землевладельцев, коммерсантов духовного звания,
чиновников-спекулянтов, дворян, ринувшихся в
пиратство и колониальный разбой, и т.д. На деятелях позднего
(приобретательского) феодализма, а не на первых
представителях буржуазного предпринимательства как
такового лежит главная вина за эту "кровь и грязь", которую
"новорожденный капитал источает из всех своих пор, с
головы до пят"15.
Меркантилизирующиеся привилегированные сословия —
главный очаг процесса, о котором КМаркс писал: "в
течение мануфактурного периода общественное мнение
Европы освободилось от последних остатков стыда и
coBec-m"16.
Нередко случается, что в нашей литературе такие
установки, как гедонизм, эгоизм, расчетливость,
алчность, беспринципность и т.д., жестко и однозначно
соотносятся с капиталистической хозяйственной
практикой. Выражение "буржуазный" сопровождает их в
качестве своего рода постоянного эпитета. В
действительности установки эти древнее капитализма и
утверждаются всюду, где происходит рыночное разложение
общинно-патриархальных порядков. В XVI-XVIII вв. они
проникают во все сословия (как традиционные, так и
зарождающиеся), цинической же завершенности
достигают в " неофеодальных" верхах, эксплуатирующих сам
29
кризис средневековых устоев. Именно в качестве
таковых себялюбие, гедонизм, алчность и т.д. превращаются
в устойчивый объект раннебуржуазной этической
критики, начиная с лютеровского протеста против
индульгенций, кончая социальными диагнозами Монтеня,
физиократов, Монтескье и Руссо. Ригорист Кант выступает
как последовательный завершитель данной традиции.
Утилитарная беззастенчивость, против которой заострено
его моральное учение, — это по сей день не изученное
интегральное выражение позднефеодального
нравственно-психологического климата.
Дело не только в том, что из-под пера образованных
представителей тогдашней знати выходят почти
ницшеанские по духу манифесты вседозволенности17. Дело
еще в том, что меркантилизирующиеся феодальные
верхи насаждают в обществе безнравственную
интерпретацию самой нравственности (ядром которой
становится макиавеллистски-иезуитская формула "цель
оправдывает средства"). Уже в XVI в. в трактатах и расхожих
руководствах, составлявшихся так называемыми "стей-
тистамия (придворными советниками государей по
делам "политики и воспитания"18), нравственность
начинает трактоваться как совокупность условных, а то и
сомнительных правил, которые нуждаются в оправдании
со стороны удовольствия, выгоды, меркантильного или
политического успеха. Утилитарная редукция морали,
которую Гельвеций и Гольбах попытаются использовать
в качестве приема, позволяющего выявить и объяснить
ее непреходящую значимость, в позднефеодальной
культуре прямо работает на релятивизацию нравственных
норм. Умение обходиться с ними "макиавеллистски",
как с условными "стратагемами", становится
предпосылкой служебной карьеры и подключения к механизму
власти. Убеждение, что добрые дела можно совершать
лишь ас задней мыслью", лишь в расчете на публичный
успех, земную или небесную награду (убеждение, в
котором Кант усмотрит сущность "радикального зла"),
приобретает смысл декадансного идеологического посту-
30
лата. Всякий ригоризм добродетели — как в прошлом,
так и в настоящем, — берется под подозрение: в нем
усматривают выдумку, легенду, нераспознанное безумие
или особо искусное лицемерие.
Не менее существенно, что утилитарная редукция
морали дополняется в XVI-XVIII вв. придворно-холоп-
ским (в пределе — этатистским) ориентированием
самого утилитарного расчета. Чем решительнее
требования нравственности низводятся до условных лравил,
обеспечивающих приспособление к обстоятельствам, тем
настойчивее подчеркивается, что самое важное
обстоятельство, с которым люди сталкиваются в своем
жизненном опыте, — это отношение к ним власть имущих19.
Именно в той мере, в какой релятивизируются обычные
нравственные нормы, властным распоряжениям
сообщается безусловный и даже священный смысл. Механика
служебного и придворного приспособленчества делает
осязаемо понятной одну из сложнейших логических
выкладок Канта: гетерономия в значении "чужестийно-
сти" поведения (подчинения его привходящим мотивам,
не относящимся к собственной интенции поступков)
ищет завершения в буквальной гетерономии, т.е. в
"чужезаконном " поведении (в действии по чужому
предписанию).
Раболепство в "низах" сословной карьеры,
лицемерное благочестие на ее "средних этажах"и утилитарно-
гедонистическая беззастенчивость иверхов" — таковы
три главных выражения одного и того же прагматически
пошлого иразумного эгоизма", утвердившегося в общем
сознании задолго до того, как появились антифеодальные
философские учения, начертавшие это выражение на
своем знамени. "Разумный эгоизм" (или, если
выразиться точнее, не языком философско-идеологических
паролей, — расчетливый эвдемонизм) — конъюнктурный
стержень всех жизненно-практических отношений в
условиях неограниченной монархии. Это
вульгарно-прозаический секрет "абсолютистской культуры", таящийся
под легендарным, чарующе голубым (цвет чести!) муш-
31
кетерским плащом20. И не было в Западной Европе
мыслителя, который сделал бы для разгадки этого секрета
больше, чем создатель трансцендентально-практической
философии.
Кант удивительно ясно понимает внутреннее родство
двух основных настроений, порождаемых
феодально-абсолютистским режимом. Это, с одной стороны,
отсутствие сознания личного достоинства, приниженность,
несамостоятельность и внутренняя приуготовленность к
гетерономии, которые развиваются под воздействием
деспотического насилия. С другой — всеобщая
подкупность, утилитарная хитрость и почти оккультное отношение
к удовольствиям, вызванное меркантшшзаццей.
общественной жизни.
И самое любопытное, что явления эти вовсе не,
немецкие, а именно общеевропейские, ярче всего
представленные в структуре французского абсолютизма.
Неограниченная монархия последних Людовиков
подымает до рекордного уровня все формы
централизованной государственной репрессии, но одновременно
представляет собой как бы опережающую " неофеодальную"
пародию на зрелый, нравственно опустившийся
капитализм с его культом крупных денежных состояний.
Во Франции XV1I-XV1II вв. деньги еще весьма редко
функционируют в качестве капитала: они лишь в
ограниченных размерах находят на рынке такой товар, как
рабочая сила, и поэтому не могут подчинить себе самих
условий производства. Между тем в сфере социальных
отношений (внутрисословных и межсословных) деньги
получают неограни- ченную власть. Царство
"бессердечного чистоганап уже налицо, и в "ледяной воде
эгоистического расчета" уже растопляются сеньоральная
честь и вассальная привязанность, достоинство
наследственных званий и чистосердечность услуг.
Уровень развития товарного производства во Франции
XVII-XyiII вв. значительно ниже, чем в
капитализирующейся Англии, а вот товарно-денежный фетишизм здесь
"на порядок выше". Убеждение в том, что с помощью
32
денег можно все приобрести и подчинить, что они
"делают старого молодым, безродного знатным, а
безобразного прекрасным", что им присуща иррациональная
способность к самовозрастанию и т.д. — неотъемлемый
элемент феодально-абсолютистской культуры. Опираясь
на это убеждение, французские придворные вельможи и
финансисты середины XVIII в. вытворяют такие валютные
фокусы, практикуют такие изощренные приемы кредит-
но-биржевого грабежа, до которых буржуазные "рыцари
наживы" дорастут разве что к концу XIX столетия.
Достаточно вспомнить хотя бы знаменитую аферу Лоу,
по сути дела представлявшую собой хитро обставленное
банкротство государства-дебетатора (интересно, что Кант
был неплохо осведомлен об этом абсолютистском
мошенничестве и специально разбирал его в лекциях,
читанных в 1780-1782 гг.).
Неограниченная монархия нередко трактовала себя как
орудие преодоления нравственного кризиса, вызванного
общей меркантилизацией жизни. Она тяготела к
дисциплинарно-административному **исправлению нравов", к
реставрации пошатнувшихся мдобрых обычаев". Она
охотно принимала на себя функцию моральной полиции,
т.е. строгой репрессией пыталась удержать своих
подданных в границах патриархального благочестия. Однако
уже к началу XVIII в. стало очевидным, что это палочное
принуждение к добропорядочности само является
сильнейшим ферментом деморализации.
В системе "абсолютистской культуры" нравственные
требования в собственном смысле слова ставились на
одну доску с совершенно произвольными
предписаниями, менявшимися день ото дня. Наряду с простейшими
заповедями и заветами совершенства в священный долг
вменялись и подвижные соображения государственной
целесообразности, и правила внешнего церковного
благочестия, и ритуальные верноподданнические жесты, и
умножающиеся повинности, и даже профилактические
советы, касающиеся здоровья.
Вот уже эта практика была доведена до фарса на
Я Заказ №1663
33
родине Канта. Уголовные кодексы немецких княжеств
напоминали одновременно и катехизис, и полицейский
устав, и наставление по домоводству. Даже "Всеобщий
свод прусских законов", вступивший в силу во время
Французской революции и отмеченный печатью
просветительских идей, включал в себя сотни мелочных
патерналистских регламентации. Здесь предписывалось,
чтобы мать непременно сама кормила своего ребенка, а
отец определял продолжительность кормления
новорожденного. Не менее, чем в ста параграфах
формулировались запреты и дозволения, касающиеся внебрачного
сожительства. Вытравливание плода предотвращалось
девяноста семью параграфами, один из которых гласил:
" Всякая особа женского пола _ должна внимательно следить
за своими телесными качествами и регулярно
повторяющимися необычными состояниями". Строго расписывались
правила добропорядочного переезда из города в город, и
даже сооружение громоотвода в собственном доме
требовало специального разрешения полицейских властей.
Все это было не просто комично, не просто
оскорбительно для нравственно развитого человека. Нормативная
эклектика, соединенная с неразборчивой
безжалостностью наказаний, постепенно вела к тому, что
действительно безусловные требования типа "не убий", "не
воруй", "не лги" делались для человека ничуть не более
священными, чем, скажем, новое казуистическое
ужесточение налога на соль.
Но самое печальное заключалось в том, что регулярная
морально-полицейская опека превращала страх перед
наказанием в основной мотив нравственного поступка.
Она поддерживала благонравие лишь в той мере, в какой
делала язык приманок и угроз единственно понятным
нравственным языком. Она обуздывала дерзкое своеволие
и одновременно насаждала всеобщую затравленность и
пронырливую духовную низость. Она оберегала прописи
обычая, но подрывала основное правило извечной
"моральной грамматики" — правило самой высокой оценки
безоплатной добродетели.
34
Нравственный кризис, вызванный разложением
традиционно-патриархальных устоев и усугубленный
насильственным патерналистским вмешательством феодально-
абсолютистского государства, — таково общее
проблемное поле кантовской этики. Кант выступает прежде всего
против утилитарной редукции нравственности,
соединенной с апологией опекающей и воспитующей
неограниченной власти. Этой важнейшей установке и
абсолютистской культуры" он противопоставляет идею
безусловных общезначимых обязанностей, соединенную с идеей
равнодостоинства людей.
В 1793 г. в Париж прибыл ученик и самобытный
последователь Канта Г.Форстер. Что же застал он в
столице Франции? Может быть революционный
утилитаризм и циническую патетику "частного интереса"?
Ничего подобного. "Третье сословие" говорило на языке
хорошо знакомого Форстеру морального идеализма,
ригоризма и гражданской беззаветности. Все выглядело
так, словно на революционные трибуны один за другим
всходили отчаянно последовательные приверженцы
трансцендентально-практического учения. Они клеймили
"всесильный эгоизм" старого режима и "заботливо
взлелеянный им-, инстинкт самосохранения".
Можно сказать, что корреспонденции Г. Форстера
предваряли известную Марксову оценку философии Канта как
"немецкой теории французской революции".
В последнее время эта оценка цитируется нами охотно
и часто. Однако почти никто не дает себе труда продумать
содержание масштабной полемики, в которой она
родилась. Между тем вопрос об идейном противнике, с
которым спорит Маркс, имеет принципиальное значение
для понимания его отношения к Канту.
4. Кант и Гуго (о формуле
"немецкая теория французской революции")
В советском кантоведении 30-40-х и даже 50-60-х годов
формула " немецкая теория французской революции " употребля-
3*
35
лась редко и с пространными оговорками. Серьезный
перелом в ее трактовке произошел в 1974 г., в ряде публикаций,
подготовленных к 250-летию Канта. Высказывание Маркса
впервые стало пониматься здесь как самостоятельная и
полноценная смысловая единица, не отсылающая ни к
какому другому ("более зрелому") марксистскому тексту.
Вместе с тем еще и сегодня нельзя утверждать, что
смысл этой смысловой единицы хорошо понят. В нашем
кантоведении, насколько мне известно, никогда не
предпринималась попытка проанализировать контекст,
в котором появилось выражение "немецкая теория
французской революции", т.е. общее содержание статьи
Маркса "Философский манифест исторической школы
права".
Попытаюсь хотя бы отчасти восполнить этот пробел.
"Философский манифест исторической школы права" —
одно из наиболее решительных выступлений "Рейнской
газеты" против консервативного социального
романтизма.
Сразу надо пояснить, что понятие это не совпадает с
понятием романтики как литературно-эстетического
движения. "Социальный романтизм" — позднефеодальная
реакция на развивающиеся капиталистические
отношения, на Французскую революцию и либеральные идеи
Просвещения. Это апология средневековой сословной
иерархии и корпоративного строя, это возврат к модели
феодальных "прав-привилегий", противопоставленных
"естественному праву" XVIII в. В Германии после
образования Священного союза (1815) социальный
романтизм представлен прежде всего официальным
пиетизмом, мыслителями национально-монархического
направления (вроде Яна) и многочисленными поэтами
и литераторами сентиментально-традиционалистского
толка. Литературно-эстетический романтизм включается
в это движение лишь своим "правым крылом" и лишь
в результате консервативно-сервильного перерождения.
Суть последнего блестяще (буквально в одной фразе)
выразил в свое время МАЛифшиц: "Будучи сначала
36
демократической оппозицией против невыносимой опеки
просвещенных немецких государей, романтизм продолжал
свою карьеру в эпоху Священного союза на службе у
Генца и Меттерниха, в качестве позитивного, лишенного
всякой внутренней иронии романтизма"21.
В конце 30-х годов ключевые позиции в
консервативно-романтическом лагере захватывают представители
исторической школы права (Ф. Савиньи, Г. Пухта, Ф. Ю.
Шталь и др.). После 1840 г., когда на престол взошел
Фридрих-Вильгельм IV, школа получает официальную
поддержку и теснит на немецких кафедрах
умеренно-охранительную старогегельянскую философию.
Представители исторической школы (это относится
прежде всего к Ф. Савиньи) могут считаться
родоначальниками этно-юридического направления в правоведении,
научная плодотворность которого неоспорима. Но они
же закладывают основы одного из самых опасных
идеологических движений XIX-XX вв., юридического
позитивизма.
В идейной полемике 30-40-х годов историческая
школа права заявила о себе как течение
"почвенническое*, германофильское, ополчившееся на и
фривольность" новейшего французского свободомыслия.
Суровые традициона- листские нотации скрывали под собой,
однако, совершенно прозаическое и безыдеальное фи-
лософско-историческое настроение, граничившее с
правовым нигилизмом. Последнее еще в 1833 г. было
проницательно подмечено Г. Гейне.
"Мудрецы исторической школы, — писал он, — во
всех земных вещах видят только беспощадный
круговорот; в жизни народов, как и в жизни отдельных людей,
здесь, как и в органической природе вообще, они
усматривают лишь рост, расцвет, увядание и смерть...
Они покачивают головой, когда им напоминают о наших
боях за свободу, которые, по их мнению, на то лишь и
годятся, чтобы вызвать на свет новых тиранов... "22.
В 1838 г. Савиньи публикует юбилейную статью,
посвященную Г. Гуго, основателю исторической школы
37
права, и привлекает внимание к его сочинению
"Учебник естественного права как философии позитивного
права" (1813). В апреле 1842 г. молодой Маркс берется
за перо и пишет для "Рейнской газеты" свою
рецензию-памфлет, где учебник Гуго и аттестуется как
"философский манифест исторической школы права".
Маркс подхватывает и развивает мотив, намеченный
Гейне: резонирующий традиционализм — это
позднейший официальный фасад исторической школы; ее
подлинный дух (выболтанный tyro) является совсем иным. —
Каким же?
"Гуго, — пишет Маркс, — развенчивает все, что свято
для справедливого, нравственного, политического
человека*2^. Это апостол "фривольно-бесстыдной мысли"24.
Мы находим у него "фривольность прожигателей жизни,
пошлый скептицизм, наглый по отношению к идеям и
в высшей степени покорный по отношению ко всему
грубо- осязаемому..."25. Гуго "законченный скептик.
Скептицизм восемнадцатого века, отрицавший
разумность существующего, проявляется у Гуго как
скептицизм, отрицающий существование разума_w26. Поэтому он
"с безошибочно верным инстинктом усматривает во
всем том, что является в институтах разумным и
нравственным, нечто сомнительное для разума"*7. В итоге
"только животная природа представляется его уму чем-то
несомненным " 28.
Таков первоначальный пафос "позитивно-правовой"
концепции. Если прибегнуть к отработанным историко-
этическим понятиям, то его надо определить как пафос
циничного гедонизма, обнаруживающего себя то в форме
беспринципной утилитарной расчетливости, то в форме
беспринципного легкомыслия ("фривольности").
Каковы же социальные корни этого пафоса? Маркс
не оставляет на этот счет никаких сомнений. Циничный
гедонизм, возведенный Гуго в концепцию, — это
господствующее позднефеодальное умонастроение,
встречающееся прежде всего при дворах (в частности,
во Франции "при развратном дворе регента"29). "Это
38
загнивание тогдашнего мира, который наслаждается
этим своим загниванием"**.
А какой образ мысли является прямой
противоположностью циничного гедонизма? Маркс опять-таки отвечает
совершенно определенно. Это общегуманистический
граждански-политический пафос, заявивший о себе в 1789
г. во французском Национальном собрании как и чувство
собственной силы, присущее новой жизни"31.
От разлагающегося мира он отличает себя нормативно,
возвышаясь до идеи общечеловеческих ценностей и
законосообразности, усматриваемой разумом.
Вот в этом-то контексте и появляется Марксова оценка
философии Канта. Она звучит так: "Если поэтому
философию Канта можно по справедливости считать
немецкой теорией французской революции, то
естественное право Гуго нужно считать немецкой теорией
французского ancien regime"32.
Оставим пока в стороне курсивы (злополучные курсивы,
если вспомнить историю цитирования и толкования этой
фразы Маркса). Всмотримся в смысловую антитетику,
которая невидимым курсивом выделяет два ключевых
выражения, а именно: "французская революция" и
"француз- ский старый режим".
В высказывании Маркса — и в этом суть дела! —
концепция Канта, с одной стороны, и концепция Гуго —
с другой, ставятся в соответствие с двумя вовсе не
немецкими, а эпохальными, общеевропейскими
политическими тенденциями.
Первая — это раннебуржуазная оппозиция по
отношению к разлагающимся феодальным порядкам, которая
находит завершение во Французской революции 1789-
1794 гг. Вторая — позднефеодальное стремление
приспособиться к факторам, вызывающим это разложение,
гедонистически обжиться в нем — стремление,
эталонным выражением которого можно считать социальное
поведение дворянских верхов в пору кризиса абсолютной
монархии во Франции.
Замечательная догадка (пока еще догадка) молодого
39
Маркса заключалась в том, что обе эти тенденции
претендовали на известную "рационализацию" и
пытались поставить себе на службу просветительское
мышление.
Для нас привычно думать, что Просвещение — это
раннебуржуазное идеологическое образование. Однако
Маркс в "Философском манифесте исторической школы
права" смотрит на дело иначе. Просвещение трактуется
им здесь скорее как антипатриархальный,
"антисредневековый " образ мысли, интегральным выражением
которого можно считать скептицизм, или критическое
здравомыслие в самом широком понимании. Скептицизм
либо находит свой логический предел в нормативном
истолковании разума — соответственно, в нормативном
употреблении понятия " естественный *, обращаемого
против устаревших институтов и порядков (это и будет
буржуазное Просвещение в строгом смысле слова), либо
становится азаконченным" (циничным) скептицизмом,
который ополчается против самой идеи нормативной
разумности и согласен считаться только с "фактичным"
и "данным", с тем, что продиктовано "авторитетом
обстоятельств ".
аГУго приемлет эпоху Просвещения", — говорит Маркс.
Но Гуго — это "просветитель ancien regime "33.
Перед нами характеристика, обладающая большим
эвристическим потенциалом. Маркс открывает в лице
Гуго некоторый идеологический тип, представителей
которого в период стабилизации и кризиса абсолютизма
можно найти повсеместно (но который, увы, нашими
исследователями просветительской философии вообще
не замечен). Во Франции конца XVIII в. выразительные
примеры "старорежимного" или, если говорить более
обобщенно, позднефеодалъного, просвещения
преподносит маркиз де Сад34. То же можно сказать и о
известных предреволюционных публицистах Ленге и
Мелоне, защищавших неограниченную монархию с
позиций цинически последовательного житейского
материализма.
40
Но и прежде —в XVII и даже в конце XVI столетия —
мы встречаем концепции, которые должны быть
включены в историю Просвещения, но не могут считаться ни
буржуазными, ни предбуржуазными. Таково
политическое учение Ж. Бодена, таковы
утилитарно-рационалистические двусмысленности Б. Мандевиля, таково
сочинение убежденного монархиста Ж.Б. Боссюэ "Политика,
извлеченная из Священного писания" (1709), в котором
" на каждом шагу встречается оправдание
действительности ссылкой на существующий факт и обращение к
разумно понятым интересам"35. Сведение
"естественного" к "житейски понятному" и даже к "животному" —
давняя тенденция феодально-абсолютистской идеологии;
Гуго лишь находит для нее предельное выражение. И
наоборот, Кант, если следовать логике Марксовых
соотнесений, должен рассматриваться как предельный
выразитель того нормативно-идеализирующего понимания
"разумного" и "естественного", которое мы находим у
П. Бейля, Дж. Локка, А. Смита, Б.Франклина, Ж.-Ж.
Руссо, Б.Констана, т.е. у просветителей, в наибольшей
степени заслуживающих названия раннебуржуазных.
В советской литературе формула "немецкая теория
французской революции", как правило, заслонялась
другой, более поздней оценкой философии Канта,
набросанной Марксом и Энгельсом в третьей главе
"Немецкой идеологии", в разделе "Политический
либерализм" (1846). Считалось даже, что она представляет
собой абстрактное и незрелое предварение этой оценки:
выражение "немецкая" предлагали читать как
"немецко-филистерская", то бишь соответствующая "бессилию,
придавленности и убожеству немецких бюргеров..."36.
Попробуем разобраться в этих суждениях, получивших
прочность историко-философского предрассудка.
Психологическая характеристика немецкого
бюргерства в сочинениях, вышедших из-под пера
основоположников марксизма в 1844-1846 гг., — один из самых
блестящих сословью-классовых портретов, когда-либо
появлявшихся в социально-критической литературе. Это-
41
го не скажешь, однако, о скупой,
схематически-шаржевой зарисовке, которой они удостоили
трансцендентальную этику: "Кант успокоился на одной лишь доброй
воле, даже если она остается совершенно
безрезультатной"37.
Справедлив ли этот приговор, смыкающий кантовскую
философию с мечтательным филистерством? Нет, и в
вышей степени показательно, что советское кантоведе-
ние так и не нашло для него убедительных
текстологических подтверждений38.
Кантовская высокая оценка всякого — в том числе и
нереализованного — доброго намерения не имела ничего
общего с успокоенностью и прекраснодушным
упованием, характерными для немецкого политического
либерализма 30-40 годов XIX в. Много раз, в новых и новых
выражениях, Кант разъяснял, что доброе намерение,
которое не содержит полной готовности к действию и
остается всего лишь благим пожеланием, должно
оцениваться как нравственно сомнительная установка.
Но разве не верно, что создатель трансцендентально-
практической философии и перенес осуществление
доброй воли, гармонию между ней и потребностями и
влечениями индивидов в потусторонний мир"*9? Верно,
однако представление это принадлежит этикотеалогии,
образующей достаточно искусственную надстройку над
основным этическим зданием40. Оно не отменяет общего
стойко-ригористического пафоса кантовской концепции,
с самого начала предполагавшей, что человек обязан
поступать нравственно даже без надежды на
непременный (безразлично, земной или загробный) вселенский
успех добра.
У Канта немало суждений, которые могут быть
редуцированы к филистерски-бюргерским умонастроениям.
Таковы, например, педантические выкладки его и
моральных катехизисов", его комически уставное понимание
супружеских обязанностей, его верноподданнический
буквализм в трактовке заповеди "нет власти, кроме как
от Бога". И все-таки это примеси, отличающиеся от
а->
основного смыслового состава кантовской этики.
Последний выработался в реторте переломной
общеевропейской эпохи, а не в прусской чиновно-мещанской
пробирке. Формула " немецкая теория французской
революции" предполагает именно такую пространственно-
временную размерность. Слово "немецкая" в ней в
общем-то не подразумевает ничего иного, кроме
концептуальной последовательности, отличавшей немецкие
философские умы, или, как выразится Ф. Энгельс в 1886 г., —
ничего, кроме «великого интереса к теории», который
"составлял славу Германии в пору глубочайшего
политического ее унижения"41.
Нет никакой необходимости подставлять оценки,
найденные Марксом и Энгельсом в 1846 г., в формулу,
принадлежащую 1842 г. В контексте статьи " Манифест
исторической школы права" они обретают грубо
маркировочный, более того — вульгарно-социологический
характер. И происходит это потому, что, как ни
парадоксально, смысловое поле данной, еще очень ранней,
работы Маркса шире и богаче тех вопросов, которые
обсуждаются в разделе "Политический либерализм"
третьей главы "Немецкой идеологии".
"Манифест исторической школы права" — первое
прикосновение Маркса к масштабной проблематике
генезиса капитализма в Западной Европе. Конкретное
освещение она получит лишь в 50-60-х годах (в
"Очерках критики политической экономии" и первом
томе "Капитала"), хотя к трактовке раннебуржуазного
морально-политического идеализма — и к пониманию
Канта как его выразительнейшей персонификации —
Маркс здесь уже не вернется.
Формула "немецкая теория французской революции"
нацеливает на весьма своеобразный способ
интерпретации трансцендентально-практического учения. Речь идет
вовсе не о том, какие отзвуки зарейнские лозунги и
декларации вызвали в уме стареющего кёнигсбергского
профессора (основные этические идеи Канта
сформировались еще до революции, и это не было секретом
43
для молодого Маркса). Формула ориентирует на
понимание кантовской моральной философии как живого
компонента в потоке общеевропейских духовных
предварений французских революционных идей. При этом во
внимание должны быть приняты не только моральные
и политико-юридические трактаты XVI-XV1II вв. Тексты
Канта необходимо соотнести с основными конфликтами
нравственного сознания, отличавшими эпоху, в которую
еще весьма и весьма некапиталистический буржуа
столкнулся на исторической арене с уже совсем
несредневековым феодалом.
II
В морально-практическом учении Канта можно выявить
три проблемно-смысловых слоя: (а)
морально-метафизический, (б) этический, (в) моралистический.
Моральная метафизика — наиболее глубокое
измерение кантовской практической философии. Это учение о
положении человека в мире, о свободе и необходимости,
о ноуменальной и эмпирической реальности. И в
мировой, и в отечественной кантоведческой литературе
оно издавна было объектом преимущественного
внимания и вызвало к жизни немало новаторски-творческих
интерпретаций *.
Этика Канта в точном смысле слова — это его
понимание природы морали, отношения мотива и
поступка, склонности и долга, гипотетического и
категорического императива, идеалов и моральных постулатов. В
исследованиях,посвященных данному аспекту
трансцендентально-практической философии, также нет
недостатка, хотя в советской литературе он выделен и
зафиксирован довольно поздно2.
Но что по сей день остается вне поля зрения наиболее
серьезных кантоведов, так это своеобразная
моралистика "кёнигсбергского затворника".
Чему Кант хотел научить людей? Что он проповедовал?
Какие пороки представлялись ему наиболее пагубными?
Какого рода моральный склад и способ понимания
добродетельного поведения он хотел бы культивировать?
Нередко можно слышать, будто Кант не задавался
подобными вопросами и будто принципиальное равно-
45
душие к ним как раз и отличало его (как мыслителя
"метаэтического склада") от резонеров Просвещения.
На деле кантовские сочинения содержат достаточно
большой объем моралистических ("учительных")
текстов. Особенно богато ими последнее из его этических
сочинений — "Метафизика нравов" (1797). Трудность,
однако, заключается в том, что даже здесь структура
кантовской моральной проповеди не вполне выявлена:
она подчинена логике обсуждения теоретико-этического
вопроса "что есть добродетель?"
Вот почему настоящим подарком для исследователей,
питавшихся реконструировать возможную для Канта
моралистику, явились студенческие конспекты лекций по
этике, которые философ читал в Кёнигсбергском
университете в 1780-1782 гг. и которые в 1924 г. были
опубликованы немецким Кантовским обществом3.
Предписанной задачей лекций было не изложение
этической теории в строгом смысле слова (в 1780-1782
гг. Кант, кстати, еще и не располагал ею), а более или
менее систематическое нравственное просвещение
юношества. Лекции читались по обязательному для всех
прусских университетов компендиуму, когда-то
составленному А. Баумгартеном. Однако допускались — и даже
приветствовались — свободные импровизации и
рационально-критические комментарии.
Кант в полной мере пользовался этой возможностью.
Лекции характеризуют его как оригинального и
увлеченного учителя-моралиста и одновременно как
проницательного диагноста основных нравственных недугов
эпохи. В тексте лекций можно найти совершенно
определенные ответы Канта на следующие вопросы:
1) какие пороки следует ныне признать тягчайшими
и опаснейшими?
2) какие добродетели должны культивироваться
прежде всего?
3) какие недостатки в образе мысли благонамеренных
людей (недостатки, обусловленные их этической
неразвитостью) мешают борьбе с опаснейшими пороками?
46
В анализе этого материала я вижу свою
первоочередную задачу.
1. Уважение к правам,
патерналистское сострадание и зависть
(1) "Самыми ужасными тремя пороками, которые мы
можем рассматривать все вместе и которые воплощают
подлейшие и злейшие наши устремления, являются:
неблагодарность, зависть и злорадство. Когда же они
достигают своей высшей степени, то превращаются в
дьявольские пороки"4. Таково центральное
обличительное утверждение Канта-диагноста. В ходе его
обоснования выясняется, что весь комплекс "ревности—зависти"
рождается на почве состязания за жизненные блага и
именно в тех случаях, когда у людей отсутствуют равные
возможности для участия в таком состязании. Силы,
которые должны бы тратиться на самосовершенствование
и достижение честного успеха, конкурент-неудачник
направляет на умаление достоинств соперника. В пределе
это ведет к тому, что завистник "желает таким образом
наслаждаться своим счастьем, чтобы все вокруг него
были несчастны"5. Зависть в этом случае превращается в
"угрюмую страсть, терзающую человека и влекущую к
разрушению счастья других"". Он опускается до того, что
находит "непосредственное удовольствие в чужих
неудачах"7.
Злорадство — это как бы
мстительно-мизантропическая инверсия скряжничества. Кант помещает скрягу
("собирателя сокровищ" — причудливо-химеричного
хозяйственного персонажа, одновременно и позднефео-
дального, и раннекапиталистического) на одну из низших
ступеней в лестнице человеческих существ. И все-таки
это еще не самое глубокое падение. "Скряга, — замечает
Кант, — хочет как можно больше присвоить себе, однако
не испытывает удовольствия, когда у других ничего нет"8.
Что же касается злорадного представителя черни, то
чужая утрата тешит его более, чем собственное приоб-
47
ретение (как бы по пословице "пусть лучше у соседа
сдохнет корова, чем мне завести козу*). Злорадство,
восклицает Кант, "делает очевидным
человеконенавистничество "9.
(2) Противоположный полюс по отношению к
комплексу "ревности—зависти" образует высшая из
нравственных обязанностей. Какая же ? — Ответ Канта
удивителен и имеет первостепенное значение для всей
концепции, развиваемой в этой книге. За пять лет до
написания первого собственно этического сочинения,
как бы заранее ориентируя всю свою будущую моральную
философию. Кант заявляет: "Высшей среди
обязанностей является глубокое уважение к праву других людей.
Наш долг состоит в том, чтобы глубоко уважать право
других и как святыню чтить его. Во всем мире нет
ничего более святого, чем право других людей. Оно
неприкосновенно и нерушимо. Проклятие тому, кто
ущемляет право других и топчет его ногами! Право
человека должно обеспечивать ему безопасность, оно
сильнее всякого оружия и надежнее всех стен"10.
В 1780-1782 гг. Кант еще не располагал
собственным теоретическим понятием права. Он опирался на
полуинтуитивное представление о правах человека,
воспринятое образованными кругами Западной Европы
из "Декларации независимостип (1776) и первых
конституций северо-американских штатов*1. Кант еще
не вполне проработал и понятие обязанности
(императива). Однако важнейшая "смысловая спайкап всей
его концепции: единство императивного пафоса и
пафоса права как высшей гуманистической ценности —
уже налицо.
Строго говоря, обязанность уважения к праву других
вовсе не принадлежит к первоначалам нравственности.
Это элементарная ячейка ("клеточка") правосознания.
И все-таки при построении здания кантовского
морального императивизма именно она поначалу кладется в
фундамент и получает смысл наглядного прообраза
чистого долженствования.
48
Показательно и другое. В лекциях 1780-1782 гг. Кант
с сомнением относится к общеупотребительному правилу
рационализации, характерному для моральной
философии XVII — первой половины XVIII в.: от себялюбия к
человеколюбию (" возлюби ближнего своего, как самого
себя"). Одновременно он с новаторской смелостью
применяет в области морали правило юридической
рационализации: "уважай свое право так же, как ты
обязан уважать право других9*. "Каждый человек, — пишет
Кант, — обязан отстаивать свое право и следить, чтобы
другие не топтали его ногами. Он не должен отказываться
от человеческого преимущества "иметь право", а обязан
так долго отстаивать его, как только может, потому что,
отказываясь от своего права, он отказывается и от права
называться человеком"1^.
Уважение к праву — это уважение к самой роли
гражданина и члена общества, а в пределе — к
уникальному положению чело века в космосе. Оно
совершенно бескорыстно, и бескорыстие это нимало не
колеблется тем, что объектом правовой защиты в
какой-то момент оказывается мой собственный интерес
и даже моя корысть. Такова парадоксальная, но
неоспоримая логика правосознания — логика движения от
известных общечеловеческих (общегражданских) амплуа
к индивидуальным положениям и интересам. Данный
способ рассуждения мог стать общепонятным и
убедительным лишь по мере развития рыночно-меновых
отношений, когда представители самых разных
общественных групп оказывались вынужденными принимать
на себя одну и ту же роль свободного товаровладельца,
агента взаимовыгодных деловых контактов (кредитора
или дебетатора, нанимателя или продавца услуг).
Соответственно, они должны были требовать однотипных
общественных гарантий для своих договорно-меновых
контактов и относиться к этим гарантиям как к новой
социальной святыне. Последнее наглядно демонстрирует
пример, которым Кант в лекциях 1780-1782 гг. поясняет
принцип "уважай свое право, как и право других".
4 Заказ №1663 49
"Допустим, — говорит он, — мы работаем для кого-либо,
а у него отсутствует желание заплатить за это... Здесь
речь идет не о жалких двух талерах, а о нашем праве,
которое представляет собой нечто большее, чем сто или
тысяча талеров"13. Правовая гарантия моих "двух
талеров9 — дороже всех мыслимых денежных сумм; право,
охраняющее мою пользу, несоизмеримо с нею (и не
может быть из нее выведено): оно представляет собой
всеобщую сверхутилитарную ценность.
Я очень хотел бы, чтобы в процитированную кантов-
скую реплику, оформляющую одну из основных
демократических страстей XVIII столетия (и звучащую сегодня,
в контексте наших размышлений о хозяйственной этике,
увы, не менее новаторски), внимательно вгляделись все
те, кто берется рассуждать о ригоризме Канта. Похож
ли этот ригоризм на умонастроение кабинетного
педанта? Похож ли он на выспреннюю требовательность
мечтателя, который чурается насущных нормативных
проблем своего времени?
иДопустим, мы работаем для кого-то...", — заявляет
кенигсбергский профессор, обращаясь к своим
студентам. Мыслимо ли, чтобы подобное обращение прозвучало
с университетской кафедры во времена Фомы Аквин-
ского, Эразма, Лютера, даже Лейбница? Нет, потому что
оно заранее предполагает, что обмен товарами и
услугами и, в частности,.добровольная работа по найму стали
тривиально всеобщим хозяйственным состоянием, в
котором каждый может себя представить. Оно
предполагает далее, что подобное состояние не только не
содержит в себе ничего зазорного, но даже (и это-то
эксплицируется в кантовском рассуждении) может
служить базисом неподкупной и гордой независимости.
Отстаивание справедливой оплаты труда — задача такой
же степени благородства, какой прежде обладала только
защита дворянской чести или духовного звания.
Вообще можно сказать, что уважение к праву (праву
других, но затем также и к моему собственному)
выступает в лекциях Канта как постулат нового обще-
50
гражданского, демократического рыцарства, не
ведающего больше границ орденов или сословий. Но это, как
мы уже могли убедиться, и есть раннебуржуазный
нормативный пафос.
(3) Кант с горечью констатирует, что благороднейшая
из добродетелей (уважение к праву других) — это
редкость в его время, тогда как пагубнейшие из пороков
(черная неблагодарность, зависть и злорадство)
встречаются в мире все чаще.
В этом опасном нравственном состоянии общества в
немалой степени повинно господствующее
представление о действенной доброте, а именно — односторонне
филантропическое.
Компендиум А. Баумгартена возводил сострадание и
любовь к ближнему в высшую цель нравственного
просвещения юношества. Кант-моралист с
исключительной осторожностью и корректностью, но вместе с тем
упорно, методично и дотошно оспаривает эту целеори-
ентацию.
Сострадание и любовь, говорит он, конечно же
достойны всяческого одобрения, но все-таки выше их
следует поставить уважение к достоинству человека, или,
как он еще предпочитал выражаться в 1780-1782 гг., к
его "внутренней ценности*, к способности самому
добиваться успеха и благополучия14. "Если сказано, что
ты должен любить ближнего, то как понимать это? — В
смысле доброжелательности. Но моральная
доброжелательность состоит не в том, что кому-то желают блага,
а в том, что желают, чтобы другой сам сделался
достойным его. Именно такую любовь и
доброжелательность мы можем иметь даже по отношению к врагам.
Такая доброжелательность всегда может быть искренней:
нетрудно хотеть, чтобы другой нашел себя, стал достоин
счастья и действительно достиг его*15.
Этот текст представляет собой набросок масштабной
темы, которая, трансформируясь и разветвляясь, пройдет
затем почти через все моральные, этикотеологические и
философско-правовые сочинения Канта. Текст еще не
4*
SI
вполне внятен. Может возникнуть иллюзия, будто Кант
вменяет в обязанность заботу о средствах, которыми
другой человек достигает блага и счастья, а значит
предлагает своего рода благонравный досмотр за его
поведением. В действительности общая тенденция кан-
товского рассуждения совершенно иная. Она сродни
знаменитому "lassez faire, lassez passe" . Подлинно
доброжелательным Кант считает такое отношение к
другому индивиду, которое стимулировало бы его
собственные практические усилия или по крайней мере не
стесняло их. Пусть никто (даже мой враг) не считается
заведомо неспособным к самостоятельному достижению
благополучия и пусть каждый оценивается
(вознаграждается, почитается, морально поощряется) соразмерно с
усердием и честностью, которые он обнаружил,
добиваясь благополучия. Подлинная (моральная)
доброжелательность — это справедливость в самом широком
смысле слова, — справедливость, принимающая во
внимание не только результаты, но и усилия, и
реализуемые посредством них мотивы человеческих действий.
Кант был мыслителем, который решительнее любого
другого моралиста XVIII в. отстаивал примат
справедливости над состраданием, а также ее целительное
воздействие на нравы. В любви и сострадании, которые
не ведают справедливости или забыли о ней, он видел
заблудившуюся доброту, — ненадежную, беспринципную,
а порой и развращающую16.
Лекции 1780-1782 гг.— это, в сущности, настоящий
манифест против сострадательной частной
благотворительности, на которой была помешана позднефеодальная
Германия (и в которую — замечу в скобках — сегодня
свихиваемся мы). Призывы к филантропии звучали со
всех прусских кафедр: церковных и университетских.
Пиетисты и вольфианцы сходились на том, что бедность
* Позволять действовать, позволять идти своим ходом (фр.)—
лозунг физиократов.
52
была бы устранена, если бы благодеяние от избытка
сделалось всеобщим правилом.
Кант с холодным спокойствием рассматривает это
мечтательное допущение и приходит к следующему
выводу: "Если бы все люди захотели действовать лишь
по доброте, то не существовало бы моего и твоего...
никто не стал бы стараться что- нибудь приобретать, а
полагался бы на доброту других. Но для этого все должно
бы было иметься в огромном изобилии. Так дети
совместно радуются чему-либо до тех пор, пока у них
все есть и один другому что-либо дает"17. Предотвратить
это всеобщее инфантильное иждивенчество можно лишь
одним способом, достойным совершеннолетних подданных:
"_ люди в труде должны проявлять заботу о своем счастье
и каждый должен уважать право других. Следовательно,
все моралисты и учителя должны настолько, насколько
это возможно, представлять действия из доброты как
действия по долгу и сводить их к праву"18.
Разъясняя последний тезис, Кант набрасывает
концепцию, близкую эгалитарным идеям Ж.-Ж. Руссо и
достойную критико-публицистического таланта Ш. Фурье (в
последующих кантовских сочинениях она не
воспроизводится).
Филантропическая деятельность, в сущности,
представляет собой компенсацию ранее практиковавшихся — или
хотя бы молчаливо допускавшихся — несправедливостей.
Поэтому добродеяние богача есть лишь сентиментально-
лицемерное облачение совсем другой акции, а именно —
скудной и частичной выплаты им давнего долга,
причитающегося обездоленным и бедным. "Когда кто-либо
благодетельствует бедствующему, он, по строгому счету,
ничего ему не дарит, а лишь возвращает то, что помог
отнять у него из-за всеобщей несправедливости. Если
бы никто не захотел присваивать себе благ жизни в
больших размерах, чем любой другой, то не
существовало бы ни бедных, ни богатых. Поэтому сами действия
доброты — это действия, совершаемые по обязанности
и долгу и проистекающие из права других"19. Но раз
53
так, то на место частной филантропии правильнее было
бы поставить законодательно упорядоченную социальную
благотворительность, которая гарантирует помощь
каждому гражданину, поскольку он потерпел бедствие,
заболел или состарился. Это создало бы заслон против
крайней несправедливости, но одновременно не мешало
бы пресекать иждивенческие настроения, склонность к
лени, холопству и попрошайничеству20.
Замечания Канта о пагубнейших пороках, высших
обязанностях и распространенных заблуждениях в
трактовке доброжелательности не упорядочены в целостное,
последовательно развернутое рассуждение. Этому
мешает предписанная программа лекций: она вынуждает
разносить близкие по смыслу высказывания по разным
тематическим рубрикам. Вместе с тем единство всех трех
основных элементов кантовской моральной проповеди
совершенно несомненно. Перед нами не просто
совокупность разрозненных (и надвременных) суждений о
пороках и добродетелях, а фрагменты диагностической
картины, изображающей вполне определенную
нравственно-историческую ситуацию. Попробуем
реставрировать эту картину, опираясь, с одной стороны, на
выразительные аксиологические интонации кантовского
текста, с другой — на свидетельства социальной истории
абсолютизма, которые уже представлены в предыдущей
главе.
Наиболее напряженная тема кантовской моральной
проповеди — это, несомненно, тема сострадания,
забывшего о праве и справедливости.
Какая эпохальная, конкретно-историческая реальность
скрывается за нею?
Есть все основания утверждать, что Кант имеет в виду
прежде всего абсолютистскую филантропию, или
благотворительную практику в структуре государственного
патернализма. Неважно, насколько широкой и
впечатляющей была эта практика на деле. Существенно, что
патерналистское сострадание верхов сделалось в эпоху
абсолютизма расхожим идеалом. Отеческое сочувствие
54
к подданным — это все, чего еще можно было ожидать
от неограниченного властителя, а потому — основное
общеморальное правило, которое надеялись внушить ему
приверженцы просвещенной монархии. Но коль скоро
патерналистское сострадание вменялось в долг государю,
его необходимо было потребовать и от ниже стоящих
господ. Филантропическая опека становится поэтому
мечтательной нормой, которая вообще имеет в виду
отношения вышестоящего к нижестоящему, патрона к
клиенту, богатого к бедному. В отсталой Германии, где
патерналистское истолкование обязанностей власти было
особенно распространено, надежда на филантропию
верхов приобрела характер сентиментального морально-
политического культа. Неудивительно, что и в литературе
придворного пиетизма, и в программах прусского
университетского образования, разрабатывавшихся школой
Вольфа—Баумгартена (не забудем о том, что
университеты XVIII в. — это прежде всего воспитательные
институты для высших сословий), идея сострадания,
идущего "сверху вниз": от распорядителя к
управляемому, от опекуна к опекаемому, — получила значение
основополагающего этического наставления.
Вот это-то гипостазирование сострадательной опеки,
обусловленное отсутствием каких-либо иных социальных
противовесов по отношению к господскому всевластию,
в конечном счете и вызывает у Канта глубочайшую
тревогу. Конечно, нелепо было бы утверждать, будто
господин не должен быть добр. Но много ли стоит
доброта, которая таит в себе отечески-деспотический
произвол, надстраивается над несправедливостью и лишь
компенсирует вызываемые ею бедствия? Не лучше ли,
если человек, наделенный богатством и властью, и просто
так никого не одарит даже самым малым, но уж зато
будет настолько точен, что ничего не отнимет у
другого"21?
Эти допущения тем более основательны, что, как
чувствует Кант, в мир уже проникла идея правомочия,
т.е. социально гарантированной возможности самостоя-
55
тельно добиваться счастья и благополучия. Люди,
пробудившиеся к деловой предприимчивости,
обнаруживают, что их шансы далеко не одинаковы, что они находятся
в царстве фактического неравноправия, которое
прикрывается и консервируется сострадательной филантропией
верхов. Здесь — решающий пункт кантовского
рассуждения, пункт, в котором все три компонента его моральной
проповеди связываются в драматическое целое.
Сознание своего права — динамическая антитеза
идеала патерналистского сострадания, но коль скоро эта
антитеза налицо, филантропия, компенсирующая
реальное неравноправие, унижает и оскорбляет людей.
Этически неграмотная доброта — доброта, отторгнутая от
справедливости, — взращивает худшие из пороков» Кант
искренне возмущается неблагодарным дебетатором и в то
же время не может не констатировать с исследовательской
холодностью: "Все люди бывают сконфужены
оказанными им благодеяниями, потому что человек становится
обязанным тому, кто оказал ему благодеяние. Но каждый
стыдится быть обязанным... В этом уже заключается
зачаток неблагодарности я22. Зачаток этот стимулируется
к развитию, поскольку покровительственное благодеяние
по строгому счету является невозместимым. "Ведь даже
если я дам моему благодетелю в десять раз больше, чем
он мне, мы все-таки не будем квиты, так как он оказал
мне благодеяние, которое не обязан был оказывать. Он
первым оказал мне его, и если даже я отдам в десять
раз больше, то сделаю это лишь для того, чтобы
отплатить ему благодеянием и вернуть долг. В этой
ситуации я не могу опередить его; он всегда останется
тем, кто первым облагодетельствовал меня"23.
Эта удивительная по тонкости и глубине
психологическая зарисовка едва ли была бы возможна в XV или
XVI вв.: она с самого начала предполагает субъекта,
который превыше всего ценит деловую независимость
и исповедует правила договорно-меновой честности
(эквивалентной оплаты услуг). В сострадательном
опекуне этот субъект видит (и не может не видеть)
56
сострадательного ростовщика, который закабаляет его
своей милостью и закабаляет тем безнадежнее, что
милость эта вполне доброхотна. Поэтому не приходится
удивляться, если он вдруг обращает на доброхота ту
ненависть, которую ростовщик по праву вызывает у
честного товаропроизводителя.
В отношениях филантропа и бедствующего, как их
описывает Кант, участвуют три установки, характерные
для эпохи абсолютизма:
а) уже народившееся стремление к равнопартнерскому
состязанию и самостоятельному стяжанию счастья и
благополучия;
б) все острее переживаемое бесправие, которое
стесняет это стремление и сводит на нет всякое
равенство возможностей;
в) патерналистская филантропия, переплетающаяся с
массой торгашеско-ростовщических хитростей и
постоянно предполагающая неравноправие людей.
Из столкновения этих установок и возникают пороки,
которые Кант считает пагубнейшими.
Можно сказать, что бесправие индивидов,
пробудившихся к хозяйственной конкуренции, порождает зависть;
патерналистская благотворительность, компенсирующая
бесправие, вызывает к жизни неблагодарность, а
соединение неблагодарности и зависти дает злорадство.
Кант не выходит за рамки описания " психологически
понятных" зависимостей, которые проступают в
межличных отношениях благодетеля и благодетельствуемого.
На воспроизведение каких-либо социальных настроений
(настроений больших общественных групп) он не
претендует. И все-таки основные оппозиции, которые
выстраивает Кант, до удивления точно соответствуют
конфликтным отношениям в массовой психологии эпохи
кризиса феодального абсолютизма. Проницательные
историки нравов (здесь следует вспомнить прежде всего
И. Тэна и его и Происхождение общественного строя
современной Франции") не раз обращали внимание на
то, что установление режима "просвещенной монархии"
57
сопровождается, с одной стороны, приступами декадан-
сной господской чувствительности, с другой — ростом
завистливого недоброжелательства в наиболее
бесправных слоях общества. Запоздалая филантропия "верхов",
сохранившая общий темперамент деспотизма (т.е.
юридически неупорядоченная, пристрастная, зависящая от
капризных колебаний господской жалости) унижает и
растравляет "низы".
В десятках наказов, составлявшихся во Франции в
начале 1789 г., звучал один и тот же мотив: "не
милостей, а прав*. Тэн высказывает предположение, что
если бы монархия расслышала этот мотив, то завоевала
бы расположение наиболее добросовестной и
инициативной части "третьего сословия".
Лекции Канта содержат похожую
морально-психологическую догадку. Уважению к праву соответствуют
"добросовестность, честность и точность в выполнении
обязательств'24. Они не предполагают почестей (т.е.
отличающих похвал и знаков внимания, которыми
"верхи* жалуют человека из низов). Они притязают
лишь на простое признание окружающих. Это качества,
"которые можно требовать от каждого и благодаря
которым человек сам заслуживает, чтобы его уважали
и ценили, а не чтили и выделяли"25.
Итак, абстрактно моралистическое, отчасти
гелертерское, отчасти светски-салонное по своему стилю
рассуждение Канта схватывает целую систему эпохально-
значимых зависимостей. Ее можно представить в виде
следующего"морально-диагностического прямоугольника":
Патерналистское
сострадание
Уважение к
правам других
Неблагодарность,
зависть, злорадство
58
Добросовестность,
честность, точность
в выполнении
обязательств
В верхних углах прямоугольника записаны две
возможные моральные позиции "верхов" по отношению к
"низам* в пору кризиса феодального абсолютизма.
Неверно было бы утверждать, что они образуют
контрарную противоположность, как зло и добро или ложь и
правда. Нет, речь должна идти скорее об отношении
видимости к истине. Сострадание сильного к слабому —
это не дурная и не ложная, а обманчивая, нравственно
непроясненная установка. Она становится опасной, когда
масса людей начинает остро переживать свое бесправие:
она способствует распространению неблагодарности,
зависти, злорадства (левая сторона). В этих условиях
спонтанное сострадание — пусть самое искреннее —
цолжно признать приоритет его корректирующей
антитезы: уважения к правам других. Только благодаря заботе
о справедливости (Кант называет ее также "добротой
справедливости") власть — а в более широком смысле
"консенсус", господствующее общее мнение — может
добиться распространения таких добродетелей, как
"добросовестность, честность и точность в выполнении
обязательств" (правая сторона). Этот комплекс
добродетелей уже контрарно противостоит комплексу
"ревности—зависти", т.е. сталкивается с ним на социально-
нравственной арене, как добро со злом. Только их
непримиримое противостояние позволяет ощутить
динамичное напряжение, которое с самого начала существует
между "пагубнейшими из пороков" и "достойнейшей
из обязанностей" (диагональ). Смысл этого напряжения
может быть выражен так: уважение к правам другого
есть основной принцип, который необходимо отстаивать
в противовес массе, стихийно сползающей к зависти и
злорадству, для утверждения в народе начал деловой
добросовестности и честности.
И еще одна зависимость, которую надо акцентировать
в объяснении кантовского "морально-диагностического
прямоугольника".
Выражения, записанные в нижних его углах,
напоминают нам об оппозиции установок и настроений,
59
характерной для агентов еще незрелой, социально
стесненной и юридически необеспеченной рыночно-ме-
новой практики. С одной стороны, развивающиеся
товарно-денежные отношения запрашивают особую
контрактную этику ("добросовестность, честность,
точность в исполнении обязательств" как нравственные
качества). С другой стороны, рынок в условиях позднего
феодализма является, как мы помним, ареной самого
низкого игешефтмахерства", продажности,
спекулятивных махинаций и беззастенчивых попыток "поймать
удачу". Острова новой контрактной этики поначалу
существуют в океане взаимоподсиживания и взаимной
подозрительности, причем последняя характерна прежде
всего для тех, кому удачу поймать не удалось. Зависть
и злорадство могут рассматриваться как крайнее,
отчаянное, агрессивно-плебейское ее выражение. Это "дно"
позднефеодального меркантилизма, бунтарская
конвульсия про- дажности и раболепства.
Но не перешагиваем ли мы здесь уже через все
смысловые возможности, которые содержит в себе
рассуждение Канта?
Давайте отвлечемся от текста лекций 1780-1782 гг. и
заглянем в его последнее этическое сочинение — в
"Метафизику нравов". Здесь также присутствует тема
неблагодарности, зависти и злорадства. Они
объединяются под рубрикой аО прямо противоположных
человеколюбию пороках человеконенавистничества"26. Таково
название последнего параграфа в разделе, трактующем
о долге любви к другим людям. Если же мы обратимся
к главе, посвященной долгу человека перед самим собой,
то увидим, что в ее структуре то же место занимает (и
ту же смысловую нагрузку несет) критико-обличительный
фрагмент аО раболепии"27.
И в характеристике зависти, и в характеристике
раболепия звучит мотив продажности28.
Показательно, далее, что фрагмент "О раболепии"
предваряется фрагментом аО скупости", a их внутренняя
связь акцентирована следующим разъяснением: скупость
60
есть "не только неверно понятая бережливость, но и
рабское подчинение материальным благам... Она
противоположна либеральности образа мысли (т.е. любви к
свободе в самом широком смысле слова; вот как
оказывается! — Э.С.)"29.
Скряга раболепствует своему богатству, находится во
власти вещистской инверсии рабского сознания. Но
вспомним, что в лекциях 1780-1782 гг. зависть и
злорадство трактовались в качестве мизантропической
инверсии... самого скряжничества.
Конечно, это лишь "косвенные улики* в пользу того,
что Кант понимал и отстаивал "связку", сопряжение
изавистливость — раболепство". Однако с уверенностью
можно утверждать, что он видел глубинное родство этих
пороков и их принадлежность к одному и тому же типу
имморального сознания.
В кантовском моральном диагнозе постепенно
вырисовываются два масштабных, антитетически
соотнесенных персонажа.
Первому (порицаемому) свойственна скаредность
"собирателя сокровищ", но также и расточительность
ветренного аристократа; искусное лицемерие
придворного, но также и грубая пронырливость холопа; коварное
доброхотство ростовщика, но также и завистливая
ревность босяков. Он продажен, хотя не умеет торговать;
он услужлив, хотя не умеет служить; он жаждет
материальных благ, однако не готов к их усердному и
методичному стяжанию; он сострадателен, пожалуй, даже
сентиментален, но в еще большей степени пристрастен
и тяготеет к симулированию благородных чувств. Ему
неуютно без правительственной опеки, и его мечта о
просвещенной власти не воспаряет над идеалом
патерналистской любви.
Что касается второго (одобряемого) персонажа, то он
соединяет в себе черты честного торговца, независимого
хозяина, надежного дебетатора, ответственного
чиновника и добросовестного наемного работника. Англичанин
будет склонен назвать его "джентльменом", американец —
61
аттестовать как "self made man", немец скорее всего
увидит в нем прирожденного ходатая по чужим правам
и безупречного свидетеля в суде. Он сострадателен, но
не за счет права и справедливости. Он уверенно
чувствует себя в рыночной стихии, но считает
позволительным отчуждать лишь продукты и услуги, а не честь,
дарования или чувства (как бы в соответствии с
пушкинским: ане продается вдохновенье, но можно
рукопись продать"). Искушенный в расчете выгод и
шансов успеха, он знает, что они всегда лишь
вероятностны, а потому ставит принципы выше любых
калькуляций благополучия. Его не опьяняют победы, а в пору
поражений он не опускается до злорадства и
мстительности. В отношениях с властью ему более всего претит
вмешательство в его дела (пусть даже доброжелательное)
и унизительная роль просителя.
Чему реально соответствуют эти два персонажа? Какие
агенты хозяйственной и социальной истории в них
запечатлены или по крайней мере угаданы?
Я никогда не ответил бы на этот вопрос, если бы
полагался на расхожие описания сословно-классовых
отношений XVI-XVIII вв. и не предпринял бы попытки
их самостоятельного истолкования, опирающегося на
достижения и стадиального анализа генезиса
капитализма"30. Только в свете понятий, подсказанных этим
анализом (они акцентированы в предыдущей главе),
образы, которые очертил Кант-моралист, перестают
выглядеть как нечто надуманное, причудливое и
эклектичное.
Порицаемый им человеческий тип - это до удивления
точная зарисовка неофеодального приобретательства,
которое в эпоху абсолютизма заразило все традиционные
сословия (как иверхушечные", так и "низовые"),
обеспечив новое, меркантилистское объединение их давних
пороков. Что касается его одобряемого протагониста, то
это — субъект раннебуржуазного предпринимательства,
которое в эпоху абсолютизма существовало не только в
сфере торгово-мануфактурной деятельности; в качестве
62
нового эталона деловитости оно постепенно подчиняло
себе практически все занятия *третьего сословия9
(свободные профессии, чиновную службу, юридическую
и преподавательскую практику, работу независимого
земледельца или ремесленника и т.д.). Субъект этот
воспроизводился Кантом настолько адекватно, насколько
это вообще позволял моралистический язык его
времени, отработанный Ларошфуко, Монтескье, Лабрюйером,
Вольфом и Баумгартеном. Более того, Кант, если угодно,
схватывает общую смысловую структуру
приобретательской низости и предпринимательского благородства.
Центральная оппозиция его этической теории: пагубный
"культ склонности* на одной стороне, "долг ради долга"
на другой — представляет собой, в сущности, предельное
заострение, этическую идеализацию неофеодального и
раннебуржуазного ипрактического духа". В рассуждениях
Канта-моралиста эта идеализирующая оппозиция
предварена следующим энергичным противопоставлением.
Самым низким образом мысли обладает тот, кто ради
самосохранения, обеспечения удовольствий и выгод
готов на все, вплоть до продажи себя в пожизненную
неволю (комплекс эвдемонизма — продажности —
раболепия). И наоборот, высшего уважения заслуживает
тот, кто никогда не делает счастье условием выполнения
долга и не уступает своей независимости ни за какую
цену (комплекс ригоризма — неподкупности —
свободолюбия). Или еще короче: добровольное рабство на
одном полюсе; бесценность и неотчуждаемость свободы —
на другом.
Такова золотая ось, вокруг которой вращается вся
трансцендентально-практическая вселенная. И выкована
она не в пору чтения учительных лекций о морали, а
значительно раньше.
2. Свобода как выгода сверх выгоды
В 1764 г. — за двадцать пять лет до начала Французской
революции — Кант написал «Приложение к и Наблюдениям
63
над чувством прекрасного и возвышенного % (в свет оно
вышло лишь в 1809 г., уже после смерти философа).
"Приложение..." содержало интереснейший фрагмент "О
свободе" , который, на мой взгляд, еще не оценен по достоинству
ни в советском, ни в зарубежном кантоведении.
Фрагмент "О свободе" — типичный текст, вышедший
из-под пера моралиста; вместе с тем это еще и
рефлексия антрополога, рефлексия над положением
индивида в системе государственного абсолютизма.
Основная тема фрагмента — тема рабства,
определяемого как "наивысшее зло в человеческой природе"31.
Полная зависимость одного человека от другого
(низведение личности до статуса вещи, или "утвари")
расценивается Кантом как состояние несравнимо более
бедственное, нежели любая степень зависимости of
природных сил и стихий. Если природа не вполне
предсказуема, то произвол господина вообще не
поддается предвидению. Если естественные процессы всего
лишь равнодушны по отношению к человеку, то
господские действия зачастую диктуются стремлением к
расчетливому мучительству3^.
Отсюда делается понятным тезис, образующий, на мой
взгляд, подспудное основание всей кантовской этики,
ее, если так можно выразиться, "дотрансцендентальную
аксиому": для человека "нет большего несчастья, чем
быть отданным во власть такого же существа, [как он
сам]"33.
Изображение рабства в качестве одного из крайних
человеческих бедствий — характерная примета всей
антифеодальной философско-политической литературы
XVII-XVIII столетий. Пожалуй, наиболее энергично оно
выполнено Дж. Локком, приравнивавшим порабощение
к убийству, а потому считавшим рабское состояние
очевидно несовместимым с "общественным договором".
Показательно, далее, что в сочинениях Гоббса и
Спинозы, Локка и Юма, Руссо и Гельвеция понятие
рабства еще не имеет четко фиксированного историко-
экономического содержания. Оно фигурирует здесь в
64
значении политико-юридической категории,
подразумевающей всякое состояние личной зависимости, всякое
насильственное, деспотическое (сегодня мы сказали бы —
внеэкономическое) принуждение. Прогрессивные
мыслители XVII-XV1II вв. называют рабами не только
иговорящие орудия** античности, но и крепостных, и
лакеев, и безропотно-угодливых придворных. Это
неадекватное употребление не только не отнимает у понятия
и рабство" обличительной силы,но и позволяет вводить
его в самые широкие контексты социальной критики.
Жан де Лабрюйер, один из наиболее влиятельных
моралистов эпохи государственного абсолютизма, мог,
например, так формулировать свои наблюдения над
жизнью французского дворянства: "Люди согласны быть
рабами в одном месте, чтобы чувствовать себя господами
в другомп**4# Или: "Кто пребывает в большем рабстве,
нежели усердный царедворец? Разве что еще более
усердный царедворец. Раб (в точном, историко-эконо-
мическом смысле. — Э.С.) зависит только от своего
господина, честолюбец же — от всех, кто способен
помочь его возвышению"35.
Кант разделяет это словоупотребление, выработанное
эпохой ранних буржуазных революций. То же следует
сказать и о его продолжателях Фихте и Гегеле36.
Пожалуй, никто в XIX в. не умел убедительнее их
»скрывать бедствия рабства в судьбе холопа или
срепостного и позор рабства — в способе поведения
гчмого господствующего сословия. Фихте писал:
"Всякий, считающий себя господином других, сам раб. Если
ч и не всегда является таковым, то у него все же
обская душа, и перед первым, показавшимся более
ильным, который его поработит, он будет гнусно
юлзать. Только тот свободен, кто хочет все вокруг себя
делать свободным"37.
Фрагмент аО свободе" — наглядное доказательство
ого, что практическая философия Канта восходит к
сковным установкам просветительской антифеодальной
деологии. Но этого мало: фрагмент свидетельствует еще
i Заказ №1663
65
об особого рода радикализации этих установок, которая
и превращает Канта в родоначальника немецкой
классической теории морали.
Ни философы-новаторы XVII в., ни представители
просвещения не шли дальше приравнивания бедствия
рабства и бедствия смерти. Кант провозглашает нечто
куда более решительное: "когда речь идет о выборе
между рабством и жизнью, каждый без колебаний
предпочтет опасность для жизни"38.
«Приложение к "Наблюдениям над чувством
прекрасного и возвышенного "» — одна из "докритических"
кантовских работ39. По своему стилю, словарю,
исходным подходам к проблеме человека она еще целиком
принадлежит к гедонистической (точнее — утилитарно-
гедонистической) просветительской культуре. Вместе с тем
в "Приложении»." Кант переступает через основную
"парадигму" этой культуры — через убеждение в том,
что смерть есть предельно мыслимое бедствие и что для
человека непосильно возвыситься над требованием
самосохранения.
Родоначальник немецкой классической философии
вводит в гедонистическую антропологию парадоксальное
представление о "несчастьи сверх несчастий", о
бедствии большем, чем смерть. Более того, он настаивает на
несомненности такого представления. Соответственно,
противоположность рабства — свобода получает у него
статус самоочевидного "сверхутилитарного блага".
Фрагмент "О свободе" еще не содержит в себе ничего
похожего на априоризм и трансцендентализм. Кант
просто приписывает "естественному индивиду"
острейшую социально-критическую эмоцию эпохи феодального
абсолютизма: видит своеобразие человека как
природного существа в способности по крайней мере живо
представлять себе тяготы и зазорность подневольного
существования. Прирожденному витальному страху,
который со времен Гоббса играл важнейшую роль в
объяснении политического поведения "естественных
индивидов", Кант противопоставляет мощную историче-
66
ски приобретенную установку — отвращение к рабству.
Жестко, отставляя в сторону всякое сострадание, Кант
декларирует "_ мы (т.е. все люди как существа природы. —Э.С. )
презираем каждого, кто сильно зависит от другого...
Человек, зпвлгяисш от другого, уже не человек; он это
звание утратил, он не что иное, как принадлежность
другого"4".
Категорическое внутреннее неприятие рабства и теми,
кто еще свободен, и самими порабощенными Кант
считает гораздо более достойным настроением, нежели
сочувствие к горькому уделу последних. Личная
зависимость ("даже сравнительно малая ее степень") "должна
нас устрашать". Если этот священный страх перед
угнетением стерся, забылся, то люди впадают в
опаснейшую из иллюзий: " рабство начинает казаться меньшим
злом, чем жизненные неудобства "41. Страх рабства —
единственный надежный противовес по отношению к
усмиряющему (а то и парализующему) страху смерти,
который издавна используется и культивируется
институтами власти. Можно сказать поэтому, что священный
страх рабства, родившийся в опыте истории, впервые
сообщает "естественному индивиду" саму энергию
внутренней независимости.
Эти идеи получат многообразную разработку в
немецкой классической философии. Вспомним знаменитый
раздел гегелевской иФеноменологии" иГосподство и
рабство", где превосхождение страха смерти (готовность
рисковать жизнью) рассматривается в качестве
предпосылки подлинной суверенности: "... только риском
жизни подтверждается свобода... Индивид, который не
рисковал жизнью, может быть, конечно, признан
личностью, но истины этой признанности как некоторого
самостоятельного самосознания он не достиг"42. Страх
смерти есть скорее испуг (Furcht), абсолютный же страх
(Angst) человечество обретает лишь исторически — в
опыте претерпевания рабского удела. В дальнейшем он
имеет решающее значение для всей формирующей
деятельности людей: "Если сознание формирует, не
5* 67
испытав абсолютного страха, то оно только тщеславный
собственный смысл; ибо его форма или негативность
есть негативность в себе, и его формирование не может
поэтому сообщить ему сознание себя как сущности. Если
оно испытало не абсолютный страх, а только некоторый
испуг, то негативная сущность осталась для него чем-то
внешним, его субстанция не прониклась ею насквозь
(т.е. не поставлена под начало самообуздания и
самодисциплины. — Э.С.)"43.
Исторически существенно, что автор фрагмента аО
свободе1* акцентирует в рабском (подневольном)
положении человека момент используемости, упиишзуемоспщ.
Он отчетливо слышен в определении раба' как "утвари".
И наоборот, на стороне господина Кант помещает
утилитарную инициативу, расчетливую и экспансивную:
"Мой господин отыскивает меня, и так как он, причина
моего несчастья, обладает разумом (рассчитывающим
интеллектом. — Э.С), то он мучает меня гораздо более
искусно, чем все стихии"44.
Кант пользуется пока недостаточно внятным (морали-
стически описательным, а не этически категориальным)
языком. И все-таки его рассуждение доносит до нас
совершенно новое понимание этико-антропологических
понятий и моделей.
В литературе XVII-XVIII вв. утилитарная инициатива
всегда полагалась на стороне самого " естественного
индивида". Природные и социальные объекты (в том
числе и другие индивиды) оказывались в поле его
"рационального использования". Принуждающая власть
также появлялась в этом поле: она имела значение
"изобретения", "инструмента", с помощью которого
индивиды известным образом лимитировали и
регулировали свою собственную утилитарную активность.
Кант совсем по-иному видит фундаментальную
ситуацию человека как "атома политической жизни".
"Естественный индивид" с его благоразумным стремлением
к счастью и выгоде всегда уже стоит перед лицом
подстерегающего общества-государства, собственную
68
утилитарную энергию и проницательность которого было
бы опасно недооценивать.
Не только страсти людей, но и утилитарные расчеты
их рассудка давно уже рассчитаны. Свобода
благоразумного предпочтения, которая м казалось бы... должна
возвышать меня над животным... на деле ставит меня
даже ниже его, ибо меня легче подчинить"45.
Утилизующий обречен на утилизацию; одержимый выгодой —
наилучший объект для извлечения выгод. Такова, если
угодно, впервые угадываемая Кантом "хитрость
объективного разума", который, правда, полагается еще не во
всемирной истории, а просто в наличном и политическом
теле".
В 1764 г. перед мысленным взором Канта встает
фигура утилизуемого и порабощаемого утилитариста.
Именно этот образ "естественного индивида" и
определил, на мой взгляд, его последующую этическую и
антропологическую программу, критически заостренную
против самого просветительского натурализма.
3. Ригоризм и пафос эмансипации
Философы-новаторы в XVII в., равно как и
философы-просветители в XVIII-OM, видели свою наиболее общую задачу
в том, чтобы рационально вооружить человека против
естественных бедствий и ориентировать на достижение
устойчивого благополучия. Кант не отрицает этой задачи, но
решительно подчеркивает, что она может быть правильно
(более того — трезво, реалистично) решена лишь в том
случае, если практическая философия примет понятия и
несчастья сверх несчастий" (рабства) и авыгоды сверх
выгод" (свободы).
Прежде чем задаваться такой целью, как благополучие,
индивид, согласно Канту, должен бы озаботиться тем,
чтобы по крайней мере не давать повода для обращения
с собой как с существом, нуждающимся в господине, и
не попадать в капканы, расставленные для нашей
импульсивности, расчетливости и хитрости. Способ по-
69
ведения, исключающий основания для господской опеки,
заведования и утилизации, по строгому счету, и есть то,
что Кант понимает под моралью. Носитель последней
внутренне отвергает весь феодально-абсолютистский
нравственный кодекс — отвергает ценой того, что
известные повеления и нормы ( а именно те, которые
делают его равнодостойным с другими людьми) он
добровольно и неукоснительно соблюдает сам.
Моральные требования не редуцируемы к
удовольствию, пользе и выгоде — на этом Кант настаивает
бескомпромиссно. От морали нельзя ожидать никакого
ипроку", поскольку речь идет об овладении природой,
или о приспособлении к наличным условиям
социального бытия, или о прагматическом состязании одного
индивида с другим. Вместе с тем Кант не отбрасывает
вопроса о жизненно-практической значимости морали,
не отказывается от основного смысла знаменитой '
декларации Гольбаха: и Мораль была бы пустой выдумкой,
если бы наука морали не могла доказать человеку, что
его величайший интерес заключается в том, чтобы быть
добродетельным " 46.
Истоки этого мвеличайшего интереса" раскрываются,
однако, в ситуации, над которой Гольбах не размышлял, —
в ситуации, когда человек, ищущий счастья и
благополучия, сам оказывается объектом циничного
использования (частного, сословно-группового или
государственного порабощения, направленного на извлечение выгоды).
Для такого человека мораль нужнее любых рецептов
благоразумия, так как только благодаря ей он становится
стойким, волевым, неподкупным,
бесхитростно-разумным, а стало быть крайне инеудобным" для
использования и манипулирования.
Эта парадоксальная "бесполезная надобность" морали
предугадывалась некоторыми просветителями. Шарль
Монтескье, выдающийся диагностик абсолютистского
режима, уже пророчествовал о Канте, когда говорил:
"Мы окружены людьми, которые сильнее нас; они могут
вредить нам на тысячи ладов, и притом в большинстве
70
случаев безнаказанно. Какое же успокоение для нас
сознавать, что есть в сердцах человеческих такое
внутреннее начало, которое постоянно борется за нас и
ограждает нас от их козней"47.
Монтескье не предугадывает, конечно, категориального
строя кантовской этики. Но что касается ее исходного
мотива, то он антиципирован в "Персидских письмах"
с удивительной точностью. В моральном действии
родоначальник немецкой классической философии всегда
видел противовес приспособленческого, конъюнктурного
поведения, запутывающего человека в господские козни
и заставляющего уплачивать гульден свободы за каждый
пфенниг благополучия.
Вернемся вновь в параграфу "О раболепии" из
последнего этического сочинения Канта ("Метафизики
нравственности"), который — как финал на увертюру —
откликается на фрагмент аО свободе".
Сущность раболепия — это торговля своей
независимостью, самый распространенный и самый тяжкий недуг
позднефеодального общества. Он начинается с
относительно умеренных (угодничество, лесть) и развивается
до острых, клинических форм (прямая склонность к тому,
чтобы выгодным образом продать себя в рабство).
Раболепие есть поэтому явленная истина проспособлен-
чества; ведь последнее всегда уже содержит в себе по
крайней мере готовность к "обмену воли на выгоду".
От рабства по собственной вине застрахован поэтому
лишь тот, кто "чувствует себя принужденным (!) уважать
в собственном лице (морального) человека", кто
обладает обязующим сознанием "своей внутренней ценности
(valor), имея которую человек не может стать предметом
продажи ни за какую цену"48. Только такое
аксиологическое переживание своей непродажности, или, если
выразить его нормативно, — неподкупность может
предохранить человека от тягчайшего нравственного
заболевания века. Ни доброта, ни жертвенность, ни
героически возвышенный склад души, ни благородное
честолюбие сами по себе от него не спасут. Каждая из этих,
71
несомненно достойных, установок и настроений сама
еще требует проверки на бескорыстие, поскольку
сплошь и рядом имеет в виду, если не земные, то
небесные награды.
Неподкупность — это морально-диагностический исток
кантовского ригоризма, ситуационная (или, если быть
точным, — эпохально-историческая) разгадка этической
формулы "долг ради долга".
мИсполнять свой долг бескорыстно", — вот как
разъясняет ее Кант в эссе аО поговорке ...",
рассчитанном на широкого образованного читателя**9. Строго
моральным поступком, пишет он в другом месте,
является просто "честный поступок, совершенный с
непоколебимым духом и без всякого намерения извлечь
какую-нибудь выгоду в этом мире или на том свете..."50.
Или, как это более пространно толкует Э. Кассирер:
"Сообразным долгу действие признается лишь в том
случае, если в нем отсутствует всякое соображение
выгоды, всякое исчисление наличных или будущих
удовольствий, всякая материальная
предусмотрительность"51. Таков пафос категоризма, присутствовавший
в моральной проповеди Канта задолго до того, как он
выработал понятие категорического императива. Такова
профилактическая культура неприспособленчества,
пропагандировавшаяся им задолго до щепетильных
различений склонности и обязанности, навлекших на себя
знаменитую эпиграмму Шиллера.
Безусловные запреты, обоснование которых займет так
много места в кантовской этической теории,
предваряются (если не по времени, то логически) абсолютным,
как бы сакральным запретом, налагаемым на раболепие.
Кант не допускает его не только в отношениях между
людьми, но и в отношении к Богу: "Склонять колени
или падать ниц даже с целью показать свое преклонение
перед силами небесными противно человеческому
достоинству"52. Это, если угодно, настоящее древнее табу,
нарушители которого изгоняются из общества и
лишаются всякого права на сострадание: "Кто превратил себя
72
в червя, не должен потом жаловаться, что его топчут
ногами"53.
Безоговорочное отвержение рабства и беспощадное
осуждение продажно-рабского образа мысли — таково
первое и последнее слово морального учения Канта.
Протест против всех форм подневольности ' (личной
зависимости) можно назвать его "телосом". Он, этот
протест, связывает трансцендентально-практическую
философию с насущными задачами кантовской эпохи и он
же подымает ее над ограниченностью времени.
Истолкование морали как антиприспособленческой
разумности и как меры неподатливости индивида по
отношению к социальному подкупу, может быть,
никакому другому веку не понятно до такой степени, как
нашему, двадцатому. "Абсолютистская культура", в
противовес которой Кант утверждал это истолкование, была
лишь робким наброском современных
авторитарно-бюрократических и тоталитарных режимов. Режимы эти
никого так легко не прибирали к рукам, как
утилитариста, причем утилитариста любого толка, т.е. и такого,
который ориентировался на свой собственный
"разумно понятый интерес", и такого, который искал опоры
в понятиях "общего блага", "наибольшего счастья
наибольшего числа людей*, "классовой выгоды" или
"революционной целесообразности". Все эти понятия
без труда поддавались демагогическому
перетолкованию и оборачивались против их убежденного
приверженца. Если кому и удавалось выстоять в обстановке
массированной манипуляторской обработки умов, так
это стороннику кантовского,
ригористически-неподкупного образа мысли, — т.е. человеку, твердо
убежденному в том, что, например, лгать
(лжесвидетельствовать) нельзя ни на каких условиях, что простая
честность и порядочность превыше всех энтузиазмов
и пафосов и что ни одна — даже самая масштабная
и настоятельная — общественная потребность не
может удовлетворяться посредством фабрикации
преступлений.
73
Вместе с тем (и это знаменательно) понимание
подлинной структуры кантовского ригоризма
утрачивалось в относительно безоблачные периоды социального
развития, когда сознанием овладевали иллюзии
гарантированного прогресса, а взрывы фанатизма, варварства
и этатистского насилия казались достоянием "дикого
прошлого".
В Германии середины прошлого века не нашлось бы,
вероятно, и сотни людей, сознававших, что основным
пафосом кантовского морального учения был пафос
эмансипации, что "долг ради долга" — сродни
неподкупности, приписывавшейся Робеспьеру, что строгость
нравственных приговоров, которую Кант отстаивал и
ценил, имела в виду прежде всего добровольное (или
равнодушно-безответственное) согласие людей с
деспотическим режимом, воплощенным в известных
обстоятельствах, мнениях и нормах "общественного успеха".
Этику Канта почитали повсеместно, но дух ее был
совершенно искажен. В университетах и гимназиях она
преподносилась как/нравственный катехизис для
юношества". Понятие моральной автономии было спрятано
за ширму совершенно казуистических интерпретаций,
основной темой которых стало различение "свободы и
своеволия". На передний план кантоведения выдвинулся
так называемый иантигедонизм". Долг был предельно
сближен с пафосом чиновных обязанностей, "уважение
к закону" — с верноподданничеством, а ригоризм — с
педантизмом. В восприятии сотен и тысяч немецких
интеллигентов образ Канта-этика прочно соединился с
образом утомительного классного наставника, в указующем
персте которого сосредоточилась вся сила "чистого
долженствования".
Эта официально прирученная трансцендентальная
этика долгое время влияла на восприятие ее "дикого
предка", т.е. подлинной моральной проповеди Канта,
какою она вторглась в напряженную духовную жизнь
второй половины XVIII в. По убеждению Куно Фишера,
"Кант хотел быть и был только немецким профессором".
74
По словам Г. Зиммеля, он представлял собой и
единственный в истории философии пример гения-филисте-
ра"54 ф Ницше обвинил родоначальника немецкой
классической философии в том, что он посыпал культуру
"моралином" (то бишь моральным нафталином —
порошком убийственно скучной назидательности). А.
Швейцер завершил свой анализ философии Канта таким
приговором: «За гордым фасадом он возводит убогий
"дом-казарму"... Он препятствует развитию этики,
поскольку лишает ее присущей ей непосредственности», а
иногда и прямо-таки стремится засорить естественные
источники нравственного"55.
Обвинительные вердикты подобного рода проникли и
в марксистскую литературу о Канте. Наиболее
безапелляционный принадлежит перу AM. Деборина:
"...философии Канта чужды основы гуманизма, она является
идеологическим оправданием бесчувственного
отношения к человеку... Она пуста и бездушна"56.
Трансцендентальная этика не была, как мы уже знаем,
этикой сострадания, любви и участия, но это еще не
значит, что на нее можно ставить такие клейма, как
ипустое резонерство", "бездушие" и "казарменный
дух". Мораль в кантовском ее толковании так же мало
заслужила подобные обвинения, как равенство,
справедливость, терпимость и другие раннебуржуазные идеалы,
далекие от сентиментальной гуманности. Решительное
отвержение рабства и защита человеческого достоинства
сторицей окупают суровость и холодность Канта.
Не приходится удивляться, что его современники —
прогрессивные немецкие мыслители конца XVIII в. —
вообще не фиксировали внимания на этих качествах
трансцендентально-практической философии.
Обвинение же последней в ибездушии", равно как и
приписывание ей консервативной, "аффирмативной",
официально-охранительной тенденции показалось бы им
полной нелепостью.
Г. Форстер, В. Гумбольдт и Ф. Шиллер, молодой Фихте
и молодой Гегель воспринимают моральное учение Канта
75
как освободительную, оппозиционно-критическую
концепцию, ни в малой степени не противоречащую
требованиям человеколюбия. И происходит это именно
потому, что им ясен не только текст, но и проблемный
контекст трансцендентальной этики.
Восприятие Канта его выдающимися современниками
представляет собой, на мой взгляд, такую исторически
обусловленную позицию (иных не бывает), которая в
наименьшей степени заслуживает упреков в
исторической ограниченности. Восприятие это не обманывается
в главном: в антифеодальном смысле
трансцендентально-практических деклараций — в том, что даже ригоризм
и формализм, которые проповедует Кант, не связывают,
а эмансипируют индивида, живущего в условиях
государственно-абсолютистского режима.
Освободительный пафос, который содержала в себе
концепция автономной моральности, достаточно
хорошо слышали даже консерваторы, подвизавшиеся на
политическом поприще в конце XVIII — первой трети
XIX в. Тревожные охранительные предупреждения в
ее адрес не раз звучали и в самой Германии, и за ее
пределами.
Сошлюсь на полуанекдотическую историю, которую
поведал Я.Гордин в недавно опубликованном очерке
"Донос на всю Россию, или Миф о масонском заговоре".
В 1831 г. генерал-майор А.Б. Голицын направил
пространное секретное письмо Николаю I. Императору
внушалась мысль о существовании в России
разветвленной подрывной организации, руководители которой
вдохновляются идеями ордена иллюминатов, основанного
в 1781 г. баварским профессором Вейстгауптом.
Характеризуя воззрения последнего, Голицын замечал: "Все у него
основано на мечтании ввести между людей владычество
морали, которое все должно заменить на свете. А что такое
мораль? Послушаем.
Мораль есть искусство, научающее людей выйти из
малолетства, вырваться из-под опеки, вступить в мужа-
лый возраст и обходиться без царей"57.
76
Суждения Голицына об иллюминатстве основывались на
слухах и маниакальных натяжках. Вейстгаупт был
эклектичным и тусклым моралистом. Энергичная идея
эмансипирующей морали вовсе не его детище. Это общая установка
раннебуржуазного немецкого просвещения 80—90-х годов
XVIII в.
Но кто впервые сформулировал ее с концептуальной
ясностью и определенностью? Это сделал И. Кант в
полемике с авторитарно-назидательным
просветительством М.Мендельсона. Антимасонская тирада AJ5.
Голицына: "Мораль есть искусство, научающее людей выйти из
малолетства, вырваться из-под опеки, вступить в мужа-
лый возраст..." — читается как непредумышленное, но
поразительное по точности резюме кантовской статьи
"Ответ на вопрос: что такое Просвещение".
Опубликованная в "Берлинском ежемесячнике" в 1784 г., статья
эта стала Евангелием немецкого либерализма, достигая
и университетских кафедр, и придворных салонов, и
масонских лож58.
Знаменательно и еще одно обстоятельство,
выпадающее из поля зрения наиболее жестких, ретивых и
вульгарных критиков Канта. После того, как в 1785 г.
были опубликованы "Основы метафизики нравов",
наступает настоящая "бурная весна" немецких естественно-
правовых теорий, сравнимая со "штурм-унд-дрангизмом"
в поэзии и литературе. На научной и
литературно-публицистической арене появляется поколение юридических
гуманистов: А. Хеннингс, Э.Ф. Клейн, Ю. Мёзер, К.
Клауер, молодой Ф. Генц, Г. Форстер, A.B. Рерберг, а
позже (в конце века) И.Б. Эрхард, Э.Г. Моргенсберг,
А.Й. Дорш, К.Г. Хайденрайх, П.ИА. Фейербах. Люди
разных политических ориентации, они согласны в том,
что моральное учение Канта сделало их чувствительными
к "праву человека". Понятийный словарь
трансцендентализма иногда понимается ими весьма упрощенно, но
постулат свободы как выгоды сверх выгоды они слышат
ясно. На эту высшую ценность и должна, по их мнению,
ориентироваться теория права, различая ее и в понятии
77
интереса, выдвинутом французами, и в понятии пользы,
завладевшем умами англичан, и в понятии
целесообразности, как оно прорабатывалось в самой Германии, в школе
Вольфа. Кант — не француз, не англичанин и не немец, —
он прусский европеец, открывший путь к освоению и
синтезу эпохальных юридических исканий. Его мораль —
это орган немецкой юридической всеотзывчивости.
Французская революция также воспринимается "через
Канта". Ее драма (отмена сословных привилегий,
провозглашение республики, казнь короля, утверждение
диктатуры, режим террора) производит обескураживающее
впечатление на большинство немецких теоретиков
"естественного права". Но этого нельзя сказать о самих
правовых декларациях революции. Они воспринимаются
как давно провозглашенные. В 1789 г. появляется даже
легенда, будто их основная идея вообще занесена во
Францию из-за Рейна. Заносчивая и высокомерная,
легенда эта не лишена тем не менее правдоподобия:
версия "естественного права", отстаивавшаяся в
Германии с середины 80-х годов, структурно ближе к
концепции "неотъемлемых прав человека и
гражданина", чем а естественное право" в трактовке Гельвеция,
Гольбаха, Руссо и Мабли. И одной из причин этого
структурного соответствия является юридическое
усвоение кантовского постулата неотчуждаемой свободы.
Но как немецкие юристы расслышали этот постулат,
если «Приложение к "Наблюдениям над чувством
прекрасного и возвышенного"» вообще не публиковалось
при жизни Канта, а его лекции 1780-1782 гг. были
известны лишь узкому кругу слушателей?
Немецкая интеллигенция вычитывала идею свободы
как высшей ценности не из моралистически
проповеднических, а из теоретико-этических выступлений Канта,
посвященных обоснованию принципиально нового
трансцендентального понятия — понятия категорического
императива.
За два века, прошедших со времен опубликования
основных этических сочинений Канта, появились сотни
78
исследований, посвященных этому понятию. Знакомясь
с ними, мы можем уяснить себе (или по крайней мере
живо ощутить), каким образом идея категорического
императива могла найти сочувствие у представителей
самых разных культур и мировоззрений: от либеральных
евангелических теологов до буддистов, от приверженцев
крайнего нормативизма до защитников этики "без
обязательств и без санкций".
Вместе с тем в океане кантоведческой литературы
(включая и марксистскую) не отыщется, пожалуй, и
десятка работ, где бы объяснялся, подхватывался и
развивался самый первый — и, возможно, самый
логичный, самый внушительный — идейный отклик на понятие
категорического императива, а именно — энтузиазм
передовых правоведов конца XVIII — начала ХГХ в.
В следующих двух главах я попытаюсь
продемонстрировать глубоко закономерный характер такого отклика.
Хочу еще раз предупредить читателя, что выявление
философско-правового потенциала кантовского
морального учения требует терпеливой текстологической
работы, ориентированной на скрытые напряжения, которыми
обременена упорядоченная конструкция
трансцендентально-этических понятий. Оно предполагает постоянное
внимание к недосказанному. Оно может быть успешным
лишь в том случае, если мы с самого начала отставим
в сторону расхожие пренебрежительные суждения по
адресу аимперативизма, формализма и ригоризма" и
всерьез задумаемся над тем, что значили эти установки
в конкретном духовном контексте кантовской эпохи.
79
Ill
Своеобразие и эпохальное значение этики Канта
очерчивается понятием категорического императива. Общий смысл
этого понятия предугадывался многими моралистами, и
все-таки концептуального провозвестия в
предшествующих теориях нравственного сознания оно не имело.
1. Императивное истолкование нравственности.
Гипотетический и ассерторический
императив
Знаменательно уже то, что Кант отстаивает императивное
истолкование нравственности. Такова, если угодно,
абстрактная "общая посылка" его этики, наиболее часто
подвергавшаяся впоследствии критике.
Моральный поступок, согласно Канту, имеет место
лишь там, где человек действует не импульсивно, а
подчиняясь некоторому вербализуемому и осознанному
повелению. Это вовсе не означает, будто импульсивно
совершаемое добро (например, помощь, оказываемая в
порыве сочувствия) трактуется Кантом как нечто
предосудительное. Он скорее просто не доверяет спонтанным
нравственным склонностям за их неопределенность и
опасную близость к "страстямя1.
Какое историческое переживание кроется за этим
недоверием?
XVII-XVIII вв. - время ослабления и кризиса
традиционной патриархальной морали (пморали обычая"),
которая полагалась не столько на императивные
формулы, сколько на своего рода "нравственные инстинкты",
80
формировавшиеся веками. Место пошатнувшейся
"морали обычая" занимают разветвленные кодексы
предписаний, на страже которых стоит абсолютистское
государство. Отстаивая императивное истолкование
нравственности, Кант выступает прежде всего просто как
этический регистратор этого объективно
совершающегося процесса. Нимало ему не сочувствуя, он вместе с
тем честно признает, что вытеснение эмотивного
нравственного начала авторитарным и кодифицированным
внешним повелением есть процесс необратимый. Любые
попытки апеллировать к "моральному чувству",
возродить благонравные инстинкты "доброго старого
времени", может быть, и милы, и похвальны, но совершенно
безнадежны.
Можно привести немало выдержек из этических
сочинений Канта, которые засвидетельствовали бы, что
этот непримиримый противник равнодушия и цинизма
вместе с тем с буржуазной трезвостью отвергал
"священный трепет религиозного экстаза, рыцарского
энтузиазма, мещанской сентиментальности "% или, как он сам
выражался, выспреннюю и обманчивую "этику
великодушия".
Вернемся еще раз к вопросу о том, как Кант толковал
понятия "любви", " сочувствия", "сострадания", и
рассмотрим его под несколько иным углом зрения.
Уже в "Наблюдениях над чувством прекрасного и
возвышенного" Кант акцентировал внимание на том, что
состраданию и любви свойственна неискоренимая
избирательность, своего рода "врожденный фаворитизм".
Активно сострадать всем непосильно ни для кого3. Хотя
чувство это само по себе "прекрасно и
привлекательно"4, у него узкий (патриархально-общинный) кругозор.
Подобно сюзерену "добрых старых времен", оно
привержено к "своим", к "ближним", к тем, кого родство
или симпатия ввели в круг покровительства. Но именно
поэтому акты сострадания так часто содержат в себе
"несправедливость по отношению к другим,
находящимся вне этого круга"5. Самое горячее участие в судьбах
6 Заказ №1663
81
тех, кто мил и трогателен, может соседствовать с
вопиющим равнодушием в отношении ибольшого",
общественно-исторического мира. "Страдающий ребенок,
несчастная и милая женщина, — пишет Кант, —заставляют
наше сердце наполниться ~. чувством уныния, и в то же
время мы хладнокровно воспринимаем весть о большом
сражении, в котором, как легко сообразить, значительная
часть человечества должна безвинно погибнуть ..."*.
Кант — защитник нравственности, которая имела бы
значение для анадобщииного",
граждански-политического мира, препятствовала раздору и конфликтам,
позволяла сохранить благожелательность не только к
"ближним", но и к адальним". Но как раз поэтому он
за нравственность императивную, поддающуюся
выражению в известных максимах и проверке на общезначимость.
Вместе с тем нельзя не подчеркнуть, что Кант нигде
не относится к состраданию как к врагу моральных
императивов (соответственно, он нигде не доводит
критику известных ему теоретических защитников
"нравственного чувства" — А. Шефтсбери и Ф. Хатчесона —
до обличительной остроты). Сострадательное
благодеяние отвергается Кантом в значении
патриархально-ненадежного союзника строгой морали, вступающей в
борьбу с системой абсолютистских повелений.
Победоносным противником внешнего императива
может быть только иной по типу императив, внутренне
признанный и ригористически исполняемый,
отвечающий критерию ачистого долженствования" и по этому
критерию отличаемый от инструкций, рекомендаций,
пруденциальных правил, которые, не будучи моральными,
тем не менее вменяются в нравственную обязанность.
Таково основное противопоставление
трансцендентальной этики, доминирующее над простым различием
императива и склонности. Этика Канта прежде всего
антиавторитарна и лишь вследствие этого
непатриархальна и антиромантична.
Нравственный поступок непременно императивен, но
далеко не всякое императивное действие является нрав-
82
ственным. Более того, основная масса адресованных
человеку властных повелений никакого отношения к
строго моральным требованиям не имеет, хотя и выдается
за таковые. Людям приходится поэтому не только
одолевать свои спонтанные склонности, но еще и
противостоять многочисленным квазиморальным
предписаниям.
Попытку обозначить такие предписания особым
понятием и обрисовать их типически-общую структуру Кант
впервые предпринял в 1764 г. в работе и Исследование
степени ясности принципов естественной теологии и
морали". и Должно делать то-то и то-то, а другого не
делать — такова формула, выражающая всякую
обязанность, — писал Кант, фиксируя ходячее, приказное
понимание императива. — Но всякое долженствование
выражает некоторую необходимость действия и может
иметь двоякое значение. В самом деле, или я должен
делать что-то (в качестве средства), когда я хочу чего-то
другого (в качестве цели), или я должен делать и
осуществлять нечто (как цель) непосредственно. Первое
можно было бы назвать необходимостью средств
(nécessitas problematical), второе — необходимостью
целей (nécessitas legal is **). Первый вид необходимости
вовсе не указывает на какую-либо обязанность, а
содержит в себе только предписание, как разрешить
некую проблему... Тот, кто предписывает другому (!),
какие действия он должен совершить и от каких
воздержаться, если хочет содействовать своему счастью,
мог бы, пожалуй, подвести под это все наставления
морали; но тогда они были бы уже не обязанностями
(в строгом этическом смысле этого слова — Э.С.), а
чем-то подобным обязанности (инструкцией — Э.С.)
провести две пересекающиеся дуги, если я хочу разделить
прямую на две части... Все действия, которые мораль
предписывает нам для осуществления определенных
• Проблематической необходимостью (лат.) — ред.
'• Явной необходимостью (лат.)— ред.
83
целей, случайны и их нельзя назвать обязанностями
(подлинными моральными императивами. — Э.С.).."7.
Это "докритическое" рассуждение исключительно
ценно для понимания основного и
проблемно-полемического напряжения" кантовской этики. Оно достаточно
ясно показывает, что Канта тревожил и отвращал прежде
всего известный социальный способ предписывания
обязующих индивида требований.
Каждый человек различает (или по меньшей мере
способен различить) обязанность в собственном смысле
слова и техническую инструкцию. Но вот "тот, кто
предписывает другому, какие действия он должен
совершать" (властная неопределенно-личная инстанция, за
которой угадывается государство и господствующее
мнение), упорно смешивает одно с другим. Целесредственные
и самоцельные требования ставятся им на одну плоскость:
они превращены в труднораспознаваемые подвиды
рецептов, которые предлагаются человеку ради достижения им
аего же собственного счастья".
Рассуждение Канта не имеет критико-обличительного
характера. Пока что все выглядит так, словно речь идет
просто о некоторых уточнениях общепринятого
(например, лейбницианско-вольфовского) понимания морали.
И все-таки прав был Э. Кассирер, когда, процитировав
только что приведенные высказывания Канта, заметил:
аНи один из его тогдашних читателей и критиков не
мог предположить, что в этих немногих простых
положениях в принципе преодолена уже вся система морали,
как ее трактовало XVIII столетие... Здесь заложена уже
основная идея его будущей этики — различие между
"категорическим" и "гипотетическим императивом..."®.
Кассирер отсылает читателя к 1785 г., к "Основам
метафизики нравственности"9.
Вопрос об обществе, которое в своем стремлении к
максимальному "нормативному обложению" индивидов
предписывает им совершенно разнородные требования
в качестве однотипных, присутствует и в этом сочинении
Канта. Но тематически он оформлен иначе, чем в 1764 г.
84
Канта тревожит теперь образ мысли самих обязуемых —
их этическая неразвитость и некомпетентность. Кант
требует от каждого индивида методичной рефлексии по
поводу строения и смысла императива, которые тот
принимает к исполнению.
Прежде всего надо научиться различать между
условными, целесредственными предписаниями (например,
"заготовляй дрова с лета", "храни деньги в банке", "не
откладывай выплаты податей" и т.д.) и предписаниями,
которые самоцельны и значимы при любых условиях
("не лги", "не воруй", "не будь высокомерен" и т.д.).
Только последние обладают обязующей силой и поэтому
заслуживают названия моральных. Что касается первых,
то, по строгому счету, они безразличны в моральном
отношении. "Если поступок хорош только для чего-то
другого как средство, — пишет Кант, — то мы имеем
дело с гипотетическим императивом... Такие
императивы могут вообще называться императивами умения.
Разумна ли и хороша ли цель, — об этом здесь и речи
нет, речь идет лишь о том, что необходимо сделать,
чтобы ее достигнуть. Предписания для врача, чтобы
основательно лечить пациента, и для отравителя, чтобы
наверняка его убить, равноценны постольку, поскольку
каждое из них служит для того, чтобы полностью
осуществить поставленную цель"10.
По поводу любого гипотетического императива
индивид вправе спросить, достойна ли предполагаемая в нем
цель и действительно ли эффективно предписываемое
для нее средство. И если человек не будет убежден ни
в том, ни в другом, то неисполнение им
соответствующего предписания не может осуждаться.
Сразу замечу, что выдвижение подобных тезисов —
на первый взгляд, совершенно банальных — было
серьезным вызовом по отношению к мелочной
абсолютистской опеке над индивидом, так часто отстаивавшейся
в современных Канту морально-политических учениях.
Разъяснение характера гипотетического императива в
"Основах метафизики нравов" равносильно деклариро-
85
ванию одного из "прав-свобод": никто не может
спрашивать с совести индивида (т.е. безусловным,
категорическим образом) за неисполнение таких
требований, которые являются условными и предполагают
предварительную оценку рассудка. Или:
технико-прагматические инструкции и советы не могут возводиться в
закон.
Кант полагает, что различение условных
(гипотетических) и безусловных (категорических) требований
посильно для любого ума. Оно вообще не представляло
бы «проблемы, если бы в игру не вмешивался еще один
императив — ассерторический. В и Основах метафизики
нравов" он характеризуется следующим образом:
"Гипотетический императив, который представляет
практическую необходимость поступка как средство для содей-,
ствия счастью, есть ассерторический императив". Здесь
речь идет не о достижении той или иной конкретной
цели в конкретных условиях, а как бы "о всеобщности
всех эмпирических целей" (именно это подразумевает
понятие и счастья") — ао цели, которую можно с
уверенностью и a priori предположить у каждого
человека"11. Или в более продуманной и доходчивой
формулировке: "Умение выбирать средства для своего
собственного максимального благополучия (запомним
этот термин, замещающий понятие счастья. — Э.С.)
можно назвать благоразумием"12. Максимы благоразумия
и принадлежат к типу ассерторически-императивных. Это
требования умеренности, бережливости, воздержания,
осмотрительности, обходительности, которые
выдвигались резонерами всех времен и на которых было
прямо-таки помешано XVIII столетие.
Кант проницательно замечает, что требования эти,
которые должны, казалось бы, обеспечивать успешность
индивидуального поведения в любых условиях, на деле
не приложимы ко множеству житейских ситуаций.
Каждый может представить себе такие обстоятельства,
где и бережливость, и воздержание, и обходительность,
и любая другая фиксированная формула благоразумия
86
делается неблагоразумной. Но это означает, что всеобщих
и вместе с тем содержательно-определенных императивов
благоразумия просто не может быть. Все, что можно
повелеть человеку ради достижения счастья, — это
просто: "будь благоразумен (здесь — одним, там —
другим способом)". Подобное повеление совершенно
абстрактно и, по строгому счету, не предписывает
человеку ничего, кроме образа мысли, или правила
отношения к любым предъявляемым ему требованиям.
Никакого обобщения гипотетических императивов
ассерторический императив не обеспечивает, он просто
вносит в поведение пафос расчетливости, или, что то
же самое, возводит расчетливость в культ.
Одной из важнейших особенностей кантовской этики
издавна признавался формализм, т.е. выдвижение на
первый план проблемы общей законосообразности
поведения и реализующегося в нем образа мысли в ущерб
анализу конкретного содержания поступков. Однако и
те, кто порицал этот формализм, и те, кто ставил его в
заслугу создателю "критической философии", как
правило, совершенно упускали из виду, что Кант был еще
и критиком формализма, уже давно и стихийно
утверждавшегося в нравственном сознании его времени.
Кант никогда не подвергал сомнению, что людям
свойственно стремиться к счастью и добиваться его
конкретными рациональными средствами в конкретных
ситуациях. Но что он решительно отрицал, так это
понимание эвдемонистической расчетливости как
"правила над правилами", "закона над законами", когда ни
один нравственный акт не признается достойным,
морально полноценным, если его не удается свести к
мотивам счастья.
Все учение о категорическом императиве заострено
против формальной и абстрактной моралистики
себялюбия, основное кредо которой состоит в следующем:
"Из желания счастья в самом общем смысле этого слова
возникают мотивы всякого стремления, а следовательно
и стремления к соблюдению морального закона"13.
87
Нравственный поступок, не мотивированный
стремлением к счастью, выдается тем самым за что-то
сомнительное, более того — противоестественное и безумное.
Вот эта-то казуистика эвдемонизма, его претензия на
подведение содержательных моральных требований (типа
"неубий", ане лги", ане кради") под мнимоформальное
и "мнимоаприорное" правило и делается в 1785 г.
главным объектом кантовской критики. Автор "Основ..."
ополчается против себялюбия, которое читает морали
и разумно-эгоистическиея назидания. Он демонстрирует,
что из стремления к счастью, хотя его ас уверенностью
и a priori можно предположить у каждого человека",
нельзя вывести не только всеобщего и необходимого
априорного закона, но даже сколько-нибудь
определенного правила. и Понятие счастья столь неопределенное
понятие, что хотя каждый человек желает достигнуть
счастья, тем не менее он никогда не может определенно
и в полном согласии с самим собой сказать, чего он,
собственно, желает и хочет. Причина этого в том, что
все элементы, принадлежащие к понятию счастья, суть
эмпирические, то есть должны быть заимствованы из
опыта, однако, для идеи счастья требуется абсолютное
целое — максимум блага в моем настоящем и каждом
последующем состоянии. Так вот, невозможно, чтобы в
высшей степени проницательное и исключительно
способное, но тем не менее конечное существо (каковым
является человек.-Э.С.) составило себе определенное
понятие о том, чего оно собственно здесь хочет... для
этого потребовалось бы всеведение... Задача определить
наверняка и в общем виде, какой поступок мог бы
содействовать счастью разумного существа, совершенно
неразрешима. Стало быть... невозможен никакой
императив, который в строжайшем смысле слова
предписывал бы совершать то, что делает счастливым..w-14.
Примеры, которыми Кант пытается разъяснить это
общее рассуждение, наивны и не вполне доказательны.
Это не мешает, однако, достоверности и убедительности
принципиальных доводов Канта.
88
В иОсновах метафизики нравственности" впервые в
истории философии высказана догадка о том, что
представления о счастье (в отличие от нормативных
суждений) — это зеркало неустранимого многообразия,
динамизма и незавершенности человеческого
существования. Они негенерализируемы, поскольку выражают
неусредняемую оригинальность культур, эпох и
общественных состояний. Они нерецептируемы, поскольку
даже каждый человек в отдельности постигает свои
действительные желания лишь в результате длительного
(экзистенциального) опыта. Он хочет разного в разные
периоды своей жизни, и никто не может заранее
постигнуть смысловое единство этих сменяющих друг
друга эвдемонистических устремлений15.
Кант вовсе не отрицает, что люди могут быть
счастливыми и переживать периоды полноценной радости.
Речь идет лишь о том, что их переживаемое счастье ни
в коей мере не является "масштабом для всех" и не
разрешает задачи "максимального благополучия в
настоящем и каждом последующем состоянии". Наиболее
корректным выражением этой идеи следует, на мой
взгляд, считать следующую формулировку из "Критики
практического разума": а...что приносит истинную и
прочную выгоду, если эта выгода должна простираться
на все существование, всегда покрыто непроницаемым
мраком, и требуется много ума, чтобы направленные на
это практические правила более или менее
удовлетворительно приспособить к целям жизни через хитроумные
исключения"16.
Итак, ассерторический императив в строгом смысле
слова невозможен; стремясь к нему, люди не подымаются
выше индуктивных (общих, но отнюдь не
универсальных^) правил благоразумия. В той мере, в какой
расчетливому эвдемонисту вообще свойственны
логичность и объективность, он должен сам осознать данное
обстоятельство, и следовательно, квалифицировать свою
смысложизненную задачу как неразрешимую. Это даже
непременно случилось бы, если бы... если бы сама
89
действительность, осмысляемая в понятиях полезного и
вредного, выгодного и невыгодного, благоприятного и
опасного, не содержала в себе суррогата
ассерторических предписаний.
Суррогатом этим является чужая воля, возведенная в
закон и подкрепленная утилитарно определенными
наградами и наказаниями. Содержание закона может быть
при этом совершенно произвольным — расчетливый
эвдемонист все равно примет его в значении объективного
и даже всеобщего, поскольку утилитарная определенность
чужого предписания устраняет мучительную
"эмпиричность" (многозначность и неясность) мира в перспективе
благополучия. Единство (тотальность) предписывающей
воли будет трактоваться как "универсальное условие"
счастья и выгоды, а бесконечный ряд гарантируемых ею
наград — как "максимум благополучия в настоящем и
каждом последующем состоянии".
Как ни сложны эти допущения, они выражают нечто
элементарно понятное для человека, жившего в условиях
государственно-абсолютистского режима. Исходную
характеристику этих условий я дал в первой главе и сейчас
позволю себе ограничиться краткой зарисовкой, отчасти
основывающейся на той трактовке государственного
абсолютизма, которую предложил в своих последних
работах талантливый представитель современной
структуралистской философии Мишель Фуко'8. Это поможет
нам правильнее прочесть кантовский этический текст.
"Человек абсолютистской культуры" склонен был
воспринимать государство в качестве своего рода
сверхприродного распорядителя всех благ и несчастий,
выпадающих на долю людей. Могущество государства было,
разумеется, не столь безгранично, чтобы подчинить воле
монарха экономические и социальные процессы, борьбу
сословий и новые, классовые конфликты19. Вместе с тем
его было достаточно, чтобы воздействовать на волю
любого единичного индивида с помощью сугубо
материальных (в частности — экономических) условий,
контролируемых государством и включаемых в систему
90
государственного покровительства и государственной
репрессии. В XVII-XV1II вв. — впервые в европейской
истории — благополучие отдельного подданного стало
зависеть от законодательства и правительств в большей
степени, чем от стихийных процессов (природных и
социальных). Угроза насильственной смерти заслоняла
естественную, угроза конфискаций и изъятий страшила
больше, чем стихийное разорение, расчет на
государственную милость заместил идею фортуны, столь
характерную для "человека ренессансной и барочной
культуры". В итоге индивид все чаще должен был
воспринимать государство как "систематизирующий центр" всей
окружающей его реальности, а распоряжения власти —
как такие правила благоразумного и приспособления к
среде", которые сама же эта среда формулирует и
предъявляет.
Абсолютистское государство как бы замыкает на себя
расчетливый эгоизм, утилитарность и меркантилизм,
которые по мере развития товарно-денежных отношений
проникают во все традиционные сословия, но, как
правило, еще весьма далеки от раннебуржуазной
предприимчивости, т.е. от упорного, методичного, а порой и
самоотрешенного мрыцарства наживы". Фетишистски
благоговейное отношение к государству и его
постановлениям (чичиковское "я немею перед законом")
становится непременной предпосылкой всех действий
примитивного прагматика.
Некоторые мыслители XVII в. уже догадывались о том,
что поведение расчетливого эвдемониста становится
действительно законосообразным тогда (и только тогда),
когда оно делается законопослушным
(верноподданническим). По меткому наблюдению Лейбница, человек,
ищущий "наибольшего удовольствия и наименьшего
страдания" и ни к чему иному не стремящийся, не найдет
покоя, покуда не возвысится до следующей морально-
политической мудрости: "Всякая обязанность
предполагает идею закона, а закон немыслим без предписавшего
его законодателя, или без наград и наказаний"20.
91
Кант оформляет эту догадку категориально. С
помощью своеобразных этических понятий он схватывает
существенные для его времени социальные отношения,
которые ни для кого еще не по силам было выразить
на языке социального и политико-экономического
анализа.
Уже в лейбницианско-вольфовской философской
традиции мы встречаемся с выражением " гетерономия".
Буквально, как мы знаем, оно означает "чужеэаконие",
или "жизнь по чужому распоряжению". У Канта
"гетерономия* становится одним из важнейших этических
понятий и, что особенно существенно, предельно
сближается с понятием "гипотетический императив". В
некоторых формулировках "Основ..." дело вообще
представлено так, словно гипотетико-императивное действие
— это полное (и притом аналитическое) определение
гетерономии. Кант пишет, к примеру: "Везде, где в
основу должен быть положен объект воли для того, чтобы
предписать ей правило, которое бы ее определило,
правило есть не что иное, как гетерономия, а именно:
если или так как мы хотим этого объекта, мы должны
поступать так-то и так-то"21. Или то же самое, но в
схоластико-казуистическом духе: гетерономия имеет
место там, где воля "не сама дает себе закон, а его дает
ей объект через свое отношение к воле"22.
Однако там, где Кант прибегает к разъясняющим
определениям, становится ясно, что гипотетический
императив и гетерономия — это не одно и то же.
Императив, читаем мы в "Основах...", должен быть
причислен к гетерономным предписаниям, если он
"заключает в себе интерес как приманку и принуждение"23.
Нелепо утверждать, будто субъект, относящийся к
правилам (императивам) как к средству для цели, сам
себя этой целью "приманивает или принуждает". Это
может делать лишь другое наделенное волей лицо,
которое использует интересы и цели первого.
Более продуманным и точным следует поэтому
признать одно из важнейших утверждений "Критики прак-
92
тического разума": "если... какой-нибудь объект под
наименованием благо считают определяющим
основанием воли... то это всегда приводит к
гетерономии"24. Гипотетико-императивный образ мысли есть,
иными словами, предрасположение к гетерономии, а не
ее определение. Что касается последнего, то оно дается
в "Критике способности суждения": "Было бы
гетерономией делать суждения других людей определяющим
основанием своего суждения"25. В том же смысле Кант
характеризует гетерономию как "склонность к
пассивности разума" и как "потребность в постороннем
руководстве"26.
Отождествление гетерономии с гипотетическим
императивом есть, иными словами, логическая ошибка, в
которой Канта можно уличить с помощью его же
собственных текстов. Но это такая ошибка, которая
глубже, содержательнее иных логических правильностей.
Кант превращает в логическую экспликацию жесткую
"психологически понятную" последовательность: он
видит, что гипотетико-императивный образ мысли -- это
полная внутренняя приуготовленность к чужезаконию,
или, если воспользоваться гегелевским категориальным
словарем, гетерономия "в себе". Если для человека не
существует императивов, не сводимых к правилам
достижения его личного счастья и благополучия, то для
него не может быть и законов, отличимых от простой
кодификации господской воли. Или более просто: тот,
кто в качестве "естественного индивида" расчетливый
эвдемонист, в качестве общественного — не более, чем
расчетливый холоп.
Переход от гипотетико-императивного образа мысли
к гетерономии — сложный поведенческий акт,
перестройка сознания. Ни в одном из основных этических
сочинений Канта она не рассматривается специально, не
берется как феноменологическая тема (в гегелевском
смысле). Историку философии приходится здесь
"работать за Канта", но, разумеется, опираясь на собственные
его тексты и реализуя заключенные в них возможности.
93
И в "докритических" произведениях, и в работах,
примыкающих к "Критике практического разума", мы
находим, например, попытку разрушить исходную
самонадеянность расчетливого эвдемонизма и привести его
к "метафизическому разочарованию". Историк
философии вправе "форсировать" данную тенденцию кантов-
ского анализа и показать, что движение от
самонадеянности к состоянию своего рода "несчастного сознания"
есть неизбежный удел индивида, ищущего универсальный
рецепт счастья. Он вправе далее (опять-таки привлекая
самые различные кантовские тексты, хотя бы и не
связанные друг с другом тематически) проследить, как
этот индивид пытается элиминировать обескураживающие
очевидности, которые делают его сознание "несчастным".
Воспользуемся этим правом и попробуем выполнить •
явно то, что в трансцендентальной этике лишь
угадывается, намечается, прочерчивается пунктиром.
2. Расчетливый эвдемонизм
как "несчастное сознание"
Как мы уже знаем, расчетливый эвдемонист может
действовать "только на эмпирических основаниях"27, а это
значит всегда стоит перед лицом случайности и
неожиданности. Чем шире, чем обобщеннее мыслит он
проблему счастья (благополучия), тем неопределеннее его
шансы, поскольку искомый результат предстает перед ним
как "целоктоность действительно бесконечного ряда
последствий"^*.
Осознание этой бесконечности (прагматической
неисчерпаемости) ведет к растерянности. Повторим еще раз
решающую констатацию Канта: "Что приносит истинную
и прочную выгоду, если она должна простираться на все
существование, всегда покрыто непроницаемым
мраком..."29. Расчетливое себялюбие заходит в тупик и может
выбраться из него только посредством переориентации
(смены установки). Говоря вкратце, она состоит в
следующем: "самостоятельность суждения" в вопросах
94
личного благополучия жертвуется ради гарантий
благополучия, заключенных в могуществе и однозначности
"посторонней воли". Индивид обменивает свою
утилитарную независимость на комфорт подзаконного
существования. Отчаявшееся благоразумие полагает себя как
благоразумие на основе повиновения.
Этот переход от гипотетико-императивного к
сервильному, расчетливохолопскому образу мысли был
обрисован (скажем осторожнее: обозначен) прежде всего в
этикотеологических рассуждениях Канта, причем сплошь
и рядом без употребления самих понятий
"гипотетический императив" и "гетерономия".
Вера во всесильного и абсолютного господина мира
(Бога монотеистических религий) тут же превращает
расчетливого эвдемониста в "раба скрижалей" и
угодливого приспособленца.На место недостижимой
"универсальной формулы счастья" подставляются следующие
обманчиво простые уравнения: "максимум блага в
настоящем и каждом последующем состоянии" - это
"сокровище бога"; должное — это объявленные им
повинности; личный удел счастья — плата за несение
человеком этих повинностей и т.д.
Именно в этой — религиозной — форме Кант атаковал
утилитарную гетерономию уже в 1765 г. в сочинении
"Грезы духовидца, поясненные грезами метафизика"30;
именно в так называемой "статутарной религии" он
позднее, в 1794 г., увидел соединение самого наивного
эвдемонизма и гедонизма с самым беззастенчивым
"оплачиваемым служением"31, посредством которого
"пытается обосноваться униженный и сам от себя
отказывающийся образ мысли"32.
Эти формулировки, похожие на динамичные
определения различных типов сознания в гегелевской
"Феноменологии духа", достаточно ясно свидетельствуют о том, что
гетерономия не была для Канта простой логической
экспликацией гипотетико-императивного образа мысли.
Она включает в себя момент обмена, торга с небесным
господином, и момент раболепия (самоунижения).
95
Пониманием этой " многомерности я гетерономного
восприятия Бога Кант во многом обязан Лютеру, который
в своей критике индульгенций и так называемых "добрых
дел" показал, что практика предписанного благочестия
удивительным образом соединяет в себе раболепие,
торгашество и трусливое самоуничижение.
Отличие Канта от Лютера и других деятелей немецкой
бюргерской реформации состояло, однако, в том, что
в "предписанном благочестии" он увидел не просто
историко-церковный или даже историко-религиозный,
но морально-политический феномен. Предписанное
благочестие, которое практиковал позднесредневековый
католицизм, — это, согласно Канту, лишь частное и
незрелое проявление утилитарно-гетерономного образа
мысли, утвердившегося в обществе в пору разложения
патриархально-традиционных порядков. Другим его
выражением является расчетливое законопослушание перед
лицом неограниченного мирского правителя. Начиная с
ХУПв. именно он мыслится как абсолютный
распорядитель человеческих несчастий и благ; он, а не Бог папской
церкви притягивает к себе всю энергию раболепия,
торгашества и трусливого самоуничижения.
В "Метафизике нравов1* (1797) Кант неоднократно
наводит читателя на мысль о том, что тяга к
государственному абсолютизму представляет своего рода
"врожденную политическую предрасположенностьп
беззастенчивого себялюбия, для выявления которой не надо даже
строить "естественное состояниеп по модели Гоббса.
Государство-Левиафан вотируется расчетливым эвдемо-
нистом даже без всякого соглашения с другими
подобными ему индивидами — не его гласным волеизъявлением,
прозвучавшем в неком легендарном (или лишь условно
допускаемом) учредительном собрании, а просто его
общим отношением к реальности.
Образ государства-Левиафана (государства как
земного Бога, раболепно признаваемого в самой его
чудовищности) Кант высоко ценил, хотя был далек от того, чтобы
видеть в нем удачное выражение сущности "истинного
96
государства"33. Левиафан был для него пародийно
точным означением неистинной, "примитивной
государственности"34, складывающейся стихийно, вынужденно,
при минимуме, а то и при полном отсутствии договор-
но-политической активности.
В концепции Канта государство-Левиафан имеет
смысл не только политико-исторического, но и
общеэтического символа: это мир завершенной утилитарной
гетерономии, всеобщей прагматически признанной
неволи. Сюда попадает всякий, кто погнался за синей
птицей ассерторического императива.
Кант вовсе не хочет сказать, будто неограниченная
деспотическая власть учреждается или порождается
расчетливым себялюбием. Напротив, он постоянно
подчеркивает, что до известного исторического момента
индивиды, каков бы ни был их образ мысли, находят эту
власть в качестве готового, стихийно-объективного
образования. Но дело в том, что расчетливый эвдемонист
еще и соглашается с существованием
государства-Левиафана — соглашается во всю силу своего
примитивного политического приспособленчества. У него нет
поэтому права на недовольство: он вынужден принимать
все тяготы, унижения и насилия, которыми чревато
подневольное состояние, как заслуженную расплату за
свой образ мысли.
Расчетливое себялюбие полагает неограниченную
мирскую власть в значении земного Бога, или богоподобной
посюсторонней воли. Но в действительности это всего
лишь человеческая власть. Тому, кто ее принял,
приходится на горьком опыте испытать все то, о чем Кант
предупреждал в своем первом этическом манифесте —
фрагменте "О свободе" из «Приложения к
"Наблюдениям над чувством прекрасного и возвышенного"».
Одиссея гипотетико-императивного сознания
оканчивается на проблемном поле этого фрагмента.
Расчетливый эвдемонист, принявший гетерономию как
спасение от эмпирической неопределенности
утилитарно оцениваемого мира, оказывается перед лицом три-
7 Заказ №1663
97
виальной, но обескураживающей истины: "...зло,
совершаемое природой, все же подчинено определенным
законам", воля же человека (имеется в виду монарх,
господин) "есть лишь продукт его собственных
стремлений, склонностей и согласуется только с его
собственным истинным или воображаемым благополучием",
и настроение человека не подчиняется никаким
правилам"*5. Но это значит, что субъект расчетливого зако-
нопослушания делается объектом чистого беззакония. Он
находит неупорядоченность личного произвола именно
там, где надеялся отыскать безличную волю,
гарантирующую порядок и законосообразность.
Однако и это еще не все. Поскольку посторонняя воля —
это не трансцендентная, не божественная, а
посюсторонняя человеческая воля, определяемая стремлением к
"истинному или воображаемому благополучию",
постольку признающий ее индивид становится объектом,
из которого извлекаются блага и выгоды. Он — предмет
использования, средство в гипотетическом императиве,
построенном другими. Он может не ведать бича, может
быть прилично содержим, обеспечен, даже обласкан —
это не меняет существа дела. Важно, что его
благоустраивают лишь в той мере, в какой он бесправен и
утилизуем (удобен и доходен для государя). Посторонняя
воля спасает от ненадежности утилитарно оцениваемой
исреды"; она защищает от голодной смерти, природных
стихий, междоусобиц и вражеских нашествий, но все
это только потому, что индивид, как отчеканивает Кант,
"принадлежит к собственности (dominium) другого", и
этот последний "может его продать как вещь,
использовать по своему усмотрению и распоряжаться
(располагать) его силой..."36.
Если бы в самом тексте "Основ..." было прослежено
это принудительно последовательное движение от гипо-
тетико-императивного образа мысли к добровольно
принимаемому рабскому состоянию, Кант мог бы
кратчайшим путем прийти к определениям императива,
контрастно противоположного ассерторическому.
98
Императив этот должен был бы появиться на свет
прежде всего в значении принципа автономии, т.е.
самозаконности, готовности беззаветно следовать
известным нормам поведения, налагаемым на себя до и
независимо от чужого предписания. В чем защита от
деспотического произвола, от рабства в абсолютистском
государстве? В самообязывании, в неукоснительном
подчинении такому закону, на который человек сам дает
согласие.
Возможность такого вывода подсказывается всей
совокупностью, всем сводом кантовских
морально-практических сочинений. Вместе с тем в собственно этической
дедукции Канта возможность эта не реализована. Автор
* Основ...п идет более сложным путем, обеспечивающим
не логическое выведение друг из друга, а в лучшем
случае w корреспондированиеп основных определений
императива, противоположного ассерторическому37.
Кант находит эти определения, оставляя в стороне
перспективу позорного бегства расчетливого эвдемони-
ста под эгиду кодифицированной чужой воли и трактуя
его предшествующее состояние растерянности перед
миром в качестве отчаянного, тупикового (" несчастногоп
в гегелевском смысле этого понятия).
3. Рождение категорического императива
Растерянность расчетливого эвдемониста выражает себя
как лшзология и как меланхолия.
О первой Кант говорит так. Люди, которые на долгом
опыте жизни испытали возможности разума в открытии
рецептов счастья и преуспеяния, сплошь и рядом доходят
до "ненависти к разуму, так как по исчислении всех
выгод, которые они получают... они все же находят, что
на деле навязали себе на шею больше тягот, а никак не
выиграли в счастье"38.
Но именно это глубочайшее разочарование в разуме
таит в себе (как и положено инесчастному сознанию")
возможность переосмысления всей проблемы жизненного
6*
99
смысла — парадоксальную переориентацию со средства
на цель. Расчетливый эвдемонист задается следующим,
прежде немыслимым для него вопросом: а не является
ли разум, оказавшийся столь ненадежным советчиком в
деле обеспечения преднайденной цели, идеальным
законодателем, устанавливающим само достоинство целей,
выбираемых человеческой волей. Или: "не состоит ли
истинное назначение его (разума. — Э.С.) в том, чтобы
породить не волю как средство для какой-нибудь другой
цели, а добрую валю самое по себе... Эта воля не может
быть, следовательно, единственным и всем благом, но
она должна быть высшим благом и условием всего
прочего, даже для всякого желания счастья039. То есть,
если прежде спрашивалось, каковы надежные,
постоянные условия для осуществления желания счастья, то
теперь возникает вопрос, каковы "предусловия", или
условия возможности самого этого желания.
Настоятельность и основательность подобного
вопроса, рождающегося в уме мизолога, подтверждается
меланхолией как другим выражением отчаяния.
В меланхолике нет больше ни спонтанного желания
счастья, ни даже властного инстинкта самосохранения:
а превратности судьбы и неизбывная тоска совершенно
отняли у него вкус к жизни"40. Но именно поэтому
оказывается возможным вопрос: а не является ли подобная
апатия расплатой за понимание счастья как безусловной и
высшей цели? Не есть ли наша жизнь со всеми ее
желаниями лишь поприще для решения какой-то
"сверхзадачи"? Поскольку такая сверхзадача существует, "сохранять
свою жизнь есть долг"41; поскольку ее нет — нет больше
ни долга жить, ни даже (как мы вдруг обнаруживаем)
желания влачить дальше свое существование.
Было большим новшеством для эпохи Просвещения
заявлять, что возможны и встречаются люди, которые не
хотят жить (что это по крайней мере не
противоестественно). Но еще большим новшеством (настоящим
антропологическим новаторством) была догадка Канта о
том, что только превосхождение, трансцендирование
100
эвдемонистических устремлений дает человеку саму силу
жизнелюбия.
Неудивительно поэтому, что ни мизолог, ни
меланхолик не рассматриваются Кантом как "конченные люди".
Из тупика, в который заводит расчетливое себялюбие,
видно больше, чем по пути к этому тупику.
Позднесредневековые теологи любили говорить, что
отчаяние делает монахом. Кант мог бы сказать, что
утилитарное отчаяние прививает вкус к добродетели. Из
мизологии рождается догадка, что разум больше, чем
средство; из меланхолии — подозрение, что счастье и
благополучие — еще далеко не "цель всех целей". Это
освобождает человека для высочайшей интеллектуальной
игры: делает его готовым к тому, чтобы испытать свои
желания не просто на благоразумие, а на обобщаемость
и законосообразность, которые суть непременная форма
всякого разумного представления. Но это означает также,
что отчаявшийся эвдемонист способен взглянуть на себя
как на объект своей же собственной воли,
экранированной в качестве всеобщего правила человеческого
поведения. Он примеривается теперь не к последствиям,
которые его частный поступок мог бы вызвать в
преднайденном общежитии (они, по строгому счету,
просто неисследимы), а к тому воображаемому
совокупному состоянию социума, которое возникло бы, если бы
все люди без исключения стали бы поступать так, как
он намерен поступить.
В "Основах метафизики нравственности " Кант
следующим образом описывает этот скачок из царства
все более неопределенных наличных обстоятельств в
царство своей же собственной обобщенной и законо-
правно объективированной воли.
В поисках универсального рецепта благоразумия
человек "запутывается теоретически, впадает в
противоречия с самим собой, приходит... к хаосу неизвестности,
неясности и неустойчивости"42. И тогда, словно при
отгадывании дзэн-буддистского коана, меняется уже не
мысль, а "сам вид того, о чем мыслят". Как бы оттеняя
101
фундаментальность этого духовного акта, соединяющего
в себе игру и экзистенциальную озабоченность,
способность продуктивного воображения и способность
оценивающего суждения, Кант заменяет третье лицо на первое
и говорит от себя к каждому. "Не сведущий в обычном
ходе вещей, не приспособленный ко всем происходящим
в мире событиям, я лишь спрашиваю себя: можешь ли
ты желать, чтобы твоя максима стала всеобщим
законом "43.
Если возможен положительный ответ на этот вопрос,
TQ человек нашел то, что он безуспешно искал под
формой ассерторического императива, а именно —
прочное, надежное правило поведения, не зависящее от
переменчивых и неисследим ых эмпирических
обстоятельств. Правило это имеет отношение к способности
желания (а значит и к желанию счастья), но вовсе не
является рецептом достижения счастья как последней
и высшей цели. Оно значимо как предусловие свободной
эвдемонистической ориентации в мире, как предпосылка
того, чтобы индивид не был манипулируем через его
стремление к счастью и утилизуем через его
приверженность к выгоде. Эта ориентация в неповторимых и
конкретных жизненных контекстах возможна лишь для
тех, кто сказал себе: аЯ всегда (т.е. в любом контексте,
в любой ситуации. — Э.С.) должен поступать только так,
чтобы я также мог желать превращения моей максимы
во всеобщий закон. Здесь законосообразность вообще...
есть то, что служит и должно служить воле
принципом"44.
Таков категорический императив, каким он впервые
появляется на свет в и Основах метафизики
нравственности п.
Сразу необходимо отметить, что приписывать этому
понятию антиэвдемонистический смысл значило бы
грубо исказить основную тенденцию трансцендентально-
этического анализа45. Сам Кант неоднократно и
достаточно определенно предостерегал против подобного
искажения. "Естественные склонности, рассматриваемые
102
сами по себе... неотвергаемы, — писал он, — и было бы
не только напрасно, но в то же время и вредно и
достойно порицания, если бы мы пытались искоренить
их"46. Практически неискоренимым (соответственно —
теоретически неотвергаемым) Кант считал и
интегральное выражение естественных человеческих склонностей —
стремление к счастью. В "Критике практического
разума" он дал по этому поводу следующее, классически
ясное растолкование: "Различить учение о счастье и
учение о нравственности — это первая и самая важная
обязанность аналитики чистого практического разума...
Это различение принципа счастья и принципа
нравственности не есть, однако, противопоставление их, и
чистый разум не хочет, чтобы отказывались от
притязания на счастье...", речь идет только о том, что
"содействие своему счастью никогда не может быть
непосредственно долгом, а тем более принципом всякого дол-
га"«.
Однако и этим дело не ограничивается. Как мы могли
убедиться, проблема категорического императива, или
"истинного принципа всякого долга", с самого начала
связана у Канта с вопросом об иссякании жизнелюбия —
об утрате "вкуса к жизни", которой людям приходится
расплачиваться за свой утилитарно-эвдемонистический
максимализм. Признание категорического императива —
это путь к преодолению мизологии и меланхолии, к
восстановлению самой силы жизнелюбия, или, как это
ни парадоксально, — к возрождению в человеке его
эвдемонистической спонтанности. Только моральный
индивид (т.е. человек, признавший "закон
законосообразности") защищен от анемии "естественных" чувств
и склонностей. Такова, на мой взгляд,
трансцендентально-практическая версия "реабилитации чувственного
начала в человеке", начатой еще в возрожденческом
гуманизме и продолжавшейся в различных течениях
раннебуржуазной философии.
Неудивительно, что идея категорического императива
постоянно соотносится у Канта с идеей эвдемонистиче-
103
ской, а затем и утилитарной автономии, — с прочным
убеждением в том, что суждение о счастье и выгоде
"должно быть предоставлено прежде всего самому
субъекту действия"*°. Добровольное признание "закона
законосообразности" дает человеку право требовать от
общества и государства, чтобы поиски счастья и
благополучия были признаны его нерецептируемым "частным
делом". Такова непременная оборотная сторона
"строгой морали" в понимании Канта. Таковы, если угодно,
ее "прок и оплата", ее парадоксальная "польза до
пользы".
Значимость категорического императива
обосновывается не для ангелов или святых, а для людей как существ,
в отношении которых "можно с уверенностью и a priori
предположить", что счастье — это "всеобщность всех их
эмпирических целей"49. Более того, категорический
императив можно и должно мыслить как правило,
выстраданное расчетливым эвдемонистом, — как разрешение
собственной драмы гипотетико-императивного
практического сознания. Категорический императив открывается
этому сознанию в статусе нормативной
действительности, скрытой за нормативной иллюзией ассерторического
императива. Его обнажение есть вместе с тем как бы
"внутреннее обращение", "второе рождение"50
человека, долго и упорно изнурявшего себя в поисках
универсального правила благоразумия. Как ни глубока
совершающаяся при этом перестройка образа мысли,
она все-таки не аскетическое отвержение счастья как
спонтанной жизненной цели, а лишь отказ от
максимализма себялюбия — от той
утилитарно-гедонистической метафизики, которая принадлежала к устоям
"неофеодальной" (феодально-абсолютистской) культуры и
которой еще вынуждена была выплачивать дань почти
вся докантовская просветительская философия. Что
касается стремления к счастью как такового, то в
"Основах метафизики нравственности", которые, как
правильно утверждает немецкий философ АЛаардт,
(Мюнстер), "нацелены на то, чтобы побудить субъекта
104
к моральному поступку"51, оно постоянно сохраняется
как условие понимания всей этической аргументации. Не
отбрасывается это стремление и в дальнейшем,
например, в "Критике практического разума", где
центральным становится вопрос об "оценке моральной
состоятельности нашего образа действий"52.
4. Три формулы "одного-единственного
категорического императива9*
В зарубежном кантоведении последних десятилетий (здесь
прежде всего должны быть упомянуты имена Л.УХекка,
ГЛэйтона, Б.ЭРоллина, Г.Функе, Д.Хенриха, В.Керстин-
га53) проведен скрупулезный анализ трех взаимосвязанных
формул категорического императива, содержащихся в
"Основах метафизики нравственности".
Первая из них (1), получившая название
"стандартной", или "формулы универсализации", гласит:
"...Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь
которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она
стала общим законом"54.
Формула сопровождается "королларием", или
"метафизической парафразой" (1а): "..Поступай так, как если
бы максима твоего поступка посредством твоей воли
должна была стать всеобщим законом природы"55.
Вторая формула категорического императива ставит во
главу угла уважение к личности человека (к его
"самоцельности"56) и именуется "формулой
персональное™" (2): "Поступай так, чтобы ты всегда относился
к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого
также как к цели и никогда не относился бы к нему
только как к средству"57.
Что касается третьей формулы, то она акцентирует
момент добровольности (собственного выбора) в
установлении или признании универсального правила
поведения и носит название "формулы автономии" (3):
"Воля... должна быть не просто подчинена закону, а
105
подчинена ему так, чтобы она рассматривалась также как
самой себе законодательствующая*5*.
Как справедливо отметил АЛ.Скрипник, три формулы
категорического императива, будучи внутренне
связанными, "не выводятся одна из другой чисто логическими
средствами*59. На мой взгляд, их зависимость может
быть охарактеризована как " понятная * (в том значении,
которое приписывает слову "понимание*
герменевтическая традиция). Но самое существенное заключается в
том, что "понятное единство* трех формул
категорического императива должно выявляться не через
толкование психологии личности и даже не через анализ
нравственного сознания в широком смысле слова, а
через углубление в политико-правовое мышление эпохи,
которой принадлежал Кант, или, если воспользоваться
известным выражением Ф.Энгельса, — в становящееся
"юридическое мировоззрение*.
5. Формула универсализации и ее "сильная" версия
Вслушаемся, как звучит в тексте "Основ...* важнейшая для
Канта "стандартная* формула категорического
императива. "Нет ничего, - читаем мы здесь, — кроме всеобщности
закона вообще, с которым должна быть сообразна максима
поступка и, собственно, одну только эту сообразность
императив и представляет необходимой. Таким образом,
существует только один категорический императив, а
именно: поступай только согласно такой максиме,
руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать,
чтобы она стала всеобщим законом"60.
Еще во времена Канта этот текст вызвал к жизни два
характерных (впоследствии неоднократно
воспроизводившихся) истолкования, одно из которых может быть
названо "логицистски-спекулятивным*, другое "прагма-
тико-дидактическим". Сторонники первого (КРейнгольд
и др.) ставили во главу угла понятие "всеобщего закона
вообще*, чистого "закона законосообразности*; они
подчеркивали, что закон этот есть формальная логиче-
106
екая конструкция,принадлежащая интеллигибельному
миру и не имеющая аналога ни в одном типе норм,
которыми люди руководствуются в этом, эмпирически
обусловленном бытии. Приверженцы "прагматико-дидак-
тического" истолкования категорического императива
(ими чаще всего оказывались составители немецких
руководств по этике) снижали смысл "стандартной
формулы", сопоставляя ее с педагогическим правилом,
издавна практикуемым для воспитания в юношестве
"социального благоразумия", или "чувствительности к
общему благу*.
Ребенку говорят, например: не сори в классах, подумай
во что превратилась бы школа, ежели бы все стали
сорить! Или: не жги свечи без надобности, — рассуди,
хватит ли воска, если все будут так расточительны!
Нельзя не признать, что "стандартная формула"
категорического императива, по строгому счету, не
исключает ни одного из этих толкований. Однако ее
специфический и существенный смысл ими не
выявляется. Кант рекомендует не соотнесение поступка с уже
готовым (хотя бы и совершенно формально мыслимым)
универсальным "правилом над правилами", а действие,
процедуру универсализации. И в качестве результата этой
процедуры Канта интересует не фактический эффект
индивидуального поведения, коль скоро он был бы
мультиплицирован и сделался "массовым событием";
его интересует ситуация, в которую человек попал бы,
если бы его собственная воля обратилась на него в качестве
обобщенной, универсализированной, узаконенной.
Что же это такое — объективирование воли по модели
законосообразности? Только ли в интеллигибельном
мире возможен подобный акт, и не был ли он известен
под другим названием задолго до рождения кантовской
этики?
Чтобы ответить на эти вопросы, присмотримся
внимательнее к происхождению самого словаря, которым
Кант пользуется в многочисленных разъяснениях
"формулы универсализации". Ключевые выражения здесь —
107
это "законодатель" и "законодательство",
употребляемые в том широком социально-философском смысле,
который был характерен для политической литературы
XV1I-XVIII вв. Наиболее выразительна в данном
отношении декларация, сделанная в " Критике практического
разума": "Мы законодательные члены возможного через
свободу царства нравственности ... но вместе с тем мы
подданные, а не главы этого царства*61.
Универсализация максим, как ее понимает Кант, —
это не просто превращение моей максимы в расхожее
среднеобщее правило поведения, в доминирующее
умонастроение или "устой жизни". Это именно акт законо-
установления.
В субъекте нравственного сознания Кант как бы с
самого начала предполагает право "активного
гражданства", т.е. возможность самому участвовать в выработке
законов, которым он (как один из всех) должен затем
подчиниться. Максима поступка универсализируется у
Канта вполне республиканским, более того —
республикански-демократическим способом. В акте
универсализации индивид имитирует возможность, которой он в
годы написания кантовских "Основ..."
реально-политически не располагал еще ни в одной из европейских
стран, — возможность заседать в полновластном
Конвенте (быть "законодательным членом" общества) и
вотировать известный строй жизни. Своеобразие этого
вотирования состоит, однако, в том, что волеизъявление
и реализация воли ("поступание", если воспользоваться
выразительным термином М.Бахтина) здесь
непосредственно совпадают.
В политическом сообществе сплошь и рядом
случается, что в качестве члена законодательного органа
индивид голосует совсем не за то правило, которого он
склонен придерживаться как частное лицо. В
"возможном через свободу царстве нравственности" это
исключено. Здесь голосуют не речами и петициями, а самим
обобщаемым смыслом ("максимами") своих поступков
— тем, что делают или вознамерились делать.
108
Излюбленная мысль просветителей состояла в том,
что ""среда", наличные учреждения, культивируемые
государством нравы определяют (детерминируют)
моральный склад отдельного человека. Кант не отрицает,
что эта мысль соответствует практическому опыту, и
поддерживает ее всюду, где говорит о "природной
причинности" (о зависимости нынешнего состояния
индивида от его прежних состояний, о воздействии
известных преднайденных обстоятельств на воспитание,
а затем и на зрелое поведение людей). Однако
отличительной для "критической философии" является
идея "причинности посредством свободы".
Как ни сложно содержание этого понятия в контексте
кантовскйх рассуждений об эмпирическом и
ноуменальном характере личности, оно сопряжено с достаточно
элементарными практико-политическими
переживаниями и убеждениями, характерными для эпохи ранних
буржуазных революций.
Личность, полагает Кант, каждым своим поступком
принимает участие в порождении и поддержании
известных общественных режимов. Речь не идет, конечно, о
том, что вор заносит в общество инфекцию воровства,
а лжец — инфекцию обманов (представлять дело
подобным образом значило бы как раз подменять
механизм "причинности посредством свободы"
механизмом "природной причинности"). Речь идет о том,
что выбирая определенный способ поведения, индивид
самим этим выбором способствует его легитимации, т.е.
дозволяет соответствующее отношение общества к себе
самому и не может сетовать, если сделается жертвой
такого отношения. Человек, допускающий насилие над
более слабым, разрешает, чтобы "сильные мира сего"
попирали его собственную волю; человек малодушный
как бы запрашивает, чтобы над ним была установлена
общественная опека и т. д.
Эта идея о совиновности индивида господствующему
(пусть даже угнетающему его) порядку достаточно
определенно высказывалась уже некоторыми просветителями
109
(например, А. Смитом в его "Теории нравственных
чувств"). Позже — на новой, философско-исторической
основе — она была подхвачена и развита Гегелем в
известном рассуждении "каждый народ имеет то
правительство, которое он заслуживает".
В XVIII столетии понятие "причинность посредством
свободы ", сделавшееся впоследствии одной из опорных
категорий социально неангажированного
неокантианского идеализма, имело еще вполне реальный, более того,
политически мобилизующий смысл. Оно акцентировало
.момент гражданской ответственности в нравственном
поведении; оно вполне правомерно приковывало
внимание к тому, что любой поступок, поскольку он является
результатом сознательного выбора, сразу и
непосредственно содержит в себе притязание на общественное
узаконение. "Стандартная формула" категорического
императива требовала, чтобы индивид не скрывал от себя
этого притязания и уже заранее спрашивал, "какой мир,
руководствуясь только практическим разумом, он создал
бы, если бы это было в его возможности, и притом так,
чтобы и сам он оставался в нем, как его член*62.
Испытание максим на универсализируемость — это
проверка их на законодательную,
общественно-устроительную состоятельность. Под миром, созидателем
которого человек должен себя вообразить, Кант всегда
и прежде всего разумеет общежитие, или самими
людьми учреждаемый морально-политический порядок.
Это участие в порождении общежития
подразумевается в своего рода "этическом мысленном эксперименте",
который Кант предлагает проделать каждому индивиду,
оценивающему моральную состоятельность своего
образа действий.
Суть "эксперимента" состоит в следующем:
инициатор известного поступка должен мысленно проверить,
может ли правило, невольно легитимируемое им в акте
выбора этого поступка, на деле стать "законом
существования общества", согласится ли сам индивид следовать
этому правилу, если оно обратится против него, поддер-
110
жанное всею силою объединенного человеческого
общества.
Таков полный, эксплицированный смысл процедуры
универсализации максим. Она предполагает выяснение
двух вопросов:
(1) годится ли в принципе правило моего поступка
для того, чтобы служить одним из оснований
(целостности) человеческого сообщества?
(2) согласен ли я сам жить в обществе, где это
правило обрело бы силу закона, охраняемого
государством?
Двум этим вопросам соответствуют две версии
универсализации, обрисованные уже в u Основах метафизики
нравственности" и именуемые в кантоведении
асильной п и и слабойя63.
Рассмотрим первую из этих версий.
По убеждению Канта, существуют такие максимы,
которые при возведении их в общий закон как бы сами
себя перечеркивают. Или, как выразил это В. Виндель-
банд, "наиболее строгими, непреложными
обязанностями являются те, у которых противоположные максимы
даже не могут быть мыслимы в качестве закона
природы"64. Современные исследования показывают, что в
этических сочинениях Канта есть два (и только два)
примера, убедительно иллюстрирующих это утверждение.
Первый — пример невозвращения денежного долга
анализируется в и Основах метафизики нравственностип.
Если бы все, говорит Кант, стали занимать деньги
обманно, без намерения вернуть их, то скоро никто не
стал бы давать в долг. Проступок (зажимание денег)
сделался бы невозможным в силу его общедозволенно-
сти.
Пример Канта выявляет любопытную общую
зависимость: циничные и мошеннические акции предполагают
в качестве условия своей эффективности нравственную
доверчивость людей: будучи универсализированы, они
теряют характер утилитарно-успешной формы
индивидуального поведения. Найти для мошенничества "ассерто-
111
рический императив", надежный рецепт эффективности,
рационально непосильно, а вот категорический запрет
на него открывается чрезвычайно просто даже при
прагматической направленности ума. Ведь, по строгому
счету, обманщику очевидно невыгодно, чтобы все были
обманщиками, хитрецу — чтобы все были хитрецами.
В XIX в. эти наблюдения и выкладки Канта нередко
оценивались как досужие, гелертерские, далекие от
фундаментальной этической проблематики. Между тем
для морального климата XVII-XVIII вв. они были и
живыми, и настоятельными, и глубокими. Вспомним
истратагемып и "максимы", которыми снабжали своих
читателей "cTcm-Hcrbi" (политические и моральные
наставники, подвизавшиеся при дворах абсолютных
монархов). На две трети они состояли из нравственно
сомнительных советов, как бы нашептываемых на ухо
просвещаемому и вооружающих его против других, еще
не просвещенных людей. Только на почве общей
наивной доверчивости могли быть эффективными такие
рекомендации, как ипользуйся чужой нуждойп; "помни,
что все ценится не за суть, а за вид", "смотри на
сегодняшних друзей как на завтрашних недругов, причем
злейших"; "меняй приемы, дабы отвлечь внимание" и
т.д.65. Стоит предположить, что все разом последовали
бы этим рекомендациям, и они тут же потеряли бы самое
видимость практической мудрости. Наука хитрости и
обмана не может быть явленной для всех: ее частные
(гипотетические) правила держатся на своего рода
всеобщем предписании: "Действуй скрытно: даже когда
хочешь быть понят, избегай откровенности"66. Уже
простая гласность (а это одно из важнейших измерений
в акте универсализации поведенческих максим)
обесценила бы "стейт-истские" поучения. Демонстрируя, что
обман уничтожается самим его оглашением, что
лицемеру неудобно в мире лицемеров, Кант совершает
убийственную иронию над феодально-абсолютистской
моральной культурой и над обслуживавшей ее формой
просвещения.
112
Присмотримся теперь к собственно этическому
аспекту проблемы. Вряд ли нужно объяснять, что зажимание
денег, взятых в долг, — лишь частный случай обманного
обещания. Соответственно и способ обоснования
запрета, к которому прибегает Кант в анализе данного примера
(полагание категорического инельзя" через "очевидно
невыгодно", — через демонстрацию самоотрицания
максимы в акте ее законодательного обобщения),
сохраняет значение для любого вида обманных обещаний,
любых лживых соглашений и договоров. Ведь все они
противоречат взаимному доверию и, будучи возведены в
закон, уничтожают само это предусловие человеческой
взаимовыгодности.
Отсюда делается понятным первый собственно этиче- .
ский (и уже не просто формальный) вывод из, казалось
бы, насквозь формального представления о
категорическом императиве как о изаконе законосообразности":
по исильной версии универсализации" человек обязан
категорически запретить себе обман во всех его
разновидностях, Tje. максимы хитрости, коварства,
вероломства, фальсификации, лжесвидетельства, клеветы,
неверности, притворства, неблагодарности и т.д.
Второй убедительный пример запрета по "сильной"
версии универсализации, который мы находим в
сочинениях Канта (правда, уже не в "Основах...w, а в его
лекциях по этике, читанных в 1780-1782, 1793-1794 гг., и
затем в "Метафизике нравов"), — это запрет на циничный
произвол, попирающий достоинство более слабого.
Насилие, если бы оно оказалось дозволенным по
закону, неизбежно привело бы к распаду общежития.
Это, по мнению Канта, наглядно обнаруживает практика
санкционированной кровной мести. Грубый произвол,
допущенный одним индивидом, порождает
непрекращающуюся эпидемию насилий, так что первоначальное
сообщество разделяется на непримиримые враждебные
кланы. И дело тут, подчеркивает Кант, не в нанесенном
ущербе как таковом, который мог бы быть раз и навсегда
оплачен по талиону (древнегерманское выкупное право).
8 Заказ №1663 ИЗ
Дело в попрании чужой воли и поругании чужой чести.
Именно это делает насилие от начала безмерным и
вызывает в ответ нескончаемые расправы. Произвол
сильного над более слабым будит в обществе
непредусмотренную энергию мстительности и тем самым
отнимает у насильника надежду на прочный и длительный
успех. Максима циничного произвола (как и максима
обмана) сама себя зачеркивает, если становится
всеобщим и явным правилом. Поэтому человек должен
категорически запретить себе насилие над волей другого,
в какой бы форме оно ни проявлялось (убийство,
закабаление, ограбление, изнасилование, унижение,
шантаж и т.д.).
Что особенно существенно, под этот запрет подпадает
не только злонамеренное, но и благожелательное
покушение на чужую волю. Кант, как я показал уже во
Введении, достаточно последовательный противник
насильственного осчастливливания людей, а в более
широком смысле — всякого непрошенного,
бестактного доброхотства. Суть дела, не устает повторять
он, не в том, причиняется ли другому ущерб или
благо, а прежде всего в том, считаемся ли мы с
волей другого, принимаем ли во внимание его
согласие или несогласие. Если богатый филантроп
благодетельствует не спросясь и тем самым,
возможно, оскорбляет кого-то подачкой, то этот добрый (а
потому, естественно, и нравственный акт), сколь бы
искренним и бескорыстным он ни был, нарушает
важнейший общезначимый запрет, а потому является
антиморальным67.
Итак, отказ от обмана в общении и отказ от насилия
над чужой волей — таковы два требования, которые
безоговорочно (по "сильной версии") удостоверяются
через процедуру универсализации максим. Они (и только
они одни) могут быть признаны строго доказанными
моральными обязанностями. Разумным основанием
безусловной принудительности этих требований является то,
что без их соблюдения само человеческое общежитие
114
не могло бы быть ни учреждено, ни сохранено в качестве
целостности.
Но стоит взглянуть на проблему универсализации
максим под этим углом зрения, и мы увидим, что
"стандартная формула" категорического императива есть
этическая дефиниция, теснейшим образом связанная с
проблематикой "первоначального общественного
договора1", причем в локковском его варианте, оказавшем
наибольшее влияние на политико-юридические
концепции буржуазного Просвещения.
Дж. Локк мыслил первоначальный общественный договор
как соглашение-законодательство, посредством которого
естественные индивиды, с одной стороны, сами себя
ограничивают в своих обоюдных посягательствах, с другой —
лимитируют возможные диктаторски-деспотические
посягательства вновь образующегося государства. Первоначальный
договор в варианте Локка (чего нельзя было еще сказать
ни о Гоббсе, ни о Спинозе) — это полновесная конституция.
В качестве таковой он кладет конец дообщественному
состоянию (анархии), но тут же, разом, в самом акте
учреждения общественно-политического состояния,
исключает государственность в варианте Левиафана,
абсолютистского монстра, обращающегося с подданными в духе
неограниченного правительственного произвола (деспотия).
В этике Канта ориентация на "первоначальный
общественный договор" выступает как неотъемлемая и
существенная характеристика нравственного сознания. Кан-
товский моральный индивид — это, если угодно,
трансцендентальный конституционалист. Мы нимало не
погрешим против основного смысла категорического
императива, выразив его "стандартную формулу"
следующим образом: "Поступай так, чтобы максима твоего
поведения была совместима с первоначальным
договором, обеспечивающим само политическое сообщество
людей на началах правозаконности". При этом строго
выдерживается двоякий лимитирующий смысл,
предполагаемый в понятии конституции (основного закона), а
именно: отмена анархии и запрещение деспотии.
7*
115
(1) Анархическое состояние неприемлемо до
немыслимое тпи. Совместное существование циничных эгоистов,
строящих свои отношения на взаимном обмане, по
строгому счету, неизобразимо. Даже Гоббсова "война
всех против всех" и та не дает адекватного
представления о бедственности подобного состояния, а еще точнее —
о его чуждости, запредельности по отношению ко всему
тому, что "естественно" для людей как общественных
существ.
Кант высоко ценит модель "войны всех против всех"
за ее теоретическую беспощадность. Вместе с тем он
видит, что Гоббс все-таки не может не приписывать
своим "естественным индивидам" ряд таких качеств,
которые мыслимы только в обществе и только на основе
уже предположенной моральности людей. Гоббс,
например, приписывает индивидам, находящимся в
"естественном состоянии", такое свойство, как recta ratio
(правый, несгибаемый, нелживый разум)68. Но может
ли разум быть нелживым, если сама ложь разумеется в
качестве дозволенной? Может ли соглашение
"естественных индивидов" о прекращении "войны всех против
всех" быть устойчивым, если они уже прежде не
подчиняются норме правдивости?
Последний вопрос особенно тревожит Канта. Модель
первоучреждения политического общежития постоянно
витает пред его умственным взором при обсуждении
заповеди "не лги" (или, что то же самое, при проверке
на универсалиэируемость различных способов
дозволения лжи и обмана).
Известно, что Кант с беспощадным ригоризмом
отвергал всякую ложь, в том числе и "ложь во
спасение "б9. В заметке "О мнимом праве лгать из
человеколюбия", посвященной критике юридических
выкладок Бенжамена Констана, он решительно
высказывался даже против обмана преступника, преследующего
свою жертву. Кант полемизировал столь запальчиво и
страстно, что отождествил требование "никогда не
лгать" с требованием "всегда говорить правду" и
116
проскочил мимо возможности, скупо означенной в
других его сочинениях, — возможности умолчания,
мужественного и бескомпромиссного отказа от ответа.
Между тем в ситуации, обрисованной Констаном (как и
во многих других, ей подобных, — например, в ситуации
воина, попавшего в плен к врагу, или гражданина,
вызванного свидетелем на заведомо сфабрикованный
судебный процесс), умолчание оказывается
единственным моральным решением.
И все-таки Кант прав в принципе, прав, если так
можно выразиться, "поверх обстоятельств". Ведь любая
ситуация, подыскиваемая для демонстрации того, что
правило "не лги* имеет правомерные исключения, есть
общественная ситуация, а сообщество индивидов
немыслимо там, где правило это не имеет силы. Причем
максима лжи (обмана), примеряемая к условиям перво-
учреждения человеческого общежития, может иметь
только один противочлен, а именно — высказываемую
правду (умолчание означало бы в этих условиях просто
отказ от общения, которое как раз и должно быть
учреждено).
В ряде формулировок, которые мы находим в статье
иО мнимом праве лгать из человеколюбия", Кант со
всей определенностью обозначает связь запрета на
обман (основополагающего для его этики) с
фундаментальной и исходной ситуацией социального
существования людей, как ее понимала вся философия эпохи ранних
буржуазных революций, — с ситуацией рождения
правопорядка и договорных отношений. О каком особом
праве на ложь может идти речь, спрашивает он, если
"ложь делает негодным самый источник права?". Разве
не очевидно, что обманом, неправдивостью ая
содействую тому, чтобы никаким показаниям (свидетельствам)
вообще не давалось никакой веры и чтобы,
следовательно, все права, основанные на договорах, разрушались и
теряли свою силу"™.
Никто до Канта не утверждал, что основополагающая
моральная заповедь "не лги" есть одновременно и
117
"источник права", всякого права, "основанного на
договорах". И вместе с тем этой истины не мог бы
опровергнуть ни один из приверженцев раннебуржуаз-
ной теории "общественного договора", рассуждай он
честно и последовательно. Таково всегда
подразумевавшееся допущение данной теории, и Кант-этик, по
строгому счету, не открывает его, а лишь впервые
усматривает и "выводит на свет".
Вовсе не обязательно предполагать, будто ныне
существующий общественно-политический порядок является
продуктом первоначального разумного соглашения
"естественных индивидов" (Кант, как я уже упоминал, был
далек от того, чтобы считать подобное соглашение
реальным историческим событием). Понятие
"общественного договора" может приниматься всего лишь
нормативно и в принципе, всего лишь в том смысле,
что "истинная государственность должна основываться
на договоре" (именно так, в конечном счете,
представляли себе проблему уже и Монтескье, и Гельвеций, и
Руссо, и Джефферсон, и Франклин). Но как раз в этом
случае и обнажается логическая неизбежность того,
чтобы агенты договора уже заранее мыслились в качестве
"минимально моральных", т.е. готовых заведомо и
категорически запретить себе по крайней мере любые
формы обмана.
В акте универсализации заповедь "не лги" отсылает
к ситуации рождения "правозаконного сообщества" (и
наоборот). При этом выясняется, что:
(а) само правило правдивости в общении не может
мыслиться как соглашение, хотя бы и первоначальное;
оно есть предусловие, conditio sine qua ribn
"общественного договора", а не одна из статей этого договора, как
выходило у Гоббса и некоторых других мыслителей XVII
в.;
(б) дообщественное состояние, где заповедь "не лги"
не была бы известна, по строгому счету, вообще лежит
за пределами нашего понимания. Это состояние можно
обрисовывать лишь косвенно: либо символически (на-
118
пример, через библейский образ "смешения языков"),
либо понятийно-антитетически. Тогда пришлось бы
сказать, что "естественное состояние" — это вовсе не
предварение, а итоговый и окончательный распад
социума. Это "война всех против всех", не содержащая в
себе никакой возможности возврата к упорядоченному
общежитию.
Таков ужас анархии, неявно предполагаемый при
доказательстве принципиальной неуниверсализируемо-
сти (максимы) дозволенного обмана. Развертывая это
доказательство, Кант, если угодно, адресуется к
человеку-атланту, который во всякий момент жизни, в каждой
конкретной ситуации общения держит на своих плечах
все общественное здание. Разрешив себе ложь на каких
бы то ни было условиях, он вотировал бы распад
социума, причем — не этого, наличного, которым он,
возможно, имеет все основания быть недовольным, а
социума вообще, "социума по истине", сохранение
которого предполагается при любой степени
неудовлетворенности конкретным общественным режимом.
(2) Если отказ от обмана в общении имеет
антианархическую смысловую тенденцию, то отказ от насилия над
чужой волей может рассматриваться как этически
полагаемый противовес деспотии. Запрещая себе частный
произвол, кантовский индивид как бы голосует за
конституционное пересечение всякого "злоупотребления
властью", всякого правительственного произвола в
отношении подданных. "Сильная версия" универсализации
и в этом случае отсылает к ситуации "первоначального
общественного договора".
В западном кантоведении не раз проводилась мысль
о том, что зачатком и провозвестием категорического
императива в " стандартнойп его формулировке было
знаменитое "золотое правило нравственностип: "не
делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы делали
тебе". Гоббс и Локк, Гельвеций и Гольбах пользовались
этим евангельским наставлением для демонстрации так
называемой "обращаемости зла*. Речь шла о том, что
119
поступки людей могут трактоваться как решения, которые
дают их контрагентам право совершать подобные же
ответные действия (т.е. реагировать насилием на
насилие). Вразумляющее воздействие этой модели было,
однако, весьма ограниченным. Человек ведь мог
воображать себя более сильным (или более ловким, более
хитрым), чем любой другой противостоящий ему
индивид (или даже обозримое множество индивидов, с
которыми ему приходится сталкиваться в конкретной,
обыденно-житейской ситуации). Вопрос, желал ли бы
ты, чтобы другие обошлись с тобой так же, как ты
обходишься с ними, был столько же острасткой в
отношении безнравственного поведения, сколько и
своеобразным приглашением к состязанию на
поприще безнравственности.
Кант перекрывает эту вторую возможность. Удерживая
и развивая самую модель и обращаемости зла", он
одновременно требует, чтобы человек мыслил обладателя
этого чужого права не просто как другого равносильного
ему индивида, а как само политическое сообщество в
лице полновластного и мощного государства. Процедура
универсализации частного произвола означает в итоге
следующее: и Затевая известный поступок, спроси себя
прежде, согласен ли ты, чтобы максима, лежащая в его
основе, стала правилом обращения государства с
подданными (и с тобой самим как одним из подданных)".
Согласится ли вор, чтобы государство обирало его с
той же безжалостностью, с какой он сам обирает
ближнего? Захочет ли шантажист жить в условиях
систематического правительственного шантажа?
В формулу "не делай другому того, чего ты не желал
бы, чтобы делали тебе" Кант как бы вводит мощный
"социальный усилитель". На место расплывчатых
"других" он подставляет абсолютистски концентрированную
силу политического сообщества, постигающую
индивида-злоумышленника с неотвратимостью природного
закона. Вот здесь-то, на мой взгляд, и делается видимым
реальный "праобраз", "аналогом" которого служит
120
понятие "природы" в тексте "метафизической
парафразы" категорического императива (в формуле 1а).
Именно этот текст, наиболее далекий, казалось бы, от
каких-либо рецепций раннебуржуазного
политико-юридического мышления, иносказательно трактует о
вездесущем, всеведущем и всесильном государстве,
существующем по выбору его подданных, т.е. — преступном,
если преступен сам индивид, и правовом, если индивид
добровольно (морально-автономным образом)
ограничивает свой частный произвол.
Человека, затевающего злодеяние, Кант заставляет
взглянуть не просто в зеркало другого, подобного и
равного ему индивида, а в увеличивающее зеркало
деспотии, повсеместной и мощной, как сама природа.
Именно от этой (натуралистически-этатистской) модели
"обращаемости зла" он ждет вразумляющего воздействия
на субъекта расчетливого себялюбия. Кант убежден, что
даже закоренелый преступник должен бы был ужаснуться
и нравственно протрезветь, если бы довел рассуждения
о мыслимых последствиях своего деяния до этого
логического конца, живо представив себя перед лицом
государственной власти, которой "все позволено".
В литературе XIX в. (прежде всего в концепциях так
называемого "этического социализма") понятие
категорического императива нередко истолковывалось "
политике)-регуляти в но", т.е. как средство открытия
морально-желательного общественного порядка, который на
поверку оказывался совершенно утопическим.
На деле кантовская процедура универсализации
максим (особенно в "сильной" ее версии) имеет иную, более
того — обратную смысловую тенденцию. Она направлена
на воображаемое полагание категорически
нежелательного, предельно опасного и пагубного. Образ мысли
Канта в данном случае родствен тому, что в XX столетии
получит название "антиутопии". Речь идег о построении
предостерегающих картин общественно-политической
жизни (как правило, картин-гипербол), - о такой работе
продуктивного воображения, которая помогает оберечь
121
социальную мысль от слепого, невыверенного мечтатель-
ства.
"Антиутопияп в духе Канта — это конструирование
различных типов преступной
(диктаторски-тиранической) государственности, отвечающих различным
разновидностям частного произвола и обнажающим благо
правового (республикански-конституционного)
государства. Процедура универсализации максим доводится в
этом случае до наглядных социально-беллетристических
демонстраций. Последние позволяют представить разные
виды расчетливого эгоизма в форме отвращающих
гротескных режимов и именно таким способом выявить,
чего в конечном счете (т.е. по "первоначальному
общественному договору") желает тот или иной расчетливый
эгоист. Столкновение нелимитированных себялюбии есть
столкновение законодательно учреждаемых
общественных миров, — такова подспудная идея и сильной версии
универсализации ".
Разглядывая свой частный произвол в увеличивающем
зеркале абсолютистского правительственного произвола,
индивид впервые получает возможность увидеть, в чем,
собственно, состоит предельное и сущностное
выражение его насильственного покушения на волю другого.
Это не грубость, не чванство, не жестокость, в обличий
которых произвол выступает в обыденно-житейском
опыте. Это просто прагматическое равнодушие к
человеку, когда, по народному выражению, его "ни в грош
не ставят", или, если вернуться к терминологии Канта,
видят в нем просто "вещь среди вещей".
Лишение индивида достоинства лица, превращение
его в материал для использования, в средство для цели,
которой он сам не полагает и даже, возможно,
решительно не приемлет, — таково непременное измерение
"злоупотребления властью". При этом совершенно
безразлично, совершается ли такое злоупотребление из
низких или высоких, злых или благих побуждений. Тайна
всякого произвола передается словами, фигурирующими
во второй формуле категорического императива: аотно-
122
ситься к человеку только как к средству". Но это значит,
что максима "не чини произвола", удостоверенная
Кантом по "сильной версии" универсализации, уже
предполагает, несет в себе основной смысл "формулы
персональное™", а именно: "Поступай так, чтобы ты
всегда относился к человечеству и в своем лице, и в
лице всякого другого также как к цели в себе и никогда
не относился бы к нему только как к средству*.
"Сильная версия универсализации" связывает
"стандартную формулу" категорического императива с
"формулой персональное^" и притом так, что последняя
оказывается явленным содержанием самого формально
мыслимого " закона законосообразности".
Как ни абстрактно это содержание по позднейшим
этическим оценкам, его нельзя назвать ни надуманным,
ни бедным, ни кабинетно отвлеченным. Кант налагает
этическое вето на основную тенденцию абсолютистской
государственности, ясно обозначенную социальной
критикой конца XVIII столетия. Он требует, чтобы человек
категорически запретил себе всякое
властно-бюрократическое, чиновно -равнодушное, циничное и
утилизаторское отношение к окружающим. Тем самым, как
правильно подчеркивал еще В. Виндельбанд, "закон простой
законосообразности превращается в закон охранения
человеческого достоинства"?1. И дело здесь не только
в глобально-метафизической перспективе, не в том, что
согласно формуле 2 "... в мире явлений человеческая
личность оказывается единственной абсолютной
самоцелью, которая заключает в себе условия всех
относительных целей и в противоположность которой все
остальные явления суть вещи, а не личности" *\ Дело
прежде всего в том, что Кант видит в личности
социальный абсолют. Отсюда делается понятным
настойчивое стремление Канта трактовать вторую формулу
категорического императива в качестве наиболее общего
выражения моральности, а во лжи (обмане), как и в
насилии, усматривать разновидность "отношения к
человеку только как к средству".
123
В итоге основное, строго доказанное моральное
предписание этики категорического императива может быть
выражено следующим образом: "Всегда обходись с
человеком не просто как со средством, но прежде всего
как с целью в себе, не позволяя в отношении него
обмана (хитрости, коварства, вероломства,
лжесвидетельства и т.д.) и насилия (убийства, порабощения,
грабежа и та.)". Вот все, что удостоверяется по исильной
версии" универсализации, — все, что относится, как
выражались моралисты XVIII в., к "совершенным
обязанностям", выполнять которые человек должен при
любых обстоятельствах. Отказ от лжи и насилия в
многообразных их разновидностях вправе потребовать
каждый с каждого, все с одного и государство со всех.
Требования: не лги, не хитри, не воруй, не нарушай
соглашений и т.д. — принудительно-обязательны для
действующего субъекта, и он на деле доказывает это
своей готовностью понести наказание за их
неисполнение. Будет ли оно назначено на деле, по какой мере и
в какой форме — это уже не морально-этическая, а
собственно юридическая проблема. Однако согласие на
то, чтобы кара непременно следовала за проступком,
принадлежит самому нравственному сознанию и входит
в структуру переживания требований, прошедших
проверку по " сильнойп версии универсализации максим.
Но это значит, что этика категорического императива
уже содержит в себе такие важнейшие правовые понятия,
как наказание и санкция, или (так будет точнее) выявляет
их имманентную принадлежность моральному сознанию.
Разумеется, это еще не судебная санкция и не уголовное
наказание в точном смысле. Моральное сознание ничего
не говорит о том, кем и как должна назначаться кара
за проступок, а самое кару представляет себе как
неопределенную и даже безмерную. В нем невозможно
обнаружить таких образов, как прокурор или адвокат,
"срок заключенияп или "места заключения". Ему ясна
лишь заслуженность кары, вследствие чего, как
неоднократно повторял Кант, ни один преступник, если он
124
уличен, не возьмется доказывать, будто ему вообще не
причитается никакого возмездия.
В одной из своих ранних работ И.Г. Фихте, опираясь
на кантовские этические понятия, достаточно
убедительно продемонстрировал, что "чистым*, морально
обоснованным наказанием скорее всего было бы просто
исключение из человеческого общественного союза,
своего рода "изгнание в природу". С обманщиком,
грабителем или насильником никто больше "не имеет
дела". Никакого заточения или страдания общество для
них не предусматривает, но и своей защиты больше не
предоставляет, позволяя любому, кому это захочется,
обращаться с ними просто как с вещами или животными.
Можно сказать, что этот образ наказания (модель
остракизма) стоит на рубеже этики и правоведения: он
полагается моральным сознанием, но как бы тут же
запрашивает, чтобы юрист исправил его и устранил
допускаемую им возможность расправы. Но это и значит,
что в горизонте категорического императива мораль
едина с правом и в то же время требует его как своего
дополнения, — как особой формы сознания, связанной
с проблематикой целесообразности, терпимости и меры.
Но разве эта проблематика чужда морали? Разве
терпимость — не этическая тема? Разве понятие меры
не приложимо к отношениям нравственных субъектов?
Все это законные вопросы. Однако кантовская теория
запретов не дает на них ответа, да, строго говоря, и
поставить их еще не позволяет. Она обосновывает лишь
принципиальную возможность наказания и идею его
равнообяэательности для всех людей, признающих одни
и те же принципиальные условия совместного
социального существования (жить в обществе и пользоваться
привилегией безнаказанности нельзя). Проблема границ
карательной репрессии, для осознания которой Кант-этик
сделал чрезвычайно много, связана с другим аспектом
учения о категорическом императиве.
IV-
Итак, принудительно-безусловной силой обладают лишь
немногие основные требования, конституирующие
человеческое общежитие: всегда и при любых условиях людям
заказаны любые виды обмана, насилия и злоупотребления
выпавшей на их долю властью.
Этическое утверждение этого важнейшего постулата
социально-гражданского человеческого бытия — великая
заслуга Канта, оценить которую может лишь история
этики, принимающая во внимание круг
политико-юридических интересов, характерных для философии XVII-XV1II вв.
Вместе с тем, это меньше того, чего надеялся добиться
Кант. Ведь его теоретической целью был "канон
моральной оценки наших поступков"1, — всех без исключения,
т.е. не только граждански значимых, но и входящих в
область интимно-повседневного обихода; не только
запрещаемых, но и запрашиваемых.
Немецкая университетская philosophia moralis,
катехизисом которой в течение многих лет оставалась
иФилософская этика" А. Баумгартена, делила человеческие
обязанности на исовершенные" (в точном смысле
"совершенно обязательные") и мнесовершенные".
Деление это в общем и целом соответствовало давнему
теологическому членению божественных заповедей на
общепринудительные ветхозаветные "требования* и
евангельские исоветы", обращенные к тем, кто
устремился к высшему (например, монашескому) идеалу
совершенства. В свое время Лютер ополчился против
такого разделения как послабительного для мирянина.
Однако более поздние протестантские моралисты и
126
представители раннего Просвещения восстановили его
в новом контексте и под новыми именами. Принадлежащий
к этой традиции А. Баумгартен именовал "совершенными
обязанностями" негативные, запретительные предписания
типа ане убий", ане лги", ане прелюбодействуй", ане
богохульствуй", образующие своего рода "нижний
этаж", "minimum minimorum" человеческой
моральности. Под "несовершенными обязанностями" — да
простит мне читатель невольный каламбур, возникающий при
переводе соответствующих латинских терминов на
русский язык, — ...под "несовершенными обязанностями"
он разумел позитивные предписания, содействующие
"совершенствованию человека". Таковы требования
добросердечия, участия, трудолюбия, заботы о реализации
индивидуальных дарований и т.д. Следуя Вольфу,
Баумгартен понимал совокупность этих требований как
конкретизирующийся, все более и более детальный
нравственно-инструктивный кодекс, позволяющий
посредством назидания (а если потребуется, то и
посредством полицейского принуждения) делать "хорошего
человека наилучшим".
Кант видит, что по понятиям университетской
philosophia moralis сильная версия универсализации
максим, т.е. наиболее строгая и ясная версия
категорического императива, этически легитимирует только
"совершенные обязанности" (еще точнее: только некоторые
из них). И хотя он довольно выразительно отличает
пафос трансцендентальной этики от предписательного
духа этики Баумгартена, хотя с достоинством новатора
заявляет, что "не намерен здесь давать отчет... принятому
в школах словоупотреблению"2, все-таки для него
сохраняет свое значение задача если не
инструктирования, то по крайней мере однозначного ориентирования
человека и в отношении обязанностей "несовершенных".
Решению данной задачи призвана служить расширенная
версия универсализации максим, получившая в кантове-
дении название "слабой". Это, пожалуй, наиболее
уязвимый раздел в учении о категорическом императиве.
127
Вместе с тем именно он исключительно интересен
апоретически, — богат скрытыми возможностями, из
которых вырастут многие современные
морально-философские учения. Вслушиваясь в их полифонию, мы
можем сказать: Кант не осуществил желаемого, но
одновременно сделал даже больше, чем желал.
1. "Слабая" версия универсализации максим.
В аОсновах метафизики нравственности" "слабая* версия
универсализации задается следующим образом:
"Некоторые поступки таковы, что их максиму нельзя без
противоречий даже мыслить как всеобщий закон природы; еще в
меньшей степени мы можем хотеть, чтобы она стала
таковым. В других поступках хотя и нет такой внутренней
(логической - Э. С.) невозможности, тем не менее нельзя хотеть,
чтобы их максима достигла всеобщности закона природы,
так как такая воля противоречила бы самой
себе "3.
Кант поясняет это двумя примерами, весьма близкими
по духу вольфовско-баумгартеновской "этике
совершенствования" (или, как он сам выражается,— примерами,
относящимися к долгу, "выполнение которого вменяется
в заслугу"4.)*
Один из них (известный как третий пример Канта)
имеет в виду универсализацию максимы
самоосуществления, развития своих задатков. Другой (известный как
четвертый) — универсализацию максимы
доброжелательства и взаимопомощи.
Прибегнем к пространной выписке из "Основ
метафизики нравственности", так как только обстоятельный
текстуальный анализ обоих этих примеров в
совокупности позволяет пробиться к богатой апоретике кантовско-
го замысла.
Пример третий Пусть некто полагает, что у него "есть
талант, который посредством известной культуры мог бы
сделать из него в разных отношениях полезного
человека". Вместе с тем он "находится в благоприятных
128
обстоятельствах" и склонен илучше предаться
удовольствиям, чем трудиться над развитием и
совершенствованием своих благоприятных природных задатков".
Чтобы разрешить этот конфликт желаний (противоречие в
воле), человек должен спросить себя: и согласуется ли
его максима небрежного отношения к своим природным
дарованиям помимо согласия ее с его страстью к
увеселениям также и с тем, что называется долгом? И
тогда он видит, что хотя природа все же могла бы
существовать по такому всеобщему закону, даже если
человек (подобно жителю [островов] Тихого океана) дал
бы ржаветь своему таланту и решил бы употребить свою
жизнь только на безделье, увеселение, продолжение рода -
одним словом, на наслаждение, однако он никак не
может хотеть, чтобы это стало всеобщим законом
природы или чтобы оно как таковой закон было
заложено в нас природным инстинктом. Ведь как
разумное существо он непременно хочет, чтобы в нем
развились все способности, так как они служат и даны
ему для всевозможных целей"5.
Пример четвертый, Пусть человек, "которому живется
хорошо и который видит, что другим приходится
бороться с большими трудностями (а он имел бы полную
возможность помочь им), думает: какое мне дело до
всего этого? Пусть себе каждый будет так счастлив, как
того хочет всевышний или как это он сам себе может
устроить; отнимать у него я ничего не стану, да и
завидовать ему не буду; но и способствовать его
благополучию или помогать ему в беде у меня нет
никакой охоты! Конечно, если бы такой образ мыслей
был всеобщим законом природы (общепризнанным
правилом общежития. - Э.С.), человеческий род мог бы очень
неплохо существовать, и, без сомнения, лучше, чем когда
каждый болтает о сострадании, о благосклонном
отношении и при случае даже старается так поступить, но
вместе с тем, где только можно, обманывает, предает
права человека или иначе вредит ему. Но хотя и
возможно, что по такой максиме мог бы существовать
9 Заказ №1663
129
всеобщий закон природы, тем не менее нельзя хотеть,
чтобы такой принцип везде имел силу природы". Ведь
каждый должен признать, что "все же иногда могут быть
случаи, когда человек нуждается . в любви и участии
других, между тем как подобным законом природы,
возникшим из его собственной воли, он отнял бы у себя
самого всякую надежду на помощь, которой он себе
желает"6.
Этот текст, стиль которого можно считать образцом
кантовской "барочной риторики"7, издавна служил
легкой добычей для критиков учения о категорическом
императиве. Суть содержащегося в нем противоречия ясно
и доходчиво зафиксировал еще В. Виндельбанд:
«Основание кантовского "нельзя хотеть" или нравственно (и
тогда все объяснение вращается в круге), или же
определяется расчетом (и тогда нашим решением
руководит стремление к счастью, столь решительно
отвергнутое Кантом)»8.
Не будем придираться к ошибочной категоричности
последнего утверждения (Кант, как я уже разъяснял,
вовсе не отвергает стремления к счастью в качестве
фактического мотива человеческих решений).
Сосредоточим внимание на том, что делает честь логической
проницательности В. Виндельбанда, и попытаемся
оспорить именно сильные - по видимости вполне
убедительные — аспекты его аргументации.
Трудно не согласиться с тем, что герой третьего
кантовского примера вращается в логическом круге (в
круге предпочтения нравственного по мотиву
нравственности). По замыслу Канта, он'должен был бы отказаться
от максимы "небрежного отношения к своим природным
дарованиям" лишь в результате осознания ее неунивер-
салиэируемости. На деле, однако, вся процедура
универсализации оказывается как бы вообще не при чем.
Индивид отвергает означенную максиму просто потому,
что уже заранее, т.е. до всякого испытания своей воли
на законосообразность, "непременно хочет, чтобы в нем
развились все способности, так как они служат и даны
130
ему для всевозможных целей". Дело, иными словами,
сводится к тавтологии, которую Кант мог бы просто
декларировать, не утруждая читателя никакими
доказательствами и демонстрациями.
Достаточно очевидно далее, что человек, о котором
идет речь в примере четвертом, рассуждает как
расчетливый эвдемонист и подставляет категорический
императив туда, где по логике дела возможен лишь известный
суррогат ассерторического императива. Картина будущей
беспомощности (вследствие старческой немощи,
болезни, разорения и т.д.), конечно, способна до какой-то
степени вразумить уединенного эгоиста,
вознамерившегося жить по максиме "ни ты мне, ни я тебе"9. Однако
этого еще совсем недостаточно для обоснования
противоположного правила, а именно максимы
благорасположения и доброжелательства как этической. Герой
четвертого примера вполне мог бы пожелать для себя не
общества, все члены которого помогают друг другу в
несчастье, а общества, где, скажем, хорошо обеспечено
страхование жизни и имущества. Он мог бы, далее,
удовольствоваться пруденциальным (а вовсе не
моральным) правилом: "помогай тем, кто скорее всего
способен оказать помощь тебе" (т.е. власть имущим, богатым,
влиятельным и вообще "нужным" людям). Из того, что
человек "иногда все же нуждается в любви и участии
других", еще отнюдь не вытекает строго логически, будто
он должен сострадательно относиться к любому и каждому.
Итак, мышление индивида, фигурирующего в
приведенных кантовских примерах, либо тавтологично (как
моральное), либо нелогично (как
расчетливо-эвдемонистическое). Виндельбанд прав именно в той мере, в
какой фиксирует и уличает эти несообразности. Но в
чем он явно неправ, так это в понимании
"экзистенциального модуса", или способа переживания кантовским
субъектом процедуры универсализации максим по
"слабой" версии.
Кант не просто проделывает "мысленный
эксперимент" над некоторым абстрактным экземпляром челове-
8*
131
ка, приписывая ему то чисто моральный, то расчетливо
эвдемонистический образ мысли. аИли-или", о котором
говорит В. Виндельбанд, это внутренняя коллизия самих
наблюдаемых Кантом индивидов, достаточно конкретных
и в социальном, и в житейском смысле (обратим
внимание хотя бы на заносчивый европоцентризм героя
третьего примера или на горькую иронию, с которой
герой четвертого говорит об обществе, готовом на
жалостливое участие, но далеком от уважения достоинства
и прав человека). Персонажи Канта — это реальные типы
людей, и создатель трансцендентальной этики пытается не
просто исмоделировать", но понять возможные для них
выборы и решения. Примечательна в данном отношении
замена третьего лица на первое в тексте последнего
примера, как бы акцентирующая акт авторского вживания
("какое мне дело до всего этого ..." и т.д.).
У В. Виндельбанда, как и у большинства
неокантианцев, чисто критериологический подход к проблеме
категорического императива. У Канта он еще и
феноменологический, причем (отметим это еще раз) -
феноменологический в гегелевском смысле слова. Автор
"Основ..." пытается постигнуть живую драму сознания
в момент испытания максимы по критерию
законосообразности.
Герой третьего кантовского примера - не просто
заведомо моральный индивид. Он склонен "лучше
предаваться удовольствиям, чем трудиться над развитием
и совершенствованием своих благоприятных природных
задатков". Долг одолевает эту склонность; пресловутая
тавтология ("не хочу, ибо не хочу") оказывается
результатом внутренней борьбы (не логическим, а
психологически-понятным ее следствием). Тавтология как таковая
бессмысленна, но совсем иное дело осознание,
претерпевание индивидом неустранимой тавтологичное™ (а
значит - самоочевидности) самого нравственного
убеждения.
Герой четвертого примера - опять-таки не просто
расчетливый эвдемонист. Горькая ирония над существу-
132
ющим лицемерием (над таким порядком вещей, когда
"каждый болтает о сострадании" и т.д.) выдает
изначально присутствующее в нем нравственное
умонастроение, которое лишь провоцируется и стимулируется
благодаря процедуре универсализации
псевдорационального правила "ни ты мне, ни я тебе". Удается ли эта
процедура до конца, в общем-то не имеет значения. Суть
дела в самом критериологическом усилии, - в готовности
к законосообразной объективации своих желаний.
"Сильная" версия универсализации предполагает
прямое подчинение воли разуму, "слабая* - такую
активность разума, которая косвенно содействует совпадению
воли с собой. Непризнание Кантом "воли, которая
противоречила бы себе", имеет нормативный смысл.
Кант настаивает на том, что подобное состояние воли
не должно иметь места, что оно "неистинно". При этом,
однако, вовсе не отвергается, что противоречие в воле
может иметь место "эмпирически и патологически". Как
раз напротив, герои кантовских примеров с самого
начала переживают разлад в желаниях. Каждый из них
не только не уверен в оправданности одного из
сталкивающихся в нем побуждений, но, по строгому
счету, вообще еще не знает, чего он в действительности
хочет.
Здесь-то и кроется разгадка секрета. "Слабая" версия
универсализации скрывает под собой рефлексивно-во-
люнтативную проблему, или вопрос о субъективно
истинной действительности человеческого воления. Это
интеллектуальный акт еще не интегрированного
сознания, помогающий человеку осуществить выбор себя
самого. В обоих кантовских примерах в итоге
предпочитается влечение, которое приходится признать не
столько логически оправданным и общезначимым,
сколько просто искренним, подлинным и непреложным для
данного индивида.
Такова неожиданная подоплека кантовского "не могу
хотеть". Ее не видели В. Виндельбанд и другие
неокантианцы (Г. Риккерт, Г. Коген, К. Форлендер), но
133
энергично - и даже с прямолинейной односторонностью -
акцентируют представители новейшего западного канто-
ведения, прежде всего - психоаналитического ( Г.
Шульте, К. Лоренц, Р. Денкер, В. Дедриан) и
экзистенциально-онтологического (Г. Мартин, Г. Бухдал, Л.
Элейль и Др.)10* Категории, которые они применяют
("супер-эго", "имажинативное стимулирование
самоидентификации ", "самораскрывающееся самобытие" и
т.д.), трудно совместимы с понятийным строем
трансцендентально-практической философии, да и со всей
этической культурой XVIII столетия. Но это вовсе не
означает, будто сама проблематика, которая фиксируется
с их помощью, была неизвестна кантовскому времени и
будто оно не располагало языком, пригодным для ее
выражения. Ж.-Ж. Руссо прекрасно понял бы, скажем,
следующую декларацию X. Ортеги-и-Гассета: "Наше
высшее решение, наше спасение состоит в том, чтобы
найти свою самость, вернуться к согласию с собой,
уяснить, каково наше искреннее отношение к каждой и
любой вещи. Неважно, каким это отношение может быть -
мудрым или глупым, позитивным или негативным.
Важно, чтобы каждый человек в каждом случае думал
то, что он действительно думает, и стремился к тому,
чего он на самом деле желает"11.
Диагносты абсолютистской культуры прекрасно знали,
что такое неподлинность и социально-эффективное
притворство. Они имели возможность наблюдать такие
выразительные их примеры, как церковное ханжество,
придворный конформизм и патерналистская
благотворительность. Они дали блестящие зарисовки людей,
отчуждающихся в заказанные амплуа, маски, жесты, и нашли
общую формулу этого самоотчуждения: pas être, para itre
("главное не быть, а казаться"). Поэтому им вовсе не
чужд был концепт внутренней духовной реальности,
обладающей прочностью и непреложностью
независимого от нас бытия, - реальности, которую можно выбрать
или не выбрать, реализовать или предать, но никогда
нельзя устранить. Правда, для ее обозначения
134
мыслители XVIII в. использовали не специально
выработанные философские понятия, а философски
фиксированные выражения обыденного или теологического
языка. Таковы "веления сердца", "внутренняя вера",
"призвание", иинстинкт добрап и, наконец, азов совести*.
2. Пространство свободной совести
Понятие совести занимает в философской культуре XVIII
в. не менее заметное место, чем понятие разума.
Особенно ясно это видно у Руссо, трактовавшего совесть
как орган абсолютной индивидуальной достоверности,
врожденной нравственности и дорассудочной
разумности человека1 Л
В своих психологических рассуждениях Кант,
несомненно, стоит на почве этого этического понимания.
Вместе с тем в качестве этика он наследует другой
влиятельной традиции, которую можно назвать
традицией протестантского религиозного юридизма. Кантовское
понимание совести постоянно корреспондирует с
понятием "свободы совести", как оно со времени молодого
Лютера употреблялось защитниками веротерпимости.
Совесть в рамках этой традиции понималась прежде
всего как инстанция персональной искренней веры,
может быть, и Ложной, и ограниченной, но вместе с тем
такой, что ее нельзя изменить никаким принуждением.
Тот, кто пытается сделать это, просто насаждает
лицемерие и фальшь. Всякое обращение с совестью должно
начинаться поэтому с признания достоинства
искренности, которым она обладает. Только при этом условии
совесть делается восприимчивой к рациональным и
моральным аргументам и, более того, сама обнаруживает,
что уже содержит в себе начало разумности и
нравственности.
Наиболее продуманное выражение эти установки
получили в концепциях так называемой "естественной
религиип (П. Бейль, Чербери, Дж. Толанд, Д. Юм и др.),
суть которой, вкратце говоря, сводилась к следующему:
135
1) Для людей естественно признавать что-либо
святым, а потому верить в Бога. Циничное неверие
противоестественно и должно быть запрещено.
2) Все религии содержат одни и те же простейшие
нравственные заповеди (не убий, не лги, не кради и т.д.)
и видят в Боге их подателя и защитника. Человеческое
сообщество - в лице государства - обязано признать это
основное содержание религиозного сознания
("естественную", или "существенную" религию) и легализовать
любые вероисповедания, в которых оно присутствует.
иСатанинские секты", отрицающие само понятие
морального Бога, должны быть запрещены. Но все и
спекулятивные истины", исповедуемые приверженцами
моральных религий, какими бы странными они ни казались
со стороны (например, догмат воплощения и
пресуществления, или обряд обрезания, или обычай
паломничества), должны быть безусловным образом разрешены.
Каждый почитает Бога тем способом, который ему
представляется достойным. Таково право совести
(первое в истории Нового времени "право человека").
3) Все, чего еще можно потребовать от приверженца
испекулятивных истин", так это самой совестливости,
т.е. искренности, нелицемерности в отправлении
соответствующего культа. Но требование это уже не имеет
принудительно-обязующей силы: неподлинность богопо-
читания может караться только неодобрением и позором,
а не юридически.
Теория "естественной религии" была далеко не
идеальным решением вопроса о свободе совести. Но
она, несомненно, представляла важную веху и в истории
веротерпимости, и в истории этической культуры. Кант
пошел по пути дальнейшей реализации именно
этических ее возможностей.
Давайте посмотрим, что такое процедура
универсализации максим под углом зрения модели и естественной
религии".
1) Утверждение безусловных требований (нравственных
святынь) и отрицание цинично утилитарного образа мысли —
136
основная интенция всей этики категорического
императива.
2) Кант расчленяет поле морального сознания в общем
и целом совершенно так же, как П. Бейль и его
последователи расчленяли сознание религиозное.
Категорические запреты занимают в нравственном мире то
же место, какое исущественная религия" занимала в
мире рационально осмысляемой веры. Да и способ их
предписывания тот же самый. Отказа от лжи и насилия
(как и отказа от участия в "сатанинских сектах")
необходимо требовать непримиримо, даже не советуясь
с совестью и не останавливаясь перед применением
карательных санкций.
3) Что же касается обязанностей "несовершенных",
удостоверяемых по аслабой" версии универсализации,
то они имеют свой аналог в исповедании и
спекулятивных истин". Кант предоставляет эти обязанности совести
конкретного нравственного субъекта и требует лишь,
чтобы последний был на деле совестлив, т.е.
нелицемерен, нелжив, непримирим к "противоречию в воле".
Это особенно хорошо видно в случае с и
несовершенной" обязанностью, обсуждаемой в четвертом кантов-
ском примере.
Вопрос о способе предписывания доброжелательности
Кант разбирает неоднократно. Можно даже сказать, что
это одна из его навязчивых тем. Мы уже сталкивались
с ней, когда рассматривали понимание сострадания и
справедливости в лекциях 1780-1782 гг., а также при
выяснении истоков кантовского морального императи-
визма. И повсюду мы могли слышать один и тот же
мотив: общество может лишь желать, чтобы его члены
были добрыми, отзывчивыми, сострадательными, но
никак не требовать с них подобных качеств13. Самое
страшное, что может случиться, - это если
доброжелательность начнут насаждать теми же способами, какими
отвращают от злобности, лжи, произвола и насилия.
Толковать доброту как качество, которого каждый может
потребовать с каждого, все с одного и государство со
137
всех, значит низводить ее до уровня социальной
условности. Попытка же культивировать ее под страхом
наказания, ввергла бы людей в состояние, которое Кант
в статье "О неудаче всех философских попыток
теодицеи" (1791) обозначает удивительно точным, почти
невероятным для языка XVIII столетия, выражением:
мсимуляция убеждений"14. А что может противостоять
этой вынужденной фальши? Свободное действие без
"противоречия в воле".
Любовь, сострадание, дружелюбие имеют ценность
лишь тогда, когда они неподдельны и уместны. Но для
этого требуется искреннее влечение и даже "дар сердца".
Не лгать человек должен при любых обстоятельствах
(независимо от обстоятельств), а вот
благодетельствовать, не считаясь с обстоятельствами, - опасно, а иногда
и безнравственно. Тут невозможно ни общее правило,
ни инструкции для иособых случаев": тут необходим
талант распознавания неповторимых жизненных
ситуаций. Кант хорошо понимает данное обстоятельство,
многократно разъясненное затем классической литературой.
Вспомните курьезы, которые постигают Кити Щербац-
кую во время ее пребывания на водах. Подчиняясь
моральной моде, Кити отдается делам милосердия и ...
сеет несчастья. Лишь совестливость (чувство стыда за
то, что посвятила себя добрым занятиям, к которым,
однако, не имела ни призвания, ни способностей)
прерывает эту невеселую комедию. Дела милосердия
удаются Вареньке, как бы от рождения одаренной
благоразумием и тактом. Зато вот "любовь к любимому"
и устройство брака ей никак не удается. В исполнении
расхожей моральной премудрости "женщина должна
обзавестись семьей" Варенька так же бесталанна, как и
Кити в отправлении заповеди "благодетельствуй
ближним своим".
Основать всеобщие моральные требования на
нравственном чувстве Кант никогда не пытался. И в то же
время, может быть, никто другой в XVIII в. не понимал
столь отчетливо, что именно нравственное чувство в
138
соединении с совестью является наилучшим экспертом
по части "моральных прецедентов", вопросов
"конкретного случая". Тут с ним не могут соперничать никакие
разумные предписания, равно как и авторитарные
рекомендации от одной совести к другой. Резонирование по
мотивам "совершенной внутренней достоверности*
Кант осуждал так же решительно, как и публичное
принуждение к доброте. Плебейская декламация: "А
совесть у тебя есть?!** — чужда всему строю его
морального учения. Кант (это решительно отличает его
от Руссо) понимает, что в девяти случаях из десяти
человек, к которому она обращена, мог бы ответить:
"Совесть у меня есть, но она у меня иная"15. Попытки
"читать в сердцах" и требовать доброты от другого
человека по своей сердечной мерке осуждаются Кантом
совершенно так же, как теоретики "естественной
религии" осуждали обоюдный моральный фанатизм
враждующих вероисповеданий.
Все только что сказанное о максиме
доброжелательства можно отнести и к максиме реализации своих
дарований (третий пример).
Кант был очень далек от ригористического артистизма
постромантиков, - от мысли о том, что осуществление
своего агения" или "можествования" есть
универсальная, безусловная и приоритетная обязанность, которую
надо исполнять при любых обстоятельствах и любой
ценой. Задача реализации своих дарований может
сталкиваться со множеством других настоятельных
жизненных задач. И совести человека надо предоставить
решение вопроса об их предпочтении. Позитивной
нравственной рекомендации тут не сформулируешь;
можно дать лишь негативное общее правило:
самоосуществления нельзя добиваться ценой обмана,
предательства, насилия и вероломства.
Последняя формулировка обнажает любопытное
обстоятельство: "несовершенные" обязанности, которые
обсуждаются в двух примерах Канта, не просто рядополо-
женны, - они как бы постоянно отсылают друг к другу.
139
Доброта сомнительна без дара к добру, а дарование
недостойно реализации, если оно недобро (мы едва ли
станем упрекать человека, в котором погиб талант к
воровству или мистификаторству). Это важно принять
во внимание, потому что под формой двух "
несовершенных" обязанностей Кант на самом деле
рассматривает две стороны идеала, который можно определить как
идеал осуществленного благопризвания, или (в
религиозном языке) божьего дара.
Но примечательно, что в раннепротестантской
литературе это и есть основная забота совести. Смысловое
единство уроков, которые она нам предъявляет то как
лентяям, то как болтунам, то как лжецам, то как злодеям,
заключается в том, что во всех этих случаях мы губим
дарованное нам доброе и продуктивное начало и
становимся преступно несовершенными в сопоставлении с
тем, что предчувствовали в себе. Однако переживать и
понимать меру этого преступления может лишь каждый
отдельный человек в глубине сердца.
Что касается общества, то оно, по строгому счету, не
вправе нас обязывать (будь то в " совершенном" или в
" несовершенном" смысле) ни к тому, чтобы мы были
добры, ни к тому, чтобы мы самоосуществились. Оно
может лишь одобрять доброту и реализованную
талантливость, да восхищаться их необъяснимым внутренним
единством. На это, мне кажется, и намекает Кант, когда
употребляет неуклюжее, внутренне противоречивое
понятие "долга, исполнение которого вменяется в
заслугу".
Вот теперь, подводя итог всему выше сказанному, я
позволю себе сформулировать моральную апелляцию,
которую подразумевает "первая формула"
категорического императива, взятая в целом, т.е. в единстве
"сильной" и "слабой" версии универсализации максим.
Она может звучать так: "Не прибегай к обману и не
чини насилие никогда и ни при каких условиях, — даже
под давлением общества, даже если твоя совесть не
отвращает тебя от этого. Но во всем прочем ты волен
140
поступать как тебе угодно, если только твое воление не
противоречит суждению твоей совести".
В предыдущих разделах я уделил немало внимания
ригоризму как сразу приметному пафосу кантовской
этики и попытался показать, сколь тесно он связан с
патетикой справедливости и гражданской независимости.
Теперь пришло время акцентировать еще одно важное
обстоятельство. Этика Канта, по строгому счету, "двупа-
фосна": она крайне притязательна, сурова и
ригористична в отношении первичных обязанностей человека и
гражданина (основных условий сохранения
сколько-нибудь нормального человеческого общежития) и вместе
с тем терпима — по мерке нравоучительного XVIII
столетия небывало терпима — в толковании требований,
предъявляемых человеку в видах его совершенствования,
облагораживания, продвижения "от хорошего к
лучшему ". В трактовке запретов Кант — преемник
аподиктического конституционалистского духа, свойственного
теориям общественного договора; в трактовке благих
советов - этический наследник выдающихся tf апостолов
веротерпимости". Как и эти последние, Кант предельно
осторожен в рецептировании конкретных личных
решений в конкретных условиях. Вопреки своему
программному замыслу всеобъемлющего "морального канона" он
окольно (благодаря введению в схему
универсализирующей проверки ранее не предусматривавшегося понятия
"противоречия в воле*) приходит к наброску
"морального органона", где за строгим обоснованием запретов
("негативным каноном") следует ориентирующая
рациональная схема, которая отсылает к понятиям
подлинности, самоидентификации, идеала и ценности.
Практически же (в плане широкого нормологического
толкования) Кант предоставляет простор для понимания
"несовершенных" обязанностей как таких нормативных
задач, решение которых должно быть целиком
предоставлено самому выбирающему субъекту, причем не
только в смысле его личной ответственности, но и в
смысле его собственного представления об ответственности.
141
3. Все, что не запрещено, разрешено
" Двупафосность" этики категорического императива была
понятна современникам Канта и в немалой степени
способствовала расколу их на партию противников и партию
восторженных поклонников
трансцендентально-критической философии.
Представители официальной университетской науки,
морализирующие лютеранские теологи и литературные
выразители позднего, церковно санкционированного
пиетизма образовали пеструю, но достаточно сплоченную
армию догматико-моралистических критиков Канта.
Анализ полемических приемов, к которым эта армия
прибегала, не входит в мою задачу. Но нельзя не обратить
внимания на то, что в ее арсенале уже содержались два
характернейших вульгарных упрека, которые затем, в
новых и новых аранжировках, будут воспроизводиться и
гегельянцами, и Шопенгауэром, и ифилософами жизни",
и многими советскими этиками, примерявшими учение
Канта к задачам формулирования возможно более
детального и полного "кодекса строителей коммунизма".
Это, во-первых, громкие сентенции (иногда просто
жалобы, иногда прочувствованное доносительство16) по
поводу "абстрактности", "логистичности", "пустой
всеобщности" и "негативизма" кантовского долга, который
не определяет, увы, живых, конкретных и конструктивных
обязанностей человека.
Надо отдать должное ранним догматико-моралистиче-
ским критикам Канта за откровенность, с какой они
выбалтывали реальную подоплеку подобных сентенций.
" Неконкретность" трансцендентально-практического
учения об обязанностях тревожила их прежде всего
потому, что оно не позволяло инструктировать людей и
вести их по жизни на помочах "моральной науки". Этика
Канта объявлялась "нежизненной" по сравнению с
этикой Вольфа, Баумгартена и Ахенваля, поскольку была
куда менее пригодна для того, чтобы оказывать
рациональную помощь государству и церкви в детальной
142
регламентации индивидуального поведения. В этой связи
Канту уже в те времена ставилась в вину недостаточная
психологическая глубина, равнодушное отношение к
задаче и воспитания чувств", увлечение нормологически-
ми проблемами и третирование вопросов, относящихся
к практике благочестия (или, как мы выразились бы
сегодня, — к имеханизму воздействия норм").
Второй характерный и как бы на столетия придуманный
упрек — это упрек в недооценке счастья как естественной
цели человеческой жизни (обвинение, которое Канта
все-таки доконало и заставило в "Метафизике нравов"
разбавить более строгую первоначальную позицию рядом
эвдемонистических двусмысленностей).
Противоположный взгляд на "двупафосность" кантов-
ской этики, пожалуй, ярче всего был представлен в среде
философов и юристов, работавших над обоснованием
"естественного права". Три имени должны быть здесь
названы прежде всего: И.Г. Фихте, К.Г. Хайденрайх и А.
Фейербах (отец Людвига Фейербаха). Полемически
непримиримые друг к Другу, они тем не менее были едины
в признании "проспективно юридических"
возможностей трансцендентальной этики, в понимании философии
Канта как инструмента интерпретации Французской
революции и в сочувственном отношении к
политико-юридическим декларациям, принятым во Франции в 1789-
1792 гг. Все они заслуживают названия
правоведов-кантианцев.
Фихте, Хайденрайх и А. Фейербах хорошо поняли то,
что выпадает уже из поля зрения Гегеля и делается
совершенно невидимым даже в самой основательной
неокантианской морально-юридической литературе (в
частности, у Г. Когена): кантовское ригористическое "я
должен" (ich soll) необходимым образом полагает на
другом полюсе не менее энергичное амне можно" (ich
darf). И происходит это именно вследствие того, что по
"сильной версии" универсализации максим в области
безоговорочного долженствования оказываются только
запреты (негативные предписания) и притом только
143
такие, которые могут мыслиться в качестве
общеобязательных, равноприемлемых для всех и соотносимых с
условиями первоучреждения человеческого общежития.
По известному модально-логическому правилу (а в
раннебуржуазных революционных декларациях
последней трети XVIII в. оно оглашается в качестве
важнейшего конституционного принципа) все, что не
запрещено, разрешено. Но это значит, что чем более обще,
формально, и законосообразно " определяется запрет, тем
шире сфера максим, которые, даже если они
переживаются индивидом в качестве его личных обязанностей,
все-таки обладают статусом дозволительное™, т.е.
выводятся из-под тотального внешнего надзора общества, —
из-под репрессивных моралистических санкций, которые
каждый имеет по отношению к каждому, все по
отношению к одному и государство по отношению ко
всем.
Эту эмансипаторскую потенцию этики категорического
императива с полной определенностью и захватывающей
страстностью прозелита обнажил И.Г. Фихте в своем
" Сообщении читающей публике о французской
революции" (1793): "Поскольку мы как разумные существа
неминуемо и без всякого исключения стоим под этим
(моральным. — Э.С.) законом, мы не можем следовать
никакому другому; но это значит, что там, где этот закон
молчит, для нас нет закона: там царствует "нам можно"
(wir dürfen). Все, что закон не запрещает, дозволено. Все
что дозволено, на это мы, поскольку сам запрет был
законосообразным, имеем право"17.
То, что постулирует здесь Фихте, неправильно было
бы считать всего лишь особым, афихтеанским"
истолкованием Канта. Автор "Обращения..." с предельной
выразительностью высказывает общую тенденцию в
толковании трансцендентально-практической
философии, характерную для передовой юридической мысли
Германии конца XVIII столетия.
Эмансипирующий смысл учения, которое
концентрировало основную энергию нравственного долженствова-
144
ния вокруг универсальных запретов, был особенно
заметен на фоне господствовавшей в немецких
университетах вольфианской этики.
Хр. Вольф и его ученики придерживались
телеологической интерпретации нравственных обязанностей.
Последние рассматривались как правила-средства,
обеспечивающие достижения основных моральных целей
человека, а именно - личного совершенства и благоденствия
окружающих (Glückseligkeit der Menschen). Поскольку
невозможно предложить никакой общезначимой
рациональной процедуры, которая позволяла бы каждому
человеку самостоятельно определять, в чем собственно
состоит "его совершенство и чужое счастье", постольку
задача содержательного формулирования основных
моральных целей возлагалась на просвещенного государя.
Ему надлежало рационально рецептировать понятие
личного совершенства и общего благополучия
применительно к данным конкретным условиям общественного
сосуществования.
Монарх, консультируемый со стороны philosophia
moralis, оказывался в итоге той единственной
полномочной инстанцией, от которой исходило и содержательное
определение моральных целей, и назначение средств,
которые обеспечили бы быстрейшее их достижение.
Власти рекомендовалось, с одной стороны, предъявить
подданным возможно более детальные запреты и
позитивные требования (Verbole und Gebole), с другой —
предоставить условия для их исполнения. Дозволения,
данные властью для реализации ею же назначенных
обязанностей, вольфовская школа именовала а
правами".
В итоге миру предлагалась нормативная система, где
запреты и требования имели равную обязующую силу
(силу внешнего задания, урока, гипотетического
императива, предписанного государством). Всякая
обязанность была вместе с тем и правом, всякое повеление —
разумным практическим советом (и наоборот).
Ригоризмом эта система не страдала, но именно потому, что
10 Заказ №1663
145
заведомо исключала самостоятельное личное суждение
о должном.
Как согласно утверждали впоследствии исследователи
самых разных направлений, идеалом вольфианской этики
был инструктивный моральный кодекс, детально
расписанный и более всего напоминающий традиционные
ремесленно-цеховые регламенты. Он мог быть
действенным лишь при наличии всеобъемлющей и полиции
нравов", органами которой стали бы и
правительственные органы, и университет, и гимназия, и корпорации,
и семья. Как ни фантастичен этот идеал, он
одновременно (по содержанию) еле воспарял над убогой
реальностью прусского абсолютизма, рационализируя
уже наличную практику "полицейского государствая*8.
Он может рассматриваться как самая робкая и
неприглядная из всех версий ипросвещенной монархии",
появившихся в Западной Европе в середине XVIII в.
Сервильная приземленность вольфианства в немалой
мере объяснялась тем, что и содержательное, но
совершенно пустое понятие совершенствования отдавало
мораль во власть временного потока, делало обязанности
и права зависимыми от меняющихся условий реализации
человеческих запросов, от культурных и социо-истори-
ческих представлений о качестве жизни"19. В нем, как
и в вульгарно-социологических концепциях XX столетия,
мечтательность соединялась с самой прозаической
калькуляцией обстоятельств, любовь к дисциплине - с
нормативным релятивизмом, пафос улучшения и осча-
стливливания людей - с изначальным недоверием к их
независимому суждению. И нужно живо представить
себе этот образ мысли, чтобы понять, почему
ригористичная, формальная и негативная этика категорического
императива могла пробудить в Германии XVIII в. еще
невиданную энергию юридического свободомыслия.
Раннекантианские истолкования естественного права
вдохновляются прежде всего антителеологизмом
трансцендентально-практической философии. Процедура
универсализации максим позволяет определять основные
146
нравственные запреты совершенно независимо от
соображений совершенствования или какой-либо иной
заданной цели. Запреты первичны по отношению к
конкретно-позитивным требованиям. Это не
обусловленные правила-средства, а непременные и как бы надвре-
менные предпосылки самого целеполагания: прежде, чем
думать о том, как сделаться лучше, человек, согласно
Канту, должен озаботиться предотвращением
наихудшего, категорически отвергнув максимы, противоречащие
принципам взаимного доверия и уважения чужого
достоинства20.
Существенным для критических расчетов с вольфиан-
ством оказалось еще и следующее обстоятельство.
«Современникам Канта - в отличие от многих более
поздних его интерпретаторов - было ясно, что критерий
универсализируемое™ отделяет не позитивные
требования (Gebote) от запретов (Verbote), а разрешенные
действия от неразрешенных2*. Обобщаемость есть
необходимый и достаточный критерий дозволенного
поступка (и наоборот). Позитивные обязанности образуют
лишь часть в классе разрешенных действий, и сюда
относятся лишь такие поступки, противоположность
которых не поддается обобщению: кроме них в , класс
разрешенных действий входят еще поступки морально
индифферентные, или "всего лишь дозволенные". Эта
деонтическая различающая способность категорического
императива и была в полной мере использована
представителями раннекантианской интерпретации
естественного права»22.
Неразрешенным (подлежащим компетенции всех и
каждого, применению общественных и государственных
санкций) признавалось только запретное по разуму, по
самостоятельному рациональному суждению любого
индивида (таковы обман, лжесвидетельство, воровство,
порабощение, унижение и т.д.). Далее очерчивалась
ъбласть дозволенного, область личного права. К ней
принадлежали и позитивные обязанности (например,
быть или не быть доброжелательным, развивать или не
9*
147
развивать свои дарования) и adiaphora, т.е. морально
индифферентные решения (скажем, как выгоднее
пользоваться деньгами и лечиться ли у врача или у знахаря).
Различия между последними признавались и
обосновывались достаточно строго, но еще решительнее, еще
определеннее проводилась демаркационная линия между
запретным* и всей сферой дозволенного, т.е. между
решениями, допускающими и не допускающими
публичное (в пределе - государственное)
вмешательство.
"Можно", коррелятивное формальному и
законосообразному, трансцендентально-конституционалистскому
кантовскому "не должно", стало фундаментом
новаторских немецких теорий права. Как вскоре обнаружилось,
на нем чрезвычайно трудно было возвести стройную
концепцию "позитивного" гражданского и уголовного
права, где так очевидно представлен феномен
принуждения*3. Вместе с тем раннекантианское "можно"
оказалось той категорией, которая открыла немецкому
юридическому мышлению путь к
концептуально-осмысленному признанию так называемых "субъективных
прав": неотчуждаемых прав-свобод, прав человека -
"естественных прав" в трактовке XVIII столетия. Кан-
товское понятие нравственного законодательства,
теснейшим образом связанное, как мы видели, с локковской
моделью "первоначального договора" и
конституционно-республиканскими идеалами XVIII в., как бы выбило
из немецкого уха ватную вольфианскую затычку. В
80-90-х гг. XIX в. большинство передовых мыслителей
Германии воспринимало понятие категорического
императива и понятие прав человека как две стороны одной
и той же нормативной идеи, практическое
осуществление которой должно избавить Европу от деспотизма, от
патерналистского надзора правительств, от смешения
моральности и предписанной верноподданнической
дисциплины.
V
Категорическое иможно", которое вдумчивые немецкие
юристы расслышали в кантовской этике долга, относилось
к правомочиям рассудка и совести. Если наш практический
разум говорит о том, что только соблюдения запретов
каждый может требовать с каждого, все с одного и государство
со всех, то власть не вправе предписывать никаких а
советовм, касающихся нашего благополучия и нравственного
совершенствования. Каким промыслом человеку пристало
заниматься, чего и сколько производить или потреблять, в
каких случаях быть доброжелательным, сострадательным,
скромным, ревностным, радивым, - этого "сверху"
определять нельзя (категорически нельзя!). Это частное дело
каждого. Доверие к государству как к административной
системе, заботливо репетирующей все людские
предприятия, пошатнулось, а на стороне подданных впервые
обозначилось понятие автономии (нормативной
независимости), отнесенное к утилитарному расчету и
нравственному чувству.
Но чего правоведы-кантианцы еще не расслышали (и
что в 1793-1797 гг. Канту пришлось разъяснять лично),
так это мысли об автономии самого разума,
учреждающего категорические запреты.
Человек освобождается от внешней властной норма-
тивизации его поведения сразу и непосредственно, в
самом акте разумного полагания связующих его
обязательств, - вот что трансцендентальная этика предполагала
изначально, еще до разделения человеческих
обязанностей на и совершенныеп и и несовершенныеп. Не просто
от патерналистских советов государства свободен я через
149
запрет, принятый по разуму, но от всех противоречащих
ему предписаний (запретительных, указных, командных,
доверительных и т.д.).
Положим, человек через процедуру универсализации
возвел в собственное непреложное правило максиму
"не лжесвидетельствуйw, а государство требует от него
дать* ложное показание, необходимое для спасения
доброго имени монарха и престижа отечества. Каково
отношение этого человека к подобному требованию? -
Он защищен от него, категорически свободен, -
требование не имеет для него силы. Мне могут возразить, что
это не так, что в действительности человек, о котором
я говорю, как раз нравственно принужден: он обязан
отвергнуть низкое предложение, предъявленное ему
от лица государства. Однако вглядимся в проблему
внимательнее и проанализируем ее в соответствии с
логикой Канта, который понимал дело лучше и тоньше
нас.
Человек, давший себе закон "не лжесвидетельствовать'*,
категорически отвергает всякое поползновение к
лжесвидетельству, к которому его может побудить склонность
или расчет, - на себя самого направляет он гневную
строгость запрета. Что касается предъявленного ему
внешнего требования, то последнему он просто не
повинуется. "Отвержение низкого требованияп - это
слишком сильно, это очень похоже на подстрекательский
совет: "Плюнь в лицо тому, кто тебе такое предлагает,\
Подобного бунтарского поведения кантовская этика
никак не подразумевала. Она очень близка к концепциям
ненасильственного сопротивления и так же, как они,
видит в моральном законодательстве просто базис
свободного, внутренне оправданного неучастия в
любых антиморальных мероприятиях, чьим бы именем
они ни проводились в жизнь (государя, отечества,
сословия, республики, революции, истории или Бога).
Эта свобода тем шире, чем универсальнее внутренние
запреты и чем строже личность относится к их
соблюдению.
150
1. Признание моральной автономии личности
как основной смысл правовой нормы
Разъясняя уникальность своей этической теории, Кант
писал: "Все понимали, что человек своим долгом связан с
законом, но не догадывались, что он подчинен своему
собственному и тем не менее всеобщему зaкoнoдaтeльcтвy...,' *.
Действительно, все сторонники рационального
обоснования морали от Гоббса и Спинозы до Вольфа и
Гольбаха видели в ней закон, который предписывается
обществом (в лице государства) и лишь признается
индивидом по мотивам благоразумия.
Рационалист Кант доказывает, что законосообразные
моральные правила (даже в простейшей форме
запретов) ни в коем случае не должны мыслиться в качестве
общественно-государственных установлений, ибо
существуют до и независимо от них в качестве разумных
личностных принципов.
Но как тогда быть с пониманием простейших
нравственных запретов как таких, которые каждый может
требовать с каждого, все с одного и государство со всех?
Как быть с сознанием наказуемости, сопутствующим
сознанию безусловной запретности?
Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к примеру,
раскрывающему механизм формирования
пруденциальных личностных обязательств.
Юноша, который недавно начал курить, узнает, что
его родственник, заядлый курильщик, заработал рак легких.
Живо представив себе, что и его ожидает в будущем
подобная же беда, он решает: "Все, никогда и ни за
что\п. После этого юноша идет к другу, в твердом
характере которого уверен, и говорит ему: аВот
сберкнижка, где оформлен вклад на мое имя; если я хоть раз
закурю - сожги ее".
Юноша сам на себя налагает запрет: по мотивам
благоразумия, но категорически. Безусловное "нельзя"
приобретает для него значение присяги, зарока. Присяга
принимается от веры в свои моральные силы: в полном
151
соответствии с известной кантовской формулой: "раз
должно, значит и возможно1*. В то же время это именно
вера, а не уверенность, основывающаяся на знании
(юноше как раз хорошо известно, что и другие люди, и
он сам далеко не всегда исполняли данные себе клятвы).
Поэтому он оглашает свой зарок, подводит себя под
контроль и под наказание, как бы призывая другого
оказать карательное содействие своей собственной
доброй воле.
В случае утверждения морального требования по
"сильной" версии универсализации (т.е. как запрета)
мы имеем дело с подобным же процессом
новообразования.
Представим себе человека, который испытывает
стихийное отвращение к воровству, впитанное, как
говорится, с молоком матери, но которого то и дело
одолевают сомнения относительно морального
достоинства этого чувства: не есть ли оно просто и нравственный
предрассудок" (вроде отвращения мусульманина к
свинине), не род ли это рабского сознания, приличного
лишь "для твари дрожащей". Согласно Канту, в голове
такого человека мог бы совершаться примерно
следующий процесс: (а) он строит в воображении безжалостно
последовательную картину общества, где воровство
разрешено всем и поощряется государством; (б) переживает
эту антиутопию всерьез, как свою собственную
социальную реальность; (в) впечатленный этим переживанием,
внутренне легитимирует свое спонтанное отвращение,
т.е. зарекается от воровства раз и навсегда и (г)
скрепляет этот зарок добровольным согласием на
наказание.
Вообще говоря, по теории категорического императива
было бы вполне последовательно, если бы индивид
мыслил себя еще и как своего собственного карателя,
т.е. вместе с принятием внутренней, нигде не
оглашаемой моральной присяги клялся бы себе в том, что сам
себя беспощадно накажет в случае ее нарушения
(например, изгнанием из среды людей или смертью).
152
Но, как нетрудно убедиться, сама эта клятва в свою
очередь требовала бы карательного обеспечения, а значит
новой клятвы о наказании, и так без конца. Человек
должен быть либо святым, т.е. существом, по природе
своей неспособным к нарушению нравственных
заповедей (а это, по справедливому суждению Канта, если и
возможно, то лишь в редчайших случаях), либо в конце
концов перепоручить другому исполнение приговора,
который он заранее выносит себе как возможному
нарушителю своего собственного зарока. Но такого
карающего другого он всегда уже имеет в эмпирическом
социальном мире: это государство, которому
политический рассудок (как бы по формуле "Мне отмщение и
Аз воздам") вручает все репрессивные прерогативы,
отняв их у частных лиц, кланов или сеньоральной
власти2. Уголовный закон государства и привлекается
моральным индивидом на роль карательного гаранта его
добровольного (независимого от всяких
уголовно-правовых угроз) личностного решения. По поводу строгости
уголовного закона моральный индивид не торгуется: он
ведь уже сам наперед осудил себя без всякого
снисхождения, и перед его мысленным взором витает, как
выражаются юристы, "безмерно-неопределенная", рас-
правно-остракистская кара. Что такое годы тюрьмы или
даже отсечение руки для того, кто сам зарекся от
воровства на условиях смерти? - карательная поблажка!
Это ясно показывает, что государственная правовая
репрессия признается самозаконным моральным
субъектом вовсе не по благоразумию, - не по расчету. Она
принимается от полноты внутренней решимости, которая
выше всех утилитарных калькуляций, - принимается не
как орудие урезонивания, остращения индивидуальной
воли, а как орудие обеспечения ее же собственного
благого выбора.
Выполнения этой роли гаранта, содействователя (вот
где снова всплывает тема единства и дополнительности
морали и права!) самозаконный моральный субъект
требует от государства неукоснительно. Он приемлет
153
строгость и суровость наказания, но категорически
отвергает всякую попытку карать его в качестве существа
безвольного или заведомо злонамеренного (например,
"с упреждением и впрок"), или подозревать его в общей
неблагонадежности (подводить под презумпцию
виновности), или судить его при полном безразличии к
внутреннему мотиву его поступков (в соответствии с так
называемой концепцией "объективного вменения",
которая не делает различий между умышленным
злодеянием и оплошностью и даже между преступлением и
бедой). Он достаточно равнодушен к статьям уголовного
кодекса как таковым, но прирожденный казуист по части
процессуального права, т. е. норм, регулирующих
применение уголовных статей. Таково неизбежное
следствие его самозаконности, его присягательного, эароко-
вого исповедания простейших нравственных запретов.
В характеристиках категорического императива,
которые мы находим в основных этических сочинениях Канта,
тема присяги, зарока, свободного нравственного обета
не прорисована с достаточной ясностью. Но вглядимся
еще раз в формулировки и Религии в пределах только
разума", являющиеся, как я уже подчеркнул, наиболее
энергичными и адекватными фиксациями идеи
автономии. Кант, если помните, прямо употребляет здесь такие
выражение, как исвободная присяга на верность" и
"долг, наложенный через собственный разум, а стало
быть, принимаемый добровольно".
Чрезвычайно интересны также понятия мпринципа" и
ивозведения в принцип", которые Кант широко
использует в одной из последних своих работ "Антропология
с прагматической точки зрения" (1798).
Принцип (от лат. principium - начало, основа) -
свободно выбранное приоритетное правило поведения,
которое, как замечает Кант, человек возлагает на себя
ttc торжественностью обета"3. Максима, возведенная в
принцип, возвышается над меняющимися желаниями,
потребностями, при- страстями, а также над
подвижными обстоятельствами, к которым надо приспособляться.
154
Практику возведения максимы в принцип Кант считает
чрезвычайно важной психологически и советует
культивировать ее в процессе воспитания и самовоспитания.
С этого начинается устойчивая стратегия
индивидуального поведения, позволяющая в любой ситуации вести
себя твердо, аа не бросаться туда и сюда, подобно туче
комаров"4. Чем чаще человек действует апо принципу
и из принципа", тем скорее развивается в нем
высочайшая способность исамодисциплины",
исамообладания", исамопринуждения" (ключевые выражения кан-
товского этического словаря в девяностых годах).
Самопринуждение, заимствующее от принципа его клятвенно
беззаветный пафос, обеспечивает практическую
независимость человека не только по отношению к его
собственным спонтанным влечениям, но и по
отношению к тем побуждениям, которые исходят от властных
предписаний и распоряжений. Сила принципиального и
самопринудительного противостояния куда выше силы
противостояния, обусловленного наличной потребностью
или интересом. Нет таких интересов, желаний, таких
материальных влечений, которые не отступили бы, когда
человеку достоверно известно, что их удовлетворение
обернется гибелью. А вот о принципах этого не скажешь.
Они мыслятся как правила, соблюдаемые при всех
условиях, а значит и тогда, когда их выполнение влечет
за собой смерть. "На том стою и не могу иначе" - и
делайте со мной, что хотите, если не сумеете
переубедить.
Какое правило человек может возвести в принцип?
Абстрактно говоря, любое. Сам Кант, например, сделал
законом для себя максиму, выведенную из горького
личного опыта: никогда, ни при каких обстоятельствах
(даже под угрозой голодной смерти) не брать деньги в
долг. Вместе с тем он, конечно, прекрасно понимал, что
на роль принципов, застрахованных от пересмотра,
переосмысления, соблюдаемых не из упрямства, а по
глубокому и упрочивающемуся личному убеждению,
годятся далеко не все правила. Чтобы не раскаяться в
155
назначенном себе принципе, надо прежде всего решить,
поддается ли то, что возводится в принцип,
нормативному обобщению.
В "Основах..." и в "Критике практического разума"
идея автономии (самозаконности) была подчинена идее
универсализации максим и рассматривалась как особое
ее измерение. После 1793 г., когда впервые состоялось
публичное выступление Канта по проблемам философии
права и началась подготовка первой (юридико-нормо-
логической) части "Метафизики нравов", мы все чаще
встречаем в кантовских сочинениях тексты, в которых
тема универсализации максим обслуживает тему
автономии. В выборе все более широкого круга
универсализируемых запретов и ценностей, в этизации и риго-
ризации сознания Кант как бы прямо видит средство к
тому, чтобы человек нашел свою надежнейшую присягу,
стал самозаконной, самопринужденной личностью,
которая в наибольшей степени заслуживает юрисдикции
доверия и в наибольшей степени несовместна с
практикой опеки, надзора, профилактической или
превентивно-воспитательной репрессии. Он словно призывает:
поступай универсализируемо и ты станешь "господином
себе самому".
Выражение "быть господином себе самому"
(вспомните пушкинское: "учитесь властвовать собой") впервые
появляется уже в самом раннем из известных нам
моральных рассуждений Канта - в его лекциях по этике,
читанных в 1762-1764 гг. В трактате "Предполагаемое
начало человеческой истории" (1786) оно имеет
значение идеала, к которому люди должны стремиться. В эссе
"О поговорке..." оно получает смысл одного из
основных определений гражданского статуса людей,
несовместимого с практикой "отеческого правления". Что
касается "Антропологии с прагматической точки
зрения", то здесь способность "быть господином себе
самому" трактуется как важнейшая характеристика самой
природы людей.
156
Полагание идеального в качестве природного -
обычная процедура раннебуржуазного просветительского
мышления (вспомним о нормативном употреблении
понятия "естественное", которое Маркс
противопоставлял позитивно-эмпиристской трактовке "природы" у
представителей исторической школы права). Но я не
знаю другого мыслителя Нового времени, который бы
так прямо, так решительно и безапелляционно
превращал в природное свойство людей само их гражданское
правомочие.
В "Антропологии с прагматической точки зрения"
способность человека "быть господином себе самому"
именуется "характером". Вводя это понятие, Кант сразу
же акцентирует его связь с проблемой общественных
ожиданий, а значит (если говорить юридическим языком)
с проблемой презумпций и юрисдикции: "Человек с
принципами, о котором достоверно известно, чего
можно ожидать не от его инстинкта, а от его воли, имеет
характер"5.
Кант отчетливо ощущает историческую новизну своего
толкования характера, разрыв с традицией, которая
определяла его прежде всего как "совокупность
предполагаемых в человеке природных задатков", или как
"темперамент". Далее автор "Антропологии" достаточно
ясно дает понять, что традиционная трактовка
"характера" принадлежала системе патерналистских и
распорядительных представлений. По своему основному смыслу,
пишет он, "обе первые способности (задатки и
темперамент. - Э.С.) указывают, что можно сделать из
человека". В отличие от этого "новое понятие
характера" указывает, что человек "сам готов сделать из себя"6.
Иметь характер, разъясняет Кант, "значит обладать тем
свойством воли, благодаря которому человек делает для
себя обязательными определенные практические
принципы, которые он собственным разумом предписывает
себе как нечто неизменное. Хотя эти принципы иногда
бывают ложными и ошибочными, все же формальное в
воле вообще, а именно правило поступать согласно
157
твердым принципам „ заключает в себе нечто ценное и
достойное уважения"7. Кант выражается здесь не в духе
центральных деклараций "Основ..." и "Критики
практического разума": он допускает, что даже ложные
принципы (скажем, правило непременного отмщения обиды),
если они выбраны сознательно ("собственным
разумом"), сообщают поведению достоинство автономии и
самодисциплины. Но разумеется (об этом
свидетельствует оговорочное "все же"), Кант, как и прежде, считает,
что надежнейшая и наивысшая форма характера - это
твердая воля человека, который полагает принципы не
только "собственным разумом", но и "сообразно с
ним", т.е. связывает себя универсализируемыми
(истинными) обязательствами.
Далее следует самое существенное и интересное.
"Сказать о человеке просто, что у него характер, - заявляет
Кант, - значит не только сказать о нем очень многое,
но и сказать это многое в похвалу ему**8. Человек с
характером явно возвышен здесь над сонмом других,
слабохарактерных людей и аттестуется как лицо,
достойное одобрения. Но тут же, рядом мы читаем: характер
и это минимум того, чего можно требовать от разумного
человека" 9, это его родовая определенность.
Темпераментом люди обладают наряду с животными, и сами
типы темпераментов у них одинаковы. Однако ничего
подобного характеру в животном мире нет.
Но что такое в этом случае одобряемый нами человек
с сильным характером? - Да просто идеальный тип,
квалифицированный и развитый представитель всего
человеческого рода. То, чем он отличается от нас по
степени, в этом мы сами принципиально отличны от
остальной природы. Об этом неопровержимо
свидетельствует сама наша совесть, которая, как прекрасно
разъяснил Кант в "Критике практического разума",
всегда судит человека как субъекта, обладающего доброй
волей, а потому категорически отказывается зачесть ему
в оправдание какие бы то ни было инстинктивные
импульсы, морально безразличные рефлексы или дурные
158
задатки, сформированные "средой"10. Обладатели
сильного характера наглядно обнаруживают то начало,
которым наделены все без исключения человеческие
существа, и служат укором лишь для непризнания, забвения
или неразвитости этого начала.
Но значит ли это, что понятие бесхарактерного
человека вообще лишается смысла? - Нет, Кант в
"Антропологии" его не оспаривает. Наличие
бесхарактерных людей - факт, горькая истина факта. Люди не
являются бесхарактерными существами и все-таки
оказываются ими.
Действие по зароку и об заклад, собственно говоря,
и отражает это представление о и фактичностип
безволия: готовность понести наказание одновременно
свидетельствует и о том, что человек тверд в своих
намерениях, и о том, что он все-таки допускает безволие,
преступление, нарушение клятвы как событие,
случившееся по его вине. Только будущее, только результат
может показать, чего стоила его вера в себя и
заслуживает ли он наказания ("по делам их узнаете их"). Но
это значит, что решающую роль при присуждении
наказания должна играть событийная реальность
преступления, или, если перевести проблему в юридический
аспект, - его полная и объективная доказанность.
Итак, все люди обладают характером. Такова
фундаментальная антропологическая истина, которая должна
определять наше общее, исходное практическое
отношение к человеку. Вместе с тем бывают люди без характера.
Такова истина факта, которая имеет силу лишь post festum,
лишь в применении к состоявшемуся и уличенному падению
или преступлению.
Учения о человеке, которыми так богат XVIII в., всегда
имели нормативно-презумпциальный смысл. Доказывая,
что люди от природы злы, добры или морально нейтральны
(движимы себялюбием), философы не просто нечто
констатировали: они заявляли постулат, на котором, по их
твердому убеждению, должна основываться вся культура
обращения общества с человеком (вся практика социа-
159
лизации, как сказали бы мы сегодня). Из басен о
"естественном состоянии" всякий раз следовала
мораль, адресуемая "политическому состоянию".
Поскольку же государство и общество в учениях XVIII
столетия, как правило, еще не различались, мораль
эта имела в виду прежде всего государственную власть.
Представление о природе человека мыслилось как
последнее основание для суждений об общей
правомерности властных решений, какой бы сферы жизни они
ни касались.
Кантовская антропология не была в этом смысле
исключением. Какой же критерий общей правомерности
она несла в себе?
1) Постулат "все люди обладают характеромя мог иметь
своим следствием лишь следующее презумпциальное
требование: во всяком обращении государства с
человеческим индивидом последний должен заведомо
предполагаться в значении субъекта, который способен (призван
и готов) к моральной самодисциплине. В искусстве
"властвовать собой" люди, как правило, несовершенны,
однако несовершенство это ими же самими осознается
и осуждается. Оно не дает оснований для
противоположного исходного отношения к человеку - для
понимания его как игрушки спонтанных побуждений, какими бы
понятиями (влечение, вожделение, порок, страсть,
потребность, интерес и т.д.) мы их ни выражали. Критерий
правомерности всех действий государства и общества -
это безоговорочное признание автономии человеческого
индивида. Ни одна норма, противоречащая такому
признанию, не может считаться правовой, хотя бы она и
была безупречна в законодательном смысле. Любое
властное распоряжение должно строиться на исходном
доверии к тому, что человек "сам готов сделать из себя*
(постулат характера). И было бы последовательно, если
бы это исходное доверие было выражено в клятвенной
декларации, которой государство предваряет любые
другие нормативные акты и которая коррелятивна
(дополнительна и встречна) по отношению к внутреннему
160
зароку (присяге, принципу), связующему каждого
человеческого индивида как морально-волевого субъекта.
2) Тезис "люди бывают бесхарактерными"
ориентирован на то, чтобы всякое юридическое суждение о
человеческом поведении было суждением post festum, т.е.
выносилось не раньше, чем безволие (преступление)
стало реальным, объективно доказанным событием.
Лишь по поводу состоявшегося преступления могут
строиться догадки о склонности (влечении, вожделении,
интересе, пороке, страсти и т.д.), которая его
предопределила. Никакие умозаключения от tf задатков и
темперамента1* человека к еще не состоявшемуся, лишь
возможному для него преступлению; никакие концепты
"предпреступных" побуждений и состояний; никакие
попытки устрашающего воздействия на склонность как
таковую неправомерны. Состояние человека, "в котором
он всякий раз может находиться", - это "моральный
образ мыслей в борьбе", - говорил Кант11. Никто не в
праве вмешиваться в эту борьбу и репрессивными
мерами отнимать у человека заслугу победителя. Лишь
после того, как поражение стало фактом, наказание, под
залог которого он сражался, может быть выплачено.
Всякая предубежденность в отношении людей, еще
только подозреваемых в преступлении, должна быть
исключена из действий принуждающей власти.
Эти два основных притязания чистой практической
воли, облеченной в плоть "характера *, были
непосредственно созвучны двум самым масштабным политико-
юридическим событиям кантовской эпохи, а именно: (1)
торжественно-клятвенному декларированию основных
прав человека и гражданина и (2) судебным реформам,
которые (по почину и примеру революционной
Франции) были проведены в конце XVIII - начале XIX вв.
во многих европейских странах и центральной
проблемой которых оказались строго правовые правила
вменения преступлений.
1. Мы до сих пор плохо понимаем, что права человека
(т.е. законодательные гарантии свободы совести, слова,
И Заказ №1663
161
занятий, перемещения, собственности и т.д.) несут в себе
совершенно определенный и единый для них всех
морально-гуманистический смысл. В чем он заключается,
лучше всего пояснить на примере одного из самых
удивительных прав - свобод, провозглашенных еще при
жизни Канта.
В сентябре 1789 г. американский конгресс предложил
законодательным собраниям Штатов статью, где любому
гражданину гарантировалось право "иметь у себя и
носить оружие"12. Статья мотивировалась тем, что
"хорошо организованная милиция необходима для
безопасности свободного государства", но в конституции
Штатов вошла как безусловный, "навечный" принцип,
стоящий выше любых мотивов целесообразности.
В нашей литературе 50-60-х годов было немало
публикаций, где эта статья рассматривалась как своего
рода конституционное потакание американской
преступности. Но при этом всегда забывали сказать о том, сколь
значительным было (да и сегодня остается) ее
благотворное воздействие на нравственность рядового
американца, на его сознание личного достоинства.
Ведь разрешить каждому совершеннолетнему
гражданину носить оружие значило сразу, на деле и самым
внушительным образом продемонстрировать, что
государство ни одного человека не считает заведомо
бесхарактерным и злонамеренным. Это был еще невиданный
в истории акт доверия, одновременно и правовой, и
моральный. Но то же доверие к доброй воле людей (к
их нравственной самозаконности) содержит в себе и
любое другое право человека. Предоставить свободу
совести значит верить, что масса людей не ринется в
"сатанинские секты", не забудет в набожном рвении
своих гражданских обязанностей и не заживет по
формуле "если Бога нет, значит все позволено";
предоставить свободу перемещения - значит не бояться
того, что люди, попавшие за границу, наберутся там
"враждебного духа" и перестанут быть патриотами;
-предоставить право собственности - значит надеяться,
162
что не все кинутся в спекуляцию землями и имуществом,
промотают отцовские наследства или по халатности
пожгут собственные дома, и т.д.
Свобода носить оружие лишь доводит до полной
наглядности момент социального риска, который
содержит в себе всякое право, предоставляемое человеку
безоговорочно и навечно. Поэтому она может служить
своего рода лакмусовой бумажкой и для проверки на
общую юридически-правовую состоятельность тех
представлений о человеке, которые философы XVIII в.
надеялись внушить государству и государям. Давайте
попробуем испытать их на этот индикатор.
К моменту, когда Кант занялся философским
обоснованием права, в Европе существовало по меньшей мере
три влиятельных политически ориентированных
антропологии.
Первая - учение Боссюэ, где человек определялся как
слабовольное, инфантильное, нравственно недоразвитое
существо, которое, однако, наделено разумом, а потому
находится с государством в отношениях своего рода
договорной подневольности. Договор подразумевает, что
лишь под бичом государевым люди избавляются от лжи,
распущенности, порочности и перестают вредить как друг
другу, так и себе самим. Стоит хотя бы на время
выпустить бич из рук, и стадо человеческое разбредется,
сделается добычей самых опасных вожделений и
страстей. Мыслимо ли, чтобы человеку, каким представлял
его Боссюэ, было предоставлено право "иметь и носить
оружие"? Разумеется, нет: он тут же или другого
пристрелит, или сам застрелится.
Вторая влиятельная антропология кантовской эпохи -
это концепция Гельвеция - Гольбаха. Человек трактуется
в ней как существо от природы не доброе и не злое,
подчиненное морально-нейтральному стремлению к
самосохранению и счастью. На добро он отвечает добром,
на зло - злом (по эквиваленту); при хороших
учреждениях становится хорошим, при негодных - дурным.
Поскольку учреждения последних семнадцати веков
163
(послеримские) из рук вон плохи, постольку нынешнее
моральное состояние человека безотрадно. Вменять ему
что-либо в вину, по строгому счету, невозможно ("среда
заела", как говорил Достоевский), но по той же причине
и доверия к себе он в массе своей никак не заслуживает.
Чтобы человек стал достоин доверия и уважения, его
надо исправить с помощью рационально продуманного
государственного воспитания, предполагающего
перестройку всех политических институтов (замечу:
воспитания жесткого, наглядно-наказательного, полностью
отвечающего понятию моральной дрессировки).
До осуществления перестройки человек не только не
надежен, но и социально опасен, вследствие чего, как
это ни печально, государство, по выражению Гольбаха,
обязано обращаться с ним "как укротитель с тигром"13.
Позволительно ли дать право "иметь и носить
оружие" такому, т.е. гельвецианско-гольбаховскому
человеку вообще? Абстрактно говоря, да, но ни в коем случае
не теперь! Это до предела повысило бы его социальную
опасность и дало бы государству повод для установления
диктаторски-деспотического режима. После
перевоспитания - разумеется: но после перевоспитания человек
даже зайца не подстрелит, не уревевшись.
Третье учение о человеке, владевшее умами
просвещенных людей в XVIII столетии, - это сентиментально-
репрессивная доктрина Руссо. Никто прежде не расточал
таких похвал "естественному индивиду", никто так смело
не предицировал ему- врожденную доброту. Но никто с
таким же неистовством не нападал на культуру, на все
исторически известные социальные правила и нормы
(кроме разве что спартанских) и не смотрел с таким
пессимизмом на моральную пригодность наличного
человеческого материала. Люди доведены до состояния,
которое можно сравнить только с радикальной "повреж-
денностью грехом", которую проповедовал позднесред-
невековый католицизм. Одна карающая совесть осталась
в них, и для их нравственного спасения мало
перевоспитания в обычном смысле слова: тут требуется насто-
164
ящая педагогическая терапия. Согласно концепции Руссо,
она должна включить в себя, с одной стороны,
"естественное", как бы вольерное (предельно свободное по
мерке XVIII в.) воспитание детей, с другой - настоящую
духовную диктатуру государства в отношении
совершеннолетних граждан. По руссоистской версии
общественного договора, индивид уступает государству все свои
правомочия, соглашается на граждански-патриотическое
регулирование его религиозных убеждений и на
спартанскую дисциплину14. Это уже не просто рационально-
механистическая модель полицейской государственности,
к которой тяготели Гельвеций и Гольбах, - это
абстрактно-кабинетный набросок того типа власти, который в
XX столетии получит название тоталитаризма.
Так можно ли дать право на ношение оружия человеку,
каким его мыслит Руссо? Ответ в принципе тот же, что
и в случае с концепцией Гельвеция-Гольбаха. Вообще
говоря, да: в иестественном состоянии" человек саблей
бы землю ковырял. Но "здесь и теперь" -
непозволительно, еще более непозволительно, чем для человека,
который от природы ни добр, ни зол.
Антропология Боссюэ, с одной стороны, и учение
Гельвеция, Гольбаха и Руссо - с другой, конечно же
были непримиримы по своей политической ориентации.
Но это не мешало им сходиться в презумпциальном
недоверии к человеку. И Гельвеций, и Гольбах, и Руссо
действительно были мыслителями, которые готовили
революцию во Франции (готовили не потому, что были
по духу революционны, не потому, что смотрели на
насилие как на иповивальную бабку истории", а прежде
всего потому, что считали все дело нравственного
восстановления человека как бы отложенным до времени
коренного преобразования властных отношений)15. Но
несмотря на это - а отчасти и благодаря этому - их
концепции совершенно не подходили для усвоения и
обоснования идеи прав человека.
В качестве одного из участников знаменитой и
Энциклопедии" Гольбах подготовил ряд статей, отмеченных
165
высоким уровнем правопонимания. Но знаменательно,
что они просто растолковывали и аранжировали
принципы Локка. Вообще надо заметить, что правосознание
образованной Франции тамошние просветители
формировали прежде всего именно в качестве
энциклопедистов, т.е. суммируя, обобщая, проясняя и доводя до
публицистической элегантности интеллектуальные
приобретения Англии и Америки. Что касается собственных
оригинальных учений Руссо, Даламбера, Гольбаха и даже
Дидро, то их фундаментальные посылки лишь с помощью
диалектико-софистических хитростей могли быть
увязаны с представлением о том, что всемогущее государство
должно что-то оставлять на произвол индивида. А без
этого представления просто нет выхода к понятию права:
Поэтому я думаю, что не впаду в преувеличение, если
скажу, что к восьмидесятым годам XVIII в. из всех
выдающихся философов континентальной Европы только
Кант располагал этикоантропологической концепцией,
которая могла обеспечить мировоззренческое
обоснование идеи прав человека и ее последующее развертывание
в теорию правового государства. Он, как мы увидим, сделал
серьезное усилие в этом направлении, которое, однако,
не было подхвачено и развито юристами начала XIX в.
Теория правового государства появилась в Германии
лишь через сорок-пятьдесят лет после того, как
прозвучали северо-американская и французская Декларации (она
была обоснована К.Т. Вилькером, К. фон Роттеком и их
радикально-либеральными последователями).
Трансцендентальная этика как бы уже давно ожидала
появления в мире норм такого феномена, как права
человека, она была внутренне приурочена к
философскому узаконению и их формальной всеобщности, и
главное - их основной интенции, которую можно
определить как благородный риск доверия. Кант
прекрасно понимал, что вопрос о смысле прав человека и
вопрос о том, можно ли (не рано ли, не опасно ли)
предоставлять человеку эти права, есть один и тот же
вопрос. В "Религии в пределах только разума" он писал:
166
"Не может считаться хорошим выражение: известный
народ не созрел для свободы. Крепостные помещика
(будто бы) не созрели для свободы, а для свободы веры
не созрели и люди вообще. Но при таких
предположениях свобода никогда и не наступит, ибо для нее нельзя
созревать, если предварительно не ввести людей в
условия свободы (надо быть освобожденными, чтобы
иметь возможность целесообразно пользоваться своими
силами на свободе). Первые проявления свободоволия
могут, конечно, оказаться грубыми и обыкновенно
сопровождаются большими затруднениями и опасностями,
чем те, при которых все стояло еще не только под
приказаниями, но и под попечением других, но
созревают для разума не иначе, как только через свои
собственные попытки...". Отдалять человеческое
освобождение "это значит уже вторгаться в регалии
божества, которое создало человека для свободы. Конечно,
гораздо спокойнее господствовать... чем проводить в
жизнь такое основное начало. Но - справедливее ли?"16.
Это провозглашалось в 1793 г., когда в Германии
поднялась волна панически-охранительных настроений.
Стрела направлялась против своего рода "нового бос-
сюэтизма". Но она попала и в тех, кто готов был
признать "естественного человекап разумным, добрым
или по крайней мере незлонамеренным, однако, "здесь
и теперь*, в наличном "общественном состоянии"
отрицал за ним способность "целесообразно
пользоваться своими силами на свободе". Кант признавал эту
способность безоговорочно - признавал не по
склонности натуры (последнее можно было бы скорее сказать,
например, о Гельвеции), а по велению своего этического
учения.
Категорическому запрету в индивиде должно
соответствовать категорическое разрешение на стороне
государства и общества. Такова необходимая корреляция
норм, предполагаемая идеей признания моральной
автономии. Такова наиболее общая формула для единства
и дополнительности морали и права, как понимал их
167
Кант. Не в том суть, что он с еще небывалой
решительностью развел "совершенные" и
"несовершенные" обязанности, представив первые как "нормы-
рамки", соблюдение которых государство вправе
требовать с каждого, а вторые как " нормы-цели", выбор и
осуществление которых должны быть предоставлены
совести людей. Суть в том, что Кант сами запреты отнес
к кодексу самозаконности. Из этого с неизбежностью
следовало, что государство (а) не в праве издавать
каких-либо законов, которые противоречили бы
независимо от него существующему сознанию "запретного по
разуму" и (б) обязано предварить все свои запрещения
безусловным дозволением основных
граждански-человеческих свобод. Строгости запретов должна
соответствовать терпимость в отношении целей. Но этого мало:
автономии в морали должны соответствовать права
человека в конституциях. Как юридический концепт они
коррелятивны самому понятию категорического
императива.
2. Права-свободы - новая по типу всеобщая
социальная норма, а именно - разрешительная. Она
противостоит общему запретительному духу традиционного
абсолютистского законодательства. Но чтобы права-свободы
не остались "пустыми декларациями", они требуют еще
одного нового типа норм, который можно назвать
правами-гарантиями. Выразительным примером таких
прав были принципы и правила справедливого
судопроизводства, провозглашенные в ходе судебной реформы,
проводившейся во Франции в 1791 г. Три из них
обращают на себя особое внимание:
(1) "каждый считается невиновным, пока его
виновность не доказана" (из этого вытекает (а) запрещение
ареста без объявления его причины и (б) отказ от
обвинительного по своему характеру судебного
разбирательства);
(2) "никто не должен преследоваться за свои мнения,
если из них не вытекает действие, нарушающее
публичный порядок" (впоследствии из этого запрета разовьется
168
концепция так называемого "субъективного вменения",
или вменения только поступка в его отличии от
нереализованного мотива, с одной стороны, и от чисто
физической ("безмотивной") причастности к
причинению ущерба - с другой);
(3) "проступок может считаться преступлением и
преследоваться в уголовном порядке лишь после того,
как он объявлен наказуемым"1'.
Достаточно очевидно, что эти правила продиктованы
одним и тем же гуманистическим устремлением: сделать
все возможное, чтобы карательная репрессия не
обрушилась на невиновного. Однако обосновать их перед
лицом обычного нравственного сознания и представить
как расчлененную интенциональную целостность - дело
совсем непростое. Из философских учений конца XVIII в.
для ее решения опять-таки более всего подходила кантов-
ская этика, которая определяла обычное состояние человека
как "моральный образ мысли в борьбе" и делала акцент
на фактичности преступления.
Индивид, в котором борьба долга и склонности
достигла высокого напряжения, может вызывать много
подозрений у инстанций, которые расследуют
преступления или заботятся об их предотвращении. Но
одновременно, как я уже пытался показать, сама структура
этой борьбы категорически исключает заведомую
подозрительность. Если все люди без исключения признаются
моральными субъектами, всегда уже живущими как бы
под залог наказания, то надо признать и то, что
преступления, сколь бы часто они ни случались в
действительности, являются событием, которое для
человека крайне мало вероятно. Поэтому факт
преступления обязательно должен устанавливаться (здесь
недостаточно критериев правдоподобия), а причастность к
преступлению - фиксироваться безлично-объективным
способом (например, независимо от так называемых
"признательных показаний").
Этот безлично-объективный способ восприятия
человеческого поведения, специфичный для развитого права
169
и правосознания, Кант обозначает понятием
"легальное", которое породило в дальнейшем немало
недоразумений. Повод для них дал сам создатель
трансцендентальной этики, поскольку во многих случаях разделял на
"моральные" и "легальные" людские деяния как
таковые. Между тем речь всюду должна была бы идти о
своеобразии юридической оценки поступков,
закрепляемом в культуре с помощью основных постулатов
процессуального права.
Цивилизованное правосудие интересуется только
фактическим - Кант предпочитает говорить: "чисто внешним", -
соответствием или несоответствием тому, что объявлено в
законе. Ему, по строгому счету, просто нет дела до
нашего "сокровенного Я": до тайных желаний,
настроений, нереализованных помыслов. "Помимо своих
действий, - писал Маркс (и это одно из лучших
рациональных разъяснений кантовского понятия "легальное"), - я
совершенно не существую для закона, совершенно не
являюсь его объектом. Мои действия - это единственная
область, где я сталкиваюсь с законом"178.
Легальное безразличие правосудия к еще не
воплощенным субъективным предрасположениям человека
вовсе не является плодом "юридического бездушия", о
котором так любят рассуждать романтические критики
права. Как раз напротив, в этом безразличии выражает
себя юридический гуманизм, а именно - то же самое
безусловное предварительное доверие к каждому члену
общества, которое лежит в основе декларируемых прав
человека.
Нравственный гуманизм часто выражает себя как вера
в изначально добрую природу людей. Гуманизм
юридический - это доверие не к природе, а к основному
личностному измерению человека - к его воле,
понимаемой как способность самоконтроля и
самодисциплины. Правовая оценка поступка позволяет допустить, что
по природе своей люди несовершенны, что у них есть
масса дурных склонностей. Вместе с тем она
категорически запрещает заведомо предполагать, будто тот или
170
иной индивид настолько личностно неразвит, что не
может противостоять своим склонностям. Никакая, даже
самая худшая " природап не предетерминирует
преступного деяния. Поэтому никто не вправе прорицать
преступления и на этом основании подвергать людей
наказанию. Юридический гуманизм выражает себя, таким
образом, прежде всего как антифатализм, как признание
за каждой личностью неустранимой свободы воли. Правовая
оценка поведения предполагает такое признание в
качестве своего рода аксиомы, которую нельзя ни
элиминировать, ни вывести из каких-либо иных, более
простых допущений.
Этот принципиальный аксиоматический антифатализм,
принадлежащий к самым глубоким измерениям кантовской
моральной метафизики, надо постоянно иметь в виду,
чтобы не запутаться в многозначности понятия
легальности, которое занимает центральное место в двух
поздних и важнейших философе ко-правовых сочинениях
Канта. Ими являются уже известное нам эссе аО
поговорке ..." и "Метафизические начала учения о
праве" (первая часть "Метафизики нравов"),
опубликованные в 1797 г.
Анализ общего содержания этих исключительно
многоплановых кантов с к их работ не входит в мою задачу.
Ограничусь рассмотрением того, как трансформируется
и развивается в них тема взаимозависимости морали и
права.
2. "Категорический императив права".
Право и принуждение
В тексте статьи "О поговорке...п впервые появляется на
свет следующая формула Канта: и Право есть ограничение
свободы каждого условием согласия ее с такой же свободой
каждого другого, насколько это возможно по всеобщему
закону"18. Это один из великих девизов классической
философии права, и если бы меня попросили привести одно и
только одно высказывание, выражающее общий смысл ци-
171
вилизованного новоевропейского правопонимания, я
привел бы именно эти слова.
Как же родился великий девиз? Какими путями
пришел к нему родоначальник немецкой философской
классики?
Сам Кант всегда настаивал на том, что его формула
(трансцендентальное определение права) представляет
собой производную от понятия категорического
императива, хотя нигде не рассказывал о способе ее
выведения19. Каким мог бы быть этот способ, мы в состоянии
представить себе, если прибегнем к помощи модальной
логики.
Обратимся к приему, подобному тем, которые
применил в анализе категорического императива шведский
исследователь М. Моритц20.
"Стандартная формула" категорического императива
(1) может быть предельно формализована и тогда будет
звучать следующим образом: "Поступай
универсализируемо!" или "Совершай только универсализируемые
поступки!" Поскольку же с модально-логической точки
зрения все максимы поступков следует разделить на
запреты, требования и дозволения, то " стандартная"
формула поддается переводу в следующие нормативные
высказывания:
1. Запрети себе все то, что ты склонен запретить
другим.
2. Требуй с себя (и прежде всего с себя) все то, что
ты считаешь возможным требовать с других21.
3. Разреши другим все то, что ты разрешаешь себе.
Вот последнее-то высказывание (разрешительная
транскрипция требования "Поступай универсализируемо")
и есть не что иное, как кантовское трансцендентальное
определение права. Здесь, как нетрудно убедиться, уже
содержится идея непременно допускаемой мною свободы
всякого другого, которая равна моей свободе и с которой
я должен сообразовать свои произвольные действия. То,
что идея эта высказана не дефинитивно, а императивно,
делу не мешает: в "Метафизике нравов" Кант сам
172
переведет трансцендентальное определение права в
повелительное наклонение^ Мы читаем здесь: "Итак,
всеобщий правовой закон гласит, поступай только так,
чтобы свободное проявление твоего произвола было
совместимо со свободой каждого по всеобщему
закону..."22. Таков "категорический императив права". Для
всякого цивилизованного человека (для
"трансцендентального сознания вообще") он так же внутренне
принудителен, так же независим от любых привходящих
обстоятельств, как и чисто моральные обязанности.
Понятие права, подчеркивает Кант, "не имеет ничего
общего ни с целью, которую люди естественным образом
имеют (с видами на счастье), ни с предписаниями
относительно средств достижения этой цели; так что ...
последняя ни в коем случае не должна вмешиваться в
указанный закон и качестве определяющего его
основания"23. Но если так, то и действие в духе права должно
быть столь же беззаветным, столь же ригористичным,
как и моральный поступок. Вспомним замечательное
рассуждение из лекций 1780-1782 гг.: закон,
охраняющий мое право на получение честно заработанных двух
гульденов, ценнее ста тысяч гульденов, а раз так, то я
при всяких обстоятельствах должен бороться за
получение моих двух гульденов с той неумолимостью, которой
заслуживали бы сто тысяч. Или: всякий, использующий
свои права, обязан делать это с принципиальностью и
энергией правозащитника.
В "Метафизике нравов" акцентируется, однако, иной
существенный мотив. Провозгласив "категорический
императив права", Кант тут же добавляет: "этот
правовой закон, хотя и налагает на меня обязательность, вовсе
не ожидает и еще в меньшей степени требует, чтобы я
ради одной только этой обязанности ограничил свою
свободу ,.."24. И далее: иСтрогим правом (правом в
узком смысле слова) можно, следовательно, назвать
лишь совершенно внешнее право. Оно основывается,
правда, на осознании обязательности каждого по закону,
но ... не должно и не может ссылаться на это осознание
173
как на мотив, поэтому оно опирается на принцип
возможности внешнего принуждения". И наконец:
"...право и правомочие принуждать означают одно и то
же**5.
Попробую по возможности просто объяснить, о чем
идет речь (текст §§ Д-Е из Введения к учению о праве,
где содержатся только что процитированные
формулировки, один из самых темных в кантовском наследии).
, При определении достоинства нравственного поступка
мы вправе требовать, чтобы он был не только хорошим,
но еще и совершенно бескорыстным (т.е. поступком
абез всяких задних мыслей", без всякой оглядки на
приманки и наказания).
При исполнении правовых требований такой способ
действий тоже не может не цениться. Однако с более
широкой точки зрения он как бы избыточен.
Правомерным может считаться всякое поведение, которое хотя бы
внешне (или, как говорит Кант, "легально")
сообразуется с существующими законами, мотив же уважения к
праву не имеет значения. Но этого мало. Поскольку
объявленные правовые требования всегда
сопровождаются угрозами принуждения, то страх перед
принуждением или надежда обратить его против того, кто
нарушает закон мне во вред, сами становятся
сильнейшими мотивами поступка. Или, как это выражает один
из современных западногерманских кантоведов: "Суть
юридического законодательства заключается не в
требовании легальности как таковом ... юридическое
законодательство не есть уполовиненное этическое
законодательство. Дело во внешнем мотиве принуждения"26.
Оптимально правомерным окажется поэтому поведение
такого человека, который просто хорошо слышит
карательную угрозу и хорошо видит, в каких случаях ее
можно применить против своего соперника или
обидчика. Но тогда правовые требования, сколько бы
безусловности они в себе ни содержали, есть лишь своего
рода технические инструкции для реализации
индивидуального "правомочия на принуждение".
174
Этот мотив "Метафизики нравов" поразил и
обескуражил многих вчерашних поклонников
трансцендентальной этики. И их нетрудно было понять. В самом деле,
разве по критерию правомерности Кант не
санкционирует той самой гетерономии, на безоговорочном
отвержении которой покоилось все его моральное учение?
Разве его понятие "легальности" не ведет к тому, что
любое юридическое требование, да и сам "основной
закон права", превращается в гипотетический
императив, обеспечивающий приспособление к принуждающей
власти?27. И не шутка ли все кантовские намеки на
этическую дедукцию этого "основного закона"? Ведь он
может быть обоснован просто по модели
просветительского натурализма, когда сходятся два морально
нейтральных "естественных индивида" и договариваются об
обоюдоудобном для них практическом правиле, для
карательно-полицейского поддержания которого
утверждается затем "разумное государство".
Это предположение нетрудно было подтвердить
текстуально. В "Метафизике нравов" наметилась явная
тенденция к тому, чтобы равенство в свободе, имеющее
в виду каждого в смысле всех (таков непосредственный
и буквальный смысл "основного закона права" в тексте
статьи "О поговорке..."), толковать как эквивалентное
отношение между любыми двумя членами общества.
Отсюда "аналогия между правоотношениями и
динамическими природными системами "2* (ссылки на закон
равенства действия и противодействия, на отношения
взаимопринуждения, на взаимообращаемость насилия и
тд.)29.
В итоге и поклонники и критики Канта все чаще
высказывали подозрение, что "его и право, и этику
охватывающая система страдает непреодолимым
противоречием"^. Подозрение было основательным и
все-таки неверным: в прямое противоречие с ранее
отстаивавшимися принципами Кант не вступал. Он просто
недостаточно ясно формулировал ограничительные
условия, при которых его идеи "легальности", "внешнего
175
принуждения" и uэквивалентных отношений" между
равносвободными индивидами получали точный смысл.
В самом общем виде эти ограничительные условия могут
быть обрисованы так: "легальное" исполнение закона
является достаточным критерием правомерности
поведения, только если сам этот закон строго правовой;
ориентация на "внешнее принуждение" морально
допустима, только если это принуждение юридически
лимитировано; межличные правоотношения на деле
возможны лишь при наличии правового порядка (в
"естественном состоянии" они фиктивны, в условиях деспотизма -
случайны или деформированы).
В "Метафизике нравов" (это показательно) нет ни
одного текста, который позволял бы утверждать, что под
"правомочием на принуждение" Кант прямо и
непосредственно подразумевает право силы, которое один
индивид при известных обстоятельствах имеет по отношению
к другому индивиду. Как и во всем
"государственно-философском контрактуализме" XVII-XV1II вв., понятие
"правомочие на принуждение" предполагает здесь
возможность обратиться к власти и привлечь ее силу для
защиты своего интереса. При этом, однако, сразу
бросается в глаза следующее существенное различие.
Традиционный контрактуализм имел в виду петиционное
(просительное) обращение к милости господина. У Канта
же речь идет об апелляции, рассмотрение и
удовлетворение которой является непременной обязанностью
власти. При этом неявно предполагается по крайней мере три
обстоятельства: (а) индивид обращается не к
принуждающей инстанции непосредственно, а к правосудию,
которое должно объективно оценить характер его
конфликта с другим индивидом, установить правого и
неправого и, если неправота обременена еще и
преступной виной, определить наказание; (б) наказание должно
быть соразмерно (равновесно) преступлению; (в)
принуждение государства может быть только исполнением
наказания, вынесенного судом. Правосудие опосредует
отношения индивида, который имеет "правомочие на
176
принуждение", и государства, которое является
единственным обладателем самой принуждающей силы. Но
чему подчиняются действия правосудия? Да разумеется
же, "основному закону права", т.е. принципу
"ограничения свободы каждого условием ее согласия с такой
же свободой каждого другого*. Очевидно также, что для
правосудия этот закон может иметь значение только
категорического императива. Но раз так, то он
категорически обязателен и для государства.
В параграфах Д-Е во Введении к учению о праве первой
части "Метафизики нравов" категорически-императивное
и гипотетически-императивное исполнение "основного
закона права" (или, говоря проще, моральное служение
этому закону и чисто легальное его соблюдение)
представлены как две рядоположенные возможности, имеющие в
виду одного и того же абстрактного субъекта. Однако более
широкий контекст философско-правовых рассуждений
Канта обнаруживает, что гипотетико-императивное
отношение к "основному закону права" со стороны частных
индивидов возможно лишь при том условии, что закон
этот уже стал категорическим императивом для
принуждающей власти. Если действия последней авторитарны и
произвольны, то всякая прагматическая стратегия,
направленная на избежание внешнего принуждения, становится
зыбкой, а "правомочия на принуждение" вообще
оказываются призрачными. Не менее существенно и другое:
только в том случае, когда принуждающая власть
категорически подчиняется "основному закону права", попытки
использовать свое "правомочие на принуждение"
становятся морально приемлемыми актами.
Представим себе некоего Петра, который бежит к
своему деспотически произвольному господину и
говорит ему: "Государь, я всегда жил в соответствии с
законами, которые ты нам даешь, и чувствовал страх
перед карами, коими ты грозишь. А вот Иван не таков.
Он, как я твердо уверен, ограбил мой дом. Приди на
помощь, отними у Ивана то, что он присвоил, и, если
будешь милостив, верни мне. А еще - накажи Ивана
7а12 Зак.1653
177
так, как я сам наказал бы его, если бы имел достаточно
силы и не был твоим смиренным подданным".
Здесь все морально сомнительно, все проникнуто
духом петиционного эгоизма. Нравственно ли объявлять
человека вором в силу одной только субъективной
уверенности? Нравственно ли просить о возвращении
награбленного, не будучи уверенным, что государь его
не конфискует? Нравственно ли мечтать о расправе и
видеть в своем господине исполнителя этой мечты?
Представим теперь другого Петра, который имеет
счастливую возможность подать в суд заявление об
ограблении, не высказывая при этом никаких догадок и
твердо надеясь, что дело будет объективно расследовано,
а виновный получит наказание, причитающееся ему по
закону.
Никаких подозрений в эгоизме поведение этого Петра
не вызывает, не дает оно оснований и для того, чтобы
ставить Петра перед вопросом, приемлемо ли
принуждение для него лично как для нравственного человека.
Между тем "правомочие на принуждение" успешно
реализуется.
Тема обоюдостороннего, "динамически равновесного"
принуждения, выдвинувшаяся на передний план
"Метафизики нравов", заслоняет более широкое проблемно-
тематическое поле, внутри которого находится эта работа
и которое ясно обозначено в статье "О поговорке ...".
Вспомним, что ее центральный персонаж - это
авторитарно-патерналистская государственность. Вспомним и о
том, что фундаментальны человеческая ситуация,
которую Кант-этик имеет в виду уже с самого начала, с
момента написания фрагмента "О свободе" в
«Приложении к и Наблюдениям над чувством прекрасного и
возвышенного"», - это существование индивида перед
лицом общества и государства, которые тяготеют к его
порабощению и утилизации. Любые отношения людей
как частных лиц развертываются в присутствии
государства как властного надындивидуального субъекта и не
могут стать равновесными (равносвободными и равно-
178
принудительными), покуда не существует прочного
нормативного заслона, ограждающего от его покушений на
их личную независимость.
Это общее восприятие Кантом
социально-политического мира надо иметь в виду при чтении и толковании
любого конкретного рассуждения, которое мы встречаем
на страницах иМетафизики нравов".
Но не вступаем ли мы на путь тенденциозных натяжек?
Может быть, в 1797 г. Кант просто отказался от
подобного взгляда на вещи? Может быть, задача
нормативного ограничения авторитарной, патерналистской,
утилизаторской государственности перестала его
интересовать?
Нет, это не так. В тексте "Метафизики нравов" есть
удивительное место, свидетельствующее о том, что
основные установки фрагмента "О свободе" и эссе ttO
поговорке ..." продолжали определять все узкоправовед-
ческие интересы Канта. Вот как оно звучит: "Под благом
государства подразумевается не благополучие граждан и
их счастье - ведь счастье (как утверждает и Руссо) может
в конце концов оказаться гораздо более приятным и
желанным в естественном состоянии или даже при
деспотическом правлении; под благом государства
подразумевается высшая степень согласованности
государственного устройства с правовыми принципами,
стремиться к которой обязывает нас разум через некий
категорический императив" *1.
Совершенно очевидно, что Кант говорит здесь о
икатегорическом императиве права", что он (об этом
было много споров) признает данное понятие, хотя и в
совершенно специфическом проблемном контексте.
"Основной закон права" является "категорическим
императивом права", поскольку речь идет об обязанностях
власти и о проблеме обеспечения "блага государства".
Совершенно очевидно, далее, что в категорическом
подчинении власти "основному закону права" Кант
по-прежнему видит прежде всего антидеспотическую
меру (еще точнее: меру против деспотического осчаст-
11*
179
ливливания подданных их господином). Именно эта
функция "основного закона" должна стоять на переднем
плане самого трансцендентального сознания. Человек
как моральный субъект сперва призван обеспокоиться
тем, чтобы государственное принуждение не переступало
через правило "свобода каждого, ограниченная лишь
условием ее согласия со свободой каждого другого", и
лишь затем трактовать это правило в качестве
определения своих собственных "правомочий на
принуждение**. Все люди "через их разум" обязаны заботиться
об утверждении в обществе правового порядка: такова
норма их активного правосознания. Лишь реализуя эту
норму, они получают моральное право на то, чтобы
пользоваться существующими законами "легально", в
видах своего интереса или благополучия. Только что
процитированный отрывок из "Метафизики нравов" -
отголосок напряженных размышлений о природе
государства и государственного принуждения.
С середины девяностых годов Кант все более
склонялся к мысли, что историческое государство (т.е. тот
реальный государственный порядок, который мы застаем
в качестве факта) невозможно считать результатом
разумного договора.
Если в его основе лежат какие-то соглашения, то
совершенно непроясненные и сомнительные в
моральном отношении. Этот полустихийный политический
организм несет в себе поэтому совершенно чудовищные
притязания на господство и репрессию. Достаточно
взглянуть на существующие внешнеполитические
отношения, и каждый увидит "совершенно противоречащие
публичным заверениям и никогда не оставляемые
принципы величайших обществ, называемых государствами, -
принципы, которые ни один философ не мог еще
согласовать с моралью"32. Находясь в состоянии
непрекращающейся войны с соседями, "каждое
государство... стремится стать универсальной монархией, таким
строем, при котором должна быть уничтожена всякая
свобода, а вместе с ней (как ее следствие) добродетель,
180
вкус и наука". В перспективе это грозит политическим
состоянием, "в котором законы (не только строго
правовые, но любые законы! - Э.С.) теряют свою
силу*33.
Это писалось в очерке "Об изначальном зле в
человеческой природе", вошедшем затем в состав
"Религии в пределах только разума". Но и в лекциях,
читанных в 1793-1794 гг., и в рукописных фрагментах,
непосредственно предварявших "Метафизику нравов",
Кант высказывает не менее жестокие и горькие мысли.
Вот как звучит одно из рассуждений Канта-лектора в
записи К. Вигелиуса. "Если взять людей в естественном
состоянии, то они суть ex leges , не пребывают ни в
каком правовом состоянии, не имеют никакого закона
и никакой внешней власти, которая держала бы их в
праве ... Наконец, должен появиться Один, который
утверждает верховную власть и имеет намерение
учредить всеобщее правовое уложение, но лишь ради
организации своего господства. Он делает это, не
обладая никаким правом определять, чем должны быть
право и закон. Исходным пунктом, таким образом,
оказывается произвол, насилие предшествует праву,
вместо того, чтобы служить ему"34.
Такова картина генезиса абсолютизма как "грубой,
примитивной государственности", внутри которой
просто невозможно "юридически обустроитьсяп на началах
взаимопризнания и взаимопринудительности.
Какие же надежды остаются морально развитому
человеку перед лицом этого древнего и повсеместно
встречающегося политического монстра?
Смириться с ним он не может. Но он не вправе также
уповать на то, что подобная система принуждения в один
прекрасный день просто исчезнет из жизни, а на ее
месте учредится общественный порядок, покоящийся на
одном только убеждении. Это этически мыслимо, но это
было бы моральным прекраснодушием. Неутопичен лишь
* Вне закона (лат.) — ред.
181
компромисс, а именно - проект нормативного
ограничения стихийно развившейся государственной
репрессии, смысл которого подсказывается самим генезисом
абсолютизма. Если исторически "насилие
предшествовало праву, вместо того, чтобы служить ему", то
насущная задача заключается в том, чтобы обратить
насилие (принуждение государства) на защиту права и
сохранить его лишь в том объеме, который необходим
для такой защиты.
Это же решение вытекает и из принципиальных
выводов кантовского этического учения, в частности, из
рассматривавшейся мною в предыдущем параграфе
присягательно-закладной концепции преступления.
Наиболее общее и фундаментальное отношение Канта
к проблеме принуждения может быть, мне кажется,
представлено следующим образом.
Принуждение (причем огромное и все возрастающее
принуждение) есть просто эмпирическая реальность,
горький, никак не легитимированный факт, который мы,
как моральные существа, застаем в окружающем мире.
Факт этот, по строгому счету, невозможно ни признать,
ни полностью отвергнуть.
В самом деле, человек как морально автономное
существо имеет силу самопринуждения и верит в это
усилие своей доброй воли. Поэтому он категорически
не приемлет никакого внешнего принуждения.
Такова одна сторона проблемы. Но есть, как мы уже
знаем, и другая. Человек верит в силу своей воли, но
это именно вера, а не уверенность. Он не может
отрицать, что преступление все-таки остается вероятным
для него событием. И если последнее случится, он
заслуживает принудительного и насильственного
отношения к себе со стороны общества. Принуждение для
трансцендентального морального субъекта - то же, что
смерть для Эпикура: "Пока я есть, ее нет; когда она
есть, меня нет". Но как нельзя на этом основании
отрицать право смерти, так нельзя отвергнуть и право
внешнего принуждения.
182
Каков же выход из этой антитетики, предполагаемой
понятием веры в добрую волю?
Выход в принципиальном компромиссе: в признании
только такого внешнего (государственного)
принуждения, которое постигает индивида строго экзекупшено.
Или: единственно правомерной формой
государственного принуждения является наказание, которое налагается
судом на автономного, лично независимого субъекта,
уличенного в преступлении.
Сегодня трудно себе представить, какую колоссальную
лимитирующую силу содержало в себе это, казалось бы,
совершенно банальное понятие правомерного
принуждения.
Дело в том, что основная масса абсолютистской
государственной репрессии обрушивалась на людей
XVII-XVIII столетий вовсе не в форме заслуженных ими
наказаний.
Во-первых, огромный объем государственного
принуждения затрачивался просто на то, чтобы приводить
подданных в подневольное состояние и держать их в
этом состоянии. Эта практика оформлялась, конечно, и
с помощью законов, но последние не имели правового
смысла, поскольку делали наказуемым всякое несогласие
человека с совершенно произвольно назначенной ему
участью. Они конституировали квазиэкзекутивное
принуждение, надстраивавшееся над внеэкономическим
принуждением.
Во-вторых, абсолютистская государственная репрессия
в значительной своей части использовалась для
принуждения человека к "добру, благонамеренности и
совершенствованию". Она толкала подданных в русло
предписанных занятий, стандартов благоразумия, образцов
благочестия и этикета.
В-третьих, репрессия эта, даже в уголовно-правовых
формах, сплошь и рядом представляла собой не
наказание, а острастку, т.е. направлялась не столько против
уже уличенных, сколько против еще только возможных
и ожидаемых преступлений. Предкантовское время (ко-
183
нец XVII-XV1II в.) весьма щедро на "упреждающие"
карательные кампании, целью которых было просто
запугивание предполагаемых правонарушителей.
Устроители этих кампаний не останавливались и перед прямой
юридической фабрикацией преступлений.
Все эти виды абсолютистской государственной
репрессии категорически отвергаются кантовским строго экзе-
кутивным пониманием принуждения.
Совершенно прав один из лучших исследователей
"Метафизики нравов" В. Керстинг, когда подчеркивает,
что в этом произведении (1) строго правовое
законодательство отличается от всякого иного по той чистоте,
с которой оно проводит "принцип экзекуции", и (2)
Кант обсуждает здесь не проблему "морального
оправдания принуждения", как это обычно принято думать, а
вопрос о морально приемлемых "условиях возможности
принуждения " 35.
При этом, правда, остаются не вполне проясненными
следующие два обстоятельства.
Во-первых, то, что "принцип экзекуции" теснейшим
образом связан у Канта с этическим понятием
преступления, а потому морально обоснован. Принуждение не
может быть наказанием, если не предполагается
поступка, обремененного виной. Как выражается сам Керстинг:
"Rechtspflichten sind Schuldigkeiten" ("правовые
обязанности это провинности ")36.
Во-вторых, то, что вопрос о морально приемлемых
"условиях возможности принуждения" сразу перерастает
у Канта в вопрос о юридических границах принуждения.
Когда он говорит совсем простые слова: "наказание
лишь потому должно налагаться на преступника, что он
совершил преступление", - и, разъясняя их,
подчеркивает, что "наказание по суду... никогда не может быть для
самого преступника или для гражданского общества
вообще средством содействия какому-то другому
благу" ^t - то этим выносится приговор всей практике
государственных репрессий по мотивам исправления,
превенции, политической целесообразности, морального
184
оздоровления общества, и т.д., и т.д. Кант выступает за
уголовный закон, который своими угрозами
ограничивает произвол частного индивида, но еще раньше и в
еще большей мере ограничивает карательную экспансию
самого государства. Но такой же смысл имеет и
"основной закон правап. Он, конечно, лимитирует
индивидуальное своеволие, но делает это лишь потому,
что еще прежде обуздывает деспотическое своеволие
правителей. Государство не вправе издать ни одного
указного акта, который противоречил бы принципу
"свобода каждого ограничивается лишь условием ее
согласия со свободой каждого другогоп. Государство
подзаконно этому принципу.
Но если так, то что такое вся кантовская теория
принуждения, как не идея верховенства закона,
высказанная на языке и в традиции немецкого
"государственно-философского контрактуализма"? Что это, как не
предвосхищение концепции правового государства, но
только основывающееся на идее принципиально
недеспотической абсолютной власти, которая ни с кем не
делит своих полномочий, но однако же сама
ограничивает их и притом категорическим образом?
У Канта нет понятия правового государства, но есть
целый комплекс его предпосылок. Вспоминая слова
Шеллинга, которые были приведены во введении к этой
книге, можно утверждать следующее. Понятие правового
государства - это не то, что Кант высказал; это даже не
то, что он хотел высказать. Но это именно то, что он
"должен был хотеть, поскольку в его идеях была
внутренняя связь".
Заключение
Этика Канта (в этом разгадка ее эпохальности)
представляет собой развернутую антитезу тех представлений о
правильном, сдобряемом, разумном поведении, которые
культивировали застойные и умирающие
феодально-абсолютистские режимы. Она является также своеобразной
программой самообороны, "нормативной самозащиты* от
экспансии абсолютистского государства —
предостережением против его "моральных ловушек ".Яснее, чем
кто-либо из мыслителей XVIII в., Кант понимает, что индивид не
может противостоять абсолютистскому Левиафану на
почве себялюбия, самосохранения, эгоизма, склонности и
пользы; что даже элементарная независимость в условиях
"централизованного и концентрированного насилия" (К.
Маркс) посильна лишь для субъекта долга, призвания,
принципа, самопринуждения. Только в этой форме (только
благодаря ригоризму как личностному качеству) может
стать победоносным и сам "частный интерес", в одних
случаях подавляемый, в других утилизуемый
феодально-абсолютистской системой. Нарождающийся раннебуржуаз-
ный индивидуализм способен противостоять
господствующему (весьма и весьма расчетливому,
утилитарно-гедонистическому) позднефеодальному эгоизму
только через автономию, т.е. через непрерывно
осуществляемое усилие самозаконности и подведение своих
поступков под самостоятельно выбранное всеобщее правило.
Кант (и в этом несомненное достоинство его этики)
противопоставляет агенту видимого государства не просто
частного индивида, но члена невидимого правового порядка,
своего рода "ноуменальной республики", аналогичной
невидимой церкви реформаторов. Трансцендентальное
гражданство против эмпирически реального подданства,
186
трансцендентальный конституционализм против наличной
неограниченной власти — таковы оппозиции, заложенные
где-то в самом фундаменте кантовского этического учения.
Пафос права присутствует в нем еще до всякого построения
особой философско-правовой конструкции. Более того,
он, этот пафос, порой чище и энергичнее представлен в
формулах моральной рефлексии, чем в специальных
рассуждениях Канта о собственности, правах домашнего
сообщества или лично-вещном праве.
Примечательная особенность трансцендентальной
практической философии — это, далее, утверждение
необходимой соотнесенности морали и права, их
глубокой внутренней корреляции.\>|ожно сказать, что
у Канта мораль и право выступают как взаимно
предполагающие и взаимно запрашивающие друг
друга: моральность индивида с самого начала имеет
смысл правоспособности (полной внутренней приуго-
товленности к ответственному отправлению
гражданских свобод), право же (в той мере, в какой оно
является "истинным", или, как предпочитал
выражаться Кант, "строгим правом") означает прежде всего
признание публичной властью нравственной
самостоятельности подданных и отказ от патерналистской
опеки над ними.
Более конкретное представление о единстве морали
и права можно получить, если сопоставить формулу
иосновного закона права" с тремя формулами
морального законодательства, т.е. категорического императива.
Требование "никогда не относись к другому только
как к средству, но еще и как к цели в себе" прямо
подразумевается иосновным законом права". Это одна
и та же установка, которая делает индивида моральным,
а государство правовым. По этой формуле мораль и
право безоговорочно едины.
иСтандартная формула" категорического императива
и "основной закон права" представляют собой, как мы
видели, запретительную и разрешительную версию
одного и того же нормативного формализма. По этой
187
формуле мораль и право соотносительно
противоположны.
Наконец, формула автономии неявным образом
признается в "основном законе права**: здесь налицо
отношение необходимой дополнительности.
Этические понятия Канта глубоко проникают в
проблематику мировоззренческого обоснования правовых
норм и обеспечивают надежную защиту от любых версий
юридического позитивизма. Вместе с тем было бы
неправильно утверждать (и Кант вовсе на это не
претендовал), будто моральное обоснование права
охватывает всю юридическую проблематику. В и Метафизике
нравов" Кант наталкивается на реальность простейших
правоотношений, на феномен эквивалентности,
"равновесности *, известный практике правового регулирования
конфликтов с самых древних времен. И в заслугу ему
как аналитику правового сознания надо поставить то,
что он в общем-то достаточно ясно видит внеэтичность
данного феномена. "Равновесность" понимается им
скорее как правило чистого разума, привлеченного к
решению пруденциальных проблем, а не как принцип
разума практического. Одновременно Кант догадывается
о том, что правоотношения могут получить развитие и
достигнуть чистоты лишь при наличии правового
порядка. Последний же поддается достаточно убедительному
моральному обоснованию.
Этика Канта — плохая помощница, когда речь идет о
конкретной разработке законодательств и о так
называемых догматико-казуистических проблемах (это
юридическое выражение не следует путать с
общеупотребительным, расхожим смыслом слов
"догматизм" и иказуистикап). Вместе с тем она,
трансцендентальная этика, обладает поразительной мощью при
проектировании и обосновании идеалов правосознания.
Для наших дней это так же справедливо, как и для конца
XVIII столетия.
Завершая эту книгу, я пришел к предположению,
которое даже в форме намека, смутной догадки не
188
приходило мне в голову при начале работы. Я
высказываю его не без страха, и состоит оно в следующем:
не является ли этика Канта в значительной своей части
(и прежде всего как учение о категорическом
императиве) вовсе не этикой, не аналитикой нравственности,
а полноценной теорией правосознания!
Книги привычно заключать скромной и сдержанной
оценкой достигнутых исследовательских результатов.
Свою я заключаю вопросом и кратким пояснением
вопроса.
Правосознание — одно из сложнейших понятий
юридической теории, и я не могу отослать к работе, где
содержалась бы его удачная дефиниция. Совершенно
ясно, однако, что правосознание — это не просто
отражение в индивидуальном сознании духа и характера
уже действующих в обществе законов. У правосознания
"активный темперамент*, и всего адекватнее оно
обнаруживает себя именно тогда, когда критикует и
корректирует действующие законы с позиций идеальной
справедливости, которая приобрела непреложное
значение для достаточно большой массы людей. .
Понятие правового государства, наконец-то
получившее безоговорочное признание в нашей юридической
литературе, позволяет по-новому осветить и проблему
правосознания. Едва ли мне удалось найти адекватное
его определение, но я думаю, что совершу наименьшую
возможную ошибку, если охарактеризую правосознание
следующим образом. Правосознание — это ориентация
на идеал правового государства, который имеет
безусловный характер и уже в данный момент определяет
практическое поведение человека как гражданина. Это
значит, что хотя правового государства еще нет, человек
начинает жить так, как если бы оно уже утвердилось.
Он вменяет себе в обязанность следовать таким
установлениям (или хотя бы декларациям), которые
соответствуют понятиям народного суверенитета и строгого
права, и отказывается подчиняться тем, которые несут
на себе явную печать неправового (патерналистского и
189
авторитарно-бюрократического) ведения
государственных дел.
Строгое право, как мы знаем, не предполагает
непременного морального участия в предписываемых им
нормах. Обычно люди прибегают к ним лишь постольку,
поскольку это диктует их непосредственный интерес. Но
это справедливо лишь для условий, когда строгое право
уже утвердилось и прочно подчинило себе деятельность
политических и правоохранительных органов. Иное дело,
если его господство еще только устанавливается. В этой
ситуации перед ответственным человеком встают
совершенно особые обязанности.
И вот стоит начать их перечислять, как мы тотчас
заговорим на кантовском этическом языке (подчеркну:
на этическом, а не на философско-правовом).
Прежде всего необходимо научиться уважать чужое
право, особенно если оно декларировано, но
недостаточно обеспечено действующим законом. Необходимо,
далее, непременно отстаивать и свое собственное право, —
отстаивать даже тогда, когда наш интерес в этом
минимален (как говорится, из принципа). Надо
отстаивать примат справедливости над состраданием (и прежде
всего запретить себе всякое согласие с сострадательной
уравниловкой). Надо непримиримо относиться к
раболепию и подкупности и понять, что зависть — это худший
из плебейских пороков. Ну, и дальше — по канве
прочитанных вами параграфов: ставить во главу угла
универсализируемые запреты, предоставлять совести
людей то, что не поддается универсализации (т.е. быть
терпимым к чужому чувству и вкусу), не пытаться читать
в сердцах, ценить добросовестность в исполнении
деловых и личных соглашений, ставить гражданскую
честность выше других весьма достойных добродетелей
(профессиональных, семейных, патриотических)- Что
это, как не моральный кодекс строителя правового
государства? Или, если отбросить совсем не кантовское
понятие морального кодекса, — что это, как не детально
проработанный образ мысли правозащитника?
190
Правосознательный ригоризм настоятельно необходим
для ныне переживаемого нами этапа общественного
обновления. На мой взгляд, он важнее даже таких
безусловно ценных и желательных установок, как
чуткость и милосердие. И никто не учил ему лучше
создателя трансцендентальной этики.
"У Канта, — писал К. Маркс, — республика, в качестве
единственной рациональной формы, становится
постулатом практического разума, который никогда не
осуществляется, но осуществление которого всегда должно
быть нашей целью и предметом наших помыслов"1.
В советских кантоведческих работах акцент делается
обычно на первой части этого важного замечания, — на
кантовской версии неосуществимого, как бы
"запредельного* республикански-демократического идеала, которая
отнимает у подвижников энергию исторического
оптимизма. Но присмотримся к другому аспекту проблемы,
достаточно ясно обозначенному Марксом:
республиканизм как постулат практического разума — это отнюдь
не бессильная мечта; это ориентир-императив,
организующий личностное действие. За республику, за
правовое государство, за демократическую культуру должно
бороться и в том случае, когда шансы на победу
минимальны.
Право — социальная гарантия свободы, общественно
признанная личная автономия; оно предоставляет
простор для профессиональной, хозяйственной и
граждански-политической активности каждого члена общества.
Но в пору утверждения правового государства право как
идеальное понятие — это еще и особая мобилизующая
сила: от него исходит сильнейший запрос к
нравственной свободе человека, к его способности выбирать,
решаться, стоять на своем, действуя даже вопреки слепой
и переменчивой "логике обстоятельствя.
191
Примечания
Введение
1 Клямкин И, Почему трудно говорить правду // Новый
мир. 1989. N 2. С.230.
2 Кант Я. Собр. соч: В 6 т. Т.4, ч. 2. С.79 (в дальнейшем:
Кат И. Соч.)
3В довоенной советской литературе, строго говоря,
было лишь одно исследование, освещавшее философ-
ско-правовое наследие Канта, - книга АЛ. Пионтков-
ского "Уголовно-правовые воззрения Канта, А.
Фейербаха и Фихте". В 1960 г. ПЛ. Галанза опубликовал
работу "Учение Канта о государстве и праве". В 1974
г. группа исследователей затронула эту тему в книге
"Философия Канта и современность". Тогда же в
журнале "Правоведение" (1974. N 6) появилась статья
ЕВ. Поликарповой "Кант и проблема антифеодальной
революции". Из публикаций последнего десятилетия
отмечу статью РЛ. Блюма и ЕА Голикова (Тарту) "И.
Кант и проблема революции" (Вопр. философии. Ï984.
N 8) и содержательную брошюру ЮЛ. Баскина "Кант.
Из истории политической и правовой мысли" (М.,
1984)
4 Кленнер Г. Философско-правовое
Просвещение в Берлине в годы Великой французской
революции // Историко-философский ежегодник. М.,
1991. С.213.
5 Даже применительно к ситуации конца 70-начала
80-х годов В. Керстинг, профессор из Ганновера, с
горечью говорит о "недооценке правовой проблематики
в современной систематической философии" (Kersthg W.
Wohlœordnete Freiheil. В; N.Y„ 1984. S. VII).
*Schelling F.WJ. Sämtliche Werke. Abt.l, Bd.6.
Stuttgart; Augsburg, 1860. S.108.
192
Глава первая
1 См.: Введение в философию /Под ред. И.Т.
Фролова. М., 1989. 4.2. С.567-569.
2 Мотрошилова Н.В. Социально-исторические корни
немецкой классической философии. М., 1990. С.68, 69-70.
3Там же. С.79.
4 Там же. С.66-67.
5 Феномен самоэксплуатаиии зафиксирован К.
Марксом в "Теориях прибавочной стоимости" при
рассмотрении положения независимого товаропроизводителя и
человека свободных профессий в условиях достаточно
развитого капиталистического производства. Однако это
понятие может быть отнесено и к более широкому кругу
экономических явлений, начиная с ренессансного
мастера, работающего на заказ (классический тому пример -
Микеланджело), кончая современными кооперативными
предприятиями, где прибыль вырабатывается без
применения (или при ограниченном применении) наемного
труда.
6 См.: Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования
по истории морали. М., 1987. С.234-263.
1 Аристотель. Соч.: В 4 т. М., 1984. Т.4. С.54.
8 Там же. С.103.
9ВеберМ. Избранные произведения. М, 1990. С 88-89.
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23. С.597.
11 См.: Бородой Ю.М., Келле В.Ж., Плимак Е.Г.
Наследие К. Маркса и проблемы теории общественно-
экономической формации. М., 1974. С.183-185.
12 Варг МЛ. Шекспир. М., 1982. С.4.
13 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.23. С.723.
14 Там же. С.723, 160.
15 Там же. С.770.
16 Там же. С.769.
17 См.: Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
С.125-145.
18 Спекторский Е. Проблема социальной физики в
XVII столетии. Варшава, 1910. Т.2. С.467.
12 Заказ № 1663
193
19 В "стейтистской" литературе на роль " центральной
стратагемы" выдвигается следующее наставление: иНынче
нет ничего нужнее покровителей, ничего ценнее фавора:
он и творит, и губит все в мире, даже талантом наделяет
и лишает таланта" (Грасиан Б. Карманный оракул.
Критикой. М., 1981. N 171. С.39).
20 Емкие понятия "абсолютистской культуры" и
"человека абсолютистской культуры" успешно используются
пока лишь в литературоведении (см., напр.: Пинский
Л.Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971;
Он же. Бальтасар Грасиан и его произведения' //
Грасиан Б. Карманный оракул. Критикой. С. 499-576).
21 Лифишц МЛ. Карл Маркс. Искусство и
общественный идеал. М., 1972. С. 137. О значении иронии в
структуре раннего, оппозиционно-критического
романтизма см. подробнее: Соловьев А.Э. Истоки и смысл
романтической иронии // Вопр. философии. 1985. N
12. С. 100-114.
22 Гейне Г. Соч.: В 10 т. М., 1933. Т. 6. С.7.
23 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.1. С.86-87.
24 Там же. С.89.
25 Там же. С.88.
26 Там же. С.87.
27 Там же. С.88.
28 Там же.
29 Там же.
30 Там же.
31 Там же.
32 Там же.
33 Там же. С.87,92.
34 См. об этом подробнее: Adorno Th.W., Horkhaimer
M. Die Dialektik der Aufklärung. Fr. am M., 1974 . S.
70-84.
35 Мишель А. Идея государства. СПб., 1903. С.7.
36 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.З. С.182
37 Там же.
38 Наиболее основательной выглядит попытка В.Ф.
Асмуса (см.: Иммануил Кант. М., 1973. СЛ24-325). Но
194
и она, увы, обманывает читателя, поскольку при
цитировании кантовского текста допускаются тенденциозные
купюры (ср. Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С.229).
39 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.З. С.182.
40 Оценку, содержащуюся в "Немецкой идеологиии,
вообще можно считать корректной по критериям
современного кантоведения, если признается, что она имеет
в виду не трансцендентально-практическую философию
в целом, а только иКритику практического разума" и
что суть этого произведения Маркс и Энгельс (вслед за
Г.Гейне) видят именно в этикотеологии, т.е. моральном
постулировании идеи ивысшего блага", существования
Бога и бессмертия души.
41 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.21. C2S9.
Глава вторая
1 Из советских исследований последнего времени
отмечу следующие: Бычко А.К., Бычко И.В. Кант и
проблема свободы // Вопросы теоретического наследия
Иммануила Канта. Калининград, 1980. Вып.5. С.56-76;
Жучков ВА. Структура субъект-объектного отношения у
Канта // Кантовский сборник. Калининград, 1983. Вып.8.
С.54-63; Скрипник А.П. О своеобразии кантовского
обоснования морали // Вопросы марксистско-ленинской
этики. М., 1978. С.82-94; Кузьмина ТА. Концепция
свободы в этике Канта // Этика Канта и современность.
Рига. 1989. С.69-90.
2 Заслуга профессионально грамотной квалификации
собственно этического содержания моральной
философии Канта принадлежит О.Г. Дробницкому. (См.: Дроб-
ницкий О. Г. Понятие морали. М., 1974. С.64-87; Он лее.
Теоретические основы этики Канта // Философия Канта
и современность. М., 1974. С.103-152). Несомненный
интерес представляют также историко-этические оценки,
предложенные АЛ. Гусейновым и Г. Иррлитцем в книге
"Краткая история этики" (М., 1987. С.432-463).
3Eine Vorlesung Kants über Ethik im Auftrage der
Kant-Gesellschan herausgegeben von P. Menzer. PAN-
12*
195
Verlag. В., 1924. (В дальнейшем: Kant über Ethik).
Фрагменты этих лекций в русском переводе,
выполненном ВД. Крыловой, изданы в сборнике в Этическая
мысль. 1988". (См. Кант И. Из лекций по этике //
Этическая мысль. 1988. М., 1988. С.299-332).
4 Kant über Ethik. S.276.
5 Ibid. S.277.
6 Это разъяснение Кант дает в "Метафизике нравов*
(Кант Я. Соч. ТА 42. С.400).
7 Kant über Ethik. SJ277.
8 Ibid. S.278.
9 Кант И. Соч. Т.4, 4.2. С.402.
10Kant über Ethik. S.245 (курсив мой. - Э.С.) В
последней фразе слышен отголосок известного ранне-
протестантского гимна, сочиненного M Лютером, " Господь
надежный наш оплот" (aEin feste Burg ist unser Gott").
1 * См. об этом: Еллинек Г. Декларация прав человека
и гражданина. М., Б.г. С. 2-5.
^Kant über Ethik. S. 271.
13 Ibid.
14 См.: Ibid. S. 240.
15 Ibid. S. 248.
16Любовь, говорит Кант, пристрастна к
"относительной ценности людей". Мы слишком часто любим
тех, кто приносит нам пользу, и слишком часто
убеждаемся в том, что сострадание совместимо с
пренебрежением и даже презрением (См.: Kant Über
Ethik. S. 240). Любовь "должна быть удовлетворена,
поскольку она есть не что иное, как потребность,
проистекающая из доброты души и сердца. Но никакой
моралист не должен пытаться культивировать ее ...".
Человек, которому внушено слепое благорасположение
ко всем без разбору, подвержен опаснейшим
психологическим метаморфозам. "Если его кто-либо обманет, то
он раскается в том, что делал, примет иное решение
и выработает для себя правило никому более не делать
добра" (Ibid. S. 244). За любовь, моралистически
вмененную в обязанность, приходится расплачиваться
196
взрывами спонтанного, а то и дерзкого
недоброжелательства.
17 Ibid. S.247.
18 Ibid.
19 Ibid. S. 246.
20 Нетрудно убедиться в том, что концепция Канта
соответствует раннебуржуаэной версии "социального
обеспечения", родившейся еще в пору немецкой
бюргерской реформации. Таков, например, учрежденный в 1522
г. виттенбергский ипорядок общей кассы" (См.: Соловьев
Э.Ю. Непобежденный еретик (Мартин Лютер и его
время). М., 1984. С. 181-182). В своих обличениях
позднефеодальной светской филантропии Кант наследует
протестантским критикам послабительной и
развращающей церковной благотворительности.
21 Kant über Ethik. S. 245.
22 Ibid. S. 276-277.
23 Ibid. S. 281.
24 Ibid. S. 238.
25 Ibid.
26 Кант И. Соч. Т.4, ч. 2. С. 400.
27 См. оглавление "Метафизики нравов" (Кант И.
Соч. Т.4, 4.2. С. 477).
28 Там же. С. 374.
29 Там же. С. 372.
30См. об этом подробнее: Соловьев Э.Ю. Агония
абсолютизма // Французское Просвещение и революция.
М. 1989. С. 13-68.
31 Кант И. Соч. Т.2. С. 220.
32 См.: там же. С. 218-219.
33 Там же. С. 218.
34 Лабрюейр Ж.де. Характеры, или нравы нынешнего
века. М.;Л. 1964. С. 178.
35 Там же. С. 181.
36 "Великое достоинство немецкой культуры
заключалось в том, что борьба против феодализма была понята
весьма широко и трактовалась как борьба против рабства
вообще за свободу как таковую" (Мотроишлова Н.В.
197
Социально-исторические корни немецкой классической
философии. М. 1990. С. 72).
37 Фихте И. Г. О назначении ученого. М. 1935. С.
79-80.
38 Кант Я.Соч. Т.2. С. 218. Мысль о том, что рабство
хуже смерти, высказывалась еще древними, например,
Аристотелем. Однако у них это понимание
приписывалось лишь свободнорожденным и имело смысл кастовой
установки. Кант же говорит о том, что достоверно для
каждого, в каком бы сословии он ни находился.
39 Общая их характеристика дана в работе TJ>. Длугач
♦И. Кант: от ранних работ к "Критике чистого разума"».
М., 1990.
40 Кант И. Соч. Т.2. С. 220.
41 Там же.
42Гегель Г.В.Ф. Соч. Т.4. М. 1959. С. 102.
43 Там же. С. 106.
44/Сднш И. Соч. Т.2. С.219.
45 Там же. С. 220.
46 Гольбах П. Избранные произведения. М. 1963. Т.1.
С. 313.
47 Монтескье Ш. Персидские письма. М. 1956. С.
202.
48Кднт И. Соч. Т.4. 4.2. С.374.
49 Там же. С. 72.
50 Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С. 248.
51 Cassirer Е. Kants Leben und Lehre. В., 1918. S. 260.
52 Кант И. Соч. Т.4, 4.2. С. 375.
53 Там же. С. 376.
54Цит. по: Геллер И.З. Личность и жизнь Канта.
Петроград, 1923. С. 7-8.
5* Швейцер А. Культура и этика. М. 1973. С. 192.
56 Деборин A.M. Социально-политические учения
нового и новейшего времени. М. 1958. Т.2. С. 231-232.
*7 Цит. по: Гордин Я. Донос на всю Россию, или Миф
о масонском заговоре // Звезда. 1990. N 5. С. 146-147.
58 Имя Канта фигурирует в доносе А.Б. Голицына, но
в совершенно фантазерском контексте, где известные
198
влияния послекантовской философии на религиозную
мысль в Германии выдаются за воздействие масонства
на послекантовскую философию: и немецкие философы,
начиная с Канта, все - иллюминаты" (там же. С. 148.)
Глава третья
1 К императивному истолкованию нравственности
Кант пришел не сразу: в "докритический" период он
еще исповедовал "этику чувства", следуя за Шефтсбери
и Руссо. В первой зрелой этической работе "Основы
метафизики нравственности" (1785) Кант решительно
отказывает чувству и склонности в общеобязательном
значении, а в "Критике практического разума"
обосновывает это систематически. Как верно подметил И.С.
Нарский, показательное структурное отличие этой второй
кантовской Критики от первой ("Критики чистого
разума") заключается в том, что в ней просто
отсутствует раздел, подобный трансцендентальной
эстетике. Кант не признает за нравственными аффектами
никаких трансцендентально-всеобщих форм, которые
могли бы служить аналогом пространства и времени
в сфере чувственного восприятия (См.: Нарский И.С.
Кант. М. 1982. С. 128).
2Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.4. С. 426.
3 "Невозможно, чтобы наше сердце
преисполнялось нежным участием к судьбе каждого" (Кант И.
Соч. Т.2. С. 137).
4 Там же.
5 Там же. С. 138.
6 Там же. С. 137-138.
7 Там же. С. 272-273.
*Cassirer Е. Kants Leben und Lehre. В., 1918. S. 249.
9 Более точно: "Обоснование метафизики нравов".
Я буду пользоваться, однако, названием работы,
приведенном в русском шеститомном издании сочинений
Канта, а в сокращении именовать ее просто "Основы...".
10 Кант. И. Соч. Т.4. ч.1. С. 252-253.
11 Там же. С. 254.
199
12 Там же.
13 См. Кант И. Соч. Т.4, ч.2. С.69. Формулировка
принадлежит лейпцигскому оппоненту Канта,
популяризатору английской моральной философии Хр. Гарве, но
критикуется с Кантом как лаконичное выражение
известного общераспространенного и даже "парадигмально-
го" понимания нравственных обязанностей.
Х4.Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С. 256-257.
15 См. об этом подробнее: Соловьев Э.Ю. Знание, вера
и нравственность // Наука и нравственность. М. 1971.
С. 203-204.
16 Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С.355 (курсив мой. - Э.С.).
17 См.: Там же.
18 См.: Foucault M. Surveiller et punir. Naissance de
prison. P. 1975. Power-Knowlege. Brighton, 1980.
19 Более того, только в эпоху абсолютизма и стала
ощутимой неподатливость материально-экономических
отношений, их объективное противостояние
человеческому плану и произволу. Впервые (хотя еще и в
неадекватной форме) она была схвачена в теории
экономистов-физиократов, поздних современников
Канта.
20 Лейбниц Г. Соч.: В 4 т. М., 1983. Т.2. С. 97.
21 Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С. 287.
22 Там же. С. 284.
23 Там же. С. 274.
24Там же. С. 440 (разрядка моя. - Э.С.).
25 Там же. Т.5. С. 294.
26 Там же. С. 308.
27 Там же.Т.4, ч.1. С. 257-258.
28 Там же. С. 258.
29 Там же. С. 355.
30 "Разве быть добродетельным только потому хорошо,
что существует тот свет? - с горькой иронией
спрашивает Кант. - ... Разве необходимы какие-то действующие
из другого мира машины, чтобы заставить человека
поступать в этом мире согласно своему назначению?
Разве может называться честным или добродетельным
200
тот, кто охотно предавался бы своим любимым порокам,
если бы его не пугала кара в будущем, и не должны ли
мы скорее сказать, что такой человек ... любит выгоду,
приносимую добродетельными поступками, но саму
добродетель ненавидит?" (Кант И. Соч. Т.2. С. 354).
31 Cmj Кант И, Религия в пределах только разума.
СПб., 1908. С. 186-187.
32 Там же. С. 93.
33 Политико-правовая доктрина Канта была
политически заострена против учения Гоббса (это ясно
обозначено в названии второй части кантовского эссе
аО поговорке").
34 См.: Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 53-54.
35 Кант И. Соч. Т.2. С. 218-219.
36 Там же. Т.4, ч.2. С. 254.
37 См. об этом подробнее: Henrich D. Die Deduktion des
Sittengesetzes // Denken im Schatten des Nihilismus.
Darmstadt, 1975. S. 85-87.
**Кант Я. Соч. Т.4, ч.1. С. 230-231.
39 Там же. С. 231.
40 Там же. С. 233.
41 Там же.
42 Там же. С. 241.
43 Там же. С. 240.
44 Там же. С. 238.
45 Истолкование этики Канта как
антиэвдемонистической, более того как новой (нерелигиозной) версии
аскетизма, требующей, чтобы человек возложил "на
алтарь морального закона" все "естественные",
спонтанно возникающие влечения и интересы, с крайней
прямолинейностью проведено в работе русского
религиозного философа Л. Шестова "Скованный Парменид".
Дань такому истолкованию отдается и в некоторых
марксистских исследованиях, даже в столь основательных, как
очерк В.Ф.Асмуса "Иммануил Кант" (М., 1973. С.61,329)
или книга АЛ. Скрипника "Категорический императив
Канта" (М., 1978. С. 34.).
^Кант И. Религия в пределах только разума. С. SS.
14 Заказ № 1663
201
47 Кант Я. Соч. Т.4, ч. 1. С. 420-421.
48 Там же. С. 333.
49 Там же. С. 254.
50 Это выражение, заимствованное из протестантского
религиозного словаря, играет важную роль в этических
сочинениях Канта, и приходится сожалеть, что оно
стерлось в русских переводах его работ (например, в
"Антропологии с прагматической точки зрения").
51 Haardt A. Die Stellung des Personalitatsprinzips in
der ыGrundlegung zur Metaphysik der Sitten" und in der
"Kritik der praktischen Vernunft" // Kant-Studien.
1982. Hf. 2. S. 167.
52 Ibidem.
53 Cmj Beck L W. A Commentary on Kant's Critique of
Practical Reason. Chicago; London, 1966; Paton H. Categorical
Imperative. L., 1967; RolSn B.E. There is Only Categorical
Imperative // Kant-Studien. 1976. Hf. 1; Funke G. Von
Aktualität Kants. Bonn, 1979; Henrich D. Op. cit.; Renting W.
Der kategorische Imperativ, die vollkommenen und die
unvollkommenen Pflichte // Zeitschrift fur philos. Forsch. 1979.
Bd. 87. Hf. 3.
**Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С. 260. В русском переводе
этого предложения опущено важное выражение
"jederzeit" ("во всякое время"). Точный перевод
формулы I должен звучать следующим образом: "Поступай
только согласно такой максиме, руководствуясь которой,
ты вместе с тем можешь пожелать, чтобы она во всякое
время была общим законом".
55 Там же. С. 261.
56 "Сама природа отличает их (людей. - Э.С.) в
качестве целей самих по себе" (Там же. С. 272).
57 Там же. С. 270.
58 Там же. С. 273. аВсе понимали, - разъясняет Кант, —
что человек своим долгом связан с законом, но не
догадывались, что он подчинен только своему
собственному и тем не менее всеобщему законодательству и что
он обязан поступать, лишь сообразуясь со своей собст-
202
венной волей, устанавливающей, однако, всеобщие
законы согласно цели природы" (там же. С. 274.).
59 Скрипник А.П. Категорический императив И. Канта.
С. 41.
60 Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С. 260.
61 Там же. С. 409. (Ср.: "Основы..." // Кант И. Соч.
Т.4, ч.1. С. 273, 274, 275; Кант И. Религия в пределах
только разума. С. 5).
62 Кант И. Религия в пределах только разума. С. 100.
63 Наиболее обстоятельно эта тема рассмотрена В.
Керстингом. См.: Kersting W. Das starke Gesetz der
Schuldigkeit und das schwächere Giftigkeit // Studia
leibnitiana. Wiesbaden, 1982. Bd. 14, Hf. 2. S. 184-220.
64 Виндельбанд В. История новой философии в ее
связи с общей культурой и отдельными науками. СПб.,
1905. Т. 2. С. 94.
65 Эти советы не взяты с потолка: я цитирую
знаменитый и Карманный оракул" Бальтасара Грасиана № 189,
130, 285, 8. См.: Бальтасар Грасиан. Карманный оракул.
Критикой. М., 1981. С. 43, 30, 62, 6.
66 Там же. С. 5. (N 3).
67 Рассуждая вполне в духе Канта, позволительно
добавить, что возможно и обратное, т.е. (если не бояться
парадоксов) безнравственное и тем не менее моральное
действие, например, убийство другого, совершаемое в
тупиковой, критической ситуации по его же собственной
просьбе (см. об этом: Хемингуэй Э. По ком звонит
колокол // Собр. соч.: В 4 т. М., 1968. Т. 3. С. 630 и
ДР.).
00 См.: Философия эпохи ранних буржуазных
революций. С. 230-231.
69 По общему смыслу кантовской этики скорее можно
удовлетворить просьбу об убийстве, исходящую от
человека, который оказался в мучительном и безвыходном
положении (например, от смертельно больного), нежели
пытаться облегчить его участь, лживо прикрашивая его
положение.
203
70 Кант И. Трактаты и письма. С. 293 (курсив мой. -
Э.С.).
71 Виндельбанд В. История новой философии». С. 98.
72 Там же.
Глава четвертая
1 Кант И, Соч. Т. 4, ч.1. С. 264.
2 Там же. С. 261.
3Там же. С. 264-265 (разрядка моя. — Э.С.).
4 Там же. С. 264. Понятие "долга, который может
вменяться в заслугу", заимствованное. Впоследствии
Кант неоднократно будет разъяснять, что, по строгому
счету, за выполнение долга не причитается ни похвал,
ни наград. Исполнивший долг всего лишь не имеет вины.
5 Там же. С. 262-263.
6 Там же. С. 263.
1 Henrich D. Die Deduktion des Sittengesetzes. S. 111.
8 Виндельбанд В. История новой философии в ее связи
с общей культурой и отдельными науками. СПб., 1905.12.
С. 95.
9 См. об этом подробнее: Скршишк А. П.
Категорический императив И. Канта. М., С. 100.
^Dadrian V. Kant's concepts of "human nature" and
"rationaling" // Journal of peace research. Oslo, 1968.
N 4. P. 382-408; Buchdal G. Transcendental reduction:
concept for the interpretation of Kants critical method //
Kant-Studien. В., 1974. Jg. 65. N 1. S. 28-44; Eleyl I.
Sinn und Funktion einer phänomenologischen Kritik der
Transzendentalphilosophie: Kant und Husserl // Akten des
5. Internationalen Kant-Kongress. Mainz, 1981. Bd.
1. S. 944-954.
11 Ortega-y-Gasset J. Man and Crisis. N.Y., 1958. P.76.
12 Пожалуй, никакой другой мыслитель за всю
историю человечества не расточал по ее адресу таких
безоговорочных похвал. «О, совесть, совесть! -
восклицает в "Эмиле" савойский викарий, - ты божественный
инстинкт, бессмертный и небесный голос, верный
путеводитель существа темного и ограниченного, разумного
204
и свободного, непогрешимый ценитель добра и зла,
уподобляющий человека Богу! Это ты создаешь
превосходство природы и придаешь нравственный смысл его
действиям; без тебя я не чувствую в себе ничего такого,
что поднимало бы меня над уровнем зверей» (Руссо
Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2 т. М., 1981. Т.1.
С. 347). В кантовской "Критике практического разума"
мы находим дифирамб, написанный как бы прямо в
подражание этому тексту. Однако (это интересно и
знаменательно!) посвящен он не совести, а долгу (см.:
Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С. 413).
13 "Любовь к людям, - писал Кант, - ...не может быть
нам предписана как заповедь, так как ни один человек
не может любить по приказанию". Она не могла быть
заповедана, даже если любви придается достаточно
фигуральный смысл настроения, сопутствующего
добропорядочности ("любить ближнего - значит охотно
исполнять по отношению к нему всякий долг"), ибо
и заповедь, гласящая, что нечто должно делать охотно,
заключает в себе противоречие..." (Кант И. Соч. Т.4,
ч.1. С. 409-410).
14 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 73.
15 Руссо решительно настаивал на том, что совесть у
всех людей одна и та же, и именно через апелляцию к
ней (как это похоже на сегодняшние наши упования!)
надеялся привести общество к нравственной
консолидации. Кант не оспаривает, но и не разделяет подобного
воззрения. Показательно, например, что он спокойно
принимает свидетельства Монтеня о различии суждений
совести (как и самих нравов) у представителей разных
культур, тогда как Руссо эти свидетельства раздражали
и бесили. Совесть для Канта есть судящий орган
нравственного сознания, которым не обделен ни один
человек. Единым для всех людей, к какой бы культуре,
этносу, сословию они ни принадлежали, является и
"формализм совести": она всегда и везде укоряет людей,
во-первых, в неправдивости и фальши, а во-вторых, в
205
том, что они преступно несовершенны по сравнению с
заложенным в них представлением об идеале.
Однако правдивость - это еще не истинность, а само
представление о совершенстве разнится в зависимости
от условий воспитания.
16 Характер доноса имели, например, частые,
подчеркнуто недоуменные сетования по поводу того, что Кант
отказывается понимать любовь как заповедь (речь ведь
шла об общеизвестной евангельской формуле).
"Fichte J.G. Beitrag zur Berichtung der Urteil des
Publikums über der französischen Revolution. Hamburg,
1973. S. 24-25.
^Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое,
время. СПб., 1907. Т. 3. С. 43-44.
l9Kersting W. Wohlgeordnete Freiheit (J. Kants
Rechtsund Staatsphilosophie). Berlin; N.Y, 1984. S. 98. О
морально-юридических воззрениях Вольфа и вольфиан-
цев см. также: Bachmann Н.-М. Die naturrechtliche
Staatslehre Christian Wollte. В., 1977; Cassirer E. Freiheit
und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte.
Darmstadt, 1961. S. 315-320; Herman M. Der Schutz der
Persönlichkeit in der Rechtslehre von 16. bis 18.
Jahrhunderts. Stuttgart, 1968. S. 107-119.
20 Моральные цели: "собственное совершенство и
чужое счастье" - появятся в ttМетафизике нравов" в
структуре учения о добродетелях. При этом, однако,
стремление к совершенствованию будет определенно
обрисовано Кантом как установка, допустимая лишь на
условии соблюдения основных, безотносительных к ней
нравственных запретов, а стремление к осчастливлива-
нию другого - как способ действий, непременно
предполагающий учет того, как сам этот другой представляет
себе свое счастье.
Введение моральных целей не может рассматриваться
поэтому ни как свидетельство того, что старый Кант просто
возрождает вольфианские идеи, ни как симптом коренной -
гуманно-альтруистической - перестройки кантовского
учения.
206
21 См. об этом: Ebert Th. Kants kategorischer Imperativ
und die Kriterien verbotener, gebotener und freigestellter
Handlungen // Kant-Studien. 67. 1976. S. 570-583.
22Kersting W. Wohlgeordnete Freiheit. S. 53.
23 Наиболее решительная, так сказать, лобовая,
попытка выведения позитивного права из
морально-практического разума, непременно полагающего коррелятивное
различение запретного и дозволенного, была
предпринята ИХ. Фихте в публикациях 1793-1794 гг. Она не
удовлетворила ни читателей, ни автора. В 1796 г. Фихте
отказался от самой идеи морального обоснования права
и (далеко не исчерпав ее подлинных возможностей)
попытался понять позитивно-правовые требования как
особого рода гипотетические императивы. а Право, -
излагает эту точку зрения В. Керстинг, - соотносится не
с сознанием обязанности, а с сознанием мыслимой
необходимости ... Для своего понимания оно нуждается
в теоретическом разуме, для своего осуществления - в
разумном эгоизме" (Ibid. S. 68). На мой взгляд,
"Метафизические начала учения о праве",
опубликованные в 1797 г. в составе иМетафизики нравов", могут
рассматриваться как ответ Канта на эту неудачу и
последующую капитуляцию Фихте.
Глава пятая
1 Кант И. Соч. Т.4, ч.1. С.274. Самые выразительные
разъяснения самозаконности человека Кант дал в работе
"Религия в пределах только разума": "Долг, который
обязателен для каждого, может быть рассматриваем как
наложенный на него им самим через его собственный
разум, а стало быть, как принимаемый добровольно ...".
Противоположностью этого являются "внешние
распоряжения, предписанные деспотически, хотя бы и для
нашего блага". Полагание и признание категорического
императива - это "свободная присяга на верность ... а
не послушное подчинение известному постановлению,
возлагаемому как служба на барщине" {Кант И. Религия
в пределах только разума. СПб., 1906. С. 189-190).
207
2 Это, конечно, идеальная модель. В
действительности во времена Канта право суда и наказания еще
сохранялось за феодалами и как за управителями земель,
и как за помещиками (патримониальное право в
Германии).
3Кант И. Соч. Т. 6. С. 544.
4 Там же. С. 541.
5 Там же. С. 533.
6 Там же.
7 Там же. С. 541.
8 Там же. С. 540.
9 Там же. С.544.
10 См.: Там же. Т.4, ч.1. С. 426-427.
11 Там же. С. 411.
12 Конституции и законодательные акты буржуазных
государств XVII-XIX вв. // Сб. документов под ред. ГШ.
Галанзы. М., 1957. С. 191.
13 Гольбах П. Система природы. М., 1940. С. 173.
14 См. об этом: Новгородцев П. Кризис современного
правосознания. М., 1909, С. 18-37.
15 См.: Французское Просвещение и революция. М.,
1989. С. 66.
16 Кант И. Религия в пределах только разума. С.
198-199.
17 См.: Герцензон А-А. Проблема законности и
правосудия во французских политических учениях XVIII века.
М.. 1962. С. 276-290.
*7*Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. T.I. С.14.
l*Kani /. Rechtslehre. Schriften zur Rechtsphilosophie /
Hrsg, von H. Kienner. В., 1988. S. 259-260. Русский
перевод текста не вполне точен. Ср.: Кант Я. Соч. Т.4,
4.2. С.78.
19 См. об этом: Kersting W. Wohlgeordnete Freiheit. S.
18.
20 См.: Moritz M. Über einigen formalen Strukturen des
kategorischen Imperatives // Kant-Studien. Sonderheft.
Akten der 4. Internationalen Kant-Kongress (Mainz, 6-10
April, 1974). 1975. Hf.l. S. 73-89.
208
21 Этим приемом, между прочим, мы сразу получаем
из "стандартной формулы" (1) формулу автономии (3),
причем в акцентированном ее варианте. АЛ. Скрипник
совершенно верно замечает и Моральное требование
принимает в сознании индивида форму его собственного
правила: требование к самому себе прежде всего и лишь
потом к окружающим.
Таков реальный смысл третьей формулы
категорического императива" (Скрипник А. П. Категорический
императив И. Канта. М., 1978. С. 94).
22Kant's gesammelte Schriften / Hrsg. von der
Preußischen Akademie der Wissenschaften, von der
Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, von der
Akademie der Wissenschaften der DDR und von der
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (Akademie-
Ausgabe). Bd. 6. 1921. S. 239 (в дальнейшем Kant I. //
AA.) Русский перевод текста неточен. Ср.: Кант И. Соч.
Т.4, 4.2. С. 140.
23 Кант И. Соч. Т.4, ч.2. С. 78.
24 Там же. С. 140.
25 Там же. С. 141, 142.
^Kersting W. Wohlgeordnete Freiheit. S. 74.
27 Тот же В. Керстинг, долго ломавший голову над
вышеприведенными кантовскими высказываниями,
приходит к следующему выводу: «"Основной закон права" -
это вообще не императив, а именно - и только - закон.
Его можно выполнять в одних случаях по типу
категорического, в других - по типу гипотетического
императива» (см.: Kersting W. Op. cit. S. 9). Вполне корректное
для злополучных параграфов D-E, толкование это не
соответствует, однако, драматургии более широкого и
общего замысла "Метафизики нравов".
28 Ibid. S. 15.
29 О значении феномена и равновесностип в генезисе
права см.: Нерсесянц B.C. Право в системе социальной
регуляции. М., 1986. С. 10-17.
™ Schreckenberger W. Legalität und Moralität. Heidelberg,
1958. S. 54.
Уг 13 Заказ №1663
209
Не было недостатка и в попытках спасти положение. При
всех различиях они были подчинены одной и той же логике.
Для трансцендентального субъекта как такового
внешнее принуждение немыслимо, но не окажется ли оно
внутренне обоснованным, если в поле его практического
сознания появится другой и притом противостоящий ему
трансцендентальный субъект? Так на острове
"естественного состояния" поселились два "трансцендентальных
Робинзона". У Фихте это - "пара монад, сгармонизи-
рованных в самой своей абсолютной
самоопределенности " (Verwegen Я. Recht und Sittlichkeit in 1Л. Fichtes
Gesellschanslehre. Freiburg; München, 1975. S. 51); y
Хайденрайха - моральный индивид, который
сталкивается с фактом наличия нравственного закона в другом
индивиде (Heidenreich К. H. System des Naturrechts nach
kritischen Prinzipien. 2. Th. Leipzig, 1794-1795. Nachdruck
Brüssel, 1969. S. 110); у А. Фейербаха - моральный
индивид, встречающий в чужом произволе
сопротивление своему высокому свободному устремлению
(Feuerbach РЛЛ. Kritik des naturlichen Rechts. Mainz, 1796.
Nachdruck Hildesheim. 1963. S. 259).
31 Кант Я. Соч. T.4, ч.2. С. 239-240.
32/Слит Я. Трактаты и письма. М., 1980. С. 104-105.
33 Там же. С. 104, примеч.
34 Kant I. II АЛ. Bd. 27. Abt. 2. Th. 1. S. 515.
^Kersting W. Wohlgeordnete Freiheit. S. 74, 31.
36 Ibid. S. 79.
37 Кант Я. Соч. T.4, ч.2, С. 256.
Заключение
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 7. С.77.
210
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 3
L Контекст эпохи 17
1. Извечное и навечное 17
2. Цивилизационный переворот XVI-X VIII вв 19
3. Неофеодальная власть 27
4. Кант и Гуго (о формуле "немецкая теория французской
революции") 35
П. Кант как моралист ■ моральный диагност 45
1. Уважение к правам, патерналистское сострадание
и зависть 47
2. Свобода как выгода сверх выгоды 63
3. Ригоризм и пафос эмансипации 69
Ш. Категорический императив и общественный договор 77
1. Императивное истолкование нравственности.
Гипотетический и ассерторический императив .... 80
2. Расчетливый эвдемонизм как "несчастное сознание" . . 94
3. Рождение категорического императива 99
4. Три формулы "одного-единственного категорического
императива" 105
5. Формула универсализации и ее "сильная" версия .... 106
IV. Категорический императив и традиция веротерпимости 126
1. "Слабая" версия универсализации максим 128
2. Пространство свободной совести 135
3. Все, что не запрещено, разрешено 142
V. Моральная автономия и правовая гарантия 149
1. Признание моральной автономии личности как основной
смысл правовой нормы 151
2. "Категорический императив права". Право и принуждение 171
Заключение 186
Примечания 192
Summary 211
Соловьев
Эрих Юрьевич
а Кант:
допоииппелыюсп»
морали
■ права