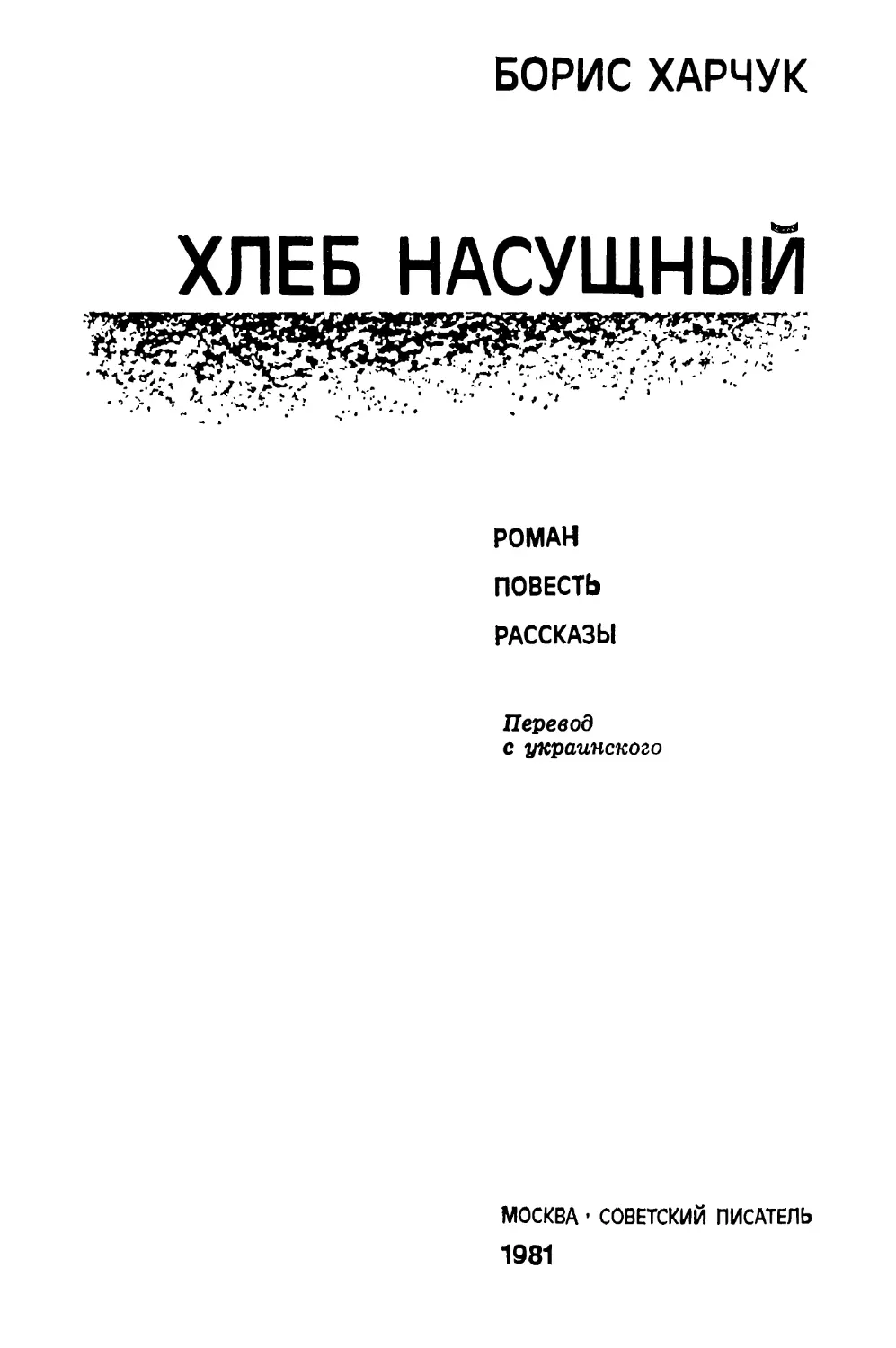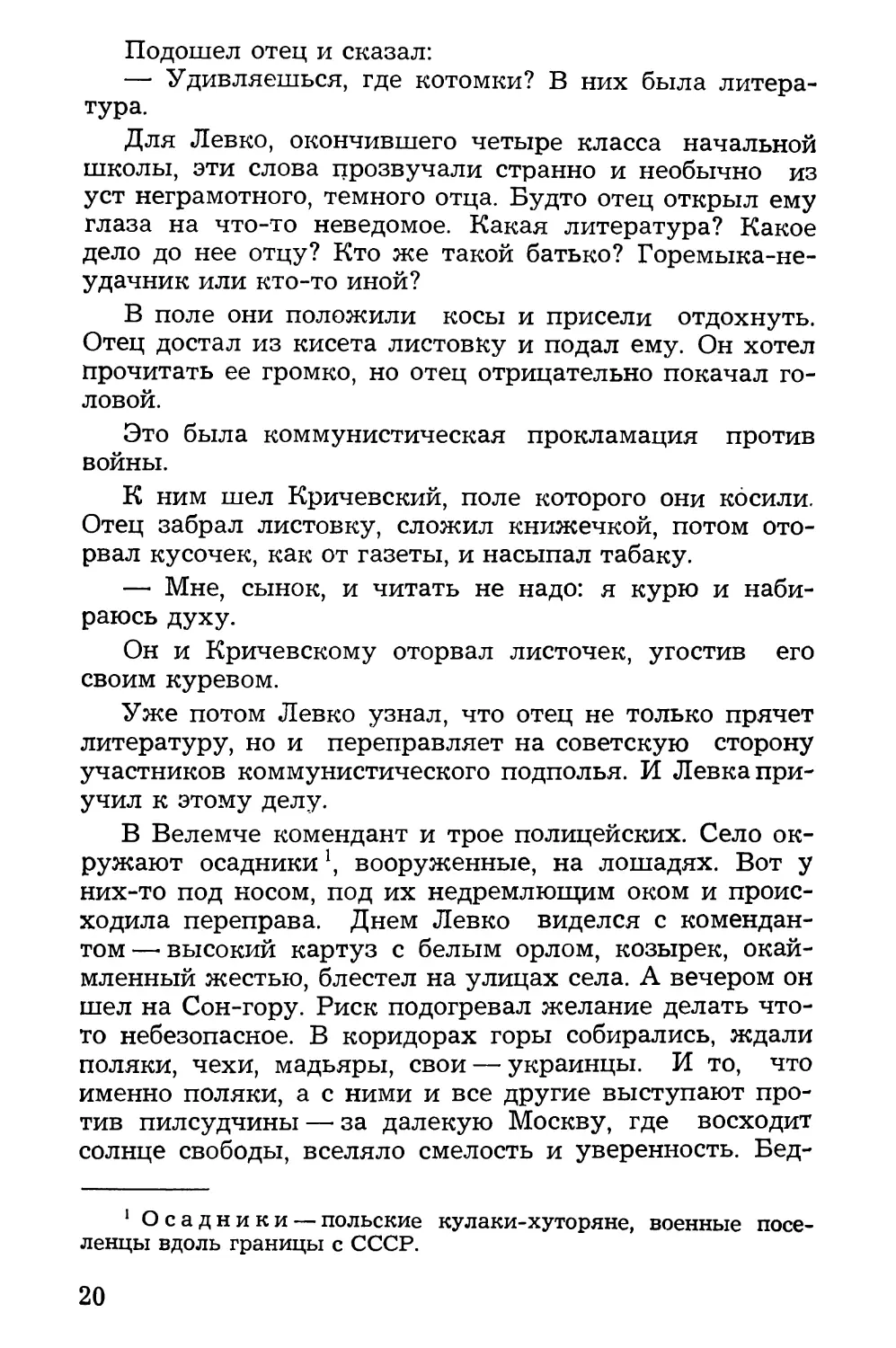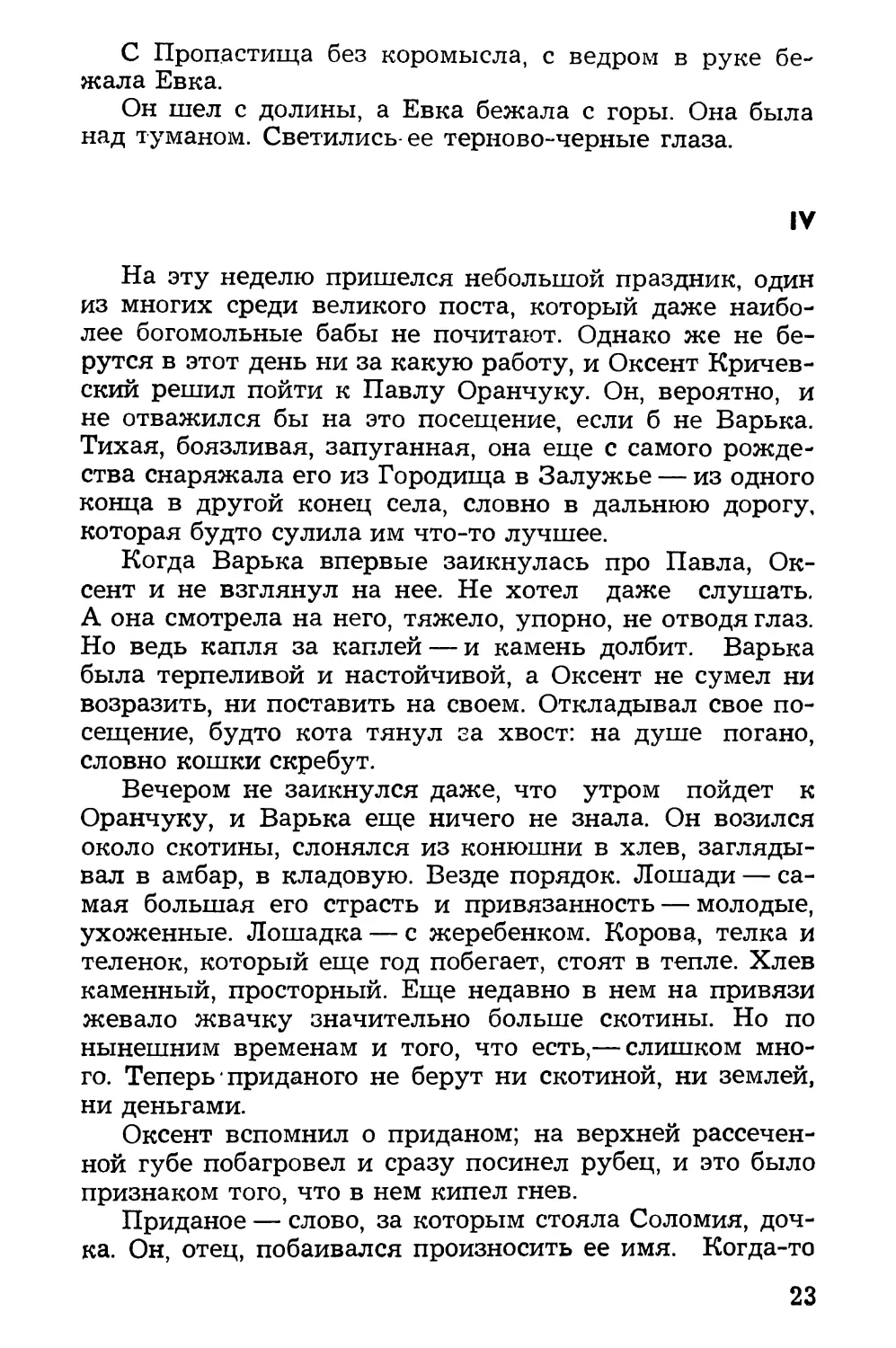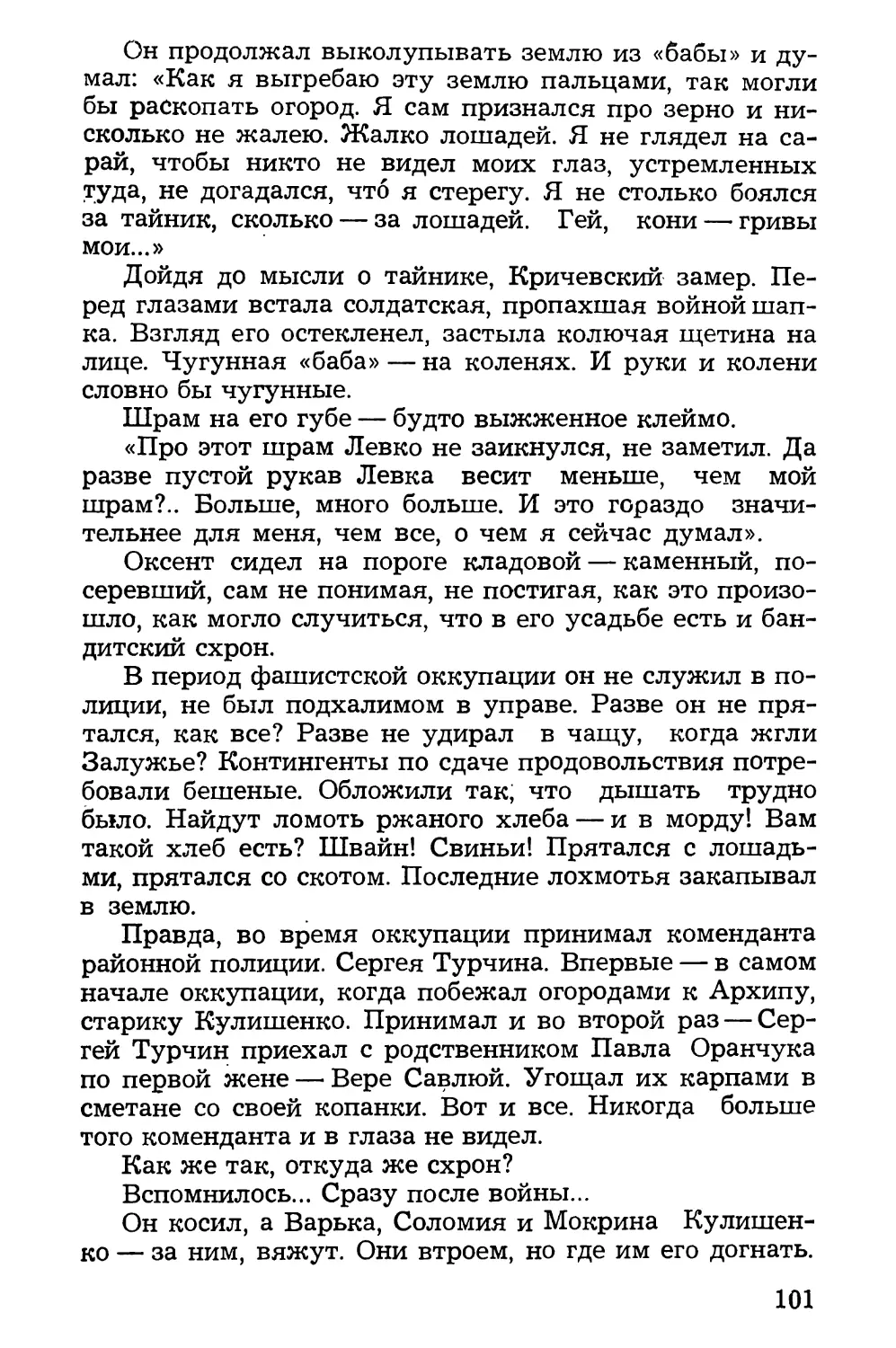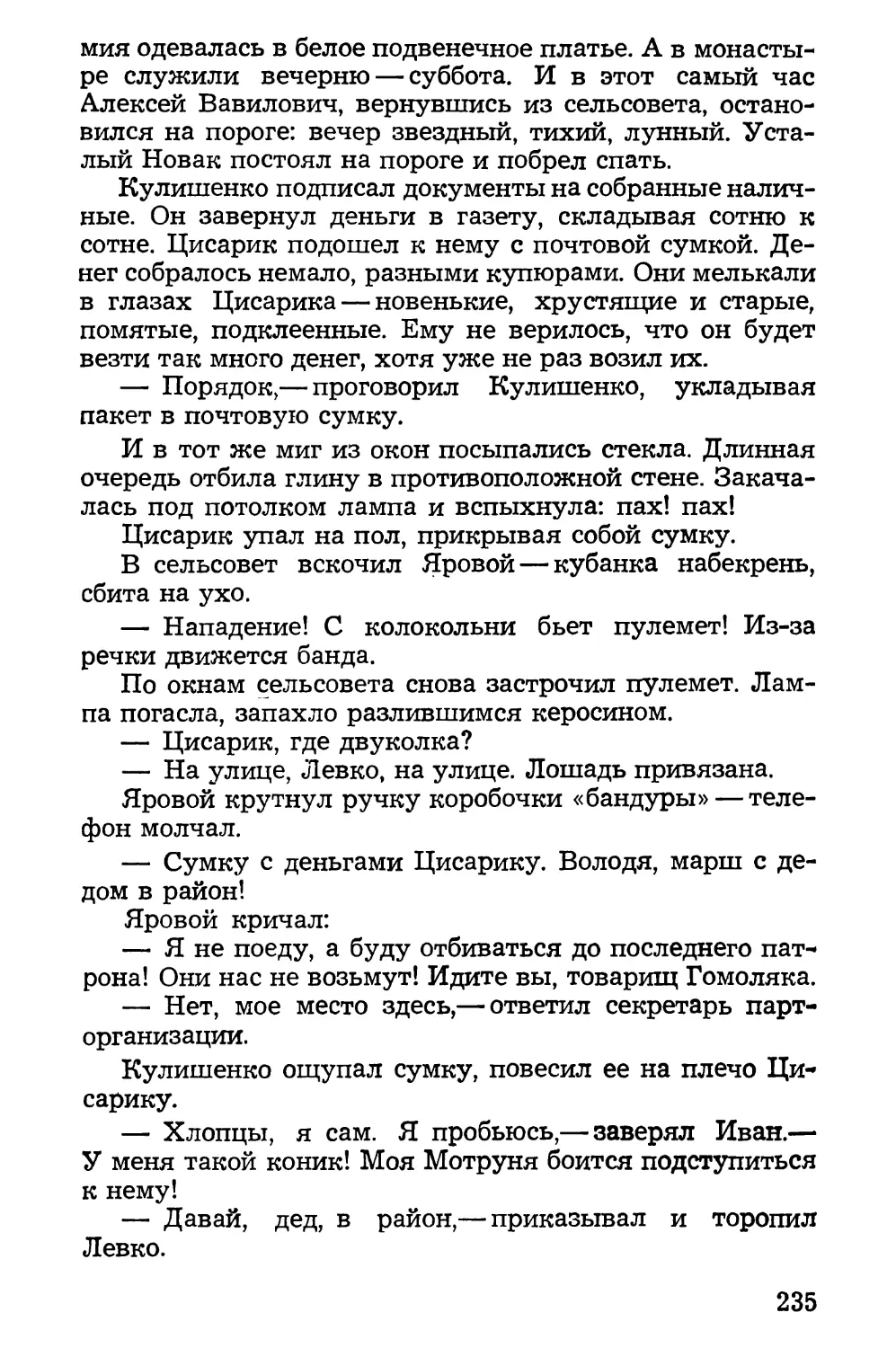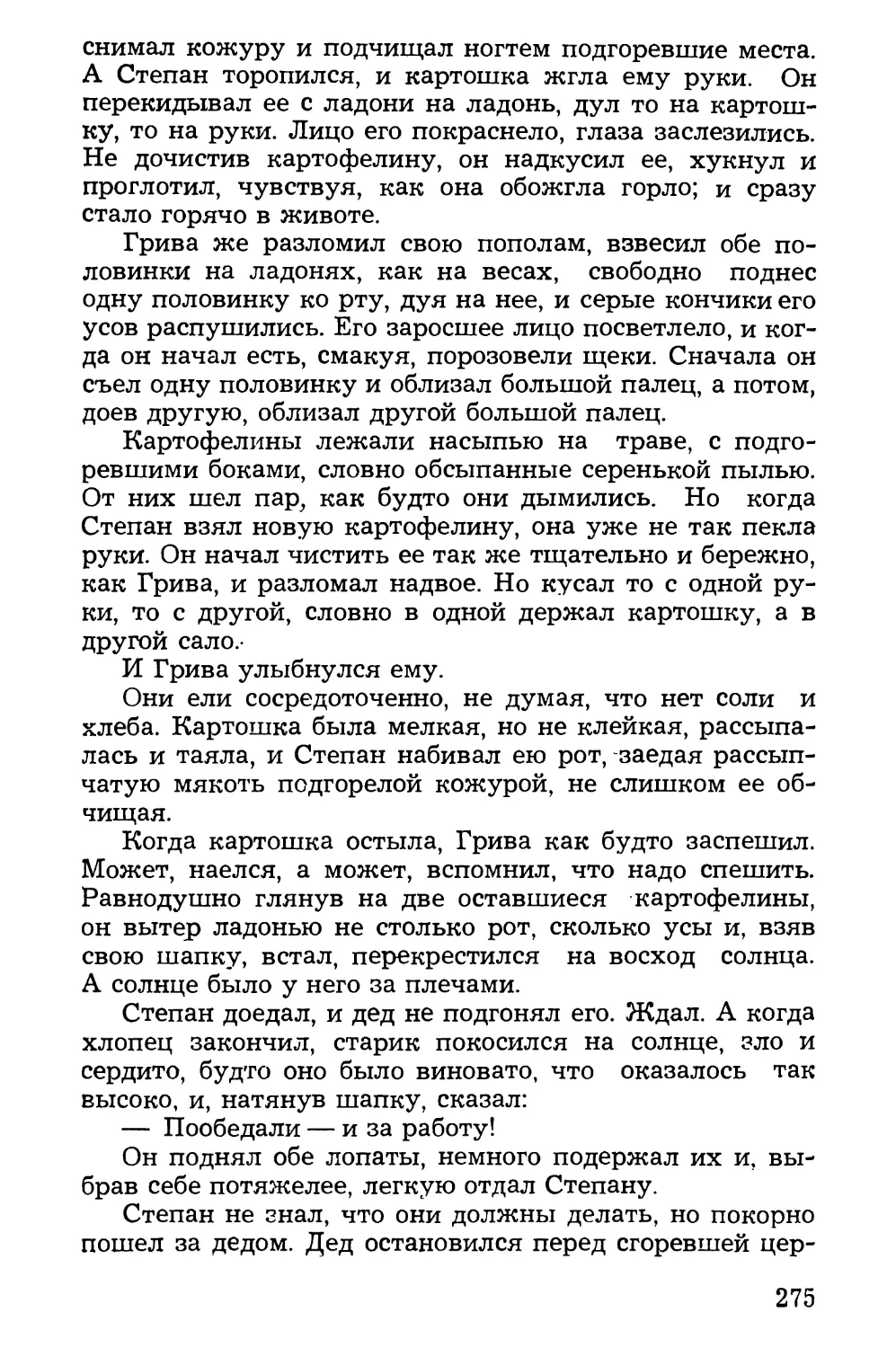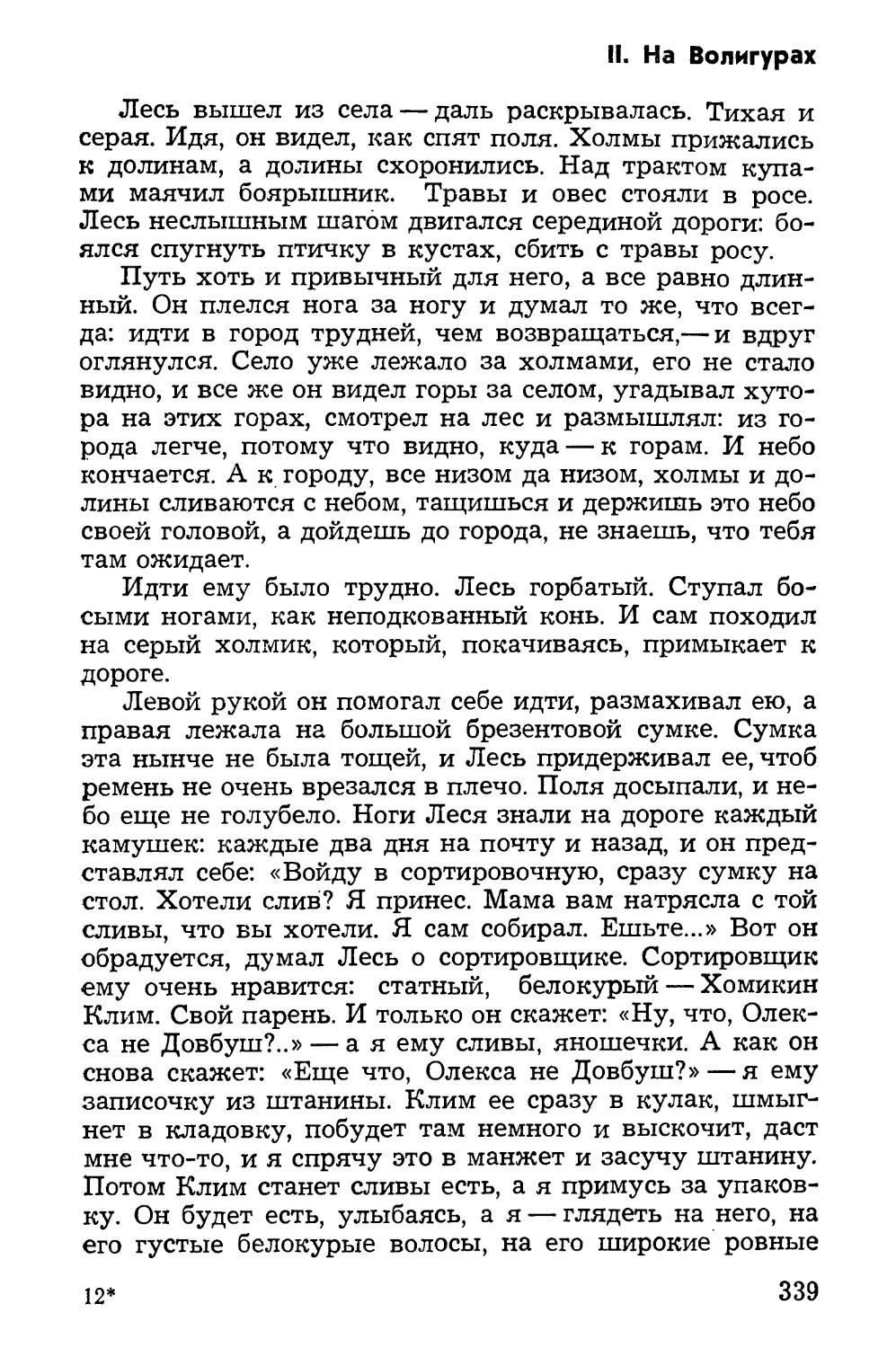Text
БОРИС ХАРЧУК
БОРИС ХАРЧУК
ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
РОМАН
ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ
Перевод с украинского
МОСКВА • СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1981
С (Укр) 2
X 22
Современный украинский прозаик Борис Хар-чук — автор романов, повестей, рассказов из жизни западноукраинского села. Наиболее крупное произведение писателя — роман «Волынь», три книги которого изданы в русском переводе.
Новая книга писателя «Хлеб насущный» состоит из одноименного романа, повести «Теплый пепел» и ряда рассказов.
В романе «Хлеб насущный» Борис Харчу к повествует об ожесточенной классовой борьбе на Волыни, о восстановлении там советской власти после изгнания немецко-фашистских захватчиков и ликвидации их буржуазно-националистических последышей.
Повесть «Теплый пепел» и рассказы посвящены теме борьбы украинского народа с немецко-фашистскими захватчиками, чинившими зверства на временно оккупированной территории.
Все эти произведения отличаются глубоким знанием жизненного материала, остротой и психологической напряженностью сюжета, яркими, запоминающимися характерами героев, картинами крестьянского быта и украинской природы.
Художник АНАТОЛИИ МЕШКОВ
70303-309
X-----------300-81
083(02)—81
4702590200
© Перевод на русский язык.
Издательство «Советский писатель», 1981 г.
А
ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
РОМАН
I
кивком, как в
порога снимали облезлые солдатские ушанки, выцветшие островерхие мерлушковые шапки, обшарпанную заячью рвань. Приглаживали волосы заскорузлыми, корявыми пальцами, всей пятерней, потом приоткрывали дверь, вносили сюда свои думы — тепло своих хат и надежды. Молча здоровались глазами, церкви, и ступали, не топая по полу са
погами.
Рассаживались по углам — подпирали плечами кирпичные стены.
— Какая у кого шапка — такая и душа,— сказал, посасывая свою трубку, Иван Цисарик.
Кто держал шапку в руке, кто сунул ее за пазуху, а он невысокий, длинноусый, вертлявый, в рыжеватом, подпоясанном веревочкой пиджачке, словно невылу-щенный стручок, покачивал между коленями свою помятую, вылинявшую ушанку с сереньким пятнышком на лбу, там, где когда-то была звездочка.
— Какая же она у вас реально, душа? — заговорил Яровой, сидевший у дверей. Он мимоходом глянул на свою кубанку, висевшую на колене, и поднял всегда прищуренные глаза.
— Какая? — Цисарик надел ушанку на палец, повертел, глядя на нее — ношеную-переношеную — и задумчиво ответил: — Будто бы военная...
Павло Оранчук, который не любил зря тратить времени, да и смеялся-то далеко не каждое воскресенье, неторопливо проговорил:
3
*— А разве не ее выменяла ваша заботливая Мотру-ня еще тогда, когда фронт проходил через наше село?
— Может, и так,— писклявым голосом ответил Ци-сарик, как обычно, ничего не утверждая и в то же время не отрицая.— Теперь у всех нас души поменялись, обновились, словно образа. А у тебя, Павле, разве не обновилась?
Посмеялись не над Цисариком, а над Оранчуком. Больше всех смеялся Кримчук, обнажая белые зубы. Он сидел за столом на секретарском месте Нечуйвит-ра, бывшего кума Павла Оранчука, а тот еще крепче сжимал в кулаке старую шапку.
Яровой властно поднял руку, но и на его тонких губах играла усмешка. А Левку Кулишенко шутки и смех — на руку.
— Не знаю,— начал он,— какая у кого душа под бараньей, заячьей или цигейковой шкуркой. Весна пришла — все мы шапки поскидаем. Земля — наша душа. А наши земли—невозделанные, залежные.
Невысокий, коренастый и широкий в плечах, левый рукав — висит, болтается пустой, правой рукой он слова эти будто исторгал из глубины груди и протягивал их людям на широченной ладони. И слова эти светились, не гасли.
— Начинили поля трупами и железом,— говорил;— Едят их и чернозем, и глина, и песок, да никак съесть не могут! Пышно разрослись густые бурьяны. Не шумят уже, а гудят!
— «Бросовые» земли,— вставил Яровой,— именно «бросовые». Не просто покинутые, заброшенные, оставленные— а одичалые, черная пустошь, целина...
Временный секретарь записывал каждое слово в протокол, в толстенную книгу. Крутил взлохмаченной головой, рука двигалась, как заведенная: он считал себя поэтом.
— Развелись лисицы и даже волки,— добавил Ци-сарик.— Земли стало больше, людей — меньше.
— Так, так...— протянул Кулишенко.— Не забыл, припомнил, как когда-то глаза друг другу выцарапывали, резались, судились за межи. Теперь панские нивы, монастырские угодья — обобществили, а поднять их нечем. У кого есть кони, те на собрание — ни ногой. Нахватали обобществленной земли, присоединили ее к
4
своей, утаили... Кричевский пришел? Нет! Точит леме-хи, которые накануне тесть ковал из танковой брони. А Цесарикова Мотря, покинув свою козу, задерет подол и снова побежит в поле закапывать в землю межевые камни и будет вопить: «Тут не троньте: мое!»
Павло Оранчук глядел Левку в рот: вот это да, убей бог, золотые слова. Сам видел, как Мотря закапывала камни, передвигая их подальше за надел, чтобы большим .был. Хотел сказать, что она бы полсвета огородила своими каменьями, но испугался: разве он не взял самовольно делянку из бывших панских и церковных земель? А что тут такого? Земля же пустует...
Цисарик, пригнувшись, мял «военную» шапку, как свою душу: гуляет земля! Никогда еще не лежала такой никчемной! Говорил жене: «Сиди, Мотруня, не рыпайся, козою поля не вспашешь, козу и у кладбища попасти можно».
Шапка выпала из рук Павла. Он забыл о ней, и она стояла у его ноги, как кротовина.
Невысокий впалый лоб, едва прикрытый слежавшимися волосами, будто иссечен кнутом: морщины шевелились и от того углублялись. Он ли не любит землю? Имел коня, и у кума был конь. Спряглись. Собрался Нечуйвитер на мельницу — и вот нет ни кума, ни коней. Что же делать? Что? Самому в плуг впрягаться?
Кулишенко знал, что делать и как: где взять лошадей, инвентарь и даже семена. Но разве и они, все, кто пришел на собрание, не знают этого? Хоть бы тот же Оранчук, который вернулся из-под Берлина с круппов-скими осколками в теле и которому доверили теперь делить панскую и церковные земли.
Пусть сами скажут.
И Левко вымолвил:
— Пахать и сеять нужно, иначе не только земля, а и души наши опустошатся.
Пока он говорил, на него смотрели. Когда закончил, собравшиеся опустили головы.
Было слышно, как скрипит перо Кримчука, ^казалось, оно не пишет, а царапает по бумаге, скачет, словно борона по комьям в поле. Он не смотрел на то, что писал, склонил голову на плечо, глаза его скользили по людям, сидящим в углах комнаты.
— Молчите? Боитесь? — спросил Яровой.
5
Левко достал кисет, вынул из него книжечку, сделанную из газеты. Оторвал листочек, высыпал щепотку табаку. Разровнял табак и, орудуя большим пальцем, свернул на ладони самокрутку. Ловко, мигом. И сунул ее в угол рта.
Он закурил. И закурили сначала сидевшие вдоль стен и по углам, а потом и те, что поближе. Чиркали спички. Тлели огоньки, шипели цигарки.
Дым стлался по комнате.
Левко стиснул в зубах свою цигарку, не посасывал, не тянул, а смотрел, как поднимается дым из углов, нависая над головами людей. Когда сойдут снега, так парует земля на весеннем солнце. Легкая синяя мгла на холмах быстро расходится, словно плывет по долинам. Пронизанная солнцем, она дрожит в его лучах, обвивая голые, еще черные леса, холодные реки и какие-то, словно беззащитные, только что выбравшиеся из зимы села.
Он сидел за столом, застланным кумачом,— молодой председатель сельсовета. Русый чуб свесился, зацепившись за кончик широкой брови, и потому левый глаз его, будто прикрытый, казался дремлющим, а правый — зеленоватым и большим.
В серой шинели. На плечах — следы погон.
Яровой в штатском: бобриковое пальто, широкие клешем штаны навыпуск, круглая кубанка. В руке планшетка на тоненьком ремешке, накинутом на запястье и сжатом в кулаке. Командир истребительной группы сельской охраны — ястребков.
Клубы табачного дыма окутывали его. Запершило в горле. Он не курит, раненный в грудь — дышит одним легким.
Яровой повернул голову к открытой двери, но дым все равно лез в горло. Поднялся и стал у дверей, вытянув худую шею.
— Набрали воды в рот! Моя хата с краю, я ничего не знаю. Земли хотите, а бандитов страшитесь? Может, я нереально говорю? А что такое бандитизм? Бандеровщина, реально — вооруженная сила кулака. Кулак ее кормит. И не чем иным, а хлебом с нашей земли. Выбить хлеб из его рук, реально ударить... Это категорически!
6
Яровой отступил от двери. Через порог переступила Евка.
Он дал ей дорогу, и она шла, стуча изношенными опорками, а сшитая из брезента юбка шуршала на ходу.
Клубы дыма, седые, рыжеватые, бесконечные, как тяжкие думы, тянулись к потолку, медленно поворачивали вниз и тучами тянулись к выходу.
В окно било солнце яркое, горячее, но его длинный луч не мог рассеять окутавший людей дым, тонул в нем.
Евка остановилась перед столом, а пол, казалось, еще ходуном ходил под ее ногами.
В куцем, с короткими рукавами кожушке, будто с чужого плеча, обшарпанном, латаном-перелатаном; на голове черный шерстяной платок, а в белом платке сверток — грудной ребенок на руках,— Евка стояла в этом мареве, сотканном из дыма и солнечных лучей: темно-русая, гибкая, кареглазая.
Она обернулась к людям и к солнцу в окнах.
— К весне готовитесь? — не спросила, а крикнула Евка. Стиснутые зубы ее блеснули, как снег.
Нависла тишина.
Большие глаза женщины, черные, блестящие гневно, глядели из-под изогнутых бровей и длинных ресниц.
Было слышно, как с крыши сорвалась и упала за окном капля, звонко ударилась о жестяной подоконник, брызнув во все концы,— весенняя капель!
На раскрытых запекшихся губах Евки выступила еле заметная усмешка, острая, лукавая.
Звон этой капели, разбившейся за окном, расслышал Кулишенко и глубоко затянулся: курилось. Услышал и Павло Оранчук, да так, будто она скатилась ему за ворот и разбежалась по спине.
— Слышите? — настойчиво спрашивала Евка, хмуро оглядывая сидящих.
Ребенок заплакал хрипло и жалобно.
Евка нагнулась к нему, стала покачивать: «а-а-а-а...» Младенец замолк.
Она подняла глаза, ясные, тихие. И казалось, в них было больше солнца, чем в небе. Но почему они вдруг потемнели?
7
— Весна каплет, а вы все молчите! — снова заговорила она.— А я молчать не буду! Не могу! Если бы даже и хотела молчать, он не даст,— она протянула руки, державшие ребенка.— И дома еще двое. Буду молчать — они разорвут мне рот до ушей.
— И не зашьешь! — кинул Цисарик.
Она будто и не слышала его. Подвижная, стремительная, проворно наклонилась к столу:
— Вы, власть! — И быстро, словно на одной ноге, Обернулась к людям:—И вы, и вы! Я не смолчу ни вам, ни самому богу! Нету Нечуйвитра! Нету моего Власа! Так я скажу и за него и за себя.
— Он и сам не молчал,— проговорил Оранчук.
Евка услышала.
— Да, не молчал! — вскрикнула она.— Влас говорил: соберем вместе коней, пахать будем, сеять, не дадим гибнуть земле. Хватит одним загребать горы и долы, копить, богатеть, а другим тыкать лопатой в землю, запрягать в плуги коров и пухнуть с голоду. Такого права нет! Влас ждал весны, так ждал...
Глаза ее сверкали черным пламенем, глубокие синяки под ними набухали и шевелились.
Развязался платок, и стало видно, как на высокой шее по обе стороны горла пульсировали синие жилки. Она продолжала:
— Влас поехал на мельницу и не вернулся. Я нашла его в поле. Декабрьский мороз. Земля без снега. Подвода — и Влас с петлей на шее. Я сняла с его шеи петлю, а у него во рту были мерзлые комья земли. Прежде чем задушить, они поставили Власа на колени. Хотел пахать землю — ешь ее. Заставили грызть зубами мерзлую землю, чтоб грыз ее, как камень. Поломались, повыкрошились зубы, стали черными. Я положила его на воз и запряглась в шлею. Да разве вы не видели?! Ни у кого ж глаза не повылазили! Как лошадь я везла своего Власа по селу.
— Бандиты,— глухо, отрывисто вставил Яровой и шлепнул ладонью по планшетке.
— А у меня дети,— говорила Евка,— старший смотрит глазами из одного угла, младший — из другого, а самый маленький тут, на груди. Звезды сияют ночью и гаснут днем, а глаза детей моих не дают мне покоя ни днем ни ночью.
8
Она, покачнувшись, сделала полшага вперед, крепко прижимая ребенка к груди.
Платок сполз с головы, ровный пробор белел в волоса?:.
— Может, ты, кум Павел, будешь моим детям вместо отца? — спросила она.— Кум, а боишься зайти. Вдова. Чтоб не было разговоров.— Она засмеялась и повернулась боком к столу:— Может, ты, Левко? Ты ведь еще неженатый. А может, мне снова пойти в батрачки к Кричевскому, вы, судьи? Все дождались весны, а Влас — не дождался.
Медленно, покачиваясь, будто устав после работы на огороде, она двинулась к открытой двери, натягивая одной рукой на голову черный платок.
Ее никто не останавливал.
Оранчук поерзал на лавке, наступил ногой на свою шапку.
Цисарик держал во рту трубку. На крышечке ее стоял танцующий чертик, которого он называл Мефи-стом, а его Мотруня — Паном.
— Гром-баба, громом и дубасит.— Он подул в трубку, но она не дымилась.
— Ну, так как же? У кого кони? У кого семена? Кримчук постучал ручкой о чернильницу.
II
Юрко писал, склонившись над ученической тетрадью в клетку. Под алгебраическими уравнениями укладывались ровные строчки слов, будто на колючую проволоку нанизывались. Немало знал он слов, но с кончика пера ложились на бумагу какие-то ненастоящие, маленькие. Он их зачеркивал: маленьких слов нет, есть маленькие мысли.
Вошла мачеха.
— Тебя отец зовет.
Юрко не поднял головы.
Она молода. Полные руки распирают рукава, мощные икры — голенища.
Покачала головой. От красного, разгоревшегося лица, казалось, краснел даже ее белый платок.
9
— Как поесть, так он вперегонки, а работать...— грохнули двери,— колом не загонишь,— донеслось уже из сеней.
Хлопец не поднял головы.
Самодельный липовый стол без ящика. С обеих его сторон, под окнами,— лавки, с третьей — кровать, у изголовья— табуретка. Стол голый, покрывают его только в большие праздники.
Юрко сидел спиной к окошку. Фронтовая гимнастерка отца топорщилась на нем, тонкая шея сиротливо торчала из широкого воротника. Плечи узкие, грудь плоская, голова большая. В синие глаза лезет космами соломенный чуб.
На перышке висела чернильная капля. Он думал: на этом столе лежал хлеб, укрытый полотенцем, нож, но никогда не было книжки. Зеленые, синие, разноцветные квитанции, свернутые трубкой, перевязанные шпагатом, клали за икону. Печатное и писаное слово имело силу богов, которые могли миловать, но почему-то чаще карали. Иконы соседствовали с бумагами на страховку, налоги, векселями...
За столом не читали и не писали. За ним составлялись только бумаги о штрафах химическим послюнявленным карандашом: комендантом полиции — за антимонопольный посев табака, лесничим — за вязанку дров из леса, полевым сторожем — за потраву, разными агентами — за вечные недоборы, за хмельную,, горькую и короткую радость самогона. Эти запомнились ему с детства — приметы крестьянской доли.
Не за столом, а перед ним, когда на него клали покойника, к примеру, мать со сложенными накрест на груди неживыми руками, с живой в них поминальной свечой,— читались все одни и те же слова: «Из праха восстал еси, в прах и возвратишься...» —гнусаво и монотонно.
Хлеб и нож, который режет этот хлеб,— книга жизни.
«Идиллическая,— писал он между клеточками тетради,— покосившаяся мазанка в садочке на краю села, с соломенной крышей и гнездом аиста, словно бы национальной геральдикой,— уходит в небытие. Трухлявый плетень...»
Дальше слов не было: были белые косы и синие
10
глаза... Косы казались белым туманом, который не рассеивается, высоким гребнем волны, которая льется, льется и все вылиться не может. А глаза?..
Он сидел и проклинал свою одержимость словом. Когда и почему это началось? За чьи грехи?
А оно было, лежало где-то там, в его душе, словно в каменной горе, обросшей мхом.
А может, он так никогда и не добудет его? Не дается ему слово, как не удается задержать в руке ветер, огонь? А может, взорвется, брызнет вдруг обломками, глыбами?..
Ноги касались глиняного пола — твердого, исковерканного,— земля словно бы уплывала. Стены серые, давно не белены. Над входом в боковушку, завешанную старым пестрым рядном, на фотографии дед. Тоже Юрко. Но он его не знал. Круглая фуражка с твердым козырьком, брови нависли до самых глаз, усы закрыли рот. В чу марке \ Валил лес, пахал землю, растил хлеб. В трескучие морозы ходил без шапки. Юр — так его называли. А какой была бабуся? Он и вовсе не знает. Ничего не сохранилось от нее, кроме сундука, который стоит в кладовой. Колесики растерялись. Пустой. В сундук насыпают зерно, когда оно есть. Дед на стене одинок. С высоты над дверью он смотрит на зеркало, которое висит между окнами. Изредка в него заглядывают живые. По обе стороны зеркала в рамках фотографии, одна за другой, маленькие, в пятнах. Есть свадебные. Но не отцовские; потому что женился не один раз. Чаще всего тех, кто куда-то уезжал и присылал на память. Отец в форменной фуражке армии Ридз-Смиглы1 2. Потом в пилотке — среди развалин Кенигсберга: брал крепость древних псов — крестоносцев, потом — Берлин.
В окна затарабанили. Будто молотком по раме. Маленькие, с ладонь, стекла сильно зазвенели, словно хотели рассыпаться.
—• Убей меня бог! Тебя не докличешься! — Голос раздраженный, надтреснутый.
Он знал этот голос, неугомонный, с придыханием. Встал из-за стола, схватил шапку, вышел во двор.
1 Ч у м а р к а — верхняя мужская одежда.
2 Ридз-Смиглы- генерал польской армии.
И
Отец держал в руке молоток, посасывал ржавые гвозди во рту. Узловатый, горячий. Шапка надвинута на глаза, воротник рубахи расстегнут, пиджак распахнут, заправленные в сапоги штаны съехали и еле держатся. Заплаты светятся на коленях. Выглядит он убого, безрадостно.
«Мать с маленькой сестренкой тянут саночками навоз на огород, все мечутся как ошпаренные, а ты расселся».
Юрко не услышал этих слов, но их сказали выцветшие глаза отца, молоток в его руке. Кивнул головой, быстро пошел, позвал за собой сына в сарай. Сердитый, злой. Насупился, глядя на ясное, веселое солнце. Ступал по обтаявшему подворью, не обходя болота, чавкая сапогами, через лужи.
А в сарае отец изменился. Смотрел на сына таким теплым взглядом, будто согретым солнцем. А может, это тепло всегда было в его глазах, но спрятанное, затаенное. Подал Юрку измазанную доску.
Устраивали хлевец для свинки в сарае.
Отец выбрасывал солому из боковушки сарая на кучу дров, сам натесал колки. Обходился без помощи. Теперь надо кому-нибудь поддержать доски, чтобы прибить их к стенкам.
Юрко держал доску. Батько молча забивал гвозди. Не разговаривали.
Двери в сарай прикрыты, чтобы никто не догадался, что там делается. Мать возилась с навозом, часто оглядывалась — стерегла от злого глаза.
Хлевец — тайна. Для него искали место, о нем говорили, как о чем-то дорогом и заветном, перед сном и шепотом. После молитвы.
— Где нам, Павел, нашу свинку спрятать?
— Может, в погребе?
— Одурел. В погреб только ступи — она и захрюкает.
— Тогда на чердаке?
— Скажешь тоже! Чтобы гадила нам на головы, а подрастет, так и чердак провалит. Послал бог мужа, а мозги куриные, и того меньше. Не надо было выходить за вдовца, потому что он — ни рыба ни мясо. А я еще удивляюсь, что сын твой придурковатый, как сонная
12
муха. Какая хата, таков тын, какой батько, таков сын.— Она сердилась и оскорбляла отца.
Он что-то бормотал, гундосил, не решаясь ей возражать, и это злило ее еще больше.
— Я сама вдовица, но к чему мне ворчун, у которого от мужика только и есть — что штаны.
Кот заглядывал под печь, и потому поросенок хрюкал, попискивал. Они прятали его то в погребе, то в старом сундуке, то в кладовой — всюду подыскивали место получше, но все было не то.
Рассердился, разгневался отец.
Мачеха читала молитву «Отче наш, иже еси...», а он раздраженно процедил:
— Еси-еси... Убей меня бог! Носишься, носишься с этим поросенком, спрячь его себе под юбку, если уж выкармливать его, некрещеного черта!
Она молча, широко перекрестилась, отвесила земной поклон и прошептала:
— Болван, ни бог, ни царица небесная тебя не надоумят, не просветят, ибо как ты крестишься*? Будто мух отгоняешь. А меня удостоили, потому что я молюсь умиленно, с замиранием.— И добавила сладко, вкрадчиво:— В соломке спрячем, в соломке, Павлик.
— Как в соломке? — удивился он.
— А так: выбросим солому из ямы в сарае, сколотим хлевец, потом опять соломой закидаем.
— Как же ты подступишься к нему с едой?
— Я и об этом подумала. Поставлю лестницу, отброшу одну вязанку, другую и спущу ведро на веревке, как в колодец.
— Как в колодец?
— Да. И никакой, даже самый большой бандит не догадается, Павлик.
— Ц-с-с-с,— прошелестел батько.— Не поминай
черта, на ночь глядя.
Они раздумывали, а поросенок, еще сосунок, маленький, с розовым рыльцем и тонким, мышиным хвостиком, не догадывался, как о нем пеклись, заботились. Мачеха, строго водя пальцем перед носом сына Яшки и дочки Раи, приказала никому ни единым словом не обмолвиться про поросенка. Нет у нас никакого поросенка! Кто скажет: видели, мол, принесла я что-то с базара не в мешке, а в кошелке, а вы — ничего не видели.
13
Слышат — сидит кто-то под печью, а вы ничего не слышите! На Юрка только глянула — словно обожгла. Вчера наконец додумалась, куда этого поросенка пристроить, сегодня — за работу.
Он ухватил доску, удерживая ее руками и коленом.
Молоток стучал тихо, приглушенно, чтобы не слышали соседи. Отец не забивал гвозди до конца и загибал их: так легче будет их вытягивать, они еще не раз понадобятся.
То, о чем думал Юрко, что его мучило, подавлялось, выветривалось из головы. Так поднявшийся на дороге бешеный вихрь мчится в безвестность, гудит среди молчаливых полей.
Юрко смотрел на отца, и ему становилось жаль его, раньше времени постаревшего, истощенного войной, работой, жизнью. Судьбу конем не объедешь. Ни в чем ему не везло. Земли — кот наплакал, бедность. Женщины, на которых он женился, не хотели родить ему детей и сами долго не прожили на свете. Две его жены умерли бездетными, наверно, он уже забыл их имена. Юрко совсем их не знает. Как и свою мать. Тяжелые у нее были роды, родила, когда копали картошку. Несла с воза мешок картошки, мешок и повалил ее, упала под непосильноц тяжестью. Она из-под мешка и не встала. Не раз говорил ему отец: других детей приносят аисты, а тебя — в картошке нашли. Маму звали Верой, но имя ее не упоминается в хате. Раз в год поминают усопшую рабу Веру, когда в праздник поминовения ходят на могилки. После смерти матери отец не женился: жил — на веру. Чужие женщины, которые должны были заменить Юрку мать, тоже не заживались. Отец хоронил их по обряду, хотя они и жили с ним не венчанные.
Наконец он сошелся опять на веру с Манькой, которую взял с двумя малолетними детьми. Манька согласилась, с условием, что Юрка отдадут в монастырь. Пусть растет в монастыре, пусть с детства замаливает грехи, которые выпали едва ли не на седьмое поколение семьи Оранчуков. Его, десятилетнего, отдали в монастырь, но он вскоре оттуда сбежал.
Хлевец для поросенка делался на скорую руку, маленький. Четыре кола соединялись досками. И не очень-то старались — времянка, постоит в соломе, пока поросенок подрастет.
14
Юрко заметил издавна: отец горячо берется за какое-нибудь дело, работает, тянется изо всех сил — и всегда, что бы он ни начинал, хочет сделать скорее, словно над ним кто-то с нагайкой стоит. Поэтому замки на дверях болтались, завесы скрипели, ясли и желоб в хлеву всегда подправлялись. Только одну работу — в поле — он делал, ползая на коленях. Обрабатывал землю так, что на ней ни комков, ни пырея, ни осота. В земле видел он свое настоящее дело. Остальное все — смой-вода. Таким он стал, живя с Манькой. Пережили панскую Польшу, немецкую оккупацию, второй раз дождались освобождения. Он любил ее детей, и на селе посмеивались: «Манька его не оставит, не из того десятка... Ее век долгий, всех переживет».
В этом крылось что-то насмешливое, даже глумливое, но людей не остановишь: «Женился бы Оранчук сразу на вдове с детьми — и горя бы не знал. Так нет же, теперь взял Маньку с детьми, Манька не умирает, а на своих детей ему не очень повезло».
Со лба у отца стекает пот. Черная, как чернила, капля падает с лохматой брови на слегка выпяченную нижнюю губу. Он не слизывает ее, а Юрко все время думает, какой тот пот соленый.
Перед глазами мелькали отцовы руки со скрюченными пальцами, каждый из них искалечен. Ногти кривые, толстые, поломанные, посиневшие. Не сама ли доля его на этих пальцах написана?
Но отцу будто и пот не казался соленым, огрубевшие, с напрягшимися жилами, руки не болели. За все время он произнес только одно слово.
— Добре...
Оно много значило: хлевец, поросенок, которого удастся вырастить, радость, когда его заколют. Он, наверно, чувствовал запах колбасы, он видел сало как раз к жнивам, когда надо косить и работать, не разгибаясь.
Примостили последнюю доску, и отец махнул рукой. Иди, мол, к себе, сын. Скинул шапку и вытирал куском заношенной липкой подкладки лицо.
На бороде, под носом торчала рыжая щетина. Отдельные волоски ее были слишком тонкие, длинные и жалкие. Он сморщился, как будто извинялся, что нашумел, оторвал от такой непонятной ему и, может быть, в самом деле нужной сыну работы. А может быть, ви
15
новатым себя считал даже за то, что народил его на свет.
Юрко постоял, выбрался из боковушки, побрел на улицу. Он больше здесь не нужен.
Возвращаться в хату не хотелось.
Ill
За плечами на коромысле ведро в ведре. Но Левко не чувствует их тяжести. В плечо упираются шпоры, довольно большие, похожие на конские подковы, с острыми шипами, с брезентовыми полосками, которые он отрезал от своей сержантской сумки. Эти шпоры-подковы Кулишенко называл коньками. Без них воду из источника не принесешь.
Он вышел со двора на улицу. Двор у него — с гулькин нос, а на нем вросла в землю по самые окна старенькая хата. Если бы не осела так глубоко в землю, давно бы развалилась.
Весна как будто выдалась ранняя, быстро таяли снега, думали о севе. И вдруг снова выпал снег — последний в эту зиму. Он был мелкий как пена, но сыпал всю ночь. А на рассвете — мороз. И земля, не успевшая глубоко протаять, снова затвердела.
Левко спускался сверху — с Пропастища,— самого высокого места в селе. На улице гололед. В утреннем мартовском туманном воздухе остро, терпко и сладко пахли вишневые сады. Тянуло щемящим сердце запахом молодых березовых почек. Уже ощущалось еле уловимое веяние набухших яблоневых веток.
Велемче — село на семи холмах: Залужье, Сон-гора, Пропастище, Запорожье, Заставна, Городище. Шесть холмов тянутся полукругом, удивительные, неприступные на суходоле высокие острова, на которых белеют вверху, будто слипшиеся под небом хаты, хатки, хижины. А напротив, за широкой долиной, седьмой холм — Могилки: остров белых крестов. Велемчане рождались, жили на горах и выносили на гору своих предков.
Левко знал здесь все углы и закоулки, как знают самых близких людей. Остановился с ведрами. С хол
16
мов надвигался туман и плыл по долине, густой и темный.
Каждый холм дышал неспокойными соками вишен, берез и яблонь — буйным хмелем земли, который рос, ширился и доносился даже с острова белых крестов.
Кулишенко казалось, что не туман заполнил долину, а то плавают соки земли, добытые корнями деревьев. И он пил его — этот волнующий настой.
Коромысло выравнивало плечо, как выравнивала его когда-то винтовка-трехлинейка, а потом — автомат, что носил он с первых дней войны. Ступая с горы, он будто ощутил в своем пустом рукаве потерянную левую руку и усмехнулся. От этой усмешки горько искривились губы.
Ему отняли руку до плеча: ее перебило миной недалеко от Бранденбургских ворот. Тогда он потерялсо-знание. Товарищи подхватили. Когда очнулся, казалось, что несут его на Пропастище — и щемяще запахло вишнями. И когда резали руку в полевом лазарете, и после, когда хирург сказал санитарам: «В палату...» — тоже пахло вишнями.
Недавно вернулся домой. В прошлом году осенью. Когда становился на партийный учет, секретарь райкома сказала: «Мы вас ждем, товарищ Кулишенко. Никто не снимал вас с должности председателя сельсовета, годы оккупации во внимание не берем. Так что председательствуйте. Но имейте в виду: в селе есть бандиты»,— и она подала руку, Шитик Дарья.
Он удерживал на плече коромысло и вспоминал пожатие ее руки, не по-женски крепкое, сильное.
Чернявая, с пышными волосами. Глаза острые, умные. В них нет ничего скрытого. И вся она — на виду, стройная, красивая.
Провожала до дверей подтянутая, будто подпоясанная солдатским ремнем, хотя в действительности одета в самодельный жакет, с шерстяными, будто из трехкопеечных монет, обвязанных шерстью, пуговицами.
Ведра покачивались на коромысле — Левко нес на своих плечах воспоминания. А в голове — посевная: заберем у кулаков лошадей. Как припечет солнце — так и заберем. Самый малый кусок земли не будет пустовать. Вот только бы управиться с вывозкой леса...
17
На левом боку под полой шинели пистолет. И по воду идти с оружием приходится.
А утро в селе тихое, подернутое туманом.
Уже давно пропели петухи, все затихло перед восходом солнца, все холмы ждут его.
Ноги скользят. Далеко слышен его скрипучий шаг. А ходит он легко и быстро. Вырос среди гор. В отца пошел.
Старый Кулишенко ходил — словно танцевал, да и любил потанцевать. Бедняк ведь, а когда был молодым парнем, многих девок затанцовывал, отбивал у кавалеров. Девки стреляли глазами, млели, ожидая, чтобы он пригласил их и повел в веселом танце, чтоб радоваться в долгом, неистовом кружении, не касаясь земли, и чтобы каждая жилочка пела как натянутая струна, а во всем теле звенела, гудела музыка, как гудит неутомимый бубен.
И Левко вспоминал отца с топором и себя возле отца.
«Бери, мой сын, как я брал когда-то, срубленное дерево. Ставь на попа и веди его как невесту, а я посижу, покурю и посмотрю, что из тебя будет».
Прочищали панский лес Верхов за Сон-горою.
Он брал поленище руками и водил его поляною, припадая, приседая около него.
«Удерживай, дурень, бревно на весу. Так и девку надо держать, чтоб она не чуяла земли, а только твои руки».
Старик грелся на пригорке.
Веселым, радостным, в лаптях на босу ногу, в грубых штанах на гашнике, в грубой полотняной сорочке запомнился ему отец. Сидит на вывернутом пеньке, голова стрижена под горшок, продолговатое лицо, заросшее, как перелесок, или запущенное поле, где одно зелье пожухло, а другое еще не цветет. Под самыми глазами — голо, кожа, как обожженная. Играет на гребешке, которым можно расчесывать и кудель и шапку волос. Небольшие глубоко сидящие глаза, хитрые, насмешливые и лукавые,— за богачом и черт с калачом, а он — сам себе пан.
Левко подумал: что в нем есть отцовского? Во внешности, в характере? Мальчишкой ему очень хотелось
18
быть похожим на отца, который не очень был привязан к дому, не убивался по своему хозяйству. Мать его пилила, а он делал свое, непонятное, непостижимое ей, на крик отделывался шутками, задабривал надеждами. Верила ли она ему?
Он впитал в себя все отцовские надежды. В нем — его отец. Он должен все эти надежды оправдать.
Под боком у Могилок, словно под полою,— монастырь. В тумане стоит колокольня, купола, кресты, крестики.
Не любил он монастырь. Высокая колокольня напоминала монахов, которые нудно тянут молитвы и потому еще больше обрастают жиром.
Резко повернул голову, отвел взгляд. Спускался с Пропастища, смотрел на Сон-гору. Из всех семи холмов она не заселена. Каменная. Из нее добывали камень.
В горе норы — длинные тайные укрытия. Коридоры широкие и высокие, но потом чем глубже, тем уже. Ребенком, хлопчиком он излазил их, исшаркал коленями, знал, куда какой ход ведет, как из него выбраться на поверхность.
Из Сон-горы бьет родник, течет речка прямо через село. А возле родника,, как только зазеленеет выгон, хлопцы и девчата водили хороводы. Начинали с веснянок, а заканчивали метелицей, на снегу.
Однажды отец разбудил его и повел на Сон-гору. Тогда ему еще не исполнилось семнадцати.
— Умойся из родника. Вода холодная, сон как рукой снимет, а то раззевался.
В тот первый раз они просидели на валунах, никого не дождались, украдкой вернулись домой, и батько так и не сказал, зачем брал его с собой.
Повел во второй раз. Теперь их ждали два человека с котомками. С недоверием посмотрели на него, но отец сказал им: «Сын»,— и они подали ему руки. Впервые неизвестные люди здоровались с ним, как с равным, приладили ему и отцу на плечи свои сумки. И они понесли их домой, спрятали в копне сена под хатой.
Он не знал, что несли и что прятали.
Утром отец послал его раскидать сено для просушки. Он взял вилы, раскидал копну и глазам не поверил: котомки исчезли. А ему хотелось знать, что же он нес на своих плечах и куда оно подевалось?
19
Подошел отец и сказал:
— Удивляешься, где котомки? В них была литература.
Для Левко, окончившего четыре класса начальной школы, эти слова прозвучали странно и необычно из уст неграмотного, темного отца. Будто отец открыл ему глаза на что-то неведомое. Какая литература? Какое дело до нее отцу? Кто же такой батько? Горемыка-неудачник или кто-то иной?
В поле они положили косы и присели отдохнуть. Отец достал из кисета листовку и подал ему. Он хотел прочитать ее громко, но отец отрицательно покачал головой.
Это была коммунистическая прокламация против войны.
К ним шел Кричевский, поле которого они косили. Отец забрал листовку, сложил книжечкой, потом оторвал кусочек, как от газеты, и насыпал табаку.
— Мне, сынок, и читать не надо: я курю и набираюсь духу.
Он и Кричевскому оторвал листочек, угостив его своим куревом.
Уже потом Левко узнал, что отец не только прячет литературу, но и переправляет на советскую сторону участников коммунистического подполья. И Левка приучил к этому делу.
В Велемче комендант и трое полицейских. Село окружают осадники \ вооруженные, на лошадях. Вот у них-то под носом, под их недремлющим оком и происходила переправа. Днем Левко виделся с комендантом— высокий картуз с белым орлом, козырек, окаймленный жестью, блестел на улицах села. А вечером он шел на Сон-гору. Риск подогревал желание делать что-то небезопасное. В коридорах горы собирались, ждали поляки, чехи, мадьяры, свои — украинцы. И то, что именно поляки, а с ними и все другие выступают против пилсудчины — за далекую Москву, где восходит солнце свободы, вселяло смелость и уверенность. Бед-
1 Осадники —польские кулаки-хуторяне, военные поселенцы вдоль границы с СССР.
20
няк с бедняком — против богатых: пролетарии, объединяйтесь!
Это он слышал на разных языках, на которых говорили люди, собравшиеся тут в тайниках Сон-горы.
Темным вечером водил беглецов к роднику. Пили из ладоней, брали воду в бутылочки: хорошая вода. Он впереди, они за ним. У Верхова,— лесом, что ни шаг, то ближе к границе,— показывал дорогу.
Всегда в темную ночь. Он был таким юрким, находчивым и изворотливым, казалось, способен закрыть ладонью луну и погасить звезды, если бы луна осветила ярко все вокруг, а звезды усыпали небо.
Когда он переводил через границу в Советский Союз делегатов на конгресс Коминтерна, моросил холодный дождь. В лесу деревья не заслоняли ему свет, а в полях изморось не слепила очи. Промок до костей и, чтобы зубы не выбивали дробь, беззвучно шевелил губами и пальцами босых ног.
Вышли на тракт. Залегли под насыпью. Над головой гудели телеграфные провода.
Быстрыми прыжками пересекли шоссе. Он выводил делегатов к пятому столбу. Еще четыре столба впереди, а там пограничные будки, часовые.
Поднявшись на локте, он метнулся с насыпи и колесом перекатился через тракт. Присел, как заяц. Слышал: за ним переметнулись один, другой, третий. Собрались— и не шли, не бежали, поползли, не поднимая головы. Скатились в овраг...
Перестало моросить, но небо не посветлело.
Овраг вывел к самой прикордонной полосе. Послышались всплески мелкой речушки, ее перескочить — и люди уже оказались бы на том берегу.
Он полз пашней, по верху оврага, а делегаты продвигались ниже по склону.
Ему непременно хотелось убедиться в том, что они переберутся через речку. Он должен удостовериться в этом, иначе какой из него проводник?
Выстрел не прогремел — только блеснул. А может, Левко и не услышал, как он прогремел. Прошипел тем, в овраге: «Бегите!» — и бросился в сторону, дальше, в поле, пашней. Падал, вставал, а когда овраг остался далеко в стороне, крикнул: «Не стреляйте! Сдаюсь!» Лаяли собаки, бежали часовые. Не поверили, что сдается.
21
Для уверенности — раздался выстрел — ему загнали в ногу пульку. «Пся крев! Кабан, а где свиньи?» Сказал, что переводил за деньги. «А где деньги — пенендзы?!» — «Под пятым столбом, панове». Его подняли на руки, понесли, как барина, чтоб показал, где тот пятый столб.
Он показал, где эти деньги — пенендзы. Солдаты копали, копали, но денег, разумеется, не было. На столбе гудели провода. Перевел он делегатов, обманул часовых, да еще и посмеялся над ними...
Вот что напомнила ему Сон-гора, на которую он глядел, спускаясь все ниже и ниже, в долину, в туман. Неподвижная, широкая, отлогая, она была живой, исполненной немой силы.
Сверху туман казался серовато-голубым. Левко ступал, будто ныряя в него, седые пряди путались в ногах, доходили до пояса.
Туман, уже выше груди, вскоре покрыл его с головою. Ничего не видно. Покачивался белесый густой сумрак. В нем, вздыхая, бил родник и привычно хлюпала речка. Он не видел ни родника, ни речки: слышал только шумный клекот. У родника булькнуло чье-то ведро. Кто-то набирал воду. Левко пошел быстрее. Ведра за плечами метнулись на коромысле, звякнули, ударившись об опоры-подковы. В тумане ничего не было видно.
Он свернул на тропинку, где не разминешься, и остановился. Потревоженная легкая волна тумана повеяла ему в лицо. Он оглянулся. В тот же миг из белесой пелены глянули на него синие глаза. Это длилось какое-то мгновение.
Он не мог понять, чьи они и чем поразили его — глаза из тумана.
Бил родник, хлюпала речка.
Левко подумал: может, он никаких глаз и не видел, ему просто почудилось. Но чье-то ведро все-таки булькнуло, кто-то набирал воду.
Наверное, все это навеял серый туман. Мохнатые гряды его плывут, и вспомнилось ему: тут, на выгоне близ родника, когда-то танцевали хлопцы и девчата.
Набрал полные ведра, на ощупь приладил к сапогам шпоры-подковы и медленно пошел в гору, выходя из тумана.
22
С Пропастища без коромысла, с ведром в руке бежала Евка.
Он шел с долины, а Евка бежала с горы. Она была над туманом. Светились ее терново-черные глаза.
IV
На эту неделю пришелся небольшой праздник, один из многих среди великого поста, который даже наиболее богомольные бабы не почитают. Однако же не берутся в этот день ни за какую работу, и Оксент Кричевский решил пойти к Павлу Оранчуку. Он, вероятно, и не отважился бы на это посещение, если б не Варька. Тихая, боязливая, запуганная, она еще с самого рождества снаряжала его из Городища в Залужье — из одного конца в другой конец села, словно в дальнюю дорогу, которая будто сулила им что-то лучшее.
Когда Варька впервые заикнулась про Павла, Оксент и не взглянул на нее. Не хотел даже слушать. А она смотрела на него, тяжело, упорно, не отводя глаз. Но ведь капля за каплей — и камень долбит. Варька была терпеливой и настойчивой, а Оксент не сумел ни возразить, ни поставить на своем. Откладывал свое посещение, будто кота тянул за хвост: на душе погано, словно кошки скребут.
Вечером не заикнулся даже, что утром пойдет к Оранчуку, и Варька еще ничего не знала. Он возился около скотины, слонялся из конюшни в хлев, заглядывал в амбар, в кладовую. Везде порядок. Лошади — самая большая его страсть и привязанность — молодые, ухоженные. Лошадка — с жеребенком. Корова, телка и теленок, который еще год побегает, стоят в тепле. Хлев каменный, просторный. Еще недавно в нем на привязи жевало жвачку значительно больше скотины. Но по нынешним временам и того, что есть,— слишком много. Теперь * приданого не берут ни скотиной, ни землей, ни деньгами.
Оксент вспомнил о приданом; на верхней рассеченной губе побагровел и сразу посинел рубец, и это было признаком того, что в нем кипел гнев.
Приданое — слово, за которым стояла Соломин, дочка. Он, отец, побаивался произносить ее имя. Когда-то
23
маленькой брал ее, сажал к себе на колени... Правда, редко... можно по пальцам пересчитать. Раза три — годовалой— на рождество, двухлетней — на пасху, трехлетней — на праздник троицы. Варька вплетала ей в белые косы голубые ленты. Тогда он был уверен: в его дитяти, в дочке-василечке — вся его жизнь. Теперь Соломин олицетворяла смерть. Свою, его, Варькину — всей семьи.
В темном загоне, сбившись в кучу, заблеяли овцы: «Ме-ке-ке...»
Он выскочил из хлева: овечье меканье, дробный перестук копытец пугали его, словно за ним гнались, преследовали. Чувствовал погоню и убегал от нее.
Во дворе к нему подбежали куры. Двинул какую-то носком сапога — она тяжело взлетела, каркнув, как ворона, и, теряя перья, закудахтала. Петух с большим гребнем взобрался на кучу навоза, поводил красноватыми глазами, не узнавая хозяина.
Овец он любил. Но уже забыл, как приносил в хату, укрыв полою кожуха или даже за пазухой, ягнят, когда овцы котились зимой в холодном хлеву. Кур никогда не любил. Из-за них, шальных, всегда ругался с Варькой. Не хотел есть ни их мяса, ни яиц. «Чтоб они у тебя поздыхали! — кричал он на кур и на жену.— Я их всех перебью или повыбрасываю за ворота!» — «Свят, свят! — голосила Варька.— Курятины ты не ешь, да, признаться, она и мне не по вкусу; яйца застревают у тебя в горле. А что же я в город понесу? Какая же из меня хозяйка, если я пойду на базар без курицы и яиц? Ты подумал? А на что голову положить, чем подушку набить, об этом ты подумал?» Он рубанул: «Я сплю на кулаке!»
Обил подворье деревянными досками, натянул сетку, чтоб куры забыли дорогу в огород. Однако доски сгнили, сетка заржавела и порвалась.
Оксент слонялся по двору, топая солдатскими сапогами.
Войдя в хату, скинул пиджак, надел потертую, потрепанную шинель, а шапку-ушанку так и не снимал.
— Куда ты, Оксент?
— К Павлу.
Высокая, немолодая, костистая, с длинной шеей, она склонила голову набок и застыла.
24
Он еще смолоду думал, что голова Варьки тяжела для тонкой шеи, потому она и наклоняет ее набок, прищурив правый с бельмом глаз. Но он никогда не говорил ей об этом, не сказал и теперь.
Повязанная старым платком, жена смотрела на него внимательно и зорко. Ее глаза блеснули. Светился и тот, с бельмом, из-за которого ее прозвали слепой Варварой. Она глядела на него не столько с теплом и доверием, сколько с уверенностью в своей правоте, силой конечной неизбежности. Его Варька смотрела на него так, как смотрела бы выйдя утром на огород: видишь, посеяла грядки — и они взошли.
Ей стало досадно оттого, что не успела приготовить завтрак.
— Уже идешь?
Он кивнул. Из-за этой склоненной головы, из-за правого глаза ему не хотелось с ней говорить.
— А я не успела управиться, куда торопишься? — сказала она. Подняла голову и, прямая, порывистая, кинулась на кухню, загремела кастрюлями, ложками: — Я сейчас, Оксентик, мигом тебя накормлю. Будет картошка, будет простокваша — все, что ты любишь.
Он молча и медленно вышел из хаты, оставляя звуки шаркающих ног, стук щеколды на крыльце.
Шел не поднимая головы. Не взглянул на усадьбу, на густые елочки, а за елочками уютный сад.
Подворье Кричевских на краю Городища. Оно как бы нависает над селом. Его издали видно. Заезд туда неудобный: как будто забираешься с улицы на печь.
Ворота заперты, калитка приоткрыта. Открывали ее еще осенью, за зиму и примерзла.
Он выбрался на улицу и не повернул в село, а подался в поле. Горою с поля выйдет на Залужье.
Улицу развезло. Под ногами со скрежетом ломаются куски скользкого льда, текут грязные потоки, чавкает болото. Он ступал по скрежету, чавкал, не выходя на сухое место. И все казалось ему, что в спину смотрит Варька. Оглянулся: улица пустая, грязная, безрадостная, мерцают окна хат. И он подумал, что взгляд жены все еще давит ему плечи, будто лежит на плечах ее взгляд.
Дорога за селом еще мерзлая. Узкая, на три шага в ширину, как раз проехать возом. Чтоб разминуться, при
25
ходилось съезжать на чье-то поле — и хозяева поля ругались. А когда были осадники — польские кулаки, так те еще и штрафовали.
А на полях снегу чуть-чуть. Село на холмах и поля холмистые, но земля неплохая, особенно в долинах.
Он самого себя не знает так хорошо, как эту землю. Он уверен, что она еще может родить! Человеческая ладонь и волоска не родит, а она — земля — все может.
Волнистые поля выгнулись черными холмами. А в долинах снег. И повеял ветерок свежий, влажный. В этом он видел безудержную радость весны: всюду журчали, переливаясь, ручейки, словно звенело серебро. И солнце он увидел не на небе, а на земле. Оно высвечивало крутые склоны, лилось на уцелевший снег, сгоняя его, блестело в лужах-оконцах и текло, сверкая на весь мир. И молодые праздничные всходы озимых, то тут, так близко, что до них рукой дотянуться можно, то где-то там, далеко, словно ярким светом резали ему глаза. Он закрыл их и остановился.
Ушанка сползла на ухо, прикрыв один висок, а другой, открытый, серебрился сединой. Его состарившееся, давно не бритое лицо, все в колючей, жесткой, рыжевато-седой бороде, смягчилось. Когда-то он был очень красивым: белокурый чуб, широкие черные брови, прямой нос, резкий изгиб рта и решительный, с ямкой посередине, подбородок. Ничто не делало это лицо асимметричным, безобразным. В нем чувствовалась воля и сила. И сейчас среди полей, под весенним солнцем в его облике пробивалась давняя молодость.
Глаза закрыты. Веки желтые. Он стоял и ловил губами воздух, напоенный соками пробудившейся земли, под солнцем, которое повернуло на весну. И разглаживался, светлел на губе шрам.
Где-то далеко послышался голос жаворонка. Оксент затаил дыхание, слушая его щебет — громкий звон поля.
«Прилетел,— думал Оксент,— рано вернулся, выбрал себе место для гнезда и звенит, ждет свою любушку из теплых стран».
Раскрыл глаза, чтобы увидеть птицу, а увидел миллиарды мелькающих капелек, солнечную мошкару, которая сияла и вилась. Глаза привыкли к резкому свету. И он вспомнил, что не мог разглядеть жаворонка ни мальчиком, ни хлопцем, когда взгляд был острый, без
26
ошибочный. «Ишь чего захотелось!» — усмехнулся он и двинулся дальше полем.
Под крыльями жаворонка, в их тени начинался в поле каждый его день. Рыженькая птичка сопровождала его работу своим щебетом.
Ему стало душно. Снял шапку. Слипшиеся тоненькие мягкие волосинки не прикрывали округлой лысины, которая начиналась со лба,— все, что осталось от буйной шевелюры.
Ссутулился: поравнялся со своим полем. Зяблевое. Оставил под яровые. Холмистые полтора га, надел еще Варькиной матери. Он граничил с панской землей, которая в глубокой давности принадлежала князю Воронцову, женатому на княжне Браницкой, а потом перешла по наследству итальянцу Болонье, который женился на наследнице Воронцовых-Браницких — Луизе. Все ве-лемчанские земли когда-то по одну сторону были панские, по другую — монастырские, дарованные монахам еще князьями Острожскими. И до сих пор углы За-лужья, Пропастища называются крепостными, работали там на панов. А некоторые, как Городище, называют панскими, правда, вольных крестьян и там не было, как и на Запорожье, на Заставне: монастырские поборы и так называемая сторожевая служба закрепостили их совсем. Но это было давно, много лет тому назад. А наследники Болоньи господствовали еще недавно. Сами жили в Варшаве, а тут хозяйничал управляющий Зигмунд.
Оксент всегда завистливо и не без злости поглядывал на межу, на панское поле, большое, широкое, ровное. Покинутое, оно манило его. Он прирезал к своим полутора гектарам еще добрых полтора, а может, и больше, самовольно, нагло.
Потому и пошел он к Оранчуку — председателю земельного общества.
На захваченной панской земле зеленела рожь. Не останавливаясь, он краем глаза окинул поле: озимые не вымокли и не сопрели. Рожь будет стоять густо, как роща.
Он остановился, он и постоял бы около ржи, но у него явилось вдруг такое ощущение, что Варька следит за ним. Ее кривое, бельмастое око не давало ему покоя.
27
Замер лес, черным крылом обнимая край неба. Его настороженный шум донесся до него, и Оксент сгорбился, стал жалким, согнувшимся.
В шуме дальнего леса ему послышался голос Соломин, как отзвук печального звона — тоскливый, безрадостный. Разве он, отец, не хотел счастья для своей дочери? Как же случилось и кто в том повинен, что Соломин и смерть соединились в его сознании в одно целое?
Оксент свернул с дороги, чтобы не смотреть на лес, не видеть перед собой голые деревья.
С шапкой в руке прошагал полями — своей жизнью. Били по коленям истрепанные полы шинели.
Ноги скользили по мокрой пашне, к сапогам прилипали глина и грязь.
Варька... слепая Варька.
Его тоже считали глиной, грязью. Сызмальства. С самых малых лет, когда начал пастухом, вырастал из батрачонка в батрака. У Довбеняков. Дома тринадцать душ, расползлись кто куда, а его мать отвела на Городище. Пас овец — спал с овцами. Пас коров — спал в яслях. А когда водил в ночное коней, ночевал под звездами. Отец и мать умерли в бедности. Довбеняк сжалился: дал доски на гробы.
А не отрабатывает ли он за эти доски и теперь?
Братья и сестры его отправились за океан. Между ними и Оксентом легла глубокая вода. Чтобы им выехать— все распродали. Из отцовского наследства ему остались только воспоминания — могилы отца и матери в неотработанных чужих гробах.
Довбеняк еще не знал, но предчувствовал, куда метит. Он ни разу не побил Оксента, ни разу не накричал на него. «Мужик сильнее вола: вол отдыхает, пережевывая жвачку, а мужику отдыха нет»,— говорил он. Его жена во время жатвы обедала в запаске — в переднике вместо юбки, сидя на грядке телеги: ей Довбеняк не давал спуску. Сам на ходу набивал рот старым желтым салом, глотал его, не пережевывая, и запивал водой из бочонка. Сало давало ему нечеловеческие силы не только махать косой, но и заставлять других махать за ним во всю ширину его раскоряченного шага.
Крупы лошадей блестели как глазурованные. Круторогие коровы пахли молоком, как большие крынки. Ов
28
цы ходили нестриженые. А усадьба — под цинковой крышей. И в этом довольстве росла бельмастая Варька, единственная дочь, как божья кара, как глумление над всем его добром.
Варвара старше Оксента, ей уже минуло двадцать, но никто замуж не брал, на богатое приданое не позарился. Он жил у них, но видел ее редко: когда стояла на пороге, скликала кур или заходила с подойником в хлев. А однажды поздно ночью он услышал ее плач. Варька прибежала домой, шелестела юбками и рыдала. На выгоне, у родника, в ночь под Ивана Купала, ее никто не пригласил танцевать, даже Павло Оранчук, который ей нравился и от которого ждала сватов, несмотря на его бедность.
Оксент должен был отвести в ночное лошадей. Накинув на плечи гуньку \ звенел железными путами.
— Оксент,— с порога позвал Порфирий Довбеняк.
Хлопец подошел к порогу.
— Бросай путы, идем со мной.
Путы тупо брякнули о землю.
Хозяин ввел его в горницу, еле освещенную керосиновой лампой. На кровати высилась гора подушек. Уткнувшись матери в подол, рыдала Варька.
Порфирий подкрутил фитиль у лампы. Стало светло. Он крикнул:
— Текля, подавай на стол!
А он, Оксент, стоял у порога в гуньке внакидку.
— А ты чего стоишь? Скидай шапку, скидай гуньку!— Порфирий залез в угол под образами и посадил его около себя.
Текля внесла полбутылки водки и что-то на тарелках.
Довбеняк налил чарки до самого края.
Варька сидела в подушках неподвижно, как неживая.
— Пойдешь за него! — Довбеняк ткнул пальцем и повел бровью на Оксента.
Текля, стоявшая у стола, покачнулась и, чтоб не упасть, потянулась к кровати.
— А ты ее хочешь? — спросил хозяин Оксента.
Парень молча хлопал глазами.
1 Гунька — верхняя одежда из толстого сукна.
29
— Согласен! — буркнул Довбеняк и высоко поднял чарки.— Дернем!
Теперь многое из того прошлого стерлось в памяти, но Оксент не забыл тупой стук железных пут, которые он бросил у порога, идя за Порфирием в хату, не зная, что с этого вечера будет звать его батькой-тестем, что ему — Оксенту Кричевскому — придется стать продолжателем рода Довбеняков.
Синело небо. Забрызганный грязью, он медленно плелся к Павлу, думая о том, что могло ведь статься, что Павло и сам пришел бы к нему. Бесконечной казалась ему эта дорога, по которой он шел, заплетаясь нога за ногу. В груди отдавался звон железных пут. Сердцем чувствовал их тяжесть. И еще досаждала назойливая мысль: хорошо ли так спозаранку идти к Павлу. И продолжал идти полем.
V
Манька вернулась из монастыря. Внесла в хату значительность и что-то затаенное — так и просившееся на свет из ее веселых глаз развлечение: новости!
Павло высыпал на стол картошку в мундире. Райка и Яшка набросились на нее, посыпали крупной солью, дули на горячую картошку и запихивали в рот.
Хата не метена, постель раскидана. В боковушке на плите что-то кипит, вытекает. Из-за ряднушки-зана-вески показались клубы пара — ползли и обволакивали потолок. Никто не шевельнулся, чтоб убрать с плиты кастрюлю или горшок. Вода залила огонь, и кипение прекратилось.
Райка и Яшка не считали Павла отчимом. Он для них — родной отец. Девочка родного отца, наверно, не помнила, а Яшка только чуть-чуть. Отчим с ними возился, играл, очищал картошку и клал перед ними: одну— ей, другую — ему. А чтобы она быстрее остыла и чтобы вкуснее елась, разрезал на половинки ножом. Рассказывал, как молодыми парнями они с Кричевским, который живет в Городище, часто пекли картошку, когда пасли коней, какой она, сваренная в котелке, была вкусной на фронте. Бульбу жарили, бульбу варили...
30
Картошка — мать родная. Недаром самый знаменитый в мире казак назывался Тарасом Бульбой.
Павло запарился с хозяйством. Манька приучила его не только варить, но и доить корову, вытапливать сыр, даже стирать. Он был этим доволен и часто похвалялся, что ей ни за что не удастся так растопить печь, как ему.
Ее первый муж тоже не гнушался заниматься стряпней, особенно в воскресенье или в какой-нибудь праздник. Манька причесанная, приодетая отправлялась в церковь, не столько молиться, сколько встретиться с молодицами, поболтать, поговорить, а он колдовал над горшками. Взяли его на маневры как улана-резервиста. На маневрах и погиб где-то в Подляшье — слетел с коня, попал под копыта...
Павло не успел взяться за веник, подмести. Послал за водой Юрка, а тот ушел словно за море. Пришлось идти ему навстречу. Юрко стоял, взобравшись на середину холма: коромысло на плече, ведра покачиваются, а он глядит на село, будто впервые его увидел, о чем-то думает или прислушивается... Пока не накричал на него, не обозвал лентяем — Юрко не тронулся с места. Принес по полведра воды, расплескал по дороге. Хоть ругай его, хоть возьми да режь — одинаково: стоит, ничего не слышит, усмехается, радуется чему-то. Взял сумку с книжками и подался из дому. Ни к кому иному, только к Новаку. Один старый, да без клепки в голове, другой молодой, но ветреный, оба рябые и словно магнитом друг к другу притянуты. Сам сходил по воду. Прежде всего покормил спрятанного поросенка, приставил лестницу, спустил котелок на веревке. Потом нагрел воды, помыл головы Райке и Яшке.
Манька расселась на табуретке у стола. В малиновом плюшевом жакете, широкой и длинной юбке, по краям которой в три ряда нашиты тесемки: две синие, посередине— зеленая. Жакет, юбка и сапоги на высоких каблуках пахли сундуком и временем.
Она немного устала и потому отдыхала. Дочка и сын в чистых рубашках, головы с мокрыми расчесанными волосами склонились над столом. Муж хлопочет, заботится о них, ее рыжеватые глаза стали еще более спокойными. Радость, казалось, сама прорвалась из них, и женщина села за стол рядом с детьми возле своего мужа.
31
Манька кашлянула, сняла с головы теплый платок и положила себе на колени. Праздник заканчивался.
— Поросенку дал, корову напоил, курам поставил? — вылилось одним вопросом без передышки.
Павло, подбрасывая на одной руке картошку, держа в другой нож, кивал утвердительно в такт ее словам: да, поросенка, корову, кур — всех накормил.
— Ав монастыре что было!—передохнув, сказала Манька и глянула вверх на потолок.
Павло перестал кивать высоко подстриженной головой.
— А почему сам сидишь в грязной сорочке? Я же для тебя чистую на жердинку сушить повесила.
Он разрезал ножом картофелину, одну половину дал Райке, другую положил себе в рот.
Манька знала, что поросенок и корова ухожены, куры не голодны, но должна была спросить, должна попрекнуть, почему он не переоделся: хозяйка же!
— Про нашего старшего,— проговорила она с нажимом,— я и не спрашиваю. Подался куда-нибудь. А отец Иов оделся в золотую ризу, всех удивил, ибо день святого Онуфрия хоть и небольшой праздник, но ведь пост все-таки. .
Дочка и сын заканчивали немудреную еду, а Павлу неохота было слушать, в каких там ризах был Иов. Монастырь пришел в упадок, обнищал, и это к лучшему. Прошло то время, когда из дальних сел стекались богомольцы, толпились, стояли на коленях, чтобы поцеловать настоятелю руку или хотя бы кончик его рясы. Земля — десятинами, лес — десятинами. Свое озеро — рыба бьет хвостами. Своя бурса, которую сюда перевели. Можно было ходить в золоте, как не ходили и сами боги, и пугать людей карами за непослушание, обещая им рай на небе после смерти, а себе создавать рай на земле при жизни. Из того бывшего золота лишь одна позолота осталась, а Манька смотри как восторгается!
— Что же ты меня ни о чем не спрашиваешь? — накинулась она, видя, что ему это все безразлично.
— О чем же спрашивать? — буркнул Павло.
— Как о чем? Сидишь сиднем, думаешь: все знаешь, а село кипит-клокочет. Люди ждут и не могут дождаться, когда выйдут в поле. Наша Евка Нечуйвитри -ха говорит: заберем у богачей коней, одолжим у них 32
семена. Ей-богу, так и говорит, не скрывая. Двое детей ее за юбку дергают, третье держит на руках. Оно раскричалось, а она ему грудь дает. При всем народе, в храме... А ризы у нашего попа сияют-переливаются...
— Ладно,— буркнул Павло.
— Ты про Евку или про ризы?
— Да ну их, на что мне те ризы сдались? Садись завтракать.
Манька поглаживала ладонью свой платок.
— Молодицы, бабы, обступили Евку. Все солдатки-вдовы или старухи, у кого сын не вернулся, готовы хоть сейчас идти за лошадьми, открывать амбары.
— Пойдем и откроем,— сказал он, положив нож и выставив на стол кулаки.
— Я молчала, Павлик,— продолжала Манька ласково, как в воскресенье.— Ты же у нас...— она не досказала, что он в земельной общине.— А что еще было? Расходились. Идет долговязая слепая Варвара. Кто ей дорогу уступает, а Евка стоит. Не уступает. Все и рассмеялись... А когда отец Иов дал целовать золотой крест...
Павло не усидел, поднялся.
— Фу! — резко выдохнул он.— Разве ты, жинка, ходила в монастырь на те поповские ризы и кресты смотреть, что тебе золото и до сих пор глаза слепит?
Она тоже вскочила с табуретки, не выпуская из рук платка.
— Глупый ты, не в святой день будь сказано. Что ты мелешь? И как у тебя, грешника, язык поворачивается? Я ходила для радости, ходила, чтобы собою тебя, безбожника, показать миру. Вот для чего, чтобы ты знал, я ходила, хожу и буду ходить в монастырь. Ну что ты без меня значишь? Что? — Платок развернулся, и она мотнула им: — Портянка! — Сказала и повела круглыми плечами. Конец платка свисал до пола.
— Ну вас к лешему, сложи и спрячь платок, Манька! На новый нескоро разживемся.
В этот момент скрипнули двери в сенях. Взрослые и дети обернулись к входу.
Чья-то рука шарила, ползала по стене: искала щеколду.
Она звякнула громко и пугающе, протяжно заскрипели завесы. Через порог переступил Оксент: шапка в руках, одна нога в сенях, другая — в хате.
2 в. Харчук
33
— Бог в помощь,— склонил он голову.
Павло и Манька, удивленные его появлением, переглянулись.
Павло поглядел на Райку и Яшку — девочку и мальчика словно вымело из-за стола, в боковушку.
На столе лежала кучка неочищенной картошки и гора шелухи.
— Чего стоишь, возьми тряпку, прибери,— напустилась Манька на мужа, но он не двинулся с места, и она, сложив платок, шмыгнула в боковушку, поскрипывая сапогами.
— Здорово, Оксент,— вымолвил Павло и протянул РУку.
Оксент подал свою, перекинув шапку в левую руку. Павло почувствовал, что рука Оксента горячая и дрожит.
— Ходили в монастырь? — спросил он: хотел вежливо, предупредительно, а вышло сухо и скованно.
— Жинка ходила, а мы обедали,— сдержанно и независимо сказал Павло, глядя на склонившегося Оксента и силясь догадаться, зачем его принесло.
Манька вышла из боковушки с полотенцем — куском полотна, посеченным, но чистым: пусть видит, богатый, чтоб ему повылазило, у них хотя и бедно, но они теперь люди.
Слышала, о чем переговаривались мужчины, и сказала:
г— Я Варвару видела.— Манька сложила свои полные губы, пышная и гордая. Наклонилась, махнула старым полотенцем над лавкой.— Почему ты, Павлик, гостя не просишь сесть и сам не садишься? Садись, Оксент,— и, покачиваясь, подошла к столу, приземистая, круглая, показывая свою силу и уверенность.
Оставшуюся картошку и шелуху смела в передник, будто этой картошки у них невесть сколько.
Оксент мялся у порога. Неуютное старое жилье Оранчуков, с поколупанным полом, отсыревшими стенами, дохнуло ему в рот, в нос, в глаза. Он дышал этим смешанным запахом, утоляя настоящую жажду того, чего не хватало ему в собственном доме, несмотря на чистоту пола, стен, углов. Да, дома — как в побеленном склепе, как в могиле. И не только он и Варька, но и все, кто приходят к ним, не чувствуют в доме жилого духа.
34
Сердце сжималось, в голове шумело. Здесь бедность, но какая уверенность! Он не отважился просто, прямо смотреть в глаза Павла, во рту стало сухо, не мог сразу выпалить, зачем пришел, что привело его сюда. Не найдя ничего лучшего, пробормотал:
— Раз пообедали, то и покурить можно,— шрам на губе собрался в синюю гармошечку.
— Разве ты снова куришь? — спросил Павло.
— Ты же видишь,— ответил Оксент.— Сколько раз бросал, столько и начинал.
Каждый полез за кисетом. Газетные бумажки зашелестели сухими листочками, чувствовалась какая-то настороженность.
Не решались угостить друг друга, каждый курил свое. Стояли глаза в глаза, а казалось, будто между ними возведена стена, и только дым цигарок соединялся над их головами.
— Может, сядем, Оксент,— сказал Павло, но сам не садился, ждал.
Оксент как-то боком подошел к лавке, ноги подгибались. Молчал.
Павло выручил его:
— Был в поле, Оксент?
— Я полями шел. Поля на взгорках уже паруют.
— Скоро — на работу.
— Рано еще.
— Возьмемся,— отрывисто кинул Павло, и слово это упало, твердое, как камень.
Оксент сразу понял, что это «возьмемся» относится не только к работе, что Павло думает о чем-то более важном, глубоком, и заговорил напрямик, впервые обращаясь к Павлу на «вы».
— Помните, Павле, панскую землю около моих полутора гектаров? Помните, когда-то там украдкой коней пасли?
— Не забыл,— ответил Павло, пропустив мимо ушей, что Оксент перешел на «вы».— Ты пас Довбеня-ковых.
— Пасли,— медленно протянул Оксент, обволакиваясь цигарочным дымом.— Клевер там выше пояса, красные головки... А в прошлом году, да и только ли в прошлом году, считайте, всю войну та земля пустовала. Вернулся я с фронта, мне жалко землю стало. Засеял ее,
2*
35
а теперь она, как бы сказать...— тянул он.—Да чего там тупым рубить? Возьмите, Павле, берите себе ту засеянную землю. Слышал я, за утайку припаяют, а я ничего не хочу скрывать...— Он снова глубоко затянулся.
— Обмеряем, выведем на чистую воду,— не шелохнувшись на табурете, сказал Павло. Вдруг он наклонился к Оксенту: — Отдаешь, говоришь, засеянное? Даришь? Ты сюда потому и пришел? — Павло засмеялся, в кулаке зашипела, сыпля искрами, раздавленная самокрутка.
— Потому и пришел к вам, Павле,— выговорил Оксент и, будто весь деревенея, уцепился за край лавки.
— А я думал, ты пришел спросить, как живем! — Оранчук кивнул на Маньку, на боковушку, где сидели усыновленные дети.— И до сих пор, хотя уже и после войны, постную картошку едим! Помнишь, осенью я просил у тебя молотилку? Припоминаешь? Ты сказал: самому нужна. Теперь иное время — чужого мы не берем, но и своего, хоть убей, не упустим.
Кричевский сидел, ничего не слыша, кроме этого «мы»... И его шрам синел на губе...
VI
Книги лежали стопками по обе стороны массивного стола, на толстых ногах, чуть ли не на всю ширину комнаты. Подымались на нем горою перед невысоким окном, заслоняя его, не впуская скупой сероватый, пасмурный день. За этим столом, словно в амбразуре, среди книг, с карандашом в жилистой руке, склонился над альбомом для рисования из пожелтевших, жестких страниц худощавый долговязый старик. Кожа его лица напоминала переплет британской энциклопедии, широкие усы — казака, глубоко посаженные, запавшие глаза — хлебороба; высокий ровный лоб — ученого, а густой вихрастый чуб — вечно молодого парня.
Это был Алексей Новак. Он рисовал, вернее, чертил старинный плуг-сошник — древнейшее славянское и еще более древнее, праславянское орудие производства, без которого земля и люди не могли жить. Земля и люди— оба поддерживают свое существование, думал он.
36
Разве плуг не продолжение человеческой руки? Разве эта рука, берясь за ручки плуга, таким путем не удерживает на своей ладони землю, все, что есть на ней и в ней? И не потому ли прекраснейшая из планет — это Земля, земной шар с двумя ледниковыми шапками, с материками и океанами, с полями и пустынями, с лесами и реками?
Плуг вырисовывался неуклюжим, слишком тяжелым и примитивным — много примитивней дедовского. Так что нелегко было узнать, что это и есть плуг.
Осенью Иван Цисарик принес Новаку заостренный кремень, плоский и изогнутый, шириной с человеческую ладонь. Вынул его из-за пазухи, где обычно сберегал люльку, и показывал, не выпуская из рук.
— Нож не нож, стрела не стрела,— говорил он, внимательно и хитро заглядывая ему в глаза, силясь понять, ценная это вещь или просто — тьфу!—камешек.
Новак взглянул на принесенную вещь еще внимательнее и хитрей, чем Цисарик глядел на него, а самого Цисарика и не удостоил взглядом. Знал: тот может заломить такую цену, что не только он, но даже государственный музей не в силах будет приобрести находку.
Видя, что камень как будто не произвел впечатления, на которое он надеялся, Цисарик кашлянул:
— Моя Мотруня нашла. Копала на огороде и выкопала. Мы с Мотруней ломали-сушили головы и не могли додуматься, что оно такое и для чего. Посмотрите вы, Алексей.
Хотя Иван протягивал ему, безусловно, наконечник сошника, первичного лемеха, который предшествовал эпохе бронзы, хотя у Новака защемило сердце и каждый нерв задрожал от напряжения, он не взял в руки эту находку, сказал с показным равнодушием:
— Положите кременяку.
Цисарик окинул увядшим взглядом комнату, стеллажи с книгами, шкаф со всякой всячиной, где лежат найденные им каменные ножи и стрелы, за которые в свое время он разжился на водочку, и, топчась на месте, не знал, куда положить принесенное.
— Куда же девать тот кремень,— промямлил он.— Надо было выкинуть. Я так и советовал Мотруне. Но разве она послушает? Моя Мотруня что бы ни увидела, все тащит в хату. Правду вы говорите, это просто кре
37
мень, а я его сдуру за пазуху. Если уж вам, Алексей, не годится, значит, никому он не нужен.
— Бросьте под стол.
Цисарик наклонился, не бросил, чтобы не поцарапать пол, положил Мотрунину добычу — свою напрасную надежду,— разогнулся, вытер о потертые штаны руки и жалобно спросил:
— А махорочки у вас не найдется?
— Насыплю в люльку,— ответил Новак.— Почему же не насыпать доброму человеку? — Он подошел к столу, вытянул ящик и достал из него жестяную коробку из-под монпансье.
У Цисарика глаза прослезились: его назвали добрым человеком и сам учитель уважительно угощает его махоркой.
— Подставляйте люльку.
Он вытащил ее из-за пазухи, открыл крышечку, удерживая между пальцами Мефиста-Пана, и подошел к Новаку.
— Берите и набивайте, тут запас как раз на вашу люльку.
Махорки едва не полкоробки. Цисарик брал ее пучками, заталкивал, набивал.
— Вся не влезет!
— Набивайте еще, курите и травитесь.
— Такое скажете... Кабы Цисарик не курил, от него бы не человеком, а козлом смердело. В лавке табачку нет, а свой Мотря повыбрасывала из огорода. Но ничего, на следующий год я повыдергиваю ее коноплю и посажу среди конопли бакун Мотруня и не догадается до тех пор, пока не пойдет коноплю брать, а бакун за это время и вырастет... Теперь же, признаться, чубук искрошил, а в люльку новый вставил. Видите? — И показал новый чубук, заслоняя пальцем чертика на крышечке. Всем он очень нравился, а вот Новака не заинтересовал.
Неожиданно учитель сказал:
— Красивый у вас Мефистофель.
Цисарик обрадовался. Впервые за много лет учитель наконец оценил его люльку.
1 Бакун — сорт табака.
38
— Эта люлечка,— начал он, готовясь рассказать ее историю, но Новак прервал его:
— Курите.
— Тут не буду. Совесть не позволяет, Алексей.— Цисарик знал, что Новак не выносит курения.— Я на улице. А вы уж извините. Принес вам никчемное, а вы мне — махорочки. Жалко, что вся из коробочки не влезла в люльку. Может, я еще когда-нибудь зайду...
— Заходите, Иван.
Они распрощались на крыльце, заставленном фикусами, кактусами, папоротниками в кадках и в горшках, среди которых стоял привитый к обычному шиповнику куст розы,— в тепле на нем уже появилось несколько бутонов. Цисарик не обратил на розу ни малейшего внимания, да и на цветы вообще. Разве они того стоят? Вынул спички, встряхнул коробок и сказал писклявым голосом:
— Спички теперь нипочем. Такие дешевые! Что уж дешево, то дешево. А вы как думаете? Что теперь всего дешевле?
— Огонь,— ответил Новак, взял Цисарика под руку и выпроводил с крыльца, чтобы тот не закурил среди цветов.
Цисарик пошел, а за ним вился дымок. «Уговаривала меня Мотруня не носиться с тем камушком, не морочить людям голову,— думал он,— а все-таки я выиграл! Полна люлечка табаку!»
Новак бегом вернулся в комнату и кинулся под стол. Встал на колени, прижал находку к груди. Если бы кто-нибудь увидел его в эту минуту, подумал бы, что старик сошел с ума. Запавшие глаза его пылали, как у волшебника. Чуб стоял дыбом, усы разметались, словно нарисованные. Каждое движение напоминало мальчишку, который кубарем скатился с горы в зеленую долину, голова его закружилась, а он, очарованный, пораженный, сидит на траве, удивляясь, почему вертится земля, почему над ним кружится небо.
Он сидел на полу возбужденный, неугомонный — кремень в его руках рассказывал о долгой и сложной жизни, и ему слышалась окаменевшая музыка.
Он не был сентиментальным, мягкосердечным плаксой, который расчувствуется по малейшему поводу. Он не терпел песен, в которых нагайки называются нагаеч
39
ками, будто ими в самом деле со свистом не рвут тело так, что раны невозможно закрыть руками, а стегают для забавы, как детскими кнутиками. Немного черство-ватый, он уважал бережливость, которая не имела ничего общего со скупостью, поэтому его возбужденность и неугомонность прошли быстро. Ему показалось, что не он, старый учитель, археолог и историк-самоучка, смотрит на кремневый наконечник — наральник, а этот наконечник смотрит на него строго и внимательно, будто чего-то ждет...
Грубо отесан, не отшлифован, как будто обработан тяжелым долотом. Не поддавался обработке, и следы долота застыли на нем, как многочисленные следы пальцев неведомого творца. Беловатый, с черными прожилками на заостренных и выщербленных краях, серый и местами просто черный...
Судьба никогда не была милостивой к Новаку. Он не ее баловень. Причудливая, как всякая человеческая судьба, она не раз была и злой. Но была она только его собственной, и никого больше. И в то же время — неотделимая от судеб села, в котором он жил, и разве одного этого села? Ему, семидесятилетнему, бывалому в переделках, чаще под конем, чем на коне, всегда представлялось тайной: как и почему жизнь одного человека связывается с минувшим, как и почему именно эта жизнь одного человека, совсем непохожая, противоположная другому, должна связываться, составлять одно неразрывное целое, даже тогда, когда оба индивидуума к ©тому не стремятся и не хотят?
Почему люди далекие, не знавшие даже о существовании друг друга, вдруг начинают заботиться друг о друге?
Он и сам так делал. Разве он во время войны не выхаживал раненого красноармейца, разве не прятал ок-руженца, чтобы тот не попал в плен?
И Цисарика он любит, потому что без Цисарика, без его люльки, Велемче не было бы Велемчем. Как бы оно без него обошлось?
А без него, Новака, обошлось бы?
Он всегда, смолоду, не только хотел, стремился, но и старался делать что-либо полезное, хорошее, в то время, когда ему просто не давали этого делать.
Жил среди людей, среди книг, среди вещей, которые
40
находил своими стараниями, подаренными ему, как он выражался, самой землей. Создавал музей.
Как только начал собирать для него экспонаты, одна мечта не давала ему покоя: воссоздать первичный плуг. Он хотел показать историю своего села именно с плуга: люди растут, борясь в поте лица за хлеб насущный. Но разве хлеб можно добыть без слова? Разве в тот первичный плуг не вложена человеческая мысль — заповедное слово о земле и о людях на земле? Люди живут хлебом и словом. Как без слова он не создается, так без слова он и в рот не пойдет.
Новак чертил и напевал веснянку, которой когда-то выкликали бога Солнца — Ярилу: предкам хотелось поскорее погрузить плуг на место выжженного и выкорчеванного леса, а ему — десятки раз праправнуку — теперь хотелось воссоздать то древнее орудие на бумаге.
— А мы просо сеяли...— напевал старик дребезжащим, надтреснутым голосом, которому тесно в груди,— ой, дид-ладо...
Он не услышал, когда вошел Юрко.
Хлопец постоял под стеллажами, следил за учителем, думая, что пришел не вовремя.
Жесткие волосы на голове Новака будто шевелились и, черные, освещенные серым светом единственного окна, отливали сединой.
Книги на стеллажах, вещи в шкафах. Недавно, в прошлом году, их выкопали из земли, вынули из сундуков. Еще не все выкопано и вынуто. Если бы не спрятали, фашисты и война испепелили бы их.
Молодые глаза Юрка молчаливо вбирали в себя все.
Учитель перестал напевать-бормотать, будто спиной почувствовал, что кто-то вошел в комнату. Его плечи поднялись, он передернул ими и обернулся. Глаза пронизывающе смотрели на Юрка пристально и не без лукавства. В них всегда тлели огоньки, которые горели, а иногда прямо обжигали хлопца.
— Это ты, юноша? Почему торчишь и не здороваешься? А я хочу тебе что-то сказать. Знаешь, земля — всеядна. Она разъедает тело, кости, железо. Но она не разрушает надежд. Наоборот, земля родит надежды,— и тихо добавил: — из-под плуга.
41
VII
Сызмальства, с самого появления на свет, он громко кричал, взывая к миру, чтобы принял его, а может, просился к матери?
— Видишь, ей хорошо, заснула, выпроводили ее, обмахнув кадилом, туда, где нет ни слез, ни воздыханий. Ушла сама, а его покинула на меня. И что ты думаешь, Верка? — Павло обращался к жене как живой, укачивая Юрка на руках.— Слышишь, как он кричит? Слышишь?
Малыш заходился от крика.
— Птенчик ты мой, да замолчи ты! Или посиней уже совсем!
Но ребенок не утихал.
— Знаю, знаю, чего ты. Это в тебе кричит голод!
И, пожевав черного хлеба, покатал его во рту, потом, завернув в тряпочку, совал эту соску в маленький ротик.
Юрко не хотел брать ее в рот и пускал пузырьки.
Приходила баба-шептуха, долго и старательно бормотала заклинания. Но они не помогали, и она говорила:
— Это не такой ребенок, как все. Из таких детей вырастают, прости господи, или большие волокиты, или святые мученики. Ты еще когда-нибудь вспомнишь мои слова, Павле... А я его боюсь. Крохотный совсем, а весь начинен криком, и голос у него как иерихонская труба.— Заканчивала, опасаясь: — Такой большой нелюдской дух в его малом тельце. Я больше никогда не приду. И не зови.
У бабы-шептухи лицо белехонькое, морщинки — и те как бы ухоженные, не такие, как у сельских женщин, набухшие и затвердевшие. Она своими зоркими глазками глянула в колыбель, подвешенную к потолку, отступила от нее и перекрестилась.
Павлу хотелось крикнуть: врешь, старая, этот ребенок такой, как и все, но он молча проводил ее, а она сказала за порогом:
— Наказанье. За грехи дается нам. Работника и не жди,— горько усмехнулась и понесла свою усмешку, затаив неприязнь: словно дите плохое, слабое, лежа в люльке, надумало выбить из ее рук хитромудрость понимания в травах и заклинаниях. Но она знала, что это
42
невозможно: ее ремесло вещее и кому еще, кроме нее самой, доступно?
Отец выхаживал в колыбели не сына, а крик.
Не было времени нянчиться, возиться. Ржала кобылка старая, слепая, которую он купил у Цили, державшей крупорушку, ревела корова, хрюкала свинья — все звали его своими голосами, перекрывая голос ребенка. Он забывал о нем. Голоса животных раздавались в его ушах. И свинья, и корова, и особенно кобылка были для него дороже, чем Юрко. То, что в люльке,— заведешь снова, а если пропадет то, что в хлеву, не скоро туда снова приведешь и привяжешь.
Юрко рос, породнившись с криком, без материнской ласки, без рук, которые держат малыша, переливая в его душу силу земли, без ясных очей, которые наклоняются к нему и дарят небо. Он отбивался от мух, которые роями наседали на него.
До двух лет он не умел ходить, ноги, словно вылепленные из глины, не могли удержать раздутый барабаном живот. Он едва поднимался, протянув кверху свои слабые тоненькие пальчики рук, и сразу же падал. Ползал на четвереньках.
Приходили в дом сначала одна мачеха, потом другая. Они не то что не любили его, потому что какое женское сердце не дрогнет и не пожалеет ребенка, но просто они не умели согреть его, не знали, с какой стороны подступиться. Он не привык к умыванью, к чистой рубашке. Ему было хорошо, если никто к нему не прикасался даже пальцем.
В разгар лета, когда зерно цедится из колосков, малыша оставляли дома. Чтобы он не очень ползал, не взбирался на кровать, не падал с кровати и не расшибся, чтоб не толкался на пороге и не открыл лбом дверь, не выполз во двор и чтобы его часом какая-нибудь безрогая не съела, если он заснет, его привязывали к ножке стола. Под столом ставили кружечку молока, а чтобы было чем играть, отец приносил вишневую веточку.
Кота выгоняли из хаты. Окна занавешивали рядном: не так жарко и мухи не так кусают.
Он привык к этому: у него был дом в доме — под столом.
Ползал вокруг ножки стола, пока веревочка не наматывалась до самого конца, не пуская дальше. Не зная,
43
как это произошло, почему веревочка не пускает, он рвался изо всех сил вперед, ногу резало, лоб стукался о пол. И не понимал, не мог догадаться ребенок: чтобы размотаться, надо ползти в другую сторону.
Кричал изо всех сил, во весь рот. Юрко кричал так, будто в самом деле в нем — сильный человеческий дух, как говорила бабка-шептуха. Синели губы, содрогалось тело, в рубашечке до колен, с протертыми рукавами на локтях.
В хате — ни души!
За ряднами на стеклах жужжали мухи.
Тогда на глазах его выступали слезы. Скатывались две первые слезинки, а потом лились двумя ручейками.
Обессилевший от крика, он сидел на коленях, притянутый веревкой к столу. Как только отросли короткие маленькие, мягкие волосы, первые прядки которых не касались ни гребень, ни ножницы, они сразу же пропитались липким потом. На бледном выпуклом лбу пульсировали синие жилки, реденькие бровки хмурились, как у старика.
Так он и сидел наедине со своими слезами.
И никто не видел его под столом.
Вдруг в дымоходе что-то зашумело, потом притаилось на лежанке. Юрко этого не слышал, а потому не боялся.
Посидев на лежанке, это «что-то» вскакивало и, взъерошенное, мохнатое, черным видением прыгало по хате. Кот. Он, выгибаясь, задирал кверху хвост, светил зелеными глазами, наставив рожочками уши. Сам словно черт, весь в саже, и так смотрел на мальчика, как на невиданное диво. Оттопыривая свои усы, настороженно поводил ими. С усов стряхивалась сажа, и они седели.
Юрко смотрел на кота, и горькие слезы невольно останавливались. На губах появлялась улыбка; усы кота из серых становились белыми. Это было очень смешно, будто кто-то невидимый сметал с них щеточкой сажу — и она осыпалась.
Кот чихал, фыркал, вытирал свою морду одной лапой, потом другой. Выпрямлялся и, опустив длинный хвост, не сводя с мальчика зеленых глаз, шел, подходил будто бы нехотя к столу. Шел крадучись, робко, а ка-44
залось, будто гордо и независимо, как спесивый комендант полиции, которому все должны уступать дорогу.
Юрко тоже вытирал кулачками глаза, протягивал руку, показывая на кружечку с молоком, приглашая кота. Тот и без приглашающего жеста хорошо видел кружечку и еще лучше чувствовал запах свежего, непрокисшего молока. Однако не набрасывался на него. Останавливался и сидел недалеко от кружечки, будто молока ему не хочется. А Юрко показывал пальцем, заманивал: иди-иди, котик. Насидевшись, кот мяукал, словно благодарил за приглашение, и, как мужичок, приглашаемый к столу, медленно подходил к посудине. Если очень просят, отказываться не стоит и неприлично. А когда наклонялся к кружечке, то припадал к молоку так, что за уши не оттащишь. Он лакал, пощелкивая, а для маленького Юрка — радость.
Глаза ребенка прояснялись, освещали все испачканное личико. Веселой становилась затемненная хата, ее углы и низкий потолок.
Кот не разгибался, пока не допивал молока. Живот его толстел и обвисал. Он облизывался розовым язычком, терся о колени мальчика, и тот брал его к себе в подол.
Кот-разумник валился на спину, помахивал лапками, легонько покусывал зубами пальцы Юрка. Мальчик щекотал и поглаживал своего друга. Потом он брал вишневую веточку. Шелестели листочки, и кот ловил их лапами, будто мышей. Он играл сам и забавлял ребенка.
А когда игра надоедала, он укладывался в подол Юркиной рубашки и начинал мурлыкать. Это была самая большая радость.
Урчание наполняло маленькое сердце лаской, убаюкивало малыша. Кот мурлыкал, закрыв глаза, и глаза Юрка тоже сладко слипались. Еще некоторое время он покачивал вишневой веточкой над мурлыкой, а когда веточка выпадала из руки, тыкался головой себе в подол— в теплый, живой ласковый клубок, как в кожу-шок, и засыпал счастливый, забыв, что он привязан и притянут к ножке стола.
Он просыпался от голода и кричал в отчаянии, не умея высказать его словами, так громко и так пронзительно, что кот убегал и забивался под кровать.
45
Юрко не разговаривал до трех лет. Все думали, что он немой.
А ему, прежде чем научиться говорить, нужно было выкричаться, ибо слово «мама» было для него неведомым...
VIII
Она услышала шаги сына еще под окнами. Стояла около печи, опираясь на ухват, держа его обеими руками.
По заплетающимся шагам она знала: усталый. А когда он устал, то прихрамывает.
В печке поблескивал огонь, скупое пламя тянулось к отставленному горшку, едва облизывая его.
Она ждала Левка к обеду, а дождалась к позднему ужину. Давно подогрела обед и, чтобы он не остыл в горшке, поддерживала огонь, который согревал ее одиночество, ее материнское ожидание, исполненное болью и муками за сына. Злое время — человека легче убить, чем муху. Да только бы убить! Удавка, конопляный галстук на шею, или ноги — отрублены, руки — отрублены, а сердце вырвано. Кто, когда и где мучил человека, так издеваясь над ним, как это делали бандиты, желто-блакитные подонки. Казалось, вся цель их не в том, чтобы убить, уничтожить, стереть с лица земли, а в том, чтобы мучить нечеловеческими муками и еще живое тело бросать в пылающий огонь или в глубокий колодец.
Мать слышала шаги за темным занавешенным с вечера окном, и ухват, на который она опиралась, покачнулся: счастлива, дождалась.
Раньше чем подбежать к двери и открыть ее, пододвинула горшок ближе к огню, поворошила поленца дров. Ее черные задубелые пальцы давно не боятся огня: он не обжигает ее. Бывало, на своей ладони несла горячий уголек Цисарику, когда тот ее навещал. Правда, и Цисарик брал уголек пальцами и клал его в люльку.
Когда поленца в печи рассыпались искрами и длинные красные языки потянулись к зеву печи, она подкрутила каганец-мигалку на столе и метнулась к двери. Почему Левко не идет? А может быть, это не он? Может быть, кто-то подделывается под Левка?
Рывком открыла дверь и крикнула через порог:
46
— Левко?
— Что, мама?
Она услышала его голос и будто напилась живой воды. В груди стало так легко, и хотелось стоять, смотреть на него, склонившегося перед открытой дверью в сени.
— Я, мама, грязь отскребываю.
— Да хватит тебе отскребывать,— отозвалась она.
— Столько, мама, грязи, забрызгался до ушей.
— Брось. Куда тебе с одной рукой? Ляжешь, я твои сапоги и вытру, и просушу, сынок.
— А поесть дашь?
— Дам. В печи греется. Входи же, Левко.
Из дома пробивался свет, струившийся из приоткрытых дверей. В проеме дверей стояла мать. И он, разогнувшись, отбросил щепку, которой счищал грязь, взглянул на свою мать, маленькую, немощную, с ухватом в руке, и улыбнулся в темноте
Они стояли какое-то мгновение, он — на пороге сеней, она — на пороге хаты, и их соединяла полоса света, радость близости.
Матери хотелось сказать ему что-то важное и существенное, но она только смотрела на него: глаза ее тихо светились. Ему тоже хотелось что-то сказать ей, но и он только смотрел на нее, и его глаза утомленно блестели.
В вечерней тишине, которая расплывалась и охватывала село, мать сказала с порога:
— Иди, сынок,— еще раз позвала.
И сын послушно ответил:
— Уже иду, мама.
Он шагнул, и она еще шире распахнула перед ним дверь.
Пропустила мимо себя, ткнулась плечом в порожний рукав сына и, как бы почувствовав, какой он пустой, отскочила с порога в сени, закрыла дверь, сунула задвижку — деревянную колодочку, вернулась в хату, стала перед закрытой дверью, будто на страже.
Он слышал, как она запирала дверь на нехитрый засов, улавливал в каждом ее движении, в быстрой ходьбе страх, опасения за него. «Когда меня не было дома, у матери и в мыслях не было запирать двери в сенях»,— вспомнил Левко.
47
Он снял шапку, будто свою усталость, нацепил ее на вешалку. Сбросил, вытряхивая руку из рукава, шинель. Скинул ловко, хоть и нелегко ему это давалось. Понес и повесил ее, серую, возле шапки, тоже будто свою усталость.
Измаявшийся, голодный, приглаживал ладонью чуб.
Пистолет в кобуре оттягивал широкий ремень, помятая гимнастерка задралась кверху.
«Тяжеленькая игрушка»,— думала мать, глядя на кобуру, и еще подумала, что с тех пор, как Левко председательствует, нет ему ни сна, ни отдыха: все дни несутся потоком, как разлив-вода. Шумят, и он в этом шуме.
Левко тем временем откинул волосы со лба, поправил кобуру с пистолетом, разровнял гимнастерку и сел к столу.
Печь посередине хаты, устье печи смотрит в окно. По одну сторону печи, возле глухой стены,— топчан, головой к вешалке, на которой его шапка и шинель. По другую сторону печи — лежанка, с нее дорога на печь, где спит мать. Миски, горшки — посуда — под лежанкой. Стол. За ним еще одно окно. Вот и вся хата. В ней родился и вырос. Такой она была всегда. Негде сесть, негде повернуться. А когда был мальчишкой-озорником, казалось, что была и длиннее, и шире. Да нет, все та же лавка, по которой он носился к столу, а потом обратно. Сбрасывал с лавки ведро с водой, и за это попадало на орехи... Вместо топчана стоял сундук. В прошлом году, вернувшись в свою хату, он поставил топчан. Теперь спит на нем. Раньше ему стелили на лавке, а родители спали на лежанке.
Мать поставила перед ним обливную миску, положила его алюминиевую ложку, солдатскую, фронтовую, принесенную с войны. При ней же была и вилка, но не удержалась, от вилки на стерженьке осталась только дырка.
Над борщом вился пар. Заправленная салом горячая еда вкусно била в нос, даже слюнки текли.
Он ушел до рассвета и до сих пор ничего не ел: из Верхова вывозили на станцию лес. Дорога неблизкая, тяжелая, но пока не тронулись в поле, надо с лесом 48
рассчитаться. За зиму заготовили немало кругляков. Сучья и хворост себе — на топливо, а кругляки — сосны и дубы — в Донбасс. Дарья Шитик говорит: «Донбасс — всесоюзная кочегарка и наша первоочередная задача!» А он разве этого не понимает, разве и ему еще надо разжевывать и класть в рот? Если бы тягачи, если бы тракторы, что для Велемче эти нормы? А когда одни лошади, да и тех негусто, и когда до Здол-бунова, до станции, все пятьдесят километров,— грудью не попрешь. Есть дерево, но без катков его с места не сдвинешь. Хорошо бы снег, мороз, а то ведь распутица — запрягай две пары лошадей, не меньше.
А тут еще и лесных волков нужно беречься. Яровой со своей группой наготове: пулемет, гранаты. Как повернуло на весну, бандиты выползают из своих схронов следов не найти, не то что на снегу. То отсиживались поодиночке, а теперь сходятся вместе.
Еще день-два — закончим вывозку. Не нарваться бы на них: начнется бой, запахнет кровью, село будет охвачено страхом — людей трудно звать в лес.
Мать резала хлеб, прижимая буханку к груди. Отрезала большой ломоть, поцеловала его и подала сыну.
— Ты горбушку любишь, ешь, чтоб тебя, сын, девчата любили,— проговорила и смутилась.
Положила буханку и нож на стол, а сама отошла к печи.
Он молча откусил горбушку, твердую, почерствевшую, так хорошо выпеченную, что она даже захрустела на зубах, и взялся за ложку.
Квашеная капуста, свекла и даже картошка не переварены, как раз ему по вкусу. Никто не умеет так сварить борщ, как его мать. Он в меру сладкий, в меру кислый, в меру соленый — борщ, в котором плавают сушеные грибы, чувствуется чесночок: запахи леса и поля, настоянные на весне, лете и осени.
Левко с удовольствием пожевал красные свеколки. — Садитесь и вы, мама.
Он знал, что приглашает ее напрасно. Она никогда, сколько он ее помнит, не ела за столом. Когда был отец, положит ему в миску, поставит на стол, а сама отой-
1 Схрон — убежище бандитов, чаще всего подземное.
49
дет и будет стоять около печи, смотреть, нравится ли еда?
Не ответив на его приглашение, она отступила от печи, приблизилась к нему и молча коснулась рукой его плеча: отодвигала в угол, чтобы не выставлял плечо в окно.
Он пересел.
— Боитесь? — поднял он на нее глаза.
— Береженого бог бережет,— и тихонько отошла опять на свое место — к печке.
— Яровой, мама, никогда не садится спиной к окошку,— сказал Левко и засмеялся, держа ложку над миской.
А на ее лице не промелькнуло даже тени усмешки. Его привлекательный, немного гортанный, но сильный смех, который напоминал отцовский, не отразился в материнских глазах, в ее взгляде, задумчивом, погруженном в себя.
Она и сейчас, когда сын с нею, когда она видит его, все равно переживает, горюет, что он ест одной рукой, удерживая в этой руке и ложку, и хлеб. Трудно, неудобно было ему есть. Если бы не стеснялся, она кормила бы его, как когда-то давно, с ложечки.
Каганец подвешен на проволоке к потолку. Их глаза привыкли к желтому, тусклому свету, и казалось, что его достаточно, что он освещает хату и их обоих.
Если бы он погас, если бы разом померк свет, мать и тогда видела бы Левка, его рассыпавшийся чуб, вытянутую шею, и осветила бы все своими глазами, чтоб сын не был голодным.
Левко, нагнувшись над миской, вспоминал, как они с Яровым были голодны в лесу: Яровой тюкал топором березу, хотел пустить сок, чтобы напиться, но сок не шел. Он хоть курил, а Яровой сплевывал сквозь зубы, говорил, что где-то в мисках полно вареников в масле, и снова плевал.
Разогнувшись и откинув чуб, Левко заметил спрятанные под передником материнские руки.
Ему стало жаль матери. Брови, шевельнувшись, поднявшись, застыли, и в отсветах каганца на его лице проступила печаль.
Он запомнил мать такой, в такой же задумчиво-печальной позе, когда она провожала его на войну. У пе
50
релаза протянула за ним руки. Оглянулся: держала руки под передником, застыла в прощанье.
А когда вернулся, когда вырвался на свое Пропа-стище, не застал ее дома. Плетня нет, не видно даже, где он стоял. Дверь закрыта палкой, хата пришла в упадок...
Соседи сказали, что мать у Кричевского, у Оксента. Он не поверил, что она батрачит. Не шел, мчался на Городище, с горы на гору, и горы будто покачивались.
Да, она там служила. Но сначала он увидел не ее, а Оксента, и Оксент обнял его. Как обухом по голове ударили его слова: «Твоя мать у нас, ты не гневайся, я ее не обижаю». Он хотел оттолкнуть Оксента: на пороге высокого крыльца появилась мать — босиком, руки под передником.
Она бросилась к нему, припала к груди. Шли, она держала его за пустой рукав шинели, вела домой.
Левко запомнил эту дорогу, каждый бугорок, каждую ложбинку — свое и матери возвращение домой, прикосновение ее руки к его безрукости, и потерянная рука заболела, заныла хуже, чем живая.
И сразу он почувствовал эту тупую, непреодолимую боль, которая сковывает тело, туманит разум. Еще мгновение — и заскрежещет зубами. Он отложил ложку, отодвинул миску и вынул кисет. Ему нужно было закурить, затянуться, забить легкие дымом, заполнить их, ибо в груди ширилось страдание, безутешность.
Пока свертывал, пока лепил цигарку, мать прибрала и вытерла стол, поставила на шесток миску, положила ложку и, обернувшись к нему спиной, украдкой перекрестилась за него. Хоть и не сказал он ей, хоть и не заикнулся, сама, по доброй воле, сняла из красного угла иконы. Поставила на печь: там их не видно. Ни словом, ни делом, ничем, даже тем, что верила в бога, не хотела чинить ему неприятностей, чтобы не только он, но и никто другой не упрекнул: видишь, какая у тебя старуха.
Левко закурил. Легче стало, отлегло от сердца, но хотелось знать в мельчайших тонкостях, в самых малых подробностях, как мать жила эти годы, что происходило здесь, в селе. Отец погиб, и не только он... За переправу делегатов на конгресс Интернационала ему, Левку, довелось познакомиться с тюрьмой. Вылечили и
51
посадили... Концлагери: Бригидки, Береза Картузская: «кол!з1! — оружн!, пров!зп—райдужш; ховати булку в жменю, газету — у кишеню». Вернулся — вольная воля. На выгоне, у родника, обнимало село красноармейцев, носило их на руках. Украсили калиной ворота: земля — народу, воля — народу, мир — народу... Но тут грянула война. Кровавая, долгая, и теперь нужно начинать все заново, сначала. Если тогда пришлось выпроваживать осадников, то теперь задача тоже не из легких.
Цигарка тлела, не хотела гореть. Пососал ее и спросил:
— Мама, расскажите, как вы жили. Все расскажите.
Она помыла миску, ложку и снова стояла, сложив руки под передником.
— Как ты ушел, они пришли...— проговорила она и посмотрела на сына, а казалось, в окно, в темноту, в ночь.
Левко хорошо почувствовал, каким голосом, полным ненависти и гнева, произносила она короткое «они». Гитлеровцы, эсэсовцы со знаками различия, полицейские с бляхами, каратели — свои, доморощенные убийцы,— всех представляла она себе, и не потому ли, глядя в темное окно, закрывала глаза. Прошло время, а вспоминать нелегко. Память удерживает все, до мелочей. Память — как рыболовная сеть, зацепишь одно очко — встрепенется вся сеть...
— Про отца, про батьку, расскажите, мама.
Сколько раз он ее просил, расспрашивал, она начинала и тут же заливалась слезами.
— Первый раз было, прибежал Оксент. Задыхался, бежал крадучись, огородами. Заскочил в хату, как кот в открытые двери, говорит, чтоб наш батько бежал. «Удирай, прячься и не показывайся на площадь, потому что за тобой придут. И никому ни мур-мур, что я тут был». Приложил к губам палец, будто рот замкнул.
— Оксент? — переспросил Левко.
— А наш отец ему: «Нет, ни бежать, ни прятаться не буду. Бежать некуда и прятаться некуда. На небо не залезу, а раз на земле мне места нет, то пусть зовут и забирают. И ты, старуха, пойдешь со мной, правда? Как будет, так и будет. Один раз родила меня мать, один раз и помирать. Спасибо, Оксент, что не побоялся. Иди и не бойся, я тебя не выдам». Оксент, вскочил как кот, как
52
кот и выскочил, а мы с батькой сучили постромки, собрались на луг сено косить, я расслабляю, распускаю кудель, а он крутит, вяжет петли. Вдруг слышим топот— много ног. Я к окошку, а наш батько: «Не смотри!..» Двери настежь — и на пороге Турчин. Он. Не к ночи будь помянут.
Мать закрыла глаза и лицо передником, руки ее дрожали. Не умела она излить свое горе словами. Да и кто и когда ее слушал? Она изливала свое горе только лишь в песне. Мать плакала, когда пела, и он склонил голову на край стола.
IX
Кобылка перестала мчаться вскачь, не чувствуя грязи. Передние ноги не выбрасывала вольно и размашисто. Из-под задних ног не прыскали липкие комья, как тогда, когда галоп ее был стремительным, как шквал; выгнутый хребет, распущенная грива, тягловая, а будто конь-рысак, который не знал хомута.
Вынесла в поле и остановилась. Турчин сидел на ней без седла. На шее автомат, в руке кольт. Без шапки, только в черном мундире. Забрызганный, даже лицо в грязи. Беспокойно, зло поводил глазами.
Теперь он бил крепкими, на подковах, каблуками кобылу под бока, подгонял рукояткой тяжелого кольта. Но как ни бил ее каблуками в живот, как ни бил кольтом по загривку, она еле шла мелкой трусцой. Ноги ее вязли в болоте.
В поле он услышал за собой ржание. Не погоню, не голоса ястребков или милиции, а ржание жеребенка.
«Ига-га-га!»
Это ржание разорвало тьму, раскололо ее, и притихли объятые мглою и изморозью поля, слушали его, ловя тончайшие серебряные звуки.
Ему, беглецу, показалось, что голосистое «Ига-га-га!..» дошло до ночного неба, ударилось о его темный свод и отлетело, падая вниз. Не упало, не затихло, а разбиваясь, стлалось по земле.
«Ига-га...»
Турчин в гневе заскрежетал зубами. Желваки ходили жерновами.
Кобылка вздрогнула под ним. Он почувствовал: она содрогнулась всем своим телом — подогнулись ноги, на
53
прягая хребет, задрожала кожа, а уши насторожились. Животное каждой своей клеточкой отозвалось на зовущее ржание жеребенка — пронзительный голос своего сынка. На ходу подняла опущенную голову, задрала ее назад, чтобы заржать самой: еще жива — отозваться, покликать. Но он не дал ей заржать, стиснул коленями, замахнулся кольтом.
Лошадка мотнула головой в одну, другую сторону. Он увидел ее глаза — левый и правый. Серовато-красные, пронизанные мукой, болью. Они были объяты черной печалью, что чернее ночи: не животной, а будто человеческой. Она побежала рысцой. Как ей не отозваться своему жеребчику?
Он сидел на ней, нависая тучей.
Ни жалости, ни пощады. Никогда это не грызло и не мучило его. Беспощадный к людям. А к лошади — какая может быть жалость?
Бежал — осатанев от злобы.
Себя, свою любовь к себе ставил он выше всего. В жизни он ценил собственную исключительность, ее замкнутую ограниченность, убежденный, что поднялся над всеми, оседлал свою судьбу, как оседлал кобылу. Для того чтобы чего-нибудь достигнуть, чтобы господствовать, иметь власть, важны не разум, не многогранность чувств. Вся мудрость — удовлетворить свое желание, свое разнузданное своеволие. Каким путем? Сломать волю других, уничтожить ее ценой смерти — такой нужно иметь характер.
Его застукали в схроне среди Верхова. Схрон — с отсеками, ходами и выходами. Давний. Два охранника и он — комендант СБ — службы безопасности. Продуктов— на целую зиму. Вода — снег, лед. Связь — раз в неделю: от настоятеля монастыря Иова через Соломию. Прошла одна неделя, другая — Соломин не появлялась.
Над ними лесоразработки. В схроне слышно веселое джиканье и шарканье пил, гуканье и удары топоров. Человеческая речь не доходит. Глубоко.
Один вход, которым пользовались и знали охранники,— пенек. Второго, зашитого досками, который сообщался с лисьей норой, никто не знал. Кто строил схрон, тех уж нет. Послал на дело, а они погибли в стычке с милицией. Ну и черт с ними! Если б не погибли, сам бы их уничтожил. Только собственная безопасность,
54
только самосохранение — вот что важно, все другое — ничто.
В пенек как будто постучали. В схроне решили, что пришел связной.
Турчин лежал на нарах, положив руки за голову.
Условный стук о пенек: трижды. Два раза подряд, третий — чуть позже.
Стукнули раз, другой, третьего не дождался: он сгорал от нетерпения. Послал охранника к выходу. Соломин. Просрочила все явки. Сорвался с нар и сам пошел к горловине выхода.
Прислушался: охранник поднимался по лесенке, натужившись толкал пенек. Его всегда трудно было свалить, никогда не поддавался легко. На краю поляны он был незаметен. Мог ли кто из посторонних найти его? Кому он нужен?
— Не нажрался, не надрыхался... пенечек не отвалишь,— бросил он охраннику.— Ты, лодырь!..
Тот крякнул, сдвинул наконец пенек с места, а он. Турчин, поднявшись на две-три ступеньки, нетерпеливо толкнул парня кулаком, чтобы лез, не задерживался. Тот подтянулся на руках, заболтал ногами и в ту же минуту шуганул вниз, сбив его с лестницы.
Посыпалась мерзлая земля. Ворвался свежий холодный ветер. Бил в нос, в рот, холодил грудь, не давал вздохнуть, и Турчин не сразу спросил: «Что там?»
Послышались человеческие голоса, смех — на земле, над ними. Перепуганный охранник тыкал пальцем на вход и проговорил:
— Лесорубы... Разложили огонь... Их много! — слова прорывались, как бы выстреливали.
— На пеньке сидел кто-нибудь? — спросил Турчин. Он, придя в себя, думал только об одном: «Бежать, за любую цену... Бежать!»
— Сидели, сидели,— цедил охранник сквозь зубы.
А другой бандит бегал из отсека в отсек, обхватив голову руками, и лепетал:
— Пропали... Пропали...
Над их головами шаркали и топали ногами. Твердые, властные, угрожающие шаги.
И тогда он поднял кольт.
Того охранника, которого обозвал лодырем, уложил без единого слова, а другому сказал:
55
— Не пропали! — и тоже застрелил.
Он разорвал сенник, вытряхнул сено, солому, обложил трупы и поджег им чубы. Человеческие волосы хорошо горят. От них занялись сено, солома. Пусть хлопцы обгорят, чтобы никто их не узнал.
Послышались голоса:
— Выходи, выходи!
Полз дым, а Турчин кинулся к запасному, только одному ему известному выходу. Вынул доску, выскочил в отверстие, не забыл вставить доску назад, боялся, чтобы не догнали его в лисьей норе.
Наконец он вырвался из норы, пополз, отлеживался как дикий зверь, с дикими глазами.
На поляне горело покинутое жилье. Люди обступили схрон. Ястребки побрякивали оружием.
Он крался, перебегая от дерева к дереву, подскочил к коням, отвязал от крайнего воза кобылку и упал на нее. Лошаденка-кляча, а вывезла. Неужели вывезла?
Звонкое ржание жеребенка напомнило ему бряцание оружия ястребков, лесную поляну, костер, освещенные могучие, гигантские кроны сосен, уверенные голоса: «Выходи! Выходи!..» И Турчин гнал во всю мочь полем, подальше от того места.
Если бы знал, что кобыла с жеребенком, ни за что бы не взял ее. Ему посчастливилось, удалось отвязать ее так, что никто не спохватился. Они столпились возле схрона, а он этим воспользовался. И вот на тебе — сосунок! Чего он ржет? В лесу спохватятся... спохватились...
Он полюбил ночь, темную, беспросветную, глухую и тихую-тихую, когда ничто не шелохнется, кроме ветра, кроме филина, который крикнет, а потом все вокруг онемеет. И вот теперь — не тихо...
«Ига-га!..»
Когда он снова услышал ржание, этот звонок,— он показался ему звоном, который издает кованая медь. Изо всех сил он сжимал сапогами бока кобылы, подгоняя ее.
И она, скотина, тоже услышала голосистое, хоть и далекое, но зовущее, ржание — неспокойное, отчаянное. Однако на этот раз уже не в силах была поднять головы, повернуть назад. Голос жеребенка тонко и нежно
56
звенел над полями, сливался с топотом шлепающих копыт и надсадным болезненным еканьем селезенки.
Шерсть на кобыле встала дыбом. Всадник бил, сжимал до острой боли ногами и погонял с таким звериным остервенением и лютостью, словно это был коршун, запустивший ей меж ребер свои железные когти и долбивший железным клювом.
Бока ходуном ходили, под ноги падала взмыленная пена, из вымени сочилось молоко. Лошадь теряла равновесие, вскидывала крупом. Турчин не тяжелый, но непоседливый, а она была вконец загнана, и только далекое ржание сосунка, которое раздавалось эхом в поисках матери, не давало ей упасть. Это ржание, исполненное надежды, как бы вливалось в нее, и все ее существо молчаливо отзывалось желанием жить.
Кобылка замотала головой, ловила ноздрями воздух, а грива ее взмокла. Всадник ударил лошадь между ушами рукояткой кольта, хрустнул череп. В другой руке его была граната. Кобылка вытянула передние ноги, подтянула задние и прыгнула. Это был ее последний прыжок. Копыта передних ног повисли в воздухе, подгибаясь. Она, как подкошенная, упала на колени. И ответила тихим храпом.
Турчин перелетел через ее голову, ударился о землю, перевернулся и стал лицом к лошади. С морды ее хлопьями валила пена. Шапкообразная и белая — она была видна в сумерках. А грива сникла.
Он стоял неподвижно.
В поле царила ночная тишина. И тогда к кобылке медленно приблизился жеребенок. Он вставал на дыбы на тоненьких ножках, прядал маленькими ушками и помахивал куцым хвостиком — жеребенок-стригунок. Грязь не чавкала под его копытцами; он был такой легенький и такой проворный.
Сосунок подошел к мертвой кобыле, нагнул голову, топнул ногой и, ничего не поняв, показал зубки, будто улыбаясь. И помахал куцым хвостом.
Она лежала, а он улегся возле нее — уткнулся в ее еще теплое вымя, припал к нему и начал сосать.
Турчин двинулся к ним: одним прыжком очутился около кобылки и сосунка. Саданул кобылку носком сапога в бок. Жеребенок не отрывался от вымени. Тогда он плюнул на него и подался в поле.
57
X
Цисарик не задержался с посещением: люлечка погасла, табаку больше не было, к тому же хотелось еще поплакаться. Он — на крыльцо в своих лаптях, а Новак с крыльца с топором.
— Рубите?
Старик ничего не ответил, вернулся в хату, понимая, что Иван пришел за махоркой.
Цисарик глянул с порога на дровяной сарай, увидел кучу валежника, колодку, а на ней какой-то обтесанный полоз, рядом с ним такую же колоду, но не отесанную, и хмыкнул носом: «Добрые люди плуги готовят, а он какое-то чучело, вроде бы санки вытесывает к весне? Без клепки человек..» Ему и не пришло в голову, что учитель все еще возится с тем самым кремневым наконечником, который нашла Мотруня и благодаря которому он снова разживется на курево.
Йовак вынес и молча подал ему махорку, ожидая, чтобы тот побыстрее убрался и не мешал ему.
Однако Цисарик удивился такому негостеприимству и неразговорчивости учителя. Медленно набивая люльку, думал: «Что бы это могло значить? Неужели у Новака такая спешная работа?» Расспрашивать, зачем ему саночки, Цисарик не решался. «Может быть, возить навоз?» Ему захотелось рассказать о себе. Он пришел так рано потому, что его вызывали для протокола. Ночью в лесу на заготовке случилась немалая оказия. Сидели у костра, покуривали, точили лясы и посмеивались над его люлькой, с Мефисто-Паном на ней. Говорили, что он привык чаще всего курить на дармовщину — чужое. Оксент всыпал в люльку щепотку трухи и сказал: «Задабриваю твоего черта-дьявола. Ты и твоя Мотруня давно с ним в союзе»,— и оскалил щербатые зубы. Он, Цисарик, рассердился, пошел на поляну, нашел там пенечек. Выбил об него из люльки Оксентову труху. Такое скажет — в союзе с чертом?!.. Присел на пенечек отдохнуть, а пенечек вдруг приподнялся. Сердце ушло в пятки. Просто смех и грех: под пеньком оказался схрон. Вытащили оттуда двух убитых: мертвых бандитов. Выставили их напоказ, лежат — обгорелые. Вот оно и выходит, что он этот схрон обнаружил. А Мотруня говорит, что теперь надо опасаться и дрожать за свою
58
жизнь. А он и так уже пострадал: когда пенечек под ним зашевелился, не только сердце в пятки ушло, но и сам он упал, зарылся носом в землю, лежал и думал: лопнул, разорвался... Но если учителю эта история неинтересна, то он и не заикнется. Мовчи, глуха,— меньше гриха. Кричевскому за его насмешки досталось — кто-то его кобылку отвязал и на ней удрал. Значит, не двое их было в схроне? А кто-то еще. Спохватились, да поздно.
Курить страх как хочется, даже уши опухли и губы пересохли. Яровой, у которого он засиделся, сам не курил и другим не давал.
Цисарик высыпал из коробки всю до последней крошки махорку.
— Теперь я не знаю, когда мы снова с вами встретимся,— сказал он, намекая на то, что махорки в жестянке больше нет, и давая понять, что вроде бы могут быть обстоятельства и более важные, чем отсутствие махорки.
Новак спрятал пустую коробку в карман и пошел в дровяной сарай.
Цисарик замялся, но извинения за беспокойство не просил, по его понятиям — извиняются одни нахалы, а он, Цисарик, человек порядочный.
Он еще раз окинул слезящимися глазами полозья, опять подумал, что Новак таки «без клепки», и на прощанье проговорил:
— Держи язык за зубами, будешь есть борщ с грибами.— Затем степенно двинулся к калитке.
Учитель долго смотрел на его лапти, поплевал себе на ладони и застучал топором.
Он мастерил что-то невиданное, неуклюжее, да разве оно могло быть иным? Разве первый плуг делался таким топором? Его надо сделать без единого гвоздика. Разумеется, полного, абсолютного сходства он не достигнет, но хотя бы подобие! То-то Цисарик будет чесать затылок, что продешевил кремень! «Но я уж непременно расстараюсь да достану махорки либо самосада для его Мефистофеля»,— подумал он.
Приход Цисарика, которого Новак все же любил, Цисариковы лапти-постолы будоражили душу и память, вспомнилось давнее, забытое. Он отесывал рукоятку, а перед ним вставали пережитые годы.
59
Он, Алексей Новак, по батюшке Вавилович, Открыл для себя это село, связал с ним свою судьбу, приехав сюда на должность народного учителя в конце прошлого столетия с женой Лизонькой, урожденной Велембов-ской. Его отец служил в армии в чине капитана, нигде долго не задерживаясь. Мать — тавричанка, из мелких разорившихся дворян. Она увлекалась народничеством и толстовством, безусловно, на свой лад: народничество для нее означало возвращение к простым людям, но не слияние с ними, богоискательство — просвещение. Под ее влиянием отец отдал Алексея не в кадеты, а в науку, не найдя ничего более подходящего. Сам, будучи из верховьев Немана, шутя говаривал, что в жилах его наследника течет если не кровь, то по крайней мере вода бурной реки Конки, несущей свои воды к теплому Черному морю, и вода Немана, которая тихим и плавным течением стремится к хмурой Балтике,— и разводил руками: на что, мол, от единства таких противоположностей можно надеяться? Рубака, мастер выпить, закусить и вскочить в седло, отец будто в воду глядел. Где квартировал полк, там и учился Алексей. Детство прошло в обширном юго-западном крае, где раскинулись плодородные земли под щедрым солнцем. Гимназию окончил в Остроге, поступил в университет в Тарту, но был исключен за участие в тайных студенческих сходках. Его, вероятно, и судили бы, но репутация отца безупречна и гусарский полк, к счастью, перебазировался в тихий Житомир. Тут Алексей экстерном сдал экзамены на аттестат народного учителя и таким образом оказался на Острожчине. Он не порывал с городом своей юности и, будучи в Тарту, переписывался с Лизонькой.
Частые разъезды-переезды, смены ландшафтов и климата, земель и людей, их населяющих, присущих одной стороне, не свойственных другой, быта и обычаев, одежды и песен развили в нем способность присматриваться к их разнообразию.
От отца он унаследовал осанку, учтивость и волевую решимость, от матери — смуглость, красивые глаза, густые волосы. И с материнским молоком впитал ее, пусть и химерное, человеколюбие. Он твердо решил честно служить людям. Что же могло лучше послужить этому делу в те далекие времена, чем земская школа?
60
Ранним утром слышался стук топора. Заскрипели колеса, кто-то проехал, сменив сани на воз. Запел петух и взмахнул крыльями. Еще было слышно, как звякнуло ведро, а где-то с Пропастища донесся голос: «Евка, скорей с водой! Твои босые разбойники повылетали, так и откалывают, бесенята, попростужаются — хлопот не обер-р-р-ешься!»
Алексей с Лизонькой выехали из леса и, впервые увидев Велемче, были очарованы его суровой непостижимой красотой. Извозчик, как там его называют, ба-лагула, сидя на передке, повернул к ним голову через плечо — черные глаза его весело блеснули, он поднял вверх кнут, показывая на село, и держал его в протянутой руке, ни разу так и не хлестнув лошадей.
Село за лесами, в горах.
Ледник накатывал холмы, бугры... иные не дотянул до Карпат, остановился и растаял.
Алексей впервые смотрел на этот ландшафт и радостно думал: «Это не пригорки, а великаны пахари! Нагнулись над плугами да и закаменели под высоким небом. А может, не закаменели, просто вошли в землю, передали ей свою силу».
Встретил их стражник, отставной ефрейтор с нацепленной на шинели медалью за храбрость, о чем сразу же сказал. Как и та желтая круглая медаль, на нем все было нацеплено: казенный картуз, а под ним густые брови, красный здоровенный носище, пышные усы и толстые губы. Глаз будто и не было, так они заплыли в складках жирных щек. Многопудовый страж его императорского величества в самых нижних чинах.
Он поместил их в доме учителя Знаменского, вернее, его вдовы — Марфы Прокофьевны, которая отвела им комнату и кухню только по той трагичной причине, что ее дорогой, незабвенный муж и сеятель на ниве просвещения Знаменский Кирилл тоже Прокофьевич умер, а Новак — его преемник.
Стражник пожелал дать совет, а именно: не откладывая в долгий ящик, сходить поклониться настоятелю обители святых Бориса и Глеба всечестнейшему отцу Иннокентию, может, не так ему, как эконому святой обители отцу Иову, а также нанести визит сельскому голове — и, само собой разумеется, для чего же по ночам свет горит,— в корчму, которую здесь принято на
61
зывать трактиром. Стражник закончил поговоркой: «Всякий початок любит посвяток» 1—и, щелкнув каблуками, откланялся.
Расплывшаяся, дрожащая как студень, в широком сарафане, в очипке с двумя рожками, вдова Знаменского просила сделать, как советовал заботливый стражник.
— Не подмажешь — не поедешь, детки мои,— и она сослалась на высший для нее авторитет: мой дорогой, незабвенный муж и т. д.— это делал.
Они с Лизонькой для начала осмотрели школу. Издали она казалась приличной: даже двухэтажной. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что верхний этаж закрыт. Он не нужен из-за отсутствия учеников. Ни одного стекла в окнах там нет. Они забиты досками. По мере того как окна выбивались на нижнем, их вынимали с верхнего. Теперь и на нижнем не все целы. В классах мусор, грязь. Стены облуплены, штукатурка на потолке отваливается, крест заткали пауки, портрет царя засидели мухи.
Школа находится возле самого погоста.
— Не в знак ли того, Леся,— никто и никогда его так не называл, кроме Лизоньки,— что просвещение соседствует с могилами.
Ему запомнилась эта острота. Лизонька была остра на слово.
Посетили сельского голову. Тот сидел на пороге съезжей избы, в чумарке, с сучковатой палкой, будто ожидал. Увидев их, он встал. Подал руку новому учителю, а его жене поцеловал ручку: знай наших! Когда же они сразу заговорили о ремонте школы, он косо взглянул на них и, поставив палку меж ног, стал ею постукивать.
— Ге-ге,— начал он.— Тут дело не простое. Школа чья? Земская. В нашем монастыре есть бурса. Там дело ясное. А школа? — здесь сложно. Пусть земство заботится, не так ли? А как вы думаете?
Так и ушли ни с чем.
Сельский голова постукивал клюкой, глядя им вслед из-под высокой шапки, которую носил летом.
Алексей Вавилович начал учебный год с глины и мастерка. Лизонька — с ведра и тряпки.
1 Любое начало требует освящения.
62
Бесчестнейшему отцу Иннокентию и эконому — отцу Иову — не поклонились. «Всякий початок любит посвяток», то есть корчму, которую стражник именовал трактиром,— обошли. Это было не просто неуважением, невоспитанностью, неучтивостью — а дерзостью, наглостью, сознательным подрывом веры и власти, ее трех китов: православия, самодержавия и народности, которые воплощались в попах, стражниках и сельском голове.
Однако то еще были цветочки. Ягодки наливались кровью, а кровь — сок особенный.
И тогда, в то время, и потом учитель не раз думал над остроумием своей жены: просвещение граничит С могилами...
Он вникал в историю села, которое было основано на месте едва ли не первых стоянок человека и позднейших городищ. Этимология — названия углов — говорила и о временах язычества, и о тех, которые сменяли их.
С Лизонькой они посетили монастырь. Долго стояли перед воротами, служившими одновременно и звонницей и крепостью. В них въезжали когда-то Мелетий Смотрицкий1 и первопечатник Иван Федоров. К настоятелю и эконому на поклон не пошли. Высокая, не естественная, а руками насыпанная гора, на которой за зелеными деревьями белели монастырские стены с бойницами, производила впечатление своей простотой и силой. Остатки глубокого рва, валы свидетельствовали, что гора была окружена водой, что перед звонницей-крепостью был мост, который поднимался и опускался. А что же говорило о первопечатнике, об авторе первой грамматики?
В семинарию-бурсу шмыгали туда и обратно голодные оборванцы бурсаки-семинаристы. Их перевели сюда из Житомира, вишь, и он уже не был мирным. Загнали в закуток. Неужели и от них ждали беспорядков и бунтарства?
Они разговаривали с Лизонькой о том, как в мире все изменяется, доходя до своей полной противоположности. Первопечатник, первограмматик — основатели прогресса, движения вперед, а скудоумные, тщедушные
1 Мелетий Смотрицкий (1578—1633) — ученый, филолог, автор первой грамматики старославянского языка.
63
наследники-монахи воспользовались их неусыпным ТРУД°М> чтобы сеять невежество, темноту и покорность. Жизнь обращалась в смерть. Свет во тьму.
Нет, еще хуже, еще чудовищней, еще страшнее: на живых кадят ладаном, пахучим, приятным дымком, чтобы глаза всегда были ослеплены: «Придите ко мне все страждущие и обремененные, и аз упокою вы»,— и живые стоят на коленях.
Он встречался с ними.
Лапти Цисарика сегодня напомнили ему, как когда-то он под вечер ходил за молоком: брали у отца Цисарика — батьки Танаса. Нет уже той хаты. На том месте, на Заставне, молодой Цисарик построил новую, которая, между прочим, мало отличается от старой. Такая же глиняная завалинка, такая же соломенная крыша.
Танас сидел на завалинке с родичем Василя Крим-чука — тоже Василем — и учил его плести лапти.
Длинными полосками лежало липовое лыко. Танас растирал его ножом, прилаживал. Василь старался, и лапти выходили у них ладные, будто на продажу.
Тетка Цисарика еще не подоила корову, и он примостился, ожидая, на завалинке.
Угасал теплый осенний день, когда летит и, кажется, даже жужжит белое бабье лето. Еще высоко небо, но с него уже веет какой-то печалью. Желтые сады, опали первые листья, и желтая стерня вселяет тоску, уныние.
Танас с Василем, плетя лапти, вели неторопливую беседу, и приход Алексея, видно, оборвал ее.
— Рассказывай, Васильку,— ласково обращался щуплый дедок к силачу парню, не прекращая ни на миг работы,— не бойся и не прибедняйся, тут все свои. Пан учитель, так какой из него пан, у нас молоко берет.— Он блеснул хитрым взглядом и кивнул на Василя: — Хлопец недавно со службы.
Парень покраснел.
— Я не стесняюсь, дядько Танасику,— выдавил он. А потом, справившись со своим смущением, продолжал:— Дело было так, собираемся в дальнюю дорогу. Этап. Вы, дядько Танасику, сами служили, с вами легко говорить. А кто не служил...— Тут он немного запнулся, но не глянул на учителя и продолжал дальше: — Так вот, ведем их. Двадцать душ. Немало, знаете, 64
но и нас немало. Арестантики молоденькие, присмотришься — молоко на губах не обсохло. Они студентики. Мы за веру, царя, а они как раз против. Надо же! Не то литовцы, не то латыши. Я точно и не знаю, потому что для меня это морока, путаюсь. В кандалах идут, кандалы звенят, а они разговаривают по-своему. О чем — не поймешь. Но вроде бы смирные. Того не было, чтобы какие-нибудь песни или издевались над нами, солдатами. Чего не было, того не было. Рыжевато-белые все, как на подбор. Ни одного чернявого. Прокатилась молва, что вести их нам в самый Петропавловский равелин. Я уже кое-что понимал и, услышав про равелин, сразу смекнул: братья-студентики это птицы еще того полета! Поговорил я об этом со своим дружком Гончаренко, который о Петропавловском равелине не имел никакого понятия, и мы насторожились.
Василь время от времени поднимал глаза, смотрел, как, тихо кружась, падал на землю желтый кленовый лист. Золотился старый клен у ворот. С него срывался листок, плавал в воздухе. Провожая его взглядом, парень продолжал:
— Как это бывает на этапе, впереди арестанты, мы — возле них, а подводы сзади. Дорога идет все над морем и над морем. Пам и выгодно, стережем с одной стороны — с той, где лес и песок, а с другой — чего смотреть? Море не переплывешь. Селений мало, а может, начальство нарочно сделало так, чтобы мы их обходили. Останавливаемся в городах: заезжий двор такой-то, знаем заранее. А один студентик притомился. Задыхается, чахоточный. Плюнет — кровь на песке. Надо же! Очень уж он хилый, немощный. Вот он и стал проситься, чтобы взяли его на подводу. Выходит, умеет говорить и по-нашему. Мы, конечно, не звери какие-нибудь, берем его на воз. Кандалы не расковываем, потому что это уже не нашего ума дело. Я моргаю своему дружку, и мы не спускаем глаз с чахоточного. Служба бдительность любит, правда, дядько Танасику? Дотащились мы наконец до города, а все города, в которых мы были и будем, для нас — город Эн.
— Правду говоришь,— отозвался Танас.— На службе как? Идешь — и не знаешь куда. Порядок.
— А я что говорю? Вы, дядько Танасику, все знаете, и потому мне интересно вам рассказывать. Чтобы
3 Б. Харчук
65
я когда-нибудь врал, такого за мной не водилось. Разве вы меня вот такого,— и он показал рукой невысоко от земли,— не помните? На ваших глазах вырос. Так вот, вступаем мы в сказанный заезжий двор города Эн. Теперь я могу сказать, как он называется, но не в том дело. Время вечернее, осень. Прямо как сегодняшний день. Правда, чуть позднее, потому что уже стемнело. Во дворе ни души. Так и должно быть. Вокруг плохонький забор и садочек, который называется внутренним. Старший отправился выяснять насчет размещения. Хлопотливое это дело. Пока дождешься ужина, кишки не раз марш играют. Ноги болят, руки отваливаются, ломит поясницу, как будто на косовице. Наши аре-стантики уселись на каменные плиты, опустив головы. Ни кандалов, ни их не слыхать. Покой. А тот, слабый,— на подводе. Я стою — задумался, склонился на винтовку и сам не знаю, о чем думаю. Может, и про наше село, про выгон над Велемчанкою. Кто его знает? Бывало, переутомлюсь: мысль и обращается в свой край. А мой дружок Гончаренко толк меня под ребро локтем, а будто штыком ткнул. Я поднимаю голову, из своей глупой задумчивости. Брат ты мой! Чахоточник спрыгнул с воза, держит во-о-т так кандалы,— Василько отложил недоплетенный лапоть, поднялся и стоя, наклонившись, изображал беглеца.— А он, видно, отлеживаясь на возу, заранее все обдумал, перетер или ногтями порвал кандальный ремень вокруг пояса, спустил кандалы и давай драпать. Вот чертова душа. Уже за кустами, уже в садке. Слышу — шелестит. Я винтовку к плечу, а она сама бьет. В тот шелест. Выстрелил раз — шелестит, выстрелил снова — шелестит. Тогда я толкнул Гончаренко в грудь. Он бабах-ба-бах, но разве ему попасть? Я побежал и на бегу как шарахну — шелест затих. Но я не останавливаюсь. Винтовка наперевес — штык длинный. Наскакиваю на студентика. Он сидит под яблоней, ухватился за грудь. Задыхается чахоточник, поднял на меня глаза. Всем, значит, жизнь дорога. Держится за грудь руками — со всех пальцев капает кровь. А вокруг яблоки, и сидит он на яблоках. Что-то сказал мце, но что — убейте — не знаю. Не ругался он, нет, это я хорошо помню, кажется, что-то попросил. Такой голос. Видит, что ни бельмеса не понимаю, поднял одну руку, показал своим пальцем на штык и ткнул себя пальцем в
66
грудь. Я и ударил его штыком, в то самое место, которое он показывал. Подбежал Гончаренко и говорит: «Смотри, штык из спины выскочил!»
Он передохнул, глядя на клен. Клен шумел, но желтые листья уже не падали. Розовело на закате небо, на его фоне высокий клен тянулся к белой тучке.
— И поволокли мы его. Сами обходили яблоки и его волокли, чтоб не по яблокам.
— Вы потом их ели?
Парень покосился на учителя, который задал этот вопрос.
— Не ели мы этих яблок. Старший выдал нам с дружком по целому рублю. Из своих рук — мне и Гончаренко. Правда, мой дружок отдал мне свой рубль. Он был честный. Я же говорил, куда там было ему целиться? Бабахкал, лишь бы бабахкать.
Танас сплюнул на пальцы и, присучивая дратву, сказал:
— А теперь олухов среди солдат много.
— Почему, дядько Танасику?
— Ты, Васильку, действовал не по форме. Слушал я: все ты рассказывал как по писаному. Но никак нельзя было его волочить. Проколол, штык выскочил из спины, поставь дружка часовым, а сам — гайда к начальнику. Так надо по уставу.
Василь согласно кивнул, а пан учитель проговорил:
— Не студентика прокалывать...
— Хе-хе,— облизнулся Танас на это замечание.— Кто говорит будь здоров, а кому пить. Вот моя старуха пошла с подойником, но пока она корову доит, я вам расскажу, как я был убийцей и действовал по форме. История не длинная.
Парень глядел ему в рот, знал историю дядька Та-насика и потому не таился перед ним своей.
— Я скоренько. Хотите — намотайте на ус. Не хотите — не слушайте, я не неволю. Верьте или не верьте, а во всем виновата груша.
— Я ее знаю,— подхватился Василько,— грушки были ничего.— Он не спускал взгляда с Танасовых рук, с его пальцев, которые споро машинально производили «обувку — клеточкой»: в этом и заключалось обучение — усвоить каждое движение.
— Какое там ничего? Гниль. Но кто и когда посадил
3*
67
грушу, ни я, ни отец, ни наши дед и бабка не знали. Там на меже,— он качнул головой, борода дернулась в сторону соседнего подворья.— Пакостная груша.
И он рассказал, как за эту грушу ссорились, судились, как в конце концов дошло до страшного дела.
— Как раз осенью то приключилось,— говорил он,— я собрался косить отаву, кинул в угол брусок. Моя старуха вопит: «А Родион наши грушечки собирает!» Я брусок в руки и на огород. С языка так и просится: ты меня когда-то кулаком, я ж тебя теперь!.. И за кулак, и за крапиву, которой меня малым обжигали... Однако не проронил я и полслова. Подошел тихонько к Родиону и хвать его бруском по макушке. И тут — никак я такого не ожидал — Родион опрокинулся. И гей-гей, отдал богу душу. Я позвал старуху, поставил ее около Родиона, а сам с бруском к стражнику. Действовал по форме чин чином. Туда-сюда, я в съезжей избе. На другой день привезли лекаря. Будут убитого вскрывать. Сошлось народу! Все прут и прут посмотреть на Родиона и на меня. Я сижу запертый и в окошко все вижу. Принесли лавку, положили на нее моего соседушку— под голову полено. Лекарю табурет. Он на него не сел. Смотрю: показывает что-то на пальцах Родио-нихе, а что говорит, не слышу. Родиониха же, смолоду подружка моей старухи, вместе с девушками венки пускали по реке, раздевает она Родиона до нитки. Труп где желтый, где зеленый. Опух. Твердый. Лекарь разложил на табурете свои инструменты. Блестят. Потом пальцами разобрал Родионов чуб от уха до уха и пустил в ход ножичек...
— Ну и живодер! Костолом! — не удержался Ва-силько.— А то, что вы сразу пошли к стражнику,— хорошо сделали...
Новак тюкал топором, предавался своим воспоминаниям, навеянным приходом Цисарика, собственно его лаптями, которые выходили из рук его батька Танаса: умел плести старик!
Учитель опустил топор, сел на колоду и задумался: какой долгий и тяжелый путь, обвитый темнотой, бесчеловечностью, довелось пройти селу, в котором он живет. Вспоминал и тот давний, незабытый вечер, когда нес теплое молоко и думал: а кто его будет пить?
68
Теперь настала новая жизнь, не будет кровавых драк за межу. Скоро здесь будет колхоз. Будет. «Новое... новое»,— шептал он, улыбался, усы его шевелились.
XI
Левко задержался около тополька, что рос за углом хаты. Идешь из дома или домой — не минешь его. Гибкий и прямехонький, раньше он как-то не замечал его, да и теперь он не мог вспомнить, каким он был в первые заморозки, как потом зимовал?.. Остановился на один миг, пригнул упругую ветку, понюхал. Не удержался, сорвал почку. Выпущенная из пальцев ветка, свистнув, устремилась в высоту, а почка лежала у него на ладони.
День выдался ясный, солнечный. Раскрылилось чистое небо. И Пропастище, и все другие уголки села, казалось, стали выше под его широким и глубоким куполом. Каждая хата смотрела в небо, жаждая солнца, и в каждом окне плескалась небесная голубизна.
Ни тучки над головой, ни клубочка тумана меж холмами.
Небо над горами и за горами небо. Горы плывут в небе и соседствуют с самим солнцем.
Кое-где уже пробилась трава. Зелень ее тешит глаз. Каменистые, обрывистые кручи и откосы, отсырелые и мокрые, с заплатами обледеневшего снега, глиняные склоны и выступы, перепрелые, влажные, блестят, переливаются жемчужным, золотым сиянием.
Велемчанка стала длинным озером. Волна нагоняет волну, из Пропастища видно, как в весенних водах, которые разлились, безбрежно затопив долину, отражается, будто в шлеме, заостренная Сон-гора, разложистое Залужье, приземистое Городище с двумя вершинами, словно раскрытыми воротами, Заставна... и холм, что по ту сторону долины, могилки с ветхой часовенкой, с покосившимся на ней крестом. Все зубчатые горы наклонили свои головы и слушают весну. А монастырь будто бы сам в воде, как остров.
Левко растирает в ладони клейкую почку и чувствует: его пальцы пахнут липкими, нераскрывшимися листочками. Запах сладко-терпкий, вязкий, будто попро
69
бовал эту почку на зуб. По всему телу разливается что-то волнующее, тревожное, трепетное и радостное, пробуждая силы, словно просыпаешься после долгого удушливого тяжелого сна.
Тополек будто неказистый, невидный, вероятно, потому что не обращал на него внимания, а сейчас раскрылся перед ним, он увидел его другим, неожиданно стройным, каким-то даже торжественным: серебрилась кора, чтобы увидеть его верхушку, должен был запрокинуть голову; на прутиках веток, еще голых, беззащитных, пробивались бесчисленные почки, словно их кто-то посеял. Облитая солнцем каждая веточка, казалось, играла на невидимых струнах. И эта музыка зазвучала в сердце Левка.
Он подумал: без этого тополька и день не день. Горы, половодье в долинах, голубое небо — все будто бы вокруг тополька.
Расстегнув шинель, вдохнул свежий ветер, который веял с долу и дышал весенним разливом. Из дымоходов потянуло вкусным дымком, который постепенно рассеивался; расходился легкий, невидимый, а не стоял столбом, как в морозы. Село прощалось с зимой.
Время от времени он нюхал свои пальцы, продолжая растирать почку, и, не глядя под ноги, спускался из своего угла, идя в сельсовет.
Вывозку леса закончили. Управились вовремя.
Теперь бросай ячмень в грязь — и будешь князь. Солнце артподготовку провело, пора поднимать пахарей и сеятелей — полевую пехоту, пусть она себя покажет.
Кулишенко вошел в сельсовет и сразу к телефону. Выпуклая, продолговатая коробка, которую называли бандурой, была прибита к стене около двери. Он снял трубку, приставил ее к уху, склонил голову к плечу и крутил ручку коробки. Дозвонится — сразу возьмет трубку в руку и будет разговаривать.
Раскручивал коробку рывками, отпускал ее: что-то стрекотало, а в ухе жужжало, трещало, и через это дребезжание, которое тупо, как рашпилем, водило по нервам, прорывалось радио:
Ой, джигуне, джигуне...1
1 Д ж и г у н — озорник, повеса.
70
Юн раздражался, дул в трубку, будто продувая ее:
— Алло! Алло, райком?
Наконец в трубке щелкнуло и отозвался голос Да-рьи Шитик. Левко узнал его — низкий, с нотками уверенности и характерным женским придыханьем, но без мягкости. Аппарат не мешал, наоборот, усиливал голос: провода донесли его требовательность.
Председатель сельсовета выпрямился, чувствуя, что сам становится уверенней.
— К нам не добраться. Хоть бери и сани, и воз, и лодку... Так развезло. Не пугает? Спрашиваете, почему мы затянули? Нет, мы вывезли — на руках вынесли кругляки. Ломались сани, трещали подсанки...
Размашисто топая, ввалился Яровой. Увидел, что Кулишенко на проводе, остановился и стоял, внимательно прислушиваясь к словам председателя.
— О чем я и говорю,— докладывал Левко,— кони и сани не выдерживали, а люди выдержали.
Яровой кивал головой, лицо его посуровело.
А Кулишенко собирался рассказать о севе, о подготовке семян, о решении земельного общества и сельсовета обобществить тягло, не дожидаясь приказа сверху. Хотел заручиться согласием, санкцией.
— Говорите, глянуть в окно? Смотрю! Спрашиваете, какой славный день?..— В трубке что-то чикнуло и замолкло.
Разговор оборвался на полуслове. Он и сам собирался сказать, что день сегодня — всем дням день, теплынь. Не верил, что разговор оборвался и не возобновится. Прижимая трубку плечом к уху, взялся рукой за коробку, раскрутил, рывком отпустив ручку... Хоть бы звук...
Подошел Яровой, взял трубку, приложил ее к уху, не дотронувшись до коробки.
— Так и знал,— зло проговорил он,— линия обрезана, вот почему бандура не играет. Говорю, реально.
— Что?
— Бандиты перерезали, вот что!
Кулишенко в расстегнутой шинели стоял посреди сельсовета злой и раздраженный. Глаза потемнели, лоб в морщинах. Лучи солнца осветили его лицо. Он поднял к глазам руку. Пальцы пахли тополиными почками. Рассердился еще сильнее: дерево не спит, дерево про
71
снулось, а он дремлет, хотел толком поговорить с райкомом, не удалось.
— Сев севом, но пока бандитов не уничтожим... Слушай, Левко...
— Давай мне их, живьем давай. Где они?!
— Ну, ну...
— То-то оно и есть: привез, положил обгоревших бандитов под окнами. Чтоб припугнуть? Мы — советская власть — тут не для устрашения. Советская власть здесь на веки вечные. Как воздух, как вода, как солнце.
— И попугать тоже следует. Нечуйвитриха детей привела: смотрите, кто вашему отцу мерзлой землей рот набил! Разве то не наша наглядная агитация? Не за нас?
— А Джеджиха пришла и всплакнула: все мертвые святые. А попище Иов приперся и перекрестил. Тоже, скажешь, наглядная агитация? Тоже за нас?.. Забирай их из-под окна!
— Последний, третий день полежат — и заберу, вывезу на конские могилки. А ты на меня не кричи. Реально.
— Охрану около них держишь. Сам стоишь. Живых давай, я их судить буду.
Яровой подошел к Кулишенко. Один худой, бобриковое пальто хоть и застегнуто на все пуговицы, сидит на нем мешковато: велико. Шея тонкая, кадык торчит над застегнутым воротником. Другой — приземистый, полы шинели распахнуты, будто крылья.
— Не горячись, Левко. За одну и ту же ниточку дергаем,— Яровой сбросил кубанку: вспотел. Черные волосинки около ушей, мокрая лысина просвечивается. Лицо старательно выбрито, с синеватым отливом. Осунувшееся. Глаза утомленные, но решительные. С красными прожилочками.
— Как это не горячись? Бандура! — Левко ткнул пальцем ящик телефона.— То рокочет, то глохнет... Ночей боитесь, а бандюки дня не боятся. Истребители... Откормились...
Яровой отступил еще на шаг. Хотел сказать что-то резкое, колючее, но неожиданно рассмеялся. Ростом выше, чем Левко, через его плечо увидел себя в зеркале, висевшем возле окна.
72
— Это я, что ли, морду откормил? — сказал, глядя сверху на Кулишенко.— И ты откормился? Неделю не брит, бороду подпаливать можно. Я тебя арестую за это.
Его смех, рассыпчатый, холодный, обдал Левка так, будто ему инея посыпали за ворот.
— Ты мою бороду не трогай. Отсеемся, бандюков переловим, и помолодею.
— Только тогда и побреешься? — спросил Яровой.— Если мы с тобой будем грызться, они нас быстрее ос-малят.
— Нас? Меня? — крикнул, уже не сердито, а гневно председатель сельсовета.— Нет такого огня! Я умру. Все смертны. Но я не умру до тех пор, пока не накормлю Евку, ее детей хлебом. Ты меня слышишь? — Он говорил, стиснув зубы и будто подчеркивая каждое слово.— Кто кормил ее мужа, их отца мерзлыми комьями? А я накормлю детей хлебом. В этом я вижу смысл моей жизни, это моя потребность, мой высочайший долг и обязанность.
Яровой качнулся на тонких ногах. На одном плече автомат. Через другое — портупея. Подбросил автомат, который свисал дулом вниз, поднял руку, в которой держал кубанку, и положил ее на плечо Кулишенко.
— Левко, да разве я другого хочу? Дорогой ты мой...
— Бери, Володька, хлопцев, и идите вдоль телефонной линии.
— Пойдем. Но у каждого столба я часового не могу поставить. До района тридцать с гаком, реально. Полем идти немного, все больше лесом, а ты кричишь...
— Не я, ненависть кричит во мне.
— А ты сдерживай ее, спускай на тормозах,— сказал Яровой.— Пусть она, гадюка, там сидит и не попискивает, а то, чего доброго, ядом на тебя первого, гляди, и брызнет.
Кулишенко отступил от Ярового, мотнул головой, отбросив чуб. Глаза сосредоточенные, суровые.
В дверях появился Василь Кримчук: слышал их перепалку, но не подал вида.
— Поругались — и за работу,— сказал Левко.
Яровой оглянулся и впервые заметил Василя.
— Молодой, а в истребители не хочет. Страх в пятках сидит. Все бы только пером скрипеть. Так, Крим-
73
чук? С Юркам Оранчуком соревнуешься? Ну, дорогой, Юрко песни пишет, так что далеко куцому до зайца.
Хлопец принужденно усмехнулся.
— Чтоб исполнитель был на месте,— приказал Кулишенко.
— Цисарик на дворе. Там людно. Подходят, расходятся. Позвать исполнителя, Левко Архипович? — Кримчук шагнул к двери, но открыть ее почему-то не торопился.
— Сейчас не нужно. Через час, самое большое — через полтора, чтобы люди и подводы были у Кричевского. Вот список.
Василь какой-то вкрадчивой походкой подошел к председателю сельсовета и взял из его руки сложенный вдвое листок бумаги. Развернул его, пробежал глазами по списку фамилий. В каком порядке прочитал, в таком и запомнил. Вложил записку в карман кителя. Он сделал это так, чтобы все видели, какой он аккуратный, деловитый, старательный. Преданно смотрел на Кулишенко и думал: «Наверно, еще ночью список составил, на чужое добро», а вслух сказал:
— Я постараюсь, Левко Архипович. Сам всех обегаю и сам всем скажу.— Уже шагнул было, но почему-то задержался.
Кулишенко думал о чем-то своем.
— Ты, Володька, может, встретишься с районными телефонистами. Дарья вышлет их непременно,— обратился он к Яровому.
— Передать что-либо?
— Передай в райком: ни одного дня на севе не потеряем. Мы заверяем в этом, как коммунисты.
Кримчук словно бы для того и задержался, чтобы услышать этот разговор; услышал, бросил взгляд на Ярового и проскочил мимо него.
— Не нравится мне наш «и. о.»,— произнес Яровой.— слишком уж показывает свою старательность при выполнении своих обязанностей.— И закончил своим обычным:—Реально, не нравится.
— Кримчук, конечно, не Нечуйвитер,— согласился Кулишенко.—Жаль мне Нечуйвйтра, как вспомню5— сердце разрывается. Работящий, и с малым ребенком и со старым дедом ласков. Такому человеку — и так же
74
стоко оборвали жизнь! — Он нахмурился и кинул на голову шапку.
Яровой надел свою кубанку, которая сидела на нем молодецки. Лихо. Онй вышли и разошлись у порога. Левко повернул направо, огибая сельсовет: постоял на углу — на другой стороне улицы школа, громко вызванивал колокольчик, школьники стремглав выбегали из классов на большую квадратную площадку. Раздетые, шумливые, высыпали на улицу, будто на школьной площадке им не хватает места. Мало кто — в сапожках, большинство в сапожищах, калошах, чунях, а то и в лаптях.
Школа — буквой «П». Центральный вход с белыми круглыми колоннами. До войны здесь было педагогическое училище. Красивые, просторные классы, окна высокие и широкие. Но чтобы топить такую школу, нужны дрова, очень много дров. Об угле забыли, какой он и есть. Даст еще о себе знать ему это отопление. Прижмет мороз — и неутомимый Новак на пороге: «Товарищ председатель, либо дрова, либо я вам покоя не дам». Упрямый. Скажет слово, и оно запечатлеется в памяти. При царе, при Пилсудском, не давали ему учительствовать. Собирал музей и учительствовал украдкой, по хатам. И он, Левко, ходил в эту как бы нелегальную воскресную, как бы подпольную, школу. «Вы, хлопцы, не дурачьтесь, учитесь пpилeжнoJ а то ваши шеи запрягут в ярмо и будут погонять, как скотину, нет, хуже, чем скотину; та хоть ревет, а вы онемеете». Кое-что и он, Левко, тогда усвоил из этой науки.
Он поглядел на школьников и подался огородами. До Городища будто рукой подать, а как пойдешь, оно будто отступает дальше. Тропинка вела вниз: межа и склон, потому и сухо. А вся долина — море. И старые дуплистые вербы с лохматыми ветвями, без верхушек. Именно так им почему-то особенно подходит, стоят в воде и корягами, и разветвлениями, стволами. Некоторые совсем позаливало, веточки торчат поднятыми заячьими ушками.
Колышки и натянутая на них проволока в конце огородов, чтобы никто не топтал дорожки, залезая на грядки, тоже в воде; от наводнения не загородишься.
Левко направился к дороге и вышел на мост. Под ним шумела, пенилась высокая вода, но речку эту он
75
знает: вьется она синей, а бывает, даже черной лентой. И вода в ней кажется другой, густой и тяжелой.
Крутой подъем, торчащие из воды могучие стволы ясеней, берез, кленов. Голые корневища вьются спрутами. Грязь, вывернутые камни, мутные колдобины, рытвины, налитые солнцем,— вся эта мартовская муть. Гора — все выше и выше, обрывистей, и он чувствовал ее крутизну в своих коленях.
Найдя мать у Кричевского, забрав ее домой, Левко с того дня обходил этот двор. Оксенту тоже не хотелось встречаться с ним. Они виделись на вывозке леса, но еле-еле здоровались. И вот Кулишенко сам шел к нему. Не вызвал в сельсовет, хотя и мог это сделать.
Может быть, председатель сельсовета проявил какую-то слабость? Нет, здесь все складывалось как раз наоборот.
Вчера вечером, лежа на твердом топчане, Кулишенко обдумывал свой приход к Кричевскому. «Разве я не готовился к этому посещению всю свою жизнь? Именно она с ранних лет вела и ведет меня против Оксента. Я еще был мальчишкой, а он уже сколачивал свое хозяйство. Я пас корову у его межи. Он подъехал на коне: «Пасешь или подкармливаешь?» — «Я не спускаю ее с веревки».— «Лучше убирайся, хлопче, подальше от моей межи, не удержишь корову, вскочит на мое поле, и тогда бить тебя, что ли? Я никого не бил и тебя не хочу, лучше убирайся». Я потянул корову, она уперлась: под межой Кричевского густая трава. Оксент сидел на коне, пока я не увел корову. Где ее попасти? И тогда я впервые подумал о межах, которые делят поля и людей. Как мне хотелось сбросить Оксента с коня. Он не ругался, пальцем меня не тронул, но если б и побил, это было бы не так больно, как от легко сказанного, без окрика: «Убирайся». Я, конечно, убрался. Но не с того ли дня я иду к нему, к кулаку? Мы ходили с отцом к Кричевскому косить его поля. Работали у машин. Он уважал хорошо сделанную работу и кричал на Варьку, чтобы хорошо и помногу кормила нас. «Чтобы у меня никто голодным не был!» — повторял он. Он проверил на собственной шкуре: голодный крепко косу не потянет. Поэтому у него косили и молотили охотнее, чем в имении Болоньи, где кормили похлебкой на воде. Оксент мог и расщедриться, дать вечером буханку хлеба
76
домой. Вынесет из кладовой, прячет под полой, проводит до ворот и даст: «Возьмите хлебец, не благодарите, как-нибудь посчитаемся, свои же ведь». Он считал себя своим и тогда, когда прогонял меня от межи, и тогда, когда давал из-под полы буханку. И тогда, когда Евка у него батрачила, пока не вышла замуж за Нечуйвитра. И тогда, когда моя мама на него батрачила... Неужели Оксент думал, что творил добро, спасал ее? А может, опустошил ее душу. И без того бедное ее хозяйство свел на нет, мать вовсе отказалась от него.
Может быть, чувствуя свою вину, Кричевский прибежал предупредить отца Кулишенко о предстоящей над ним расправе. А мать и до сих пор такая запуганная.
Несмотря на усталость, Левко не мог уснуть. «Я давно, Оксент, иду против тебя,— думал он.— Ты сам в этом повинен. Не нужно было менять батрацкую честь на довбеняцкое богатство, на подслеповатую Варвару. А может, ты убежден, что и Варьку спасал? Без тебя сидела бы в девках? Как бы не так. Я иду против тебя, иначе моя совесть не будет чиста. Таковы мои убеждения. Я, как ты знаешь, коммунист. Я не могу сказать: «Убирайся с моей межи». Я не могу выносить буханку хлеба под полой. Я говорю: «Никаких меж!» Я хочу хлеба для всех голодных. Разве не на то намекал Новак в воскресной школе? Разве не это я слышал из уст тех революционеров, которых мы с отцом переводили через кордон? Разве я воевал за что-то другое? Видишь, я лишился руки, а иду с револьвером. Проволоку перерезают не голыми руками, а я, инвалид войны, знаю, как пахнет кровь».
Утром он сам направился к Оксенту.
Показались ворота. Приблизился, вошел в калитку. Он знал: над воротами навес, рядом — хлевы — цельным строением вдоль улицы. Хата посередине, рядом амбар, за ним пасека, поодаль — овин.
Он двинулся на подворье, а на него — собака. Серая с черной спиной. Проволока протянута от амбара до ворот, и пес залаял, бегая вдоль проволоки и звеня длинной цепью.
Строения добротные, но то ли затемняют их высокие ели, то ли оцинкованная крыша начинает ржаветь, и выглядят они как-то неухоженными, запущенными,
77
безрадостными. Подворье захламлено. Стоит неукрытая молотилка, кругом разбросана солома. Все старое. А собака новая.
«Гав! Гав! Г-р-р...»—из пасти брызжет слюна.
Левко остановился у калитки — пес пытался хватить за сапоги.
— Рекс! Марш в будку! А ну, в будку! — с крыльца медленно спускался Оксент. Он не видел, на кого собака лает, а когда ступил на землю, увидел Левка, побежал ему навстречу.— Я кому говорю! — Он схватился за цепь, рванул к себе: собака оскалилась, заворчала на него, словно бы не узнавая. Оксент произнес:—Ну, и зараза ты, Рекс! — и повел собаку в будку. Она высоко подпрыгивала, вырывалась и злобно грызла цепь.
Хозяин, загнав собаку в круглое отверстие конуры около амбара, опустил дощечку, прикрывавшую отверстие.
Повернулся, снял шапку:
— Добрый день, Левко... Левко Архипович.
Они сошлись как раз у крыльца.
— Когда-то у вас был Рекс, и новая собака тоже Рекс?
— Я ее недавно завел. У нас ничего не меняется,— ответил Кричевский и спросил:—А как там матушка Мокрина?
— Семенит потихоньку...
— Семенит... Ты уж, Архипович, прости, когда я взял ее на работу, считай, что спас ее. Такое время было. А по-теперешнему получается эксплуатация. Не придет, не проведает, ну да бог с ней. Мы не гордые. Дождалась сына. И он теперь первый человек на селе. Я не наживался, не издевался над ней, Левко.— Оксент обращался к нему то по отчеству, то по имени, не зная, как лучше.— Ей-богу, не издевался. Могла бы и наведаться.
— Я пришел,— сказал Кулишенко сдержанно, но Оксент уловил в этой сдержанности и важность, и необходимость такого прихода.
— Вижу... поставки я сдал, есть квитанции. С государством рассчитался исправно. В писании как сказано: всякая власть от бога и что кесарю — кесарево. Может быть, началась подписка на заем?
— Подписка еще начнется.
78
— Я готов,— продолжал Кричевский.— Но почему мы стоим?
На крыльце появилась Варька.
— Вот так хозяин,— покачала головой.— К нам гость редкостный, а он держит его за порогом. Просим вас в хату, просим,— и она исчезла, побежала накрывать на стол.
Кулишенко глянул Оксенту прямо в глаза.
— Можем поговорить и на дворе. Дядько, где ваши кони? Почему вы с одной клячей, одним дохляком были на вывозке леса? Где еще пара?
Кричевский не думал, что беседа начнется с лошадей, с того, чем он дорожит больше всего на свете. Он полагал: председатель будет его отчитывать за ту землю, которую он самовольно захватил и засеял. Земельное общество уже обмеряло: тайное стало явным. Но кони? Кони его, собственные. Что хочет, то и сделаете ними. Вопрос ошеломил его, и он, уцепившись было за пустой рукав Левка, сразу же оставил его, взял Левка за руку.
— Пойдем же в хату,— пригласил он,— вот и жин-ка зовет.
Кулишенко тяжело двинулся с места. Оксент держал его за руку, ведя на ступеньки крыльца.
— Дядько, где кони? — повторил Кулишенко.
Кричевский удерживал его за руку и не отвечал.
Светлое, застекленное крыльцо. Темные сени, в них пахнет мукой. Большая комната. На окнах цветы. На застеленной кровати горою подушки. Цветистые рядна на диване и кровати. Шкаф с зеркалом. В глубине стол. Гнутые стулья. Одна сторона стола заставлена — тарелки, тарелочки; на другой — бумажные цветы в вазе.
Лишь в комнате Оксент отпустил его руку. Стал подвижным, затопал сапогами, подскочил к столу, схватил бутылку и налил самогон в рюмки на длинных ножках.
— Я не разделся, и вы — в шинели... Варька, подавай горяченького!
Левко и не думал раздеваться.
Из кухни быстро вошла Варька, молча внесла на тарелке жареное мясо и молча вышла, закрыв за собой дверь.
— Оскоромимся, Левко Архипович. Вы, коммуни
79
сты, поста не признаете. Ия — вместе с вами, бог простит. Вспомним вашего отца, мы, бывало, с ним в последний день жатвы... садитесь ближе, стол, ей-богу, не кусается.
Кулишенко не раздевался, и Кричевский сел к столу в заношенном, потертом, с заплатами на рукавах, пиджаке.
— Выпьем чемерицы, деды и прадеды ею не брезговали, чего же нам брезговать? Может, они и лучшую пили, а мы выпьем такую, какая есть. До чего-нибудь хорошего договоримся.— Он поднял рюмку, рука его дрожала, и самогон выплескивался на его широченную ладонь.
— Поставьте, дядько,— сказал Левко и сел на стул, отодвинув его к кровати.
— Вы все про коней, Архипович? Ах, эти кони!..— словно выдавил из себя Оксент, аккуратно поставил на стол рюмку и поднялся.— Продал! — выпалил он.
Левко вскинул взгляд на Оксента, потом опустил глаза.
— Неправду говорите, дядько. Почему? Зачем продали?
Кричевский стиснул зубы, подошел к шкафу, вытащил из него перевязанный, завернутый в газету пакет, развязал и бросил на тот край стола, где стояли бумажные цветы, пачку денег.
— Вот они — кони! Наличные — на заем!
— Я вам все равно не верю.
— Что ж, Левко, вынимай свою «пушку», клади на стол и допрашивай, как меня уже допрашивали о Соломин. Коней я продал, а дочка у деда и бабы на хуторе.
— Это мы еще увидим, дядько. А зерно: ячмень, яровую пшеницу, гречку с утаенной земли тоже продали? За свои десятины поставку вы сдали. А за утаенную землю? Говорите, где закопали?
Кричевский вздохнул и признался:
— Это правда. Закопал.
— Хорошо, что хоть этого не скрываете.
— Гноить хлеб — грех, Левко... Эх, Архипович, разве я не был на фронте, ничего не знаю?
На столе стояло остывшее жаркое и нетронутый са
80
могон. Желтоватый и даже чуть рыжеватый, он колебался в рюмках от их голосов и шумного дыхания.
Варька украдкой выглянула из кухни, склонив набок голову, и незаметно прикрыла дверь.
XII
Юрко рос и был похож на других детей. Как и прежде, он часто дневал в одиночестве на горбатом склоне горы: обнимет руками колени и сидит. Перед ним открывалась даль: узкими полосками тянулась рожь, еще зеленоватая в долинах и уже золотистая на пригорках, белела гречиха, словно бы налитые вспененной водой ямы, зажатые межами, среди шумящих овсов и ячменей; за темными оврагами, над которыми цвели белые копны и розовые копенки терна и шиповника,— темнел Верхов. Он тянулся с востока, словно извиваясь седой речушкой, и поднимался перед мальчиком высокими зубчатыми волнами в синем небе, величавый, панорамный, отступая на запад, выливаясь сизым облаком за горизонт. Ни этих полей, которые разбегались полосами и полосками, ни того темного леса мальчик, казалось, не видел. Его взгляд носился над межами, уходил за овраги, за леса. Неужели мог он там что-нибудь углядеть!
Неразговорчив он был с детства. Скажет какое-нибудь слово и молчит, думая: правильно сказал или нет. Речь его была какой-то странной, старик так не скажет, как он — малыш. Посылает мачеха, чтобы выгнал кур с огорода. Побродит, долго блуждает где-то, возвращается: «Они не хотят».— «Что ты там мелешь, турок?» А он: «Мне петушок сказал: куры есть хотят. Им на огороде хорошо». Она на него с веником: «Ах ты, дурень! Несчастная, бедная моя голова! Он слушает, что ему петушок сказал! Нет того, чтобы петуха хворо-стийой, или чтоб на кур комочками, или кыш! — как все делают. Одурел ты, что ли, или хочешь, чтобы я из-за тебя и твоего батька ума лишилась?» И веником его, веником, аж пыль столбом! А он стоит в пыли. Ни плача, ни слез. Говорит: «Хотите бить, бейте. Будете бить, у вас еще больше рука заболит, а мне не больно».— «Камень ты, антихрист, выродок божий!» — голосила
81
мачеха. А потом бросит веник, расплачется. За него и за себя. А он: «Разве я врал, когда говорил, что у вас рука будет болеть?»
Ну что с ним поделаешь? Странный какой-то. Иные дети лепечут, стрекочут, щебечут, словно воробьи под стрехою, их щебет раздается на все голоса, разносится словно крики чаек над озером или журавлиный клекот в небе, а он и словом не обмолвится, клещами из него не вытянешь. Грустный, печальный. Грусть сидит в нем самом, светится в глазах, а печаль над ним нависла, как серая туча.
Теплый весенний вечер: на дворе, в летней кухне закипает ужин, отец сидит на завалинке, а Юрко ходит от порога к перелазу и назад. Мачеха зовет ужинать. Отец берет ложку и говорит:
«Тихий вечер, благодать». Он сует ложку в похлебку.
Юрко взял ложку и поднял ее: «Ой, не тихий, ой, не благодать, летают светлячки, крылышек не видно, а сами светятся. Красиво. А летучая мышь налетела — и хап-хап, так и глотает светлячки-капельки. А с улицы, наверное со старой липы, сова налетела на летучую мышь: хруст, треск! Пожирают тихий вечер, пожирают благодать...» Он отложил ложку, встал из-за столика под яблоней и снова заходил от порога к забору. Зови не зови, проси не проси ужинать: глухой. Три дня есть не будет. Перебивается на воде. Щиплет конский щавель, еще какую-то траву. Или урвет кусок недопеченного хлебного мякиша и бросает по крошке в рот, будто не он ест, а его какая-то беда гложет.
Не тогда ли отцу, по наущенью мачехи, пришла в голову мысль: отдать его в монастырь, пускай там наши грехи замаливает. И первая и вторая мачеха брали его с собой на вечерню, на ранние службы. В церкви он стоял смирно, но чтобы перекрестился, поклонился — то надо сказать, подтолкнуть.
Излюбленное его место в густом малиннике за хатой, куда бросают мусор и черепки, где в густой тени буйствует роскошная зелень, где в укромном уголке всегда пригревает солнце. Там он сидит в царстве травы и кустов. Нагребет песку, разровняет и выводит на нем палочкой что-то непонятное: то ли пишет, то ли рисует? Напишет-нарисует, сотрет, разровняет ладошкой и снова рисует-пишет какие-то непонятные каракули,
82
плоды его воображения и фантазии. Надоест, сядет и сидит, прислушиваясь к голосам трав, листьев. А когда устанет — зароется головой в песок, на котором выводил палочкой невесть что, и спит. И лазят по нем мурашки, щекочут, заползают в уши, в нос. Он не отмахивается: не чувствует.
Странный ребенок. Сирота.
Он еще не ходил в школу, а уже пас гусей. Ему — торбочку на плечо, в торбочке хлеб, лук, а в руку — прут, и на выгон, к речке. Там — воля. Хлопцы и девчата ватагами ходят. Играют в чехарду, в чижика, играют в морской «отченаш», водя проигравшего с закрытыми глазами, с картузом, зажатым в зубах вокруг палки, или кто во что хочет: по берегу с разгона — головой в речку — раздайся море; по выгону пройтись на руках, вверх ногами.
Василю Кримчуку и этого мало.
— Что я вам скажу, хлопцы? У Мотруни Цисарич-ки на огороде — горох! Стручки — во какие! — И показывает: во всю ширину руки! — Горох сла-а-а-дкий!
Василь настоящий цыган: растрепанная черная голова, будто ею в кузнице подметали, а лицо, все его тело вертлявое, загорелое.
По горох, так по горох! Он вихрем кинулся со всех ног, сильный, ловкий. А за Василем — все наперегонки! Загудело поле!
Сначала бежали скопом, вразброд, догоняя заводилу. Вдруг тот остановился, отобрал тех, кто пойдет с ним, а на Юрка ткнул пальцем:
— Ты на страже! Свистнешь!
Ватага рассыпалась, словно ее и не было на улице. Под проволокой, на животах, проскользнули в огород.
Как и все хаты, Цисарикова тоже на холме. Низенькая, обведена черной глиной, а окна желтой. За нею огород. Хлев тоже, как у всех, выложен из камня-песчаника. У ворот развесистый клен.
Юрко засмотрелся на хлев — за ним Мотруня пасла козу. А заинтересовал его не хлев — всюду такие,— а коза, белая с бусами, с загнутыми назад рожками и со смешной, как у монастырского отца Иова, бородкой. Мальчику казалось, что эта бородка и расчесана, как у настоятеля. Козы у них не было, да и на селе она редкость: только у Цисариков. Юрко забыл, зачем он сюда
83
пришел, уставился на козу и улыбался ее сходству с поповской бородой. Кроме козы, он ничего не видел. А Мотруня, услышав за домом какой-то шум и треск, привязала козу и побежала на огород. Коза перестала щипать траву, задрала морду, мекала, а ее бородка тряслась и подергивалась.
— Ме-ке-ке!—передразнил ее Юрко.
Коза обернулась, глянула на него, топнула ножкой, махнула хвостом. Потом разогналась и бросилась к нему, но помешала привязь. Она остановилась. Снова топнула ножкой, махнула хвостиком, как бы рассердившись, крутнула головой, наставила рожки и боднула воздух.
Юрко, дразня козу, и сам топнул ногой, покрутил головой, подался вперед, словно хотел ее боднуть.
— Я коза-дереза,— запел он, наступая на нее,— за полкопы куплена, полбока луплена.
Мотруня уже выгоняла мальчишек из огорода хворостиной, а Юрко все дразнил козу.
— Тупу-тупу ногами, заколю рогами...
Коза перестала блеять. Ему казалось, что она презрительно смотрит на него, задрав морду. Теперь не только своей бородой, но всем видом она напоминала ему настоятеля, поднявшегося на амвон, чтобы прочесть проповедь.
И Юрко громко рассмеялся.
Тут на него коршуном налетела Цисаричка и начала хлестать его лозиной, крича:
— Я тот горох по горошине сажала, по горошине собирала. Я же стерегла-берегла: чучело ставила, своего деда из хаты гоняла, чтобы не спал — сторожил. Да мы же надоедали, недосыпали, все глаза проглядели, чтоб вороны наш горох не склевали! А как он взошел, дед кольев натесал. А я те колья в землю воткнула: и взвился наш горох, закучерявился. Он цвел, как небесные зори, выбросил стручки, такие, как дедова люлька. Пропал теперь мой горошек! Ломают его разбойники! А чтобы вас лихоманка взяла, как вы его обобрали. Да чтобы вас черти гоняли, как я своего деда из хаты! Да чтобы вам ни дна ни покрышки!
Ударила она Юрка не больно, но проклинала до упаду.
84
Юрко не удирал. С высоты ему далеко видно. Рассеиваясь по выгону, помчались хлопцы, только пятки засверкали.
А около школы, на широкой улице, которая называлась Панянской, возвышались трое полицейских: вышли из полицейского участка.
— Баба-бабуся, гляньте, полицейские идут. Нам с вами надо удирать и прятаться!
Мотруня забыла про горох и про школу.
— Что? Как ты сказал? В самом деле — их трое. А у меня хлев не белен, на рядне дедов табак сушится. Чего же ты стоишь, Оранчукова сирота! Хлев не белен, они штрафуют. Чтоб их черти взяли! А табак сажать нельзя: монополька...
Цисаричка, подхватив подол, заторопилась по своим делам. А он медленно пошел на выгон, думая, за что же его били и ругали.
Мальчишки лущили и ели горох, смеялись над ним:
— Неумытый, потому и битый.
А Василь, который всех подбил на это дело, добавил:
— Неумывака, побитый, как собака! — Да еще высунул язык.
Юрко бросил своих гусей, пошел, спрятался за склоном Сон-горы. Никто за него не заступился.
Гора возвышалась террасами и склонами. Каменистая, она поросла мохом и муравой. И мох, и мурава маленькие, мягкие, чтобы им здесь вырасти, корням нужно сильно потрудиться.
Он сидел, забыв про озорников ровесников, про Ци-саричку, ее козу, обо всем на свете. Всматривался в даль. И чем глубже впивался взглядом в поля и леса, тем больше успокаивался.
Ему становилось хорошо: небо высокое и под ним все огромное, прекрасное. И мальчик погружался в свои Думы.
Никто не приказывает речке Велемчанке течь, а она течет и течет. Вьется долинами меж гор. А куда? Никто не строил и не насыпал высокие горы, а они стоят. Стерегут что-нибудь? Растет могучий лес-великан. О чем он шумит? Кто посеял мох, мураву, низкие и высокие травы и приказал им зеленеть?..
А в прошлом году они вместе с отцом посадили в из
85
головье на могилке матери калину, чтобы росла и цвела. Знает ли мать, что над ней зацветет калина, что прилетят и будут петь над ней птицы?
А почему восходит и заходит солнце? Почему оно светит для всех одинаково? Отчего для всех, кто хочет слышать, поют птицы? Почему никто не говорит им, чтоб они пели, а они сами поют? Может быть, пора уже обо всем этом людям всегда говорить, рассказывать?..
Юрко сидел и, глядя, чувствуя, вдыхая в себя простор, как бы стремился постичь душу камня, дерева. И вода имеет душу, и трава...
Солнце, заходя, угасало.
Ему показалось, что на него кто-то смотрит. Повернул голову: на склоне каменная баба. Много их повалено на этой горе. Баба вытесана из грубого камня, древняя. На голове пробор, могучие плечи покрыты мхом, глазные впадины широко раскрыты, носище прямой, сама круглая, пучеглазая. Она так смотрела, что ему стало страшно и он заплакал. Ребенок.
Плакал и не заметил, как кто-то подошел, наклонился над ним. Это была белокурая, с выгоревшими косами и еще больше выгоревшими в них голубыми лентами — Соломин. Вытерла ему передником глаза. Будто собрала все слезы в свой передник, словно хотела их посеять.
— Ты не плачь. Хлопцы озорничают. Я заступилась за тебя. Отстегала Василя хворостиной, и он притих.
— Зачем отхлестала? — спросил он и не мог объяснить, что плачет не из-за хлопцев. А почему плачет— не знает...
Солнце уже спряталось. Краски менялись: стояла туча, внизу красная, вверху синяя. Красная вдруг показалась ему конем, который летел, ржал, вытянув шею, развевая гриву. А синяя — всадником в бурке.
— Смотри, наши гуси. Вот мальчишки-пакостники! — вскрикнула Соломин.
Пастушата согнали своих гусей в кучу, а Юркиных и Соломии отделили и погнали за речку. Гуси поднялись, полетели через долину, махая белыми крыльями. Соломин и Юрко побежали с горы, расставив руки, словно ловили белых гусей.
86
XIII
Бричку подбрасывало, переваливало с боку на бок. Колеса крутились с грохотом. Дорогу развезло: журчала, переливаясь, каждая канавка. В долинах и ложбинах бурлило половодье, а потоки и ручейки текли, клокотали. Били ключом — бурные артерии весны. Блуждающее облако — низкое, туманное — быстро отплывало на север, а по земле двигалась его тень. Дарья Кирилловна наблюдала с брички за облаком и за тенью. «Кончились морозы, и последние холодные тучи уходят,— думала она,— как вон та, что плывет, словно бы подчеркивая, как необъятны земля и небо». Подвижная темная тень бежала, бежала за бричкой и растаяла.
Солнечные лучи лились потоками. Они были всюду: отражались в весенних водах, поблескивали на островках снега, рассыпались в лужах под копытами райкомовских лошадей.
Чавкало и хлюпало под колесами, а Дарья Кирилловна, удерживаясь за гнутый поручень брички, радовалась, что воды много. Напоенные поля и в засуху выстоят. Теперь только бы не пропустить и минуты. Скорее бы к людям: «Что там? Как?..» А кони тянули медленно — не могли бежать рысцой по грязной, раскисшей дороге.
Район готовился к посевной еще тогда, когда на полях лежали глубокие снега. Но она знала, что заседания бюро, совещания, собрание актива — это лишь начало. Как потоки и ручейки пробуждают землю, так нужно поднимать людей, их волю, силу, стремление — материализовать в трудное, неотложное, самое важное сейчас дело.
Она не планировала поездку в Велемче, ждала звонка от Кулишенко. Однако не успела переговорить, как ей доложили, что линия телефонной связи прервана. Выслали специальную группу, а с нею телефонистов, которые уже все наладили. Яровой нашел подпиленный столб. Натягивали провод. Вот тут как раз она и подъехала. Яровой горячился:
— Оборвали, негодяи, провода, подпилили столб, но весну не подпилишь, не остановишь. Категорически! —• Он и его ястребки верхом на лошадях. Передал ей то, о чем просил Кулишенко, добавил от себя:—У нас дела
87
идут, Дарья Кирилловна... Реально,— и поехал-погнал со своими хлопцами дальше.
Бричка уже давно выкатилась из леса, а секретарю райкома все слышался запах клейкой почки. На обочине дороги зеленела молодая трава. Она тоже пахла резко, молодо.
Кони двигались медленно, и Шитик думала: впору хоть самой садиться на коня, как ястребки... А что?.. Очертания ее лица, на котором выделялись и широкие брови, и отвердевшие скулы, и полные губы, контуры крепких плеч, вся ее фигура свидетельствовали о том, что эта женщина создана так, что все в ней было надежным, уверенным.
Наступал вечер.
Из долин потягивало зыбким холодком, высокое небо синело, но с гор, над которыми катилось огромное красное солнце, как бы веяло теплом.
Весенние воды омывали землю. Чистый, прозрачный воздух наполнял легкие, дышал здоровьем, румянил лицо. Забывалась усталость, забывалось, что ноют плечи.
Ей вспомнились слова Ярового — «весны не остановишь». Шапочка сбилась на ухо, но она не поправляла ее, волосы шевелил легкий ветерок, как бы нашептывал: «Не остановить, не остановить...» С весной обновляется не только земля, но и люди. Всех, кого знала, все, с кем встречалась, лелеют надежду на эту первую мирную весну. Преступление — упустить ее подготовку, недосмотреть, затянуть.
«Дороги стали моей судьбой»,— думала она. И ей вспомнились песчаные, сыпучие пути за Самаркандом, арыки и хлопок. Работала там инструктором райкома. Перед глазами возникала длинная дорога в Барабин-ских степях, где ей довелось возглавлять политотдел МТС. И там, где сыпучие раскаленные пески, и там, где широкие степи, и тут, среди лесистых гор, холмов и равнин,— всюду своя земля, материнская, родная. В сердце ее постоянно жило чувство этого материнства, великого единства и крепости. И так же, как во время войны, она чувствовала, что значил для фронта каждый килограмм хлопка, тай она понимала и чувствовала, что такое сейчас — хлеб.
88
Замаячили велемчанские холмы, на необъятных просторах. Они удивляли и поражали, казалось, будто они поднимали землю выше, к небу. Бричка покачивалась, а впереди синели горы.
Велемче — старое село. В глубокую древность уходит его история. Оно знало еще бубняров, сзывавших народ на вече громкими ударами барабанов, которые тогда назывались бубнами, помнило голоса труб, игравших тревогу. Слышало посвист нагаек, но знало и блеск сабель.
И Кулишенко, и старый Новак рассказывали ей, да и сама она это знала, что пережило село в панской Польше. Недалеко, за Збручем,— воля, а тут — рабство. «Разве пилсудчина не олицетворяла собой и ярость татарских захватчиков, и жестокость крепостничества?!» Вспомнились слова Кулишенко. Он был прав: многое испытал за время пребывания в подполье, в тюрьме. Село не покорялось панам. Какими же навсегда великими и радостными остались в его памяти дни освободительного сентября! В каких бы селах ни побывала, всюду говорят: «Для нас взошло солнце». «Мало мы познали сладость свободы,— обмолвился как-то Кулишенко,— два неполных года». Но что это были за годы? Они стоят десятилетий. Разделили среди крестьян панские и монастырские земли, думали о колхозах... Село не стало на колени перед оккупантами: оно не приняло фашизм. Трудно ему было. Гитлеровский фашизм, как спрут, вобрал в себя все самое жестокое, самое грубое, самое омерзительное и вместе с тем самое изобретательное в своей оголенной бесчеловечности, в уничтожении миллионов людей. Это была самая черная реакция за всю историю человечества на пути к прогрессу. Он извергнул отраву национализма. Разве только один Кулишенко, возвратившись с фронта, не застал в живых отца? Разве одна Евка Нечуйвитер осталась вдовой? Кто и за что оставляет детей сиротами и женщин — вдовами?..
Дарья Кирилловна глянула на часы: она еще успеет заехать в соседнее с Велемчем село... И бричка повернула к холмам.
Подъехав к Велемче, еще на улице она заметила, что возле сельсовета никого нет, а на школьном дворе — движение. Двери сарая, где хранилось топливо, раскры
89
ты. У порога стоят весы, что-то взвешивают и носят. Кулишенко ходит в одной гимнастерке, голова земельного общества Оранчук снял шапку — вспотел. Учительница Матийко — подле них — так и порхает.
Яровой тоже здесь. Вскидывая Кулишенко на плечи мешок, покосился, заслышав стук колес. А Кулишенко и не повернулся. Крепко ухватил рукой за гуж, согнулся, чтобы не уронить мешок. Помогал Оранчуку.
— Не ждали? А я к вам,— сказала Шитик и спрыгнула с брички.
Левко отнес мешок и снова появился в дверях. Секретарь райкома подошла к нему своей обычной походкой, твердо ступая. Он хотел доложить: готовим посевной материал, свозим то, что кулаки да подкулачники позакапывали в землю, но глянул на нее, на ее обветренное лицо, на ее грязные сапоги, и с языка сорвалось непрошеное:
— Дарья Кирилловна, на ночь глядя? И вам не страшно?
— А вам, Левко Архипович?
— Нам что? — ответил он в замешательстве, бережно пожал ей руку.— Нам к смерти не привыкать. Фронтовики.
— Это правда. И тут ведь фронт. Настоящий фронт! Но о какой смерти вы заикнулись? Весна! Жить да жить нам! —произнесла она.— А еще фронтовики! Разве мало того, что наши люди отдали миллионы жизней за нас, за то, чтобы мы сеяли здоровые и счастливые, чтобы наша земля хорошо родила?
Оранчук уже взялся за новый мешок.
Дарья Кирилловна отодвинула плечом Ярового и поддала мешок на плечи Оранчуку.
— Ей-богу, правдивые ваши слова,— отозвался он.— А правду слушать — это все равно что из нашего родника воду пить.
В сарае чисто, подметено. Мешки стоят и лежат: яровая пшеница, ячмень, гречиха, горох.
Кулишенко приглашал в сельсовет, но Шитик села на мешок, ее примеру последовали Яровой, Оранчук и Матийко.
— Поизмучились вы, пока добрались к нам? Я верхом уже давно приехал, а вы, наверное, не раз соскакивали с телеги? Развезло...— начал Яровой.
90
— Разве дороги к людям бывают легкими? — ответила Дарья Кирилловна, оглядывая всех.— Признаться, я позавидовала, что вы верхом. Сама не прочь бы так съездить, но вот беда, седло не входит в райкомовский инвентарь.— Шитик улыбнулась.
— Свое дам, Дарья Кирилловна. Категорически.
— Какой из меня всадник... Вот Матийко скоро вызовем на комсомольский пленум, ее выручайте. Как, Люда? Умеешь ездить верхом? Не свалишься в грязь?
Матийко держала в руках свернутую трубочкой тетрадь.
— Если и упаду, не беда, весенняя рода теплая.
— Вот ты какая! — одобрительно заметила Шитик и продолжала:— Яровой категорически утверждает, что весну не остановить. Все силы на весенний сев! Мы сейчас должны вести разговор о тех, кто обрывает телефонные провода, кто закапывает и гноит зерно...— Матийко внимательно ловила каждое слово Дарьи Кирилловны.— Бандиты и их пособники — кулаки — вот кто силится сорвать посевную, преградить нам дорогу к новой жизни,— властно звучал голос секретаря райкома, и девушка-комсомолка пристально, сосредоточенно смотрела на нее.
Яровой согласно кивал головой.
— Не один день и не одну ночь нам приходится жить нелегко. Может, доведется и смерти заглянуть в глаза,— сказала Шитик.— Природа классового врага — звериная.
— И кротовая,— вставил Оранчук.— А чтоб вы знали, кроты весной как раз и вылазят из-под земли.— Он вытянул кисет, и Яровой сердито блеснул на него глазами.
— Именно кротовая,— поддержала Шитик и, повернувшись к Оранчуку, добавила:—Курите, товарищ. Я самосада не боюсь, Люде он тоже не помешает, а товарищ Яровой выдержит.
— Мы же не на школьном уроке,— отозвалась Матийко,— но я не о том, не о куреве хотела сказать. Раньше такими кротами были белогвардейцы, петлюровцы, басмачи. Теперь — здесь бандеровцы. Разве мы боимся их? Надо выкопать и обезвредить эту нечисть.
— Иначе и нельзя,— проговорил Кулишенко и чиркнул спичкой о коробок, стиснутый коленями.
91
Шитик откинула волосы со лба и заговорила о том, что думала по дороге сюда, в село.
— Кроты-то кроты. Но откуда они — эти банды? Это последыши фашизма, его выкормыши. Я, конечно, не склонна преувеличивать их силу, верить в какую-то мощную организованность, усматривать в этой организованности едва ли не поддержку низов. Но не склонна и недооценивать не кротовые, а по-настоящему волчьи зубы. Давайте поразмыслим: кое-кто думает, чтр мы разгромили гитлеровский фашизм и тем самым отрубили руку, которая направляла черные дела националистов, и склонен забывать, что оуновцы 1 переметнулись, нашли себе новых хозяев за океаном. Международный империализм, иностранные разведки — вот подлинные вдохновители и организаторы антисоветских банд, не жалеющие на это черное дело больших денег. Кроты сидят здесь, а норы тянутся далеко,— каждое свое утверждение она обосновывала ясно и четко.— А кто здесь не дает им погибнуть от голода? Кулак, вчерашний полицай, тот, у кого руки в крови. А на что они надеются? На новую войну.
Над селом спускались сумерки. Похолодало. В сарае остро пахло зерном, словно оно само просилось, чтобы его брали в горсть и кидали в землю.
Дарья Кирилловна как бы мимоходом сказала, чтобы Кулишенко надел шинель. И ему стало так тепло от этих заботливых слов, будто секретарь райкома сама ее накинула ему на плечи.
Ее черные глаза смотрели решительно и прямо. Они притягивали слушавших ее людей и не отпускали.
— Новой, еще более страшной войны жаждут империалисты.
Сидел Кулишенко, потерявший на фронте руку, сидел Оранчук, штурмовавший Кенигсберг. Сидел Яровой, вернувшийся с войны и еще не сдавший автомат. Сидела Матийко, перед которой только сейчас начиналась послеоккупационная жизнь.
— Нам нелегко,— продолжала Дарья Кирилловна,— восстановительный период. В Велемче советская власть молодая. Почему бы врагу не воспользоваться этим?
1 Оуновцы — члены фашистской террористической орга* низации украинских националистов.
92
Такова классовая сущность событий. Вот откуда, как говорится, растут у барана рога и кто за эти рога держится.
Людям казалось, что отсюда, из села, им становился виден весь мир, и что в нем делается, и куда он идет.
— Войны им, хоть убей, не дождаться! — воскликнул Оранчук.
— Чего не будет, того не будет. Категорически! — отрубил Яровой и остро глянул из-под кубанки.
— Мы победили не ради новой войны,— добавил Кулишенко.— Для чего же мы тогда?..
— Ав самом деле, для чего? — спросила Дарья Кирилловна и выжидательно посмотрела на присутствующих.
Оранчук кашлянул в кулак.
— О чем тут спрашивать? Мы — чтобы сеять, чтоб посеянное... Разве мы маленькие? — Это вышло у него так непринужденно и естественно, что лучше и не скажешь.
— Вот именно — сеять! — поддержала его Шитик.— Думать, сеять, не ждать. Стране нужен хлеб, и мы дадим его. Мы дадим хлеб, мы ни перед чем не остановимся. Хлеб — цена нашей жизни! — Глаза ее светились.
Кулишенко обстоятельно рассказывал, сколько есть хорошей пашни, сколько невозделанной земли, как обстоит дело с тяглом, каков инвентарь.
— Зерно хорошо сохранилось? — спросила Дарья Кирилловна.
— Пахнет... Разве вы не чувствуете, как хорошо оно пахнет? — радовался Оранчук, развязал мешок и поднес ей на ладони горсть продолговатых зерен ячменя.— Попробуйте на зуб, вы только попробуйте.
Секретарь райкома взяла несколько зерен, крепко прикусила. Зерно было твердым, тугим и клейким.
— За вывозку леса хвалю вас, да и сейчас вы не дремлете. Что ж, будем считать, что собрание партийнокомсомольской группы мы с вами провели.
Оранчук проговорил, что он хоть и беспартийный, но раз линия на сев, то, как хороший конь, он борозды не испортит.
— Мне пора: вечерняя школа,— произнесла Матий-
93
ко, отдала Кулишенко тетрадь, в которую записывала взвешенное зерно, и побежала.
Кулишенко просил Шитик остаться и заночевать в селе.
— Нет. А на посев обязательно приеду. Будьте осторожны и бдительны... А как Нечуйвитриха живет? Если бы не спешила, заехала бы к ней.
— Трудно живет, но духом не падает.
Яровой поправил кубанку, готовый сопровождать секретаря райкома партии. Стемнело.
Кулишенко смотрел, как Дарья Кирилловна садилась в бричку, как бричка тронулась и поехала. В мягкой тишине весенней ночи уже затихал топот лошадей. А он думал: что в этой женщине такого, что с нею чувствуешь себя крепче, уверенней, ясно видишь, что надо делать, как делать.
XIV
Миновав въезд на кладбище, медленно шли среди могилок: дед и мальчик. Над черной, с двумя дырочками на изломе, старенькой шляпой и шапкой-цигейкой веял теплый ветер, беспечный, резвый. И розовели их лица — не только юношеское, с пушком, но и старое, выбритое, со следами порезов от тупой бритвы.
Полевой ветер гулял в кустах кладбищенских мальв и дрока, в высоких зарослях высохших цветов-медоносов, которые отцвели поздней осенью, перед самыми морозами, и не успели рассеять семена в пухлых кулечках-шапочках. Ботва и заросли, покачиваясь, шелестели. Весело разлетался пух. Настороженно шумели оголенные деревья.
С уходом зимы обновлялось и кладбище — место вечного покоя, печали и скорби.
Новак шел не останавливаясь. Как всегда, каждую субботу летом и зимой, осенью или весной его высокая фигура маячила в предвечерний час.
Идет к Лизоньке.
Юрко не знает, какой была и что значила Лизонька для учителя, но он знает, что Алексей Вавилович сам проторил и годами протаптывал эту крутую тропинку, а кое-где сделал еще и ступеньки.
94
Учитель с палочкой-топориком. Ставит ее крепко. Палочка-топорик не дрожит в его руках.
Они обогнули полкладбища. Новак остановился возле невысокого холмика на краю; внизу — волнистая, бесконечная равнина необозримого поля. Он снял шапку, поклонился невысокому холмику, на котором ни креста, ни камня, ничего, кроме дерна. Волосы учителя лохматил ветер.
Лицо спокойное, как всегда, те же глубоко сидящие глаза, вдумчивое лицо, лишь усы обвисли больше, чем прежде.
Юрко снял шапку.
Постояв, учитель начал свой рассказ, словно приступал к уроку: кашлянул в кулак.
— Знаешь, юноша, как бы я сказал о Лизоньке: она — прекраснее солнца, но это тебе ничего бы не сказало. Так, кажется, называл Петрарка Лауру. Но чужими словами о своей любви не расскажешь. Не существует двух одинаковых женщин, разной бывает и любовь. Она единственная и всегда необыкновенная. Не в этом ли сущность человека, в его идивидуальной особенности? В ее выражении.
Он помолчал, опираясь на палку.
— Я расскажу это тебе, как сыну. Мы давно знаем друг друга. А про Лизоньку я тебе ни разу не рассказывал. Мне хотелось бы иметь сына, который понимал бы значение слова, не поэта, писателя, а просто человека, которому ничто не безразлично.
Старик внимательно посмотрел на Юрка, как бы проверяя: доходит ли до него, волнует ли его сказанное?
Юрко держал в руке шапку, обнажив голову перед могилкой и перед ним — учителем.
— В моем рассказе, юноша, будут вступления и отступления: я много прожил и потому имею на это право. И все же мой рассказ только о Лизоньке, на большее я не претендую.— И он продолжал тихо и задумчиво, как часто ведут рассказ пожилые люди, вспоминая прошлое:— Лизонька происходила из польской мелкопоместной дворянской семьи. От былой спеси и высокомерия этого рода не осталось и следа. Отец ее — русский гусар, как и мой. Мать сохранила от прежнего дворянства разве только истлевшую грамоту. Я и Ли
95
зонька выросли среди простых тружеников и чувствовали себя обязанными жить и работать для них. Учительство наше в этом захолустье началось неудачно. Крестьянских ребят невозможно было загнать в школу. «Сколько бы ни учился, попом не станешь, все равно придется волам хвосты крутить»,— говорили крестьяне. Вспоминаю переростков-парней, уже после революции приходивших в школу с грифельными досками под мышкой, а из школы — с теми же грифельными досками— на посиделки-вечерницы. И заметь: это в селе, где бывал Мелетий Смотрицкий и где жил первопечатник Иван Федоров. Поповство делало свое черное дело. Да ты и сам испробовал монастырской каши...
Я было увлекся археологией и этнографией. Вспоминаю: мы брали у Цисариков молоко. Возвращаюсь, а Лизонька и говорит: «Приходил черный монах, подкрался к окну, положил на подоконник толстую книгу и исчез». Это был монашеский дневник.
В нем отразились быт и обычаи обители за много лет. Тебе, послушнику отца Иова, разжевывать это не нужно.
Сошлюсь на одну лишь запись, полную насмешки и ненасытного сладострастия, свидетельства разложения, разврата и аморальности не только духовенства — опоры царской империи, а всего ее организма.
Автор дневника, коренной местный житель, писал:
«И пришел праздник троицы. И было великолепие во храме, как и в природе, воспрявшей ото сна зимы, злой вельми. Соборовали праздник сей всечестнейший отец Иннокентий со братией, кроме честивого отца Иова. Отсоборовав и воздав хвалу царю небесному, рано, в двенадцать часов, святые отцы со причетом вошли в обительскую трапезную. И трапезовали долго — три часа подряд. Под конец трапезы сия вогнался яка тать честивый отец Иов. Взревел: Где мних пекар Варсана-фий? И не нашед Варсанафия и глаголя: в блуднице Па-раске он, в блуднице! — И выскочил вон злой' и сердит зело. Нужно же сказать, что сей Варсанафий испек хлеба сырые, за что честивый отец Иов и посади оного в холодную, и сидети там ему донде же не съест все хлеба. Варсанафий же убежал. И погнал честивый отец Иов ко блудница Параске, за обительскими прудами обре
96
таемой, и застал Варсанафия там, схватил оного за уши, оторвал оные, а потом бил пекаря ногами в живот. Вар-санафий почил в бозе и погребен со всеми почестями на обительском кладбище, во дворе. Неугомонная блудница Параска, почитая память о любовнике, дала волю тоске своей. И наехали в святую обитель лекарь, пристав и стражники. И, откопав Варсанафия, ужаснулися. Уши оказались на месте... Перед троицей бе погребен схимник Никодим. Честивый отец Иов, чтя и блюдя силу и славу святой обители нашей и как бы образумен бе свыше, наперед приказал обменять кресты. Тем и кончилось».
Я подготовил дневник монаха к печати и отослал в Киев, в частное издательство, каких тогда было несколько. В печати он, правда, так и не появился, но отдельные записи каким-то образом попали в Варшаву. Их опубликовала с иезуитским смакованием католическая газета. Редакция прислала один экземпляр в собственные руки тогдашнему настоятелю отцу Иннокентию. Правда, узнал я об этом позже.
Новак удобнее оперся на палку-топорик, собираясь рассказать о самом горестном:
— Тем временем Лизонька вела первую группу, а я по-нынешнему — второй класс. Это и вся школа. Ни учебников, ни тетрадей. Теперь вы пишете на газетах. Война. Воюют не только разные государственные системы, люди, но и книги. Не хватает бумаги. Тогда же она просто отсутствовала для просвещения. А молитвенники печатали, иконы рисовали. Снарядил я Лизоньку в уезд. Может, там удастся купить бумаги, тетради. Она отправилась пешком: переночует в ближнем селе, а там какой-нибудь балагула довезет. Я провожал ее до Верхова, немного прошли мы лесом. Она не хотела, чтобы я ее далеко провожал: не любила, когда с нею нянчились. «Возвращайся, Лесик»,— сказала она, пошла и не оглянулась. Я стоял, смотрел, как ее фигура исчезает на лесной дороге, за печальными осенними деревьями, и не думал, что в последний раз слышал ее голос: «Возвращайся, Лесик»... Я вернулся: принес домой пучок желтых листьев, будто позолоченных ювелирами. Поставил в кувшин и удивился, что наутро они были еще красивее, еще ярче. В желтом цвете мелькали проблески зеленого и пригашенные тона огненного,
4 Б. Харчук
97
красного. Каким же бледным и немощным казалось мое сравнение с ювелирным мастерством. Более завершенного, тонкого мастерства, чем сама природа, ничего не существует. Она — высочайшее совершенство. И тот, кто в слове, цвете, звуке, резцом создал что-либо талантливое — тот добился выражения с естественной полнотой, тот и достиг мастерства и совершенства природы.
Я вел два класса одновременно. Во время урока, постучав^ меня вызвал стражник. Сказал: «Имею честь сообщить — ваша супруга повесилась в отеле». Отдал честь, стукнул каблуками, и его сапоги загремели по коридору. Я довел урок до конца и распустил школьников по домам...
Лизоньку я нашел в номере уездной гостиницы на втором этаже. Комиссия, морг, тягостная волокита, допросы. Вывод простой: «самоубийца». Я забрал ее, привез в село — чтобы здесь она была со мной. А похоронить на кладбище — запрещено: религия не позволяет, да и позор в народе. Я похоронил ее здесь, на краю, и самое большое, что мог сделать, принес на могилу желтые листья.
После похорон, на второй день — урок. Захожу в класс. Переростки стоят, неловко топчутся на месте. Малыши прячутся за ними. Кто-то вдруг насмешливо прыснул, кто-то отозвался. Шум, гам, ералаш. Школьники толпой к дверям, топот... Ни один не задержался, словно ветром выдуло. Я остался с пустыми партами. Мертвая тишина, и мелом во всю доску надпись: «Муж удавленницы». На следующий день в школу не пришел ни один ученик. Я не стирал надписи на доске. Еще тлела надежда: тот, кто написал, тот и сотрет. Пошел по хатам. Вхожу во двор. Первая женщина, увидевшая меня: «Свят-свят!» — закрылась ладонями и побежала в огород. Муж ее: «Говорите, пустить сына в школу? С одной стороны, оно можно и нужно, но с другой? Вы уж извините меня, темного, но ведь ваша жена — удавленница. Как же я могу туда сына послать? Сами рассудите: человек вы грамотный». И вот я словно перст один, в пустой школе. Приходит сельский голова. Нудно и. долго говорил: мол, общество просит земство заменить учителя. Он, голова, против меня ничего не имеет... Однако же что делать? Приходится... словом: «Отдайте ключи». Я отдал.
98
А вечером под окном появился черный монах. Он передал мне заметочку из крестьянской газеты. Вот тогда-то и вспомнилось, как я, возвращаясь из леса, встретил монастырскую телегу, а в ней — отец Иов. Он, безусловно, догнал Лизоньку и подвез ее до уездного города. Портье на допросе показывал: к гостинице поздно подъехала телега. Лизоньку почти на руках внесли в гостиницу двое мужчин, оставили ее, а сами уехали. Портье еще утверждал, что Лизонька не плакала, но смеялась каким-то странным, ненормальным смехом. Этот ее смех показался ему подозрительным, и он, мол, сразу хотел об этом сообщить куда следует. Но тут Лизонька внезапно как бы отрезвела, смех прекратился. Она подняла голову, пошла в отведенный ей номер и заперлась. Хотя была она человеком решительным, но тут, видимо, не могла отказаться от настойчивого предложения отца Иова довезти ее до города и села в телегу... Невеселая, хлопче, история, и не мне рассказывать ее подробности. Гордая женская душа не вынесла и не могла вынести насилия и надругательства.
Уже многие годы я живу без Лизоньки, но около нее,— и с иронией добавил:—жертвы подлого служителя Иисусовой веры, которой освящались царизм, пил-судчина... А с Лизонькой мы познакомились в древнем Остроге, зеленевшем в долине при слиянии двух рек Го-рыни и Вилии, на валу, с которого видны бескрайние поля, непроглядные лесные чащи и белые села. Волшебная, трогающая до слез, картина родной земли, манящий шелест трав, серебристый свет луны. Лизонька окончила гимназию... Мы встретились на городском валу. Весь мир — поля и каждый колосок в поле, леса и каждая ветвь дерева были для нас. Память навсегда сохранила этот удивительный вечер, незабываемое мгновение счастья... Но разве мгновение счастья не дороже всей жизни?
Новак помолчал, потом поднял голову:
— Иди, хлопче, побудь около своей матери. Я уже поговорил с тобой.
Старик стоял у невысокого холмика в стороне от всех крестов, за кладбищенской оградой. Ветер шумел над его непокрытой головой. Новак склонился над дорогой могилой. Йеприметная, она на краю кладбища, и он —
4
99
на грани вечного покоя. Белел выветриваемый песком и размякшей глиной глубокий обрывистый склон горы, а внизу расплывались темнеющими волнами неровные поля.
XV
По двору слонялся жеребенок, а Оксент, стоя на коленях, вытягивал из-под кладовой всякие железяки: ржавые подковы, кусок лома, что-то старательно искал в этом хламе, который набросал давно, собирая его по мелочам: в хозяйстве все пригодится, ничто не пропадет. И гвоздик без головки, и патронная гильза. Разве не вытапливал он из пуль свинец и не чинил кастрюли? А из чего лемехи?
То, что ему нужно было до зарезу, не попадалось под руку. Копался, обдирал пальцы и все же нашел: железный обух — «бабу», с дыркой, набитой землей.
Ногами затолкал все это обратно, под кладовую, и, положив «бабу» себе на колени, сел на пороге, стал выковыривать пальцем из дыры затвердевшую землю.
К нему подошел жеребенок и мокрой мордой, раздувая ноздри, обнюхивал пальцы и железо, как бы допытываясь: «А что ты делаешь?» Оксент отогнал его: зло сплюнул. Жеребенок отскочил и побежал в угол двора, буланый беззащитный полуторамесячный сосунок.
Ночью в лесу украли кобылку. Павло Оранчук, обмеряя землю, в поисках утаенной, наткнулся на сдохшую, загнанную кобылу и возле нее живого жеребенка.
Жеребенок сосал пустое безжизненное вымя. Сообщили Оксенту, тот забрал его.
Оксент вспоминал: приходил Кулишенко, спрашивал, где кони, а у него душа ушла в пятки. Не признался, где они. С языка чуть не сорвалось: какой из меня пособник бандитов, когда бандиты мою кобылу угробили, жеребенка осиротили? Но он сдержался: подавил свою боль, затаил ее. Если бы не подавил, если бы не задушил, начался бы разговор...
Про зерно признался. Не мог не признаться: боялся, чтоб лошадей не нашли: Карого со звездочкой на лбу и Серого в яблоках. Напрасно врал и напрасно боялся. Ну зачем врал? Чего боялся? От этих вопросов деревенела душа.
100
Он продолжал выколупывать землю из «бабы» и думал: «Как я выгребаю эту землю пальцами, так могли бы раскопать огород. Я сам признался про зерно и нисколько не жалею. Жалко лошадей. Я не глядел на сарай, чтобы никто не видел моих глаз, устремленных туда, не догадался, что я стерегу. Я не столько боялся за тайник, сколько — за лошадей. Гей, кони — гривы мои...»
Дойдя до мысли о тайнике, Кричевский замер. Перед глазами встала солдатская, пропахшая войной шапка. Взгляд его остекленел, застыла колючая щетина на лице. Чугунная «баба» — на коленях. И руки и колени словно бы чугунные.
Шрам на его губе — будто выжженное клеймо.
«Про этот шрам Левко не заикнулся, не заметил. Да разве пустой рукав Левка весит меньше, чем мой шрам?.. Больше, много больше. И это гораздо значительнее для меня, чем все, о чем я сейчас думал».
Оксент сидел на пороге кладовой — каменный, посеревший, сам не понимая, не постигая, как это произошло, как могло случиться, что в его усадьбе есть и бандитский схрон.
В период фашистской оккупации он не служил в полиции, не был подхалимом в управе. Разве он не прятался, как все? Разве не удирал в чащу, когда жгли Залужье? Контингенты по сдаче продовольствия потребовали бешеные. Обложили так, что дышать трудно было. Найдут ломоть ржаного хлеба — и в морду! Вам такой хлеб есть? Швайн! Свиньи! Прятался с лошадьми, прятался со скотом. Последние лохмотья закапывал в землю.
Правда, во время оккупации принимал коменданта районной полиции. Сергея Турчина. Впервые — в самом начале оккупации, когда побежал огородами к Архипу, старику Кулишенко. Принимал и во второй раз — Сергей Турчин приехал с родственником Павла Оранчука по первой жене — Вере Савлюй. Угощал их карпами в сметане со своей копанки. Вот и все. Никогда больше того коменданта и в глаза не видел.
Как же так, откуда же схрон?
Вспомнилось... Сразу после войны...
Он косил, а Варька, Соломия и Мокрина Кулишенко — за ним, вяжут. Они втроем, но где им его догнать.
101
Ряды словно горы. Уродило. И он кладет их, кладет горы. Снял сорочку. Губы соленые. Пот заливает глаза. Он облизывает губы. Такой косарь — дорвался до дела!
Он косил, как бы подпирая головой солнце, чтобы оно стояло высоко в небе и не вздумало заходить.
И оно не заходило, а Соломия бросила, не стала вязать.
— Куда?
Он не назвал ее по имени, а только спросил: «Куда?»— и, удивившись, оторопел.
— К вечерне,— сжав губы, словно ей кто-то сцепил их, ответила Варька, склонившись над снопом.
Мокрина работала, не разгибаясь.
Он пожал плечами и еще яростней взмахнул косой. Какая богомолка! Да так ли это?.. И как бы срезал косой свой вопрос, прорвавшийся люто, с презрением. Скошенный ячмень падал, ложась в покос, а он все еще недоумевал... Не мог постигнуть, понять... Выкосил, вскинул на голое плечо грабли. Соломия шла между покосами. В белом платье, стан перехвачен шнурком. Она шла — белокурые косы лежали на плечах. «Хороша,— подумал Оксент,— девка уже на выданье, а я и оглянуться не успел. Ей так нужно к вечерне, как мне на танцы. Наверное, хлопцы в голове». И успокоился. Девушка удалялась.
А вечером не вернулась домой.
Ждали всю ночь.
- Где?
— Не знаю, что и сказать, Оксент.
Они лежали с Варькой на сене, под стожком между кладовой и овином. Сено пахло мятой, пасека воском, а сад вишнями. Ночь дышала прозрачным покоем, укачивающим и ласковым, он обнимал и нежил. Оксент знал радость отдыха, когда ноги и руки словно бы одеревенели, когда из онемевшего тела уходит боль. А может, никогда до сегодняшней ночи он и не знал отдыха? Падал, как вол, выпряженный из ярма.
Плыла глубокая тишина, наполненная луговой мятой, ярым воском, зрелыми вишнями, но ему хотелось крикнуть: «Чего же тебе еще! Болячки в бок?»
— Говори! — сказал с нажимом.
— А что говорить? Не слепой, увидишь. Не глухой, услышишь. Так-то, Оксент.
102
Добрая или злая, Варька никогда не называла его Оксентиком — только Оксентом, даже в час близости она ласкала его, как когда-то, как давно, сжавшись, чувствуя себя маленькой, прижималась к его широкой груди, гладила своей неизнеженной рукой его упругое плечо. Грудь холодная, плечи неподатливы. Припала к его устам, целовала. Руки ее не ощутили трепета Оксенто-ва тела, а уста — его вожделения. Он лежал недвижно. А ей хотелось его страстной силы, наполнявшей ее огнем умиротворения, когда горишь, и когда знаешь, что горишь, и когда не жаль испепелиться.
Он лег навзничь и глядел в небо, в звездные туманности, которые как бы дымились и дышали холодом.
Варька тихо и жалобно заплакала. Искренне, надрывно, как плакала давно из-за бельма, что на глазу. А он молчал.
Соломин вернулась на рассвете. В белом, а вся черная. Но на поле, вязать ячмень, пошла.
Сидя и поглаживая на коленях тяжелый молот-«бабу», Оксент пытался думать, но мысли путались: все плыло, будто в тумане, тяжелом и густом. Серые и черные круги медленно тянулись перед глазами, а из-под них, словно песок, со скрежетом сыпались свои и чужие слова.
— Варька, а как же схрон?
— Пришел батько, привел вооруженных людей с собой...
Оксенту мерещилось, будто в пелене тумана кто-то едет на возу, погоняя очумелых лошадей, с грохотом катятся колеса.
— Варька-Варька,— произнес Оксент, готовый и ослепнуть, и оглохнуть.— Не жизнь — мука!
Заскрежетал зубами, не жалея их: пусть повысыпа-ются все до одного.
— Почему ты не уберегла Соломию, Варька? Варька молчала.
Он так смотрел на нее, словно хотел задушить.
— Сам заявлю.
— А Соломин?
— Варька, а кто еще видел этот схрон?
— Никто.
— А Мокрина?
103
— Мокрина знает. Мы с ней копали и выносили землю.
— Копали и землю выносили?
Оксент сидел на пороге, он выпустил из рук «бабу» и закрыл ладонями лицо. Перед глазами плавали темные круги. Вспомнилась дочь.
— Соломин!
— Что?
Он не хотел помнить, о чем ее расспрашивал и что она отвечала ему. Вымести все из памяти, как выметают из хаты мусор. Сложить в кучу, вывезти, и пусть развеет ветер или сгниет...
Память — хата, но из нее ничего не выметешь: ни мусор, ни пыль.
— Соломин? Доченька?..
— Тато, берегите лошадей. Сойдут снега — хлопцам кони нужны.
— Лошадей тебе не видать, как своих ушей. Не дам!
Они говорили долго. И криком и шепотом. Но вспоминать сейчас этот разговор так больно, что, кажется, легче упасть на землю и на своем подворье, своими руками, пальцами копать себе яму.
И снова смотрел, ничего не видя, кроме серых и черных кругов, и снова слышалось, будто стучали какие-то колеса, а из-под них, будто камни, летят слова: его, жены, дочери. Отец бандитки. Я отец бандитки.
И еще долго громыхал воз в туманной пелене.
Виляя хвостом, на животе, подметая двор мохнатым брюхом, к нему подкрался Рекс. Ласкался. Он не скулил, улегся, вытянувшись, и своим длинным языком то и дело облизывал его сапоги. Оксент принес его за пазухой слепеньким щенком, подобрав на сенокосе: кто-то вынес топить, а песик выплыл из речки, лазил по осоке, скулил. Может быть, до сей поры помнил о своей беде и навсегда сохранил собачью верность.
За Рексом подошел и жеребенок. Пес глухо зарычал на него, считая, что лишь он один имеет право лежать у ног хозяина.
Жеребчик помахал головой с чубчиком гривы на самой макушке между настороженными ушками, обошел собаку и, подойдя к Оксенту сбоку, ткнулся в его колени мордочкой.
104
«Только они со мной — Рекс да еще без имени жеребчик»,— подумал Оксент.
Что можно дать жеребенку? Малыш пока кормился из соски, сшитой из кожаного голенища. Та соска напоминала мужской огрубевший большой палец. Оксент и подставил свой палец, а жеребчик взялся его сосать, легонько, нежно, со вкусом пуская слюну.
Ох уж эти кони! Карый с белой звездой. Серый в яблоках. Оба в чулках — шерсть косицами над копытами. Молодые кони.
Карый — словно человек, идет как по струнке. Серый— бес. Все бы ему крутить мордищей на длинной шее. Грызнул его за плечо, кусок пиджака вырвал вместе со шкурой. Поэтому он — пристяжной.
На них плугом пахать — твердая земля разрезалась, словно масло. А ехать — в вожжах ветер свищет.
Он прокатил, да еще как прокатил, и коменданта, и того Савлюя — родственника Павла Оранчука по первой жене! Поели гуляки карпов, запрягай, мужик, коней. Вымостил задок телеги соломой, постелил рядно, вожжи в руки: «Садитесь...» Ворота — настежь, заезд крутой. Еще они усаживались, еще комендант укладывал под бок свой автомат, а Оксент уже тронул вожжи. Кони сразу взяли и понеслись! Незваные гости кубарем полетели с воза: только мелькнуло, глядь, а оба на земле, оба стоят раком в воротах. Потерял гостей!
Остановил лошадей, оглянулся уже с улицы: Соломия стояла на крыльце и смеялась — белые зубы, девичий смех. И он тоже усмехнулся, лукаво и радостно, в кулак: «Я хозяин, а вы, господа?» Они были для него паны, потому так и прокатил их, чтобы знали, какие у него кони.
За его лошадьми приходили бандиты, когда лежал снег. Бандиты, а не хлопцы, как их называла Соломия, явились среди ночи. Батарейками светили, рыскали, шарили по хлевам, заглядывали в овин, в кладовую, забирались на чердак, словно мог он поставить туда Ка-рого и Серого.
— Продал, говорю.
— Мы, советская ты курва, кровь проливаем, а ты лошадей продал?
— Продал. Сами подумайте: скоро колхоз...— Хитростью обвел бандитов вокруг пальца.
105
— Ты про колхозы молчи. Знаешь, что мы таким делаем, кто о колхозах заикается? — сверкнула батарейка, ослепила, холодные пальцы взяли его за горло и дернули вверх голову.— Ишь, фронтовичок!
Он клацнул зубами и прикусил себе кончик языка. Целую неделю не мог есть.
— Друже,— отозвался один из грабителей,— потише, у этого дядька дочка, она, знаешь-понимаешь, с самим Буйным,— намекая на Турчина.
— А мне плевать — с тихим или буйным: раз про колхоз вякает, значит, затяни ошейник — и готов! Слышал дядько про эту штучку-закорючку? Набрасываем на шею петлю, лучше проволоку, потому что веревка часто рвется. Шеи у русаков — советских верноподданных — тугие, сильные, а проволоку никакая шея не выдержит,— да ты слушай, слушай! — набрасываешь проволоку, вставляешь небольшую палочку и покручиваешь. Я делаю это легонько. Проволока врезается, шея поддается, поддается. Попадешь мне в руки — не пожалеешь. С моей проволокой еще ни одна душа долго не мучилась. В горле захрипит, и душа летит прямо в рай. Ха-ха... Да ты, кажется, попадешь в мои руки.— Он стоял, раскорячившись, в темноте, шуршала плащ-накидка.
Оксент сплюнул.
— Плюешься? На блевотину тянет. Ну и слабак!
— Язык прикусил,— с трудом промямлил Оксент, чтобы не молчать.
— Какой нежный! Я же ласково взялся за твою шейку, даже не стукнул тебя под бороду.
Второй, тот, что побаивался Буйного — то была кличка Турчина,— спросил:
— А может, ты продал лошадей Советам? Они покупают для милиции, для почты и хорошо платят. Если Советам, сам Буйный тебе не поможет.
— На базаре продал. Лишь бы с рук сбыть. Ничейной земли не захватишь, земельное общество не дает, а свою земельку я и кобылкой вспашу.
— Видели. С жеребенком. Только недавно ожеребилась. Мы таких не берем. На таких далеко не уедешь. Жаль. Подошли — усадьба под железом, ну, думаем, дальше пешака валандаться не будем. А ты, дядька, знаешь-понимаешь что? Если мы у кого лошадей берем, 106
удостоверения оставляем. Настанет самостийная Украина, заплатит за лошадей. Черт с тобой, неси бутыль самогону, я тебе удостоверение сейчас же выпишу.— И он зашуршал полой, выдергивая из-под нее планшетку.
— Самогонку я дам бесплатно.
— А удостоверения не хочешь?
— Нет.
— Вот Фома неверующий,— отозвался «удавка».— А ты, друже, еще про его дочку что-то лепечешь? Неси, верноподданный, самогон и благодари бога, что нам страх как хочется выпить и погулять. Ты, паскуда, каждую ночь с женушкой на перинах нежишься, а нам приходится за тебя мучиться. Тяни сюда бутылки. Но предупреждаю, куманек: стукну — пол-языка выхаркнешь, если не целый. А вдобавок умоешься юшечкой. Я, зна-ешь-понимаешь, пускаю юшечку жирненькую, густую, чтобы со вкусом...
Оксент вынес им самогонки, сала. «Отделался от этой беды. Вот сволочи!» — с облегчением подумал он.
Лошадки же стояли в риге, но их нельзя было найти...
Пес лизал сапоги, жеребчик сосал палец левой руки, а правой Оксент выковыривал из молота-«бабы» землю. И ковырял до тех пор, пока не пробил залепленную Дьтру.
Жаль Буланой. Когда-то водил ее к породистым жеребцам, и она приносила жеребят их стати и масти. Загнал какой-то душегуб кобылку, пала под ним. Булан-чик-маленький — ее последний. Что из него вырастет?
Когда он признался, что прятал зерно, и когда зерно откапывали в огороде, Цисарик спрашивал:
—• Оксент, я пробую лопатой, земля еще твердая, не оттаяла, и не пойму, зачем ты так глубоко зерно закопал? А я еще думаю: вырастет ли твой жеребенок или сдохнет?
— А бог его знает, Иван,— ответил Оксент, подавая лом Павлу Оранчуку.
Варька сидела в хате. Поднимала занавеску, глядела из окна, а он стоял на огороде, сжав кулаки: вражья баба, так и саданул бы, навесил ей фонарей, чтобы сидела дома и не таращилась в окно, если у нее мозги куриные. Ума ни крошки.
Как на духу, открылся Левку, где спрятано зерно.
107
Потом загрохотали две подводы. Рекс рвался с привязи. Оксент показал, куда ехать. Отмерял от овина пятнадцать шагов — каждый метровый: «Здесь копайте»,— место холмиком, чтобы дождевая вода и снеговые воды не застаивались, а стекали. Вынес лопаты, а потом и лом. А когда мерял землю шагами, когда выносил лопаты, лом, чутко прислушивался: не слышно ли чего из овина?
Кони стояли в боковушке овина, заставленном поверх перекладин снопами ячменя и гречихи. Боковушка широкая. Он повыбрасывал оттуда снопы на ток, в середине вырыл глубокое логово.
Небольшое. Как раз чтобы можно было поставить лошадей так, чтобы они стояли, не ложась. А то, если будет много места, еще драться станут. Кто войдет в овин, сразу их услышит. Обматывал им копыта мешками, навешивал на морды длинные торбы. Все укрыл плотно ячменем и гречихой. Боялся ночи больше, чем дня. Поил их, насыпал в мешки овес раз в сутки, ставя Варьку настороже и спустив собаку с привязи... Прогуливать их боялся. И кони стояли...
Оксент сам помогал откапывать зерно, и все, даже Кулишенко, удивлялись, глядя, как Оксент с размаху, изо всей силы дубасил ломом, отбивал глыбы земли или нажимал ногой на лопату.
«Люди-хлопцы, да если бы вы знали,— думал он, не отнимая палец от губ жеребенка,— как я боролся за лошадей. Клокотало во мне все, как в котле. Поверите ли? Когда я вернулся с фронта, я бросился не в хату, а в конюшню, обхватил одного за шею, вцепился рукой в шею другого. Что там бабьи косы? Кудель! Зарылся я лицом в конские гривы, умывался этими гривами, смывал ими свою трудную дорогу. И повеяло на меня полевым ветром, запахом чебреца. Сжала грудь песня, которую мы хлопцами пели, когда пасли коней: «Ой ты, м!сяцю зоре...»
Цисарик спрашивал, вырастет жеребенок или сдохнет, а Павло сказал: «Не надейся на бога, сам выпаивай жеребенка, тогда, может, и выходишь. Бог здесь не подмога».
Сколько же было говорено-переговорено про жеребенка, будто приехали не дело делать, а о сосунке толковать.
108
Зерно покрыто соломенной плетенкой. Сняли покрытие, зачерпнули пригоршнями. Овес — как перемытый, под овсом гречиха, под гречкой горох. Нюхали — не протухло. Пробовали на зуб — твердое.
— Сколько? — спросил Левко.
— Корцов 1 пятнадцать.— И добавил: — Я мерял на глаз.
— Взвесим... Если бы не показал, молотили бы то, что в амбаре; еще, может, возьмем в долг, если нам не хватит.
А Павло добавил:
— С утаенной земли, правда, Оксент?
Цисарик разжег свою трубку, сел на мерзлую землю, опустил в яму лапти.
— Э, утаенное, не утаенное,— и покашлял.— Ты, Оксент, не тужи, не журись; моя Мотруня давно говорила: бог дал, бог и взял.
— Она у вас философ,— усмехнулся Кулишенко.
— А что ты думаешь? — продолжал Цисарик.— Моя Мотруня семь баб переговорит и восьмую — козу.
Погрузили. Цисарик протянул руку:
— Береги, Оксент, жеребенка: молодой конь в цене будет.
И подводы покатили...
Оксент наконец пробил пальцами в «бабе» засоренную дыру. Поднял ее. Буланчик-жеребчик испуганно отскочил, стукнув копытами. Рекс, пятясь, отполз на животе от его копыт, гавкнул на жеребенка, отогнал его и застыл с разинутой пастью, почему-то не отваживаясь шевельнуться..
Оксент поднялся на ноги. Держал обеими руками «бабу». Как все живое и неживое на его усадьбе, она имела свою биографию. Этой «бабой» отбивал камень для хлева, забивал палки, натягивая сетку, отгораживаясь от кур. Долго пролежала она без дела. Теперь снова настал ее час.
Он поглаживал ее бока, расплющенные и прогнувшиеся, осевшие от чрезмерного битья. Пальцы его вытирали ржавчину, грели железо своим теплом. Большой палец левой руки, добела вылизанный, обсосанный жеребенком, сразу пожелтел, будто покрылся сукровицей.
1 Корец — примерно 50 килограммов.
109
Подвода с зерном выехала за ворота, а он, подождав, пока она скроется из виду, пошел в овин к коням. Он радовался, что они не топали, не фыркали, что их никто не услышал. Нет! Лучше бы топали, лучше бы стали бить копытами... Почему они не разорвали торбы и не заржали? Гей, кони, почему же вы не ударили копытами, не заржали так, чтоб овин разворотило!.. Гей, кони, вы мои копыта!
Когда подводы уехали, еще был день, до вечера далеко. Надо ждать, пока наступит вечер, потом ночь. И тогда он прогуляет своих коней.
Спустил собаку. Выгнал Варьку на улицу. Повыбрасывал снопы на ток. Но лошади не идут из боковушки, не двигаются. Он еще не верил, что они не могли выйти. Выводил, вытягивал их по одной. Не разматывал мешков с копыт. Только снял торбы. Но кони не могли стоять на ногах. Ступив, ковыляя, переступая слоги на ногу, словно калеки без опоры, они упали на току среди обмолоченных снопов.
Он посрывал мешковину с копыт: сухожилия, связки сгнили...
Он парил коням ноги, грел в котелках воду, ставил копыта в котелки, обмывал ноги кислым молоком. Помогло, как мертвому кадило.
И вот сейчас его кони лежат на току среди снопов.
Оксент словно обезумел. В голове шумело. Он взял «бабу», постоял, покачивая ее, положил на порог. Потом схватил лопату, наступил на нее. Треснув, сломалась рукоятка. Он вбил ее в «бабу».
Спускались сумерки, вечерело. Он вскочил в хату:
— Варька, передник!
— А что ты задумал делать?
— Сиди в хате и не выходи, а то и с тобой то же самое сделаю.
— Сдурел ты,— буркнула она, отцепила передник и кинула ему.
Он подхватил передник на лету и быстро сбежал с крыльца.
— Тише, тише,— срывалось шепотом с его губ, но он не мог себя сдержать.
В одной руке передник, другой схватил за рукоятку круглую чугунную «бабу». Поплелся по двору.
110
Рекс следил за ним выпученными глазами, не сходй с места. В вечерних сумерках за Оксентом шел жеребенок, прядая ушками, надо лбом у него торчал чубчик, на шее топорщилась коротенькая гривка.
Оксент сначала завязал передником глаза Карому с белой звездочкой на лбу и отступил.
— Тише... тише...
Размахнулся и изо всей силы точно направил удар коню в голову между ушами. Еще раз... И лошади не стало.
— Батько, что вы делаете?
Оксент завязал передником глаза второй лошади.
— Тато!
— Соломия, а ну отойди!
И ударил по Серому.
Потом отбросил в сторону «бабу», стал над убитыми лошадьми и перекрестился.
— Ты пришла?.. А я иду заявлять в сельсовет. Я преступник. Надо идти. Скорее.
— Ия спешу.
— Ты успеешь. Заведи в хлев жеребенка, напои из соски. Видишь, стоит и ждет. Буланчик...
XVI
Давно уже стемнело, но Кулишенко не уходил из сельсовета. Занимался будничным, привычным: поля ждать не могут. Пришлось и мешки таскать: нашли, откопали зерно на хуторе у Довбеняка.
Ровно, хотя и слабо горела лампа, и, в который раз прикидывая, хватит ли зерна, он устало поднимал вихрастую голову, взглядывал на желтоватый ее свет и думал: «Разве в этом обыденном нет ничего необычного, необыкновенного? — В воображении возникали люди, множество лиц — все разные, а из блокнота в красной обложке — памятке о районной партийной конференции — смотрели на него столбики цифр и строки: каждая цифра, каждая буква аккуратная и красивая.— Разве стремления велемчан, —думал он,— не обращены к свету, как сейчас глаза мои к этой лампе?..»
Через порог переступил Яровой, худой, уставший.
— На дворе темно, хоть глаз выколи,— сказал он, прищурив глаза.
111
— А я, знаешь, о чем думаю, Володя? — Левко повернулся к Яровому: — О солнце. Каждый человек должен жить для того, чтобы оно светило. А тот, кто гасит его, не гасит ли он в себе человека?
— Гм... Любо тебя слушать, товарищ Кулишенко. Реально, может, оно так. А вот какой лучиной чадит Кричевский? Взял и поубивал лошадей... Он и его дочка! Он и его тесть Довбеняк! Вот о чем я не забываю ни на минуту... Брали у Довбеняка спрятанное зерно, а он поблескивал волчьими глазами.
...Именно в это время Оксент подходил к своим воротам, возвращаясь из сельсовета. Он чувствовал свою вину, стучало в висках: Кулишенко резал словами, как бритвой. Так мне и надо! И шевельнулось в нем сознание, что живет он нехорошо и жил нехорошо. И если не сможет жить по-иному, тогда...
Яровой сидел в сельсовете за столом. Поставил автомат между коленями и повесил на дуло кубанку.
— Ты прав,— соглашался с ним Левко.— Все, кого ты назвал, хотели бы погасить солнце,— он кивнул на лампу,— но разве они могут погасить свет нашей новой жизни? Нет такой силы во всем мире. Я в это не просто верю. Я это твердо знаю. Я убежден. Это для меня самая большая реальность на земле.
Яровому было приятно, что Кулишенко употребил его слово, и он, не сдержавшись, добавил:
— Категорическая реальность! — И поднял вверх палец: мол, только так!
— Поэтому не раз меня охватывали гнев и злость,— продолжал Левко,— когда я вижу, что кое-кто этого не понимает. Я тогда мучаюсь. И тогда мне хочется самому гореть.
— Подожди, подожди, товарищ Кулишенко. Кое-кто, говоришь, не понимает. А если не хочет понимать?
Левко повторил:
— Если не хочет? — и произнес:—А если не может понять,— пристально глядя на Ярового,— тогда что?
Командир истребительного отряда наклонился к столу.
— Есть и такие. Не возражаю.— И спросил:—Что в тебе, Левко, за сила сидит, заставляющая меня думать, волноваться? На дворе тьма-тьмущая, а ты, ну как бы
112
’тебе точнее сказать: вроде бы развешиваешь по селу электрические лампы? Не так ли?
Лампа висела над их головами. Они глядели друг на друга — две тени их отражались на стене.
— Мы переживаем тяжелые годы. Искореним бандитизм, товарищ Яровой, настанет прекрасная жизнь. Не хвастаюсь, но я мечтал об этом в Березе Картузской, на фронте... Когда с высоты сегодняшнего дня я думаю, что не только у нас в селе, а повсюду, на всей земле утвердится наша правда, мне становится кое-кого жаль. Знаешь, по-человечески жаль. Не Оксента, не его тестя, разумеется. А, скажем, его дочку, ей ведь рожать надо, а она... Ты понимаешь?
Яровой молча покачал головой.
— Ну, это уже слишком, товарищ Кулишенко. При чем тут жалость? Человека нужно выращивать любовно, как садовник — дерево!.. Но человека!—не забывай.
— Пусть будет по-твоему.
— Не только по-моему. Давай дальше.
— Слушай, когда я вижу, что кто-то из нашей молодежи пошел по неверному пути, я чувствую за собой вину. Личную мою вину. Это значит, что я, ты, мы с тобой что-то прозевали, не предотвратили. Не сумели...
Яровой терпеливо ждал, что еще скажет Кулишенко, а тот продолжал:
— Говорил я с Цисариком, спрашивал его, как случилось, что Соломин оказалась в банде? Ты знаешь, что мне ответил Цисарик? «Обманули, обдурили девку.— Так и выпалил: — Обманули, обдурили, душу обокрали...» Конечно, мой вопрос он понял по-своему, стрельнул в меня хитрым взглядом и бросил ядовито: «Если бы не обдурили, не опозорили, она, ей-богу, Левко, подошла бы для тебя».— Левко засмеялся.
Рассмеялся и Яровой:
— Цисарик что ни скажет, будто люлькой своей обкурит. Реально.
— Представляю, как они со своей старухой перемывают мои косточки.
— И правильно делают, товарищ Кулишенко. Довольно тебе в холостяках ходить. Хотя мы с тобой уже не раз об этом говорили, хотя ты страх как не любишь
113
такого разговора... Вот и теперь отмахнулся рукой. Знаю, пока сидел ты там под Белостоком, все девки замуж повыходили, пока роевал — новые подросли и тоже повенчались. Но если бы ты знал, что такое семья! Я тоже не большой любитель разговоров на эту тему. Но когда привезешь домой дрова, достанешь мешочек муки... В печке веселый огонек, на одно твое колено сядет малыш, на другое малышка... Женись, Левко. Хоть бы на той же Матийко. Хорошая девушка и комсомолка. Не прозевай, потому что к ней кое-кто уже дорожки прокладывает...
— Свадьбы на осень откладывают,— бросил Левко.
— Молчу, товарищ Кулишенко, хотя мне, признаться, жаль твоей матери.
Яровой сказал это весело. Его прищуренные глаза теплились лаской. Вероятно, он все еще видел, чувствовал своих малышей на коленях.
— Она у меня добрая,— сказал Левко. На его лицо легла тень задумчивости.
— Вот и подумай о ней...
— Я думаю, Володя... У нас дров нет. Не успел заготовить, хоть разорвись, не хватает времени на все. А потом: покупаю в кооперативе коробок спичек, а мне кажется, что люди перешептываются — будто я даром беру... Но это я так, к слову, забудь об этом. Не такой уж я мягкотелый! — Левко улыбнулся и тут же добавил: — Выходит, товарищ Яровой, и ты любишь пожалеть?
Яровой отпарировал:
— Не лови меня на слове. Ведь о матери твоей шла речь. Ни меня, ни тебя никто из бандитов не пожалеет. Только попадись. Я был в руках Турчина. Знаю... Мы с тобой при керосиновой лампе о чем разговорились? Мы говорим о свете — о нашей большевистской правде толкуем. А они тоже не спят.
— Ты откуда знаешь?
— Волка ноги кормят, все равно он из лесу на охоту выйдет.
Оксент миновал ворота своей усадьбы. И все не мог избавиться от назойливых мыслей: «...тогда? Что же будет тогда?..»
114
Он глянул исподлобья на свой дом, на громоздившиеся вокруг него постройки, казалось, будто он сам врос в них.
— Вот где он богу молится, а ты ищи его,— голос тестя обжег его лицо...
«Кишки из меня выпустит за лошадей»,— мелькнуло в голове Оксента.
Довбеняк положил ему на плечо тяжелую руку.
— Пойдем сюда, в сад.
Печально шумели верхушки деревьев. От развесистой ели отделилась какая-то тень. Тихий голос спросил: «Порядок?»
— Сейчас,— кинул Порфирий,— сейчас договоримся.— Помолчал и сказал: — Поубивал ты своих вороных, ну и черт с тобой, зять! — Он передохнул и угрожающе продолжал: — Мы задумали большое дело. Либо Кулишенко— смерть, а нам — жить, либо нам смерть, а Кулишенко— жить! Я уже по-разному пробовал. Сидел в засаде у родника. Твоя Соломин тогда туда приходила. Думал стукнуть и пустить на дно. Не вышло, хоть и туман был, но уже светало, люди с ведрами по воду шли. А на людях его не возьмешь. А раньше еще и так было: у Джеджа праздновали Новый год. Он почти силком затянул к себе Кулишенко. Думали подпоить его, а он не пил. И всех гостей опоил своими речами о том, что нет на свете силы крепче советской власти. Все развесили уши, слушали — словно мед пили. Куда ни кинь — все клин, люди мешают. Дважды из-за них сорвалось дело. Село за него горой стоит. Нужно его застукать в одиночку: только тогда и удастся с ним покончить.
Оксента закачало. Каждое слово тестя будто отрывало его от земли: бежать, бежать куда глаза глядят.
— Поймать его в одиночку — это дело! Ночь — как надо, темная! Я не заставляю тебя, Оксент, обагрить свои руки кровью. Мы же — родня. Наши хлопцы засели там, где нужно. Кулишенко вернется из сельсовета, а мы с тобой проследим за этим. Ты заляжешь со стороны дороги перед его домом, а я — на огороде. Кулишенко придет, сядет ужинать, мы дадим знак — наши хлопцы тут как тут. Амба ему! — Он сжал кулак. Хрустнули в суставах пальцы.— А если, сохрани бог, Яровой со своими ястребками, мы предупреждаем наших хлопцев. Кровью
115
около нас и не запахнет. Мы только проследим... Пойдем, зять...
Оксента передернуло. В темноте блестели глаза Дов-беняка.
— Порядок? — спросил человек, отделившийся от ели и остановившийся рядом с Оксентом.
«Джедж»,— узнал Оксент школьного сторожа. Его кинуло в жар и тут же охватил холод.
— Я не могу... Я...— он хотел добавить что-то и отвернулся, шагнув по направлению к хате.
— Что? — преградил дорогу тесть.
Оксент молчал.
Довбеняк тяжелым кулаком наотмашь ударил его по лицу. Подскочил Джедж. Оксент схватился за голову и упал.
— Под живот! Под ребра!
Они топтали его сапогами.
Высоко и внизу печально качались ели.
— Сами справимся...
Он услышал эти слова, распластался на земле, примерзая к ней и уже ничего не чувствуя...
Варька не вышла. Шумел сад.
В это время Кулишенко погасил лампу. Вместе с Яровым он вышел из сельсовета. Яровой говорил:
—Бандитская тактика — втихую, из-за угла.
— А нам прятаться незачем. Мы одинаковые и ночью и днем. Разве не этим и сильны? Люди любят правду. Правда дорога для них как солнце.
— Потому мои хлопцы и не спят: чтобы тучи не затмили этого солнца.
Они вошли на школьный двор. Около сарая с зерном сторожил доброволец из истребительного отряда. Левко сказал ему, что он охраняет не просто зерно, а людские судьбы.
— Знаю,— отозвался ястребок.— Будьте покойны.
Потом Яровой провожал Кулишенко. Ночь была ветреная и темная. Слышались всплески волн реки в долине, шум вишен и тополей на холмах.
Холодная земля и ветер привели Оксента в сознание. Он попытался встать, но не смог. Пополз. Куда?.. «Им убить человека — это раз плюнуть,— шевелилось в его
116
мозгу.— Им только мешает село. Но оно спит и не слышит. Разве и я против села?» Он полз. До сельсовета далеко. Успеет ли добраться до хаты Кулишенко?..
А на огороде, за кучей хмеля, против хаты Левко лежал Довбеняк. Джедж тоже где-то неподалеку. Хотя и ветрено, но Порфирий услышал приближающиеся шаги. Как будто два человека... Вот, холера, Кулишенко не один. Это труднее. Порфирий явственно услышал, как двое остановились у ворот, и обрадовался тому, что они прощаются. Узнал голос Ярового.
— Спокойной ночи,— громко сказал он.
«Да иди ты, иди! — мысленно подгонял Довбеняк Ярового.— Никак, видишь, не могут распрощаться. Словно молодожены!»
Они разошлись.
Левко быстро пошел к хате, а Яровой медленно двинулся по улице. Довбеняк поглаживал бороду: «Будешь знать, как чужое зерно выкапывать»,— тешил он себя.
А Оксент тем временем полз межами через огороды. Он не дотянул до хаты Кулишенко, добрался до порога Нечуйвитрихи, стукнул головой в дверь. Евка вышла, стала на пороге, набросив на плечи платок. Он рассказал ей, что знал.
— Беги и никому ни слова, что это я тебе... Пока беда спит...
— Беда никогда не спит, Оксент,— ответила Евка и побежала.
Левко вошел в хату, разделся и сел к столу.
Мать поставила на стол ужин — над селом взвилась красная ракета. Он глянул в окно, схватился за пистолет. В окно стучал Павло Оранчук. Еще кто-то вбежал во двор.
— Левко, ты жив? — услышал он и по голосу узнал Евку.
XVII
Уроки в вечерней школе заканчивались поздно. Хлопцы и девчата торопились домой.
Еще горели две лампы: одна на столе, другая, подвешенная на крючке, посередине класса. Юрко влез на парту, подкрутил фитиль, чтобы затем дунуть и пога
117
сить свет, а Василь, задрав голову вверх, запальчиво спрашивал:
— Какой из этого толк? Какая польза сметать пылинки. Просто не знаешь, что делать, куда себя приткнуть,— его глаза бегали по затененному потолку, в голосе звучало раздражение и гнев.
— Не горлань, не разоряйся!—отрезал Юрко. Его руки краснели под светом лампы.
— Почему не кричи? Почему не разоряйся? — воскликнул Василь своим густым баском, готовый простоять здесь хоть всю ночь, уверенный в своей правоте.
Матийко — черноволосая, стриженая, с чубчиком на лбу, никак не могла привыкнуть к тому, что она не просто Люда, Людка, а Людмила Иосифовна,— делала последние записи в журнале.
— И чего вы, хлопцы, заводитесь, чего не поделили?— спросила она, подняв голову от журнала. Голос тонкий, не как у учительницы, а как у школьницы. Быстрые глаза ее останавливаются на Василе, видно, что он ей не безразличен.— Нет вам удержу,— сказала она резче и взглянула на Юрка.— Слезай! Взгромоздился на парту, головой потолок подпираешь!
Она ведет первый класс, а в вечерней школе читает историю. Окончила педагогическое училище, заочно учится в университете.
— Гегели,— ей самой нравится сказанное, и она добавляет: — велемчанские.
Юрко соскакивает с парты, вытирает ее ладонями, рукавом шинели. Василь на носках, виляющей походкой приближается к столу, берет лампу и поднимает вверх.
— И зажигая светильник и просвещая светом разума...— рокочет он баском.— О том и спорим, Людмила Иосифовна.— Он подмигнул Юрку: мол, о нашем споре — молчок.
Учительница прижимает журнал и потрепанный учебник истории к груди.
— Вы проводите меня, хлопцы? — обращается к ним.— Мне нужно еще подготовить урок для наших малышей-первоклассников.
На ней плохонькое темно-вишневое пальтишко с узкими рукавами, обметанными нитками, с потертым рыжеватым вооотником, разбитые, с задравшимися тупыми носами сапоги.
118
— Проводим, проводим,— отвечает Василь.
Он — впереди, несет «свет разума» — лампу, которая мигает и коптит, учительница — за ним.
Юрко ждет, пока они вернутся из учительской.
Стоя в пустом и темном коридоре, он думает: мы все спорим с Василем про панов и рабов. Василь убежден, что всякому народу написано, кому верховодить, а кому подчиняться. Все зависит от «я», сильное ли оно или слабое. Он подбирает слова: мужественный характер, непоколебимая воля...
А нынче мы схватились, начав, казалось, с мелочи. «Моя мать,— начал Василь,— изо дня в день подметает и вытирает все до последней пылинки. Какая ей польза оттого, что она вылизывает каждую пылинку? Есть те, кто приказывает подметать, и есть те, кто должен подметать!»
Юрко не выдержал, услышав, как Василь неуважительно говорил о родной матери.
«Спор между нами,— вспоминал Юрко,— разгорелся в перерыве, между двумя звонками. Но он начался не теперь, а еще тогда, вероятно, когда мы встречались на выгоне и пасли гусей. Спор этот разрастался, набирал силы, как росли и набирались силы и мы сами. Не так ли? Интересно, а что сказала бы Людмила Иосифовна о наших разногласиях?» Он задал себе этот вопрос и пожалел, что послушался Василя и не сказал о сути спора Людмиле Иосифовне.
Школа в Велемче возобновила занятия в феврале прошлого года, через несколько дней после изгнания фашистов. Юрко запомнил: инициатором ее немедленного открытия стал Новак, но если бы он за это не взялся, школа все равно действовала бы. Учительские кадры, пусть и не густо, преимущественно из женщин, которые были главной силой на двух нивах — хлебной и просвещения, готовились заранее, по мере освобождения новых территорий от оккупантов. Едва ушли из села передовые фронтовые части с танками, пулеметами и «катюшами», еще дислоцировался обоз и госпиталь, а здесь уже появилась Матийко. Ему и Василю, которые примчались к школе, Алексей Вавилович тогда сказал: «Глядите, хлопцы, и запоминайте, чувствуйте: фашисты привезли нам на своих «тиграх» концентрационные лагеря и виселицы, а власть Советов освободила нас и
119
несет нам просвещение. Да разве только просвещение? Кто этого не понимает, тот слепец из каменной эпохи».
Вначале они поступили в дневную школу. Ходила туда и Соломия. Учиться хотелось. Все переростки. Юрко начинал с монастыря, учился в начальной школе во времена пилсудчины. Два неполных года, двадцать два месяца знал он советскую школу. Во время немецкой оккупации, в первую же осень, педучилище, которое только-только становилось на ноги, «преобразовалось» в гимназию, но она так и не открылась: ни преподавателей, ни гимназистов, ни учебников. Кое-кто самостоятельно, тайком, нынче в одной хате, завтра в другой, ходил на учебу к Новаку. О вновь создаваемой фашистами гимназии Алексей Вавилович говорил: «Это ничто — преподаватели в чине унтеров, а ученики — свиньи»,— намекая на то, что в классах разместился карательный отряд, для которого каждый день во дворе школы сма-лили реквизированного кабана.
Юрко торопливо осваивал науку — стыдно переростком ходить в дневную школу. И так много лет потеряно. А ведь уже скоро призываться в армию. Только благодаря Новаку он заканчивал десятый класс, старался, тянулся изо всех сил.
В учительской погас свет, и, услышав шаги Василя и Людмилы Иосифовны по коридору, Юрко направился к выходу. Поздний вечер, темно, но в сумраке видны белые колонны. Высокие, словно ряды величавых статуй, стоят и поддерживают над школой небо. Он любил их торжественность. А первоклассники играют здесь в прятки, как играл и он когда-то. Прячась за колонну, однажды набил себе здоровенную шишку на лбу. Маленькая отметина осталась — над бровью. Соломия не раз смеялась над ним: «Ты с печатью, ты меченый».
— А облака низкие,— буркнул Василь, спускаясь с лестницы.
— Теплые,— произнес Юрко. Вытянул руку, словно бы ощупывал тепло, плывущее с высоты.— Скоро ударит первый гром.
— Дождь нужен для посевов. Весенняя кампания,— сказала учительница.— А вы, хлопцы, о севе думаете? — и взяла их под руки.
— Агитируйте, Людмила Иосифовна,— отозвался
120
Василь.— Юрко человек темный. И как только он стихи пишет? Откуда берется вдохновение?
«А как ты пишешь?..»—хотелось спросить у Василя. Но он сдержался.
— Ну, об этом еще Пушкин писал: «без божества, без вдохновенья...»—попробовала учительница защитить Оранчука.
Они перешли площадь и напротив сельсовета, в котором светились окна, свернули направо.
Нигде ни огонька, только в сельсовете не спят.
Двухэтажный каменный дом. На первом — сельсовет, на втором — истребительный отряд.
Людмила Иосифовна держала хлопцев под руки, будто не они ее провожали, а она — их. Шли по Панян-ской улице, самой ровной и вымощенной. Сюда, к ней, с гор спускались все другие улицы.
Здесь стояло несколько пустых домов. Владельцы выехали в Польшу. Пустовали также дома бежавших осадников. В одном из них, заняв комнату и кухню, квартировала учительница. Хата на краю села, недалеко и монастырь.
Мостовая грязная, скользкая.
— Юрко молчит, и вы замолчали, Людмила Иосифовна,— заговорил Василь.— А что вы думаете как секретарь комсомольской организации?
— Что я думаю? — серьезно начала учительница.— Смотрю и вижу:'в одном сельсовете светло, а вокруг?.. Темнота... Пилсудские, гитлеры, бандиты-националисты дали себя знать. Для меня — они все на один покрой сделаны, как на плакатах в школе и перед сельсоветом на щитах: Гитлер и Бандера — два сапога пара. Не так, ли? Наш народ выиграл такую войну! На носу посевная кампания. Заем! А тут вечер — и все спят. Только у сарая с зерном ястребки с винтовкой. А я спать не могу! Я пойду в поле на посевную, пойду по хатам вести подписку на заем и вас за собой позову.
— Я буду сеять,— сказал Юрко.
Василь промолчал. И Юрко подумал, почему же это Кримчук даже не заикнулся о севе? По своей теории: кому — сеять, а кому — приказывать?..
— Ваша хата, Людмила Иосифовна,— учтиво проговорил Василь.
Учительница поблагодарила и хотела побежать к до
121
му, но он, попросив разрешения, проводил ее до самых дверей.
Юрко намеревался сразу повернуть домой, но Василь, провожая учительницу, оглянулся и буркнул, чтобы тот его подождал. Он ждал на улице, глядя на возвышающуюся сумеречную громаду монастыря.
— Ты чего уставился на монастырь? Снова туда захотелось? — толкнул его плечом Василь.
— Я уже там нажился,— задумчиво ответил Юрко.
— Пойдем. Я тебя не уморил? Мы немного постояли с Людочкой на пороге,— и Кримчук потянул его за рукав.
Юрко не выдержал и встал перед ним:
— Как ты сказал? С Людочкой?
— А что? Ты лучше скажи, Соломию давно видел?
— Не о ней речь. Людмила Иосифовна учительница, она обучает нас, а ты: «Людочка»!—и ушел. Брезентовая солдатская сумка мотнулась на его плече.
Василь поправил свою, кожаную, и свистнул, догоняя его:
— Да! Стоял на пороге с Людочкой, с Людочкой, с Людочкой! А может, и целовался с ней. А тебе завидно?
— Нет, просто ты еще раз доказал, каков у тебя характер. К чему ты стремишься,— уколол его Юрко,— унизил свою мать, а теперь — учительницу.
— Опять ты — со своим барабанным боем! — крикнул Василь.— Я стоял и стою на том, что в мире всегда были и будут паны и рабы. Мир на том держится, а твоя философия: «Примите, вкушайте, это тело мое, которое за вас терзается... Это кровь моя, которая за вас всех проливается». Писк монастырской крысы — вот твоя философия.
— А твоя философия: паны и рабы. Ты пан — элита, а мусор пускай другие подметают? Даже родная мать, лишь бы не ты. Я думаю иначе. Я убежден, что моя, твоя, наша обязанность вымести сор из нашей жизни, вымести до последней пылиночки. И я не соглашусь, чтобы кто-нибудь делал это за меня.
— Тогда ты никогда не будешь паном, владыкой. А я не рожден для всякого там мусора. Мой постулат...
Они не заметили, что поравнялись с сельсоветом. Из-за щитов, о которых говорила Людмила Иосифовна, вынырнул Цисарик:
122
— Что такое постулат, я не знаю, а что такое постолы, знаю хорошо,— он поднял ногу, показывая лапоть.— А вы такой шум подняли! Мы когда-то с посиделок так шумно не расходились. Домой, хлопцы? Я тоже.
— Все разошлись? — спросил Василь.— Левко Архипович обо мне не спрашивал?
— Если бы спрашивал, я бы в школе тебя нашел. Завтра — с первым плугом. Собираемся здесь,— он кивнул на сельсовет.
Цисарик зимой тоже ходил в вечернюю школу. Даже научился расписываться, правда, только имя — Иван; вывести «Цисарик»—пытался, но бросил, глаза, говорит, ослабели.
— О каких таких постолах вы там болтали? Может, Василь, сапоги привезут?
— Так вы же, дед, в сельсовете крутитесь.
— Да что я? Кручусь около бандуры, то есть около телефона, а ты, Василь, все-таки ближе.
Чтобы допечь Кримчука, Юрко проговорил:
— Мы, дидусь, вот отчего завелись: я спрашиваю, почему мать Василя каждый день подметает хату? А он — никогда.
— Гм... Хата есть хата, чтобы ее подметать. Из-под свиней и то навоз выбрасывают. А тебе, Василь, в неметеной хате охота жить, так, что ли?
— Юрко мои мысли упрощает. А я, дед, настаиваю: кто воробей — чирикай, кто соловей — пой. Пальцы на одной руке — и те неравные. Разве это неправда?
Цисарик шел между ними, опираясь на палку. То Юрко, то Василь, наклоняясь к нему, отстаивали свое, а он перекладывал палку из руки в руку, чтобы тверже ступать.
— Вот что я вам скажу, хлопцы: люди — не птицы и не пальцы,— выговорил он.
Кримчук, не слушая его, продолжал:
— Если у тебя есть талант, развивай его, не закапывай!
— А если это талант убийцы? — возразил Юрко.— Тоже развивать его, а не закапывать?! Раз талант,— значит, все дозволено... Ты воробей, значит, чирикай, копайся в мусоре, не помышляй о небе, а я орел — напьюсь крови и летаю высоко, небо — для меня!
123
Цисарик, уже совсем сбитый с толку, то и делал, что перекладывал палку из одной руки в другую.
— Тише, хлопцы, тише... Чего доброго, еще подеретесь, а я драки боюсь. Моя Мотруня говорит: где двое дерутся, третий не лезь.
По обе стороны улицы росли высокие ясени. Над ними плыли низкие тучи. И почки ясеня, и тучи пахли дождем. Земля ждала грозы, чтоб ударила громом, разлилась ливнем.
Цисарик нюхом чуял дождик. Ему надоела перепалка, которую затеяли хлопцы. Под грозу сладко спится, а половина ночи уже миновала.
— Да! Да! — кричал Василь.— Именно так! Воробьем или орлом.
Кончились ясени. На углу маячила верба, старая, засохшая. Остался один ствол.
— Просила сорока у вороны защиты. Да чего вы сцепились, хлопцы? Зачем вам словами кидаться и души баламутить? Вы лучше о севе подумайте. Вот что говорит моя Мотруня: на урожай не взирай, а сей, тогда и хлеб будет.
А хлопцы никак не могли успокоиться.
Вдруг Цисарик испуганно проговорил:
— Юрко, Василь, за сухой вербой, ей-богу, кто-то прячется.
Он стукнул палкой и остановился.
Из-за вербы вынырнула фигура, мигом очутившаяся перед ними.
—* Кто видел, что мы прячемся? — голос враждебный, требовательный, звякнуло оружие.
От вербы отделился еще один.
— Ты нас видел? — подошел он к Цисарику. Каждое слово выговаривал с присвистом.
Старик ответил:
— Плоховато, ведь темно уже. Вы и верба...
А в мыслях: «Вот тут тебе, Иван, и крышка будет за гот пенечек... Не постукивал бы ты об него люлькой, не садился бы на него...»
Бандит ударил Цисарика в глаз:
— А теперь видишь?
Старик кашлянул и хрипло ответил:
— Зарябило. Но что-то мерещится.
124
Его ударили в другой глаз. Палка выпала из рук Цисарика.
— А теперь видишь?
— Ничего, паныч, не вижу. Одни искры из глаз сыплются.
Высокая, плечистая, длиннорукая фигура возвышалась над ними.
— Чеши прямо и десятому закажи!
Василь повернулся на одной ноге и кинулся бежать.
— Стой!
Он упал, поднялся и бросился к огородам.
Юрко попытался тоже бежать, но чужая рука ухватила его за запястье, как стальным наручником.
— Подожди, стерва.
Цисарик, удаляясь, плелся по дороге.
XVIII
Рука, стиснувшая запястье, довела Юрка до сухой вербы и, сильно рванув, отпустила. Юрко полетел вперед и чуть было не угодил лбом в дерево. Кто-то высокий и черный вышел из-за вербы, саданул его в грудь и, схватив за ворот, встряхнул. Голова закачалась. В ней что-то зазвенело, как звонит колокол, и загудело... Вдали шумели ясени. За вербой бурлила река.
— Ты из какого угла?
Юрко молчал. Слышал шум ясеней и клокотание реки. В сознании прорезывалась только одна мысль: «Василь смог убежать, а я?»
— Ты что онемел? Проглотил язык? Сейчас вытянем. У нас и камень не молчит. Знаешь-понимаешь, мы это умеем...
Их трое, а он один. Шапка давно слетела с головы и лежала под ногами высокого, черного. На шинели ни одной пуговицы. Набитая книжками и тетрадями сумка съехала до колен — поясок развязался.
Новый удар кулака попал ему в нос. Нос распух, потекла кровь.
— Йз Залужья.
— Заговорил, а еще как следует кровью не умылся. Из школы идешь?
— Из школы.
— Комсомолец небось?
125
— Нет.
— А не скрываешь? — Глаза смотрят в глаза, сверлят.— Мы коммунистов и коммунисточек, комсомольцев и комсомолочек берем на крючок. Закинем удочку, выводим на чистую воду, вытянем, а потом, знаешь-понимаешь, как рыбку. Пальцами вырываем жабры, ножичком сдираем кожу, солим. Если есть время — на сковороду, а если нет — ужин и так готов. Вкусно. Если я не поужинаю такой рыбкой, мне и сон не в сон, все мне голые цыгане снятся.— Говорил он нагло, смакуя каждое слово, и наставлял:—Уважай, соблюдай заповедь, в которой сказано: «Не будь шутом»; хлопцы, какая она там по счету, я чего-то забыл. А ну подскажите ему.
Тот, что раньше схватил Юрка за руку, подошел и крутанул ему ухо.
— Ухо у тебя как у осла, а трещит, как халява.— И заорал в пылающее ухо: — Последняя наша заповедь. Запомнил?
Юрко стоял, как на горячих угольях.
— Опять молчишь? Из Залужья, говоришь. Мы, кажется, тебя знаем. И отца твоего знаем — председателя земельного общества. Передай ему, чтобы сидел тихо. А ты, кажется, песни сочиняешь? Правда? Но какие песни, какие стихи?.. Га... га-га! У тебя слов должен быть полон мешок, а ты словно завязал его. А может, знаешь-понимаешь, как там ее, Матийко, что ли, тебя давно записала в комсомол, а ты не признаешься?
— Что вам сказать? — Он опустил голову. Потом поднял ее, колюче глянул на высокого, на его подручных и подумал: «Эх, подоспели бы сейчас Яровой, ястребки»...
Шумели деревья, шумела вода, тревожно плыли над головой облака. И тогда ощутил он в себе твердость. О чем бы ни спрашивали — не скажет и слова. Умереть, но молчать. Не просить, не умолять, не уверять, что запомнит их последнюю заповедь. Чего просить? Чего умолять? Кого и в чем заверять?
— Голос у тебя прорезался, чего же ты смотришь на землю? — Усмехнулся. И строго:—Где живет Матийко, знаешь?
Юрко даже ухом не повел, будто и не его спрашивают. Стоял и смотрел на вербу.
126
— Поведешь. Огородами.— Высокий и статный поднял ногой его шапку, потом снял ее с ноги и надвинул Юрку на голову.— Веди...
Он медленно и тяжело повел головой в одну сторону, потом в другую: нет! И то, что он сделал это молча, не проронив ни слова, насторожило их, и они стояли молча.
Это длилось какое-то мгновение. В беспокойной темноте их глаза, и тех, которые стояли по бокам, и того, что впереди,— враждебные, угрожающие, неумолимые, и его — еще более колючие, еще более угрожающие, еще более неумолимые, скрестились и будто вонзились друг в друга. Нашла коса на камень. Все будто замерло вокруг, будто не шелестели деревья, остановилась речка. Глаза Юрка блестели застывшим, словно неживым блеском, смотрели на сухую вербу и куда-то вдаль за нею. Он стоял неподвижно, твердо и смотрел не мигая. А они стояли, словно неживые, и тоже смотрели. Он — на вербу и еще дальше, а они — на него.
И будто стало видно, как течет время, как плывет ночь, как она медленно уходит.
Это и решило его судьбу: ночь, которая уходила.
— Сами дорогу найдем,— сказал передний и злобно усмехнулся.
— Первая хата от монастыря,— отозвался кто-то сбоку.
— Зайдем от Могилок,— промолвил третий.
— Шапка, знаешь-понимаешь, у него хорошая.
С головы его сорвали шапку и сунули за плащ-накидку.
Он и не Шевельнулся.
— А шинель?
— Нравится — раздевай,— подхватил передний.—
Только быстро.
— А я, хлопцы, сумку возьму. Брезентовая, но, может, пригодится.
— Чего стоишь? Высыпай книжки, и все!
Кулачище сбил его с ног. Книжки и тетради посыпались на землю. Били его носками сапог.
— Гайда, гайда, а то скоро петухи запоют.
Захлопали полы плащей, поднимая ветерок.
— Ни ты нас, ни мы тебя не видели! — и исчезли за ветерком, поднятым полами плащей.
Юрко лежа глядел на вербу. Покосившаяся, без вер
127
шины. Торчат два-три прутика, будто кто-то воткнул их, чтобы стремились вверх. Они стремятся, да что с того: сухие ведь. Зияет темное дупло, и светится труха.
Что напоминала ему эта придорожная, мертвая верба? Почему не спускал с нее глаз? Почему она стоит, светит трухой, не падает, не рассыплется в прах? Разве выбросит она молодые ростки, разве они оживут и зеленая листва зашумит над ее трупом.
Болела голова, болело все тело. Только теперь он почувствовал, как жестоко избит. Под носом, на губах запеклась кровь.
«Что там дома? Они спрашивали про отца. Может, и отца уже нет? Нападали же на Кулишенко... Какие они страшные!» — и поднялся, опираясь на руки.
Шелестели страницы учебников, тетрадок, которые он сделал из газеты и бумажных мешков из-под соли. Собрал, связал узеньким мягким ремешком, взял их под мышку и пошел: раздетый, без шапки, едва ступая, часто садясь на землю.
«Что дома? Как отец?» — стучало в голове, и он с трудом шел дальше. А голос Василя Кримчука издевательски нашептывал: «Неумытый, побитый! Неумыва-ка, побитый, как собака!» — вспомнилось давнее, с детских лет.
Дотащился к дому. Знал: батька спит где-то на чердаке, остерегается после гибели Нечуйвитра, после нападения на Кулишенко. Во дворе тихо, у хлева тихо. А ноги у него подкашиваются. Так и падает.
Присел на пороге. Отдохнул и вошел в хату.
Мачеха с кровати среди своих Яшки-Райки — трое под одним рядном.
— Засну и просыпаюсь, просыпаюсь и засну, а тебя носит кто знает где... Ох уж мне эта школа! Никудышный ты, как из пакли кнут. Готовься с батьком выйти в поле. Молоко на столе. Пей.— Слышно было, как укрывала сына и дочку и как сама шмыгнула с головой под рядно.
— Я не хочу, мама.
— Не хочешь — как хочешь,— прошептала она из-под рядна.
Не заметила, что Юрко — без шинели, без шапки.
Боковушка тесная: печь, перед завешенным фарту
128
ком окошком столик-шкафчик и за ним, в углу, кровать.
Упал на кровать, а мачеха сердито:
— Не можешь лечь потише. Детей разбудишь.
Он полежал. Только и был в состоянии спросить:
— Мама, здесь тихо?
— А как должно было быть? Да спи уже, чтоб тебя камнем привалило. Завтра же в поле!
В голове стучало: сказать про учительницу, поднять на ноги отца, но он лишь шептал: «Мамо...» — но его никто не слышал.
Лежал не разутый, не раздетый, обессиленный. Запеклась кровь на губах, как крупинки соли. Песчаным, оледеневшим холмом, двинувшимся с места, наваливался на него тупой сон. Так уже с ним однажды было, когда немцы жгли Залужье, а он удрал в лес, добежал до озерца, которое называется Синеви-ром, и упал. Как тогда, так и теперь мерещилось: хрупкие, смерзшиеся глыбы ломались, песок засыпал его сначала по пояс, потом выше груди, до самой шеи и продолжал сыпаться еще и еще. Каждая песчинка холодная, словно с мороза. Песок сыпался в уши, в глаза. ^Каждая песчинка скрежетала, мололась, не размалываясь и сыпалась. И в этом сыпучем потоке, более тяжелом, чем вода, пробивалась мысль: «Здесь тихо, а деак же учительница?..»—и не было сил подняться.
Завалил, засыпал — сон. Сон или небытие?
Юрко просыпался, но не мог проснуться. Лежал на кровати, будто под прессом. Что-то давило грудь, не давало дышать, сжимались виски, душило за горло. Он пытался кричать, но крик не слетал с его губ. И начал бредить, давили кошмары: куда-то летишь, летишь и не можешь провалиться, упасть; что-то выбрасывает, выталкивая тебя назад; вниз, вверх, а ты опрокидываешься: хочешь закрыть глаза, но не можешь. И в глазах мигают свечечки, то зажигаются, то гаснут.
И стоит перед глазами то, что видел и чего не видел, что с тобой бывало и чего не было.
Мгновение сна, мгновение небытия, миг пробуждения?.. Появляется что-то красивое, далекое, забытое, и возникают невиданные чудовищные морды, рыла, и слышны их хрюкающие голоса, и блестят жирными сковородками их лысины, и шевелится колючая щетина
з Б. Харчук
129
чубов. Видения со всех сторон. Тянутся к йему дЛий-ные, костлявые, желтые, как у покойников, пальцы с синими ногтями-когтями. И все тянутся к его шее.
В глазах вырастает кулачище. Трах!..
Будто слышится гудение колокола, и картина надвигается на картину одна за другой.
Мгновение сна: в синей мгле сухая верба. Вечерний час. В долине течет речка, а в гору тянется дорога. Восходит звезда, стоит над вербой, озаряя речку, дорогу. Взлетела песня — с обрывистого Пропастища, с возвышенного Городища или с двурогой Заставны? Слышится одинокий девичий голос, распускается верба. Он смотрит на дорогу и ждет. Темнеет белая дорога. Не пришла. Девушка или песня? А разве это не все равно? Поет девушка — разносится песня. Стелется голос — растет девушка.
Трах!
Мгновение небытия: упали веки, остановилось сердце. Чего ждал и не ждал, что любил и что ненавидел, кто карал и кто миловал, прощайте. Все. Люди и нёлю-ди. Благодарный вам. И ныне отпускаешь грехи, вла-дыко...
Трах!
Печь оскалилась. На припечке перед горшками удивительный хоровод. Горшки большие, хлопцы и девчата маленькие. Бьет бубен, наяривает скрипка, играет труба — троистая музыка: длинному хороводу не видно конца. Они вдвоем с девушкой сделали живые ворота, он наклонился и подал ей руку, она наклонилась и подала ему свою. Под их сплетенными выше головы руками проходят: один в черных сапогах и в вышитой сорочке— хлопец — и две в красных сапожках с венком на голове — девушки. Идут, взявшись за руки: нужно так вести танец, как венок плести... Скоро девушка повернется под его рукой — и они поплывут журавлиным клином. А он длинный, и нет ему ни конца ни краю. Это танец, в котором освобождается человеческий дух, входит в живые ворота и плывет-плывет... В груди мужество, в глазах отвага. В ногах крепость, в руках сила. И хлопцы как стены, девчата как башни.
Потом пропал, будто канул в землю хоровод, и на том же припечке, перед большими горшками, словно вышел из печи в золотой митре, в золотых ризах низень
130
Кий Лысый отец Иов. Несет евангелие, а он — Юрко, с кадильницей — послушник.
— И спрашивали его: кто еси?.. И говорят ему... И говорят ему...— лицедейство.
Он подает кадильницу, поплыл дымок. Заслонился, будто от взрыва...
Юрко оторвал от подушки голову и оперся на локоть: на припечке все грохотало, стучало, гудело, ползло, двигалось — и все на большие горшки. А за всей этой вереницей — Цисарик. Да, да, и на крышечке Мефис-Пан, которого Мотруня и сам Цисарик боятся называть чертом. Глаза его сверкают, из ушей вьется дым, накручивается на рожки, глаза засветились еще ярче, танцует ногами, руками, хвостиком.
Нераздетый, неразутый. Голова на мокрой подушке.
— Вставай, вставай,— будил его утром отец.
Мачеха собирала в школу младших.
— Штаны на нем горят,— бранила она Яшку.— А ты же девчонка, фу! Юбку всю протерла,— ругала Райку.— Где для вас взять? Оборванцы! Один уже выучился,— камешек в его, Юрка, огород.
Яшка и Райка ушли.
Отец:
— Вставай, кому я говорю? — Он положил руку на плечо сына и потряс его.
Хлопец вздрогнул, встрепенулся, вскочил на ноги:
— Где? Что?
— Очнись, опомнись... Приходили за тобой, но я сам тебя поведу.
Болела, раскалывалась голова. Стучало в висках. Жилки набухли, вздулись, они были видны, как у маленького ребенка. Беззащитные синие жилки. «Приходили?» — и взялся за голову.
— Болит? — спросил отец.— Отекла, распухла, кровь засохла. Умойся, голова еще и не так заболит.— Набрал воды, сливал ему на руки над корытцем около печи. Подал полотенце.— Манька, давай завтрак, мы уходим.
— Я не хочу есть, тато.
Мачеха услышала и сказала:
— Вот и положили начало севу!.. Землей бы вас накормить, работнички! Долго вы меня грызть будете?
Отец на это ничего не ответил, а Юрку сказал:
— Нос расквасили, посинел.
5*
131
— Пустяки, тато.
Вышли из боковушки. Отец сел к с*голу, бросал в рот картошку и запивал простоквашей. Мачеха смотрела в окно.
Он стоял, ожидая.
— Сынок, хоть молока выпей. Кто его знает, как обернется?
— Моей, нашей крови он уже выпил,— проворчала мачеха.
— Манька, чего ты? Может, он и не виноват? Не ве-рится мне,— отец перестал есть.
— Ему не верится? А шапка?.. Нашли! А нас из-за него знаешь куда? Туда, где белые медведи пасутся.
Она, не оборачиваясь, плакала у окна.
— Белье я уложила,— проговорила сквозь слезы.
Юрко надел старый пиджачишко.
— Будешь без шапки, сынок. А то — бери мою?
— Не надо, тато.
— Бери узелок. Носил книжки, теперь неси узелок. Глянь, а пояс не взял.— И отец развязывал книжки.— Пуговицы хорошие? Штаны держатся, так, может, и не надо?
Они двинулись к выходу, мачеха отошла от окна. Она сразу стала другой. Схватила крынку с молоком, простоявшим до утра, забежала вперед и остановила их у порога:
— Выпей, Юра. Выпей,— просила она.
— Не хочется, мамо.
— А ты выпей и прости... Кто знает? Кто знает? — поднесла молоко.
Он коснулся губами кувшина, но пить не мог.
— Спасибо, мамо.
Она взяла кувшин и чмокнула Юрка в губы.
Шли быстро. Он впереди. Отец за ним, дышал горячо, жарко.
Спускались с Залужья. А от хаты к хате неслось: «Павло своего сына повел».
Дошли до сухой вербы, и Юрко остановился.
— Тут меня раздели.
— Шинель дал, сумку дал, шапку дал тебе. Все отдал, что с войны принес. Лучше б и не давал.
Юрко двинулся.
— Стой! — сказал отец.
132
Он глянул через плечо, остановился и обернулся. Перед ним стоял отец, верба с сухими прутиками.
— Ты провожал их к учительнице?
— Да что вы, тато!
— Говори, говори, иначе...— и не закончил. Внимательно, пронзительно смотрел, как подергивались губы сына, как набряк посиневший нос.
Юрко медленно и отрицательно повел головой в одну сторону, потом в другую. Ему хотелось сказать, как его избили, как он пострадал за него, за отца, как торопился домой, как свалился на постель... Но молчал...
— Я так и знал,— произнес отец, дохнул ему в лицо теплом. И тут же вспомнил: —А шапка? Ее же нашли у Матийко.
— Не знаю, тато.
— «Тато-тато»... Бандиты Матийко замучили! — Он пропустил сына вперед, говоря:—Ироды!..— А потом: под утро дождик прошел. Как раз бы в поле...
На улице ни души. Ясени, ясени. За молодым раскидистым дубом хата Новака. Дверь закрыта.
Перед сельсоветом два ястребка чистили винтовки.
В коридоре Цисарик попыхивал люлькой. Василь Кримчук о чем-то говорил с ним. Из кармана кителя белела записочка. Увидев Оранчуков, он вскочил в сельсовет. Цисарик сказал: «Помогай бог», но руки не подал ни отцу, ни ему.
Павло довел Юрка затоптанными ступеньками до обитых жестью дверей.
— Стучи!
Юрко постучал.
Из-за двери отозвались:
— Пожалуйста!
— Ступай, а я тут постою.
Его встретил Яровой. Сидел за столом в кубанке. Пальто на спинке кресла. На столе бумаги. Перед бумагами шапка.
— Твоя? — показал Яровой на шапку.
— Моя.
— Так. Ну, рассказывай.
Он молчал. И Яровой молчал. Выжидал. Полез рукой за кубанкой, будто хотел ее снять, но рука тяжело опустилась.
133
— В молчайку будем играть, что ли? Тут такой урок, Что за парту не сядешь: мол, я не выучил, меня не трогайте. Я уже допрашивал Кримчука, допрашивал Цисарика,— он постучал пальцем по бумагам.— Кое-что проясняется. Нос тебе нарочно расквасили, чтобы меньше подозрений? Или как? Разве ты не знаешь, что бандиты сделали с Людмилой Иосифовной? Она готовилась к урокам, вырезала буквы из картона. Выходило слово «Сталин». А они эти буквы у нее на спине вырезали.
Юрко закрыл глаза.
— Ты глаза не закрывай! Кто, реально, наводчик?
О чернильницу стукнулась ручка. Юрко раскрыл плаза, и ему показалось, что Яровой обмакнул ручку в его шапку и что-то пишет.
— Отправлю тебя, голубе, в район. Там разберутся. Кто выше, тому реальней видно.
Его посадили на воз, которым должны были везти в поле зерно. Новак кружил возле него. Двинулись. Он подал руку и, не отнимая, шагал рядом с телегой, провожая Юрка. Отвозил его в район Джедж, или, как его звали в селе, Усатый Сидор, бывший бандит, который вышел из леса с повинной и теперь служил школьным сторожем.
XIX
Джедж погонял:
— Вйо! Вйо! — ом помахивал кнутом, хитро посмеиваясь.
В прошлое отдалялось, уходило село. Звонили монастырские колокола.
Юрко вспоминал, как он, инок в рубище-подряснике, с полотенцем через плечо и белым эмалированным кувшином в руке, терпеливо ждал в передней выхода отца Иова. Волосы у Юрка подстриженные, словно у девочки, ровненькой челкой прикрывали лоб. Он смотрел на эмалированный таз-умывальник, на полочку, где лежало мыло, на зеркало, но не видел ни чистого таза, который сам вымыл, ни мыла, которое приготовил, вынув из мыльницы, ни себя в зеркале, которое отражало его. Подогретая вода в кувшине пахла ромашкой, пахло мыло. Маленькая передняя, где в одном углу образ, а в
134
другом умывальник, да у двери вешалка, была нВпоЛ* йена не запахом сырой кельи, лампадного масла, капающего воска, а чистой свежестью утра.
Инок-послушник давно проветрил прихожую, подлил в лампадку перед образом богоматери масла, и все это сегодня делал, делал, не замечая. Он был под впечатлением вчерашней вечерни. Даже не ее, не богослужения, а вечера.
Заходило солнце, зацепилось за колокол звонницы, не хотело заходить. Вся колокольня в бойницах. Круглые глубокие отверстия над колоколами и внизу под колоколами. Солнечные лучи густыми снопами лились в эти проемы, и ему казалось, что светит не солнце, а эти старые бойницы. Загудел благовест, а бойницы немо и темно глядели с высоты.
И потом, когда гнусавыми голосами правили акафист, когда дьякон, осеняя себя крестным знамением, неистово и тупо ревел так, что даже свечки гасли, он, ссутулившийся в стихаре, будто чучело, забыл, что нужно молиться, что он в монастырском причете, старшие монахи острыми локтями толкали его под бока, чтобы не спал, не зевал, а, как положено, нес свечку, брал кадильницу.
Юрку все чудился вечер, заходящее солнце, малиновая колокольня, и его заполнило острое ощущение своей непричастности, полной бесполезности того, что он выполняет тут, в храме, где в сумерках полыхали свечи, где в алтаре громко и резко затягивал отец Иов — и откликался, сотрясая воздух, орущий до хрипоты хор, так, как будто бы все, кто пришел, чего-то искали, но не могли найти и напрасно зажгли столько свечей.
Лишь на какую-то минуту Юрко будто проснулся. Открылись царские врата, он вышел из боковых дверей, неся свечу в подсвечнике. Справа, где толпятся женщины, он увидел перед собой чьи-то глаза, которые поразили его чистотой и ясностью. Он наивно подумал: «Может быть, я здесь из-за этих глаз...» И смотрел на них.
— Свет тихий, свет вечерний...— запел хор.
И сейчас, много лет спустя, Юрко помнил, что тогда, на другой день, в передней настоятеля, которому он прислуживал, представлялась ему эта вечерня.
Зазвонил утренний благовест. Его величавое гудение
135
мгновенно воссоздало сияющий образ — ряды бойниц В малиновом зареве.
В груди зарождались звуки — соединение звона и молчания круглых бойниц. Он слышал эти звуки: так билось сердце.
Откинулись тяжелые шторы, вышел отец Иов. Лысый, желтый, морщинистый череп, на нем пепельные около ушей и на затылке волоски. В сорочке и подштанниках. Рукава закатаны, ворот сорочки загнут внутрь, грудь голая. Густые седые волосы на руках, еще гуще седовато-черные на груди. Мохнатый, насквозь пропитанный едким, жирным и липким потом, будто настоянным на нем, как на перваче, в который подмешан табак. В передней перестало пахнуть ромашкой, мылом, свежим утром. Настоятель почесал себя под мышкой. Длинные желтые пальцы, хрустя, погружались в заросли на груди. Он зевнул: густые брови полезли на лоб, подстриженная борода вниз.
Губы зашамкали:
— Рот пустой. Зубы... принеси!
Юрко пошел в спальню и вынес в хрустальном бокале, похожем на чашу, золотые зубы. Поставил на полочку. Два протеза из червонного золота лежали подковами. Зубы отражались в гранях хрусталя и, казалось, кровоточили.
Отец Иов подставил чашку, и послушник налил воды на ромашку. Набрав ее в рот, настоятель закинул голову. Захаркал, забулькал. Шамкая от удовольствия, промывал рот, горло, наслаждался.
Выспавшись, он любил умываться: вода — здоровьечко!
Прицелился одним глазом, прищурил его и показал рукой:
— Полотенце!
Послушник снял со своего плеча полотенце, выстиранное, выглаженное, как снимал каждое утро, и подал. Отец Иов дернул его, конец полотенца потонул в грязном тазу. Настоятель хотел раскричаться: глаза выпучил, борода затряслась.
— Тьфу! — плюнул он на послушника и стал вытираться.
Щеки его порозовели. Глаза повеселели.
136
Вытерся под мышками одеколоном, протер одеколоном грудь, прополоскал протезы и, вставив их в рот, произнес:
— На колени, сопляк! Без завтрака и без обеда. Тут! — он показал послушнику угол перед образом богоматери и двинулся за шторы.
— Слушаюсь, святой отец.
Он вынес таз, вымыл тряпкой пол, подмел переднюю веником и покорно стал на колени.
Лампада тлела, и глядела на него божья матерь, держа своего сына на руках.
Вошел кто-то из монахов. Не обратил внимания на то, что хлопец стоит на коленях: вещь обычная, будничная.
Юрко знал: настоятель, перед тем как идти в трапезную, выпивает чашу вина. Его порция. Он пьет причмокивая, растягивая удовольствие, и в это время никто не смеет его беспокоить. Что же произошло?
Штора — не двери, и он слышал, там переговаривались: пришел Сергей, пускать его? Отец Иов дал согласие.
И тот, кого звали Сергеем, не задержался в передней. Мигом проскользнул. Послушник даже не заметил, каков он собой.
Юрко стоял на коленях, набожно сложив руки. Пропало, развеялось ощущение малинового звона, тихого вечернего света, с которым он заснул и проснулся. Он не только всеми покинут, но и отвергнут.
За шторой обнялись и поцеловались. Слышалось чмоканье губ и похлопывание по плечам. Юрко застеснялся. Стало досадно и тягостно. А от того, что он услышал через минуту, вспыхнул, ничего не понимая и не веря своим ушам.
— Батько, я заскочил попрощаться. Такси у ворот. Гнал — почти всю ночь из Львова, немного потратился.
— Пустяки, Сергей.
— Моя дорога дальняя. Захотелось увидеться. Наступает время...
— Выпьем вина. Или ты и теперь в рот не берешь?
Юрко стоял на коленях. Ему было безразлично: пьет или не пьет гость вина. Но разве отец Иов мог быть женатым? Разве ему, в его саме можно иметь сына?
137
Зачем настоятель поставил его на колени? Чтобы он слышал, кто первый богохульник в этой обители, во всем мире?
И послушник думал: «Он поставил меня и забыл обо мне, как забыл однажды про свои зубы. Старый. Но какой святотатец. Он и умывается потому так страшно, что сам первый грешник. Этот Сергей, наверное, незаконнорожденный, байстрюк!
Встать с колен и убежать?»
— Матерь божия, матерь божия,— зашептал он.— Я грешу, потому что подслушиваю, я буду грешен, если ослушаюсь, я ведь должен стоять здесь без завтрака и без обеда...
Юрко простер вверх руки, ждал чуда. Богоматерь молчала. Тускло светила лампадка.
Он слышал не все, о чем говорилось за шторой, но даже из того, что слышал, не все мог понять: сын едет, пришел к отцу.
— Старик, может, хотя бы теперь скажешь, кто же она, моя мать? Официально у меня нет матери.
— Отца тоже. О том, что я твой отец, никто в монастыре не знает. Чего ты добиваешься, Сергей?
— Старик, откройся! Ну, подкинули меня под монастырь, ты отдал в приют на монастырский счет, хотел сделать из меня свое подобие, возможно, наследника. Но я пошел своей дорогой. Однако же кто она — мать?
— Нет, и не проси. Это великая тайна...
Разговор затянулся. В чем-то они оба были очень уверены, чего-то опасались, переходили на полушепот, будто бы страшась самих себя.
— Жалею, Сергей, что ты погряз в мирском. Вера — над народами и над державами возвышается.
— Кто с крестом, а кто с мечом, лишь бы на щите. Не так ли, старый греховодник?
— Я царя пережил, первого маршала, а всяких атаманов... имя им легион... Исчезают народы, рушатся империи, феодализм сменяется капитализмом,— все это Вавилон, великий грешник, а религия, Сергей, стоит. Не пугай отца, называя его греховодником. Не богохульствуй. Аз есмь пастырь стада и мужчина во плоти грешный.
Чтобы не слышать их, Юрко заткнул уши пальцами. Стоял на коленях, держа пальцы в ущах. «Теперь,— 138
думал он,— я совсем безгрешный. А о том, что я услышал, буду молчать, будто камень. Когда выйдет отец Иов, увидит, что я стою на коленях, как мне приказано, и что я закрыл уши пальцами, то и он осудить меня не сможет».
Шторы раздвинулись с шумом, послышались шаги, одного — стремительные, легкие, другого — тяжелые, ползущие.
— Ты здесь? — спросил настоятель послушника, не сказав больше ни слова.
Скрипнули двери в коридор.
Инок поневоле оглянулся, увидел ноги в высоких, до колен, блестящих сапогах и ноги — из-под рясы.
В коридоре постепенно удалялись шаги: наступила тишина.
Юрко вынул пальцы из ушей, сложил руки и думал: «Отец Иов вернется, я — снова заткну пальцами уши, если спросит, почему я так сделал, я признаюсь».
— Прочь! Вон, сатана, отсюда! — закричал он.
Послушник еще стоял на коленях, отец Иов подошел и поднял его за шиворот.
— Вон! Прочь!..
Юрку казалось, что настоятель вытряс его из своего длинного широкого рукава.
— Сгинь! Рассыпься прахом!
Он побежал по длинному коридору с маленькими окнами под низкими сводчатыми овалами. Пылинка, которую несло словно ветром. И эта пылинка думала: «Отец не простит мне, ни за что не простит, сотрет с лица земли».
Выбежал на подворье, каменное и глухое. Побежал возле церкви, которая стояла посередине. Выскочил из ворот-звонницы.
За ним никто не гнался, и никто его не звал, а он бежал и бежал мощеной улицей, подхватив полы рубища-подрясника .
— Ченчик ’-бренчик, ты куда?
Испугался и потому остановился. А ему казалось, что он все бежит, бежит — даже ветер гудел в ушах.
— Сам не знаю...
1 Ченчик — монашек.
139
На тропинке под дубом стоял с палкой-топориком черноусый Новак.
— Если не знаешь, то надо остановиться и подумать, а потом уже бежать, ченчик-бренчик.
Алексей Вавилович ввел хлопчика в свою хату.
Отзвенели монастырские колокола, со скрипом двигалась телега, а Юрко думал, как тяжело ему оторваться даже от далекого прошлого.
XX
Она вязала воротник для свитера. Спицы блестели в пальцах. Черный и белый клубочки шерсти лежали в решете под столом. Она сидела на краю кровати около спинки. Тянулись две нитки, свиваясь в ладони, текли меж гладенькими длинными пальцами; на заостренной скользкой спице нанизывалась петля за петлей — ряд за рядом.
Свитер из грубой шерсти, почти готовый, расправлен на взбитых подушках. Словно бы это не свитер, а кто-то раскинул руки и спит.
Когда в боковое окно заглянул последний предвечерний лучик, чтобы тут же погаснуть, она подняла усталые глаза, и они заискрились синевой. Впервые за третий день в этой хате.
Она, казалось, видела, что кто-то лежит на подушке. А может, ей представился тот, кого хотела бы увидеть? Нет. Что-то вспомнила?
Заглянул солнечный лучик и погас. Быстрее спички. Давно, еще девочкой, она приметила, как влетает в верхнее стеклышко окна в горнице взблеск вечернего солнца. Тогда был точно такой, как и теперь: мелькнувший зайчик.
В короткой рубашонке, которая стояла коробом, прокрадывалась она в горницу, куда ее не пускали, ибо пол вымыт, и ждала: влетит лучик в окно или нет? Дождавшись, когда он сверкнет, захлопала в ладоши, хваталась за нитку, к которой привязана пустая жестянка — ее воз-самокат — баночка из-под ваксы; воз-самокат тарахтел, и она с криком вылетала из хаты, оставляя раскрытые двери, не боясь, что наследила на полу.
— Девка шумная, вот беда! — говорила мать.
140
— Тихая тоже плохо,— отвечал отец.
Соломия вспоминала: если не дождется, не чиркнет в окне, не влетит в хату красный зайчик, она отрывала жестянку, швыряла ее под кровать, а ниточку рвала на кусочки, бросала на пол и топтала ногами. Ляп-ляп—• следы грязных ног. Потом рвала ниточку и снова затаптывала. И не плакала. Глаза искрились, будто лучи заходящего солнца в окне. Мать выводила ее из горницы за ухо:
— Шлепков захотелось? — и ладонью: шлеп-шлеп!
Отец смеялся.
Запомнила тяжелую ладонь матери. Веселый отцовский смех. Отец ее никогда не бил.
Спицы ходили в пальцах: петля за петлей, ряд за рядом. Смотрела, устремив синие глаза на белую и черную нитку. Смуглая,,а водосы белокурые.
И света не нужно ей, довяжет даже на ощупь.
Мать вошла из сеней, а не из кухни.
— Отец в конюшне. Убил коней. Днюет и ночует в яслях. Третий день не ест и не пьет. Жеребенок около него. Хоть бы ты ему что-нибудь сказала! — скорбно просила мать.
Соломия только глазами блеснула. И отступила от порога.
— И за что мне такая кара? И ты, господи боже, и вы, все святые угодники!..— Дверь закрылась без скрипа, плач послышался из сеней, потом — из кухни.
Казалось, нитки вплетали в себя ее пальцы, клубочки в решете под столом подскакивали, как мячики.
Соломия пришла за конями. С поля — от деда Порфирия и от бабки Текли. Она была зла на отца, не хотела с ним говорить, не хотела его видеть. Он и сам не шел в хату, не показывался. Она начала вязать свитер. Думала про отца, и ее лихорадило: он наш враг, он — за Советы. Любила ли она его когда-нибудь?
Родная дочка, родная кровинка, думала о нем как о нищем батраке, зло, издевательски.
А Оксент лежал в яслях. Ясли глубокие, выдолбленные из липового бревна. Сам привез из Верхова, высушил и сам выдолбил. Из них коням хорошо есть, удобно, а если бы захотели грызть дерево, не покалечатся: шляпки гвоздей подогнаны вплотную друг к другу. Молодые кони точат свои зубы, грызут дерево. Чтобы они не тро-
U1
гали ясель, выводил их и привязывал к осине. Грызли вдоволь. Старые ясли как лодка, хоть пускай на воду.
В конюшню заходила Варька, что-то говорила, он не слышал ее. Когда вернулся от Евки, не вошел в хату, пошел в конюшню. Свалился в ясли. Ему все представлялось, как он тянул Серого в яблоках и Карого со звездочкой в яму, из которой вытащили мешки с зерном. Как засыпал комьями. Ему мерещилось: тесть, Джедж, ели, и он думал: «Самому бы нужно в яму, вместе с конями... Я лег бы, но кто же нас засыплет? Кто?..»
Варька не давала ему покоя, несла свиньям, подошла и стала трясти-за плечо. Он спал.
— Ты что, очумел? Дурень ты, Оксент. Поубивал коней, закопал, не ободрав шкуры. Вспомню — жалость берет. Жалко коней больше, чем себя. Сами сгубили. Хорошо сделал, что «бабой» их. Но почему же не ободрать?— А о том, что приходили ее отец с Джеджем, не сказала ни слова.
«Может быть, Варька и не знает,— думал Оксент.— Пусть не знает, он не рассказывал ей о том, что было в саду, как он полз, чтобы предупредить Кулишенко. Только бы Евка молчала. Пусть этого никто не знает».
— Вставай, Оксент,— просила Варька.
— Хочешь, я встану.
— Так вставай, ради бога, вставай! Откопаем коней, пока не поздно, снимем шкуры. Такие две шкуры. Обработаем, так хоть кожа будет. Глянь на мои сапоги,— она поставила порыжевший стоптанный сапог на ясли, ему под нос.
Посмотрел на сапог.
— Еще можно ходить,— буркнул он.— Но если ты хочешь, я встану.
— Пришел в себя, образумился?.. Дочка в хате сидит, как немая, слова от нее не добьешься, ты — в яслях, а мне — хоть живьем в землю ложись,— причитала Варька.— Лопаты наготове, хочешь я ножи поточу.
Оксент поднял голову, ухватился за край ясель и сел:
— Подожди, Варька. Я раскопаю коней, достану их. Ты что хочешь, то с ними и делай. Хочешь — снимай 142
шкуры, хочешь — поруби и посоли, только у меня одна просьба.
— Вставай, дурень! Время теряем!
— Нет! Подожди, Варька: ты ударишь меня «бабою» по голове, как я коней бил, и столкнешь в яму. Да и не надо сталкивать. Я стану на край и сам упаду. Если боишься, то я живым лягу, а ты облупленных коней на меня — и засыпай живьем. Сделаешь так — я встаю. Это моя единственная просьба.
Варька закричала:
— Господи! С ума сошел! Совсем свихнулся! — И, закрыв глаза ладонями, побежала из конюшни. Загрохотал и покатился с порога сбитый ногой казанок.
Оксент оскалил зубы, смеялся безмолвно и хищно. Шрам синел на губе, разъезжаясь по всему его заросшему лицу.
Больше Варька в конюшню не приходила. И никто его не беспокоил. Побродив по подворью, заходил Бу-ланчик. Оксент давал ему палец, подставлял всю руку, и Буланчик выбирал тот палец, который хотел. Жеребенок, поОосав один, брался за другой.
Буланчику не спалось ночью. Конюшня просторная, гуляй себе. Он срывался, прядал ушами, и Оксент звал его к себе:
— Иди, иди, маленький, я тебе свой мизинец дам. Больше ничего у меня нет. Был бы женщиной, грудь бы тебе подставил. Иди, не бойся. Тебя пугает пустота, а я ничего не боюсь. Теперь у меня страха нет.
Буланчик не хотел больше сосать его палец, ложился около желоба. Оксент слышал его легкое дыхание, представлял, как шевелятся, раздуваясь, мягкие ноздри, и не мог закрыть глаза.
Мысли, которых боялся, которые грызли и мучили его совесть, пришли сами. Даже не мысли, какое-то слово, какой-то образ, и он долго останавливался на этом слове, зацепившись за него, словно за кол, не имея сил прогнать, забыться, избавиться! Кони! Не в них ли он вложил всего себя — всю свою жизнь? Их нет, а он еще жив. На лошадях жизнь не остановилась и не остановится. Как же тогда? Как же? Во что же еще он себя вкладывал? В землю. Земля всех перестоит. Его или не его, она — святая. И он, даже погибнув, будет жить в ней, как и те, кого знает и не знает.
143
А в ком он хотел бы жить, когда час настанет для его грешной души?
В Варьке? Это отжилось. Сучились постромки, были натянуты как струна; теперь рассучились, раскрутились, размякли, остались одни клочья.
В Соломии?
В елях? В голосах птиц, вьющих там гнезда?
Он думал о ней — о дочке. Ему тесно в яслях, и тесно мыслям. Когда она успела вырасти? Когда стала ему чужой?
Сколько помнит, после того как выделился от Дов-беняков, в его хате не бывало политики. Хлеб на столе— вот и вся дума.
Буланчик спал, а он нет. И стало обидно, что жеребенок спит, а он не может заснуть. А что, если и Булан-чика «бабой»? Впрочем, для него «бабы» не нужно. Достаточно кулака... Нет, он не возьмет на себя такого греха. Это такой грех — что и земля его потом не примет.
Хлеб на столе — жизнь.
Ему вспомнилось: стояли копны, перекладывал их на телегу, •возил. Подставлял плечи под телегу, удерживал, чтобы колеса не поломались.
Работа кипела. Работа требовала — нанимал людей. Косари так косари, молотильщики так молотильщики. И молодая Евка, и старая Мокрина...
«Я никого не могу упрекнуть... А они меня?
Они производили не только хлеб, но и думали...
Я же сам был батраком, знаю. Я не заискивал перед тестем и тещей.
Тянул из себя жилы и тянул из других. Кто забудет об этом? Кто?..
Тесть и Джедж думали, что я с ними заодно. Нет, не дождаться им, чтобы я замахнулся на жизнь Кулишенко. Я — не зверь. «Кровью около нас и не запахнет»,— вспоминались ему слова Довбеняка... А чем же? Чем?..
Мне крепко намяли бока. Ничего, я отлежусь. Но зато Кулишенко жив...»
Бессонница одолевала Оксента. Некого ему поедом есть. Потому и грызет самого себя.
Ему становилось легче, когда он думал, что Кулишенко жив. Но в сознании всплыло слово — «связная бандитского подполья». И почувствовал он такую острую боль, потому что это слово означало; Соломин.
144
Когда-то, во время войны, он радовался, что у него дочка, а не сын. Какой ни на есть зять найдется, лишь бы с руками, ногами: безрукий еще ничего, безногий — хуже. В поле совсем тяжело работать. Впрочем, ничего, безрукие привязывают косу к шее; безногие — за плугом на деревяшке, на передовую не погонят, ходит за плугом, а с должности мужика — никто не снимет.
Посылал дочку в школу, потому что сам был как пень.
И вспоминалось давнее:
— Татку, то не солнце ходит, то земля вокруг него вращается. И наша хата.
— Гей-гей, как же та хата еще не завалилась...
«Связная» — «штахетка».
Это слово он услышал от Варьки.
— Ты на фронт, а они пришли...
— Жердинкой бы их!—прорычал он.
— Говорили про Америку.
— А ты поверила? Глупая баба: Америка давно открыта. Мои братья, мои сестры поплыли туда. И косточек не соберешь.
— Боялась я их. Автоматы, бомбы. А когда пришел он — комендант, вызвал Соломию в сад...
— И ты ее пустила?.. Выкопали схрон — могилу себе выкопали.
— Оксент, лучше молчи. Конопляный галстучек — и конец.
А когда Варька сказала ему, что Соломия — связная банды, Оксент онемел. Опутали по рукам и по ногам. «Идти к Кулишенко, идти к Яровому — заберут дочку, а мне крышка. Там печет, здесь холодно — туда не вскочить, отсюда не выскочить».
И он вскочил. Куда? В конюшню, в ясли.
Но еще жила надежда, как у той улитки, что несет на себе свою раковину и прячется в нее.
Соломия ходила на связь каждую субботу.
Яровой сам заметил или кто-то ему донес.
Он, Оксент, отослал Соломию в поле — к деду и бабке. Может, там пересидит. Может, о ней забудут? Может быть, никто ее не найдет?
Он пытался с ней говорить. А она — как нож.
— Что же будет, дочка?
— А разце д об этом вас спрашиваю, отец?
145
Он радовался, что она пошла на поле, послушалась...
Соломия довязала в сумерках воротник. Отец? Только сейчас она догадалась, почему он выпихнул ее на поле. Чтоб пересидела... А она и оттуда ходила на связь... В монастырь и в Верхов. Не могла добраться до схрона: лесовывозка мешала. Сергей сам ее нашел у Довбеняков. Отец погубил коней... Думает ли он о том, что делает?
Она оборвала нитку, кинула спицы и нитки под стол, не задумываясь, попадут ли они в решето.
Положила воротник в свитер, свернула. Накинула кожушок — свитер под мышку,— вышла на кухню.
Мать не зажигала света. Клокотало в казане, варилась картошка. В открытых дверцах шумело пламя. Мать сидела на скамеечке. Над ее головой клубился пар.
— Я иду, мама.
— Довязала свитер и иди. На селе такое творится.
— Что?
— Была засада на Кулишенко, но люди отогнали. А учительницу... боюсь и вымолвить, что с ней сделали. А я ее помню, в прошлом году насчет займа к нам приходила. Молодая, веселая и такая говорливая. Разве ты ее не знаешь? Говорила: «Не хотите быть голыми, не скупитесь никогда». Вот уж ее матушка наплачется где-то.
— Еще что?
— Юру Оранчука, что по тебе вздыхал, повезли в район. Толкуют, будто был наводчиком. А его самого хлопцы раздели, ободрали, как липку.
— Отец на конюшне?
— Там.
Она сказала, чтобы мать уменьшила огонь. И почему-то нерешительно, будто ей не хотелось покидать хату, направилась к выходу. А взялась за щеколду — и не могла остановиться. Но то, что мать сказала ей: «иди», будто выпроваживая, выгоняя, и то, что не было на чем ехать, а ведь она рассчитывала ехать лошадьми, которых уже нет, выталкивало ее из дому. Она прижала свитер под мышкой.
Жеребенок блуждал по подворью. Конюшня открыта. Темно, за раскрытыми дверями еще темнее. Буланчик обнюхивал Рекса, а Рекс лизал ему губу.
146
Хотела выпалить отцу все, что знает. Эти дни все кипело в ней, и она думала: перекипит, остынет. Отец все-таки. Не перекипело, не улеглось. Она пошатнулась на высоких ногах.
А до яслей не дошла, остановилась посреди конюшни:
— Татку, что же тебе Левко Кулишенко сказал?—-«Татку», как привыкла сызмальства, а сейчас это прозвучало насмешкой, издевательством.
В яслях заворошилось, зашуршало. Оксент не поднялся.
— Ты, дочка? Что же мог сказать Левко? На его месте я бы то же самое сказал.
— А что же, таточку?
— Он сказал: на мыло ваши кони, дядько, не нужны. Обойдемся. Это же при немцах вы сами варили мыло, а грязи в ваших душах столько, что и до сих пор отмыть вас не можем.
— Умный Левко. Около родника мы едва с ним не встретились, туман меня закрыл... А что же мне, таточку, мои друзья из-за вас скажут?
— Они приходили. Видишь, ты тоже пришла. От них я откупился самогонкой, а от тебя ничем не могу. Разве своей жизнью?
И тогда она начала, вне себя от злобы и гнева:
— Лучше бы вас, таточко, на свете не было. И коней побили, и зерно откопали, и сами подыхаете...
— Подожди, подожди, как ты сказала?
Они не видели друг друга в сплошной темноте.
В пустой конюшне раздавались их голоса:
— Я хотел быть честным, хотя не всегда был таким, но тебя учил...
— Ваша честность — сидеть потихоньку в яслях. Мол, я никого не трогаю, каждому уступаю дорогу, со всеми согласен, с любой мыслью, которую мне подкинут.
Оксент хотел подняться, но дочь уже выбежала из конюшни.
За селом, в поле ее обжег стыд: как зло разговаривала она с отцом.
«Разве он враг мне? — грызло ее сомнение.— Вернуться? Поговорить с ним?» — и шла дальше полем.
147
Хутор Довбеняков затерян в дальних полях. Она осторожно приблизилась к нему.
Дед Порфирий стоял у ворот. Замерз, ожидая.
— Люди научились говорить добрый день, добрый вечер, пожелать доброй ночи. А как с тобой здороваться, не знаю. Не слышал, чтобы говорила: доброй ночи. Сроду не слышал.
— Кто есть?
— Ступай, увидишь. А как там батько?
— Лежит в яслях.
— И пусть лежит,— довольно буркнул Порфирий.
Чем доволен дед, Соломия не могла понять.
Бабушка дремала в боковушке. Дремала, а ухом — к дверям.
В хате Сергей распекал бандита за Юрка. Любой ценой нужно было сделать так, чтобы он сам повел вас к учительнице. Так предусматривалось планом. Как бы хлопец ни упрямился, однако все обернулось к лучшему. Шапка выдала его с головой. Пускай попробует большевистскую баланду. Его дядька дает о себе знать из-за рубежа: хлопец нужный. Содрали шапку, подкинули. Это хорошо. А зачем вы взяли шинель, сумку? Ночью отнести и отдать Оранчукам!
Соломия с Турчиным неделю не виделись. Его где-то носило, искал таких, как он, организовывал и учинял нападения, а она то крадучись прибежит на хутор, то обратно украдкой в село.
Когда бандит вышел, Сергей подошел к ней.
— Где же лошадки? — спросил он ехидно, язвительно.
Соломия почувствовала эту издевку не только в его интонации: он стоял, глядя на нее исподлобья — снизу вверх, презрительно, будто она провинилась перед ним.
— Ты уже знаешь? — вырвалось у нее, и она подумала, как страшен его взгляд. Похолодело в груди, под сердцем. Сейчас ей было не до коней.
— Я все знаю! — крикнул раздраженно и злобно Турчин.
— Не все, Сергей...
Она не успела сказать, чего он не знает, Турчин занес над ней руку для удара.
Она не уклонилась.
— Сергей, у меня будет ребенок. Матери и отцу я не
148
призналась... А ты — бить? — И бросила ему в лицо свитер. Выпал непришитый ворот, зацепился на его плече, а свитер свалился к ногам.
Турчин застыл с поднятой рукой: Соломия была первой, которую он, замахнувшись, не посмел ударить.
— Не скули.
— Сам дал мне псевдоним «Чайка».
— Твой отец сволочь и советский пособник!
— Он мой отец, и я люблю его.
Рука Турчина нависла над ней.
XXI
Старший толок в ведре картошку. Обеими руками поднимал толкач и опускал его одновременно со своим чубчиком. Младший качал колыбель. Он сидел на застланной кровати и тянул люльку к себе за веревочку. Из кровати торчала слежавшаяся солома, рядно скрутилось, в засаленной наволочке — смятая, будто взбитая кулаками, подушка. Он отпускал веревочку, и колыбель, сплетенная из лозы, похожая на корзину, в которой носят картошку, качалась до окошка и обратно.
Стучал толкач, скрипела колыбель. Нечуйвитренки. — Здравствуйте...
Старший опустил толкач, а младший медленно останавливал колыбель.
— Добрый день,— ответил старший и прижал толкач к груди.
— А где ваша мама?
С толкачом в руках малыш внимательно поглядывал на незнакомую тетку в красной мохнатой шапочке и в пальто.
— Прокопка, перестань качать, ничего не слышно.
Прокопка сказал:
— Тр-р-р...— Он сдерживал веревочку, а колыбель тянула его с кровати. Потом остановил, громко потянул носом воздух и сказал:—Тетя, наша мама была на похоронах, хотела нас взять, но мы уже видели, как нашего отца хоронили,— бойко говорил малыш.— Вернулась мама — за корову и в поле пахать. А нам в поле нельзя...
— Прокопка! — укорял его старший.
149
А он продолжал, словно радуясь возможности поговорить:
— Никак не можем в поле, тетечка. Первое — мы босые, а еще холодно. Второе — работу делаем. Гнат — для кур картошку толчет, с половой перемешивает. Если бы вы знали, какие они, эти куры, обжоры! А я колыбельку качаю, а Мася еще ничего делать не умеет, пускает пузыри и орет, отдыха нам с Гнатом нету. Работы! Хата не метена, вы уж простите. Обед сварим, тогда подметем. Надо нам управиться, мать с поля голодная придет. А корова молока не даст. Я знаю почему: потому что плугом пашет.
— Прокопка! —прикрикнул на него Гнат.
Он и ухом не повел. Сам замолчал — не о чем было больше говорить, все рассказал.
И скрипел, под потолком крюк, хотя колыбель не качалась.
Хата около плотины, окна маленькие. Двойные и затененные, скупо пропускали дневной свет. Солнце заглядывало в них на рассвете, будило, чтобы Нечуй-витры долго не спали.
Потом солнце обходило землю, а окна жили без него. Белый день сторонился хаты, ее стен в подтеках, темных, сырых углов. Он был на дворе.
Шитик стояла у порога. Ей всегда казалось: войдешь в чужую хату — остановишься на пороге чужой судьбы. Не могла не зайти к Нечуйвитрам. Разве не для того она поставлена, чтобы не только увидеть их беды-хлопоты, оказывать поддержку, но и проникнуться их настроением, болеть их горестями, помогать? Отца этих детей убили бандиты. К кому же идти ей, если не к ним?
Хата будто человеческая душа.
Здесь — ведро, колыбель, дети.
Хлопцы темно-русые, но от скупого света головы их кажутся пепельными. Мальчики — в Евку. Встретилась с ней в исполкоме. Кулишенко просил оказать единовременную помощь вдове. Выдали. Но разве этими деньгами заменишь кормильца?
Встретились с Евкой и на похоронах Людмилы Матийко. Но она быстро ушла. Теперь — уже в поле.
— Гнат, сколько же тебе?
Он отбросил чуб, нависавший на глаза:
150
— Шесть исполнилось,— сказал он и взялся за толкач. Гуп-гуп...
— Тетя, а почему вы меня не спрашиваете? — заговорил снова Прокопка.— Мне уже пятый идет. Я догоняю Гната.
— Не догонишь...— Гнат продолжал толочь в ведре. И серьезно, важно, как старший и как человек в работе, начал: — Вы, тетя, так себе вошли, или вам наша мама нужна, или, может, мы ее заменим? Вы, кажется, еще никогда не были в нашей хате, или я этого не знаю?
Прокопка сидел на кровати и внимательно ловил каждое слово брата, устремив на него серые глаза.
— А я вашу маму знаю. И вас я знаю,— проговорила Шитик и положила на лавку около ведра тугой пакет, обернутый полотном. Она подошла к Гнату, чтобы погладить его по голове.— Славный ты хлопец, в отца...
Дверь открылась, и вошел Кулишенко:
— Я же сказал, что Евку не застанем.— И добавил шутя: — Я свои кадры знаю.— И к мальчикам: — Здравствуйте, кадры будущего.
— Почему же будущего, Левко Архипович? Они и сейчас — каждый свое дело знает,— Шитик кивнула на Прокопку, на Гната.
Завозилась, закричала Маська в колыбели.
— И эта тоже свое дело знает,— сказал Кулишенко.— Ты гляди, каким голосом хлопцев приманивает. Покачай ее, Прокоп, только смотри не упусти колыбель, а то еще убежит.
Прокопка отпустил веревочку, колыбель качнулась.
— Гостья в вашей хате, а вы, озорники, даже не усадили ее. Я свой, могу и постоять.
Гнат застеснялся.
Прокопка то отпускал, то тянул веревочку и будто напевал:
— А может, им нравится стоять, они нам не сказали, что хотят сесть, а мы спросить стесняемся.
— А вы зарубите себе на носу: как только кто-нибудь чужой войдет в хату, сразу надо сказать: пожалуйста, садитесь, дядя, пожалуйста, садитесь, тетя.
Хлопцы кивнули головами.
=— Вы знаете, кто К вам зашел? — продолжал Кули-
151
шенко, глядя на Гната и Прокопку.— Эта тетя издалека, из района.
Гнат на это ответил:
— Мы только знаем, дядько, что вы наш председатель.— И добавил, застеснявшись: — Пожалуйста, садитесь, дядько, и вы, тетенька...
Маська перестала хныкать, и Прокопка остановил колыбель.
— Спасибо, хлопцы-молодцы. Быстро науку схватываете. В другой раз, добрым часом, и посидим. А сейчас у нас времени нет. Растите большими, Нечуйвит-ренки! Поехали, товарищ секретарь.
Кулишенко направился к двери, а Прокопка сказал:
— О, вы уже собираетесь уходить? А я так хотел, чтобы тетя меня погладили. Я не отклонил бы головы, как Гнат. От нее чем-то хорошо пахнет,— и мальчик наклонил голову, как бы прося ласки.
Шитик погладила его, заглянула в колыбель: Маська чмокала соску.
А Прокопка не поднимал склоненной головы, просил:
— Дядько, погладьте и вы, мне расти хочется.
«Без отца»,— подумал Кулишенко, вернулся с порога, погладил, поцеловал хлопчика в голову, еще раз погладил. И пошел, будто оторвался, быстро, стремительно.
— Титко, гей! — крикнул и вскочил, будто ошпаренный, Гнат. Бросив толкач и ведро, схватил с лавки пакет, догнал Шитик в сенях: — Вы что-то забыли, возьмите!
Она ласково ответила:
— Хлопчик, это я вам гостинца принесла. Конфет нету, шоколада нету. Что было, то и принесла.
Соскочив с кровати, подбежал Прокопка и стоял, выглядывая из-за плеча Гната.
— Что за гостья без гостинца, правда? Положите, хлопчики: тут набор на сапоги, отрез. Они понадобятся. Придет мама — вот увидите.
— Нет, тетя, нет,— настаивал и качал головой Гнат, отдавая подарок.— Наша мама еще побьют нас.
— И побьют-таки щеткой,— нараспев говорил Прокопка.— Я принес от соседа горбушку, а мама меня— -152
шлеп за то, что по соседям шныряю, что в руки Заглядываю.
— Наша мама приказывают нам,— продолжал Гнат,— чтобы мы, тетенька, ни у кого ничего не просили, чтобы не уставлялись глазами, не разевали ртов. Она говорит: вы хоть и сироты, но не старики и не нищие с большой дороги. Вы, тетенька, не сердитесь на нас, а таки... Ой, дядько Левко, какое это слово вы сказали перед тем, как надо просить, чтоб садились. Я запоминал, запоминал, а оно у меня выскочило из головы...
— Надо сказать: пожалуйста,— напомнил брату Прокопка, потому что Кулишенко молчал, переминаясь с ноги на ногу.
И Гнат ухватился за это слово:
— Пожалуйста, пожалуйста, заберите, тетечка. Кулишенко взял пакет.
— Кыш, гордецы,— напустился он на них.— Маська плачет, зовет вас.
Хлопцы исчезли из сеней и глядели через окно, как дядько Левко и тетя в красной шапочке пошли тропинкой на улицу. К ним привязался надоедливый петух. Дядько Левко топнул на него, петух остановился и закукарекал, а тетя засмеялась. На улице стояла подвода.
Две детских головки в маленьком окне...
Лошади тронулись.
— Район перевыполнил план по лесу, дали мне премию,— объясняла Шитик, держа пакет.— Может, вы, Левко Архипович, передадите Нечуйвитрихе? Трудно ей, а хлопчики мне нравятся. Повидала я их и свое детство вспомнила... Как вы сказали? Гордецы... Так передадите?
— Для Евки это будет настоящая радость.
Ехали, и он показал ей свою хату, тополек около нее.
— Хорошее дерево,— сказала она.
— Без меня посажен, а как вырос!
Дарья Кирилловна, глядя на хату Кулишенко, на ее замшелую крышу, маленькое подворье и огородик, сказала:
— Вот где, Левко Архипович, бандиты собирались
153
вам укоротить век. Бедняк всегда стоял богачу поперек горла.
— Бедняки живучей. Их больше,— отозвался Кулишенко. Помолчал и добавил: — Себя мне не жалко. Жаль Матийко. Девушку жаль, Дарья Кирилловна. Золотая девушка, а мы не уберегли ее. Нынешние похороны для меня — нож в сердце.
— А мне? — отозвалась секретарь райкома.— Никому не легко. Помните, я как-то шутя заикнулась: мол, не села бы Люда на коня? А она на комсомольский пленум верхом приехала... А теперь и нет ее... Тут словами не поможешь. Все слова бледнеют. Нужны решительные действия, решительные люди. Кто их возглавит? — И Шитик сказала твердо: — Партийная организация. Партгруппа в вашем селе слишком мала. Нужно готовить людей в партию. Разумеется, райком сделает все, чтобы прислали нового учителя, по возможности коммуниста, но и вы думайте о росте партийных рядов. В этом теперь основа нашей работы. Разве в Велемче нет честных, преданных людей?
— Есть такие люди,— ответил Кулишенко, погоняя коней.
Отдалялась его хата. На Пропастище поднимались другие, все крытые соломой, обыкновенные мазанки с каменными порогами и высокими трубами.
— У вас только мать? — спросила Дарья Кирилловна.
- Да...
— У меня тоже. Отец погиб на фронте. Мать в Ворошиловграде.
Изрытая колдобинами улица вилась в гору. Шитик прощально смотрела по сторонам, оглядывалась. Он замечал: ей нравится село, его холмы и долины. Разве есть где-нибудь красивее?
— Вы приезжайте к нам, когда сады цветут,— приглашал он.
Выбрались на гору. Стали видны поля — раскинулись просторы. Изо всех углов обозами, кучками ехали и шли люди.
Скрипели колеса, топали лошади.
Извилистые поля окружали лес, растекались до горизонта на восток, на запад.
154
— Полянщина, наилучшая земля, бывшая панская. Поделили,— сказал Левко.
— Колхоз надо организовать.
— Идут люди, группа за группой. Дайте нам трактора. Без тракторов трудно говорить о колхозе.
— Постараемся до осени. А целины у вас много, не допустите, чтобы пропадала впустую.
— Оттого и торопимся. Похороны, а с похорон все в поле. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что никто и нигде не любит так землю, как у нас, товарищ секретарь.
А она думала: жилище человека — душа человека. А душа земли — люди. Любить землю — значит любить людей земли. Земля начинается с людей.
Ей хотелось знать, о чем они думают — все, кто уже пашет, кто запрягает, кто едет. Ведь сеять — это не просто бросать в землю зерно, это — сеять надежду.
Увидела Евку. Две коровы запряжены в плуг. Евка держится за ручки, а какая-то другая женщина коров водит. Спросила: кто с Евкой. Ответили: Манька — жена Оранчука, председателя земельного общества.
Остановились. Дарья Кирилловна велела распрягать коней, найти плуг. Пока искали плуг, перед Дарьей Кирилловной невесть откуда появилась Мотря Цисаричка.
— Панийко дорогая, золотой человек, говорят, что вы всем безлошадным пахать будете. Мы с дедом никогда не забудем вас. Дед у меня добрый, но все тягло у нас — коза. Козонька-козочка, иди сюда, пускай панийко дорогая, золотой человек, на тебя поглядит, какая ты у бабы чистая, красивая...
Земля глинистая. С треском отваливались дернистые куски. Пахло илистым пыреем, который уже зазеленел.
Цисарик вел плуг, а Мотря бежала бороздой: добилась своего. Отпихнула Ивана от ручек и сама — за них.
— Гони, дед, ворон. Так и налетают проклятые.
— Мотруня, зачем их гнать? Еще ж не посеяно.
— Потому и говорю тебе, серденько. Если бы посеяли, я бы сама тех ворон гоняла. А так надо мной люди будут смеяться, а ты у меня прямо для смеха и уродился.
Дарья Кирилловна взяла в руки ком земли. Люди,
155
лошади, коровы — все пашут. Земля на ладони сырая, холодноватая, помнешь ее — не рассыпается. Еще мало солнца, но есть, есть уже в ней тепло, которое согревает живые побеги.
Ревели коровы. Хоть и запряжены они в плуг, а доить их надо. Евка принесла молоко в кувшинчике, и Шитик пила, не решилась отказаться. Вспомнила, как говорил Прокопка, что коровы в плуге молока не дают. Оно было горьковатое, горячее, будто топленое. Разве дашь такое молоко детям?
По-весеннему ярко синело небо над черными полями.
Кулишенко подозвал Ярового. Поговорили. Яровой сначала покрутил головой, а потом согласно кивнул, прицелился одним глазом, другим, где его хлопцы. И пошел к ястребку, который шел за плугом. Что-то сказал ему, снял автомат с груди, надел хлопцу на плечо, сам взялся за ручки плуга, а ястребок неохотно направился в село.
Дарья Кирилловна была не из тех, кто любит короткие наезды: дескать, пришел, увидел, победил. В селе ее интересовало буквально все — в том числе дети Не-чуйвитра. Она выступала на траурном митинге над гробом Людмилы Иосифовны, знала, что эта смелая девушка — секретарь комсомольской организации — готовилась к вступлению в партию. «С честью погибла Люда Матийко, так, как умирают коммунисты»,— дрогнувшим голосом закончила Дарья Кирилловна и бросила первую горсть в пахнущую свежей землей могилу...
И теперь комок земли, который она подняла в поле и который не рассыпался в ее пальцах, прилипал к ним, напомнил ей горсть земли, упавшую на крышку гроба. Она смотрела на землю в своей ладони, вспоминая и степи Луганщины, и пространства Узбекистана, и равнины Сибири, те просторы, куда забрасывала судьба дочь литейщика. Глинистая, серая горсть земли! И откуда в ней, серой, глинистой, эта непобедимая сила вечного возрождения?
Не затихал звон жаворонков.
В сбитых ярмах тянулись бороздой коровы. Ровно пахали, пофыркивая от натуги, кони. Отвал ложился на отвал — черная волна к волне. Поле блестело, как волны на гребнях. Евка повесила сеялку на грудь. Набра
156
ла пригоршню зерна, бросила, и оно посыпалось золотым роем. Евка шла пашней-волной как древний пророк, который переводил через море свой народ. Но она была сильнее этого пророка: ступала левой ногой — и слева сыпалось зерно, ступала правою — и зерно сыпалось справа. Из обеих ее рук вылетали золотые рои, несли силу ее детям, ее роду.
Жаворонки звенели над полями, отдавая им свою песню и подымая поля к небу.
Вечером Шитик, Кулишенко и Яровой возвращались в село, усталые, притихшие. Медленно шли обессиленные лошади. Кулишенко сказал:
— Заедем поужинать.— И, замявшись, сказал к кому.
Яровой добавил, что и приготовят там лучше, и в хате чистенько. Дарья Кирилловна переспросила:
— Так у кого ж мы будем ужинать? Я страх как проголодалась. Левко Архипович, Евке подарок отдали? Она сеяла. Я пошла к той бабе с козой, оглянулась, а Евки уже нет. А еще хочу спросить о председателе земельного общества.
Кулишенко начал с Нечуйвитрихи: подарок взяла, приглашала на обжинки — последний день жатвы. Корову оставила на Маньку — дома дети. А заедут поужинать к Кричевским.
Шитик сказала:
— А чего же, поехали. Кричевских надо знать не по слухам, а в лицо. Да только чтоб нас не встретили кочергой.
— Я вам говорил о них,— осмелел Кулишенко,— кочерги бояться нечего.
— И я,— отозвался Яровой.
Ястребок свое дело сделал: их ждали, а сам он ходил под елками. За хатой не видно. На всякий случай.
Закрытый в будке Рекс не лаял. Жеребенок шел к Дарье Кирилловне, перебирая стройными ногами, вытянув шею. Она ласково погладила его. Буланчик поводил головой, настойчиво лез к ее рукам.
Варька стояла на ступеньках крыльца — руки под передником. Потом вынула руки и замахала на жеребенка.
— Не приставай, шальной! Пошел прочь... Прочь!
157
Вы уж извинйте, пайи, ой чахлый, без материйского молока, потому и пальцы сосет у людей. Кто попадется.
Буланчик подошел и к Кулишенко, и к Яровому: сирота-горемыка.
— Оставьте жеребчика, заходите,— звала их Варька,— чем хата богата...— не договорила...
Двери в горницу открыты.
— Сюда,— приглашала она Дарью Кирилловну и обратилась к Левку: —Ты уж сам...— И поплелась на кухню.
Секретарь райкома окинула взглядом горницу: живут зажиточно, но на всех вещах печать небрежности, запущенности. Висит лампа — свет ее отражается в зеркальной двери шкафа, и кажется, что там, в зеркале, лампа горит ярче и приветливей, чем в самой горнице.
Стол накрыт. Посередине в вазе бумажные цветы. Неживые, пыльные.
После широких полей Дарья Кирилловна ощутила здесь какую-то подавленность, уныние, печаль. Как будто в этой хате живут только тени: на стене — от подушек и кровати; на полу — от пустых гнутых кресел.
Шитик сняла пальто, Яровой положил его на изголовье дивана, сбросила шапочку, и Кулишенко положил ее на пальто. От пальто, от шапочки тоже упали тени на стену.
— Где же хозяин, где хозяйка? — позвала Дарья Кирилловна.— Мы без них за стол не сядем.
Кулишенко кликнул хозяев.
Нерешительно, будто украдкой вошла Варька. За ней Оксент. Он глянул на Ярового, на Кулишенко, хотел узнать по их глазам, не проговорилась ли Евка Не-чуйвитриха кому-нибудь из них, как он подполз к ее порогу. Их глаза ему ничего не сказали. Он подумал, что Евка все же послушалась его.
— Почему же, гости, не садитесь? — спросил он и развел руками.
— Ваша хата, вы и хозяйничайте, Оксент Петрович...— промолвила Шитик.
К нему никогда никто так не обращался: он забыл даже, как звали его отца.
— ...И вы, Варвара Порфирьевна.
— А как же вас величать, гостья? — обратился, не сдержавшись, Оксент.
158
Я — Дарка.
— Дарья Кирилловна,— поправил Кулишейко.
— Сядем, что ли. Приглашай й ты, Варька, раз йа-готовила.
Как-то незаметно Яровой сделал так, что секретарь райкома села в красном' углу между двумя стенами подальше от окон, Варьке досталось место на краю стола, под окном, хотя она всегда любила сидеть На кроват'и. Кулишенко улыбнулся, забрался за стол и сел под окном. Оксент не садился, держался за кресло — его место перед столом. А Яровой устроился на кровати. В поле зрения левого глаза — окно, перед которым сидел Кулишенко, а правого — перед которым сидит Варька.
—Вареное и жареное, а в бутылочках что? — спросила Шитик, подняв бутылку, и причмокнула.— Компот? Что же это вы компотом нас угощаете, супруги Кричевские, а горилка пусть себе киснет? Да и вы — два парубка,— она обратилась к Кулишенко и к Яровому,— нет, нет, один парубок. У Владимира Яковлевича семья, а вы, Левко Архипович?..
— А что я говорил? — буркнул Яровой.
Оксент поежился, а Варька буркнула:
— Чего стоишь? К нему обращаются, а он молчит.
— А самогонку будете?.. Яровой меня не того?..
Дарья Кирилловна ответила за него:
— Если хороша, если горит, то не того...
— Вот это дело,— сказал Оксент. Пошел и принес бутылку водки, настоянной на калгане.
Варька кивнула головой: ту взял. И сказала:
— Хороша или нет, уж какая удалась.— И метнулась за чарками.
Налили, и Оксент начал:
— Долго собирались, может, быстрее пропустим...
— Пропустим,— отозвалась Шитик.— Не знаю, за что вы с женой будете пить, а мой тост знаете за что будет? За посев, пусть растет и колосится.
Оксент единым махом влил горилку себе в рот, а Шитик только пригубила и поставила.
— Гости, непорядок! Да я за такое высокое слово хоть ведро выпью — и не опьянею.
— Мелешь языком,— оборвала его Варька. Ей хоте
159
лось рассказать, как он дневал и Ночевал в яслЯх, но, какое-то мгновение подумав, она смолчала.
— Что? — спросил, обводя всех глазами, Оксент.— Если я напивался когда-нибудь, то только за то, чтобы росло и колосилось. Вот это дело! Не верите?—И он сам себе налил и выпил, не закусывая и не утираясь.— И еще буду! — И снова налил. Поднялся: — Я хочу чокнуться с вами, Дарья Кирилловна. За ваше высокое слово.
Чокнулись.
Дождались, пока она выпила маленькими глотками. Кулишенко держал наготове компот.
— Печет, взяла как пана за печенку,— сказала, прищурившись, Дарья Кирилловна.
— А вы берите печеночку и закусывайте,— приглашала Варька.— Печеночка куриная.
Яровой ввернул:
— Что касается меня, то я больше люблю яички. Реально. Цисарик советовал: шестьдесят яиц выпьем — и лысина зарастет. Я и пристрастился к ним. Категорически. Люблю сырыми пить.
— А ведь лысина-то все не зарастает, а наоборот — разрастается,— засмеялась Шитик.
— Это ничего,— заметил Оксент.— Лампа светит, и лысина светит. Если бы одна лампа светила, было бы темнее,— он неторопливо закусывал, подставив кусок хлеба, чтобы не капнуло с вилки. Капнет на хлеб — не пропадет добро. Время от времени он поднимал голову, вглядываясь в кого-нибудь из гостей.
Кивнул Варьке так, что никто не заметил, и Варька поджарила еще яичницу, внесла сырого сала, сырых яиц и положила их перед Яровым.
Пили по второй, он припевал:
— «Ты постой... постой, — он поднял чарку на длинной ножке и, словно обращаясь к ней, добавил: — красавица моя-а...»
А Кулишенко приговаривал:
— До дна!
Варька пила глотками и очень морщилась.
— Я вас по дороге спрашивала,— начала Шитик, искоса глянув на Кулишенко,— где ваш председатель земельного общества? Почему его не было видно ни на кладбище, ни в поле?
160
Левко медлил с ответом.
— Дома,— кинул Яровой.
Оксент кусал хлеб, подставив под ломоть ладонь. Слушал, не пропуская ни слова.
Варька поглядывала на стол, хватает ли закуски.
— Тяжело Павлу за сына,— произнес негромко Кулишенко.— Наши люди могут, все перенести, кроме позора.
— Как же так произошло? — спросила Шитик.— Я хотела бы с Юрком, его сыном, познакомиться. Заочно мы как будто и знакомы, на районной олимпиаде называли его имя, фамилию. Там его песню пели. Вы ее знаете?
Хозяева и гости замолкли.
— Что же, может, мне запеть? Или вы в самом деле не знаете?
И она вывела своим грудным голосом, глядя на Оксента:
Ой саду, м!й саду вишневый, Розцв1вся ти раз назавжди...
И Оксент сказал:
— Кто не знает? Во время оккупации пели... Это Юра и про ландвирта 1 сложил. Еще лучшую: «Як при-1хав ляндв!рт рижий та рижий, побив людям ребра-криж11 2...» — хотел еще что-то сказать и запнулся.
— Песня песней, но...— начал Яровой.
— Досказывайте, Владимир Яковлевич,— подбадривала секретарь райкома.
Кулишенко попросил разрешения закурить, достал кисет. Достал свое курево и Кричевский.
Яровой поморщился не только лицом, но даже лысиной, предчувствуя едкий, угарный дым.
— А что досказывать? — выдавил с нажимом, в котором звучала дрожащая интонация: мол, об этом разговор не здесь, не за этим столом.— Правда, Дарья Кирилловна?
— Я уже не один год Дарка, не один и Дарья Кирилловна.
Яровой отрезал:
1 Ландвирт — гитлеровский чиновник.
2 Криж — крестец.
6 Б. Харчук
161
— Шапка. Наводчик. Реально.
— И категорически, Владимир Яковлевич, так вы, кажется, выражаетесь?
— Минет время. Время категорически покажет. Подождем, Дарья Кирилловна.
— Времени нет. А если шапка — провокация? Вы об этом подумали?
— Я беру факты.
— И пускаете их на волю времени? А я вам еще раз говорю: у нас времени нет. А факты нередко ослепляют. Возьмешь какой-то фактик, а он как дерево — за ним лесу не видно.
Яровой крутил головой от дыма и от слов Шитик.
— Мы надрываемся, спрессовываем каждый свой день. Одно сверхплановое бревно из леса — хорошо, один сверхплановый центнер хлеба — еще лучше. Но один сверхплановый арест, да что я говорю, непредусмотренный, неожиданный, как гром с ясного неба, арест, и кажется, что не кого-то, а меня в тюрьму сажают.
— Цисарика бандиты побили и отпустили. Кримчук и Оранчук об этом свидетельствуют. Значит, Цисарик категорически не наводчик. Кримчук удрал. Оранчук это подтверждает. Значит, Кримчук — категорически не наводчик. А Юрко Оранчук не удрал. Почему он не удирал? Кто же тогда наводчик?
— Почему не удрал? А вы, Владимир Яковлевич, могли бы бежать, если бы вас сбили с ног? Я знаю, вам однажды удалось вырваться из бандитских рук, а если бы вас сбили с ног?
Она не ждала ответа и продолжала:
— Вы меня посадили между стенами, правда? Сами сели напротив окна, правда? Тут вы предусмотрительны... А вот почему не удрал? Это еще не ясно...— И она перешла к другому, спросила, обращаясь ко всем: — Почему этот дядько, у которого мы ужинаем, убил лошадей?
Оксент затянулся, опустил голову и заволокся дымом.
— Почему вы, Кричевский, поубивали лошадей?—-бросила она резко.
И он ответил:
— Сам не знаю.
162
Варька пыталась выручить efo!
— Злое наваждение ослепило его.
— Знаете, Оксент Петрович, вы боитесь не только нам, самому себе сказать правду. Наваждение, говорите, Варвара Порфирьевна? Это наваждение называется собственнической алчностью, ненасытностью, пособничеством и связью с бандитами.
Кричевский оцепенел в кресле.
— Где ваша Соломия?
Оксент нес ко рту самокрутку и не донес.
— А ваша мать знает, где вы? — спросил он.
Ему вспомнилось, как они ссорились и грызлись с Соломией. Вместо того чтобы затянуться самокруткой, подпер голову кулаком. Самокрутка тлела в кулаке, и он пожалел о тех словах, что сорвались с его языка.
— Моя мать, разумеется, не знает, что я сейчас у вас ужинаю, но она знает: где бы я ни была, я защищаю ее — мою мать и мою Родину. А вы уверены, что ваша Соломия защищает вас, вашу жизнь, ваши интересы? Подумайте об этом хорошенько. А за ужин благодарим. Наелись, напились. Пора и честь знать,— и Дарья Кирилловна поднялась из-за стола.
Заворочался Кулишенко, встал Яровой. Варька отодвинулась со своим стулом, давая дорогу секретарю райкома. Она сидела рядом с Оксентом, наклонив голову к Оксенту на левую сторону, а не на правую, как обычно. Толкнула Оксента, чтобы встал: гости собираются уходить.
Но он и не шевельнулся. В кулаке дотлевала цигарка, и казалось, его узловатые пальцы загораются.
Варька провожала гостей. Вышла за ворота.
А ночевать Дарья Кирилловна отправилась в сельсовет. Кто бы ни приезжал из района, ночевал на сельсоветской скамье.
Вверху над селом мерцало звездное небо, а село светилось там, внизу. Шитик замерзала в пальто, прислонилась к Кулишенко. И они ехали на сельсоветский огонек.
В коридоре Яровой своей сухой, жилистой рукой пожал ладонь Дарьи Кирилловны. И быстро, в бравой кубанке, сбежал по лестнице.
Кулишенко сказал:
6*
163
— Если что-либо не так, вы уж извините нас. Спокойной ночи, товарищ секретарь.
— Левко Архипович, что вы все официально да официально, словно бы у меня имени нет и отца не было,— подала ему руку и немного задержала в его единственной правой.
В этот момент на пороге появился Новак.
— Ты, Левко, не ругай меня и не гляди так сурово. Я на прием. Вы меня примете? — спросил он секретаря райкома.— Если не хватает времени, я одолжу.
Беседа началась:
— Есть ли у вас, голубушка, кто-либо, за честность которого вы готовы голову отдать на отсечение? — спросил он, не спуская с нее своих глубоко посаженных глаз.— За свою долгую жизнь в Велемче я как будто нашел одну душу и благодарю за это судьбу. Это — Юрко. Я не говорю — поэт. До этого — гей-гей, и зазеленеет ли роща, тоже неизвестно. Немало его переубеждал: слово— не забава. Чтобы не гордился, не рисовался. Трудно засевать землю, трудно ставить хату, а слово?..
XXII
Посеяли овес. Мотруня каждое утро — за козу и в поле. Козу пасти и ворон гонять.
Она со двора, Иван на чердак. Скинул оттуда четыре доски и начал тесать их в сенях, прислонив к двери. Не очень стучал топором. Доски ровненькие, отмеренные, работы с ними — раз плюнуть. Однако время от времени он выходил из сеней, озирался вокруг и, босой, бесшумный, снова прятался за прикрытые двери.
Он скинул лапти, и велемчане поговаривали: раз Цисарик пятками грязь месит, значит, и морозы, и заморозки пропали, а земля начнет покрываться травой. Еще бушевало половодье, еще пока кое-где дотаивал снег, а Иван уже повесил лапти под застрехой над порогом, пусть сушатся до новых морозов, до нового снега. А сам — к речке, с трудом добравшись до нее — мыл в ледяной воде свои, покрытые оспинками, ноги. Возвращался с речки, ступая по мерзлой земле, обходя раскисшие места, и говорил:
164
— Цисарик пятками землю чует, еще будет пятками топтать траву.
На Полянщине пахал босой. Где бы успеть обутому за конями, да еще райкомовскими. Мотря, правда, отогнала его от ручек плуга. Ее подмывало вгрызться в землю, в тот надел, который она увеличивала, передвигая камешки — знаки межи.
Засеяли, покидали в свою землю ячмень. Трудно, изнурительно. А еще надо было засеять и горох, и овес, наконец, и гречиху. С гречихой подождать можно, гречневая каша не запечется в горшке, если под в печи еле теплый, вот и расти гречиха любит в тепле. А по утрам еще порой заморозки бывают.
Рубанка у него не было. Топор, пилочка, молоток. Можно бы одолжить у кого-нибудь, но он решил сделать все тайком, чтобы никто не знал, даже Мотруня. Эта мысль поселилась в нем, когда ему, будь здоров, залепили в один глаз и в другой: «Видишь?..»
Он перестал спать в хате. Спал на чердаке, втягивая туда за собой лесенку. Чердак пустой, ложился на доски.
— Ты на них не очень поворачивайся, потому что еще поломаются,— наказывала Мотря,— сам знаешь, для чего они.
Голые доски натерли бока. Да и что это за убежище, когда спишь на них?\Втягивает лестницу за собой, но разве это спасет? На чердак можно добраться и по дверям. Кто бы голову ни высунул, а он лежит на досках. «Вот где ты, молодой человек?!» А если еще блеснет батарейка?
Бока, которые он отлежал, окончательно убедили: найти выход!
Он заровнял топором сучки, состругал шероховатости на досках и представлял, как ему будет хорошо: «Жилет под бок, подушку под голову, ничто не разъезжается, сам никуда не катишься. Вот спанье! — как в колыбели. Буду спать, горя не знаючи. А главное — безопасно. Это уж безусловно. Никто не только не найдет меня, даже не подумает, что я здесь.— Старик смеялся себе в бороду и, увлекшись работой, высунул кончик языка.— Но пусть Мотруня ничего об этом не знает. У нее язык — всем языкам язык. Враг, настоящий враг».
Цисарик торопился, боясь, чтобы его кто-нибудь не
165
нароком не застукал. Время от времени он выглядывал из сеней, окидывая пристальным взглядом все вокруг, прислушивался, потом вскакивал обратно в приоткрытые двери.
«Колыбелька моя, колыбелька»,— вертелась в его голове знакомая песенка, и он вовсе не думал о том, что делает себе гроб.
Со словами этой песенки, которые наполняли его, он выскочил из дверей и стал на пороге.
Глаза веселые, в руке топор.
— Дед Иван! Дедушка!..
Цисарик мгновенно спрятал топор за спину.
— Здорово, Евка,— буркнул он, стоя спиной к двери и закрывая ее.
Нечуйвитриха окликнула его с улицы. Увидела Ци-сарика на пороге и остановилась перед хлевом около клена.
— Вы дома, дед? Я наугад к вам собралась, а вы — на пороге.
Он крутнул головой, недовольный, сердитый. Посматривал злыми глазами то на Евку, то на клен.
— А я вот рассады достала,— продолжала она,— грядки на огороде делаю, все грабли поломала. Беда. Пришли бы да повставляли зубцы, помогите, дедушка Иван!
— Почему не помочь?
— Может, сегодня придете? Я буду ждать.
— И жди. Ступай. Не стой,— словно прогонял ее дед.— Я, видишь, как раз для себя работаю,— и показал топор.
Евка передернула плечами.
— Лишний валок захватить можете? А?
— Есть, принесу,— обещал Цисарик, лишь бы поскорей убралась. Он посмотрел на старый клен: «Если бы он зазеленел, она бы не увидела меня»,— и сердился на клен, будто дерево в чем-то виновато.
Снова затюкал топором, но уже не мог ровно вести его по доске: в глазах стоял развесистый, сизо-серый безлистый клен, а Евка несла рассаду. Грудь высокая, ноги крепкие. Ему казалось, что когда она пожала плечами— клен качнулся, а пошла — безлистый клен зашумел.
«Старое чучело,— рассердился он на себя.— Что де
166
лаю, а что в мыслях! Если бы Мотруня догадалась!» И было приятно, что Евка просила его прийти...
Очистив доски, отпилил лишние куски. Примеривал, причмокивал, выходило складно, будто само делалось, а он только следил за этим. Ни один гвоздь не согнулся. Сделал «колыбелечку» и отнес на чердак. Тщательно подмел в сенях, не оставил ни единой опилочки-пыли-ночки. И признаков нет. Стружки в печь — и сжег.
Он торопился. Наскреб из трубы и развел в котелке сажи. Управился с покраской, поглядывая через малое оконце чердака, не идет ли кто-нибудь, не тащится ли Мотруня со своей козой. Постарался. Все у него в порядке.
«Я заранее до последней крошечки обдумал и передумал, что к чему,— хвалил себя.— Если человек заранее все обдумает и передумает, что к чему,— дело в руках горит. Будто и не знаешь, за что раньше браться, а руки сами стараются».
Вымыл казанок, повесил на колышек, на котором тот всегда висел.
— Хе-хе, солнце уже с обеда, пора бы и Мотруне с козой домой,— и взглянул на клен, а с языка сорвалось то, о чем, казалось, и не думал. Прошептал: —Евка... Ну и молодица, двинула плечами, а мне казалось, что клен покачнулся. И привидится же такое...
Он стоял — торчала набекрень с поднятыми ушами заношенная шапка.
— Чего стоишь, как засватанный?
Мекнула коза, радуясь, что дома.
— Да что с тобой? Коза мекает, на тебя глядючи.
Мотря с теплым платком на руке. Щечки красненькие, но ее немолодое лицо будто печеное яблочко.
Он ответил:
— Ожидаю...
— Нас с козочкой? Козонька, слышишь? — неуверенно, немного насмешливо, но не без радости говорила Мотря.— Да мы же с тобой, Иван, весь век прожили.
— Да, прожили...— буркнул он небрежно. Сел на завалинке.
Она загнала козу, шла, устало понурившись, жаловалась, упрекала писклявым голосом сойки:
— Еще наш ячмень в земле — как в горшке, а вороны знай роются на пашне. Пугало сделать или тебя
167
вместо пугала поставить?.. И коза как следует не напаслась. Уже всю плотину выщипала. Разве из стрехи теперь надергать и кормить ее? А ты если не стоишь, то сидишь!
— Думаю,— невнятно отозвался дед.
— О чем, бродяга?
— Вот-вот... Уже и бродяга,— он кашлянул, повел плечами и отвернулся.
— Иванушка, я же так...
— Так оно так, а дело, если его ощупать,— он сидел, отвернув от нее голову,— не простое. Получается, что меня хотят со света сжить.
Мотря насторожилась и пристально взглянула на него.
— Сама подумай: сел я в лесу на пенек, а он вдруг как закачается да как скинет меня! Что же получается? А выходит, я бандитский схрон раскрыл. А ты думаешь, они забыли? Так саданули, что искры посыпались из обоих глаз. Чуть было не убили. Припарочками, прили-почками опухоли и отеки ты сняла, а синяки еще есть. Глянь! — он откинул голову.
— Правда, Ивасик!
— Вот я и думаю, и так и этак прикидываю. Не пойти ли к Яровому и попросить, чтобы у нашей хаты поставили стражу. Придут и убьют меня — и ахнуть не успею.
Он напугал ее. Она взяла его руками за плечи и повернула к себе:
— Не ходи и не проси. Тогда наверняка убьют, еще и хату спалят.
— Что же делать?
— Сиди. Трава растет. Козочка лучше доиться станет. Я тебе молочка, сметанки, сыру, маслица собью.
— Твоя правда, Мотруня, я уже совсем отощал, подкормить меня надо.
— Да я ли тебя не берегу? Только сиди дома, никуда не суй свой нос, не лезь в исполнители и молчи. Язык беду накликает.
— Как же, Мотруня, усидеть? Евка, к примеру, просит грабельки починить, зубцы набить. А про язык ты молчи: я и сам отрезал бы. Кончик. А весь — нет.
— Хорошо, что хоть не весь. Вот и я тебе свое доброе слово скажу: помогать людям нужно, за то. и сам 168
бог не осудит. К Евке сходи, она вдова с малышами. Но сначала пообедаем.
За столом они не препирались. Ему и яйцо, из тех, что откладывала на покупку соли, керосина; и пол-ло-жечки масла из того, что она берегла, может, в кооперативе ситец, появится. И ему это было приятно. Доставая горшок с похлебкой, Мотря ворчала, что в печи полно сажи, будто по трубе кто-то колотил и сажу вытряхивал. Но Иван и ухом не повел.
После обеда Цисарик попросил у жены чистую сорочку, но она не дала: не воскресенье.
— Ты и так у меня как новая копеечка, хоть завязывай тебя в платочек и клади за пазуху,— и смерила его глазами с головы до ног.
Он подтянул грубые шерстяные штаны, подвязанные у самых щиколоток шнурками, взял ясеневую колодочку, которая с осени сушилась на зубцы, и пошел.
Направляясь на Пропастище, он пригладил бороду и появился у Нечуйвитров словно помолодевший. Сразу принялся за дело. Гнат и Прокопка толкались около него, а он наделал зубцов, забивал их, заклинивая в валок. Грабли получились отменные. Грабастые. Подал Евке, она обрадовалась, благодарила. Ему приятно. Потом заикнулась вяло: почему валок не принес? А ему еще приятнее. Забыл: вылетело из головы. Завтра принесет. Еще одни грабли сделает, запасные.
Ему не хотелось домой. Не шел, а медленно плелся, едва переставляя ноги. Дома Мотруня спрашивала, как живут Нечуйвитренки, но он буркнул в ответ: «Сама учила, чтобы я молчал»,— и, покраснев, полез на чердак, потянул за собой лестницу.
И ночь ему не в ночь. Спал в своей «колыбельке» — и вправду как в гробу. Дождался утра. Спустился с чердака. День выдался ясный, прозрачный. На кряжистом клене набухают почки. Подошел к нему, украдкой почесался о ствол спиной и почувствовал, будто стал ровнее. Лишнего валка на подворье нет. Тогда он отломил от исправных еще грабель валок, повыламывал зубцы. Ясеневую колодочку для новых зубцов сунул в карман и — айда. А Мотруня с козою — в поле.
Он сделал такие грабельки, что когда Евка взяла их в руки — улыбнулась. А ему только того и хотелось. Улыбка ее — два молодых месяца: один рожками вниз,
169
другой — вверх. Он даже отвернулся. Евка вынесла ему кисет Власа. А в нем табак. Сама набрала щепотку табаку.
— Больше не дам вам, дедушка. Когда мне очень грустно, беру кисет и Власа вспоминаю.
Цисарик закурил: на крышечке люльки блеснули глаза чертика, из рожек вился дымок. Гнат и Прокопка смотрели на чертика. Они слышали об удивительной люльке Цисарика и радовались, что наконец увидели ее. Мать прогнала их из сеней, и Иван покуривал с наслаждением.
— Хочешь, Евка, я расскажу тебе про свою люлечку?— он вынул ее изо рта и держал, показывая. Она сама курилась.
— Времени нет.
—. Ты огород копай, а я огород буду грабельками разравнивать и рассказывать.
— Разве что так, от нечего делать,— кинула она ему.
На огороде он начал:
— Покликали меня на призыв, война. Карпаты, Пе-ремышль — ведет генерал Брусилов в наступление. Народу полегло! А я живой. Да что из того? Вокруг мертвецы. Свои и чужие. Я в плену. А кто-то стонет. Ползу, смотрю: полковник. Австриец. Жалобно так просит: спаси, ноги перебиты — и руками, как граблями, водит от себя и к себе.— Евка молча слушала и копала.—• Враг, но как же безногому не помочь? — продолжал Цисарик.— Поволок его. Зато мне австриец-генерал,— Цисарик не заметил, как повысил полковника в чине для большей важности,— и дал вот эту люлечку: кури и меня вспоминай.
Он попыхивал люлькой, глядя снизу на молодицу, а она не разгибалась.
— Генерал?
— Сам генерал, хоть и австриец. На крышечке, говорит, Мефис. Ты его не прогневи, он тебя из плена выручит.
— На каком же языке вы разговаривали, дед Иван? — не верила Евка ни единому его слову.
— Хе, пока нес, пока тащил генерала на плечах, я весь австрийский язык до единого слова выучил. Это теперь я забыл..
ПО
— Ну, и помог вам тот черт?
— Ты, Евка, его так не называй. Мы...— он едва не сказал с Мотрунею, но сразу спохватился: — я называю его Мефис. Он имеет большую силу. Как сам бог, а может, и больше.
— Вот этот рогатый нечестивец? А типун вам на язык, дед!
— Ты только, Евочка, слушай и не перебивай. Я как первый раз потянул из этой люльки, в груди моей появилась могучая сила. Такая самая, как сейчас. Вот я вижу: ты копаешь и у тебя поясница болит. А я после тебя легонько грабельками, легче, чем Кримчук пером пишет. Вожу грабельками — горстки земли разбиваются, грядки как пух. Вот уже земля и готова.
Евка разогнулась: правда, разрыхлил.
— Не пора ли вам домой?
Он почесал бороду.
— Когда же я тебе про люлечку доскажу?
— Когда-нибудь в другой раз. Я еще девчонкой не раз слышала. Кто в селе о вашей чертовой люльке не знает,—ответила она. Воткнула лопату в землю и пошла в хату за подойником. Пора доить корову.
Цисарик горько вздохнул, подтянул штаны, пошел домой.
Никуда его не тянуло. Не то что на люди, в сельсовет, в кооператив. Даже охоты не было с кем-либо встречаться. Все его мысли кружились вокруг Евки. Он все обдумывал, что бы еще хорошее и нужное можно было для нее сделать?
И ужин не ужин, хотя Мотря ему и яйцо и кусочек масла положила. Не хотелось даже говорить с Мотрей — все в ней его раздражало, каждое ее движение.
Скорее — на чердак.
Он залег в гроб и закрылся крышкой. Подушка — под головой, жилет под спиной — мягко. А Евка так и не идет из головы.
Под гробовой доской и надумал: наловить рыбы. Он же рыбак. И у него есть чем ловить: есть снасть, есть и хватка.
Лежал на чердаке, а мысли текли: «На рассвете наловлю рыбы и понесу. Евка нажарит, посидим, и доскажу ей про свою люлечку».
Утром Мотря ушла с козой, а он —за удочку и на
171
речку. Закинул и ждет. Что-то хлюпнуло. Дернул — лещ по локоть. В торбу его! Смеется. Попадалась мелкая— выбрасывал в воду. Хоть бы еще один такой лещик! Не попадается. Кричи, вызывай из воды! И уже жалко ему, что плотву и пескарей повыбрасывал. Самой мелкотой уже не брезговал.
Понес улов на Пропастище. Лещ бился в торбе, мелкота кишела. Цисарик беспокоился: как бы лещ не сожрал ее! На ходу он хватал леща за голову и сильно сдавливал, а тот бился хвостом в завязанной торбе.
Гнат и Прокопка запрыгали от радости: рыба! Евка на огороде, и Цисарик понес свой улов на огород, показать Евке. Не подал, а торжественно вручил ей торбу, попыхивая люлькой. И немедля давай рассказывать, не ожидая, пока Евка поджарит рыбу.
— Курю я, молодица, будучи в плену, генеральскую люльку. Гонят нас на работы, а кормят — черпак похлебки с червяками. Бараки, нары... Только и радости, что закуришь. Вот подкатывается ко мне мордастый начальник лагеря: отдай люльку! Хочешь не хочешь — должен. Не отдашь добром, отберет силой. И решил: еще раз курну — и капут моей люльке. Потянул я, пустил дым ему в лицо,— Цисарик приблизился к Евке, чтобы показать, как именно он пыхнул в лицо начальнику лагеря.— Смотрю — кувырк мое начальство, и нет его: уже душа его покинула. Я иду по лагерю, а это нам запрещено. Ни на шаг от барака. А я себе иду, попыхиваю люлечкой, часовые сидят на башнях с пулеметами и не видят. Все ослепли. Я прямо к караулке. Пропускной пункт называется.
Цисарик пыхтел дымом и подступал все ближе и ближе к Евке, а она стоит, не шевелясь, в борозде, держит рыбу в торбе. Дымок от его люльки — это табак из кисета Власа. Пахнет, дурманит...
— Караульный битте-дрите,— продолжал Иван. —• По-нашему «прошу, пожалуйста», и тоже с копыт долой. Ведет меня моя люлечка, ведет...
Трубка торчала у него в зубах, дымок вился сизой ниточкой. Он раскинул руки, намереваясь обнять Евку.
И тут все рухнуло: раздался истошный крик Мотри:
— Ишь, повадился! Я с козой, а он тут воркует: грабли набил, огород разрыхлил. А это что? — Мотря выхватила торбу из рук Евки.— Рыба? Уже и рыбы на
172
ловил и принес? Я ему яичко, я ему маслице. А он—• давай чистую сорочку!
И торбой Ивана по морде — лясь!
Посыпалась рыба. Мелкота блеснула, лещ забился на грядках.
Цисарик втянул голову в плечи, согнулся и — на улицу.
— А ты принимаешь, разлучница?
Евка поставила ногу на заступ.
— Я? Принимаю? Кого? Да ты посмотри на него, пустая мотня землю метет, там и грешного тела-то нету!
— Бесстыдница, ты и туда заглянула? Тьфу!
Евка нажала ногой на заступ, выбросила кучу земли прямо на рыбу:
— Идите, баба Мотря, идите с богом. У вашего Цисарика прыть как у вола, а сила как у комара. — Евка засмеялась.
Цисаричка помчалась домой с жердиной: не опиралась на нее, несла на плече.
Кто знает, когда и кто помирил бы Цисариков, если бы этой ночью не произошло то, чего Иван так боялся и почему спал на чердаке.
Он метнулся туда сразу, втянул за собой лестницу. Мотря пробовала добраться до него с помощью двери, но не смогла. В сердцах разломала о дверь жердину.
— Сиди же там, бродяга, волокита проклятый, пока не околеешь! А слезешь, я за тобой поухаживаю и пестом, и толкачом, и колом, и кулаками за то, что ты мою седую честную головушку осрамил. Да чтоб ты... чтоб...
Иван не отозвался. И не пискнул даже.
А ночью тук-тук в окно. Мотря сидела на лавке. Не спалось. До сна ли тут! Она и не запирала еще двери.
Как вдруг с порога блеснули чьи-то глаза:
— Где старик?
Со страху Мотря онемела. Но она сердилась на старика и показала пальцем, что он на чердаке.
Бандит ловко взобрался на дверь и мигом перескочил на чердак. Он принес и подкинул Оранчукам шинель Юрка и его сумку. Но мог ли он возвращаться после этого «пустым»? В полосе света, который тянулся
173
от батарейки, на чердаке он увидел гроб. Черный, покрашенный сажей. На всю крышку — белый крест.
Бандит погасил батарейку. Одним прыжком подскочил к гробу, сбил с него крышку. В его руке снова блеснул свет.
— Спрятался, падаль. А я гробов, знаешь-понима-ешь, не боюсь. Давай сюда свою люльку! Я хотел ее у тебя забрать еще тогда у вербы, но забыл. Давай люльку! Все говорят, что она какая-то необыкновенная!
Цисарик лежал лицом вниз. Вытащил из-за пазухи люльку и поднял из гроба руку.
Бандит выхватил трубку.
— Мертвые не курят! — крикнул и соскочил с чердака в сени.
Старуха рыдала на скамье: «Нет моего Ивана... Иванушка... Ивасик, ой-ей..»
Цисарик снова накрылся крышкой... Он лежал навзничь, скрестив на груди руки, и думал: «Вот умру я на самом деле. Наплачется Мотруня»...
У хаты шум и гам. Снова кто-то пытается ворваться в дом.
Он закрыл глаза. Но едва он их сомкнул, как услышал:
— Дед, а дед! Кто здесь был? Где он? — Это голос Ярового.
Сноп света осветил чердак.
— Ну тебя к черту! — крикнул Яровой, увидев Ци-сарика.— Рехнулся, что ли? Живым в гроб залез! Вылезай, старый дуралей!
— Володя, меня нет,— сказал Цисарик и потянул на себя крышку гроба.
— Да ну тебя к лешему! Вылезай из этих черных досок, из-под белого креста. Я — безбожник и плевал... на все эти дурости. Ты же реально не покойник! Здесь был бандит? Куда выскочил отсюда?
— Моя люлечка...— печально отозвался Цисарик.
ххш
Мать стелила постель рано, а сын приходил поздно. Печь натоплена, но в хате постепенно становилось прохладнее. На столе ^тояд каганец. Едва поднимаясь над
174
столом, теплился огонек. Он отражался на низком темном потолке желтым круглым пятном, словно неподвижный глаз.
Мокрина сидела у края стола, и свет почти не доходил до нее. На голове толстый платок, которым прикрыты поредевшие, седые волосы, лоб в морщинах, тонкая, высохшая, в темных жилах шея. Видны только глубоко посаженные темные глаза, рябоватый нос и запавший рот, с полуоткрытыми губами, на которых застыло невысказанное предостерегающее слово.
Сидит и сидит...
На переднике ладонь в ладони — лежат ее тяжелые натруженные руки: почерневшие, заскорузлые, но ласковые и нежные. Болит каждая косточка. Ладони раскрываются, словно два раскрытых полушария мира, она держит их на коленях. Жилы и прожилки растеклись земными реками, мозоли понарастали и затвердели, как материки. Материков пять, а у нее дважды по пять — около каждого пальца. А пальцы ее полны такой ласки, хотя сама она не ощутила даже капельки этого чуда. Никто не погладил ее руки. Разве солнце, и то не в будни. Руки матери.
В пустой хате, где ни сундуков, ни шкафов — печь и стол, стены откликаются Мокрине: «Иди, дурак!» «Вперед!»— языком поганых фашистов, которые приходили и забирали ее сына. А мужа совсем отняли, не без помощи своих головорезов.
Уже сгорбилась. Смотрит на застеленный топчан: поправляет рядно, взбивает подушку, дышит под одеяло, чтоб держалось там тепло.
И думает о своем заветном: у людей сыновья вернулись с войны и поженились, матери их стали бабушками. Она пошевелила пальцами. В них теплится желание ощутить, погладить шелковистое тельце дитяти. Надеждой на эту ласку полно ее сердце, дрожат колени — жаждут внука.
А ее сын?.. Боится, чтоб он не постарел. Говорят, если за тридцать, то и сам дьявол не оженит. И боится, чтобы не привел вдовицу. Война наплодила вдов. Только и слышно, как поют: «Ой, саду, м!й саду...» Зовут, причитают, плачут, взывают к могилам в дальних землях, а некоторые искоса поглядывают на женатых, на хлопцев.
175
Сидит-думает, а сказать Левку не смеет. Был ма-’ лышом, наставляла — и он слушался. Да, и сейчас ей кажется: что он ни делает — все идет от ее наставлений, от его давнего послушания.
Положить бы ему на ноги кожух. Но он страх как этого не любит. Укроет его кожухом, когда он заснет...
Его шаги за окном — она уже на ногах. Он на пороге — ужин на столе.
— Ложились бы, мама.
— Я высплюсь.
Стоит у печи. Столько хочется сказать ему... Молчит, Потом тихо:
— Ложись, сыночек.— А глазами обняла бы, расцеловала.
Левко не курил.
Мать стояла и смотрела на него, радуясь.
Дождалась, пока лег, и погасила свет.
Он накрылся с головой. Любил лежать на левом боку. Раньше, когда у него была левая рука, он клал ладонь под голову и так спал. Теперь на левом боку под голову класть нечего, но привычка осталась. Он зарылся лицом в подушку, а боком привалился к сеннику, твердому на твердом топчане, и сердце постукивает об это твердое ложе.
Закрыл глаза. Ему виделось: Полянщина, другие урочища, вспаханные и невспаханные, засеянные и незасеянные. Богач — поля во всю ширь...
Тихонько встала мать. Осторожно спустила на пол ноги; слышал, но не пошевелился. Затаив дыхание, прислушивался, как мать ступает, поднявшись на цыпочки, как ей нелегко это дается — не те годы, чтобы ходить на цыпочках. Но ведь так хочется укрыть сына, она подходит и кладет ему на ноги кожух. Склонившись, поправляет его, а потом еще долго стоит в ногах.
Он этого не видит, но чувствует каждой клеточкой. Ногам становится теплее. Щемящее тепло наполняет грудь. Что-то невыразимо радостное подступает к горлу. Левко через силу смежает веки.
Мать стоит.
О чем она думает? Почему ей не спится?
Подняться и спросить?
Мать, словно из песни, вышла из думы и стоит, как дума... Мысли его были с ней, а потом снова возвратц-
176
лись к полям. Он думал о поле и видел материнские руки и еще многих других, таких же, как она. Село берется за землю, которую советская власть отдала хлеборобам на вечное пользование.
Его морила усталость.
Мать уже легла и укрылась. Дышала неровно, с перебоями, будто что-то сдавливало ей грудь. Годы брали свое.
А сон все еще не приходил к Левку. Перед ним возникали новые картины, забытое, отрывки воспоминаний, надежд.
Вспомнилась Шитик — видел ее озябшую, в легоньком пальто, ощутил в своей ладони ее руку, которая на мгновение задержалась. Прозвучали едва уловимые нотки обиды за его сухое, официальное «спокойной ночи». «Словно у меня имени нет и отца не было».
А какая у нее рука — вспомнить не мог. Кажется, крепкая, твердая и надежная... Дремалось... Соньки-дрёмки уселись и качались на ресницах. Хотелось спать, но почему-то не спалось... И качался у края хаты тополь, о котором Дарья Кирилловна сказала: «Мал!»
Каждый раз, укладываясь спать, решает: утром постою у тополька, а как только наступит рассвет — скорей-скорей из дому — и забыл. И не опомнишься, как зашумит листва на топольке. И представил себе, каким он будет в пышной листве: зеленой и серебряной. Шумит, и в этом шуме слышен нежный перезвон. Он проникал в его сон. И вот уже нет тополька. Около хаты — девушка или молодица. В белом. Сон или не сон?
Раскачались соньки-дрёмки, легкий голубой туман окутал тополек, окутал девушку-молодицу. А из тумана — глаза. Чьи? Где он их видел? Именно глаза.
К счастью или к несчастью? Есть поверье: целовать в глаза — к разлуке. Но разве он когда-нибудь целовал их? Плывет туман, а глаза не скрываются, сияют из тумана.
Снилось? Мечталось? Что это было или будет?
Пылал костер, потрескивали, сыпля искрами, сучья, поднималось красное пламя. Июньское воскресенье там, под Сон-горою, возле родника, возле речки. Играет музыка, по?от, танцуют хлопцы и девчата:
177
Треба його та виводити, К1нця-ладу 1знаходити...
Хлопец и дивчина, дивчина и хлопец, взявшись за руки,— длинная вереница. Появился Новак — старый вдовец, и потянулась, поплыла вереница, извиваясь, как речка меж холмами. Каждая пара, взявшись за руки, подавала руку другой паре и выводила:
Веду, веду, та не выведу.
Плету, плету, та не виплету....
Глаза будто манят — ведут, горят синим светом...
— Мать ее никто не приглашал танцевать: бельмастая. Так она теперь и за себя, и за мать!..—и все смеются.
Ноги в сапогах, словно в туфлях, босые: вереница все тянется, тянется, и в ней уже не только хлопцы и девчата: в ней и Сон-гора, и Пропастище, и Городище, и Заставна, и все вербы над речкой. Шумит костер.
Будем танець вести, Як вшочек плести...
В июньское воскресенье во ржи встречается весна с летом. Рожь цветет, желтеет...
Левко не услышал, как постучали в окно. Спал, лежа на левом боку. А мать услышала. Не разбудила его, сама подошла к окну: стук не угрожающий, сдержанный, осторожный. Не такой, как тогда, когда бандиты готовили нападение.
На небе — молодой месяц повис огненным ятаганом.
— Это я, Мокрина, я...
— Оксент?
— Пустите.
Месяц на небе, а будто бы над головой. Кривой, рогатый.
Впустить побоялась. Разбудила Левка. Сорвался Левко — и за пистолетом под подушку.
— Кто?
— Тише, сынок.
Посмотрел из-за стены в одно окно — никого. Лунно и ясно. Глянул, наклонившись, во второе. В стену
178
под окном вросла темная фигура. Присмотрелся к ней. Мать оттолкнула его, и Оксент снова стал у окна.
— Пустите. Я один. Есть дело.
Левко с матерью вышли в сени, стали за дверью.
Она открыла. Оксент вошел в хату, а Левко выскользнул за порог, обошел хату и только тогда вернулся.
— Не веришь мне, Левко?
— Не верю, дядько Оксент.
Мокрина стояла, дрожа. И хотелось ей сказать, что у Оксента такой же приглушенный голос и такая же крадущаяся походка, как тогда, когда он прибегал предупредить Архипа.
— Пойдем ко мне, Левко.
— Зачем?
— Соломия пришла и спит.
Оксенту не терпелось рассказать: приходили Довбе-няки — тесть с тещей. Теща сказала, что Соломия на сносях, а Сергей Турчин, тот, что был комендантом, замахнулся на нее кулаком. Теща заплакала, а тесть: «Ха-ха-ха!.. Пустое, Текля, мелешь, забыла, как я тебе голову намыливал? Небитая жена — что неклепаная коса... И тебя, зять, я учил: будь либо горек, либо сладок. Ты — никакой, мякиш. А меня — пусть выплюнут. Я горький и сладким не хочу быть». Ничего этого Кричевский не сказал, торопил Левка. Соломия — за бельем или еще за чем-то пришла. Может, скоро рожать ей... Он не знает, да и стыдно об этом говорить.
Левко натянул шинель.
Мать взяла его за руку.
— Не надо, мама,— пустой рукав качнулся.
Шли огородами, обходя хаты и улицы.
— Рекс в кладовой, я дал ему сала.
Левко подтянул кобуру на живот и расстегнул.
— Оружие у нее есть?
— Не знаю.
Оксент ввел его на кухню.
На скамеечке дремала одетая Варька. Подняла голову и опустила.
Оксент приоткрыл дверь в горницу и показал на кровать.
Соломия спала, раскинувшись. В окно светили месяц и звезды. И Левко шагнул, словно по звездам, по месяцу..,
179
Еще шаг — он мгновенно выхватил из-под подушки ее маленький пистолет.
Соломия проснулась и крикнула:
— Ты?.. Вы?..
Закричала Варька.
Он бросил пистолетик под кровать и схватил Соломию за руку.
Она села. Смотрела не на Левка, а на окно.
— Безрукий... Не встретились у родника, сюда пришел?— Она оскалила белые зубы и внезапно впилась зубами в его руку.
Он вырвал руку, а она, извернувшись, кинулась в окно. Разбила стекло. Выскочила.
Левко схватил оружие и кинулся к разбитому окну. А Соломия заглянула уже в другое:
— Видел? Вот я! — и отскочила.
— Сама придешь,— громко ответил Левко.
XXIV
Он сидел в мягком кресле, боком к иконостасу, напоминавшему алтарик. Череп прикрывала плетеная шапочка. Стеклышки очков в радужной оправе, казалось, не удерживались на носу, а будто вставлены в лоб. Раскинув полы теплой сутаны, заложил ногу за ногу. С запястья левой руки бусами свисали четки.
В таком же кресле, тоже боком, опираясь на круглые подлокотники кресла, сидел майор в полевой советской форме. Зачесанные назад волосы подчеркивали седые виски. Седина подымалась и выше, но густые волосы гасили ее. Глаза смотрели хмуро, устало.
— Что ж ты, Сергей, будто сметаны наелся? — спрашивал отец Иов, подняв руку с четками и указывая пальцем на раннюю седину.— Я...
— Не об этом речь,— оборвал Сергей.
Отец Иов, споткнувшись на слове «я», не повторяя его во второй раз, как бы сберегая каждое свое слово, оставив недосказанную фразу, проговорил:
— Видел тебя сержантом в черной полицейской форме, Гауптманом в мышиной немецкой, а теперь...
— Не об этом речь,— снова оборвал Сергей.
Но старец не умолк:
180
— Убил и обмундировался? Не перебивай меня. Не хочешь слушать как священнослужителя, послушай...
— Я не пришел к тебе как к родителю...
— Погоди! Твоя седина тебя ничему не научила. Поверь, твой старик кое-что знает и понимает. Жить — не значит просто отбрасывать от себя то, что должно умереть, жить — значит, быть суровым и неумолимым ко всему, что становится слабым и немощным,— стекла его очков хищно блеснули.
— Имеешь в виду меня?
— Почему только тебя? И себя тоже.— И добавил: — Жить — быть неумолимым к тем, которые умирают, следовательно, быть постоянным убийцей, честным и благоразумным убийцей. Но,— иронически усмехнулся отец Иов,— еще древний Моисей принес заповедь от бога: «Не убий!» — И неожиданно закончил — резко и сухо: — Ты не имел права сюда являться!
— Ты думаешь пережить меня? — зло рассмеялся Сергей.— Ты — честный, ты — благоразумный?..
Отец Иов сидел в кресле, не меняя позы. Вязаная шапочка на черепе как бы покрылась плесенью. Борода белая, реденькая. Лицо будто восковое, безжизненное. На нем отразились все перемены, которые изменили монастырь, владевший землями, лесами, водами, и в котором он начинал при блаженной памяти Иннокентии экономом. Из мужской обители монастырь превратился в женскую, и теперь он тут попиком, обычным, убогим попиком. Уже не в келье настоятеля, с приемной, а в обычной монашеской. Уже не приносят ему воду с ромашкой. С сестрами-монашками он видится лишь во время богослужения. Обед ему ставят перед дверью. Плоть давно убита. Не только она. Помыслы о мирской суете. Служба церкви — упование в бозе.
— Неужели ты еще сомневаешься, Сергей?
Турчин крепко ухватился пальцами за подлокотники. Обтянутые коричневой потрескавшейся кожей, подлокотники заскрипели. Он с силой вскочил с кресла. Скрипнули старые пружины.
— Посиди,— тихонько кивнул старец и поднял вверх палец. На его посиневших губах в поредевших усах и бороде мелькнула не просто насмешка — сарказм.
Никто не слышал, чтобы он смеялся. Никогда не звенел его смех. И никто не знал, какой у него смех: гром
181
кий, раскатистый, искренний — или приглушенный, затаенный? А улыбка, и особенно насмешка всегда трогали только уголки его рта. Неопытному глазу в этой улыбке нельзя было уловить даже тени гнездившегося в сердце отца Иова — хищника — жестокого коварства.
Сергей знал отцовскую усмешку. Она многое ему напоминала. И: «Сия тайна великая есть...», и другое, более значительное.
— Дьявольская...— прошептал Турчин, опускаясь в кресло.
— Что ты говоришь?
— Молчу.
— Поздно, Сергей. Я не научил тебя молчать и думать. Неужели ты не усвоил, что беседу с царем-владыкой следует вести по писаному. Всегда. Каким бы и где бы ты ни был. Думать, молчать, чтобы где надо, когда надо, и то негромко, проронить свое слово, как волю всевышнего,— вот в чем подлинная наука.
— Тихие, как голуби, мудрые, как змеи... так записано?
— Да. Именно так! Почему же ты не делаешь выводов? Твое появление напоминает мне знаешь что?
Лицо Турчина потемнело. На щеках ходили желваки, будто он жевал четки-бусы. Отец Иов не требовал ответа на свой вопрос.
— То лихое время, когда ты и тебе подобные освящали превращение педагогической школы в гимназию...— продолжал он раздумчиво и настойчиво...
— Лихое время? — процедил Сергей.— Великое время! Великий момент! А ты со мною по писаному!
— Я вернусь еще к твоим словам. Не перебивай меня... Повторяю: в то лихое время ты горланил: бейте в колокола, пора выкрасить церковные купола в желтоголубой цвет. Я вышел к вам со всем клиром и не допустил. Пора знать, мальчик, что ответил реформатор Лютер пастырю, который побоялся сбросить старомодную рясу. Он ему сказал: носи ее сколько хочешь, но проповедуй то, что я хочу. Вы согнали народ. Народ молчал. А вы, кучка серых волков, завывали: «Повесить его! Повесить на церковных колоколах!» А за что? За то, что я правлю службу на церковнославянском языке? Вы сами не ведаете, что творите в блуде своем.
182
Затурканная баба, не понимающая многих слов молитвы, сильнее молится и ревностно бьет поклоны «для большей славы божией». Святой Лойола — мой светоч!.. А теперь отвечай: что произошло бы со мной, если бы я тогда вас послушал? Молчишь. «Великое время, великий момент!»... Пустословие! Лживые слова! Я слышу их и сейчас,— он поднес к очкам правую руку. Широкий рукав опустился до локтя, оголив восковой желтизны руку. Старец посмотрел на часы-луковку Кировского завода, переделанные на наручные бывшими монахами-мастерами, которые во время войны делали крестики из гильз.— Теперь пора,— процедил пренебрежительно, с трудом поднялся с кресла и, сгорбленный, нескладный, шагнул к иконостасу.
— Давай,— махнул рукой Сергей. Он облокотился на подлокотник кресла, склонил голову на руку.
Отец Иов открыл иконку в иконостасе и включил радио. Засветилась шкала, послышался треск, как будто в эфире ломался сухой хворост.
Сергей любил сидеть, подперев голову рукой. Не Соломия ли ему сказала: «Когда ты подпираешь голову кулаком, напоминаешь Мольтке \ А он действительно был великим полководцем». Турчин не воспринял эти слова в шутку. Со времени пребывания в фашистской разведшколе носил в бумажнике фотографию Мольтке, хвастался ею, показывая Соломии. Став районным комендантом службы безопасности—«СБ», где бы ни был: в лесу, на пеньке, в сельской хате, не забывал принять излюбленную позу: голова опирается на Руку: думает...
В кресле удобно. Сидя на пеньке, приходилось, нагнувшись, ставить локоть торчком на колено. Ныла спина. Не было твердой опоры для руки. Здесь же он откинулся на мягкую пружинистую спинку, локоть чувствовал мягкий подлокотник. Пальцы правой руки засунул под пряжку ремня. Он не знал, как держал свою правую руку Мольтке: фотография изображала только бюст. Пальцы — под пряжку — сжимать, давить, душить. Вероятно, это единственное, что было у Сергея собственного, а все другое—копия. Копировал он обычно не без мастерства. Левая рука поднята свободно и
1 Модьтке— немецкий генерал (1846—1916),.
183
властно. Кулак, на который опирается голова, сжат неплотно, словно бы человек устал и жаждет отдыха. Пусть ненадолго, хоть на мгновение, но отдыха, чтобы снова навалиться с силой и уверенностью. Голова Сергея едва прикасалась к кулаку, она крепко сидела на его шее. Он склонял ее, морщил лоб, прищуривал глаза, изображал задумчивость. Над переносицей вырастали с усилием сделанные складки, так же, как с усилием круто сводил брови. Позерство было у него во всем.
Он сам себе нравился, копируя пруссака-милитариста. Раньше, когда еще не привык подпирать голову кулаком, ему часто казалось, что он сидит и наблюдает за собой со стороны: правильно ли сидит, так ли следует сидеть. Когда же привычка стала будничной, каждое движение твердо заученным,— уже не думалось о пра-вильнрсти позы. Он был убежден, что это не наигрыш, не подражание. Появилась твердая уверенность, что он именно таков: высокая персона, умный, дальновидный, элегантный.
Слова отца: «Я не научил тебя молчать и думать» — бесили Сергея потому еще, что за него всегда думали другие, а он выкрикивал их мысли.
Это началось еще с детского приюта, где ребенком, подлизываясь к няньке, он повторял каждое ее слово, сообразив, что это ей нравится и за это получишь вкусный кусочек, лишний ломоть хлеба — с маслом и повидлом.
Отец Иов стоял перед иконостасом, крутил ручку приемника: отрывки музыки наскакивали на громкое дикторское разноголосье. Звуки бравурной мелодии сменялись сентиментальными, а шипящие голоса сменялись скрипучими.
Сергей сидел, делая вид, что погружен в серьезные размышления.
Нужная минута не наступала. Отец Иов оглянулся, увидел нахмуренные брови сына, прищуренные его глаза и моментально понял: самое большее, о чем Сергей мог думать,— это вспоминать, то есть пятиться назад. И единственно, кого он мог слушать,— это самого себя. В этом — инстинкт самосохранения. И старик больше не оглядывался. Он стоял, согнув спину, на которой словно бы вырос горб.
184
Келья скудная. Две двери. Стены давно не белены, ободраны. Железная, покрытая запятнанным одеялом, кровать. Голый столик. Иконостас и около него старые кресла. На них коричневая потрескавшаяся кожа.
Турчин вспоминал, как они с Богданком Савлюем въехали на «опеле» в Велемче. Он — комендант полиции, Богданко — редактор газеты. Слезливый, в очках Богданко.
«Первый раз мы въехали с помпой,— мелькало в его памяти.— Но Богданка я не любил. Носатый, в очках, с профилем длинноногой птицы, рано состарившийся хлопец. Искал здесь своих родичей, а нашел племянничка, Юрка, который тоже взялся за перо. Пописывал стишки. На торжествах по случаю освящения гимназии Юрко выступать не захотел. Еще тогда хотелось рассчитаться с ним... А в другой раз у нас машины уже не было... Морока с этим племянником. Насочинял стишки про ландвирта: приехал толстяк — повыбивал людям зубы... А Богданко — чернильная крыса! Удрал к себе и оттуда заботится о Юрке, вспомнил о нем, спрашивает, ‘ настаивает, чтобы этого хлопца переманить в наш лагерь...
А мой старик получал сведения от связников и пересылал мне. Вероятно, все знает: Савлюев племянничек начинал у него послушником. Лови, старый, волны, лови.— Мысли набегали, настоящее путалось с прошлым.— Зачем я сижу здесь? Как будет с тем Юрком, мы еще посмотрим. А я пришел сюда по двум причинам: первая — весточка от связных, вторая — оружие. Но в прошлом не безопаснее».
И он сидел в кресле— весь в прошлом.
«Мы маршировали... Как мы маршировали! Ноги вытянуты — выше, выше... Раз-два! Раз-два! Прусский шаг. Высокий и широкий.— Не анализировал, а вспоминал и наслаждался: — Целые районы приказано выселить. Верховский лес — лес для охоты самого фюрера. У меня на руках приказ: сжечь села. Начнем с Велемча, с Залужья. Я сказал об этом Богданку. Он никогда не выпускал газеты, сначала не повидавшись со мной. В Залужье его родня — племянник, шурин. Мог предупредить родню, чтобы выбрались поскорее. Где там!
185
Испугался и пальцем не пошевелил. Жгли Залужье. Дым был какой-то особенный — горело человеческое мясо. А после этих акций Богданко написал меморандум и носился с ним, как дурень с писаной торбой. «Гляди, Сергей, вверху: гакенкройц — свастика и трезуб. Такие же флажки. А далее,— текст — проблема сотрудничества». Поехали, повезли. Гауляйтер и обер-президент Эрих Кох нас не принял. Ждали неделю, вторую. Ожидание приятное: ресторан, казино — только для немцев, но можно и нам, сбоку.— Прищурив глаза, вспоминал все снова и снова.— Мы пили, гуляли и все обсуждали, обдумывали, как нас примет сам Эрих Кох! У него на воротнике знаки отличия: дубовые листья. Мы видели его лишь на портрете. Но и на портрете видны дубовые листья на воротнике. Мы ловили каждое слово про гауляйтера и обер-президента. По закуткам, в кулуарах. Нам рассказывали: у его адъютанта, полковника Шене, жена родила. Эрих Кох по этому поводу прибыл на квартиру своего адъютанта. Всего на пять минут. Чтобы поздравить. Он поднял рюмку и сказал: «Я пью за этот бесформенный кусочек мяса в пеленках, так как в его жилах течет кровь всей нашей нордической расы!» Выпил и уехал. Мы с Богданком были вне себя, услышав это. Богданко засел строчить статью: «Нордическая раса — руничные знаки, вышитые золотом...» Аудиенция не состоялась. Нас принял адъютант полковник Шене. Он поблагодарил за меморандум от имени гауляйтера и обер-президента, поднял ногу в элегантном сапоге, твердо наступил этим сапогом на ковер, которым был застлан паркет, и передал слова гауляйтера: «Один центнер пшеницы с этой земли важнее всей украинской проблемы — в этом заключается весь смысл сотрудничества». И вручил нам памятку об обращении с населением. Сколько же в ней было заповедей? Подожди, подожди...
Все было — по пунктам. Один пункт я помню. Мы с Богданком смеялись, мы хохотали до упаду: «Желудок этого населения эластичный, поэтому действовать следует без ненужного сочувствия». Богданко хотя и писака, но так остроумно никогда не придумал бы... «Желудок, переваривающий гвозди, подумать только, эластичный»,— потешался очкастый Богданко, словно бы сам все это придумал».
186
Отец Иов оборвал воспоминания.
— Слышишь? — спросил он и бросил презрительный взгляд на Сергея.
Из приемника едва доносилось визгливое, хриплое:
— «Америка несет признание и процветание...»
Турчин еще не очнулся от воспоминаний: «Что?..
А... уловил?» Он поднял голову, прислушался:
— «...подавить... марксистскую...»
— Узнаешь? — спросил старик.
— Что?
— Голос Богданка. Савлюево словоблудие.
— Выключи, отец! Не о том речь. Я не для этого сюда пришел.
Отец Иов щелкнул ручкой приемника, закрыл иконку в иконостасе и, повернувшись, стоял впереди иконостаса, сам как икона. Очки на лбу — холодное стекло.
— Ты не должен был, не имел права являться сюда.
Сергей в бешенстве вскочил с кресла:
— Я пришед...
— Понимаю, но я вестей от связных больше не принимаю и пересылать тебе не собираюсь,— произнес старик.— Хочешь, возьми и сейчас же меня повесь. Ты это умеешь,— на его синих губах мелькнула усмешка.— Будешь настаивать, сам пойду к Яровому в район и выдам. Я дорогу знаю: бог поведет.
1 Сергей этого не ожидал.
— Ты... ты...— прорвалось сквозь стиснутые зубы.— Но ведь ты сам благословил крестом тех, обгоревших, что лежали у сельсовета...
— Крест стоит дороже, мальчик, чем твои вести через связных... Нет, ты меня не убьешь. Знаешь почему? В монастырском колодце, сбоку в срубе, для вас — оружие. А что ты будешь делать, если я утопил его? — Очки блестели, и с уст не сходила усмешка.
— Дьявольская... Дьявольская...
— Не горячись. Оружие я не утопил. Правда, что оно нужно? Разве не ты говорил: кто с мечом, кто с крестом, лишь бы на щите. Оружие я берегу, хотя оно сейчас, во время таких особых трудностей, не опора богу и церкви. Знаешь, когда ты возьмешь это оружие?
— Сам вывезешь,— злобно сверкнули глаза Сергея,—либо в гробу, как покойника, на кладбище, либо в телеге с навозом!
187
— Нет. Я не циркач и не опереточная дива. Ты! — он ткнул в него костлявым пальцем, отступил от иконостаса, стал боком и показал тем же пальцем на иконку, за которой спрятан был приемник:—Они, вы — циркачи и опереточные дивы. Я не слепой! Хорошо видел, как красиво, опершись, сидел ты в кресле. Манекен! Позер! Ты можешь забрать оружие, но для этого ты должен учинить нападение на село,— закончил он, не повышая голоса.
— Ты мне больше не отец! Ты...
— Я твой родитель. И ты послушаешься. Иди.
— Я пойду, но знай: если погибну — то вместе с тобой!
Отец Иов произнес: «Дикси...»1 —но Сергей уже этого не слышал.
Одна дверь ведет в длинный коридор, другая — в садик под монастырские стены. Они оставались открытыми. Старик вышел на крыльцо, закрыл дверь, выходящую сюда, и подумал: надо их забить, а еще лучше — замуровать. А Сергей, соскочив со стены, думал: «Я ж тебе устрою!.. Нападу!»
XXV
Кольнуло под грудью — она бежала. Остро, в самое сердце. Боль была особенной, внезапной, словно укол иголки, о которой не знала, нося ее в себе. Остановилась и положила руки на живот. Ладони не чувствовали тела, а только упругую неудержимость, шевельнувшуюся в ее лоне. Необычная внезапная боль, которой никогда раньше не знала, так же необычно быстро миновала. Но мысль о ней насквозь пронзила ее сознание. И эта мысль болела. Мысль на острие иголки.
Пальцы осторожно и сосредоточенно, подсознательно коснулись живота. Вместо покалывания под грудью в нее полыхающей струей нахлынуло что-то нестерпимо жгучее.
Казалось, стремительная горячая волна из груди поднялась вверх, качнувшись, залила жаром ее лицо, и оно пылало.
1 Я закончил (лат.).
188
Светил молодой месяц. Тихо блестели звезды. Ночь в поле. Голубое, светящееся небо и фиолетовая, почти черная, на холмах земля.
Щемящей свежестью дышала пашня. Веяла духом только что брошенного в нее зерна, сухого, лежавшего в теплой кладовой.
Она глубоко вдыхала запах молодой полевой поросли, терпкой на вкус, увлажненной росой, и думала: «Наверно, это пырей, ранняя сурепка, мать-и-мачеха?..» Еще девчонкой она полола пырей, вырывала сурепку. «А может, это запах чертополоха?» Его она тоже полола сапкой. Батько говорил: «Земля — мать, береги ее». Она как бы очнулась, внимательно и зорко поглядела вокруг... Только не видела уже — ни пырея, ни сурепки.
И уже не бежала, а степенно шагала, осторожно, будто несла и боялась разбить то, что несла.
Ноги вязли в боронованной пашне.
«Полянщина обработана, ухожена. А совсем недавно лежала заброшенная»,— думала она, идя и выбираясь на полевую стежку. И потому, что ноги вязли в пашне, что пашня не обжигала холодом, а, наоборот, согревала своей мягкостью, мысли Соломии были теплыми.
Ей хотелось быть доброй.
Полевая тропинка как бы сама выскользнула из-под ног. Она продолжала неторопливо идти, не останавливаясь.
Поднятый кверху рог молодого месяца напоминал поднятую руку.
«Как его рука,— непроизвольно мелькнула мысль.—• Сергей тогда замахивался, чтобы ударить».
Если бы могла увидеть в это время свое лицо, не поверила, что это она: под глазами, ниже носа, до губ лицо сплошь усеяно веснушками, словно усыпано маком. Но она не думала о своем лице. Эта мысль: «Как его рука»—не покидала ее. Застряла в голове, как вбитый гвоздь.
Опять кольнуло под грудью. Мгновенно, неожиданно. Она поняла: боль, пронзившая уколом иглы, была тревога за ребенка, которого должна была родить. Мальчика, девочку? Кто знает? Это сознание, уже пронизавшее все существо, уже жившее в ней, объединилось со страхом за будущего ребенка... И в то же время напол-
189
йило ее радостью, добротой, надеждой. И она баюкала эту мысль, как будущее свое дитя.
«Как его рука...— это страх. Эта рука поднялась надо мной и над ребенком.— Соломин вся сжалась, прониклась ужасом и тоской. Страх заполнил ее всю.— Как его рука...» — она теперь боялась взглянуть на небо: на красный серп месяца...
...«Когда Сергей замахнулся на меня, только поднял руку, я все поняла... Не я ему нужна, а кони, тягловая сила! Кони, чтобы гнать их во всю мочь, шквальным ветром нестись куда глаза глядят. Куда?..»
...А потом, когда они с Турчином поссорились, когда он обозвал ее отца сволочью, бабуня Текла говорила:
— Кобыла ты, что ли, которую он оседлал и над нею издевается? Или ты кляча, прости господи, что слепой ходила по кругу на привязи. А он, аспид, на тебя руку поднимает. Сначала — рукой, кулаком, а позже чем придется: кнут — кнутом, кнутовище — кнутовищем, шлея — шлеей... Да ведь вы же не венчаны! Цветочек ты мой на грядочке... Ой, боже, создатель наш, почему же ты, невенчанная, стоишь в нашем окошке не радостью, а цветком позора? — Бабуня крестилась и плакала.
Дед Порфирий возразил:
— Ов-ва, подумаешь, беда какая!.. Под вербой стояла, на траве лежала, ветер играл на гармошке,— чудо какое! А что замахнулся — значит, хотел повенчаться. По-моему: замахнулся — бей! Косу не отобьешь, не накосишь, ха-ха.;.
Бабуня перестала креститься:
— А чтоб тебя било без передышки, как ты меня бил! Как меня за косы таскал! — И наступала на него, злая и грозная.
— Ну, ну, Текля...— притих дед,— побойся бога.
— Бога я боюсь, а тебя уже — нет! Не боюсь!
— Тьфу! И ты стала пособницей Советов! — Пятясь задом от разгневанной жены, Порфирий открыл плечами дверь, споткнулся о порог, растянулся на полу. Голова в сенях, ноги — в хате. И завопил: — Равноправие?
— Убери, Порфирий, ноги,— сказала Текля, закрыла дверь и снова заголосила: — Невенчанные! Невенчанные!..
190
Соломия вспоминала все невзгоды, и становилось еще страшнее.
Бабка и дед пошли сказать отцу-матери, что у нее скоро будет дитя. Если бы он не поднял на нее руку, никому бы не сказала, скрывала бы до тех пор, пока сами не увидели.
Воротились они вскоре. Дед сказал: «Все ерунда. Оксент коней поубивал, пусть сам в плуг запрягается». А бабуня посылала к матери: «Хоть и стыдно людям в глаза глядеть, а надо идти. Что поделаешь? Родная мать, она, может, и обругает тебя, но не прогонит. Такая твоя доля».
Мать накладывала картофель в чугун с водой.
Соломия внезапно появилась на пороге. Мокрая картошка рассыпалась по кухне, покатилась под стол, под лавку, под кровать, где спит отец, и ей под ноги. Мать не собирала картофель, как стояла, так и опустилась на табуретку.
— Что же ты наделала, доченька...— И вытерла ладонью слезу.
Отец поднялся с кровати:
— Теперь уже все! Конец! — И пошел, ступая по картошке, из хаты, бормоча:—Хватит! Хватит! Конец!
Картошка хрустела под его ногами.
Мать, сидя на табуретке, качала головой.
— О чем будем думать, доня, о пеленках или о покрывале в гроб?..
Соломия все дальше с трудом тащилась по тропинке. Казалось, вот-вот остановится сердце и она упадет... И только то, что носила под сердцем свое дитя, не давало ей падать...
Холмы проступали все ясней и ясней. Высокие, они будто становились ниже, припадая к земле.
Где-то осторожно шелестели сухие стебли. Наверное, полынь. Бледнели звезды. И не бледнел месяц.
И вдруг почему-то ей вспомнилось давнее. Давнее, далекое. Когда-то, в такой же лунный вечер, встретилась с Юрком. В саду цвели вишни... Ночной сумрак освещала белизна цветущей вишни.
— Хочешь, я спою тебе свою песню? — спросил он.
Эта песня была у него первой. Он пел ее глуховатым голосом, пел, будто рассказывал. О другом были в этой песне слова, но я слышала то, о чем Юрко и не
191
заикнулся: «Сам сочинил и положил на ноты как научил Новак. Ты же знаешь: он играет на скрипке. Помнишь, учил нас водить весенний хоровод-веснянку. Но я ему не пел свою песню: боязно». Все это я улавливала в мелодии, в его глухом голосе. Песня лилась, касаясь каких-то невидимых струн. Она прислонилась к нему плечом и впервые не отшатнулась. Я была сама не своя,— вспоминала Соломия,— и когда он закончил, молчала, прислонилась к нему крепче, будто оперлась на плечо его песни. Он, вероятно, почувствовал тепло моего плеча, а может быть, его податливость. И его плечо было таким же теплым. Я еще не знала, что такое нежность. Белые вишни в сумерках вечера, копанка, в, которой всплеснула рыба? Мое плечо, прислоненное к нему? Или услышанная песня? Мне тогда казалось, что нежность осыпалась вишневым цветом, стояла тихими сумерками, всплеснула рыбой и погнала волну на копанке, лилась песней. А мы сидели, и с нами она, наша нежность.
Он не спросил, пснравилась ли мне песня. И я молчала дольше обычного и впервые не назвала его меченым.
— Юра,— я сказала Юра, а не Юрко,— научи меня своей песне.
Он отстранился от меня, посмотрел в глаза и не поверил... Слабо, но отрицательно повел головой, встал и ушел. Я думала, что он вернется, сидела, ждала, но Юра не вернулся.
И я на него не разозлилась. Я удивлялась, не веря самой себе, что не злюсь. Поднялась и пошла в сад. Ходила от яблони к яблоне. А в саду некошеная трава. Если бы отец увидел, накричал бы: «Неряха, грязнуля, а не хозяйская дочь! Где это видано — топтать траву?» Я ходила не одна. Меня водила его песня, которую я тихонько напевала, припоминая каждое слово. Но я лишь один раз слышала, а потому не всю запомнила. Я нырнула в высокую траву, как в воду, легла навзничь. Молча смотрела в темное небо, а во мне что-то тихотихо пело. Наверное, и он молчаливо вынашивал свою песню, сидя над копанкой.
Звала мать. Вышел отец.
Впервые в эту ночь мне не спалось и не хотелось
192
спать. Не слышала голоса отца, матери. Загадывала: придет Юра завтра или не придет?
Я гадала весь день, когда полола на огороде. Вырывала вьюнок, подбирала спорыш, пальцами выковыривала горчак, а увидев ромашку, отщипывала лепесток за лепестком: придет — не придет? Ромашка ничего не сказала.
Ждала захода солнца. Солнце — за Пропастище, за Верхов, а я — к копанке.
Он шел огородами, прямо из долины. Солнце — вниз, а он — в гору:
Ой саду, м!й саду вишневий, Розцв1вся ти раз назавжди...
Я выводила мелодию, вероятно фальшивя, но не переставая. Мой голос звенел. Я вся звенела песней. Пела и радовалась, что запомнила.
Юра остановился:
В саду разлучалася пара.
ГПд нею здригалась земля.
Я пела и шла к нему. Он стоял на огороде, где я полола. Меня влекло, влекло... Я взяла его за руку. Она дрожала. Я держала его руку. Я могла бы поцеловать... Не посмела. Я отпустила его руку, оглянулась на подворье, цветущий сад...
На горизонте начинался рассвет. Обозначилась тонкая, розовая полоска зари. Чернела усадьба Довбеняков. Бледный месяц еще виднелся в предрассветном небе.
Посмотрела на месяц и снова вспомнила поднятую руку Сергея. Опять потекли непрерывной цепью мысли...
А когда-то, когда вызывал ее в сад на свидания, он был другим...
Правда, не таким, как Юрко. Не таким, как Василь.
Соломин вышла в сад, а Турчин сразу появился из-за угла хаты.
Положил ей на плечо свою властную руку. Она вскинулась и задрожала.
— Ты почему дрожишь? Мы с тобой еще свадьбу сыграем.
7 Б. Харчук
193
XXVI
Старшина спросил его:
— Впервые?
Юрко кивнул. Место в камере предварительного заключения досталось ему самое лучшее: около железной, покрытой известью печки у самого окна. Словно кто-то приберегал этот уголок для него.
Окно — свет. Заправив нары, Юрко смотрел в окно. Камера в обычном кирпичном домике. Поверх забора — колючая проволока. Окно выходило не во двор, а на улицу. И перед хлопцем открывалась чуть ли не треть райцентра.
Он редко бывал в городке: считанные разы. Однажды, еще перед войной, отец брал его с собой на ярмарку, и пробыли они там весь день, купили сапоги. На Юрка — велики, для отца — тесноваты, чтобы оба могли носить эти сапоги по очереди.
Во время фашистской оккупации в городке никто не показывался. Что в нем? Гестапо, полиция. Люди обходили стороной это страшное место. Жил там лютый рыжий ландвирт. Толкут ступы, мелют жернова — на Украине беда черная. Сложилась песня о рыжем ланд-вирте, который грабит украинских крестьян, забирает для фашистской армии зерно, сало, масло, яйца... Это его, Юрка, слова. А песня стала народной, безымянной.
Здесь, в городке, издавалась газетка. Редактировал ее дядька по матери Богдан Савлюй. Дядьку он видел дважды. В первый раз тот приехал на машине и разыскал его. Педагогическую школу превращали в гимназию, по этому поводу устраивались торжества, и редактору очень хотелось, чтобы выступил кто-либо из местных людей. Девчата и хлопцы уже тогда на гулянках распевали песни, сочиненные Юрком. Кто-то рассказал об этом дядьке, и тот ухватился за Юрка. Узнав об этом, Новак сказал Юрку: «Пусть бешеные собаки воют на их сборище»,— и хлопец запомнил эти слова. А дядька расхваливал самого себя: родился, мол, среди этих гор. И сыпал: Чехословакия, Италия, Германия... знай наших! Но куда бы его ни бросала судьба, он стремился сюда, где бьет родник, где течет Велемчанка.
Родник не замутился, речка не обмелела. Но уже все — не то. Не то. Почти два года советской власти да
194
ли себя знать. Люди немцам не рады... Настоящих талантов нет, а те, что вроде и прорезаются, какие-то хилые, тщедушные. Глаза Савлюя за очками так и говорили: «Бери, юноша, бери, племянничек, с меня пример».
Юрко сказал, что никаких стихов у него нет, а песни? Кто поет — тот и перерабатывает на свой лад, разве они мои? Дядька похвалил за скромность.
И напирал: «Читай мою газету, учись! Я твою песенку про любовь напечатаю».— «Напечатайте лучше про ландвирта».— «Я этой просьбы не слышал, и ты мне об этом ничего не говорил. Понял? Немцы наши освободители, твое счастье, что я твой родственник, иначе...»
Газета вначале издавалась на белой бумаге, затем на желтой, а позже и вовсе на рыжей. Никакой песни в ней дядька не напечатал.
Во второй раз он увидел Богдана Савлюя в обществе коменданта полиции Сергея Турчина — их вез Оксент Кричевский. Редактор-родственник в это время Юрком уже не интересовался. А редактируемая им газета время от времени попадала в село. Ее с начала и до конца писал сам редактор: казенные, трескучие передовицы о доблести фашистских оккупантов он подписывал своим именем и фамилией, а подписи под информационными заметками тоже не блистали литературным даром: Бог. Сав., Б. С. или Сав. Бог., С. Б. Передовиц, понятно, никто не читал, так как они начинались и заканчивались хвалой Гитлеру. Среди статей Савлюя Юрко нашел одну под заглавием «Копанка». На эту статью Богдана Савлюя вдохновили карпы, которыми его и его друга угощал крестьянин В. из собственного пруда. Со вкусом описывал Савлюй карпов, жаренных в сметане, с хрустящей корочкой, как сами они просились в рот, а потом прилипали к нёбу. Вот именно аппетитные карпы и вдохновили его на размышления. Копанка— не озеро, вода в нем мутная, стоячая. Надо надеяться на бога, а боженька редко посылает дожди, поэтому приходится довольно часто возить туда воду в бочках. Счастье, что есть постоянный родник...
Юрку не трудно было догадаться, о какой копанке шла речь. Он сам помогал ее копать. А Богдан Савлюй писал: «Копанка — вот оно, неисчерпаемое море, которое плещет свежими волнами всесильной идеи, а карпы в
7*
195
непостижимых глубинах пруда так и кишат, так и виляют хвостами, победоносно олицетворяя собой святая святых этой идеи — державность».
Статейку читал Новак.
— Тупорылый, которого тянет в лужу, мало чем отличается от поросенка. К сожалению, это часто бывает с пересыпу и с перепоя,— прокомментировал он...
Из окна своей камеры Юрко видел разрушенные дома. До войны все улички городка тянулись к райсовету с красным флагом над старинными часами. Когда Юрко приехал сюда за учебниками, не было уже ни самого здания, ни красного флага. Взрывы разрушили райсовет и большинство тех улиц, где находилось гетто. Торчат развалины домов, кучами лежит обожженный кирпич, остатки глинобитных хат, штукатурка. И все эти руины напоминали о долговязом, очкастом Богдане Сав-люе,— его следы.
— А где он, твой дядечка? — спросил следователь.— Ну и родственничек!..
А Юрко представлял себе того «дядечку»: гудят самолеты, летят клином — тройка за тройкой. С ревом опускались над селом, бросали бомбы. Бомба разрывалась, а из столба черного дыма, из бурой пыли, из той воронки, которая разверзлась посередине села, выезжал «опель», а в нем цел-целехонек Богдан Савлюй. В фетровой шляпе — залысин не видно. Бамбуковая трость между колен. Руки в перчатках, хоть и середина лета: «Твое счастье, Юрко, что я твой родственник, иначе...» Это «иначе» называлось гестапо.
Хлопец смотрел в окно и вспоминал, как принес из городка книжки,— жизнь начиналась отсюда, из руин. Нес книжки и всю дорогу до дома вспоминал Мойсю — сынка Цили, у которой отец давно когда-то купил клячу. Циля добровольно отправилась в гетто, попрощавшись с сыном Мойсей. Его взял подпаском Довбеняк. Юрко выгонял пасти корову. На Полянщине встретился с Мойсей. Мальчик тихий, грустный, не бегает, не играет, ни за кем не гоняется. Соберет скотину, подстелет лохмотья, сядет на них и молчит. Долго молчит. А потом спрашивает: «Юрко, что раньше — гром гремит или молния сверкает?»
Долог летний день. Мойся маленький, а скотины много.
196
Вечерело. Он собирал овец, коров, тянул за собой кнут и все оглядывался: виден ли еще Юрко с коровой, не хотелось ему уходить с поля.
Однажды гнать скотину с поля вышел сам Довбеняк. «Собери всю скотину,— сказал он Мойсе.— А ты чего тут торчишь?» — крикнул он на Юрка.
Мойся собрал скот. «Теперь становись, я тебя убивать буду»,— сказал Довбеняк и поднял винтовку. Мальчик испуганно глядел на него. На винтовке штык. «Да я и не убивал бы тебя. Подпасок мне очень нужен, но из-за тебя могут и меня убить. Я уже расспрашивал людей: за укрывательство еврея — наказание, расстрел. Зачем тебе, Мойся, идти в гетто. Лучше я убью тебя здесь». Он прицелился в мальчика штыком. Мойся ухватился за него голыми руками. «Дедуся, дедушка, я вам не только коров и овец пасти буду. Вы сказали взять и свиней. Я и свиней пасти буду! Я смогу! Дедушка! Де...»
Довбеняк долго чистил штык землей, а потом, ссу-тулясь, погнал скотину домой.
Юрко тогда похоронил Мойсю в поле и поклялся над его могилой: пока жить будет, не простит ничего кулакам-живодерам, убийцам.
Юрко смотрел на кучи битого кирпича, рыжие, закопченные, и они напоминали ему Мойсину кровь, текущую на землю из глубокой раны. Поле вобрало в себя эту кровь до капли. «За что она пролита?» — думал Юрко...
Он глядел в окно. Среди руин, прямо из кучи камней тянулась тоненькая березка. Через запотевшее стекло виднелись продолговатые, заиндевевшие сережки. Еще без листьев, а уже цветет.
С ним в камере сидели: вор-карманник, бежавший из высылки кулак, пройдоха проповедник, пьяница многоженец и еще какие-то люди, которых старшина именовал: «родимые пятна», нисколько их, впрочем, тем не оскорбляя.
— А ну, отойди, безголовый. Пялишься в окно своими невключенными фарами: будто что-то понимаешь. Садись в мой закуток и бей вшей, пока не уничтожишь гадов. Я разрешаю. Вши в сельских трущобах плодятся и сюда ползут.
Кулак бормотал:
197
— А может, наоборот: с тротуарчиков — на село.
— Ты, мурло, закрой свою плевательницу, иначе я ее так разверну, что зубы посыпятся.
— И появится во образе и во подобии человек, а нутро у него звериное,— пройдоха проповедник поднимал кверху руки,— который ничем не гнушается и рычит, словно зверь.
— Заткнись: зазвоню по твоему колоколу — пасху справлю!
— Справь, живчик, смилуйся, справь,— просил пьяный многоженец и еще кто-то.— Каждое твое слово крепкое, как сто граммов. Мы хмелеем, слушая, а еще и закусить нам хочется.
— Может, вам отбивной хочется? — И воришка показывал кулак.— Подходи, у кого болтуны не залежались. Какая же отбивная без яиц?
Отойдя от окна в угол, Юрко устраивался на нарах.
Сумерки. Они тоже многое напоминали. И он думал о вербе, о хате.
Под вербой в последний раз они виделись с Соломи-ей и разошлись. Под той самой, высохшей, дуплистой. Стояла поздняя осень, верба была безмолвной, как зима. Он шел после уроков, а Соломия из монастыря, после вечерни.
— Что же ты сменила школу на монастырь?
— А я с тобой поменялась. Когда-то был в монастыре ты, теперь я. А впрочем, твоя школа вечерняя, и я с вечерни.
Была она тогда дерзкой, гордой. Остановились около вербы. Соломия подскочила, отломила высохшую ветку и ломала ее одной рукой пальцами на ладони. Он видел, она нервничала, пересиливала себя, чтобы постоять с ним, и трещал, ломаясь в ее руке, прутик. Кора не рвалась, голые палочки, удерживаясь на лыке, свисали с ее руки... Словно их разговор.
— Я заходил было к вам.
— Заходил?
— Разве тебе мать не сказала?
— Может быть...— И не смотрела на него, а куда-то в темное небо.
Она мечтала о чем-то своем, сокровенном, ему неведомом. И на ее лице, которое, казалось, он знал до мель
198
чайшей черточки, появилось то-то неузнаваемое, будто чужое.
Но разве не те же у нее брови, о которых он думал: крылатые. Брови над глазами — крылья чайки над водой.
Волосы гладко причесаны на пробор, старательно повязанный платок. Будто ее прилизали? Кто ее прилизал? Нет, она такая, как всегда. Он уверен: ее красота рождалась из больших синих глаз. Что-то потаенное, незнакомое источали они. И она казалась ему еще красивей, еще прекрасней.
— Ты что-то сказал? — торопливо спросила Соломин.
Он отрицательно покачал головой.
— А...— протянула девушка. Помолчала. Казалось, она говорила с кем-то в своих далеких от Юрка мыслях.— Не приходи больше к нам. Не надо,—прервала она молчание. Прутик в ее руке треснул.
— Хорошо.
Доломала прутик и выбросила.
— Меченый ты! — Она натянула ему на нос картуз, озорно рассмеялась и пошла. Потом оглянулась, помахала рукой.
Он стоял под вербой. Той самой, под которой его избили и раздели. Над речкой шелестела осока, качался камыш. Ему казалось, что осока и камыш трещат, как тот прутик, который она сломала...
...Теперь он думал совсем о другом.
— Подведем итог...— вежливо обратился к нему следователь...
Отец приносил передачу. Стоя у дощатого забора, быстро, горячо говорил, сыпля словами: «Мачеха кланяется. Яшка. Райка.— Отходил и снова подбегал:— Новак кланяется, Левко Архипович...— он отошел, будто собираясь уходить, и еще раз подбежал:—А когда тебя выпустят?»
Отец был в шинели, приносил передачу в сержантской сумке. Он приходил к нему в том, в чем вернулся с войны. Эту шинель и сумку отец подарил ему, Юрку, а бандиты его ободрали, как липку. Неужели поймали тех, кто его ограбил? Вернули отцу шинель и сумку?
За окном камни, березка и весна.
Он думал про хату. Испокон веку царили в ней го
199
лод и нужда. Нищета глядела из всех углов. Раздирали стреху, текли кровь и слезы. На столе лежал ломоть хлеба. С матицы свисала колыбель...
— Оранчук Юрко! — крикнул старшина.
— Я!
— Выходи! С вещами.
XXVII
Он изо всей силы размахивал тяжелым топором на длинном топорище. При каждом взмахе борода его задиралась кверху, а самого его обух отбрасывал назад, вывертывая плечи, и он кряхтел.
— Х-х-ек! — рубил Цисарик.
Гуп-с! — отвечал со свистом топор. Шелестело дерево.
Цисарик опускал топор. На низком лбу — шапка слетела с головы — блестел пот, заливал глубокие морщины, стекал по лицу, капал с носа, красного, будто у Деда Мороза, щеки разрумянились. Исходил потом. Рубил клен и вконец затупил топор.
— В душу, в печенку! — злобно, с остервенением ругался старик и хватал ртом воздух, будто щука, выброшенная на берег.
— Я тебе, пакостное дерево, не только кору поковыряю. Ишь, стоит, развевается! Погоди! Я доберусь до твоей деревянной печенки — и твой вонючий сок выпущу. Вот он уже капает. Я из тебя и кишки выпущу! Высохнешь — сожгу и погреюсь...
Клен высился по-прежнему — крона широкая.
— Ах, если бы мне моя люлечка! Если бы хоть раз затянуться! Явилась бы у меня такая сила!.. Я б тебя свалил, одни бы щепки летели! Разок бы мне затянуться, я бы тебе дал жизни!
Из зарубок над корнями стекал кленовый сок, увлажняя землю.
— Старый волокита!.. Ты что делаешь? Ах ты, прелюбодей бродяга! — Из хаты выбежала Мотря.— Меня не постыдился, людей не стыдишься, постыдился бы седой своей головы! Где это слыхано, где это видано, чтобы дерево — божью красу — непристойными словами обзывать? Топор над ним заносить! Да ты сам такой, ка
200
ким его обозвал. Ты первейший... Тьфу! У меня язык не поворачивается грязное слово вымолвить. Я, может, за тебя замуж вышла потому, что мне этот клен нравился. Ты на кого с топором пошел?!
Коза паслась на привязи и заблеяла, глядя на них.
— Забодай его, козочка, ты моя заступница!.. Клен меня всегда веселил. Он один и сейчас меня радует. И чего ты пристал к нему, как пристал к вдове. Или после этих любезностей опоила она тебя. Или у тебя после той жаркой ночи, от которой ты в гроб спрятался, ум за разум зашел? Сидел, сидел, как тот сыч на суку, надувшись. Я думала тебя к бабке вести, чтобы любовную отраву и страх из тебя выгнала. А ты надумал клен рубить. Из-за твоего волокитства и моих болячек сижу в хате, как в могиле. Не гоню козу пасти, стыдно людям в глаза смотреть.
— Мотруня, отойди!
— Рубишь клен, а меня со света согнать хочешь?
Ццсарик придержал топорище, косясь то на топор, то на Мотруню. Борода подергивалась, и в ней виднелись желтые зубы.
— Мотруня, отойди, а то беда будет!
— Что? Да чтоб я отступила?
Он топнул на нее босой ногой.
— Говорю...
— Люди добрые, он на меня уже ногами топает! Блеяла коза, металась, рвалась с привязи.
— А ну, отдай топор, юбочник и богохульник!
— Не отдам! — крикнул Иван и крепко сжал ручку топора.
Мотря наступала на него. Голова ее высоко поднята— баба выпрямилась, схватила топорище. Цисарик выпустил его и пошатнулся, размахивая руками.
— Я тебе сейчас бороду отрублю! Напрочь отрублю, выкину ее, паскудную, на клен, пускай пташки из нее гнезда вьют!
— Ну, ну,— проговорил Цисарик, отмахиваясь руками, будто отталкивая Мотрю.
А она подскочила к клену. Осатанело рубила топором землю, вспахивая ее.
— Что ты, Мотруня, делаешь, топор затупишь. Я же его точил.
— Да, как же! Расселся и — бруском, бруском! Да
201
если бы я знала, для чего точишь, я бы тебе наточила! — И, вскопав топором землю, старуха брала ее пригоршнями и засыпала зарубины.— Чтоб из тебя текло, как этот сок из клена!
Цисарику так хотелось курить, прямо уши пухли! И хотелось помириться с Мотруней. Боязливо, неуверенно, протирая глаза и губы, он подошел к клену. Нагреб горстку земли, размял и стал тоже смазывать зазубрины.
У Мотри отлегло от сердца: Иван пытается загладить свою вину.
— Делай как я, смачивай землю соком. Видишь, сколько натекло: целая лужа. Вот что ты натворил! Сок этот собирать и пить нужно. Он очень полезен.
Разминали землю в кленовом соку.
Цисарик, заделывал зазубрины, приглаживал, старался.
— Что с тобой стряслось, почему за топор взялся? — говорила примирительно Мотря.
— Потянуло...
— Кто? Чтоб тебя...— хотела сказать: «потянуло на перекладину», но смолчала, испугалась.
Цисарик мямлил что-то невнятное. Голова несколько прояснилась, в глазах у него перед кленом стояла Евка, клен, следовательно, во всем виноват. Но ведь ничего между ним и Евкой не произошло. Просто — дымок из люльки. Остальное людские сплетни-пересуды.
— Э, да что там говорить, Мотруня? Ты самая умная, ты все знаешь, но не поймешь...— и помрачнел.
— Скажи, Иван, что тебе стыдно, совестно.
— Еще как! Я, наверное, пойду...— Он помолчал.— Должен идти.
Мотря перестала мять землю.
— Снова меня пугаешь? Снова канючишь молока, маслица?.. Хочешь молока — подои быка, а масла — еще коза не натрясла. Керосина нет — светим глазами. Соль я экономлю. А о займе ты подумал?
Цисарик нахмурился, вздернул бородищу:
— Чтоб ты знала: я обо всем подумал. Люльки нет, приходится курить газету. Вкус не тот. И только одна мысль: иди, Иван!
— Куда же ты пойдешь?
202
— Не куда, Мотруня, а в истребители.— И, прилепив землю к зарубке, прихлопнул ее ладонью.
Мотря заморгала.
— И тебе винтовку дадут? — спросила недоверчиво.
— Да я из машинки, знаешь, из пулемета стрелял.
— И сапоги тебе дадут?
— Гляди же, никому и не пискни. Не то Яровой еще не примет меня.
Цисарик стоял на коленях, Цисаричка на корточках.
— Мне ночами не спится, ума не приложу, думала, что ты со страху на чердак лезешь, ужасы и страхи тебя мучают, а ты вон что надумал? — И рассмеялась.— Собрался воевать! А клен пострадал. Чего к нему прицепился? Чего на него войною пошел? — И зашлась смехом.
Цисарик вскочил на ноги, схватил шапку, валявшуюся на^земле.
— Я же сказал, что ты не поймешь! — крикнул он и добавил угрожающе:— Смеешься? Я пошел!
Мотря тоже встала. И, закинув топор на плечо, будто не слушая его, крикнула на Ивана:—Все знают, какой из тебя стрелок! Только и храбрости, что в гробу спишь. Вояка!
— Ну, Мотруня, ну, вражья баба, ты меня еще вспомянешь!
— Иди-иди! —насмехалась Мотря.— А я еще тебя к бабе-шептухе вести хотела, чтоб страхи твои прогнать. Может, тебе еще на плечи командирские погоны прилепят?
— Вот бесовское творение! Меня — к шептухе! Страхи прогнать,— передразнил ее Цисарик.— Да знаешь ли ты, непутевая баба, кто такие ястребки? Они погонов не носят! Истребители — это народ!
— Если командиром не станешь — не возвращайся, в хату не пущу.
С того дня, как Цисарик пробовал поухаживать за Евкой, село словно отвернулось от него.
А после стычки с Мотруней, страшной ночи, когда у него пропала люлька, и вовсе отпала охота бывать на людях.
Выбравшись на улицу, он бежал, будто молодой конь. И все больше сердился на Мотруню за то, что она
203
собиралась вести его к бабе-шептухе. «Да я, можно сказать, живым из могилы вылез! Я ж тебя, Мотруня, уму-разуму научу!»
За речкой, на той стороне, краснел кирпичный сельсовет, блестела крыша. Кроме нее, он уже ничего не видел.
Никаких сомнений у него не было: придет к Яровому, так и так, вооружи, Володя, пойду отвоевывать люльку!
Но чем дальше спускался по холму от своей хаты, тем меньше гневался на Мотруню. И думалось: а чего, собственно, он так взъелся на нее. Кто же кормит и обстирывает его? Может, лучше вернуться домой...
Но не мог просто так сложить оружия. Хорошо бы, например, если бы он не застал Ярового... Это было бы наилучшим выходом из положения.
Цисарик медленно брел вдоль речки, заложив руки за спину, и был очень доволен, что никого не встретил.
К сельсовету добирался огородами.
— Цисарик?.. Иван!..
Он еще сильнее втянул голову в плечи.
— Может, зайдете?
Старик неохотно повернул голову.
Его приглашал Новак, сидевший на лестнице у крыльца.
— Я хочу вам кое-что дать, Иван.
Цисарик, сбитый с толку, свернул с дороги и шмыгнул тропинкой к крыльцу.
— Может, табаку? Так у меня уже люльки нету,— стал он жаловаться.
— Люльку.
— Люльку? Какую?
— А такую, какую еще до вашего деда прадед курил.
Иван посмотрел на учителя с недоверием и насторожился.
Алексей Вавилович достал из внутреннего кармана пиджака трубку.
— Садитесь ближе,— пригласил он.
И когда Цисарик сел, подал ему глиняную, набитую табаком трубку с новеньким ореховым чубуком.
— Знаете, Иван, меня совесть мучает.
— Вас? Да ведь ваша совесть чище моей слезы.
204
— Вы сначала закурите. Попробуйте. В моей коллекции несколько подобных трубок. Чубук я сам приделал.
Цисарик недолго думая сунул люльку в рот. Потянул еще не зажженную, тянет.
— Давно, лет тридцать тому, я купил ее в Берестеч-ке. Услышал, что у вас беда — пропала люлька,— и, видите, как пригодилась!
— Где-где? А я, признаться, о таком городе и не слышал.— Цисарик зажег люльку и жадно затянулся.
— Как, Иван?
— Много дыма дает. Моя давала в аккурат, а из вашей дым так и валит. Но ничего, курить можно. Со временем — обкурится.
— Это вам знаете за что? За тот кремень, помните? Вы принесли мне тогда наконечник сохи. Наслаждайтесь люлькой. Пусть вашей Мотре легко икнется.
Цисарик не поднимался со ступенек крыльца. Его еще удерживали последние слова, сказанные о Мотре.
— Если бы вы ее знали! Если бы знали!
— А что?
— Беда. Эх, такая беда, что и сказать не могу,— Цисарик махнул рукой и встал:—Бывайте здоровы, а за люльку большое вам спасибо.
— Я еще хотел вас попросить, Иван..
Цисарик остановился.
— Говорите.
— Не продали бы вы мне свой гроб? Если, конечно, не спите в нем? — спросил Новак.
Цисарик взялся за свою бороду, удерживая ее, чтоб не дрожала.
— Кто-то умер? Или вы для себя готовите? — спросил он и подумал, что все уже знают про гроб на чердаке.
— Никто не умер. А я еще не собираюсь. Для музея, Иван.
— Для чего, для чего? Нет! Я лучше его порублю. Ни за какие деньги свой гроб никому не продам. Вы хотите, чтобы наши потомки смеялись надо мной? Над тем, как я свою жизнь спасал? — И, разгневанный, не прощаясь, быстро ушел.
205
Домой он вернулся не скоро, долго слонялся вокруг хаты. Наконец решился. Мотря накинулась на него:
— Где тебя носит? — Она пошевелила губами, но, видно, не* решилась дальше его распекать.
Цисарик заметил, что жена принаряжена, голова повязана платком, который достает из сундука только в праздник. Неужели поведет его к бабе-шептухе? «...Носит?» — она произнесла с жужжанием, но не как оса, а как пчелка, вылетевшая из улья и делающая первый облет. Праздничный платок мелькал у него в глазах, а в ушах жужжало пчелиное: «...носит?» И он, вконец сбитый с толку, ничего не понимал. Достал из-за пазухи новую люльку, думая, что удивит Мотрю. Но она даже не заметила.
— Левко Архипович собирается тебя, Ивасик, почтальоном сделать.
— Гм?..— недоверчиво уставился на нее Цисарик.
— Я так рада, так рада, Ивасик.— Она встала со скамьи, подошла к нему и, протянув ладонь, стала загибать пальцы:—Во-первых — коня дадут, во-вторых — тачанку... Да чего же мы стоим? Идем скорее, а то прозеваем, кто-нибудь другой перехватит... Не чиркай, не переводи спичек. Чего у тебя руки дрожат, как у старого деда? — И, взяв его под руку, повела из хаты.
Он не сопротивлялся.
— Я в сельсовет не зайду, в кооперативе постою,—-торопливо говорила Мотря.—Ты же гляди, не падай там на колени, немного поотказывайся для порядка, дескать, не молод уже, и что, мол, тебе это в голову не приходило, пусть как следует попросят, а потом давай согласие. С достоинством надо...
Она вела его, а Иван уже представлял себе, как сидит на тачанке с рессорами, правит конем, и думал: «До чего ж удивительно устроен мир, все в нем к лучшему оборачивается!»
Когда они вышли на улицу, Цисарик сказал:
— Ты, Мотруня, отпусти мою руку.
— А это почему, Ивасик? Пусть все видят, что между нами мир да любовь.
Цисарик отпрянул от жены:
— И без того все знают, что нас танками друг от друга не оторвешь.
206
XXVIII
Евка поздно вернулась с поля. Досеивала гречиху с Павлом. Пришла очередь и до Оранчука. Лошади — Довбеняка. До этого другие на них работали, а теперь наконец настал черед головы земельного общества. Павло сеял, а она бороновала.
С поля Оранчук подвозил ее к дому. Сидел на передке телеги, подстегивая кнутом. Плуг и бороны остались в поле. Зачем их возить, еще там понадобятся. Усевшись на порожней телеге, положив в подол пустой мешок, Евка держалась обеими руками за грядки. Лошади хоть и устали, но не плелись, бежали. Свистя, взвивался кнут. Подбрасывало задок телеги, постукивали колеса. Дорога в поле совсем подсохла.
Ехали молча, не разговаривали, словно в чем-то провинились друг перед другом, будто враги. Павло поднял воротник шинели, хотя было не ветрено, погода хорошая, начинали цвести вишни. За все время не повернулся к ней. Воротник поднял, как стену: отгородился. И она смотрела не на него, а в сторону, на молодые всходы зеленой озими.
Павло подвез бы ее к самой хате, но она не захотела. Еще не добрались и до развилки, где дорога расходилась на Залужье и на Пропастище, Евка вдруг, ухватив свой мешок, соскочила на ходу с телеги. Когда выпрыгнула, ей показалось, что она вынырнула из какого-то безрассудства. Подалась домой, мешок — в руке.
— Вйо! Вйо! Кони!..— воскликнул Павло и хлестнул кнутом.
Она торопилась, глубоко вдыхая прохладный вечерний воздух. Дома — дети, корова, куры. Сворачивала с тропинки на тропинку — только бы скорее. Лаяли псы, когда проходила мимо чужих усадеб.
На дворе, покрытом молодой травой, тихо. Ноги тонули в густой росе, вымок подол юбки. Она спешила, раздвигая кусты руками. А роса холодная...
Окна в доме темные, будто их кто-то завесил.
Глянула на хлевец и двинулась к хате. Боязливо, осторожно, без скрипа открыла двери сеней. А в горницу дверь раскрыта — дети ждут ее... Не закрыв за собой двери, остановилась, прислушалась, что там? Не слышно ни детских голосов, ни покачивания колыбели. Евка
207
почувствовала теплое дыхание своих детей раньше, чем увидела их, всех троих. Гнат и Прокопка спали на разбросанной кровати. Маська в колыбели. Она подошла к малютке.
Глаза привыкли к темноте. Да если бы беспросветный мрак заволок все кругом, она бы все равно увидела свою Маську. Из раскрытого ротика выпала соска и лежала в уголке пухлых губ. Проснется, захочется пососать — сама соску найдет. Маленькая, а уже привыкла.
Ощупью повела рукой под тельцем ребенка. Сухо. «Молодцы хлопцы»,— радовалась Евка. Поправила в колыбели подушечку, укутала дерюжкой ножки дочурки и подошла к сыновьям.
Гнат спал у стенки. Он всегда там, Прокопка посередине, а она с краю. Гнат и сейчас лежал боком, уткнувшись лбом в стену. Только теперь она догадалась, почему Гнат спит именно так. Чтобы занимать меньше места. «Потому и привык спать, прислонившись к стене, чтобы нам с Прокопкой было посвободней,— думала она,— лежит мальчик на самом краешке, будто вжимается в стену».
А Прокопка лежал навзничь. Руки под головой. Положил на ладони голову, и она догадывалась: для того чтобы не размахивать во сне руками. Он лежал, прижавшись тесно к брату, а половина кровати — для мамы.
Она взялась рукой за веревочку колыбели и замерла, стоя у кровати. Вот ведь: целый день бороновала, набила ноги о кочки, бежала домой — и, казалось, уже не было сил бежать. А увидела детей — и усталости как не бывало. Что ее сняло? И только ли усталость? Утром стоит ей уйти из дому — все мысли о детях так и тянутся за ней, и впиваются словно иголками в бока, доходят до горла.
Постепенно усталость уходила из ее ног, рук, из груди, и она почувствовала облегчение. Отдыхала, глядя на своих сыновей, на доченьку. Сладким пением было для нее их дыхание во сне, удивительно успокаивающим, баюкающим сонное посвистывание их носиков. Евка держалась за колыбель, ведь они тоже устали. Ее мальчики. Ее работнички.
208
На столе — крынка с молоком, чашка, краюха хлеба. И — чисто: стол вытерт. Она всмотрелась: и пол подметен, сора нет, и на скамье тоже чисто. Склонилась над крынкой: не дождались, сами поужинали'и ей оставили. Долго, наверное, ждали — и не дождались. Евка тихонько ступала по хате, не нарушая тишины.
В ведре был картофель, перемятый с половой. Значит— накормили кур и приготовили на завтра. Заглянула в печь и вытащила чугунок. Варили картошку. Взяла картофелину и бросила в рот. Липкая, но еще теплая. Никогда не ела более вкусной, чем эта. И глотала, почти не пережевывая, и еще взяла.
«Почищена...— шептали ее губы.— Наварили, всю почистили, шелуху в ведро, а мне очищенную оставили, и — в чугунок, и в печь, чтобы не остыла. Дети — сыны мои, а я? А я?..» И не смогла сдержаться. Слезы так и брызнули из глаз.
Слезы падали на картошку, и Евка ела ее посоленную слезами.
Она не садилась: еще не было времени сесть и поужинать.
Да разве ты не насытилась стараниями своих сыновей?
Вот и усталости нет. Казалось, прошла боль в ногах и руках, не ломит поясница.
Разве ощущаешь утомление, если получаешь за нее самую высокую награду — чуткость и любовь своих детей?
Но у самой болела душа: «А я? А я?..»
Отставила чугунок, вытерла слезы. Затуманенным взглядом окинула кровать, колыбель, вышла из хаты. Ком подступил к горлу...
Корова лежала в хлеву, жуя жвачку. В яслях сено перемешано с соломой. Дети надергали сена и соломы, перемешали и заложили в ясли на ночь. Корову прибегала доить Павлова Манька. «Манька?..— кольнуло Евку, и сердце сжалось.— Не думать о ней, о Павле...» И она представляла себе, как Гнат говорил Прокопке, а Прокопка Гнату: «Не будем много пить».
Корова лежит и жует жвачку: не голодна.
— Лежи, лежи, Минцю,— сказала Евка, почесала меж рогами, погладила по спине.
Возле хлева сарай, там — куриный насест. Двери в
209
сарай заложены палками, прижаты каменьями. И она так делает, сзывая кур на ночь. От бандитов никакой замок не • спасет: отобьют. Палки и камень — это чтоб лиса не вскочила. А не позабыли дети собрать яйца? Наверное, не забыли, собрали.
Куры сидели на насесте.
Дети все сделали, со всем управились. Можно возвращаться в хату, поставить чугунок с картошкой на колени, не торопясь поужинать.
Она остановилась посреди двора. Стояла на покрытой росой траве, не чувствуя холода. Мир все больше наливался темнотой. Темнота разрасталась, сливаясь с лесом, с густыми чащобами.
Ее неотступно мучила мысль: «Если бы я принесла с поля только свою усталость? Когда бы только ее. Как легко было бы сейчас. Легла бы с малышами, согрелась около них, отдыхала...
Павло, мешок... Как же это произошло? Почему позволила? Опозорена, опозорена...»
Не могла больше стоять во дворе, кинулась в хату, ногами сбивая росу. Вошла, тихонько закрыла дверь и в чем была, в том и легла на край кровати. На самом краешке.
Закрыла глаза, но сон не шел.
С того дня, как похоронила Власа, похоронила и свою молодость.
С Власом они прожили недолго. Он посватался к ней, когда она служила у Довбеняков батрачкой. Поступила к ним девчонкой, там, на тяжелой работе, выросла, стала красивой девушкой. Влас привел ее в свою хату, по правде говоря, это была не хата, а хатенка. Любила ли она его и любил ли он ее? Да, ибо расцвела она в . этой хатке. И как часто Влас говорил, что молодицей она стала еще красивей, чем была в девушках. Народила хлопцев. А после войны — Маську. Влас не только спас ее от батрацкой неволи, но и завладел всеми ее помыслами, всеми надеждами на лучшее будущее. Она помогала ему в нелегкой их жизни, а он тянул на себе всю тяжесть хозяина-кормильца. Когда пошел на фронт, заменила его. Все легло на ее плечи. Но тогда все же было легче, теплилась надежда: будет живым — вернется. Убили, замучили его бандеровцы. Нет его теперь, не вернется. Не станет в сенях и не скажет:
210
— Это я...
Разваливается убогая хата, едва держится хлевец. Такие же, как и при нем. Схоронила Власа — месяцами слышался ей его голос, то в сенях, то на чердаке, то во дворе. Сама себя обманывала. И хата, и хлевец, и подворье— уже без голоса Власа. Не его это голос — это ветер прошумел. Не стало человека, хозяина дома, думавшего о детях, о ней. Не стало рук, которым она помогала. Все — теперь на ней самой. Первое и самое главное, как и при Власе,— прокормить семью. Этому отдает силы, в этом все ее чаяния. «Хлеб наш насущный...»
Вечером ложилась спать с думой о хлебе. Утром, добывая насущное, думала о нем же. И нету времени глянуть вверх. То — была она вся в заботах об огороде и корове, теперь же еще и о поле, о дровах. И так каждый день — от зари до зари. А может, у нее и ночи нет? Говорят, бог дал ночь для отдыха. Все люди, звери, растения ночью спят. А она и ночь для себя укорачивает. Как хорошо, что земли прирезали, что она уже обсеялась. Старалась. Коровами пахали, сегодня последний морг вспахали, засеяли. Дождичка бы теперь! А потом — чтобы было тепло-тепло... Откуда же все достатки, как не с земли? Корова дает молоко; куры яички подбрасывают. Молоко — детям, яички — детям. Но главное — урожай! Тогда будет чем кормить корову, будет с чем перезимовать, да и курам будет что дать. Оттого она, едва только зима повернула на весну, побежала в сельсовет и Левка, и всех, кто там был, хвать за петельки: сеять!.. Не зря, не зря она там накричала!
А возле хаты какие там ни на есть, а все же яблоньки, сливы, вишни. Но придется их вырубать. Нет от них пользы? Пусть бы и стояли — все же хоть какая-нибудь ягодка и попала детям в рот. Нет, лучше уж выкорчевывать и эту землю под огород. А огород полоть нужно. На нем работы! Капусту поливай, картошку обкапывай, бураки — мотыжить. И так с ранней весны и до глубокой осени...
И день ее с самого рассвета до поздней ночи будет тянуться и весну, и лето, и зиму. Нет ему ни конца ни краю... Нет ей отдыха...
Проведывала озимые. Рожь в долине стала прелой, а пшеница на бугре вымерзла. Если и поправится немного, то большого снопа не жди. Все же без хлеба не
211
будем сидеть. И капусты она наквасит, и огурцов насолит. Это когда еще будет, а уже сейчас надо в кадку заглянуть, не подгнила ли, не рассохлась? И будто не хватает мыслей, чтобы обо всем нужном, подумать, все предусмотреть. Все нужно. За что ни возьмись — нужно. И все самой...
...Конечно, прежде всего — хлеб. Но есть и другое — одеться. Что осталось из вещей Власа, все попереши-вала. Из шинели — себе пиджак. Из штанов и гимнастерки— на хлопцев. Сапоги сама доносила... Спрятала подаренное ей секретарем Дарьей Кирилловной то, что Левко передал. Гнат кричит — ему сапоги. Прокопка кричит — ему. А еще им нужны рубашки и штанишки. Будет сеять коноплю. Но жди, пока она вырастет. Мочить ее, сушить, теребить. Когда же она кудель выпрядет и полотна наткет? Зима покажет. А это полотно еще нужно будет и отбелить. Мысли ее от одной весны летят через лето, через осень, через зиму, влетая в ту, что еще придет.
Мысленно отбеливает полотно, расстилает его на выгоне около родника, а конопля еще и не сеяна. Закупить нужно в магазине — всего не накупишь. Купила не хватит. Но она оденет детей, пусть никто не тарахтит, что светят грешным телом, что они сироты.
А еще и третье грызет ее — хата. Местами перешивать просится. Влас не успел. Под осень, только бы выдалась она теплой и погожей, наделает снопиков и поставит решетчатые грядки. Гнат будет подавать снопки, а она подшивать там, где прогнило. Осень покажет — поле покроется всходами, уродится зерно или не уродится, а солома будет.
Хлеб, одежда и обувь, крыша над головой — жизнеустройство. Чего-то не хватит, чего-то совсем не будет, а если прохудится крыша — тогда хоть криком кричи. И первое, и второе, и третье — дело ее рук. А на ее руках дети — цель и будущее...
Евка лежала с закрытыми глазами. С детей начала, детьми и закончила. И снова: был бы свой конь, жилось бы как-то легче. А так пришлось искать помощника. Спряглись с Павлом, работали...
Глаза раскрылись, взглянули на икону.
— И когда уже наконец будет тот колхоз? — шептала она.— Я его жду не дождусь.
212
Она пыталась закрыть глаза, пыталась заснуть, но они раскрывались, словно кто-то силой приподымал ее веки, жаждавшие сна и покоя. И взгляд ее снова обратился к иконе, к образу богоматери, который все бледнел и бледнел...
— Нету тебя, боже, нету...— шевелились пересохшие губы.— Зачем позволил забрать у меня мужа, осиротить детей? Зачем? Молчишь... А я на тебя молюсь. Слышал, какую длинную молитву сложила я тебе в церкви? Твои апостолы, твои проповедники такой не сочинили. Мою молитву не пропеть, не проиграть: голоса охрипнут, струны порвутся. Ты говоришь: не хлебом единым. А кто нам хлеба даст — мне и детям? Апостолы, проповедники? Молчишь...— И она закрывала ладонями глаза, чтобы они не раскрывались сами, не глядели на икону...
В люльке захныкала Маська, Евка бросилась к колыбели, дала малышке соску, покачала, и девочка затихла.
В окно заглянула луна. Тень оконного переплета, словно черный крест, легла на пол. Она увидела его и испугалась. Пристально всматривалась: не ползет ли этот крест к колыбели, к кровати. Вскочила и заслонила собой детей, прижав дрожащие руки к груди... А крест как появился, так и пропал: луна спряталась за облако. Крест больше не появлялся, но ей все равно было страшно.
Она долго стояла между люлькой и кроватью, опустив голову, свесив руки, не в силах уйти от неотвязной мысли: «Нет. Нет... Боже, ты дал мне детей — двух сыновей и дочь, самых хороших детей в мире. А я согрешила перед ними... И сама перед собой».
Стоя здесь, среди своих детей, она вдруг испугалась: а вдруг они хоть и спят, но могут и во сне услышать, понять, о чем она сейчас думает...
Вышла из хаты. Длинные, до пояса, волосы распущены.
Прохладно... Начинают цвести деревьям. Не было бы только заморозков. Не обращала взора к пасмурному небу. На душе ее было еще пасмурнее и темнее..
И снова все это вспоминалось... Никак не могла забыть... Она ставила мешок себе на колени и насыпала Павлу гречиху в сеялку. Уже и сеялка заполнилась.
213
Взяться бы Павлу за сеялку и начать сеять. А он вдруг снял с ее колен мешок...
Потом — обнял ее... Качнулась под ногами земля, закружилось над головой небо...
Почему? Почему она не оттолкнула, не вывернулась из его объятий?..
А потом, после всего у нее вырвалось: «Что же мы наделали, Павле, с тобой? У тебя есть Манька. Да разве я тебе пара?..»
Кругом были поля, мягкая черная пашня и ясное солнце — весна улыбалась лету. Зеленели всходы ржи под высоким синим небом. Они шумели молодо, радостно. Поля наполнились гомоном зеленой ржи, весь белый свет шумел такой могучей силой жизни, что ей было тесно и на земле, и в небе.
А теперь Евка стояла на пороге своей хаты, ее душили слезы, рвался из сердца крик: «Дети, вставайте и бейте свою маму, бейте! Она заслужила. Не бойтесь ни бога, ни черта, их нету!» Но крик не вырвался, а замер в груди.
Дрожа всем телом, вошла в хату, взяла из-за иконы кисет Власа и снова села на пороге. Прижала к лицу кисет и плакала, роняя горькие слезы.
«Пойдем завтра к тебе, Влас. Все бросим, тебя проведаем. Могилку твою подправим, цветочки посадим. Понесем Маську к тебе, мой Влас...»
Она поднялась с порога, когда волосы ее уже прихватила роса.
Ранним утром проснулись мальчики. Гнат приложил палец к губам. Прокопка — тоже. Сидя в постели, тихонько шептались:
— Ш-ш-ш... мама спит.
Смотрели на нее, одетую, сжавшуюся, на краю кровати, и боялись, чтобы в люльке не раскричалась Маська.
XXIX
Порфирий сложил в печурке дрова хаткой. Полешки наколоты, сосна сухая. Взял грязную, липкую бутылку, полил дрова соляркой. Обвел пальцем шейку бутылки и жирные капли солярки втирал в ладони, в тело, чтобы добро зря не пропадало. Не нагибаясь, бросил
214
зажженную спичку в открытую дверцу, попал точно меж дров, и в печурке вспыхнул огонь.
Пламя ровно обняло куб. Порфирий довольно заворчал, вытирая руки о колени: засаленные штаны меньше будут рваться. Он стал наливать воду в холодильник— спиральную трубку в ведре.
Под нею уже стояла на кирпичике кружка, а на поленнице дров примостилась бутыль в плетенной из лозы корзинке. В горлышке бутыли торчала воронка.
Ничего так не любил Порфирий, как гнать самогон, словно именно в этом было его истинное призвание. Ведь старик уже, а тешился, как ребенок. Готовился тщательно. С удовольствием перебирал в уме все необходимые для этой процедуры мелочи, предвкушая близкое наслаждение. В его давно выцветших, смотревших вокруг с тупым безразличием глазах, похожих на мутные колдобинки в замшелой трясине, мелькали живые искорки. Кто знает, что таилось в этой, покрытой зеленой ряской, трясине?..
Самогонный аппарат он установил в сарае, где были дрова. Нарубленные поленья возвышались узкими рядами у стен. Такая же поленница возвышалась и у дверей. В ней был сделан вход, а середина — пустая. Если кто-нибудь невзначай заскочит во двор, погаси огонь, забросай вход дровами,— никому и в голову не придет, что среди сухих дров, где от одной спички может вспыхнуть пожар, Порфирий Довбеняк гнал самогон. А чтобы и запаха не слышно было, для этого есть солярка. Когда-то он выменял канистры солярки у танкистов, даже не зная, зачем она ему понадобится. Понадобилась.
Во-первых — на растопку; во-вторых — на всякий случай. Побрызгай соляркой, она любой запах отобьет своей вонью. В ней будто нечистая сила, от ее запаха куры дохнут. Сосновые дрова и так хорошо горят, как солома, но он еще подливает и подливает в дрова солярку, чтобы можно было любоваться дружным огнем.
Зашипел пар, и Порфирий, замешав тесто в мисочке, из которой обычно подсыпал свиньям отруби, стал залепливать коленца на трубках. Тесто крутое. Он часто плевал в мисочку, разминал тесто пальцами.
«Не пущу пар! У меня он и не пискнет! Возиться, прятать, обогревать брагу тряпьем — и чтобы она ухо
215
дила с паром? Не допущу! — бормотал старик, уставясь блестящими глазами на трубки.— Залеплю каждое коленце так, что и не пикнет!»
Куб закипел, забулькало в его чреве. Старик торопливо сбил огонь. Надсадное бульканье затихло, превратившись в едва слышное шипение.
— Мог бы и взорваться,— пробормотал Порфирий, довольный бульканьем самогона. Потом подкатил ногой колоду, поставил ее на попа и сел.
Дрова под рукой, кружка на месте, бутыль тоже на месте, около нее кварта, одно ведро пустое, в нем черпак, второе полное, с холодной водой,— можно ждать.
Довбеняк загляделся на огонь, и* ему показалось, что он своим взглядом то как бы подбавляет в поленца солярки, чтобы они сильнее вспыхивали, то, наоборот,— сбивает пламя, когда оно жадно охватывает дрова. И, подчиняясь его воле, огонь горит не очень сильно, но и не слабо, как раз так, как ему нужно, как он хочет.
Текля еще смолоду не любила его глаза и боялась их. Ей казалось, что они не просто глядят, а на что бы ни глянули, все жрут, все поедом едят — человека, животное, дерево. Они — всеядные!
Она была уже тяжелой, последнюю неделю дохаживала, когда он привез дрова из леса: «Выходи, грабы будешь скатывать!» А на дворе мороз, снег. Он и тут был предусмотрителен: хотел, чтобы роды пришлись на зиму, чтобы весной не гуляла в полную силу, а гнула спину. Текля и лето и осень работала. Жала, вязала снопы, на скирду вымахивала. Мочила и вынимала коноплю из ледяной воды. Обрадовалась снегу, думала — отдохнет, как под ним отдыхает земля.
А он: «Выходи грабы скатывать!» Текля бралась за более тонкий конец, Порфирий — за толстый. «Бросаем!» А у нее не хватало силы поднять колоду. Стоя с боку, он косил правым глазом, недовольно глядя на ее живот. Навсегда запомнила она этот скошенный, злобный взгляд. Не из-за этого ли правого глаза, которым он, криво улыбаясь, ядовито мерил ее живот, дочка Варька и родилась бельмастой?
А после Варьки Текля уже совсем не могла рожать. Муж смотрел на нее пренебрежительно, как на яловую корову. Что с нее толку: ни телят, ни молока, хоть возь
216
ми да продай. И Текля, будучи замужем за Довбеня^ ком, жила с ним словно проданная.
Его замусоленные соляркой руки лежали на засаленных коленях. Старые колени — как вытесанные из кругляша, руки — деревянные лопатки. Колени толстые, верно, потому, что они в ватных штанах. Пальцы на руках худые, желтые, и уже нет былой в них силы. Казалось, они плохо держатся на сухожилиях и как бы не растут из ладони, а воткнуты в нее как палочки и не хотят шевелиться, не послушны. Встанет пораньше, а они как деревянные, и только тогда начинают двигаться, когда он, хрустя ими, разомнет каждый палец в отдельности.
Нет былой силы и в глазах. Поссорится с Теклей, она и говорит: «Ты чего вытаращился? Ел поедом меня, всю жизнь поблескивал своими бездонными глазами. Теперь они уже не омуты, а стоячее болото. Только и того, что изредка еще блестят. Да, постарел... Постарел...»
Давно не стрижется и не бреется. Зачем? На затылке — редкий мох, а борода и брови сами выпали.
В последний раз машинкой стриг около ушей и ножницами подравнивал бороду, когда в село вступили гитлеровцы. Тогда Порфирий словно бы воскрес из мертвых. Хутор в поле, кругом — сколько видит глаз, от горизонта и до горизонта,— земля. Чья?.. Моя...
Приняв в зятья Оксента, Довбеняк сам переселился в поле. Купил у пана Болоньи десять десятин. Посадил бы там зятя, как водится у людей, но разве этот зять ровня ему? Выправлял сам купчую на землю в Варшаве,— пан Болонья жил в столице... Всей силой врастал Довбеняк в купленную землю, да бог счастья не дал! Сеялки, косилки, молотилка — это у него все было. Но земли? Что такое десять десятин? Для него это все равно что кот наплакал. Вон-вон там, за шляхом, под Верховом, в густом парке, с садом на десять десятин, с тремя прудами,— панское имение. Кирпичные кладовые и скотные дворы. Двухэтажный каменный дом за белокирпичной оградой, с балконами, с террасами. А перед ним — клумба. Рысаки несутся! Карета двенадцать раз облетит вокруг клумбы, пока остановится. А в саду: чего только там нет, даже райские яблочки. Имение обнесено глубоким и широким рвом, а ров наполнен водой. Длинными и высокими рядами растут тополя, осины,
217
липы, ели. Белая стена и та не проглядывается. Лес, ров — вот это дело!
Он тоже обсадил свой хутор разными деревьями. Но с кем равняться?!
Настало новое время, бежали паны, бежали хозяева земли. Землю отдают голоте. Ему — Довбеняку — ничего не перепало. Но все же и он кое-чем полакомился: повыкапывал в ту освободительную сентябрьскую осень в панском саду все, что хотел: груш, слив, смородины, даже райских яблочек. Даже кусты дрока и жимолости. Пока кто-нибудь в селе сообразит, он здесь, рукой подать,— близко. Без устали носил на плечах выкопанные деревья, пересаживал их в свой сад. А потом стали поговаривать о колхозах. Всех, мол, там уравняют. Ничего, перетерпел, пронесло. Хе-хе... Немцы земли не давали, создали какое-то свое имение. Издалека, из гетто, гнали людей под конвоем на работу. Но и это недолго продолжалось. Пришли Советы, а имение горит. Живой души в нем нет. Бандеровцы нападают, режут, убивают, пускают красного петуха. Наконец-то и он дождался своего часа: бандеровское право — его право.
Довбеняк глядел на пылающий огонь, и глаза его слезились. Но разве тогда впервые заехал к нему Турчин? Нет, бывал и раньше, когда гнали людей под конвоем на работу. Ну, тогда и он его боялся. Заколол штыком пастушонка Мойсю. Заколол, чтобы не было никаких подозрений, чтобы никто не мог сказать, будто он укрывает у себя мальчика-еврея... Потом Турчина долго не было. И вот он снова появился. Раньше был полицейским, теперь — в немецкой форме. Ремни на нем скрипят, сапоги со скрипом. Спрашиваю его: «А что, если засеять немного земли из той, что была у панов или осадников?» А он отвечает: «Ну, и засевай себе». А я уж и безо всякого разрешения засеял...
Подумывал кое-кто из бедноты, из этих нищих голодранцев прихватить клочок земли, но у них ни коня, ни вола, ни семян. И немцев боятся, и такие, как Турчин, нагоняют на них страх. Поджилки трясутся.
А Турчин и говорит: «Заруби, Довбеняче, себе на носу, ты должен нам поставлять лошадей, провиант и фураж. Ведь именно мы — твоя вооруженная сила. И держимся мы на таких, как ты. И пока мы есть — живешь и ты, и такие, как ты».
218
Вышел я из своего молодого сада. Вокруг хутора моя земля. Еще не вся. Перемежается с чужими полосками... Да и не только земля, но и лес для меня был бы не лишним. Стою за своим садом, и кажется мне, что это и есть вся суть жизни. А в ушах звенит: «Мы твоя вооруженная сила». Я тогда ему ответил: «Можете на меня положиться, как на самого себя. Ваши слова для меня дороже золота».
С полен в печурке капала смола, но не было слышно запаха живицы. Несло соляркой, чадом.
В сарай вошел Турчин. Довбеняк и не обернулся к нему, буркнул, наблюдая за огнем:
— Бери, Сергей, колоду и садись.— Он не обращался к Турчину на «вы», как прежде, не подчеркивал своего уважения.
— Уже каплет?
— Еще нет.
— Чего же садиться?
— А я как раз про тебя думаю, но сначала про себя скажу. Мы с тобой связаны, как цепь с собакой.
Турчин поставил для себя колоду, сел: взгляд мрачный, лицо брезгливое.
— Когда я гоню самогон, всегда вспоминаю свою жизнь,— продолжал Порфирий.
— Лучше, дед, пить и тогда вспоминать.
— Хмель убивает во мне мысль и гонит кровь,— глаза Довбеняка блеснули,— как захмелею, душа жаждет крови, грабежа. Знаешь, о чем тоскует? Она тоскует, Сергей, о счастье ножа.
— Мне это знакомо и без горилки^
Старик пропустил реплику мимо ушей.
— Видишь,— показал он пальцем,— куб, брага, холодильник. О чем они напоминают? — Он посмотрел в глаза Турчина, отвыкшие от дневного света.— Этот аппарат и есть я сам, Порфирий Довбеняк. В кубе бурлит жидкость, во мне кипит кровь. Без тоски и жалости я в своей жизни только то и делал, что загонял работой всех, кто попадал в мои руки.
— Попробуем, каким будет первач,— сказал Турчин.— Тебе, Довбеняче, и кумушка за первач сойдет. Не правда ли? А что Яровой?
Порфирию не понравились слова Сергея. Он его укрывает, а почтения и благодарности не видит, не чувст
219
вует. А тут еще намеки на куму, такие же недобрые, как и сама кума.
— Яровой со своими ястребками походили по усадьбе... Ты жив, я гоню самогон. А если бы нашли запарку, все перевернули бы вверх дном!
— Яровой что-нибудь говорил? Угрожал?
— Говорил: «Гражданин Довбеняк, показывайте бункер, где вы кулацкую вооруженную силу прячете». Я не обижался. Яровой правду сказал. Разве не ты первым, Сергей, так называл себя?
— А ты запомнил, дед?
:— Почему же не запомнить?.. Я понимал и то, что Яровой не имеет права меня ударить, без явной причины арестовать. А что хорохорится, кричит? Пустое. Я ему и отрезал: «Каждому свое, кому — прятаться, а кому—-искать».
— Жаль, что я его выпустил,— произнес Сергей.
— А ведь был уже в руках,— добавил с сожалением Порфирий.
— Заклятый коммунист этот Яровой. Мы подвергли его самым зверским пыткам, но он так ничего нужного нам и не сказал. Во время допроса издевался над нами и смеялся прямо в глаза. Я допрашивал его у Синевира, у пылающего костра. Руки ему связали, а он ногами песком сыпанул нам в глаза... И таки засыпал нам бель-мы! Засыпал и вырвался, удрал. Проклятый.
В кружку капнуло. Старик поворошил горящие угли, и самогон пошел струйкой.
Порфирий полез двумя руками в оба кармана ватных штанов, из одного вытащил луковицу, из другого— нож.. Разрезал луковицу пополам, одну половину дал Сергею. Тот встал.
Оба невысокие, узкие в плечах, но у молодого они ровные, у старика — сутулые. Довбеняк сорвал с головы серую шапку и бросил себе под ноги. Сергей повесил картуз на полено, торчавшее из штабеля дров. Посмотрели пристально, люто, словно бы глаза выдирали друг другу, потом стукнулись кружками.
— Поехали, Довбеняче.
— Ну, давай.
— фу! — фыркнул Турчин, выпив, замахал перед ртом ладонью.— Хороша, но теплая и соляркой отдает.
220
Сидели, ждали, пока нацедится, а когда хватили по второй, старик начал:
— Ты хвалил Ярового, который вырвался из твоих рук. А когда ты сам будешь удирать?.. Еще не думаешь?
— Куда? Зачем удирать, Порфирий? — Он помолчал, задумался, потом заговорил снова: — Когда я был в абвере и обучался... Слышал, Довбеняче, что такое абвер? Это немецкая разведка... Под конец учебы меня бросили в клетку с волком. Разумеется, дали в руки нож. И тесак. Волк кинулся на меня. Голодный. В абвере часто практиковали такие и подобные вещи. Представляешь, что чувствует человек, оказавшись в клетке один на один с голодным волком?
— Меня больше интересует, что чувствовал волк? У тебя же, Сергей, был тесак...
Турчин не переменил позы. На губах промелькнула усмешка.
— Ая об этом тогда не думал и сейчас не думаю. Я свернулся клубком. Волк прыгнул и оседлал меня. Я не мог его сбросить, но вывернулся и из-под руки запустил тесак в живот. Волк грыз меня, а я порол ему чрево. Меня залило моей и волчьей кровью. А тебе, Довбеняче, выходит, жаль волка?
— Я никого и никогда не жалел,— сказал старик.
— Так и нужно. Есть только право сильного. Права слабого не существует. И если бы оно существовало, это было бы аморально.
Порфирий медленно доедал луковицу. Кружка почти до краев наполнилась самогоном. Он аккуратно вылил его в бутыль.
— Ты мне о праве по-ученому не говори. Я в школах на обучении не бывал. Ты мне волком зубы не заговаривай. Коммунисты заправляют теперь всем, а мы ворон считаем! Ярового прозевали. Кулишенко не сумели взять. Село не за нами, а за коммунистами. Люди заняты севом. Они уже обсеялись, а ты мне про волка?.. Я тоже был когда-то молодцом. А ты помнишь, лошади, провиант, фураж?..
Турчин еще ниже склонил голову:
— Довбеняче, Довбеняче...
Старик бросил на йего презрительный взгляд: «Мозгляк парень,— в голове у него шумело.— У меня кровь кипит, как брага!»
221
— Они обсеялись!—гаркнул он, и его хриплый голос сорвался.— Хочешь, чтобы я поверил в твоего дохлого волка! Пойдем для начала хоть своих баб побьем. Моя душа чует: они первыми нас могут продать!
Турчин сказал:
— Если собираешься идти к бабам, не забывай про нагайку,— и засмеялся.
XXX
Как только Юрко свернул с улицы во двор, мачеха сразу его заметила. И батько, и она, и дети — все сидели на пороге, перебирали картофель, нарезая его. Крикнув: «Наш Юра!» — мачеха бросилась к нему. Он стоял с узелком. Обняла его. «А мы бульбу сажать собираемся»,— и забрала узелок. Яшка взял Юрка за руку, Райка— за другую. Вели и стрекотали: «Мы бульбу будем сажать, потому в школу и сегодня, и завтра не пойдем». Он глядел на старую хату, на них, защемило сердце, слезы застлали глаза. Он видел обожженную часть крыши. Хата горела, когда пылало все Залужье. «Мечена огнем»,— подумал он.
Тяжело встал с порога батько, качнувшись, метнулся ему навстречу, раскинув руки.
— Уморились без тебя, сыну! Тут только поспевай да поспевай.
Не посидели за столом, сразу за работу. Нарезанный картофель насыпали в мешки. Нарезали еще. Плакались, что мало. Надо, чтобы для поросенка хватило, а сами — будут перебиваться: крапива, лобода уже зелены, возле леса — щавель, а в лесу — тоже зелень. Собрали березового соку, того самого, что пил с дороги после обеда. Ломит зубы, бьет в нос: крепкий. Не пропадут. Озимые поднялись, всходит ячмень.
— Мужик сыт не столько тем, что на столе, сколько тем, что в поле,— стрекотала Манька.— Мы не живем одним днем. Постно едим, но крепки надеждой. Она держит нас на ногах и дает нам силу.— В ее словах и голосе чувствовалась уверенность. Она говорила и видела засеянные поля: — Правда кривду победила. Я знала, что тебя выпустят. Не ела душа чеснока, так и вонять не будет. Нам бы довести до дела бульбу.
222
Батько поддакивал и утвердительно кивал головой. Он побрит. Даже брови и те подстриг. В каждом движении степенность, в глазах — спокойствие. Мачеха любовалась его бритым лицом, рассказывала, подшучивая, как он сокрушался, горевал, когда Юрка забрали: стонал И в поле, со стыда и позора в селе не показывался, председатель земельной громады, важная птица, и на тебе — беда, нежданная, негаданная. Она коровой пахала, в супряге с Евкой. Тогда за нас взялся Левко. «Ты должен у людей дух поднимать, а сам пал духом. Сидишь, как мокрая курица, будто тебя кто-то резать собирается. Тоже фронтовик! Что скажут люди? Напущу на тебя Евку Нечуйвитриху, она быстро приведет тебя в сознание. Голову повесил, нюни распустил. Наша песня только начинается, а ты выпал из нашего хора, в угол? Дезертир!»
Оранчук произнес только:
— Было...— и отвернулся: он стыдился Юрка и младших — Яшки и Райки.
— Тебе, Юра, следовало бы проведать нашего Левка,— поучала Манька.— Левка и Новака.
— Я уже виделся с Левком Архиповичем, мама.
Отец насторожился. Она спросила:
— И как? Что же?
— Сельсовет за меня ручался.
— Видишь! — сказала Манька.
— Видишь!—повторил отец.— А я и верил и не верил. Сельсовет ручался.
Работа ладилась. Поговорили о том о сем. Не все кулаки и подкулачники загубили лошадей, как это сделал Кричевский. Люди берут у них коней для работы в поле. Кулишенко любит порядок. Обрабатывают землю по очереди. Лошади должны быть сыты и напоены. Кто с этим не считается, кто не придерживается такого правила, на коленях тягла не выпросит.
Спать улеглись рано: с рассветом — подъем.
Отец забрал Юрка наверх.
Он уснул сразу, как в воду канул.
Проснулся от какой-то возни и суеты. Казалось, спит не на чердаке, а там, где спал недавно. Пощупал рукой — отца под боком нет, а место теплое, нагретое. Неужто рассвет? Неужто он проспал и отец не захотел его будить? Хлопец по лестнице спустился вниз. В хлевце
223
неспокойно ходила корова. Глянул во двор и затаился. Посреди двора кто-то стоял. Из боковушки что-то волокли, переговариваясь. Приглушенно плакала мачеха. Отцовского голоса не слышно.
Глубокий сон, из которого он вынырнул, разом покинули его. «Поросенка тянут!—прорезалось в сознании.— Поросенок, которого мачеха принесла в корзиночке и выпаивала на лежанке, для которого они вместе с отцом мастерили хлевок, тот самый, спрятанный в соломе». Он вышел во двор.
— Кто там? — буркнул стоявший среди двора.
— Сын,— ответил отец и подошел, заслонив собой Юрка.— Молчи, сынок.
Юрко обошел отца и приблизился к двум каким-то парням: один помогал другому, взвалить поросенка на плечи.
— Намордник привязал как следует? — спросил тот, что с мешком на плечах.— Не прорвет, не закричит?
— У меня не закричит и не пискнет. Пошли!
Юрко крикнул:
— Да что вы делаете?
Тот, что с поросенком, не остановился, а второй сказал:
— Здорово! Опять ты тут? Знаешь-понимаешь, лежал бы себе на чердаке, и пусть бы большевистские раны заживали. Мы одолжили у вас поросенка. Мужик и так свинья, зачем ему еще одна? Лишняя?
— А как называются те, что грабят? — не сдержавшись, выпалил Юрко.— Сами вы свиньи! Ворюги!
— Спрячь свой язык, иначе сам его и откусишь. Признаюсь, это я возвратил шинельку, сумочку. А шапочку потерял где-то, прошу прощения. А насчет поросенка? Пусть твой батько чужих лошадей на работу не берет и не очень верховодит. Но с ним я уже поговорил. Хочешь, и с тобой объяснюсь. Советы с тобой не справились, а мне,— он щелкнул пальцами,— что муху, что тебя!
Отец стал между ними. У него подергивалось то правое, то левое плечо, но он выпрямился, возвышаясь над Юрком и бандитом, а тот продолжал:
— Купи, дядько, нового поросенка и корми, но не прячь в соломе, мы ведь и под землей найдем. Мы, знаешь-понимаешь. ..
224
Они уходили, а Оранчук вдогонку им сказал:
— Куплю и выкормлю! Убей меня бог! Выкормлю! Но мы еще и за недокормленного с вами рассчитаемся! Чтоб вы знали!
Унесли поросенка, ограбили, а Манька сразу в плач: «Лелеяли его больше, чем детей. От детей отрывала. Я же поросеночка поила, я же его выхаживала... Я ж ему высевки, я ж ему полову, я же ему очистки и сы-вороточку...— причитала она.— До пасхи держали, великого пасхального звона дожидались. Вот тебе и ударил колокол, дождались, разговелись...»
А у Юрка перед глазами все стоял отец. Плечи его вздрагивали, будто их пронизывало током. Он высился посреди двора — ноги будто врастали в землю, а голова поднята вверх. Если бы в этот момент бандит отважился еще раз показать ему, Юрку, кулак, отец двинулся бы на него, не задумался бы над тем, чем это кончится, одолеет или не одолеет, собьет бандита с ног или его самого убьют. В душе отца жило то, что в человеке сильнее смерти,— честь и непокорность.
— Что же я тебе, Яшуня-сыночек, что же я тебе, Раечка-доченька, на разговение поставлю?.. Что ж я вам...— отводя руки от лица и снова закрывая его ладонями, всхлипывала Манька.
Отец топнул на нее:
— Не скули!..
Она словно бы затихла. Всхлипывала, переводя дыхание.
Оранчук забрался в боковушку, Юрко за ним. Солома разбросана. Беспорядок, ералаш.
— Грозились, чтобы я картошку не сажал,— проговорил отец. И перебил эту мысль другой: — Кто же мог проговориться про свинку? Никто как будто бы не знал.
— Сосед наш, Джедж! — кинула со двора Манька.
— Джедж? — переспросил отец. Он не хотел об этом думать и продолжал:—Угрожали, видишь, чтобы я картошку не сажал. А я и посеял, и картошку буду сажать, буду! — он положил руку на плечо Юрка: — Собираемся в поле, сын.
— Сев я пропустил, тато,— проговорил хлопец.— А осенью вы сеяли, а я за вами бороновал.
После слова «бороновал» отец рывком убрал руку с плеча сына. Юрко подумал: «Не сказал ли я чего-нибудь
8 Б. Харчук
225
обидного? Или, может быть, тато вспомнил что-то неприятное, какой-то досадный случай?»
В Манькиных всхлипываниях послышались проклятия:
— Наше кровное вам боком выйдет! Наедитесь сырой земли!..
— Ты еще тут? — снова топнул на нее отец.— Я иду за лошадьми, Манька. Готовься и не хнычь! Убей меня бог!
Она заморгала глазами и напустилась на него:
— Что ж ты, Павле, топчешься здесь? Давно пора за лошадьми. Моего слова ждешь? Сам не можешь? Что вы все без меня можете? Что значите? — вдруг раскричалась Манька.
Плечи отца опустились, и, согнувшись, он быстро пошел со двора.
На ночь лошадей сводили к сельсовету. Они ночевали там около больших яслей.
Старший Оранчук приехал с лошадьми не один. С воза соскочили Яровой с ястребками. Они сразу метнулись в боковушку, потом внимательно разглядывали следы.
Юрко с отцом выносили и клали на телегу мешки с картошкой. Манька не удержалась, подбежала к Яровому и, размахивая руками, объясняла, как все было.
Положили корм лошадям, положили ведра и корзины. Из хаты выскочили Яшка и Райка. Уселись на мешках.
— Вы, хлопцы, изучайте следы,— кинул с воза Павло,— а мы поехали,— и хлестнул вожжами.
Яровой взглянул на наручные часы.
— Едете? — сказал он.— Заявили, а там хоть трава не расти! Снимаешь, Павле, с себя ответственность, реально,— подтрунил он.
Манька будто этого и ждала:
— Лови ветра в поле!
— Если будет нужно, мы и ветер поймаем,— пообещал Яровой.— Езжайте, поле не ждет!
Юрко шел за телегой с граблями. Манька с пустыми руками.
Выбрались за село. Небо светлело, голубело. Озимые, яровые и пашню покрывала седая, словно изморозь, ро-
226
са. Высоко звенел ранний жаворонок. И росы тоже звенели.
Подъезжали уже к своему полю, когда Манька оглянулась и сказала:
— Евка.
Юрко тоже оглянулся и увидел Евку. Она шла по тропинке, догоняя их. В руке — казанок. Тонкая, статная.
— Догоню! — крикнула она громко, и поля отозвались эхом, ее же голосом: —Догоня-ю-у...
Павло долгим взглядом уставился на нее, забыв о вожжах и о конях.
Поле — узкая полоска: отцовский надел. Крестьянские земли здесь граничили с пашнями осадников, и потому урочище называли Гранью. Юрко знал этот свой клочок. Тянется, изгибается, холмистый. Супесчаный. Нелегко на нем работать. Зато тут много солнца: светит до самого захода.
Вывезенный еще зимой, навоз разбросан. Полоска поля ждала сеятеля.
Отец подозвал Юрка. Сбросили плуг. Ехали серединой поля и сбрасывали мешки с картофелем поодаль друг от друга.
— Добрый день! — подошла Евка, когда скинули последний мешок, и начала перевязывать на голове платок. Чернобровая, черноокая. К ней подбежали Яшка с Райкой. Разломила горбушку хлеба, вынув ее из казанка, и угостила детей.— И вам бы дала, но больше нету,— она развела руками.
Манька только сейчас спохватилась: выбрались, мол, не позавтракав, а она и сухого хлеба не взяла, и про воду забыла.
— Где там было думать, когда поросенка забрали! — кричала она. Глаза ее горели, лицо пылало гневом.
— Хватит!—перебил ее Павло и добавил:—Тот не казак, что упал с коня и плачет. Так говаривал мой кум Влас.
Юрко глядел на мачеху и думал: у Евки такое горе, а она ей про поросенка?.. И отец понравился ему еще больше.
Евка старалась работать, ни на кого не глядя. И никто, кроме Павла, не знал почему.
Запрягли лошадей в плуг. Юрко сгребал граблями
8* 227
навоз в борозду, следуя за отцом, а другие, набрав картошки в корзины и в ведра, совали ее под свежий отвал.
Евка не разгибалась, была задумчивой и чем-то встревоженной.
Всходило солнце. Порозовели поля, заблестели росы. Все встали и глядели, как оно подымается. И кони, запряженные в плуг, тоже глядели на солнце. Длинный красный луч ложился им под копыта. Кони шагнули и пошли по нему. А он растекался по полю, заливал борозду. Поднятый пласт заваливал его, а солнечный луч блестел из рассыпчатого отвала неуловимый, пылающий и радостный.
XXXI
Юрко вешал в шкаф чумарку. Новак показывал, как повесить, чтобы ее лучше было видно. Плечики из вишни: вырублена палочка, в середине приделана проволочка, загнутая крючком. Шкаф застекленный, книжный, но его приспособили под экспонаты. Чумарке в нем тесно, однако Новак решил повесить рядом с нею еще и серяк. В чумарках ходили богатые, зажиточные. В се-ряках — бедная голытьба. Широкая в плечах чумарка сужена в поясе, собранная в сборочки, распустила длинные полы. Серяк — обвисал, куцый, с узкими рукавами.
Новак топтался около шкафа. Он горячился, вынимал платок, протирал очки, протирал глаза: здесь выставить одежду, рядом — украшения, там — утварь, посуду... Галстук развязался и съехал набок. На рубашке не хватало верхней пуговички, и воротник разъехался.
Юрко не мог вспомнить, чтобы учитель когда-нибудь ходил без галстука. Во время фашистской оккупации, когда с одеждой стало особенно трудно, Алексей Вави-лович носил галстук под латаным, едва державшимся воротничком сорочки. Его пиджак был в заплатах, отпороли клапаны над карманами и пришили их на локти: Тришкин кафтан! «Грешным телом светит, а галстук на шею лепит,—• посмеивались велемчане,— интеллигент».
Кроме Юрка мало кто знал, сколько разного добра Алексей Вавилович попрятал на чердаке, закопал в зем
228
лю: тех же чумарок и сермяг, жупанов и кожухов, плахт, сорочек и рушников — стародавних, как он говорил. Если бы знали, еще не так подняли бы на смех, поиздевались бы. Новак и сейчас в черном поношенном костюме. Ботинки со сбитыми каблуками. Только черный чуб его, будто праздничный,— черный.
— В третий раз, юначе, делаю эту выставку напоказ людям. Следует все хорошенько продумать.— Он говорил тихо, обращаясь не столько к Юрку, сколько к самому себе.
Музей создавался в левом крыле школьного здания, которое, по мысли архитектора, предназначалось для ректора духовной семинарии. Здесь жил пан директор начальной школы. Теперь две комнаты занимала библиотека, остальные пустовали. Сельсовет отвел их под музей.
Новаку не терпелось поскорее рассказать о том, как собирал он эти вещи, об их судьбах. Лишенный права учительствовать, отлученный от живого слова, он отдался тому, что могло бы говорить само о себе: камню, глине, железу, стеклу, дереву, сукну, ниткам, бумаге.
— Взялся я за это впервые во времена Велемчан-ской республики. Она возникла во время революции, когда народ запел: «Чуешь, сурми заграли!..» 1 — в период наступления буденновцев на Варшаву. Велемчанская республика разделила земли между крестьянами, воевала против петлюровцев, деникинцев, белополяков. А твой дядечка Богданко Савлюй позднее сочинял: «Гор-батий став компродом, сид!в у комнезамг, Швидун був верховодом, а Знахар — став при брам!»1 2. Савлюй употреблял не фамилии, а уличные прозвища селян. Еще там были записи о том, кто как себя вел, кто кричал: нету бога. Обо мне нагородил: интеллигент, сдирал кожухи с баб и выставлял в музее. Не очень сообразительный писака. Не потому, что оскорбил меня, а потому, что не постиг, что люди создавали свою новую жизнь.
1 Строка из партийного гимна «Интернационал» на украинском языке. Соответствует строке: «Это есть наш последний и решительный бой!»
2 Горбатый стал компродом, сидел в комбеде; Швидун был верховодом, а Знахар — охранником.
229
Новак помолчал и сказал, глубоко вздохнув:
— Велемчанская республика пала — задушили ее пилсудчики.
В зале — нераспакованные ящики, сундук с посудой, обшарпанный чемоданчик. Он открыл его и вынул альбом в кожаной обложке.
— Кажется, не показывал тебе? — спросил он Юрка, вытер ладонью пыль с обложки и развернул альбом.— Великопанская реликвия.
— Почерк и подпись самого Юзефа Пилсудского, Алексей Вавилович?
Новак сказал, что Пилсудский — коршун маршальский — как-то залетел в Здолбуново, заглянул в Велем-че. Музей влачил жалкое существованье. Адъютант принес альбом, Пилсудский сделал запись: «Земля волынская— есть земля... «от можа до можа» !.
— Был у нас с ним здесь разговор. Двадцать первый год. Разруха. Железные дороги взорваны. Здолбуново — железнодорожный узел. Потому и залетел коршун в эти края. И начал: «Вот завезли лес, полно кирпича, но за что раньше браться? Восстанавливать железную дорогу или ставить костел? — спросил он.— Вы увлекаетесь историей, вы знаток истории, музей мне нравится, посоветуйте».
Я ответил: «Железную дорогу!» Он подкрутил один ус, другой и сказал: «Вы большевик! Я начну с костела. Костел — символ духа белого орла. Я вознесу белого орла в небо, а железная дорога подождет».
Тогда он мой музей не закрыл, но и не забыл о нем. Поднимался костел, а в Велемче открылся полицейский участок.
Прислали эксперта по музейным делам. Музей может существовать, но экспозицию нужно переработать так, чтобы она подтверждала одно: продвижение на Киев легионов Пилсудского. Эксперт так и высказался: ведь все эти черепки, все это тряпье только и ожидало легионов первого маршала — Пилсудского. Я ему ответил, что эти черепки и тряпье пережили сотни веков, жаль, что мало собрал, не все сохранилось. А сколько же лет тем легионам и кто знает, сохранит ли их история?
1 «От моря до моря» — захватнический лозунг пилсудчиков.
230
Эксперт направился в полицейский участок, а я к своим сокровищам — в этих ящиках и в сундуке. Вскоре из воеводства поступило распоряжение самого воеводы: отдать вещи комиссии.— Новак развернул альбом и показал распоряжение с орлом и штампами: — Я этот документ берегу. «Вещи — мои,— заявил я комиссии, которая пришла с комендантом полиции.— Кому захочу, тому и передам, но после своей смерти, как наследство».
Комендант: «А распоряжение воеводы?»
Я ответил: «Плевал я на воеводу и его распоряжение!» Меня оштрафовали за оскорбление личности воеводы. Такова цена альбомчика.
Между прочим, Новак упомянул, что в том костеле теперь склад, а железная дорога работает. Его усы шевельнулись в улыбке.
Пришел помогать Василь Кримчук. Старик не возражал, но почему-то поглядывал на него из-под очков, будто Василь мог украсть какую-нибудь вещь и спрятать у себя в кармане.
Расставляли на полочках фамильное добро бывшего пана директора — петушки, детские игрушки. Глиняные, простого обжига и глазурованные. Маленькие — с клювиками и хвостиками, а побольше — с расписными крыльями, глазами и лапками.
Василь засвистел в один из них. Звук раздался громкий, заливчатый.
Алексей Вавилович вздрогнул и накинулся на Крим-чука.
— Свистун! — разволновался он не на шутку. Выхватил, будто вырвал игрушку из его рук. Вынув платок, старательно обтер игрушку и поставил ее на место.— Таких помощников мне не надо, не хочу.
Как ни извинялся Василь, Новак прогнал его из зала.
— Убирайся! Ты думаешь, что этот петушок — игрушка, забава? Мне жаль тебя. Уйди! Каждого своего немудреного глиняного петушка я старательно берег. Началась война, я каждую игрушку закутал в вату и спрятал. Все фашисты — куроеды. На одном конце села летят перья, на другом летят перья. А мои петушки в земле. И в годы пилсудчины в земле. Только и побыли на воле перед войной. Да мы ведь с тобой тогда их расставляли на этой же полочке. Помнишь, юначе?
А прятали мы с тобою сами. Я знал: ты меня не по-
231
кинешь, ты мне понравился с первого взгляда. Помнишь: бежал ты из монастыря?
Юрко держал на ладони глазурованную игрушку. Петушок с раскрытым клювом, высоким гребешком и поднятым хвостом смотрел на него блестящими точками глаз.
Старик достал из ваты еще одного.
— Алексей Вавилович, может быть, Василь без умысла, просто так... А вы рассердились.
— Что? Ручищами и в рот! Нарочно или не нарочно, разве это имеет значение? — Глаза сердито нахмурились.— Это он — с петушком. А у меня же есть более ценное — сабля буденовца. Может, и ее он выхватит из ножен и начнет размахивать? Блеск этой сабли как блеск солнца. Мы поставим ее на самом видном месте... Нарочно или не нарочно... История — наша мать. Неужели мать можно оскорблять нарочно или не нарочно?
Слушая учителя, Юрко вспоминал свои споры с Василем, как сердился он, когда Василь говорил о каком-то своем высшем призвании, насмехался над своей матерью, которая каждый день подметает хату до последней пылинки.
Он рассказал об этом споре Алексею Вавиловичу.
— Тот, кто чуждается работы, да еще не уважает свою мать, тот не уважает жизнь. Он не стоит доброго слова. Если бы в свою последнюю минуту каждый из нас смог бы промолвить: «Нин! в!дпущаеши, владико, раба твого, i ось я осм!люся сказати тоб! i людям, думаю, що я не цурався найчорн!шоТ роботы...» Прости мне, юначе, эту старомодность.
Юрко поставил глазурованного петушка на полку. Ему хотелось сказать учителю что-нибудь приятное.
— Алексей Вавилович, а петушок как живой, поет!
— Правда? — переспросил старик.— Ты на самом деле его услышал? Или ты шутишь, Юрко?
Хлопец молчал, а Новак рассмеялся. Не по-старчески хрипло, а молодо и звонко. Смеялась вихрастая юношеская чуприна, смеялся высокий лоб, смеялись хитрые глаза, смеялись длинные усы.
Посмеялся. И сосредоточился:
— К голосу глины прислушаться не так легко...— И спросил: — Юрко, догадываешься ли ты о том, что 232
именно я в своей экспозиции намерен воссоздать? — Он снова вынул платок и протер очки.— И Левко Архипович— за, и секретарь райкома не против. Так не догадываешься?.. Я прожил свою жизнь и не имел хаты. Все по каморкам. Умерла вдова Знаменского, квартировал у ее сестры, умерла сестра, квартирую у ее дочери. Еще в то время, когда мы, приехав сюда с Лизонькой, начали с того, что вымыли и подмели школу, за глаза люди судачили: «Лучше бы о своей хате думали». А мне было некогда. Разлучили нас с Лизонькой. А теперь я хочу, хлопче, воссоздать хату. Не какие-то там эскизики, рисунки или макет. А смысл хаты — суть ее долголетия...
Они опорожнили сундук. С самого дна Алексей Ва-вилович добыл завернутую в полотенце буденновскую саблю.
Она была в черных ножнах, окованных медью.
Старик держал ее обеими руками — дорогое революционное оружие.
Разошлись поздно.
XXXII
На осокоре около родника появились листовки, и Яровой, как ни старался, не мог разведать, кто их наклеил. Когда они появились еще раз, он рассердился не на шутку. Левко застал его около родника, придя туда за водой.
— Снова нацепили поганцы? — спросил он, ставя на землю пустые ведра.
— Наклеили! — гневно ответил Яровой.— Смотри, выводит какой-то умник кривулями, ясно, что левой рукой, чтобы никто не догадался. Но ты посмотри, о чем выводит. Мы проводим подписную кампанию, а тут? «На заем не подписывайтесь, мяса на поставки ни килограмма не давайте, молока — ни литра, ни одного яйца, на работу не выходите, детей в школу не пускайте». Что, реально, может быть вреднее? Что? — Он был крайне разгневан, но не порвал вражью листовку, сложил и спрятал ее в планшет.
— Все равно, Володя, мы им руки укоротим.
Левко набрал воды, увел с собой Ярового.
233
Позавтракали тем, что мать приготовила, и пошли в село.
Подписная кампания на заем была в разгаре. Весь актив, в который включили и Алексея Новака и Юрка Оранчука, с утра двинулся на участки.
Круглая кубанка Ярового маячила на Залужье, на Пропастище. Мотря Цисаричка жалела его: «Не дает ночной пакостник человеку покоя, бумажки' какие-то клеит...» Цисарик, едучи на почту на двуколке, отвозил в сопровождении ястребков наличные. Отправляя из дома, Мотря крестила Ивана, а он замахивался на нее кнутовищем.
— Ты на меня креста не ставь, я еще не одному покажу, где раки зимуют.
Каждый вечер актив собирался на заседание. Сходились не спеша, старшие групп отчитывались, детально рассказывая, что и как. Кулишенко говорил:, в первые дни наличными было больше, люди готовились заранее, заблаговременно. Для них это не впервые. Сейчас труднее, но это не значит, что село деньги припрятывает или скупится. Люди постараются, но они же не на зарплате. Листовки, понятно, во вред делу: враги знают, когда можно больнее укусить. Но разве крестьяне забыли, кто их защищает? А кто под дулом автомата забрал не одного кабана, не один мешок зерна, кто ставит их жизнь под угрозу?
Левко будто бы даже постарел немного. Не легко ему. Оставила свой след и посевная — углубились морщины поперек лба, набрякли мешки под глазами.
Рассудительность Кулишенко, его веру в людей разделял Гомоляка — новый учитель и секретарь парторганизации. Седоголовый, с пробором, он говорил, подчеркивая каждое слово:
— Мы не сами по себе, мы люди государственные, и мы будем действовать по-государственному: уверенно, спокойно.
Отметили, какие участки еще не охвачены, и актив разошелся.
Комиссия подсчитывала наличные. Цисарик держал наготове почтовую сумку. Наличные положат в нее, Левко закроет в сейф, и на рассвете — в банк.
А в это время из Верхова, из леса, Турчин вел банду в село. На хуторе Довбеняк запрягал лошадей, и Соло-
234
мия одевалась в белое подвенечное платье. А в монастыре служили вечерню — суббота. И в этот самый час Алексей Вавилович, вернувшись из сельсовета, остановился на пороге: вечер звездный, тихий, лунный. Усталый Новак постоял на пороге и побрел спать.
Кулишенко подписал документы на собранные наличные. Он завернул деньги в газету, складывая сотню к сотне. Цисарик подошел к нему с почтовой сумкой. Денег собралось немало, разными купюрами. Они мелькали в глазах Цисарика — новенькие, хрустящие и старые, помятые, подклеенные. Ему не верилось, что он будет везти так много денег, хотя уже не раз возил их.
— Порядок,— проговорил Кулишенко, укладывая пакет в почтовую сумку.
И в тот же миг из окон посыпались стекла. Длинная очередь отбила глину в противоположной стене. Закачалась под потолком лампа и вспыхнула: пах! пах!
Цисарик упал на пол, прикрывая собой сумку.
В сельсовет вскочил Яровой — кубанка набекрень, сбита на ухо.
— Нападение! С колокольни бьет пулемет! Из-за речки движется банда.
По окнам сельсовета снова застрочил пулемет. Лампа погасла, запахло разлившимся керосином.
— Цисарик, где двуколка?
— На улице, Левко, на улице. Лошадь привязана.
Яровой крутнул ручку коробочки «бандуры» — телефон молчал.
— Сумку с деньгами Цисарику. Володя, марш с дедом в район!
Яровой кричал:
— Я не поеду, а буду отбиваться до последнего патрона! Они нас не возьмут! Идите вы, товарищ Гомоляка.
— Нет, мое место здесь,— ответил секретарь парторганизации.
Кулишенко ощупал сумку, повесил ее на плечо Цисарику.
— Хлопцы, я сам. Я пробьюсь,— заверял Иван.— У меня такой коник! Моя Мотруня боится подступиться к нему!
— Давай, дед, в район,— приказывал и торопил Левко.
235
Банда, которую вел Турчин, еще не подошла. Пулеметчик с колокольни застрочил преждевременно.
И Кулишенко, и Яровой, и Гомоляка видели: Цисарик прижал к груди сумку и, босой, выскочил из дверей, Побежал, пригнувшись.
Татакнуло и замолкло. Посыпалась штукатурка.
— Заело,— процедил Яровой.— У них пулемет заело. Цисарик успеет.
— Отвязывает коня. Лучше бы выпряг его и верхом,— сказал Кулишенко.
— Счастье, что у бандитов патроны сырые,— отозвался Яровой.
Цисарик прыгнул в двуколку.
Когда на мостовой затарахтели колеса, Левко толкнул ногой входные двери, закрыл и мгновенно заложил болт.
— За мной! На второй этаж! — командовал Яровой. Гомоляка с ястребком тянули к дверям стол.
— Бросьте! Что там двери? Окна выбиты. Мы не подпустим их сюда. Крышу подожгут, а стены выдержат.
На втором этаже ястребки залегли под окнами — автоматчики и пулеметчик. Один из них, поднявшись, выстрелил через окно.
— Не стрелять!—приказал Яровой.— Берегите патроны. Где пулемет?
Свой автомат он отдал Левку, установил пулемет.
— Левко, бери трех хлопцев. Следите за речкой. Они выйдут из-за реки, двинутся огородами... Остальные ко мне. Мы следим за улицей. Бандиты будут нападать с огородов, надеясь, что пулеметчик их прикроет. Засел, сволота, между колоколами с «максимом». Вот тебе и отец Иов и богомольные монахини!
«Максим» снова ударил с колокольни.
— Долго менял ленту,— промолвил Гомоляка.
Кто-то из ястребков плюнул и ругнулся:
— А чтоб тебе опять заклинило!
Кулишенко спросил:
— Где Кримчук?
Яровой бросил язвительно:
— А ты видел его вечером? Он левой рукой маракал листовки, а правой на заем подписывал. Писака! Я это докажу. Категорично!
236
Из-за речки появились фигура за фигурой, бежали, припадая к земле.
Завязывался бой...
Новаку в ту ночь долго не спалось: давила жесткая кушетка, болели бока. Представлялось, как он ходил с Юрком от хаты к хате, как разговаривали с дядьками и тетками... Он не мог согреть места на кушетке, которая стояла на кухоньке. Когда ему показалось, что в помещении холодно, он встал, накинул поверх одеяла рядно. Засыпал с таким ощущением, будто он что-то потерял и эта потеря была необратимой. Может быть, он слишком устал. Да и сон снился ему: будто взяли да и закурились трубки-люльки из его коллекции, будто он прятал по карманам своих глиняных петушков, а они становились живыми и кричали: «кукареку!», выпархивая из его карманов, будто с насеста. А потом началось: сельские молодицы оголяли свои белые колени и кудахтали, щебетали. А он ведь их знал стеснительными — никогда не купались в реке без сорочек... И вдруг мельница, в которой все, перемешавшись, гудело,— но не водяная, а паровая, с высокой черной трубой, из нее, клубясь, валил дым.
Учитель взмахнул руками, проснулся. Услышал стрельбу.
«Все это из-за нее, из-за этой стрельбы,— подумал он и поднял голову.— Стреляют, будто под ухом... Ну и кутерьма...» И только хотел положить ее на подушку, как на крыльце, а затем и в хате двери распахнулись. Спросонья он не мог понять: это продолжение сна или действительность?
Полыхнул яркий разящий свет, осветив комнату и кухоньку.
— Вы меня знаете?
Алексей Вавилович поднял голову и ответил, не вставая с кушетки:
— Я знаю вас еще с прошлого столетия. Но вы тогда, кажется, были в рясе?
Свет то гаснул, то вспыхивал:
— Я никогда не носил рясы, господин Новак. Я комендант службы безопасности. Вставайте и идем! Быстро! Я и мои хлопцы вам ничего плохого не сделают. Ручаюсь.
237
Алексей Вавилович одевался, путаясь в брюках. Завязывал галстук, а он развязывался.
Стрельба не утихала.
— У меня, господин Новак, пустячная просьба. Надеюсь, вы ее выполните? Извините, что пришлось побеспокоить.
Старик пробормотал еле слышно:
— Принесли вас черти в недобрый час...
Его вели садами, обходя места, которые простреливались.
Пламя охватило здание сельсовета и словно языками лизало его стены.
Двое бандитов, Новак между ними, Турчин сзади, подошли все четверо к школе с тыльной стороны.
В цокольной части музея одно окно открыто настежь. В нем показалась голова Василя Кримчука.
— Сюда! —позвал, будто свистнул, и добавил: —Как будто все обыскал, а альбома нет.
— В историю стремитесь? — учитель смерил взглядом Турчина с головы до ног.
— Спрашивать разрешения у вас не будем. Хлопцы? А ну, подсадите его в окно.
Бандиты кинулись, чтобы взять старика под руки.
— Оставьте! — оборвал Новак.— Я живым через окно не полезу. Можете внести меня только мертвым.
Из окна снова показался Василь, сообщивший, что альбом нашелся — лежал под шкафом для посуды.
— На колени! — крикнул Турчин и приказал: — Поставить пособника Советов на колени в воротах монастыря! И пусть стоит!
А в это самое время в сельсовете Кулишенко, боком отступив к выбитому окну, упираясь плечом о стену, нажал на гашетку и выстрелил по бандиту, который, поднявшись с земли, отважился швырнуть гранату. Бандит упал, одновременно взорвалась граната.
Яровой перебегал от одного окна к другому. Ствол пулемета разогрелся и обжигал ладони. Он тащил его за собой так быстро, что казалось, будто пулеметы бьют изо всех окон.. Ему помогал Гомоляка—набивал патронами диски.
238
Новак стоял на коленях под аркой монастырских ворот, на булыжнике.
Турчин в сопровождении бандитов, проходя мимо, кинул:
— Вы в галстуке? Я и не заметил.
Ему докладывали, что захватить сельсовет приступом не удалось. Подползти, облить здание керосином и поджечь также невозможно. Хлопцы засыпают зажигательными пулями, может быть, крыша вспыхнет.
— Держать под обстрелом!—приказал Турчин.— А оружие погрузили?
- Да.
— Все оружие вытащили из колодца?—переспросил он, не доверяя.
— Все.
Он кинул — «Добре!» — и двинулся к церкви.
В притворе его ждала Соломия. Сейчас косы под белой прозрачной фатой. Донизу спадало белое платье.
— Видишь, как мы венчаемся, Чайка?
Отец Иов обменял их кольца, повязал руки белым полотенцем и повел по выстланной дорожке к аналою.
Турчин повернул голову к Соломин.
Ее глаза синели на фоне позолоты алтаря.
Посреди церкви, на шаг вправо от них стоял, в высоких сапогах, Порфирий Довбеняк. Единственный мирянин во всей просторной и пустой церкви. Пригладив на голове несколько волосков, разгладил густую бороду, в одной руке, опущенной вниз, держал картуз, в другой — кнут.
Отец Иов ходил в малиновой ризе, а монахини с хоров заливались такими голосами, словно каждая из них, пренебрегая обетом, выходила замуж.
Горело паникадило. Горели лампадки и свечи.
Порфирий бросал взгляд на синие, зеленые, красные стекла окон. Казалось, будто на них витражи с картинами страшного суда, и он крестился с кнутом в руках.
А тем временем Цисарик гнал двуколку в район. Бил коня кнутовищем, вожжами, прижимая к груди почтовую сумку, и покрикивал: «Вийо, стерва! Вийо, лошадка!»
239
XXXIII
Наступала ночь. Гудели майские жуки. Их не видно. Они жужжали и ворошили своими лапками листья на придорожных яворах. Юрко возвращался из вечерней школы, его остановила мать Василя. Расспрашивала о сыне, а Юрку нечего было сказать: не видел, не знаю. Она сокрушенно покачала головой. Так и разошлись. Голова ее закутана платком, а подол юбки подоткнут. Из руки свисала хворостина. Старуха волокла ее за собой...
Двинулся и он.
Юрко жалел эту женщину, постаревшую, закутанную в платок так, что еле видны глаза. Ведь мать Василя перехватила его вечером, чтобы никто не видел, чтобы его, Юрка, ни в чем не попрекнули.
Остановился над рекой. С холмов темнели дороги, спускаясь к речке. С одного угла, с другого. И сама река темнела, словно вьющаяся дорога меж холмами.
Жуки разлетались, неся на своих крыльях цветочную пыльцу.
Все другие звуки как бы вымерли.
Звенящее протяжное жужжание поглотило их, по-своему наполняя звуками вечер.
Юрко миновал речку, обошел буерак, и тут его схватили за плечи.
— Та же самая сумка,— прогудел и хихикнул ему в лицо бандит.— Знаешь-понимаешь, не сопротивляйся, не ерепенься.
«Убийца-душитель»,— подумал хлопец.
Повели.
В поле жуки не гудели. Прозрачно. Звездно. Ступали, шаркая ногами. И те, что вели его, и он сам.
Юрко снова услышал гудение жуков уже у леса. Они жужжали, кишели на кустах.
— Сюда...— сказал кто-то стоявший у высокого граба: вероятно, постовой.
— Сам комендант отрядов подземелья хочет с тобой говорить,— и снова то же хихиканье ему в лицо.
Юрко знал лесные тропы, но как-то не заметил, что оказался у Синевира, а ведь он думал, что они шли долго. Небольшое озеро плескалось о берег волной. Не спало. Юрко остановился. В черных берегах, заросших сос
240
нами и дубами, освещенное звездным небом озеро мерцало и шевелилось, вспыхивало, словно бы на дне его кто-то высекал искры, и они пламенели в воде, золотистые, золотые. Сосны и дубы огромными тенями отражались в воде.
Потом он увидел костер. Около него лежали бандиты. И он услышал: «Ой саду, м!й саду вишневий...» — свою и не свою песню.
На поляне, неподалеку от костра, на пеньке сидел Турчин в своей любимой позе, подперев кулаком голову.
— A, iMusa gloriam coronat, gloriague musam1,—поднял глаза, не шевельнувшись на пеньке.— Знаешь, кто так говорил?
Юрко отрицательно качнул головой.
Перед Турчиным стоял еще один пенек, пониже. Он указал на него пальцем, Юрко сел.
— Твой дядько так говорил.
— Може...
— А поляки говорят, что «може» — это море, широкое и глубокое,— истолковал Турчин его ответ.— А что поговаривают обо мне в селе? Беснуются, насмехаются или молчат? Пусть делают все что угодно, только бы не молчали. Кого замалчивают, тому — смерть.
Костер то разгорался, то угасал. Когда вспыхивал, оба были видны в его отблесках. И еще виделся край озерного плеса: пламя освещало синие волны. Огонь угасал, и все меркло вокруг.
— Люди молчат,— ответил Юрко.—Иногда пугают вами детей, если они бывают непослушны.
— Вот как! Ну, тебя как будто никто не замалчивает. Слышишь? Ты на это жаловаться не можешь.— И вдруг спросил: — Когда тебя большевики арестовали, то всыпали или цацкались с тобой?
— И не всыпали и не цацкались.
— Обо мне спрашивали?
— Почему должны были спрашивать? Ведь я вас не знаю.
— Я хочу, чтобы знал. Для того я тебя и призвал. Лоб в залысинах, седоватые виски... Автомат у ног.
1 Муза коронует поэтов, а поэты — музу (лат.).
241
На автомате фуражка. Рука на животе — пальцы под пряжкой.
— Чтобы знал,— повторил он.
— Зачем?
— Скажу. Мы поговорим. Мы все обдумаем. Ты знаешь, что я комендант службы безопасности?
— Мне сказали: комендант отрядов подземелья.
Пролетел жук, ударился о руку Турчина и упал на землю. Комендант безопасности снял ногу с ноги, нагнулся, пощупал руками, нашел жука. Снова положил ногу на ногу и, не глядя на жука, отщипнул ему лапку, а глазами уставился на Юрка.
— Нам не безразлично, кто берется за перо и что это перо напишет.
Его глаза холодные, острые, гневные.
— Ты учишься, собираешься в институт, может, и в университет?
— Собираюсь.
— Не перебивай. То, что скажу тебе я, ты ни в университетах, ни в академиях не услышишь. А впрочем, будь со мной откровенным. Не выкручивайся. Большевики уже, кажется, задурили тебе голову равенством, братством и другими нелепостями.
Юрко подумал, что лучше молчать.
Комендант службы безопасности продолжал:
— Вместо безликой и обманчивой идеи интернационализма, классовой солидарности мы выдвигаем четкую и выразительную идею, призывающую...
— Подавлять в народе равенство и братство, подавлять сам народ,— сказал, не сдержавшись, Юрко.
Турчин оторвал лапку жука и кинул под ноги. Его пальцы нащупывали другую.
— Народ... Массы...— услышал Юрко.— Да ты запомни: народ — это постоянная беспомощность, способная на спазматические и бесплодные конвульсии. Масса — не творец, а орудие.
Юрко медленно и тяжело повел головой в одну сторону, в другую...
— Постоянная беспомощность? Спазматические и бесплодные конвульсии? А Тарас Шевченко? А Леся Украинка? — спросил он, глядя на озеро.
Он вспоминал, каким сердитым оно бывает весной,
242
когда трещит лед, когда оно выходит из берегов, затопляя все вокруг.
— Не перебивай, а слушай! — кинул, как приказ, Турчин.
Хлопец силился не смотреть ему в лицо, одутловатое, брезгливое.
— Кто любит другие народы, как свой, тот вреден для нации.
Еще одна лапка жука упала на землю.
— Всемирные идеи солидарности, человечества — я отвергаю,— продолжал комендант службы безопасности,— как вещи, которые лежат за пределами нации... Я считаю, что только одной из идей остается место на этой земле. Если враг ничего плохого не сделал — все равно растоптать ехидну.
«Какой он страшный»,— подумал Юрко и спросил:
— Неужели ваша мать произвела вас на свет для зла?
— Я не знаю своей матери, она произвела меня для своего удовольствия,— кинул он грубо, цинично и, будто угадывая мысль Юрка, добавил:—А наша власть страшна! Она должна быть страшной. Бог так хочет, чтобы ушло в небытие все человечество, если нужно сражаться за его славу,— проговорил Турчин, как заученное, вышколенное.— Театральное «бог» звучало как властное «я». И, оторвав у жука все лапки, он взял насекомое за окостенелые прозрачные крылышки и добавил: — Или ты будешь воспевать нас, или...
— Или что? — переспросил Юрко и услышал:
—• Мы поздно за тебя взялись. Поздно до тебя докопались. Ну что же, будешь служить нам, я гарантирую: каждое твое слово будет передаваться туда.— И Турчин махнул рукою, в которой держал жука без лапок, только с одним крылышком, показывая куда-то.— Твое слово будут знать Америка, Европа... Я обещаю. Ты понимаешь: Америка, Европа...
Холодный и острый взгляд его сверлил Юрка.
— К этому призывает тебя твой дядько. Дядько и я! Шумел лес, плескалось озеро.
Турчин сидел, облокотившись на колено, опираясь головой о кулак.
Комендант службы безопасности поглядывал то зло, то будто поощрительно, то резко, обжигающе.
243
«Страшные, жестокие глаза,— думал Юрко.— А руки? Такие глаза и — Соломин? Его руки и она? Служить? Вам? — Его сердце сжала ненависть.— Вам, убийцам?»
Стучало в висках, и в душе кричало: «Я есть народ, сила его правды никем еще не была завоевана...»
Он жил этими словами, а Турчин заканчивал «беседу»,— на его языке это называлось «психологической ломкой» человека.
— Не будешь служить нам,— взгляд его становился гнетущим, тяжелым,— запомни: служба безопасности—• такая поэзия, что любви и популярности не просит и не домогается. Служба безопасности добывает доносы. Ступишь не в нашу сторону, и мы будем знать. Уразумел?
Юрко молчал.
— Думаю, что мы еще встретимся,— пообещал Турчин и крикнул: —Увести!
От костра подбежал Василь Кримчук. Как бы не замечая Оранчука, обратился к коменданту:
— Я каждое ваше слово записал. Каждое ваше слово — на вес золота.
Турчин ничего не ответил.
Отошли. Юрко сказал Кримчуку, что мать по нем убивается.
Василь и ухом не повел.
Шелестели кусты.
Он довел Юрка до постовых, а те дальше — вывели в поле.
Наступила ночь.
От коменданта «службы безопасности» он шагал наугад.
Дошел полем до склона горы, и перед ним в темноте обрисовались каменные бабы. Он остановился и смотрел на них, а они — пустыми глазницами — на него.
XXXIV
Варька, ссутулившись, сидела на пороге крыльца, а Оксент около амбара. Яровой остановился между ними, посреди двора.
— Я знаю, они, реально, где-то здесь,— обратился он к обоим.— Вы еще пожалеете... категорично!
К Оксенту подошел Буланчик и начал грызть его
244
плечо. Варька выдохнула: «Ищите!» — и спрятала голову в ладони.
Около ворот стояли наготове ястребки с длинными, заостренными на концах проволоками-щупами.
Припекало, было душно: Яровой скинул кубанку, вытер лоб. Ярко светило солнце, и он еще больше прищуривал свои настороженные глаза. «Вот и снова мы у Кричевских»,— размышлял он. Бандиты задержали Юрка Оранчука. Хлопец рассказал отцу. Прибежал Павло Оранчук, всех поднял на ноги и — в лес, среди ночи. Но сейчас не до этих воспоминаний. Махнул кубанкой ястребкам: начинать.
Схрон был под сараем. В одном углу Турчин, в другом — Соломия. Село проголосовало и постановило: Дов-беняков выселить, а хутор снести. Банду разгромили над озером Синевиром. Соломия разродилась семимесячным сыном. Теперь она держала его, запеленатого на руках.
Через ворота в сарай входили и- выходили люди. В схроне слышны были стук шагов, голоса.
Турчин сидел, подняв голову: неотступно следил за люком, который находился сбоку. На нем, на камне, замаскированном землей, стоял прогнивший столб от ворот. Стоит его поднять, столкнуть, откинуть камень — откроется углубление, ведущее в схрон. Догадаются ли? Спина Турчина словно вросла в доску. «Остался ли на воле кто-нибудь из своих людей? Обошли, обложили и косили, как траву. Выскочил по трупам и — теперь яма, безвыходность». Не замечал ни Соломин, ни своего дитяти. Улавливал каждый шорох, который доходил до него оттуда, сверху. Кровь пульсировала в висках.
Варька не могла оторвать голову от ладоней. Ни о чем не думала. Ястребки обходили ее на ступеньках, идя в хату. Говорили:
— Лучше было, тетка, тогда журиться и воспитывать, когда дочка только училась говорить.
Буланчик помахивал хвостом, стоя перед Оксентом.
Гул... гул...
У Турчина вытянулась шея, искривился рот. В темноте поблескивали, маячили белки. Глаза будто вышли из орбит. Напряженно прислушивался к затихающим отзвукам шагов, отдаляющемуся шороху. Комендант службы безопасности надеялся, что смерть отступает.
245
Она ходила где-то поблизости, и, страшась ее, он думал только о себе. Внутри у него все дрожало.
Заплакал ребенок. Жалобно. Голосок тоненький. Но каким бы он ни был, Турчину казалось, что он выдает его. Он сверкнул глазами на Соломию, словно кричал: «Заткни ему рот!» Взгляд его был лютым, неумолимым.
Он старался думать о своем: «Видеть в каждом человеке равного себе?» Но шаги над головой и детский плач прерывали его мысли. Соломия дала младенцу пустую грудь — заткнула ребенку ротик. Но Турчину все еще слышался тонкий детский голосок, который сливался с топотом ног, с шорохами, и казалось, будто дитя было с ними заодно — против его желаний, его мыслей, против него самого. И Турчин выдавил: «Оно верещит...» Сказал это тихо и гневно.
Искали в хате, в амбаре, в хлевах...
Буланчик, намахавшись головой и хвостом, снова принялся грызть Оксентово плечо. А Оксент время от времени поднимал глаза, глядел на ворота. Он смотрел на них, не таясь. А встать, сказать и повести — не мог. «Предашь — я первый порешу Соломию и ребенка» — обещал Турчин. Эта угроза: «Порешу!» — удерживала, не пускала. Он косился на подгнивший столб, который плохо держался на камне. Этот столб ободранный, за который часто задевали колесом. Его поддать хорошенько плечом — и упадет. Оксент удивлялся, почему Яровой не догадывается это сделать?
Подгнивший, ободранный столб торчал у него перед глазами. «Это кол в моей груди,— думал Оксент,— пока стоит на месте, этот кол входит все глубже и глубже. Осиновый».
Гул... гуп...— бегал Буланчик.
От шагов на поверхности дрожала кровля схрона. Из-за колод и досок осыпались пыль и земля. И шаги на поверхности, и пыль, которая сыпалась на голову, и земля, что попадала за воротник, пугали Турчина. А еще больше, еще сильнее боялся того, что снова раздастся голос ребенка. «Оно верещит...» — неотвязно раздражала его мысль. Тоненький голосок проникнет из схрона на поверхность, и там его сразу услышат.
Турчин глядел то на люк, то на угол, где сидела Соломия с ребенком. «Это же глумление над личностью — видеть в каждом человеке равного себе»,— вспомнил он
246
высказывание гауляйтера.— Разве этот кусок бесформенного мяса в пеленках равен мне? Эта задрипанная баба, которая не может заткнуть ему рот, разве она ровня мне?..» И он обращал на них страшный, безумный взгляд, весь охваченный единственной мыслью: «Выжить, никому не уступая дороги, наслаждаться счастьем своего «я», любой ценой. На все другое плевать!»
Ребенок будто подслушал его мысли. Он захныкал, но почти сразу замолк. «Опять пищит! — с новым приступом раздражения и ненависти подумал Турчин.— Еще в пеленках это ничтожество, а уже противоречит отцу, подает голос, встает против меня...» И ничто не шевельнулось в его опустошенной душе, кроме неистовой злобы ко всем, ко всему миру. Кровь ударила в голову. Волосы на голове встали дыбом. Ничто доброе, отрадное не вспомнилось изо всей его жизни. Казалось, будто он вышел из пелены мрака, и глухое кладбище окружило его со всех сторон. «Наслаждаться счастьем своего «я», даже ценой того, кто всего ближе...— выстукивало молоточками в висках.— Оно верещит... Чего-то хочет?..»
Яровой, усмехаясь, присел около Оксента на пороге амбара. Нацепил кубанку себе на колено.
— Не курил я, не курю, но сейчас захотелось. Давай, Оксент.
Закурили и молчали.
Яровой закашлялся.
— Дым дерет горло, а ненависть еще сильнее,— проговорил он, бросив окурок, и повторил слова, с которыми обратился к Оксенту, начиная обыск: — Я знаю, они, реально, где-то здесь... Вы еще пожалеете... категорично! — Он снял с колена кубанку, кинул на лысину.— Ну, пока, и пеняйте на себя, что мои хлопцы перевернули все вверх дном. Вы сами виноваты.
Ястребки курили. Брали винтовки, собирали щупы. Пересмеивались: на Синевире было легче, несмотря на то что кругом лес, вода и посвистывали пули.
Варька подняла бледное лицо от ладоней. Бельмастый глаз ее блеснул и затянулся веком.
Заходило солнце, и высокие ели отбрасывали свои тени через хату на подворье. Отдохнув, снова забегал
247
Буланчик. Копытца цокали по земле, по длинным теням от елей. Оксент хотел его утихомирить, а он заржал — «Иго-го!».
Турчин услышал бряцание оружия, звон металла и отзвуки бесчисленных шагов. Уходили ястребки, брыкался жеребенок. И в эту минуту зашелся плачем ребенок. Голосок тоненький и чистый. «Оно верещит... Оно погубит». Турчин пополз на коленях из своего угла: руки потянулись к ребенку, мгновенно схватили его шейку. Дитя не издало ни звука. Соломия хотела защитить младенца, но не успела. Она вскрикнула и ударилась головой о землю.
Никто не слышал.
Когда стемнело, Оксент встал с порога и пошел к воротам. Отодвинул столб. Потом взялся за камень. Не успел его откатить, не успел позвать: «Выходите», как Турчин уже выскочил из схрона.
— Их нет? Ушли? — он присел и поводил автоматом, глаза пылали холодным огнем.
— Нет их, ушли,— подбежала и зашептала Варька,— такое счастье!
— Ваши там,—буркнул Турчин и показал автоматом на отверстие у столба.
Перебросил автомат в левую руку, пригладил пятерней чуб, повернулся, пошел под ели. И там засмеялся. Пошел, побежал садом, а следом за ним побежал его смех...
Оксент лег на землю, уткнул лицо в отверстие схрона и позвал: «Соломия, Соломия...» Варька оттолкнула его, тоже легла лицом к земле, тоже звала: «Доченька...»
— Он все ступеньки поломал,— сдавленно проговорила Соломия. Она, едва сдерживаясь, передала матери свое дитя. Тогда отец вытянул ее за руки.
Варька проговорила с ужасом: «Неживое...» — и, не в состоянии держать младенца, передала его Оксенту.
— Что же нам теперь делать,^ Соломия, Варька?
Соломия поглядела на отца, не убирая нависшие на глаза волосы.
— Сама все сделаю, тато, мамо.— Взяла из отцовских рук мертвого сына и вышла за ворота.
Ступала по улице и несла, прижимая к груди уже холодное в свивальнике тельце.
Варька догнала ее.
248
— Вернитесь, мамо.
— Еще что-нибудь учинишь над собой? Что ты хочешь делать?
Соломия оттолкнула мать. Варвара остановилась. Ее догнал Оксент. Двинулись вместе за дочкой.
Соломия шла по селу.
А они за ней.
Поравнявшись с хатой Кулишенко, Соломия свернула во двор.
Оксент и Варвара остановились под тополем.
У Кулишенко ужинали. Левко на краю стола, мать около печи.
Соломия открыла двери и, не переступая порог, сказала:
— Вот я и пришла.— И тихо-тихо:—Не одна...— И протянула, держа на руках, свою ношу.
XXXV
Манька внесла из кладовой кувшин — оставила за собой открытой дверь: как обычно возбужденная, неугомонная. Хата не могла вместить разгоряченной, неуемной ее натуры, потому и двери всегда — настежь. Она обтерла кувшин передником и поставила на стол.
— Перекуси малость, а то до ужина еще далеко. У нас все горит,— быстро говорила она.— Яшка и Райка — с коровой, я с батьком — на крыше. Не мешкай, поешь скорей. В чем-нибудь нам поможешь. Хотя тебе еще в школу надо...—Круглолицая, выкатилась на двор.
Юрко выслушал ее, остановившись в сенях. Все они в работе, будто в пекле, но рады: все растет как на дрожжах и на огороде, и в поле. Видны их труды. Перекрывают хлевец. У отца нет времени даже на то, чтобы слово сказать, глянул, вытерся рукавом и улыбнулся— блеснули зубы из-под рукава. Райка закричала: «Хорошо, что пришел, помоги решить задачу, Яшка уперся — не хочет помочь, говорит, что я — глупая, сколько ни толкуй, все равно что воду в ступе...» Погнали корову.
Его ноги все еще гудели после долгого пути. Два дня не был дома. Получал приписное свидетельство. Медкомиссия. Лекции. До района не близко, пришлось за-
249
ночевать. Дорога, хлопцы, сборный пункт — все еще звучало в нем. И соловьи... Туда маршировали, и назад — маршем. Шеренгами.
Их вел Кулишенко.
Юрко шагнул из сеней в комнату, нашел кружку, налил молока, поднес к губам, глотнул. Молоко холодное. Такой же холодной и такою же вкусной была вода из Велемчанки, пили они ее, когда прилегли в лесочке на отдых. «Пейте, хлопцы,— шутил Левко Архипович.— Лучшей воды нет ни в Европе, ни во всем мире. Она из нашего родника: сладкая, ледяная и даже зубы ломит».
Молоко тоже сладкое. Пахнет травой, солнцем и родной речкой.
Перед ним на столе лежит нож и хлеб. Отрезал краюху, ел, запивая молоком, а в памяти стояли два минувших дня... Из военкомата шли прямо в райком комсомола. Комсомольские билеты вручали в зале под развернутым красным знаменем. А после Кулишенко сказал ему: «Ну, теперь, Юрко, держись!»—и обнял его. Домой возвращались комсомольцами.
У него — комсомольский билет. И приписное свидетельство.
Скоро будет и аттестат зрелости.
Хлеб черствый, давно выпеченный. Он любит крутой хлеб: на нем вырос. Этот хлеб честный, потому и придает силу. Он хочет иметь ту силу, которую Левко Архипович называет: «честность». А Новак Алексей Вавилович говорит: «Возьми себе за правило — честность. И если придется голову сложить, то вместе с нею. Не раньше, не позже, не отдельно, а только вместе. Даже если это произойдет преждевременно».
Хлеб, молоко... Молоко пахнет лугом. Как он ни торопился домой, а постоял перед выгоном, под вербой. Верба была сухая-пресухая, а взяла и пустила ростки. От корня. На выгоне, там, у родника, играют, шумят, бегают пастушки. Первая пара подымает руки, соединяет их в воображаемые ворота, а другие, взявшись за руки, бегут туда вереницей, словно шнур вьется хоровод, это зима повернула на весну, и кажется всем, будто нет конца радостной песне, веселому хороводу...
Юрко допил кружку и снова налил — голодный. Хлеб словно булка. Все такое вкусное. «Поужинаю,— 250
думал,— помогу хлевец перекрыть, а потом помогу Райке с задачей. А в сумерки пойду к Соломин...»
Двери как были настежь, так и не закрыл их.
Еще полкружки молока, еще краюха хлеба в руке.
— И стучать не нужно — открыто. Ужинаем? Приятного аппетита,— в хату внезапно вошел Турчин.
— Не за что...
— Ваши желудки эластичны,— издевательски и не менее ядовито продолжал бандит,— твой батюшка спрашивал, зачем я пистолет из кобуры вытащил, а я ответил: идешь в чужую хату — держи оружие наготове.
Юрко поставил кружку, положил на стол краюху хлеба.
— Ужинай. Чего же ты?
Чуб свесился Юрку на глаза. Качнул головой, пригладил волосы, чтобы не мешали.
— Ты нас выдал у Синевира? Погиб Кримчук. А ведь мы с тобой, кажется, договорились?..
— О чем? — Юрко глядел на него, не моргнув глазом.— Нет, не могли мы с вами договориться.
— Чтобы ты в комсомол не записывался. А ты вступил?
— Да.— И снова взглянул твердо, решительно.
«Да» и «нет» — он был весь только в этих двух словах: другие уже не имели значения.
— Раз сам не хочешь пить-есть, или уже не естся и не пьется и сон тебя не берет...— Турчин, перепоясанный ремнями, вложил пистолет в кобуру, но кобуру не застегнул.— Тогда пойдем!
У хлевца стоял с пистолетом наготове бандит-душитель. В пилотке, в солдатской одежде.
Смеркалось... И все было слышно далеко, далеко. Снизу доносились нестройные голоса пастушков. В поле скрипела телега.
На безоблачном небе появился бледный серпик луны. Доцветали сады. Белый вишневый цвет усыпал землю, и, словно вата, клочьями, летал мягкий тополиный пух.
Батько, на крыше хлевца раскинув руки, стоял, как птица. Мачеха, крепко обхватив руками его колени, припала к ним головой: не пускала...
Юрко пошел вперед, за ним — Турчин.
За дворовой изгородью кто-то ждал, повернувшись
251
спиной. В плаще, воротник поднят. Джедж Усатый. Спросил: «Управились, порядок? Мне пора школу подметать». И погладил усы.
— Я же говорил, что мы еще встретимся,— сказал Турчин, обращаясь к Юрку.— Не послушал меня — следуй в отряд подземелья.
С горбатой улицы Юрко оглянулся через плечо: там над речкой Велемчанкой, в веселом хороводе кружились хлопчики и девчата, у старших ребят алели пионерские галстуки. И это было последнее, что отразилось в его глазах.
XXXVI
Турчин сидел в низком тесном схроне. Его лихорадило: «Где Джедж?!» И он, дрожа от лютой ярости, вспоминал, как очутился в этой затхлой яме.
Когда он выстрелил Юрку в голову и она поникла, чтобы уже никогда не подняться, старый Павло Оранчук соскочил с топором с крыши. Слетел, будто ястреб.
Ни жена, которая удерживала его за колени, ни бандит, который мог разрядить в него пистолет,— ничто не остановило: угрожающе поднялся вверх топор.
Коменданту СБ и сейчас в схроне, словно в могильной тьме, виделся тот взрыв неистовой, жгучей' мести, ее острое лезвие. Он слышал, как нечеловеческим голосом закричала жена Оранчука, как закричала вся эта часть села, все Залужье... А они трое — Турчин, его охранник и Джедж — побежали к лесу. Не один Павло Оранчук, с топором — все село, поднятое по тревоге, гневное, страшное, вскочило на ноги. Охранник удирал последним. Догнав его, Павло Оранчук поднял топор, и они сцепились. «Это спасло меня и Джеджа,— думал Турчин,— мы вскочили в лес. А охранника Оранчук взял живым.— Комендант заскрипел зубами.— Я сам видел, как он оглушил его обухом топора. Так ему и нужно! Почему не стрелял в старого Оранчука, когда тот был на крыше?»
Турчин затаил дыхание, прислушался, не слышно ли чего-нибудь?
Что там, наверху?
252
Хотя они с Джеджем и добежали до леса, но и в лесу им не было места.
Наступал вечер — над верхушками деревьев взвилась и рассыпалась брызгами красная ракета.
— Яровой идет на прочесывание леса,— сказал Джедж.
— Сам вижу! — ответил Турчин и схватил его за отвороты плаща:—Или ты меня спрячешь, или я тебя порешу на месте!
Он вспоминал свои собственные слова, вспоминал, как по швам трещал плащ Джеджа в его одеревенелых, бесчувственных пальцах и как Джедж Усатый повел его кустами через заросли к сторожке на лесном кордоне, шепча: «Я вас спрячу, вот только бы успеть... Только бы успеть...» — словно молился перед смертью.
Сторожка была пустой. Пастух еще не поселился в ней на лето. Пустыми были кошары, крытые старой дранкой, и обнесенные изгородью из жердей длинные загоны. Ни велемчане, ни люди из окружающих сел еще не согнали на выпас скот. Ждали, как водилось в старину, пасхальных дней. Отпразднуют — и тогда погонят. Тянуло навозной жижей, возвышались кучи навоза, еще не вывезенного на поля.
Джедж раскопал навоз руками. «Здесь схрон,— шептал он.— Здесь я прятал сало, смалец, мед... И колбаску! Да-да...»
Над лесом снова вспыхнула красная ракета, а среди слежавшегося навоза, смоченного талым снегом и грозовыми дождями, открылась будто лисья нора.
«Быстрее!»—подгонял Джедж. И сейчас еще Турчину слышался испуганный голос Усатого и представилось в его воображении, как тот в последний раз заглянул в яму, наказав тщательно замаскироваться.
Вход закрывался обычным деревянным ящиком с землей. Доски в нем прогнили, стали трухлявы. Отверстие над его головой закрылось, воцарился мрак. А Джедж забросал вход навозом. И чтобы нельзя было найти малейших следов, для надежности спустил сюда из загонов и кошар навозную жижу, которая медленно и вяло расплывалась над старым схроном.
«Где же Джедж? — покусывал губы Турчин. Губы потрескались, язык шершавый.— Где Усатый?!» Он не знал, что сейчас — день или ночь? В глазах появи
253
лась резь. И чем чаще он их протирал, тем резало сильней.
Спину корежило и сводило, ныли руки. Ему захотелось выпрямиться, расправить плечи, и он стукнулся головой о брусок. За воротник посыпалась земля, клейкая и вязкая. Он вытер шею рукой, понюхал ладонь, скривился и презрительно сплюнул: ладонь отдавала навозной жижей.
«Где же тот Джедж? Где Усатый?! Что там, наверху? Что?..»
Голова раскалывалась, будто кто-то действительно вогнал в нее лезвие топора. Боялся повернуть шею, осторожно засовывал за борт кителя руку, прикладывал к груди, искал сердце.
Еще не верил в свою гибель.
А наверху ястребки прочесывали лес, и Джедж попал прямо в руки Яровому. Шел с ястребками и Павло Оранчук. Он грозно подступил к Джеджу:
— Ну, Усатый, где та стерва, которая пулю послала в моего Юрка?.. Тебя я хорошо рассмотрел!
И охранник со связанными назад руками подтвердил:
— Он был с нами, а как же,— и бросил взгляд на Джеджа: мол, попались, теперь будешь признаваться, как на исповеди.
Усатый не признавался.
— Я ничего не знаю. Обрубал ветки березы на веники. Я школьный сторож. Разве уже и в лес нельзя ходить? — Он показывал на вязанку березовых прутьев, сброшенных с плеча.— Если ты, Павле, хочешь меня зарубить, руби! — Он подставил голову.— Я и фуражку сниму,— Джедж сбросил картуз.
Яровой, с трудом сдерживая себя, криво улыбнулся, собрал ястребков, и все двинулись в село. Джедж шагал впереди и нес на плечах вязанки прутьев из березы.
«Что там наверху?..»
Прошла ночь, миновал день. Село хоронило Юрка Оранчука. Гроб с телом плыл над людскими головами. Левко Кулишенко шел вместе со всеми. Над раскрытой могилой стоял и громко взывал Новак:
— Велемчане, где тот последний Каин?.. Кары палачам, кары!..
Левко Кулишенко говорил:
254
— Кто с нами, тому и жить среди нас, а кто против — на свалку истории!..
«Что же там, наверху?..»
Турчин терял надежду на приход Джеджа. Донимал голод. А тут еще и другое. Ни встать, ни подняться. Он ползал в норе из угла в угол, не хватало воздуха. «А что, если и Усатый попался?»
Эта страшная мысль требовала действий. А действовать нужно было только в одном направлении — выбираться из ямы и удирать. Удирать, пока не поздно. Он ни о чем другом не мог думать. «Удирать... удирать...» Страх засел в помутневших глазах, раскалывал голову, клокотал в его груди.
Именно это и ускорило гибель.
Ощупью нашел крышку над головой. Дрожал, трясся, пугаясь малейшего шороха. Ему не удалось поднять ящик. Трухлявые доски расползлись, и в яму, вниз поплыла навозная жижа.
Турчин ужаснулся, его отбросило от выхода. Какое-то мгновение ему показалось, что там, наверху, гроза, дождь. Но это плыл поток навозной жижи.
Согнувшись, он бросался к выходу. Руками, головой пытался пробиться из ямы... Но навозная жижа прорвалась и сочилась, текла со всех сторон.
Когда густая, затхлая муть достигла груди, Турчин понял, что это конец.
На рассвете Джедж повел Ярового и ястребков к сторожке на лесном кордоне. Чтобы подойти к входу, он разулся, подвернул штаны.
— Эге-ге... Да здесь в яме уже натекло через край. И дурню ясно, что он утонул,—пробормотал он.
— Туда ему и дорога,— облегченно вздохнул Яровой и вытер рукавом обильный пот на лбу.
XXXVII
Мокрина прикрыла кошелку чистым куском полотна, вздохнула, постояла, задумавшись, потом подняла новенькую кошелку с узорчатым плетением по бокам, поглядела в окно, как в зеркало, и не спеша двинулась к двери. Вышла из хаты — с порога спорхнули птички и закружили над ней.
255
Лук на огороде давно выпустил перья. Взошел картофель, листочки седоватые, сизые. «Я уже для фасоли жердинки поставила, и она на грядках — словно в вазонах»,— довольно улыбнулась Мокрина.
Куры стали рядком — вдоль тропинки, от порога и до улицы. Поднимали головки — будто смотрели, как она идет. Она остановилась перед молодым тополем, сказала курам, чтобы не залетали на огород, и пошла дальше неторопливо, степенно. Село Пропастище высоко, а она женщина маленькая. Но в лице ее, светлом и ясном, в ее помолодевших глазах отражалась такая глубокая сосредоточенность, такая глубокая задумчивость, что, казалось, Мокрина была выше Пропастища, выше Заставны, Городища, Запорожья — всех семи ве-лемчанских холмов.
Подъем засыпало, замело опавшим цветом, тополиным пухом, и она ступала словно по белой дороге.
Из буйной зелени ей навстречу выглядывали и блестели на солнце окна.
На этот раз она не пошла к мосту, как бывало, когда направлялась с кошелкой в кооператив за солью и керосином, а свернула на тропинку, по которой носят воду, и пошла вдоль речки.
В глаза светило солнце. Она жмурилась и как бы смахивала рукой солнце, ласкавшее ее глаза.
— Тепло,— вздохнула Мокрина.
На солнце все трепетало и блестело, казалось обновленным, прекрасным и радостным. Она шла вдоль реки против течения. Волна нагоняла волну. А перед ее взором простиралась широкая долина, петляющая между холмами, вся зеленая и яркая. Трава поднялась уже до колен. Приумолкли, вытянувшись, стройные тополя и яворы. Не шумели густые вишни, затихли еще более густые вербы. И неведомо, чего было больше — буйной, густолистой, пышной зелени или лучезарного солнца? Солнце лилось, освещая своими лучами долину, пригорки, молчаливую, едва шевелящуюся в позолоте тишину.
Пели птицы, там, в яворах...
В Залужье куковала кукушка. Ей отозвалась другая: «Ку-ку!»
— Где это? Не у Заставны ли?
Из камышей, что росли стеной, взвилась чайка. Ле-256
тела боком, словно подбитая. «Ки-ги, ки-ги...» Мокрина остановилась и засмотрелась на нее: сизая чайка одним крылом как бы касалась неба, а другим хотела коснуться земли. Глядела до тех пор, пока чайка была видна. «Ки-ги...» — и пропала, растаяла, растворилась в речке, травах, на кочках, в зарослях ивняка. А она с кошелкой двинулась дальше.
На бывшей известковой яме выросли березка и тополек, ровные, прямые, как свечки. Будто живой подсвечник. А осенью как запылают жарким цветом, горят, Полыхают и долго не гаснут.
Мокрина добралась до березки и тополька. Поставила кошелочку и села.
— Запыхалась я, Архип, пока добралась до тебя,— сказала она, ловя сухими губами воздух.
Сидела, вытянув ноги, положив руки на колени,— отдыхала. Она и отдыхала так, словно делала какую-то работу.
— Что, ломите, старые кости? — обращалась к своим рукам и ногам.— Не смейте крутить и ныть, баба и слышать об этом не хочет.
Отдохнув, взялась за кошелку, вынула кусок полотна и пока отложила в сторону. Достала рушник, вышитый, с каймой, встряхнула, постелила его на мураве под березкой и топольком. У корней березки кора потрескалась, черная. У тополя хоть и не треснула, но какая-то рыжеватая. А чуть выше у одной — кора белая, у другой — серебристая. И Мокрина, расстилая рушник, напевала: «Хвалилась белая береза белой корой и зелеными листьями, дожди тебя выбелили, а вызеленило солнце». И говорила:
— Як тебе, Архип, с песней, а не с плачем: веселая.
Вынула из кошелки кулич и положила на рушник. Вытащила три крашеных яичка и тоже положила. Потом достала свечку, воткнула ее в кулич. Нашла на дне кошелки спички, зажгла фитилек и лишь тогда встряхнула полотно и села на него.
Ровно горела свечка.
Спокойно сидела Мокрина.
— Когда ты у меня был,— говорила она,— то я и не наплакалась. Бывало, слезы уже дрожат в глазах, а ты говорил: «Не плачь, жинка, пусть наши вороги плачут,
9 Б. Харчук
257
пусть у них злые очи вытекут слезами, а добрым людям глаза даны, чтобы они на мир смотрели». Я своих глаз не жалела, а твое слово помню.
Село отсюда едва виднеется. Залужье над нею, рядом с ним Пропастище, видны только окраины на холмах. Она смотрит в родные дали и все видит. Свою хату, тропинки и дороги. И те, которыми добиралась сюда, и все стежки, все дороги, которые исходила.
— Если человека нет, но сохранилась добрая память о нем, значит, такой человек не пропал. Правда, Архип?— спрашивала она.— Тяжело нам пришлось жить. Мы так никогда и не посидели с тобой вдвоем, Архип. Теперь я с тобой посижу,— говорила ему, словно живому, и вспоминала, что и как было.
Работали — жилы трещали и вытягивались. Архип приговаривал: «Разогнем спину, когда в землю положат; станем панами — зашумит трава над нами...» Скручивали постромки, чтобы носить с луга траву. А в селе немцы, полицаи. Добрые люди предупреждали, что надо удирать. Архип на это: «Куда я от себя убегу? Куда глаза глядят? Я не блудило, чтоб мною водило». Пришли, связали еще не скрученным постромком и водили по селу, словно чудовище. «Сын — коммунист! На фронте, говоришь? Ты и сам такой! Сам переводил через границу пролетариев всех стран к большевикам и сына к этому же делу приучил. Стали Советы — сын головою стал: из Березы Картузской пришел! А как же!..» — и забрасывали гнилыми яйцами, обмазывали колесной мазью, мазутом. А тот, что назывался комендантом, бил в лицо. Забегал то с одной стороны, то с другой и — наотмашь. Это был Турчин... «На моей могиле, хлопцы, самостийной Украины не создадите!» Поднимали его на постромке в воздух — со зверской злобой и бешенством. Как меня ни прогоняли, как меня ни толкали, а я все время была около него.
Не добили,— шептала Мокрина су^им языком.— Притащила домой, выходила его, но остался без глаза: стал видеть полсвета.
А в памяти все снова и снова перебирала...
Архип со связанными руками, постромок затянулся. Развязывала ему руки, заливаясь слезами. А он: «Добрая кудель, Мокрина. На все сто выхаживаешь коноплю, сеешь, выдергиваешь, мочишь, сушишь, треплешь.
258
Если бы кудель была гнилой, постромок порвалсй бы»,— хвалил ее. Покосили траву. А кругом одни гитлеровцы. Наедут, нападут и болтают так, словно у них рты скривило: «Гавгррр!..» Бежать и прятаться нужно. Фашистам всюду партизаны мерещатся. Гитлеровцы и полицейские заскочат, молодых в Германию, скот — себе. Стариков еще не трогали. Вдруг слух прошел: Верхов, все леса и земли — Гитлеру под охотничьи угодья. Сам Гитлер сюда приедет и будет охотой наслаждаться. «Самый большой дикий зверь хочет, наверно, озвереть еще больше»,— сказал Архип. Заскрежетали танки и — к роднику. Набирают в галлоны воды. Потом говорили, отправляли ее самолетами в Берлин. На анализы. Установили: хороша, вкусна! Что ни день, танки ползут в воду, берут в галлоны, дальше самолетами, поят ею чуть ли не самого фюрера. Новый пошел слух: у источника поставят хоромы, без единого гвоздика, без какой-либо железки — только из дерева, а село — дымом пустят, чтобы и следа не осталось. Она не очень верила, а Архип ей: «Правда. Во все времена, еще когда на нас шли полчища, орды, каких только нашествий мы не пережили, то никто не говорил: на, возьми, а говорил только: дай хлеба и воды! Ты думаешь, я, ты, мы им нужны — нет! Наша вода и наш хлеб». Так говорил, а убегать не хотел. «Не блудило, чтоб мною водило». На За-лужье уже лютовали фашисты! А люди сидели с узлами. Узлы на плечи, малых детей в охапку, скот за рога и— в овраги, балки, дебри, чащобы. Архип и пальцем не пошевелил. «Ты, Мокрина, бери корову. Корову жаль, а я уже присмотрю за тем, что смогу». Наши люди не жалеют так себя, как жалеют и щадят скот, хлеб в поле, дерево в лесу — все, что цветет и дышит. За-лужье в огне, дым стелется во всех концах села. Кто не прорвался, кому не удалось вырваться — всех в кучу и сюда, к меОту, где была известковая яма. Наловили людей— оказалось мало, еще стали вынюхивать. Старый, слепой — не перебирали. Забрали и Архипа. Говорят, выстроили их, а пулемет поставили напротив. Пулемет не умолкал, а люди падали в известковую яму. Кто с ребенком — падал на дитя, а кто сам,— только взмахивал руками. Чтоб легло побольше, принялись утрамбовывать толкачами. И тот Турчин тогда здесь был. Один толкач березовый, другой тополиный. Присыпали не
9*
259
много землей эту страшную могилу, а толкачи поброса* ли. Вот, люди говорят, и выросли березка и тополек на том месте.
— Ты, Архип, вырос,—‘проговорила Мокрина.— Листья надо мной шумят, и я знаю, что это ты...
Горела свечка.
Мокрина сидела и смотрела вдаль.
Левко говорил, что соберутся, перенесут останки замученных и похоронят на кладбище, но она думает: земля всюду святая, зачем кости тревожить? Она ждала его, чтобы вдвоем проведать батька, но не дождалась. Куда там ему? В гомоне, в вечной спешке, да такой, что и оглянуться некогда. Если не лес, то сев, после сева снова лес, а там и жатва захватывает всего без остатка. И в тревогах вечно,— страшно за него. Ночью обстреливали сельсовет. До самого утра шел бой, пока не одолели бандитов. Левко говорил, что гильзы выгребали и кидали из оконных проемов лопатами. Двери выгорели, окон — как не бывало, крыша завалилась. Но сельсовет выстоял, здание сохранилось. Отстраивают теперь его: Левко там. Страшно за него, а он ничего не боится, как и батько. Пришел бы сюда, кое-что рассказала бы, потолковали бы. Бегает, за всех беспокоится — и не оглянется, как свалится с ног, от переутомления. Всюду он нужен, у всех к нему дело.
— Баба, типун тебе на язык: ты же невестку хочешь! — возражала себе, радуясь тому, какой у нее сын.
Как нарочно, раскуковались кукушки. Они куковали в садах и на огородах — во всех концах села. И в томг что над нею, и в том, что ей не виден; с самых дальних холмов неслось: «Ку-ку... Ку-ку... Ку-ку...» Много, много раз.
Столько лет бабе уже не нужно. Она улыбалась беззубым ртом и мысленно переговаривалась с кукушками. Надо было вам куковать Оранчуку, сыну Павла, тому Юрку, о котором, наверное, не одна девка плакала; той замученной учительнице, что несла детям свет грамоты... Кукушки, кукушки...
И она вспоминала своих детей, которые умерли, даже не успев стать на ножки. Ее охватила щемящая и терпкая печаль. Где уж им было выжить в той нужде и нищете... Тихо прошептала:
— Дети — сыны...
260
Куковали, йе переставая, кукушки.
— Бабо, бабо,— говорила она себе,— устроилась, греешь старые кости, а кто за тебя об ужине подумает?
Накрошила хлеба:
— Птички, сюда, сюда, слетайтесь. Где вы? Баба накормит вас. А вы пойте, пусть вас слышат живые и мертвые.
Встряхнула рушник, аккуратно свернула и положила в кошелку, встряхнула кусок полотна, прикрыла им рушник.
Медленно скользя, спустилась с выступа и свернула к роднику. Он пенился, бурлил. Она подумала, что такой же родник есть и там, где Архип. А то какой же рай без родника? Напилась из ладони, сполоснула лицо и направилась домой...
XXXVIII
Выходил в стрелку, пошел в трубку колос озимых, тянулись вверх яровые, поля всколыхнулись живыми волнами — зеленая земля обращалась к миру голосами своей молодой силы и удивительной красы. Прозрачные ночи, рассветные росы, солнечные дни все жарче, длиннее лето. Близилась пора сенокоса.
На открытом партийном собрании утвердили разделение покосов.
Людей собралось — как на жатву! И когда Гомоля-ка, секретарь партийной ячейки, перечислил, кому и что выделено, дважды и трижды называл фамилии, это воспринималось как закон.
Левко Кулишенко сидел не за столом президиума — а среди людей — и думал, что он не зря недосыпал, составляя списки, не напрасно ходил по дворам, лугам, луговинам, прежде чем предстать перед всем селом.
Яровой вел протокол, обмакнув перо в чернильницу, старательно выводил каждое слово, и казалось ему, будто пахнет оно не чернилами4 официального протокола, а сенокосом.
Разделили. Но никто не расходился, хотя вопрос о приеме в партию касался как будто одного Павла Оранчука. Он стоял в повестке дня первым, но, чтобы никого не задерживать, прием в партию перенесли на конец собрания.
261
Люди не расходились — тепёрь они чувствовали свою причастность ко всему, свою ответственность. И коммунисты приступили к рассмотрению заявления председателя земельной громады.
Оранчук поднялся.
«Программу партии признаю, с Уставом ознакомился, буду исполнять их честно, повседневно и неуклонно» — так заканчивалось заявление.
Его прочитали, и он вышел к столу. Ступал медленно, степенно, немного наклонившись вперед. Стал, повернулся, приземистый, угловатый, не привыкший выставлять себя напоказ. Поднял голову.
Стоял в фронтовых сапогах, штатских поношенных брюках, заправленных в кирзовые сапоги, в полинялой гимнастерке, застегнутой на все пуговицы, подпоясанный туго, по-солдатски, белый воротничок вокруг шеи, лицо выбритое, бритва коснулась каждой складки на нем. Брови кустистые. Глаза то вспыхивают, то спокойно глядят на людей.
Говорил о себе скупо и мял обеими руками поношенную фуражку.
— Здесь я родился, тут я жил и живу среди вас, весь перед вами как на ладони.
Еще не закончив, опустил голову. И было заметно, как под гимнастеркой поднимается его грудь.
— Почему я вступаю в партию?— проговорил он тихо и начал медленно распрямляться.— Оно, видите, такое дело: когда человек спрашивает об этом самого себя, он обращается к собственной совести. И тогда человек думает, что не только родные мама и отец, родная жинка, родные дети его, но и чужие, далекие люди, которых он и сном-духом не знает, весь огромный мир может задать такой вопрос. Что же ответить? Что сказать внукам, которые еще придут в этот мир?
Павло Оранчук переступил с ноги на ногу.
Он искал взглядом Левка. Нашел. Их взгляды встретились и скрестились, и когда голова земельной громады увидел, что Кулишенко улыбнулся ему, его суровые глаза вспыхнули и засветились.
— Мое слово краткое. Я отвечу, как знаю. По-моему: человек — это зерно, а партия — сеятель...
Он все мял фуражку, словно выдавливал из нее нужные слова, чтобы они были более понятными, ясными.
262
— Вспомните, люди, и подумайте. ПилсудЧиКи перемалывали нас, и мы обрастали крестами. Кто повел те полки, которые боролись за то, чтобы мы жили, как люди?.. Братья пришли, подали руку и подняли нас, поставили на ноги. Я начал жить, стал думать. Да разве я один? И когда ворвался Гитлер, когда кто-то из наших заорал: «Скорее Велемчанка потечет вспять, в гору, чем наши братья вернутся», кто в это верил? Никто. И дни прошли, они вернулись, и мы вместе двинулись на фронт. Это был долгий и трудный путь. Он и до сих пор еще не закончился, нет! Люди, на этом пути я многое потерял. Я потерял Юрка. Сына.
Павло Оранчук опустил голову.
— Я стою перед вами, как перед миром, и твердо говорю: я не сойду с этого пути...
Он перестал мять в руках фуражку, закончил. Пот выступил у него на лбу. И тогда послышалось:
— Ну и Павло... Вот сказанул! За всех нас сказал,— и Цисарик вытянул свою голову вперед, чтобы его было видно.
Собрание расходилось. К Павлу Оранчуку подошел Новак. Сенокос его как будто и не касался, но он, как всегда, пришел, сидел среди крестьян.
— Утрата Юрка — не только ваша потеря, Павле. Это потеря для меня, для всего села...— Затем взял его за руку.— Вы можете гордиться своим сыном, а это дано не каждому отцу... Людская жизнь, человече, требует, чтобы за нее платили полной мерой, потому она так дорога...— Старик поднял чубатую голову и стал как бы еще выше...
XXXIX
Из-за высоких круглых колонн, из школы после собрания высыпали люди. Палило июньское солнце. Воскресенье.
Напротив, через дорогу, над сельсоветской, починенной и побеленной трубой свисал красно-голубой флаг. Под ним прямо на крыше сидели плотники и жестянщики. Плотники заканчивали крышу, жестянщики выравнивали листы заклепанной жести. Постукивали топоры, били молотки, мастера старались управиться до жатвы. Их отпустили с собрания.
263
Люди выходили раскрасневшиеся, вспотевшие. Насиделись за тесными партами, будто школьники.
— Еще звонок не прозвенел, а вы сыпанули, как из мешка,— крикнул с крыши сельсовета Павло Оранчук, опустив топор.
С площади донеслось:
—» Вы звоните, мы и выходим! — Это Нечуйвитриха с ребенком на руках.
— Давай им, Евка, жару! Сыпь! — поощряй ее кто-то.
— Вам уже всыпали? Хватит! — отрезала она.
—> А вам хорошо, за вас ветер трудится!
Засмеялись на крыше и на площади. Павло снова затюкал топором, а жестянщики застучали молотками.
Мужчины закуривали, собираясь кучками. Только и дела у них, что покурить, постоять перед жатвой. Дымок завис над их головами — в фуражках с твердыми козырьками, в картузах с пуговкой, над примятыми шляпами. Женщины не задерживались. На ходу туже повязывали платки и одна за другой^ как можно скорее, выбирались с площади. У них всегда жатва.
Группы сходились и расходились. Не расходился только дым, громоздился, ходил облачками. Некурящий Яровой похаживал среди людей:
— Всю площадь превратили в курилку, реально! И когда вы уже накуритесь? Дышать нечем.
— Это мы, Володька, стараемся, чтобы мастерам было на чем топоры вешать,— балагурил насмешливо Цисарик, еще сильней раскуривая свою старую люльку, которую вручил ему лично Яровой, вытряхнувший ее из кармана бандита-душителя.
— Знал бы я, дед, что вы будете портить такой чистый воздух, не видать бы вам своей люльки, как своих ушей, категорично! — подтрунивал Яровой.
Цисарик гордо стоял со своей сумкой почтальона через плечо и отвечал:
— Моя Мотруня говорит то же самое. А еще она говорит: то на самом деле какая-то мефистовская трубка, она же тебя сама находит.
— Иване, а где та, что интеллигент тебе дал?
— Ту я про запас держу, братцы. Я ему тогда, быть может, отдам, когда табачку у меня не будет.
— Будет, будет, ты в коноплях табачок посадил!
264
— А ты откуда знаешь? Моя Мотруня, которая все чисто знает, и то этого не знает, а ты?.. Тоже знаток нашелся!
— Э-э, мы знаем, у какого кума какие волы и у кат кой кумы какие куры...
Переговаривались, пекло солнце. А в полях созревал хлеб.
Кулишенко вместе с Дарьей Кирилловной задержались после собрания. Вчера заседал районный актив. Теперь собрания по селам. Левко вчера выступал на активе: машины, машины нам давайте — хлеб соберем и создадим колхозы. Он повторял то же самое и на собрании, подчеркивая: нужна машинно-тракторная станция, МТС.
Дарья Кирилловна заверяла: первый трактор и комбайн пошлют сюда — машина уже в дороге.
Обсуждали директиву ЦК ВКП(б), которая запрещала отрывать рабочую силу из села во время жатвы и напоминала: кто своевременно собрал урожай — тот выиграл!
Кулишенко договорился с Шитик: не отправлять хлопцев и девчат в ФЗУ, подождать до осени. Обмозговали, сколько приходится рабочих рук на гектар, прикинули, сколько в селе жаток, косилок, кос и серпов, сколько молотилок. Трактор и комбайн, если и придут, не очень разгуляются: поля еще не в массиве.
Когда председатель сельсовета и секретарь райкома вышли из-за колонн школы, на площади стоял лишь виллис-фронтовичок, побитая машина, которая может ездить только по сухому, да и то шофер побаивался за колеса.
— Насиделись, с людьми наговорились, показывай, хозяин, поля,— сказала Дарья Кирилловна.— Сама хочу видеть, сколько и каких центнеров дашь.
Их остановил Новак. В шляпе, при галстуке. Заговорил про Юрка. Есть его тетради. Стихи. Дарья Кирилловна сказала, что прочитает и что газета есть, можно будет их напечатать. Новак обещал принести тетради Юрка, приглашал на открытие музея. Бросил взгляд на Кулишенко и сказал:
— Скоро откроем, но пока экспозиция еще не готова.— Он шагал по площади, худой, высокий.
Мастера с крыши покрикивали:
265
— Пане — товарищ интеллигент в вашей шляпе часом не вывелись соловьи?
— Соловьев я не боюсь,— вежливо отвечал старик,— боюсь, очень боюсь, очень опасаюсь ворон.— Тремя пальцами он приподнял шляпу, подержал и опустил на голову, не останавливаясь.
— Съели фигу? — крикнул Левко шутникам на крышу.
— А мы изюмом бы тоже не побрезговали,— смеялись мастера.— Жаль, у нас не растет. Но наши груши-фунтовки не хуже, а лучше.
— Горячий, веселый у вас народ,— улыбнулась Шитик.
Кулишенко повел бровью:
— Да, им пальца в рот не клади! — И спросил:— Поехали?
— А может, пешком, Левко Архипович? — спросила она, глядя на плотников и жестянщиков.— Я не перелетная птица, не хочу, чтобы обо мне так думали.
Мастера не забыли и о ней.
— Уже на колеса, товарищ секретарь? Что-то уж очень быстро!
Шитик повернулась к ним лицом.
— Нет,— ответила.— Колеса оставляю на вас. Они не смазаны и скрипят. Пока мы с Левко Архиповичем обойдем ваши поля, может, смазали бы их? А?
— Ваш шофер, товарищ секретарь, тут рессорою расстарался,— они показали на шофера, который стоял согнувшись с жестянщиками.— А масла нет. Ставьте эмтеэс, не только подмазывать, но и заливать колеса будем.
— У вас что, товарищи, антенна проведена с крыши на собрание? — спросила Дарья Кирилловна, усмехаясь.
— Наши уши так настроены — все волны ловят!
Она кивнула шоферу: «Помогай» — и двинулась за Левко Архиповичем. Он хотел вести ее по Панянской улице, по мостовой, но Дарья Кирилловна предпочитала напрямик.
— Пойдем по Панянской, мастера увидят — да переименуют ее в Партийную? — пошутила она.
Пересекли дорогу и мимо сельсовета спустились стежкой к мосту. Шитик впереди, Кулишенко за ней.
— Хлопа за пояс заткнет,— перекинулись словом
266
друг с другом мастера и затюкали топорами, зазвонили молотками по жести.
Левко оглянулся через плечо и показал им кулак: мол, шутите, да знайте меру. Дарья Кирилловна услышала, что она хлопа за пояс заткнет, и не возразила.
Ее вьющиеся темно-русые волосы коротко подстрижены. В завитках переплелись солнечные лучи. Голова высоко поднята. Темно-синий жакет с высокими плечиками, темно-синяя юбка клешем облегает ее фигуру. Для Левка вьющиеся пряди ее волос пахли солнцем. И он, в солдатских сапогах, в брюках-галифе, в кителе без погон, но с поясом, в который заправлен пустой рукав, шагал по ее следам.
Она быстро и ловко перепрыгнула через канаву — и уже стояла на мосту.
— Кто же кого ведет? — спросила она и перегнулась через поручни моста.
Он пошел быстрее, чуб спадал набок. Шел и как бы обдумывал ее слова.
— Смотрите, Левко Архипович, в реке отражаются вербы, холмы, село. Все преображается, вибрирует...
Солнце спускалось. Их длинные тени перебросились с моста в речку, закачались на волнах.
Кулишенко и Шитик молча поднимались по зеленому Пропастищу, по его извилистой улице.
За селом наливалась рожь. Стоял усатый ячмень, завязывался, доцветая, горох, начинала белеть гречиха.
— Хлеб...— произнесла она.— Еще день, еще два—• подождем, а тогда: жать, косить! — энергично свернула с полевой стежки и побежала по меже. Раскинула руки, опустила их в колосья, как в воду.
— Вывезти все молотилки сюда — и молотить, молотить, не дать упасть ни одному зернышку!
Левко видел лишь ее голову и слышал ее голос.
— Вы же лошадьми, коровами царапали эту землю.
Она остановилась, поджидая его, гладила колосья и белозубо улыбалась.
— А когда трактора здесь загудят, что будет?!
Он подошел и сказал:
— Хлеб.
Колосья клонились книзу, как и их головы. Рожь колыхалась до самого горизонта. Медленно заходило солнце.
теплый пепел
ПОВЕСТЬ
ед Грива поглядел вокруг, щелкнул кну-’ том, СКИНУЛ шапку и опустился на коле-ни. Пепел был еще теплый, и он чувст-вовал это тепло коленями. Крепко ухва-тившись руками за вишневое кнутови-ще, он припал к нему лбом, как никогда l^- Я не пРипаДал даже к кресту, и закрыл
глаза. Перед ним на середине пожарища что-то еще дотлевало — матица или какая-то другая балка. Прялась тонкая ниточка синего дыма над грудой черной глины и штукатурки и незаметно наматывалась на тучу там, в небе.
Он не открывал глаз. И не знал, что же его так мучит, что поставило на колени: жгучая боль, холод утраты, скорбь, отчаяние, несчастье?.. Если бы собрались вместе все злые силы этого видимого и невидимого мира, то и они не могли бы причинить деду Гриве такой смертной муки, как то, что называлось одним словом — пепелище,— все, что осталось от его жизни.
Седые, порыжелые волосы торчали на голове, за ушами, как скошенная и недоношенная трава под кустом, высохшая на солнце. Из закрытого левого глаза выцедилась слеза, скатилась по морщинам и повисла на коротком усе. Что-то холодное схватило его за плечи, но дед не дал ему одолеть себя. И тогда из правого закрытого глаза тоже выцедилась и тоже скатилась по морщинам и повисла на куцем усе. Дед Грива вздрогнул, и слезинки капнули в теплый пепел. Тяжелые они были. И заходили дедовы плечи, задергались глубокие морщины на его шее.
Сколько помнил себя — никогда он не плакал. Не плакал, когда был ребенком. И, нашкодив, знал, что не
268
миновать отцовского ремня, не убегал, не боялся, а стоял, как вкопанный, и говорил:
— Бейте, батя.
И отец бил его. Да разве ж только отец? Бил сосед, которому он сунул в гороховую шелуху кота, что повадился к ним по сметану. Сосед бил знатно, ошейником, а он стоял, не шевелился.
— Не плачешь, так хоть покривись, чтоб мне тебя жалко стало... Вот камень!—и перестал стегать.— Сколько его ни бей, ничего не выбьешь...
И его били — унтера в солдатах, староста да собирала на селе, городовые в городе, лесник в лесу, управитель фольварка в поле. Били кулаками, нагайками, сапогами... Свои и чужие. Били прикладами и шомполами. А он был каменный.
Вишневое кнутовище гнулось и вздрагивало в его руках, и старые цепкие пальцы трещали в суставах. Он плакал.
Так он и стоял на коленях, прислонившись лбом к вишневому кнутовищу. Его деревенская одежда и его старое тело пропитались копотью.
Таким его увидел Степан. Он побежал к нему, а приблизившись, тихонько, на цыпочках стал за спиной старика, не отваживаясь вымолвить слово. Он узнал Гриву и сперва подумал, что дед молится, потому и замер. А теперь Степан глядел ему в спину, видел, как под грязно-бурой полотняной пиджачиной, крашенной ольхой, тряслись лопатки, задергались и поникли плечи, дрожали и мох на затылке, и слежавшиеся космы волос. Степана охватила жалость. Ему не хотелось смотреть на село, что лежало в руинах, еще курившихся и чадивших. Он смотрел на деда. И когда его глаза заволокло слезами, он смахнул их и решился протянуть к деду РУку, дотронулся до его плеча и сказал:
— Вы плачете?
Степан почувствовал — дедово плечо отпрянуло, будто он приложил к нему раскаленный железный прут, а не дотронулся своей ребячьей рукой. И на дедовом затылке выступил обильный пот. Степан резко отдернул руку, а дед, опираясь на кнутовище, поднялся на ноги.
— Я плачу? — спросил он, натягивая на голову шапку, но не обернулся.
269
И Степану стало стыдно, что он задел деда.
Все еще не оборачиваясь, Грива спросил:
— Ты чей?
— А ничей...— ответил Степан.
Дед повернулся к Степану лицом, вытирая кнутовище о полу пиджачины.
— Как это ничей? — И, вытерев кнутовище, отряхнулся.
— Теперь ничей,— сказал Степан.
Грива ничего не сказал, стрельнул одним глазом, другой прищурив. Его куцые усы торчали. Он отвернулся, начал стряхивать пепел с колен.
— Теперь мы все ничьи,— и словно затоптал эти слова башмаками в землю. И его башмаки из серых стали рыжеватыми.— И твои тоже тут? — он поднял кнутовище.
— Тут,— сказал Степан.
— Пошли,— сказал дед Грива. Опустив кнутовище, он пошел, опираясь на него. Шагал тяжело и неуверенно, как после долгой болезни.
Степан шел за ним, ступая в широкие дедовы следы.
Село, два конца — Глиняки и Городище, лежало в пепле. Оно было будто вырублено. Над черными, серыми и рыжими грудами, из которых торчали головешки, стояли обгорелые деревья, а колючая проволока скрутилась. Ветер подхватывал все, что мог подхватить.
— Где их? — спросил Грива.
Степан обошел его.
— Там,— показал рукой вперед.
«В церкви»,— догадался старик и остановился.
— Лопата есть у тебя? — спросил он.
Степан пожал плечами.
— Не ходи,— сказал старик.— Будем искать лопату...— И добавил:—Нам еще пила с топором понадобятся.
— А у нас пилы не было. Мы занимали,— сказал Степан. Он не мог понять, зачем все это нужно, а Грива ничего не говорил.
Они пошли от одного двора к другому, совсем одинаковых, сровненных с землей, от одной кучи пепла к другой, большей или меньшей,— вот и вся разница. Но их глаза не находили ничего путного.
270
Оба шагали молча, не сворачивая, теперь всюду можно было пройти.
— Не лезь в пепел, охромеешь,— сказал Грива.
Степан поглядел на свои босые ноги. Они были черные. Босой — как обутый.
«Неужто он не признал меня, когда допытывался, чей? — думал Степан.— Я-то знаю, как он спасся. А он почему не спрашивает, как спасся я?»
Они шли, не встретив ни одной живой души. Дед Грива думал: «Хоть бы кота или собаку увидеть. Неужто и их покидали в огонь? А может, они поубегали?»
Попадались только перья, но и те обгорелые.
На Городище они ничего не нашли. Все сгорело. Тогда подались в Глиняки.
«В Глиняках отыщем,— рассуждал старик.— Там гончары жили. А мы на своем Городище кошели плели из рогожи».
Когда они поравнялись с церковным майданом, Степан остановился. А Грива пошел дальше, сдернув шапку. Только отойдя от церкви, он вновь напялил ее, и она стала похожа на разоренное гнездо.
С Глиняками сделали то же, что и с Городищем. «А еще говорят — пекло. Вот оно, пекло,— подумал старик.— И мы идем по нему». Он не сказал этого Степану, потому что разговаривать не хотелось. Степан нырнул в какой-то погреб и вынес лопату. Тогда дед Грива взял ее в руки, осмотрел и разворошил ею пепел. Здесь прежде был какой-то сарай. А Степан разгребал золу руками.
Потом Степан нашел еще две лопаты, одна из них была с обгорелой ручкой.
— Выкинь,— сказал Грива.
И Степан кинул ее на пожарище.
«Неужели не найдем ни пилы, ни топора?» — сердился старик.
Но и они отыскались. Под стеной Грива откопал пилу и топор. Удивился, что топор вроде бы и нетронутый, а пила только с одного боку чуть обгорела.
«Потому что в повети,— думал он, гадая, кто тут жил.— Небось привалило стеной, вот и лежали, как новенькие. Уцелели».
Степан все еще не понимал, что задумал дед. А тот передал ему обе лопаты, топор закинул себе на плечо,
271
а пилу взял в ту руку, в которой держал кнутовище. Старик шагал прямиком, огородами, обходя пожарище, и вел за собой Степана.
На огородах все было выкопано. Ноги спотыкались о цепкие сухие стебли. Только за церковным майданом, возле кладбища с сожженными воротами, они набрели на грядку невыкопанной картошки.
Ботва сгнила, но клубни, очевидно, были целы. Старик сложил на земле рядком пилу, топор и кнут и взял у Степана лопату.
«Так вот для чего ему лопата!» — подумал хлопец и тоже решил копать.
— Нет, ты собирай,— сказал дед и, видя, что Степан не знает, во что, добавил:—В картуз.
Земля была сухая, картошка сидела в ней, как в камне, и ее приходилось выковыривать. Дед двумя руками вбивал лопату в землю, а уже потом налегал ногой и откидывал комья земли вместе с картошкой. Картошка была мелкая, как горох. Не потому ли ее оставили на грядке?
Степан собирал ее, ползая на четвереньках и держа картуз в зубах. Руки его покраснели.
Старик вывернул с десяток клубней и сказал:
— Погоди.
Он загнал лопату в землю, скинул свою заячью шапку и стал помогать Степану выбирать картошку. Разогнувшись, сказал:
— Надо запомнить это место.
Они двинулись дальше, а когда приблизились к кладбищу, дед оглянулся и снова повторил:
— Надо запомнить это место.
Кладбище доходило до церковной площади и было обнесено рвом, поросшим травой.
Они остановились перед серыми церковными развалинами, прижимая к груди шапки с картошкой и держа свои инструменты.
Дед Грива смотрел на серую груду и думал: «Крашеное дерево сразу занялось, сгорело дотла, и крестов не найдешь. А кресты были медные...»
Степан же думал о том, как они будут печь картошку. Ему казалось, что лучше всего было бы на кладбище.
Они сошли с майдана к кладбищу.
272
— Разложим и мы костер,— проговорил старик.—-Сбегай за хворостом.
— Может, набрать головешек? — спросил Степан.
— Не надо,— ответил старик.
Хлопчик перескочил через ров. Тут было полно сухих веток. Он набрал их целую охапку.
— Не, на кладбище не годится,— сказал старик и велел сбросить ветки в ров. Сам он тоже спустился туда, чтобы нарвать сухой травы. Потом, наломав хворосту, он высыпал из картуза и шапки картошку, прикрыл ее травой и обложил это гнездо хворостом.
— А огонь? — спросил старик. Он не курил.
Степан достал кресало и трут, хотя можно было набрать горящих угольков и жара.
Трут занялся. Дед Грива раздул искру под пучком травы и, когда трава вспыхнула, разжег костер.
Они сели, вытянув ноги. Ломали хворост и кидали в огонь. Хворост трещал, огонь скакал по веткам, а трава, которой была обложена картошка, то гасла, то вспыхивала.
Было странно, что они разложили свой маленький костер рядом с дотлевавшим пожарищем, в котором погибло их родное село.
Но им было приятно сидеть возле огня. К спаленному селу они повернулись спинами, над. ними все еще висел тошный чад, который никак не мог ни осесть, ни развеяться. И от того черного дыма мутило. А дымок их костерка попахивал солодом вишневых прутьев и едва уловимой терпкостью травы. Прикрыв глаза, они глядели на пламя, и оно согревало их души.
Степан только теперь почувствовал голод. Ему чудился вкус печеной картошки — горячей, рассыпчатой. А Грива, хоть и не ел со вчерашнего вечера, не торопился. Что-то мешало ему сидеть, что-то твердое, давившее на ногу. Тогда он полез в карман и достал из него какую-то деревяшку. На его большой заскорузлой ладони оказался... свисток. Обыкновенный липовый свисток. Старик смотрел на этот свисток и жалобно, и обиженно. И вдруг — этого Степан совсем не ожидал — швырнул его в костер. Они услышали, как зашипела сырая липа. И Степан подумал, что такие свистки лучше всего делать весной, когда под корой бродит молодой сок. А дед размышлял: «Все на свете из земли и
273
все уйдет в землю». Он так смотрел на свисток, который, перешипев, загорелся, словно это вспыхнула его душа. И размышлял дальше: «Я тоже стану пеплом, кучкой золы, как село, как все наши, как свисток...» А костерик горел, и старику не хотелось, чтоб он погас, он все подкладывал и подкладывал хворост, и дым не ел ему глаза.
А Степан никак не мог дождаться картошки. Он думал: «И зачем Гриве лопаты, пила и топор? Что он собирается делать? И меня ведь заставит...» Но эта мысль тут же оставила его. Хлопцу вспомнились кони старика Гривы. Он хотел спросить, где они, отчего дед появился с одним кнутом? У него были каштановые кони на коротких сильных ногах, гладкие, с ровиками на крупах— руку спрятать можно. А гривы у них длинные, спутанные. И хвосты — как шнуры. Не кони — черти. Где они?
Старик кнутовищем выкатил из жара картофелину, взял ее в ладони, попробовал колупнуть ногтем. Кожица отстала, но картошка была еще сырая. И он бросил ее в костерик, укрыв жаром.
Хворосту еще было много, но нужда в нем уже отпала.
Между тем костерик угасал. Угольки стали сизыми, дотлевали. И в глубине души старика тоже тлело что-то грозное, но он не давал ему разгореться.
Степан отряхнул картуз и натянул его на голову. Старик поднялся, наклонился над костром и стал выгребать кнутовищем картошку.
Хлопец шмыгнул носом, но взять картошку не решился.
Старик выкатил все до одной картофелины, подгреб жар в кучку и стал переносить картошку на то место, где они сидели. Он фукал не на картошку, а на пустые ладони, и Степану было смешно.
Грива взял картофелину, и Степан тоже потянулся к еде, но услышал:
— Скинь картуз!
Хлопец сорвал фуражку.
— Вот так-то,— сказал Грива и опустил глаза.
«Он меня и креститься заставит»,— подумал Степан и положил фуражку на землю.
Старик чистил картошку старательно и бережно,
274
снимал кожуру и подчищал ногтем подгоревшие места. А Степан торопился, и картошка жгла ему руки. Он перекидывал ее с ладони на ладонь, дул то на картошку, то на руки. Лицо его покраснело, глаза заслезились. Не дочистив картофелину, он надкусил ее, хукнул и проглотил, чувствуя, как она обожгла горло; и сразу стало горячо в животе.
Грива же разломил свою пополам, взвесил обе половинки на ладонях, как на весах, свободно поднес одну половинку ко рту, дуя на нее, и серые кончики его усов распушились. Его заросшее лицо посветлело, и когда он начал есть, смакуя, порозовели щеки. Сначала он съел одну половинку и облизал большой палец, а потом, доев другую, облизал другой большой палец.
Картофелины лежали насыпью на траве, с подгоревшими боками, словно обсыпанные серенькой пылью. От них шел пар, как будто они дымились. Но когда Степан взял новую картофелину, она уже не так пекла руки. Он начал чистить ее так же тщательно и бережно, как Грива, и разломал надвое. Но кусал то с одной руки, то с другой, словно в одной держал картошку, а в другой сало.-
И Грива улыбнулся ему.
Они ели сосредоточенно, не думая, что нет соли и хлеба. Картошка была мелкая, но не клейкая, рассыпалась и таяла, и Степан набивал ею рот, заедая рассыпчатую мякоть подгорелой кожурой, не слишком ее обчищая.
Когда картошка остыла, Грива как будто заспешил. Может, наелся, а может, вспомнил, что надо спешить. Равнодушно глянув на две оставшиеся картофелины, он вытер ладонью не столько рот, сколько усы и, взяв свою шапку, встал, перекрестился на восход солнца. А солнце было у него за плечами.
Степан доедал, и дед не подгонял его. Ждал. А когда хлопец закончил, старик покосился на солнце, зло и сердито, будто оно было виновато, что оказалось так высоко, и, натянув шапку, сказал:
— Пообедали — и за работу!
Он поднял обе лопаты, немного подержал их и, выбрав себе потяжелее, легкую отдал Степану.
Степан не знал, что они должны делать, но покорно пошел за дедом. Дед остановился перед сгоревшей цер
275
ковью. Старику совсем не хотелось разговаривать, он налег на лопату, подцепил ком земли и перекинул его на пожарище. Степан догадался, что они будут окапывать пожарище, и тоже принялся за работу. Лопата не слушалась. Трава крепко вросла в землю, и земля была переплетена корнями. Когда Степан перекинул через плечо землю, Грива сказал:
— Это для того, чтобы ветер пепел не развеял.
Степан понял, что пожарище они будут обкладывать дерном. У него вырвалось:
— Мы и дерном обложим.
— А ты откуда знаешь? — полушутя-полусердито сказал Грива. Он был доволен.
— Знаю,— ответил хлопец, налегая на лопату.
Дед копал в одну сторону, парень в другую. Они копали, постепенно удаляясь один от другого, и между ними пролегала узенькая борозда. Со временем она увеличивалась. Было слышно, как Грива покряхтывал, а Степан посапывал. По очереди они поплевывали на руки. Лопаты скрипели, натыкаясь на камни.
А над ними и над сожженным селом гудело синее небо и светило солнце. Безоблачное, как и вчера, небо. И такое же солнце. Но сухой ветер поздней осени сегодня был не такой, как вчера. Сегодня его ничто не останавливало — ни высокие купола церкви, ни стога, ни хаты. Ему не надо было забираться в трубы или пробираться закоулками,— кругом простор, и он седовато-синими волнами, будто покос за покосом, плыл над пожарищем, обтекая высокие головни, сдувая пепел, неся его куда-то и рассеивая.
Деревья отступили от пожарищ, они возникали группками и багрянели там. Только те, что обгорели, стояли уродами над пепелищем, и их ветви были как крючья.
Улицы, всегда узкие, словно расширились и стали свободнее.
Посреди черных, неуклюжих груд пепла, от которых тянулись стежки и на которых выступали прогалины, а кое-где звенела на кольях проволока, стоял на длинной ноге журавль, и порожнее ведро, взмывшее вверх.
Солнце медленно шло к закату, но ни старик, ни хлопец этого не замечали. Им хотелось быстрее управить
276
ся. Степан даже разделся, скинул кожушок. Борозда между ними настолько удлинилась, что они уже не видели друг друга. И когда оказались по разные стороны пожарища, Грива кликнул:
— Ты Воронюков?
Степан разогнул спину, но не увидел старика.
— Ага,— отозвался он, ожидая, что тот скажет еще.
С того конца пожарища звякнула обо что-то лопата.
— Так я и знал, что ты Хитроступов,— дед кашлянул.
Хлопец взялся за лопату, и руки его задрожали. Степанова отца все называли Хитроступом. И это еще ничего, это в глаза, а за глаза — хуже... И Степан никогда не обижался, но теперь, когда его отец и мать лежали тут, в пепле, он тихо процедил сквозь зубы: «Сами вы...»
Старик больше не задевал хлопца.
Копали долго.
Грива уже забыл о Хитроступе: прозвище — это же правда, хоть и грубая.
А Степан похмурнел. Его давно не стриженные щетинистые волосы слиплись, лоб вспотел. Расхристанная грудь была мокрой, из маленькой ямки под горлом стекал за пазуху пот.
Не заметили, как завечерело и поднялся ветер. Однако они лопаты не бросали. Сошлись, когда стемнело. Грива, опередив Степана, буркнул:
— Отойди!
Степан отошел и оперся о лопату.
Старик закончил работу, притоптал землю ногой и тоже отошел в сторону. Ручку лопаты приставил к груди, обеими руками стянул шапку и стал вытирать лицо. Наклонив голову, он проговорил слабым голосом:
— А ты видел, как их?
Степан перевел на него глаза: старик в сумерках был будто вылеплен из земли — ноги из земли, короткие и толстые, руки из земли, повисшие и нескладные, голова из земли, круглая, насаженная на шею, и заячья шапка тоже словно бы из земли. Ему даже стало жаль старика.
— Видел,— сказал Степан.— Я знаю, и как вы спаслись.
277
— Это я и сам знаю. Ты про них расскажи,— и шапка качнулась в сторону пепелища.
— А что рассказывать-то? — спросил Степан.
— А про то, что видел.
— Все?
— Все,— снова сказал старик.
— Вы уехали под вечер, а тут, почитай, в полночь и началось...
Грива не перебивал.
— Я так думаю, что в полночь. Только и меня тут не было.
Грива слушал.
— Я пас коня и заснул. Проснулся от какого-то грохота и подумал, что всходит луна, она всегда всходит за Глиняками, когда полная. А это уже начинало гореть. Я был в лесочке.
— За ручьем? — спросил старик.
— За ручьем.
— Оттуда хорошо видно.
— Огонь поднялся столбом, растекся по небу. Я испугался. А тут и с нашего конца заполыхало, над Городищем. Брехали и выли собаки. Но выстрелов слышно не было. Ночь, звезды и — горит. А ветер подхватывает и несет клоки сена. Ну, а когда огонь подполз к середине села, заревела скотина, заржали кони. Я стоял в дубняке. Загорелась церковь, и была она как куколка. Двери раскрыты. И люди сами носили туда солому. Мой отец носил и ваша бабуня.
— Носили...— повторил Грива.
— Еще б не носить. На площади были пулеметы, церковь окружили. А цепи немцев и полицаев спускались с Глиняков, с Городища, будто выходили из огня. Немцы, я знаю, в касках, а шуцманы в фуражках. Какой-то немец, высокий такой — может, потому, что стоял на возу, все командовал, размахивая руками. Подал знак, и немцы погнали скотину. А другие повскакали на возы, набитые мешками и еще какой-то кладью. Возы заскрипели, на возах загоготали гуси, заквохтали куры. Скотина пошла, и возы поехали. А моего батю шуцман подгонял пистолетом. Он ударил его, батя упал, и солома рассыпалась, шуцман потребовал, чтобы он ее собрал. А батя не захотел. Злость его взяла, и полез он на шуцмана с кулаками. И тот выстрелил. Это был пер
278
вый выстрел. А потом тот же шуцман поволок батю за ноги. Тут высокий немец, стоявший на возу, снова махнул рукой, на подмогу шуцману бросились другие, схватили батю за руки и за ноги, кинули в открытые двери и затворили их. Вот тогда-то и началось. Под церковью-то везде лежала солома, со всех сторон. Ту, что отец не донес, тоже подобрали, подкинули под двери и подожгли. Огонь почему-то сразу пополз вверх. Внизу еще не так горело, а над окнами огонь уже полыхал, и в куполах тоже. Потом я догадался — ударили зажигательными. Пулеметы били по окнам, по окнам... Я заткнул уши, зажмурился. Я еще не слышал такого: церковь кричала... А когда я открыл глаза, пламя стояло столбом, в небе — раскаленный крест. Но самое страшное было потом. Из огненного столба вырвалась женщина. То ли двери были неплотно прикрыты, то ли люди выломали их, то ли они прогорели... Женщина была с ребенком на руках. Пулеметчики и автоматчики перестали стрелять. Женщина вырвалась на майдан, протягивая кому-то ребенка. Но тут немец с воза махнул рукой, и шуцман, который застрелил отца,— тот самый, я все с него не спускал глаз, низенький, кривоногий, вырвал у женщины ребенка. И женщина поползла к нему на коленях, ломая руки. Но шуцман схватил ребенка за ноги, подбежал к церкви и размахнулся... и женщина поднялась, отряхнула подол и повернулась к церкви. Она сама пошла в огонь. Ее никто не остановил. И снова ударили пулеметы.
— Ты что говоришь?! — крикнул Грива.
— Вы ведь сами хотели услышать.
— Что говоришь! — снова крикнул старик и замахнулся лопатой на Степана.
— Зачем?..
— Молчи! — старик топнул ногой и сразу же сник.— Что это со мной?..— проговорил он и загнал лопату в землю.
Степан увидел, что Грива уходит. Ноги его заплетались. Он держал в руке заячью шапку.
«Темно-то как! Совсем как вчера,— подумал хлопец.— И зачем я все это ему рассказал? Ведь этот дед обозвал отца хитроступом. А может, так оно и есть? Может, и я—,хитроступ, трус и весь наш род такой? Какой род? Я один теперь. Грива небось не высидел бы
279
в дубняке. Он бросился бы на шуцмана, загрыз его зубами. И пошел бы в огонь, как пошла его дочка за дитем. А я?..» Степану захотелось с такой же силой, как и Грива, загнать лопату в землю. Он размахнулся, но лопата ударилась обо что-то твердое и выскочила из рук. Хлопец почувствовал себя совсем маленьким, немощным. Болели руки, ломило поясницу. Он вспомнил мать, которая вчера об эту пору обегала всех соседей, пока отыскала Степана возле двора этого самого Гривы. Привела домой, накормила затирухой, после чего он повел коня в ночное. Но то было вчера. А сегодня? Сегодня матери не было. Никого не было. И, обхватив голову руками, Степан тихо заплакал. А вечерний ветер прохладно ласкал его плечи.
И тут что-то жесткое и словно бы живое толкнуло его в спину.
—• На, а то простудишься,— сказал старик, бросив Степану его пиджачок.
Хлопец запахнулся в цего.
— Пошли,— сказал старик и двинулся вперед.
Он повел хлопца туда, где они пекли картошку. Но костерик уже остыл, и Степану пришлось снова высечь огонь. Он подал деду тлеющий трут. Грива лег на живот и принялся раздувать огонь. Когда же пламя вспыхнуло, он отогрел руки, сложив их шалашиком, и отошел от костра. Было слышно, как трещит под его ногами сухой хворост. Где-то над головой, взмахнув крыльями, пролетела ночная птица. Степан присел еще ниже и, сидя на корточках, подложил в огонь несколько веток. Темнота была такая, что он не видел даже могильных крестов.
А старик куда-то запропастился. Но его вишневое кнутовище лежало рядом, и сыромятный ремешок завитком притаился в траве, было ясно, что Грива вернется. И точно: в овраг полетела охапка хвороста. Потом к Степану спустился и сел Грива. Где-то ему удалось раздобыть солому.
— Ты того... Сучья надо беречь,— сказал старик.— Нам всю ночь сидеть. А ноги спрячь в солому, теплее будет. Я еще принесу.
— Тогда и я с вами.
— Ладно, сиди уж,— отмахнулся старик и пошел в сторону сожженной церкви.
280
Степан решил просушить пучки соломы и хмельник, которые где-то раздобыл старик. Потом пристроился поудобнее на мягком ложе и протянул ноги к огню. Хворост лежал под рукой, и он кидал в огонь ветку за веткой. Кнутовище старика он положил на пригорок, чтоб не попало часом в огонь.
Старик вернулся с новой охапкой хмельника и картошкой, которую принес в шапке. Присев к Огню, он аккуратно засыпал картошку жаром и велел Степану следить за костром. Сам он занялся хмельником и соломой. Хмельник раструсил, присыпал сверху соломой и уселся на кочке, протянув ноги к огню.
Степан спросил:
— А почему вы не обложили картошку травой?
— Может, и так не сгорит,— ответил старик.—ьТы приляг. Когда испечется — встанешь.
Степан не хотел ложиться, но, глянув на мягкое ложе, сразу съежился и надвинул картуз на глаза.
— Ложись, ложись,— сказал Грива.
Потоптавшись на месте, хлопец будто нехотя ступил на хмельник и сел, обхватив руками колени, потом лег навзничь. Небо было звездное. А постель мягкая. Ему не хотелось смотреть на небо, и он свернулся калачиком.
А старик сидел на пригорке. Он побаивался, что парень заснет, не ужинавши.
— Ты небось еще и не спал под открытым небом?
Степан не отозвался.
— А я в твои годы водил коней в ночное... Эге, в эту пору еще водили, на молодой клевер во ржище. Водили и позднее. Бывало, заснешь, а к утру весь чуб в инее.
Степан не отзывался.
— Молодым спится. А почему бы и нет? — Он тихо самому себе рассказывал, как они ехали в поле и выводили песню высоко до самого неба, а когда возвращались, то своей песней будили солнце. Он говорил про ночи, теплые и хмельные, будто напоенные медом.— Кинешь под копну свитку, распластаешься и лежишь, плаваешь между звездами да пьешь далекий свет из месяца, как из ковша...
Он глянул на небо и замолчал. Пошарив рукой, нашел свое кнутовище, выкатил из золы несколько кар
281
тофелин. Они были обгорелые, Но сыроватые. Он пригасил костер, подгреб жару, очистил одну картошку, отколупав от нее сырое, потом другую и, положив половинки на ладонь, позвал Степана. Степан не откликнулся. Старик покачал головой, позвал еще раз, но парень молчал. Тогда он лизнул картофелину, белые крошки вцепились в его усы. Деду не елось. Он положил обе половины на траву, не обтерев усов, пристроился на пригорке. И так сидел, пока жар совсем не погас, затянувшись пеплом. Так он сидел в полной темноте, слушая ветер, который ходил надо рвом. Потом поднял свое кнутовище, разгреб жар, который сразу зардел, и выбрал всю картошку, выкатив ее на траву, а в костер подкинул сушняка. Вспыхнуло пламя, и стали видны Степановы ноги, черные и потрескавшиеся. Старик осмотрел место, на котором клубочком свернулся хлопец, снял с себя пиджак и укрыл его.
Потом бросил на пригорок снопик хмельника, сел, придвинул к себе хворост, наломанный Степаном, и стал понемногу кидать в костер.
Огонь не разгорался, но и не гас, грел парнишке ноги.
«Только б он не промерз,— подумал старик.— Укрыть больше нечем, а он маленький. Сколько ему? Одиннадцать? Двенадцать? А может, десять. Хороший у Воронюка хлопец»,— подумал про Степанова отца, как про живого, и подкинул хворосту в костер.
Ложась, Степан не снял картуза. Он спал, подложив под голову кулак.
А старик сидел в одной рубашке. Смотрел на огонь. Костер медленно и тихо угасал. Старик не подкидывал больше сучьев. Глянул на небо — звезды бледнели. Он сгреб жар ладонями, разулся, одной онучей укрыл ноги хлопцу, другой — себе и лег, тихонько подвалившись к Степану.
Первым проснулся Степан: ноги пощипывал холод — дедова онуча подсохла, покрылась коркой. Степан повернулся на бок, затем сел, натянув на колени дедову пиджачину, с трудом соображая, где он и что с ним. Он привык спать на чердаке и не вскакивал, чтобы не удариться головой о стропила. Но там, наверху, никогда не бывало так холодно. Когда он продирал глаза, в ушах уже стоял голос матери: «Сынок, живенько. Умойся, завтрак на столе, сумка готова, сынок». И это ласковое
282
«сынок» журчало тихо, как летняя вода. Потом он слышал отцовский голос: «Где ты там? Соседские уже погнали!»— и приходил в себя. У батьки была медленная, шаркающая походка.
Степан огляделся: поросший травою ров, в ногах — потухший костер, а надо всем — осеннее серое небо, подернутое седым туманом.
Степан покосился на деда, тот спал, зарывшись в хмельник. Голова его свесилась. Хлопец осторожно поднялся, чтобы не разбудить старика, укрыл Гриву его же пиджаком, и тот перекатился на Степаново нагретое место. Ноги его были какие-то бледные, мертвые, а ногти совсем синие. Степан подумал, снял с себя одежину и прикрыл его ноги. Грива подогнул их под себя, не просыпаясь.
Возле костра лежала кучка картошки. Она уже задубела. Он разгреб палочкой угли — в середине зола была горячей. Ступая на цыпочках, потянулся, достал соломы, подгреб горсть золы и стал раздувать огонь. Тут он увидел на пригорке облезлого кота, который держал в лапах очищенную картофелину, и удивился, как это кот очистил картошку. Но не успел к нему приглядеться, как кот, зло зарычав, с картошкой в зубах шмыгнул на погост.
«И ты бездомный»,— подумал Степан. Перестав раздувать огонь, он поднял несколько картофелин и вылез из рва. Но облезлого кота уже не было видно.
Огонь разгорелся. Степану было приятно, что он проснулся раньше старика, когда рассвет еще только занимался.
«Я не стану его будить,— подумал он.— Пусть спит, и пусть ему будет тепло. Только бы он сам не встал».
И тут его охватило нетерпение. Захотелось пойти накопать картошки и испечь ее. Не есть же ту, что задубела! Подкинув в огонь дровишек, отодвинув хмельник и солому, чтоб не занялось, он подхватил лопату и во всю прыть помчался на огород.
Трава была в холодной росе. Ботва тоже была мокрой. Степан отыскал грядку и накопал картошки, собирая ее в картуз. Ему казалось, что Грива непременно проснется до того, как он принесет картошку. Наполнив картуз и карманы, он побежал к костру, забыв лопату. Он хлопотал то над костром, то над картошкой,
283
и был горд тем, что делает большое дело, и радовался так, словно кто-то гладит его по торчавшим волосам.
Небо светлело. Оно все выше подымалось над землей, и все вокруг раздалось вширь.
На кладбище мелко шелестели кусты, и Степана обрадовал этот трепетный добрый шелест, стоявший над головой в предрассветной мгле; земля и небо еще молчали, и тихо шумели ожившие листья. Он прислушался к звукам багряной осени, которая истосковалась по солнцу.
Ему было не до сна и казалось странным, что старик еще спит и не слышит волшебного шума. Ему захотелось умыться. Он тронул ладонями траву, сбил росу. Потер ладонь о ладонь, и дрожь проняла его до костей. Сбивая росу, он собирал ее, седую, в горсти и умывался ею, а потом, вытащив из штанов подол рубахи, утерся.
За этим занятием застал его дед Грива.
— Здорово,— сказал он.— Ну как, умылся?
— Я допекаю картошку,— ответил Степан.— Сейчас будем завтракать.
— А пиджачину почто скинул с плечей? Одевайся. Чтоб больше этого не было,— пожурил он хлопца.— Старые ноги как старый дуб — ни мороза, ни дождя не боятся.
Степан хотел сказать, что ноги у деда посинели, но смолчал, чтоб не рассердить его, и быстро оделся.
Старик, кряхтя, поднялся. Крошки вчерашней картошки белели в его усах, Степан засмеялся.
— Ты чего? — Грива обмотал одну ногу портянкой и никак не мог засунуть в сапог.
— Да так...— не признался Степан и сказал:—К нам приходил рябой кот. Он чистил вчерашнюю картошку и ел.
Дед, потоптавшись, обул наконец сапоги. Один из них, наверно, был теснее другого или одна портянка больше.
— Все сгорело. Коты и собаки поразбежались. Гляди, одичают. И мы с тобой одичаем,— проговорил он, и налипшие сухие картофельные крошки задрожали на его усах.
— Хорошо б и вам умыться, деду.
284
— А ты воду принес?
— Росою.
Грива утер лицо облезлой шапкой, обернулся на восход солнца, чинно перекрестился, кладя крест во всю ширину своих плечей и приговаривая:
— Во имя отца и сына и святого духа...
Кончив на том молитву, он присел на кочку. Он был доволен, что картошка уже готова, и сказал:
— Может, и мы не пропадем с тобой, хлопче. Ты вон какой работящий.
— Я раньше лег, раньше и проснулся.
— Управимся мы с тобой нынче аль нет? — перевел дед разговор.— Как думаешь?
Он спросил Степана, как равного.
И Степан ответил по-стариковски:
— Нынче не управимся — завтра день будет.
Картошка не понравилась Гриве, сегодня она была сладковатой. Но, глядя, как ест хлопец, как у него аж трещит за ушами, дед не подал виду, что она не так вкусна. Позавтракав, он поднялся и спросил, где лопата.
И тут Степан вспомнил, что оставил ее на грядке, метнулся за нею. А дед тем временем потушил костер.
Они пошли через майдан. Горизонт уже занялся багрянцем. Туман висел только над ручьем, отделявшим село от пригорка, поросшего дубняком. И, глядя на тот дубняк, а может, желая получше понять хлопца, дед спросил:
— Так ты, говоришь, вчера пас коня?
— Позавчера.
Старик кивнул. Он стоял и смотрел на пожарище. Ограда вокруг церкви была сломана, только кое-где торчали обугленные столбики. За ними зеленела трава.
Старик налег на заступ. Земля была сыровата, черна. Заступом старик перевернул дернину и снова всадил лопату в землю. Свою делянку он разделил на квадраты, и Степану было легко складывать их, как кирпичи, одну дернину на другую.
— Как же ты выскочил из огня? — начал дед прерванный разговор, орудуя лопатой.
— А я не выскакивал,— ответил хлопец и, положив дернину, спросил:—А зачем война?
— Война? Гм...— хмыкнул старик.
285
И опять работали молча. Остро сверкала лопата. Потом перенесли дерн поближе к пепелищу и уложили его поверх той земли, которой накануне закидали пожарище. И мало-помалу на месте сгоревшей деревянной церкви, в которой погибло столько людей, поднялся могильный холм. Они словно бы вышили эту могилу тра-вой-муравой.
— А чего ты вертелся возле моего двора? — спросил старик.
— А вы заметили?
— Ты мне голову не морочь. Подай-ка вон ту дернину.
Степан потупился и сказал:
— Ваш зять в партизанах, ведь так? Кто же его не знает! Мне хотелось партизан увидеть. Но я опоздал, с вашего двора уже выкатилась подвода. В то утро мать с отцом тоже говорили о подводе. Что черед наступил. Гужевая повинность... Но отец нашему коню гвоздь в копыто загнал, чтоб открутиться. И велел мне вывести его в лесок на ночь, а поутру вернуться. Но мама сказала, чтоб отец сам повел коня. А отец ответил: «Дура ты, дура, к мальчишке никто не придерется, а мне может влететь. Ничего, пацан не замерзнет за ночь». Ну, я пригнал корову и драпанул к вашему двору. Но не успел...
Что было с хлопцем дальше, деда не сильно занимало. Он обкладывал дерном могилу, в которой лежали его старуха, его дочь и внучка — весь род и все село. И он вместе с Воронюковым хлопцем исполнял обязанность живых — воздавать долг мертвым.
Степан подал старику последнюю дернину, и тот, притоптав ее, осторожно спустился с холма.
— А где ваши кони? — спросил хлопец.
— Ох, эти кони! — вздохнул старик.
— А мой утек,— сказал Степан.— Видно, я плохо его привязал: когда начало гореть, он заржал, рванулся и понесся — в село. Почуял беду. Наверно, немцы или шуцманы его и поймали.
— Ох, эти кони! — снова сказал старик и вздохнул так глубоко, как вздыхают по умершим.
И Степан подумал, что старик, который вез партизан на подводе, наверное, тоже попал в какую-то беду.
286
Но старик молчал, и хлопец не рискнул его расспрашивать.
— Конь меня спас,— сказал Степан.
Старик кивнул. Его руки были черны и узловаты, как корни. Когда он нагибался, будто врастал корнями в землю.
Уже распогодилось. В такие осенние светлые дни девчата обычно ходили по грибы, укрывая их свежей и чистой листвой.
А они продолжали нарезать дерн и носить его на пожарище. За их спиной по майдану протянулась черная борозда. Она зияла, как рана. А временами казалось, что кто-то разостлал широкое черное рядно по траве.
Солнце стояло высоко. С обоих лил пот. Поскидав верхнюю одежду, они остались в полотняных сорочках, не думая о том, что могут испачкаться. Пот они вытирали черными руками. К усам деда налипла земля, но Степана это уже не смешило. Земля набилась и в уголки рта, словно они ели ее. А работы было еще много. И когда-то они еще обложат всю могилу!..
Им захотелось пить. Они думали, что пересилят работу, но работа пересилила их.
Оба растянулись на земле. Солнце тихо светило и пригревало, отдавая им свое последнее тепло. А сухая, еще не напоенная дождями земля вытягивала из них усталость. И было хлопцу и старику так хорошо, как бывает всем безгрешным и усталым людям. Живые, они лежали рядом с мертвыми.
— Вот тебе и на!
То были первые слова, которые произнес старик, когда открыл глаза. Он подумал, что так можно и жизнь проспать, а это куда хужеА чем потерять ее. Оттого он не поднялся — вскочил на ноги. Увидел, что только половина пожарища обшита дерном.
«Сегодня не успеем кончить»,— подумал Грива.
Он нагнулся, чтобы разбудить Степана, но хлопец так сладко похрапывал, заслонясь ладонью от солнца, что старик будить его не стал. В стороне, над дорогой высился колодезный журавль. На нем позванивало пустое ведро. Достать его можно было только жердью. Но она тут же отыскалась возле ноги журавля. Ее припрятали, чтобы озорники не отцепили ведро.
287
Старик достал ведро и задумался. Уж не запаску-дили ли этот колодец? От захватчиков всего ожидать можно. Для них нет ничего святого. Запаскудят церковь, загадят колодцы...
Ведро ушло в глубину, плюхнулось, и, вытянув его, дед долго глядел в темную воду. Она была чистая, лишь на дне дубового кованого ведра плавали крупинки ракушечника.
Он попробовал воду на вкус, и у него заломило ё зубах.
«Не успели запаскудить»,— решил дед и, отвязав ведро, понес его на майдан.
Хлопец уже проснулся. Увидев старика с ведром, oil пошел ему навстречу. Но старик поставил вёдро на землю.
— Пусть тут стоит,— сказал он.— Если хочешь, напейся.
Степан присел на корточки и припал губами к ведру.
«Водою сыт не будешь,— размышлял дед.— Чем же я тебя накормлю?» А вслух сказал:
— Нынче не управимся. Как думаешь?
— Закончим завтра,— Степан утерся рукавом.
— Завтра так завтра. Только запомни: мертвые не ждут, их души беспокоятся.
Степану трудно было понять старика, он радовался тому, что не придется надрываться до самой ночи. Собрав лопаты, они двинулись к кладбищу.
От вчерашней задубелой картошки не осталось и следа: кто-то ею успел поживиться.
— Тут побывал рябой кот,— сказал Степан.
— Хорошо, что хоть коты не чураются,— сказал Грива, ставя ведро.
Парень бросил лопату и пытливо посмотрел на старика. Что тот задумал? Понимал, что старик не дает ему сидеть сложа руки. К тому же его мучил голод. Ему все время казалось, что пахнет хлебом. Эх, с каким наслаждением ел бы он сейчас самый черствый заплесневелый сухарь. Мать всегда складывала сухари в мешок.
Грива безразлично поднял с земли топор.
— Поставим курень,— сказал он. Он как бы советовался с хлопцем и в то же время приказывал ему.— Ночи теперь холодные.
288
Оба они с неохотой взялись за дело. Степан напился, а потом и старик опустился перед ведром на одно колено.
— Хорошо бы еще засветло...
Старик побрел на кладбище. Хлопец понуро двинулся в другую сторону. Один — вырубать колышки и жерди, а другой — искать ботву, хмельник и солому.
Степан остановился, услышав стук топора, перед ним простирались пустые огороды. Хмельник кое-где лежал кучками, а в одном месте, наклонясь, стояли бу-дылья подсолнухов. Когда он подошел, они зашуршали. И оттого, что они зашуршали, словно испугавшись его, он наклонился, схватил их в охапку и понес, не разбирая дороги.
Потом он собрал хмельник.
— Принеси малость соломы,— сказал ему дед.
Солому ему пришлось носить на ремне.
Между тем дед забил в землю колья, ставя их крест-накрест.
Он как бы помолодел. Рука его ловко держала топорище. И когда на вбитые в землю колья легла поперечина, он, причмокивая, обошел непокрытый курень, поставленный на пригорке, со всех сторон и сказал:
— Еще бы пару гвоздей раздобыть или проволоку.
Услышав это, хлопец бросился к ближнему пожарищу, досадуя на себя за то, что раньше не догадался об этом.
Вернулся он, когда старик обстругивал жерди, и остановился перед ним, похваляясь гнутыми обожженными гвоздями. На левой руке висел моток проволоки. Гвозди ему пришлось выровнять камнем.
Обшили курень сначала подсолнечником, потом хмельником, чтоб ветер его не сорвал, закрепили поперечинами.
Грива высунул голову из куреня. Его шапка, усы и грудь были в соломе.
— Залезай и ты,— сказал он.
Степан на четвереньках пролез в курень. Там было темно и мягко.
— Добре,— крикнул он.
Уже темнело. Старик отряхивался, как хозяин, который, управившись со скотиной, стоит на пороге своей хаты. И Степан тоже стал отряхиваться.
10 б. Харчук
289
Они обтерли лица. Один шапкой, а другой картузом. Потом старик, сдвинув шапку набекрень, кивнул:
— Пошли.
На сожженное село стыдливо ложились сумерки, чтобы спрятать пожарище, обезобразившее лицо земли.
Пересекли майдай, вышли на дорогу и неторопливо зашагали.
«Что нам еще нужно? — думал Степан.— Да и что мы найдем?»
Старик будто отгадал его мысли:
— Ведро бы нам или бадейку...
— Деду!
— Что?
— Посмотрите!
На повороте дороги стояла подвода. Кони хрумкали сено.
Они подошли. На возу лежали какие-то крюки, скобы, сковородки, ведра, тазы, бидоны, дырявая железная бочка, мотки проволоки, рыбачий невод, намотанный на колышек, обгорелая пряжа, какая-то сермяга, рядно и разбитое зеркало. Все это добро было навалено кое-как. Эти вещи, побывавшие в огне, будто кричали: «Мы тут! Вот мы, смотрите!»
Грива смотрел на подворье, возле которого стояла телега. Был он мрачнее тучи.
Внезапно во дворе что-то гукнуло. А потом стало бить раз за разом. Они обошли пожарище.
Гуканье было глухое. И вдруг — брань, грубая, грязная, прямо у старика из-под ног.
Грива чертыхнулся и крикнул:
— Эй, кто там!
Все стихло, притаилось.
Хлопец боялся переступить с ноги на ногу.
Что-то посыпалось, обваливаясь, и послышался басок:
— Я в погребе.
— Как же ты туда забрался?
— Через люк, через люк, панунцю1,— это «панунцю», произнесенное баском, было прямо омерзительно.
— Вон он, люк,— сказал Степан,— видите, пепел сыпется.
1 Панунцю — обращение к пану (полъск.).
290
Грива отпихнул его. Он уже сам видел и всё понял. Тот, что забрался в погреб, что захотел стянуть бадейку, стучал об люк, а люк и засыпался. Дед разгреб землю, и зазияла дыра, в которую по краям сыпалась штукатурка.
— Капуста есть? — спросил старик.
— Есть, панунцю,— ответили из погреба.— Тут и капуста, и огурцы, и кадочка с сыром, и картошка. У других погорело, а здесь цело. Крышка совсем целая, крепкая, только до нее не докопаешься.
— Что ж ты лопату не взял? — спросил старый Грива.
— Я взял. У меня и ломик есть.
— Чего не откапываешься?
— Так вы же подошли.
— А ну, шевелись!
Человек в погребе завозился, засопел, что-то ухнуло, и проем снова начал закрываться.
— А кто ж вы будете? — спросил басок.
Степан нагнулся к проему. Грива молчал.
— Партизаны, немцы или полиция?
— Свои! — гаркнул Грива.
— Тогда помогите. Вы снаружи, а я изнутри. Все добро пополам поделим. Ей-богу, не пожалеете...
— Хозяева мы! — сказал Грива.
И это «хозяева мы» очень понравилось Степану. Оно было грозное и осадило того, что был в погребе. Он сразу же притих. Но затем послышалось:
— Такое скажете — хозяева! Да их всех в церкви...
— Хозяева мы! — гаркнул Грива, сатанея.— Вылазь, злодюга! — он притопнул ногой.
— А бить не будете? Я ж никакого вреда не сделал. Еще и проход вам расчищу.
— Вылазь, тебе говорят!
Человек в погребе снова задвигался,— штукатурка зашуршала.
— А принеси-ка дрючок,— прошипел старик хлопцу.
Степан бросился выламывать дрючок из ограды.
Грива плюнул на ладони и со свистом опустил дрючок. Из люка, через который ссыпали в погреб картошку, а зимой проветривали, из этого узкого, выложенного кирпичом люка, высунулась военная фуражка. Тог
10*
291
да старик со всего размаха ударил по этой фуражке И его дрючок треснул.
— Ну что? Попал?.. По лому ударил,— насмешливо послышалось из погреба.
Старик осатанел. Он и сам понял, что ударил по железу. Но когда из погреба высунулась патлатая голова, он огрел ее обломком дрючка.
Степан услышал, как человек застонал. А дед уже выломал новый кол посапывая, сторожил над люком.
— Я больше не буду. Только пустите. Христом-богом прошу.
Из люка показались руки, и старик ударил по ним. «Он убьет его»,— подумал Степан.
А Гривой владела злость. Он готов был пробить землю или расколоть небо.
«Он убьет его»,— снова подумал Степан.
Из погреба уже не слышалось ни звука.
Сумерки стали вечером.
— А чего нам здесь торчать! Заберем коней, он сам нам в ноги поклонится,— сказал громко Грива.
«Правда, так будет лучше»,— решил Степан. Он повернулся, чтобы идти за дедом, и тогда человек, сидевший в погребе, высунул из люка патлатую голову. Человек этот был бородат, он, разгребая ногтями землю, уже почти, совсем выкарабкался. А Грива только того и ждал. Размахнувшись, он огрел бородатого по спине.
— Да люди вы или звери? — заорал бородатый.
Степан проговорил: «Не надо, деда!» — и притронулся к руке старика. И тот отбросил дрючок. Прикосновение детской руки остудило его.
— Сволота,— плюнул старик и, взяв хлопца за руку, повел его со двора. Подойдя к подводе, Грива отвязал постромки, приподнял плечом воз и вывалил поклажу на землю. Потом он потрепал коней по холке и пошел прочь. На душе у него было тяжело. Он старался не смотреть на Степана. Старику было стыдно, что в нем проснулся зверь — и мальчик видел это. Он готов был просить прощения. Ощупью взял он мальчишку за руку и, ощутив ее теплую, доверчивую нежность, успокоился.
Они шли через сгоревшее село, на которое пал вечер. Затем из-за туч пробились звезды. И мальчишка не
292
вольно прижался к старику, чтобы тот заслонил его от темноты.
Вскоре они подошли к своему куреню. Из него тотчас же выскочил кот. Его зеленые глаза сверкнули в темноте.
— Кот! — крикнул Степан.
— Не гони его,— каким-то приглушенным голосом сказал старик...— Живой он...
Хлопец пожал плечами.
Надо было раскладывать огонь и печь картошку.
Степан достал из кармана кресало и трут, отдал их старику и, подняв лопату, пошел прочь. Он крепко держал лопату, словно шел не по картошку, а на сечу.
«Живой он...» — мысленно передразнил старика. Отыскав картошку, он собрал ее в картуз, удивляясь тому, что утром оставил ее на огороде. Вот и пришлось теперь за нею топать.
Костер он увидел еще издали. Старик разложил его на том же самом месте.
Степан вывалил картошку на землю и бросил картуз к ногам старика. Разумеется, в фуражку бородатого вошло бы больше... Но он отогнал от себя эту мысль.
Фуражка бородатого была с твердым козырьком, над ним темнело пятно от кокарды. Конечно, Степан мог ее взять. Дед, наверное, ему ничего бы не сказал. А может, и разозлился бы: «Не трожь!» Он словно бы услышал, каким повелительно-сердитым голосом дед произносит это «Не трожь!», и мысленно сказал себе, что никогда бы не позарился на эту фуражку.
Он уселся рядом с Гривой, который ломал на колене хворост и бросал его в огонь.
— Чего уселся? — буркнул Грива.— Надо вымыть руки.
Сам он тоже хотел снять с себя скверну, присел на корточки перед ведром, набрал в рот воды и начал поливать себе на руки. Потом он ополоснул лицо и вытерся подкладкой шапки, что висела за спиной на завязках.
Хлопец последовал его примеру, фыркая, как поросенок. А тем временем костер разгорелся. Они уселись друг против друга, между ними полыхал огонь, и старик чистыми, вымытыми руками принялся отколупывать землю с картофелин и кидать их в золу.
293
Степан держал хворост наготове. Он положил его в огонь, как только старик своим кнутовищем загреб жар.
Дым относило на погост, пламя озарило их обоих, выхватывая из темноты то лица, то руки.
Степан сидел, обхватив руками колени. Его немытые, забрызганные грязью ноги были черны. Штаны обтрепались и топорщились. На одном колене светилась дырка. И руки у него были красные, как гусиные лапы. Овчиный кожушок был ему тесен, а рукава — длинноваты. Кожушок с чужого плеча, не с материного ли? Вырез широк, обшлага куценькие, карманы накладные, и застегивается по-женски, на левую сторону. Тесный ворот рубашки врезался ему в шею. Мальчишеский подбородок слегка выдавался и обещал стать твердым. Губы были полненькие, будто припухшие, но четкого абриса. Слегка крючковатый нос удлинял его круглое лицо. Совсем взрослыми на этом лице были только глаза: черные, суженные, будто высверленные в под-бровье. И тонкие, короткие, линялые, а может, и обгоревшие брови над этими упрямыми черными глазами казались смешными, словно взятыми напрокат, словно с другого лица. Он был лопоухим. Его большие уши словно бы поддерживали картуз с потертым козырьком, чтобы тот не надвинулся на глаза. За ушами и на затылке черные волосы торчали ежиком. Он сидел и смотрел на огонь.
А старик, вчера казавшийся то ли вылепленным из земли, то ли высеченным из камня, сегодня напоминал куст. Его обутые в сапоги ноги походили на диковинные, неправдоподобной толщины корни, которые вылезли из земли и держали на себе что-то косматое и растрепанное.
Старик бросал хворост в огонь так, словно отламывал свои пальцы.
Руки — две узловатые ветки, голова — втянута в плечи, а на ней — шапка гнездом.
Хлопцу казалось, что из-под дедовой шапки вот-вот выпорхнут воробьи. Точно так, как они выпархивают из гнезда.
Сегодня картошка елась без охоты, не то что вчера. Степан кидал очистки в костер, а старик складывал их в кучку.
Ужиная, они услышали, как на дороге заскрипели
294
колеса. Тогда они перестали есть и, повернув головы, прислушивались. Воз поскрипывал. Слышался перестук конских копыт. В эти звуки они вслушивались, как в скорбную песню. На подводе, должно быть, ехал бородатый дядька, выбравшийся из погреба.
И туда, в сторону, с неба слетела, недобро сверкнув, одинокая звезда.
Костер затухал.
Не подымая глаз, хлопец спросил:
— Деду, а вы могли бы его убить?
Старик ответил:
— Убил бы. Со злости.
Хлопец помолчал и спросил:
— Правда?
Грива вскочил на ноги, кинул оземь надкушенную картошку, потоптался на месте, заорал:
— А ты кто такой? Кто ты мне — судья, я спрашиваю? — и осекся.
Степан глянул на него и зажмурился: Грива был страшен. Этот кряжистый куст был вывернут с корнями из земли. И теперь метался, освещенный вспышками пламени.
Хлопец онемел. Он пододвинулся и снова прильнул к старику, взял его за руку.
— Что с вами, деду?
— Сам не знаю.
— Я просто так спросил, а вы рассердились.
— Я в своей жизни птахи не обидел,— прохрипел старик.— А человека...
— Он же злодей, деду.
— Да я б сейчас расцеловал его. Вот так...— он поцеловал хлопца в голову.— Хоть он и сволота, а наш...
Степан припал к старику, уткнулся ему головой в грудь и всхлипнул.
Тем временем костер совсем погас.
— Вот те и раз,— сказал старик.
В курене было темно. Не хватало разве что на подстилку грубого рядна, засаленной подушки да старой кацавейки, чтобы накрыться с головой. Но и без них можно было обойтись. Конечно, если бы посчастливилось достать сухого сена или клевера, было бы совсем хорошо. Но и теперь в курене было тепло и уютно.
295
Старик думал, что хлопец, умаявшись за день, сразу заснет. Он укутал ему ноги, накидал поверх хмельника, чтоб было тяжелее, подмостил соломы под бок, а потом и сам прилег. Сапог он не снял — ему спать не хотелось. И, дыша хлопцу в затылок, он тихо думал о том, что Степану тепло. Но тут старику показалось, что картуз слишком тверд, и он осторожно подложил под голову мальчика свою заячью шапку. Хлопец не шевельнулся.
Грива дышал медленно. Он никак не мог позабыть события прожитого дня. Мыслей было много, они теснились в голове, не давали покоя. Сколько их набралось за его длинную темную жизнь! Ему хотелось прогнать их, но они обступали его со всех сторон. Так голодные собаки тянутся за обглоданной костью. Старое и новое, день сегодняшний и день вчерашний — все перемешалось. Жизнь!.. Она как река. Только ты бросился вплавь, а вот уже выбрался на противоположный берег. И вот уже позади все то, чем ты жил, все те, которых любил. С кем-то ссорился, на что-то надеялся, что-то снилось, что-то забывалось. Все позади уже. И вдруг вспомнилась младшая сестренка, замурзанная, сопливая, рассерженная бабкой, причитавшей: «И зачем тебя, паскудину, аисты принесли?!», шепелявила: «Лучче заблали б они меня за мо-о-ле». Где она? Представилась, бедненькая, давно. Царство ей... заморское.
Он не верил в бога. И, крестясь на восток, он молился не богу и даже не солнцу — молился как басурман. Он просил у судьбы счастья мальчишке, лежавшему рядом.
Старику хотелось забыться. Эх, если бы можно было выкинуть мысли из головы, как выкуривают назойливых мух, чтоб не мучили, не изводили.
Он дышал медленно, осторожно. Неожиданно увидел гладколицего, высокомерного немца в новом мундире, в золотых очках. А из-за его спины вылезла плюгавая морда шуцмана с вытаращенными глазками. Потом их обоих заслонил тот, бородатый...
С каким бы удовольствием дед выпил сейчас стопку первача. Из той заветной бутылочки, что баба всегда припрятывала, а он умудрялся найти.
Степан тоже не спал. Ему было тепло, как на печи. Нет, даже лучше. Дома все нремя он слышал, как по
296
фыркивает конь, то поднимая, то опуская ногу, как жует корова. Дома кисло пахло шерстью хряка, тогда как в курене было тихо и тепло, оттого все страхи — вчерашние и сегодняшние — отступили от парня. Ему стало жалко мать. Думал он о ней, как о живой. Маленькая, в подоткнутой юбке, стояла она возле печи. Лицо задумчивое, над ним платок шалашиком. Из-под платка — прилизанные, жиденькие косицы. А думать некогда. Замызганный пол ждет, чтобы его подмели, старье на вешалке требует, чтоб его залатали. С печи валится грязное тряпье, которое надо было снести на речку и постирать на камнях. Ждет ее и работа в хлеву и во дворе. Там все кудахчет, мычит и визжит. И огород кричит — поло-о-ть!
Уткнувшись лбом в дедову грудь, хлопец впервые думал так о своей матери, как теперь, впервые видел ее такою. На селе ее прозвали Воронючкой, а отец называл Фроськой. Хлопцу было обидно за мать. Вспомнилось, как мать водила его записываться в школу. Она шла во всем чистом. Прежде чем направиться к школе, они спустились к речке, и мать заставила его вымыть ноги. И сейчас еще Степан помнил ту холодную воду и тихий голос матери: «Ты побыстрее, сынок».
Он охотно ходил в школу. В первом классе учился по-польски. После освобождения снова пришлось пойти в первый класс. Учился он хорошо, и его должны были принять в пионеры. Но пришли немцы — и школы не стало.
Он лежал тихо, как мышь, под рукой старика. Никогда не думал, что будет вот так лежать,— и дед Грива, у которого вкусные груши, у которого зять в партизанах, будет дышать ему в затылок.
Отец недолюбливал Гриву, говорил о нем презрительно: «Этот Грива!» Почему? Впрочем, отец всех недолюбливал. Он уважал только старосту — во времена панской Польши. А когда вступил в колхоз, уважал председателя и бригадира. А при немцах?.. Этого хлопец не знал. Отца называли «Федь Воронюк». Именно Федь, а не Федор и не Федько, хотя никому он зла не сделал.
Парень пошевелился под дедовой рукой и спросил: — Вы еще не спите, деду?
— А ты чего не спишь?
— Я хочу вас о чем-то спросить.
297
— Ну, спрашивай.
Грива приподнялся на локте. Неужто парень снова спросит про злодея? А может, про войну? Спал бы лучше.
Парень молчал.
— Что ж ты? — тихо сказал Грива.— Уснул? Лежи. И ни о чем таком не думай.
Хлопец сбросил с себя дедову руку, лег ничком и, как показалось Гриве, ни с того ни с сего спросил, глядя в темноту:
— А почему моего батька называли так худо?
— Свистуном? — вырвалось у Гривы.— Да он такой и есть! —протянул он.
И Степан почувствовал, что эти слова, подчеркнутые дедом, таят в себе издевку и удивление.
Его худое тельце вздрогнуло — он хотел отодвинуться от старика.
И тут все Гривины думы, все безобразные видения куда-то испарились. Он видел перед собой только Воро-нюка — кряжистого мужика, который то и дело зачесывал гребнем наверх свой непокорный чуб.
Старику захотелось рассказать хлопцу о его отце.
— Он примаком пришел в наше село,— начал Грива издалека.— А увидел я его впервые на фольварке Вин-чковского. Фольварк тот стоял на горе, за рекой. Ты был мал, не помнишь.
— Его разобрали в тридцать девятом,— сказал хлопец.
— Неужто помнишь?
— Я помню, как панов вывозили. Батя рассказывал.
— Твой батька и вывозил их.
— А вы говорите...
— Э, тогда паны уже не были страшны.
— А разве у вас не панские кони?
— Эх, кони, кони...— проговорил Грива и вздохнул. Он умолк, словно бы переводя дух.
Степан не торопил его.
— А ты, если хочешь слушать, не ерепенься. Я в рассказчики тебе не напрашивался.
— Да вы говорите уж,— ответил Степан, чувствуя, что старик молчать не будет, а говорить ему больше не с кем и не о чем.
Грива и в самом деле продолжал:
298
— Я женился перед первой войной. Не успел отделиться— на фронт отправили. Вернулся домой после всех переворотов, когда нами завладели поляки. Пять годков собирал деньги, чтобы соорудить хибару. Осенью отделился. Как раз и Ульяна отыскалась. Были дети и до того, да... Пришла весна, своего поля — на заячий скок! Обработаешь его и на фольварк. Набирали сеять яровые. Так этих десятин... А Винчковский не любил держать постоянных батраков. Сезонные выгодней. Постоянным он платил лучше, но по три шкуры с них спускал, не без того.
Спаровали меня с постоянным батраком и — к сеялке. Подали мы друг другу руки: «Федь».— «Грива».— «Чего ж это грива? Ты ж не конь, или имени у тебя нет?»— «Да нас всех, говорю, так величают — и меня, и батька».— «Поведешь коней, Грива, а я сеять буду. Только гляди, чтобы ровненько!» Не больно понравился мне напарничек: батрак, с панскими свиньями ест, а верховодит... Да наше дело телячье — вожжи в руки и пошел. Я по кочкам, а он сидит на сеялке, прохлаждается. А как поверну против ветра — оглянусь и вижу, что этот Федь, скинув картуз, гребешком свой чуб зачесывает. Чуб у него как помело, то и дело на глаза лезет. Оглянусь, а Федь его слюнями примачивает да зачесывает. А гребешок у него с поломанными зубчиками — не иначе как на панской помойке нашел. И смех, и грех. Вернулись мы, сеем по ветру, а он чуб картузом присаживает, чтоб держался. Я и говорю: «Разве у Винчковского репейного масла не хватает? Или батракам им пользоваться не дозволено?» — «Не имеешь ты понятия»,— отвечает. Подгонять он меня не подгонял — оба батраки, да и кнут у меня в руках был, вот я ему и сказал: «Понятия я, может, и не имею, а что ты жениться хочешь — вижу».— «Кто тебе сказал?» — спрашивает. А я в ответ: «Это уж мое дело».
Остановились мы на обед. Все мое со мной — хлеб да луковица. А ему кухарка горшочек принесла. Зашел он за сеялку. Кухарка торопит, чтобы побыстрей поел. Вижу — ест он юшку, по бороде течет. Я только торбу свою успел развязать, а он уже управился. И говорит: «Может, похлебаешь? Я тебе малость оставил». Обидно мне стало. Ответил, что не привык хлебать чужой ложкой из чужого горшка. Да и ложка была у нас одна.
299
Пусть сам, мол, угощается панскими марципанами. Кухарка стала собираться. Хорошая была девка. А Федь глядит, как я уминаю хлеб с луком. Поднял соломинку и ковыряет в зубах: дескать, мяса наелся. А я молчу. Не знаю, что уж он там выковырял из зубов, а только через некоторое время он спросил, есть ли у меня хорошая девка на примете. «Зачем тебе девка?» — спрашиваю. «А у меня деньжата есть»,— отвечает. «Ну, если у тебя столько деньжат, сколько ты мяса из зубов выковырял,— отвечаю,— то жениться тебе еще рано».
Он, ясное дело, рассердился. И больше мы с ним уже не разговаривали. Засеяли все поле и разошлись. Но запомнил я того батрачка. Крепко запомнил.
А как поспели хлеба — снова я на фольварк подался. Попросился на косилку. А на другой косилке — он, этот самый Федь: «Здорово, Грива!—говорит.— Мы с тобой старые знакомые».— «А, все еще выковыриваешь из зубов мясо?» — говорю. А он смеется, скалит зубы: «Шуток не понимаешь, Грива»,— и ласково глядит мне в глаза.
На обед та же кухарка чего-то принесла, и Федь сразу же меня позвал. Я раскрыл свою сумку — в ней тот же хлеб, только лук молодой, зеленый. Похлебали мы фольварковского холодного борща и принялись за мое, Федь и говорит: «Так ты и не присмотрел для меня девку?» — «А чем эта не пара?» — кивнул я на кухарку. «Эта? Старовата,— говорит.— Ни кола ни двора у нее. А мне осесть пора, дядя». Хоть и назвал он меня «дядей», а какое-то недоверие появилось у меня. «И село ваше,— говорит,— мне нравится. Фольварк под боком, подработать можно».— «Что же ты за парень такой, что не можешь девку высватать?» — спрашиваю. «Припала мне одна к сердцу. Может, вы знаете ее, дядя».— «Чья ж она?» — «Скажу, если пообещаете замолвить за меня словечко перед ее матерью». Я подумал: «Может, он и вправду перестал ковырять в пустых зубах, может, набрался разума?» — «Ну, будь по-твоему». Он назвал: «Натальина Фрося».— «Это та сирота, которая у попа служит?» — «Она. Поп ее на фольварк присылал, там я ее и увидел. Она мне сразу понравилась. Не беда, что сирота. Может, оно и лучше». И как услышал я эти его слова, так и сказал: «Хоть ты меня дядей назвал, а просить Наталью за тебя не буду».— «Это
300
почему?» — «Да потому, что ты не человек, а Хитро-ступ — свистун!» Хоть никто нашего разговору не слышал, а прозвище к нему пристало. Прозвище что грязь, брошенная вдогонку.
Дед помолчал и, крякнув, сел. Уже стоял поздний вечер. Из шалаша небо казалось светлым и манило к себе. Степан выслушал дедов рассказ, каждое слово принимая близко к сердцу. Не раз ему хотелось оборвать старика. Разве дети виноваты, что у них такие отцы? Но он должен был знать о своем отце все, решительно все.
— Как же они поженились, деду?
— Долго рассказывать. Да и надо ли?
— Надо.
— Твоя мать была молода и добра. Впрочем, молодой она была недолго, а доброй — всегда. Вот уж воистину праведная душа! Никого не обидела, ни малого, ни старого. Долго она не хотела выходить за твоего батька. Но мать ее укротила, Федь сумел к ней втереться в доверие. Но после свадьбы и она раскусила его. Федь одолжил у эконома костюм. А эконом был того же десятка, что и твой батько. Набрался — и ну горланить: «Хоть я и не стоял под венцом, так мой костюм стоял».
Степан слушал и не мог припомнить ни одного случая, чтобы мать, ссорясь с отцом, в чем-нибудб укоряла его. А ведь отец и рукам давал волю. Один только раз, плача, она сказала: «Ты и маму в могилу свел, все тебе мешают». Своей бабки Степан не помнил.
А дед продолжал:
— Твоему отцу сильно хотелось в паны выскочить. Вот и хитрил. И то ему не так, и кум ему не кум. Чуб уж вылезать начал, а он все еще хотел казаться парубком. Помню, как его назначили секретарем сельсовета. Так, поверишь, он ходил по селу гоголем. Важничал, как Гитлер на парадах. Сапоги смазаны дегтем, галифе, френч... Такого френча у нас никто никогда и не видывал. Ну и нос задирал, это само собой. А тут немцы пришли. Притих он, но только пару дней всего и побыл человеком. А потом дрожать начал.
— Он прятался.
— Да кому он нужен? Срамота! На площади председателя вешали, а Федь на коленях ползал. «Разве же
30 J
я по своей воле? — заставили». Хитроступ!—дед сплюнул и вылез из куреня.
Степан все это знал. Он тоже был тогда на площади. И все-таки ему было обидно, что старик так говорит об отце. Сердце его окаменело. Он ощущал его тяжесть в своей груди. Но и жалость он чувствовал тоже. Она душила его. Старик сказал не все. Разве его отец в последний момент не кинулся на щуцмана? Ему захотелось крикнуть: «А вы-то сами как жили?!»
Старик нагнулся и сказал:
— Ты не сердись на меня, парень. Храни добрую память о своем батьке. Федь меня простит, что потревожил его, покойника.
Хлопец все же не сдержался.
— А вы, вы жили праведно? — крикнул он.
— Я — праведно? Где там... Человек как подымется на ноги, так и грешит.
— А что же делать, чтобы не грешить?
— Быть человеком,— ответил старик.
— Разве ж мы не люди, деду?
— Ну, как бы тебе растолковать... Мне еще мой дед сказывал: в каждом человеке сидит зверюга, а в других и по нескольку сразу. Вот человек — похож на зверя, сидящего в нем. Один брешет, как собака, другой хитрый, как лис, а третий — льстивый, как кот, или дурной, как баран. Горе человеку, если его пересилит зверь. Быть человеком — это убить в себе зверя. Да ты спи, заболтались мы с тобой. Завтра окончим могилу и станем землянку копать. Зима на носу.— Он шагнул в темноту.
— Куда же вы?
— Ты на меня не гляди!
Грива был не из разговорчивых. А теперь он столько намолол, что парню за год не переварить. Вот он и злился на себя за это.
Степан задумался о том, какой зверь в нем сидит и как от него избавиться. Да, нелегко быть человеком...
Он не мог заснуть. В курене была ночь. Сквозь дверной проем виднелось небо и робкие звезды. Он не знал, где дед. И зачем ему понадобилось выходить? Как бы не напоролся он в темноте на того бородатого бандюгу...
А Грива стоял за куренем и сокрушался. Душа его и так растравлена, а он разбередил ее еще больше. Раз-302
бередил и свою, и хлопца. Зто не шутки шутковать — такой разговор до могилы не забывается. И сколько хлопец пробудет вместе с ним? Каким вырастет? Вместо этой горечи (сам ее хлебнул) старику захотелось сказать парню что-то доброе. Он смотрел на небо. А по небу ехал воз: звезды-колеса катились вверх. А звездное дышло вздымалось в холодную бесконечность. Ему казалось, будто он слышит, как выстукивают колеса под порожняком.
— Да это же на сенокосе,— произнес вслух и удивился, что заговорил сам с собой. А про себя: «Вот о чем надо было ему рассказать». Старик заспешил. Юркнул в курень. И, проползая на коленях, спросил: — Ты еще не спишь?
Солома зашуршала. Степан вскрикнул, но не проснулся. Во сне его что-то мучило. Грива тихонько скинул свою поддевку и укрыл хлопца. Потом обнял его и почувствовал, как по ребячьему телу речной рябью пробегает дрожь. Поддевка старика хоть и походила на решето, сквозь которое просеивается холод, все же согрела Степана. Он успокоился, дрожь утихла, ушла из его измученного тела: Грива не снимал своей руки с мальчишеского плеча. Ему ни о чем не хотелось думать. Хотелось только — заснуть. Но перед глазами стоял сенокос, на который он въехал, когда глаза его блуждали по небу.
Рассвет был серым. Солнце еще не появилось и не успела погаснуть предрассветная звезда, большая и красная. Бледный месяц висит, будто вырезан из крахмального полотна. Небо чистое и высокое, окрасилось зеленоватым светом. Трава уже выросла по пояс. Она клонилась под густой сединой росы. И не было слышно журчания ручья.
Стояла добрая тишина. Дед Грива держал в руках косу. Да не было у него сил поднять ее, размахнуться... Он был заворожен красотой... И сдавалось ему, что если он косу подымет, то срежет под корень добрую тишину. Оттого он и медлил. И ему было так благостно, что он закрыл глаза, как в детстве, когда мать, посадив его к себе на колени, гладила по головке.
Но стоило ему открыть глаза, как в них вошла моло^ дица. Она плыла по траве, будто пава в белом платочке, легком, как мотылек. Лицо у нее было чистое, сдоено
303
росой умытое, и очи сверкали из-под бровей. Одной рукой она поддерживала край юбки, а второй держала косу, которую несла на плече. Эту косу она несла по-бабьи, как грабли. И за нею тянется по лугу, как за челноком на речке, долгий след.
А Грива ждет ее. И вот она все ближе, ближе... И он чувствует, как пахнет луг над ручьем, видит, как в высокой траве вызванивают синью колокольчики.
«Ох!..» — выдыхает молодица, и мокрая юбка падает ей на колени.
Она стоит по пояс в росе, которая аж пенится вокруг, и просит его, Гриву: «Дяденька, отбейте мне косу». А он стоит, боясь шелохнуться. Инструмент у него в курене. Он смотрит на долину, на молодицу, на траву под синим небом.
А в курене темно. И темны глаза старика. Они уже не видят ни луга, ни травы... Все отдалилось, ушло за гору. Все покрыла темнота. Только в ушах звенит, как тогда, когда он направлял косу.
В проеме — сумеречное небо, и на нем мелкие, вкрадчивые звезды.
Старик сонно присел и загородил вход в курень хмельником и стерней.
«Не разбудить бы хлопца»,— подумал он и осторожно прилег рядом.
Они проспали появление солнца. Лица их были помяты, как после похмелья.
Поднявшись, они ни словом не обмолвились.
Умылись из ведра.
Позавтракать вчерашней картошкой не удалось, от нее ничего не осталось, и старик пошел за лопатой, чтобы накопать новой, а Степан разложил костер. Было прохладно. Хлопец зябко поводил плечами. От едкого дыма его глаза покраснели.
Что-то зашуршало возле шалаша. Оглянувшись, хлопец увидел на крыше куреня рябого кота, который собирался позавтракать воробьем. Воробушек был еще жив, крутил головкой, и его маленькие рыжие глазки искали спасения. А кот держал его в лапах и, забавляясь, лизал воробьиный чубчик красным язычком.
— Брысь! — крикнул хлопец.
Но кот был осторожен. Он спрыгнул с куреня, не
304
выпуская воробья из зубов. Заурчал сердито, а потом скрылся среди могил.
Вернулся Грива, присел к огню. Оба молчали, как молчат люди, у которых уже давно обо всем переговорено. Зачем бросать слова на ветер? Им было тяжко. Исподлобья глядели они на пожарище, которое еще не до конца обложили дерном. Эта братская могила породнила их.
Старик решил не дожидаться, пока испечется картошка. Подкинув в огонь хворост, он взял лопату.
За ним поплелся и хлопец.
Они снова стали нарезать дерн. Только теперь уже с другой стороны, чтобы было ближе носить. Их измятые, припухшие лица разглаживались. Так распогоживается день после грозы.
Потом, позавтракав и напившись воды, они снова взялись за работу, которой, казалось, не будет конца.
И все же эта работа поглотила все их мысли. Степан бережно нес каждую дернину, стараясь как можно легче ступать по уже уложенным, а старик, присев на корточки, укладывал их рядком. Руки его принимали дернины осторожно, словно те были живые и растопыренные заскорузлые пальцы способны причинить им боль.
— Помогай вам бог!
Голос был чужой. Эти слова человек произнес степенно и не без достоинства. И, подняв глаза, Степан узнал бородача в круглой военной фуражке. Тот стоял возле телеги, на которой сидел парнишка Степановых лет.
— А мы знакомы, не так ли? — сказал бородатый баском.— Признаться, вчера я подумал, что вы тоже того... А вы, оказывается, вон чем заняты.
— А, это ты,— сказал старик так, словно давно поджидал бородатого и тот наконец появился.
— Поможем людям,— отозвался бородатый.— А ну, малой, слезай с воза. Будешь подносить...
Старик промолчал.
Тогда бородатый подбросил коням сена и взялся за лопату, а его парнишка несмело протянул Степану дернину.
Этот парень почему-то не понравился Степану. Он напоминал смирного теленка, который испуганно таращит глаза, и Степан спросил у него почти грубо:
305
— Это кто, твой батько? — и повел подбородком в сторону бородатого.
— Ага,— ответил парень.
Степан решил показать новичку, что он здесь старший.
— Тебя как звать, Гаврилой или Данилой? — спросил он.
— Не-е,— произнес парень, покраснев.— Я Танас.
— Кидай муху, лови нас,— нашелся Степан.
Но Танас уже улепетнул, не обратив внимания на насмешку. Казалось, ему было не привыкать.
Удивляясь его усердию, Степан поучал:
— Ты не больно-то скачи, быстро ухайдакаешься.
Но Танас шмыгал туда-сюда. Перенести весь дерн, который нарезал его отец, он не успевал, побаивался, что отец станет ругать его за медлительность.
Между тем бородатый (он был еще молод и бороду отрастил) работал споро. Он нарезал дерн и складывал его, как торф. Работал, не разгибаясь, от его спины шел пар.
Старик молча бросал взгляды на бородатого.
Старик со Степаном работали с одного края, а Бородатый— с другого. Их разделяла черная полоса пожарища, которая уже начинала сереть.
Степану не нравилось, что Бородатый подозвал Та-наса. С Танасом Степану было легче. Раньше он стоял на одном месте и мог присесть, теперь же ему приходилось бегать то вниз, то вверх. И поговорить не с кем. И прикрикнуть не на кого.
А могильный холм поднимался все выше.
Степан заметил, что Бородатый укладывает дернины быстро, пригоняя их одну к другой. Он работал словно бы играючи. Степан подает старику одну дернину, а Танас бородатому — две. Ему приходится куда тяжелей.
Полоса пожарища становилась все уже и уже. Бородатый и старик медленно сходились, не глядя друг на друга. А Танас снова очутился возле Степана, которого так и подмывало рассказать про кота и воробья. Но он сдержался: разве это разговор при старших?
Рядом с Бородатым старый Грива выглядит всего лишь плюгавым дедком. Даже усы у него жидкие и куцые. Но оттого, что старик работал выше Бородатого, он выглядел куда грознее, казался снизу даже могучим.
306
Танас подал последний кусок дерна, и Бородатый уложил его, подравнивая кулаком. Увидев это, старик круто изогнул брови. Казалось, он хотел сказать: «Ты гляди, работает на глазок, а рассчитал точно. Да, такой мужик своим не поступится».
Грива медленно сошел с могилы.
А Бородатый соскочил, оглядел сбоку свою работу — и снова поднялся на могилу. Там он скинул военный картуз и перекрестился.
— Царство небесное всем убиенным и замученным...
Пальцы у него были синие.
Вслед за отцом Танас тоже скинул картуз, перекрестившись на могилу.
И отец и сын исполнили этот обряд так торжественно, словно могила была делом их рук, а Степан и Грива, стоящие внизу, у ее подножия, не имеют к ней отношения.
Но вот Бородатый спустился с могилы. Тяжелый, длиннорукий, остановился он перед стариком, держа фуражку в руке. Степана он не замечал, будто его здесь и не было.
— Спасибо, человече, за помощь. Извини, если что не так было,— смущенно произнес старик.
Бородатый словно того и ждал. Казалось, ради того он и работал.
— Не стоит,— проговорил он.— А у меня к вам просьба.
Грива поднял на него усталый взгляд.
И Бородатый, не колеблясь, выпалил:
— Дозвольте выбрать кирпичики. На погребок мне! — И, передохнув, добавил:—А тот хлам, что вы вчера с воза скинули, я не возьму. Ей-богу, спроси меня, на что брал, не отвечу. Ей-богу.— Его широкая борода раздвинулась, и в ней мелькнуло какое-то подобие улыбки.
Старик молчал.
— Так дозволяете? — уже вкрадчиво произнес Бородатый.
— С богом,— сказал старик и отвернулся.
Бородатый насунул фуражку на чуб и крикнул:
— Танас, на воз!
Хлопца как будто ветром сдуло. Он уже стоял на телеге, натягивая на глаза картузик.
307
Бородатый подобрал сено, поправил на конях сбрую и, не садясь на воз, почмокал губами. Кони двинулись.
— Черт! Совсем забыл. Танас, подай торбину! — Он кинул на воз клок сена, взял притороченную торбину и подозвал Степана:
— Эй, как тебя там, возьми...
Но Степан не тронулся с места. Тогда Бородатый положил торбу на землю. Колеса застучали, воз заскрипел, и Бородатый, присев на воз, крикнул на прощанье:
— Крест бы надо поставить!
Высокая зеленая могила заслоняла свет.
А за возом клубилась пыль. Бородатый гнал коней, торопился. Проехав половину села, свернул на Городище, туда, где раньше жил Грива. Пыль медленно оседала на безлюдной дороге. И стоял одиноко журавль, нагнув клюв над криницей.
Старик и хлопец снова остались одни.
На затоптанной траве лежала торбина, оставленная Бородатым. Но ни старик, ни мальчик не решались к ней подойти. Наконец Степан отважился, сделал шаг...
«А в нем все звери сидят,— подумал он про Бородатого.— Все звери сразу обступают его. Такой не пропадет. И Танас пойдет той же дорожкой».
Торбина была легкая, завязана лыком. Для того чтобы ее развязать, Степану пришлось пустить в ход зубы. Хорошо, что они у него острые и крепкие, как у молодого щуренка.
— Деда, а тут хлеб! — крикнул он изумленно, хотя в торбе ничего другого и не могло быть.— Хлеб и сало!— крикнул он снова.— Полбуханки!—И, не дожидаясь, что скажет Грива, отщипнул от буханки.
Старик заглянул в торбу и сказал:
— И то правда, хлеб.
Он не поразился, не обрадовался. Отыскав лопаты, поднял их с земли. И они подались к куреню: Грива с лопатами на плече, а Степан с развязанной торбиной. Хлопцу хотелось еще кусочек отщипнуть от буханки, но он не отважился. Старик почему-то не торопился с обедом.
Помыв руки и вытерев их о штаны, старик нацепил шапку на жердь, торчавшую из куреня.
— Хлеб надо брать чистыми руками,— сказал он и отнял торбину у Степана.
308
Пока парень ополаскивал руки, пока цеплял свой картуз, старик успел усесться, вынуть хлеб и сало из торбины и расстелить ее, чтобы не класть хлеб на землю. А бутылку самогона он поставил в сторонке. При этом он думал: «А этот Бородатый — парень жох. Сообразил, что я с ним пить не стану... Но полбутылки все-таки оставил. Я б и не выпил, если бы он не сказал, что за души погибших».
Степан смотрел, как дед орудует ножиком, прижав буханку к животу. Ножик у старика он увидел впервые— складной, с деревянной самодельной ручкой.
«Ну, конечно, у него и раньше был нож,— сказал себе Степан.— Ведь он им свисток вырезал, тот, который бросил в огонь. Мне бы такой ножик!»
Буханка была хорошо выпечена, с поджаристой корочкой.
Грива сложил нарезанные куски, а половину буханки отложил в сторону. Затем нарезал сало маленькими кусочками и каждый из них положил на подставленный ломоть хлеба.
Степану он подал горбушку, а сало протянул на кончике ножа.
Хлопец уже впился зубами в горбушку. Сало было желтое, старое, шкурка отставала от него. Он его только лизнул, словно это был мед, потом откусил, посмаковал и начал быстро есть.
Старик же понюхал хлебную корочку, наслаждаясь ее полевым и домашним духом, затем отломил кусочек, кинул его в рот и долго жевал. У него были хорошие зубы. А оттого, что никогда не курил, они были белы. Разжевав хлебушек, он проглотил его и разгладил усы.
Они ели хлеб и сало того Бородатого, которого Грива вчера мог убить. Но сегодня они не вспоминали про это, были благодарны Бородатому за помощь, за его хлеб-соль.
К усам Гривы прилипли крошки. Старик собрал их в горсть и бросил воробьям. Спросил:
— Ты не сердишься, парень?
— Чего мне сердиться,— ответил Степан.
— Ну, коли так, мы с тобой поладим. Оно, видишь, по-всякому бывает. Вчера — злодей, а нынче хлеба привез. А я тебе вчера еще не все рассказал.
*309
— Почему?
— Не с руки было. Вечером доскажу.— Ему хотелось рассказать хлопцу про то, как они косили сено. Степанова мать попросила его направить косу. Почему? Оказалось, что ее Федь, который на все был горазд, косу направить не умел...
Степан-был задумчив.
— Уйдем, деду,— сказал он. Он был сыт и чувствовал себя сильным.
— Куда? — спросил Грива.— Жизнь, она всюду...
— А что нам делать на пожарище?
— Так теперь всюду огонь. И нам не уйти от него. Весь мир огнем полыхает.
— Так что делать, по-вашему?
— Надо нам выкопать землянку, вот что.
Степану это не понравилось: снова за лопату? Он думал о том, что зять Гривы в партизанах. Ладный, кучерявый. Хорошо бы к нему попасть. Этот Василь казался ему всемогущим. Уж он-то не даст им пропасть.
А старик сказал:
— Никуда мы не уйдем. Село не должно исчезнуть.
— Так нет же его, сгорело дотла.
— Э, нет... Народ вернется. Кто на фронте, а кто в лесу. Понимаешь? Придут, а села нет. Нехорошо это. Кто-то ведь должен их встретить.
— Вам виднее.
— То-то,— сказал Грива.— Землянку мне делать не впервой. Еще в ту войну в нашем Тараже стояли вояки. Село ушло на Екатеринославщину. Вернулись — ни кола ни двора. В землянках жили.
Он принялся рассказывать, как они будут строить землянку и какою она будет. И Степан представил себе, как они выложат стены и пол кирпичом. А потолок в ней будет крепкий, деревянный, и двери будут, и окно. В той землянке они перезимуют, собьют топчаны и стол. А придет весна... Там видно будет, что делать дальше. Не вечно же длиться этой войне. Может, весной они и хату поставят. Лес-то рядом.
Старик говорил так, словно уже нажился в землянке, с которой снова начнется село с дивным названием Тараж. Тараж, Тараж... Что означает это слово? Поди догадайся!
310
Землянку они поставят здесь же, напротив братской могилы.
Аккуратно сложив в торбину остатки еды, старик поднял голову и увидел рыжего кота, который издали глядел на них с погоста, и бросил ему шкурку сала.
— Зачем вы, деда? — спросил Степан с укором.
— А что?
— Да этот котяра воробья разорвал!
Грива ответил:
— Без кота нам все одно не обойтись. А что он поймал воробья, так... Видно, так уж этот мир устроен.
Рябой кот отскочил в сторону. А старик продолжал:
— Но торбину надо припрятать, не то этот злодей полакомится. Ну, а этой дряни,— он поболтал бутылкой,— мы пить не будем! — Он поднялся, отнес торбину и бутыль в курень, крикнул Степану:— Вылей, хлопче, воду. Прикроем торбину ведром. Кот его не скинет, оно тяжелое.
Так они и сделали.
Тихо, неспешно угас еще один день, третий день, проведенный ими на пепелище.
Впрочем, сегодня они не устали так, как вчера.
Степан уже подумывал, не пойти ли ему поглядеть на развалины своей хаты. Его тянуло туда. Но старик, он заметил это, отворачивался, чтоб не видеть развалины своего жилища. И по его примеру Степан тоже глядел себе под ноги. Но то было вчера. А теперь его тянуло туда, хотелось увидеть их старую, кривобокую глиняную хибару с низким потолком, связками лука над завалинкой и пучочками каких-то трав под матицей. Его хата была внизу, на Глиняках, а Гривина выше, почти на Городище.
— Подай-ка пилу,— услышал Степан голос старика.
Пила и топор лежали под куренем. Грива попробовал зубья пилы пальцем.
— Не разведена... да нужен напильник. Возьми пилу, а я понесу топор.
Хлопец смутно догадывался о том, что задумал старик. А тот с топором на плече направился на кладбище. Но вдруг повернул назад и пошел в противоположную сторону. Степан поплелся за ним. Обогнув церковный двор, они через выгон спустились к ручью и по
311
камням перебралйсь на другую сторону, вошли в дубняк.
Остановились в молодом подлеске. Листва на дубках держалась крепко. Она блестела, как лакированная.
Степан знал это место, здесь он прятался с конем. Обернувшись, он посмотрел на село. На дороге стояла подвода Бородатого. Кони были выпряжены и паслись. Но самого Бородатого и его парня не было видно.
Они вошли в лес. Здесь сыро пахло мхом и прелью. Старик, хекнув, тяжело опустил топор, и этот звук покатился по лесу.
Здесь, в чащобе, стояли жилистые деревья, среди которых только изредка попадались стройные березки. Деревья тянулись ввысь, к солнцу, и было слышно, как на молодых березках тонко и робко позванивают золотые листочки.
Старик снова несильно ударил обухом по березке и спросил:
— Как ты думаешь, эта годится?
Береза затрепетала свежей листвой, и эхо, скатившись вниз, вернулось назад.
— А я думаю, годится,— сам себе ответил Грива и поднял пилу.
Пила была тупая, она не резала, а жевала древесину. Старик опустился на корточки, а Степан обеими руками ухватился за рукоятку. Сырые белые опилки посыпались ему на ноги, густо и тягуче запахло уже перебродившим соком. Приходилось часто отдыхать, и тогда хлопец не решался поднять голову. Береза уже не трепетала в небе, ее золотая головка беспомощно дрожала.
Старику надоело водить тупой пилой. У него затекла нога и заломило поясницу. Поэтому, не вынимая пилы, которая вошла до половины березы, он взялся за топор, чтобы подрубить дерево. Во все стороны брызнули щепки, по лесу, догоняя друг друга, прокатилось многоголосое эхо, и береза содрогнулась. А когда пила почти высвободилась из ствола, старик отбросил топор.
Теперь с каждым взвизгом пилы береза стала медленно, почти незаметно наклоняться, хотя Степану казалось, что она еще долго будет стоять.
— Бросай пилу! — крикнул старик.
Хлопец едва успел отскочить. Что-то треснуло, и береза рухнула, цепляясь ветвями за другие деревья.
312
И по лесу пошел шум: умерла белая береза, которую посеял ветер и взрастило солнце.
Старик топором очистил березу от веток, а потом, ухватившись за комель, поволок дерево по земле.
Голая верхушка березы прорезала во мхах и в сухой прошлогодней листве длинную борозду. Глядя на нее, хлопец, взваливший на плечи пилу и топор, поплелся следом.
Так они медленно дотащились до опушки леса. Остановились у кручи, которая нависала над ручьем. Старик поднатужился и, схватив дерево посередке, скатил его вниз. Оно брыкнуло и, набирая скорость, полетело к воде.
Тогда старик и хлопец тоже спустились к ручью. Там старик, обернувшись к Степану, сказал:
— А он небось из моего дома кирпич берет. Ну и черт с ним! Не отнимать же.
Степану было это безразлично. Он обогнал старика и, по-ребячьи радуясь, побежал за бугор, держа пилу и топор в раскинутых как крылья руках. Он летел, аж дух захватывало, а потом, бросив пилу и топор оземь, присел на березовый пень. За молодым зеленым дубняком стоял в осенней задумчивости высокий лес, тронутый багрянцем. На него тихо опускались сумерки.
Старик же медленно сползал со склона, то и дело теряя равновесие, и, чтоб не упасть, двигался бочком,— он опускал то одну ногу, то другую. Но потом, не вытерпев, он заторопился, как мальчишка, забывший про осторожность. Степану было видно, как он чудно перебирает ногами, вытянув руки вперед, словно собираясь ухватиться за воздух. Шапка слетела у него с головы.
Парень рассмеялся.
— Перестань зубы скалить,— мрачно сказал старик, откашливаясь. Он поднял шапку, напялил ее на голову и вдруг улыбнулся — бровями, усами, ртом.— Чуть ногу не подвернул,— сказал он, притронувшись рукой к колену.
— Вы как стрела летели,— сказал хлопец.
— Сам ты стрела. Поднимайся.
— Давайте отдохнем.
— Некогда,— проворчал старик.
Они подтащили ствол березы к ручью. Грива вошел в воду и, приподняв комель, поволок мертвое дерево по
313
пёсчаному дну. Его сапоги хлюпали, ему было тяжело, и Степан принялся ему помогать.
Потом, когда они перетащили березу через ручей, Грива присел на нее, чтобы передохнуть, а хлопец вернулся за топором и пилой.
Но Гриве не сиделось. Он встал и сам, без помощи Степана, взвалил березу на плечи и понес ее, слегка пошатываясь. А ведь когда-то он и не такие бревна таскал. Когда-то, давно... Но теперь ему было невмоготу. Через десяток шагов он остановился и, сердясь на себя за свою немощь, потребовал, чтобы Степан подал ему пилу. Сколько пядей в этой березе? Надо распилить ее на части.
Растопырив пальцы левой руки, старик принялся отсчитывать пяди.
— Ну и здоровая,— проговорил он.— Восемьдесят и пять пядей. Пядь — четверть метра. А ну, посчитай, сколько метров,— и сам стал прикидывать в уме.
Степан принялся считать. Восемьдесят пять на двадцать пять, мысленно он провел под этими цифрами черту и зашептал: «Пятью пять — двадцать пять. Пять пишем...»
— Ну что, сосчитал? — спросил старик.— Да ты только зубы скалить горазд! Разрежем ее на три части.— И, отмерив около шести метров, резанул твердым ногтем по белой коре.— Есть зарубка! А теперь другая...
Береза была молода. Пила обнажила ее годичные кольца. Сколько же ей лет? Не сосчитать. И как у нее хватало сил гнать на такую высотищу свои соки?..
— Не зевай,— сказал дед.— Возьми вон тот, который потоньше. Донесешь? Да не дергай, это тебе не коза...— Он помог хлопцу взвалить верхушку дерева на плечо, велев его придерживать обеими руками. А потом слегка подтолкнул:—Пошел.
Хлопцу было не тяжело, но он старался ставить ноги, как Грива, твердо и сосредоточенно.
А дед, сунув топорище за пояс, поднял тяжелый комель и, подхватив пилу, лежавшую на земле, рывком выпрямился и двинулся следом за хлопцем.
Медленно, тяжело ступая, они прошли шагов двести. Грива, который шел сзади, заметил, что хлопец выбивается из сил, прямо пригибается к земле. Он крикнул, чтобы Степан бросил свою ношу.
314
— Возьми у меня пилу,— сказал он.
Но Степан не остановился. Он был упрям и не хотел признаться в своей немощи. Он донесет. Ему уже вроде полегчало. Еще немного. Еще...
Он не помнил, как дотащился до куреня. Сбросив свою ношу, он не смог разогнуться. Было такое чувство, словно дерево все еще давит на плечо...
— Донес? — проворчал старик сердито.— Не знал, что ты такой...— В его голосе было больше одобрения, чем злости.
Степан утер лоб подкладкой картуза. Пот с него лил ручьем. И глаза его влажно светились. Расстегнув ворот рубахи, он принялся обмахиваться картузом.
Потом они присели. Каждый на том, что принес.
Солнце уже садилось. Оно заходило за Глиняками, за окраиной села. И ветер совсем стих. Но со стороны кладбища все еще тянуло сыростью и холодом.
— Притомился, хлопче? — спросил Грива.— Вставай, поработаем еще малость. Осенью уже попахивает, чуешь? Надо спешить.
А Степану и впрямь хотелось посидеть. У него дрожали коленки. И так хорошо было сидеть на березе и смотреть, как заходит солнце, как полыхает закат. Он прислушался, вдыхая чистый запах древесины. Со всех сторон свободно и тихо к нему подступала темнота. Он спросил:
— Деду, вы мне вчера хотели что-то рассказать...
— Вспомнила баба, когда была девкою,— усмехнулся старик, отгадав Степанову хитрость. И что-то забормотал себе в усы.
Потом, вынув ножик, он отметил, где надо прибить перекладину, и надрезал кору, что-то пробормотал, кивнул, как бы соглашаясь с самим собою, и глянул на Степана.
— Берись за пилу,— сказал он.— Тут и делов-то на пять минут.
Хлопец неохотно поднялся.
Его так и подмывало залезть в курень и заснуть. Но он подчинился старику и, подняв пилу, ухватился за нее обеими руками, чтобы она не скакала по коре, потянул ее к себе.
— Легче. Отпускай в мою сторону...— поучал дед.— Еще разок...
315
Пила зашипела, и ее зубы все глубже вгрызались в покорную древесину.
— А хотел я рассказать тебе про сенокос,— сказал старик.
Степан поднял голову, остановился.
— Не теперь,— сказал старик.— Тяни.
Древесина была чистая, влажная.
— Погоди,— старик привстал, вытащил пилу вверх.— Как бы не ошибиться, еще разок проверю. А то потом не поправишь.— Он измерил толщину среза, выпрямился и снова сказал:—Годится.
Когда они кончили, хлопец с облегчением отшвырнул пилу.
— Ты что? — спросил старик.— Подыми ее и положи под курень. Она нас еще не раз выручит.— И отвернулся.
Степан слышал, как он легонько тюкает топором. Но старик так и не дал ему посидеть на пригорке. Только-только Степан пристроился, как старик потребовал, чтобы он принес гвозди и выправил их. Ведь уже темнеет.
Делать нечего, Степан поднялся. Отыскав гвозди, он по очереди клал их на камень и, придерживая за шляпки, выравнивал другим камнем. Обожженные гвозди были податливы.
А Грива тем временем подтесал крестовину с одной стороны, затем с другой. Потом ударил по ней обухом, и она плотно вошла в паз.
Раньше старик работал молча, а теперь его словно бы прорвало, он разговаривал с топором, с березой, с пилой. Потом поднял гвоздь, послюнявил его и, примерив, вогнал в крестовину по самую шляпку одним коротким ударом. При этом остальные гвозди он держал во рту, как заправский плотник.
И тут грохнул выстрел. Он расколол тишину, ворвавшись в чистоту сумерек с той неумолимой яростью, которая сразу напомнила о войне.
Старик вскочил, прислушался. Но уже снова было тихо. И он долго стоял с занесенным топором и ржавыми гвоздями во рту. Его взгляду не на чем было остановиться. Казалось, этот одинокий старик, вооруженный топором, готов сразиться один на один с той
316
невидимой силой, которая стреляла из винтовок, пулеметов и орудий и называлась войной. Но природа молчала.
Тогда старик опустил топор и, почти не примериваясь, вбил гвоздь в крестовину. Второй, третий... Он слюнявил их и вколачивал в дерево короткими ударами.
Такое время, что стрельба не в диковинку, и они не обмолвились про тот выстрел.
— Возьми хлебушка,— сказал старик, пробуя руками крепость крестовины.— Картошку потом испечем.
Степану хотелось есть, но он медлил залезать в курень. Он смотрел на старика, державшего высокий березовый крест. Тот белел в сумерках.
А старик не терял времени. Подняв топор, он наискось обтесал основание креста с тем, чтобы он легко вошел в землю. После этого он собирался обложить его камнем. И крест будет стоять нерушимо.
Что делать? Разложить костер или пойти за картошкой? Степан задумался. И вздрогнул, услышав хруст валежника под чьими-то сапогами.
То был Василь, зять старика Гривы. Откуда он взялся?
На шее Василя висел немецкий автомат, его китель был расстегнут, просторные галифе спадали на низкие голенища сапог. Смолисто-черные волосы Василя завивались.
Он остановился, словно врос в землю. Был он вооружен до зубов. На левом боку пистолет в блестящей кобуре, на поясе гранаты-лимонки, а еще одна граната, с рукояткой, торчит из голенища сапога. Попробуй сунься...
— Вы тут строгаете, а наш погреб разбирают,— сказал он старику с укором.
Его лицо пылало. Был он большой, неуклюжий, и все на нем было большое — сапоги, галифе, китель... В его темном чубе можно было заблудиться, а толстые губы под мясистым носом были плотно сжаты. Головастый и широкоплечий Василь тяжело дышал.
Хлопец не сводил с него глаз.
А старик спросил:
— Так это ты стрелял, Василь?
— Ухлопал бандюгу,— вяло ответил Василь.— Туда ему и дорога.
317
— Но с ним пацан был.
— Знаю. Его я и пальцем не тронул,— Василь прислушался. Ему показалось, что по дороге проехала подвода.
— Пацан мне сказал, что какой-то старик с хлопцем строят курень. Вот я и подумал, что это вы, батя. А ты чей? — спросил Василь, обращаясь к Степану.
— Воронюков,— ответил вместо хлопца старик.
— Ага...— протяжно, без выражения, произнес Василь.— А вы, оказывается, в крестики играете? — и пнул крест ногой.
— Ты лучше помоги нам его поставить,— сказал старик.— Наши лежат.
Голос его дрожал.
— Где? — спросил Василь.
— В церкви погибли. И мать, и Ульяна, и донька...
Но Василь уже не слушал. Пошатнувшись, он отвернулся и зашагал к церкви. На нем позванивало военное железо.
Старик и Степан подались за ним. Черная земля, решетка церковной ограды... Василь перемахнул через нее и остановился. На месте церкви возвышался зеленый могильный холм. И тут Василь рухнул, раскинув свои тяжелые руки, словно хотел обнять эту землю, и застыл в неподвижности.
Старик и хлопец остановились.
Тихий вечер высеял первые одинокие звезды. Между землей и небом неслышно ходил ветер. Из-за дуплистой липы, которая стояла возле ворот, вспорхнула летучая мышь.
И хлопец услышал, как большой Василь плачет. И показалось ему, что сотрясается от рыданий весь могильный холм.
— Уля-а, Уля-ся-а,— выл Василь.— Доченька
мо-я...
А когда голос его стал слабым, тихим, старик взял хлопца за плечи и сказал:
— Пошли.
Они вернулись к куреню. Грива оттащил березовый крест в сторону и прислонил к одинокому дереву. Потом загремел ведром.
— Я воду принесу, а ты разведи огонь и накопай картошки,— сказал он.
318
Солома и хворост были под руками. Йо кресало не больно слушалось Степана. Но вот кресало высекло длинную искру, трут занялся, и Степан раздул огонь. А там и хворост затрещал, задымил. Костерик ожил, облизал темноту огненным языком.
Подняв лопату, Степан отправился за картошкой.
Когда Степан вернулся, сушняк уже догорал. Услышав тяжелую поступь старика, он положил в золу картошку. Старик, кряхтя, подсел к костру и, глянув на торбу, которая лежала возле хлопца, сказал:
— Доставай хлебушек.
— Подождем вашего Василя,— ответил хлопец.
Отблески костра ложились на их взволнованные и настороженные лица. Старик и хлопец, пригорюнившись, сидели молча. О чем говорить?..
Старик то и дело подбрасывал в костер хворост.
Но вот из темноты вышел Василь. Сняв с груди автомат, он уселся возле костра.
— Убери эту железяку подальше,— сказал старик.
— Ничего, не выстрелит,— сказал Василь, кладя автомат на колени.— Он мне еще пригодится. Теперь такое время, что надо стрелять и стрелять.
— Мертвых не поднимешь,— отозвался старик.
— Ты о чем?
— А мертвых не поднимешь,— упрямо повторил старик.
— Я устрою им пекло. Увидите. Я пришел не даром...— Василь тряхнул чубом.
— Где кони? — спросил старик тихо.
— Кони есть. Пойдешь со мной.
— Я отсюда никуда не пойду,— оборвал его старик.— Это мое село.
— Села уже нет.
— А мы с тобой разве не живы? А он? — Грива кивнул в сторону Степана.
— Ладно,— сказал Василь.— Картошка готова? У меня ничего нет.
— А у нас тут и хлеб, и сало.
— Тогда живем,— сказал Василь.
— И ты его будешь есть?..— спросил старик.
— А почему бы и нет? — удивился Василь.
— Так ведь его нам Бородатый оставил.
— Какой еще бородатый?
319
— Тот, с пацаном,— сказал старик.
— А, ты вон про что? — и Василь сунул руку в торбину.— Достань картофелину, ты, как тебя там.’..— он повернулся к Степану.
— Еще не готова,— ответил вместо хлопца старик.— А у нас и горилка есть. Тоже от Бородатого. Может, выпьешь?
— Можно,— ответил Василь,— все горит у меня внутри.
— В курене она, справа,— сказал старик.
Василь бросил торбу и полез в курень за самогоном. С автоматом он, однако, не расстался. Достав бутылку, он запрокинул голову и стал пить прямо из горлышка.
— Ты и мне оставь,— не давал ему пить старик.
— На...— Василь оторвался от бутылки.
Но старик заткнул бутылку пробкой...
Василь же присел к огню. Отрезав ножом кусочек сала, он насадил его на прутик и подержал над огнем. Движения его были уверенны, неторопливы. Сало закапало в огонь, вспыхнувший синим пламенем, а Василь медленно поворачивал прут. Когда сало порозовело, он выкатил из жара на траву какой-то щепкой картофелину и отодвинулся от огня. Автомат он все еще держал на коленях.
Затем он очистил ножом картошку, откусил кусочек сала, заел его картошкой и кинул в рот несколько крошек хлеба. Ел он как-то степенно даже.
Старик, заткнув бутылку кукурузным початком, отнес в курень, а потом, как и раньше, уселся напротив хлопца. На отрезанный ломоть он положил кусочек сала и подал Степану, а сам, вытрусив из торбы крошки на ладонь, разбросал их птичкам. Затем кнутовищем выгреб из золы картофелину.
Они чистили картошку, ломали ее пополам и клали на торбину, рядом с хлебом и салом.
— А самогонка крепка,— произнес Василь ровным голосом.
— Еще хочешь? — спросил старик.
— Нет, не для этого я сюда пришел,— ответил Василь.
Теперь видны были его глаза, затуманенные само
320
гоном и болью, эти глаза следили за стариком и мальчиком.
Это снова был тот прежний Василь, которого хлопцу так хотелось увидеть.
— А где твой свисток, батя?
Грива, должно быть, никак не ожидал такого вопроса. Неужто обо всем уже переговорили и нет ничего более важного? Прежде чем ответить, он спрятал в тор-бину оставшуюся от ужина горбушку.
— Там...— сказал он.— Все сожрал огонь.
— А как... это было? Ты видел? Ты ведь сразу отправился, когда мы нагрузили боеприпасы.
— Когда я добрался до села, все уже было кончено. Считай, верст пятнадцать отмахал.
— Даже с гаком,— подтвердил Василь.
— А вот он видел,— старик кивнул на Степана.
И Василь вроде бы только теперь заметил хлопца, он подсел к нему и попросил:
— Расскажи...
Хлопец опустил голову.
— Не могу. Страшно,— сказал он и отошел от костра.
— Не трогай его, Василь,— проговорил старик и повернулся к хлопцу.— Иди в курень. Я скоро приду.
Степан отошел и уселся возле куреня. Издали к нему доносились голоса.
— Значит, их всех живьем? — допытывался Василь.
— Еще хуже,—: прохрипел Грива.
Огонь медленно угасал. Слышался шелест деревьев.
— Эх, опоздали мы...— сказал Василь.
— А мы собираемся выкопать землянку,— сказал Грива.— Завтра и начнем. Надо спешить, покамест сухо.
— Пожалуй, завтра не начнешь, батя.
— Это ж почему? — удивился Грива и спросил:— Где же кони?
— Кони будут. Но ты нам должен помочь.
— Стар я, Василь. И парень на моих руках. Сирота...
— Парень отлежится.
Василь замолчал. Поднялся ветер и снова раздул костер. Потом ветер стих, и костер начал гаснуть.
— Нам не только землянка нужна. Зима спросит и
11 Б. Харчук 321
про хлеб, и про обувь,— заговорил старик, и его голос отлетел с шелестом деревьев.
— Мы на Заложницы пойдем,— сказал Василь.— Хлопцы меня дожидаются в старом лесу.
— Чего ж сюда не приехали?
— Светло еще было.
— Сколько вас?
— Пятеро.
— Мало.
— Ас тобой, считай, нас шестеро будет. Автоматов и патронов хватит.
— А их там сколько, в этих Заложинцах?
— Не считал. Нападем еще до рассвета. Они не ожидают...
И было так: говорил Грива — огонь угасал, доносился шелест деревьев и шуршала листва; говорил Василь — ветер раздувал огонь и он разгорался.
— А кто старший?
— Гаплик.
— Не знаю такого.
— Скорняк.
— Так он же Гордей...
— А теперь Гаплик,— сказал Василь.
В Заложинцах Степан никогда не бывал. Знал, что там мельница, и люди ездили туда молоть муку. Теперь, как сказал Василь, в Заложинцах была комендатура. В школе.
— Гордея я знаю. Толковый мужик. Хорошие кожухи шил! А я что умею?
— Будешь стеречь коней.
— А успеем?
— Должны. Скоро уже и двинемся. Другой дороги в Заложницы нет.
— Знаю,— сказал Грива.
— Тогда жди,— сказал Василь и поднялся: автомат снова висел у него на груди.
Когда Василь скрылся в темноте, костер совсем погас, и Степан с трудом видел старика, неподвижно сидевшего на пригорке.
Но вот Грива встал, подошел к куреню и, подняв ведро, напился.
Кнутовище он сунул за голенище сапога.
322
— А ты чего не спишь? — спросил он, увидев хлопца.
— Вы меня возьмете, деда?
— Слышал, значит?
— Ага.
— А ты скажи, что не слышал.
— Я ничего не слышал.
— То-то,— сказал старик.— Полезай в солому, скорее заснешь. А утром я уже тут буду.
— И я б мог коней постеречь.
— И не думай,— старик подтолкнул Степана в курень.
Они прилегли. Старик снял шапку. Он хотел подложить ее Степану под голову, но, вспомнив, что она ему понадобится, снова надел.
— Расскажите, деду.
— Что тебе рассказать?
Хлопец прижался к нему и сказал:
— Мне страшно.
— Вот те раз,— пробормотал старик, и его рука легла хлопцу на плечо.
— Теперь страшно. А раньше, когда я повел коня в дубняк, мне не было страшно ни капельки.
— И думать про то забудь. Лучше засни,— он погладил хлопца, его пальцы отыскали ребячий затылок.— И пусть тебе приснится добрый сон. У нас с тобой знаешь еще сколько работы! Зато у нас будут кони. И лес нам не нужно будет таскать на плечах, как мы сегодня тащили.
— Я же большой, деда.
— Еще вырастешь.
— И тогда не будет войны?
— А вот этого я не знаю.
— И я не буду таким, как отец, да?
— Ты будешь таким, как твоя мать,— сказал Грива и прислушался.
— Тихо еще. Расскажите мне про сенокос.
— Ладно, когда вернусь — расскажу. Да мы с тобой тогда сено косить будем,— сказал Грива и, поднявшись, вышел из куреня.
А Степан не мог заснуть. «Дед поедет, он должен... Но вдруг его убьют? Что тогда?» Ему хотелось выбраться. из куреня и просить Гриву, чтоб он никуда не
11
323
ехал, не покидал его. И откуда только этот Василь взялся, зачем он приходил? Степан сердится на себя за то, что еще не вырос, что не может делать то, что хочется.
Грива молча заглянул в курень.
Хлопец видел его, неуклюжего, косматого, но молчал, и старик тихо отошел, прошептав «заснул».
Сгустилась ночь.
Хлопец слышал едва уловимый шелест. Где-то близко пофыркивал конь, кто-то приближался к куреню. Поднявшись на колени, он пополз на четвереньках и спрятался за кучей хмельника. Никто его не видел. Старому Гриве было сейчас не до него. Он стоял возле коня, с которого сошел высокий плотный человек в овчинной жилетке, края которой были вышиты. Всадник подал Гриве руку, как старому знакомому.
— Топчем еще землю, коптим небо? — спросил он весело.
— Здравствуй, Гаплик! 1 — говорит Грива.
— Гаплик на шею фашистам,— шутит Василь, выступив из темноты.
Их трое у куреня, а парню кажется, что их много. Гаплик стоит, как башня. Хотя до зимы еще далеко, на нем смушковая шапка с заломом. Он не обвешан оружием, как Василь, только короткоствольный автомат висит на его плече. Штаны заправлены в сапоги с высокими, до колен, голенищами. Но лучше всего у него— усы. Пышные, закрученные. Его конь стоит спокойно и прядет ушами.
— Повоюем, Грива,— говорит Гаплик.— Ты что, в курене решил от войны отлежаться? Не выйдет.
— Ладно, где наша не пропадала, Гордей.
Хлопец старался не пропустить ни слова.
Гаплик разгладил усы.
— Вижу, тебе не легко.
— А тебе, Гордей?
Гаплик подкрутил усы:
— Мы хоть и не солдаты, но воюем. Партизаны...
— За то нас и жгут,— отозвался Грива.
Гаплик старался заглянуть Гриве в глаза.
— Верно. Но без тучи и грому не бывать.
1 Гаплик — крючок.
324
— Мертвых не поднимешь, Гордей.
— Без туч и земля не родит.
— А мертвых все равно не поднимешь, Гордей.
— Мертвых не поднимешь, верно. Но за них отомстить надо. Живые должны мстить. Верно, Василь? — он повернулся к Василю, который стоял молча.— А там другие родятся. Придется для них кожухи шить. То-то работенки будет... Ты готов? — спросил он старика.
— Подожди,— сказал старик.— Вот только в курень загляну. Там у меня хлопец.
— Он небось уже давно дрыхнет,— остановил его Василь.
Степан не выдержал, крикнул:
— Не дрыхну!
— А не спишь, так выходь,— сказал Гаплик.— Ты где?
Степан приподнялся.
— Да ты казак хоть куда! — усмехнулся Гаплик.— Хочешь немца бить?
— Хочу,— ответил Степан.
— Что же, посадим его на коня? — спросил Гаплик.— Говорил же я вам, что новые родятся. Как тебя звать-то?
— Степаном,— ответил хлопец, не понимая, шутит Гаплик или нет.
— Подойди поближе, Степан.
Хлопец шагнул к Гаплику и остановился. От тога пахло табаком и лесом. Он нагнулся, подхватил хлопца и, подняв его высоко над землей, снова опустил.
— Слабоват ты еще в коленках, парень,— сказал он,— и конь твой еще не вырос.
Хлопец потупил глаза. Что он мог сказать? Но старик принял его сторону.
— Зато умом его бог не обидел,— сказал он.
— Умный, значит,— усмехнулся Гаплик и положил руку на ребячье плечо.— А если так, то хорошенько выспись, чтобы завтра голова не болела. Я проверю.— И добавил уже серьезно:—А воевать еще успеешь. И для тебя фашистов хватит.
— Разве их так много?
Гаплик уже успел сунуть ногу в стремя.
— Чем больше вырастет таких, как ты, тем лучше.
325
Тогда ни один фашист нам не будет страшен.— И рывком вскочил в седло, огрев коня плетью.
Стало тихо и страшно. Хлопец сидел возле куреня. Даже старик с ним не простился. Но разве прощаются, когда уезжают на вечерний покос? А впрочем...
Он знал теперь, что делать. Они еще не могли уйти далеко, он их догонит. Они его не увидят, он будет идти следом.
Он вскочил на ноги. Небо было звездное. Сердце торопливо стучало. А вот и дорога. Он увидел подводу и двух всадников, которые двигались в сторону села. Они словно бы плыли по темной воде — тихо, неслышно. Копыта коней, должно быть, были замотаны тряпками, а колеса смазаны дегтем. И тут же пропали в темноте, сгинули. Только ветер гулял на просторе.
И Степан стал разговаривать с ветром. «Разве их так много?» И ветер ему ответил: «Чем больше вырастет таких, как ты, тем лучше. Тогда ни один фашист нам не будет страшен».
Хлопец протер глаза кулаком. Нет, это не Гаплик. И старика нет. Он один. Чернеет курень. И свистит ветер.
Он стоял под огромным черным небом. Один. Страх схватил его за горло — было трудно дышать. Но он боялся не за себя. Все его мысли были с Гапликом, со стариком, с Василем. Вернутся ли они? Должны. Их не могут убить. Они вернутся.
Опустив голову на грудь, хлопец поплелся к куреню, зарылся в солому с головой, подтянув ноги к груди. Он старался не дышать. Лежал, как звереныш, стараясь ничего не видеть и не слышать. Это чувство было ему знакомо. Иногда отец с матерью уходили в гости и запирали его в хате, в темноте он долго не мог уснуть, и ему чудилось, будто ветер открывает двери, входит, хлопает крышкой сундука... Тогда он натягивал на себя рядно и начинал скулить по-щенячьи. Но сейчас рядна не было, он не мог натянуть его на голову и страшился ветра, свободно входившего в шалаш и шуршавшего соломой. Удаль и страх боролись в нем, мальчишеская удаль и мальчишеский страх. Он был труслив и храбр одновременно. «Закрой глаза»,— нашептывал трус. «Не бойся, им там страшнее, чем тебе»,— говорил храбрец.
326
«Неужели я в самом деле боюсь?» — спросил себя хлопец. Он решил вылезти из куреня, разлечься на земле и, чтобы доказать себе, что не трусит, смотреть в темноту. Пересилил свой страх, выбрался из куреня и принялся смотреть на звезды, заложив руки за голову.
«Я буду думать о них и так буду с ними,— говорил он себе.— Ведь говорят же, что если про кого-нибудь долго думать и сильно ему хотеть добра, то это сбудется. Вот я и буду много думать и очень хотеть. Жаль, что я никогда не бывал в Заложинцах. Они далеко. Туда идет одна дорога — через лес. А в лесу партизанам не страшно. Там каждое дерево их союзник, каждый куст. А потом... Потом они обольют эту проклятую комендатуру керосином и закидают гранатами. Так будет. Может, мне помолиться, чтобы так было?» Ему хотелось, чтобы скорее рассвело. Но звезды все еще стерегли темноту неба. Только роса уже начинала блестеть да ветер стал порывистым. И было холодно. А в темноте белел березовый крест.
Степан замерз, и тогда, чтобы согреться, он решил разжечь костер и испечь картошку. Его руки отыскали лопату, нашли котомку. Горбушку хлеба он сунул за пазуху, чтобы она не досталась коту.
В темноте он отыскал огород. Светили звезды. Хлопец налегал на лопату, выворачивая землю, а картофелины выгребал из земли руками, так, словно доставал их из золы. Он вскопал целую грядку, выбрал весь картофель, но сумку так и не наполнил. Его колени были грязны и мокры.
С картошкой на спине он пошел через кладбище. Он так торопился, что каменные и деревянные кресты перед ним расступались. Думал: «Светает, они разобьют немца, вернутся голодные, а картошка еще не готова». Потом разложил костер.
Огонь рванулся к небу и словно бы погасил звезды.
Теперь можно было передохнуть. Степан уселся на то место, которое облюбовал старик, и, сидя на пригорке, подкидывал в костер сухие сучья. Ему стало тепло, покойно. И он незаметно для себя заснул.
Снилась ему на заре высокая белая береза, такая высокая, что не дотянуться взглядом. И падали с нее на землю желтые листья-капли. И была эта береза нежна. как мать. Она стояла в белой полотняной рубахе с
327
желтым платком из березовых листьев на плечах. И баюкала младенца.
А Степан стоял посреди двора, глядел на мать, на младенца. И хотелось ему крикнуть, что ребенок мертв, что он сам видел, как шуцман бросил его в огонь. Но крик, так и не родившись, застрял у него в горле, и он не смог вымолвить ни единого слова. От ужаса. От боли. От тоски.
Потом он увидел старика Гриву, который погонял коней вишневым кнутовищем, и услышал его голос:
«А я муку намолол... Да что ж вы все стоите? Берите мешки, несите с воза. Пора ставить тесто и печь куличи...»
Железный обвальный грохот оборвал речь старика.
Степан вскрикнул и вскочил. Теперь, уже наяву, он услышал далекие взрывы и автоматную скороговорку. Казалось, что бой идет где-то рядом, за лесом.
Хлопец поднялся на пригорок и стал на цыпочки, чтобы дальше видеть. По небу разлилось вишневое зарево, и подымалось оно от земли.
Начало светать.
— Разбили! Они разбили комендатуру! Они вернутся!
Он готов был пуститься в пляс, но вспомнил, что надо испечь картошку. И, растянувшись на земле, он принялся раздувать огонь с такой яростью, что пепел засыпал ему глаза.
Вскоре в огне весело затрещал валежник.
А зарево, стоявшее над лесом, тем временем порозовело, и казалось, что с той стороны всходит солнце. Теперь с каждой минутой земля становилась все шире и просторнее.
РАССКАЗЫ
МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ
Диптих
I. Кабель
.'МКЬь •; ван смотрел на плотину. С пригорка, с ЗЯК огородов хорошо видно: по плотине тя-
нется подвода за подводой, впереди и £ позаДи — всадники. Подумалось: подво-ды словно на цепи, всадники — как скрепы. А вербы отвернулись и все к w воде клонятся. Волны сверкают на солн-
це. И кажется — слышно, как то громыхнет, натягиваясь, то звякнет, ослабнув, эта воображаемая цепь, на которой тяжко скрипят возы, а всадники-скрепы, едва касаясь земли, только побрякивают глухо — бряк-бряк. В ушах — голос железной цепи: трень, брень, звяк — все так и звенело. Иван смотрел на вербы, которые перепугались и, старые, растрепанные, искали в воде солнышко. Оно золотило синюю волну, и вербы стояли желтые.
В конце плотины — мельница. Серая, из цементных плит, а черепица — красная. На мельнице оккупационный отряд. Фашистов называли «лягушатниками».
Они каждое утро отправлялись в села и возвращались с обозом пшеницы. Мельница молола, не утихая. Турбинная. Помол забирали тупорылые грузовики. Перли на станцию. Не только на мельницу, на плотину и то не ступишь: запретная зона.
А высокая плотина — что длинный курган. Вербы — у ней в головах.
329
Иван думал: никак не выбить «лягушатников» с мельницы. Пробовали, а что вышло? Мельница под горой. Партизаны скатились с горы, высыпали из лесу. Может, и выбили б, да немцам сразу подмога: танкетки, минометы, потому что от мельницы до станции — подземный кабель. Как двинули из лесу партизаны да началась стрельба, люди говорили: музыка! Автоматы что скрипки, гранаты что барабаны. Гнали «лягушатников», чтоб знали, как села обдирать. Людям за ручную мельничку — капут, а себе крупчатку, как солнце. Померкнет это солнце, станет черное... Но... Подошла подмога. После этого боя лес на горе вырубили. Гора присела, и на ней пеньки — непогребенное безголовое войско. Это было прошлым летом. А зимой «лягушатники» взрывали на пруду лед, чтоб никто не подошел к мельнице.
Обоз оседлал плотину.
Иван стоял.
Глаза его душу имеют. Сам он маленький, неказистый, а голова большая: подсолнух на грядке. Смуглый, загорел за лето. В штанах из домотканого полотна и в таком же измятом пиджачишке, рукава коротки— вырос. Без картуза, голова русая: подсолнух в цвету.
«Кабель»,— думает, словно что-то знает.
А душа большая. Все, что видят глаза, в ней: небо — голубой колокол, земля — холмы, что стоят рядами; долина, село, хаты и каждое окно, речка, пруд и вербы, и пеньки на горе, и лес на другой, дальней. Душа у него высокая, как небо, до самых облаков и за облака, туда, где солнце творит день и выше него, до самого сердечка голубого колокола, откуда по ночам долетает свет видимых и невидимых звезд. Душа у него широкая, как земля. А земля — каждая песчинка — его. И высокое небо. И все до единого лучи солнца. Ничего чужого, все свое. Он даже улыбнулся и склонил голову набок. Грустно. Улыбка, шевельнувшись, застыла на сжатых губах и медленно угасала, как день. Улыбка угасла, и лицо стало еще смуглее, а в глазах под выгоревшими бровями — печаль.
Позвала мать. Ее голос словно разбудил Ивана. Он качнул головой, в уши все лилось понукание, надсадный скрип возов и цокот копыт. Все эти звуки, угрожаю
330
щие, резкие и разные, сливались в один и жили в его груди единым звоном.
Голос матери: «Ва-а-нь!..»—тоже потонул у него в ушах, но почему-то не соединялся, не сливался с шумом, долетавшим с плотины. Его имя, произнесенное матерью, прозвучало для него как «Вста-а-нь!..» Вербы на плотине словно замерли.
Он вышел с огорода. Руки сжаты в кулаки. Шел и светил головой — подсолнух.
Мать стояла на пороге. Руки под запаской, а глаза под козырьком платка искали его. Они сияли. Лицо матери, худое, маленькое в черном платке, было освещено то ли заходящим солнцем, то ли ее глазами.
Иван подбежал к ней. Кулаки разжались.
Мать шагнула к нему и тихо сказала прямо в лицо: «Отец дома».
Рот у него раскрылся, он хотел сказать, что «лягушатники» погнали по плотине обоз, но не успел: мать повернулась, пошла к хате, и за ней на порог, в сени шагнуло солнце.
Он знал, что ему делать: отец дома,— значит, на стражу.
Выскочил за хлев, чтоб опять смотреть с огорода. Самому было странно: не знал ведь, что отец дома, а патрулировал, вроде что-то раньше погнало и приказало: гляди. И сейчас он видел тот же обоз на плотине. «Лягушатникам» сейчас не до села, захлопочутся с зерном, подумал он. А отец давно дома не был. С прошлого лета. Нападал на мельницу. Думали с матерью: голову сложил. Но пришла весть: тяжело ранен. Поправился, значит, раз появился. Когда же он пришел? Днем никак не мог. Верно, вчера ночью. Мать, гляди-ка, не сказала. Он целый день с коровой, а отец целый день дома. Где-нибудь сидел на чердаке. Стемнеет, пойдет.
И ничего Ивану так не хочется, как увидеть отца. Только бы увидеть. Какой он? Хоть бы одним глазком...
Но ему надо стоять и смотреть, глядеть в оба хорошенечко. Надо следить за плотиной и не спускать глаз с соседей, коситься в их сторону. Если какой соседке вздумается зайти к ним, он должен встретить ее во дворе и подать голос, чтоб в хате услышали.
331
Обоз подполз к мельнице. Одна подвода уже освободилась и тарахтит, мелькает под вербами.
«Мешки с воза и — наутек»,— думает Иван. А «лягушатникам» работа: каждый мешок пересыпают; было же как-то, напали на мешок с динамитом. Если б не вытряхнули, давно бы от мельницы один чертополох остался. А все потому, что мельник сволочь. Продался. Пьет и гуляет с «лягушатниками», сам таким стал, квакать по-ихнему научился. Доквакается!
Вечереет, ветер потише, вот-вот переменится.
. И потому что вокруг тихо, Ивану еще сильнее хочется повидать отца. Хоть на миг, через замочную скважину. Но он знает, что из этого может выйти. «Лягушатники» верхами. Что им стоит доскакать сюда с плотины? А потом, сени ведь заперты. Только он за щеколду, а мать с порога и — за уши. Он еще этого не сделал, еще даже не отважился на то, а уши уже вспыхнули, так и пылают, и всего жаром обдает. Иван вздохнул: «Прикинусь, будто в огороде тружусь». И вроде бы копается на грядках моркови, а сам то на плотину зыркнет, то на соседей косится. Чтоб тем «лягушатникам» ни воды, ни тины.
Ему стало до того муторно, что он не мог ни грядку копать, ни смотреть вокруг. Шевельнулась ярость, ее было полно в груди. А обоз на плотине, как связанный цепью, и всадники, как скрепы, и пустая подвода, что вроде бы сорвалась с цепи, и замершие вербы — все разжигало эту ярость еще больше: до каких же пор так будет? Он тут на стрёме, а отец — из дому, в сад, и не увидишь его. Уши отпылали, и потянуло домой.
Иван выпрямился. Протарахтела еще одна пустая подвода. И снова тихо. Он потихоньку с огорода, а там бегом — и вот уже возле сеней. Босой, тихий. Чтоб щеколда не скрипнула, открывал ее обеими руками. Сенную дверь не отпустил, приоткрыл. И припал к двери, ведущей в комнату: отец сидел у стола, положив руки на колени. Иван услышал: «кабель, а то как тогда...» — говорил отец. Мать шаркнула ногой, Иван отпрянул от двери. Мигом без скрипа закрыл сенную.
Он снова на огороде. Вроде и не был в сенях, вроде и не видел отца. Какое-то время сам себе не верил, что все-таки видел его.
Глаза у Ивана прищурены, взгляд пронзительный.
332
Глаза сужаются еще больше, припоминают, а взгляд как лезвие. Так он и впрямь видел своего отца? Сидит у стола, а руки на коленях. Иван даже подпрыгнул. И ожила каждая косточка у него в руках и ногах, а голове стало легко. Отец такой же, как и был, каким он его помнил: белокурые волосы откинуты, лицо чистое, а руки сильные. Ну, точнехонько такой же, как на карточке. Мать, отец и он снимались еще до войны. Карточку мать положила в сундучок и закопала в землю. И вот отец словно вышел из земли. Только там, на карточке, я у него на коленях, думал Иван. И одет там отец в свое, а тут в военном. Куда ж его ранило? Руки целы, ноги тоже вроде целые. Он же видел. И за этот миг, единственный миг, что глядел он на отца, Иван готов стоять тут на огороде хоть целую вечность. Всматриваться и стеречь. Вечность за один миг счастья.
Не мрачно-печальными, другими — сурово-ироническими глазами поглядывает он теперь на плотину. Ему ничего не страшно: ни скрип колес, ни топот лошадиных копыт. И обоз, который все уменьшается, и всадники, что стоят до тех пор, пока не развернется последняя пустая подвода, кажутся ему мелкими козявками, которые ползают по плотине. А над ними, над плесом пруда, над всей долиной — его отец. Воображение Ивана рисует отца бог знает каким богатырем: одна нога его по одну сторону плотины, вторая — по другую. Идет к мельнице...
Опускаются сумерки. Они мешают воображению Ивана рисовать отца.
Из-за хлева позвала мать, и он встрепенулся.
Мать отправила его в сад. Она выведет отца из хаты, он пойдет через сад, там они и увидятся, и Иван проводит отца до межи.
Он стоял на стежке.
Отец показался из-за угла хаты, шел размашисто, наклонясь.
Иван не знал, что скажет ему. Отец обнял его, и казалось, что все яблони сбились в кучу, чтоб никто не мог видеть, как они с отцом обнимаются. Потом пошли по саду. Рука отца лежала у Ивана на плече. Яблони расступались, а Иван не мог вымолвить ни единого слова. Ему было хорошо нести на плече руку отца.
333
Верно, и отцу тоже трудно было говорить. Обнимая Ивана, он сказал: «Вырос» — и теперь, идя рядом, говорил:
— Растешь...— и смотрел сверху вниз, а о том, что на Иване пиджачок с коротенькими рукавами, молчал.— Расти...— добавил он, и рука его гладила плечо сына.
Так они дошли до межи и остановились.
Иван чмокнул губами и спросил:
— Куда ж вас?..
— Что? Куда ранило?
Иван кивнул.
Отец взял его руку и приложил к своему боку. Рука Ивана скользнула под ребра и словно провалилась в какую-то яму.
— Ой,— сказал он и убрал руку.
— Не бойся,— откликнулся отец,— еще повоюем.
А рука Ивана все время ощущала «яму» в отцовском боку. Ему хотелось сказать: конечно, повоюем, но он засмущался. Что он — маленький, чтобы байки рассказывать? И тихо проговорил:
— Про кабель... спрашивали?
Отец кинул на него взгляд, убрал руку с плеча сына.
— А ты откуда знаешь?
Он признался: подкрался и заглянул в замочную скважину.
— Я тебе загляну! Тебя зачем на огороде поставили?
Иван окончательно смутился.
— Воды в рот — и чтоб молчал!
Иван даже оступился. Опустил голову, а голова была горячая, словно раскаленная. Потупился.
— Так за подводами ж «лягушатники».
— Ну и что?
И тут он понуро вякнул:
— А я знаю, где кабель.
— Не может быть! — откликнулся отец.— А ну говори! — И снова положил ему руку на плечо.
— Я выгнал корову. В овраг. После ливня. Ливнем вымыло. Кабель желтый. С черными крапинками.
— Место знаешь?
— На другой день — ни следа. Засыпали. Но там примета — грабовый куст.
334
— Не может быть,— повторил отец.— Позови-ка мать.
Он пошел за матерью, но остался во дворе, не слышал, о чем они там разговаривали. И рассердился. Не заговори он о кабеле, постоял бы с отцом у межи, а то отец и не обнял его на прощанье. Увиделись после такой долгой разлуки, а отец еще рассердился. Да разве он плохо сторожил? А что поделаешь, если какая-то сила взяла и повела его в сени! На один миг!.. Ему ли не знать, для чего он поставлен в огороде?.. Но когда мать крикнула: «Ва-а-нь!» — разве не откликнулось в нем: «Вста-а^-нь!»
Мать вернулась и молчала.
— Ушел? — шепотом спросил Иван.
— Ушел.
Ужинали в потемках. Он сразу лег, а мать возилась, хозяйничала. Иван подремывал, положив под голову кулак. Кулак нырнул в подушку, а в кончиках пальцев все еще отдавалось жуткое прикосновение к отцовскому боку. Вспомнилось, как отец взял его руку иона словно провалилась куда-то, а сам он так и замер в ужасе. Теперь той жути уже не было, но он думал, что отец из-за своей «ямы» не может, наверно, лежать на боку, что ему очень больно, когда он поворачивается на бок, и сон бежал от Ивана. Кулак под головой сжимался: болела у него отцовская рана, даже у самого в боку покалывало.
Мать легла рядом, и он отодвинулся к самой стене. — Не спишь?
— Нет.
— Знаешь, где эта проволока?
— А что?
— Можешь найти?
— Погоню корову в овраг и найду.
Иван замолчал: отговорил свое, в стену.
Мать хотела положить его голову себе под руку, но он не дался.
С восходом солнца он был с коровой за селом. Грабовый куст в конце оврага, дальше овраг выравнивается, зарастает травой, начинается выгон, а там уже укатанная дорога вдоль трясины, камышей, пруда. Он присматривался к кусту, размышлял, где протянут кабель, но за ножик не брался. Ждал, пока тупорылые грузо
335
вики не повезли муку с мельницы на станцию, пока отряд всадников не уехал в село. Тогда принялся за дело, копал словно себе колодец. Недолго и копал. Ямка мельче, чем до колена. Он хорошо запомнил место, только чуток ошибся. Кабель был чуть в стороне от его колодца. Желтый с черными крапинками. Потрогал пальцем и тотчас стал засыпать. Заровнял и поставил там кремень, острым концом кверху.
Дома мать спросила:
— Нашел?
— А как же,— ответил он, словно иначе и быть не могло.
Прошел еще день. Мать о кабеле не напоминала, и Иван молчал. Гонял в овраг корову, глядел на кремень, острым концом кверху, и думал, что это будет? Если б снова наведался отец, рассказал бы ему, как нашел кабель и что может его перерезать. Но отца не видно, мать ни о чем не заикается. День тянется нудный и длинный.
Пригнал скотину с росы, стал рубить хворост на зиму. Потом собрался опять с коровой на пастбище. Только лучше в поля, на стерню, к пастухам.
Не обедал — еле жевал. Мать ела молча. Только и раздавался стук алюминиевых ложек о глиняную миску, из которой они вдвоем ели. Выводя корову из хлева, завязывая пута на рогах, мать сказала:
— Нынче не пригоняй домой. Дождись меня.
— В овраге?
— Где ж еще?
— А что — отец приходил?
— Ага.
— Когда?
— Когда ты спал.
Он стегал рябую корову прутом. Гнал по дороге и думал: зачем бывает ночь, зачем люди спят? Не было бы ночи, не проспал бы отца.
А на выгоне так и тянуло к оврагу, и он улыбался острому кремешку. В какую сторону ни повернется, все видит его. Хорошо, что пастухи не толкутся на выгоне, хорошо, что гонят на стерню и тут никого нет. Один.
«Лягушатники» погнали к мельнице обоз. Иван глядел на них и впервые не испытывал страха.
336
В сумерках возвращались пустые подводы, а матери все не было. Распутав корову, Иван загнал ее в овраг, подальше от дороги. Там стало совсем темно.
Корова хотела домой, и он почесывал ее между рогами. Вдруг корова замычала, и Иван увидел мать. Она появилась неожиданно, словно сидела в овраге. Она пришла с поля. В руках у нее была веревка и лопата. Она привязала корову и стала доить прямо на землю. Ивану было совсем не жалко молока, но он отвернулся, чтоб не слышать, как оно журчит. Потом они пошли к грабовому кусту в конце оврага. И сели за этим кустом. Вечер был темный. По дороге катились подводы, возвращаясь с мельницы, но их не было видно, только слышно, как тарахтят.
Мать держала на коленях лопату и тихо говорила: — Сперва они протянули провод на столбах. Столбы спилили наши, так они, вишь, зарыли провод в землю. Но на этот раз им не удастся связаться со станцией. На этот раз подмоги им не будет.
Иван слушал речь матери, ее слова, шелестевшие на ветру, и глядел в овраг, высматривая свой кремешок и не видя его.
— Отец говорил, что ты и сам можешь перерезать.
— Подумаешь, большое дело,— отозвался он и услышал, что и его слова шелестят на ветру.
— Как же я могла пустить тебя одного? — словно бы у самой себя спросила мать. И, вздохнув, заговорила про другое:—Только и нападать на мельницу, пока осень, пока земля не замерзла. На морозе да в снегу и не найти того провода.
Подул ветер, и в овраге на болоте закачались камыши.
Мать послала Ивана в овраг. Он скорей руками, чем взглядом, нашел острый кремешок. Присел над ним. Поглаживал острие и думал об отце. Ох и больно ж ему было, когда осколки рвали бок...
Спустилась и мать.
Иван взял ее за руку, и она тоже тронула кремешок.
— Раскопаем,— сказал он.— А потом заступом
р-раз!..
— Подождем.
12 Б. Харчук
337
— Чего?
— Увидишь.
Совсем стемнело. Они ждали.
С горы, оттуда, где пеньки, за мельницей в небо взлетела ракета. Мать ударила заступом в землю. А Иван засмотрелся на ракету, как она, взлетев, описала дугу и, рассыпаясь по темному небу, медленно падала, шипя и разбрасывая искры. Вот бы еще!
Когда он оглянулся, мать рассекла кабель, ухватилась за один конец и изо всех сил тянула к себе, вырывая из земли. Вырвав, она стала рубить его на куски,, собирая их в запаску.
— Этот провод — что чужой корень в нашей земле, С корнем его надо, с корнем... А ты чего стоишь? Иди за коровой...
Он пошел, отвязал корову и выгнал ее из оврага.
Мать все еще рубила кабель и подбирала отрубленные куски. Возле мельницы стреляло, клокотало, пылало.
— Пошли,— сказала мать и забросила лопату за плечо.
Когда миновали трясину и камыши, увидели: пылала не только мельница, а словно бы и пруд — вода.
И тут послышался цокот копыт. По дороге мчался всадник. Выскочил все-таки.
Мать бросила Ивана, корову и побежала ему наперерез. Она что-то кричала, останавливая всадника.
Подбежал Иван, стал с коровой посреди дороги.
Он узнал того, кто был на коне. Мельник. Летит на станцию.
— Стой! — крикнула ему мать и ударила коня лопатой по ногам.
Конь споткнулся, а мельник начал стрелять. Из его черного пистолета вырвалось пламя. И это было последнее, что увидел Иван, выпустив из рук веревку.
Партизаны нашли их на дороге. Рябая корова лизала Ивану руку и мычала, глядя на мать.
Мельница пылала. Шлюзы были взорваны, и волны сносили на быстрину одного «лягушатника» за другим.
Мать уложили на телегу. Ивана отец нес на руках.
Взошла луна, круглая, как подсолнух. В небе пылали два белых облака, длинные, с рукавами, как две белых сорочки, одна — мамина, другая — Ивана.
338
II. На Волигурах
Лесь вышел из села — даль раскрывалась. Тихая и серая. Идя, он видел, как спят поля. Холмы прижались к долинам, а долины схоронились. Над трактом купами маячил боярышник. Травы и овес стояли в росе. Лесь неслышным шагом двигался серединой дороги: боялся спугнуть птичку в кустах, сбить с травы росу.
Путь хоть и привычный для него, а все равно длинный. Он плелся нога за ногу и думал то же, что всегда: идти в город трудней, чем возвращаться,— и вдруг оглянулся. Село уже лежало за холмами, его не стало видно, и все же он видел горы за селом, угадывал хутора на этих горах, смотрел на лес и размышлял: из города легче, потому что видно, куда — к горам. И небо кончается. А к городу, все низом да низом, холмы и долины сливаются с небом, тащишься и держишь это небо своей головой, а дойдешь до города, не знаешь, что тебя там ожидает.
Идти ему было трудно. Лесь горбатый. Ступал босыми ногами, как неподкованный конь. И сам походил на серый холмик, который, покачиваясь, примыкает к дороге.
Левой рукой он помогал себе идти, размахивал ею, а правая лежала на большой брезентовой сумке. Сумка эта нынче не была тощей, и Лесь придерживал ее, чтоб ремень не очень врезался в плечо. Поля досыпали, и небо еще не голубело. Ноги Леся знали на дороге каждый камушек: каждые два дня на почту и назад, и он представлял себе: «Войду в сортировочную, сразу сумку на стол. Хотели слив? Я принес. Мама вам натрясла с той сливы, что вы хотели. Я сам собирал. Ешьте...» Вот он обрадуется, думал Лесь о сортировщике. Сортировщик ему очень нравится: статный, белокурый — Хомикин Клим. Свой парень. И только он скажет: «Ну, что, Олек-са не Довбуш?..» — а я ему сливы, яношечки. А как он снова скажет: «Еще что, Олекса не Довбуш?» — я ему записочку из штанины. Клим ее сразу в кулак, шмыгнет в кладовку, побудет там немного и выскочит, даст мне что-то, и я спрячу это в манжет и засучу штанину. Потом Клим станет сливы есть, а я примусь за упаковку. Он будет есть, улыбаясь, а я — глядеть на него, на его густые белокурые волосы, на его широкие ровные
12:
339
плечи. И нас никто не увидит, потому что я всегда прихожу в сортировочную, когда там никого нет. Клим станет лакомиться сливами и смеяться над моим картузом с дырочкой посредине. Может, снимет картуз у меня с головы, повертит на пальце и скажет: «Надо стрелять, как лейтенант Граве». Я на это ничего не отвечу. Пусть Клим наденет картуз мне на голову, а я уж его сам поправлю...
«Лейтенант Граве! Это тот, что ходит с облавами. Он как-то остановил меня на дороге: «Горбатый почтальон! Бандиты в селе есть?» — «Я бы и вас не увидел, если б не остановили». Ему не понравилось. Снял у меня с головы картуз, подбросил вверх. Одной рукой подбросил, а другой выстрелил. Даже подкладка оторвалась. «Марш!» А я стоял, как вкопанный. Когда этот лейтенант Граве сорвал с меня картуз, я подумал, что это он мою голову подбросил в небо, а когда выстрелил, я подумал, что пробил и мою голову, и небо: в картузе я нес записку Климу. Теперь это можно — посмеиваться: вырвало подкладку. С того времени я записки в картузе не ношу. Пусть себе через дырку ветер веет. И пусть Клим повертит мой картуз на своем пальце... Я совсем не рассержусь. Мне захочется еще немножечко побыть в сортировочной, посмотреть на Клима, но заглянет его помощница, старая, морщинистая, в засаленном халате. Она криво улыбнется: старуха, а перед Климом ей молодеть хочется. Мне надо будет уходить. Я надену свою сумку на плечо, а Клим на прощанье спросит: «Дует ветер на наших Волигурах?» — и я отвечу: «Поднимается! Я вам еще слив принесу».— «Иди и приходи, Олек-са не Довбуш». И я пойду обратно, назад. Понесу газеты в сельскую управу, хозяевам, которые выписывают их на курево. Глядишь, я в те газеты какую-нибудь листовку заложу, если Клим даст. А еще у меня письма от парней и девчат из Германии. Лучше б их не разносить. Не письма — плач в конвертах. Но кто-то должен же их разносить. Я».
Немного слив в сумке почтальона, а плечо заныло. Лесь перебросил сумку на левое, замахал правой рукой и пошел быстрее. А когда пошел быстрее, даль еще больше раскрылась. Небо прояснялось, голубело. С овса и трав капала роса. Откликнулась перепелка. Лесь будил поля своими шагами и мыслями. Он прикидывал,
340
от кого будет письмо из Германии, наперед знал, как его будут читать, и, если б мог, принес бы в своей сумке парней и девчат, которых забрали, и отдал бы их матерям.
Его мысли не были собраны воедино. Они были разбросаны, как пригорки вокруг. И как не было конца-края этим пригоркам, так не было конца-края и мыслям его: не находилось долин, где можно бы передохнуть.
Гибкий вьюнок, свесившись с куста шиповника, раскрывал свое бело-розовое личико. Лесь остановился: скоро рассвет.
До городка километров пятнадцать. Он измеряет их достаточно просто — до перекрестка и после перекрестка. Дотянуть бы до перекрестка, и пусть тогда светает. Там можно и посидеть. Он так и решил сделать.
Остановился на перекрестке — небо перед ним розовело. Оглянулся на свои следы, которые все тянулись за ним, шагнул было на обочину и услышал гуденье машины. Посидеть расхотелось. Скоро он увидел и самую машину. Она неслась, поднимая пыль. Он знал ее — грузовик, рыжий, грязный, как пылища. Лейтенант Граве выехал на облаву.
Лесь заранее свернул на тропинку. Он почувствовал, как через дырку в картузе залетает ветер, снует по голове, шевелит волосы.
Остановится машина или нет? Если лейтенанту Грав-су так хочется пострелять в картуз, пусть берет и подбрасывает, но в этом картузе, кроме дырки, ничего нет. Записка теперь в манжете штанины.
Грузовик поднимал на дороге пыль. Он остановился перед Лесем. Из кабинки выпрыгнул лейтенант Граве. Он был во всем новеньком. Пуговицы блестели, как медали. Лесь уже сам хотел снять свой картузики протянуть ему, но немец показал на сумку:
— Что там? Бандитов не видал?
Лесь сошел с обочины и раскрыл сумку, прижав ее к животу.
— Сливы,— сказал он.— А партизан я не видел, как не видел бы и вас, если б не наехали.
Лейтенант Граве взял сначала одну сливу, осмотрел, вытер перчаткой и бросил в рот, раскусил, далеко вы
341
плюнул косточку, а потом засунул руку в сумку и зачерпнул целую горсть.
— Бандитские, а сладкие,— сказал он.
— Лесные,— сказал Лесь.
Машина загудела. Лесь услышал: «Смотри мне...» Он стоял, пока машина не отъехала. Она не пошла прямо, а свернула на перекрестке. «Не в наше, в другие села»,— подумал Лесь. В кузове на боковых скамьях сидели солдаты. В одних мундирах: лето. Один, тот, что возле кабины, был закутан в плащ-накидку. Он сидел, опустив голову. Лесь не мог разглядеть его лица. «В мешке»,— сказал Лесь сам себе, покачав головой, и вышел на дорогу. Он уже знал — тот, что в плащ-накидке, совсем не немец — перебежчик. Сломался. Обработали его и повезли, чтоб наводил на партизанский след. «Граве со мной заговаривает, а тот съежился в кузове, сидит, как мышь... В мешке!»
Взошло солнце. Долина позолотела. Но Лесь теперь был ко всему равнодушен. Зачем это солнце светит? А когда не стало видно ни машины, ни пыли, посмотрел в сумку, много ли еще там слив. Есть. Правда, немчура пораздавил маленько. А тот — в мешке! «Доездишься»,— сказал Лесь, отобрал раздавленные сливы и выбросил в пыль.
Ему вовсе не хотелось думать о том, «в мешке», но след от машины наводил его на эту мысль. Лесь шагал по колее, словно по разостланному мешку... Надо будет рассказать о том, что видел, Климу. И его матери он тоже расскажет.
Городок раскинулся в долине. Синело озеро, на железнодорожных путях гудел паровоз. Лесь спустился с моста к воде. Вымыл ноги, поудобнее засучил штанины. Умыл лицо и руки. Подождал, пока обсохнет на солнце, и пошел к кладбищу.
Лесь всегда входил в город чистеньким и опрятным. Если было грязно, он еще за кладбищем вытирал ноги, чтобы не разносить по тротуарам грязь. Сейчас он шел по траве. Сразу за кладбищем начинался тротуар. Городок на равнине среди гор — как в широкой миске. В самый центр Лесю не надо. Почта — возле парка, в стороне. Но, выйдя на мостовую и отряхнув ноги, Лесь сперва пошел к станции, поглядеть, что там нового. На запасных путях стояло много порожняка. Значит, бу
342
дут вывозить поставки. Потом его фигурку с сумкой на боку, с высоко закатанными штанами, в куцем пиджачке было видно возле паровой мельницы и возле гестапо.
Город млел под солнцем. От раскаленных камней на акациях увядали листья. Побывав повсюду, Лесь повернул к почте. Это был высокий кирпичный дом с полуподвалом. Все окна зарешечены.
Он не поднялся на веранду, а пошел в сортировочную, в полуподвал. Туда вела дорожка, обсаженная грабами. Солнце еще не добралось до угла дома, и тут было прохладно. Он заметил через зарешеченное окно, что в сортировочной Клима нет, и сел на кирпичную завалинку. Сумку со сливами поставил в тень. Раз Клима нет, надо ждать. Необходимо дождаться.
Мимо Леся входили и выходили из сортировочной знакомые почтальоны. Кто пешком, так же, как и он, кто на велосипеде, кто на лошади. Он всем кивал и подмигивал.
Пропустил всех почтальонов.
С улицы его не видно, за живой изгородью. А солнце нашло. Выглянуло из-за угла дома. Лесь подвинулся и переставил сумку подальше в тень. Жаль, что Клим где-то задерживается, и сливы не могут его дождаться.
Становилось скучно. Солнце прогоняло его. Оно обошло высокий дом почты и выстелило дорогу к сортировочной.
Лесю захотелось есть. Он переставил сумку еще дальше в тень и проглотил слюну: очень запахло сливами. Рот был полон винного привкуса лесных слив, которые Граве обозвал бандитскими. Лесь кончиком языка облизал пересохшие губы. Повернулся к сумке спиной. Грабы и спина Леся отбрасывали на сумку свои тени. А солнце светило ему в лицо, и он не закрывался от него. Брови у него совсем выцвели, нос приплюснутый, а шея тонкая и длинная.
Дверь сортировочной открылась, и Лесь нагнул голову.
— Чего сидишь? — услышал он.— Забирай свою почту, а то я ухожу.
Это была помощница Клима, та, с морщинистым лицом, и он не пошевельнулся.
343
— Тебя долго ждать?
— А что?
— Иди и забирай. Я запираю.
Он схватил сумку и пошел в сортировочную.
Старая женщина протянула ему пачку газет.
— Писем нет,— сказала она.
Он не знал, что ему делать со сливами. Раскрыл сумку, показал их.
— Передайте Климу.
— А его нет.
— А где же он?
— Нет и не будет.
— Что?
— То, что слышишь. Его забрали еще позавчера, а он, недолго думая, сломался. Теперь возят по селам в мешке.
— Что?
— Возят в мешке. Вчера. И нынче повезли. В вашем селе еще не были? Привезут и к вам.
Лесь выхватил у нее пачку газет и выбежал из сортировочной. Кровь прилила к лицу, словно кто-то хватил его кулаком. Не глядел под ноги, сбил на брусчатке пальцы, позабыв о тротуаре. Газеты в руке, сумка болтается пустая.
Остановился за окраиной на мосту. Спустился к ручью, постоял и высыпал синие сливки. Они упали на дно, взбаламутив воду. Он стоял, пока волна не стала чистой. Тогда бросил в сумку газеты и пошел на тракт.
И из села, и обратно — шел к солнцу. Солнце его не покидало.
«Что я скажу в Волигурах? Что я скажу матери Клима?» — думал он. Ему стало и страшно, и больно. Проняла страшная тоска, даже слезы навернулись. «Олекса не Довбуш... Не Довбуш... Не Довбуш...» Голова свисала на длинной шее. Слез он не вытирал. Глаза плакали, сколько хотели.
За городком поднял голову. Сквозь слезы увидел Волигуры — свои горы. Солнце заходило, и горы пламенели. Стояли зубчатой стеной — низкие, повыше, еще повыше. Солнце залило их светом, чтоб еще больше были видны миру...
Лесь смотрел на горы, и слезы на глазах высыхали. Он не знал^ почему так случилось. Но чем больше он
344
смотрел на зубчатую полосу, которая, уже синея, начинала темнеть, тем меньше или почти совсем не хотелось плакать. Волигуры стояли. Он медленно брел по дороге, оставляя свою печаль за собой. Лоб нахмурился. Выцветшие брови переломились. А лицо, раскрасневшись, пылало.
С холма в долину Лесь спускался неторопливо: цеплялся взглядом за далекие зубцы гор. В долине они не были видны, и он подгонял себя.
«Волигуры»,— шептал он, выдыхая это слово, в нем таилась какая-то широкая мысль.
В овсе стрекотали кузнечики. Над дорогой пролетела и уселась на ботве бабочка. Пожелала спокойной ночи и перепелка. В подорожнике на подъеме прошелестела ящерица. Все стихало. А Лесь еще не добрался до перекрестка. Только приближался к нему. Краем неба — совсем не видно, только где-то крякнуло,— пролетела стая диких уток. С полей на болота.
Земля посинела. Горы почернели. Он шагал и слышал каждый свой шаг. Остановился. И, стоя, еще какое-то время слышал свою же походку. Сдерживал дыханье. Наступила великая тишина. Позови его кто-нибудь с самого края света — услышит. Но никто не звал.
Горы стояли.
— Не сдвинуть,— сказал он.
Это была его широкая мысль.
Село спало. Войдя в него, Лесь побежал вдоль речки. Село темнело за лугами, за вербами. Берег привел его на околицу. Взошла луна, и тракт заблестел. Он вынесся из села, перемахнул речку и укрылся под горами. Лесь пересек тракт и побрел через выгон. Перед ним были Волигуры. Пахло камнями и травами.
Он миновал одно голое предгорье, второе, а перед третьим остановился. На вершине — хата Хомихи. Туда вела извилистая тропинка. Когда-то была и дорога, но стала оврагом. С другой стороны.
Лесь остановился на тропинке. Вокруг камни, поросшие мхом. «Ну как же я скажу? Нет, я ничего не скажу Хомихе. Она давала мне хлеб, она передавала записки, которые я носил...— думал он. И вместо запахов камня и травы ощутил сладкий дух Хомихиного хлеба, аромат румяной горбушки.— Я ничего не стану ей говорить. Пусть лучше ничего не знает. Разве она винова
345
та? Она хорошая. Кто только у нее не прячется? Хата Хомихи — партизанская. Но тем, кто прячется там, надо сказать». От этих мыслей он присел рядом с тропинкой. Размышлял: хорошо бы с этим Климом что-нибудь случилось, пусть бы его убили — и Хомиха так ничего б и не узнала, и чтоб партизаны не знали, а он уж молчал бы, как вон те горы. Лесь обхватил руками колени. Ему не хотелось взбираться по тропинке. Подоткнутые штаны опустились. Он вспомнил, что в манжете записка. Хомиха дала сливы и эту записочку. Он вытащил ее. Что там в ней — не знал. Его дело — передать. А кому отдать теперь? Хомихе? Но как же?.. И записочка жгла ладонь.
Он поплелся по тропинке крадучись, как паук.
— Что же ты обходишь меня, сынок? Лесик? Он так и отпрянул от этого голоса.
— Добрый вечер, тетенька!
— А я давно тебя углядела. Луна — все видно. Почему ты то стоял, то сидел внизу?
— Так.
— А я тут караулю. И тебя поджидаю.
— У вас кто-то есть?
— Раненых привезли,— ответила Хомиха и присела за валунами.— Клим что-нибудь передал?
— Нет.
— Как он там? Ел сливы?
Лесь не знал, что говорить.
— Вы сидите, тетенька, сидите...
— Можетл облава?
•— Может быть, тетенька,— ответил он. А про себя подумал: «Повезли Клима «в мешке», вот и раненые».—• Я пошел, тетенька. Я должен кое-что сказать раненым.
Хомиха не удерживала его. Сидела меж валунами, старая, в большом платке, сама как камень.
Во дворе, обложенном камнями, стояли лошади. Пофыркивали. А рядом молодой парень, сидя, наигрывал на губной гармошке. Играл тихо и печально. Эта печаль не могла уместиться во дворе, тихо уплывала, расходилась по всем Волигурам.
Лесь спросил парнишку, есть ли кто старший. Тот, не переставая играть, кивнул на хату. Лесь прошел над погребом и вошел в сени.
В хате шуршало сено. Кто-то постанывал. Было
346
темно, и на Леся никто не обратил внимания. Он потя-нул за рукав какого-то мужика.
— Ты кто? — спросил тот.
— Должен кое-что сказать,— ответил Лесь и пота
щил мужика в сени.
Когда они оказались в темных сенях за закрытой
дверью^ он сказал:
— Клима возят «в мешке». Вам надо уходить отсюда. Но вы ни слова не говорите Хомихе. Слышите?
И отдал записку, которую должен был передать
Климу.
— Дела,— пробормотал мужик и открыл дверь.
Через двор семенила Хомиха.
— Машина. Из села идет машина.
Я как знала, сидела. Вот и досиделась.
Лесь подбежал к каменной ограде, тоже услышал гудение машины. «Не мал он. Глядел туда, вниз. А из хаты
Они едут сюда.
Прислушался и светят»,— поду-выносили ране-
ных и привязывали к лошадям. Дядька уговаривал Хо-миху: «И вы с нами, в горы». А она говорила, что будет
тут.
Лошади еще топтались во дворе.
Машина перестала гудеть. Ее не было видно. Лесь увидал внизу черные пятна. Фашисты рассыпались и шли цепью.
— Придется отстреливаться, прикрывать. Иначе не уйти,— это был голос мужика.
Лесь попросил, чтоб ему дали автомат. Он умеет стрелять. Он будет отстреливаться. Подпустит немчуру совсем близко. Мужик покачал головой. Хомиха сказала, чтоб отдал автомат, а сам уходил: провести лошадей с ранеными по кручам труднее, чем задержать немцев.
Лесь не отдал автомат.
Лошади с партизанами ушли.
Он сидел за камнями. Хомиха у него над ухом. Оба молчали.
Цепь поднималась по склону. Луна светила, и Лесь видел, как подымались вверх черные пятна. Когда ему показалось, что они стали большими, он пустил очередь. Цепь прижалась к земле.
— Теперь и вы бегите, тетенька,— сказал Лесь.
— Куда мне, дитятко...
347
С минуту все молчало, а потом ударили выстрелы — из долины вверх. Но стрельба шла вслепую.
Как только там на склоне кто-то начинал шевелиться, Лесь стрелял.
Полетели ракеты. Одна упала на хату.
— Вот уже и горим,— сказала, обернувшись, Хо-миха.
Лесь следил за склоном горы, как вдруг Хомиха взяла его за плечо:
— Погляди на погреб. Они уже за погребом. Оттуда зашли. Кто привел?
Лесь повернулся и застрочил из автомата.
Какие-то тени шмыгнули в погреб. Но ни Лесь, ни Хомиха этого не видели.
Хата горела. Весь двор полыхал.
Хомиха закрыла глаза.
Кончились патроны. Лесь перестал стрелять. Он поднялся, хотел поглядеть, что там на склоне горы. Свистнула пуля, и Хомиха увидела, как на лбу Леся расплывается длинная бровь.
Автомат выпал у него из рук.
Она присела над Лесем. Немцы ворвались во двор, закричали:
— Где партизаны? Где?
Хомиха молчала.
Ее подняли с земли. Им казалось, что партизаны спрятались в погребе. Они подгоняли ее автоматами.
— Иди, открывай! Они там!
Она подошла к погребу. Дверь была закрыта. Толкнула ее и крикнула:
— Выходите!
Из погреба вышел ее Клим, а за ним лейтенант Граве.
Хомиха повернулась и медленно пошла к Лесю под каменную ограду.
В КРЕМЕНЕЦКИХ ГОРАХ
Луна светит из-за Острой, заглядывает на Белую: Кременецкие горы. Между ними всходит заря. На голых вершинах белеет камень. Об него разбиваются лучи
348
месяца. Небеса распахиваются, и горы стоят, как на старте. А пихты шумят...
Михаль гнал Югеньку в управу.
— И чего ты все ходишь — вечер на Острую, вечер на Белую, еще и девок за собой водишь? — допытывался он.
Они шли по селу, долиной меж горами.
Югенька в вышитом льняном платьице, босиком. Шагнет — и не слышно. Оставляет за собой белые следы. На них наступает Михаль в своих сапогах гармошкой.
Ее руки, хотя и не связанные, были заложены за спину: арестованная. Шелковистая, длинная, русая коса ласкала ладони.
Михаль в своей одежке,— как в почерневшем стручке. Винтовка на плече, штык над головой. Его рыжие глаза выглядывали из-под фуражки.
— Югеня...
Она шагала свободно и ровно.
— Ну, чего ты?
— Что — чего? — отозвалась.
А его ноги в сапогах гармошкой подшептывали: «чев-чев!»
Михаль и Югенька соседи. Ее отец учительствовал.
— Скажешь, в горы с девками петь ходишь?
— А что?
— Что, что...— буркнул он, и его сапоги прошаркали: «што-што»...— Гм, песня — цветок: в ней земная краса, воплотившаяся в человеческую душу.— Это были слова ее отца, учителя. Михаль помнил их со школьной парты, не забыл.— Ох и цветочек!..
Михаль точно попадал в Югенькины следы, горы покачивались.
Югенька, не останавливаясь, оглянулась, увидала его руки: одна сжата в кулак, другая придерживает ремень винтовки.
— Подаешь голос отцу, партизанам?
Она не слышала, что говорил Михаль, думала о его руках. Короткие, словно увядшие сучья. Да и весь он какой-то высосанный и пересохший, точно в жилах у него черная кровь.
— Я верю и не верю, что зовешь отца, партизан, что встречаешься с ними.
349
Как-то раз — давно уже — он взял ее за руку, пожал. Сейчас она думала: «И как я ему позволила?»
— Нынче такое время — не петь, а молчать надо.—• Михаль предостерегал, что возьмут и загонят, куда захотят, а она словно и не слышала его.— Мне-то ни к чему — пой, води девок. А вот коменданту, когда вы это вытворяете, кажется, что партизаны валятся на него с гор.
Югенька все думала: «А короткие руки — это как обрубленная совесть?»
А он смотрел на ее русую косу, на девичьи ладони, и голос его менялся:
— Разве я с охотой служу, Югеня? Выкручиваюсь^ чтоб не вывезли в фатерланд. Скажи коменданту, что больше не потащишься в горы, не поведешь девчат.
Югенька посмотрела на Острую, перевела взгляд на Белую. На горах сверкали дорожки, словно по ним прошелся месяц со звездочками.
— Проси коменданта, я поддакну, он и смилуется.
— И не подумаю.
— Получишь шомполов и ружейных прикладов.
— Ты будешь бить?
Он промолчал, но вскоре окликнул ее:
— Югеня...
— У тебя рука тяжелая.
— Верно, не легкая. А ты вот что — беги,— проговорил он.— Беги, я стрелять не буду.— И стал подымать ноги выше, чтоб не так топали...
На пороге управы дремал часовой, поставив между колен свою пукалку. Увидав его, Михаль снял с плеча свою и взял наперевес.
Югенька шагала впереди. Их разделяла винтовка со штыком.
— И он не стрелял бы? — Она кивнула на задремавшего полицая.
— А у тебя все песенки в голове? — крикнул Михаль, вводя ее на затоптанный двор управы. Где-то у самого забора росла мелкая крапивка.— Ну и запевай сейчас, раз уж тебе так поется. Запевай. Молчишь? Так?
— Так!
— Песня ей дорога? А я не верю! Не верю! Дураков, морочь!
Сталь штыка холодила Югеньке ладони.
359
— Чем докажешь, что не можешь без песни? Чем?
Михаль остановился, остановилась и Югенька. Он приставил винтовку к ноге.
— Ничем не докажешь. Ни-и-ичем! А то ударь рукой по штыку, проколи ладонь, тогда поверю.
Она обернулась к нему.
— Так? — он усмехнулся.
— Так.
Полицай, дремавший у порога, вскочил на ноги и разинул рот.
Михаль выпустил винтовку из рук, но она стояла.
Штык торчал в девичьей ладони.
Над ними высились горы, омываемые рекой.
КОЛОКОЛЬНЯ
Я погиб на колокольне — над площадью и над селом. Там я качаюсь, средь колоколов, ребятенок,— мне нет еще двенадцати лет. Столетним дубам не дорасти до моей выси...
Как шел я из лесу, мне все птички пели и все студеные росы дарили здоровье. Солнца еще не было. Оно взошло позднее. Я возвращался из партизанского лагеря. Партизаны напали на полицейскую комендатуру и разгромили ее. Мой отец закидал комендатуру гранатами— в окна все, в окна!.. Упал раненый, и партизаны вынесли его на руках... Я принес в лес самогон. Целую бутылку. Мама с таким трудом достала его! Я нес эту бутылку за пазухой и все время придерживал рукой, чтобы не выскользнула и не разбилась. Бутылка была очень теплая.
Отец лежал в землянке на нарах и стонал. Когда я вошел, он перестал стонать. Улыбнулся. Его высокая грудь была вся в крови, а он улыбался мне, так улыбался! Каждой колючей и седой щетинкой на подбородке.
— Вот! — сказал я и вынул бутылку из-за пазухи.
— Сынок,— только и проговорил отец, хотел поднять руку, но не поднял и ничего больше не сказал: глаза закрылись. Но скоро он открыл их, и они сияли.
351
Партизаны взяли самогон, чтобы обработать отцовские раны. Самогон — главное партизанское лекарство. Я заикнулся было, что он настоян на березовых почках, но меня вежливо выпроводили из землянки. Я упирался, хотел снять свою рубашку отцу на бинты, но он тихо сказал:
— Иди к маме...
Я шел по лесу и не боялся. Что там сова, филин или летучая мышь? Я даже палки себе не выломил. Что мне дикие звери? Я был в партизанском лагере и не боялся ни гестаповцев, ни полицаев. У меня в ушах стояли слова отца:
— Сынок... Иди к маме...
Лес провожал меня ласковым шумом — я шел от отца к матери. Но вот лес кончился — поля. Я шел полями, шел сквозь тишь, по пояс в росе. Голова расчесана ветром, босые ноги стали красными. Нивка ржи, вот еще одна, а дальше перелоги: война и засевает землю трупами, и поливает кровью. Бугры, бурьян. Я подымался с бугра на бугор, оглядывался на лес, который все темнел, синел, и думал: «То-то будет плугам работы, то-то будет делов...»
А как взобрался на гору, где выгон, и увидел в долине свое село, стал как вкопанный. Смотрел. Сады, река, хаты... Я знал тут каждый перелаз, каждый куст и каждое гнездо на дереве. Всходило солнце — веселое, вишневое. Я раскинул руки и полетел как птица. И замелькали перед глазами деревья, река, хаты... У меня ничего нет, только полная пазуха любви ко всему, что мелькает перед глазами, да полные карманы ненависти к врагу. Рубаха шелестит, карманы оттопырены. Я лечу и приветствую солнце.
— Хальт — стой!
Это была облава. Село окружили с восходом солнца гестаповцы и полицаи, они рассыпались цепью, плотно обступили дворы, чтобы ни одна живая душа из села не выскочила. Карабины и автоматы засверкали на солнце.
Я летел и не мог остановиться. Если б упал, все равно я летел бы кувырком. И — прямо на них, им на головы. Кричу:
— Берегитесь!
Вот налетел на одного, сбил его с ног и проскочил
352
сквозь цепь. В кусты, через перелазы, огородами. За мной гнались. Стонала земля, и доносилось одышливое сопенье. Вот-вот нагонят. Я добежал до площади и влетел в старую колокольню, давно уж стоявшую без окон и дверей. Гнилые ступеньки подламывались подо мной, я забрался на самый верх и ударил во все колокола. Колокола гудят, я бью, а они гудят.
— Облава! Облава!
Я не слыхал выстрелов, не почувствовал боли. Говорят, строчил автомат, бил пулемет. Говорят, что в столетних дубах вокруг колокольни пули сидят до сих пор. Мне этого уже не увидать. Я повис на колоколах, и они гудят:
«Вам... Вам!»
Из моего тела давно растет колосок, а из сердца бьет ключ — это хлеб и вода для живых. Я хотел свободы и стал словом, которое без свободы — ничто,— это тоже для живых.
Я в каждой травинке и в голосе каждой пичужки, в каждом листике и в каждой росинке, чтоб они были вечны, как ночь и день. Земля кормит мои корни, а ветер разносит мой цвет. Я сторожу звезды и указываю путь к небу.
Качаюсь средь колоколов, живу на колокольне — в самой высшей точке села. Ко мне все приходят...
ПОЛОВЧУКИ
Мотоцикл несся по предрассветному селу, тарахтя и разбрасывая треск на хаты, и сонные молодайки с подойниками говорили:
— Затрещал уже... Старый пес, а ловит свой каждый день, как дикого коня за гриву, и ну гнать!
Это они о Максиме Половчуке.
Облачко пыли прокатилось по улице меж тополями, вынеслось на полевую дорогу, помчалось через поля, полетело до зеленой лесополосы и там, заплутав в дубняке, опало. Максим заглушил мотор, снял комбайнерские очки, повесил их на руль, оглянулся на косу — на месте ли? — торчит, точно копье за сиденьем,— слез со своей пыхтелки — «ижика» и вошел в тишину.
353
Лесополоса разрослась по равнине, словно узкая рощица. По одну сторону пшеница и по другую пшеница. Он стоял на опушке кудрявого дубняка, и, кроме пшеницы, ему ничего не было видно. На востоке, за бескрайней нивой едва начало розоветь. Пшеница была высокая — ему по грудь, а колоски, как золотые звоночки, все клонились долу. На колосках висела роса, седая, тяжелая, висела и еще не капала. А надо всем было высокое ясное небо, оно светлело с каждой минутой, и пшеничное море раздавалось все шире в своих незримых берегах. Творился новый день. Максим видел, как он творится, умываясь звонкой росой, и шептал:
— Диво дивное...
У него над головой, где-то в вышине откликнулся жаворонок. Максим обрадовался, услыхав его: мало их теперь, мало... И сказал:
— Пой, отпирай небо и славь солнце! — И не торопясь взялся за косу.
У лесополосы, возле бочки с горючим, размещался автофургон — душ, столовая и агитпункт на колесах. Максим, знал: взойдет солнце, выйдут комбайны, загудят грузовики — такой шум подымется! И заторопился отвязывать и править косу.
Его называли Старый: был уже в летах, но седые волосы крепко держались на голове и щетинились, как густая рожь, которая всегда половеет. Максим никогда не носил усов и не отпускал бороду. Лицо худое, кожа упругая, в морщинах; под седыми бровями — черные глаза, а нос — кушкой1, казацкий. В майке, с загорелыми руками и полукружьями загара, отчетливо видными на груди и спине, с плоским животом, он правил косу, оповещая жаворонка, что, мол, есть на свете и он, Максим Половчук.
Сколько его помнят, он всегда жил с внуком, пока тот не женился. И внука — Василя — никто не называл по имени, а Внук. Старый долго ждал, пока Внук родил-» ся. Война подсекла их род. Не очень молодым Максим пошел на фронт: дочка Надия заканчивала десятилетку. Ее погнали в Германию. Дома все разграбили, до щепочки, до ниточки. А когда уже ничего больше не осталось,
1 Кушка — долбленый деревянный треугольный сосуд. В нем носят брусок для косы, песок, воду.
354
пригнали платформы вывозить землю с огородов. Евка— жена — бросилась с лопатой. Ее повалили. Набили землей рот и спрашивали: «Ну как земля? Чем пахнет?» Евка с набитым ртом ответила: «Все равно — наша, родная». За то и легла, чтобы опочить в ней.
Он вернулся — встретила его печная труба. Надия вернулась позже. Больная и слабая.
Направив косу, Максим стал подкашивать у лесополосы. Коса брала — с росою. Реденькая пшеница — рос-ла-то в тени — ложилась ровным покосом. Его никто не просил делать это. Сам. А почему? Зачем? Он себя об этом не спрашивал. Скоро появится Внук на комбайне, а комбайном у лесополосы не возьмешь. Да тут и бурьян, васильки и другие сорные травы, которые он потом сожжет, попадаются, вот он и подкашивал, не надеясь ни на благодарностьх ни на.оплату. Разве солнце светит потому, что его благодарят или кто-нибудь платит ему?
Нелегко было им с Надией: хата пропахла лекарствами, как аптека. Все же дочка поднялась. Пошла на свеклу. Ей бы замуж, да старовата... Молодки вьются вокруг него — механизатор, а в селе полно вдов. И не одной он говорил: «Верно, плохо я воевал, раз ты без мужа осталась, а я свою Евку не уберег и дочку теряю, куда уж тут свататься?» — и шел на работу. Его напарники — прицепщики, комбайнеры — иногда сердились на него, говорили, что загонит их в гроб. Тогда он отвечал: «Ребята, нас бесчисленные миллионы, а земля любит, чтоб работали терпеливо и долго».
Однажды осенью автоколонна возила свеклу, а зимой он заметил, что его Надийка понесла. Обрадовался, а ее из хаты не выпихнешь. Утешал: «Дочка, только бы внук, нам ни свадьбы, ни зятя не надо». Роды были тяжелые, Надии не стало. Но когда он нес на руках малютку внука, земля ластилась к нему.
Тогда детсадом и не пахло, не то что теперь. Двое правнуков, малец и девчонка Половчуки, растут, резвятся в роскошных хоромах, окруженные деревянными, резиновыми, пластмассовыми зверятами, а нянька мухе не даст на них сесть. Он, правда, взял бы их в поле, да разве мать разрешит? Пусть растут здоровые! Чай, его порода!
С Василем было иначе: когда пахал осенью или вес
355
ной, брал его к себе на трактор, летом — на комбайн. И не раз, покрытый пылью с головы до ног, вдруг останавливал машину. Поля немели. А он спрашивал парнишку, что тот видит и слышит? Внук отвечал, что видит борозды. «А что еще?» — допытывался дед. «Небо,— отвечал мальчонка.— И все очень пахнет...» — «А я слышу,— это уже Старый,— голос твоей бабуси Евки, как она сказала врагам: все равно — наша, родная...» И который уже раз повторял рассказ о том, как это было, и говорил: «Мы только потому и есть на свете, что есть эта земля». И заводил мотор. Наработавшись, усталые, они ложились на землю, и Старый подшучивал: чтобы любить землю, ее надо уметь слушать. Их сердца стучали о землю, и она освобождала их от усталости, одному возвращала силы, а другому помогала крепчать и буйно расти.
Острая коса у него в руках — хорошо правлена. И он крепко держит ее, укладывая ровный покос. Восходит солнце. Заалела лесополоса. Солнце разрумянило косаря. Роса так и брызжет из-под косы и не гаснет: алая. Немалый век пахал он и сеял, его года ушли за горизонт и вот стоят вокруг него пшеницей и молодыми родичами.
Еще в прошлом году он был комбайнером. Он — на «Колосе». Внук — на «Ниве». Внук не мог его догнать и оставлял огрехи — гривы по-местному. «И не старайся! — у тебя один барабан, а у меня два...— Максим не нянчился с внуком.— Видишь, человека можно научить, чтобы знал в машине толк, чтоб помнил каждый ее винтик, а вот как научить, чтобы грив не оставлял? Так что не скачи!» Это было с утра, а до обеда он не дотянул: руль запрыгал в руках, словно комбайн садился на мель. Он вышел из кабины, и держась за поручни, спустился по ступенькам. На последнюю сел. Голова кружилась. Внук остановил свою «Ниву», подбежал. Подвинувшись на ступеньке, Максим кивнул Внуку на кабину. Внук живенько забрался туда и сразу же спустился с потрепанной сержантской сумкой. Вынул бутылку вроде бы с молоком и протянул деду. Тот тряхнул бутылкой, опрокинул ее себе в горло, прополоскал рот, но не глотнул: почувствовал, что не помогает,— выплюнул и швырнул бутылку на стерню. Только Внук знал секрет этой бутылки — в ней была водка, забелен
356
ная молоком. «Можешь пересаживаться на мой»,— сказал он Внуку и пошел через поле...
Вдруг Максим перестал косить — из села донеслось гудение комбайнов. Он услышал их голоса, их ход, и коса выскользнула у него из рук. Он стоял и слушал, как тарахтят комбайны. Не сходя с места, дождался, пока они дошли до лесополосы. Первым подобрал его покос и развернулся «Колос». Внук салютовал ему из кабины. Потом прошла «Нива». Еще одна... Моторы гудели горячо и ровно. Он поплевал на руки и пошел дальше подкашивать вдоль лесополосы.
ШКОЛА
В сентябре я наведался в Збаражский район. С председателем колхоза Тихоновичем мы пошли в поля. Был золотой день бабьего лета. Уже выкопали картошку, взялись за свекловицу. В просторах носился убаюкивающий дух осени, но земля не отдыхала: уже зеленели ранние озимые. У межи клочок газеты пригнул стебельки ржи. Ветром газету сдуло на тропу, и тогда мы увидели на тонком и нежном ржаном побеге большую каплю росы. Она была тяжелая, и стебельку трудно было ее держать, казалось, вот-вот подломится стебель, поникнет. Но капля раскачивалась, раскачивалась колоколом да и сорвалась. Побег разом встрепенулся, словно оглядываясь, и выпрямился.
Мы, постояв, двинулись дальше, унося в себе молодую поросль, рванувшуюся к солнцу, и вспоминая минувшую обильную, но с грозами и холодными ливнями уборку хлебов.
К вечеру замолкли трактора и косилки — свалили клевер, второй покос, и вокруг, словно подсекая наставшую тишь, звенели кузнечики. Мы прилегли на валках средь поля. Рука так и потянулась к розовой головке клевера: словно проснулся пчелиный инстинкт — искать нектар.
Перед нами в купах больших деревьев, которых еще не тронул прощальной бронзой листопад, виднелось
357
вдали село, слева темнел лес, на горизонте угадывались Кременецкие горы.
— Широка долина, высока калина...— донеслось из-за холмов. Где-то на свекле пели.
Цвели тихие, высокие небеса, кругом уходили в сизую даль холмистые поля. Валки чуть привяли. Губы едва касались цветка, и чудилось, что вот коснулся таинственных истоков самой жизни, и насколько ж острее ощущаешь свою принадлежность к роду человеческому!
Над селом — вся стекло и бетон — возвышалась новая школа.
— Открыли перед первым звонком,— глянув на нее, сказал Тихонович.
На косогоре белели длинные шеренги ферм, поблескивала водонапорная башня. Поодаль, на манер заводских корпусов с большими, в два этажа, окнами, красовались мастерские. В садах мерцали черепичные и железные, оцинкованные крыщи.
— Соломенная кровля, перелазы — все уходит в прошлое,— снова заговорил Тихонович, мотнув шевелюрой.— А вот взять хотя бы эту школу,— он глядел на нее с любовью,— разве мы не строили ее целыми поколениями? Разве прошлое — только предыстория? Жизнь — не мгновение: держись, мол, за него — и весь сказ. Нет, мудрость земли и зерна иная: чтобы жать сегодня, надо было посеять в прошлом году, а чтоб иметь завтра, надо делать сегодня и всегда.
И тут он рассказал о сельской школе и о Насте.
— Наша школа, — начал он,— стоит на краю села, который носит чудное название — Буквы. Кто-то еще встарь предвидел, что оттуда выйдут учителя, врачи, инженеры — интеллигенты в первом поколении. Там и доныне живет Настя, которую тоже все зовут Буквою.
Муж ее служил в лейб-гвардейском Волынском полку. Совсем был неграмотный. Когда подавали команду «В ружье!» — он хватал с козел свою винтовку, отличая ее не по номеру, а по зеленой ниточке, привязанной к шарику затвора. Этот солдат провоевал первую мировую и дошел до революции. Полк стоял в Петрограде. Накануне падения династии волынцам выдали по двести патронов и вывели их из казарм: не спать, быть в боевой готовности! Солдаты разложили костры. И как, потрескивая, сыпали костры искрами, так передавалось
358
ст костра к костру: «В народ не стрелять». Дождались утра. Во двор въехал верхом командир полка и скомандовал: «Стройся!» Солдаты продолжали сидеть над угасающими кострами. Полковник размахнулся и хлестнул крайнего нагайкой, плеть обвилась вокруг шеи солдата— Буква ухватился руками за этот аркан и, рванув нагайку к себе, выволок полковника из седла. Это стало сигналом: пошли, ребята! И солдаты пошли, подняв винтовки над головами. Пошли на улицу, на площадь. А там бушевало: «Хлеба! Мира!»
Потом был штурм Зимнего дворца.
Так со своей винтовкой, где на затворе болталась зеленая ниточка, Буква и вернулся в село. Здесь, где мы лежим, он делил помещичью землю, а вон из того леса, тоже некогда господского, возил дубовые бревна — строить школу. За ним — по борозде и обочиной — бегал сынок-подросток, и отец говорил ему, радуясь, что скоро он пойдет учиться, ведь школа должна быть в каждом селе. «Гляди,— он показывал сыну на Кременецкие горы,— там, за ними, рукой подать, Острог: оттуда пошли первые печатные книги нашего народа, да только в руки не нам».
Валили дубы, когда в село вступили гетманцы. Они порешили Букву на месте. Настя несла его по селу и приговаривала: «В нашем роду старых мужиков нет — гибнут молодыми на войнах или убивают их за правду...» Сын шел за ней следом. Учился.
Его от него не ушло: краем владели белополяки. Ни земли, ни учебы. Поля отошли осадникам: тут и там хутора да хуторки. Еще и на мою долю осталось что корчевать, выравнивая колхозный массив.
Буквы жили — вдова да сирота. Она отрабатывала то за лошадь — чтоб вспахать, забороновать, то за ссуду, а он батрачил у осадников. Парня рано женили, едва достиг восемнадцати, и вдова радовалась — дождалась молодого хозяина.
Зеленые дубы, что возили для школы, не пропали: общине пришлось их откупить, заплатив за самоуправство, и посреди села соорудили домище на две половины— по одну сторону трактир, а по другую — полицейский участок.
Но вот у Букв родилась девочка, и отец заговорил о том, что в каждом порядочном селе должна быть школа:
359
отцовское не забывалось. В их замшелой, с ободранной кровлей хате собирались на посиделки односельчане. Хата гудела, что спасенье одно — свобода, и сверкала оконцами на восток. А Настя выходила за ворота, берегла посиделки от полиции. А раз вечером полицейские зажали ей рот ладонями, так что и крикнуть не успела. Молодого Букву погнали и засадили.
Он стал Тысячным — таким был его арестантский номер. Сидел в Дубнах, в Рогатке — тюрьме, которую со всех сторон, как островок, омывала речка Иква. Каждое утро на перекличке часовой или стражник кричал: «Тысячный! — и, звякнув саблей, приближался к нему.— Так это ты, тысячный коммунист? — переспрашивал он, снимая перчатку. Он не размахивался, чтобы ударить, а просто указательным пальцем щелкал по зубам. Раз—• и выбьет зуб.— Тебе надо земли, школы, может, еще и на родном языке? Что ж, я уж позабочусь, чтоб ты, выйдя отсюда, и не шепелявил свои агитки да лозунги!» Перекличка — и нет зуба. Так и выбивали зуб за зубом, помня, какой цел, не целясь.
Только за то, что коммунист, пилсудчики давали шесть лет, ему добавили еще пятнадцать. Он не вернулся, и Настя говорила: «За что мне такая кара? Который из моих на очереди, кого оплакивать?» — и онемела на долгие годы.
Она вошла в работу, как в землю, и сама стала черная, как земля. Нажинала копны ржи, столько, что ими можно было уставить все нивы от горизонта до горизонта, а сама хлеб редко видела — все картошка в мундире; надаивала столько молока, что хоть купайся, как в озере, а сама и губ не омочила. Иногда в воскресенье садилась на порог, и ее не могла развеселить даже внучка, которая собирала в платок кленовые листья и словно бы шла с книжками в школу или «писала» палочкой на тропе. Малышка еще была, а уже полола. И росла на грядке, как цветок...
Через поля по шоссе неслись грузовики — фары светили, как прожекторы, а девичьи голоса стремили ввысь песню «...высока калина», и она сопровождала, как рефрен, рассказ Тихоновича.
— Настя заговорила, когда не стало границы,— продолжал он.— Мне шел шестой год, и я все помню: осад-ники бросились врассыпную, а мужики выходили на
360
дороги встречать освободителей. Я получил в подарок от бойца пятиконечный пряник.
Землю разделили, а трактир и полицейский участок превратили во временную школу. С утра учились маленькие, а вечером — большие. Тогда Настя говорила внучке, уже ходившей на гулянки и учившейся с большими: «Читай, доченька, книги, которые господа прятали от народа, потому что в них записаны все наши законы и права. Твой дед и твой отец сложили за это головы».
Наше село обновлялось. На наших общих полях завязались хлеба, да такие, что и старики не припомнят. И на эти несозревшие хлеба посыпались фашистские бомбы. Началась оккупация. Но недаром говорят: землей и водою будем биться, враг наш, с тобою. Фашисты тащили что ни попадя: хлеб — под метелку, мясо — до последнего куренка. И все им было мало. Последнюю рубаху сдирали с плеч. Снаряжали облавы и увозили живые души в фатерлянд. Не то что разные там руды — чернозем наш грузили в вагоны и перли к себе. Село кровью облилось. И не только люди, казалось — земля, лес, река пошли в партизаны. Пошла в отряд и Настина внучка. А Настя и не крылась: сожгли хату — вырыла на пепелище землянку, вопреки всему берегла родной очаг. Помню, ворвались ляндвирт и староста, вывели ее из землянки. Ляндвирт угрожающе верещит, а староста: «Где внучка?» — «Почем я знаю?» — «Руки за спину, подол на голову!» — «Тьфу, провались!» — и плюнула на старосту. А тут на опушке — бах! — ну, плевок и полетел ляндвирту вслед, удрал тот, пригнувшись. Стреляли-то партизаны.
Внучка объявилась, когда уже фронт через нас переходил. Была в военном, с новым автоматом через плечо, а на руках — дите в пеленках. Настя все без слов поняла и приняла партизанского сына. Обнялись, и внучка двинулась со своей частью на Запад.
Я не раз носил в землянку молоко и не раз слыхал, как Настя баюкала правнука: «Как же не стоять за родную землю, коли так любишь ее? А как ее не любить, прекрасную землю нашу?»
Мать мальчугана тоже не вернулась. А он вырос, чтобы дать новые побеги роду Букв.
Вот каков он, тот край, где наша школа стоит. Не
361
подперта ли она, как краеугольными камнями, плечами тех, кто шел в революцию, бился с интервентами, одолел фашизм? А мы и те, кто придет после нас, тоже ведь не слабее.
Ну вот и рассказал я вам про нашу школу про четыре ее угла. Жаль, не были вы на открытии. Торжественная линейка, оркестр, цветы, а классы — что твои научные кабинеты, мастерские, спортзал, столовая — ждут. Порядочная школа, как и положено в порядочном селе. Пришла и Настя Буква. Все ее увидели — вела за ручонку праправнучку с большим белым бантом в русой косе. Ее звали в президиум, но она отмахнулась, подошла к дверям школы, повесила на дверь пучок колосков в грозди калины и вернулась к своей школьнице — худенькая, быстрая, в белом платочке рожком и темной юбке, отороченной белою каймою. Шла как воплощение той самой песни, что вот тут мы слышали: «На зорьке вставала, до ночи стирала...»
Тихонович умолк, задумавшись. Вокруг пахло землей и небом. В сумеречной мгле синели вечереющие холмы, поля — книга бытия. Ее листал ветер, читали звезды.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СОЛНЦА
Чуткий, как порох к огню, одолеваемый мыслями, он переступил порог: «Вот и схоронил, отвез туда, где весь род, где в земле все наши корни». Под ногами скрипнул паркет. Резко, отдавшись в сердце болью. Кайдаш бросил взгляд на застекленные стеллажи, несмятую постель на диване-кровати, неубранный стол.
Балкон открыт — солнце в зените. Вот и прошли поминки. Кайдаш остановился перед балконом, усеянным подсолнечной шелухой, и стоял там, как на высоком берегу. Деревья подступали близко. Кроны дубов достигали перил, сквозь решетку продиралась жесткая, звонкая листва, и в ней рыжели желуди, словно бездымные трубочки. Вокруг подымался лес, весь в сизых космах. Пестрые лучи осыпались беззвучным дождем. Зеленый сосняк зеленел все гуще, осины плыли серебряными островками, за ними вдали белел березняк.
362
«Холст, на который вместе с красками выплеснулась человеческая душа, не меркнет в лучах заката,— думал он,— повсюду сквозит живое в живом».
Всколыхнулся теплый лесной воздух. От самой земли, оттуда, где ползли длинные тени, и сверху, с лазурных бледнеющих высот, повеяло пронизывающим холодком. Как свежий ветерок, что дышал ему в лицо и — чистый, крепкий, ощутимый на ощупь — полился в грудь, так в уши вливалась светлая тишь. Глазам стало легко. Стоя перед настежь распахнутой дверью балкона и мысленно входя в ласковый ясный вечер, он чувствовал, что вбирает в себя жизнь могучей реки, которая мчит перед ним, не зная берегов.
Но Кайдаш не привык стоять без дела, впадать в сентиментальность.
В белой, чистой лабораторной тишине, к которой он привык, мысль — плод трезвости.
Зашелестела крона дуба. Кайдаш подался к балкону. То, что он увидел, изумило и остановило его: на перилах сидела рыжая белка. Хвост кольцом, передние лапки раскрыты, а задние — под животиком. Головку повернула к нему, ушки торчком, и косится на него черными хрусталиками глаз. Не испугалась. Он посмотрел на подсолнечную шелуху и машинально зашарил руками в карманах: носовой платок, блокнот, портмоне. Белка все насмешливо поглядывала на него, а когда он виновато и беспомощно выставил пустые ладони, она легко и грациозно оттолкнулась хвостиком и прыгнула в листву.
Кайдаш выбежал на балкон, перевесился через перила, не мог найти ее, но — искал, словно она была ему необходима, словно из-за нее находился в этой квартире. Ему хотелось найти дупло ее, узнать — одна она или с выводком.
Нету. Ускакала.
«Его белка...— догадка отозвалась щемящей тоской.—• Но почему отец ни разу не сказал про нее?» Он надеялся, ждал хоть какого-нибудь шороха. Напрасно. Вошел в комнату и остановился у кресла, опершись рукой на спинку.
Да что им — не о чем было разговаривать, кроме пушистого легкого зверька? Отец — доктор, он — кандидат. Когда посреди Чернолесья построили атомную
363
электростанцию, отец поселился здесь, чтобы проводить исследования непосредственно на практической основе, и они встречались не так уж часто.
Отец наезжал в институт, был весел, подвижен. «Знаешь,— сообщал он,— котлован уже закрыли. И зна-> ешь, кто-то из рабочих написал у входа: «Прохожий, остановись — впереди триста ступенек вниз!» Я прочитал и почувствовал себя Орфеем...»
Рука приросла к спинке кресла, пальцы поглаживали ее, словно хотели ощутить утраченное тепло. «Отец сидел в этом кресле, за этим столом. На стекле балконной двери, на стекле окна он оставил свои глаза».
Кайдаш заходил по комнате. Не мог сесть ни на диван-кровать, ни в кресло. На столе книги, фотографии матери, в пластиковом рожке — карандаши, в чернильнице-невыливайке— обычная ученическая ручка. «Орфей пошел к Эвридике. Ни к чему не надо прикасаться, пусть все остается так».
Кайдаш смотрел на снимок матери — ее молодые глаза, казалось, читают его. А есть ли фото отца? Должно быть, в паспорте. И он зашагал от балкона к двери.
Сумерки сгущались и — светлели. Всходили звезды — жили небесные миры.
Кайдаш напрягал воображение, вызывал образ отца. Перед глазами вставали детали, какие-то мелочи, не создавая завершенного целого.
Конференции, симпозиумы. Гость из Королевской академии заканчивал свое сообщение остротой: «Человек гетеротрофен и, как таковой, все уничтожает. Он самоубийца, вечный диссонанс природы». Встал отец. «Так, если властвовать над природой, как над чужим народом, и совсем иначе, если без человеческого труда нет в мире гармонии».
И в памяти всплыло, как они шли с отцом, как спускались по лестнице, как вибрировали под ногами триста ступенек, а в глубине ритмично работал реактор, добывая излучение земли. Кайдаш ловил себя на мысли, что город среди леса — дело рук отца, и раздражался, что думает словами некролога.
Он старался изо всех сил углубиться в память, выделить из всего многообразия самое существенное и близкое, но вчерашнее почему-то ускользало — и возникало давнишнее: детство, деревня. Отец и мать носят
364
из колодца воду, поливают бабушкин огород. Он тоже бегает и носит воду в ведерочке. «Лей под корень, малыш»,— насмешливо подгонял его отец. Он пробыл с ними один день и уехал: работа.
О смерти Кайдаш ребенком не задумывался, знал: скелет с косой, мог даже нарисовать ее. Ну, а работа? Какая она? Во что одета — вечная и вездесущая?
Он снова вышел на балкон. Белки не было видно. Темнел лес, темнело небо. Внизу у парадного мерцала на кронштейне лампа, пронизывая светом листву. Он смотрел на подвижные тени, на прожилки в зеленой и желтой листве, а когда закрывал глаза, возникало знакомое лицо. Спокойное и сосредоточенное, оно было усеяно морщинками. Только не теми, что напоминают измятую одежду. Морщинки текли ровно и пластично — следы мыслей. Черные глаза, подпертый бровями лоб. Отца называли Коперником. За внешность: длинные седые волосы не прилегали к голове. Сотрудники шутили, что над его головой кружатся сателлитами планеты.
Кайдаш раскрыл глаза и смотрел на лампу у подъезда. Вспоминался закат, последние лучи солнца, от которых все трепетало. А разве отец не продолжил солнце в этой лампе, не творил его из огня, не искал в глазах матери и во всем живом, даже в глазах белки, чтобы передать это ему в наследство? Работа велела: «Отдай мне свои руки». Отдавал. «Мало. Отдай разум». Отдавал. «Мало. Отдай душу, чтоб я горела!»
Человек — это продолжение солнца. Его корень — работа.
«Лей под корень, малыш...»
Кайдаш вздрогнул — уловил в теплом дыхании вечера чуть насмешливый голос и узнал его.
ПОСИДЕЛКИ
Черные козырьки платков, а под ними космы седые— серые — словно дымятся. Это Катерина, Текля и Ганка — три сестры. Они сидят под огромной семейной липой у хаты: здесь место радостей и печалей, воспоминаний и надежд, разлук и встреч.
Лето и тяжкая духота.
Сестры сложили руки на коленях, глаза устремлены
365
в пространство, а глядит каждая в себя: муж старшей умер от ран и болезней, у средней — не вернулся из походов, у младшей — просто пропал, все вдовы.
— Дождя бы...
— Рассыхаемся?..
— Да уж все клепки давно врозь.
Перекинулись словами и опустили головы. Лица постаревшие, губы запали. Три сестры молчат, и молчание их дороже слов: сил-то уже мало, наработались, всю жизнь отдают себя земле, а она за это носит их и терпит.
Они одно знали — творить хлеб да песню. А хлеб и песня творили их, вот и сделали старухами. Пенсии только и хватает — хлеба купить. А песня всегда с ними, как душа. Не покупная.
Солнце бродит вокруг липы — над их головами. Воскресенье. Они сидят в тени и молчат. Так перед грозой молчат леса и поля в ожидании ветра. А чего ждут они?.. Собрались на посиделки — и ни звука. Тоска. Все слова, которые знают, давно, сто раз сказаны и поэтому застревают в горле, как обглоданная кость.
Отмолчавшись, тихо заводят песню: песни никогда не перепеть.
Начинает Ганка, она запевает о сыне, как он говорит матери: «Иди, мама, от меня, будут гости у меня...»
Присоединяется Катерина:
— Как пошла к востоку мать, стало солнце ослеплять...
Вступает Текля:
— А пошла на запад мать — вовсе солнца не видать...
И несут песню вместе:
— И уходит мать туда, где нет солнца никогда...
Каждая продевает свой голос, как нитку в ушко своего и чужого сердца.
Слушают эту песню хата и липа. Хата старая, отцовская. Ее перекрыли, настелили пол, достроили крыльцо, чтобы все было как у людей. А кто посадил липу? Это сестрам неведомо. Они играли под нею детьми, лизали окропленные медом сладкие листочки, пили цвет. Стоит, царствует посреди двора ровесница свергнутых монархий. А три сестры поют — строят справедливость.
СОДЕРЖАНИЕ
ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ. Роман. Авторизованный перевод Анатолия Андреева............................... 3
ТЕПЛЫЙ ПЕПЕЛ. Повесть. Авторизованный перевод Э. Мороз.......................................268
РАССКАЗЫ
Материнская любовь. Авторизованный перевод В. Рос-селъса.........................................329
В Кременицких горах. Авторизованный перевод В. Рос-селъса.........................................348
Колокольня. Авторизованный перевод В. Россельса . . . 351
Половчуки. Авторизованный перевод В. Росселъса . . . 353
Школа. Авторизованный перевод В. Россельса......357
Продолжение солнца. Авторизованный перевод В. Россельса ........................................362
Посиделки. Авторизованный перевод В. Россельса . . , 365
Борис Никитович Харчук
ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ
М., «Советский писатель», 1981, 368 стр.
План выпуска 1981 г. № 300
Редактор Н. М. Андриевская Худож. редактор Е. М. Дробязин Техн, редактор Р. Я. Соколова Корректор С. Б. Блауштейн
ИБ № 2385
Сдано в набор 08.04.81. Подписано к печати 02.09.81. А 10288. Формат 84ХЮ87з2. Бумага офс. № 2. Журнальная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 19,32. Уч.-изд. л. 19,66. Тираж 30 000 экз. Заказ № 277. Цена 1 р. 20 к. Издательство «Советский писатель», 129061, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, при Государственном комитете СССР г. Тула, проспект Ленина, 109.
Scan, DJVU: Tiger, 2019